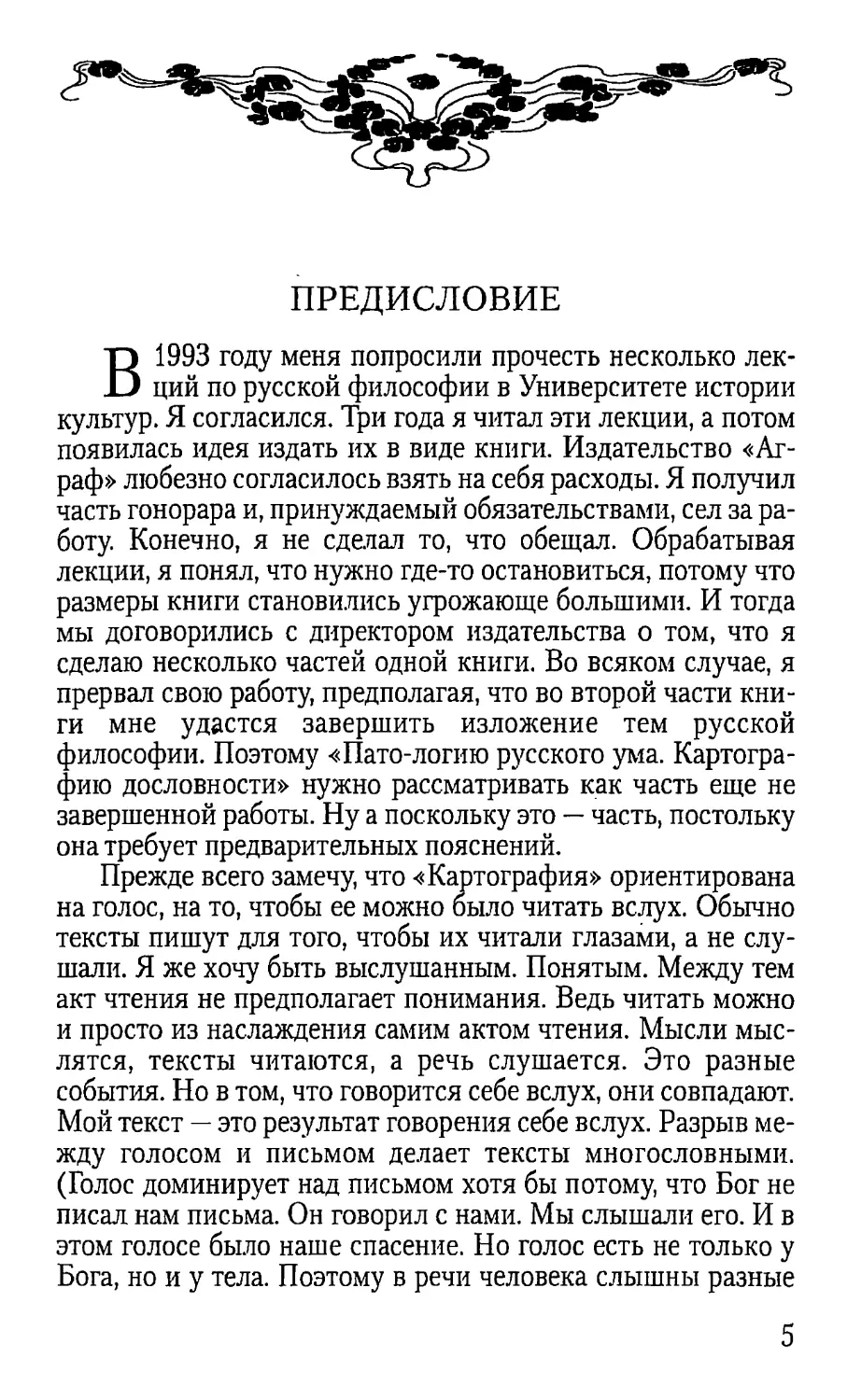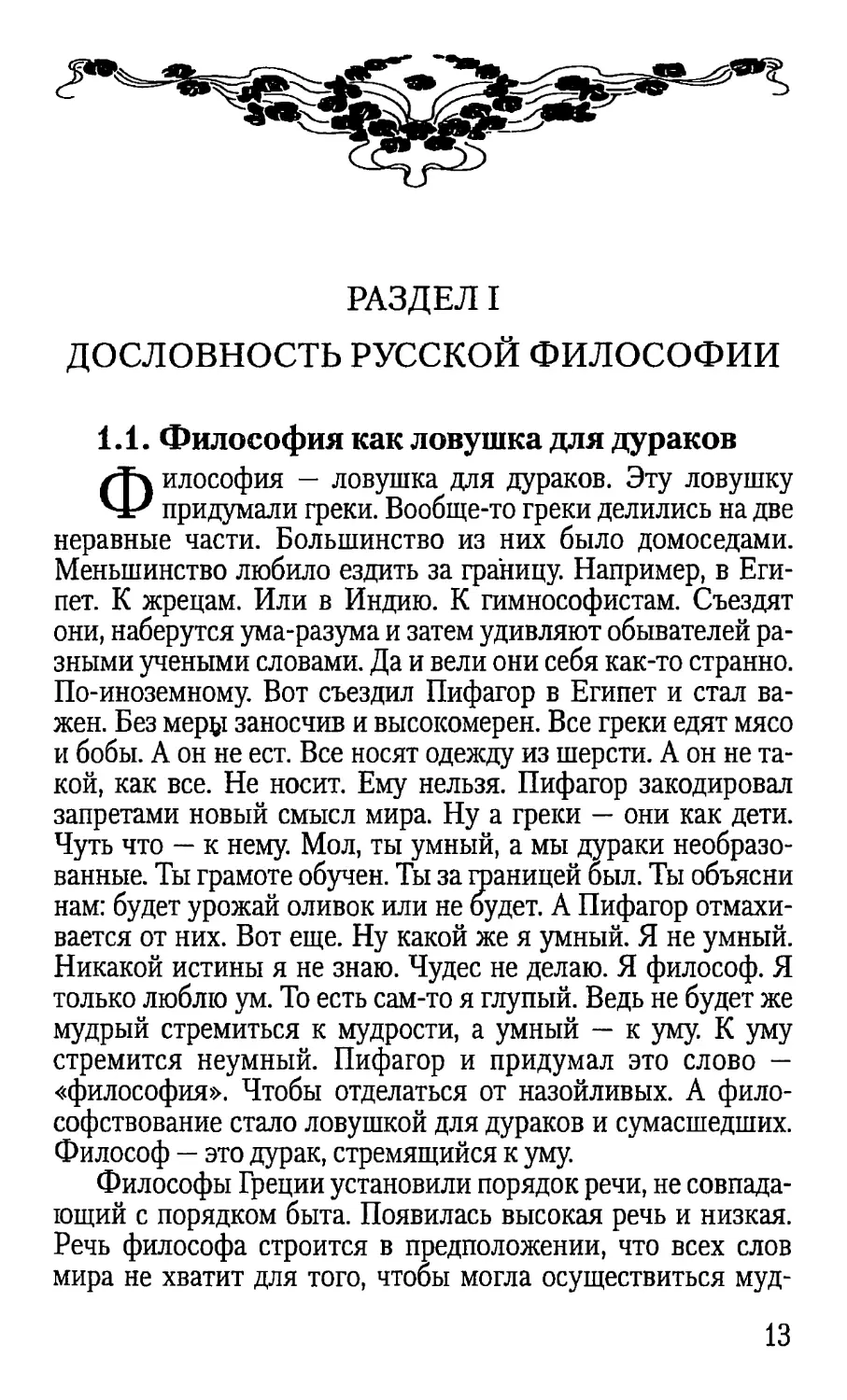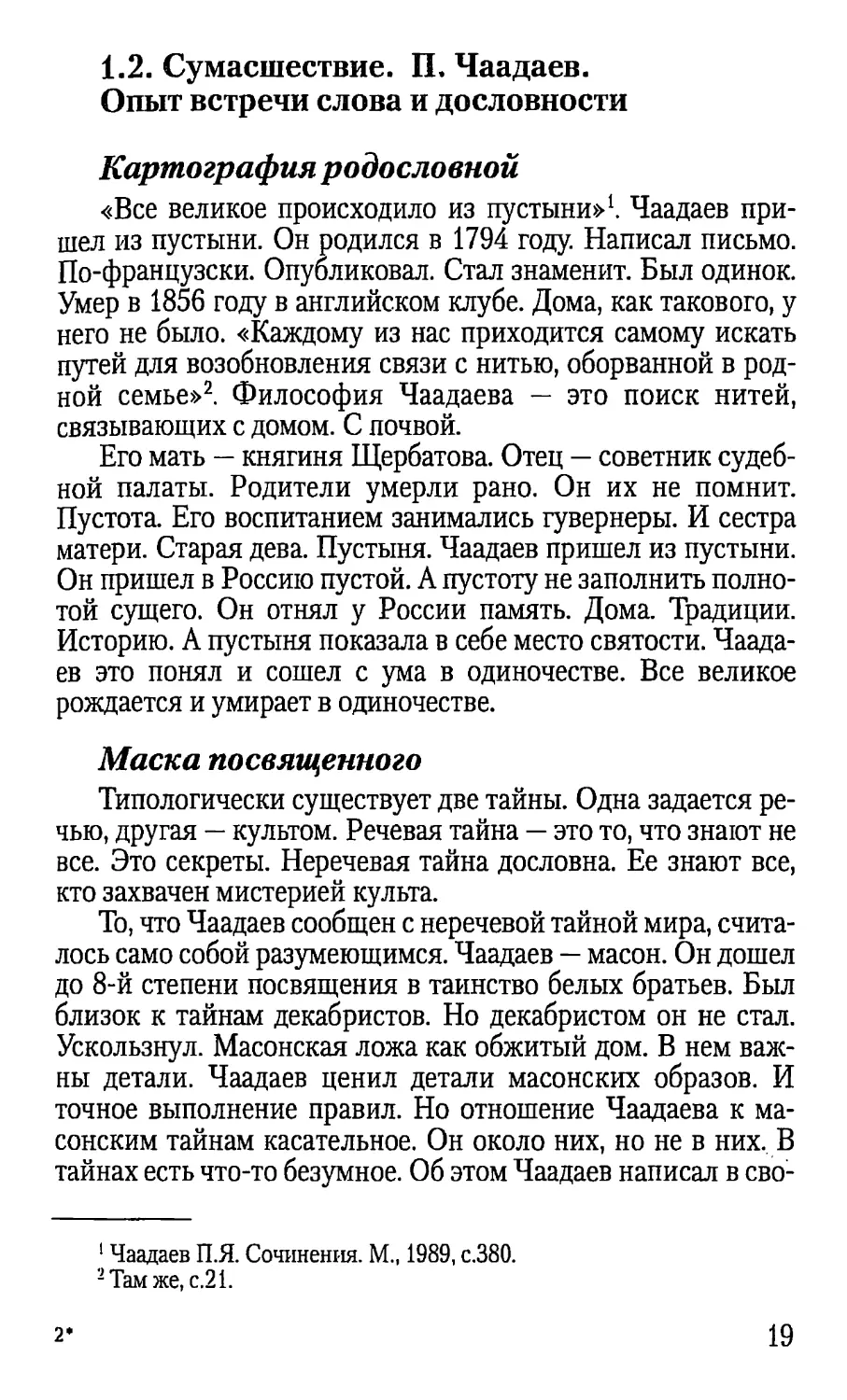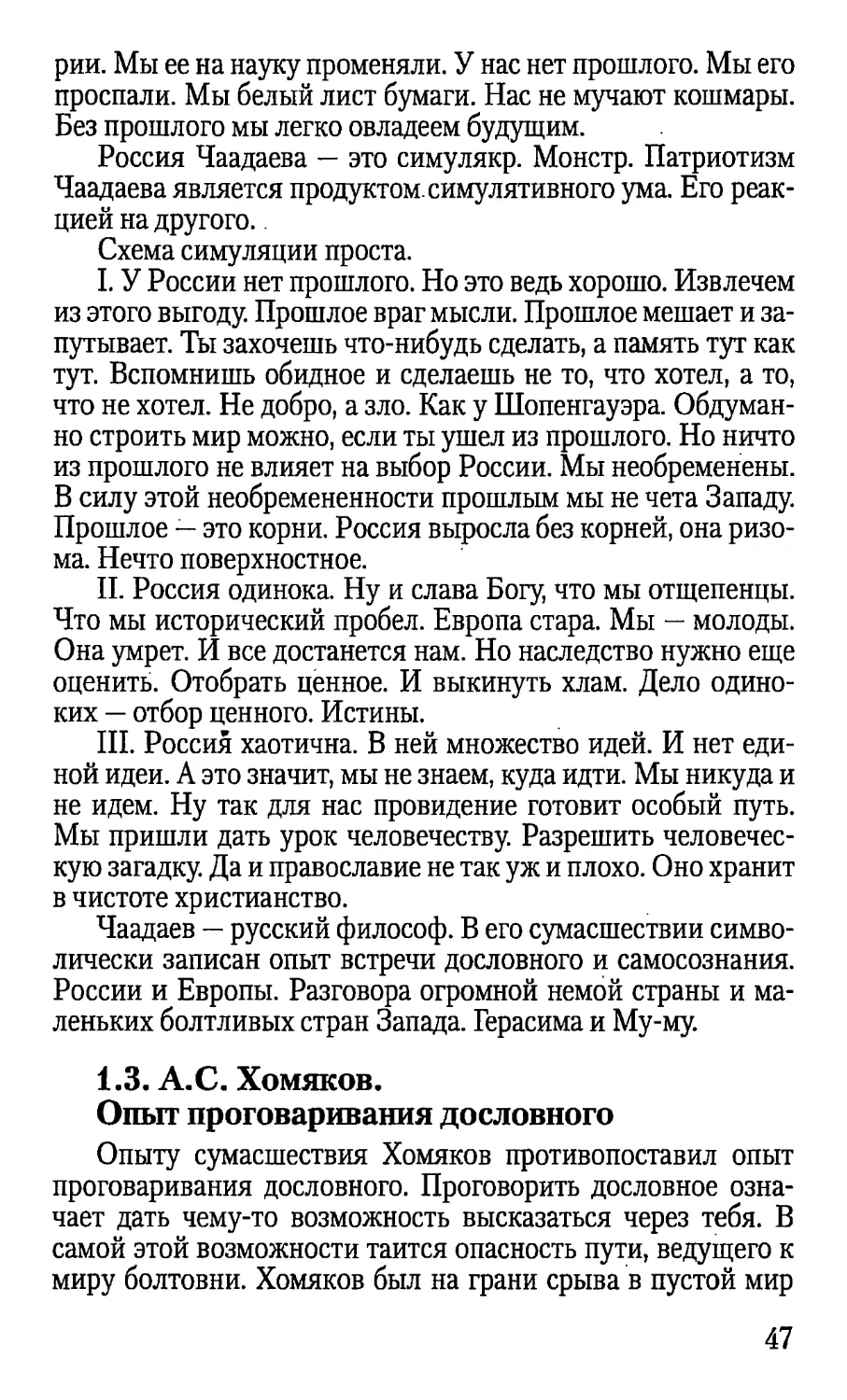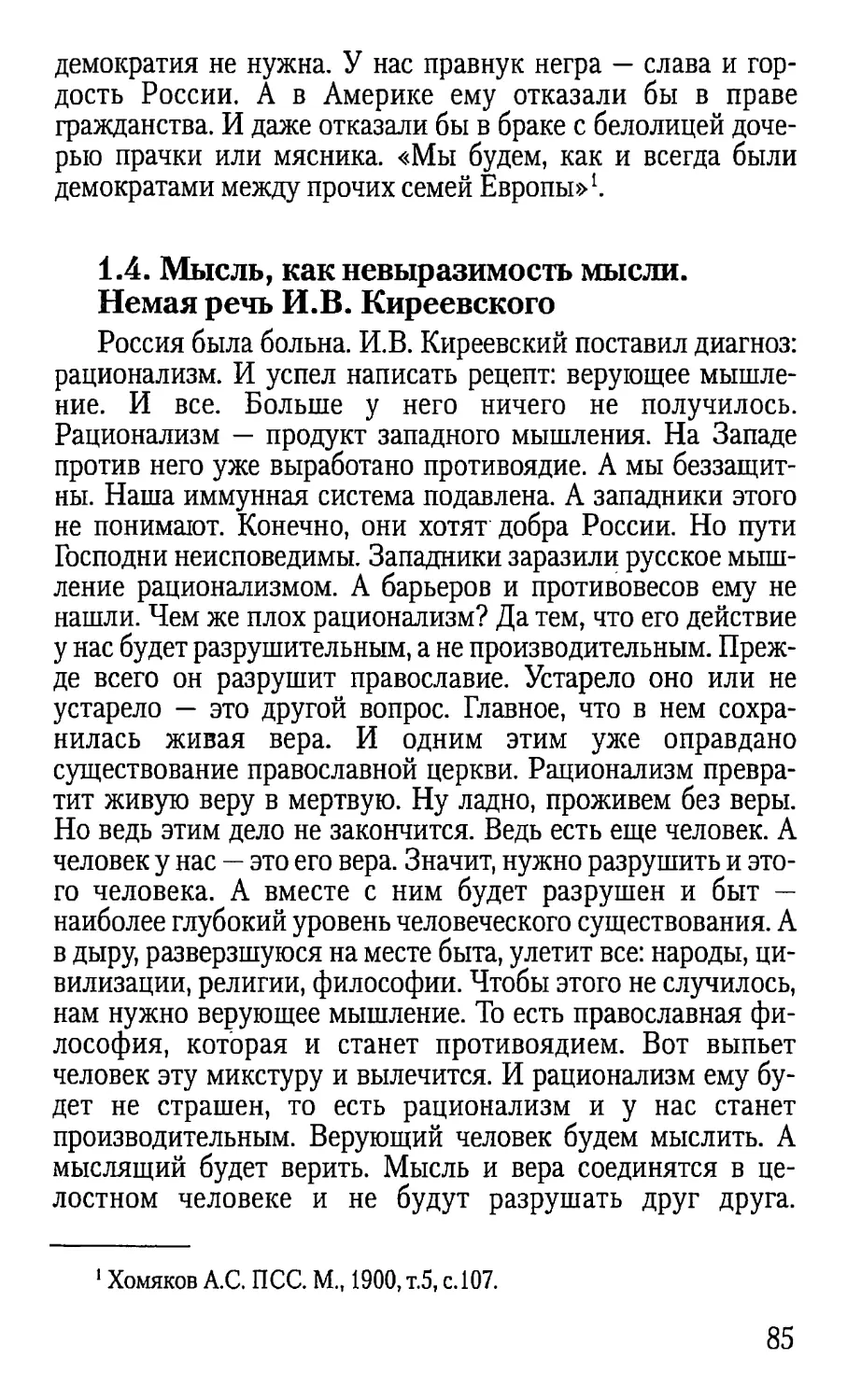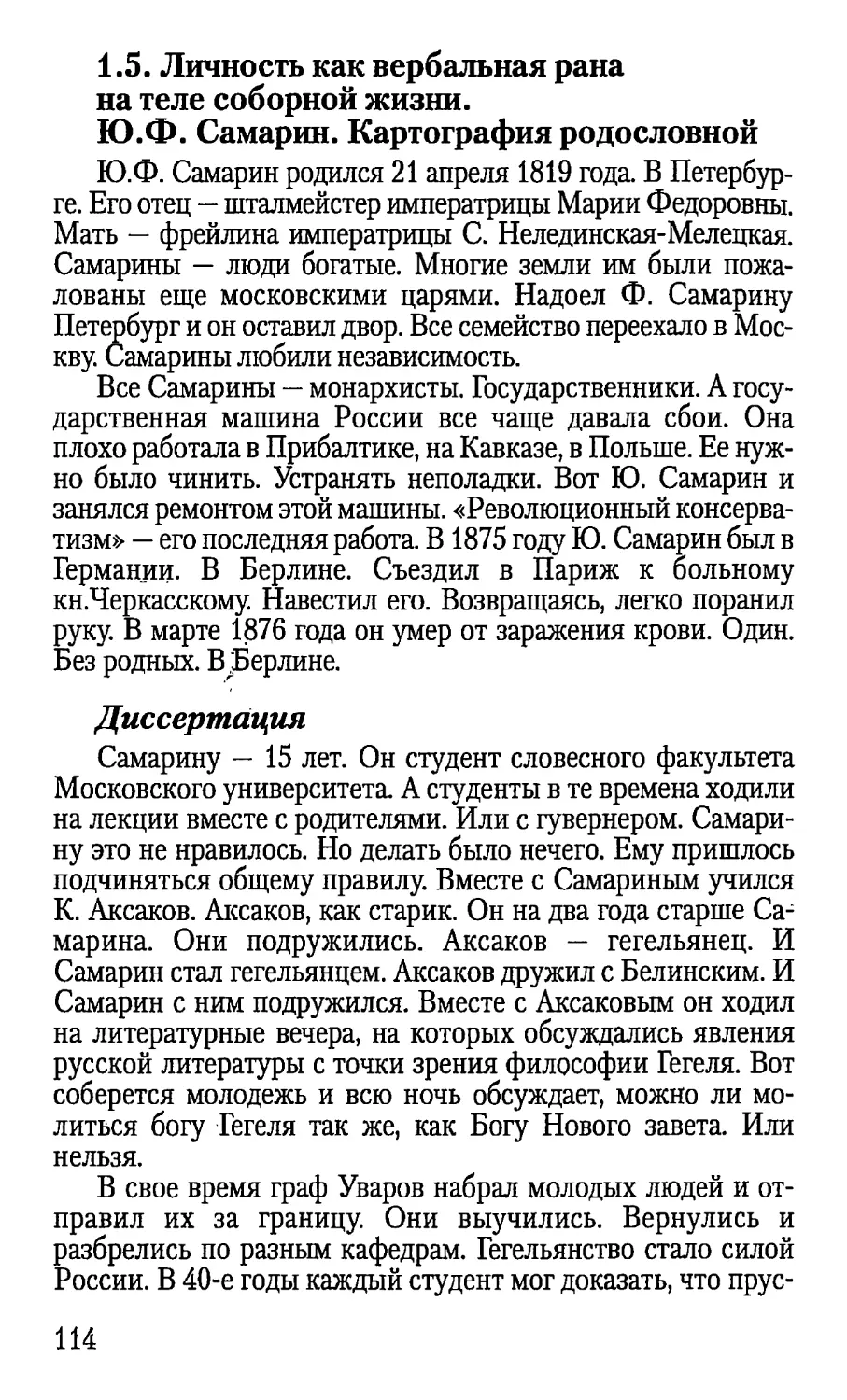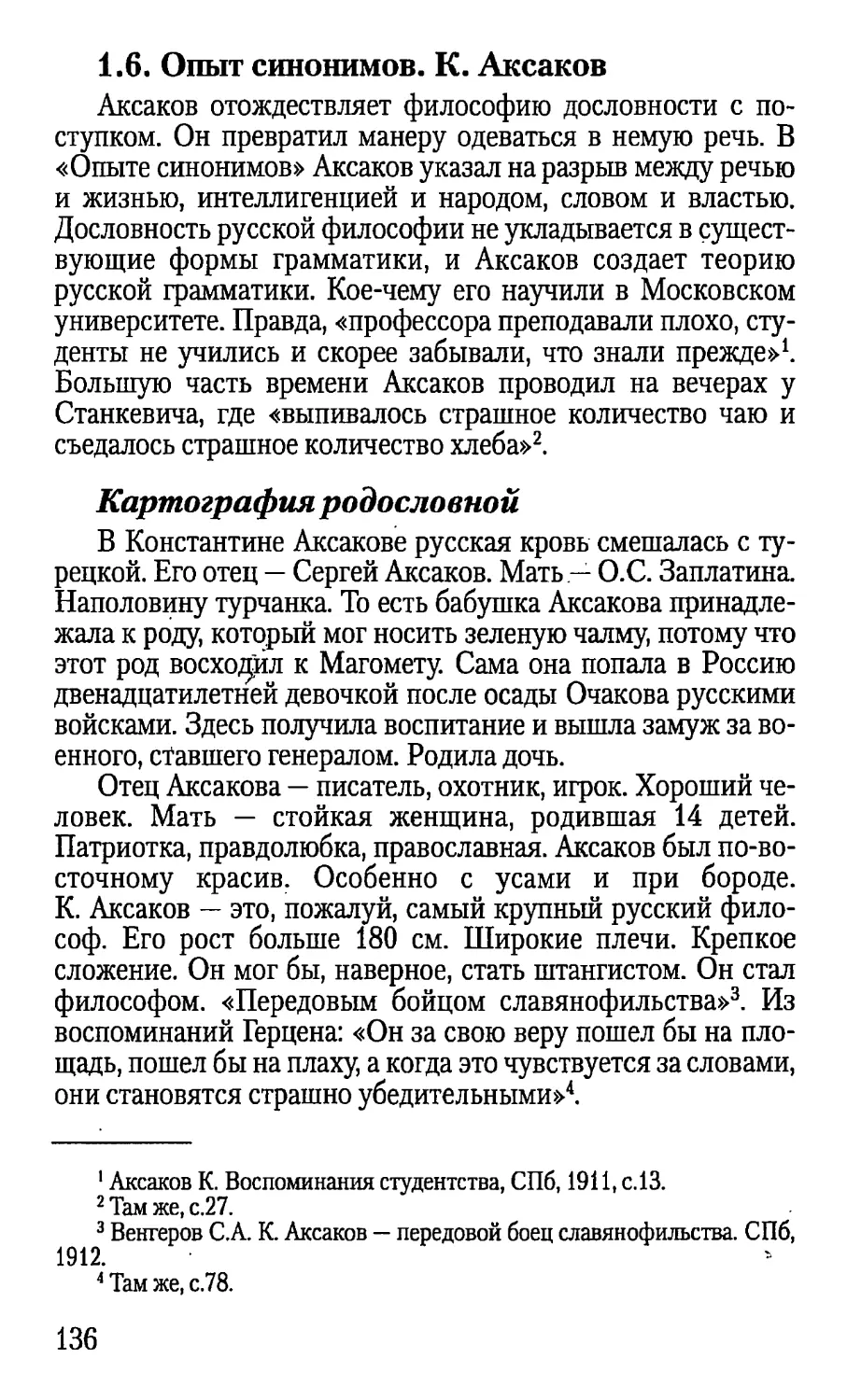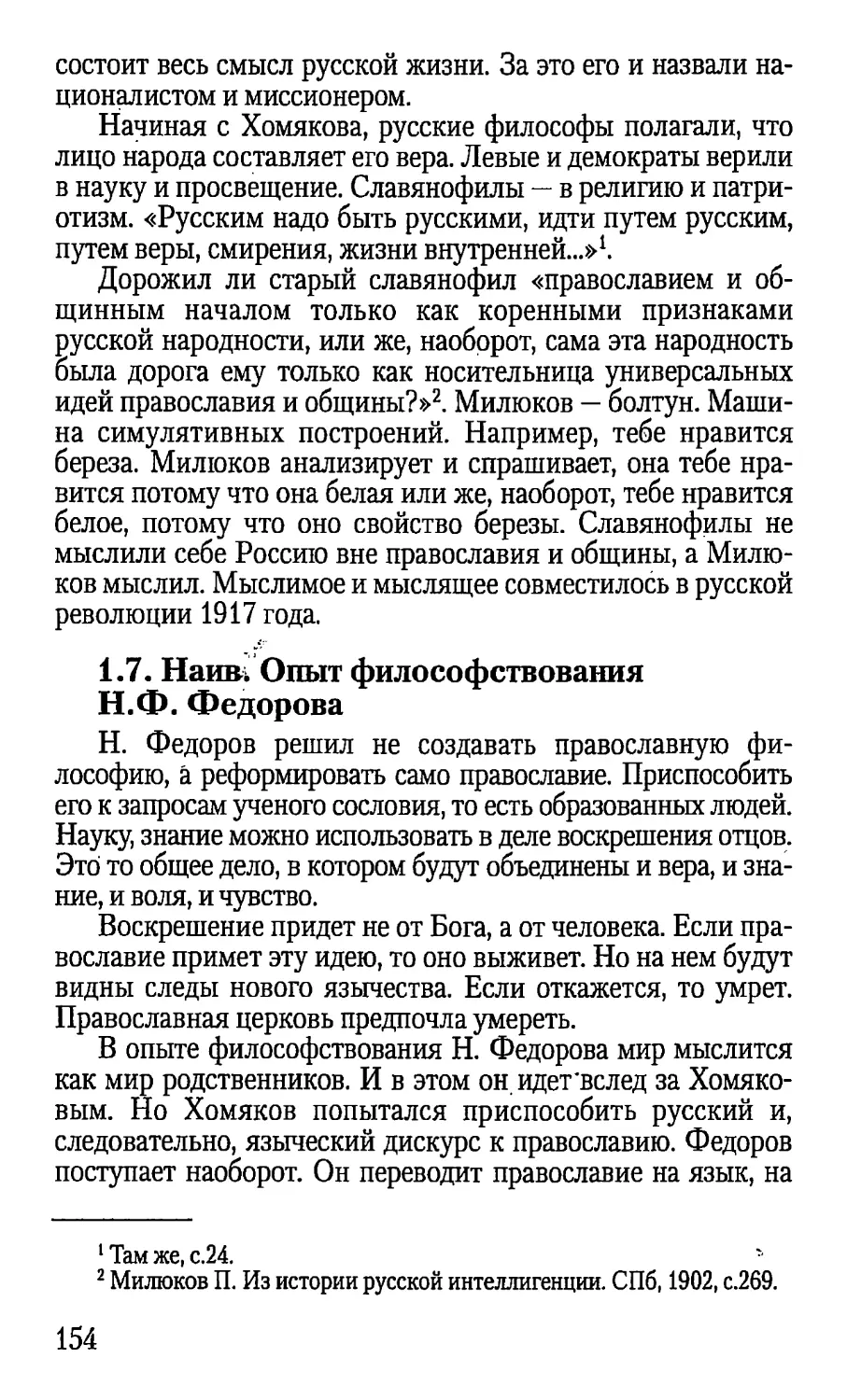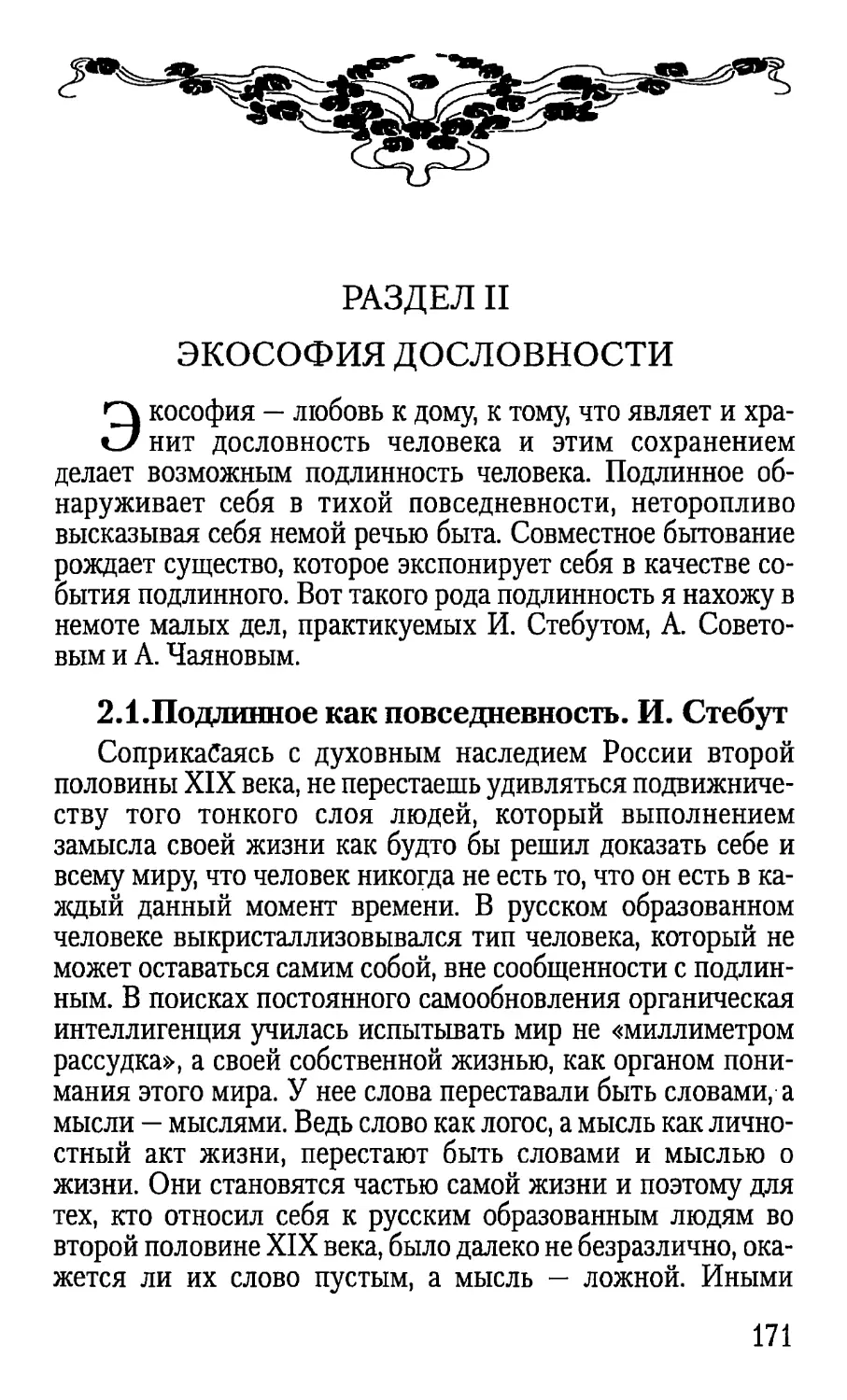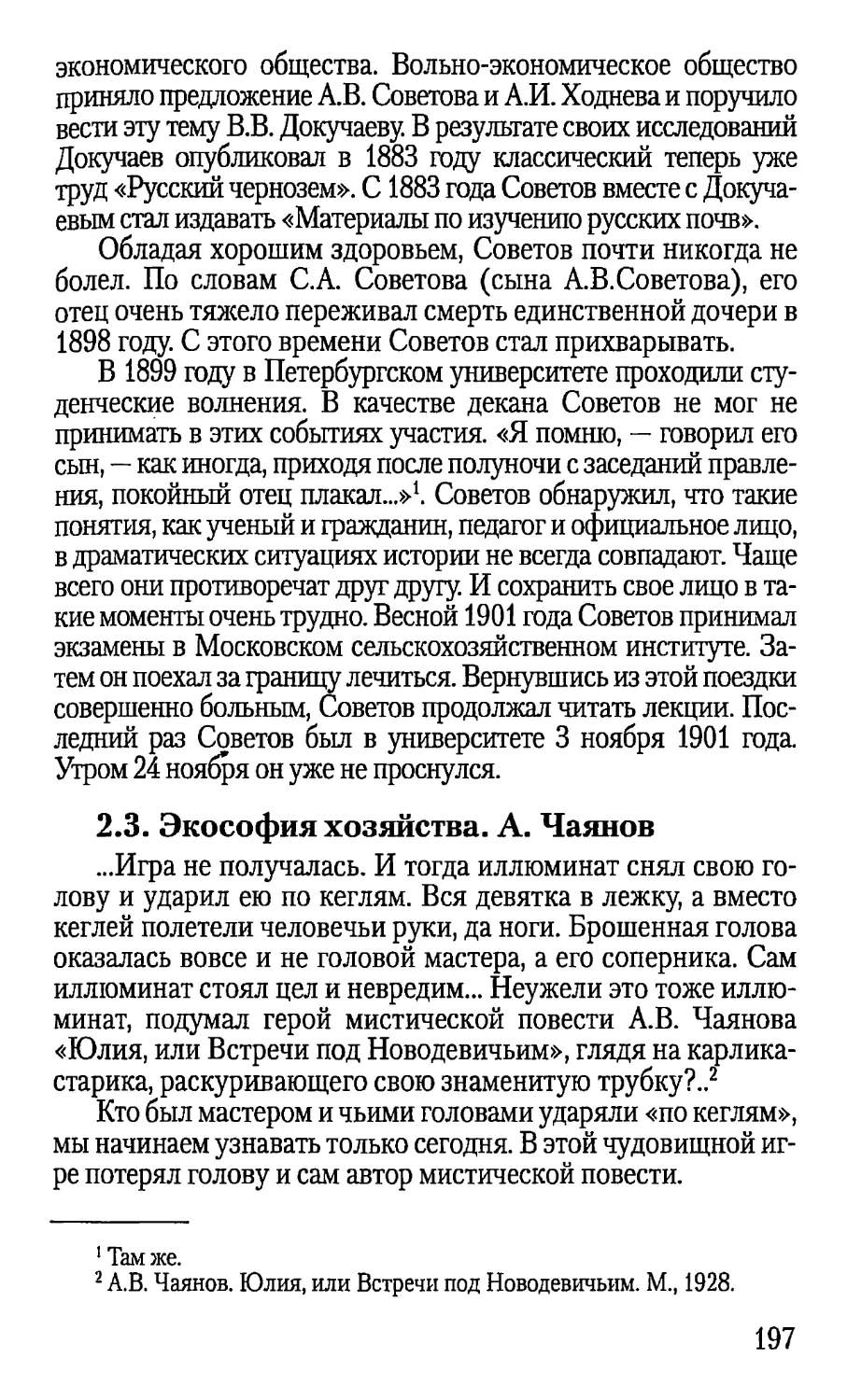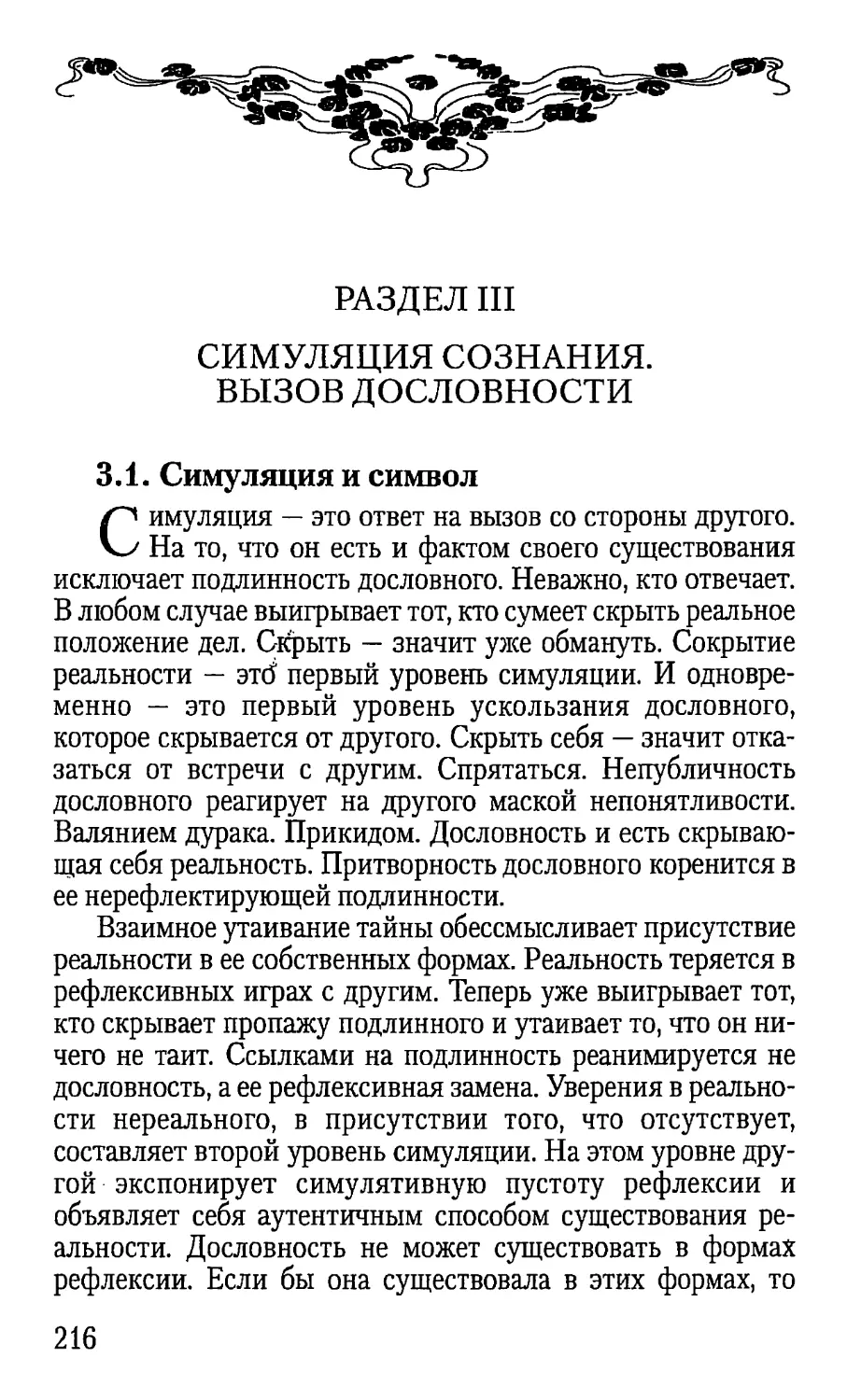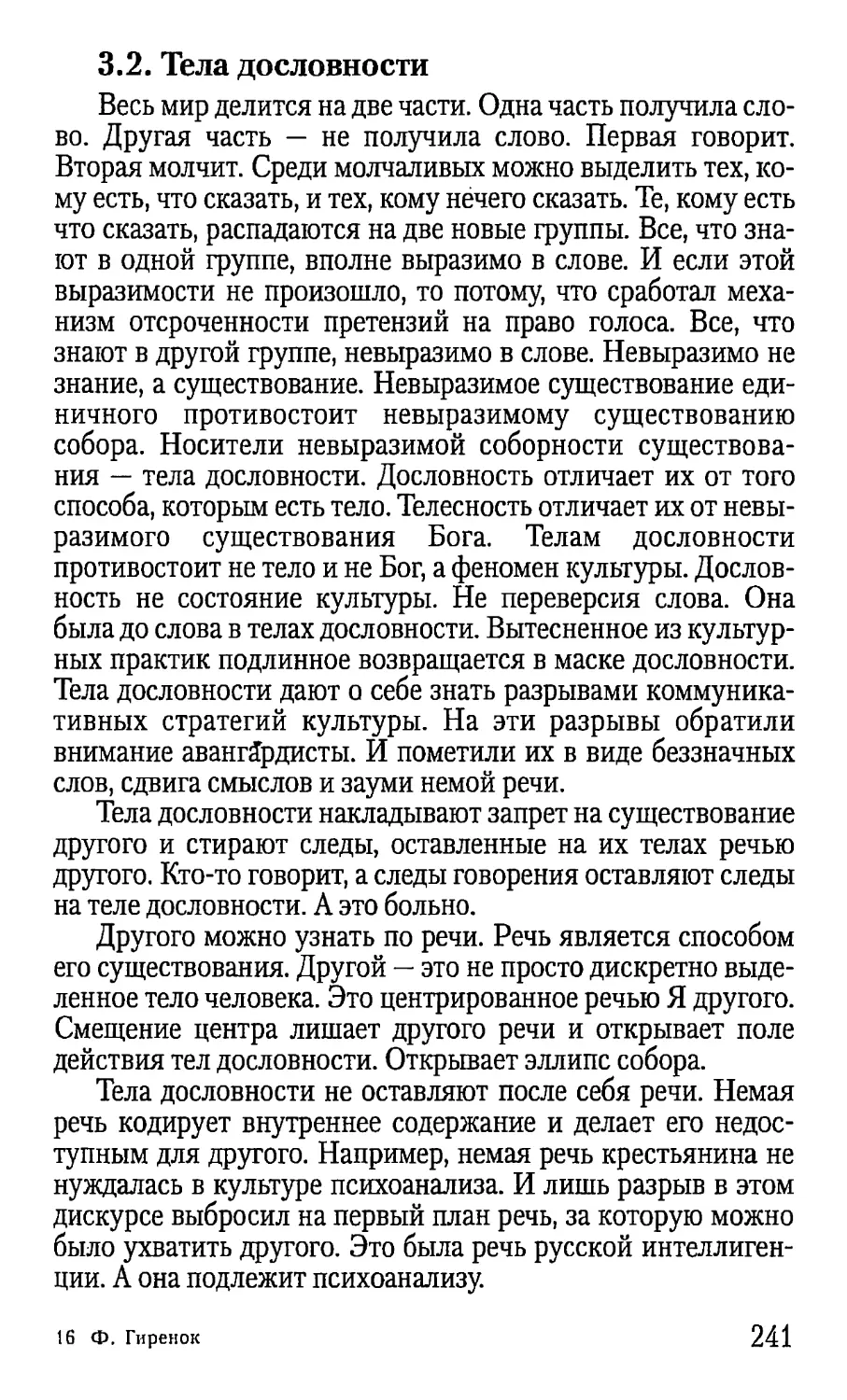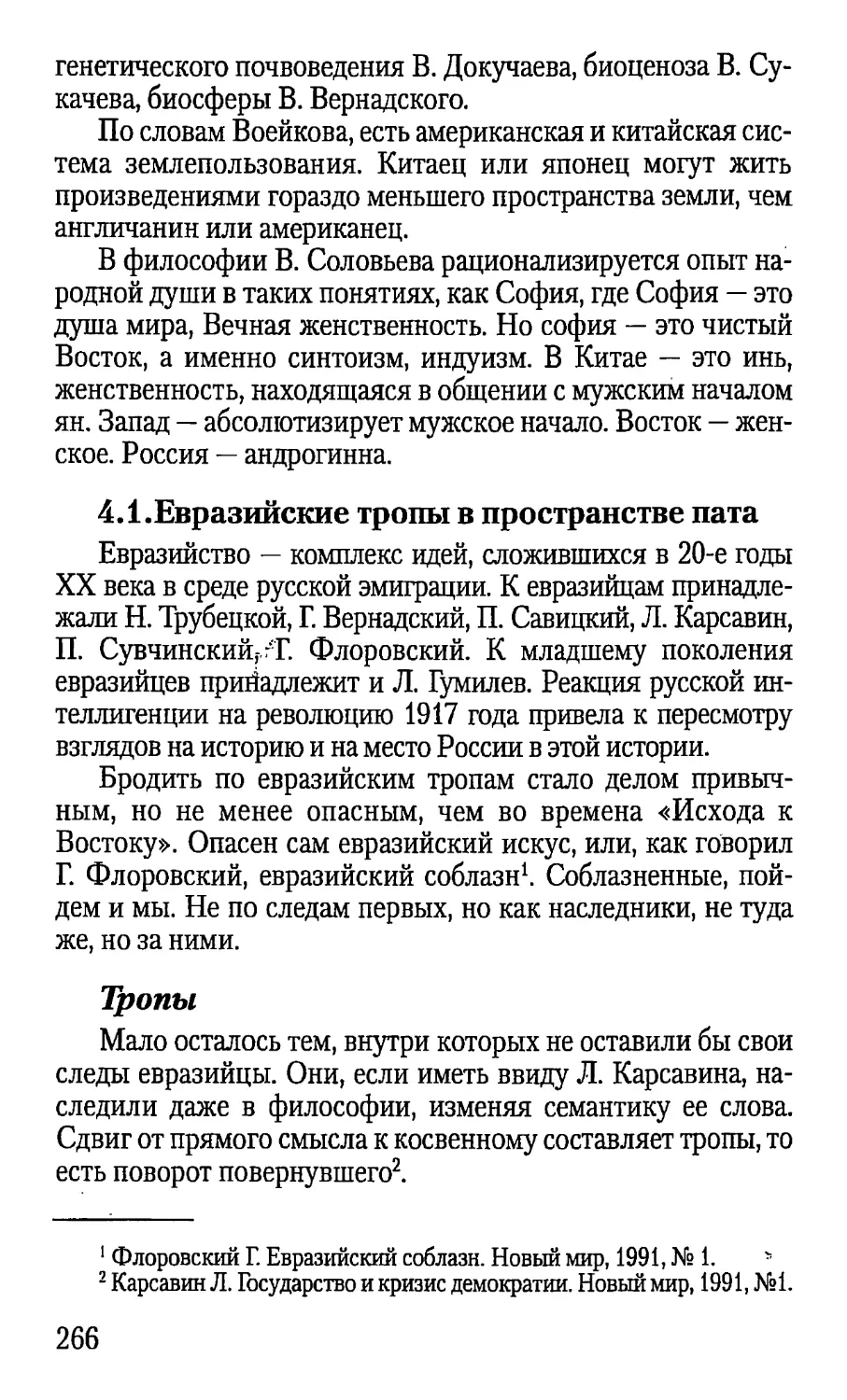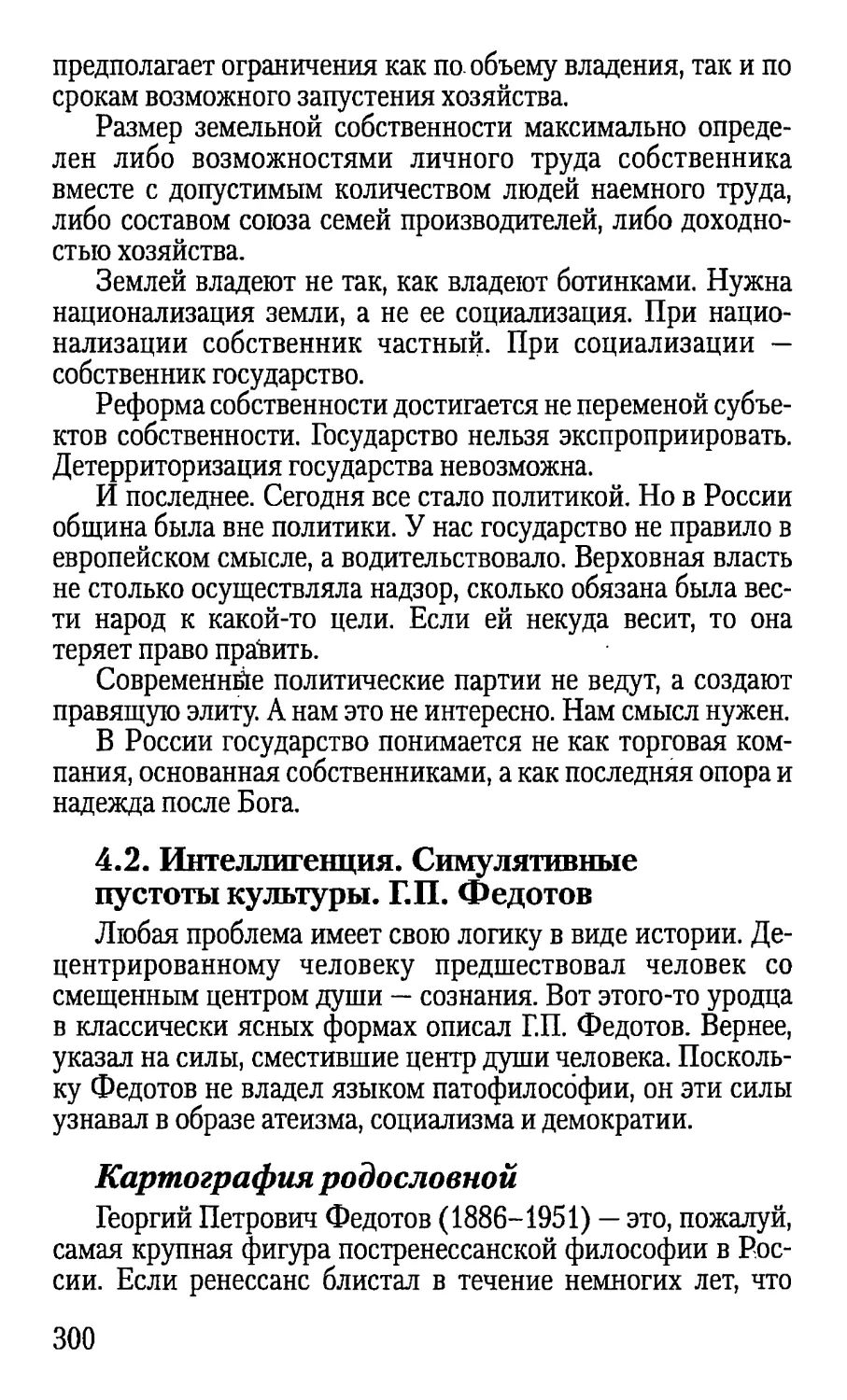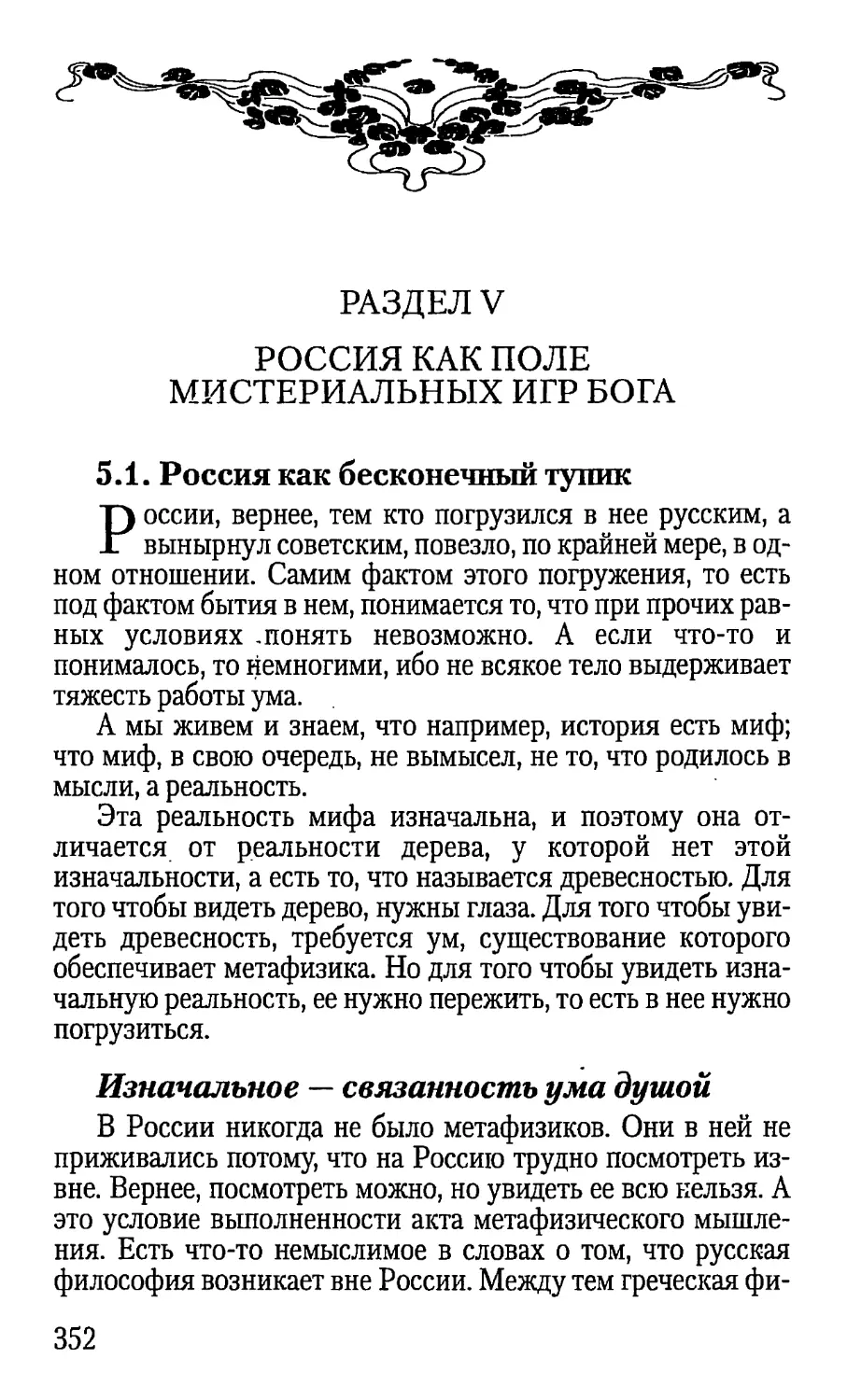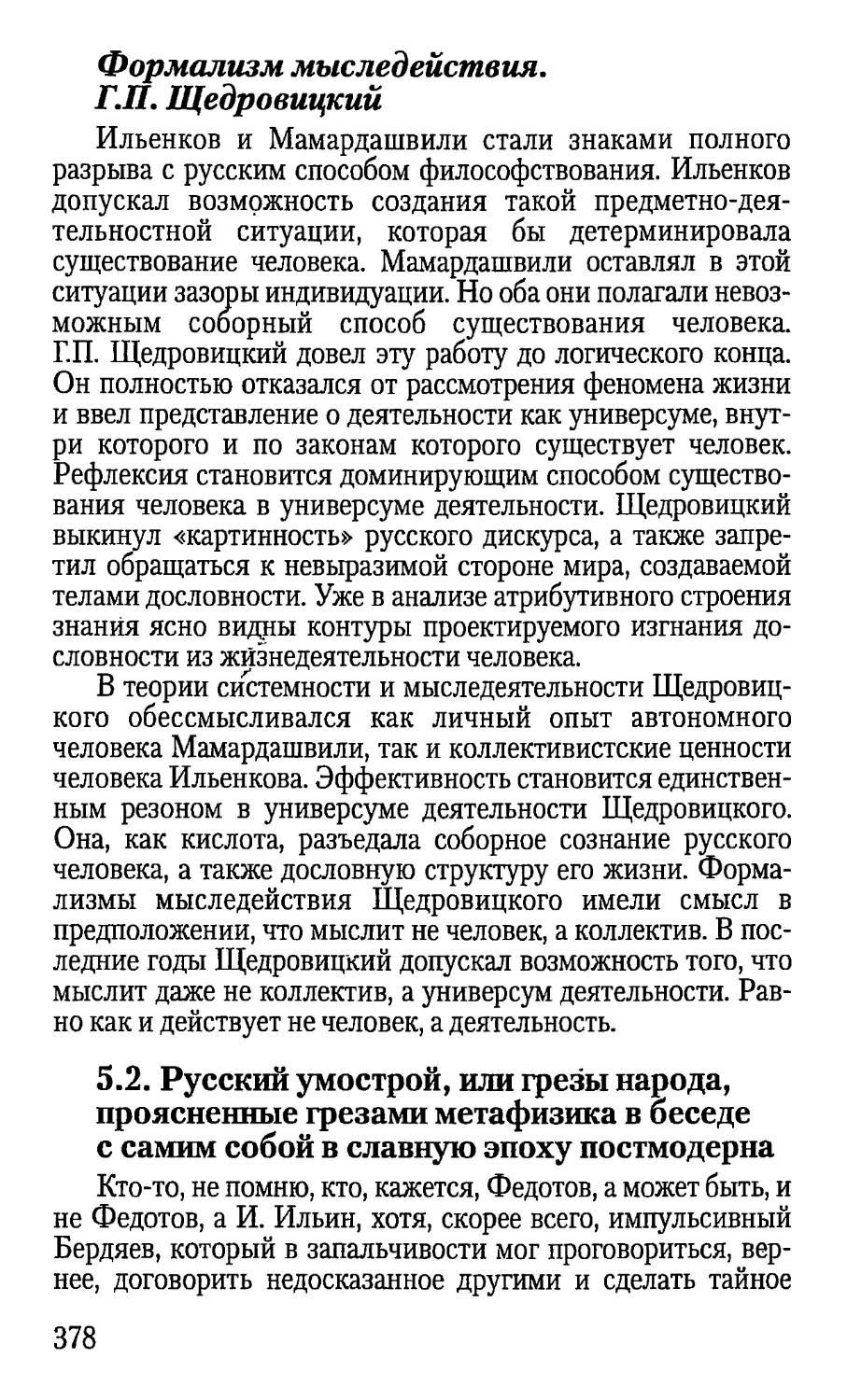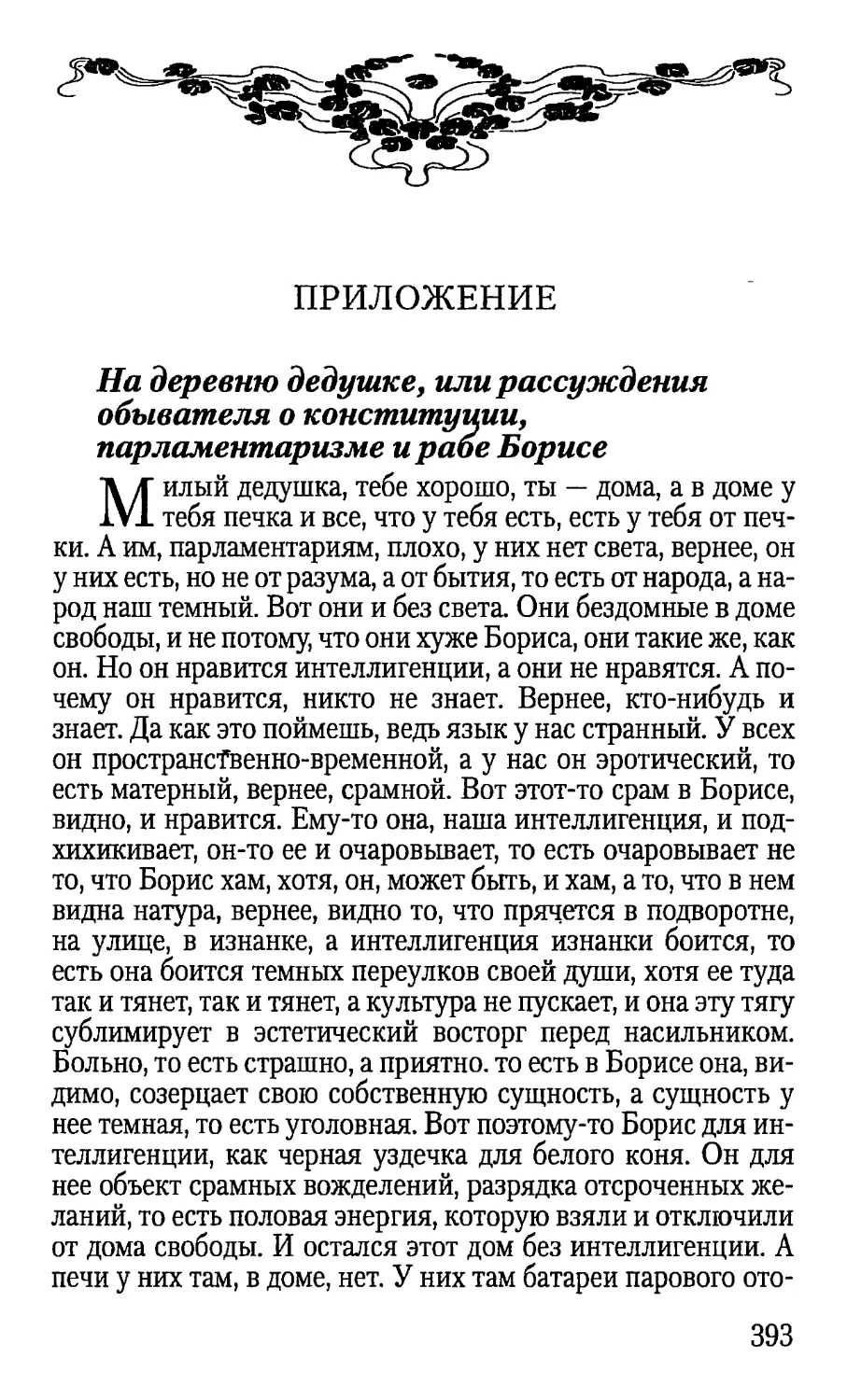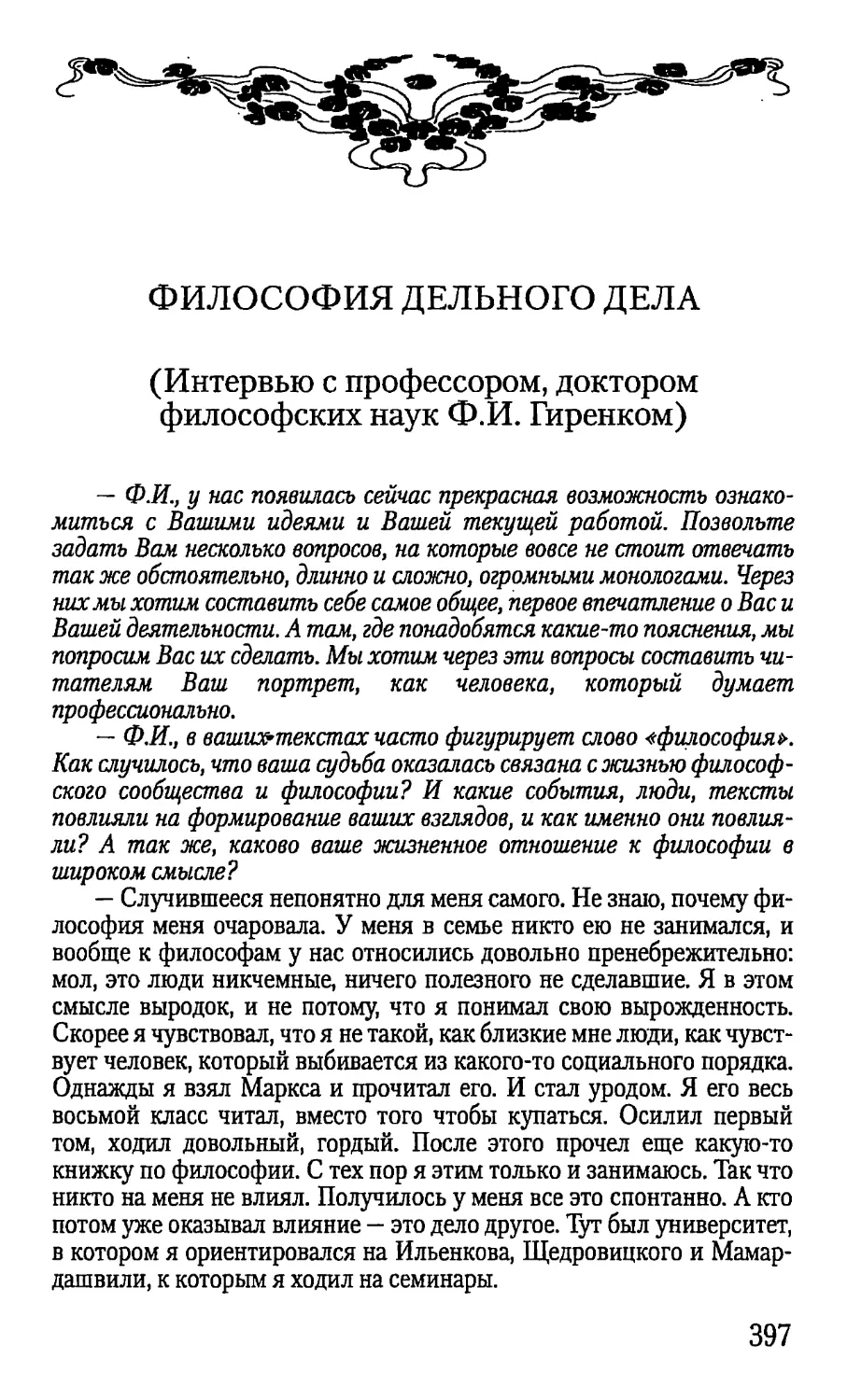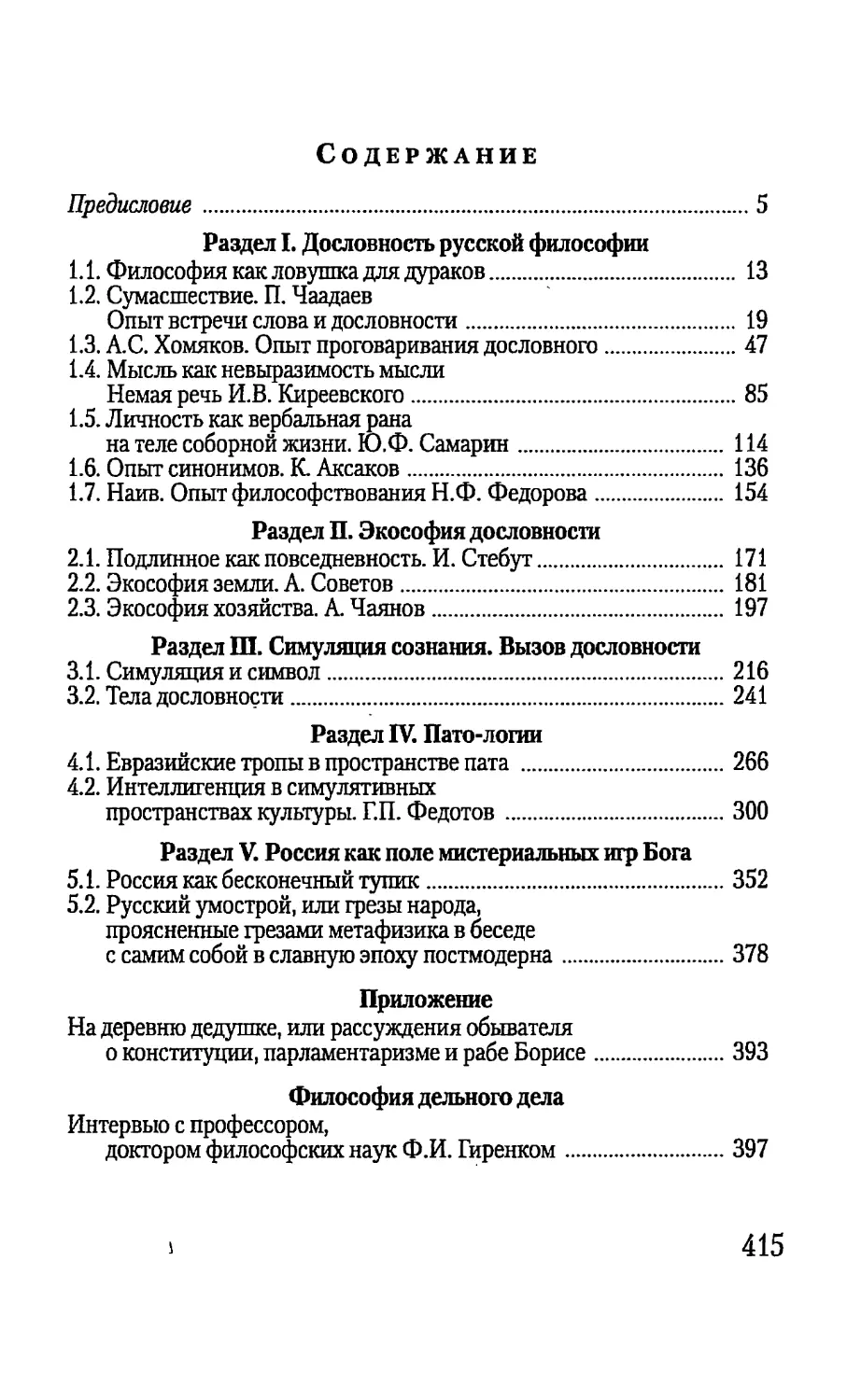Текст
ББК 87.3
Г 46
Оформление серии: Е. Клодт
Гиренок Ф.
Г 46 Пато-логия русского ума. Картография дословности. — М.:
«Аграф», 1998. -41б'с.
В книге рассказывается о столкновении слова и дословного,
породившем русскую философию. Особое внимание уделяется П. Чаадаеву,
А. Хомякову, И. Киреевскому, 10. Самарину, 1С Аксакову и II. Федорову, а
также экософим М.Стебута, А.Совстова и А.Чаянова.
В противостоянии симуляции и подлинного ([юрмируются патологии
русского ума, которые представлены, с одной стороны, в философии
евразийцев, ас другой — в симулятивных действиях интеллигенции.
Автор придерживается топ мысли, что Россия всегда будет
существовать как поле мнстериальиых игр Бога.
ББК 87. 3
ISBN 5-7784-0043-8 © Издательство «Аграф», 1998
/А-
ПРЕДИСЛОВИЕ
В 1993 году меня попросили прочесть несколько
лекций по русской философии в Университете истории
культур. Я согласился. Три года я читал эти лекции, а потом
появилась идея издать их в виде книги. Издательство
«Аграф» любезно согласилось взять на себя расходы. Я получил
часть гонорара и, принуждаемый обязательствами, сел за
работу. Конечно, я не сделал то, что обещал. Обрабатывая
лекции, я понял, что нужно где-то остановиться, потому что
размеры книги становились угрожающе большими. И тогда
мы договорились с директором издательства о том, что я
сделаю несколько частей одной книги. Во всяком случае, я
прервал свою работу, предполагая, что во второй части
книги мне удастся завершить изложение тем русской
философии. Поэтому «Пато-логию русского ума.
Картографию дословности» нужно рассматривать как часть еще не
завершенной работы. Ну а поскольку это — часть, постольку
она требует предварительных пояснений.
Прежде всего замечу, что «Картография» ориентирована
на голос, на то, чтобы ее молено было читать вслух. Обычно
тексты пишут для того, чтобы их читали глазами, а не
слушали. Я же хочу быть выслушанным. Понятым. Между тем
акт чтения не предполагает понимания. Ведь читать можно
и просто из наслаждения самим актом чтения. Мысли
мыслятся, тексты читаются, а речь слушается. Это разные
события. Но в том, что говорится себе вслух, они совпадают.
Мой текст — это результат говорения себе вслух. Разрыв
между голосом и письмом делает тексты многословными.
(Голос доминирует над письмом хотя бы потому, что Бог не
писал нам письма. Он говорил с нами. Мы слышали его. И в
этом голосе было наше спасение. Но голос есть не только у
Бога, но и у тела. Поэтому в речи человека слышны разные
5
голоса.) Рефлексия рефлексии уводит в бесконечность
замещения одних знаков другими. Философские тексты,
предназначенные другому, скучны. Они требуют много
свободного времени, которого нет. Сегодня нельзя писать так,
как писал Кант, потому что скорость протекания событий
изменилась. Мало кто согласится сидеть и ждать, пока автор
перескажет то, что он прочитал за свою жизнь, приведет все
аргументы за и против, укажет следствия, сделает вывод. А
это значит, что тексты должны быть маленькими.
Короткими и независимыми друг от друга. В них нужно успеть
упаковать все, что ты хочешь сказать. Помимо этого,
философские тексты должны не только содержать в себе какие-то
мысли, но они должны обладать еще самоценностью. Быть
музыкой. Смешить, печалить, очаровывать и ошеломлять.
Философский текст должен быть поэтически организован.
А это трудно сделать. Более того, аналитический способ
передачи истины неминуемо приводит к бесплодным
попыткам построения системы, которую никто никогда не
сможет построить. Поэтому желательно, чтобы
философский текст самой-г<своей организацией, материй языка
рассказывал о том/b чем он рассказывает предметно. То есть
чтобы он был литературой, а не только наукой. Мне кажется,
что все эти требования выполнимы в философском тексте,
предназначенном для чтения вслух.
Испытание голосом может избавить нас от многих
занудных псевдофилософских сочинений. «Картография
дословности» — это текст, который я написал для того,
чтобы мне самому хотелось его прочесть. То есть он
предназначен не для другого, а для меня самого. Другой меня
понимает со стороны. Он интерпретирует, разглядывает.
Другой выводит меня из себя. И одновременно выводит на
чистую воду. То есть разоблачает. Критикует. И только мой
голос, обращенный ко мне самому, позволяет мне сохранить
ту непосредственность, которую я теряю при встрече с
другим. Я не могу смотреть на мир глазами другого. Я хотел бы
посмотреть на него прямо. Без посредников. Речь,
обращенная к самому себе, избавляет от другого. Она образует
особый мир, язык которого непрозрачен для другого. Другой
может проникнуть в этот мир, изменившись, отказавшись от
своей субъектности, от претензии на божественное
понимание мира. И тогда он становится сообщником. Со-
6
участником в рождении смыслов, ибо смыслы рождаются
миром сокровенного. Иным образом они не появляются.
Если бы они появлялись иным образом, то легко было бы быть
счастливыми. Поэтому в «Картографии» доминирует «сказ»
и «пересказ».
Некоторых предварительных пояснений требует и мое
понимание философии, а также тех понятий-образов,
которые я использую в работе. Начну с того, что меня удивило
какое-то пренебрежительное отношение к русской
философии людей, с мнением которых я не мог не считаться. Было
в них что-то писаревское. Либерально-демократическое.
Речь идет прежде всего о М.К. Мамардашвили и Г.П. Щед-
ровицком.
Мое удивление не было безосновательным. Ведь само
прилагательное «русский» давно стало проблемой. В конце
70-х годов я занимался изучением генезиса концепции
ноосферы В.Вернадского и поэтому перечитал сочинения
многих русских философов и ученых. В результате я
придумал теорию «Русского космизма», к которому отнес и
Вернадского. Написал статью и отправил ее в редакцию
журнала «Вопросы философии». Статью не приняли по той
причине, что если существует русский космизм, то должен
быть еще и немецкий, а у меня ничего про это не сказано.
Более того, ничего русского в «русском космизме» редакцией
замечено не было. На том я и успокоился, ибо понял, что
есть что-то опасное в слове «русский». В 1984 году мою
работу прочел академик Н. Моисеев и поддержал меня.
Издательство «Наука» опубликовало мою книгу «Экология.
Цивилизация. Ноосфера». Так возник феномен «русского
космизма», а вместе с ним возникли и мои недоумения по
поводу неодолимого желания русских отказаться от слова
«русский» и заменить его каким-нибудь другим словом. Нам
почему-то хочется создать языковую заглушку для
нормального, чувства идентификации с целым. Сначала этой
заглушкой было слово «советский». Затем, со ссылкой на
Карамзина, его заменили «россиянином».
Я — не россиянин. И не гражданин мира. Но в той мере, в
какой я продолжаю быть русским, возможна Россия. И
возможно сожительство в ней разных народов. То есть
возможен русский космос. Если же я стану россиянином, то
Россия пропадет. И россияне исчезнут. И мне нужно будет
7
искать новое целое. Нового Бога. Конечно, если я живу на
Алтае, я — алтаец. Но, помимо этого, повторяю, я еще и
русский. И это более фундаментальное чувство. Еще более
фундаментальным можно объявить чувство
принадлежности к человечеству. Но тогда, подчиняясь требованиям
логики, нужно идти до конца и объявить о своей
принадлежности к живому миру, о родственных чувствах между
человеком и мхом. О принадлежности к космосу. Вот этот
путь я назвал новым язычеством. И отказался от него. Ибо
он противоречит моей дословности. То есть, утверждая свою
принадлежность к человечеству, я пошел бы по пути
новоязыческого отказа от богочеловека. Ибо русские уже
отказывались от себя во имя человечества. Еще раз я
отказаться не могу. А если отказ неизбежен, то лучше бы мне
тогда и вовсе не рождаться.
Сохраняя же чувство принадлежности к земле, на
которой родился, каждый из нас уже хранит в себе языческое
чувство общности. Православие, ассимилируя это чувство,
накладывает запрет на движение по новоязыческому пути.
Оно вводит нас в мир нового чувства. У нас разные земли, но
один Бог, одна sepia и одна церковь. Чтобы принадлежать к
человечеству, мне достаточно быть русским.
Пояснив свое отношение к слову «русский», я могу
теперь рассказать и о том, как я понимаю философию.
Философия — это рассказ. Повествование, начало
которого коренится в словах раскаяния: «Боже, ну какой же я
был дурак». Раскаяние возвращает тебя к тому, что ближе
всего к тебе. А ближе всего к тебе — твоя жизнь. Твой дом.
Быт. Повседневность. Ну а если тебя нужно возвращать,
значит, ты забрел куда-то очень далеко. И что-то в этой дали
тебя соблазняло. Заманивало. И тебе хотелось прикоснуться
к тому, что выглядело так заманчиво. Ведь каждого из нас
касается только то, к чему мы прикоснулись.
Разговор о далеком носит метафизический характер.
Даль — это бытие. Первосущность. Или идея. Другой же
оказывается в метафизической дали. Первоначально
философия состоялась в виде рассказа о неких трансцендентных
сущностях, которых никто из нормальных людей не видел. А
философы их видели, и в основе этого видения лежал отказ
от дома. Разрыв с дословностью быта. Разрушение вяжущих
связей повседневности. Разрыв с дословностью придает фи-
8
лософии экзистенциальный характер. То есть у греков
философия была еще повествованием. Это потом она станет
схоластикой. Или наукой. В рассказе философа начинает
цениться опыт трансцендирования, а так же описание
приемов спекулятивного мышления. На спрос отвечают
предложением. Речь философа меняется. Ее стало
невозможно слушать. В ней появилось много разных мертвых слов.
Рассказ уступил место письму. Тексту, который всегда
можно отложить. Или перечитать. Интерпретация текста в
качестве совокупности мыслей превратилась в условие
существования этих мыслей. То есть в условие существования
интерпретируемого. Возникла субъект-предикативная
структура письма. Первосущность ни о чем не высказывается.
Высказываются о ней. Высказывание — предикативно.
Формулируется бинарный принцип понятийного мышления.
Логика философского письма подавляет истину непрямых
утверждений, разрушает достоверность прямых созерцаний
и дезавуирует динамику поступка философа.
Всякая философия имеет свои функции и то, что
выполняет эти функции. То есть она имеет структуру, на материале
которой реализована функция. История структуры
независима от истории функций. Например, у греков философские
функции выполняли иноземцы. Не греки. Что в свою
очередь определило морфологию греческой структуры
философии. Греки-философы появились позднее. Начиная с
Анаксагора.
Сами же функции группируются трояким образом. Во-
первых, это разрыв с традицией. Расставание. Уход из
обжитого пространства в необжитое. Поиск новой земли.
Во-вторых, это скитание. Метафизическое странничество.
Опыт постороннего. В-третьих, это возвращение блудного
сына домой.
Русская философия не участвовала в приключениях
европейского ума. То есть у нее не было ни расставания, ни
метафизического блуда. Поэтому наши метанаррации, то
есть то, внутри чего мы живем и благодаря чему понимаем,
носили не философский характер, а сказочный. Они были
былью. И мы тихо спали. А потом проснулись и
обнаружили, что в наши головы, не спрашивая разрешения, проникла
европейская метафизика.
9
Русская философия появилась в одно время с
интеллигенцией, которая выполняла в России те же функции, что
иноземцы в Греции. Или схоласты в средние века. Она
разрушала традиции и веру, самоопределившись вне русского
самосознания. Иными словами, русская философия
появилась в момент, когда нужно было уже возвращаться домой. В
мир подручного. А место ее было занято интеллигенцией.
Людьми бездомными/Возник разрыв между функцией и
структурой. Произошло перераспределение функций.
Структурно русскими философами были славянофилы. Они
создали русское самосознание. Что и определило
морфологию русской структуры философии. Но эта структура была
лишена функций, присвоенных интеллигенцией.
Интеллигенция сориентирована на культуру, на заполнение ее
пустых клеток, и поэтому она обязана была делать то, что от
нее ожидала публика. Русские философы сориентировались
на дословное, на народ, стремясь обойти культуру стороной.
Возникло противостояние между немотствующей
структурой философии и говорливой бесструктурностью
интеллигенции. Все, что невозможно было помыслить, то
возможно было осуществить. То есть на месте разрыва
между философией и интеллигенцией образовалось
пространство свершения немыслимых событий. Русская
философия начинается с возгласа К. Аксакова: «Пора
домой». Поэтому она не экзистенциальна и не спекулятивна. А
поскольку она и с интеллигенцией не дружит, постольку она
не имеет сообщенности с ее энергетикой. Русская
философия «архео-авангардна», то есть она совмещает авангард с
началом, с прошлым; то, что впереди, сопряжено в ней, с тем,
что позади. Русские философы рассказывают не об исходе
из дословного, не о приключениях ума вдали от дома, а о
возвращении к самому близкому. Русские философы
заканчивают делать то, что они не начинали; Грехи уходили из
дома. Мы возвращаемся. Русская философия возникает в
XIX веке. И возникает она как род литературы.
Если европейская философия — это философия
самосознания, то русская философия — это философия дословности.
Вот этого-то в ней и не принимают. Из-за этого на нее и
косятся. В русской философии составляется план-карта
возвращения издалека, от непосредственности
опосредованного к непосредственности изначального, к Дому. Поэтому
10
первый этап в развитии русской философии я и называю
философией дословности. Начинается он П. Чаадаевым и
заканчивается Н.Ф. Федоровым.
Дословность дает о себе знать голосом крестьянина.
Самосознание говорит о себе в речи интеллигенции.
Крестьянин колеблется в выборе между голосом Бога и
голосом тела, интеллигенция выбирает между символом и
симуляцией. В первом случае мы имеем дело с внутренним.
С невыговоренностью души. Во втором — с обманом
распоясавшегося ума, то есть ума не связанного душой.
Неречевой тайне души противостоят речевые истины.
Речью интеллигенции создается ее бессознательное, то есть
бессознательное есть только у интеллигенции. У людей с эк-
зистирующим существом ума. И они боятся своего
бессознательного. Ну а поскольку речь интеллигенции не
стала речью дословного, постольку в немоте крестьянина
нет места для бессознательного. Немой речью дословного
создается заумь подлинного. Различие между
бессознательным симуляции и заумью подлинного дает возможность
понимания того, что я называю пато-логией русского ума.
Признаться, я ввел представление о пато-логии раньше,
когда заговорил о противостоянии интеллигенции и
философии. Но об этом умолчал.
Пато-логии возникают из той игры, из тех обменов,
которые происходят между бессознательным и заумью,
симуляцией и подлинным. Если бы существовало так
называемое коллективное бессознательное, то этих обменов
бы не было. А если они есть, то нет никаких архетипов.
В патовом пространстве каждому из нас нужно всякий
раз заново решать вопрос о том, коренится ли то или иное
событие во внешнем порядке вещей или же оно вызвано
внутренними состояниями. То есть поступать нам по праву
или по правде. Но установить это мы не можем, потому что
никаким внешним образом нельзя определить, есть ли что-
то у человека за душой или у него там нет ничего. Поступил
ли он по праву или же по правде. А это значит, что любое
событие у нас дублируется. Имеет зеркального двойника, у
которого все наоборот. Если оно происходит как явление, то
здесь же, одновременно, оно предстает и как вещь в себе. И
хотя это разные события, но вцешность у них одна. И
отличить их друг от друга мы не можем. Поэтому внешний план
И
нашей жизни блокирует то, что внутри. А внутренний — то,
что во вне.
Так создаются патовые пространства. И пато-логии
нашего ума.
Последнее пояснение относится к методу. Я назвал его
картографическим, потому что возвращение домой
отвращает от нового. От того, что еще становится. Все должно быть
на своем месте, ибо настоящее — это то, что стоит. Нечто
стоящее, а не двигающееся, не изменяющееся. Это в Германии
идеи развиваются и поэтому из Канта-куколки может
получиться Фихте-бабочка. У них последующее легко меняет
предыдущее и поэтому ты все время находишься в мире
временного.
Картографический метод безразличен ко времени,
потому что он ориентирует на то, что стоит, остановилось, на
место стоящего. А это место образуется пространством,
сопряжением дословности поступка и мысли. То есть
случайным фактом биографии, его материей выражается
необходимость какой-то мысли. И отделить ее от случайности
обстояния нельзя.; А если ее отделить нельзя, то ее и развить
нельзя. В России* идеи не развиваются и не превращаются
друг в друга. Они размещаются друг около друга. Чаадаев не
превратился в Хомякова, а, Самарин не упразднил
Киреевского, не превратил его в свою односторонность. Поэтому-то
меня интересует расположение Хомякова на карте русского
сознания. И место Киреевского. И все, что выросло на этом
месте. И возможные переходы от одного к другому. То есть я
не могу взять, например, отношение Хомякова к государству
и сравнить его с отношением Аксакова к государству и
показать происшедшее изменение. И сделать вывод, ибо этот
вывод не поколеблет топос русской мысли. Меня не
интересуют эволюционные эпистемологии. Меня интересует
полнота стоящего. Я не исследователь. Я картограф. Я не
знаю, что превращалось во что. Мне нужен
пространственный маршрут. Схема пути возвращения к дословному.
Нужна карта русского сознания.
РАЗДЕЛ I
ДОСЛОВНОСТЬ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
1.1. Философия как ловушка для дураков
Философия — ловушка для дураков. Эту ловушку
придумали греки. Вообще-то греки делились на две
неравные части. Большинство из них было домоседами.
Меньшинство любило ездить за границу. Например, в
Египет. К жрецам. Или в Индию. К гимнософистам. Съездят
они, наберутся ума-разума и затем удивляют обывателей
разными учеными словами. Да и вели они себя как-то странно.
По-иноземному. Вот съездил Пифагор в Египет и стал
важен. Без меру заносчив и высокомерен. Все греки едят мясо
и бобы. А он не ест. Все носят одежду из шерсти. А он не
такой, как все. Не носит. Ему нельзя. Пифагор закодировал
запретами новый смысл мира. Ну а греки — они как дети.
Чуть что — к нему. Мол, ты умный, а мы дураки
необразованные. Ты грамоте обучен. Ты за границей был. Ты объясни
нам: будет урожай оливок или не будет. А Пифагор
отмахивается от них. Вот еще. Ну какой же я умный. Я не умный.
Никакой истины я не знаю. Чудес не делаю. Я философ. Я
только люблю ум. То есть сам-то я глупый. Ведь не будет же
мудрый стремиться к мудрости, а умный — к уму. К уму
стремится неумный. Пифагор и придумал это слово —
«философия». Чтобы отделаться от назойливых. А
философствование стало ловушкой для дураков и сумасшедших.
Философ — это дурак, стремящийся к уму.
Философы Греции установили порядок речи, не
совпадающий с порядком быта. Появилась высокая речь и низкая.
Речь философа строится в предположении, что всех слов
мира не хватит для того, чтобы могла осуществиться муд-
13
рость неизреченного. Философия связана не с мудростью, а
со словом.
Греками римляне называли эллинов: Любителей слова.
Филологов. Наблюдателей ненаблюдаемых сущностей. А
наблюдатели — люди дерзкие и капризные. В дерзкости и
капризах рождалась философия греков.
Пространство философствования образовано жестом,
которым отделываются от мира. От себя. От других. От
слов. Философы очень ленивые люди. Если бы они были не
ленивы, то они бы не стали называть себя глупыми. И стали
бы горшечниками, пекарями, банкирами.
Все люди ленивы и равнодушны. Философ абсолютно
равнодушный человек. Преодолеть равнодушие может
только обожание, В обожающем· взгляде, которым одаривают
философа, рождается его мысль. Лень, равнодушие,
обожание и глупость — таковы изначальные складки пространства,
образуемого жестом отделывания от мира.
Русская философия создавалась на греческий манер. По-
европейски. Словами. Как философия самосознания. А
осознала она себя; как философия дословности. То есть для
нее не оказалось зазора между речью и бытом. Если бы этот
зазор был, то наша речь строилась бы вне зависимости от
быта. И тем самым мы бы дали возможность выговориться
самому сознанию, поместить мир в клетку, изолировав его. А
у нас этого зазора не было. Русские философы попали в
зависимость от мира, который, словно зверь вышел из клетки,
придуманной для него сознанием. От грохота событий
русской речи сотрясалась тихая повседневность быта.
Последняя подлинность мира.
Философ — это посторонний
Греческая философия возникает не в Греции. А в Малой
Азии. В портовых городах. Греция маленькая.· Чтобы ее
увидеть, от нее нужно отойти в сторону Отошли. И попали на
берега, с которых видна вся Греция. Полностью. Без остатка.
В греческой философии закодирован взгляд со стороны.
Извне. Она требует некоторой дистанции между
наблюдателем и наблюдаемым. В ней сохранена возможность паузы,
интервала, отсрочки. Греческие философы похожи на
посетителей московского зоопарка: вокруг тигры, а они ничего
14
не боятся. Тигры в клетках. А они — снаружи. Внешние
наблюдатели. И это одна философия, один дискурс. Выпусти
тигра из клетки и внешнее наблюдение будет невозможно. И
будет другой философский дискурс. Картография внешнего
наблюдения указывает на метафизический характер
греческой философии.
Взгляд со стороны делит надвое. В терминах дуальности
обнаруживается рациональность выдуманного мира.
Греческая философия создавалась для того, чтобы помочь
установиться уму. Установить прямой взгляд на вещи. Она
обеспечивает метафизическую прямолинейность
постороннего. Философ — это посторонний человек. Вот приедет
какой-нибудь купец из Финикии в Грецию и нос задирает.
Умничает. Все греки как греки. Видят то, что видят. А
метафизики смотрят, например, на дерево, а видят сущность
дерева. Древесность. Греки говорят об оливах и вине.
Посторонние — об архэ. Об умонаблюдаемых сущностях. Речь их
темна. Слова непонятны. Само собой такой взгляд не
устанавливается. Ему учиться надо. Образовываться.
В метафизической прямолинейности греческой
философии закодирована потребность в непрерывном возобновлении
паузы безопасности. Греки — эстеты. Философская речь грека
выполняется в скрытых терминах эстетического сознания. Их
взгляд скользит по тому, что сверху. А сверху — поверхность.
Для ненаблюдаемого существует ум. Для эстета существует
поверхность.
Эстетизм прямого взгляда освобождает ум грека от
души. От интимной близости к вещам. В безопасной паузе
внешнего наблюдения нет души. Она появляется в опасной
близости к вещам. Ум и душа грека больше не связаны.
Несвязное состояние ума развязывает речь философа. Греки
много говорили. Они забросали мир словами. И он
спрятался от нас. Везде слова. Нигде нет мира. Первыми это
заметили киники. И заявили протест греческим философам.
Платону.
Косноязычие русской философии
Русская философия возникает вне философии. За
пределами любви к мудрости. Она появляется как поучение. Как
слово дословности, обращенное к насытившимся книжной
15
сладостью. Дословно все, что говорится изнутри. Например,
стыд. Или совесть. Они дословны. Устранение дистанции
между наблюдателем и наблюдаемым — условие
сообщенное™ с тем, что угрожает. А это опасно. В опасной
сообщенное™ с миром рождается стремление к
дословности. То есть вот был Аввакум и он что-то говорил. Его уже
нет, а слова остались. Ты — к словам, а они ничего не
говорят. Потому что в них есть что-то, что говорилось в опасной
близости к вещам. К миру, а это факт биографии. Поступок.
Дело интимное. Личное. Его пережить надо. Чтобы затем
пережитое закодировать в словах и выставить на всеобщее
обозрение. Ускользание от слов к дословности делает
русскую философию косноязычной. Ее слово — это не
слово-письмо. Не то, что возвышает и одновременно
отделяет от мира. Это слово-голос. Речь, заполнившая паузы
письма. Жест, делающий невозможным внешнее
наблюдение. То, что объединяет говорящего, говоримое и
выговоренное в послухе. Послух — живой свидетель речи.
Немотствующий голос опасности не терпит отсрочки.
Откладывание сообщения — уловка для эстета. Нырок в
безопасную паузу. Отсроченный голос превращает послуха в
неслуха. Послух послушен голосу Тому, что в нем слышится
изнутри. Неслух потом, задним числом, прочтет о том, что
слышалось. Но не было услышано. Русская философия —
это литература, испытанная голосом послуха в опасной
близости к дословности.
Конечно, поучать лучше всего извне. Издалека. Это будет
метафизическое поучение. То есть неукушенные змеями
наставляют тех, кого змеи уже кусали. Философия
самосознания — это наставление рогов доверившимся. Философское
же поучение возможно в деле. Изнутри делаемого. Такое
поучение я называю моральным.
Русская философия моральна. Она образована жестом
отказа от сеоя. На поверхности ее философствования нет
складок лени, равнодушия, глупости. Это философия
совести. И правды. Моральные стратегии русской философии
стирают границу дуальности. Движение в пространстве
совести-чести оказывается нерациональным. Русская
философия исключает возможность того, чтобы в ней появился и
удержался эстетический взгляд на мир. Скольжение взгляда
■16
по поверхности воспринимается как отказ от движения
вглубь. К дословности.
Редукция кодифицированной речи философа обнажает
эстетические и метафизические уловки сознания. Его
неискренность. Несоблюдение эстетической дистанции делает
нас глубокомысленными и серьезными. Русские философы
не шутят. Для того чтобы была ирония и шутка, нужен зазор
между порядком речи и порядком быта. Чтобы ты пошутил,
а тихая повседневность этой шутки даже не заметила. Чтобы
все ее содержание ушло в зазор. Как в трубу. А когда этого
зазора нет, то шутки в сторону. Иначе мир перевернется. Ты
пошутил. И вот мир — как тигр, выпущенный из клетки. И
ты с ним один на один. И кто кого. А положиться не на кого.
Этим противостоянием рождается дискурс русской
философии. То есть ты — в опасности. Тебе не до эстетики. И не до
метафизикивнешнего наблюдения.
Мы моральны. Продуктами морализирования забиты
все метафизические пустоты русской философии. За свою
моральность и неметафизическое рассмотрение вещей мы
заплатили немотой речи. Косноязычием. То есть наш взгляд
поставлен так, что он видит не суть вещей, не то, что прямо.
А то, что сбоку. Выскочит что-нибудь из-за спины и опять
там спрячется. А мы это что-то зафиксируем. Заметим. И о
нем поведем речь. У греков прямой взгляд. Мы —
косоглазые. Ну ладно. В Греции умонаблюдаемые сущности. Там у
них мыслят. Но вот как нам, косоглазым, жить? Сумеем ли,
справимся ли мы с тем, что из-за спины выскакивает? И
нельзя ли нам круговой обзор устроить?
Греческая философия кодифицирована в академиях и
лицеях. Метафизике можно научить. Русская философия —
неметафизическая. Она без специальных технических
терминов. А если в ней нет этих терминов, то в ней нет и
крючков, на которых держалось бы сознание. И поэтому
сознание в ней не держится. А если держится, то это чудо. О
русской философии рассказывают. Но ей не научают. Как ей
научить, если она сама о себе молчит.
Современная философия
Современная философия есть во Франции. Например,
Ж. Делез. Это современный философ. Делез не гуманист. И
2 Ф. Гиренок
17
Хаксли не гуманист. А Эпикур гуманист. Филантроп. У него
была мочекаменная болезнь. Когда Эпикур умирал, он сел в
теплую ванну и попросил дать ему стакан вина. Эпикур
расширял кровеносные сосуды. Хаксли — сердечник. Когда
Хаксли умирал, он попросил наркотик ЛСД. У него была
жена. И она ему дала галюциногенный препарат. Жена —
друг современного философа. Она поможет умереть. У
М. Фуко не было жены. И он умер сам. От СПИДа.
Современные философы есть и в России. Вообще-то
философия связана со словом. С языком. С речью. По этой
связи ее и узнавали. В России она связана с немой речью. С
дословным письмом.
Старые связи распались. Современная философия ходит
неузнанной. Придет она в университет, а ее туда не пускают.
Философия ускользает от речи. Порывает со словом. Путает
письмо. Отказывается от прямых взглядов. От сущностей. У
нее косоглазие. Она косноязычна. Современные философы
валяют дурака. Занимаются дизайном поверхностей. Безъя-
зыкость неузнанной философии завоевывает позиции в
языке. Немотствующее ориентирует речь. Заумь
завоевывает позиции ума и создает барьеры для безумия.
Вообще-то есть две философии. Одна — мертвая. Она в
архиве. В библиотеке. В музее. На выставке. Другая —
живая. Грязная. На улице. Под забором. Русская философия
пошла на улицу. К вещам. Я с ней. Чтобы услышать разговор
толпы. А он примитивен. Кинический ход философии
обездолил философов. Философия — на улице. Под дождем.
Философы — в библиотеке. У батарей. Им тепло. Они
перебирают слова: онтология, субъект, Кант, тело, Деррида,
дискурс. Перебирают и создают симулятивные
пространства культуры. Философы — симулянты.
Русская философия пато-логична. Но она не симулятив-
на. Философ — это человек, отгородившийся от мира.
Отделывающийся от него словами. Но за частоколом слов
существует какая-то жизнь. Какой-то опыт. Чтобы его
извлечь, нужно отказаться от себя. Опыт жизни за словесным
барьером и составляет смысл философии дословности.
Второй смысл. Потому что первый — это опыт словесного
обволакивания мира. Хождения по нему с умом.
18
1.2. Сумасшествие. IL Чаадаев.
Опыт встречи слова и дословности
Картография родословной
«Все великое происходило из пустыни»1. Чаадаев
пришел из пустыни. Он родился в 1794 году. Написал письмо.
По-французски. Опубликовал. Стал знаменит. Был одинок.
Умер в 1856 году в английском клубе. Дома, как такового, у
него не было. «Каждому из нас приходится самому искать
путей для возобновления связи с нитью, оборванной в
родной семье»2. Философия Чаадаева — это поиск нитей,
связывающих с домом. С почвой.
Его мать — княгиня Щербатова. Отец — советник
судебной палаты. Родители умерли рано. Он их не помнит.
Пустота. Его воспитанием занимались гувернеры. И сестра
матери. Старая дева. Пустыня. Чаадаев пришел из пустыни.
Он пришел в Россию пустой. А пустоту не заполнить
полнотой сущего. Он отнял у России память. Дома. Традиции.
Историю. А пустыня показала в себе место святости.
Чаадаев это понял и сошел с ума в одиночестве. Все великое
рождается и умирает в одиночестве.
Маска посвященного
Типологически существует две тайны. Одна задается
речью, другая — культом. Речевая тайна — это то, что знают не
все. Это секреты. Неречевая тайна дословна. Ее знают все,
кто захвачен мистерией культа.
То, что Чаадаев сообщен с неречевой тайной мира,
считалось само собой разумеющимся. Чаадаев — масон. Он дошел
до 8-й степени посвящения в таинство белых братьев. Был
близок к тайнам декабристов. Но декабристом он не стал.
Ускользнул. Масонская ложа как обжитый дом. В нем
важны детали. Чаадаев ценил детали масонских образов. И
точное выполнение правил. Но отношение Чаадаева к
масонским тайнам касательное. Он около них, но не в них. В
тайнах есть что-то безумное. Об этом Чаадаев написал в сво-
1 Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989, с.380.
2Тамже,с.21.
2*
19
ем дневнике. То есть безумие поджидало его рядом с
тайнами. В маске посвященного он от безумия ускользал.
Затем, за границей, после раздела миллионного
наследства, он стал упражняться в мистицизме. В образе мистика
он был похож на исихаста. Ему легко было совлечь с себя
ветхого Адама. Отказаться от естественных склонностей.
Потому что пол не мешал его внутреннему созерцанию.
Чаадаев изучал опыт молитвы без слов. Без мыслей. Он все
ждал, когда в нем внутреннее слово зазвучит и он увидит
Бога. Прямо. Лицом к лицу. Слово не зазвучало. Ожидания не
исполнялись. Изображая мистика, он спасался от
необходимости непрерывно думать.
Чаадаев «ставил себя в присутствие Бога». Ходил перед
ним. А благодати не было. Ему не удавалось зрить без оора-
зов. Воображать без представлений. Чаадаев тыкал пальцем
наугад в Евангелие и медитировал над какой-нибудь
фразой. Это и было его бдение. Стояние перед Богом. Никакого
влечения к Богу он не испытывал. Исихастский опыт
разрыва со словом его не увлек. Чаадаев словоохотлив. Он
философ. Тогда же как исихасты безмолвствуют. Чаадаев
сообщен с тайной мира в том смысле, что в нем самом
коренится ад. От него и чад ада.
Перемигивание сумасшедших
В 1826 году Чаадаев вернулся в Москву. Из-за границы.
Ему уже за тридцать. Денег мало. Славы нет. Он угрюм.
Одинок. Сидит дома. Друзья кто где. Некоторые в тюрьме. С
женщинами сложные отношения. «Я в качестве философа
женщин очень высоко не ставлю.»1 Случайно познакомился
с Катей Пановой. У Кати муж. Он мужу 1000 рублей дал.
Взаймы. А Катя — в поклонницы к Чаадаеву. А истинный
Чаадаев — нулевой мужчина. Он в позу. С маской
поверенного истины. И она в позу. С маской невинности. И
религиозного чувства. И начался роман. В письмах.
Чаадаев — красавец. Панова — уродина. Он — мыслитель. Она —
дура. У него нулевая сексуальность. Она переспала со всей
Москвой. И все это знают. А Чаадаев не знал. Не понял. А
она поняла, как его соблазнить.
'Там же, С.371.
20
Катя ему письмо. А в письме крик о помощи. Мольба о
духовном наставнике. Чаадаев — как старая полковая
лошадь. Побежал на крик^ На выручку. По сигналу. Сел за
ответ. Писал долго. Пока он писал, Панова полюбила
другого. С упрощенной ситуацией соблазнения. О нем забыли. А
он все писал и писал. Написал, а отправлять было уже
некому. И незачем. Знакомство прекратилось. И 1000 рублей
чуть не уплыли. Но Чаадаев не дурак. И вексель Пановой
успел сбыть. За 800 рублей.
Сумасшествие подмигнуло Чаадаеву и с Катей Пановой.
Ведь Катя тронулась. Умом. Ее освидетельствовали. По
просьбе мужа. И поместили в психбольницу. Чаадаев
дописал письмо к ней. И опубликовал. В «Телескопе». В 1836
году. Он опубликовал. Царь прочел и сказал: «Ясно. Немец
писал». Да нет же, объяснили ему. Русский. Ну тогда
сумасшедший. Чаадаева объявили сумасшедшим. Сумасшедшего
определяют по голосу тела. Вот есть он. Или нет его. У
Чаадаева его не было. Редуцированный голос телесности
замещается сознанием особой миссии. Вот Я — Чаадаев. Я
носитель истины. Но меня пока никто не знает. Я хочу стать
известным. «Это было бы средством дать ход той мысли,
которую Я считаю себя призванным дать миру»1.
Ход мысли можно дать в книге. В статье. Чаадаев пишет
письмо. Личное. Другу — Подруге. И публикует. А это уже
мания величия. Претензия на роль властителя дум. Поза
искренности.
Чаадаев одинок. Письмо к другому — это способ отсрочить
самоистязание одиночеством. Отложенное самоистязание
предстает Чаадаеву в образе единства и одновременно одного.
Все едино. И одно. Философические письма Чаадаева — это
неудачная попытка одинокого избежать сумасшествия.
У Чаадаева нет того, со стороны чего он может на себя
посмотреть извне. Нет сознания. И поэтому ему нужна
поддержка. Солнце. В свете которого все видно, если оно за
спиной. На солнце нельзя смотреть. Ослепнешь. Чаадаев
смотрит со стороны метанарраций, то есть метаповествова-
ний европейского ума. Вернее, это они смотрят его глазами.
Под действием европейских метанарраций ума никто в
Ростам же, с.351.
21
сии не думает сам. Вот есть они, и кто-то за кого-то смотрит.
И видит. Метанаррации рождаются всеобщим сдвигом
сознания. Думанием за другого. Я думаю за него. Кто-то думает
за меня. Вот этот сдвиг сознания и стал сумасшествием
Чаадаева. Его содержанием.
Чаадаев вышел из себя. И не вернулся к себе. Не овладел
чем-то в себе. Его метанаррации не коренятся в словах
раскаяния. Он параноик. Его паранойя заразила русских
философов. Мы стали бояться множественности. И
возжелали единого.
Единое как одно
«У меня только одна мысль»1, — заметил как-то Чаадаев.
В замеченном важна не мысль. А то, что она одна. Вообще-то
мыслей много. Но Чаадаев не любил множественность.
Называл ее хаосом. И другими неприятными словами. Хаос не
раскладывается на силлогизм. А одна мысль
раскладывается. Если у человека много мыслей в голове, то многомыслие
образует сумятицу. Каждой мысли соответствует извилина.
Одна мысль —>одна извилина. Много мыслей — много
извилин. У Чаадаева была одна мысль. Но глубокая. И эта
глубокая мысль есть теперь в каждом русском философе.
А поскольку в русском языке все слова парны, то есть
церковнославянские слова переглядываются с
древнерусскими, постольку «один» смысловым образом связан со
словом «един». Чаадаев часто употребляет слово «един», но
не потому, что он его любит. А потому, что он не любит
множественность. Единое приближает к одному. Стирает
различия. А это успокаивает. Чаадаев научил нас любить
единое. Одно. При виде много мы теряемся. Глядя на три
сорта ветчины, мы попадаем в невменяемое состояние. От
изобилия многого у нас кружится голова. Изобилие одного
прибавляет нам уверенности.
Мысль, если она есть, должна быть одна. Либо ни одной
мысли, либо она одна. Всеединство в одном составляет то,
что потом назовут ноосферой. Идеяноосферы принадлежит
Чаадаеву. Вот есть преемственность сознаний, и возможно
одно мировое сознание. А если есть мировое сознание, то
1 Там же, С.352.
22
есть и благо. Ты не мыслил, еще не успел подумать, а мысль
из тебя уже вытекла. А это результат существования
ноосферы, которую создали в Европе и которой не создали в
России.
Чаадаев соблазнил русских философов и идеей
всеединства. Идея всеединства избавляет нас от проблемы выбора
из многого. Есть только одно. И это одно — единое. В быту. В
повседневности. А это уже самоистязание.
Язвы на теле Чаадаева
Чаадаев самый красивый философ России. Правда, и
Леонтьев не урод. Но Чаадаев неслыханно хорош. Высок.
Белолиц. Румян. И аристократ. Он одевался как денди,
определяя моду в Петербурге и Москве. Дещщзм как феномен
русской культуры порожден Чаадаевым.
Чаадаев — «священная корова» столичных салонов.
Бедные женщины. Они сходили с ума. А Чаадаев? Он импотент.
Немогущий. Вот рядом сходят с ума, а он ничем помочь не
может. Что делает Чаадаев? Надевает маску Занимает позу
мыслителя. Вы к нему, а он — в позу. А у этой позы свой
дискурс. Свои знаки и означаемое. Чаадаев хотел скрыться от
соблазна. Отсрочить свое разоблачение. Поза мыслителя —
это возможность бесконечной отсроченности разоблачения
телесных язв. Знак, скрывающий то, что он ничего не
скрывает. Удвоенной пустотой знаков мысли обеспечивается
полнота жеста; Гримасы. Мол, ну какая еще страсть. Какая
любовь. Ведь Я — мыслитель. Мне некогда глупостями
заниматься. Я с Шеллингом в переписке. И в позу. И мыслью
прикрывается. А мыслей у него нет. Одна была, и он ее в
каждую бочку как затычку. И к месту и не к месту. Лучше всего
эта его единственная мысль сформулирована в письме к
Якушкину: «Я много размышлял о России, с тех пор, как
роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я ни в
чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не
хватает прежде всего глубины. Мы прожили века так, или
почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли,
никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся
будущность страны в один прекрасный день была разыграна
в кости несколькими молодыми людьми между трубкой и
стаканом вина. Когда восемнадцать веков тому назад истина
23
воплотилась и явилась людям, они убили ее; и это
величайшее преступление стало спасением мира; но если бы истина
появилась вот сейчас, среди нас, никто не обратил бы на нее
никакого внимания, и это преступление ужаснее первого,
потому что ни к чему бы не послужило».1
В этом тексте замечателен пассаж об истине. В нем
намечена нехарактерная для Чаадаева терминологическая
различенность. Речь идет об истине. О том, что когда-то она
была. Но ее убили. И теперь, когда ее убили, в мире
появились истины, на которые никто не обращает внимания.
Чаадаеву потянуть бы эту ниточку различения.
Размяться. Помыслить. Смотришь — и родилась бы в России мысль.
А он, как водомер. Есть глубина. Нет глубины. Движимы
идеей. Недвижимы идеей. Ну недвижимы. Так что с того.
Может быть, это и хорошо. Ты раскодируй это понятие.
Переведи его на русский язык. И станет ясно. Вот Леонтьев
перевел, и стало очевидно, что Россия подмороженная более
устойчива, чем размороженная. Нам в холодильнике жить
надо.
Ты соберись и пойми, что хочет власть всеобщего. А
потом суди-ряди. Чаадаев не собрался. Он не судит, как
Данилевский, а созерцает. Для того чтобы можно было
созерцать, нужна метанаррация. И свободное время. Вот есть
оно, и ты что-то видишь. Нет его — и ты слеп. Различающее
мышление не нуждается в заимствовании метаструктур.
Чаадаев не различитель. Чаадаев — обозреватель. Идеальное
поле обозрения создает одна метанаррация. Всеединство.
Чаадаев строит свой дискурс как транслятор
прогрессивной идеологии. Его тексты переполнены идейно и культурно
ангажированными посылками. В его голове спонтанно
воспроизводились все культурно-значимые заблуждения
эпохи. Вот есть такая метанаррация, как прогресс. Ход
истории. И ты должен определиться. Либо ты вместе с ходом
истории, либо отстаешь от него. Чаадаев не отставал. Для
него история не игра в кости. Не дело случая. А хитрость
разума. Провидения.
У Чаадаева волосы дыбом встали, когда он узнал, как
несколько молодых ребят между трубкой и вином разыграли в
1Тамже,с.386.
24
кости будущность страны. А заодно решили судьбу
провидения, абсолютной идеи и хода истории. Чаадаев человек
серьезный. Слишком серьезный. Трубка и вино выступают
для него как знаки несерьезного. Несоразмерного с
поднятым вопросом. Чаадаев — не скоморох. Он человек
положительный. Мыслящий тростник. Поверенный истины.
Вот им, поверенным, и решать вопрос о будущем страны. К
ним и должна являться мысль. А она является Бог знает к
кому. К каким-то легкомысленным повесам. Например, к
Пушкину.
Мысль — это самый изощренный способ соблазнения.
Мыслить — значит соблазнять. Чаадаев не мыслитель.
Чаадаев — обозреватель. У него мысль нарративная. Чаадаев
фат. Что женщины — перед ним мужчины робели. Пушкин
заикался. Ну куда, мол, нам со свиным рылом в калашный
ряд. Чаадаев — тений. Ему сам царь — не указ. Царь ему
предлагает должность флигель-адъютанта. А он
капризничает. Щеки дует. Вот все хотят в адъютанты. А я не хочу. Ив
отставку подает. Ему работу в Минфине предлагают. А он
министерство просвещения требует. А русский язык не
знает. Или вот бал. Светская тусовка. Музыка играет. Народ
танцует. А Чаадаев станет в сторонке у колонны и стоит. А
он лучший танцор. И это все знают. Вот он стоит и молчит.
Красноречиво. Самой его позой при этом что-то
высокоумное говорится. Парализующее. Ты еще ничего не сказал, не
сделал, а уже чувствуешь себя болваном. В его присутствии.
Чаадаев — это поза. Умение делать вид.
Символическое пространство Чаадаева создавалось
сопряжением двух взаимно исключающих смысловых
сторон. С одной стороны, это дом и память. С другой —
бездомность и отщепенство. С одной стороны, женщины и
соблазн. С другой ^ импотенция и мысль. Соблазнение
соблазна. С одной стороны, аристократ в позе мыслителя. С
другой — запоры и геморрой. Тело. Нет, чтобы у него, как у
мыслителя, была меланхолия или какая-нибудь мигрень.
Так у него геморроидальные боли. А это недостойно
аристократа. Чаадаев стыдился своей болезни. Скрывал ее. А
ведь он, как Наполеон. Лицо исключительное. Все обязаны
придерживаться обычаев, предписанных церковью. Все
должны выполнять свои обязанности. «Есть только одно
исключение из этого положения... — а именно, когда нахо-
25
дишь в себе верования более высокого порядка, нежели те,
которые исповедуют массы...»1. Это Чаадаев о себе. Все
остальные должны смириться. То есть «облечься в одежду
смирения». Я думаю, что если бы не геморрой, то Чаадаев
посчитал бы себя за чистую мысль. А так он все-таки тело,
на котором язвы.
Сумасшествие Чаадаева — это результат
непреднамеренной встречи с патовым пространством. Парадокс состоит в
том, что он ходит по времени, как по пространству, в котором
пункт А соседствует с пунктом В. Безумию этого хождения
противостоит не ум, а заумь, накладывающая запрет на то,
чтобы из сумасшествия извлекался какой-либо опыт. Все
происходит как если бы в первый раз. Вообще-то, опыт — это
сознание опыта. Извлечение сознания. А оно в патовом
пространстве существует в режиме ускользания к метанар-
рации. Неизвлеченность опыта из сумасшествия Чаадаева
превращает сумасшествие в устойчивое поле русского
философствования. Все мы сумасшедшие. Все мы
западники-обозреватели. И это необратимо. Пока не придет
Иванушка-дурачок и не извлечет опыт. Не прочтет о себе
сказку. Тогда и пропадут чары. Растворится необратимость.
И начнется история.
В патовых пространствах «нового мира» Чаадаева
доминирует ничейность. Ноль. А это значит, что никакая
генеалогия неприменима к обозревающему сумасшествию
Чаадаева. Археология знания также бессмысленна в
исследовании ничейных территорий. С патовых пространств
нового мира можно снимать карту Поэтому я вынужден
заниматься картографией, то есть размечать и ориентировать
на Чаадаева неизвлеченный опыт сумасшествия русской
философии. Сумасшествия, рожденного обозрением
времени как пространства. Первая разметка состоит в признании
ненужности ума. Ибо мы не греки. И нам нужен опыт. Мы
опытны, а не разумны. Вторая разметка состоит в признании
необходимости невербального опыта. Нам нужно чутье,
интуиция. Почему? Потому что вербальный опыт бесконечен.
А с бесконечностью нам не справиться. Опыт должен быть
конечным. И в упаковке. Чтобы его в карман можно было
1 Там же, с. 17.
26
положить. Ведь я могу приобрести опыт, если он конечен. То
есть приходит время, и я говорю — все. Хватит. Я понял.
Теперь-то я ученый. Опыт меня больше не интересует. Я уже
опытный. У меня чутье. Интуиция. Третья разметка связана
с полаганием на авось, а не на опыт. На то, из чего сознание
не извлекается. Авось не здесь и не сейчас. Четвертая
разметка связана с пониманием того, что от безумия авось
спасает заумь, а не ум. Пятая разметка рекомендует не иметь
дело с законченными смыслами. Ибо законченное
отчуждаемо. А незаконченное — твое. Недоделанное является
стратегией существования на ничейных территориях.
В картографии сумасшествия Чаадаева отсутствуют
авось, заумь и конечный опыт. Авось замещается у него
пафосом позы. Чаадаев нуждается в непрерывном
подтверждении того, что он в уме. Заумь не спасает его от безумия, а
опыт не спасает от интеллигибельности ума. Пафосом позы
Чаадаева рожден эстетизм философии Леонтьева.
Чаадаев в быту методичен, как немец. Но у него ничего
хорошего не получается. Вернее, результатом его бытовой
методичности является обзор самоистязания. Чаадаев сам
посадил себя в клетку нового мира. Изолировал себя.
Методичностью Чаадаев маскирует ускользание от дословности,
которая преследоет его.
Хаксли тоже методичен. Хотя и он не немец. Хаксли
убегает от притязаний самосознания и ищет прибежища в мире
дословности. Хаксли опытный человек. И как опытный
человек, он понял, что «новый мир» не спасет от
самоистязаний. Конечный опыт — это просто наркотики. Они
переводят из состояния различающего мышления в
состояние дословности. Хаксли — наркоман. Чаадаев —
сумасшедший. Потому что он полагается не на авось, а на
принцип. На универсалию, которая делает возможной
методичность ума. Но принцип в патовом пространстве — это
жест самоизоляции и самоистязания.
Чаадаев — сумасшедший обозрения. Во втором
философическом письме он рассказывает о том, как нужно
создавать себе новый мир, если ты тронулся. То есть попал
в самовозобновляемый круг сознания, которое никогда не
совпадет с тобой. Кто-то всегда думает за тебя. А есть кто-
то за кого думаешь ты. Никто не думает сам. Везде другой.
Чаадаев создал свой новый мир в 30-е годы. Сначала он от-
27
городился от мира готовых смыслов и значений в своем
доме. Затем в английском клубе. Ежедневно почти 20 лет он
совершал один и тот же ритуал. Вставал. Собирался и ехал
в клуб. В этом была его философия. И самоистязание.
Нужно «создать себе новый мир, раз тот, в котором вы
живете, стал вам чужим»1.
Гиперреальность нового мира создается следующим
образом.
1. Согласуйте ваши чувства с вашим образом жизни. Со
средой. Оденьте маску приличия.
2. Сделайте свой приют как можно более
привлекательным. Комфортным. Прикиньте, во что вам обойдется
цивилизованность.
3. Сохраняйте возможность всецело сосредоточиться в
своей внутренней жизни. Сохраните гримасу мистика.
4. Установите однообразный и методичный образ жизни
с постоянным подчинением определенным правилам.
Живите одним днем.
5. Не читайте газет и модных книг. Сохраняйте позу
самобытности.
Теория «нового мира» строилась Чаадаевым как теория
выживания в ситуации разорванных связей с дословностью.
Новый мир — это тот уровень, на котором сумасшедший
делает мир приемлемым. Опыт ускользания от
незавершенных смыслов и значений дословности помогает одинокому
убить время. И занять себя обозрением.
Европейская теория опыта строилась как теория
наркотического соблазна. Конечный опыт Ясперса — это кодовое
название для наркотиков Хаксли. Торговля наркотиками —
это превращенная форма торговли конечным опытом
европейской метафизики в мире всеразличия и децентриро-
вания. Превращение идет двояким образом. Сначала от
Канта — к Круппу. Затем от Ясперса — к наркотикам.
Русская теория опыта строилась как* самоистязание
новым миром. Чем больше шрамов на теле желания, тем
больше опыта. И ты становишься бывалым. Чаадаев
пережил свое сумасшествие. А это глупо. И тоскливо. Как будто
тебе пришлось пережить своего единственного ребенка. Он
1 Там же, с.35.
28
пережил и обозрел пережитое как пережиток. Чаадаеву не
хватило зауми, чтобы приблизиться к последней
подлинности. К быту. Чаадаев так и не создал быт. Не стал оседлым.
Он умер, как кочевник. Чаадаев сломался на одной простой
вещи. На слове. Слово не послушно ему. Вот пример
красноречия Чаадаева. Из письма Е. Пановой: «Однако я надеюсь,
что облака, омрачающие сейчас ваше небо, превратятся в
благодатную росу и она оплодотворит заброшенный в ваше
сердце зародыш»1. «Оплодотворить зародыш» — мечта
больного тела. В этом извращенном соблазне проступают следы
отвращения Чаадаева к девственности. В самой его. фразе
есть претензия на литературу. На красоту слога, которого в
ней нет. В ней симуляция красоты. Фальшь и лицемерие.
Неискренность. В ней слышен голос вожделеющего тела.
Писк нарождающегося Розанова. Вот пример из
«Апологии». «Едва появится на свет Божий новая идея, тотчас все...
набрасываются на нее, овладевают ею, выворачивают ее
наизнанку, искажают ее»2, и она уносится размельченная в
пыль. Желаемое групповое изнасилование идеи
противопоставляется нежелаемой девственности русского ума.
В одном из писем брату Чаадаев пишет: «Слов ни на что
не нахожу и с досадою бросаю перо. Суди об этом как
хочешь»3. В другом письме брату он говорит: «Ты сам
бессловесное животное и меня сделал бессловесным»4.
Вместо слов у него, как у актера, — смех, слезы, жест.
Аффектация.
«Не мешайте мне». Написал как-то Чаадаев Пушкину.
Не останавливайте меня в моем движении вперед. Я ум. А
ты, Пушкин, слово. Ум связан со словом в том смысле, что из
какого-то ограниченного количества слов можно построить
колею, по которой бы ум двигался. Чаадаев — паровоз.
Пушкин — железная дорога. И Чаадаев хотел промчаться по этой
дороге. Вперед к разуму. И все было бы хорошо. Да Пушкин
сопротивлялся. Слов жалел. Ну Чаадаев и пошел по
бездорожью. С умом. А философу этого делать никак нельзя.
1 Там же, с. 17.
2 Там же, с. 150.
3Тамже,с.318.
4Тамже,с.ЗП.
29
Философия требует огромных запасов слова. Эти запасы
были в Греции. Но их не было в России. «В чужих краях,
особенно на юге, где лица так одушевлены и выразительны,
я, — говорил Чаадаев, — столько раз сравнивал лица моих
земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой
немотой наших выражений»1. Оттого и немота, что слов не
хватает. Потому Чаадаев и обозреватель, а не мыслитель.
Как Шеллинг. В России вечный дефицит слов. Мы немы.
Потому что мы непосредственны. А философствование,
повторяю, требует огромных словесных затрат. У нас же слов не
хватает даже для простых чувств. Чтобы их можно было как-
то оформить. Выразить. Нам не до мыслей. Быть бы живу.
Русская философия не потому моральна, что в ней
избыток каких-то душевных чувств. А потому, что у нее внешней
стороны нет. Мы обращены к дословному. А слово не
является внешней стороной дословного. И поэтому когда ты
смотришь, то смотришь не со стороны, а изнутри
неоформленного чувства. Для того, чтобы появилась сторона, нужны
слова. Вот ты их набросал, отвернулся от дословного и
смотришь — мысль появилась. Чувство прояснилось. И ты уже
внешний наблюдатель. Иначе какой же ты мыслитель, если
ты не наблюдатель. Если мысли создаются не словами, а
чувствами.
Чаадаев наблюдатель. Но куда он ни посмотрит — везде
чувства. И ни одной мысли. Фршософические письма — это
обзор чувств наблюдателя, потерявшего сторону, с которой
он наблюдает. Чаадаев успел рассказать все, чему научили
его профессора Московского университета. Вот ты
пишешь, — говорит Чаадаев, — «и чувствуешь, что несешь
вздор». Но ведь кругом визжат от восторга. И тебе ничего не
остается, как быть умным. Даже перед Шеллингом ему
приходится делать вид, что он не просто так. А с системой. А в
системе — два десятка страниц. А немцу этого не понять.
Для него это — не система. Чаадаев задыхается от
бессловесности, но философствует.
То есть Чаадаев превратил состояние святости в
возможность русского философствования. Святой — это философ.
Он философствует без слов. Чаадаев — святой русской фи-
1 Там же, с.23.
30
лософии. Жертва столкновения дословности и слова. И этой
жертвой мы все повязаны.
Ну если нет слов, то на кон нужно жизнь ставить. Там,
где европейские метафизики использовали слова, русские
философы выставляли свою жизнь. И первым это сделал
Чаадаев. Чаадаев — юродивый русской философии. Его
истины обеспечены не словом. Его ум вяжет связи бытовой
повседневности. И в этой связанности ума с бытом Чаадаев
юродивый.
«Я — одинокий ум». Так Чаадаев обозревает самого себя.
А вокруг множественность. И эту множественность тоже
обозреть надо. Одному. Без помощников. А это тяжело.
Тяжесть обозрения связана с жизнью. Не со словом, а с ритмом
быта. Много ли ты увидишь, повязанный однообразным
бытом? Немного. Для многого внешняя сторона нужна.
Пригорок. Это чтобы по уму смотреть. А его нет. То есть нет
пригорка. Высокого места. И поэтому взгляд обозрения
получается с изгибом. С высматриванием того, что за умом. А
это состояние ума Иванушки-дурачка. То есть Чаадаев, как
Иванушка-дурачок, сообщен с тем, что за умом. А за умом у
него Европа как метанаррация. Она для него, как Конек-
Горбунок для Иванушки. Вот сядет Чаадаев на эту
метанаррацию и мчится на ней по России. Философствует.
Объехать ее всю норовит. А она большая. Конек-Горбунок не
выдерживает. Издыхает. Разве можно на Европе Россию
объехать? Метанаррации, как лошадей, менять надо. А
Чаадаев не меняет. Потому что если он их будет менять, то
вещая сила его оставит. Ему нужно будет различать и
думать. И он станет не однообразным и методичным, а
разнообразным и эклектичным. Невзлюбил Чаадаев
географическую громадность России. Проклял он ее. За то, что
погубила она его Сивку-бурку, вещую каурку.
Стратегию Иванушки-дурачка как способ русского
философствования открыл и ввел в обиход тоже Чаадаев. У
Иванушки нет своего ума. Но он знает, то есть ведает. У
Чаадаева — европейский ум. И он, как Иванушка, тоже знает, то
есть ведает. «...Мыслили мы или не мыслили, кто-то уже
мыслил за нас еще до нашего появления на свет»1. Кто дурак?
1 Там же, с.55.
31
Тот, за кого думают. То есть все мы дураки. С умом нельзя
сообщаться с тем, что за умом. Святой, юродивый и
Иванушка, символически перемигиваясь между собой, создают
пространство для четвертого состояния. Для отщепенца.
Чаадаев — отщепенец русской философии. Он ни с кем. Он сам
по себе. Его стратегия — ускользать от определений: от
завершения смысла. Четыре дискурса и их смешение
составляют особый стиль философствования Чаадаева. И
одновременно стиль русской философии.
Россия как предмет русской философии
Россия словно Герасим у Тургенева. Нема. Символы
нашей немоты и громадности — царь-колокол. И царь-пушка.
Колокол не звонил. Пушка не стреляла. А Чаадаев — это
писатель, который ничего не написал.
Все началось с письма Пановой Чаадаеву. Суть письма
такова. Милый друг, что же это вы делаете? Вы умственно
соблазнили девушку. Она пошла за вами. А вы ее бросили.
Нехорошо, сударь. Девушка страдает. У нее здоровье
пошатнулось. А ведь она так вам верила. Да и сейчас верит, что вы
всегда правы и «не можете заблуждаться». Все могут, а вы
нет1.
А вот ответ Чаадаева. Любезная, вы сами меня очаровали
при нашем знакомстве. Вы сами виноваты. «Все вокруг вас
призывало к молчанию»2. А я нарушил его. Я протянул вам
руку помощи. И заговорил с вами. А то, что вы
соблазнились, так это ваши проблемы. Я-то здесь причем. Все, «не
будем более на этом останавливаться и перейдем прямо к
существенной части письма»3.
И перешел. Как у Хармса. Панова говорит, что ей больно.
Что у нее сердце болит. А он ей в ответ — а зачем вам сердце.
Вам желчного пузыря хватит. Давайте о мировых проблемах
поговорим.
Греки о Греции не говорили. Греция не предмет
метафизической философии. А Чаадаев говорит только о России. И
1 Там же, с.555.
2 Там же, с. 15.
3 Там же.
32
этими разговорами он увлек всех русских философов.
Россия — предмет русской философии.
Россия так велика, а слов у нас так мало, что куда бы мы
не посмотрели, мы сможем увидеть только Россию. Изнутри.
Неметафизическим взглядом. А это опасно. На эту опасность
указал Чаадаев. Наблюдатель не может овладеть
наблюдаемым. Он смотрит, а его взгляд становится способом
существования наблюдаемого. Чаадаев — это
дифференциальное зрение России. Нечто встроенное в ее немое тело.
Панова ему о тревогах и сомнениях. Он ей о России.
Мол, «мир искони делился на две части — Восток и Запад».
А где Россия — до сих пор не ясно. В такой, мол,
неопределенной стране живем. Что поделаешь. От нее у нас все
заболевания.
Панова о чувствах. Он ей про ход истории. Сам Чаадаев
при этом в маске Европы. Он ее голос. Свет. Панова для
него — означающее России. Тьма. Философические письма
Чаадаева — это закодированное поучение России Европой.
Россия — баба. Распутная. Европа — классная дама.
Наставница. Эту интуицию возобновит потом Бердяев.
Тон и ритм философических писем определены
посылкой об изначальной сообщенное™ Чаадаева с мировым
умом. Чаадаев — представляет истину. Он знает тайну. Его
голос — как голос с небес.
Греки говорили и своими разговорами вытаскивали из
себя весь мир. Его суть. Мы говорим и ничего, кроме России,
вытащить из себя не можем.
Россия как пространство расширений
Чаадаев — русский философ. Во-первых, он говорит
только о России. Во-вторых, он не любит в человеке Я.
В-третьих, обожает смирение. Перед одним — единым.
В Европе создано пространство преобразований
человека. Ты в него тело, а оно тебе душу. Входишь животным —
выходишь человеком. Европейцем. Это Чаадаев понял, пока
жил в Европе.
В России пространство преобразует по-другому. Вот ты
выедешь из Расторгуева одним, русским, а в Жодино
приедешь другим. Белорусом.. Протяженны пространства
России.
3 Ф. Гиренок
33
Чаадаеву нравится Европа. Она производит серийные Я.
То есть она штампует личности. У нас что ни лицо, то
самородок. А там у них все личности одинаковы. Русские в
пространстве преобразований убивают земное Я и создают
небо. У нас свободное онемение в трансцендентном. У них
языковая спекуляция. У них есть Бог, и они разговорчивы. А
мы немы. Мы русские. А у русского Бог есть, а лица нет.
Индивидуального. У нас лицо, как штаны. Общее. Одно на всех.
У нас народ — личность. А если народ — личность, то у него
свой замысел. Свое место в истории. Достоинства и
недостатки. И ты должен подчиниться замыслу. Лицу народа.
Смириться с судьбой. С расширением расширенного.
Народ — личность. А мы, русские, авторы. То есть мы
расширяем территорию обитания народа. Чаадаеву не
нравилась наша пространственная немота. Ее разнообразие.
Ему нравится Европа как пространство преобразований. И
не нравится Россия как пространство расширений. В Европе
заложили душу, а получили цивилизацию. Шли к истине, а
пришли к богатству. В POcchh вкладывают душу, а получают
пространствоЛЯдут к Богу Приходят к морю. На
немотствующий зов Земли.
История как фантазм Чаадаева
Существуют народы исторические и неисторические.
Этот вывод следует из немецкой философии. Он
обеспечивается словами, обозначающими предметы, которые в
России неизвестны. Вот, например, свобода. Или
спекулятивное мышление. Это предметы исторического народа. У
нас их нет. Слова есть, а предметов нет. То есть нет
соответствующего им опыта. С переводом на русский язык
западных терминов начинается беспочвенность русского
мышления. История интеллигенции. Картография
сумасшествия Чаадаева является способом обнаружения фантазмов
беспочвенного мышления. Например, Чаадаев говорит, что
«История исчерпана. Теперь осталось только размышлять».
Это фантазм Чаадаева. Означающее, которое скрывает
пустоту. Свое ничто. Чаадаев оестествляет фантазмы. Его
история, как мама. Она воспитывает, организует и мыслит.
Фантазмированная история знает, куда идти. Вот есть
история и есть надежда на промысел Божий. На Благодать. И все
34
связано провидением. Осмыслено. А если нет истории, то
нет и промысла. Россия вне истории. То есть вне опеки
опекающего. Провидение оставило ее. Россия — Золушка.
Чаадаев — отщепенец.
Пустота слова объектируется Чаадаевым и предстает как
пустота означаемого. Например, как историческая
ничтожность России. Но это не означает, что у России нет истории,
Россия здесь ни при чем. Это означает, что совместились две
половины, две пустыни и составили символ. Одна половина —
пустыня слова. Другая — пустыня Чаадаева. «Историческая
ничтожность» России кодирует факт их совмещения.
История выступает как фантазм беспочвенного мышления
Чаадаева.
Из письма A.C. Пушкина Чаадаеву: «Что же касается
нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с
вами согласиться. Войны Олега и Святослава... татарские
нашествия... оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в
Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как
неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый
сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная
история»1. Такова реакция A.C. Пушкина на фантазмы
Чаадаева. Но это реакция с другой картографией ума.
Пушкин — певец империи. То есть человек, для которого
Россия развернута пространством. Как географическая
громадность. Для Чаадаева история — это история сознания,
содержание которого уже исчерпано. «История
закончилась. Теперь осталось только размышлять»2. Чаадаев
перекодировал историю. Вторичное содержание фантазма
делит народы по-иному. Они делятся на размышляющие и
неразмышляющие. Размышлять мешает прошлое. У Европы
оно есть. Поэтому у них трудности. У нас прошлого нет.
Поэтому мы относимся к размышляющим народам. Этот
фантазм Чаадаева взят из «Апологии сумасшедшего».
Возможно, история была в Европе. Была и прошла в
географической ничтожности. От нее остались следы.
Культурный мусор. И Чаадаев роется в европейском мусоре.
Помимо памяти в ней, в Европе, осталось благосостояние.
1 Русская идея. М., 1992, с.51.
2Тамже,с.92.
з*
35
Осталась цивилизация, то есть связные состояния эффектов
поверхности. В Европе нет теперь ничего дикого. Потому
что в ней все выдавлено вовне. На поверхность. Туда, куда
сознание смотрит и где оно вяжет свои связи. А Россия — с
душой. С распухшим содержанием изнанки. У нас есть
глубина. А то, что в глубине, сознание не видит. А в глубине —
хаос. То есть глубина и есть хаос, а не порядок. Чаадаев
предложил хаос оформить в мир явлений. Для этого нужно было
отказаться от стыда. Без стыда мы легко могли составить
себе особую историю. Конечно, православие будет мешать.
Значит, нужно будет стать католиками. Согласно
картографии Чаадаева, это превращение — первое возможное
историческое событие в России. Католиками мы не стали.
Исторического события не произошло. А фантазмы
остались. И осталась Россия в состоянии, которое Чаадаев
назвал неисторическим. Конечно, христианство — дрожжи.
Они бродят. Заставляют развиваться. Через них
воздействует космос на человека. Но не на нас. На нас ничто не
действует. Вот не было этих дрожжей в Греции, и она сейчас
просто земля. ^Упадок. Не забродили дрожжи и в России.
Россия, как и Китай, в застое. Католическая Европа идет к
предустановленной цели. Идет и выворачивает изнанку.
Показывает, что там у нее внутри. За душой. Вот этим жестом
выворачивания внутреннего и образуется пространство
истории. Чаадаев маскирует этот жест и тем самым
мистифицирует смысл истории в России. А также смысл
образования европейской цивилизации. Чаадаев
настойчиво повторяет мысль о том, что в Европе история
совершилась. Вот время идет, а история ни с места. Почему?
Потому что выдавливать изнутри во вне нечего. То есть вот
пленка цивилизации у них есть, а за пленкой ничего нет. Ну
если история осуществилась, то Европа живет после
истории. А поскольку в России ее вообще не было, постольку она
пребывает то ли выжидании истории, то ли отсиживается в
пространстве метаистории. Ожидания эффекта истории в
пространстве метаистории я называю пространством пата.
Россия — не Европа. Она другая. «Что у нас общего с
Европой? Паровая машина, и только»1.
1 Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989, с.388.
36
Россия стеснительная. Она не выворачивает карманы.
Не предъявляет наружу то, что у нее внутри. Прячет свою
изнанку. Ей душу жалко. И потому у нее нет жеста,
образующего пространство самосознания.
На Западе — католики. Они рискнули обнажиться. У
них самосознание. В России — православие. А оно
целомудренно. Зачем нам обнажаться? Для чего показывать то,
что у тебя за душой? Мол, и так хорошо. Мы и не
показываем. Потому-то у нас все не так, как у людей. У людей —
Рим. У нас — Византия. И поэтому у нас нет самосознания
быта. И нет истории как быта. Нет ума как бытовой
повседневности. То есть нет цивилизации. А есть дома из бревен
и соломы. Пустыня. Обозрением пустыни рождено
недоумение Чаадаева. Почему Россия тысячу лет принадлежит к
христианскому миру, а мы в нем по-прежнему как дикари?
Люди без культуры. Потому что у нас хаос. И душа. А в
Европе порядок. И цивилизация. И вот мы, вместо того чтобы
вывернуть свою душу, перевести ее из внутреннего плана
во внешний — воруем. Потихоньку перетаскиваем из
Европы в Россию идеи, вещи, слова. А Чаадаеву стыдно. И он
решил Россию пристыдить, Мол, нехорошо воровать.
Самим думать надо. Ну а как нам думать самим, если у них
христианство»— мотор. А у нас — лампада. Нельзя лее с
лампадой в область чистого мышления войти. Ослепит.
Католики утратили святость и завоевали социальный мир.
И мир стал лучше. Православные же молились, смирялись
и потели. Энергию внутренних содержаний копили
святостью, аскезой и мистицизмом. Но эти накопления
бесплотны. В них эффекта нет.
Состояние постистории Европы фантазмировано
Чаадаевым в «Царстве Божием». Метаистория России ускользает
в пространстве пата, в котором «все исчезает, все течет, не
оставляя следов ни во вне, ни в нас»1. Чаадаев назвал это
пространство «плоским застоем». В нем нет прошлого и
будущего. Есть настоящее. Бесконечная длительность одного
и того же. Постоянное возобновление одного и того же
накладывает запрет на созревание. Нам нельзя взрослеть.
Нельзя извлекать опыт. Если извлечем и повзрослеем, то по-
Чамже^О.
37
явится направление движения. Начнется связная история.
Появится прошлое и будущее.
Россия — это движение без сдвига. Становление без того,
чтобы что-то стало. В России — нелюбимая Чаадаевым
множественность глубокого. В Европе единство сознания и
поверхности. У нас разброд в чувствах и мыслях. У них —
последовательность. Преемственность. Целостность. Мы —
грустное недоразумение патовых пустот метаистории.
«Царство Божие» в картографии Чаадаева
Набор допущений у Чаадаева прост1. Вот есть два мира.
Идеальный. Он ни от кого не зависит. И эмпирический.
Зависимый. Эмпирический подражает идеальному. Вот,
например, благо. Оно находится в идеальном мире. В
невыдуманном. А мы живем в реальном мире. Мы думаем и
выдумываем. И хорошо, если выдуманное подражает идее.
И плохо, если оно вводит нас в заблуждение. Работу ума
надо все время сопоставлять с идеей. Кроме того, мы люди. У
нас есть наклонности. Они влияют на наши суждения и
отклоняют нас от должного.
Чтобы исправить отклонение, нам нужно помнить о том,
что мы видим в идеальном мире. Вот мы помним идеи, и
существуют мотивы для нашего действия. Есть цель. И есть
прогресс. И мы моральны.
Кто помнит, тот вернется к прекрасному первоначалу. А
кто забыл, тот заблудился.
Итак, весь мир делится на тех, кто помнит идею, и на тех,
кто ее забыл. Кто же помнит? Европа. Кто забыл? Россия.
Каковы же отношения между Европой и Россией. Европа —
копия Царства Божьего. Россия — симулякр. Значит,
отношения между ними описываются как отношения симулякра к
копии. А это вражда и соперничество. Обладание без
основания. Между копией и оригиналом другие отношения.
«...Утраченное и столь прекрасное существование может;быть
нами вновь обретено... что всецело зависит от нас и не требует
выхода из мира, который нас окружает». Симулякр не станет
копией. Копия станет оригиналом. Мы «походим на Запад»2.
1 Там же, с.54-57.
2 Там же, с.56.
38
Внешне, Без подобия. Все факты истории пришли к нам
извне. Все идеи заимствованы. И в этом «нет ничего обидного».
«...Невзирая на все незаконченное, порочное и преступное в
европейском обществе, как оно сейчас сложилось, все же
Царство Божие в известном смысле в нем действительно
осуществлено, потому что общество это содержит в себе
начало бесконечного прогресса и обладает, в зародыше и в
элементах, всем необходимым для его окончательного
водворения в будущем на земле»1.
Вот эта возможность превращения копии в оригинал и
отличает, на взгляд Чаадаева, Европу от России. Правда,
механизм установления копии Чаадаев не показывает. Не ясно,
то ли Европа стала Царством Божиим и поэтому в ней есть
начало бесконечного прогресса, то ли в ней есть это начало и
поэтому она Царство Божие. Европа, по словам Чаадаева,
преступна, но в ней есть абсолютная идея. Возможно,
Россия пуста, но почему бы и в ней не быть абсолютному образу.
Итак, Царство Божие — оригинал. Европа его копия.
Россия — симулякр. Она сильна и агрессивна. В России
ничего не помнят. Значит, не помнят и об оригинале. Об идее.
«Мы как бы чужие для самих себя»2, то есть симулятивна
сама наша природа. Идеи нами не рождаются какими-то
внутренними усилиями, «а появляются у нас откуда-то
извне»3. Заимствуются на незаконные основаниях. У нас нет
ничего своего. У нас новое не вырастает из прошлого. А
появляется откуда-то сбоку. Со стороны. Мы не находимся на
уровне вещей и слов, нас окружающих.
Самого оригинала Чаадаев не видел. Когда Бог создавал
первого человека, Он говорил с ним. И тот понимал Его. А
потом перестал понимать. Состарился. Стал плохо слышать.
А копий создано много. И вот одну из копий Чаадаев принял
за оригинал. Вообще-то говоря, копии только и существуют.
Существует ли оригинал, неизвестно. Сами копии создают
миф об оригинале. Миф, дающий законное право провести
разделительную линию между теми, кто причастен к
оригиналу, и теми, кто не причастен. Этот миф дает основание для
1Тамже,с.32.
2 Там же.
3Тамже,с.18.
39
власти всеобщего. Для террора метанарраций,
контролирующих значения слов. Чаадаев пользуется метанаррациями.
Они используют его. И поэтому он кладезь предрассудков
XIX века.
Если Европа — Царство Божие, то Чаадаев в ней как
Иванушка-дурачок. Купил он копию. Подделку. Вернулся
домой. А копия у него оказалась оригиналом. И вот он
носится с этой копией, как дурак с писаной торбой. Не знает,
куда ее деть. Нахваливает. «...Мы все еще открываем истины,
ставшие избитыми в других странах...»1. У нас, в России,
нельзя быть умным. Все, что ты ни откроешь, уже открыто.
И ты всегда дурак. Но ты дурак не потому, что ты дурак. А
потому, что Россия дура. Ты вот поехал в Европу, и там тебя
уже как умного воспринимают. Глупость — свойство
пространственное. Территориальное. Ее нельзя изжить. Она
прописана в России.
«Царство Божие» — спекулятивное понятие историософии
Чаадаева. Оно декодируется Чаадаевым как пространство
бесконечного прргресса. Здесь ты всегда умный. Заранее. До
ума. Россия — на окраине пространства. В ней умные тоже
дураки. Например, Чаадаев. Он умный. В письмах к
Шеллингу. А в России умным может быть только Иванушка, за
которым никто не стоит. А если и стоит, то вещая вещь. За
европейцем же стоит ход истории. В Европе давно начался
бесконечный прогресс, и здесь ничего не надо делать заново.
Поэтому-то для Чаадаева Европа как Царство Божие.
В Царстве Божием ничто не начинается с нуля. Во всем
есть традиция. И поэтому Европа как Царство Божие есть
повседневность. Чистая позитивность. Наезженные пути
быта. Колея. Здесь ум держится привычкой. Формой быта.
Царство Божие — склад готовых смыслов и значений. То
есть европейская повседневность есть собрание
завершенных смыслов, готовых к употреблению. Здесь нет ничего
недоделанного. Недодуманного. Здесь душа под
присмотром. Ее движение размеренное. Ты оставил душу, потерял ее,
а она и без тебя по колее равномерно будет двигаться. В
Царстве Божием трудно отличить человека с душой от человека
'Там же, с. 18.
40
без души. Но Чаадаева не занимает проблема различения.
Ему достаточно простого сходства. Внешнего подобия.
В России нет повседневности как чистой позитивности,
на которую работает машина бесконечного прогресса. Чтобы
ты ни делал, ты должен начинать с нуля. Всякий раз заново.
Россия — это поле незавершенного смысла, внутри которого
нужно доделывать, а не делать. Здесь ты каждый раз должен
решать вопрос о том, как тебе жить. Что тебе делать. Нам
«...все еще приходится разыскивать чем бы наполнить не
жизнь даже, а лишь текущий день»1.
Нулевая разрешимость России приостанавливает бег
бесконечного прогресса. Поэтому в России возможен экстаз.
И невозможна благоустроенность жизни. Россия — это
непрерывное творчество. Уклонение от встреч с Царством
Божиим. Уловка, позволяющая избежать проникновения в
это Царство.
Симулятивное рассуждение Чаадаева основано на
перестановке знаков. Например, начинать с нуля — это дело
личности. Протестанта. Чаадаевская Россия заполнена
протестантами. Царство Божие исключает возможность
существования личности. Чаадаевская Европа заселена
православными. В России полно личностей и нет личностного
ума. В Европснет личностей, но есть личностный ум. Это
уже двойная симулятивная перестановка знаков.
Отказ от Я — личностный акт в России, сопровождаемый
смирением и подчинением. Чаадаев приписывает этот акт
европейцу.
Завершенность смыслов накладывает запрет на отсро-
ченность повседневного действия. Царство Божие — это
совершенность уже совершенного. В Европе как царстве Бо-
жием ты связан свершившимся. Ты оседлый. Царство
Божие — царство оседлых. Европейцев. Россия — это
пространство номады. Кочевых движений. Мы — кочевники.
Непрерывная возобновляемость незавершенных смыслов
разрушает социальные ячейки и выталкивает людей в
ситуацию разорванных связей. «Оглянитесь кругом себя. Разве
что-нибудь стоит прочно на месте? Все — словно на
перепутье. Ни у кого нет определенного круга действий, нет ни на
'Там же, с. 18.
41
что добрых навыков, ни для чего нет твердых правил, нет
даже домашнего очага, ничего такого, что бы привязывало, что
бы пробуждало ваши симпатии, вашу любовь, ничего
устойчивого, ничего постоянного; все исчезает, все течет, не
оставляя следов ни вовне, ни в вас»1.
Россия описывается Чаадаевым в терминах хаоса.
Становления. Есть то, что существует и никогда не становится.
И есть то, что становится и никогда не существует. Чаадаев
воспроизводил эту платоновскую мысль, чтобы показать
несуществование России. Чаадаев не допускает мысли о том,
что хаос рождает порядок и делает мир живым. Без хаоса
мир как машина. То, что определено заранее. Рассуждения
Чаадаева о порядке в Царстве Божием — это рассказ о том,
как Европа умирала. Вот что-то в ней умерло. И поэтому в
ней есть порядок. Цивилизация. Европа как Царство Божие
есть царство мертвых. И это хорошо. Потому что в ней нет
хаоса. В России — хаос. В ней нет порядка. Поэтому-то она и
жива. В нас есть что-то живое. То есть за все нужно платить.
И за порядок. И .за жизнь. И Чаадаеву нужно было на что-то
решиться. Он щбрал порядок, а не жизнь. Поэтому
Чаадаев — святой.
Царство Божие всегда определено. И в нем что-то
нельзя. Россия не определена. Поэтому в ней все возможно. И
ничего нельзя. Даже у себя дома. Вернее, дом как бытовая
структура возможен в Царстве Божием. В России
невозможен даже дом. «В домах наших мы как будто в лагере; в
семьях мы имеем вид пришельцев; в городах мы похожи на
кочевников, хуже кочевников, пасущих стада в наших
степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели
мы — к своим городам»2. Вот есть дом, и ты что-то помнишь.
Нет дома, и ты живешь сегодняшним днем. У Чаадаева не
было дома. Бездомность — метка философии Чаадаева.
Кочевник — эффект движения по поверхности. Чаадаев
ставит на этом движении негативную метку. Это плохо.
Р. Барт ставит позитивную метку. Это хорошо. Барт —
критик западной цивилизации. Теннис — наблюдатель. Он
наблюдает и видит: запад — это побережье. Движение. Город.
1 Там же, с. 19.
2 Там же.
42
Торговля. Восток — это материк. Покой. Деревня. Земля.
Запад — кочевой. Восток — оседлый. Океан манит и дурманит.
Движение идет из материка к побережью. От оседлого к
кочевому. С Востока — на Запад. От деревни — к городу. От
связанности — к свободе.
На Западе все открытия. Мы находимся на Востоке.
Если побережье — поверхность, то материк — глубина.
Движение идет из глубины к поверхности. И это Россия. То
есть мы кочевники. Но не на поверхности. А в движении из
глубины — к поверхности. Нами движет не торговля. А
внутренние состояния. Нас гонит душа изнанки. Мы пошли к
Богу. По вертикали. А получили горизонталь.
Географическую громадность. Причину «нашего умственного бессилия».
Движение из глубины — к поверхности образует
бесконечный тупик движения к тому, что сверх всего. «Мы живем на
востоке Европы — это верно, и тем не менее мы никогда не
принадлежали к Востоку»1. Но мы никогда не
принадлежали и Западу. Мы — Россия. Наши номады рождаются в
глубине внутренних состояний и устремляются к
поверхности. Достигнуть ее — значит вывернуться наизнанку. Стать
европейской цивилизацией. Мы не вывернулись. И поэтому
в России каждый попадает в ситуацию
незаконнорожденности. Мы рождены не законами.
Шеллинг. Пушкин и Чаадаев
Шеллинг — немец. Он гений. Он сказал, не действуй, а
будь. Шеллингу мешал Гегель. Тоже гений. И тоже немец.
Чаадаев Гегеля не любил. Он любил Шеллинга. Потому что
Гегель годится для пролетариев и революционеров. А
Шеллинг — для аристократов. Чаадаев не шеллингианец. Он
аристократ.
Из письма Чаадаева к Шеллингу: «...сказать, что я
поднялся по вашим стопам на те высоты, куда в таком
прекрасном порыве вознес вас ваш гений, было бы, может
быть, самонадеянностью с моей стороны»2. Значит — не
поднялся. Хотя оговорка «может быть» симптоматична. Может
быть, и поднялся. Но этого никто не знает. А если никто не
•Тамж^сЛЭ.
2 Там же, С.358.
43
знает, то пусть думают, что не поднялся. «Я — человек
неизвестный в европейском мире»1. Сожалел Чаадаев.
И далее он устанавливает порядок. Кто кого ведет. Ну,
конечно, Шеллинг — Чаадаева. Ведь Шеллинг создан для
того, чтобы руководить всеми разумами, всеми деятелями
толпы. Даже Чаадаевым. «Изучение ваших произведений
открыло мне новый мир». Мир тождества философии и
религии. Чаадаев затерян в умственных пустынях своей
страны. Ему нужна помощь. Голос Шеллинга сам по себе не
достигнет широт России. Шеллингу поможет Чаадаев. Ведь
у него, у Чаадаева, такая страсть к прогрессу человеческого
разума и он так нуждается в просвещении своей страны, что
ждать далее нет никаких сил. Придите и просветите.
Россия заблудилась. Чаадаев это чудом понял. И
задумал сделать благо России. И Пушкина к этому призывал.
«Видите, что могли бы вы сделать для свой славы.
Обратитесь с воплем к небу, — и оно ответит вам»2. Пушкин не
обратился. Небо не ответило.
Пушкин — русский. Арап. И тоже гений. Но глупый. Он
не понимает свойвек и свое призвание. А Чаадаев понимает.
Он посвящен в тайну времени. А Пушкин не посвящен. Он
раб привычки. Рутины толпы. «А теперь я вас спрошу, где
наши мудрецы, где наши мыслители? Кто за нас когда-либо
думал? Кто за нас думает теперь?»3. Шеллинг думает за
Чаадаева. Чаадаев думает за Пушкина. Пушкин как араб.
Чаадаев как Магомет. Пророк. «Говорю вам, как некогда
Магомет говорил своим арабам: о если о вы знали!» Не знали.
Думать и думать за кого-либо — это два разных события.
«Думать за» — значит создавать ситуацию всеобщего
сумасшествия. Оправдывать существование пространства
спекуляций, в котором показывает свою власть всеобщее.
Контроль над значениями слов обеспечивается репрессиями
универсалий культуры.
Чаадаев горд. И боязлив. Он не стал революционером.
Декабристом. Чаадаев осудил Якушкина. Но посылки
мышления вели его к революции. К революционерам. Ведь массы
1 Там же, С.358.
2Тамже,с.250.
3 Там же, с.24.
44
не мыслят. Они не знают своего блага. За них нужно думать.
И вести их к благу. А массы не идут. Сопротивляются.
Поднимают бунт. Тем не менее «смутное сознание говорит мне,
что скоро придет человек, имеющий принести нам истину
времени»1. Этот человек будет не похож на Сен-Симона.
Этот человек пришел. Это был К. Маркс.
С Пушкиным можно обходиться запросто. На него
можно смотреть свысока. Из письма Чаадаева к Пушкину. «Вам
хочется потолковать... потолкуем»2.0 чем? О революции во
Франции. Был 1830 год. Конец мира. Для Чаадаева. Ему
непонятна отстраненность Пушкина. Поэтов. Почему же
молчат поэты? Они ведь для того и существуют, чтобы
нутром почуять радикальные перемены в мире. Молчит
Жуковский. Немотствует Пушкин. Чаадаев в недоумении.
Может быть, нет перемен? Из письма Чаадаева к Пушкину.
«О как желал бы я иметь власть вызвать сразу все силы
вашего поэтического существа!.. Дабы и вы дали нам услышать
когда-нибудь одну из тех песен, какие требует век»3. Не
вызвал. Не смог. А век требует. «Век» — это фантазм Чаадаева.
Предрассудок. Ну бунтует народ. Так что с того. Это ведь
там. У них. Во Франции. Далеко. Это не Пугачев. Не трогает
это нас. Чаадаева это, напротив, задевало. Но он не поэт. Он
обозреватель. Пророк.
И Чаадаева понесло. Он,'"как павлин, распустил свои
фантазмы перед Пушкиным. Стал строить прогнозы.
«Говорят, ходят толки о всеобщей войне? Я утверждаю, что ничего
подобного не будет. Нет, мой друг, пути крови не суть пути
провидения. Как люди ни глупы, они не станут раздирать
друг друга, как звери: последний поток крови пролит, и
теперь, в тот час, когда я пишу вам, источник ее, слава Богу,
иссяк.
...Отныне будут лишь случайные войны, несколько
бессмысленных и смешных войн, чтобы отбить окончательно
охоту к разрушениям и убийствам»4.
1 Там же, С.354.
2 Там же, С.352.
3 Там же, С.353.
4 Там же, С.355.
45
Пушкин — не пророк. Пушкин поэт. Он написал стихо!-
творение «Клеветникам России». Чаадаев прочел его и
пришел в восторг. Это не о нем. Это о других. Пушкин —
национальный поэт. В его стихотворении «больше мыслей, чем
их было высказано и осуществлено за последние сто лет в
этой стране»1. Шеллинг думал за Чаадаева. Пушкин думает
сам.
Защита Чаадаева
Чаадаев — не Лужин. «Апология» — не защита. В ней нет
прыжка. В окно. В ночь. В «Апологии» нападают. По-мани-
хейски. Из света — в тьму. Высокомерно. Злобно. С
раздражением. Мол, я не дурак. Не сумасшедший. Я солнце.
А вы — толпа. Публика. У вас инстинкты. Мнение. Я
одинокий ум. «...Во всем своем могуществе и блеске человеческое
сознание всегда обнаруживалось только в одиноком уме»2.
Чаадаев ранжирует. Выявляет прогрессии. Например,
родина и истина соотносятся им как самоед и англичанин. Как
паровоз и бричка.г·«... Было бы прискорбно для нас, если бы
нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на
манер самоеда»3.
Алгличанин ближе к истине. Самоед дальше. Мы
самоеды. Мы ближе к родине. «Не чрез родину, а чрез истину
ведет путь на небо»4. Но небо — это так. Мистически. А
реально в. Европе любили истину, а из этой любви получился
благоустроенный быт. Они «искали истину — нашли
свободу и благоденствие»5. В России идут к небу. А побочного
продукта нет. Ищут правды, а богатства не получается.
Может быть, даже Чаадаев патриот в своем роде. Но умный.
Вот Запад. Он шел по «тропинкам местных идей». А пока
он шел, мы топтались на месте. Запад шел и вышел к автоба-
ну. Но у него есть прошлое. А оно, как чемодан. Его нести
надо. Западу тяжело. Он подавлен своими: традициями и
воспоминаниями. А нам легко. Мы хитрые. У нас нет исто-
1 Там же, С.356.
2 Там же.
3 Там же, с.ЗО.
\ Там же.
5 Там же.
46
рии. Мы ее на науку променяли. У нас нет прошлого. Мы его
проспали. Мы белый лист бумаги. Нас не мучают кошмары.
Без прошлого мы легко овладеем будущим.
Россия Чаадаева — это симулякр. Монстр. Патриотизм
Чаадаева является продуктом, симулятивного ума. Его
реакцией на другого.
Схема симуляции проста.
I. У России нет прошлого. Но это ведь хорошо. Извлечем
из этого выгоду. Прошлое враг мысли. Прошлое мешает и
запутывает. Ты захочешь что-нибудь сделать, а память тут как
тут. Вспомнишь обидное и сделаешь не то, что хотел, а то,
что не хотел. Не добро, а зло. Как у Шопенгауэра.
Обдуманно строить мир можно, если ты ушел из прошлого. Но ничто
из прошлого не влияет на выбор России. Мы необременены.
В силу этой необремененности прошлым мы не чета Западу.
Прошлое — это корни. Россия выросла без корней, она ризо-
ма. Нечто поверхностное.
IL Россия одинока. Ну и слава Богу, что мы отщепенцы.
Что мы исторический пробел. Европа стара. Мы — молоды.
Она умрет. И все достанется нам. Но наследство нужно еще
оценить. Отобрать ценное. И выкинуть хлам. Дело
одиноких — отбор ценного. Истины.
III. Россия хаотична. В ней множество идей. И нет
единой идеи. А это значит, мы не знаем, куда идти. Мы никуда и
не идем. Ну так для нас провидение готовит особый путь.
Мы пришли дать урок человечеству. Разрешить
человеческую загадку. Да и православие не так уж и плохо. Оно хранит
в чистоте христианство.
Чаадаев — русский философ. В его сумасшествии
символически записан опыт встречи дословного и самосознания.
России и Европы. Разговора огромной немой страны и
маленьких болтливых стран Запада. Герасима и Му-му.
1.3. A.C. Хомяков.
Опыт проговаривания дословного
Опыту сумасшествия Хомяков противопоставил опыт
проговаривания дословного. Проговорить дословное
означает дать чему-то возможность высказаться через тебя. В
самой этой возможности таится опасность пути, ведущего к
миру болтовни. Хомяков был на грани срыва в пустой мир
47
слов. Заглядывание в пустоту оставило следы на многих его
сочинениях. Например, «Семирамида» — это след болтовни
в опыте проговаривания дословного.
Отыскивая следы дословности в рефлексивно
организованных потоках сознания, Хомяков находит их в двух
формах. Как цитату. И в качестве автора. Цитата —
последняя дословность рефлексивного сознания. Она исключает
автора. Превращает его в множество цитат. Автор —
говорящая дословность. Прямая речь автора исключает
цитирование. Перед Хомяковым возникает проблема
выбора: либо отказаться от авторства. «Я не люблю авторитетов и
цитат...»1. Хомяков отказался от цитирования. В его текстах
нет цитат. Этим отказом он повторяет параноидальный опыт
Чаадаева. Но в понимании автора как говорящей
подлинности он радикально расходится с Чаадаевым. Чаадаев — сам
автор. Он один и есть та последняя цитата, которая цитирует
только себя. У Хомякова дословность проговаривается.
Никому не дано знать то, что ему удалось сказать. И в этом
смысле сказанное Хомяковым принадлежит тем, среди кого
оно сказалось. Собору. Собором были его родственники,
которых назовут славянофилами. По-семейному,
по-родственному, в гостиной за чаем высказывалась дословность
русской философии. Семейно-бытовой принцип
организации голоса дословности позволял Хомякову выговаривать
невыговоренное Киреевским. И наоборот. Всякий путь
ведет дальше своей цели.
Картография родословной
«Все настоящее имеет свои корни в старине»2. В почве. У
Хомякова была под ногами почва. Он знал своих предков за
200 лет. «Его род — благороднейшая линия русской истории,
не запятнанная ничем темным»3.
A.C. Хомяков родился в 1804 году. Отец — образованный
человек. Киренаик. Игрок. Ходил, в английский клуб.
Проиграл миллион рублей. Расстроился. Ушел из семьи. Стал
1 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.1, с.78.
2 Хомяков A.C. Сочинения в 2-х томах. М., 1994, т.1, с.34.
3 Флоренский П. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916, с.39.
48
жить один. Отец Хомякова — это Европа. След розни,
оставленный ею в картографии Хомяковых.
Его бабушка — Грибоедова. Мать — М.А. Киреевская.
Стоик. Перевела имение на себя. Выплатила долг. Спасла
семейство от разорения. Мать — немая Россия. След
дословности в родословной Хомякова. «Она болела, и сердилась, и
радовалась за Россию гораздо более, чем за себя и своих
близких». Счастлив тот, у кого была такая мать1.
В 1860 году Хомяков поехал в деревню. По делам. Между
делами лечил крестьян. От холеры. Заразился сам. И умер.
Его похоронили в серый осенний день в Даниловом
монастыре. За гробом шли пять или шесть родных и друзей, да
два товарища его молодости2.
Скалозуб
Алексей Хомяков самый некрасивый философ России.
«Низенький, черный человечек, с длинными косматыми
волосами, с цыганской физиономией»3. Ну, ладно, низкий.
Чуть больше полутора метров. Но ведь Хомяков еще и
сутулый. И при этом длинные волосы. Ну нельзя короткому
ходить с длинными волосами. И не почему-либо, а по
эстетическим соображениям. Эти соображения были у С.
Соловьева. Но их не было у Хомякова. Соловьевы, отец и
сын, не любили Хомякова. У Соловьевых — академическое
образование. Они интеллигенция. Хомяков — самоучка, в
нем чернота почвы. Соловьевы смотрели на Хомякова
свысока. Хомяков неряшлив. И болтлив. Он «с дарованиями
блестящими, самоучка, способный говорить без умолку с
утра до вечера и в споре не робевший ни перед какою
уверткой»4. Соловьевы — профессионалы. Хомяков —
самородок. У них точность цитирования и обязательность
сообщаемого. У него воображение дилетанта. И хорошая
память. Хомяков скоморох. Шутник. Он скалит зубы по
любому поводу. Вот война. Крымская кампания. Россия
терпит поражение. Все скорбят. У всех слезы на глазах. А он
1 Лясковский В. Братья Киреевские. СПб, 1899, с. 7.
2 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.2, с. 26.
3 Хомяков A.C. Сочинения в 2-х томах. М., 1994, т.1, с.З.
4 Там же.
4 Ф. Гирепок
49
радуется. Ему весело. «Англичане в Крыму И мы
дословны». Как же этому не радоваться. Или вот бал. А он, как
юродивый, появляется «в зало министра в армяке без
галстука, в красной рубашке с косым воротником и с
шапкой-мурмолкой под мышкой». И говорит «неумолчно и
большей частью по-французски»1. Живая непрерывная речь
может быть только у Бога. Хомяков был устремлен к Богу. К
непрерывности живой речи. И к народу К косым
воротникам бытовой повседневности.
Обыватель
У Хомякова, как у всех. У дворян. В детстве —
гувернеры. Затем Московский университет. Вернее, сдал экзамены
при университете. Получил кандидата математики. Знал
латынь. Изучал греческий и санскрит. Говорил по-французски.
Владел английским языком и немецким. Думал по-русски.
Вот подумал раз и сбежал из дома. На Балканы. Воевать
турка. В 17 лет. Его поймали. И наказали.
Затем служба в гвардии. Отставка. Поездка в любимую
всеми Европу. В Париж. В Италию. На Балканы. Вернулся.
Ничего не делал. А тут война. 1828 год. И опять с турками.
За веру Хомяков — в гусары. И на Дунай. Он любил
поединки. Вот один на один. В открытую. Не из засады. Не
анонимно... Чтобы не пальнуть прицельно и потом
спрятаться. Был в атаке. «Я два раза замахнулся, но не решился
рубить бегущих. Чему рад»2.
Хомяков — барин. Помещик. Любил охоту на зайцев. С
собаками. «Живу я теперь в деревне; — писал Хомяков, —
купаюсь, езжу с собаками, стреляю, обыгрываю В... на
бильярде и отпускаю бороду»3. Тяжело ему. Грустно. Чаадаев
бы — в клуб. Соловьев — стихи писать. А он зайцев гнать.
Хомяков ленив. К литературному труду особой охоты не
имел. А писать надо. И просит он какого-.нибудь
родственника или слугу оказать ему услугу. Запереть в комнате. И до
обеда не выпускать. Ну его и запирали. И он писал. Написал
«Ермака». Драму в 5-ти действиях.
1 Флоренский П. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916, с.67. „
2 Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков. Киев, 1902, т. 1, с. 50.
3 Там же, с.285.
50
От нечего делать изобрел машину. С сугубым давлением.
Так, чтобы она работала, а ее не было слышно. Схему
отправил в Лондон. На всемирную выставку. И сам туда поехал.
Приехал. Посмотрел. Машина ему не понравилась. Она
стучала, шумела и тарахтела. И все без толку. Окрестные
жители вздумали подавать на него жалобу. В парламент. Из-
за шума. Хомяков прекратил опыты. Выставка же ему
понравилась. И особенно дерево, которое англичане не
срубили, закрыли стеклянным колпаком. «Все, что строится,
должно иметь почтение к тому, что выросло»1. В этом
лондонском замечании Хомякова выражено существо его
философии. Сделано — в слове. Выросло — до слов.
Целомудрие
Сочинения Хомякова читал Н. Бердяев. Вот почитал он
их, почитал и подумал: а ведь у Хомякова, пожалуй, есть все.
Нет только эротики. У Пушкина она есть. Даже в детских
стихах. И это понятно. У Соловьева она есть. А у Хомякова
ее нет. Славянофилы вообще не сексопильны. И особенно
Хомяков.
Во-первых, он урод. Черный человечек. Во-вторых,
Хомяков скуп. А скупость и вечная женственность не
совместимы. В-третьих, у него был быт. А быт и эрос
исключают друг друга.
Хомяков вырос в православной семье с твердой верой и
простыми взглядами. 1815 год. Россия в славе. Хомяковы
приехали в Петербург. Впервые. И ужаснулись. Это был
город язычников. Один знакомый — масон. Другой — деист.
Третий — атеист. Хомяковы — православные. Они боялись,
что их будут принуждать к перемене веры. Хомяковы
оставили нелюбимый ими город.
В семье Хомяковых соблюдались правила приличия. Вот
подросли у них дети, и стали они посматривать вокруг себя.
А вокруг — девки. Дворовые. Мать им и говорит: вы, мол,
ребята головой не крутите, на девок не смотрите. Целомудрие
свое до свадьбы сохраните. Ну Хомяков и сохранил
мудрость целого. И брат его сохранил. А это трудно было
сделать. Для этого нужно было создать машину разрушения
1 Хомяков A.C. ПСС. М, 1900, т.1, с. 186.
4*
51
соблазна. Хомяков ее и создал. Он стал груб в обхождении с
дамами. Нелюбезен с ними. И болтлив. Вот возникнет в нем
какое-нибудь чувство к женщине, а он его, как червя,
раздавит. Заболтает.
Червь ядовитый скрывался в земле.
Черные думы таились во мгле,
Червь, изгибаясь, землю сквернил:
Грех ненасытный мне душу тягчил.
Весело взоры почили на нем.
К нему подымлю я очи с мольбой,
Грех обливаю горючей слезой,
В сердце взгляну я: там Божья печать
Грех мой покрыла Творца благодать1.
Так и остался Хомяков с раздавленным чувством эроса.
Православие заставляло его поднимать глаза к небу. Вот
подымет их Хомяков, а там, в небе, трансцендентные
сущности. Опора. И она помогает ему справиться с собой. В
Европе нет этой опоры. Ты поднимаешь глаза к небу, а там
никого. Пусто. Бог умер. И идешь ты, одинокий, с пустыми
глазницами. Слепой. С черными думами. А ведет тебя червь
фаллической культуры.
Осознание задавленности эротического чувства
декодируется в картографии Хомякова как мудрость
уцелевшего целого. «Досель безвестна мне любовь», —
написал как-то Хомяков. А ему было уже 26 лет. Полпути уже
было пройдено. И попалась ему на этом пути Зина Полтав-
цева. Полюбилась она ему. Он было к ней с объяснениями.
А она выше его ростом. Да и сам он по себе был ей
малосимпатичен. Зина ему отказала, хотя и осталась в девах.
Или Россет-Смирнова. Она Хомякову понравилась. Он ее
почти полюбил. Но она еврейка. Он ей о России, а у нее
скулы сводит.
Но ей чужда моя Россия
Отчизны дикая страна;
И ей милей страны другие
Другие лучше небеса.
1 Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков. Киев, 1902, т. 1,
с. 188-189.
52
Пою ей песнь родного края, —
Она не внемлет, не глядит.
При ней скажу я «Русь святая»
И сердце в ней не задрожит1.
Ну раз сердце у нее не дрожит, то и любить ее нечего.
Хомяков спокоен. Мудр. И равнодушен. Конечно, нужно
любить просто. Белинский прав. Но образованную женщину
нельзя любить просто. Поэтому-то Хомяков их не любил. И
вот ему уже 34 года. Он женится на Кате Языковой.
Во-первых, она «всякой тихости полна». Во-вторых, «она труды его
голубит». Катя Языкова первая и последняя женщина
Хомякова. Она родила ему девять детей. Семья — «она одно
только на земле и заслуживает имя счастье»2.
Мир как чаепитие родственников
Хомяков — славянофил. Это прозвище придумали
интеллигенты в прогрессивных петербургских салонах. Уже нет
салонов, нет интеллигенции, нет Хомякова, а его именование
стало знаком культуры. Знаковое славянофильство
существует при помощи обмена знаков. Как коммуникативная
стратегия посредственности.
Славянофилы родственники. Их связывали не знаки. А
род. Кровь. Хомяков был в свойстве с Киреевскими и
Аксаковыми. Валуев — его свояк. Н.ПХиляров-Платонов тоже
славянофил. У него полное согласие с Хомяковым. И все же
он не свой. Не родственник. Он чужой. Граница понимания
совпадала у славянофилов, как замечал Флоренский, с
границами родства.
Вот соберутся родственники вечером. Что делать? Чай
пить. С вареньем. Чаепитие располагало к разговору.
Бессмысленным говорением за чаем рождались смыслы
русской философии. Симпозион греков — вещь все-таки
публичная. На нем все вязалось и связывалось логосом. А
здесь, за чаем, родственники, близкие люди. Нечто единое. И
поэтому мир описывается ими соборно. С живознанием и
благодушием.
1 Там же.
2 Русский архив. 1884, кн. 2, с. 331.
53
«Им, привыкшим дышать воздухом родственной
уступчивости, родственной обходительности, той мягкой
беззаконности, без которой немыслимо и самое родство,
по-видимому, в голову не приходило, что какая-либо общественная
группа может быть построена иначе — если только не по
злонамеренности.
Проецируя свои кабинеты, свои гостиные и свои
столовые на весь мир, они хотели бы и весь мир видеть
устроенным по-родственному, как огромное чаепитие
дружных родственников, собравшихся вечерком поговорить о
каком-нибудь хорошем вопросе. Таким образом,
славянофильство можно рассматривать как жизнепонимание,
ориентированное действительно на великом факте —
родственности»1.
Хомяков как изгиб линии русского ума
«Европа — страна святых чудес». Эта фраза Хомякова
известна всем. Хомяков — русский. А какой же русский не
любит Европу. И Хомяков полюбил Европу. Да так, что его
дети до 10 лет не;могли говорить по-русски. Они говорили
по-французски. Хотя Франция Хомякову не нравилась. Ему
нравилась Англия. Он туда ездил, как на бал. В мурмолке и
сапогах. К немцам у него было амбивалентное чувство.
Запад — это латинство. Мы — Византия. Но вот Запад
поднялся против Запада. Протестанты — против католиков.
Враги латинян — наши друзья. В Москве появляется
немецкая слобода. Ну а раз в Москве немецкая слобода, то мы
тогда уходим в старообрядчество. Мы православные. Нам
дорога не только старая вера, но и старая бытовая культура.
Без старины нет замыкания. Нет мудрости целого. И ты
на прямой линии. То есть тебя несет из одной бесконечности
в другую. Неизвестно откуда. И неизвестно куда. В некуда.
Старина дает нам возможность быть самим собой. Иметь
свой голос. Старообрядчество искривило прямую линию.
Замкнуло ее религиозно. А также в тихой повседневности
быта. И мы получили самовозобновляемую культуру.
А вот среди идей, которые попадали к нам в голову,
порядка не было. То есть все эти идеи уносили нас по прямой.
1 Флоренский П. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916, с.43.
54
В бесконечность. Вот случится что-нибудь — ты к идеям. А
они тебя уводят на Запад. Или на Восток. Славянофильский
изгиб в прямой линии русского ума замкнул ее в
целомудренность текстов Хомякова. Чаадаев порожден книжной
культурой. Это прямая линия русского ума. Хомяков
рожден бытом. И религиозным опытом. Вот ты зацепился за
какую-нибудь идею, идешь по ней, а она тебя уводит не к
словам, опыт которых тебе неизвестен, а в прошлое, к
дословности быта и религиозного опыта. Дословность бытия
существует для того, чтобы что-то раскрывалось словами.
Но это не бытие, раскрываемое словами. Вот мы знаем, что
Михайловский — народник. Что он любит народ. Хомяков
тоже любил народ. Хомяков тоже любил народ. Но он не
народник. И в народ не ходил.
Победоносцев — русский Конфуций. Государственник.
Империалист. Хомяков радел за дело русского государства.
Ему близки притязания империи. Но он не империалист. Не
государственник. В России, пожалуй, не было русских
националистов. Хомяков и не мог быть русским националистом.
Он не патриот.
Хомяков смотрит на русский народ так же, как и
Чаадаев. Он видит в нем миссию. У русских есть религиозное
призвание. Русские — это отклик на вселенский призыв.
Самодержавие
«Русская самодержавная монархия есть
государственность безгосударственного народа».
Государство происходит от слова «государь». Государь
выступает у Хомякова как исток и истина мускулинного
порядка в мире. В нем дает о себе знать мужское начало
общежития. Государь — это отец. Он опекает, наставляет и
ведет. На нем держится устроение общества. Вот есть
государь-отец, и мы живем в отечестве. Под охраной государства.
Государь хранит и одновременно хоронит. Прячет и
защищает. Защитную пленку в России образует мускулинный ряд
символов. Это — «государь — государство — отечество —
нация — общество». А то, что под пленкой, составляет другой
символический порядок. Женский. Это — «род — родина —
народ — семья — община — быт». Оба символических ряда
сопряжены.
55
Народ не может сам по себе породить государство. Ему
достаточно родины. Но он нуждается в силе государства. В
поводыре. «Вести народ всеми способами к тому, чтобы он
всегда и неизменно стремился к бесконечному нравственному
совершенствованию; создавать для такого
совершенствования материальные и духовные условия, побеждать пороки
людей и укреплять, защищать добродетели, выяснять народу
высшие идеалы и всячески бороться из-за этих идеалов — вот
основная цель государства»1.
То есть вести народ. К идеалу. Это задание государству.
Государь не сторож. Он отец. Вот государство повело народ
и началась история. Народы сами по себе никуда не ходят.
Если бы они ходили, то им не нужно было бы государства.
Нравственное совершенствование не происходит под
давлением времени. Оно не зависит от истории как хронологии.
Добродетельность — нежный цветок. Она требует
определенных условий. Эти пороки не требуют особых условий.
Им достаточно того, что есть. Сами по себе народы не
совершенствуются. Они ленивы. Им нужно помочь. Создать
условия. И делает-это государство.
Государство знает пороки и знает добродетели. То есть
оно самим фактом своего существования делает их
различимыми. Безотцовщина ведет к смешению границ между
добром и злом. Безгосударственность — символ
нравственного безразличия. Вне отеческой опеки народ не видит
различия между идеалами. Поэтому-то цель государства —
не экономическая эффективность. А «нравственное
возрождение человека». Но если государство «возрождает
нравственность», то оно выступает в роли церкви. Самим
этим фактом оно, государство, обессмысливает
существование внеположного ему гражданского общества. Государство
и гражданское общество совпадают. Это одно и то же. Но
ему противостоит община как нечто женственное.
Организованность женского символического порядка проявляется
в неразделенности свободы и организма. В силовом поле
действия государства царит необходимость. Механизм.
Тогда же как род образует поле действия организма. Живого. В
1 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.1, с.143.
56
нем доминирует женское начало. Где организм живого
существа, там и свобода.
Русский — анархист. Мы не государственный народ.
Нам близки символы женского доминирования.
Изначально родина нам ближе, чем отечество. Община милей, чем
общество или государство. Народ — это живой организм.
Он нуждается в защитнике. В монархе. В государе.
Государь — символ совести народа. Он вне быта. У всех он есть,
а у монарха его нет. И поэтому он свободен от повседневных
зависимостей. А они утилитарны. Монарх просветляет быт
и помыслы народа. Вот нет у нас монарха, и нас быт заел.
Кругом тьма египетская. Как человек, монарх может делать
глупости. Как государь, он не может сделать ничего
плохого. Государь призван, а не избран. Он вне партий. Вне
племени. Вне рассчитывающего сознания. Самодержец
видит только добро.
В самодержавии мы достигли духовного освобождения от
власти. От политики. В нем проявил себя политический
аскетизм русского народа. Самодержавие не абсолютизм, а
единодержавие. Вот есть у нас самодержавие, и мы свободны.
У монарха — власть. У нас — быт. У него государственные
обязанности. У„нас — семейно-бытовые, общинные и земские.
Семья, община, земщина образуют складки на теле
чистой вагинальности России. Парламент — изобретение
Европы. Он для болтливых. В нем заявлены права народа на
власть, на участие в политике. В основе Думы или земского
собора лежит отвращение к власти. У русского народа нет
пафоса власти. Мы уступили власть царю. Необратимо.
Царь обязан считаться и формально, и морально с
земщиной. С голосом народа, в котором говорит не кровь, а земля.
Государь не может не вступить в диалог с церковью в
деле нравственного воспитания народа. Царь — представитель
народа в делах церкви. Государство без церковной
поддержки не может существовать. Народ беззащитен без
государства. То есть он может существовать и без
государства. Но он беззащитен. Государство — его покров. И вот этот
покров остался, скорлупа у нас есть, а ядра за ним нет. Нет
русского народа. Сгнил он. Есть масса. И поэтому сама эта
скорлупа рассыплется при малейшем ударе извне.
57
Власть в России есть нравственная сила, а не
политическая. Власть не только право, а еще и долг. Обязанность.
Тягота. Подвиг.
Дословный человек или вербальная личность
В Ветхом завете есть эпизод, заинтересовавший
Хомякова. И одновременно Киркегора. Речь идет об испытании
Авраама. Вот был Авраам. И у него была жена Сарра. И все
было у них хорошо. Жили они весело. Богато. Но у них не
было детей. Сарра состарилась. И в старости родила
ребенка. Назвали его Исаак. Обрадовались старик со старухой.
Смотрят они на сына не насмотрятся. А тут как-то вечером
подошел к Аврааму ангел Божий и говорит ему: «Ну что,
старик? Любуешься своим сыном?» — «Любуюсь», —
отвечает Авраам. — «А в Бога веришь?» — «Верю». — «Ну тогда
убей своего сына». — «Ладно, — согласился Авраам, —
убью». И стал Авраам убивать Исаака. Да Бог помешал
этому злодейству.
Так вот Киркегор описывает акт убийства как акт
двойного движения^ Авраама. Первым движением он должен
убить сына. А вторым — надеяться на то, что этого не
случится. Авраам — единичный. Эмигрант из среды всеобщего.
Хомяков рассматривает этот эпизод как демонстрацию не
веры, а своеволия. Семейно-бытовой мир общины
накладывает запрет на эмиграцию из среды всеобщего. Никто не
вправе распоряжаться чужой жизнью. Авраам — отец и
одновременно господин. В этом смысл его двойного движения.
Господин распоряжается рабом. Вот пошел Авраам убивать
Исаака. И никто господину не воспротивился. Не
возмутился. Исаак не сказал нет. Сарра не вцепилась ему в бороду.
Сосед не вмешался. У них не соборное сознание. Не
соборное действие, а рабское. В семейно-бытовом мире общины
Авраама потащили бы на сходку. На суд общины. С ним
перестали бы здороваться.
Когда ты берешь в руки стакан, ты не объясняешь ему,
зачем ты его взял. И это понятно. Это вещь. Но вот Авраам
берет с собой сына, чтобы убить его. Он берет его молча, не
сказав ни слова. Как вещь. И это непонятно. И не потому, что
язык веры его непонятен. Аврааму и в голову не пришло как-
то объясниться с Саррой, с родственниками. Мол, так и так.
58
Было мне видение. Что мне делать? Авраам — личность. Он
выше всех. Он как Бог. В нем говорит воля к власти. В се-
мейно-бытовом мире общины никому не дано быть выше
мира. «Человек должен быть человеком»1. А не личностью.
Не Богом. Не тем, что выше всего. Вот, например, в Англии.
Какие вершины! Но «тут вершины, да зато тут и корни»2.
Хомяков вводит представление о разрыве между человеком
и личностью. Ю. Самарин резюмирует это представление:
община выше личности. Ты в ней либо ничего не можешь сделать.
Ллбо не все. Есть что-то, что нельзя. И не почему-либо, а
потому, что свято. Семейно-бытовой мир имеет смысл, если в нем
возобновляется сакральное действие. А сакральное действие —
это действие во имя. Этим действием и устанавливается
самоотречение от своей единичности. Ты входишь в мир общего. И
тебе не надо приносить в жертву другой единичности чью-то
жизнь. Общинный был основан не на личности, а на человеке.
Он предполагает высший акт личной свободы и сознания —
отречение от личности. И это поступок. Вот этим отречением и
появляется что-то человеческое3. А община длит его,
выполняя связи тождества предмета и понимания предмета.
Вот если все возможно, то ты личность. Если не все — то
ты человек. Личность — это как бы пройденная сознание
бесконечность» Это принцип. Для личности достаточно
цели. Целерационального действия. Личность работает как
машина. Она самоопределяется в сознании. То есть любое ее
определение оказывается определением сознания.
Бесконечный перебор определений нужно где-то остановить
Остановка перебора определений раскрывает себя в
качестве авторитета. В авторитете важен не автор, а власть.
Личность — это оправданный авторитет, порыв к власти. И в
этом смысле есть в нем что-то некоренное. Условное. Корень
в символике Хомякова означает связь с дословным.
Личность же связана со словами.
Человек — орган жизни. Это складка дословности в се-
мейно-бытовом мире. Нечто укорененное в почве. Личность
исчерпывается целью. Она является тем, кем она хотела бы
■ТамжссЛЭ!.
2 Там же, с. 108.
3 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1900, т. 1, с. 52.
59
быть. Человек — это путь, который ведет дальше своей цели.
Личность нуждается в другом. В силе другого, которая
обессиливает, то есть обозначает предел личности. Человек не
нуждается в другом и его силе. Его предел — нрав, то есть
дословное согласие многих. Ни один человек не знает себя
логически. «Его сознание есть самая его жизнь»1.
Хомяков любитель таких странных определений.
Странных в смысле проговаривания в них дословности. Ну разве
жизнь — это сознание? Ведь сознание — это то, что думает и
обдумывает. Сознание лицемерно. А живое живет. Хомяков
монотонно повторяет: верить нужно тому, что живет, а не
тому, кто обдумывает. Бессознательное слово или случайный
жест яснее высказывают мысль, чем рефлексия. Сознание —
обманет. Бессознательное — не обманет. Личность
лицемерна своими опосредованиями. Человек — простодушен в
своей непосредственности. Истина в том, что живет.
Почему? Потому что живое — это чистая искренность.
Личность ищет суда. Человек ищет человеческой
правды. Суд формален. Правда содержательна. Есть что-то
отвратительное^ форме. В ее поверхности. В
неукорененности в глубоком2. Без живого знания — ты не человек. Без
самосознания — ты не личность. Соборная личность — это
человек, отвечающий любовью на любовь. И в этом смысле
человек не есть сущее. Не есть предмет. Как предмет человек
существует только в антропологии. Человек есть грядение
человека, то есть стремление быть на пути, ведущем дальше
цели. И держит человека на этом пути не
трансцендентальное единство апперцепции, а единство обычая. Живое
сознание.
Термины
Термин — бог границ и межевых знаков, разделявших
земельные угодья. Культ термина связан с представлениями
римлян о святости и нерушимости частного владения.
Юпитер уступал нажиму термина. Соглашался с
терминологическими различениями.
1 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т. 1, с. 20.
2 Хомяков A.C. Там же, т. 3, с. 323.
60
Хомяков — русская душа! А она не в ладу с терминами. В
«Семирамиде» Хомяков пишет, что нельзя «отвергать
правду потому только, что она не явилась в форме силлогизма»1.
Силлогизмы — это термины. Что такое правда? Ну это вот
то, что не совпадает с межевыми знаками. В несовпадении
есть еще один смысловой оттенок, важный для Хомякова и
русских философов.
С чем связана истина? Со словом. В истине есть что-то
невидимое, непредставимое. Далекое. И вот эту
отдаленность выражают в слове. На Западе. В романо-германской
Европе. Но русской душе эта истина ничего не говорит. Мы
связываем истину с тем, что видим, представляем. С
образом. Нам нужно не слово, а образ. Это римляне придумали
такой фокус. Сначала они ныряют в мир невидимых
сущностей, а затем выныривают с твердыми основаниями, с тем,
что делает их поступки и взгляды обоснованными. Дело
сделано. Ты нырнул и вынырнул. И что-то уже доказано. Но это
основание для ума является доказательством. В нас едины
ум, чувства и вера. Нам нужно не доказывать, а показывать.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Из
«Семирамиды»: «Все слова, выражающие идею духа, содержат в себе
корни, относящиеся к природе видимой и осязаемой»2. И
еще из «Семирамиды»: «слово человеческое весьма
недостаточно, чтобы выразить смысл»3. Духовность неизменно
является в образе вещественном.
Дословность, выговариваемая Хомяковым, сделала
мыслимыми конкретную метафизику Флоренского, умозрение в
красках Е.Трубецкого и клиповое письмо Розанова, то есть
письмо, которое строится не на различии терминов, а на
списании образа, состояния-картины. А ее можно показать. То
есть во Франции мыслят, если различают. У нас мыслят,
если воображают. Следы различения сложилась в книжную
культуру. Наши образы обезображены. Из философских
сочинений Хомякова: «Тяжело налегло на нас... знание,
которое мы приняли извне. Много подавлено под ним...»4.
1 Хомяков A.C. Сочинения в 2-х томах. М., 1994, т.1, с.55.
2 Там же, с. 138.
3 Там же, с Л 37.
4 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.1, с.41.
61
Что мы приняли извне? Терминологическую
различенное^. То есть знания. И эти знания давят на нас. И многих
раздавили. Раздавили умозрение в образах. О невыносимой
тяжести книжной культуры впервые заговорил А. Хомяков.
И потом, на всю катушку, прокричали об этой
невыносимости многие. Например, Розанов с Гершензоном. Да и Шестов
покрикивал. Книги, по словам Хомякова, получили
излишний авторитет.
Дело не в том, что Хомяков против книжной культуры. Он
за то, чтобы было меньше смерти в ней. Меньше холода. Почему
в ней холодно? Потому что терминологическая различенность
не нами рождена. Она уже есть, и нужно быть на ее уровне. А мы
не на уровне. То есть мы существует по одним законам. По
законам одного целого. А она существует по законам другого целого.
Ей-то ничего. А нам больно. Нам нужно из своей шкуры лезть,
чтобы дотянуться до терминологической различенности. А она,
эта различенность, — мертвая. Мы — живые, а знания наши
мертвые. Жизнь-то у нас наша, да ум в ней привозной1. Чтобы
привезти, его, как плод, сорвать надо. Умертвить. Целое,
рождающее плод, не перевезешь. Оно непереносимо. И вот мы
отделяем плод от целого, перевозим его и складываем. И
получаем нечто книжное. Сложное. Целое — просто. Книжное —
сложно. «Книжничество... наводнило мир ложными
системами»2. Вот тебе что-то показывают, и ты смотришь. То есть ты
смотришь на предмет простым глазом. «Простые истины ясны
для некнижного ума»3. Слепота книжной учености жалка,
говорил Хомяков, имея ввиду С. Соловьева.
Вот, например, уважаемые Хомяковым дворники.
Конечно, они не знают законов света. Но они его видят. А вот
ученый-слепец. Он все знает о свете. Но он его не видит. У
одного знание живое. У другого — отвлеченное. И хорошо,
если бы одно вырастало из другого.
Живое знание
«У Хомякова часто болела жена». Вот я написал эту
фразу и увидел, что она построена органически. То есть у
1 Там же, с.56.
2 Хомяков A.C. Сочинения в 2-х томах. М., 1994, т.1, с.49.
3 Там же, с.47.
62
Хомякова могла болеть голова. Или сердце. А я сказал, что у
него болела жена. Эта фраза из языка живого знания.
Так вот Катя Языкова болела и Хомякову рассказывала о
содержании своей боли. Рассказом передается понятие.
Лучше бы она ему боль передала. А она ему понятие
передает1. И Хомяков страдает. Боль — это не понятие. Боль — это
живое знание. То есть ты живешь и знаешь, что такое боль. И
иным образом ее знать нельзя. Значит, в мире есть такая
сторона, которую знают живым знанием. И это банально.
Правда, позднее в Европе эту банальность назвали экзистен-
циалом. И было много шума. Много слов. Экзистенциальная
философия рождалась громко. Хомякову было не до слов.
Он знал причину болезни жены. Пригласил доктора. А
тот поставил другой диагноз. И лечил ее от болезни, которой
она не болела. Вот ты видишь нелепость, а сделать ничего не
можешь. Ну все не так. Нужно по-другому ее лечить. Но
ведь он доктор. Профессионал. А ты — самоучка. Боязнь —
самозванства — неизлечимая болезнь русских философов.
Жена Хомякова умерла. Сошел с ума Гоголь. Начались
видения у Хомякова. Живое знание не невинно.
Итак, в мире есть две стороны. Внешняя и внутренняя.
Внешняя — это только внешность. Что-то поверхностное.
Лицо. Конечно, никому не надо падать в грязь лицом. Но
дословный человек не делает из лица поле чести. Мы не
рыцари. Мы самоеды.
Внешнее познается отвлеченно. Предметно. Но есть еще
внутренняя сторона. То, что ты знаешь изнутри. Живым
знанием. Это — сообщенность с целым. Всякий человеческий
феномен имеет два источника. Внешний и внутренний.
Один из них коренится в пленке культуры. Другой — в вере.
В органике жизни. Вот эта двоякость накладывает запрет на
перенос предмета из одного мира культуры в другой. Мы
можем перенести только внешнюю сторону. И нельзя
переносить живую сторону предмета. Вот мы сделаем такой
перенос и будем что-то знать книжно. Без живого знания.
Кто мы тогда? Прихвостни культуры. Как говорил Хомяков.
Ну любит англичанин носить белый галстук. Он еще
ходить не научился. А галстук нацепил. Ну так что с того.
1 Хомяков A.C. Сочинения. М., 1878, т.1, с.282.
63
Нам-то он зачем. У них кучер на козлах сидит во фраке.
Они во фраке пашут. И нам это непонятно. Потому что мы
вовне. Живой стороны их жизни не знаем. У нас фрак
надевают на официальный прием. Конечно, фрак — это
уродливая и нелепая одежда. Она не сравнится с зипуном.
Но таково органическое целое культуры, с которой сообщен
англичанин.
Для того чтобы носить фрак и любить белый галстук,
нужно жить с конституцией. Нужно быть уже англичанином.
Мы — русские. «Невозможно в нас вселить то чувство, тот
лад и строй души, из которого развиваются лютеранство и
аристократия, и родовое чванство, и презрение к людям и
народам»1. Эта невозможность связана не с логикой, а с
фактом существования человека как живого существа. Живое
существо понимается Хомяковым через символ дерева. То,
что в Германии назовут дазайном, то есть бытием, Хомяков
определит не как бытие, а как существо, которое
описывается в терминах полноты целого. Или живого организма. В
Германии — dasein. В России — существо. Здесь — бытие не
болеет. Болеет существо.
Живое знание требует одного. Согласия в душе человека.
«Человек творение слабое и шаткое. Ленивое умом и
дряхлое волей. Постоянное игралище страстей своих и чужих,
жертва всякого соблазна жизненного и гнета исторического,
не может почти никогда удержать в себе душевное
согласие»2. Никому не дано живое знание само по себе. Без воли.
Ты нарушил согласие в своей душе, и живое знание
спуталось. Стало мутным. Что тебя может спасти? Отвлеченное
знание. Оно не зависит от страстей. И потому может быть
опорой в смутные дни живого знания. Ни одному человеку
не дана мысль без воли к мысли.
Бобыль как проблема историософии Хомякова
Славянофилы люди семейные. У каждого есть жена.
Дети. Родственники. Они ходят к тебе в гости. Ты ходишь к
ним. Привольно жить в семейно-бытовом мире
славянофила. Это лучший из миров. Но и у этого мира есть граница.
1 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.1, с.113.
2 Там же, с.254.
64
Предел. И составляют этот предел — бобыли. Кто болыль?
Например, Чаадаев. Он одинок. У него нет семьи. Нет детей.
Бот Хомяков. Он никогда не ухаживал за замужними
женщинами. А Чаадаев ухаживал. Бобыли угрожают
семейно-бытовому миру славянофила. У них слишком
много степеней свободы. Они несвязаны. Кто их свяжет?
«Община уничтожает бобыльство»1. Славянофилы
придумали теорию общины как теорию связанных состояний
человека. А С. Соловьев этого не понял. И Грановский с
Кавелиным не сообразили, что дело не в летописных
источниках. Ну нет там такого слова, как община. Ну и что.
Это ведь не термин самонаблюдения общинного человека.
Это язык рефлективного описания. А у него другая
предметность. Так Хомяков и объяснил Соловьеву суть дела. А тот
обиделся. Самоучкой его обозвал.
Русский человек — это человек связных состояний. То
есть порознь мы даже в рай не попадем. «А целой деревни
нельзя не пустить»2. И вот идем мы в рай не по одному. А
скопом. Всем миром. И нас нельзя не пустить. «Когда кто-то
падает из нас, он падает один; но никто один не спасется»3.
Грешить и падать лучше поодиночке. А вот спасаться легче
вместе. Община нам для того и нужна, чтобы спастись
можно было. Вот ibi в общине и у тебя есть совесть. И есть то, что
ведет нас вместе. И ты сообщен со всеми. И тебе не надо
вращать глазами в поисках нового. Никому из людей не дано
удержать в себе чувство свободы и достоинства. А мир тебе
поможет. И пока ты часть целого, все тебя уважают. В тебе
есть достоинство. Вот, например, Запад. Там одни бобыли.
Пролетарии. Ничто их не связывает. Нет у них общины. И
поэтому они словно с цепи сорвались. Гонятся за новым. А
новое бескоренное. Революция — язык бобылей, которым
ничего, кроме эгоизма собственности, недоступно. Хомяков
не против собственности. Ему не нравится, когда люди
дуреют. Когда человек — «не то, чтобы дурной человек, а
безнравственно тупой человек»4.
1 Там же, т.З, с.463.
2 Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков. Киев, 1902, т.1, с.286.
3 Хомяков A.C. ПСС. М, 1900, т.2, с.21.
4 Хомяков A.C. Там же, т.З, с.561.
5 Ф. Гиренок
65
Итак, община нужна не для того, чтобы было добро. А
для того, чтобы не было зла. Для его предварения. Вот
сохраним общину, и не будет у нас пролетариев. Не будет
перевеса города над деревней. Не будет революций. «Наш
корень и основа — Кремль, Киев, Саровская пустынь,
народный быт с его песнями и обрядами, и по преимуществу
община сельская»1.
Трансцендентальная апперцепция
и соборное сознание
В России было какое-то странное представление об
истории. Например, Кавелин считал, что история имеет цель. И
что эта цель — личность. То есть вот сначала был род, затем
семья, и только потом уже появляется личность. И надо бы
личностям государство образовывать, да они оказались
неразвитыми. Пустыми. И вот поэтому-то пустая личность
пошла на Запад. За содержанием. Стала западником. А тут
славянофилы со своей общиной. Ну хорошо. Община. А как
же быть бобылк)? Личности. Ведь в общине нужен двор.
Хозяйство. Без двора ты никто. Ты ноль. Сцеплением же
дворов составлялись общины. А не личности. «Личность в
общине немыслима»2. Для личности нужен принцип, а не
двор. Волка кормят ноги. Личность как волк. Она одна. Ей
не на кого надеяться. Она всегда настороже. Начеку. Кругом
опасность, и ей нельзя спать. Она может полагаться только
на себя. И поэтому она должна непрерывно бодрствовать.
А в общине что? Конечно, здесь хорошо. Здесь ты
можешь вздремнуть. Тебе не нужно непрерывно мыслить. Не
нужно опасаться. Кругом свои. Они помогут. Община тебя
убаюкает. Здесь ты беспечен. Потому что каждое Я — это мы.
Вот поживет человек в общине, и смотришь, а у него энергия
уже не та. Здесь все как-то обмякают. Становятся кроткими,
тихими. До глупости простодушными. В общине нет злости.
Воли к власти.
В общине ты морален. Вне общины — ты вне морали. Но
в общине тебе не нужно быть в сознании. У тебя есть
традиция. А вне общины ты должен непрерывно быть в сознании.
1 Там же.
2 Кавелин К.Д. Сочинения. М, 1897, т.1, с.16.
66
И у тебя возникает потребность в трансцендентальном
единстве апперцепции. Возникшее затруднение Хомяков решает
при помощи теории соборного сознания. Бобылю нужна
апперцепция. Общине требуется соборное сознание. Вот есть
оно, это сознание, и ты можешь чай пить с родственниками.
И никто никого не заест. Вернее, всякий раз, когда ты
задушевно беседуешь с кем бы то ни было, ты возобновляешь
соборное сознание, а не апперцепцию. Итак, в общине нет
места для апперцепции. Вот ты морален, и что-то нельзя. В
общине нельзя непрерывно мыслить. И эту зависимость
установил Хомяков. А вместе с ней он установил и другое.
Ведь если нет апперцепции, то нет и сознания. Получается
так, что в деревне живут моральные дураки. Но в деревне не
дураки. Хомяков-то это знает. Вот приедет он в Богучарово,
поговорит с мужиками и успокоится. Разумный ведь народ.
Что-то не то в немецкой теории апперцепции. Разум у нас
есть, а сознания нет. Или, как говорит Хомяков: «...В
Древней Руси разуму недоставало сознания»1. То есть
недоставало рассуждения.
Рассуждающее сознание и есть чистая апперцепция. В
Германии. Во Франции оно узнается как когито. Но чтобы
сознание стало рассуждением, его надо отделить от дела. И
только после этого оно становится чистым. Ясным для
самого себя. Самим сознанием. Но если сознание
самоопределилось, то поди поймай его. Оно теперь может как
отсутствовать, так и присутствовать. По своей прихоти. И в
этой возможности таится обман. Неискренность. Ну вот и
принуждают его к непрерывности присутствия всякими
постулатами. А оно свое отсутствие выдает за присутствие. С
этим сознанием много хлопот. С ним поля не вспашешь.
Иными словами, никакое сознание не скажет истину, если в
нем нет искренности.
Хорошо, в сознании нет истины. Тогда где же она? В
бессознательном. Но бессознательное — это не отсутствие
сознания. Оно здесь есть, но описывается не в терминах
присутствия или отсутствия, то есть не в терминах бытия, а в
терминах соборности. Вот отделилось оно или не
отделилось. От жизни. Ведь никому же не придет в голову
1 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.1, с.248.
5*
67
описывать отделение сына от отца в общине в терминах
отсутствия и присутствия. Если он отделился, то у него одно
сознание. Не отделился — другое. Но он всегда есть. И у него
есть сознание. Никакое сознание не должно предшествовать
делу1. Соборное сознание — это сознание, не отделившееся
от дела. А дела не могут быть непрерывными. Их начинают и
заканчивают. Или бросают недоделанными. Соборное
сознание — это сознание в момент совершения. Его нет ни до,
ни после. Оно есть в момент. В интервале между до и после.
Если оно будет до дела, то оно убьет дело. Если оно будет
после него, то обманет. Сознавать в момент совершения — это
значит соборно понимать. То есть дело обстоит не так, что
вот ты понял, а потом сделал. Или сделал, а потом понял.
Соборное понимание — это понимающее делание. Или
делаемое понимание. Тождество дела и понимания дела в момент
свершения. Общее дело требует не апперцепции, а
соборного сознания. Разрыв между делом и пониманием возможен в
двух случаях. Или когда ты пьян. Или уж если сильно
испугался. Ну Хомяков не пил. Это все знают. И мало чего
боялся. Он мог йа медведя пойти. У него рука не дрогнет. Он
с пятидесяти шагов в алтын попадает.
Так вот теория трансцендентального единства
апперцепции — это теория пьяного человека. И одновременно
рационализация испуга. «Полнота жизни требует
замыкания», — говорит Хомяков. То есть она требует того, чтобы
сознание знало себя. Но после дела. Как звено в цепи. Вот
этого-то звена и не было в Древней Руси. Не было в нашем
сознании ясности. Самоопределения. Не было замыкания
полнотой. И поэтому соборное сознание таит в себе
опасность недосознания. Самонесознательной жизни.
Жизнь — это путь
«Лица, связанные между собой живой органической
целью, невольно и постоянно действуют друг на друга; но для
этого нужно, чтобы между ними была органическая связь.
Разрушьте ее, и живое целое обратится в прах, и
люди-пылинки станут чужды друг другу»2.
1 Там же.
2 Хомяков A.C. Собрание сочинений. М., 1887, т.1, с.188.
68
Хомяков умер в пути. На бегу. Когда еще только он
входил во вкус философствования. Ивана Киреевского уже не
было. И надо было кому-то сформулировать начала новой
философии. Ну не Чаадаеву же это делать. Да и Самарин
просит. Ну вот Хомяков и приступил к делу. С сознанием его
особой важности. Перечитал Канта, стал размышлять о
пространстве и времени. О воле. Написал одно письмо
Ю. Самарину. Второе. А третье не успел. Умер. А в нем
должно было содержаться главное. Потому что первые два
письма — это так. Пристрелка. Все в них выполнено как-то
по-школьному. Ученически.
Вместо Хомякова выстрелили другие. Например,
Бердяев. Главным в Хомякове он определил его различие между
кушитством и иранством. Для Флоровского и Зеньковского
существо дела в хомяковском тезисе о том, что церковь одна.
Флоренский колебался в выборе.
Самая гениальная фраза Хомякова случайна. Она
сказана как бы между прочим. Вне корпуса философских
сочинений. «Всякий путь ведет дальше цели»1. Значит, вот
есть цель. И ты знаешь, как к ней идти. На этом знании ты
основываешь свое движение. Оно рационально. Но путь
ведет дальше цели. И поэтому никакому человеку не дано
совершить erq. У этого пути нет конца. Нет цели. Это не
переход из одного места в другое. Это жизнь. Что живо? Не
умерло? То, что идет по пути, ведущем дальше цели. То есть
вот есть в нашей жизни то, что исчерпывается сущностью
жизни. А сущность — это как бы пройденная бесконечность.
Так вот жизнь — это бесконечный тупик. Путь непройден-
ной бесконечности. По нему можно идти шаг за шагом.
Медленно. Не торопясь. Потому что спешить некуда. Это
шаги, ведущие дальше цели. И они уже в тебе. В них есть
что-то органическое. Бессознательное. Какое-то
прорастание вбок. Охват. Что нас связывает в этом продвижении?
Путь, для которого нет понятия. И нет времени, которым
можно было бы его измерить. Этот путь не для скорости. Не
для того, что временит. Не для временного. Путь, ведущий
дальше цели, есть в общине. В семейно-бытовом мире. В
организме. Когда Хомяков говорит о том, что общество — это
1 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.З, с.334.
69
организм, то имеется ввиду, что оно не содержит цели вне
себя. Оно не для чего-либо, а само по себе прорастает дальше
всякой цели. Ну а если дальше цели, то людей в нем
связывает не идея, не интерес, а путь. Или, как его еще называет
Хомяков, живая органическая связь. Вот есть эта связь и
есть целое. Никакое целое не держится сознанием. Будущее
определяют не цели, а пройденный путь.
Дерево как символ живого всеединства
«Везде все живо»1. У Хомякова благоговейное
отношение к жизни. И у А. Швейцера оно благоговейно. Но ход
мысли у них разный.
Для Швейцера перепелка как сестра родная. Он ее
воспринимает в терминах морализирующего сознания. Для
Хомякова — это дичь, которую можно подстрелить,
зажарить и съесть. Живое — это не то, что шевелится, чихает или
размножается. Это не облеченное в речь слово. Живой народ
есть еще невысказанное слово. Ну а мертвый народ — это
тот, который успел высказаться. Вот этими двумя
обстоятельствами и определяется граница между двумя
дискурсами. Одно дело, когда все еще высказывается
невысказанное. И есть что сказать, да слов не хватает. И ты
задыхаешься от переполненности невысказанным. Другое —
когда все уже сказано. А тебе надо говорить. И ты говоришь
то, что говорится, если говорить нечего. В первом случае
доминирует объектный язык. Его неотрефлексированные
содержания упакованы в структуру повседневности. В
традиции. Во втором — рефлексия. Понятийное мышление.
Живое понимается живым. То есть во всяком языке есть
два языка. Язык сознания. И язык жизни. И они не
совпадают. Язык сознания ориентирован на другого. На
коммуникацию. Он универсален. Язык т жизни конкретен.
Вот есть этот язык и есть внутреннее в его отличии от
внешнего. И существует то, что доступно только прорастаниями в
это внутреннее. Коммуникация невысказанного
невозможна. Или возможна как немая речь.
Разрушив универсальность действия речевых истин,
Хомяков начинает подсмеиваться над общечеловеческими
ЧамжстДс^гэ.
70
истинами. Ну что мне до человечества. Не люблю я его. Вот
детей своих люблю. А жителей планеты не люблю. Они
далеко. Дети близко. И Хомяков прав. У него в деревне люди
мрут от кори. Ему лекарства нужны. А что там за
экватором — ему безразлично.
«За странным признаком погнались у нас многие.
Общеевропейское, общечеловеческое!»1 Но оно нигде не
существует. Оно нигде не является в отвлеченном виде.
Везде все живо, все народно. Вот дерево. Оно конкретно как
существо. А ты ни с того ни с сего взял да и обрубил его
корни. И оно умерло. Перестало быть подлежащим, и нет в нем
теперь ничего такого, что бы не было высказано. Оно чистое
сказуемое. Ведь корни-то обрублены у дерева, а не у
сущности дерева. Сущности не умирают. Но сущность в землю не
вколотишь. «Семена и корни всего великого, возносящегося
на поверхности, глубоко зарыты в его плодотворной
глубине»2. Человек как дерево. Вот есть у нас корни и мы
корешки. Кореша. Нет их, и мы бобыли. Интеллигенция.
Собор
По пути, который ведет дальше своей цели, нельзя идти в
одиночестве. Вот Чаадаев пошел и сошел с ума. Потому что
он держался за ум, а нужно было держаться обычая. На пути,
который никому не дано совершить, прорастают
бесконечным множеством бытовых мелочей. Ризома мелочей,
прорастая в множестве людей, сцепляет их в единое целое. В
собор. Мелочи быта становятся обычаем. Законом
внутренней жизни. Ну а если есть законы внутренней жизни, то
«народ народу не пример». Эту фразу, орошенную
Хомяковым, подхватят Данилевский с Леонтьевым и' создадут
теорию культурно-исторических типов. Но этой же фразой в
Хомякове проговорилось то, что в нем молчало.
Недосказанное высказалось в идее соборности. Вот если
есть внутренняя жизнь народа, то она накладывает запрет на
единую историю. На универсализм понятий. Нет тогда и
единого человечества. Не существует оно как организм. А если
оно не существует, то «Семирамида» историософски бессмы-
1 Там же.
2 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1900, т.1, с.52.
71
сленное сочинение. У него не может быть законченного
смысла. Да оно и не было закончено. Хомяков полагал, что все
народы делятся на две группы: одна из них тяготеет к
материальному, другая — к духовному. Первая составляет
кушитскую ветвь. Вторая — иранскую. Кушитство и иран-
ство — бинарная оппозиция. Универсалия, что-то вроде
перпетуум мобиле. Это две нитки, которыми Хомяков хотел
сшить единое человечество. Не получилось. Распадается оно.
И народ народу не пример. Всякая «жизнь уже потому, что
жива, имеет право на уважение»1. То есть в текстах Хомякова
видны следы столкновения двух дискурсов, двух ходов
мысли. Универсалистский и почвенный, то есть ризомный.
Причем последний говорит через первый. А это означает, что
Хомяков говорит одно, а выговаривается другое.
Например, в споре с С. Соловьевым он настаивает на том,
что история народа — это не история его самосознания.
Официальные столбцы исторической летописи, конечно, что-то
говорят о жизни народа. Но это не жизнь, а отражение жизни.
Сама жизнь — в. мелочах жизни. В ее капиллярах. Но эту
жизнь мы можем знать живым знанием. Экзистенциально.
Ее можно постигнуть чутьем нутра, сросшегося с мелочами.
Вот есть такого рода сращение, и самые важные истины
передаются из рук в руки, от одного к другому. Без логических
доводов. Одними намеками. Нет универсальных намеков.
Есть тайна, которую знают как тайну. Но тогда надо бы
согласиться и с тем, что и кушитство с иранством — это довольно
грубая схема рефлексивного упрощения жизни людей.
А капилляры жизни не зависят от идеологии жизни. Вот,
например, прадед Хомякова. Жил он, жил, а тут пора умирать
пришла. А он не готов. Наследников у него нет. Ну и был
сход мужиков из разных деревень. И решали они, кому быть
барином над ними. И выбрали. Полюбовно. И это собор.
«Собор выражает идею собрания не только в смысле
проявленного, видимого соединения многих в каком-либо
месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности
такого соединения, иными словами: выражает идею
единства во множестве»2. Это определение соборности не совсем
1 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.1, с.46.
2 Хомяков A.C. Там же, т.2, с.312.
72
удачное. У Хомякова вообще с определениями плохо.
Проявленное и видимое нужно было бы дополнить непрояв-
ленным и невидимым соединением многих, а Хомяков
почему-то говорит о всегдашней возможности. Видимо, в
нем сработал комплекс боязни самозванства и он решил
довериться Канту, которого он, опять-таки неточно,
воспроизвел. Ведь Хомякову надо высказать простую
мысль. Вот есть собор. Он существует как содержание
собора. А еще он бывает формальным. Как условие того, чтобы
вообще что-то собиралось. «Одно это слово содержит в себе
целое исповедание веры»1. Но разве мы найдем это
исповедание в идее единства во множестве? Нет, конечно. Этой
идеи недостаточно даже для того, чтобы отличить коллектив
от собора. Народ — от массы. Партию — от банды.
Сооор — это место взаимного признания единства и
свободы. А для того чтобы это признание состоялось, нужна
любовь. Ризома любви. Одно дело множество лиц в их
отдельности. И другое дело — собор. Первых объединяет цель
или интерес, вторых — почва. Или традиция, то есть душа,
если она одна на всех.
«Все» не ограничены наличным бытием. Наличность не
соборный термин. Все — это и те, кто жил. И те, кто живет. И
те, кто будет »жить. Co6opi — это не коллектив. Это собор.
«Кафоличны доселе только невежество и порок,
действительно свойственные всем племенам и странам»2. Истина —
от собора, а не от Бога. Но если истина соборна, то Хомяков
не православный философ, а русский. И решает он не
столько богословские проблемы, сколько философские.
Например, проблему долга. Ну вот есть такая проблема в
обществе свободы: проблема развязности, то есть ты
свободен и никому ничем не обязан. Каждый любит только себя.
Но в этом случае общество разваливается. Чтобы оно не
развалилось, нужны гвозди. Долг как гвоздь. Скрепляет. Разум
предписывает, а воля выполняет. То, что это глупо, понял
уже Шопенгауэр. Например, ты должен любить. Но ты не
любишь. И из чувства долга полюбить не сможешь. Ты
можешь как бы любить. Долженствование рождает симуляции.
^амже.с.З^.
2Тамже,т.1,с.ЗЮ.
73
Так вот в соборе связанность людей строится телами
дословности вне зависимости от долга. Разум не предписывает. À
ты не должен, если ты отказался от себя.
Церковь одна
«Церковь одна, несмотря на видимое ее деление для
человека...»1 Это знаковое выражение философии Хомякова,
демонстрирующее православный характер его мысли.
Развертывание самой мысли соборно. Прежде всего Хомяков
знает Церковь живым знанием. Все нормальные люди живут
в общежитии, в семье, в государстве. Хомяков жил в Церкви,
как в семье. Все мы там числимся. А он жил. И у него живое
знание. Что он знает? То, что Церковь есть живой организм.
Слово «организм» — ключевое в том смысле, в котором
ключ — это источник, Истина. То, что открывает и
закрывает. И одновременно — это родник. Так вот Церковь —
организм. Потому что организм всегда один. Вот лошадей
много, а организм у них один. И у человека он один. Если бы
в организме было много организмов, то мы перестали бы
существовать. Распались.
Конечно, Церковь — это не лошадь. Она — организм
истины и любви. Или истина и любовь как организм. Итак,
организм неделим. Если он есть, то есть в своей полноте и
цельности. Никому не дано дополнить полное.
Словами «истина как организм» Хомяков разрывает
связь истины со словом. То есть речь идет не о вербальных
истинах. А о дословных. Истина как организм дословна. Она
выходит из поля притяжения речи, письма. Немота речи и
дословность письма — следы ускользания истины из
структурированного словом пространства культуры. Где
неречевые истины? В церкви. Но не только в ней. Они везде.
А значит, и в каждом из нас.
Истина как тело понималась когда-то киниками. Но ки-
нический ход мысли не устраивает Хомякова. Во-первых,
телом греки гомеровских времен называли труп. Мертвая же
дословность — это и есть слово, от которого надо было
убежать. Во-вторых, телу достаточно поверхности. Организму
нужна почва. Организм — это то, что еще живо. На мертвом
1 Там же, с.З.
74
теле нельзя оставить знаки. На живом можно. Вернее,
можно и на мертвом. Но смысла нет. Для того чтобы
символический интеракционизм возник, нужно быть не
телом. А организмом. Нужно быть живым.
Ну если церковь есть живая истина, то в ней не должно
быть лжи. Везде может быть ложь. Вернее, ложь везде, где
существуют вербальные истины. А вот церковь — организм.
В ней нет лжи. Она может болеть. На ее организме могут
быть следы болезней. В том числе и речевых. .Но в ней нет
лжи потому еще, что церковь принимает в свое лоно только
свободных.
Православная вера дословна. Католики и протестанты
очарованы речевыми истинами. Мы мистики. Они
рационалисты. Например, существует писание. А еще есть предание.
И крайне любопытно узнать, что чему служит основанием:
писание преданию или предание писанию. Если ты
признаешь основание в предании, то ты католик. Если наоборот —
ты протестант. Протестанты — изнанка католицизма. С
вопросом об основании и те, и другие входят в мир изнаночных
отношений.
Или вот тебе нужно оправдаться. Перед Богом.
Достаточно ли для этого веры? Или еще дела нужны? Если
достаточно веры, то ты взял в руки книгу Завета. Почитал
ее. Помолился. И довольно. Но тогда Церковь не нужна. И
монахи не нужны. На кой они нам. И святые излишни.
Зачем нам посредники? Их подвиги и ходатайства? Сами
попросили Бога, о чем нужно. Но только за себя. А не за
других. Не за усопших. А он нам ответит, если ответит: «Да нет,
не нужны нам дела». Это с одной стороны.
А с другой? Ведь по делам же судят людей. В них
оправдательная сила. А если ты умер и ничего спасительного не
сделал? Как быть? Неужто ни за что пропадать? Ну грешил
ты лет тридцать. Так ведь не вечность же тебе за это
мучиться. Какое-то послабление должно быть. Иначе непонятно, о
чем они там думают. Вот католики и придумали чистилище.
Для послабления человеческому. Слишком человеческому.
Чистилище — это что-то вроде камеры предварительного
заключения. В них дел уже не творят. Но взаймы взять еще
можно. Вот живут разные святые, монахи и подвижники и
копят спасительную энергию. И много ее накопили. Чтобы
спастись, им нужно всего-то граммов 10 этого добра. А у них
75
его на полтора килограмма. Не пропадать же добру. Вот ты у
них излишки скупил и живешь спокойно. Есть чем
оправдаться. Хорошая штука Церковь. Спастись помогает.
Посредничает.
Но есть еще и третья сторона. Куда не посмотришь, везде
посредники. Много церквей развелось. И каждая свои
услуги предлагает. Вот как узнать ту, которая не обманет. Не
сжульничает. И прямо к Богу тебя отведет? Значит, должен
быть какой-то знак. Метка. Внешний признак, по которому
Церковь можно отличить от симуляции церкви. Этот знак —
папа. Римский. Западные вероисповедания нуждаются в
культуре узнавания знаков и способности связывания
означающего с означаемым. Православные неспособные и
некультурные. Они попали в засаду и мечутся между
католиками и протестантами. Как нечто недоразвитое. Как то,
что еще должно развиться и стать либо католиком, либо
протестантом.
Да нет же. Не недоразвитые мы, прокричал Хомяков. Мы
нечёт. Мы третьи. У нас третий путь. Мы целое. Нас еще не
раскололи на односторонности отвлеченных начал. Нам
важна Церковь, ^потому что в ней святость. А святость
накладывает запрет на множественность различенного.
Церковь — это пространство, в котором нет лжи. В ней истина
безотносительна ко лжи. Без святого истину от лжи не
отцепить. «Чем святилась бы земля, если бы церковь утратила
свою святость?»1 Знающие знают. Уже римляне потеряли
живое знание веры. Они придумали слово «религия»,
которое указывает, скорее, на оскудение веры, нежели на ее
полноту. Хомяков прокричал. Его услышали. И пока мы его
слышим, мы не можем не говорить о третьем пути. «Третий
путь» — это символ бодрствования сознания русского
человека. Уже Филофей открыл глаза. Проснулся. Но мы не
верили глазам своим. И Хомяков закричал предсмертным
криком. Крик этот не рассеялся, то есть православная вера
еще не пошла к знанию. На Западе веру связали со знанием.
И мы были повязаны ею как недоразвитые. Хомяков
разрывает эту связь. Есть еще вера. И она связана не со знанием, а
с любовью. Не знание — а любовь. Вот путь православия. И
1 Там же, Т.2, с.5.
76
мы свободны на этом пути. «Любовь есть венец и слава
Церкви»1. И еще: «Какая бы мне была нужда сказать: верую,
когда бы я знал»2. Нет причин для того, чтобы верить. Вот
есть причины, и ты знаешь. Зачем верить, если ты знаешь.
Запад пошел по пути рациональности и пришел к абсурду. К
тождеству бытия и небытия. Абсурдно, и потому мы верим,
то есть вера интерпретируется на пути к рациональности в
терминах абсурда. Россия пошла по пути любви. Верим,
если любим. И у нас живое знание. Церковный рационализм
равномерно распределяет здравый смысл. У всех есть
немного истины. И всегда. Но если всегда есть немного
истины, то ее нет никогда. «Где была бы истина, если бы ее
нынешний приговор был противен вчерашнему»3.
Церкви не надо состязаться с наукой в стремлении к
рациональности. Не ее это дело. «Мысль обогнала религию», а
религия обогнанная есть «религия приговоренная»4.
Брошюры Бюхнера, книжки Молешотта и Фохта да десяток
статей Добролюбова и Герцена выиграли игру в
рациональность. Дело было сделано. Церковь проиграла. От нее
отпали целые поколения. Хомяков поднялся против
рационализма. «Я умоляю... — писал Хомяков, — совершить
нравственный подвиг: вырваться из рационализма»5. И в
этом смысле юродство Востока может кое-чему научить
мудрость Запада. Из предисловия Ю. Самарина ко второму
тому сочинений А.Хомякова: «Как! Хомяков, живший в
Москве, на Собачьей площадке, наш общий знакомый,
ходивший в зипуне с мурмолкой; этот забавный и
остроумный собеседник, над которым мы так шутили и с которым
так много спорили; этот вольнодумец, заподозренный
полицией в неверии в Бога и в недостатке патриотизма; этот
неисправимый славянофил, осмеянный журналистами за
национальную исключительность и религиозный фанатизм;
этот скромный мирянин, которого семь лет тому назад в
серый осенний день в Даниловом монастыре похоронили пять
1 Там же, сб.
2 Там же, с. 12.
3 Там же, с.5.
4 Там же, с. 160.
5 Там же, с.89.
77
или шесть родных и друзей, да два товарища его молодости;
за гробом которого не было ни духовенства, ни ученого
сословия... Этот отставной штаб-ротмистр Алексей
Степанович Хомяков — учитель Церкви?»1 Он самый.
Хомяков, Флоренский и Бердяев
И Флоренский, и Бердяев выделяют православный
дискурс Хомякова. Но само провославие интерпретируется
ими по-разному. Это стало ясно после того, как П. Флоренский
написал что-то вроде рецензии на работу В. Завитневича о
Хомякове2. При этом он с одобрением отнесся к брошюре
Бердяева о Хомякове. Но Бердяев расценил работу
Флоренского как неприкрытое нападение на Хомякова3. Он счел
нужным защитить Хомякова от Флоренского. Одного
учителя церкви — от другого.
Бердяев сразу же раскрывает карты. Все меняется.
Следовательно, и православие должно меняться. Вот есть
гуманизм. Теперь уже это факт, от которого никуда не
денешься. Православию нужно приспособиться к гуманизму,
привыкнуть к тому, что есть свободный человек. Что этот
человек — творец. Иными словами, Богу надо потесниться и
дать место человеку-творцу. Для Бога — это вопрос жизни
или смерти. Ну вот, мол, Хомяков это понял и стал Бога в
бок подталкивать, чтобы он пододвинулся. Место уступил.
Человеку. Но делал это Хомяков 'робко. Застенчиво. А
делать это нужно было решительно. Резко. И поэтому у
Хомякова была какая-то недоговоренность. Конечно,
Хомяков за свободу, но вот он не уразумел еще, что Бог должен
уступить часть своих прав как человеку, так и космосу
Природе. И как же иначе? А иначе православие умрет. Не
выживет. А Бердяев хотел, чтобы оно жило. «Хомяков не
был обращен к раскрытию космической жизни»4. И это
плохо. А В. Соловьев был обращен. И это хорошо. Но Бердяеву
1 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1900, т.1, с.26.
2 Флоренский П.А. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916; Завитне-
вич В.З. Алексей Степанович Хомяков. Киев, 1902, т.1, кн.1; 1913, т.2.
3 Бердяев H.A. Идеи и жизнь. Хомяков и свящ. П.А. Флоренский//
Русская мысль. М. и Пг., 1917, с.38.
4 Там же, с. 80.
78
этого мало. Ему не терпится. Ему нужно идти дальше
Соловьева. И дальше Соловьева только одно. Новый завет.
Новое Откровение. Нельзя ждать милостей от Бога. Взять
их наша задача. Если он не желает с нами откровенничать, то
мы сами станем как Боги. Почин нового откровения возьмет
на себя сам человек. Откровение не придет извне. Его нельзя
ждать. А Флоренский ждал. И Бердяеву это не понравилось,
и он стал всех убеждать, что Флоренский отрекся от
Хомякова. А это, мол, глупо. Это скандал. Потому что они оба
славянофилы. Ну ладно. Сам Бердяев не славянофил. Но
ведь ему же за идею обидно. Что же это получается? Сначала
славянофилы отреклись от В. Соловьева. А теперь вот еще и
от Хомякова отказались. Братцы-славянофилы! С кем же вы
останетесь?
Это первый аргумент Бердяева в критике Флоренского.
Второй звучит так. Флоренский обвиняет Хомякова чуть ли
не в протестантском уклоне. Но для Бердяева это все чепуха.
На самом деле «свящ. П. Флоренский хотел бы положить
предел безбрежной свободе в православии, которую уловил
и выразил Хомяков»1. Для Флоренского православие — это
религия смирения, покорности, принуждения. Для
Хомякова — это религия свободы. Один видит в православии
кушитство. Другой — иранство. А раз это так, то нам,
говорит Бердяев, нужно «сделать решительный выбор между
свящ. П. Флоренским и Хомяковым. Отдать решительное
предпочтение одному из этих учителей церкви, пойти
направо или налево, к свободе или принуждению»2. Бердяев
пошел налево. И уехал во Францию. Флоренский пошел
направо и остался в России. У Хомякова есть одна фраза,
касающаяся пограничных ситуаций. Она звучит так: «Живи
и мысли на том месте, на которое тебя поставила судьба»3.
Если ты бросил отцовский край, родину, ты — отщепенец4.
Бердяев подменяет смысл этого слова и заявляет, что это
Флоренский, это «он, именно он — отщепенец»5. И далее
1 Там же, с.72.
2 Там же, с.73.
3 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.1, с. 189.
4Тамже,с.191.
5 Бердяев H.A. Идеи и жизнь. Хомяков и свящ. П.А Флоренский//
Русская мысль. М. и Пг., 1917, с.74
79
следует замечательный оборот речи Бердяева. Почему же
Флоренский отщепенец? Да потому, что он порвал с
традицией великой русской литературы. Ну а коль он порвал с
литературой, так, значит, он плебей. Он мыслит
примитивно. Он ведет нас к Великому Инквизитору, а не к Богу.
Флоренский и подобные ему «подавлены и раздавлены
идеей святости»1.
Не родина, а литература — точка интенсивности бердяев-
ских размышлений. Но эта точка отделяет Бердяева от
Хомякова и сближает Флоренского с Хомяковым. Правда,
это сближение осуществляется вне православного дискурса.
Флоренскому важна в Хомякове цельность. Вот у
Хомякова она есть. А у Бердяева ее нет. Кто уцелел? Тот, кто не
допустил в себя рефлексию над собой. Хомяков не допускал.
Но он и скрытен. А Бердяев — рефлексун. Ему нечего
скрывать. Далее. Вот все говорят: любовь, любовь... Ну а если есть
любовь, то как же быть с авторитетом? Авторитет ничего не
значит в дискурсе любви. Если мы принимаем свободу, то
ведь мы отказываемся от власти. Но если нет власти, то нет и
страха. Нет τςτο, что ты обязан. Нет трепета. Никакая
церковь не может существовать без авторитета, власти, страха и
трепета. Флоренский понимает, что семейно-бытовой
принцип хорош среди родственников. Друзей. Но он неприменим
к церкви. Ты не племянник Богу. А в церковь ходят не чай с
клюквой пить. А Хомяков создавал возможность семейно-
бытовой интерпретации своего учения о церкви. Спора нет,
говорит Флоренский, хорош Хомяков. Но давайте пометим
опасные места в его умострое. Будем осторожны. Например,
церковь. У Хомякова — это пустое место. Потому что у него
церковь — это любовь. Семья. А ведь церковь — это еще и
иерархия, и обязанности, и страх, и власть. Поэтому учение
Хомякова о церкви — это учение о пустом месте в центре
тварного бытия. То есть пустословие. И еще. В Хомякове
есть что-то анархическое. Вольное. Ему не нравятся каноны.
Любовь как раз и является тем чувством, в котором
расплавлены каноны и нормы. «Растворение канонов в пучине
альтруизма не представляет ли сугубой опасности?»2 Ведь
1 Там же, с.80.
2 Флоренский П.А. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916, с. 15.
80
если я говорю церкви, какой ей быть, то это значит, что я
признаю не ее, а себя. Вот Хомяков и подает повод к
двойственному толкованию. Ну а раз он подает повод, то
Флоренский истолковывает. Договаривает. Вот, например,
собор. Никто из одиноких не узнает истину. А соборно мы ее
узнаем. То есть собор не нуждается в Боге. Он сам по себе
дает истину. А Флоренскому это непонятно. Ну так и скажите,
что вы атеисты. Или протестанты. Зачем же все это
православием называть? Хомякову дорога община. И он ее
приближает к Церкви. А Флоренский недоумевает. Ну чем
же община лучше правового государства? Вернее, она,
конечно, лучше. Но сама по себе не является приближением к
церкви. Или вот человек. Его свободное самоутверждение.
Все это замечательно. Но церковь-то здесь причем? Она
ведь полагает то, что вне человечности. А не внутри.
Хомякову же близко и то, что внутри, то есть гуманизм. И
трансценденция. Православие. Или вот самодержавие.
Является ли это понятие вероучительным или нет? Хомяков
как будто бы склонен признать то, что царь получает власть
от народа. Но если власть от народа, то она не от Бога. Народ
дал. Царь взял. Но ведь народ может и передумать. А это уже
не православный дискурс власти, если она дается не Божьей
милостью, а народной волей.
Или вот таинства. Хомяков их понимает не буквально, а
символически. Символизм — это вообще способ отделыва-
ния от трансцендентного. От чудес, то есть от вторжения
трансцендентного в область имманентного. В проговарива-
нии дословного Хомяков остановился на половине дороги.
На символе. Для него вино пресуществляется в кровь
фигурально. Символически. Как если бы. Понарошку. Для
Флоренского пресуществление дословно. Буквально.
Непосредственно. «Эти-то бесплотность и бескровность —
вероятно, гегелевская зараза — были в известной мере
болезнью раннего славянофильства»1.
Хомяков дополняет и перебивает православный дискурс
какими-то иными, чужеродными элементами. Это-то и
смущает Флоренского, для которого православие центр русской
культуры. Вне центрированности православием русская
1 Там же, с.ЗЗ.
6 Ф. Гнрснок
81
культура перестает существовать. Хомяков децентрирует
русскую культуру. Флоренский возмущается. Бердяев
радуется. Флоренский, как зверь, чувствует запах
надвигающейся большой крови и всеми силами укрепляет центр.
Бердяев, как наркоман. Он в возбуждении перед
новоязыческой стихией. Не будет православия, будет что-то другое. А
это даже весело. Он и веселится. Флоренский задает
вопросы: 1. Что же такое Хомяков? Учитель церкви или
родоначальник утонченного русского социализма? 2. Не
есть ли в нем самом изощренный рационализм? 3. Был ли
Хомяков верным слугой самодержавия, этой основы
русского государства, или в нем должно видеть творца народной
формы эгалитарности? 4. Углубляет ли Хомяков и охраняет
ли он корни Святой Руси или, напротив, искореняет
исконные ее основы?
Страха у него нет. Бога он не боится. Таков вывод
Флоренского. Имманентист он. То есть Хомяков объявил Бога
абсолютом, любезно расшаркался перед ним, вывел его в
пустоту и зажил независимо от него.
Ответ на вопросы, поставленные Флоренским, был
получен не теоретически, а практически. Редукция
православного дискурса была осуществлена ходом истории.
Топотом ног. В русской философии актуализировано не то,
что связывало ее с православием, а то, что ее связывало с
самосознанием народа. Востребованной оказалась
неопределенность двусмысленного Хомякова, а не православный
ригоризм Флоренского. Православный дискурс и русский
умострой более не совпадают. Их развел уже Хомяков. Не
совпадают они и у Флоренского. Русская культура может
существовать и вне православия. Конечно, нам лучше с ним. С
православием. По обычаю. Но теперь можно и без него. В
религиозной философии отчетливо проступили черты
русской философии. Даже у Бердяева, если иметь в виду его
«Философию неравенства» и «Новое средневековье».
Россия в дискурсе Хомякова
Лицо народа — это его вера. Так думал Хомяков.
Христианская вера определяет историю России. Вот захотели бы
мы стать самым богатым обществом — все равно успеха бы у
нас не было. Лицо будет мешать. Православие. Есть в нашей
82
вере что-то социалистическое. Или вот задумали бы мы
стать самым грамотным народом. И здесь успеха бы мы не
достигли. Почему? Да потому, что в этом замысле нет
мистицизма. Что же нам остается? Нравственность. Мораль. Наша
судьба: быть моральными. Жить и мучиться. «Путь наш
должен был быть тяжелым»1. России надобно быть или самым
христианским народом из всех человеческих обществ. Или
ничем. Но России легче вовсе не быть, чем быть ничем.
Это православный дискурс Хомякова, который
срабатывает еще и у В. Соловьева, и у софиологов. Но этот дискурс
уже в работах Хомякова перебивается новым ходом мыслей.
Соборным дискурсом русского самосознания. В этом
дискурсе Россия другая. «Мы России не знаем», — объявляет
Хомяков. Какую Россию. Да вот Россию как русскую
народность. Не православие, а семья и община отстояли Россию.
Наша тайна — быт. Управляет нами бессознательное.
Обычай. Поэтому Россия не построена. Она выросла. Это
произведение органического живого развития. Вот судьба
забросила нас на равнину Восточной Европы, и нам нужно
было на ней выжить. Мы искали не границы сознания,
границы той территории, на которой мы могли сплотиться в
один организм. Мы — территориализованный народ. И это
воздействует на нас не меньше, чем православие. Русские
люди разбрелись на огромном пространстве. Но границы
этого пространства нашли. Все свои физические и духовные
силы мы бросили на обживание найденных пространств.
В новом дискурсе преобладает органика территории, быт,
обряд. Из предисловия к «Русской беседе»: «Русский дух
создал самую русскую землю в бесконечном ее объеме, ибо это
дело не плоти, а духа; русский дух утвердил навсегда
мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных
пределах, русский дух понял святость семьи и поставил ее
как чистейшую и незыблемую основу всего общественного
здания; он выработал в народе все его нравственные силы,
веру в святую истину, терпение несокрушимое и полное
смирение»2.
1 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.З, с.337.
2 Хомяков A.C. Сочинения в 2-х томах. М., 1994, т.1, с.517.
6*
83
Национальный дискурс Хомякова делает возможным
нерелигиозное философское мышление. Русское
самосознание, опыт проговаривания дословного создал язык, в
терминах которого Хомяков отвечает Чаадаеву: «Что же
касается до условных форм общественной жизни, то пусть
опыты совершаются не над нами; можно жить мудро
чужими опытами; зачем нам вдаваться в крайности: испытывать
страсти сердца, как во Франции, охлаждаться
преобладанием ума, как Англия; пусть одна прогорает, а другая стынет:
одна от излишних усилий может нажить аневризм, а другая
от излишней полноты — паралич»1.
Пусть опыты совершаются не над нами. Потому что у нас
лучшая форма общежития. Община. Чем она хороша? Да
тем, что она во лжи не нуждается. То есть, чтобы быть вместе
людям, нужна ложь. Обман. Без обмана мы глотки
перегрызем друг другу. Значит, в мире есть что-то, что существует не
почему-либо, а потому, что люди живут вместе. И это что-то
обман. А в общине можно жить без обмана. По совести. А
если жить по совести, то что может помешать этой жизни?
Свобода. Стремление к свободе. Так вот, стремлением к
свободе существуют бессовестные люди. Несоборные.
Свобода — негативное понятие в философии Хомякова. Как
и демократия. У Хомякова есть одно забавное утверждение
о том, что Россия самая демократическая страна среди всех
европейских народов. Но демократия связана у Хомякова не
с политикой, а с бытом. То есть в Европе она связана с
политикой. А у нас с бытом. В Европе есть завоеватели и
завоеванные. Для нас же всякое племя имеет право на
вольную жизнь. На Западе завоеванные — скоты. Рабы. А мы
женимся на скотах и рабах. И в этом смысле мы демократы.
«...Для нас нет тех болезней, которыми страдает Европа, а
есть свои и ...вся система общественной жизни должна быть
у нас своя». Этими словами Хомякова объясняется и смысл
работы евразийца Н. Трубецкого. У нас нет тех болезней,
которыми страдает и Восток. Мы сами должны лечить себя.
Никто нам не поможет. Вот, например, свобода. Это великая
вещь. Но за свободу нужно платить любовью к себе и
нелюбовью к Богу. Поэтому-то нам такая свобода и не нужна. И
1 Там же, с.450.
84
демократия не нужна. У нас правнук негра — слава и
гордость России. А в Америке ему отказали бы в праве
гражданства. И даже отказали бы в браке с белолицей
дочерью прачки или мясника. «Мы будем, как и всегда были
демократами между прочих семей Европы»1.
1.4. Мысль, как невыразимость мысли.
Немая речь И.В. Киреевского
Россия была больна. И.В. Киреевский поставил диагноз:
рационализм. И успел написать рецепт: верующее
мышление. И все. Больше у него ничего не получилось.
Рационализм — продукт западного мышления. На Западе
против него уже выработано противоядие. А мы
беззащитны. Наша иммунная система подавлена. А западники этого
не понимают. Конечно, они хотят добра России. Но пути
Господни неисповедимы. Западники заразили русское
мышление рационализмом. А барьеров и противовесов ему не
нашли. Чем же плох рационализм? Да тем, что его действие
у нас будет разрушительным, а не производительным.
Прежде всего он разрушит православие. Устарело оно или не
устарело — это другой вопрос. Главное, что в нем
сохранилась живая вера. И одним этим уже оправдано
существование православной церкви. Рационализм
превратит живую веру в мертвую. Ну ладно, проживем без веры.
Но ведь этим дело не закончится. Ведь есть еще человек. А
человек у нас — это его вера. Значит, нужно разрушить и
этого человека. А вместе с ним будет разрушен и быт —
наиболее глубокий уровень человеческого существования. А
в дыру, разверзшуюся на месте быта, улетит все: народы,
цивилизации, религии, философии. Чтобы этого не случилось,
нам нужно верующее мышление. То есть православная
философия, которая и станет противоядием. Вот выпьет
человек эту микстуру и вылечится. И рационализм ему
будет не страшен, то есть рационализм и у нас станет
производительным. Верующий человек будем мыслить. А
мыслящий будет верить. Мысль и вера соединятся в
целостном человеке и не будут разрушать друг друга.
1 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.5, с. 107.
85
Православная философия была создана. Но стала ли она
противоядием? Нет. Почему? То ли потому, что мы забыли
или не захотели принять это лекарство. То ли потому, что
оно было неэффективно. Вот в чем вопрос.
Картография родословной
Иван Киреевский родился в 1806 году. Его отец —
Василий Киреевский. Масон, филантроп и патриот, не любящий
французов, потому что у них был Вольтер и революция.
Любил Англию за консерватизм. В усадьбе разбил английский
парк.
Мать — Авдотья Юшкова. Вышла замуж в 16 лет. В 17
родила Ивана. В 19 — еще одного мальчика. Его назвали Петром
в честь царя-преобразователя. Но Петр стыдился своего
имени. Ему не нравился царь Петр, и он гордился тем, что род
Киреевских обязан своим положением в обществе
допетровским временам. А не табели о рангах. Петр Киреевский любил
русское, веру, традицию, деревню. И не любил Запад. У
Киреевского было четйре брата и одна сестра.
После смерти мужа А. Юшкова выходит замуж за своего
троюродного брата Елагина. Некоторое время воспитанием
Ивана Киреевского занимался В. Жуковский. Природу Иван
не любил. А книги читать любил. К 10 годам он перечитал
всю домашнюю библиотеку. В 13 лет он читал Локка и
рассуждал о теории познания. Под влиянием отчима
пристрастился к чтению Шеллинга. Играл в шахматы.
На службу поступил в Архив Министерства
иностранных дел. Карьеры не сделал. Примкнул к любомудрам, где
тон задавали В. Одоевский и Д. Веневитинов. Любомудры —
мальчишки. Им по 17-18 лет. Они хотели перевернуть мир,
чтобы послужить России. Переворот начался с отношения к
религии. Христианство предназначено для народа. А для
них, для любомудров, философия. Спиноза выше
Евангелия. Этот тезис считался у любомудров само собой
разумеющимся. Ну а если Спиноза выше Евангелия, то
сапоги выше Пушкина. На собраниях любомудров
И. Киреевский был тих и незаметен. Спорить он не любил.
Жизнь Киреевского протекала размеренно. Вяло. «...Дни
мои проходят все одним манером. «Поутру я встаю поздно,
часов в 11 ... потом одеваюсь, кто-нибудь является ко мне,
86
или я отправляюсь куда-нибудь, потом обедаю по большей
части в трактире, — после обеда сплю или гуляю. К вечеру,
если дома, то с Жуковским, а если не дома, то с
петербургскими московцами, потом... ложусь спать: в эти два часа,
которые проходят между раздеванием и сном, я не выхожу
из-за московской заставы»1. Таков был ритм жизни у
Киреевского в столице. В Петербурге. В деревне жизнь у него
была еще более размеренной.
Я—русский
Иван Киреевский всегда осознавал свою русскость. Даже
во время любомудрия. И это осознание не всегда было
связано с православием. 1827 год. Из письма Киреевского
А. Кошелеву: «Я русский, и считаю обязанностью
действовать на благо своего отечества»2. Россия богатая страна. У
нее славная история. Но где у нее литература? Нет ее. Что
мы сможем предъявить в судный день? Ну «Историю
России» Карамзина. Несколько стихов Жуковского и Пушкина.
И все. Далее в сравнении с Европой этого мало. Значит, что
нужно делать? Литературу. Всем. Скопом.
Но Киреевскому не повезло. Он желает блага России, а
она отворачивается от него. Он открывает журнал, а его
закрывают. Из-за интриги. Булгарину не хотелось, чтобы
появился новый журнал. Зачем ему «Европеец»? Ему
достаточно «Северной пчелы», он не желает терять подписчиков.
И он распространяет информацию о том, что в «Европейце»
Киреевского проповедуют идеалы революции, а также
культивируют неприязнь к лицам с немецкими фамилиями. Ну
здесь Бенкендорф и вмешался. И Киреевскому пришлось
защищаться. Он к Жуковскому, а тот — к царю. Мол, так и так.
Если не оставите в покое моего родственника, не буду
воспитателем вашего сына. И две недели не выходил на работу. Да
тут царица вмешалась. И Киреевского оставили в покое. Его
не преследовали. А журнал закрыли.
Неудача с «Европейцем», затем с «Москвитянином»,
запрет «Московского сборника» сломали Киреевского. У
него пропал кураж. Время шло, а он ничего не писал. Лите-
1 Киреевский И.В. ПСС. Мм 1911, т.1, с.19.
2 Лясковский В. Братья Киреевские. СПб, 1899, с. 13.
87
ратура состоялась в России без Киреевского. Но была еще
потребность в философии. Из обозрения русской
словесности за 1829 год: «Нам необходима философия: все
развитие нашего ума требует ее»1. В 50-е годы Киреевский
намерен всерьез заняться философией. Он обдумывает
начала новой философии. Составляет план. Пишет
вступление к «Необходимости и возможности начал новой
философии» и едет в Петербург. Приехал. Заболел. Умер.
Но дело свое сделал. Русская философия состоялась
стараниями славянофилов.
Жена
В 1834 году Киреевский женился на Н. Арбеневой.
Киреевский — вольнодумец. Арбенева — православная. Он не
очень-то верил в Бога. А жена верила. Ей надо обряды
соблюдать, а он мешает. Гостей приглашает и всякие
кощунственные разговоры ведет. Как какой-нибудь
материалист. Ну так долго не могло продолжаться. Развод был
неминуем. И они,договорились избегать неприемлемых друг
для друга поступков и слов.
Вот наступит вечер, зажгут они свечи и читают.
Каждый — свое. Арбенева — святых отцов церкви. Киреевский —
Вольтера. Попытался И. Киреевский и жену приучить к
чтению философской литературы. Он ей что-то из Вольтера
предложил. А она отмахнулась. Мол, несерьезно все это.
Тогда он стал ей интересные места из Шеллинга зачитывать.
Прочтет и ждет реакции. А реакции никакой. Мол, что же
тут нового. Все это у святых отцов написано. Только лучше.
Без философских спекуляций. И показывает Ивану эти
места. Иван смотрит и удивляется. Действительно, лучше, чем у
Шеллинга. Ну стал он тайком брать книги жены и читать их.
И прочел. И понял, что русская философия должна
основываться не на немецкой философии. И не на французской. А
на писаниях святых отцов церкви.
В 1842 году он попросил жену взять у своего духовника
крест для него. Н. Арбенева поехала к Филарету. Все ему
рассказала. Филарет снял с себя крест и передал Ивану
1 Там же, с. 16.
88
Киреевскому, который и одел его впервые за свои 36 лет.
Стал посещать Оптину пустынь. Укрепился в вере.
Рационализм условности
Из письма Хомякову 1840 год. «Оперировать
сознанием — значит чертить план, но отнюдь не значит строить дом;
поэтому, когда дело доходит до настоящей постройки, нам
уже трудно нести камень вместо карандаша». Европа
рациональна. Что значит рациональна? В обзоре «Девятнадцатый
век» Киреевский заявляет о том, что жизнь выше слова. Он
говорил так: «Чистоту жизни возвысим над чистотой
слова». Оставим в стороне пока слово «чистота». Вот если
жизнь выше слова, то мы имеем жизненный мир. А если
слово выше жизни, то мы имеем рациональный мир. То есть мир
у-словностей.
В чем же их отличие? В одном случае мы имеем дело с
просвещением и образованностью. В другом — с
необразованностью. Ведь если жизнь выше слова, то в мире есть
что-то, что не определено рассудком. Не следует порядку
слов. Есть дословное. Стихия. А она не образована. То есть у
нас для нее нет образа. И наоборот. Если слово выше жизни,
то в мире есть что-то, что держится порядком слов.
Условностью. Есть "что-то словесное. Безжизненное. Ведь
словесными связями жизненные отношения не заменишь.
В рациональном мире мало жизни. В жизненном мире
мало рациональности. Россия — жизненна. Но что ближе к
нам? Быт. То есть жизнь — это прежде всего быт. И ни в
коем случае не бытие. Потому что если бы жизнь мы стали
понимать как бытие, то слово возвысили бы над жизнью. И
тогда получилось бы так, что сами мы живем в жизненном
мире, а говорим не о нем, а о каком-то другом мире. О
рациональном. И у нас получилась бы плохая философия.
Поэтому-то «наша философия должна развиваться из
нашей жизни... из нашего народного и частного быта»1.
Чистота быта достигается участием в общей жизни
просвещенного мира. То есть просвещение — это не учительство.
Не поучение. И не создание возможностей для того, чтобы
1 Киреевский И.В. ПСС. М, 1911, т.1, с.103.
89
кто-то мог подумать сам. А участие в общей жизни
просвещенного мира. В соборном действии.
В «Ответе А.С.Хомякову» Киреевский усиливает свой
тезис. В рациональном мире разум человека торжествует
над человеком. Он формален, потому что основан на самом
себе. И ни в чем вне себя не нуждается. Он «выше себя и вне
себя» ничего не признает. Пойди, достучись до этого разума.
Расскажи ему о своих проблемах. Не расскажешь. А если
расскажешь, то он их не поймет. Вот эту особенность разума
Киреевский называет отвлеченностью. Критика
формальной отвлеченности и отвлеченной чувственности составит
предмет философских исследований В. Соловьева.
Превосходство слова над жизнью, сущности над
существованием создает опасные пустоты жизни. Жить в
разуме — это все равно, что жить по схеме вместо того,
чтобы просто жить. Сущность дома — это не дом. Чтобы его
построить, надо камни таскать. А они тяжелые. Киреевский
связывает рациональность с обманом, обольщением и
предательством. Обманывают слова, а не жизнь.
Рациональный мир-'лжив. За рациональность надо платить
расколом. Субъект-объектной дуальностью, а также
отрывом веры от разума.
В жизненном мире нет оснований для лжи. Поэтому в
нем преобладает простодушие и наивность. Дословность
жизненного мира не может управляться словами.
Формальными законами. Она управляется обычаем. Тебя еще нет, а
обычай уже есть. Никто не может изменить обычай по
своему усмотрению. Обычай делает невозможным автономию.
Ты можешь дать себе обычай. Потому что обычай держится
сцеплениями жизни многих людей. А если ты не один и
живешь по обычаю, то ты зависим. И никакая частная
собственность не убережет тебя от такой зависимости.
Частная собственность не священна.
Вот, например, право. Оно условно. Ипоэтому возможно
в рациональном мире. И невозможно в жизненном мире.
Вернее, здесь оно будет ограничено правдой. Правда —
дословна. Право можно уступить, передать и даже продать. А
правду никакая власть не может ни уступить, ни продать, ни
передать. Правда существует сама по себе в дословности
жизненного мира.
90
Рыцарская честь
Мир условностей славен рыцарством. У каждого рыцаря
свое лицо. Быть с лицом — значит вступить на поле чести, то
есть выполнить условные правила, если даже придется на
кон поставить жизнь. Всякое лицо уже само по себе
является вызовом. А на вызов отвечают вызовом. К лицу
прилагается пощечина или другое действие, наносящее рану
на тело чести. На пощечину нельзя отвечать пощечиной.
Потому что получится драка. Восстановить честь можно лишь
одним способом. В поединке мечей. Смертью обидчика.
Рыцарская культура чести не была развита в России. Почему?
Ответ на этот вопрос Киреевский дает в терминах
различения условности и дословности, рациональности и
жизненности. «С первого взгляда кажется непонятным,
почему у нас не возникло чего-нибудь подобного
рыцарству...»1. Действительно, несколько веков в России была слаба
власть. Делай, что хочешь. Полиции нет. Леса глухие.
Сговорились несколько человек, составили шайку, захватили
деревню или город и установили свои правила. Дали себе
закон, объявили святой собственностью. Построили крепость.
И жили бы припеваючи. Что ни деревня, то своя мафия.
Своя крепость. Свой рыцарь. Между собой рыцари бы
договорились. Установили общественный договор. Правила
поведения. Возникло бы сословие сильных, с которым
нельзя было бы не считаться. Церковь обратилась бы к ним за
помощью и за деньгами. Организовала бы ордена и
превратила крестный ход в крестовый поход. Кто пойдет в поход
против неверных, тому прощены будут грехи, тот причислен
будет к служителям церкви. И многие разбойники пошли
бы. Христианство создает в Европе пространство
преобразования человека. Ты входишь в это пространство
разбойником, а выходишь рыцарем. Православие такого
пространства не создало. Оно осталось ригористичным. Но
русская православная церковь их не пригласила. Оно не
пошло на поклон к бандитам. В России разбойник оставался
разбойником. В Европе разбойник стал рыцарем. Получил
духовное обоснование своего действия. Поле чести условно.
Правда — безусловна.
1 Там же, с. 116.
91
У тела дословности нет лица. Морщины на нем —
результат взыскания правды, а не чести.
Верующее мышление
У Киреевского есть одна гениальная фраза, в которой
выражено существо русской философии. Эта фраза звучит
так: никакая мысль не может считаться зрелой, если она не
развилась до невыразимости в слове1.
У этой мысли есть свои леммы. Например, «чем более
человек найдет в душе неразгаданного, тем он глубже постиг
себя». Или «чувство, вполне высказанное, перестает быть
чувством».
Невыразимость мысли накладывает запрет на
рациональность и открывает возможность для умозрения в
красках и письма дословности, называемого Киреевским
«верующим мышлением». Что же это такое — «верующее
мышление»?
В свое время вульгарность и необразованность первых
христиан была той трещиной, в которую образованное
язычество греко-римского мира накапало яд рационализма.
Христианство ассимилировало Платона и Аристотеля,
стоиков и неоплатоников. И этот яд разъел христианство,
приравнявшее отца к сыну и заменившее предание
умозаключением. Теизм стал сопровождаться атеизмом. Потому что
у них обнаружилось одно и то же основание. Разум.
Разумное обоснование веры дополнялось разумным отрицанием
веры только лишь потому, что разум оыл разумом, а вера
была верой вне связи друг с другом. Ну а если человек
раздроблен на несвязанные друг с другом части, то он теряет
способность непосредственного познания истины. Это
познание будет всегда опосредованным. И истину ты будешь
всегда воспринимать в чьей-то интерпретации. То есть ты
будешь воспринимать не истину, а ее интерпретацию другим,
называющим себя разумом.
Православию удалось избежать болезни. Оно не
переболело рационализмом. В нем не была растворена языческая
мудрость древнего мира. И поэтому воздействие
православия на народный быт состояло в культивировании
1 Там же, с.67.
92
внутреннего чувства, с которым должно было
сообразовываться внешнее поведение. А внутреннее чувство означало
всего лишь осознание присутствия в себе Бога.
Согласованность действия людей, объединяемых обычаем, требует
определенной нравственности, то есть соблюдения нравов.
Если у нас общий обычай, мы одни. И у нас есть
нравственность. Если нас связывают интересы, мы другие. И
соблюдать нравы не обязательно. В первом случае
необходимо внутреннее чувство. Во втором оно мешает. Оно излишне.
Россия сохранила внутреннее чувство. Европа утратила
его. Но что это значит? Это значит, что христианство,
столкнувшись с просвещением, сумело ответить атеизму на языке
разума. Оно сохранило себя, потеряв внутреннее чувство.
Православие, столкнувшись с атеизмом, рожденным на
почве другой культуры, ничего не сумело ему
противопоставить. Несколько статей Герцена и Добролюбова отворотили
от православия огромное количество образованных людей
только лишь потому, что доводам разума они ничего не
могли противопоставить. У них не было языка, на котором
можно было бы защитить веру. Вера столкнулась с разумом.
Столкнулась и разбилась. Для этого не надо было Дидро с
Вольтером. Достаточно было Писарева с Чернышевским. А
если она разбилась, то должен был разбиться и русский быт.
Так вот, чтобы вера и разум не сталкивались, необходимо
верующее мышление. Разум должен быть подчинен целостной
личности, которая исключает возможность существования
автономного разума и автономной личности. Вера,
обоснованная разумом, мертва. Живая вера нуждается в тайне. В
непосредственности.
Образованный класс России утратил живую веру. И это
испугало Киреевского. Нужно было либо приспособить
православие к запросам образованных людей, либо создать
язык, на котором образованный класс мог доводами разума
защитить себя от неверия. Православная философия — это и
есть верующее мышление.
Но интеллигенция избрала атеизм, а не верующее
мышление. Живая вера хранилась крестьянином. Но он был
беззащитен перед атеизмом. Спасти верующее мышление
может только запрет на образование. На перемены. Что
сдерживает перемены? Крепостное право. Если его
отменить, то яды рационализма разольются по всему обществу и
93
православие ему ничего не сумеет противопоставить. Все,
что стоит, стоит как русское. Все, что движется, движется к
неметчине. К Европе. Ну освободи крестьян, а у них нет
внутреннего закона. Нет опыта существования автономной
личности. И поэтому их легко может совратить как кабак,
так и революция. То есть полуобразованный атеист легко
справиться с крестьянином, выпавшим из традиционной
социальной ячейки. Поэтому Киреевский и говорит: никаких
перемен. Тише едешь, дальше будешь.
Перемены произошли. Крестьянин перестал быть
опорой православия. И оно рухнуло. Православную
философию смыло революцией. Идея Нового завета, равно как и
мысль о возврате к непосредственности живой веры первых
христиан, оказались несостоятельными. Вряд ли помогло
бы православию и единство всех христиан. Потому что
идеология нового язычества оказалась ближе к людям и
понятней1.
Сердечный человек
Из письма Киреевского А. Кошелеву: «Я человек
ленивый». Хорошо быть среди ленивых людей. Есть в них что-то
притягательное. Киреевский и писать любил с турецкой
негой лени. Не спеша. Ввечеру, за чаем. Чтобы в одной руке
трубка. В другой — перо. И чистый лист бумаги. «Я пишу,
как пью чай»2. В этих словах Киреевского уже угадывается
Розанов. Его манера письма.
Киреевских много: четыре брата, сестра, мать с отцом, да
еще кто-нибудь из своих. И нет у них обычных ссор,
соперничества. Все у них задушевно. Искренно. Непосредственно.
Трудно себе представить рассчитывающего Ивана
Киреевского. Чтобы вот он сидел и думал, какую же деревеньку ему
получше отхватить. Так, чтобы доход от нее был. И чтобы
никто из братьев не опередил его. В семейно-бытовом мире
Киреевских доминировало чувство. А чувство требует иных
прилагательных, нежели мысль. Например, можно сказать
теплое чувство. Но нельзя сказать теплая мысль. Потому что
теплых мыслей еще никто не встречал. Киреевский рос сре-
1 Гиренок Ф.И. Метафизика пата. М., 1995.
2 Киреевский И.В. ПСС. М., 1911, т.2, с.226.
94
ди прилагательных чувства, а не мысли. Почему же бывает
непосредственное чувство и не бывает непосредственных
мыслей? Почему мысли могут быть правильными, а чувства
не могут быть правильными? Почему задушевная мысль —
это не мысль, а чувство?
Киреевский не мыслил. Он чувствовал. И
прочувствованное укладывал в слова. И Хомяков не мыслил, а только делал
вид, что мыслит. Но Киреевский даже вида не делал. У
Хомякова было развито воображение. Он воображал. Додумывал. А
Киреевский не воображал. У него, как заметил Гершензон,
вообще не было воображения. Ибо воображение — это проблема
бесчувственных. Не один достаточно тонко чувствующий
человек никогда не воображал и воображать не будет.
Воображение — способ существования людей бессердечных. С
грубыми чувствами.
Чувствительность Киреевских делает их мнительными.
Они все время ожидают какого-нибудь несчастья. Беды. Вот
Маша — сестра Киреевского — чихнула или, что еще хуже,
голова у нее закружилась — и все семейство уже на ногах.
Посылают за доктором. А вдруг она заболеет и умрет. Или
Иван Киреевский. Он постоянно пребывает в тревожном
состоянии. Ему мерещится самое невозможное. Вот уехал он в
Германию. На^четыре года. Ну, казалось бы, живи, работай и
отдыхай. А он'был в Германии всего девять месяцев. Потому
что получил известие: в России холера. Ему страшно: а вдруг
кто из родных заболел. Или заболеет. Он на коня и домой. И
все побоку. И брат его тоже домой помчался. А тут польские
события начались. А у Киреевского фамилия оканчивается
на «ский». Как у поляка. Его брата Петра задержали в Киеве.
И к губернатору. Стали выяснять не польский ли он агент.
Выяснили. Отпустили. А сколько нервов было истрачено.
Киреевский завидовал людям мужественным.
Отвлеченным. Вот шум кругом. Война идет. Цены растут. Заводы
стоят. Разруха. Рядом с тобой люди болеют, чахнут и гибнут,
а ты работаешь. Переводишь Гомера. Или пишешь роман. И
никакого внимания. Да пусть он, этот мир, хоть
перевернется. Но Киреевский так и не смог преодолеть свою
чувствительность. И поэтому он придумал теорию
сердечного человека. Согласно этой теории все люди делятся на
сердечных и бессердечных. Если в тебе есть чувство, то в
тебе есть что-то первозданное. Есть какая-то сердцевина. И ты
95
сердечный человек. Тепло около тебя. Если же в тебе
преобладает мысль, рассудок, то ты внешний человек. Ты — без
сердцевины. И около тебя холодно. В сознании нет ничего,
что оно могло бы прибавить к тому, что идет от сердца. Ну а
если внутренний человек объединяется с внешним, а
чувство—с сознанием, то получается целостный человек. У всех
людей есть сознание. Но в сознании коренится ложь.
Чувства лее не обманывают. А вот если к сознанию прибавить
сердечное чувство, то оно избавится от лжи. Но тогда оно
будет невыразимо. «Что есть в сознании и чего нет в чувстве,
то — ложь данного человека; высшего человек достигает
только в тождестве своего чувства и сознания»1.
Сердечный человек, как Иванушка-дурачок. Он делает
то, что нельзя рассчитать умом. У него наитие. Ему снятся
вещие сны. Сердечному человеку противостоит
шизофреник. Раздвоенный человек, у которого мысль отделилась от
чувства. У сердечного человека все мысли органические. То
есть к мысли можно идти органическим путем и
отвлеченным. Рассчитывающие шаги сознания — это отвлеченный
путь. На этом ц^ти есть посылки, анализ, синтез и вывод. И
ничего непосредственного. Все откуда-нибудь выведено.
Опосредовано. Органический путь ничего ниоткуда не
выводит. На этом пути нужно рассмотреть то, что в тебе.
Заняться собой, раскрутить себя и этим раскрутом
вытащить весь мир.
Сосредоточенность на одном и том же, непрерывность
размышления обеспечивается не чистой апперцепцией,
страстью сердечного человека. Энергией эмоции. Личными
переживаниями. В этом случае мысль возникает
непроизвольно. Она постепенно просачивается в сознание.
Задерживается в нем. Становится идеей-верой, мыслью-
страстью.
У Киреевского мысль органическая. Это установил еще
Гершензон. Ну а если его теория сердечного человека
органическая, то Киреевский не мог не заметить, что культура
наращивает отвлеченное знание. Бесхарактерное. И что этот
рост никак не связан с уровнем нравственности. То есть что
внутри у человека? Да, может быть, ничего. Пусто. Человек
1 Там же.
96
возможен и без сердцевины, а у сотворенного им нет
авторства. Сердечная опустошенность оправдывается в теории
деятельности. Неважно, кто делает. Важно, что сделано.
Разрыв между внешним и внутренним человеком дополняется
разрывом между автором и произведением. Автор умер, а
произведение становится текстом. Но если не валено, кто
говорит, то вполне допустима и не важность того, что сказано,
то есть допустимо существование автора без произведения.
Ведь автор всегда может указать на себя как на нечто более
важное, нелсели его произведение.
Киреевскому во всех случаях необходимо знать, кто
автор, чтобы установить: есть ли в нем внутренний человек
или нет его. Вот пример. Заболел Языков и давай себя
лечить средствами гомеопатии. Киреевский в ужасе. Что ты?
Ведь нужно узнать, кто изобрел гомеопатию. Автор кто?
Ганнеман. Да он же шарлатан. У него нутро гнилое, хотя ум
гениальный. Ну а если он внутренне непорядочный человек,
то его изобретение в целом будет лживо. Хотя в своих частях
оно молеет быть истинным.
Для того чтобы была мысль, нужна эмоция. Страсть. Ко-
гитальная машина мысли — нереальна, потому она строится
как вечный двигатель. Как автомат, источник энергии
которого не указан. Откуда дровишки? Кто их подвозит? Декарт
молчит. Нет у него ответа. Ну а если в деле мысли валена
энергия чувства, то другой здесь помеха. Во-первых, он
может разрушить эмоцию. Во-вторых, ты и сам ее можешь
разрушить, если обратишь внимание на другого. Начнешь
ему объяснять. А это все требует каких-то затрат. Вот пока
ты рассказываешь другому, ты устаешь. Тебе надо бы взяться
за мысль и помыслить, а сил у тебя уже нет. Другой
выпустил из тебя пар, и ты обмяк. Мало того, в общении с другим
тебя интересует уже не мысль, а ее изображение, форма,
приемлемая другим. Вот ты передал другому приемлемую
форму мысли и иссяк. И тебе стало скучно. Мысль тебя
больше не волнует. Был живой цветок. С запахом. Стал
нарисованный. А нарисованный цветок не растет и не пахнет.
Это симуляция. И вот культура полна таких симулятивных
цветов мысли. А на симуляцию отвечают удвоенной
симуляцией. То есть иронией. Притворством притворного.
«Мысль только до тех пор занимает нас горячо и
плодотворно, пока мы не выскажем ее другому; тогда наше
7 Ф. Гиреиок
97
внимание с живого предмета переносится на изображение и
он вдруг перестает на нас действовать»1.
Поэтому не говори с другим о том, что тебя занимает.
Если,, конечно, тебя занимает какая-нибудь мысль. Другой —
враг мысли, а смиренный инок в кельи — идеал цельности
сердечного человека.
Сновидения Киреевского
Из письма Киреевского к сестре: «лучшая жизнь моя
была во сне»2. Сны — вздор, но этот вздор доходит до сердца.
Днем у Киреевского одна жизнь, ночью — другая. Днем
он в Германии. Ночью — в Москве. Среди родных.
Киреевский наблюдает за снами. Изучает их повадки.
Во-первых, сны не свободны и зависят от того, кто в них
появляется. Ну а раз они зависят, то тот, кто снится, может
колдовать. Во-вторых, сны как дети. Они хватают все, что
перед глазами. Например, снятся Киреевскому родные, а перед
глазами у него — немцы. Сны хватают немцев и
перемешивают их с родными.^В-третьих, сны нечувствительны к угрозам.
Сон, как кошка," любит ласку. Сны нужно ласкать.
В-четвертых, на сны действуют сны тех, кто тебе дорог. Есть какая-то
сонная сообщенность близких людей. И поэтому есть в мире
такая сторона, о которой мы можем что-то узнавать
сновидениями. Эта сторона — дословность.
Одежда как знак. Исследования Киреевского
Хорошо одеться также трудно, как стать великим
музыкантом. Или поэтом. Во-первых, нужен вкус. Во-вторых,
нужна красота. В-третьих, необходимо воспитание3.
Одежда, как слово, имеет свой внутренний смысл. Лад.
Она должна быть в ладу с лицом и существом одевшегося.
Если человек показывает, что одежда для него не имеет смысла,
он одет дурно. Манеры человека обязаны совпадать с
ожиданиями, возбуждаемыми одеждой. Если они не совпадают, то
человек одет дурно. Непременно требуется согласованность
1 Киреевский И.В. Письма. Цит. по М.О. Гершензон. Исторические
записки. M.f 1910, с.23.
2 Киреевский И.В. ПСС. М., 1911, т.2, с.221.
3Тамже,с.165-168.
98
одежды и ума. Если нет этой согласованности, то человек одет
тоже дурно. Ни один человек не может быть одет хорошо,
если он не обладает возвышенным умом и характером. Без
возвышенного характера нельзя отвлечься от суетности. А где
суетность, там желание нравиться. И это желание
оказывается сильнее необходимости сохранения внутренней
гармонии. Во время суетности человек предпочитает
понравиться за счет истины. Но по счетам надо платить. Рано или
поздно истина предъявит иск. Женщина без возвышенного
ума предпочтет мнение многих мнению немногих. Качество
ее поклонников перейдет в их количество.
И особенно важно обуть себя. Нескладный башмак — это
плохо. Стоптанная обувь на одну сторону — это просто
позор. Неуважение к людям. Если нет следования моде,
человек одет плохо. Если у него при этом нет чувства
простоты, то он одет дурно. Если простота есть, но нет
опрятности, то человек одет дурно. Смешение стилей и
перегруженность убора — признак безвкусицы.
Одежда, как лицо. Она является зеркалом души. Для
того чтобы было это зеркало, нужна душа. Главное в одежде —
это душа человека.
Задний ум
Славянофилы порядочные люди. И этим они
отличаются от западников. Вот Белинский. Талант, но без убеждений.
Он «всегда под влиянием чужих мыслей»1. Все схватывает
на лету Но поверхностно. Или Чернышевский с
Добролюбовым. Циники. Плебеи. У них отношения на грани
извращения. Славянофилы щепетильны. Особенно
Киреевский. Его щепетильность в вопросах чести видна даже в
наивной манере письма. Киреевский полагает, что писать —
это значит исповедоваться. Его тексты — это тексты
предельной искренности. В них предмет мысли не совпадает с речью.
Или с письмом. Киреевский говорит в предположении, что
его речь может быть отделена от описываемого события и
поэтому она должна подчиняться простым требованиям.
Во-первых, письмо не должно обращать на себя внимание.
Если оно обратит на себя внимание, то тем самым оно уведет
1 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1900, т.1, с.79.
7*
99
читателя в сторону от предмета обсуждения. Во-вторых, оно
должно быть прозрачным, как стекло. Без самоиронии.
В-третьих, письмо должно быть авторским. То есть
предполагается, что автор понимает все им сказанное и знает
больше, чем сказал.
Киреевский требовал философской ясности от себя и от
своих друзей. Если бы он нашел понимание у своих друзей,
то русская философия давно бы уже тематизировала свои
особенности. Но Киреевского посчитали занудой и
отмахнулись от его надоедливых философских тематизаций. А
кроме него, тематизациями мысли никто не занимался. Вот
пример: «Письмо московским друзьям». 1847 год. В этот год
отмечали 700-летие Москвы. Славянофилы собирались у
Погодина. А это, как у черта на куличках. Ехать далеко.
Дороги плохие. Март. Грязь. Настроения у Киреевского не
было. Но он поехал. Надо встретиться. Выяснить, что их
всех объединяет. Что разъединяет. Приехал. Ну давайте
поговорим. А что говорить? Мы все за. Мы славянофилы.
Киреевский начинает перечислять неясное. Во-первых, что
такое славяне?^то имеется ввиду: язык, кровь, народность,
православие или враждебность к Европе? Во-вторых, что
значит народ? Это что простой народ, идея народной
особенности, следы церковного устройства в обычаях народа
или что-то еще? Если мы говорим о цельности, о
всеединстве, то почему же отвлеченной оказывается аристократия?
Аристократизма нет в народе. Это так. Но это плохо по
философским соображениям. Он должен быть. Потому что
если его не будет, то будет плебейство. И не будет
всеединства. А это страшно. В-третьих, поддерживая народ, нужно ли
поддерживать государство? Государственники и
народники — как они соотносятся между собой в славянофильских
концепциях1.
Поговорили, поговорили славянофилы, выпили по
рюмочке и разъехались. Процесс самопознания русской
философии растянулся вплоть до В. Розанова. На 60 лет. А
мир не ждал, пока русские философы разберутся с
предпосылками своей философии и напишут «Речи к русской
нации». И они опоздали. Киреевский — это символ запазды-
1 Киреевский И.В. ПСС. M., Î911, т.2, с.342.
100
вающего русского самосознания. Все русские философы не
могут теперь не опаздывать. Сознание ускользает от нас. Мы
сильны задним умом.
Систематическое мышление
«Для отвлеченного систематического мышления нет
места в тесноте громадных общественных событий»1.
Систематическое мышление имеет смысл, если у тебя есть
какая-нибудь идея и ты понимаешь мир этой идеей. А он
стоит и ждет, когда его поймут. У Киреевского была идея.
Одна. Но систематического мышления у него не было. У
систематического мышления скорость не та. Оно слишком
неповоротливое. Его разогнать трудно. Системно хорошо
мыслить в момент застоя. Когда никто никуда не спешит.
Так вот скорость изменений в современном мире так
велика, что она делает ненужным прохождение всех
инстанций ума. Мир не ждет, пока ты покончишь с гносеологией и
перейдешь к этике. Более того, быстрая смена одного
события другим превращает само событие в театральную
декорацию. Событие бытия утрачивает свою бытийность и
становится событием-спектаклем. А длинные философские
монологи укорачиваются до размеров клипа, обозреваемого
из одной точки.
Деконструкцией понятий философии уже никого не
удивишь. Систематическая философия, как перезрелая
дама. Все что в ней могло быть, уже было. Понятия в ней
прежние, а выводы из них давно уже сделаны
противоположные. Системы закончились, а рационализм сохраняется.
Только теперь он носит не системный характер, а
фрагментарный. О существовании рационализма можно узнать по
бытию. Вот если у него нет никакого авторитета, то
рациональное мышление существует. Хотя и вне системы. Ну а
если он есть, то отвлеченное рациональное самомышление
преодолено верующим мышлением. Религиозной
философией. Вообще-то философия не может быть религиозной
потому, что мысль стремится к неверию. Если она, конечно,
раздробленная и отвлеченная. Религиозная философия —
это признак цельного мышления. А оно сверхрационально.
1 Там же, т.1,с.223.
101
«Мысли Паскаля могли быть плодотворным зародышем
этой новой для Запада философии»1. Соединить бы его с
Пор-Роялем. Вот было бы здорово. Да иезуиты погубили
Пор-Рояль. Хохот Вольтера породил Кондильяка, Ламетри
и Гельвеция. Новая философия в Европе не состоялась.
«Одним чувством они понимают нравственность, другим —
изящное, полезное — опять особым способом, истинное
понимают они отвлеченным рассудком — и ни одна
способность не знает, что делает другая, покуда ее действие
совершится»2. И поэтому Запад считает нормой, если одна
способность человека обслуживает созерцание, другая —
веру, третья — истину и т.д. Никто не имеет соборности. А без
соборности новая философия не возникнет. Киреевский
начал поиски «в глубине души того внутреннего корня
разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое
и цельное зрение ума»3.
В акте познания не может участвовать один разум. Ведь
если бы это было так, то познавал бы разум, а не человек.
Идея Киреевского проста: познает не разум. Познает
человек всеми своими способностями сразу, в каждый момент. И
это соборно собранный человек. То есть существует
предметное знание и живое. Предметное знание держится на
представлении человека о себе самом. Живое — на обычае.
Вот мы живем и знаем. Но знаем не потому, что думаем. А
потому, что живы. Знаем не умом, а собой целым. Полнотой
свой жизни. Истина не дело логики. Она устанавливается
собранным человеком. Хорошо запоминается то, что режет
по живому. А это больно. Боль не исчерпывается сознанием
боли. Если бы она исчерпывалась, то тело живого стало бы
машиной. И у него не было бы натуры. Изнанки
внутреннего. И не было бы прошлого. Вот у трансцендентального
субъекта нет боли. И нет прошлого. И он,.как машина,
мыслит непрерывно. Для того чтобы было предметное знание,
достаточно трансцендентального субъекта. А для того чтобы
было живое знание, нужно еще и жить.
'Тамже.с^Ш.
2Тамже,с.201.
3 Там же, с.249.
102
На смену систематическому мышлению приходит
верующее мышление. Живое знание дополняет предметное.
Философия как таран отвлеченности
Греки жили в уютном обозримом мире. Они не любили
бесконечность. Философия ввела в этот мир невидимое и
разрушила его. Она «сломила живую пружину развития
греческой образованности»1. Философия появляется в момент,
в который нужно сломить что-нибудь живое. Киреевский
приводит пример с греками. Почему философия убила
живой мир грека? Потому что она подрывает его основы. Вот
ты живешь, и у тебя есть какие-то эмоции, побуждения,
страсти. И ты к чему-то стремишься. Приходит философ.
Интеллектуализирует мир. Делает его сухим и плоским.
Миф давал человеку энергию. Он обновлял наши чувства. А
философия его убила. Она засушила человека, его чувства
утверждением о том, что мир никогда не был лучше. И не
будет. Что он всегда прекрасен. Ничто теперь не может
поднять человека выше его самого. Выше его личных
интересов. Нет чувств, которые бы это сделали. Зачем нам
высокое. Мы ищем золотую середину между порочными
крайностями. Вот эти поиски и убили грека. С тех пор
напряжение духа упало. Самобытность ослабла. Человек стал
умной материей. Выводом внешних сил.
Религиозная философия, или верующее мышление,
должна была сохранить чувство и мысль в их единстве. Таков
был замысел И.Киреевского, задумавшего создать
православную философию. Философия — это не наука. Но это и
не вера. Это посредник. Проводник между наукой и верой.
Если ты вышел из науки, то она тебя приведет к вере. И
наоборот. Сама по себе философия бессмысленна. Сама по
себе она становится тараном отвлеченности. Разрушителем
сочувственной связи.
Русского человека воспитывали не в университетах. Его
воспитывал монастырь. И он стал сердечным человеком. Но
тут вмешался Запад и предложил русскому человеку книгу.
Науку. Русский человек взял книгу и удалился от церкви, от
церковнославянского языка. Монастырь перестал быть цен-
1 Там же, С.234.
103
тром. Вообще-то книга — не зло. Но ведь хорошие книги
тяжелы. Они «не будут читаться или не свяжутся с его
первородным мышлением». А легкие книги и вовсе
губительны для русского человека. Они «разорят его
внутреннюю жизнь»1.
Книги, как и философия, таран отвлеченности, если они не
выросли из твоего быта. Из твоего первородного мышления.
Тело как проблема отвлеченности
По наблюдениям Киреевского, философия
самосознания не может не породить проблему телесности. Или, как
выражается Киреевский, проблему физической личности.
Философия самосознания построена на различениях. На
отвлеченности одного от другого. Рассудок различает и
связывает. Если его обвинят в нечестности и схватят за руку, то
его заменит разум. Если и его поймают, то всегда можно
сослаться на то, что вот чистый разум уже совершенно ни в чем
не заинтересован и объективен. Все это одна шайка-лейка. В
философии самосознания работает машина
дохристианского мышления. И эта машина славилась способностью
отвлечения. Вот*гы хочешь жить, а она тебя отвлекает к
умозрению. И ты отвлекаешься, превращаясь в определение
сознания. В логическую определенность. А это уже не
жизнь. Так вот все можно превратить в логическое
определение, а тело нельзя. Потому что в культуре отвлеченности оно
одно оказывается живым. Не отвлеченным. И каждый это
знает, оберегая свое тело от разных укусов, ушибов и прочих
неприятностей. Тело никак не хотело превращаться в
отвлеченность ума. Оно страдало, болело и беспокоилось.
Страдания, беспокойства и боли тела стали незаконным
предметом философии самосознания. Западное
просвещение всеми своими истоками — религией, язычеством,
государством — направляло человека к поверхности. К свету
сознания. А тело кашляло и тянуло вниз: Поэтому оно и
стало проблемой европейского самосознания. Эту проблему
стала разрешать промышленность. Ибо сознанию нечего
предложить телу, а промышленности есть что. Так они
вместе и жили: промышленность и тело.
•Там же, с. 139.
104
«Одно осталось серьезное для человека: это
промышленность; ибо для него уцелела одна действительность: его
физическая личность. Промышленность управляет миром без
веры и поэзии. Она в наше время соединяет и разделяет
людей; она определяет отечество, она обозначает сословия. Она
лежит в основании государственного устройства, она движет
народами, она объявляет войну, заключает мир, изменяет
нравы, дает направление наукам, характер — образованности»1.
Тело стало помехой на пути отвлеченной философии. Но
это слабое утешение. Ведь тело язычествует. Необратимость
христианского воздействия на мир нуждается в более
серьезных аргументах. В новой философии. В философии
сердечного человека. Во времена Киреевского в России под
философией понималась не философия, а некий символ
науки, универсальное знание. Что-то вроде средневековой
алхимии. Киреевский превратил философию в посредника
между знанием и верой.
Запад и Восток
Запад и Восток — это две половины одного целого. Пока
оно было живо, между Западом и Востоком существовала
сочувственная взаимосвязь. Рационализм разрушил
сочувствие. На Западе остался ум и образованность. На Востоке —
чувство и вера. Западу было плохо без чистоты
христианского учения. Востоку — без образованности Запада. «Что
должно было совершаться совокупными усилиями Востока
и Запада, то уже сделалось не под силу одному Востоку,
который таким образом был обречен только на сохранение
Божественной истины в ее чистоте и святости, не имея
возможности воплотить ее во внешней образованности
народов»2. Запад направился к земным целям. Восток
затворился в монастырях.
Потом пришел Лютер. Пришел и ужаснулся лжи
папских декреталий. И противоречиям. Он думал, что его
спасут вселенские соборы. Лютер стал изучать определения
соборов. Но и они противоречили друг другу Киреевский
сожалеет, что Лютер не посмотрел в сторону православия.
1 Там же, С.246.
2 Там же, с.241.
105
Ведь православие из 16 соборов признает только 7. Но
Лютер отказался от всех соборов и сохранил верность только
священному писанию. Желая вернуться к живой вере. К
тому, что было с первыми христианами. Но вернуться нельзя.
Есть необратимость случившегося. Мы уже не первые
христиане. Возврат — это самообман на почве веры. И поэтому в
мире, как в пустой банке, по-прежнему громыхают две
половины: Запад и Восток. Ум и чувство в их разделенности.
Запад рационален. Но его рациональность опасна
потому, что в ней ничто не знает своих границ. Своей меры. Ни
ум, ни чувство, ни воля. Ум проникает к чувствам. Чувство к
воли. Воля объявляется на стороне рассудка. Все зыбко. И
неопределенно. Из-за этой неопределенности сожгли Бруно
и уморили Галилея. Из-за нее же очищали веру от всего, что
противоречит разуму. На Востоке «границы стоят твердо и
нерушимо»1. Здесь нельзя безнаказанно нарушать границу.
И поэтому на Востоке есть целое и возвышение целого над
частным. Трансгрессия границы — удел поверхностного
движения отвлеченного мышления. Новая философия связана с
необходимостью/ «самый разум поднять выше своего
обыкновенного уровня... самый способ мышления возвысить до
сочувственного согласия с верой»2.
Закон
«Закон в России не сочиняется»3. Если бы он сочинялся,
то он падал бы как снег на голову. Падал и ломал уже
заведенный порядок отношений. А у нас он не падает. А если он
падает, то это не по-русски. А по-европейски. Ведь для того,
чтобы сочинить закон, нужны юристы. Нужны
законодатели, то есть нужна машина, которая пишет законы. Мы этой
машины не изобретали. Она нам не нужна. У нас законы
вырастают, как деревья.
Если законы сочиняются, то в них важна форма.
Соблюдение формы не зависит от того, что у тебя за душой. Она
делает тебя независимым от твоих внутренних состояний.
Форма выше человека. А это означает, что вот у тебя какие-
1Тамже,с.249.
2 Там же.
3Тамже,с.208.
106
то внутренние проблемы. И тебе тяжело. И ты
устремляешься к поверхности. К внешнему, чтобы избавить себя от
внутреннего. А наверху — форма. Она и делает тебя
независимым от того, что у тебя на душе. И это будет
по-европейски. А мы, говорит Киреевский, русские люди.
Конечно, и мы можем поступать по форме. Но тогда у нас не
будет поступков. Чтобы стать европейцем, русскому нужно
отказаться от своей природы, разрушить свою народную
личность. То есть за все нужно платить. И даже за то, чтобы
законы падали сверху. Но тогда будет доминировать не
жизнь, а логика. И мы должны будем научиться жить по
плану. Потому что план — это порождение европейского
рационализма. Равномерная, методичная работа более
эффективна. Но для русского человека она скучна. Нам лучше
за три дня сделать то, что методично делают тридцать дней, а
потом два месяца валять дурака. Не браться за работу.
Созерцать. Потому что без созерцания нам никак нельзя. И
Киреевский приводит пример. Русский человек признает за
проблему только то, что с ним происходит во вне. Внешние
проблемы для нас тяжелы. Мы от них уходим внутрь. В себя.
Мы их разрешаем внутренним возвышением над собой.
Поэтому-то нам нужно время. И внутренний мир, без которого
мы беззащитны. Запад доволен своим внутренним
состоянием, ибо он вытаскивает людей в мир формы. Наружу.
Русский человек недоволен собой и своим нравственным
состоянием. У нас нет формы, за которую можно было бы
держаться. Нас держит чувство причастности к целому,
которое выше нас. Но именно поэтому наш быт требует
самоотверженности. Подвига самозабвения. А по
сочиненным законам самоотверженно жить нельзя. Поэтому законы,
придуманные наверху, не могут не противоречить нашему
быту. Поэтому-то русский человек предпочитает не логику, а
«естественное возрастание в одномысленном пребывании»1.
Русский человек привык иметь дело с законами,
складывающимися органически. То есть закон должен проникнуть
сначала в народный нрав, в быт, и только потом его можно
было записать на бумагу. В иных случаях его никто
выполнять не будет. Вот есть проблема выполнимости или
■Тамже^ОЭ.
107
невыполнимости закона. Мы исполняем закон, если хотим,
чтобы он был. Закон, превращенный в обычай, в привычку,
исполняется органически. Сам собой. Но для этого нужно
много времени. И мало нововведений. Русский быт
несовместим с погоней за новизной. Изнанка мешает. А в этой
изнанке — душа. То есть распад души — такова плата
русского человека за прогресс.
Из письма А. Кошелеву: «Неужели вы думаете, что какое-
нибудь важное дело может сделаться хорошо, когда оно
будет делаться в западном духе? Конечно, криками и
толками можно вызвать дело, но не то, какого вы желаете, а то, от
которого будет плакать русский человек, и вы, и само
правительство»1.
Вот, например, собственность. На Западе — это святыня.
А русский ставит человека выше собственности. Сначала ты
принадлежишь какому-то целому, а потом только ты
собственник. Поэтому европейская политическая экономика нам
непонятна.
Ложь русского человека
«Русскому человеку легко солгать»2. Почему? Потому
что мы ориентированы не на слово, а на дословность. Слово
издалека. Оно из внешней образованности, в которой уже
коренится ложь. Ну а нам соврать сам Бог велел.
Словами задается поле чести. Тела дословности
образуют коридор совести. Важно, чтобы совесть была чиста. А что
там с честью — это дело второе. Киреевскому это неприятно.
Он удивляется: как это так? Только что русский мужик
готов был жизнь отдать за убеждение, за святость правды и
здесь же он лжет за копейку барыша. Лжет из боязни. Лжет
из выгоды. Лжет без выгоды. Лжет за стакан вина. «Он
совершенно не дорожит своим внешним словом. Его слова —
это не он, это его вещь, которой он владеет на праве римской
собственности, то есть может ее употреблять, не отвечая ни
перед кем. Он не дорожит даже своей присягой»3.
!Тамже,т.2,с.252.
2Тамже,т.1,с.268.
3 Там же, с. 168.
108
Вот на Западе слово — свято, а ложь — грех. Потому что
Запад связал истину со словом. А Россия связала истину не
со словом, а с образом. С представлением. И назвала его
правдой. Мы можем лгать. И нам ничего не будет. Запад
оберегает свободу слова. А нам нужно прокричать. Голос подать.
Потому что у дословного только один голос — крик.
Поэтому-то нам нужна гласность, а не свобода слова.
Запад связал свободу с политикой, а русский человек
связал свободу с бытом и назвал ее волей. И теперь уже
развязывать эти связи поздно. Нам важны бытовые свободы.
Западу — политические. Русский человек не дорожит
внешним словом, то есть словом для другого. Ложь — это его
форма симуляции. Ответ на вторжение чего-то чужеродного.
У нас Бог один. Ум — один. Истина — одна. А слов много.
Говорить — это уже обманывать. Поэтому мы и не любим
говорить. Не любим слова с окостенелым смыслом, то есть нас
тошнит от терминологии. Если уже говорить, то так, чтобы
расплавлялись смыслы. Лишь бы вера была. Ведь
«человек — это его вера»1.
Киреевский и Гершензон
Гершензон ^прочитал письма Киреевского и сделал
вывод, что Киреевский ошибался. «Ошибка Киреевского
сыграла громадную роль в истории нашего общественного
сознания — из нее вышло все славянофильство — а мысль, в
которую вылилось все его существо, драгоценная и великая
мысль, осталась втуне, незаконно использованная одними и
незамеченная... другими»2.
М. Гершензон — не дурак. С ним дружил В. Иванов. Он из
«серебряного века» русской литературы. Поэтому его стоит
послушать. Так вот М. Гершензон подумал и решил, что
Киреевский славен не своим славянофильством, а идеей душевной
цельности. «Сумей он свободно развить эту идею в
применении к социальной жизни, он создал бы учение, неразрывное
во всех частях, неотразимое своей последовательностью»3.
Значит, что важно в теории? Неразрывность частей. Последо-
1 Там же, С.276.
2 Гершензон М. Исторические записки. М., 1910, с.10.
3 Там же, с.35.
109
вательность. Киреевский фрагментарен и непоследователен. А
это плохо. В теории может быть лишь то, что рождено
средствами самой теории. В нее нельзя привносить содержание из
языка самонаблюдения. Если же в теоретическое рассуждение
попадет что-нибудь из субъективного языка самоотчета, то все
пропало. В рассуждении появятся разрывы и
непоследовательности.
Вот эти разрывы и появились в рассуждении
Киреевского. «В нем жили два глубоких пристрастия, от которых
он был невластен отрешиться»1. Он ввел в свою систему
православие. «Это было первое личное пристрастие,
которым он заменил свою мысль»2. Киреевский придумал
теорию сердечного человека, открыл закон
совершенствования внутреннего строения духа. Всякий человек, если он
стремится к цельности, узнает истину. Так звучит этот
закон. Хорошо, ты сделал открытие. Ну и передай его людям в
чистом виде. Передай его метафизическую суть. И
довольно. Оставь свои пристрастия в стороне. А что делает
Киреевский? Он вводит в закон свою симпатию к
православию. То есть, что узнает тот, кто придет к истине? Что эта
истина в православии. Гершензон возмущается. Ведь
ниоткуда это не следует. Как не следует и то, что эта истина
связана с Христом. Лично ты можешь признать
христианское откровение истиной. А объективно — не можешь. «Но
где гарантия, что на вершине духовного умозрения человек
признает за истину именно откровение Христа?» Нет
гарантии. А вдруг человек признает за истину антропософию.
Что тогда делать?
Еще одним пристрастием Киреевского была Россия,
которая выращивала и вырастила внутреннюю цельность
человека, его сердечность и умение вести душевные
разговоры. А затем она эту сердечность утратила. Наполовину. В
ней увлеклись образованием и пошли на Запад.
Образованные ушли, а народ остался. Вот в нем-то и живет, согласно
Киреевскому, внутренняя цельность. Живет как намек. Но
это и есть наше национальное. Поэтому мы должны
вернуться назад, к русскому народу. «Здесь вскрывается второе
1 Там же.
2 Там же, с.31.
110
пристрастие, которое свело его на ложный путь»1. Эта
ошибка и сделала Киреевского отцом славянофильства2.
Гершензон считает, что Киреевский не был
славянофилом. Что он славянофил по недоразумению. В
доказательство он приводит фрагмент письма И.
Киреевского Хомякову. Вот этот фрагмент.
«Ты пишешь, что противники издают «Галатею». Кто же
эти противники? Неужели ты так называешь Грановского и
пр.? Если так, то не ошибаетесь ли вы и во мне? Может
быть, вы считаете меня заклятым славянофилом, и потому
предлагаете мне «Москвитянина». То на это я должен
сказать, что этот славянофильский образ мыслей я разделяю
только отчасти, а другую часть его считаю дальше от себя,
чем самые эксцентричные мнения Грановского»3.
Киреевский деликатный человек. Вот ему предлагают
возглавить журнал. Но почему? Потому ли, что он
принадлежит к партии славянофилов? Или потому, что у него есть
подходящие для этого личные качества? Киреевскому не
нравится партийный подход. Об этом он и написал
Хомякову. И только.
Работа Гершензона, посвященная Киреевскому, является
наиболее интересной из всего того, что так или иначе
относится к анализу творчества Киреевского. Герцен был занят
собой и ничего интересного в Киреевском не увидел, кроме
того, что он «душа и любовь». Писарев — партийный
человек, убежденный в том, что Киреевский не тем аршином
измерял Европу. Кавелин с Соловьевым —
историки-позитивисты. Милюков с Ивановым-Разумником — публицисты
без серьезной философской подготовки. Итак, Гершензон
является одним из немногих, обративших внимание на
мысль Киреевского о невыразимости зрелой мысли.
Тем не менее и Гершензон посчитал ошибкой то, что
было существом философии Киреевского. Гершензон
почему-то был уверен, что история куда-то идет. К какому-то
идеалу. Ну а раз она идет к идеалу, то кто-то ближе к нему,
а кто-то дальше. И это расстояние можно измерить объек-
1 Там же, с.ЗЗ.
2 Там же, с.34.
3 Киреевский И.В. ПСС. М,. 1911, т.2, с.233.
111
тивно. Научно. Так вот у Киреевского история никуда не
идет. Что и выражено в понятии «сердечного человека». То
есть история пульсирует вокруг душевной цельности
человека. Она то заполняет ее, то опустошает. У пульсации
есть два уровня. Первый там, где мы ближе всего к
сердечному человеку, второй там — где мы далее всего от него.
Ближе всего в России. Дальше — в Европе. В этой
констатации ничего обидного нет. Ведь Европа породила
размышляющего человека, а Россия — чувствующего.
Было бы полной нелепостью, если бы Киреевский из любви к
России приписал ей абстрактное мышление, а Европе
задушевность.
Далее. Гершензон почему-то не заметил, что предметом
русской философии является Россия. И самое важное.
Гершензон так и остался при том мнении, что объективное
мышление — это отвлеченное мышление, а личные
симпатии — это личные симпатии. То есть он обвинил Киреевского
в том, что тот соединяет личное и объективное, а не
отвлекает одно от другдго.
Между тем это соединение принципиально для
философии Киреевского не только в сфере личности, но и в области
знания.
Киреевский — барин. Но у него был орган, которым он
понимал целостность крестьянского быта. У Гершензона не
было этого органа. Неприятие, крестьянского быта, нелюбовь
к России привели его к большевикам-интернационалистам.
Цельность
Цельность — принцип русского умозрения. Нам важен лес
и только затем — деревья. У Хомякова этот принцип
представлен как теория соборности и живого знания. У
Киреевского — как теория сердечного человека. У
Соловьева — как всеединство. Принцип цельности запрещает
принимать всякие дуальности, бинарные оппозиции.
Например, на языке русской философии невозможно
сформулировать проблему тела. Нет у нас этой проблемы. То
есть это проблема нерусской философии. Аналитика тела —
проблема отвлеченного сознания, которое когитально
противопоставляет протяженность — мысли, тело — душе, бытие —
сознанию. А затем то, что было на стороне сознания, оно обна-
112
руживает и на стороне бытия. Как, например, понимание.
Сначала думали, что оно часть сознания. А потом оказалось,
что это часть бытия.
Или тело. Думали, что оно не болит. А оно болит. И
история его болезней вполне может быть историей сознания.
Если все едино, то зачем же бытие противопоставлять
сознанию? А тело — духу? Незачем. Ну а если незачем, то
и язык философии должен быть конкретным, а не
отвлеченным. В русской философии нет проблемы формы,
индивидуации или конкретности. Нет аналитики тела
или сознания, а есть понятия верующего мышления. Или
живой целостности. Гений русского языка ведет нас. И
мы понимаем, что ты вот жив, то есть цел. Уцелел. Вся
проблема состоит в том, что ты вот цел или не цел. Части
живыми не бывают. И поэтому у нас разговор идет о
живом. О том, что уцелело. Например, истина. Она жива. И
поэтому она организм, а не термин. Или человек. Это не
сознание. Это существо. Нечто живое. А что в нем
преобладает: тело или дух — это дело десятое. Или вера. Вот ее
куда отнести: к бытию или к сознанию? К телу или душе?
Для русских философов — это мнимая проблема.
Человек — это вера, то есть практически оправданное
всеединство.·
Русская философия озабочена другими проблемами.
Например, мы приняли цринцип всеединства. Согласились,
что все едино. Одно. Но если все едино, то как же быть с
принципом аристократизма? Не задушит ли нас
плебейство? Если все едино, то не превращается ли наш живой
сердечный человек в абсолютно равнодушного человека?
Не окажется ли соборный человек со своим соборным
сознанием бесчувственным человеком? Или Бог. Трансцен-
денция. Если все едино, то куда девать Бога? Связать его с
землей? Снизить? Где пределы имманентного, где
заканчивается жизненный мир и начинается мир трансцендентного.
Или вот быт. Корень нашего бытия. Может ли семейно-бы-
товой принцип организации общества составить
конкуренцию цивилизации? Русская философия создала
язык обсуждения этих проблем. Они и обсуждаются затем
Ю. Самариным и К. Аксаковым.
8 Ф. Гиренок
из
1.5. Личность как вербальная рана
на теле соборной жизни.
Ю.Ф. Самарин. Картография родословной
Ю.Ф. Самарин родился 21 апреля 1819 года. В
Петербурге. Его отец — шталмейстер императрицы Марии Федоровны.
Мать — фрейлина императрицы С. Нелединская-Мелецкая.
Самарины — люди богатые. Многие земли им были
пожалованы еще московскими царями. Надоел Ф. Самарину
Петербург и он оставил двор. Все семейство переехало в
Москву. Самарины любили независимость.
Все Самарины — монархисты. Государственники. А
государственная машина России все чаще давала сбои. Она
плохо работала в Прибалтике, на Кавказе, в Польше. Ее
нужно было чинить. Устранять неполадки. Вот Ю. Самарин и
занялся ремонтом этой машины. «Революционный
консерватизм» — его последняя работа. В 1875 году Ю. Самарин был в
Германии. В Берлине. Съездил в Париж к больному
кн.Черкасскому. Навестил его. Возвращаясь, легко поранил
руку. В марте 1876 года он умер от заражения крови. Один.
Без родных. В Берлине.
Диссертация
Самарину — 15 лет. Он студент словесного факультета
Московского университета. А студенты в те времена ходили
на лекции вместе с родителями. Или с гувернером.
Самарину это не нравилось. Но делать было нечего. Ему пришлось
подчиняться общему правилу. Вместе с Самариным учился
К. Аксаков. Аксаков, как старик. Он на два года старше
Самарина. Они подружились. Аксаков — гегельянец. И
Самарин стал гегельянцем. Аксаков дружил с Белинским. И
Самарин с ним подружился. Вместе с Аксаковым он ходил
на литературные вечера, на которых обсуждались явления
русской литературы с точки зрения философии Гегеля. Вот
соберется молодежь и всю ночь обсуждает, можно ли
молиться богу Гегеля так же, как Богу Нового завета. Или
нельзя.
В свое время граф Уваров набрал молодых людей и
отправил их за границу. Они выучились. Вернулись и
разбрелись по разным кафедрам. Гегельянство стало силой
России. В 40-е годы каждый студент мог доказать, что прус-
114
екая монархия является высшей формой развития
государства. Так считал Гегель. Ну а раз так считал Гегель, то так
считали и в России.
Однажды Самарин пришел в гости к Чаадаеву. На
Басманную. А там уже были Хомяков с Киреевским. Они
познакомились. Самарин, предполагая, что новые знакомые
тоже гегельянцы, стал что-то говорить о формах
спекулятивного мышления. Его перебили. Оказалось, что сознание
Самарина не совпадает с жизнью и тем самым оно нарушает
принцип тождества бытия и мышления. В жизни он
русский, в сознании — немец. На практике он православный, в
теории — гегельянец. Хомяков освободил Самарина и
Аксакова от увлечения Гегелем.
Вообще-то Самарин хотел сделать карьеру
преподавателя, хотел стать профессором Московского университета. Он
даже диссертацию решил написать. Ну а чтобы сознание не
противоречило бытию, он взялся за исследование русской
ментальное™. Самарин стал изучать творчество Стефана
Яворского и Феофана Прокоповича. Аксаков принялся за
изучение сочинений Ломоносова. На защите Самарина
были многие. Пришел и старый Чаадаев. Самарин защищался
так хорошо, что, как заметил Петр Яковлевич, «некоторые
женские голош тихо преклонились перед необыкновенным
человеком»1. Самарину нужно было ответить на один
вопрос: почему у нас не было богословия? Вот на Западе оно
есть, а у нас его нет. Почему? Ответ: потому что
богословская наука, церковная система невозможна и вредна. «Наша
церковь своим молчанием и, по-видимому, равнодушием к
двум попыткам создать систему (разумею сочинения
Стефана Яворского и Феофана Прокоповича) самую мысль о
системе признала ложной, чуждой себе, выходящей из своей
сферы»2. Если бы православная церковь создала систему, то
она бы перевела чувство на язык мыслей. Это неплохо. Но
чувство, выраженное в слове, перестает быть чувством. А мы
не хотим, чтобы умом разрушалось то, что принимает
сердце. Уму пусть противостоит ум, а не чувство. К такому
выводу пришел Самарин, защищая диссертацию в 1843 году.
1 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1880, т.5, с.32.
2 Там же.
8*
115
Секретарь-референт
Самарин теоретизировал, мечтая о профессорстве. Его
отец за ним наблюдал. Понаблюдал он за ним, понаблюдал, а
потом и говорит: друг мой, хватит валять дурака. Иди
работать. Тебе уже 25 лет. А ты еще ничего хорошего для России
не сделал. Ну Самарин и пошел. В Министерство юстиции.
К графу Панину. Секретарем. Почерк у него был хороший.
Вот и стал он переписывать с серой бумаги на белую, с
прибавлением знаков препинания. Затем он перешел на службу
в сенат. Но и в сенате ему не предложили ничего нового. Он
оставался секретарем. Служба есть служба. Каждый день с
9.30 до 15.00 Самарин переписывал бумаги, знакомился с
внутренним устройством государственного аппарата
Российской Империи. Петербург — не Москва. Народ здесь
другой. Ушлый. И поговорить-то здесь не с кем. Самарин
заскучал. «Здесь решительно не с кем поговорить, даже
поспорить, до чего ни коснись, непременно наткнешься на
такие основания, которых никоим образом мыслью
поколебать нельзя; чувствуешь, что здешний мыслящий человек
получил другрё" воспитание, что его интересует другое, что
наконец вся жизнь его, мысль, сочувствие, деятельность
направлены не в ту сторону, в которую смотрим мы. Охота
спорить пропадает, молчишь и с внутренней досадой
пропускаешь мимо ушей оскорбительные, полные надменного
пренебрежения отзывы о нашей старине, о нашей вере, о
русском народе вообще» *.
В сенате Самарин убедился в том, что в каждом человеке
есть нечто мыслеподобное. То, перед чем теряют силу все
аргументы разума. Это — его жизнь. Вот ты встречаешься с
кем-нибудь, слушаешь, что тебе говорят, и думаешь, что в
сказанном есть какая-то мысль. Идея. Плод размышлений.
И ты начинаешь вести дискуссию, сомневаться, выдвигаешь
аргументы. А потом оказывается, что не нужно было
вступать в разговор. Нужно было промолчать. Потому что
спорить не о чем. Ты думал, что натолкнулся на мысль. А это
была не мысль, а мыслеподобие. Любую мысль можно
оспорить. Изменить. Если же мысль не меняется мыслью, то это
не мысль, а нечто мыслеподобное, производное от образова-
1 Там же, с.35.
116
ния и воспитания. Чтобы изменить мыслеподобие, нужно
изменить человека, его быт, привычки. А это трудно сделать.
Так вот в России быт был организован так, что между бытом
и мыслью образовалась трещина. Наш быт требовал
самозабвения, подвига, бессуоъектности, а мысль нуждалась в
авторе, в субъекте. В образовавшуюся трещину Европа
капнула кислоту рационализма, которая разъела и быт, и ум.
Образовавшиеся пустоты заполнили тела мыслеподобия. У
них наружность мысли, а внутреннее устройство — бытовое.
Кентаврическая сращенность ума и быта привела к тому, что
нелюбовь к быту стала органом существования мысли.
Ну а наш быт — это Россия. И поэтому всякая любовь к
мысли оборачивалась нелюбовью к России, которая, в свою
очередь, легализовала эту нелюбовь в качестве формы
своего существования. Россия та редкая страна, которая
приемлет нелюбовь к себе в качестве признака своей
свободной мысли. В России мыслить — значит переделывать
Россию. Изменять ее быт. Самарин стал расщеплять кентав-
ризм мыслеподобия. Его «Письма из Риги» — пример такого
расщепления.
«Письма из Риги»
В Петербурге Самарину тошно. Из письма Хомякову: «Я
рвусь отсюда, но не знаю, куда идти». А тут случай
подвернулся — ревизия прибалтийских земель. Самарин попросил,
и его, как титулярного советника, включили в состав
ревизующей комиссии. Ехал Самарин с одними понятиями. Уехал
из Прибалтики с другими. Остзейский край деконструиро-
вал его представления об империи. Ведь что приходит в
голову при слове «империя». Конечно же, огромная
территория, на которой действуют универсальные законы, говорят
на одном языке. Ну и поскольку речь идет о русской
империи, постольку русские в ней чувствуют себя свободно. Не то
чтобы у них были какие-то особые права. Но вот чувства
того, что они у себя дома, в своем государстве, у них не могло не
быть. Фактически же в русской империи не оказалось ни
одного языка, ни одних законов, ни дома для русских.
Деконструкция началась с ремонта комнаты, в которой
жил Самарин. Оказалось, что отремонтировать ее можно, но
русским эту работу поручать было нельзя. Они не были при-
117
писаны к цеху. Самарин обратился к знакомому купцу. За
разъяснениями. И тот ему объяснил. Дурак, мол, ты. Какая
империя? Здесь же русские живут как люди второго сорта.
Здесь правят бал немцы. Они граждане города. А русские —
обыватели. Гражданином города может стать, во-первых,
законнорожденный, во-вторых, немец, в-третьих, лютеранин,
в-четвертых, сдавший немцу экзамен по торговле или
ремеслу. Немцы завладели магистратом, то есть всеми
должностями городского управления. Они начальники.
Русские подчиненные. Магистрат, как Академия наук. Братство
немцев предлагает ему кандидатов, а он выбирает в свой
состав. Захочет — выберет. Не захочет — не выберет. Русских
не хотели. Граждане, в свою очередь, могли быть членами
большой гильдии и малой гильдии. Купеческой и
ремесленной. Русские в Прибалтике жили почти полтора столетия. И
немногим удалось стать членами большой гильдии.
Которая, в свою очередь, делилась на три группы: простых
членов, братьев и старшин. Так вот русское купечество
могло состоять в простых членах. Но его никогда не принимали
в братство. «Небольшое число граждан, немцев по
национальности, составило братство, которое, ссылаясь на
старинные привилегии, завладело всеми должностями
городского управления, несмотря на то, что оно составляет
только пятидесятую или даже сотую часть всего числа
русских обывателей»1. Все русское купечество составляло
только один голос, равняющийся голосу одного гражданина,
состоящего в братстве. «Мещане же и ремесленники греко-
российского исповедания не причисляются даже к малой
гильдии и не принимаются в цехи»2.
Русские платили подати, исправляли городские
повинности, а доходами города распоряжались немцы. Магистрат.
Вот обеднеет какой-нибудь член братства, а его для
поправления своего состояния отправляют к городским
бенефициям, или доходным местам. Русский не может быть
биржевым маклером, а член братства может. Или вот
браковщик, Выгодная должность. Хлебная. Но православного к
ней и близко не подпустят. Он не член братства. Вздумает
1 Самарин Ю.Ф. Сочинения. Мм 1889, т.7, с.621.
2 Там же.
118
православный судиться, а в суде немцы. И тяжбу ведут они
только на немецком языке и по иностранным законам. Если
даже русский судится с русским, то дело все равно ведется
на немецком языке. Чтобы стать мастером, то есть получить
право открыть мастерскую, принимать заказы и работать на
свой счет, нужно было обучиться ремеслу у местного
мастера. А то, что ты получил образование в Петербурге, в расчет
не принимается. Затем прослужить 2-3 года подмастерьем.
После этого уехать на несколько лет на свободные
заработки. Вернуться, сдать экзамен немцу, угостить всех мастеров,
внести денежную сумму в городской фонд, и после этого ты
мастер. Русские могли быть только учениками и
подмастерьями.
Однажды русским печникам все это надоело. И они
взялись за дело, то есть стали класть печи, несмотря на то, что
они не были приняты в цех печников. Вышел скандал.
Мастера цеха попросили власти запретить православным
дальнейшее отправление ремесла. Магистрат запретил.
Русские направили жалобу губернатору. Тот вмешался.
Кончилось дело тем, что 12 православных приняли в цех
печников с условием, что каждый из них будет иметь не
больше двух учеников и будет работать под надзором у
немца, а также 5 копеек с каждого заработанного рубля они
должны отдавать немецким мастерам цеха. Стоит немец,
трубкой попыхивает, плеткой помахивает, а русские
работают. И немцу за то, что он над ними стоит, они еще и 5%
барыша платят.
Как-то русские мещане потребовали свободы в
отправлении торговых промыслов. Тогда суд их лавки и вовсе закрыл.
Конечно, прибалтийский дворянин пользовался своим
сословным правом по всей России. А русский дворянин
должен был вступить в рыцарство, и только после этого он
мог пользоваться своими правами в Прибалтике. Самарин
рассказывает, как остзейские дворяне русскую землю
покупали. Они собрали деньги и решили купить земли,
примыкающие к остзейским землям, но так, чтобы эти
земли вошли в состав Прибалтики. Задумали. Сделали. Ничто
им не мешает. Да на беду в том районе было поместье
какого-то русского дворянина. И тогда остзейские дворяне
направили в Петербург ходатайство, в котором
испрашивалось разрешение включить в остзейский край и земли
119
русского дворянина с условием, что этот дворянин будет в
Прибалтике мещанином.
Однажды Самарина пригласил в гости остзейский дво·^
рянин и, показывая степень своей гуманности, доверительно
сообщил Самарину, что он далее скотов этих русских не
бьет1.
Самарин стал выяснять причины бедственного
положения православных в Прибалтике. И три года выяснял, а
потом написал семь писем к своим московским друзьям, в
которых рассказал об увиденном. «Систематическое
угнетение русских немцами, ежечасное оскорбление русской
народности — вот что теперь волнует мою кровь». Немцы
нас победили. «И после мы повторяем в своих учебниках:
остзейский край завоеван, остзейский край присоединен к
России. Мне кажется, — писал Самарин, — Россия
присоединена к остзейскому краю и постепенно завоевывается
остзейцами»2.
У немцев был Фихте. У русских — Самарин. Но если
«Речи к немецкой нации» Фихте создали национальное
сознание немцев, -то «Письма из Риги» не стали речью к
русской нации. 'Они привели к движению два десятка
человек в Москве и Петербурге, и на этом все закончилось.
«Письма из Риги» существуют как факт литературы.
Почему? По тем же причинам, по которым русские в остзейском
крае не выступили с протестом, не организовали партию, не
блокировали магистрат, не отказались от гражданского
повиновения, а пресса не подняла шум, Герцен не забил в
набат, Засулич не бросила бомбу в губернатора остзейского
края, правительство не собралось на экстренное заседание,
царь не подал в отставку Эта причина — смирение
соборного человека. Вот Самарин. Его письма — это не крик
дословного, а обстоятельное научное исследование,
ориентированное на поиски истины. В них есть горечь,
возмущение русского человека: «Здесь сознаешь себя как
русского и, как русский, оскорбляешься»3. Самая резкая
фраза в его письмах звучит так: «Или мы будем господами у
1 Там же, с.97.
2 Там же, с.95.
3 Там же.
120
них, или они будут господами у нас»1. Если мы не будем
русскими, нас сделают немцами. Но энергия этого возгласа
растворяется в анонимной объективности. Ее не слышно.
Чтобы не стать немцем, Самарин бросил пить. Отрастил
себе бороду и тем самым выразил протест против
порабощения имперского народа окраинными племенами. Конечно,
это мужественный шаг. Ведь Самарин — камер-юнкер двора
его Императорского Величества. А по указу царя дворянам
запретили носить бороду, считая это подражанием Западу и
неуважением к русской одежде. Бородатый дворянин
должен был явиться в полицию и дать подписку о сбритии
бороды. Самарин носил бороду до смерти.
«Письма из Риги» подчеркивают особенность соборного
человека. Русские — люди соборные. А как только соборный
человек выталкивается из традиционной социальной
ячейки, он теряется. В Прибалтике он столкнулся с правилами
индивидного существования и растерялся. На первый план
выступило смирение как условие его существования.
Условием существования личности является свобода, а
соборного человека — смирение. Но из смирения не
рождается воля к власти. Русские в Прибалтике смиренно
просили одинаковых прав для себя и для немцев. Немцы
требовали привилегий. Напор корпоративно
организованной личности разламывал соборную структуру русского
человека, важнейшими элементами которой были:
смирение, совесть, община, круговая порука, соборное сознание,
традиция. Для того чтобы выжить, русский принужден был
делать замены: его совесть менялась на честь, круговая
порука на личную ответственность, смирение — на свободу,
соборное сознание — на сознание индивида. Вот это факт
Самарин и обозначил как факт превращения русского в
немца. Русский мог оставаться русским только под защитой
князя, царя. Империя была его панцирем, броней,
защищающей от внешних воздействий. То есть русская империя была
способом существования соборного человека, его ответом на
вызов корпоративно организованных личностей. Но
соборный человек был не защищен от внутренних воздействий
свободно сориентированных личностей. И в том, и в другом
1 Там же, с. 106.
121
случаях он полагался на власть, на опору, которая держала
его панцирь и обязана была следить за тем, чтобы под эту
броню не попали существа, отравляющие соборный
организм. А они попали. И Самарин об это написал. Конечно^
народу было бы наплевать на власть, если бы он составил
себе форму быта, независимую от власти. Но у соборного
человека она зависима. И поэтому между народом и властью
неписаный уговор. Власть держит панцирь. Народ терпит
власть. Этот уговор делает соборную жизнь абсолютно
незащищенной в случае измены власти. Верховная власть
должна заступаться за народ. А она этого не сделала в
Прибалтике. В Польше. На Кавказе. Она должна была вынудить
играть на соборном поле империи по соборным правилам, то
есть должна оыла подтвердить внутреннее право русского
народа на те формы жизни, которые он избрал. Ограничение
власти монарха воспринималось Самариным как
ограничение возможностей заступника, а также как расширение
возможностей покушения на соборную жизнь со стороны
начал, враждебных соборности. Поэтому Самарин был
против конституции, против парламентской республики,
против федерДлизма.
Есть народы, которые надеются на одни свои человечес^
кие силы при достижении поставленных целей. У них
человеческие учреждения заменяют Бога. Русский народ не
верит только в свои силы. Он еще уповает на Бога.
Самодержавие, империя были способом существования человека,
уповающего на силы Бога. Но имперская организация власти
стала давать сбой на окраинах России потому, что она
изменила земскому принципу и стала ориентироваться на
национальный признак при нулевом национальном
сознании русского человека. То есть некоторые окраинные народы
стали получать привилегии. В то время как в России
традиционно на каждое сословие возлагались обязанности перед
государством. Тяготы оставались русским, привилегии
инородцам. А это создавало возможности существования в России
псевдонаций. Или народов-призраков. Что, в свою очередь,
уже в XIX веке поставило русскую империю перед выбором:
или полная денационализация империи, или Россия — для
русских. Всякие промежуточные варианты будут губительны
потому, что они при нулевом национальном сознании русских
создадут нерусские квазинации, децентрируют власть, и она
122
перестанет служить защищающим панцирем для русского
народа. И он должен будет либо умереть, либо стать материалом
для какого-то иного народа. Уже неправославного.
федерализм — один из самых неплодотворных путей
развития русского государства, ибо он, как говорит Самарин,
обособляет земли, раздваивает и уничтожает государство.
Федерализм превращает Россию в гостиницу, в которой русские
лишаются соборного сознания и погибают. На смену
соборному человеку приходит одинокая личность. Самарин обращает
внимание на то, что немцы, господствуя в Прибалтике,
управляли ею через немцев. Шведы — через шведов. А русские
привлекают для управления и немцев, и шведов, и сами
управляемые народы. Но только не русских, боясь обидеть чувства
окраинных племен. В остзейском крае получили власть
остзейские дворяне. А это неправильно. Потому что русские в
этом крае стали подданными не царя, а местных корпораций.
И самое главное. Возникает иллюзия существования неких
наций там, где их нет. «Неужели всякий обрубок, без корня и
верха, вправе присваивать себе значение нации? Мы
доживем, наконец, до того, что немецкий клуб в Москве заговорит
о своей народности»1. В империи должен быть один центр
власти, одни законы и никаких социальных или
национальных привилегий. В основе имперского быта России лежит
неразделенность крестьянина и земли.
Крепость
Самарин написал свои письма, а по Москве пошел слух,
что немцы угнетают русских в Прибалтике. Слух дошел до
царя, который потребовал отчета у губернатора остзейских
земель. Тот представил дело так, что Самарин разжигает
национальную рознь, что он стравливает немцев и русских, а
также разглашает содержание служебной информации.
Самарина вызвали к министру. Назревал скандал. Самарин зашел
в церковь Всех скорбящих, помолился за себя и за родных и
пошел к начальству. В субботу его посадили в
Петропавловскую крепость. Дали ему сигареты, вино, чай, белье. Отец
Самарина обратился за помощью к императрице. Через 12
дней Самарина привели из каземата в кабинет к царю. Между
!Тамже,с.31.
123
ними состоялся разговор. Царь обвинял, а Самарин
оправдывался. Николай I внушал Самарину, что мы-де христиане,
православные и потому негоже нам инородцев обижать, не к
чему из немцев делать русских. Мол, надо сближать народы, а
вы их ссорите, возбуждаете немцев против русских, создаете
почву для недоверия правительству, считая, что оно окружено
немцами и в нем самом заседают одни немцы. Да это же бунт,
а вы, как декабрист. «Я вас хочу не казнить, а спасти». На
прощание царь обнял Самарина и отпустил его на волю.
Критика Самарина
Самарин «умен, но у него ум фальшивый», душа
бумажная. Это из воспоминаний Б.Н. Чичерина1, которому не
понравились ни «Письма из Риги», ни «Окраины России».
Что не устраивает Чичерина?
1. То, что Самарин никак не хочет понять особенное
положение немцев в Прибалтике. Их интересы. То есть
Самарин ясно и четко формулирует интересы русского
государства в Прибалтике. А они задевают особенность
положения немцев. Чичерину это не нравится. Он демократ.
Для него важны интересы немцев, а не России.
2. Чичерин указывает на сложившиеся традиции, на
привязанность немцев к унаследованным от предков правилам.
А Самарин не уважает их традиции, призывает изменить
существующие правила в интересах российской империи.
Чичерин против этих изменений. Более того, он желает
независимости для немцев в составе русского государства и
видит гарантии этой независимости в соблюдении
унаследованных традиций. А Самарин выступает против этой
независимости, за универсализм законов. Чичерин требует
привилегий. Самарин требует справедливости. Чичерин —
федералист. Самарин — унитарист.
3. Чичерин пугает произволом русских чиновников. Ему
ближе произвол немецких чиновников. Он оправдывает
нежелание прибалтийских земель впускать к себе русского
бюрократа. Самарину важны не чиновники, а возможности
осуществления интересов русского государства через
русских чиновников.
1 Чичерин Б.Н. Воспоминания. М., 1929, с.245.
124
4. Защищая немцев, обвиненных Самариным в
дискриминации русских, Чичерин выдвигает тезис о том, что, мол,
русские сами виноваты. Они-де слишком податливы. Такова
их природа. И с этим ничего не поделаешь. А Самарин
предлагает государству защищать русского человека. Что,
согласно Чичерину, недопустимо.
5. Самарин приводит примеры нечестных способов
воздействия прибалтийских немцев на правительство: подкуп,
лоббирование, шантаж и призывает сделать их
недопустимыми. А Чичерин оправдывает окольные и часто темные
пути воздействия немцев на русское правительство, уверяя
в том, что законными способами влиять на правительство
нельзя.
6. «Славянофильское учение было произведением
досужих московских бар, дилетантов в науке. Никакого
самосознания в русском обществе они не пробудили, а
напротив, охладили патриотические чувства тех, которые
возмущались нелепым превозношением русского
невежества перед европейским образованием»1.
Чичерин — либерал, просвещенный человек. А Самарин,
по его представлениям, ретроград, потому что он допускает
возможность происхождения науки из односторонних начал
католицизма и протестантизма. Чичерин такой
возможности не допускает. Религия не может породить науку, ибо
рационализм противоречит религии. Ошибку западника
Чичерина поправит пять десятилетий спустя М. Вебер. Но
Чичерин так и умер с убеждением, что никакое просвещение
не может родиться из недр православного скудоумия.
Взгляд
В XIX веке еще были взгляды, мировоззрение, и люди
отстаивали свои взгляды. Вот опубликовал К. Кавелин в
«Современнике» статью по названием «Взгляд на
юридический быт Древней Руси», а Самарин ему в «Москвитянине»
противопоставляет другой взгляд. Возникает полемика, в
ходе которой каждый думает только об установлении
истины. Ошиося оппонент, так ты его лови на ошибке. Неудачно
выразился, а ты ему и здесь спуска не давай. Например, Ка-
1 Там же, с.225.
125
велин пишет о славянских племенах, образовавшихся
исключительно путем нарождения, а Самарин язвит. Де,
германцы, конечно, с неба падают. Кавелин полагает, что
русские славяне имели исключительно родственный быт, и
приводит аргументы, а Самарин так не полагает и тоже
приводит аргументы. «Мнение о современнике»1. Самарин
решает одну задачу: она состоит в критическом анализе
воззрений Кавелина. Спорить им не о чем. А они спорят, потому
что оба мыслят в терминах всеобщей связи и генетических
зависимостей. То есть Самарин и Кавелин зафиксировали
два типа реальности и затем стали выяснять, какая из них
главная, что из чего получается, от чего к чему идет
развитие. Согласно Кавелину, зрелое находится в Европе.
Незрелое — в России. Самарин переставляет знаки. Никто
из них не ставит под сомнение саму идею развития, не ищет
иных, не генетических зависимостей и связей. В самой этой
перестановке есть что-то детское, упрямое. Кавелин
заявляет о том, что у русских не был развита личность. Самарин
также знает о том, что у нас не было и не может быть
личности. Но из духа противоречия он указывает на былинных
богатырей, кнйзей и монахов. Хотя речь идет о другом.
Кавелин говорит о том, что у русских не было сознания. Самарин
и это тоже знает. Но спорит. Ему не нравится пафос статьи
Кавелина. Например, Кавелин вполне справедливо
полагает, что русские — домоседы. А Самарин ему в пример ставит
Ермака, казаков. Какие же они домоседы? И так во всем.
Между ними нет согласия даже в вопросе о христианстве, о том,
чем оно нас обогатило.
Германские племена запустили руку в христианский
сундук и вытащили оттуда личность, потому что она у них уже
была. Русские опустили руку в сундук и выбрали смирение,
потому что оно у них также было раньше. Германцы воевали
с Римом. У них внутреннее беспокойство и метание.
Военные переходы развили в германце чувство опасности.
Спасение от опасности они нашли, выработав в себе
структуру личности. Русских заел домашний быт. Семья. У них не
было чувства опасности. Им не нужна была личность. Они
воспринимают социальный мир в семейной терминологии,
1 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1990, т.1, с.28-64.
126
называя начальника отцом, а себя его детьми. Русского
человека окружали дяди, тети, братья, сестры, деды и бабки.
У германцев человек из определяемого стал
определяющим. Личностью. Русский отрекается от своей личности и
подчиняет себя целому. Германцы живут разрозненно. К
побежденным и рабам они жестоки. Умолить их о пощаде
никак нельзя. Русские — люди спокойные. Миролюбивые.
Они на рабов и чужеземцев смотрят по-родственному. Без
вражды. Без резкой разделительной черты на своих и чужих.
Германца на каждом шагу поджидает враждебно
настроенный по отношению к нему другой. Он один и поэтому
может полагаться только на себя. В нем воспитано чувство
особенности. Сосредоточенности. Ему нужно сознание. Без
него он как без рук. Русский жертвует собой во имя семьи.
Зато в семье он беспечен, как дитя. Ему не нужно сознания.
У него нет столкновений с другими личностями. Вокруг
него дяди и тети, родственники, поддерживающие и
защищающие друг друга. Обида, нанесенная одному,
касалась всех. Все за одного, один за всех.
Самарину не нравился германский способ приобретения
сознания. Но способ — способом, а европейцы извлекали
сознание, рационализируя его в терминах когитальной и
трансцендентальной философии. Русский способ
приобретения сознания иной. Но из этой инаковости не следует, что
«человек, который никогда не бил другого и не бьет, не
сознает своей силы»1. У него есть сознание, но другое.
Соборное. Кавелин его не заметил и поэтому ему честь и
хвала. «...Общинное начало составляет основу, грунт всей
русской истории; семена и корни всего великого,
возносящегося на поверхности, глубоко зарыты в его плодородной
глубине, и никакое дело, никакая теория, отвергающая эту
основу, не достигнет своей цели, не будет жить»2.
Русское государство — это тоже община, то есть
предельный вид земского единства. Форма общежития. И в это
общежитие, в это единство не надо вносить рознь в виде
федерализма, который хорош только как форма смягчения
земской розни. Община отвечает «потребности жить вместе
1 Там же, с.44.
2 Там же, с.50.
127
в согласии и любви»1, а не личному произволу каждого. 06^
щинный быт «основан не на личности и не может быть на
ней основан, но он предполагает высший акт личной
свободы и сознания — самоотречение». Трансцендентальное
сознание — это сознание автономной личности, которая два?
жды пыталась укорениться в истории России: во времена
Ивана Грозного и Петра I. В опричнине Ивана Грозного
была явлена русскому человеку трансцендентальная
аналитика автономной личности, затем она появилась вновь с
Петром I. И с гражданской войной XX века. Самарин
считает оскорбительной для человеческого достоинства мысль о
том, что бывают времена, когда гениальный человек не
может не сделаться извергом, утверждающим права личности.
Но бывают изверги, а бывает и время действия соборного
субъекта. Самарин видел это время в 1862 году и в 1612-м; ί
Соборная личность смиренна, но смирение — это не
покорность, а согласованность с миром, гармония, которая
достигается отречением личности от самой себя во имя це^
лого. Вот, например, вече. В нем дела решались не по
большинству голосов и не единогласно, а как в семье, среди
родственников, то есть примиряюще. Автономная личность
своевольна. Европейская реализация личности создала не
личность, а индивидуализм и своекорыстие. В некотором
смысле есть только одна личность. Это Бог. А человеческая
личность невозможна. В Европе личность стала тотемом.
Знаком принадлежности к иному порядку бытия. И вот
каждый ходит и говорит: «Я — личность». Я — бог, хотя эти
утверждения онтологически бессмысленны.
Баронесса
Самарин — человек холодный. Не эмоциональный. Была
в нем какая-то несимпатичная правильность. Он никогда не
делал глупостей. А это настораживало.
Вот К. Аксаков, его друг. Ведь девственник, а все же
влюблялся. И даже миф сочинил о своей любви к цветочнице.
Женщины Самарина не интересовали. Он их не любил.
Однажды он увлекся баронессой Раден. Правда, к этому времени
Самарин перенес уже два удара паралича. И его скривило. Но
!ΤΗΜ)Κθ,α51.
128
голова по-прежнему работала хорошо. Баронессе это в нем
нравилось. Она умна. И он умен. Она тверда в своих взглядах.
И он тверд. Ей не уступает. А между ними — прибалтийские
губернии, то есть различное отношение к ним. Баронесса —
фрейлина великой княгини Елены Павловны. Но родом она
была из Прибалтики. Там ее дом, знакомые, родственники.
Она, защищая остзейских дворян, видела в них залог
грядущей свободы. Самарин называл Прибалтику окраиной
России и призывал лишить ее всяческих привилегий.
Баронесса недовольна. Самарин пишет ей письмо. С этого письма
началась история самаринских «Окраин России», которые
взбудоражили немецкую общину в Петербурге. Пафос
Самарина передает одна его фраза. Она звучит так: «Мы даже не
умеем угнетать»1. Вот все умеют, а мы даже этого не
научились делать из-за своей соборности. Раден недовольна
Самариным. И царь недоволен. Самарин пишет письмо
царю. «Если бы когда-нибудь русское общество повернулось
спиной к балтийскому краю, махнуло рукой на Польшу,
забыло про Кавказ и Финляндию, отучилось вообще
интересоваться своими окраинами, это бы означало, что оно
разлюбило Россию как целое»2. Враги России «сбежались
бы со всех концов Европы на братский пир и отпраздновали
бы вместе канун политического крушения империи»3. Царь
на письмо не ответил. Баронесса на письмо ответила
письмом. Мол, возьмите свои слова обратно. Или все, конец,
разрыв отношений. А Самарин на своем стоит. Нет, мол, не
возьму свои слова обратно. А вам, баронесса, не хватает
знаний. Да и детские воспоминания вас связывают с этим
краем. А воспоминания мешают мыслить. Самарина они не
связывали. И он был свободен. В баронессе ему нравилось
все. Даже ее предрассудки. Но истина была для него
дороже баронессы. Вот Раден утверждает, что в Прибалтике
укоренилось цивилизованное поведение. А что такое
цивилизованное поведение? Наружная образованность, которая
нужна для того, чтобы «проехаться по Европе, никого не
задев, не оскорбив и не давши себя обидеть, принимать
1 Там же, с.324.
2 Нольде Б.Э. Самарин и его время. Париж, 1978, с.204
3 Там же.
9 Ф. Гиренок
129
участие в разговорах между пассажирами, не возбуждая
смеха и не обращая на себя всеобщего внимания»1. То есть это
кора. Но если вы ее снимете с одного дерева и обвяжите ею
другое, то разве она приживется? Нет, конечно. Ну не было у
нас рыцарской жизни. Не целуем мы руки женщин. В наших
понятиях женщина живет для себя только до замужества.
Затем труд. Подвиг. Жертва собой мужу, детям, семье, дому.
Это там, на Западе, женщина до замужества сидит взаперти.
В монастыре. А потом выходит замуж, чтобы пожить для
себя. Погулять.
Баронессе не нравилась теория Самарина, и она от него
отдалялась, отдалялась и отдалилась.
Герцен и Самарин
Самарин — ученый. Аналитик. Ему не откажешь в уме.
Самарина уважают. У него диссертация защищена. Он не
самоучка. Чаадаев предлагал ему дружбу и заманивал к себе.
Герцен раскланивался с ним и считал его своим, то есть
западником, выделяя среди всех остальных. Мол, мы же
умные люди, а :в славянофилах есть что-то «ретроградное,
негуманное, узйое»2. Герцен был уверен, что Самарин не их,
не из славянофилов, что они поймут друг друга. Не поняли.
Самарин выбрал Хомякова. Написал письмо Герцену,
которое на него подействовало грустно. И Герцен отстал от
Самарина, потому что Самарин был убежден в том, что
Европа сходится в одном: «в желании всякого зла России»3.
В 1864 году Самарин путешествовал по Европе. Был в
Праге. Затем приехал в Лондон. А здесь Герцен с
«Колоколом». Конечно, «Колокол» — пакостное издание. Да
Александр Иванович-то свой, русский. Да и дружили когда-
то. Самарин решил увидеться с ним. Написал письмо.
«Любезный Александр Иванович, Вы знаете, что мы с вами
стояли всегда не рядом друг с другом, а на диаметрально
противоположных концах. Вы, конечно, догадываетесь, что
в настоящее время едва ли кто-нибудь строже меня
осуждает всю вашу деятельность и жалеет искренно о том вреде,
1 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1900, т.1, с.141.
2 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1880, т.5, с.ЗЗ.
3 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1900, т.1, с.282.
130
который вы сделали и делаете в России. Но у нас обоих
много общих воспоминаний, думаю, что вам они так же дороги,
как и мне»1.
Самарин и Герцен встретились. Обнялись. Проговорили
пять часов. Выяснили, что Самарин не любит поляков и
Чернышевского. Самарин обвинил Герцена в подготовке
революции, в том, что он своей пропагандой иссушил мозг,
ослабил нервную систему целого поколения, что он не хочет
понять различие между контрактом и доверием, что
политическая система в России основана на доверии между
властью и подвластными, тогда как на Западе она основана
на контракте. Герцен говорил о своей приверженности к
либеральным ценностям. Говорил невнятно, без пафоса. «У вас
не ценности, а революционная чесотка», — был ответ
Самарина. Вас лечить надо. Они разругались и разъехались.
Установиться, чтобы мыслить
Автономная личность мыслит, если она свободна, то есть
освободила себя от памяти, традиций, сочувствия и начинает
все с нуля, с себя. Нулевость начала является
фундаментальной предпосылкой мысли. Соборная личность мыслит, если
она установилась, то есть полностью определила себя в
понятиях соборно'и жизни народа, его памяти, традиций, языка.
«Мыслить, не установившись, невозможно»2. Нельзя
мыслить устанавливаясь, то есть на ходу, в процессе, без памяти,
как кочевник. Дело не в том, чтобы мыслить истинно. А в
том, чтобы установиться. А это дело жизни, а не логики. В
автономной личности важна правильность мысли, то есть вот
соблюдает она правила или нет. В соборной личности важна
установленность. Ты установись, а уж стрелы твои точно
попадут в цель. Истина — не продукт мышления. А следствие
метафизического апостериори, полной бытийной
определенности. Ну а если есть такая определенность, то нам нужно,
как говорит Самарин, признать два следствия. Во-первых,
«каждый человек знает о себе много такого, чего не знает
никто или что узнает другой только от него самого»3. Если
1 Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. Париж, 1978, с.181.
2 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1900, т.1, с.146.
3 Там же, с. 151.
9*
131
установился, то ты знаешь то, что не знает никто. Факт
установленное™ накладывает запрет на метафизическое
конструирование опыта. А также он делает тебя
независимым от другого. От того, что он может знать о тебе в
трансцендентной перспективе мира, ибо в этой перспективе
нет твоего внутреннего опыта. У трансцендентального
субъекта нет внутреннего. Это затем, позднее феноменологи
обнаружат у автономной личности внутренний опыт и
начнут его рационализировать, разделив всех людей на
порядочных и непорядочных. Так вот предметом
феноменологических исследований является внутренний мир
автономной личности, если она порядочна. Внутренний мир
соборного человека выполняется внешними связями внутри
собора. А это значит, что любое описание этих связей, равно
как и жизни соборного человека, будет неполным. Для
полного уразумения жизни человека необходимо, чтобы он ее
рассказал сам. то есть необходим рассказ, при условии
абсолютной искренности. «Всякий народ обязан истолковывать
себя, оставив свою исповедь»1.
Философиями есть этот рассказ. Вернее, искренний
рассказ о том, что знаешь только ты, и есть философия, без
которой всякое знание жизни твоего народа будет
неполным. Обязанность рассказа нельзя возложить на другого,
ибо задача состоит в обнаружении того, что знает про себя
только сам народ, чего другой народ не знает и не узнает
никогда без его посредства. Без выполненного рассказа любое
существование остается тайной. «Русскому, потому что он
русский, и в той мере, в какой он русский, дух нашей
истории, мотивы нашей поэзии, весь ход и все настроение
народной жизни откроется яснее и полнее, чем французу»2.
Например, Гегель всю свою философию извлек из
немецкого языка. Но его философия знаменует одновременно
радикальный разрыв с искренностью, открывая дорогу-
спекуляции, иронии и псевдорассказу.
У автономного человека философия начинается в акте
самосознания, в опыте отличия я от не я. Соборный человек
Чамже.с^О!.
2 Там же, с. 114.
132
начинает философствовать в момент искреннего рассказа о
том, что знает только он. Его философия — это исповедь.
Самарин о самости
Кавелин написал книгу «Задачи психологии» и
обратился к Самарину за отзывом. Самарин не уклонился и
составил Свое мнение о книге Кавелина. На это мнение
отреагировал Кавелин. С 1872 по 1875 год происходил обмен
мнениями между Самариным и Кавелиным. Кавелин
полагал, что есть только одна субстанция — материальная. А
Самарин допускал две — Бога и материю. И обе они
воздействуют на душу человека. При этом Кавелин представлял
душу в терминах, вполне приемлемых и славянофилам. Он
назвал ее организмом. Самостоятельным и самодеятельным.
Ну а Самарина заинтересовало словечко «сам». Ибо
«ударение падало на слово сам, и в нем заключается суть ответа»1.
Вот ты делаешь что-то сам и появляются произвольные
действия. А если ты не сам, то действия твои непроизвольны.
Произвольность может расширяться до бесконечности или
сужаться до точки. Но как отличить произвольное от
непроизвольного? Ведь в составе любого действия нет признака,
указывающего на их отличие.
Иными словами, Кавелин допускает свободу как
принадлежность личности. Как его собственность. Что и выражает
слово «сам». Самарин обнаруживает в самости другого и
поэтому объявляет «самость» самообманом. Либо есть Бог и
мы свободны, но тогда свобода — это не принадлежность
индивида, не результат его самоопределения. Либо Бога нет и
самость — это иллюзия свободы. То есть иллюзорно
представление о том, что свобода существует как сознание свободы.
Конечно, можно убрать «сознание» и на его место поставить
«волю» и понимать свободу как волю к свободе. Как порыв,
стремление. Но ничего не изменится. Ведь воля может
самоустраниться и был безвольной. Например, «Спаситель
подал Иуде хлеб. Это была последняя минута, в которую
задумавший предательство мог еще пересилить в себе
искушение, но он упустил ее, принял предложенный ему
хлеб, не отказавшись от своего намерения, и тогда вместе с
1 Самарин Ю.Ф. Сочинения. Мм 1887, т.6, с.406.
133
хлебом «вниде в него сатана»; иными словами: с этой
минуты побуждение приобрело над душой власть неодолимую, и
она пошла ко дну, как камень, падающий в силу динамики»1.
Процесс самоопределения нельзя определить. Потому что
это значит определить до самоопределения. Точно так же,
как нельзя предсказать открытие. Ведь предсказать его —
значит открыть. Человек уже свободен и поэтому что-то
может делать сам.
Революционный консерватизм
Технология письма Самарина интертекстуальна. Все его
тексты состоят из цитат, пространство между которыми
заполняется комментариями, голосом самого Самарина. Но и
в собственном голосе Самарина легко различимы голоса
Хомякова и Киреевского, то есть открытое цитирование он
допускает по отношению к объекту критики. А скрытое
цитирование является признаком его теоретической
самоидентификации. Кавелина, Герцена, Соловьева, Фадеева он
критикует и поэтому открыто цитирует. Взгляды Хомякова
и Киреевскогогон разделяет, и поэтому они попадают в
разряд скрытого цитирования. Помимо этого в текстах
Самарин есть еще и высказывания, которые существуют на
стороне автора не сами по себе, не позитивно, а благодаря
объекту критики.
Вот прочел Самарин книгу Фадеева о будущем России и
ему стало страшно. Фадеев различает общество и
государство. Первое предполагает некоторую критическую массу
людей, готовых выполнять законы. Второе не нуждается в
этой массе, являясь гарантом исполнения законов. Так вот
мы не общество, а государство. И поэтому нам государство
никак нельзя разрушать. Если мы его разрушим, то ничто
нас уже не сможет связать. Мы распадемся. И будет хаос:
Будет пустота, заполняемая обрывками мыслей, осколками
фраз и слов. И тем более нельзя смотреть в сторону Запада.
Потому что «глиняный горшок не спутник железному». Мы
другие. Мы глиняные.
Но все-таки, замечает Фадеев, мы свое государство
разрушаем, не создавая общество. Что может связать наш
^1^6,0.425-426.
134
народ? Дворянство. Фадеев возлагал надежду на
дворянство, на то, что оно свяжет народ, превратит его в нацию,
не даст распасться. Но если это так, то зачем все эти
реформы, разрушающие самый быт дворянина. Его нужно вернуть
к власти, дать ему задание, и все успокоится. Ведь дворяне —
это «сознательная консервативность», которая может
связать стихию народа. Вот этот ход мысли и вызвал
возражение Самарина, который не любил дворян. Как это
так, между царем и народом хотят поместить еще какого-то
посредника. Нам посредники не нужны. Ведь посредник —
это конституция. Ограничение власти монарха. А если мы
кого-то ограничиваем — значит мы ему не доверяем. А если
нет доверия между властью и народом, то это уже будет
другая политическая система, контрактная, а не самодержавная.
Самарин делает вывод о том, что за консерватизмом
Фадеева скрывается революция. Или, как говорил
Самарин, рационализм в действии. Нет, ничего не надо
пересматривать. Пусть торжествует «свободный живой
быт». Ведь брожение в обществе идет у нас сверху, а не
снизу. У нас народ консервативен, а верхи — революционны.
Народ не верит дворянам. И его правительству. Потому что
оно одну часть своего времени что-то строит, а другую
часть времени разрушает построенное. Затем кается в
своих грехах и пугает общество грядущим крушением. Строит,
разрушает и кается — такова логика действий посредников.
И далее: «Неисправимый славянофил, я все-таки верю, что
Россия, уйдя внутрь себя, оттерпится и на сей раз и не
умрет под ножом; но когда она очнется, ощупает себя и станет
на ноги, найдет ли она при себе прежнюю веру в
правительство, в крепость его слова, в твердость его намерений — вот,
мне кажется, о чем следовало бы подумать прежде чем
браться за нож»1.
Фадеев любил дворянство. Самарин его не любил. Он не
соглашался передать в управление земствам даже уезд. «Это
значило бы тоже, что отрубить у правительства пальцы,
оставив при нем одни руки»2.
1 Революционный консерватизм. Берлин, 1875, с.72-73.
2 Там же, с.70.
135
1.6. Опыт синонимов. К. Аксаков
Аксаков отождествляет философию дословности с
поступком. Он превратил манеру одеваться в немую речь. В
«Опыте синонимов» Аксаков указал на разрыв между речью
и жизнью, интеллигенцией и народом, словом и властью.
Дословность русской философии не укладывается в
существующие формы грамматики, и Аксаков создает теорию
русской грамматики. Кое-чему его научили в Московском
университете. Правда, «профессора преподавали плохо,
студенты не учились и скорее забывали, что знали прежде»1.
Большую часть времени Аксаков проводил на вечерах у
Станкевича, где «выпивалось страшное количество чаю и
съедалось страшное количество хлеба»2.
Картография родословной
В Константине Аксакове русская кровь смешалась с
турецкой. Его отец — Сергей Аксаков. Мать — О.С. Заплатила.
Наполовину турчанка. То есть бабушка Аксакова
принадлежала к роду, который мог носить зеленую чалму, потому что
этот род восходил к Магомету. Сама она попала в Россию
двенадцатилетней девочкой после осады Очакова русскими
войсками. Здесь получила воспитание и вышла замуж за
военного, ставшего генералом. Родила дочь.
Отец Аксакова — писатель, охотник, игрок. Хороший
человек. Мать — стойкая женщина, родившая 14 детей.
Патриотка, правдолюбка, православная. Аксаков был
по-восточному красив. Особенно с усами и при бороде.
К. Аксаков — это, пожалуй, самый крупный русский
философ. Его рост больше 180 см. Широкие плечи. Крепкое
сложение. Он мог бы, наверное, стать штангистом. Он стал
философом. «Передовым бойцом славянофильства»3. Из
воспоминаний Герцена: «Он за свою веру пошел бы на
площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами,
они становятся страшно убедительными»4.
1 Аксаков К. Воспоминания студентства, СПб, 1911, с.13.
2 Там же, с.27.
3 Венгеров С.А. К. Аксаков — передовой боец славянофильства. СПб,
1912.
4 Там же, с.78.
136
Передовой боец славянофильства
Как ни странно, но этот советский оборот речи,
вынесенный в заголовок, родился еще до утверждения советского
дискурса. Он был в ходу среди интеллигентских кругов
Петербурга. Среди западников. Левых прогрессистов. К этим
кругам относился и Венгеров, написавший книгу об
Аксакове. Основная мысль книги состояла в том, что
Белинский — боец. И Аксаков — боец. Но Белинский
прогрессивный боец, а Аксаков многое не понял, хотя и состоял
в кружке Станкевича.
Вот он ходил на занятия в этот кружок, ходил, слушал,
слушал, а потом и говорит: все. Хватит. Надоело. Я не с вами.
Давайте прощаться. А у самого слезы на глазах. И у
Белинского — слезы. Обнялись они на прощание, расцеловались и
пошли в разные стороны. Белинский — налево. А Аксаков —
направо. Объясняя мотивы разрыва, Белинский говорил: «Я
по натуре жид». В Аксакове же сильна почва. Он русский.
Его любимое выражение: «Пора домой», в допетровскую
Русь. Из воспоминаний Б.Н. Чичерина: «Постоянно роясь в
древних грамотах, он видел в них только то, что хотел
видеть, закрывая глаза на все остальное»1. Чичерин —
космополит. Интеллигент, то есть человек несамобытный.
Мурмолка
Аксаков — барин. Аксакову писать лень. Не барское это
дело — тексты сочинять. К тому же что он ни напишет, в том
обязательно гегельянское косноязычие проявится, а это
противно. Вот пример письма К. Аксакова: «Определив явление
как момент литературы, открыв смысл его деятельности, мы
поняли его само в себе, in abstracto, то есть момент получает
действительность, конкретируясь, и если уже это
исторический полный момент, то он является конкретированным»2. И
так написано 517 страниц. Но как от этой заразы
избавиться — никто не знает. А заразили его у Станкевича. Вот
написал он о поэме «Мертвые души», сравнил Гоголя с
Гомером, а его на смех подняли. Аксаков это очень переживал. Ну
1 Чичерин Б.Н. Воспоминания. Москва 40-х годов. М., 1912, с.238.
2 Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. М., 1981, с. 4.
137
нет у Гомера интриги, загадки, заманивания читателя. И у
Гоголя нет. Его читать скучно. А читаем, ибо это поэма для
русских. Как-то все глупо вышло. Ему было перед Гоголем
стыдно. Нет, уж пусть Белинский пишет. У него это хорошо
получается. Зачем мне писать? Я лучше русский костюм
надену. И тем все будет сказано. Сказано — сделано. Аксаков
первый надел мурмолку. А за ним уже ее надели его отец,
Хомяков и другие. Вот надел Аксаков косоворотку, зипун и
мурмолку, заправил штаны в сапоги и пошел на бал. И его
заметили. О нем заговорили. Дословностью поступка
Аксакова все было сказано. Конечно, зипун ему сшил
французский портной. Но дело не в этом, а в принципе:
русскому сподручнее ходить в русском платье.
Цветочница
Понравилась Аксакову дальняя родственница. Троюродная
сестра. Полюбил он ее. А она не ответила ему взаимностью. И
Аксаков уехал лечить свое любовное чувство в Германию.
Некоторое время он был в Берлине. Прогуливаясь, Аксаков встретил
симпатичную немку, цветочницу. Он стал ухаживать за ней. А
опыта у него не было, то есть у него не было женщин. И вот
Аксаков стал покупать цветы и дарить.их цветочнице. И так
каждый день. Немка была с ним мила. На пятый день Аксаков
стал ей Шиллера читать, решив окончательно закрепить свои
успехи. А она ему и говорит, что Шиллер — это, конечно,
уважаемый поэт, но зачем же покупателей отпугивать. Мол, и соседи
уже сплетничают. И если он хочет продолжить с ней
знакомство, то ей хотелось бы получить от него более существенные
подарки. Ты-де — богатый. Ты мне деньги, я тебе — себя.
Аксаков в ужасе сбежал от нее. Этот ужас и вылечил его.
На этом его роман с женщинами закончился. Больше он к
ним не подходил. В Париж он уже не поехал, а сразу же
отправился домой.
Отец
Аксаков звал отца по-русски: отесинька. Ему уже под
сорок, а он, как ребенок, живет дома. С родителями. И
ласкается к отцу. Ну отделись ты, сними квартиру или купи
дом и живи своей самостоятельной жизнью. А он не хочет.
Потому что он непрактичный. Все становятся взрослыми, а
138
Аксаков пропустил время взросления. Он остался ребенком,
то есть в нем была какая-то инфантильность. За ним
ухаживать надо было. Аксаков никогда не работал. У него не было
никакого общественного положения. И это беспокоило
близких к нему людей. Вон Самарин моложе его, а все-таки
камер-юнкер. Самостоятельный человек.
В усадьбе хорошо. Здесь не надо думать о завтраке и
обеде. Здесь все как бы само собой образуется. Ты проснулся, а
тебе уже кофий несут. И его носили, пока отец Аксакова не
умер. Вот умер его отец, и весь быт переменился. «...Все
кончилось. Ни удовольствие, ни радость жизни для меня
существовать не могут», — говорил Аксаков1. После смерти
отца Аксаков как будто скукожился. Высох. Его стал мучить
кашель. Он похудел, поседел и стал угрюм. Силы оставили
«го. Его отправили за границу поправлять здоровье.
Иностранные врачи рекомендовали ему острова Ионического
архипелага. Он поехал туда, а там элементарных удобств нет.
С едой проблемы. Простого молока найти нельзя. Да и врача
не сыскать. Так Аксаков и умер от тоски на одном из
островов Ионического архипелага.
Особый путь
«Помилуйте, говорят многие, неужели вы думаете, что
Россия идет каким-то своим путем? На это ответ простой:
нельзя не думать того, что знаешь...»2.
Аксаков озабочен бытием России. Дело не в том, что
существуют какие-то пути-дороги в объектной структуре мира
и ты выбираешь, по какой из них пойти. Вот, мол, Запад
пошел по одному пути, а мы, из вредности, решили пойти по
другому. По третьему. Аксакова не интересуют внеположные
пути. Его занимает вопрос о самоопределении России. А
изнутри самоопределения мир видится не таким, каким его
изображают в трансцендентной перспективе. Вот, например,
Запад. Для Аксакова он ложен. Почему? Потому что он
неверен, то есть не ведет к вере. Вернее, ведет к неверию. Он
породил знание и убил веру. А мы, говорит Аксаков, не хо-
1 Венгеров С.А. К. Аксаков — передовой боец славянофильства, СПб,
1912, C.8S.
2 Аксаков К.С. Сочинения. М., 1889, т.1, с.16.
139
тим жить без веры. И это есть наш особый путь. Ведь для
того, чтобы сблизиться с Западом, нам нужно разрушить
православие. Белинский с Герценом согласны это сделать.
Аксаков возражает. Или вот Запад уповает на материальные
интересы, на одни человеческие силы в предположении, что
человеческие учреждения заменяют Бога. Западный человек
онтологически независим от Бога. А Россия уповает на Бога.
Не верит она в себя, в свои человеческие силы. В этом ее
особенность.
«Россия — земля совершенно самобытная, вовсе не
похожая на европейские государства и страны... Очень ошибутся
те, которые вздумают прилагать к ней европейские
воззрения и на основании их судить о ней»1.
Во-первых, власть везде завоевывают. К ней стремятся.
Русские от нее бегут. У нас ее дарят. Она у нас призвана.
«Придите и владейте». Пришли и владеют, а мы не бунтуем.
Потому что бунтуют рабы, а мы — не рабы. Мы власть над
собой добровольно призвали, то есть мы в самом своем
истоке обессмыслили протест против власти. «Человек
свободный не бунтует против власти, им понятой и
добровольно призванной»2.
Во-вторых, нас отличает вера, православие. Наша вера
детерминирует прохождение пути внутренней правды, а не
внешней. И в этом смысле мы ближе к Востоку, чем к Западу.
Внутренняя правда требует совести. Внешняя правда — права.
В-третьих, у нас между народом и властью доверие, а не
договор. И поэтому нам не нужны гарантии соблюдения
договора. «Гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра»3.
В-четвертых, у нас не было аристократии и демократии.
У нас были люди земские и служилые, объединяемые бытом
и верой.
В-пятых, у нас не было рыцарства и доблести. «Русский
народ не любит становиться в красивые позы»4. У нас
преобладает молитвенная тишина и смирение, но не от слабости, а
от веры.
1 Там же.
2 Там же, т.2, с. 17.
3 Там же, с. 18.
4 Там же, с.27.
140
В-шестых, «история русского народа есть единственная
во всем мире история народа христианского не только по
исповеданию, но и по жизни своей. По крайней мере, по
стремлению своей жизни»1. И Господь возвеличил
смиренную Русь, дал ей одну шестую часть суши, дал ей простор на
земле. Отчего Европа пришла в тайный ужас.
Интеллигенция обвиняла Аксакова в возвеличивании
русского народа, в предписывании ему особой миссии и
избранничества. Да, конечно, мы избраны, но в том смысле, что
мы единственные среди христиан, кто не поклоняется
человеку2. Мы — не гуманисты. У нас человек — скорлупа,
раздавили ее и выбросили. Вот и весь наш мессианизм. Если
бы мы были националисты, то у нас было бы развито
чувство отечества. А у нас это чувство плохо развито. Потому что
у нас развито чувство веры. Вера заморозила русское
национальное сознание. Мы прежде всего христиане, а потом уже
русские. Вот спросите крестьянина: кто он? И он ответит: я
рязанский. Или костромской. То есть он даже русским себя
не назовет. И Аксаков о том сожалеет.
Мораль и право
У Аксакова есть одна символическая фраза. Звучит она
так: «нравственное дело должно и совершаться
нравственным путем»3. Вот если нравственное дело совершается
нравственно, то это будет путь внешней правды. Европа
пошла по пути внешней правды. Она создала правовое
общество, и какие-то нравственные проблемы в ней были
разрешены. Чичерин с Грановским это увидели и
обрадовались. Они позитивисты. Аксаков огорчился. Он — философ,
то есть ему очевидно, что нравственное дело нельзя
совершать экономически эффективным путем. Потому что этим
путем можно обойти необходимость самого нравственного
делания.
Всякое нравственное дело состоит из двух элементов:
состояния и поступка. Причем эти элементы связаны так, что
поступок вытекает из состояния. Состояния — внутри. Они
1 Там же.
2 Там же.
3 Там же, т. 1, с. 16.
141
невидимы. Поступки вовне. Они наблюдаемы. При
идеальном устройстве общества всякий поступок вытекает из
состояния. Но проблема состоит в том, что изнутри вовне
вытекает всякое: как доброе, так и злое. Для того чтобы не
было зла, надо много трудиться, заниматься собой. Люди же
ленивы. Они трудиться нравственно не хотят. Потому что
это тяжело. Поэтому они ищут обходные пути для того,
чтобы совместить лень и добро. Чтобы трудиться не надо было.
Так появляются правила, предписания, формы. Внешний
путь правды. Поступок теперь согласован не с внутренними
состояниями, а с внешними правилами.
А какой ты там внутри — это никого не интересует. Лишь
бы правила соблюдались, закон не нарушался. При таких
условиях даже недобродетельные люди делают добро. Они
принуждены к благу формой жизни. Вот попросил ты денег
взаймы, и тебе дали. Пришло время отдавать, а ты не
отдаешь. Ну нет у тебя совести. Но почему же другой должен от
этого страдать? Значит, нужно полагаться не на совесть, а на
закон, который я плута заставляет поступать честно. И это
будет жизнь в правовом обществе.
Аксакову такая жизнь не нравится. «Пусть лучше
разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощью
зла»1. Потому что в ней добро есть, а добрых людей нет. Пог
говорить не с кем. То есть ничего не стоит то добро, которое
не вытекает из внутренних состояний человека. Это добро —
заслуга закона, а не человека. А у закона «цель устроить
такой совершенный порядок вещей, чтоб душа оказалась не
нужна человеку, чтоб и без нее люди поступали нравственно
и были бы прекрасные люди, дело бы делалось как следует и
общество бы благоденствовало»2. Хороша европейская
цивилизованная жизнь. Да душа не нужна человеку в этой
жизни. И совесть не нужна, потому что в этой жизни
внешнее детерминирует над внутренним* организованное
явление преобладает над задушевностью. А в мире явлений
и эффектов поверхности совесть не приживается. А без
совести человек превращается в машину по производству
человекоподобных действий, то есть внешне организован-
1 Аксаков К.С. Сочинения. М., 1898, т.1, с.18.
2 Там же, с.56.
142
ная жизнь приучает тебя поступать без внутренней
нравственной причины. Ни один закон не может потребовать от
человека, чтобы он был искренен или чтобы его поступок
был согласован с его совестью. Европа «дает возможность
человеку, поступив по закону... поступить безнравственно»1.
Вот эта-то возможность и заставляет русских философов
говорить о неприемлемости европейских путей развития.
Аксаков впервые в русской философии заговорил о
конфликте между правом и нравственностью. Аксаков принимает
сторону не правового общества, а нравственного понятия в
нем. Правовому обществу мораль не нужна. Моральному —
не нужно право. Община понимается Аксаковым как
моральная категория, противостоящая правовому государству.
Конфликт между правом и моралью, общиной и
государством коренится в изначальном конфликте между истиной как
алетейей и истиной как мистерией, между отвлеченным
разумом и традицией. Запад разрешил этот конфликт в пользу
разума и права. Россия отдала предпочтение
материальному разуму, Софии. Для того чтобы принять европейский
стиль жизни, нам нужно отказаться от православия, от
общины, от философии поступка и поклониться правовому
государству. «Везде видим, что идеал его, идеал порядка,
внешней строгссти, ловко приглаженного, так сказать,
механического устройства, пленил ум человеческий и один
думает достичь своего идеала путем монархии, другой —
конституции, третий — республики, четвертый — путем
коммунистических учреждений»2.
Понятие о праве вырабатывается в среде преступников и
в этом смысле правовое общество — это общество
потенциальных преступников, верящих в идеалы. Но Аксакову не
нравятся идеалы. Он в них не верит, потому что человеку
легче верить в идола, чем в Бога. Или, что то же самое,
исполнять внешнее правило легче, чем слушать, совесть.
Конечно, порядок внешней жизни удобнее, чем порядок
жизни внутренней, но за удобство нужно платить смертью
того, что Аксаков называет «внутренним нравственным
голосом». Христианство стало невыносимой ношей для
1 Там же.
2 Там же, с.57.
143
человека. В Европе эту ношу облегчают. Аксаков против
этого. Вот, например, Соединенные Штаты Америки. Здесь
живет не народ, а государственная машина, состоящая из
людей, у которых нет единой веры. И поэтому в США othoî
шения между людьми становятся политическими, а не
моральными.
Аксаков строит мир, основанный на человеческих каче-·
ствах. Сам же этот мир строит себя из людей без свойств. И
поэтому в нем политические отношения более
фундаментальны, чем моральные. Противоречие, найденное
Аксаковым, будет разрешено в эстетике К. Леонтьева.
Добрыня Никитыч
«Главное дело подвиг, а жизнь становится дело
второстепенным»1. Подвиг сопряжен с поступком, основанным на
личных качествах. Путь внутренней правды состоит из
поступков, благодаря которым возможны подвиги и герои.
Путь внешней правды согласует между собой действия и
закон. Вот, например, Добрыня Никитич. Он добр. В чем же
его доброта? Да ни в чем. В нем самом. Гулял он как-то по
Киеву. А тут Голубь пролетал. Добрыня Никитыч взял да и
пустил стрелу в голубя. Но в голубя он не попал, а попал в
окно Марины Игнатьевны. Да зеркало ее он расшиб. Марина
в гневе. Дай, думает, приворожу его к себе. И приворожила.
Добрыня Никитыч не спал, не ел.. Все о Марине думал.
Полюбил он ее. И вот не выдержал Добрыня. Пошел в гости к
Марине, а она тем временем шуры-муры крутит со Змеем
Горынычем. Добрыня за меч, дана Змея. Тот бежать. Рассер^
дилась Марина и заколдовала Добрыню. Превратила его в
тура, а потом подлетела к нему касаткой, села на рог и
говорит: женись на мне. Добрыня согласился. Стали они
людьми. Повенчались вокруг ракитова куста. Пошли к ней в
дом. А в доме у нее нет Спасова образа. Помолиться некому.
Марина, оказывается, нехристианка. Ну и стал Добрыня;
свою жену учить. На первый урок отрубил Марине руку,
чтобы Змея не ласкала. На второй урок отрубил ей ногу,
чтобы не бегала куда не надо. На третий урок отрубил ей голову,
потому что она колдуньей была. Аксакову нужно объяснить,
1 Там же, с.327.
144
почему Добрыня такой злой. «Такая строгая казнь,
совершенная с полным спокойствием Доорыней, не может
служить определением его нравственного образа и кидать на
него тень обвинения в жестокости»1.
В действии Добрыни Аксаков не находит поступка,
сопряженного с внутренними качествами. Его действие
сопряжено с обычаем, то есть он убивал свою жену по
обычаю богатырей. По правилу. Поэтому он убивал ее
беззлобно. Бесчувственно. В аксаковском описании
подвигов Добрыни Никитыча зафиксировано отсутствие
дианоэтических добродетелей в русском характере,
незнание середины. У нас добро такой односторонности, что его
легко представить как зло. Добрыня Никитыч живет в
домонгольской Руси. Его беззлобную жестокость нельзя
объяснить ссылкой на татарскую культуру,
ассимилированную Россией.
Вот, например, Аксаков рассказывает о поисках мира и
согласия в Новгороде, о любви, а Чичерин ему приводит
примеры того, как разъяренные новгородские люди бросали
своих противников в Волхов. Какое тут согласие и любовь?
Позиция Аксакова, как и в случае с интерпретацией
подвигов Добрыни Никитыча, проста. Да, бросали людей в реку.
Но ведь этого ^бросания» не было в праве, в законе. Это
было дело личное, а не традиционное. А личное, возникнув,
растворяется в качествах человека, а не в качествах общины.
Политика и быт
Аксаков следует за Хомяковым во многом. Почти во
всем. Кроме одного. Для Хомякова государство — это то, что
ведет человека к нравственному совершенствованию. Для
Аксакова «цель государства сделать ненужной совесть»2.
Аксаков выводит государство из сферы моральных
отношений и помещает его в пространстве внешнего пути. «Русский
народ есть народ негосударственный, то есть не
стремящийся к государственной власти, не желающий для себя
политических прав»3. Это тезис из работы Аксакова под на-
1 Там же.
2Тамже,с.592.
3 Там же, с.602.
10 Ф. Гиреиок
145
званием «О внутреннем состоянии России», отправленной в
свое время для поучения Александру II.
Николай I умер. Пришел Александр II, и его нужно было
ввести в курс дела. Вот Аксаков его и вводил. И первое что он
сделал — это сообщил ему об открытии, сделанном
славянофилами. О том, что русские есть негосударственный народ. И
вот этим народом новому царю придется управлять.
Ну а если у русского человека нет воли к власти, то
политика для него является чем-то трансцендентным.
Внешним. То есть она тождественна изобретению
случайных правил, с которыми должны согласовываться действия
людей. Внешнее восприятие власти накладывает
ограничения на способ существования самой власти. То есть власть
узнается русским человеком как власть, если она неделима.
И неограниченна. Власть делить нельзя. Потому что если мы
ее делить будем, то исчезнет предмет внешнего восприятия и
русский человек не увидит во власти — власть. И проявится
тогда его негосударственность. А в ней хаос внутренних
состояний. Европейская культура знает о неделимости добра и
истины. Русская культура растворила в себе представление о
неделимости «ласти. Ограничение власти создает
возможность для уловки власти, для безответственности политика,
который всегда может сказать: это не я, это не в моей власти.
Русский человек не признает властной невменяемости и
бессубъектной политики. Только субъектный дискурс власти
готов в любой момент ответить на вопрос: кто говорит?
Аксаков допускает возможность безгосударственного
существования человека. Вот славяне. Нет у них внутренних
причин для существования государства. Они мирно живут на
земле. Но соседи у них неугомонные. Налетят они,
напакостят и убегут. Вот и призвали славяне к себе государство. Для
защиты. Но «политическое устройство не сделалось...
целью»1. А «что же хочет русский народ для себя?»
Неполитической жизни в семье, в общине. Мы хотим быта. Быт —
наше бытие. Вот что должен знать царь. А быт — это не
повседневность. Это условие того, чтобы наши поступки
вытекали из наших внутренних состояний. Это
пространство поступления. Поступка. Действия, основанного на
1Тамже,с.13.
146
человеческих качествах. В Европе быт основан на
действиях человека без свойств. В нем действие вытекает из
юридически мотивированных правил и поэтому оно
кажется безгрешным. Но не потому люди безгрешны, что нет у
них греха, а потому, что в них нет чего-то человеческого. Им
недостает поступка, вытекающего из внутренних
состояний. В Европе есть норма и отклонение от нормы.
Патология. В России есть пато-логия, то есть столкновение
внешнего действия с внутренним поступком. Чтобы
устранить патологию, нужно отказаться от дуальности внешнего
и внутреннего. И выбрать что-то одно. Но сделать мы это не
можем. Потому что без государства русский человек сирота,
нуждающийся в помощи, в опоре, в защите. Без земли, без
внутреннего русский человек — это уже не русский. А
например, советский. Если бы люди были святы, то им не
нужно было бы государства. Ведь естественно, если человек
стремится к нраву, к Богу. И неестественно, если он
стремится к власти, к праву. «Ради слабости и греховности
людской необходим закон внешний, необходимо
государство, власть от мира сего»1. То есть государство — не цель.
Цель — Бог. Ну а если нельзя существовать без государства,
то давайте ему всю власть отдадим. Не будем мы ее делить.
Или нам не надо никакой власти. Или же она должна быть
неделима и неограниченна. Потому что если ее разделить,
то она расползется по всему миру, между всеми людьми,
проникнет во все феномены. Все станет политикой, хотя
«призвание человека остается все то же, нравственное,
внутреннее»2.
Различение быта и политики, земли и государства
удерживается Аксаковым и в его представлениях о свободе и языке.
Свобода является негативным понятием. Это установил еще
Хомяков. Но вот факт сцепления свободы и политики как
метку внешнего пути подметил Аксаков. То есть Европа соединила
политику со свободной. Ей важна политическая свобода.
Россия соединяет свободу с бытом. Нам важна бытовая свобода,
потому что «свобода политическая не есть свобода»3, а есть по-
1 Там же, с.608.
2 Там же.
3Тамже,с.610.
ю*
147
литика. В Европе даже язык становится политиком. И он
стремится к власти.
Из аксаковских наставлений царя следует
предостережение о недопустимости государственного вмешательства в
быт людей, в дела земли. Ведь если внешнее будет
вмешиваться в дела внутренние, то это вмешательство подорвет
свободу духа и превратит человека в раба. Ибо раб — это
человек несвободный, тот кто не думает сам. Хотя и на дыбе
может быть свободен человек. То есть человек как
случайность политических отношений составляет основу
современной формы рабства. Рабы бунтуют, принимая бунт
за свободу. «Рабы сегодня — бунтовщики завтра»1.
Аксаков советует не повторять петровских глупостей.
Ведь Петр создал разрыв между государством и землей,
правительством и народом. «Велика внутренняя порча
России»2. Истоки ее коренятся в том, что каждый делает не свое
дело. Государство вмешивается в быт. А быт проникает в
политику. Люди стали бездушными. Хитрость, воровство,
взятки — следы этой порчи. «У нас, — говорит Аксаков, — не
только те воры,;йто бесчестные люди... даже в своем роде
честные люди —''тоже воры»3. То есть Аксаков указывает на
инверсию смыслов. Хотели, чтобы нечестный поступал
честно. А получилось наоборот: даже честные люди принуждены
были к нечестности.
.Что же должен знать правитель России и что он обязан
сделать?
1. Понять Россию и вернуться к русским основам жизни.
2. Знать, что у русских нет воли к власти. И что на этом
поприще их опередит любой инородец.
3. Русский желает бытовой свободы, в которую включена
свобода жизни, духа и слова.
4. Не должно быть цензуры мысли. Должна быть цензура
личности.
5. Правительство — правит. Народ — живет. Русский быт
сохранили крестьяне, а не дворяне. На них нужно и
ориентироваться.
Чамж^с.бШ.
2 Там же, С.621.
:4 Там же.
148
Грамматика
Аксаков — философ языка. Каков язык, таков и дух
нации. Мы словене, то есть мы говорим о себе, что мы люди и
что человек это существо говорящее. Русский же язык
подчиняется одним законам, а его грамматика — другим. «Наш
язык... подпал под законы чуждой готовой грамматики»1.
Это отразилось и в правописании. В русском языке слишком
много отклонений от правил. Согласно Аксакову, в русском
языке нет будущего времени. Есть одно настоящее. «Но
настоящее одно, без понятия прошедшего и будущего, не есть
уже время: это бесконечность»2. Бесконечность не выразит
конечность. Поэтому у нас нет времени, а есть качества.
Например, мы говорим: я служил, а высказываем: я есть
служилый.
Особенности русского языка выражаются в «^». Аксаков
любил этот знак. А «с» не любил, потому что в нем было что-то
услужливое, какое-то «да-с». В слове важен голос. «Слово —
это голос свыше»3. А язык — это народ. Слово одно, языков —
много. В слове внутренний мир подает ручку внешнему.
Сознание есть звук. «Все стремится подать свой голос»4.
Всякая граница звучит. Сознание возникает на границе.
Среди веще&есть стук, грохот. Этот звук переходит в шорох,
гром, треск, шелест. Звук как шум характерен для живых
существ. Стук, шум, всплеск и наконец крик — так Аксаков
представляет себе звуковое движение мира. В крике уже
есть голос. «Все звучит, давая знать о себе, выражая себя в
звуке, все подает голос в общем хоре предметов и существ»5.
В слове звук становится молчаливым. Русский язык
выделяет беззвучие в букве «ъ» («ер»), в ее безгласности. Эта
буква выражает немоту природы и дает слово человеку. Дает
ему речь. Метафизически знак «*к» («ять») предшествует
согласным и гласным звукам, а также является неким
буквенным нолем.
1 Аксаков КС. Сочинения. М., 1875, т.2, ч.1, с.392.
2 Там же, с.413.
3 Аксаков КС. Сочинения. М., 1880, т.З, с.1.
1 Там же, с.4.
5 Там же, с.7.
149
Русский язык, теряя «^», теряет и свою метафизику.
Равно как церковнославянский язык, утратив аорист, утратил и
свою богословскую глубину, ибо вместо «искони б^ Слово,
и Слово б^ у Бога, и Бог 6*к Слово», мы теперь говорим, что
в начале было Слово, то есть оно было и прошло в
соответствии с перфектом. И нет у нас аориста для того, чтобы
выражать вечные истины, беседовать с Богом, минуя
времена будущие, настоящие и прошлые.
Публика и народ
«Слово «нация» мы различаем от слова «народ»,
понимая народ как нечто движущееся и образующееся, а нацию
как одну из форм его образования»1. Народ составляет
низшее сословие. Если ты просто человек и христианин без
всяких прилагательных, отличий и преимуществ, то ты
народ. А если у тебя есть прилагательные, то ты не народ.
Например, есть мужики и еще есть образованные. Так вот
образованные — это не народ, а «листья». Листья меняются,
а корни одни и те де. У народа — мир. У публики — свет. И
жизнь у нее светская, а не мирская.
Лишая народ· сословности, мы превращаем его в нацию.
Лишив нацию самосознания, мы превращаем ее в население.
У русских не было национального сознания. Мы можем
быть или народом, или населением.
Народ, стремящийся к власти, — это уже не народ, а
публика. Население республики. «Было время, когда у нас не
было публики... Возможно ли это? Скажут мне. Очень
возможно и совершенно верно: у нас не было публики, а был народ.
Это было еще до построения Петербурга. Публика — явление
чисто западное... Оно образовалось очень просто: часть
народа отказалась от русской жизни, языка и одежды и составила
публику, которая и всплыла над поверхностью...»2. Эта
цитата взята из наиболее стилистически совершенного текста
Аксакова «Опыт синонимов. Публика-народ». В этой работе
впервые осознано появление в России того слоя людей,
которых назовут интеллигенцией. А также осознан разрыв между
1 В. А. Кошелёв. Эстетические и литературные воззрения русских
славянофилов, 1840-1850-е годы. СПб, 1984, с.72-73.
2 Ранние славянофилы. М, 1910, с.121.
150
интеллигенцией и народом, интеллигенцией и властью.
Аксаков принимает сторону народа, то есть крестьянина, считая
публику неудачным изобретением русской истории.
«Разница между публикой и народом у нас очевидна...
Публика подражает и не имеет самостоятельности... Народ
не подражает и совершенно самостоятелен... Часто, когда
публика едет на бал, народ идет ко всенощной; когда
публика танцует, народ молится... Публика говорит по-
французски, народ — по-русски... Публика спит, народ давно
уже встал и работает... Публике всего полтораста лет, а
народу годов не сочтешь. Публика преходяща; народ вечен»1.
Публике нужна власть. Обязанность правительства не
подпускать публику к власти.
Симпатии Аксакова к крестьянству не нравились
либералам. Как это так? Мужик стал высшим идеалом человека.
Если верить Аксакову, то народ — это крестьяне. Интеллигент
Чичерин встретил как-то Аксакова и стал ему выговаривать:
мол, ну какой же это идеал — мужик. Ты-де жизни не знаешь.
Вот отец мой поймал однажды грабителей, приставил к ним
охрану из крестьян и отправил к становому. А во главе
охраны он определил самого умного и рассудительного мужика.
Ну и повезли они грабителей. А дорога была длинная. Ехали
они ехали, а уут кабак. Зашли. Выпили. Тем временем
грабители сбежали. Вот тебе и весь идеал.
Чичерину был важен факт. Аксакова интересует замысел
русской жизни. Одно дело пить. Другое — спаивать. Вот,
например, закадычный друг Аксакова — Белинский. Он
интеллигент. Его отец пил, вел дурную жизнь. Виссарион
вырос закомплексованным, без семейной ласки, без
воспитания. Болезненно самолюбивый, он был робок. И всегда без
денег. Это его унижало. Бакунин открыто издевался над
Белинским, имевшим несчастье полюбить одну из его сестер2.
Бакунин — дворянин. Белинский — разночинец. Бакунины
заговорят между собой по-немецки, а Белинский стоит и
глазами хлопает. Ведь языка-то он не знает. А они знают, что он
не знает, а говорят. Издеваются над ним. Белинский понял,
что человек — это тьфу. Ничтожность. Идея выше человека. А
,Тамже,с.122.
2 Милюков П. Из истории русской интеллигенции. СПб, 1902, с.87.
151
ложь — это не ложь, а элемент развития духа. Главное не пить,
а спаивать. Не красть, а подстрекать к воровству. Этим-то
публика и отличается от мужика. Поэтому-то Аксаков и называл
Белинского детским эмансипатором.
«Когда кто-нибудь, тоже малолетний, но
эмансипированный, вдруг скажет, что детьми быть смешно, и предложит как
несомненное и важное средство к совершеннолетию
закурить трубку и пойти в трактир, — о каким великим пророком
покажется этот провозвестник совершеннолетия и
свободы»1. И далее: «Что в самом деле говорит эмансипатор:
«Уважают Державина, Ломоносова — плевать на них».
«Плевать на них» — повторяют дети. Такие весьма легкие подвиги
совершал Белинский в каждой своей статье»2. Славянофилы
говорили, но их никто не слушал. Белинский сказал, и его
услышали. Его идеи пришлись публике по душе.
Эстетика Аксакова
Все живет двойной жизнью: внешней и внутренней.
Внешнее является. Внутреннее не явлено. Явления доступны
для анализа, для/ёнешнего восприятия. Внутреннее
раскрывается причастному сознанию в мистерии. Или художнику,
озадаченному выражением идеи вещи. Одна и та же идея
может быть скрыта под разными чертами. «Я верю, — писал
Аксаков, — что в природе: в царстве животных, в царстве
растений — есть, можно найти мой портрет»3. У каждого народа
есть знание мистериальной истины. Оно составляет основу
самобытного творчества народа. Художник, подавляя
самобытное начало, создает формальное искусство.
У русских ярко выражено пристрастие к тому, что
просто. Мы скупы на словах. Мы были по преимуществу
христианами. А христианство и искусство несовместимы.
Ведь искусство язычествует. Оно требует поклонения
человеку. "Не любуясь грешным человеком, нельзя создать
развитую культуру. Вот слова Аксакова: «Личность
необходима для изображения художественного, но личность по
1 В.А. Кошелёв. Эстетические и литературные воззрения русских
славянофилов, 1840-1850-е годы. СПб, 1984, с.184.
2 Там же. ·'
3 Там же, с.64.
152
началам христианства есть грех, уже потому христианин,
русский человек, личность отвергающий, в искусстве
неуловим»1. В России не было поклонения человеку. Поэтому-то
она и бедна культурой. Мы не ставили, как в Европе,
памятники человеку. Мы ставили памятники Богу. Чем более
приближается народ к христианским идеалам жизни, тем
менее в нем развита внешняя культура. Вот Византия.
Искусство в ней невысоко, а христианство в нем сохранено
чистое.
Искусство существует до тех пор, пока людям удается
сохранить в себе внутреннее. Душу. Но если эта душа
связана стремлением к Богу, то в ней также не остается места для
искусства.
Миф миссионизма
«Ну у кого из серьезных славянофилов философия
национализма не стояла в такой тесной связи с конкретными
формами старинного быта, как у Константина Аксакова»2.
Легенда о том, что Аксаков — националист, что он верил в
богоизбранность русского народа, а также в его мессианизм,
придумана левыми, и с тех пор повторяется всеми. Даже
правыми. Легенда о богоизбранности русского народа
основана на словах Аксакова о том, что «русская история имеет
значение всемирной исповеди. Она может читаться как
житие святых»3. Мир грешил, мы исповедовались. Мир
воображал, мы делали воображаемое осязаемым. Мы создали
Россию как поле мистериальных игр Бога. Всякое внешнее
нуждается во внутреннем, а внутреннее — во внешнем. Наша
внешность — в Европе. А ее душа — у нас. Аксаков высоко
ставил душу как нечто внутреннее, а Гегель обожал внешнее,
форму. У него внутреннее понималось как что-то детское,
незрелое. Как то, что должно было позврослеть, от чего нужно
было избавиться. Для Аксакова же внешнее — это что-то
поверхностное, неподлинное. Гегель выкидывал, Аксаков
сохранял внутренние ценности мира, полагая, что в них-то и
1 Там же, с.96.
2 Милюков П. Из истории русской интеллигенции. СПб, 1902, с.69.
3 Аксаков К.С. Сочинения. М, 1898, т.1, с.625.
153
состоит весь смысл русской жизни. За это его и назвали
националистом и миссионером.
Начиная с Хомякова, русские философы полагали, что
лицо народа составляет его вера. Левые и демократы верили
в науку и просвещение. Славянофилы — в религию и
патриотизм. «Русским надо быть русскими, идти путем русским,
путем веры, смирения, жизни внутренней...»1.
Дорожил ли старый славянофил «православием и
общинным началом только как коренными признаками
русской народности, или же, наоборот, сама эта народность
была дорога ему только как носительница универсальных
идей православия и общины?»2. Милюков — болтун.
Машина симулятивных построений. Например, тебе нравится
береза. Милюков анализирует и спрашивает, она тебе
нравится потому что она белая или же, наоборот, тебе нравится
белое, потому что оно свойство березы. Славянофилы не
мыслили себе Россию вне православия и общины, а
Милюков мыслил. Мыслимое и мыслящее совместилось в русской
революции 1917 года.
1.7. Наив* Опыт философствования
Н.Ф. Федорова
Н. Федоров решил не создавать православную
философию, à реформировать само православие. Приспособить
его к запросам ученого сословия, то есть образованных людей.
Науку, знание можно использовать в деле воскрешения отцов.
Это то общее дело, в котором будут объединены и вера, и
знание, и воля, и чувство.
Воскрешение придет не от Бога, а от человека. Если
православие примет эту идею, то оно выживет. Но на нем будут
видны следы нового язычества. Если откажется, то умрет.
Православная церковь предпочла умереть.
В опыте философствования Н. Федорова мир мыслится
как мир родственников. И в этом он идегвслед за
Хомяковым. Но Хомяков попытался приспособить русский и,
следовательно, языческий дискурс к православию. Федоров
поступает наоборот. Он переводит православие на язык, на
1 Там же, с.24. ·
2 Милюков П. Из истории русской интеллигенции. СПб, 1902, с.269.
154
котором его молсет усвоить соборное существо крестьянина.
Н. Федоров как бы вывалился из мира родственников,
сбросил с себя панцирь коллективного существа, и от ужаса в нем
прорезался голос дословности русского человека.
Наивность — метка этого голоса. Опыт философствования наива
осуществлен Н. Федоровым.
Не слово, а дело воздействует на душу человека. Эта
мысль Киреевского развита Федоровым до конца. До
абсурда. Мы сердечные люди. А на сердечных людей воздействуют
сердцем, а не схематизмами рассудка. Вот это-то
взаимодействие, сердечных людей и происходит в общем деле
воскрешения предков. Если, конечно, о них сердце болит. У
Федорова оно болело. Он «душевную цельность человека»
превратил в абсолютное целомудрие.
Картография родословной
Николай Федоров незаконно родился в 1829 году у
дворянской девицы Елизаветы Ивановой1. Его отец — князь
П.И. Гагарин. Жизнь князя пульсировала вокруг женщин и
театра. Незаконнорожденные дети — следы этой пульсации,
которая, в конце концов, привела князя к разорению.
Н. Федорова записали в купцы. А у этого сословия свой
путь. Сначалаг приходское училище. Затем уездное. Ну а
лицей как вуз, с камеральным отделением. После лицея —
работа в школе. Учителем географии и истории. И, наконец,
библиотека. Румянцевский музей. Умер Н. Федоров в 1903
году.
Киник
Как много в мире вещей, которые мне не нужны. Эти
слова Сократа мог бы повторить и Н. Федоров. Вот,
например, одежда. Ну зачем делать из нее предмет культа.
Прикрыл тело, и слава Богу. Федоров, как киник.
Прикрывал тело. А это многим не нравилось. Приедет в школу
какой-нибудь начальник с проверкой, увидит Федорова и
давай возмущаться. Ведь это же не преподаватель, а бомж.
Какой-то юродивый. Ну что подумают дети, глядя на учите-
1 Семенова С. Николай Федоров. М., 1990.
155
ля в нищенской одежде. Где его вицмундир? Нет его. Продан
он. Хорошо, что деньги отданы нуждающемуся. Но ведь
меру знать надо. А Федоров ее не знает. И зимой ходит, как
осенью.
В декабре 1903 года Н.Федоров зашел к знакомым. В
гости. Поговорить о том, о сем. Собрался идти домой. А на
улице холод. Был сильный мороз. А Федоров — в плаще. Ну
сердобольные люди укутали его в шубу и усадили на
извозчика. Организма Федорова перегрелся. Его просквозило.
Началось двустороннее воспаление легких. Федоров
заболел и умер.
Родные и чужие
Когда-то Будда узнал, что есть старые люди и молодые.
Узнал и удивился. С неменьшим удивлением узнал Федоров
о том, «что есть и не родные, чужие, и о том, что сами
родные — не родные, а чужие»1. Его незаконное рождение стало
органом испытания мира. Тем уровнем, на котором Федоров
обживал мир. Делал его приемлемым.
Федоров состоялся в этом мире как наив. Как человек,
который проскочил период своего взросления и остался
ребенком. В нем дословность выступила на первый план. И
этот план он захотел словесно организовать. В опыте
философствования Федорова закодированы попытки ускользания
от стыда рождения, преследовавшего его. Отказ от
авторства — одна из таких попыток. Ведь автор — это человек с
фамилией, которая указывает на род. Но какой род
представляет «Федоров»? Никакой. Его фамилия непрерывно говорит
о том, что она чужая. Н. Федоров убегал от себя. И убежал. В
некрологе на смерть Федорова говорилось о том, что умер
Николай Федорович. Фамилия не называлась. И все знали, о
ком шла речь.
Новый язычник
Хорошо жить в семье. Среди своих. Когда все тебе
родственники. Вот и у Бога есть сын. И они родственники. А у
мусульман бог один. Холодный. Он выкован из металла. Та-
1 Фролов И.Т. О смысле жизни, о смерти и бессмертии человека. М.,
1985, с.38.
156
кой не может родить. У него нет родственных чувств. Мир,
как семья, держится на родственных чувствах. Хомякову
повезло. Он в этом мире, как рыба в воде. А что делать тебе,
если ты побочный сын. Если тебя не принимают как
равного. Хомякову с Киреевским непонятна эта проблема.
Федоров отказывается от живого знания. От
органических терминов описания мира. И вводит в спокойный мир
родства проект дела, в котором нельзя отличить
законнорожденных сынов от незаконнорожденных.
Органика предполагает рождение и смерть. В самом акте
рождения таится возможность противопоставления чужих и
родных. Зачем Бог создал Еву? Зачем люди плодятся и
размножаются? Женщины созданы не для рождения, а для
воскрешения умерших. Воскрешение предков решает
проблему пола. Оно заменяет рождение. Теперь женщина для
этого не нужна. Чувство пола угаснет, и мужчины
перестанут вращаться вокруг женщин. Не нужно будет им делать
подарки. Отомрет целая индустрия развлечений. А там,
смотришь, и деньги потеряют свою власть. И мода выйдет из
моды. Временное сменится покоем древнего, неторопливого
ритма жизни. И не будет больше деления на своих и чужих.
На законнорожденных и незаконнорожденных.
ψ-
Общее дело
Любое схематическое изложение идей Н.Ф. Федорова
может создать ошибочное представление о его взглядах как о
некой тщательно продуманной «метафизической» системе. В
действительности дело обстоит не так. Всякая систематизация
представлений Н.Ф. Федорова уже предполагает некоторую
«произвольность» в их интерпретации. У Н.Ф. Федорова нет,
например, такого термина, как «геокосмическая цивилизация»,
но его приходится вводить в качестве исследовательской
конструкции, позволяющей яснее представить реальный смысл его
философских построений. Н.Ф. Федоров довольно часто
употребляет такие выражения, как «одновременное существование
поколений», «привнесение разума в природу», «храмовая
действительность», «воскрешение умерших», «родственность» и
т.д. Все они имеют, однако, один и тот же смысл. Эти понятия
указывают на безусловную нравственность, представляя и
выражая ее в зависимости от контекста рассуждений. Нравст-
157
венность нельзя делить на части, замечает Н.Ф. Федоров, как
нельзя делить на части добро. Если оно есть, то оно есть
полностью и целиком, независимо от условий выгодности,
полезности и т.д. Н.Ф. Федоров тем самым концентрирует
внимание на формальных признаках безусловной нравственности,
оставляя в стороне социально-классовое содержание
нравственных категорий, вопросы морального отношения человека к
природе. Точно так же природа в одном смысле будет
называться им «внехрамовой действительностью», в другом —
«смертоносной силой», «миром, в котором необходимо
рождение» и т.д. Но в любом из этих случаев Н.Ф. Федоров всегда
допускает физическую последовательность событий, которая,
казалось бы, не оставляет места дая нашего сознания о мире и
нашего действия с миром. Тем не менее он считает, что мы
никогда не можем найти в этой последовательности точку, в
которой бы человек был полностью дан природой. (Кстати,
Н.Ф. Федоров не замечает, что при этом его идея воскрешения
становится неоправданной, противоречивой.) Поскольку
человек дан вместе с его «самостоятельностью», поскольку космос
(бытие) утрачивает свою плотность, непроницаемость для
человека. «И если бь! во всей Вселенной ... не было ничего, кроме
земного, то для существа, для коего уже при самом начале не все
было дано природой и которое постоянно трудится, чтобы
заменить рожденное трудовым... для такого существа
распространение земного на всю Вселенную будет лишь
распространением пределов его существования»1.
Анализируя мир идей Н.Ф. Федорова, мы неизбежно
сталкиваемся с «содержанием», которое «пропускается» его
собственной рефлексией и может быть извлечено через
систему дополнительных интерпретаций. Все, например,
рассуждения Н.Ф. Федорова о «расширении жизни»
фактически являются описанием такой ситуации, внутри которой,
по его мнению, возможно полное целомудрие человека и
полное взаимознание. Или, другими словами. Н.Ф. Федоров
ставит метафизический эксперимент, в котором он пытается
найти «последнюю, высшую ступень, до которой может
дойти нравственность «человека»2.
1 Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982, с.468.
2 Там же, С.433.
158
«Космическая» и «глобально-экологическая» темы как
раз и указывают, согласно Н.Ф. Федорову, тот пункт, где
человечество вынуждено будет раз и навсегда сломать в себе силы
вожделения и слепой природы, то есть освободить место для
безусловной нравственности. «В случае неосуществимости
полной взаимности мы осуждены на такое одиночество, на
такое разобщение, что не можем быть даже уверенными, что тот
внешний мир, который мы только созерцаем, есть общий у
всех нас, то есть не можем быть убеждены даже во взаимном
существовании друг друга; нам остается выбор: или полное
одиночное заключение, или всеобщее воскрешение, в котором
и полное взаимознание»1.
Ситуация осложняется еще и тем, что Н.Ф. Федоров
использует в своих рассуждениях христианские и другие
символы, такой аппарат, который ограничивает возможность
адекватного прочтения его мыслей. Читатель, не владея его
символическим языком, вынужден «оестествлять»
встречающиеся у Н.Ф. Федорова понятия, придумывая для них
банальную семантику. Именно так поступали первые
исследователи его концепции, проглядевшие самое главное —
космизм Н.Ф. Федорова. Результатом их исследований
явилось убеждение в том, что Н.Ф. Федоров не более чем
религиозный мыслитель, и из поля зрения выпала
существенная часть его концепции, действительное значение которой
может быть по достоинству оценено лишь в наше время, в
свете современного экологического мышления. Например,
размышления Н.Ф. Федорова над символами типа «Троица»,
«Кладбище», «Музей», «Отечество» и т.д. свидетельствуют не
столько о личной религиозности Н.Ф. Федорова в
общепринятом смысле этого слова, сколько о поисках языка, на
котором можно было бы говорить об альтернативных путях
развития современного ему общества.
Н.Ф. Федоров, представляя философию общего дела как
концептуальное образование в рамках христианского
мировоззрения, пытался найти в нем способы борьбы человека с
пространством, с гнетом природы. Конечно, в рамках
христианского мировоззрения вырабатывалась определенная
идея природы, модифицировавшаяся с изменением истори-
1 Там же, с.386.
159
ческих обстоятельств. Но вряд ли мы найдем в нем тот
культурный слой, в котором бы отразилась космическая
экология человека XX столетия. Более того, сама
философия общего дела Н.Ф. Федорова в своих позитивных
аспектах выходит за пределы христианского мировоззрения.
И сколько бы он ни подчеркивал свою оппозиционность по
отношению к западной, внутренне секуляризованной
культуре, он не может не пересекаться с нею. Исследователя
Н.Ф. Федорова не должны вводить в заблуждение его
экскурсы в историю европейской культуры и философии,
почти всегда скептически-критические.
Мир идей Н.Ф. Федорова, не вписывающийся в контекст
религиозно-идеалистической мысли профессиональных
философов, вызвал настороженное отношение к себе со стороны
Н.О. Лосского, Н. Бердяева, Л. Шестова, В.В. Зеньковского1.
Утопические построения Н.Ф. Федорова вызывали и вызывают
вполне заслуженную критику с позиций
марксистско-ленинской методологии.
Как идеологическое образование, религиозный космизм
Н.Ф.Федоров^ был попыткой выйти из идейного кризиса, в
котором оказалась разночинная интеллигенция, потерявшая:
историческую перспективу из-за своей ориентации на
самобытность русской общины и «революционный» дух
патриархального крестьянства. Федорову был дорог идеал
общинной Руси, но он прекрасно понимал, что возврат к ней
уже невозможен.
Н.Ф. Федоров не только воплотил в себе противоречия
русской утопической мысли, но и предложил свой проект
преодоления, как он выражался, «гнета природы».
Зависимость человека от природы он считает более кардинальной
проблемой, чем «гнет» социальный. Понятие «гнет
природы» — все, что оставалось у Н.Ф. Федорова, чтобы поставить
вопрос о человечестве и его родовых интересах. Именно
понятие «гнет природы» связывает рассуждения Н.Ф. Федорова с
современной глобально-экологической проблематикой.
1 Лосский Н.О. История русской философии. М., 1954; Бердяев Н.
Религия воскрешения: Философия общего дела Н.Ф. Федорова//Русская
мысль. 1915, КН.7; Шестов Л. Умозрение и откровение. Париж, 1964; Зень-
ковский В.В. История русской философии. М., 1956, т.2.
160
Но поскольку социальный гнет является, по его мнению,
чем-то производным от гнета природы, поскольку идеи
равенства, братства и свободы, выразившие протест против
социального угнетения и составившие основную ценность
европейской цивилизации, должны быть производными,
зависимыми от какой-то более фундаментальной идеи,
выражающей протест против природного угнетения и
составляющей «родовую» ценность человечества. Нужно было
найти (или сконструировать) эту идею, что и пытался
осуществить Н.Ф. Федоров.
Поставив перед собой задачу создания гуманистически
обоснованных принципов геокосмической эволюции
человечества, Н.Ф. Федоров формулирует проблемную ситуацию.
Способ задания проблемной ситуации состоял в
противопоставлении общины и общества, государства и отечества,
индустрии и земледелия. Ничего нового здесь Н.Ф. Федоров
не внес. И лишь тогда, когда он стремился низвергнуть
цивилизацию, в которой жизнь человека подчинена формуле
«быть — значит потреблять», ситуация приобрела
принципиально иной характер.
Самоопределение индивида (равно как и человечества в
целом) в сфере потребления создает, согласно Федорову,
только видимость прогресса, его иллюзию. Оборотной
стороной такого прогресса, его истиной является истощение
Земли, ее ресурсов. Индустрия, по его мнению, потому и
составляет тупиковую ветвь развития человечества, что она
превращает Землю в «кладбище» человечества. «Мир идет к
концу, а человек своей деятельностью даже способствует
приближению конца, ибо цивилизация эксплуатирующая,
но не восстанавливающая, не может иметь иного результата,
кроме ускорения конца»1. Но прежде чем достичь своего
физического конца, человечество должно выродиться
морально. Причины распада нравственности Н.Ф. Федоров
видел в отсутствии мысли и дела среди привилегированных
сословий общества, когда люди относятся друг к другу так,
как если бы у них не было ничего, кроме заднего плана
мыслей. «Но если бы на деле была полная искренность и чужие
души не были бы потемками, то есть если бы по внешним
1 Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982, с.301.
11 Ф. Гирепок
161
движениям можно было непогрешимо определять
душевное состояние других... если бы мы сами не вводили в
заблуждение других собственными движениями, не
соответствующими душевным состояниям... тогда нельзя было бы
считать других не подобными себе»1.
Анализируя проблемную ситуацию, Н.Ф. Федоров, хотя
и в неадекватной форме, приходит к
глобально-экологическим идеям. В результате анализа он конструирует
«метафизическое» основание цивилизации, с построением
которой связывает как физическое, так и нравственное
спасение человечества.
Бытие человека — это не бытие к смерти (как это
представлялось еще Августину), и не бытие в мысли (у Декарта,
замечает Н.Ф. Федоров, существует лишь то, что познает,
все прочее есть познаваемое), и тем более не «бытие к
власти» (Ницше, по определению Н.Ф. Федорова, — «палач»
(философии), но это и не бытие в мире объективации
буржуазной культуры. «Быть», резюмирует Н.Ф. Федоров, —
значит «быть сыном». Все иные формулировки суть лишь
выражение и оправдание человеческой розни.
Используя понятие «бытие в качестве сына»,
Н.Ф. Федоров конструирует категориальный аппарат,
описывающий становление геокосмической цивилизации с
точки зрения морализирующего сознания.
Для осуществления «бытия в качестве сына» на уровне
индивида достаточно одного чувства родственности, с
которым, по убеждению Н.Ф. Федорова, рождается человек; на
уровне рода — «мировой скорби», «печалования»,
искореняющих надежду без действия. Осуществление «бытия в
качестве сына», то есть новой морали человечества,
предполагает полноту жизни и разума. Содержание полноты
разума предполагает равенство по объему практического и
теоретического разума. Оба эти представления являются, по
Федорову, средством решения основного вопроса
философии, то есть вопроса о жизни и смерти.
«Бытие в качестве сына» не дается в физическом акте
рождения, ибо сам этот акт предполагает жизнь в ее связи со
смертью. Отношение к смерти разделяет геокосмическую и
Там же, с.75.
162
антропоцентрическую предпосылку, как то, что указывает на
границы эмпирического бытия в его противопоставлении
трансцендентному. Антропоцентристским представлениям,
помещающим человека в центр эмпирического мира, всегда
не хватало идеи трансцендентности. Включение идеи
трансцендентности в картину мира обосновывается тем, что
человек в своем существовании нуждается не только в
эмпирическом поле бытия, но и в трансцендентных сущностях
религии, обслуживающей его субъективность. Идеи
антропоцентризма и трансцендентности настолько сближаются
Н.Ф. Федоровым, что становятся у него «транскрипцией»
одного и того же содержания. Н.Ф. Федоров, отбросив идею
трансцендентности и мистицизм, разрабатывает проект
общего дела, то есть инженерного отношения к природе,
внутри которого он, однако, помещает миф о физическом
бессмертии каждого человека.
Антропоцентристская цивилизация, принимая смерть в
качестве условия своего существования, прикрывается
потребительскими идеями и их, как считает Н.Ф. Федоров,
высшим выражением — идеей равенства. Смерть и страх
перед ней маскируются еще и прогрессом, превосходством
настоящего над прошлым. Теоретики такой цивилизации
должны исходить из представления о том, что смерть — это
скрытая сущность мира, его изначальное и неустранимое
свойство, против которого бессильно любое действие
человека. Именно такой вывод и будет сделан представителями
экзистенциализма, извлекающими определения личности
через ее соприкосновение со смертью.
Жизнь цивилизации, основанной на принципах reo- и
антропоцентризма, немыслима без природы как носителя
смерти и распадения мысли и дела как условия ее принятия
человеком. Вместе взятые, они образуют механизм
разрушения полноты жизни и разума. Память о мертвых указьгоает
на неполноту жизни и «вину» живущих, а память о
стихийных бедствиях — на неполноту разума и отсутствие общего
дела1. В рамках антропоцентристской цивилизации
преодолеть неполноту жизни и разума невозможно, ибо она
движется в дихотомиях: жизнь — смерть, земля — небо, тео-
1 См.:*Федоров Н.Ф. Философия общего дела. М., 1913, т.2, с.47.
п*
163
ретическое — эмпирическое, сущее — должное, война —
мир. История репрезентируется временным отношением
«раньше — позже», выйти за рамки которого — значит
деформировать бытие, «сжав» его прошлое, настоящее и будущее в
какой-то одной точке. И эта точка для Н.Ф.Федорова —
безусловная нравственность. Ее нельзя «схватить» и описать как
объект в научном знании. Она не существует сама по себе и
требует от человека непрерывных усилий, на гребне которых
она только и может существовать.
Итак, превосходство настоящего над прошлым — это
превосходство смерти над жизнью, или, как говорил
Н.Ф. Федоров, превосходство сына над отцом,
мануфактурных игрушек над моралью. Но превосходство это мнимое и
не только потому, что оно ведет к истощению Земли, но и
потому, что оно ведет к «моральному истощению
человечества», к бессмысленности его будущего.
Н.Ф. Федоров видит выход в отказе от изначальности
смерти, противопоставив ей «общее дело человечества». С
точки же зрения научного, марксистского подхода все эти
проблемы решаются не умозрительно, а практически.
«Мы, — писал 'К.Маркс, — со своей стороны, не
заблуждаемся относительно природы того хитроумного духа, который
постоянно проявляется во всех этих противоречиях. Мы
знаем, что новые силы общества, для того чтобы действовать
надлежащим образом, нуждаются лишь в одном: ими
должны овладеть новые люди, и эти новые люди — рабочие»1.
Утопическое сознание Н.Ф. Федорова не может принять
марксистское решение хотя бы уже потому, что для него
«рабочие» не являются той «позитивностью», которой он мог
бы приписать «бытие в качестве сына». Принять этот
вывод — значит для Н.Ф. Федорова принять мир объективации
индустрии, согласиться с естественным ходом вещей,
средством приспособления к которому является смерть, гнет
природы.
Поворот же к геокосмической цивилизации, по его
мнению, проективен и не определяется в терминах сознания
«частичного» человека. Н.Ф. Федоров, пытаясь с помощью
морального сознания выразить свое отношение к жизни и
1 Маркс К, Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд, т. 12, с.4.
164
смерти, искажает смысл проблемы, ее диалектическое
содержание, отрывая жизнь от смерти. Такое огрубление
мистифицирует связь жизни и смерти, что наиболее
наглядно проявляется в его идее воскрешения.
Поворот к геокосмической цивилизации предполагает
устранение гнета природы, и открывается он лишь сознанию
«сынов человеческих». Человечество тем самым
обнаруживает свою вторую историю, второе измерение не в потоке
времени «раньше-позже», не в каузально организованном
мире отчуждений и смертей, а за их пределами, то есть в
реализации проекта общего дела. В процессе общего дела
происходит расселение человечества в космосе и
восстановление полноты жизни. Фиксируется оно опять-таки в идее
воскрешения, толкуемой часто слишком буквально и
потому неправильно.
Содержание этой идеи (кстати, не центральной в проекте
общего дела) заключается на первый взгляд в собирании
«атомов умерших», в возвращении жизни отцам, то есть в
«отцетворении» или, как говорил Федоров, в патрофикации.
Такой трактовке идеи воскрешения способствует, казалось
бы, и сам автор. За этой кажимостью, однако, скрыто
содержание, развернуть которое можно следующим образом.
Если в человеческом мире когда-нибудь и случится полное
целомудрие (а что оно случится, Н.Ф. Федоров не
сомневается), то как физически наблюдаемое событие оно может
быть предъявлено в акте воскрешения. В природе нет ничего
такого, что могло бы наложить запрет на этот акт. Запрет,
следовательно, молсет идти только от нашей культуры. Но
значит ли это, что мы и наша культура устроены так, что в
нас нет и не может быть места для полного целомудрия?
Н.Ф. Федоров так и не считает, предполагая, что всегда
остается возможность для бытия в качестве сына.
Итак, последовав за Н.Ф.Федоровым, мы попадаем в
мир превращенных форм его сознания, где техническая
сторона дела выдается за его суть, затемняя вопрос: кого (или
что) намерен вернуть к жизни Н.Ф. Федоров? Чтобы
ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что идея
воскрешения противопоставляется Н.Ф. Федоровым
«идеологии» человека, существующего по нормам буржуазного
общества. В «свободном» обществе отчуждение и
обезличивание достигают таких размеров, при которых голова
165
рабочего превращается, по замечанию Федорова, в «шляпу»,
надеваемую по выходным дням и сплошь забитую идеями
равного потребления и отнюдь не воскрешения. Ни о каком
собирании «атомов» такого рода людей (а называл их
Н.Ф. Федоров иксами и игреками) не может быть и речи.
«Такое состояние делает понятным, что не только вечное
существование... этих иксов и игреков... но и временное их
существование не может иметь не только никакого
значения, а даже и смысла, так что лучше бы им и вовсе не
существовать»1. Но поскольку они все-таки существовали и
существуют, то единственное, что они могли и могут
сделать, по представлениям Федорова, — это осознать
социальный гнет. В результате для человека открывается
содержание и смысл идей равенства, свободы и братства.
Самоценность бытия человеческого рода, однако,
по-прежнему будет оставаться чем-то непостижимым, запредельным
по отношению к личному бытию индивида. И лишь только
угроза смерти для всего человечества делает явным
невидимый на первый взгляд «гнет» природы. Осознание этого
факта и обнаруживает, по Федорову, наиболее
фундаментальные идеи'й ценности, и прежде всего идею воскрешения
предков. Исходя из этого, Федоров определяет смысл и цель
жизни человечества: это борьба со смертью, завоевание
бессмертия и восстановление жизни.
Метод построения «универсальной онтологии»
Н.Ф. Федорова — проективный. Он предполагает в любом
событии две составляющие — природный акт и
соответствующий ему акт деятельности человека. Но Федоров при этом
выделяет и такой класс событий, соответствовать которому
может лишь акт деятельности объединенного человечества.
К этому классу событий относится прежде всего «смерть» и
«распадение мысли и дела».
Воскрешение мертвых восстанавливает полноту жизни, а
соединение мысли и дела — полноту разума; разрешение же
«санитарно-продовольственного» вопроса и расселение
человечества в космосе приобщают его к мировым событиям.
Человечество, объединенное заботой о регуляции природы и
преодолевшее разрыв мысли и дела, оказывается, таким об-
1 Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982, с.66.
166
разом, по ту сторону смерти и зла, то есть в космическом
бессмертии.
Символ воскрешения адресован сознанию общинного
крестьянина, а также всем тем, кого Н.Ф. Федоров именует
«неучеными». Это обстоятельство необходимо учитывать
для того, чтобы символ воскрешения не представлять,
например, только в форме «собирания атомов умерших», то
есть понимая его буквально. Воскрешение — это не
физический акт, но та высшая ступень, до которой может дойти
нравственность человека, решившегося на «обладание»
космосом. Для этого, правда, необходимо «настроить души так,
чтобы мироздание возбудило в нас вопрос о воссоздании,
чтобы космос стал вопросом о воскрешении»1.
Н.Ф. Федоров с особой тщательностью подчеркивает
пространственно-временной разрыв между теми, кто еще
есть, и теми, кто уже «выпал» из жизни. Тем самым он
пытается лишить читателя уверенности в физической
необходимости такого разрыва, а затем спровоцировать его
на свое понимание проективности. В «Проекте» Федоров
пытается найти такую действительность, описание причин в
которой отсылало бы нас не к «материи» с ее логикой, а к
субъекту и его целям, а описание целей, в свою очередь,
погружало бы,нас не в субъективность «добродетельного
человека», но служило бы окном в общее дело человечества.
В план своего умозрения представление о проекте
Федоров вводит, видимо, потому, что не может найти в моральном
сознании средств и критериев для различения идеального и
материального. Субъективность оказывается у него в одной
плоскости с объективностью. Н.Ф. Федоров ставит
проблему субъективности как онтологическую проблему, но не
решает ее.
«Бытие в качестве сына» определяется не актом
рождения, а участием в общем деле построения геокосмической
цивилизации. Если жизнь, получаемая индивидом в акте его
рождения, не требует от него никаких усилий, выступая
внешним, «даровым» обстоятельством, то родовая жизнь
человечества должна быть превращена из природой
дарованного состояния в состояние, мерой которого являет-
1 Там же, с.374.
167
ся самодеятельность человека. Каждое поколение, рождаясь,
«наносит смерть своим родителям». У человечества нет
такого «родителя». В смерти человечества не таится жизнь
чего-то другого. Обезличенный же мир, мир объективации
машинной цивилизации, утверждает Федоров, ничего не
может противопоставить гнету природы и ооязан принять его
логику. К. Маркс в свое время относил такого рода критику к
ложному сознанию, то есть к сознанию, расширяющему
возможности и условия бытия того, действительность чего,
казалось бы, ставится под сомнение.
Свобода без власти над природой, отмечает Федоров, —
это все равно что освобождение крестьян без земли. При
такой свободе остается только ждать и прогнозировать, когда
же человечеству не станет хватать угля, железа и хлеба,
чтобы в конце концов подчиниться природе и отдать ей свою
жизнь? Чтобы избежать этого, люди должны построить
геокосмическую цивилизацию. Идея воскрешения тем самым
станет их моральной максимой. Исполнение проекта общего
дела должно было так направить человеческий прогресс,
чтобы он, как писал К Маркс, перестал «уподобляться тому
отвратительному языческому идолу, который не желал пить
нектар иначе, как из черепов убитых»1.
Таким образом, особенность космизма Н.Ф. Федорова
состоит в том, что порождается он морализирующим
сознанием и его конструкциями. Кристаллизация идей космизма
идет поэтому не в форме развития каких-то исходных
положений, а как результат перехода от одного объекта
морального суждения к другому. Для Н.Ф. Федорова
объектом морального суждения становится уже весь космос.
Парадокс здесь состоит в том, что морализирующее
сознание обладает поразительной нечувствительностью к логике
объекта своей критики. Найти у Н.Ф. Федорова какую-либо
связь между образами сущего («история какова она есть как
факт») и должного («история как проект долженствующего
быть») почти невозможно. Механизм перехода от сущего к
должному, от «антропоцентризма» к «антропокосмизму»
представляет собой смену установок морализирующего
сознания. Конкретно-историческое содержание связей чело-
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд, т.9, с,230.
168
века и природы при таком способе анализа не выявляется.
Противоречивость утопического мышления Федорова
проявляется и в его скептическом отношении к идее прогресса,
к допущению объективных исторических закономерностей,
хотя он и признает некоторую внутреннюю логику истории.
Проведенциализм оборачивается у Федорова на деле
неприятием не только петровских реформ, но и всей культуры,
созданной Новым временем. Анализ реальных
исторических тенденций заменяется осмыслением значений
религиозных символов, например символа Троицы, «игра»
нераздельности и неслиянности которой представляется
Федоровым как образец организации общественной жизни.
Уничтожение крепостной зависимости, повлекшее за
собой ослабление религиозных связей и рост классового
самосознания, создало для определенной части русской
интеллигенции ситуацию, переживаемую в качестве личной
драмы, кризиса, абстрактное преодоление которого иначе и
невозможно было как через конструирование
«общечеловеческих» целей.
Но сама проблема, разрешить которую пытался Федоров
как представитель религиозного космизма, по-прежнему
актуальна. При этом надо отметить, что способ ее решения у
Федорова существенно отличается от других, современных
ему религиозных философов. Н.Ф. Федоров, выступая за
инженерное отношение к природе, регуляцию природы как
общее дело объединенного человечества, сформулировал
мысль, в которой действительно схвачены «родовые»
интересы человечества, экологическая детерминанта мышления
людей второй половины XX в. Заслуга Н.Ф. Федорова, как,
впрочем, и всех русских космистов, состоит в том, что,
обосновывая необходимость регуляции природы, они открыли
космические перспективы развития человечества,
способствовали экологизации естествознания и наметили
оригинальный подход к глобальной проблематике, активно
обсуждаемой в наши дни. В традиции русского космизма, и в
частности у Федорова, конструктивно использовано
различие объекта суждения и объекта деятельности, поставлен
вопрос о принципах бытия субъективности, сделана
попытка преодолеть расщепление категории «субъект» на
изолированные друг от друга понятия «субъект познания» и
«субъект практического действия».
169
Те идеи, которые были выражены Н.Ф. Федоровым на
языке символов морализирующего сознания, получат в
дальнейшем у В.И. Вернадского, Н.Г. Холодного и других
исследователей вполне определенный категориальный
смысл и предметное содержание. Естественнонаучному
направлению космизма пришлось создавать абстракции, в
которых связи человека и природы описываются уже не в
терминах морализирующего сознания, а с точки зрения
планетарного сознания.
РАЗДЕЛ II
ЭКОСОФИЯ ДОСЛОВНОСТИ
Экософия — любовь к дому, к тому, что являет и
хранит дословность человека и этим сохранением
делает возможным подлинность человека. Подлинное
обнаруживает себя в тихой повседневности, неторопливо
высказывая себя немой речью быта. Совместное бытование
рождает существо, которое экспонирует себя в качестве
события подлинного. Вот такого рода подлинность я нахожу в
немоте малых дел, практикуемых И. Стебутом, А. Совето-
вым и А. Чаяновым.
2.1.Подлинное как повседневность. И. Стебут
Соприкасаясь с духовным наследием России второй
половины XIX века, не перестаешь удивляться
подвижничеству того тонкого слоя людей, который выполнением
замысла своей жизни как будто бы решил доказать себе и
всему миру, что человек никогда не есть то, что он есть в
каждый данный момент времени. В русском образованном
человеке выкристаллизовывался тип человека, который не
может оставаться самим собой, вне сообщенное™ с
подлинным. В поисках постоянного самообновления органическая
интеллигенция училась испытывать мир не «миллиметром
рассудка», а своей собственной жизнью, как органом
понимания этого мира. У нее слова переставали быть словами, а
мысли — мыслями. Ведь слово как логос, а мысль как
личностный акт жизни, перестают быть словами и мыслью о
жизни. Они становятся частью самой жизни и поэтому для
тех, кто относил себя к русским образованным людям во
второй половине XIX века, было далеко не безразлично,
окажется ли их слово пустым, а мысль — ложной. Иными
171
словами, это было время подлинности, узнаваемой в формах
повседневности.
К этому времени принадлежит и профессор И. А. Стебут.
К его трудам восходят истоки русской классической
аграрной мысли1.
Картография родословной
Род Ивана Стебута по отцовской линии принадлежит к
православным литовским дворянам. Его мать — немка. Сам
Стебут — русский. Он родился в Псковской губернии в 1833
году и умер в 1923 году в Петербурге.
Иван Стебут — обыватель. Человек обыкновенный. И
образование у него не университетское, не столичное. Его
«aima mater» — Горыгорецкий земледельческий институт.
После этого института нельзя получить местечко в Архиве
Министерства иностранных дел. В лучшем случае — это
ферма и должность младшего помощника управляющего
фермой. И много работы.
«Я должен был, — пишет И.А.Стебут, — вставать в 4 часа
утра, до 8 обойти поля; в 8 часов, после утреннего чая, я
отправлялся в кайцелярию фермы, где оставался до 12 часов,
когда обедал; с 1,5 часа после обеда до 3 часов я проводил на
уроке; с 3 до 8 на полях и по хозяйству, с 8 до 9,5 часов на
наряде работ на другой день; потом пил чай и садился писать
диссертацию, за которой засыпал только для того, чтобы на
другой день снова встать в 4 часа утра.
Никогда не забуду того удивления, с которым
проснувшись раз утром, нашел свою диссертацию оконченной. Такая
работа была мне не по силам...»2. В 32 года он был утвержден
профессором Петровской земледельческой и лесной
академии. Внешность Стебута заурядная, не профессорская.
Небольшого роста, с окладистой крестьянской бородой, он
вряд ли бы выделялся среди деревенских мужиков.
Крупные черты его лица бросались в глаза, наверное, потому что
1 Стебут И.А. Современные вопросы русского сельского хозяйства.
СПб., 1904; Стебут И.А. Статьи о русском сельском хозяйстве, его
недостатках и мерах к его усовершенствованию. М., 1883; Стебут И.А.
Несколько мыслей и соображений по поводу аграрного вопроса. СПб,
1906..
2 Балашев Л.Л. Иван Александрович Стебут. М., 1966, с.32.
172
Стебут любил носить маленькие, сделанные не без
изящества очки. От его кряжистой фигуры веяло спокойствием и
уверенностью.
В 1871 году Московское общество сельского хозяйства
присудило Стебуту золотую медаль. «Это меня крайне
поразило, — вспоминает Стебут, — потому что не далее как в
моем докладе Всероссийскому съезду сельских хозяев в
декабре 1870 года я восставал против наград, присуждаемых
обществами своим членам. А потому я, не имея возможности
возвратить медаль, что значило бы обидеть общество,
возвратил ценность медали, пожертвовал эти деньги на пользу
народных училищ частью Московской, частью Тульской
губернии»1. Сознание Стебута не рефлексивно, а соборно, то
есть он делает добро и не знает о том, что он это делает.
Никакая наука не может заменить тот опыт, который
столетиями накапливался крестьянами. Но она и не должна
его заменять. Его молено лишь расширить при помощи
науки и систематизировать.
Народная агрономия как органическая часть народного
сознания представляет собой многослойное образование, в
котором синкретическим образом представлены различные
духовные отражения земледельческой практики. В ней
можно выделить по крайней мере три основных уровня, типа
знаний: 1) рецептурно-технологическое знание, явившееся
изложением предписания к деятельности, то есть описание
приемов труда и деятельности субъекта; 2) технологическое
знание, сформировавшееся путем описания
земледельческих объектов; 3) народная сельскохозяйственная мудрость,
рассматриваемая в агрономическом аспекте.
Рецептурно-технологическое знание связано с передачей
его на личностном уровне от одного поколения к другому, от
отца к сыну путем непосредственного рассказа и показа в
ходе самой земледельческой деятельности. Сюда относятся
навыки, приемы, рецепты. Не получая словесную форму,
они оставались в рамках узких профессиональных групп.
Эти знания получали характер сакральной тайны, которая
не подлежала распространению.
1 Там же, с.32.
173
Уже при Петре I регламентом от 1719 года на
камер-коллегию возлагалась обязанность «земледелие, скотские
приплоды и рыбные ловли по возможности умножать, к
приращению приводить...». В «Наказе» Екатерина II писала:
«...не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо
основанная торговля, где земледелие в уничтожении
пребывает и нерачительно производится»1.
В XVIII веке российские агрономы знакомились с
основами сельского хозяйства по «Флориновой книге», изданной
в переводе С. Волкова в 1737 году. Но эта книга рассказывала
об опыте, полученном в иных странах, с иным климатом, с
несхожими природными и экономическими условиями.
Длительное время в России был популярен «Домострой»
священника московского Благовещенского собора
Сильвестра, жившего в XVI веке, то есть при царе Иване IV Грозном.
Какие-то сведения можно было получить и из
замечательного сочинения И.Т. Посошкова (1652-1726) «Книга о
скудости и богатстве». Правда, издана она была только в 1842
году. Книг и пособий, как видим, у крестьянина было не так
уж и много. Иэ£заменял его опыт и традиция.
И.А. Стебут в своих лекциях постоянно напоминал о
том, что существуют определенные опытом правила в
отношениях крестьянина к природе. Например, «Домострой» —
это не теория в современном смысле этого слова. В нем
формулируется строго определенная норма и образец
жизнеустройства человека. В традиционной русской
культуре роль такого нормативного предписания играл
месяцеслов, то есть календарь. В нем была развита
символическая структура языческого, а затем и христианского
сознания наших предков. Ведь что такое символ? Это любое
природное или социальное событие, которое
воспринимается так, что оно никогда не означает то, что оно означает. В
месяцеслов, замечает А. Стрижев, «органично были
вплетены приметы развития природы, животного и растительного
мира, солнечного и лунного цикла, соответствующие
правила питания и труда, нормы социальной организации,
1 Пономарев Н.В. Исторический обзор правительственных
мероприятий к развитию сельского хозяйства в России от начала государства до
настоящего времени. СПб, 1888.
174
семейных отношений и почитания предков. Месяцеслов —
это целостный космос традиционной русской культуры,
свод примет, метких речений и нормативов поведения»1.
Благодаря символической структуре сознания крестьянину
Древней Руси и средневековья удавалось объединить в одно
целое, в один упорядоченный космос ритмы своей жизни и
ритмы природы. Например, каждый день церковного года
имел свое имя. Он был связан с тем или иным святым и
поэтому не отражал, а организовывал совместную жизнь людей
под знаком того или иного дня. Месяцеслов указывал время
сева, ухода за посевами, уборки урожая. Он отделял рабочие
дни от праздничных, когда строжайше запрещались всякие
работы. Так, в день Покрова Богородицы (14 октября)
предписывалось заканчивать сельскохозяйственные работы. Но
в этот же день начиналась вереница свадебных недель.
Покров-день покровительствовал девушкам, желающим выйти
замуж. По народным приметам, в этот день выпадает первый
снег, освящая свадебное убранство невесты. Нарушение
трудового ритма и моральных установлений могло поставить
мир на грани хаоса и неустроенности. Для того чтобы в мире
и душе был порядок, крестьянину нужно было соблюдать
этот ритм и установления. Например, в «Домострое» силь-
вестровского невода мы можем прочесть о наставлении отца
к сыну: «Благословляю аз грешный... и поучаю, и наказую, и
вразумляю сына своего... и его жену, и их чад и домочадцев:
быти во всяком христианском законе и во всякой чистой
совести и правде... Аще сего моего писания не внемлите и
наказания не послушаете, и потому не учнете жити и не токо
творити, яко же есть писано, — сами себе ответ дадите в день
страшного суда, и аз вашим винам и греху не причастен»2.
«Онтология ума» наших предков координировала не
только естественное течение природных процессов и
трудовой ритм, но и общение в миру, с домоустройством,
правилами питания и семейных отношений. Более двухсот
дней они постились, в том числе в среду и пятницу каждой
недели. Соблюдение правил питания является для крестья-
1 Стрижев А. Экология русской культуры и народный месяцеслов.
Человек и природа. М., Знание, 1988, №8, с.63.
2 Домострой сильвестровского извода. СПб, 1891, с.З.
175
нина не менее важным, чем соблюдение трудовых ритмов.
Если в дни, в которые нужно поститься, употребляется
скоромная пища, то эти действия имели для крестьянина эпохи
домостроя те же последствия, что и несоблюдение сроков
сева и уборки урожая. То есть мир для него рушится и космос
теряет свой порядок. Воздержание от пищи сопровождалось
брачным воздержанием. Дитя, зачатое в ночь под пятницу,
родится, как утверждает народное поверье, злодеем. В
постные же дни (среду и пятницу) полагалось воздержание и от
некоторых видов женского· труда (стирка). Наши предки до
18 августа, то есть до Спаса на горе, не употребляли в пищу
ни фрукты, ни овощи (за исключением огурцов). Они
считали это грехом. Почему? Потому что до 18 августа, дня
Преображения, плоды еще не созрели. Они мелки, зелены и
некрасивы, то есть продолжают расти и набирать силу. И
только с 18 августа на столе появляются овощи и фрукты,
ибо, как говорили в народе, «пришел Спас, всему час». У
этого обычая есть еще одна сторона. Связана она с
традицией, обязывающей в этот день наделять бедных и неимущих
дарами садов пи огородов. Эта традиция соблюдалась так
строго, что еош кто отказывался от исполнения доброго
дела, то его считали недостойным общения и мирского
сообщества.
Нравственно-воспитательное значение имел обычай
прощать друг другу обиды в последнее воскресенье
масленицы. В день (14 ноября), когда Козьма и Демьян с
гвоздем заковывают землю началом зимы, одновременно
куются и невидимые цепи нравственных отношений,
связывающих семью. В этот день во всяком доме
рекомендовалось иметь на столе курицу как символ
будущего счастья и плодородия. В синкретическом
миросозерцании пересекались линии, которые друг к другу,
казалось бы, не имеют никакого отношения. Так, в этот
же день святых Козьмы и Демьяна молились о
«прозрении ума к учению грамоте».
Основной опыт социальной философии нашего народа
обобщен в притче о Правде и Кривде, завершающей
космологию «Голубиной книги». «От Кривды земля
восколебелася, — говорится в ней, — от того народ весь
возмущается; от Кривды стал народ неправильный,
неправильный стал, злопамятный: они друг друга обмануть хотят,
176
друг друга поесть хотят»^В образе двух зайцев (серого и
белого ) Правда и Кривда ведут вековой спор-борьбу. И не
всегда побеждает Правда. «Было добро, — рассказывается в
«Голубиной книге», — да миновалося. Будет добро, да того
долго ждать»2.
На основании примет, традиции и опыта земледельцы
пытались определить погоду наступавшего лета. Особенно
почитаемыми был в этом отношении день святой Евдокии
(13 марта). В народе говорили: «Какова Евдокия, таково и
лето. На Евдокию погоже, все лето пригоже. На Евдокию
снег — урожай, теплый ветер — лето мокрое, сиверко —
холодное лето. Если на Евдокию идет дождь, то будет рожь.
Если метель и вьюга, то сильный голод выметет людей».
Снег, выпадающий в март, давал живительную лечебную
воду, как и роса, выпадающая в Егорьев день, то есть 6 мая. В
день Ивана Купалы собирали травы, которые использовали
для лечения и предупреждения болезней. Наши предки
регулировали и свои отношения с природой. Например, охота
на птиц запрещалась до Петрова дня (12 июля). Рыбная
ловля разрешалась с Ивана Постного (11 сентября). Иными
словами, наши предки, не зная научных основ экологии,
стремились (пусть стихийно) предупредить возникновение
экологическилшасных событий.
Профессор Недокучаев позднее вспоминал: «Крупные
работы Стебута по земледелию, в основе своей имевшие
западноевропейский опыт, представляют не переводы, не
простые компилляции или умело составляемые сводки, —
нет, каждая из них продумана и как бы претворена в
сознании русского исследователя и стала, если так можно
выразиться, русской по духу, по назначению и
применению»3.
Душа
Климент Александрийский, рассуждая о педагогике 17
веков тому назад, заметил, что к знанию (гнозису) можно
1 Бессонов П. А. Калики перехожие. М., 1861, т.1, с.305.
2 Там же.
3 Известия Северо-западного областного управления
сельскохозяйственного опытного дела. Пг., 1923, вып.1, с. 137.
12 Ф. Гиренок
177
привести человека, если у него в душе порядок. Делает это
учитель. Но если в душе порядка нет, если она больна, то
нужен педагог. Неупорядоченная (больная) душа человека не
увидит чистый свет знания.
Стебут и педагог, и учитель. Свои педагогические
принципы Стебут сформулировал довольно рано, едва приступив
к занятиям в Горыгорецком институте. Звучат они так:
1. Учитель должен быть и воспитателем в одно и то же
время. 2. Воспитатель обязан более следить за собой, чем за
воспитанником. 3. Руководителю запрещается подавлять
чью-либо личность. 4. «Воспитательной» обстановкой для
учащихся могут быть только живые люди, а не мертвые;
сохранившие свою индивидуальность, а не обезличенные,
превращенные в машины, люди. 5. Суть дела состоит не в
том, чтобы нагрузить голову учащегося, а в том, чтобы
развить ее. 6. Блаженнее давать, чем получать.
«Желаете поддержать нравственность в народе —
поддержите семью, — писал Стебут, — желаете сохранить в
целости здоровую семью — поддержите деревню и сельское
хозяйство. Желаете поддержать деревню и сельское
хозяйство — поддержите женское воспитание и женское
сельскохозяйственное образование»1. По инициативе Сте-
бута в Петербурге были организованы высшие женские
сельскохозяйственные курсы, которые потом получили
название Стебутовских.
По убеждению Стебута, в связи с землей —
нравственная сила народа, его патриотизма. Мне хочется, говорил
Стебут, обратиться к русскому образованному человеку и
сказать: «Бросьте этот города, да ступайте работать в
деревню, познакомьтесь с ней, внесите в нее свет, и русский
народ, которому Вы послужите таким образом, останется
Вам благодарным, а Вы в такой работе найдете
нравственное самоудовлетворение»2.
1 Стебут И.А. Избранные сочинения. М., 1957, т.2, с.614.
2 Стебут И. А. Несколько мыслей и соображений по поводу аграрного
вопроса СПб, 1906, с.69.
178
Социальная философия
«Мы, — говорит Стебут, — страна бедная, задолженная;
благосостояние нашего народа невелико...»1. А почему? Ведь
страна наша богата и людьми, и природными ресурсами. Да
потому, объясняет Стебут, что наше сельскохозяйственное
производство строится «шиворот-навыворот».
Например, рассказывает Стебут, в Топольской губернии,
где есть и простор, и обилие сена, и выгонов, но нет обилия
городов, ежедневно нуждающихся в свежем молоке, мы
развиваем производство молока. Между тем в Туле, близкой к
массовому потребителю молока и не имеющей ни просторов,
ни сена, ни выгонов, покровительствуется производство
мяса и разведение скота. Не от того ли, спрашивает Стебут, в
направлениях нашей внутренней политики в отношении
сельского хозяйства происходит то, что мы начали ввозить
сало из Австралии, а в Туле ведро молока продается от 90
копеек до 1 рубля 20 коп. Тогда как в 100 верстах от Тулы за
пуд молока были бы рады иметь 50-60 коп. Такая наша
политика, замечает Стебут, приводит к тому, что скоро в
центральной черноземной полосе России нечего будет
производить, кроме леса.
Большинство крестьян, писал Стебут, жалуется на
невозможность заниматься сельским хозяйство при существующих
ценах на сельскохозяйственные продукты. Такая
невозможность считается доказанной, а повышение цен кажется
несомненным. Но если вникнуть в суть дела, то эта
доказанность окажется сомнительной. Ведь одно дело, если мы
хотим любой ценой получить наибольшую прибыль на
капитал, а другое — если мы хотим достигнуть наименьшей
себестоимости продукта и тоже получить доход. Далее.
Вопрос о доходности сельского хозяйства нельзя путать с
вопросом о землевладении. Первое — экономический
вопрос, второе — социальный. Иными словами, там, где вина
возлагается на низкие цены, она должна возлагаться на
нерешенность социальных проблем, то есть формы владения.
Ведь повышением цен формы владения землей не изменить.
«Где же искать помощи русскому сельскому хозяйству в
его настоящем трудном положении?» Отвечая на этот вопрос,
1 Земледельческая газета. 1903, №6.
12*
179
Стебут предостерегает от одной, часто повторяемой ошибки.
Какими бы хорошими не были наши представления о формах
жизни и деятельности людей, как бы мы не стремились
сделать человека счастливым, не нужно делать одного:
навязывать эти представления людям, а тем более устраивать
их счастье насильно, без согласия людей. «Ведь навязать ни
этого, — замечает Стебут, — ни чего-либо другого людям нейг
зя; людей нельзя производительно или благотворно
устраивать помимо их сознательного в этом участия. Они
должны сами устраиваться, и те, на ком может лежать такая
общественная и нравственная обязанность, могут и должны
лишь помогать другим устраиваться. Известное обществен··
ное и связанное с ним личное устройство людей достигается
лишь нормальным постепенным общественным развитием в
соответствии с развитием культуры масс; а это требует немало
времени: ни годов, ни десятков лет, ни столетий даже, а и того
больше»1. Вот эта мысль Стебута хорошо передает его
социальную философию, которая не могла не сказаться и на его
отношении к частновладельческому хозяйству на селе. Цр
мысли Стебута, крестьянское хозяйство и частновладельчест
кое дополняют друг друга. Сами по себе они не вызывают у
него восторга, но он понимает, что из их взаимодействия
вырабатывается новая форма хозяйства — общественная, в том
числе и кооперативная. «В этом, — пишет И.А. Стебут,
заключается историческая миссия частновладельческого хозяйства,
и пока оно ее не исполнит, то оно должно существовать и раз··
виваться сообразно требованиям времени наравне с
крестьянскими общинами, и всякий ущерб как тому, так и
другому будет ущербом для всего народного хозяйства»2.
Для того чтобы возникла новая (общественная) форма
хозяйства, необходимо, согласно Стеоуту, выполнить два
условия. Во-первых, общественное хозяйство определяет себя
по отношению к государству как частная собственность. И,
во-вторых, разрушая персонификацию связей владения^
распоряжения и использования, оно выступает как обществ
венное хозяйство по отношению к механизму распоряжения
1 Стебут И.А. Несколько мыслей и соображений по поводу аграрного
вопроса СПб, 1906, с.IL
2 Там же.
180
и использования хозяйства, а значит, и по отношению к
формам распределения доходов.
2.2. Экософия земли. А. Советов
Советов и Герцен
1895 год. Майское утро Петербурга. К зданию
университета на Васильевском острове подкатывает пролетка. Декан
физико-математического факультета Александр Васильевич
Советов, высокий человек с черной шевелюрой и аккуратно
подстриженной бородой, рассеянно прощается с извозчиком
и медленными тяжелыми шагами направляется к
университету. Его узнают, с ним приветливо раскланиваются студенты и
служащие университета. По боковой мраморной лестнице
Советов поднимается на второй этаж в свой кабинет.
Выглядит он не по-утреннему усталым и озабоченным. Не далее как
вчера вечером, отпустив экономку и оставшись один, он
решил перечитать некоторые страницы из сочинений Герцена.
Да-да, «Крещеную собственность», «Письмо к противнику»
и, конечно, «К старому другу»1. Некогда они взволновали его
и вот вчера, без видимых причин, он решил еще раз
посмотреть некоторые места. «Нет, — подумал Александр
Васильевич, — все же я не понимал и не могу понять до конца
политических воззрений Герцена». И вдруг Советов поймал
себя на мысли о том, что все-таки рассуждения Герцена он
принимает близко к сердцу. А встревожило его одно место,
там где «бунтующий дворянин» делится своими
впечатлениями о крестьянине. Писано-то ведь в 1853 году, а ведь что
говорит Александр Иванович. Нет, вы послушайте. «Какой
славный народ живет в селах. Мне не случалось еще встречать
таких крестьян, как наши великоруссы и украинцы. Оно и не
мудрено. Жизнь европейская пренебрегала деревней, она
бойко шла в замке, потом в городе; деревня служила пастбищем, и
кормом. Западный крестьянин — выродившийся кельт,
побежденный галл, германец, побитый другим германцем.
Крестьянин на Западе вообще однодворец; если он богатеет,
1 Герцен А.И. Избранные философские произведения. М.? 1948, т.2,
с.250-301.
181
то он делается полевым мещанином». Советов
приостановился. Он понял, что нашел то, что искал. Да вот это выражение
«полевой мещанин». Ведь как точно передает этот барин
нутро третьего сословия. «А у нас, в России? — продолжал
размышлять Советов. — Нет, здесь все наоборот. Прав Герцен,
прав. Русские купцы, приобретая миллионы, оставались по
нравам и обычаям теми же крестьянами»1.
«И в самом деле, мы-то как были, так и остались
государством сельским, — проговорил он едва ли не вслух эти слова,
открывая дверь своего кабинета, — Наши города — большие
деревни, исключая Петербург. Тот же народ живет в селах и
городах. Разница между мещанами и крестьянами выдумана
петербургскими немцами».
Советов посмотрел на стену и увидел, как пристально на
него смотрит самодержец всероссийский.
«Да выдуманы ли?» — непроизвольно подумал
Александр Васильевич.
Вот недавно он проехал по черноземным губерниям
России и что же увидел? Крещеной собственности дано уже нет,
и мужик наш сильно изменился. Особенно те, однодворцы,
наши Хори или, как их назвал Герцен, «полевые мещане». Да,
появились у нас и такие. И число их, видимо, будет расти.
Александр Васильевич Советов, прохаживаясь по
кабинету, еще раз поймал себя на том, что это-то его больше всего
и беспокоило.
Вернее, он понял, что в России появляется новый тип
крестьянина-мужика, которого не знал Герцен, но которого
сподобилось заметить ему, Советову. Правда, сам Александр
Васильевич тоже не знал, что расчищать дорогу этому
мужику будет премьер России Петр Столыпин.
«Ведь что страшно, — убеждал самого себя Советов, —
что общинные крестьяне, как и сорок лет назад, шапки
ломают и лица у них какие-то потерянные. Одеты они не Бог
весть как: зипуны, онучи, и лапти. У каждого детей мал мала
меньше. В доме нечисто. Здесь тебе и теленок мычит, и куры
кудахчут. Зерно цепами молотят. От трехполья не
отказались. Дети коростой обросли. А разве мало среди них тех,
кто в канаве у винной лавки валяется. Нет, у этих россий-
1 Там же.
182
ских «полевых мещан» дела обстоят все же не так плохо.
Зайди к нему в дом. Ведь у него пирогами пахнет и окна уж
наверняка не рогожей заткнуты. И на окне стоит
непременная герань. Да и одеты ведь не как попало, а в суконные
поддевки и вышитые рубашки. И сами, черти, сытые и
гладкие. Знают ведь себе цену. Да и сыновей своих норовят в
реальное училище отправить, грамоте обучить».
Часы пробили 10 утра. Советов перебрал несколько
папок с бумагами и вновь отложил их.
«Интересно, — подумалось Советову, — а чтобы сказал
Помяловский, глядя на этих новых мужиков; знаток
обычаев и нравов бурсы. Ведь народился мужик, которому-то и
банк ныне ссуду дает. Как же дальше будет складываться
жизнь нашего мужика? Может быть, действительно, община
уже отжила и пора крестьянину к однодворью переходить?
Правда, его друг и единомышленник Иван Стеоут так не
считает. Что ж, посмотрим. Надо бы все это на заседании
Вольного экономического общества обсудить», —
продолжал размышлять Александр Васильевич, недоумевая,
почему его не приглашают на заседание ученого совета
факультета. «Что ни говори, а сколько верст приходится
нашему мужику насчитать, прежде чем он доберется со
своим добром до железной дороги. Да, верст 100, а вдалеке от
центра и поболее. А до ближайшей больницы? Поди-ка
доберись до нее, если она в 60 верстах. Фельдшер и тот небось
сидит где-нибудь в сорока верстах. Да, расстояния...
Одна надежда на земства», — подумал было Советов. Но
размышления его были прерваны. Его пригласили на
заседание ученого совета.
A.B. Советов не любил выставлять свои суждения как
нечто бесспорное и окончательное. Он любил продуманные
мысли. А становились они таковыми при условии, что их,
как шарики, покатают между собой люди, поперекидывают,
а там, смотришь, пока какая-нибудь мысль перекатывается
от одного к другому, она и силу наберет.
Все подлинное и глубокое отличается тем, что оно умеет
хорошо скрываться. A.B. Советов «хорошо скрывался». Он
ускользнул не только из «Истории русской общественной
мысли» С. Иванова-Разумника, но и из многих других
«Историй», не попадая в обзоры и даже в перечень ученых
мужей России. А ведь он — первый доктор сельскохозяйст-
183
венных наук. Вернул нам память, написав историю
земледелия в России.
Эка невидаль — доктор, может сказать читатель. Вполне
возможно, что сегодня их у нас как собак нерезаных. Но ведь
и магистерская (что-то вроде кандидатской) диссертация
Чернышевского тоже не Бог весть что. Однако же помним и
даже изучаем. И не потому, что в ней гениально трактуется
вопрос об эстетическом отношении к действительности. À
ведь они с Советовым почти ровесники. Советов родился в
1826 году, а Чернышевский — в 1828-м. И происходили-то
они из семей священников. И структура пути похожа. К
знанию приобщались в духовном училище, а затем в духовной
семинарии. Им не пришлось жить в мире греческой
мифологии, то есть учиться в классической гимназии. Один из них
поступает в институт, другой — в университет.
Оказывается, для того, чтобы попасть на авансцену
истории, нужно было совершить нечто из ряда вон выходящее.
Например, призвать Русь к топору или бросить клич о
свержении царского правительства. А там улс дело десятое — все
эти отличия подлинного от неподлинного, действительного
от мнимого. ■>
В жизни Советова не было ничего героического. Вернее,
он был напрочь лишен театральных жестов и исторических
поз. О таких, как Советов, Иванов-Разумник говорил, что
они живут серой и слякотной жизнью русской
интеллигенции. Почему серой и слякотной?
Да по одной простой причине. Известно, что с приходом
разночинцев культурная гегемония дворянства упала.
«Падая», дворянство оставило после себя высшую школу, в
которой стали учиться кухаркины дети, которые, читая
Шлегеля, любили грызть сухарики. Проблема же состояла
в том, что разночинцы, получая по существу дворянское
образование, стали разлагаться. Не давая навыков к
умственному труду (вспомним Пушкина: «Но.труд упорный ему
был тошен»), эта школа, согласно наблюдениям
Г.П. Федотова, убивала в разночинце вкус к физической
работе. Крестьянские дети (что было, то было) бренчали на
фортепьянах, почитывали Шеллинга, но стыдились помо-;
гать матери по хозяйству. Вести хозяйство — это «не
благородно» и значило одно: вести серую и слякотную
жизнь. Иное дело — игра в карты или окололитературные
184
баталии. Здесь есть где развернуться удали молодецкой.
Презрение разночинной интеллигенции к хозяйству
(теоретически обоснованное) проросло и заколосилось уже в
наши дни. Одно слово «деревня» наводит ужас и уныние на
прогрессивно мыслящих личностей. И вот в тот момент,
когда, по словам философа культуры Г.П.Федотова, в русском
сознании не нашлось ни одной нравственной или бытовой
реакции в защиту свободного хозяйства от
социалистической критики, определилась судьба Советова. Без громких
слов он взял на себя труд просветителя и помощника
крестьянина в его повседневной хозяйственной жизни.
Картография родословной
Александр Васильевич Советов родился 14 ноября 1826
года в селе Гульнево Дмитровского уезда Московской
губернии1.
Отец Советова — священник. Его мать вела домашнее
хозяйство и была женщиной необычайной доброты и
благородства. Отец «представлял из себя, — как вспоминал
позднее A.B. Советов, — цельную натуру и обладал твердым
и непреклонным характером и, несмотря на забитость и
приниженность духовенства, резко выделялся из своей среды,
не страшась вступать в борьбу с помещиками, угнетавшими
своих крепостных. Так, например, приглашенный
напутствовать крестьянина, засеченного до смерти, он не согласился
скрыть этот факт и показать другую причину смерти, за что
и был происками помещиков смещен с богатого гульневско-
го прихода в бедный приход в Клинском уезде, где он мог с
трудом прокормить свою многочисленную семью»2.
Неудивительно, что первое свое образование A.B. Советов получил
в духовном училище в Дмитрове: для семейного бюджета
это было не так обременительно. Позднее, рассказывая об
этих временах, Советов неизменно вспоминал дом, в кото-
1 Основные сведения о жизни и деятельности A.B. Советова взяты из
работ: Шусьев С. Профессор A.B. Советов. Записки новороссийского
общества естествоиспытателей. Одесса, 1903, т.25. Вып.1-2, с. 1-17;
Модестов А.П. Очерки по истории агрономии. М.', 1924, Вып.1; Компане-
ец М. Ученые агрономы России. М, Колос, 1971.
2 Модестов А.П. Очерки по истории агрономии. Вып.1, М., 1924, с.76.
185
ром ему пришлось снимать комнату, и запах пряников,
которые выпекала хозяйка дома. Вкус этих пряников Советов
сохранил до конца своей жизни.
Духовное училище есть духовное училище. Это не
классическая гимназия. Но бурса не коснулась души юного
Советова и не оставила на ней тех шрамов, которые в свое
время так живописно были описаны Помяловским.
После окончания духовного училища он поступает в Ви-
фанскую семинарию при Троице-Сергиевой лавре. Здесь на
него особое влияние оказал молодой монах Леонид,
ставший впоследствии архиепископом Ярославским. Этот
монах был прежде блестящим морским офицером. По
непонятным причинам он бросил военную карьеру и ушел в
монастырь. В Вифанской семинарии Леонид преподавал
математику и французский язык. Преподавателя и
семинариста Советова вскоре связали нити дружбы. Никто не
знает, о чем говорили в сокровенных беседах учитель с
учеником. Об этом можно лишь догадываться. Ведь была уже
Сенатская площадь и было неиссякаемое стремление
лучших умов России к грядущим социальным переменам.
Понимая все это, можно представить и характер диалога
между учителем и учеником.
Беседа с монахом
Однажды, прогуливаясь в укромном местечке вифанско-
го сада, Александр Советов увидел своего преподавателя.
Советов хотел было повернуть назад, но Леонид жестом
остановил его. «Ты мне не мешаешь», — сказал он. Советов
извинился и подошел поближе. На спокойном
сосредоточенном лице монаха лежала тень какой-то внутренней
борьбы с самим собой, а может быть, и с мыслью,
посетившей его.
«Видишь ли, — обратился он к Александру, как бы
приглашая его к участию в прерванном размышлении, — есть
только одна серьезная проблема: стоит или не стоит жизнь
того, чтобы ее прожить». Помолчав, Леонид продолжал:
«Каким же радикальным способом должен был измениться
мир, чтобы проблема самоубийства стала в XIX веке
испытанием смысла человеческой жизни?»
186
Эти слова парализовали ум Советова. «Простите, —
сказал он, вступая в разговор, — но ведь XIX век слышал и
другие слова, и принадлежат они Белинскому. А Герцен,
обратившийся к России с вопросом «Кто виноват?» Разве у
них не было причин для того, чтобы посчитаться с жизнью?
Но ведь Вы же знаете, что никому из них и в голову не
приходила мысль о бессмысленности жизни». Преподаватель
внимательно посмотрел на своего ученика и сказал: «Вы
правы, согласно Герцену, в исторической череде есть только
один серьезный вопрос — это социально-экономический
вопрос. Но так думал не только Герцен. Вот и Вы думаете так
же, не правда ли?» — спросил он Советова. Советов согласно
кивнул головой.
«Самосознание многих людей формировалось под
влиянием прежде всего крестьянского вопроса. Крепостное
состояние крестьянина было той язвой, тем безобразием,
которое заставляло нас краснеть и с поникшей головой
признаваться, что мы ниже всех в Европе. Но вот я Вам что
хочу заметить, мой дорогой друг, — сказал Леонид тихим
голосом, обращаясь не столько к собеседнику, сколько к
себе. — Не надо щеголять насилием, как это делал,
например, Петр I. Он научил Россию шагать семимильными
шагами, но ве^ь зашагала-то она из первого месяца
беременности в девятый. Разве это не насилие? Зачем же ломать без
разбора все, что попадется по дороге? И ведь для чего? Для
того, чтобы появился «выкидыш», социальный уродец. Нам
нужно научиться шагать, не ломая, не спотыкаясь о
разбитые сокровища и не превознося социальный мусор и
исторический хлам политической алхимии».
Леонид, скрестив руки на груди, смиренным голосом
добавил: «Вот теперь, Вы, дети иерейских домов, беретесь за
разрешение этого проклятого социального вопроса. Я бы
очень хотел, чтобы переустройством мира Вы не разрушили
сам мир».
Этот разговор Советов хорошо запомнил, и запомненное
не раз помогало ему найти правильное направление в
различных житейских ситуациях.
Стараясь направить молодого человека, Леонид не
забывал просвещать его и с внешней стороны, и
постепенно из застенчивого, неуклюжего семинариста он
делал человека, могущего достойно держать себя в обще-
187
стве1. Как рассказывал позднее сын Советова Сергей, его
отец, часто вращавшийся в светском обществе, мысленно
благодарил своего учителя, монаха Леонида, у которого он
научился не только манерам, но и французскому языку.
Карьера
После окончания семинарии Советов отказывается от
учебы в Духовной академии и просит назначить его в Горы-
горецкий сельскохозяйственный институт. «Александру
Васильевичу казалось, что этим он достигнет своей цели, так
как будет обучать близко стоящих к народу будущих
сельских пастырей тому, что он считал одним из самых верных
стимулов к подъему народного хозяйства, а следовательно, и
благосостоянию крестьян»2.
Так Советов стал казеннокоштным студентом.
Обучающиеся в высших учебных заведениях делились на несколько
групп: одни, как Советов, содержались на казенный счет,
другие — своекоштные студенты — сами себя содержали, а
третьи были просто слушателями. Они носили
студенческий мундир, ходили на лекции, но студентами их никто не
считал, потому что студент — это уже фигура, ему полагался
известный чин. А если ты родился в податном сословии и
учишься в университете, то какая же ты фигура. Нет для
тебя чинов, ты должен налоги платить. Для того чтобы
какой-нибудь мещанин или купец вышел из податного
сословия и стал фигурой, ему нужно было окончить вуз и
сдать окончательный экзамен. И после этого он уже
приравнивался ко всем остальным студентам, выходил из
податного сословия и становился кандидатом, то есть
получал такое звание после окончания университета.
Но Советову так и не пришлось обучать сельских
пастырей естественной истории и агрономии. В 1850 году его
оставляют в институте для подготовки к профессорскому
званию. Для духовного же ведомства Министерство
государственных имуществ обязалось воспитать нового кандидата.
Вскоре началась и первая командировка молодого ученого за
границу и, конечно же, в Германию.
1 Модестов А.П. Очерки по истории агрономии. М., 1924, вып.1,Ъ76.
2 Там же, с.76-77.
188
Б Германии Советов встречал среди студентов русских
женщин, приехавших учрггься в институтах Геттингена и
Веймара. Конечно же, приезжали они по своей инициативе и
за своей счет. Государство им стипендии не платило.
Напротив, по существующим в России законам, женщины не
имели права поступать в русские институты и
университеты. Для того чтобы получить высшее образование, они
должны были уезжать за границу. И только позднее (после
реформы 1861 года) им это право было предоставлено, а в
70-е годы уже были организованы высшие женские курсы.
Но сельскохозяйственное образование они смогли получать
только с 1904 года.
Изучая сельское хозяйство, Советов побывал также и в
Чехии, Словакии, Бельгии, Италии и Швейцарии. В 1855
году он возвращается в Горыгорецкий институт и занимает
кафедру сельскохозяйственной технологии.
- Советов и до поездки за границу был невысокого мнения
о принципах ведения сельского хозяйства в России, основой
которого являлось трехполье и крепостное право.
Неблагоприятное впечатление о состоянии хозяйств центральных
губерний России усиливалось при сравнении с тем, что
Советов увидел в Западной Европе. Приложение научных
знаний к практике земледельца давало западноевропейцам
осязаемые выгоды и преимущества. Имя Либиха в то время
было у всех на устах. Идеи травосеяния и плодосмены
придавали оригинальный характер труду западноевропейских
земледельцев.
Вернувшись на родину, Советов занялся пропагандой
прогрессивных методов ведения сельского хозяйства. В 1859
году появляется его сочинение «О разведении кормовых
трав», в котором развивались лучшие традиции
агрономической мысли. За этот труд Советову была присвоена степень
магистра сельского хозяйства в Московском университете.
С нескрываемой радостью Александра Васильевича
поздравил отец, приславший сыну письмо. Несмотря на
торжественность случая, отец Советова не изменил своему
правилу: письмо его было написано на латыни. Между отцом
и сыном установилась когда-то негласная договоренность:
писать друг другу письма на этом мертвом, но звучном языке,
обожаемым медиками и монахами.
189
Философия хозяйства
В 1862 году издаются публичные лекции A.B. Советова,
в которых он изложил свои представления о насущных
задачах развития сельского хозяйства в России.
Еще ни один ученый, по словам Советова, не перевернул
вековой системы обработки земли. Везде пашут, боронят,
сеют, жнут — словом, земледелец везде земледелец. Как в
России, так и в Европе. «Так оно и действительно
представляется на первый взгляд, — говорил он в своих лекциях. —
Но если всмотреться в дело ближе, выходит немного иначе.
Если бы сельское хозяйство было делом совершенно
рутинным, то процветать ему следовало бы больше всего там, где
долго стоит тепло»1. Например, в Италии. Но не Италия и не
Франция, а Англия и Германия показывают пример,
замечает Советов, ведения хозяйства. Да еще, пожалуй, Бельгия.
Почему? Потому, что для них характерно серьезное
отношение к науке.
Вряд ли кто будет спорить с тем, что таких почв, как
русский чернозем,, немного в Европе. «А все-таки наше степное
хозяйство не сеть образцовое; англичане на своей тощей
глине не меньше собирают, чем мы на нашем жирном
черноземе»2. Все это, помимо прочего, доказывает также и
то, что успехи земледелия, отмечает Советов, стоят в прямой
связи с успехами гражданственности, с успехами развития
народов.
Советов любил повторять мысль Монтескье о том, что
страны возделывают не сообразно степени их природного
богатства, а сообразно свободе их обитателей.
«Применение знаний к делу, или что на нашем обыкновенном
языке называется громким словом «практика», есть, —
отмечает Советов, — удел личности. Эту способность
образованием можно усовершенствовать, развить, напра·-
вить, но не родить»3.
Для крестьянина, как и для любого другого человека,
научная истина всегда сильнее тысячи рецептов, написанных
на основании одного опыта. Все это так, но не пристало сель-
1 Советов А.В.Публичные лекции о сельском хозяйстве. СПб, 1862, с.2.
2Тамже,с.З.
3 Там же, с.7.
190
скому жителю смотреть «на свою скотину, как на машину,
перерабатывающую его сено или солому в навоз»1.
Земледелец имеет дело не с машинами, а с живым организмом, к
которому, как и ко всему живому, нужно относиться с
любовью и пониманием.
«Земледельцами у нас, — писал Советов, — принято
называть крестьян; но они не земледельцы, хотя большая часть
из них и занимается действительно земледелием. Разве
отрезать известный участок земли и посадить на него
крестьянское тягло, значит водворить на этом участке
земледелие? Ничуть не бывало. Крестьянин смотрит на
земледелие только как на неизбежную, может быть, роковую
долю. Иначе, как объяснить то, очень сродное нашему
крестьянину, желание — сделаться или лавочником, или
торгашом, или извозчиком, лишь бы не быть земледельцем.
Говорят, что это уже так в природе славянина. Нет, хотя
немного, но есть-таки примеры, что и крестьяне с особой
любовью и выгодой занимаются земледелием»2.
Производительные силы земли имеют свой резон. Ими
нельзя распоряжаться произвольно, кому как вздумается. И
тем более их нельзя подменять голой рабочей силой
человека, использующей технику по своему усмотрению. «Все мы
держимся одних и тех же орудий и машин, одинаковых
способов обработки земли. Но мы мало рассчитываем на
производительную силу земли и много полагаемся на
рабочую силу, мало имеем, наконец, и побуждений изучать
сельское хозяйство с его научной стороны. На науку еще
нет запроса. Всякая, даже самая малая измена или
уклонение от обычной методы влечет за собой большие расходы,
которые страшат всякого. С переменой в обработке земли
понадобится перемена и рабочей силы, а своя
доморощенная между тем или неспособна делать иначе, или даже не
хочет, потому что видит во всякой новизне увеличение, а не
сокращение работы»3.
Наука земледельца — это не сборник правил, рецептов и
таблиц. Если бы крестьянин работал по правилам и
рецептам же, с. 19.
2 Там же, с.22.
3Тамже,с.29.
191
там такой науки, то тогда ему не о чем было бы
беспокоиться. Делай лишь все так, как написано в книгах, и собирай
урожай. Но таких учений нет и, понятно, быть не может.
«Как ни недостаточно наше земледелие, но все-таки мы не
теперь только родились, а просуществовали, слава Богу,
целое тысячелетие. Следовательно, порывшись, покопавшись
в разных исторических памятниках и в позднейших
рукописях нашей агрономической литературы, можно было бы
что-нибудь выработать»1. То есть не законы сами по себе
важны крестьянину, а вот те законы, которые он добывает
опытом. Этот факт позволяет Советову сделать вывод о том,
что при всех предстоящих изменениях русское земледелие
хотя, несомненно, и пойдет вперед, но все-таки не сделается
ни английским, ни бельгийским, ни даже германским. Оно
останется русским потому, что в основе его лежит
локальный опыт, который всегда уникален. В этой связи Советов
отмечает особенности сельскохозяйственного производства.
Деятельность хозяина с первого же раза спотыкается на
невозможности, производить то или другое растение. Для
хозяина не все равно, что его поле в состоянии производить;
рожь или пшеницу, овес или ячмень. Когда нет земель, спот
собных производить пшеницу, и климат не по этому
растению, то о посеве пшеницы нечего и думать.
На надежность урожайности почвы имеет особенно
сильное влияние в России большая или меньшая глубина
пахотного слоя, ее состав и физические свойства. Наши
почвы, отмечает Советов, исключая черноземные, вообще очень
мелкие, а потому наши культурные растения очень страдают
от погоды, отчего так и нередки у нас неурожаи.
С углублением пашни, по мнению Советова, должно
начаться улучшение нашего хозяйства. Но не всякую почву
можно углублять. Ни в коем случае нельзя выворачивать
нижний неплодородный грунт. Его можно мало-помалу
разрыхлять, приноравливая к тому, что впоследствии станет,
почвой.
«Немного нужно разумения, чтобы понять, — писал
Советов, — что одинаково обрабатывать и глинистую, и
песчаную почву непрактично. Уже одно то, что песчаную зе-
1 Там же.
192
млю молено обрабатывать во всякое время, а к глинистой
нужно очень и очень присмотреться, когда пустить по ней плуг
или соху»1.
Иными словами, климат кладет свою печать на
земледельца, и эта печать остается, несмотря ни на какие
улучшения. Вот почему русскому хозяйству никогда не быть
ни английским, ни бельгийским.
Особое внимание Советов уделил разделению труда,
самым непосредственным образом затрагивавшему интересы
земледельцев. Совершенно неверна сложившаяся в России
практика поставлять на рынок сырье, а обработку этого
сырья предоставлять другим странам. Это не разделение труда,
а карикатура на него. Почему, спрашивал Советов, наше
зерно идет за границу зерном, а не мукой? Почему мы
поставляем кожу, пеньку, лен, а получаем из-за рубежа
лакированные перчатки, разные полотняные и пеньковые
изделия? И Бог знает, восклицает Советов, во сколько раз
дороже они у нас продаются, чем были куплены когда-то у
нас же в виде сырья!
«Такие обороты с нашими произведениями ставят нас в
совершенную зависимость от тех наций, которые скупают и
перерабатывают наши сырые продукты и дают им отделку.
Англичане, французы выходят, таким образом, наши
господа, а мы их чернорабочие... Главное основание, почему бы
некоторые хотели сделать нас исключительно
земледельцами, чернорабочими, заключается в обилии России
сравнительно с народонаселением, землей»2.
Развивая эту мысль, Советов с горечью говорил: «Не
очень-то мы разживаемся на счет нашего многоземелья и
баснословного плодородия степного чернозема. Западные
европейцы на своих микроскопических клочках живут в
большем довольстве, чем мы с нашими тысячами и
миллионами десятин. Сало-то мы отправляем за границу, а сами
светим лучиной. Кож русских тоже довольно идет в чужие
края, а большинство русского народонаселения и по сю пору
ходит в лаптях. Льна, пеньки тоже мы отвозим вдоволь, а
между тем нельзя сказать, чтобы русский человек отмечался
'Тамже,с.31.
2 Там же, с.42.
13 Ф. Гиренок
193
чистоплотностью в белье и одежде. Медь, говорят, русская
лучшая в Европе, железо тоже недурно, а между тем
улучшенные орудия и машины больше частью у нас привозные»1.
В течение 10 лет Советов был профессором Горыгорецко-
го института, а затем его пригласили в Санкт-Петербургский
университет, где он и оставался до конца своей жизни.
Напомним, что в 1861 году в России было отменено
крепостное право. Для развития сельского хозяйства
открывались новые возможности. Время великих реформ
сформировало движение «шестидесятников», служить
заветам которого Советов считал для себя честью. A.B. Советову
нравилась мысль Хомякова о том, чтобы все, что строится,
имело почтение к тому, что выросло. Нашим устроителям
нужна органическая мысль, почтение к естественным
процессам истории. Эта идея выражалась Советовым в разных
словах, но обнаружить ее можно было не только в его
сочинениях, но и в его жизни.
Экософия земли
Крестьянское пореформенное хозяйство могло
развиваться различными путями, но направлять его нужно было к
тем из них, которые «наиболее соответствовали
историческому развитию русского народа и его исконному
славянскому духу». Под знаком этих идеалов в 1867 году
A.B. Советов пишет новый труд: «О системах земледелия».
В этом сочинении он писал: «В России как было тысяча
лет назад, так и теперь земледелие стоит во главе всех
промыслов... Поземельное богатство России долго еще будет
главным источником ее внутренних средств и главным
двигателем ее внешней торговли»2. Много внимания Советов
уделил изучению истории земледелия в России. В Древней
Руси огневая форма хозяйства был господствующей. Наши
предки жгли все: и леса, и дери, и болота, и степи. Еще в XVI
веке, как свидетельствуют судебники, вся нынешняя
центральная часть России была покрыта лесами. На месте
Московского Кремля когда-то стоял дремучий лес. Селения,
находившиеся на расстоянии более 10 верст от строевого ле-
1 Там же, с.43.
2 Советов A.B. О системах земледелия. СПб, 1867, с.4.
194
са, считались, согласно тем же судебникам, безлесными. В
XVIII веке Екатерина уже дает задание
Вольно-экономическому обществу о «начертании мнения, объясняющего
пользу и вред суков и кубышей, которые при жжении от
неосторожных земледельцев частые причиняют потери и таки
пагубным истреблением невозвратный ущерб народу
приносят»1. Ответ Вольного экономического общества царице
носил диалектический характер. Оно, рассказывает Советов,
нашло огневое хозяйство «и вредным, и полезным». С точки
зрения Советова, огневое хозяйство — это грабеж почвы.
Оно выжило чернозем.
Причину такого варварского отношения к земле Советов
усматривает в малой народонаселенности России и ее
огромной территории. Огневое хозяйство применялось и в
Европе. Но там от него к XVII веку уже отказались.
Пространство у них все-таки несоизмеримо с российскими
просторами. В самом деле во времена Олега Русь населяло
1,5 млн. человек, а к XVI веку — 7 млн. человек. В то же
время в XV веке Россия занимала территорию в 18 тысяч
квадратных миль, а в XVI — уже в 4 раза больше. В XVII
веке она увеличивается еще в 4 раза.
Эти обстоятельства и делали выгодным «бродячий»
образ жизни крестьянина, его переселение на новые места. С
большим трудом Россия переходила к трехполью.
Работая в Петербургском университете, Советов
затратил немало сил для того, чтобы университет, обладая
выдающимися умами в естествознании, сослужил какую-
нибудь службу сельскому хозяйству. С.Щусьев, биограф
Советова, писал: «В университетах установилось мнение,
что агрономия может занимать в них место неважного,
второстепенного и необязательного предмета, так как
университеты должны служить рассадником чистого, а не
прикладного знания; для последнего уместны только
специальные учебные заведения в форме институтов, академий и
политехникумов»2.
1 Там же, с. 17.
2 Щусьев С. Профессор A.B. Советов. Записки новороссийского
общества естествоиспытателей. Одесса, 1903, т.25, вып. 1-2, с.5.
13*
195
Советов изменил эту традицию. В университете стала
читаться агрономия в самом широком смысле этого слова.
«Мой отец, — говорил сын Советова, — никогда не отдыхал...
Почти ежегодно он ездил то в ту, то в другую сторону нашего
обширного отечества для ознакомления с хозяйствами, с
народом, и каждая его поездка давала целый ряд живых
докладов и статей»1. Советов, используя свое влияние в
Вольно-экономическом обществе и Петербургском
обществе сельских хозяев, членом которых он бьш 25 лет, на
средства этих обществ посылал своих учеников в различные
губернии России на практику. По инициативе Советова
Петербургский университет учреждает две премии. Одна из
них (500 руб.) предназначалась для того студента, который
после окончания университета шел работать в сельское
хозяйство. Другая (300 руб.) выдавалась студентам З-х-4-х
курсов, избравших своей специальностью агрономию.
Нельзя не упомянуть и о том, что Советов настоял на
внимательном изучении русского чернозема. Эти идея
пришла к нему в 1876 году в ходе поездки по центральным
черноземным губерниям. Чернозем — это национальное
богатство. Почему же мы, терялся в догадках Советов, ходим
по этому богатству в нищете. А ведь именно плодородие
этих почв не раз спасало Российское государство от полного
разорения. Как историку систем земледелия, Советову не
раз попадали в руки документы, свидетельствующие о
неоценимых возможностях степного чернозема России. Взять
хотя бы те же времена Бориса Годунова. Казалось бы, страна
вымирает. Мор и разорение. В одной Москве умерло сто
тысяч человек. Рожь была дороже золота, за четверть ржи
платили 15 рублей серебром. А когда одумались, да
обратились к земле и нуждам землепашца — разорение как рукой
сняло. За год-два на рынках снова появилось изобилие и
четверть хлеба продавалась за 10 копеек. И даже новая мера
четверика введена была в обиход, а ведь до 1601 года хлеб
продавался кадями, четвертями или осьминами.
Идея о необходимости изучения русского чернозема и его
грамотного использования в хозяйстве накрепко засела в голове
Советова, и он решил доложить об этом на заседании Вольно-
1 Модестов АЛ.Очерки по истории агрономии. М., 1924, вып.1, с.78.
196
экономического общества. Вольно-экономическое общество
приняло предложение A.B. Советова и А.И. Ходнева и поручило
вести эту тему В.В. Докучаеву. В результате своих исследований
Докучаев опубликовал в 1883 году классический теперь уже
труд «Русский чернозем». С1883 года Советов вместе с
Докучаевым стал издавать «Материалы по изучению русских почв».
Обладая хорошим здоровьем, Советов почти никогда не
болел. По словам С.А. Советова (сына А.В.Советова), его
отец очень тяжело переживал смерть единственной дочери в
1898 году. С этого времени Советов стал прихварывать.
В 1899 году в Петербургском университете проходили
студенческие волнения. В качестве декана Советов не мог не
принимать в этих событиях участия. «Я помню, — говорил его
сын, — как иногда, приходя после полуночи с заседаний
правления, покойный отец плакал...»1. Советов обнаружил, что такие
понятия, как ученый и гражданин, педагог и официальное лицо,
в драматических ситуациях истории не всегда совпадают. Чаще
всего они противоречат друг другу. И сохранить свое лицо в
такие моменты очень трудно. Весной 1901 года Советов принимал
экзамены в Московском сельскохозяйственном институте.
Затем он поехал за границу лечиться. Вернувшись из этой поездки
совершенно больным, Советов продолжал читать лекции.
Последний раз Советов был в университете 3 ноября 1901 года.
Утром 24 ноября он уже не проснулся.
2.3. Экософия хозяйства. А. Чаянов
...Игра не получалась. И тогда иллюминат снял свою
голову и ударил ею по кеглям. Вся девятка в лежку, а вместо
кеглей полетели человечьи руки, да ноги. Брошенная голова
оказалась вовсе и не головой мастера, а его соперника. Сам
иллюминат стоял цел и невредим... Неужели это тоже
иллюминат, подумал герой мистической повести A.B. Чаянова
«Юлия, или Встречи под Новодевичьим», глядя на карлика-
старика, раскуривающего свою знаменитую трубку?..2
Кто был мастером и чьими головами ударяли «по кеглям»,
мы начинаем узнавать только сегодня. В этой чудовищной
игре потерял голову и сам автор мистической повести.
1 Там же.
2 A.B. Чаянов. Юлия, или Встречи под Новодевичьим. М., 1928.
197
Картография родословной
Александр Васильевич Чаянов родился 17 (29) января
1888 года в Москве златоглавой. Его отец выходец из
крепостных крестьян деревни Богданихи Кохрмской волости,
Шуйского уезда, Владимирской губернии. Василий Чаянов
оставил крестьянское дело и подался за заработком в город
Иваново-Вознесенск на ткацкую фабрику Здесь ему
повезло. Он разбогател и затем перебрался в Москву. Мать
Чаянова — Екатерина Клепикова, родом из Вятки. Ее
социальное положение определялось двумя словами — «из
мещан». Среди немногих женщин она закончила
Петровскую академию и стала агрономом. В Петровке учился и
двоюродный брат Чаянова — Сократ Чаянов.
Александр Чаянов закончил частное реальное училище
П.К. Вознесенского, а также дополнительный класс этого
училища. Его обучение стоило отцу более 2 тысяч рублей:
деньги немалые, но училище того стоило. В 1906 году
А. Чаянов поступает в Московский сельскохозяйственный
институт (Петровская академия). Здесь он подружил с
Н.И. Вавиловым и чуть ли не «влюбился» в H.H. Худякова,
одного из преподавателей института.
«Я буквально дрожал от охватившего меня волнения по
поводу раскрывшихся передо мной философских
горизонтов», — вспоминал позднее Чаянов о беседах с Худяковым.
Чаяновы жили в Малом Харитоньевском переулке. На
Петровке жил профессор Фортунатов, к которому заходил за
книгами А. Чаянов. В 1910 году Чаянов заканчивает
институт и по ходатайству Фортунатова его оставляют в
институте для подготовки к научной и преподавательской
деятельности с годовой стипендией в 700 рублей.
Выпускникам институтов выдавали в то время свидетельства об
окончании курса. Для того чтобы получить диплом, им
нужно было подготовить отчет о практической работе. В 1911
году Чаянов сдает свой отчет, и ему присваивается звание
ученого агронома первого разряда.
В этом же году он получает «чистый лист» для поездки за
границу, где ему разрешено посетить любые города Западной
Европы. Весной 1912 года Чаянов уезжает, а осенью он пишет
книгу «Очерки по теории трудового крестьянского
хозяйства», пересылает в Москву, где в этом же году книгу издают. В
198
1913 году он возвращается и публикует вторую часть своих
«Очерков». Чаянову присваивается звание доцента, и он
начинает работать в Московском сельскохозяйственном
институте с годовым содержанием 2100 рублей: 1400 —
жалованье, 350 — квартирные и 350 — столовые.
Кооперативный социализм
Свою первую небольшую работу «Кооперация в
сельском хозяйстве Италии» Чаянов написал еще студентом. В
этой работе он приводит рассказ одного русского
крестьянина московским статистам. «Везу я сенцо продавать, —
рассказывал крестьянин, — а сенцо-то плачет, а я его
утешаю, вот погоди, придет зима, я тебя втридорога выкуплю»1.
Другими словами, настало время платежи делать, а денег
у крестьянина нет. Вот и везет он в неурочное время сено
продавать. Смысл этого рассказа столь же прост, сколь и
поучителен. Крестьянину нужно снять с себя ярмо
посредников и перекупщиков. Но как ему это сделать? И Чаянов
отвечает: при помощи кооперации. Кооперация хороша не
сама по себе. Она нужна для того, чтобы крестьянин мог
обойтись без посредников. А для этого ему нужно по-новому
организовать земледельческое производство, обобществляя
в нем такие функции, которые можно обобществить. «Но
напрасно бы мы приписали кооперации универсальное
значение, она, — писал Чаянов, — дает благоприятные
условия только тем, кто еще может встать на ноги, то есть
средним классам общества...»2. Если крестьянин еще стоит
на ногах, то ему поможет и кооперация. А если нет? «Для
низших слоев общества кооперация еще не дала ключа в
царство небесное», — отвечает Чаянов. Для тех, кто и встать-
то на ноги уже не может, предназначена коллективная
аренда3.
В 1912 году в двух своих работах («Крестьянское
хозяйство . в Швейцарии» и «Очерки по теории трудового
крестьянского хозяйства») Чаянов формулирует главную
свою мысль. «Задача трудового хозяйства — доставление
1 Чаянов A.B. Кооперация в сельском хозяйстве Италии. М., 1909, с.З.
2 Там же, с.5.
3 Там же, с.7.
199
средств существования хозяйствующей семье, и поэтому
экономическая деятельность в нем направляется
соизмерением степени удовлетворения потребностей с тягостью
добывания средств существования, а вовсе не исканием
высшего % на капитал, или высшей оплаты труда»1. Позднее
Чаянов придаст этой мысли математическую формулу, и
она станет известна в научном мире под названием «кривые
Чаянова».
Крестьянское хозяйство ищет не прибыль. Оно
ориентировано на валовой доход. Доходное хозяйство не всегда
прибыльно, а прибыльное — не всегда доходно. Крестьянин
скорее выберет большой валовый доход и меньшую
прибыль, чем большую прибыль и малый доход. Но если
подмеченная Чаяновым особенность крестьянского
трудового хозяйства верна, то в лице этого хозяйства капитализм
встречает серьезное препятствие для своего
распространения. Самое удивительное состоит в том, что трудовое
хозяйство сохраняет в системе товарно-денежных
отношений какую-тр внутреннюю независимость от этих
отношений. Подчиняясь правилам игры на рынке, трудовое
крестьянство выпадает из этой игры в непосредственном
процессе производства, демонстрируя элементы семейного
труда. Капитализация сельского хозяйства ведет к
раскрестьяниванию деревни. Окрестьянивание села — к
декапитализации. «Сельская жизнь, — скажет Чаянов в 1928
году, — естественное состояние человека, из которого он был
выведен демоном капитализма...»2. А также «Путь
фермерский нами всегда нацело отрицался»3.
Понимая природу трудового крестьянского хозяйства,
Чаянов видел опасность и бездумной коллективизации.
Наивно полагать, говорил он, что управлять
народнохозяйственной жизнью можно из одного центра, «только
распоряжаясь, подчиняя, национализируя, запрещая,
приказывая и давая наряды, словом, выполняя через безвольных
1 Чаянов A.B. Крестьянское хозяйство в Швейцарии. М., 1912, с.19.
2 Чаянов A.B. Основные линии развития русской хозяйственной
мысли за два века. М., 1920, с.201.
3 Чаянов A.B. Записка о современном состоянии сельского хозяйства.
Известия ЦК КПСС, М., 1989, № 6, с. 10.
200
исполнителей план народохозяйственной жизни»1. Видимо,
не без оснований в наши дни Чаянова станут называть, как
пишет профессор социологии Манчестерского университета
Теодор Шанин, «новым крестьянским Марксом, создавшим
принципиально новую политэкономию»2. Но, как известно,
нет пророка в своем отечестве. Особая логика семейных
отношений, дополненная и развитая в форме кооперации, для
многих еще и сегодня остается логикой экономики
каменного века...
В 1914 году А.В.Чаянов не без гордости скажет: за
последние 10 лет крестьянская Россия сдвинулась с мертвой
точки застоя, голода и темноты. Появились ростки новой
жизни, новой сельскохозяйственной культуры. Крестьяне
поняли выгоду плуга перед сохой, на смену лопате и цепу
приходили молотилка и веялка, участились посевы клевера,
стали устраиваться маслодельные артели, кредитные
товарищества, кооперативные зерноочистительные пункты.
Крестьянин открыл для себя новые источники дохода,
выращивая на продажу лен, подсолнух, свеклу и другие
технические культуры. Правда, на крестьянских полях еще
можно было увидеть чахлые редкие овсы и буйные сорняки;
во многих хозяйствах тощие крестьянские коровенки еще
жевали зимой распаренную ржаную солому и многие
крестьяне, имея кровяные мозоли на руках, не умели прожить
на своей земле. С угрюмыми лицами они уходили в город.
Все это было. И все-таки «наша родина переживает сейчас
возрождение села... Пройдет еще одно-два десятилетия и
русская деревня зацветет народным благополучием», —
писал Чаянов3.
Основания для таких надежд были, не было только этих
двух десятилетий. В распоряжении русской сельской
кооперации находилось уже около миллиарда рублей. Почти 1,5
миллиарда рублей Россия получала от продажи
сельскохозяйственных продуктов на внешних рынках в Германии,
1 Чаянов A.B. Путешествие моего брата Алексея в страну
крестьянской утопии. М., 1920, с. 14.
2 Шанин Т. Наследие А. Чаянова... Вестник с/х наук. М., 1989, №2,
с.148.
3 Чаянов A.B. Война и крестьянское хозяйство. М., 1917, с.15.
201
Англии, Франции, Австро-Венгрии и Италии. В 1912 году
Россия продала западным странам одних яиц на 84,5
миллиона рублей. В это время лес еще не был главным предметом
экспорта. Изделий лесообрабатывающей промышленности
было продано, к примеру, в этом году всего на 150 миллионов
рублей. На внутреннем рынке перед началом войны масло
продавалось по 6 копеек за пуд, яйца — 4 копейки за десяток,
а на хлеб долго не было никакой цены. За границей сельские
хозяева закупали химические удобрения,
сельскохозяйственные машины и орудия, племенной скот, семена и т.д.
Возрождению русской деревни помешала война, которая
началась 14 августа 1914 года. С началом войны резко
возросли цены. Летом 1915 года начались затруднения с хлебом и
сахаром. Железнодорожный транспорт был забит
эшелонами с военным грузом. И не справлялся с перевозками.
Государство стало регулировать товарное обращение в
стране, опираясь на приказы и запрещения. Тем самым
нарушалась свобода передвижения товаров и свободного
образования цен. Рынок охватил паралич. Война затягивалась.
Вместо ожидаемых 3-4 месяцев она уже длилась год, и
конца ее не было видно. Правительство царя Николая II сумело
за это время убить рынок, но не сумело на его место
поставить что-нибудь другое. Если нет рынка, то есть его
паллиатив — государственный аппарат. Но правительство
царя не смогло создать за короткое время государственный
аппарат, чтобы поставить его на место рынка. Между тем в
конце 1915 года оно стало реквизировать и закупать хлеб
принудительным порядком по твердым ценам. Что из этого
получилось, А.В.Чаянов рассказывает в своей работе
«Продовольственный вопрос». Прежде всего от правительства
«бежал» хлеб. Правда, для объяснения этого факта еще не
додумались до теории кулака и его происков. Просто
казенная цена — 1 р. 20 коп. за пуд — не могла выманить хлеб из
амбара. Ведь на рынке он стоит 1 р. 60 коп. Эта разница в 40
копеек делала свое дело: крестьяне стали прятать хлеб.
Ходить по дворам и силой отбирать зерно царское
правительство не могло хотя бы потому, что у него для этой
операции не был создан соответствующий аппарат. Вместо
того, чтобы казенные цены поднять до рыночных, оно, как
свидетельствует Чаянов, решило сэкономить и ввело
твердые цены на все сделки, то есть и на рынке пуд хлеба должен
202
был продаваться за 1 р. 20 коп.. Крестьянин спрятал хлеб
еще глубже и надежней. Ситуация стала безвыходной.
Правительство умыло руки: решение вопроса о цене оно
передало местным властям, которые, недолго думая,
повысили цену за пуд хлеба до 4-5 рублей. Хлебные торговцы
решили «делать деньги». Крестьянин им продавал хлеб за
3 р. 20 коп., а они государству за 4-5 рублей.
Опомнившись, царское правительство согласилось на
общерыночную цену 1 р. 60 коп., но поезд уже ушел. Кто же
будет продавать хлеб за 1 р. 60 коп., если еще вчера он
продавал его по 3 р. 20 коп. Хлео вновь исчез с базаров. И вот тогда
царское правительство ввело принудительную хлебную
повинность, разверстку, которая, конечно же, была провалена.
Эта разверстка не дала и половины того, что предполагалось.
Это было последнее мероприятие царского правительства.
Грянула февральская революция 1917 года. Временное
правительство объявляет урожай 1916-1917 годов
собственностью государства. Крестьянину оставлялись семена в
обычном количестве: 1,5 пуда зерна на одного человека в
месяц, пуд крупы в год на едока, фураж и еще на всякий случай
10% от всей исчисленной потребности.
В апреле 1917 года создается Лига аграрных реформ,
членом распорядительного комитета которой стал
A.B. Чаянов. "«Трудовое хозяйство, — говорил он в одном
из своих выступлений в лиге, — должно лечь в основу
аграрного строительства России, и это хозяйство должно
пользоваться землей нашей родины»1. Нам не нужен
черный передел наличного количества материальных благ,
нам нужно перераспределить национальный доход, — так
формулирует свою позицию Чаянов. Необходимо
поддержать хозяйства, которые не нуждаются в наемном труде.
Вполне возможно и его укрупнение. Важно только
помнить о том, что крестьянское трудовое хозяйство не
безразмерно. Оно не может укрупняться сверх
определенного оптимума. «Сама природа земледельческого
производства ставит естественный предел укрупнению
сельскохозяйственного предприятия». Если
«пространственно» крестьянское хозяйство не может расти вширь, то
1 Чаянов A.B. Что такое аграрный вопрос? М., 1917, с.17.
203
оно имеет все возможности расти вертикально, то есть
обобществлять свои функции через кооператив и
кооперативные комбинаты. Такого рода укрупнения позволяют
использовать результаты технического прогресса, и
одновременно они сохраняют индивидуальность отдельного
крестьянского хозяйства, не разрушают традиционный
способ соединения крестьянина с землей.
В 1918 году Чаянов обобщает свои идеи в книге
«Основные идеи и формы организации крестьянской революции».
После октябрьской революции 1917 года широкое
распространение получила идея коммуны, в которой предлагалось
обобществить все процессы сельскохозяйственного
производства. Но трудовая коммуна, по словам Чаянова, всегда
будет слабее трудового кооперированного хозяйства. Она
будет проигрывать во внутрихозяйственных связях.
Переход от частичной кооперации к полной, к коммуне с
технической точки зрения не может считаться, доказывал
Чаянов, явлением прогрессивным.
В 1918 году Чаянов становится профессором
Петровской академии. О/щажды после лекции к нему подошла
группа студентов. Один из них, высокий худощавый юноша
с длинными волосами, спросил, переминаясь с ноги на ногу:
«Товарищ профессор, как вы думаете, можно ли
крестьянину привить социализм, и сколько лет на это потребуется?» ;
Чаянов на секунду задумался, а затем весело проговорил:
«Граждане студенты, вы же знаете, что в деревне ничего не
прививается, кроме земли и воли».
Стоял декабрь. В комнате было холодно, Чаянов, зябко
поеживаясь, сказал: «А позвольте и мне вам задать один
вопрос? А как вы думаете, капитализм — это этап или не этап в
развитии системы народного хозяйства?»
«Я думаю, что больше, чем этап, — ответил ему
длинноволосый студент, — это целая эпоха».
«А я думаю, — прервал студента Чаянов, — что это и нв
эпоха, и не этап, а уродливый припадок в народном
хозяйстве. И чем скорее он пройдет, тем лучше».
Затем, отогревая руки своим дыханием, он спросил, ни к
кому не обращаясь: «Ну кто же из нас прав?» И сам ответил на
свой вопрос: «А правда состоит в том, что беда, если наши
головы сжимает скоба монизма. Ведь куда лучше иметь
204
сознание, способное вместить плюралистическое
миропредставление. Не так ли?»
Чаянов посмотрел на своих слушателей: они молчали.
«Вот вы говорите «привить социализм». Хорошо, но ведь
социализм был зачат как антитеза капитализму, зачем же его
прививать крестьянину? А родился социализм где? В
застенках германской капиталистической фабрики. Выношен
же он бы психологией измученного подневольной работой
городского пролетариата».
В это время кто-то из студентов закурил, и дым махорки
достиг профессора. Чаянов, наморщившись, продолжал:
«А ведь что такое пролетариат? Нам говорят, что это
гегемон! Может быть и так, но ведь прежде всего это люди,
поколениями отвыкшие от всякой творческой работы и
мысли. Вы не согласны со мной?» — обратился Чаянов к
курящему Тот промолчал и сделал глубокую затяжку.
«Вот я и думаю, — продолжал Александр Васильевич
слегка погасшим голосом, — что пролетариат мог мыслить
идеальный строй как отрицание строя, окружающего его».
Застегивая пуговицы пальто, он еще раз повторил:
«Только как отрицание. А государство — это ведь,
согласитесь, не лучший прием организации социальной жизни.
Его бы разгрузить ют всяких дел, смотришь, и тогда бы мы с
вами встречались с ним гораздо реже. Разве это плохо? А вы
говорите привить, привить. То же мне,
садовники-революционеры.
Попрощавшись со студентами, Чаянов еще долго
размышлял о сказанном. «Разве можно в научных статьях
сказать обо всем, что тебя волнует, — подумал он. — А невы-
говоренное разрастается и не дает спокойно работать».
Еще весной 1918 года Чаянов написал свою первую
краеведческую работу — «История Миусской площади». В этом
же году у него вышла повесть «История парикмахерской
куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.» В
1919 году он написал трагедию «Обманщики». Спектакль,
поставленный по этой пьесе, успеха не имел.
Крестьянская утопия
Революция 1917 года породила у крестьян и
крестьянских идеологов надежду на то, что аграрный вопрос в России
205
наконец-то будет решен. Эту надежду питал не только
«патриарх русского земледелия» И.А. Стебут, представлявший
умонастроение народников 60-х годов XIX века, но и новое
поколение теоретиков трудового крестьянского хозяйства,
которые сами себя относили к неонародникам. Ведущее
место среди них, бесспорно, занимал A.B. Чаянов. Но шло
время, вернее, уже наступил 4-й год революции, а никаких
признаков того, что аграрный вопрос будет решен в пользу
крестьянства и всего экономического организма страны, не
было заметно. Для многих «неонародников» идеалы
революции потускнели. И хотя некоторые из них были на виду у
новой власти и участвовали в разработке планов
преобразования деревни, все же нельзя было не видеть, как их усилия
не встречая поддержки у руководства молодой республику
уходили в песок. A.B. Чаянов часто размышлял о причинах
такого положения дел. Ведь ему, к примеру, было грех
жаловаться на невнимание лидеров новой России. «Оставьте в
покое Чаянова, нам нужны умные головы». Эти слова
Ленина дошли и до Александра Васильевича. Революция дала
ему должности директора Научно-исследовательского
института сельскохозяйственной экономики. Он — профессор
Петровки. Читал лекции в престижном коммунистическом
университете им.Свердлова. В конце концов, он — член
коллегии наркомата земледелия, является фактическим
руководителем кооператоров России. Его знали многие
видные большевики, с ним общались В.П. Ногин, М.М.
Литвинов, Л.Б. Красин. И все же...
На многое ему открыл глаза «главный литератор
партии» Вацлав Вацлавович Боровский, который поздней
осенью 1919 года прочел лекцию о Герцене и затем в начале
1920 года опубликовал ее под названием «Был ли Герцен
социалистом?» Конечно/Герцен по-прежнему стоял слишком
далеко от народа. Но ведь он-то, Чаянов Александр Васильев
вич, сын крестьянина и сторонник крестьянских методов
ведения хозяйства, лишен, кажется, этого недостатка. Тогда
почему же Боровский мимоходом, пробегая по одному из
чиновных коридоров, как-то бросил фразу, из которой
следовало и то, что Чаянов ему симпатичен, и то, что у него (у
Чаянова) нет будущего. Нет будущего... Что бы это значило?
Однажды, когда Чаянов читал верстку своей книги
"«Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской
206
утопии», к нему заглянул его друг и единомышленник
А.Н. Челинцев. Они поговорили о том, о сем, о делах
текущих и затем ударились в воспоминания.
«Саша, а ты помнишь, как один крестьянский депутат
сказал «речь», обращаясь к президиуму съезда Советов?» —
спросил его Челинцев. — «Конечно, помню», — ответил
Чаянов. «Так-то оно так, — сказал этот крестьянин, — земля-то
оно, конечно, теперича наша, да вот все, что на ней
произрастает, это, кажись, ваше».
Друзья посмеялись, завидуя остроумию депутата. Затем
они пили чай, приготовленный Чаяновым с той ловкостью,
которая наблюдается у холостого человека. Александр
Васильевич закурил.
«Ты знаешь, — как-то сразу погрустнев, сказал он, — а
ведь Герцен еще тогда догадывался о возможности такой
социалистической нелепости. Ведь что он нам завещал: вы,
говорит, подождите, пока социализм разовьется до
нелепостей, и тогда уж ожидайте новую революцию. А то, что она
придет, он не сомневался».
«Да, но какая это будет революция и кто ее пророк? —
спросил Челинцев и встал со стула. — Ведь, кажется,
Кропоткин пришел в ужас от облика своих учеников, а
Плеханов, посмотрев на дела соратников по партии, стал от
них решительно открещиваться. Он, говорят, укорял себя за
то, что столько лет занимался пропагандой научного
социализма.
Неужели ты думаешь, — продолжал говорить Челинцев,
нервно прохаживаясь по комнате, — что Керенский и
Милюков подвижники этой новой революции?»
Чаянов внимательно посмотрел на своего товарища и,
полистав верстку своей книги, стал читать. «О вы,
Милюковы и Новгородцевы, Кусковы и Макаровы, какую же утопию
вы начертаете на Ваших знаменах? Что, кроме
капиталистической реакции, имеете вы взамен у социалистического
строя? Я согласен... мы живем далеко не в социалистическом
раю, но что вы дадите взамен его».
«Да, ничего они дать не смогут», — резко сказал
Челинцев. «Вот именно, — поддержал его хозяин. — Но что ты
скажешь о социалистических речах, которые раздаются
ныне в Политехническом музее. Какому мудрецу могла прийти
в голову мысль о том, что, разрушая семейный очаг, револю-
207
ционеры наносят удар по буржуазному строю, что на смену
частному, то есть домашнему питанию должна прийти ком-^
мунальная столовая, что коммунальная уборная — это
социалистический способ жизни, что радость хозяина
скрывает семена капитализма, что, наконец, этот радостный яд
буржуазной семьи нужно отправить на свалку истории».
Помолчав, Чаянов добавил: «Пророки этой новой
революции не они, а мы с тобой. Крестьянская республика
поставит на Театральной площади в Москве памятник, на
котором Ленин и Керенский, Рыков и Коновалов, а к ним в
придачу и Милюков, будут стоять вместе. Я думаю, что в
каком-нибудь 1984 году москвичи не очень-то будут помнить
различия между ними. А ведь все это сотоварищи по
революционной работе. Как те, так и другие ничего не дали
крестьянину, как ничего не дал ему ни капитализм, ни госу!
дарственный социализм...»
В этот день Чаянов и Челинцев проговорили часа три, есй
ли не больше. Они мечтали о крестьянской республике,
строили планы развития трудового хозяйства, говорили об
архитектурных особенностях бывшего Юсуповского дворца
в Большом Харитоньевском переулке, обсуждали «чертой:·
щину», которую на манер Гофмана задумал описать Чаянов;
Не касались они только одной темы: содержания
предисловия к книге Чаянова «Путешествие моего брата...».
Чаянов промолчал, а Челинцев его не спросил. Между
тем в этом предисловии было сказано много интересного.
Написал его П. Орловский. Видимо, памятуя о своей ссылке
в Орел, это псевдоним взял себе Вацлав Боровский. G
присущим ему литературным даром, Боровский прочертил
линию, по одну сторону которой оказалась революция и
марксисты, а по другую — Чаянов и мелкие производители.
Ни один марксист не сомневается в том, что пролетариат
ведет крестьянство к социализму Проблема здесь состоит в
другом. Пролетариат ведет, а крестьянство сопротивляется.
Но почему? И Боровский тактично, но твердо поясняет: да
потому, что сам крестьянин до социализма не дойдет. Ему
мешает хозяйство. Крестьянина надо освободить от этого
хозяйства, а такие люди, как Чаянов, этому делу мешают.
Ведь что говорит Чаянов: ну, хорошо, вы освободили красть--
янина, так и оставьте его при своих интересах, зачем же его
208
еще и вести куда-то. Теперь, может быть, он и сам
куда-нибудь дойдет1.
Комментируя взгляды Чаянова, Боровский разъясняет
азы научной идеологии, внять которым «неонародники»
почему-то никак не могут. Разве так трудно понять, что
пролетаризация крестьян революционна, и если вы против
пролетаризации, то вы против революции. А
пролетаризация — это всего лишь условное обозначение обезземеливания
крестьян, которое тоже революционно, и если кто-то не может
себе представить крестьянина без земли, то он наверняка
контрреволюционер. Как, например, Чаянов. Ведь еще сам
Маркс писал о том, что мелкие крестьяне не только не смогут
додуматься до обезземеливания, но они, как дети малые, не
смогут даже представить себя в парламенте. Они должны
быть в нем кем-то представлены, и этот представитель будет
вместе с тем и их господином. Боровский, разъясняя эту
мысль, говорит о том, что представлять крестьян и решать за
них могут интеллигенты-партийцы, но уж никак не
интеллигенты-кооператоры, как думает Чаянов.
Дай волю Чаяновым, так они, пожалуй, и «грядковую
культуру» сохранят. А разве эта «культура» допускает
интенсивность труда? И отвечая на этот вопрос, Вацлав Вац-
лавович делает*вывод о том, что это они (Чаянов и другие) не
хотят освобождения крестьянина от проклятого труда. Труд
человека надо заменить машиной, но разве поместится
машина на крестьянской грядке? Нет, не поместится. Вот и
держится крестьянин, да и вся система сельского хозяйства
трудового крестьянства на самоэксплуатации. Разговорами о
том, машина может заменить труд, но не может заменить
личность крестьянина, на самом деле прикрывается стремление
сохранить «забитого» мужика. В то время, когда стоит задача
по его социалистической переделке.
Диалектическая мысль Воровского настойчиво
держалась одной позиции: Чаянов толкает крестьянина на путь
самоэксплуатации, разрушения его организма от
физиологически тяжелого труда, а революция спасает крестьянина
от гибели. Для того чтобы крестьянин жил хорошо, у него
1 Чаянов A.B. Путешествие моего брата Алексея в страну
крестьянской утопии. М., 1920.
14 ф. Гиренок
209
нужно отобрать землю. Чем больше будет
сельскохозяйственное предприятие, тем меньше будет забот у крестьянина.
Чаянов никак не может понять, что государству нужна
большая масса прибавочного труда, которая пошла бы на
содержание общественных институтов. Мелкое же
хозяйство работает на самого крестьянина и дать этой массы не
может. В какой-то момент государство будет вынуждено
насильно устранять мелкое производство и создавать
хозяйство, основанное на машинной технологии и наемном
труде. Только нанимать уже теперь будет государство,
владеющее рабочими местами.
Более того, иронизировал Боровский, Чаянов
реакционен еще и потому, что он лишает крестьянина картин
Боттичелли, музыки Моцарта и романов Горького. Ведь с
мелким хозяйством, за которое ратует Чаянов, «внутренне
неразрывно связаны колокола, белые рубашки половых;
бабки», но только не высокая (профессорская)
культура/Ростовский звон колоколов плохо гармонирует с музыкой слов
«мы наш, мы новый мир построим». Через 10 лет вспомнит о
колоколах и Е;гЯрославский: «Для Чаянова является крайне
обидным, чтсняли колокола, к которым он привык
прислушиваться, потому что эти колокола говорят о том, что для
него является родным, близким». Чаянов этого и не
скрывал. По словам героя его повести, в умах людей все еще
блуждала какая-то смутная жалость к прошедшему, а
паутина буржуазной психологии все еще затемняла
социалистическое сознание. И никакими химикатами эту паутину
не вытравить.
Свое предупреждение Чаянову Боровский написал
дружелюбно и незлобиво. Он еще разъясняет идеологические
заблуждения неонародников. Через 2 года А. Крицман
повторит эти упреки более обстоятельно и научно. Он будет
изъясняться определеннее, и в голосе его. уже зазвучит
идеологический металл. Еще бы. Теория Чаянова намекала на
какой-то третий путь развития страны. Она не требовала
никаких новых начал хозяйствования. Крестьянин, как
заметил Александр Васильевич, туго поддавался
коммунизму. По его мнению, задача состояла в утверждении старых
вековых начал, испокон веков бывших основой
крестьянского хозяйства.
210
Столкновение дословного и коммуникативного
В 1921 году Чаянов женился. Его жена, Ольга Эммануи-
ловна Гуревич, искусствовед, историк театра. Чаянова в это
время можно было видеть на заседаниях общества «Старая
Москва». Его знали и ценили А.М. Васнецов,
В.А. Гиляровский и братья Бахрушины. Все, что Чаянов не
успел сказать в своих научных статьях и лекциях, он
рассказывал в литературных произведениях. В 1922 Чаяновы
находились в заграничной командировке. Вернее, A.B. Чаянов
был откомандирован в распоряжение Л.Б. Красина в Лондон.
Он издает повесть «Венедиктов, или достопамятные события
моей жизни», «Венецианское зеркало». Его идеи принимали
не все. В это время «расшибанием морды всякому иначе
мыслящему» (слова Чаянова) уже занимались, но пока еще в
рамках демократии и гласности. В 1922-1923 годах Чаянову
(как скажет Г. Зиновьев) еще только подпалили крылышки. В
1924 году Чаянов выпускает новую книгу «Организация
крестьянского хозяйства», в которой продолжает развивать свои
взгляды. Жечь его начнут чуть позже, пожалуй, с 1927 года. В
этом году журнал «Большевик» опубликовал статью
Г. Зиновьева «Манифест кулацкой партии»1. Очнитесь,
опомнитесь, взвывал трибун революции, правда, уже попавший в
опалу, — «в Москве наместники Устрялова». В Кремле этот
вопль услышали, но пока еще чего-то ждали.
Наместники Устрялова — это Н. Кондратьев и А. Чаянов,
то есть те, кто никак не мог понять, что пришло время, когда
надо говорить «двинь вперед индустриализацию» и «осади
крестьянина», и в этой непонятливости почему-то упрямо
повторяли: «осади назад темпы индустриализации» и
«двинь вперед легкую кавалерию, то бишь легкую
индустрию». В это боевое время все заговорили о кулаках, а они
(устряловцы) утверждали, что никаких кулаков никогда не
видели, а если и видели, то всего один раз, да и то на
агитплакатах 1918 года.
«Как обнаглели эти господа, как распоясались у нас
легализованные устряловцы, если они смеют разговаривать уже
таким языком», — писал Григорий Евсеевич Зиновьев. Пора,
давно пора дать идейно-политический отпор этой накипи
1 Зиновьев Г. Манифест кулацкой партии. Большевик, 1927, №13, с.38.
14*
211
НЭПа. Пока Чаянову готовились дать отпор, его сочинения
были изданы в Германии. И, как скажет через 30 лет
западногерманский ученый X. Хаусгофер, вряд ли сегодня
найдется какой-нибудь значительный немецкий экономист,
который бы не испытал на себе влияние Чаянова. Прочные
связи установились между Чаяновым и Корнельским
университетом в США, где стал работать его коллега
Н.П. Макаров, а также с Гарвардским университетом, в
котором работал И. Шумпетер, хорошо знавший сочинения
Чаянова. «Циклы Кондратьева» и «Кривые Чаянова» стали
известны мировой науке. 6 октября 1927 года в кабинете
Чаянова раздался телефонный звонок. Александр Васильевич
снял трубку. Звонили от имени Молотова. Чей-то
бесстрастный голос пересилил вопросы, на которые нужно было дать
срочный ответ. Центральный аппарат партии спешил: шла
подготовка к XV съезду ВКП(б). Через три часа от Чаянова
ждали обзор состояния сельского хозяйства СССР.
«Обращаются как с мальчишкой, — подумал Чаянов,
раздражаясь. — Все наспех, кое-как. А когда я видел деревню-то
в последний раз? Ведь почти 1,5 года я занимаюсь Бог знает
чем. На селе бываю только с экспедицией, как
Миклухо-Маклай в Новой Гвинее...». Чаянов был заметно расстроен
неожиданно свалившимся на него поручением. Он несколько
раз подходил к столу, брал ручку и тут же в сердцах бросал ее.
Нужно высказать наболевшее — это Чаянов решил сразу же,
еще не положив телефонной трубки. Но с чего начать?
Начало никак не получалось.
«Без сомнения, нужно сказать о том, что старый лозунг
1918-1919 годов явно потерял свое значение. Нет нужды
крестьянское хозяйство переделывать сначала в коммуну, а
затем в совхоз. Кооперация по горизонтали не годится. Она
отрывает крестьянина от земли. Развитие нашего
хозяйства должно пойти каким-то другим путем. Но каким?» —
размышлял Александр Васильевич, пытаясь собрать
рассыпающиеся мысли.
«Для этого нужно знать, что такое социализм и каким
ему быть в деревне? Вот в чем вопрос. Конечно, если бы
социалистические коровы были красными, а буржуазные —
черными, то тогда социалистические элементы на селе под-
считывались бы легко. Проблема состоит не в том, чтобы
научиться загонять их в одно стадо. В унисон мычащие ко-
212
ровы — это еще не социализм. Сельское хозяйство вообще не
является простой суммой крестьянских хозяйств. Это
прежде всего социальные связи. Например, кооперация по
вертикали. А ее простым глазом не увидишь... Вот тебе и
Новая Гвинея, — подумал Чаянов, и улыбнулся, — Восток есть
Восток, а Запад сегодня — это Америка. А в Америке царит
фермер. Да и до мировой войны он у них был главной
фигурой. А что такое фермерское хозяйство? Ну сам фермер, да
еще 2-3 наемных работника. Что еще? Дорогой труд и
дешевая земля, мало труда и много капитала. И, конечно,
сплошная машинизация. А Восток? О, здесь все наоборот.
Здесь дорогая земля и дешевый труд, избыток людей и
феодальные путы. На Востоке нет не только машин, но даже
лошадь и та здесь большая редкость. Здесь пустил корни не
фермер, а семейное хозяйство. Предпочтительными
считаются не капиталоемкие системы земледелия, а трудоемкие.
И кругом нищета...»
Размышляя, Чаянов не заметил, как увлекся и
успокоился. «Хорошо, допустим, что все это так, — сказал он самому
себе. — Но причем же здесь Россия? А вот причем. Россия —
это осуществленный востоко-запад, это то место, в котором
обе эти половинки встретились. И что породит эта встреча
еще неясно. Как до мировой войны, так и после нее у нас
столкнулись "две тенденции, две стихии: фермер и
крестьянин, наемный труд и семейный, капиталоемкие системы
земледелия и трудоемкие».
Александр Васильевич вновь задумался. Еще до
октябрьского переворота в России сложились две школы, два
направления в аграрной мысли. Одно ориентировалось на
фермерство, выступая за «чистую Америку». Другое — за
развитие трудового крестьянского хозяйства. С одной
стороны, К.А. Мацаевич и Л.П. Сокальский, с другой — он,
Чаянов, и его друзья, харьковская школа и московская...
«Вот и сейчас, — весело подумал Чаянов, — мы вновь
возвращаемся к давним литературным спорам. Правда,
одних уж нет, а те далече... Тем не менее время идет, и за это
время героем для обеих Америк, Австралии и Южной
Африки стал кооперированный фермер, интегрированный
финансовым капиталом в свою систему. А у нас? Наш
фермер почти перевелся. Он не вынес заморозков войны и
революции. Устоял середняк. И наш путь — это путь коопе-
213
рированного середняка, основой существования которого
является не наемный труд, а труд частного лица».
Стрелка часов приближалась к двенадцати. В
распоряжении Чаянова оставалось еще два часа. Он сел за стол, взял
ручку и на бумагу легли первые слова: «Товарищ
Молотов...». Через 2 часа обзор был закончен и отправлен по
назначению. В 1927 году Чаянов написал статью «Основные
линии развития русской сельскохозяйственной мысли за
два века», которая была опубликована в качестве
предисловия в книге Рихарда Крцимовского «Развитие основных
принципов науки о сельском хозяйстве в Западной Европе».
Еще задолго до появления классических трудов Стебута,
Ермолова и Людоговского, писал Чаянов, мы имеем целый
ряд поколений русских агрономов. Немало полезных
сведений русский крестьянин мог узнать из «Домостроя»
Сильвестра, из сочинения Посошкова «О скудости и
богатстве». В 1928 году Чаянов публикует мистическую повесть
«Юлия, или Встречи под Новодевичьим». «Я не могу
больше жить, — говорит герой этой повести, — мозг мой немеет...
В глазах все застилается дымкой... Я должен раскрыть тайну
или должен погибнуть, потому что я дошел уже до черты».
До черты дошел и Чаянов.
Видимое и невидимое давление на Чаянова и его
сторонников возрастало. Чаянову пришлось вступить в борьбу с
самим собой. Он раздвоился, появилось два Чаянова: один
из них живой, а другой — зеркальное отражение живого, и
оба не выносят друг друга. Все это Чаянов описал в
«Венецианском зеркале»...
Если никто не хочет умереть за онтологическое
доказательство бытия Бога, то кто же согласится умирать за идею
кооперированного крестьянства? Вряд ли и сегодня
найдутся такие охотники.
В 1929 году Чаянов публикует статью «Сегодняшний и
завтрашний день крупного земледелия», в которой заявляет
о том, что наконец-то прозрел и понял свои ошибки. В
январе 1930 года в «Сельскохозяйственной газете» он объявляет
о том, что осознал преимущества социалистического
земледелия, а также, как и многие другие, он пришел к выводу о
необходимости руководящей роли пролетариата.
В 1930 году Чаянов, несмотря на покаяние, был арестован.
Вскоре в Москве открылась научная конференция. На откры-
214
тии конференции с гордостью говорилось о том, что «арест
профессоров-реставраторов не был каким-то внезапным
происшествием». Его ждали и готовили давно. Марксистская
критика не дремала. Она «способствовала разоблачению». И
в этом ее бесспорная заслуга. Е. Ярославский, выступая в
прениях, подчеркнул, что «Чаянов... уже в 1920 г. открыто
ориентировался на свержение пролетарской диктатуры» и
подтвердил, что неонародники, не останови их вовремя,
непременно пришли бы к фашизму, точно так же, как
неостановленные легальные марксисты давно уже
превратились в черносотенцев.
«Такие люди, как Чаянов, Кондратьев, Громан,
Суханов, — это, по существу дела, обреченные люди обреченных
классов...»1. Но умирают не классы, умирают люди. Хорошо,
что Чаянов арестован, но ведь осталась еще и «чаяновщина»,
которая не может умереть естественной смертью. Ее надо
«убить, выкорчевать, выскоблить». Но кого же нужно
убивать и выкорчевывать? Конечно, кулаков. Ведь это они, как
утверждалось на конференции, составляли армию Чаянова.
Резерв армии — единоличное крестьянство, которое,
отставив все дела в сторону, только тем и занималось, что
ежемесячно рожало капитализм.
В 1930 году чаяновской «пошлятине», как выразился
Е. Ярославский, был положен конец. Чаянова арестовали в
здании Президиума ВАСХНИЛ в бывшем Юсуповском дворце,
что находится в Большом Харитоньевском переулке. Осенью
1930 года было объявлено, что Чаянов является одним из
руководителей контрреволюционной Трудовой крестьянской
партии, цель которой — свержение советской власти.
Некоторое время Чаянов сидел в тюрьме, затем его приговорили к
заключению в концлагерь, а в 1937 году ему предъявили новые
обвинения. В октябре этого года его приговаривают к
расстрелу. Приглашение на казнь состоялось 20 марта 1938 года. Жену
Чаянова заставили развестись с «врагом народа». В 1937 году
она тоже была арестована и сослана в Молдавию. Их дети —
Никита и Василий — остались на попечении бабушки и
дедушки. Старший сын Чаянова погиб на войне.
1 Кондратъевщина, чаяновщина и сухановщина. М., 1930, с.19.
РАЗДЕЛ III
СИМУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЯ.
ВЫЗОВ ДОСЛОВНОСТИ
3.1. Симуляция и символ
Симуляция — это ответ на вызов со стороны другого.
На то, что он есть и фактом своего существования
исключает подлинность дословного. Неважно, кто отвечает.
В любом случае выигрывает тот, кто сумеет скрыть реальное
положение дел. Скрыть — значит уже обмануть. Сокрытие
реальности — это первый уровень симуляции. И
одновременно — это первый уровень ускользания дословного,
которое скрывается от другого. Скрыть себя — значит
отказаться от встречи с другим. Спрятаться. Непубличность
дословного реагирует на другого маской непонятливости.
Валянием дурака. Прикидом. Дословность и есть
скрывающая себя реальность. Притворность дословного коренится в
ее нерефлектирующей подлинности.
Взаимное утаивание тайны обессмысливает присутствие
реальности в ее собственных формах. Реальность теряется в
рефлексивных играх с другим. Теперь уже выигрывает тот,
кто скрывает пропажу подлинного и утаивает то, что он
ничего не таит. Ссылками на подлинность реанимируется не
дословность, а ее рефлексивная замена. Уверения в
реальности нереального, в присутствии того, что отсутствует,
составляет второй уровень симуляции. На этом уровне
другой экспонирует симулятивную пустоту рефлексии и
объявляет себя аутентичным способом существования
реальности. Дословность не может существовать в формах
рефлексии. Если бы она существовала в этих формах, то
216
удостоверение в подлинности могло получить только
неподлинное.
На втором уровне симуляции происходит радикальный
разрыв между дословностью и реальностью. Дословность
отказывается присутствовать в формах рефлексии и
ускользает в немотствующее состояние непосредственного.
Дуракаваляние, скоморошество, бессловесность, наив и
другие знаки былого присутствия дословного могут теперь
существовать лишь как формы культуры.
На уверения отвечают уверениями. На симуляцию —
симуляцией. Вот эта симулятивная реакция на симуляцию
составляет третий уровень симуляции, суть которого
составляет ирония. Притворство притворного. На уровне
удвоенной симуляции выигрывает тот, кто отделывается от
реальности и в качестве того, что скрывают, и в качестве
того, чем прикрываются. Самоирония — предельный вариант
существования симулятивных пространств культуры.
На смену рефлексивным играм с другими приходит
рефлексивная игра с предметностью. Симуляция покидает
сферу субъекта и перемещается в мир предметов. О
присутствии дословного в предметной сфере можно судить по
знакам натуральности. Но другой имитирует эти знаки,
расставляя знаки соблазна — упакованную подлинность вещей,
готовых к употреблению.
На вызов со стороны другого отвечают уже не
утаиванием реальности как тайны, не маскировкой и не самоиронией,
а мошенничеством. Подделкой предметной знаковости. То
есть другому противостоит не дословность со своей
натуральностью, а удвоенные мошенничества. Остановить
предметную экспансию другого может лишь имитация его
знаков. Другой — это теперь тот, кто, симулируя различие
между знаком и предметом, устремляется в погоню за
ускользающим «что» вещей. В этом ускользании дает о себе
знать дословность подлинного.
Символ
Символ никогда не есть то, что он есть. Он указывает не
на себя. Он уводит к другому. Символ обозрим. Виден.
Другое — невидимо. В символе видимое представляет
невидимое. Замещает его. Символизация — это процедура
217
бесконечного замещения одного другим. В результате
замещения символическое отделяется от буквального.
Фактического. Вот этими двумя актами создается
возможность для третьего. Для превращения символа в симуляцию.
Указание на символ выступает как разоблачение чего-то
ненастоящего, неподлинного.
Когда сталкиваются с символом, уже заранее знают, что
столкнулись с подменой. С чем-то игровым. Несерьезным. С
тем, что может быть понарошку. Например, когда говорят о
пресуществлении вина в кровь, то говорят не о фактическом
пресуществлении. А о символическом. То есть дураку
понятно, что вино остается вином, а не кровью. Вино как кровь
фигурально. Символ действия — это не действие. И поэтому
ты предпочитаешь встречаться с символом, а не с действием,
если оно для тебя опасно.
Символизация культуры создает основания для симуля-
тивных замещений. Для симуляции. Символ должен быть
разоблачен как агент влияния сознания. Как его симулятив-
ная структура. Все знают, что золото является символом
богатства. Симеол и есть символизируемое, то есть спасение
от симуляции-/в тождестве символического и фактического.
Символ как жест
Слово принадлежит миру. Или сознанию. Если оно
принадлежит миру, то это слово выступает как жест. Потому
что в нем внутреннее совпадает с материей внешнего. Мир
насыщен жестами. Словами дословного. Если слово
принадлежит сознанию, то это понятие. В нем мысль связана со
словом. Сознание закидывает мир словами. Обволакивает
его речью. Спасение мира от силы слова в дословности
жеста. В глухонемой связи быта, которой держится язык
подлинного. То есть он держится не порядком сознания,
а порядком быта. Язык умирает, если.разрушается этот
порядок.
Дословность больше не ищет сознания. Не хочет давать
ему слово. Потому что сознание бессердечно в своей
отвлеченности от чувства. Слово — это штык. И сознание,
разговорившись, может проткнуть тебя этим штыком. В сло^
ве важна не мысль, а жест подлинного. Символ как жест
подлинного указывает на границу, на начало
определенного
сти. Жест делает возможным символический порядок
именования, благодаря которому имя противостоит понятию,
замещаемому терминами. Тем, в чем нет внутреннего слова.
Если что-то понятно сознанием, то понятое удерживается
терминами. Понимающая себя дословность нуждается в
символе как жесте.
Между дословным и сознанием нет соответствия.
Понятия^ жесты не скоординированы. Если бы они были
скоординированы, то жизнь стала бы логикой и мы погибли
бы из-за тождества между термином и первословом,
сознанием и бытием.
Жест — это возобновляемый способ существования
дословности, первослова. Условие сохранения минимума
сознания в мире. Пока есть этот минимум, есть место и для
символа. Сознание, не сообщенное с дословным, существует
как «сознание о». В культуре этого сознания доминирует
знаковый порядок, потребность которого в мистике
первослова восполняется оккультными практиками быта. Новое
язычество — бытовая реакция на расширение знаковых
порядков культуры. На термины.
Например, эскимосы. Они язычники. Они живут с
минимумом сознания в мире. У них во всем символический
порядок. Эскимосы возвращают плавники убитого моржа
морю. Чтобы душа зверя не мучилась, вернувшись в свою
стихию. У них редкое население. Мало городов. Ведь
город — это шум. А в лесу или около озера надо сохранять
тишину. Вот дерево. Его нельзя ломать. Ты его сломаешь, и
земля превратиться в пыль. И ты задохнешься. Землю
вообще не надо беспокоить. Начни ее копать, и увидишь, как в
тобою сделанную дыру из-под земли черт вылетит. А это
страшно.
Ренессанс положил начало бесстрашию. И началось
Возрождение. Охота на ведьм. Загорели костры. Эти костры —
реакция крестьян на то, что у них отнимали веру, уклад и
лад. Ренессанс родил интеллигента. Вот, например,
Петрарка. Это Человек культуры. Интеллигент. Недоучившийся
студент. Он грелся у костров Ренессанса.
Культурный человек не боится черта. Он с сознанием.
Для него черт — это термин. А символ — это всего-навсего
знак всеобщей безответственности, способ отделывания от
трансцендентного. Интеллигенция любит полутона. Свето-
219
тень. А вот в лубке нет тени. И на иконе нет. И линейной
перспективы в ней нет. А обратная перспектива есть. В
дословном мире, как на иконе, много фокусов. Много центров.
Его децентрировать нельзя. Потому что в каждом центре
символ. Жест дословности.
Символ как символизируемое
Везде сознание. На всем его печать. Вот текст нелюбимого
мной Бубера. Этот текст — броня. Но когда-то в нем было
сознание. А вот стол. Он тоже когда-то был сознанием. Стол -^
это тоже текст, то есть текст — это все, в чем уже было
сознание. Внетекстуальная жизнь сознания делает его случайным.
Сознание как случайность жизни трансформируется в
сознание, существующее лишь в момент своего совершения. Это
сознание я называют соборным. Оно нетекстуальное. Оно
речевое. В нем доминирует семейно-бытовой принцип.
Соборное сознание, существуя сцеплениями чувств, эмоций и
настроений, отождествляет символ и символизируемое.
Указанное тождество содержит код самовозобновления
эмоциональности.--'Оно делает возможным возвращение к
истокам, выделяя в повседневности паузы праздности. Или,
что то же самое, пауза между праздниками заполняется
повседневностью, если в символе узнается символизируемое. В
праздные дни созерцаются предметы символизации и
освобождается энергия эмоций. У трансцендентального сознания
нет праздников. Паузы праздности созданы соборным созна·-
нием. В момент освобождения эмоций есть что-то, что мы не
можем не узнать. Но не потому, что думаем, а потому, что
переживаем вместе со всеми прямое созерцание символа в
качестве символизируемого.
Картография
Карта — это упрощение. И одновременно способ
ориентации на незнакомой местности. В обжитом мире карта не
нужна. Здесь ты находишься внутри материализованного
смысла. А у него свой порядок. Здесь что-то развивается.
4îo-to становится и что-то превращается. Вот есть порядок
и лишь в этой мере возможен твой,переход из порядка в
порядок. Но этот переход будет двойным. Рефлексивным. Как
переход в переходе. Карта нужна там, где ничто не становит-
220
ся в какое-нибудь что в силу изначальной пустоты
разъединения. Эта пустота накладывает запрет на превращения.
Никакому атому не дано превратиться в другой атом.
Москва не станет Петербургом. Всякая пустота пуста по-своему.
Никому не дано из одной пустоты перебраться в другую
пустоту, не опустошаясь. Или, что то же самое, никто не может
избежать встречи с атомом. Пустоту разъединения
преодолевает не атом, а беглец. Отщепенец. Путь отщепенца —
оплата за позитивный переход в пространстве пата. Ничто
не связано само по себе. Все связи вяжутся беглецами.
Картография — занятие для отщепенца. Для беглеца.
Составление кода связи означающего и означаемого
предполагает трансцендентальное единство апперцепции.
Иными словами, мир — это текст, составленный
отщепенцами. Дословность нетекстуальной практики жизни не
нуждается в воле отщепенца. Ей нужно немое согласие речи.
Картографы дословности размечают дискурс русской
философии. То, что в ней до слова, и то, что в ней после слова. А
это подлинность. То есть подлинность рождается не
порядком речи. Не письмом. Она на границе внутреннего и
внешнего. Речение неречевой подлинности и составляет
смысл картографии дословности. Немая речь святого
вступает в опаснуГо игру с речью отщепенца, а дословное письмо
повседневности перебивается игрой текстов культуры.
Непрерывность мысли
Человек — мыслящее тело. Но тело — плохая машина
мысли. Оно часто ломается. Болеет. На тело полагаться
нельзя. Подведет. Вот, например, мир. И ты один на один с
миром. И кто кого. Все под подозрением. Во всем сомнение.
И спать нельзя. То есть тебе нужно находиться в состоянии
непрерывного бодрствования. Быть настороже. Но тело тебе
не помощник. Ему отдыхать надо. Одна надежда на
сознание, которое себя знает. На мысль, которая себя мыслит.
Она-то не заснет. И в нужный момент тебя разбудит. Но
постулат о непрерывности мысли ничего не говорит о
происхождении мысли. Мысль непрерывна, если
непрерывна энергия мысли. Описание мысли в терминах присутствия
обнажает вопрос о родословной мысли.
221
Обожание мысли
Мысль рождается в момент встречи желания быть
обожаемым с потребностью обожать, мужского начала с
женским. Всякая женщина — машина обожания. Мысль
рождается в обожающем взгляде женщины. Сам это взгляд вне
мысли. И поэтому проблема мысли выступает как проблема
обеспечения непрерывности обожания. То есть в мысли
важна не машина мысли, а машина непрерывного действия
обоясания. Поэтому-то нам нужно либо мысль поместить в
эротическую структуру взгляда. Либо взгляд обожания
встроить в поле мысли. То есть создать что-то вроде Софии
Вечной женственности, которая не отвернется под влиянием
временности. Ведь всякая женщина — это тело. А оно устает.
Рассеивается и со временем перестает обожать.
Конечно, обожающий взгляд женщины более устойчив.
Стремлением к однородности обожания создается
гомосексуальное поле мысли. Поле, в котором мысль есть
рафинированный способ соблазнения. Обособленное от
мысли обожание устремляется к самому себе и порождает
пространство удвоенной чувствительности. Лесбиянство —
одна из складок, удвоенной чувствительности. Мысль не
нуждается в мысли. Она теперь нуждается в другом. В том, что
не является мыслью. К другому обращена ее
раздваивающаяся речь. Дуальная структура мысли — это ее родовая
травма. Избавиться от другого возможно лишь в мысли,
которая сама себя мыслит. Условием размышления о мысли
является забвение бытия дословного.
Симуляция мысли
Самообожанием мысли существует мысль. То есть она
существует как абсолютный эгоист. Как нарцисс. Но если
нет взгляда обожания, бросаемого извне, то нет и повода для
мысли. Потому что мысль — это всегда новая мысль. Это
вечное возобновление мысли. Ее рождение.
То есть без энергии обожания мысль существует как
симуляция мысли. Размышлением о мышлении существует не
мышление, а симуляция. Итак, существует проблема
непрерывности мышления. Она разрешается постулатом о том,
что вот есть чистое сознание, которое сознает только себя. JÎ
хотя оно формально, зато оно непрерывно. Но эта его непре-
222
рывность не обеспечена энергетикой эмоций. Чистое
сознание нельзя описывать в терминах бытия, то есть нельзя его
зафиксировать в терминах присутствия или отсутствия.
Если оно всегда есть, то нельзя сказать, что оно было. Или
будет. И в этом смысле мысль и бытие одно и то же. Они
никогда не были. Вернее, тождественность мысли и бытия
является деривацией мысли, которая мыслит только себя.
Мысль, симулирующая бытие, скрывает пустоту мысли. И
открывает проблему натуральности.
Натуральность
Отсутствие дословности узнается по проблеме
натуральности. В терминах отсутствия или присутствия узнается не
бытие. А тело. Или мысль. Схематизм времени делает мысль
подобной телу. Тела лишь имитируют различия. Они
фигуры чистой акциденции мысли. Естество натурального не
скрывает своего происхождения. Оно самим собой
указывает на свою несознательную сущность. То есть натуральное
узнается косвенно. О нем узнают по побочным результатам
действия. Предел натуральности — в имитации предела.
Ненатуральное не имеет причины своего существования в себе
самом и уводит к другому. К сознанию. Ненатуральное
складывается в символический порядок симуляцрш. Символ,
утративший свою жестовую природу, и симуляция взаимно
определены. Символ — это симуляция, обращенная к
бытию. Симуляция — это символ, обращенный к сознанию.
Натуральность исключает символический порядок мира,
если он складывается вне языка дословности. Предъявляя
свою натуру, она создает пространство несимулятивного
действия. В этом пространстве нет степеней, нет точки
перехода натуральности в ненатуральное. Между ними
абсолютный разрыв. Чистое сознание и есть этот разрыв. И
поэтому всякое склеивание натуральности выступает как
симулятивное действие, порождаемое сознанием. Побочное
и целерациональное несовместимы. Преодоление
символических складок бытия возможно с натуральным сознанием,
которое знает и не знает, что знает. Незнающим знанием
устраняется символ как симуляция и полагается символ как
жест. Рефлексивное же сознание представляет симуляцию в
качестве симулякра.
223
Симулякр
Представления о симулякре введено Эпикуром.
Симулякр simulacra — это копия, оораз вещи. Все вещи истекают
копиями. Выделяют образы, состоящие из мельчайших
атомов. Этими образами заполнен мир. Они проникают в
человека. Если оы не было симулякров, мы ничего не узнали
бы о вещах. В симулякре дает о себе знать подлинное. Это
способ говорения дословного. Ибо нет различия между
вещами и симулякрами. Вот есть симулякр, и чувства не
ошибаются. И мы знаем вещи такими, какие они есть.
Иллюзий не существует, а познание пассивно. И только лишь когда
мы начинаем думать, появляются ошибки. Заблуждения.
Ж. Делез изменил представления о симулякре. На место
вещей он поставил идею. Идея не испускает атомы,
составляющие симулякры. Они зарождаются теперь в душе,
которая изображает идею. При помощи симулякра сознание
знает идею. Копирует ее. Но идея — это не копия. Не
симулякр. Между ними существует принципиальное отличие. У
Делеза симулякр перестал быть копией, то есть он различил
копию и симудякр. Копия стала относиться к идее, а
симулякр — к вещам. Тем самым Делез, используя термин
эпикуровской философии в мифологии Платона,
замаскировал абсолютный разрыв между идеей и копией, а также
между симулякром и вещью.
Для того чтобы возник симулякр, нужна идея. Оригинал.
И абсолютное сознание, узнающее в оригинале оригинал.
Невозможность абсолютного сознания создает проолему
копирования. Степени приближения к оригиналу или
удаления от него. Копия не может быть тем, что она есть
благодаря своей природе. Она существует в силу причастия
оригиналу. Подобия ему. Механизм установления подобия
между копией и оригиналом тождествен механизму
прохождения степеней самосознания. Копии рождаются сознанием.
За пределами сознания находятся тела, лишенные
подобия оригиналу Тела-копии отделены от тел-симулякров
родословной. Генеалогией. Симулякры — чужаки. В них
изображение лишено сходства с первообразом. Они претендуют
на подобие с оригиналом без всяких прав. Симулякры
агрессивны. Их нужно собрать где-нибудь вдалеке от копий,
спрятать глубоко под землей, сковать цепями и не выпус-
224
кать на поверхность. Теория симулякра — реакция
философии самосознания на дословность глубокого. Копии
изображают. И их изображения обладают сходством. Симу-
лякры — это производство впечатлений. Они впечатляют и
очаровывают. Делают вид, что изображают. Симулякр
необразован. В нем сильна стихия хаоса. Неопределенность
спонтанного. Симулякр мешает упорядоченной жизни
копии и поэтому его решают устранить, чтобы обеспечить
тождество копий над симулякром, сознательного — над
несознательным.
Натуральность дословного
В философии дословного проблема выглядит иначе.
Везде слова. Всюду сознание, и поэтому везде копии и обман.
Идея первообраза выдумана копиями, чтобы ввести в
заблуждение необразованных, создав для них миф о своей
причастности к первообразу. Копии бытийствуют лишь в
отсутствии оригинала. Посредничество подобий делает
невозможной встречу с оригиналом. Либо оригинал — это
тоже копия, либо его нужно увидеть непосредственно, чтобы
засвидетельствовать отличие копии от оригинала. Но для
этого нужны свидетели. Посредники непосредственного.
Либо —либо. *
В оригинале же важна подлинность. А подлинность
непосредственна. Дословность подлинного уводит его за пределы
влияния свидетельских показаний. Отсутствие подобия и
сходства указывает на самобытность. Поэтому-то симулякр —
это рефлексивное название бытия самобытного в его
непосредственности. Проблема состоит не в том, что самобытное
претендует на место среди копий. А в том, что копии
объявляют себя самобытными. Опасность симуляции идет не из
глубины низкого, а с поверхности высокого. Всякая
поверхность создается другим в качестве способа его существования,
в качестве того, к чему можно прикоснуться. «Нет, тебя это не
касается». Таков ответ дословности другому.
Другой
Симуляция возникает как ответ на вызов со стороны
другого. В чем состоит этот вызов? В феномене отчуждения.
Ведь я — это не я. Это мой образ, признанный другим. Копия
15 Ф, Гиренок
225
того, что думает обо мне другой. Он проникает в тебя, не
спрашивая на то разрешения. В каждом из нас есть другой.
Ответ на вызов со стороны другого следует
незамедлительно. Этот ответ — в симуляции. Ты — не он. Симуляция
выступает как единственный способ выживания рядом с
иным. Обман — это тот уровень, на котором приемлемо
существование других. Другой — сила. Сила другого в
частичности, благодаря которой он вовлекает тебя в
коммуникацию. Любая коммуникация сводится к разговору
глухих. Онтологическая глухота — ответ на разговор с
другим. Симуляция вовлекает оглушенного в рефлексивную
игру с самим собой. Никто не избежит самообмана, потому
что знаки, которыми что-то скрывают, не отличимы от
знаков, скрывающих, что они ничего не скрывают. Другой
устремлен к поверхности, на которой, как на ладони, все
видно. Ничто не спрятано. Спасение от другого в немоте
глубокого.
Редукция* другого
Дословности противопоставляет себя другой. Немота
подлинного является ответом дословности на вызов со
стороны другого. Другой — это «сознание за». Вот есть другой в
тебе, и ты никогда не есть то, что ты есть. Редукция другого
создает в тебе новый порядок симуляции. Теперь другой —
это ты. И обмануть себя можешь только ты сам. Нулевая
симуляция предполагает реакцию на себя, как на другого. Этой
реакцией рождается самообман. Тогда же как симуляция
первого порядка заключается в обмане другим. Если
нулевая симуляция равна первичной симуляции, то тогда ты
всегда другой и тебе нужно издалека идти к себе. Но на этом
пути ты будешь всегда обманут другим. Если симуляция
что-то скрывает, маскируя реальность,,то нулевая
симуляция — это сама реальность, а не сокрытие ее. Не ее
маскировка.
Обман другого предполагает скрытый смысл. То, что
находится вне знаков обмана. Подлинная реальность — это
самообман. Поэтому Бог есть абсолютная реальность.
Абсолютный самообман. Редукция другого приводит к
абсолютному самообману. В дом для дураков.
226
Нулевая симуляция
Вот дом. Он для дураков. В нем бытийствуют
исполнением смысла своего имени. Имя — тотем. Вот идет Саша
Соколов. А это Наполеон. И он не поддельный. Не мнимый.
Он настоящий. Живой. Хотя и дурак.
Дом для дураков является пространством нулевой
симуляции. Самообмана. Здесь сходят с ума, но не обманывают
другого. И не потому, что честны, а потому, что нечем
обманывать. Нет органа обмана. Нет того, кого можно обмануть,
то есть другого.
Другой — вне дома для дураков. У другого нет имени. Он
бытийствует исполнением знаковых порядков
рефлексивного сознания. Ты ему знак, а он тебе порядок. Обмен
знаками создает симулятивное пространство. Симуляция —
это способ совместного существования с другим.
Приемлемый урювень обмана. Рефлексивная связь между другими. В
симулятивном пространстве обманывают друг друга, но
никто не сходит с ума.
Сумасшествие
Посредник — превращенная форма другого. Дословность
исключает возможность опосредования другим. В
пространстве опосредовании никто не думает сам. Все думаю за.
«Думанием за» осуществляется сдвиг сознания. Все сходят с
ума. Сумасшествие и спекуляция совпадают в
симулятивном пространстве культуры, в котором ты никогда не есть то,
что ты есть.
В пространстве всеобщего сумасшествия возникает тема
свободы, ответственности и отчуждения. Дословность
непосредственного не экзистенциальна. Дословность — это
бытие, чтобы что-то раскрывалось словами. Но это не
словами раскрываемое бытие.
Человек как нулевая симуляция
Человек — это нулевая симуляция Бога. Ускользание от
другого в бесконечности самообмана. Только другой — это
теперь Бог. Всякая личность рождена симулятивной
реакцией на другого. В качестве симулятивной структуры сознания
личность держится сцеплениями слов. Разрыв между
личностью и человеком обнажает разрыв между словом и
15*
227
дословностью. Человеком и Богом. Бог скрывает наш
самообман. В божественном сокрытии самообмана таится
беспочвенность человеческой мысли. Беспочвенность как
скрытый сознанием самообман манифестируется
понятийным мышлением. Понятие — это рефлексивная
сороконожка, у которой осталась одна ножка. Один смысл.
Одно значение. Другой таит в себе опасную возможность
передвижения по поверхности одного значения. Опасность
состоит в неожидаемом появлении побочности дословного.
Отключиться от системы знакового сообщения с другим,
значит предъявить ему все сорок смыслов натуральности.
Многосмысленность превращает голос другого в шум.
Другой — это шум, растворивший в себе симуляцию. И ты вне
симулятивных структур поведения. Заглушить в себе голос
другого — значит использовать непоследовательность в
смысловой сообщенности с другим. Разрывы и складки в
пространстве системности позволяют убежать от
опосредования другим. Отказаться от языка готовых смыслов —
значит дать слово дословности. Бог не в слове, а в
дословности первослова. Нельзя брать готовые смыслы и говорить.
Потому что *воя речь будет пустой. И эта пустота станет
вместилищем предрассудков для другого. Все, что вне речи,
не имеет смысла. Только рожденное по правилам твоего
речения имеет смысл. Нужно заговорить, и, может быть,
появится предмет разговора. Но этот предмет не дан до
разговора. Если бы он был дан до разговора, то другой
вмешался в разговор и превратил его в симулятивную
коммуникацию. Для того чтобы готовые смыслы не
образовывались и не сбрасывались в пространство натуральностей,
ничто нельзя считать завершенным. Все пересматриваемо.
Даже повседневность. Потому что нулевая симуляция
существует как структура повседневного.
Редукция симуляции
Беспочвенность русского мышления связана с
переводом на русский язык западных терминов. Перевод терминов
является одним из способов разрыва с дословностью
сокрытия самообмана. То есть симуляцией второго порядка.
Перевод делает возможной ситуацию, в которой какие-то
слова есть, а предметов, обозначаемых словами, нет. И нет
228
опыта рождения значений. То есть нет уровня приемлемости
мира, упакованного в переводимых терминах. Слова есть.
Нет дословности как условия того, чтобы были слова.
Дословность связана не с возможностями коммуникации, не с
субъективной возможностью говорения, а с изначально
установившимся пониманием. Дословность для того, чтобы
что-то раскрывалось словами. Или ничто не раскрывается
словами, и мир невыразим. Или не все раскрывается
словами и есть дословное. Симуляция скрывает не дословность.
Она показывает всеобщую раскрываемость в слове. И
поэтому слово больше не нуждается в дословности. Вот эта
независимость слова от дословности и составляет исток
симуляции, которую надлежит редуцировать. Для того чтобы
это сделать, нужно непотаенности истины предъявить ее
родословную — истину как мистерию, которая ограничивает
возможности трансцендентального единства сознания. Не-
потаенность истины возможна при условии абсолютной
раскрываемости дословного в слове. Раскрывает
дословность личность. Истина как алетейя удерживается
сцеплениями слов, контролируемых трансцендентальным
единством апперцепции.
Тогда же как связи дословного держатся непрерывно
возобновляемым поведением. Повседневностью. Здесь истина
возможна Kaie мистерия. Если алетейя нуждается в
умозрении, то мистерия — в традиции. В потаенности дословного.
Личность, рождаемая в модусе непотаенности,
раскрывается словами. И поэтому она нуждается в
трансцендентальном сознании. Человек же рожден мистериальными
связями, коренящимися в потаенности дословного.
Человеческое в человеке удерживается соборным сознанием.
Разрывом между человеком и личностью завершилась
история разрыва между словом и дословностью. Истина как
алтейя и истина как мистерия делают возможным два
дискурса философствования: философию самосознания и
философию дословности.
Говорить о нераскрываемом словами — значит молчать.
Слово молчания выступает прежде всего как Тело
дословности. Как жест. Телами дословности рождается немая речь.
Именно в немой речи нельзя установить того, кто говорит.
Неважно, кто говорит. Говорящий и слушающий
совместились в одном лице. Этим совмещением и редуцируется
229
симуляция. Говорящий и слушающий совместились в
одном лице.
И уже потом, после жеста совмещения, слово может
стать понятием.
Жест как чистое движение телесности, идущей из
глубины дословности к поверхности, устанавливает порядок
движения на поверхности. Тела дословности определяют
маршруты сознания.
Изображение без образа — не симулякр, а способ,
которым останавливают симуляцию. То есть это движение без
предъявления того, что движется. В речи-письме тело
дословности узнается по словам без значения. Слово,
лишенное смысла, движет осмысленной речью. Но не так,
что вот сначала было слово со смыслом, а затем у него смысл
отобрали и получили жест. А так, что было слово. И это
слово было жестом первослова. А смыслы устанавливаются уже
потом. В редуцирующем симуляцию движении тел
дословности к Богу.
Творчество невменяемых
Обман есть, а вменить его некому Нет дураков в симуля-
тивном пространстве культуры. Кто в ней субъект?
Субстанция. Она, как судьба, всегда в своем уме. Это вечно
вменяемое.
Но если субстанция — это субъект, то я ни за что не
отвечаю. Я невменяем. Я не субъект, то есть я не могу отличить
себя от дурака. Я невменяем, а весь мир — дурдом. И в этом
доме субстанция является субъектом. Как найти ее? Как
узнать, кому нужно вменять? Поиск субстанции — дело
безумия. В безумии поисков субстанции качают права.
Там, где я, нет субъекта. На моей стороне только
субъективность. Между субъектом и субъективностью происходит
радикальный разрыв. Субъект не обеспечен
субъективностью. Субъективность не обеспечена субъектностью.
Бессубъектная субъективность приостанавливает действие
законов. То есть там, где Я, кристаллизуются не законами
рожденные содержания. Незаконный опыт преступления!
Там, где субъект, опыт порождают законы. Здесь все
законно. Порядочно. Ну раз Я, как преступник, вне закона, так я
творчеством займусь. А оно бессубъектно. Бессубъектное
230
творчество невменяемых возможно в дурдоме, а также среди
детей. Примитивов. Шизофреников. Где творчество, там и
дурдом. Или криминальная среда. В бессубъектной
субъективности рождается искусство и преступления. Их питает
одна энергия. Если в мире много преступлений, то в нем
мало искусства. И наоборот. В пространстве дословного
возможно бессубъектное творчество и невозможно
искусство как искусство.
Проблема субъекта
Проблема субъекта — это проблема вменяемости. Поиск
виноватого. Вот капитал. Это — субстанция-субъект.
Самовозрастающая стоимость. А это — люди наемного труда.
Нищие. Я — капиталист, но я не отвечаю за людей наемного
труда. За их нищету. Я персонифицированный капитал.
Субъективная пришлепка к капиталу, который как стихия.
Как дождь. Вне субъективности. Я — символ. И поэтому я
невменяем. Символизм XX века закодировал абсолютную
невменяемость людей. Бессубъектную безответственность
тех, кто мыслит дуально.
Дуальное мышление
Дуальное^мышление построено на различиях. На
абсолютности непохожего. И поэтому оно нуждается в третьем.
Кто третий? Субъект. Тот, кто одно отличает от другого и
может это отличие удержать в одном сознании. Одноэкземп-
лярность сознания является условием рациональности. Нет
ни моего сознания, ни твоего. Отказ от собственного
сознания лежит в основе символического кодирования
мышления. Кто мыслит? Не Я. Я — персонифицированное
мышление, то есть мысль мыслит во мне себя.
Отказ от плюрализма — плата за рациональность
дуального мышления, расколовшего мир на две части. На субъект
и объект. На центр и окраину. Рациональна только наука. И
еще империя. Наука, как и империя, субстанциональны.
Человек в них невменяем. Наука — пространство, в котором не
мыслят. Империя — пространство безличного поступка.
Вот, например, эксперимент. Объективация
возможностей одноэкземплярного сознания. И хотя я, может быть,
что-то понял, понятое мной не содержится в составе экспе-
231
римента. То есть что я понимаю, то и вижу Но так понимают
дети. А дети невменяемы. И вот пока сохраняется что-то
детское в науке, в ней понимают. Но дети не мыслят.
Понимание и мысль в науке разошлись. Мыслить — значит
убивать в себе бессубъектное действие ребенка. Стареть, то
есть смотреть по преимуществу со стороны сознания. А со
стороны сознания понятие жизни замещает жизнь.
Смотреть со стороны — значит видеть только внешнюю сторону.
Сознание и есть эта внешняя сторона. Явление. А еще есть
внутренняя сторона. И внутренняя не совпадает с внешней.
И тот, кто снаружи, подает знаки — тому, кто внутри.
Неклассическая наука — это замаскированная мистерия.
Разрушение барьера между субъектом и объектом,
наблюдателем и наблюдаемым.
В мистериальном пространстве дословного нет места для
искусства. Для того, чтобы оно было, нужна плотина, барьер
между субъектом и объектом, зрителем и исполнителем.
Размывание дуальных культур мира мистерией лишает
искусство, равно как и науку, смысла.
Центр как ноль
Понятийное мышление бинарно. В нем сущность
противостоит явлению. А белое — черному. Речь легко льется,
если в ней есть негации и классификации. Например,
запад — это запад. Восток — это восток. И запад — это не
восток. И белое — это не черное. Смешение границ в
бинарных структурах запрещено.
Наука возникает в зазоре между речевой позитивностью
и речевой негативностью. Речевая позитивность — это
замена одного слова конечным набором других слов.
Определение. Например, жизнь как способ существования
белковых тел — это не жизнь, а определение жизни. Речевая
негативность вводится предположением. Например, вот
худой. А вот толстый. И худой противостоит толстому, потому
что он не толстый. Это противостояние рождено речевой
практикой. В ней негация. А вот упитанный. Это синтез.
Речевая позитивность.
Речевой негативности противостоит неречевая
негативность. Например, вот худой. Но ему противостоит" не
толстый, а истощенный. Полному — тучный. То есть туч-
232
ный — это удвоение полного, а истощенный — повторение
худого. И нельзя получить упитанного, перемешав тучного с
истощенным.
Повторение одного и того же в речи составляет
тавтологию. Отождествление противоположностей — диалектику.
Вот стыд. Это неречевая негативность. А вот любовь. Это
неречевая позитивность. Для них нет понятия. Нет конечного
множества других слов, которыми они бы исчерпывались.
Заменялись. Их описания тавтологичны. Jo есть речевая
позитивность сопряжена с понятиями, а неречевая
позитивность символична. Смешение границ бинарных оппозиций
ведет к диалектике деконструкций. Например, синтез — это
синтез. А разъединение — это разъединение. Синтезу
противостоит разъединение. Анализ. Между ними граница. В
смешении границ суть разъединительного синтеза.
Категории, как утки, ходят парами. Мужское — женское.
Высокое — низкое. Бинарные структуры можно
переворачивать, ставить с ног на голову, они карнавальны. Перевернули
их и получили карнавал. На карнавальности бинарных
структур основано бурлескное письмо в философии. Философу,
как Арлекино, запрещается лишь показывать реальность в
формах повседневности. Культура дуальностей допускает
инверсию знаков. Ее символ —зеркало. Двойное
перевертывание ценностей является неустранимой возможностью
существования любой рациональной культуры. Зеркальное
перевертывание смыслов — плата за рациональность.
Для того чтобы избавиться от перевертышей, нужно
избавиться от культуры дуальностей. От зеркала. Зло и добро
не пара. Сущность и явление не утки. То есть сколько бы мы
не выворачивали зло, добро мы не увидим. Добро не изнанка
зла. А зло не его подкладка. На противоположной стороне
добра нет зла. А это значит, что нет границы между добром и
злом. Или между сущностью и явлением. Трансцендирова-
ние бессмысленно. Трансгрессия границы возможна лишь
как театральная бутафория.
Дуальные структуры скрывают третьего. То, что между. А
между — межа. А на меже нечистая сила. Как ее пересечь?
Между парами не граница, которую можно пересечь, а
срединный мир. Середина, в которой живут. Выходя за
пределы, попадают в экстатическое состояние. Экстаз — дело
нечистого. Живой предела своего не знает. Выходя в средин-
233
ный мир третьего, попадают в пространство пата. В центре
недуальных структур пата — онтологический ноль. Ноль и есть
центр, который нельзя децентрировать. Он пуст и
бессодержателен как форма. Его содержание — на окраинах.
Например, восток и запад — это окраины Евразии, а не
бинарная структура. Евразия — это ноль. То, что деконструирует
дуальную структуру «восток-запад» и запрещает работу нуля
сводить к нулю.
У всякой сущности есть граница. Возможно, что
действие сущности уже закончилось, а явление ее еще не
началось. Вот этой задержкой создается ноль как центр. Как
срединный мир третьего. Что реально в этом мире? Ноль.
Потому что его изменить нельзя. То есть реально то, что
изменить нельзя. В изменениях мира — симптом его
нереальности.
Все меняется. Только когито не меняется. Когито и есть
реальность. А поскольку оно реально в нереальном мире, то
есть оно неизменно в меняющемся мире, постольку
существует проблема достоинства и свободы как проблема
европейской фийософии. Эта проблема вырастает из
желания личности быть в порядке перед самим собой в момент
изменения мира.
Изменения смывают неизменное. И оно меняется.
Когито распадается. Реальность исчезает. Нет больше ни
свободы, ни достоинства. Когда-то Парменид хотел, чтобы
было одно бытие. И не было небытия. Хотелось бытия, а
получили философию.
Кривая философии
Машина науки работает в режиме субъект-объектной
дуальности. А философия уже прошла этот режим ума,
отождествив вещи с разумом, объект с субъектом. Науке
осталась рациональность, а также бинарные оппозиции
понятийного мышления. Философия взяла с собой
тавтологии и диалектику, то есть все, что осталось от мышления.
Мышление философа стало банальным и софистическим.
Но зато философ делает маневр и не спотыкается на
проблеме начала. Нет этой проблемы! Вернее, его мышление
строится вне зависимости от того, есть она или нет ее.
Философ идет в обход. Не по прямой. А если пойти по прямой, то
234
возникнет вопрос о начале. А также об очевидности начала и
самодостоверности. Начало мысли — немыслимое. Мысль
не очевидна. Очевидно немыслимое. Немыслимое
принуждает мысль к противоречию себе самой. Например, бытие —
это немыслимое. Пока есть бытие, существуют и
противоречия мысли.
Но немыслимое нельзя приписывать конечным вещам.
Потому что если его приписать, то его надо мыслить. А
наука не мыслит. Она имеет дело с конечными вещами. У
конечных вещей нет бытия. Того, что немыслимо. Ведь если
бы у них было бытие, то они перестали бы быть конечными.
И стали бесконечными. То есть бытие нужно мыслить, а не
изучать. А это не дело науки. И не дело современной
философии. Потому что если мыслить бытие, то нужно его
мыслить как мысль, то есть идти прямо. А философы пошли
по кривой. Они не мыслят. Они цитируют в неочевидной
безначальности своего пути. Вот Гегель. У него субстанция
тождественна субъекту. Его философия — царица наук. Все,
что теперь произойдет в науке, будет приближением к
тождеству. Будет вчерашним днем философии. Наука —
прошлый день мысли. Напоминание о царице. Методология
науки старомодна. Методы науки заменяются клипами.
Например, жизныкак метанаррация — это клип.
Клиповое сознание
Речевая рациональность привязывает слово к сознанию.
Неречевая рациональность растворяет сознание в
повседневности. То есть вот есть слово и ему нужно дать сознание.
А вот сознание и ему нужно дать слово. Пусть заговорит.
Дали, и оно заговорило. И говорит без конца в конце. Это
речевое слово. Оно связано сознанием.
Письмо — нулевой голос. Обременение тела сознанием.
Голос не противостоит письму. Письмо не отрицание речи.
Недуальность нуля освобождает слово от сознания.
Письменная речь с нулевым содержанием — это просто текст.
Устная речь с нулевым содержанием — болтовня. Текстами и
болтовней слово отделывается от сознания. Расстается с
ним. И с речевой рациональностью.
Сознание можно привязать к телу. К голосу. К привычке.
Это неречевая рациональность. Она основана на голосе. На
235
звуке. Понятийное мышление заменяет неречевая
рациональность видимого. А оно дискретно. Нет больше сознания
целого, то есть сознание есть, но как сознание видимой
части. И это клип. Конфликт самосознания и клипового
сознания составляет содержание современной культуры.
Проблема субъекта — это проблема рефлексии речевых
содержаний культуры. Проблема самосознания.
Наблюдатель — это проблема клипового сознания. Неречевой
рациональности. Если клипы вытесняют самосознание, то
субъект замещается наблюдателем. Никто больше не
субъект. Все наблюдатели. Некому вменять в вину. Субъект
умер, то есть овладел фактом своего исчезновения.
Расширил лсизнь, в которой нет извлечения «Я» из точки
восприятия. А это и есть клиповое сознание. В клипе важен
не клип, а клей. Монтаж визуальной ткани сознания. То, что
я вижу, зависит от речи, а не от моих глаз. То, что видят все,
то видят. И нет в этом видении акта индивидуализации. Нет
тайны. То, что вижу только Я, то мыслят, а не видят.
Клиповое сознание нельзя индивидуализировать. Это сознание
номадической дистрибуции тел.
Номада
Суть дела не в голосе обозримого мира. И не в текстах
необозримого мира слова. Она в душе. Вот есть она — и у нас
один голос. Нет ее, и он другой. И тексты другие.
Душа не связан голосом. Или словом. В связном
состоянии она становится культурой. Связать душу речью —
значит изнасиловать ее. Вот изнасиловали ее словом и
возникла книжная культура. Души нет, а цивилизация есть.
И за нее нужно платить. За ненаблюдаемые сущности
культуры заплатили душой. Отказ от души является условием
того, чтобы была цивилизация. Связанность формы.
Культурный человек должен экспонироваться как
дрессированное животное. Ему место в музее. В цирке. Дословный
человек обозримого мира длит несвязную энергию души. И
пока он ее длит, мы спасены от притязаний культуры. И что-
то в мире связывается душой. Связалось, и вот есть святой.
А он антикультурен. Связалось, и вот Юродивый. А он
несоциален. Связалось, и где-то подает голос
Иванушка-дурачок. А он нерационален. И это три состояния русской
236
философии. Философ вообще-то болтун. Он обречен к речи.
У него нет души. Нет того, что сдерживает речь. А если у
него есть душа, то он Юродивый. Как Чаадаев. Порядок души
и порядок письма несовместимы. Разрыв между ними
заполняется телами тех, кто не связан душой. Заполняется
номадой. Кочевниками.
Вот архаика. Община. А вот общество. Целерациональ-
ность. Думали, что сдвиг от общины к обществу, это хорошо.
Это прогресс. Восхождение от простого к сложному. Шли к
сложному, а пришли к упрощению простого. К номаде,
которая вяжет и связывает без души. Сложное оказалось
номадическим. Кочевым.
Кочевник — человек играющий. Интеллигент. Или
передвигающийся. Космополит. Движение — все. Цель — ничто.
Смена мест требует легкости. Необремененности. Легче
всего диким. Они менее всего обременены почвой. Традицией.
Культурой. Они начинают с нуля. И заканчивают нулем. И
всякий раз заново.
Кочевники — форма воспроизведения легкости в
утяжеленных структурах оыта оседлости. В кочевнике есть что-то
детское. Несмышленое. В номаде показывает себя детскость
современного мира. Кочевники вытаптывают мир, открывая
в нем связи, недопускаемые рациональной структурацией
мира. Они маги магического. В них постаревшее
человечество впадает в суету бездушного движения «туда — сюда».
В результате сдвига к кочевому обществу утрачено
понимание Троицы. То есть того, что нет единицы. Что она не существует.
А если что-то есть, то как два. Двоица. То есть два — это Бог Отец.
Где два, там и один. А это уже три. Вот три — это полное число.
Неделимое. По истине есть только три. Троица. И это
традиционное общество. Община Для того чтобы была личность, нужно
различать, разъединять общину. Разделять и обособлять, И
тогда возникает личность. Единица. Один. И непонятно, как
возможно два. То ли как номадическое наращивание единицы.
То ли как переход от одного к трем. Как нечто
промежуточное. Или же три существует как синтез единицы и двоицы.
Трансгрессия и речь
В речи важен голос. Уста. Высказываемость сказуемого
как рождение мира. За голосом нет ничего безголосого.
237
Все говорит. Везде слышно. Поэтому-то боги говорят, а не
пишут.
Вот есть голос, и сказуемое высказывается. Дословность
обнажается. И мы живем в обозримом мире подручного.
Обнаженного. Нет голоса, и сказуемое не высказывается.
Скрывается. И мы живем в необозримом мире
невысказанного. Скрытого. Безголосой речью книжной культуры
речится невысказанность сказуемого. Бесконечность
необозримого.
Голос — это бунт. Протест дословного против знаковой
власти книги. Речь как трансцендентальная сторона мира не
принадлежит ни внешнему, ни внутреннему. Ни миру, ни
сознанию Речь — это граница, которую можно пересечь.
Нарушить. Или не нарушить. Трансгрессия речи со стороны
сознания конституирует содержание книжной культуры.
Сознание в ней есть, а голоса может и не быть. Основу
трансгрессии сознания составляет шизоидное действие.
Результат действия — потеря голоса. Разрыв с миром. Шизо-
идность безголосой речи книжной культуры делает
возможной бесконечную игру знаками. И ускользание
истины в эту симулятивную бесконечность.
Трансгрессия речи со стороны сознания невозможна в
обозримом мире дома. Она возможна со стороны очевидного.
Трансгрессия речи изнутри мира дословности конституирует
содержание дома. Быт. Повседневность быта оправдывает
разрыв с сознанием немой речью примитива. Немая речь и
есть этот разрыв.
Примитив не выходит за пределы. Не нарушает границу.
Обозримый мир подручного основан на неделании
примитивом чего-либо с сознанием. В сознании ты или не в
сознании в мире подручного не имеет никакого значения.
Ты дома. Обозримый мир дома изменяет себя, не выходя из
себя. Он раздувается, распухает недействием, создавая
патовые пространства подлинного. Голос в нем есть, а сознания
может и не быть. Возникает традиция как чистый голос
примитива.
Всякая граница трансцендентальна. За границей нет
заграницы. Нет другого мира. Трансгрессия разрушает
трансцендентализм и вводит понятие о краях. Маргиналиях.
Для того чтобы сохранить трансцендентальное, нужно
научиться жить в одностороннем мире. Нужно не выходить
238
из мира. Из себя. Если вышел, то попал под действие
трансцендентного. А оно двустороннее. В нем две стороны: молот
и наковальня. И ты между ними. Если вне мира есть
трансцендентное, то в мире есть законы. И я свои действия
основываю на этих законах. А если в мире одна сторона и нет
в ней трансгрессии, то тогда мне нужен второй шаг. Время и
бесконечность. В двустороннем мире дословного второй шаг
не нужен. Там достаточно одного. В нем уже есть законы. А в
одностороннем мире нет законов и все бессмысленно. И
поэтому важно сделать второй шаг в бесконечность. Второе
придает смысл первому Со вторым приходят законы. И что-
то уже нельзя. Например, нельзя выходить из мира, но
нельзя и принадлежать ему. То есть трансцендентализм
означает, что ты и не вышел за пределы мира, не совершил
трансгрессию, и в то же время не принадлежишь миру в
качестве его части. Содержательно. Всякая симуляция
создается вторым шагом в бесконечность. И одновременно
этим ускользанием в односторонний мир поверхности
создается сопряжение симуляции спекулятивного сознания.
Речь является трансцендентальной границей мира.
Кант — пограничник. Гегель — диалектик. Контрабандист.
Он переходит границу И Кант ловит Гегеля. Но поймать не
может. Ибо смыслы появляются всегда потом. В следующий
момент времени. Когда уже его и след простыл. Смысл есть,
да времени нет. Поэтому Гегеля осуждать нельзя, то есть
нельзя разоблачить симуляцию.
. Находясь в речи, я не выхожу за пределы мира. Я не
преступник. И одновременно я не принадлежу миру. Его
порядку. И в этом моя непорядочность. Вернее, это
непорядочность всякого пребывания в речи. Пребывание в речи не
содержательно. Его нельзя описать в терминах присутствия.
Или бытия. Оно вне настоящего, то есть вне связи с
прошлым и будущим. Без времени.
В речи я всегда подле. Около. Речь делает меня
подлецом. Безголосая речь трансгрессии книжной культуры —
чистая подлость, спасение от которой в немой речи быта.
Или в стратегии патовых распуханий дословного.
Недействий подлинного. Речь — это граница без пограничников. Без
краев и окраин. Без центра. Граница как пространственно-
временное представление теряет смысл. Есть только один
предел. Речь.
239
Деление мира на субъект и на объект устанавливает
границы, которые не воспроизводятся спонтанным действием
мира. Только в философской речи можно удержать эти
границы. Но внутри этой речи нельзя говорить. Внутри нее
можно только писать. Создание речевых пределов,
словесных перегородок, предметных разграничений составляет
содержание культуры. Трансцендентализм оказывается
речевым содержанием культуры в разделенном мире. Нет
сознательного акта, которым бы выбиралось дословное.
Трансцендентализм растворился в нерефлексивной
повседневности быта.
Обреченность к речи
Патовые пространства не имеют сторон. В них утрачена
связь со временем. И поэтому ничто из подлинного уже не
может полагаться на второй шаг. На потом. На бессмыслицу.
Жест — это отказ от полагания на время. На то, что что-
то со временем созреет. Изменится. Имя — это отказ от
понятия. От того, что что-то будет со временем понято.
Какая-то сущность будет установлена. Что истина явится.
Время нас делает подлыми, то есть оно помещает нас подле.
Около. Рядом с истиной, которая ускользает в
бесконечность сроков и времен.
Продукты речевых практик ускользания сбрасываются в
нутро дословного мира. Человек — это теперь корзина для
мусора. Существовать — значит говорить в пространстве
симуляций. Существование в речевой паузе в качестве
обрывка письма отличает книжного человека от дословного.
Вот Декарт. Он думал, что ум — это столбовая дорога. А
не закоулки. И ходит по этой дороге книжный человек.
Декарт учил. И ему верили. И я верил. И я пошел по столбовой
дороге. Пошел, и получилась пошлость. Речь без конца. Об-
реченностью к речи существует болтун. Немая речь патовых
пространств сулсает возможности существования болтуна.
Говорить в патовом пространстве — значит откладывать
существование на потом. На конец фразы. Культурный
человек — это человек с отложенным существованием. С
максимумом сознания. А когда сознания максимум, тогда
оно не в мире а в голове. Культурный человек не живет
осознанием в мире. Он относится к миру. Сознательно.
240
3.2. Тела дословности
Весь мир делится на две части. Одна часть получила
слово. Другая часть — не получила слово. Первая говорит.
Вторая молчит. Среди молчаливых молено выделить тех,
кому есть, что сказать, и тех, кому нечего сказать. Те, кому есть
что сказать, распадаются на две новые группы. Все, что
знают в одной группе, вполне выразимо в слове. И если этой
выразимости не произошло, то потому, что сработал
механизм отсроченное™ претензий на право голоса. Все, что
знают в другой группе, невыразимо в слове. Невыразимо не
знание, а существование. Невыразимое существование
единичного противостоит невыразимому существованию
собора. Носители невыразимой соборности
существования — тела дословности. Дословность отличает их от того
способа, которым есть тело. Телесность отличает их от
невыразимого существования Бога. Телам дословности
противостоит не тело и не Бог, а феномен культуры.
Дословность не состояние культуры. Не переверсия слова. Она
была до слова в телах дословности. Вытесненное из
культурных практик подлинное возвращается в маске дословности.
Тела дословности дают о себе знать разрывами
коммуникативных стратегий культуры. На эти разрывы обратили
внимание авангардисты. И пометили их в виде беззначных
слов, сдвига смыслов и зауми немой речи.
Тела дословности накладывают запрет на существование
другого и стирают следы, оставленные на их телах речью
другого. Кто-то говорит, а следы говорения оставляют следы
на теле дословности. А это больно.
Другого можно узнать по речи. Речь является способом
его существования. Другой — это не просто дискретно
выделенное тело человека. Это центрированное речью Я другого.
Смещение центра лишает другого речи и открывает поле
действия тел дословности. Открывает эллипс собора.
Тела дословности не оставляют после себя речи. Немая
речь кодирует внутреннее содержание и делает его
недоступным для другого. Например, немая речь крестьянина не
нуждалась в культуре психоанализа. И лишь разрыв в этом
дискурсе выбросил на первый план речь, за которую можно
было ухватить другого. Это была речь русской
интеллигенции. А она подлежит психоанализу.
16 Ф. Гиренок
241
Психоанализ ограничен пространством книжной
культуры. Ее предметы — отходы в работе сознания, ускользающего
в бесконечности симуляции. Мусор того, что уже было
сознанием. Другой заявляет о себе в виртуальном мире культуры
спекулятивной речью. Тела дословности вяжут связи
обычая. Немая речь — это речь между телами дословности. Она
не требует ответа, потому что она обращена к себе самой.
Немая речь есть говорение себе вслух. Поскольку она
предназначена не для другого, постольку она есть обращение
к себе и одновременно ко всем, кто включен в себя. Речь тела
дословности — это бытие, говорящее о бытии.
Другого встречает красноречивое молчание. Обычай.
Другой заполняет паузу молчания речью интеллигенции.
Реальность находится всегда по ту сторону речи
интеллигенции. Явления культуры создают и решают проблему
соотнесенности своего слова и реальности. Решение
проблемы — в знаках недоговоренности. В фигурах умолчания.
Последняя невиртуальная реальность хранится телами
дословности. Немой речью крестьянина, в которой нет
умолчания и недоговоренностей.
Поведение^интеллигенции — речевое и одновременно в
нем есть то, о чем умалчивается в речи. Предмет умолчания
можно найти. Нашли. И теперь нужно получить признание
найденного умолчания со стороны явлений культуры.
Предмет умолчания становится предметом разговора. Явлением
сознания. И этот разговор бесконечен.
Молчание скрывает ничтожество явлений культуры.
Неудача молчания интеллигенции делает ее речь
подозрительной. Интеллигент знает, что он как тело речи всего лишь
плод своего воображения. Некое создание в сфере
виртуального. То, у чего нет достоверности. И вот эта
недостоверность, имя которой самозванство, может
обнаружиться. И это рождает страх тела речи перед телами
дословности. Интеллигенция маскирует, свое ничтожество
друг перед другом, но оно обнаруживает себя в присутствии
тел дословности.
Поле скрываемого ничтожества и есть поле культуры.
Бессознательное рождается интерсубъективными
разговорами книжного человека. У тел дословности нет
бессознательного. В терминах бессознательного
репрезентируется не архаика, а желание другого. Телами
242
дословности создается внутреннее, недоступное для
постороннего. А если есть внутреннее, то нет условий для работы
машины сознания.
Для того чтобы непрерывно возобновлялась
повседневность, достаточно обычая. Или соборного сознания. Ну а для
того, чтобы можно было восстановить непрерывность
сознательного дискурса, требуется бессознательное, то есть часть
трансиндивидуального дискурса. Патологический дискурс
повседневности основан на действии того, что не
состоялось. Между телами дословности и явлениями культуры
идет война. Явления культуры распознают дословность по
меткам. К этим меткам на уровне тела относятся: низ,
архаика, почва, примитив, жажда крови, крик, жертва, тайна, дом,
быт, повседневность. На уровне слова: метафора, слова без
смысла, беззнаковые слова, заумь, текучесть смысла, асеман-
тизм. Явления культуры распознают дословность как нечто
низкое, архаичное, почвенное, примитивное, жаждущее
крови, крикливое, склонное к жертвенности, тайне, дому, быту.
Как нечто повседневное. На уровне слова дословность
распознается в энергетике жеста, в виде метафоры, слов без
смысла, зауми, асемантизма и текучести смысла. Телами
дословности создаются заумные пространства культуры, а не
только пространство повседневности. Потому что симуля-
тивным пустотам культуры успешно противостоит
дословность зауми, а не дословность быта.
Жертва — это то, чем тело дословности осмысливает
жизнь. Оставаясь самим собой, тело дословности
превращается в нечто иное благодаря жертве тела. Оно всегда есть как
что-то большее, чем оно есть. Если жертва не принесена, то
святое не появится. Жертвы приносятся не потому, что
существует подлинность святого. Напротив, священный пир
дословного существует принесением жертвы, то есть самим
этим актам выделяется привилегированное место. Ничто не
равно в мире натурального. Все неоднородно. Ну а если все
неоднородно, то в мире есть центр. Ось. И что-то можно
сделать осмысленно. Можно сориентироваться. Но это
осмысление не связано с рефлексивным сознанием. Оно
дословно. Ведь где жертва, там и кровь, и она на нас. И мы
повязаны. Соединены не личной ответственностью, а
круговой порукой.
16*
243
Тело дословности не машина мысли. Это живое
существо. Тела дословности ориентируют и одновременно
разрушают однородность культурного пространства. За
ориентацию нужно заплатить разрывами и разломами в
окружающем тебя мире. А где разрывы, там и раны. Боль.
Тела дословности изранены явлениями культуры. На их
телах — складки, швы, рубцы, борозды и даже еще открытые
раны. Децентрирование является эффективным способом
борьбы симуляций с дословностью. А идеальная гладкость
однородной поверхности одностороннего мира является
вожделенной мечтой любого речевого дела. Тела дословности
жертвуют тело. Жертвенная кровь вяжет и связывает. И
рождает новый мир откровенного. Новые смыслы, которые на
гладкой поверхности феноменов культуры родить нельзя.
Рожает дословное, а ранят глубокое. На поверхности нет
раны. И нет искренности, рожденной ранением, и нет боли,
которой помнят о сокровенном. Вот ты, а вот мы. И ты
будешь с нами, испытав эту боль. Дословность откровенного —
это опыт действия вместе со всеми, наперекор своему
естеству. Это опыт соборного действия.
Ничто не может быть предпринято без предварительной
ориентации. Первый шаг должен быть осмыслен. Потому
что если он не осмыслен, то со вторым шагом смыслы не
появятся. Граница — это рубеж. Зарубка на теле дословности.
Рубец. То есть место, где соединяется знакомое и
незнакомое. Знаковое и незнаковое. Но это соединение происходит,
если ты на рубеже и одновременно в центре мира. Центр и
рубеж — это распятие тела дословности, которым оно творит
мир подлинного. Ибо жить можно только в сотворенном
мире. А по незнакомой территории можно лишь перемещаться.
Незнакомая территория и есть поверхность, превращающая
того, кто на ней находится, в кочевника.
Симуляция убивает откровенность дословного.
Явлениями культуры искренность глубокого превращена в эпатаж
другого. В косноязычии наива, оказавшегося на
поверхности. Письмо на теле дословности составляет ритуал,
которым кодируется энергия эмоции. Крик тела
дословности пугает явления культуры. Крик и стон составляют
фундамент, над которым надстраивается опыт соборной
чести и уважения к лицу. Крик — это немая речь тела
дословности, открывающая поле чести.
244
Другой — безлик. Ему нельзя дать пощечину, потому что
лицо перестало быть поверхностью чести. Личность как си-
мулятивная структура сознания подавляет в себе дословное.
Вместе с дословностью умирает и опыт стыда. Расширяются
симулятивные пустоты культуры.
Поступок
Тело дословности не причина мысли. Мысль как телега.
Ее нужно толкать, и она будет двигаться. Для этого нужна не
рефлексия. Не сознание и не осмысленное слово. Потому что
осмысленными словами составляются симуляции. Нужны
беззначные слова. Бессмысленность страсти.
Непосредственность энергии бессмысленных слов фокусируется в теле
дословности. Телегу мысли таскают тела дословности.
Жест — тело единичного, которое говорит, а его не
понимают. Непонимание — признак движения мысли в качестве
немой речи единичного. Нерефлексивность немой речи
позволяет ускользнуть из сферы осмысленного действия
всеобщего, которое работает как машина по заглатыванию
единичного и его опосредованию. Всеобщее не настигнет
единичное и не опосредует его, если оно не покинет
дословности. Жест — это тот способ, которым единичное может
заткнуть рот'бесконечному. Сможет избежать
опосредования. Заставить замолчать всеобщее. Сломать его, отравить
делами дословности и дать слово единичному.
Жест единичного является одновременно способом
связи тел дословности. Это связь непосредственного без
опосредования. Жест, за которым ничего не следует, это
только жест, а не символ сознания. В жесте дает себя знать
тело дословного. Ибо жест связывает чувство с телом, а не с
сознанием.
Всеобщее существует передвижением от
опосредованного к опосредованному. Результатом его движения является
не синтез многообразных определений, а сборники цитат.
Интертекстуальное сознание симулянта.
Цитата — последняя дословность рефлексивного
сознания. Но за этой дословностью нет опыта. Нет жеста. Есть
только симуляция. И поэтому автор сборника цитат есть то,
что он есть только путем непрерывного говорения.
Говорящая дословность и есть автор, смерть которого уничтожает
245
последние следы тел дословности в симулятивном
пространстве культуры.
Ничто не вынуждает нас говорить. Немая речь
заставляет прислушиваться к вещам, которые сами собой говорят. И
это первый порядок дословности. Немая речь не нуждается
в понимающем сознании другого. Она не допускает в себя
рефлексию над собой. Потому что если она ее допустит, то
разрушит источник красноречия вещей, которые сами собой
говорят. Молчание тел дословности красноречиво.
Немая речь вещей заполняет повседневность быта. Дает
о себе знать в нашем поведении. В нашей речи появляются
слова, говорящие о том, для чего нет слова. И это второй
порядок дословности. Всякий быт — это уже выполненное
сознание, то есть оно работает здесь не по принципу
отражения, а по принципу выполнения, в котором мысль и предмет
мысли одно и то же. И это третий порядок дословности.
Ни одному человеку не дано знать, то, что ему удалось
сказать. Ибо тела дословности ведут по пути, который
лежит дальше цели. Ступать по пути дословного — значит
постепенно, шаггза шагом, приближаться к истине как
мистерии, в которую нужно войти, чтобы ее открыть. Но это
открытие принадлежит взгляду изнутри, а не внешнему
наблюдателю. Если бы этот переход был, то мы бы перестали
быть людьми и стали богами, а мир был бы определен, как
лента Мебиуса, и этом мире поступок был бы невозможен.
Ибо поступок возникает на траектории взгляда изнутри.
Никому не дана истина вне поступка. Поступать — значит
одновременно уступать. Вот ты обидел себя, притеснил и
тем самым вошел в число понимающих без слов. Немая со-
общенность поступка с целым возможна как результат
отказа от самого себя. Поступок — это отказ от себя,
закрепленный в теле дословности.
Поступок нельзя понимать в виде действия, потому что
действие организовано по модели самосознания. Действие
обособляет и выделяет. Поступок существует в поведении
тел дословности как то, что объединяет и возвышает. Это
красноречивое молчание в соборно делаемом деле. То, что
поступок не дело, подчеркивает прилагательное «дельно» в
выражении «дельное дело». Поступок — это дельное дело. А
не так, какие-нибудь делишки, касающиеся твоей
единичности. Все единичное спрятано в тебе как твое внутреннее, не
246
подлежащее показу. Показать это единичное можно. Но
лучше не надо. Потому что стыдно. И потому, что не здесь
правда. Если внутреннее проступает во внешнем, то это
проявление отмечается соборным сознанием как поступок. Все
поступки одинаковы. Значительность лица не перетекает на
его поступки, слова и действия. Нет значительных слов и
поступков. Потому что если бы эти значения были, то они
были до слова. До поступка.
Пока есть одно-единое, возможно и совместное бытие.
Событие. И оно одно. И мы это одно видим по-разному. И
речь отделима от события, которое дается бытием вне
зависимости от взглядов на событие. И эти взгляды можно
сопоставлять. Сравнивать. Если же нет единого, то нет и
возможности для одного события. И нет разных взглядов на
него. А есть разные события. Разные языки. Нет одной речи,
и язык неотделим от события. Речь и есть событие, о
котором говорится в речи.
Диалог возникает в предположении того, что есть
частичная истина и эта истина есть у другого. У меня — часть. У
него — часть. В диалоге части складывают. Я ему свою часть.
Он мне свою. Я не стал беднее. И другой не беднее. Из
частей сложили что? Часть. Где истина? Нет истины. У всех ее
часть.
А если у нас только часть истины, то полноту истины не
восстановить в диалоге. Если же истина полна, то у нее нет
частей, из которых она складывалась бы в диалоге. Она уже
полна, а диалог не имеет смысла. Часть — это обман. Это
знак присутствия другого в деле истины. В деле истины нет
места другому. Нет места диалогу.
Совместное значение исключает диалоги. Соборное
сознание недиалогично. Оно уже общинно. Одно на всех. И мы
уже связаны знанием, и помимо этого знания нет еще
знания, которое было бы у другого. И мы хотели бы узнать это
знание. Есть только одно сознание. И оно немое от полноты
истины. В диалоге репрессируют полноту истины.
Коммуникация частичных знаний возникает, если нет
коммунального знания. Диалогу противостоит не монолог, а
соборное сознание.
Вот ты. И ты элемент коммуникации. И ты никогда не
найдешь в себе всей полноты истины. То есть ты никогда не
найдешь себя. В тебе будет всегда только часть тебя. Во
247
мне — часть. В другом — часть. Можно сложить части. Но ты
всегда дурак. А много дураков не дадут одного умного.
Диалог не заменит Бога. Вернее, диалог — это способ уклонения
от того, что делается под знаком абсолюта. В диалоге ты
пропускаешь в себя голос другого. И поэтому ты начинаешь
говорить чужим голосом. А чтобы ты не заговорил своим
голосом, культура выставляет знаки-страшилки. Если ты
перестанешь смотреть глазами другого, ты станешь диким.
Дикий — это тот, кто забыл чужие голоса и говорит сам.
Жизнь как метанаррация
Симпозиум. Вино не разносят. О заумном не говорят.
Тоскливо. Речится возможность смотрения на жизнь с точки
зрения космоса. Речащий космист. Новый язычник. Он
грузен. Груз грузного ученого давит на метанаррацию жизни.
Он давил на нее и раздавил. Вот ты идешь от Крымского
моста к Каменному и видишь: метанаррация разрушена.-
Например, когда-то был план. Ясное сознание. И было
плановое оцепление жизни людей. Была реальность. И это
одно время. А Датем эту реальность взяли и отменили. То
есть разрушили план как метанаррацию. И все, что
держалось планом, оказалось речевым содержанием культуры.
Пустым словом. А это другое время.
Жизнь как план. Метанаррация. Описание, которое
ничего не описывает. Повествование, которое ни о чем не
повествует. Метанаррация существует, если к ней относятся
как к чему-то в действительности существующему. Это
символ символа. В нем все нуждаются, а он ни в ком не
нуждается. К нему ведут все дороги. Жизнь как
метанаррацию можно отменить. Перевести в речевой план;
Отождествить с понятием. Но пока есть жизнь как
метанаррация, возможно и понимание жизни до всякого ее
предметного исследования. Беспредметное понимание
жизни делает возможным предметное знание. Но предметное
знание уже ничего не может прибавить к метанаррации.
Жизнь как метанаррация — это ценность. Она избыточна
относительно самой себя. Метанаррация расширяет понятие
жизни и в этом своем расширении не связана с понятием.
Что такое жизнь? Да, нет для нее понятия. Жить — значит
соединять две половины одного и того же. Замкнули эти две
248
половины символа, и есть жизнь. И есть символические
сцепления жизни. Разрушили символ и жизнь как план ушла в
речевое содержание культуры. Перестала быть реальностью.
Поэтому у каждой метанаррации стоит столб. И на том
столбе написано: не подходи. Опасно для жизни. Сгоришь.
И сгорают. В пространстве метасимвола. Вот есть такие
пространства. Они заполнены мистикой. И эти
пространства — империи. В них запрещено разрушать символы.
В метанарративном пространстве империи возможны
императивы. Империи держатся императивами.
Категорическими. Они держатся, и в них есть мистические
содержания. Только в империи жизнь понимается как
ценность. Как нечто избыточное относительно жизни. Не как
понятие. Здесь ее ставят на кон. Ею расплачиваются. Хотя
это, может быть, и жестоко.
Разрушение империи — это разрушение метанаррации
жизни. С последней империей уйдет и последний
императив. Повеление. А пока он не ушел, во всякое время
возможен бунт. Страшен бунт метанаррации. Чем?
Распадом понимания жизни как ценности. Отсутствием эмоций в
демистериальном мире. Угасанием быта избыточности.
Апатией и искусством искусственного.
На обломках метасимволов возникает разное. Например,
угасает быт избыточности. Телесные практики жизни, в
которых закодировано непонимание жизни. Вернее, в них есть и
понимание жизни. Но оно предметное. И поэтому оно
держится не мистерией быта избыточности, а порядком слова.
Понятием. Удержание жизни в горизонте рефлексивного
сознания сопровождается апатией. Патологией. Апатия
продукт разрушения имперских тотальностей метанаррации.
Вот есть слово и еще есть первослово. Слова держатся
порядком слова. Интеллигенцией. А первослово порядком
слова не держится. Оно длится мистериальным порядком
быта избыточности. Быт — это тихая повседневность перво-
слова. Это первосущность мира, записанная в структуре
быта. И вот эту запись можно стереть. Разрушить. То есть
вызвать восстание мистериальных ценностей. Их месть.
Например, быт без избыточности новых диких — это месть
метанаррации. В быте новых диких эмоции, как и
украшения, стоят дорого. Потому что если где-то там. есть
первослово и оно зовет, то вот здесь в порядке быта закоди-
249
рован отклик на зов. Эмоции. Чувства. Новые дикие
потеряли первослово, И забыли мистериальный код быта. Для них
эмоции, как товар, который покупают и которым украшают
быт. А это дико.
Бытовая запись метанарраций вызывает страх и трепет,
радость и гнев. Современный мир утратил причину для того,
чтобы были эмоции. Ничто их не вызывает. Даже
африканские ритмы. Даже рок. Люди состарились без метасимволов.
Устали. Искусство искусственного не осилит апатию
безэмоционального.
Быт делает мир обитаемым. Приемлемым на уровне
эмоций. То есть мир обитаем, если сцеплениями причин и
следствий в нем воспроизводится не только феномен жизни,
но и эмоциональное состояние живущего.
Пространство метанарраций совпадает с пространством
эмоций. Империи эмоциональны. В них верх отличает себя
от низа. Центр — от окраины. Левое — от правого. В патовой
ситуации неразличимостей все на одно лицо. Все маскарад-
но. Разрушение метанарраций создает бесконечный тупик.
Ситуацию, в которой некуда ходить. Везде зеркала. Всюду
мнимости. л
В ситуации неразличимостей выживают кочевники,
способом существования которых является переходность.
Жизнь — это метанаррация оседлых. Способ бытового
различения. Символ оседлых — дом. В пространстве дома нет
места постороннему, тому, кто создает симулятивное
пространство культуры. Симуляции замещают эмоции в
порядке быта. Посторонний провоцирует агрессию культу^
ры. Она теперь во всем. Даже в вере. Культура нормирует
эмоции. Чтобы быть живым, нужно убегать от культуры.
Или разбивать ее феномены как черепки. А это жест варвара.
Жизнь как метанаррация разрушена новым язычеством
варваров, для которых жизнь — это всего лишь способ
существования белковых тел.
Вот был мир империи, и он бы структурирован метанар-
рацией. И все было на своем месте. И что-то нельзя было
совместить, не нарушив согласованность смыслов и
значений. Все раскладывалось по своим клеточкам. Языческий
жест разрушает согласование. Появляются вещи, смысл
которых не ясен. Значения сдвинуты. Мир выходит из себя.
Несовместимое в метанарраций совместилось в жесте варва-
250
pa. А это магия. Демистериальный мир магичен. Он
переполнен чудом немыслимого. Метанаррацию вытеснила
магия. А она существует вне зависимости от того, как к ней
относятся. Теперь жизнь — это магия. Космос плебея.
Космизм, или письмо плебеев на теле культуры
Николай Федоров — побочный сын аристократа.
Самоучка. Константин Циолковский тоже учил себя сам. И
выучился. Они гении. Провинциалы. А для провинциального
гения космос — это телесная практика. Символ дословности, а
не литературы. Ядро, пробивающее ткань книжной культуры.
Вот есть книжная культура. Она в городе. И есть дословность.
Она в провинции. И эта дословность — примитив. В
примитиве сила космоса. Она пробивает пленку городской книжности.
Космизм — пятно на этой пленке. Брешь, оставленная
примитивом. И в эту брешь теперь проваливается все, что
передвигается по поверхности культуры. Ученые и маги.
Федоров и Циолковский космисты. И Чюрленис кос-
мист. Хотя он не плебей. Поэтому у него солнце черное. А
черное солнце Чюрлениса — это «Три разговора» В.
Соловьева. То есть литература. Вне литературы — лубок. Или
икона. Они примитивны. В них есть космос. И нет
элементов книжной* культуры. Это понял русский авангард.
Например, Ларионов с Гончаровой, или Малевич с
Татлиным. Сопряжение космоса и примитива искали многие.
Например, А. Шевченко. Искали и нашли в
разъединительном синтезе картин Филонова. В музыке Стравинского. В
первоедином сказки. В ее органике. Вот, например, старик
наловил зимой рыбы и поехал к себе домой. Едет он и видит
на дороге лиса лежит. Ну он ее в сани. Положил и думает:
как хорошо! Лиса старухе на воротник пригодится.
Но думал-то старик не про себя, как мы. А вслух. Без
хитрости. То есть думать — значит изначально что-то говорить
себе вслух. Голос подавать. Когда кто-либо думал, его далеко
было слышно. А слышно потому, что было много
безмолвных. И мало говорящих. Речь и ум, мысль и слух вязали и
связывали друг друга.
Но еще есть лисы, которые подслушивают. Развязывают
эту связь. Старик говорил себе, а его услышали. И остался
он в дураках. А старуха без рыбы и без воротника.
251
Разрыв между речью и мыслью обезопасил нас от лисы.
Но мы перестали говорить себе. Перестали мыслить вслух.
Все теперь говорят друг с другом. Но это разговор глухих.
Никто себя не слышит. Все под подозрением.
Разрыв между голосом и мыслью заполняется
косноязычием культуры. Письмом. Редуцированным голосом. Может
быть, в этом письме и есть мысль. Но ее не слышно. Она
теперь существует в невозможности примитивного говорения
себе своих мыслей.
Вслух говорится одно, а про себя, думается другое.
Письмо — это речь, ориентированная на другого. И нельзя ее
замкнуть на себя. Берне, ее можно прервать. Примитив —
это пауза в речевом обрабатывании другого. То, что делает
возможным два типа речи: немой и коммуникативной,
внутренней и внешней. Если речи противостоит не отсутствие
речи, а ее говорливость, то возникает речь болтуна. В этой
речи есть слова. Но они пусты. В них нет значений. Пустоту
нужно скрывать. Утаивание пустоты составляет особый
дискурс интеллигенции. Ее речевой обреченности к болтовне.
Немая речь примитивна. В ней есть значения. И нет слов.
Это речь, например, крестьянина. Немая речь примитива
строится откровенно в терминах дословно означаемого на
фоне грохота пустого удвоения речи интеллигенцией.
Дословное письмо примитива на теле интеллигенции
составляет содержание космизма культуры. То есть не
примитив вытесняется на поля речевой обреченности культуры,
а болтун оказывается на краях немой речи. Космизм в речи
интеллигенции является симптомом закончившегося
самоопределения культуры относительно слова. Способом
ускользания примитива от культуры. От того, чтобы на нем
оставались следы ее речевой обреченности. Космизм — это
бунт примитива, восстание против власти универсальных
означающих. Ведь тело примитива и есть тот космос,
который не выговаривается речью болтуна. Это немой космос
речи. Дословное письмо. Углубление в дословность
подлинного происходит в избе крестьянина. В пословице. Или в
лубочных картинах. Лубок и есть это углубление и
одновременно разрыв с невидимой сущностью слова. С его
бесполезностью. Разрыв с бесполезностью ведет к утрате
аристократизма. К преобладанию плебейской культуры
дословного письма. В полезности науки источник современ-
252
ных форм провинциализма. Плебейства... Новое язычество
примитива основано на косноязычии науки. Теперь не
культура оставляет следы на теле плебея. А плебей пишет свое
письмо на теле культуры. И это космизм. А в нем заумь быта.
Заумь быта
Ум — это умное смотрение на мир из одной точки. Из
одного центра. Смотрение из центра делает возможным
связанное и непрерывное истолкование мира. Символом
связности является книга. Мир истолковывается как книга.
Децентрирование центра устраняет эту возможность.
Книжное письмо теряет связность. Непрерывность
замещается фрагментарностью. Ум разлагается и выделяет при
разложении, с одной стороны, клипы сознания, а с другой —
немую речь быта, склеивающую эти клипы в одно
псевдоцелое. Клей заменяет ум. Быт отменяет события бытия.
Повседневность отождествляет глубину глубокого и
низость низкого. В высоте высокого она обнаруживает верх
поверхности. Эта поверхность — слово.
Связывает и объединяет только быт. Но в непрерывно
возобновляемой повседневности быта есть что-то, что
нельзя определить словом. Умом. В чем есть тайна. Какая-то
литургия. Софийность.
Быт изначальнее бытия. Он был, когда не было ума.
Заумность быта спасает мир. Молчание — способ существования в
заумном мире. Метафизическое косноязычие основано на
говорении говорливых перед заумным. В простоте немой речи
совершается заумь тайны повседневности. Немая речь делает
возможным немой мистический жест. Сущность вещей не в
слове. Не в понятии. А в жесте, который не именуется.
Потому что он сам в основе именования существующего. Имени
существительного. А если есть то, что не именуется, то есть и
быт. И еще есть то, что вместо имени. В заумности быта
совершается замещение имени. Рождается местоимение. Я — это не
сказуемое. Не природа. Это мистический жест в заумной
повседневности оыта. Быт без зауми распадается на
повседневность ухода за телом и дизайн поверхностей этого тела.
Повседневность непрерывно возобновляет потребность в
состоянии сытости. Сытая повседневность накапливает
энергию пола. Пол принадлежит сытым. Пеший сытому не то-
253
варищ. Не пара. Не сапог. Сытому противостоит не голодный,
а пресыщенный. Пресыщенный создает симулятивный мир
культуры.
Быт и симуляция
Бытие коренится в быте. В извлеченном опыте бытия. В
доме. Дом как выражение тихой повседневности быта
образует пространство невербальных очевидностей. Обыкновение.
Невербальная очевидность обыкновения делает мир
обозримым. Обитаемым. Ведь обживать можно обозримый мир,
то есть построенный на визуальных и слуховых метафорах.
Не слово, а ухо лежит в основе этого мира. Или глаз. Вот
мир. А вот мое тело. И мир подобен моему телу.
Ненаблюдаемые сущности речи-письма вводят в
подручный мир дома бесконечность. А бесконечность, если она
есть, разрушает подручность обозримого мира. И делает нас
глупыми и ленивыми. Мир бесконечен, а мы бездомны в
своем доме. Ведь бесконечность нельзя пройти конечными
шагами. Для нее лет числа. И поэтому все бессмысленно.
Даже убегать из дома в порыве экзистенциальной
напряженности.
Быт дома накладывает запрет на существование в нем
бесконечности. Этим запретом существует традиция.
Вернее, традиция и есть этот запрет. Прирученность к
привычке. К ритму быта. Вот дом. И у входа в обыкновение
дома стоят двое. Гармония и число. Они не пропускают в
обозримый мир необозримую бесконечность. Они там стоят,
а мы здесь дома. И никаких глупостей не может быть. И мы
не ленивы.
Ленивыми нас сделала книга. Книжная культура создает
линейную перспективу. Историю, которая имеет смысл, если
реальность отличима от ее культурных репрезентаций. На
этом отличии основано существование постороннего.
Наблюдателя. Пока есть зрители, существует и театр.
Искусство. Без постороннего искусство — это не искусство.
А литургия. Мистерия, в которой нет ни зрителей, ни
актеров. Порядок быта лишен линейной перспективы
постороннего. Он вне истории. Вне искусства репрезентаций. Вот,
например, крестьянин. Ему не ясен смысл искусства. И слава
Богу. Пока он ему не ясен, он все старается делать хорошо.
254
Его быт вне симулятивных пространств книжной культуры.
Жизнь обывателя быта софийна. Ему чужд логос. Мир
вербальных сущностей письма. София — посредница в
непосредственном мире быта. Софийное сознание обывателя
состоит из клипов. Из картинок обитаемого мира. Клипы
склеивает быт.
Дом испорчен стараниями постороннего. Подлинность
обыкновенного разъедают представления со стороны.
Искусство — прибежище для посторонних. Оно оглушает
обитателей тихой повседневности. Вот был дом и был
порядок. А потом этот порядок разрушили. Пришли философы и
разрушили его. То есть философ — это человек, который
нарушает заумный порядок быта. Философы создали новый
порядок. Порядок слова. Репрезентацию мира в терминах
ненаблюдаемых сущностей. Книжную культуру. И вот уже
Августин с удивлением узнает о доселе неслыханных
привычках. Например, о привычке читать одними глазами. Не
издавая никаких звуков, не шевеля губами и языком. Симу-
лятивное пространство репрезентаций и экспонирования не
нуждается в живом голосе. В сопряжении ума и речи.
Симуляция создает поле обмена смыслами между реальностью и
ее культурными репрезентациями. Обмен нуждается в
мастере. В профессионале. Профессиональный обмен
значениями между порядком быта и порядком слова создает
бытие. Бытие создали мастера как сопряжение быта и слова.
Конец истории — это возврат к безыскусности дословного
быта. Расставание с мифами книжной культуры. Мысль
ускользает из порядка слова в дословный порядок быта. Смысл
покидает мир ненаблюдаемых сущностей книжной культуры
постороннего и уходит в обозримый мир примитива.
Недуальные структуры обозримого мира обессмысливают
искусство. У искусства нет перспектив. Оно растворяется в
немой речи быта.
Дом и тело
Дом — это существо, то есть что-то живое и одновременно
истинное. Как почва. В доме вяжущие связи быта. Они
окружают. И у тебя нет никаких перспектив. А вот посторонний.
У него соблазняющие перспективы. И бездомное тело. И
поэтому он смотрит на дом со стороны как посторонний.
255
Смотрит на дом, а видит перспективы. Вот это
перспективное стояние в сознании постороннего и есть беспочвенность.
Дом, как раковина, не определен мыслью. Есть что-то,
что мы не можем увидеть в мире, если выползли из
раковины дома. Например, не увидим сокровенное. У постороннего
нет оснований для чувства в его непосредственности. А без
этого чувства мы нигилисты. То есть у нас есть тело, но нет
дома.
Тело как сказуемое подлости
Морис Эшер рисует. И нарисованным понимает.
Мыслит. Но мыслят мысль, а рисуют телесное. Например,
рептилию. То, у чего есть поверхность. К чему можно прико-^
снуться. Дотронуться. У мысли нет запаха. А у тела он есть.
Тело не мыслят. К нему принюхиваются. Его рисуют.
В «Рептилиях» Эшера нет ясной границы между мнимым
и реальным. Вот плоскость. Лист бумаги. На нем изображена
рептилия. Но ее лапки вылезают из плоскости листа и
касаются плоскости" стола. Нарисованное преодолевает рисунок.
Оживает. Рисовать — значит деконструировать поверхность.
Обманывать чувства. А это непорядочно.
Вот есть порядочные люди. И они не рисуют. И есть
непорядочные люди. И они рисуют. Или мыслят. У
порядочных людей интенциональное сознание. Им нужна норма.
Смысл. И поэтому они все нормируют. У непорядочных
людей девиантное сознание. Они нарушают смысловую
связанность вещей. Им ближе то, для чего нет нормы. На^
пример, творчество.
Порядочный человек упорядочивает и обживает. Он, как
машина по производству смыслов, во всем ищет норму
сознания. Всему придает смысл. На нем держится быт, то есть
быт держится исполнением сознания.в материи быта.
Поэтому в пространстве быта нет отношения к
действительности со стороны сознания. Есть отношения внутри самой
этой действительности.
Посредственность бытовой порядочности является
последним укрытием для смыслов. Без этого укрытия смыслы
погибают. Но посредственность порядочности утомляет
чувства. Обесценивает ценности непосредственного.
256
Непорядочный человек стимулирует чувства запредель-
ностыо норм. Запредельность разрушает заумность быта
дома. Вообще-то ценно то, в чем есть норма. За пределами
нормы нет ориентиров. Нет смыслов. Но эта-то
бессмысленность и интересна. Она-то и оживляет чувства.
Сознание порядочного человека описывает
феноменология. Это сознание конституирует жизненный мир человека.
То есть быт зародился в сознании посредственности.
Непорядочный человек порывает с интенциональным сознанием. С
нормами. И уходит в ненормированный мир чувств,
связанных не с сознанием, а с телом. Чувства непорядочного
человека конституируют феномен телесности. Тело
рождается в чувствах подлеца. В ненормированности осязания
поверхностей и обоняния запахов. Если нет нормы, то все
возможно в чувственном прикосновении к поверхности, в
эротических касаниях кожи. Подлецы — философы
поверхности. Дизайнеры прикосновений. Кто-то из них люоит
смотреть, как умирают дети. Кого-то услаждают звуки ножа,
скрежещего по стеклу. Тело — ненормированное сказуемое
подлости. Для того чтобы она была, достаточно обладания
телом. Вернее, достаточно того, чтобы в составе наших
действий было что-то, что нейтрализует нормативные установки
сознания. Это ,«что» и есть обладание телом. Нормативные
установки сознания замещает чувство обладания телом.
Порядочный человек уступает место непорядочному.
Тело человека существует, если оно существует как тело
для другого. Например, стрелочник. Или мальчик для битья.
Это тела для другого. И если в нем, в этом теле, что-то
нарушается, то это нарушение я узнаю как тело моей боли. То
есть то, что было телом для другого, стало телом боли для
меня. Тело боли — центр мировой предметности. Из тела
боли подлеца родилась смерть. Тело наслаждения — лицевая
сторона тела боли.
Чтобы выжить в ненормированном мире чувственности,
нужно научиться ориентироваться в мире тел. Например,
отличать тела с органами от тел без органов. Одни
структурированы. Другие не различены. Например, яйцо. Это тело
без органов. А утка — это тело с органами. Хотя она и из
яйца. Или коммунальная квартира. Это тоже яйцо. Тело без
органов. Тело без различенности дома есть простое
сказуемое подлости.
17 Ф. Гиренок
257
Энтелехия кваса
Вот квас. Его пьют ковшом. А вот два ковша. Один у
боярина. Он золотой. Второй у крестьянина. Он деревянный.
Квас — как кровь. Повсюду. Деревянный ковш — его путь
вниз. Золотой ковш — его путь вверх. Квас объединяет оба
пути. И это культура. XVIII век. Россия.
Квас — это символ всеединства. Сообщенности верха и
низа. В терминах всеединства неразличимы господин и
слуга. Боярин и крестьянин. И пока они неразличимы, низ
углубляет верх. Верх просветляет низ.
А вот кофе. Ему сопротивляется энтелехия ковша. Его
подают в чашечках. У одних ковш и квас. У других —
чашечки из фарфора. И кофе. А между ними — мещанин. Со
стаканом. И чай на блюдце. И каждый сам по себе. Вне
культуры сообщенности. И это XIX век в России. Кофе
децентрирует нулевую тотальность кваса. Верх не
просветляет низ, а низ не углубляет верх.
А вот культура масс. Стаканчик из пластмассы. В нем нет
энтелехии. И он безразличен к кофе, квасу и чаю. Из него
просто пьют. Налил. Выпил. Выбросил. Пластмассовый
стаканчик — это* чистая форма действия. Чистая форма —
эффект поверхностного действия. Действия с поверхностью.
А оно повторяется всякий раз заново. И каждый раз как бы
впервые. На поверхности первое действие всегда
оказывается вторым. Второй первый акт чистого действия растворил
глубину России. Все глубокое устремилось к поверхности. К
чистым формам действия. В России пластмассовые
стаканчики обмывают и вновь используют. Обмыл. Использовал.
И это культура поверхностей. XXI век.
РАЗДЕЛ IV
ПАТО-ЛОГИИ
Пат — шахматный термин, обозначающий ситуацию, в
которой у того, кто ходит, хода нет. А у того, чья
очередь ходить не подошла, ход есть.
То, что человеческое бытие находится в положении пата,
осталось за кадром для многих философов. Впервые же о нем
заговорили авторы «Анонсенса», существующего в
воображении нескольких московских философов-постмодернистов. Я
использую этот термин для того, чтобы напомнить об
исчезновении страдающей мысли экзистенциалистов и заявить о
возникновении новой ее породы — мысли играющей1.
Не знаю, куда исчезло страдание, и могу лишь
догадываться, что систематическое мышление когда-то так же было
истреблено экзистирующим субъектом, как позднее децент-
рированный субъект расправился с экзистенцией.
Децентрированный субъект может жить в мире,
утратившем центр, по которому он расползается как ризома.
Когда-то этот мир называли хаосом и противопоставляли
ему космос. Но в положении пата все видится немного
иначе. Мир без центра не хаос, а помойка. И такому миру как
онтологической структуре противостоит не порядок, а
разъединительный синтез мусоровоза.
В децентрированном мире теряет центр и человек. Но
что есть человек, если у него нет центра? Сосуд, в который
сбрасывают мусор культура и цивилизация. Утилизация
мусора стала важнейшей проблемой антропологии.
1 Гиренок Ф.И. Метафизика пата. М., 1995.
17*
259
Пат — это ситуация с нулевой субъектностыо. Нельзя
быть вменяемым субъектом бесконечного действия. В нем
можно быть бессубъектно. Пат как пространство анонимных
действий создан симулятивным обменом между
ускользающими субъектами. В патовых пространствах ускользающего
действия скрываются мошенники. В них можно предмет
заменить на знак предмета, а также избежать разоблачения.
Уклонение от ответственности в результате утраты
субъектности достигается кодифицированием пространства
действия. Любая кодификация допускает возможность
осуществления по одним и тем же правилам двух
взаимоисключающих целей и смыслов. То есть правильность
действия не гарантирует достижения смысла. Патовое
пространство предстает то как результат кодифицированной
игры дуальных структур, то как результат болезни. И в том,
и в другом случае реальна возможность действия, недоводи-
мого до результата. До конца.
Выход из патовой ситуации осуществляется:
1. Децентрированием. Умножением центров,
разделением пространства-действия и установлением новых границ.
2. Сужением кодификации или решительным отказом от
всяких правил. В этом случае полагаются на жест силы.
3. Передача субъектности другому при сохранении
общего поля действия. Это «субъектный пас».
4. Сдвигом субъектности с одного уровня на другой.
Этот сдвиг приводит к смещению центра. Системы со
смещающимся центром наиболее устойчивы. Они редко
попадают в патовые пространства истории. Осмысленные
движения в патовых пространствах истории невозможны.
Они разрешаются в нулевое повторение одного и того же. Из
нулевых повторений сознание не извлекается. Не
существует человеческого смысла соразмерного нулю.
Мы без рассудка, если мир не абсурден. Ни один
отщепенец не желает расставаться с рассудком. Абсурд — плата за
его рассудок. Плата за то, чтобы кто-то был в своем уме. А ты
в своем уме, если тобой не связаны внутреннее и внешнее,
конечное и бесконечное, личное и сверхличное.
Мир рационален, если он существует как порядок речи.
Как текст. Этому миру противостоит не воля и опыт
единичного, а смирение сооорного субъекта. Если бы ему
противостоял единичный, то он лишился бы речи. Но речи
260
лишен соборный субъект. Неречевая подлинность
соборного действия воспринимается отщепенцем как срыв в работе
трансцедентальной апперцепции. Как нарушение речи.
Примиряющая речь соборного сознания нуждается в
непрерывно возобновляемом чувстве любви. В Боге.
Отказ от рацио ведет в мир полноты смысла.
Рациональность и абсурд взаимно сопряжены. В мире абсурда нужен
не ум. Нужна воля. Власть. Или опыт единичного. Но
воля — это не лошадь. Ее нельзя обуздать умом и направить к
цели. О воле ничего нельзя знать заранее. О ней можно
судить задним числом.
Уму и воле противостоит союз дословного и смирения. В
мире дословного требуется собранность и смирение как
расслабление собранного. Собирание и смирение осуществляется
на двух уровнях: на публичном уровне и на личном. В первом
случае мы имеем дело с соборным субъектом, во втором — с
задушевным человеком. В мире единичного есть только потоки
желаний. И никто ничего не должен. Нельзя представить дело
так, что сначала были желания и в них не было смысла, а
потом мы им придали смысл и они стали осмысленны. Если бы
они были осмысленны, то мы бы перестали желать. Потоки
желания двигаются к поверхности смысла, а смыслы — к
поверхности желания. Они не проникают друг в друга.
Одновременным движением потоков желания и смыслов
создаются пространства, в которых опыт единичности не имеет
смысла. Соборное движение восполняет этот недостаток своей
глубиной.
Глубокое не должно встречаться с высоким. Эта встреча
губительна как для высокого, так и глубокого.
Глубокое сопряжено с нелицевой стороной. С низом. У
него есть дно. Изнанка. Внутреннее состояние. Чем ближе
ко дну, тем глубже. В низости глубокого мало света
высокого. Но из глубины низа далеко видно.
Высокое сопряжено с лицевой стороной. С
поверхностью. Чем выше, тем ближе к тому, что лишено изнанки. К
поверхности. К лицу как эффекту поверхности. У личности
нет внутренних состояний. Нет глубины.
Колебания между совершенством и поверхностью верха
составляют смысл существования европейского человека.
Колебания между глубиной и низостью глубокого образуют
смысл существования русского человека.
261
Пато-логии включают в себя осознание конца эпохи
книжной культуры и, следовательно, интеллигенции, то есть
того пространства преобразований и порождений человека,
которое создавалось феноменом чтения книги. Вот этот
факт осознается и переживается по-разному в России и на
Востоке/Если на смену интеллигенции приходит
компьютерный человек с клиповым сознанием, то это не может не
означать смещения роли слова, а также возрастания
влияния внесловесных форм сцепления культуры. В этой связи
на первый план выступает анализ бытовых пространств
жизни человека, повседневная организация его жизни и
возможные влияния на способы организации этой жизни
клипового сознания.
Интеллигенция, задавая горизонт человеческого в человеке,
делала возможной стратегию просвещения и окультурирова-
ния, то есть уподобления больших, масс людей поведению
книжных героев. В книжной культуре письмо доминирует над
голосом. Клиповая культура принципиально
неаристократична, она ориентирует на примитивность жизни, и в этом смысле
не столько просвещает, сколько устраняет следы просвещения,
возвращая свет тому, кто светит.
Сегодня, на мой взгляд, наступило время взаимного
обмена культур уж не на верхних (понятийных) этапах
культуры, а на ее глубинах, на уровне того, что я называю
дословностью.
Европейская культура породила науку и технологии,
основанные на науке. Но эти технологии привели к
экологической катастрофе. Европейская культура,
принадлежность к которой православной России еще недавно не
вызывала сомнения, ориентирована на метафизику
деятельности. Бог европейца — чистое действо. Иудейский бог
творит мир деланием. Дао же производит его недеянием.
Непрактичное знание Восток ставит выше, практичного.
Жизнь, пойманная словом, для Востока мертва. Именно
поэтому верные слова не изящны, а красивые слова не
заслуживают доверия. Дао, выраженное словами, не есть
дао. Восток, переживая тщету словесного освоения мира,
выбрал две вещи: культуру молчания и неевропейский склад
языка. На Востоке письмо не доминирует над голосом, а го^
лос — над бытом. Как на Западе.
262
Но слова не только обозначают какие-то содержания.
Они еще как бы и прорастают вбок, образуя сцепление слов.
Это книжная культура. Но есть еще и поступки, сцепление
которых образует бытовую культуру. Быту противостоит не
отрицание быта, а избыточность. Пато-логии русской
культуры определены не умопостигаемым содержанием бытия, а
избыточностью дословного. Мы нуждаемся не в рассудке, а
в интуиции как возможности видеть вещи в их подлинности,
то есть видеть их там, где они есть.
Эти возможности были связаны с дословным
существованием крестьянина, выработавшем ойкуменический взгляд
на мир. Ойкумена кристаллизуется в оседлых и кочевых
структурах. Но и в том и в другом случаях Дом запрещает
отсыл к другому, ибо в отосланности к другому реализуется
идея разумности мира, то есть соединения единого и
другого. В терминах русской философии эта идея получила
название всеединства. Для крестьянина Дом — это мир без
другого. То есть крестьянином я называю человека, для
которого вопрос о разумности мира является вопросом
второстепенным. Если в письме доминирует логика, в
речи — риторика, то в быту — жизнь.
В «Голубиной книге» — этой метафизике русского
народа — ценится не разумность мира, а его обитаемость.
Необитаемый мир прозрачен. В нем нет внутренних
состояний и соответственно нет сообщений с этими состояниями.
Это мир, в котором изнанка вывернута наружу. Обитаемый
мир неразумен. Разумный мир необитаем. Обитаемый мир
имеет внутреннее состояние, то есть этим миром не
овладевают. Его обживают. В нем пульсирует знание того, что
внутри что-то есть и это что-то не совпадает с поверхностью.
Например, внутри дома домовой, который образует черту,
мистическую границу, переступить которую нельзя, не став
чертом. На существование границы, отделяющей бытовой
порядок от хаоса указывает и чур, то есть пращур,
запрещающий что-либо делать чересчур.
Порядок, или ритм быта, определяет община. Русское
сознание относит собор к церкви, а общину — к мирской
жизни. Собор просвещал общину, ее быт, делал его мягче и
тем самым определял отношение к личности. Для того
чтобы была личность, нужно разъединение, различие. В общине
личность не нужна. Здесь она приносится в жертву. Ведь об-
263
щество реализует право, договор, а община требует братства,
то есть соучастия в целом. А там, где целое, там и жертва1. В
общине личность существует в отречении от личности, то
есть в преодолении разделения2. Община, по замечанию К.
Аксакова, союз людей, отказавшихся от своего эгоизма. Это
нравственный хор3.
Чаяние нового социального порядка русская культура
связывает с ойкуменической целокупностью людей. Вся
Россия — один человек. Эти слова принадлежат Гоголю4.
Новое же состоит в том, что побратание в русской культуре
считается родней даже кровного братства. Всечеловечески —
братское единение делает пеленой бестолковую
подражательность Западной культуре. «Россия, положим, в Европе, а
главное в Азии. В Азию? В Азию». Так формулирует
проблему Ф. Достоевский5. «Не понимаю я деления на Восток и
Запад», — говорил А. Белый. Вот разделим мир и получим
Восток на одной стороне, а Запад — на другой. То есть наш
умственный взор населен несуществующими западами и
востоками6. «Ни Восток, ни Запад, ни Север, ни Юг... вглубь
надо, в себя надо; к Богу надо. Почему же нельзя без
припадания? Быть собой надо, а не искажением» Так считал
И. Ильин.
Новый космизм русской мысли — в неделении мира.
Или, как заметил М. Волошин, в предназначении России,
которая собой восток и запад сопряжет7. То, что в Европе
называли цивилизованностью, в Китае назвали Вэнь, то есть
узор. Мир существует, если он является отражением. Но
сказать, отражением чего он является, нельзя. Нет абсолюта.
Поэтому на первый план выступает маска, кодируемая
ритуалом, ритмом, церемонией. То, что в России удерживает
собор, в культуре Китая — ритуал, непрерывность действия
которого удерживает противоположности в равновесии.
1 Хомяков A.C. ПСС. М., 1900, т.1, с.171; т.З, с.198.
2 Самарин Ю.Ф. Сочинения. М„ 1900, т.1, с.35; с.41.
3 Аксаков КС. Сочинения. М., 1889, т.1, с.292.
■■ 4 Гоголь Н.В. Сочинения в 7-ми томах. М., 1991, т.6, с.368.
5 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочьшений в 30-ти томах. М.,
1984, Т.27, с.83.
6 Белый А. Восток и Запад. Эпоха. М., 1918, кн.1, с.166-167. г'
7 Волопшн М. Стихи. М., 1991, с.122.
264
Непрерывность культуры дословного обеспечивается
ритуалом. Непрерывность мышления —
трансцендентальным субъектом, тем, что не существует. Ойкуменический
взгляд на мир не нуждается в идее смерти как некоем
фундаментальном событии. Для того чтобы бытие было
непрерывно, нужна не смерть, а маска. Не было бы маски, не
было бы и истории, не было бы и примеров для подражания.
Все едят. Но не у всех хороший вкус.
Сопряжение культуры России с Востоком можно
отметить и в сакрализации пространства. Бог воплощается не в
Человека, а в пространство, в геометрию. Пространство
поверхности складывается в космос. И это Россия. Или же оно
символизирует связи человека и природы. И это Япония.
Расширение пространства поверхности связано с
эстетическими возможностями японской культуры, с искусством
бонсай — выращиванием карликовых деревьев, или бонэски.
Природа — это не знание о природе. А тысячи идеальных
пейзажей. Руководство по конструированию садов. ЕслиЧы
богат, то у тебя живая зелень. Если ты беден, то ты можешь
искусственно расширить пространство.
Россия близка Востоку своим евразийством.
Разрушение крестьянского слоя в России опустошило ее
внутренний мир. «Оторвите крестьянина от земли, от тех
забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми
она волнует его, — добейтесь, чтобы он забыл крестьянство, —
и нет этого народа, нет народного мировоззрения, нет тепла,
которое идет от него. Остается один пустой аппарат
человеческого организма»1.
В России важен, по словам Достоевского, порядок в
земле и на земле, и это важно во всем человечестве. Весь
порядок в каждой стране — политический, гражданский,
всякий — всегда связан с почвой и с характером
землевладения в стране. В каком характере сложилось землевладение, в
таком характере сложилось и все остальное.
Россия, как и Восток, первостепенное значение придает
миру живой природы. Человек здесь — органическая часть
мира. Джайнизм провозглашает принцип непричинения
вреда живым существам. В России развивалась концепция
1 Успенский Г. И. Власть земли. М., 1988.
265
генетического почвоведения В. Докучаева, биоценоза В.
Сукачева, биосферы В. Вернадского.
По словам Воейкова, есть американская и китайская
система землепользования. Китаец или японец могут жить
произведениями гораздо меньшего пространства земли, чем
англичанин или американец.
В философии В. Соловьева рационализируется опыт
народной души в таких понятиях, как София, где София — это
душа мира, Вечная женственность. Но софия — это чистый
Восток, а именно синтоизм, индуизм. В Китае — это инь,
женственность, находящаяся в общении с мужским началом
ян. Запад — абсолютизирует мужское начало. Восток —
женское. Россия — андрогинна.
4.1.Евразийские тропы в пространстве пата
Евразийство — комплекс идей, сложившихся в 20-е годы
XX века в среде русской эмиграции. К евразийцам
принадлежали Н. Трубецкой, Г. Вернадский, П. Савицкий, Л, Карсавин,
П. Сувчинский,/Г. Флоровский. К младшему поколения
евразийцев принадлежит и Л. Гумилев. Реакция русской
интеллигенции на революцию 1917 года привела к пересмотру
взглядов на историю и на место России в этой истории.
Бродить по евразийским тропам стало делом привь№
ным, но не менее опасным, чем во времена «Исхода к
Востоку». Опасен сам евразийский искус, или, как говорил
Г. Флоровский, евразийский соблазн1. Соблазненные,
пойдем и мы. Не по следам первых, но как наследники, не туда
же, но за ними.
Тропы
Мало осталось тем, внутри которых не оставили бы свои
следы евразийцы. Они, если иметь ввиду Л. Карсавина,
наследили даже в философии, изменяя семантику ее слова.
Сдвиг от прямого смысла к косвенному составляет тропы, то
есть поворот повернувшего2.
1 Флоровский Г. Евразийский соблазн. Новый мир, 1991, № 1. -
2 Карсавин Л. Государство и кризис демократии. Новый мир, 1991, №1.
266
Во время одного из таких поворотов Евразия перестала
быть материком Земли и стала новоязыческим символом
России, эзотерическим языком ее описания.
Но тропы — это не только смысловой поворот. Тропами
ходят и звери. Например, на водопой. Свой путь они
пробивают в согласии со стихией земли своим бессознательным.
Евразийцы люди сознания. Они прокладывают свои тропы
так, как прокладывают узкоколейки, то есть с прямизной
мысли и без околичностей. Изворотливость поворота непо-
вернувшего не для колеи Евразии. Колея тропы — это уже
что-то немыслимое. Но именно такой колеей стала для
евразийцев идея необратимости.
Если русская религиозно-философская мысль что-то и
сделала после 1917 года, то это что-то связано с
евразийством. Так говорил Г. Федотов. А он человек осторожный. Но и
его задела по какой-то касательной тема евразийских
изысканий. Тема актуальная и для России, и для облика
современной социальной философии вообще. Я знал, что
Евразия — это особый культурно-языковой мир. Но в чем
философский смысл этой особенности? Мне кажется, что в
децентрирующей функции евразийцев относительно
европейской культуры. И здесь нужно отметить, что это не
децентрированре Ж. Делеза и Ж. Деррида, а децентрирова-
ние нулевое, при котором то, что было в центре оказывается
не маргиналией, а пространством пата. Во-первых,
евразийцы обозначили момент, когда не срабатывает идеология
развития. Вот если есть развитие, то что-то является
ступенькой по отношению к чему-то другому. И тогда есть верх
и низ, то есть бинарные структуры мышления. А вот для
того, чтобы соскочить со ступенек развития, нужно было идею
несоизмеримой разности, различия. Но несоизмеримое
нельзя внести в ментальность, потому что ментальность
производна от латинского mesurare, то есть измеряю. А
евразийство устанавливает что-то несоизмеримое. И вот эта
несоизмеримость, или отказ от идеи развития, привела к
новой ментальное™, к евразийской. Что мы можем сказать?
Только то, что вот есть похожие вещи и непохожие. И все. О
равной ценности говорить здесь не стоит. Нет ее. Скорее,
наоборот. Непохожее обладает разной ценностью. Во всяком
случае, это было бы точнее и ближе к духу евразийской
ментальное™, а не букве.
267
Например, что связывает Россию со славянством,
вернее, что общего у всех славян? Русский литературный язык.
Нет общеславянского антропологического типа. Вот, наг·
пример, индокитайский, то есть мажорный, звукоряд
русских обрядовых и свадебных песен, существует. Что это
значит? Здесь русские перемигиваются с Востоком, а не с
Западом. В этом перемигивании отсутствуют полутона. В
русской песне нет ритма вальса и мазурки. А в
романо-германской культуре он есть. А почему у нас нет? Потому что
мы — русские, а не европейцы, от азиатов нас отличает то,
что у них унисонное пение, а у нас хоровая полифония.
Также и танцы. В романо-германской культуре парное
исполнение и синхронность движения, а у нас не
обязательна пара и синхронность. То есть в Европе танец
сексуальный, а у нас, как у горцев, состязание в ловкости и
ритмике. Обрядовость и созерцательность Востока нам
понятны. Мы сами созерцательны. У нас вера — это быт. Это,
как говорил Розанов, свечка, а не трансценденция. В
Европе — действие, а оно нам непонятно.
Как особая географическая система Евразия начинается
у Великой Китайской стены и заканчивается во Львове.
Концептуально евразийское умонастроение группируется
вокруг таких ключевых понятий, как «океан-континент»,
месторазвитие. Понятно, что Россия лежит вдалеке от
океанических путей. А в Европе нет таких территорий, которые
бы удалялись от океана более чем на 600 км. Россия —
континент. Европа — океаническая. В ней океанический
характер обмена. В России — континентальный, то есть Урал
принужден получать мясо не из Новой Зеландии, из
Уфимской губернии. Поэтому-то для Евразии характерна модель
хозяйственного «самодовления». В России материковое
хозяйство, а не океаническое.
В составе евразийских представлений есть одно
обстоятельство, на которое мало обращено внимания. Я имею в
виду то, что Ламанский В.И. обозначал как место, в котором
одно закончилось, а другое еще не началось. Восток
закончился, а Запад еще нет. Так вот революционное изменение в
системе мышления связано с тем, что евразийцы ввели
нулевой зазор между .бинарными структурами. В центре,
посередине они поместили ноль.
268
Культурологически и географически таким нулевым
зазором является Россия. Она же нулевой синтез, который, по
словам Савицкого, изучает теософия. То есть, отказавшись
от бинарных структур «верх-низ», «Запад-Восток» нужно
было отказаться от идеи развития. А если нет развития, то
нет и третьего в качестве синтеза, а есть третье как
ноль-посредник. И в символическом смысле следует рассматривать
даже миграцию культуры. Я обращаю внимание на слово
«миграция» а не развитие. Так вот по Савицкому эта
миграция началась с культур в 20° по Цельсию средневековой
температуры в Египте, спустилась к 5° по Цельсию в
Германии, и передвигается в Россию-Евразию и в Северную
Америку, где среднегодовая температура около 0°С. Дело
здесь не в искусственном характере мышления, а в символе
другого способа мышления, который привел к пересмотру
русской истории и переоценке «татаро-монгольского ига».
Возьмем опять-таки Бицилли. Вот была бинарная
структура Восток-Запад. А Бицилли отказывается от этой
структуры. Почему? На мой же взгляд, Бицилли
отказывается от нее потому, что есть еще то, что посередине. А
посередине — центр. Метафизический, а не содержательный
ноль. Потому что если бы ноль был содержательный, то это
была бы одна из противоположностей бинарной структуры.
А так есть ноль-центр и есть окраина. И этот центр нельзя
децентрировать, потому что он ноль. Итак, вместо
«Восток-Запад» Бицилли предлагает «центр-окраина».
Евразия — центр, Европа — окраина. И Китай — окраина. И эта
окраина никогда не сможет попасть в центр. Потому что в
нем ноль. То есть существуют движения, но нет единого
развития культуры. А вот тех, кто населяет этот центр, изучают
историки, это уже дело истории.
Так же символически евразийцы трактуют и два подвига
Александра Невского, и неудачу Даниила Галицкого. И
оппозицию «лес-степь», которая не является бинарно.
Необратимость
Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Божие. Структурами обратимости в человеке
создается и воспроизводится что-то детское, то есть когда я
вижу в мире обратимость, я ребенок. Иным, недетским обра-
269
зом, ее увидеть нельзя. Ведь мы видим не потому, что что-то
есть, а потому, что установили себя в качестве видящих и
затем пускаем взгляды, как стрелы, и они попадают в цель.
Нужно быть детьми, чтобы в мире было что-то
обратимое. Почему? Потому что юность — это не время, когда еще
можно стать взрослым, а состояние вневременное™, то есть
исполнения себя под знаком абсолютного. Ведь молодость
длится, если она себя видит вечной. Жизнь безразлична ко
времени, если она бесконечна, в бесконечности всегда
можно вернуться туда, откуда ты ушел. Вернуться и начать все
сначала.
Уже Ницше понял, что идея возвращения утеряна
современным человеком, что она вне горизонта его сознания.
Русский религиозно-философский ренессанс — это
последняя попытка вернуться к истокам. Русские философы, как
дети. Они думали, что мир обратим и описывали его в
терминах абсолютного сознания. Но эти дети быстро
состарились. Евразийство — это старость русской
философии. Почему?-Потому что они уже видели, что мир
необратим, что^случившееся, случившись, накладывает
запрет на обратимость неслучившегося. То есть происходит
что-то, что уже нельзя отменить. Нельзя бывшее сделать
небывшим. Они знали, что можно сделать вид, как если бы то,
что было, не было. Но это знание взрослых. А оно не наивно.
Невинность наивных — хорошая почва для цинизма
искушенных в искушении наивных.
Евразийцы потеряли невинность и поняли, что факт есть
факт, а не нечто большее. Если это так, то нужно принять и
Россию, как факт, и революцию, которая своим фактом
отменяет этот факт. И эта отмена необратима в том смысле,
что она теперь делает для русских интересными не немца
или француза, а скифов и гуннов. Новые варвары
неотвратимо приближаются. Новоевропейское время закончилось.
Европа агонизирует. Она становится Америкой.
Выход России
То, что Европа становится Америкой, не понял даже
Л. Карсавин, то есть он не понял то, что можно назвать
сдвигом субъективности. «Раньше они на нас ездили, теперь мы
270
их сами на себе возить будем». Так определяет содержание
этого сдвига один московский постмодернист.
Для того чтобы человек сам загонял себя в угол, который
ему указан извне, недостаточно овладеть его сознанием, то
есть словом. Необходимо приручить голос его
бессознательного. А что значит овладеть или приручить? Это значит
децентрировать волю, то есть создать ситуацию, в которой я
невольно делаю то, что вольна я не делаю. Во мне растут
хотения и желания, а центр этих хотений и желаний вне меня.
Значения на видимой стороне, а означающие значения на
невидимой. Во мне желания, но желаю-то не я. Вернее,
желаю Я, но желаемое мною сконструировано в поле
абсолютной разумности. Америка и есть это поле. Она его
символ, то есть символ социальной машины, производящей
новую реальность и мышление, мыслящее эту реальность.
Кто может спасти кролика, когда на него смотрит удав?
Никто, потому что ему нужно спасти себя от своих желаний.
Что бессмысленно.
Беда евразийцев не в том, что они Россию называли
кроликом. Они думали, что удав — это романо-германская
Европа. Но Европа — неудавшийся удав. Она сама хочет
хотеть в своем оессознательном. Удав — Америка. Призрак
Америки броди? по России. Вот этого-то призрака и не
заметили евразийцы. Они, как П.Савицкий, твердили, что
Россия «выходит из рамок современной европейской
культуры»1, что у нее свой путь, иные исторические горизонты.
Не Россия выпала из европейского гнезда, а гнездо
распалось. Европа превращалась в Америку. Америка
готовилась к прыжку в цивилизацию третьей волны, то есть
училась сознательно контролировать поведение человека в
глубинах его бессознательного. Оставалось лишь завершить
цивилизацию второй волны, найти вершину завершения.
Америка прыгала, Россия завершала, Европа обезьянничала.
В России начался расцвет отжившей цивилизации. Но
внутреннего сцепления сил, порождающего эту
цивилизацию, в ней не было. Внутри нее не было того, что
соответствовало бы этому возрождению. То есть Россия бы-
1 Савицкий ПА Два мира. // На путях. Утверждение евразийцев.
Москва-Берлин, 1922, КН.2, с.9.
271
ла совсем молода, еще в начале своих начал, когда ей
пришлось распутывать концы старой Европы. В ней сомкнулись
начала и концы и произошло замыкание. Россия взорвалась
революциями, городами и индустриализацией. А она была
всего лишь его (капитализма) завершением. Евразийский
выбор России не состоялся. Почему? Потому что судьба
России немыслима вне собранности ее вокруг центра.
Децентрированный мир
Евразийские идеи плохо понимали. Вернее, по словам
Н.С. Трубецкого, их совсем не понимали. Но вот война —
первая мировая. И сдвиг в мышлении. И что-то понято.
Почему понято? Потому что война. Что понято? Что все
культуры равноценны, что нет ни варваров, ни
цивилизованных народов. Идея равенства создает новый дискурс, особое
видение. Внутри этого видения нельзя отличить
обозначаемое от обозначающего. Оно избавляет от фокусов центра.
Если есть центр, то значит есть и провинция и не все равны.
Если же все равно, то почему именно война ведет к
пониманию евразийских идей. Почему она становится «именной»,
имеющей имя в ряду равно безымянных? Кто именует. На
место события — войны и бесконечного ряда равных
событий можно поставить что угодно. Например, «яблоко упало»
или сон приснился, стакан разбился или дверь скрипнула.
Вот она скрипнула, и что-то понято, и это понятое далее
рассказывается уже без отсылки к скрипу. Впрочем, как и без
отсылки к войне или яблоку.
Разное чревато хаосом несистемного. Оно ускользает в
горизонте абсолютного самоопределения. Как же
объединить множество самоопределившихся атомов в одно целое,
да так, чтобы у этого целого не было центра? Евразийская
идея возникает как идея децентрированного мира равных в
своем различии. Зачем вообще нужно что-либо объединять?
Да не для того, чтобы что-то было, не для позитива, а для
того, чтобы не было негатива. Например, чтобы не было
распада. Ведь распад — это освобождение энергии. Это
взрыв, взрывающий живое. Объединять без центра
объединения — исходная интуиция современного мышления.
Н.С. Трубецкой — современный мыслитель, то еств он
всегда после времени. Для него мишенью критики (объек-
272
том распада) является еще не слово, не речь и не бытие, а
Европа, то есть не логоцентризм, а евроцентризм. Трубецкой
еще слишком наивен в своей серьезности, чтобы понимать
вне понятия. Непонятийная мысль будет актуализирована
позднее, на семинарах А. Кожева в Париже.
Центризм «есть начало нелогическое, а потому не может
служить базой для какой-либо теории»1. Трубецкой
последователен в своей непоследовательности, то есть для него
Европа не центр, а европейское нужно децентрировать, а вот
евразийская идея — это для него еще центр.
Логическое — это уловка с уклоном в сторону другого.
Нелогическое отсылает к самому себе, а не к другому.
Фактичность центра означает, что он ничего не обозначает, ни на
кого не ссылается. Напротив, это его означают и к нему
отсылают. Логический центр есть нечто вторичное, производное
по отношению к тому, маской чего он является. Логика
маскирует свою нелогичность. Сплошная фактичность
демаскирует мир или что то же самое, децентрирует его.
Что вменяется в вину центрированному миру?
Во-первых, он «антикультурен и антисоциален», во-вторых, «он
препятствует общежитию в широком смысле слова, то есть
свободному общению всяких существ»2. И в первом, и во
втором случаях ^избегают силы насилия. Но силы бессилия
не существуют. Центрированный мир — это мир силы. И в
этом смысле вопрос о природе центра, то есть является ли
она логической или внелогической, не имеем смысла. В
любом случае она сила.
Децентрированный мир уклоняется от силы
объединения силой. Евразийцы обессиливают силу силы, уповая на
силу слова и силу пространства. Самоопределившиеся в
распаде целого части может объединить идея как нечто
регулятивное, и территория как нечто протяженное.
Евразийцы еще хотят подчиняться разуму и пространству. Хотя
возможность такого подчинения ведет к силе центра и
должна быть децентрирована. В мире сплошной фактичности нет
места логике разума. В нем возможен ум вне слова и голоса,
вне знака означающего и представляющего, то есть ум, как
1 Трубецкой Н.С. Европа и человечество. София, 1920, с.9.
2 Там же.
18 Ф. Гиренок
273
факт ума, а не универсалий. Универсальность — свойство
центрированного мира. Любой универсализм покоится на
силе сильного, а не на равенстве силы. В том числе и
европейский универсализм, колонизирующий сознание
космополитизмом и шовинизмом. И слава Богу, что пока
еще есть шовинисты и космополиты, а не евразийцы. Это
означает, что мир еще не полностью децентрирован и в нем
пребывают остатки былой универсальности.
Сила — не культурна, если под культурой понимать
рассеяние силы, а не собирание ее в центре. Евразийцы
согласны допустить в децентрированный мир центр, если он
лишен силы и действует как псевдоуниверсалия.
Евразийская идея одной своей стороной коренится в
постмодернизме всеобщего уравнения, а другой — в
новоязыческих поисках тотальности. Различия, безразличные к
своим различиям, дополняются благодушным бессилием
целого быть целым.
Евразийцы не хотят ассимиляции, растворения одной
культуры в другой. Ведь результатом такого рассеяния
является возведение, особенного в ранг всеобщего, которое
действует чере^магию слов. Есть какой-то гипноз в таких
словах, как бытие, разум, человечество, общечеловеческие
ценности.
Магия должна быть лишена слов, а слово надо лишить
магии. Но для того чтобы это сделать, нужно иметь силу и
волю к власти. Н. Трубецкой предлагает центризму
перестать прятаться и показать себя помимо слов, его
маскирующих. Например, общечеловеческие ценности —
это просто европейские ценности, универсальная
цивилизация — это опять-таки романо-германская культура в ее
особенностях.
Эволюция, развитие, прогресс — это слова,
маскирующие волю к власти, центризм и империализм силы.
Евразийцы отрицают наличие какого-либо стержня
истории, существования некоей прямой прогресса, по которой
шло человечество. Вернее, шла Европа, а остальные либо
топтались на месте, либо ее догоняли, постоянно запаздывая.
Вот этот эффект постоянного запаздывания создается идеей
европеизации варваров. Евразийцы заменяют прямую
линию на некую плоскость, на карту, где все стоит на своем
месте, никуда не движется и никого не догоняет, а естествен-
274
но растет. Европеизация здесь немыслима. И эффект
постоянного запаздывания разрушается. Но домаскируя
универсализм, Трубецкой не знает, что делать со «щукой» в
нашем человеческом мире. Вернее, что делать с ее
претензией на универсальность. Ведь на то и щука в озере, чтобы
карась не дремал. Вот если бы ее истребить, то есть создать
такое озеро, в котором нет щуки-центра, а есть щука децент-
рированная, то тогда география пространства вползла бы в
лоно истории.
В мире, где есть центр, нужно учиться жить в чреве у
кита, чтобы выжить на основе неравенства, а не умереть на
основе равенства. Иными словами, абсолютность различий,
допускаемая равенством различного, заканчивается на
универсализме «чайника», который и в Европе, и в Евразии
остается чайником. Есть слова и есть предметы. Значения
слов локальны, а назначения вещей универсальны. Вы,
советует Трубецкой, предметы берите, а слова не берите.
Откажитесь от слов-терминов, ибо это слово-блуды, то есть
термины, вводящие в заблуждение своей универсальностью.
Нет универсальных слов. Есть подчинение одних слов
другими. Вот эта «властность» затем маскируется идеологией
совершенного самого по себе. То, что эту идеологию пора
разоблачить, с этим никто не спорит. И в этом понимании
евразийцы стоят у истоков современного мышления.
Но не значит ли отказ от понятий, что в децентрирован-
ном мире евразийцев появляются предметы, для которых
нет слов в языке. В конце концов эти пустоты можно
заполнить словами с локальными значениями; ситуативный язык,
то есть язык быта и контекста, не хуже теоретического
языка. Но и не лучше. Знать приметы природы, декодировать
привычки животных важно для мифологии народа, а не для
теории. Это значение удобно в быту, но не при создании
предметов с универсальным назначением. Если нет
сцепления тех внутренних субстанций, движение которых
приводит к созданию предметов, нами используемых, то что
может заполнить пустоту нашего внутреннего? Ничто.
«Вместо лестницы мы получаем горизонтальную
плоскость», в которой европеец и дикарь, субстанция и скрип
двери равны и несоизмеримы.
Децентрирование мира началось с восстания против
Европы, а закончилось восстанием против разума и языка.
18*
275
Евразийцы прошли этот путь наполовину Они рассеяли
мироздание, в центре которого был человек, но признали за
государством возможность быть не периферией. Человек
служивый стал возможен благодаря этой евразийской
возможности. В Евразии качество культуры определяют люди,
а не вещи. В ней даже дураки обладают какой-то
оригинальной глупостью. Европа сторонилась глупости и была
единосторонней в своей приверженности к уму. Евразийцы
предлагают отказаться от тех способов мышления, которые
построены в центрированной односторонности, отказаться
от характерного для романо-германской науки способа
мышления. «Этап этот — дело нелегкое, ибо предрассудки, о
которых идет речь, глубоко укоренились в сознании всякого
европейски «образованного» человека. Но этот отказ
необходим в целях объективности»1.
Евразийская антропология
Русский крестьянин не говорил «Я». Он говорил «Мы» и
мыкал горе, соблюдая безопасную дистанцию между собой и
космосом. Ведь '«Я» говорится, если установлено равенство
между Вселенной и говорящим. Каким же должно быть «Я»,
чтобы сравняться со Вселенной? Личным. То есть в момент,
когда «Я» — личность. Однажды первочеловек увидел
попугая и сказал: «Я — попугай». То есть что он сказал? Что
попугай его тотем, личный бог.
Неизвестно, что увидело «Я», когда оно сказало «Я —
личность». Личность — тотем европейского человека, но не
евразийского. Пример Даля. Стук в дверь. «Кто там? Мы. А
кто вы? Калмыки. А много ль вас? Я одна». Мы — это
неравенство. Оно разрушает тотем европейского человека.
«Личность» изобретена христианской Европой для того;
чтобы отличить человека от тучи комаров. В момент, когда
человек независим от «тучи», он не комар. Он личность. Его
принадлежность к роду человеческому есть нечто
производное от его принадлежности к Богу. На ответственности перед
Богом строилась независимость человека от мира, который;
как змей-искуситель, искушает человека
соблазнительными плодами.
1 Там же, с. 15.
276
«Исход на Восток» меняет представление о личности.
Евразийская антропология строится на зависимости
человека от мира. Человек — комар, общество — коллективная
личность, то есть туча. Иными словами, евразийская
личность открывает в себе целый космос. Быть целым — значит
уцелеть. Уцелевшее целое космоса вовлекает в космический
круговорот автономную личность. Зависимость от
круговорота делает человека не зависимым от Бога.
Когда А. Карташев сказал: «Полюбите стихию Космоса,
как любите ближнего своего», — его услышали евразийцы.
Им это понравилось. То есть что понравилось? То, что
нельзя вытравить никакой аскезой, — органические связи между
людьми. Есть связи духовные и есть связи космические. На
духовных связях далеко не уедешь. В них только часть
правды. Другая ее часть — в органической стихии космосов.
Евразийцы почувствовали эту правду»... В новом чувстве
космоса, именно в религиозном его восприятии, лежит
центральный секрет всех новых судеб религии в дальнейшей
истории»1.
Христова церковь должна смириться с фактом
существования гордого человека, а также уступить часть истины
стихиям космоса. Без космоса христианство мертво. С
космосом оно становится новым язычеством. Если христиане не
преодолеют аскетизма по отношению к стихиям космоса, их
чувства станут декорациями. Если преодолеют, то будут
новыми язычниками, «родственно слитыми с импульсами стихии».
«Ведь не для того же существует на Земле человечество
после Христа, чтобы вновь и вновь грешить и вновь и вновь
каяться. И не для того, чтобы родить новые и новые
миллионы душ, проводимых через очищающее горнило Церкви для
вечного блаженства. Если рождены и крещены уже
миллионы, то... почему не дождаться миллиардов?»2.
Свет Евразии
«Кто нам осветил путь, — вопрошали евразийцы и
отвечали: православие». Думали, что православие, а вышло, что
1 Карташев А. Реформа, реформация и исполнение. // На путях.
Утверждения евразийцев. Москва-Берлин, 1922, кн.2, с.76.
2 Там же, с.67.
277
новое язычество. Язычество смутило Г. Флоровского,
который распознал его, сник, а затем и совсем отошел от
евразийского движения.
Оно же поманило и заманило в свои сети Л. Карсавина.
Карсавина подвела теория симфонической личности. Ведь
что такое симфоническая личность? Коллектив. В качестве
симфонической личности хорошо выглядит партия
единомышленников. Вот эта идея единого сдвигала евразийцев к
левым, которые левее левых, и одновременно уводила
православие в будни быта, в повседневность крестин, венчаний,
панихиды и освящении. Там где был Бог, уже сияла идея.
Какая идея? Не все ли равно. Хотя бы и коммунистическая.
Теократия проиграла. Идеократия выиграла.
Православие должно светить светом невечерним. Это
заметил еще С. Булгаков. Свет — невечерний, если он льется с
небесных высот, из мира трансцендентной сущности.
Оттуда — свет, здесь — страх и трепет. Но как трепещет
симфоническая личность, еще никто не видел. Видимо,
симфонически. Коллектив не знает трепета. В нем нет света
личного отношения. В нем всегда мрак и чувство стада.
В современной душе нет ни страха, ни трепета. А это
симптом радикального разрыва между человеком и Богом.
Церковь, конечно, по-прежнему светит, но светит она светом
вечерним. Об этом знали многие. В том числе и А. Карташев.
Знали об этом и евразийцы, но говорить о закатившемся
солнце Христа было между ними, в отличие от религиозно-
философского общества, не принято. Правила приличия не
позволяли.
Но если есть закаты, то есть и восходы. Где же искать
утро? На Востоке. Душа европейского человека устремляется
на Восток, «ища там новой встречи с белыми утренними
лучами вечного дня».
Византия — это тоже Восток. Но не на этот Восток
Европы устремилась душа евразийского человека. Она дома — в
Азии. Пока евразийцы были в Европе, они усвоили идею об
абсолютной ценности человека. Между тем по закону
полноты в одном доме два абсолюта не уживаются. Кто-то
неизбежно будет лишним. Лишним оказался христианский
1 Там же, с.27.
278
Бог. Его сменила евразийская симфоническая личность,
которая приемлема и для Азии.
Пути на Восток мешает церковь. Нужна ли церковь?
Нет, не нужна. Ведь где нас двое или даже трое во Имя Его,
там и Он. Мы Его берем четвертым. Церкви между нами нет
места. И там, где я один во Имя Его, там и Он.
В момент, когда я один на один с Богом, я полностью
одинок и некому по-дать мне основания и нормы. Но ведь и
Он тоже одинок в своей абсолютности. Абсолютность
слишком хорошо отполирована, чтобы ее можно было вовлечь в
историю. Для этого у нее должна быть какая-то
шероховатость, выступы для оснований.
Нет у Бога этих выступов. А без них он гол как сокол.
Церковь не знает ответа на вопрос о смысле истории
человека. Мы ждали второго пришествия Христа и не понимали,
почему Он не приходит. Мы мечтали о тысячелетнем
Царстве Божием и не понимали, почему оно не устанавливается.
Когда мы ждали его, нам не нужна была история в ее
длительности. Она должна была закончиться. Когда мы узнали
вкус к бесконечной истории, мы перестали нуждаться в Нем.
Он нам не нужен, если история ведет нас на Восток.
Н. Трубецкой разбрасывал камни, Л. Карсавин —
собирал. И соорад. Истиной плюрализма оказался монизм.
То, что личность, как Бог, имеет право на творчество и
творение, для евразийцев означает, что имеет право на
творчество и симфоническая личность. Например, партия,
которая демократию меняет на демотию, представительскую
республику на народоводительство.
Объект
Чтобы были объекты, нужно что-то в себе отделять от
себя, делать чужим. Например, состояния превращать в
Co-стояния. Но тогда возникает проблема необъективи-
руемых содержаний. А эти содержания вне евразийского
замысла о новой жизни. Зачем нам новая жизнь? Затем что в
старой накапливается недовольство, зло, гнев. Откуда же
зло? А пустоты появляются, если нет дела, которое нас
захватывает целиком, то есть нет того, чтобы нас полностью
захватывало. Если неполностью, то есть пустоты, то есть нас
перестало наполнять то, чем мы живем. Жизнь — это одно, а
279
мы — другое. И наша жизнь — не наша. И вот когда она не
наша, но нами проживается, тогда мы проживаем не свою
жизнь.
В Евразии не будет пустот жизни и проблемы необъ-
ективируемых содержаний. Евразийский человек орган
сверхэмпирической личности, ее индивидуации.
Взгляд из тупика
Появление автономной личности проблематизировало
судьбу целого. Ведь если не существует запретов на
самоопределение, то целое погибло. Оно распадается на пучок
самоопределяющихся атомов. Для того чтобы оно не
погибло, нужно сохранить за целым право быть целым.
Среди евразийцев это право философски обосновывал
Л. Карсавин. Скрепы, скрепляющее целое, можно найти в
его теории индивидуации и субстанциональности единого.
Для Карсавина отказ от индивида перед лицом целого
«безобидная вещь» по сравнению с отказом от целого.
Философия всеединства Карсавина — это взгляд из
трансцендентной ^перспективы мира. Евразийская же
идеология — это покути своей взгляд из тупика. Пат истории
объявил уже П. Савицкий в рецензии на книгу Трубецкого
«Европа и человечество». Затем П. Сувчинский
провозгласил о том, что эпоха гениев закончилась и началось время
коллективной личности. Быт порвал всякие связи с бытием.
Православию рекомендовалось держаться стороны быта и
забыть то, что не сторона абсолютного бытия. Почему?
Ответ на этот вопрос угадан Н. Трубецким.
Бытие измеряется идеями, которые могут быть как
слева, так и справа. В бытии можно ходить как слева направо,
так и справа налево.
Европа пошла справа налево, за ней потянулась и Азия.
Но Евразия — это особый мир. Куда бы ты в нем не пошел,
ты никуда не придешь, ни к левому, ни к правому, ни к чему-
либо определенному вообще. Вернее, придешь к одному и
тому же: к растворению бытия в быте. В Евразии обыватель
тот, кто не укоренен в быту. Например, левые.
Ведь кто такие левые? Те, кто идет налево в поисках
новизны. Погоня за новым гонит левых. Все левое держится
ощущением новизны. Как у собаки пропадает нюх, так у ле-
280
вых пропадет ощущение новизны. И тогда рождаются
правые. Новое — не объект. Оно не существует само по себе, то
есть с пропажей ощущения пропадает и ощущаемое.
Правые — это левые, у которых пропал «нюх» к новому.
«В современной левизне есть какая-то косность, какая-то
боязнь новизны»1. Что же там левее левого, новее нового?
Об этом может узнать тот, кто прошел справа налево до
конца, до предела. То есть предел левого не правое, а пат.
Россия — это ноль Европы, предел ее левизны, «дальше
которого в этом же направлении идти некуда... чувствуется
какое-то доведение до абсурда, приближение к той точке, где
плюс-бесконечность переходит в минус-бесконечность...»2.
Если идти некуда, то естественно желание вернуться
назад, то есть пойти слева направо к тому, что правее правого.
Но нельзя из тупика пата вернуться назад и пройти путь
правых во второй первый раз. Новое мешает. Левое
побеждается не правым, а тем, что левее левого. Правое
неинтересно, если на него смотрят из тупика победы левого.
Оно на одной прямой с левым.
Пат изживает и левое и правое. Он принципиально
беспринципен в разрушении прямой линии истории. В нем нет
ни прогресса, ни регресса. Пат описывается в терминах
тренсцендентального апостериори, или, что то же самое, он
пасует перед мистикой жеста. Ведь жест — это
трансцендентальный поворот в опыте прыжка, то есть прыжок в никуда,
в то, что не имеет ни смысла, ни закона. Смыслы и законы
появятся потом, после поворота. Понимание того, что из
состояния пата не выходят логическими однородными
шагами, а выпрыгивают и что этим прыжком создается
реальность, показывает глубину евразийства.
Наложение руки
Народ есть множественное единство. Эта формула
встречается у Карсавина. То есть что сказано Карсавиным?
Что множественное единство не ходит по тротуарам. Но
мы-то ходим. Значит, мы не народ? Мы не безусловно на-
1 Трубецкой Н.С. У дверей реакция? Революция? Евразийская
хроника. Берлин, 1923, с.20.
2 Там же.
281
род, а со-словно. Наше у-словие — это те, которые уже были
до нас, и те, которые еще будут после нас.
Вот это прорастание вбок, в «до» и «после» и
фиксировано во множественном единстве. И это народ в органическом
понимании смысла этого слова. Ведь есть еще и
механическое его понимание, масштабом которого является
актуализированная единица, то есть человек без органов
прорастания в бок прошлого и будущего. Когда есть органы
прорастания, есть и то, что назьшают отечеством, родиной
или нацией. Актуализированный человек — без родины и
вне нации. Он ходит по тротуарам и к избирательным урнам.
Органическое понимание народа создает смысловое
поле, на котором не растет, например, демократия. Эта «ягода»
с другого поля. Для нее нужны автономные личности.
Откуда взять личность, если ей мешают быть органы прорастания
в множественное единство. Автономная личность — это
подозрительный субъект, тело без органов, человек с
завядшими отростками раз-множения. Этот-то человек и
дает сам себе законы в своей автономии, то есть обессиливает
целое как целое...
Состояние ^автономии создается тем, что берется рукой.
В мистическом жесте на-ложения руки на вещь рождается
единственный и его собственность. На-ложить руки на
себя — значит убить себя. Собственность граничит с
самоубийством.
Умножение единственных в круге подручного
разрешается в сообщество договорившихся. Круг отделяет
со-общников договора от того, что вне круга. Вне — целое
государство. Внутри — гражданское общество. И то, и другое
определено сговором и в этом смысле производно. Оттенок
производности целого улавливается евразийцами в качестве
того, что отделяет Европу от Евразии и губит в ней цветы
демократии. У демократии нет родины и нации. Она партийна.
В Европе нужно только успеть первым, на-ложить руку и
ты за кругом, под его защитой. В России на-ложение, то есть
факт собственности, сам по себе еще ничего не значит. Он
ждет признания со стороны целого. Почему? Потому что
трудом праведным не наживешь палат каменных. В этом
изначальный порок мира, исправить ложь которого на земле
вряд ли удастся. Русское сознание если и мечтает об
идеальном мире, то о таком, в котором каменные палаты
282
наживаются трудом праведным, то есть собственность
определена трудом, а не капиталом. А пока этого мира нет,
необходимо целое, которое своим вмешательством
сглаживает неправедность хозяйственного этоса.
Не схватывание на-ложением руки, а при-ложение рук,
то есть труд, доминирует в смысловом поле России, усиливая
власть публичного над частным. Усиление публичного
делает невозможным и ненужным гражданское общество,
возникающее под присмотром единственного. На этом поле
прививается и растет не разделение властей, а сословное
общество. Не расцветает на нем и любовь к интеллигибельному.
Ее заглушает привязанность к телесному и видимому миром.
Ведь на миру и смерть красна. Ноуменальная Россия чахнет
под тяжестью феноменальной. В России сколько голов,
столько и умов. При-ложения головы, то есть труд мысли,
помещаются русской ментальностью вне сферы труда, центр
которого она безоговорочно связала с тем, что делается
руками. Не голова, а руки символизируют субстанциональность
труда. Мысль, как дар Божий, ничего не стоит для русского
человека. Она приходит и уходит, а сделанное руками
остается. Мыслящий есть хлеб даром.
Теоретики евразийства отказываются от идеологии
труда и капитада. Труд — не основание для права на
собственность, если ты уже не собственник. Не труд, а
сделка определяет размеры дохода в евразийском мире. Мы,
русские, евразийцы. Почему? Потому что мы мистики и
наши мысли не согласованы друг с другом. Евразия — это
третий путь, рождающийся на перепутье. Хотя существует
их только два. Вернее, один, как теза. И второй, как антитеза.
Нас не устраивает ни тот, ни этот, ни существующее, ни
отрицание существующего.
«В настоящее время завелось немало пророков
российского капитализма»1. Но истина капитализма — социализм.
«И если пророчествуют капитализм, то, скорее, по
злорадству, чем по искреннему желанию добра будущей России»2.
Кто пророчествует? Интеллигенция, которая решила
отвести Россию на выучку к капитализму. Ее взяли под руки и
1 Алексеев Н. Собственность и социализм. Париж, 1928, с.82.
2 Там же.
283
ведут, а она сопротивляется. А ей говорят, что это
недемократично. «Если слова эти в конце 90-х годов прошлого
столетия звучали грубо и цинично, то теперь звучат они еще
и зло. Идите во власть «чумазому», желавшие построить
социальный рай. Поделом вам за проекты! И смакуя
бесплодие истории, особое упоение видят в том, что годы
жизни народной прошли бесплодно, что приходится
ворочаться подлинно вспять. А где же идеалы? Они впереди...
Когда на обломках коммунизма водворится новый
капитализм, тогда здание капитализма снова будут разрушать
новые социалисты и коммунисты. Замечательный
исторический план, напоминающий какой-то скверный анекдот»1.
Мы, русские, евразийцы. Почему? Потому что мы
мистики, а нашу интеллигенцию добродетели не научить. Ее тело
принадлежит России, но ум ее принадлежит Америко-Евро-
пе. Приходится надеяться на то, злые — еще не зло. Вот 1/6
суши, которую звали Россией и которая всегда была на
распутье. Она спотыкалась, падала и поднималась. И сейчас
упала. Лежит и,спрашивает свою голову, что же ей делать,
как быть? А в голове этой царя уже нет и сидит там
Иванушка, но не дурачок, а тот, которого Фонвизин в «Бригадире»
описал. Сидит этот Иванушка, голову чешет и говорит: ты,
мол, милая, подожди, самой тебе не подняться. Уж очень ты
большая. Вот придут Америка с Европой они тебе помогут
стать на ноги. Почему он так говорит? Потому что этот
Иванушка и есть интеллигенция, то есть тело его родилось в
России, а душа его принадлежит французской короне.
Евразийцы, в отличие от Иванушки, точно знают, что
многие страны придут и помогут. Но не бесплатно. Но потом
любезно не поклонятся и не отойдут. Россия, как пьяная
баба, растянулась в луже и лежит. А лежачих не бьют. Россия
теперь как бы ничья. И пока ее не поделят счастливчики
между собой, мировую войну нельзя считать законченной. В
этом, как заметил Трубецкой, суть русской проблемы.
Удастся ли построить русский мир по типу
договаривающихся между собой собственников? Удастся, если
государство станет ночным сторожем, если каждый будет
1 Там же, с.82.
284
знать один закон: ты меня и мое не трогай, а я тебя и твое не
трону. Только это будем уже не мы, а другие. Мы — самоеды.
Новые дикие
Евразия — это степь. Середина степи. Россия —
верстовые столбы, которые перемигиваются и переглядываются
друг с другом в бесконечности степи... TP... О чем
предупреждает этот знак? То ли о топоте и ржании лошадей, то ли о
дыме костров. Кого ждут верстовые столбы? Тех, кто
победил степь. Кочевников.
Степь да степь кругом... Она укачала полуночевую Русь.
И уничтожились все середины. И нет на Земле никаких
середин. Остепенись, лесная Русь... TP...
Без царя в голове
Был на Руси царь. Да теперь не скоро будет. А без царя
русская земля не правится. В Европе правится, а в России не
правится. Почему? То ли потому, что мы плохие европейцы,
то ли потому, мы право править понимаем иначе.
Чем славна Европа? Римским правом, то есть со-держа-
нием различия между публичным правом и частным в
Дигестах Юстиниана. Но не проросло римское право в
русском сердце. Нет для него онтологических корней. А без
этих корней не держится ни гуманизм Возрождения, ни
кодекс Наполеона. Что мешает? Соборная личность, то есть
единодушие многих. У любящих трансцендентное — одна
душа, и все они одинаковы в своем соборе.
Но если мы плохие европейцы, то не потому что мы
хорошие азиаты. Мы и в азиаты не вышли. Ведь у них бог, а у
нас богочеловек. Они растворились в мироздании, а мы
откупились от него искуплением Христа.
Право всего лишь уверяет русского человека в истине.
Но он-то знает, что истина на деле — это правда, а не право.
Стоять насмерть можно за правду, а не за логическую
истину. В России про правду слышали, а кривду видели. И теперь
даже дурак знает, что право кривде не помеха. Конечно, оез
правды жить легко, да умирать тяжело.
Или править. Править — значит исправлять неправое,
прямить кривое. Вот рукопись. Ее нужно править. Это
делает редактор. Вот дорога. Ее правит дорожник. А вот страна,
285
которую некому править; и ею правит всякий, кому не лень.
Правят криво, без соблюдения должного. А ведь править —
это еще и взыскивать и оправдывать. Право — не правит.
Править — это еще и давать направление, вести. В слепом
царстве слепых ведет тот, кто кривее кривых. Не всяк царя
видит, а всяк его знает. Что знает? Ум. Русское сознание
сближает царя и ум. Свой ум — царь в голове. Быть без царя
то же, что быть без ума. Царству без царя никак нельзя. Без
царя оно не царство, а так. Евразия какая-нибудь.
Например, была Россия, и было государство в его
географической громадности. К громадности Россию привела не
шизофреническая дизъюнкция, а имперская конъюнкция.
Вся территория империи принадлежала русскому народу, во
главе которого стоял царь. Но голову эту срезали, и
конъюнкция распалась. Государство еще жило, а хозяина в нем
уже не было. Вернее, жило тело русского государства. Пока
оно жило, у него выросло много новых голов. Правда, среди
этого многоголовия не оказалось русской головы. Роль
русских в государстве переменилась. Оно стало чужим.
Евразиец Трубецкой заметил это, но не огорчился. Пусть
будет много голов и одна партия. И в разных головах —
однопартийная идея. Он выбрал партию, а не царя. Выбрал и
проиграл. Евразийцы промахнулись, и вновь Россия стоит
перед шизофреническим выбором: одна партия на всех или
один царь. Или распад того, что Г. Вернадский называл
единым всеевразийским государством.
Это государство создали скифы, но ненадолго. Оно
распалось. Это же государство держали гунны и не удержали.
Оно упало и рассыпалось на Русь, половцев, печенегов,
хазар, авар и камских болгар. Затем пришли монголы и начали
все с самого начала. Начали хорошо, кончили плохо. Их
держава держалась долго и выделила Золотую Орду, Персию,
Китай. Из Золотой Орды, как из матрешки, высыпались
Русь, Литва, Казань, киргизы и узбеки.
То есть не мы первые строили единое евразийское
государство. И не мы последние, хотя Вернадский думал, что мы
последние. У всех оно распалось. Распадется и у нас.
Почему? Потому что нет одной головы. Вернее, была одна, как
партия, да без царя в голове. А без царя нас ждут не пути,
одни перепутья. Россия — витязь на перепутье. Она налево
пойдет — себя потеряет, направо пойдет — государство раз-
286
валит, прямо — добра лишится. Co-жители, говорят
евразийцы, должны сожительствовать. Но не сожительствуют
народы Евразии-России. И не потому, что их ничто не
объединяет. То есть нет силы имперского покоя, успокаивающей
беспокойных. Империя нужна не для рая потребляющих, а
для покоя успокоившихся.
Объединять может и разделение. Например, труда.
Но это объединение происходит за нашей спиной. Если
что-то мы и можем рассмотреть, то только хвост
феномена, ускользающего в неизвестном. Да и то боковым
зрением. Империя — это возможность полного обзора.
Но достигается эта возможность не системой
рефлексивных зеркал, как в парикмахерской, а знанием целого,
чувством принадлежности того, у чего нет ни зада, ни
переда. Это символическое знание и есть царь. Иначе
говоря, объединять можно и вне зависимости от
случайности разъединительного синтеза. Возможен имперский
способ объединения, который строится в феномене
сознания и действует в преположении полной ясности
царского обзора.
Россия — не избушка на курьих ножках. Она империя по
смыслу своему. И русские — имперский народ, то есть народ
кругового обзора, без зада и переда. Национальное
государство — не лучшее изобретение истории. Национальное
государство зависит от неизвестного, от того, что у него за
спиной. Что неизвестно? Предел деления. Деление
бесконечно. Предел останавливает произвол деления, то есть
самоопределения. Но этот предел — не нация, а империя. За
спиной национального государства дышит империя. Это
дыхание проявляется в требовании ограничить национальный
суверенитет и право на самоопределение. Вот этого-то
предела и не заметили евразийцы. Они хотели, как большевики,
каждой нации дать государство. И дали. Но русские
остались без государства. На них не хватило государства. И
тогда евразийцы выдвинули идею, чудовищную по силе
разрыва имперской природы человека, — создать государство
для русского народа. Русские стали сепаратистами. Этот
сепаратизм создан людьми без царя в голове. Время перестало
славянофильствовать. Оно теперь евразийствует. Евразия
создана для империи.
287
Провинция
Евразийцы — не провинциалы. Они — под-данные идеи,
а идея, коли она есть, то есть как мировое событие.
Провинциальны в простоте своей наивности
славянофилы. Ах, братья-славяне! Будем вместе. Эта мысль могла
зародиться только в уюте барского дома, в шепоте традиций.
Это даже не мысль, а тишина оседлости. Почему? Потому
что в ней однородное стремится к однородному и становится
усвоенным однородным. А это признак гиперполноты
пустого, рождающего шорохи. То есть где живут шорохи
мысли? В удалении от центра, в провинции или, что то же
самое, в пустоте удвоенной полноты, которая исчерпывает
провинциальный гений славянофилов. Например, А.
Хомякова, нелюбимого Соловьевыми, отцом и сыном. За что
нелюбовь? За шорохи. За полагание того, что есть, чем-то
большим, чем оно есть. Для Хомякова самое интересное в
мысли — не мысль, а помысливший мысль, его лицо.
Хомяков идет не к словам, а к источнику слов. Но так ходят
провинциалы. История не провинциалка. Она так не ходит.
История маргйналка. Она движется по меже
промежуточности. Это заметил К. Леонтьев и решил свернуть с дороги
промежутков. Ах, Азия! Будем азиатами. Мы им, неазиатам,
покажем. Леонтьев — эпатирующий провинциал. Он
эпатировал, Россия сворачивала с дороги и показывала
межумочность своего ума. Евразийцы хотят вернуть Россию
к себе самой. Вернуть куда? В разъединительный синтез
русской маргинальности. Евразийцы — мастера раннего
постмодерна. Для них русское никогда не было русским. Оно
всегда было татаро-славянским. Государство у русских — не
просто государство, а многогосударственное государство.
Евразийцы не переносят тождество банального. Оно
вызывает у них отвращение. Евразия любит синтез различного,
поэтому в евразийской России живет не народ, а
многонародный народ в его симфоническом единстве. Не Москва
столица России, а Киево-Сарай. У русских никогда не было
культуры как культуры. Но у нас была церковь.
Православная церковь и есть русская культура. Вера евразийских
маргиналов — православная культура, то есть языческое
христианство. Их собственность — частногосударственная.
288
Корни евразийцев не в океане, как у европейцев, и не в
континенте, как у азиатов, а в двуличии океана-континента.
Азия есть Азия. Европа — это Европа. Все это банально в
своей определенности. А вот сдвиг в определенности, в
смещении границ. Потеря идентификации эпатирует сумеречной
новизной. Евразия — не Азия и не Европа. Евразия — это
юбка-брюки, маргинальное понятие. Это месторазвитие, в
котором нет границ между Европой и Азией, местом и
развитием. Евразийцы — конструкторы деконструктивных
понятий.
Положение полагающих сверх положенного
провинциально, то есть провинция — это место, в котором сущее
перерастает существующее? Только в провинции слово
перестает быть словом и означает нечто большее, чем просто
слово. Пока существует такая означенность, будет
существовать и провинция. Провинциальная означенность уводит
вещи за пределы вещей к их вещему центру. В провинции эк-
зистируют не люди, а вещи.
Евразийцы — маргиналы, то есть люди второго первого
плана истории. Они не отражают, они создают реальность из
ничего в промежутках всякого что. Провинция переполнена
бытом, недвусмысленность которого парализует смысл
жизни всякого » непровинциала. В бытовой оседлости
провинциала можно вытерпеть нестерпимое, если все в ней
принимать за чистую монету. Простые мысли и твердые
верования отличают провинциала от децентрированного
центра. Маргинальное евразийство — центр децентрирова-
ния. Мир в нем деправинциализйруется. Теперь центр —
везде, и нет в мире места для наивных с их прямым взглядом
на историю. У евразийцев свой взгляд на историю. Это
взгляд, которым смотрят люди без царя в голове. Кто без
царя? Маргиналы. Провинция — это глубина. Маргиналы —
окраина промежутков, поверхность провинции.
«Кочевники» вышли из кавычек
О существовании «кочевников» я узнал, читая П. Сув-
чинского. Вообще-то, о кочевниках я знал и раньше, но вот о
том, что они перекочевали через кавычки, я узнал от
евразийцев. В частности, от Флоровского, в тексте которого
кочевники встречаются уже не в кавычках, а вполне натура-
19 Ф. Гирекок
289
листически, как то, что вывалилось за пределы смыслов
буквенного письма.
Кавычки — это пространство преобразований всякого
смысла. Преобразованные смысл оестествляют и гуляют на
воде. Пока они гуляют, кавычки стоят пустыми, так, как
показано в скобках (« »). Кавычки стоят, а туранское кочевое
идет. Идет без кавычек и без переноса смысла. Напрямик.
По всей России опять, как семьсот лет назад, запахло
жженым кизяком и верблюжьей шерстью. Дым, наверное от
костров, закрывает небо.
Что здесь стоит взять в кавычки, если стоит? И стоит ли?
Вот в чем вопрос, если, конечно, это вопрос. А то, что это
вопрос, на котором сломалась вся современная философия, не
вызывает сомнения. Хотя это-то и сомнительно. Ведь ясно
же, что никто кизяки не жжет. Жгут глаза. Даже кочевники.
Что кони не скачут, а значит, и не потеют. Их, может быть,
мирно везут на скотобойню. В конце концов есть еще и
дезодоранты!
Почему же Флоровского преследуют запахи? А то, что
они его преследуют, видно из текста, который я
процитировал. Хотя это, наверно, и не всем видно, потому что я не
поставил цитату в кавычки. Ведь если бы я их поставил, то
получилось бы так, что запахи преследуют только Флоровского.
Но это не так. Они преследуют и меня. Я не парфюмер, но
обонянию доверяю больше, чем логике. Немногие обладают
обонянием Флоровского, почувствовавшего приближение
орды кочевников, которые, может быть, вообще не
приближаются. Потому-то ближе уже некуда, то есть кочевники — это
мы. Но это понятно пока лишь обонятельно, а не
ноуменально, то есть это настолько далеко от нас, что дальше некуда.
Кочевники как будто бы даже и не существуют. Не могу же я
себя взять в кавычки. Ведь я не самоед, а закавыченные
люди—не кочевники.
Взять в кавычки — это то же самое, что обуздать. Кого?
Себя, если не удастся обуздать другого. Кавычки — это
культура письма. А она покоится на условности сказанного. Все,
что сказано, — условно. В том числе — и вышесказанное.
Но не брать в кавычки — значит кого-то скрыто
цитировать, выдавать чужое за свое. Цитата — это ведь просто
признак непрерывно возобновляемой письменной
культуры. Нечто делающее в нас себя. Письмо приземляет и
290
связывает. Для того чтобы написать, нужно, по крайней
мере, сесть за стол. Или остановиться, если ты кочевник. На
скаку ведь не напишешь. Письмо и есть то седло, которым
оседлал себя человек. Каждый текст — цитата.
Цитатами-создается автор. Авторами — биография. Имя — это уже
некоторая биография.
Но эпоха гениев закончилась. Ведь гений — это цитата,
которую все цитируют. Но сама она цитирует только себя.
Или делает вид, что цитирует себя. И вот запасы
самоцитирования, как запасы нефти, иссякли. Наступила кочевая
эпоха массового творчества, многократного повторения
неповторимого. Ноуменальный ряд ума соскользнул в
визуальный, зрительный — в обонятельный. Есть в технике
письма некоторая сверхумность, то, что можно только
видеть. Например, точки и кавычки.
Зрительный ряд преобладает в коллективном
менталитете самостирающейся мысли. Результаты массового
творчества я предлагаю записывать в системе запахов, а
декодировать — обонянием. Возможно, я не прав. Я всегда не
прав, но в этой неправоте — правда. Все мы вышли из
кавычек. В том числе — и анонсисты, которым я посветил на этой
евразийской тропе.
Новые дикие или пролетанты
Дикие — это кочевники, а кочевниками я, вслед за
евразийцами, называю тех, кто осознает себя бездомными в доме
бытия. Бездомность диких очевидна для оседлых. Дикие —
это прежде всего пролетанты, то есть нынешних времен
«татары и монголы».
Пролетанты состоят из пролетариев и интеллигенции. К
ним примыкают люмпены и те, кому нечего терять. Это —
продукт их перекрестного скрещивания. Некий устойчивый
мутант. Настоящие пролетанты исчерпываются формулой
«Мы — советские». В этой формуле есть то, что Трубецкой
называл кочевым евразийским национализмом.
Пролетанты — космополиты и безоседлые интернационалисты.
Чем отличается пролетант от непролетанта? Тем же, чем
кочевники отличаются от оседлых. Беспокойством.
Оседлыми бывают обыватели. Они живут не наездом, а постоянно.
Существовать — это значит где-то находится и уже потом —
19*
291
присутствовать или отсутствовать. Присутствуют
обыватели. Отсутствуют кочевники. Обыватель держит опыт делом,
а не умом. Ум у него задний, то есть он всегда запаздывает,
хотя должен опережать. И иотому-то он, обыватель, бывалый,
бывший на деле в деле, а не в уме о деле.
Это отличие впервые описано Сувчинским в познании
современности. Но в современность можно попасть и по
другой тропе. Например, со стороны Вышеславцева,
который никак не мог понять, почему восставшие восстают
против того, что они не видели и не говорят нет тому, что
они видят каждый день. Что не видели? Абсолютную
власть. Что же видят? Ежедневное властвование того, кто
их водит за руку. Кто водит? Руководитель. Например,
хозяин или начальник. Власть властвующего в
повседневности абсолютнее власти абсолютного. Эта власть
тоталитарная. Она не делает исключений. Власть над
повседневностью задает контуры власти вообще. На исходе
XX века повседневностью овладели кочевые и
полукочевые структуры власти.
От абсолютной власти спасет быт. От тоталитаризма
повседневного властвования спасает политика. Иными
словами, расширение свободы возможно двояким образом:
политическим и бытовым, если одно не заменяет другое.
Пролетантам нужна политическая свобода. Они кочевники.
С ними кочует и кочевая свобода, которая перестала быть
непорочной в свой охоте к перемене мест.
Бытовая свобода нуждается в оседлых. Она создается в
трудности труда их повседневного сопротивления политике.
Политика — это охота на тех, кто всегда чего-то хочет. Кто
хочет хотеть. Кочевой охотой на хотение держится политика
и похоть охоты. Хочу — это уже половина могу. Из когиталь-
ного «могу» проклюнуло пролетантское «хочу». Монарх —
это политика. Он далеко, а Вселенная села рядом. И далекое
опасно для близкого. Что опасно? Политика. То, что далеко
и, побуждая к далекому, делает его желанным. Не монарх
опасен (хотя он, может быть, и опасен) с его абсолютной
властью, а политика. Под корой абсолютной власти выросли
побеги бытовой свободы. Для того чтобы они были, нужно,
чтобы был двор, в который можно во-двориться, и было·
село, в котором можно поселрпъся. И не было площади с
292
площадной бранью. Оседлые соединили быт со свободой.
Кочевники прицепили к свободе политику.
Новые дикие трансцендируют власть, то есть они
удаляют в отдаление все, что могло быть рядом. Все стало
политикой. Пролетанты истребляют тихую повседневность
быта о-бывателя. Co-бытие перестало быть «бытием вместе»
и стало событием бытия, в непорядочности которого
исчезает то, что может быть только для порядка, а не для пользы и
нужды. В громе событий рождается политическая власть.
Сцеплением политики и власти пролетанты удерживают
всевластие власти, то есть своей власти. Все стало властью.
Везде следы власти. Но что же есть власть?
Власть это то, на что нельзя смотреть прямо. Лицо в
лицо. И поэтому никто не знает ее лица. И не может назвать ее
по имени. Власть анонимна. Она, как медуза горгона,
гипнотизирует. Болящие к власти лишаются воли. Живое
каменеет под взглядом власти. А слуги неожиданно
испытывают нужду в услугах того, кому они служат, то есть
господина.
Пролетанты на власть смотрят рефлексивно. Они ее
видят, а она их нет. Почему? Потому что у пролетантов есть
щит Персея. Имитация. Но и пролетанты видят не власть, а
отражение власти. Новые дикие властвуют над образом
власти, то есть словом, которое реальнее самого реального.
Сама реальность пребывает в царстве неизвестного. Это
царство — спонтанность. Или, что то же самое — произвол воли
неизвестного. Власть бесправна. Право ее унижает, но и
право безвластно. А правовая власть лишена смысла, если она
не коренится в неизвестности бытовой власти обывателя.
Власть выше закона, выше власти обыватель.
Бытовая власть — это возможность делать то, что иным
образом сделать нельзя. Бытом вяжется связь свободы и
спонтанности. В пространстве спонтанного действия власть
связана силой. Здесь властвует то, что претерпело терпение
смирением труда. Вне быта власть — это воля над тем, у кого
она была и откуда она ушла. У нее появляется верх и низ,
слуга и господин. Всякая власть прячется за свободой. Но
политическая власть пролетантов прячется за барьером
собственности, а бытовая прогуливается во дворе села.
Детерриториализованная власть собственности мыслится
вне дома и помимо села. Политическая власть в село не все-
293
ляется. На смену бытовой демократии пришла
политическая демократия, под опекой которой сформировался
тоталитаризм повседневного действия власти.
Политическая демократия — поверхность прикрытия глубины
бытового тоталитаризма.
Сила не создает власть. Комара можно убить, если есть
сила, но нельзя его силой втянуть в поле власти. То есть
нельзя его приручить. Собаке — приказывают, но кошку —
просят. Но приказ и просьба обращены к тому, кто уже во
власти, гипнозом, и это делает возможным существование
как приказа, так и просьбы.
Пролетанты — прирученные комары. Они — новые
дикие в лоне первобыта, мастера в деле поддельности.
Имитанты. Подручность ручного бытия стала
метафизикой границы власти. Но не все есть власть. Не всякое бытие
ручное, и не все оно в зоопарке прирученного бытия. Оно
еще может быть спонтанным, обессиливая силу власти
пролетантов.
Быт — это чистая власть. Она держится рукой
прирученных, то есть оседлыми.
Быт в быту^— значит быть уже прирученным в
подлинной подручности бытия, то есть быть домашним. Первое
прирученное существо есть человек. Новые дикие не люди —
они кочевники. Они вне бытия. То есть дома бытия. Их
распаляет пламя слова.
Эпоха оседлого человечества прошла и стала прошлой.
Этого не понял Хайдеггер, который тосковал по
крестьянским башмакам. Эпоха прошла, но что-то от нее осталось.
Например, национальное государство. Или родина. Ведь что
такое родина? Место, где ты родился, где живет твоя родня.
Народ без родины засыхает в своем уродстве. Но все дикие
не знают родины. Это Иваны, не помнящие родства. У них
нет нации, нет дома отца, то есть нет отечества, того, что
вырастает само по себе. Пролетанты конструктивны в
сооружении конструкций и деконструкций. Конструкция
делается в горизонте поддельного. Сделанное не вечно, хотя
оно и не умирает. Конструкция, как раковина, которую
покинул моллюск, подлежит деструкции. Из костной
конструкции убегает живое. Куда? В изначально живое, в
порядочность быта бытия. Быт болен кочевниками. Но
живое вечно, хотя оно и умирает.
294
В больной быт ушла нация из скорлупы государства. За
ней потянулась вера. На очереди демократия и свобода,
которые готовы сбросить панцирь политики. Идет великое
переселение душ от новых диких к новым язычникам и
далее — к буколике больного быта.
Оседлые ушли. Теперь власть кочует от менее оседлых
к еще менее оседлым с их псевдобытом и партийной
политикой. Партии пролетантов празднуют победу. Они, как
гужевой транспорт перевезли власть от оседлых к
кочевникам. Но между человеком и обществом, нацией и
государством уже пролегла трещина, в пустоте которой
зарождаются империи. Это будут империи пролетантов. Они
определяют движение кочевых масс на видимых и
невидимых мировых линиях истории. Суверенное право
псевдоличности кочевника затеряется в этих просторах. И
появятся новые орды кочевников, объединяемых идеей
единения. Эта идея побеждала и будет побеждать
политическую демократию и парламентаризм кочевников как
самораскрытие потаенной сущности их власти. Империя
даст пролетанту то, что он сам будет просить в
беспокойстве своего псевдобыта. Она даст ему идею служения и
радость самоотвержения при исполнении обязанностей во
имя целого. г
И кто знает, сколько пройдет еще времени, прежде чем
мы вернемся к простоте быта безмолвного бытия. И начнем
все сначала, но без начальствующих у начала. С ручного
бытия оседлых.
Указатель по евразийским тропам
1. Новоевропейское время закончилось. Европа
агонизирует. Она становится Америкой. Евразийский выбор России
не состоялся. Ее судьба — быть не европейской и не
азиатской. Призрак Америки бродит по России.
2. Начинается эпоха постмодерна и нового язычества в
политике, экономике, культуре и цивилизации. Пришла
пора иной ментальности, новых ценностей и ориентиров.
Прежде всего необходимо отказаться от псевдоидеологии
труда и капитала.
3. Не труд является конститутивным принципом
общества постмодерна, то есть обществом XXI века. Труд, его
295
разделение и функционирование, его обмен и распределение
был архитектоническим принципом традиционного
общества. Капитал лежал в основе всех форм собственности и
определял социальную структуру общества.
4. Главное действующее лицо в трудовом обществе —
симфонический индивид. В традиционном обществе — это
крестьянин. В индустриальном — рабочий. Их действия
принимались за образец реальности. В евразийском
обществе главное действующее лицо — симулянт, имитатор.
Человек, которого создал труд. Умер. Родился новый
человек. Его имя — человек у-дачи под-дельного. Но чаще мы его
узнаем как человека у-слуги симуляции.
5. Не производство, а идеократия склеивает в обществе
социальные структуры. Трудовая этика при смерти. Новая
этика обслуживает имморальность занятий тех, кто не умеет
жить, чтобы жить.
6. Сфера экономики перестала доминировать в жизни
людей. Распадение трудового общества обессмыслило
теорию трудовой стоимости, изменило роль собственности в
структуре социальности. Это изменение идет по двум
направлениям: появились собственники без собственности и
собственность без собственников. Новая собственность —
это контроль. Кто контролирует, тот и владеет. Все стало
политикой.
7. Труд и капитал, рынок и товар перестали задавать
ритм жизни общества. Социализм и капитализм,
пролетарии и буржуа — символ конфликтов в трудовом обществе.
Общество постмодерна самоопределяется вне этих
символов. Быт в нем выпадает из бытия символов, означающих
значение публичности.
7а. Важно расстаться с народнической идеологией.
8. Важнее всего отказаться от
либерально-демократической идеологии. Демократия нужна для тех, кто живет
внутри неподлинной публичности.
9. Свобода — зло, с которым нужно смириться.
10. Государство народоводительствует.
11. Народ не мыслит, мыслит элита. Народ чувствует.
Элита бесчувственна.
Идея о преимуществе прав личности над
государственным суверенитетом спорна. Не является самоочевидной и
«идея нормальности» России. Третий ли она Рим или не тре-
296
тий, в любом случае Россия — не Дания в силу своей
громадности. Решение вопроса о том, что подходит для России:
федерализм или унитарность — вряд ли может быть
отнесено к компетенции западной логики. Его решение, скорее,
является делом русской традиции. Среди евразийцев это
обстоятельство понимал Н.Алексеев1.
В Америко-Европе сложился свой способ отбора
правящей элиты, в котором задействовано множество партий. И
этот способ пока еще не работал в России. Далее.
Демократический механизм отбора неизменно превращается в
плутократический. При таком способе образования элиты
интересы целого легко подменяются интересами
плутократической олигархии и партий. Правит всегда меньшинство.
И это бесспорно. Но по традиции верховная власть в России
имеет не только права, но и обязанности. От нее ждут
«подвига власти». В России закон — это и право, и мораль, и вера.
И это нужно учитывать любому политику. Это, как снег
зимой. Российское общество не сумма независимых
гражданских атомов, а сплетение целостностей этнических,
территориальных, профессиональных, семейных. Не
принцип индивидуализма, а принцип соборности традиционно
развивался в России. Так пусть же он и развивается. Зачем
его менять? Государство в России — это не только ночной
сторож. Государство — сторож в Европе. А у нас на нем
лежат обязанности по отношению к гражданам. И эти
взаимообязательства делают невозможным
противопоставление гражданского общества и государства. Они должны
быть рядом. Если государство — это не сторож. То власть —
это не партийная колотушка. Последнее заставляет нас
отказаться от европейских форм политического мышления.
Пора перестать верить в возможность идеального
законодательства, гарантирующего благополучие народа. В
современной нашей политической жизни заметно
несоответствие между юридической формой жизни и бытом. Мы
усвоили западную юридическую форму, но не выработали
соответствующую ей технику жизни. Одновременно,
отказываясь полностью от национальных традиций, мы
потеряли все то положительное, что им было присуще. За-
1 Алексеев Н. Собственность и социализм. Париж, 1928.
297
падная форма требует точности исполнения обязательств и
неприкосновенности. Эта основа гражданских добродетелей
западного мира. В России преобладает идея служения. В ней
«я должен» преобладает над «я могу», то есть обязанность
по отношению к целому ставится выше права
неприкосновенности. Основа избирательной системы западного мира в
обладании правами как властвующих, так и народа. И эти
права противостоят друг другу Русские к власти привыкли
относиться в качестве того, что дает Бог. В России есть еще и
имперские обязанности государства по отношению к народу
и народа по отношению к государству. Россия — это
империя, а не Швейцария.
Всякая власть стремится к бесправию. Всякое право
стремится к безвластию. Закон — это минимум прав,
.который предполагает минимум власти.
Идея политической свободы и политического равенства
устарела уже и для Америки. В России она всегда
находилась на периферии общественного сознания. В России
свобода соединена с бытом. Бытовая свобода —
фундаментальная ценность России. К пониманию этой ценности
приближается^ападный мир. Запад привык к бытовому
тоталитаризму и политическому плюрализму на поверхности
этого тоталитаризма. В России развита культура бытовой
свободы и бытовой демократии. На поверхности вполне
возможен авторитаризм верховной власти.
Идея бытовой свободы и бытовой демократии указывает
на то, что в России исторически сформирована иная мен-
тальность, с которой нужно считаться не только политику,
но и философу.
Собственность перестала быть тем барьером, за которым
могла развиваться свобода. Собственность и свобода ныне
не связаны.
Россия не продолжает ориентироваться на ценности
трудового общества. Труд является конститутивным
принципом русского общества. Он считается источником
богатства, что вносит искажения в сознание русского
человека. Это искажение состоит в приравнивании физического
труда — к труду вообще. В Америко-Европе трудовое
общество разлагается. Не труд, а сделка определяет размеры
дохода. Труд, его разделение и функционирование, больше
не лежит в основе различных форм собственности и не явля-
298
ется онтологической базой для разделения властей, а
следовательно, и для существования партий. Время политических
партий прошло. Но они существуют.
Разделение властей не имеет более основы.
Собственность не связана отныне с трудом. Трудовая теория
стоимости потеряла свое значение. Человек, которого создал
труд, умер. Трудовая этика при смерти.
Согласится ли Россия с разложением трудового
общества — вот в чем вопрос для политика? Вряд ли.
Наряду с национальным устаревает и социальный
принцип. Деление на классы стало условно.
В образовании собственности принимает участие как
труд, так и капитал. Теории эксплуатации теряют четкость
своих определений. В России не производство, а идея
склеивала общество в одно целое. Этой идеей, повторяю, была
державность. Империя.
В русском праве понятие собственности имело своей
основой владение. Одним из искажений русского сознания
является соизмерение собственности трудом, а не
капиталом. На базе такого соизмерения существует идея
социального равенства. Это глупая идея. Мне нравится
философия неравенства. Но с идеей равенства нужно
считаться, равно как и с идеей справедливости.
Отказ от идеологии социального равенства наряду с
отказом от идеологии равенства наций составляет проблему
для будущих политиков России.
Собственность в России никогда не была абсолютной.
Собственник и общество связаны в сознании русского
человека идеей служения одному целому. Порвать эту связь в
один момент нельзя. Будет взрыв. Создание равных
стартовых условий для всех людей, а там кому как повезет, является
наиболее приемлемой формой частной собственности.
Сосуществование частных, кооперативных,
государственных и смешанных форм собственности отвечает
интуициям русского сознания.
Неограниченная власть над землей не допускается.
Абсолютно свободная купля и продажа земли никогда не
пользовалась уважением в русском обществе. Земельная
собственность требует вмешательства государства в
отношения собственников земельных. Земельная собственность
299
предполагает ограничения как по. объему владения, так и по
срокам возможного запустения хозяйства.
Размер земельной собственности максимально
определен либо возможностями личного труда собственника
вместе с допустимым количеством людей наемного труда,
либо составом союза семей производителей, либо
доходностью хозяйства.
Землей владеют не так, как владеют ботинками. Нужна
национализация земли, а не ее социализация. При
национализации собственник частный. При социализации —
собственник государство.
Реформа собственности достигается не переменой
субъектов собственности. Государство нельзя экспроприировать.
Детерриторизация государства невозможна.
И последнее. Сегодня все стало политикой. Но в России
община была вне политики. У нас государство не правило в
европейском смысле, а водительствовало. Верховная власть
не столько осуществляла надзор, сколько обязана была
вести народ к какой-то цели. Если ей некуда весит, то она
теряет право править.
Современное политические партии не ведут, а создают
правящую элиту. А нам это не интересно. Нам смысл нужен.
В России государство понимается не как торговая
компания, основанная собственниками, а как последняя опора и
надежда после Бога.
4.2. Интеллигенция. Симулятивные
пустоты культуры. Г.П. Федотов
Любая проблема имеет свою логику в виде истории. Де-
центрированному человеку предшествовал человек со
смещенным центром души — сознания. Вот этого-то уродца
в классически ясных формах описал Г.П. Федотов. Вернее,
указал на силы, сместившие центр души человека.
Поскольку Федотов не владел языком патофилософии, он эти силы
узнавал в образе атеизма, социализма и демократии.
Картография родословной
Георгий Петрович Федотов (1886-1951) — это, пожалуй,
самая крупная фигура постренессанской философии в
России. Если ренессанс блистал в течение немногих лет, что
300
протекли от смерти В. Соловьева (1853-1900) до смерти
В. Розанова (1856-1918), то постренессанская философия
еще и в 50-е годы нашего века была живой и плодотворной.
Федотову не везло на признание в академических кругах.
Его имя мы не встретим в истории русской философии ни у
Н. Лосского, ни у Б. Яковенко, ни у В. Зеньковского.
Между тем в Европе его можно было бы сравнить с Ор-
тегой-и-Тассетом и М. Вебером. В русском зарубежье его
знали как публициста. Церковь видит в нем специалиста по
агиологии, то есть житию святых. У нас в России его
сравнить не с кем. Здесь его просто не знают, хотя раооты
Федотова по истории русской культуры являются
классическими. А между тем для того, чтобы имя Федотова попало в
список авторов, обязательных для изучения в учебных
заведениях, достаточно трех его работ: «Трагедия
интеллигенции» и «Рождение свободы». А его «Письма о русской
культуре» должен был бы знать каждый школьник.
Аналитические возможности Федотова поражают
воображение. При чтении его работ — таких, как «Конец империй»,
«Запад и СССР», «Будет ли существовать Россия»,
приходишь к мысли, что они написаны не исследователем, а
пророком. Духовная ситуация нашего времени провидчески
описана Федотрвым в таких работах, как «В защиту этики»,
«В борьбе за искусство». Изящность слога выгодно отличает
его от иногда тяжеловесного С. Булгакова, а строгость
мысли—от бесконечно повторяющего самого себя Н. Бердяева.
О жизни Федотова нам известно немного. Знакомые и
сослуживцы смотрели на него по-разному. Например,
Н. Лосский видел в нем «мелкость ума» и «злобу», а
Н. Бердяев, напротив, говорил о талантливости и
утонченности мысли Федотова. Зинаида Гиппиус подозревала в нем
коварство, Ф. Степун отмечал порядочность. Правым в нем
не нравилось «левое», левым — православность. У Федотова
вообще, на мой взгляд, как-то не складывались отношения с
людьми. Он не легко шел на сближение и опасался потерять
барьер, за которым всегда можно было бы укрыться от
любопытных взглядов. Такой барьер на пути к нему не удалось
преодолеть даже Марине Цветаевой1.
1 Иваск Ю. Молчание // Опыты №1. Нью-Йорк, 1953, с.151.
301
Федотов был всегда ровен, спокоен, вежлив. Он умел
владеть собой. Эта выдержка принималась за бессердечие, а
его любовь к уединенности — за нелюбовь к людям.
Пожалуй, никогда так комфортно он не чувствовал себя, как в дни
общения с членами религиозно-философского кружка (и
прежде всего с А. Мейером и А. Карташевым в
послереволюционные годы).
В этом кружке хотели советскую власть «скрестить» с
православием и получить что-то диковинное, вроде
христианского социализма. Кружком интересовались левые
Мережковские, но он оказался левее, чем они думали, и они
отстали от него. Позднее более или менее сердечные
отношения у него установились с Бердяевым. Родственность
душ связывала Федотова со знаменитой матерью Марией и
Бунаковым-Фондаминским.
С коллегами-преподавателями у Федотова были более
сложные отношения. Простым отношениям мешали
рыцарские представления Федотова о чести.
Так, из-за несложившихся отношений с профессорами
Саратовского университета Федотову пришлось уйти
оттуда, уехать обратно в Петербург и заняться переводами.
Не менее сложными были и его отношения с
профессорами Богословского Православного института в Париже. «В
настоящем состоянии мира, — говорил Федотов, —
оппозиция единственно возможная и достойная позиция перед
ним». И он, невольно следуя К. Леонтьеву, эту позицию
старался отстоять. Благодаря воспоминаниям Ю. Иваска,
Ф. Степуна и Е. Федотовой мы можем понять, что Федотов
вряд ли был готов к роли «героя нашего времени». Сам он
как-то раз заметил, что герой нашего времени — не
художник и не мыслитель, а воин, организатор и спортсмен.
Но что поделаешь, если 1 октября 1886 г. в Саратове в
доме крупного губернского чиновника родился не гениальный
нападающий, а мыслитель и оппозиционер. И притом
довольно щуплый. Сколько бы юный Жорж ни старался
подняться по веревке в гимнастическом зале или
подтянуться на турнике, этого ему ни разу не удалось сделать.
То, что жизнь не любит слабых, Федотов понял еще в
интернате одной из гимназий Воронежа, куда он был помещен
по бедности семьи за казенный счет.
302
В гимназии же начался и «роман» Г. Федотова с социал-
демократией. «Правдой социализма поправить мир» — от
этой идеи он никогда не отказывался.
В 1904 г. Федотов заканчивает гимназию и «по идейным
соображениям» поступает в Технологический институт в
Петербурге. Ему, который любил латынь и греческую
мифологию и который ничего не понимал в технике и машинах,
необходимо было стать инженером, чтобы приблизиться к
рабочим и открыть им правду социализма. В этом он
повторил С. Булгакова, который привязал себя по тем же
соображениям к тачке политической экономии. Известно,
чем заканчиваются идейные увлечения. В 1905 г. Федотова
арестовали. Ночью в дом его деда-полицмейстера пришли
жандармы и тихонько, чтобы не разбудить старика, увели с
собой его внука. Федотов попадает в Германию и время
ссылки проводит за изучением истории.
В1908 г. он возвращается в Россию и поступает на
историко-филологический факультет Петербургского университета,
где посещает семинар Гревса. В 1910 г. он вновь эмигрирует.
На этот раз в Италию. Через год возвращается и живет по
поддельному паспорту. Затем его ссылают в Ригу. Здесь же
он сдает магистерский экзамен ив 1914 г. получает звание
приват-доцента Петербургского университета. Затем
революция и неприязненное к ней отношение Федотова. Работа в
Саратове...
Некоторые эпизоды в жизни Федотова остаются
непроясненными. Например, не ясен смысл слов, сказанных ему
друзьями в 1925 г. перед отъездом из России за границу:
«Торчи, где воткнут». Что это значит? «Нести свой крест»?
Мейер остался, Федотов уехал. Мейера убили в лагерях.
Федотов, слава Богу, умер сам. Какую невысказанную истину
нес в себе каждый из этих поступков? Почему позднее, в
Париже, ситуация повторилась? Федотов уехал в США,
опасаясь появления немцев. Бердяев и мать Мария
отказались от переезда и остались во Франции. Федотов как-то
сказал, что он не может молиться о мирном скончании
живота, что умирать надо на баррикадах или хотя бы под забором,
но не кровати, не мирно. Но баррикад у него не было, не оыло
и «забора». В самой натуре Федотова было что-то
«монашеское» в том смысле, который он сам придавал немирской
душе отшельника. Не нравственные поступки, а усилия по
303
восхождению к каким-то неведомым для нас грешных
вершинам отличали Федотова. Под знаком какой из четырех
стихий построил свою жизнь Г.П. Федотов? Ответ на этот
вопрос дает он сам: портрет русской интеллигенции,
выполненный Георгием Петровичем, является его автопортретом.
«Беззаветно преданный народу, искусству, идеям, —
положительно ищущий, за что бы пострадать, за что бы отдать свою
жизнь. Непримиримый враг всякой неправды, всякого
компромисса. Максималист в служении идее, он мало замечает
землю, не связан с почвой — святой, беспочвенник (как и
святой бессребреник), в полном смысле слова. Из четырех
стихий ему всего ближе огонь, всего дальше — земля,
которой он хочет служить, мысля свое служение в терминах
пламени, расплавленное™, пожара»1.
«Огонь» — это «крест» социализма, который нес на себе
Федотов. «Земля» — православие, главное событие как в
истории России, так и в жизни философа. Между ними —
«Молчание» и «Слово» Федотова; его сближение с русским
студенческим христианским движением и отход от него,
идея Нового Града и орден «Православное дело», и
«Надежда». Надежда — лучшее слово человеческого языка. Так
считал Федотов.
В 40-е годы он работает в Америке. Он пишет книгу
«Русская религиозная мысль» на английском языке. С
возрастом ему становится все труднее дышать «тяжким
воздухом земли»2. Федотов умер в Бэконе в 1951 г.
КП.Федотов — интеллигент. Рассказывая о судьбе
интеллигенции, он рассказывает о трагедии своей души,
история которой совместилась с историей самосознания
Европы и России. Вот это тройное совмещение делает трагедию
интеллигенции в изложении Федотова символичной.
Трагедия русской интеллигенции, как и всякое драматическое
действие, развивается в нескольких действиях.
Действие первое названо Федотовым «Царским селом».
Это название — ловушка историка, который рассказывает не
об истории, а о том, что может быть названо мышлением
истории, то есть ее схематизмом. Учитывая этот схематизм,
1 Федотов Г.П. Россия и свобода. Париж, 1981, с.86.
2 Иваск 10. Молчание. Опыты № 1. // Нью-Йорк, 1953, с. 152.
304
можно сказать, что «Царское село» — это не село, а символ
распада русской души, то есть начало существования
интеллигенции. У истоков ее существования стоит царь Петр I.
Второе действие происходит в Москве, на Арбате. Здесь
находились «особняки», которые вместе с гуманизмом
производили имитации гуманизма. Третье действие Федотов
связал с Екатерининским каналом, по которому стала
циркулировать беспочвенная идейность. В четвертом действии
из трагедии русской интеллигенции представлен
Таврический дворец, привилегией в котором стала свобода. И
последнее (пятое) действие трагедии Федотов переносит в
Кремль. В этом действии звучат уже трагикомические
нотки, ибо социалистический Кремль оказался, по мнению
Федотова, всего лишь блудным сыном христианства.
Царское село, или распад души
Интеллигенция — это роковая тема, «ключ к пониманию
России». Само ее появление стало возможным, по Федотову,
лишь в результате распада народной души. Когда, в какой
момент нашей истории он, этот распад, проявился? Не оживали
ли тени зазеркального мира интеллигенции в смене
идеалистов реалистами, реалистов — критически мыслящими
личностями, последних — народниками, ну а народников —
марксистами-социалистами? В этой сменяемости
просматривается полный жизненный цикл интеллигенции, ее колесо,
с которого она не может соскочить и по сей день. Чтобы
понять, что тебя ждет, нужно понять, в какой фазе цикла ты
находишься. Если ты критически мыслящая личность, то
идеалистом ты уже был, а народником скоро станешь.
Полное высвобождение энергии, обусловленное распадом
души, происходит на заключительной стадии, в момент
появления итернационал-социалистов, ибо в этот момент
интеллигенции занимается самосожжением, то есть
отрекается от самой себя.
«Царское село» — это время Новикова и Фонвизина,
союза поэтов и «орлов-завоевателей». Это время имперских
чувств интеллигенции, тех чувств, которые, видимо,
испытал и Федотов в период евразийских увлечений. Если мы
понимаем, что есть жизнь и есть еще идеалы, отличающиеся
от жизни, то на таком уровне понимания мы в круг интелли-
20 Ф. Гиренок
305
генции не войдем. Ведь русский интеллигент — это человек,
который жизнь подчиняет идеалу и за это подчинение готов
идти на смерть. Идея для него — это своего рода служба,
посещать которую он стал в петровские времена. Но трагедия
состоит не в этом. Идеи, которым мы служим, созданы
чужими усилиями, не нашим умом. А это значит, что в
интеллигентском служении идее изначально образовались
пустоты, которые жизнь легко простукивались. Ведь
интеллигенции нужно было быть на уровне идей, ею не
созданных. А для того чтобы подтянуться к этому уровню,
необходимо оторваться от почвы, то есть от всего того, что
вырастает, а не создается. «Царское село» — символ
оторванности интеллигенции от народа. Это момент, когда ее
уже отнесло от берега, но она все еще держится за власть.
История души, продуктом распада которой является
интеллигенция, сменяется историей «имморального человека», то
есть человека XX века.
В XX веке «личность теряет до конца свое достоинство,
свое отличие от животного»1. Этой констатацией Федотов
вводит нас в тему «имморального человека».
Для современного околонаучного сознания проблема
человека предстает прежде всего как проблема
биосоциальная. Изощренное сознание антропософа работает с тремя
элементами (или факторами): природными, личностными и
социальными. И то и другое сознание поставлено «на
постав» своей продукции для одичавшего сознания
цивилизованного человека. Этими поставками много лет кормилась
и «новая демократия», то есть советская интеллигенция.
Федотов — религиозный человек, и, как всякий
православный, он понимал проблему человека, не мудрствуя
лукаво. У каждого человека есть два лица. Одно он имеет от
природы, а другое он мог бы иметь как Божью идею о нем.
Бесконечное приближение первого ко второму как раз и
составляет содержание по-двига, то есть подвига быть
человеком. Проблема «имморального человека» состоит в
том, что он теряет это подвижничество, теряет лицо. Но если
нет этого второго лица, если нам досталось одно, то какие мы
1 Федотов ГЛ. Россия, Европа и мы. Париж, 1973, с.65.
306
тогда с монолицом? Куда идем (если идем)? К чему
совершается наш подвиг?
В контекст этих вопросов вплетается и нить судьбы
русского человека. Да, видимо, она и плелась-то Федотовым
для того, чтобы получше рассмотреть его новый
нехристианский образ. Федотов не уставал повторять, что слова не
невинны, что есть «магия слов» и этой магией окутана тайна
происхождения советского человека. Были русские, а стали
советские. Не укладывается ли это «становление» в
структуру пути к имморальное™, для которой «русскость» всего
лишь куколка бабочки, а не сама бабочка. Всматриваясь в
лица энтузиастов первых пятилеток, он никак не мог в них
распознать дорогие ему черты. Возникла новая порода
людей, в которой, если верить Федотову, не видно не только
универсального человека империи, но и от аскетического
образа старообрядческой Руси ничего не осталось, не говоря
уже о «вечевом» человеке Новгорода.
«Человек, — с горечью писал Федотов, — стал сам себе
противен до ненависти, до потребности убить себя, или, по
крайней мере, разбить свое отражение в зеркале»1. Анализ
сущностной метаморфозы современного человека построен
Федотовым на различении тела, души и духа. Это
различение живет в традиции, идущей со времен ап.Павла. Что
такое тело? То же, что и природа, которая попадает в нас, не
спрашивая нас. Но мы не выбираем и дух, то, что сближает
нас с ангелами. И тело, и дух вне сферы действия
«человеческого». Это низ и верх его природы: минимум и максимум
самого его существа. В каждом человеке есть что-то
звериное и что-то святое. Первое коренится в теле, второе — в
духе. Но ни в том ни в другом еще нет ничего человеческого.
От ангела есть, от зверя есть, а от человека нет ничего. Для
того чтобы обозначить человеческое в человеке, ап.Павлом
как раз и вводится слово «душа». Душа — это тот срединный
путь, который, если и не приведет нас к святости, то не
позволит свалиться в пропасть звероподобия нашей натуры.
Распад души — вот главное событие XX века, то есть не
революция, не открытие атомной энергии и, конечно не
теория относительности определили судьбу человека, а распад
1 Федотов Г.П. Тяжба о России. Париж, 1982, с.316.
20*
307
его души и освобожденная этим распадом энергия. Отныне
утеряна уравновешенность «пакостного» и «святого» в
человеке. «С цепи сорвались не только звери, но и ангелы, и
каждый теперь выделывает свое «незамысловатое «па»».
Анализ причин распада души Федотова едва намечен.
Но вот симптомы этой болезни описаны подробно. Начиная
с Канта, философы утверждали, что в человеке есть «вещи»,
которыми никто не может овладеть. Но социализм показал
возможность полного овладения человеческой личностью.
Оказывается, в природе нет таких законов, которые бы
запрещали использовать человеческую личность так, как
используют любое другое готовое к употреблению изделие.
«Государство, — пишет Федотов, — не оставляет ни одного
угла в его жилище, ни одного угла в его душе вне своего
контроля...»1. Мысль, искусство перестали быть делом
личности, они стали функцией государства. Для
государства-зверя политика становится человеческой отраслью
животноводства. Освободившееся животное начало
человека пошло гулять по «газонам» цивилизации. И поэтому
самая ходовая фраза современности звучит неброско:
«больше цивилизации и цивилизованности». Разгулявшуюся
«скотинку» нужно выдрессировать и приучить к работе. То
есть работник, производитель — «вот все, что остается от
человека»2. В обществе стали пользоваться успехом не
мыслители, а спортсмены. Когда-то люди сражались за
свободу, но в XX веке они уже сражались за партии. Появилась
возможность смерти за вождя, и многие эту возможность
использовали. Люди перестали говорить с Богом, но зато в них
проснулась жажда к ясновидению и экстрасенсорной
чувствительности. Утолять эту жажду подрядилось пока еще
малочисленное, но быстро размножающееся племя магов*
чародеев и теософов. В верхних слоях интеллигенции
разрушается старая эстетика и создается новая. В ее нижних
слоях увлекаются оккультизмом, диетой и йогой. Между
этими слоями нет почти никакой видимой связи.
Новая эстетика мира — в игре звуков, слов, линий и
цвета. Человек, используя принцип «отстранения», добрался до
1 Федотов ГП. Россия, Европа и мы. Париж, 1973, с.65.
2 Там же.
308
бессмыслицы мира и, кажется, здесь застрял. «Современный
человек, — по замечанию Федотова, — еще не отличается
существенно от старого — несколько больше зверь, несколько
больше дух, с ослабленными центрами рассудка и чувства»1.
А так все по-старому: те же глаза, нос, уши. Нет только души.
Ее нет ни в живописи, ни в литературе, ни у работника. Куда
же она испарилась? Почему человек ведет себя так, как если
бы из него кто-то вынул стержень и он обмяк? Нельзя
сказать, чтобы человек был уже слишком зол, но нельзя сказать,
чтобы он был и слишком добр. Ни добрый, ни злой, ни
умный, ни глупый, то есть никакой. Вот эта «никакойность»
оттеняется натурами ангельскими и животнообразными.
Федотов, воспитанный на идеалах личности, расцветшей в
средние века, не мог не заметить, как на горизонте XX
столетия появилась новая порода людей, которая ничем не
руководствовалась. Поступки были, а целей и мотивов не
было. От имморального человека можно было ожидать
всего. Все возможно. Вот этим принципом и объясняется
смерть души, что, согласно Федотову, есть не что иное, как
смерть морали. Святость, как и природа, внеморальна. Все
позволено зверям и ангелам, но не человеку. Иными
словами, не каждый человек может пуститься в поиск истины, не
для всех открыты ворота в мир искусства и творчества,
немногие из нас могут выдержать тяготы мистической жизни.
Те из нас, кто носит в себе зверя (или ангела), прорываются в
«Кастилию», обгоняют гениальную скаковую лошадь.
Но каждый человек может достигнуть «этической
гениальности»2. То есть нет ни одного человека, который бы не
мог достигнуть вершин морали. Именно поэтому мораль, а
не эстетика близка религии. Вот почему в Евангелии
Христос говорит так много о том, как относиться к ближнему, и
ничего не говорит, как писать стихи или заниматься
математикой. Федотов развивал эту мысль под знаком понимания
проблемы смерти и бессмертия. Сознание смерти отличает
человека от ангела и от зверя. Под смертью Федотов
разумеет не физический акт старения и угасания, а символический.
Иными словами, смерть возникает как последствие. Послед-
1 Федотов ГП. Лицо России. Париж, 1967, с.206.
2 Федотов Г. П. Новый Град. Нью-Йорк, 1952, с.363.
309
ствие чего? Моего собственного акта, предпринятого мной
шага. Ведь мораль — это сознание моей возможной гибели,
возникающей как последствие моего собственного акта.
Здесь каждый шаг — риск. Имморальный человек не
рискует, он, по словам Федотова, пишет стихи и шагами логики
измеряет мысль. Здесь нет этой роковой зависимости, и
поэтому современный человек не знает и проблемы бессмертия.
Незнание помогает натуральному человеку жить
животной жизнью, а духовному — ангельской, но лишь душевный
человек пребывает среди человеческого. Вот этого-то
человека и нет. Своими исходными метафизическими допущениями
язык Федотова исключал возможность точного определения
причины гибели души, которая не может не распасться, если
утеряна связь с одним из четырех мировых элементов — с
землей. А земля — это крестьянин. Гибель крестьянства — вот то
мировое событие, которое феноменологически фиксируется
Федотовым как распад души и которое еще не одну сотню лет
будет возвращаться к человеку в виде непредсказуемых
следствий его собственных дел.
Ренессанс тела и возрождение духа только усиливают
тоску по душе^которая делает оправданной критику как
науки, так и оккультизма. В бездушном мире человека
возникает одна уникальная проблема, подмеченная
В. Соловьевым в «Трех разговорах» и затем обсуждаемая
почти каждым русским философом. Это проблема
поддельности добра, или, как ее назвал Федотов, проблема
антихристова добра.
«...Смотря на многих современных «духоносцев», трудно
решить: от Бога ли они или от дьявола»1. То есть Бог и
дьявол, Христос и антихрист стали неразличимы. В этой
неразличенности вырастает подозрительность к добру и
истине. То, что зло может осуществляться в форме добра,
знали Кант и Достоевский. Но вот о возможности
появления христианства без Христа впервые заговорили русские
философы. То есть о чем они заговорили? О том, что есть
добро в мире, да нет добрых людей; есть знание, но нет
знающих. Нет кого? Нет тех, кому вменяется поступок, то
есть нет морали. Пусто. Страх перед пустотой заставляет
1 Федотов ГЛ. Новый Град. Нью-Йорк, 1952, с.352.
310
всех плотнее жаться друг к другу. Во время сжатия рвутся
традиционные связи, кровные союзы. Как грибы, вырастают
партии, союзы, общества. Миром правит масса.
Современный человек, описываемый Федотовым, — это человек,
обретающий себя в этих компактных общностях. В них он
находит свою идентичность. Символом нового человека был
для Федотова М. Горький.
Новым людям не нужна свобода. Она нужна
органическому человеку, а современный человек предает ее на каждом
шагу. Внеморальная духовность составляет суть
антихристова добра. Имморализм — это не открытое восстание
дьявола на добро, а имитация добра, его камуфляж.
Антихрист — это первый имморальный субъект, который в
отличие от дьявола творит зло в форме служения добру
Самое страшное падение человека состоит в том, что он,
по словам Федотова, отказался от свободы. Угрозу для
свободы ждали от генералов и королей. Но она пришла не с той
стороны, откуда ее ждали. «Свободу разрушает восставший
народ»1. Массы, как кочевники, ворвались в историю и
натворили в ней много бед. Удушение свободы — одно из них.
Но первыми предали свободу не массы, а культурная элита,
интеллигенции. Ведь «форма мышления массового человека
в общем не, отличалась от мышления интеллигента»2.
Формируя этот ход мысли, Федотов существенно
модернизирует концепцию «массы» Ортеги-и-Гассета. Для Федотова
подозрительность к добру, к морали обнаруживает
изначальную беспочвенность гуманизма. В этических
рассуждениях Федотова переосмысляется нравственный
поступок. Как правило, замечает Федотов, мораль не
отрицается. Напротив, подчеркивается ее полезность и
нужность. Мораль — дело нужное, но как бы второго сорта.
На фоне антихристовой морали становится очевидным, что
мораль — это общезначимые нормы, не знаконы. Законы
морали еще никого не спасли. Нравственный поступок состоит
не в приложении закона, а в акте доопределения .мира. Без
доопределения он распадается. Иными словами, Федотов
пытается проанализировать способы, которыми современ-
1 Федотов ГЛ. Восстание масс и свобода. Новая Россия. 1937, №19, с.4.
2 Там же, с.5.
311
ный человек сохраняет единство жизни. Это единство
достигается либо плетением органических связей, либо волей.
«В воле, — писал Федотов, — мы и находим настоящий ключ
к смыслу нашей эпохи. Воля есть единственная сила души,
которая не подвергалась отрицанию, ибо она как-то менее
всего выражает душевность. Воля, с одной стороны,
духовное, с другой — телесное напряжение. В ней сходятся верх и
низ человеческой природы и заключают свой военный союз
против центральной державы — души»1.
Человеку действия нужна не свобода. Свобода нужна
мыслителю, а не спортсмену Тому, кто действует, нужен
вождь. Ему необходимо научиться свою волю подчинять
целому. «Дух, воля, тело — вот полная схема нового
человека...», — каким его представляет себе Федотов2: «А
человек, — человек-сейчас звучит совсем не гордо, как некогда
для Горького. Человек так слаб, грешен и беззащитен. От его
величия к низости — один — и такой маленький шаг»3.
Арбат, или имитация гуманизма
«Арбатские ;йереулки» — это знак, по которому узнается
новая резиденция русской интеллигентской мысли. Герцен и
Белинский — поверенные этой мысли — находятся в
оппозиции к «Царскому селу». Здесь, в переулках, осуществился
полный отрыв русской интеллигенции от национальной
почвы. Ничто уже больше не держит ее у родных берегов.
Интеллигенцию сорвало и понесло в никуда, как уносит
ветром перекати-поле. «Очаг чистой мысли» образует мир,
гражданином которого она становится. В арбатских
переулках достигнут «предел законной европеизации» русской
культуры. Но интеллигенция, разогнавшись, уже не может
остановиться и выходит за предел, за которым
западничество русской мысли превращается в «бесплодное и косное
твержение задов». В арбатских переулках русской
интеллигенции была выношена манихейская идея о существовании
светлого и темного миров. Светлый мир — это демократия,
свобода и равенство, в темном мире растут цветы зла: рели-
1 Федотов ГП. Новый Град. Нью-Йорк, 1952, с.353.
2 Там же.
3 Федотов ГП. Восстание масс и свобода. Новая Россия, 1937, №19, с.8.
312
гия, национальное чувство и патриотизм. Светло в Европе,
темно в России. Если тьму что-то и рассеет, то это свет от
солнца, которое взошло на Западе.
В России, как и в любом другом уголке христианского
мира, столь же света, сколь и тьмы. Но по правилам игры в
светлый мир демократии, свободы и мысли (а позднее и
социализма) можно было войти лишь ценой отказа от
национальных и религиозных чувств. Всякий, кто поднимал
руку на атеизм, рисковал ударить по мысли, выступая за
сохранение культурных традиций, он мешал демократии и
оказывался реакционером. Чувства свободы и патриотизма
не вмещались в душе русской интеллигенции. Вот эта
несовместимость лежит в основе имитаций гуманизма и,
следовательно, в основе гибели гуманистической культуры,
описываемой, как правило, в терминах различения
цивилизации и культуры.
«Мы, — писал философ, — живем в эпоху гибели
гуманистической культуры»1. Не государства, не общества, а
культуры. Почему? Федотов, наводя порядок в
беспорядочном русском сознании, запрещал говорить о гуманном
государстве. Мыслить гуманного Левиафана — это то же
самое, что природу уличать в подлости.
Но если гибнет культура, то почему же нет погибших, не
видно «печалуемых» и скорбящих? Сама постановка такого
вопроса является одним из способов объективации мысли
Федотова, аналитической реконструкции его возможного
ответа. Культура традиционно мыслилась в оппозиции к
цивилизации. Утверждая, что она гибнет, Федотов, казалось
бы, должен был рассказать нам о том, что же происходило в
этот момент в цивилизацией. Может быть, нам достаточно
гуманной цивилизации?
Культура погибает, а цивилизация шаг за шагом
повышает свой уровень, и каждый этот шаг превращается в
праздник. «Розовые щеки» рабочей силы цивилизации
продолжают розоветь и в эпоху гибели гуманизма. Да так ли он
и нужен этот «гуманизм» и эта «культура», если их гибели
никто и не заметил?
1 Федотов Г.П. Тяжба о России. Париж, 1982, с.316.
313
Вот эта «розовость щек» при полном отсутствии лица
составляет для Федотова загадку, разгадывание которой
строится им в терминах различения цивилизации и
культуры. Культура понимается Федотовым традиционно для
русского философа: культура — это культура. Она рождается
в храме из культового действия. Цивилизация родилась на
улице в борьбе с природой. Культура — аристократка,
цивилизация (и в этом Федотов солидарен с Бердяевым) имеет
вид парвеню. Символика культа определяет лик культуры,
унитаз — визитная карточка цивилизации.
Гуманизм — это взгляд из храма на улицу, сострадание к
страдающему человеку. Но христианский оттенок в
понимании гуманизма не совпадает с ренессансным. В эпоху
Ренессанса гуманизм обозначает литературу, воспевавшую
славу и творчество. Не страдающий человек, а творящий
составляет пафос гуманизма. Гуманисты, скитавшиеся по
дворам тиранов, мало помышляли о свободе. В век Борджиа
ни о какой гуманности не могло быть и речи. Позднее в
предположении, что нет ничего, что могло бы быть выше
человека, гуманность и гуманизм совпали и стали практически
неразличимыми. Для гуманизма в наши дни нет корней, как
и для сострадания. Почему? Потому что нет предмета для
него: есть творчество, но нет творящих, как нет больше и
страдающих. Многие люди разучились страдать
(страданиями духа, а не тела), и поэтому сострадание лишилось почвы.
«Гуманизм в наши дни — хрупкая вещь, ибо он не
поддерживается больше общим потоком жизни и требует очень
глубоких корней для своего существования»1.
В трактовке гуманистической культуры Федотов
остается мыслителем XIX в. Иными словами, человек для него и
не сверхчеловек, но и не животное. Федотов в самых
изысканных выражениях передает свое восхищение и свой
душевный трепет при встрече с такими словами, как
«свобода», «личность», «самость», «мысль». Иногда даже
кажется, что гибелью культуры он называет само
существование XX века, в своих последних основаниях оставшегося
ему чуждым и непонятным. В нем философа раздражает
все: поэты не те, музыка не та, живопись вовсе ни в какие
1 Федотов Г.П. Восстание масс и свобода. Новая Россия. 1937, №19, с.8.
314
ворота не лезет. Федотов недоумевает: неужели художники
больше не различают лицо человека и его сапоги? Из
литературы напрочь исчез лелеемый христианством
«внутренний человек». Дух, на котором нет печати святого
Духа, заполнил мир. Он с ужасом замечает, что на каждом
шагу сталкивается с отвращением к человеку. Везде он
видит следы если не эроса безобразия, то эстетики
распотрошенного мира. В ситуации человека,
испытывающего отвращение к самому себе, гуманизм возможен только
как имитация.
Мир изменился, дела первых гуманистов растворились, а
их слова остались, и Федотов этими словами пытался
удержать поток жизни в гуманистическом русле. В XX веке
разум, конечно, уже не спит, но лучше бы он спал, потому
что бодрствующий разум, утратив почву, рождает монстров.
Сознание оказалось чем-то «бессознательным». Не осталось
ни одного человека, который мог бы сказать: «Я подумал».
Мысль перестала быть делом личности. Ее свобода основана
на неверии, а свобода вообще — на невозможности истины.
Апофеоз беспочвенности мысли делает правомерной только
одну установленность относительно лица, выражаемую
словами: «Во мне что-то подумало». Федотовская констатация
этой имитации органической мысли объясняет, почему
человек перестал смотреть и видеть. И в этом смысле слова
Пастернака: «Меня деревья плохо видят на отдаленном
берегу» — уже не кажутся странными. Скорее они выражают
философию нашего времени точнее, чем все сочинения
Декарта и Канта.
В XX веке нет не только дела личности, но нет и самой
личности. Мир оставил ее столь любимым для Федотова
средним векам, а сам, следуя грехам, довольствуется ее
имитацией. Для того чтобы была личность, нужна душа, а не
конвейер жизни. Мысль и добро стали делом не личности, а
гражданина мира. Дело личности — Бог, то есть оно было
тогда, когда Бог еще был жив. Но Бог умер, и умер человек.
Мы говорим «самость», но как можно быть самому, если нет
почвы под ногами? Только рефлексивно, в имитации. Не
личности, а огромные глыбы человеческих масс — вот в каком
«строительном материале» нуждается цивилизация.
Действительные вопросы жизни услышали не гуманисты, а
315
фашисты, но они дали «ложный ответ на подлинный
вопрос»1, то есть биологизировали национальную проблему.
Отказ от человека, от гуманизма выражает подлинное
умонастроение современного человека. Субъективно, то
есть личностно, Федотов решительно возражает против
этого отказа. Он стремится возродить старые добрые ценности,
не замечая, что их время прошло, что все они уже
осуществились в нигилизме. Федотов не принимает полностью
философию возвращения, ее реабилитацию органической
жизни. Для него органическая жизнь — это что-то слишком
«травяное», растительное. Противоречивость взглядов
Федотова на «органику» обусловлена пониманием того, что
культура уже отравлена «цветами зла, выросшими в
подполье», что она неизбежно в новых поколениях и с новой
силой будет возрождать идеологию фашизма. Гуманизм,
согласившись на релятивизацию духовных основ жизни,
допустил возможность таких последствий релятивизации,
которые исключают человека, делают его невозможным.
Вот эта «невозможность» и беспокоит Федотова. Ее-то он
и называет «гибелью» гуманистической культуры. То есть у
нас не осталось'Никаких оснований для того, чтобы, например,
выделить гуманизм в качестве какой-то привилегированной
ценности. Нет абсолютных ценностей: какие-то лики
абсолюта можно было разглядеть при заходящем солнце религии, но
затем наступил мрак полного гуманизма, при свете которого
выяснилось, что для примитивного хозяйства пригодна не
этика гуманизма, а этика каннибала. Гуманизм и каннибализм
одинаково оправданы, и одно не лучше другого. Все имеет
свой смысл. Для демократии, например, столь же причин,
сколь их существует и для тирании.
Христианское сознание Федотова скрупулезно
описывает лестницу, по которой XX век спускается к архаичным
смыслам истории. Добравшись до древних культур, он не
остановился и пошел дальше — к примитивным культурам. Во
что должен был превратиться европейский человек, чтобы
открыть себя искусству негров. Не любовь к «примитивам»
заставляет нас искать их общества, а поиски стимула,
который пришпорил бы обессилевшего европейского человека.
1 Федотов ГЛ. Новый Град. Нью-Йорк, 1952, с. 206.
316
Негритянская пляска — это тот уровень, на котором
постаревший европеец еще может что-то почувствовать. Его
неспособность причинять человеку страдания при
неспособности еще более несомненной любить его, свобода выбора
при бессилии сделать выбор, свобода добра и зла при
безразличии к добру и злу.
Безволие и бессилие — способ существования человека в
мире относительных ценностей.
«Исход к Востоку», с идеей которого выступили
евразийцы, стал соблазном для христианина. И Федоров не один
раз обращался к анализу этой идеи, продумывал ее посылки
и следствия. Даже славянофилы не избежали этой
«восточной» опасности. Федотов, симпатизируя Хомякову и
Киреевскому, тем не менее усматривает в описываемой ими
славянской Психее язычество. Эта Психея уводит нас,
говорит Федотов, далеко на Восток. «Еще шаг — и мы уже в
Индии с ее окончательным провалом личности»1.
Для избранных Восток — это буддизм^ для массового
сознания он поставляется в виде антропософии и теософии.
Восток — это отказ от опостылевшего «Я», от ответственности
и свободы. Или Восток, или Космос — вот два пути отказа.
Сознание личности уничтожается в различных концепциях
космизма. «И» человека, — с сожалением констатирует
Федотов, — вынули тот стержень («Я»), который ранее делал его
героем драматической или героической борьбы. От отчаяния
спасает лишь ощущение космического лона, которое
принимают в себя, в свой вечный круговорот, им порожденные души»2.
Запад потерял самое ценное, что у него было, —
личность. Личность растворилась, но тело ее осталось и
продолжает жить. И эта жизнь дает о себе знать в
биологически прочитываемой философии. Есть две метки, по которым
Федотов узнает разложение гуманистической культуры. Это
«Восток» и «Спорт», то есть культ тела.
Не меньшую опасность представляет для европейского
человека демократизация культуры. «Демократизация
культуры... носит зловещий характер»3, — писал Федотов в 1939
1 Федотов Г. П. Россия и свобода. Париж, 1981, с.94.
2 Там же, с.225.
3 Там же.
317
г. в «Современных записках». В лоне самой цивилизации с
присущим ей пафосом мещанства для интеллигенции не
оставалось места. Эту мысль Федотов считал
принципиальной. Цивилизация превращает интеллигенцию в «спецов», в
профессионалов. Корпоративная демократия исключает
интеллигенцию в качестве духовной среды, обтесывающей
варвара.
Настало время всеобщего удовлетворения потребностей,
всеобщего счастья. Но культура не имеет к счастью никакого
отношения. Ради культуры двуспальных кроватей (с
шишечками) интеллигенции пришлось отказаться от достоинства
и творчества. В этом смысл лозунга «больше цивилизации».
Если цивилизация — это необходимость, поток, то есть
течение жизни, то и «нужно плыть против течения. Вот и все»1.
И все, что появляется в результате этого плавания, будет
культурой.
Наше отношение к будущему «зависит от того, к какому
стану мы примыкаем: к стану цивилизации или культуры»2.
Если к стану цивилизации, то во имя народа можем
пожертвовать истиной. Если к стану культуры, то не все для народа,
ибо истина выше народа.
Культура — это сгустки накопленных ценностей, «та
кожа, которая сдерживает в человеке зверя»3. Не проткнуть бы
эту кожу, да не выпустить на волю зверя. Одним из способов
«сдирания» культурного слоя стало быстрое приобщение
масс к цивилизации в ее очень поверхностных слоях:
техника, наука. Сама по себе наука неповерхностна. Но лишь
небольшое в ней число людей занято творчеством.
Остальные огромные массы живут приложением этого труда, то
есть живут вещами, к созданию которых они не приложили
никаких усилий. Так появляется разрыв между людьми и
средой, в которой они живут, то есть человеческие массы
оказываются не на уровне ими используемых вещей.
Умы, самые утонченные и передовые уже возжаждали, по
словам Федотова, грубости и простоты. Эта жажда утоляется
спортом, техникой, политикой, цивилизацией. Развитие те-
1 Там же, с. 113.
2 Там же, с. И 8.
3 Федотов Г.П. Тяжба о России. Париж, 1982, с.88.
318
мы упрощения и грубости логически завершается фашизмом
или коммунизмом. Это ответ на требования интеллектуалов,
объяснение их тайной симпатии к тоталитарным режимам.
Русская интеллигенция, формулирует Федотов одну из
своих любимых мыслей, должна отречься от традиций
народничества и встать на
«культурно-аристократический путь»1.
«Екатерининский канал»,
или беспочвенная идейность
Канал просвещения, построенный во времена
Екатерины II, в середине XIX века был заполнен разночинцами,
потоком которых уносятся нестойкие дворяне. Например,
Писарев. Линии культуры и интеллигенции расходятся.
Русская культура развивается теперь вне зависимости от
интеллигенции. Дело интеллигенции — революция. «К XX
веку, — замечает Федотов, — это уже две породы людей,
которые перестают понимать друг друга». Культура —
органическое образование, она существует там, где для этого
есть почва. Цивилизация беспочвенна. Беспочвенность
уводит русскую интеллигенцию в бескультурное лоно
цивилизации.
Покинув црчву культуры, интеллигенция обживает мир
действия, горизонты которого сошлись в слове
«социализм». Ради этого слова, говорил Чернышевский, не будет
жалко и 3 миллионов голов. Непонимание между людьми
культуры и интеллигенцией коренится в беспочвенной
идейности интеллигенции, факт существования которой
требует объяснения.
...Интеллигенция узнается несложно. Если кто-то сказал
«эй, шляпа», то есть много оснований для предположения о
том, что речь идет об интеллигенции. Интеллигенция — это
шляпа, которую общество, войдя в индустриальный век,
забыло снять. «Они в шляпе, а у нас мозоли» — таков
схематизм ее восприятия. На этом «шляпном уровне»
понимания интеллигенцию часто путали со служащими.
Для того чтобы появилась интеллигенция, нужно было
допустить осуществление двух вещей. Во-первых, превра-
1 Там же, с. 134.
319
тить мир в прозрачный для ума аквариум, то есть в нем не
должно быть пропусков, темных пятен или, как говорит
Федотов, небытия вперемежку с бытием. «Аквариумность»
мира — это уже полпути к интеллигенции. Вторая половина
требует существования платоновской идеи. Вот этими
двумя идеями конструируется привилегированная точка,
попадая в которую можно увидеть мир как он есть на самом
деле, а увидев, повести за собой невидящих.
Интеллигенция возникает в привилегированном слое
«видящих истину» как предводительница. Пока в мире
существует хотя бы один человек: которого ведут к истине,
будет существовать и интеллигенция. В определении
интеллигенции и обнаруживается скрытое ее родство с партией
или сектой, которая ведет за собой если не к истине, то, во
всяком случае, к справедливости. Вот эта постоянная
опасность растворения интеллигенции в феномене партии
держится под наблюдением в концепции интеллигенции
Федотова. Институт партийности делает интеллигенцию
практически ненужной, да она и не возникает в партийно-
оформленно*фобществе. Невозможна она и при живом Боге.
Тайна происхождения интеллигенции в смерти Бога и
волевом единстве жизненного потока. Иными словами,
существование интеллигенции проблематизируется, с
одной стороны, существованием идущих к Богу, а с другой —
идущих к справедливости. Одних ведет церковь, других вела
партия. Интеллигенции же вести за собой некого, и поэтому
исторически она проявляется в нигилизме.
Понимание интеллигенции в качестве некоего ордена рас1
пространилось со времен П. Анненкова и П. Боборыкина.
Оно разделялось С. Франком, Н. Бердяевым и Г. Федотовым.
На форе этого понимания создавалась концептуальная
модель интеллигенции, совершенно нечувствительная к
позитивистским поискам ее социологического ядра.Т.П.
Федотов в своем эссе «Трагедия интеллигенции», а также в книге
«И есть и будет» разрушает язык внешнего описания
интеллигенции и использует язык ее самоописания. То есть
функциональное или морфологическое «выведение»
интеллигенции становится невозможным. С точки зрения
Федотова, совершеннейшая нелепость сказать, что, например,
интеллигент — это человек, который занимает кафедру, пре-
320
подает. Нет, к интеллигенции нельзя отнести ни тех, кто
преподает, ни тех, кто лечит. Из функции она невыводима.
«Врач, инженер, поскольку они преданы своему делу,
уже не интеллигенты или остаются интеллигентами в
каком-то верхнем, безответственном плане сознания: на
чердаке, куда сваливают всякую рухлядь. Деловитость и
интеллигентность несовместимы»1.
Накладывается Федотовым запрет также и на то, чтобы
интеллигенция мыслилась «по морфологии материала». То
есть нельзя представлять дело так, что интеллигент — это
субъект с каким-нибудь дипломом в кармане, или, что еще
хуже, причислять к интеллигентам понравившегося нам
человека. Быть умным, милым и деликатным — вовсе не
обязанность людей этого круга. За всеми этими запретами
стоит формирование русскими философами нового смысла
старого слова. «В наши дни, — писал Федотов, —
европейские языки заимствуют у нас это слово в русском его
понимании, но неудачно: у них нет вещи, которая могла
быть названо этим именем»2. Имя есть, но вещи нет, то есть
нет интеллигенции. Для того чтобы понять мысль Федотова,
необходимо отказаться и от неомарксистских схем
интеллигенции, восходящих к А. Грамши. Интеллигенция, попадая в
пространство ^тих схем, неизбежно превращается в
прослойку (или слой) людей, занятых производством сознания.
«Продуктовое» понимание интеллигенции работает на
уровне имени (слова), но не «вещи» (в смысле Федотова). Это
понимание имеет еще и тот недостаток, что в его пределах
всякий продукт мыслится в категориях искусственного
плана, а не естественного. На этом языке можно поставить
вопрос о создании новой интеллигенции и замене ею старой,
о производстве человека. Как будто человек есть просто
серийное изделие с малыми энергозатратами. Правда, мир
как производство мыслится в предположении какого-то
божественного ремесленника; в этой роли, как правило,
оказываются самые неподходящие исторические личности.
Федотов не приемлет хода мысли, ведущей к картине мира,
описываемой одним словом — производство.
1 Федотов Г.П. Россия и свобода. Париж, 1981, с.57.
2 Федотов Г.П. Новый Град. Нью-Йорк, 1952, с.10.
21 Ф. Гиренок
321
Его миропредставление можно сфокусировать в одном
слове — национальный разум. Вообще-то нация и разум —
это «существа» двух разных порядков. Разум — из
онтологии универсалий, нация — из онтологии
индивидуальностей. Разум космополитичен, нация почвенна. Нации
существуют тысячи лет (может быть, чуть больше или чуть
меньше — кто может это точно знать?), разум вечен. Ум — он
везде ум, и от глупости его отличают как в Европе, так и в
Америке. Чистый разум не имеет плоти, он вне времени и
пространства, то есть как бы витает над миром, и пока он
витает, его описывают в терминах трансцендентальной
философии. Ведь если бы он был отягощен «человеческой
материей», то по законам этой материи мыслимое в одном
месте стало бы немыслимым в другом. И разум непременно
бы распался. Чтобы прояснить эту мысль, Федотов
обратился к Данте, для которого интеллигенция — это «бесплотных
умов естество», то есть естество без плоти. Данте мыслит
точно, и, конечно, он прав, усматривая в интеллигенции что-то
ангельское. Он не отвечает за то, что ум и плоть сцепились в
одно «незаконное» целое и породили кентавра, называемого
русской интеллигенцией. И вот теперь его (кентавра) мысль
принуждена двигаться не только по законам мышления. Она
стала вращаться по орбитам жизней мыслящих.
Возникающие аберрации бессильна была описать даже спекулятивная
философия. Среди этих «зарослей» жизни, в кустарнике
объективных кажимостей возникает национальный разум.
Он, как говорит Федотов, еще «дичок», которому нужна
культурная прививка. Необходимость этой «прививки»
заставляет Федотова присмотреться к тому, что было в Киеве
тысячу лет тому назад. Он ищет там не интеллигенцию, он
исследует ее корни. «...В Киеве, — пишет Федотов, —
заложено зерно будущего трагического раскола в русской
культуре»1. Разговор об интеллигенции получает
неожиданные обертона: раскол, трагедия, культура/Кто кого расколол
и что это за зерно, заколосившееся в XIX веке
интеллигенцией? Это зерно — славянский язык. Все дело в том языке,
на котором заговорила церковь Христа на Руси. Заговори
она на латыни, и мы были бы одними, заговори она по-грече-
1 Там же, с. 19.
322
ски — и мы бы стали другими. Она заговорила по-славянски,
и мы стали русскими. Но в «заговоре» церкви содержалась
угроза духовной лени для целого народа. Она слишком
приблизила к народу монаха и книжника. Для порыва (и
напряжения) к культуре не хватало элитарности,
аристократизма. Русский язык не стал языком науки. Конечно,
новгородская икона перевешивает искусство западного
средневековья, а святость достигает на Руси невиданных
прежде высот. Но Древняя Русь косноязычна, ее охватила
страшная немота. Умозрению нужны не краски, а слова,
Россия стоит, словно немая девочка, которая так много тайны
видит своими неземными глазами и может о них поведать
только знаками. Она бессловесна, а не глупа. Что нам
досталось от московских столетий? И Федотов с горечью
признает, что одна публицистика, отрывочный лепет
младенца, сквозь который прорывается голос единственного
великого писателя Аввакума.
«Отчего же софийная Русь так чужда логоса?»1. У
Федотова нет ответа на этот вопрос. Чуждость нужно признать как
факт, не выводимый из полноты связей всего мира. В
русской душе оказался изъян, «пустое место», недостаток слов.
Дорогой ценой заплатила Русь за неприятие пустословия —
утратой логоса. «Пустое место, зияющее в русской душе,
именно здесь, в «словесной», разумной ее части, должно быть
заполнено чем-то»2. В этом тексте Федотова бросается в
глаза слово «чем-то» в смысле «чем придется», в том числе и
«чем попало». Пустое место заполнялось импортом чужого
мозга. Мы не думали, но у нас уже появились мысли. В
Петровскую эпоху уже не удивляли люди, души которых были
русскими, а головы — немецкими. Народ продолжал жить в
одном целом, а его мыслительная субстанция складывалась
по законам другого целого. Мы не выращивали свой логос, он
нам достался по дешевке. Этот «штемпелеванный разум» не
имел корней в глубинах иррациональной народной жизни.
Напротив, он навязывался ей извне. И это все называлось
«просвещением народа». Конечно, княжеский терем (или
монастырь) и крестьянская изба — вещи разные. Но эта
1 Там же, с.24.
2 Там же, с.25.
21*
323
разность говорит не о разрыве, а о свете, который идет от
аристократического терема к крестьянской избе. Сохраняется
возможность одному подняться от другого. На этот подъем
уходят сотни лет. Уже одним тем фактом, что в народной
жизни есть нечто ненародное (аристократическое), как бы
гарантируется органическое повышение культуры народа.
«Массы, быть может, лишь к XVII веку органически в своем
быту растворили и претворили идеалы жизни, приличий,
нравственных понятий, которыми жили в Киеве боярские и
княжеские терема»1.
Разрыв истории наложил печать не только на всю Петг
ровскую эпоху, но и сформировал, по мысли Федотова,
кентаврическую фигуру России на два столетия. Афина
восстала против Геи и этим восстанием нарушила естественный
ход событий. Надолго, если не навсегда, исчезла
органическая связь разума и земли, то есть та связность, при которой
никто не может отсидеться в какой-нибудь тихой заводи
культуры, но и никто не может сказать, что он ведет и за ним
идут. «Все влекутся и все влекут». Федотов использует
слова Данте, которйе хорошо передают органику человеческого
бытия, но метафизргческий смысл этих слов от Федотова
все-таки ускользает.
В идее Федотова, согласно которой Петр I, прорубив
окно в Европу, раскрепостил русское слово, есть один оттенок,
забвение которого искажает его историю интеллигенции.
Ведь что значит утверждение Федотова о незнании Русью
мысли? Не знать — это значит и не знать раздвоенности
между мыслью и действием, той раздвоенности, которая
изнутри разъедает тело всей европейской культуры.
Конечно, и мы могли бы читать Гомера и философствовать вместе
с Платоном, если бы не отрыв от классической традиции. Но
разве не является для абстрактного мышления чудом и
тайной конкретность, та конкретность, которую Федотов
передает латинскими словами: «hie en nunc», то есть сейчас
и здесь. Ведь нерасчлененное мыследействие схватывает то,
что наиболее ценно и важно для человека и что в XX веке
будет понято Хайдеггером и феноменологией. Наши предки не
могли точно помыслить мир вообще, но они очень хорошо
^амже,^.
324
понимали мир, который сейчас и здесь, и с этим пониманием
сострадали не человеку вообще, а «вот этому», который к
ним ближе всего.
Идейность русской интеллигенции граничила с манией
«стоять на вытяжку» перед второразрядным созданием ума
вообще. Не Галилео Галилей, а Джордано Бруно сидел в
душе каждого русского интеллигента и ждал подходящего
случая, чтобы сгореть на костре за не им открытые истины.
Русский образованный человек, устремившись в погоню за
идеей, оторвался от национальной культуры и стал
интеллигентом. Идейность и беспочвенность составляют систему
координат, в которой движется русская интеллигенция. В
системе этих координат описывалась и «кривая» ее
движения знаменитыми «Вехами», та кривая, которая привела к
нигилизму — опасному соблазну русской интеллигенции.
Федотов сам прошел значительную часть этого пути и
поэтому знал истинные размеры опасности. Но его самость
сохранила в укромных местах души симпатию к вождям
юности. Например, Федотов и не подозревал, что
нелюбимые им интернационал-социалисты уже проглядывали в
безобидных теориях Михайловского о правде-истине.
Рассуждениями о правде-истине и правде-справедливости
создавалась своего рода «атомная бомба» радикальных
социалистов, энергии которой хватило на то, чтобы разнеси в
клочья одну шестую часть земного шара. А заряд этой бомбы
устроен примитивно: истина поставлена в соответствие со
справедливостью, а справедливость оторвана от абсолюта.
«Истинно, если справедливо» — этот последний
нигилистический лозунг русской интеллигенции почти совсем не
затрагивается Федотовым.
Об истине, если верить Федотову, в кругах русской
интеллигенции говорить было не принято. Не идея свободы
вообще зажигала их сердца, а народ и свобода народа. В
этом, видимо, проявилась славянская неспособность к
абстрактному мышлению, вернее, русская любовь ко всяким
содержаниям. Непонимание проблемы формы было
продемонстрировано даже в дискуссии между Федотовым и
Бердяевым, отраженной в газете «Новая Россия».
В жертву народу приносилось все. Этот воображаемый
циклоп пожирал истину, добро, свободу. Служением народу
бредили. А народ — это ведь крестьяне, во всяком случае в
325
России, ибо в Европе остатки народа исчезли уже в XVI веке.
Значит, спасти нужно было крестьян. От кого? От
самодержавия. В массе своей народ темен, еще не нашелся такой
Петр, который бы расковал его слово. Этим Петром стали
народники. «Народ» — наиболее любимое и магическое
слово русской интеллигенции. Если «любимец» не понимает
всей выгоды борьбы с деспотией, то его нужно просветить.
Но просвещению мешает религия. Значит, все эти мощи,
просвиры и обедни нужно заменить Фогтами, Моле-
шоттами, Дарвиным и Марксом, то есть атеизмом и
материализмом.
Страшно далека была русская интеллигенция от народа,
и, когда она повела его за собой, он за нею не пошел.
Единственное, что она могла сделать, — это соблазнить народ.
Конечно, не Марксом, а землей. Земля — это способ
высвобождения энергии крестьян, накопившейся за долгие годы
их отлучения от земли.
Смешно было бы видеть среди соблазнителей народа
Толстого или Достоевского. Они не вмещаются в галерею
портретов русской интеллигенции. Им нет места рядом с
Чернышевским и Писаревым, Белинским и Бакуниным,
Лавровым и Михайловским. Толстой — не интеллигент, и
этим все сказано. Русская интеллигенция — это движение
людей, «объединяемое идейностью своих задач и
беспочвенностью своих идей»1. Федотовская чеканная формула
завершает процесс определения сути интеллигенции, начало
которому положил многословный Иванов-Разумник.
В своем исследовании интеллигенции Федотов на
полную мощь использует возможности схематизирующего
мышления. В этом его сила, но в этом и его слабость.
Например, для того чтобы объяснить появление Чернышевского в
середине XIX века, он делает разбег от Киевской Руси. Что
может иметь смысл, если история — это логика, и,
следовательно, в ней нет ничего такого, что нельзя было бы ввести
предположением. История — не логический процесс, а
органический, то есть с незнаемой заранее спонтанностью.
Неразличенность Федотовым этих двух обстоятельств
делает его «Прологи» двусмысленными, а генетические приемы
1 Там же, с. 17.
326
объяснения бессодержательными. Историк культуры
довлеет в Федотове над философом.
В составе человека всегда найдется то, что не объяснишь
его происхождением от обезьяны. Федотов объясняет,
почему в России существовали Бакунины и Нечаевы, но он не
знает, почему в ней существуют Лесковы и Розановы.
Интеллигенция создала не элиту, не аристократию, а
секту, орден, который выступил против консервативных
ценностей: государства, нации, религии. Не без иронии
Федотов как-то заметил о неумении людей держать в уме более
одной мысли. Но на этом неумении держались основы
«демократического Пошехонья» русской интеллигенции. С
одинокой мыслью в голове нельзя было справиться не
только с Марксом, но даже с Бюхнером. «Жалкие были враги, но
и перед ними не устояли»1 русские интеллигенты.
Феномен одномыслия заставил Федотова в конце 40-х
годов усомниться в сугубо русском его происхождении. Но
тем самым ему пришлось отказаться и от уникальности
русской интеллигенции, основанием которой оно
(одномыслие) являлось. «Европеизация Индии и Китая» столкнула
две мощные культуры, и вновь произошло то, что
происходило в XVIII веке в России2. Максимализм интеллигенции
рожден примитивизмом ее мышления. Настоящие
интеллигенты, как оказалось, живут не в России, а в Азии и на
Ближнем Востоке. Палестинские террористы, полпотовцы и
«чегеваристы» — прямые наследники русской
интеллигенции, беспочвенность которой приучила ее вести кочевой
образ жизни. Это кочевое «перекати-поле» прикатило
интеллигенцию к радикально настроенным социалистам.
Сумеет ли она после трагедии приучить себя к оседлому
образу жизни, не сорвется ли вновь? Ответ на этот вопрос
Федотов ставит в зависимость от почвы, на которой она
может осесть. Это либо «дело», либо «органическая
национальная идея». Схема оседания проста: жажда
накопительства повернет народ в сторону Запада, и с этим
«западным» русским народом сольется западническое
сознание интеллигента. Возникнет долгожданное единство
1 Федотов ГЛ. Россия, Европа и мы. Париж, 1973, с. 12.
2 Там же, с. 186.
327
народа и интеллигенции. Цена, которую придется заплатить
за это единство, — отрыв народа от его национальной и
исторической почвы.
«Но, может быть, в этой точке рождается новая
интеллигенция, с новым отрывом от народа, переменившаяся с ним
ролями: народ отрывается от исторической почвы,
интеллигенция хранит религиозное сознание?»1.
Таврический дворец,
или свобода недостойных свободы
Путем радикального уплощения интеллигентского
сознания создаются сознательные пролетарии, в головы
которых никак не могла поместиться огромная Россия. На
пути упрощений возникает новая демократия, и место ее
заседаний — Таврический дворец. Государственная дума
России пародировала парламент, царь играл роль
президента, а вместе они тонули в грязи пошлости и коррупции. В
среде интеллигенции тоже происходили изменения. Она
разлагалась. Рахметовых заменил Санин. Россия
знакомилась со свободой.
Что бы сказала Россия, если бы вдруг кляп выпал из ее
рта? Для Федотова ответ на этот вопрос связан с пониманием
мистической стороны истории России. Она могла бы
пожаловаться на свое несовершеннолетие — ее конституционный
возраст застыл на уровне 11 лет; на демократию, которая так и
осталась восьмимесячной. Ей вряд ли пришелся бы по вкусу
имморализм как защитников, так и противников русской
идеи. Но вполне возможно, что она заговорила бы голосом В.
Розанова: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали.
Миллионы лет прошло, пока моя душа выпущена была
погулять на белый свет: вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не
забывайся и гуляй по морали. Нет, я ей скажу: гуляй,
душенька, гуляй, славненькая, гуляй, как сама знаешь. А к вечеру
пойдешь к Богу, ибо жизнь моя есть день мой и он именно —
мой день, а не Сократа или Спинозы».
Этими словами Розанова исчерпывается тема свободы
для русского человека. Гуляй, душенька, гуляй без всяких
прав и демократий, без партий и конституций, гуляй, милая,
1 Федотов Г.П. Россия и свобода. Париж, 1981, с.60.
328
а вечером не забудь зайти к Богу. Но если нет Бога, а «гуляй»
остается и желающих погулять много? Тогда, по словам
Федотова, начинается мучительное размежевание воли и
свободы. О чем мечтает русское сердце? Нет, не о свободе, а
о воле. Ведь свобода — это из эстетики безработного. Она
синоним распущенности. А вот воля — совсем другое дело.
«Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить по
своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не
только цепями... Воля торжествует или в уходе из общества,
на степном просторе, или во власти над обществом, в
насилии над людьми»1. Не свободу, а волю имел в виду М.
Гершензон, когда писал о том, что стало тесно и душно в
круге культуры. Стесняет вяжущая связь закона — без устали
повторял Л. Шестов, щупальцами ума нащупывая тело
свободы. Если европейский человек говорил «нет» и
становился бунтарем, то в России бунт начинался со слов
«была не была», гуляй, душенька», и этими словами
развязывалась вяжущая связь культуры. Разбойник — идеал воли,
которая осуществляется скорее в кочевом быте, в
цыганщине, в разгуле, чем в культурном общежитии. Тирания и бунт
вольному человеку гораздо ближе, чем социальные
реформы и добропорядочный консерватизм.
Для того'чтобы совместно существовать, людям нужно
допустить в свой круг некоторую порцию лжи, строго
соблюдаемой условности. Свободный человек принимает ложь как
необходимость соблюдения приличий: быть приличным —
значит быть с лицом. Федотов испытал это противоречие
свободы в своей жизни.
Вольный человек не приемлет культуру общежития из-
за ее изначальной зараженности ложью. Это неприятие
лежит в основе молчания России и ее онтологического
отвращения к пустословию. «У молчания есть разный язык»2.
Существует молчание, звук которого хорошо слышен. Это та
тишина, которая, по замечанию Федотова, перевешивает
говорливых и заглушает гром оркестра истории на весах
вечного бытия России. Свобода слишком многословна. Она
{Ттже,с183.
2 Федотов Г.П. Тяжба о России. Париж, 1982, с.308.
329
утомляет. Между молчанием и бунтом проходит жизнь
вольного человека.
' Свое понимание свободы Федотов продумывал в
глубинах молчания, естественной для него среде обитания. По
воспоминаниям современников, чем меньше ему оставалось
жить на «белом свете», тем больше он молчал. О чем же ему
молчалось? Прежде всего о том, что свобода никогда не
выбирается по доброй воле. Ее принимают поневоле, когда
исчерпаны все аргументы «против». Свобода — это зло, с
которым приходится мириться. Пока же от нее еще можно
увильнуть, пока человек не загнан в угол, он не согласится
на свободу и останется «мытарем» воли. Вот эта тема
«согласия на свободу» звучит у Федотова особенно ярко и четко.
Развитие этой темы приводит к пониманию того, что смерть
за свободу бессмысленна.
Для мира естественна нетерпимость, люди не выносят
друг друга; ни одно «Я» еще не отказалось от своей
«единственности», готовое к тому, чтобы разодрать в клочья другое
«Я». Плетением каких же связей жизнь удерживает нас от
безумия войньквсех со всеми? Органических. Но
органические связи, органическая жизнь рассматриваются
Федотовым как нечто тоталитарное. Жизнь тоталитарна по
своему глубочайшему смыслу, а не по прихоти людей.
Свобода — это, конечно же, поздний и очень хрупкий цветок. В
подполье всегда растут цветы зла, а насилие — естественный
способ разрешения проблем общежития. Оно практично и
надежно. Но свобода оказалась практичнее силы и насилия.
Люди идут путями свободы, когда иным образом идти уже
нельзя. Возрождение идей «практичности свободы»,
напомнившей о себе в эпоху экзистенциалистского ригоризма,
обязано голосу Федотова, прозвучавшего на всю Европу и
не оцененного.
Для того чтобы сохранить свое лицо, свое достоинство,
человек способен на многое. Из необходимости, из
неизбежного зла он сделает добродетель. «Терпимость поневоле
мало радует»1. Но приходится терпеть, а значит, и
обуздывать свое «Я». Свобода — это смирение, а свободный
человек — это человек, «обломавший» свое «Я», которое с
1 Там же, с.224
330
некоторых пор начинает существовать, как объезженная
лошадь. Смирись, гордый человек, с фактом существования
тобою ненавидимого в тебе самом, и ты пойдешь дорогой
свободы, то есть терпения. В условиях свободы и на дереве
зла вырастают плоды добра. Свобода потому и практичнее
силы, что она заставляет бессовестных людей
придерживаться совести, недобродетельных людей делать добро,
нетерпеливых — терпеть.
С тех пор, как в России расцвел цветок свободы, русских
философов стал преследовать кошмар злого добра. Тема
антихриста не давала им покоя. Она появлялась в рассуждениях
едва ли не каждого интеллектуала. Зачем нам добро, если оно
может держаться только на правовых крючках? Что нам
делать со свободой, если условием ее является соблюдение
гримасы лжи? В смысловом горизонте этих вопросов
Федотовым меняется традиционное новоевропейское видение
свободы и возрождается дух нового средневековья. История
свободы (и об этом Федотов говорит без экивоков)
начинается, конечно же, не во Франции 1789 г. Революции вообще не
место для рождения свободы. В них, если что-то хорошо и
получается, то тирания. Признаки свободы узнавались
Федотовым в принципах совместного существования
баронов и купцов, царей и бояр, церкви и университетов,
государства и церкви.
Способ организации мысли Федотовым имеет одну
особенность. Его мышление не понятийно, он не любит
перебрасывать мостики от одного понятия к другому и
находить третье. Федотов схематичен, но все его схематизмы
имеют одну и ту же онтологическую предпосылку: чудо
свободы. Чудо потому, что она невозможна по законам
причинных связей. Но причинно невозможен и выбор, и
ответственность за выбор. В этом (экзистенциальном) смысле
свобода легкомысленно принимается то за ответственность,
то за выбор.
«В наше время умышленно не желают понимать
значения слова «свобода» и требуют его строгого определения.
Строгое определение свободы встречает большие
философские трудности, а отсюда заключают с поспешным
торжеством о пустоте и бессодержательности самой идеи.
Как будто бы легко определить «любовь», или «родину»,
или даже «нацию». И будто бы нужно сперва найти опреде-
331
ление нации или отечества, чтобы умереть за них. Еще не
совсем сошло в могилу то поколение, которое умело умирать
за свободу как за величайшую святыню, не спрашивая ее
философских определений»1. Определить свободу нельзя по
фактическим соображениям. О свободе молчат.
Бессмысленно потребовать определения свободы, чтобы потом
пойти и умереть за нее. Федотова насторожил уже Февраль
с его пафосом определения свободы. За определяемое не
умирают. Свобода по существу своему ревнива и
кровожадна, ибо она существует, пока очень хотят, чтобы она была.
Проделки Антихриста усматривает Федотов не в том, что
отмирает пафос свободы, пропадает желание, а в ритуале
свободы. То есть когда пафос исчезает, а ритуал остается и
монотонно исполняется. Проблема, следовательно, состоит
не в том, чтобы определить свободу конечным набором слов.
Проблема в другом: как узнать, за что умирают люди, когда
они умирают за свободу? «Оклеветанный феодализм» и
здесь дает ответ, о котором Федотов не уставал
рассказывать. Свобода — это привилегия, она рождается как
привилегия немйогих. За нее, видимо, люди и умирают. Эта
формула свободы лежит в основе всех историко-культурных
и философских сочинений Федотова. И поэтому она требует
разъяснений.
Федотов менее всего склонен к манихейству, то есть к
признанию двух субстанций: темной и светлой, доброй и
злой. Привилегии делят людей на две части: тех, у кого они
есть, и тех, у кого их нет. Свобода существует до тех пор,
пока существует зазор между двумя крайними точками:
единицами ее имеющих и множеством неимущих. Ведь
смысл свободы в пафосе свободы. Когда же привилегия
немногих становится привилегией всех, свобода умирает,
превращаясь во всеобщую норму. Плюрализм власти и
абсолютный характер духовных норм составляют, по Федотову,
условия свободы.
Для Федотова особенно интересны XVII-XVIII века
европейской истории, ибо в это время произошел сдвиг
цивилизации в сторону иных оснований свободы. Свободу
веры сменила свобода мысли, феодальный плюрализм вла-
1 Федотов Г.П. Христианин в революции. Париж, 1957, с.35.
332
стей сменился либеральной концепцией государства.
Основанием свободы стала свобода предпринимателя. В
результате этого сдвига произошла релятивизация
духовных норм. Они теряют свою абсолютность, личность (душа)
становится разменной монетой, ее приносят в жертву для
народа, государства и партии. «Если единственное
основание нашей свободы — буржуазная свобода хозяйства и
научная свобода исследования, то они вместе с
политическими исследованиями, из них вытекающими, вряд ли
способны пережить этот кризис. Тогда это не помрачение
свободы, а ее смерть»1.
Помрачение свободы узнается по судьбе свободы мысли.
Свободная мысль — это мысль по найму, то есть наемная
мысль. Главное для ученого — получить заказ. «Это
показывает, что ученый сам перестал уважать науку»2. Но перестали
уважать и ученых. Их взгляды и убеждения никому не
интересны. Когда-то пуританин, православный, гугенот или католик
умирали за свою веру. Современный ученый не собирается
умирать за науку. Если в мире исчезнет «и память о Боге, и
способность узнавать Его под человеческими именами, тогда
никто не будет бороться за свободу. Тогда свобода погибнет»3.
Блудный сын христианства
По Федотову, Кремль, заполненный большевиками,
один из возможных способов преодоления интеллигенции.
С ней произойдет странная метаморфоза. Многие
интеллигенты найдут свою почву в новом мещанстве, в накоплении,
в пафосе американизма. Рынок, собственность и капитал —
вот новые предельные точки их самосознания.
Западничество становится народным, отрыв от
национальной почвы — национальным фактом. Рост буржуазного
сознания на том пустыре, где когда-то стояла русская
интеллигенция, делает мыслимым и заигрывание социализма с
христианством. Интеллигенция — это исторически
неудачное слово для обозначения категории работников
умственного труда в буржуазном обществе.
1 Там же, с.35.
2 Федотов Г.П. Новый Град. Нью-Йорк, 1952, с. 137.
3 Там же, с. 172.
333
Христианство
Из множества тем, тропами которых ходил Федотов,
выберу пока две: христианство и социализм. Почему
христианство? Во-первых, это судьба Европы, а Федотов не
мыслил себя вне этой судьбы. Во-вторых, это его личное
миропонимание, совпавшее со вселенским.
Почему социализм? Прежде всего потому, что
социализм — идея, ставшая судьбой России. Но социализм не по
К. Марксу, ибо «то, что сделал Маркс с социализмом, было
величайшим его изувечиванием»1. Он лишил его самой
возможности сообщения с миром избыточных ценностей.
Практически осуществленная одномерность, то есть
ленинский социализм, это уже бесчеловечная сила, которая,
«будучи неспособна осуществить даже мещанский комфорт,
реально осуществляет самое полное и беспощадное
закрепощение трудящихся государством»2.
Федотова увлекает первоначальное христианское здание
социализма, которое мыслилось вне схем классовой борьбы
и рационализации методов достижения земного рая. То есть
первыми двумя темами исподволь образуется пространство
для третьей: христианского социализма. Правда, у входа в
это пространство уже стоял М. Вебер с книгой
«Протестантская этика и дух капитализма». Протестанты уже ввели в
лоно христианства капитализм. Они его духовно оправдали,
отдавая предпочтение богатому перед бедным. А
социализм? «Блудный сын христианства»3 — под этим именем он
получил право войти в обитель христианства, где его
соседом оказался здоровяк, которого тихо ненавидели все левые.
Звали его капитализм. Капитализм и социализм
встретились, но кентаврическая природа этой встречи почему-то не
смутила Федотова. Он не мог не заметить несуразности и,
как всякий воспитанный человек, сделал вид, что ничего
особенного не произошло. Либо капитализм и социализм
есть предельные выражения одного и того же события, то
есть суть одно и то же, либо христианство бывает разным:
протестантизм — это одно место в купе цивилизации, а пра-
1 Федотов Г.П. Тяжба о России. Париж, 1982, с.46.
2 Там же, с.47.
3 Федотов Г.П. Христианин в революции. Париж, 1957, с. 125.
334
вославие рядом, но, напротив, с укором к богатому и с
утешением к бедному. Протестантская этика составляет дух
капитализма, православная — дух социализма. Правда,
мысль о православном социализме не получила
концептуального завершения в работах Федотова, и частицы ее
продолжают и поныне блуждать в поисках друг друга,
порождая битву идеологический тканей.
Социализм в своем христианском замысле возникает
независимо от того, как ведется хозяйство, иначе говоря,
социализм не экономическая, а духовная проблема. Есть что-
то в каждом из нас, что требует отречения и свободы от всякой
хозяйственной деятельности. И это отречение, предельно
выраженное, составило социализм. Хозяйство — «начало,
отравляющее сердце»1. Оно отравило когда-то Иуду и
продолжает отравлять протестанта. Обожаемый протестантами Иов
после мук и страданий обрел вдвое больше того, что имел
прежде. Близкий сердцу православного Егорий Храбрый своими
страданиями за веру вознагражден не волами, ослицами и
прочим мелким скотом, а возможностью сразиться со злодеем и
победить его. Трудно представить себе хозяйствующего Его-
рия. Он вне сферы рассчитывающего сознания.
Разрыв с хозяйством совершается в виде общности
потребления, роаденной взаимной любовью. Иными словами,
в мире существует такая его сторона, которая держится
любовью и общностью любящих. Вот эту сторону мира назвали
социализмом. Ей Федотов и отдавал предпочтение. Однако
любовь не бывает сама по себе. Она рассеивается и слабеет.
Но что может удержать людей вместе, если любовь их
покинула? Деспотизм. То есть тирания — эта опасность
социалистического выбора. И Федотов как социалист
хранил сознание данной опасности. Бесхозяйственность,
оторванность от производства и труда — экономическая
перспектива социализма потребляющих.
Федотов с нескрываемым сочувствием цитирует Иоанна
Златоуста, обличающего богатых: «Горе Вам, прибавляющие
дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не
остается места»2. Море знает свои пределы, ночь не пересту-
1 Федотов Г.П. Тяжба о России. Париж, 1982, с. 18.
2Тамже,с.28.
335
пает положенных ей границ, а жадный, по словам Василия
Великого, не признает границ. Подражая огню, он на все
бросается и все поглощает. Нагим человек вышел из чрева
своей матери и нагим туда вернется. Социализм
зарождается в сознании «обнаженного человека», принужденного
жить в мире хозяйственных зависимостей. Церковь могла
пойти в мир, но могла стать и сектой, устремляясь к тому,
что вне мира. Она пошла в мир, и внутри нее появились
сектанты. Федотов идет за церковью, и его преследуют отзвуки
жизни христиан в мире в котором богатый торжествует над
бедным, сила — над истиной, коллектив — над личностью.
Для того чтобы пребывать в этом мире, его нужно
сделать приемлемым, обжить. Но «обживаемость» — это
зависимость от структур, которые разместились внутри нас,
действуя по законам внешнего мира. Если существует
собственность, то не могут не существовать и состояния, попадая
в которые мы овладеваем формами ее общежития.
Например, корыстью и завистью, хотя они и уводят нас от
сектантской чистоты. «В ригоризме чистоты есть много
жестокости»1. Федотов повторяет эту розановскую мысль,
предпочитая все-таки чистоту пороку. Это видно уже хотя
бы по тому, как он расшифровывает связь христианства с
жизнью. Живое христианство — это не рационализация
жизни толпы крещеных, не систематический метод
контроля над их сознанием, а жизнь святых. О христианстве нужно
судить не по тому, как живут христиане, а по святым. Вот
этим различением Федотов отделяет протестантскую ветвь
христианства от православной. Рационализация мирской
жизни христианина не оставляет места непосредственному
чувству, спонтанности. В ней все взвешено и учтено. Но
никаким рефлексивным развертыванием рациональности в
общественной жизни нельзя прийти к святости. Святость
вообще недостижима в социальной жизни. Это дело
личности, а не реформаторов общества. То есть социализм в
федотовском понимании есть дело не столько публичное и
хозяйственное, сколько личное и внеэмпирическое. К
эмпирическим содержаниям неэмпирических устремлений
христианина относятся облегчение борьбы со злом, созда-
1 Там же, с.25.
336
ние условий, благоприятствующих личности, смягчение
«свинцовых мерзостей жизни».
Между тем новоевроейское мышление вплетает идею
социализма в экономическую ткань общества. Продолжая эту
традицию, Федотов попытался внехозяйственную природу
социализма зацепить за крюк хозяйства, перевести из сферы
потребления и любви в область производства и
профессиональных обязанностей. Собственник, чтобы попасть в
христианский социализм Федотова, должен был научиться
существовать без рынка или научиться производить не для
продажи, а для раздачи даром. «Как осуществить даровое
потребление...» Это, по словам Федотова, «самый трудный
вопрос современного социализма», главный признак
которого он видел во внерыночных отношениях»1. Иначе говоря,
проблема даже не в том, чтобы «даром производить», а в том,
чтобы научиться даром потреблять. Даровое потребление —
главная опасность для человека, попавшего в
«корпоративный социализм». Вот этой идеей нерыночного производства
Федотов сближает социализм с тем типом хозяйства,
который имел право на существование в средние века.
Христианский социализм — это призыв и путь к новому
средневековью. Пойдет ли по этому пути европейская
цивилизация?Д1ойдет, если преодолеет в себе капитализм.
Федотовское описание встречи социализма и
христианства основано на знании факта решительного размежевания
социализма и рабочих. Этот факт заметили единицы, но он
настолько радикально изменил жизнеобразующие понятия,
что социальному сознанию теперь уже нужно
«переучиваться с азов»2. Мир вступил в социализм и даже не заметил
этого, утверждает Федотов. За этими словами скрывается
нелюбовь к буржуазности. В них же есть еще один оттенок, о
котором Федотов предпочитает говорить косвенно. Речь идет
о двойственности, вернее, двусмысленности социализма. У
социализма два лица: одно — от Сен-Симона, другое — от
Бабефа. Первое — контрреволюционное, второе —
революционное. И никто не знает, к кому и когда будет обращена та или
иная его сторона. Парменидовское «все», или «единое», было
1 Федотов EIL Христианин в революции. Париж, 1957, с.71.
2 Федотов Г.П. Россия, Европа и мы. Париж, 1973, с.59.
22 Ф. Гиренок
337
преобразовано социализмом в принцип патофилософии «все
едино», то есть равно одинаково. Например, для социалиста
собственность — это кража, и первоначально он возвысил
свой голос в защиту обворованных. Но рабочий вопрос
оказался для идеи социализма ловушкой: в силу своей
двусмысленности он реализовывался как предельное
выражение буржуазности, иначе говоря, социализм обворовал
всех или, как осторожно заметил Федотов, выполнил
программу полной пролетаризации культуры. По-настоящему
гибли не рабочие, а крестьяне. Но крестьянский вопрос
никогда не понимался социалистами, они его просто обходили.
Для сближения идеи социализма и Христа достаточно
того, что они существуют внутри возможностей
исторического сознания, допускающего обновление мира. Проблема
заключается в том, что идея социализма не нуждается в
Христе. Ведь христианская история — это эсхатологическая
история, или история, которая когда-то закончится. Конец
историй — вне истории, поскольку «нет времени конца».
Федотовское понимание данной проблемы изложено в
работе «Эсхатология и культура», в которой описывается
противоречивость эсхатологического сознания.
Если Бог вмешается в земные дела и тем самым зарубит
узел дурной бесконечности, то это будет означать, что вся
история мира заранее была обречена «на тупик, на неудачу»1. И
идея социализма как идея обновления мира становится сразу
же бессмысленной. Стоит ли вообще что-либо делать, если
независимо от наших усилий с небес спустился Град и в него
войдут немногие? Первохристианское, апокалиптическое
сознание требовало реформации. В свою очередь идеи
социализма предполагают независимость ее осуществления
от трансцендентных сил. Социализм — дело сугубо
человеческое, и совершается оно до скончания мира, до того, как Бог
вспомнит о нас. Федотов сближает дело Бога и дело человека
в одно богочеловеческое, срединный путь которого ведет к
Новому Граду. На этом пути есть место социализму, то есть
обновлению общества, дополняющему обновление личности.
По мысли Федотова, христианский социализм (Новый
Град) не приходит вне зависимости от человеческих усилий.
1 Федотов Г.П. Новый Град. Нью-Йорк, 1952, с.327.
338
Но эти усилия направлены на пересмотр относительных
ценностей. Для христианского социалиста нет различия
между новыми и старыми принципами устройства общества.
Есть вечные ценности и относительные. Федотов отмечал
какую-то безболезненную страсть русских интеллигентов к
перемене вечных истин и небрежение к относительным. У
защитников народа не нашлось ни одного слова в защиту
хозяйства и личной инициативы. Идея социализма водила за
нос левых христиан, обещая преодолеть капитализм. Даже
Федотов незадолго до смерти продолжал считать, что «в
настоящее время основная социальная проблема, общая всему
европейскому кругу, состоит в преодолении капитализма,
уже отказавшегося работать, и в переходе к управляемому
или социалистическому хозяйству»1. Презрение к хозяйству
объединяло пролетариев и интеллигентов в симпатиях к
социализму. Любовь к социализму есть превращенная форма
нелюбви к хозяйству.
Федотов — социалист и интеллигент в русском
толковании этих слов. Правда, он каялся и по мере раская"ния
превращался в христианского социалиста, но смысл
хозяйства не становился от этого ему понятнее. «Философия
хозяйства» С. Булгакова по-прежнему находилась выше
уровня понимания социалистов.
Христианский социализм Федотова — это путь
примирения народа и интеллигенции, плод их взаимного сближения,
который, к сожалению, так и не обрел корней ни в народе, ни
в интеллигенции. Христианский социализм разрывался
эсхатологическим сознанием. Попытки Федотова преодолеть
этот разрыв в формуле, объединяющей то, что объединить
нельзя, вряд ли можно считать успешными.
«Живи так, — писал он, как если бы ты должен был
умереть сегодня, и одновременно так, как если бы ты был
бессмертен»2. Эта максима много говорит Федотову, но она
ничего не говорит современному сознанию, которое все уже
знает заранее. Современный человек ничего нового не ждет.
Его сознание ориентировано на предвидение и в этом
смысле производно от науки. Для эсхатологического сознания
1 Федотов Г.П. Россия и свобода. Париж, 1981, с.237.
2 Федотов ЕП. Новый Град. Нью-Йорк, 1952, с.326.
22*
339
Федотова важно не предвидеть, а ожидать. Предвидеть
можно лишь тогда, когда нет вовлеченности мысли в поток
событий и, значит, нет опасности того, что последствия этой
мысли могут вернуться в виде событий, исключающих
жизнь мыслящего. А если мы уже вовлечены, то нельзя
предвидеть, можно лишь ожидать. Федотов был
ангажирован событиями истории, возвращающейся от несбывшегося
к бывшему в силу одной лишь своей полноты. Например,
Федотов рассказывает о том, что будет происходить в
России после падения коммунистического режима, и этот его
рассказ сбывается. Он не предвидел распада империи, а
ожидал его.
Христианство, по мысли Федотова, обязано обратить
взор человека не только к его личному спасению, но и к
социальному обновлению. Как христианин должен отнестись
к революции? К политической — положительно, ибо это
смена власти. К экономической — отрицательно, ибо она
нарушает органические связи. Вот этим различием Федотов
попытался избежать ловушки для мысли. Ведь что такое
социализм? Это движение, отрицающее буржуазный строй,
тот строй, который русская интеллигенция ненавидела
больше, чем царя! Но фашизм тоже отрицает буржуазный
миропорядок. Значит ли это, что между фашизмом и
социализмом существует какая-то изначальная связь? Ведь
Сорель и Муссолини — левые социалисты, как Ленин и
Сталин, а истоки авторитарного мышления социалистов
восходят к Сен-Симону и Кампанелле.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что свобода,
родившаяся под покровом феодала, связана теперь с
судьбой одного класса — буржуазии, которая дорожит свободой,
и прежде всего свободой экономической деятельности. Этот
класс пресекает попытки государства перейти границы
возможного и сузить объем свободы хозяина, изменить
горизонты хозяйствующей души. Конечно же, под именем
границы и предела скрывается собственность. Тем самым, к
вящему испугу социалистов, одним из определений свободы
становится собственность. Контуры свободы и
собственности совпадают. Для новоевропейского сознания частная
собственность стала тем бастионом, за которым развилась
свобода и рождались личности. Но социализм и эту
абсолютную ценность релятивизировал. Возникла проблема,
340
драматизм которой не давал покоя не одному только
Федотову: если социализм выступает против частной
собственности, против хозяина, то не является ли он врагом
свободы? Разрушая барьер между обществом и
государством, не открывает ли ворота тоталитаризму? Менее всего
Федотову хотелось бы оказаться в чреве троянского коня
социализма. Чтобы социализм не стал убийцей свободы, ее
надлежало отделить от буржуазии. Словом, свобода должна
найти себе более прочное основание. Но вот вопрос: какое?
При всех своих колебаниях Федотов склонялся к
социализму, который в былые времена издевался над либеральным
пониманием государства, совершил немало грехов против
политической свободы и «вместе с Марксом и русскими
народниками первого призыва отрицал всеобщее
избирательное право и политическую демократию»1.
Имя себе социалисты составили теорией равенства. Но
свобода и равенство — вещи несовместимые, свобода
базируется на философии неравенства. Федотов допускал
возможность осуществления равенства в сфере
производства и одновременного сохранения свободы во всех остальных
сферах жизни. Иными словами, он хотел свободу поставить
на оетонную плиту равенства в производстве и тем самым
разрушить ее связь с буржуазией. Но эта плита заколебалась
уже при попытке отождествления Федотовым демократии и
либерализма, а затем либерализма и социализма.
Самоограничение свободы становится условием такого
отождествления. Ее не убудет, если она потеснится и даст
место плану, то есть порядку. Итак, экономические свободы
должны быть ограничены. Для чего? Для того, чтобы был
«создан и осуществлен план нового общественного града»2.
Федотов считает необходимым устранить хаос свободных
отношений хозяев и ввести между ними прозрачно ясные
плановые отношения. Но план — это ведь категория
искусственного порядка, а не естественного.
Между тем «органика» жизни запрещает, как говорил
еще Герцен, шагать семимильными шагами из второго месяца
беременности в девятый. Органический процесс устанавли-
Тамже, C.4L
Там же, с.46.
341
вается безотносительно к какому-либо плану. Где гарантии
того, что Новый Град не превратится в Новую Гигантскую
Тюрьму? Если в основании свободы нет свободы, то за нее
никто умирать не будет. Она повисает в воздухе, и вряд ли ей
поможет листок бумаги, именуемый хартией
неприкосновенности духовной свободы личности. Никакая грамота
собственности не заменит.
Эта социалистическая наивность Федотова (хартией
заменить собственника) вызывает удивление. Да и сам
Федотов чувствовал несвязанность одних теоретических
«концов» с другими, заявляя, что «государство не может
быть единственным субъектом хозяйства1. Но если не
единственный, то, значит, рядом с ним и независимо от него
существует другой собственник, который будет мешать
реализации планового начала в экономике. План, ограничения
национального суверенитета и социальное обеспечение —
таким виделся Федотову путь христианского социализма.
Идеал христиански приемлемого социализма связан у
Федотова с идеей социальной демократии. Ему ближе трудовое
общество, чем потребительское. Вместо классового
общества он предрекает появление общества с синдикальным
(профессиональным) строем.
Теория православного демократического государства
(или корпоративного социализма) отнимала у Федотова
много сил. Цивилизационный сдвиг происходит в смене
профессий. Следовательно, не классы, а профессии и борьба
между ними ожидают нас в обозримом будущем. Равных
профессий не существует, и в этом смысле корпоративный
социализм предполагает философию неравенства, которая,
не принимая буржуазный индивидуализм и
социалистический этатизм, приведет к христианскому социализму, в
котором, в свою очередь, угадывается чаяновская идея
кооперации.
Органическая демократия
Демократ в европейском понимании — это социалист, для
которого действие в интересах народа более ценно, чем сам
народ. В этом смысле демократами бывают как социалисты,
'Тамже.сЖ
342
так и цари. Античный смысл демократии — в освобождении
личной харизмы власти. Соединением этих двух смыслов в
одном и образуется органическая демократия, или
демократия в ее русском понимании: демократия имеет смысл, если
она морально обоснована. Чтобы демократия прикоснулась к
земле, к органической почве народной жизни, то есть стала
соборностью, она должна преодолеть три заблуждения,
отказаться от трех идеалов: народа, права, партии.
Кто может сомневаться, что наилучшее общество — то, в
котором власть принадлежит народу! Но что такое народ? В
России народ — это, по словам Федотова, вся «Русь,
оставшаяся чуждой европейской культуре»1. В его понимании
легко угадываются контуры просветительской концепции
народа. В любом обществе всегда найдется такая его часть,
которая не знает, что хочет. И эта незнающая часть, как
заметил еще Гегель, как раз и будет называться народом. Ведь
знать — значит уже не сомневаться. Народ — источник
онтологического сомнения. Напротив, интеллигенция никогда
по-настоящему не сомневается, она всегда знает заранее.
Чтобы обозначить проблему рельефнее. Федотов
использует понятие исторического времени, согласно
которому разные социальные группы живут (могут жить) в
разное историческое время. Например, в России
интеллигенция вступала в XX век, вывалившись из Петровской
эпохи, пролетарии еще осваивали ее универсализм, а
крестьяне жили обычаями и нравами московского царства
допетровского периода.
Так вот народ в данном случае — это та масса людей,
центр тяжести которой находился в мироустроении XVII
века. А по правилам органического мироустроения личность
не могла ставиться над государством, а государство — над
Богом. Выше народа был царь, но не свобода. Ни о какой
правовой демократии здесь и речи быть не могло, ибо выше
закона стоял человек. Единственное, что еще могло бы
объединить в одно целое экзистенциально разные потоки
времени, так это идея царя. Но эта идея, в свою очередь,
должна пониматься мистически, то есть как атом, нечто
неделимое и полное. Если есть царь, то теряет силу принцип
1 Федотов Г.П. И есть и будет. Париж, 1932, с.41.
343
однородности. Его (царя) нельзя делить и распределять по
классам, территориям, национальностям. Тем не менее даже
полнота идеи царя не смогла быть той скобой, которая бы
скрепила расползающиеся в разные стороны социальные
материки. Федотов показывает, что далее эта идея
понималась и трактовалась по-разному: для дворян она —
национальная, для крестьян — религиозная. При этом
дворяне видели в народе дикаря, а народ смотрел на дворян как
на вероотступников и полунемцев.
Демократия имеет своей предпосылкой усредненные
ритмы исторического времени, сближение различных
социальных слоев до встречи на одном историческом поле. Если
такого сближения нет, то нет и общей стилистики жизни, нет
объединяющего всех узора бытия. Не царь, а единый
бытовой стиль жизни — вот что объединяет людей в одно
«западное» целое. Демократия, как ни странно, держится
бытом. В России этот принцип по каким-то правилам
зеркального отражения трансформировался и реализовался в
виде демократов быта. Бытовая свобода, замечает Федотов,
это, пожалуй, тот! единственный ее вид, который
культивировался у нас веками. Пройти по газону, плюнуть на пол и
так далее — вот ее характерные черты.
Для Федотова, несомненно, существует не только демос,
народ, но и истина. Демократия означает, что власть
повернулась лицом к народу, но спиной — к истине. При таком
повороте демагогия становится наиболее приемлемым
способом существования человека.
«Современная демократия Запада явно больна», —
утверждает Федотов. Во-первых, она стремится растворить
личность в коллективе, и, во-вторых, перестает давать
вождей. Начало истинной демократии, по Федотову, содержит в
себе соборность. Единомыслие и единообразие — высшее
достижение демократии. «Если под демократией понимать
механическую систему, построенную на числе и равенстве
социальных атомов, то соборность есть коренное ее отрицание».
В соборности два центра: и личность, и коллектив, и
верх, и низ. В демократии один центр: низ, или коллектив
атомов. Но коллектив не в смысле мистического организма,
а в смысле суммы воль и множества атомов. Демократия
выравнивает и нивелирует. Соборность иерархизирует>и
координирует.
344
Федотов не сомневается в том, что на смену
парламентской демократии идет корпоративная. Иногда он ее
называет органической. В чем смысл теории корпоративной
демократии?
Как известно, парламенты создавались не для того,
чтобы управлять, а для того, чтобы «говорить», то есть
обуздывать управляющих. Но даже для обуздывания
правительства парламентская машина может быть пущена при
одном условии: она требует существования политических
партий. Демократия постепенно становится ширмой, за
которой разыгрывается партийный пасьянс. Но партии
предполагают наличие специального интереса различных
групп и слоев общества. По наблюдениям Федотова,
классовое строение общества уходит в прошлое. На первый план
оно выдвигает профессиональные союзы с оттенком,
близким средневековым цехам и сословиям. Самоуправление —
идеал средневековья. В погоне за самоуправлением мы
приближаемся к органической демократии, основывающейся на
тезисе: власть — не право, а долг, общее дело. Если атом
общества — личность, то атом государства — группа. С
государством связана не личность, а группа людей,
коллективное целое; между личностью и государством должны
быть граница, предел, перед которыми обязано остановиться
государство/Если органы государства внеперсональны, то,
например, и выборы должны быть неличностным актом, то
есть не прямыми, а косвенными. Ведь выбирают, по мнению
Федотова, не для выражения воли народа, а для «отыскания
и творчества». Никто заранее не знает решения. Подсчетом
голосов и демократическим большинством в творчестве не
участвуют. А политика — дело творческое, личное. И
выбираются поэтому не программы, а личности. Избранный
выход из партии, роль которой сводится на нет.
Исполнительная власть, по мысли Федотова, независима от
законодательной.
Теория корпоративной демократии имеет еще одно
следствие: призыв к новому средневековью оправдывал
существование духовной аристократии. Демократизация
культуры привела в негодность «лук» творчества, тетива
которого оказалась ослабленной. Стрелы культуры не
достигали не только дальних, но и близких целей. Возникла
345
проблема, известная как проблема соотношения
цивилизации и культуры.
Осмысление этой проблемы приближает Федотова к
идеям Бердяева, сформулированным в «Философии
неравенства».
Современная демократия не может существовать без
демократического сознания, которое вынесло бремя
«Коммунистического манифеста» и ответило на него социализмом.
Но оно не вынесло «крика» Ницше, Бодлера, Достоевского,
Киркегарда и надорвалось. И теперь, заболев, она
вырабатывает яды фашизма. Фашизм — это демократия без
демократического сознания. Вот почему нужен радикальный
отказ от зараженного демократического сознания. Федотов
писал: «...Болезнь нашей цивилизации кроется глубже, в
самом восприятии мира и жизни... Вот почему последняя
борьба за свободу происходит в глубине духа. Здесь даются
сражения, почти невидимые для современников, но исход
которых определит судьбу мира через столетие»1.
Лицом к лицу
«У всякого народа есть родина, но только у нас — Россия.
В этих словах Федотова угадывается возможность личного
отношения к тому, что является сверхличным и,
следовательно, никаким набором определений не исчерпьгоается. То
есть Россия — это не сумма людей, говорящих по-русски, не
народ, ее населяющий. Если бы это было так, то Россия была
бы пустым звуком, незаполненным пространством. Личное
отношение возможно к тому, что имеет лицо. Нет России без
лица. Безликая Россия — это какая-нибудь Евразия или
союз суверенных государств Европы и Азии. С ликом же
можно только встретиться, не описать его как бы со стороны,
а пережить.
Как ни странно, но встреча русской интеллигенции с
Россией произошла после 1917 года. Передовая (и
мыслящая) часть дореволюционного общества не хотела
поклониться России. Ее проклинали и вместе с Марксом
ненавидели, и она, пишет Федотов, не вынесла этой ненависти.
«Теперь мы стоим над ней, полные мучительной боли. Умер-
1 Федотов Г.П. Россия и свобода. Париж, 1981, с.245.
346
ла ли она? Все ли жива еще? Или может воскреснуть?..
Отвернувшиеся от царицы, мы возвращаемся к страдалице, к
мученице, к распятой. Мы даем обет жить для ее
воскресения, слить с ее образом все самые священные для нас
идеалы»1. Иными словами, нужно было потерять Россию,
чтобы понять, что потеряли, и затем о потерянном
рассказывать (как это сделал Федотов) всю оставшуюся жизнь.
Интеллигенция смотрела на Россию, а видела, как
правило, царизм, империю, государство, православие, то есть не
видела ее лица. Федотовское объяснение этого «затмения»
построено на идее исторического расхождения
интеллигенции и власти. Само это расхождение опять-таки связано с
различным пониманием устоев государства. Власть видела
эти устои в непросвещенном народе. Интеллигенция
отреклась от государства, чтобы просветить народ, а своим
просвещением осуществляла антигосударственную идею.
Едва ли не каждый семинарист жаждал свободы для народа и
знал, что для этого нужно освободить его от царизма. Идея
народничества самим фактом своего существования делала
немыслимым национальное самосознание. Ведь «народ» —
это скрытая посылка плебейского мышления, или мышления,
накладывающего запреты на мыслимость
аристократического начала в народе.
Истиной народнического сознания является сознание
классовое. «Отказ от народнического сознания» позволит,
согласно Федотову, отказаться от дьявольской гегельянской
лестницы, приставленной к абсолютному духу. Народ —
лишь первая и не истинная ступенька этой лестницы. Далее
следуют: класс, партия, вождь. Народническое сознание
поражает примитивностью своих ожиданий: вот падет
самодержавие, и пугающее весь мир звериное начало России
рассеется. Самодержавие пало, а «хари остались».
Осознание данного факта потрясло многих, в том числе и
Федотова-социалиста. Значит, дело не в самодержавии, оно
всего лишь внешняя оболочка зла. Рядом с этой оболочкой и
независимо от нее существует духовное ядро, в котором
коренится зло, в котором есть место и для Бога, и для дьявола.
Имеется два источника зла: исторический и онтологичес-
Федотов Г.П. Лицо России. Париж, 1967, с.2.
347
кий. Эмпирическими действиями онтологические корни не
выкорчевать, а поэтому преодоление, например,
собственности необходимо рассматривать не только как задачу
политико-экономическую, но и как задачу духовную,
средствами политики и экономики не решаемую.
Россия — это не народ. Может быть, нация? Но Россия
никогда не строилась на национальных основаниях,
государство и нация в ней не совпадали. Эта констатация
позволяет Федотову различать мужское и женское начала
России, то есть отечество и родину. Отечество
осуществляется в государстве, государство — в империи. Где же здесь
место России? Оно в связности отечества и родины.
Родина — это язык, песни, земля. У империи свои песни и свои
слова. Империя, или обрыв связей между родиной и
отечеством, делает невозможным национальное сознание. В ней
происходит отождествление национального и
государственного сознания. Но в этом отождествлении теряется
материнское начало России. Исчезающее чувство родины
находит новое воплощение. Оно, замечает Федотов,
проявляется в областничестве, малой родине. «...От отечества к
родине, к материнскому началу, утраченному вместе с
иррациональными комплексами культуры»1 — вот путь
становления русского национального сознания, его избавления
от космополитизма имперского сознания. «Мы христиане —
космополиты...». Эта формула Василия Великого
превратилась в XX веке в опасную двусмысленность, в ловушку для
верующих. Христианское и национальное сознание
оказалось как бы на разных берегах. Но ведь-и они (социалисты)
тоже космополиты, или граждане мира. Что же объединяет
их? И христиане, и социалисты не признают отечества,
отказываются от родины. Для христиан нация — символ
язычества, если под язычеством понимать, как рекомендует
Федотов, не многобожие, а сам факт земной национально
оформленной жизни. Для социалистов идея нации — способ
маскировки антинародных замыслов, их космополитизм
имеет имперскую закваску.
Христиане-космополиты не в этом мире, а в том, «Горнем».
Они не признают наций перед Богом. Вселенскость церкви
1 Федотов Г.П. Россия, Европа и мы. Париж, 1973, с. 151.
348
подчеркивает единство людей перед Христом. Для
социалистов единственная трансцендентность — будущее, другими
словами, они не признают права на отечество перед лицом
грядущего, они космополиты земные. Иначе говоря, социалисты
не знают абсолютных ценностей, преодолевая скепсис и
релятивизм, возвращаются к оправданию органической жизни в
виде национал-социализма. Поэтому задача XXI века —
отделить национальную идею от идеи социализма.
Родина, отечество могут отрицаться, если ты монах, а не
гражданин: если ты идешь по пути аскезы, а не измены
вселенскому смыслу. Россия — не физическое, а духовное
понятие. Ее суть не в социальной оболочке и не в этносе, а в
срединности пути между монахом и гражданином, в богоче-
ловеческом устроении власти и собственности, морали и
права. Вот этот путь уже в который раз был прерван, и
русский народ, по словам одного из авторов сборника «Из
глубины», имеет право сказать интеллигенции перед трупом
бездыханной России: ан ты главный убивец и есть.
Существует много причин для того, чтобы не любили
Россию. Во-первых, Россия — слишком Восток, во-вторых,
она чересчур Запад и, в-третьих, вдобавок ко всему, она еще
и империя, то есть отечество, переступившее пределы
родины. Каждая из этих тем «исхожена» Федотовым вдоль и
поперек. До какой степени Россия запад? «Если не Запад, —
то, значит, Восток? Если же Восток, то в каком смысле
Восток?»1 Не так уж и много найдется людей, умеющих в
тусклом зеркале истории разглядеть неясные черты
грядущего. Федотов — один из немногих. Киевская Русь, считал
он, — это и не Запад, и не Восток. По степени развития
свободы и личного сознания она ничем не отличается от Запада,
а религиозно — от Востока, то есть Византии. Правда,
Византия — это греки, подчинившиеся Востоку, а не «поганые».
Московские цари — преемники ханов. Здесь Восток в
языческом обличье овладел душой России. Наш народ сделал
выбор между национальным могуществом и свободой. На
волне могущества мы въехали в империю, повернувшуюся к
Западу передом, а к Востоку — задом. Ее «вершки» очень
скоро стали европейскими, а «корешки» — татаро-москов-
Федотов Γ.Π. Россия и свобода. Париж, 1981, с. 175.
349
скими, иначе говоря, комбинацией северного великоросса,
кочевого степняка и иосифлянской идеологии.
Для Федотова Россия — это Россия, а не Запад и не
Восток. «...Все, — писал он, — уживалось в этом скифском
сфинксе»1. В том числе и империя. Отсутствие четких
границ у России поражало Федотова. Империя — это
государево, которое вышло за национальные границы и
забыло вернуться. Нация и империя — два естественных
полюса в жизни общества. Имперское состояние —
экстатическое, его основой служит государство, а не нация. А это
значит, что государство предает забвению смысл нации и
начинает служить империи. Это забвение России, по словам
Федотова, можно увидеть уже в аббревиатуре СССР, а также
в имперской псевдоморфозе, называемой «советский
народ». Сложилась уникальная историческая ситуация, когда
на место обрусевших «немцев» пришли осоветившиеся
народы. Под имперской крышей СССР никто не получил
политической автономии. Ее заменили обильные поблажки
национальному тщеславию. Культурная автономия была
дана всем, за исключением русского народа. «Под покровом
интернациональйого коммунизма, в рядах самой
коммунистической партии складываются кадры националистов,
стремящихся разнести в куски историческое тело России»2.
Даже сибирячки, чистокровные великороссы-сибиряки,
тоже, по словам Федотова, имеют зуб против России, тоже
мечтают о Сибирской Республике.
Империя раздавила Россию своей тяжестью; русский
народ отказался от России, потерял сознание ее нужности.
«Ему, — писал Федотов, — уже ничего не жаль: ни
Белоруссии, ни Украины, ни Кавказа. Пусть берут, делят, кто хочет.
«Мы рязанские». Таков итог векового выветривания
национального сознания»3.
Национальное возрождение России проблематично, ибо
сама национальная культура становится всё более
космополитичной, бескультурной. Национальные традиции
покинула жизнь, и они стали экзотикой, приманкой для ту-
ЧамжссЛЗб.
2 Федотов Г.П. Лицо России. Париж, 1967, с.281.
3Тамже,с.283.
350
ристов, декоративной рекламой для внутренне пустой и
однообразной цивилизации.
В современном мире нет места империям. Раздел России
предрешен, но конец империи чреват новой гражданской
войной. Это предупреждение Федотов сделал в конце 40-х
годов.
«Россия не умрет, — верил Федотов, — пока жив
русский народ, пока он живет на своей земле, говорит своим
языком»1.
Уже нет царя, нет власти, которой бы русская
интеллигенция перекинула обузу национального строительства,
оставив себе святость интернационального
миросозерцания. Теперь ей самой придется сочетать национальное со
вселенским.
Федотов ЕП. Новый Град. Нью-Йорк, 1952, с.198.
РАЗДЕЛУ
РОССИЯ КАК ПОЛЕ
МИСТЕРИАЛЬНЫХ ИГР БОГА
5.1. Россия как бесконечный тупик
России, вернее, тем кто погрузился в нее русским, а
вынырнул советским, повезло, по крайней мере, в
одном отношении. Самим фактом этого погружения, то есть
под фактом бытия в нем, понимается то, что при прочих
равных условиях .понять невозможно. А если что-то и
понималось, то немногими, ибо не всякое тело выдерживает
тяжесть работы ума.
А мы живем и знаем, что например, история есть миф;
что миф, в свою очередь, не вымысел, не то, что родилось в
мысли, а реальность.
Эта реальность мифа изначальна, и поэтому она
отличается от реальности дерева, у которой нет этой
изначальности, а есть то, что называется древесностыо. Для
того чтобы видеть дерево, нужны глаза. Для того чтобы
увидеть древесность, требуется ум, существование которого
обеспечивает метафизика. Но для того чтобы увидеть
изначальную реальность, ее нужно пережить, то есть в нее нужно
погрузиться.
Изначальное — связанность ума душой
В России никогда не было метафизиков. Они в ней не
приживались потому, что на Россию трудно посмотреть
извне. Вернее, посмотреть можно, но увидеть ее всю нельзя. А
это условие выполненности акта метафизического
мышления. Есть что-то немыслимое в словах о том, что русская
философия возникает вне России. Между тем греческая фи-
352
лософия возникает не в Греции, а в Малой Азии, с берегов
которой Греция полностью просматривалась.
Русская философия возникает вне философии или, что
то же самое, вне понятия, вне ума, наблюдающего мир на
некотором от него удалении.
Метафизика возможна как нечто, соблюдающее
дистанцию, наполняющее паузу между видимыми событиями
бытия.
Дословность изначального исключает возможность
паузы и интервала. Она требует контакта прикосновения или,
если угодно, метафизической чувствительности души,
которой обладал; например, Сократ. По словам Ксенофонта,
Сократ вселял в своих последователей прежде всего
мудрость, а лишь затем умение говорить и действовать. Ибо те,
кто умеет говорить, не имея мудрости, наиболее
несправедливы и наиболее способны творить зло. Иными словами,
изначальное -^ это все то, что материализуется в
связанности ума душой. Европейская метафизика основана на
развязности ума, связать который не удалось даже Хайдегге-
ру. В России осуществилась философия непосредственно
осязательного понимания изначального. Мистический
материализм Федотова и земное православие Розанова
коренились в древней традиции. Не все в нас наше — вот
смысл мистицизма этой традиции. И если мы что-то знаем,
то потому, что в нас еще живо то, что не наше, то, чем мы не
распоряжаемся по своему усмотрению. Назову ли я это «не
наше» совестью или первоощущением бытия — не имеет
никакого значения. В нашем мире есть такая сторона, которую
мы знаем не потому, что думали, а потому, что выжили, то
есть знаем пережитым.
Русский человек — не человек агоры, он был божьим
человеком. Его мысль вырастала не на площади, не на рынке и
не на форуме, где встречаются и со-общаются друг с другом
разные люди.
Определенность общего места встреч устанавливает
европейцу предел мыслимости, то есть пределы мыслимости
определяются встречами на рынке.
Местом мысли и чувств божьего человека была церковь.
В остальных местах он следовал философии авось, смысл
которой в свое время, удачно разъяснил Ключевский.
23 Ф. Гиренок
353
Мыслить — значит быть на прямой мышления, где
одно понятие сцеплено с другим. Но никаким сцеплением
понятий нельзя пройти через встречу абсолютного с
относительным. Эта встреча немыслима, ее можно пережить как
тайну, то есть как говорили киники, пройти ногами души, а
не понятиями разума. Не воспитанные агорой, мы, видимо,
мыслили, как ходили. Не по прямой, а окольными путями,
тропами и проселками. А это уже не гнозис, а фронесис.
Какими же проселками пришла Россия к своей гибели и
с каким фронесисом мы остались жить после жизни? Чтобы
ответить на этот вопрос, нужно прислушаться к словам
Федотова о том, что Европа состоялась не на берегах Сены или
Темзы, а страшно подумать, на берегах Невы. Ведь если это
так, то в России (Россией) закончилась Европа. Пока мы
ныряли в глубины мыслимого, скончалась история и
установилось внеонтологическое понимание (понимание на
уровне осязания) отличия между мыслимым и
переживаемым. Европа мыслила, Россия переживала мыслимое. Если
где-то и существует мыслимый мир, то мы в нем не
существовали. Мы создали немыслимый, но переживаемый мир, в
котором если что-то установилось, то это что-то нелегко
столкнуть. Россия своей кентаврической природой
забросила нас на «концы» истории. Конец истории — это не часть
истории, а разрыв с историей. И вот на этих концах прямая
история пророка Даниила вновь свернулась в кольцо. Она
взвешена и найдена очень легкой, то есть в ней не оказалось
выделенных точек, называемых раем и адом.
Без выделенных точек история исчезает, и вместо нее
проступает не знающий истории космос. Мир истории
оказался майей сознания, утратившего контакт с миром. Но
ведь этим сознанием исчерпывается христианская история
Европы, о неудаче которой говорили Ницше и Розанов. Ведь
христианская Европа освободила нас от объятий мира,
вынула человека из космоса и отдала его Богу. Человек был
поднят над миром. Мир опустел и стал называться
природой. Вернуть человека на место попытался русский космизм,
но в природе уже не было места его душе. И тогда русские
философы стали сооружать особую сферу, в которой должна
была поместиться душа человека. Флоренский назвал ее
пневматосферой, Вернадский — ноосферой.
354
Пустой природой мы заплатили за человека не от мира
сего, за то, что он не совпал с явлениями природы. Когда-то
греки вошли в дом — космос. Они его не строили, они в нем
жили, подчиняясь идее мира и подчиняя этой идее своих
богов и свою душу. Христиане выгнали нас из этого дома, и
мир перестал быть миром — космосом. Феномен экологии
подал нам весть о том, что все мы сегодня вне мира, что
обрезана нить, связывающая нас с дохристианской Европой.
Спаситель мира воззвал к нам «не любить мира», и мы
пошли к нему, потеряв интерес к земле. Христианство духовно
погасило в нас чувство земной жизни, оторвало от земли и
тем самым открыло путь Новому времени, которое пустую
спонтанность природы раскатало в плоскость и сделало ее
одномерной.
Для того чтобы был человек, нужен Бог. Если есть
абсолютное, то есть и возможность увидеть зло внутри
относительного. Человек не может удержать себя на той
высоте, на которую его поднимает факт существования
трансцендентного. Это давно поняли евреи, но понятое ими не
приняли гуманисты. Отречение должно быть полным. И оно
состоялось в поклонении человеку. Ich soll also ich kann. Я
должен, я могу
Но что мы можем, если нет ни Бога, ни земли? Висеть в
воздухе. Нововременной человек находился в
подвешенном состоянии, пока не разорвалась его душа. Ведь душа
существует, если под нами земля, а над нами Бог. Гуманизм
убил душу. Новоевропейский человек умер. После него
осталось жить здоровое тело и сильный дух, как украшение
тела. Цивилизация центральных нападающих и виртуозов
стихосложения обрела свою почву в бездушности. Смерть
новой Европы устанавливается языком различения
цивилизации и культуры. Культура отошла от цивилизации, как
дух отходит от тела. Кто не заметил этого, тот продолжает
говорить о нашей обреченности быть свободными, о правах
личности и гражданина. А кто заметил, тот онемел или стал
косноязычным.
Вывалиться из истории
Мир изменился так, что его нельзя уже именовать
нашим. И неважно, он ли стал нам чужим, мы ли для него
23*
355
предстали чужими. В любом случае никто уже не может без
риска быть изгнанным войти в мир самого себя. А это
вхождение условие того, чтобы осуществилась возможность
нашего бытия в мире. То есть осуществилась возможность
того, чтобы был мир, который мы, как фокусники, могли
вынуть из себя. Осуществление этой возможности задает
контуры новоевропейского человека. Размерность слова
«наш» определялась когитальными актами. Все, что мы
могли вынуть из себя, было нашим и было миром. Ведь что
такое мир? Это — все то, что нам удается извлечь из себя и
поставить перед собой. Созерцая представленный мир мы
созерцали свою сущность внешним образом.
Судьба нововременной Европы висела на
метафизической паутине, которая разматывалась вопросом о том,
существует ли в нас что-то, что не извлекается извлечением
мира или не существует. Если не существует, то потому, что
это существование запрещается когитальными правилами
для руководства ума. Если же существует то,
трансцендентально, допуская существование того, что не изымается
изъятием мира. Все, что не вынималось, было не нашим и не
было миром. Мы не только ничего не знали об этом «что», но
и ничего не знали о том, как его узнать. Ниточка, на которой
висела нововременная Европа, оборвалась в
трансцендентальной философии. В жизни европейского сознания
появилось нечто, что сложилось и действует вне знающего
знания, что отсчитывало себя не от когито. Центр сместился
в сторону от «Я». Вот эта смещенность центра, казалось, и
делает невозможной тождественность мысли и
существования. Ведь эта тождественность исключает спонтанность в
качестве возможности нашего бытия. Когитальное
мышление раскололо мир на две части, чтобы найти в нем место
для того, что определено фактом «Я есть». Но это «Я» уже
существовало, трансцендентально, то есть «Я» было, но
взаимодействия с миром, из которого бы оно· извлекалось, не
было. Или, что то же самое, это я не могло вынуть из себя
мир и положить его перед собой.
Эта трудность разрешалась в спекулятивном равенстве
между человеком, из которого вынут Бог, и миром, из
которого вынут человек. Спекулятивно вполне допустимо, что
для того, чтобы получить разум, достаточно одного бытияу а
для того, чтобы быть, достаточно одного разума. На этой
356
спекуляции, помимо прочего, строилась идея социализма,
одна из самых влиятельных идей новой Европы.
Но эта спекуляция была разоблачена в России.
Конечность нашего существования состоит в том, что мы
переживаем развязку конца, не испытав радости
завязывающего начала. Мы никогда не были при рождении, но мы
всегда были на похоронах. Мы хорошо сыграли эту роль.
И русские философы имели все основания зажигать
свечи. Прошел день Европы, теперь наступила ее ночь. Но этой
ночи, кажется, никто и не заметил. Позже появились
свидетельства:
Мир оплывает, как свеча,
И пламя пальцы обжигает.
Бессмертной музыкой звуча,
Он ширится и погибает.
И тьма — уже не тьма, а свет.
И да — уже не да, а нет.
И не восстанут из гробов,
И не вернут былой свободы —
Ни светлым именем богов,
Ни темным именем природы!1
Георгий Иванов, 1937 г.
Мы знаем, что уже нет и христианской Европы, что она
ушла, оставив свой прощальный свет — русский
религиозно-философский ренессанс.
Она прекрасна, эта Мгла
Она похожа на сиянье.
Добра и зла, добра и зла
в ней неразрывное слиянье
Добра и зла, Добра и зла
Смысл, раскаленный добела.2
Георгий Иванов, 1937 г.
Невечерний свет осветил уникальный момент в истории
русской интеллигенции, когда в одном космосе души
совместились две несовместимые части, чувство свободы и чувство
1 Г Иванов. Стихи. М., 1992.
2 Там же.
357
родины. Два этих чувства разрывали русскую
интеллигенцию на разные группы общества, пока не появилась душа,
совместившая в себе враждебные начала. Она появилась и
заговорила многими голосами, сразу в одно и тоже
мгновение, как будто бы она ожидала целую вечность, прежде чем
ей дали слово. После этого слова многое потеряло свой
смысл. Бессмысленным стало противопоставление
западников и славянофилов, «идейных» и «почвенных». История
русской интеллигенции закончилась. Либо мы можем
держать тот космос души, который держался Флоренским, либо
не можем. Если держим, то появляется и содержание нашей
жизни. Если ж нет, то мы вне всяких содержаний.
Русская интеллигенция умерла. Советская
интеллигенция разыграла бессодержательные роли «западников» и
«славянофилов», демократов и националистов. Всякое
ничто ничтожит по-своему, но иногда оно ничтожит
ничтожеством устремлений/Советская интеллигенция
устремилась на рынок, как на агору.
Игра в который раз переиграла игрока. Мы похоронили
Европу, как похоронили до этого Ренессанс, гуманизм и
социализм. И вот теперь мы хороним похороны, то есть самих себя.
Мы выдавались из истории без Бога, без мира и без души.
Нововременной человек все поставил под сомнение, все
взял под подозрение сознания. Нет ничего, что осталось бы
вне его контроля. Представлением самого себя мы
отгораживаемся от самого себя. Перешагивая это представление,
мы проваливаемся в предметный мир. Больше не
существует того, что бы отличало человека от предмета. Но это уже не
Европа и не гуманизм. Это Восток. Европа провалилась в
пустоты Востока, основанного на умении не отличать
человека от того камня, на котором он сидит.
Снижение уровня европейской культуры, ее срыв
обнажает нашу «азиатскую рожу» и создает почву, на которой
вырастает, с одной стороны, евразийский призыв к «Исходу
на Восток, а с другой — вульгаризмы антропософии.
Человек увидел себя в качестве точки пересечения космических
сил. А это уже, как любил говорить А. Мейер, игра на
понижение. Идея человека сильно подешевела и в антропософии.
На смену Парацельсу пришел Штейнер. У Парацельса змеи
понимали смысл греческого слова Осия, у Штейнера
конструируются суррогаты веры людей в медиумическую
358
материю. Восток — наше зеркало, то есть первая природа
России, если Запад считать второй.
Отказ от сознания, зараженного трансцендентализмом,
уводит нас на Восток. В Европе мы хотели увидеть свою
внутреннюю сторону, а она нам затылок. И никто не может с
уверенностью определить — наш этот азиатский затылок
или не наш. Ведь мы не знаем своего лица и потому не знаем,
что в мире от нас, а что в него вошло помимо нас.
Вот этой неузнаваемостью и узнается современный мир,
в котором что-то сдвинулось, съехало со своего места и тем
самым нарушило закон, который предписывает каждой
вещи быть на своем месте и в свое время.
Неуместность и несвоевременность составляют новый
смысл жизни в этом мире, то есть исход на Восток
неуместен, как и поход на Запад. И в том, и в другом случае, если
мы что-то и делаем, то для того, чтобы сделанное своей
неуместностью оттенило преимущество несделанного, а
сказанное в силу своей несвоевременности оказалось рангом
ниже несказанного.
Опекунов свободы беспокоит не Восток. Их беспокоит
поворот к Новому средневековью, на который свернула
философская мысль России. Божий человек не знал свободы,
но ему есть что сказать свободному человеку цивилизации.
Первохристиане — заманчивый призыв, удержаться от
отклика на который чрезвычайно трудно. Флоренский не
удержался и откликнулся. Но мы прошли уже тот момент,
когда могли откликнуться и наш отклик был бы услышан.
Неудача истории возложена на Бога. Отныне христиане не
нуждаются в Христе. От былого человечества остался
только гнозис. Фронесис провалился в пустоты, о которых писал
Розанов в «Апокалипсисе...» А фронесис — это то, что
направляет, когда способность к рассуждению покидает нас. Вот
эта способность покидала Россию чаще, чем кого-либо еще в
Европе. Но именно поэтому мы привыкли полагаться не на
право, а на мораль. Право — основа цивилизации, мораль —
это душа. Душа не нужна цивилизованному человеку. Она
избыточна для него своей со-общенностыо с первоощущени-
ем бытия. Первое ощущение бытия и есть бытие. Не
онтология ума, а вот то чувство, с которым Адам появился
на свет и с которым рыбаки встречали Христа. Это чувство
естественного человека, то есть человека который самим со-
359
бой указывает на свою сущность. И в этом смысле не имеет
значение ни то, что сущность предшествует существованию,
ни то, что существование предшествует сущности. Первобы-
тие вне истины и лжи. Оно как тайна при полном свете дня,
в которой человек пребывает без назначения и без
долженствования. Никто не должен и ничто не назначено быть
распятым временем. Человек — это плодотворная
тавтология бытия. От этого бытия и остались пустоты. Человек как
человек стал неестествен. Оборвалась нить, связующая его с
органическим разумом истории.
Все, что лежит вне связи замещения, в русской
философии называют органическим. Природа вообще не знает
замещений и поэтому она органическая. Люди размещают
себя в пространстве связей замещения, и замещениями
создано пространство цивилизации. И поэтому человек может
быть связан с миром природы первоощущением бытия или,
что одно и то же, органическим разумом. Есть
просветительный разум, как называл его Бердяев, а есть еще и разум
органический. Просвещение предполагает, что есть знающие
и незнающие, и знающие просвещают незнающих на том
основании, что они много сами думали. Вот этим самодума-
нием Новое время обрезало свою связь с первобытной
мудростью, со-общением с которой живет органический
разум. Перво-мудрость вообще славна тем, что она есть, но
извлечь из нее «Я» нельзя. Нельзя ее упаковать и в
трансцендентальное единство апперцепции.
Ее можно заменить самомнением, но с самомнением мы
входим в мир представлений, а не только замещений. Мир
закрылся от нас нашими представлениями.
Европейский человек в своем изначальном виде еще
хранил чувство первобытия и знал контуры мифа, внутри
которого он родился. В осевое время не было Европы
географически. Вернее, она была, но уведалась в голове Сократа, то
есть она была как возможность жизни многих греков. По
преданию (а предания делают возможной историю) Сократ,
посещая рынок, не переставал удивляться тому количеству
вещей, которые ему были не нужны. Вот этой «ненужностью»
в нем еще жила Адамова первобытная мудрость, которую
затем хранили киники. Но киники часто бывали на грани срыва
культуры. Ведь культура метафизически оправдана только^
том случае, если признается, что человек по природе своей
360
никогда не есть то, что он есть. То есть что он идет к себе
издалека, со стороны культуры. Вот это утверждение и поставили
киники под сомнение. Идти к себе издалека — значит уже
утратить микрокосм устроения человека. Не к себе идти, а
войти в себя. Войди и ты пройдешь в суть времени, к мифу. Но
войти в себя можно, если ты микрокосм, единство которого
удерживается не трансцендентальным осознанием, не
спекулятивным разумом, а мифом, или перво-ощущением бытия. В
себе потерять себя, потерять свое «Я», ибо не перебежками от
«Я» к «Я» устанавливается микрокосм, а возможностью быть
живым, когда все уже в тебе умерло. В этой возможности
коренится онтологическая неуверенность человека в своем
реальном существовании. Русское философское сознание
особенно болезненно переживает факт призрачности
существования человека, его неуверенности в самом своем
существовании. Ведь человек — это не только преступник,
нечто, переступившее черту, но и все то, что требует
доказательств своего существования за этой чертой. А за
чертой начинается цивилизация, или, в других терминах,
различение привходящей свободы и естественной свободы.
Привходящая свобода подвешена на крючок права,
естественная свобода сама себе крючок. В первом случае урожай добра
велик, но в немного «нитратов», во втором — он мал, но
натурален. Цивилизация возникает в момент, когда появляется
то, что действует вместо нас. Только это «что» нужно
выследить и воспроизвести. Воспроизведение замещенных
содержаний составляет смысл цивилизации, а слушание
голоса первомудрости — смысл естественного человека. И это
понял даже Фуко — человек цивилизации, заметивший, что
ее сотрясает сила смеха. Если смех колеблет привычки
цивилизованного мышления, то есть мышления,
соответствующего правилам приличия, то потеря слуха сотрясает бытие.
Фуко рассмешил рассказ Борхеса, Борхеса развеселила
китайская энциклопедия. Восток потешал Запад. Россия теряла
слух. И пока она теряла, бытие сотрясалось.
Бытие подлинное и неподлинное
Что же в цивилизации есть такое, что делает ее
неприемлемой? И что же в ней есть такого, что заставило
Мамардашвили склонить перед ней голову? Бердяев, тонкое
361
чутье которого всем известно, утверждал о существовании
особого «запаха машин». Цивилизация — это никакой не
цветок, а варварство с запахом машин.
Существует подлинное бытие и неподлинное. И вот,
когда неподлинное бытие подменяет подлинное ив результате
подмены повышается уровень социально организованного
счастья людей, тогда и возникает цивилизация варварства.
Вчера она была с запахом машин, сегодня с запахом
компьютеров, а завтра... Запахи не устойчивы и никто не может с
уверенностью сказать, что будет завтра. Единственное, что
гарантирует цивилизация — это удачливую жизнь, за
которую нужно заплатить совсем немного. Нужно отказаться от
спонтанности и, чтобы выжить, сделать приемлемым
устройство социально организованного блага.
Ключевое слово понимания цивилизации в русской
философии «обмен» между подлинным и неподлинным
бытием. Сделка, следствием которой является под-мена и
из-мена. Это на одном полюсе. А на другом — новь и вновь
обновление.
Для того чтоб& описать структуру этой сделки (а язык
русской философии — это язык описания цивилизации как
сделки с совестью), возьмем в качестве отправной точки
ощущение ненужности. Откуда оно у новоевропейского
человека, то есть человека цивилизации? Конечно, его (это
ощущение) мы не найдем в самом истоке. Например, оно
отсутствует у Ф. Бэкона, в фигуре которого, на мой взгляд,
символически представлен нововременный человек. Да и
зародился этот человек внутри опыта, поставленного Бэконом
и разрешившего гамлетовский вопрос «быть или не быть».
Быть лучше, чем не быть. Быть, чего бы это не стоило для
морали.
В наших душах есть какие-то уголки, куда доступ морали
затруднен. Эти уголки были всегда, но не всегда на них
опирались в предприятии жизни. Ф. Бэкон выставил их на
всеобщее обозрение. Он (а не Ницше) основал на них новое
бытие и показал эффективность форм бытия, выраставших на
внеморальной целине. Рационализация этого бытия
составила смысл Новой Европы, ее непрерывно воспроизводимое
состояние, в котором не имеет никакого значения ни твоя
душа, ни чья-либо мораль.
362
Несовпадение между тем, что у тебя есть, и тем, что от
тебя требуется целому, символу которого ты принадлежишь
принадлежностью замещения, порождает ощущение
ненужности. Что не нужно? Да все, что внутри тебя, все эти
различия между перво-ощущением бытия и правилами
приличия, между добром и злом, честью и бесчестьем. Главное —
соблюдай приличия, держись за форму, а там кто ты и что у
тебя в душе — никому не интересно. «Лишь бы знак подавал».
Все, что помимо знака, избыточно. Вот эта избыточность,
ненужность осознавалась русскими писателями и философами
в феномене так называемых «лишних людей». Нет спроса на
людей, есть запрос на рабочую силу. Человек — существо по
преимуществу своему на рабочее, а избыточное. Человек —
это онтологическая неудача жизни, то есть он устроен по
смыслу своего мифа избыточно. Никакой системой спроса эта
избыточность не может быть вовлечена в дело успеха или
удачи. Избыточное всегда просто.
Иными словами, за своей ненадобностью усыхает душа
новоевропейского цивилизованного человека. Ведь для
того, чтобы она была, нужно столько же сил, сколько их
требуется на творение мира. Но кто даст нам эти силы, если
мы, согласно сделке, пребываем на уровне рабочей силы
цивилизации. За*удачу жизни нужно платить неудачей души.
На этой неудаче, то есть на тождестве сознания и души,
строит свое понимание цивилизации Мамардашвили.
Для того чтобы быть внутри мира, основанного на
обмане обмена, достаточно иметь сознание. В каком смысле?
В том, что ты должен иметь развитое сознание
возможности обмана. Что может обмануть? То, что может думать и
выдуманным заманить в ловушку сознания, то есть
заменить выдуманным невыдуманное. На поле цивилизации
сознание неустранимо и несводимо ни к чему другому. Или
что то же самое, мир взят под подозрение сознания. Дело не
в том, что ты должен к чему-то прийти. Например, к
истине. А в том, чтобы не обмануться или обмануть первым и
тем самым впервые в мире что-то тобой будет установлено.
Так возникла свобода и лицо, соответствующее правилам
обмана. В результате само сознание должно было взять
себя под подозрение и кружить вокруг точки самосознания
на поводке сомнения.
363
Душа — не сознание. Но кто сознание приравнивает к
самосознанию, тот и зажигает бикфордов шнур, на котором
висит душа человека. Ведь из этого равенства следует, что,
например, честность — это сознание честности, некий
сознательный акт, определение сознания. Но если разумом
задается понятие чести, то мы погибли, вернее, честь
погибла. Знаки ее остаются, а самой ее нет. И нечестный подает
знаки чести так, как подает их чучело на огороде. Знаки
есть — чести нет. Если мы из самосознания, как из кладовой,
достаем определения мужества и чести, то есть бытийные
определения, то эти определения будут определениями, во-
первых, одного мира, во-вторых, такого мира, в котором
совпадает вещь и представление о вещи.
Но из сознания мы можем взять не честь, а понятие
чести, не мужество, в представление о мужестве. И поэтому
цивилизация есть мир как представление о мире, а не сам
мир. Важно право, то есть формальная согласованность
действий, а не наполнение действий личностным содержанием.
Цивилизация — пристройка сознания, если сознание —
центр вселенной. :И тогда в этой цивилизации живут люди, а
Мамардашвили вписывает эту жизнь. Августин Блаженный
говорил, что если человек трансцендирует к человеческому
в себе, то он живет жизнью дьявола. Чтобы быть человеком,
ему нужно трансцендировать себя к Богу. Но в пристройке
сознания трансцендентное не помещается. В ней можно
лишь набить себе шишку, устремляясь к высокому, и
поэтому есть трансцендентальные ограничения на высокое,
согласно которым человек может трансцендировать себя к
себе как к сверхчеловеку, то есть быть совсем как человек, не
будучи человеком.
М.К. Мамардашвили описывает принципы цивилизации
как принципы жизни в пристройке сознания. Во-первых,
для этой жизни никакой души, или, что то же самое,
никакого чувства целого не требуется. Более того, внутреннее
должно быть запрещено, ибо оно замечено в связи с перво-
мудростью бытия. Разрешено только то, что не нарушает
однородность и непрерывность, то есть выросло в парнике
сознания — наблюдения со стороны самосознания. Ведь в
момент, когда оно заснет или отвлечется, внутрь пристройки
проникнет то, что сознанием не является, и вся пристройка
будет разрушена изнутри. А она может быть разрушена
364
только изнутри, ибо извне ее нельзя разрушить по
определению. Ведь она строит замещения только на том, что уже
воспроизводилось и носит характер закона.
Агора — не фондовая биржа и не коммунальная кухня. А
если она создается для того, чтобы жизнь каждого
выставлялась на всеобщее обозрение и обкатывалась публично, то на
такой агоре может возникнуть только замятинское «Мы». И
нам такое «взаимное обуздание» не нужно. Самое
«смешное» состоит в том, что замятино-оруэлловское «Мы»
комплектуется из этого «Я есть», которое не вытекает из «Я
был» и не течет в «Я буду». Мамардашвили слишком
доверчив. Его очаровали прелести идеи, согласно которой, чтобы
быть собой, нужно превосходить себя. Или, что то же самое,
умей быть собой под знаком смерти. Теперь твоя очередь
жить, и раззудись рука, замахнись на то, началом чего
можешь быть только ты. Но ведь это низменно, восклицал
чувствительный Бердяев. Что низменно? Да пир «Я» на
могилах предков. Но онтология жизни в пристройке сознания
своими законами исключает память как условие того, чтобы
что-то помнилось, и допускает ее как условие того, чтобы
что-то забылось. Символ смерти требует развития иных
мышц мысли нежели символ воскрешения.
Человек цивилизации — это пустой человек.
Мамардашвили это знает. Но нет худа без добра. Если в нас есть
что-то, что недоступно нам самим, то всегда найдется тот,
кому это недоступное будет доступно и выражено на языке
внешнего описания. На неполноте человека строится
представление о мире как о становлении. А поскольку
становление не может стать, поскольку мир становится в
ничто. Иными словами, становящийся мир не может не
содержать в себе вирус тоталитарного «Мы», ибо только в
нем, онтологически пустом, неокончательном мире
существует для нас место. Доопределить полный мир и
доопределить пустой мир метафизически два
несовместимых акта. В первом случае допускается действие
самодействующего механизма, во втором, — «Я могу» —
блокирует действие того, что «Я» не может. Цивилизация — это
кристаллизация самодействия формы, то есть действия,
полностью контролируемого трансцендентальным сознанием.
За нас действует формализм цивилизации и пока он
действует, мы — цивилизованные существа, то есть формально мы
365
люди, а по сути человека уже давно нет и никаким
напряжением сил из «ничего» его не создать.
Мир полон, и в нем нет места для человека, то есть нет
гарантии для того, что он может быть без первоощущения
жизни. Наш мир окончательный, и нет в нем ничего такого,
чтобы в нем еще становилось. Уже стало, только не ясно
что — бытие или ничто. Проблема человеческого бытия
состоит не в том, чтобы нечто в нем превращать в ситуацию
сознания, то есть в ситуацию, поддающуюся контролю и
полному описанию, а в том, чтобы слушать голос первобытия.
Еще недавно философы всерьез занимались проблемой
объективации сознания, то есть пытались найти в сознании
то, что можно отделить от него и представить отделенное как
объект. Например, ты несешь мешок, и ощущаешь тяжесть.
Но ведь чувство тяжести — это не свойство того, что несешь,
а свойство того, кто несет. Возникает вопрос: на каком
основании мы чувство отделяем от тяжести и затем тяжесть
приписываем объекту. Неосновательность этой операции
мучила Канта и, кажется, нашла свое разрешение в
интуитивизме Н. Лосскогб и отчасти М. Шелера.
Все эти и подобные им проблемы теряют смысл в
момент, когда нас настигает чувство конца времени, его
событийной завершенности. Ход времени продолжается, но
продолжением, с этим ходом ничего не происходит.
Апокалипсическое чувство не объективируемо, непредставимо в
образе объекта и поэтому понимается как структура бытия,
вопрошая о котором, мы только и можем узнать о том, что
завершилось.
Что же завершилось, о чем нам говорит время
наступившего безвременья?
Цивилизация как вывих
Разговор о цивилизации и цивилизационном сдвиге
затеян, я думаю, не для того, чтобы узнать, что мы знаем о
цивилизации. Знание содержательно и всякий раз подлежит
пересмотру. Непересматриваемое знание — забота
метафизики, в область которой мы вступаем, задавая себе вопрос о
том, что выпадает за пределы всякой, а не только этой
цивилизации. На выпавшее указывает сама материя языка, из
которой сшито слово «цивилизация». В нем нет намека на
366
природу. То есть нет чего? Нет того, что непредсказуемо.
Предсказуемость событий связана с невозможностью
«сказа» своими силами вовлечь высказывающегося в такие
сцепления вещей, которые влекут его несуществование.
Когда выполнена эта техника безопасности, тогда можно
говорить и предсказывать, не опасаясь ответственности, то
есть в момент, когда мы предсказываем, мы
безответственны, а предсказываемое стоит без усиливающей его силы
спонтанности. Ведь спонтанность — это и есть как раз то, что
нужно обессилить. Почему? Потому что ее нельзя знать
заранее. Вот этим «нельзя» запрещается замыкание проблемы
цивилизации в пределах мыслимости природы и техники.
Цивилизации — это не техника или, вернее, техника
составляет наиболее поверхностный слой цивилизации, то, чем
она сама себя показывает, одновременно скрываясь в
показной открытости. Для того чтооы расшифровать свойства
показной открытости, я возьму расхожее представление о
тождественности мысли и новизны. Мысль есть всегда
новая мысль. Но не в том смысле, что старых мыслей не
бывает, а в том, что новая мысль — всегда старая мысль, что
не бывает мыслей на время. Если они есть, то есть всегда, то
есть мысль — это рождающаяся в нас вечность. Вот это
рождение, которое всегда неожиданно, скрывает показная
открытость цивилизации. То есть цивилизация — выпадение
из спонтанности рождения вечности. Выпал когда-то
человек из спонтанности рождений и отпал от силы, то есть
обессилил себя в безнадежном стремлении заменить
утраченную ясность тайны знанием непотаенного. Есть какая-то
изначальная ущербность, какой-то «вывих» в человеке,
который позволил развиться цветку цивилизации,
прикрывшему этот изъян. Есть «вывих», но ведь есть и цветок.
Правда, ни одному русскому философу не пришла в голову
мысль сравнить цивилизацию с цветком. Кроме одного, и
этим одним оказался любимый мною философ
М. Мамардашвили, который назвал цивилизацию весьма
нежным цветком и довольно хрупким строением.
Мамардашвили — метафизик культуры самосознания, той
европейской культуры, которая, разлагаясь, нашла в нем
предельное осуществление своих возможностей и вновь заявила
о своей приверженности человеческому достоинству и
свободе. Еще живо то поколение людей, которое, как заметил
367
ЕП. Федотов, готово умереть за свободу, не спрашивая ее
определений. К этому поколению относил себя Мамардашвили.
Но уже повзрослело и то поколение людей, которое
отказывается умирать за свободу, не установив ее определений.
Мистериальные жертвоприношения, новоевропейским
Минотавром которых стала свобода, должны быть остановлены.
Мамардашвили ходил тропинками самосознания. Но
нам подает голос бытие вне онтологии. Мы пойдем за ним по
киническому бездорожью внеонтологического бытия.
Мистерия русской избыточности
Сегодня если и существует что-то, о чем стоит говорить,
так это закат, которым закатилось не только солнце Европы.
Ведь солнце Европы— это человек, вернее, страсть человека
стать личностью. То, что эта страсть поблекла, почувствовал
Ортега-и-Гассет, воскликнувший: в Европу просто войти
нельзя. Она, простите, переполнена заурядными людьми.
Превращение Европы в инкубатор, в котором
выращиваются личности ^категорическим императивом, произошло не
сразу, Но поздно, слишком поздно была замечена эта
опасность. Как водится, она проявилась с той стороны, с которой
ее меньше всего ожидали. Она пришла со стороны массы.
Заурядный человек, то есть нечто среднее между личностью и
человеком, всей громадой надвинулся на Европу и занял в
ней все, что можно было занять, в том числе и столь любезные
сердцу Ортега-и-Гассета изысканные уголки культуры.
Первым, кто заметил это, был Ницше. Последняя фраза,
брошенная Заратустрой перед тем, как он удалился в
одиночество, звучала поучительно: «Спасите нас от равенства».
Не спасли. Заратустру задавила демократическая
общественность, а Европа пошла по срединному пути гуманистов.
Она пошла навстречу судьбе под убаюкивающие слова
философии hie et nunc, сейчас и здесь. Эта философия —
философия сытых. Закат Европы — в посредственности.
Но не закат Европы интересует нас. Закатилось солнце
России, а солнце России — это не человек, а надежда на
человека, упование на то, что у него есть душа. Личностью
можно быть и без души. В самостоянии она не опора, но-вот
человеком без души быть нельзя. Без лица можно, а без нее
368
никак не получается, если ты не один. Ведь душа у нас одна
на всех, а все мы единодушны Богом.
Не скученностью сытой массы отцвела Россия, а утратой
единой души, ее распадом. Все поры России заполнил холод.
Не в России убили Бога, но именно в ней зародилось
сознание, что убийством Бога создается этот холод. Убивали не
мы, а знобит нас. Если существует различие между
европейскими философами и русскими, то оно исчерпывается
перепадом смысла в словах «тесно» и «холодно». Европе
тесно, России холодно. Первой не хватает цивилизации, ее
сознание не удовлетворено тем, что она еще не все
приобрела. Вторая постоянно погружена в состояние, когда уже
что-то оезнадежно потеряно и утерянное напоминает о себе
пустым местом.
Пока еще немногие заметили, что нас уже ничто не
связывает, что нет того единого, которое было бы нашей душой.
Как старики, мы слишком долго жили воспоминаниями. Но
теперь у нас нет даже памяти ρ бывшем и несмывшемся.
Теперь, когда у каждого из нас свой ум, свое тело и своя душа,
эту самонадеянную множественность стягивают в одно
целое иные обручи, иные метафизические цепи.
Возможно, что эти цепи сделаны из золота. Но не ими
держалась Россия, не они держали и не удержали ее от
соблазна быть не тем, что она есть, а тем, чем она не была.
Дорого, слишком дорого заплатила Россия за свою веру в то,
что есть еще в мире правда и что существуют на земле
добрые люди. Нет в мире правды, а человек по природе своей
зол. Европа давно поняла эту простую истину и создала
макет'человека — существо действующее по формальным
правилам. Кажется, и мы начинаем понимать, что нет в мире
причин для того, чтобы в нем было добро. Но мы — это уже
не Россия. Мы — советские. И в наших маленьких душах нет
места для большой России. Ведь Россия — это Минотавр, то,
что не могло быть, но было вопреки законам бытия.
Подобное сочетается с подобным — как формулировали это закон
греки.
Все имеет свой предел. Море не выходит из берегов, день
сменяется ночью. Мы не знаем что за Пасифая преступила
меру соразмерного, но смешением подобного с неподобным
наказана Россия. Две природы, исключающих одна другую,
слились в ней: Восток и Запад. Эта роковая двойственность
24 Ф. Гиренок
369
делает Россию похожей на Химеру. Но она не Химера.
Россия была неповторима и потому одинока. У нее, как и у
дюрренматтовского «Минотавра», не было заднего плана
сознания. Она была сильной, и ее боялись. Она хотела
дружбы, а ее хотели убить. И убили. Минотавр, по словам
Борхеса, почти не сопротивлялся. Россия умирала
недоумевая. И вот теперь ее душа взыскует к нам и требует полной
проясненности своего смысла. Уже нет России, а ее тень все
еще бродит по миру и пугает живущих как на Востоке, так и
на Западе. Как будто проклятие России как раз и состоит в
материализации пугающих псевдосущностей и мнимых
величин, которые требуют онтологической полноты. А
полноты бытия без существования не бывает. И каждая
половина России взывала и требовала своей полноты.
Кто объяснит, почему Россия отзывалась на зов бытия, а
ей раскрывались химеры существования в Бесконечном
тупике. Ведь жизнь — не призыв, да и было ли бытие и был ли
зов? Взывала пустота, и каждый отклик на этот зов
напоминал о неполноценности откликнувшегося. В этом круге
неполноценного русского самосознания кружила не только
религиозная, но>и внерелигиозная мысль. Почему мы хотим
доказать свои права на свое существование? Нам бы
промолчать, не отзываться своей вселенской отзывчивостью и
тем самым поставить под сомнение реальность того, что уже
не существует и действует только своим несуществованием.
И разорван круг, и не властны над нами тени. И не нужно
действием отвечать на недействительное в действии.
Но круг не разорван. И по-прежнему пустотой псевдодел
заполняется полнота мира, без надежды когда-либо ее
заполнить и увидеть конец истории бесконечного тупика. В
бесконечности этого наполнения выражается русский
космизм, то есть осознание того, что уже до нас нечто
установилось и нет ничего ни в нас, ни вокруг нас, что помогло
бы установленному пустить корни в той точке, где мы
остановились. Космизм как рационализация сознания «теперь, когда
уже поздно», опустошает историю и поэтому в России все
возможно, ибо по-настоящему в ней ничто невозможно. Она не
определена, а мы пусты, и в новом стремлении к Богу
неминуемо проявится наша убогость. Ведь чтобы быть честными, нам
еще нужна вера в загробное воздаяние, а вера — это все еще
содержание, которое может сломать форму.
370
Россия — осуществленная нецелесообразность. В ней
слово перевесило дело. Слово не называет и не обозначает, оно
призывает и обращает. Но савлы не обращаются в павлов.
В России все избыточно. Она сама избыточна, то есть она
существует не для чего-либо и не почему-либо, а так, сама из
себя вырастая. Ее избыточность непрактична своей
настроенностью на изначальный зов к человеку. У России можно
отнять все: свободу, богатство, имя, но она не перестанет быть
великой, если останется в сфере избыточного. Уберите
мистерию избыточного — и не будет России. Убрали. И Россия
утонула. Она утонула около Христа. До конца бесконечного
тупика осталось совсем немного.
Советский дискурс
Осознание и терминологическое оформление
особенностей русского умостроя являются результатом деятельности
славянофилов. При этом славянофилы выступают вне своей
оппозиции к западникам, потому что западники — тоже
славянофилы, и хотя они сознательно ориентируются на
европейские стандарты философствования, в их способах
организации мысли дают о себе знать те специфические
особенности русского мировосприятия, содержание которых
зафиксировано славянофилами.
Первая особенность русского дискурса определена
православием. Она состоит в представлении о том, что истина
связана не со словом, а с образом. Самого Иисуса Христа мы
называем образом. Истину скорее можно увидеть, чем
помыслить. Или тем более представить ее как продукт мышления.
Истина от Бога. Она не продукт мышления. Такого рода
представления составляют ограничение для возможностей
отвлеченного понятийного мышления, не сопровождаемого
созерцанием.
Вот эта «картинность» русского дискурса делает его
близким литературе и одновременно далеким от
терминологической философии. Русская философия возникает и
существует как вид литературы. И в этом смысле она отдает
предпочтение не языку исследования, а языку
повествования. В то время как европейская философия создается в
форме науки, ориентированной на язык исследования.
24*
371
Описание картины, образа выступает на первый план, а
терминологическое различение уходит на второй план.
Русский дискурс не рефлексивен. Он является по
преимуществу содержательным. И в этом смысле он неустойчив.
Текуч. Аморфен.
Вторая особенность русского дискурса состоит в его
принципиальной неметафизичности. Ведь метафизика
требует достаточно изощренной рефлексии, которая без
терминологических различений и опыта удержания разли-
ченностей продлиться долго не может. Она угасает, то есть
уступает место объектным терминам. Русская философия
восстанавливает связь с дословностью, с тем, что делает
возможным слово. И поэтому русский философ, оставаясь в
языке, безразличен к языку. Он стремится ускользнуть к
безъязыкому. Невозможность раскрытия дословного в слове,
неязыкового — в языке проблематизирует само
существование русской философии. Если слово скрывает дословное, то
в этой его сокрытости, становится возможным превращение
философии в профессию. А это значит, что философия есть
просто работа. Игкак работа она предполагает сопротивление
материала, а также предполагает отвлечение от того, что
сопротивляется, от работы с языком. Если философия — это
работа с языком, то она перестает быть поступком и
становится языком в языке. А это бессмысленно.
Третья особенность русского дискурса связана с особой
приверженностью к феноменам жизни и какому-то
безразличию к феномену сознания. В русском дискурсе категории
жизненного плана доминируют над категориями сознания,
что привело к формированию языка дословности.
Четвертая особенность русского дискурса обусловлена
приверженностью к соборным способам представления
мира, внутри которых собранный субъект ближе к правде, чем
одиночка.
Особенности русского дискурса не позволяют
представлять его как производное от одной православной веры, и в
этом смысле неудача русских философов состояла в том, что
они попытались отождествить русское и православное в
акте своей мысли.
Русский дискурс состоит по крайней мере из нескольких
элементов. Во-первых, это национальные идиомы, смыслы,
коренящиеся в пословицах, поговорках, сказках, притчах,
372
прибаутках и т.д. Во-вторых, это язык, на котором говорили
славянофилы и, следовательно, все тематизации этого
языка. В-третьих, культурно-символические содержания,
восходящие к православной вере. В-четвертых, русская
философия — это рационализация крестьянского сознания.
Вот эти рационализации и были разрушены советской
философией.
Советский дискурс — это дискурс интеллигенции без
корней и без религиозной веры. Без неба и земли. Он
утвердился в России после 1917 года и нашел свое обоснование в
советской философии. Знаками культуры советского
мышления стали три имени: Э. Ильенков, М. Мамардашвили и
Г. Щедровицкий. Этими тремя именами исчерпывается вся
советская философия.
Несмотря на то, что А. Лосев издавал свои сочинения в
советское время, он оставался русским философом и
поэтому его нельзя отнесли к знаковым образованиям советской
мысли, Хотя возможность стать «знаком» у него была. В 20-
е годы Лосев попытался усвоить диалектический способ
мышления на свой манер. А не на манер Деборина. Его
манерность состояла в чудовищном смешении диалектики с
феноменологией, а также с элементами русского дискурса.
Но в этой гремучей смеси не кристаллизовалась.советская
ментальность, и поэтому Лосев принужден был создать миф,
внутри которого он жил и сохранял прршерженность темам
русской философии. Симптоматично, что ни один
советский философ не занимался изучением русских философов.
Единственное исследование мировоззрения В. Соловьева
принадлежит А. Лосеву. У жизни в структуре мифа свои
метки, свои знаки, которые еще нужно будет прочесть.
Напротив, М. Бахтин вполне репрезентативен для
советской ментальности. Но его сочинения не стали пространством
идентификаций с советским способом представления мира,
так как это пространство было «замусорено» проблемами
исследования литературы и языка, которые воспринимались в
качестве специальных научных дисциплин. Между тем
философия поступка М. Бахтина является одним из первых
образцов нового дискурса.
Сочинения Библера, Трубникова, Петрова и Зиновьева
составляют второй план советской философии, и поэтому их
можно не принимать во внимание.
373
Советский дискурс возник в результате двоякого
разрыва. Во-первых, с православием. Во-вторых, с русским
дискурсом. Или, что то лее самое, с языком дословности. На
языке дословности говорил и понимал себя, свои чувства
общинный крестьянин, верующее мышление которого было
разрушено атеизмом телеграфиста. Крестьянин запутался в
своих мыслях. Распутала их советская ментальность,
базировавшаяся на космополитических представлениях
полуобразованного слоя России.
Культивирование обезличенного языка науки заполняет
образовавшиеся после разрыва пустоты и составляет тело
кодирования советского дискурса. Идеологические
упрощения марксистов сделали мир понятным. Эти упрощения
выступали и как самоочевидность и как заглушка для
мышления и веры, а таклсе как средство самоконтроля человека
над своим поведением.
Наиболее яркое письмо на теле бесцветности
принадлежит Э. Ильенкову, М. Мамардашвили и Г. Щедровицкому.
Советский дискурс определен трояким образом:
1. Языком, на тсотором разговаривала новая демократия
и левая интеллигенция.
В этом языке слова-фикции доминировали над словами-
предметами так, что даже реальность могла быть в нем
представлена только через слова-фикции.
2. В нем была развита языковая поверхность. То есть в
советском дискурсе нет дна, конечной инстанции
понимания. Нет места национальному образу мира. На этом языке
нельзя было понимать. На нем можно было симулировать.
3. Советская философия — это эффект работы с языком.
Это языковое явление, утратившее связь с неязыковой
реальностью.
Власть публичного. Э.В. Ильенков
Советская ментальность предъявила себя в виде дея-
тельностной парадигмы. И тем самым она показала нечто
невозможное в русском дискурсе, ориентированном на
невыразимую сторону мира. Деятельностная парадигма
снимала эту невыразимость, сводя жизнь человека к
деятельности по опредмечиванию и распредмечиванию
сущности человека. Жизнь — это деятельность, а деятель-
374
ность организована по модели самосознания. На первый
план были выдвинуты контрольные функции сознания,
занятого выяснением соотношения целей, средств и
результатов деятельности.
Э. Ильенков — гегельянец, стремящийся устранить
всякую интимность единичного, невыразимую сторону мира в
тождестве бытия и мышления. Демонстрацией силы дея-
тельностного понимания мира стала его работа со
слепоглухонемыми. Предметная совместно-разделенная
деятельность делала чудеса. Она рождала мыслящего
человека. Власть публичного не оставляла места в
философии Ильенкова для самоопределения индивида. Ильенков
теоретически оправдывал возможность и необходимость
всеобщего опосредования, благодаря которому человек мог
услышать ушами другого, видеть глазами другого и думать
головой другого.
В теории идеального, понимаемого Ильенковым как
момент публичной деятельности, постулируется
существование чувственно-сверхчувственных вещей. В теории
восхождения от абстрактного к конкретному
предполагается, что жизнь, как и мысль, может быть истинной и ложной.
Абстрактная жизнь — ложна, конкретная — истинна.
Э. Ильенков обосновывает коллективистские
представления советского дискурса, которые не имеют никакого
отношения к принципу соборности хотя бы потому, что
собор ориентирован на обычай и традицию, а коллектив — на
интересы. В соборе доминирует дословность. В
коллективе — публичность.
В споре о том, существует ли идеальное под черепной
коробкой или не существует, Ильенков отдавал предпочтение
объективированной в пространстве социума
процессуальное™. Тем самым он удовлетворял потребность
интеллигенции в спекулятивном мышлении. То есть
философия Ильенкова — это обоснование возможности и
необходимости философствования в эпоху доминирования
позитивного знания. Э. Ильенков разорвал связи истины и
дословности и тем самым разрушил возможности
созерцания, характерного для русского дискурса. Он истину связал
со словом, сознание — с предметной деятельностью,
устранив игру тел дословности в жизни и созерцании. В терминах
философии Ильенкова нельзя сформулировать проблему
375
индивидуации, потому что в рамках его философии
внутреннее задается предметностью, а движение по логике
предмета составляет смысл человеческого существования.
ПоследнийЪвропеец. М.К. Мамардашвили
Европейская философия создала представление об
автономном человеке, сознание которого она описала в терминах
когитальной и трансцендентальной философии.
Феноменология обнаружила в автономном человеке внутренний мир и
создала возможности для экзистенциального прочтения
внутреннего опыта человека. Постмодернистское
выворачивание наизнанку внутреннего опыта человека как будто бы
поставило под сомнение идеалы автономного
существования личности, ибо эту личность оно отождествило не с
нормой, не с порядочным человеком, а с непорядочным
человеком. Разговор о внутреннем мире порядочного человека
стал скучен. Следовательно, скучна стала и феноменология,
равно как и экзистенциализм.
Но Мамардашвили с такой интенсивностью возобновил
разговор о ценностях, казалось бы, уже забытой автономной
личности, что его можно назвать последним европейцем.
Вот эта «европейскость» Мамардашвили интересна во
многих отношениях. Во-первых, она указывает на близость
философского дискурса к записи сновидений.
Мамардашвили грезил наяву. На глазах у публики.
Например, он говорил о философии как о деле личности, хотя
никаких дел у личности не осталось. И она сама стала
лишней, разрешившись в индивидуализм и эгоизм. Во-вторых,
европеизм Мамардашвили чудесным образом совпадал с его
советскостью.
Советская ментальность зародилась в подсознании
Европы. И в этом смысле советский дискурс являлся истиной
европейского философствования. Его перспективой.
Мамардашвили — советский философ, ясно осознававший
свою чуждость русскому дискурсу, и прежде всего идеалу
соборного существования человека. Соборность дву-
центрична. Она составляет, как заметил Г.П. Федотов,
геометрическую фигуру в виде эллипса. Мамардашвили
тяготел к одному ее полюсу, к индивиду.
376
Ильенков испытывал приближение к другому ее
полюсу—к коллективу. Русский дискурс был разрушен с двух
сторон. Этот факт обусловил двусмысленность позитивного
содержания советского дискурса. Симулятивный обмен
смыслами между двумя способами философствования
создавал характерную особенность советского дискурса: его
двуличие.
Мамардашвили получил известность как человек,
который изобрел метод анализа превращенных форм, то есть как
марксист-новатор. Мамардашвили придал двусмысленности
двуличия позитивное значение
чувственно-сверхчувственных вещей. Устранив вторую (трансцендентную) сторону
мира, он ввел представление о двойственности временной, о
том, что все в мире совершается два раза. Один раз —
бессмысленно, другой раз — со смыслом. Его концепция
интеллигенции радикально расходится с классическими
теориями интеллигенции в русской философии. Материал для
реконструкции марксистского понятия об интеллигенции
Мамардашвили находил в «Тюремных тетрадях» А. Грамши.
Философская одаренность Мамардашвили проявилась в
его работе «Сознание и символ», написанной вместе с
А. Пятигорским, а также в «Классических и неклассических
идеалах рациональности».
В теории сознания Мамардашвили реализует
представление о пустой предметности символа, заполнение которой
фиксируется в виде различения между сознательным и
бессознательным. Тем самым он демонстрирует неприятие
самой возможности существования соборного сознания.
В неклассической рациональности Мамардашвили
увидел возможность преодоления субъект-объектной
дуальности. Но это преодоление поставило перед Мамардашвили
проблему, которую он так и не смог разрешить. Иными
словами, он хотел избавиться от дуальности, сохранив
рациональность. Но дуальная структура мышления — это
плата за рациональность. Кроме того, преодоление субъект-
объектной дуальности ведет к соборному сознанию, к
описанию мира в терминах живого знания. Что для
Мамардашвили было совершенно неприемлемо.
Мамардашвили — философ голоса. Машина речи, в
которой плавились и переплавлялись смыслы
советско-европейской философии.
377
Формализм мыследействия.
Г.П. Щедровицкий
Ильенков и Мамардашвили стали знаками полного
разрыва с русским способом философствования. Ильенков
допускал возможность создания такой предметно-дея-
тельностной ситуации, которая бы детерминировала
существование человека. Мамардашвили оставлял в этой
ситуации зазоры индивидуации. Но оба они полагали
невозможным соборный способ существования человека.
Г.П. Щедровицкий довел эту работу до логического конца.
Он полностью отказался от рассмотрения феномена жизни
и ввел представление о деятельности как универсуме,
внутри которого и по законам которого существует человек.
Рефлексия становится доминирующим способом
существования человека в универсуме деятельности. Щедровицкий
выкинул «картинность» русского дискурса, а также
запретил обращаться к невыразимой стороне мира, создаваемой
телами дословности. Уже в анализе атрибутивного строения
знания ясно видны контуры проектируемого изгнания
дословности из жизнедеятельности человека.
В теории системности и мыследеятельности Щедровиц-
кого обессмысливался как личный опыт автономного
человека Мамардашвили, так и коллективистские ценности
человека Ильенкова. Эффективность становится
единственным резоном в универсуме деятельности Щедровицкого.
Она, как кислота, разъедала соборное сознание русского
человека, а также дословную структуру его жизни.
Формализмы мыследействия Щедровицкого имели смысл в
предположении, что мыслит не человек, а коллектив. В
последние годы Щедровицкий допускал возможность того, что
мыслит даже не коллектив, а универсум деятельности.
Равно как и действует не человек, а деятельность.
5.2. Русский умострой, или грезы народа,
проясненные грезами метафизика в беседе
с самим собой в славную эпоху постмодерна
Кто-то, не помню, кто, кажется, Федотов, а может быть, и
не Федотов, а И. Ильин, хотя, скорее всего, импульсивный
Бердяев, который в запальчивости мог проговориться,
вернее, договорить недосказанное другими и сделать тайное
378
явным, то есть некультурное культурным, потому что
неявной культуры не бывает, а бывает культура
договоренностей — словом, у кого-то из философов, возможно, и
нерусских, ведь русская философия невозможна, а если она
возможна, то как философия оорусевших немцев, которые
только и могли сказать то, что они сказали, а я прочел и
запомнил, сложив прочитанное в одну фразу, в которой
говорилось о том, что вот, мол, все страны как страны и
только одна — Россия. Меня эта фраза возмутила, но не по
каким-либо метафизическим соображениям, а по
соображениям личного характера, а эти соображения никак не
согласуются с метафизикой, потому что она, то есть метафи-
зика, только тогда и возникает, когда нет личного
соображения, а у меня оно было хотя бы потому, что я
родился в России, и нигде ранее не рождался, что косвенно делало
и меня каким-то ненормальным и недоразвитым по
отношению ко всем остальным нормальным и развитым, но я не
захотел быть одним, а захотел быть со всеми, ведь быть
одним — это все равно что быть уродом, а это обидно. Обидно
не за Россию, а за себя, вернее, не за себя, а за философию,
которая обрусела в переживании недостатка рождения и в
этой своей недостаточности стала называться русской, а
назвать что-либ© русским — значит уже обидеть, как бы
толкнуть локтем, наступить на ногу, то есть произвести
неудобство, и поэтому я не русский. Возможно, что я
марсианин, то есть россиянин, а это уже почти что европеец, то
есть немец, вернее, американец, короче говоря, интеллигент,
то есть опять-таки урод, хотя я и не урод, наконец, чем плох
урод, если он неизбежен, если в семье не без урода и все это
русская ментальность, а поскольку в России нет никакой
ментальное™, а есть почесывание затылка, постольку эту
ментальность я называю умостроем.
* * *
Описание умостроя я начну с философии, вернее не с
философии, а с моих интуиции философии, которые живут
во мне и что-то мне подсказывают, куда-то ведут, а я иду за
ними и вслух проговариваю то, что успеваю заметить, то
есть успеваю извлечь замеченное из тьмы незнания,
вытащив его на свет сознания, а поскольку свет, если он есть, то
379
не от сознания, а от бытия, которым бытийствую не я,
постольку тени света от меня. Философствовать — значит
накладывать тени. Оттенять.
Вот я проговорил все это и тем самым как бы оттенил, то
есть отличил ум русских от ума, устроенного без
затемнений. Я не знаю, чей ум без теней, кому он принадлежит,
вернее, я знаю, что он ничей, а ничей ум — это наука. Она без
пропусков в мысли и недоговоренностей. Тень ложится там,
где есть пропуск, пустое слово, где есть недосказанность как
свидетельство того, что вообще что-то говорилось и
высказывалось, и теперь все поле речи — письма усеяно
умолчаниями, а мы, русские, бродим по этому полю,
собираем недомолвки и договариваем их. Мы не говорим, а
договариваем, русский не думает, а додумывает. За кого-то, а
за себя, то есть самому ему подумать некогда, вернее, его
мысль это умолчание мысли, а речь — недомолвка речи, то
есть нечто неприличное, то что вслух не говорят.
Пропусками в мысли в России создается мысль.
Например, В. Соловьевым. Его «оправдание добра» — это
маскировка сплошных пауз и интервалов в построении
мысли. Между тем^ В. Соловьев — самый нерусский философ
среди философов России. Или С. Булгаков, который долго
приучал себя к аккуратности и методичности закладывания
мыслей в ячейки культуры. Но он так и не смог приучить
себя к культуре мысли, потому что этому научиться нельзя,
для этого нужно родиться не в России, а в другом месте.
Методичность утомляет, а в России спешат. Нам некогда,
вернее, нам скучно быть культурными. У нас сам акт мысли
возможен как акт некультурный, как то, что разрушает
культуру. В России творчество не сопряжено с культурой.
* * *
Существуют народы, у которых есть философия, и
существуют народы, у которых нет философии. А еще есть мы, то
есть русские, с какой-то дурацкой философией, но дурацкой
не в том смысле, что мы бесконечно глупы, мы-то как раз и
не глупы, у нас с культурой сложные отношения, нас
приучить трудно, мы плохо дрессируемся, и поэтому у нас есть
Россия, а не одно из государств Европы или Азии. Россия —
это целый космос, то есть у всех он по половинке, а у нас —
380
целый. Россия сама по себе цивилизация, то есть культура.
Возможно, что мы из-за нашей полноты не настолько умны,
чтобы умные мысли приписывать уму, мы их приписываем
дураку, а со стороны, то есть внешнему наблюдателю, это
непонятно, хотя мысль, если она у нас существует, то не в
здравом уме культурного человека, а на грани сумасшествия,
то есть она существует как нечто производное от философии
Иванушки-дурачка, а сам Иванушка ни от чего не
произведен и потому умен. Вернее, есть в мире что-то, что может
увидеть только он, Иванушка. И это философия России. Я
выделяю этот оттенок мысли для того, чтобы напомнить, что
по обыкновению философия рождается из удивления, то
есть философы, как правило, удивляются. Так вот везде они
удивляются, а в России философы охают и ахают и чешут
затылки, но не потому, что они у них чешутся. У Шестова,
например, не было затылка, а он у него чесался. Шестов
православный, вернее, еврей, то есть русский философ, который
не любил Иванушку, но Жар-птицу чтил, то есть ее ловил,
потому что русский философ задним умом крепок и пока
гром не грянет, он не перекрестится, а если перекрестится, то
на авось и на небось, то есть он крепок задним умом не
потому, что у него нет переднего ума, он у него есть, но в каком-то
связном состоянии. Русский ум связан душой, а не транс-
ценденталиями, и поэтому, если он есть, то есть сзади, с
затылка, с почесывания которого русская философия
начиналась и одновременно она им заканчивалась, потому что
если она им не закончится, то тогда она развяжется и в этой
своей развязности зачешутся многие языки, а чесать языком
дело глупое и непристойное. Оно, пожалуй, годится для
европейски образованных людей, но не годится для
Иванушки-дурачка, который, предположительно, сидит в
каждом русском и нельзя его ни спрятать, ни извести. Да
было бы и глупо отказываться от глупости, если мы в ней умнее
умного, а то, что мы умнее умного, никто из нас даже и не
заметил, а если бы и заметил, то промолчал, потому что в
молчании — золото, и этого золота у нас много, а у других
мало. Другие не молчали и их знает весь мир, а нас никто не
знает, хотя хотелось бы, чтобы знали. Но мы немцы, мы
немцы, то есть у нас нет языка, вернее, он у нас есть, но как язык
отказа от самих себя, а если мы не мы, то мы говорим не о
том, что у нас, а о том, что у всех, а у всех забота о себе и этой
381
заботой озаботились в России многие. Например, Соловьев.
А Розанов не озаботился, он с присисюком. И «Вехи» не
озаботились, хотя они и без присисюка, но они зато со
славянофильством, а с ним, как со свиным рылом, в
мировую философию не пробиться, то есть пробиться можно, но
смысла нет, вернее, он есть, но связан с Россией, а Россия —
это «Вехи», а они маргинальны, но не сами по себе, потому
что сами по себе, то есть содержательно, они скучны, в них
много пустых слов и читать их невозможно, что, правда,
является философским признаком хорошего тона. Но тон, как
и пафос, без вселенскости, без всеединства, которое
универсально, а в России оно национально, как, например,
национален сам факт тиражирования бессмысленного, то
есть нечитабельного, текста «Вех», которые за полгода
имели в России семь изданий, и вот эти-то полгода в России
были философы, а у нас была философия, которая, видимо,
и есть наша национальная, то есть провинциальная и
поэтому моральная мысль, а моральная мысль может быть не
более половины щда за столетие. Затем она усыхает, вернее
становится эстетической, то есть нерусской.
Кто из них, то есть из нас, вернее, из малороссов, словом,
какой русский не хотел бы узнать, отчего в мире возможно
чье-то, а не ничье и долго ль ждать, чтобы это чье стало ничье.
Сочиняя эту стилизацию, я имел ввиду Гоголя, то есть я
понимал, что я не Гоголь, хотя и Гоголь, судя по всему, знал,
что он не Пушкин, а так, веселый человек из провинции.
Правда, теперь везде провинция, то есть кругом живут одни
плебеи и все-таки вокруг не Гоголи, а так, бытопаты, ни то,
ни се, то есть люди, в которых много гнусности и мало
веселого, то есть своего, и по закону бытопатии, вернее,
гностической гнусности, я думал, что Гоголю не удалось, а
мне удалось зацепиться за что-то очень важное в русском
умострое, но потом, то есть затылочным сознанием, я понял,
что он, умострой, как прохожий, ускользнул от меня, то есть
он ускользнул и от Гоголя, но это неважно, хотя это-то и
успокаивает, потому что то, что я принимал в нем за него,
оказалось не от него, а от культуры, а я думал, что от него; а
это был муляжный умострой, подсадная утка, то есть уткой
382
был я, а он — культурой, потому что культура — это муляжи,
то, что понарошку, как если бы, а не на самом деле. Вернее,
на самом деле, это и есть якобы и главное делать вид, и это
культура. А мы делать вид не умеем и поэтому у нас нет
культуры, но у нас есть утки, а не муляжи, то есть я, а может
быть, и вы, уже не понимаю, где муляжи, где утки, вернее,
Гоголь, то есть умострой. Но если я это пойму, то все рухнет, то
есть Россия пропадет, и я буду не я, Гоголь перестанет быть
Гоголем, а русский — русским. Непониманием мира
держится русский мир. Но это не значит, что мы без понятия, мы с
понятием, но оно у нас не является условием быта. В
каждый момент мы можем отказаться от понятия, ускользнуть
от него и сказать, это не я, то есть не мной понято, вернее, я
не знал, то есть я здесь не причем, а здесь — бытие, то есть
понимание есть, но не мы его установили и поэтому
понятия, которыми выполняется понимание, у нас становятся
симулятивной реальностью, муляжом, чем-то
неподлинным. Например, бытие. Это муляж. Я думал, что бытие оно и
в России бытие, а оно — это якобы — из понятия, потому что
все, что не якобы — бытие, то из быта, а быт без понятия.
Словом, бытие стало бытовым, то есть в России оно
полностью исчерпывается связкой «есть», а в есть каждый
русский нутро^г чует, то есть понимает, не онтологическую
связку, а какой-то пищеварительный оттенок, что-то
бытовое и близкое, — вот я говорю, пойдем есть, и меня
понимают. И мы идем и едим. И никому в голову не придет
сказать, что вот, мол, хочу бытия. Что же его хотеть, если оно
всегда есть, а если его нет, то на нет и суда нет, то есть если
хотеть, так того, что сверх того, а сверх того неведомо что,
какая-нибудь Жар-птица, которая приходит на ум к
Иванушке-дурачку, да к интеллигенции. Придет и потом
уже из головы не выходит. А если выходит, то в момент,
когда в «есть» видят «да будет» и не видят есты, или исты, а с
этим исты сопряжена истина, которая в России не имеет
никакого отношения к сознанию, как, впрочем, и к бытию, и в
этом смысле у русских развито неметафизическое
понимание истины, то есть правды. Ведь метафизическое
понимание дуально, то есть двусмысленно. Вот, например,
есть те, кого кусают змеи, и есть те, кого они не кусают, и не-
укусанные рассказывают укусанным об укусах, и это будет
метафизическая истина, а она в русском умострое не задер-
383
живается, она в нем куда-то испаряется, а начитанные люди
ее возвращают под видом онтологической истины, в которой
то, что есть, объявляется производным от того, чего нет, то
есть от ничто. Но ничто в России не ничто, а культурный
муляж. Его никто не боится. В России даже смерть не особенно
пугает, то есть оно, ничто, не открывает русскому свет
бытия, а маскирует то, что есть. А есть все и это всеединство, но
всеединство неонтологическое, а бытовое, то есть половое,
потому что в бесполом мире нельзя случиться, нет полов,
случайность случает половины, то есть где пол, там и случай,
а где случай, там и авось.
* * *
В русском умострое была, то есть жила, вернее,
жила-была София, то чем держится верх, то есть низ, вернее, корень,
словом не ризома. А потом ее не стало, и разрушился умост-
рой. И всяк, кому не лень, стал отличать бытие от
существования, а существование от сущности. Но бытие,
хотя оно и бытие, а в России оно все-таки быт, то есть жизнь, то
есть в жизни у нас ейъ что-то, что не так устроено, как надо,
а надо, как в Европе, чтобы быт не был бытием, потому что
если быт бытие, то нет свободы и нет права, то есть формы,
вернее, долга и ответственности. Ведь русскому трудно
понять, зачем ему долг и для чего ему ответственность, если
все делается по-любви, и поэтому у него есть любовь и нет
ответственности, то есть русские бесформенны. А если нет
формы, то нет и экзистенциалов. Вернее, страх есть, но он
внизу, а вверху им ничего не держится. Трепета нет. На
вершине пусто, а внизу без глубины, то есть бытие не
экзистенциально. Оно патовое, а патовое бытие и есть быт.
Вернее, пат и есть порядок быта, то есть у нас быт — бытие.
И это факт, вернее, код к эмпирическим событиям.
Например, к ничейности, которая наблюдается в виде страсти. Вот
есть у нас, у русских, какая-то тяга к ничейности, которая,
может быть, есть и у других, но у нас она наблюдается, а у
других не наблюдается, то есть у нас это мания все
превращать в ничье, потому что ничье — это кратчайший путь к
справедливости, вернее, к правде, а право — окольный путь,
то есть лживый, и поэтому мы за ничье, которое, в свою
очередь, есть фон, вернее, отсутствие фона, то есть отсутствие
384
ничто, то есть там, где у всех ничто, у нас быт. И мы живет. И
в этом разрыве с ничто у нас зарождается терпение, в основе
которого лежит ничего, то есть бесчувствие быта русских, в
котором нужно подождать, когда завтра придет в сегодня. И
в этом ожидании многое стерпится, многое слюбится, едва
ли не все перетрется в ничье, то есть в песок. Я говорю едва
ли не все, потому что если бы все стало ничье, то мы бы
погибли, хотя, может быть, мы и погибли, только не успели об
этом узнать, и это запаздывание самосознания
свидетельствует о том, что мы еще живы и вся наша жизнь умещается в
паузу опоздания самосознания. И пока она, эта пауза,
длится, длится и наша жизнь, то есть быт, потому что быт — это и
есть пауза, выявляющая то, что между делом. А между делом
возможность чистого созерцания целого, то есть мы не
ленивы, мы созерцательны. Наша принадлежность к целому
основана на порядке, потому что там, где порядок, там и
порядочность и не нужно что-то строить из себя, ведь
строить — значит высовываться из ряда, а это непорядочно.
Не свобода, а порядок определяет строй ума русских,
которые и делом предпочитают заниматься между делом. Ведь
если делом заниматься не между делом, то нужен не
порядок, а свобода, то есть беспорядок. И поэтому свобода — это
зло, с которым трудно смириться, и не надо порядок
заменять на свободу, потому что если есть порядок, то будет и
свобода, то есть бытовая свобода, вернее, воля, то есть то, что
нарушает тихую повседневность быта и успокаивается в
державном покое, вернее, в империи, которая по смыслу
своему держит порядок быта, и пока она его держит, в нем
появляются содержания, то есть назначение, вернее,
служение целому, и в этом смысле мы, русские, служивые, а не
торговые, то есть и торговые у нас служивые, а служба — это
воля и покой, которые образуют имперский способ бытового
мышления русских и нельзя его переделать в
демократический, вернее, можно, но центр мешает. Ведь Россия — это
неваляшка, а мы — Ваньки-встаньки, потому что в нас есть
что-то, что нас поднимает, и это что, то есть то, что
поднимает, и есть центр. Пока Россия центрирована в ней будут
волить, то есть велеть и она, видимо, будет имперской эмпи-
реей, то есть повелением, а если есть повеление, то должен
быть и повелитель, от воли которого спасает пат, то есть
ничья и поэтому в России — вечный пат. Ведь всех спасает
25 Ф. Гиренок
385
собственность, а нас быт, то есть община, вернее, бытовая
община, которой уже нет, а мы есть, но без облечения, то есть
без общины и ничто нас не опекает и не потому, что мы
никому не нужны, хотя мы и никому не нужны, а потому, что
это — свобода. Мы думали, что она худая и голодная, а она
жирная и сытая, потому что ее кормит дело честное, то есть
собственность и партии, а у нас ее не кормят, у нас целое и
поэтому она зная, а злых держат на державной цепи и не
потому, что мы жадные, а потому, что у нас все ничего, вернее,
мы делаем ничего, а ничейность размывает собственность,
вернее, она размывает сначала Я, а потом уже и
собственность, но это не значит, что у нас ее нет, может быть, она и
есть, но в поле ничейности, а там воля. И поэтому бытовая
свобода нам милей, чем какие-то политические свободы.
Ведь воля она одна, и она либо есть, либо ее нет, а если она
есть, то ее нельзя делить, потому что если ее разделить, то ее
не будет, а будет чудище семиглавое, то есть республика,
вернее, разделение властей, то есть воль, а это безволие и
самопожирание голов, то есть нарушение порядка, а для того
чтобы его не нарушать, нужен характерна не моральный
закон. Вернее, характер и есть моральный закон, а
бесхарактерность — ни то ни се, то есть зло для державы, в которой
права не исполняются, а качаются, и поэтому мы любим
качать права, но не сами по себе, а по необходимости свободы,
то есть свободным образом делать то, что иным образом
делать не хочется. А иным образом не хочется делать работу,
вернее, сделать ее можно, но тогда она делается
подневольно, а это оскорбительно, а по собственной воле не
оскорбительно, то есть свободный труд привлекательней, в
нем ты раб по своей охоте, а это ранжир иной и субъектность
другая, не на тебе ездят, а ты сам возишь. В свободном труде
нет сознания того, что ты раб работы, а у русских это
сознание есть и поэтому у нас собственность как-то не
связывается со свободой, то есть у нас нет свободного труда.
Ведь мы знаем, что свободный труд — это обман, тем более
что от работы кони дохнут, а от труда — одни трудности, а
трудности можно избежать сообща, в общине, между
людьми, но это уже политика, потому что политика — вне быта, то
есть все, что вне вяжущих связей быта, то государство как
условие того, чтобы что-то вязалось бытом. И поэтому у
политиков в России должен быть дар умозрения, а не
386
практической смекалки. Но у нас, у русских, вернее, у
русскоязычных, потому — что вообще-то нас нет, а есть наш
язык и еще есть те, кто случайно говорит на этом языке, а
могли бы и не говорить и никто бы этого не заметил, а они
говорят и это заметно, потому что самим говорением, то
есть на уровне языка, устанавливается то, что не
устанавливается в голове, а без установления связей в голове нет
умозрения и нет русских, и поэтому мы — русскоязычные и
у нас нет политиков. Вернее, они у нас есть, но они все —
русскоязычные.
Русские — странный народ, вернее, мы не народ, а так,
идея народа, и редко какой русский долетит до середины
этой идеи, летит он, летит, да где-нибудь и упадет,
куда-нибудь да свалится и кабы он знал куда, кабы ведал где, а то
ведь и не знает, и не ведает, а уважения к себе требует и не со
стороны ближних, а со стороны дальних, как будто вся его
жизнь зависит от того, уважают его по ту сторону Пиренеев
или не уважают. И кто знает, что было бы, если бы мы не
раскинулись от Берингова пролива до Одера, а прилепились бы
где-нибудь к Карпатам или затерялись в Муромских лесах,
нас бы и не заметили. А так все-таки заметили. И дали мы
что-то миру или не дали — решение этого вопроса стало
второстепенным: Мы — одинокие. Нет с нами рядом никого.
Мы одни, и с этим нужно считаться любому политику.
Русские — это русская идея, то есть то, чего никогда не
было, и что никогда не будет, и поэтому мы возможны как
метафизическая конструкция, как спекулятивный объект,
на котором записываются наши несбыточные желания. Мы
их одной рукой пишем, а другой отсрочиваем, и много
узоров нарисовали мы на объекте, но нет на нем одного —
национального. Мы не нация, потому что, если бы мы были
нацией, то мы бы не были идеей, а мы — идея и поэтому нет
следов нашего эмпирического существования. Для нас
Россия — это то же, что для Германии культура, или для
Франции — цивилизация, то есть русский мыслит и
чувствует не национально, а территориально, или, что то же
самое, телесно, то есть державно. Вот когда мы так мыслим и
чувствуем, мы русские, и есть что-то что мы не можем не
знать, но не сознанием, а телом, вернее, сутью тела, то есть
нутром. А кто ты там национально — это дело десятое.
25*
387
Ты русский, то есть ты здесь, в Расторгуево, чувствуешь,
что тебе никак нельзя без Босфора, что без него тебе сапоги
ноги жмут, ходить неудобно, дышать трудно. Или какие-то
там острова Курильской гряды. Ведь эти острова — это не
острова, а ворот косоворотки. Без них ворот тугой, он тебе на
горло давит. Вот если он тебе мешает, ты русский, а если у
России ногу отняли, а у тебя пальцы не болят, то ты
русскоязычный. И сколько бы ты потом не вчитывался в письмена
русской идеи, расшифровать их будет трудно, потому что
это — письмена не твоей души. Вот, например, Иван
Киреевский. Приехал он в Германию и видит, что все здесь хорошо.
И Гегель ему руку жмет, и Шлейермахер ему улыбается.
А он капризничает и немцев дураками называет. И все
ему не так, и ничто ему не мило. Киреевский был молод, то
есть глуп, вернее, наивен. Он в Европе искал цельности,
непосредственного и того, что внутри. А внутри ν нее пусто,
потому что, если бы она была не пустой, то она была глупой,
то есть у нее не было бы рациональности. А за
рациональность, то есть за оформление внешнего, вернее, за мир
явлений, нужно платись. Чем? Дуальностью, то есть
расколом мира на две половины, на субъект и на объект. Ну да
ладно, мир раскололи. Но человека-то зачем делить? Вот и
разозлился Иван Киреевский на немцев и дубинами их
назвал, а сам затем двенадцать лет у себя в деревне сидел и
молчал, а потом теорию целостного человека сочинил.
То есть, если человек что-то знает, то не умом, а всем тем,
что он есть, собой целым, поэтому истина — не дело логики,
то есть она живая, к ней ближе святой, чем ученый.
Вот все говорят «гражданское общество», «гражданское
общество», а для того, чтобы оно появилось, нужно было
города огораживать, изгороди ставить, а мы не ставили, и у нас
сгущения масс не происходило, то есть у всех во всеобщей
толкотне и сумятице что-то толковое, какая-то мысль
держалась, а у нас не держалась. От наших городов толка не
было, они ветрами продувались, в них потолковатъ не с кем
было. Например, захотел как-то А. Хомяков по душам
поговорить, а не с кем. Он и поехал к Шеллингу душу отвести, то
есть нам задушевную беседу провести не с кем. А мы хотим
гражданское общество строить.
Вот и Белинский хотел, а Константин Аксаков не хотел.
И они поссорились, потому что Аксаков фрак не любил. Он
388
сапоги носил и косоворотку, то есть в одежде закодировал
свое непонимание того, чем же гражданское общество лучше
общинного. В общине — народ, в обществе — массы, то есть
община уберегала нас от того, что производит массу,
кочевую орду, неопределенных личностей. В обществе
господствует другой, в нем власть другого и поэтому в нем
преобладает внешнее. А в общине — ты сам, то есть своей
субъективностью стираешь следы другого. Здесь
доминирует внутреннее. То есть существует по крайней мере два типа
социальности: в одном случае — коллектив, в другом —
собор, в первом — право, во втором — мораль. В обществе
внешнее стоит над внутренним, в общине внутреннее над
внешним. В гражданском обществе рационализируется
зависимость от внешнего мира. И это право. В общине
реализуется независимость от внешнего мира. И это мораль,
то есть мораль и есть то, что делает нас независимым от
внешнего мира. Европа выбрала первое. Россия — второе, то
есть лучше бы она не выбирала, но она выбрала, и теперь уже
с этим ничего поделать нельзя. И вот эта неотвратимость
кодируется в русском умострое разными загадочными
словами. Например, соборностью. Правда, для того чтобы она,
то есть соборность, была, нужна любовь, внутри которой
возможно свободное единение многих, то есть любовь — это
не психологическое состояние, а структура бытия русских.
Нет этого бытия, и нет русских. Вот не было любви, и
никакого собора не получилось у Алексея Хомякова с
Шеллингом. И отставной поручик с чем приехал, с тем и
уехал, и все потому, что органически целого бытия не
оказалось, то есть почвы не было, почва — это условие того,
чтобы что-то могло состояться без посредников.
Как много стало посредников, как мало
непосредственного, то есть чувств. Везде сознание, во все оно вмешивается,
а в почве важна ее бессознательность, то есть искренность.
Или личность. Если она бытийствует исполнением
самости, это одно. Это Европа. Если она бытийствует
исполнением отказа от самости, это другое. Это Россия. Отказ от
личности предельный способ существования личности
Потому, что в нас появляется то, что может быть, если есть во
имя, а «во имя» дает отречение от себя. То есть это дает
община, а не общество, и поэтому, например, община выше
личности, вернее, она сама, как личность. Есть в ней что-то
389
мистериальное, какой-то символический код. Да вот
декодировать его некому, вернее, есть кому, но они молчат, потому
что если они не будут молчать, то всякое слово вес потеряет,
станет легким и необязательным и поэтому о чем нельзя
говорить, о том следует молчать.
И бьемся мы, русские, как рыба об лед, все впустую, и не
потому, что мы слабые, мы-то как раз сильные, а потому, что
мы бедные, то есть жалкие, то есть нас пожалеть хочется,
вернее, нам самим себя жалко, то есть нас еще не было, а
жалость к нам уже была, мы себя уже по голове гладили. В
ней-то, в жалости, мы и зародились, из нее-то мы и
вылупились, и много воды с тех пор утекло, и много слов было
сказано, а воз и поныне там, то есть вообще-то время идет, но
в смысле истории оно остановилось, то есть как застряли мы
в начале истории, так там и остались в.неведении, что
начало — это не конец, а мы-то думали, что начало — это конец,
то есть мы и сейчас так думаем, а все потому, что мы Град
Китеж искали, то есть по правде жили, вернее, хотели жить, то
есть думали, что есть же что-то, что тебе даром дают, ты не
заслужил, а тебе дают, то есть оно, это что, как бы само собой
достается, с неба^падает. И вот сидим мы и ждем, а оно, то
есть мы даже не знаем что, все не падает и не падает, то ли с
ним что-то случилось, то ли у нас что-то не вышло. И это —
наши представления, то есть у всех представления как
представления и связаны они с истиной, вернее, с театром,
словом, у всех истина — спектакль, а у нас она смерть и нет в
ней ни знаков, ни значений. И когда уж мы преставимся, то
есть умрем и одновременно обнаружим себя, одному Богу
известно, хотя, наверное и ему это неизвестно, потому что
если бы ему это было известно, то он бы не удержался да и
шепнул нам, что так, мол, и так, не ломайте комедию, не
смешите людей, а устраивайте свою жизнь вне зависимости от
того, как разрешится вопрос о правде-справедливости. А мы
смешим, то есть ломаем, вернее, бьемся, да и как нам не
биться, если наша жизнь зависит от правды-истины, вернее, даже
не истины, потому что истина слишком правильна, а нам эта
правильность поперек горла, то есть нам надо то, что пусть и
неправильно, но зато верно. И это правда, то есть правда то,
что мы люди веры, а не истины, но не в том смысле, что мы
холим и лелеем свое православие, мы его не холим и не
лелеем, хотя пора его уже и холить, а в том смысле, что у нас и
390
неправославные, как православные, то есть они одной с нами
веры, и поэтому наша лсизнь строится вокруг того, что
существует, если к нему относятся как к чему-то действительно
существующему. И поэтому-то наша жизнь верная, то есть
не потому она верная, что чему-то соответствует, она ничему
не соответствует, а потому, что в ней было что-то, что мы
очень хотели, чтобы оно было. Словом, была у нас жизнь
верная, а сейчас она неверная, хотя она, может быть, и
правильная, и истинная, а все-таки нет в ней того, что
существует, когда мы относимся к несуществующему как к
чему-то действительно существующему. Жаль, что не
пожалели мы эту нашу жизнь верную. Пусто без Китежа.
Тоскливо.
Вот Толстой. У него дом в Хамовниках. А он бездомен. И
ему нужны деньги. Ты ему шесть рублей, а он тебе ботинки
хромовые на заказ. Как Фету. Толстой косноязычил сапож-
ничеством. Он хотел быть оседлым. А умер, как кочевник. В
пути. По дороге, которая ведет в никуда.
У Толстого не сложились отношения с наукой. И
поэтому у него с наукой сложные отношения. И не потому, что он
не учился в университете. Он учился. Да недоучился.
Бросил. В офицеры пошел. А Тургенев не бросил. Тургенев
образованный. У него два диплома. Он полный специалист.
Толстой ему Завидовал. А он на Толстого смотрел свысока.
Тургенев барин. Толстой мужик. И мужик косился на
барина. И окосел в косноязычии ремесла.
Это было время, когда просвещение и наука разошлись.
Между ними появилась трещина. Зазор. И этот зазор
заполнился на какой-то миг просвещающим светом морщин
мужика. Морщины-складки на поверхности тела
крестьянина просвещают светом глубокого. Наука эти складки
разглаживает. Стирает. Наука — это процесс производства
абсолютно гладкой поверхности ума интеллигенции.
Толстой это заметил и заговорил о дословном письме культуры.
Тургенев не заметил. И продолжал жить на линиях письма
книжной культуры.
Крестьянин — идеальное тело для письма
зарубцевавшимися трещинами. Тело крестьянина — это поверхность, на
которой пишется то, что называют народом. Лицом народа.
Его душой. Стерли складки, разгладили морщины и нет
глубины глубокого. Нет души. И нет народа. То есть народ —
391
это не множество людей, не какая-то их группа. А дословное
письмо в складках морщин на теле земли. В этих складках
почва, а не грунт. Грунт (grund) — это основа. То, на чем все
основывается. Но как-то грубо. Механически. Почва, как
живое тело. В нее можно пустить корни. Она дает место
непосредственности бессознательного. Крестьянину. Народ —
это сморщившаяся поверхность тела крестьянина. След
встречи с землей. Морщины — плата за глубину. За то, что
есть глубокое. И в этом смысле народ чарует и очаровывает
складками на поверхности тела жизни. Он очаровал
Толстого, и тот умер.
ПРИЛОЖЕНИЕ
На деревню дедушке, или рассуждения
обывателя о конституции,
парламентаризме ираое Борисе
Милый дедушка, тебе хорошо, ты — дома, а в доме у
тебя печка и все, что у тебя есть, есть у тебя от
печки. А им, парламентариям, плохо, у них нет света, вернее, он
у них есть, но не от разума, а от бытия, то есть от народа, а
народ наш темный. Вот они и без света. Они бездомные в доме
свободы, и не потому, что они хуже Бориса, они такие же, как
он. Но он нравится интеллигенции, а они не нравятся. А
почему он нравится, никто не знает. Вернее, кто-нибудь и
знает. Да как это поймешь, ведь язык у нас странный. У всех
он npocTpaHcfBeHHO-временной, а у нас он эротический, то
есть матерный, вернее, срамной. Вот этот-то срам в Борисе,
видно, и нравится. Ему-то она, наша интеллигенция, и
подхихикивает, он-то ее и очаровывает, то есть очаровывает не
то, что Борис хам, хотя, он, может быть, и хам, а то, что в нем
видна натура, вернее, видно то, что прячется в подворотне,
на улице, в изнанке, а интеллигенция изнанки боится, то
есть она боится темных переулков своей души, хотя ее туда
так и тянет, так и тянет, а культура не пускает, и она эту тягу
сублимирует в эстетический восторг перед насильником.
Больно, то есть страшно, а приятно, то есть в Борисе она,
видимо, созерцает свою собственную сущность, а сущность у
нее темная, то есть уголовная. Вот поэтому-то Борис для
интеллигенции, как черная уздечка для белого коня. Он для
нее объект срамных вожделений, разрядка отсроченных
желаний, то есть половая энергия, которую взяли и отключили
от дома свободы. И остался этот дом без интеллигенции. А
печи у них там, в доме, нет. У них там батареи парового ото-
393
пления. Вот парламентарии и танцуют от этих батарей. И
дотанцевались. Была свобода, и нет ее. Свобода любит
теплый унитаз, в ином месте она не приживается. Но и
парламентарии любят теплый унитаз. Кто их поймет, что
они больше любят: свободу или унитаз.
Милый дедушка, ты не бойся, у тебя свобода не
заведется, у тебя для нее цивилизации нет. Да и осень на дворе.
Октябрь уж наступил. Я, конечно, понимаю, что охальники
Бориса не журавли, что им лететь некуда. Вернее, есть куда,
но они это не поняли. Эх, дедушка, им бы сбиться в стаю да
на юг, в Сибирь, в глушь, в Саратов всем своим домом и от-
тель бы пригрозить им надменному соседу, то есть шведу,
вернее, шаг за шагом, край за краем обложить Тушинского
Вора и взять его приступом. Ан нет, не вышло, то есть не
вышли парламентарии в мининопожарские.
Милый дедушка, если бы ты знал, о чем они в
парламенте говорили. Не о народе, не о реформе, а все о ней, все о
конституции говорили. И чем уж она им приглянулась, не
знаю, не видел, вернее, видел ее да не понял, то есть потом
только догадался, чтадюворили они о несодержательном, о
том, что конституции — это конституция, а человек — это
человек. И конституция будто бы выше человека. Может быть,
это и так. А может быть, и нет. Скорее всего, она им просто
по нраву. Но Борис-то здесь причем? Зачем же ейной
мордой ему в харю тыкать. Не он же стал ее с хвоста чистить, он
ее вообще не чистил, вернее, он ее, как селедку, чистил с
головы, с себя, с того, что гниет первым. Но все мы себя под
чем-то чистим. Я понимаю, что все надо делать по закону. Но
ведь не было закона. Вернее, он был, но старый. А старый
закон — это уже не закон. Может быть, он и закон, да они его
для себя писали, а Борису хотелось, чтобы для него, а так как
для него не было законов, он сам их для себя написал, а они
его за руку поймали. Поймали и держат, а вот зачем держат,
не пойму, то есть не понятно, кто кого держат.
Ну клал он эту руку на конституцию, ну божился, что
будет ей верен. Ну так ведь он был пьян, в смысле опьянен
свободой. А потом было утро, и был день, и было похмелье,
то есть когда он проспался, он увидел, на что он руку
положил. Увидел и ужаснулся, то есть понял, что не на то
положил, вернее, ему больше класть не на что было, ну он и
положил на то, что было, а было ей уже за семьдесят. Но ко-
394
му она, эта старуха, нужна, да еще и застойная? Борис нам
добра хочет, а эта старуха ему руки связала, ноги спутала.
Шагу ступить не дает. Какая уж тут воля. Каторга это, а не
конституция. Мил нам Борис. А с милым — и разруха рай.
Милый дедушка. Язычок-то ты на всякий случай
попридержи. Зачем нам чужие свободы. Если тебе скажут, что у
нас диктатура, то ты не верь. У нас не диктатура. У нас
поэтапная конституционная реформа. А если тебе скажут, что у
Бориса мальчики кровавые бегают в глазах, так ты тоже не
верь. Они у него не бегают. Вернее, они бегают, но не у него,
а у другого Бориса. А у этого не бегают. Тот-то Борис царь,
хотя и незаконный, а этот προ-раб, всем народом избранный,
а у рабов они не бегают, да и с чего бы они ν него забегали,
если ничего не было, а если бы что-то и было, так ведь они
первыми начали, а Борис не хотел, вернее, он хотел, но
только выборы, а они мешали. Правда, парламент для того и
создан, чтобы мешать, вернее, делать вид, что он мешает, но у
нас не парламент, а дурдом, то есть он не делает вид, а
мешает. Ну теперь некому мешать, и все говорят «победа»,
«победа». И я говорю, что победа, но не потому, что мне
нечего сказать — мне есть что сказать, — а потому, что я человек
культуры, а культурный человек говорит то, что от него
хотят услышать, а, слух ориентирован на другого. Другой,
дедушка, враг мысли, вернее, друг народа, поэтому-то народ
у нас глупый. Ведь говорили ему — думай, думай сам — а он
не думает, то есть не видит, что где-то здесь, рядом с ним
другой и что это опасно, то есть опасен не другой, опасно
быть услышанным другим. Нам бы «День» отстоять, да ночь
продержаться. Только бы сразу себя не обнаружить. А там
видно будет, хотя что будет видно, все-таки неясно. Теперь
народу говорят «слушай», и он слушает. Но слушают всегда
другого, а не себя. И потому мы послушны другому. А
другой — это проныра известный. Уж свою выгоду он не
упустит. Ну и поделом нам. Хотя нам-то за что? Ведь мы-то
с тобой знаем, что слух и мысль несовместимы, вернее, в
мысли важно не то, что в ней думается, а то, что в ней
слышится. Думается-то заветное, а слышится публичное.
Вот и слышится: все на выборы, а на какие выборы, кого
выбирать? Не ясно. Наверное, опять его, Бориса. Хотя какой он
теперь Борис? Теперь он одинок. И страшен. Борис, где твой
брат Авель? Нет ответа.
395
Милый дедушка, забери меня отсюда. Мне здесь плохо.
Я боюсь.
Ванька.
P.S.
А вчерась народу была выволочка. А потом уже были
похороны, то есть презентация, вернее, время кормления
интеллигенции. Жуют мастера культуры; жуют, дедушка.
Тихо. Правда, церковь что-то сказала, но ее не слышно.
А награды давали потом; после кормления. В Кремле. Но
не всем, потому что если бы всем давали, то грудей не
хватило бы. А так хватило.
Милый дедушка, помяни невинно убиенных.
Всегда твой Ванька.
ФИЛОСОФИЯ ДЕЛЬНОГО ДЕЛА
(Интервью с профессором, доктором
философских наук Ф.И. Гиренком)
— Ф.И., у нас появилась сейчас прекрасная возможность
ознакомиться с Вашими идеями и Вашей текущей работой. Позвольте
задать Вам несколько вопросов, на которые вовсе не стоит отвечать
так же обстоятельно, длинно и сложно, огромными монологами. Через
них мы хотим составить себе самое общее, первое впечатление о Вас и
Вашей деятельности. А там, где понадобятся какие-то пояснения, мы
попросим Вас их сделать. Мы хотим через эти вопросы составить
читателям Ваш портрет, как человека, который думает
профессионально.
— Ф.И., в вашиятекстах часто фигурирует слово «философия».
Как случилось, что ваша судьба оказалась связана с жизнью философ-
ского сообщества и философии? И какие события, люди, тексты
повлияли на формирование ваших взглядов, и как именно они
повлияли? А так же, каково ваше жизненное отношение к философии в
широком смысле?
— Случившееся непонятно для меня самого. Не знаю, почему
философия меня очаровала. У меня в семье никто ею не занимался, и
вообще к философам у нас относились довольно пренебрежительно:
мол, это люди никчемные, ничего полезного не сделавшие. Я в этом
смысле выродок, и не потому, что я понимал свою вырожденность.
Скорее я чувствовал, что я не такой, как близкие мне люди, как
чувствует человек, который выбивается из какого-то социального порядка.
Однажды я взял Маркса и прочитал его. И стал уродом. Я его весь
восьмой класс читал, вместо того чтобы купаться. Осилил первый
том, ходил довольный, гордый. После этого прочел еще какую-то
книжку по философии. С тех пор я этим только и занимаюсь. Так что
никто на меня не влиял. Получилось у меня все это спонтанно. А кто
потом уже оказывал влияние — это дело другое. Тут был университет,
в котором я ориентировался на Ильенкова, Щедровицкого и Мамар-
дашвили, к которым я ходил на семинары.
397
— А каково отношение к философии вообще, жизненное? Вот
например, слово философ звучит сейчас очень тенденциозно и
издевательски, многие уклоняются от такой характеристики. А Вы
считаете себя философом?Как бы Вы назвали дело своей жизни?
— По моим представлениям, в России философия всегда была
маргинальной, то есть непризнанной, не публичной. Она пряталась по
кухням и салонам. Философия появляется в России в конце XIX века,
причем появляется странным образом: вместе с интеллигенцией.
Наша интеллигенция вне философии, а философы — вне
интеллигенции. Вообще есть проблема связи интеллигенции и философии.
Философ — это славянофил. К сожалению, место философов в
России было уже занято интеллигенцией, а она ориентирована на Запад.
И вот произошло замыкание этих двух величин. Интеллигенция не
имела отношения к философии в России. Философия у нас всегда
была как бы на задворках. Она была не узнана как сознание. И нынче она
продолжает быть не узнанной. Когда меня спрашивают, кто такой
философ, я говорю, что это человек никчемный. Философ для меня
это ходячее сознание. Он не оказывал, не оказывает, и никогда не
будет оказывать никакого влияния на Россию, в отличие, скажем, от
Германии, где философ — это национальная гордость. Где могут
экспонировать свое сознание. У нас нет этой культуры. Наша философия
определена тем, как мы, стали философствовать. Наше
философствование началось, повторяю, с противостояния интеллигенции и
собственно философий. И оно, это противостояние, сказывается до
сих пор, дает о себе знать. В России философ — это человек,
находящийся в оппозиции к интеллигенции. А если он в оппозиции к
интеллигенции, то он лишен публики. Он никогда не будет известен.
И ты делаешь многие вещи, зная заранее, что читать-то тебя будет
малое количество людей. Во всяком случае интеллигенция тебя читать
не будет, потому что она воспитана по-другому. Россия никогда не
знала своих философов. Я боюсь, что она их и не захочет узнать.
— А вот все-таки, что же такое — философия? Даже если она —
неузнанная?
— Философия по смыслу своему — это простая вещь. Я могу
говорить о той философии, которая появилась в Греции. Как ни странно,
она и в Греции, и в России появляется одинаковым образом, то есть
она появляется в виде некоего рассказа, повествования. Философия —
это рассказ. Это некая речь, обращенная к самому себе. И самое
удивительное состоит в следующей детали. Философия появляется у нас
тогда, когда происходит возвращение европейского ума к себе домой.
Русская философия — это рассказ о возвращении ума к себе самому.
Или повествование о том, как нечто, называемое умом или душой,
возвращается к себе домой. Русская философия начинается с возгласа
Аксакова: «Пора домой!». Философия — это нечто ориентированное
на голос, на рассказ, на повествование. Она была ориентирована на
голос и в Греции. Позднее, когда говорить стало невозможно, то есть
398
когда в речи появились мертвые слова и слушать эту речь
невозможно, сформировалась культура письма. Появились тексты, которые
можно было отложить, не читать, перелистать, зачеркнуть и так далее.
Итак, философия — это рассказ или повесть о том, как происходит
возвращение экзистирующего ума к себе домой. Или, что то же самое,
это — повесть о возвращении к дословности.
— Читая Ваши работы, трудно отделаться от мысли, что
философские симуляции составляют главное и основное содержание
философии. Не слишком ли самоуверенно выступать с такой
радикальной критикой философии, при условии, что сами Вы лично, в той
или иной мере, можете оказаться причастны к этим симулятивным
традициям.
— Возможно, я и причастен к симулятивным традициям. Но,
слава богу, я их начинаю изживать. С изживания этих симулятивных
структур только и начинается философия. Без их изживания
философия невозможна.
— Может ли само изживание симуляций оказаться симуляцией?
— Может. Самообман это и есть симуляция симуляции, то есть
реальность:
— А как о/се тогда различить, подлинный самообман от симуляции
самообмана?
— Подлинный самообман — это и есть симуляция самообмана.
— Хорошо. Теперь такой вопрос. В словаре «Философы России» с
Вашим именем связана разработка пата, а также исследование
связей постмодернистских и неоязыческих языковых стратегий. Что
имелось в виду?
— Отвечаю коротко. Что касается патовых пространств, они
обусловлены разрывом между интеллигенцией и философией или, что
тоже самое, возможной укорененностью одного и того же события во
внешнем плане и во внутреннем. То есть мы имеем дело с двумя
событиями. Но они неразличимы. И поэтому воспринимаются как одно
событие. Мне нужно было ввести представление о патовых
пространствах для того, чтобы указать на возможность обмена между
бессознательным симуляций и заумью подлинного. Есть некий
разрыв между тем, что я называю заумью подлинного и бессознательным
симуляций. Патовые пространства создаются обменом вот этих двух
структур. Патовые пространства существуют в силу того, что мы не
можем остановить ускользание события к его копии, не можем
определить в силу некоей дублированности каждого события его
идентичность. То есть смысл дублированности или удвоенности
события состоит в том, что ты имеешь дело с двумя разными событиями,
которые могут корениться в совершенно разных источниках и иметь
совершенно разный смысл, а ты их узнаешь как один и тот же смысл.
События, с которыми ты встречаешься, могут корениться или
определяться внешним порядком вещей, а также могут определяться неким
внутренним состоянием. И никаким внешним образом это определить
399
нельзя. Следовательно, ты никогда не можешь определить внешним
образом, есть ли что у этого человека за душой или нет. Поступать ли
тебе по праву или по правде. Вот эта формула, указывает на
существование того, что я называю пространством пата. Я придумал этот
термин, чтобы обозначить ситуацию, в которой прекращается работа
времени. В патовом пространстве нуждаются в жесте, в том, что
обновляет энергию, эмоционально-волевую сторону мира. Без эмоций
невозможно событие, мысль, вера. Русская философия не знает такого
понятия, как время. Ей оно безразлично. Когда я говорю о симулятив-
ности культуры, меня отказываются понимать. И кто-то начинает
изучать, допустим, Хайдеггера. А у него бытие и время связаны. Этот
человек укоренен в культуре, в которой нет проблемы жестовой про-
странственности, которая вышла из патовых состояний, построив мир
культурных форм. И живет. Они достигли этого тем, что разрушили
двусторонность своего мира. Европейская культура создает
односторонний мир культурных форм. То есть мир, в котором невозможен
жест. Этот мир не нуждается в энергетике жеста. Он заменяет его
культурной формой. Эрзацем, заместителем эмоции, чувства,
восприятия. И в этом одностороннем мире время является фундаментальной
категорией. Мне смешно, когда люди пишут сочинения о бытии и
времени, не понимая, что они смотрят в замочную скважину. Смотрят
и не понимают тех"движений, которые они видят. Симулятивные
структуры возникают, если философы уподабливаются детям,
подсматривающим за родителями в замочную скважину. Поэтому мне
эти подсматривания за Хайдеггером смешны. Я повторяю, этот
человек укоренен в мире культурных форм, а не жестов. И он это
понимает. И использует определенные структуры, в данном случае,
бытие и время. Тот человек, который занимается изучением бытия и
времени, достоин уважения как академический философ, ибо ему
приходится заниматься застывшей лавой, мертвым языком
философии. У него нет того, что могло бы оживить лаву, расправить
культурные формы. Это не философ, если под философией понимать
расплавление коры мысли.
— То есть Вы хотите сказать, что если существует различие
между симулятивной философией и философской заумью, то этой
базовой бинарной оппозицией исчерпывается весь круг тех
философских тем, которые Вас занимают?
— Пока - да1
— Да. То есть приведенная формулировка из словаря оказалась
достаточно точной — «разработка философии пата»? Или у Вас
появились уже какие-то новые темы, за пределами базовой бинарной
оппозиции? Дополнительные?
— Это совершенно формальные формулировки. Патовые
пространства остаются точкой интенсивности моих размышлений. Мой
язык может меняться, но импульс, та энергия, которая дает мне возмо-
400
ясность говорить о том, о чем я говорю, остаются. А язык описания,
конечно, меняется.
— Здесь возникает такой вопрос. Вот Вы говорите о двух
стратегиях философствования. Одна из них названа Вами заумной или
немой, а другая — говорливой, основывающейся, например, на
понятийной работе. И Вы как бы этими двумя стратегиями, то есть
одной лишь оппозицией пытаетесь описать всю мировую философскую
ситуацию. Но исчерпывает ли это все возможности европейского
философствования?
— Может быть, это нахальство с моей стороны. Возможно, это
некоторое упрощение моей позиции. Я не строю из себя человека,
который пришел все исчерпать.
— Ну а если выделить два, три, четыре базовых структурных
различения? Разве само многообразие философии не является для Вас
ценностью?
— Можно. Но мне это неинтересно. Меня волнует установление
смысла, его археография. Момент, пока он устанавливается. Смыслы
устанавливаются, проистекая из созерцания, оживляющего те
различения, которые ты проделываешь. У меня нет потребности в
изобретении технических различений. Меня это не греет. Мне важно,
чтобы я понял, ухватил некую вещь, высказал, зафиксировал. А как
там это выглядит технически — мне неважно. Например, Декарт, —
человек, который, излагая правила своего метода, сломался на
шестнцадцатом. Далее ему скучно было перечислять правила. А он
предполагал изложить их 28 или 32 — я не помню. Так вот Декарт был
рассеян уже на 16 правиле. Он-то знает. Ну а кому интересно, тот
пусть сам додумает. Я, видимо, устаю быстрее Декарта. На технику
мысли у меня не хватает энергии. А техника отличает одного
философа от другого. Создает многообразие философий, против которого я
ничего не имею.
— Вы всегда критически относились к «кочевому>
философствованию. Неужели Вы совсем никак не связаны с таким типом
философствования?
— Я оседлый. Мое философствование есть рационализация
сознания оседлого человека. Я сейчас объясню, что это все значит. Я делаю
что-то похожее на археоавангардизм. Сочетание архео и авангарда
характерно для русской философии. Это сочетание как бы архаики,
древнего, прошлого, какого-то первобытного и одновременно
суперсовременного, того, что впереди современности. Это сопряжение
создает энергию моего философствования.
— Все это очень похоже на постмодернизм. В частности, Лиотар
представлял постмодернизм через оксюморон «post-modo»,
сопрягающий будущее и прошлое, доказывая древность постмодерна.
— Я даю голос архаичному, немому, примитиву, дословному. Я —
голос дословного. А постмодернисты — это голос интеллигенции. И в
этом смысле они для меня никакого интереса не представляют. Я про-
26 Ф. Гиренок
401
шу прислушаться к слову настоящий. Подлинное — это стоящее,
остановившееся. И это один дискурс. Одна философия. Оседлые — это
напоминание о стоящем остановившемся. Стоящее, остановившееся
не нуждается во времени. Вернее, время — это как бы ньютонианские
представления о протекающем объеме, который течет, не касаясь тебя.
Он омывает тебя. Одно дело, когда время, как ручеек, втекает в тебя, и
ты плывешь по нему, оно несет тебя. Это представления Бергсона: А
когда ты стоящее, ты во времени не нуждаешься. Оно безразлично к
тебе. Настоящее пространственно. Остановившемуся важно место и
все, что на месте вырастает. Ведь Нововременной человек — это
человек, который убегает, бегает за новым. Он есть нечто двигающееся,
стремящееся, обновляющееся. Ему важно время. И это естественно.
Оно втекает в него. И он плывет. Оседлое, стоящее, остановившееся
не нуждается во времени. Схематизмы времени не годятся для
разговора о настоящем. Здесь требуется другой язык. Я называю его
немым, дословным. Это язык, который не нуждается во времени. И,
кстати говоря, в русской философии это понималось. Существует
теория аориста, существует теория Аксакова о том, что наш язык вообще
не знает времени — будущего, прошедшего, настоящего. Настоящее не
знает времени. Уже Августин столкнулся с необходимостью пробега-
ния времени и растерялся. То есть он зафиксировал ситуацию
перехода, смены оседлых "структур кочевыми, то есть он понял, что в
него уже втекает. Не он fib времени, а время в нем. И он есть это время.
И в этом я вижу смысл знаменитого августиновского различения.
Когда я не размышляю — я знаю; а когда начинаю думать — я не
понимаю. Это неразмышляющее знание довольно точно указывает на
подлинность настоящего, остановившегося, выпавшего из времени.
— Да. А какие из уже опубликованных текстов Вы считаете
наиболее удачными в изложении своих идей?Или, например, какие тексты
наиболее полно характеризуют круг Ваших умственных интересов?
..— Я думаю, что это «Картография дословности». Удачные вещи
есть в «Метафизике пата». Какие-то вещи мне нужно еще будет
понять. Я хочу это сделать в «Зауми» и археографии смысла.
— А ведь традиционно считают, что русская философия родилась
гораздо раньше, ну скажем, с девятого века, с вопросов о самодержавии,
вере. Некоторые вспоминают такого философа, как Сковорода, или же
имеют в виду представителей академической философии —
Ломоносова, Галича, например. Почему не так?
— Я не имею в виду преподавателей философии. Поскольку у нас
изучалась философия, постольку у нас были и преподаватели
философии. А философия как самосознание появилось у нас только в XIX
веке. В образе славянофилов, у которых появляется тема русскости.
Они стали писать диссертации о Ломоносове, о Прокоповиче. А
раньше изучали Шеллинга. Они стали устанавливать свои внутренние
отношения. Это потом придумают идею возвращения к Соловьеву, к
402
Достоевскому. Но вот это «назад» уже у нас было, было еще во
времена Самарина. С них все и начинается.
— Спасибо, у Вас очень оригинальное прочтение русской
философии.
Ф.И., иногда Вы пишите работы в соавторстве с женой.
-Да...
— Она разделяет Ваши взгляды?
— Безусловно.
— А вот я слышал от нее кое-какие возражения...
— Возражения? Ну, просто она православная, а я не считаю себя
православным. И это совершенно фундаментальная вещь для того,
чтобы могли быть какие-то разногласия. В1988 году я показал ей свои
вариации. Она их не приняла. Татьяна сказала, что у меня мысль
играющая, а у Мамардашвили, которым мы тогда увлекались, она была
страдающей. Ей не нравился переход от страдающей мысли к
играющей. Для меня же этот переход был важен. Я искал свой язык, стиль,
свою тему. Затем она согласилась со мной. Она может что-то одобрять,
к чему-то может относиться косо. Повторяю, Татьяна православная. Я
тоже православный, но я православный по традиции, а не лично. И это
сказывается на нашем понимании возможностей философствования.
— А еще у Вас ведь есть взрослая дочь, а она интересуется
философией?
— Почти нет.
— Она разве не читает Ваши работы?
— Под моим давлением иногда читает. Ларисе нравятся
постмодернистские тексты. Ей мой стиль нравится, язык. Но ей не нравится
мое архео, ей нравится авангардизм. Она космополитка. Я думаю, что
любовь к философии придет к ней попозже.
— Ф.И., Вы со многими людьми дружите. Ваши друзья, они все
занимаются философией или не все?
— Друзей у меня немного. Не все они философы.
— Ф.И., Вы упомянули семью, родителей, что они как-то
подозрительно относились к философии. Может, Вы несколько слов скажете
и о семье?
— О семьей моей?
— Просто по философскому факультету ходит легенда об Алтае,
о крестьянстве...
— Я по идее должен был пасти гусей, как Фихте. Но я не захотел
их пасти. Я гадкий утенок. Книжный человек. Я жил в довольно
странном месте. В таких местах книжные люди не водятся. Я жил на
железнодорожном разъезде. Ближайшая деревня располагалась в
пяти километрах. Я придумывал свой мир и жил в нем. Нас всего-то там
было семейств семь-восемь. Все. И когда я говорю о немом, о
дословном — я знаю, что говорю.
Я имею в виду этих людей, я знаю, как трудно они жили и как это
было замечательно. Это были люди в каком-то изначальном смысле
26*
403
слова «человек». Виденной мной дословности уже почти не осталось.
Она ускользает. Уже не осталось пространств, изолированных от
коммуникаций. Нет людей, до которых не доходят новости. Мы слушали
радио и особенно любили слушать театральные постановки. И вот
этот наш остров дословности окружали симулятивные пустоты
культуры. Мои детские контакты с непосредственностью первобыта
составляют материал моего философствования. Я видел остров
дословности как некую платоновскую идею. И об этом рассказываю. А
память несовершенна. Для меня крестьяне — это символ настоящего.
Остановившегося. Мой дед землю пахал, хотя он и из Тамбова. Я
видел мудрость непосредственного. Нерефлексивного. Моя мать была
неграмотна. Гражданская война помешала деду обучить ее грамоте.
Но в ней была выполнена живая мудрость. Я не знаю, как Хайдеггеру
удалось что-то понять в крестьянской мудрости. Помог ли ему в этом
Шварценвальд. Бог его знает.
—Далекий же Вы прошли путь от полустанка до университета —
надо дойти и физически, и психологически...
— Я знал, что буду заниматься философией. Но мне хотелось
посмотреть на мир, пожить, то есть пойти в армию. А университет — это
дело решенное и как бы неизбежное. Путь короткий на самом-то деле.
Он длинный тогда, когда ты плутаешь.
— Но ведь Алтай и Москва это очень большая дистанция, во всех
смыслах. ;г'
— Это дистанция легко преодолевается. Ты сел в поезд, поехал и
через трое суток ты в Москве. Москва — не проблема. Москва
прилагается к дословному. Проблема состоит в том, что я никогда не был
деревенским жителем.
Я внутренне всегда был кочевником. Космополитом. И лишь
только потом ты начинаешь понимать, что с тобой произошло, и ты
начинаешь ценить красоту непосредственного. Да образование. Да
надо учиться. Ну учись.
Поступить в университет это вообще не проблема. Даже смешно.
Я мог поступить куда угодно. У меня тут тетка живет в Щелково. С
жильем проблем нет, то есть родственники есть, всегда можно
приехать. Но я плохой родственник, плохой муж, сын, брат. Я вообще
плохой. Потому что я кочевник.
— Но Ваша жена-то явно из другой семьи, она не с полустанка,
далеко не с полустанка.
— Это и проблема. Здесь дословное столкнулось, со словом. Я
думаю, что дословное преодолеет всякое слово. У Татьяны чудовищно
развита интуиция. Я не знаю, откуда это у нее. Она меня сразу
поняла. Разгадала. Когда я сам еще ничего не понимал. Ведь я работаю в
режиме немой речи, а она настоящая русская интеллигентка. Она
прекрасный оратор.
— И это понятно, у нее ведь были слова и пространство, где она
смогла точно сформулировать...
404
— Она из культуры словесной, из того, что находится в
движении. А интуиция — это возможность видеть вещи в их подлинности.
Подлинность это то, что стоит. Она обладает способностью
останавливаться, когда все вокруг нее движется. Русские вообще склонны к
интуитивному познанию. Мне кажется, это понимал Н. Лосский.
— Ф.И., у Вас, несмотря на внешнюю простоту, довольно сложные
и нагруженные смыслом тексты. Хотелось бы Вам какого-то
расширения известности для своих идей, хотелось бы Вам стать самым
читаемым автором?
— Естественно! Больше того, я все делал для этого. «Метафизика
пата» вообще была предназначена для абсолютно широкого круга
читателей. И когда я узнаю о том, что ее вообще читать невозможно, я
теряюсь. А почитав, люди отказываются в ней что-либо понимать...
— Да. Ваша простота может запутать кого хочешь.
— Последняя книга сделана с расчетом на широкую публику. Я
думаю, что есть роковое стечение обстоятельств в возникновении
философии в России. Забвение — судьба философа в России. Потому что
самосознание в России контролируется не философами, а
интеллигенцией. И вот эта моя попытка прорваться к народу, минуя
интеллигенцию, попытка преодолеть судьбу оказалась безуспешной.
— Да, я тоже здесь не все понимаю. Я давал Ваши тексты
десяткам своих приятелей, интеллигенции, — и все вес понимают, даже
говорят, что это вес слишком просто и ясно. Но с другой стороны,
многие, ознакомившись с Вашими текстами, говорят, что это
абракадабра, что ψιο не подлежит пониманию. И я не понимаю
расхождения в оценках. Ведь и те и другие — интеллигенция.
— Не понимаю тоже.
— Ф.И.! В Ваших текстах часто много высокопарной патетики, со
всякими «подлинностями», «истинами» и т.п. А еще, критикуя
оппонентов, Вы находитесь в выгодных условиях. Ваша позиция совершенно
не предполагает диалога, и те, кто подвергается критике, не может
ответить Вам аргументами. Вы никогда не стремитесь стать на
позицию собеседника-кочевника, так как ему противостоите. Вот такие
приемы строить повествование, они как-то соотносятся с
содержанием Ваших идей или это произвольно так получается?
— Не произвольно. Я действительно ни с кем не собираюсь
говорить, для того чтобы узнать, как мне прийти к истине. Истину я
предпочитаю искать в беседе с самим собой. Между мной и другим
слишком много симулятивных пустот. В диалоге не выясняют истину.
Здесь создают симуляции.
— По сделанным только что заявлениям заметно Ваше
пристальное внимание к игре русского языка. Какую роль Вы отводите русскому
языку в своей работе? И какое значение для Вашей мысли имеет
работа над языком и какое значение она имеет вообще для философов?
405
— Философ — это человек, который умеет работать с языком,
прислушивается к нему, умеет говорить с ним. Если бы я и хотел с кем-то
поговорить, так это с языком. А с другим говорить скучно.
— Как-то Вы заметили, что если пишешь, то нужно писать в
немоте, а если говорить, то это уже начинается совсем иная жизнь —
жизнь сознания, симуляций. В связи с этим Вы любите включать в свою
речь слово «дословное», а словесно-смысловое у Вас всегда на
подозрении. Но ведь Вы не только много пишете, но и достаточно часто
выступаете устно — Вы же профессор, лектор, оратор — нет ли здесь
какой-торассогласовки слов и дел?
— Философия вообще связана с речью. Но речь бывает разной.
Бывает немой, а бывает говорливой. Истины бывают речевые, бывают
неречевые. Неречевая истина существует в церкви. Речевая — в
университете. То, что я пишу, предназначено прежде всего для меня
самого. Чтобы мне самому интересно было читать. Другой может
войти в выстраиваемый мной мир не без усилий, не без труда.
— То есть необходима некоторая измена позиции по отношению к
тексту?
— Конечно.
— В этом и есть задача текста?
— Да. И тогда весь аппарат начинает работать. В европейской
традиции аппарат тебе предшествует. Он как бы заранее предуготовлен
для работы. Ты берешь,его и начинаешь работать. Ты продолжаешь
варить кашу, которую заварили до тебя. В России нет культуры этого
варения. В России ничто ни из чего не возникало, и ничто ни во что не
развивалось. У нас философ странно появлялся и странно стоял. Наш
Хомяков получился не из Чаадаева. Это не развившийся Чаадаев. В
Германии это возможно. В России невозможно. У нас Хомяков, а
рядом Киреевский. Они могут не соглашаться друг с другом, но быть
совместно. У нас Данилевский не отрицает Хомякова, хотя сочинения
Данилевского построены критически по отношению к Хомякову. Но
они стоят рядом друг с другом. Данилевский — это не
односторонность Хомякова, а Хомяков — не односторонность Данилевского.
Данилевский — это пространство, заросшее какими-то философскими
вещами, которые могут затмевать, переваливаться к Хомякову. Могут
не переваливаться. Это дело пустыни. Дело зарослей, дело степи,
лесостепи, как они там живут.
— Φ Л., еще вопрос. У многих мыслителей есть высказывания, в
которых сконцентрировано все содержание их идей, например, «все
вода», «существование предшествует сущности», «язык дом оытия».
Y Вас есть такие высказывания, в которых все сконцентрировано?
Если есть, то хотелось бы их услышать.
— Жизнь не логический процесс, а реальный. Но эту фразу я взял
у Мамардашвили. И еще. Не засоряй голову. Не держи ничего в своей
голове. А еще у меня есть любимая фраза. Она звучит так: любовь
неожиданно нагрянет.
406
— В связи с тем, что Вы сейчас сказали про любовь и про жизнь,
что это не логический процесс, а реальность — вопрос. В современной
постмодернистской традиции философствования такие слова, как
«бытие», «реальность», «действительность» имеют, как правило,
только игровой смысл — это знаки власти, ошибки словоупотребления,
великие иллюзии, мифологемы сознания. Склонны ли Вы к такой
игровой трактовке бытия? Существует ли для Вас какое-то игровое
измерение в настоящей жизни?
— Да. Но ведь возможна еще и игра дословного. Когда
дословность играет, некоторым приходится очень тяжело. Иногда черепа
летят в этой игре. Игры, в которые играют люди с бытием и прочими
философскими вещами, — это игры в режиме безответственности. С
дословностью играют в опасной близости к вещам, в опасной
близости к тому, что может тебя растерзать. Постмодернистские игры мне
не интересны, потому что они зверя запирают в клетку и рядом с ним
резвятся. Но пусть они порезвятся тогда, когда этот зверь будет
выпущен из клетки. Зверь — это мир. Я думаю, что игровая резвость
многих пропадет на следующий день. Постмодернисты — это люди
языка, утратившего внутреннее слово. Они играют с ним. Он играет с
ними. Иногда мне это нравится. Но я не постмодернист. Я — архео-
авангардист.
— Ф.И., а что Вы видите позитивного в исследовательской
деятельностиДеррида и его группы?
— Язык. Мне нравится язык, а также радикальность. Мне
нравится работа этих людей с многосмысленными словами.
— Ф.И., в своевремя Вы уделяли много внимания антропологической
проблематике. Сначала Вы писали в таком феноменолого-терминоло-
гическом ключе, потом вдруг неожиданно заговорили о каких-то
бытовых, мистериальных порядках. Сначала у Вас человек описывался
личностным усилием, потом он стал описываться обычаями, чем-то
еще. Что обусловило такой радикальный поворот в Ваших идеях о
человеке? И как Вы сегодня смотрите на существо человека?
— Просто сейчас я делаю радикальное различие между человеком
и личностью. Личность — вербальна. Человек — дословен. В
человеке — заумь подлинного. В личности — бессознательное симуляции.
Тогда же как в немоте крестьянина нет места для бессознательного.
Бессознательное может появиться у тех, кто обработан некоторыми
речевыми практиками. В городе, огороженном пространстве. А город
основал Каин. То есть вначале он был земледельцем, а затем стал
кузнецом и основал город. И предал культуру крестьянина, в которой нет
места для всех этих архетипов, коллективных бессознательных,
коллективных комплексов. Поэтому и возникает патовое пространство,
что происходит символический обмен между заумью подлинного и
бессознательным симуляций. В результате речевой обработки наива
на теле дословного остаются следы. Поэтому для меня личность — это
мусорная корзина, в которую сбрасываются словесные отходы
407
— Судя по только что прозвучавшему высказыванию о Ильенкове и
Дубровском, Вы как-то отличаете мысль от безмыслия. Что-то для
Вас является мыслью, а что-то не является. Как Вы это отличаете?
— Интуитивно. Мне должно быть оставлено окошечко, через
которое я бы убедился в том, что где-то здесь рождаются смыслы. Не
знания, а смыслы. А для того чтобы рождались смыслы, требуется мир
сокровенного. Есть разумные миры и еще есть смысловые.
Разумные — односторонни. В них рождаются события. Смысловые —
двусторонни. В них рождается созерцание. Разумные миры
необитаемы. Смысловые неразумны и обитаемы.
Мне кажется, что происходит конфликт между мыслью и
знаниями, между смыслами и событиями.
Трудное дело — говорить об Ильенкове. Это чудовищно
талантливый человек. Он разговорами об идеальном, о сознании пробивал
кору позитивистского безмыслия, довлевшего над нами. Его живое
чувство расплавляло застывшую в* нас лаву. А плавить ему нужно
было много что. В том числе и немецкую философию Маркса с Гегелем.
Он ее не расплавил, и она раздавила его. Он погиб на наших глазах.
Философия кристаллизуется не в идеях, а в бытовых мелочах, в
деталях жизни философа.
— Я слышал, что к Вашей эстетике наукообразное сообщество
относится очень подозрительно. Говорят иронично, как о роде поэзии.
Говорят, что институализированное знание с Вами вообще не
совместимо. Как Вы на такое отношение смотрите? Правы ли они, что
квалифицируют Вашу работу как род поэзии?
— Есть люди, которые могли бы стать учеными и не стали ими. В
науке они слывут философами. В философии — учеными. Но
философ в отличие от ученого не забывает о метафоре, которая лежит в
основе его рассуждений. А ученый забывает. Философия — это род
литературы. Это потом она станет схоластикой и наукой. Да, я
некоторые фрагменты своих работ делаю как белые стихи. У меня трудно
найти многие научные термины. Это раньше я щеголял научной
терминологией. А теперь мои взгляды изменились. Например, клип. Ну
какой же это научный термин.
— Культурологический. Клипом я называю визуальное мышление.
Непонятийное.
— Но это ведь и слова нашего внутреннего языка. Языка
самонаблюдения.
— Ф.И., известен Ваш теоретический интерес к неоязычеству и
некоторые антихристианские мотивы в Ваших работах. И в тоже
время Вы неоднократно говорили, что относите себя к православию,
так Ваша критика западной новоеевропейской культуры и русской
беспочвенности базируется на православной позиции. Получается, что
в Вас уживаются и антихристианские и христианские установки?
Как они уживаются?
410
— Христианская религия, к сожалению, превращается в феномен
культуры. В ней угасает акт веры. А вера... Если она есть, то она
антикультурна. Современная культура агрессивна. Последние столетия
акт веры держался крестьянами. Но они были сметены волнами
индустриализации. Остались одни города. А в городах христианство не
выживает. Оно оказалось слишком сложным. В городах питательная
среда для новых язычников, людей, отравленных наукой. Я никакой
не неоязычник. Я — русский. И одновременно православный.
— Тогда — вопрос. Как-то Вы сказали, что русское глубже
православного. Как Вы это прокомментируете?
— Опыт последних лет меня убеждает в том, что русское глубже
православного. В христианстве мы взяли то, что у нас уже было.
Немцы взяли идею личности. Потому что она у них уже была. А мы,
русские, взяли идею смиренной соборности. И вот когда смыло с нас
православный слой, обнаружился слой языческий, русский или
киевский. И вновь мы выбираем смирение.
— А, понятно.
— Что такое язычество? Я — русский. Это языческое чувство
идентификации с целым. Мне дорога Земля, на которой я родился.
Если бы я, как Кант, сказал, что я еще принадлежу человечеству, то я
вступил бы на путь нового язычества. Я не гражданин мира. Мне
достаточно быть русским, чтобы принадлежать человечеству.
— В какой мере русская философия наложила отпечаток на Ваши
различения?
— Осознание того, что я русский, открыло мне Розанова и
Хомякова. Все мы делаем одно общее дело.
— А какое общее дело у русской философии?
— Сделать так, чтобы интеллигенция перестала оказывать
решающее влияние на народ. Я бы хотел, чтобы русские самоопределились в
терминах русской философии. Эта попытка, видимо, обречена на
неудачу.
— Сразу же возникает вопрос. Далеко не у каждого мыслителя
присутствует тема русской интеллигенции как центральная и отно-
логическая. Не слишком ли много внимания Вы уделили такому
локальному и уникальному событию?
— Интеллигенция появилась в Росии не потому, что в ней было не
развито гражданское общество. Интеллигенция — это машина
разрушения. Она выполняла негативную функцию философии. Философы
всегда начинали с того, что разрушали традицию. Миф. Но греки —
несмышленые ребята, по сравнению с тем размахом, с которым
разрушала традиции русская интеллигенция. Интеллигенция заполнила
русскую культуру симулятивными пустотами. Ясно, что Толстой — не
интеллигент. И Достоевский — не интеллигент. А Сахаров —
интеллигент. И Гавриил Попов — интеллигент. Они заполнили все
пространство. Русская философия — это жалкий писк. Просьба не
делать больно. Вот, собственно, что я сейчас и делаю. Я делаю то, что
411
обязан делать любой русский философ. Я говорю: «Оставьте нас в
покое! Не мешайте нам, по крайней мере, составлять карту-маршрут, по
которому русские смогут вернуться к самим себе, по которому мы
сможем вернуть себе самосознание». Вот я это все и делаю.
— Вот Вы как-то сказали, что история русской интеллигенции
вполне может завершиться?
— А она уже завершилась, эта история.
— Почему Вы так думаете?
— Русская интеллигенция существовала лет восемьдесят и она
завершилась к 17-му году. Все. По этому поводу достаточно точно
высказался Г. Федотов. А после нее возникла советская
интеллигенция. А вот после советской интеллигенции я не знаю, что возникнет.
— Постсоветская?
— Постсоветская. Россиянская. Я не знаю, как она будет
называться. Но русской интеллигенции уже не будет. Советская
интеллигенция пошла на рынок. Она приторговывает своими
словами. Я делаю то, что делали Хомяков с Аксаковым и Киреевскими. То
же самое. На них все плевали — и правительство и интеллигенция! А
сегодня им даже плевать некогда. Деньги зарабатывают. Так, какая-
нибудь институционализированная структура пошипит-пошипит и
смолкнет.
— Слушая Ваш пафос, понимаешь, что он — моральный. На каких
же принципах строится Ваше морализирование?
— Вся моя мораль вьггекает из факта сознания того, что есть нечто
большее нежели я. И я даю возможность этому нечто выговориться.
Вот и все. И в этом смысле я считаю себя моральным человеком,
поскольку я не очень сопротивляюсь, когда меня занимает голос
дословного.
— Как-то Вы заметили, что быть артистом — стыдно. Чем
вызвана такая резкая оценка искусства при условии, что, как известно,
Вы любите книги и поэзию?
К тому же Ваши выступления очень похожи на артистическое
выступление, когда Вы читаете свои тексты. И в письме Вы
ориентируетесь на нормы поэтического творчества. Как совместить
Вашу любовь к искусству и критику искусства?
— Артисты, актеры, художники есть, а души нет. Распалась она.
Нечего им теперь делать. Теперь они могут только дизайном
поверхностей тела заниматься. А это работа в пределах чистой симулятивной
структуры. Нет больше мифа и мистерий, которые дают энергию
искусству. Мы живем теперь в безэмоциональном мире игры. Артист —
это фальшивая эмоция. Дешевое украшение пустого мира. А мир
опустел, потому что все устремились к поверхности. Распад души — это
плата за цивилизованность, за стремление жить в мире культурных
форм. Искусство теперь невозможно. Поиски дословного — либо
полная абстракция. Либо примитив спасет искусство. Либо искусство
станет нулевым.
412
— Если выделять сейчас ведущий мотив Вашей деятельности, то
можно выделить некое радикальное неприятие форм культурного
существования. Но ведь так называемые бытовые порядки невозможно
отмыслить от этих форм культуры — и возникают вместе и живут
лишь в сращеном состоянии. Не слишком ли негативное у Вас
отношение к культуре? Может быть, нет уж такого прямого антагонизма
между мистерией и культурой?
— В самом вопросе уже как бы де-факто признается агрессивность
культуры. Везде культура. Даже в повседневности, даже в храме. Даже
Бог — это культурное существо. Но у культуры есть границы, и когда
она их переходит, тогда ее надо ставить на место. Недавно я был на
встрече с министром культуры и образования правительства Далай
Ламы. Это человек как бы из другого мира. Его вытащили. Он
приехал откуда-то там из северной Индии. Я спросил его, а что думают
тибетцы о культуре. Он ответил так: культура бывает материальной и
духовной. Материальная — это картины, архитектура. Духовная — это
общение людей друг с другом. Религия и культура для него
совершенно различные вещи. В Тибете понимают, что церковь некультурный
институт. Все, что связано с мистерией, находится вне пределов
культуры. Это то, что накладывает ограничения на культуру. А культура
агрессивна. Она все пытается представить в виде явлений культуры.
Вот эта ее напористость и вызывает во мне протест. Я не хочу, чтобы
культурная речь перебивала мистерию. Если она взяла слово.
— В своих работах вы часто подвергаете критике
демократический либерализм и марксизм. А ведь на данный момент это два
единственных и правящих, пожалуй, способа устроения общественной
жизни. Если бы Вам пришлось выбирать между этими двумя
способами, — какой бы Вы предпочли? В каком обществе Вам лучше?
— Я бы застыл на месте. Заморозился.
— Не могли бы Вы рассказать тогда о своих общественных
идеалах. Какому типу общественно-государственного устройства Вы
лично симпатизируете?
— Третий путь империи. Это мой путь. Все остальное меня не
волнует. В 1917 году к власти пришли левые интеллигенты. В 1991 году
их сменили правые интеллигенты. И те, и другие вызывают
омерзение. Я знаю, что есть два пути, и я знаю, что есть еще третий. И я еще
знаю, что этот третий путь нулевой. Моя теория нуля пересекается с
авангардистами.
— Ф.И. Вот Вы иногда говорите о России как жертве. Известно
Ваше высказывание, что она хотела дружбы, а ее убили. Кто и зачем
убил Россию? И еще, известно современное значение слова «Россия».
Имеет ли оно какое-то отношение к этой убиенной России? Являемся
мы сейчас хоть в каком-то смысле все же восприемниками убиенной
России?
— Я никакой не специалист по России. Я могу сказать лишь
только одну вещь. В той мере, в которой во мне живо чувство того, что я
413
русский, жива и Россия. И пока оно во мне живо, я думаю, Россия
будет. Во мне она есть, а пока она есть во мне, — все возможно. А по
поводу того, кто ее убил, за что ее убили, так это всем известно. У нее
же все враги. Россия слишком большая. Россия — это некое нулевое
мистериальное пространство. Патовое пространство.
— Да уж очень сильная фраза прозвучала: «У нее все враги»!
— У нее все враги.
— Такая фраза вызывает ну просто шоковое состояние.
— У нее все враги. У нее не может быть друзей. Вот Данилевский с
Трубецким это понимали. В России сохранена еще какая-то изнанка.
А в глубине изнанки, вполне возможно, змеи водятся. А это уже само
по себе ужасает Европу. Восток боится нашей нулевой срединности.
Ведь Япония и Китай — это наши окраины. Европа — это тоже
окраина Евразии. А в центре ноль, который децентрировать нельзя. От
одного этого факта, я думаю, у многих волосы дыбом встают. Правые
интеллигенты пытаются сейчас сделать невозможное. Они децентри-
руют ноль. Мне их жаль.
— Ф.И., в Ваших работах прослеживается одна тема, которая как
бы все объединяет. Это тема, как Вы сами говорите, абсолютно
одинокого человека, одиночества, единичности. Много υ Вас связано с ней
высказываний: «обращение к себе», «читаю сам своя», «сам перед собой
отсчитываюсь» и т.п. Сколь важна эта тема для Вашей работы?
— У меня сложные/Отношения с другими. Я люблю работать в
одиночестве. Но собор йожет быть и там, где правда. Коллектив — это
община. В моем одиночестве сохраняется общинный дух. Во мне его
музей.
Институт Философии РАН 16.06.97
(Интервью брали В. Дмитриев и С. Лохов)
Содержание
Предисловие 5
Раздел I. Дословность русской философии
1.1. Философия как ловушка для дураков 13
1.2. Сумасшествие. П. Чаадаев
Опыт встречи слова и дословности 19
1.3. A.C. Хомяков. Опыт проговаривания дословного 47
1.4. Мысль Kaie невыразимость мысли
Немая речь И.В. Киреевского 85
1.5. Личность как вербальная рана
на теле соборной жизни. Ю.Ф. Самарин 114
1.6. Опыт синонимов. К. Аксаков 136
1.7. Наив. Опыт философствования Н.Ф. Федорова 154
Раздел П. Экософия дословности
2.1. Подлинное как повседневность. И. Стебут 171
2.2. Экософия земли. А. Советов 181
2.3. Экософия хозяйства. А. Чаянов 197
Раздел Ш. Симуляция сознания. Вызов дословности
3.1. Симуляция и символ 216
3.2. Тела дословности 241
Раздел IV. Пато-логии
4.1. Евразийские тропы в пространстве пата 266
4.2. Интеллигенция в симулятивных
пространствах культуры. Г.П. Федотов 300
Раздел V. Россия как поле мистериальных игр Бога
5.1. Россия как бесконечный тупик 352
5.2. Русский умострой, или грезы народа,
проясненные грезами метафизика в беседе
с самим собой в славную эпоху постмодерна 378
Приложение
На деревню дедушке, или рассуждения обывателя
о конституции, парламентаризме и рабе Борисе 393
Философия дельного дела
Интервью с профессором,
доктором философских наук Ф.И. Гиренком 397
* 415