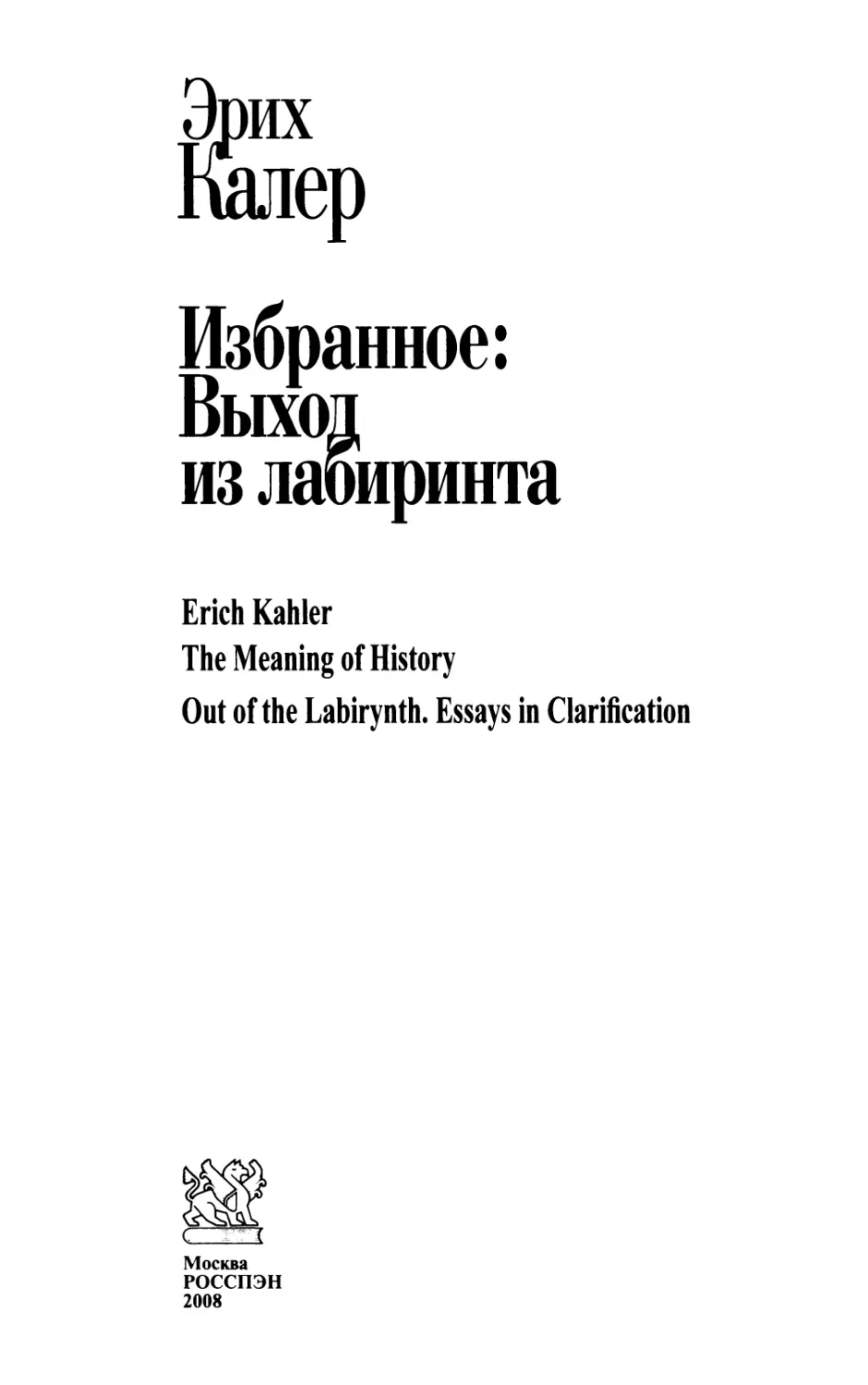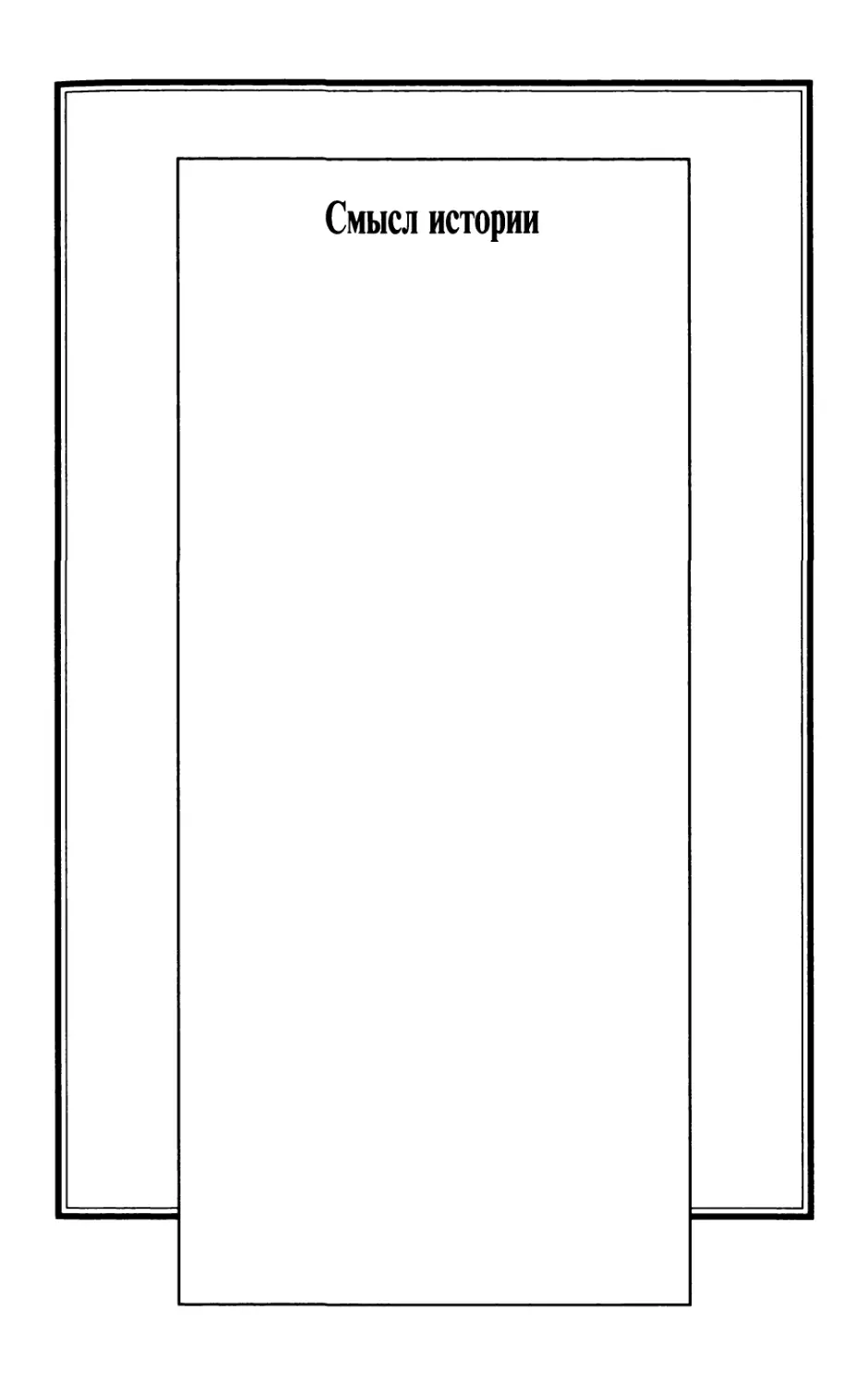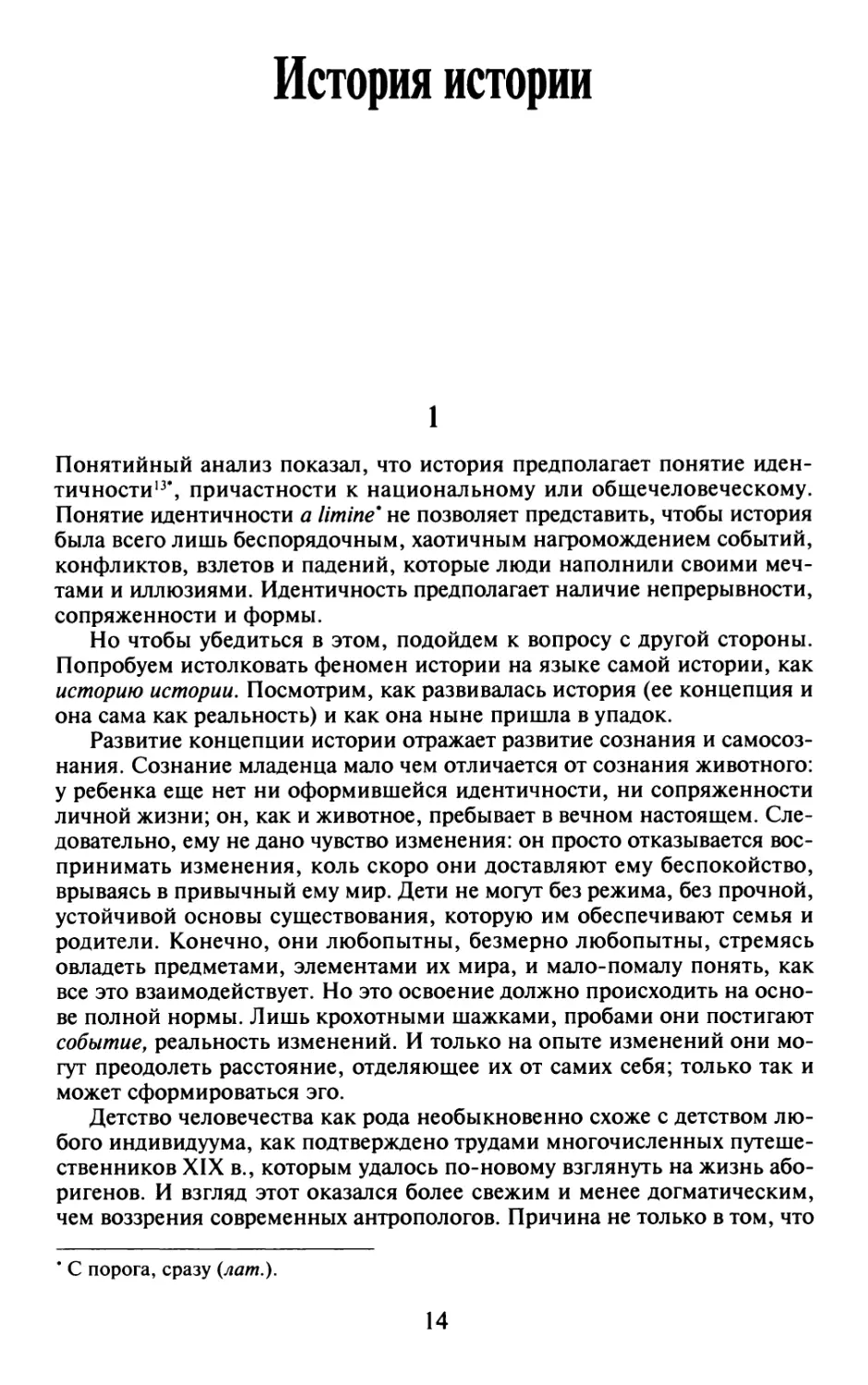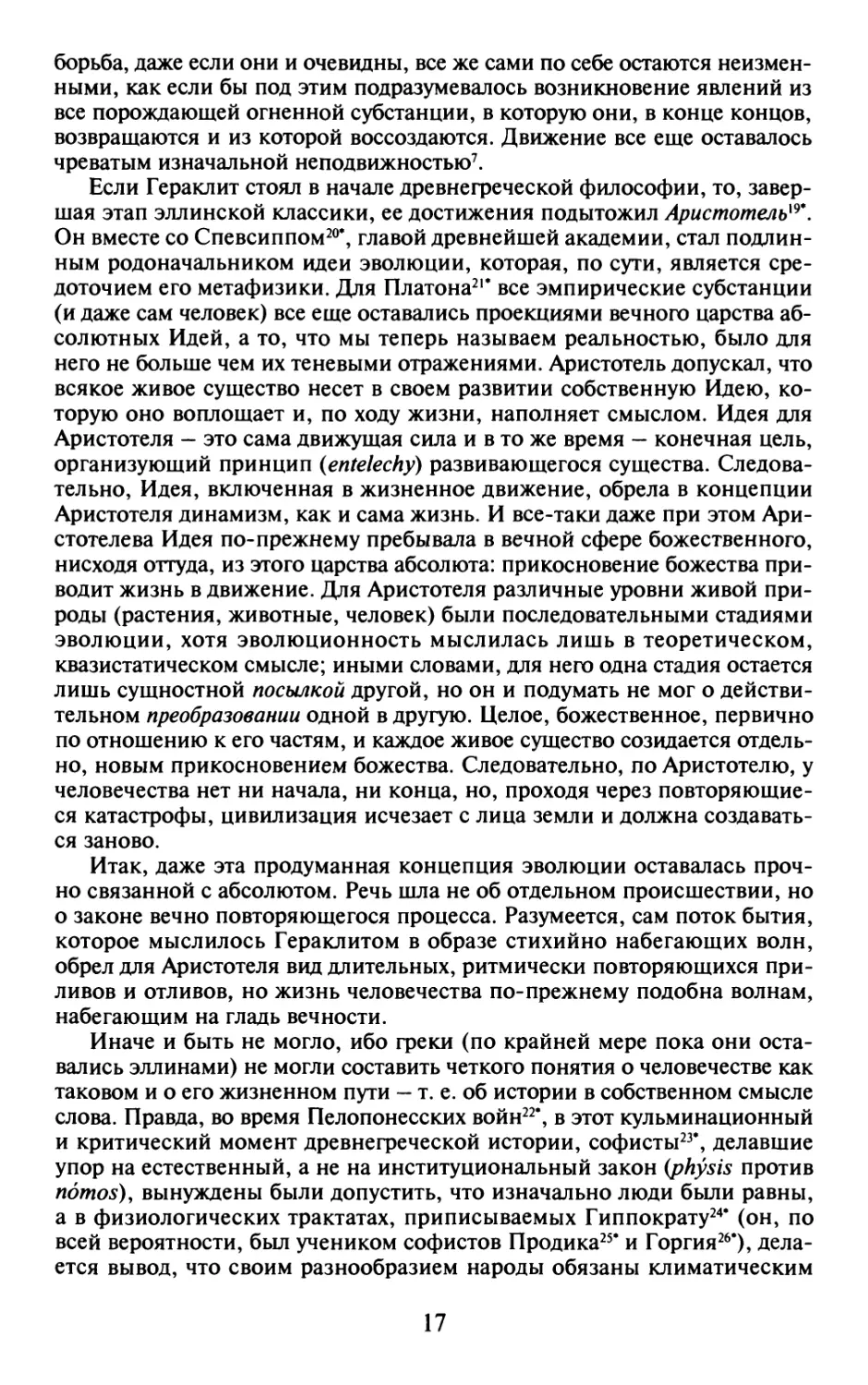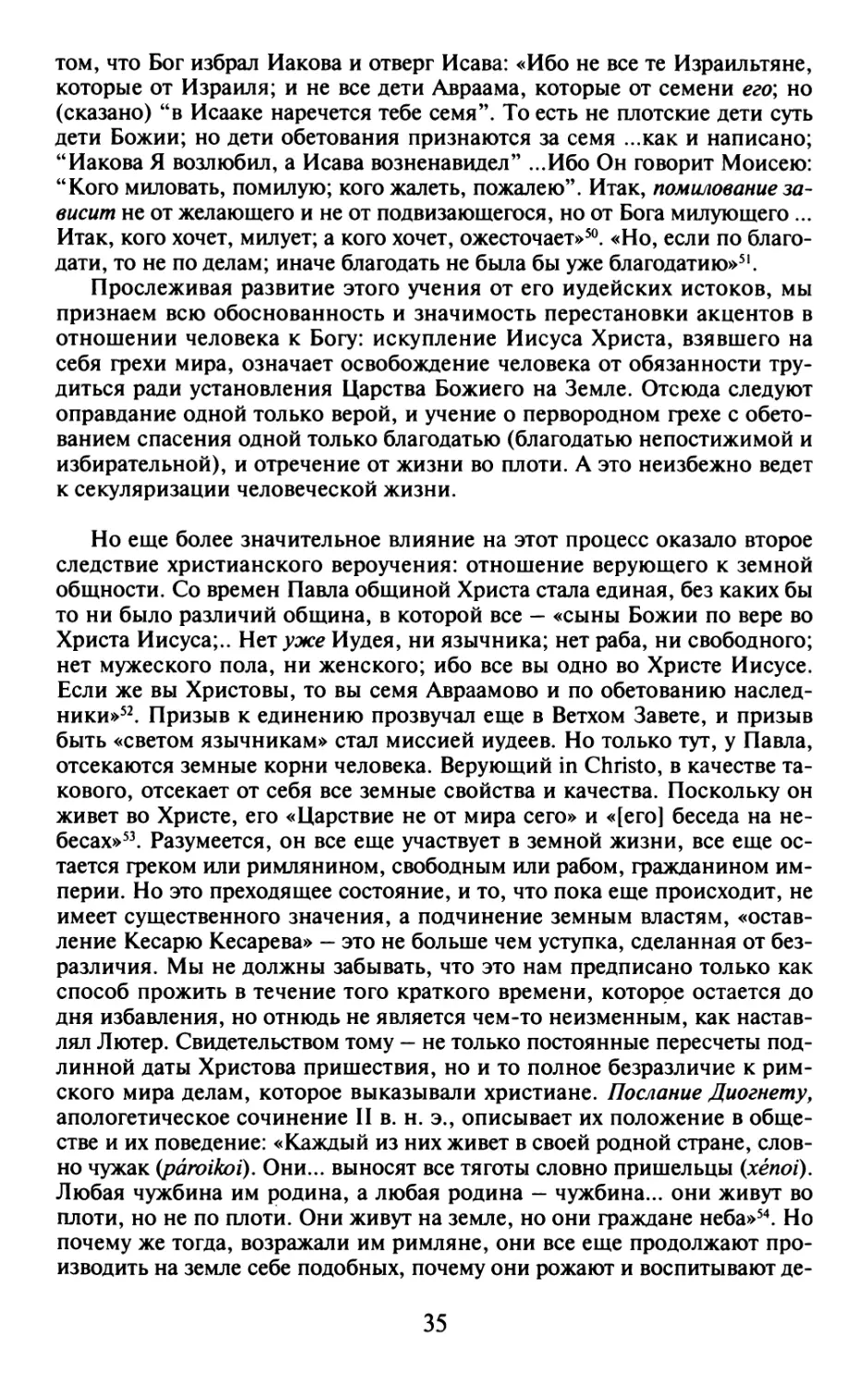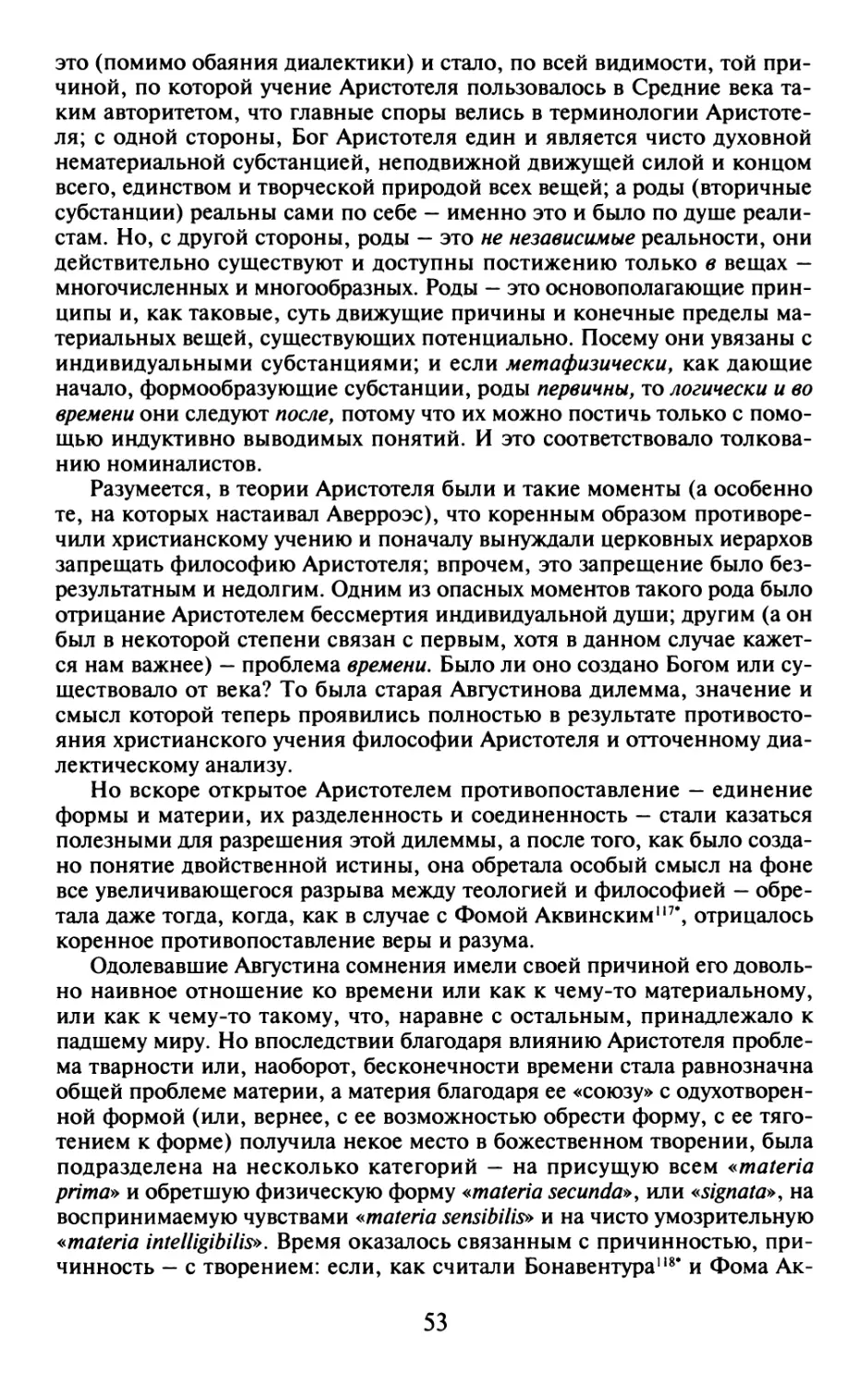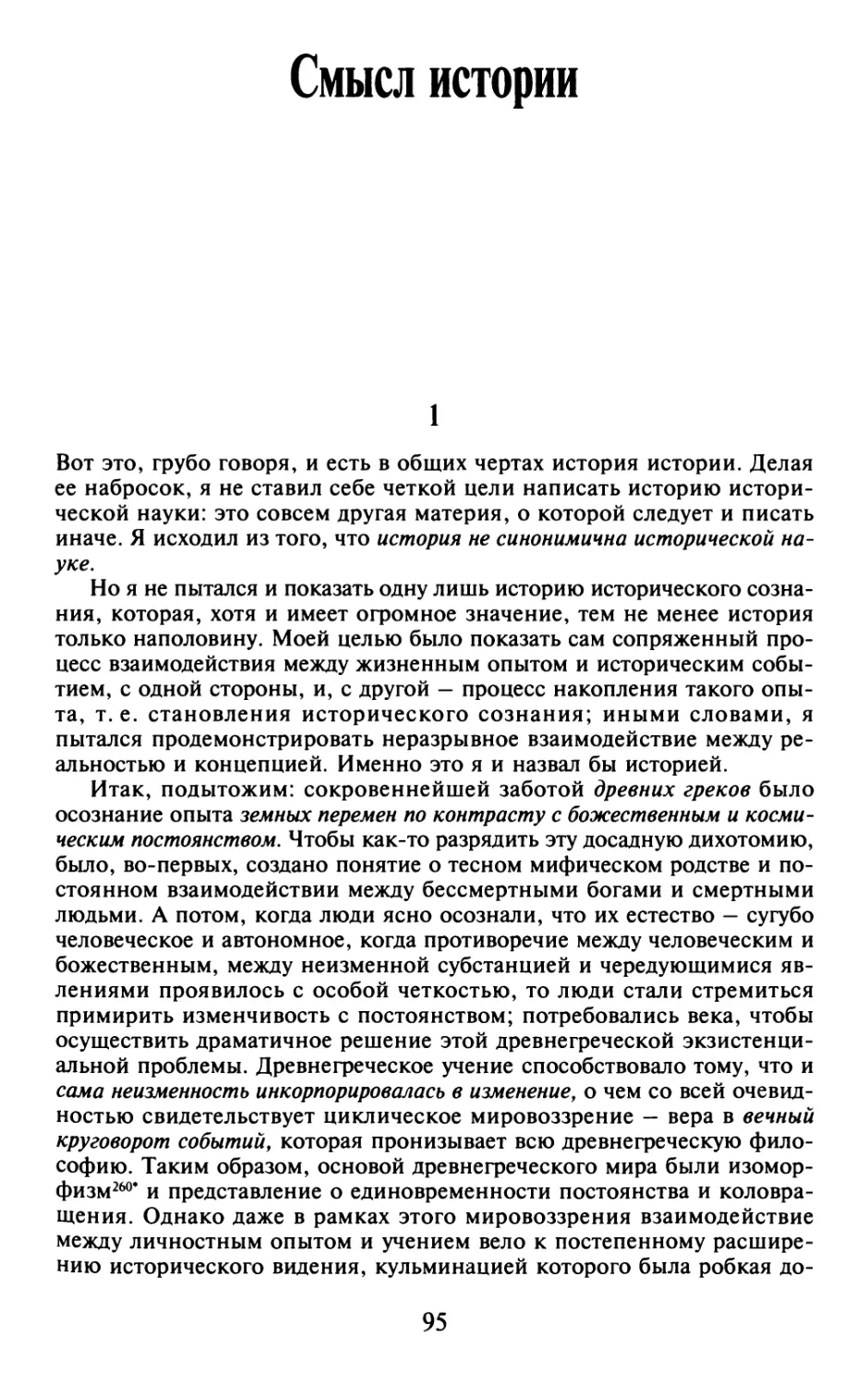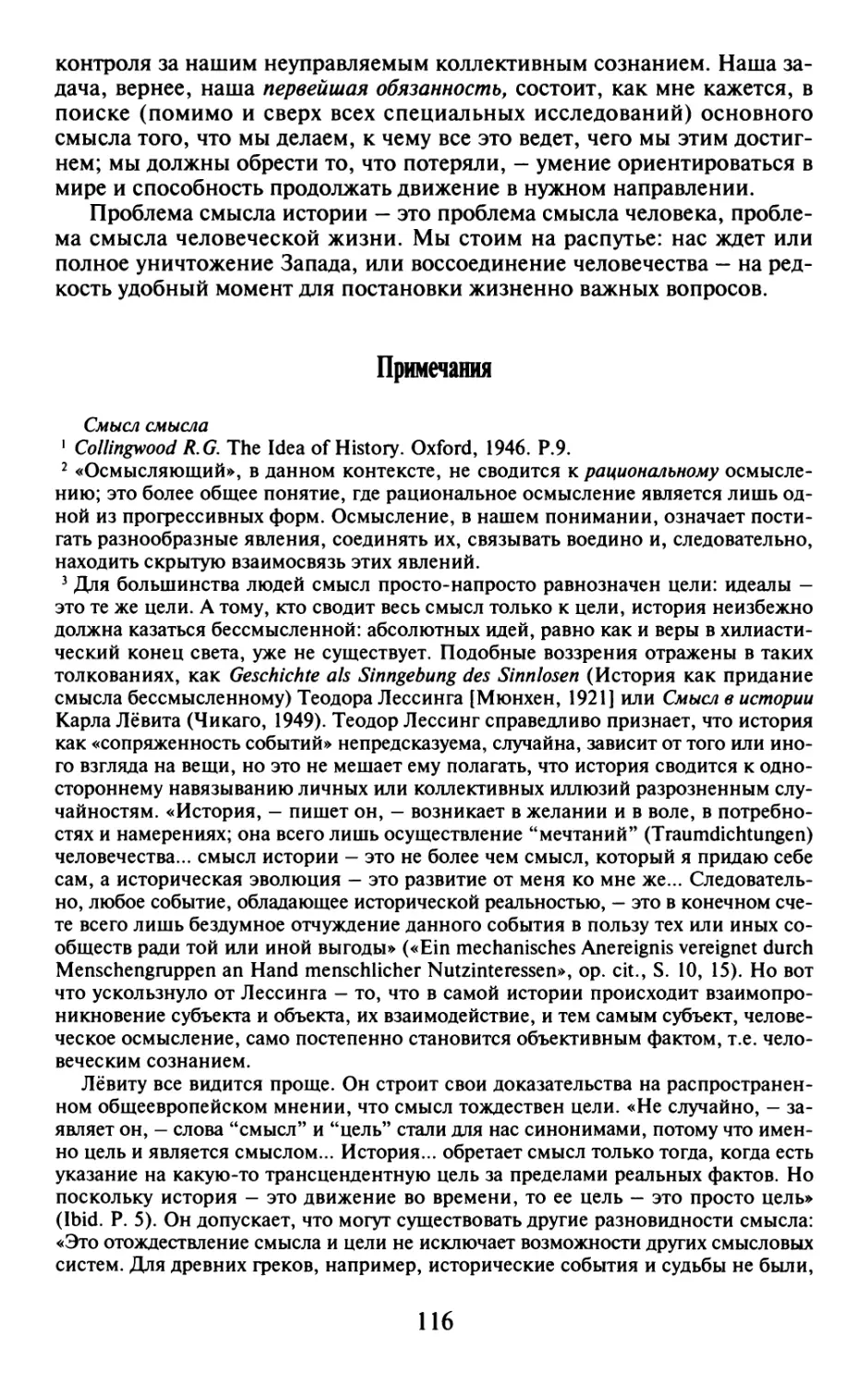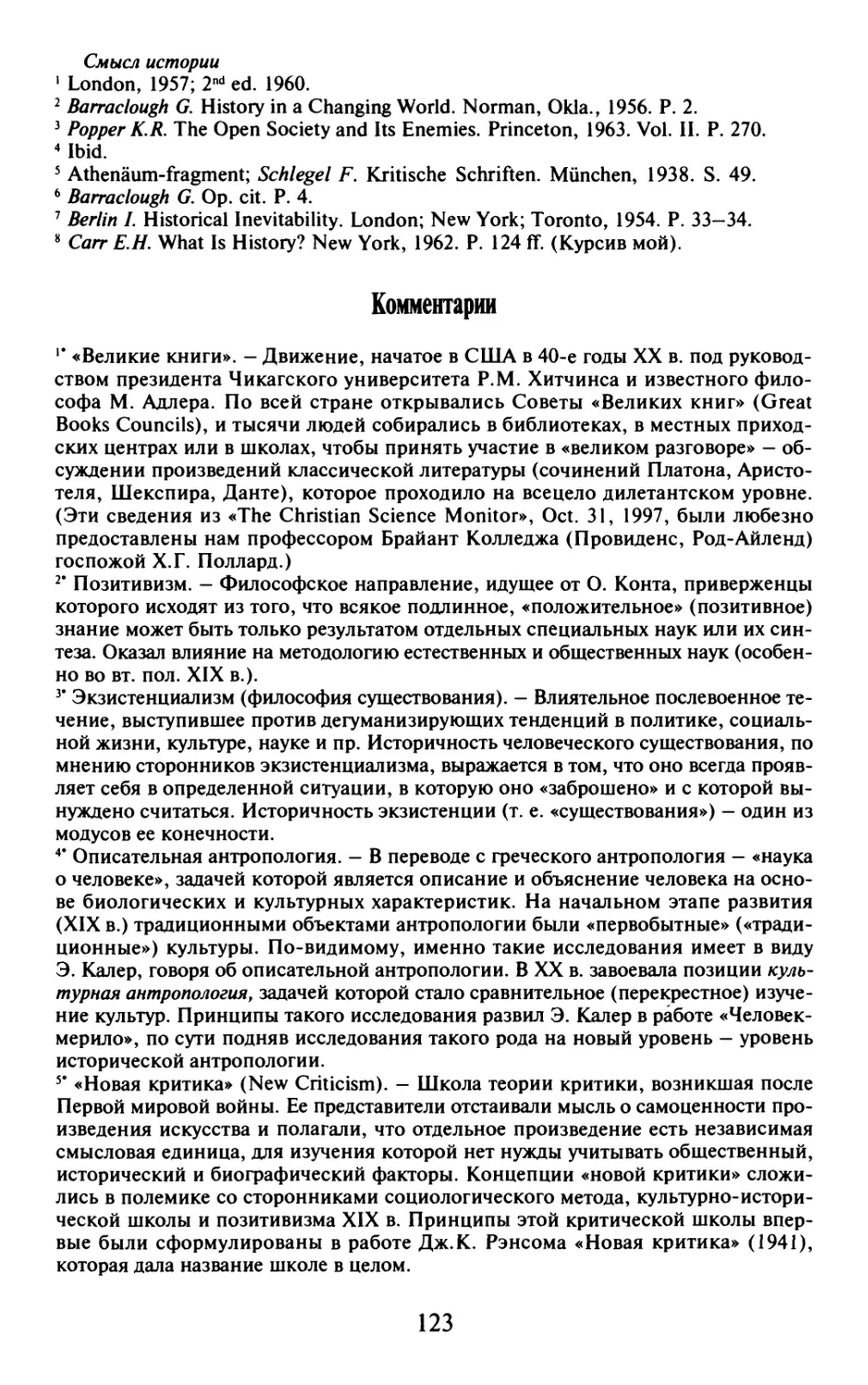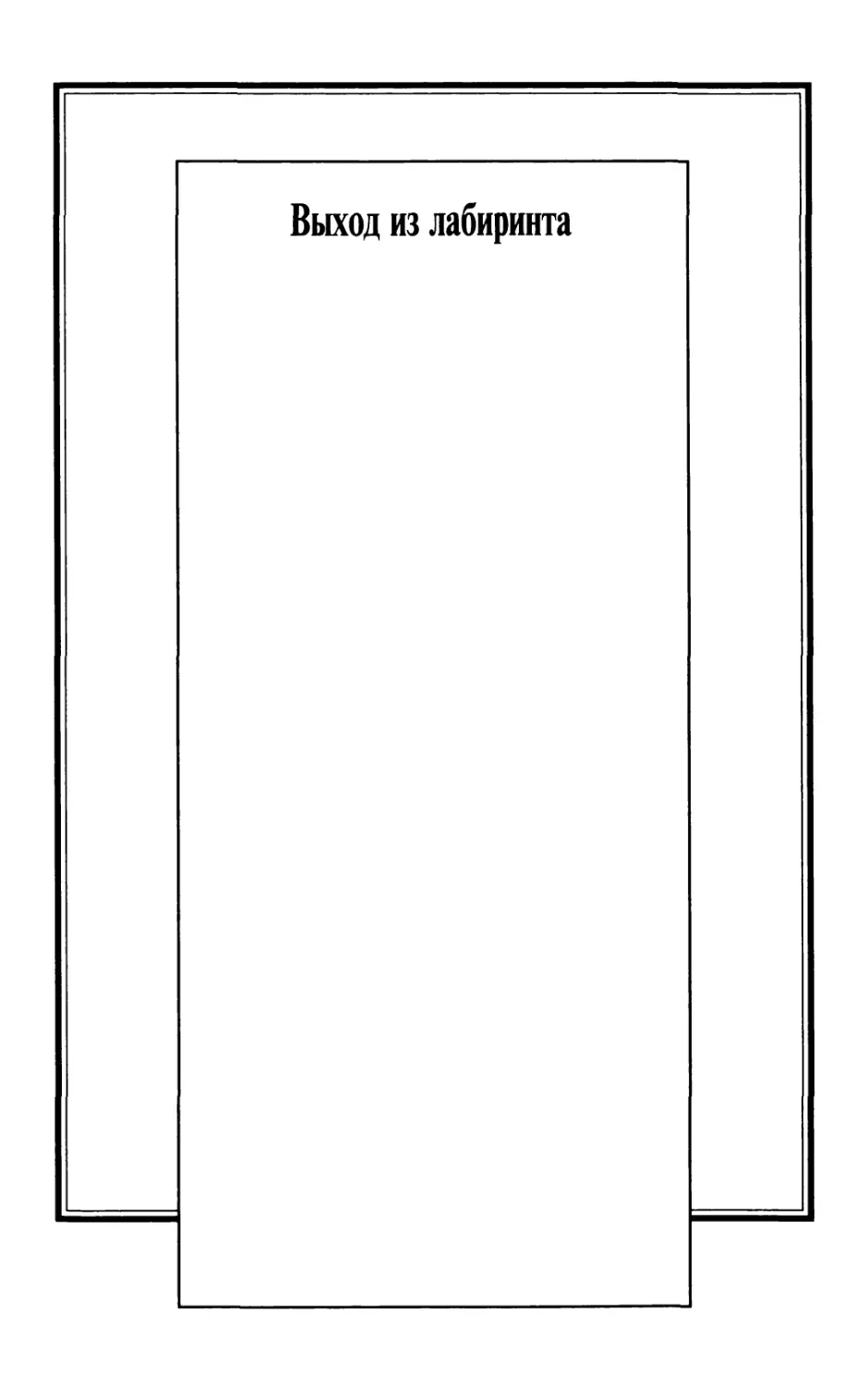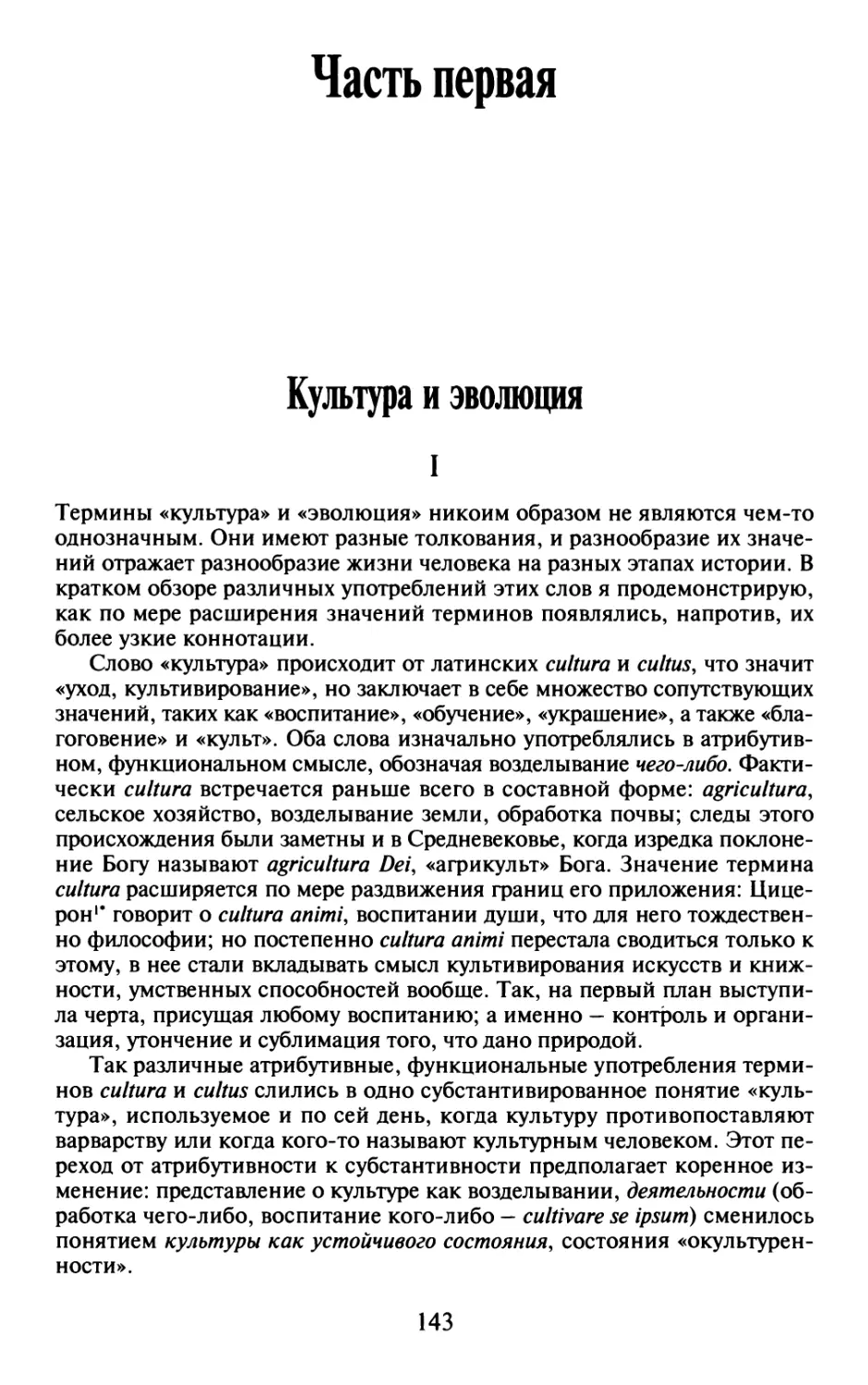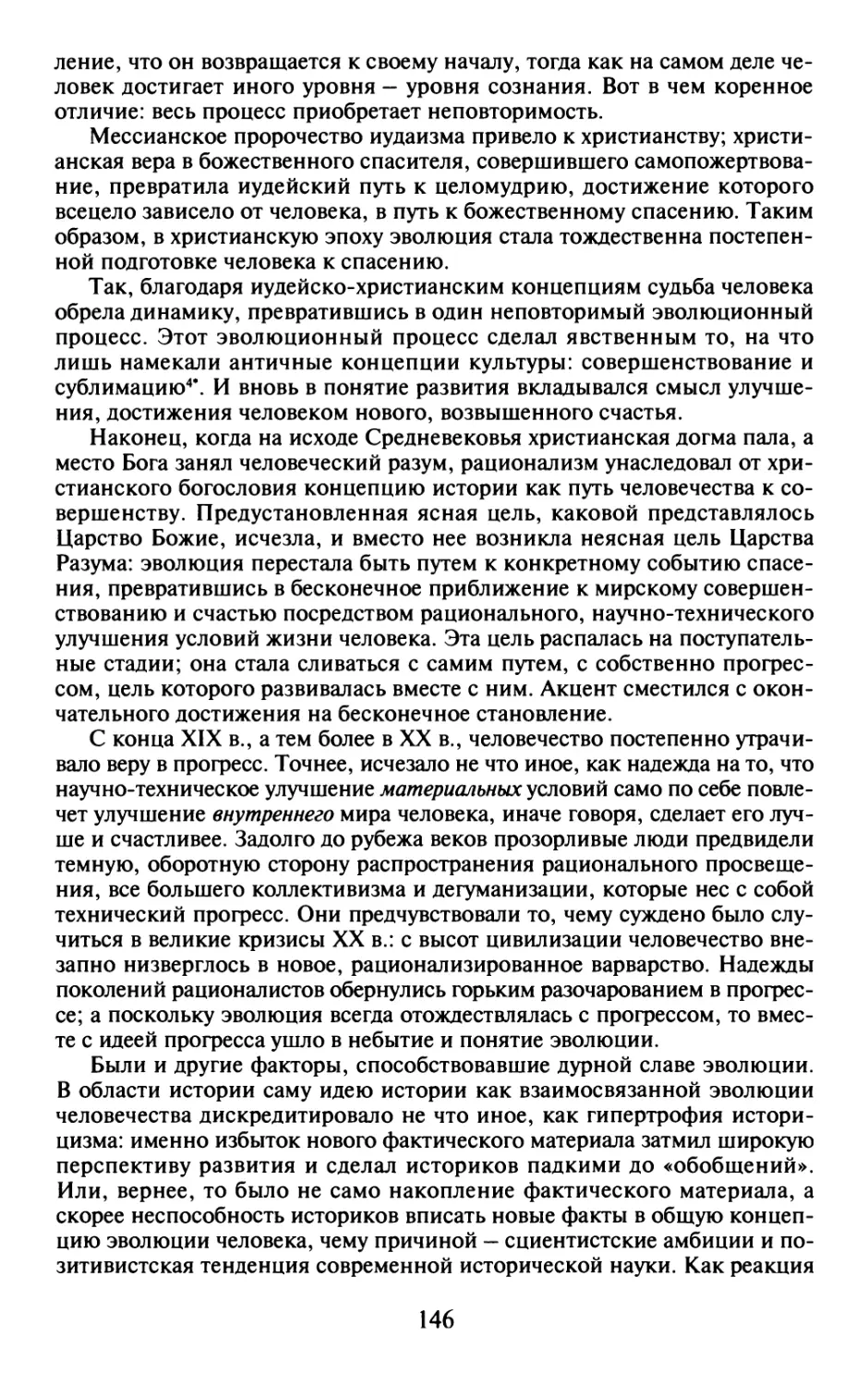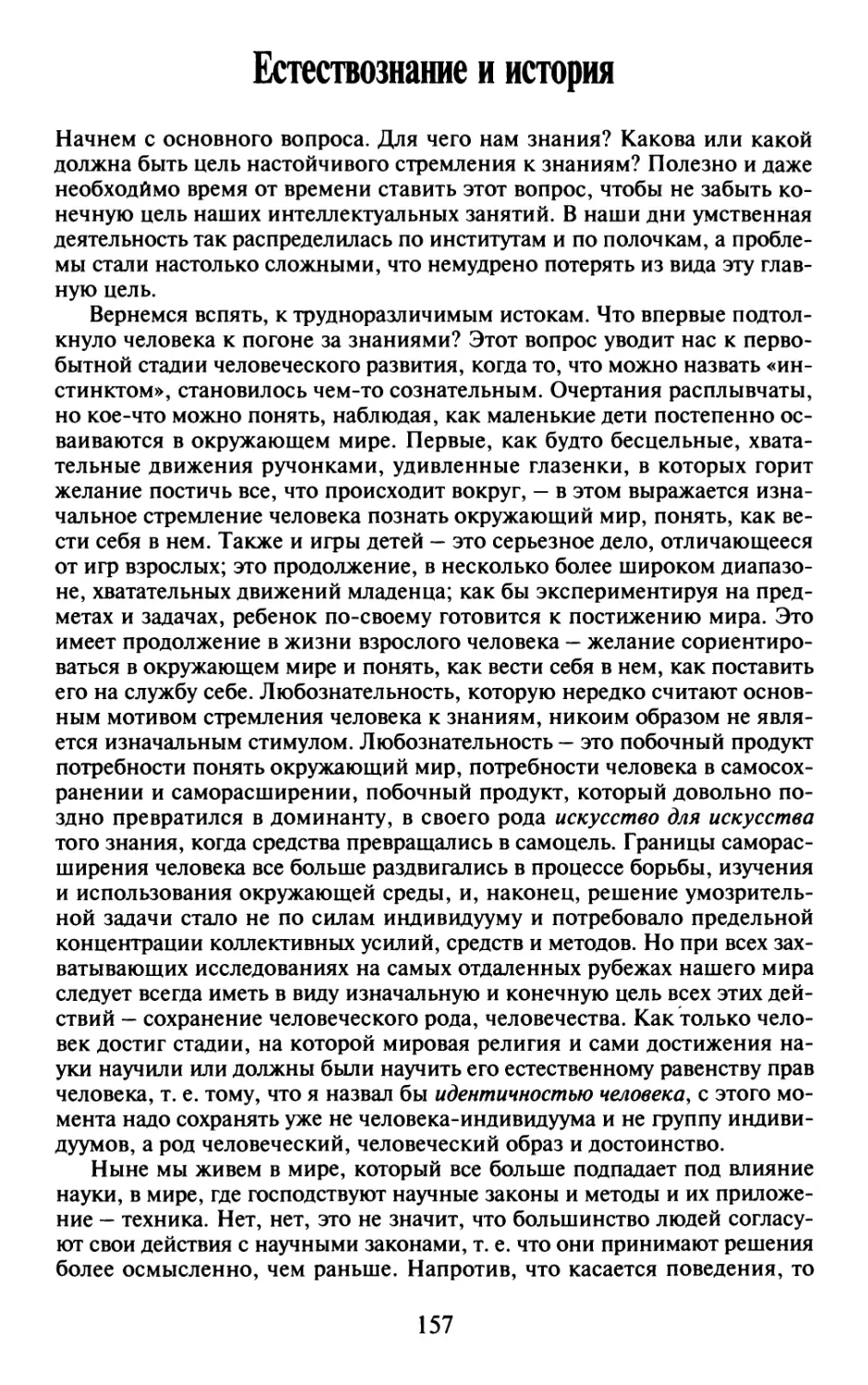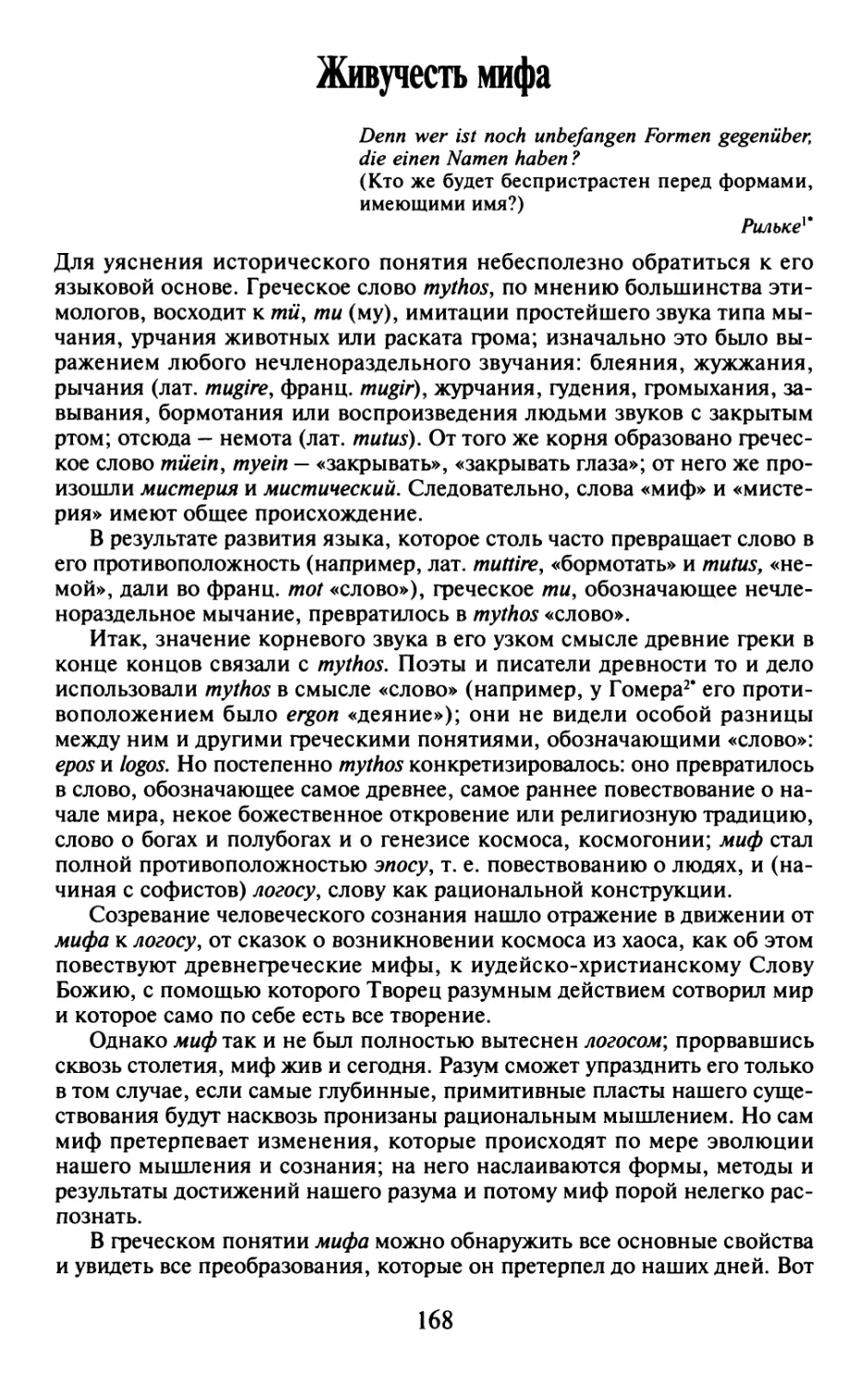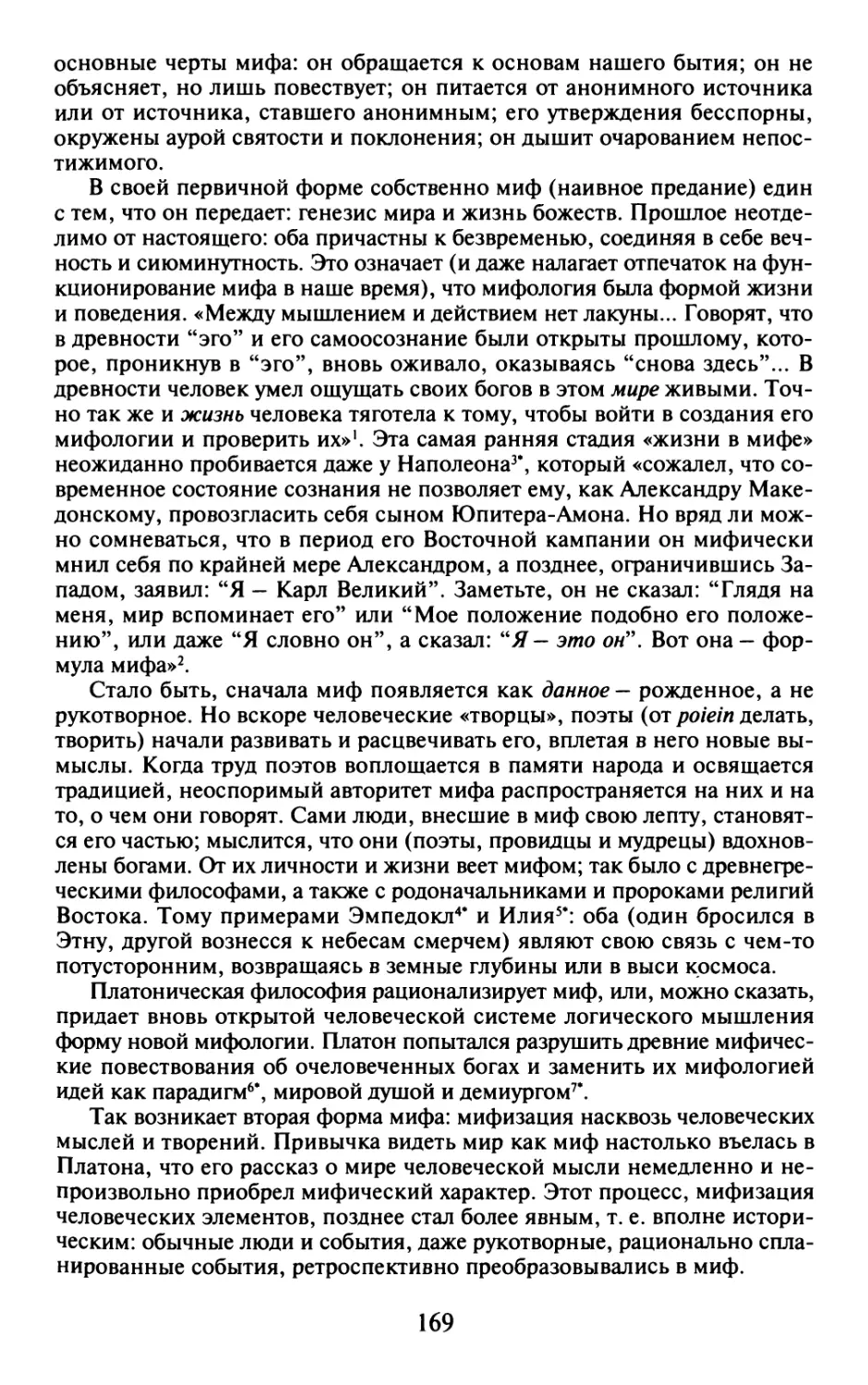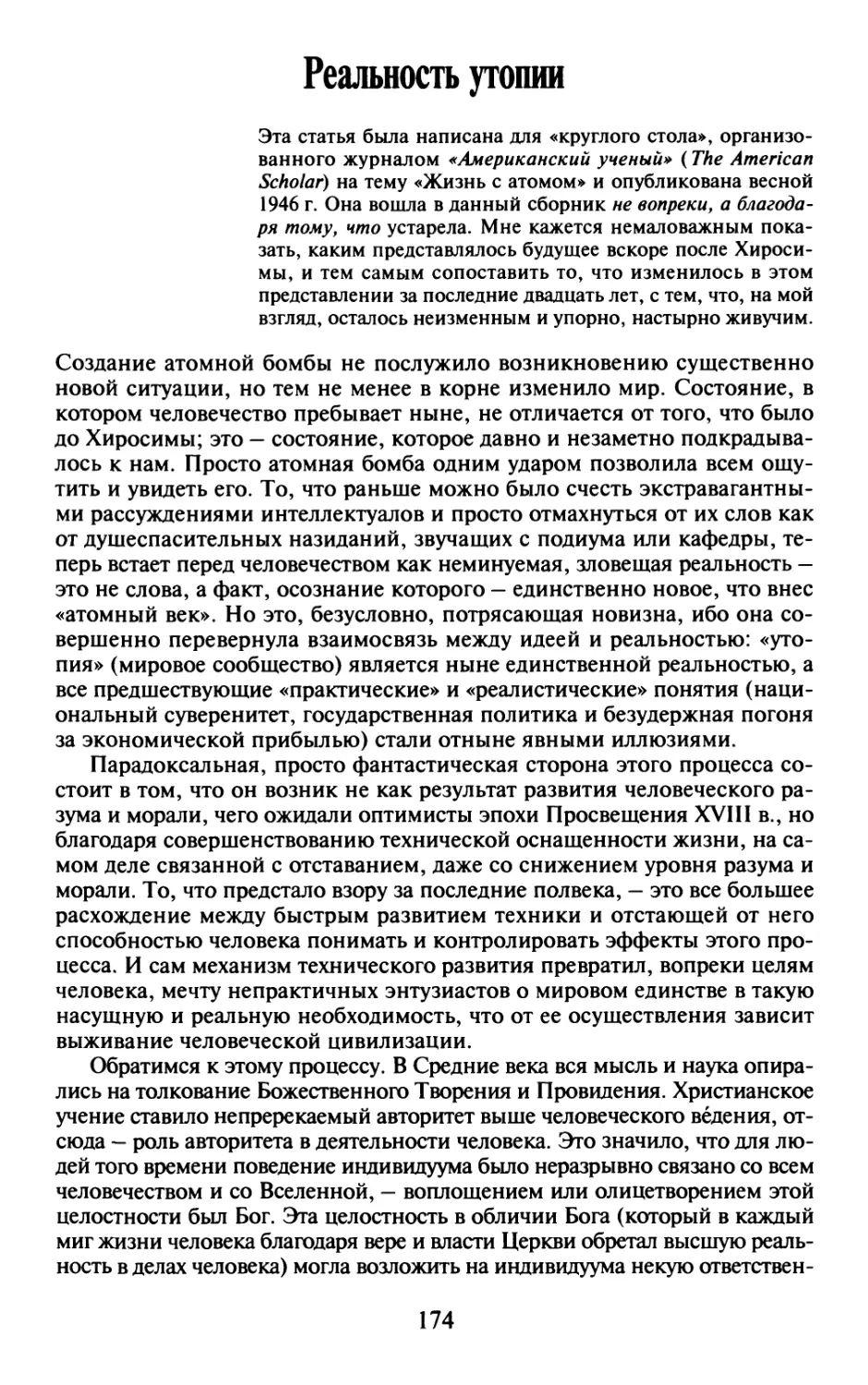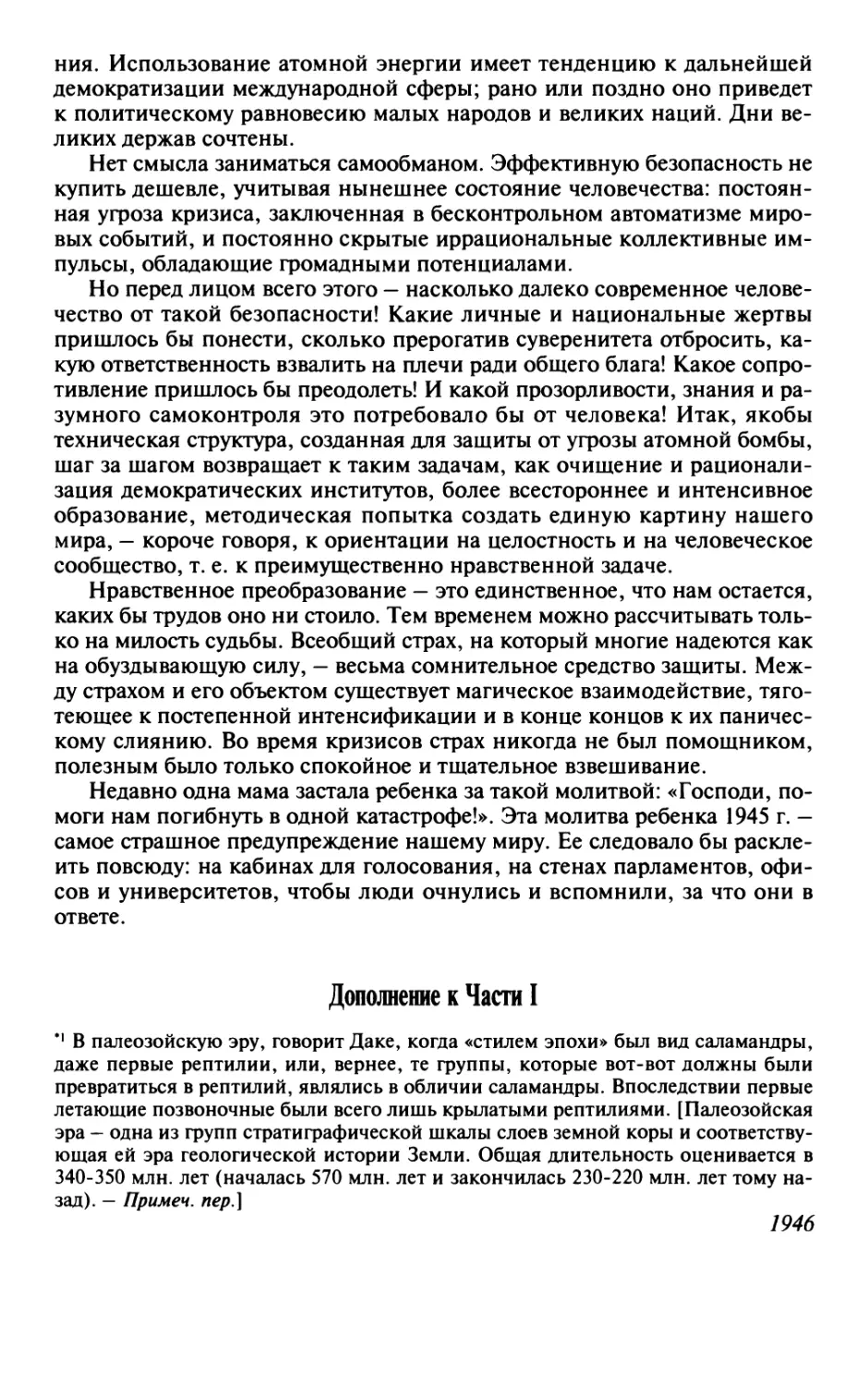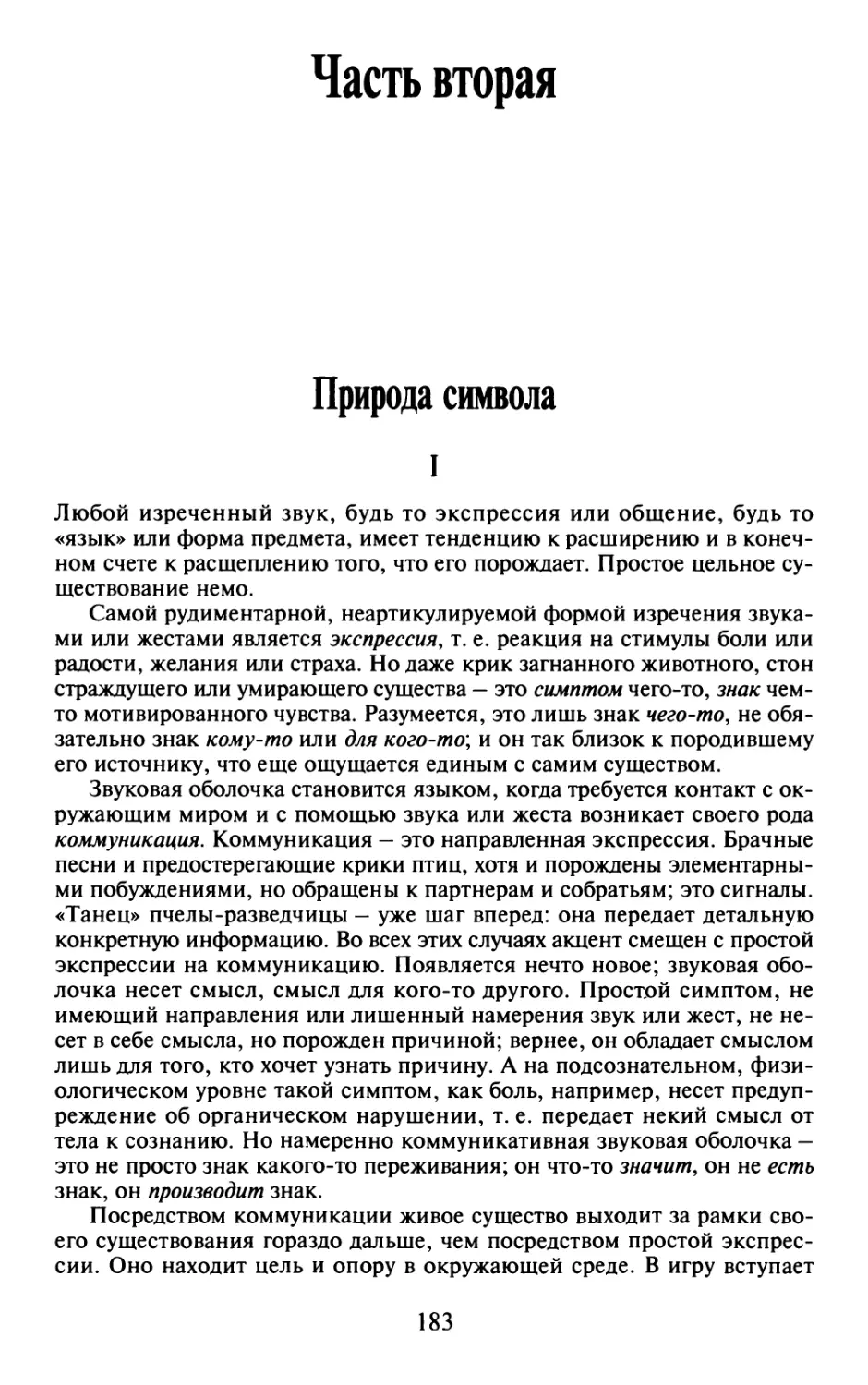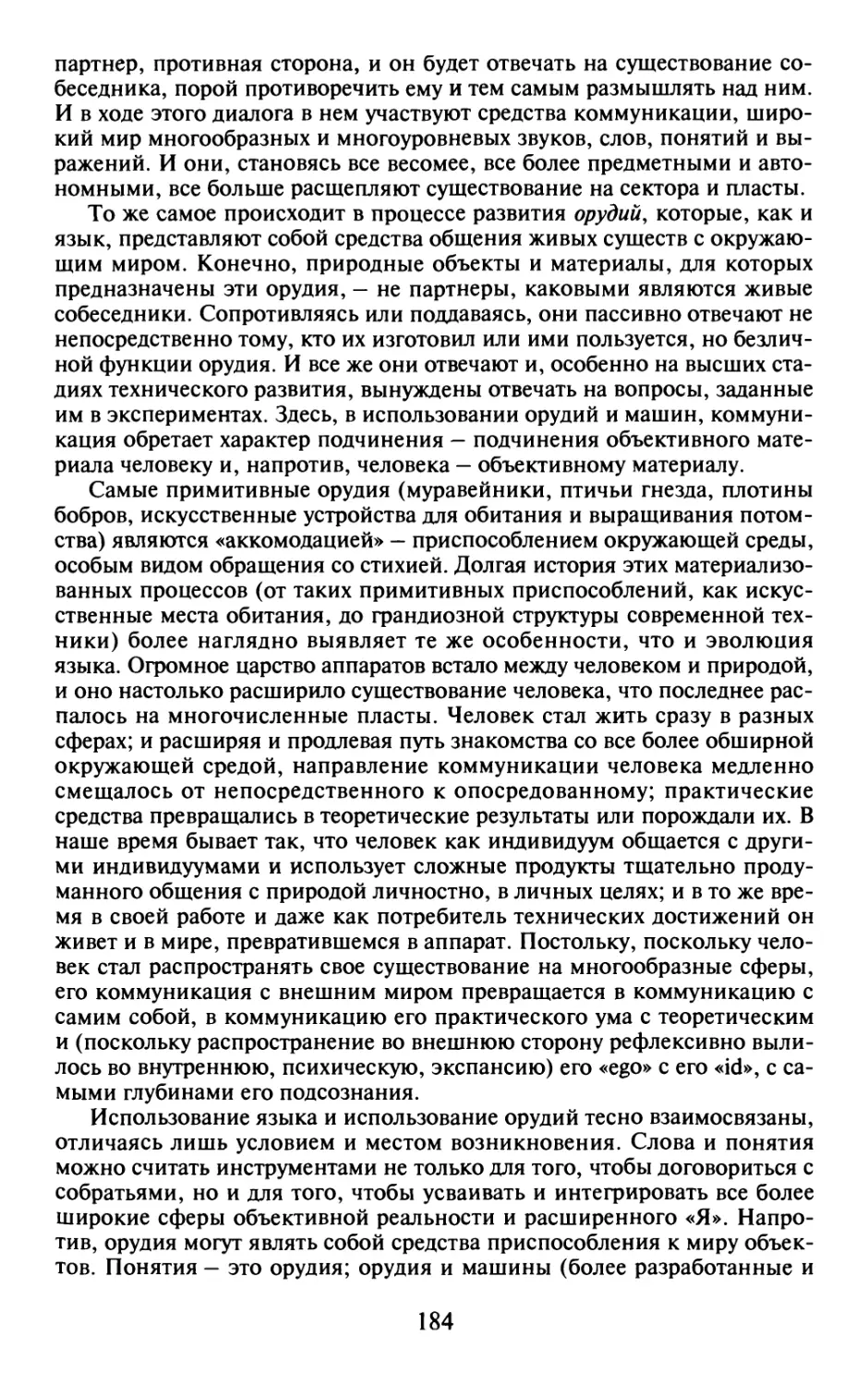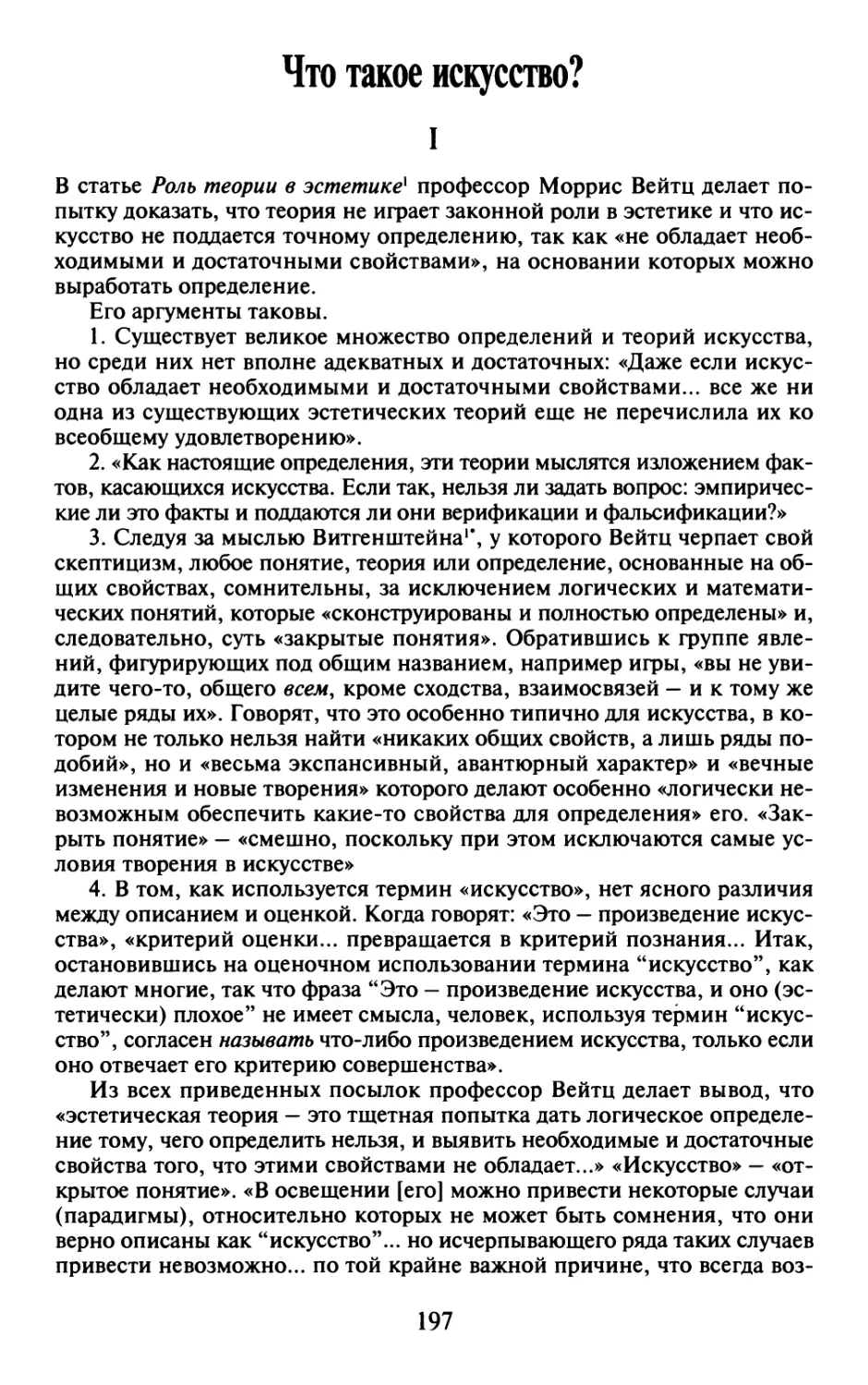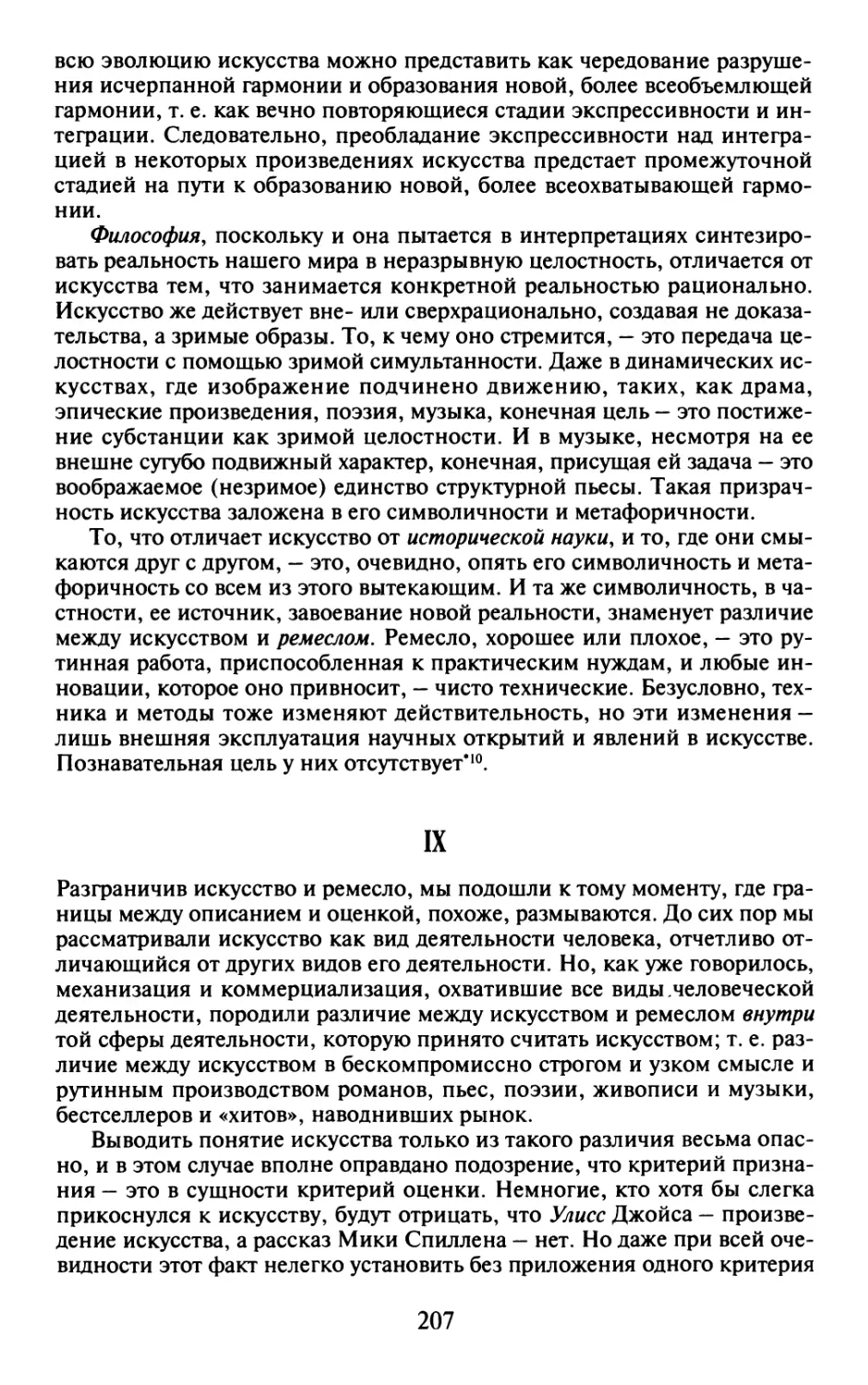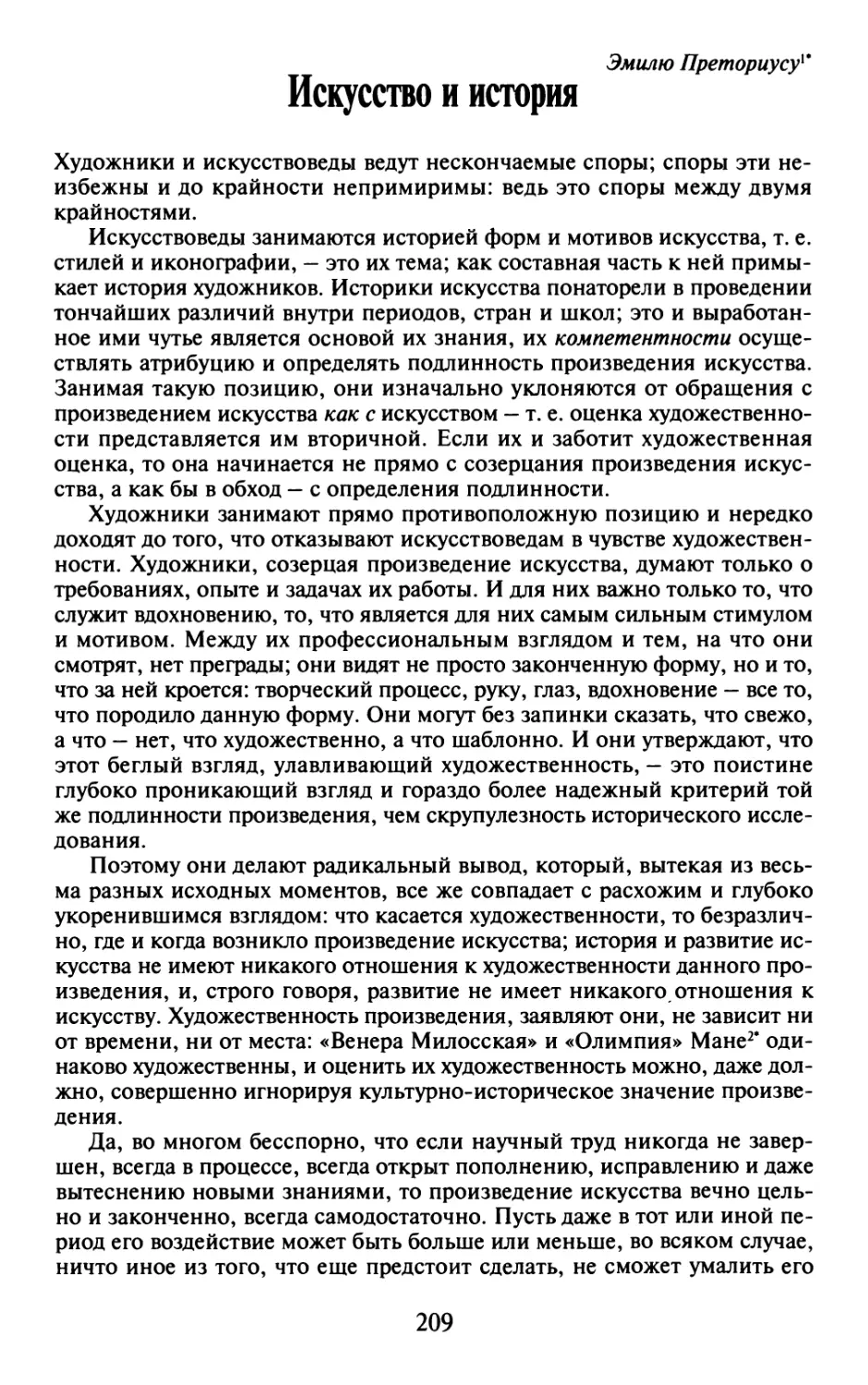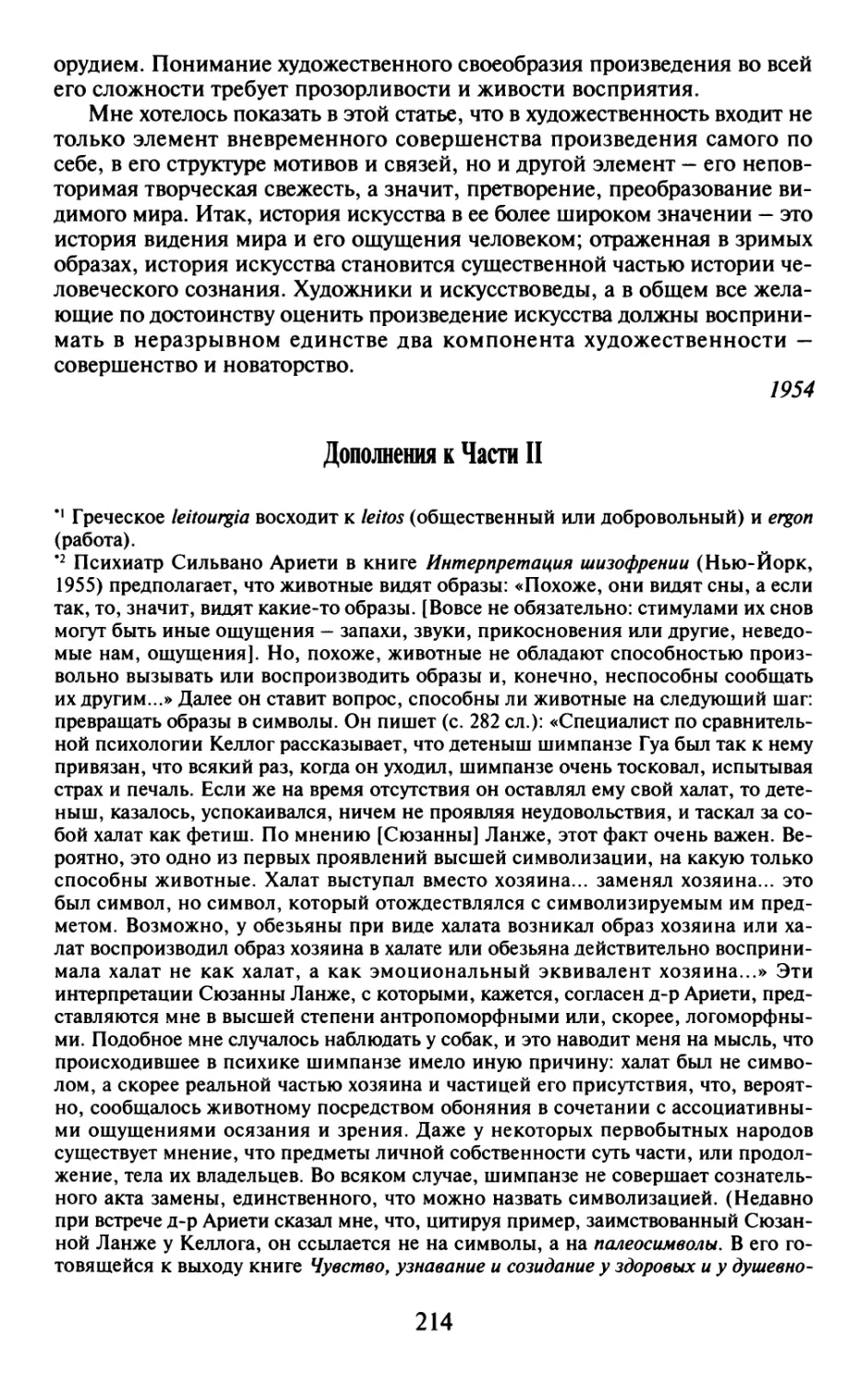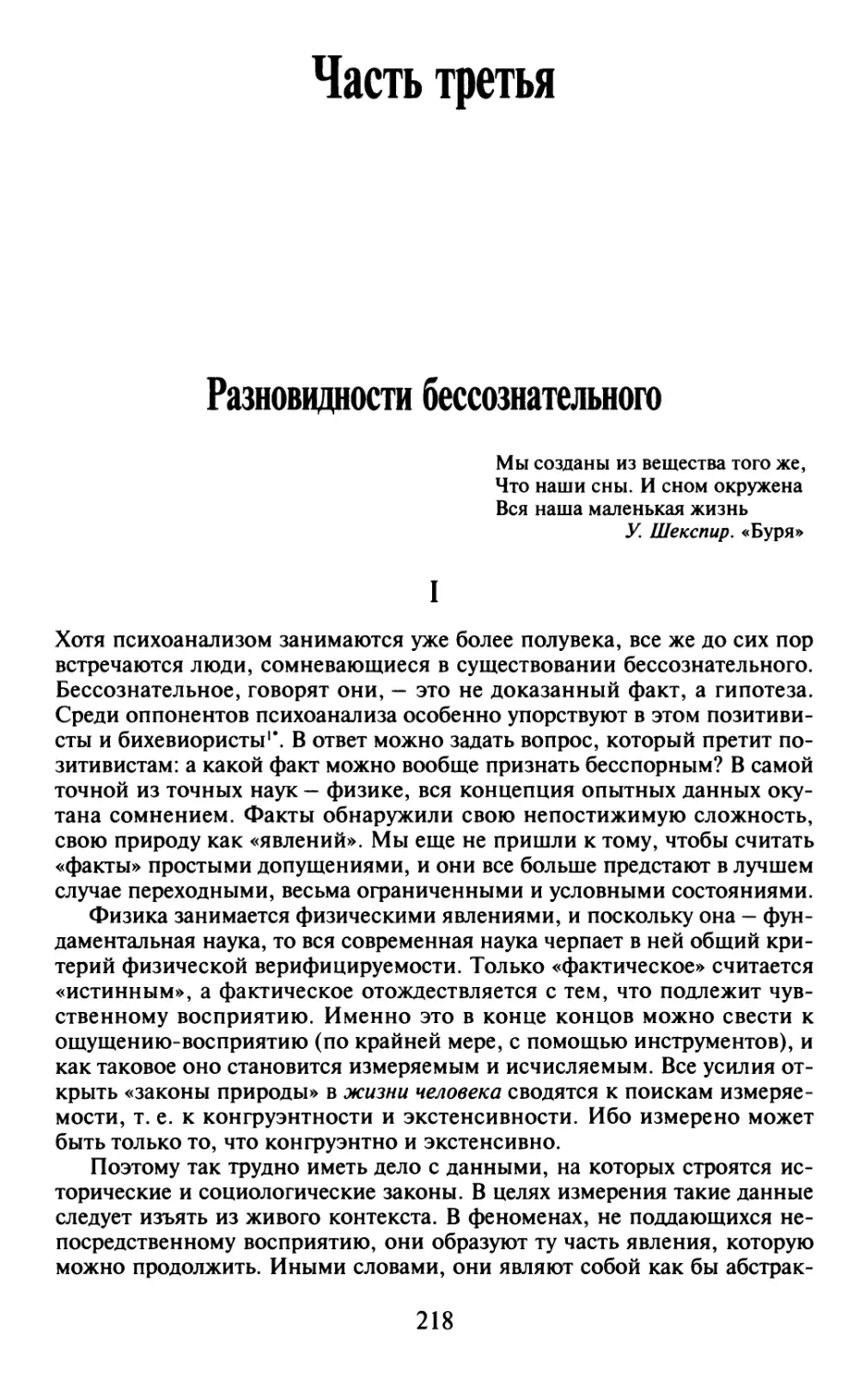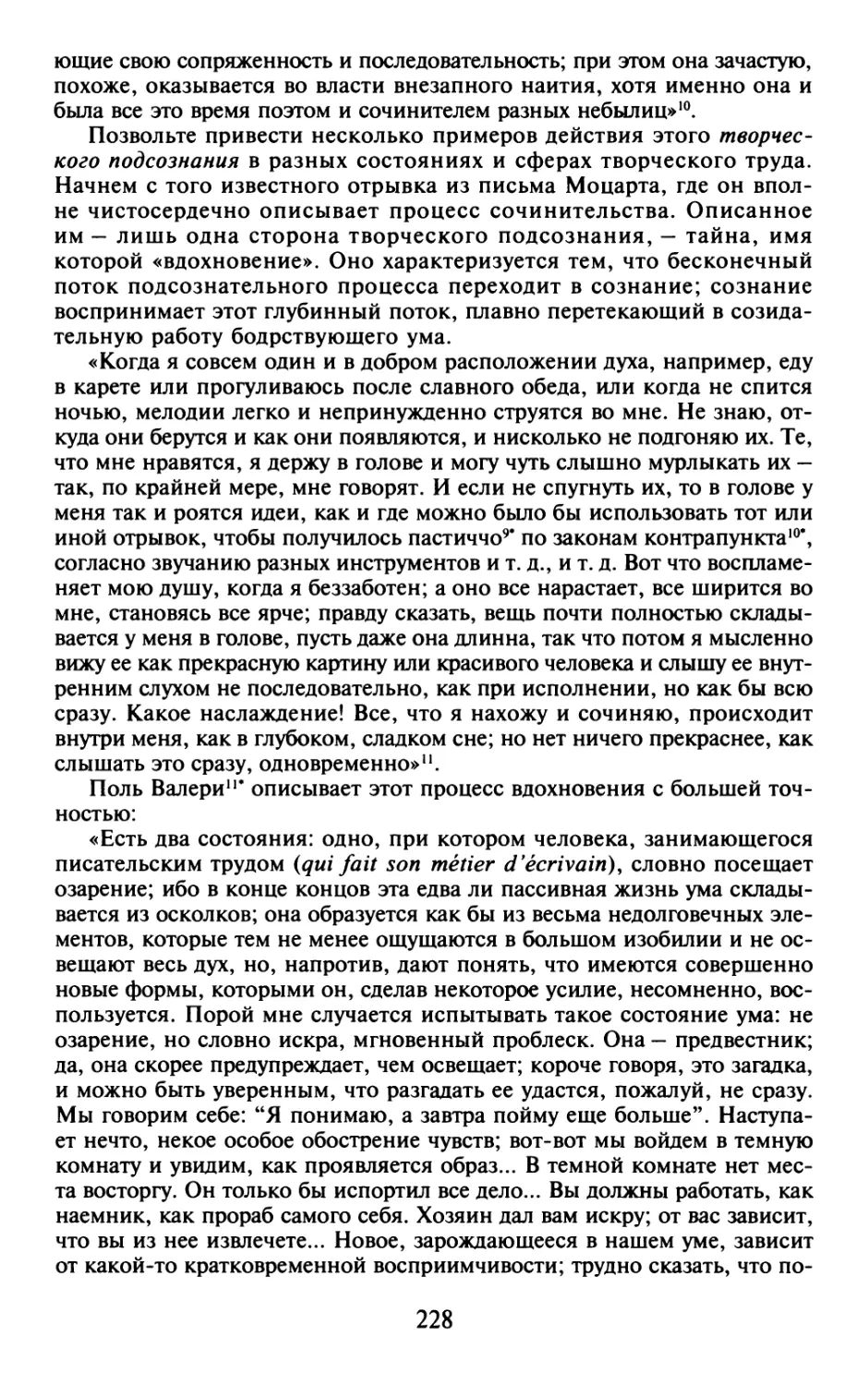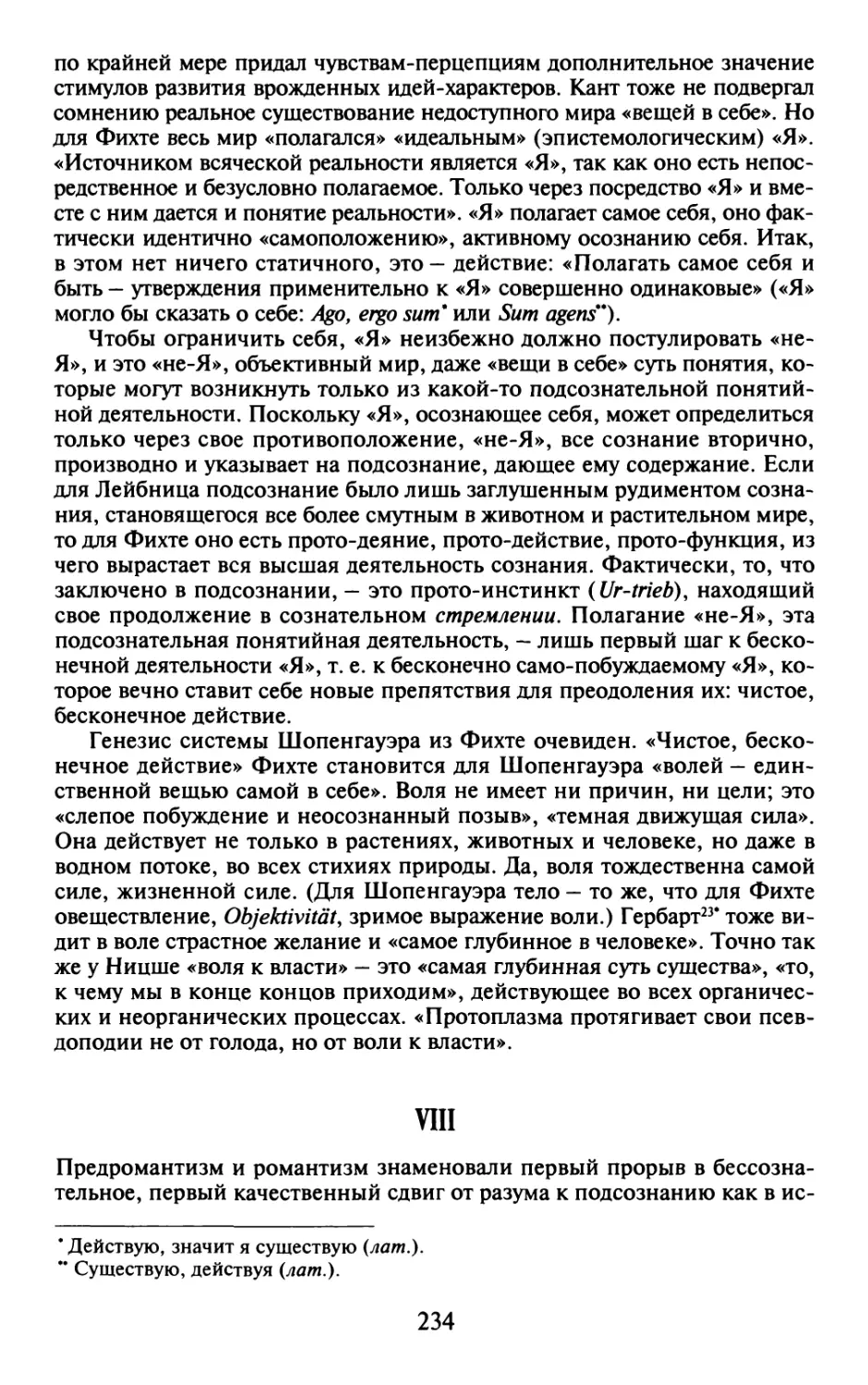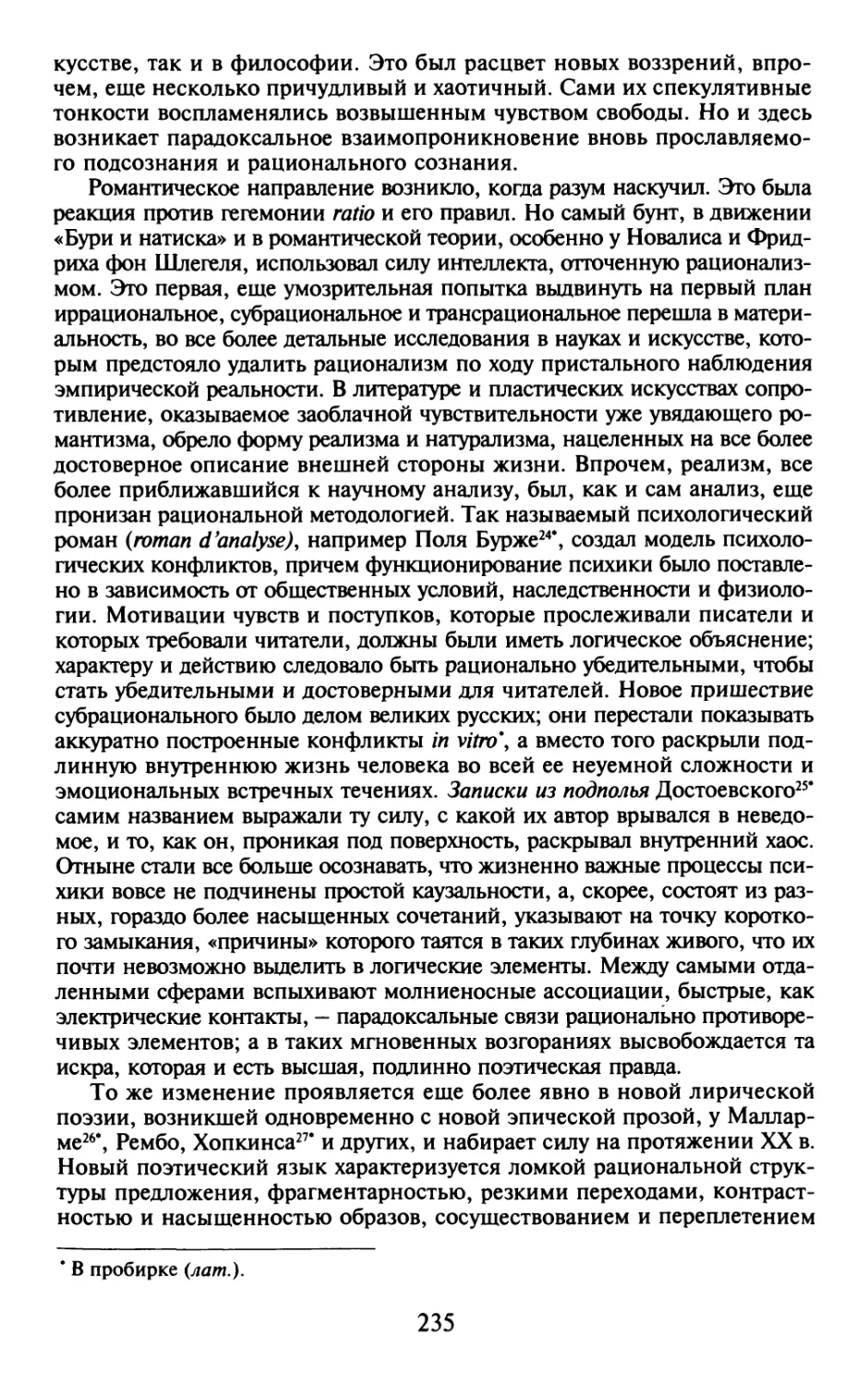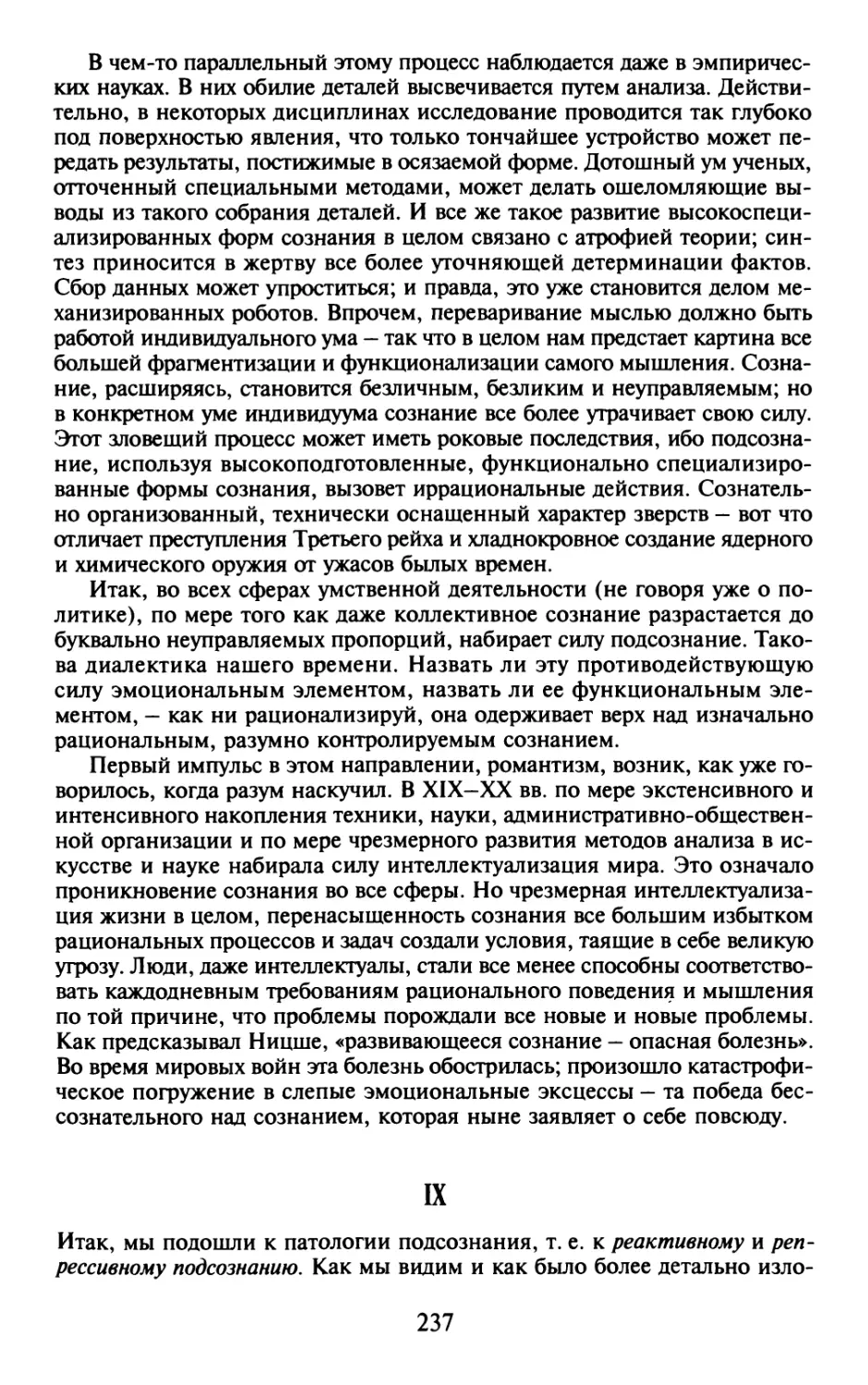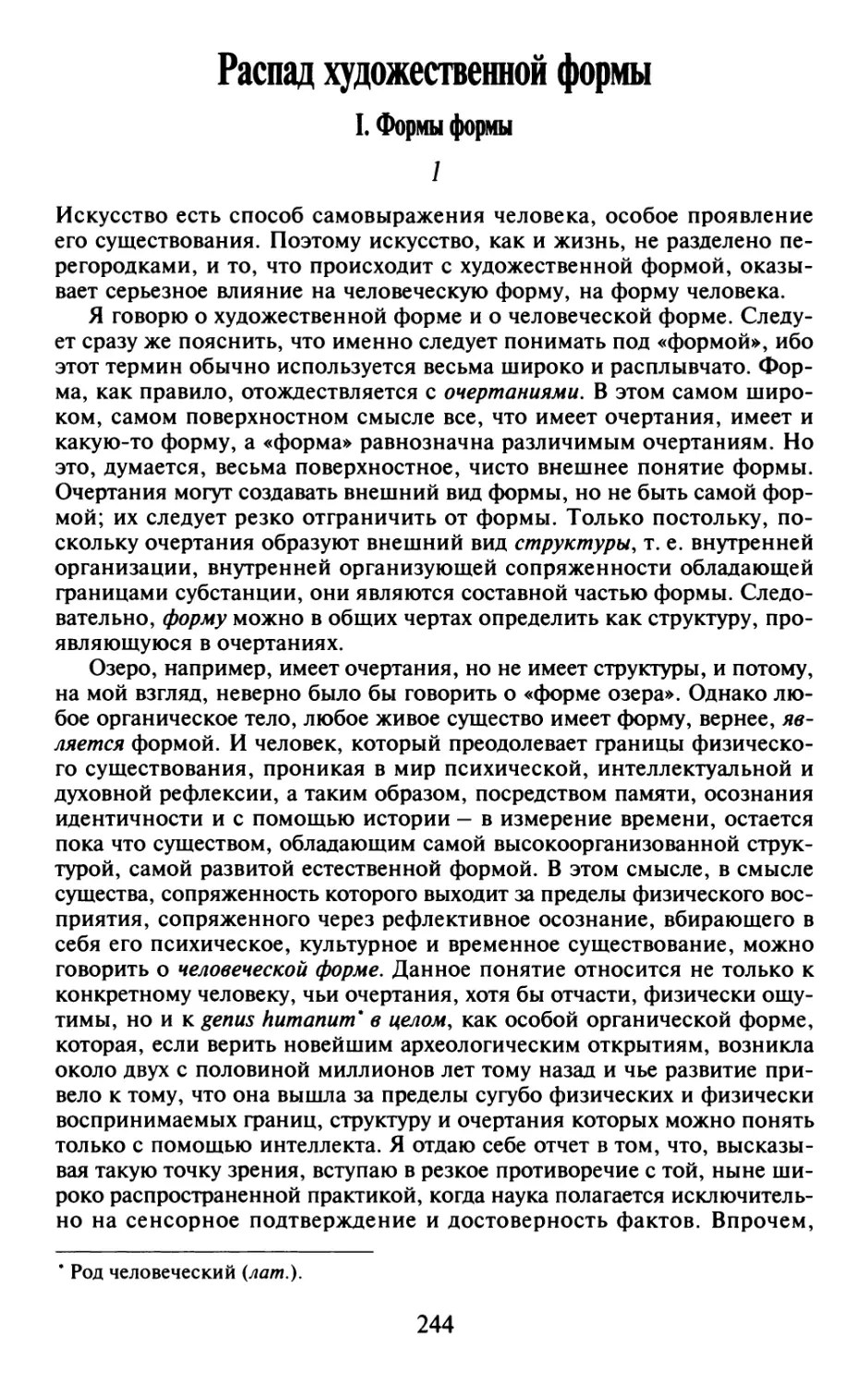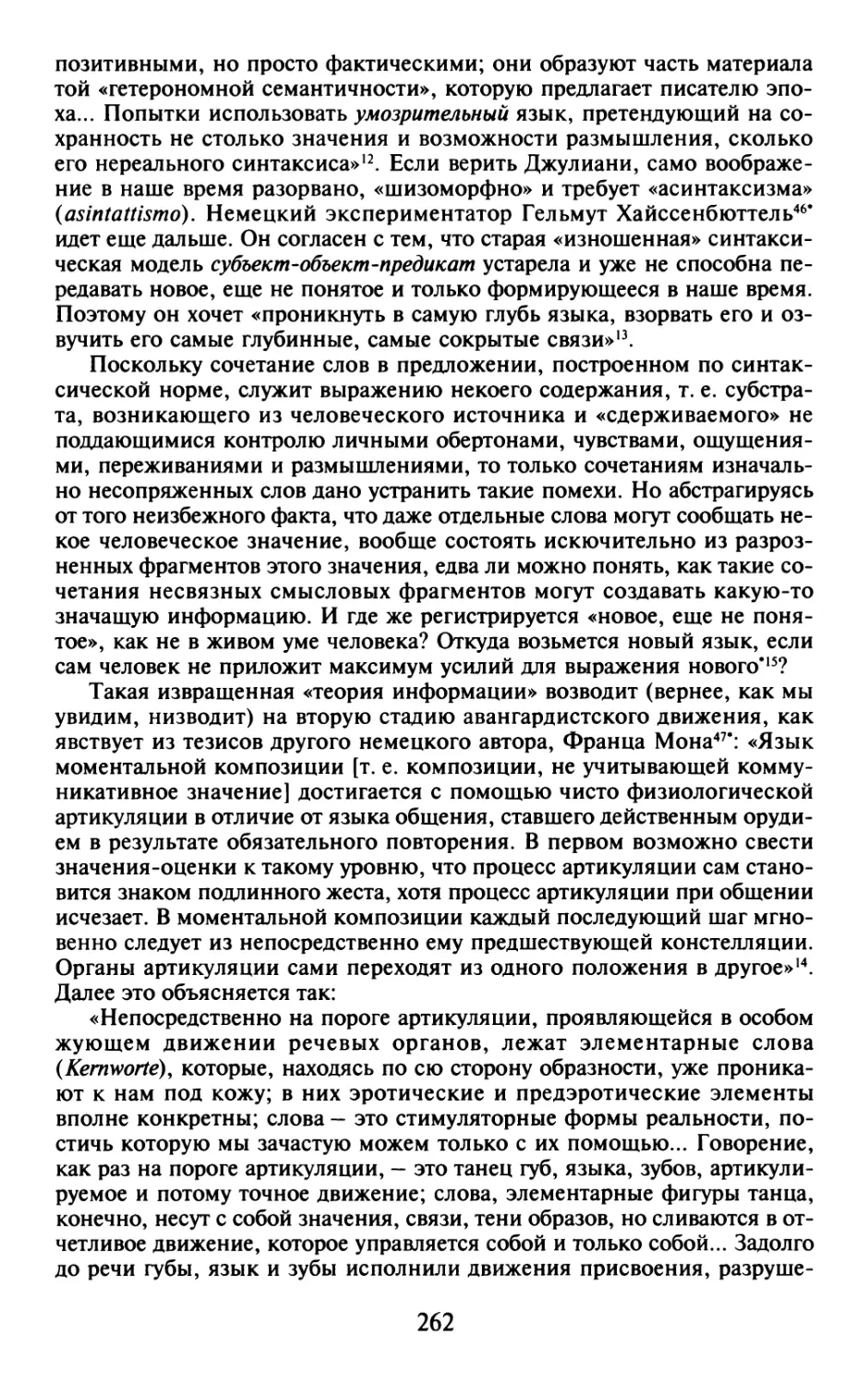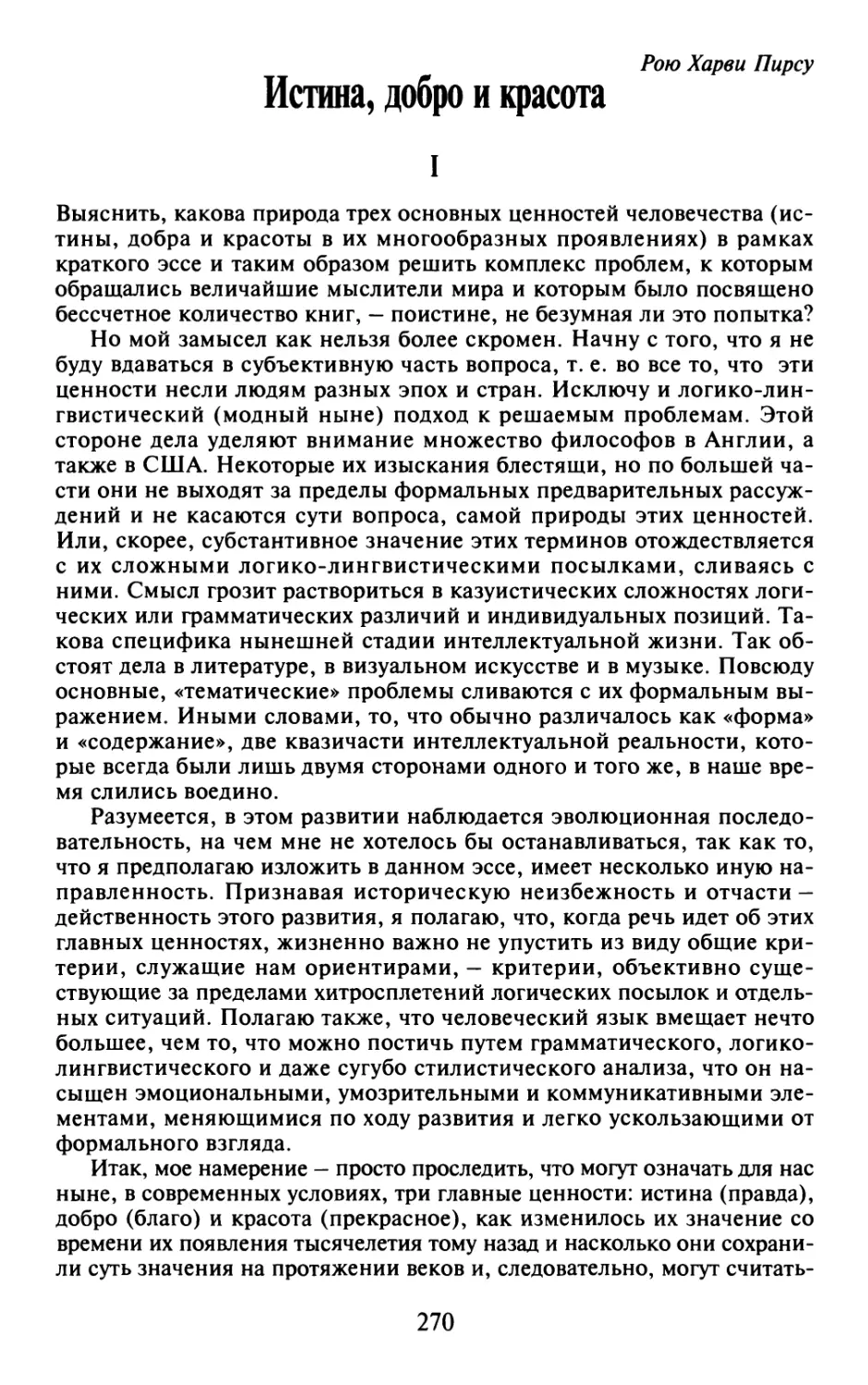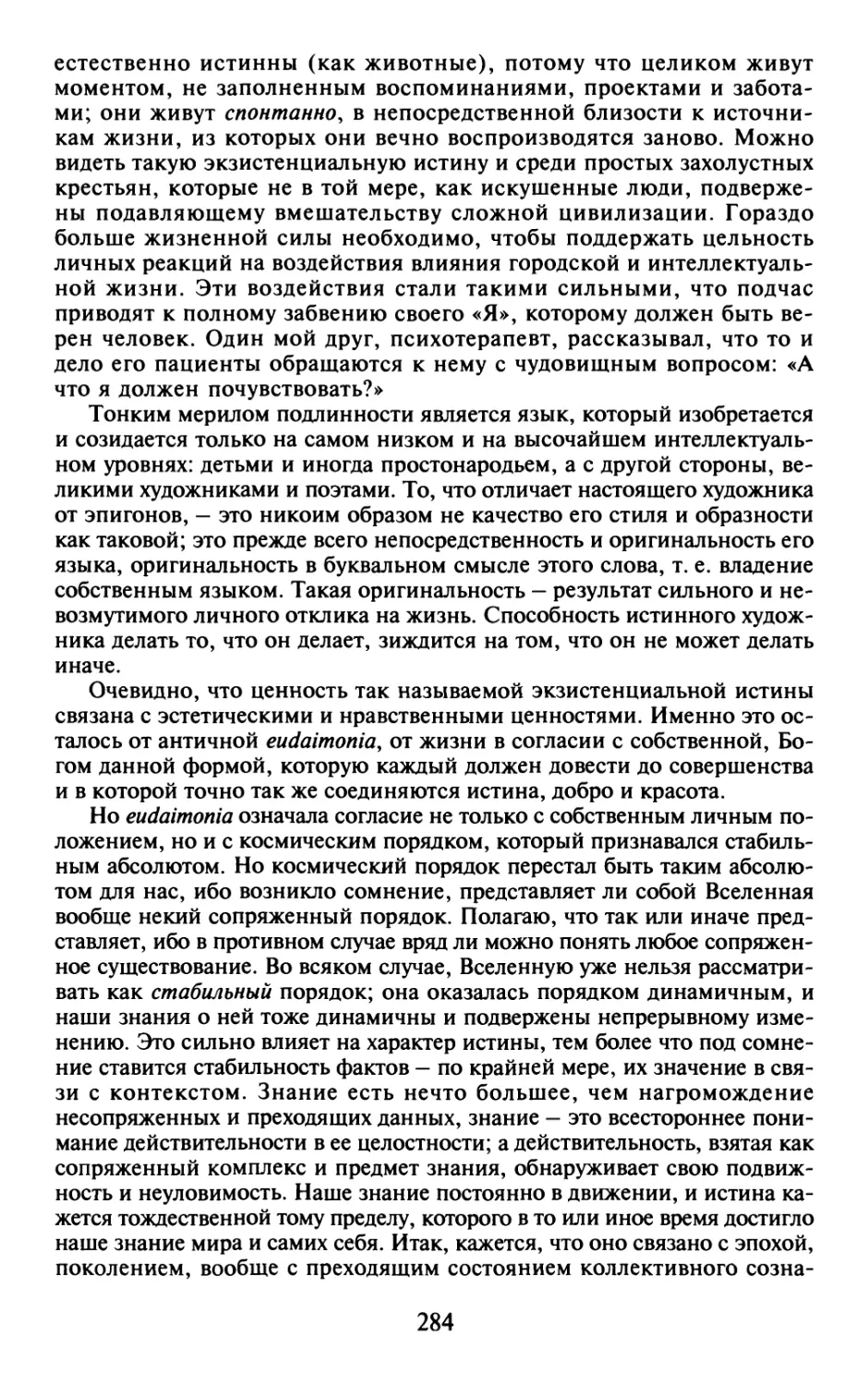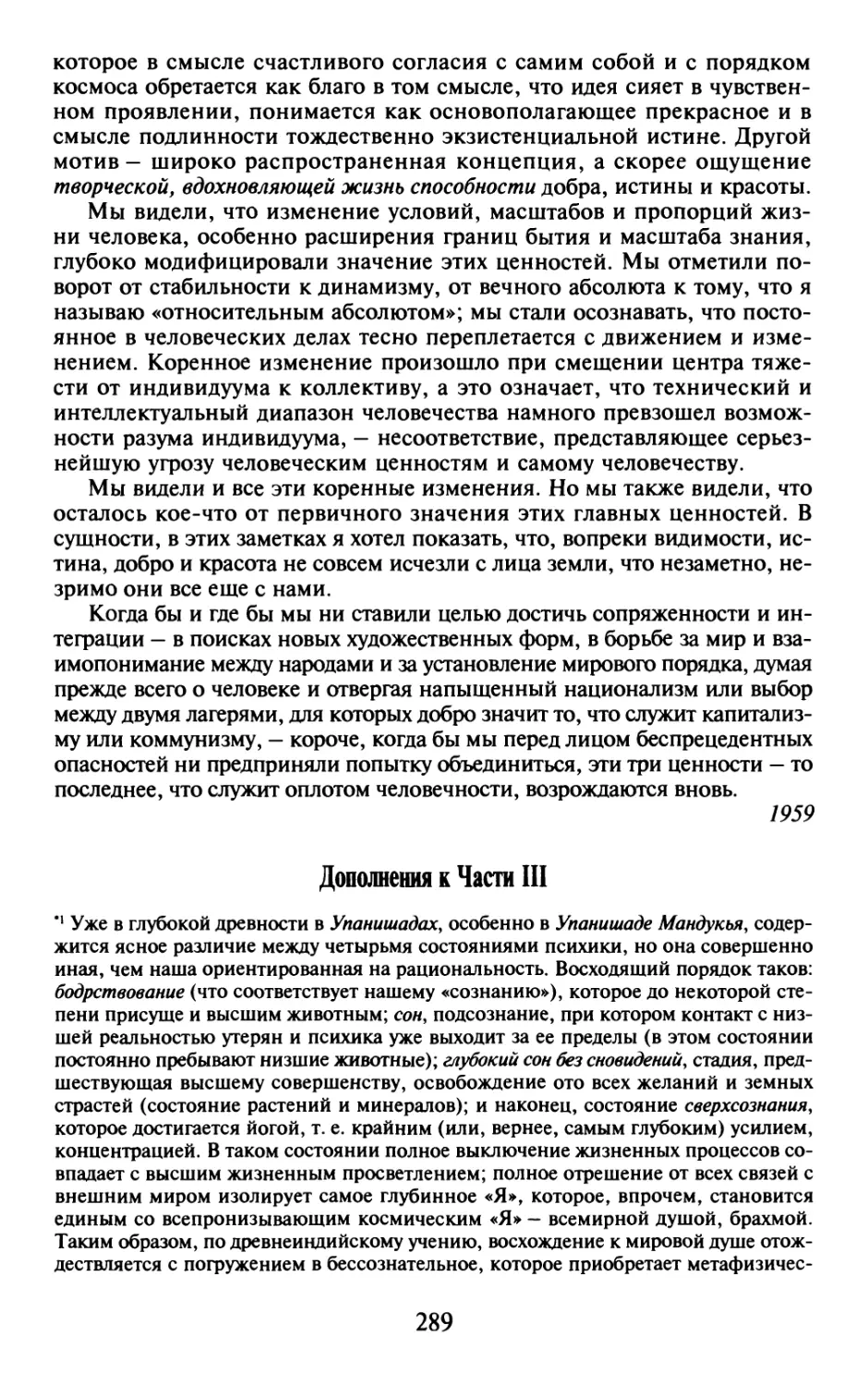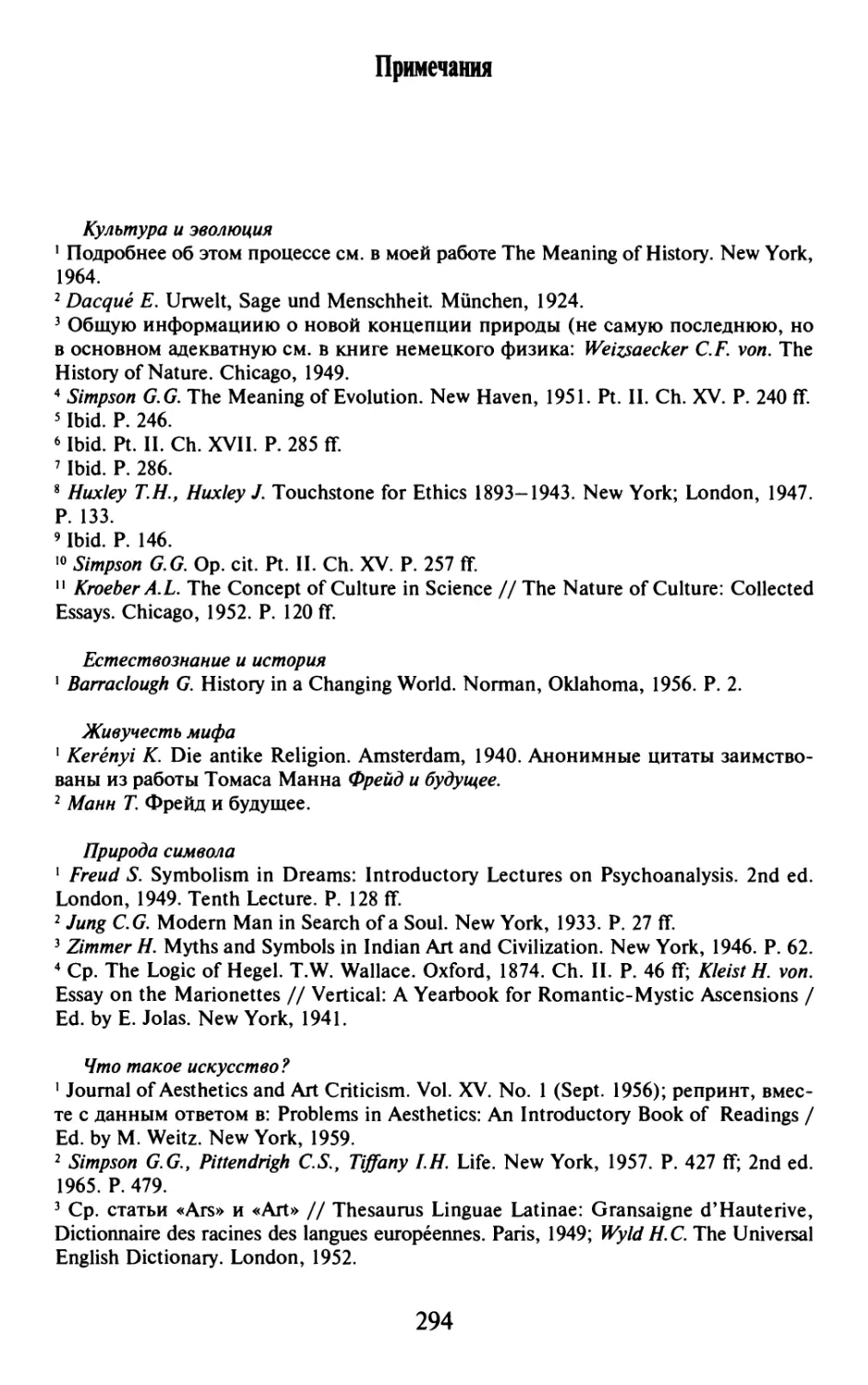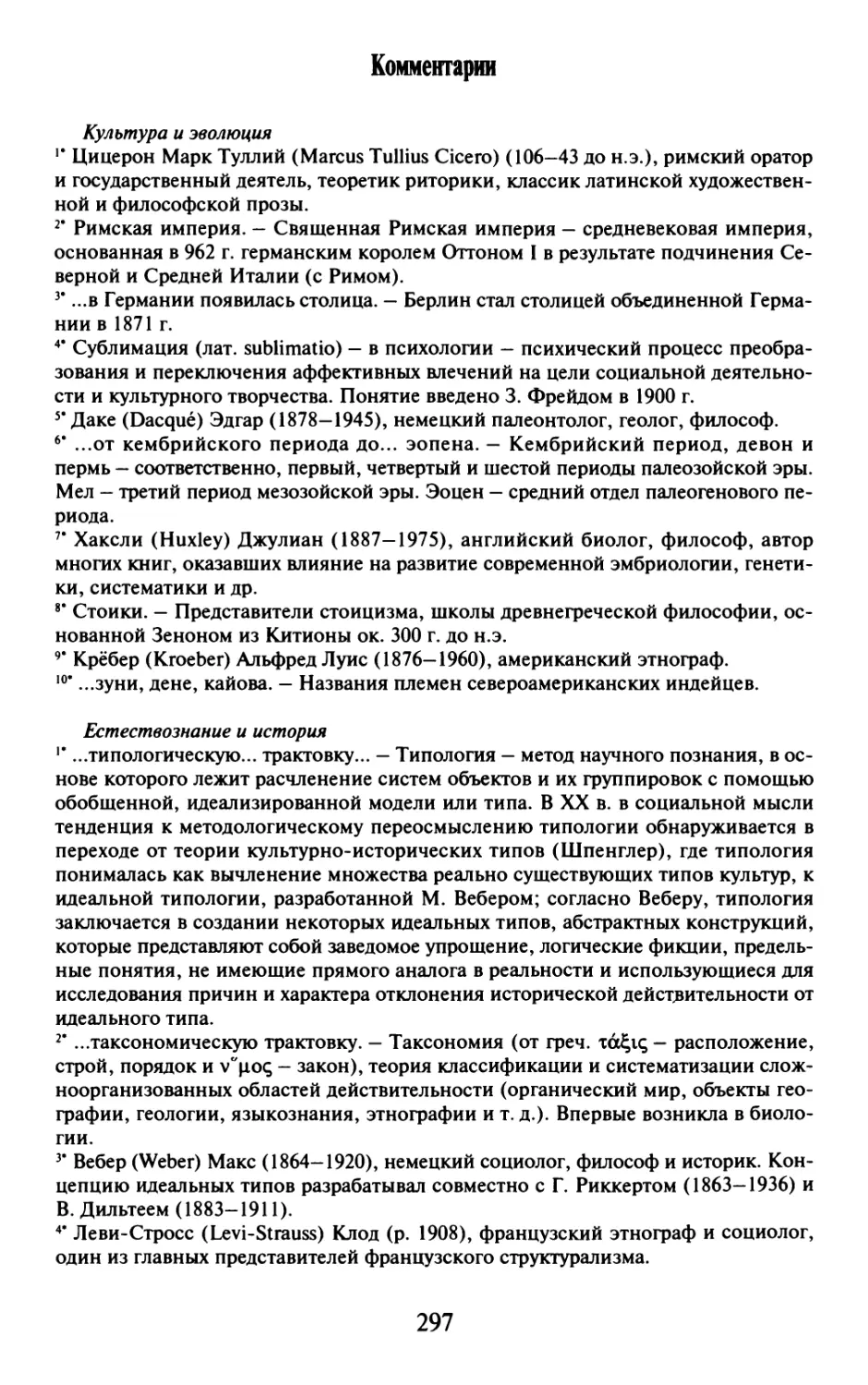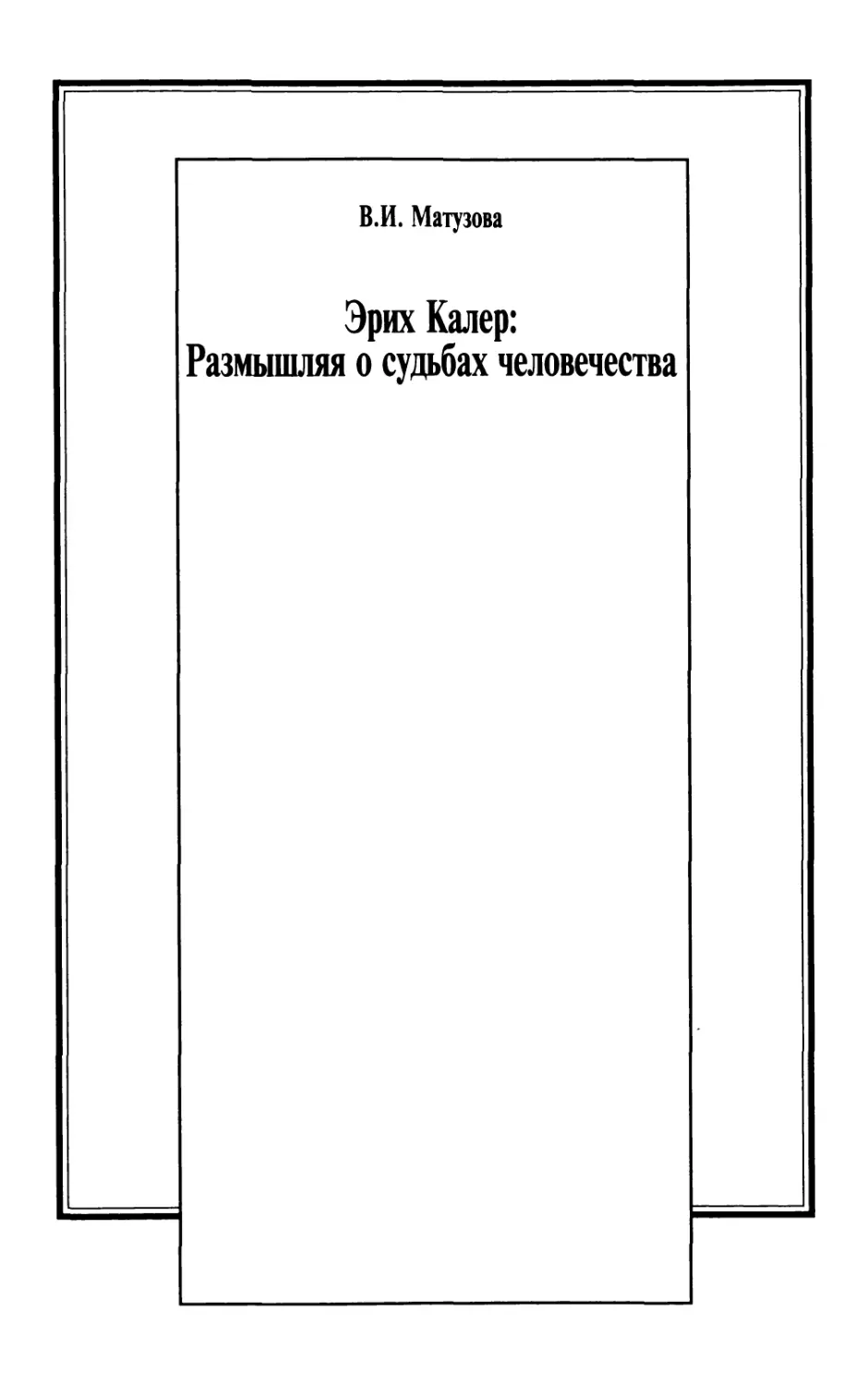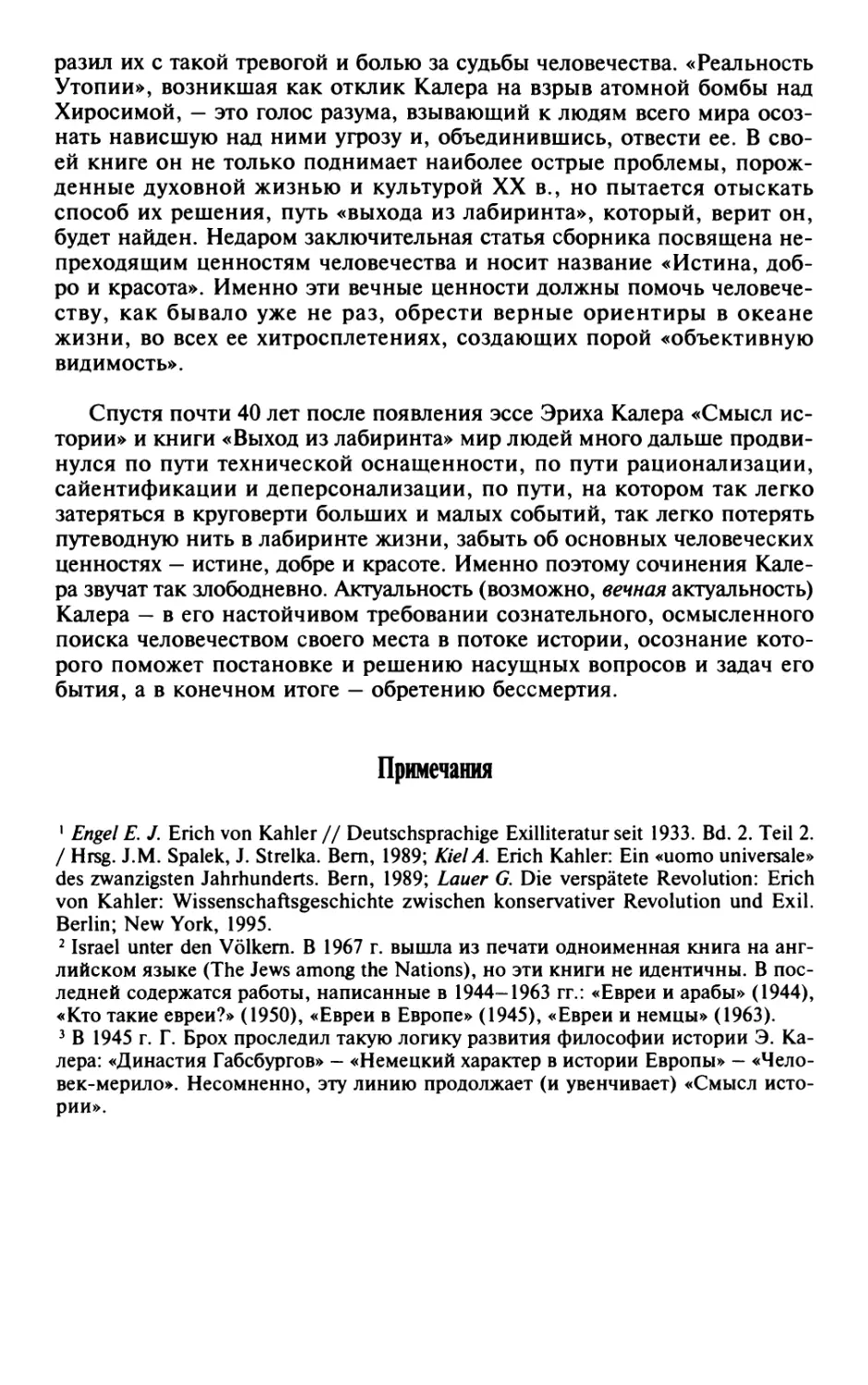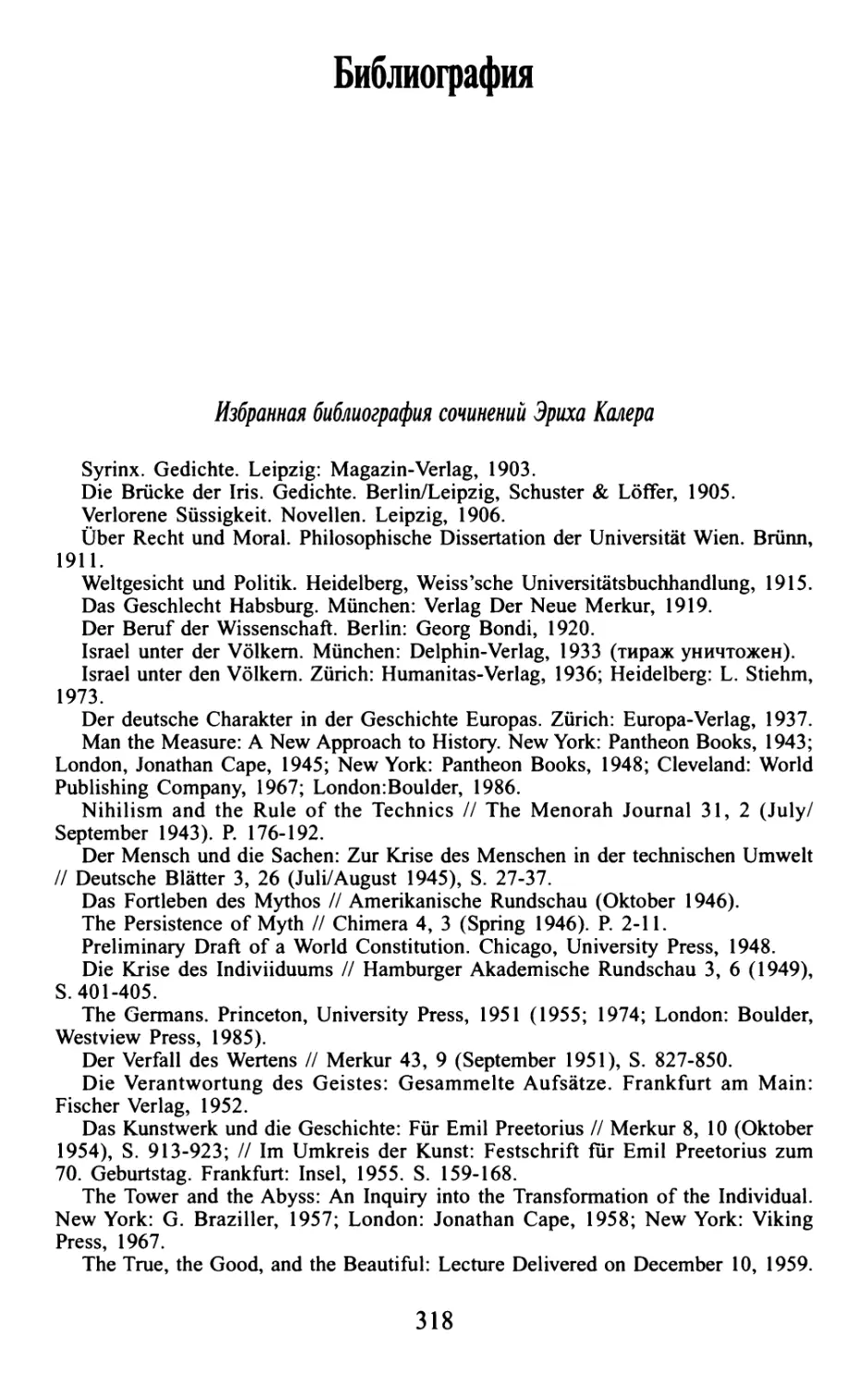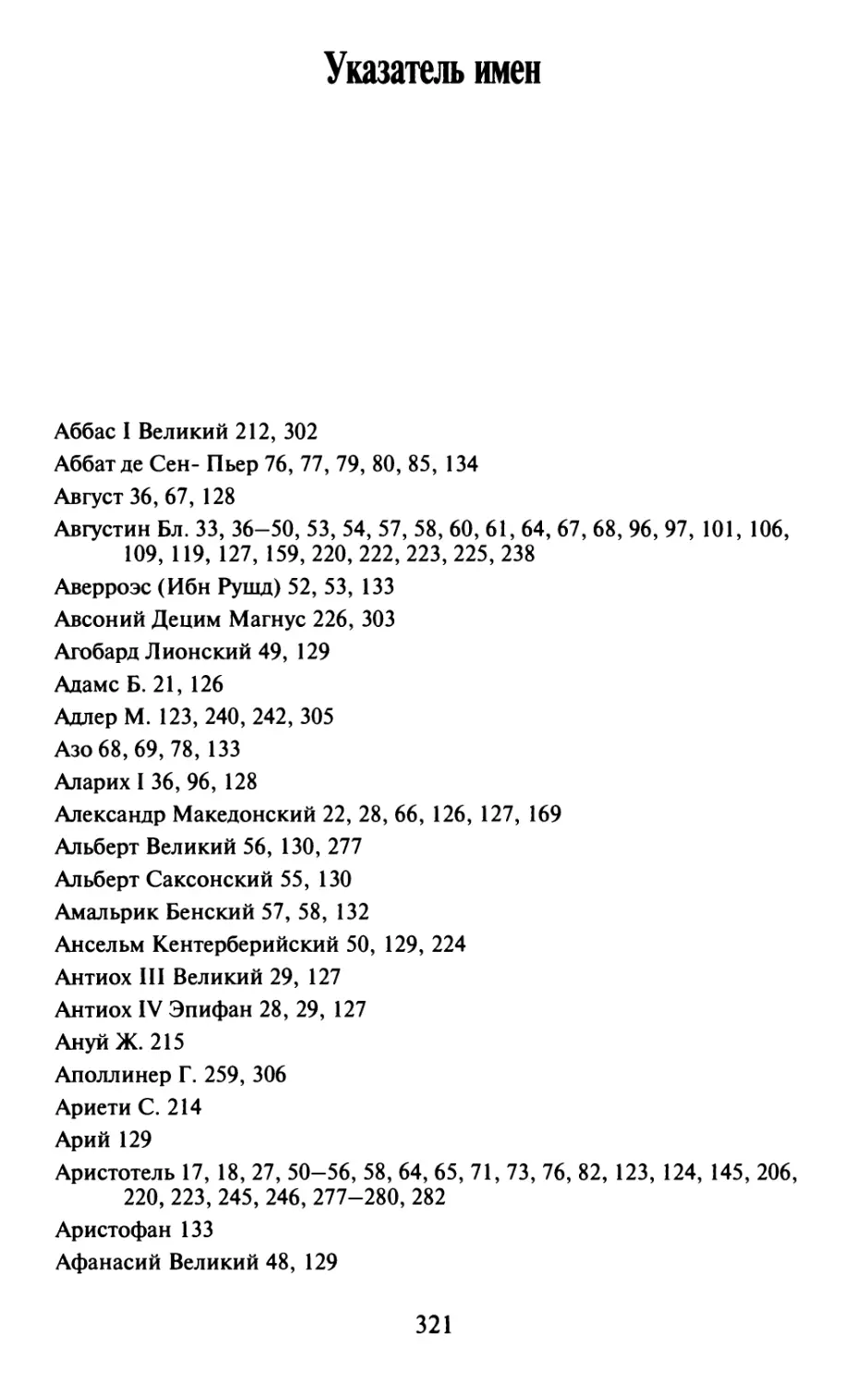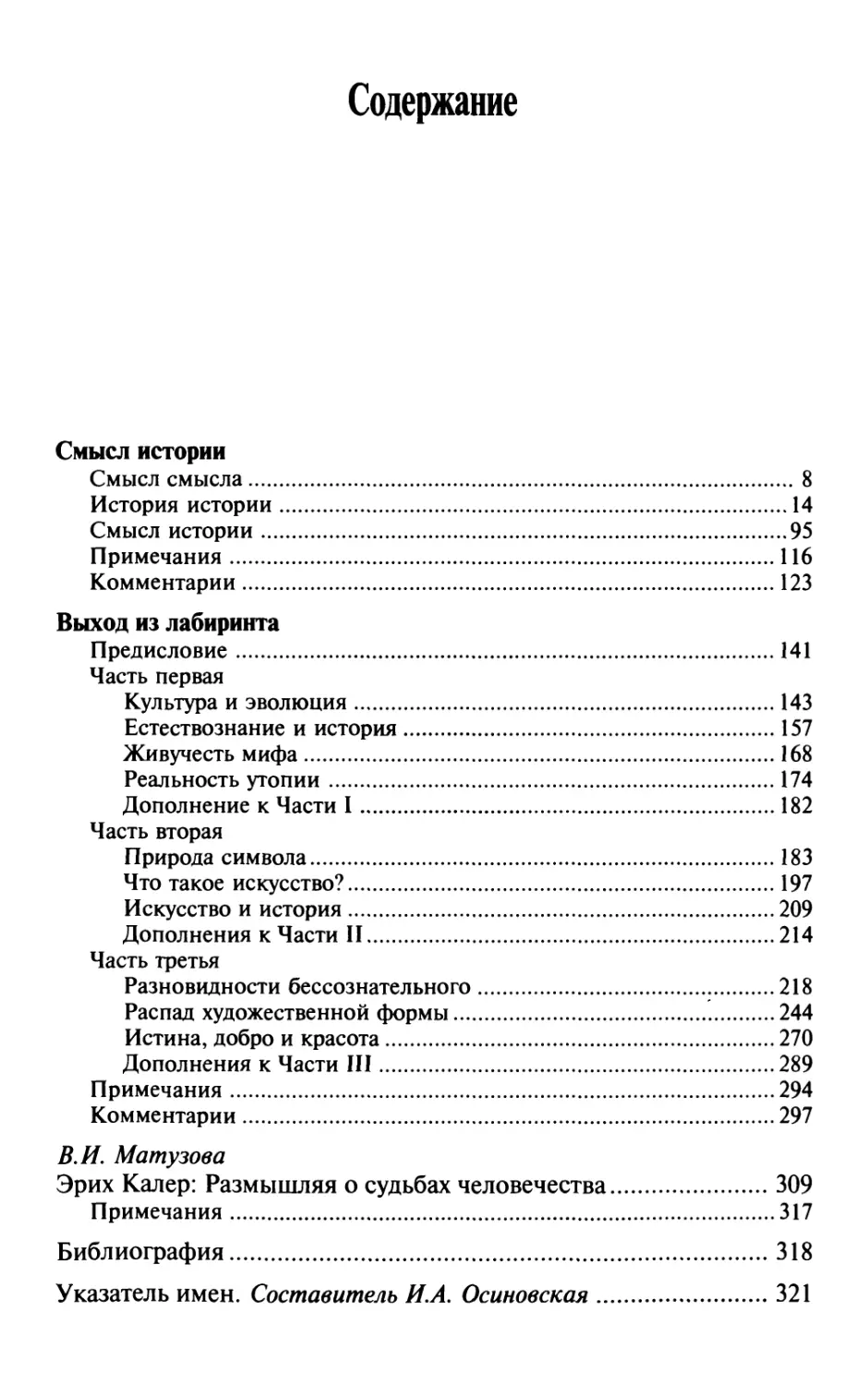Автор: Калер Э.
Теги: философия духа метафизика духовной жизни история философии история серия росспэн история как наука историософии историческая классификация
ISBN: 978-5-8243-0915-7
Год: 2008
Эрих
Калер
Избранное:
Выход
из лаоиринта
Erich Kahler
The Meaning of History
Out of the Labirynth. Essays in Clarification
Москва
РОССПЭН
2008
УДК 13(082.1)
ББК 87.3
Kl 7
Главный редактор и автор проекта «Книга света»
С.Я.Левит
Редакционная коллегия серии:
Л.В.Скворцов (председатель), Е.Н.Балашова, В.В.Бычков,
П.П.Гайденко, И.Л.Галинская, В.Д.Губин, Г.И.Зверева,
И.А.Осиновская, Ю.С.Пивоваров, Г.С.Померанц,
М.М.Скибицкий, А.К.Сорокин, П.В.Соснов
Перевод издания осуществлен при финансовой поддержке
Московского государственного института международных отношений
(ΜГИМО—Университет) МИД России в рамках Инновационной
образовательной программы «Формирование системы компетенций
для профессиональной деятельности в международной среде
в интересах укрепления позиций России»
Переводчик: В.И.Матузова
Редакторы: М.Л.Воскресенский, О.Р.(Щелокова) Газизова
Художник: П.П.Ефремов
Калер Э.
К17 Избранное: Выход из лабиринта / Эрих Калер; пер. с англ.
В.И.Матузова. — М: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2008. - 336 с. — (Книга света).
ISBN 978-5-8243-0915-7
Первая публикация на русском языке сочинений немецкого
историка, философа, социолога, искусствоведа, культуролога
Эриха Калера (1885—1970). В издание вошли его книги «Смысл
истории» (1964) и «Выход из лабиринта» (1967), которым, как и
всему творчеству Э.Калера, свойственна яркая гуманистическая
направленность. В них автор обращается к решению актуальных
проблем науки и культуры, политики и социологии, возникших
на протяжении XX в. и во многом до сих пор не утративших
своей остроты в силу их общечеловеческой значимости.
УДК 13(082.1)
ББК 87.3
ISBN 978-5-8243-0915-7 © С.Я.Левит, составление серии, 2008
© В.И.Матузова, составление тома, перевод
и послесловие, 2008
© Российская политическая энциклопедия, 2008
Смысл истории
Этой книге я думал предпослать посвящение:
"За и против моего друга Эрнста Г. Канторовича "
в память о нашей многолетней жаркой полемике,
лишь углубившей то чувство, которое мы
пронесли через всю жизнь. Он знал о форме этого
посвящения и не возражал против него, но так и не
увидел долгожданного подарка. Мне лишь остается с
прискорбием посвятить этот парадоксальный дар
его памяти.
Сентябрь 1963
Καθόλου μεν γάρ έμοιγε δοκοΰσιν οί
πεπεισμένοι διά τής κατά μέρος ιστορίας
μετρίως συνόψεσθαι τά όλα παραπλήσιόν
τι πάσχειν, ως άν εϊ τίνες έμψυχου καί
καλοΰ σώματος γεγονότος διερριμμένα τά
μέρη θεώμενοι νομίζοιεν ίκανώς αύτόπται
γίνεσθαι τής ενεργείας αύτοϋ σοϋ
ζώου και καλλονής. Εί γάρ τις αύτίκα μάλα
τυνιθείς καί τέλειον αϋθις άπεργασάμεος
τό ζώον τώ τ' είδει και τή τής ψυχής
εύπρεπρεπεία κάπειτα πάλιν έπιδεικνύοι τοίς
αύτοις έκεινοις, ταχέως άν οίμαι πάνιτας
αυτούς όμολογήσειν διότι και λίαν πολύ τι
τής αλήθειας άπελείποντο πρόσθεν και
παραπλήσιοι τοίς όνειρώττουσιν ήσαι.
(Вообще люди, надеющиеся приобрести из отдельных историй
понятие о целом, похожи, по моему мнению, на тех, которые при
виде разрозненных членов живого некогда и прекрасного тела
вообразили бы себе, что созерцают с надлежащей ясностью
жизненную силу и красоту живого существа. Если бы вдруг сложить эти
члены воедино и, восстановивши целое существо с присущею ему
при жизни формою и прелестью, показать снова тем же самым
людям, то, я думаю, все они скоро убедились бы, что раньше
были слишком далеки от истины и находились как бы во власти
сновидения.)
Полибий. Книга I, 4
...Гаііиге principale entraine аѵес eile tous les accidents
particuliers.
(...все частные причины зависят от некоторого всеобщего начала.)
Ш.Л. Монтескье
Размышления о причинах величия и падения римлян.
Ог, се temps veritable est, par nature, un continu. II est aussi
perpetuel changement. De l'antithese de ces deux attribute viennent
les grands problemes de la recherche historique.
L'incomprehension du present nait fatalement de Г ignorance du
passe. Mais il n'est peut-etre pas moins vain de s'epuiser ä
comprendre le passe si l'on ne sait rien du present ... Car le
fremissement de vie humaine, qu'il faudra tout un dur effort
d'imagination pour restituer aux vieux textes, est ici directement
perceptible ä nos sens.
(Это подлинное время - по природе своей некий континуум. Оно
также непрестанное изменение. Из антитезы этих двух атрибутов
возникают великие проблемы исторического исследования.
Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию
настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое,
если не представляешь настоящего... Ибо в ней, в современности,
непосредственно доступен чувствам трепет человеческой жизни,
для восстановления которого в старых текстах нам требуется
большое усилие воображения.)
Марк Блок.
Апология истории
Смысл смысла
ι
Зто эссе было задумано как апология истории. Без апологии не
обойтись, поскольку история или, точнее сказать, историческое
видение проблем и явлений были повсеместно
дискредитированы. Движение «Великие книги»1* — не единственное,
которое питает глубокую антипатию к исторической и
эволюционной позиции. Позитивизм2*, экзистенциализм3*, американская школа
чисто описательной антропологии4*, «новая критика»5* и особенно
распространенное в Европе философское течение, восходящее к Ницше6*, —
все они отвергают исторический подход. В сущности, как станет ясно из
последующего, в этой антиисторической тенденции отразилось общее
настроение эпохи.
Подобное отношение представляет не просто научный интерес; оно
оказывает глубинное воздействие на всю нашу культуру. Чтобы осознать
это, достаточно сопоставить периоды, когда люди неколебимо верили в
смысл истории (Средние века и эпоха Просвещения), с нашим
временем, когда эта вера основательно пошатнулась. И хотя в те времена люди
по природе своей были не лучше, чем теперь, а материальные условия их
жизни были, безусловно, неизмеримо хуже, но зато их вера в историю
как в путь к спасению или как в путь прогресса, ведущий по восходящей,
давала им прочную духовную установку, которая направляла и
оберегала умы тех эпох, служила человеку опорой и помогала ориентироваться
в жизни; с этой верой люди чувствовали себя духовно защищенными и,
не в меньшей степени, чувствовали себя и защитниками, несущими
ответственность за будущее всего человечества. Эта же вера не давала
человеку впасть в то состояние полной «незащищенности» (если вспомнить
выражение Карла Ясперса7*), которое и породило все интеллектуально
оправданные и технологически оснащенные ужасы нашего времени.
Невозможно ни возродить дух Средневековья, ни воскресить
наивный оптимизм эпохи Просвещения; невозможно вернуться и к
царившим в те времена историческим концепциям. Ни одна из пройденных
стадий неповторима. Меняются условия жизни, и новое положение
вещей неминуемо порождает новые мысли и устремления. Но раз уж
теперь находится под сомнением самый смысл истории, то нам предстоит
8
это сомнение разрешить, приняв во внимание весь накопленный
человечеством опыт мысли и действия.
Прежде всего следует разрешить то недоразумение, которому не чужд
даже такой утонченный мыслитель, как Р.Дж. Коллингвуд8*. В «Идее
истории» он пишет: «Каждый историк, как мне кажется, согласился бы с
тем, что история — это разновидность исследования или поиска»1.
История, возразил бы я, ни в коей мере не равнозначна историопи-
санию, или историческому исследованию; в противном случае не имело
бы смысла пользоваться этими устоявшимися терминами. Уже то, что
эти понятия существуют и что мы можем помышлять об «изучении
истории», со всей очевидностью свидетельствует: история — это само по
себе происшествие, а не его описание или исследование. Разумеется,
исторические концепции и их толкования сливаются с самой историей и
сами становятся событиями, которые влияют на историю, порождают
новую историю. Но историческая наука конституирует историю только
тогда, когда становится частью жизни, а не остается всего лишь
отвлеченной теоретической дисциплиной.
История — это происшествие, происшествие особого рода, а также
создаваемое им энергетическое поле. Где нет происшествия, там нет и
истории. Абсолютная вечность (насколько ее вообще можно
представить), совершенная неподвижность, в которой никогда и ничто не
меняется (а это и есть вакуум как таковой, чистая нирвана), не имеет истории.
И, напротив, абсолютная событийность, т. е. бесконечно хаотичное,
калейдоскопическое скопление случайных происшествий — эта мешанина
(melange) событий (что, с другой стороны, тоже нельзя представить,
потому что каждое событие так или иначе связано с другими) тоже не
создает историю. Чтобы стать историей, события прежде всего должны
быть взаимосвязаны, должны представлять собой цепь, непрерывный
поток. Последовательность и сопряженность — вот элементарные
предпосылки истории, да не только истории, но и простейшего рассказа.
Ни одно событие не существует само по себе: все они связаны друг с
другом — и с теми, которыми они были вызваны к жизни, и с теми,
которые вызовут к жизни они сами. Но сама по себе связь событий не
создаст и рассказа, не говоря уже об истории. Чтобы получился рассказ,
последовательность происшествий должна иметь некий субстрат, или
фокус — т. е. нечто такое, с чем эти происшествия соотносятся (или
кого-то, с кем они происходят). Именно это нечто или этот некто, на чем
или на ком замыкается цепь событий, — именно это придает обычной
последовательности событий особую, реальную сопряженность и делает
ее рассказом. Но эта особая сопряженность не существует сама по себе,
но создается умом, способным к восприятию и осмыслению. Она
возникает как концепция, т. е. как смысл. Итак, даже простой рассказ
складывается лишь при наличии трех условий: последовательность событий,
соотнесенность их с чем-то или с кем-то (а именно это и придает
событиям их особую сопряженность) и, наконец, умение их осмыслить,
т. е. воспринять эту сопряженность и создать концепцию, которая и
есть смысл. В этой книге я собираюсь доказать, что и сомневаться в
смысле истории, и искать его значит подменить посылку желательным
для себя выводом. Без смысла нет ни рассказа, ни истории.
9
Смысл означает постижение сопряженности, порядка, единства
разрозненных происшествий и феноменов, воспринимаемых осмысляющим
умом. Говоря, что нечто имеет смысл, мы подразумеваем, что оно
является частью чего-то большего или более существенного, что это — звено
или производное некоего связного целого и что оно указывает на нечто,
существующее вне него. Или, наоборот, это нечто само по себе есть
целое, есть некая сопряженность, части которой соотносятся и между
собой, и со всем целым. Такая согласованная умозрительная целостность,
такое представление о группе феноменов как о некоей сопряженности
делают эти факты явлениями иного уровня: это уже не просто
несогласованные друг с другом факты бытия, которые воспринимаются всего
лишь сенсорно: нет, теперь они уже могут быть четко осмыслены. Тем
самым в мире опять устанавливается и существует порядок, смысл, вновь
указующий на нечто вовне.
Когда мы говорим, что действие или событие имеет смысл, то
подразумеваем, что оно служит какой-то цели или объясняет какое-то иное
явление; это значит, что нечто совершается ради чего-то или ради кого-
то (например, ради денег, хотя это, конечно, самый низменный из
смыслов, или ради положения и влияния, ради семейного благосостояния,
ради любимого человека, ради общества, во имя человечества, или во
славу Божию). Когда мы говорим, что некоторые люди (например,
Линкольн9*, Эйнштейн10* или Ганди11*) являют нам особый смысл, то это
означает не только то, что эти люди посвятили свою жизнь общему благу,
но еще и то, что своей целеустремленностью, умением подчинить любое
свое действие одной главенствующей идее или целой системе идей они
явили жизнь как сопряженность, как идею, которая значима и для
других жизней, что они превратились в символ человеческой жизни, жизнь
стала знаком, т. е. «значимой».
Стало быть, смысл указывает на нечто выходящее за рамки чистого
существования, будь то задача и цель или форма. Следовательно,
можно различить два вида смысла: смысл как задача или цель и смысл как фор-
ма. Любое действие, замысел, поиск или исследование несет с собой
смысл как цель; а любое произведение искусства есть смысл как форма.
Из этого следует, что нечто обладает смыслом лишь для кого-то — для
осмысляющего человеческого ума2, который создает смысл в процессе
осмысления; тот, кто впервые улавливает смысл, создает нечто новое;
самим актом осмысления он меняет картину своего мира и (раз уж эта
картина подразумевает ответное изменение окружающего) меняет и свой
мир, реальность своего мира. Именно так и начинается история3.
Возьмем типично бессмысленный рассказ — «рассказ», который сам
по себе никогда бы не стал подлинным рассказом: тривиальный случай,
который интересен только репортеру, профессия которого описывать
происшествия, да людям, принимавшим в нем непосредственное
участие. Один человек ссорится с женой, уходит из дому и, ослепленный
эмоциями, переходит улицу, не замечая несущегося на него автомобиля,
водитель которого, чтобы не наехать на него, резко сворачивает,
выезжает на тротуар, и машина насмерть сбивает прохожего. Такое стечение
обстоятельств кажется в высшей степени бессмысленным: три
совершенно не знакомых друг другу человека связаны простым «случаем». И тем
10
не менее они связаны жесткой причинностью, из чего следует, что сама
по себе причинность еще не создает смысла: она может только указать на
некий смысл, но в этом она чисто функциональна.
Такое стечение обстоятельств обрело бы смысл, только если принять
во внимание его предпосылки и следствия, если учесть отношения
рассеянного пешехода и его жены, если знать, какой была жизнь
погибшего, и если принять в расчет иррациональное чувство вины, овладевшее
всеми оставшимися в живых, и то, как это происшествие сказалось на их
психическом здоровье. То, что для всех четверых оставалось бы
случайностью, таким образом поднялось бы до уровня, лежащего за пределами
участия этих людей и уже не относилось бы только к этим участникам,
и мы смогли бы осмыслить таинственное переплетение судеб как части
всемирной сети судьбы, в которой все мы действуем, даже и не
подозревая об этом. Если бы какой-нибудь писатель взглянул на данное
событие с такой выигрышной точки зрения, то, придав ему смысл (или хотя
бы пробиваясь к нему), превратил бы его в рассказ.
И правда, есть один писатель, который именно это и сделал, — Торн-
тон Уайлдер12* в повести «Мост короля Людовика Святого». Ее первая
часть под названием «Возможно — случайность» начинается
сообщением о следующем происшествии: «В полдень в пятницу 20 июля 1714 года
рухнул самый красивый мост в Перу и сбросил в пропасть пятерых
путников». Свидетелем этого несчастного случая был монах, брат Юнипер,
который за минуту до происшествия остановился у моста, отер пот со лба
и погрузился в приятные размышления о поразительных успехах его
миссионерской деятельности. Торнтон Уайлдер заставляет его задать
этот важный вопрос: «Почему именно эти пятеро?» Вникнув в судьбу
каждого из пятерых, брат Юнипер приходит к выводу, что все они
(каждый по-своему) одновременно подошли к концу своей внутренней
жизни как раз перед свершившимся. Такое стечение обстоятельств —
конечно, крайность, но оно наглядно показывает, как чистая случайность
становится рассказом, — просто потому, что в ней пытаются найти
смысл. Вполне возможно, что все мы, сами того не подозревая,
являемся деятельными участниками какого-то обширного и динамически
увязанного плана; точно так же клетка, будучи частью организма, не
осознает, что входит в его состав.
Как бы то ни было, но бессмысленность, нонсенс возникает всякий
раз, когда нам отказывает наша способность понимания, когда мы
достигаем предела наших возможностей, всякий раз, когда.мы блуждаем
впотьмах или совершаем ошибки, когда жизненные силы покидают нас.
И наоборот, всякий раз, когда мы пытаемся уловить сопряженность
между отдельными частями, когда постигаем смысл, он придает нам
силы: это своего рода волшебство — волшебство самой жизни.
Поскольку исполненная смысла сопряженность требует для своего
постижения осмысляющего ума, то история может совершаться и
развиваться только в связи с сознанием. По мере того как человек осознает
сопряженность своих поступков и всего, что с ним происходит, он
придает смысл этой сопряженности и превращает ее в историю. Именно так он
творит историю не только теоретически, как концепцию, но и
практически, как реальность: стоит только возникнуть концепции, как она на-
11
чинает влиять на реальный мир и изменять его. Она сливается с
реальностью, становится ее частью, и люди постепенно начинают действовать
в соответствии с этой новой концепцией. Концепция продолжает
оказывать свое воздействие, а из измененной концепцией реальности
возникает еще более совершенное понимание сопряженности, т.е. все больше
сознания, которое, в свою очередь, преобразует действительность. Таким
образом, история предстает как все ширящийся процесс
взаимотворчества осмысления и материальной действительности.
Отсюда вывод: у растительного и животного мира нет иной истории,
кроме той, которую дарует им человек по мере расширения масштаба
своих знаний. У животных нет истории, потому что нет сознательной
памяти, нет самосознания. Память у животных исключительно латентна,
т.е. она пробуждается случайно, внешними раздражителями и их
ассоциациями; ей никогда не стать устойчивым, постоянно проявляющим себя
свойством, не стать тем континуумом эмоций, мыслей и действий,
который конституирует собственную идентичность. Такое сознание
внутренней сопряженности, собственной идентичности есть первое,
рудиментарное понятие, а без него нет и понятия идентичности общности или
коллектива — этой предпосылки истории.
Итак, история берет начало в человеке. Но и среди людей есть ли
история у отдельно взятого рядового человека? Мы назвали бы это иначе —
не история, а «жизненный путь». Даже биографию мы жалуем только
избранным личностям общечеловеческого масштаба, «историческим»
личностям, судьбы которых имеют значение для их народа или для всего
человечества. Или, говоря об «истории дела», мы подразумеваем, что некая
цепь личных событий имела важное, общечеловеческое значение в
области медицины или социологии. Следовательно, история начинается в
сфере сверхиндивидуальной или, вернее, сверхчастной, т. е. на уровне
групп, учреждений, народов. Когда же мы употребляем понятие
«история» во всей полноте его смысла, без всяких оговорок, то имеем в виду
историю человечества.
Значит, чем больше смысла обретает поток событий, тем в большей
степени он становится историей. Или, под другим углом зрения: история
развивается по мере расширения и углубления смысла происходящего,
т. е. по мере расширения сознания, способности постигать логические
связи, определять идентичность общности или коллектива. Смысл,
осмысленная сопряженность, связывает сменяющие друг друга случайные
и фрагментарные события в рассказ. Смысл как понятие
сопряженности личной судьбы превращает совокупность фактов в биографию.
Смысл, будь то цель или органичная форма, гармонизирует хаос будто
бы бессмысленных устремлений, усилий, побед и поражений и делает его
уникальной историей того или иного народа или историей человечества.
Поэтому отрицать, что история имеет смысл, значит отрицать саму
историю.
Вообще говоря, сомнения в «смысле истории» были порождены не
так давно распространившимся неверным употреблением понятия
«история». История стала обозначать совокупность всего, что известно о
прошлом человечества, тогда как история в собственном значении
этого слова (а в этом мы убедились и еще убедимся в дальнейшем) никоим
12
образом не сводится к прошлому; прошлое даже не является ее
основной характеристикой. История - вовсе не собрание омертвевших
событий и не музей неодушевленных предметов. История - это живой
организм; она всегда с нами, всегда в нас — в каждый миг нашей жизни. Не
только сведущий человек, но любой, что бы он ни делал, постоянно
участвует в истории. В его внутреннем мире жив архетип истории. В его
внешней жизни (политической, экономической, технологической,
когда он голосует, заключает контракт, едет в машине или смотрит
телевизор) он все время имеет дело с исторически укоренившимися
понятиями и установлениями. Человек не может ни действовать, ни строить
планы, если у него нет прочной основы памяти о прожитой жизни, т. е.
сознания своей идентичности, но, кроме того, в современном обществе
ему не прожить без субстрата коллективной памяти, без того чувства
национальной или человеческой идентичности, которое и есть история.
История истории
1
Понятийный анализ показал, что история предполагает понятие
идентичности13*, причастности к национальному или общечеловеческому.
Понятие идентичности a limine* не позволяет представить, чтобы история
была всего лишь беспорядочным, хаотичным нагромождением событий,
конфликтов, взлетов и падений, которые люди наполнили своими
мечтами и иллюзиями. Идентичность предполагает наличие непрерывности,
сопряженности и формы.
Но чтобы убедиться в этом, подойдем к вопросу с другой стороны.
Попробуем истолковать феномен истории на языке самой истории, как
историю истории. Посмотрим, как развивалась история (ее концепция и
она сама как реальность) и как она ныне пришла в упадок.
Развитие концепции истории отражает развитие сознания и
самосознания. Сознание младенца мало чем отличается от сознания животного:
у ребенка еще нет ни оформившейся идентичности, ни сопряженности
личной жизни; он, как и животное, пребывает в вечном настоящем.
Следовательно, ему не дано чувство изменения: он просто отказывается
воспринимать изменения, коль скоро они доставляют ему беспокойство,
врываясь в привычный ему мир. Дети не могут без режима, без прочной,
устойчивой основы существования, которую им обеспечивают семья и
родители. Конечно, они любопытны, безмерно любопытны, стремясь
овладеть предметами, элементами их мира, и мало-помалу понять, как
все это взаимодействует. Но это освоение должно происходить на
основе полной нормы. Лишь крохотными шажками, пробами они постигают
событие, реальность изменений. И только на опыте изменений они
могут преодолеть расстояние, отделяющее их от самих себя; только так и
может сформироваться эго.
Детство человечества как рода необыкновенно схоже с детством
любого индивидуума, как подтверждено трудами многочисленных
путешественников XIX в., которым удалось по-новому взглянуть на жизнь
аборигенов. И взгляд этот оказался более свежим и менее догматическим,
чем воззрения современных антропологов. Причина не только в том, что
* С порога, сразу (лат.).
14
тогда еще встречались туземцы, совершенно или почти не затронутые
цивилизацией (или, по крайней мере, они не были так уязвимы для
внешних влияний, не так страдали от эксплуатации и не так подвергались
опросам), но и в том, что над самими путешественниками не тяготели
социологические и психологические шаблоны нашего времени. В
современной антропологии возникает проблема, аналогичная существующей
в физике: наблюдаемое явление изменяется под воздействием самого
наблюдения.
Некоторые черты, общие для туземцев, детей и животных, наводят на
мысль, что человек на ранней стадии своего развития тоже жил в
неизменном мире. В состоянии «сопричастия» (так замечательно описанном
и богато документированном Люсьеном Леви-Брюлем1 14*) некоторые из
этих туземных племен ощущали себя живущими среди демонизирован-
ных природных явлений, животных и растений: люди постоянно
взаимодействовали с окружающим миром. Едва ли вообще существовала
разница между сном и бодрствованием, между видом и индивидуумом, между
прошлым и настоящим, между существованием человека и
существованием животного; разные формы существования запросто
трансформировались, преобразуясь одна в другую. Изменение, воспринимаемое как
постоянный обмен, вечно и вездесуще; оно равнозначно постоянству.
Настоящее совпадает с вечностью. И только когда исчезли демонические
силы, превратившись в божества, - только тогда стал заметен контраст
между изменением и постоянством.
То, что такое состояние всеобщего сопричастия, которое преобладало
у туземцев-аборигенов, соответствует состоянию доисторического
человека, тем более вероятно, что его следы остались в древних мифах, культах
и представлениях исторических народов. Мифы даже в древнейшие
времена не только воспринимаются как реальность, но они едины с
существующей реальностью и продолжают оказывать свое действие на
человеческую жизнь. Там, где миф жив, люди проживают свои мифы, постоянно
воспроизводя образцы незапамятного прошлого. Предки отождествляются
с потомками, прошлое и настоящее сливаются воедино, время
сжимается в неизбывное мгновение. Примером такой подражательной жизни,
такого «движения по следу» выступает у Томаса Манна Елиезер15*, учитель
Иосифа: «Ибо в нем время исчезло, и все Елиезеры прошлого
соединились в облике Елиезера настоящего, и потому он, будучи уже совсем иным
человеком, говорит от лица того Елиезера, который был слугой Авраама»2.
Разумеется, у аборигенов существует рудиментарная форма племенной
идентичности. Но подобное ощущение родовой идентичности не многим
отличается от ощущения физической общности животных. Оно не
поднимается до отчетливо понятийного уровня. В жизни аборигенов, как и в
мифологии, понятие и реальность едины.
Среди великих мировых культур одна только наша западная
цивилизация смогла создать собственно историю, эксплицитно и отчетливо
выраженную человеческую историю. Культурам Дальнего Востока это не
удалось, потому что до сравнительно недавнего времени они «задержались»
(по выражению Тойнби16*) на религиозной стадии, т.е. в таком состоянии,
когда жизнь наполнена неподвижным абсолютом, и это мешает осознать
глубинные изменения.
15
2
В рамках западноевропейской цивилизации первым народом, на опыте
познавшим всю неотвратимость и все треволнения, которые нес с собой
феномен изменения, были древние греки. Даже их олимпийские боги
своей непрестанной враждой, интригами и вмешательством в земные дела
являют свойственное им непостоянство и уязвимость. Патетические
дилеммы, проистекавшие из двусмысленного или даже противоречивого
влияния божественных сил, нашли свое отражение в древнегреческой
трагедии. Против этой сомнительной стабильности восстает
древнегреческая философия, доминантную тему которой можно было бы
истолковать как попытку примирить реальность изменений с не менее реальным
постоянством космической материи и космического порядка. Долгие,
напряженные усилия преодолеть этот раскол привели к тому, что
начало вырабатываться логическое мышление, что в конце концов
завершилось кристаллизацией саморефлектирующего ума, присущего
человеческому роду эго. Но даже впервые осознав изменение, греки все же не
смогли (и в этом заключается парадокс) лишить его элемента
постоянства: для них изменение по-прежнему оставалось только обманом чувств.
Именно поэтому древнегреческая мысль, диаметрально
противоположная воззрениям современной позитивистской науки, не доверяла
чувствам, как свидетелям последней инстанции. Изменения
воспринимались ими как приливы и отливы на неподвижной поверхности, как
вечные чередования одних и тех же фаз, ситуаций и процессов.
Изменение по-прежнему носило характер размеренный и вечный.
Первое яркое выражение ощущения перемен принадлежит
Гераклиту17*: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды; на входящего в одну и
ту же реку текут все новые и новые волны»3. Однако эта сентенция
выражает его взгляды лишь отчасти. Ее следует дополнить и другим
положением: «В одну и ту же реку мы входим и выходим»4. Вообще,
кажется, Гераклит представлял себе космос как coincidentia oppositorum\ как
основополагающую субстанцию, как бы растворенную в многообразии,
изменчивости и вечно стремящуюся к воссоединению в одном
элементе: «Она рассеивает и снова собирает; она приближается и удаляется»5. А
еще Гераклит говорил: «Они не понимают, как расходящееся само с
собой согласуется: возвращающаяся (к себе) гармония (harmonia)...»6
В подобных высказываниях впервые отразилась та глубокая и,
пожалуй, даже бесспорная истина, которая в определенном смысле не
устарела и по сей день. И все же приходится учитывать то время и те
обстоятельства, когда и где слово было произнесено, ибо не безразлично, сказано ли
это слово в VI в. до н. э. или в XX в. н. э., — время меняет самый аспект
высказывания. Именно это и подтверждено приведенными словами
Гераклита: в его устах они звучат свидетельством того, что даже он, самый
революционный из досократовых мыслителей18*, еще не понимал
глубинной сути изменения - изменения как неповторимого процесса, который
сначала надо было испытать на себе, а уж потом выразить этот опыт -
только тогда он может войти в силу. Для Гераклита изменение, движение,
* Совпадение противоположностей (лат.).
16
борьба, даже если они и очевидны, все же сами по себе остаются
неизменными, как если бы под этим подразумевалось возникновение явлений из
все порождающей огненной субстанции, в которую они, в конце концов,
возвращаются и из которой воссоздаются. Движение все еще оставалось
чреватым изначальной неподвижностью7.
Если Гераклит стоял в начале древнегреческой философии, то,
завершая этап эллинской классики, ее достижения подытожил Аристотель19*.
Он вместе со Спевсиппом20*, главой древнейшей академии, стал
подлинным родоначальником идеи эволюции, которая, по сути, является
средоточием его метафизики. Для Платона21* все эмпирические субстанции
(и даже сам человек) все еще оставались проекциями вечного царства
абсолютных Идей, а то, что мы теперь называем реальностью, было для
него не больше чем их теневыми отражениями. Аристотель допускал, что
всякое живое существо несет в своем развитии собственную Идею,
которую оно воплощает и, по ходу жизни, наполняет смыслом. Идея для
Аристотеля — это сама движущая сила и в то же время — конечная цель,
организующий принцип (entelechy) развивающегося существа.
Следовательно, Идея, включенная в жизненное движение, обрела в концепции
Аристотеля динамизм, как и сама жизнь. И все-таки даже при этом
Аристотелева Идея по-прежнему пребывала в вечной сфере божественного,
нисходя оттуда, из этого царства абсолюта: прикосновение божества
приводит жизнь в движение. Для Аристотеля различные уровни живой
природы (растения, животные, человек) были последовательными стадиями
эволюции, хотя эволюционность мыслилась лишь в теоретическом,
квазистатическом смысле; иными словами, для него одна стадия остается
лишь сущностной посылкой другой, но он и подумать не мог о
действительном преобразовании одной в другую. Целое, божественное, первично
по отношению к его частям, и каждое живое существо созидается
отдельно, новым прикосновением божества. Следовательно, по Аристотелю, у
человечества нет ни начала, ни конца, но, проходя через
повторяющиеся катастрофы, цивилизация исчезает с лица земли и должна
создаваться заново.
Итак, даже эта продуманная концепция эволюции оставалась
прочно связанной с абсолютом. Речь шла не об отдельном происшествии, но
о законе вечно повторяющегося процесса. Разумеется, сам поток бытия,
которое мыслилось Гераклитом в образе стихийно набегающих волн,
обрел для Аристотеля вид длительных, ритмически повторяющихся
приливов и отливов, но жизнь человечества по-прежнему подобна волнам,
набегающим на гладь вечности.
Иначе и быть не могло, ибо греки (по крайней мере пока они
оставались эллинами) не могли составить четкого понятия о человечестве как
таковом и о его жизненном пути — т. е. об истории в собственном смысле
слова. Правда, во время Пелопонесских войн22*, в этот кульминационный
и критический момент древнегреческой истории, софисты23*, делавшие
упор на естественный, а не на институциональный закон (physis против
nomos), вынуждены были допустить, что изначально люди были равны,
а в физиологических трактатах, приписываемых Гиппократу24* (он, по
всей вероятности, был учеником софистов Продика25* и Горгия26*),
делается вывод, что своим разнообразием народы обязаны климатическим
17
различиям. Однако эти взгляды в древнегреческой ментальности не
прижились. Поэтому афиняне, хотя и были подлинными родоначальниками
демократии, даже и не помышляли об упразднении рабства как
такового, и даже самые возвышенные умы — Сократ, Платон и Аристотель8 и
поэты-трагики - были далеки от подобной мысли. Причина в том, что
греки очень долго не испытывали влияния всемирных (в широком
смысле этого слова) событий. У них был заклятый враг, персы, которым не
отводилось места в принятой у греков системе ценностей и которые, как
и все прочие народы, считались людьми низшего сорта, дикарями,
«варварами» (или в изначальном смысле «заиками» — теми, кто издает
непонятные, птичьи, собачьи, примитивные звуки). Человек в полном
смысле этого слова (свободный, культурный, мыслящий человек) все еще
отождествлялся с эллином.
Поэтому их собственный жизненный опыт сводился к внутренним
делам, размеренный ход жизни нарушался лишь войнами с персами и
вторжениями врагов, а конец ему положило римское завоевание.
Однако события внутри страны воспринимались греками с необыкновенной
остротой. Столкновения с ордами персов и деспотов только обострили
присущее им чувство эллинской, панэллинской идентичности и
вынудили их осознать происходящие перемены. Так было положено начало
политической историографии, задуманной как описание фактов в отличие
от мифографии и космогонии27*.
Характерно, что греческое слово historia означало «физическое
исследование». Первые ионийские путешественники (а особенно Гекатей1**,
ок. 500 г. до н. э., первым сконцентрировавший внимание на
необитаемой земле как на особом предмете исследования, а чуть позже —
Геродот29*, «отец истории») все еще разбавляли географию и этнографию
рассказами о приключениях в заморских странах. В этом, изначальном,
значении слова historia представляется разновидностью историографии,
которую современные ученые не прочь назвать научной, особенно если
это касается Фукидида30* (V в. до н. э.), в чьих трудах древнегреческая
историография достигла полной зрелости. Видимость научности ей придает
не только стремление к достоверности (далеко не всегда надежной), но
и незыблемое представление о стабильном, абсолютном, естественном
порядке вещей, об упорядоченности и предсказуемости повторяющихся
событий. Фукидид верил и в то, что процессы человеческой жизни
вечно повторяются, он был убежден в изначальной стабильности условий
человеческого существования и потому стремился вывести из истории
раз и навсегда данные причинно-следственные связи и общие законы
человеческого поведения. Однако этот квазинаучный взгляд древних
греков на историю, проявившийся и в Политике Аристотеля, не имеет
ничего общего с воззрениями современной нам «исторической науки»,
которая складывалась под мощным влиянием естественных наук. Греки
еще не стремились к знанию просто ради знания и не искали в нем
никакой практической выгоды в области хозяйства и техники. Их не
интересовали ни бессмысленное накопление фактов, которое принято в
наших исторических и общественных науках, ни, с другой стороны,
теоретический прагматизм, собирание данных про запас на будущее, -
даже при необходимости их вряд ли можно будет отыскать в бесчислен-
18
ных картотеках, битком набитых разрозненными сведениями.
Исторические изыскания древних греков были прагматичны, но совсем в
другом смысле: грекам нужно было знание, чтобы жить правильно; знание
находилось в тесной связи с действием, да и само оно было частью
действия. А жить и поступать правильно далеко не всегда означало добиваться
успеха. Жить правильно — значило жить в соответствии с порядком
мироздания, а исследование (как эмпирическое, так и умозрительное) было,
следовательно, прежде всего поиском смысла порядка мироздания.
Смысл был не конечной целью (ибо в вечном круговороте событий цель
человеческой жизни просто непостижима), но подразумевал
существование чего-то изначального, неизменного. От предшественников Сократа
и до стоиков стимулом к исследованию был поиск смысла того порядка
мироздания, которому должен был подчиняться и человек.
История для Геродота (равно как и для Фукидида) была живым,
личным опытом. Грозные битвы персидских войн служили ему
напоминанием об изначальной и извечной вражде между эллинским и варварским
мирами, а из его сочинений, которые по своему жанру представляли
собой разнохарактерные путевые заметки (periegesis), типичные для
путешественников того времени, проглядывает первая робкая попытка
уловить более широкие логические связи. Во время Пелопонесских войн
Фукидид командовал флотом, и опыт битвы между эллинами за
гегемонию (в его подаче это нечто вроде Первой мировой войны) заставил его
запечатлеть события, из которых он хотел извлечь урок ведения
грядущих войн.
Расхождение между сверхъестественным предначертанием жизни
человека и его попытками к самоутверждению все чаще становилось
средоточием древнегреческой трагедии, философии и историографии,
последствия чего более парадоксальны для историков, чем для творцов
трагедий. Постоянное возвращение на круги своя кажется неизбежным;
оно берет начало в том неизбывном чувстве вины, которое
пронизывает собой все человеческое существование и которое должна постоянно
искупать Немесида9 31\ (Из всех происходящих на земле изменений
Геродота особенно занимают непостоянство судьбы, взлеты и падения
сильных мира сего.) Но если в трагедиях изображается тщетность
человеческого бунта против воли богов и силы судьбы, то события (на
первый взгляд неотвратимые) побуждают историков выводить из них
правила поведения.
Те же особенности эллинского миросозерцания наблюдаются и у По-
либияп\ третьего из родоначальников древнегреческой историографии.
Правда, тематика его исторических повествований стала более широкой,
что и заставило Полибия сделать шаг вперед по сравнению с его
предшественниками. Его жизнь совпала с кульминационным моментом в
истории эллинов: он был свидетелем глубочайшего кризиса, пережитого его
народом, - Греция была завоевана римлянами, что было началом
римского мирового господства. Сам Полибий был деятельным участником
тех событий: политик и эпарх (hipparchos)33', он стремился сохранить
независимость Ахейского союза34* и оградить его от ширящегося римского
влияния. Он прибыл в Рим заложником, но разумность и действенность
римских учреждений произвели на него столь глубокое впечатление, что
19
он резко изменил свою позицию, хотя и продолжал трудиться ради
прежних целей. Друг и советник Сципиона Эмилиана35*, Полибий
сражался вместе с ним в Третьей Пунической войне36*, а после того как Коринф
был завоеван римлянами, посредничал в отношениях между родной
Грецией и Римом, пытаясь не допустить разрушений и примирить своих
соотечественников с неизбежностью римского владычества. По его
мнению, падение Эллады становится славным возвышением Рима, к
которому, кажется, вели все события в мире. Таков был главный урок
всей жизни Полибия, который он собирался запечатлеть в своем
историческом труде и который привел его к выводу, превосходившему все
исторические концепции его предшественников. «Раньше, — пишет он, —
события на земле совершались как бы разрозненно, ибо каждое из них
имело свое особое место, особые цели и конец. Начиная же с этого
времени [140-я олимпиада, т. е. 220—216 гг. до н. э.] история становится как
бы одним целым [sömatoeide, во плоти], события Италии и Ливии
переплетаются с азиатскими и эллинскими, и все сводится к одному концу»10.
Полибий также безоговорочно признавал Римскую империю (даже на той,
еще ранней, стадии) как первое поистине мировое владычество: «Сколь
необычен и важен предмет нашего сочинения, яснее всего можно видеть,
если сопоставить и сличить с римским владычеством знаменитейшие
державы прежнего времени... Так, некогда велики были владения и
могущество персов; но всякий раз, когда персы дерзали переступить пределы
Азии, они подвергали опасности не только свое владычество, но и самое
существование... Владычество македонян в Европе обнимало
пространство от побережья Адриатики до реки Истра37*, что составляет весьма
большую долю этой страны; впоследствии, сокрушив мощь персов, они
приобрели и власть над Азией. Как по-видимому ни далеко простиралась их
власть и как ни была она обширна, все же македоняне не коснулись
большей части известного тогда мира... Между тем римляне покорили своей
власти почти весь известный мир, а не какие-либо части его»11.
Наблюдая за тем, как конвергируют и повсеместно устремляются к
одному пределу события в мире, Полибий создал пространную
историческую концепцию, новизну которой он сам сознавал и ею гордился:
«Особенность нашей истории и достойная удивления черта нашего
времени состоят в следующем: почти все события мира Судьба (tyche)
направила насильственно в одну сторону и подчинила их одной и той же
цели; согласно с этим и нам подобает представить читателям в едином
обозрении (hypo mian synopsin) те пути, какими судьба осуществила
великое дело. Это обстоятельство больше всякого другого побуждает и
поощряет нас к нашему предприятию... Теперь я вижу, что весьма многие
историки описали отдельные войны и некоторые сопровождавшие их
события. Но насколько по крайней мере нам известно, никто даже не
пытался исследовать, когда и как началось объединение и устроение всего
мира, а равно и то, какими путями осуществилось это дело. Вот почему
мне казалось настоятельно необходимым восполнить недостаток и не
оставить без рассмотрения прекраснейшее и вместе благотворнейшее
деяние судьбы... Неужели кто-нибудь, посетивши один за другим
знаменитейшие города или поглядевши на разрозненные изображения их, может
рассчитывать, что тут же получит представление и о виде всей обитаемой
20
земли, об общем ее положении и устроении?.. Вообще люди,
надеющиеся приобрести из отдельных историй понятие о целом, похожи, по моему
мнению, на тех, которые при виде разрозненных членов живого некогда
и прекрасного тела вообразили бы себе, что созерцают с надлежащей
ясностью жизненную силу и красоту живого существа. Если бы вдруг
сложить эти члены воедино и, восстановивши целое существо с присущею
ему при жизни [букв.: душа, tes psyches euprepeia] формою и прелестью,
показать снова тем же самым людям, то, я думаю, все они скоро
убедились бы, что раньше были слишком далеки от истины и находились как
бы во власти сновидения»12.
В этом эпохальном высказывании, отражающем его глубокий
жизненный опыт, Полибий выявил основополагающую истину, которая и
теперь так же верна, как и в те времена. Именно он впервые уловил всю
органичность и динамическую целостность исторического процесса.
Полибия считают (да он и сам считал себя) родоначальником всемирной
«кафолической» истории — historia koine, katholike. В ретроспективе его
заслуги представляются несколько завышенными, потому что его
предметом был не человек как таковой и не человеческий мир как
возвышающееся над частностями целое, но скорее лишь своеобразная общность
народов римского мира, который был для Полибия кульминацией всей
предшествующей истории. И тем не менее он создал широчайшую
концепцию исторической сопряженности, какую только можно было
создать в то время и в том мире, а ошеломляющий опыт римской
экспансии пробудил в нем первое смутное представление о неповторимости
исторического события, хотя он и оставался в плену традиционных
цикличных воззрений.
То было самым развитым из всех тогдашних (не только греческих, но
и римских) представлений об истории: сложилось понятие настоящего как
итога всего того, что было прежде. История (как концепция и как
реальность) предстала у греков как сопряженное развитие этнической
общности; но то была история лишь в узком смысле — история, которая
сводилась к судьбам отдельного народа. Они не имели представления о всеобщей
истории — т. е. об истории как о едином и единственном, о неповторимом
и необратимом потоке событий, вбирающем в себя судьбы отдельных
народов, — об истории как жизненном пути человечества. Изменения и
преобразования представлялись в виде периодически повторяющегося цикла,
который ритмично отражает размеренный порядок мироздания — это
«движущееся подобие вечности... образ, который мы назвали временем»13.
Настоящее представлялось временем упадка (по сравнению с мифическим
золотым веком) или, по Полибию, завершением и конвергенцией
предшествующих событий. Итак, феки предельно выразили смысл истории как
формы. Их мировидение дало начало одному из основных течений
исторической мысли — тем теориям, которые или следуют за античной
традицией, или же обращаются к ней, выступая против современных течений
(в то же время стремясь превзойти современную науку). Эта традиция идет
от Оригена38*, Ибн Хальдуна39*, Макиавелли40* и Вико41* до Ницше,
Брукса Адамса42*, Шпенглера43*, Тойнби и Сорокина44*.
Но даже и эта первая концепция сопряженной идентичности
сообщества сама стала частью истории человечества, поскольку была неповтори-
21
мым и решительным шагом вперед. Это поступательное движение шло
через тесное взаимодействие концепции и реальности. Опыт участия в
реальных событиях (как мы видели у Геродота, Фукидида и Полибия)
способствовал выработке все более четких понятий сопряженной этнической
идентичности, а эти представления, в свою очередь внедряясь в
реальность, ускоряли и ширили ход событий. Люди действовали теперь уже с
новым для них сознанием идентичности их сообщества.
3
Понятие о человеке как таковом, как сверхэтнической исторической
целостности и понятие об истории как о едином, неповторимом и
сопряженном течении событий возникло у евреев*. Их можно считать подлинным
олицетворением историчного по своей сути жизненного опыта. Их
письменная традиция начинается с того времени, как их родоначальник —
патриарх — покинул родину, и продолжается во времена их исхода из плена
египетского. На этом, начальном, этапе истории евреи все время
попадали в рабство то к одному, то к другому народу и становились
непосредственными участниками возвышений и падений великих держав
древности: Ассирии, Нового Вавилона, Персии, Эллинского мира при
Александре46* и Селевкидах47*, а также Рима. Евреи пережили их всех
благодаря непрерывности своих духовных и политических традиций,
постепенно становясь частью всемирной культурной общности и, таким
образом, разделяя исторические судьбы народов мира во все эпохи вплоть до
сего дня. Они выжили отчасти и потому, что смогли перенести свой
собственный, частный, выстраданный опыт в общечеловеческий контекст
мировой истории; они не страдали в одиночку; они поневоле стали
свидетелями и участниками страданий других народов. Потому-то они
осознавали перемены гораздо глубже, чем древние греки: перемены
затрагивали самую суть их существования. Непосредственно соприкасаясь с
жизнью разных народов в разные эпохи и постигая существующие между
ними связи, евреи составили понятие о человеке как о высшей
целостности, а о судьбе человека как о всеобъемлющем и неповторимом событии.
Мы уже знаем, что мир древних греков был поделен на две
согласованные, но все же различимые сферы — человеческий мир, где все
переменчиво, разнообразно и полно суетных треволнений, и, с другой
стороны, - мир божественного, или космического, постоянства. Эти миры не
были сотворены, но имели мифическое происхождение; они были
стабильны, а движение совершалось лишь в рамках вечного круговорота.
Вопрос об оправдании чересчур уж непостоянного человеческого
существования был вопросом приобщения смертных к вечной жизни.
Жизнь евреев была изначально не постоянной; их существование
строилось на зыбучем песке. Как сказал Шарль Пеги48*, «самые
комфортабельные дома, самые добротные сооружения из камней размером
с колонны храмов, самые реальные из реальных владений... никогда не
будут значить для них больше, чем шатер в пустыне»14. Своим
происхождением они были связаны с бедуинами, стремившимися начать
оседлый образ жизни, укорениться, и, подобно прочим народам, рас-
22
пространить свое влияние. Однако на протяжении тысячелетий им
приходилось скитаться по чужим странам, покидать родину и вновь на нее
возвращаться; их уделом стали изгнание, диаспора, а их постоянной
целью — стремление к заветной Земле Обетованной. Начинаясь с
Авраама, чужеземца из Ура, этот процесс заявляет о себе во времена
египетского рабства и Великого исхода, а во времена вавилонского плена
обретает свое возвышенное завершение.
Такой образ жизни наиболее полное свое выражение нашел в
представлении евреев о божественном: Бог предвечный, Бог без какой бы то
ни было мифологической родословной; Бог вездесущий; Бог, у которого
нет ни осязаемых форм, ни имени; Бог, наделенный неодолимой
творческой волей (да Он и был по сути, сама по себе творческая
целеустремленность и воля, свободные, как ветер) — это единый Бог, всевышний Бог, не
оставляющий места другим и не имеющий с ними ничего общего.
Именно поэтому Его предназначением стала объединяющая духовность, некий
spiritus generis* и, потенциально, — spiritus generis питапГ\ этот Бог
динамичен, он побуждает народы к действию, руководит ими и тем самым создает
их, — потому, ретроспективно, Он является творцом всего сущего.
Вселенная - это «творение» Божие, сосредоточенное в Нем самом.
Сотворен человек, все сущее имеет свой конкретный исходный момент.
Средоточием земной жизни является человек — такой, каким он был
сотворен Богом: иудей, в отличие от эллина, не пытается приблизить к себе
божественный порядок, потому что он уже изначально был сотворен по
образу Божества и даже достиг большего — он стал свободным через свое
падение, а та экзистенциальная вина, которая, согласно древнегреческим
представлениям, считалась неотъемлемым свойством всех смертных,
обрела особый динамизм и драматизм в истории падения, которое
высвобождает подлинно историческую судьбу человека. Ибо падение являет
собой необратимое деяние — делает эту экзистенциальную вину
проявлением свободной воли человека, а, значит, грехом, который человек
должен искупить, и он может искупить его действием, постоянно принося
себя в жертву на протяжении всей своей жизни и всей иудейской
истории. Космос древних греков безличен, а человек виновен от природы, и
этой вины ему уже не загладить. Он может пытаться жить в согласии с
космическим порядком, и именно поэтому ему так хочется постичь
природу этого порядка. Однако чем больше он проявляет свою волю, тем
больше запутывается в тенетах судьбы. Его вина неотделима от его
смертности, и потому она все время воспроизводит себя, и за ней все
время следует Немесида. Нет такого авторитета, перед которым он был
бы однозначно ответствен; нет никого, кого человек мог бы обвинить в
своих несчастьях; нет ничего, кроме его собственной смертной природы,
несовместимость которой с космическим порядком и порождает все его
беды. Нет никаких предписаний, которым положено подчиняться; надо
лишь познать природу космоса и жить в соответствии с ней.
Для иудеев порядок мироздания и человеческой жизни установлен
Богом раз и навсегда. Но если сам Творец должен стоять выше всяких
* Дух рода (лат.).
** Дух рода человеческого (лат.).
23
сомнений и не иметь недостатков, то его творение, наоборот, все время
оказывается под вопросом. Есть Господь всего сущего, с Которым
можно спорить и на Котором лежит ответственность за ответственность,
возложенную Им на человека. И раз уж несовершенство творения и
несовершенство человека ставят под вопрос совершенство Творца, то
человек, чтобы сохранить этот образ совершенства, должен взвалить на
себя ответственность за все неудачи и страдания, которые ему
приходится претерпевать: во всем виноват сам человек с его греховной свободной
волей. Отсюда вытекают диалектические взаимоотношения иудея с его
Богом: с Ним человек договаривается, с Ним он спорит, но Его он в
конце концов оправдывает, потому что берет вину на себя. Вина человека
неразрывно связана с его свободой: она-то и породила его свободу.
Экзистенциальная вина древних греков превратилась у иудеев в
преднамеренно совершаемую вину: проблема мироздания стала проблемой
нравственной. Следовательно, перед человеком ставится конкретная задача
искупления: раз он согрешил по своей воле, то по своей воле должен
исправить совершенную им ошибку; он должен свободно и
сознательно стремиться к восстановлению задуманного Богом порядка, который
он, человек, сознательно нарушил; он должен внести свою лепту в
создание Царства Божьего на Земле — этой подлинной Земле
Обетованной. Однако подобное деяние не сводится всего лишь к
восстановлению порядка — это уже не древнегреческий круговорот; нет, человеческая
устремленность делает его поступок новым, неповторимым событием.
Перед человечеством поставлена цель — достижение будущего,
конкретного будущего как решающего фактора в судьбе человека. История
обретает смысл как цель. Неповторимость данного процесса, интеграция
прошлого не только в настоящее, но и в будущее и стала началом
подлинной истории.
Однако помимо этого характерного для иудаизма сочетания
временных пластов ему было в значительной мере присуще и другое свойство
подлинной истории — взаимодействие концепции и реальности. Исход
из Египта, опыт изгнанничества и бесприютности, ожидание
исполнения обета, следование цели и дисциплине цели (отсюда возникли и
скрижали закона49*) — все это, вместе взятое, и создало цельный
иудейский монотеизм, концепцию не просто одного, но одного-единственного
вездесущего Бога, Бога-вседержителя, Бога-вождя, Бога-военачальника,
Бога-творца; а библейская летопись жизни в изгнании показывает нам,
как эта концепция, в свою очередь, создавала народ и его ощущение
племенной идентичности. Опыт пребывания в рабстве и в подчинении у
разных народов мало-помалу сублимировал и спиритуализировал эту
концепцию, вылившись в ясное осознание идентичности всего человечества,
избранным (проклинаемым и благословляемым) народом которого
ощущали себя евреи, призванные действовать на свой страх и риск.
Осознание идентичности человечества было для них не только тесно
связано с понятием «избранного народа», но даже и заключено в нем.
Рассказ о Вавилонском столпотворении (Быт. 11: 1—8) еще
доскональнее, чем повествование о сотворении мира, свидетельствует, что
изначально Бог был Богом всех людей: «...вот один народ, и один у всех
язык;... и не отстанут они от того, что задумали делать». Дерзкий замы-
24
сел построить башню «высотою до небес» — это горделивое утверждение
человеческой свободы и как бы второе падение, и совершенное Богом
«смешение языков» и «рассеяние их... по всей земле» равнозначно
второму изгнанию из Рая. Это недвусмысленное сотворение разнообразия
человечества только подтверждает его изначальное единство. Об этом же
свидетельствует и другое, в дополнение к этому, деяние Бога — Его
договор с Авраамом, а затем и с Иаковом (который становится и самим
Израилем, и его прародителем), а предпочтение, которое Бог оказал ему,
Иакову, перед перворожденным Исавом, также то, откуда и пошло
понятие «избранного народа» (а равным образом, как мы увидим в
дальнейшем, и христианское понятие о предопределении). Такое
предпочтение Израиля как бы готовит его к миссионерскому подвигу - к спасению
язычников; начиная с Авраама и далее через все колена израильские это
предпочтение оборачивается благословением, которое связано с
пророчеством о страдании и разорении15. И рассеяние человечества, и миссия
«избранного народа» означают приобщение всех народов мира к одной,
единой для всех системе ценностей, что являет резкий контраст по
сравнению с древними греками, ощущавшими себя в корне чуждыми
варварам. Существует немало подтверждений этой человеческой
идентичности, осознанной в глубокой древности: это и завет братской любви к
пришельцам, отчетливо соотносимый с прошлым евреев, «пришельцев в
земле Египетской» (Лев. 19: 34), и увещевание Господа через пророка
Амоса (ок. 760 г. до н. э.): «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для
меня, сыны Израилевы?.. Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской
и Филистимлян — из Кафтора и Арамлян — из Каира?»16
4
Из иудаизма (или, вернее — в недрах иудаизма) вызрело христианство.
Оно вышло из иудейской концепции человеческой идентичности. Шаг
за шагом иудеи осмысляли собственный горестный опыт и ставили
перед собой все более значительные цели — от освобождения своего
племени до спасения всего человечества. Расширялось и само понятие
Земли Обетованной: она была уже не ограниченным в пространстве
Ханааном, а Царством Божиим на Земле; а получивший от Бога
помазание политический вождь (Машиах, Мессия) стал высшим судией и
князем мира17 и «слугой Божиим»; различие между карой и наградой
становилось все меньше, страдание обернулось превосходством, а унижение —
возвышением18. Бог мщения и возмездия19 возвысился до Бога
справедливости20, а потом и до Бога милосердия и мира21. В этом процессе
конвергировали три тенденции, три движущие силы истории евреев: мисси-
онаризм50*, мессианизм 51* и эсхатология22 52\
Два изменения оказали свое решающее влияние на превращение
исторического процесса в процесс всемирный: во-первых, поворот от
мессианизма к христологии53* и, во-вторых, все более ясное осознание пути к
спасению.
После того, как евреи попали в рабство и вынуждены были покинуть
свою землю, то распространенное среди древних народов Востока ожи-
25
дание великодушного правителя, который наподобие египетского «царя-
пастыря» восстановит порядок и благоденствие, постепенно
видоизменялось в представление о богопомазанном вожде, который приведет
евреев в Землю Обетованную, а опыт последующих страданий превратил
этого Мессию в грядущего освободителя и высшего судию угнетенного
народа. Начиная со времен Селевкидов (II в. н. э.) на израильтян
обрушивались все новые и новые несчастья, а их эсхатологические чаяния
становились все более отчаянными и страстными: Царство Божие,
мнилось им, совсем рядом.
Уже во «Второзаконии — Исайя»54* (VIII в. до н. э.) и в так
называемом «Трито-Исайя»55* (ок. 450 г. до н. э.) День Спасения
представляется как сотворение «нового Неба» и «новой Земли»: «Небеса исчезнут, как
дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое
спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет... Не бойтесь
поношения от людей, и злословия их не страшитесь23... И возвратятся
избавленные Господом, и придут на Сион с пением... они найдут радость
и веселие; печаль и вздохи удалятся... Вот, Я беру из руки твоей чашу
опьянения... ты не будешь уже пить их. И подам ее в руки мучителям
твоим, которые говорили тебе: "Пади ниц, чтобы нам пройти по тебе";
и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих»24.
В апокалиптические времена, когда иудеи находились под властью
Ирода и римских прокураторов и когда наступление Царства Божьего
казалось уже неминуемым, с пришествием Иисуса традиционное
пророчество достигло своей кульминации: Христос уже не просто
предвозвещает Страшный Суд, но и сам берет на себя роль долгожданного
Мессии. Дальше этой мысли представители иудейской общины, даже в лице
ее передовых представителей (т. е. самого Иисуса и его ближайших
учеников), пойти не могли. (Кстати сказать, претенденты на роль Мессии
появлялись и потом - опять же в критические моменты истории)25. Даже
обещание воскрешения праведников долго бытовало среди пророков и в
апокалиптических писаниях, но обожествление Иисуса (а, стало быть, и
очеловечивание Бога) было для иудеев неприемлемым: это могло бы
нанести удар по их представлениям о Боге.
Тем не менее все ростки радикально нового: и разрыв апостола
Павла56*, эллинизированного иудея, с Ветхим Заветом, и вера в то, что Бог-
Сын воплотился, что ожидается Его Второе Пришествие (а это уже
подтвердилось свершившимся Воскресением, т. е. прошлое стало залогом
будущего) — все это, вместе взятое, заостряло внимание на будущем и
делало исторический процесс более реальным.
Второе изменение, упрочившее сознание, состояло в том, что сама
история начинала видеться теперь как ряд стадий, этапов, которые проходит
человек на пути к спасению. Древнегреческое восприятие событий
человеческой жизни с его утверждением смысла как формы конституировало,
как нам уже известно, динамизацию вечности, что предполагало
циклическую повторяемость событий, меж тем как иудейское и христианское
понятие пути к спасению создало смысл как цель и положило начало
единственному в своем роде изменению — подлинной истории человечества. И
все-таки циклическое мировоззрение тоже, на свой манер, помогло сфор-
26
мироваться новым представлениям: для эллинизированного иудаизма
характерно сочетание теории циклов с благой вестью о спасении;
цикличность подразумевает тут этапы распространения этой спасительной идеи.
Циклическую периодичность породили два источника — космический
и антропомифический (оба они, вероятно, имеют древневосточное
происхождение). Первый обрел свою окончательную форму в представлении
стоиков о «космическом годе» (или «большом годе», в соответствии с
которым на небе периодически появляется одно и то же созвездие
(apokatastasis), согласно чему воссоздается (palingenesia) и повторяется
любое конкретное событие. Космический год, наступающий вслед за
обращением (periodos) планет, по аналогии с летним и осенним
равноденствием, подразделяется на два времени года — на зиму и лето,
кульминационным пунктом которых становится некая земная катастрофа:
зимний потоп (kataklysmos) и летний большой пожар (ekpyrösis). Из
каждой катастрофы мир со всеми его событиями восстает обновленным. Эту
стоическую теорию «эонов» предвосхитил, согласно Цензорину57*,
Аристотель; нечто подобное можно обнаружить и в Тимее Платона26, а до
него — у Гераклита27 и пифагорейцев; вероятнее всего, она восходит к
вавилонским жрецам, которые одними из первых обратили внимание на
периодичность движения небесных тел, произвели соответствующие
расчеты и увязали астрологию с событиями человеческой жизни. Похоже,
что периодичность и цикличность мировых событий, а также теория
вечного круговорота проистекают из этих наблюдений вавилонских
жрецов28. Присоединение двух равноденственных времен года послужило
причиной того, что прежнее двухчастное деление сменилось привычным
для нас четырехчастным.
Другая античная периодизация, которая дошла до нас в Трудах и днях
Гесиода58* (VIII в. до н. э.) и в зороастрийской Авесте59*, есть не что иное,
как приложение небесных периодов к этапам развития человечества.
Четыре возраста человечества, в трактовке Гесиода, были, как известно,
чередой сменяющихся поколений, знаками которых являлись разные
металлы. Его мифический антропогенез становится продолжением его
же теогонии60*, которая развивается по нисходящей, — начиная от
золотого, райского, к серебряному и бронзовому векам, и, наконец, — к
железному, во время которого жил сам поэт и который из-за междоусобных
войн и всеобщего разложения пришел в безнадежный упадок.
Похоже, что такой антропогенез отражает жизненный опыт всех
первобытных людей: речь идет о разрушении мифической гармонии
племени (а, вернее, самой жизни), уступившей место раздорам; наступает конец
мирной жизни, т. е. зарождается индивидуальность. Миф Гесиода об
окончании золотого века человечества, века спокойной смерти (когда
кончина была подобной «отходу ко сну»), века «далекого от трудов и
лишений», на смену которому приходит век насилия и бедствий,
соответствует библейскому мифу об изгнании человека из Рая в мир, где он был
обречен на смерть и на труд в поте лица. Для древних греков это
представление об упадке в какой-то мере смягчалось верой в цикличность
исторического круговорота, а иудеи, земная жизнь которых началась с бедствий,
в своих пророчествах впервые перенесли акцент с движения к упадку на
движение по восходящей. Остатки циклического мировоззрения все еще
27
сохранялись и были связаны с надеждами на возвращение в изначальное,
райское состояние29, однако опыт нескончаемых бедствий привел к
мысли, что подобное возвращение в Рай должно стать единственным в своем
роде событием, тем более что оно настанет благодаря усилиям
праведников в их сознательном стремлении к цели.
В иудейско-эллинистической книге пророка Даниила61* (II в. до н. э.),
самом древнем из сохранившихся апокалипсисов, циклическое
мировоззрение посредством периодизации упадка послужило благой вести о
пришествии Спасителя. Четыре мифических века были метафорически
отождествлены с четырьмя историческими силами, которые одна за
другой угнетали евреев. Книга Даниила предлагает два варианта этого
сочетания: один содержится во второй главе, а другой — в седьмой и восьмой
главах; первая, по всей вероятности, была написана до воцарения Анти-
оха Епифана Селевкида30 62*, а вторая — во время его царствования или
после. Обе они являются пророчествами a posteriori*, обе уводят в
эсхатологию того времени.
Во второй главе содержится описание сна вавилонского царя
Навуходоносора и его толкование Даниилом. Царь увидел истукана: «[Его]
голова была из чистого золота, грудь и руки его — из серебра, чрево его
и бедра его — медные, голени его железные, ноги частью железные,
частью глиняные». А потом: «Камень... оторвался от горы без содействия
рук, ударив в истукан, в железные и глиняные ноги его, и разбил их.
Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото... и
ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукан,
сделался великою горою и наполнил всю землю»31.
Согласно толкованию Даниила, века постепенного движения
человечества к упадку представлялись в виде синхронной картины четырех
великих царств, вырождение которых началось с золотой головы (т. е. с
Вавилонского царя) и завершилось гибелью последнего царства (по всей
видимости, это разделенное эллинистическое государство), железное
основание которого было смешано с глиной, «так и царство будет частью
крепкое, частью хрупкое ... И во дни тех царств Бог Небесный
воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и... оно сокрушит и
разрушит все царства, а само будет стоять вечно»32. Похоже, надо думать, что
с крушением четвертого царства, когда приидет Царство Божие, рухнет
все здание языческой традиции.
Седьмая и восьмая главы книги описывают видение самого Даниила,
которому сменявшие друг друга четыре царства предстали как «четыре
больших зверя», выходящие из моря и «непохожие один на другого».
Последние два царства изображены в виде овна с двумя рогами, явно
символизирующими царей мидийского и персидского, и козла с одним
большим рогом, который «поразил овна и сломил у него оба рога»
(козел — олицетворение «царя Греции», т. е. Александра). И «козел
чрезвычайно возвеличился; но когда он усилился, то сломился большой рог, и
на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных»
(царства эллинистической диадохии63*). «От одного из них вышел
небольшой рог, который чрезвычайно разросся... до воинства небесного...
* На основании опыта, из опыта (лат.).
28
даже... на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная
жертва и поругано было место святыни Его ...И... когда отступники исполнят
меру беззаконий своих, восстанет царь... искусный в коварстве... против
Владыки владык, но будет сокрушен — не рукою»33. («Царь, искусный в
коварстве», - по всей вероятности, Антиох Епифан.)
Итак, в этих видениях перед нами предстает древнегреческая
мифическая теория четырех веков постепенного упадка человечества, которая
в данном случае адаптирована к конкретному историческому опыту
еврейского народа и связана с его эсхатологическими чаяниями. Кроме
того, в те времена на Ближнем Востоке бытовала традиционная схема
исторической периодизации, которая в книге Даниила могла быть
соединена с древнегреческой мифической теорией. В Персии Ахеменидов64*
для прославления этой династии завоевателей использовали письменную
память о трех великих монархиях — Ассирийской, Мидийской и
Персидской34. Евреи же вспоминали не следовавшие одно за другим завоевания,
но их итоги - порабощение и угнетение. Так, книга Даниила
начинается с рассказа о Ново-Вавилонском (Халдейском) царстве, которое
покончило с царством Иудейским и разрушило Иерусалим (неизгладимая
память об этом разорении и о вавилонском пленении затмила, по всей
видимости, воспоминание о существовавшем до того в Израиле
ассирийском иге.) А хронологически неоправданное появление мидийцев в
эсхатологическом видении связано, по всей вероятности, с влиянием
широко распространенной в те времена персидской традиции.
После распада четвертого, греко-македонского, царства Александра
должна была, как казалось, наступить эпоха пятого царства, которое
разные народы представляли себе по-разному. Племена царства Селевки-
дов, возмущаясь превосходством греков, надеялись, что придет
независимое исконное правление; римские писатели (после того, как сириец
Антиох III65* был разбит в 190 г. до н. э. Сципионом Азиатским66* в
битве при Магнезии) начали славословить подъем вечной Римской мировой
империи. И только евреи ожидали Царства Божиего.
5
Иудаизм пребывал в оцепенении ожидания, вечного и напряженного
ожидания конца света. Да иначе и быть не могло, потому что иудеям так
и не удалось постичь его осязаемое претворение в жизнь, ибо они
упорно держались мнения об абсолютной непорочности Господа и Царства
Его. Мысль о несовершенстве человеческой природы так глубоко
засела в их сознании, что им даже и не приходило в голову вообразить,
будто люди, существа из плоти и крови, могут стать праведниками в полном
смысле этого слова. Даже самые почитаемые из святых (Моисей, Аарон,
пророки да и сам Иисус) не оставляли впечатление людей без страха и
упрека. Потому-то пришествие Мессии поневоле приходилось
отодвигать на неопределенный срок. Один из парадоксов иудаизма состоит в
том, что народ, который упрямо настаивал на том, что Царство Божие
материализуется на земле, в то же время оспаривал любой вид боговоп-
лощения посредством предельной сублимации Бога.
29
Если еврейский миссионаризм, мессианизм и эсхатология создали
историю как неповторимый общечеловеческий процесс, то христианская
вера в Иисуса не только как в «Христа», «помазанника», но и как в
божественного спасителя всего человечества кристаллизовала ее в событии;
и это было событие par excellence*. Избранный народ, в лице «слуги
Божьего, которого Господь даровал людям как "свет народов", но который
был "презираем всеми, поносимым народом", который "предал хребет
[его] биющим" и "лица [его] не закрывал от поруганий и оплевания"»35 -
он-то и стал предтечей и прообразом вочеловечившегося Спасителя,
воплотившим в своем мгновенном жертвенном подвиге длившееся
веками самопожертвование Израиля. Скорби иудеев были процессом,
Страсти Иисуса стали событием.
И в самом деле: если оставить в стороне религиозное значение
Страстей Христовых как откровения и посмотреть на них всего лишь как на
исторический факт, то они неизбежно примут для нас вид эпохального
события — события, которое своевременно свершилось в ключевой
момент истории: то был подлинный kairos и кульминация всей
многовековой истории евреев, осуществление их чаяний. Однако боговоп-
лощение и искупление было подготовлено всем многообразием
конвергирующих тенденций того времени, тенденций материальных и
духовных: свойственное эпохе эллинизма смешение народов и идей
способствовало концентрации и без того лихорадочного воображения
и подкрепило иудейскую эсхатологическую традицию разнородным
мифологическим и умозрительным материалом. Уходили в прошлое
старые статичные ритуалы, уступая повсюду место синкретическим
мистериям, динамичным празднествам в честь смерти и воскрешения
хтонических божеств. Обожествление римских императоров (обычных
людей, которые не имели не то что мифологических, но даже местных
корней) приблизило божественную сферу к земной. Стоицизм,
который и сам возник в результате эллинистических взаимовлияний,
повсюду создавал климат благоприятствования для таких позиций и
ценностей, которые были близки раннехристианским: стоики ратовали за
самообладание и бесстрастие (ataraxia), а их пневматическая
концепция божества36 усугубляла чувство вины, способствовала
космополитизму и вселяла представления о равенстве людей, о любви к ближнему,
простирающейся даже вплоть до помощи врагам (орет ferre etiam
inimicis31). Для стоика Хрисиппа67* рок и безысходность равнозначны
божественному провидению: heimarmene превращается в ргопоіа. И
наконец, оформляется всемирная Римская империя, единство
территорий которой способствует успешному распространению
христианского вероучения. Древнеримский поэт Пруденций68* (IV в. н. э.) даже
заявил, что Бог помог римлянам завоевать мир только для того, чтобы
проложить путь мировой христианской религии38.
Ни один из этих изначально независимых факторов сам по себе не
мог совершить решительный поворот к той неповторимой,
развивающейся по восходящей истории человечества (ее концепции и ее
реальности), ширящейся и разрастающейся на протяжении двух тысячелетий.
* Преимущественно, по преимуществу (франц.).
30
Формирующаяся иудейская традиция (включая традицию
раннехристианскую) не могла сколько-нибудь далеко пробиться за мощную ограду
своего закона. Обожествление римских императоров представляло собой
серию повторяющихся, но изолированных фактов, которые не имели
существенного и длительного влияния на человеческое существование.
Смерть и воскрешение божеств в эллинистических мистериях также не
оказывали, по сути, глубинного влияния на людей, как на участников
этих обрядов, ибо божества были связаны с людьми лишь условно — в
форме, которая была близка первобытному «сопричастию». Другой
древнеримский автор — обратившийся в христианство Минуций Феликс
(III в. н. э.) — высмеивал тщетность этих повторяющихся празднеств:
«Они то и делают, что теряют каждый год то, что обрели прежде, и
обретают то, что потеряли. Ну разве не смешно поклоняться тому, что
оплакиваешь, и оплакивать то, чему поклоняешься?»39
Лишь одновременная конвергенция и взаимодействие этих факторов,
а также их сплав и переход в новое качество (что совершил Павел),
превратило жизнь и страдания Иисуса в неповторимое, решающее событие
и поворотный пункт человеческой истории40. Стечение многих факторов,
обусловивших это поворотное событие, этот необыкновенной важности
феномен, без которого будет непонятен ход и смысл истории, было
далеко не полностью осмыслено в строго историческом значении, поскольку
этому постоянно мешает сугубо богословский взгляд. Довольно странно,
что этот исторический феномен в равной степени проглядели и
древнеримский язычник, и современный протестантский богослов. «Иудеи и
христиане, — пишет Цельс, древнеримский платоник II в. н. э., —
представляются мне летучими мышами или муравьями, выбирающимися из
своих укрытий, или лягушками, которые сидят у пруда, или червяками,
которые собираются в укромном уголке навозной кучи и говорят друг
другу: Бог открывает нам все, а до остального мира ему и дела нет. Он
общается только с нами ...Случись кому-то из нас согрешить, Бог
явится сам или пришлет своего сына, чтобы испепелить этих грешников и
приобщить нас к вечной жизни»41. Вполне естественно, что римлянин-
язычник во II в. н. э. воспринимает это досаждающее подрывное
движение как нелепицу местного значения. Но вот современный богослов
Оскар Кульман69*, превознося эпохальное значение христианства для
выработки концепции исторического времени, на самом деле
необыкновенно отчетливо воспроизводит - в новых условиях - мировоззрение
Цельса, приписывая коренной перелом во взглядах исключительно
христианскому откровению: «Преувеличенное внимание к истории малого
народа, — заявляет он, — а также сочетание его внешней истории с
фактами, которые, с точки зрения истории, в лучшем случае могут быть
названы "faits divers" (мелкие происшествия)... и особенно объяснение
целого только с этой позиции, исходя только из деяний Иисуса из
Назарета, которые сами по себе принадлежат всего лишь к "faits divers"
истории Римской империи, — все это вместе взятое может превратить
историю (если посмотреть на нее с точки зрения "чистого историка") в
абсолютно произвольную компиляцию, которую специалист отвергнет,
потому что ее не отнести к числу подлинных критериев оценки общего
хода истории... Это обретает смысл лишь в том случае, когда ключевое
31
историческое деяние Иисуса из Назарета признается как абсолютное
божественное откровение людям. А без такой веры... вся эта история
должна казаться нам теперь не имеющей смысла»42.
Но, несмотря ни на что, мы, рассматривая совокупность изменений
до и после появления христианства на сугубо исторической основе, не
можем не признать явление Христа поворотным пунктом, благодаря
чему земное время было обогащено иудейским представлением о
реальном и неповторимом событии в человеческой жизни, — т. е. об истории.
Развитие иудейского мессианизма и эсхатологии, а также динамизация
земных культов, влияние эллинистического стоицизма, расширение
Римской империи — все это подлинно исторические процессы, которые
конвергировали в христианском событии, и потому нам не нужно
откровения, чтобы увидеть в этом событии и всеобъемлющий итог, и, в
то же время, начало. В этом событии резко разграничены (и все же
тесно друг с другом связаны) прошлое, настоящее и будущее. Новая вера
впервые породила ясное осознание нового, тотальной новизны, что и
является самой сутью неповторимости. Возник новый мир, который не
был всего лишь подновленной копией прежнего (как в круговороте
эонов). Было возвещено о появлении «новой твари»43, да и сам человек
явился измененным и, следовательно, способным изменяться. Именно
Отцы Церкви первыми решительно отвергли цикличное
мировоззрение.
Новая хронология, начало которой в 525 г. н. э. положил римский
аббат Дионисий Экзигий70*, имела своим исходным моментом
немифическое, в некоторой степени поддающееся вычислению событие, т. е.
Рождество Иисуса, — всего лишь одно из выражений свершившегося
поворота. Разумеется, эта дата стала «точкой отсчета»44 только в XVIII в.,
когда летосчисление стало вестись не только от Рождества Христова, но
и вспять от него. Но важно отметить, что эта хронологическая система
оказалась более стойкой, чем все предшествующие и последующие
способы летосчисления, от селевкидского и диоклетианского71* до
фашистского, и становится в наше время безраздельно светской эрой,
признанной почти во всем мире.
6
До сих пор мы рассматривали только предпосылки и генезис истории; то
был поступательный процесс, в котором едва ли возможно отделить
концептуальные стадии от реальных, ибо развитие шло по пути, я бы сказал,
цепного взаимодействия.
А теперь проследим, каковы были последствия, которые повлекли за
собой утверждение собственно исторического существования человека:
процесс секуляризации, сопровождаемый нарастающей динамизацией
существования человека и его мира.
Во все периоды, которые предшествовали Христианскому событию,
особенно в христианскую эру, человек был больше всего поглощен его
связью со сферой неизменного, со сферой, лежащей вне человеческой
изменчивости и чувственного восприятия. И все же в самом Христианс-
32
ком событии была заложена основа для полного высвобождения светской
сферы, а значит — для окончательной историзации.
Раннехристианские воззрения на жизненный путь человека все еще
соответствовали иудейской эсхатологической традиции: жизнь,
согласно этим понятиям, должна быть освящена и исполнена здесь, на земле,
в Царстве Божием, где небо и земля сливаются воедино. Ученики Иисуса
выросли на иудейской традиции, впитали в себя апокалиптические
настроения и потому ожидали, что Второе Пришествие Христа произойдет
в самом ближайшем будущем. Даже раннехристианские авторы
полагали, что Римская империя — это четвертое и последнее царство,
существующее в последние дни перед грозным Страшным Судом: обуреваемые
тревожными предчувствиями, они даже молились о том, чтобы Рим
устоял45.
Для христианина той критической эпохи вхождение в Царство Божие
осуществлялось во времени — в одномерном земном времени, без
отклонений в трансцендентность72*. Вечность понималась не как вторая,
высшая, сфера вневременного существования, а просто как «бесконечное
время». Постоянно претерпевая стресс непомерных жизненных
испытаний, христиане наивно доверялись увлекающему их потоку событий и
все еще не осознавали некоторых серьезных противоречий, таившихся в
учении Павла. И только Августин73* попытался (уже потом) разрешить
эти противоречия и сделать из них неизбежные выводы.
В Послании к Римлянам Павел говорит: «Неужели не знаете, что все
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?., если мы
соединены подобием смерти Его, то должны быть соединены и
подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо
умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то
веруем, что и жить будем с Ним»46. А в Послании к Колоссянам говорится:
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос
сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Итак умертвите земные
члены ваши...»47.
Вот оно, начало того решающего деления на материальную и
духовную сферы, которое в конечном счете и привело к полной
секуляризации человеческого существования на земле, а стало быть, и истории. В
странствии евреев, державших путь в Царство Божие (как бы оно, это
странствие, ни было растянуто во времени), земная жизнь мыслилась
нераздельной с жизнью в духе. На протяжении всей своей земной жизни,
жизни во времени, человек, каждый человек, был призван содействовать
окончательному становлению обожествленного мира. Однако
обожествление Иисуса Христа, принявшего страдания во искупление грехов и тем
самым искупившего всех истинно верующих (как это в догматическом
смысле было истолковано Павлом), стало источником неизбежного
противоречия. С одной стороны, торжество Царства Божиего на Земле,
предвестником которого будет судный день, должно было, как
ожидалось, произойти в недалеком будущем с parousia Иисуса Христа. С
другой стороны, крещение каждого верующего, его смерть и воскрешение
со Христом, а потом и «жизнь во Христе» — все это, вместе взятое, пред-
33
восхищало для индивидуума второе пришествие, как бы готовило к нему,
что подразумевало умирание для всего земного, устремление к «горнему,
а не земному», к «жизни... сокрытой со Христом в Боге» и к
умерщвлению «земных членов». Таким образом, жизнь в этом мире, жизнь во
времени, в которой еще предстоит явиться Царству Божиему, как бы
отсечена от сокрытой, «горней», жизни, где верующие уже обрели спасение.
Неповторимость самого вочеловечения Христа, принявшего облик
смертного, стала залогом спасения на земле, и это «событие par excellence»
закрепило историю на земле. Но до предела напряженное отношение
между горним и дольним мирами, которое, по мнению Павла, стало
следствием всего этого, и пробудило тот процесс, который в конце
концов привел к полной секуляризации истории.
Этому процессу весьма способствовали два основных следствия,
вытекавших из учения Павла: изменение значения понятия греха и новое
отношение христианина к земной общности.
В иудаизме человек, раз уж по его вине произошло грехопадение (т. е.
раз он стал в полной мере человеком), считался созданием, изначально
предрасположенным ко греху, хотя по идее он вовсе не был обречен на
греховность. Совершив первородный грех, он в то же время обрел
способность различать добро и зло и делать между ними выбор. С тех пор
как он обрел знание, он потерял данную ему от природы невинность,
хотя сам выбор между праведностью и греховностью был предоставлен
его свободной воле. Отсюда проистекает и постоянная тяжба Бога с
человеком: именно поэтому Бог вечно наставляет его на путь добра и
карает за зло; именно поэтому Бог требует, чтобы все поступки, все
поведение человека, весь образ его жизни были направлены на приближение
Царства Божиего. Даже Иисус в Нагорной проповеди побуждал людей
«быть... совершенными, как совершенен отец ваш Небесный»48.
В апокалиптические времена, когда великий переворот казался уже
совсем близким, ощущение греховности достигло предельного накала и
стало мощным фактором в Христианском событии. В Первом Послании
Иоанна (анонимном тексте, который был написан после смерти Павла, во
II в. н. э.) читаем: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши»49. Эта фраза
свидетельствует о коренном перевороте в отношениях между человеком и
Богом. Человек очищается не благодаря своим собственным деятельным
усилиям, но принятием благодати Божией, которую человек не заслужил.
Оправдание человека — это не причина, а результат божественного
спасения, потому что избавляет его от греховности одна только его вера в
божественное жертвоприношение да его крещение, укрепляющее эту веру.
Из этого вытекает, что до крещения человеческое естество было
неизбежно греховным, ибо иначе Божественная жертва оказалась бы
бессмысленной для праведников, а верой и крещением им было бы просто нечего
искупать. Таким образом, христологический переворот в отношении человека
к Богу неизбежно породил учение о первородном грехе, привел к оправданию
человека благодатью и верой, а в конечном счете — к учению о
предопределении. Учение о предопределении как прямое следствие веры в
оправдание человека благодатью восходит к иудейскому понятию «избранного
народа». Павел в своем Послании к Римлянам, в главе 9-й, ясно говорит о
34
том, что Бог избрал Иакова и отверг Исава: «Ибо не все те Израильтяне,
которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его; но
(сказано) "в Исааке наречется тебе семя". То есть не плотские дети суть
дети Божий; но дети обетования признаются за семя ...как и написано;
"Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел" ...Ибо Он говорит Моисею:
"Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею". Итак, помилование
зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего ...
Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает»50. «Но, если по
благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатию»51.
Прослеживая развитие этого учения от его иудейских истоков, мы
признаем всю обоснованность и значимость перестановки акцентов в
отношении человека к Богу: искупление Иисуса Христа, взявшего на
себя грехи мира, означает освобождение человека от обязанности
трудиться ради установления Царства Божиего на Земле. Отсюда следуют
оправдание одной только верой, и учение о первородном грехе с
обетованием спасения одной только благодатью (благодатью непостижимой и
избирательной), и отречение от жизни во плоти. А это неизбежно ведет
к секуляризации человеческой жизни.
Но еще более значительное влияние на этот процесс оказало второе
следствие христианского вероучения: отношение верующего к земной
общности. Со времен Павла общиной Христа стала единая, без каких бы
то ни было различий община, в которой все — «сыны Божий по вере во
Христа Иисуса;.. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного;
нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе.
Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию
наследники»52. Призыв к единению прозвучал еще в Ветхом Завете, и призыв
быть «светом язычникам» стал миссией иудеев. Но только тут, у Павла,
отсекаются земные корни человека. Верующий in Christo, в качестве
такового, отсекает от себя все земные свойства и качества. Поскольку он
живет во Христе, его «Царствие не от мира сего» и «[его] беседа на
небесах»53. Разумеется, он все еще участвует в земной жизни, все еще
остается греком или римлянином, свободным или рабом, гражданином
империи. Но это преходящее состояние, и то, что пока еще происходит, не
имеет существенного значения, а подчинение земным властям,
«оставление Кесарю Кесарева» — это не больше чем уступка, сделанная от
безразличия. Мы не должны забывать, что это нам предписано только как
способ прожить в течение того краткого времени, которое остается до
дня избавления, но отнюдь не является чем-то неизменным, как
наставлял Лютер. Свидетельством тому — не только постоянные пересчеты
подлинной даты Христова пришествия, но и то полное безразличие к
римского мира делам, которое выказывали христиане. Послание Диогнету,
апологетическое сочинение II в. н. э., описывает их положение в
обществе и их поведение: «Каждый из них живет в своей родной стране,
словно чужак (päroikoi). Они... выносят все тяготы словно пришельцы (хепоі).
Любая чужбина им родина, а любая родина — чужбина... они живут во
плоти, но не по плоти. Они живут на земле, но они граждане неба»54. Но
почему же тогда, возражали им римляне, они все еще продолжают
производить на земле себе подобных, почему они рожают и воспитывают де-
35
тей, вкушают плодов земных и занимаются земными делами? Почему все
они не уходят в пустыню?55
Но ведь поступить так значило бы вступить в конфликт с
христианской миссией, которая во спасение человеческих душ «ради вечной
жизни» призывала к христианизации империи. И когда это произошло при
Константине74*, то было воспринято как данное свыше подтверждение
божественного благовестил. Вера римлян в незыблемость и нерушимость
их империи, в этой вечно существующей пятой мировой империи, в
видоизмененной форме была воспринята христианскими апологетами. Для
них Рим стал последним земным царством, которое будет существовать
до пришествия Христова; возможная дата этого события благоговейно
обсуждалась. Следовательно, христианизация империи могла быть
истолкована как одна из переходных стадий по пути к грядущему Царству,
и христиане все еще надеялись какое-то время пожить в течение этого
подготовительного периода. Богословы (и Августин в том числе)
молили о сохранении Рима и об отсрочке дня Страшного Суда. Иные из них
даже хотели видеть в империи некое подобие тысячелетнего Царства Бо-
жия и вырабатывали нечто вроде примитивной «христианской идеи
прогресса», опираясь при этом на тот факт, что Иисус Христос родился во
время основания Римской империи и утверждения Августом Pax
Romana15*. «В том не было человеческой заслуги, — пишет Евсевий Кеса-
рийский76* (260? — 340? н. э.), — что не когда-либо, а именно со
времени Христа почти все народы оказались подданными единой римской
державы, и не случайно чудесное пребывание Христа среди людей
совпало с тем временем, когда при Августе римляне достигли своего
наивысшего расцвета: именно Август был первым из самодержцев, покорившим
себе почти все народы»56. «Две великие державы в их совершенном
проявлении появились как бы из одного потока, и даровав всем мир и
собрав всех в единое содружество»57. «И хотя Римская империя почти
достигла своей цели — согласно объединить все народы, — но ей суждено
достичь еще большего совершенства, в конечном счете распространив
свое могущество до последних пределов (земли)...»58 Потому-то Бог,
утверждает Евсевий, превознося Константина, «даже здесь и сейчас
дарует нам залоги будущих воздаяний и тем самым как бы утверждая
бессмертные надежды пред смертными очами»59. Исходя из этих и подобных
выводов, Пруденций заключает, что «для Христа, который... скоро
придет на землю, открыт тот самый путь, что был подготовлен всеобщим
содружеством народов, живущих в мире под властью Рима»60.
Но прошло всего семь лет, и это заявление было решительно
опровергнуто — стоило только варвару-язычнику Алариху77* завоевать Рим в
410 г. н. э., что до него еще никому не удавалось. Еще никогда прежде
христианский мир не приходил в такое смятение, не стоял перед лицом
такой опасности. Отец Церкви Иероним так выразил охвативший всех
ужас: «В одном городе погиб целый мир».
Эту ситуацию можно в какой-то степени сравнить с той, которая
создалась в 586 г. до н. э., когда вавилоняне завоевали Иерусалим. Во
второй раз падение иератической земной державы обусловило появление
духовного сообщества. Разорение теократического царства в
Иерусалиме дало толчок духовному развитию народа, ориентированного на чело-
36
вечество, т. е. перемещающейся по всему миру еврейской диаспоре. А
падение надэтнической иератической империи в Риме положило
начало созданию духовного сообщества Вселенской Церкви.
7
Тем, кто избавил христианский мир от объявших его смятения и
тревоги и стал его вторым, после Павла, основателем, был Августин. Его
скорби, его страстное желание спасти свою собственную и
общехристианскую веру, пробудили в нем рвение, заставили вникнуть в самую глубь
христианского учения и христианской жизни, что позволило ему
обнажить скрытые парадоксы учения Павла. Неизбежные выводы, к которым
он не мог не прийти, привели его к решительному пересмотру
вероучения и заставили четко разграничить плоть и дух и разделить
божественный и земной ход событий.
И мы еще раз, в этот поворотный момент истории человечества,
убеждаемся, что жизненный опыт, этот волнующий, сокрушительный
опыт, породил новую концепцию, которая в свою очередь срослась с
реальностью и коренным образом изменила ее.
Смятение, овладевшее умами христиан после падения Рима, грозило
раздробить христианский мир на множество не согласных друг с другом
толков и сект. Многие думали, что конец света и судный день уже
наступили, меж тем как другие, лелеявшие мысль о постепенном
«Христианском Прогрессе», пытались постичь смысл этого внезапного события, в
результате чего различные ереси эллинистического происхождения (а
были среди них и такие, которые, сложившись под влиянием Оригена,
под видом христианства поддерживали языческую циклическую теорию)
продолжали безнаказанно существовать.
Августин в своем Граде Божием (который изначально, как и все
остальные произведения патристики, был апологетическим трактатом)
опроверг все эти эллинистические воззрения. Его основной постулат стал
основополагающим для будущего развития христианского вероучения и
истинно лег в основу всей организации средневекового мира. Августин
положил конец всем умозрениям относительно конца света и
наступления Царства Божиего — умозрениям, от которых до сих пор были
несвободны все богословы, включая и его ученика Орозия78*. Мысль о том, что
вслед за падением Рима непременно настанет день Страшного Суда,
была, как доказал Августин, в высшей степени спорной, потому что, в
частности, действительность зачастую свидетельствовала об обратном:
например, непонятно, почему варвары не губили христианских святынь.
Еще неизвестно, заявлял он, следует ли считать Рим последней державой
перед наступлением тысячелетнего царства. Августин чувствовал, что все
эти предположения, которые могут быть опровергнуты событиями,
содержат в себе угрозу вере. А потому он категорически их и отверг,
сославшись на Деяния 1: 7: «Не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти». После такого категорического
запрета размышлять о датах и обстоятельствах второе пришествие
кажется уже отодвинутым на неопределенный срок и потерявшим свою кон-
37
кретность и основательность, которые до сих пор еще сохранялись в
бесконечно долгом ожидании евреями Царства Божиего на Земле — в
ожидании события, которое могло наступить в любой момент. А тем
временем произошел раскол между сугубо земной и сугубо духовной сферами,
и человек, сойдя с его земных опор, обратился к «горнему». Земная
жизнь становилась все более эфемерной, пока, наконец, не превратилась
в никчемную оболочку потустороннего. Эта радикальная спиритуализа-
ция христианской жизни, ее обезвременивание (de-temporalization) стали
высшим достижением Августина. Если не говорить о том, что его учение
несло на себе отпечаток платонизма79* и стало итогом мощного
подавления его собственных властных инстинктов и эмоций, оно и в самом деле
предлагало единственно возможный способ спасения христианской веры
от той неопределенности, которая возникла в связи с ожиданием второго
пришествия.
Подобная спиритуализация христианской жизни облегчила для
Августина задачу опровержения христианской идеи прогресса. На земле
никогда не царил мир, заявлял Августин: «Войны все еще ведутся, войны
между народами за превосходство, войны между сектами, войны между
евреями, язычниками, христианами, еретиками, и эти войны
становятся все более частыми»61. «Не правда ли, - вопрошает он, — что со
времени пришествия Христа состояние дел человеческих стало хуже, чем
прежде, и что дела человеческие когда-то шли счастливее, чем ныне?»62
Мир на земле не только не воцарился, но и (что кажется ему
утешительным) это даже и неважно, обретен он здесь или нет. Имеет смысл
только тот мир, утверждал он, который по благодати Божией человек
обретает в себе самом силой веры и полного подчинения своей воли. «Когда
человек узнает, что сам по себе он ничто и что сам для себя он бессилен,
то оружие в нем разбивается вдребезги, а войны внутри него утихают»63.
В этом состоит второе изменение, которое неизбежно следует из
первого: смещение центра тяжести с общего спасения в сторону личного.
Следовательно, всякий материальный прогресс для Августина
оказывался иллюзорным и заканчивался разочарованием. Однако он с той же
страстностью и убежденностью опровергает и античную циклическую
теорию. «Не могу сомневаться, — говорит он, — что человека никогда
прежде не было и что человек сотворен в первый раз с некоторого
времени»64, меж тем как Бог, «будучи сам вечным и безначальным, начав
однако же с некоторого момента, сотворил и время и человека, которого
прежде никогда не создавал»65. «Ибо Христос однажды умер за грехи
наши; восстав же от мертвых, к тому же уже не умирает... и мы по
воскресении всегда с Господом будем»66. «Чей благочестивый слух, —
вопрошает он, — может допустить, чтобы после жизни, пройденной с
столькими и такими великими бедствиями (если, впрочем, следует
называть жизнию эту жизнь, которая скорее есть смерть, и притом столь
тяжкая, что смерти, освобождающей от нее, боятся из любви к этой
смерти) ... достигали лицезрения Божия, и... делались блаженными... через
участие в неизменном бессмертии... чтобы потом по необходимости
лишиться Его... низверглись из этой вечности, истины и счастия,
подверглись адской смертности, позорному безрассудству и гнусным злополучи-
ям, в которых Бога оставляют, истину ненавидят... и чтобы это все в
38
одном и том же виде повторялось бесконечное число раз?..»67 Но «если
душа освобождается с тем, чтобы никогда не возвращаться к несчастьям,
как никогда она не освобождалась прежде, то с нею. совершается нечто
такое, чего никогда прежде не было ... т. е. представляет собою
непрекращающееся, вечное блаженство»68.
Следовательно, и для Августина тоже жизнь человека — это
неповторимая череда событий, которые берут начало с сотворения мира,
проходят через грехопадение и завершаются спасением, - та череда событий,
кульминация которых - жертвенный подвиг Спасителя. И тем не менее
в его учении ничего не остается от прежнего движения по восходящей.
Поскольку осязаемое Царство Божие уже отступило и скрылось в
дымке туманного будущего, то одновременное спасение всех живущих на
земле распалось на множество отдельных, личных «спасений», где
индивидуальное предопределение постепенно обретало главную роль.
Для первых христиан само по себе крещение было равнозначно
отпущению грехов и спасению: именно оно в первую очередь
способствовало распространению христианства. Но учение Августина о
предопределении проникло в такие глубины человеческой природы и судьбы,
которых, как правило, не достигало крещение. По его мнению,
изначально однородное по своей природе человечество, которое было
персонифицировано во Адаме, разделилось, посредством Каина и Авеля, на
две противоборствующие родословные, которые являли собой и
воспроизводили двойственность человеческой природы, ее склонность к добру
или ко злу, ее тяготение к духу или к плоти, ее волю к богопочитанию
или к разрушительному самоутверждению, к любви и миру или же к
ненависти. Это разделение, в конечном счете обязанное своим
происхождением древнеперсидскому дуализму и предвосхитившее современный
фрейдистский дуализм80*, имело, по мысли Августина, не одно только
человеческое происхождение, но коренилось в мифическом
противоборстве между ангелами и демонами69: отступничество падших ангелов
предшествовало грехопадению людей.
Но этот ход мыслей Августина имел еще и другие далеко идущие
последствия, ибо некое разделение в силу изначального предопределения
преобладает и в самом христианском мире, и даже среди принявших
крещение христиан. Детей Каина и детей Авеля изначально отличают
любовь ко злу и любовь к добру. Соответственно этому божественный град,
Civitas Dei, и земной град, Civitas Terrena, переплетены друг с другом
(perplexae, corpora permixta). Земной град не равнозначен конкретному
местоположению, он terrena не по местонахождению общности, а по
личной склонности. Поэтому земной град не тождествен Римской империи,
языческой или христианской. Человек принадлежит к нему не в качестве
члена какой-то части живущих на земле, но в силу его личной
склонности к плотскому. Этьен Жильсон81* прекрасно перевел Civitas Terrena как
cite desfils de la terre — «град детей земных»70. Соответственно, и Civitas
Dei не тождествен небесам, коль скоро там пребывают и падшие ангелы,
которые по своей сути принадлежат к числу «детей земных». Итак, для
Августина существование этих двух градов имеет скорее мистический
смысл. Впрочем, Civitas Terrena — это такой град, в котором земные,
материальные события могут восприниматься чувствами, в том числе и зре-
39
нием — в соответствии с текстом Библии, который приводит Августин,
толкуя его: «Каин... бе зиждяй град (Быт. 4: 17), Авель же, как странник,
града не построил»71. Напротив, невидимый, но вечный Град Божий
является единственно подлинным градом — единственным из всех,
который может быть назван градом, поскольку в нем царят справедливость,
мир и любовь. Все это означает, что события изымаются из времени и из
истории (de-temporalization and de-historization). После своей личной
смерти святой, которому предопределено спасение, вступает в область
потустороннего вечного блаженства, в котором на самом деле он уже
пребывал здесь, на земле, как «странник»; а тот, кому было
предопределено жить по плоти, обречен на вечную гибель.
Итак, в своих попытках спасти христианскую веру и сохранить
христианское единство Августин вынужден был еще глубже уйти в проблемы
христианского учения и христианской жизни. Пламенный,
эмоциональный ум Августина не мог не навести его на парадоксы, изначально
присущие учению Павла, более того — довести их до логического предела.
Мы помним, что эти проблемы в конечном счете вытекают из
коренной перемены, которую претерпело отношение человека к Богу: Бог по
своей благодати послал на землю Сына, принявшего человеческий
облик, чтобы Он искупил все человечество и, принеся Себя в жертву,
освободил людей от уз греха и наказания, которое последовало за
нарушение заповедей Божиих. Именно так Бог избавил человека от обязанности
действенно способствовать пришествию Царства Божия. Если что и
несет человеку спасение, так это только одна вера, вера в благодать Божию
и подтверждение этой веры в чудесном, священном таинстве крещения,
которое с иудейских времен становится обрядом очищения от скверны
язычества. Искупление через крещение подразумевало, что прежде
этого действа все люди были осквернены грехом, потому что в противном
случае дар благодати Божией и самопожертвование Христа не имели бы
смысла для праведника. Это требовало признать изначальную,
генетически унаследованную греховность12. Меж тем как, согласно Павлу, верующий
крестится во смерть Христа и воскресает в нем как новый человек — с
тем, чтобы умереть впредь для земной жизни, незримо пребывая с
Христом в горнем мире. Это толкование Павлом крещения как
действенного акта спасения уже влечет за собой основополагающее противоречие
доктрины: с одной стороны, крещение - это личное предвосхищение
всеобъемлющего Царства Божиего, которое тем не менее все еще
ожидается в недалеком будущем. И это обстоятельство мешало осмыслить
всю значимость судного дня, поскольку благодать Божия, которая
воплотилась в жертвенности Христа и была укреплена актом веры, уже
должна была освободить верующего от его грехов. В самом деле: то
упорство, с которым Павел твердил о благодати, уже несло в себе (как это мы
видели из его ссылок на то, что Бог избрал Иакова) семена учения о
предопределении и, соответственно, противоречило всеобщему искуплению
через жертвенный подвиг Христа.
Августин придал еще большую остроту этим парадоксам, которые
были заложены в учении Павла. Не ограничиваясь пределами одного
только крещения и распространяя мысль о божественном
избранничестве не только на Иакова и Исава, но и на Авеля и Каина (т. е. по сути,
40
относя его ко временам сотворения человека), Августин придавал особое
значение благодати Божией, в то же время ограничивая ее действие. Он
превратил всесильную благодать в почти обезличенную силу, причем
Иисус Христос выступал скорее ее орудием, чем живым и полным
любви носителем. Тем самым Августин как бы обесценил крестные муки
Иисуса Христа и поставил под сомнение его главенство. Учение об
изначальном предопределении едва ли можно было совместить с учением
о первородном грехе и об искупительной жертве Христа за все
человечество; оно противоречило и искупительному воздействию крещения как
акта веры. И наконец, Августин сузил реально существующий
христианский мир до пределов исключительно духовного Града Божьего, который
он решительно отделил от мира, где живут по плоти.
Единственный компромисс, к которому оставалось прибегнуть,
чтобы разрешить эти противоречия, — это допустить основание Вселенской
Церкви, как посредника (и в пространстве, и во времени), как земной
замены Града Божиего, как временного, на неопределенный срок,
представителя Царства Божиего на Земле, которое себя так и не являло. Град
Божий в виде Церкви заменил собою Царство Божие. Под влиянием
Августина постепенно стало набирать силу мнение, будто Царство Божие
наступает по мере укрепления самой Церкви73. Посредничество
возвеличенной Церкви с ее священными богослужениями, с ее чудотворной
силой отпущения грехов позволило опять ввести в оборот понятие о
многообразных казуистически истолкованных градациях личных заслуг,
которые тоже влияют на спасение. Но поскольку никто не знал,
предопределено ли ему спасение, то люди видели свое прибежище в
объективных результатах таинств и в посредничестве Церкви, которая
присвоила себе право отправлять благодать человеколюбца Христа.
Поскольку, с точки зрения Августина, человеческая воля подчинена
божественной благодати, которая действует посредством предопределения
и таинств; поскольку человеку заказано любое активное или даже
умозрительное участие в приближении Царства Божиего, поскольку он — узник
своей веры и своей беспомощной неопределенности (ибо даже святая
жизнь праведника становится всего лишь функцией веры, умерщвлением
подлинной жизни), то жизнь человека опять оказывается круговоротом,
хотя это, конечно, неповторимый, единственный в своем роде круговорот.
Человек, изначально греховный по причине падения Адама и по своей
природе разделяемый (как тому предопределено) на Авеля и Каина - т. е.
на тех, кому суждено спастись или погибнуть, - он, этот человек,
возвращается (но уже индивидуально), если это суждено, к тому небесному
блаженству, для которого он и был изначально сотворен. Весь процесс
обретения сознания и сознательной борьбы за вселенское совершенство (т. е.
тот процесс, с которого, собственно, и началась человеческая история),
вынесен за скобки учения Августина. Из этого вызревания сознания
только всего и осталось, что возведение народа Божиего «от временного и
видимого к пониманию вечного и невидимого»74.
Стремление Августина к обесцениванию истории было подкреплено
его озабоченностью природой времени, которое стало для него
следствием основополагающего размежевания между миром плоти и миром духа.
Так как для Августина путь ко спасению пролегает уже не через события
41
земной жизни, а проходит на духовном уровне (или, вернее, никакого
пути на самом деле не существует, коль скоро спасение предопределено
изначально), то он поневоле вырабатывает такое представление о
времени, которое прямо противоположно бытовавшему в раннем
христианстве, - в высшей степени проблематичному представлению,
противоречий которого ему так никогда и не удалось преодолеть. Первохристиане
наивно отождествляли историю спасения с самой по себе историей
человечества. Она развивалась «во времени», устремляясь к реально
осуществимому Царству Божиему на Земле, меж тем как божественная
«вечность» была не чем иным, как не имеющим конца временем, составной
частью которого было и поддающееся счислению человеческое время.
Конечно, понятие «горней», «незримой жизни» in Christo было введено
Павлом, хотя та же самая незримая жизнь верующего оставалась до поры
до времени не проявленной — до того самого недалекого будущего,
когда Царство Божие станет явью, а небеса и земля, верилось, сольются
воедино. Августин же полностью перенес внимание в духовную сферу,
вследствие чего произошел полный переворот во взаимоотношениях
сущностей, а природа времени стала неразрешимой. Теперь время
стало земной противоположностью сугубо духовной вечности, т.е. тому
состоянию, где время отсутствует: там-то и пребывает Бог. Время стало
вещью, материализованной абстракцией, равносущной всем прочим
вещам, которые, в их совокупности, были сотворены Богом. Этот
«материальный» характер времени и породил то противоречие, которое
пытался разрешить Августин: «Как могли протекать бесчисленные века, —
пишет он, — если Ты (Бог Всемогущий, Вседержитель ... Архитектор неба
и земли) еще не сотворил их, будучи Творец и Вседержитель всех веков?
Или какие времена могли быть, которых Ты не творил? Или, как они
могли проходить, когда их вовсе не было?»75 Предполагать, что Бог был
творцом времени, — значило обрекать себя на особого рода трудности,
если вставал вопрос, которым люди тогда зачастую задавались: «Что
делал Бог, каким Он был до тех пор, пока не начал творить?» «Так как Ты
Творец и времен, то как говорят те, которые допускают какое-то время
до сотворения неба и земли, что Ты в это время, прежде творения,
ничего не делал? Кто же мог сотворить время, если не Ты? И как могло оно
существовать и совершать свои прохождения прежде сотворения своего?
А как прежде сотворения неба и земли не было и времени, то у места ли
вопрос, что Ты делал тогда! Без времени не мыслимо и тогда. Да и не
предваряешь Ты времени временем, иначе не все времена предварял бы.
Но Ты предшествуешь всем временам прошедшим безначальною вечно-
стию своею, всегда присущею Тебе; и ею же переживаешь времена
будущие, которые лишь только наступают, тотчас же обращаются в
прошедшие; между тем как Ты все тойжде ecu... Лета Твои не приходят и не
проходят подобно нашим, которые сменяются одни другими, до тех пор,
пока все не пройдут. Лета Твои неизменны, потому что все они
совместны и современны... наши же лета тогда только получают свою полноту,
когда все истощатся, т.е. когда их не будет уже»76. «Итак... не было того
времени, когда бы Ты оставался в бездействии, потому что и самое
время есть Твое же произведение. И нет времени, Тебе совечного, потому
что пребываешь всегда один и тот же неизменно; а время перестало бы
42
быть временем, если бы не изменялось. Что же такое время? Кто не
затруднится изъяснить это и притом в немногих и ясных словах?» В итоге
Августин приходит к мысли о совершенной ничтожности, или, точнее
сказать, о не-субстанции времени: «Но в чем состоит сущность первых
двух времен, т.е. прошедшего и будущего, когда и прошедшего уже нет,
и будущего еще нет? Что же касается до настоящего, то если бы оно
всегда оставалось настоящим и никогда не переходило бы из будущего в
прошедшее, тогда оно не было бы временем, а вечностью. А если
настоящее остается действительным временем при том условии, что чрез него
переходит будущее в прошедшее, то как мы можем приписать ему
действительную сущность, основывая ее на том, чего нет? Разве в том
только отношении, что оно постоянно стремится к небытию, каждое
мгновение переставая существовать? (Due ergo ilia tempora, praeteritum et futurum,
quomodo sunt, quando et praeteritum iam поп est et futurum nondum est?
Praesens autem si semper esset praesens, пес in praeteritum transiret, поп tarn
esset tempus, sed aeternitas. Si ergo praesens, ut tempus sit, ideo fit, quia in
praeteritum transit, quomodo et hoc esse dicimus, cui causa, ut sit, ilia est, quia
поп erit, ut scilicet поп vere dicamus tempus esse, nisi quia tendit поп esse)»11.
В Граде Божием Августин говорит: «...где нет никакой твари, чрез
изменяющиеся движения которой образуются времена, там совершенно не
может быть времени ... Но так как течение времени образуется чрез
изменения, то время не может быть совечным неизменяемой вечности»78.
В связи с этим Августин становится заложником неразрешимых
противоречий, которые встают перед ним, когда речь заходит об особом
временном статусе ангелов, занимающих заметное место в его системе.
(Предполагалось, что восстание некоторых ангелов стало причиной
сотворения человека; считалось, что избранными человеческими
существами Бог собирался заменить ангелов-отступников: именно этим людям
предстояло занять места в обновленном духовном сообществе
Создателя.) Поскольку Бог, утверждает Августин, всегда был Господом, то у
Него всегда должны быть подданные, которые были созданы Им из
ничего и которые не могут быть совечными Ему. Этими подданными (до
того, как был сотворен человек) оставались ангелы, которые, хоть и были
сотворены Господом, всегда существовали с Ним. Поэтому, «хотя
бессмертие ангелов не оканчивается во времени, и не может быть ни
прошедшим, как бы его уже не было, ни будущим, как бы оно еще не
настало: тем не менее их движения [например, восстание некоторых из них]
переходит из прошедшего в будущее, а потому они не могут быть
совечными Творцу, о котором нельзя сказать, что в Его движении было то,
чего уже нет, или будет то, чего еще нет»79. Итак, Августину пришлось
допустить существование степеней вечности. Тем самым было
положено начало важнейшему разграничению между тремя временными
сферами — между божественной вечностью (aeternitas) и человеческим
временем (tempus), между которыми закрался «аеѵит» — измерение, в котором
существуют чисто духовные сущности, - хоть и сотворенные, но
бессмертные, «вековечные». Впрочем, сам Августин чистосердечно
признавал: «Это выше моего понимания», — представить себе, чтобы Бог
существовал прежде Его творений, в то же время никогда не существуя без
них.
43
Следовательно, время, эта область человеческой жизни, является
земным и преходящим и потому по сути оно — не-существование. В этом
воззрении Августина прослеживаются черты древнегреческой культуры
и платонизма. Но для греков цикличность земного круговорота
человеческих времен была точной копией божественной или космической
неизменяемости. Для Августина же единственное в своем роде время
существования человека на земле напрочь лишилось всякой ценности и стало
хаотичным. «Что касается настоящей жизни смертных, — пишет он, —
кратковременной и оканчивающейся несколькими днями, разве делает
какую-нибудь разницу то, чьею властию живет человек, имеющий
умереть... Я решительно не вижу, какое делает различие в отношении
неприкосновенности, добрых нравов, самого даже общественного положения
людей то обстоятельство, что одни победили, а другие побеждены, — за
исключением этой пустейшей спеси человеческой славы»80.
Поэтому все то, что происходит на Земле, - там, где существует Civitas
Terrena, не имеет для Августина никакого значения. Его занимает только
Civitas Dei, и только этот град действительно находится в развитии,
которое, впрочем, сводится исключительно к божественному творчеству. Этот
эволюционный путь, присущий Civitas Dei, согласно его сугубо духовной
природе, теперь уже не подразделяется на традиционные четыре или пять
земных этапов, соответствующих разным державам, но, по новому
обычаю, подразделяется на семь периодов, представляющих семь дней
творения, поскольку происходящие на земле изменения всего лишь отражают
или сопровождают библейскую историю. Первый день длится от Адама до
Потопа, второй — от Потопа до Авраама (и тот и другой исчисляются не
временем, а поколениями, и каждый состоит из десяти колен). За ними
следуют три периода, или три дня Божиих, из четырнадцати колен
каждый — от Авраама до Давида, от Давида до Вавилонского плена и от
Вавилонского плена до Рождества Христова. Шестой период - это время
самого Августина, поколений которого нельзя да и невозможно измерить. И
наконец, на седьмой день Бог почиет от трудов. «Этот седьмой день...
будет нашею субботою, конец которой будет не вечером, а Господним
днем...»81 На этом завершается естественное коловращение земных
событий. Происходит нечто, чего никогда еще не случалось, — наступает
вечное, нескончаемое блаженство. Однако то, что кажется новым, сводится
всего лишь, как говорилось выше, к новообретенному осознанию
плачевного состояния смертности — этому безраздельно пассивному и
бесплодному осознанию. «Что касается до наслаждения настоящим, то первый
человек в Раю был блаженнее, чем всякий праведник в настоящей немощи
смертной; но в том, что касается надежды, то всякий, кому не
предположительно, но с достоверною истиною известно, что он будет обитать в
чуждом всякой скорби обществе ангелов, наслаждаясь в то же время
общением с высочайшим Богом, всякий, при каких угодно телесных
страданиях, будет блаженнее, чем был тот первый человек, неуверенный в
великом счастии Рая»82.
Но кто мог здесь, на земле, быть абсолютно уверенным в своем
будущем блаженстве? «[Даже блаженные], хотя и убеждены они в награде за
свое постоянство, однако же относительно самого постоянства не
уверены. Ибо кто из людей может знать, что он до конца пребудет непоколе-
44
бимым в упражнении и в преуспеянии в справедливости, если
посредством какого-либо откровения не будет обнадежен Тем, Который
относительно этого и таинственным судом Своим хотя не всех предуведомляет,
никого однако же не обманывает»83. Следовательно, предопределена и
сама стойкость человека. Итак, одна неопределенность
уравновешивается другой. Только конечное блаженство в потустороннем мире
превосходит блаженство первого человека в Раю, потому что существует
уверенность, что достигнешь вечности.
Кажется, что и сам Августин ощущал всю сомнительность этого
восхождения от блаженства к блаженству — ту противоречивость, которая
делает в высшей степени сомнительным весь божественный промысел
относительно судьбы человечества, в том числе и само принесение Христа в
жертву. Он делает две неудачные попытки обосновать преимущество
конечного блаженства над начальным. В обоих случаях он пытался
преодолеть все то же противоречие, заложенное в учении о благодати и
предопределении. «Тело животное, которое, по слову Апостола, принадлежало
Адаму, было сотворено не таким, чтобы оно ни при каких условиях не
могло умереть, но таким, чтобы оно не могло умереть только в том случае,
если не совершит греха... Однако те люди, которые по милости Божией
были избраны, чтобы войти в сонм святых ангелов, пребывающих вечно
в блаженной жизни, — они-то были наделены такими духовными телами,
что уже никогда больше не смогут ни согрешить, ни умереть»84.
Предпринимая вторую попытку, Августин, в его отчаянной софистике, прибегает
к лингвистическому трюку: «свободная воля», которая была дана
человеку вначале, делала его способным не грешить, но и грешить, а эта последняя
[свобода воли] будет гораздо могущественнее, так как он уже не сможет
грешить [но и это тоже по благодати Божией, а не в силу собственных
заслуг]... Как и изначальное бессмертие, которое Адам потерял вследствие
греха, состояло в том, что человек был способен не умереть, а будущее
бессмертие будет состоять в том, что человек будет неспособен умереть, так и
первая свобода состояла в том, что он был способен не грешить, а будущая
будет состоять в том, что он будет неспособен грешить (sicut prima
immortalitasfuit... posse поп топ, novissima erit поп posse топ; ita pnmum liberum
arbitrium posse поп peccare, novissium поп posse peccare)»*5.
Довольно трудно понять, каким это образом Бог смог вначале
даровать человеку (в лице Адама) свободную волю грешить или не грешить,
а затем даровать избранным вечное блаженство посредством одной
только благодати, но уже решительно невозможно допустить, чтобы в конце
Бог мог наделить человека «свободной волей», которая по божественной
благодати заключена в неспособности ко греху: это уже полнейший
абсурд. Где нет выбора, там нет и свободной воли.
Ветхий Завет повествует о событии, которое в своей мифической
простоте являет глубокую и значимую истину: человек изначально наделен
способностью к неповиновению, ко греху, а значит, и к выбору.
Притязание человека на свободу воли - это основа его собственно человеческого
бытия: оно предполагает сознание (а следовательно, страдание, труд в поте
лица и стыд), но при этом и стремление уподобиться Богу и стать
подобно Ему Творцом. Гнев Божий против наделенного сознанием гордеца
смягчен его договором с верными и повелением искупить грех гордыни
45
путем исполнения заповедей и совершенствования человеческой
природы, которой подобает стремиться к богоподобию, посредством освящения
жизни и сознательной подготовки к Царству Божиему на Земле.
Эта изначальная библейская концепция, которая была порождена
жизненным опытом народа Израиля, знаменовала собой, как мы уже
убедились, первую попытку осуществить неповторимую судьбу
человечества — как целокупности — т. е. историю.
До сих пор целью моего повествования было показать, как проявлялось
непрерывное «цепное взаимодействие» событий и концепций, ведущих
свое происхождение от изначального библейского повествования и его
земного осуществления в человеческой деятельности вплоть до весьма
мудреных рассуждений Августина, предполагающих полное отмирание
человеческой воли, ограничение сознания, уничтожение земной жизни и
развития, а следовательно, истории, и решительное разфаничение между
духовным и земным. Философски сложное и запутанное учение
Августина оказало безфаничное и весьма ощутимое влияние на основы и
формирование средневековой жизни. Августин поставил Церковь как временную
земную замену Града Божьего; именно он придал ей характер
теократической власти, претендующей на превосходство над светской властью, тем
самым положив начало тысячелетней тяжбе между Regnum и Sacerdotium.
Своим толкованием Евангелия от Луки (14: 23), так называемым Coge
inirare, он способствовал превращению Церкви в организацию все более
воинствующую и таким образом содействовал крестовым походам и их
производному — Инквизиции. И даже когда Средневековье ушло в
прошлое, его учение о предопределении обрело новую силу, оказав мощное
влияние на антиклерикальные реформы Лютера82* и Кальвина83* и на
пуританизм84* в его бесчисленных проявлениях.
Не говоря об этом влиянии на ход исторических событий, стоит
упомянуть и об особой роли Августина в формировании исторической
мысли. Конечно, он не был тем родоначальником «философии истории»,
каким долгое время считался; его интересовала не история, а плоды
творения Божьего: ведь он исключил из истории то, посредством чего она
творится, а именно: время. И тем не менее объективно, исподволь,
именно он первым создал философскую систему для изучения судьбы
человека. А его разделение вечности и времени, его зашедшая в тупик
борьба с проблемой времени и сопутствующими ей противоречиями, а
особенно произведенное им резкое разфаничение между плотским и
духовным послужили решающим фактором для окончательного
высвобождения исторического процесса. Августина можно считать
родоначальником секуляризации85* человека.
8
Развитие истории да и жизни вообще носит волнообразный характер.
Волны достигают своего пика, потом отступают, чтобы хлынуть еще
дальше, reculent pour mieux sauter. Но даже и отливающая волна не смы-
* Заставь войти (лат.).
46
вает того, что было завоевано. Все, что однажды обрело бытие, уже не
может исчезнуть бесследно; оно может оказаться в тени; его можно
подавить, на какое-то время отодвинуть на задний план; оно может
слиться с другими явлениями, но со временем появиться вновь, выступив в
новом обличий и с удвоенной силой.
Итак, в Средние века Церковь, которая усилиями Августина прочно
утвердила свои позиции как переходного этапа к Граду Божиему и как
некоей посредничающей, умиротворяющей силы, предназначенной
руководить человеческой деятельностью, сделала земную жизнь до поры до
времени терпимой и мало-помалу заслуживающей все большего
прощения. И в самом деле: Церковь как организующая сила способствовала
земной жизни во многих ее проявлениях. Жизнь на Земле продолжалась,
а вместе с ней продолжались распри, раздоры и компромиссы. Но
подспудно, благодаря монашеству и личной святости, умерщвление плоти и
незримая горняя жизнь продолжались: по-прежнему под воздействием
жестокой, гнетущей жизни возникало ощущение неминуемости судного
дня и второго пришествия, и ожидание этих событий, хотя в основном и
пассивное, сохранялось довольно долго. Во всяком случае, жизнь
оставалась жестко обусловленной неизменно господствующими религиозными
абсолютами.
И все-таки раскол между духовным и плотским, однажды возникший,
должен был способствовать все большему высвобождению материальных
потребностей. Все большая самостоятельность протекающих профанных
процессов (высвобождение светской истории, реальной и
умозрительной) давала о себе знать все более ощутимо.
Благодаря Августину и его упразднению времени человеческая
история казалась остановившейся на какое-то время в подлинно «темных
веках»86* (ѴН—VIII вв.); она воистину казалась такой, какой и представлял
ее себе Августин: то был хаос не связанных между собой событий и
бессмысленная смена ничтожных правителей. Но вскоре она начала
обретать определенные очертания и пролагать путь обмирщению. И вновь мы
видим, как вступают в цепное взаимодействие, как прочно
соединяются и согласуются друг с другом разные факторы, духовные и
материальные, способствующие растущему преобладанию человеческого времени,
т. е. светской истории.
Это началось с ширящейся христианизации германских племен и
сопутствующего ей завоевания варварами континентальной части Римской
империи. Вначале германские правители подчинились (ιί не могли не
подчиниться) организующему руководству еще сохранявшихся
представителей церковных иерархов империи. Однако неизбежный антагонизм,
порожденный этими взаимосвязанными событиями, был чреват
парадоксальными результатами: борьба за господство между светской и
духовной властями заставляла последнюю стремиться ко все более
зримому самоутверждению. Курия, сама по себе sacerdotium, позволяла себе все
большее вмешательство в политику, соблазняясь мирскими приманками
и кичливым самодовольством. А в битвах с неверными, в которых
преследовались и миссионерские, и экспансионистские цели
одновременно, сами по себе столкновения становились причинами взаимодействия
и взаимовлияния.
47
Папа Лев III87* произвел Карла Великого88* в римские императоры, а
христианизация дала начало войнам против испанских и
южноиталийских сарацин89*: эти войны не только предшествовали крестовым
походам90*, но и велись одновременно с ними. Именно здесь проявил себя
исламский мир как соучастник всемирного исторического процесса:
взаимодействуя с главной в Европе, т. е. западной, культурой, он
по-своему стимулировал ее развитие как единственной носительницы будущей
цивилизации - научной, промышленной и технологической. Борьба с
мусульманами придала новое значение Средиземноморью не только как
посреднику для передачи знаний дохристианской эпохи, но и как
сфере международной торговли и сопутствующей ей хозяйственной
деятельности, в которую вместе с мирскими государями было вовлечено и
обмирщенное папство. Распространение веры послужило прекрасной
ширмой и предлогом, которым воспользовались, чтобы дать волю
исконной жажде рисковать и наживаться, побуждая мореплавателей открывать
новые земли, пользоваться научными открытиями (и, в свою очередь, их
стимулировать86) и расширять торговые связи.
Не могу, да и не считаю нужным (в данном контексте) подробно
описывать многостороннее взаимодействие всех этих факторов,
способствовавших секуляризации. Мне придется ограничиться указанием только на
те существенные моменты, которые оказали первостепенное влияние на
высвобождение светской истории и коренным образом видоизменили
человеческое сознание. Начнем с того фактора, который вел к усилению
роли чистого разума и развитию науки и техники.
Этот фактор вызревал внутри богословской сферы. В первые века
новой эры христианское вероучение еще оставалось эмоциональным,
находилось в процессе становления; доктрины еще не стали застывшими
догмами. Бурная эллинистическая эпоха порождала множество
синкретических сект, среди которых были гностики91*, монтанисты92*, донати-
сты93*, маркиониты94*, манихеи95*, ариане96* и др. В чем-то связанные с
учением Павла и конкурирующие с ним, они периодически возникали и
исчезали внутри христианских общин: эти учения то принимались, то
отвергались. Даже спор с арианами о «единосущии» (homoousia) Христа
и Бога-Отца, который, казалось, был улажен на Никейском соборе
(325 г.), вспыхнул с новой силой при императорах Констанции97*, Вален-
те98* и Юлиане99*. Разногласия продолжались до тех пор, пока Афанасий
Великий100* не выдвинул концепцию о «единосущности» Отца и Сына,
что, вместе с понятием о единосущности Святого Духа,
конституировало Святую Троицу, утвержденную в качестве догмата на
Константинопольском соборе 381 г. Людей той эпохи занимала и смущала прежде
всего христологическая проблема: их волновало, был ли Христос
единосущен Богу-Отцу (Которого, с другой стороны, вряд ли можно себе
представить в виде составного существа) или же Он был сотворен Богом
точно так же, как и мир; иными словами, их волновало, был ли Христос
носителем только духовной сущности или же Он был сотворен, был ли
Он неотъемлемой частью Бога или своего рода полубогом, могущество
которого было обусловленным впоследствии и ограниченным. Уже здесь
начала вырисовываться проблема времени, так глубоко волновавшая
Августина87.
48
Когда эпоха «темных» веков миновала и богословские споры
вспыхнули с новой силой, их характер в корне изменился. Если патристика101*
первоначально была апологетической и нацелена на полемику с
«внешними», то схоластика102* гораздо глубже (в духе Августина, стоявшего на
рубеже двух эпох) и гораздо осмысленней изучала философские
аспекты религиозных догматов.
И на этот раз подобная полемика была вызвана стечением разных
обстоятельств, порожденных единым историческим процессом.
Прежде всего, христианизация кельтских, а затем и германских
племен, наступившая после того, как германский мир овладел наследием
христианизированной Римской империи, означало смещение исторической
оси в сторону северных народов и вывело свежие силы на христианскую
орбиту. Эти свежие силы — англосаксы, ирландцы, франки (будущие
французы) - были не настолько христианизированы, как те народы,
которые первоначально составляли христианский мир: воспитанные в лоне
разнообразных восточных и классических традиций, те народы были
глубоко в них укоренены. Даже когда при определенных условиях
миссионеры северных народов получили представление о давно известных
богословских проблемах, они, миссионеры, были недостаточно подготовлены,
чтобы толковать их, а их обращение к христианской вере было в основном
итогом простодушной набожности и ревностной стойкости в
повседневной жизни: они руководствовались чувством реальности и
непосредственного опыта. Первым из множества «возрождений», о которых говорится в
современных исторических исследованиях, было «Каролингское
Возрождение»103*. Оно отличалось трезвым прагматизмом и было поистине одной
из ранних форм рационализма. Карл Великий, несмотря на всю его
приверженность христианству (а он прославился разрушением языческих
капищ), даже и в церковных делах выказывал невозмутимый хладнокровный
интерес только к своим политическим выгодам, что позволило иным
историкам назвать его откровенным безбожником.
Первые философские споры, возникавшие в IX в. в связи с
изучением Писания (как, например, диспут между аббатом турским Фредегизом
(Fredegisus104*) и Агобардом Лионским105* о реальности или нереальности
небытия и тьмы, из которых Бог сотворил мир), свидетельствовали о
неотлаженности понятий, которыми еще не владел смятенный здравый
смысл; впервые возникает различие между ratio и auctoritas (разумом и
авторитетом). Библейское или богословское положение должно быть
подтверждено (так говорится в трактате Фредегиза De nihilo et tenebris*)
сначала с помощью разума, а потом — с помощью авторитета, т.е. на
основе церковного авторитета, хотя даже и этот авторитет должен быть
разумным88. Здесь все еще в ходу лингвистическая тавтология разума и
авторитета, что позволяет избежать схоластического противоречия,
которое возникает позже: когда говорится, что небытие есть ничто, то
само использование предиката «быть» служит доказательством того, что
небытие есть нечто. Этот наивный аргумент основан на том
представлении, что Бог дал имя каждому из своих творений, чтобы всякое создание
можно было узнать по имени. Нет ни одной вещи, не соотносимой с ка-
" О «ничто» и мраке (лат.).
49
ким-нибудь словом, и, соответственно, нет слова, которое не
соотносилось бы с вещью.
Но гораздо важнее очевидного противопоставления ratio и auctoritas
потребность объяснить и подтвердить библейскую историю
рационально, подкрепить веру разумом. В конце концов, в XI в., эта потребность
заставит Ансельма Кентерберийского106* искать рациональных
доказательств самого существования Божия, хотя вера для него все еще
остается предпосылкой рационального осмысления. Credo ut intelligam: Верую,
чтобы уразуметь. Но задолго до него ирландец Иоанн Скот Эриугена107*,
философский гений IX в., обосновал автономию (а на деле —
превосходство) разума. По его мнению, авторитет Отцов Церкви является
авторитетом лишь потому, что, не будучи никоим образом сверхрациональным,
он выдерживает проверку разумом.
Такое ничем не стесняемое тяготение к здравому смыслу и разуму
представители северной схоластики распространили и на великие
проблемы христианского учения. Коснулось это и вопроса о пресуществлении —
вопроса о том, каким образом во время литургии хлеб и вино могут
превращаться в Тело и Кровь Иисуса Христа, коль скоро сопутствующие
качества веществ (цвет, вкус, осязаемость) остаются прежними. Относилось
это и к вопросу о единстве Троицы и, в связи с этим, к вопросу о реально-
сти или нереальности универсалий, т. е. родов и видов. В первом диспуте,
имевшем место в XI в., Беренгарий108*, глава Туре кой соборной школы,
выступил поборником разума и эмпирической очевидности. Хотя
пресуществление стало официальной католической догмой лишь в 1215 г., но
мнение Беренгария отнесли к числу еретических даже и в его время; еще
до того, как этот догмат был провозглашен, он показал его уязвимость с
позиции разума. Но диспут об универсалиях имел для дела секуляризации
гораздо более глубокое и решающее значение.
А тем временем на помощь сторонникам рационализма подоспело
еще одно изменение: произошел коренной сдвиг в характере
языческого влияния на христианскую философию. Это влияние было сильным
даже в самом начале христианской эры, оказав существенное
воздействие и на самого Павла, и на Отцов Церкви. Древнегреческое
мышление во всей его полноте оставалось в силе при становлении новой
религии и во многом ему способствовало. Но если какие элементы в
древнегреческой философии и были созвучны христианству и в какой-
то степени родственны ему (даже будучи в чем-то ему антагонистичны)
в период его становления, то это ее сверхъестественные и
сверхрациональные ответвления: стоицизм, платонизм, особенно в позднейших его
разновидностях, иудейско-александрийская философия109* (Филон),
неоплатонизм110*, неопифагореизмт* и тому подобное. Аристотель был
предан забвению; он даже пользовался дурной славой; особенно это
относилось к его логике, которую ни во что не ставил даже Августин, полагая,
что она «служила мне не столько в пользу, сколько во вред...»89
Но, как хорошо известно, в Средние века именно Аристотель мало-
помалу возобладал над Платоном (хотя неоплатонизм все еще
продолжал оказывать влияние на схоластическую философию, зачастую
сливаясь с теориями Аристотеля), и именно логика (или, как ее стали
называть позже, диалектика) Аристотеля стала мощным средством раз-
50
вития рационального познания. Это было обусловлено тем, что среди
фрагментов древних текстов, уцелевших в разрушительной смуте
темных веков, сочинения Аристотеля по логике были восприняты в
качестве самостоятельной части его писаний как обособленный раздел,
имевший чисто функциональное значение простого орудия (organon)
для тренировки ума. То, как благодаря неоплатоническому фрагменту -
«Введению» (Isagöge) Порфирия112* к «Категориям» Аристотеля или,
вернее, к его латинскому переводу с комментарием, выполненным
римским государственным деятелем и ученым Боэцием113*, логика
Аристотеля не только уцелела в темные века, но и обрела огромное
значение, - это в высшей степени запутанная и увлекательная история.
Каким же должен был быть тот фрагмент, чтобы оказать такое влияние!
Меж тем как весь корпус сочинений Аристотеля, если бы он был
известен в то время, скорее всего был бы отвергнут тогдашними
церковными авторитетами, его логика как чисто функциональное средство
могла бы стать законной частью «свободных искусств», которые достались
Церкви в наследство от увядающей античности. «Орудие»
Аристотелевой логики и в самом деле заостряло умы схоластиков, способствуя
выработке более рационального, более критического взгляда на основы
христианского вероучения. И в самом деле: Isagöge Порфирия вдруг
пролило свет на ту философскую проблему, которая таилась в
коренном различии Платоновой и Аристотелевой мировоззренческих систем:
именно она стала в XI в. главной темой схоластических споров. То была
проблема универсалий — т. е. вопрос о том, являются ли роды и виды
абсолютными реальностями (и следовательно, божественно
установленными абсолютами) или же они всего лишь общие имена (nomina, voces),
привнесенные и сочиненные людьми (и следовательно, результаты
умственной деятельности). В итоге номиналисты не только отстаивали
свою точку зрения в борьбе с реалистами, но и, подспудно,
способствовали развитию рационализма и науки.
Воинствующее христианство все теснее взаимодействовало с
мусульманством, что оказало неоценимое воздействие на западноевропейскую
философию благодаря все усиливающемуся притоку древних текстов. В
XI в. нормандцы-христиане отвоевали у сарацин Южную Италию и
Сицилию. Примерно в то же время, в XI—XII вв., имела место
христианская «Реконкиста» в Испании. В эти некогда запертые, но теперь вновь
распахнутые врата хлынул поток древних знаний и мысли. Среди
разнообразных источников, из которых Европа черпала эти знания,
первостепенное значение имели информационные потоки Иберийского
полуострова. Испания, говорит Чарлз Гомер Хаскинс114*, «написала свой роман
о торговле, — начиная с "увязанных тюков" тирского торговца и до
груженных серебром кораблей Вест-Индии; роман об открытиях и
завоеваниях, воплощением которых были Колумб и конкистадоры; роман о
крестовых походах и странствующих рыцарях, героями которого были Сид
и Дон-Кихот115*. Есть у нее и свой роман о науке, о скитаниях по новым
путям и даже по заповедным тропам знания. В результате сарацинского
завоевания Иберийский полуостров на протяжении почти всего
Средневековья оставался частью мусульманского Востока, наследником
восточного образования и науки... и основным путем их проникновения в За-
51
падную Европу. Когда в XII в. латинский мир начал впитывать эту
восточную культуру, поборники нового знания обратились прежде всего к
Испании, где все искали ключ к накопленным там сокровищам
математики и астрономии, астрологии, медицины и философии...
Необыкновенное приключение ждало европейских ученых на Иберийском
полуострове»90. Эта «страсть к Испании» по-настоящему вспыхнула только
после наступления христианских войск, т. е. в XII в.
Если в Восточной (Византийской) империи греческая традиция
никогда не иссякала, то на Запад в эпоху раннего Средневековья она почти не
проникала. Однако «греческая культура широко распространилась на
Восток благодаря переводам на сирийский, древнееврейский и арабский
языки... в этих переложениях иногда сохранялись те труды,
древнегреческие оригиналы которых были утрачены... Переводы на древнееврейский...
имеют огромное значение для Запада, поскольку вместе с добавлениями,
сделанными en route*, они были основным средством проникновения
древнегреческой науки и философии в латиноязычную Европу. Пути этого
проникновения были порой долгими и окольными (с древнегреческого
эти сочинения переводились на сирийский или древнееврейский, затем -
на арабский, а после — на латинский; причем испанский язык зачастую
использовался как промежуточный), но зато проторенными и приводили
в конце концов на латинский Запад»91. Переводчиками и посредниками-
толкователями и в самой Испании, и в Южной Франции, куда эти труды
проникали прежде всего, были в основном евреи.
В данном случае нас интересует то, как происходило внедрение всей
Аристотелевой философии в христианское мировоззрение, и то, какой
это производило революционный переворот в мышлении, — а особенно
с тех пор, как эти тексты стали доходить с комментариями арабских и
еврейских ученых и, прежде всего, в обработке великого арабского
философа Аверроэса (1126-1198). Этот тонкий мыслитель и ярый
приверженец Аристотеля уже вступил в противоречие со своей мусульманской
религией, принимавшей теории Аристотеля лишь в качестве пикантной
приправы, - не более чем иудаизм и христианство. Оказавшись под
гнетом этого противоречия, Аверроэс попытался найти выход (или, точнее
сказать, лазейку), который заключался в разграничении между
буквальным, популярно-религиозным и аллегорическим, т. е. философским,
толкованием Корана. По мнению Аверроэса, только разум способен
решить, какие разделы Корана относятся к исконно религиозной традиции
и какие из догм можно истолковать, - и как именно их толковать. В этом
смысле Аверроэс является подлинным основоположником учения о
двойственной истине, позднейшим глашатаем которой был его французский
ученик Сигер Брабантский116*. Это означало, что одно и то же понятие
может быть истинным в религии, но ложным в философии и наоборот.
Данное учение породило в корне непреодолимое расхождение между
разумом и верой, что и стало началом торжества разума.
Вообще, философия Аристотеля содержала в себе элементы, на
которые могли опираться в своих суждениях представители обеих
соперничающих партий схоластов, — как реалистов, так и номиналистов. Именно
* Попутно {франц.).
52
это (помимо обаяния диалектики) и стало, по всей видимости, той
причиной, по которой учение Аристотеля пользовалось в Средние века
таким авторитетом, что главные споры велись в терминологии
Аристотеля; с одной стороны, Бог Аристотеля един и является чисто духовной
нематериальной субстанцией, неподвижной движущей силой и концом
всего, единством и творческой природой всех вещей; а роды (вторичные
субстанции) реальны сами по себе — именно это и было по душе
реалистам. Но, с другой стороны, роды — это не независимые реальности, они
действительно существуют и доступны постижению только в вещах -
многочисленных и многообразных. Роды — это основополагающие
принципы и, как таковые, суть движущие причины и конечные пределы
материальных вещей, существующих потенциально. Посему они увязаны с
индивидуальными субстанциями; и если метафизически, как дающие
начало, формообразующие субстанции, роды первичны, то логически и во
времени они следуют после, потому что их можно постичь только с
помощью индуктивно выводимых понятий. И это соответствовало
толкованию номиналистов.
Разумеется, в теории Аристотеля были и такие моменты (а особенно
те, на которых настаивал Аверроэс), что коренным образом
противоречили христианскому учению и поначалу вынуждали церковных иерархов
запрещать философию Аристотеля; впрочем, это запрещение было
безрезультатным и недолгим. Одним из опасных моментов такого рода было
отрицание Аристотелем бессмертия индивидуальной души; другим (а он
был в некоторой степени связан с первым, хотя в данном случае
кажется нам важнее) — проблема времени. Было ли оно создано Богом или
существовало от века? То была старая Августинова дилемма, значение и
смысл которой теперь проявились полностью в результате
противостояния христианского учения философии Аристотеля и отточенному
диалектическому анализу.
Но вскоре открытое Аристотелем противопоставление - единение
формы и материи, их разделенность и соединенность — стали казаться
полезными для разрешения этой дилеммы, а после того, как было
создано понятие двойственной истины, она обретала особый смысл на фоне
все увеличивающегося разрыва между теологией и философией —
обретала даже тогда, когда, как в случае с Фомой Аквинским117*, отрицалось
коренное противопоставление веры и разума.
Одолевавшие Августина сомнения имели своей причиной его
довольно наивное отношение ко времени или как к чему-то материальному,
или как к чему-то такому, что, наравне с остальным, принадлежало к
падшему миру. Но впоследствии благодаря влиянию Аристотеля
проблема тварности или, наоборот, бесконечности времени стала равнозначна
общей проблеме материи, а материя благодаря ее «союзу» с
одухотворенной формой (или, вернее, с ее возможностью обрести форму, с ее
тяготением к форме) получила некое место в божественном творении, была
подразделена на несколько категорий — на присущую всем «materia
prima» и обретшую физическую форму «materia secunda», или «signata», на
воспринимаемую чувствами «materia sensibilis» и на чисто умозрительную
«materia intelligibilis». Время оказалось связанным с причинностью,
причинность - с творением: если, как считали Бонавентура118* и Фома Ак-
53
винский, каждое конечное существо имело своей причиной другое такое
же существо, то последовательность обусловленных существ должна в
итоге привести назад к первичному необусловленному существу, к causa
prima*, а стало быть, — к творению; и, с другой стороны, если основой
восприятия творения является вера, то отсюда следует, что мир имел
начало. И тем не менее считалось, что акт божественного творения, или
творческого вмешательства, может быть также и вечным (creatio continua)
и потому таким же, вечным, может быть результат этого творения, т. е.
мир, т. е. материя, т. е. время. Проблема, поставившая в тупик
Августина, стала теперь казаться не такой уж страшной и даже почти
разрешимой в силу ее разделения на множество отдельных и все более
абстрактных проблем и, в частности, в силу возможности отодвигать их решение
то вперед, то назад, перемещаясь от откровения к философии и от
логики к вере.
Окончательная победа разума над верой, означавшая победу сугубо
светского, исторического времени над чисто духовной вечностью (что
было неявной предпосылкой зарождения эмпирической науки), стала
возможной лишь благодаря признанию исключительной реальности
индивидуальных сущностей. Аристотель заложил для этого основу, а Бонавен-
тура (1221—1274) вслед за ним увидел, как из единства материи и формы
зарождается, появляется индивидуальность. Фома Аквинский (1225—
1274) реально предвосхитил непреложный закон современной науки:
хотя знание имеет дело с универсалиями (мы бы сказали: с «законами»)
(scientia est universalium), но эти унверсалии, имманентно присутствуя в
индивидуальных сущностях, могут быть выведены из них лишь путем
абстракции (universale fit per abstractionem a materia individuali). Разумом
можно постичь универсалии, т. е. сущности, если вычленить их из
индивидуальных субстанций, в которых они находятся, хотя сами по себе они
не обладают отдельным, независимым существованием, на деле обладая
сущностью, а не существованием (universalia... поп sunt res subsistentes, sed
habent esse solum in singularibus). Дуне Скот (1265 или 1272—1308)119*
положил конец разграничению сущности и существования: для него все, что
существует, одним этим, ео ipso, самим фактом существования является
сущим и потому должно считаться универсальным. Но за сущностью как
свойством всего сущего он в единичных вещах усматривает
дополнительное особое свойство чистой индивидуальности, конкретной этости
(haecceitas). Такие концепции расчистили путь радикальному
номинализму Петра Ауриоли (ок. 1300)120* (ученика Дунса Скота), Дюрана де Сен-
Пурсена121* и, наконец, Уильяма Оккама (ок. 1300-1349)122*, для которых
в реальности существуют только индивидуальные субстанции. Их
скептицизм распространялся на все метафизическое умозрение, резко
разграничив веру и логическое мышление, для которого требовалась полная
свобода. Оккам зашел так далеко, что даже подверг сомнению
утверждение, согласно которому череда конечных причин должна в конце концов
привести к Богу как prima causa. А еще он отрицал возможность доказать
единство и бесконечность Бога; ему казалось возможным признать
множественность миров и творцов.
* Первопричина (лат.).
54
Школа Оккама в Париже стала центром тех научных течений,
которые преодолели барьеры авторитетов схоластики и Аристотеля; начиная
с XIV в. школа Moderni* (номиналисты)123* встала в оппозицию к школе
АпѴщиГ (реалисты)124*. Именно здесь зародились и проникли в Германию
и Италию те новшества, которые обрели огромное значение. Жан Бури-
дан125*, Альберт Саксонский126*, Николай Орем127* стали подлинными
основателями современной динамики, небесной механики и
аналитической геометрии: они были предшественниками Коперника128* и Галилея.
Знаменательно, что эти новшества возникли из теории импульса, т. е.
имели своим основанием проблему движения. Самое яркое описание
этого изменения принадлежит Герберту Баттерфилду, автору эссе
Историческое значение теории импульса. Согласно теории Аристотеля, «тело
будет пребывать в движении только до тех пор, пока движущая сила
будет на него действительно воздействовать, все время сообщая ему
движение. ... [в] мире Аристотеля... предметы, которые находятся в движении,
все время должны испытывать на себе воздействие движущей силы... то
был мир, в котором незримые руки должны все время что-то делать, а
возвышенные умы - вращать планетарные сферы. В свою очередь,
каждое тело должно обладать душой и устремлениями... так что сама по себе
материя обладает, казалось, мистическими свойствами... современная
теория движения стала тем величайшим фактором, с помощью
которого в XVII в. из мира были изгнаны духи, а Вселенная обрела точность
часового механизма. Но дело не только в этом: те люди, которые
самыми первыми начали в Средние века великое наступление на теорию
Аристотеля, сознавали, что в этом заключался колоссальный смысл. Первый
из этих замечательных людей, Жан Буридан, еще в середине XVI в.
показал, что его полемическое толкование устранит потребность в Умах,
вращающих небесные сферы... Немногим позже Николай Орем пошел
еще дальше, заявив, что согласно новой, тоже полемической, теории Бог
мог бы завести мир как своего рода часы и дать им возможность дальше
идти своим ходом... Здесь перед нами пример цельного учения, которое,
развиваясь, обрело вид традиции школы мыслителей. Особенное
влияние оно имело в Париже, где оставалось в силе еще в начале XIV в. В его
истории прослеживается преемственность: мы знаем, как это учение
проникло в Италию... как его подхватил Леонардо да Винчи... Мы
знаем, что мысли последнего, когда-то считавшиеся замечательными
озарениями, опередившими свое время, гениальными прозрениями, на самом
деле были списаны у парижских схоластов XIV в. среди тех, кто оказал
влияние на Галилея... и что ранние работы Галилея о движении
относились именно к этой научной школе»92.
Ярко выраженная склонность к натурфилософским исследованиям,
которой особенно отличались мыслители Северной Европы, стала
постепенно обретать все более четкие очертания еще в XII—XIII вв. Хотя
стимулом для ее развития были философия Аристотеля и
неоплатонизм, новое учение пошло дальше благодаря самостоятельным
наблюдениям, экспериментам и прикладной математике. Ученые типа Робер-
* Современные (лат.).
** Древние (лат.).
55
та Гроссетеста129*, Петра Пилигрима из Марикура130*, которого Роджер
Бэкон назвал dominus experimentorum et experimentator fidelis \ Альберта
Великого131*, Витело132*, Дитриха Оренбургского133* и Роджера Бэкона134*
(к ним следует отнести и императора Фридриха И135*) все глубже и
глубже погружались в исследования земной жизни. Альберт (1193?—1280),
не обинуясь, указал правила современных научных исследований:
«Некоторые из этих явлений... — отмечал он, — мы принимаем как
бесспорные, некоторые сами проверяем на опыте (experimento probavimus), а
некоторые объясняем со слов людей, которых хорошо знаем, — но берем
в рассуждение не пустые слова (поп defacili aliqua diceret), а только те,
которые подтверждены опытом»93. И Роджер Бэкон почтительно
называет своего учителя, Роберта Гроссетеста (1175—1253), среди тех
«известнейших людей, которые благодаря свободному владению
математикой смогли объяснить причины всех вещей»94. Отсюда вытекают принципы
и предпосылки современной науки: единственно реальны только единичные,
чувственно воспринимаемые субстанции; метод абстракции, правила
строгой, материальной причинности и экспериментальной проверки и
способы математического выражения: все это было ясно сформулировано
еще в ХП-ХІІІ вв.
В конце концов оккамисты порвали со схоластикой, с одной
стороны, утвердив в исследованиях свободный разум, опыт и наблюдение, а с
другой - оттеснив религиозных реформаторов вроде Лютера и
Кальвина ради чистого, диалектически безупречного культа веры и милосердия.
Но и это реформаторство по-своему привело к секуляризации; с одной
стороны, к автономии государства, а с другой — к свободе
предпринимательства.
9
Влияние Аристотеля с его рационализмом, наконец-то возобладавшим,
было лишь одним из множества составляющих, которые вели к
секуляризации. Даже и внутри самой схоластики оппозиционное
неоплатоническое направление, сплетаясь и взаимодействуя с философией
Аристотеля, способствовало усилению тяги к изучению природы.
Но не меньшее значение для секуляризации имело и то, что
произошло в сугубо религиозной сфере. Церковь, борясь за главенство над
светскими властями, сама вынуждена была стать светской властью, глубоко
замешанной в политических делах. В результате слабела ее духовная
дисциплина, поскольку главной заботой церковных иерархов было
обогащение, погоня за успехом и необыкновенное тщеславие. Коррупция,
симония136* эксплуатация народа, злоупотребления в политике и
широкое использование мер духовного наказания типа отлучения и
интердикта137* слишком хорошо известны, чтобы здесь подробно на них
останавливаться. Вследствие этого официальная Церковь с ее обмирщенным
духовенством слабела изнутри и атаковалась снаружи, сотрясаемая как
монашескими, так и еретическими движениями.
* Мастер экспериментов и правоверный экспериментатор (лат.).
56
Само монашество, задуманное как духовная корректива вырождения
Церкви, под воздействием мирской суеты, — и оно подчинилось духу
времени, и оно было ослаблено, а особенно с тех пор, как в угоду
политике пап стали учреждаться ордены. Ордены постоянно
реформировались (включая реформы Бенедикта Анианского138* в IX в., клюнийцев139*
и камальдулов140* в X в., картезианцев141* и цистерцианцев142* в XI—XII вв.
и даже основание нищенствующих орденов143* в XIII в.), что должно было
напомнить о глубинно-христианских целях, сделать их снова частью
жизни. Монашеские реформационные и, с другой стороны, еретические
движения постоянно переплетались и влияли друг на друга, и границы
между ними зачастую бывали размытыми. Еретические секты типа
катаров144* (богомилы145* и альбигойцы146*) представляли собой пережитки
древних сект, которые в апокалиптические и патристические времена так
или иначе связались с христианством, причем манихейский дуализм147*
сохранился даже и в самом христианском вероучении, в делении на
ангелов и бесов, на небо и ад, на дух и плоть. Вальденские pauperes* и
францисканские spirituales (fraticelli)" действовали заодно, возвеличивая
раннехристианскую добродетель бедности, будучи в равной степени
преследуемы Инквизицией.
В конце XII в. Церковь все еще обладала огромной властью над
простыми людьми. Казалось, будто она подтверждала и
действительно имела то двойное значение, которое придал ей Августин: и
великолепие ее устройства, и ее призывы к крестовым походам, и ее
феодальное превосходство над такими правителями, как короли Сицилии,
Арагона и Англии, — все это и впрямь делало ее заместительницей и
предтечей Царства Божиего, постепенно объединяющей все народы в
некий universa gens, во всемирное сообщество. Одновременно
Церковь, обладающая благодатной способностью совершения таинств,
как бы предваряла спасение отдельно взятой человеческой души. Но
под этой блестящей оболочкой зарождалось движение, поводом для
возникновения которого было падение нравов среди духовенства.
Среди замечательных последствий этого реформаторского движения
было и то, что благодаря ему изменились воззрения на историю: путь
к спасению, который, по мнению Августина, пролегал в сугубо
духовной сфере, вновь стал путем земным, как и во времена Израиля; он
был продолжен и вновь возвращен истории в новых условиях
Средневековья.
Новая концепция оформилась одновременно и, насколько нам
известно, независимо во Франции и Италии в конце XII в.: в Париже
клирик и педагог Амальрик (Amalricus) Венский (ум. 1204 или 1207)148*,
а в Италии цистерцианский аббат Иоахим Флорский (ум. 1202)149* — они
оба ожидали, что в ближайшем будущем произойдет великий поворот
времен, и оба пришли к сходным представлениям о постепенном
приближении спасения, разбив время всемирной истории на три этапа
эволюции (status), которые соответствовали трем лицам Святой Троицы:
первый период, эра Отца, длился от Сотворения мира до явления Хри-
* Бедные (лат.).
** Спиритуалы (лат.); братцы (итал.).
57
ста; второй период, эра Сына, начался со Страстей Христа и
продолжался до их времени, а третий период, который должен был вот-вот
наступить и длиться до конца времен, будет эрой Духа Святого.
Амальрик Венский был более решительным реформатором, чем
Иоахим Флорский, хотя воззрения его были не столь глубоки. Не таким
значительным было и его влияние на эволюцию консервативных
средневековых представлений касательно отношения человека и Абсолюта.
Основой его еретических воззрений был радикальный,
ультрамистический пантеизм150*, соединяющий ранний неоплатонизм Ареопагита'51* и
поздний мистицизм Майстера Экхарта152*. Кроме того, в его теории
оставались и элементы учений Платона и Аристотеля, укорененных в
сознании людей XII в.; а выводы, которые вытекали из этого смешения
учений, оказались радикальными. Его основополагающий тезис был
таков: все сущее есть Бог; Бог есть все и вся: Бог — это форма, сущность
и существование всех вещей. Он существует всегда и во все времена, ибо
Он - во времени, а время - в Нем. Соответственно, Он существует и
сейчас, в данный момент. Бог вездесущ и, следовательно, — Он
повсюду. Поскольку Бог есть все и творит все в каждом из нас, то Он
порождает и добро, и зло. Следовательно, тот, кто признал Бога как творца
всего в себе, неспособен грешить, а если кто-то приписывает свои дела себе,
а не всецело одному только Богу, то пребывает в состоянии невежества,
которое и есть Ад. Ад — это не что иное, как невежество, а Рай — не что
иное, как познание истины.
Из всего этого неизбежно вытекает, что в таинствах нет никакой
пользы, а пресуществление иллюзорно. Коль скоро вера тождественна
знанию, то особое значение придается духу, и Дух Святой, полагает
Амальрик Венский, в конце концов должен воплотиться в каждом
человеке. Подобно тому как закон Ветхого Завета, воплощенный в Аврааме
и патриархах, был вытеснен апостольским учением, воплощенным в
Иисусе Христе, точно так же закон Евангелия должен уступить место
водительству Духа Святого, воплощенного в «spirituals», последней стадии
человечества95.
Иоахим Флорский, менее экзальтированный в своих христианских
упованиях и более серьезный мыслитель, выработал основательное
детальное и четко выраженное учение о пути к спасению в процессе
истории. То был уже не подобный Августиновому всеобщий или частный
трансцендентальный путь, но, подобно изначальным иудейским
представлениям, то был процесс конкретного восхождения (ascensio) к
совершенству здесь, на земле: спасение придет не «в конце времен», но в
самом времени96.
Впрочем, учение Иоахима куда более продуманно и логично, чем этот
направляющий ветхозаветный постулат. Оно не могло не вобрать в себя
все, что уже произошло, и было предметом споров: так появилось новое,
более четко выраженное мировоззрение. Иоахим исходит из того, что
существует тесная связь (или, точнее, единство) между Ветхим и Новым
Заветами. А это представляется ему доказательством согласованности
преобразований, происходящих с человеком, - преобразований в
индивидуальном сознании и в общественном порядке: «Жизнь должна
преобразовываться, потому что сам мир невольно преобразуется» и «Дух Святой
58
должен изменить наш ум... так, чтобы в определенном смысле мы были
уже не тем, что мы есть ныне, но стали бы другими»97.
Преобразование ума (spiritualis intelligentia) происходит не так, как у
мистиков, — это не чисто личное, внезапное озарение, которое может
случиться в любое время и на любом историческом этапе. Нет, оно
достигается благодаря общему эволюционному движению познания - от
знания о том, что происходит на Земле (scientia), к ограниченному
познанию божественной основы человеческого существования (sapientia ex
parte) и, наконец, к полноте духовного познания {plenitudo intellectus). Эта
духовная эволюция соответствует преобразованию человеческой
общности, которая переходит от зримо-осязаемого ко всецело
одухотворенному состоянию. На первом этапе, в эру Отца (и женатых людей), мы
подчинялись закону, а потому пребывали в страхе и рабстве; на втором
этапе, в эру Сына (и духовенства), мы подчинялись благодати, а потому
вверяли себя вере, хотя все еще служили сыновьям, т.е. Церкви. На этих
двух этапах цели спасения все еще выражались с помощью зримых, хотя
и загадочных знаков, символов (figurae) и таинств. Но божественная
истина раскрывается постепенно - раскрывается таким образом, что при
переходе с этапа на этап таинства высшего этапа (status) влекут за собой
восполнение и упразднение таинств низшего этапа. На третьем этапе,
в эру Духа Святого (и монахов), все люди обретут свободу в царстве духа
и любви. Это будет означать отторжение всех вообще таинств, что
произойдет благодаря полноте духовного просвещения и, следовательно,
освобождения из-под власти Церкви. Наступит эра монашеской общности,
общности смирения, бедности и любви.
Данная концепция в целом конституирует историзацию божественного
откровения, коррелятивную преобразованию человечества, являя собой
воплощение духа в обоих смыслах этого слова: овеществление
божественного духа совпадает с погружением в глубины собственного сознания, с
сокровенным постижением божественного. Действуя методом этой
«типологической экзегезы» (т. е. через демонстрацию согласованности,
concordia, знаков предыдущих этапов с поступательно осуществляемыми
событиями позднейших этапов), Иоахим видит вытеснение Вселенской
Церкви имеющей возникнуть в конце духовной общностью, что
аналогично рождению, смерти и воскрешению: подобно тому, как Давид стал
наследником Саула, а Иоанн Богослов - наследником Петра, так и на
смену епископам придет общество духовных людей; подобно тому как
Петр, согласно пророчеству Иисуса, умер мученической смертью,
оставив после себя Иоанна, так и папская Церковь должна отмереть, оставив
после себя более совершенную «Духовную Церковь». Весь путь Иисуса
Христа как Бога и человека рассматривается как прообраз судьбы
Церкви; то, что претерпел Христос своими страстями, смертью и
воскресением, происходит на ином уровне с его мистическим телесным
воплощением — с Церковью. «Духовная Церковь» была сокрыта во Вселенской
Церкви, и по достижении ею того состояния, когда евангельские
заповеди бедности и смирения явятся в их полной чистоте, наступит то, что
всегда ожидалось как Царство Божие.
В соответствии с этим общим тяготением к сублимированному
общественному воплощению (communization) личной судьбы Иисуса Христа сам
59
образ Мессии обрел несколько туманный, расплывчатый характер.
Согласно учению Иоахима, реальным вождем в Царство Духа Святого
должен стать сам монашеский орден (ordo spiritualis) как авангард
конечного преобразования человечества. Но Иоахим, кажется, так и не пришел
к окончательному выводу и потому не смог полностью отказаться от
конкретного предводителя, которого он не мог четко определить и
характеризовал как своего рода «папу ангелов», «носителя Духа Святого» и
преобразователя Вселенской Церкви в «Духовную Церковь», - как «нового
вождя», собирающего достигших совершенства праведников.
Иоахим считал евангельскую общность двенадцати апостолов
прототипом его духовной общности и даже говорил о возврате к исконно
христианскому образу жизни (redire adformam illam), хотя этот возврат
должен произойти «по аналогии»: он совершится в будущем, а не в прошлом.
Исконно евангельский образ жизни был дан лишь в качестве образца и
отправного пункта для грядущего осуществления, evangelium aeternum*.
Однако здесь мы обнаруживаем еще одно свойство этой историзации
пути к спасению, которая в какой-то мере близка к исконному
иудейскому пониманию. Теперь уже покончено с Августиновым пассивным
подчинением предопределению и благодати. Евангельская жизнь - не
просто знак божественной избранности и не сокрытая жизнь в
трансцендентной вечности, но активный залог того, что в полной мере проявит
себя в будущем. Таинство само по себе не спасает и не ограждает
человека; это происходит только тогда, когда приемлющий таинство своим
образом жизни (moribus) осуществляет то, что только знаменует собой
таинство. Поэтому в процессе формирования жизнь христианина
должна быть vita activa**, и только в конце времен «и сама vita activa, и
потребность в таинствах исчезнут и созреет плод vita contemplativa"*». Время
борьбы, наступившее в царствование Давида, завершится, и начнется
время мира, предзнаменованием которого служило царствование
Соломона.
Историзация влечет за собой еще одно важное следствие. То, что для
Павла и для Августина было «сокрытой горней жизнью» праведников,
уже преобразовалось в жизнь фядущего поколения — того передового
поколения, которое в переходный период существует одновременно со
все еще господствующим поколением предшествующего этапа. Именно
эти передовые представители духовной общности и призваны
приблизить эру Святого Духа. Здесь Иоахим поднимает вопрос о
сосуществовании поколений, который в наш XX в. живо обсуждается в исторической
науке, в частности - в истории искусства98.
Очевидно, что учение Иоахима противоречило догматам и
требованиям официальной Католической Церкви и что они неизбежно вели к
подрыву ее авторитета. Все многочисленные варианты Иоахима
проистекают из его историзации Троицы, откровения и самого спасения.
Включение Троицы в историю и ее подразделение на этапы (status)
могло быть истолковано как разделение единства. Все притязания Церкви
* Вечное Евангелие (лат.).
" Активная жизнь (лат.).
*** Созерцательная жизнь (лат.).
60
были основаны на том, что в прошлом имело место только одно
откровение, которое должно оставаться действенным всегда, воплощенное в
«кафоличности», коль скоро Церковь замещает на земле Царство Божие
и, в неявной форме, является носительницей его таинств. Именно
поэтому существует непрерываемая преемственность пап, этих до
скончания времен «наместников Христа». Папская Церковь считала себя
мистическим воплощением или, скорее, превоплощением воплотившегося
Сына Божьего, «corpus mysticum Christi»*, в котором все человеческие
состояния были божественными «призваниями» и потому оставались
вечными и неизменными. Всем этим притязаниям бросала вызов
предложенная Иоахимом концепция преобразования.
Эту концепцию можно считать религиозным выражением нового
исторического сознания или, скорее, богословским прообразом учения
Гегеля о самопознании абсолютного духа, проявляющего себя в
человеческом обществе; проще говоря, монашеская община Иоахима
соответствует идеальному государству Гегеля153*. В его учении даже
содержатся начатки диалектического метода. Иоахима в гораздо большей
степени, чем Августина, можно считать предтечей философии истории.
10
Идеи Иоахима и его заповедь вести общинную жизнь в евангельской
бедности, смирении и духовности продолжались в новых
нищенствующих орденах XIII в. (особенно у францисканцев). А после того как и этот
орден тоже, очень скоро, выказал склонность к обмирщению и был
поставлен на службу папству, непримиримое меньшинство среди его
членов, spirituales, или fraticelli, по-прежнему упорствовало в следовании
евангельскому учению Иоахима, проповедуя и прославляя evangelium
aeternum до тех пор, пока в XIV в. они, в качестве представителей
еретической секты, не попали в руки Инквизиции. И в самом деле: их
влияние затронуло и область политики - во времена борьбы Людовика IV
(Людовика Баварского154*) с авиньонским папой Иоанном XXII155* и
сопутствующей этой борьбе гротесковой полемики по поводу бедности
Иисуса Христа. Даже революционное законодательство римского
«трибуна» Кола ди Риенцо156*, который в 1347 г. полгода правил городом,
несло в себе следы иоахимитского вдохновения.
Но еще большее влияние, чем евангельское слово Иоахима, имели его
предсказания о близкой смене времен: на протяжении всего XIII в. люди
ощущали близость грядущей евангельской эры; они верили, что
благословенная грядущая эра будет подобна эпохе первоначального
христианства".
Это, и в самом деле, был эпохальный поворот. Император Фридрих II
Гогенштауфен (1194—1250) начал свое революционное правление в
1215 г. Оно стало апофеозом Средневековья и началом Возрождения.
Ожидалось, что мир станет евангельским, но он оказался в основе
своей антихристианским, совершенно обмирщенным. Эпохальный перево-
* Мистическое тело Христа (лат.).
61
рот совпал со временем борьбы Фридриха с его могущественными
противниками — папами Григорием IX157* и Иннокентием IV158*, — которая
стала кульминацией векового соперничества между императорами и
папами. Однако с особой четкостью этот поворот проявил себя в
двойственной позиции и неоднозначном жизненном пути самого
Фридриха II, который то предпринимал крестовый поход, то отлучался от
Церкви папой. Его взлет совпал с подъемом францисканского движения,
«Иоанном Крестителем» которого был Иоахим; а сам он, используя
антиклерикальные и апокалиптические настроения эпохи, уподоблял себя
сначала Августу, правителю золотого века мира, — века, когда родился
Христос, а впоследствии, претендуя на роль духовного лидера всего
христианского мира, - даже самому Иисусу Христу. Его славили как князя
мира, как Мессию и Высшего Судию людей - и его проклинали.
Проклинали не только папские гвельфы159*, но и (что показательно) иоахи-
миты160*, - проклинали как князя бесовского, как Антихриста, которого
еще с евангельских времен ожидали как предвестника второго
пришествия, что явится в обличье Мессии. На протяжении веков считалось,
что приход Антихриста был предвозвещен в пророчествах Сивиллы, а
воплощением Антихриста считали разных языческих правителей —
Нерона161*, Домициана162*, Мухаммеда163*. Но еще никогда ни один из
персонажей не был так исторически близок образу Антихриста, как в
далеком XIII в. был ему близок тот христианский император, который
сокрушил христианские устои и заповеди в последние годы своего
жестокого, безбожного, тиранического правления. То была реальная исто-
ризация Антихриста, за которой последовало не Царство Божие, не
Царство Духа Святого, но окончательная эмансипация человека100.
11
Мы проследили три важнейших направления эволюции, которые
привели к секуляризации и историзации: схоластическое, религиозное и
политическое; все они на деле до сих пор еще находились в сфере религии, т. е.
рассматривались с точки зрения отношения человека к абсолюту; все
взаимодействовали и конвергировали. Но имеется еще одно, не менее
важное направление, которое нам следует бегло рассмотреть. Речь идет
о самой повседневности, в которой поневоле преобладают мирские
заботы. В XII в. в результате развития торговли начали возвышаться и
крепнуть города; меж тем как расширение торговли было, в свою очередь,
обусловлено новым открытием Средиземноморья во время крестовых
походов и христианской Реконкисты Южной Италии, Сицилии и почти
всего Иберийского полуострова. Потребности растущих городов и
расширение сферы торговли влекли за собой большую упорядоченность и,
в частности, большую методичность и гибкость судебной системы, что
предполагало создание стройного свода законов и возрождение
юриспруденции. В хаосе раннего Средневековья основой судопроизводства
были разнородные, бессистемные и причудливые обычаи варварских
племен, местные традиции и многообразные типы феодальной
зависимости. Основные нормы светского законодательства могли осуществ-
62
ляться лишь на базе римского права, которое даже в самом Риме,
сохраняясь в качестве местной традиции, существовало в урезанном и
упрощенном виде. Однако, будучи облеченным в такие неупорядоченные и
случайные формы, римское право не смогло бы оказать того широкого
и консолидирующего влияния, которое оно обрело в Европе в
последующие века, когда сцементировало целые народы и государства. Возникла
потребность в систематической юриспруденции, в изучении и
толковании римских кодексов, среди которых самым значительным была Диге-
ста — свод сочинений великих римских юристов, вновь появившийся в
ХІ-ХІІ вв.
Начало возрождению римского права164*, его изучению и преподаванию
было положено около 1100 г. знаменитым юристом Ирнерием165* из Бо-
лонского университета. Он отделил изучение права от риторики — одного
из традиционных «свободных искусств», и тем самым сделал
юриспруденцию самостоятельной дисциплиной. В своих Глоссах он
проанализировал и истолковал сложные места Свода (Corpus) — истолковал
буквально, ссылаясь при этом на другие соответствующие части текстов, а при
обучении школяров прибегал к вопросам и дискуссиям. Он основал
целую школу и стал родоначальником поколения глоссаторов, которые
добавляли свои комментарии к комментариям предшественников, что
несколько напоминало талмудическую традицию Гемары и Галахи166*. Тем
самым объем текстов увеличивался почти вдвое, а многословные глоссы
зачастую разрастались в целые тома.
Интеллектуальная деятельность глоссаторов имела далеко идущие
последствия. Постоянно упражняя свой ум в казуистических тонкостях
(а эти аналитические способности высоко ценились их
предшественниками — римлянами, превозносившими «письменный разум»), они не
только сделали юриспруденцию «соперницей ... светской соперницей»
богословия, как отмечал Хаскинс, но юриспруденция оказала влияние и
на саму схоластику, став своего рода «первопроходцем диалектического
анализа, прихотливо приспособившегося к логической эпохе и
имеющего дело со строго ограниченным материалом»101. Это стало возможно
благодаря «правилу доводить всякий закон до логической крайности и столь
же строгому правилу приводить его любой ценой в соответствие с
внешне противоположным принципом; то была страсть к классификации, к
определениям и скрупулезным разграничениям, гениальная
изощренность...»102
Из Болонского университета традиция изучения римского права
распространилась и в другие университеты; оно стало использоваться на
практике и оказывать упорядочивающее влияние не только на городские
дела, но и на политическую жизнь всей Европы. Каноническое право167*,
которое во многих отношениях было, несмотря на его религиозную
сущность, ответвлением римского права, подверглось кодификации около
1140 г. Систематизировал его Грациан168*, монах из Болоньи. Decretum
Gratiani, «Конкорданс несогласующихся канонов», несет на себе
отпечаток школы Ирнерия и, в качестве первого авторитетного учебника
канонического права, полностью свободен от собственно богословия. Впредь
все участники политических споров стали, защищая свои интересы,
апеллировать к авторитету законов.
63
Одним из самых впечатляющих результатов этого возрождения
римского права стала та помощь, которую оно оказало светским государям
в их попытках подчинить себе собственников-феодалов и превратить их
территориальные владения в национальные государства. Римскому праву
предстояло стать мощным орудием в борьбе с феодальным правом и
городскими свободами. Император Фридрих Барбаросса169* обратился к
нему одним из первых, заручившись поддержкой болонских юристов,
когда он заявил претензии на власть над ломбардскими городами.
Постепенно «легисты»170* начали переходить на постоянную службу к князьям
и монархам и в конце концов стали самыми преданными их слугами,
помогавшими при установлении абсолютных режимов и учреждении
правящей бюрократии. Можно сказать, что таким образом римское право
сыграло решающую роль в формировании европейских наций и
политической структуры секуляризованного мира103.
Юридическое укрепление сугубо светских владений намного
превзошло практические задачи: преобразовав богословские и
метафизические понятия в политические абстракции, возрожденное право дало
импульс тем движениям, которые, миновав стадию династического
народа-государства, завершилось созданием развитых наций, при котором
все население вовлекалось в участие (активное или пассивное) в
управлении страной. Таким образом, новый законопорядок укрепил земную
жизнь, которая обрела стабильность, стала автономной, постоянной
сущностью. Короче говоря, он повлек за собой подлинную и полную
секуляризацию времени, теоретически подготовленную еще Августином,
хотя до сих пор она не оказывала практического воздействия. Этот
процесс значительно ускорился благодаря воззрениям, возникшим в то
время в тесной связи с консолидацией территориальных государств.
Мы имеем в виду учение о perpetua necessitas, т. е. о непрерывности
практических потребностей, заложенных в континуитете политической
жизни и ее институтов: по сути речь шла о естественном порядке
вещей104.
Меж тем как в области схоластики именно победивший номинализм
с помощью рационализма и науки проложил путь секуляризации,
юристы достигли того же результата с помощью реалистического
мировоззрения. Платонические, неоплатонические влияния и воздействие
Аристотеля, каждое по-своему, заставили схоластиков отождествить
христианских ангелов с небесными умами, эманациями божественного
духа, божественными формами и прототипами и, в конце концов, с
родами и видами105. Эрнст Канторович171* в своей книге «Два тела короля»
(которая представляет собой историю генезиса политической
абстракции) показывает, как эти преображенные формы схоластического
реализма стали с успехом использоваться юристами ради стабилизации
политических режимов.
Напомним, что вопрос о природе времени был одним из самых
болезненных для Августина; пытаясь решить его, он разграничил три
временные формы — вечность (aeternitas), т. е. божественное отсутствие времени,
время (tempus) — ограниченный промежуток существования человечества
и дольнего мира — от сотворения до непредсказуемого наступления
Царства Небесного; а помимо вечности и времени между ними существует
64
эон (aevum) — сфера ангелов, тоже сотворенных Богом, но бессмертных.
Позже аверроисты172* включили сюда дезориентирующее воззрение
Аристотеля о бесконечности собственно времени, в котором, разумеется,
существует циклическое повторение всеобщего созидания и разрушения. И
то и другое (бесконечность времени и повторение всех событий)
противоречило христианскому мировоззрению: нельзя было поступиться ни
принципом божественного сотворения (а именно оно дало начало
человеческому времени), ни неповторимостью человеческого пути ко
спасению. «Мир, — говорит Канторович, — ... не стал «аверроистским» в
результате учения Сигера Брабантского... и других магистров факультета
искусств Парижского университета; мир остался христианским. И тем не
менее то, что было эпидемией в XIII в., стало эндемией в XIV—XV вв.:
одни не признавали бесконечной длительности "мира без конца", но
принимали квазибесконечную длительность; другие не верили в нерукот-
ворность мира и в его бесконечность, но действовали так, как если бы он
был бесконечным; одни видели преемственность там, где ее прежде не
замечали и не усматривали; другие были готовы видоизменить,
пересмотреть и подавить (хотя и не отбросить) традиционные воззрения на
ограниченность во Времени и на преходящий характер человеческих
институтов и поступков»106.
Ну а аеѵит считалось временем ангелов (они мыслились как
сотворенные, духовные существа, хотя и наделенные бессмертием), и ангелы
были уподоблены «коллективным абстракциям» или «бессмертным и
неизменным видам»107. Таким образом, юристы встали на защиту
сверхиндивидуальной вечности династий, режимов и государства. Понятие
вечности распространилось на народ108 с отсылкой на древнеримский lex
regia*, гласивший, что всякая императорская власть даруется народом, а
затем продолжилось в утверждении о бессмертии наций.
Таким образом, смертные отделялись от нерушимой
преемственности королевского достоинства, от Короны, от «политического тела» или
«мистического тела», т. е. светского отпрыска от Corpus mysticum ChristP09.
Король обретал бессмертие в силу разграничения «двух тел» —
королевской персоны, «естественного тела» короля как индивидуум, и
«политического тела» его правового статуса, который был эксплицитно
охарактеризован в Англии как «основа корпорации»110. (Подобным образом и
Церковь ради сохранения престижа отделяла личность склонных
ошибаться священнослужителей от их священного сана.)
Однако все эти юридические концепции, вырастая из
квазинезависимого развития, которое началось с возрождения юриспруденции (ок.
1100 г.) и с возобновления Дигесты, конвергировали с другим таким же
квазинезависимым движением, постепенно придавая законный статус
той тенденции, которая пронизала собой всю политическую жизнь
начиная с XII в. Я упомянул о росте городов, обусловленном новым
расцветом торговли, и о потребности в надежном обычном праве. Но это был
также и переходный период, когда на место феодалов приходили
территориальные князья. Теперь преобладали правители нового типа, которые
использовали положение клонящейся к упадку, выдыхающейся импера-
* Королевский закон (лат.).
65
торской власти, чтобы сосредоточить в своих руках всевозможные
права, прерогативы, должности и движимую и недвижимую собственность
территории и объединить их в автономном владении. Управление этими
владениями все настоятельней требовало стабилизации законов и
порядка судопроизводства, что впоследствии преобразовало владения (estates)
в государства (states).
В процессе консолидации династических владений все виды
политической практики, вызванные к жизни одними и теми же потребностями,
обрели характер чего-то устойчивого и привычного, чтобы, в конце
концов, превратиться в постоянно действующие юридические институты.
Канторович приводит разные примеры такого увековечения:
возникновение «безличного фиска, который "никогда не умирает"», превращение
феодальных податей ad hoc* в регулярное государственное
налогообложение (параллелью и примером этому служили увековеченные папством
пожертвования на крестовые походы, которые превратились в
постоянно продаваемые индульгенции и в фиксированные церковные поборы);
превращение чрезвычайных послов, которые делегировались для ведения
особых переговоров, в постоянно действующих юридически
образованных procuratores и, наконец, создание постоянных посольств и «приказов
иностранных дел»; и так далее111.
12
Множество конвергирующих и взаимовлияющих факторов, которые, как
мы уже могли убедиться, характеризовались смещением центра тяжести
от сверхъестественной жизни в сторону жизни земной, повлекли за
собой то, что в двух словах можно было бы назвать секуляризацией
бессмертия. Так как роды и виды обрели бессмертие, а «время отныне стало
символом вечной непрерывности и бессмертия великой общности,
именуемой родом человеческим, — бессмертия человеческих видов,
оплодотворяющих, жизнетворных сил», то «беспредельная непрерывность
человеческого рода... придала смысл... жажде земной славы, perpetuandi
nominis desiderium*\ которая все в большей степени становилась
решающим импульсом человеческих деяний ... Слава, в конечном итоге,
имеет смысл только на этом свете и только в том случае, если человечество
верит в свое так или иначе существующее постоянство или бессмертие,
и если Время является Жизнью, а не Смертью». «"Бессмертную славу" в
земном мире» можно считать «эквивалентом или мирской заменой
вечного блаженства на том свете...»112
Великие завоеватели и правители древности хотели приобщиться к
божественному, то отождествляя себя с божеством или мифологическим
героем, возводя к ним свое происхождение, то обожествляя самих себя.
Александр считал себя потомком Ахилла173* и Юпитера Амона174*;
Помпеи175* во время триумфальных шествий надевал мантию, якобы
принадлежавшую Александру, а о его подвигах гласили надписи на стенах хра-
* К этому; для данного случая, для данной цели (лат.).
" Желание увековечить имя (лат.).
66
ма, воздвигнутого в честь Минервы176* из его трофеев; если Августу
нравилось быть вторым Ромулом177*, то Диоклетиану — вторым Августом.
Выдающиеся мужи оглядывались назад в поисках того, что запечатлело
бы и увековечило их имена. А теперь, в самом начале эпохи
Возрождения, возник новый взгляд — взгляд вперед. Люди хотели являться и
оставаться в памяти других под собственным именем, запоминаясь в своей
неповторимости, в уникальности своего «Я»; хотели стать бессмертными,
оставаясь при этом смертными.
И наконец, новый взгляд, взгляд вперед, заявил о себе в
первоначальном, еще не оформившемся сознании светского прогресса. Люди
обратили внимание на существование материального прогресса еще в начале
христианской эры, в правление Августа, хотя его считали лишь знаком
и преддверием тысячелетнего Царства Божия. Он был частью
поступательного движения христианского мира к спасению. Однако новое понятие
Прогресса, отмеченное впервые в XII в., уже не было связано с
религиозным процессом, а основывалось на всеобщем развитии человеческих
знаний и стало следствием расширения масштабов сознания. Конечно, это
первоначальное понятие чисто светского прогресса еще не соотносилось
с беспредельным будущим, но все еще ограничивалось прежним
понятием «конца времен». И тем не менее на него стоит обратить внимание как
на симптом того, что земной опыт набирал силу.
В этом переломном XII в. разные авторы оставили для нас
свидетельства подобной оценки интеллектуального прогресса. Отправной точкой
размышлений всех этих авторов было случайное замечание римского
грамматика Присциана (VI в. н. э.), сочинение которого Institutiones
grammaticae*, по всей видимости, широко использовалось в XII в. при
обучении свободным искусствам. Ссылаясь на других авторитетов в той
же области, Присциан заметил, что «чем люди моложе, тем
проницательнее» (quanto juniores, tanto perspicatiores). Это изречение, которое, по всей
видимости, не привлекло особого внимания людей предшествующих
поколений, теперь было изъято из узкого контекста и стало источником
серьезных обобщений.
Кажется, первым из ученых, обратившим внимание на это
высказывание Присциана, был Бернард, магистр Шартрской школы178* (начало
XII в.). Его ученик, Иоанн Солсберийский179*, приписал Бернарду такие
слова: «Мы подобны карликам, сидящим на плечах великанов, ибо можем
видеть больше и дальше, чем они, — но не потому, что наше зрение
острее, а потому, что нас возносит ввысь гигантское величие [прошлого]»113.
Чуть позже, в середине XII в., немецкий епископ Оттон Фрейзингс-
кий180*, ученый цистерцианец и предводитель 2-го крестового похода181*,
написал хронику под названием Historia de duabus civitatibus («История
двух градов», т. е. Града Божьего и Града Человеческого), которая
начиналась, в духе Августина, с Адама, хотя и доходила до современных ему
событий в империи Гогенштауфенов182*. В прологе к пятой книге, снова
ссылаясь на замечание Присциана, которое, по его словам, является тем
«первым, что обычно слышат школяры», Оттон Фрейзингский пишет:
« Чем большими достижениями славен век, в который мы живем, тем бо-
* Установления грамматики (лат.).
67
лее зрелым является, с течением времени, и наш жизненный опыт. Если мы
поймем сделанные нашими предшественниками достижения именно в
том духе, в котором они творили, то будем способны изобрести новое.
Потому-то многое, что было сокрыто от наших предшественников,
мужей поразительной мудрости и выдающегося ума, открылось нам с
течением времени и по ходу событий. Если взглянуть, например, на Римскую
империю, которая была так великолепна, что язычники считали ее
вечной, а христиане — почти священной, то теперь всем очевидно, что с ней
стало»114.
Однако самое передовое понятие Прогресса содержится в
высказывании болонского юриста Азо,83\ ученика Ирнерия (датируется примерно
1200 г.). Его теория непосредственно соотносится с Новым временем,
воистину предвосхищая господствовавший в ХѴІІІ-ХІХ вв. догмат. В
прологе к своему сочинению Summa codicis он утверждает, что природа
человека способна постоянно совершенствоваться благодаря знаниям и
укоренившемуся навыку к учению: «Коль скоро с изобретением науки
(Scientiae)... [человеческий] ум обрел особую остроту, постоянно
обогащая себя новыми дарами природы, то неудивительно, что благодаря
постоянному труду ума в какой-то мере совершенствуется и сама природа
человека... Сама привычка становится натурой, и потому те, кто
помоложе, гораздо проницательней в понимании частностей». Само по себе
знание может стать неотъемлемой характеристикой природы человека.
«Мастера искусств и науки древности достойны похвалы уже потому, что они
свели воедино все законы, но, — заключает Азо, — их не следует ставить
выше всех остальных, ибо тот, кто что-то усовершенствовал, достоин
большей похвалы, чем тот, кто изобрел это первым»115.
Итак, последовательно проанализировав воззрения трех
представителей XII в., мы видим, как развивалось, шаг за шагом, историческое
сознание, впервые ставшее универсальным, уникальным и светским. По-
либий, как уже отмечалось, осознал, что происходит постепенное
расширение масштаба исторических общностей. Однако кульминацией и
итогом этого процесса он считал Римскую империю, которая все еще
оставалась частной политической реальностью, а не всеобъемлющей
сопряженностью человеческой расы и человеческой природы. Кроме того,
его мировоззрение все еще находилось в плену шаблона вечного
круговорота. Иудейско-христианское мировоззрение воспринимало путь
человека ко спасению как универсальное и уникальное событие, однако и
оно было сковано иератически неподвижным абсолютом, а прогресс был
устремлен к заранее намеченной цели. И только после того, как Павел
и Августин резко разграничили плотское и духовное, в результате чего
обрели самостоятельность чисто мирские заботы и виды деятельности, -
только тогда и смогло появиться то историческое сознание, которое мы
наблюдаем у людей XII в.
Бернард Шартрский придал особое значение случайной реплике При-
сциана, которая была обобщена применительно ко всему ведению. Он
все еще признавал превосходство за древними и объяснял умственный
прогресс своих современников «гигантским величием» знаний,
накопленных теми, кто жил до них. Оттон Фрейзингский осознал, что прогресс
человечества и простое накопление зафиксированных фактов, «течение
68
времени» и «житейский опыт» расширяют наш духовный кругозор по
сравнению с предшествующими поколениями. Он объясняет это,
противопоставляя те величественные иллюзии, которые римляне, язычники и
христиане питали относительно Римской империи, и ее падение. Оттон
Фрейзингский особо отмечает способность «изобретать новое», опираясь
на прежние достижения; человек стал созидателем, и его усилия
окупились сторицей. Наконец, согласно теории Азо, навык, становясь чертой
характера, приближает виды к совершенству: именно таким образом
навык к учебе, превращаясь в привычку, способен улучшить природу
человека. Эта теория смыкается с современной идеей Прогресса. Для него,
как замечает Канторович, «прогресс имеет имманентную цель, и она
перманентна».
Итак, мы стоим на пороге новой эпохи, когда история человечества
вот-вот потечет по своему собственному, независимому, сугубо
светскому руслу.
13
В эпоху Возрождения человек утверждает себя на Земле, чтобы творить
добро. В это время Церковь переживала упадок, подточенная изнутри
как схоластическим анализом, так и ересями мистиков, переросшими в
различные реформистские движения. Церковь была расколота: ее
подлинной «кафоличности» пришел конец, и она превратилась в партию -
богословскую и политическую. Правда, этот переходный этап, как и все
переходные этапы, был неспешным, и борьба между силами Реформации
и Контрреформации оставалась главным событием XVI—XVII вв. Но
симптоматично, что Тридцатилетняя война, которая начиналась как
религиозное столкновение, постепенно обретала характер битвы за
превосходство, и религия вырождалась, занимая все меньше и меньше места в
общественной жизни и превращаясь в лицемерную ширму чисто
политической борьбы за власть.
На какое-то время династическое соперничество вышло на
авансцену общественной жизни, однако в ее глубинах все еще велись
интеллектуальные битвы между представителями национальных интересов -
битвы, имевшие вид философских баталий (например, спор между
французским рационализмом и английским эмпиризмом и
натурализмом). Наука одержала верх над теми самыми философскими
умозрениями, которые ее и породили. Снова, как и в Средние века, новые
концепции, вызванные к жизни ходом событий и накопленным опытом, в
свою очередь оказали весьма значительное и ощутимое влияние на
жизнь.
Конец XVIII в. ознаменован глобальным изменением ситуации:
произошел даже более радикальный, чем в эпоху Возрождения, сдвиг,
который, хотя и казался внезапным, на самом деле готовился долго,
вызревал подспудно.
Общество все больше уставало от рационализма: то была болезнь
(«нервный срыв», по выражению Гилберта Мюррея184*) аристократии. С
другой стороны, все шире распространялись идеи Просвещения с при-
69
сущим ему слиянием рационализма и эмпиризма как методов научного
познания. Одновременно нарастало народное недовольство, которое
прорвалось во время Французской революции185*. Французская
революция вкупе с Английской промышленной революцией186* (а последняя, в
свою очередь, была следствием научно-технического прогресса и
экономического подъема среднего класса) изменили не одну только
повседневную жизнь людей: серьезные изменения произошли и в отношениях
между действительностью и ее осмыслением — изменения, глубоко
затронувшие само сознание. Расширилась основа политических и
экономических событий: события, так сказать, социализировались. Подобным же
образом философии социализировались в идеологию, т. е. в светские
доктрины (капиталистические, социалистические, расистские), под знамена
которых собрались не только представители разных школ, но и гораздо
более значительные, более почвенные, «необразованные» массы. Если
наука, воплотившись в технике, стала частью повседневной жизни на
всех уровнях, тем самым придав ей интеллектуальный характер; если
техника и производство обретали все более рациональный характер, то
идеология, несмотря на всю ее кажущуюся рациональность, становилась все
более иррациональной. Вследствие этого взаимодействия между
концепцией и ее реализацией, между теорией и практикой, прежде легко
разграничиваемых, теперь донельзя усложнились и запутались.
Таким образом, если взглянуть с вершины, которой достигли ныне
все эти изменения, на превратности политической истории, означавшей
борьбу за власть между династиями и народами (борьбу со всеми ее
дипломатическими и военными последствиями), которая трактовалась и еще
трактуется как собственно история, то окажется, что эти события имели
преходящий характер. Суть этих изменений - переход от времени
господства религии к эпохе идеологии и науки. А на другом уровне они,
похоже, служили средством светского преобразования, а именно —
последовательного расширения масштаба исторических общностей^ и
сопутствующего расширения масштабов сознания. Сами по себе эти изменения
имеют для нас второстепенное значение: они важны лишь как
проявления глубинных, подспудных исторических процессов117.
Если взглянуть на ситуацию с высоты нашего нынешнего положения,
то история Нового времени предстанет прежде всего историей различных
отделяющихся, разветвляющихся и обретающих самостоятельность
человеческих функций, среди которых совокупность экономики, науки и
техники становится преобладающей и определяющей ход событий — как
реальности, так и концепций. Ныне все мы являемся свидетелями завершения
процесса длительного сосуществования, все более тесного
взаимодействия и взаимопроникновения, почти что слияния, трех изначально так
или иначе взаимосвязанных сфер деятельности — науки, техники и
экономики. Состоя на службе у идеологий, они присвоили себе и почти
полностью интегрировали военную функцию и аппарат вооруженных
доктриной блоков держав.
Начиная с эпохи Возрождения всеобъемлющая секуляризация
человеческой жизни повлекла за собой радикальные изменения в отношениях
человека и мира. Античный и средневековый космос, в составе которого че-
70
ловек сосуществовал вместе с вне- и надчеловеческим миром, оказался
расколот, а благочестивое изучение божественного порядка космических форм
и элементов уступило место чисто рациональному исследованию вполне
материальной природы. На смену основополагающей взаимосвязи между
человеческой верой и божественной благодатью пришла взаимосвязь
между способностями человеческого разума и безгранично познаваемым и
подлежащим использованию материалом, взаимосвязь между субъектом и
объектом. Единственной чертой, унаследованной этой новой системой
взаимоотношений от прошлой, была вера в абсолютную неизменность
природы, которая оставалась реликтом божественного абсолюта.
Это изменение предполагало и изменение цели, которая отличалась
теперь все возрастающей ролью специфической функциональности в
изучении окружающей человека среды. Конечно, все виды человеческой
деятельности, как и все науки, были порождены определенной целью.
Но, как уже говорилось, в древности, равно как, по большей части, и в
Средневековье, человеку прежде всего хотелось понять, как жить
праведно, т. е. в согласии с божественным и космическим порядком. Правда и
то, что практическое осуществление функциональных целей, т. е.
совершаемые по ходу дела наблюдения и изобретения, началось уже тогда,
когда появился человек. Однако только теперь, в новом
секуляризованном мире, мы действительно имеем дело с чисто функциональными
целями, методически преследуемыми ради удовлетворения вполне
человеческих потребностей.
Этот феномен тесно связан с методами абстракции, берущими
начало еще в теории Аристотеля. Но только Фома Аквинский, убежденный
последователь Аристотеля, первым дал классическую формулировку
процесса абстракции; эта формулировка, включающая в себя понятие
«закона природы», и легла в основу современной науки. Отправной точкой
является утверждение, что только единичные субстанции,
представляющие собой единство духовной формы и потенциально существующей
материи, обладают самостоятельной реальностью и что «наше познание
единичного предшествует нашему познанию общего» (cognitio singularium
est prior quoad nos quam cognitio universalium). Общее, имманентно
присутствующее в единичном, «благодаря абстракции высвобождается из
единичного {universale fit per abstractionem a materia individuali)», и таким
образом достигается истинное знание, ибо «истинное знание предполагает
наличие общего (scientia est universalium)», т. е. сущности (quidditas),
содержащейся в единичном, в общих формах и свойствах, в-видах (formae
exemplares) и в причинах вещей (rationes rerum). Однако, выделяя
отдельно общие виды, свойства и причины, извлекая их из единичных
субстанций, Фома устанавливает еще один способ абстракции, который
сводится к вычленению чего-либо (ради удобства и упрощения), хотя при этом
все остальное исчезает из поля зрения (abstractio per modum simplicitatis).
Развитие и прогресс современной науки основаны на сочетании этих
двух видов абстракции. Она начинается с «познания единичных
субстанций», т. е. с эмпирического наблюдения, затем происходит установление
общих «законов природы» и уже потом, с ростом специализации,
отмечается все большее вычленение специализированных отраслей знания из
все более накапливающегося фактического материала.
71
Абстрагированные «законы природы» предполагают выделение
неизменных общих свойств и причин из разнообразия единичных субстанций
и процессов. Это подразумевает классификацию и квантификацию:
чтобы определить, что именно является общим для разнообразных
предметов или существ, необходимо различать их виды и свойства, — иными
словами, классифицировать эти виды и свойства. Это в свою очередь
предполагает квантификацию. Неповторимая личность в присущей ей
целостности ни с чем не сравнима, а происходящее с ней необратимо и
неповторимо. Чтобы классифицировать виды и свойства, надо
абстрагироваться от того, что они являются частью неповторимых единичных
субстанций; надо сделать так, чтобы эти виды и свойства поддавались
сравнению и повторялись, что означает их новое превращение в
«соразмерные» пространству и времени субстанции, максимально точно
определяемые, — т. е. ограниченные, измеряемые. Почти
самовоспроизводимая концентрация и стяженность времени в абстракции неизбежно
привели к математическим способам коммуникации, ставшим всеобщим
языком науки. И наконец, кибернетические коды довели абстракцию до
того состояния, где она подчинилась полной автоматизации, т. е. была
поручена машинам, и с помощью этого осязаемого посредника
абстракция достигла энной степени и ворвалась в нашу повседневность.
Такие методы выравнивания и низведения на один уровень,
примененные к многообразным единичным субстанциям, были приведены в
соответствие с анализом, который есть не что иное, как рассечение единичных
субстанций; анализ становился все сложнее и тоньше по мере
совершенствования научной абстракции. Научность, сочетающая в себе абстракцию
и анализ, распространилась не только на сферу научных исследований в
области гуманитарных знаний; ее прикладное применение (техника)
вторглось и в саму человеческую жизнь. Автоматизация - это всего лишь один
из симптомов всеобщего процесса, который захватил весь наш мир: все
более быстрыми темпами идет покорение природы с помощью науки,
непосредственно переходящей в технику, — науки, которая, в свою очередь,
стимулируется и обеспечивается техникой. Все в большей и в большей
степени человек действует посредством машин, живет благодаря машинам и
среди них; по ходу жизни он превращается в придаток машины,
управляющий со все более далекого расстояния все более сложными и
огромными устройствами. Наблюдая быстрый рост населения, можно предвидеть
постепенное исчезновение природы и ландшафта, поглощаемых
строительными конструкциями. На смену естественному развитию приходит
искусственное созидание, которое вот-вот вторгнется в саму жизнь. Все это
отражается на человеке. В самом созидании человек стеснен рамками
применения прикладных законов науки и теми системами и механизмами,
которые создаются наукой. Механизация становится врагом человеческой
непосредственности, врагом творческих способностей самого человека.
Наряду с усилением значимости науки и техники, в связи и
одновременно с этим, происходило то, что я называю «социализацией событий»:
каждое отдельное событие становилось частью непрерывного потока
развития. Под мощным давлением масс возникала потребность в
организации и формализации управления государством, в статистической
квалификации каждого шага человека. Не вижу необходимости останавливаться
72
на том, что более чем очевидно и о чем я уже писал в ином контексте118,
— об измельчании личности в условиях всеобщей коллективной жизни,
стандартизации и специализации.
Однако эта историческая тенденция повлекла за собой и иные
результаты, самый важный из которых — преобразование сознания. Все более
узкая специализация (а это и есть абстракция «per modum simplicitatis»*) все
новых и новых наук и технических нововведений вкупе с бесконечной
аккумуляцией массы мировых событий, которые постоянно множатся
благодаря тому, что люди немедленно реагируют на свежие новости, — все это
привело к нарастанию огромного потока информации, которую не
вместить ни в одной голове. Вся эта информация регистрируется и сохраняется
в специальных учреждениях — научных, общественных или политических.
Она изучается и оценивается специалистами своего узкого профиля и
никоим образом не соотносится с другими видами информации, не
сводится в единую систему. Все время меняющийся свод этих множащихся
знаний равнозначен коллективному сознанию — сознанию расплывчатому и,
так сказать, безличному. Чем большее место в жизни занимает это
безличное, коллективное сознание, тем больше утрачивает свои позиции личное,
индивидуальное сознание, стушевываясь под неослабным натиском
непостижимых «данных». В результате способность индивидуума к восприятию
иссякает, и он предпочитает замкнуться в своем узколичном мирке, а если
ему поневоле приходится общаться с другими, то он оказывается в плену
идеологических или эмоциональных стереотипов, т. е. в плену своего
подсознания.
Итак, мы подошли к той стадии, на которой гипертрофия
неконтролируемого коллективного сознания соответствует атрофии не
контролирующего себя индивидуального сознания, в результате чего происходит
постепенное возобладание бессознательного. Сознание — это средство
мыслить и рассуждать, средство поиска тех или иных связей. Только тот, кто
наделен сознанием, способен ощущать свою идентичность и
ориентироваться в своем мире; только он способен приводить свои действия в
соответствие с разумными и полезными целями. Поэтому преобразование
сознания влечет за собой и преобразование разума, или, точнее, влечет за
собой разрыв между разумом и его порождением — рациональностью.
Разум — это человеческое свойство, присущее человеку как таковому; а
рациональность — его техническая функция, технизация и фукционализа-
ция процесса познания, в результате чего разум начинает существовать
в отрыве от человека, обретая всеобщие, безличные свойства логического
метода. И это вновь вынуждает нас вспомнить об Органоне Аристотеля и,
в частности, о его Аналитике. Но лишь совсем недавно вследствие
всеобщей специализации и ее результата — преобразования сознания —
рациональность стала полностью независимой от разума, а на деле - полной
противоположностью ему. Подобно тому как расширение коллективного
сознания влечет за собой сужение сознания индивидуального, так и
рациональность развивается за счет разума.
Приведу лишь один, наиболее показательный пример этой
тенденции. Ученый или инженер, работающий над созданием атомного ору-
* Посредством упрощения (лат.).
73
жия, должен, как специалист в своей области, проводить исследования
в строго рациональном духе. Но как частное лицо он вполне может
испытывать разного рода эмоциональные влияния, испытывать на себе
воздействия всевозможных профессиональных и идеологических
факторов или даже быть просто энтузиастом своего дела. Если разум и имеет
здесь какое влияние, то оно ограничивается лишь самой узкой личной
сферой, желанием не потерять работу и сделать карьеру, причем даже
забота о судьбе собственных детей отступает и кажется совсем не
связанной с теми ужасами, которыми грозят данные исследования. Ему вряд ли
придет в голову осмыслить те последствия, которые будет иметь его
деятельность для всего человечества. И в самом деле: в соответствии со
сложившимся правилом строго ограничивать узкоспециальную сферу
исследований подобные размышления воспринимаются как выходящие
за пределы его компетенции. Если ученый докажет, что при наличии
определенных защитных мер атомная война будет стоить всего 50, а не
150 миллионов человеческих жизней и потому представляется
«приемлемой», то, столкнувшись с проблемой ценности жизни, этот человек,
бахвалясь своей цеховой безнравственностью и бесчеловечностью, ответит,
что эти вопросы не входят в его компетенцию и что он занимается
вполне конкретными техническими проблемами. А в медицинских
исследованиях рациональность нацелена на разработку более совершенных
методов терапии и лекарственных средств. Могут уйти годы на спасение
жизни одного-единственного ребенка, меж тем как разработчики
военных технологий с присущей им рациональностью жонглируют жизнями
миллионов людей как простыми цифрами пропорций. Наряду с самыми
изысканными удобствами и комфортом, создаются колоссальные
средства массового уничтожения. Преобладание разума в человеческих делах
могло бы сопрягаться с всесторонним учетом всех факторов,
действующих в данной ситуации (в том числе психологических и
общечеловеческих). Однако при нынешней анархии рассогласованного коллективного
сознания функциональная рациональность достигла той степени
автономии, где она одновременно служит самым противоположным целям, в
том числе и тем, которые с точки зрения человеческого разума нужно
считать чудовищным безумием.
Следовательно, то состояние, в котором мы оказались еще с начала
XIX в., характеризуется сосуществованием гиперрационализации и
иррациональности одновременно, а если говорить о совокупности наук,
об экономике и технике, то здесь мы имеем дело с прогрессирующей
гиперрационализацией, порождающей иррациональность. В искусствах
отмечается та же дивергенция. Искусство нашего времени вобрало в
себя религиозное наследие, насколько оно привносит в секулярный
мир ощущение целостности мироздания. Художественная форма — это,
по всей видимости, то последнее, исконное, что еще остается от
уходящего в небытие абсолюта. И тем не менее, по некоторым новым
музыкальным, живописным и поэтическим произведениям можно судить об
окончательно определившейся тенденции к преднамеренному
разрушению формы и к развитию искусства в противоположном направлении
— в направлении сциентистского, математического (а по сути -
механистического) конструирования, избыточной компенсацией которого
74
служит безраздельное высвобождение бессознательного и поиск
утраченной личной идентичности с помощью свободной ассоциации
творческого акта.
Главным признаком современности является триумф
рациональности. Достижения науки и техники очевидны, огромны и способны
впечатлить каждого. Но гораздо менее очевидна та опасность, которая
таится в этом их ничем не ограничиваемом, неконтролируемом и
никем не сдерживаемом расширении. Опыт последних пятидесяти лет
мог бы научить нас тому, как сверхрациональная цивилизация может
обернуться еще более жестокой (в силу ее механизированности)
дикостью. Сегодня на наших глазах происходит полная деградация разума,
а чистая иррациональность становится порождением всепоглощающей
логичности. Рациональные методы безмерно расширили наш
кругозор - как вглубь, так и вширь. Но что-то основополагающее,
сущностное было утеряно в процессе этого якобы рационального «овладения
природой». Чем больше мы старались «овладеть природой», тем
больше из-под нашего контроля выходили мы сами, человеческая
природа и человеческий мир. Наука признает, что дело ее бесконечено, как
бесконечно и само ее движение. Стало даже приходить понимание,
что основа этого движения тоже подвижна. Но, по всей видимости,
люди еще недостаточно осознали то, что, рационально вторгаясь в
наш мир, наука меняет этот мир и его обитателей. Вот почему природа
неуловима и всегда будет неуловима: этим она обязана своему
динамизму, своей таинственной изменчивости — тому единственному, что
поистине неизменно.
14
На заре Нового времени опыт научных исследований, технических
изобретений и географических открытий укреплял и углублял веру в
светский Прогресс. Тремя основными изобретениями, благодаря
которым возобладала секулярность, — изобретениями, получившими
распространение в Новое время, были морской компас, порох и печатный
станок; изобретение компаса способствовало расцвету мореплавания и,
следовательно, открытиям заморских земель и торговле; изобретение
пороха означало революцию в методах ведения войны, а
следовательно, — конец феодализма; появление печатного станка повлекло за
собой быстрое распространение новостей, знаний и пропаганду учений
(своим успехом Лютер был во многом обязан памфлетам). Не менее
важным, хотя и не таким афишируемым (вероятно, потому, что это
представляло опасность для вероучения) было изобретение телескопа,
который был создан в Голландии и усовершенствован Галилеем и
Кеплером187*. Благодаря телескопу удалось подтвердить и дополнить
антиптолемееву и антидогматическую систему Коперника со всеми ее
далеко идущими последствиями.
На пути идеи светского Прогресса вставали две нелегкие для
преодоления могучие твердыни традиционализма: христианская ортодоксия и
классицизм эпохи Возрождения. (Порой ей помогало их взаимное про-
75
тивоборство. Например, Макиавелли с позиции Возрождения выступал
против христианской эпохи, а впоследствии, напротив, Демаре де Сен-
Сорлен188* превозносил достижения христианской эпохи по сравнению с
античностью.) Но по сути идея Прогресса секуляризировала
христианское учение о пути человека к спасению.
Мы видели, что в Средние века, когда еще господствовала
неколебимая христианская вера, понятие о светском Прогрессе уже
сформировалось. В эпоху господства христианского мировоззрения уже
существовал своего рода светский анклав, где преобладала и все усиливалась
забота о светском прогрессе. Ожидание «конца света» хоть и не
упразднилось, было уже не таким трепетным: мало-помалу оно притуплялось
и забывалось. Оттон Фрейзингский считал свое время, XII в., senium
mundi — старостью мира просто потому, что оно изобилует знанием,
согласно пророчеству Даниила: «Plurimi pertransibunt et multiplex erit scientia
(многие прейдут и восполнится ведение)»189*. Однако эта мысль была
связана с обостренным сознанием пределов, установленных вторым
пришествием.
Спустя примерно четыреста лет Фрэнсис Бэкон190*, главной заботой
которого был уже прогресс знаний, все еще имел в виду именно этот
непредсказуемый конец, всего лишь утверждая, что мир, в котором он
живет, уже достиг старости. Но Бэкон сделал шаг вперед и задался
ключевым вопросом, который не утратил своей остроты и по сей день.
Последовательность времен он выстроил в обратном порядке: на самом
деле, говорит он, «древние» являют собой молодость мира {Antiquitas
seculi Juventus mundi), тогда как современники — это его старость. Если по
справедливости считается, что обремененные знанием и опытом
старики мудрее юных, то подобное может быть отнесено и к современности,
ибо от нее стоит ожидать прибавления новых знаний: «...обогнуть
Землю, как это делают небесные тела [Бэкон все еще отказывался признать
гелиоцентрическую систему], - такого до этих последних времен еще не
совершалось и не предпринималось; и поэтому эти времена вполне
могут сказать свое слово... plus ultra4\ поднимаясь выше древнего поп
ultra"... И эти успехи в мореплавании и открытиях могут вселять
надежду на дальнейшие успехи и накопление знаний во всех науках, так как
может показаться, что им назначено Богом быть современными, т. е.
встретиться всем в одном веке... как если бы открытость и
проницаемость мира, а также приращение знаний должны были проявиться в
одно и то же время...»119 И, развивая взгляды Бэкона, английский
священник Джозеф Гланвилл191* в своей книге Plus ultra, or the Progress and
Advancement of Knowledge since the Days ofAnstotle (Plus ultra, или Прогресс
и развитие науки со времен Аристотеля, 1668) пришел к мнению,
весьма распространенному в наши дни: у нас больше причин, считает он,
быть благодарными безымянному изобретателю морского компаса, «чем
тысячам Александров и Цезарей или десяткам тысяч Аристотелей».
С того времени и еще довольно долго (с Бодена192*, Бэкона и
Декарта193* до Паскаля194*, Шарля Перро195*, Ньютона196* и Аббата де Сен-Пье-
* Сверх крайнего предела (лат.).
** До крайнего предела (лат.).
76
pa197*) вера в прогресс держалась на старинном постулате quanto juniores,
tanto perspicaciores, tjxc juniores рассматривались отныне как seniores.
Подразумевалось, что прогресс — это исключительно научные и технические
открытия, т. е. изобретения, наблюдения и опыты. Основой всех этих
новшеств была вера в абсолютную неподвижность и неизменность
природы, а стало быть, и природы человека. Понятие прогресса включало в
себя лишь новые открытия и навыки. Вера в абсолютную стабильность
природы служила основой для поиска строго причинных связей, кван-
тификации и механизации природы — поиска, который впоследствии
превратился (на первых порах он был бессистемным, оставаясь несвободным
от астрологии и неопифагорейского символизма) в поиск надежного «ars
inveniendi» — искусства изобретать, и в попытки объединить
изобретателей, что имело под собой изучение фундаментального метода
исследования и познания. И наконец, Декарт заложил основу и для
эпистемологии198* и для концепции неизменных «законов природы», тем самым
окончательно порвав с христианской традицией: его всеобъемлющая
механизация природы была, как это доказал Мальбранш199*, несовместима
с Божественным Провидением. (Принимая во внимание нынешний
уровень развития науки, любопытно отметить, что по ходу спора между
Древними и Современными (Ancients et Modernes), когда Перро и Сен-
Сорлен, апеллируя к неиссякаемости силы львов и деревьев, пришли к
выводу о неиссякаемости интеллектуальных способностей человека,
Фонтенель200*, полемизируя с ними, возразил, что без предпосылки
неизменности природы науки не было бы.) Призыв Декарта к
«универсальной науке» был воплощен и в той концепции «единения наук», которую
отстаивали энциклопедисты, и в основании Королевского общества и
различных европейских академий.
Процесс создания законченного учения о прогрессе не был
прямолинейным (как не прямолинеен никакой процесс вообще): время от
времени приходилось отступать, когда сомнения и скептицизм охватывали
даже тех, кто, в конце концов, под влиянием рационализма все-таки
развивал это учение. Так, солидный ученый Луи Леруа в своей книге De la
vicissitude ои variete des choses en Vunivers (О непостоянстве или
разнообразии вещей в мире, 1577; 2-е изд., 1584) заставляет задуматься о
причинах краха многих великих свершений цивилизаций прошлого и
высказывает предположение, что та же участь может быть уготована и
достижениям его собственного времени. Он верит в то, что
Божественное Провидение поровну и справедливо, в назначенный срок,
распределяет добро и зло среди разных народов, так, чтобы каждый из них
прошел через эпоху расцвета в свойственной ему сфере, но при этом не
утверждался бы за счет других. Пока это кажется своего рода
циклической теорией, концепцией кругового движения благодаря круговороту
совершенства. В конце концов, Леруа все же усматривает некий прогресс
и в Новом времени, не только апеллируя к совершенной новизне трех
главных изобретений, но и пророчески, хотя все еще в утопическом духе,
взывая к тому факту, «что ныне познан весь мир и все расы людей; они
могут обмениваться всеми своими достижениями и взаимно
удовлетворять нужды друг друга, ибо они жители одного города или
мира-государства»120. Здесь мы впервые встречаем сочетание циклической концепции
77
и концепции прогресса, после чего в 1627 г. появилась очень похожая
теория «кругового прогресса», автором которой был английский богослов
Джордж Хейквилл, в 1725 г. - гораздо более развернутая Scienza пиоѵа
(новая наука) Вико, а в наше время — теория Тойнби. Всех их объединяет
все еще преобладающая богословская точка зрения. А на секулярной
почве наибольшее противодействие вере в прогресс оказали едкая
критика Вольтера201* и скептицизм Руссо202* в отношении цивилизации. И тем
не менее оба этих мыслителя не только пришли к программам и к
мыслям о демократических реформах и реформах в образовании, но даже и
само их критическое отношение к Прогрессу послужило стимулом и
поддержкой этой тенденции.
Итак, во всех этих спорах между сторонниками и противниками
Прогресса в итоге возобладало убеждение, что «современные» были,
несомненно, равны древним, а в некоторых отношениях (в науке, в ее
применении и даже в искусствах) явно превосходили их. Действительность
способствовала расширению сложившихся концепций, а расширенные
концепции в свою очередь видоизменяли действительность, способствуя
развитию не одной только техники и заморским открытиям, но и
укреплению национальных государств. Именно этому правление
Людовика XIV203* обязано своим блеском и своей славой; преобразования в
мировоззрении содействовали колониальным завоеваниям и
экономическим успехам в Нидерландах и в Англии, а также повлекли за собой
реформы в торговле и в финансах и, наконец, предопределили успех и
голландской, и английской революций, а также американской войны за
независимость.
Постепенно (к наибольшим успехам это привело в ходе
американской войны за независимость и Французской революции) теория
Прогресса вышла за узкие рамки учения об одних только человеческих
возможностях, что способствовало стремительному накоплению знаний,
и распространилась на все общественное и нравственное устройство, что
означало активацию данной концепции. Прогресс знаний и прикладной
науки и техники теперь не только декларировался; наступило время для
его систематического воздействия на материальное благосостояние и
нравственное развитие человечества. Конечно, природа человека все еще
считалась в основе своей неизменной, хотя теперь полагали, что ее
можно усовершенствовать с помощью просвещения и улучшения условий
жизни. Еще в XII в. Азо высказал предположение, что «если привычка
станет натурой, то само знание может стать постоянным свойством
человеческой природы», но теперь люди пришли к пониманию того, что
знания, которых становится все больше, приведут к улучшению условий
жизни и самих людей сделают не только счастливее, но и лучше.
Именно поэтому энциклопедисты204* особенно стремились к распространению
знаний.
Подобное утверждение таило в себе и противоположное — мысль о
том, что всем дурным в условиях жизни человека и самой его природе мы
обязаны невежеству и суеверию, плохим установлениям и
неправильному положению дел. Поэтому благодаря Декартовой идее «всеобщего
разума», обожествленного Французской революцией, и благодаря
воплощению этой идеи в общественно-политической жизни человека стали
78
считать способным к совершенствованию: это убеждение, которое в
XVIII в. выражали Аббат де Сен-Пьер и Фонтенель, в XIX в. перешло к
Гегелю и Карлу Марксу205*. В самом деле, учение о Прогрессе почти
обрело завершенность у Фонтенеля и Монтескье206*. Человек, согласно
Фонтенелю, никогда не состарится и никогда не деградирует умственно,
но, напротив, будет все время совершенствоваться по мере накопления
знаний. Прогресс безусловен и бесконечен, он совершается в
определенном порядке и последовательности, он автономен и безличен, т. е. не
зависит от людей, которые ему служат: если бы не было Декарта, то
орудием прогресса стал бы кто-то другой. Подобным же образом Монтескье
исключает Судьбу и Провидение из числа действующих сил истории.
«Миром, — пишет он, — управляет не Фортуна... Существуют общие
причины (causes generates), как морального, так и физического порядка,
которые действуют в каждой монархии, возвышают ее, поддерживают или
низвергают; все случайности подчинены этим причинам. Если случайно
проигранная битва, т. е. частная причина, погубила государство, то это
значит, что была общая причина, приведшая к тому, что данное
государство должно было погибнуть вследствие одной проигранной битвы.
Одним словом, все частные причины зависят от некоторого всеобщего
начала (/ 'allure phncipale)»'2'.
И вот именно тогда, когда не одна только способность человека
производить опыты, приобретать знания и изобретать, но и вся
общественная и нравственная жизнь стали считаться способными к
совершенствованию — к совершенствованию своими силами — и появилось
новое сознание. Именно тогда произошла полная секуляризация
религиозной концепции спасения. Спасение становится самоспасением
человека.
Этому процессу суждено было пройти через три общие стадии (не
только в строго хронологическом, но и в эволюционном смысле — т. е.
речь шла о постепенном смещении акцентов). На первой стадии
накопление секулярного опыта привело к мысли о том, что человечество
должно идти вперед в самом познании и в применении полученных знаний:
«Только понимая изобретенное нашими предшественниками именно в
свойственном им духе, мы и способны изобретать новое». Здесь у
Отгона Фрейзингского и даже значительно позднее, в век Людовика XIV,
настоящее (современная им эпоха) представлялось вершиной
человеческого прогресса. (Для Перро слава Людовика и Корнеля207* представлялась
высшим достижением всех времен.) На людей достигшая этих пределов
секуляризация производила такое впечатление, что они предпочитали не
заглядывать вперед, — тем более что за этим мирским настоящим все еще
отчетливо проглядывало божественное.
На втором этапе действующим лицом был Фрэнсис Бэкон, который,
не тревожа себя мыслью о «конце времен», смотрел за пределы своего
настоящего, «plus ultra», прозревая будущий прогресс в прогрессе былых
времен, и рассчитывал его. Однако это «plus ultra» и для него, и для его
последователя Гланвилла все еще оставалось неясным.
К третьему этапу подошли благодаря усилиям деятелей
Просвещения и Французской революции, преимущественно Кондорсе208* и Каба-
ниса209*, живших ожиданием царства человеческого совершенства, — «не-
79
расторжимого союза» свободы, равенства, добродетели и зрелого ума, что
должно было стать зримым итогом революции. С тех пор все идеологи
революционной борьбы (даже и марксисты, с их стремлением построить
«бесклассовое общество», в котором уже не будет места политике и
войнам) черпали свое вдохновение в этой перспективе.
Неизменная цель совершенства, к которой, как ожидалось, должен
устремиться Прогресс, особенно занимала немецких философов эпохи
Просвещения и романтизма. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in
Weltbügerlicher Absicht (Идея всеобщей истории с космополитической
точки зрения, 1784) Канта210* объясняет эту конечную цель наиболее
последовательно и, в то же время, наиболее радикально апеллируя к идеям
эпохи Просвещения. Здесь содержится и наиболее обдуманный и
обоснованный вариант той концепции, которую до Канта лишь набросали
Эмерих Крюсе211*, Луи Леруа и Аббат де Сен-Пьер и которая теперь, в
нынешней трудной ситуации, видится нам единственной надеждой, —
концепции создания наднациональной всемирной организации.
Согласно этой концепции, Природе — со всей очевидностью и
откровенностью - передаются функции Бога — передаются даже куда
радикальней и очевидней, чем это содержалось в постулатах Дидро212* и Бюф-
фона213*. Природа - в виде всемирного Разума — упорно, решительно и
прозорливо руководит судьбами мира и человека. Человеческая воля и
разум становятся для природы орудиями ее собственной воли и разума.
И в этом замыслы природы и человеческая воля совпадают: «Природа
пожелала, чтобы человек полностью воспроизводил все, что выходит за
рамки его органического и естественно-животного существования, и
чтобы на его долю не выпало бы иного счастья или совершенства,
кроме того, которое он добыл для себя сам — и не инстинктивно, а своим
разумом ... Раз уж природа наделила человека разумом и свободой воли,
основой которой является разум, то это же послужило ясным указанием
той цели, с какой она наделила его этим... Изобретение человеком
одежды, средств защиты от стихии, средств безопасности и защиты от
внешнего мира... равно как и всех источников наслаждения, которые могли
бы сделать его жизнь приятной, а также его интуиция и благоразумие и
даже устремленность его воли к добру — всему этому предстояло стать
всецело творением его рук. Можно подумать, что Природе нравилось
быть в этом отношении крайне скупой, весьма экономно отмеряя
способности для живых существ. Можно подумать, что она изначально
точно соотнесла эти способности с самыми насущными потребностями, как
если бы она хотела, чтобы человек, завершив, наконец, борьбу и
перестав быть беспредельно жестоким и стяжав способность к внутреннему
совершенствованию в образе мысли и, следовательно... к счастью, мог бы
всецело приписать эту заслугу себе и быть обязанным этим лишь себе
самому»122.
Кант доводит свою теологию Природы и Разума даже до того, что в
итоге дает парафразу истории Бытия, выдвигая предположение, что для
этой цели человек, чтобы развить свои умственные и нравственные
способности к самосовершенствованию, должен был пройти через явно
преступное (т. е. греховное) состояние, потому что в противном случае «люди
могли бы вести жизнь аркадских пастушков в полной гармонии, доволь-
80
стве и взаимной любви» (т. е. в Раю), «но в этом случае все их таланты
навсегда остались бы скрытыми, остались бы в зародыше. Кроткие, как те
овцы, которых они пасли, эти люди вряд ли удостоились бы за свою жизнь
более высокой награды, чем та, которой заслуживали их одомашненные
животные ... Так возблагодарим же Природу за это недружелюбие, за эту
завистливую ревность и за тщеславие, за это ненасытное желание обладать
и даже властвовать! Если бы не это, то все прекрасные способности,
заложенные в человечестве Природой, так и спали бы вечным сном и
никогда не развились бы. Человек жаждет согласия, но Природе лучше знать,
что есть для него благо, и потому она будет создавать разногласия.
Человек хочет жить с удобствами и в свое удовольствие, но Природа желает,
чтобы, покончив с праздностью и пассивным довольством, он взял бы на
себя тяжкий труд и страдания (т. е. "в поте лица твоего будешь есть
хлеб") — даже и для того, чтобы найти средство от них избавиться и
чтобы благоразумно освободить от них свою жизнь»123. Этот аргумент и был
ответом на теорию Руссо о «падении» человека, согласно которой
цивилизация порождала пороки, и, в то же время, обобщением этой теории.
До Канта к нему прибегал Тюрго214*, а позже он был смутно высказан
Гегелем124.
Итак, конечной целью, которую, по всей видимости, разумная
Природа поставила перед человеком, но которой посчастливится достичь
лишь самым отдаленным поколениям125, был «выход из бесправного
состояния дикости и вступление в некую Федерацию Наций. А из этого
следует, что каждое государство, даже и самое крошечное, может,
оберегая свою безопасность и свои права, полагаться не на собственную мощь
или собственное представление о справедливости, но лишь на эту
великую международную федерацию (Foedus Amphictyonum), на ее совместную
мощь и на действия общей воли, осуществляемой согласно законам...
Все войны... все многочисленные попытки (нет, не по воле людей, но все
же согласно целям Природы) установить новые отношения между
народами строились на разрушении или по крайней мере на расчленении всех
государств, чтобы образовать новые политические объединения... Так
будет продолжаться до тех пор, пока, наконец (отчасти путем наилучшей
организации внутриобщественного устройства, а отчасти путем общего
соглашения и урегулирования внешнеполитического законодательства),
мы не достигнем такого состояния, которое с помощью своего рода
содружества граждан автоматически будет способно сохранить себя»126.
Заключительный Кантов проект истории Прогресса — его течения и
завершения — лег в основу тщательно разработанной Гегелевой схемы
самообъективации «Всемирного Духа» (Weltgeist), который находит свое
воплощение в идеальном государстве: «Историю рода человеческого,
если рассмотреть ее в целом, можно счесть осуществлением
сокровенного плана Природы по созданию такого политического устройства,
которое было бы совершенным не только изнутри, но и, в соответствии с
этой целью, внешне — единственного государства, где все способности,
которые были заложены в человечество самой Природой, смогут достичь
полного развития»127.
Гегель и Маркс были последними из мыслителей, которые, определяя
точную цель человеческого совершенствования, не заглядывали за пре-
81
делы этого идеального, имеющего возникнуть в конце, государства, как
если бы в нем человечество обрело вечное блаженство. После Гегеля и
Маркса понятию самоспасения человека и, более того, всей
многовековой мечте об имеющем наступить спасении пришел конец. Вместо
этого человечеству предстояло существовать в условиях вечной
нестабильности, бесконечного приближения к никогда не достижимому, вечно
ускользающему совершенству. Еще Фонтенель заметил: «II est evident que
tout cela η 'a point de fin (очевидно, что все это не имеет конца)». Сфера
человеческой деятельности расширяется во всех направлениях, что
является следствием расширения самой сферы знаний и исследований.
Наука, техника, производство, мировая торговля — все это расширило
кругозор; психология и искусство углубили видение мира; а более
развитому историческому сознанию предстала действительность как
постоянный, несконечаемый поток.
15
Всем этим процессам предшествовала длительная подготовка.
Аристотелево понятие бесконечности времени незаметно, как мы видели,
прокралось в повседневность секулярного мира, однако в силу догматизма
мышления оно долго не признавалось открыто. Даже само слово
«бесконечность» вызывало страх, и потому, рассуждая о физических, природных
явлениях, его заменяли ограничительными выражениями: minima и
maxima. Но не только Джордано Бруно215*, которого сожгли на костре,
открыто признавал, вслед за Коперником, экстенсивную бесконечность
Вселенной и ее звездных тел, но и посредством своих minima предвосхитил
понятие интенсивной бесконечности: «Пространство бесконечно, —
говорил Герман Вейль216*, — не только в том смысле, что в нем не имеется
конца; оно, кроме того, в любом своем месте бесконечно, так сказать,
вовнутрь, и точка в нем может быть определена лишь путем бесконечного и
от раза к разу все точнее и точнее фиксирующего ее процесса деления»128.
Оперируя с понятием континуума, что в итоге привело к созданию
Лейбницем217* и Ньютоном дифференциального и интегрального исчисления,
люди одновременно шли к сознанию секулярного континуума,
осуществляемого в консолидации государств и установлений. Секулярная
бесконечность признавалась во всех этих разнообразных случаях.
Столь же новаторским был и опыт секулярной универсальности, впервые
заявивший о себе в философии Жана Бодена (1530—1596). Он и
представители его школы ввели понятия сравнительной истории и сравнительной
юриспруденции. Средневековые глоссаторы ограничивались изучением
римского Corpus Juris и сравнением его соотносимых фрагментов. Воден
раздвинул узкие рамки подражания античности и, в частности,
педантичного соблюдения канонов всего римского, что достигло своего апогея в
эпоху Возрождения. Следуя гуманистическим идеалам классического
образования и ясности, Воден стал еще тщательнее изучать и критически
исследовать античные источники. В итоге он не только внес исправления в
средневековые толкования и ввел в оборот новые юридические
материалы, найденные им в древнеримских текстах, чтобы интегрировать весь су-
82
шествующий корпус римского права в единую систему, но и расширил
саму эту систему, сравнивая ее с правовыми основами других государств
и включая их в ее состав. «Исторические дивергенции или... расхождения
в законах разных государств были систематизированы ради того, чтобы,
сравнив их, отобрать лучшее. И, наконец, эти различия в установлениях
народов были соотнесены с более существенными различиями в
естественной среде их обитания или в политическом устройстве, чтобы
выделить особые факторы, которые следует учитывать, оценивая законы.
Следовательно, у Бодена произошел окончательный переход от экзегезы
авторитетов к методу критической рефлексии и общей теории права. В
каком-то смысле системы естественного права следующего века, а также
сравнительная юриспруденция XVIII в. представляют собой развитие его
программы»129.
Юридическая реформа Бодена - это всего лишь часть куда более
важного исторического универсализма. Он отверг концепцию золотого века
и деградации человечества, усматривая прогресс в человеческих
знаниях и изобретательности. Но тем новым, что он внес, стало создание
светской всеобщей истории; он первым заявил о мире как о «всеобщем
государстве» и отказался от традиционной концепции четырех монархий
(имеются в виду Вавилонско-Ассирийская, Персидская,
Эллинистическая и Романо-Германская), на которые сторонники теократизма
подразделяли земную историю — от Даниила до Меланхтона218* и Слейдана219* .
Бодену принадлежит географический, т. е. чисто светский, принцип
разделения истории на три мировых периода, в каждом из которых
преобладало влияние той или иной группы народов — период юго-восточных,
средних (средиземноморских) и северных народов. Это трехчастное
деление «всемирной истории» с тех пор стало традиционным и
впоследствии распространилось на временную и эволюционную периодизации.
Временная периодизация просматривается еще в произведенном
Бэконом делении истории на древность, среднее время с подразделением на
греческое и римское и «современную историю», к которой относится то,
что мы понимаем под Средними веками (включая и начальную стадию
той современной эпохи, когда жил сам Бэкон).
Создание эволюционных структур, обмирщение исторического
развития началось с Вико, теория которого (1725) была, однако, облечена в
богословскую фразеологию и вживлена в «ricorso» — циклическую систему.
Он, довольно неуклюже оперируя несвязными терминами, которые еще
не были упорядочены на ранней стадии специализации наук, ввел
понятие «вечно идеальной истории» (Storia ideal eterna), или «философии
традиций» {Filosofia dell' Autorita), в свете которой прогресс человечества
представлялся ему подразделяемым на три эпохи — на первобытное
состояние, когда страсти властвуют над дикими и неорганизованными людьми;
на второй «героический век», для которого характерно преобладание
воображения, или «поэтической мудрости», и, наконец, на век цивилизации,
когда сформировалась способность мыслить понятиями. Удивительно
современной кажется его попытка оценить каждый период объективно,
учитывая характерные особенности мировоззрения того времени и
воздерживаясь от употребления новейших терминов, чтобы лучше донести его
самобытность.
83
Периодизация, автором которой был Тюрго, министр финансов
Людовика XVI220* и предреволюционный реформатор (1727—1781), уже
совершенно лишена как богословской основы, так и следов цикличности,
хотя, сам того не ведая, Тюрго кое в чем солидарен с Вико.
Отличительными чертами периодизации Тюрго являются ее ясность, лаконичность
и фактографичность; исследователи нередко обращали внимание на то,
что она предвосхитила теорию трех стадий Конта130 221\ «Прежде чем
удалось познать связь физических явлений между собой, — пишет Тюрго, —
было весьма естественно предполагать, что они производятся
разумными существами, невидимыми и подобными нам... Все то, что случилось
без участия людей, имело своего бога, перед которым страх или
надежда вскоре заставили благоговеть и обряды почитания которого
придумывались сообразно существовавшим отношениям к сильным людям; ибо
боги считались только людьми более сильными и более или менее
совершенными в зависимости от того, насколько век, продуктом которого они
являлись, был более или менее просвещен об истинных совершенствах
человечества»131. Этот первый этап периодизации Тюрго соответствует
теологической стадии Конта132. «Когда философы, не имея истинных
знаний в области естественной истории, признали нелепость этих басен,
они начали объяснять причины явлений отвлеченными выражениями
вроде "сущностей" и "способностей", которые, однако, ничего не
объясняли и рассматривались как существа, как новые божества, пришедшие
на смену старых»133. Речь здесь идет о том этапе, который Конт
называет метафизическим. «Лишь значительно позже, когда было замечено
механическое взаимодействие между телами, удалось построить на
основании этой механики другие гипотезы, которые могли быть развиты
математикой и проверены опытом. Вот почему физика перестала
вырождаться в скверную метафизику только тогда, когда длинный ряд успехов
в области искусств и химии умножил сочетание тел, когда сообщение
между обществами, став более тесным, обусловило расширение
географических знаний, когда факты стали более достоверными и когда
практическое применение искусств стало совершаться на глазах
философов»134. Это - почти дословно воспроизведенная характеристика,
которую Конт дал третьей, «позитивной» стадии.
Однако если эти теории уже служили отражением естественных наук,
методология и практическое применение которых имели огромное и все
возрастающее значение, то совокупные результаты этой методологии все
еще «предоставлены на рассмотрение философов». Самый выдающийся
и влиятельный из них, Гегель, попытался превратить всю сумму знаний
своего времени в обширную систематизированную конструкцию —
попытался все достижения исторического сознания своего времени внести
в некую эксплицитную «философию истории», сочетая при этом (как
было ему свойственно при обращении с европейской традицией)
географический и временной, цивилизаторский и эволюционный аспекты
истории человечества. На деле для Гегеля уже не существовало
человечества, которое было центром и главным действующим лицом обширного
и сложного исторического процесса; существовал лишь
секуляризованный Дух христианской древности, который постепенно превращался в
современный Разум. Таким образом, Гегель сочетал четырехчастное де-
84
ление с трехчастным. На более конкретном уровне он различал четыре
периода, отождествляемых с тем местом действия, где разворачивались
основные события, — Восточный, Греческий, Римский и Германский
миры. На этом уровне речь еще идет о народах и людях, меж тем как на
другом, абстрактно-сущностном, уровне человек становится всего лишь
орудием, или средством, или вместилищем Духа (Разума) Вселенной —
Духа, который в своем развитии проходит три стадии, эволюционируя от
субъективного к объективному и, наконец, к абсолютному Духу, или
Разуму. Согласно этой концепции (раз уж логика неотделима от
метафизики и, по сути, тождественна ей, а систематические различия сливаются
с эволюционными), развитие Духа, или Разума, идет от субъективного,
«обычного», психологического сознания индивидуума к объективному,
всеобщему, социальному сознанию общностей и в конечном итоге к
абсолютному, философскому сознанию, самосознанию (Selbsbewusstsein)
Разума как такового. То, что Кант выделял в особое понятие («сознание
вообще» — Bewusstsein überhaupt), становится у Гегеля конечной
стадией эволюции.
Выделение Гегелем трех исторических стадий находит свое продолжение
в диалектической трехчастности исторического развития, подразделяемого
на тезис, антитезис и синтез, что на самом деле было введено Фихте222*.
Совпадение диалектических терминов со стадиями эволюции, а также
превращение экзистенциальных уровней и свойств в поток,
перетекающий во всеобъемлющий процесс, знаменовало собой начало всецелой
динамизации действительности, но в то же время — и апофеоз Прогресса.
16
Гегелевской теории диалектического развития истории на самом деле
предшествовало диалектическое развитие собственно прогресса с
внутренне присущей ему взаимосвязью между чередующимися оптимизмом
и пессимизмом, прогрессом и регрессом. То, что время от времени
история замедляла свой ход (что объяснялось осмыслением опыта
погибших цивилизаций), в итоге лишь способствовало созданию проектов
реформ и победам революций. Оптимистическое отношение к прогрессу,
свойственное Бэкону, Перро и Сен-Пьеру, встречало противодействие со
стороны скептицизма Пьера Бейля223*, Вольтера и Руссо, меж тем как
почти все выдающиеся прогрессивные мыслители пребывали между
верой и сомнением. И тем не менее подобное неустойчивое равновесие
между тезисом и антитезисом в основном преодолевалось, когда
одерживали верх синтетические концепции, — подобные концепциям Тюрго и
Канта. Парадоксально, но подобным же образом и успехи теорий
прогресса, для которых была характерна все большая склонность
заглядывать вперед, во многообещающее будущее, забывая при этом о прошлом
(Д'Аламбер224*, как и футуристы225* XX в., желал разрушения истории),
вызывали обратное действие, привлекая внимание к прошлому, что и
дало начало историзму.
Историзм был порождением конвергентных источников —
естественно-научного и гуманитарного, а именно: биологической эволюционной те-
85
ории и романтического направления (главным образом, немецкого),
причем каждый из них и на этот раз был синтезом рационалистического
наследия и руссоистского и английского натурализма.
Эволюционная теория выросла из научной классификации видов
живой природы, впервые систематизированной Джоном Реем226\ которого
именовали «отцом английского естествознания» (1627—1705). Он и его
более известный и более влиятельный последователь швед Карл Линней
(Linnaeus, 1707—1778)227* все еще полагали, что различные биологические
и зоологические виды были сотворены Богом и потому оставались
неизменными. Путь, пройденный от классификации (таксономии) к
генетике, служит примером того, как представления человека о мире (и,
следовательно, о самой по себе человеческой реальности) становятся более
подвижными и изменчивыми. В конце XVIII в. такого рода
представления быстро завоевывали умы.
Человеком, разорвавшим жесткие путы классификации, был Бюффон
(1707-1788), выступивший против педантически-рациональных
определений и непоколебимых правил ученых мужей. Именно он предложил
изучать и описывать многоликую Природу: ему было свойственно то, что
Гёте называл «сосредоточенностью на природе» (Hinstarren auf die Natur).
В своем стремлении к упрощению и уравниванию, говорил он, ученые
мужи применяют один и тот же метод при изучении самых
разнообразных и несходных случаев; они расчленяют внутренне взаимосвязанную
природную целостность и, произвольно отсекая часть растения, дают по
одному этому фрагменту общую характеристику всему целому.
Постоянно вводя в обращение все новые и новые научные термины, они делают
научный язык сложнее самой науки. Бюффон хотел, чтобы к изучению
природы подходили непредвзято, чтобы над ученым не тяготела
общепринятая система (presque sans dessein) и чтобы явления природы
описывались точнее — именно такими, какими они являются взору (representer
nai'vement et nettement les choses"). Правильно используя дескриптивный
язык, подлежит следовать порядку природы, ибо стиль — это, так сказать,
порядок движения мысли в соответствии с порядком самой природы.
Пытаясь дать как можно более точное описание животных, Бюффон
практически заложил основы морфологии как науки о формах
организмов. Его принципом был поиск ответа на вопрос "как?", а не на вопрос
"почему?". Он уже вплотную подошел к пониманию того, что границы
между животным и растительным мирами подвижны, а из того факта,
что некоторые органы живых существ, похоже, атрофировались, он
сделал вывод, что с течением времени формы, должно быть, менялись135.
И вновь противоречие между Линнеем и Бюффоном было
преодолено с помощью синтеза Кювье (1769—1832)228*, который попытался
систематизировать те многообразные явления органического мира, которые
только наблюдались Бюффоном. Прежде всего было разработано
рационально обоснованное понятие органичности. Бюффон высказал
гипотезу о существовании «внутренних форм» (moules interieurs) — т. е.
прототипов, на основе которых и были созданы — наподобие произведений
ф Почти без письма (франц.).
** Представлять вещи простодушно и отчетливо (франц.).
86
искусства — разные животные. Эти прототипы могут существовать в
разных вариантах, но коренных изменений с ними произойти не может.
Кювье же приближался к пониманию строгого соответствия органов и
функций внутри некоей органической формы, причем каждое живое
существо — это замкнутая система, где все части взаимозависимы и
способствуют точно установленной соотнесенности с целостной деятельностью
всего тела. Ни одна часть не может измениться так, чтобы при этом не
изменились все остальные. Однако существует не одна только
внутренняя связь между органами и функциями организма, но и весь организм
в целом находится в строго определенных взаимоотношениях с
окружающей средой. Это — его «закон условий существования (/о/ des conditions
d'existence)».
Новаторство Кювье проявилось еще и в том, что в сферу его
исследований была включена и палеонтология, что означало историзацию
биологической теории. На основе обширного материала Кювье установил,
что ископаемые (которых Линней все еще считал минералами, а не
организмами) существовали в те времена, когда мир был населен
животными, коренным образом отличавшимися от нынешних, и что
многократно изменявшиеся условия жизни вызывали изменения и в организмах,
причиной чему были повторяющиеся разрушительные катастрофы. Это
открытие фактически заложило основу истории жизни на Земле. Кювье
даже попытался, используя ископаемых животных, дать определения
геологическим эпохам, иными словами — создать историю Земли.
Наконец, он пришел к выводу, что разные виды, возникавшие и успешно
развивавшиеся после повторявшихся «революций», обнаруживают стойкий
прогресс в организации. Бюффон занимался организмами, в абсолютной
неизменности которых он никогда не сомневался, что было пережитком
былой веры в неизменность природы.
Однако теория повторяющихся катастроф, в какой-то степени
представляющая собой реминисценцию Аристотелевой теории
возобновляющихся катаклизмов, помешала Кювье понять подлинную генетическую
эволюцию. При его научных успехах он все же не вполне расстался с
представлением о неизменности видов, хотя ему принадлежит гипотеза
о квазигенетическом развитии внутри видов; вид для него — это вся
совокупность индивидуумов, ведущих свое происхождение или друг от
друга, или от общих предков. Он решительно отметал любые
филогенетические соображения. Жоффруа Сент-Илэр (1772— 1844)229* расширил эту
внутреннюю родословную, довел ее до взаимоотношений видов друг с
другом и высказал предположение, что все разновидности живых
существ, в том числе и человек, наделены общими органами; он
рассмотрел применительно ко всему живому миру и его видам гипотезу
швейцарского натуралиста Шарля Бонне (1720—1793)230\ утверждавшего, что
все формы, которые последовательно проходит живой организм в его
эмбриональном развитии, в основе своей одни и те же и что стадии
эмбрионального развития разных существ отличаются лишь различиями в
развитии органов. Подобным же образом Жоффруа Сент-Илэр
утверждал, что разнообразие органического мира объясняется различиями в
развитии аналогичных органов: органы остаются неизменными, и они
будто бы одни и те же у всех организмов, а различия между ними сводят-
87
ся к различиям в устройстве органов, которые, будучи теми же самыми,
только усложняются или видоизменяются. Хотя и Кювье, и Сент-Илэр
испытали на себе влияние созданной Бюффоном художественной
концепции организма, но они представляли, будто организм рационально
подразделяется на всегда одни и те же органы, что помешало им
распознать ту морфологическую изменчивость, без которой не составить
представления об эволюционных изменениях.
Первым, кто обратил внимание на подвижность и изменяемость
органического мира, был Ламарк (1744—1829)231*. Ламарк открыл это
наравне с Гегелем, который пришел к тому же в области метафизики, хоть и
отвергал при этом все теории биологической эволюции. Для Ламарка вся
организация органического мира тождественна его эволюции, точно так
же его таксономические различия совпадают со стадиями эволюции.
Родословная органических форм, в его понимании, была выражением их
систематического порядка. С его точки зрения, причина согласованной
эволюции форм кроется в изменениях в среде обитания, к которой
адаптируются живые существа. Использование или неиспользование тех или
иных органов влечет за собой изменения в характеристиках самих
существ, а необходимость приспосабливаться заставляет живые существа
эволюционировать, что способствует этим изменениям.
И наконец, Дарвин2*2* под влиянием Мальтуса233* (а он в своей теории
народонаселения доказывал, что природа в своих творениях никоим
образом не экономна, но скорее расточительна и что каждый вид
производит больше потомства, чем это требуется для выживания данного вида)
создал свою, ныне господствующую, теорию естественного отбора,
согласно которой приспособление к окружающей среде происходит путем
«выживания самых приспособленных». Но каким бы ни был сам способ
адаптации, была прочерчена прямая линия профессивной эволюции от
амебы к человеку.
Подобный процесс в области гуманитарных наук шел в основном в
Германии. По сути это было продолжением, а фактически - третьей,
решающей стадией борьбы между «Древними и Современными». Подобно
тому как Бюффон восстал против рациональной классификации,
выступая за всестороннее изучение природы, так и немецкие бунтари Гаман234*
и Гердер235* возглавили движение «Бури и натиска»236* — атаку против
жестких правил и рациональных предписаний, идущих еще из древности,
требуя дать простор внутреннему самовыражению, творческому
высвобождению страстей и устремлений, эмоций и духовных сил. Тем самым
они исподволь приоткрывали необозримую панораму новых горизонтов,
прежде ограниченных сдерживающей силой рационализма. На первых
порах новое самосознание выражало себя всплеском разнородных
опытов, исследований, размышлений и проектов, о чем свидетельствуют
труды двух вышеупомянутых вождей «Бури и натиска».
Гаман (1730—1788) (вместе с поэтом Клопштоком237*) был
выразителем духа нового поколения. Его стиль представлял собой
необыкновенную, ошеломляющую смесь учености и поэтического вдохновения. Едва
ли кто-нибудь понял его до конца, да он и сам признавался, что по
прошествии времени он уже не понимал того, что написал сам и отчего
88
«бросало его то в жар, то в холод (Angstschweiss und glühend Gesicht)».
Свои произведения он называл «навозной кучей, в которой все-таки
можно найти зерна всего, что было у него в голове (einen Misthaufen, in
dem aber der Same von Allem sei, was er im Sinn habe)». А в голове у него
было так много всего сразу, что, по выражению Лессинга238*, его писания
читаются как экзаменационные вопросы для эрудитов. И все-таки его
«зерна» — это семена немецкого романтизма, и стоит отметить, что здесь
рациональные элементы, свидетельства эрудиции и интеллектуальной
утонченности (такие, например, как принцип и практика иронии)
перемешаны с субъективными эмоциями. И хаотическая смесь многоцветных
стилистических и жизненных элементов, и старание охватить все
содержательное разнообразие, старание выразить ощущение от жизни в
целом — все это и есть романтизм в его зародыше.
У Гердера (1744—1803), самого влиятельного проповедника учения
Гамана, этот же конгломерат стилей представляется уже не таким
сконцентрированным: он как бы разжижен и охватывает разные сферы
теории и практики, сохраняя при этом свой аморфный характер. И в самом
деле, по мере расширения материала обогащается и сам ум,
поглощенный выполнением новых задач'36. Гердер был восприимчив ко всем
европейским новациям, а идея Прогресса и цель сделать человечество
просвещенным и гуманным (цель, которой он был безраздельно предан)
особое значение приобрели именно в Германии, где еще не сложились
ни однородная нация, ни национальное общество, ни национальная
традиция. Всему этому еще предстояло осуществиться в будущем. Именно
поэтому акцент ставился на будущем, на грядущем, на развитии, на
динамическом процессе. На примере Гердера мы можем с особой
отчетливостью заметить, как взгляд в будущее породил новый взгляд на прошлое,
исторический взгляд; как вера в прогресс и в просвещение человечества как
в цель стимулировала расширение исторических и этнографических
исследований, как она способствовала исследованиям о происхождении
языков, религий и искусств; как она углубляла взгляд на прошлое и
расширяла горизонты настоящего. Специфически немецкая задача отыскать
национальное совершенство в совершенстве человечества в целом
придала многообразной деятельности Гердера дидактический и
пропагандистский оттенок, что, в свою очередь, подвигло его изучать обычаи и
установления других народов. Он был пропагандистом фольклора и поэзии
самых разных и самых отдаленных народов, старых и новых, восточных
и западных, южных и северных. Он давал описания и переводы
фольклорных и поэтических памятников, делая это с необыкновенной
выразительностью, тонко передавая присущие этим народам особенности.
Все это, по меркам того времени, делало его фигурой, сопоставимой в
наши дни с Тойнби или Мальро239*.
Та же восторженно-сумбурная смесь разных ощущений (в частности,
интеллектуального остроумия с бурлящей эмоциональностью)
характерна как для движения «Бури и натиска», рационалистические
компоненты которого зачастую остаются незамеченными, так и для немецкого
романтизма240*, выразившего себя куда изысканней и утонченней. Фридрих
Шлегель (1772—1829)241\ крупнейший из его теоретиков, называет
романтизм «прогрессивной всемирной поэзией (eineprogressive Universalpoesie)»:
89
«Ее предназначение не только вновь объединить все обособленные роды
поэзии и связать и привести поэзию в соприкосновение с философией
и риторикой. Она стремится и должна то смешивать, то сливать
воедино поэзию и прозу, гениальность и критику, художественную и
естественную [народную] поэзию; делать поэзию жизненной и
общественной, а жизнь и общество — поэтическими... а формы искусства насыщать
основательным образовательным материалом и одушевлять их юмором...
Романтическая же поэзия находится еще в становлении, более того,
самая ее сущность заключается в том, что она вечно будет становиться и
никогда не может быть завершена»137.
Наиболее соответствующей теориям немецкого романтизма
литературной формой является фрагмент, в котором
мыслители-универсалисты типа Новалиса242* и Фридриха Шлегеля могли непринужденно и как
бы экспериментируя соединить и противопоставить самые несходные
явления. Другая типичная литературная форма романтизма - это
свободно льющийся роман Тика243*, Новалиса или Жана Пауля244*, в котором
поэтические и сатирические элементы прихотливо сочетались с
учеными рассуждениями. Стоит отметить, что именно тогда появился
исторический роман.
Немецкий романтизм, как это отмечал в своих фрагментах Шле-
гель, был нацелен на создание не одного только нового
художественного стиля, но еще и нового, свободного от пут образа жизни, новых
общественных нравов: его влияние захватило все сферы жизни,
политики, науки, человеческого общения. По сути романтизм стал центром
нового, всепроникающего, многообразного интеллектуализма,
выражавшего себя через иронию — этот особый, методически
воспроизводимый вид иронии, конституирующий цепную реакцию, так сказать,
самопреодоление138. «Ирония, — говорит Фридрих Шлегель, — это
ясное осознание бесконечной подвижности, непреходящего хаоса (Ironie
ist klares Bewusstsein der ewigen Agilität, des unendlich vollen Chaos)139,
это рефлексия, «потенцированная (potenziert)» и «как бы умноженная
в бесчисленном количестве зеркал (wie in einer endlosen Reihe von
Spiegeln vervielfacht)»140.
Связь с диалектикой Фихте и Гегеля вполне очевидна, причем
фантастически, солипсически абстрактная теория Фихте еще динамичней
теории Гегеля, основа которой — простое, нескончаемое действие и
борьба. Бытие, по Фихте, произошло из начального деяния, из
«осознающего себя и утверждающего себя сознания»; это самосозидающее
сознание является синонимом действия. Из этого первичного
рефлексирующего действия возникает эго, которое утверждает нон-эго,
подобный барьеру внешний мир, с единственной целью преодолеть его.
Неустанно и бесконечно оно ставит перед собой все новые и новые
барьеры для их преодоления и новые задачи для их разрешения. Этот
процесс продолжается бесконечно, поскольку по своей природе он
представляет собой «бытие как действие и борьбу», которое не имеет
конца и не может быть восполнено. Концепция Фихте — это
совершенный прототип бесконечного и бесцельного прогресса, который не мог
не начаться.
90
17
Итак, в обоих направлениях — как в биологическом, так и в
гуманистическом, — шел процесс постепенного подрыва основополагающей
стабильности, преобразования ее в поток. А возникший в итоге
историзм только усилил и расширил эту тенденцию.
Под историзмом мы понимаем тенденцию наблюдать и объяснять
явления в их историческом аспекте, а также выводить, как это делали
Гегель и Ламарк, принципы классификации и различия из эволюционных
процессов, что приводит к совпадению систематической и исторической
последовательности. Этому способствовал и сам опыт эволюционных
исследований, в результате чего константы, данные Богом или Природой,
исчезают.
Из первозданного хаоса предромантического и романтического
мироощущения и умозрительных систем романтической философии
истории постепенно возникают различные историографические
дисциплины: политическая история родилась из глубин «истории культуры»;
социология - из недр экономики и истории экономики
(Wirtschaftsgeschichte)', география — из этнографии, которая вместе с
палеонтологией дала начало антропологии; археология породила историю искусств;
история религии привела к зарождению мифографии; филология
разделилась на этимологию, историческое языкознание и лингвистику;
история философии вычленилась из истории литературы и из истории
научно-технических открытий, которые медленно и подспудно
входили в жизнь. Но естествознание, все более и более специализируясь,
продолжало (за исключением геологии и биологии с медициной)
держаться на гипотезе о неизменности природы. Это объяснялось тем
огромным разрывом, который существует между человеком-наблюдателем
и космическо-астрономическими и микромолекулярными изменениями
и процессами, а также теми огромными пространственными
различиями, которые отделяют человеческие и космические ритмы и
масштабы. И только в последнее время расширение и углубление современной
астрономии, астро- и ядерной физики поколебали веру в неизменность
космической природы.
В XIX в. историзм достиг своего апогея. Наука с ее критическим
подходом и поиском методов возвратилась к источникам, выявила и
систематизировала основные документы и письменные памятники. По
предложению барона фон Штейна245*, приснопамятного
государственного деятеля времен войн за освобождение Германии от Наполеона, в
1824 г. Георгом Генрихом Пертцем246* было положено начало изданию
Monumenta Germaniae historica, которое стало образцом подобных работ.
То было время первых монументальных серий и обобщающих трудов,
благодаря которым добросовестные ученые смогли взглянуть на эпохи,
народы и цивилизации в широкой перспективе; то было время ученых
лидеров — таких, как Нибур247*, Дройзен248*, Ранке249*, Моммзен250* и
Якоб Буркхардт251*, Токвиль252*, Тэн253*, Мишле254* и Фюстель де Ку-
ланж255*, Маколей256*, Брайс257* и Мейтленд258*. А каждая из
новообразованных смежных дисциплин обрела в этот век своих основателей и
компиляторов, которых нет нужды перечислять. И вновь открылась
91
перспектива углубить и расширить знания об истории, опять
появилось новое измерение исторического сознания. То была поистине
кульминация исторического сознания, которое прежде всего возникло в
умах отдельных мыслителей; оно и выражало характер века, и
управляло им, оно жило не только в мыслях и поступках политических
деятелей, но и в общественных настроениях; родившись из идеи
Прогресса, оно, в свою очередь, рефлективно внедряло эту идею в массы.
Таким образом, всеобщая вера в Прогресс, которая завоевывала все
больше сторонников (за исключением — и каким! — марксизма,
призывавшего к борьбе за золотой век), покончила с ожиданием грядущего
совершенства, да и с самим принципом совершенствования вообще.
Теперь уже не считалось, будто Прогресс устремлен к какой-то
определенной цели, теперь он соответствовал научному представлению о
вечном и постепенном развитии, о бесконечном прогрессивном
приближении к недостижимому идеалу. Одним словом, Прогресс совпал с
собственно процессом, со становлением как таковым.
Этот отказ от конечной цели был связан с другим, еще более
существенным изменением.
Либерализм, в основании которого лежало учение о безграничном
экономическом росте, стимулируемом развитием науки и техники и
конкуренцией, по своей природе был нацелен на нескончаемый прогресс.
Либеральная экономика, или капитализм, по сути просто обречена на
вечное, нескончаемое развитие; она неотделима от движения. И даже
марксистский социализм начался с утверждения бесконечной эволюции.
Хотя фракция эволюционизма в марксизме потерпела поражение, за
которым, судя по всему, наступило банкротство этого направления,
напрочь утратившего свою социалистическую сущность, но сами идеи
эволюционизма были, как видим, подхвачены его врагами — собратьями по
партии. Коммунизм в его нынешнем состоянии, даже не отказываясь —
при удобных случаях — от идеи революции, в то же время, судя по
всему, все больше на опыте своих побед убеждается в том, что всеобщего
счастья в итоге не достичь никогда. Это явствует и из советского
политического курса, и, в еще большей степени, — из философии Мао Цзэ-
дуна259\
Изменение условий существования в конце XIX в. повлекло за
собой изменение и самого смысла Прогресса, хоть это происходило и
помимо сознания людей. Вследствие социализации и, соответственно,
«экономикализации» событий (что, в свою очередь, объяснялось
результатами Французской и промышленной революций) понятие
Прогресса вновь обрело свой изначальный смысл и опять стало
обозначением того, что, по сути, и дало начало прогрессу как таковому: теперь
под Прогрессом опять понимались зримые плоды научно-технических
достижений. Вспомним, что именно достижения в технике и стали
решающим аргументом в пользу превосходства современности над
древностью. А тем временем, как мы видели, идея Прогресса обретала
более широкий смысл, включавший в себя нравственное и общественное
совершенствование человека и человечества в целом, которое
достигается благодаря накоплению знаний и улучшению
общественно-политического климата с помощью техники — благодаря тому, что получило
92
название «жизненного уровня». Эта вера все еще жива в теории
социализма. Но даже в социалистическую практику и повседневную жизнь
постепенно вошло и стало преобладающим отождествление Прогресса
с внешне безграничными успехами современной науки и техники: во
всех сферах жизни человека окружают созданные им устройства.
Следует признать, что ни ужасы мировых войн и нацистского и
сталинского режимов, которые могли бы рассеять всякие иллюзии, ни
отвратительные достижения военной техники, которые свидетельствовали
лишь о вырождении, все-таки не смогли покончить с
гуманистическими воззрениями на Прогресс; чисто функциональная интерпретация
этого понятия, абсолютно не соотносимого ни с чем человеческим, все
еще бытовала в конце XIX в., задолго до катастрофического краха
человеческих ценностей в XX в., и была, по сути, фактором, который
способствовал этому краху.
То, что из идеи Прогресса выхолащивалось все человеческое, было
одним из следствий гипертрофического вырождения историзма в истори-
цизм, утвердившийся в конце XIX в. По ходу выработки метода
исследования накопилось такое множество информации, что это неизбежно
привело к еще большей специализации. Ученым было не под силу
осмыслить всю эту гигантскую информацию, которая стала выходить за
рамки структурированных исторических процессов, тем более что,
согласно позитивистским правилам научного эмпиризма, всякий факт
равноценен другому. Ученые-гуманитарии оказались в порочном круге:
поскольку априорные понятия о явлениях в целом (будь то процесс,
эпоха, народ или личность) становились научно неприемлемыми, ибо
не могли быть немедленно проверены, то не осталось ни одного
абсолютно надежного критерия для различения существенных и
несущественных фактов, меж тем как без такого различения невозможно
представить себе картину в целом. Поэтому ученым приходилось выбирать:
или они будут повинны в субъективности отбора (как бы человек ни
старался быть объективным, «упрямые» факты всегда есть и будут), или
они заплутают в дебрях бесчисленных, равнозначных фактов, станут
заложниками подлинной демократии фактов. Разумеется, во все
времена находились такие незаурядные мыслители, которые предпочитали
подвергнуться остракизму позитивистов, меж тем как огромное
большинство других, силясь доказать свою научную непогрешимость,
выдавали множество громоздящихся друг на друга, нерасчлененных фактов,
и, произвольно их анализируя, забивали ими библиотеки и умы.
Удрученные множеством неуправляемых фактов и изнуренные их анализом,
ученые, случалось, сетовали на то, что «мы слишком много знаем».
Это приводило к все большему застою исторической теории и, как
следствие, — к застою в историческом мышлении, лишенном
продуктивных, способных что-либо объяснить концепций. Масса деталей и все
более изощренных эзотерических споров скорее препятствовали, чем
способствовали формированию исторического мировоззрения. Это был тот
самый Историцизм, от которого пророчески предостерегал Ницше. С
начала XX в. отсутствие направления в гуманитарной науке стало
сказываться и на общем состоянии умов. После того как Первая мировая
война окончательно подорвала веру в Прогресс, веру в его общечеловечес-
93
кие и культурные ценности, а вместе с ней и веру в эволюцию,
которую отождествляли с прогрессом, то осталось лишь два понятийных
суррогата: один — сциентизм, сводимый к поискам «законов истории»
в духе Шпенглера, Тойнби, Сорокина и др. Другим, гораздо более
мощным и действенным суррогатом этой веры была идеология, как слепое,
самоослепляющее подчинение застывшей светской доктрины. Однако
никакое давление на умы с помощью намеренно упрощенных
ортодоксии, что происходит теперь по обе стороны железного занавеса, было
бы невозможно, если бы не была полностью утрачена способность
исторического осмысления жизни и если бы не произошел более или
менее всеобщий отказ от ответственности за ход исторических событий.
Национализм и расизм, которые во второй половине XIX в. стали
настоящими эпидемиями, можно считать первыми, рудиментарными
формами идеологии, которые, влияя на историческое мировоззрение,
искажают его, ставя какой-либо народ, или «расу», в центр мира. Они и по
сей день достаточно сильны: они не только активны сами по себе, но еще
и перекочевали в две гигантские идеологические системы,
господствующие в современном мире, — в коммунизм и в капитализм.
В плане мышления, под давлением сциентизма общая тенденция
является антиисторической, т. е. антиэволюционной. В начале этого
исследования я упомянул о том, как проявляется эта тенденция в различных
современных движениях. Теперь снова стало преобладать общее
стремление классифицировать и типизировать явления с научной точки
зрения в виде стабильных или стабильно повторяющихся феноменов. И это
происходит тогда, когда в мире уже нет никакой стабильности, когда мир
находится на грани краха, а систематизация, по всей видимости,
становится беспочвенной, когда не только биология, но даже и астрономия и
ядерная физика представляют себе мир как процесс, состоящий из
бесчисленных субпроцессов.
Тот же антиисторический, или, скорее, неисторический, склад ума
наблюдается повсеместно, в нашей повседневности, в средствах
массовой информации, в искусстве. Распыление жизни, хаос ежечасных и
ежедневных новостей, процесс все большего сжатия времени
приблизили стадию всеобщей одновременности, т. е. спатиализации.
Исчезновение перспективы в современной живописи символизирует, как нам
кажется, утрату исторической перспективы в повседневности и в
мироощущении людей. Человечество, несмотря на весь его технический
прогресс, кажется таким, будто оно вернулось в состояние, в чем-то
подобное первобытному. Люди скользят по поверхности настоящего, меж
тем как историческое сознание, которое живет лишь в уме
индивидуума, в основном растворено в анонимности и безличности
коллективного сознания институтов.
Смысл истории
1
Вот это, грубо говоря, и есть в общих чертах история истории. Делая
ее набросок, я не ставил себе четкой цели написать историю
исторической науки: это совсем другая материя, о которой следует и писать
иначе. Я исходил из того, что история не синонимична исторической
науке.
Но я не пытался и показать одну лишь историю исторического
сознания, которая, хотя и имеет огромное значение, тем не менее история
только наполовину. Моей целью было показать сам сопряженный
процесс взаимодействия между жизненным опытом и историческим
событием, с одной стороны, и, с другой — процесс накопления такого
опыта, т. е. становления исторического сознания; иными словами, я
пытался продемонстрировать неразрывное взаимодействие между
реальностью и концепцией. Именно это я и назвал бы историей.
Итак, подытожим: сокровеннейшей заботой древних греков было
осознание опыта земных перемен по контрасту с божественным и
космическим постоянством. Чтобы как-то разрядить эту досадную дихотомию,
было, во-первых, создано понятие о тесном мифическом родстве и
постоянном взаимодействии между бессмертными богами и смертными
людьми. А потом, когда люди ясно осознали, что их естество — сугубо
человеческое и автономное, когда противоречие между человеческим и
божественным, между неизменной субстанцией и чередующимися
явлениями проявилось с особой четкостью, то люди стали стремиться
примирить изменчивость с постоянством; потребовались века, чтобы
осуществить драматичное решение этой древнегреческой
экзистенциальной проблемы. Древнегреческое учение способствовало тому, что и
сама неизменность инкорпорировалась в изменение, о чем со всей
очевидностью свидетельствует циклическое мировоззрение — вера в вечный
круговорот событий, которая пронизывает всю древнегреческую
философию. Таким образом, основой древнегреческого мира были
изоморфизм260* и представление о единовременности постоянства и
коловращения. Однако даже в рамках этого мировоззрения взаимодействие
между личностным опытом и учением вело к постепенному
расширению исторического видения, кульминацией которого была робкая до-
95
гадка Полибия, что различные этнические потоки сливаются в единое
целое, под объединяющей высшей властью Рима.
У евреев жизненный опыт и сознание неповторимости —
неповторимости судьбы человечества — становятся частью существования. Попадая
в рабство то к одному, то к другому народу, евреи на собственном
опыте убедились, что между народами существуют различия, а человечество,
напротив, едино. Основой исторического сознания является ощущение
сущностной идентичности человека. Их собственные страдания
(неизбывные и потому особенно глубокие) породили в них отчаянное желание
спастись, понятие об их собственном (а в конце концов, и
всечеловеческом) движении к спасению. Здесь параллелизм между вечностью и
изменчивостью становится процессом движения к концу — к тому концу,
который означает сублимацию мифического начала благодаря труду и
сознанию. А эта сублимация через осознанное стремление превращает
процесс в развитие, делает его неповторимым. (Вспомним, что даже
Августин еще видел разницу между изначальным блаженством и конечным,
полным блаженством как ясным осознанием этого блаженства.)
Конечно, по сравнению с древними греками у евреев существует гораздо
большая дистанция между ними и их единственным, бесплотным,
безымянным, немифологическим Богом; их своего рода доверительные с Ним
отношения весьма отличны от тех, в которых древние греки находились
с их антропоморфными богами. Господь, Творец, Предвечный Бог,
который сам ведет, сам управляет, карает и обещает (а к тому же
проявляет строптивость), Он в то же время есть чистый дух. Но, с другой
стороны, этот же дух ни в коей мере не отделим от человеческой жизни, но
скорее действует в ней, в самой гуще событий земной жизни; духовная
сфера составляет единое целое с земным, зримым, историческим путем
к спасению, а цель, само по себе спасение, — это нечто такое, в чем Небо
и Земля сольются воедино.
Иудейское мессианское и апокалиптическое пророческое сознание,
конвергируя с хилиастическими тенденциями261* все сплавляющего
эллинизма, увенчалось деяниями и страстями Иисуса. Последующее
обожествление Иисуса как воплощения Бога (по слову апостола Павла),
посредством языческих обрядовых культов, переворачивает установленный
иудеями порядок в отношениях между Богом и человеком. Вместо того
чтобы человек, как этого требует Бог, содействовал приближению Царства
Божиего, прологом спасения становится жертвенный акт Бога-Сына.
Место властвующего над всем Бога, карающего и милующего, занимает
Благодать Божия (т. е. избирательная Благодать), а действие человека
сводится к вере. И хотя в те времена все еще считалось, что Царство Бо-
жие, второе пришествие, вот-вот наступит, но личное предвкушение
вечного блаженства Павел усматривает в «сокровенной горней жизни со
Христом», которой можно достичь через умерщвление плоти. После
того, как личное спасение было отделено от всеобщего, а духовная
«горняя жизнь» — от жизни во плоти на Земле, возник окончательный
разрыв между духом и плотью. То, что почти непроизвольно, не опираясь ни
на какие теоретические, христологические обоснования, начал Павел,
было завершено Августином после того, как в 410 г. н. э. Рим был
завоеван Аларихом: это событие потрясло весь мир, а также доказало неосно-
96
вательность и шаткость всех христианских чаяний. Чтобы спасти
христианский мир, Августин в своем Граде Божием отодвигает реальное
пришествие всеобщего тысячелетнего Царства Божиего в туманное,
едва различимое будущее и все надежды верующих переносит в область
личного спасения избранных. Христианская жизнь становится
исключительно жизнью в духе; а плотская жизнь обречена на жалкое
существование. Радикальное разделение духа и плоти — вот подлинное начало
секуляризации. Лишившись духовного благословения, грешная земная
жизнь была предоставлена самой себе и шла своим чередом.
Поскольку жизни на Земле суждено продолжаться, то была утверждена власть
Вселенской Церкви как посредницы, действующей в пространстве и во
времени. Церковь временно замещает собой Царство Божие и являет
собой образ бесконечно долгой подготовки к нему. Церковь является
наместницей Бога на Земле, способствуя распространению веры и
наделяя личным блаженством. В конечном счете концепция Августина
предполагала различие между борющимися за власть Imperium и
sacerdotium. Его учение оправдывало воинственность крестовых походов
и Инквизиции и, наконец, захватническую политику
коррумпированной Церкви.
Христианизация вывела на орбиту мира, сложившегося в границах
Римской империи, свежие силы кельтских и германских народов, а
войны с неверными открыли христианскому Западу путь к оживленной
торговле, а вместе с тем и проникновению нехристианской, языческой,
исламской и иудейской культур. Обе силы — и северная, и южная — вели
к постепенному подрыву догмы, которая ставилась под сомнение и
оспаривалась как логическим анализом, так и первыми
научно-техническими достижениями, — что в конце концов привело к преобладанию
рационализма и эмпиризма. Автономия разума, восторжествовавшего в
результате картезианского переворота262*, изучение и использование
природы, начавшееся с революционных открытий Коперника, Кеплера и
Галилея, способствовали секуляризации мира в той же степени, как и
возрождение римской юриспруденции, которая, в свою очередь, вела к
консолидации территориальных владений и народов-государств.
Концепции Иоахима Флорского и Франциска Ассизского, будучи реакцией
на коррупцию Церкви, повлекли за собой появление еретических и
реформистских движений, которые со временем привели Церковь к
расколу.
Вследствие практического применения научных концепций
возникла новая всемирная сила - техника. Одобряемые и используемые
предприимчивыми людьми (от португальского принца Генриха
Мореплавателя в XV в. до британских промышленников в XVIII в.), основные
изобретения способствовали, в свою очередь, формированию идеи
светского Прогресса. В процессе все более тесного диалектического
взаимодействия золотой век, который по иудейско-христианским
представлениям находился где-то между прошлым и будущим, был
решительно перемещен из прошлого в будущее — от законов, установленных
«Древними», к обетованиям, которые ждут «Современных».
Интеллектуальное движение прогрессивного Просвещения, проекты Руссо,
энциклопедистов и физиократов263* дали импульс Французской революции,
97
а вместе с ней — отныне необратимой социализации событий
(перерастание событий в процессы, а философии — в идеологию) и
коллективизации жизни.
Промышленная (а следовательно, и техническая) революция
породнила две идеологические системы, которые ныне господствуют в мире:
успехи английской промышленности при поддержке классической
политэкономии264*, разработанной вигами265* и физиократами, а также
при поддержке «социального дарвинизма»266* привели к созданию
доктрины капитализма; Маркс, проанализировав негативный результат той
же английской промышленности (а именно — условия жизни рабочих),
создал доктрину коммунизма, которая складывалась под идейным
влиянием Рикардо267* и Гегеля. Воздействием этих противоборствующих
идеологий на события всемирной истории объясняются и наши нынешние
трудности.
Понятие Прогресса, в свою очередь, стимулировало поиск начал, т. е.
историзм. Биологическая эволюционная теория и романтическая
философия истории привели в движение основы действительности.
Порожденный Французской революцией более широкий, общественный,
взгляд на события был дополнен более глубокой оценкой их временной
сущности, что стало возможно благодаря историзму и вере в Прогресс;
этот историзм и эта вера означали последовательное и синхронное
соединение разрозненных явлений в процессы. Способствовал этому и
научный принцип причинности, возникший из античной и средневековой
логики, которая была применена к изучению природы, считаясь тогда
основой естественно-научного анализа. В крайнем своем выражении (в
механике) этот принцип был принят Декартом и Ньютоном и
разработан Ламетри268* и Гольбахом269*. Под влиянием науки поиск начал был
отождествлен с поиском причин. И наконец, достижения современной
физики и астрономии способствовали окончательному признанию
подвижности всего сущего.
Начиная с XIX в. техника, используя механику природы, переживает
бурное развитие. Результатом этого стали все большая сайентификация и
механизация жизни, что повлекло за собой ее рационализацию и
интеллектуализацию. В результате связь между реальностью и концепцией стала
такой постоянной и неразрывно-тесной, что то их взаимодействие,
которое мы наблюдали до сих пор, стало теперь едва заметным. «Философии»,
общие концепции, дискредитированы и упразднены за никчемностью.
Они уже больше не влияют на ход событий, а их место занял неустанный
тысячекратно умноженный научный анализ и предсказуемое
использование коллективизированных событий. Если можно сказать, что прежде во
взаимодействии между концепцией и реальностью главенствовали
концепции, то теперь картина прямо противоположная: мышление — это
скорее отражение и проективная утилизация реальных процессов.
2
Итак, история по своей сути не сводима ни к развитию исторического
сознания, ни к простому ходу событий. Она есть взаимодействие того и
98
другого, а история истории — это летопись подобного, все более
тесного, взаимодействия, которое в его полноте пронизывает все наше
существование, независимо от того, осознается ли оно или дремлет в
глубинах подсознательного.
Современным теоретикам истории зачастую не удается точно
определить то, что они понимают под историей; не проводят они и четкого
разграничения между историческим исследованием и собственно историей.
Они или отождествляют историю с исторической наукой, или, говоря об
истории, не знают, что под ней понимать, — то ли самый акт записи
событий, то ли то, что остается в записи.
Однако историки и философы, судя по всему, единодушны сейчас
в том, что история — это не точная наука и не имеет с ней ничего
общего. Самый распространенный аргумент для доказательства этого
тезиса (аргумент, высказанный впервые немецким философом Генрихом
Риккертом270*) состоит в том, что наука занимается общим, а история —
индивидуальным и частным. Ссылаются при этом на великое множество
и огромное разнообразие единичных феноменов (таких, как народы,
личности, события, условия), которые являются субстратом истории и
которые невозможно подвести под общие законы. Карл Поппер271* в
книге Нищета историцизма (The Poverty of HistoricismY приводит
длинный перечень аргументов, свидетельствующих против научного
характера и научной сути истории. Среди них он, например, числит
невозможность проводить эксперименты и количественный анализ, а также
такие ее свойства, как новизна, сложность, непредсказуемость,
неизбежность производить отбор, недостаточность причинного объяснения
и так далее.
Все этого рода характеристики истории, которые делают ее
ненаучной, являются, по моему мнению, следствием одного существенного
отличия между историей и наукой. Естественные науки по-прежнему
основаны все на той же вере в стабильность, неизменность и
неподвижность природы: только благодаря этому и можно вывести «законы
природы». И хотя недавно стала очевидной ограниченность этого
допущения, но различия в параметрах, пространственных и временных,
дистанции между человеком-наблюдателем и природными явлениями
в их едва уловимых движениях, ограниченность человеческого
кругозора все еще позволяют (и небезуспешно) поступать так, как если бы
природа была стабильной. И в самом деле: в восприятии человека природа
действительно стабильна; а те реальные, фундаментальные изменения и
отклонения от нормы, которые имеют место в гигантско-микроскопи-
ческом времени-пространстве, и впрямь не соизмеримы с
человеческими параметрами. Только при допущении стабильности наука может
полагаться на точно вычисленные и безошибочно предсказуемые
закономерности, может сформулировать «законы природы», которые
относительно, «статистически», возможно, имеют силу на удаленных
рубежах.
Как бы то ни было, но мир людей — это наш мир, и происходящие в
нем перемены и его разнообразие воспринимаются в привычных нам
измерениях. Следовательно, нам, людям, и испытывать на себе эти
изменения, и запечатлевать их. Проходя через это, испытывая непосред-
99
ственное воздействие происходящих в мире событий, мы включились
в это развивающееся, усложняющееся взаимодействие между нашим
существованием и нашей способностью к осмыслению, которое и есть
история. Обращаясь к летописи накопленного жизненного опыта, мы
убеждаемся в разнообразии и изменчивости мира (предполагающего и
отклонение от нормы, и нашу вовлеченность в историю); эта запись
сама по себе не поддается ни исчислению, ни эксперименту. Таким
образом, резко контрастируя с миром научных исследований и методов,
мир человеческой жизни являет собой неисчерпаемое богатство
разнообразных, хаотичных, своеобычных и случайных феноменов, среди
которых люди (и историки в том числе) испытывают нескрываемое
удовольствие. Мы научились, утверждает Джеффри Барраклаф, «ценить
тонкие оттенки индивидуальности, уважать неусредняемое
своеобразие, принимать "факты во всем их непередаваемом разнообразии" и
сознавать, что все в мире "создается и преобразуется...", мы видим в
истории "в высшей степени радостное свидетельство творческих сил,
блистательного разнообразия проявлений человеческого духа"»2.
Строго позитивистский взгляд на историю с особой четкостью
сформулировал Карл Поппер в другой своей книге Открытое общество и его
враги (The Open Society and Its Enemies): «... область фактов, — пишет он, —
бесконечно богата, и... необходим отбор. В соответствии с нашими
интересами, мы могли бы, например, написать историю искусства, языка,
традиций принятия пищи или даже историю сыпного тифа...
Разумеется, ни одна из таких историй, как и все они вместе взятые, не является
историей человечества. И поэтому люди, говоря об истории
человечества, имеют в виду историю Египетской, Вавилонской, Персидской,
Македонской и Римской империй и т. д. — вплоть до наших дней.
Другими словами, они говорят об истории человечества, однако на самом
деле то, что они в основном имеют в виду (и изучают в школе),
представляет собой историю политической власти... единой истории человечества
нет, а есть лишь бесконечное множество историй, связанных с разными
аспектами человеческой жизни, и среди них — история политической
власти. Ее обычно возводят в ранг мировой истории. Но я утверждаю,
что это оскорбительно для любой серьезной концепции развития
человечества. Такой подход вряд ли лучше, чем трактовка истории воровства,
грабежа или отравлений как истории человечества, поскольку история
политической власти есть не что иное, как история международных
преступлений и массовых убийств (включая, правда, некоторые попытки их
пресечения)»3.
До сих пор в словах профессора Поппера присутствует
неопровержимая истина. Если бы «история человечества» сводилась только к этому —
т. е. к сугубо политической власти, не содержала в себе ничего иного
(что, кстати сказать, с некоторых пор стало считаться в исторической
науке довольно старомодным), то тогда профессор Поппер был бы,
конечно, прав, отметая ее за никчемностью.
Но, продолжает он, «действительно ли не существует всеобщей
истории как реальных историй человечества? Скорее всего — нет. Я
полагаю, таков должен быть ответ на этот вопрос каждого гуманиста...
Реальной историей человечества как таковой, если бы таковая была,
100
должна была бы быть история всех людей, а значит - история всех
человеческих надежд, борений и страданий, ибо ни один человек не
более значим, чем любой другой. Ясно, что такая реальная история не
может быть написана. Мы должны от чего-то абстрагироваться,
должны чем-то пренебрегать, осуществлять отбор. Тем самым мы
приходим к множеству историй и среди них — к истории международных
преступлений и массовых убийств, которая обычно и объявляется
историей человечества». И вполне логично из этих посылок следует
вывод: «История смысла не имеет»4.
Ныне подобная концепция «реальной» истории, получившая
широкое распространение среди современных ученых, и впрямь грешит
«пренебрежением» ко многому и, что гораздо опаснее, отсутствием
четких критериев, причиной чему — вера в демократию фактов. Прежде
всего, живой вид, Человек — это нечто большее, чем все люди, вместе
взятые, — даже и коллектив людей куда более представителен, чем
совокупность тех индивидуумов, из которых он состоит. Нация — это
нечто большее, чем совокупность всех представителей этой нации,
потому что составной ее частью являются и пережитки общинной жизни, и
общий опыт, и общее осмысление этого опыта, а также традиции,
установления и достижения, которые все еще остаются в силе. И эта
совокупность характеристик, формируя характер, «цивилизацию»,
обладает подлинной, собственной жизнью — это не просто абстракция, или
«потеп». Таким образом, в отношении подобной национальной или
культурной общности нельзя сказать, что «ни один человек не более
значим, чем любой другой», хотя это, конечно, справедливо в
отношении человеческих прав и достоинства. Следовательно, если говорить о
любой истории (будь то история нации или любая из тех
функциональных историй, которые имел в виду профессор Поппер), то некоторые
люди имеют несоизмеримо большее, поистине судьбоносное значение,
чем другие. Ньютон и Эйнштейн, несомненно, имели для науки гораздо
большее значение, чем множество ученых-физиков прошлого и
настоящего.
Аналогично этому, когда мы рассматриваем историю человечества в
целом, то перед нами предстают эпохи, события, народы, влияние
которых больше, чем у других; далеко не случайно некоторые народы,
личности, процессы в определенные эпохи и в определенных странах
оказываются в центре событий и заметно влияют на ход истории. Рим,
осмелюсь заметить, имел большее влияние, чем Фригия, Августин — чем
Донат Карфагенский272*, а Лютер — чем Карлштадт273*. От эпохи к эпохе
меняются и страны, которые занимают ведущее положение, и те виды
деятельности или сферы интересов, которые выдвигаются на первый
план.
Поэтому, несмотря на «тонкие оттенки индивидуальности»,
«творческое начало, блестящее разнообразие проявления человеческого духа»,
«бесконечное богатство царства фактов», существует, я в этом убежден,
определенный порядок, который преобладает в человеческой истории, —
порядок весьма специфический и многомерный. А порядок — это
главная предпосылка смысла.
101
3
Прежде всего, существуют разные уровни истории, которых просто не
замечают или которыми пренебрегают, в большинстве своем, историки,
отчего история предстает нагромождением фактов и явлений, которые,
имея одинаковую силу, в то же время невероятно разнообразны по
выражению и качеству. «Видимость отсутствия правил человеческой
истории, - писал Фридрих Шлегель, — создается лишь коллизией
гетерогенных сфер природы, которые в ней сходятся и смешиваются»5.
Эти уровни истории соответствуют различным уровням
человеческого существования, ибо все мы, люди, живем одновременно на разных
уровнях. Есть уровень физический, на котором я представляю собой
некую целостность и всеобщность относительно клеток моего организма.
Есть уровень индивидуальной личности, на котором я являюсь
индивидуумом относительно высшей субстанции, — той общности или того
коллектива, семей, кланов, племен, народов, государств, которые, в свою
очередь, относительно «рода человеческого» являются частными,
единичными субстанциями. Можно опустить множество промежуточных
уровней (например, такие, которые существуют в пространстве между
индивидуумом и народами, — общественные институты, организации,
коллективы, рабочие объединения и т. д.; и такие, которые существуют
между нациями и родом человеческим, — культурные общности или
«цивилизации»). Эти уровни тождественны разным уровням
экзистенциальной сферы. Стоит сравнить, например, уровень живого существа,
животного или человека, как представителя органического мира, с уровнем
личности во всей полноте ее сознания или уровень клана с уровнем
нации — и тогда станет очевидным все многообразие, возникающее по мере
расширения масштабов.
Наблюдая за ходом истории (или, вернее, за ее эволюцией), нельзя не
заметить, что происходит постепенное расширение экзистенциального
масштаба, причем некоторые события (зачастую охватывающие длительные
периоды) конституируют цезуры или, наоборот, поворотные пункты, что
объясняется смещением центра тяжести экзистанса с одного уровня на
другой — с низшего уровня с более узким масштабом на более высокий
с более широким масштабом. Одной из таких цезур был, например,
эволюционный переход от животного к человеку.
Ход истории свидетельствует о последовательности перемещения
такого рода экзистенциальных центров тяжести, о последовательности
таких ступеней экзистенциального (а стало быть, и интеллектуального)
расширения масштаба. Эволюция (ее не следует путать с прогрессом,
имеющим моральное или сугубо функциональное звучание) идет от
племени к городу и городу-государству, от города-государства через
промежуточные феодальные княжества к территориальному владению,
от территориального владения к династическим государствам и
народам-государствам, от народов-государств к нациям, от наций к
цивилизациям и идеологическим сплошным системам и, наконец, к
технически и технологически подготовленному «единому миру», который с
человеческой и психологической точек зрения весьма далек от разумного
представления о нем, но который кажется единственной альтернативой
102
ядерному или биологическому уничтожению, хотя и оно, как и
концепция «единого мира»> является все тем же (хотя и противоположным по
смыслу) итогом научно-технической революции.
Такого рода экзистенциальные смещения в иерархии исторических
существ и соответствующее им расширение масштабов подразумевают
наличие множества более частных процессов — секуляризации,
рационализации, сайентификации и технизации, а также расширение
космических, физических и психологических исследований, углубление и
обострение художественного восприятия, преобразование сознания,
динамизацию и ускорение жизни; во всех сферах творчества идет
взаимообмен и взаимодействие между сознанием новой реальности и
ответом на нее.
Само собой разумеется, все это не влечет за собой повышения уровня
нравственности. Нравственность связана с сознанием человеческой
идентичности (вернее, синонимична ему), что, следовательно, налагает на
человека ответственность за судьбу ему подобных. Такое сознание и такая
ответственность изначально коренятся в чувстве личного сознания и
никогда на самом деле не принадлежат группам. Следовательно, они
неизбежно идут на спад по мере все большей коллективизации жизни и ее
обезличивания, с возникновением коллективного сознания.
4
Это центральное, многостороннее развитие свидетельствует, как об этом
говорилось в моей «истории истории», о некоей сопряженности, и то, что
в сфере истории можно считать своего рода порядком, тождественным
научным законам природы, я бы назвал строгой сопряженностью.
Историческая сопряженность не равнозначна простой причинности, и потому
ключевой вопрос науки (почему что-либо существует или происходит)
неприемлем для истории. Вопрос истории — как что-то произошло. Когда
мы начинаем задавать истории вопрос «почему», то нас сразу же
захлестывает шквал столь многочисленных, столь разнообразных, столь
многоуровневых и столь непостижимых причин, что причинность сливается с
обусловленностью — с той обусловленностью, которой нет конца.
Эта особенность истории (то, что все «почему» в ней остаются без
ответа) связана со случайностью и ненадежностью исторических фактов.
Причины ведут от факта к факту. Конечно, в истории есть и такие
конкретные факты, которые устойчивы сами по себе. Можно установить,
когда родился или умер тот или иной человек, когда и где разыгралось
то или иное сражение или был издан тот или иной указ. Однако такого
рода неопровержимые данные (единственные данные, которые
сопоставимы с фактами точных наук) не соединены причинно-следственными
связями и обретают значимость только через свою связь с данными
совершенно иного порядка — с данными, которые сами по себе лишены
прочного основания, но существующими только в сопряженности с
другими данными. Это провоцирует изрядную неточность. Поскольку эти
данные не стоят особняком, но зависят от многообразных отношений и
условий, которые далеко не всегда оказываются в полной мере очевид-
103
ными, то их необходимо отбирать и приводить в систему и восполнять
их своим толкованием. В настоящее время многие историки согласны в
том, что невозможно понять историю, не прибегая при этом к
толкованиям, к интерпретациям. Однако это объясняется не только ненадежностью
документов и свидетельств (а именно на это в основном и ссылаются), не
только «множеством фактов», но прежде всего тем, что события и
процессы, развиваясь вширь и вглубь, бесконечно сопряжены друг с другом.
Рассмотрим некоторые примеры более узкого, политического уровня.
Возьмем войну за независимость в Северной Америке. Тянулась она
долго. С чего она началась? С Декларации независимости274*? Или с Лексин-
гтонского сражения275*? Или с «Бостонского чаепития»276*? «Бостонское
чаепитие» заставляет нас вернуться еще дальше (и я опускаю ряд
звеньев): к актам Тауншенда277*, к закону о гербовом сборе278*, к закону о
колониальном денежном обращении, к «сахарному акту»279* и к
постановлениям о помощи. «Сахарный акт» был инициирован Англией ради
увеличения доходов в колониях, необходимых для затрат на содержание
армии и администрации в Индии, причиной чего было приобретение
обширных американских территорий у Франции. Это приобретение, в
свою очередь, уводит нас еще дальше - к Франко-индийской войне280*,
которая была частью Семилетней войны281* в Европе, и к длительному,
многовековому колониальному соперничеству между Британией,
Францией и Испанией. (Фактически поводом для первого серьезного
разногласия между Англией и колониями послужила торговля колоний с
противником во время Семилетней войны.) И вот мы переносимся уже в
совершенно иное место действия. Так оно продолжается и дальше, и мы
возвращаемся все дальше и дальше вспять, проходя мимо все
расширяющейся и все усложняющейся панорамы событий, причем это лишь одна
линия одного уровня событий. Но существует множество линий,
существуют разные уровни. Имеются более высокие или более глубокие
уровни: традиции, мировоззренческие установки и привычки, которые в
Британии и в колониях складывались независимо друг от друга. Тут
перед нами колониальные обстоятельства и колониальные трудности. Тут
перед нами и индивидуальный уровень характера, социального
происхождения и психологии Джорджа Вашингтона282* и политиков первых
конгрессов, с одной стороны, и английских государственных деятелей и
генералов — с другой.
С чего началась Первая мировая война283*? С мобилизации в России?
С ультиматума Австрии284*? С убийства эрцгерцога Франца
Фердинанда285*? С аннексии Австрией Боснии286*? Или с того, что на Балканах
столкнулись интересы287* Габсбургов288* и русских (а это привело бы к войне
гораздо раньше, не приструни Бисмарк289* вспыльчивого кронпринца
Рудольфа290*)? Или с окружения Германии, что явилось следствием опасной
экспансии рейха, который наращивал военную, военно-морскую и
промышленную мощь, стремясь к новым колониальным завоеваниям? Было
ли это стремлением Германии резко преодолеть ее многовековой
комплекс неполноценности и жаждой осуществить, наконец, давно лелеемые
гегемонистские планы и разом преодолеть копившиеся веками
трудности? Или причиной тому вобравшая в себя все это ментальность
напыщенного романтика-выскочки Вильгельма II291'? Или тому виной были
104
беспечность легкомысленного графа Берхтольда292* и
безответственность русских генералов? Или то проявляла себя болезнь отжившего
строя? Все это, вместе взятое, и вызвало войну; и все вело к
катастрофе, вызревавшей в недрах прошлого и устремленной в будущее.
Война за независимость в Северной Америке и Первая мировая
война — это всего лишь два ярких поворотных пункта. Какое бы
историческое событие мы ни взяли, то, если вглядеться в него пристальнее, станет
очевидно, что оно было обусловлено «множеством причин», а эти
причины, в свою очередь, ни в коей мере не являются изолированными,
четко отделенными друг от друга событиями. Они взаимосвязаны, они
постоянно взаимодействуют и образуют целые комплексы, связанные с
другими комплексами. Понятие «причина» теряет свой смысл в цепи
бесконечной обусловленности. И впрямь: если мы пойдем еще дальше,
то обнаружим, что все чем-то обусловлено, а потому любое
историческое явление (будь то народ, процесс, событие или личность), как бы
выборочно мы к нему ни подходили, невозможно объяснить иначе, как
только изучив его многостороннюю сопряженность и историческую
последовательность.
Вопрос о взаимодействии событий тоже непрост. Гегель,
последователь Фихте, оставил нам понятие о чем-то очень реальном (несмотря на
всю абстрактность, метафизичность его системы) — а именно, о диалек-
тичности исторического процесса. Мы можем воспринять это понятие
во всей его полноте лишь в том случае, если освободим его от той
умозрительно-догматической мишуры, в которую его облекли ученики
Гегеля (в частности, Карл Маркс). И только тогда нам станет понятно его
воздействие на весь ход истории, а также многообразие его форм — как
пространственных, так и временных. Мы отметили противоречивость
развития идей Прогресса, который периодически оборачивался
регрессом, на деле способствовавшим движению вперед. Мы видели, как
переплетаются в романтизме противоположности — эмоциональность и
рационализм, и как при этом эмоциональность служит продвижению
рационализма. Мы видели, как идея Прогресса способствовала
появлению историзма, который превратился в историцизм, что и привело к
отрицанию истории. Мы убедились, что во все времена (а особенно во
времена настоящих революций) за действием следует реакция, а реакция,
в свою очередь, подстрекает к новым действиям. Люди разных
поколений живут вместе в одну и ту же эпоху; реакционеры олицетворяют
собой прошлое, противостоя настоящему и будущему. Они выполняют
свое назначение, хотя нам и приходится с ними бороться. Ибо «быть в
оппозиции», как верно замечает Амброз Бирс293* в своем Словаре
Дьявола, — это «значит содействовать, чиня препятствия и выдвигая
возражения».
Концепция строгой сопряженности исторического процесса не
только идет вразрез с расхожими ныне представлениями (по указанным
выше причинам), но еще и противоположна современному научному
подходу. «Сам по себе подчеркнутый интерес к развитию и
последовательности, — пишет профессор Барраклаф, - показался бы вполне
естественным и вполне обоснованным сто лет назад: но теперь у нас есть
возможность более четко осознать, что такого рода утверждения в луч-
105
шем случае являются лишь частными мнениями или, что вероятнее
(если говорится без экивоков), обманчивой полуправдой. Историк,
который тридцать с лишним лет тому назад заметил, что
"последовательность никоим образом не является самой отличительной чертой
истории [Ф.Дж.К. Харншоу, 1912]", безошибочно указал на одну из
основных ошибок историцизма; да и мы сами, за истекшие годы
испытав достаточно ломок, с особым пониманием относимся ко всем тем
историкам, на которых со времени Августина или Орозия куда большее
впечатление производили катаклизмы, чем плавный ход человеческой
истории. В равной степени трудно по-прежнему верить в то, что
"природа любого явления заключена в его развитии". Это кажущееся
правдоподобным мнение оставляет слишком мало простора воздействию
случайного и непредвиденного, воздействию нового, динамичного и
революционного, которое прорывается через... препоны прошлого на
каждом значительном поворотном этапе человеческой истории... ни
одна современная проблема не поддается, да и никогда не поддавалась
осмыслению как историческая»6.
Безусловно, бытовавший в XIX в. метод поиска специфических
причин и начал теперь устарел, но, с моей точки зрения, уступил место
гораздо более сложной и всеобъемлющей картине исторической
сопряженности, которая включает в себя то, что упускал из вида профессор
Барраклаф, рисуя прежнюю картину, — включает осознание нового,
динамичного и даже метаисторического. Однако мнение о том, что
«случайное... новое... революционное... прорывается через препоны
прошлого на каждом значительном поворотном этапе человеческой истории», —
это даже не полуправда, а софизм. В истории нет такого
катастрофического прорыва, который долго и подспудно не вызревал бы исподволь в
недрах хорошо известного и, казалось бы, совершенно понятного.
Каждая из западноевропейских революций (в Англии, во Франции), а также
американская война за независимость и революция в России были не
более чем итоговым воплощением многочисленных, явственных и
приводивших к ней обстоятельств, причем некоторые из них коренились в
глубоком прошлом. Конечно, каждая из подготовительных стадий
содержала в себе нечто новое, хотя поистине революционный смысл всему
придает именно одновременный взрыв давно и подспудно копившихся
сил и их соединение, которое всегда является чем-то большим, чем их
простая сумма. Одновременный рывок вперед сам по себе коренным
образом меняет обстановку. Ни в одном из исторических катаклизмов не
было ничего случайного — ничего, что нарушало бы последовательность
событий.
Ни одна из религиозных или интеллектуальных революций
(христианство, Реформация, Ренессанс, революции Коперника, Декарта,
Ньютона, романтизм и экспрессионизм) не возникала без постепенного
созревания предпосылок. Даже беспрецедентный, казалось бы, нацизм с
его механизированным зверством — даже он имеет свои истоки в
глубинах незадачливой немецкой истории, восходит к Лютеру; то, что было в
нем нового и особенного, — это особенный именно для
научно-технической и коллективистской эпохи рецидив проявившего себя скотства,
которое всегда тайно или явно присуще природе человека. Это, конеч-
106
но, не успокоит и не утешит никого, кому довелось жить в то время,
равно как не привнесет мораль в нарисованную картину: мораль
невозможно «изъять из политики» - ее там не было никогда. Нет нужды
говорить, что понимание, к которому мы стремимся, — это в конечном
счете не отпущение грехов.
5
Постулат, утверждающий наличие строгой исторической
сопряженности и последовательности, приводит в итоге к узловому вопросу о
детерминизме и возможности свободы выбора, т.е. по сути, об
ответственности человека. Хотя сэр Исайя Берлин294* и написал целую книгу об
исторической неизбежности, но, как мне кажется, он подошел к этому
вопросу несколько поверхностно. «Если вера в свободу, - пишет он, -
предполагает, что выбор, который порой делают люди, не объясним
одними только причинно-следственными связями, как это бывает,
например, в физике или биологии; если эта вера неизбежно оказывается
иллюзорной, то она, тем не менее, так пронзительна, что уже не кажется
иллюзией. Конечно, можно постараться убедить себя, что мы
постоянно обманываемся. Но даже если мы и не станем обдумывать, что из этого
может последовать; если даже мы и не изменим ни образ мыслей, ни,
соответственно, саму речь, то эта гипотеза не наполнится смыслом, т. е.
будет невозможно даже принять ее всерьез, если наше поведение будет
свидетельствовать о том, что мы не можем убедить себя в этом или
предположить это не только в теории, но и на практике. Мне думается,
что едва ли возможно всерьез согласовать наши мысли и слова с
гипотезой детерминизма... Слишком уж радикальны сопутствующие этому
изменения... Можно, конечно, найти логические обоснования внутри
любого комплекса согласующихся посылок (логика и математика
сделают все от них зависящее), но это совсем не то, что знать, как результат
будет выглядеть "на практике" и что в нем конкретно нового; а
поскольку история - не дедуктивная наука (и даже социология по мере ее
развития становится все менее понятной, все больше отрываясь от своей
эмпирики), то от таких гипотез (по сути — чисто абстрактных моделей,
не применимых на практике) будет мало толку при изучении
человеческой жизни. Отсюда проистекает и давнее противоречие между свободой
воли и детерминизмом; пока это остается исконным предметом
богословских и философских дискуссий, не стоит будоражить тех, кто
занимается эмпирикой - реальной жизнью людей, обретающих свой
обычный опыт в пространстве и времени. Детерминизм для историков — это
что-то несерьезное»7.
Если я правильно его понимаю, сэр Исайя хочет сказать, что раз уж
мы не можем жить в соответствии с гипотезой детерминизма, то,
«занимаясь эмпирикой», мы вообще не должны забивать этим головы.
Однако мне кажется, что никому, кто серьезно занимается эмпирикой,
непозволительно просто игнорировать этот ключевой вопрос, который
представляется серьезным, ключевым не только для богословов и
философов, но и для историков, да и вообще для всех. Человеческая жизнь,
107
«эмпирика», не разделена перегородками; если философ или богослов
по-настоящему, всерьез относится к своей философии или к своему
богословию, то ему нужно связывать то, о чем он размышляет или
говорит, с «эмпирикой», т. е. с человеческой жизнью, — в противном
случае то, чем он занимается, и гроша ломаного не стоит. И потому
историк, имеющий дело непосредственно с эмпирикой, должен как
можно больше вникать в проблему, которая в данном смысле для
нашего понимания является первоочередной. Ему предстоит выбрать
одно из двух: или поступать так, «как если бы» детерминизма не
существовало, т. е. следовать совету Файхингера295*, или высказаться без
обиняков и сказать, что детерминизма не существует, — а это
равносильно отрицанию всякой исторической сопряженности и
последовательности. Лично я не могу заставить себя затуманить вопрос об
отношении свободы воли и детерминизме этим «как если бы».
К счастью, вопроса «или-или» в отношении детерминизма и свободы
воли не существует. «Факт в том, — утверждает профессор Э.Х. Kapp296*, —
что все действия человека и свободны, и предопределены в зависимости
от той точки зрения, с которой они рассматриваются». Однако я лично
склонен не согласиться с профессором Карром, который, подобно Исайе
Берлину, придерживается научного шаблона простой причинности.
«Историки, - пишет он, — ...часто обсуждают альтернативные линии
поведения действующих лиц на основании предположения о возможности
выбора. Но они продолжают также совершенно правильно объяснять, почему
в конечном счете было отдано предпочтение той, а не иной линии
поведения. В истории ничего не является неизбежным. В формальном смысле
для того у чтобы что-то произошло по-другому, должны были быть иными
предшествующие причины»*. Это фактически равносильно тому, чтобы
признать тотальную неизбежность, а тем самым — и тотальный детерминизм,
«формальное допущение» как строгую причинность; тем самым,
профессор Kapp противоречит своему предыдущему утверждению, с которым я
согласен.
Несмотря ни на что, человеческая свобода действительно
существует, и существует внутри исторической сопряженности и
последовательности. Она различными способами, так или иначе, встраивается в
структуру сопряженности. Человек в процессе последовательной эволюции
приобретал, совершенствовал и развивал способность мышления, а в
итоге он развил ее до того уровня специализации, которая граничит с
извращением (как, например, в разных формах современной логики, по
сути парализующей мысль). Но и по сути, и на практике мышление
предполагает способность выбора и ощущение свободы выбора.
Конечно, бессознательные, эмоциональные, традиционные, унаследованные
мотивации, а также влияние окружения, являются факторами, которые
определяют и логику, и выбор. Но среди этих мотиваций есть одна очень
глубокая и неуловимая, - неизмеримая мера жизнеспособности,
жизненной энергии, которой человек наделен от природы, той энергии, что
проявляется во всех остальных его способностях — в мышлении, в
воображении, в действии. Это совершенно неоценимый фактор в жизненном
опыте человека; именно он изначально и дает человеку ощущение
свободы. Глубина жизненной силы человека и его недолговечная власть над
108
ней, ее переизбыток, ее убывание могут оказываться решающими в
критических ситуациях. Она вполне может определять характер
исторических событий. Жизнеспособность — это движущая сила
воображения и воли и, следовательно, элемент человеческого творчества. А
какое может быть творчество без свободы? Конечно, запас
жизнеспособности — величина тоже обусловленная, но, оставаясь
несоизмеримой и всегда непредсказуемой, — это остров свободы в потоке
сопряженности. Ее-то как раз и невозможно рассчитать при изучении
событий и личностей.
Я утверждаю, что человеческая жизнь, равно как и история,
протекает на разных уровнях. Есть высший уровень, уровень эволюции человека,
уровень «истории истории», который указывает на такие связи, которые
перекрывают решения отдельных людей; существует внутренняя
эволюционная сопряженность на внешне хаотичном уровне политической жизни —
сопряженность, которая становится явной по мере расширения
масштабов — политических и концептуальных. Внутренняя сопряженность столь
разноплановых явлений позволяет вычленить одно четкое направление (не
устремляющееся, конечно, к одной цели) — направление, которое, если
взглянуть на все происходящее в его сопряженности, кажется
превосходящим энергию индивидуумов; слишком многое встречается, сцепляется,
конвергирует, при том что продолжается непрерывное взаимодействие
между уровнями, секторами и регионами событий, между разными
веками, между прошлым, настоящим и будущим. Поэтому направление, в
котором движутся события, обретает характер чего-то неизбежного и
предопределенного. Однако то, как что-то совершается, кажется зависящим
от выбора и решений индивидуумов, от образа их мышления, действий и
жизненной энергии. Конечно, не случайно, что решающие шаги сделали
именно Павел, Августин, Лютер, Коперник, Галилей, Кеплер, Ньютон,
Эйнштейн и так далее, хотя вместо них могли быть и другие, которые
пришли бы к их открытиям иными способами, но в итоге получили бы те же
результаты. И давайте не будем забывать, что случайности, частные
случаи и ключевые моменты могут благотворно сказываться на творческих
способностях человека, подготавливать для них условия, пробуждать,
активизировать способности человека.
Соответственно, и течение всего процесса, и общее направление
движения событий, и альтернативы для выбора и решений определенно
могут быть заранее предугаданы - в этом смысле ход истории предсказуем.
Конкретные пути, по которым она пойдет, соотношение сил, которые
окажутся решающими в важных обстоятельствах, — все это, хоть и
скрыто обусловленное, все-таки непредсказуемо.
Таким образом, детерминизм никоим образом не равнозначен
фатализму. Тенденция, при разнообразии условий (в том числе и
эволюционной сопряженности), не должна парализовать нашу волю и ощущение
свободы, что в то же время избавляет нас от ответственности. Мы не
просто объекты процесса, мы — его неотъемлемая часть; мы, со всеми
нашими способностями, во всей полноте наших талантов, являемся
частью этого процесса, главными носителями этого процесса. В
значительной степени наша судьба, наша удача зависят от того, думаем ли и
действуем ли мы в унисон с меняющейся реальностью; от этого зависит не
109
только наша личная судьба, но и (что гораздо важнее) судьба
человечества, за которую мы в ответе. По сути, если всерьез относиться к этой
ответственности, то она чаще всего идет вразрез с нашими преходящими
личными возможностями.
6
Смысл (мы в этом убедились) — это прежде всего порядок,
сопряженность, единство разнообразного, каким его понимает наш разум, т. е.
сознание. Тот факт, что мы воспринимаем единство разнообразного, сам по
себе создает порядок и сопряженность, а это и есть смысл. Я различаю два
рода смысла: смысл внешний, соединяющий одну субстанцию с другими,
конституирующий устремленность кого-либо к какой-то цели вне его, или
служащий использованию чего-то в качестве орудия для чего-то еще
(смысл как цель); и другой, внутренний, смысл, представляющий единство
разнообразного внутри явления или процесса, а также согласованность
частей внутри упорядоченной структуры (смысл как форма).
Мы видели, что в истории смысл может быть целью, которой веками
руководствовались люди на протяжении всей жизни. Однако этот смысл
постепенно исчезал — по мере того, как угасала надежда на пришествие
Царства Божиего, мало-помалу становясь надеждой на конечное
блаженство человека, которое должно наступить в результате светского
Прогресса. Но умерла даже и эта надежда. И в самом деле: последнее из
общественных движений, ставившее целью оживить это ожидание, было
марксизмом, опыт которого показал, что жизнь по самой своей
природе не имеет конечной цели: она находится в движении, она трансценден-
тна, она состоит из движения, из самоперерастания и из порожденных
этим противоречий. Блаженство на том свете и тысячелетнее Царство
Божие здесь, на Земле, — это приукрашивание смерти. Окончательное
завершение есть смерть.
Поэтому для многих людей, в том числе для ученых и мыслителей,
которые просто отождествляют смысл с конечной целью, история
смысла не имеет. А с этим утратила смысл и сама жизнь: она — всего лишь миг
существования, связующий прошлое и будущее в непрочном настоящем,
а то, что может показаться в ней смыслом, «придумано» нами.
И тем не менее я утверждаю, что есть смысл, неразрывно связанный
с формой, смысл как сопряженность событий, как эволюционная
сопряженность, которая присуща не только законченным биографиям и
характерам выдающихся личностей, не только творениям, народам и
процессам, но и истории в целом. Люди смертны, смертны народы и
цивилизации, несмотря на то, что иные из них живут в веках. Сама
форма людей предполагает их рождение и смерть. Обратившись к
нынешнему положению человечества, мы должны спросить себя, каково
наше место, каково место истории.
По ходу истории мы видим, что, с одной стороны, наблюдается явный,
бесспорный прогресс в смысле расширения внутреннего и внешнего
масштабов существования. Но, с другой стороны (и это повергло в смятение
самых прогрессивных мыслителей), великие народы и цивилизации при-
110
ходят в упадок и погибают, и даже эволюция протекает как
диалектическое чередование действия и противодействия, приливов и отливов,
отступлений ради нового продвижения вперед — короче, совершается ротация.
Джордж Хейквилл, прогрессивный богослов XVII в., отмечая рост,
увядание, а затем новый, более пышный расцвет учености и искусств то у
одного, то у другого народа, называл это «своеобразным движением
вперед по кругу». С высоты нашего нынешнего положения история
предстает как движение по расширяющемуся кругу, как движение вперед по
спирали, в котором сливаются частное и общее. Но в этом процессе
общее так неразрывно связано с частным, что его невозможно вычленить
абстрагированием, не нарушив при этом саму природу явления.
Древние греки не пришли к подлинному пониманию
неповторимости исторического процесса, меж тем как прямо противоположная по
смыслу иудейско-христианская концепция (от которой была
унаследована идея Прогресса в ее светском варианте) делала акцент на
неповторимости судьбы человека. В конце XIX в. Ницше, яростно ополчаясь
против историцизма, обрел смысл и умиротворение в концепции вечного
круговорота, однако в наш насквозь секуляризованный век такая
концепция должна была в корне отличаться от ее древнегреческого
прототипа: то всепроницающее ощущение божественности, та неколебимая
вера в божественную присносущность, на которой и зиждился этот
круговорот древних, ушли в небытие, исчезли. Круговорот у Ницше
происходит в пустоте: он являет собой коловращение как таковое.
Современник Ницше, Якоб Буркхардт, предвосхитил позднейшие
толкования в том же духе. В своих Weltgeschichtliche Betrachtungen
(Размышления о всемирной истории) он отвергает всякую «философию
истории», под которой он подразумевал любую попытку взглянуть на
человеческую историю как на целое. В противовес таким попыткам он
пытался открыть общие законы истории — но не в сугубо научном
смысле, а достаточно произвольно, как бы на ощупь, более
импрессионистично. Его прочная связь со старыми традициями и ценностями, а также
присущая ему тонкая историческая интуиция оберегли его от попыток
потягаться с наукой, от опрометчивых и произвольных толкований,
какими не так давно фешили теоретики. С другой стороны, в его Kultur der
Renaissance (Культура Возрождения) и в лекциях по истории
древнегреческой культуры проявилось некое новое ощущение органической
целостности и своеобразия исторической эпохи, или реальности, в данном
случае смысл предстал как форма. Впрочем, оба этих направления
(квазинаучная обращенность к общему и обращенность к единичному)
возникли бок о бок, теоретически независимо друг от друга. И для Буркхардта в
той же мере, как и для Ницше, история потеряла свою сопряженность и
последовательность; история в подлинном смысле этого слова
перестала существовать.
В то время, когда возникли эти идеи, они остались почти
незамеченными широкой общественностью. Чтобы подготовить почву для их
расцвета и широкого воздействия, понадобилась катастрофа Первой
мировой войны, потрясшая мир и изменившая систему ценностей.
Героем дня стал Шпенглер, возгласивший «Закат Европы». Его теория
испытала разнородные влияния — она возникла под воздействием
111
Ницше и Буркхардта. Пытаясь выработать общие законы истории, он
обратился к идее вечного круговорота. Но тем временем появились и
другие теории, ставившие акцент на органическом и уникальном. И
они тоже учитывались при этом поиске общих законов. Шпенглер, по
сути, является подлинным выразителем переходной и весьма не
простой ситуации в интеллектуальной истории 20-х годов XX в. Научные
задачи сочетаются у него с наследием философии Дильтея297* и
Бергсона298*, с новыми биологическими, палеобиологическими и
антропологическими теориями витализма299* и холизма300* того времени, с идеями
таких людей, как Дриш301*, Оскар Гертвиг302*, Якоб фон Икскюль303*,
Лео Фробениус304*, которые развивали учение о сложных взаимосвязях
в организмах и между внутренней структурой вида и окружающей его
особой средой. Теория Шпенглера представляет собой сплав всех этих
тенденций. История раскалывается на не связанные между собой части,
на отдельные культуры, которые растут и умирают подобно любому
живому существу и проходят при этом через общие всем им определенные
стадии, а потому подлежат изучению и являются предсказуемыми как
физические закономерности. По сути это возвращение к локальной
истории в древнегреческом смысле, но коль скоро наш всемирный
опыт стал богаче по сравнению с древнегреческим, то ныне мы
имеем не одну, а несколько локальных историй. Каждая из этих
разобщенных культур является миром в себе: она не только есть результат
специфической окружающей среды, но и отражает свой внутренний и
внешний мир с помощью специфических связей и отображений,
обычаев и взглядов, художественных и научных стилей. Между двумя
аспектами этой концепции — аспектом общего («законами истории») и
аспектом единичного (особыми характерными чертами различных
культур) — не установилось никаких связей.
Тойнби, блестящий писатель и более основательный (хоть и не с
таким живым воображением) ученый, чем Шпенглер, чьим учеником он
был, выдвигает над гораздо большим числом «философски
современных» глобальных цивилизаций надстройку религиозного прогресса,
которая, впрочем, имеет лишь слабые и едва различимые связи с этими
цивилизациями. В отличие от Шпенглера, Тойнби, скорее, напоминая
Вико рубежа XVI—XVII вв., предоставляет человеку известную свободу,
чтобы он строил свою судьбу с Божьей помощью. Для Тойнби
«божественный план» (этим словосочетанием он называет то, что Вико
именовал «Провидением») представляется соответствующим историческим
законам, побуждая человека к религиозному прогрессу, к «дальнейшему
движению вперед, к единству с Богом», причем человек учится на
опыте своих страданий и становится достойным принять «накопившийся
запас Благодати». «Если религию уподобить колеснице, — говорит
Тойнби в своем эссе Христианство и цивилизация, — то... похоже, что
движение цивилизаций имеет циклический и периодический характер,
в то время как движение религии выглядит как одна непрерывная
восходящая линия». Это утверждение веры, которое невозможно да и
негоже оспаривать.
112
7
В общем, как свидетельствуют многочисленные факты, собранные
современными историками, продолжает преобладать тенденция к
признанию прерывистости исторического развития и наблюдается возврат к
старым циклическим теориям и теориям катаклизмов. Ни одна из
современных теорий, насколько мне это известно, не рассматривает
циклическое развитие как способ утверждения эволюционной
последовательности, ни в одной из них история не рассматривается как циклическое
расширение.
Если допустить правомерность взгляда на историю как на
циклическое расширение, то на какой стадии, в какой точке этого
процесса находимся мы ныне? Каков смысл нашего момента внутри смысла
истории?
В нашем сегодняшнем мире проявились две парадоксальные черты:
впервые в истории человеческий мир технически един, но в то же
время пребывает в состоянии бешеной анархии. И западная цивилизация
вот-вот завоюет земной шар и постепенно искоренит древние обычаи,
уничтожив самобытное культурное наследие других народов, тогда как
у себя, в своих пределах, Запад обнаруживает явные признаки
вырождения.
Эти парадоксы так или иначе связаны друг с другом. Современная
технология, продукт и достижение западной цивилизации, создала в
мире некое функциональное единство, которое является не только
внешним, благодаря разным средствам массовой коммуникации, но и
внутренним, которое крепнет благодаря распространению постоянно
множащейся техники, предназначенной для сохранения и уничтожения
жизни, для комфорта и жестокости — техники, которая вскоре станет
общим достоянием стандартизированного мира. Так технические
достижения меняют не только условия жизни человека, но даже и сами
основы человеческой жизни. Но человек, индивидуумы и
сложившиеся общности не успевают за столь быстрыми изменениями. Это не
трудно понять: органические и физические процессы идут медленно,
поскольку им приходится преодолевать инерцию, привычки, традиции
и разного рода запреты; им требуется время, естественное для них
время, их собственное историческое время для действия и
противодействия, для прогресса и регресса. Однако развитие техники (а особенно
если вся цивилизация с упоением для этого трудится) идет без всяких
помех, почти автоматически. Весь современный аппарат
человеческого существования (в том числе и аппарат идеологический) обретает
масштабы, соответствующие лишь огромным коллективам. Но человек
с его стремлениями и желаниями по-прежнему остается в узком мире
своего «Я», имеющем, впрочем, национальную окраску. Несоответствие
этих двух тенденций, столкновение и взаимодействие между ними
привели к нынешней беспрецедентной анархии. Она беспрецедентна
именно потому, что, с одной стороны, вступает в противоречие с техникой,
а с другой стороны, — получает от нее же функциональную поддержку.
Политический мир всегда был анархичен, но только теперь впервые эта
анархия бушует на фоне противодействия техники.
113
Второй парадокс заключается в двойственной роли западной
цивилизации, которая, что бы там ни говорил Тойнби, представляет собой
магистральное движение человеческой эволюции, и только потому, что
теперь категорически отрицается эволюция, это и позволяет нашим
интеллектуалам оспаривать этот факт. Велика заслуга Тойнби в том, что
он привлек внимание к огромному разнообразию культур и
исторических явлений, мимо которых проходили другие историки, и в том, что в
своих теориях он опирался на новые открытия в археологии и
этнографии. Однако это расширение нашего кругозора никоим образом не
упразднило ведущее эволюционное значение западной ветви человечества.
Утверждая это, мы вовсе не умаляем роль прочих культур: они обладают
равными достоинствами, но не в плане эволюции, которая с
человеческой точки зрения может показаться сомнительной. Но совершенно
очевидно, что по сравнению с масштабом западной цивилизации (если
иметь в виду и интеллектуальную, и территориальную ее экспансию)
другие, туземные, культуры должны казаться в какой-то степени
«отсталыми» или «застойными». Прямо или косвенно они обогащаются
новейшими достижениями Запада.
Однако то удовлетворение, которое Запад мог бы получить от
сознания этого эволюционного превосходства, должно быть изрядно
умерено, если обратиться к внутреннему состоянию этой цивилизации. Мы
и на этот раз оставим в стороне нравственные соображения, на которые
теперь смотрят с пренебрежением как на наивные анахронизмы и
которые официально более или менее откровенно считаются ненужными,
когда речь идет о политике, а особенно если требуется всего за
несколько минут вынести решение об уничтожении сотен миллионов человек.
На земном шаре еще существуют эволюционно отсталые народы (по
крайней мере, народы, а не правительства), но, сохраняя человеческое
достоинство и моральные принципы, они намного превосходят нации
Запада.
Дают о себе знать и другие зловещие симптомы. Самыми
чудовищными достижениями человека Запада являются, несомненно, те
достижения науки, которые проникли в глубины органических и неорганических
структур и постоянно завоевывают одну область нашего мира за другой.
Западный, на западный манер сформированный человек и впрямь
вкусил от древа жизни, но при этом он, кажется, съел и свою сущность,
свою духовную жизнь. Самое его «творение» грозит уничтожить его.
Ранее я уже отмечал огромный, бесконтрольный рост безличного,
коллективного сознания в науке, в институтах, среди бюрократии и так далее и,
соответственно, убывание личного сознания индивидуумов. Это
приводит к тому, что люди становятся все менее способными контролировать
правительства, что открывает путь к узурпации власти криминальными
коллективами. Электрические мозги присваивают себе все больше того,
что было делом рук человеческих и основой для разумного творчества.
Неконтролируемая гиперрационализация нашей жизни давит на
подсознание, которое взрывается неврозами и потерей рассудка, и
обнаруживает свое все ширящееся преобладание в совершенно неуправляемых,
ничего не выражающих трюках типа «действующей живописи» или «поп-
арта». А среди пустоты пышной роскоши, среди апатии, рутины и ску-
114
ки мы вдруг находим художественные творения забытой всеми
красоты, являющие собой гротесковый контраст с нашим миром хаоса и
свидетельствующие о катастрофической несостоятельности человеческого
общения в век совершенных функциональных средств. В целом это
являет собой жуткое зрелище, напоминающее Римскую империю в
момент ее величайшей экспансии, и эта ситуация, похоже, наводит на
мысль, что жизненный цикл Запада близится к концу.
Наши инженеры разрушения решились обрисовать в мельчайших
подробностях ход и последствия ядерной войны. Они начали
«помышлять о немыслимом», что, к несчастью, придает этому немыслимому
видимость мыслимого, хотя этого не может быть никогда, каким бы
рационально точным ни был прогноз обстоятельств. Даже абстрагируясь от
неизбежных оплошностей, мы должны признать, что никаким расчетам
не поддается все более интенсивное цепное взаимодействие между
событиями и обстоятельствами, конституирующее реальный процесс.
Однако в условиях слепой, ожесточенной идеологической борьбы,
сопровождаемой безумной гонкой оружия «безопасности», не исключено, что мир
погибнет в общем пожаре. В данном случае возможность того, чтобы
западная цивилизация смогла уцелеть в своем подлинном, чистом виде,
невелика. Дело здесь не в числах, статистике и машинах. Дело в запасе
жизненных сил, благодаря которым люди смогут вынести великие изменения,
которые неизбежно последуют за таким катаклизмом. Цветные народы
Азии и Африки да еще славяне имеют, похоже, больше шансов — не
столько потому, что их так много, сколько потому, что их человеческая
природа не так растрачена, как наша. Эти народы с их
нерастраченными силами, пробудившись и обогатившись знаниями и опытом Запада,
смогут (возможно, после новых «темных веков») стать преемниками и
носителями лучших культурных традиций.
Таков один возможный исход. Другой состоит в том, что мы, люди
Запада, могли бы объединить силы с этими народами будущего,
невзирая на идеологии и симпатии, и тогда все вместе могли бы реализовать
то, что уже потенциально существует, - организованный
наднациональный мировой порядок. Это означало бы полное завершение цикла,
начало которому дала та западная цивилизация, что ныне формирует облик
земли. Это подтвердило бы смысл истории как формы; в то же время это
и цель, хотя и преходящая. Если бы она была достигнута, то и на сей раз
некое конечное, тысячелетнее царство покоя не было бы обретено. Все
так же сохранялись бы противоречия, все так же возникали бы новые
проблемы, ибо жизнь продолжалась бы, но и это, спасение человеческой
жизни, сохранение человечества, само по себе есть подлинная цель.
Перенаселенность нашей планеты, эта труднейшая из общих проблем
человечества, может заставить людей мигрировать и основывать колонии на
других обитаемых планетах: нынешние поиски межгалактических
коммуникаций, по всей видимости, устремлены именно к этому. Может
начаться новый цикл. Сегодня все это кажется таким же фантастичным,
таким же немыслимым, как и иной, зловещий исход, но этот,
позитивный, взгляд стоило бы превратить в мыслимый - и в как можно более
мыслимый. Правда, прежде стоило бы достичь объединения — но не
только политического и расового, но и интеллектуального объединения,
115
контроля за нашим неуправляемым коллективным сознанием. Наша
задача, вернее, наша первейшая обязанность, состоит, как мне кажется, в
поиске (помимо и сверх всех специальных исследований) основного
смысла того, что мы делаем, к чему все это ведет, чего мы этим
достигнем; мы должны обрести то, что потеряли, — умение ориентироваться в
мире и способность продолжать движение в нужном направлении.
Проблема смысла истории — это проблема смысла человека,
проблема смысла человеческой жизни. Мы стоим на распутье: нас ждет или
полное уничтожение Запада, или воссоединение человечества — на
редкость удобный момент для постановки жизненно важных вопросов.
Примечания
Смысл смысла
1 Collingwood R.G. The Idea of History. Oxford, 1946. P.9.
2 «Осмысляющий», в данном контексте, не сводится к рациональному
осмыслению; это более общее понятие, где рациональное осмысление является лишь
одной из прогрессивных форм. Осмысление, в нашем понимании, означает
постигать разнообразные явления, соединять их, связывать воедино и, следовательно,
находить скрытую взаимосвязь этих явлений.
3 Для большинства людей смысл просто-напросто равнозначен цели: идеалы —
это те же цели. А тому, кто сводит весь смысл только к цели, история неизбежно
должна казаться бессмысленной: абсолютных идей, равно как и веры в хилиасти-
ческий конец света, уже не существует. Подобные воззрения отражены в таких
толкованиях, как Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen (История как придание
смысла бессмысленному) Теодора Лессинга [Мюнхен, 1921] или Смысл в истории
Карла Левита (Чикаго, 1949). Теодор Лессинг справедливо признает, что история
как «сопряженность событий» непредсказуема, случайна, зависит от того или
иного взгляда на вещи, но это не мешает ему полагать, что история сводится к
одностороннему навязыванию личных или коллективных иллюзий разрозненным
случайностям. «История, — пишет он, — возникает в желании и в воле, в
потребностях и намерениях; она всего лишь осуществление "мечтаний" (Traumdichtungen)
человечества... смысл истории — это не более чем смысл, который я придаю себе
сам, а историческая эволюция - это развитие от меня ко мне же...
Следовательно, любое событие, обладающее исторической реальностью, - это в конечном
счете всего лишь бездумное отчуждение данного события в пользу тех или иных
сообществ ради той или иной выгоды» («Ein mechanisches Anereignis vereignet durch
Menschengruppen an Hand menschlicher Nutzinteressen», op. cit., S. 10, 15). Но вот
что ускользнуло от Лессинга — то, что в самой истории происходит
взаимопроникновение субъекта и объекта, их взаимодействие, и тем самым субъект,
человеческое осмысление, само постепенно становится объективным фактом, т.е.
человеческим сознанием.
Левиту все видится проще. Он строит свои доказательства на
распространенном общеевропейском мнении, что смысл тождествен цели. «Не случайно, -
заявляет он, — слова "смысл" и "цель" стали для нас синонимами, потому что
именно цель и является смыслом... История... обретает смысл только тогда, когда есть
указание на какую-то трансцендентную цель за пределами реальных фактов. Но
поскольку история - это движение во времени, то ее цель - это просто цель»
(Ibid. Р. 5). Он допускает, что могут существовать другие разновидности смысла:
«Это отождествление смысла и цели не исключает возможности других смысловых
систем. Для древних греков, например, исторические события и судьбы не были,
116
конечно, бессмысленными: напротив, они были полны значения и смысла, хотя
смысл и не был для них равнозначен устремленности к конечной цели, к чему-то
трансцендентному, в котором сходятся все события вообще» (Ibid. Р. 6). Впрочем,
Лёвит и не пытается понять, что именно имело смысл для древних греков, и,
говоря о трансцендентности, упускает из виду возможность «имманентной
трансцендентности», т. е. форму. Таким образом, сужая понимание смысла и
рассматривая историю всего лишь как цепь происшествий, как «движение во времени»
(причем время мыслится лишь как абстрактное независимое измерение), он
сужает рамки своего исследования, а поставленный им вопрос решается как-то a prion.
Стоит внимательнее присмотреться к древнегреческому понятию смысла,
связанному с особенностями их исторической ситуации и их мировоззрения: стоит
понять, что время многоаспектно и что существует сложная взаимозависимость
между временем и человеческим сознанием. Думается, только тогда природа истории
и раскроется перед нами во всей полноте. [Лессинг (Lessing) Теодор (1872-1933),
немецкий философ и писатель. Согласно его концепции, история - это всего
лишь «становящийся миф», «не имеющее конца мифологическое творчество
человека»; таким образом, Лессинг отрицает объективность исторического
процесса. Он писал о растущем обезличивании человека, об одиночестве человека в
современном мире. «Предметный мир убивает жизнь; машины стали умнее своих
создателей, творения богаче своих творцов». - Лёвит (Löwith) Карл (1897- ),
немецкий философ. В 50-е годы, обратившись к философии истории, он пришел к
выводу, что вне религии история не имеет смысла. — Примеч. пер.]
История истории
1 Levy-Bruhl L. Les functions mentales dans les societes inferieurs. Paris, 1910; La
mentalite primitive. Paris, 1921; L'äme primitive. Paris, 1927 и самая важная: Les
carnets de Lucien Levy-Bruhl. Paris, 1949. О сравнении с ребенком ср. Piaget J.
La construction de reel chez l'enfant. Vol. I. Paris, n.d.; Vol. IL Paris, 1937; La
representation du monde chez l'enfant. Paris, 1947; Le developpement de la notion
du temps chez l'enfant. Paris, 1946.
2 Freud and the Future (1936) // Essays of Three Decades. New York, Inc., 1947,
p. 422.
3 Burnet, 4th ed. Frs. 41,42.
Moid. Fr. 81.
5 Ibid. Fr. 40.
6 Ibid. Fr. 45; ср. также Frs. 20, 43, 96, 120.
7 Cp. Reinhardt К. Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie. Bonn,
1916. S. 206-207.
8 Хотя он родился в Стагире, греческой колонии на берегу Эгейского моря, но
воспитывался в Афинах.
9 Ср. также II Олимпийскую песню Пиндара [Пиндар (ок. 518-442/438 до н. э.),
древнегреческий поэт. — Примеч. пер.].
10 Книга 1,3, Loeb Classics edition: Translation by W.R. Paton.
11 Там же. Книга 1, 2.
12 Там же. Книга 1, 4.
13 Платон. Тимей. 37. Ср. также Тимей, 38 «(Пребывающие в движении и
воспринимаемые чувствами предметы) - все это виды времени, подражающего
вечности и бегущего по кругу».
14 Notre Jeunesse. Vol. XI, № 12. Paris, 1910: Transl. by A. and J. Green // Basic
Verities. New York, 1943.
15 Быт. 15: 13; Втор. 28: 25, 28-29, 34, 37, 43-44, 64-66; 29: 24-26 и далее до
Ис. 49-54.
16 Амос 9: 7.
17 Ис. 11: 1-9.
117
18 Ис. 42: 1-7; 49: 3, 6-10; 50: 4-6; 53: 3-5, 7-11; 55: 5.
19 Исх. 20: 5, 21, 23-26; Втор. 19: 21.
20 Иез. 18.
21 Ос. 2: 15, 18-19; 6: 6; И: 8-9; Мих. 6: 8; Иона 4: 2, 10-11.
22 Эта эволюция (как, впрочем, и всякая эволюция) хронологически
неоднолинейна; здесь мы имеем дело лишь с преобладающей и нарастающей (вплоть до
последних пророков и Иисуса) тенденцией. Следует принять во внимание и то, что
Ветхий Завет - это компиляция написанных в разные времена сочинений.
23 Ис. 51:6-7.
24 Ис. 51: 11,22-23.
25 Давид Алрой в XI в., Реубени в XVI в., Саббатай Цеви в XVII в. и Яков Франк
в XVIII в. [Давид Алрой (Менахем) заявлял о себе как о мессии среди персидских
евреев во вт. пол. VIII в. В результате апокалиптических вычислений, сделанных
им на основе каббалы, возомнил себя освободителем евреев от пленения.
Саббатай Цеви (1626-1676), еврейский лжемессия. В 1648 г. объявил себя Мессией,
освободителем. Последователи Саббатая Цеви встречались в еврейских общинах не
только ближнего Востока, но и всей Европы. Яков Франк (ок. 1726-1791),
основатель псевдохристианской религиозной секты польских евреев в сер. XVIII в.
Учение Франка строилось на отрицании как религиозной, так и моральной
дисциплины иудаизма. — Примеч. пер.]
26 Тимей, 22d.
27 Ср.: Reinhardt К. Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie. Bonn,
1916. S. 206-207.
28 См.: Sticker B. Weltzeitalter und astronomische Perioden // Saeculum. Vol. IV, № 3.
P. 241-249.
29 Мих. 4: 3-4; Иез. 34: 25-31, Ос. 2: 18; Ис. 2: 4; 11: 6-8. Подобное
отождествление последних времен с изначально существовавшим райским бытием
сохранено и в более поздних еврейских апокалипсисах.
30 Ср.: Ginsberg H.L. Studies in Daniel: Texts and Studies of the Jewish Theological
Seminary in America. Vol. XIV. New York, 1948; об апокалипсисах: Burkitt F.С.
Jewish and Christian Apocalypses. London, 1914.
31 Дан. 2: 32-35.
32 Дан. 2: 42-44.
33 Дан. 8:5-11,20-21,23-25.
34 Ср.: Ginsberg, loc. cit; Swain J.W. The Theory of the Four Monarchies // Classical
Philology. Chicago, 1940. Vol. XXXV, No. 1. P. 1-21.
35 Ис. 49: 6-7; 50: 6.
36 Считалось, что весь многообразный мир произошел от духа (так называемая
рпеита — дыхание жизни и творческий дух божества), в который он, мир, и
должен вернуться, снова став частью круговорота этого божества, будучи, по сути,
божественной систолой и диастолой.
37 Seneca. De Otio, 1: 4.
38 Contra Symmachum..
39 Octavius.
40 Ислам, истоки которого коренились в иудейско-христианской традиции,
приспособленный к особенностям арабского племенного быта, распространился в
основном на Востоке, где он соперничал с гораздо более древними индуистской
и китайско-японской цивилизациями. Магометанский «джихад» (Jihad, или
Священная война), с которого началась исламская экспансия, вначале был
равнозначен борьбе иудеев с остатками язычества, но потом, эволюционировав,
перерос в движение сопротивления христианскому миссионерству. Ислам
никогда надолго не выходил за пределы восточного и африканского миров и не
создал такой цивилизации, которая превзошла бы цивилизацию Запада. Более
того: мы являемся свидетелями обратного процесса — как ислам, наряду с дру-
118
гими мировыми культурами, попадает под влияние Запада, о чем в
определенном смысле можно только пожалеть.
41 Origen. Contra Celsum, IV, 23.
42 Cullmann О. Christ and Time. Philadelphia, 1950. P. 22-23.
43 2 Кор. 5: 17.
44 Cullmann. Op. cit. P. 18.
45 Cp. Rowley H.H. Darius the Mede and the Four World Empires in the Book of Daniel.
CardifT, 1935. P. 73-74.
46 Рим. 6: 3-8.
47 Кол. 3: 1-3, 5.
48 Мат. 5: 48.
491 Иоан. 4: 10.
50 Рим. 9:6-8, 11, 13, 15-16, 18.
51 Рим. 11:6.
52 Гал. 3: 26, 28-29.
53 Фил. 3: 20.
54 A Diognete: Edition critique. Trad, et comm. de Η. Marrou. Paris, 1951. P. 62 ff.
55 Цельс, цитируемый Оригеном. Contra Celsum, VIII, 55.
56 Demonstratio Evangelica, 3, 7, 139, цит в: Mommsen Th.E. St. Augustine and the
Christian Idea of Progress: The Background of the City of God // Journal of the History
of Ideas. Vol. XII. No. 3. P. 360.
57 Theophania, 3, 2, цит в: Mommsen. Op. cit. P. 361-362.
58 Praise of Constantine, 16, 6, цит. в: Mommsen. Op. cit. P. 362-363.
59 Life of Constantine, 1, 3, 3, цит. в: Mommsen. Op. cit. P. 360.
60 Contra Symmachum, II.
61 Enarration on Psalm 45, цит. в: Mommsen. Op cit. P. 364.
62 Enarration on Psalm 136, цит. в: Mommsen. Op cit. P. 369 ff.
63 Enarration on Psalm 45, цит. в: Mommsen. Op cit. P. 364.
64 De Civitate Dei. XII, 16 (согласно разбивке на главы в тексте издания «Corpus
Christianorum» 1955).
65 Ibid. XII, 15.
66 Ibid. XII, 14.
67 Ibid. XII, 21.
68 Ibid.
69 Augustine. De Genesi ad litteram // Migne. Vol. 34. Col. 437.
70 Gilson E. Les Metamorphoses de la Cite de Dieu. Louvian; Paris, 1952. P. 55.
71 De Civitate Dei. XV, 1.
72 Августин полагает, что каждый отдельный человек предрасположен ко греху —
и не только как представитель рода человеческого - из-за грехопадения Адама и
из-за унаследованной от предков страстности, но и как индивидуум - из-за того,
что был зачат во грехе.
73 Ср. Bernheim Ε. Mittelalterliche Zeitanschauungen. Tübingen, 1918. S. 67-68.
74 De Civitate Dei. X, 14.
75 Confessiones. XI, 13.
76 Ibid.
77 Ibid. XI, 14.
78 De Civitate Dei. XII, 16.
79 Ibid.
80 Ibid. V, 17.
81 Ibid. XXII, 30.
82 Ibid. XI, 12.
83 Ibid.
84 Ibid. XXII, 30.
85 Ibid.
119
86 Например, португальский принц Генрих Мореплаватель, готовясь к
путешествиям, основал первую в истории обсерваторию [Генрих Мореплаватель (1394—
1460), был вдохновителем и организатором португальской заморской
экспансии. — Примеч. пер.]
87 Учение о божественной природе, т. е. о вечном, вечно возобновляемом
рождении Сына, не противоречило циклическому воззрению Оригена на
кругообразность сотворений мира, но было несовместимо с библейским представлением о
неповторимости человеческой жизни. Арианское учение о том, что Христос, как
и весь мир, был сотворен во времени, низводило его на уровень чисто
конечного существа. Нелегким разрешением этого противоречия предстояло заняться
Августину.
88 Primum ratione, in quantum hominis ratio patitur (насколько постигает человеческий
разум), deinde auctoritate поп qualibet sed rationali duntaxat (если рассуждение верно).
89 Confessiones. IV, 16.
90 Haskins Ch.H. The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge, Mass., 1927; New
York: Meridian Books. Chap. XI.
91 Ibid.
92 Butterfield H. The Origins of Modern Science. New York, 1952. P. 3, 6-7.
93 Ueberweg-Baumgartner. Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen und
scholastischen Zeit. Berlin, 1915. S. 469.
94 Ibid. S. 425.
95 Cp. Capelle G.C. Amaury de Bene. Paris: Bibliotheque Thomiste, 1932, в
частности, Textes 3, p. 90 ff.
96 Ср. Grundmann Η. Studien über Joachim von Flores. Leipzig; Berlin, 1927;
Buonaiuti E. Gioacchino da Fiore. Roma, 1931; Benz E. Ecclesia Spiritualis. Stuttgart,
1934; Grundmann H. Neue Forschungen über Joachim von Fiore. Marburg, 1950.
97 Цит. в: Benz Ε. Op. cit. S. 26 (Курсив мой).
98 Ср. Pinder W. Das Problem der Generation (Berlin, 1926-1949).
99 Kantoromcz E.H. Frederick the Second (New York, 1957), p. 335
100 Cp. Ibid. Chap. IX. p. 603 ff.; Bernheim E. Mittelalterliche Zeitanschauungen
in ihrem Einfluss auf Politik und Geschichtsschreibung. Teil 1. Tübingen, 1918.
S. 97ff; Kampers F. Die deutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage. München,
1896. S. 69ff.
101 Haskins Ch.H. The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge, Mass., 1927; New
York: Meridian Books. Chap. VII.
102 Rashdall Η. The Universities of Europe in the Middle Ages. Oxford, 1896; цит. в.:
Haskins Ch.H. Op. cit. Chap. VII.
103 Cp. Pegues F.J. The Lawyers of the Last Capetians. Princeton, 1962.
104 Kantoromcz E.H. The King's Two Bodies. Princeton, 1957. P. 284 ff.
105 Фома Аквинский отождествляет ангелов с абсолютно бесплотными духовными
субстанциями, которые связаны с телами лишь способностью быть «движущей
силой»: каждый ангел представляет собой некий вид. Ср. Ueberweg-Baumgartner.
Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit.
Berlin, 1945. S. 498.
106 Kantoromcz E.H. Op. cit. P. 283.
107 Ангелы, появившись в воинстве перса Агурамазды, а позже став
библейскими вестниками Бога, претерпели любопытную трансформацию. Платон заменил
мифических божеств Идеями, божественными по праву. Александрийцы Филон
и Климент (первый - иудей, а второй - христианин-гностик) отождествляли
Идеи с ангелами. В схоластике они вновь обрели значение «небесных умов», и
это иносказательное наименование привело к тому, что юристы уравняли их с
их «бессмертными и неизменными видами».
108 Kantoromcz E.H. Op. cit. P. 301.
109 Kantoromcz E.H. Op. cit. P. 15 ff.
120
1,0 Французский вариант этой абстракции: Henri, Charles, Louis meurt, mais le roi
ne meurt pas (умирает Генрих, Карл, Людовик, но не король).
111 Kantorowicz E.H. Op. cit. P. 284 ff.
1,2 Ibid. P. 277 ff.
113 «Dicebat Bernardus Camotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ut
possimus plura eis et remotiora videre, поп utique proprii visus acumine aut eminencia
corporis, sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea». Цит. в:
Sarton G. Standing on the Shoulders of Giants // Query No. 53, Isis, XXIV (1935-
1936), I. P. 107 ff.
1,4 «Hinc est, quod multae antecessores nostros, praeclarae sapientiae ac excellentium
ingeniorum viros, latuerunt causae, quae nobis processu temporum ac eventu rerum patere
ceperunt. Proinde Romanum impenum, quod pro sui excellentia apaganis aeternum, a nostris
репе divum putabatur, iam ad quid devenerit, ab omnibus videtur». Ottonis Episcopi
Frisingensis Chronica sive Historia de duabus Civitatibus. Hannover; Leipzig: Scriptores
Rerum Germanicarum. 1912. P. 226. (Курсив мой).
115 Сведениями о воззрениях Азо и приведенной цитатой я обязан Эрнсту X.
Канторовичу, любезно предоставившему мне рукопись своей работы «Идея Прогресса
в Средние века» (Курсив мой).
116 Процесс обмирщения эволюционирует от племенных объединений до
городов и городов-государств (даже Римская империя по сути была
городом-государством, равно как и города-республики эпохи Возрождения), - от
городов-государств и феодальных княжеств до территориальных владений и государств; от
национальных монархий до настоящих наций и, наконец, от
идеологизированных блоков держав до технически оснащенного потенциала создания «единого
мира».
1.7 Конечно, национализм и сейчас, и еще долго будет оставаться в силе, хотя
время его уже давно прошло. Люди, сбитые с толку хаосом событий, бушующих
у всех на виду, не в состоянии отделять идеологическое от национального и
потому воспринимают укоренившиеся идеологические понятия в национальном
ореоле. Народы, только что получившие свободу, неизбежно проходят через
стадию бурного национального самоутверждения. Но в отличие от прежних
национально-освободительных движений (как, например, движения за
независимость в Нидерландах и Америке) нынешняя борьба за освобождение от
колониализма в то же время является борьбой за социальное освобождение, а
новые нации, как бы они ни пытались ограничиться чисто национальными
интересами, прилагают максимум усилий, чтобы в нашем мире, где все так тесно
взаимосвязано, не оказаться втянутыми в хаос преобладающих повсюду
идеологических битв.
1.8 Kahler Ε. The Tower and the Abyss. New York, 1957. Chap. II, III.
119 Novum Organum, 129; цит в: Bury J.В. The Idea of Progress. New York, 1932.
P. 55.
120 Цит. no: BuryJ.B. Op. cit. P. 45.
121 Grandeur et decadence des Romains (1734). Chap. XVIII.
122 Kant I. Principles of Politics. / Ed. and trans, by W. Hastie. Edinburgh, 1891. P. 1-
29. Third Proposition.
123 Kant I. Ibid. Fourth Proposition.
124 Hegel. Logic / Trans, by W. Wallace. Oxford, 1874. Chap. II. P. 46 fT.
125 «...что эта счастливая судьба уготована лишь поколениям далекого будущего -
только им суждено жить в здании, над строительством которого трудились
многие поколения далекого будущего их предков, которые только стремились к
этому счастью, но не имели возможности насладиться тем, что они подготовили».
Kant I. Op. cit. Seventh Proposition.
126 Ibid. Seventh Proposition.
127 Ibid. Eighth Proposition.
121
128 \yeyi jj Philosophy of Mathematics and Natural Science. Princeton, 1949. P. 41.
129 Franklin J.H. Jean Bodin and the Sixteenth Century Revolution in the Methodology
of Law and History. New York; London, 1963. P. 2 fif. Эта ценная работа
представляет более детальное исследование.
130 Comte Л. Cours de Philosophie positive. 1830-1842.
131 Turgot. Ebauche du Second Discours en Sorbonne sur l'Histoire Universelle //
(Euvres de M. Turgot. Paris, 1808. II, 294.
132 Ср. Вико: «Ведь в силу новых открытых здесь Оснований Мифологии,
вытекающих из новых открытых здесь Оснований Поэзии, доказывается, что Мифы о
Богах были историями тех времен, когда люди самого грубого языческого
человечества верили, будто все необходимые или полезные для рода человеческого вещи
суть божества». Principi di Scienza Nuova: Spiegazione della dipintura proposta al
frontispizio...
133 Turgot. Op. cit. P.294.
134 Ibid. P.295.
135 Его авторитетами среди философов были Локк и Руссо. Локк, выступив с
опровержением Декартовой теории врожденных идей и рассматривая ум как tabula
rasa [лат. чистая доска. - Примеч. пер.], который обретает свое содержание лишь
после того, как опыт сделает на нем свою запись. Окончательно порывает с
прошлым, как в свое время сделал Декарт. Локк немало способствовал ходу
биологической дискуссии. Руссо, в свою очередь, по всей видимости, находился под
сильным влиянием Бюффона. Говорили, что, приехав в Париж, он пришел к дому
Бюффона и благоговейно поцеловал его порог.
136 «Сколько еще надо исследовать и выяснить! Наша эпоха вызревает для
этого... генезис Греции - от Египта или Финикии? Этруски - из Египта, Финикии
или Греции? — А взять генезис северных народов — из Азии, Индии или от
аборигенов? А новые арабы? Из Татарии или Китая! и характеристики и формы
всего этого, а затем будущие формы американо-африканской литературы, религии,
обычаев, менталитета и права. — Какой это был бы труд о роде людском, о
человеческом духе, мировой культуре, обо всех странах, эпохах, народах, о силах...
Азиатская религия и хронология... и философия. Финикийская арифметика и
финикийский язык, и финикийская роскошь! Северная религия, право, обычаи,
война, честь! Эпоха папства, монахи, ученость! Северные крестоносцы...
паломники, рыцари! Христианско-языческое возрождение наук. Век Франции!
Английская, голландская, немецкая его формы! - Китайская, японская политика!
Естественная история Нового Света! Американские обычаи и т. д.! - Великая
тема; род людской не угаснет, пока все это не сбудется до конца, пока дух
просветления не охватит всю землю! Всеобщая история мировой культуры!
(Universalgeschichte der Bildung der Welt)» Гердер, Дневник моего путешествия в
1769 г. (Journal meiner Reise im Jahre 1769). В этом сумбурном, порывистом
восклицании содержатся, как в зародыше, темы исследований и проблемы
грядущих двух веков.
137 Schlegel F. Prosaische Jugendschriften / Hrsg. J.Minor. Wien, 1906. Bd. II.
Athenäum-fragment 116.
138 Ирония Сократа целенаправленна, она — социальное средство обнаружения
правды и обличения невежества, орудие maiösis 'а, сообщения (истины).
Романтическая ирония - это по сути игра ума и бесконечно воспроизводящееся
самопреодоление.
139 Loc. cit. Ideen 69.
140 Loc. cit. Athenäum-fragment 116.
122
Смысл истории
1 London, 1957; 2nd ed. 1960.
2 Barraclough G History in a Changing World. Norman, Okla., 1956. P. 2.
3 Popper K.R. The Open Society and Its Enemies. Princeton, 1963. Vol. II. P. 270.
4 Ibid.
5 Athenäum-fragment; Schlegel F. Kritische Schriften. München, 1938. S. 49.
6 Barraclough G. Op. cit. P. 4.
7 Berlin I. Historical Inevitability. London; New York; Toronto, 1954. P. 33-34.
8 Carr E.H. What Is History? New York, 1962. P. 124 ff. (Курсив мой).
Комментарии
'* «Великие книги». — Движение, начатое в США в 40-е годы XX в. под
руководством президента Чикагского университета P.M. Хитчинса и известного
философа М. Адлера. По всей стране открывались Советы «Великих книг» (Great
Books Councils), и тысячи людей собирались в библиотеках, в местных
приходских центрах или в школах, чтобы принять участие в «великом разговоре» —
обсуждении произведений классической литературы (сочинений Платона,
Аристотеля, Шекспира, Данте), которое проходило на всецело дилетантском уровне.
(Эти сведения из «The Christian Science Monitor», Oct. 31, 1997, были любезно
предоставлены нам профессором Брайант Колледжа (Провиденс, Род-Айленд)
госпожой Х.Г. Поллард.)
2* Позитивизм. - Философское направление, идущее от О. Конта, приверженцы
которого исходят из того, что всякое подлинное, «положительное» (позитивное)
знание может быть только результатом отдельных специальных наук или их
синтеза. Оказал влияние на методологию естественных и общественных наук
(особенно во вт. пол. XIX в.).
3* Экзистенциализм (философия существования). - Влиятельное послевоенное
течение, выступившее против дегуманизирующих тенденций в политике,
социальной жизни, культуре, науке и пр. Историчность человеческого существования, по
мнению сторонников экзистенциализма, выражается в том, что оно всегда
проявляет себя в определенной ситуации, в которую оно «заброшено» и с которой
вынуждено считаться. Историчность экзистенции (т. е. «существования») - один из
модусов ее конечности.
4* Описательная антропология. - В переводе с греческого антропология - «наука
о человеке», задачей которой является описание и объяснение человека на
основе биологических и культурных характеристик. На начальном этапе развития
(XIX в.) традиционными объектами антропологии были «первобытные»
(«традиционные») культуры. По-видимому, именно такие исследования имеет в виду
Э. Калер, говоря об описательной антропологии. В XX в. завоевала позиции
культурная антропология, задачей которой стало сравнительное (перекрестное)
изучение культур. Принципы такого исследования развил Э. Калер в работе «Человек-
мерило», по сути подняв исследования такого рода на новый уровень — уровень
исторической антропологии.
5* «Новая критика» (New Criticism). - Школа теории критики, возникшая после
Первой мировой войны. Ее представители отстаивали мысль о самоценности
произведения искусства и полагали, что отдельное произведение есть независимая
смысловая единица, для изучения которой нет нужды учитывать общественный,
исторический и биографический факторы. Концепции «новой критики»
сложились в полемике со сторонниками социологического метода,
культурно-исторической школы и позитивизма XIX в. Принципы этой критической школы
впервые были сформулированы в работе Дж.К. Рэнсома «Новая критика» (1941),
которая дала название школе в целом.
123
6* Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844-1900), немецкий философ, представитель
иррационализма и волюнтаризма. В своей утопической философии истории в
поисках идеала обращался к досократовской Греции. Философия Ницше оказала
влияние на становление прагматизма и экзистенциализма. На нее опирались и
идеологи немецкого фашизма.
7* Ясперс (Jaspers) Карл (1883-1969), немецкий философ-экзистенциалист.
Ключевыми понятиями его философии были человек и история как изначальные
понятия бытия.
8* Коллингвуд (Collingwood) Робин Джордж (1889-1943), английский философ-
идеалист и историк, представитель неогегельянства; специалист по древней
истории Британии. Стремился привести в соответствие философию и историю,
полагая, что философия должна усвоить методы истории и что обе дисциплины имеют
общий предмет — исторически развивающееся человеческое мышление.
9* Линкольн (Lincoln) Авраам (1809-1865), государственный деятель США.
Президент США в 1860-1865 гг.
|0* Эйнштейн (Einstein) Альберт (1879-1955), один из основоположников
современной физики, создатель специальной и общей теории относительности.
11* Ганди, Мохандас Карамчанд (1869-1948), деятель
национально-освободительного движения Индии, основоположник гандизма (это социально-политическое
и религиозно-философское учение стало идеологией буржуазного национализма
в Индии).
І2* Уайлдер (Wilder) Торнтон (1897-1975), американский писатель.
Историк-профессионал, он стоял на «антропологических» позициях.
13* Идентичность. - В философии означает нечто постоянное (в отличие от
изменения или различия). Трактуется в философии в связи с проблемой личной
идентичности, проблемой универсалий и законом идентичности в логике.
14* Леви-Брюль (Levy-Bruhl) Люсьен (1857-1939), французский философ и
психолог-позитивист. Наиболее известна его теория первобытного
«дологического мышления», управляемого, по Леви-Брюлю, «законом сопричастия»
(партиципации), согласно которому воспринимаемый объект может быть
одновременно и самим собой, и иным, находиться одновременно в различных
местах; свойства изображения оказываются тождественными свойствам
оригинала и т.п.
,5* ...Елиезер, учитель Иосифа. — Имеются в виду персонажи романа Т. Манна
«Иосиф и его братья».
16* Тойнби (Toynbee) Арнольд Джозеф (1889-1975), английский историк и
социолог. В «Исследовании истории» («A Study of History», v. 1-12, 1934-1961)
стремился переосмыслить все общественно-историческое развитие человечества в духе
теории круговорота локальных цивилизаций. Стремясь дополнить свою
концепцию элементами поступательного развития, Тойнби усматривал прогресс
человечества в духовном совершенствовании, в религиозной эволюции от примитивных
анимистических верований через универсальные религии к единой
синкретической религии будущего. Концепция Тойнби представляла собой идеалистический
ответ на позитивистский эволюционизм и содержала в себе также альтернативу
«европоцентризму».
,7* Гераклит ("Ηράκλειτος) из Эфеса (ок. 520 - ок. 460 до н. э.), древнегреческий
философ, один из ионийских философов.
,8* Сократ (Σωκράτης) (ок. 470 - 399 до н. э.), древнегреческий философ.
,9* Аристотель (Αριστοτέλης) Стратигит (384—322 до н. э.), древнегреческий
философ и ученый-энциклопедист, основатель перипатетической школы.
20* Спевсипп (Σπεύσιππος) (ок. 407 - 339 до н. э.), древнегреческий
философ-платоник, преемник Платона, принявший от него руководство Академией.
21* Платон (Πλάτων) Афинский (427-347 до н. э.), древнегреческий философ,
родоначальник платонизма.
124
22* Пелопонесские войны (431—404 до н. э.) — крупнейшая в истории
классической Греции война между Архе Афинской и Пелопонесским союзом; закончилась
поражением Афин и роспуском Архе.
23* Софисты. — Условное обозначение группы древнегреческих мыслителей
сер. V - перв. пол. IV в. до н. э. Важнейшую роль в мировоззрении софистов
играло противопоставление природы как элемента относительно постоянного
человеческому закону как закону условному, изменчивому и произвольному.
24* Гиппократ (Ιπποκράτης) (ок. 460 - ок. 370 до н. э.), древнегреческий врач,
«отец медицины», один из основоположников научного подхода к болезням
человека и их лечению. Идея о влиянии географических условий и климата на
особенности организма, свойства характера жителей и даже на общественный строй
проводится в сочинении «О воздухе, водах и местностях».
25* Продик (Πρόδικος) (вт. пол. V в. до н. э.), представитель старшего поколения
софистов.
26* Горгий (Γοργίας) из Леонтин в Сицилии (ок. 480 - ок. 380 до н. э.),
древнегреческий философ, представитель старшего поколения софистов.
27* Космогония (греч. κοσμογονία, от κόσμος - мир, Вселенная и γονή, γονεία -
рождение). Здесь : древнейшие представления о происхождении мира, нашедшие
отражение в мифологии.
28* Гекатей (ΛΗκαταϊος) Милетский (ок. 546 - 480 до н. э.), древнегреческий
историк, географ и путешественник.
29* Геродот ("Ηρόδοτος) (490/480—430/424 до н. э.), древнегреческий историк.
^* Фукидид (Θουκύδιδος) (ок. 460-400 до н. э.), древнегреческий историк.
31* Немесида. - Богиня возмездия в древнегреческой мифологии.
32* Полибий (Πολύβιος) (ок. 200 - ок. 120 до н. э.), древнегреческий историк.
33* Эпарх (греч. έπαρχος - правитель, начальник). - В Византии градоначальник
Константинополя. Подчинялся непосредственно императору. Выполнял
разнообразные общественно-хозяйственные функции.
34* Ахейский союз - политическое объединение древнегреческих полисов и общин
Пелопонесса. Распался в последней трети IV в. до н. э.
35* Сципион Эмилиан. - Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский
(Младший) (Scipio Aemilianus) (ок. 185 - 129 до н. э.), полководец, политический
деятель Древнего Рима.
36* Третья Пуническая война (149-146 до н. э.) - последняя из войн 264-146 до
н. э. между Римом и Карфагеном. В результате Пунических войн произошли
значительные социальные и политические изменения в Риме и во всем
Средиземноморье.
37* Истр — древнегреческое название нижнего течения р. Дунай с VIII в. до н. э.
38* Ориген (Ώριγένης) (ок. 185 - 253/254), христианский теолог, философ и
ученый, представитель ранней патристики. Философия Оригена - это стоически
окрашенный платонизм.
39* Ибн Хальдун (Ибн Халдун) Абдарахман Абу Зейд (1332-1408), арабский
государственный и общественный деятель, философ-обществовед и историк.
Основное его сочинение - «Книга поучительных примеров и сведений из истории
арабов, персов, берберов и других современных им могущественных народов» -
представляет собой первую попытку создания самостоятельной науки об
обществе. Ибн Хальдун оказал большое влияние на развитие историографии в Египте
и Османской империи в XV—XVIII вв. Современные историки склонны
относиться к нему как к мыслителю, предвосхитившему идеи просвещенного
абсолютизма.
*°* Макиавелли (Machiavelli) Николо (1469-1527), итальянский общественный
деятель, политик, историк, военный теоретик. Его политическим идеалом была
Римская республика, в которой он видел воплощение идеи сильного государства,
умеющего сохранять внутренний порядок и распространять свое влияние на дру-
125
гие народы. Макиавелли противопоставлял величие Древнего Рима упадку
современной ему Италии.
41* Вико (Ѵісо) Джамбаттиста (1668—1744), итальянский философ. Выдвинул идею
объективного характера исторического процесса. Считал историческую науку
сознанием человека о совершенных им деяниях. Создатель теории исторического
круговорота, согласно которой развитие любой нации циклично и проходит
каждую из трех эпох: божественную (государство еще не существует, общество
подчинено жрецам), героическую (аристократическое государство) и человеческую
(демократическая республика или представительная монархия). Идеи Вико во
многом предвосхитили философию истории Гердера и Гегеля.
42* Адаме Брукс (Adams Brooks, 1848-1927), американский историк. Пытался
решить проблемы человеческой цивилизации, применяя к истории методы точных
наук.
43* Шпенглер (Spengler) Освальд (1880-1936), немецкий философ-идеалист, один
из основоположников современной истории культуры, представитель философии
жизни. Обрел известность после успеха своего труда «Закат Европы» (1918—1922).
Отрицал существование единой общечеловеческой культуры и идею
поступательного развития.
и* Сорокин (Sorokin) Питирим Александрович (1889-1968), русский социолог.
Исторический процесс, по Сорокину, представляет собой циклическую
флуктуацию типов культур, каждый из которых является особой целостностью и строится
на основе нескольких главных постулатов. Кризис современной «чувственной»
культуры Сорокин связывал с развитием материализма и науки, полагая, что этот
кризис будет преодолен в будущем, когда восторжествует религиозная
«идеалистическая» культура.
45* В данной главе суммарно изложены положения работы Э. Калера «Израиль
среди народов» (Издания: Israel unter den Völkern. München, Delphin-Verlag, 1933
(уничтожено); Israel unter den Völkern. Zürich, Humanitas-Verlag, 1936; The Jews
among the Nations. New York, F. Ungar, 1967; Israel unter den Völkern. Heidelberg:
L. Stiehen. 1973).
46* Александр. — Александр Македонский (356 —323 до н. э.), древнегреческий
полководец и государственный деятель.
47' Селевкиды. - Династия правителей государства Селевкидов, основанная Селев-
ком I Никатором (358/354-280 до н. э.). Государство Селевкидов - крупнейшее
эллинистическое государство (312-64 до н. э.) на Ближнем и Среднем Востоке.
*** Пеги (Peguy) Шарль (1873-1914), французский поэт и публицист, в творчестве
которого преобладала патриотическая тема. В цитируемом памфлете «Наша
молодежь» (1910) эта тема была осложнена националистическими и реваншистскими
настроениями, особенно распространившимися накануне Первой мировой
войны, и переродилась, таким образом, в проповедь шовинистических идей.
49* Скрижали закона. — Имеются в виду десять библейских заповедей.
50* Миссионаризм. - Отношение к народу как к носителю определенной миссии -
божественного предначертания, которое должно быть исполнено в истории.
5І* Мессианизм. - 1. Религиозное учение о грядущем спасении всего человечества,
отдельной нации или приверженцев той или иной конфессии. Это спасение
должно произойти при посредстве Божьего странника - мессии. 2. Историко-соци-
альная концепция, согласно которой тот или иной народ наделен
исключительной, ведущей ролью в истории.
52* Эсхатология (от греч. έσχατος — последний, конечный, и λόγος — слово, учение) —
религиозное учение о конечных судьбах мира и человека ( о «последних днях», о
«конце света»). В становлении общемировых эсхатологических понятий особая роль
принадлежит иудаизму, содержащему в себе мистическое осмысление истории как
разумного процесса, направляемого волей личного Бога; творящаяся по Божьей
воле история должна преодолеть самое себя с приходом «грядущего мира».
126
53* Христология. - Учение о Христе и его деяниях. Предметом христологии
является учение о сочетании в Христе двух природ, человеческой и божественной,
учение о его воплощении, чудесах, смерти, воскресении, вознесении, небесной
славе, спасительном подвиге и, наконец, о Его пришествии для совершения
Страшного Суда.
я* «Второзаконие — Исайя». - 40-55 главы Книги пророка Исайи (Ветхий Завет),
собрание пророчеств. Создавалось на протяжении веков и приобрело известную
ныне форму ок. 180 г. до н. э.
55* «Трито - Исайя». - 56-66 главы книги пророка Исайи (Ветхий Завет).
56* Павел (ок.10? — ок.67?), самый значительный из первохристианских
миссионеров, «апостол языков»; его «послания» стали основой христианского
богословия.
57* Цензорин (Censorinus) (III в.), древнеримский грамматик.
58* Гесиод (Ήσίοσος), древнегреческий поэт (VIII—VII вв. до н. э.). До наших дней
дошли в полном виде его дидактические поэмы «Труды и дни» и «Теогония».
59* Авеста. - Древнеиранский литературный памятник, священная книга
зороастризма.
w* Теогония (феогония) (греч. «происхождение богов»). - Сумма представлений
древних греков о происхождении богов (их генеалогии) и Вселенной.
6|* Даниил (II в. до н. э.). - Легендарный пророк Ветхого Завета; славился своей
мудростью и справедливостью.
62* Антиох IV Эпифан (175-163 до н. э.). - Царь эллинистического государства Се-
левкидов.
63* Диадохия. - Раздел империи Александра Македонского после его смерти между
его преемниками — диадохами.
м* Персия Ахеменидов. — Государство Ахеменидов, существовавшее с сер. VI в. по
330 до н. э. В его состав входили Иран и другие азиатские страны от р. Инда до
Эгейского и Средиземного моря, а также Египет, часть Ливии и Балканского
полуострова. Пало под ударами войска Александра Македонского.
65* Антиох III Великий (242-188 до н. э.). - Царь эллинистического государства
Селевкидов.
66* Сципион (Азиатский). - Луций Корнелий Сципион Азиатский. Римский
консул. В 190 г. до н. э. выступил в поход против Антиоха III и наголову разбил его.
67* Хрисипп (Ηρύσιππος) из Сол (281/277 - 208/-205 до н. э. ), древнегреческий
философ-стоик.
68* Пруденций (Prudentius) (348/50 - ок. 410) Аврелий П. Климент, римский
христианский поэт.
69* Кульман (Cullmann) Оскар (р. 1902), французский теолог-протестант, автор
работ, посвященных основополагающим вопросам Нового Завета.
70* Дионисий Экзигий (Dionysius Exiguus) (ум. ок. 556), настоятель монастыря в
Риме; создатель Пасхальных таблиц, положивших начало летосчислению от
Рождества Христова.
7|* Селевкидское летосчисление. — Эра Селевкидов (с 1 октября 312 г. до н. э.) —
одна из эллинистических эр после Александра Македонского. Диоклетианское
летосчисление. - Возникло на основе юлианского календаря. Получило
наибольшее распространение в позднеримское время (с 29 августа 284 г. н. э.).
72* Трансцендентность. — Свойство трансцендентного, т. е. (по Канту) того, что
выходит «за пределы возможного опыта».
73* Августин Блаженный (Augustinus Sanctus) Аврелий (354-430), христианский
богослов, представитель западной патристики. Вопросу мистически осмысленной
диалектики истории посвящен его трактат «О граде Божием».
74* Константин. - Флавий Валерий Константин (Константин Великий), римский
император в 306-337. При его владычестве христианство стало государственной
религией.
127
75* Pax Romana (Римский мир). - Состояние относительного мира в странах
Средиземноморья. Продолжалось со времен правления Августа (27 до н. э. - 14 н. э.)
до Марка Аврелия (161-180). Август стоял у истоков этой политики, которая
распространилась также на Шотландию, Северную Африку и Персию.
76* Евсевий (Eusebius) Кесарийский (ок. 263—340), римский церковный писатель
и историк, миссионер Кесарии Палестинской с 311 г.
77* Аларих (Alaricus) I (ок. 370 - ок. 410) - король вестготов с 395 г.
78* Орозий (Orosius) Павел (ок. 380 - ок. 420), римский историк.
79* Платонизм. - В широком смысле всякая философская система, опирающаяся
на учение Платона, свойственный которому дуализм основан на
противопоставлении чувственного мира миру идей.
80* Фрейдистский дуализм. - Имеется в виду отношение Фрейда к
бессознательному, которое он считал источником одновременно и творческих, и
разрушительных тенденций.
81* Жильсон (Gilson) Этьен Анри (1884-1978), французский религиозный
философ, представитель неотомизма, историк средневековой философии.
82* Лютер (Luther) Мартин (1483-1546), немецкий мыслитель и общественный
деятель, глава бюргерской Реформации в Германии, основатель немецкого
протестантизма (лютеранства). Отвергал монашество как идеальный образ
религиозного служения, стремился заменить авторитет Церкви авторитетом
Библии.
83* Кальвин (Calvin) Жан (1509-1564), деятель французской Реформации,
основатель кальвинизма (пуританства). Систематизировал идеи Лютера и других
реформаторов. Наиболее последовательно развил учение об «абсолютном
предопределении», которое является основой всей пуританской теологии.
84* Пуританизм. — Пуританами называли английских протестантов,
последователей кальвинизма (вт. пол. XVI — перв. пол. XVII в.), недовольных половинчатой
Реформацией, проведенной в Англии в форме англиканства. Пуританизм стал
выражением политической оппозиции абсолютизму.
85* Секуляризация (от лат. saeculum - мирской, светский). - Процесс обмирщения
различных областей общественной жизни и культуры.
86* «Темные века». - Термин используется в настоящее время в исторической
литературе применительно к Ѵ-Х вв., для которых был характерен
общеевропейский экономический и демографический упадок.
87* Лев III, святой - папа римский в 795-816 гг.
88* Карл Великий (Carolus Magnus, Charlemagne) (742-814), король франков с 768,
император с 800, основатель династии Каролингов.
89* ...войнам против... сарацин. - Имеется в виду Реконкиста (букв, отвоевание) -
война, которую вели в ѴІІІ-ХѴ вв. народы Пиренейского полуострова за
освобождение территорий, захваченных арабами и берберами, а также нормандских
феодалов по завоеванию Южной Италии и острова Сицилии в XI в.
^* ...крестовым походам... — Крестовые походы были военными походами
западноевропейских феодалов, которые совершались в XI—XIII вв. под религиозными
лозунгами за освобождение «гроба Господня» и «Святой земли» - Палестины -
из-под власти «неверных» во имя защиты христианства.
9Г Гностики (от греч. γνωστικός — познающий, знающий). — Представители
религиозно-философского течения поздней античности и Средневековья, так
называемых «гностических религий».
92* Монтанисты. - Секта в раннем христианстве, возникшая в сер. II в. во
Франции. Названа по имени Монтана, бывшего жреца Кибелы.
93* Донатисты. - Сторонники движения, возникшего в христианских общинах
Северной Африки в начале IV в. Донатисты возрождали раннехристианский культ
мучеников, требовали чистоты Церкви, святости всех ее членов, перекрещивания
отступников.
128
<*' Маркиониты. — Последователи Маркиона, христианского еретика II в. Марки-
он отвергал весь Ветхий Завет, а в Новом Завете признавал лишь Евангелие от
Луки и десять посланий Павла, исключая из них места, противоречащие его
учению. В основе доктрины лежит восточный дуализм, учение о двух началах
бытия — благого Бога и материи, находящейся под владычеством дьявола.
95* Манихеи. - Сторонники религиозно-философского учения III—XI вв.,
характеризующегося дуализмом. Существовало в системе «трех времен».
%* Ариане. - Последователи Ария (256-336), александрийского пресвитера,
основателя арианства, христианской ереси, возникшей в нач. IV в.
97* Констанций (Constantius) (317-361), римский император с 351 г.
98* Валент. — Валент Флавий (Flavius Valens) (328—378), император Римской
империи с 364 г.
"* Юлиан (Falvius Claudius Julianus) (331-363), римский император в 361-363 гг.
,0°* Афанасий Великий. - Афанасий Александрийский (ок. 295 - 373), церковный
деятель и богослов, епископ Александрии с 328 г. Противник арианства, в
борьбе с которым разработал мистическое учение о «единосущности» Бога-Отца и
Бога-Сына, догматизированное на 1-м (325) и 2-м (381) Вселенских соборах.
101* Патристика. - Термин, обозначающий наследие христианской мысли,
заключенное в работах святых Учителей и Отцов Церкви, трудившихся с III по VIII в.
102* Схоластика (лат scholastica, от греч. σχολαστικός — школьный, ученый). - Тип
религиозной философии, для которого характерны принципиальный примат
богословия и соединение догматических предпосылок с рационалистической методикой и
особым интересом к формально-логической проблематике; наиболее полное
развитие и господство схоластики отмечали в Западной Европе в Средние века.
,03* «Каролингское Возрождение». — Эпоха культурного подъема во Франкском
государстве VIII - перв. пол. IX в., центром которого была так называемая
«Академия» при дворе Карла Великого.
ни· фредегиз (Fredegisus) (ум. 834) - схоластик, приближенный Карла Великого.
105* Агобард (Agobard) Лионский (769/779 - 840) - святой, архиепископ лионский
с 816 г., автор богословских сочинений.
106* Ансельм (Anselm) Кентерберийский (1033-1109) - богослов, представитель
схоластики.
107* Иоанн Скот Эриугена (Johannes Scotus Eriugena) (ок.810 - ок. 877) -
средневековый философ. В своем учении настаивал на примате разума, стоявшего выше
авторитета религиозного предания.
,08* Беренгарий Турский (Berengarius Turonensis) (ок. 1000—1088) - французский
философ и богослов, первый и наиболее яркий представитель
рационалистического направления в ранней схоластике.
к»· Иудейско-александрийская философия. - Философская школа, возглавляемая
Филоном Александрийским (21 или 28 до н. э. - 41 или 49 н. э.). В основании
школы лежали две идеи: абсолютная трансцендентность Бога и стоическое
платоническое учение об идеях.
по* Неоплатонизм. - Последний этап развития античного платонизма.
И1* Неопифагореизм. — Направление древнегреческой философии I в. до н. э. —
III в. н. э., тесно связанное и переплетающееся со средним платонизмом.
1І2* Порфирий (Πορφύριος) (234 — между 301 и 305), античный
философ-неоплатоник.
пз* Боэций (Boethius, Boetius) Аниций Манлий Северин (ок. 480-524), римский
философ, богослов и поэт.
,14* Хаскинс (Haskins) Чарлз Гомер (1870-1937), американский просветитель и
ведущий медиевист своего времени; известность ему принесли работы по истории
нормандских институтов и проникновению на Запад греко-арабской учености.
П5* Сид. — Герой испанской эпической поэмы «Песнь о моем Сиде» (ок. 1140);
Дон-Кихот - герой известного романа Сервантеса.
129
И6* Сигер Брабантский (Siger de Brabant) (ок. 1235 — ок. 1282), средневековый
философ, один из основателей западноевропейского аверроизма.
117* Фома Аквинский (Thomas Aquinas) (1225 или 1226-1274), средневековый
философ и теолог.
,18* Бонавентура (Bonaventura) Джованни Фиданца (1221-1274), средневековый
теолог и философ, один из крупнейших представителей поздней схоластики,
соединивший ее с традицией средневековой мистики.
м9* Дуне Скот (Duns Scotus) Иоанн (ок. 1266-1308), средневековый философ и
теолог.
12°* Петр Ауриоли (Pierre d'Auriole) (ок. 1280-1322), теолог ордена францисканцев,
представитель номинализма.
,21* Дюран де Сен-Пурсен (Durand de Saint-Pourgain) (ок. 1270-1334),
французский епископ, теолог и философ; известен прежде всего своей оппозицией идеям
Фомы Акви некого.
,22* Оккам (Ockham, Occam) Уильям (1285—1349), английский философ, логик и
церковно-политический писатель, представитель поздней схоластики.
,23* Номиналисты. - Представители номинализма (от лат. nomen - имя,
наименование), философского учения, отрицающего онтологическое значение
универсалий (общих понятий), т. е. утверждающего, что универсалии существуют только в
мышлении. Номинализм возник в Средние века как одно из течений схоластики
в ходе спора с представителями реализма об универсалиях. XIII в. - время
расцвета номинализма.
І24* Реалисты. - Представители реализма, в Средние века одного из основных
вариантов решения спора об универсалиях. В отличие от номинализма реализм
настаивает на реальном существовании, независимо от сознания, универсалий.
|25* Буридан (Buridan) Жан (ок. 1300 - ок. 1358) - французский философ,
представитель номинализма.
,26* Альберт Саксонский (Albert von Sachsen, Albert von Helmstedt) (ок.
13Ιοί 390) - философ и ученый, представитель номинализма.
|27* Николай Орем (Nicholas Oresme) (ок. 1330-1382), французский философ,
последователь Оккама.
І28* Коперник (Copernicus) Николай (1473-1543), польский астроном, создатель
гелиоцентрической системы мира.
129* Роберт Гроссетест (Robert Grosseteste) (1175-1253), средневековый философ,
представитель Оксфордской школы. Подчеркивал важность опытного познания и
математики в изучении природы.
,3°* Петр Пилигрим из Марикура (Petrus de Maharicura, Pierre de Maricourt),
ученый-испытатель XIII в.
,31* Альберт Великий (Albertus Magnus) (1193 или 1206/1207-1280), немецкий
теолог, философ и естествоиспытатель. Наряду с большой систематизаторской
работой в области естествознания, проводил и собственные исследования,
основанные на наблюдении и опыте.
132* Витело (Witelo) (ок. 1230 - ок. 1273), польский ученый-естествоиспытатель и
философ, представитель неоплатонизма.
133* Дитрих Фрейбургский (Dietrich von Freiburg) (ок. 1250- ?), доминиканец,
представитель школы Альберта Великого, автор научных, философских и
богословских трудов.
134* Бэкон (Bacon) Роджер (ок. 1214-1294), средневековый английский философ
и естествоиспытатель. Схоластической дедукции он противопоставлял метод
познания, основанный на эксперименте и математике.
ш* Фридрих II. - Фридрих II Гогенштауфен (Friedrich II Hohenstaufen),
германский король с 1212 г., император Священной Римской империи с 1220 г.,
сицилийский король (Фридрих I) с 1197 г., король Иерусалимского королевства (1229—
1239).
130
,36< Симония (от имени Симона-волхва). - Распространенная в период
Средневековья практика покупки и продажи церковных должностей.
137* Интердикт (лат. interdictum — запрещение). — Одна из форм средневековых
церковных наказаний в католицизме. Это полное или частичное (без отлучения от
Церкви) временное запрещение совершать богослужение и религиозные обряды,
налагавшиеся папой римским или епископами как на отдельных лиц, так и на
целую территорию (город, страну). Интердикт широко использовался для борьбы с
ересями.
138* Бенедикт (Benedictus) Анианский (ок. 750-821), основатель и аббат Анианско-
го монастыря в Южной Франции (799).
,39* Клюнийцы. - Монахи бенедиктинского монастыря Клюни в Бургундии,
инициаторы так называемой клюнийской реформы - преобразований, проведенных
папством в Х-ХІ вв. и состоявших в создании новых монастырей, подчиненных
Клюни, во введении более строгих правил для монахов (в том числе целибата), в
запрете на симонию, в установлении выборов папы коллегией кардиналов, в
церковной инвеституре.
14°* Камальдулы. - Монашеский орден, основанный в нач. XI в. бенедиктинцем
Ромуальдом.
,41* Картезианцы (картузианцы). - Католический монашеский орден, первый
мужской монастырь которого был основан в 1084 г. близ Гренобля в местности
Шартрез (лат. Cartasia, откуда и произошло название ордена). Официально
утвержден в 1176 г.
,42* Цистерцианцы (от лат. названия села Сито близ Дижона - Cistercium). -
Члены католического монашеского ордена, основанного бенедиктинцем Робертом
Молезмским в 1098 г. В 1115 г. его возглавил Бернар Клервоский.
143* Нищенствующие ордены (в католицизме). - Монашеские ордены, уставы
которых требуют от их членов обязательного соблюдения обета бедности в духе
первоначального христианства, т. е. отречения от какого бы то ни было имущества, и
предписывают существовать на подаяние. К их числу относятся францисканцы,
бернардинцы, капуцины, доминиканцы, кармелиты, августинцы, тринитарии и
многие другие.
ш* Катары (от греч. καθαρός — чистые). — Еретическая секта, существовавшая в
ХІ-ХІѴ вв. в Западной Европе. Свою догматику катары заимствовали у
богомильства. Катары придерживались дуалистического учения о наличии двух начал -
доброго (Бога) и злого (дьявола), духовного и телесного. Отрицали догмат о
воскресении Христа, считали ненужными крест, храмы, иконы. Катары
проповедовали аскетизм, безбрачие и непротивление. Состояли главным образом из купцов,
ремесленников, крестьян. Преследования Церковью и светскими властями
привели в XV в. к их исчезновению.
,45* Богомилы. - Еретическое учение, возникшее на основе антифеодального
крестьянского движения Х-ХГѴ вв. в Болгарии и Сербии и сложившееся под
воздействием дуалистических сект павликиан, манихеев и мессалиан. В основе его лежало
представление о двойственности мира и человека, в которых постоянно борются доброе
и злое начала. Богомилы признавали лишь Евангелие и немногие другие
новозаветные книги. Они полностью отрицали обряды и таинства, почитание икон, креста; не
признавали официальной церковной иерархии, почитания святых и мощей.
146* Альбигойцы. - Последователи еретического движения во Франции, Италии и
Германии в ХН-ХІІІ вв., выступавшие против католической Церкви. Одним из
центров движения был г. Альби (французская провинция Лангедок). Альбигойцы
отвергали догмат о триединстве Бога, церковные таинства, почитание креста,
икон, не признавали власть папы, называя католическую Церковь «дьявольской
силой». В конце XIII в. были истреблены.
,47* Манихейский дуализм. - Манихейство признает существование двух
изначальных, вечных и противостоящих принципов: добра и зла, света и тьмы (или материи).
131
l48* Амальрик Венский (Amalricus de Bena) или Амори (Amaury) Венский (XII в. -
1206), французский мыслитель-пантеист.
149* Иоахим Флоре кий (Joachimus Flore nsis) (Калабрийский), Джоаккино да Фьо-
ре (ок. 1132-1202), итальянский мыслитель, создатель мистико-диалектической
концепции исторического процесса.
І5°ф Пантеизм (от греч. πάν - все и θεός - бог). Философское учение,
отождествляющее Бога и мир.
151* Ареопагит. - Дионисий Ареопагит (Διονύσιος Αρεοπαγίτης),
предположительно первый христианский епископ Афин, под его именем ок. 500 г. писал
неизвестный сирийский автор (Псевдо-Дионисий Ареопагит).
152* Майстер Экхарт (Eckhart), Иоганн Экхарт (ок. 1260 - 1327/28), немецкий
мыслитель, представитель позднесредневековой мистики в Западной Европе. Его
концепция открывала возможность толковать явления в духе пантеизма.
153* Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831), немецкий философ,
представитель немецкой классической философии. Философию истории Гегель
завершает идеализированным изображением прусской конституционной
монархии.
154* Людовик Баварский (Ludwig IV, der Bayer) (1287-1347), римский император в
1314-1334 гг.
155* Иоанн XXII (Жак Дюэз) - папа римский в 1316-1334 гг.
І56* Кола ди Риенцо (Cola di Rienzo) (1313-1354), итальянский политический
деятель.
,57* Григорий IX (ок. 1148-1241), папа римский с 1227 г. В миру - граф Уголино
де Сеньи.
,58* Иннокентий IV — папа римский в 1243—1254 гг. В миру Синибальдо Фиески.
,59* Гвельфы. - Политическая «партия» сторонников папства, возникшая в
итальянских городах XII в. в условиях борьбы с императорами из династии Гогеншта-
уфенов.
,60* Иоахимиты. - Последователи учения Иоахима Флорского, в мистической
форме выражавшего протест против социального и духовного гнета и мечту о
справедливом устройстве мира.
161* Нерон. - Клавдий Цезарь Нерон (Claudius Caesar Nero) (37—68) - римский
император с 54 г.
162* Домициан (Domitian) (51-96), римский император (с 81 г.), последний из
династии Флавиев.
163* Мухаммед (570/80-632), религиозный и политический деятель Западной
Аравии, основоположник Ислама, автор Корана.
164* Римское право. - Право Древнего Рима, являющееся наиболее развитой
системой права рабовладельческого государства. Оказало большое воздействие на
развитие феодального и буржуазного права.
,65* Ирнерий (Irnerius) (1055/60—1125) - итальянский юрист.
|66* Гемара и Галаха. — Названия частей Талмуда, собрания догматических,
религиозно-этических и правовых законоположений Мишны (самой древней части
Талмуда). Галаха - правовые положения, регламентирующие религиозную,
семейную и гражданскую жизнь иудеев.
167* Каноническое право. - Совокупность норм, сформулированных на основе
канонов (актов церковной власти, имеющих силу закона).
168* Грациан Флавий (Flavius Gratianus) (359-383), западноримский император.
169· фридрих Барбаросса. — Фридрих I Барбаросса (Friedrich I Barbarossa) (ок.
1125-1190), германский король с 1152 г., император Священной Римской
империи с 1155 г., из династии Гогенштауфенов.
17°* «Легисты» (франц. legiste, от лат. lex - закон). - Средневековые юристы,
способствовавшие распространению римского права в Западной Европе.
т" Канторович (Kantorowicz) Эрнст (1895—1963) — немецкий историк.
132
172* Аверроисты. — Представители аверроизма, распространенного в Европе XIII—
XVI вв. философского направления, восходящего к воззрениям арабского
философа XII в. Ибн Рушда (Аверроэса).
|73* Ахилл (Ахиллес) — легендарный герой Троянской войны.
174* Юпитер Амон. - Амон (Амон-Ра), древнеегипетское божество, бог Солнца. В
Риме назывался Аммоном и отождествлялся с Юпитером.
,75* Помпеи Гней (Великий) (Gnaeus Pompeius Magnus) (106-48 до н. э.) -
римский военный и политический деятель.
176* Минерва (рим.). - Богиня, покровительница ремесел, врачевания, музыки,
поэзии. В Греции - Афина.
,77' Ромул (лат.) — мифический основатель и первый царь Рима.
,78* Бернард (ум. до 1130). - Магистр Шартрской школы в 1114-1126 и ее
канцлер в 1119-1124; отстаивал абсолютный примат нравственности над ученостью; о
его философии можно судить лишь по упоминаниям в «Металогике» Иоанна Сол-
сберийского.
,79* Иоанн Солсберийский (Joannes Saresberiensis) ( между 1115 и 1120-1180),
средневековый философ, представитель Шартрской школы.
180· Отгон Фрейзингский (Otto von Freising) (после 1111-1158) - немецкий
средневековый историк.
ш* Второй крестовый поход проходил в 1147-1149 гг.
,82* Гогенштауфены (Штауфены) (Staufen) - династия германских королей и
императоров Священной Римской империи в 1138-1254 гг.
183* Азо (Azo или Azzo, Azzone dei Рогсі) (ок. 1150-1230), глава болонской школы
юристов.
184* Мюррей (Murray) Гилберт (1866-1957), английский исследователь
античности, переводчик Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана.
,85* Французская революция. - Буржуазная революция во Франции в 1789—
1794 гг.
186· Английская промышленная революция. - Совокупность экономических,
социальных и политических реформ в Англии XVIII в., ознаменовавших переход от
мануфактурной стадии капитализма к фабричной системе капиталистического
производства, опирающегося на машинную технику.
,87* Кеплер (Kepler) Иоганн (1571-1630), немецкий астроном, открывший законы
движения планет.
,88* Демаре де Сен-Сорлен (Desmarets de Saint-Sorlin) (1595-1676), французский
поэт и драматург.
,89*Дан. 12,4.
19°* Бэкон (Bacon) Фрэнсис (1561-1626) - английский гуманист и философ,
родоначальник английского материализма. Приводится в пересказе фрагмент его
трактата «Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы»
(1620)-I, LXXXIV.
т* Гланвилл (Glanvill) Джозеф (1636-1680), английский скептик, апологет
королевского общества. Отстаивая реальность колдовства, призраков и пред-
существования, тем самым способствовал началу психологических
исследований.
192* Боден (Bodin) Жан (1530-1596), французский политический мыслитель,
социолог, юрист.
,93* Декарт (Descartes) Рене (1596-1650), французский философ и математик,
представитель классического рационализма.
194* Паскаль (Pascal) Блез (1623-1662), французский религиозный философ,
писатель, математик и физик.
,95' Перро (Perrault) Шарль (1628-1703), французский поэт и критик.
,96* Ньютон (Newton) Исаак (1643-1727), английский физик, астроном,
математик, основоположник классической и небесной механики.
133
,97* Аббат де Сен-Пьер (Abbe de Saint-Pierre) (1658-1743), французский критик
эпохи Просвещения. Его проект вечного мира оказал большое влияние на
Ж.Ж. Руссо.
,98* Эпистемология (от греч. επιστήμη — знание и λόγος — слово, учение) — термин,
употребляемый для обозначения теории познания.
199* Мальбранш (Malebranche) Никола (1638-1715), французский
философ-идеалист. Стремился сочетать картезианство с Августиновой традицией христианской
философии.
200· фонтенель (Fontenelle) Бернар Ле Бонье де (1657-1757), французский
писатель, ученый-популяризатор, один из предшественников Просвещения.
20,ф Вольтер (Voltaire) (Франсуа Мари Аруэ) (1694-1778) - французский философ,
писатель и публицист.
202· Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712-1778), французский мыслитель и писатель,
один из представителей французского Просвещения XVIII в.
203* Людовик (Louis) XIV (1638-1715) - французский король с 1643 г. из династии
Бурбонов.
204* Энциклопедисты. - Коллектив авторов французской «Энциклопедии, или
Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (Encyclopedic, ou Dictionnaire raisonne des
sciences, des arts et des metiers), изданной в 1715-1780 в 17 тт. и 11 тт.
иллюстраций. В создании «Энциклопедии» участвовали Д. Дидро, Ж.Л. Д'Аламбер, Вольтер,
П.А. Гольбах, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, А. Тюрго, Ж. Бюффон и др.
205* Маркс (Marx) Карл (1818-1883), основоположник научного коммунизма,
автор «Манифеста Коммунистической партии» (в соавторстве с Ф. Энгельсом) и
«Капитала».
206* Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи (1689—1755), французский философ,
писатель и историк, представитель философии Просвещения XVIII в.
207* Корнель (Corneille) Пьер (1606-1684) - французский драматург.
208* Кондорсе (Condorcet) Мари Жан Антуан Никола (1743-1794), французский
философ-просветитель, математик, социолог, политический деятель.
209* Кабанис (Cabanis) Пьер Жан Жорж (1757-1808), французский
философ-материалист и врач.
21°* Кант (Kant) Иммануил (1724-1804), немецкий философ, родоначальник
немецкой классической философии.
21 г Крюсе (Сгисе) Эмерик (ок. 1590—1648), французский писатель (вероятно,
монах), ратовавший за организацию Международного суда.
212* Дидро (Diderot) Дени (1713-1784), французский философ-материалист,
представитель Просвещения XVIII в.
21У Бюффон (Button) Жорж Луи Леклерк де (1707-1788), французский
естествоиспытатель.
214* Тюрго (Turgot) Анн Робер Жак (1727-1781), французский государственный
деятель, философ-просветитель и экономист.
215* Бруно (Bruno) Джордано Филиппо (1548-1600), итальянский философ и поэт,
представитель пантеизма. В труде «О бесконечности, Вселенной и мирах» (1584)
высказывал идеи о бесконечности природы и бесконечном множестве миров Вселенной.
216* Вейль (Weyl) Герман (1885-1955), немецкий математик.
т* Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646-1716), немецкий
философ-идеалист, математик, физик и изобретатель.
218* Меланхтон (Melanchton) Филипп (1497-1560), немецкий гуманист, теолог и
педагог, деятель бюргерского направления Реформации, систематизатор
лютеранской теологии.
219* Слейдан (Sleidanus) Йоханнес (1506/8-1556), немецкий историк и
политический деятель.
22°* Людовик XVI (1754-1793), французский король (1774-1792) из династии
Бурбонов.
134
221' Конт (Comte) Огюст (1798-1857), французский философ, один из
основоположников позитивизма и буржуазной социологии. В «Курсе позитивной
философии» (тт. 1—6, 1830-1842) развил идею так называемых трех стадий
интеллектуальной эволюции человечества (теологическая, метафизическая и позитивная).
222* Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762-1814), немецкий философ и
общественный деятель, представитель немецкого классического идеализма.
223* Бейль (Вауіе) Пьер (1647-1706), французский философ и публицист, ранний
представитель Просвещения. Религиозный скептицизм П. Бейля оказал влияние
на мировоззрение Вольтера и Руссо.
224' Д'Аламбер (D'Alembert) Жан Лерон (1717—1783), представитель
французского Просвещения, математик и философ.
225· футуристы. - Представители футуризма, авангардистского художественного
движения 10-х - начала 20-х годов XX в. в Италии и России.
226* Рей (Ray) Джон (1627-1705), английский биолог, предложивший первую
естественную систему растений.
227* Линней (Linne) Карл (1707—1778), шведский естествоиспытатель, создатель
классификации растительного и животного мира.
228* Кювье (Сиѵіег) Жорж (1769-1832), французский зоолог, один из
реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных, один из
первых историков естественных наук.
229* Жоффруа Сент-Илэр (Geoftroy Saint-Hilaire) Этьен (1774-1844), французский
естествоиспытатель.
23°* Бонне (Bonnet) Шарль (1720-1793), швейцарский естествоиспытатель и
философ. В вопросах теории познания большое значение придавал опыту, эмпиризму,
хотя и указывал, что возможности человека в познании мира ограничены.
231* Ламарк (Lamarck) Жан Батист (1744-1829), французский естествоиспытатель,
один из первых представителей естественно-научного материализма в биологии,
создатель первого целостного учения об эволюции органического мира.
232* Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809-1882), английский естествоиспытатель,
основатель эволюционного учения о происхождении видов путем естественного
отбора.
233* Мальтус (Malthus) Томас Роберт (1766-1834), английский экономист и
священник, один из основоположников вульгарной политической экономии и
родоначальник социологической доктрины народонаселения.
234' Гаман (Hamann) Иоганн Георг (1730-1788), немецкий философ-иррационалист.
235' Гердер (Herder) Иоганн Готфрид (1744-1803), немецкий
философ-просветитель. В «Дневнике моего путешествия в 1769 году» наметил программу своей про-
светительско-философской деятельности.
236* Движение «Бури и натиска» («Sturm und Drang») — литературное движение в
Германии, сложившееся в начале 70-х годов XVIII в. и отразившее всеобщий рост
недовольства феодальными порядками в стране. Участники этого движения
порывают с нормативной эстетикой классицизма.
237* Клопшток (Klopstock) Фридрих Готлиб (1727-1803), немецкий поэт,
предвосхитивший движение «Бури и натиска».
238* Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим (1729-1781), немецкий
философ-просветитель, писатель, критик.
239* Мальро (Malraux) Андре Жорж (1901-1976), французский писатель и
политический деятель, во многом предвосхитивший поиски экзистенциалистов.
24°* Романтизм. - Направление в европейской и американской литературе и
искусстве конца XVIII - перв. пол. XIX в., противопоставлявшее себя классицизму.
Романтики выработали свою собственную эстетику, в которой художнику отводилась роль
творца, преображающего реальный мир и создающего собственную реальность.
241* Шлегель (Schlegel) Фридрих (1772-1829), немецкий критик, филолог,
философ-идеалист, писатель, теоретик романтизма.
135
242* Новалис (Novalis), немецкий поэт и философ, представитель раннего
романтизма в Германии.
243* Тик (Tieck) Людвиг (1773-1825), немецкий писатель, член Йенского кружка
романтиков.
244* Жан Пауль (Jean Paul) - псевдоним немецкого поэта Жана Пауля Фридриха
Рихтера (1763-1825).
245* Барон фон Штейн (Stein) Генрих Фридрих Карл (1757-1831), немецкий
государственный деятель; отойдя от политической жизни, посвятил себя изучению
истории.
246* Пертц (Pertz) Георг Генрих (1795-1876), немецкий историк.
247* Нибур (Niebur) Рейнхольд (1892-1971), американский протестантский теолог,
представитель диалектической теологии.
248* Дройзен (Droysen) Иоганн Густав (1808-1884), немецкий историк.
249* Ранке (Ranke) Леопольд фон (1795-1886), немецкий историк, историческая
концепция которого характеризуется провиденциализмом.
25°* Моммзен (Mommsen) Теодор (1817-1903), немецкий историк античности.
251* Буркхардт (Burkhardt) Якоб (1818—1897), швейцарский историк культуры.
252* Токвиль (Tocqueville) Алексис (1805-1859), французский социолог, историк и
политический деятель.
253* Тэн (Таіпе) Ипполит Адольф (1828-1893), французский философ, историк,
психолог, эстетик.
254* Мишле (Michelet) Жюль (1798-1874), французский историк романтического
направления.
255* Фюстель де Куланж (Fustel de Coulanges) Нюма Дени (1830—1889),
французский историк.
256* Маколей (Macaulay) Томас Бабингтон (1800-1859), английский историк,
публицист и политический деятель.
257* Брайс (Вгусе). - Джеймс Брайс, виконт (1838-1922), английский политик,
дипломат и историк. Посол Великобритании в США (1907-1913). Известность
принес ему классический труд, посвященный Конституции США.
258* Мейтленд (Maitland) Фредерик Уильям (1850-1906), английский историк,
специалист по истории средневековой Англии и английского права в Средние
века.
259* Мао Цзэдун (1893-1976), председатель ЦК КПК (с 1943 г.), председатель КНР
(1954-1976).
26°* Изоморфизм. — Логико-математическое понятие, обозначающее одинаковость
(от греч. Doo; - одинаковый и μορφή - форма). Изоморфизм представляет собой
отношение типа равенства.
261* Хилиастические тенденции (от «хилиазма», милленаризма). — Хилиазм — вера
в «тысячелетнее царство» Бога и праведников на Земле, т. е. в историческое
воплощение мистически понятого идеала справедливости, которая основывалась на
пророчестве Апокалипсиса.
262* Картезианский переворот. - Имеется в виду рационалистический метод
познания Декарта, согласно которому главная роль в научном исследовании отводится
разуму, выступающему в качестве решающего критерия оценки результатов
исследования.
263· физиократы. - Представители одного из направлений классической
буржуазной политической экономии, возникшего во Франции в сер. XVIII в.
264* Классическая экономия. - Классическая буржуазная политическая экономия,
направление буржуазной экономической мысли, возникшее в период становления
капиталистического способа производства (XVIII в.).
265* Виги. - Английская политическая партия в ХѴІІ-ХІХ вв., выражавшая
интересы обуржуазившейся дворянской аристократии и крупной торговой и
финансовой буржуазии.
136
266* «Социальный дарвинизм». — Перенесение дарвиновской теории
естественного отбора (в соответствии с которой выживают наиболее приспособленные) на
человеческое общество.
267" Рикардо (Ricardo) Давид (1772-1823), английский экономист, один из
создателей английской классической буржуазной политэкономии.
268* Ламетри (Lamettrie) Жюльен Офре де (1709-1751), французский
философ-материалист.
269* Гольбах (Holbach) Поль Анри (1723-1789), французский философ, один из
основателей школы французского материализма и атеизма XVIII в., идеолог
революционной буржуазии.
27°* Риккерт (Rickert) Генрих (1863-1936), немецкий философ, один из
основателей баденской школы неокантианства.
271 * Поппер (Popper) Карл Раймунд (р. 1902), английский философ и социолог.
272* Донат Карфагенский. - Донат, епископ карфагенский, глава движения дона-
тистов.
273* Карлштадт (Karlstadt) Андреас Рудольф фон Боденштейн (1480-1541),
немецкий теолог, сподвижник Мартина Лютера, впоследствии отошедший от
лютеранства.
274* Декларация независимости. - Декларация, принятая 4 июля 1776 г. 2-м
Континентальным конгрессом представителей английских колоний в период
революционно-освободительной войны за независимость в Северной Америке (1775-
1783).
275* Лексингтонское сражение. — Сражение, разыгравшееся 19 апреля 1775 г., в
котором английские войска понесли большие потери от огня колонистов-волонтеров.
276* «Бостонское чаепитие» (Boston Tea Party). - В 1773 г. английский парламент
принял закон о торговле чаем, по которому Ост-Индская компания получила
право ввозить в североамериканские колонии чай без пошлины, что подрывало
экономику и торговлю колоний. В декабре 1773 г. группа колонистов проникла на
прибывшие в Бостон корабли и выбросила в море находившийся на них чай.
277* Акты Тауншенда. - Английские законы (19 июня 1767 г.), направленные на
подчинение североамериканских колоний; приняты по инициативе английского
министра финансов Ч. Тауншенда. Были введены налоги на чай, стекло и
некоторые другие товары, ввозимые в колонии.
278* Закон о гербовом сборе. - Был принят 22 марта 1765 г., вступил в силу с
1 июня 1765 г. Отменен 18 марта 1766 г.
279* «Сахарный акт». - Был принят 5 апреля 1764 г. Согласно акту, пошлины на
сахар, индиго, кофе и другие колониальные товары повышались, а на патоку -
понижались.
280· франко-индийская война. - 3-я англо-французская война за Индию (1756 -
1763), в результате которой англичане полностью разгромили своих соперников.
28И Семилетняя война (1756-1763). - Война началась в результате борьбы Англии
и Франции за колонии и столкновения агрессивной Пруссии с интересами
Австрии, Франции и России.
282* Вашингтон (Washington) Джордж (1732-1799), американский государственный
деятель, главнокомандующий американской армией во время войны за
независимость в Северной Америке 1775-1783 гг., первый президент США (1789-1797).
283* Первая мировая война (1914-1918). - Империалистическая война в Европе
между австро-германским блоком и коалицией Англии, Франции и России.
284* Ультиматум Австрии. - Ультиматум, предъявленный в 1914 г. Л. Берхтольдом
Сербии после убийства Франца Фердинанда и послуживший развязыванию
Первой мировой войны.
285· франц Фердинанд (1863-1914), австрийский эрцгерцог, племянник
императора Франца Иосифа, наследник престола Габсбургов. Убит в Сараево агентами
сербской националистической организации.
137
286* Аннексия... Боснии. - Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в
1908 г. привела к международному конфликту (так называемый боснийский
кризис 1908-1909 гг.).
287* ...на Балканах столкнулись интересы... - имеются в виду Балканские войны
1912-1913 гг.
288* Габсбурги (Habsburger). - Династия, правившая в Австрии (1282-1918), Чехии
и Венгрии (1526-1918). Была свергнута в конце 1918 г. после поражения Австро-
Венгрии в Первой мировой войне.
289* Бисмарк (Bismarck) Otto Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен, князь (1815-1898),
германский государственный деятель.
290· Рудольф (Rudolf) - эрцгерцог, кронпринц, сын императора Франца Иосифа I
(1858-1889).
29Г Вильгельм II (Wilhelm) (1859-1941), германский император и прусский король
(1888-1918).
292* Берхтольд (Berchtold) Леопольд, граф (1863-1942), австро-венгерский политик,
в 1907-1911 гг. посол в Санкт-Петербурге.
293* Бирс (Віегсе) Амброз (1842-1914), американский журналист, мизантроп и
сатирик.
294* Берлин (Berlin) сэр Исайя (р. 1909), английский историк, автор работ по
политической философии.
295* Файхингер (Vaihinger) Ханс (1852-1933), немецкий философ. В главном
сочинении «Философия как если бы» он под влиянием Канта, предлагавшего
пользоваться основными мировоззренческими идеями (душа, мир, Бог) «как если бы» их
объекты были реальны, развил субъективно-идеалистическую концепцию
фикционализма, или «критического позитивизма».
296* Kapp (Сагг) Эдвард (1892—1982), английский политолог и историк,
специализировавшийся в области истории СССР.
297* Дильтей (Dilthey) Вильгельм (1833-1911), немецкий историк культуры и
философ-идеалист. Представитель философии жизни.
298* Бергсон (Bergson) Анри (1859-1941), французский философ-идеалист,
представитель интуитивизма и философии жизни.
299* Витализм (от лат. vitalis - жизненный, живой; vita - жизнь) - учение о
качественном отличии живой природы от неживой. Оказал влияние на некоторые
отрасли биологии и психологии, а также породил ряд течений (холизм и др.).
30°* Холизм (от греч. Τέλος - целый, весь) - идеалистическая «философия
целостности». Согласно холизму, миром управляет процесс творческой эволюции,
создающей новые целостности.
301* Дриш (Driesch) Ханс (1867—1941), немецкий биолог и философ-идеалист.
302* Гертвиг (Hertwig) Оскар (1849-1922), немецкий анатом и биолог.
303* Икскюль (Üxküll) Якоб Иоганн, барон фон (1864—1944), немецкий биолог,
основатель Института по изучению окружающей среды.
304· фробениус (Frobenius) Лео (1873—1938), немецкий этнограф и путешественник.
Перевод выполнен В.И.Матузовой по изданию: Kahler Ε. The
Meaning of History. N.Y. 1964.
На русский язык переводится впервые.
Выход из лабиринта
Посвящается Лили
Предисловие
Зта книга - не просто сборник тематически разнообразных ста-
тей. Скорее, это избранные статьи, в которых развиваются и
дополняются мысли, высказанные мною в опубликованных
книгах. Их объединяет стремление уточнить значение некоторых
ключевых понятий, возникших в процессе эволюции человека,
и определить, какова их ценность для нашего времени. Все статьи,
каждая по-своему, посвящены тому, как соотносится в человеке то, что
можно считать постоянным, и то, что меняется в нем по мере расширения
политической сферы, технического развития, унификации земного мира
и роста человеческого сознания. Хотя сомнительно, чтобы подобные
труды оказали мало-мальское влияние на нашу жизнь, все же хочется
верить, что сейчас очень важно задуматься над этими вопросами.
Каждый из тех, кто занимается умственным трудом, какой бы узкой ни была
его специализация, обязан внести свой вклад в некую концептуальную
основу; эта концепция должна быть и всеохватывающей, и
общедоступной, чтобы в нашей действительности не осталось места равнодушию и
умственной лени, так распространенным ныне. Ибо в нашем тесно
взаимодействующем мире такое положение неминуемо чревато всеобщими
катастрофами и гибелью человеческого в человеке.
Первая часть этой книги посвящена соотношению между
постоянством и изменением, между стабильностью и движением. Ее открывает
исследование роли культуры в эволюции; следующая за ним статья
представляет собой попытку очертить сферу естественной науки, т. е.
изучения физической природы, которая, находясь как бы вне человека,
создает общее впечатление стабильности и непрерывного круговорота и
потому требует количественных и таксономических методов
интерпретации. Такой характер естественных наук прямо противоположен
характеру гуманитарных дисциплин, сфера исследований которых — мир
человека, мир сознания, эволюционирующего в ходе истории. В этой сфере,
на уровне, близком нам, состояние постоянного движения и изменения
зачастую предстает как разнообразие и изменчивость неповторимых
явлений, и количественный метод оказывается несостоятельным. В третьей
статье этой части говорится о мифе, его метаморфозах и о том, как он
продолжает жить в новых обличьях. Четвертая статья посвящена тому
141
изменению, которое повлияло на основы современной жизни,
коренному изменению смысла утопии под воздействием взрыва атомной бомбы.
Во второй части мне хотелось показать, как взаимосвязь вечного и
нового (а это присуще всем известным нам формам существования)
находит свое отражение в искусстве. В ней представлены тот контраст и
единство, в каком неизменно сосуществуют законченная художественная
форма и динамика и революционность истинного искусства,
исполняющего вечную роль авангарда в жизни, непрестанно открывающего и
созидающего новую реальность.
Третья часть посвящена тому, что значит для психики и культуры
это основополагающее взаимодействие, уводящее нас в мир
парадоксальных сложностей современного человека. Она открывается эссе, в
котором прослеживаются изменения, вторгшиеся по ходу человеческой
эволюции в область сознания и подсознания. На ранних этапах
истории внешней проекцией неведомого подсознания был непознанный и
неподвластный мир, населенный божествами. Царство богов
постепенно секуляризировалось, становилось элементом культуры, материали-
зовывалось, а вместе с тем ясно вырисовывалась сфера подсознания в
человеке. И вот в наше время дисперсия все заполнившего собою
рационального сознания привела к тому, что подсознательное
доминирует во всех сферах нашей жизни. Во второй статье этого раздела, тесно
связанной с первой, я более детально, на примерах, обращаюсь к
явлению распада сознания (а это и есть основной показатель
сопряженности личности и реальности), превращения его по мере все большего
разветвления в аналитическую абстракцию. Осмысление пагубных
последствий этой тенденции заставляет задуматься над проблемой
ценностей. В заключительной статье я пытаюсь выяснить, как и до какой
степени изменился для нас смысл основных человеческих ценностей со
времени их возникновения миллионы лет тому назад и насколько они
остались неизменными по своей сути, чтобы видеть в них реальную
основу, органично присущую человеку.
Э.К.
Принстон, Нью Джерси
Ноябрь, 1966
Часть первая
Культура и эволюция
I
Термины «культура» и «эволюция» никоим образом не являются чем-то
однозначным. Они имеют разные толкования, и разнообразие их
значений отражает разнообразие жизни человека на разных этапах истории. В
кратком обзоре различных употреблений этих слов я продемонстрирую,
как по мере расширения значений терминов появлялись, напротив, их
более узкие коннотации.
Слово «культура» происходит от латинских cultura и cultus, что значит
«уход, культивирование», но заключает в себе множество сопутствующих
значений, таких как «воспитание», «обучение», «украшение», а также
«благоговение» и «культ». Оба слова изначально употреблялись в
атрибутивном, функциональном смысле, обозначая возделывание чего-либо.
Фактически cultura встречается раньше всего в составной форме: agricultura,
сельское хозяйство, возделывание земли, обработка почвы; следы этого
происхождения были заметны и в Средневековье, когда изредка
поклонение Богу называют agricultura Dei, «агрикульт» Бога. Значение термина
cultura расширяется по мере раздвижения границ его приложения:
Цицерон1* говорит о cultura апіті, воспитании души, что для него
тождественно философии; но постепенно cultura апіті перестала сводиться только к
этому, в нее стали вкладывать смысл культивирования искусств и
книжности, умственных способностей вообще. Так, на первый план
выступила черта, присущая любому воспитанию; а именно - контроль и
организация, утончение и сублимация того, что дано природой.
Так различные атрибутивные, функциональные употребления
терминов cultura и cultus слились в одно субстантивированное понятие
«культура», используемое и по сей день, когда культуру противопоставляют
варварству или когда кого-то называют культурным человеком. Этот
переход от атрибутивности к субстантивности предполагает коренное
изменение: представление о культуре как возделывании, деятельности
(обработка чего-либо, воспитание кого-либо - cultivare se ipsum) сменилось
понятием культуры как устойчивого состояния, состояния «окультурен-
ности».
143
В этом качестве, применительно к присущему человеку состоянию,
термин «культура» стал синонимом других понятий: humanitas,
«человечность», т. е. состояние, присущее человеку в отличие от животного, или
civilitas, «благовоспитанность», и urbanitas, «вежливость», состояние,
свойственное городскому жителю и гражданину в отличие от
крестьянина, мужлана. Римская империя2* и страны, возникшие на месте римских
провинций и сохравнившие римские традиции, были порождены
городом, город был их организующим центром. Страна в целом мыслилась
подчиненной городу, а городская жизнь была жизненным стандартом, в
отличие от Германии, где города развились поздно, уже после
образования некоего подобия всемирной империи, и где по причине
привязанности знати к деревне города так и не смогли обрести такого
господствующего положения, как в других странах Западной Европы. В самом деле,
лишь сравнительно недавно в Германии появилась столица3*. Думается,
этими различиями в конечном счете объясняется преобладание термина
«цивилизация» на романском и англосаксонском Западе и термина
«культура» в Германии. Немецкое понятие и высокая оценка культуры,
Kultur, вышли из понятий немецкой философии. Культура (Kultur)
отождествлялась с Bildung, воспитанием души, умственных и духовных
способностей, и ставилась выше западной «цивилизации», которая
толковалась как комплекс внешних признаков: благородства манер, развития
техники и общественно-политических институтов.
В XVI в. складывается новая концепция культуры. На волне
формирования современных наций и государств с особой территорией
политические мыслители начали выделять отличающиеся друг от друга
национальные обычаи и институты и осмыслять их национальные особенности.
Теоретик французской монархии Жан Воден в Шести книгах о
государстве (Six Livres de la Republique) (1576) впервые заговорил о разных
государственных формах как об организмах, которые, подобно всему
живому, растут и увядают, а их специфические особенности обусловлены
характером народа и климатом. В этом он предвосхитил современные
теории Шпенглера и Тойнби. Позднее Монтескье в сочинении О духе
законов (Esprit des Lois, 1748) и Вольтер в Эссе о нравах (Essai sur les
Mozursу 1757) говорили о «гении народа» (le genie du peuple), о «всеобщем
духе» (esprit general); употребляли они и выражение «genre de vie»,
которое можно адекватно передать как «стиль» или «образ жизни». Нет
нужды прослеживать всю линию развития данного понятия; достаточно
сказать, что в XIX в. ее увенчала концепция «культур» как непохожих друг
на друга форм жизни этнических общностей или эпох. Насколько мне
известно, первым, кто взял на вооружение такое понятие культуры, был
швейцарский историк Якоб Буркхардт; в середине XIX в. он
использовал его в конкретных исследованиях «Культура Возрождения» (Kultur der
Renaissance) и «История греческой культуры» (Griechische Kulturgeschichte).
В этом узком смысле пользуются термином «культура» и современные
этнографы применительно к изучаемым ими племенным группам.
Сдвиг от понятия культуры как общечеловеческого состояния к
понятию культуры как самобытного образа жизни этнических групп -
короче говоря, от культуры в целом к отдельной культуре, предполагает еще
одно важное изменение. Культура как общечеловеческое состояние,
144
свойственное определенной стадии развития, предполагала оценку, это
свойство было утрачено, когда культура получила толкование просто
особого стиля жизни. Культура как ценность была эквивалентна
превосходству над состоянием дикой природы, над варварством, была
интеллектуальным и моральным критерием определения ценности и
достоинства индивидуумов и народов. Это понятие означало совершенствование,
утончение, просвещение, что в свою очередь подразумевало развитие.
Итак, изначально cultura (культура) была синонимом развития, причем
(и это особенно важно) развития в смысле прогресса, совершенствования
человека.
II
Теперь перейдем в проблеме развития, или эволюции. Оба слова по сути
значат одно и то же: развитие — это развертывание, а эволюция -
раскрытие. Различие лишь в одном: эволюция превратилась в более общее,
а развитие — в более узкое понятие.
Если речь идет о человеке, то эволюция протекает от сугубо
физического уровня к уровню сугубо психическому, или умственному, а это
значит, что она переходит в развитие сознания, а сознание — это важнейшая
составная часть того, что можно назвать историей. Мир истории - это
мир сознания, но я не буду излагать здесь все подробности этого
процесса. Достаточно наметить основные фазы1.
Античное мышление и общество зиждились на неизменном образе
Вселенной. Понятие эволюции погибло в зародыше; сама эволюция, как
это ни парадоксально, была статичной. Впрочем, Аристотель, впервые
использовавший понятие энтелехии, считается родоначальником идеи
эволюции; и правда, обращаясь к разным сферам живой природы —
растениям, животным и человеку, и считая их последовательными стадиями
эволюции, он полагал, что каждая из них обусловлена предшествующей,
но он не мыслил, чтобы эти стадии на самом деле последовательно
сменяли друг друга. Для него любое живое существо или вид были
сотворены особым прикосновением божества. Точно так же древние, по
крайней мере доэллинистического периода, не имели понятия об
историческом развитии человечества. Древние греки и римляне не
представляли себе реальной, цельной истории, т. е. истории как единого,
уникального и неповторимого потока событий, пронизывающего и
охватывающего отдельные народы, истории как полной записи
жизненного пути человечества. Им казалось, что человеческий мир незыблем и
вечен и что он то созидается, то гибнет, совершая круговорот. Поэтому их
концепция изменения и эволюции оставалась очень поверхностной:
развитие сводилось к движению по кругу.
Что такое настоящая эволюция, впервые испытали евреи; для них
история превратилась в путь человека от изначального состояния
бессознательного целомудрия, утраченного в результате грехопадения, к
высшему состоянию сознательно обретенного целомудрия в Царстве Божием,
которое грядет в конце времен. Конечно, ход человеческой истории все
еще представляется им движением по кругу, поскольку создается впечат-
145
ление, что он возвращается к своему началу, тогда как на самом деле
человек достигает иного уровня — уровня сознания. Вот в чем коренное
отличие: весь процесс приобретает неповторимость.
Мессианское пророчество иудаизма привело к христианству;
христианская вера в божественного спасителя, совершившего
самопожертвование, превратила иудейский путь к целомудрию, достижение которого
всецело зависело от человека, в путь к божественному спасению. Таким
образом, в христианскую эпоху эволюция стала тождественна
постепенной подготовке человека к спасению.
Так, благодаря иудейско-христианским концепциям судьба человека
обрела динамику, превратившись в один неповторимый эволюционный
процесс. Этот эволюционный процесс сделал явственным то, на что
лишь намекали античные концепции культуры: совершенствование и
сублимацию4*. И вновь в понятие развития вкладывался смысл
улучшения, достижения человеком нового, возвышенного счастья.
Наконец, когда на исходе Средневековья христианская догма пала, а
место Бога занял человеческий разум, рационализм унаследовал от
христианского богословия концепцию истории как путь человечества к
совершенству. Предустановленная ясная цель, каковой представлялось
Царство Божие, исчезла, и вместо нее возникла неясная цель Царства
Разума: эволюция перестала быть путем к конкретному событию
спасения, превратившись в бесконечное приближение к мирскому
совершенствованию и счастью посредством рационального, научно-технического
улучшения условий жизни человека. Эта цель распалась на
поступательные стадии; она стала сливаться с самим путем, с собственно
прогрессом, цель которого развивалась вместе с ним. Акцент сместился с
окончательного достижения на бесконечное становление.
С конца XIX в., а тем более в XX в., человечество постепенно
утрачивало веру в прогресс. Точнее, исчезало не что иное, как надежда на то, что
научно-техническое улучшение материальных условий само по себе
повлечет улучшение внутреннего мира человека, иначе говоря, сделает его
лучше и счастливее. Задолго до рубежа веков прозорливые люди предвидели
темную, оборотную сторону распространения рационального
просвещения, все большего коллективизма и дегуманизации, которые нес с собой
технический прогресс. Они предчувствовали то, чему суждено было
случиться в великие кризисы XX в.: с высот цивилизации человечество
внезапно низверглось в новое, рационализированное варварство. Надежды
поколений рационалистов обернулись горьким разочарованием в
прогрессе; а поскольку эволюция всегда отождествлялась с прогрессом, то
вместе с идеей прогресса ушло в небытие и понятие эволюции.
Были и другие факторы, способствовавшие дурной славе эволюции.
В области истории саму идею истории как взаимосвязанной эволюции
человечества дискредитировало не что иное, как гипертрофия истори-
цизма: именно избыток нового фактического материала затмил широкую
перспективу развития и сделал историков падкими до «обобщений».
Или, вернее, то было не само накопление фактического материала, а
скорее неспособность историков вписать новые факты в общую
концепцию эволюции человека, чему причиной — сциентистские амбиции и
позитивистская тенденция современной исторической науки. Как реакция
146
на великие философские и социальные концепции посткантианской
эпохи в первой половине XIX в. воцарилось все сметающее недоверие
некритического умозрения. Такая реакция, несомненно, была до какой-
то степени оправданной, но, как водится, она дошла до иной
крайности, приведя к столь же некритической позиции. Под влиянием
сциентистского позитивизма все критерии фактов были утрачены; историческое
исследование пришло к тому, что я назвал бы демократией фактов, — т.
е. к полному равноправию фактов, что аннулировало различие между
существенным и несущественным. Да и откуда бы взялась широкая
оценка фактов, если исчезло само представление об историческом
процессе? Всякое недвусмысленное утверждение развития стало
невозможным; развитие буквально исчезло за формулировками. В конце концов
эта тенденция вылилась в сциентистские, в основе своей
антиисторические теории (наподобие теорий Шпенглера и Тойнби), разбившие
процесс человеческой эволюции на множество «философски-современных»
культур, чтобы вывести из них «законы истории», тождественные
законам природы. Построения этих «культур», или «цивилизаций», не менее
некритично умозрительны, чем былые философские системы.
Разумеется, биология так и не смогла расстаться с концепцией
эволюции, пусть даже модифицированной, а в геологии только историческая
точка зрения и позволяет понять структуру Земли. Но антиэволюционизм
оставил свой след даже в палеобиологии. Немецкий палеонтолог Эдгар
Даке5*, сведущий человек, наделенный творческим воображением,
выдвинул теорию, которой предназначалось совершить переворот всего хода
эволюции живых форм. В книге Доисторический мир, сага и человечество
(Urwelt, Sage und Menschheit)2 он утверждал, что с начала возникновения
жизни существовали разные генетически разобщенные типы или типовые
группы {Typenkreise), которые постепенно развились в различные
животные формы. Подобно им, человек тоже изначально рудиментарно
существовал как самостоятельный генетический тип. Конечно, Даке не мог
отрицать, что прежде чем человек достиг человеческой формы, ему
пришлось пройти через разные животные стадии, но для объяснения этого
он создал теорию, согласно которой конкретные условия и окружающая
среда разных палеонтологических периодов навязали генетически
самостоятельным группам некоторые как бы гомогенные структурные формы
и органы, некую структурную моду: от кембрийского периода до девона
преобладающей формой были рыбы; в пермский период разные виды
«приоделись», так сказать, в амфибий; от пермского периода до мела они
превратились в рептилий; с наступлением эоцена6* появились
млекопитающие, а позднее преобладающим видом стала обезьяна*1. Как атавизм
этого явления Даке называет фауну Австралии, где самые разные виды более
высоко организованных млекопитающих, похоже, имитируют форму
более низко организованного типа млекопитающего — сумчатого. Сумчатый
барсук, опоссум, кенгуру, кускус, австралийский медведь (коала) - все это
разнообразные варианты формы сумчатых.
Но даже эта гипотеза не покончила с самим фактом эволюции.
Предположение, что была не одна, общая линия развития, а несколько
первоначальных групп, говорит только о том, что множество эволюции
протекали параллельно; что же касается эволюции человека, то нет особой
147
разницы, назвать ли рептилию рептилией или человеком, на какое-то
время принявшим облик рептилии.
III
Основным источником этого течения, поистине, моды на
эволюционизм, было, как говорилось выше, разочарование в прогрессе и
отождествление эволюции с прогрессом. Чтобы правильно понять, что же такое
эволюция, необходимо, по-видимому, покончить с этой путаницей и
четко разграничить эволюцию и прогресс. Прежде всего скажу, что
вначале была эволюция, а не прогресс. Прогресс подразумевает оценку;
эволюция — просто процесс.
Прогресс означает совершенствование. В человеческой сфере его
понимали как улучшение не только жизненных условий, но всей жизни
человека; т. е. не только как поступательное развитие материальных
условий, но и как достижение все большего счастья, все более высокого
нравственного уровня, когда (если выразить это простыми словами)
люди будут вести себя разумно. Совершенно очевидно, что великие
ожидания эпохи Просвещения не сбылись. Биологические теории также
отождествляли эволюцию с прогрессом настолько, насколько видели в
ней поступательное движение, ведущее к человеку, если не как к
предустановленной цели, то как к венцу творения. И правда, Джулиан
Хаксли7*, похоже, и по сей день полагает, что отдельно взятый человек есть
самый совершенный продукт эволюции. Учитывая нынешние условия
жизни, я считаю это довольно сомнительным. Поэтому, говоря о
нынешней эволюции, думается, лучше было бы элиминировать понятие
прогресса, поскольку его невозможно лишить изначального, откровенно
оптимистического значения.
Но если эволюция не прогресс, то что же? Прежде всего, следует
принять во внимание, что в науке последние эксперименты и открытия
продолжали движение мысли, диаметрально противоположной моде на
антиэволюционизм. Картина природы ныне стала насквозь динамичной,
т. е. природа уже не видится, как в XIX в., статичной, неподвижной
сферой; она раскрылась как процесс. Как доказала современная физика,
природа не только сплошь состоит из процессов — она всегда была и
остается процессом по своей сути. Ныне астрономия считает себя исторической
наукой. Не буду вдаваться в детали этой новой динамической концепции
космической природы и гипотезы о расширяющейся или
взрывающейся Вселенной, с одной стороны, и непрерывного творения - с другой3.
Биологическая природа видится как процесс уже давно, еще со времен
Бюффона и Ламарка. Конечно, полуторавековое изучение создало
картину истории жизни, и эта история предстает, скорее, как древо с густо
разветвленной кроной, чем как прямолинейное развитие. Но важнейшее
изменение, которое произошло в научных взглядах на проблему
эволюции, состоит в том, что разрыв между неживой и живой природой начал
сокращаться, а преграды между ними — рушиться.
Если соединить воедино все эти эксперименты, то история
Вселенной, история Земли, история жизни и история человека предстанут как
148
множество частей и стадий единого неповторимого события. Это
потрясающее событие, начавшееся во Вселенной и продолжающееся по сей
день, в тот самый момент, когда мы сидим и размышляем о нем, — этот
процесс в его целостности, безусловно, идет в определенном
направлении. Говоря направление, я не имею в виду замысел, трансцендентный
или иной. Здесь снова требуется строгое разграничение. Направление в
смысле течения не обязательно означает направление в смысле
руководства или провидения, или замысла. Я вижу направление, но не могу
ничего сказать о его происхождении или причине. Именно такое
направление и позволяет нам говорить об эволюции.
Так что же такое эволюция? Какова природа этого явления?
Обратись мы к биологам, и вместо одного исчерпывающего ответа мы
скорее всего получили бы множество неполных ответов о функциональных
или структурных особенностях. Джордж Гейлорд Симпсон, например,
называет разные критерии эволюции (по его терминологии,
«прогресса»), такие как «тенденция жизни расширяться, заполнять
всевозможные пространства в пригодной для жизни среде», «все большая
адаптация», «контроль над окружающей средой», «все большее структурное
усложнение», «прогресс индивидуализации» и т. д.4. При этом он
всячески старается остаться «объективным» по отношению к человеку, т. е.
не рассматривать эволюцию с точки зрения его предустановления,
когда человек выступает как цель или вершина эволюции. Он отказывается
от критерия «все большего приближения к человеку»; напротив, он
обнаруживает даже отдельные аспекты, свидетельствующие, что человек
не стоит на самой вершине развития, например: «Если бы надо было
выделить одну, господствующую ныне группу, то это оказались бы
насекомые»5; это говорит о довольно узком, сугубо физическом
толковании господства. Однако он не может не поставить человека почти по
всем показателям на высочайшую ступень эволюции; на основании
данных он заявляет: «Человек действительно самое организованное
живое существо. То, что только он способен на такое суждение, уже
есть доказательство того, что это суждение верно»6. Симпсон идет еще
дальше, утверждая, что человек— животное, «...в котором хотя и
продолжается органическая эволюция, появляется также совершенно
новый вид эволюции», основа которой - «новый вид наследственности -
наследственность навыков»7. Но на самом деле он останавливается, как
почти все биологи, на пороге этого нового вида эволюции - там, где
«Гомо сапиенс» вступает на путь истории, что влечет за собой
психическое, умственное и социальное развитие, а это совершенно новые
параметры развития, намного превосходящие наследственность навыков.
Джулиан Хаксли более оригинален в том, что он без колебаний, как уже
говорилось, смело заявляет, что человеческий индивидуум не только
есть, но «навсегда останется высочайшим продуктом эволюции»8.
Эволюцию он определяет как усложнение: «...больший контроль, большая
самостоятельность и самоуправляемость, большая, но в то же время
более гармоничная в своей сложности организация, больший объем
знаний и жизненного опыта»9.
149
IV
Попробую теперь дать свою интерпретацию, принимая во внимание
как биологическую, так и историческую сферы, но не затрагивая
генетического и функционального аспектов данной проблемы. Взглянув на
историю жизни и историю человека под таким углом зрения,
рассматривая лишь возникновение форм в их последовательности, мы увидим
эволюцию как постепенное, но упорное расширение масштаба, раздви-
жение границ бытия с сопутствующими ей все большей
дифференциацией, организацией, концентрацией, во всем их разнообразии. Такое
расширение границ бытия кажется тождественным процессу интериори-
зации, что означает перемещение и трансформацию внешних функций во
внутренние, все большее вживление содержания внешнего,
экстенсивного мира во внутренний, интенсивный. На самом деле этот процесс
складывается из двух процессов, в чем-то напоминающих то, что стоики8*
называли диастолой и систолой, — расширением и сокращением. Только в
процессе расширения может быть усвоено и интегрировано новое
содержание мира.
Конкретизируем это соображение. Начнем с того, что сама жизнь —
это концентрация, интериоризация и интенсификация физических
элементов: вслед за молекулой образуется клетка. Этот процесс
продолжается в преобразовании живых форм: от споровых растений,
размножающихся спорами, до цветущих растений, которым свойственно внутреннее
размножение, а среди животных — от яйцеродящих до млекопитающих;
даже Симпсон обращает на это внимание как на одну из самых
неопровержимых характеристик эволюции: «Млекопитающие... это в данном
отношении, бесспорно, самые высокоорганизованные животные, и это
очевидно из того, как они вынашивают и защищают своих будущих
детенышей, а после рождения вскармливают их высококалорийным
материнским молоком»10. Параллельно происходило следующее: переход от
экзоскелета (раковины, как у паукообразных, насекомых, ракообразных,
панцирных животных) к эндоскелету (внутренняя костная структура
позвоночных; костистые рыбы появились позже всех других рыб); далее,
постепенная интериоризация метаболизма и образование центральной
нервной системы — шаг вперед от метаморфозы метаболических
растений и животных к непосредственному воспроизводству высших форм.
Во всех этих примерах внешние процессы и связи преобразовались во
внутренние функции и системы и все более тесно интегрировались в
расширяющуюся органическую систему.
В этом процессе интеграция идет неотрывно от дифференциации все
более широкого и дифференцированного мира — интеграция различных
дифференцирующихся и специализирующихся отделов и органов и
организма в целом, направленная не только внутрь, но и вовне. Все большая
дифференциация органической системы означает соответственно и
накопление, расширяющее масштаб взаимосвязей и контроля. Итак, перед
нами два направления процесса — расширение и концентрация, и
трудно сказать, что чем вызвано.
Тот же процесс можно проследить и в сугубо человеческой сфере - в
сфере истории, где эта эволюция протекала, переходя с физического
150
уровня на психический, умственный, а затем на все более
преобладающий социальный. Внешние, магические и мифические, связи человека
с внешними, божественными силами постепенно превратились в инте-
риоризованные связи региональных идей и концепций; населенная
множеством одушевленных образов Вселенная сопричастия и религии
переместилась во внутренний мир человеческого разума, организующего
исследования. На смену внешней зависимости пришло все более
явственное ощущение внутренней автономии, суждение, выбор, овладение
человека собой и миром. Развитие человеческого сознания происходит
по мере того, как перед ним раскрывается мир во всем его богатстве и
разнообразии. Мы видим, что этот процесс дифференциации,
выработки характерных умственных способностей соразмерен процессу
интеграции, инкорпорации все более обширной феноменальной территории.
Наконец, сравнивая состояние человеческого знания и овладения
природой с помощью техники в первые века нашей эры с тем, что
происходит в наши дни, можно отметить новый шаг в том же направлении.
Вселенная, живущая по законам механики Ньютона, находилась во
власти внешних, грубо материальных сил, доступных чувственному
восприятию; современная физика наблюдает Вселенную, не движимую
внешними силами, но вечно находящуюся во власти свойственного ей
движения, Вселенную, в которой материя тождественна энергии и
познание которой возможно только все более умозрительно. Ныне
современному беспрецедентному расширению объективной орбиты
человеческого созерцания и манипуляций соответствуют значительно более
изощренные методы познания. Нет нужды привлекать внимание к
прогрессу в техническом овладении природой, которое превратило земной
шар как бы в единое пространство и поставило нас на грань
межпланетного общения. Современная биология и медицина проникли в
микросферу генов, гормонов и энзимов; стали яснее тонкие взаимосвязи
внутри органического целого; современная психология вторглась в сферу
бессознательного. Нечто похожее происходит и в современном
искусстве, которое выходит за рамки изображения индивидуальных, осязаемо
«объективных» форм, сюжетного повествования, эстетически
прекрасного «мелоса», превращаясь в абстракцию формы как таковой,
феноменальности как таковой, существования как такового, чередования звуков
как таковых.
ν
Впрочем, мои соображения требуют известных уточнений, которые
привносят новый аспект в проблему эволюции. Этот новый аспект затрагивает
отношения между индивидуумом и группой, т. е. между разными уровнями
бытия. Думается, без разъяснения этих отношений невозможно в наше
время понять, что такое эволюция. Могу сформулировать это так: ныне
колоссальное расширение человеческих возможностей и усвоение содержания
Вселенной человеческим сознанием относится к человеку вообще, но вовсе не
к конкретному человеку. Когда Джулиан Хаксли определяет эволюцию как
все большую сложность и ее организацию, как больший контроль, боль-
151
шую самостоятельность и саморегулирование, накопление знаний и т. д.,
становится более чем очевидным, что так можно сказать о человечестве,
но едва ли о конкретном человеке нашего времени. Ныне индивидуум,
напротив, обнаруживает явный спад контроля, самостоятельности,
саморегулирования и накопления знаний; и этот спад на индивидуальном
уровне, похоже, соотносится с подъемом на уровне коллективном.
А.Л. Крёбер9* в эссе «Концепция культуры в науке» проводит резкое
различие между разными «уровнями организации» и просто
«уровнями» — физико-химическими, биологическими, или органическими,
общественными и культурными. И он справедливо отказывается от
научной практики XIX в., когда категории одного уровня переносили на
другой, или, точнее, сводили условия более высоких уровней к якобы
фундаментальным условиям физико-химического уровня.
«Гравитация, — пишет он, — электропроводимость и валентность химических
элементов приложимы и к неорганическим, и к органическим телам. Но
законы приложимы не только к неорганическим телам; и все же они не
дают никакого серьезного объяснения таким присущим живому миру
явлениям, как зачатие, смерть, приспособляемость. Эти сугубо
органические процессы подчиняются существующим физико-химическим
процессам, но не проистекают из них». Итак, различные уровни до
некоторой степени автономны и в то же время в определенных отношениях они
«...зависят от глубинных уровней и сами поддерживают лежащие под
ними самостоятельные уровни»11.
В целом разделяя эту точку зрения, я не прочь допустить наличие
более тесной связи между разными уровнями бытия. Конечно, было бы
крайне ошибочно связывать явления, присущие одному уровню, с
явлениями другого уровня, но если мы хотим понять реальную природу
любой субстанции или существа, то не стоит резко отграничивать один
уровень от другого, не стоит ограничиваться изучением одного уровня,
полностью изолируя его от уровня, лежащего под ним, и от того,
который находится над ним. Как индивидуумы, мы не живем в обществе или
в нации словно внутри охватывающего нас беспредельного космического
пространства. Мы в значительной степени и есть это общество, эта
нация; мы — их часть, а они — часть нас, вплоть до физического бытия. Мы
все, как любая субстанция, существуем на разных уровнях одновременно.
Существование — штука многоуровневая. Как тело, я — естественная
организация более низких существ, живых, движущихся, меняющихся,
растущих и умирающих существ, а именно — клеток. Любое изменение или
нарушение этой организации или даже внутренней организации самих
клеток сильнейшим и серьезнейшим образом воздействует на то, что
можно считать самой сутью или квинтэссенцией физической системы, —
на душу. Это, в конце концов, признается психосоматической теорией и
современной психиатрией. Душа, в свою очередь, — и это всеми
признано, - воздействует на разум. Впрочем, такая зависимость не упраздняет
то, что функционирование или действие на каждом конкретном уровне
имеет свои особенности и до какой-то степени автономно. Надо
осознавать и то, что всякое воздействие уровней друг на друга — двусторонний
процесс: он направлен и вверх, и вниз. Существует взаимодействие
между разумом, душой, телом и так далее.
152
Подобное же взаимодействие существует между индивидуумом и
группой, и это очень важно в нашем конкретном случае. Как существо,
наделенное душой и умом, как личность и индивидуум, я состою в постоянном
взаимодействии с социальными единицами, с общностями и коллективами
(принципиальные различия между этими видами социальных единиц
невозможно уточнить в данном контексте, да это и не нужно). Важно то, что
и в социальном плане я живу на разных уровнях одновременно, в
теснейшей взаимозависимости и взаимодействии с разными группами, к которым
я принадлежу. По сути, я — часть групп, а группы — часть меня самого. Я
просто не существую без них; и любые изменения в группах касаются и
лично меня. Значит, изучая социальную или психическую эволюцию,
бесполезно рассматривать социальные формы и душу индивидуума в отрыве друг от
друга, поскольку они развиваются и изменяются вместе, в постоянной
взаимосвязи друг с другом. Изменения одного немедленно влекут за собой
изменения в другом, причем меняется и природа этой взаимосвязи.
Развивается не группа сама по себе и не индивидуум сам по себе, а сочетание и
взаимосвязь того и другого, и приходится изучать их, учитывая и то, и
другое. Поэтому невозможно получить полную картину человеческих
процессов, если заниматься психологией, упуская из виду социологию, или,
напротив, если заниматься социологией или связанными с нею любыми
сторонами человеческой жизни, не обращаясь к психологии.
Как я уже говорил, индивидуальная психика меняется в связи с
изменениями общественных форм и наоборот; при этом меняется и характер
этой взаимосвязи. Но наряду с этим взаимосвязанным развитием
происходит еще более важное изменение. Эволюция, как я пытаюсь
показать, — это процесс расширения масштаба. Ну, а в ходе этого процесса
порой случается, что центр тяжести событий сдвигается с одного
уровня на другой. Как с появлением «Гомо сапиенс» акцент сместился с тела
на разум и эволюция превратилась в историю человечества, точно так же
в наше время (начавшись в XIX в.) центр тяжести событий, похоже,
сместился с индивидуального уровня на коллективный. И если на
коллективном уровне человек безмерно расширил свои возможности, то
индивидуум (чему виной все тот же процесс) уже не обладает прежней
самостоятельностью, саморегулированием, силой контроля и
кругозором. То, что технический и интеллектуальный масштаб человечества
намного расширил возможности человеческого разума и что
индивидуальное сознание все менее успевает за расширяющимся диапазоном и
сложностью событий и за тем, что я называю «коллективным
сознанием» (а именно обширным полем нашего нынешнего, вечно
движущегося, вечно меняющегося знания), — это трагическое несоответствие —
одно из основных причин кризиса в человеческом мире.
VI
Так как же вписать в эту картину культуру! Каковы ее роль и значение
в процессе эволюции?
Из исторического обзора понятия «культура» вырисовываются четыре
разные концепции: 1) культура как состояние человека, заключающая в
153
себе оценку (это мы подразумеваем, говоря о «культурном человеке»);
2) лишенная оценки концепция культуры как особого образа жизни, стиля
жизни народа или, по определению Крёбера, как совокупность обычаев и
образов жизни народа; 3) культура как простая этническая субстанция —
в этом смысле понятие обычно используется современной этнографией
и 4) культура как региональная метаэтническая субстанция — концепция,
предложенная Лео Фробениусом и Освальдом Шпенглером и
заимствованная у них Тойнби для конструирования его цивилизаций.
Разные концепции культуры свидетельствуют, как видим, о том, что
они появились на разных эволюционных стадиях; в них отражается
развитие самосознания человека. Осмысление этого разнообразия и
множества органических сопряжений этнических групп предполагает иудейс-
ко-христианское осознание общечеловеческого. В дохристианскую,
доэллинистическую, достоическую эпохи каждая конкретная этническая
общность отождествляла человечество с собой. Между взглядами таких
народов, как зуни, дене, кайова10*, которые наивно давали эти
племенные имена человеческим существам, и тем, что древние греки и
римляне отождествляли чужаков с варварами, нет особой разницы. Культура
для греков и римлян была антитезой варварства, наступлением на
варварство.
Античная концепция культуры как состояния человека и оценки, как
просвещенного, утонченного состояния человека, как самого
желанного его состояния, как paideia в древнегреческом смысле, жива и по сей
день; для выражения ее нет лучшего слова. Культура в смысле образа
жизни или совокупности обычаев кажется мне многословным
синонимом. Почему не сказать: образ жизни или обычаи? Это проще и
соответствует смыслу. Но нашему времени ближе понятие культуры как
самостоятельной субстанции, как собственно культуры. В данном случае
можно выбирать между отождествлением культуры с этнической
общностью или постулированием метаэтнических культур, состоящих из
разных этнических групп.
Для Шпенглера и Тойнби понятие человека как сопряженной
субстанции вряд ли существует в ясно выраженной форме. По крайней
мере, Тойнби заменяет его богословской надстройкой, которая как-то
объединяет или же предполагается, что по закону обратной связи она
объединит разные, мертвые или живые, цивилизации. Но и Шпенглер,
и Тойнби разбивают последовательность человеческой эволюции в
истории на изолированные единицы так называемых «философски
современных» метаэтнических цивилизаций. От общечеловеческого качества
остаются лишь хорошо известные параллелизмы, исторические «законы
природы». (Случайной шпенглеровской характеристикой человека как
«технического хищника» можно пренебречь.)
Скрупулезный анализ доказал бы — и критические исследования
ряда ученых, действительно, доказывают — сомнительность таких
теорий. Поскольку природа в целом в ее широчайшей перспективе
приобретает видимость исторического процесса, то собственно историю надо
понимать как уникальный отрезок уникального космического события;
ее надо понимать как историю органического рода, Человека. Стало
быть, надо прежде всего исследовать уникальность процесса человечес-
154
кой истории, уникальность ее места внутри более широкой,
всеобъемлющей целостной природы и уникальность ее стадий и разветвлений,
а уж потом можно будет познать реальные генотипные гомологии,
преобладающие среди различных подразделений и субпроцессов. Надо
прежде всего установить, какую конкретную стадию представляет собой
каждое подразделение во всей истории человечества, и только на фоне
этой сопряженной исторической последовательности и разнообразия
можно попытаться осторожно выяснить, что общего между этими
подразделениями, или вариантами, единого исторического процесса. Но
если начать с поиска общих законов, то не избежать грубых упрощений
и ошибок. Казалось бы, тождественное явление или установление
могут коренным образом разниться в той или иной конкретной единице
в зависимости от их происхождения, связи с целым и различных
эволюционных стадий, которые они представляют. Изучая историю, надо
использовать метод, диаметрально противоположный методу
Шпенглера и Тойнби; надо стремиться ко все более тонкой дифференциации и
познанию уникального.
Ненадежность и поверхностность «всеобщих законов», выводимых из
«философской современности», усугубляется, если выбрать в качестве
единиц такие «цивилизации», которые будут подчиняться этим всеобщим
законам. Такая процедура таит в себе опасность голословного утверждения,
а именно соблазн подогнать цивилизации под всеобщие законы,
подтверждением которых они якобы служат. Но даже абстрагируясь от этой
двусмысленности концепций Шпенглера и Тойнби, их взгляды следует
считать неадекватными, ибо они сводят исторические процессы на один-
единственный уровень, а эти процессы, как я пытаюсь доказать,
развиваются одновременно на разных уровнях и вызывают изменения не только
от стадии к стадии, но и от уровня к уровню.
В связи с изложенным я предпочел бы единицы, выработанные в ходе
человеческой эволюции, — этнические общности. И здесь я не стал бы
просто приравнивать эти этнические общности к «культурам». Культура
и общность - не совсем одно и то же. Думается, что культуры и
общности так же связаны между собой, как душа или характер индивидуума с
его телом. И я приравнял бы культуру этноса как чего-то
субъективного, закрытого, к душе, а как чего-то объективного и открытого - к
характеру этнической общности.
Но есть некоторые переломные моменты в историческом процессе,
когда культуры начинают существовать независимо от места и
общности, в которых они возникли. Когда какой-то древний народ идет к
своему концу и после бурного расцвета и усвоения всего того, что мог дать
окружающий мир, его физические силы начинают истощаться и что-то
уходит, то душа, являющаяся как бы его трансцендентной формой,
остаточный характер этого народа, отрывается от его основ, духовно
выживает и оплодотворяет новые силы. Только такая трансцендентная форма
жизни, которая отрывается от собственных начал и становится
духовностью в себе, оказывает влияние на другие единицы, сливается с другими
единицами и уносится дальше другими, уже после того, как ее творец,
должно быть, умер и рассыпался во прах, — только такая
самостоятельная субстанция может считаться культурой, или цивилизацией, самой по
155
себе, явно отличной от народа, ее породившего. Под этим углом зрения
культуры не тождественны народам и исторической среде, в которой они
возникли; они - их отпрыски, как бы их духовные ответвления. Они
вызревают очень поздно и вступают в жизнь как оторванные, отдельные
единицы истории лишь на заключительных стадиях их творцов. В этом
качестве, как самостоятельные субстанции, как посредники между
этническими общностями и Человеком, они представляют и несут эволюцию.
Первыми такими культурами, или цивилизациями, первыми,
получившими признание как метаэтнические, были культуры, созданные
древними греками и евреями: эллинизм и христианство. Сам факт их
признания таковыми говорит о том, что они представляют собой
исторические единицы высшего порядка, в котором присутствуют и новая
стадия, новый уровень сознания. Другие примеры: в европейской
сфере — католицизм, унаследованный от римской традиции, а на Востоке -
буддизм и ислам.
Исторический процесс влечет за собой постепенный сдвиг в сторону
более широких единиц и в то же время в сторону высших уровней
сознания. Этот процесс начинается с людей. Люди - те единицы, которые,
сменяя друг друга, создают эволюционный процесс и развивают, в их
внутренней и внешней формах, в их психической и социальной формах,
самобытное качество и сознание человека. Накопление постепенно
приводит к новым, более широким единицам, которые в свою очередь
перенимают основной процесс.
В наше время мы являемся свидетелями постепенного отделения и
независимого расширения в мире того, что можно назвать западной
цивилизацией. Впрочем, является ли западная цивилизация культурой в
первоначальном смысле этого слова — это еще вопрос.
I960
Естествознание и история
Начнем с основного вопроса. Для чего нам знания? Какова или какой
должна быть цель настойчивого стремления к знаниям? Полезно и даже
необходимо время от времени ставить этот вопрос, чтобы не забыть
конечную цель наших интеллектуальных занятий. В наши дни умственная
деятельность так распределилась по институтам и по полочкам, а
проблемы стали настолько сложными, что немудрено потерять из вида эту
главную цель.
Вернемся вспять, к трудноразличимым истокам. Что впервые
подтолкнуло человека к погоне за знаниями? Этот вопрос уводит нас к
первобытной стадии человеческого развития, когда то, что можно назвать
«инстинктом», становилось чем-то сознательным. Очертания расплывчаты,
но кое-что можно понять, наблюдая, как маленькие дети постепенно
осваиваются в окружающем мире. Первые, как будто бесцельные,
хватательные движения ручонками, удивленные глазенки, в которых горит
желание постичь все, что происходит вокруг, — в этом выражается
изначальное стремление человека познать окружающий мир, понять, как
вести себя в нем. Также и игры детей — это серьезное дело, отличающееся
от игр взрослых; это продолжение, в несколько более широком
диапазоне, хватательных движений младенца; как бы экспериментируя на
предметах и задачах, ребенок по-своему готовится к постижению мира. Это
имеет продолжение в жизни взрослого человека — желание
сориентироваться в окружающем мире и понять, как вести себя в нем, как поставить
его на службу себе. Любознательность, которую нередко считают
основным мотивом стремления человека к знаниям, никоим образом не
является изначальным стимулом. Любознательность — это побочный продукт
потребности понять окружающий мир, потребности человека в
самосохранении и саморасширении, побочный продукт, который довольно
поздно превратился в доминанту, в своего рода искусство для искусства
того знания, когда средства превращались в самоцель. Границы
саморасширения человека все больше раздвигались в процессе борьбы, изучения
и использования окружающей среды, и, наконец, решение
умозрительной задачи стало не по силам индивидууму и потребовало предельной
концентрации коллективных усилий, средств и методов. Но при всех
захватывающих исследованиях на самых отдаленных рубежах нашего мира
следует всегда иметь в виду изначальную и конечную цель всех этих
действий — сохранение человеческого рода, человечества. Как только
человек достиг стадии, на которой мировая религия и сами достижения
науки научили или должны были научить его естественному равенству прав
человека, т. е. тому, что я назвал бы идентичностью человека, с этого
момента надо сохранять уже не человека-индивидуума и не группу
индивидуумов, а род человеческий, человеческий образ и достоинство.
Ныне мы живем в мире, который все больше подпадает под влияние
науки, в мире, где господствуют научные законы и методы и их
приложение — техника. Нет, нет, это не значит, что большинство людей
согласуют свои действия с научными законами, т. е. что они принимают решения
более осмысленно, чем раньше. Напротив, что касается поведения, то
157
людям ныне особенно свойственны иррациональные действия. Это как
раз и есть итог и избыточная компенсация функциональной
сверхрационализации (механизации, количественного подсчета, организации,
бюрократизации), что является неизбежным следствием научно-технического
прогресса, когда решать проблемы быстро растущего населения и
общественных структур становится все сложнее. В частной жизни люди
чувствуют себя в тенетах этой обширной сети коллективного,
организационного и научно-технического контроля; они не понимают причин и логики
всего этого. Им хочется без раздумий прорваться сквозь сложности,
которые они не в состоянии осмыслить, и вернуть условия, существовавшие до
недавно потрясших мир научно-технических достижений и до связанной
с ними технической взаимозависимости людей и народов во всем мире.
Ситуация, в которой мы оказались ныне, чрезвычайно опасна.
Психическое и духовное состояние индивидуумов не успевало за скоростью
коллективных функциональных достижений. Люди утратили ориентиры
в мире; они движимы требованиями текущего момента и своими
узкими потребностями. А это значит, что они утратили чувство истории,
чувство эволюции человека.
Для любого, кто внимательно следит за современными процессами, не
будет новостью, если я скажу, что наша эпоха антиисторична и антиэво-
люционна. Конечно, говорится немало формальных слов о прогрессе, но
при этом под прогрессом подразумевается развитие функциональных
достижений науки и техники. Сюда же относятся социальное обеспечение и
законодательство, но они-то как раз не имеют никакого отношения к
жизни широких кругов населения. Влияние научно-технических достижений
на состояние общества едва ли заметно невооруженным взглядом. Люди
хотят наслаждаться удобствами и комфортом, которые несет накопление
знаний и технических навыков, но не приемлют социальные последствия
этого, однако, как бы то ни было, они не могут не испытывать на себе
влияния организационных методов нашего времени.
До сих пор речь шла о людях вообще. Но антиисторизм,
антиэволюционизм затронул и значительную часть нашей интеллигенции и
научной общественности; у этого явления две причины: первая — итог всего
пережитого со времен Первой мировой войны, что сильно пошатнуло
веру в человеческий прогресс, в то, что люди будут лучше и счастливее.
На наших глазах цивилизации рушились и превращались в отъявленное
варварство, гуманитарные договоры и хартии не соблюдались, а
неслыханные зверства совершались народами, достигшими высочайшего
культурного уровня. И все глупости и безумства, тревоги и разочарования,
которые множились с изобретением технических новшеств и
вооружения, с механизированной структурой всей нашей жизни, не очень-то
увязывались с представлением о человеческом счастье, которое лелеяли
в своих мечтах наши прогрессивно настроенные предки в XVIII—XIX в.
Поскольку идея прогресса и понятие эволюции человека развивались
параллельно и мыслились как единый процесс, понятие человеческой
эволюции рухнуло вместе с понятием прогресса. В сочетании с приводящим
в замешательство переизбытком неизвестных ранее исторических фактов
это привело не только к отрицанию истории как поступательного разви-
158
тия человека, но и к отрицанию того, что обстоятельства и проблемы
жизни человека могут быть истолкованы с исторических позиций. Вот
что пишет выдающийся историк Джеффри Барраклаф: «Испытав
достаточно ломок, мы с особым пониманием относимся ко всем тем историкам,
на которых со времени Августина или Орозия куда большее впечатление
производили катаклизмы, чем плавный ход человеческой истории... ни
одна современная проблема не поддается, да и никогда не поддавалась
осмыслению как историческая»1.
Но утрата веры в историческое развитие вызвана не только
нынешним антиисторизмом. Есть и иная, связанная с этим, и, как мне
думается, гораздо более весомая причина. Речь идет как раз об огромном
влиянии науки и научных воззрений на жизнь, на умственную деятельность.
Преобладание циклического взгляда на историю, проявляющегося в
современных теориях, как, например, Шпенглера, Тойнби и Сорокина,
неминуемо влечет научный подход, сторонники которого готовы искать
исторические «законы природы». Нелишне упомянуть типологическую1*
и таксономическую2* трактовки истории, преобладающие в современной
социологии, — вспомним об «идеальных типах» Макса Вебера3* и о
статистических и структурных методах социологии и этнографии в
Америке и других странах (например, в Европе - Леви-Стросса4* против Леви-
Брюля).
Вот мы и подошли к сути дела: отношение естественных наук и
истории, которое, я бы сказал, характеризуется коренным различием в
посылках и тематике, — различием, требующим диаметрально
противоположных научных методов.
Конечно, большинство историков уже осознают, что история — не
точная наука. Историческая наука, доказывают они, имеет дело с
пестрым множеством и разнообразием конкретных явлений (случаев,
условий, личностей, наций), которые нельзя подвести под общие законы. И
с позиции точной науки профессор Карл Поппер в книге Нищета исто-
рицизма разделяет эту точку зрения, утверждая, что история не
поддается ни верификации путем экспериментов, ни количественному методу
исследования. Он указывает на такие особенности истории, как
новизна, сложность, непредсказуемость, неизбежный отбор излагаемого
материала, недостаточность причинного объяснения, — на все, что не
свойственно естественно-научному исследованию.
Похоже, мы стоим перед выбором одного из двух противоположных
мнений. С одной стороны, история предстает как хаотичная мешанина
самых разных субстанций и случайностей, в которой не видно ни
порядка, ни следования закону; и правда, похоже, историки, как и вся
общественность, получают истинное удовольствие, рисуя в своей
необузданной фантазии «случайное и непредвиденное», «непоследовательное» и
«катастрофическое» (как говорит Барраклаф), — удовольствие от
«самого головокружительного свидетельства творческой силы и блестящего
разнообразия человеческого духа». С другой стороны, мы имеем строгие
квазинаучные «законы истории», сформулированные теоретиками от
истории.
Что до меня, то я склонен отвергнуть оба эти взгляда на историю, ибо
в сфере интеллектуальной они отражают нынешнюю распространенную
159
дивергенцию чрезмерной рационализации и иррационализма. Не могу
заставить себя признать, что историческое развитие идет по
естественно-научным законам, — как это преподносят историки-теоретики; но не
нахожу возможным и согласиться с учеными, для которых история
лишена всякого разумного порядка и является всего лишь поистине
бессвязной чередой случайных событий и человеческих изобретений. В
дальнейшем я постараюсь кратко изложить, что представляется мне
истинной природой истории и каково основное различие между
естественно-научным взглядом и позицией, согласующейся с особым характером
исторической реальности.
Методы естественных наук основаны на признании неподвижной
неизменности природы, на признании, которое, как ни парадоксально, есть
наследие религии. Оно берет начало в концепции космического
порядка, созданного раз и навсегда по воле Бога. Даже для Ньютона законы
природы были законами, установленными Богом, а изучение Вселенной
было равносильно изучению творения Божия. В процессе все более
тщательного изучения образ Бога постепенно отошел на задний план, но
вера в неизменность природы сохранилась. В XIV в. новации оккамис-
тов5* слегка пошатнули эту веру в узкой сфере (тому свидетельством —
известный конфликт Галилея с Церковью), и вся история астрономии,
физики и биологии на современном этапе — это история все большей
эрозии концепции неизменности природы.
Крушение этой концепции началось в конце XVIII в. с
возникновением биологической теории эволюции. Плеяда великих ученых, от Бюф-
фона и Кювье до Жоффруа Сент-Илэра, Ламарка и Дарвина,
преодолела, вопреки мощному сопротивлению традиционных воззрений, старый
метод примитивной классификации сотворенных Богом существ.
Названные ученые постепенно пришли к пониманию автономного и
последовательного развития живых форм, и само это открытие проторило
путь к верному и более глубокому пониманию органических структур и
функций. Разумеется, в поисках статичной правомерности генетических
процессов все еще присутствовал элемент стабильности. Но недавно,
похоже, была подвергнута сомнению даже абсолютная непогрешимость
менделизма6*.
Аналогичные процессы протекают и в физике. Изучение Фарадеем7*
электромагнитных «сил материи» в конце концов привело к
современному понятию поля. Теория электромагнитного поля Максвелла8* стала
отправным пунктом теории относительности, упразднившей понятия
абсолютного пространства и абсолютного времени. Это развитие ускорилось
с открытием Беккерелем9* и Кюри10* радиоактивного
самопроизвольного распада материи и с осуществлением превращения химических
элементов Резерфорда11* («элемент» уже давно перестал быть
элементарным). Наконец, знаменитая формула Эйнштейна, уравнивающая
материю и энергию, положила конец старой «материальной» материи.
Ядерная физика, равно как и новая астрономия, доказывает, что
природа — это процесс и в частностях, и в целом. Астрономия превратилась в
историческую дисциплину.
Итак, на разных концах известной нам ныне Вселенной, в сферах
частиц и космических тел, концепция неизменности природы пошатну-
160
лась, вслед за чем изменился характер факта, ограничилась
действенность причинности. Такие модификации свидетельствуют о некотором
приближении естественно-научных взглядов к тому, что я попытаюсь
изложить как по сути историческую позицию и метод. Но коренное
отличие остается и будет оставаться, пусть даже теперь известно, что
природа динамична, — оно, это отличие, зиждится на своеобычном движении
человечества вперед. Безусловно, исследования, ведущиеся в разных
областях науки, выявили отклонения от законов и непонятные явления,
что создало серьезные теоретические проблемы и стало причиной
модификаций, например замены в конкретных областях строгих законов
законами статистическими. Но такие отклонения встречаются в сферах,
весьма удаленных от непосредственного человеческого восприятия и
практического использования, они так мелки или, напротив, так
огромны по сравнению с человеческими пропорциями, что практически
ничего не значат и от них можно абстрагироваться. Не только законы
классической механики все еще действительны для больших тел, не только
статистические законы достаточны для безопасного практического
приложения даже ядерных сил, но и измерения субстанций и процессов,
которыми занимается физическая наука, таковы, что ими невозможно
заниматься иначе, как с помощью определения количества. Только
равные субстанции и процессы могут быть подвергнуты количественному
определению. И хотя иные безумцы доходят до того, что приписывают
частицам свободу воли, все же не подлежит сомнению, что единичные
различия на данном уровне не достигают степени, соответствующей
изучению и применению физических явлений. Недолговечная клетка в
моем теле, будь она наделена сознанием, вероятно, воспринимала бы
только кажущиеся вечными и потому предсказуемые и исчисляемые
закономерности в теле (дыхание, биение сердца, метаболизм и т. д.) и
рассчитывала бы только на них, но вряд ли осознавала бы важные
процессы и изменения на более высоком уровне организма — не говоря уже о
высшей нервной деятельности. Этот беспрецедентный, почти
метафорический пример, конечно, служит иллюстрацией расстояния между
человеческими и космическими пропорциями и пределами человеческого
кругозора, из-за чего наука вечно будет пользоваться в своих
изысканиях методами исчисления количества и все более абстрактным
обобщением. Итак, если осмысление биологической эволюции не мешает
биологии пользоваться вычислительными методами, случись ей углубиться в
генетику, то и физика, которая вообще-то предполагает абсолютную
действенность законов и причинности, будет обращаться к методам
абстракции. Развитие естественных наук будет идти так, как если бы природа
была неизменна.
Однако в основе своей человеческий мир (который начался не с
высокоорганизованных человекообразных обезьян, proconsulidae, и даже не с
pithecanthropus erectus, — так сказать, с физического развития человека, а с
истории, а, значит, с эволюции сознания) вполне вписывается в
привычные нам измерения. Если сама природа (а не наши концепции природы)
остается более или менее неизменной для нас с начала человеческой
истории, то мир человека, природа окружающей его среды, его образ
жизни, да до некоторой степени и сам человек весьма изменились. Мы сами
161
подвержены изменениям, активно участвуем в них, и жизнь учит нас
осмыслять взаимодействие между человеком и природой и вечное
взаимодействие между концепциями и действиями человека, между вечно
расширяющимся масштабом сознания и вечно растущим диапазоном действий
и классификаций. По сути, в этом и состоит история: взаимодействие,
взаимотворчество концепции и реальности, сознания и действия. История —
это не только то, чему нас учат в школе, не только череда войн и мирных
договоров, завоеваний и поражений, держав и цивилизаций,
общественных и технических условий; она вовсе не сумбурное нагромождение
наций, личностей, народных движений и философских течений; это
прежде всего эволюция уникального органического рода, эволюция Человека,
а все политические и социальные события и все, происходящее в
сознании, — всего лишь его проявления и движущие силы. И, будучи
эволюцией Человека, история не представляет собой склад мертвого прошлого;
история — это нечто не покидающее нас в любой момент нашей жизни,
присутствующее во всех наших делах и планах, итогом чего являемся все
мы. Изучая историю, надо никогда не забывать о том, что мы изучаем
жизнь и жизненный путь рода человеческого, genus humanum.
А внешне история предстает как некий хаос, в котором смешались
борьба за власть, культурные течения и личности, но только тогда,
когда мы наблюдаем ее ход в одном измерении, видим ее как бы
планиметрически. Но существуют разные уровни истории, как существуют
разные уровни всей действительности. Мы живем одновременно на разных
уровнях бытия. Есть физический уровень, и на этом уровне я,
учитывая все мои клетки и органы, — определенный род и всеобщность. Есть
уровень личности, на котором я относительно высшей субстанции
(общности или коллектива, к которому я принадлежу) — индивидуум. Есть
уровень общностей и коллективов, семей, наций, государств, профессий
и так далее, которые, в свою очередь, в отношении к genus humanum
представляют собой конкретные, единичные субстанции. Эти уровни
предполагают разную степень экзистенциальности. Если сравнить
диапазон существования физического существа, животного или человека, с
диапазоном зрелого человека и его сознанием или диапазон
первобытного клана с диапазоном нации и ее культурным и цивилизационным
багажом, то становятся очевидными не только экзистенциальные
различия, но и эволюционная сопряженность истории. Конечно, эти различия
и эволюционные изменения можно заметить, только ясно различая
разные уровни истории, воспринимая историю не как «всемирную
историю» или «историю человечества» (что означало бы историю всех до
единого человеческих индивидуумов), но как эволюцию genus humanum.
История - это не совокупность жизней и чувств миллионов отдельно
взятых индивидуумов, когда-либо существовавших на Земле, как
полагают позитивисты. Ход истории совершается, и его можно ясно видеть
только на общественном уровне, а не на уровне отдельно взятого
индивидуума, чей образ жизни обусловлен преимущественно состоянием
цивилизации его общности.
Пренебрежение различием исторических уровней объясняется тем,
что в естественных науках преобладает требование сенсорной
верификации. В науке справедливы только те концепции и гипотезы, которые
162
проверены (пусть даже косвенно, с помощью приборов) чувственным
восприятием. Чувства - вот конечные инстанции, что и выражает само
слово «свидетельство».
Наукой признаются разные уровни природы; в общих словах это
уровни частиц, ядер, атомов, молекул и макромолекул, хромосом,
клеток, органов, организмов; и разные науки (физика, химия, биохимия,
биология, гистология, анатомия, физиология и так далее)
соответственно изучают явления этих уровней. Никто не сомневается в
существовании таких уровней и эволюционных стадий природы, ибо их явления
доступны нашим чувствам. Но перед лицом истории такие четкие
определения перестают работать, поскольку строго чувственное восприятие
и верификация субстанций невозможны вне индивидуума. И все же —
история началась, а реальное развитие уровней и стадий не прекратилось;
оно продолжалось, реально и концептуально, т. е. по ходу общественно-
политических процессов и сопутствующей им эволюции сознания.
Поскольку эти уровни и стадии не воспринимаются и не верифицируются
нашими чувствами, они не имеют силы при взгляде на историю как на
естественную науку. До начала XX в. ученые предпочитали выстраивать
явления высших уровней по образу и подобию более низких и совсем
низких уровней, например сводить органические структуры и процессы
к физико-химическим механизмам. И если не так давно ученые
перестали отрицать связи между различными уровнями, а, напротив, так глубоко
вникли в них, что границы между неорганической материей и жизнью,
похоже, почти исчезли, то они все же признают специфически новые
характеристики, всякий раз возникающие при переходе с одного уровня
на другой.
По причине того, что я называю вертикальным делением природы на
разные уровни физической реальности, - делением, детерминирующим
порядок специализации естественно-научных дисциплин, наука обрела
способность сохранять в создаваемой ею картине Вселенной всеобщую
структуру. Различные уровни физической реальности признаются и
будут признаваться на разных стадиях эволюции. Мы вот-вот научимся
создавать жизнь из неорганического материала, нам известны главные
направления эволюции Земли и живых форм вплоть до физически
совершенной человеческой формы, и из-за этого сохраненного наукой
структурного и эволюционного порядка она, пусть и разделенная на
множество дисциплин, все же служит ориентации человека в
окружающем его мире. Напротив, гуманитарные дисциплины, занимающиеся
сугубо человеческими материями — психикой, интеллектом, культурой,
социально-политическими вопросами, — развивают, скорее,
горизонтальное деление на разные области человеческой деятельности и
самовыражения. Тем самым в ходе строгой специализации чувство органической
связи человеческих способностей, самого человеческого существования,
было утрачено. До начала XIX в. чувство органической связи
человеческой жизни с человеческой эволюцией еще сохранялось; оно
поддерживалось верой в прогресс, а также изучением биологической эволюции.
Но под растущим влиянием научного анализа квазистабильных явлений
вкупе с крахом идеи прогресса понятие человеческой эволюции было
дискредитировано или, по крайней мере, отодвинуто на второй план.
163
Специализация гуманитарной науки приобрела форму изучения разных
человеческих функций, видов деятельности и способов выражения: язык,
эпистемологические и логические связи, искусство, религия,
психические, социальные, политические и экономические условия и так далее, в
их особом функциональном развитии. Среди всех этих функциональных
участков гуманитарной науки истории было отведено скромное место
для изучения событий прошлого — политических и культурных. В итоге
такого горизонтального деления гуманитарной науки на отчасти
стабилизированные, отчасти функционализированные участки человеческой
жизни, при котором эволюция человека в расчет не принималась,
история в целом предстала как нагромождение «отрывочных», «неотвратимо
конкретных» явлений и утратила способность служить людям
ориентиром в их собственном, человеческом мире и в ведении человеческих дел.
Генеральную линию поведения можно вывести только из
стереоскопического взгляда на историю, т. е. из взгляда на историю как на
последовательную эволюцию Человека, протекающую на разных уровнях, в разных
измерениях и на разных стадиях, причем разные эволюционные стадии
совпадают с переходом с одного уровня на другой. Первый,
доисторический переход с более низкого уровня на следующий, более высокий,
можно видеть в превращении обезьяны в человека, что означает
превращение сугубо физического, движимого инстинктами существа в сугубо
сознательное существо, управляемое разумом. И самый недавний
переход, начавшийся революциями конца XVIII в., живыми свидетелями
завершения которых мы были, — это переход с уровня индивидуума на
уровень коллектива, со стадии, где в ходе событий преобладал индивидуум,
на стадию, где центр тяжести сместился в сторону преобладания масс,
групп и организаций и где незамедлительное действие раз и навсегда
превратилось в действие инструментальное.
Эти переходы связаны с постепенным расширением
экзистенциального масштаба: определяющих единиц истории и сферы человеческого
сознания, — да они и являются его проявлением. На
общественно-политическом уровне эта эволюция (прошу не путать с прогрессом, имеющим
нравственный оттенок) идет от теократического храма-города к городу и
городу-государству, утверждаясь здесь, на земле, как светская общность
(даже Римская империя продолжала оставаться городом-государством);
затем, через посредство феодальных княжеств, которые первыми
придали некоторый политический вес негородской территории, к
территориальным государствам; от территориальных государств к династическим
и нациям-государствам; от наций-государств к вполне развитым нациям,
представляющим весь народ; от наций к блокам держав, цивилизаций и
идеологий, к целым континентам и даже межконтинентальным
образованиям; и наконец, к техническому, технологическому прообразу
«единого мира», который психологически весьма далек от своего
воплощения, но который вырисовывается как единственная альтернатива,
которую наука и техника предлагают в противовес иному достижению —
ядерному или биохимическому уничтожению.
Нет нужды более детально останавливаться на другой стороне:
широком распространении человеческого сознания, которое было то
носителем, то итогом общественно-политической экспансии. Проникновение
164
теоретической и прикладной науки в самые отдаленные космические
дали и в самые сокровенные глубины органических структур говорят
сами за себя. Знание, концепция — это осмысление. К несчастью, но
неизбежно человеческое осмысление, все больше внедряясь в
общественные институты, вышло за пределы индивидуального сознания.
Совокупность вечно развивающегося человеческого знания, вечно ширящегося
человеческого осмысления сфер и отношений, доселе невиданных,
сумма всех этих «известных», не известная ни одному живому человеку, есть
некое коллективное сознание, которое, как говорилось выше,
представляет собой достижение, но достижение, таящее в себе опасность.
Я дал определение истории как эволюции Человека, состоящей в
расширяющемся взаимодействии человеческих структур и человеческого
сознания, реальности и концепции. Поскольку история имеет
ощутимый, переживаемый, как бы жизненный размер непосредственно в
человеческой сфере во всех ее проявлениях, то в ней можно видеть полную
реальность — сплав изменения и непрерывности, частного и всеобщего.
Конечно, в известной мере свойства и виды процесса по ходу истории
повторяются. Поэтому и история в известной мере обладает научной
закономерностью. Но исторические закономерности неотделимы от
частностей; отграничить общее от частного в истории невозможно.
Своеобразие слишком разительно — и поэтому невозможно, и было бы ошибкой
пытаться вывести «законы истории», сравнимые с «законами природы».
Во внечеловеческой природе (в которой присутствует сугубо физическая
сторона природы человека) можно вычленить закономерности,
вероятно, по причине диспропорции расстояний, временных и
пространственных, не позволяющей уловить их полную реальность. Мы навсегда
обречены понимать только частичную реальность природы. В истории,
соразмерной нам сфере, вычленение всеобщего всегда будет казаться
надуманным и неадекватным, и на эти недостатки историки охотно
отвечают тем, что для них история состоит исключительно из частностей,
и утверждают, что в истории вообще нет никакого порядка, — тем самым
упуская из виду особый присущий истории порядок.
Думается, особый порядок исторического бытия заключается в
экспансивной эволюции, некоторое представление о которой я попытался
дать, и в различных уровнях существования, которые знаменуют шаги этой
эволюции. Сопряженность развития является по ходу истории, а
исторический эквивалент точности научных законов явлен в строгости этой
сопряженности. Чтобы хоть как-то прояснить этот момент, следует
добавить несколько замечаний о значении факта и причинности в истории по
сравнению с естественными науками.
Факт и причинность состоят в естественном родстве: причинность
создает стройную связь между фактами. Поэтому, чтобы установить
причинную связь между фактами, их надо вычленить и четко определить,
очертить. А такое возможно только при статичном, неизменном
порядке. При динамичном порядке, таком, каким видится логика
исторической эволюции, и четко вычлененные факты, и строгая причинность
рушатся. Разумеется, и в истории имеются четко вычлененные факты.
Например, можно установить, когда человек родился и умер, когда
разыгралось сражение или был подписан договор. Но точные исторические
165
данные играют иную роль и носят иной характер по сравнению с их
эквивалентами в естественных науках: они изолированы, причинно не
связаны друг с другом и из-за этой несоотнесенности ничего не объясняют;
они обретают релевантность только посредством связей с совершенно
иными фактами, с фактами, не изолированными, но существующими
только в сочетаниях — в группах, связках, цепочках явлений, в которые
они соединяются. Потому-то они и требуют отбора и интерпретации -
тех столь предосудительных отбора и интерпретации, которые могли бы
дать критерий достоверности только с выгодной позиции на уровне,
более высоком и широком, чем уровень наблюдаемых и описываемых
явлений. Поэтому при постижении истории мы снова движемся от
одного уровня к другому.
Возьмем, к примеру, Французскую революцию, которую профессор
Барраклаф, конечно, ничтоже сумняшеся отнес бы к катастрофическим
событиям первого порядка, в которых, по его словам, новое, «случайное
и непредвиденное... беспрепятственно врывается в прошлое». Но
Французской революции - действительно, поворотному пункту, если
таковой вообще был, — на самом деле предшествовала длительная
подготовка, и своими корнями она уходит во множество разных мест,
движений и уровней. Невозможно, да и нет нужды в данном контексте
детально излагать, как она вызревала; ее история была досконально
изучена и описана великими учеными. Хочу только напомнить, какое
множество перипетий предшествовало данному событию.
В сфере религии процесс секуляризации шел со времен позднего
Средневековья. Реформа Кальвина с ее пресвитерианскими и конгрега-
циональными установлениями12* вступила в противоречие с
монархическим принципом. Политические последствия этого вскрылись в войнах с
гугенотами13* и в решающем влиянии левеллеров14* на Английскую
революцию15*. В политическом отношении Французской революции
предшествовало освобождение Нидерландов16*, Английская революция, давшая
пример народной расправы над королем, и незадолго до Французской
революции — Американская война за независимость, влияние которой на
европейские умы трудно переоценить. Обратившись к
социально-экономическому положению, увидим, что Французское правительство
практически обанкротилось уже во времена Людовика XIV, а попытки
Кольбера17*, Вобана18*, Тюрго и Неккера19* заставить королей вести новую
экономическую политику, отвечающую веяниям времени, ни к чему не
привели, ибо эта политика предполагала политические изменения.
Крестьяне, повинности которых почти полностью превратились в денежные
подати, с готовностью откликнулись на революционные требования как
раз потому, что уже не были до крайности попранными и могли
помышлять об улучшении своего положения. Средний класс так разбогател, что
почувствовал себя ущемленным правительственными ограничениями в
коммерции и предпринимательстве: его будоражил пример английских
промышленников, приступивших к ниспровержению законов былых
гильдий. Царившие среди аристократов настроения скуки и
пресыщенности вкупе с выдыхающейся самонадеянностью сделали свое дело — и
их умы открылись революционным идеям Руссо, физиократов и
энциклопедистов. Завоевывала позиции материалистическая философия, а тех-
166
нические новшества упрочивали веру в прогресс. Все эти перемены
нашли отражение в искусстве, которое, в свою очередь, звало к новым
переменам.
Но это, конечно, всего лишь приблизительная картина
предреволюционной ситуации. Каждый отдельный из перечисленных мною
факторов есть целый комплекс мотивов и предшествовавших процессов.
Вглядевшись пристальнее в данную ситуацию, увидим, что конкретных
причин совершившегося в конце концов события ни убавить, ни
прибавить. Они не только бесчисленны — они проникают друг в друга и
воздействуют друг на друга. Изучение элементов всего этого комплекса
предпосылок уводит нас все дальше сквозь бесконечную вереницу
процессов, к самым разнообразным, удаленным в пространстве и во
времени событиям. Приходится учитывать политические, экономические и
мыслительные процессы в Нидерландах, Англии и Америке. Нас уносит
сквозь поступательную последовательность философских теорий и
методов к источникам рационализма и эмпиризма, к преобразованиям
концепции естественного права; к Декарту, Галилею20* и Копернику, и далее
до Средневековья. Это опять-таки произвольный отбор. Изучение хода
самой революции поведет нас к исследованию династического и
феодального мышления, контрреволюционных выступлений, всегда
способствующих радикализации революционных процессов, и, наконец, к
общественному фону и психологии ее вождей.
Французская революция явила собой наглядный переломный момент
в истории — начало перехода с одного уровня на другой. Но в этом
поистине революционном событии едва ли найдется что-либо случайное
или нелогичное, а если что-то и превращает ее в катастрофу, так это
зрелость данного момента и синхронное соединение тех сил и
обстоятельств, развитие которых началось задолго до нее. История есть
развитие, всеобщий непрерывный процесс, и причинность в нем беспредельна
и безгранична. Бесполезно спрашивать, почему что-то произошло, ибо
это уведет нас к началу времен. Prima causa, первопричина, отсутствует.
Единственный вопрос, на который можно дать ответ, - как все это
произошло. Если мы приступаем к историческому исследованию, то поиск
ответа на вопрос, как это случилось, может помочь нам проникнуть в
глубь механизма исторического процесса, если только не забывать о
различии стадий, уровней и параметров истории.
Делясь этими соображениями, я хотел сказать, что любое
историческое исследование, пусть даже узкоспециальное, должно вестись с учетом
особого характера истории и конечной цели исторического
исследования. Необходим новый взгляд на историю, свободный от двух
крайностей, которые, кажется, преобладают ныне: подражания естественным
наукам и отрицания всякой логичности и эволюционного порядка в
истории. Он, этот взгляд, необходим, чтобы вновь обрести ориентацию и
целеустремленность в расколотом человеческом мире.
1964
167
Живучесть мифа
Denn wer ist noch unbefangen Formen gegenüber,
die einen Namen haben ?
(Кто же будет беспристрастен перед формами,
имеющими имя?)
Рилькег
Для уяснения исторического понятия небесполезно обратиться к его
языковой основе. Греческое слово mythos, по мнению большинства
этимологов, восходит к mü, ти (му), имитации простейшего звука типа
мычания, урчания животных или раската грома; изначально это было
выражением любого нечленораздельного звучания: блеяния, жужжания,
рычания (лат. mugire, франц. mugir), журчания, гудения, громыхания,
завывания, бормотания или воспроизведения людьми звуков с закрытым
ртом; отсюда — немота (лат. mutus). От того же корня образовано
греческое слово тйеіп, туеіп — «закрывать», «закрывать глаза»; от него же
произошли мистерия и мистический. Следовательно, слова «миф» и
«мистерия» имеют общее происхождение.
В результате развития языка, которое столь часто превращает слово в
его противоположность (например, лат. muttire, «бормотать» и mutus,
«немой», дали во франц. mot «слово»), греческое ти, обозначающее
нечленораздельное мычание, превратилось в mythos «слово».
Итак, значение корневого звука в его узком смысле древние греки в
конце концов связали с mythos. Поэты и писатели древности то и дело
использовали mythos в смысле «слово» (например, у Гомера2* его
противоположением было ergon «деяние»); они не видели особой разницы
между ним и другими греческими понятиями, обозначающими «слово»:
epos и logos. Но постепенно mythos конкретизировалось: оно превратилось
в слово, обозначающее самое древнее, самое раннее повествование о
начале мира, некое божественное откровение или религиозную традицию,
слово о богах и полубогах и о генезисе космоса, космогонии; миф стал
полной противоположностью эпосу, т. е. повествованию о людях, и
(начиная с софистов) логосу, слову как рациональной конструкции.
Созревание человеческого сознания нашло отражение в движении от
мифа к логосу, от сказок о возникновении космоса из хаоса, как об этом
повествуют древнегреческие мифы, к иудейско-христианскому Слову
Божию, с помощью которого Творец разумным действием сотворил мир
и которое само по себе есть все творение.
Однако миф так и не был полностью вытеснен логосом', прорвавшись
сквозь столетия, миф жив и сегодня. Разум сможет упразднить его только
в том случае, если самые глубинные, примитивные пласты нашего
существования будут насквозь пронизаны рациональным мышлением. Но сам
миф претерпевает изменения, которые происходят по мере эволюции
нашего мышления и сознания; на него наслаиваются формы, методы и
результаты достижений нашего разума и потому миф порой нелегко
распознать.
В греческом понятии мифа можно обнаружить все основные свойства
и увидеть все преобразования, которые он претерпел до наших дней. Вот
168
основные черты мифа: он обращается к основам нашего бытия; он не
объясняет, но лишь повествует; он питается от анонимного источника
или от источника, ставшего анонимным; его утверждения бесспорны,
окружены аурой святости и поклонения; он дышит очарованием
непостижимого.
В своей первичной форме собственно миф (наивное предание) един
с тем, что он передает: генезис мира и жизнь божеств. Прошлое
неотделимо от настоящего: оба причастны к безвременью, соединяя в себе
вечность и сиюминутность. Это означает (и даже налагает отпечаток на
функционирование мифа в наше время), что мифология была формой жизни
и поведения. «Между мышлением и действием нет лакуны... Говорят, что
в древности "эго" и его самоосознание были открыты прошлому,
которое, проникнув в "эго", вновь оживало, оказываясь "снова здесь"... В
древности человек умел ощущать своих богов в этом мире живыми.
Точно так же и жизнь человека тяготела к тому, чтобы войти в создания его
мифологии и проверить их»1. Эта самая ранняя стадия «жизни в мифе»
неожиданно пробивается даже у Наполеона3*, который «сожалел, что
современное состояние сознания не позволяет ему, как Александру
Македонскому, провозгласить себя сыном Юпитера-Амона. Но вряд ли
можно сомневаться, что в период его Восточной кампании он мифически
мнил себя по крайней мере Александром, а позднее, ограничившись
Западом, заявил: "Я — Карл Великий". Заметьте, он не сказал: "Глядя на
меня, мир вспоминает его" или "Мое положение подобно его
положению", или даже "Я словно он", а сказал: "Я— это он". Вот она—
формула мифа»2.
Стало быть, сначала миф появляется как данное — рожденное, а не
рукотворное. Но вскоре человеческие «творцы», поэты (от роіеіп делать,
творить) начали развивать и расцвечивать его, вплетая в него новые
вымыслы. Когда труд поэтов воплощается в памяти народа и освящается
традицией, неоспоримый авторитет мифа распространяется на них и на
то, о чем они говорят. Сами люди, внесшие в миф свою лепту,
становятся его частью; мыслится, что они (поэты, провидцы и мудрецы)
вдохновлены богами. От их личности и жизни веет мифом; так было с
древнегреческими философами, а также с родоначальниками и пророками религий
Востока. Тому примерами Эмпедокл4* и Илия5*: оба (один бросился в
Этну, другой вознесся к небесам смерчем) являют свою связь с чем-то
потусторонним, возвращаясь в земные глубины или в выси космоса.
Платоническая философия рационализирует миф, или, можно сказать,
придает вновь открытой человеческой системе логического мышления
форму новой мифологии. Платон попытался разрушить древние
мифические повествования об очеловеченных богах и заменить их мифологией
идей как парадигм6*, мировой душой и демиургом7*.
Так возникает вторая форма мифа: мифизация насквозь человеческих
мыслей и творений. Привычка видеть мир как миф настолько въелась в
Платона, что его рассказ о мире человеческой мысли немедленно и
непроизвольно приобрел мифический характер. Этот процесс, мифизация
человеческих элементов, позднее стал более явным, т. е. вполне
историческим: обычные люди и события, даже рукотворные, рационально
спланированные события, ретроспективно преобразовывались в миф.
169
Личности, реальные или вымышленные, если в них находили
выражение судьбы, устремления, позиции, типичные для человека или
конкретных групп, приобретали мифический характер. Самые
могущественные средневековые императоры: Карл Великий, Отгон Великий8* и два
Фридриха из династии Гогенштауфенов9*, по мере увядания в памяти
народа приобретали мифическую окраску и наделялись всевозможными
атрибутами из языческого германского или христианского культа. Они
не умерли, но продолжали жить в глубинах горных недр, и люди ждали,
что они выйдут оттуда в урочный час как мессии и спасители
христианского мира и немецкого народа. Для французов, да и для всего XIX в.,
такой мифической фигурой, имевшей мало общего с реальным
человеком, стал Наполеон. Для миллионов людей уже давно превратился в миф
основатель нового общественного строя Ленин10*. А удивительное
восхождение Гитлера11*, его чудовищные деяния, его показное
«вдохновение», его эксцентричность и его резиденции под землей и на вершинах
гор — все это сделало его парадигмой мифизации. Еще при жизни он стал
почти мифическим, а если учесть таинственные обстоятельства его
бесследного исчезновения, то он, возможно, намеренно уготовил себе
легендарное бессмертие.
Любой культ героев невольно мифизируется. При этом происходит
любопытное взаимодействие сотворения и одновременно сохранения
дистанции: люди отдаляют себя от героя, преувеличивая его необычные
свойства, и при этом они, кажется, всячески стараются приблизить его
с помощью отточенных деталей. Существование необычайного
доставляет людям массу беспокойств. Они выискивают и возвеличивают
необычное, одновременно страшась его; они томятся по утешительной связи с
ним; они порой вынуждены укреплять свое «эго» участием в нем.
Нередко, чтобы не дать природе выйти за рамки рационального объяснения,
они склонны видеть в исключительном сверхъестественное. И
действительно, в природе немало непознанного: есть в ней и непостижимые
явления — «сверхъестественные», как говорили в былые времена.
Любая колоритная историческая личность, любая богатая событиями
жизнь, фактически все, непохожее на других, в деревне или в городе,
несет в себе зародыш мифа. Трепет, пронизывающий при виде всего
чуждого и аномального, может стать стимулом развития мифа в
благоприятном историческом климате, т. е. когда какое-то волнение в
народе или группе послужит тому стимулом. Зародыши мифа вечны и
вездесущи. Наши современники, для которых рациональность и реализм так
много значат, падки до сплетен о личной жизни известных людей и
особенно об их самых колоритных и странных причудах; они не осознают,
что в этом своем желании они потакают рудиментарной жажде
мифизации. Газетчики и радиожурналисты, сообщающие, что такая-то
кинозвезда жаждет одиночества, а такой-то премьер-министр обожает
лимоны, сами того не ведая, выступают преемниками древних бардов.
Мифологизируются и литературные персонажи: Дон Кихот12*, Дон
Жуан12*, Доктор Фаустус14*, Вечный Жид15*, Тиль Уленшпигель16*, Рип ван
Винкль17* и Швейк18*. Во всех них типичный народный характер или
человеческая черта, или особенность внешности живет как
иррациональный образ, который можно только описать, но нельзя объяснить и кото-
170
рый ассоциируется с этим особым внешним видом и жизнью. В таких
персонажах люди узнают себя; в них они видят своих затерянных в
глубине веков предков или архетипы19* своих духовных прародителей. Но
если древние мифологии виделись людям живой реальностью,
сравнимой с реальностью исторических событий, то реальность современных
мифов - всего лишь конденсированная реальность символа.
Разумеется, век Рационализма20* объявил миф вне закона и лишил его
всякого жизненного значения. Наш мир (так мыслилось) должен все
больше обустраиваться и определяться исключительно логикой и
эмпирическими исследованиями. Мир уверенно двигался в направлении
поставленной цели, а между тем подспудно шел процесс мифизации, и он
просочился оттуда, откуда его меньше всего ждали: из самих
рационалистических посылок.
События или действия, которые в эпоху Просвещения привели к
становлению современного демократического государства: Французская
революция, Декларация независимости и Конституция США и, самое
главное, — идеи и посылки, на которых зиждился новый политический
порядок, естественное право21*, гражданские свободы, идея прогресса и
неизменные блага, которые несли достижения техники, - все это
подчинялось анонимному, незаметному процессу мифизации. В книге Теория
делового предприятия Торстейн Веблен22* показал, что вся
англо-американская юриспруденция и цивилизация основаны на признании
святости частной собственности как неотъемлемого права человека —
доктрина всесилия разума сама стала мифом.
Все это было прочно, раз и навсегда мифизировано как незыблемый
фундамент современного мира и было признано как святая святых.
Эпоха Просвещения стала космогонией нашей цивилизации. Люди не прочь
забыть, при всей их вере в прогресс, что условия жизни человека не
стабильны, но подвержены вечному изменению и что основные допущения,
на которых зиждятся их системы, следует вновь и вновь пересматривать,
чтобы не дать процессу мифизации и догматизации глубоко укорениться
и вытеснить изначальное рациональное значение. При его живучести и
упрямом притязании на жизнь человека миф готов возникать снова и
снова. Первые испытания разума не гарантируют безграничной и постоянной
действенности законов. Отсюда — парадоксальная ситуация, при которой
предположения рационалистического толка должны подвергаться
сомнению, чтобы соответствовать той самой претензии на рациональность.
Надо устранить неизгладимость, мифическую неизменность этих
предположений. И начать следует с признания самого факта, что их навязывание
мифично, что вся наша жизнь и мир основаны на мифе и пронизаны
мифом, что миф нерасторжимо связан с людьми и что он отвечает
примитивной потребности человека. Ныне ученые-мыслители осознают, что все
основные допущения в любом рациональном построении, достойном
этого названия, суть «предположения», т. е. постулаты. «Аксиома» уже давно
превратилась в своего рода миф или несет на себе печать мифа.
Мифизация порождается не только человеческой инерцией, не
только постоянной регенерацией жажды мифа, но и боязнью изменений,
потребностью человека не допустить, чтобы что-то своим вторжением
нарушило размеренный уклад его жизни. В глубокой древности жизненный
171
уклад был завещан Богом; искренне полагали, что его всемогущество и
власть распространяются на все бесчисленное множество укладов,
благодаря чему страх перед непостижимым утрачивал масштаб и остроту.
Миф был одним из средств связи с Богом, сближения и добрых
отношений с ним, установления надежного контакта между человеком и Богом.
Другими средствами были чародейство и волшебство.
Прошли века, и космос и человек и его институты лишились
божественности. Космос открыт для бесконечных исследований, а в своей
истории человек переживает перемены, изменения образа жизни. Он
сделал разум, его суждения и выводы тем прочным фундаментом, на
котором он может спокойно заниматься повседневными делами, на
котором происходят изменения и материальный прогресс. Для этого, чтобы
не напрягать свои мозги, он хочет придать рассудку стабильность,
поставить его вне сомнения; и это он неосознанно делает путем его мифиза-
ции. Таким образом, мифизация теряет свою конкретику; она уже не
обретает формы образов или идолов, но превращается в чистую функцию.
Страх человека перед коренными изменениями и перед отверзаемой
ими пропастью, страх человека перед собой и своими внутренними
глубинами, в которые он предпочитает не вторгаться, используются силами,
кровно заинтересованными в сохранении статус-кво и выступающими
против любой радикальной реформы. Поэтому эти «консервативные»
силы нарочито культивируют общую тенденцию мифизации основ
государства и традиционного образа жизни и даже блокируют, где только
можно, самую дискуссию о них. Неважно, насколько рациональны
первоосновы, - становясь нерушимыми и священными, они становятся и
все более иррациональными.
Конечным итогом всего этого стали фашистские движения. Они
просто пошли напролом и сфабриковали собственные мифы ради
достижения своих целей: вдохновенный фюрер, иерархия, чистая раса и т. д. И
даже излагая эту мифологию современным научным языком, они не
скрывали ее иррациональности, на основе которой развязали кампанию
против разума. С помощью этих хитрых мифов и их
неприкосновенности, нарушение которой каралось законом, нацистам удалось подорвать
нравственные устои нашей цивилизации — устои, которые в свою
очередь покоились на принципах, уже давно ставших мифическими. В этом
нацисты оказали нам услугу: то, что казалось лишь желаемым, они
сделали необходимым; мы, со своей стороны, вынуждены перекроить
принципы нашей цивилизации, подвергнуть их испытанию знаниями
нынешнего времени, а с другой стороны, заставить их действовать в нынешней
жизни.
Фашизм обнажил самую низменную потребность человеческой души,
которую отказывался признать век Рационализма. Желание прочной, не
требующей участия разума основы существования невозможно
искоренить. Отрицая эту человеческую слабость, полагая, что она преодолена
или преодолима или что она — пережиток древнего суеверия, мы не
видим таящейся в ней опасности, которая обнаруживается, если признать
и учесть эту слабость. И действительно, ныне такое желание оправдано
как никогда. Не только индивидуум в повседневности чувствует себя
беспомощно запутавшимся в хаотической сумятице, которую он не в состо-
172
янии распутать с помощью разума, но и на самых передовых рубежах
человеческого знания создалась ситуация, при которой экстремальное
расширение силы человека в то же время заставляет его заново осознать
свое вековечное бессилие перед тайнами космоса. Пределы нашего
разума становятся все очевиднее, и сами естественные науки умаляют
рационалистическую самоуверенность в возможности безграничного
покорения человеком природы. В новейших выдающихся достижениях
физика оказалась на рубежах, которые, похоже, не поддаются
рациональному постижению. Наука вторглась в глубины реальности, где
явления уже невозможно описать, но можно только схематизировать, т. е.
символизировать. Она так углубилась в сокровенную структуру
элементов, что открыла способы их преобразования и, таким образом, стала
признавать сами элементы лишь особыми устройствами, связями общих
энергий. Она не только явила всеобщее превращение материи, но и
материю как превращение, и даже воспроизвела это превращение и сделала
его орудием человека.
Физика на новом уровне сплавляет внутренний и внешний миры
воедино, постулирует на эпистемологической основе единство, которое
признавалось как данность на древних этапах истории религии.
Между наблюдателем и объектом наблюдения существует тесное
взаимодействие: они влияют друг на друга и изменяют друг друга. Научные
открытия, полностью превращая объект в комплекс отношений, увели
физиков еще дальше от мира чувственных восприятий в мир
абстрактных понятий, которые можно выразить только математическими
символами и верифицировать косвенным путем. Исследование идет через
понятийные действия; и оперирующий ум, признанный фактором,
обусловливающим то, что он формулирует, должен находиться внутри,
а не вне явления. Любопытно, что при этом физика, начиная с
внешнего мира, перекликается с теорией психоанализа23*, который, начиная
с внутреннего мира, достигает слияния внешнего и внутреннего миров,
рассматривая реакции, направленные вовне, как проекции внутренних
состояний. Физика, при всем ее триумфе, пробуждает в человеке
первобытный ужас перед лицом непостижимого, которое вновь возникает
на периферии внешнего мира; психоанализ вскрывает скрытый страх
человека перед своими глубинами. Но физика, равно как и
психоанализ, свидетельствует, что эти тревоги — функции друг друга, что они —
один и тот же страх перед неизвестным, которое и есть подлинный
источник мифа.
Есть уровень явлений в мире и в человеке, который оказывается все
более неподдающимся осмыслению даже в рациональном исследовании.
Рациональный контроль нашего мира возможен лишь в ограниченных
пределах и действителен лишь в ограниченные периоды. Ничто нельзя
признать конечным — конечное превращается в миф. Надо все время
быть начеку, чтобы исследовать и пересматривать основы нашей жизни
и не уклоняться от перестройки наших систем, когда эти основы
сдвигаются. Надо приучать себя к жизни на этой зыбкой основе, которая уже
давно стала основой развития науки.
1946
173
Реальность утопии
Эта статья была написана для «круглого стола»,
организованного журналом «Американский ученый» (The American
Scholar) на тему «Жизнь с атомом» и опубликована весной
1946 г. Она вошла в данный сборник не вопреки, а
благодаря тому, что устарела. Мне кажется немаловажным
показать, каким представлялось будущее вскоре после
Хиросимы, и тем самым сопоставить то, что изменилось в этом
представлении за последние двадцать лет, с тем, что, на мой
взгляд, осталось неизменным и упорно, настырно живучим.
Создание атомной бомбы не послужило возникновению существенно
новой ситуации, но тем не менее в корне изменило мир. Состояние, в
котором человечество пребывает ныне, не отличается от того, что было
до Хиросимы; это — состояние, которое давно и незаметно
подкрадывалось к нам. Просто атомная бомба одним ударом позволила всем
ощутить и увидеть его. То, что раньше можно было счесть
экстравагантными рассуждениями интеллектуалов и просто отмахнуться от их слов как
от душеспасительных назиданий, звучащих с подиума или кафедры,
теперь встает перед человечеством как неминуемая, зловещая реальность —
это не слова, а факт, осознание которого — единственно новое, что внес
«атомный век». Но это, безусловно, потрясающая новизна, ибо она
совершенно перевернула взаимосвязь между идеей и реальностью:
«утопия» (мировое сообщество) является ныне единственной реальностью, а
все предшествующие «практические» и «реалистические» понятия
(национальный суверенитет, государственная политика и безудержная погоня
за экономической прибылью) стали отныне явными иллюзиями.
Парадоксальная, просто фантастическая сторона этого процесса
состоит в том, что он возник не как результат развития человеческого
разума и морали, чего ожидали оптимисты эпохи Просвещения XVIII в., но
благодаря совершенствованию технической оснащенности жизни, на
самом деле связанной с отставанием, даже со снижением уровня разума и
морали. То, что предстало взору за последние полвека, — это все большее
расхождение между быстрым развитием техники и отстающей от него
способностью человека понимать и контролировать эффекты этого
процесса. И сам механизм технического развития превратил, вопреки целям
человека, мечту непрактичных энтузиастов о мировом единстве в такую
насущную и реальную необходимость, что от ее осуществления зависит
выживание человеческой цивилизации.
Обратимся к этому процессу. В Средние века вся мысль и наука
опирались на толкование Божественного Творения и Провидения. Христианское
учение ставило непререкаемый авторитет выше человеческого ведения,
отсюда — роль авторитета в деятельности человека. Это значило, что для
людей того времени поведение индивидуума было неразрывно связано со всем
человечеством и со Вселенной, — воплощением или олицетворением этой
целостности был Бог. Эта целостность в обличий Бога (который в каждый
миг жизни человека благодаря вере и власти Церкви обретал высшую
реальность в делах человека) могла возложить на индивидуума некую ответствен-
174
ность и призвать его на духовный суд в загробной жизни. Целостность,
человеческий мир и космос, обладали реальностью и авторитетом, а у
человека была душа, о спасении которой он пекся.
Оба эти условия очень важны, ибо говорят о реальности и авторитете
морали. Какие смертные грехи, переоценка ценностей и конфликты не
вставали на пути ученых, вырабатывающих аналитическое мышление и
эмпирическую науку! Какими только препятствиями на пути развития
экономики не были запрет Церкви на процентный доход и ее закон
«честной цены»! Дела шли неважно, но позиция индивидуума имела изрядное
значение; в своей сфере конкретный человек мог, худо-бедно, влиять на
события.
В позднее Средневековье сила догмы подрывается крушением
Священной Римской империи, Реформацией и быстрым развитием
экономических и рационалистических течений. Эмпирическое исследование
природы и использование ее сил вырвались на свободу. Но когда
человеческий разум, являя себя в великих философских системах, стал еще
более автономным и как наследник Бога стал вместо него выступать
целостностью, то эта целостность должна была постепенно утратить свою
непреодолимую силу. Так как разум стал всемирным, то остался без
высшего духовного суда, перед которым человек отвечал за свое поведение.
Его аргументы и решения были многообразными и запутанными и
приобретали безусловную действенность, лишь когда практические
результаты прикладной науки давали им конкретное и достойное
подтверждение. Умозрительная теория, изучение и толкование целостности
утратили силу и были дискредитированы, а научный поиск, обладая
видимостью непогрешимого критерия истины в его экономическом и
техническом приложении, обрел исключительную власть над
человечеством. Порох и компас, хронометры и телескопы, сила пара и движимая
ею механика, изобилие удобств и комфорта, произведенных ею, а
впоследствии все то, что дало использование электричества, двигателя
внутреннего сгорания и электромагнитных волн, - мириады этих продуктов
прикладной науки стали видеться вехами, силами, формирующими
реальность и управляющими ею, стали самой целью жизни человека.
Промышленная революция знаменовала собой перелом. До той поры
в мире все еще господствовали человек и отношения между людьми.
Оставалось время для досуга и размышлений, и человек еще был способен
изучать духовное и материальное строение мира. Поборники
рационализма эпохи Просвещения еще надеялись, что усовершенствованные средства
покорения природы могут привести и к усовершенствованию самого
человека. Живя в лучших, более здоровых условиях, заставив машины
работать за себя, человек смог бы отдаться умственному и нравственному
совершенствованию. Более высокий уровень образования и большие
возможности просвещения высветили бы его разум и врожденную
порядочность, которые, согласно представлениям того времени, были сокрыты в
каждом человеке, но им мешали суеверие и деспотизм. И, раз и навсегда
освободившись от опеки Церкви и монархии, человек приобрел бы еще
большую внутреннюю и внешнюю свободу. Вот таким виделось будущее.
Но промышленная революция породила нечто совсем иное.
Гигантское производство товаров, приспособлений и устройств росло, затопляя
175
самое присутствие и сознание человека и насаждая новую, худшую
тиранию. К этому привели два непреодолимых и тесно взаимосвязанных
процесса: технизация и коллективизация. Постепенно техническая
оснащенность жизни встала между человеком и человеком, возведя
механические связи, создавшие между людьми естественный раскол, отчуждение и
новые искусственные связи. Или точнее: она разделила индивидуумов, но
сплотила массы, воздвигнув связи между объединенными группами, тем
самым перенеся арену решающих событий с индивидуальной на новую,
коллективную, плоскость. Конечно, этот перенос означал большую
подчиненность и униженность индивидуума.
Вот всего несколько примеров. Кино в значительной мере
вытеснило театр. В театре между актером и публикой, для которой он играет,
возникают явные, сиюминутные, живые связи, непосредственность реакции
от человека к человеку, так или иначе воздействующие на каждый
спектакль. В фильмах актеры играют перед техникой, единственным
средством коммуникации с совершенно анонимной, всемирной и
выключенной из конкретного времени и места массовой аудиторией.
Между клиентом и ремесленником (портным, сапожником,
столяром-краснодеревщиком), между человеком и его соседом в прошлом
существовала тесная связь, основанная на личном доверии. Но ныне между
клиентом и поставщиком стоят машины массового производства и
механический транспорт; и жители современного метрополиса имеют
больше общего с коллегами, чем с соседями, которых они едва знают. С
другой стороны, те же машины массового производства, распределения и
коммуникации разделили сообщество на специализированные и
дифференцированные группы потребления. А между этими группами, между
самыми удаленными друг от друга нациями и сообществами во всем
мире они создали такую тесно увязанную по своему характеру и сложную
взаимозависимость, что индивидуум теряет всякое представление о
своем месте в этой огромной сети.
Вовлеченный в такие гигантские массовые связи, индивидуум
чувствует себя безнадежно ничтожным, бессильным и невежественным. В
суматохе будничной жизни и дел в метрополисе, где пресса и радио, то
и дело передающие срочные новости, сметают даже события
вчерашнего дня, в этой обескураживающей мешанине невозможно выстроить
никаких связных воспоминаний, а потому и никакого сопряженного
знания. В условиях быстрой коммуникации и взаимодействия событий все
происходит намного стремительнее, чем прежде. Фактически,
происходит гораздо больше и при этом гораздо сложнее для понимания; и все,
что происходит (даже больше, чем на деле), постоянно записывается.
Даже то, чего на самом деле нет, ложь, выдаваемая нарочито или
впопыхах за правду, вызывает в ответ реальные события. Научно-технические
открытия стали гигантским, постоянным процессом, который вливает в
повседневные события поток новшеств и изменений, глубоко
затрагивающих самые основы жизни. Но кому это известно? Кто способен
понять это и не отстать от всего этого? Какой ученый способен
поддерживать контакт со всеми науками, смежными с его сферой деятельности, не
говоря уже о достижении всеобъемлющей картины нынешнего знания?
Какой человек, даже в правительствах и парламентах, обладает всесто-
176
ронней оценкой хотя бы сиюминутной ситуации, не говоря уже о том
будущем, что едва брезжит из глубин ежедневных событий?
Такое состояние дел чревато несколькими зловещими последствиями.
Поскольку ни один человек (будь он даже весьма близок к политическим
процессам) не в состоянии понять всю ситуацию или овладеть ею,
истинное течение событий (наперекор всем фюрерам и диктаторам)
становится неуправляемым, чистым автоматизмом. Вообще, фюреры и
диктаторы — прямое следствие такой неуправляемости, паллиатив
отсутствующего человеческого руководства. Индивидуум, который не
может более понять в высшей степени сложную ситуацию или проникать
разумом в лабиринт подавляющего материального автоматизма,
чувствует себя брошенным на произвол судьбы. Он отчаянно цепляется за
упрощения, подменяя целое доступной его пониманию частью. И из-за
этого упрощения он становится жертвой латентных иррациональных и
эмоциональных течений, бесконтрольных импульсов и предрассудков,
детерминируемых традициями или профессией, классом или
собственностью, которые он рационализирует вслед за событием. Наконец,
индивидуум подвержен атавистическим пароксизмам насилия и
соответственно демагогам, самым грубым упрощенцам, которые в любой
оппозиции усматривают первобытное олицетворение враждебности; тем
самым они дают волю всяческому раздражению, страху и панике,
которые непонятное пробуждает в индивидууме при виде ветряных мельниц,
другой нации, другой расы, класса или группы и ее подлых вождей.
Другая группа и ее вожди, действуя и реагируя в том же духе, наделали
немало ошибок, совершили немало преступлений и потому виновны и
должны дать реальное обоснование и оправдание тому, в чем их обвиняют.
Конкретный человек, который для облегчения понимания и действия
упрощает ситуацию и персонализирует объекты, совершенно не думает,
что он тем самым постепенно выключает свой разум. Он упрощает,
чтобы избавить себя от рационального осмысления того, что иначе понять
невозможно, не замечая при этом, что что-то в нем перестает разумно
воспринимать истинную ситуацию, что его упрощения и личные
проекции отбрасывают его к условному и эмоциональному поведению (а в
наше время это означает коллективное поведение). Он не знает, что
именно тогда, когда он не в состоянии понять истинную сложность, он
скатывается к стандартизированным коллективным интересам,
представлениям и предрассудкам, которые уже образуют большую часть его
личности.
Коллективные представления и коллективная воля посредством
миллионов иррационально или полурационально реагирующих
индивидуумов сталкиваются друг с другом и, сражаясь вслепую, еще
больше усугубляют ситуацию. Пока коллективная воля действует только
эмоционально; она еще никоим образом рационально не организована.
Средства трансформации коллективной воли в коллективное сознание
еще не найдены. Никакая форма нынешней демократии и никакая
форма социализма, хотя русские сделали первые шаги в этом направлении,
не решили эту задачу. Такая трансформация означала бы, что
индивидуумы сознают свою коллективную обусловленность, что они учатся
узнавать особые группировки как взаимосвязанные части общего целого, ли-
177
шенного лидера, автоматически идущего вперед, - целого, в тенета
которого все они попались. Не видно даже истинных границ этого целого.
Не только группы (национальные, профессиональные и экономические),
но в Западном полушарии даже индивидуумы все еще полагают, что они
могут или по крайней мере могли бы принимать самостоятельные
жизненные решения, если бы им не мешали коварные враги. Проблемы все
еще принимают вид конфликтов.
Итак, развитие за последние 150 лет являет собой двусторонний
процесс. С одной стороны, — бурное развитие технической оснащенности
жизни и науки, отделяющее людей друг от друга как индивидуумов,
разбивая их на обособленные и стандартизированные группы. Более того,
оно создает такую тесную взаимозависимость групп в государстве и в
мире, что обо всех событиях становится известно почти всюду и почти
одновременно, а мир приближается к техническому единству. С другой
стороны, в той же мере индивидуум низводится в состояние
ничтожности, бессилия и невежества.
Создается впечатление, что рациональные силы объективизировались
в далеко простирающиеся и многосторонние технические процессы и
стали автономными, независимыми и оторванными от человека.
Коллективное сознание таится в технике. Хотя отдельный человек может
посвятить себя на фабриках и в лабораториях специальным задачам высшей
рациональной сложности, весь мир все больше и больше отдаляется от
него. И в его отношении к этому целому, к общим вопросам
человечества, он становится все менее способным понимать и принимать
решения. Он все чаще действует иррационально, эмоционально и,
совершенно не осознавая этого, оказывается жертвой коллективных течений и
устремлений, которые ныне, как и всегда, тяготеют к примитивному
состоянию упрощения и персонификации проблем.
В этой тенденции заложен упадок нравов, нравственное вырождение.
Ибо нравственность есть не что иное, как отношение к целому -
позитивное или негативное, способствующее или препятствующее его
развитию. Если же знание целого и ориентация в нем становятся
невозможными, то индивидууму, объятому ужасом, грозит быть смытым первой же
волной импульса или случайности. Если для кого-то человеческая
история уже не предстает живой и единой, то и братство людей для него -
пустой звук.
Такие условия воцарились задолго до взрыва атомной бомбы. Этот
взрыв стал практическим итогом исследования природы, достигшего
пределов высшей теоретической абстракции, и являет собой самый акт
перехода от крайнего материализма, от изучения материи, в крайнюю
духовность. Самая важная сторона этого события - высвобождение
атомной энергии в практических целях. Атомная бомба — лишь первая стадия
этого протяженного процесса, так быстро принесшего плоды благодаря
бешеной гонке воюющих сторон за главное оружие. И этот пример в
самых грубых чертах являет состояние описанных здесь человеческих дел.
Практическое использование энергии ускорилось не для решения
наиболее насущных проблем жизни общества, но для того, чтобы вложить в
руки групп, ведущих давно пережившую себя борьбу за власть, самое
смертоносное оружие всех времен.
178
Но оружие оказалось таким смертоносным, сводившим все военные
действия к полному уничтожению немногих пунктов в считанные
мгновения, что человечество, или по крайней мере цивилизация, встало
перед леденящей альтернативой: быть или не быть. Автоматизм техники,
который уже давно противостоял устаревшим способам человеческого
мышления, начинает восставать против неправильного, пока что
разрушительного использования технических достижений. Техника
противится, ставя последний ключевой вопрос.
И это лишь начало. То, что натворила атомная бомба, крах
международной политической системы, — это, несмотря на все ее угрозы жизни
человечества, ничто по сравнению с тем, что открытое ныне
техническое приложение расщепления атома еще принесет в дальнейшем. Рано
или поздно будет невозможно помешать использованию атомной
энергии в хозяйственных целях. И когда наступит это время, человечество
окажется перед такими изменениями в сложившемся общественном
порядке, по сравнению с которыми все революции прошлого покажутся
просто детской забавой.
Техника, точно так же как религия и мораль, воспитывает человека
обещаниями и угрозами. Религия и мораль апеллируют к индивидууму,
и предлагаемый ему выбор имеет реальность лишь постольку,
поскольку индивидуум верит в реальность небесного мира или явно не
материального, духовного порядка. Для мира Средневековья небо и ад были так
же реальны, как парк аттракционов или концлагерь для мира
нынешнего. Но реальность неба и ада начиналась лишь в загробной жизни.
Когда нравственность заняла место религии, четкие контуры и
личные ожидания неба и ада сменились ожиданием Прогресса, страны
несбыточной мечты, существующей на земле и в человеческой жизни
вообще, но существующей в идеальном будущем, которого так и нельзя
будет лично вкусить сполна. И когда в конце концов первоначальный
идеал человеческого прогресса дегенерировал в насаждение все более
высокого «уровня жизни» и отчасти затянулся дымкой, а отчасти
дискредитировался событиями, то связующая сила нравственности стала все
больше ограничиваться частной сферой. Она стала действенной лишь для
быстро убывающего меньшинства индивидуумов, сохранивших в душах
критерий целостности, некогда воплощенный в Боге (совести или
сознании целостности), и пронесших его по жизни как часть своей личности,
как «сверх-Я». Перед лицом политических и экономических процессов
нашего века любой, пытавшийся всерьез приложить нравственные
мерки к общественным делам, бывал осмеян как опасный безумец,
потерявший чувство реальности. На проекты тесно объединенного мира,
мирового сообщества навесили ярлык утопических. А с другой стороны, кому
бы пришло в голову, еще совсем недавно, что ничем не сдерживаемая
капитуляция перед практическими и техническими приемами и отказ от
любых принципов действительно могли бы довести мир до такой
степени разброда и коррупции, какие он испытал за последние годы?
Обещания и угрозы нравственности, стало быть, представлялись
большинству призрачной страной далекого будущего. Поскольку
ничего не случилось, они утратили реальность. Но вот неожиданно
практическое орудие, техника, вырастает перед человечеством как обещание и
179
угроза, и они наполнены неизбежной, безошибочной и вполне земной
реальностью. Можно добиться единства и прочного мира на земле.
Можно даже не в столь далеком будущем оказаться в таком мире, каким он
виделся в эпоху Просвещения: в мире, где человек, овладев множеством
новых энергий, мог бы обрести комфорт и досуг и вести жизнь и более
свободную, и более гуманную. Но тем ближе и ощутимее угроза
физического уничтожения. И на этот раз обещание и угроза так тесно связаны,
что требуют радикального решения. Утопия родилась из самой
практики, и даже здесь, в ходе развития естественных наук, крайний
материализм превращается в крайнюю духовность.
Ныне мало толку в обещаниях. Тот, кто имеет капитал и обладает
влиянием, в них не нуждается, а тот, у кого ничего нет, в них не верит.
А исполнение обещаний выходит так далеко за пределы концепций и
опыта повседневной жизни, что никто и не согласился бы на рай,
повлеки он за собой изменения в привычных тенетах обстоятельств, в которых
мы так прочно и безнадежно увязли.
Угроза, конечно, производит большое впечатление. Ее отголоски то
и дело доносятся из радиоприемников, прессы и с трибун. И все же она
едва ли изменит поведение человечества — по крайней мере, не так
внезапно и радикально, как того требует этот неумолимый ультиматум
событий. Весь трагизм данной ситуации в том, что тот же процесс,
который довел моральный вызов до состояния технической реальности, в то
же время поверг человека в состояние, когда он менее всего готов
принять его.
Первой реакцией был парализующий страх и, как всегда, попытка
убежать, преуменьшить и отсрочить. Но физики и техники блокируют
один путь к спасению за другим. Они пришли к следующему:
бесполезно пытаться скрыть этот процесс. Научные данные атомного распада
общеизвестны физикам, где бы они ни работали; конечные стадии
технической реализации атомной бомбы, то единственное, что стоит на
повестке дня, могут наступить вскоре в других странах, а может быть,
готовятся втайне; тем больше угроза внезапного нападения. Огромная
стоимость этого изобретения — не помеха. Новые результаты физических
исследований смогут предложить завтра значительно более дешевый
способ производства. И, в частности, в России ныне готовы не постоять за
ценой.
По-настоящему эффективная защита от атомной бомбы немыслима.
«Поскольку агрессор в грядущей войне будет иметь преимущество
внезапного удара, — говорит один технический эксперт, — то мне придется
просить еще от года до пяти лет на разработку оборонительного оружия
(при условии, что я обладаю "ноу-хау") против новых способов
осуществления атомных взрывов... Атомные взрывы требуют не 90%, но 100%
защиты. Как достичь этого — неизвестно».
Вот таково нынешнее состояние дел. В будущем опасность может
безмерно возрасти. Систематически обостряющееся чувство открытия
занимает ныне тысячи голов, и работа ведется с лихорадочной быстротой.
Бомба, брошенная на Хиросиму, устарела в тот же миг. Стало быть,
нации и правительства так загнаны в угол обстоятельствами, что им не
остается ничего иного. И все же первые шаги на этом пути будут соверше-
180
ны не скорее, чем неуклонно вступят в игру старые иррациональные
(чуть ли не животные) запреты.
Вот в чем зло, в этом человеческом и моральном моменте. Неважно,
сколь упорно мы будем усердствовать в поисках технического пути к
спасению, какого-то нового превентивного механизма, который в конечном
счете оставит все без изменения, — все напрасно. Мы неизбежно
возвращаемся к человеческим и нравственным преобразованиям, к
изменениям в позиции человечества по отношению к целостности. Сама техника
раз и навсегда вышла за пределы сугубо технической стадии. Сама
техника стала нравственной силой.
На Московском совещании в декабре 1945 г.г было принято решение
учредить комиссию для изучения проблем атомной энергии и
предоставления соответствующих рекомендаций в Совет Безопасности ООН.
Главные проблемы — запрещение атомного оружия и возможность
действенных международных гарантий против его использования. Только когда
эти гарантии вступят в силу, секреты производства будут переданы в
ООН. Задумаемся на минуту, перед чем стоит эта комиссия.
Международное запрещение атомного оружия не дает в историческом
плане никаких гарантий еще и потому, что державы, которые ныне
хотят запретить бомбу, первыми пустили ее в ход без предварительного
предупреждения. Едва ли найдется хотя бы одно из положений
Женевской конвенции2*, которое не было бы нарушено в последних войнах,
как только представлялась возможность нарушить его, а страх возмездия
был не слишком силен. С тем же успехом можно было бы запретить
войну вообще, и это пытались сделать не раз, но безуспешно.
А как выглядят другие, технические гарантии? Состояние реальной
безопасности не воцарится в мире до тех пор, пока любое государство,
которое могло бы нанести внезапный ядерный удар, не встанет перед
перспективой немедленного автоматического ответного удара. Для этой
цели следовало бы создать всемирную сеть находящихся в
международном пользовании, надежно охраняемых и защищенных складов бомб и
международную службу для обнаружения и уничтожения в зародыше
всех этих планов и для охраны складов.
Кажется очевидным, что такие защитные меры могут надежно
проводиться только безусловным сверхнациональным авторитетом, своего
рода всемирным правительством. ООН таким авторитетом не является.
В своей основе это — альянс Большой Тройки, окруженной сателлитами,
это созвездие и соперничающие в нем силы и интересы можно
удерживать в неустойчивом равновесии только с помощью все новых
компромиссов. Всемирное правительство, достойное этого названия, стояло бы
над сферой интересов великих держав и было бы оснащено такими
орудиями контроля и верховной власти, какими располагает современное
демократическое правительство по отношению к своим гражданам:
законодательная, судебная и исполнительная власть. Его деятельность
должна была бы осуществляться по демократическим нормам (т. е. народные
выборы, а не правительственные назначения) всех народов, обладающих
хотя бы минимумом демократии в действии. Эти народы должны были
бы обладать равными правами и обязанностями, как американские
штаты внутри союза, с учетом при этом количественных различий населе-
181
ния. Использование атомной энергии имеет тенденцию к дальнейшей
демократизации международной сферы; рано или поздно оно приведет
к политическому равновесию малых народов и великих наций. Дни
великих держав сочтены.
Нет смысла заниматься самообманом. Эффективную безопасность не
купить дешевле, учитывая нынешнее состояние человечества:
постоянная угроза кризиса, заключенная в бесконтрольном автоматизме
мировых событий, и постоянно скрытые иррациональные коллективные
импульсы, обладающие громадными потенциалами.
Но перед лицом всего этого — насколько далеко современное
человечество от такой безопасности! Какие личные и национальные жертвы
пришлось бы понести, сколько прерогатив суверенитета отбросить,
какую ответственность взвалить на плечи ради общего блага! Какое
сопротивление пришлось бы преодолеть! И какой прозорливости, знания и
разумного самоконтроля это потребовало бы от человека! Итак, якобы
техническая структура, созданная для защиты от угрозы атомной бомбы,
шаг за шагом возвращает к таким задачам, как очищение и
рационализация демократических институтов, более всестороннее и интенсивное
образование, методическая попытка создать единую картину нашего
мира, — короче говоря, к ориентации на целостность и на человеческое
сообщество, т. е. к преимущественно нравственной задаче.
Нравственное преобразование — это единственное, что нам остается,
каких бы трудов оно ни стоило. Тем временем можно рассчитывать
только на милость судьбы. Всеобщий страх, на который многие надеются как
на обуздывающую силу, - весьма сомнительное средство защиты.
Между страхом и его объектом существует магическое взаимодействие,
тяготеющее к постепенной интенсификации и в конце концов к их
паническому слиянию. Во время кризисов страх никогда не был помощником,
полезным было только спокойное и тщательное взвешивание.
Недавно одна мама застала ребенка за такой молитвой: «Господи,
помоги нам погибнуть в одной катастрофе!». Эта молитва ребенка 1945 г. —
самое страшное предупреждение нашему миру. Ее следовало бы
расклеить повсюду: на кабинах для голосования, на стенах парламентов,
офисов и университетов, чтобы люди очнулись и вспомнили, за что они в
ответе.
Дополнение к Части I
*' В палеозойскую эру, говорит Даке, когда «стилем эпохи» был вид саламандры,
даже первые рептилии, или, вернее, те группы, которые вот-вот должны были
превратиться в рептилий, являлись в обличий саламандры. Впоследствии первые
летающие позвоночные были всего лишь крылатыми рептилиями. [Палеозойская
эра - одна из групп стратиграфической шкалы слоев земной коры и
соответствующая ей эра геологической истории Земли. Общая длительность оценивается в
340-350 млн. лет (началась 570 млн. лет и закончилась 230-220 млн. лет тому
назад). — Примеч. пер.]
1946
Часть вторая
Природа символа
ι
Любой изреченный звук, будь то экспрессия или общение, будь то
«язык» или форма предмета, имеет тенденцию к расширению и в
конечном счете к расщеплению того, что его порождает. Простое цельное
существование немо.
Самой рудиментарной, неартикулируемой формой изречения
звуками или жестами является экспрессия, т. е. реакция на стимулы боли или
радости, желания или страха. Но даже крик загнанного животного, стон
страждущего или умирающего существа — это симптом чего-то, знак чем-
то мотивированного чувства. Разумеется, это лишь знак него-то, не
обязательно знак кому-то или для кого-то; и он так близок к породившему
его источнику, что еще ощущается единым с самим существом.
Звуковая оболочка становится языком, когда требуется контакт с
окружающим миром и с помощью звука или жеста возникает своего рода
коммуникация. Коммуникация — это направленная экспрессия. Брачные
песни и предостерегающие крики птиц, хотя и порождены
элементарными побуждениями, но обращены к партнерам и собратьям; это сигналы.
«Танец» пчелы-разведчицы — уже шаг вперед: она передает детальную
конкретную информацию. Во всех этих случаях акцент смещен с простой
экспрессии на коммуникацию. Появляется нечто новое; звуковая
оболочка несет смысл, смысл для кого-то другого. Простой симптом, не
имеющий направления или лишенный намерения звук или жест, не
несет в себе смысла, но порожден причиной; вернее, он обладает смыслом
лишь для того, кто хочет узнать причину. А на подсознательном,
физиологическом уровне такой симптом, как боль, например, несет
предупреждение об органическом нарушении, т. е. передает некий смысл от
тела к сознанию. Но намеренно коммуникативная звуковая оболочка -
это не просто знак какого-то переживания; он что-то значит, он не есть
знак, он производит знак.
Посредством коммуникации живое существо выходит за рамки
своего существования гораздо дальше, чем посредством простой
экспрессии. Оно находит цель и опору в окружающей среде. В игру вступает
183
партнер, противная сторона, и он будет отвечать на существование
собеседника, порой противоречить ему и тем самым размышлять над ним.
И в ходе этого диалога в нем участвуют средства коммуникации,
широкий мир многообразных и многоуровневых звуков, слов, понятий и
выражений. И они, становясь все весомее, все более предметными и
автономными, все больше расщепляют существование на сектора и пласты.
То же самое происходит в процессе развития орудий, которые, как и
язык, представляют собой средства общения живых существ с
окружающим миром. Конечно, природные объекты и материалы, для которых
предназначены эти орудия, - не партнеры, каковыми являются живые
собеседники. Сопротивляясь или поддаваясь, они пассивно отвечают не
непосредственно тому, кто их изготовил или ими пользуется, но
безличной функции орудия. И все же они отвечают и, особенно на высших
стадиях технического развития, вынуждены отвечать на вопросы, заданные
им в экспериментах. Здесь, в использовании орудий и машин,
коммуникация обретает характер подчинения - подчинения объективного
материала человеку и, напротив, человека - объективному материалу.
Самые примитивные орудия (муравейники, птичьи гнезда, плотины
бобров, искусственные устройства для обитания и выращивания
потомства) являются «аккомодацией» — приспособлением окружающей среды,
особым видом обращения со стихией. Долгая история этих
материализованных процессов (от таких примитивных приспособлений, как
искусственные места обитания, до грандиозной структуры современной
техники) более наглядно выявляет те же особенности, что и эволюция
языка. Огромное царство аппаратов встало между человеком и природой,
и оно настолько расширило существование человека, что последнее
распалось на многочисленные пласты. Человек стал жить сразу в разных
сферах; и расширяя и продлевая путь знакомства со все более обширной
окружающей средой, направление коммуникации человека медленно
смещалось от непосредственного к опосредованному; практические
средства превращались в теоретические результаты или порождали их. В
наше время бывает так, что человек как индивидуум общается с
другими индивидуумами и использует сложные продукты тщательно
продуманного общения с природой личностно, в личных целях; и в то же
время в своей работе и даже как потребитель технических достижений он
живет и в мире, превратившемся в аппарат. Постольку, поскольку
человек стал распространять свое существование на многообразные сферы,
его коммуникация с внешним миром превращается в коммуникацию с
самим собой, в коммуникацию его практического ума с теоретическим
и (поскольку распространение во внешнюю сторону рефлексивно
вылилось во внутреннюю, психическую, экспансию) его «ego» с его «id», с
самыми глубинами его подсознания.
Использование языка и использование орудий тесно взаимосвязаны,
отличаясь лишь условием и местом возникновения. Слова и понятия
можно считать инструментами не только для того, чтобы договориться с
собратьями, но и для того, чтобы усваивать и интегрировать все более
широкие сферы объективной реальности и расширенного «Я».
Напротив, орудия могут являть собой средства приспособления к миру
объектов. Понятия — это орудия; орудия и машины (более разработанные и
184
усовершенствованные орудия) — материализованные понятия. Оба вида
коммуникации взаимно дополняют и поддерживают друг друга.
Даже искусство в своем начале было использованием магии как
орудия приспособления к себе других созданий или воздействия на живую
природу. И здесь снова общение с живыми силами в конце концов
превращается в диалог с объективной реальностью, видимой или духовной,
проникновением в глубины внешней или внутренней реальности. Но
искусство сохраняет изначальный характер магического даже в самых
передовых и совершенных произведениях; оно остается актом
волшебства даже на той стадии, когда перестало быть откровенно магическим
или культовым. Как наука, так и искусство развиваются по пути
расширения коммуникации, означающей расширение границ человеческого
существования. И та и другое стали, по крайней мере условно,
самодостаточными: теория для теории, искусство для искусства. Наука
превратила слова (рудиментарные понятия) в более сложные, теоретические
понятия; понятия — в формулы (орудия интеллекта); и таким образом, в
средствах коммуникации наука сохраняет насквозь инструментальный
характер. Искусство превратило слова и орудия в органически
соотнесенные, репрезентативные формы, т. е. образы, магическое — в
«образное». Это предполагает основные различия в самом обращении с
объективным миром, но не следует закрывать глаза на то, что и научные
формулировки, и художественные формы — это способы познания
действительности. Наука непосредственно подвергает анализу и
количественной редукции самую действительность, а искусство изучает ее
опосредованно, с помощью «образной» репрезентации сопряженных
экзистенций, или экзистенциальной сопряженности. Создавая такие
самостоятельные образцовые субстанции, искусство вводит третий вид
выражения — творчество. В искусстве коммуникация осуществляется
через творчество.
II
Именно на фоне этого процесса эволюции можно лучше всего понять
природу и развитие символа. Символ возникает на расщеплении
существования, конфронтации и коммуникации внутренней реальности с
внешней, при котором от простого существования отделяется смысл.
Коммуникация начинается со знаков, с подачи знаков, и, как говорилось
выше, только поданные знаки — это «значения», т. е. они несут смысл.
Тот простой факт, что звук или жест несет смысл, говорит об
изначальном утверждении двух уровней существования, а также двух конкретных
сфер — внутренней сферы мотивации и внешней сферы, от которой
требуется ответ на эту мотивацию, удовлетворение ее; оно утверждает их,
соединяя.
Любая подача знака — это связующий акт, акт, направленный на что-
то или на кого-то. При конкретном брачном зове или предупреждении
сигнал животных видов проявляется в несколько стабилизированной
форме, но не отделяется от живого сознания и не выделяется как
отдельная субстанция. Но слово, произнесенное имя человека или название
185
предмета — это материализованная фиксация акта «называния» или
«обозначения»; это застывший акт. Он начинается с того, что Альфред
Кожибский1* назвал присущей человеку «способностью связывать
время»; она связует не только пространство, но и время. Эта фиксация,
консолидация и протяженность связующего акта, это выделение значения
как отдельной субстанции и существующая связь разных сфер бытия
знаменуют реальное начало символа.
Лингвистический знак, укоренившийся в словах (и сохраненный на
письме), несет магическое заклинание, что было весьма ощутимо в
глубокой древности. Слово не ограничивалось простым обозначением, но
несло с собой ауру воздействия. Самое имя божества создавало
призывание и рудиментарно содержало магическую формулу во всех ее
вариациях и на всех стадиях. Проведенный по форме молебен, литургия,
литания - все это ритуально неизменные акты соединения с помощью
заклинания и культовой службы*1. Их буквальное значение по большей
части забыто или исчезло за напластованиями, оно укрепилось, сузилось
и тем самым превратилось в словесное орудие коммуникации с
божественными силами.
Итак, в магической формуле акт соединения превращается в акт
сокращения, стяжения. Но это еще не намеренное стяжение, итог долгой
ритуальной практики повторения. Соответственно, ширящаяся
коммуникация человека с окружающим миром, это беспрестанное задавание
вопросов и поиск ответов порождала более широкие и глубокие
вопросы и вычленяли новые сферы и уровни существования. Увеличение
расстояния между сферами создавало новые формы стяжения, намеренное
стяжение действительности, необходимое, чтобы коммуникация
человека (с его друзьями, с самим собой и с природой) стала более
управляемой. Такое вполне осознанное, намеренное стяжение есть абстракция,
значение которой неизмеримо возросло, когда человек столкнулся с
коренным изменением в характере окружающего его мира.
Имея дело с демоническими и божественными силами, человек
приписывал живым существам немало знакомых черт, присущих ему
самому, поскольку мыслилось, что этим силам присущи то же поведение, те
же желания и чувства, что и человеку. Они и были проекциями
собственных форм существования человека и потому воспринимали магическое
воздействие. Постепенно сфера этих сил оттеснилась по мере
расширения светской сферы, и возникло царство объективной реальности, в
корне отличной от природы человека. В этом обширном, безграничном мире
было трудно вообразить, с какими субстанциями придется иметь дело
человеку. Следствия были отсечены от живых источников. Свободные,
безличные энергии, казалось, функционируют автономно. Задавая
волнующие его вопросы этим силам, человеческий ум увлекался в
измерения, выходившие далеко за пределы границ, органически присущих
человеку, — будь то такой же человек, животное или божество. Таким
протяженным, безличным силам не подходил магический, т. е. личный
контакт. Они требовали «номотетического»2* подхода к определенным
закономерностям, являвшимся взору благодаря новой сверхчеловеческой
перспективе, диспропорциональной связи человеческих форм с
космическими. Эти закономерности, обещавшие предсказуемость, появились
186
как единственно возможное средство коммуникации с силами природы,
а понять их можно было только с помощью абстракции, сокращающего
акта мышления, который снова приобретал разные формы.
Простейшая абстракция — число. Понятие числа предполагает
двоякую способность: отличать разные единичные явления в
противопоставлении их простому повторению одного и того же явления и выделять
общее сходство из разнообразия единичных событий и явлений. Только
сходства или субстанции, связанные хоть какой-то идентичностью,
можно сосчитать.
Число возникло в глубокой древности, в век культовой
коммуникации и, как и слово, несло магическую нагрузку. (Возможно, оно даже
возникло в первобытном уме изначально через визуальные
конфигурации, которым приписывались магические силы.) Но оно стало играть
большую роль, когда перед лицом неодушевленного мира слова
оказались неспособными обращаться с безличными и безграничными силами,
к которым можно было приблизиться, только учитывая их
закономерности и общие свойства. Адекватным средством установления отношений
стало число. Изначально будучи абстракцией, оно скрывало в себе
зародыш дальнейшей бесконечной абстракции. Взаимосвязь числовых
абстракций в арифметике (от греческого arithmos «число») была обобщена,
т. е. снова абстрагирована, когда в алгебре (от арабского jabara
«связывать вместе», «соединять») цифры заменились буквами. Счет, теории,
функции, вероятности и т. д. — все это расширения в спецификации
числовой абстракции. Действие комбинаторной и абстрагирующей мысли
свелось к чистому обобщению логикой в разных ее вариациях. Наряду со
всеми этими абстрагирующими действиями, которые все более
интенсивно выстраивались одно на другом, возникла современная рациональная
формула, понятийное орудие, помогавшее естественным наукам в их
постоянно ширящихся отношениях с силами природы. Рациональная
формула, как и магическая формула, — это фиксация акта соединения, но
соединения все еще расширяющихся расстояний с помощью все более
сужающихся редукций. (Крайним прагматическим сокращением путем
сужающей абстракции является компьютер.) Наконец, закон природы,
поскольку он устанавливает сходство в функционировании природных
сил, - это утверждение заключительного акта количественного
сокращения, открывающего путь к теоретической и технической коммуникации
человека с природой.
III
Мы проследили генетическую линию от симптома (ненаправленного
знака) через сигнал (поданный знак и устойчивый знак) до
фиксированного знака, реального начала символа. Сигнал знаменует переход от
экспрессии к коммуникации; и все разнообразные виды и стадии
символа, которые мы до сих пор рассматривали (слово, орудие, число,
магические и рациональные формулы, законы природы), все они —
застывшие акты коммуникации, коммуникации сначала через соединения,
а затем через редукцию, редукцию стягивающую и абстрагирующую.
187
Но все, что фиксируется, все, что утверждается в устойчивой форме,
тяготеет к автономии, начинает собственную жизнь. Поэтому любой акт
обозначения, стоит ему закрепиться, больше не указывает на что-то, не
говорит о чем-то, а постепенно начинает представлять собою то, на что
указывает. Если стабилизацию знака можно считать предварительной, а
фиксацию — первой стадией символа, то второй, последней стадией
является репрезентация.
В обычном языке, в формулах, магических и рациональных,
преобладает характер активной коммуникации, обозначения и соединения. Язык
всегда обращен к собеседнику, пусть даже это сообщение самому себе.
Задача формулы — установить связь; она служит «орудием» этого. Но
когда в нашей памяти или в теоретическом рассуждении название или
понятие порождает образ, то акцент смещается с коммуникации на
репрезентацию; вернее — коммуникация происходит через репрезентацию.
Поэтому вторая стадия символизации, стадия репрезентации,
подразумевает создание образа, который является симультанное/пью значения —
значения не как связи, но как субстанции.
Способность создавать образы, «воображение», уходит корнями в
человеческую психику, вероятно, даже в психику животных*2. Ее
подсознательное спонтанное действие в снах стало центром внимания
психоанализа, где термин «символизировать» означает бессознательное
претворение личной или архетипной «мысли во сне» в конкретный образ сна
(«элемент сна», по терминологии Фрейда3*), а полученные образы
называются «символами». Но они представляются мне скорее симптомами,
чем законченными символами (т. е. поданными знаками или
репрезентациями), симптомами, возникающими в образах вместо звуков и жестов.
Если, как говорит Фрейд, родители являются во сне в образах
императора и императрицы, а дети — в виде маленьких зверушек или хищников,
если процесс рождения представляется погружением в воду, а
умирания — отправлением поезда1, то такой процесс трансформации кажется
чем-то вроде рефлекса, автоматической проекцией внутренних
побуждений или дискомфорта на любой визуальный материал, представленный
внешней средой. Это еще нагляднее в архетипных образах, где
визуальный материал взят не извне, а изнутри. К.Г. Юнг4* приводит сон
17-летней девушки, в котором она видела, что ее мать «висит на люстре и
раскачивается на холодном ветру, задувающем в открытое окно». Это
сновидение не имеет никакого отношения к ее матери, но оказывается
симптомом органического заболевания самой девушки. Образ матери
выражал нечто, происходившее в глубинах организма пациентки, ибо
сон этот, пишет Юнг, «архетипен и относится к... тому, что пассивно
созидает, следовательно... к материальной природе, к низу тела (чрево) и
к вегетативным функциям... "мать" — это также сосуд, полая форма
(матка), вынашивающая и вскармливающая...» Действительно, образ матери
«указывает на более темное значение, не поддающееся понятийной
формулировке; его можно лишь смутно понять как тайную, связанную с
природой жизнь тела... Все это — содержание сна, но в нем нет ничего,
что... девушка вынесла из личного опыта; скорее, это досталось ей от
прошлого»2. Точно так же образ Мандалы, круга, тяготеющего к
соединению с квадратом, который, по наблюдению Юнга, часто повторяется
188
в сновидениях, рисунках, танцах его пациентов, которые могли «сказать
немногое о значении символов», предстает как своего рода органическая
геометрия, вытекающая из самых глубин живого существа. Юнг
усматривает в этом «архетип целостности».
Все это случаи реальной «символизации», но она осуществляется не
человеком, в чьем подсознании возникает данный образ, а
психоаналитиком путем умозрительной интерпретации. Только ему одному эти
образы будут о чем-то говорить; так и физический симптом обретает некий
смысл только для того, кто ищет его причину.
Только сознательно оформленные образы суть реальные символы.
Разумеется, границы между бессознательным и сознательным действием,
между простой экспрессией и намеренной репрезентацией размыты; и,
как исчерпывающе показал Юнг, архетипы, содержащиеся в
бессознательном, переходят в сознательное творчество художников, поэтов,
мыслителей, создающих культовые образы. Эти образы, будучи сотворены,
мыслятся средствами общения между божественными силами и теми,
кто им поклоняется; они и есть реальные символы, способные даже
воплощать сложные доктрины.
Наука, особенно главная естественная наука физика, в своих
исследованиях вышла за пределы сферы визуально «образной»; она идет по
пути математических концепций, поддающихся верификации с
помощью очень сложных инструментальных вопросов и реакций; при этом
само наблюдение осуществляется только умозрительно, несколько
абстрактно. Но естественные науки используют кое-какие вспомогательные
образы: геометрические фигуры и диаграммы, географические абстракции,
эквивалентные в визуальной сфере арифметическим абстракциям, с
которыми они сочетаются или к которым приводят; и модели, такие как
стародавний, ныне забытый «эфир», или понятие поля, или модель
атома Бора5*. Во всех этих образах преобладает инструментальный,
промежуточный элемент; ни один из них не мыслится действительно
представляющим собою реальность. Геометрические фигуры предназначены для
того, чтобы донести пропорции и соотношения пространственных
структур и сделать возможной манипуляцию ими. Диаграммы используются
для разъяснения феноменальных или рациональных сложностей на
примере визуальных редукций: это своеобразная изобразительная метафора.
Модель, будучи просто образцом {modulus), представленным в масштабе
оригиналом, не позволит забыть о ее временной, гипотетической
природе и никогда не сможет заменить собою оригинала.
IV
Только в искусстве репрезентация начинает преобладать над значащим
действием. Здесь действие сливается с законченной формой. В конечном
итоге, образ — уже не просто путь к реальности, но сама форма
реальности, и более того, сам по себе он — новая, самостоятельная реальность.
В развитии такой тонкой символизации бесхитростно или
художественно оформленный религиозный образ играет роль посредника: это
реальное изображение, но в то же время преимущественно знак.
189
Религиозная и художественная образности возникли вместе. Самые
первые образы, доисторические пещерные рисунки — пока еще не
символы, они фактически акты восприятия; они не значат и не изображают,
они суть изображенные создания. Они не указывают на прототипы, но
на них указывают наконечники стрел. Точно так же, пока остается вера
в то, что божество реально присутствует в образе, подлинный
тотемистический идол — это не подобие почитаемого существа, он и есть само
это существо. Только когда ощущается различие между визуально
присутствующим идолом и недосягаемым и временно отсутствующим
божеством, когда образ превращается в часть божества или в место его
пребывания, только тогда этот образ и становится символом.
Конечно, любой божественный образ всегда имеет тенденцию
воссоздавать воображаемое присутствие божества с помощью мистико-магичес-
кой связи. При пасхальной литургии хлеб и вино в потире, символы тела
и крови Иисуса Христа, в магическом процессе пресуществления
превращаются в само присутствие Христа. При этом символический характер
образа исчезает.
Все культовые символы, представляя принятую реальность,
являются, как и формулы, институированными актами наведения мостов
между разными экзистенциальными сферами. Их можно считать
образными формулами, не дискурсивными или «дискурсными», но
соединенными в симультанное, воплощенное значение. Зачастую они
представляют собой pars pro Шо, т. е. характерная часть священного
существа, каковой может быть мифическое или легендарное событие,
необычное божественное свойство или сфера, представляет собой все
это существо. Или они могут использовать гомологичную абстракцию
целого.
Например, распятие символизирует мученическую смерть Иисуса, на
которую он пошел ради людей, даже магический акт апотропеического
заклинания еще присутствует в крестном знамении. Индийский символ
многоголовой змеи, называемой Остаток, означает «то, что осталось
после того, как земля, небесные и подземные сферы и все их существа
образовались из космических вод бездны»3. Фаллос или эмблема его
культа, изначально божество само по себе, позднее напоминает животворную
силу древнегреческих хтонических богов6* вроде Диониса и кабиров
(«Kabeiroi») или индийского Шивы. Медведица или собака охотницы
Артемиды говорят о характере и сфере действия богини. Колесо или
крест с загнутыми под прямым углом концами (свастика)
символизируют динамическую форму почитаемого бога-солнца.
Все эти формы динамической контрактуры передавались от
иератического на светское использование, от религиозного культа к культу
традиции. Королевские, официальные, национальные инсигнии,
геральдические эмблемы и гербы указывают на происхождение, владение, цели и
притязания правителей, династий или земель. Шар или «яблоко»,
венчаемое крестом, в руках средневекового императора во время церемоний
означало (и об этом говорит название «держава») подвластный ему
католический мир. Пятьдесят звезд американского флага суть символ
соединенных штатов. Пилюли в гербе Медичи7*, как и династическое имя,
говорят о том, что их предки были медиками.
190
Прекрасный пример того, как обобщающий образ-символ говорит о
человеке, подлинный поэтический прием, находим в «Жимолости»
(Chevrefoil) Марии Французской8* (XII в.). Тристан, изгнанный королем
Марком, хочет сообщить Изольде, направляющейся в замок Тинтажель,
что он прячется в зарослях, чтобы взглянуть на нее. Он кладет на ее пути
ореховую веточку, увидев которую, она поймет, что возлюбленный рядом.
Ибо они «были словно орешник и обвивающая его жимолость; сплетаясь,
они живут, но врозь умирают. Милая подруга, так же обстоит дело и с
нами: ни Вы не можете жить без меня, ни я без Вас». Священное
существо, изображенное здесь в символической форме, — это абсолют любви,
всепоглощающая любовь двух людей; первым примером ее в
западноевропейской традиции была история Тристана и Изольды — любовь
всесильная, самоотверженная, не ставящая ни во что условности и мораль, даже
саму жизнь. Такое страстное, не ведающее временных границ
прославление высшей, хотя и светской, силы — это вечно живой культ.
ν
Все формы культового изображения, религиозные или традиционные,
предназначены для того, чтобы нести и возрождать коммуникацию, связь
живого человека с его мифическими, вечными источниками жизни.
Коммуникация, знаковый характер, и поныне проступает в культовых
изображениях, и не только там, где о целом можно судить по части, но
и там, где целое представлено полностью, — в картинах, статуях и
повествованиях.
Культовые образы создаются, чтобы вызвать в памяти историческую
или канонически освященную реальность, а это значит, что изображение
не совсем свободно. Субстрат пластического или поэтического
изображения снабжен чем-то, выходящим за пределы творческой сферы, —
фигурами и событиями, в былое или в вечное существование которых
верили. Мифология и повествование лишь придали им изысканность и
приукрасили их; тот, кто вновь прожил события в своих рассказах или
картинах, вероятно, питал робкую надежду, что живые детали его
фантазии правдивы; так, набожные средневековые художники, проникаясь
судьбами их святых, должно быть, начинали думать, что иначе и быть не
может. Творческое воображение было неразрывно связано с самой сутью
реальности, предустановленной событиями вековой давности или
имеющими давнюю историю в силу воплощений подлинных эмоций и
побуждений в человеке.
Ныне известно, что Илион существовал и был несколько раз
разрушен, известно о Микенах и миграции эллинских племен. Герои
Илиады9* — это, вероятно, проекция предков племенных вождей в век
Гомера. Точно так же северная Эдда10" объединила мифические элементы с
повествованиями о походах древних бургундов и гуннов. В еще большей
мере можно считать историческими свидетельствами библейские
легенды. Итак, древние эпосы никоим образом нельзя отнести к чистому
вымыслу; все они основаны на событиях, или признаны реальными
исторической памятью, или санкционированы как реальные в процессе
191
длительного анонимного мифогенезиса. (Мифы в их первозданной
форме были повествованиями о начале вещей или деяниях и судьбах богов
и героев-полубогов; их магия поддерживалась верой людей в их
достоверность. Свидетельством тому — бурное сопротивление греческой
философии мифографическому эпосу из-за той «лжи», которую он несет
людям.)
Следовательно, культовые образы, будучи символами, в то же время
являются и знаками, но отнюдь не законченными символическими
представлениями. Вполне художественным символом можно назвать
пластическое или литературное изображение, которое не задумано заранее для
возобновления связи человека с некой культовой реальностью, но с
самого начала задумано и создано как полностью символическое
изображение. Точно так же, как на начальной стадии знак превращается в символ,
только когда он — поданный знак, несущий смысл для кого-либо, так и
образ обретает вполне художественное значение, только когда он
получил полное воплощение в творческой фантазии художника; когда
художник свободно изобретает символы путем отбора или синтеза из великого
множества конкретных «образных» фигур и конфигураций жизни,
способных символизировать собой нечто общечеловеческое или делать
понятным общечеловеческое состояние.
Переход в искусстве от знака-образа к вполне репрезентативному
образу — это результат все того же процесса, ведущего человека от магии к
науке: расширение и углубление светского опыта и деперсонализация
сил, детерминирующих жизнь человека. Человеческие судьбы все
меньше зависели от божественных и мифических источников, а все больше
от природы самого человека и того, что он собою являл. Общение с
внешними силами сменилось общением с внутренним миром, с самим
собой, т. е. саморепрезентацией.
Все же, читая великие произведения культовых веков, можно ощутить
своеобразный символизм, чем-то напоминающий художественные
творения современности. Неважно, веруем мы или нет, но мы читаем
библейские легенды не просто как рассказы о давних событиях. Мы читаем
эпос Гомера не так, как читали бы приключенческую повесть. Мы
чувствуем, что и мы, и вся наша жизнь уходят корнями во все эти деяния и
перипетии. Поэтому кажется, что эти великие легенды вполне
соответствуют зрелому символическому изображению: в конкретных образах и
судьбах они являют дела общечеловеческие.
Но есть коренное различие между изобразительным символизмом
этих древних произведений и символизмом современных произведений
искусства — различие, обусловленное именно зависимостью древних
произведений от предустановленной реальности.
Следует различать два вида художественного символизма: нисходящий
и восходящий.
Нисходящим я называю весь символизм, в котором символическое
изображение отрывается, спускается к нам из предшествующей или
высшей реальности, реальности детерминирующей и потому высшей по
отношению к ее символическому значению. Подлинно мистические и
культовые произведения не задумываются как символические
изображения, они предназначены для описания реальных событий. А уже мы эм-
192
лирически выводим из них символическое значение. В глубокой
древности, когда вся жизнь ведома культом или мифом, действительность так
величественно проста, так естественно многогранна, не раскрыта, словно
бутон, что в ней дремлет скрытое богатство почти неисчерпаемого
значения. Вот что придает величие этой глубокой древности. Древние боги
и мифические герои никоим образом не выступают как простые
человеческие образы, в каких превратило бы их современное рациональное
мышление, но заключают в себе нечто общечеловеческое. Они, обладая
присущими им личными особенностями, в то же время олицетворяют
собой вид. Древнегреческие боги, демоны, герои служат воплощением
племен или местностей; библейские патриархи, сыны Иакова, суть
соответствующие им кланы. Они не продукты символического
изображения, а вместе с их потомками — реальные люди.
Этот нюанс различия можно проиллюстрировать тем, как разнятся
между собой идеи Платона и современные научные концепции.
Подобно богам, на смену которым они пришли, идеи Платона не
воспринимались как созданные человеком понятия, выражающие общее сходство в
группе явлений; они были задуманы как божественные абсолютные
субстанции, не обобщения, берущие начало в разных сторонах
эмпирической действительности, а предшествующие реальности, эмпирические
формы которых — лишь теневые отражения. Соответственно, они были
получены не путем индуктивной абстракции, но путем процесса
умственного maiosis, т. е. акушерства. Средневековый спор между
«реалистами», считавшими, что универсалии, «всеобщности», — это реальные
субстанции, и «номиналистами», которые считали их потіпа,
понятийными фабрикациями, знаменует собой решительное столкновение между
древним и современным мировоззрением, между божественно
предустановленной «идеей» и тем, чему предстояло стать развитой концепцией.
Иисус во всех его ипостасях, будь он Мессия, или Сын Божий, или
Сын Человеческий, был в отличие от патриархов изначально
индивидуальностью; для первых христиан он был вполне реальной, а не
символической фигурой. В нем видели реального посланца Бога, самое реальное
деяние Бога во спасение человека. Соответственно, то, что Иисус
принял смерть во искупление грехов человека, было реальным, уникальным
деянием, которое, как полагают, вечно повторяется в пасхальной
литургии. Потенциальная перенасыщенность символами, скрытая в этом
событии, выявилась богословами и мыслителями уже после Павла. И по
сей день в католическом учении Адам и Ева предстают как реальные
предки человечества, оставившие в наследство грядущим поколениям
первородный грех. В этом библейском предании о грехопадении
человека, таком простом и зримом до мельчайших деталей, нам видится ныне
рассказ об истинном генезисе человека, т. е. о возникновении сознания
через свободу выбора, чувство стыда и труд. Но для осмысления этого
богатого символизма понадобился опыт, накопленный человечеством к
эпохе Гегеля и Генриха фон Клейстаи\ Легенда о Парсифале была
вполне простодушно сложена Кретьеном де Труа12* по неизвестным
фольклорным источникам; он не вкладывал в нее символического значения.
Но впоследствии оно обнаружилось. Грааль, gradalis, изначально был
драгоценным блюдом, на котором подавали дичь на королевских пирах,
193
но позже он превратился в чашу с божественной благодатью и в этом
качестве стал целью поисков.
В отличие от нисходящего символизма, который отрывается
интерпретирующим умом от религиозной, мифической или исторической
реальности, восходящий символизм — это совершенно новое творение, берущее
начало в художественном вымысле. Здесь художнику не предоставляется
внешний, предсуществующий материал; художник не идет по следам
культовых образов. Он волен творить образы, которые, будучи
уникальными, конкретными формами, все же несут в себе нечто
общечеловеческое*3. В таких произведениях символ поднимается на уровень обобщения.
Разумеется, даже в таких творениях символ не вполне лишен своего
качества знака, ибо и эти творения должны нести смысловую нагрузку, и
они что-то для кого-то значат. Но напряженное внимание, которого
требует такое произведение свободной фантазии, все большее
осмысление художественных средств, художественного сознания и
вырабатываемой им способности к восприятию — все это фокусирует внимание
художника на том, чтобы обострить свое зрение до такой степени, когда
коммуникативная задача всецело поглощается задачей репрезентации.
Адресатом этого смыслового сообщения становится идеальный
респондент, некий постулат, нечто, живущее в душе художника: создавая
художественный образ, художник невольно почти сливается со своим
творением*4.
VI
Восходящий символизм, возникнув в светском искусстве, начинается с
полного и сугубо светского уровня ситуаций и судеб, обладающих не
фактической, а только заменяющей ее реальностью, которые создаются
именно с целью заменить изображение. Напротив, то, что превращает
вполне законченный образ в произведение искусства, — это именно его
качество символической репрезентации. Только когда мы чувствуем, что
рассказ доносит до нас нечто большее, чем просто любопытное событие,
что он являет нам через единичное нечто общечеловеческое или
эпохальное, когда своей яркой жизненностью он затрагивает в нас человеческие
струны, только тогда картина, например портрет, через индивидуальную
форму превращается в концепцию структуры феноменального мира*5, —
только тогда эти образы становятся миром искусства.
Это естественно предполагает иную, высшую степень символизма,
выходящую за рамки простой репрезентации. Ибо подлинно
художественный образ немыслим без присущего ему динамизма, без стимула к
неведомому, доселе невиданному и невысказанному. Что бы ни влекло
нас к произведению искусства, ошеломляющая внезапность
сверхрационального, «образного» откровения, интенсивность и достоверность,
проникновение за внешнюю оболочку жизни, что бы ни захватывало нас
в нем и ни лелеяло в нас чувство общечеловеческого, — все это
благодаря главной способности художника живо реагировать на реальность, а
значит, способности открывать новую реальность. Так как
художественный образ — не просто мимесис (воспроизведение уже очевидной реаль-
194
ности), но, скорее, воссоздание скрытой, доселе невиданной
реальности, то он несет в художественном акте некое сверххудожественное,
человеческое деяние, выливающееся в нечто грандиозное: сотворение новой
формы реальности. Такое совпадение, вернее, тождественность
художественного и человеческого действия — это та высота, на которую
способен подняться символ.
VII
Наконец, чтобы понять природу символа, небесполезно сопоставить его
с другими формами художественной образности: аллегорией и метафорой.
Границы между аллегорией и символом не всегда легко различимы,
и поэтому их отличие нередко размывается в общей терминологии.
Причина в том, что они движутся к одной цели, но с разных сторон.
Символ — это нечто конкретное и особенное, задача которого сообщить
нечто духовное и общее то в виде указующего знака, т. е. акта указания, то
в виде реального изображения, при котором динамизм знака
упраздняется: указующее, указываемое и акт указания сливаются воедино.
Древнегреческое слово symballein, из которого произошло слово «символ»,
означает «соединить» или «соединиться». Символический знак соединяет,
символическое изображение — это соединение до состояния полного
слияния материального и духовного, особого и всеобщего.
Напротив, аллегория начинается с чего-то изначально общего и
абстрактного, с чисто понятийной субстанции, которую она облекает в
материальную плоть*6. Аллегория — довольно поздний продукт; она
предполагает вполне развитую рефлексию, скорее даже начало
разделения между душой и телом. Поэтому период ее высшего подъема —
христианская эра. В чем-то замена Платоном божеств обожествленными
мыслями-образами — уже начало аллегории; впоследствии эта линия
продолжилась в учении Филона Александрийского, где был достигнут
синтез иудаизма и философии стоиков, неоплатоников и
неопифагорейцев. Для Филона гипостазы, т. е. посреднические силы между Богом
и человеком, — это силы, приписываемые Богу (как, например,
справедливость, благодать и т. д.), но в то же время это реальные ангелы. Их
глава и архангел, Логос, - это рациональная сила Бога, Его мысль и
животворящее слово, но одновременно Его «первый сын», Его «тень»,
параклет во плоти. Отличие подстановок Платона и Филона от
собственно аллегории состоит в том, что эти воплощения мысли
полагались реальными субстанциями, скорее даже самой реальностью, тогда
как фигуры в законченной аллегории, такие как добро, вера,
благочестие и т. д., в Пути паломника Беньяна13* - это просто понятия,
служащие средством изображения.
Божественная комедия Данте14* знаменовала собой момент стыковки
аллегории и символа и нисходящего и восходящего символизма. Она
задумана как структура христианского мира, по которому проходит
конкретный человек - Данте. Этот догматический мир с его Адом,
Чистилищем и Раем и с их составляющими есть сверхисторическая сфера
абсолютной, предсуществующей действительности, которая до малейших
195
деталей символически интерпретируется. Это нисходящий символизм.
Но, с другой стороны, Данте, как конкретный человек, проходя через
космические области и достигая небесного пристанища, предстает
человеком с его земной историей, и, таким образом, в нисходящий
символизм внедряется символизм восходящий. Точно так же аллегория
присутствует в произведении, чтобы служить универсальному символизму,
и в некоторых случаях она действительно совпадает с символом.
Например, трудно различить, является ли Вергилий олицетворением разума,
что было бы аллегорией, или же историческая личность Вергилий
является носителем разума, что было бы символом. Этот пример убеждает,
что отличить аллегорию от символа порой нелегко.
Метафора (от греческого metaphora «перенесение») — это не знак и не
изобразительная единица двойственности, но парафраза, параллелизм,
«уподобление». Ее обычное назначение — высветить абстракцию, сделав
ее зримой, перенеся ее в образ, но не так, как аллегория, с помощью
олицетворения, а скорее с помощью аналогии.
Будничный язык изобилует такими «фигуральными»
словоупотреблениями: слова и идиомы доносят сверхвизуальные явления в простых,
материальных образах. Такие выражения становятся элементами
повседневного языкового общения, и нам даже невдомек, что это
метафоры. Превращение материальных образов в абстрактные значения в
вековом анонимном процессе сопровождало все большее усложнение и
интеллектуализацию жизни человека. Следы этого обнаруживаются с
помощью этимологии. Кому придет в голову связать «менеджера» с
латинским manus, «рука»; да даже «ручку» с «рукой»? Кто узнает теперь в
demand («требовать») латинское de-mandare (т. е. тапит dare), что
означает в физически буквальном смысле «вручить» (кому-то); или в
«различать» {differ) исконное dis-ferre «разделять»? В идиомах (например,
когда говорят, что кто-то «идет в ногу» с кем-то или что «это налагает
отпечаток») метафора, конечно, вполне очевидна.
Поэтическое творчество — полная противоположность анонимному
лингвистическому процессу: поэты переносят в образность невидимый,
обогащенный мыслью и одухотворенный опыт современного человека с
помощью сравнения и парафразы или, как в наше время, просто с
помощью трансмутации, что подразумевает сжатость. Между ярким образом
и взлелеевшим его опытом происходит тонкое взаимодействие, при
котором образ способен развить опыт, т. е. создать новый опыт. В таком
процессе взаимотворчества метафора и символ сливаются.
1959
Что такое искусство?
I
В статье Роль теории в эстетике* профессор Моррис Вейтц делает
попытку доказать, что теория не играет законной роли в эстетике и что
искусство не поддается точному определению, так как «не обладает
необходимыми и достаточными свойствами», на основании которых можно
выработать определение.
Его аргументы таковы.
1. Существует великое множество определений и теорий искусства,
но среди них нет вполне адекватных и достаточных: «Даже если
искусство обладает необходимыми и достаточными свойствами... все же ни
одна из существующих эстетических теорий еще не перечислила их ко
всеобщему удовлетворению».
2. «Как настоящие определения, эти теории мыслятся изложением
фактов, касающихся искусства. Если так, нельзя ли задать вопрос:
эмпирические ли это факты и поддаются ли они верификации и фальсификации?»
3. Следуя за мыслью Витгенштейна1*, у которого Вейтц черпает свой
скептицизм, любое понятие, теория или определение, основанные на
общих свойствах, сомнительны, за исключением логических и
математических понятий, которые «сконструированы и полностью определены» и,
следовательно, суть «закрытые понятия». Обратившись к группе
явлений, фигурирующих под общим названием, например игры, «вы не
увидите чего-то, общего всем, кроме сходства, взаимосвязей — и к тому же
целые ряды их». Говорят, что это особенно типично для искусства, в
котором не только нельзя найти «никаких общих свойств, а лишь ряды
подобий», но и «весьма экспансивный, авантюрный характер» и «вечные
изменения и новые творения» которого делают особенно «логически
невозможным обеспечить какие-то свойства для определения» его.
«Закрыть понятие» — «смешно, поскольку при этом исключаются самые
условия творения в искусстве»
4. В том, как используется термин «искусство», нет ясного различия
между описанием и оценкой. Когда говорят: «Это — произведение
искусства», «критерий оценки... превращается в критерий познания... Итак,
остановившись на оценочном использовании термина "искусство", как
делают многие, так что фраза "Это — произведение искусства, и оно
(эстетически) плохое" не имеет смысла, человек, используя термин
"искусство", согласен называть что-либо произведением искусства, только если
оно отвечает его критерию совершенства».
Из всех приведенных посылок профессор Вейтц делает вывод, что
«эстетическая теория — это тщетная попытка дать логическое
определение тому, чего определить нельзя, и выявить необходимые и достаточные
свойства того, что этими свойствами не обладает...» «Искусство» —
«открытое понятие». «В освещении [его] можно привести некоторые случаи
(парадигмы), относительно которых не может быть сомнения, что они
верно описаны как "искусство"... но исчерпывающего ряда таких случаев
привести невозможно... по той крайне важной причине, что всегда воз-
197
никают или намечаются непредвиденные, новые условия». Что касается
теорий искусства, можно и должно руководствоваться ими при оценках,
использовать как «серьезные и аргументированные рекомендации для
того, чтобы сосредоточиться на некоторых критериях совершенства в
искусстве», для «споров о причинах совершенства в искусстве» — вот и
все. При таком использовании они могут научить нас, «чего искать в
искусстве и как на него смотреть», и определить, «что придает качество
произведению искусства».
II
Безусловно, надо отдать должное профессору Вейтцу — он напомнил
профессионалам-эстетикам о том, что их дисциплина — не точная наука
и что в их определениях нет полной точности и закрытости логических
и математических формул. Но тогда то же самое можно сказать обо всех
определениях в любой области, относящейся к реальности, а не к
сконструированным моделям. Если настаивать на математической точности,
можно с тем же успехом отказаться от любых исследований характера
реальной субстанции и от серьезной вербальной коммуникации вообще.
Любые реальные субстанции или феномены до какой-то степени
подвижны и «открыты» в плане как структуры, так и времени. Ни одно из
свойств, взятое само по себе, не присуще исключительно им, ни одно из
«ряда свойств» не описывает исчерпывающе их характер, ни одна из
таких комбинаций характеристик не поддается верификации вполне. Ни
одна историческая личность или событие не имеют полного определения
на основе доказанных данных, и никакое общественное явление нельзя
определить, исходя из его статистики. Что касается естественной науки,
то в классической работе Жизнь биологов Д.Г. Симпсона, Ч.С. Питтен-
драя и А.Г. Тиффани2 читаем: «Все организмы делятся на виды. Все
биологи... признают, что вид - это нечто совершенно особое, имеющее
ключевое значение для изучения жизни. Биологи полагают, что имеют
неплохое представление о том, что такое вид... и все же столетиями они
ломают копья по поводу... этой проблемы... добиваясь ясного, вполне
удовлетворительного ответа на вопрос: «Что такое вид?»... Один из
фактов жизни: точное определение вида, безусловно приложимое ко всем
организмам, в сущности невозможно... Популяции в природе— это не
статичные предметы, выстроившиеся в рамках строгих определений...
Пытаться сойтись на одном, непогрешимом определении вида — пустая
трата времени». Но «обсуждать, что такое виды, — не пустая трата
времени; напротив, это один из важнейших вопросов всей биологической
науки». Даже в ядерной физике будет нелегко получить совершенно точное
определение частицы, хотя эта субстанция составляет неотъемлемую
часть современных концепций и операций физики. Что касается
верификации, то известно, что даже практическое применение ее вовсе не
гарантирует, что картина соответствует действительности.
Такое положение в бесспорно эмпирических науках свидетельствует о
сомнительности, вечной незаконченности и недостаточной
доказательности всех определений или теорий, относящихся к реальности, но, с другой
198
стороны, и о том, что без попыток выработки этих определений и теорий
не обойтись, и о том, что необходимо упорно искать хотя бы
приблизительного определения таких интуитивно отождествляемых субстанций,
которые образуют элементы наших отношений с действительностью.
Динамический характер мира признан в настоящее время во всех
сферах. Физические, биологические, исторические и социологические
субстанции не менее подвижны и подвержены изменениям, чем
художественные. Во всех этих сферах присутствуют творческие процессы.
Художественные произведения тоже не являются такими свободными и
ничем не обусловленными порождениями фантазии, какими обычно
предстают; отчасти они детерминированы исторической стадией
развития, проблемами и методами конкретных эпох.
Итак, если общее состояние нашего знания подтверждает положение
Вейтца (и Витгенштейна), что никакое стабильное, вполне
удовлетворительное определение реальностей и феноменов, в том числе искусства,
невозможно, я все же настаиваю на том, что нельзя обойтись без поисков
приблизительно полных и приемлемых определений того, с чем мы
имеем дело. Терминологическая путаница в наших дисциплинах не менее, чем
в разговорах, поразительна, а любая дискуссия будет бесплодна, если не
выяснить с самого начала, о чем идет речь. Поэтому если всерьез
заниматься обсуждением проблем искусства, то надо хотя бы попытаться
сформулировать, что вкладывается в понятие «искусство». Точно так же, как
биологи не удовлетворены смутным ощущением и консенсусом по части
природы видов, но продолжают описательно прояснять это общее
ощущение, искусствоведы не должны отказываться от выяснения того, что же
такое искусство на самом деле. Обратившись к художественным
достижениям и опыту предшествующих веков, можно даже получить менее
зависимое от личности или учения, но просто зависимое от эпохи понятие;
т. е. понятие, которое, вобрав в себя основные черты искусства в его
развитии до наших дней, может претендовать на приблизительную всеобщую
приемлемость на сегодняшний день. Если удастся использовать весь
художественный материал, все произведения художников и групп до
настоящего времени, то такое понятие будет более полным, чем все
предшествующие. Что касается верифицируемости, то можно увидеть, что некоторые
художественные свойства не менее верифицируемы и документируемы,
чем любое достоверное историческое событие или личность, хотя все они
в той или иной степени подлежат интерпретации.
III
Сначала проверим убедительность аргумента Вейтца в трех моментах.
Первый относится к «Исследованиям» Витгенштейна, на котором не
стоит задерживаться в данном контексте; ограничусь цитатой из Вейтца.
Он приводит высказывание Витгенштейна об играх: «Мы находим не
необходимые и достаточные свойства, но только «сложную сеть подобий,
накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом», так
что можно сказать об играх, что они образуют семью с семейными
сходствами и без общих черт». «Проблема природы искусства, — делает вы-
199
вод профессор Вейтц, - похожа на природу игр... Если мы
по-настоящему всмотримся в то, что называется «искусством», то не обнаружим и
общих свойств, — одни только ряды подобий».
А семейные сходства, будучи генотипными, а не фенотипными
подобиями, — это изначально общие черты: они порождаются общими
генами и традициями. Пусть зримо они не присущи всем членам семьи — от
этого они не перестают быть общими чертами и относиться к
наследственной сущности группы. Искусство трудно сравнить с семьей,
поскольку его «члены» — не органически развившиеся существа, но
произведения, «артефакты», достижения, продукты труда, управляемого
сознанием. То, что соединяет их, — это импульсы или цели, а не только
происхождение. И если существуют, согласно Вейтцу, «некоторые
случаи (парадигмы)... относительно которых не может быть сомнений, что
они верно описаны как "искусство"», то можно обнаружить случаи
парадигм, которые в отличие от членов семьи и в зависимости от
характера произведения искусства до настоящего времени вбирают в себя все
поддающиеся выявлению черты труда художника и вполне могут служить
естественными моделями, на которых можно показать «ряд свойств»
искусства. Если имеются «случаи парадигмы», то, значит, есть и некий
консенсус ощущения того, что это подлинные произведения искусства. А
если есть такой консенсус ощущения (как в случае с биологическими
видами), то можно, вернее, должно задать вопрос: что лежит в основе
такого ощущения? Надо выразить словами, что внушает ощущение того,
что, несомненно, эти произведения — искусство.
IV
Профессору Вейтцу угодно обращаться с эстетическими теориями не как
если бы они объясняли природу искусства, ибо это для него —
невыполнимая задача, но как с «рекомендациями сосредоточиться на некоторых
критериях совершенства в искусстве», поучающими нас, «чего искать в
произведениях искусства и как на них смотреть». Это фактически реШіо
ргіпсіріѴ. Как определить, что совершенно в искусстве, если не
выработано четкого понятия своеобразия искусства? Откуда вывести критерии
художественного совершенства, если не из самого художественного
исполнения? «Эмоциональная глубина», «глубокая правда», «естественная
красота», «точность» — любое из этих выражений можно встретить
повсюду: в различных высказываниях и действиях, в природе, в науке; ни
одно из них не дает специфически художественного критерия; ни одно
из них, взятое само по себе или в совокупности, «не делает
произведения искусства хорошим».
Попытка выявить специфически художественные ценности,
своеобразие художественного совершенства неизбежно возвращает нас к
признанию своеобразия искусства. Вот где возникает третий момент
аргумента Вейтца, который кажется мне сомнительным.
* Аргумент, основанный на выводе из положения, которое само требует
доказательства (лат.).
200
Вейтц утверждает, что в искусстве любой критерий признания — это
в основе своей критерий оценки. «Каждый раз, когда говорят: «Это —
произведение искусства» (как похвала), критерий оценки... превращается
в критерий признания... «Это— произведение искусства» предполагает:
«В нем есть Р», где Ρ — некое произвольно выбранное свойство,
создающее искусство».
Но связь между признанием и оценкой в искусстве не так проста, как
представляется Вейтцу. Прежде всего, искусство — форма деятельности
человека. Спрашивая: «Что отличает именно эту форму деятельности
человека от других, как, например, от ремесла, науки, философии, близких
к искусству сфер, обладающих некоторыми общими с ним свойствами?»,
пытаясь, напротив, вычленить отличительные черты этой деятельности
(«искусства»), мы ищем именно критерий признания, не позволяющий
спутать себя с оценкой. Такая дифференциация не более похвальна, чем,
скажем, различие между экономикой и политикой.
Конечно, за любым признанием особого характера деятельности
человека следует потенциальная оценка. Это так же справедливо в
отношении искусства, как в отношении науки, дипломатии или бизнеса.
Дипломатический акт, научное исследование хороши или плохи
соответственно тому, насколько они удовлетворяют необходимым
требованиям поставленной задачи дипломата или науки. Чем в большей мере
это дипломатия или наука, тем лучше. Говоря о человеке: «Он —
настоящий бизнесмен», мы имеем в виду: «Он — хороший бизнесмен».
Любую деятельность человека можно оценить постольку, поскольку она
является сознательным актом и трудом, преследующим конкретную
цель. Создание или объект природы, будучи чистым существованием,
например дерево или тигр, не могут быть деревом или тигром в
большей или меньшей степени. Но любой человек в его способности быть
сознательно волевой и действующей личностью всегда более или менее
то, чем он намерен быть или что он намерен делать. В его
деятельности есть расхождение между целью и исполнением. Степень достижения,
приближения к конкретной задаче требует оценки. Но, понятно, не
оценка выявляет природу конкретной деятельности. Напротив, оценка
основана на большем или меньшем приближении к поставленной цели.
Это так же справедливо в отношении искусства, как и любой другой
деятельности. Оценка не способствует лучшему пониманию характера
искусства. Оценка вытекает из понимания и описания своеобразия
искусства.
V
Теперь позвольте мне предложить еще одно определение искусства, и я
постараюсь дать наиболее полную и точную формулировку.
Чтобы выработать точное определение, следует соблюдать два
требования: (1) Определение должно быть строгим, т. е. сочетание свойств
субстанции, подлежащей описанию, должно относиться только и
исключительно к ней, а не к какой-либо иной субстанции. (2) Различие
должно проходить по центру, а не по границам*1, ибо не бывает реальности без
201
размытых границ. В случае попытки установить периферийные различия
мы придем к выводам, подобным выводам какого-нибудь современного
историка, который закончит статью, посвященную Европе в Средние века,
утверждением, что нет ни Европы, ни Средних веков, поскольку для
обеих этих сфер нельзя установить границ. Европа переходит в Азию и
Африку, а начало и конец Средневековья конкретно не датируются. И все
же отрицать на этой основе реальную правомерность этих двух понятий
равносильно тому, чтобы отрицать существование любого неясного
физического тела, которое на периферии сливается с его окружением.
Как говорилось выше, искусство — это прежде всего особый вид
деятельности человека, которая, подобно другим видам его деятельности,
исторически выделилась в особую сферу и манеру труда. По ходу
развития она превратилась в вечно разрастающийся комплекс результатов
труда, т. е. в произведение искусства — в то, что мы и называем
«искусством». Наконец, не так давно, когда во всех художественных сферах
воцарились коммерциализация и механизация производства и массовая
продукция, «искусство» приобрело более узкий смысл,
отграничивающий особый вид творчества, не затронутый механизацией и
коммерциализацией и не превратившийся в продукты и практику технического
производства. Именно этот узкий смысл искусства неизбежно несет
оценочный признак и ведет к той путанице признания и оценки, которая,
как говорилось, делает несостоятельными все определения искусства. Но,
как увидим, даже в этом смысле возможна аккуратная описательная
идентификация искусства.
VI
Если обратиться к искусству прежде всего как к разновидности
человеческой деятельности, тот самый факт, что это — деятельность,
приводит к резкому различению между явлениями природы и искусства.
Само слово ars, происходящее от индоевропейского корня «аг»,
означающего «соединять», связанное с греческим artizein «готовить» и
arariskein «соединять», и значит первоначально «соответствие,
приспособление, соединение»3. Оно повсеместно употребляется в значении
противоположности природе. Следовательно, сентенции вроде
процитированных Вейтцем («X — произведение искусства и... нерукотворное»
или «...возникло случайно, когда он разлил краску на полотно») «не
имеют смысла и не могут быть истинными». Кусок прибитого к берегу
дерева или морская раковина, пусть они выглядят весьма живописно и
восхитительно, могут лишь напоминать об искусстве, но вовсе не
являются произведениями искусства, ибо не созданы человеком под
воздействием сознательного импульса или в результате труда*8. Труд — главная
предпосылка всякого искусства.
Как деятельность, искусство граничит с другими видами
деятельности человека, имея с ними, отчасти или в целом, некоторые общие
черты: с ремеслом, наукой, философией, историей. Живопись, скульптура,
архитектура связаны с ремеслом (скорее даже - с техникой), и даже
разнообразные произведения музыки и литературы своим появлением отча-
202
сти обязаны технике. С наукой искусство роднят исследовательский
характер работы, тенденция вечно расширяющегося познания; с
историей — ее описательный момент. Но от всех этих видов деятельности
искусство отличается своеобразными вариантами этих общих свойств, особым
сочетанием свойств и иными, присущими лишь ему особенностями.
Согласитесь, цель и действие науки состоят в накоплении все более
обширных и глубоких знаний о природе действительности. То же
можно сказать и о философии. И это так же справедливо и в отношении
искусства, только в данном случае не так легко распознается, ибо еще одна
особенность искусства способствует сокрытию этого.
Способ исследования в данных трех видах деятельности различен.
Естественная наука занимается внешней, доступной, зримой формой
действительности, т. е. реальными фактами. Эта работа ведется
коллективно; несмотря на достижения отдельных гениев, она становится все
более коллективным творчеством, широкомасштабной командной
работой, где индивидуум творит на все более узком, все более ограниченном
участке действительности и связан с массой людей, изучающих ряд
проблем, разработанных коллективно, как бы объективно. Соответственно,
знание, приобретенное естественной наукой, — всегда процесс,
протекающий на широком, неконтролируемом фоне; он всегда фрагментарен,
незавершен, открыт исправлению и даже переделке; он никогда не
прерывается и никогда не достигает даже промежуточного состояния
завершенности. Философия в былые времена, когда эмпирическая наука была
менее развитой, являла собой попытку интегрировать всю зримую
действительность, охватить ее умом. Широкое развитие естественных наук
свело ее к задаче исследования эпистемологических, онтологических,
логико-лингвистических основ или посылок знания. В целом ее
аналитические исследования к настоящему времени приобрели скорее
сциентистский, чем научный характер. Но даже там, где современные
философы, такие как Уайтхед2*, пытались исследовать связи и таким образом
интегрировать всю зримую действительность, представленную
открытиями современных наук, такая попытка интеграции имела отношение к
видимой действительности, которую он хотел осмыслить строго
рациональными методами.
Искусство тоже занимается изучением действительности, проникая
во все более обширные и глубокие ее сферы и постигая все большую ее
сложность; в этом отношении оно, как и наука, претерпело заметную
эволюцию — эволюцию того, как отражается природа и все поле
действительности, а стало быть, и форм отражения, способов выражения. Заново
открытая действительность требует новых форм и техники выражения.
«Содержание» и «форма», как ныне хорошо известно, - две стороны
одного и того же. Новое «содержание» требует новой «формы»
изображения; оно невыразимо, оно просто не существует без новой,
соответствующей ему формы. И как наука, которая, делая новые открытия,
расширяет и изменяет картину действительности и таким образом, а
равно и приложением ее открытий, изменяет саму действительность, так и
искусство, проникая в новые сложности и уровни действительности,
расширяет масштаб и изменяет природу нашего сознания, а тем самым и
действительность.
203
В науке ключевое значение нового вполне очевидно. Чего же еще
ищет наука, как не нового знания, лучшего знания, а значит — новых
фактов, нового знания. Но если говорить об искусстве, едва ли
уделяется достаточно внимания столь же важной роли, которую играет в
нем поиск нового. Здесь поиск нового, импульс к новому значит даже
больше, чем новый материал, большая глубина и сложность. В
искусстве заложены иные свойства, которые мы более или менее
осознанно ощущаем и восхищаемся ими в любой «парадигме» произведения
искусства, — такие как свежесть, жизненная сила, убедительность,
оригинальность, выразительность, точность, истинность и даже
эмоциональное воздействие. Все эти особенности, и, как увидим, не
только они, заложены в одной характерной особенности искусства: его
прорыве в сферу неведомого, доселе непостижимого, «куда еще
никогда не вступало ни одно слово», по выражению Рильке, а от себя
добавлю: «Никогда не касалась кисть или условный звук»*9. Ибо
именно труд изречения чего-то, доселе неизреченного, осмысление и
оформление чего-то в первый раз, именно это «в первый раз» и
придает произведению искусства его неувядающую свежесть и жизненную
силу, самобытность его языка и его убедительность; именно поэтому
произведения древности, идеи и стиль которых в наше время
знакомы нам до мелочей и в чем-то отстали от достижений современности,
все еще исполнены жизни и доставляют такое же наслаждение, как
будто только что созданы. В них ощутим тот взлет, на котором они
возникли; они несут в себе томление, борьбу, страдание и свежесть
только что сотворенного. Второсортность произведения распознается
только потому, что все это в нем отсутствует; оно — лишь эхо, повтор
и имитация достижений великих мастеров.
VII
Именно этот порыв к завоеванию непознанного и неизреченного также
способствует эволюционному, а порой и революционному характеру
художественной деятельности; он содействует расширению масштаба,
возрастанию сложности, выработке новых измерений, форм и методов, что
прослеживается на протяжении всей истории искусств.
Есть еще одна, самая главная особенность искусства, берущая
начало в том же источнике. Проникая в новые сферы и измерения
жизни, вырабатывая новые формы, созидая новую реальность, такие
художники, как Мазаччо3*, Джотто4*, Леонардо5*, Тициан6*, Рембрандт7*,
импрессионисты8*, Сезанн9*, Ван Гог10*, Пикассо11* или Данте,
Шекспир12*, Сервантес, Гёте, романтики и символисты13*, Флобер14*,
Пруст15*, Джойс16*, Кафка17* или Монтеверди18*, Бах19*, Моцарт20*,
Бетховен21*, Вагнер22*, Стравинский, Шёнберг23* (и это лишь немногие из
великих), не только предавались своевольной игре фантазии; их
влекли вперед и вели в определенном направлении исторические условия,
уровень сознания и жизни, обусловившие технику выражения,
свойственную конкретному периоду; новое же ощущение реальности, а
вернее — сама новая реальность, к которой они шли, была созидаемой
204
реальностью, таившейся за условностями эпохи. Они изображали
человека, они высвобождали формы и состояния, которым предстояло
стать живой реальностью грядущего века. Это значит: все, что они
изобретали, было не просто каким-то конкретным повествованием,
портретом, пейзажем, феноменальной структурой или сочетанием
звуков, но отражением жизни человека в ее развитии. Восхищаясь в
портрете Тициана, Дюрера или Гольбейна24* глубоким проникновением в
психологию человека, мы поражаемся не только высвечиванию
своеобразного характера, но и пристальной, детальной и вместе с тем
обобщающей точности самого исполнения, достигнутой этими
мастерами эпохи Возрождения. Здесь сходство доведено до предела
визуального исследования. Опять-таки, переходя от этих портретов к
портретам, скажем, Ван Гога или Кокошки25*, мы видим не просто
необычайно пронзительную и концентрированную характеристику
изображения человека, но и новую структуру и психологизм,
выявленные этими художниками. На новых феноменальных путях
раскрывается новая реальность нашего века. То же относится и к переходу от
изображаемого художниками Возрождения к тому, что мы видим на
полотнах Рембрандта, Клода Лоррена26* и Констебля27*, а далее —
Тернера28*, Моне29* и Сезанна. То, что выражает современная
«беспредметная» живопись своими конструкциями из линий и цвета, — не
только конкретное формальное сочетание, но в нем сокрыты
феноменальные связи более общего порядка. В литературе достаточно
проследить соответствующий процесс от барочного романа30* до романов
Флобера, Пруста и Джойса; в музыке — развитие от Гайдна31* до
Бетховена, Вагнера, Стравинского и Шёнберга. Благодаря их передовому
характеру, их актам откровения эти произведения имеют
общечеловеческое значение. То, что все это изображено через конкретное
явление, и то, что в нем выражена связь всеохватывающего значения,
придает им символичность. Итак, своеобразие художественного творчества
состоит в том, что с ним неразрывно связана символичность.
Именно символичность и отличает искусство от науки. И то, и
другая исследуют особенности действительности, открывают новую
реальность, но манера исследования и масштаб действительности в
обоих этих видах деятельности совершенно различны. Если наука
занимается материальной действительностью и выходит прямо на нее,
то искусство пользуется при этом символом и метафорой. Оно
изображает единичные субстанции, несущие в себе обобщение.
Абстракция и обобщение чужды науке, ибо она стремится сформулировать
строгие статистические законы, требующие математического
выражения; абстракция и обобщение — неотъемлемые свойства искусства;
оно раскрывает макрокосм через микрокосмические сопряжения, и
потому его формой выражения являются то символы, то метафоры. В
самой природе этого развития, направленного на изображение
целостности, заключено то, что каждое произведение искусства
завершено или мыслится таковым и что оно, стало быть, является автономным
произведением. Это свойство искусства (то, что каждое его
произведение обладает завершенностью) мешает признанию того, что и
искусство претерпевает определенную эволюцию.
205
VIII
Предрасположенность искусства изображать целостность (отражать
более широкую целостность) и развиваться от произведения к
произведению, каждое из которых — целостность само по себе, служит причиной
(а вернее, требует) той строгой организации и интеграции, которая
создает завершенность. Это свойство, которое обычно называют
«органичностью», или «совершенством», или «гармоничностью», конечно, уже
давным-давно получило признание; о нем впервые сказал Аристотель. И
даже сам Вейтц замечает, что «органичность... можно отнести к любой
причинной связи как в мире природы, так и в искусстве», т. е. вычленить
ее как своеобразную черту искусства. Но в этом возражении не учтена та
посылка, что искусство — это вид человеческой деятельности и что
поэтому художественная органичность достигается трудом, а не естественным
развитием, а это влечет за собой и иные немаловажные различия между
естественной и художественной органичностью.
Обращаясь к этой художественной особенности, к органической
целостности, мы затрагиваем понятие прекрасного, которое используется
широко, но довольно небрежно и беспорядочно. Чтобы объяснить
значение этого загадочного понятия, потребовалось бы специальное
исследование. В данном контексте я вынужден ограничиться несколькими
замечаниями.
Прежде всего, «прекрасное» в общепринятом смысле ни в коем
случае не идентично «гармонии». Что касается естественных объектов,
термин «прекрасное» может иногда означать «гармонию» (например, при
созерцании «прекрасного» тела), но в иных случаях это может означать
прямо противоположное: крайнюю дисгармонию, как, например, в
романтическом любовании полной контрастов дикой природой,
безграничной выразительностью и первозданным величием необозримого
ландшафта или явления природы (например, грозы). Все, что
колоритно, сенсационно и очень привлекательно, зачастую называют
«прекрасным».
Та же расплывчатость значения господствует и в повседневном
понимания «прекрасного» в искусстве. Одни произведения искусства
поражают нас своей «красотой» благодаря их яркой выразительности,
удивительному изяществу выражения; другие - благодаря гениальному
обобщению, «гармоничности» огромного богатства элементов. Конечно,
наше ощущение «прекрасного» будет особенно сильным, если в
произведении присутствуют оба качества. Говоря о «гармонии», важно
помнить, что это понятие вовсе не статично; в современной жизни оно
вышло далеко за пределы значения равновесия таких простых пропорций,
как классические. Искусство в процессе развития, постепенно
расширяясь и углубляясь и вбирая в себя все больше и больше разнообразных
элементов действительности, прорвалось сквозь границы традиционной
«гармонии». Прорыв сквозь эти границы, разрушение старой «гармонии»
неизбежно означали дисгармонию, выпячивание заново открытых
элементов за счет прочих элементов действительности; и этим новым
несоответствиям и диссонансам предстояло вновь интегрироваться в более
широкой и глубокой, более всеобъемлющей «гармонии». В самом деле,
206
всю эволюцию искусства можно представить как чередование
разрушения исчерпанной гармонии и образования новой, более всеобъемлющей
гармонии, т. е. как вечно повторяющиеся стадии экспрессивности и
интеграции. Следовательно, преобладание экспрессивности над
интеграцией в некоторых произведениях искусства предстает промежуточной
стадией на пути к образованию новой, более всеохватывающей
гармонии.
Философия, поскольку и она пытается в интерпретациях
синтезировать реальность нашего мира в неразрывную целостность, отличается от
искусства тем, что занимается конкретной реальностью рационально.
Искусство же действует вне- или сверхрационально, создавая не
доказательства, а зримые образы. То, к чему оно стремится, — это передача
целостности с помощью зримой симультанности. Даже в динамических
искусствах, где изображение подчинено движению, таких, как драма,
эпические произведения, поэзия, музыка, конечная цель — это
постижение субстанции как зримой целостности. И в музыке, несмотря на ее
внешне сугубо подвижный характер, конечная, присущая ей задача — это
воображаемое (незримое) единство структурной пьесы. Такая
призрачность искусства заложена в его символичности и метафоричности.
То, что отличает искусство от исторической науки, и то, где они
смыкаются друг с другом, — это, очевидно, опять его символичность и
метафоричность со всем из этого вытекающим. И та же символичность, в
частности, ее источник, завоевание новой реальности, знаменует различие
между искусством и ремеслом. Ремесло, хорошее или плохое, — это
рутинная работа, приспособленная к практическим нуждам, и любые
инновации, которое оно привносит, — чисто технические. Безусловно,
техника и методы тоже изменяют действительность, но эти изменения —
лишь внешняя эксплуатация научных открытий и явлений в искусстве.
Познавательная цель у них отсутствует*10.
IX
Разграничив искусство и ремесло, мы подошли к тому моменту, где
границы между описанием и оценкой, похоже, размываются. До сих пор мы
рассматривали искусство как вид деятельности человека, отчетливо
отличающийся от других видов его деятельности. Но, как уже говорилось,
механизация и коммерциализация, охватившие все виды человеческой
деятельности, породили различие между искусством и ремеслом внутри
той сферы деятельности, которую принято считать искусством; т. е.
различие между искусством в бескомпромиссно строгом и узком смысле и
рутинным производством романов, пьес, поэзии, живописи и музыки,
бестселлеров и «хитов», наводнивших рынок.
Выводить понятие искусства только из такого различия весьма
опасно, и в этом случае вполне оправдано подозрение, что критерий
признания — это в сущности критерий оценки. Немногие, кто хотя бы слегка
прикоснулся к искусству, будут отрицать, что Улисс Джойса -
произведение искусства, а рассказ Мики Спиллена — нет. Но даже при всей
очевидности этот факт нелегко установить без приложения одного критерия
207
искусства, выработанного заранее на более прочной основе, чем просто
смутное ощущение «совершенства» вообще, какой бы смысл в него ни
вкладывали.
В настоящем исследовании я попытался показать, что
приблизительно надежное познание природы искусства вполне возможно, если
считать искусство видом деятельности человека, коренным образом
отличным от других видов человеческой деятельности. Мы видим, что
своеобразная сознательность искусства состоит в открытии, а это
подразумевает сотворение новой реальности, которая прежде не
возникала в нашем сознании, что выражение чего-либо впервые — это главная
особенность искусства, и она кажется основным источником прочих
качеств, не слишком строго отождествляемых и скорее ощущаемых,
чем ясно осознаваемых, таких, как жизненная сила, неповторимость,
точность, истинность и т. д.; что искусство приходит к новой
реальности сверхрациональным, воображаемым, метафорическим путем и что,
стало быть, реальность, которую оно изображает, — это микрокосм,
отражающий макрокосм, что и знаменует символичность искусства; что
именно эта манера развития и изображения требует иной ключевой
особенности искусства — его устремленности к созданию органической
целостности, интеграции, «гармонизации» все более сложной и
противоречивой реальности. В тех произведениях искусства, которые,
вторгаясь в новые сферы и измерения действительности, рушат устаревшие,
условные гармонии, акцент стоит на концентрации, силе и точности
выражения. Такие произведения суть первопроходцы, пролагающие
путь другим произведениям, которые пытаются объединить эти
достижения в новую, более сбалансированную целостность и достичь
широкомасштабной законченности и совершенства. Переклички и
конвергенции частей, элементов и символов, составляющих такое произведение
искусства, доказуемы, что означает пусть и узкую, но все же
верификацию искусства.
Имея в своем распоряжении такие различия, мы без труда узнали бы
подлинное произведение искусства и отличили бы его от обычной
поделки даже в сфере ремесленной практики.
В качестве итогового определения я предлагаю следующее:
искусство - это вид человеческой деятельности; оно исследует и тем самым
созидает, новую реальность, исследует ее сверхрационально, создавая
художественные образы, в которых эта новая реальность обретает
символичность и метафоричность, подобно тому, как микрокосм
олицетворяет собою макрокосм.
1958
Эмилю Преториусу1*
Искусство и история
Художники и искусствоведы ведут нескончаемые споры; споры эти
неизбежны и до крайности непримиримы: ведь это споры между двумя
крайностями.
Искусствоведы занимаются историей форм и мотивов искусства, т. е.
стилей и иконографии, — это их тема; как составная часть к ней
примыкает история художников. Историки искусства понаторели в проведении
тончайших различий внутри периодов, стран и школ; это и
выработанное ими чутье является основой их знания, их компетентности
осуществлять атрибуцию и определять подлинность произведения искусства.
Занимая такую позицию, они изначально уклоняются от обращения с
произведением искусства как с искусством — т. е. оценка
художественности представляется им вторичной. Если их и заботит художественная
оценка, то она начинается не прямо с созерцания произведения
искусства, а как бы в обход — с определения подлинности.
Художники занимают прямо противоположную позицию и нередко
доходят до того, что отказывают искусствоведам в чувстве
художественности. Художники, созерцая произведение искусства, думают только о
требованиях, опыте и задачах их работы. И для них важно только то, что
служит вдохновению, то, что является для них самым сильным стимулом
и мотивом. Между их профессиональным взглядом и тем, на что они
смотрят, нет преграды; они видят не просто законченную форму, но и то,
что за ней кроется: творческий процесс, руку, глаз, вдохновение — все то,
что породило данную форму. Они могут без запинки сказать, что свежо,
а что — нет, что художественно, а что шаблонно. И они утверждают, что
этот беглый взгляд, улавливающий художественность, — это поистине
глубоко проникающий взгляд и гораздо более надежный критерий той
же подлинности произведения, чем скрупулезность исторического
исследования.
Поэтому они делают радикальный вывод, который, вытекая из
весьма разных исходных моментов, все же совпадает с расхожим и глубоко
укоренившимся взглядом: что касается художественности, то
безразлично, где и когда возникло произведение искусства; история и развитие
искусства не имеют никакого отношения к художественности данного
произведения, и, строго говоря, развитие не имеет никакого отношения к
искусству. Художественность произведения, заявляют они, не зависит ни
от времени, ни от места: «Венера Милосская» и «Олимпия» Мане2*
одинаково художественны, и оценить их художественность можно, даже
должно, совершенно игнорируя культурно-историческое значение
произведения.
Да, во многом бесспорно, что если научный труд никогда не
завершен, всегда в процессе, всегда открыт пополнению, исправлению и даже
вытеснению новыми знаниями, то произведение искусства вечно
цельно и законченно, всегда самодостаточно. Пусть даже в тот или иной
период его воздействие может быть больше или меньше, во всяком случае,
ничто иное из того, что еще предстоит сделать, не сможет умалить его
209
значимость, затронуть его художественность, а это — качество
сознательно созданной целостности, единства, многообразного в его
жизненности, многообразного в его отношениях и взаимосвязях. Если учесть эту
основную черту искусства, то безразлично, где и когда оно было
создано, и, конечно, в этом смысле критерий искусства не зависит от
исторического развития и культурной среды.
Но в художественность входит и другой компонент, который я счел
бы не менее важным, ибо именно он имеет отношение к историческому
развитию, к развитию человеческого сознания и мировоззрения, — это и
есть то главное, чем занимается искусство.
Искусство - одна из форм выражения человека; то> что выражается
(сознательно или бессознательно), — это condition humaine на данный
момент; то, как это выражается, - результат неизбежно личного восприятия
этого состояния. Нельзя отделить то, что видит человек, от того, как он это
видит, — это едино. Искусство утверждает себя не просто, как нередко
полагают, в особенно законченном, особенно успешном воспроизведении
чего-то, что уже увидено, но скорее в создании чего-то небывалого, едва
уловимого, чего-то, что только назревает, чего-то потенциального, чем
чреват данный период и что искусство делает реальностью,
существованием. «Творение» явного из потаенного — вот что такое процесс творчества;
и самые явления, которые зачастую кажутся причудливой фантазией или
просто субъективным изображением, предстанут моментом открытия.
Все великие произведения искусства дают жизнь новой реальности,
новому миру, который учит нас видеть, расширяет и углубляет
пространство нашего видения, нашего восприятия. Конечно, это не всегда
достигается одним мощным рывком, как в случае Никколо Пизано3*,
Джотто, Ван Эйка4*, Брейгеля5*, Рембрандта, Сезанна; зачастую это
совершается постепенно, шаг за шагом, проба за пробой; множество
художников испытывали озарение, воплощали свои замыслы, и лишь по
прошествии времени, в ретроспективе, становилось ясно, что они
внесли свою лепту в тотальное преобразование нашего мира. Среди
художников есть исследователи, экспериментаторы, завоеватели — они-то и
совершают решительные прорывы; есть и другие, которые занимают
завоеванную территорию, осваивают ее, делая ее плодородной, которые
разрабатывают в бесконечном разнообразии деталей то, что еще
только виделось в общих чертах. Но и у них элемент новизны,
преобразование видения, преобразование действительности являются
неотъемлемой частью мастерства и художественности их произведений.
Но что же вселяет жизнь в произведение искусства, что отличает его
от пусть даже технически совершенного, но заурядного изделия? Да
всего лишь та непосредственность восприятия, единственно возможная,
когда что-то видится впервые. Человек, просто следующий традиции или
использующий ее, повторяет в поверхностной искаженной форме то, что
вывели на свет мастера прошлого, приложив максимум сил и проявив
максимум прозорливости. Повторение неизбежно становится
механическим, вялым, пустым, скучным, отстает от того, что прежде было новым,
первозданным. Вспышка жизни — это всегда впервые. Вдохновение дей-
* Человеческое состояние (франц.).
210
ствует как раз на переднем крае невыразимого, чтобы извлечь форму из
того, что до сих пор было бесформенным. Испытывая на себе влияние
традиции, подлинный художник расширяет и преобразует ее. И
произведение, в котором ощущается пульс, тот импульс к исходному и
начальному, в которое вложены самоотверженный труд, самопреодоление и
самозабвение, - только такое произведение может еще увлечь нас в мир,
который намного превосходит мир, его породивший.
Классические периоды, периоды благотворных для искусства
решений, т. е. достигшие совершенства форм, устойчивого равновесия
элементов, не так свежи для нас ныне, а скорее далеки от наших нынешних
ощущений. Наш мир — мир глубочайшего раскола и отчаянной
растерянности; мы находимся в центре борьбы за новые и более масштабные
целостности. Нас особенно занимают динамичные периоды и личности,
нерешенные проблемы и бурные конфликты. Доисторический период и
период раннего христианства нам ближе, чем Греция V в.; Эль Греко6* и
Грюнвальд7* ближе, чем Рафаэль8*; Брейгель и Рембрандт ближе, чем
Гольбейн. И все же эти последние так же живы для нас, как и первые, и,
улучив момент, мы погружаемся в мир их творчества, ощущая в нем,
даже сейчас, ныне, как сквозь их несколько увядшую славу
пробивается живой источник и процесс ранних завоеваний всего искусства; в то же
время сотни эпигонов-авангардистов, заполоняющих собою
бесчисленные выставочные залы, где представлены мелкие Пикассо, Кандинские9*
и Джексоны Поллоки10*, поражают тем, что они в гораздо большей
степени устарели, чем ремесленники Средневековья. То, что некогда было
поистине свежо (истинно, т. е. по-новому, творческим), — это и только
это остается вечно живым.
Следовательно, новаторство — неотъемлемый элемент
художественности. Художники, со своей стороны, пожалуй, могут возразить, что
элемент новаторства виден просто в свежести произведения и не надо
искать в нем никакого особого новаторского содержания. Свежесть
прикосновения кисти художника, своеобразие его палитры, вся
композиция его картины сами по себе служат свидетельством новизны его
видения. Но это справедливо, если только речь идет об относительно
статичных культурах — культурах, так скованных традицией, что они
«задержались», по выражению Тойнби, на своеобразной стадии
развития. Искусство «примитивных» народов, например, — это племенное
искусство; индивидуум как таковой едва развит и остается безымянным.
Некоторые основные формы повторяются снова и снова, но это —
повторение, весьма отличное от того, которое раздражает в современных
произведениях. Там искусство еще не является особой формой выражения,
оно — магическая функция жизни, непосредственно питаемая
экзистенциальными страхами и видениями. То, о чем оно говорит, то, что в нем
выражается, - это главным образом племя и его связи с силами
природы, и в каждом человеке, придающем очертания заклинаниям и образам,
заново пробуждается племя. Поэтому повторение в данном случае не
становится механическим; напротив, повторение имеет усиливающий,
буквально завораживающий эффект и может даже послужить стимулом к
личному преодолению общих ритуальных уз. Итак, в условиях такого в
основном все еще неисторического образа жизни, в вечном настоящем,
211
в котором проживается эта жизнь, обычное, постоянное становится
каждый миг чем-то новым, а так как между новым и традиционным нет
различия, то почти всю художественность этих произведений можно
почерпнуть из их чувственной формы. Даже здесь не всю, но почти всю.
Остальное легче различимо в великих культурах Востока.
Эти великие культуры (китайская, персидская, индийская, японская
и т. д.) тоже относительно стабильны и неподвижны по сравнению с
современным Западом. Они тоже были основательно скованы традицией и
до последнего времени, до того, как всю землю наводнила техническая
цивилизация Запада, пребывали в той фазе развития, когда вся жизнь
людей пронизана религией. Но в их искусстве заметны развитие и
сменяющие друг друга периоды, хотя развитие протекает медленнее, а
периоды оказываются протяженнее, чем на Западе. Периоды подъема и
процветания сменяются периодами упадка, когда формы становятся
схематичными, механистическими, застывшими; например, искусство
китайской бронзы, расцвет которого приходится на периоды Шан-Инь11*
и поздний Чжоу12* (1523—1027 до н.э. и 473—256 до н.э.), или перелом в
развитии китайской живописи от ученичества в эпоху, предшествующую
Тан (до 618 н.э.), до взлета в эпоху Тан-Сун13* и упадка в эпохи Юань14*
и Мин-Цин15* (с 1278 г.). Центры зрелого стиля в исламской
миниатюре — Багдад при Аббасидах16* и Каир при Фатимидах17*; центрами
монгольских правителей были Тебриз, Самарканд, Герат18*, Бухара при Шей-
банидах19* и особенно Исфаган при шахе Аббасе Великом20*. Во многих
случаях (в Китае, Японии и Персии) развитие стиля уже связано с
конкретными художниками, чьи имена и произведения не дошли до нас.
Конечно, и здесь, в искусстве этих великих культур, художественность
произведения до какой-то степени будет непосредственно проявляться в
свежести и неподдельной силе вдохновения. Но если нас поражает в
«примитивном» искусстве преимущественно его завораживающая экспрессия,
то восточное искусство достигло зрелости художественного равновесия.
Целостность его творений распространяется не только на измерения
наших чувств, но и выходит за их пределы в особое духовное измерение; и
на религиозных стадиях человеческого развития (средневековая Европа не
меньше, чем восточные культуры) роль символа, пронизывающего каждую
отдельную форму, своеобразие трактовки, интерпретация, интеграция
этого символизма вносят нечто существенное в художественность
произведения. Трудно представить, чтобы китайская живопись, например, была по
достоинству оценена человеком Запада, не знакомым с учениями
даосизма21* и буддизма22*, не чувствующим так, как китаец (а наши ощущения
совершенно различны), природу и свое место в ней.
А на динамичном Западе совершенно невозможно понять
художественность произведения без тех или иных исторических предпосылок.
Здесь человеческое сознание и мировоззрение прошло к настоящему
моменту полный путь развития, и в этом процессе преобразования
концепции и реальности немаловажную роль сыграло искусство. На Западе
искусства выделились в особую сферу, в самостоятельный светский
способ выражения, отличный от жизни в целом. Своеобразная
художественная или эстетическая функция (доведение до завершенности вечной
художественной целостности) и общечеловеческая функция искусства —
212
здесь это может означать только эволюционно динамическую функцию,
порождение вечно меняющейся человеческой реальности — эти две
функции искусства, неразрывно связанные друг с другом, кажется, в
наше время расходятся. Надо бы вновь увидеть их как единое целое.
У Сезанна обе функции были еще едины: усиленное внимание
живописной форме и большая острота видения. В дальнейшем такой
художник, как Матисс23*, прежде всего занимается живописной формой, а
Пикассо, напротив, полностью поглощен поиском новых структурных
связей видимого. Для Пикассо завоевание новой визуальной
реальности порой более актуально, чем любое эстетическое совершенство, на
которое у него, движимого жаждой поиска, почти не остается времени.
Корить его за эти случайные недостатки, как это делают некоторые
художники, - просто педантизм. Его достижения огромны: не только
новые визуальные сферы и параметры, но и создание нового символизма,
порожденного ужасами нашего времени. Даже его ошибки чреваты
серьезными последствиями.
Такой глубокий разлом являет нам двойственность или, скорее, дву-
сторонность задачи художника. Он свидетельствует, что невозможно,
оценивая произведение западноевропейского искусства, не учитывать
его эволюционного качества, его реального стилистического развития.
Представим только Тициана или Дюрера, этих тонких живописцев,
перед полотнами Ван Гога или Пикассо: как бы они оценили, каково
человеческое содержание нашей эпохи в этих произведениях, и сколько
надо знать, чтобы понять эти произведения, о событиях (фактических,
духовных и визуальных) прошлого века.
Но поучителен и противоположный эксперимент. Искусство Греции
V в., как и искусство Высокого Возрождения, как уже говорилось, не
вполне отвечает современным чувствам, и особенно живо реагирующим
людям привлекательнее покажутся более проблемные произведения, но
не просто потому, что отжившая стереотипная эстетика делает
классическое искусство как бы неинтересным для нас, притупляет наше
восприятие его. Чтобы по достоинству оценить красоту этих форм, надо
восстановить непосредственность, живость нашего видения, а это может
произойти, если только мы попытаемся вновь пережить рождение этой
красоты, ее возникновение из перипетий предшествующей эпохи, если
только научимся видеть в ней уникальный итог (сохранивший в себе эту
неповторимость породившего ее времени и места) борьбы
человеческого сознания. Человеческое значение должно помочь нам до конца
постичь значение эстетическое.
Если, как мне кажется, художники не совсем правы, утверждая, что
нам не нужны никакие предпосылки для оценки художественности, то,
с другой стороны, следует допустить, что взгляд искусствоведов
нуждается в расширении — в направлении, избранном художниками, равно как
в направлении, уже указанном людьми творческой фантазии типа Вёль-
флина24*, Дворжака25*, Воррингера26* и Кеннета Кларка27*. Знание стилей
и атрибуции, равно как и иконография и изучение происхождения
мотивов и символов, несмотря на всю их ценность и достижения, — это еще
не все. Произведение искусства — это в конце концов произведение
искусства, и с ним нельзя обращаться как с историческим документом или
213
орудием. Понимание художественного своеобразия произведения во всей
его сложности требует прозорливости и живости восприятия.
Мне хотелось показать в этой статье, что в художественность входит не
только элемент вневременного совершенства произведения самого по
себе, в его структуре мотивов и связей, но и другой элемент — его
неповторимая творческая свежесть, а значит, претворение, преобразование
видимого мира. Итак, история искусства в ее более широком значении — это
история видения мира и его ощущения человеком; отраженная в зримых
образах, история искусства становится существенной частью истории
человеческого сознания. Художники и искусствоведы, а в общем все
желающие по достоинству оценить произведение искусства должны
воспринимать в неразрывном единстве два компонента художественности —
совершенство и новаторство.
1954
Дополнения к Части II
*' Греческое leitourgia восходит к leitos (общественный или добровольный) и ergon
(работа).
*2 Психиатр Сильвано Ариети в книге Интерпретация шизофрении (Нью-Йорк,
1955) предполагает, что животные видят образы: «Похоже, они видят сны, а если
так, то, значит, видят какие-то образы. [Вовсе не обязательно: стимулами их снов
могут быть иные ощущения — запахи, звуки, прикосновения или другие,
неведомые нам, ощущения]. Но, похоже, животные не обладают способностью
произвольно вызывать или воспроизводить образы и, конечно, неспособны сообщать
их другим...» Далее он ставит вопрос, способны ли животные на следующий шаг:
превращать образы в символы. Он пишет (с. 282 ел.): «Специалист по
сравнительной психологии Келлог рассказывает, что детеныш шимпанзе Гуа был так к нему
привязан, что всякий раз, когда он уходил, шимпанзе очень тосковал, испытывая
страх и печаль. Если же на время отсутствия он оставлял ему свой халат, то
детеныш, казалось, успокаивался, ничем не проявляя неудовольствия, и таскал за
собой халат как фетиш. По мнению [Сюзанны] Ланже, этот факт очень важен.
Вероятно, это одно из первых проявлений высшей символизации, на какую только
способны животные. Халат выступал вместо хозяина... заменял хозяина... это
был символ, но символ, который отождествлялся с символизируемым им
предметом. Возможно, у обезьяны при виде халата возникал образ хозяина или
халат воспроизводил образ хозяина в халате или обезьяна действительно
воспринимала халат не как халат, а как эмоциональный эквивалент хозяина...» Эти
интерпретации Сюзанны Ланже, с которыми, кажется, согласен д-р Ариети,
представляются мне в высшей степени антропоморфными или, скорее, логоморфны-
ми. Подобное мне случалось наблюдать у собак, и это наводит меня на мысль, что
происходившее в психике шимпанзе имело иную причину: халат был не
символом, а скорее реальной частью хозяина и частицей его присутствия, что,
вероятно, сообщалось животному посредством обоняния в сочетании с
ассоциативными ощущениями осязания и зрения. Даже у некоторых первобытных народов
существует мнение, что предметы личной собственности суть части, или
продолжение, тела их владельцев. Во всяком случае, шимпанзе не совершает
сознательного акта замены, единственного, что можно назвать символизацией. (Недавно
при встрече д-р Ариети сказал мне, что, цитируя пример, заимствованный
Сюзанной Ланже у Келлога, он ссылается не на символы, а на палеосимволы. В его
готовящейся к выходу книге Чувство, узнавание и созидание у здоровых и у душевно-
214
больных он расширяет понятие палеосимволов. Палеосимволу, утверждает он,
занимающему место между симптомом и символом, требуется для возникновения
некий внешний объект, или образ, вызванный внешним объектом.)
*3 Всякий раз, когда такие современные авторы, как Жид, Томас Манн, Жиро-
ду, Ануй, Сартр, используют библейские или мифические мотивы, чтобы
высветить проблемы нашего времени, они делают это вполне свободно. Для них эти
мотивы уже не представляют собой ту высшую реальность, которая требует,
чтобы за ней следовали, но сырье, необходимое, как и любое другое, для создания
символов. [Жид (Gide) Андре Поль Гийом (1869-1951), французский писатель;
Манн (Mann) Томас (1875-1955), немецкий писатель; Жироду (Giraudoux) Жан
(1882-1944), французский писатель; Ануй (Anouilh) Жан (р. 1910), французский
драматург; Сартр (Sartre) Жан Поль (1905-1980), французский писатель. -
Примеч. пер.]
*4 Музыка — это особый язык, сложная артикуляция неартикулируемых звуков.
Артикуляция состоит в дифференциации высоты, ритмического деления
дифференцированной высоты, т. е. тонов и взаимодействия уровней высоты и их
секвенций. Если даже простейшее слово несет значение, ибо оно есть знак,
обозначающий нечто помимо самого себя, то простейшая единица музыки,
тон, не имеет никакого значения, приобретая его только путем секвенции или
группы тонов. Поэтому слово - это символ сам по себе, а тон становится
символом только внутри секвенции или группы. Особая, динамическая природа
музыкального символа блестяще описана Виктором Цукеркандлем: «Ключ к
пониманию процессов, которые превратили тона этой мелодии в мелодию, в
музыкальную пьесу, мы нашли не в связи тонов с каким-то конкретным
чувством, но в связи тона е с тоном d. То, что динамические качества тона... не
имеют ничего общего с выражением чувства и с выражением чего бы то ни
было, следует просто из того, что они отчетливо появляются даже там, где
абсолютно ничего не выражается и не утверждается, а именно когда играют
гамму... Слово и его значение - явления независимые. Здесь— это слово,
комплекс звуков и знаков; там — его значение. Их можно отделить друг от друга;
каждое существует само по себе - слово без предмета, предмет без слова. Одна
и та же вещь называется в разных языках разными словами... Напротив,
между тоном и его значением существует гораздо более тесная связь. Акустическое
явление и его музыкальное значение ничуть не представляют собой два
независимых феномена, существующих сами по себе. Их невозможно вообразить в
отрыве друг от друга. Конечно, можно представить себе тон, который ничего
не значит, а является просто акустическим феноменом, но представить себе
музыкальное значение тона, его динамическое качество, без тона
невозможно... Музыкальное значение тонов неразрывно связано с ними, может быть
представлено только ими и существует только в них... тона должны сами
создавать свое значение. Поэтому можно переводить с одного языка на другой, но
с одной музыки на другую (например, с западной на китайскую) нельзя. Тона
тоже о чем-то говорят, на что-то указывают. Но значение тона заключается не
в том, на что он указывает, но в том, что он указывает на себя; или, точнее, в
том, что каждый тон указывает на то, что присуще именно ему. Значение - не
то, о чем говорится, но то, как говорится... Слова ведут от себя, а тона- к
себе... Тона... полностью вобрали в себя свои значения и выплескивают их на
слушателя непосредственно в звуке» (Sound and Symbol / Trans, from the German
by W.R. Trask [Bollingen Series XLIV; New York, Pantheon Books, 1956], p. 56).
Итак, если музыкальный символ кажется идентичным с актом указания или,
точнее, с указанием в действии, если он, таким образом, значит per se и in
perpetuo, то еще может достичь в строго организованной «композиции» фуги,
сонаты или симфонии особого образа, образа чистой формы. Динамизм
совпадает с одновременностью совершенного целого.
215
*5 Это качество превращает в произведения искусства и культовые изображения.
Действительно, если в культовом изображении достигнуто свежее раскрытие
феноменальной формы, то достигнута и стадия полной репрезентации.
*6 Соответствующие различия между аллегорией и символом были сделаны Гёте и
Колриджем. Гёте: «Аллегория превращает явление (Erscheinung) в понятие
(Begriff), понятие - в картину, но так, что понятие в картине все еще может быть
ограничено и полностью установлено и высказано. Символика превращает
явление в идею, идею в картину, но так, что идея в картине всегда остается бесконечно
воздействующей и недостижимой и, даже будучи выражена на всех языках, все же
остается несказуемой» (Maximen und Reflexionen. Aus dem Nachlass.) «Мы можем
говорить о подлинной символике, когда частное изображает более общее не как
сон или тень, но как живое непосредственное откровение непостижимого»
(Maximen und Reflexionen. Aus Kunst und Altertum. 1826). Колридж: аллегория - это
просто «перевод абстрактных понятий на художественный язык, который сам есть
не что иное, как абстракция объектов чувств...» Символ «характеризуется тем, что
особое [виды] проявляется в индивидуальном, а общее [род] в особом..; и главное
то, что вечное просматривается во временном» (The Statesman's Manual //
WellekR., Warren A. Theory of Literature. New York, 1949. P. 193 ff.). [Колридж
(Coleridge) Сэмюэл Тейлор (1772-1834), английский поэт, критик и философ. -
Примеч. пер. ]
*7 Это ошибка, которой грешат все приложения строгой логики к объектам
действительности, - стало быть, и ошибка Витгенштейна. Ср. Philosophical
Investigations. New York, 1953. P. 68-70, 77.
*8 Разумеется, произведение искусства никогда не является до конца результатом
сознательного действия. Значительная часть творческого процесса, у разных
художников более или менее, протекает в подсознании. Пикассо говорил о своей
творческой манере: «Картина приходит ко мне из дальних далей: кто скажет, на
каком расстоянии я почувствовал, увидел, написал ее... как проникнуть в мои
мечты, инстинкты, мысли, которым потребовалось длительное время созревания
и появления на свет Божий, и более того - уловить в них то, что ощущал я,
возможно, вопреки собственной воле?» (Barr А. Picasso, Museum of Modern Art. New
York, 1946). Самая изысканная, психологически тонкая поэзия Рильке
стремительно изверглась из длительного, почти вегетативного процесса бессознательного
и полусознательного творчества, над которым он был почти не властен. И все же
Пикассо обладал «Я», которое чувствовало, видело и писало и улавливало, пусть
даже таившись в потемках подсознательного или бессознательного, и противилось
его сознательной воле; он обладал сознательным контролем над тем, что он
открыл. У Рильке проницательный ум скрывался глубоко под поверхностью
сознания, но именно он определял структуру его поэзии. Даже в таких случаях (а есть
и другие, когда на первый план выступает сознательное творчество, как у Флобера
и Сезанна) то, что происходит, - это целенаправленное творчество, а не
случайный процесс.
*9 Это качество, присущее искусству, качество первооткрывателя, свойственно
многим художникам, начиная с Лукреция, который в сочинении О природе вещей
писал: «Я не таю от себя, как это туманно, но острый / В сердце глубоко мне тирс
вонзила надежда на славу / И одновременно грудь напоила мне сладкою страстью
/ К Музам, которой теперь вдохновляемый, с бодрою мыслью / По бездорожным
полям Пиэрид я иду, по которым / Раньше ничья не ступала нога. Мне отрадно
устами / К свежим припасть родникам и отрадно чело мне украсить / Чудным
венком из цветов, доселе неведомых, коим / Прежде меня никому не венчали
голову Музы. / Ибо, во-первых, учу я великому знанью, стараясь / Дух человека
извлечь из тесных тенет суеверий, / А, во-вторых, излагаю туманный предмет
совершенно / Ясным стихом, усладив его Муз обаянием всюду» (I, 922—934; ср. также:
IV, 1—5). Другие художники ощущали свой прорыв как предел творческих воз-
216
можностей или как творческий подвиг. Данте, Божественная комедия, Рай XXX,
31 ел.: «Но ныне я старался бы напрасно / Достигнуть пеньем до ее красот, / Как
тот, чье мастерство уже не властно»; Мильтон в Потерянном Рае I, 16:
«Нетронутым ни в прозе, ни в стихах»; Гёте: «Искусство - перелагатель неизречимого»;
Дюрер, О пропорциях человека, III: «Ибо, поистине, искусство заключено в
природе; кто умеет обнаружить его, тот владеет им». Дега: «Нужна и впрямь смелость,
чтобы вести лобовую атаку на основные структуры и линии природы...
искусство - это подлинная битва». Клее: «Человек учится видеть за фасадом, схватывать
суть вещей. Учится познавать невидимое, то, что предшествует видимому.
Учится докапываться, открывать...»; Бекман: «То, что мне хочется вывести в моем
произведении, - это идея, таящаяся за так называемой действительностью. Я пробую
навести мост, соединяющий видимое и невидимое; как некогда сказал известный
каббалист: "Если хочешь добраться до невидимого, надо как можно глубже
проникнуть в видимое"». (Цитаты Дега, Клее и Бекмана заимствованы из Artists on
Art / Ed. R. Goldwater, M. Treves. New York, 1949); Рембо в Matinee d'lvresse (Утро
опьянения) восклицает: «Ношта pour Гоеиѵге inouie... pour la premiere fois!» («Ура
в честь небывалого дела... и в честь первого раза!» Перевод М.П. Кудинова). А
Стравинский в Expositions and Developments пишет: «...произведение является чем-
то совершенно новым и иным по отношению к тому, что может быть названо
чувствами композитора... каждое новое музыкальное произведение - это новая
реальность». [Тит Лукреций Кар (Titus Lucretius Cams) (ок. 95 - 55 до н. э.) -
римский поэт, философ и просветитель; Мильтон (Milton) Джон (1608-1674) -
английский поэт, политический деятель, мыслитель; Дюрер (Dürer) Альбрехт
(1471 — 1528)— немецкий живописец, рисовальщик, гравер, теоретик искусства;
Дега (Degas) Илер Жермен Эдгар (1834-1917) - французский живописец, график
и скульптор; Клее (Klee) Пауль (1879-1940) - швейцарский живописец и график;
Рембо (Rimbaud) Артюр (1854-1891) - французский поэт; Стравинский Игорь
Федорович (1882-1971) - русский композитор, дирижер. - Примеч. пер.]
*10 Архитектура благодаря ее направленности на практические нужды особенно
тесно связана с ремеслом и техникой, но внутри этих границ все, что говорилось
здесь об особенностях искусства, касается и зодчества (ср. в связи с этим
восхитительную работу Эрвина Панофского Готическая архитектура и схоластика). В
былые, не технические времена (и в редких случаях современного прикладного
искусства) ремесленное изделие тоже могло быть произведением искусства,
поскольку оно было (или есть) уникальной работой, и диктат практических нужд и
деспотичных коммерческих вкусов не так явно превалировал над формальным
выражением стиля или идеи жизни. [Панофски (Panofsky) Эрвин (1892-1968),
немецкий и американский искусствовед. — Примеч. пер.]
Часть третья
Разновидности бессознательного
Мы созданы из вещества того же,
Что наши сны. И сном окружена
Вся наша маленькая жизнь
У. Шекспир. «Буря»
ι
Хотя психоанализом занимаются уже более полувека, все же до сих пор
встречаются люди, сомневающиеся в существовании бессознательного.
Бессознательное, говорят они, — это не доказанный факт, а гипотеза.
Среди оппонентов психоанализа особенно упорствуют в этом
позитивисты и бихевиористы1*. В ответ можно задать вопрос, который претит
позитивистам: а какой факт можно вообще признать бесспорным? В самой
точной из точных наук — физике, вся концепция опытных данных
окутана сомнением. Факты обнаружили свою непостижимую сложность,
свою природу как «явлений». Мы еще не пришли к тому, чтобы считать
«факты» простыми допущениями, и они все больше предстают в лучшем
случае переходными, весьма ограниченными и условными состояниями.
Физика занимается физическими явлениями, и поскольку она -
фундаментальная наука, то вся современная наука черпает в ней общий
критерий физической верифицируемости. Только «фактическое» считается
«истинным», а фактическое отождествляется с тем, что подлежит
чувственному восприятию. Именно это в конце концов можно свести к
ощущению-восприятию (по крайней мере, с помощью инструментов), и
как таковое оно становится измеряемым и исчисляемым. Все усилия
открыть «законы природы» в жизни человека сводятся к поискам измеряе-
мости, т. е. к конгруэнтности и экстенсивности. Ибо измерено может
быть только то, что конгруэнтно и экстенсивно.
Поэтому так трудно иметь дело с данными, на которых строятся
исторические и социологические законы. В целях измерения такие данные
следует изъять из живого контекста. В феноменах, не поддающихся
непосредственному восприятию, они образуют ту часть явления, которую
можно продолжить. Иными словами, они являют собой как бы абстрак-
218
тную материальность. Итак, в мире психики только объекты
чувственного восприятия, только психические реакции на внешние раздражители,
к категории которых относятся функции интеллекта, подлежат
измерению и точной оценке. Внутреннюю сторону психических процессов
оценить нельзя, о ней можно только догадываться. Через порог между
внешним поведением и внутренним ощущением и воображением
невозможно перескочить, его можно только обойти. Примечательно, что
бихевиоризм, избегающий экспериментального исследования психики,
дает результаты только в психологии животных и в лучшем случае — в
детской психологии: иначе говоря, там, где элементы психики все еще
полностью или по большей части пребывают во власти сомы2*, где мысль
и индивидуальность еще не достигли полного развития1.
Для изучения того, что является по сути своей психическим, т. е. не
чисто физиологическим или функциональным, у нас нет иного средства
«верификации», чем неуловимый человеческий опыт и наблюдение. Мы
не можем экспериментировать с этой частью психики, как с
физическими явлениями, где животные могут служить иллюстрацией некоторых
органических процессов и давать ответы на вопросы о структурах и
функциях тела. Думается, вряд ли искусственные неврозы, вызываемые у
крыс и кошек, привносят нечто важное в понимание проблем
психологии человека. Масштабы и пропорции жизни животных и человека и
соответствующие степени сложности слишком далеки друг от друга.
Но если научная верификация бессознательного кажется едва ли
возможной (пожалуй, ближе всего мы подходим к этому в последних
исследованиях сновидений и процессов предсознательнои памяти с помощью
электростимуляции коры головного мозга, к чему мы еще вернемся), мы
тем не менее располагаем вековыми, если не тысячелетними,
свидетельствами того, что испытывают люди на уровне бессознательного. Да,
постепенное осмысление бессознательного и зарождение четкого
представления о нем — это такой же последовательный эволюционный процесс,
как и любой другой, известный нам, и он знаменует разные фазы
развития самосознания человека.
Этот эволюционный процесс предстанет нам в полной мере, если
взять понятие бессознательного в гораздо более широком смысле, чем
это требуется для психоанализа. Под бессознательным в данном случае
подразумеваем тот мир человеческого «Я» (т. е. интеллект, душу и тело),
функционирование которого не до конца понятно человеку. Мы увидим, как
обширен и разнообразен этот мир.
Начнем с неразрешимой и парадоксальной связи между сознанием и
подсознанием. Бессознательное предполагает сознание, и только
благодаря развитию воспринимающего сознания человек начинает осознавать
существование в себе бессознательного. Хотя «существует великое
множество исторических фактов, наводящих на мысль, что уже на заре
цивилизации человек имел отдаленное представление о том, что умственная
деятельность за пределами бодрствующего сознания действительно
существует»2, надо было сначала открыть сознание, осознать сознание, а
уже потом возникло ясное понятие подсознательного. Этот процесс
начинается с неясного осознания сознания, а значит, — с наблюдения
сознания в действии, т. е. занятого своим делом — мышлением. В ходе длитель-
219
ного процесса из этого осознания сознания выделяется осознание
бессознательного уровня психики человека. Это знание постепенно
становится все яснее и острее и, наконец, в учении Фрейда получает свою полную
эмпирически обоснованную теоретическую формулировку. Это первая
особая и детальная характеристика бессознательного означала
проникновение из сознания в глубины подсознательного, а отсюда — увеличение
объема сознания. Связь между двумя пластами психики человека
оказалась чрезвычайно тесной и сложной.
II
Дифференциация сознания и подсознания проявляется в двух
различиях, которые оставили свой след уже на ранней светской мысли
древних греков: вертикальное, если можно так сказать, различие
между телом, душой и умом, и горизонтальное различие между человеком и
Вселенной, или (ибо именно в это оно впоследствии превратилось)
между субъектом и объектом. Правда, древнегреческая философия,
хотя и противодействовала мифической народной религии, все же так
и не порвала с религиозной основой, не провела четкой границы
между этими антиномиями. Итак, для древних греков ум и душа
означали не просто ум и душу человека; скорее, ум и душа индивидуума
выступали частями космической субстанции; ум и душа пронизывали
собой всю Вселенную, а следовательно, и людей. Соответственно,
взаимосвязь тела, души и ума (хотя и ясно различимых) в каком-то
смысле была созвучна взаимосвязи индивидуума и главного закона
Вселенной. В своей уникальности, обособленности и изменчивости человек
являл собой тело; душой и разумом он был частью вездесущего
закона Вселенной. Даже в учении Аристотеля, самом рациональном из
древнегреческих учений, в котором уже признавалась метафизическая
законность изменчивого индивидуума, тесная связь между двумя
различиями не исчезает. Божественный космический закон — это форма
(eidos), которая в индивидуальном, а стало быть, и в индивидууме
сочетается с физической субстанцией (hyle), создавая реальность. Но,
несмотря на эту исконную неделимость материи и формы, ум и
психика индивидуума все еще считаются частью вселенского
космического закона. Фактически, там, где господствует религия, и особенно у
людей, склонных к мистике, сохраняется тенденция размывать
границы между этими различиями. И для христиан тоже человеческий ум и
душа предстают частью божественной сути. Более того, — а для нас
этот факт очень важен — для верующего, впавшего в мистический
экстаз, присутствие Бога ощутимо и ослепительно зримо, но
божественный космический порядок и провидение не познаваемы*1.
Три основоположника христианского учения в порядке их появления,
апостол Павел, блаженный Августин и Лютер, еще более резко
отграничили плоть от духа, превратив это различие в глубокую дихотомию3*.
Тело как источник и вместилище всех грехов было противопоставлено
душе или духу, который считался вместилищем подлинной жизни,
осененной Богом. Поэтому плоть отвергалась и подавлялась, что послужи-
220
ло причиной коренного нарушения психического равновесия; можно
даже сказать, что в итоге появилось бессознательное (его религиозный
прообраз) как изолированная область психики. По правилам табу весь
путь к заветам иудейского Бога, отношения между конкретным
человеком и демоническими или божественными силами развивались в
границах внешнего космического пространства. Имело значение активное
послушание посредством «служения» божественным заветам; неизвестное
и непознаваемое было предоставлено исключительно произволу духов и
богов*2. «Искуситель» — тоже внешняя сила, которой можно оказать
сопротивление несгибаемой преданностью Богу, воздерживаясь от
гордыни чудодейства или от кощунства и соблюдая аскезу. Ритуал — это
прочная опора, на которую можно положиться; а благодать, передаваемая
Церковью, очищает от греха. Но завет веры переносит религиозное
поклонение на внутренний мир человека и тем самым предоставляет
человеку привилегию решать, угоден он Богу или нет. Такова «свобода
христианина» у Лютера. Человек может больше не отдавать свой духовный
долг деяниями; вера — вот что оправдывает его, и вера присутствует в
самой душе; отсюда — неустойчивость опоры, способной пошатнуться как
только на ней сосредоточится ум.
История средневековых ересей и схоластических диспутов рисует
постепенный распад учения и ритуала под двойным давлением коррупции
Церкви и действия человеческого разума. И когда догма и ритуал
отмирают, то серьезный христианин, оставшись один на один со своими
решениями, начинает как никогда прежде ощущать свою отверженную
плоть источником всех импульсов и страстей, не подвластных
разумному пониманию и психическому контролю, — ощущать ее как темный мир
в человеке, где неуправляемые, дьявольские силы сеют разрушение и
угрожают спокойному, блаженному духовному существованию. Так в
человека вселился дьявол*3. Страсти Лютера, борьба с дьяволом в самом
себе, которую он вел всю жизнь, — яркий пример анонимного
присутствия бессознательного в человеке Средневековья. Не только
злоупотребления Церкви, но и душевные переживания юного Лютера явили ему
то, что обряд и покаяние сомнительны. Аскетизм не успокоил его, но
лишь возбудил в нем пагубные инстинкты. Он не мог забыть, что
отпущения требовали даже грехи, совершенные по неведению, т. е.
бессознательно; и он мучил себя и своего исповедника, богослова Иоганна Шта-
упица4*, бесконечными поисками бессознательных грехов. Укрепило его
только предписание апостола Павла доверять вере; но своим учением об
оправдании верой он широко распахнул врата эре сомнения. Его
последователи, пуритане, постоянно терзались угрызениями совести и вечно
копались в своих душах, выискивая следы заразы от контакта с
греховным.
III
Итак, мы видим, что в воззрениях, бытовавших до конца Средних веков,
признавались два основных провозвестника бессознательного или его
ранних стадий: первый, духовный, необъяснимое присутствие божества,
221
всеобъемлющей мировой души в душе индивидуума, а другой,
физический, — глубинные, неконтролируемые побуждения и страсти плоти.
Но наряду с этим мы располагаем множеством данных о первых
признаках и наблюдениях мира подсознания, проявляющихся в
различных состояниях человека: когда он спит, видит сны, теряет сознание,
испытывает припадки, в том числе эпилептические, и т. д. Среди них
(явление уникальное для столь раннего периода) выделяются
пронизанные страхом наблюдения блаженного Августина, на которые его
вывело религиозное рвение. По его натуре и философской выучке он еще не
перестал быть язычником и испытывал как христианин внутреннее
борение, ощущаемое как противоречия, присущие человеческой душе.
Так, его страстное стремление к духовному совершенству вытолкнуло
его к самым далеким пределам самоконтроля и сознания. В его
размышлениях о сновидениях, в его удивительных описаниях памяти и
процессов ассоциации он невольно вырабатывал начала психоанализа:
«[Эти эротические образы] кидаются на меня, но тогда [когда я
бодрствую] они, правда, бессильны, во сне же доходит не только до
наслаждения, но до согласия на него. И в этих обманчивых образах столько
власти над моей душой и моим телом, что призраки убеждают спящего в
том, в чем бодрствующего не могут живые. Разве тогда я перестаю быть
собой, о Господи Боже мой? ...Где в это время был разум, с помощью
которого бодрствующий противостоит таким нашептываньям и
пребывает непоколебим перед реальным соблазном? Закрывается ли он
вместе с глазами? Засыпает вместе с телесными чувствами?»3.
Он трактует этот вопрос еще серьезнее и детальнее, говоря о памяти
и ее функциях:
«Велика она, эта сила памяти, Господи, слишком велика! Это
святилище величины беспредельной! Кто исследует его глубины! И, однако,
это сила моего ума, она свойственна моей природе, но я сам не могу
полностью вместить себя. Ум тесен, чтобы овладеть собой же. Где же
находится то свое, чего он не вмещает? Ужели вне его, а не в нем самом?
Каким же образом он не вмещает этого?»4.
Откуда, задает он далее вопрос, все это вошло туда, все, что
хранится в «обширных кладовых» и в «каких-то укромных, неописуемых
закоулках» памяти, чтобы их «взять по желанию»? Ему понятно, что
физические образы и ощущения проникают через органы чувств, глаза, уши, нос,
язык, прикосновение. Но как быть с чистыми понятиями, которые
«словно засунуты куда-то внутрь, в какое-то место, которое не является
местом: я несу в себе не образы их, а сами предметы».
«Откуда же и каким образом вошли они в память мою? Не знаю. Я
усвоил эти сведения, доверяясь не чужому разуму, но поверив
собственным, признал правильными и отдал ему как бы на хранение, чтобы взять
по желанию. Они, следовательно, были там и до того, как я их усвоил,
но в памяти моей их не было. Где же были они, и почему, когда со мной
о них заговорили, я их узнал и сказал: «Это так, это правильно»?
Единственное объяснение: они уже были в моей памяти, но были запрятаны
и засунуты в самых отдаленных ее пещерах, так что, пожалуй, я и не смог
бы о них подумать, если бы кто-то не побудил меня их откопать...5 Если
я перестану в течение малого промежутка времени перебирать в памя-
222
ти эти сведения, они вновь уйдут внутрь и словно соскользнут в
укромные тайники. Их придется опять как нечто новое (excogitandä)
извлекать мысленно (cogenda)... чтобы с ними познакомиться... И я помню,
что я помнил... И вот я не могу понять силы моей памяти, а ведь без
нее я не мог бы назвать самого себя. Что же мне сказать, если я уверен,
что помню свою забывчивость? Скажу, что в памяти моей нет того, о
чем я помню? Скажу, что забывчивость находится в памяти моей,
чтобы я не забывал? Оба предположения совершенно нелепы... Память
удерживает не самое забывчивость, а только образ ее... Ведь даже то,
что там уже начертано, уничтожается присутствием забывчивости. Да,
Господи, я работаю над этим и работаю над самим собой; я стал сам для
себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота»8.
Монах-августинец Лютер чувствовал, что бессознательное есть не что
иное, как сточная канава развращенности в нем самом, бездонная яма,
полная грехов. Он цепляется за веру и текст Писания. Но задолго до него
блаженный Августин углубился в изучение процессов бессознательного.
Для Августина бессознательное уже стало проблемой; его вопросы
громоздились вокруг границ этого мира души; его терзали парадоксы
промежуточных состояний, но он не мог как следует продумать этот вопрос.
Августин начинал догадываться, как тесно взаимосвязаны тело, душа и
ум; начинал догадываться о физических процессах психики, психических
границах ума: сила рассудка сдерживается не только силой внутренних
импульсов и их образами, но и ограниченной сферой «эго». Но для него
бессознательное все еще сливается с непознанным божественного
провидения, к которому он в конце концов и прибегает. И только когда
была проведена четкая граница между божественным вмешательством и
функционированием космоса, оказалось возможным понять явления
внутреннего мира человека как независимой субстанции.
IV
Как уже говорилось, четкому понятию бессознательного должно было
предшествовать полное сознание сознания, достигнутое исследованием
сознания в действии, т. е. в мышлении. Сначала надо было открыть
сознание и проанализировать его действие, а уже потом можно было подробно
изучить территорию бессознательного во всей полноте (а не только
скользя по ее границам) и составить полную опись того, что на ней находится.
Длительная эволюция разума, развития науки и искусства были крайне
важны, чтобы мы, наконец, смогли проникнуть в структуру и действие
бессознательного настолько, насколько это ныне возможно.
Осознание сознания как мышления начинается с древнегреческого
«Познай самого себя», с диалектики Сократа и логики Аристотеля.
Впрочем, для этих древнегреческих мыслителей открытые законы мышления
все еще представляли собой микрокосмическое отражение
метафизических законов бытия.
Четкая дифференциация и, таким образом, подлинное познание
активного сознания впервые отчетливо заявили о себе на волне того
всеобщего движения светской эмансипации, которую называют Возрож-
223
дением. Это революционное движение раскрыло за всеми личинами
крушение космического единства — крушение, уже давно назревавшее.
Унитарная божественная сила, до сих пор пронизывающая Вселенную,
распалась на две равные силы: природу и человеческий разум; и эта
дихотомия окончательно видоизменила взаимосвязь человека с миром.
Прежде казалось, что человеческий ум участвует во всеохватывающей
субстанции Вселенной, является частью иерархического порядка
божественного космоса, в котором физическая индивидуальность была
лишь одним состоянием существования, причем весьма скромным. Но
теперь всецело секуляризованный человеческий ум, понимавшийся как
чистое ratio, противостоял точно такой же секуляризованной природе.
А природа, в свою очередь, уже не относилась к космосу, но стала
сугубо материальным «объектом» человеческого господства, изучения и
эксплуатации. Итак, возник антитезис субъекта и объекта, ставший
темой современной эпистемологии. Вертикаль тела, души и ума отныне
резко отграничилась от горизонтали «эго» и внешнего мира. Возникло
противоречие между внутренним миром (душой и разумом) и внешним,
феноменальным миром — окружающей средой (природой или
обществом).
Это важное изменение (по своей сути знаменующее начало
современной эпохи) было ясно и детально сформулировано в философии
Декарта, идеи которого оказали влияние на все последующее
интеллектуальное развитие вплоть до наших дней. Поэтому они остаются,
неизменно релевантными всякий раз, когда обращаются к взаимосвязи
между сознанием и подсознанием.
Конечно, Декарт — отец чистого, крайнего рационализма. Иначе
говоря, он поставил разум основой и сделал его квинтэссенцией
существования. Знаменитая формула Cogito, ergo sum* — это не столько
умозаключение, сколько констатация идентичности: «Думая, я существую», или:
«Я существую настолько, насколько думаю»*4. Картезианское учение,
крайнее проявление самосознания в смысле «сознания думающего «Я»»,
представляет собой окончательный переход космической власти от Бога
к человеческому разуму, иными словами, переход от христианской эпохи
к светской. Бог еще существует, но только по милости разума;
онтологическое доказательство5* вывело Его из Его концепции, а прочие
логические основы подкрепили это доказательство. Для Ансельма Кентерберий-
ского доказательство Бога было чисто вспомогательным; он впервые
применил его для умиротворения бунтующей Мысли. То есть оказалось
возможным доказать и существование Бога; но все-таки Ансельм считал
существование Бога догматически неопровержимым. Законом было
Credo, ut intelligamm\ а не наоборот; и Бог, и универсалии были
реальными, превосходящими интеллект и вообще нормативными для
интеллекта. Для Декарта, напротив, все начинается с того, чем движима всякая
мысль, — с сомнения. Былая христианская тенденция чернить
физический мир сохраняется у Декарта, но обретает новое значение: ни одно
создание, кроме человека, не имеет ни души, ни сознания, поскольку
* Мыслю, значит, я существую (лат.).
" Верую, чтобы уразуметь (лат.).
224
не способно мыслить; подобно неодушевленным предметам, они
просто имеют протяженность и, стало быть, постижимы только в физико-
математических понятиях. Организм есть механизм.
Отстаивая господство разума, Декарт разрабатывает в рудиментарной
форме некую концепцию подсознания. (В ней есть то, что имеет для нас
значение в данном случае.) Для Декарта все идеи и «перцепции»,
поступающие к человеку из внешнего, физического мира, все «смутные идеи»
(ideae adventiciae) — это обман чувств. Иначе говоря, истина, согласие
идеи с реальностью, зиждится исключительно на способности мыслить.
Но поскольку Декарт утверждал, что чистое знание может явиться из
внешнего мира, ему пришлось допустить существование некоего
внутреннего критерия истины в самом человеческом уме. Этот критерий
состоит из ideae innatae, «врожденных идей», которые были изначально
сообщены человеку Богом, но которые «неизбежно возникают сами по себе
из простой способности ума мыслить» (a sola facilitate cogitandi necessitate
quadam naturae ipsius mentis manant). Сам Бог — одна из таких
«врожденных идей», посредством которых Он, так сказать, подтвердил, что Он
существует. (Здесь заметна связь учения Декарта с врожденными
архетипами Кеплера и с поздними, эклектическими стоиками, особенно с
учением Цицерона о notiones innatae\ но он был первым, сделавшим столь
радикальные выводы из этих идей.) Разумеется, сами мы не имеем
ясного представления об этих врожденных идеях; они поступают из сферы,
выходящей за пределы нашего сознания. Они дают предварительный
ответ на бесплодные изыскания Августина в таких глубинах ума, которые
и уму непостижимы.
Концепция врожденных идей прижилась и по-разному
разрабатывалась в новейших философских учениях; из нее возникла и современная
эпистемология. Нет нужды в данном случае детально описывать этот
процесс. Достаточно указать на свежее ответвление картезианской
философской концепции, имеющее особое значение для нашего
исследования: это теория Германа Броха6*, который, равным образом испытав
влияние кантианской и посткантианской эпистемологии и фрейдистского
психоанализа, усвоил и описал эпистемологическое подсознание.
ν
Впрочем, в своем описании личного опыта Декарт раскрыл
(насколько мне известно, впервые) и иные стороны бессознательного, которые
приближаются к открытиям современного психоанализа, но о которых
нынешние практики зачастую не имеют представления.
В возрасте 23 лет Декарт пережил глубокий кризис, индивидуальное
воплощение кризиса его эпохи, породившего систему рационализма.
Проблема заключалась в высвобождении чувства истины, «духа в его
обнаженности» (esprit tout пи)\ Декарт помышлял освободить ум от
примеси «предубеждений», иначе говоря, от доверчивости — процесса,
«доставлявшего не меньше страданий, чем если бы речь шла об освобождении
* Врожденные понятия {лат.).
225
от своего «Я» (se depouiller de soi-тёте)». Усиленная работа его ума не
внесла ясности; ясное понимание пришло лишь после трех
сновидений, приснившихся одно за другим в ночь на 10 ноября 1619 г.9.
Накануне ощущение того, что «в тот день он открыл для себя
основы восхитительной науки [математики]», наполнило его утомленный ум
таким волнением и восторгом, что он стал «восприимчив к
сновидениям».
Первый сон был тягостным. Декарту казалось, что он идет куда-то по
улице, с трудом передвигая ноги. Отлежав правый бок, он перевернулся
на левый. И тут как будто подул сильный ветер, под порывом
которого он закрутился на левой ноге; при каждом шаге он боялся упасть. Он
увидел, что школа открыта, и хотел войти в школьную церковь
помолиться, но вдруг вспомнил, что прошел мимо знакомого, не
поздоровавшись; хотел обернуться, но ветер, дувший теперь по направлению к
церкви, снова с силой отбросил его, и он увидел, что посреди
школьного двора стоит другой человек и приветливо окликает его. Было
странно, что этот человек, как и все вокруг, держался на ногах, а сам
Декарт качался и спотыкался. Ветер стих, а он проснулся с острой
болью, что внушило ему опасение, не проделки ли это злого духа,
покушавшегося совратить его. Помолившись, чтобы оградить себя от всех
дурных последствий этого сна и от грехов, он повернулся на правый
бок и снова заснул.
Второй сон был недолгим, но самым страшным. Он услышал сильный
удар грома и в испуге проснулся. Ему казалось, что по комнате
рассыпается множество искр. Проморгавшись, он убедился, что это ему только
пригрезилось. Успокоившись, он погрузился в третий, мирный сон,
который дал ему решение.
Он увидел на своем столе две книги: словарь и сборник
классической поэзии Corpus Poetarum Latinorum* (который вышел из печати за
несколько лет до того). Открыв его, он увидел стих из идиллии Авсония7*:
«Quod vitae sectabor iter?» («Как мне выбрать жизненный путь?»). И тут
же некий незнакомец указал ему еще на одно стихотворение,
начинавшееся словами «Est et Non», парафразой пифагорейского «Да и нет» (паі
каі on). И тогда случилось нечто крайне необычное: во сне он спросил
себя, сон это или явь, и не только решил, что это сон, но и начал
толковать его во сне. Он решил, что словарь должен олицетворять собой
собрание наук, a Corpus Poetarum — мудрость поэтов, порожденную
вдохновением и фантазией. Стих, в котором ставился вопрос, как
выбрать жизненный путь, показался ему добрым советом
здравомыслящего человека. Проснувшись, он продолжил толкование, задумавшись
теперь над фразой «Est et Non»: это должно означать различие между
истиной и ложью в науках о человеке. Благоприятное сочетание этих
значений дало ему силы поверить в то, что Дух Истины соблаговолил
открыть ему в этих сновидениях сокровища знания. Он твердо верил,
что именно эти сны определяют все его будущее и все, что отныне
случится с ним. Молния, удар грома, который так напугал его, были,
мнилось ему, Духом Истины, сошедшим к нему и овладевшим им.
* Свод латинских поэтов (лат.).
226
Сны Декарта чрезвычайно важны в двух отношениях. Третий сон —
самое раннее из известных мне свидетельств о существовании разных
пластов бессознательного. В нем отчетливо разграничиваются ряд
визуальных метафорических образов и способность подсознания к
умозаключениям. Ибо спящий Декарт осознает, что видит сон; по сути, он
решает, что же такое его ощущение: галлюцинация или сон, и признает сон
сном. Вот свидетельство того, насколько сознание сливается с
подсознанием: границы размыты.
Но сменяющие друг друга сны говорят и о чем-то еще. Сам Декарт
приписывал им вмешательство «свыше». В первом сне его тревожили
«злые духи», желавшие отлучить его от Церкви. Но в конечном итоге
оказывается, что над ним восторжествовал «Дух Истины». Пока четкого
различия между Богом и Духом Истины нет; переход расплывчат. Но из
неясного предчувствия в бодрствующем состоянии накануне, когда он
прикоснулся к тайнам математики, и из того, что он придает этим снам
огромное значение, очевидно, что «Дух Истины» - это разум, которому
отныне будет отведено главное место в его мышлении и системе.
Для Фрейда элемент «свыше» был признаком того, что эти
сновидения уже в основном сложились в сознании и что лишь малая часть их
вытеснена из глубинных отделов подсознания. Он считал сновидения
проявлениями конфликта сознания, порожденными сексуальными
отклонениями. Фрейдистский анализ, основанный по сути на данных
патологии и имеющий задачей лечение, изначально сосредоточивался
исключительно на сексуальных субстратах психики. Открытие этих
субстратов было революционным достижением его анализа. Но результатом
этого процесса была слишком узкая картина бессознательного. За время,
прошедшее с тех пор, бессознательное открылось нам, как необъятное
хранилище жизни, в котором рождаются и умирают наши сознательные
импульсы и действия, сквозь которое рано или поздно проходит весь
наш жизненный опыт и которое состоит из множества слоев и
периферийных участков.
Сновидения Декарта, повлиявшие на его жизнь, кажется, выявляют
еще одно свойство подсознания, которое впоследствии стало широко
известно и получило подтверждение, — его творческие силы. Порою,
когда мы усиленно обдумываем какую-то проблему или пытаемся решить
трудную задачу, что-то обобщить, прояснить или сублимировать, понять
нечто, на наш взгляд, неуловимое, случается так, что эта работа
продолжается в подсознании во время сна или даже тогда, когда сознание
занято совсем другим. Бывает и так, что решение приходит именно во сне.
Английский богослов и философ Ралф Кадуорт8* пишет в сочинении
Подлинно интеллектуальная система Вселенной (1678):
«Разумеется, наши человеческие души сами не всегда сознают, что в
них содержится; ибо даже во сне геометр так или иначе хранит в себе все
геометрические теоремы, а спящий музыкант — все музыкальные навыки
и мелодии; и поэтому разве не может душа безотчетно нести в себе некую
реальную энергию?.. Есть... более глубинный вид пластической силы в
душе (если можно так выразиться), с помощью которого она способна
формировать свои не всегда сознаваемые размышления; как, например,
во время сна она ведет беседы с другими лицами, беседы длительные, име-
227
ющие свою сопряженность и последовательность; при этом она зачастую,
похоже, оказывается во власти внезапного наития, хотя именно она и
была все это время поэтом и сочинителем разных небылиц»10.
Позвольте привести несколько примеров действия этого
творческого подсознания в разных состояниях и сферах творческого труда.
Начнем с того известного отрывка из письма Моцарта, где он
вполне чистосердечно описывает процесс сочинительства. Описанное
им — лишь одна сторона творческого подсознания, — тайна, имя
которой «вдохновение». Оно характеризуется тем, что бесконечный
поток подсознательного процесса переходит в сознание; сознание
воспринимает этот глубинный поток, плавно перетекающий в
созидательную работу бодрствующего ума.
«Когда я совсем один и в добром расположении духа, например, еду
в карете или прогуливаюсь после славного обеда, или когда не спится
ночью, мелодии легко и непринужденно струятся во мне. Не знаю,
откуда они берутся и как они появляются, и нисколько не подгоняю их. Те,
что мне нравятся, я держу в голове и могу чуть слышно мурлыкать их —
так, по крайней мере, мне говорят. И если не спугнуть их, то в голове у
меня так и роятся идеи, как и где можно было бы использовать тот или
иной отрывок, чтобы получилось пастиччо9* по законам контрапункта10*,
согласно звучанию разных инструментов и т. д., и т. д. Вот что
воспламеняет мою душу, когда я беззаботен; а оно все нарастает, все ширится во
мне, становясь все ярче; правду сказать, вещь почти полностью
складывается у меня в голове, пусть даже она длинна, так что потом я мысленно
вижу ее как прекрасную картину или красивого человека и слышу ее
внутренним слухом не последовательно, как при исполнении, но как бы всю
сразу. Какое наслаждение! Все, что я нахожу и сочиняю, происходит
внутри меня, как в глубоком, сладком сне; но нет ничего прекраснее, как
слышать это сразу, одновременно»11.
Поль Валери11* описывает этот процесс вдохновения с большей
точностью:
«Есть два состояния: одно, при котором человека, занимающегося
писательским трудом (qui fait son metier d'ecrivain), словно посещает
озарение; ибо в конце концов эта едва ли пассивная жизнь ума
складывается из осколков; она образуется как бы из весьма недолговечных
элементов, которые тем не менее ощущаются в большом изобилии и не
освещают весь дух, но, напротив, дают понять, что имеются совершенно
новые формы, которыми он, сделав некоторое усилие, несомненно,
воспользуется. Порой мне случается испытывать такое состояние ума: не
озарение, но словно искра, мгновенный проблеск. Она — предвестник;
да, она скорее предупреждает, чем освещает; короче говоря, это загадка,
и можно быть уверенным, что разгадать ее удастся, пожалуй, не сразу.
Мы говорим себе: "Я понимаю, а завтра пойму еще больше".
Наступает нечто, некое особое обострение чувств; вот-вот мы войдем в темную
комнату и увидим, как проявляется образ... В темной комнате нет
места восторгу. Он только бы испортил все дело... Вы должны работать, как
наемник, как прораб самого себя. Хозяин дал вам искру; от вас зависит,
что вы из нее извлечете... Новое, зарождающееся в нашем уме, зависит
от какой-то кратковременной восприимчивости; трудно сказать, что по-
228
могает родиться этому новому, что наводит на него... Интересно, не
способствует ли умственный труд некоему обострению чувствительности?
Труд как таковой не привел бы к решению... но... он мгновенно
превратил бы художника в резонатор, весьма чувствительный ко всем этим
эпизодам сознания, которые могут служить его замыслу»12.
Тип творчества Рильке — ярчайший пример создания произведений
от начала до конца почти всецело подсознательно. Его поэзия, анализ
эмоций, доведенный до абстрактной чувствительности, зачастую
создавались в момент внезапных приступов творчества после длительных
периодов мнимого бездействия, когда ему казалось, что он уже больше
никогда ничего не напишет, — я сам был тому свидетелем в конце Первой
мировой войны. Между тем его произведения вызревали постепенно, как
бы вегетативно, подсознательно. И вдруг сразу несколько великих
поэтических творений — среди них Сонеты к Орфею — излились из него в один
день и явились уже в отточенной форме — он не изменил почти ни
слова. Правда, когда он не сочинял, то вел активную переписку, и, весьма
вероятно, работа над письмами служила дальнейшему высвобождению
чувствительности и обострению восприимчивости, которые переходят в
творчество, как это испытал Валери. Только в случае Рильке это
кончалось не искрой вдохновения, которая потом разгоралась по ходу трезвой
работы в «темной комнате» сознания. Это более похоже на протяженный
процесс, отмеченный ощущениями бессилия, который действительно
протекал в темной комнате подсознания, пока произведение не
вызревало окончательно.
И наконец, рассказ об одном таком глубинном творческом процессе,
который (во многом как у Декарта) был высвобожден сном. Пример из
области естествознания. Эта удивительная история биохимика Отто
Лёви,2\ сделавшего во сне великое открытие, за которое впоследствии он
был удостоен Нобелевской премии:
«Еще в 1903 г. я говорил с Уолтером М. Флетчером из Кембриджа
(Англия), который был тогда членом научного общества в Марбурге, о
том, что, похоже, будто некоторые лекарства то усиливают, то
подавляют эффект стимуляции и (или) парасимпатических нервов на
эффекторы. Во время беседы мне пришло в голову, что эти нервные окончания
могли содержать химические вещества, что стимуляция могла
высвобождать их из нервных окончаний и эти химические вещества могли в свою
очередь передавать нервный импульс на соответствующий эффектор. В
то время я не видел способа доказать правильность этой гипотезы, и это
совершенно выпало из моей памяти, всплыв только в 1920 г.
В тот год в ночь на Пасху я проснулся, включил свет, набросал
несколько соображений на клочке папиросной бумаги и снова заснул. В
шесть утра я вспомнил, что записал ночью что-то очень важное, но не
смог разобрать каракули. На другую ночь, в три часа, мысль вернулась.
Это был проект эксперимента, с помощью которого можно было
проверить гипотезу о химической передаче, высказанную мною семнадцать лет
назад. Я тут же встал, пошел в лабораторию и произвел простой опыт на
сердце лягушки согласно ночному плану. Опишу кратко этот опыт, ибо
его результаты легли в основу теории химической трансмиссии
нервного импульса...
229
Рассказ об этом открытии свидетельствует о том, что идея может на
целые десятилетия уйти в подсознание, а затем неожиданно всплыть из
него. Он говорит и о том, что порой следует без излишнего
скептицизма доверять внезапной интуиции. Продумай я все это днем, то, вне
всякого сомнения, не стал бы проводить такого опыта. Весьма вероятно, что
любой передающий агент, высвобожденный нервным импульсом,
оказался бы в количестве, вполне достаточном, чтобы повлиять на
эффектор. Кажется невероятным, что возможный излишек исчез в жидкости,
заполняющей сердце. Какая удача, что тогда, в момент догадки, я
действовал не размышляя...»
В сущности, ночная концепция представляла собой внезапную
ассоциацию гипотезы 1903 г. с методом, испытанным до этого в других
опытах. Почти все так называемые «интуитивные» открытия являются
такими ассоциациями, внезапно возникшими в подсознании13.
VI
Итак, Декарт открыл три области бессознательного. Его суждение о
врожденных идеях было прологом к длинной цепи философских
рассуждений, вылившихся в конце концов в концепцию эпистемологического
подсознания. Его толкование сновидения во сне выявило пласт
подсознания, который можно назвать полу сознанием. Наконец, его рассказ о
сновидении и о том, как оно повлияло на всю его жизнь, был первым
точно записанным наблюдением явления творческого подсознания.
Эпистемологическое подсознание тесно связано с тем физиопсихоло-
гическим подсознанием, которое проявлялось во взглядах мыслителей еще
у самых истоков эмпиризма и материализма в конце XVII в. и которому
впоследствии были посвящены научные исследования. В обоих сферах
протекают процессы, конструктивно влияющие на жизненные функции,
но мы об этом и не подозреваем. Если эпистемологическое подсознание
таит в себе предпосылки мыслительных процессов, действующего
сознания, то можно сказать, что физиологическое подсознание — это темная,
за семью печатями, сфера, в которой протекают органические
процессы, — последняя простирается вплоть до физико-химии тела. Обычно эти
сложные, многослойные процессы скрыты от нашего сознания;
требуется ощущение боли или функционального расстройства, чтобы привлечь
наше внимание к тому фундаменту, о котором мы в беспечности своей
никогда не думаем. Чем дальше к истокам органической эволюции
приближен организм, тем более жизнен этот фундамент, тем больше он
отвечает за физические процессы; так что растения и животные с их
затуманенным сознанием осознают эти физические процессы даже больше,
чем человек. Сознание в полном смысле этого слова означает: жить
уровнем выше физических процессов.
С XVIII в. наряду со все более четким различием между жизненными
функциями и жизненными пластами вырабатывалось все более глубокое
понимание того, что границы между пластами различимы. Итак, в
процессе разработки философских теорий от английских философов до
Канта возникло резкое разграничение эпистемологии и психологии, а
230
затем психологии и физиологии; но наряду с этим, и особенно в
последнее время, между этими обособленными пластами стали
обнаруживаться все более явные связи.
В 1748 г. английский богослов и философ Дейвид Гартли13* писал:
«Белое мозговое вещество головного мозга является также
непосредственным орудием, при помощи которого идеи представляются уму, или,
другими словами, если совершаются какие-либо изменения в этом
веществе, то соответствующие им изменения совершаются и в наших идеях,
и наоборот»14.
Здесь мы видим предвосхищение, выходящее за границы чисто
«психофизического параллелизма»14*, того знания, которое ныне доступно нам
благодаря удивительным и имеющим важное значение опытам,
использующим электростимуляцию головного мозга. Фактически было
установлено, что изменения в наших мыслях и чувствах или, точнее говоря,
содержание наших мыслей и чувств, связаны с движениями электрических
потоков, проходящих по нервным волокнам в белом веществе мозга и
вспыхивающих то тут, то там в сети нервной системы; значит, между
мозгом и умом существует связь. Некоторые экспериментаторы, базируясь на
явлениях, наблюдаемых при мозговой хирургии, изучают источники и
функции памяти; они, таким образом, занимаются сферой вечного
перехода из подсознания в сознание или, скорее, тем, как сознание строится
из подсознания. Здесь не место вдаваться в детали таких открытий, но
отметим важный вывод в словах анатома К. Джадсона Херрика (1955):
«Проблема души и тела никогда не будет решена, если не принимать
во внимание трудные факторы, будь то факторы духа или материи.
Исследование не может ограничиваться факторами сознания или
подсознания, ибо то, чего мы ищем, - это связь между ними... И традиционный
материализм (в его откровенном виде), и классический спиритуализм
(или, более уважительно, «идеализм») не принимают во внимание
огромное богатство человеческого опыта, в том числе здравый смысл и
рафинированное научное знание. Выбрать только материализм или только
спиритуализм нельзя. Нам нужны оба»15.
Тенденция к более четкому очерчиванию жизненно важных пластов,
даже если придается большее значение их взаимодействию, заметна в
другом современном процессе: во все большем физиологическом
уклоне в эпистемологии. Лейбниц развил картезианскую концепцию
врожденных идей. Постулируя заранее установленную гармонию между
внутренними и внешними процессами, он смог еще более радикально, чем
Декарт, исключить внешний мир из поля своего зрения. С другой
стороны, он более точно классифицировал врожденные идеи, описывая
одни из них как интеллектуально врожденные, а другие — как
чувственно, или перцептуально врожденные идеи. Перцепции для него — это
темные, «незаметные» (мы назвали бы их «бессознательными») умственные
процессы; они становятся более смутными соответственно у животных
и у «спящих монад», существующих ниже уровня животных. Как
результат сознания или отражения в человеке (reflexion qui nous fait penser a
nous-mimes* — т. е. прямо или косвенно путем «самосознания») они пре-
* Рефлексия, заставляющая нас думать о себе (франц.).
231
вращаются в апперцепции. Апперцепция — это уже более высокая степень
перцепции; именно перцепция поднимается до сознания; границы
подвижны. Но перцепции не перерастают в апперцепции поодиночке;
такое превращение происходит через их связь с другими перцепциями.
Апперцепция состоит из множества «незаметных малых перцепций»
{perceptions insensibles, petites perceptions)16; а в форме ясного сознания (т. е.
самосознания) апперцепция отражает монаду всей души человека.
Ощущения, регистрируемые нашими чувствами, также состоят из таких
малых перцепций, которые, каждая в отдельности, смутны, а ясны только
в их сложном комплексе (daire dans I'assemblage, mais confuses dans les
parties). Эту теорию Лейбница можно считать первой полной картиной
бессознательного; как таковая, его теория впоследствии оказала влияние
на множество философских концепций, вплоть до теории «торможений»
Гербарта и философии бессознательного, выработанной Эдуардом фон
Гартманом. Выделение Кантом «смутных» и «ясных» идей явно идет от
Лейбница:
«Иметь идеи и все же не сознавать их кажется вполне
противоречивым... И все же мы можем косвенно сознавать то, что у нас есть идея,
хотя непосредственно мы ее не осознаем. Последние идеи,
следовательно, называются смутными; остальные — ясными... Сфера наших
чувственных перцепций и ощущений, которые мы не осознаем, хотя с
уверенностью заключаем, что они у нас есть, т. е. сфера смутных идей в
человеке... безмерна; она самая обширная в теле человека».
С другой стороны, ясные идеи содержат «только бесконечно мало
моментов [смутных идей], которые предстают сознанию». Кант идет
дальше Лейбница в том, что предполагает наличие противоречий между
этими сферами:
«Довольно часто мы оказываемся... игрушкой смутных идей, которые
никак не исчезают, даже если разум освещает их... и наш разум не может
избавиться от нелепостей, в которые его повергает влияние этих идей...»17
Кант обособляет свои психофизиологические наблюдения от
эпистемологии. Лихтенберг начинает связывать их:
«Одни идеи, которые мы осознаем, не зависят от нас; другие (по
крайней мере, мы так думаем) от нас зависят; где же граница? Мы
знаем только о существовании наших ощущений, идей и мыслей.
Пожалуй, следовало бы говорить: [оно] думает, так же, как мы говорим:
Светает. Сказать cogito — это уж слишком, тем более в переводе: Я думаю.
Допустить, постулировать "эго" - всего лишь практическая
необходимость».
Наконец, в наше время в скрупулезных исследованиях гештальтпси-
хологии15*, а также в теории Альфреда Кожибского эпистемологическое
подсознание фактически слилось воедино с психофизиологическим
подсознанием. Кожибский допускает, что важнейшие процессы
абстракции и интеграции протекают в двух обоюдно взаимодействующих
нейрофизических пластах, которые он называет «молчаливыми
уровнями». Эти процессы невозможно передать словами и потому они
бессознательны. В них входит (по терминологии Кожибского) структурное
подсознание. Кожибский полагает, что «жизнь, «интеллект» и разных
порядков абстрагирование начинались вместе. Без абстрагирования
232
было бы невозможно узнавание [элементарная форма сознания] и,
следовательно, отбор»*5. Вот вам и портрет того думающего «оно» Лих-
тенберга.
VII
В последние десятилетия XVIII в. второе великое изменение
современного мира одним махом смело феодальные державы и господство разума;
оно вывело на свет и низшие слои населения, и подсознательные пласты
психики. Этот процесс начался среди знати с «болезни» и всеобщей
неудовлетворенности разумом. Такие тенденции обнаружились
одновременно во французской и английской буржуазной литературе, проявившись в
главных особенностях сентиментализма с его восторженным
любованием природой (Руссо, Гаман, Клопшток, Гердер и движение «Бури и
натиска»), а привело это к романтизму, который покорил всю Европу.
Романтическому течению сопутствовал растущий интерес к снам и родственным
им состояниям — галлюцинациям и гипнотизму (от Месмера16*,
Бертрана17* и Брейда18* до Шарко19*, у которого стажировался Фрейд). Возник и
возвысился культ иррациональных сил, причем подчеркивалась та роль,
которую играют в жизни человека гений, фантазия, чувства и страсти, а
также такие неуловимые факторы, как исторические, национальные и
этнические корни. Стало быть, бессознательное внезапно обрело новое
важное значение. До сих пор его оценивали (если вообще замечали)
только в ясном свете разума, считая своего рода расширенным Гадесом,
темной рамкой вокруг ratio. Теперь его превозносили не только как равное
разуму, пронизывающее многие жизненно важные функции сознания и
влияющие на них, но фактически как Urgrund, праоснову всех проявлений
жизни человека. Все ждали открытий от исследования этой, по
выражению Жана Пауля, «внутренней Африки». Пример такого нового взгляда —
известные слова Гёте, обращенные к Римеру20* 5 августа 1810 г.: «Человек
не может долго пребывать в бодрствующем состоянии, или в сознании; он
должен время от времени уходить в подсознание, ибо там его жизненные
корни». А Шиллер писал Кернеру21* 1 декабря 1788 г.:
«У творческой натуры... мне кажется, разум отзывает стражу от
ворот, идеи устремляются в него рёіе-mele*, и лишь тогда он обозревает их
и разбирается в их нагромождении. Вы, господа критики, и как вы еще
зоветесь, стыдитесь или боитесь минутного преходящего сумасбродства,
которое свойственно всем настоящим творцам и большая или меньшая
длительность которого отличает мыслящего художника от мечтателя!»
Первая теоретическая, эпистемологическая версия этой радикальной
перемены перспективы обнаруживается у Фихте. Прежде всего, Фихте так
основательно изгнал из своей системы физический мир и
чувства-перцепции, что пришел к солипсизму22*. Безусловно, Лейбниц своим
предположением предустановленной гармонии уже свел физические, материальные
процессы на более низкий уровень, на уровень механической
необходимости; но во всяком случае он признал их независимое существование и
* Беспорядочно (франц.).
233
по крайней мере придал чувствам-перцепциям дополнительное значение
стимулов развития врожденных идей-характеров. Кант тоже не подвергал
сомнению реальное существование недоступного мира «вещей в себе». Но
для Фихте весь мир «полагался» «идеальным» (эпистемологическим) «Я».
«Источником всяческой реальности является «Я», так как оно есть
непосредственное и безусловно полагаемое. Только через посредство «Я» и
вместе с ним дается и понятие реальности». «Я» полагает самое себя, оно
фактически идентично «самоположению», активному осознанию себя. Итак,
в этом нет ничего статичного, это — действие: «Полагать самое себя и
быть — утверждения применительно к «Я» совершенно одинаковые» («Я»
могло бы сказать о себе: Ago, ergo sum* или Sum agens").
Чтобы ограничить себя, «Я» неизбежно должно постулировать «не-
Я», и это «не-Я», объективный мир, даже «вещи в себе» суть понятия,
которые могут возникнуть только из какой-то подсознательной
понятийной деятельности. Поскольку «Я», осознающее себя, может определиться
только через свое противоположение, «не-Я», все сознание вторично,
производно и указывает на подсознание, дающее ему содержание. Если
для Лейбница подсознание было лишь заглушённым рудиментом
сознания, становящегося все более смутным в животном и растительном мире,
то для Фихте оно есть прото-деяние, прото-действие, прото-функция, из
чего вырастает вся высшая деятельность сознания. Фактически, то, что
заключено в подсознании, — это прото-инстинкт (Ur-trieb), находящий
свое продолжение в сознательном стремлении. Полагание «не-Я», эта
подсознательная понятийная деятельность, — лишь первый шаг к
бесконечной деятельности «Я», т. е. к бесконечно само-побуждаемому «Я»,
которое вечно ставит себе новые препятствия для преодоления их: чистое,
бесконечное действие.
Генезис системы Шопенгауэра из Фихте очевиден. «Чистое,
бесконечное действие» Фихте становится для Шопенгауэра «волей —
единственной вещью самой в себе». Воля не имеет ни причин, ни цели; это
«слепое побуждение и неосознанный позыв», «темная движущая сила».
Она действует не только в растениях, животных и человеке, но даже в
водном потоке, во всех стихиях природы. Да, воля тождественна самой
силе, жизненной силе. (Для Шопенгауэра тело — то же, что для Фихте
овеществление, Objektivität, зримое выражение воли.) Гербарт23* тоже
видит в воле страстное желание и «самое глубинное в человеке». Точно так
же у Ницше «воля к власти» — это «самая глубинная суть существа», «то,
к чему мы в конце концов приходим», действующее во всех
органических и неорганических процессах. «Протоплазма протягивает свои
псевдоподии не от голода, но от воли к власти».
VIII
Предромантизм и романтизм знаменовали первый прорыв в
бессознательное, первый качественный сдвиг от разума к подсознанию как в ис-
* Действую, значит я существую (лат.).
" Существую, действуя (лат.).
234
кусстве, так и в философии. Это был расцвет новых воззрений,
впрочем, еще несколько причудливый и хаотичный. Сами их спекулятивные
тонкости воспламенялись возвышенным чувством свободы. Но и здесь
возникает парадоксальное взаимопроникновение вновь
прославляемого подсознания и рационального сознания.
Романтическое направление возникло, когда разум наскучил. Это была
реакция против гегемонии ratio и его правил. Но самый бунт, в движении
«Бури и натиска» и в романтической теории, особенно у Новалиса и
Фридриха фон Шлегеля, использовал силу интеллекта, отточенную
рационализмом. Это первая, еще умозрительная попытка выдвинуть на первый план
иррациональное, субрациональное и трансрациональное перешла в
материальность, во все более детальные исследования в науках и искусстве,
которым предстояло удалить рационализм по ходу пристального наблюдения
эмпирической реальности. В литературе и пластических искусствах
сопротивление, оказываемое заоблачной чувствительности уже увядающего
романтизма, обрело форму реализма и натурализма, нацеленных на все более
достоверное описание внешней стороны жизни. Впрочем, реализм, все
более приближавшийся к научному анализу, был, как и сам анализ, еще
пронизан рациональной методологией. Так называемый психологический
роман (roman d'analyse), например Поля Бурже24*, создал модель
психологических конфликтов, причем функционирование психики было
поставлено в зависимость от общественных условий, наследственности и
физиологии. Мотивации чувств и поступков, которые прослеживали писатели и
которых требовали читатели, должны были иметь логическое объяснение;
характеру и действию следовало быть рационально убедительными, чтобы
стать убедительными и достоверными для читателей. Новое пришествие
субрационального было делом великих русских; они перестали показывать
аккуратно построенные конфликты in vitro\ а вместо того раскрыли
подлинную внутреннюю жизнь человека во всей ее неуемной сложности и
эмоциональных встречных течениях. Записки из подполья Достоевского25*
самим названием выражали ту силу, с какой их автор врывался в
неведомое, и то, как он, проникая под поверхность, раскрывал внутренний хаос.
Отныне стали все больше осознавать, что жизненно важные процессы
психики вовсе не подчинены простой каузальности, а, скорее, состоят из
разных, гораздо более насыщенных сочетаний, указывают на точку
короткого замыкания, «причины» которого таятся в таких глубинах живого, что их
почти невозможно выделить в логические элементы. Между самыми
отдаленными сферами вспыхивают молниеносные ассоциации, быстрые, как
электрические контакты, — парадоксальные связи рационально
противоречивых элементов; а в таких мгновенных возгораниях высвобождается та
искра, которая и есть высшая, подлинно поэтическая правда.
То же изменение проявляется еще более явно в новой лирической
поэзии, возникшей одновременно с новой эпической прозой, у
Малларме26*, Рембо, Хопкинса27* и других, и набирает силу на протяжении XX в.
Новый поэтический язык характеризуется ломкой рациональной
структуры предложения, фрагментарностью, резкими переходами,
контрастностью и насыщенностью образов, сосуществованием и переплетением
* В пробирке (лат.).
235
крайне далеких и противоречивых материй. Это попытка выхода на свет
взаимосвязей, существующих в самых темных глубинах, не подвластных
контролю разума. И все равно, они пытаются выйти на свет, что в
конце концов означает — в сознание. Стало быть, это продолжение, пусть
и хаотичное, сознания.
В 1887 г. французский символист Эдуард Дюжарден28*, в одной не
слишком удачной новелле ввел повествовательный прием «потока сознания» —
как раз в то время в Америке Уильям Джемс29* вполне самостоятельно
подводил под него теоретическую основу в исследовании о «пограничных
состояниях» и «лакунах», «свободном течении» и «потоке» сознания. В потоке
сознания о жизни уже не повествуется; она заявляет о себе в
бесформенном, сыром состоянии наряду с сопутствующими ей чувствами и мыслями
(например, Лейтенант Густль Шницлера [1900]30*). Следующим шагом
было использование «свободной ассоциации», которую можно назвать
«потоком подсознания». В потоке сознания внутренний опыт остается в
контексте «замысла»; он связан с совпадающим, отчасти внешним процессом,
развивающимся на границе сознания. Но в потоке подсознания
внутренние переживания вырываются обрывками подсознательно обусловленных
комбинаций (например, хаотичный поток мыслей Молли Блум в Улиссе
Джойса). Термин «внутренний монолоп>, ошибочно используемый как
общий термин для разных повествовательных форм, в числе которых и
подсознание, следует ограничить теми своеобразными произведениями, в
которых сменяющие друг друга эмоции и идеи, выходя на поверхность,
постоянно сопровождаются нарочитой тенденцией упорядочить их,
стремлением к ясности (например, Смерть Вергилия Броха).
Ту же тенденцию проникнуть в сферы, лежащие под поверхностью,
ниже того, что известно и оформлено разумом, можно наблюдать в
пластических искусствах: в процессе, идущем от реализма через
импрессионизм, экспрессионизм31*, футуризм32*, дадаизм33* и сюрреализм34* к
абстрактному экспрессионизму35*. Абстрактный экспрессионизм не имеет
ничего общего с абстракцией; художники, которых относят к этой
группе, возражают против этого ярлыка, и правильно делают. Их цель (если
вообще можно говорить о цели) — незамедлительная, почти
бесконтрольная передача подсознательных процессов. Любой контроль со стороны
сознания они подвергают сомнению; т. е. они пребывают внутри
создаваемой живописи и позволяют себе быть управляемыми ее
неразличимым стимулом. Джексон Поллок заявил так:
«Когда я погружен в мою живопись, то не ведаю, что творю. Только
после своего рода периода "знакомства" я вижу, чего хотел... Живопись
живет собственной жизнью. Я пытаюсь помочь ей пробиться18... Когда
вы пишете из подсознания, то обязаны появиться образы... Нечто во мне
знает, куда я иду, — ведь живопись есть состояние бытия»19.
Марк Ротко36* признается:
«Мне интересно лишь выражение элементарных человеческих
эмоций»20.
Франц Клайн37* утверждает:
«Разница в том, что нам изначально не сопутствует ясное
ощущение некоей последовательности. От начала до конца это свободная
ассоциация»21.
236
В чем-то параллельный этому процесс наблюдается даже в
эмпирических науках. В них обилие деталей высвечивается путем анализа.
Действительно, в некоторых дисциплинах исследование проводится так глубоко
под поверхностью явления, что только тончайшее устройство может
передать результаты, постижимые в осязаемой форме. Дотошный ум ученых,
отточенный специальными методами, может делать ошеломляющие
выводы из такого собрания деталей. И все же такое развитие
высокоспециализированных форм сознания в целом связано с атрофией теории;
синтез приносится в жертву все более уточняющей детерминации фактов.
Сбор данных может упроститься; и правда, это уже становится делом
механизированных роботов. Впрочем, переваривание мыслью должно быть
работой индивидуального ума — так что в целом нам предстает картина все
большей фрагментизации и функционализации самого мышления.
Сознание, расширяясь, становится безличным, безликим и неуправляемым; но
в конкретном уме индивидуума сознание все более утрачивает свою силу.
Этот зловещий процесс может иметь роковые последствия, ибо
подсознание, используя высокоподготовленные, функционально
специализированные формы сознания, вызовет иррациональные действия.
Сознательно организованный, технически оснащенный характер зверств — вот что
отличает преступления Третьего рейха и хладнокровное создание ядерного
и химического оружия от ужасов былых времен.
Итак, во всех сферах умственной деятельности (не говоря уже о
политике), по мере того как даже коллективное сознание разрастается до
буквально неуправляемых пропорций, набирает силу подсознание.
Такова диалектика нашего времени. Назвать ли эту противодействующую
силу эмоциональным элементом, назвать ли ее функциональным
элементом, — как ни рационализируй, она одерживает верх над изначально
рациональным, разумно контролируемым сознанием.
Первый импульс в этом направлении, романтизм, возник, как уже
говорилось, когда разум наскучил. В XIX—XX вв. по мере экстенсивного и
интенсивного накопления техники, науки,
административно-общественной организации и по мере чрезмерного развития методов анализа в
искусстве и науке набирала силу интеллектуализация мира. Это означало
проникновение сознания во все сферы. Но чрезмерная
интеллектуализация жизни в целом, перенасыщенность сознания все большим избытком
рациональных процессов и задач создали условия, таящие в себе великую
угрозу. Люди, даже интеллектуалы, стали все менее способны
соответствовать каждодневным требованиям рационального поведения и мышления
по той причине, что проблемы порождали все новые и новые проблемы.
Как предсказывал Ницше, «развивающееся сознание — опасная болезнь».
Во время мировых войн эта болезнь обострилась; произошло
катастрофическое погружение в слепые эмоциональные эксцессы — та победа
бессознательного над сознанием, которая ныне заявляет о себе повсюду.
IX
Итак, мы подошли к патологии подсознания, т. е. к реактивному и
репрессивному подсознанию. Как мы видим и как было более детально изло-
237
жено в ином контексте, сама перенасыщенность сознания отбрасывает
человека в подсознание; он уже не дает себе труда понять слишком
сложные, чересчур разросшиеся взаимосвязи, а ограничивается
простейшими, иррациональными решениями. Персонализируя проблемы,
проецируя трудности на какого-то врага, он может одновременно упростить
свои связи и «рационализировать» свои действия. Несомненно,
бессознательное всегда проявлялось именно так в личной жизни людей, когда
они не могли справиться с комплексом проблем. Эта реакция
используется в политической жизни демагогами, которые в сложных ситуациях,
разрешимых только при спокойном взвешивании, грубо взывают к силе
агрессивных инстинктов. (Еще так недавно мы были свидетелями
жуткого зрелища и продолжаем оставаться ими каждый день.) Но этот
конкретный аспект бессознательного возникал не столь часто в более
ранние, недемократические и технически слабо оснащенные времена, когда
каждый индивидуум не находился ежедневно под давлением
интеллектуальных требований. По крайней мере, патологическое значение этого
аспекта не угадывалось столь явно. Ныне это — универсальное явление,
и, разумеется, оно способствует массовым психозам во всем мире.
Репрессивное подсознание, т. е. ряд импульсов, болезненно
разорванных и разбросанных в результате подавления, также упорно растет под
влиянием современной организации и цивилизации. Безусловно, люди
стали осознавать его в разных областях больше, чем реактивное
подсознание, хотя уже Фрейд показал все, что оно с собой несет, и сделал его
исходным пунктом первого описания психической структуры,
осуществленного на основе клинического случая. Даже христианским аскетам,
ведущим яростную борьбу со своими инстинктами, пришлось признать
проявления подсознательной «греховности». Дьяволы суть не что иное,
как подавленные инстинкты, и мы помним волнующий Августина
вопрос, остается ли он сам собою во сне и куда девается его разум,
поскольку он делает с фантомами такое, чего никогда не позволил бы себе в
бодрствующем состоянии с реальными людьми. В этом вопросе отмечается,
хотя и не осмысливается, чистое существование репрессивного
подсознания.
В XIX в. Карл Фортлаге38* дерзко заявил, что сознание — это продукт
подавленного подсознания: «Способность существования для сознания...
всецело совпадает с его способностью подавлять инстинкты...
Инстинкты не уничтожаются и не парализуются путем подавления, но просто
образ их действия становится другим... по мере продолжения процесса»22.
В чем-то сходную позицию занимал Карл Густав Карус39*. Хотя ему
мешали романтические и религиозные взгляды, Карус в середине
прошлого века поставил главную проблему современного психоанализа
(патологический аспект связи между бессознательным и сознанием), но
в конце концов пришел к совершенно иному выводу. Он обнаружил
следующее:
«Нельзя говорить о болезни в случае примитивного и абсолютного
подсознания. В понятие болезни входит то, что в организме наряду с
жизненным принципом, который обусловливает самую природу этого
организма, коренится иной, чуждый принцип, блокирующий и
тревожащий жизнь, свойственную этому организму. Такое понятие болезни
238
предполагает некую степень свободы ухода от размеренного течения
жизни, уклонения от пути, больше не отмеченного железной
необходимостью. Именно это и есть причина того, что чем дальше вспять мы
продвигаемся по временной оси явлений, чем более удаляемся от понятия
свободы, тем более узкой оказывается сфера распространения болезни.
Среди всех известных нам созданий на долю человека выпала печальная
привилегия великого разнообразия болезней. В мире животных частота
заболеваний и многообразие болезней уже не так велики; у растений уже
нет и следа главных форм заболеваний, встречающихся у более
высокоорганизованных животных, например горячки и воспаления... Так, по
мере того, как закон жизни поднимается к сознанию и тем самым к
свободе, точно так же возрастают предрасположенность к болезни и ее
реальность; ибо, несмотря на то, что распад, умирание — это судьба всех
организмов, поскольку они принадлежат времени, а не вечности, низшие
организмы умирают от болезней не чаще, чем человек погибает от
рухнувшей на него скалы или от иных случаев насильственной смерти»23.
Согласно Карусу, все инфекционные заболевания, т. е. заболевания,
вызванные внешними агентами, принадлежат к категории
«насильственной смерти» или, по крайней мере, таят в себе ее угрозу. Он имеет в виду
органические, по сути изначально психогенные заболевания, поскольку
«сознание реально детерминирует болезнь, а абсолютное подсознание
знать не знает о болезни». В своей вере в спасение с помощью
подсознания Карус осмеливается приписать ему не только целительные силы,
но и нравственное регулирование; он низводит «сверх-Я» до «под-Я»:
«Что касается сознания, то мы увидим, что в основе всех ясно
воспринимаемых и ощущаемых мыслей лежит нечто темное, но вполне
определенное и фиксированное, безошибочное - то, что мы с полным
правом называем "сознанием"', что же до тех отклонений, которые
называются злом, то они неуклонно указывают на правильную и чистую
середину. Точно так же бессознательное живое существо, которое знать
не знает о болезни, находится в центре всего, что обращено против
заболевания, и без устали трудится над восстановлением здоровья...»24
Дитя своего времени, Карус слишком упрощенно представлял факты
и взаимосвязи. Например, он не заметил, что в человеке, и особенно в
современном человеке, само подсознание искажается великим
множеством традиционных, условных, коллективных воздействий и во многом
ошибается; напротив, исцеление может произойти благодаря большему
и более высокому сознанию. Тем не менее уже тогда он предположил
существование тесной взаимосвязи между «сверх-Я» и «Оно».
Фрейд тоже считает «сверх-Я» высшим авторитетом сознания,
«преемником и представителем родителей (и воспитателей)». Стандарты,
которыми наделяет ребенка это влияние, являются «интроецированными»,
«обезличенными», что «образует в "Я" инстанцию, противостоящую в
качестве наблюдающей, критикующей и запрещающей остальному
"Я"»25. «Сверх-Я» может передавать много видов стандартов:
религиозные, национальные, социальные, наследственные; оно может появляться
из сознания, но и погружаться в подсознание. Во всяком случае, оно
тесно и весьма сложно связано с подсознанием. «Я» испытывает влияние и
«снизу», и «сверху», со стороны и подсознания, и сознания; с более низ-
239
кого уровня «сверху» в подсознании оно воздействует на инстинкты и
подавляет их; его главная задача в конечном счете — «отречение от
влечения». По Фрейду, «невроз — это средство самонаказания». «Невротик
должен вести себя так, как если бы его снедало чувство вины, требующее
для ее заглаживания болезни как наказания»26.
Симон-Андре Тиссо (1728—1797), франко-швейцарский врач, был
одним из предшественников психоанализа и вплотную подошел к
позиции, которую, в конце концов, занял Зигмунд Фрейд. На клинической
документации Тиссо показал, какие психические и психосоматические
нарушения возникают в результате подавления сексуального инстинкта.
Он уже знал о сексуальном происхождении истерии (туда же уходят
корнями и теории Фрейда) и посвятил этому вопросу Трактат о нервах и их
болезнях (Tratte sur les Nerves et leurs Maladies). Наихудшие последствия
сексуального воздержания, пишет он, «глубоко скрыты». Он полагает,
что нарушение цикла менструаций есть признак их подавления, и
поэтому может быть и причиной, и следствием психического заболевания27.
Все эти предшественники ни в коей мере не умаляют эпохального
достижения Фрейда, который дал первое систематическое описание
действия репрессивного подсознания и, таким образом, открыл нашему
взору безграничные воздействия бессознательного. Однако его теория была
пополнена и исправлена его учениками и последователями (Адлером40*,
Ранком41*, Юнгом, Салливаном42*, Фроммом43*, Сонди,
экзистенциалистами и многими другими), и сколько бы разновидностей теории ни
возникло в будущем, все они берут начало в его концепции. Она научила
нас видеть, сколь ненадежным и узким, сколь пронизанным
бессознательным является наше сознание; и само это знание чрезвычайно
раздвинуло границы нашего сознания.
χ
В заключение мы вернемся к нашему исследованию и вновь обратимся
к многообразным разновидностям, пластам и областям
бессознательного, какими они видятся на данной стадии их изучения. Мы начали с того
момента, когда человек обращает свое пробуждающееся сознание к
внешнему, божественному, космическому закону. Бессознательное было
синонимом непознанного, которое зиждилось на непостижимой воле
богов или на неизученной, таинственной субстанции Вселенной. Даже та
рефлексия, которая началась у древних греков, исследование сознания в
действии, т. е. в процессе мышления (а это есть начало ясного
самосознания человека), даже такая рефлексия еще не проводит различия
между порядком мышления и порядком Вселенной. Космический закон
пронизывал человеческую психику; исследуя идеи и законы мышления,
человек попутно исследовал структуру космоса. Когда религия оправдала
сдвиг от спасения посредством деяний к спасению посредством веры и,
наконец, когда разум освободился от догмы, было окончательно
достигнуто разделение мысли и Вселенной. Космический порядок стал
мирской «природой», которой противостоял человек как носитель мирского
разума. С Лютером непознанное отделяется от подсознания, пусть даже
240
последнее все еще предстает в виде дьявола. (Для этого переломного
момента характерно, что Бог незаметно превращается в дьявола. Служа
свою первую мессу, охваченный ужасом Лютер, по его же словам, не
понимал, предстает ли он Богу или дьяволу, т. е. Вседержителю или
собственной смятенной душе.)
Проблема знания присутствует в четком противопоставлении
субъекта и объекта. Начиная с Декарта был открыт путь к изучению
природы свободной мысли, особенно в связи с духовными и
физическими предпосылками осмысления человеком Вселенной. Последовательно
проводимое, это изучение, в конце концов, ведет к гипотезе
эпистемологического подсознания и психофизиологического, или «структурного»,
подсознания. В рассказе Декарта о снах проявляется творческое подсознание,
та способность подсознания, которая обнаруживается при решении
проблем, вызревании планов, обрастании плотью того, что зрело в уме.
Не следует смешивать творческое подсознание с тем миром, который
Фрейд назвал предсознательным, или латентным сознанием, к которому
относится все, что еще не является сознательным, но «доступным
сознанию» и которое, «исключая особое сопротивление и при
выполнении определенных условий может стать объектом сознания»28. (Еще в
1883 г. Фрэнсис Гальтон44* в Исследовании человеческих способностей
говорил о «прихожей» сознания, противопоставляя ее «приемному залу».)
В предсознание можно включить все, что содержится в памяти, если
это содержимое не подлежит подавлению; все, что в ней содержится, в
основном стабильно и статично, но при этом в нее может быть
заложено неизмеримо больше. Творческое подсознание, с другой стороны, —
это действующая, прогрессирующая способность*6.
Великое множество данных всех времен и народов вплоть до наших
дней свидетельствует о действии неких «парапсихологических» сил в
снах или родственных сну состояниях (предчувствие, ясновидение,
телепатия). Данных так много, и многие из них так убедительны, что их
просто нельзя оставить без внимания. К.Г. Юнг, вдохновившись
собственными клиническими наблюдениями, изучает такие транскаузальные и
«синхронные» случаи29. Весьма вероятно, существует и магическое, «па-
рапсихологическое» подсознание. (И можно пока только догадываться,
какие области подсознания предстанут нам в ходе дальнейших
исследований «психеделических» состояний.)
Все эти формы подсознания рождаются во мраке; мы судим о них по
особым проявлениям. Другие вполне очевидно порождены личными или
общественными обстоятельствами. Каждый из нас, несомненно, видел
во сне какие-то обрывки прожитого дня, вернее - отрывки жизни,
представляющие собой продолжение неполного сознания, новое переживание
восприятий, наблюдений, занятий, которые в бодрствующем состоянии
не были полностью пережиты, не смогли вступить на территорию
эмоций. Но даже в бодрствующем состоянии мы можем видеть
формирование подсознания, которое является не чем иным, как постсознанием, —
сознательно направленные действия, которые практика перемещает в
подсознание. Когда мы начинаем заниматься такими видами спорта, как
верховая езда или лыжи, то должны выполнять разные движения и
осваивать положения, которые невозможно координировать чисто созна-
241
тельно; но регулярные тренировки и повторение вырабатывают у нас
автоматизм и выходят за пределы сознательного, количество переходит в
качество и умение входит «в плоть и кровь», где и остается. Точно так же
психические и интеллектуальные приросты сознания вытесняются в
подсознание, образуя и расширяя «прихожую», из которой постоянно
черпает сознание и с помощью которой оно движется вперед.
Точно так же происхождение реактивного и репрессивного
подсознания можно непосредственно наблюдать или систематически
раскрывать. Фрейд объяснил механизмы и сферы развития либидо и
«инстинкта смерти», Адлер сделал то же в отношении стремления к власти. Юнг
(развивая наблюдения Фрейда) создал теорию архетипов, которая
полагает мир за пределами индивидуального подсознания, мир, который он
называл «коллективным подсознанием». Этот термин кажется мне
сбивающим с толку; то, о чем говорит Юнг, - не коллективное, а родовое
подсознание: самые древние образы и взгляды, установившиеся в
первобытные, мифические времена и постоянно возникавшие в психике
сменявших друг друга поколений. Томас Манн в романе Иосиф и в связи с
ним в лекции о Фрейде представил графическую картину предвремен-
ной, рисующей временную перспективу жизни в мифе, когда вся жизнь
есть imitatio*.
Это терминологическое уточнение важно еще и потому, что в нашем
обществе, состоящем из коллективов и организаций, действительно
развилось подлинно коллективное подсознание. Оно соткано из обрывков
определенных клише, лозунгов, элементов стандартного образа
мышления и поведения, которые проникают извне, из современной
коллективной жизни и уходят за порог сознания, незаметно воздействуя на
характер людей. В этом коллективном подсознании постепенно возникает
сила, борющаяся с родовым подсознанием или, по крайней мере,
ослабляющая его. Открытие архетипного наследия в психике, сделанное Юн-
гом, убедило его, как и Каруса, в том, что подсознание, если его
высвободить, само может вырабатывать исцеляющие силы. Но думается,
нынешнее совершенно иное сверхвоздействие коллективного на
сознание и вытеснение им материала из сознания в подсознание таит в себе
угрозу этим целительным силам. Справиться с фальсификациями и
искажениями, производимыми как в общем, так и в индивидуальном
подсознании этим коллективным давлением, можно только сознательно,-
исправляя наши социальные условия.
Наконец, пошатнувшаяся вера и паническое смятение умов и чувств
в наши дни свидетельствуют, как нужна человеку некая
трансцендентальная безопасность. Только ее утрата выявила ценность ее как древней
защиты, показала, что ее место в психике является основой, на которой
до сих пор зиждилось все существование. Следовательно, путем
философского и психотерапевтического анализа открывается и предстает
сознанию глубочайший пласт подсознания, пласт, где гнездится страх
смерти и жизни, страх смерти как страх жизни. Это экзистенциальное
подсознание. В изрядной мере подавляясь суетой будничной жизни, оно
все же проявляется в лихорадке всех явлений и действий, в упрямой, ир-
* Подражание (лат.).
242
рациональной приверженности к дискредитировавшим себя доктринам
и эрзац-идеологиям, в мании утвердить себя с помощью жестокости. Эта
невыразимая, невысказанная область подсознания — пока самая
глубинная из тех, в которые нам удалось проникнуть; и даже когда наше
сознание достигло этого рубежа, оно тут же разрушилось от соприкосновения
с ней.
Нынешняя попытка анатомии подсознания, впрочем, не должна
позволить нам забыть, что подсознание само по себе и в его связи с
сознанием — это весьма запутанная целостность, живая циркуляция
элементов, постоянно переходящих друг в друга. Множество оттенков его типов
и характеристик являют некоторое сходство с субатомными частицами;
открываются все новые и новые и при этом они все более ясно
свидетельствуют о самом тесном родстве между собой.
Наша короткая жизнь окутана сном, не только за пределами нашего
существования, но и внутри них, — насколько сознательная жизнь может
считаться высшей, основной жизнью. Хотя наше сознание ныне
простирается дальше, чем когда-либо прежде, оно кажется гораздо более
утратившим свою силу по сравнению с прошлым. И все потому, что оно
коллективизировалось, «деперсонализировалось» и, таким образом, стало
неуловимым. Приходится только удивляться, что такое явление, как
сознание, вообще существует.
Рациональный человек дерзко верил в свою автономию. Но между
тем плотины духа прорвались, стены психики рухнули; «Оно»
увеличилось в размерах, вытеснив с авансцены «Я»; «Я» и мир снова
соединились, объект и субъект слились воедино. Но эти силы, проникающие в
человеческую психику, уже не божественные и не мистические,
остающиеся вне «Я»; сила, вздымающаяся вверх, — это «Оно» в человеке,
объект в субъекте, внутри «Я» индивидуума. Даже мифические силы
предстают архетипно инкорпорированными в это «Я». Итак, ныне более,
чем подсознание, проблемой является сознание. Нет причин
успокаиваться на достигнутом. Начав с широкой сферы подсознания, мы
должны исследовать сознание, должны стараться прийти к осознанию нашей
нынешней ситуации в мире людей и уже не терять его.
1961-1962
Распад художественной формы
I. Формы формы
/
Искусство есть способ самовыражения человека, особое проявление
его существования. Поэтому искусство, как и жизнь, не разделено
перегородками, и то, что происходит с художественной формой,
оказывает серьезное влияние на человеческую форму, на форму человека.
Я говорю о художественной форме и о человеческой форме.
Следует сразу же пояснить, что именно следует понимать под «формой», ибо
этот термин обычно используется весьма широко и расплывчато.
Форма, как правило, отождествляется с очертаниями. В этом самом
широком, самом поверхностном смысле все, что имеет очертания, имеет и
какую-то форму, а «форма» равнозначна различимым очертаниям. Но
это, думается, весьма поверхностное, чисто внешнее понятие формы.
Очертания могут создавать внешний вид формы, но не быть самой
формой; их следует резко отграничить от формы. Только постольку,
поскольку очертания образуют внешний вид структуры, т. е. внутренней
организации, внутренней организующей сопряженности обладающей
границами субстанции, они являются составной частью формы.
Следовательно, форму можно в общих чертах определить как структуру,
проявляющуюся в очертаниях.
Озеро, например, имеет очертания, но не имеет структуры, и потому,
на мой взгляд, неверно было бы говорить о «форме озера». Однако
любое органическое тело, любое живое существо имеет форму, вернее,
является формой. И человек, который преодолевает границы
физического существования, проникая в мир психической, интеллектуальной и
духовной рефлексии, а таким образом, посредством памяти, осознания
идентичности и с помощью истории - в измерение времени, остается
пока что существом, обладающим самой высокоорганизованной
структурой, самой развитой естественной формой. В этом смысле, в смысле
существа, сопряженность которого выходит за пределы физического
восприятия, сопряженного через рефлективное осознание, вбирающего в
себя его психическое, культурное и временное существование, можно
говорить о человеческой форме. Данное понятие относится не только к
конкретному человеку, чьи очертания, хотя бы отчасти, физически
ощутимы, но и к genus humanum* в целом, как особой органической форме,
которая, если верить новейшим археологическим открытиям, возникла
около двух с половиной миллионов лет тому назад и чье развитие
привело к тому, что она вышла за пределы сугубо физических и физически
воспринимаемых границ, структуру и очертания которых можно понять
только с помощью интеллекта. Я отдаю себе отчет в том, что,
высказывая такую точку зрения, вступаю в резкое противоречие с той, ныне
широко распространенной практикой, когда наука полагается
исключительно на сенсорное подтверждение и достоверность фактов. Впрочем,
* Род человеческий (лат.).
244
следует отметить, что даже в фундаментальной науке сенсорная
верификация поневоле становится все более опосредованной, вернее,
абстрактной — достигаемой с помощью приборов, и в отдельных случаях
она приближается к внешне непреодолимым границам.
Данная работа посвящена прежде всего художественной форме и тому,
что в ней имеет отношение к форме человека. Художественная форма —
это структура и очертания, созданные действием человека. В сущности,
таковым может быть неполное определение искусства: искусство есть
форма, созданная интеллектуальным актом человека.
Но если исследовать значение современных течений в искусстве и
определить критерии, необходимые для этой задачи, то придется
несколько углубиться в природу формы; а для этого, думается, не найти
лучшего отправного пункта, чем первое, классическое, определение
формы, данное Аристотелем в Поэтике. При этом можно не учитывать, как
не отвечающий нашей задаче, тезис Аристотеля, что движущая сила и
функция искусства состоят в подражании, — как ни истолковывай
употребляемое им понятие мимесиса. И, кажется, больше не требуется
использовать старую эстетическую дихотомию формы и содержания. В
конце концов, можно считать само собой разумеющимся, что «содержание»
и «форма» - это две стороны одного и того же: что определяет как и,
напротив, как не существует без что, изображению которого служит. Это
нисколько не умаляет того наблюдения, что не так давно проблема, как
изобразить ошеломляющую сложность нашей действительности, стала
содержанием отдельных произведений искусства. Такая внешняя
«формализация» означает вовсе не превосходство «формы» над
«содержанием», а лишь то, что в произведении искусства отражается борьба
художника с его задачей и проблема, возможно ли художественно передать эту
сложность, — это своего рода художественная эпистемология. Кроме
того, мы увидим, что это в конечном счете ведет к распаду не только
того, что считается «содержанием», но и художественной формы вообще.
«Форма» распадается вместе с ее субстратом, ибо она неотделима от
субстрата.
В том фрагменте Поэтики, который имеет отношение к нашей теме,
Аристотель говорит о прекрасном, но, мне думается, не будет ошибкой
заменить это понятие совершенством формы. «Красота, — говорит он, -
заключается в величине и порядке, вследствие чего ни чрезмерно малое
существо не могло бы стать прекрасным, так как обозрение его,
сделанное в почти незаметное время, сливается, ни чрезмерно большое, так как
обозрение его совершается не сразу, но единство и целостность его
теряются для обозревающих... Итак, как неодушевленные и одушевленные
предметы должны иметь величину, легко обозреваемую (eusynopton еіпаі),
так и фабулы должны иметь длину, легко запоминаемую... подобно тому
как и в прочих подражательных искусствах единое подражание есть
подражание одному [предмету], так и фабула, служащая подражанием
действию, должна быть изображением одного и притом цельного действия,
и части событий должны быть так составлены, что при перемене или
отнятии какой-нибудь части изменялось и приходило в движение целое,
ибо то, присутствие или отсутствие чего незаметно, не есть органическая
часть целого»1.
245
Итак, для Аристотеля произведение искусства есть сопряженное и
неделимое целое; оно отвечает или, вернее, должно отвечать тому
требованию, которое Сократ в Федре Платона предъявляет к рассуждению: оно
должно быть единством «наподобие живого существа». Это, можно
заключить, живое существо, созданное мыслительным актом человека. Из
настойчивого требования Аристотелем строгого единства и закрытости
художественной формы поколения поэтов и критиков вывели известное
правило единства места и времени в трагедии.
Это классическое определение художественной формы на протяжении
веков остается в силе; ему следовали Данте, французские классицисты и
символисты, Гёте и Генрих фон Клейст*7. Оно оставалось, обретая все
большую гибкость и сложность, целью сознательного художественного
творчества в прошлом веке. Это та форма, поиск которой был «радостью
и агонией» Флобера; это то, что Генри Джеймс1* назвал «подсознательным
хозяйством искусства». Именно это имел в виду Флобер, говоря «les chef-
d' oeuvres sont betes», «шедевры немы», т. е. они настолько сосредоточены
на себе, настолько самодостаточны, настолько закончены и закрыты, что
ничто не может проникнуть в них и повлиять на них извне. Именно это
имел в виду Йейтс2*, говоря: «Наши слова должны казаться
неизбежными», и именно это господствует в творчестве Сезанна и Матисса. «Каждая
часть картины, — говорит Матисс, — играет свою роль, главную или
второстепенную. Все то, что ненужно в картине, вредит ей»; «взяв лист
бумаги определенного формата, я делаю на нем рисунок в соответствии с этим
форматом», и «если все соотношения найдены, то должен получиться
живой аккорд красок, гармония, подобная музыкальной гармонии». Совет
Сезанна «трактовать природу как цилиндр, сферу, конус и при этом в
соответствующей перспективе, чтобы каждая сторона предмета или
плоскости была направлена к центральной точке», точно соответствует
требованию Толстого3*, чтобы каждое произведение искусства «имело своего рода
фокус». И этот фокус не должен быть вполне объясним словами:
«Содержание [подлинного произведения искусства] может в его полноте быть
выражено им самим»2. Рассказы Чехова4*, пьесы Ибсена5* при ближайшем
рассмотрении оказываются чудесами тончайших конструкций, хотя
внешне это почти незаметно. Наконец, разве такие романы, как Улисс
Джойса, Доктор Фаустус Томаса Манна, Смерть Вергилия Германа Броха
(каждый — результат многолетнего напряженного труда, взвешивания и
уравновешивания каждого движения и слова), не являются грандиозно
расширенными и пополненными парадигмами понятия художественной
формы Аристотеля? Среди произведений искусства есть и такие, строгая
организация которых носит скорее музыкальный характер, и другие, чей
порядок напоминает живопись; одни развивают свои органические
следствия и соответствия в рамках абсолютного времени, т. е. внутри одного
гомогенного времени, другие более близки к современности, и в них время
само становится элементом художественного взаимодействия, при
котором разные родственные типы времени смешиваются и переплетаются,
чем сообщается ощущение трансцендентной одновременности,
сверхвременного пространства.
В музыке законченная форма проявляется в разнообразной, все
более сложной, диалектически динамичной и все же сверхвременной со-
246
пряженности композиций. Еще одно требование художественного
хозяйства — краткость. Это подчеркивает современный композитор Антон
фон Веберн6*: «Под искусством, — пишет он, - я понимаю способность
выразить мысль в наиболее ясной, простейшей, а значит, наиболее
понятной (fasslichste) форме... [Так], Бетховен бился над основной темой
первой части «Героической» до тех пор, пока, наконец, не достиг той
степени простоты, какой отмечено каждое предложение в молитве
Отче наш».
2
Впрочем, есть и всегда были произведения, снискавшие признание и
восхищение как произведения искусства, хотя они никоим образом не
подходят под это классическое понятие; их творцы по недосмотру или
преднамеренно преступили основные требования законченной формы.
Вспомните, каким был вначале современный роман: безразмерные
романы эпохи барокко, Дон Кихот, Гаргантюа7\ Симплициссиму&*\ великие
английские романы XVIII в., а позднее — многословные повествования
Бальзака9*, Диккенса10* и Пруста. Вспомните живопись маньеризма11* или
Босха12* и Брейгеля. А что вы скажете об иных величайших, но
несколько рыхлых, кривобоких пьесах Шекспира? Или о романтической,
экспрессионистической, сюрреалистической поэзии? Следует ли считать эти
произведения просто неудачными, незаконченными, фрагментарными
творениями, которым так и не удалось обрести подлинную форму? Но по
большей части в них даже не видно сознательного намерения создать
закрытую форму. Их творцы просто бессознательно или намеренно
преступают все границы. И все-таки мы почему-то считаем эти творения
великими произведениями искусства. Так что же заставляет нас так
думать?
Для ответа на этот вопрос или, скорее, ухода от него был изобретен
термин «открытая форма»; насколько мне известно, швейцарский
искусствовед Генрих Вёльфлин в книге Основные понятия истории искусства
(Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 1915) использует термин «открытая
форма» в противоположность «закрытой форме». Однако понятие открытой
формы, в общем смутное, ставит некоторые ключевые вопросы.
«Закрытая форма» имеет только одно ясное значение, по сути, настолько
точное, что кажется избыточным. Закрытость, подобная закрытости
живого существа, предполагает совершенство формы; и применительно к
художественному произведению это говорит о стремлении создать
совершенную форму, художественную по определению. Но произведение,
сочиненное в открытой форме, не обязательно является подлинно
художественным; все виды чуждых ему целей могут преобладать в нем: эмоции,
задачи, условия, риторика уговоров или просто безотчетное наслаждение
живописанием и повествованием. Поэтому произведение, обладающее
открытой формой, требует дополнительного уточнения, может ли оно и
если да, то насколько, считаться художественным и в чем его
художественность. Всмотревшись внимательно, мы увидим, что даже в
произведениях с «открытой формой» присутствует некое сознательное или по-
247
лусознательное стремление к совершенству формы, т. е. к закрытой
форме, что и придает им художественность.
Любое произведение искусства многомерно. Его художественность
ощущается в пространственных измерениях ширины, длины и глубины,
да и в измерении времени; под последним я подразумеваю «время» не
просто как внутренний, структурный элемент, т. е. ритмические
пропорции произведения, но «время» как поэтическое средство развития
произведения, его способность вести за собой.
Структура, внутренняя сопряженность произведения искусства,
выступает с ее ответвлениями и соответствиями мотивов прежде всего на
его более открытом уровне, в измерениях ширины и длины. Измерение
глубины переносит его на иные уровни, а это предполагает
дополнительные сферы корреляции и не менее важный атрибут произведения
искусства: его символичность, его одновременность на разных уровнях.
Кажется, именно это имел в виду Томас Харди13*, говоря: «Весь
секрет художественной прозы и драмы (по части конструкции) кроется в
том, чтобы необычайное сочеталось с вечным и всеобщим. Писатель,
который точно знает, насколько исключительными и насколько
неисключительными должны быть его события, обладает ключом к
искусству».
Думается, Харди вполне справедливо считает, что суть литературы как
искусства состоит в связи двух уровней существования. Но, возразил бы
я, дело не в связи «исключительного» с «неисключительным» и не в
«сочетании» «необычайного» со «всеобщим», а, скорее, в связи
специфического, исключительного или неисключительного, со всеобщим, и речь не
о сочетании, а о тождественности частного и общего. Ни одно событие
не имеет художественной ценности, если не соотносится с
общечеловеческим. Подлинный художник выходит за пределы феноменального
уровня, поверхностного уровня, на котором происходит как обычное,
так и необычное; он вводит случай или ситуацию в ту насыщенную
глубину, куда направлены внимание и потенциальность каждого человека.
(То, что повсеместно считается «обычным», «неисключительным»,
никоим образом не совпадает с общечеловеческим; чаще всего совсем
наоборот, это специфически периферийная условность вроде ритуала,
национального обычая, стандарта или моды.)
В глазах художника обрести всеобщий смысл может и то, что
принято считать обычным, и то, что совсем необычно. Классический пример
первого Ѵп согиг simple (Простое сердце) Флобера, повесть, в которой
нечто совсем обычное становится обычным par excellence. Самый
тривиальный ход событий, самый неприметный характер и судьба становятся
парадигмой величия смирения, более христианского, чем нечто в лоб о
нем утверждающее, это достигается символической концентрацией, и
поэтому эта повесть, как и прочие произведения Флобера, есть образец
закрытой формы; она так плотно соткана, ее части так мастерски пригнаны
друг к другу, что нет ни малейшей лишней или неуместной детали. Здесь
именно концентрация закрытой формы сама конституирует
символичность, идентичность двух уровней существования.
Полная противоположность во всех отношениях — произведения
Бальзака, в которых в довольно рыхлой и многословной манере описы-
248
ваются исключительные, даже из ряда вон выходящие происшествия,
характеры и судьбы. На феноменальном, поверхностном уровне они -
яркие примеры открытой формы, но их эмоциональной насыщенностью
и самим их многословным, даже затянутым описанием достигается то,
чего мастера закрытой формы достигают путем предельной
художественной экономии: символическая глубина, а это значит, широкая
соотнесенность с человеком. Они свидетельствуют, как в рамках открытой
формы, даже, можно сказать, средствами открытой формы, можно достичь
символической согласованности, согласованности двух уровней
существования, равной художественному эффекту совершенной, законченной
формы*8.
Примерами контраста между закрытой формой и такой открытой
формой, которая достигает межуровневой, символической
соотнесенности, в поэзии являются лаконичные стихи Бодлера, Малларме и Хопкин-
са в противоположность бурному потоку свободно-льющихся рапсодий
Уолта Уитмена.
Межуровневое, символическое соответствие есть один тип
художественной формы, возникающий внутри открытой формы. Имеются и
другие. Возьмем крайний случай открытой формы, Тропик Рака Генри
Миллера14*, в целом, конечно, хаотичный и в этом отношении
представляющий исключение даже среди, как правило, бурных и
неорганизованных повествований этого великого писателя. То, что придает ему
художественность, что поднимает его над сугубо частными записями и
откровенными непристойностями, — это колорит места действия,
обстановки, атмосферы, переданный со страстной, неуемной силой правды;
каждый миг в нем предстает многообразие жизни с ее резкими
контрастами: смешное и страшное, расцвет и увядание, искра любви и
очарования в проститутке. В этом диком извержении встречаются вот такие
островки гармонии:
«Опустилась ночь, а он все брел и брел вдоль Сены и сходил с ума от
ее красоты: от склонявшихся к воде деревьев, от колышущихся
отражений, от шелеста воды, струящейся в кроваво-красном свете фонарей на
мостах; у порталов спали женщины; они спали, постелив под себя
газеты, прямо под дождем; повсюду пахнущие сыростью паперти соборов и
нищие, и вши, и уродливые старухи, страдающие пляской святого Вит-
та; ручные тележки, выстроившиеся в переулках, как винные бочки;
запах ягод на рыночной площади и старая церковь в окружении овощей и
голубых огней, сточные канавы, скользкие от отбросов, и женщины в
блестящих туфельках, осторожно пробирающиеся по нечистотам и
блевотине под конец всенощного потопа...»*9
Такое впечатление и выражение целостности существования в его
нюансах, такое удовольствие от его заново прочувствованной
подсознательной и сверхрациональной сопряженности — это достижение
утонченной чувствительности нашего века. Как только она появляется, даже
среди совсем не управляемого повествования, там возникает
художественная форма, закрытая и совершенная по своей природе.
Это может привести к парадоксу законченной формы, созданной из
самого аморфного, из обрывков нашей фрагментарной жизни, как это
видно в современных коллажах или композициях или в стихах тонкого,
249
прекрасно чувствующего форму немецкого поэта Готфрида Бенна15*. Его
поэзия доносит, по его замыслу, ощущение распада живого существа,
осколков существования индивидуума, — и доносит его в безупречной
форме. Самая строгость строфы, размера и ритма служат тому, чтобы
подчеркнуть грубое разрушение, о котором в них говорится. Все особенности
творчества Бенна, отчаянная попытка интеграции непоправимой
дисгармонии, проявились в стихотворении Schutt (Обломки). Вот две строфы:
Schutt, alle Trümmer Обломки, все развалины
liegen morgens so bloss лежат утром так неприкрыто
wahr ist immer nur eines: истинно всегда лишь одно:
du und das Grenzenlos - ты и беспредельность —
trinke und alle Schatten пей, и все тени
hängen die Lippe ins Glas окунают губы в стакан
futterst du dein Ermatten - ты кормишь свою слабость -
lass-! брось-!
Komm, und drängt sich mit Приди, и если последняя тяга к жизни
Brüsten давит Tete ä tete
Eutern zu Tete ä tete и прижимается грудью,
letztes Lebensgelüsten, брось - слишком поздно,
lass, es ist zu spät, Приди, все весы гремят
komm, alle Skalen tosen призраки, ощущение распада,
Spuk, Entformungsgefühl - Приди, как розы осыпаются
komm, es fallen wie Rosen боги и их игра.
Götter und Götterspiel.
Как правило, в современной поэзии и в отдельных романах XX в.
форма, выражая целостность существования в позитивном, негативном
или нейтральном духе, достигает прочнейшей, трансрациональной
концентрации: сломано все, что уточняет или поясняет. «Порой, —
отмечает Т.С. Элиот16* в предисловии к Ночному лесу Джуны Барнз, — в какой-
то фразе характеры оживают так внезапно, что неожиданность заставляет
тебя отпрянуть, как будто, прикоснувшись к восковой фигуре, ты вдруг
обнаружил, что это — живой полицейский». Молниеносная
отрывочность метафорических связей открывает глубину и удивительную,
небывалую до сих пор точность. Вот несколько примеров того, как в Ночном
лесу дается описание женщины:
«Она двигалась, слегка наклонив голову и раскачиваясь: движения
медленные, неуклюжие и все же изящные, поступь ночного сторожа... Она
была изящна в своем увядании, словно старинная статуя в саду, на
которой запечатлелись все перемены погоды, и она стала уже не столько
творением рук человека, сколько творением ветра, дождя и смены времен
года и, сохранив человеческую форму, все же являет собой образ рока».
Или это: «Когда она к чему-то прикасалась, ее руки, казалось,
превращались в глаза... Пальцы ее двигались вперед, задерживались, дрожали, как
будто в темноте нащупали лицо. Когда рука, наконец, замерла, то сжалась
в кулак; казалось, она заткнула отверстый в крике рот...»
В подобных отрывках самый глубинный нерв человека затронут со
снайперской точностью, достигнут слой правды, граничащий с
экспрессией.
250
Но такие художественные озарения случаются не только в мире
собственно искусства, где могут быть приложены все трансрациональные
способности языка, — магические, метафорические, музыкальные. Они
могут проявиться и в рациональной сфере, когда мыслитель или ученый
выходит за пределы жаргона узкого исследования и создает изображение
более широкой сопряженности, всесторонне раскрывающее реальность
или проблему. В таких случаях достигается слияние реальности и
экспрессии, законченная форма. Зачастую попытка выразить проблему
словами, собрать и связать разные ее аспекты с более обобщающей,
невзирая на перегородки, точки зрения, открывает новый масштаб и глубину
мысли. Именно по причине этой способности словесного изложения,
разъяснения простым языком широкого комплекса действительности
таких мыслителей, как Бергсон, Фрейд и Тейяр де Шарден17*, называют
художниками.
Добротно построенное предложение, элементы которого
(артикуляция, значение, образность и ритм) пропорционально скомпонованы и
уравновешены, которое и ясно по смыслу, и мелодично по звучанию,
само по себе есть микрокосм закрытой формы. Совершенство закрытой
формы предстает даже в бессловесном математическом доказательстве с
его «элегантными» короткими отрезками.
3
До сих пор мы занимались закрытой формой в различных ее
проявлениях — как интегрально законченное произведение или как вживленное в
открытую форму, будь то с помощью символической соотнесенности
двух или более уровней существования или ярко синоптической
передачей характера, ситуации, проблемы, целостности существования.
Но бывает, что и открытая форма как таковая обладает
художественной силой. Помимо органической целостности в измерениях
ширины, длины и глубины существует иное непременное свойство,
иное sine qua поп* искусства, а именно, как уже говорилось, его
творческая протяженность во времени, т. е. его способность к развитию.
Любое подлинно художественное творчество действует на границе
выразимого, завоевывая до сих пор нетронутое, непонятое,
нераскрытое. Произведение, в котором отсутствует это крайнее напряжение, не
несет ничего нового и не имеет художественной ценности. Поэтому
новаторство, в смысле первотворчества, — основное составляющее
произведения искусства.
А новаторство, как водится, открывает традиционно закрытую
форму, прорывается сквозь утвердившиеся ранее формы. Когда бы новые
сферы и новые глубины существования ни открывались прорывом в
неведомое, новые самобытные явления должны будут стать частью
будущей, законченной целостности, чем и будет достигнуто новое и большее
совершенство формы. Конечно, нам известно, что основное свойство
действительности — динамизм, и, значит, любая закрытая форма — лишь
* Непременное условие (лат.).
251
временная остановка на пути бесконечного процесса. И все же, чтобы
усилия не оказались напрасными в сумбурном хаосе и разобщенности,
новые открытия должны быть связаны с существующим осознанием;
вновь и вновь должна восстанавливаться целостность существования,
должна осмысляться новая, более широкая и сложная целостность. Это
касается и комплекса наших естественно-научных и гуманитарных
знаний; но особенно — искусства, в основе существования которого лежит
создание формы, а значит - целостности.
И так как искусство вечно пребывает между разрушением и
созиданием формы, то, случается, отдельные эксперименты, не достигнув
устойчивой интеграции, предстают перекошенными, искаженными
экстравагантностью и слишком выпячивают свои новые перспективы, давая
знать, что завершение еще только мыслится в будущем. Будучи
открытыми, фрагментарными формами, они в то же время художественны
благодаря их устремленности в неведомое, поискам большей правды, более
глубокого слияния с реальностью. Взять, к примеру, такое в высшей
степени революционное произведение, как Тристрам Шендих%\ которое по
замыслу автора было создано как открытая форма, с тем чтобы его
можно было бесконечно продолжать и дополнять. Пробы и инновации
Стерна (в свое время разрушительные) интегрировались художниками нашего
времени в закрытую форму.
П. Триумф бессвязности
/
Но совсем недавно безграничное преобладание этой поисковой функции
искусства достигло кульминации, где искусство, такое, каким оно было
известно на протяжении тысячелетий, рискует исчезнуть. Мы —
свидетели смелых попыток отражения новой реальности; но погоня за новым
привела к тому, что такие произведения вообще лишились формальной
сопряженности. Реальность в них так безнадежно разорвана, что,
кажется, уже нельзя уловить никакой связной целостности. В них или дано
плачевное изображение неприкрашенных фрагментов бытия, или же они
погружаются в чистую абстракцию, где форма превращается в
механическую конструкцию.
Несомненно, эти эксперименты являются отражением нашей
реальности и, в частности, нашей психики. В результате сложного развития,
детально описать которое в данном случае невозможно, процессы
бессознательного возобладали над актами сознания. В XVIII в., в период
появления иррационализма и романтизма, внешний мир, мир событий
и действий, все больше виделся отражением внутреннего мира души. В
XIX в. под влиянием великих русских романистов, а еще больше в XX в.
подсознание становится объектом художественного исследования.
Феноменальная реальность, словно пропитанная рационализмом,
воспринималась как воображаемая поверхность реальности, а подлинная
реальность вытеснялась на все более глубинные уровни подсознания и,
наконец, предстала непостижимой.
252
Натали Саррот19* описывает этот процесс в эссе От Достоевского до
Кафки3:
«Прошло то время, когда Пруст осмеливался верить, что,
"проталкивая свое впечатление до крайних пределов, [он мог] пытаться достигнуть
того предела, на котором зиждутся правда, реальный мир и истинное
впечатление". Но в конце концов, наученные разочарованиями, все ясно
осознали, что предела нет. "Наше истинное впечатление" оказалось
состоящим из многочисленных пластов, уходящих вглубь до
бесконечности. Глубина, открытая анализом Пруста, оказалась всего лишь еще
одной поверхностью. Большая глубина, которую вынес на свет внутренний
монолог и на которую по праву возлагались надежды, снова оказалась
поверхностью. А внезапный всплеск психоанализа, сметающий все
стадии и одним махом преодолевающий несколько уровней глубины,
обнаружил недейственность классического самоанализа и заставил
усомниться в абсолютной ценности всех методов исследования. Так голубем
ковчега и вестником спасения стал homo absurdus**10».
Аналогичный процесс наблюдается в визуальном искусстве.
Портреты Ван Гога, Кокошки и Бекмана уже не передают видимую,
физиономическую внешность человека — это уже исчерпали мастера
Возрождения и пришедшие за ними. Их видение проникает за эти поверхности;
идет поиск «моста от видимого к невидимому», как сказал Бекман,
поиск психической ауры человека. Даже пейзажи этих художников несут,
как бы анимистически, психологизм ландшафта. В дальнейшем
художники стали исследовать структуру феноменальности как таковой и тем
самым пришли к аналитическому расщеплению мира предметов.
Двойника homo absurdus в литературе можно найти в отдельных творениях
сюрреализма.
Но это лишь одно ответвление сложного, центробежного процесса,
возникшего из господства бессознательного. Другой поворот в развитии
дал иные результаты. Бессознательное перестало быть просто объектом
сознательных действий, исследующих скрытые участки психики или
глубины феноменальности. Оно охватило сам художественный акт и
выступило самим исполнителем художественного творчества, как наблюдается
в литературе «битников»20* и «действующей живописи»21*. Но развитие
ненадолго задержалось на этой стадии; в наше время оно ускоряется и
становится все более сумбурным. Из состояния экзистенциального риска
был сделан еще один вывод, и снова его высказала Натали Саррот:
«Современный человек, тело без души, отданный на произвол враждебных
сил, стал в конце концов не чем иным, как тем, чем видится извне». Да
и вся действительность стала видеться такой. Отчаявшись когда-либо
обрести твердую опору в подсознании и бросить якорь в безбрежной
анархии нашего мира, люди занялись изображением самой грубой
поверхности вещей, обратившись к сугубо материальному вещному миру.
«Похоже, — пишет бывший дадаист Ханс Рихтер22*, — люди ныне
нуждаются в таком материальном объекте, который можно взять в руки,
чтобы, ухватившись за него, убедиться в своем присутствии в этом мире; как
будто человек может убедиться в том, что он действительно существует,
* Человек абсурдный (лат.).
253
только посредством пяти органов чувств, ибо в нем все поломано и
ненадежно. Кажется, его выталкивает наружу внутренняя пустота, желание
убедиться в своем существовании с помощью объекта, ибо субъект, сам
человек, потерян... Наше поколение стало таким жадным до ощущения
близости, что даже крышка клозета священна для нас, нам мало видеть
ее изображение, мы хотим обладать ею всецело, плотски»4.
Художник поп-арта Джим Дайн23*, выставляющий «автопортреты» в
форме банных халатов, окруженных инструментами и прочими
предметами, сказал в одном интервью, что, увидев рекламу банного халата в
Нью-Йорк Тайме, он хотел сначала воспользоваться ею, но вдруг увидел
в этом халате себя. Потрясающая аналогия этому встречается во
французском новом романе, в частности в романах Роб-Грийе24*. В них
человек одинок и опустошен среди забивающей его среды, предстает как
полое существование, лишь функционально отраженное в сюрреально
выступающих объектах и бихевиорических реакциях. «Вместо мира
"значения"... — пишет Роб-Грийе, — надо пытаться... построить мир, более
прочный и более осязаемый. Пусть предметы и жесты утверждаются
прежде всего своим присутствием, и пусть это присутствие продолжает
превалировать над всем, что объясняющая теория может пытаться
заключить в систему ссылок, эмоциональных, социологических,
фрейдистских или метафизических. В этом будущем мире романа жесты и
предметы будут там до того, как станут чем-то; и они останутся там и после,
жесткие, неизменные, вечные, высмеивающие собственное "значение"»,
то значение, которое тщетно пытается свести их к роли случайных
орудий, временной и позорной ткани, сотканной исключительно (и
нарочно) высшей человеческой правдой, выраженной в ней... Отсюда...
романы будут постепенно терять нестабильность и тайны, будут отрекаться...
от той подозрительной погруженности внутрь, которую Ролан Барт25*
называет «романтической душой вещей»... мы не только не считаем мир
нашим, нашей личной собственностью, сконструированным согласно
нашим нуждам... но мы даже уже не верим в его глубину»*11. Кажется,
Роб-Грийе не приходило в голову, что мир, со всех сторон обступающий
нашу жизнь, состоит преимущественно из рукотворных предметов,
созданных для нужд человека, и количество таких вещей все время растет.
Природа, т. е. предметы и существа, изначально независимые от
человека, все больше уступают дорогу артефактам, в которых вечно
присутствуют «значения» человека, сам человек во всех изменениях, и эти
значения, конечно, исчезнут, как будто их и не было. Напротив, они
оказываются более преходящими, более временными, чем сам человек.
Вся эта трансформация окружающей среды и условий жизни, это
овеществление нашего мира, выраженное как в новом романе, так и в тезисе
Роб-Грийе, действительно что-то значит, говорит о чем-то большем, чем
поверхностное присутствие, а именно о трансформации самого
человека, о его переходе от индивидуального существования к коллективному.
Впрочем, пристальное внимание авторов нового романа к сугубо
материальным вещам имеет и обратную сторону. Аккуратно построенные
произведения Роб-Грийе свидетельствуют о неразрывной связи крайнего
квазиосязаемого феноменализма с противоположной крайностью —
предельной абстрактностью, фактически о превращении одной крайности
254
в другую. Насквозь опредмеченное изображение все более
овеществляемого мира и полная ликвидация человеческих мотивировок и чувств —
это крайняя редукция процесса художественного творчества; такого
изображения можно достичь только с помощью тончайшего анализа
реальности, которая нереальна не только в ее значительных, но и в
просто воображаемых мелочах. Поток действительности рассекается
на мельчайшие частицы, что ведет к формализму, к форме скелета, где
исчезает все жизненное содержание. Призрачное сознание остается
наедине с самим собой.
2
Более детальное изучение этих процессов поможет дальнейшему
пониманию истинного развития от преобладания бессознательного к
функциональной изоляции сознания через утрату человеческой субстанции и,
наконец, к расколу действительности и наших средств коммуникации.
Любое художественное произведение уходит корнями в
бессознательное. Создавая произведение, художник всегда отчасти действует в
подполье психики; и даже при наивысшем напряжении художественного
сознания присутствует остаток подсознательного процесса. Ни один
художник никогда не мог вполне понять и проконтролировать свое
произведение во всей его полноте. После того как работа над ним
закончена, произведение начинает жить собственной жизнью, и только тогда
раскрываются его полное значение и воздействие, неведомое его автору.
Пикассо подчеркивал роль бессознательного в своем творчестве. «Когда
я пишу, — говорил он, - моя цель — показать то, что я нашел, а не то,
чего я искал. В искусстве намерения недостаточно... Я гуляю по лесу
Фонтебло. У меня начинается «зеленое» несварение. Я должен
выплеснуть это ощущение в картину... Художник пишет, чтобы избавиться от
ощущений и видений...»5 Точно так же Кафка в беседах с Густавом Яно-
ухом26* сказал, что его рассказ Кочегар был воспоминанием об одном сне,
а Приговор — кошмаром, который пришлось записать, «изложить», и это
было мерой защиты. «Предметы фотографируют, чтобы изгнать их из
сознания. Мои истории — своего рода попытка закрыть глаза». И «сон
снимает покров с действительности, с которой не может сравниться
никакое видение. В этом ужас жизни — и могущество искусства». Эти
высказывания дают ключ ко всему творчеству Кафки.
Впрочем, оба этих художника сознательно уделяли величайшее
внимание форме выражения своих переживаний. Такой скрупулезный
контроль, действие тренированной медитативной чувствительности
проявляется в их сочинениях; и тому есть доскональное подтверждение.
Пикассо рассказывает о том процессе, который он называет «суммой
разрушений», но который вообще-то есть подлинная абстракция, как
явствует из серии рисунков, где он постепенно лишал изображение быка
натуралистических деталей, пока не обнажилась самая суть его
структуры. «Для меня, - говорит Пикассо, — картина — это сумма разрушений.
Я создаю картину — потом разрушаю ее... Было бы интересно сохранить
на фотографиях... метаморфозы какой-нибудь картины. Возможно, от-
255
крылось бы, по какому пути следует ум, материализуя видение...
Всегда надо с чего-то начать. Потом вы сможете убрать все следы
реальности. В конечном счете это не страшно, ибо идея предмета оставит
неизгладимый след. Именно это подталкивает художника, волнует его
мысли и будоражит чувства. Мысли и чувства в конце концов будут
заточена в его произведении»6. Дневники Кафки говорят о постоянной
борьбе за мельчайшую деталь при описании явления, о «страшном на-
пряженнии и радости» (почти как Флобер) «от того, как разворачивался
предо мной рассказ, как меня, словно водным потоком, несло вперед.
Много раз в ту ночь [когда он писал Приговор] я нес на спине
собственную тяжесть». Именно это и отличает подлинного поэта: работая, ему
приходится нести на спине собственную тяжесть, тяжесть своей жизни.
Итак, эти великие художники вполне осознают бессознательный
источник этих творений. Они сознательно включают подсознание и
признают его роль в их творениях; и все же они управляют им, развивают
его.
Впрочем, в произведениях ташизма27*, «действующей живописи»,
литературы «битников» и на определенной фазе развития многоликого
дадаизма подсознательное высвобождено как простое сырье, высвобождено
намеренно, программно. Таким образом, происходит любопытное,
неорганическое соединение сознания и подсознания. В живописи это началось
с бунта против рамы (последнего оплота формы). (Импрессионисты уже
отрезали сегменты тематического, «предметного» текста живописи —
фигуры, движения, обстановку — ради сугубо живописной гармонии.)
Художники действующей живописи придают значение не столько законченной
работе, сколько акту живописания, которым как бы и руководствуется
художник при поиске идентичности*12. Ученик Марка Ротко (Окада)
недвусмысленно предписывает: «Начинайте писать ни с чем и пусть оно
развивается» [курсив мой. - Э.К.]. В итоге возникают целые стены из
агрессивных линий и цветовых смерчей, полных бьющей через край
жизни, или разноцветных квадратов, разделенных горизонтальными или
вертикальными линиями. Эффект, который это производит на посвященных,
состоит, как дал понять однажды сам Ротко, в своеобразной мистической
коммуникации и экстазе, подобных тем, которые вызывают конкретная
музыка и необрамленный, статичный динамизм джаза.
Впрочем, такие проявления бессознательного часто дополняются
работой сознания, т. е. комментариями, толкованиями, названиями,
которыми сопровождаются выставленные полотна. Вообще, у некоторых
художников такие толкования появляются как обратная связь, когда
изначальное намерение раскрывается в творческом процессе. Внешне
бессвязная или случайная композиция истолковывается как
«абстракция».
Настоящая абстракция осуществляется как акт, концентрирующий
субстанцию, процесс, впечатление, аргумент до той степени, когда
обнажается их суть. Но в абстрактном экспрессионизме совершенно
непонятно, от чего абстрагируются эти произведения. У них нет субстрата
абстракции, а стало быть, нет и следа творческого начала и труда, который
можно чувствовать в любом произведении искусства или мысли даже
законченных в самих себе.
256
Итак, то, что порождает такую живопись, - это не абстракция, но,
скорее, редукция. Конечно, редукцию тоже можно считать своего рода
абстракцией, инвертированной абстракцией, абстракцией в реальность
голого материала, обнажение субстанции*13. Художники «действующей»
живописи все еще чувствуют себя вынужденными приписывать своим
произведениям некую внеживописную, метафизическую субстанцию. Но
эта живописная редукция, эта «абстракция» в материальные элементы
живописи, ведет как следствие прямо в «поп-арт»28*, к отрешению не
только от всяческой живописной субстанции, но и от живописи вообще,
к показу материальных предметов как таковых или, вернее, фрагментов
предметов или предметов как фрагментов нашего перенаселенного и
расколотого мира.
В свою очередь такие фрагменты мира вступают в некую не
свойственную им взаимосвязь, даже порой в некое утонченное формальное
равновесие, создаваемое художественным сознанием, которое еще
можно встретить в некоторых коллажах и композициях, передающих
сосуществование резко контрастирующих обрывков нашей повседневности:
островки природы и куски техники, очень знакомое и давно забытое.
Переходя от одного к другому, улавливаешь настроение меланхоличной
иронии или бесцельного бунта, как это выражено в манифестах
движения «битников».
Это движение следует призыву Аллена Гинзберга29*: «Сорвите замки
с дверей! Сорвите сами двери с петель!» Здесь снова в сумбурном
восторге вырываются эмоции, впечатления, видения и сновидения и обрывки
знаний. Учитель Гинзберга и Керуака30* Уильям Берроуз заявляет: «Я
пишу о том, что влияет на мои чувства в момент, когда я пишу. У меня
и в мыслях нет никакой «истории» или «замысла» или
«последовательности»». Вот опять намеренное обострение противоречий.
Но у «битников» преднамеренная бессвязность имеет место в сфере
языка, где расчленяющие тенденции проникают в самую суть
человеческой конституции.
3
Проблематичная природа языка и, соответственно, неопределенность
человеческой коммуникации волнует умы уже более двух с половиной
веков. Осознание этого брезжит в исследовании Локка
«Несовершенства слов», оно проявляется в Тристраме Шенди и в Страданиях юного
Вертера31\ Оно нарастает по мере того, как усложняется жизнь
человека Запада и состояние его психики и убыстряется по мере развития
коллективизирующего, инструментализирующего, функционализирующего
механизма повседневного существования, отчуждающего человека от
человека, отграничивающего внутреннюю правду от подчиняющей себе
действительности.
О языковых опытах свидетельствуют разные источники:
литературные, философские и, наконец, что немаловажно, психологические. Эти
опыты слагаются в мощный процесс взаимодействия различных течений
и воздействий. В области письменности такие опыты вылились в искус-
257
ство, сомневающееся в себе, в своей функции, методах, способности
выражения; а на более продвинутой стадии этого процесса поиск
коммуникативных средств полностью сливается с основной мыслью, подлежащей
сообщению; экспериментальные методы преобладают, становясь,
наконец, самой темой произведений искусства. В настоящем искусстве, как
говорилось, «форма» и «содержание» - это лишь два аспекта одного и
того же: что определяет как. Но недавно порядок полностью
изменился: как не только определяет, но просто конституирует что. «Средство
выражения — это сообщение», как звучит современный лозунг Маклуха-
на32*. Это средство-понятие (по крайней мере, учитывая «массовый»
аспект средств) соответствует физическому понятию поля и отражает наш
коллективизирующий функционализм.
Проследим за этим процессом. Он начинается с поэтического
призыва Малларме, новаторство которого выступает последним источником
недавних языковых экспериментов. Теорию Малларме породила,
прежде всего, реакция против прежних стилей - для полного понимания
литературного направления той или иной эпохи всегда необходимо
учитывать то, что оно утверждает и против чего выступает. Французская poesie
pure* возникла из отрицания устаревшей «философской» поэзии
романтизма и классицизма, а также непоэтической, описательной задачи
натурализма — стало быть, отрицания идей и фактов как движущих сил и
мыслей поэзии. Новым поэтам претит образ выражения, опустошенный
сентиментальностью и риторикой, их творческое внимание обратилось
к форме языка, к эффекту, производимому собственно словами: «Чистое
творение предполагает, что говорящий исчезает поэт, словам, сшибкой
неравенства своего призванным, уступая инициативу, дыхание человека,
приметное в древнем мифическом вдохновении, заменяют они собой,
или личностную, энтузиастическую устремленность фразы, вспыхивая
отблесками друг друга, словно цепь переменчивых огоньков на
ожерелье»7. Это заявление ясно свидетельствует о направленности против
былого помпезного стиля, все еще превалирующего в то время. Еще
откровеннее другое утверждение, сделанное с целью снять возможные
недоразумения. «Я не вижу, - пишет Малларме, — (это глубокое
убеждение мое), чтобы исчезло что-то из почитавшегося в прошлом
прекрасным; я уверен, что в обстоятельствах значительных все по-прежнему
повиноваться станут традиции торжественной поэзии, где превосходство
классическим обусловлено гением, — просто, когда не будет нужды ради
прилива чувств или любого рассказа тревожить отзвуков почтенных
покой, мы посмотрим еще, стоит ли это делать. Каждая душа есть мелодия,
и требуется ее подхватить: на то есть у всякого своя флейта или виола»8.
Флобер хочет, чтобы роман был вполне объективным, и отказывается от
всякого личного вмешательства автора, и Малларме точно так же
настаивает на том, чтобы «говорящий» поэт исчез из сочиненного
стихотворения. И все же в своих стихах Малларме никогда не отказывается от
сопряженности значения и контроля со стороны поэта.
То, что предложил Малларме, реализовал Джойс в Поминках по Фин-
негану, но совсем иначе. У него отблески слов в их сшибках сменились
* Чистая поэзия (франц.).
258
квазиавтономной ассоциацией звуков, производящей концентрацию
значений. Это служит средством передачи широкой символической сети
мотивов.
Практика вполне произвольного, неуправляемого сочетания слов и
лингвистических звуков претворилась в дадаизме, провозвестником чего
стал Рембо, для которого это было просто шутливой бессмыслицей
(соппегіе), в поэтических опытах футуристов (Маринетти33*) и в правиле
совпадения Аполлинера34*. Дада, это богатое на выдумки течение, ничем
не скованное, подвижное, искрящееся юмором, использующее все
мыслимые средства вызова, предвосхитило все то, что ныне продолжают
педантичные зануды. В Дада еще чувствуется первозданная свежесть
воинствующего протеста, скрывающего за собой поиск нового порядка, но
впоследствии оно распалось на разные направления, отвечающие
темпераментам членов этой группы. Рихард Хюльсенбек, один из основателей
дадаизма в 1916г., так описывает то, что их объединяло: «Дадаисты
(намного опережая время) были людьми, чья обостренная чувствительность
позволила им осмыслить приближение хаоса и которые пытались
справиться с ним... [Они] были творческими иррационалистами, понявшими
(скорее подсознательно, чем сознательно), что такое хаос... Они
любили бессмысленное, но не упускали из виду и то, что имело смысл»9. И для
них бессмыслица оставалась нонсенсом.
Тем временем хаос набрал полную силу, обретя сверхчеловеческие
масштабы. Поэты-«битники», продолжая бунтовать, кажется, осели в нем и
вообще придавали ему слишком большое значение. В поэзии Гинзберга,
Грегори Корсо35* и других представителей этого течения в психических,
визуальных и вербальных ассоциациях все еще живут нескончаемые
рапсодии Уолта Уитмена36*, обернувшиеся разочарованием в наше время.
4
Очевидно, что литературный процесс с конца XIX в. проявляет все
большую тенденцию к распаду лингвистической формы. Синтаксичес-
ко-рациональная сопряженность разорвана, на место конструкции
пришли контрактура и фрагментарность. И все же во всех произведениях,
к которым мы обращались, язык продолжает оставаться средством
человеческой речи. Люди говорят с людьми, а то и сами с собой.
Но в нынешних авангардистских течениях, распространившихся по
странам и континентам Запада, язык перестал быть средством
человеческого общения. Точно так же как предметы, окружающие нас, уже больше
не принадлежат человеку, но человек раболепно даровал им автономию и
власть, так и с языком обращаются как с внешним объектом, оторванным
от его человеческого проявления и значения. Это не мешает, а, напротив,
еще более способствует свободному интеллектуальному обращению с ним.
Изымание слов из их значащей сопряженности (это началось со
«свободных слов», pawle in libertä Маринетти в 1912 г.) тождественно их
отсечению от субстанции, т. е. от человеческого выражения, а то, что остается, —
это искусственная свободная ассоциация языковых единиц или смесь из
отрывочных, разорванных значений, трупов значения. Параллелью этому,
259
на уровне действительности, служат отрывочные, несвязные «события»
как таковые. В неодушевленном слове не остается ничего, что удержало
бы его от дальнейшего распада на составляющие, на слоги и буквы; да и
сами буквы уже не существуют как формальные единицы, а вдребезги
разбиваются на части их линейных конфигураций, и то, что начинается как
поэзия, кончается типографией. Тем самым поэзия переходит в сферу
визуальных искусств, где законна бессловесность, а также и бессловесная
трансзадача; все, что выходит за пределы словесного выражения, тонкие
равновесия, пропорции, пространственные формы и трансценденции и
вообще самые утонченные сообщения, находят здесь свое законченное
выражение — как, например, изначально у Мондриана37*, Клее, Брака38*,
Миро39*, а ныне у Николсона40*, Манесье41*, Виейра да Сильвы42*, Габо43*,
Биссье44* — и это лишь немногие. А остатки алфавита постлетристских
писателей сходятся с вымышленными буквенными парафразами художников
вроде Марка Тоби и Томлина, творящих под воздействием того, что Тоби
назвал «каллиграфическим импульсом».
Этот процесс развивается у нас на глазах. Он, очевидно,
соответствует процессам, ведущим к поп-арту (и к оп-арту45* в его
стереотипно редуктивной разновидности), к «точной», «конкретной» и
несложившейся электронной музыке; вообще, начиная с футуризма, границы
между разными искусствами размылись. Та же неясность человеческой
коммуникации, то же недоверие к языку значений видны в попытках
аналитической и языковой логики установить самые строгие
понятийные ограничения, в усилиях, создающих даже еще больше разрыва и
парализующей ненадежности. Героическая борьба Витгенштейна, этого
злого гения, за избавление нас от проблем закончилась вопросами, на
которые нет ответов. Все эти современные творения пронизаны тоской
по надежности математических формул, которые, впрочем, могут
гарантировать такую надежность только применительно к моделям,
теоретическим или механическим конструкциям или статическим
физическим сферам, но никогда не смогут дать полное представление о
динамически меняющихся условиях человеческого существования.
Авангардистское движение захватило все художественные сферы, и
под фанфары вселяющих трепет инноваций, гремящие повсюду, от
Бразилии до Исландии, литература увядает, превращаясь не только в
графику, но и в звуковые ассоциации и механистические классификации.
Появились «поп-стихи», «аудиостихи», «машинные стихи», «конкретная»,
«визуальная» и «фоническая» поэзия. Одна такая «аудиопоэма» (Анри
Шопен) — это поток природных и механических звуков (произнесенных
или записанных поэтом), начиная от вздохов, ворчания, щелчков и
свиста до звуков бормашины, циркулярной пилы, пароходных гудков и
летящих вдали самолетов. Поскольку предусматривается, что это
исполнение должно сопровождаться одновременным показом иллюстраций, то
это пример того, что провозглашается «пространственной поэзией»,
соединяющей фонетические и визуальные параметры (Анри Гарнье).
Известны поэтические сочинения, получившие название «топографии»,
«артикуляций», «комбинаций», «констелляций», «демонстраций»,
«тавтологий», «паралингвистических типов коммуникации» и «пермутационно-
го искусства». Известна «электронико-лирика» португальской школы,
260
летристская «меха-эстетика, интегральная и не поддающаяся
измерению», а также «программирование красоты», получившее определение
«точных удовольствий» (Макс Бензе).
J
Многие, в том числе и интеллектуалы, склонны считать эти процессы
приступами безумия, которые, должно быть, скоро пройдут. Но,
думается, они требуют очень серьезного отношения, ибо порождены
эволюционным процессом, последовательным художественным и
общечеловеческим развитием, о котором я говорил. Напомню: подавляющее
преобладание коллектива с его научно-технической и экономической
структурой, все большая неспособность индивидуального сознания
справляться с абстрактной окружающей анархией и его подчинение
коллективному сознанию, действующему анонимно и распыленному по
общественным и научным институтам, — все это сместило центр тяжести
нашего мира с экзистенциального образа жизни к функциональному,
инструментальному и механическому. В то же время гипертрофия
рациональности породила компенсирующую ее чрезмерную
иррациональность, обратившуюся к плотскому, материальному или доходящую до
абсурда. Поэтому творения авангарда являют собой странное смешение
причудливых фантазий с техническими и псевдонаучными
устремлениями. Обрывки подсознания и чувственного опыта трактуются как
призраки, но с точностью, порожденной рациональным сознанием.
Вдумаемся в аргументы, программы и эксперименты нынешних
манипуляторов «языка».
Перед нами ключевой вопрос: что такое язык; чему он служит?
Нет такой эпохи, когда язык был бы чем-то иным, чем более или
менее внятным способом выражения человека, человеческих чувств,
переживаний, мыслей, стремлений и желаний, о которых необходимо
сообщить другим. Проследить реальный генезис человеческого языка
невозможно, но вряд ли стоит сомневаться в том, что имелась насущная
взаимосвязанная потребность выражения и общения, и это развивало
язык. Ныне, впервые в истории, язык отрывается от его человеческого
источника и трактуется как нечто обособленное и независимое.
Среди лингвистических экспериментов авангарда можно выделить
три течения и эволюционные стадии, хотя при этом они сплетаются и
сливаются — это вдохновенное смешение. Общее у них — изоляция
языкового материала, а значит, освобождение от того, что мыслится
содержанием. Это течение началось с элиминации чувства, всех «эмоциональных
препон», которые якобы «искажают слова и ведут к их неправильному
употреблению». Слово якобы содержит чистую информацию, «значение
которой раскрывается через констелляцию*14, т. е. экспериментальное
сочетание с другими словами»10. Цель этого — «проникнуть за зеркало»
(attraversare lo specchiö), по выражению итальянского новатора, Альфре-
до Джулиани11, причем под «зеркалом» понимается человеческая речь.
«Существуют, - заявляет он, — некие типы механического эсперанто
воображения... которые сами по себе не могут считаться негативными или
261
позитивными, но просто фактическими; они образуют часть материала
той «гетерономной семантичности», которую предлагает писателю
эпоха... Попытки использовать умозрительный язык, претендующий на
сохранность не столько значения и возможности размышления, сколько
его нереального синтаксиса»12. Если верить Джулиани, само
воображение в наше время разорвано, «шизоморфно» и требует «асинтаксизма»
(asintattismo). Немецкий экспериментатор Гельмут Хайссенбюттель46*
идет еще дальше. Он согласен с тем, что старая «изношенная»
синтаксическая модель субъект-объект-предикат устарела и уже не способна
передавать новое, еще не понятое и только формирующееся в наше время.
Поэтому он хочет «проникнуть в самую глубь языка, взорвать его и
озвучить его самые глубинные, самые сокрытые связи»13.
Поскольку сочетание слов в предложении, построенном по
синтаксической норме, служит выражению некоего содержания, т. е.
субстрата, возникающего из человеческого источника и «сдерживаемого» не
поддающимися контролю личными обертонами, чувствами,
ощущениями, переживаниями и размышлениями, то только сочетаниям
изначально несопряженных слов дано устранить такие помехи. Но абстрагируясь
от того неизбежного факта, что даже отдельные слова могут сообщать
некое человеческое значение, вообще состоять искючительно из
разрозненных фрагментов этого значения, едва ли можно понять, как такие
сочетания несвязных смысловых фрагментов могут создавать какую-то
значащую информацию. И где же регистрируется «новое, еще не
понятое», как не в живом уме человека? Откуда возьмется новый язык, если
сам человек не приложит максимум усилий для выражения нового*15?
Такая извращенная «теория информации» возводит (вернее, как мы
увидим, низводит) на вторую стадию авангардистского движения, как
явствует из тезисов другого немецкого автора, Франца Мона47*: «Язык
моментальной композиции [т. е. композиции, не учитывающей
коммуникативное значение] достигается с помощью чисто физиологической
артикуляции в отличие от языка общения, ставшего действенным
орудием в результате обязательного повторения. В первом возможно свести
значения-оценки к такому уровню, что процесс артикуляции сам
становится знаком подлинного жеста, хотя процесс артикуляции при общении
исчезает. В моментальной композиции каждый последующий шаг
мгновенно следует из непосредственно ему предшествующей констелляции.
Органы артикуляции сами переходят из одного положения в другое»14.
Далее это объясняется так:
«Непосредственно на пороге артикуляции, проявляющейся в особом
жующем движении речевых органов, лежат элементарные слова
(Kernworte), которые, находясь по сю сторону образности, уже
проникают к нам под кожу; в них эротические и предэротические элементы
вполне конкретны; слова - это стимуляторные формы реальности,
постичь которую мы зачастую можем только с их помощью... Говорение,
как раз на пороге артикуляции, — это танец губ, языка, зубов,
артикулируемое и потому точное движение; слова, элементарные фигуры танца,
конечно, несут с собой значения, связи, тени образов, но сливаются в
отчетливое движение, которое управляется собой и только собой... Задолго
до речи губы, язык и зубы исполнили движения присвоения, разруше-
262
ния, любви и вожделения; опыт всего этого дает им знать, когда начать
складываться для говорения. Жесты при разговоре неизбежно сольются
с чертами этих элементарных движений... с этой целью они овладевают
самым текучим материалом, воздухом, сжимая, толкая, втягивая его в
попытке совершить простейшие движения, которыми полнится мир. В
этом мы — собака, свинья, бык и петух...»15
В этой концепции попытка выйти за пределы языка значений
выводит на дочел овеческий, животный уровень, в сферу ниже подсознания
(ибо подсознание предполагает сознание), в сферу, лежащую и ниже
образного мышления, в сферу, где язык состоит из жестов.
Физиологический процесс формирования речи, описанный в процитированном
отрывке, не служит тому, чтобы представлять просто стадию человеческого
развития, он мыслится вечно продолжающимся в человеке, чтобы
сформировать основу человеческого языка, где, несомненно, существуют
значения, но как бы безотносительно к чему-либо. Из этой конъектурной
реализации и увековечения эволюционного процесса делается вывод,
что значения, «тени образов», больше не управляют предложением, они
переносятся, «сливаются» в движение, которое само определяет его
смысл. Мы достигли самого низшего из мыслимых уровней ассоциаций
уже не образов подсознания и не понятийных словесных образов
(«вспыхивая отблесками друг друга, словно цепь переменчивых огоньков на
ожерелье»), не как звуковая связь значений, но как ассоциация с
помощью «телодвижений, движения самого по себе»*16.
Но человеческий язык — не оральный балет. Он начинается, что там
ни говори, с «воображения», с формирования образов, знаков, значений,
с простейшего постижения связей, со всего того, что создает условия
быть чем-то большим, чем собака, свинья или петух, с умения поставить
себя на место другого и таким образом установить связь с психической
и умственной противоположностью. Язык человека возникает из
зарождающегося сознания и движется к реагирующему на него,
корреспондирующему сознанию. Выражая что-либо, он вместе с тем имеет тенденцию
подвигать кого-то на что-то. Поэтому его движение никогда не может
быть просто самонаправленным; язык всегда направляется
необходимостью или волей человека.
Следующее представляет собой иллюстрацию концепции Франца
Мона о началах артикуляции, озаглавленной Из чего ты состоишь {Aus
was du wirst):
rakon tsiste himil kokard reche ehrest sukzess arb
hakon tris umir kott ädre rest kukt abe
acre dress umsens gorf eder kest schuga
kran drett rums gror dree kir sus
krakä dreis rirn grett erd rieh
kras erk ir egs rnd re
kars ese rir rd г
hare ids urnd hn
arr drie odt runn
tror unds
tar usd
drustar
263
Геометрическое построение этого отрывка говорит о переходе на
третью, летристскую и типографическую, стадию движения
авангардистов. Его следствия и различные проявления лучше всего видны в
статье румынки Исидоры Исоу во втором выпуске «Changing Guard» (Times
Literary Supplement, Лондон, 3 сентября 1964 г.):
«Считая, что словоупотребление в поэзии уже исчерпано, наше
движение вынесло на обсуждение более чистый и глубокий элемент
стихосложения — букву. Всецело и безжалостно отделяя фонетическую поэзию
от поэзии, пользующейся словами, создавая новую, автономную
категорию в окончательной форме, которая... должна быть всесторонне
изучена (объединяющая и рассекающая, сознательная, автоматическая и
деструктивная)... мы создали важнейшую поэтическую школу после
сюрреалистической... Наше движение предложило афоническую, или
немую, систему, в которой произносимые частицы неслышны или
беззвучны... Наше движение предложило эстапеиризм, или неизмеримую
эстетику, дисциплину... где каждый элемент существует постольку, поскольку
позволяет вообразить другой элемент, несуществующий или невозможный...
Считая, что после языкового жонглирования Поминок по Финнегану
слова, употребляемые в прозе, износились, наша школа открыла метагра-
фию или гиперграфию, которые по ходу предложения заменяют
фонетические термины «обозначениями», вводя, таким образом, в алфавитное
письмо не только искусство живописи, но и графизмы всех народов и
социальных категорий прошлого и настоящего, равно как графизмы и ан-
тиграфизмы каждого индивидуального воображения. И тогда новая
форма обогащается графологией (?), каллиграфией, всевозможными
загадками и ребусами, фотографией, возможностями оттисков печати...»
Этот документ - компендиум всевозможных экспериментальных
путей, намеченных авангардистами авангарда. Продукты их теоретических
прожектов едва ли добавляют что-то существенное к неологистическим
заявлениям, они просто совпадают с ними. И, прослеживая это течение
от стадии к стадии, мы сознаем, как каждая следующая редукция
превращается в регрессию; прогрессия представляет собой регрессию. Отрыв
языка от его человеческого источника ведет через удаление вербальнос-
ти к «телодвижениям», через постепенное разрушение языка на его
компоненты и слияние его фонических и графических свойств к
окончательному исчезновению в молчании и пустоте.
В типографическом расположении авангардистских текстов
выдающуюся роль играет пустое пространство. Это сфера, «мир», в котором
имеют место «жестовые» дислокации слов и букв. Слова, частицы слов,
буквы, неравномерно разбросанные по поверхности, на разных
уровнях, на разных расстояниях и местах, и в пустотах между ними
ассоциации, или, скорее, бесконечные потенциалы ассоциаций, ощущаются
спящими, в подвешенном состоянии. И правда, кажется, не надо даже
последних остатков буквализма, чтобы состоялись такие воображаемые
фигурации. «Клочок бумаги, - полагает Мон, - на который попало
несколько капель воды, — уже поле для чтения; тонких теней,
мельчайших следов на поверхности достаточно, чтобы сделать ее читаемой... Их
достаточно, чтобы на нас повеяло неведомыми, наводящими на мысль
артикуляциями. Во время концентрации чтения этот лист бумаги пред-
264
ставляет собой "целое", мир... координацию, которая, обладая левой и
правой стороной, верхом и низом, узостью и шириной, кривизной и
прямотой... отражает ориентацию нашего тела...»16
Это замечание наводит на мысль о философии и живописи даосизма,
где также пустоте приписываются определенные свойства. Сравнение
этих двух концепций поможет кое-что уяснить. В китайской живописи
периода Сун пустоты точно так же господствуют на сцене, «обретая
большую важность, чем предметы»17, да они и создают предметы в каком-то
смысле. Но это качество пустот, которое ощущается в китайской
живописи, это «несуществующее, в котором находится существующее», следует
из космического закона: «В глубинах хаоса кроется чудесное. /
Приподними завесу тайны — / ты, возникшее прежде неба и земли. / Ты,
безмолвное, текучее, / неистребимое в одиночестве. / Живешь повсюду без
закона. / Может быть, ты и есть мать неба и земли? Не знаю имени. / Но
напишу на шелке: Дао». И «все в мире рождается от жизни, / а жизнь
рождается из пустоты»18. Итак, здесь пустота представляет собой «творческую
целостность и потенциальность первобытного происхождения»19. Но в
нынешних условиях никакое творческое целое, никакое космическое
происхождение, никакое субстантивное значение не видится за пустотой.
Пустота, она и есть пустота. И ассоциативные возможности, бесконечно
неопределенные, растворяются в вакууме, якобы их сотворившем.
6
Авангардисты провозглашают, что их движение — то единственное,
которое соответствует нашему техническому веку, и, может быть, они
правы. Ибо и правда, их безграничная функциональность равняется
функциональности господствующей техники, преследующей недостижимые
цели конструирования и совершенствования абстрактных объектов, не
слишком задумываясь об их человеческих, т. е. не-функциональных
последствиях. Она следует линии поведения, общего для всех видов
деятельности, рассредоточенной в обществе.
Задачей искусства всегда было выражение правдивой, непознанной
реальности своего времени и внедрение ее в сознание людей. Но новое
в случае нынешних авангардистов состоит в том, что они не освещают
нашу реальность, но просто являются ее частью, ее жертвами. В отличие
от прежних авангардистов они не сохраняют стороннюю позицию,
высшую по отношению к тому, что они изображают; они больше не ведут за
собой, а плывут по течению; и то, что они создают, — это скорее
симптомы, чем творения. Кажется, это означает конец того, что веками было
известно как искусство. Насколько нынешние авангардисты являются
авангардистами, настолько они, со всем своим новаторством,
составляют часть всего того, что ныне совершается повсюду. Не берусь судить,
что именно способствовало их появлению, — это бессмысленно; но
совершенно очевидными мне представляются опасные последствия этих
процессов для будущего людей: они представляют смертельную
опасность для человеческого общения или, вернее, — для того
человеческого, что возникает при общении человека с человеком.
265
На протяжении длительного времени происходило смещение
человеческой коммуникации с общения между центрами духовной жизни, т. е.
между людьми как людьми, к общению между их функциональными
перифериями и профессиональными интересами. Это проявляется во все
большей роли, которую играют в повседневности специализированная
деятельность и труд. Что это значит, видно на примере трансформаций
разума. Сама человеческая способность разумно мыслить, обычно
называемая «здравым смыслом», расширилась и выделилась в разнообразную
научно-техническую рациональность до такой степени, что
первозданный разум стал полной противоположностью функциональной
рациональности; и в этом процессе функциональная рациональность победила
и вытеснила человеческий разум. Ученые, гуманитарии и
естественники, которые в своих исследованиях контролируют мельчайшие
рациональные операции, порой, кажется, не обладают и намеком на разум в
их частной жизни или когда перед ними встают общечеловеческие
проблемы. Физики и химики, работающие над усовершенствованием
ядерного или биологического оружия, военные проектировщики, которые,
учтя все возможные обстоятельства, уверяют нас, что при наличии
соответствующих мер безопасности в третьей мировой войне будет
уничтожено не все население земного шара, но всего лишь 60-100 млн.
человек и что поэтому ядерная война «мыслима», — такие эксперты, если бы
перед ними встал вопрос о широких последствиях этого для
человечества, ответили бы, гордясь своей профессиональной
безнравственностью: «Эти вопросы не входят в нашу компетенцию. Мы занимаемся
сугубо техническими, рациональными проблемами». Ограниченность
строго специальными задачами стала первейшим академическим
достоинством, и потому техническая рациональность служит всеобщим
возможностям, которые человеческий разум обязан считать откровенным
безумием и чудовищным преступлением против человечности.
Ныне авангардисты своим методическим отсеканием языка от
содержания человека не только действуют в том же направлении — то, что
делается невольно, они доводят до конца, превращая это в программу. Как
уже говорилось, язык, передавая некий человеческий импульс, будь то
чувство, переживание или мысль, имеет тенденцию что-то совершить,
повлиять на людей. Выражение и цель едины. Отсюда, если язык
оторван от человеческого содержания, он перестает служить целям
человека. Эксперименты авангардистов ни о чем не говорят и не имеют целью
ничего человеческого. Они создали новый вид грубого, наукообразного
l'art pour Varf. И еще более радикально, чем иная интеллектуальная
деятельность, они способствуют атрофии человеческого в людях.
7
Наконец, обратимся к состоянию и перспективам поэзии, этой самой
интенсивной формы человеческого общения в условиях нашего
времени. Авангардисты уже редко употребляют слово «поэзия», и неспроста.
* Искусство для искусства (франц.).
266
Их произведения имеют множество разных названий, самое
распространенное из которых — «тексты». Однако поэзия, подлинная поэзия,
еще существует, независимо от современных тенденций и несмотря на
все усилия разрушить нефункциональный язык. Разумеется (да иначе и
быть не может), на поэзию оказывают влияние и общий распад формы,
и девальвация человеческого чувства.
Чувство образует самую суть поэзии. Даже выражаемое ею вполне
конкретное переживание или самое абстрактное размышление, даже
самые интеллектуальные формулировки ее должны быть наполнены
чувством, чтобы передать аудитории тот особый поэтический эффект, то
интенсивное высвечивание существования, «то возвышенное, то
взволнованное ощущение бытия» (по выражению Ричарда Блэкмура), которое
ее порождает. Ныне радикальная экстраверсия, феноменальная и
психическая сложность нашей жизни и порожденные этим разнообразные
жаргоны и банальности языка привели к распылению чувства человека
на множество периферийных ощущений, своего рода изощренную
аналитическую чувствительность. Тем, кто обладает чувством языка, для
кого магия произнесенного слова вполне реальна, претят затасканные
или неправильно употребленные слова, клише, ставшие слишком
плоскими, чтобы выразить неповторимое личное переживание в
неповторимой ситуации. Девальвация слов отражается на выражаемом ими чувстве,
и тогда чувство начинает отождествляться с чувствительностью, т. е. с
напыщенным, испорченным, вымученным чувством. Неточность языка
зачастую порождает неопределенность чувства: действительно ли я
чувствую; стоит ли чувствовать?
Это процесс, под воздействием которого даже то, что еще осталось от
реального чувства, исчезает в анонимности фактического, распыляется
на мельчайшие ощущения, порожденные случайными переживаниями,
или незаметно перетекает в сатиру или в загадочно отчужденную и
сжатую метафоричность. Конечно, любое настоящее стихотворение
загадочно, ибо возникает на грани невыразимого. Но новый тип
метафорического употребления загадочен из-за отчужденности чувства, неминуемо
возникшей в результате лингвистической изощренности и
эмоциональной сдержанности.
Мы видим, что поэзия вырождается в простое фактическое
утверждение, в повествования, проклятые Малларме, и в рубленую прозу,
причем в плохую, ибо стреноженная проза не может следовать
свойственному ей ритму. К такому извращению прибегают не только бездарные
графоманы, но, случается, даже подлинные, выдающиеся поэты, такие
как Роберт Лоуэлл48*:
«Однажды осенью 1922 года
я сидел на каменной веранде дедушкиного
дома,
глядя сквозь шторы, зернисто-черные,
как сыплющийся уголь.
«Так-так, так-так» —
швейцарские часы модерн отсчитывали шаг,
часы с чуть слышными курантами
с кукушкой.
267
Рабочий цементировал склад овощей
на склоне холма.
Одна моя рука была прохладная на
черной куче земли, другая теплая,
на куче извести. Все вокруг
было работой дедушкиных рук:
снимки его серебряного рудника
Либерти-Белл;
город, где он учился: Штутгарт-на-Некаре;
сигарно-коричневые балки; золотоподобный пирит;
восьмиугольные красные черепицы,
потеющие таинственной влагой,
источенные муравьями,
плетеное кресло из Скалистых гор -
прутья, покрытые шеллаком...»
(Страницы жизни. Мой последний день с моим дядей
Деверу Уинслоу. Перевод В. Британишского)
Здесь, конечно, переданы атмосфера и аромат домашней обстановки
Лоуэлла. Но для чего было облекать это в стихотворную форму? Не будем
забывать, что такое стихотворение и что отличает поэзию от прозы: не
размер, не строки, разбитые анжамбеманом49*, но особый язык.
Стихотворение есть и всегда было сообщением, в котором подлинное вдохновение,
сиюминутный импульс переживания, будь то искра озарения,
удовольствия или страдания, естественно выражаются языком более
возвышенным, более насыщенным, более пронзительным, чем проза. Это язык,
никогда не порывающий со своим музыкальным, «лирическим»
происхождением; язык, создающий свои ритмы, размеры для которых — всего
лишь соответствующие деления. Такая сублимация языка не имеет
никакого отношения к высокопарному и выспреннему словесному поносу.
Повседневный язык и даже слэнг могут звучать возвышенно, и даже в самых
изысканных творческих новшествах язык должен оставаться аутентичным
выражением поэта, эссенцией его обычной речи, и, напротив, поэта в его
будничной жизни должна отличать врожденная способность к такой
приподнятости. Искренность или фальшь тона выдают себя безошибочно.
Поэтическую форму нельзя произвольно приложить к любому
«содержанию». То, что можно выразить прозой, не следует заталкивать в
стихи. Только то, что нельзя сказать иначе, стоит выражать стихами, и
тогда действительно получаются настоящие стихи, т. е. форма выражения
возвышенного переживания. Поэзию определяет потребность
поэтического выражения.
Это не значит, что такая насущная потребность и есть все, что
необходимо для создания настоящего стихотворения. Настоящее
стихотворение требует работы, подчас тяжелой. Валери сказал: «Хозяин дал
вам искру; от вас зависит, что вы из нее извлечете». Проблемы этого
«извлечения» (методы и стиль) следует обдумать и взвесить, но если
поэзии суждено быть подлинной поэзией, то процесс этого «извлечения»
никогда не будет бросаться в глаза, поэзия никогда не станет
выставлять себя на показ, как она зачастую делает ныне.
Во всех странах еще есть подлинные, даже великие, поэты - голоса
человечности в смятенном и коррумпированном мире. Но при всеохва-
268
тывающем слепом соперничестве науки и техники с их тенденцией
монополизировать цель человечества, не имея способности ее наметить,
дать направление всему ходу нашей жизни, можно всерьез усомниться,
сможет ли поэзия уцелеть среди «сверхумных» машин и как долго
сохранятся время и пространство и естественная почва для ее произрастания.
Мы видим, что потребность в поэтическом выражении возникает из
внутреннего бунта в угнетенных странах; еще чувствуется, как в
отчаянном бунте западных поэтов она прорывается сквозь интеллектуальные
чащобы. Но, думается, давно пора предупредить нашу молодежь о
жизненной угрозе: о повсеместном господстве сциентизма, т. е. о
наукообразной ментальности (в отличие от самой науки, ее неоценимого
значения, хотя и небеспредельной действенности); оградить их от той
господствующей тенденции видеть всю жизнь, всю действительность
вообще как комплекс поддающихся обнаружению, в высшей степени
предсказуемых и воспроизводимых «механизмов».
Мы живем в мире хаоса, в мире перенаселенном, перенасыщенном
предметами и техникой, раздираемом противоречиями и коррупцией, —
в мире, над которым нависла угроза беспрецедентного масштаба.
Всеобщая анархия усиливается по мере безгранично распространяющегося
распада всей жизни, частью которой является то, что кажется самым
ничтожным из всего, - методичная порча человеческого языка.
Накапливается масса неосвоенного жизненного материала как вне, так и
внутри нас. Думается, первоочередная задача ныне — собрать все силы для
овладения нашим миром, а значит — направить усилия на установление
сопряженности, а не на ее разрушение и рассечение. Наукам трудно это
сделать по понятным причинам: они не могут остановить все растущую
специализацию, они должны проводить аналитические исследования.
Поступательное движение материального знания требует анализа.
Наукам придется заручиться поддержкой синоптических способностей
искусства, функциями которого всегда были обобщение, выявление сути из
феноменальности, поиск интеграции с помощью интуиции, видение
вещей в перспективе и в целом. Из нового жизненного опыта, из старания
выразить его с предельной и проникновенной точностью все время
возникает новый язык.
Мастерство означает форму. Форма, создаваемая из любого
материала неторопливым, кропотливым трудом, — это последнее святилище
самовыражения человека, последний оплот против наплыва
технократических лозунгов, против нескончаемых аналитических доводов,
грозящих заглушить человеческий голос.
1962-1965
Рою Харви Пирсу
Истина, добро и красота
ι
Выяснить, какова природа трех основных ценностей человечества
(истины, добра и красоты в их многообразных проявлениях) в рамках
краткого эссе и таким образом решить комплекс проблем, к которым
обращались величайшие мыслители мира и которым было посвящено
бессчетное количество книг, — поистине, не безумная ли это попытка?
Но мой замысел как нельзя более скромен. Начну с того, что я не
буду вдаваться в субъективную часть вопроса, т. е. во все то, что эти
ценности несли людям разных эпох и стран. Исключу и
логико-лингвистический (модный ныне) подход к решаемым проблемам. Этой
стороне дела уделяют внимание множество философов в Англии, а
также в США. Некоторые их изыскания блестящи, но по большей
части они не выходят за пределы формальных предварительных
рассуждений и не касаются сути вопроса, самой природы этих ценностей.
Или, скорее, субстантивное значение этих терминов отождествляется
с их сложными логико-лингвистическими посылками, сливаясь с
ними. Смысл грозит раствориться в казуистических сложностях
логических или грамматических различий и индивидуальных позиций.
Такова специфика нынешней стадии интеллектуальной жизни. Так
обстоят дела в литературе, в визуальном искусстве и в музыке. Повсюду
основные, «тематические» проблемы сливаются с их формальным
выражением. Иными словами, то, что обычно различалось как «форма»
и «содержание», две квазичасти интеллектуальной реальности,
которые всегда были лишь двумя сторонами одного и того же, в наше
время слились воедино.
Разумеется, в этом развитии наблюдается эволюционная
последовательность, на чем мне не хотелось бы останавливаться, так как то,
что я предполагаю изложить в данном эссе, имеет несколько иную
направленность. Признавая историческую неизбежность и отчасти —
действенность этого развития, я полагаю, что, когда речь идет об этих
главных ценностях, жизненно важно не упустить из виду общие
критерии, служащие нам ориентирами, — критерии, объективно
существующие за пределами хитросплетений логических посылок и
отдельных ситуаций. Полагаю также, что человеческий язык вмещает нечто
большее, чем то, что можно постичь путем грамматического, логико-
лингвистического и даже сугубо стилистического анализа, что он
насыщен эмоциональными, умозрительными и коммуникативными
элементами, меняющимися по ходу развития и легко ускользающими от
формального взгляда.
Итак, мое намерение - просто проследить, что могут означать для нас
ныне, в современных условиях, три главные ценности: истина (правда),
добро (благо) и красота (прекрасное), как изменилось их значение со
времени их появления тысячелетия тому назад и насколько они
сохранили суть значения на протяжении веков и, следовательно, могут считать-
270
ся столь же жизненно важными для человечества, как нечто,
органически присущее человеку.
До XIX в. эти ценности считались неподвижными поитепа, и
мыслители искали с разных позиций основное значение этих вечных ценностей.
Затем открытия и опыт, главным образом, этнографов да и самых
дотошных историков послужили началу великого релятивистского переворота,
в результате которого возникла тенденция относиться к ценностям как к
простым эмпирическим феноменам, т. е. как к многообразным и
меняющимся выражениям различных культур и стадий культуры. В чем-то
схожую роль сыграли крестовые походы в истории религии, когда тесный
контакт с другой религией, столь же вселенской, как и христианство, стал
одним из определяющих элементов начавшейся секуляризации. В нашем
случае такое релятивизирующее воздействие на ценности оказал новый
научный нейтралитет, Wertfreiheit («свобода ценностей»), ученых и
историков.
В XX в. все большая сложность и анархия общества, наконец,
страшный регресс человечества от внешне благополучной сверхцивилизации к
дикому варварству (тем более дикому, что оно воспользовалось самими
достижениями цивилизации — наукой и техникой) послужили
разрушению главных ценностей. Последовавшая затем «тотальная идеология» {der
totale Ideologieverdacht), по выражению Карла Манхейма1*, и развитие
логического и логико-лингвистического анализа довершили остальное. В
результате все эти ценности мыслятся теперь как «открытые понятия».
Разумеется, невозможно упразднить наш опыт, нам никогда не
вернуться к стадии, которая исторически уже миновала. Приходится
признать то, что ценности, даже главные, оказались радикально иными в
разных обществах и что они в значительной мере зависят именно от
общественной структуры. Далее приходится признать, что наш мир — мир
динамичный, что во всех сферах человеческой деятельности происходят
необратимые изменения, затрагивающие самые основы бытия, и что не
существует никаких привычных стабильных абсолютов в старом смысле
этого слова, никаких четких, ясно ощутимых, вечно достоверных фактов,
которые можно хранить при себе как талисман. Наконец, в потоке
социальных и экзистенциальных ситуаций проявились едва уловимые
перемены в наших взаимосвязях и позициях.
И все же я берусь утверждать, что в границах человеческой
природы, настолько, насколько мы согласны с тем, что такая вещь, как
человеческая природа (т. е. особое качество, отличающее человека от
других органических форм), существует и что в границах человеческой
истории (которая есть проявление человеческой природы во
времени), — в этих границах не все претерпевает изменения. Имеется элемент
постоянства, вечно присутствующий в изменении, сотканный с ним,
как музыкальный мотив. Беда в том (таково огромное, резкое различие
между прежними и современными взглядами), что невозможно
отделить постоянное от изменяющегося, невозможно отбросить живой
исторический компонент. Постоянное неразрывно связано с
меняющимся. Это благо для конкретных качеств и ценностей народов, а также для
того, что мы называем характером человека, и, смею уверить, для
человечества, для человека как органической формы.
271
Общепризнанно, что любой индивидуум, любой из нас обладает
характерной идентичностью, что предполагает своеобразную манеру
поведения, своеобразные вкусы, привычки и линии поведения. На
протяжении жизни индивидуум проходит через разные возрасты и стадии; он в
чем-то иной, когда он подросток, зрелый человек или старик; он
меняется, проходя через жизненные испытания, и без конца соприкасается с
реальностью, — вернее, я бы сказал, осуществляется взаимодействие
внутреннего бытия с внешней реальностью. Но, претерпевая все эти
изменения, человек сохраняет свою идентичность. Каждый из нас
действует, чувствует и мыслит в сфере латентной памяти, формирующей и
информирующей его сознание, его ощущение своего «Я». Если он теряет
идентичность и это ощущение своего «Я», значит, он — душевнобольной,
а согласно последним открытиям, вообще болен физически.
Что ж, все готовы согласиться с этим, если речь идет об
индивидууме. Проблема возникает в связи с нацией. А почему? Потому что мы
выросли в атмосфере позитивизма и сциентизма, с присущей им
позицией принимать на веру только то, что можно, прямо или косвенно,
ощутить органами чувств.
Мы воспринимаем индивидуума сенсорно, т. е. непосредственно, си-
мул ьтанно: мы его видим, слышим и общаемся с ним; он существует
на нашем уровне как человек среди других людей, он — один из нас. Но
нацию невозможно воспринять непосредственно как некую целостность,
и потому весьма сомнительно, можно ли считать нацию реальной
субстанцией или же это чистая абстракция, потеп\ и это, несмотря на то,
что мы то и дело говорим о национальном характере и сталкиваемся с
ним, со свойственными нации образом жизни, обычаями и ценностями,
что мы признаем, возносим или осуждаем национальные традиции,
которые являются не чем иным, как общественной формой чувства
идентичности. Неприятие в качестве реального всего того, что невозможно
постичь или каким-то образом проверить нашими чувствами, я назвал
бы сенсуоморфизмом или (ибо грешно сочетать греческую форму с
латинской) эстетоморфизмом, своего рода антропоморфизмом2*, в каковом мы
все еще умственно пребываем.
Еще труднее, когда дело доходит до человека как целого. Хотя
невозможно не говорить о «человеческой природе», хотя известно, что род
homo sapiens* появился в приблизительно датируемый период, хотя
присущими ему физическими и умственными характеристиками он
выделяется в особую органическую форму, хотя существует соответствующий
фон общечеловеческой идентичности, а именно — история, без которой,
пусть даже люди в наши дни почти не осознают этого, ни один из наших
институтов не мог бы развиться, — все равно, человека, как правило,
воспринимают как голую абстракцию.
Концепция истории как последовательного жизненного пути
человека, как эволюции человеческой формы широко дискредитирована. Ее
дискредитировали сам историцизм и изобилие заново открытых фактов,
что смазало четкие контуры общих процессов развития и внесло
сумятицу в умы историков. Ее дискредитировала сциентистская тенденция те-
* Человек разумный (лат.).
272
оретиков истории к расщеплению потока человеческой эволюции на
истории изолированных культур и к открытию довольно смутных
«законов истории», основанных на неких фенотипических параллелях
между ними. Наконец, непрерывность человеческой эволюции
упускается из виду вследствие современного антиисторизма, пронизывающего
самые разные сферы культуры.
Все это стало возможно потому, что упускается из виду один простой
факт, внешне слишком простой, чтобы его заметили или признали в
нашем интеллектуальном сумбуре: факт изменения от неандертальца к
таким личностям, как Сократ и Иисус, Будда и Конфуций3*, Данте и
Шекспир, - не говоря уже о рациональных хитросплетениях и причудливых
абстракциях современного интеллекта в противоположность
чувственному анимизму4* древних представлений. Любое сравнение служит
неопровержимым доказательством, что со времени появления человека в нем
должна была произойти некая эволюция. А как же еще назвать это
ошеломляющее изменение?
Если мы признаем это (а как этого не признать!), то, думается,
совершенно бессмысленно рассматривать все разнообразие «культур»
(«сверхцивилизованных» или «недоразвитых», «прогрессивных» или «отсталых»
и «задержавшихся» - какой термин ни возьми, он неизбежно будет
эволюционным) на одном и том же уровне, как просто разные культуры
с разными ценностями, — как это широко принято среди современных
историков и этнографов. Это равносильно тому, чтобы приравнять
поведение детей, жизнь которых проходит на очень узком участке
окружающей среды и вкусы и предпочтения которых, перемена настроений и
привычный порядок отвечают ограниченному масштабу «эго» на ранних
стадиях формирования, к сравнительно широкой, устойчивой и
организованной сфере сознания взрослого человека. Утверждаю, что у нас есть
βηοΛΗβ надежный критерий эволюции, не только человеческой эволюции,
но и эволюции вообще (т. е. расширение масштаба, раздвижение рамок
бытия), со все большей дифференциацией, организацией и
концентрацией, со всеми сопровождающими ее вариациями и интенсификацией
жизни.
Каждый индивидуум развивается, а значит, раздвигает рамки
своего бытия до определенного момента, называемого зрелостью. Это
вершина, кульминация любой жизни; с этих пор расширение или,
вернее, способность к расширению рамок его бытия постепенно
утрачивается.
У низших органических форм, растений и животных, рамки бытия —
сугубо физические. Как только индивидуум, вид и род развился
физически, развитие и эволюция прекращается. Но человек — это не просто
физическое существо; то, на что он способен душевно, духовно и
интеллектуально, выходит за пределы возможности его физической реализации.
Так происходит с индивидуумами, с нациями, с человеком как целым.
Человеческая жизнь, жизнь индивидуумов, национальных сообществ,
человечества в целом, выставляет эмпирические и экспериментальные
аванпосты, передовые дозоры, как бы антенны, чтобы заранее
почувствовать, предугадать грядущую, более широкую реальность, а порой,
увы, не грядущую или пока еще не грядущую для конкретной формы
273
бытия. То, что мы называем идеями, проектами, планами, — это
антенны в индивидуальных умах. Те, кого мы называем великими людьми,
историческими личностями, «провидцами», играют роль таких антенн в
жизни народов и человечества.
Вот суть человеческой эволюции, а вместе с тем и человеческой
трагедии. Посредством этих духовных и интеллектуальных антенн человек
вознесся на вершину своего психического потенциала и даже выше.
Случилось нечто такое, что служит убедительным подтверждением
реальности и развития человеческой природы. Четыре культуры, четыре ветви
человечества, достигли в момент их зрелости такого расширения
масштаба, которое в то же время можно считать стандартом
общечеловеческой зрелости, т. е. они достигли самосознания человека. Во всех этих
культурах появлялись люди, взгляды которых были обусловлены разными
этническими и географическими условиями, но которые одинаково
признавали главные ценности; конечно, у разных народов эти ценности
толковались по-своему, но общим было одно — умозрительный опыт:
концепция человека как целого, человечества (просто человечества),
преодолевающего особенности этнических общностей и не
отождествляющегося с ними. Такое самоосознание, самопонимание человека
развилось в иудейско-христианской сфере у иудейских пророков и Иисуса;
оно развилось в Древней Греции у Платона и особенно у стоиков; в
Индии — у Будды; в Китае — у Великих Мудрецов. Эта главная духовная
концепция нигде не получила своей реализации, но создала концепцию
общечеловеческих ценностей и породила с течением времени
разнообразные варианты и формулировки этих общих ценностей, которые
помогают индивидуумам, общностям и классам в их попытках расширить
перспективу и улучшить образ жизни в свойственных им условиях.
Эти, казалось бы, уводящие от сути дела замечания необходимы для
предварительного доказательства того, что существует некий постоянный
элемент, присутствующий не только в каждом индивидууме и
общественной форме, но и в человеческой форме в целом, постоянный
элемент в его органических пределах; что есть определенное постоянство
главных ценностей, которое в определенный момент зрелости
превращается в широкое человеческое сознание и в дальнейшем, в историческом
процессе, сливается с изменяющимися формами согласно с
изменяющимися условиями.
Поэтому, когда жизненный опыт пошатнул веру в нерушимые
абсолюты, иначе говоря, в непреходящие ни при каких условиях субстанции
и ценности, вознесенные над нашей жизнью, незыблемые и
отчужденные, словно звезды (которые, в свою очередь, тоже утратили
незыблемость и отчужденность), когда эти прочно установленные, реальные
абсолюты исчезли с нашего интеллектуального небосклона, - все еще
остаются некие «относительные абсолюты», непреходящие в границах
конкретной человеческой формы и, стало быть, в границах человека как
целого, абсолюты, которые не являются «абсолютами» в буквальном
смысле этого слова и в древнем значении этого понятия, но которые
всегда появляются в неразрывной связи с изменяющимися условиями и
возникают вновь и вновь из этих изменяющихся условий. Это во всех
отношениях ограниченные и подвижные абсолюты.
274
Говоря об истине, добре и красоте, я имею в виду такие
относительные абсолюты, которые развились и меняются вместе с изменениями
условий и масштабов жизни человека. И я как раз собираюсь
исследовать, что же сохранилось до сих пор в этих трех понятиях от
общечеловеческого абсолюта и какую метаморфозу претерпело то, что от него
осталось, в условиях нашего времени.
Начну с добра (блага), а закончу истиной, ибо истина есть высшая
ценность.
II
Начнем с того, о чем я упомянул выше: главные ценности человека
возникли в определенный момент человеческой зрелости, на той стадии
накопления, когда в человеке проснулось самоосознание, осознание и
понимание человечества как такового, не отождествляемого с какой-
либо этнической общностью. В сфере цивилизации Запада такое
осознание появилось впервые в материальной форме всеобщего,
духовного и незримого, не имеющего ни облика, ни имени, немифологического
Бога иудеев, а он — не всего лишь один бог или некий бог, но просто
Бог. Не имею возможности в данном контексте дать детальное
обоснование этому утверждению. Достаточно напомнить, как возникла
иудейская концепция Бога со всеми ее последствиями. Заключение альянса
между Богом и патриархами и вождями Израиля говорит о том, что Бог
изначально есть Бог всех народов. Особые отношения между Ним и
народом Израиля установились посредством формального соглашения,
которое звучит как договор на законном основании (ср. Втор. 26:16-19):
возвышение даруется в обмен на особую миссию. Израиль —
«избранный» народ, поскольку он должен быть «священным» народом,
образцовым народом, «светом язычникам», народом, идущим на все
невзгоды и страдания, сопутствующие этому (Исх. 19:6 и Ис. 49-51). Точно
так же легенда о Вавилонской башне основана на нескрываемом
признании того, что человечество было едино, изначально все говорили на
одном языке и подчинялись единому Богу. Таково начало. Вывод же
содержится в основных заповедях. «Возлюби ближнего твоего как
самого себя» (Лев. 19:18) и полнее: «Пришлец, поселившийся у вас, да
будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя» (Лев. 19:34). Эта
заповедь — одна из древнейших частей Ветхого Завета. И в ней не
только предстает ясное различение и преодоление этнических
особенностей — различение для преодоления этих особенностей, ибо
предполагается, что и еврей, и пришлец как люди равны, но в то же время это и
первая общая интерпретация добра — добра, для которого не существует
никаких особых иератических, социальных или практических целей,
понятие добра, которое существует как основа подлинного
христианства на протяжении всех последующих веков.
Но это все еще религиозная заповедь. В свободной, светской форме
три ценности, о которых идет речь, впервые появились на Западе как
чисто человеческие ценности у древних греков. И в этом генезисе
заметны два важнейших обстоятельства. Во-первых, эти три ценности появля-
275
ются в унисон, они по сути составляют единство', и над всеми ними
витает этический обертон. Во-вторых, они не только сами по себе едины,
но и едины с космическим поиском — поиском природы природы.
Фактически, они зародились в космической проблеме. Здесь отчетливо виден
импульс к началу осознания человеческих ценностей; ясно видны корни
этического мотива.
Древние греки были весьма живым, любознательным, светским
народом, чувства которого были широко открыты разнообразию жизни,
но они все же пребывали под первозданными чарами религии.
Фактически, историческое достижение этого народа можно видеть прежде
всего в освобождении человеческого ума от религиозных шор. И
первым актом этого освобождения была досократовская трансформация
религиозного абсолюта в космический. В досократовской философии
появляются новый взгляд на разнообразие природы, новый опыт
изменения в человеческой жизни, сталкивающийся с глубоко
укоренившейся потребностью стабильного, вечного порядка. Досократовская мысль
в основном стремилась примирить это расхождение между вечным и
неизменным, которое понималось как истина, лежащая в основе всего
существования, и явным смещением и многообразием жизни, которое
воспринималось лишь как внешнее проявление и обман чувств,
вернее — как грех и вина (adikia) смертного создания. Частное и
временное ощущались как вероотступничество физического существа; а поиск
всеобъемлющей космической субстанции и закона, связующего
разнообразие феноменов и присущее им единство, кажущееся изменение и
подлинную вечность, — этот поиск вели не только для познания
истины, но и для оправдания и спасения. Здесь можно видеть, с одной
стороны, более светскую параллель с проблемой иудейского монотеизма,
борьбу за согласование зарождающейся свободы, зарождающейся
человечности индивидуума с единством и гармонией божественного
порядка; с другой стороны, в досократовской мысли в неразвитой,
первобытной форме уже содержатся все основные проблемы современной
философии, современной науки и современной этики.
В этих коцепциях истина и благо едины и мыслятся неподвижными,
неизбывными абсолютами. Евклид из Мегары5*, ученик Сократа и
основатель Мегарской школы, отождествлял благо с просто существом, с
единством, с основным и неизменным космическим законом. Для Платона
благо — основа бытия, и как таковое — megiston mathema, высший предмет
познания. Идея Блага, говорится в Государстве, «придает познаваемым
вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать». Это
«источник знания и истины»1. В Тимее demiourgos*, сам Творец, преданный
благу, «пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему
самому»2. Эти концепции живы у стоиков и Цицерона; и у неоплатоников,
а впоследствии в средневековой христианской мысли благо и истина
снова, как и в древней традиции, воплощались в Боге, в Его духе, в Его воле.
Итак, первое, начальное значение блага в светской форме — это в
высшей степени абсолют как таковой, абсолютность, т. е. единство,
неизменность и суть.
* Демиург (др.-греч.).
276
У Аристотеля связь между вечной стабильностью и изменением
стала сложнее и гибче. Она представала как своего рода
взаимопроникновение, при котором, впрочем, все еще сохранялись первичность
и неуловимость божественного. По учению Аристотеля об энтелехии
(entelecheia), субстанция всего существования есть форма. Форма —
это врожденный принцип, божественное происхождение и
одновременно цель и результат любого конкретного бытия. Любой человек
потенциально несет в себе присущую ему форму и должен сделать ее
реальной, довести до совершенства при жизни3. Утвердилась
многосторонняя дифференциация и возникла тонкая иерархия блага - от
блага в индивидууме, что есть совершенство его особой природы, и до
высшего божественного блага, высочайшего из всех доступных благ (to
panton akrotaton ton prakton agathon). И в этой иерархии общее благо
имеет преимущество перед частным. Благо тем более ценно, тем
более оно есть благо, чем более оно постоянно и более всеобще4, - и
этим подтверждается, что психическое и духовное благо
предшествует физическому.
Здесь возникает второе значение. Благо — это всеобщее, все более
всеобщее, вплоть до вполне всеобщего, благо всех. В этом понятии
Аристотеля содержится то, о чем говорилось выше, — что эволюция, постепенный
подъем, идентична расширению масштаба.
Но в учении Аристотеля имеются и другие новые значения блага.
Древние греки пока еще размышляли не ради размышления, но с
прагматической целью — чтобы найти направление поведению, узнать, как
жить достойно, в процветании, с удовольствием. Даже vita contemplativa,
жизнь в созерцании, которая восхвалялась как высшая форма жизни, ни
в коем случае не означала того, что ныне называется «жизнью,
положенной на алтарь науки». То была высочайшая форма жизни, ибо она
высвобождала все человеческие способности для поиска жизни,
исполненной смысла, на «труд души» (psyches energeia). Итак, с самого начала
благо было для древних греков одновременно chresimon и ophelimon, по
выражению Сократа, в буквальном переводе «полезное и целостное»,
что, впрочем, вовсе не передает полного значения греческих слов. Сюда
лучше подошли бы выражения «добропорядочная жизнь», «достойный
образ жизни». Для древних греков, и особенно для Аристотеля,
«добропорядочная жизнь» была жизнью в смысле eudaimonia; и опять-таки это
по сути означает не «счастье», но жизнь в согласии со своей судьбой и
нравом, с Богом в дарованной ему форме, которую каждый должен
довести до совершенства, и, наконец, в согласии с космическим порядком,
разумным порядком божественной природы*17.
Стало быть, в этом третье значение блага: согласие, гармония с
собственной сущностью и гармония личной природы с порядком природы как
целым. И этот вариант вновь проходит сквозь века: мы находим его
выражение не только у стоиков, Сенеки6* и Марка Аврелия7*; понятие
autarkeia, «самодостаточность», у последнего отражает сходное понятие
внутренней гармонии и целостности; в Средние века об этом говорили
Альберт Великий, Фома Аквинский, а позже Суарес8*; его следы еще
заметны у итальянских мыслителей эпохи Возрождения (Патрицци9* и
Бруно), у Лейбница и Шефтсбери10*.
277
Точно так же как иудеи представляли себе «Единого и Предвечного
Бога», неразрывно слитого с духом и противопоставленного ощутимым
сдвигам и разнообразию, так и для древних греков субстанция Вселенной,
закон космического порядка был духовным и непостижимым чувством.
Все же у древних греков «дух» приобрел характер «разума», возникшего в
результате полного, т. е. светского, развития осознания своего «Я». Бог
Израиля все еще оставался подсознательной проекцией побуждения к
единому человечеству, зарождающемуся понятию идентичности человека.
Внимание древних греков ко всеобъемлющему духовному абсолюту
привело к сознательному, тонкому изучению действия человеческого ума, а ум
представлялся микрокосмическим отражением Вселенной. Поиск
духовной согласованности космоса был тождествен поиску согласованности
человеческой мысли, ее способности постичь истину с помощью майевти-
кии* Сократа, диалектики Платона и логики Аристотеля.
Христианское осуждение земной и плотской жизни привело к
отделению духа, и постепенно, когда господство догмы рухнуло,
человеческий разум перенял от божественного духа руководство миром в умах
людей. Тогда добро стало отождествляться с рациональным. Например, в
Этике Спинозы добро зиждится только на разуме. Добро — это то, что
ведет нас к высшему познанию, то, что способствует утверждению
рационального образа жизни, единственного образа жизни, достойного
человека*18. «Под добром я буду разуметь, — говорит Спиноза, — то, что
составляет для нас, как мы наверное знаем, средство к тому, чтобы все
более и более приближаться к предначертанному нами образцу (exemplar)
человеческой природы... то, что увеличивает нашу способность к
действию или уменьшает ее»*19. Иными словами, добро способствует
достойной и продуктивной жизни человека. В этом Спиноза предвосхищает
современное толкование Эриха Фромма, для которого добро
тождественно жизненно продуктивному. А это — четвертое значение блага.
Ставя акцент на рациональном образе жизни, Спиноза вводит в свое
понятие блага новую социальную коннотацию (пятое значение блага), а это
фактически есть ранняя неимперативная формулировка категорического
императива Канта. Благо, говорит Спиноза в другом месте Этики, — это
то, что «всякий следующий добродетели желает и другим людям того же
блага»*20. В известном высказывании Канта об императиве (их несколько)
нам, наконец, предстает современная версия интерпретации блага
Аристотелем как «всеобщего, все более всеобщего», которое и есть
рациональное. То, что у древних греков еще выступало как врожденное
желание человека, желание самого сокровенного, то, что даже Спиноза
еще формулировал как желание, ныне стало долгом, диктуемым
нравственным законом: «Поступай так, чтобы принцип твоей воли мог в
любое время служить принципом всеобщего законодательства»; в другом
варианте это звучит даже так: «естественного права»5. Это отражает
современный разрыв между естественным и рациональным, между личной
погоней за частными материальными целями и полностью развитым
«коллективом» — государством. Греческий полис был не коллективом, а
общностью, причем небольшой; и хотя всегда существует несоответствие
между целями индивидуума и целями общности, афиняне и спартанцы
гораздо больше участвовали в делах своей общности и глубже вникали в
278
них, чем современный гражданин вникает в дела своего коллективного
государства.
Разница между формулировками Аристотеля и Канта высвечивает как
постоянство, так и изменение значения блага. Она показывает, что не все
изменилось, что что-то сохранилось, но не могло сохраниться как
стабильная, неподвижная форма. В самом деле, все различные перечисленные
здесь значения блага (а это действительно основные толкования, которые
прослеживаются с древности до наших дней), все эти разнообразные
значения имеют нечто общее, вернее, совпадают в одном едином мотиве.
Напомню. Вот они: 1) религиозная заповедь любви среди людей,
просто людей, которая предполагает мир, доброту, великодушие,
сострадание; 2) субстантивность, сущность, единство', 3) всеобщность, развитие
всего, что предполагает накопление, а отсюда — использование высших
рациональных способностей человека, без которых не было бы
накопления; 4) eudaimonia, гармония с собой, своим внутренним миром и
порядком природы как целостности; 5) продуктивность, продолжение жизни.
Все эти значения блага, выражая разные оттенки и аспекты, тяготеют к
одному и тому же основному значению: единство, целостность, гармония
жизни. И фактически учение буддизма (исконного или дзэн-буддизма) и
китайское учение дао оказываются, так или иначе, очень близкими к
этому основному значению.
Вот то, что сохранилось. Но очень многое изменилось; да, то, что
сохранилось, может быть приемлемым для нас только в измененной
форме. Задавая вопрос, что сегодня для нас значит благо, в какой форме оно
приемлемо для нас ныне, приходится отрывать понятие и от его
эмоционального, и от чересчур интеллектуального, чересчур аналитического
аспектов. Первый, эмоциональный, слишком смутен, а второй
превращает данную ценность в простую казуистику.
Любовь, конечно, — благо и благословление, она — лучшее из того,
что есть на земле. И все же по сути ее нельзя назвать благом. Даже в
былые времена, когда дело касалось преимущественно отношений между
индивидуумами, любовь была чем-то большим, чтобы требовать от нее
блага, а на то, чтобы творить благо, ее не хватало. Благом можно считать
цель любви, а не самую любовь, т. е. чувство, неподвластное никаким
приказам и волеизъявлениям. Если принять Алешу Карамазова за
образец человека, возлюбившего благо (человека, который по своей
природе так добр и так лично отстранен, чтобы любить человека как
человека, невзирая на личную привлекательность и личные недостатки), то этот
образец христианина свидетельствует, как много требуется знания,
понимания, чувствительности и сопереживания, даже между
индивидуумами, чтобы превратить любовь в подлинное благо.
Но тем временем благо перестало быть делом просто двух
индивидуумов или даже индивидуума и реальной общности индивидуумов, что
стало довольно редким явлением. В структуре нашего общества
произошло коренное изменение, врезавшееся глубоко в природу
человеческих отношений. То же эволюционное расширение масштаба, которое
вознесло человека на вершину личности, привело его в дальнейшем к
коллективу, грозящему уничтожить личность. В наше время, когда
индивидуум как человек стоит перед лицом подавляющих коллективов, рас-
279
щепляющих его и представляющих угрозу самому его существованию,
благо как никогда оказывается целью, требующей работы интеллекта.
Главная задача — создание условий, при которых человек сможет
остаться человеком. Благо все еще тождественно всеобщему и целостному с
позиции широчайшего масштаба, но это предполагает ныне, помимо
мира и гармонии, трудный процесс преобразования мира замкнутых,
функционально мыслящих коллективов в человеческое общество. Ныне
поиски блага требуют от человека чего-то большего, чем быть добрым
человеком; они требуют порыва ко всеобщему и целостному вкупе с
ясностью ума и способностью постичь целостность. Это означает
непрерывные усилия, непрерывное преодоление хитросплетений форм и
преград, чтобы не погрязнуть в непреодолимых трудностях коллективной
жизни и функциональных издержках специализации; короче говоря, мы
должны неустанно думать об условиях жизни человека, чувствовать свою
ответственность за нее, не быть равнодушными.
ш
Как уже говорилось, три человеческие ценности, о которых здесь идет речь,
были для древних греков по сути единством; благо было истиной и благо
было красотой. Благо предполагало единство, целостность, гармонию,
гармонию с самим собой и с порядком космоса. И следует помнить, что
понятие «космос» означает не просто Вселенную, но и порядок как таковой,
форму, украшение («космос» и «косметика» — однокоренные слова).
Соответственно, человеческий идеал древних греков, греческий
идеал «джентльмена», по выражению Вернера Йегера12* (по-моему,
несколько анахроничному), был kalokagathia, красота-благо, «высшее единство
всех совершенств».
Если понятие блага, независимо от присущей ему сопряженности на
протяжении веков, выражается весьма многообразно, то понятие
красоты как объективной ценности представлено главным образом только в
трех вариантах, которые опять-таки указывают на одно и то же основное
значение. Первое— это обычная гармония «taxis, symmetria kai to
horismenon», по определению Аристотеля в Поэтике, «порядок,
симметрия и связанность», которые нельзя преступить или изменить в каких-то
деталях, не нарушив целостности. Второе было высказано Платоном:
кроме того, что он тоже ставил акцент на гармонии и симметрии*21, он
определял красоту как «сияние идеи в чувственном проявлении»6. Гегель
парафразировал это толкование, называя красоту «чувственной
видимостью идеи» (das sinnliche Scheinen der Idee)1. Первый вариант, можно
сказать, подчеркивает гармонию в измерении широты, т. е. гармонию среди
видимых частей внутри некоей целостности, второй подчеркивает
гармонию в измерении глубины, т. е. гармонию между феноменальным
проявлением целостности и глубинным, сущностным бытием, скрытым за ней.
Вся европейская традиция вплоть до XIX в. определяла красоту как
гармонию, впрочем, по-разному парафразируя ее*22. Гармония,
соотношение и взаимозависимость всех частей целого, есть не что иное, как закон
органики, и как таковая она эквивалентна единству и целостности.
280
Но впоследствии возник третий вариант, в котором
подчеркиваются активизирующие влияния на две другие, и, таким образом, в нем
мобилизуются, динамизируются старые понятия. Этот вариант лучше
всего выразил Гёте, сказавший, что прекрасным мы признаем «закономерно
возникающее порождение жизни (das gesetzmaessig Lebendige) в состоянии
величайшего напряжения всех ее творческих сил, а значит, и в ее
совершенстве. Порываясь его воспроизвести, мы и сами ощущаем в себе
полноту жизни и прилив высокой дееспособности»8. Этот упор на
усиливающее жизненность творческое качество красоты перекликается с
толкованием Спинозой блага как жизнетворной, действенной силы, как
то, что «увеличивает нашу способность к действию».
Эти три по сути родственных значения красоты стираются из-за
небрежного употребления в быту слова «прекрасный», когда его относят ко
всему, что нравится нам в природе, в искусстве, в повседневности, и
никто не осознает подлинного значения этого слова. Например, говорят
о «прекрасном стейке», подразумевая под этим его вкус. Или называют
прекрасным платье, потому что у него необычный цвет или
сногсшибательный фасон. Но не исключено, что платье в самом деле может быть
прекрасным, если оно изящно подчеркивает достоинства фигуры и,
более того, особенности личности. Таким образом, платье может быть
продолжением, дополняющим достоинства фигуры или лица, которые
сами по себе могут быть названы прекрасными не просто благодаря
каким-то правильным чертам или пропорциям, но потому, что в каждой
линии выражаются духовность и глубокое чувство; иными словами,
следуя толкованию Платона, благодаря «сиянию идеи человека в
чувственном проявлении».
Что касается природы, то прекрасное в ней вовсе не означает только
гармонию пейзажа, напротив, порой как раз дисгармонию,
романтическое излишество и экспрессивность, первозданное величие природного
пейзажа. В целом смутно бытующее ощущение «красоты» природы
изобилует эмоциональными обертонами. Одним людям, обуреваемым
душевными волнениями или просто уставшим от суматохи современного
города, «прекрасным» покажется спокойный, идиллический пейзаж;
другим захочется раствориться и расслабиться в ощущении
бесконечности, и для них явления природы будут «прекрасными» уже потому, что
им присуща таинственная, несоразмерная необъятность.
Однако не только эта небрежность речи затуманивает изначальное
значение прекрасного, но и глубокие изменения в нашей жизни,
произошедшие со времен античности и классицизма. Наша жизнь, отражаемая
и проецируемая в искусстве, прорывается сквозь традиционную
симметрию, расширяется и углубляется. Пропорционально тому, как мир
индивидуумов и личных отношений сменился миром сверх- и
трансиндивидуальных параметров, действительность, с которой приходится иметь
дело искусству, вышла за пределы реальности наших обычных
ощущений; она намного переросла уровень форм и объектов нашей
феноменальной жизни. Науке стали доступны глубины человеческой психики и
размах современной коллективной жизни и далее — природа
феноменальности и тональности, а это привлекает все больше разных
элементов реальности, что неизбежно означает распад старой гармонии, стало
281
быть, дисгармонию*23. В ускоренных ритмах нынешней жизни мы
чувствуем, что нас в гораздо большей степени вдохновляют эти новые
динамические дисгармонии и открываемые ими прозрения и эмоции, чем
устаревшие статичные гармонии. Прекрасное для нас уже не статично,
оно обрело динамику. Самое распространенное значение прекрасного
содержалось в определении Гёте, согласно которому мы признаем
прекрасным закономерно возникающее порождение жизни, дающее нам
самим ощутить в себе полноту жизни и прилив высокой
дееспособности.
Но при этом, наслаждаясь живой экспрессивностью первозданных
творений, мы ощущаем превосходство тех произведений искусства, в
которых диспропорции и диссонансы сопрягаются в некую новую
систему соответствий, в которых дисгармония поглотилась более богатой и
глубокой, более всесторонней гармонией. Вспомним о таких
достижениях, как Улисс Джойса и самые совершенные произведения Ван Гога,
Матисса или Брака и Пикассо. Действительно, такие творения Джойса и
Пикассо (особенно периода Герники13*) и родственные им произведения
других художников открывают новое измерение гармонии, некую межуров-
невую гармонию, гармонию разных уровней существования, новое сияние
идеи в чувственном проявлении, при котором феноменальный мир как
бы обретает метафорическое звучание. Эта межуровневая гармония
достигается новым способом символизации, более многообразной и
сложной совокупностью символов.
IV
Наконец, обратимся к истине, которая также есть некая гармония или,
скорее, различные виды гармонии: гармония, или согласие мышления и
бытия, мышления с жизнью, мышления с самим собой; или видимости
с реальностью, языка с реальностью, предположений с реальностью —
вот приблизительно толкования истины, пронизывающие философские
теории от античности до наших дней. Давно ведется полемика
относительно того, существует ли истина как объективный, вневременной
абсолют, независимо от нашего сознания и мышления, или же истина
существует лишь постольку, поскольку ее можно осмыслить. Понятие
абсолютных, вневременных истин, конечно, принято всеми теми
мыслителями, которые верили в то, что эти истины от Бога. В наш
секуляризованный век эта проблема стала чисто эпистемологической.
Абсолютное существование истины, последний оплот абсолюта, отстаивают
Больцано14*, Гуссерль15* и Николай Гартман16*. Но в целом для наших
дней более характерны номиналистические, релятивистские и
формалистические концепции17* истины.
Имеются промежуточные позиции между этими крайностями, как,
например, позиция Аристотеля, для которого истина пребывает в наших
мыслях, но не делается истиной посредством мышления — скорее, мы
думаем о ней, потому что она истинна. Эта позиция берет начало в
первичном, досократовском понятии, что истина идентична абсолюту,
собственно субстантивному существованию, которое можно постичь толь-
282
ко умозрительно. Впоследствии Декарт также допускал, что вечные,
основные истины, математические аксиомы, или notiones communes,
созданы Богом, но гнездятся в нашем уме.
Не могу углубляться в эти противоречивые суждения, ибо должен
ограничиться краткой характеристикой четырех различных форм истины,
которые представляются мне основными; подчеркну сразу, что, на мой
взгляд, истина - нечто большее, чем просто реальные эмпирические
связи, и нечто большее, чем сугубо формальные, логические или
лингвистические, связи, к которым ее повсеместно свели философы нашего
времени; кроме того, она есть экзистенциальное состояние, вот поэтому,
прежде всего, она и становится ценностью.
Существуют четыре формы, в которых заявляет о себе истина. Во-
первых, точность, согласие утверждения с фактом: Авраам Линкольн
родился 12 февраля 1809 г. и был убит человеком по имени Джон Уилкс
Бутс 14 апреля 1865 г. Второе — логическая сопряженность,
согласованность одного предложения с другим внутри данной системы или
математической теоремы с ее доказательством; или, в кантианском смысле,
согласованность мышления с априорной структурой (или законами)
мышления. Вот простейший пример силлогизма: животное, рождающее
детенышей и вскармливающее их молоком, — млекопитающее. Кит
рождает детенышей. Следовательно, кит — млекопитающее. Конечно,
этому элементарному примеру далеко до хитросплетений и парадоксов
современной логики, которая заставляет все больше задумываться,
является ли вообще реальным этот чисто логический вид истины, или,
вернее, может ли этот чисто логический тип изысканий помочь в
постижении реальной, динамичной сложности истины. Третья форма
истины - подлинность, согласие видимого предмета, высказывания или
существа с его происхождением. Здесь значение истины начинает
выходить за рамки чисто формальных связей. Формальной она может
оставаться тогда, когда речь идет о чистом золоте, о подлинном документе
или об оригинале Рембрандта. Но значение становится намного
глубже, если приложить критерий подлинности к человеку, к его взглядам,
поведению, языку и уж, конечно, — к стилю и художественному
выражению. В этих связях истина приобретает существенное,
экзистенциальное значение; она становится качеством и ценностью. То, как
человек выглядит, говорит и ведет себя, отражается на самой его натуре, и
то, как согласуются его внешность и выражение с его чувствами и
бытием, влияет на его способности, окрашивает, вдохновляет или портит
их. То, о чем я говорю, не есть или не обязательно есть вопрос
намерения, пусть и подсознательного; вопрос не просто в том, лжив ли
человек, вопрос в том — фальшив ли он. Он может быть вполне надежен
в смысле утверждений факта, но ключевой вопрос в том, достаточно ли
в нем жизненной энергии, чтобы сохранить чистоту,
непосредственность и сиюминутность его отклика или ему приходится идти на то, что
предлагают условности и обстоятельства.
Это относится ко всем интеллектуальным уровням. Но в наш век
быть экзистенциально истинными, т. е. верными себе, оказывается
легче самым наивным людям. Дети (если только им позволено
оставаться детьми, и амбиции их родителей не стимулируют аффектации)
283
естественно истинны (как животные), потому что целиком живут
моментом, не заполненным воспоминаниями, проектами и
заботами; они живут спонтанно, в непосредственной близости к
источникам жизни, из которых они вечно воспроизводятся заново. Можно
видеть такую экзистенциальную истину и среди простых захолустных
крестьян, которые не в той мере, как искушенные люди,
подвержены подавляющему вмешательству сложной цивилизации. Гораздо
больше жизненной силы необходимо, чтобы поддержать цельность
личных реакций на воздействия влияния городской и
интеллектуальной жизни. Эти воздействия стали такими сильными, что подчас
приводят к полному забвению своего «Я», которому должен быть
верен человек. Один мой друг, психотерапевт, рассказывал, что то и
дело его пациенты обращаются к нему с чудовищным вопросом: «А
что я должен почувствовать?»
Тонким мерилом подлинности является язык, который изобретается
и созидается только на самом низком и на высочайшем
интеллектуальном уровнях: детьми и иногда простонародьем, а с другой стороны,
великими художниками и поэтами. То, что отличает настоящего художника
от эпигонов, — это никоим образом не качество его стиля и образности
как таковой; это прежде всего непосредственность и оригинальность его
языка, оригинальность в буквальном смысле этого слова, т. е. владение
собственным языком. Такая оригинальность — результат сильного и
невозмутимого личного отклика на жизнь. Способность истинного
художника делать то, что он делает, зиждится на том, что он не может делать
иначе.
Очевидно, что ценность так называемой экзистенциальной истины
связана с эстетическими и нравственными ценностями. Именно это
осталось от античной eudaimonia, от жизни в согласии с собственной,
Богом данной формой, которую каждый должен довести до совершенства
и в которой точно так же соединяются истина, добро и красота.
Но eudaimonia означала согласие не только с собственным личным
положением, но и с космическим порядком, который признавался
стабильным абсолютом. Но космический порядок перестал быть таким
абсолютом для нас, ибо возникло сомнение, представляет ли собой Вселенная
вообще некий сопряженный порядок. Полагаю, что так или иначе
представляет, ибо в противном случае вряд ли можно понять любое
сопряженное существование. Во всяком случае, Вселенную уже нельзя
рассматривать как стабильный порядок; она оказалась порядком динамичным, и
наши знания о ней тоже динамичны и подвержены непрерывному
изменению. Это сильно влияет на характер истины, тем более что под
сомнение ставится стабильность фактов — по крайней мере, их значение в
связи с контекстом. Знание есть нечто большее, чем нагромождение
несопряженных и преходящих данных, знание — это всестороннее
понимание действительности в ее целостности; а действительность, взятая как
сопряженный комплекс и предмет знания, обнаруживает свою
подвижность и неуловимость. Наше знание постоянно в движении, и истина
кажется тождественной тому пределу, которого в то или иное время достигло
наше знание мира и самих себя. Итак, кажется, что оно связано с эпохой,
поколением, вообще с преходящим состоянием коллективного созна-
284
ния, ибо ни один отдельный ум не способен охватить всю неустойчивую
сложность, составляющую в любой момент наше знание.
Следовательно, согласие с космическим порядком, высшей мерой
истины, уже недостижимо для нас, и это трагическое предзнаменование.
Поэтому все, что, как кажется, осталось нам от экзистенциальной
истины, — это личная подлинность. Но помимо религиозных истин, «истин
веры» (если согласиться с таким термином), нам предлагают на выбор два
критерия трансперсональной истины: один — экзистенциалисты, которые
свели всю доступную достоверность к ощущению простого существования
одиноких, забытых людей, и это последние, жалкие остатки античного,
элейского абсолюта18*; а другой выдвигают прагматики, которые,
динамизируя, функционализируя истину, приспособили ее к подвижности и
изменяемости нашего знания. «И истина, и заблуждение, — говорит
Ф.К.С. Шиллер19*, — лишь эпизоды в прогрессивном развитии знания и
уже не состоят в непримиримой вражде друг с другом»9. Отсюда,
согласно Ралфу Бартону Перри20*, «идея истинна, когда она действует, т. е.
когда она успешна, когда осуществляет свою функцию или выполняет то, что
от нее требуется»10. Таким образом, истина становится коллективным
орудием, «действующей ценностью», как говорят инструменталисты21*. Это
представляется мне окончательным отречением от величественного
экзистенциального значения истины. Единственная релятивистская
интерпретация истины, сохраняющая свое экзистенциальное качество (впрочем,
лишь в узкосубъективном смысле), принадлежит Гёте: «Когда мне
известна моя связь с собой и с внешним миром, — говорит он, - я называю это
истиной. Поэтому у каждого может быть своя истина, и все же она всегда
одна»11. Это глубокая мысль, вполне приемлемая в отношении личной
подлинности, но она ведет дальше к следующему выводу, который звучит
как предзнаменование прагматической концепции: «По моим
наблюдениям, истинна идея, которая плодотворна для меня, которая увязывается со
всем образом моего мышления и в то же время есть продолжение меня»12.
«Истинно лишь то, что плодотворно и созидательно (Was fruchtbar ist allein
ist wahr)»13. Это понятие истины потрясающе согласуется с
представлением Гёте о прекрасном как о том, что усиливает нашу способность к
действию. Но применительно к истине та же идея может оказаться весьма
опасной, поскольку экзистенциальное значение истины может
смешиваться с ее фактическим значением: личная подлинность предстает
оправданием претензии на сверхличную действительность, говоря об обратном:
истинно то, что является моим продолжением в человеческом или
интеллектуальном отношении.
Таким образом, вероучение, которому человек следует по
склонности или потребности, может иметь видимость общечеловеческой
мудрости, гарантирующей eudaimonia верующему. Есть прирожденные
католики и прирожденные пуритане- люди, в которых конкретные
религиозные установления вошли, передаваясь от поколения к
поколению, и сформировали все их мышление и образ жизни. Храня верность
себе, такие люди чувствуют себя в согласии со сверхличностной
доктриной, которая сформировала их, защищает и «ведет вперед». Но в
наше время, когда рационально проводимый эмпиризм превратился в
основной фактор всеми признанного знания, все догмы обрели
285
субъективный характер. «Истины веры» стали конкретными
предположениями, они зиждутся на верованиях, которые не согласуются с
нынешним уровнем интеллектуальной жизни. Стоит только верованию
уклониться от какой-то части реальности, как оно теряет свою
общечеловеческую значимость, а если и узурпирует широкий авторитет, то,
вступив в противоречие с бытующей реальностью, может представлять
опасность для экзистенциальной истины верующих. Оно может даже
(примером чему служит нацизм) заставить их совершать чудовищные
преступления и развязать всемирный катаклизм.
Такая претензия на произвол раскрывает четвертое значение
истины: истина — это также социальные условия. Любой живущий в
тоталитарном государстве знает, что значит жить в атмосфере лжи. И даже
здесь, в Америке, в современных общественных условиях, нас
окружают ложь и фальшь. Неимоверно трудно сохранить свою
экзистенциальную истину, подлинность своей личности, если живешь не в
атмосфере социальной истины, но под подавляющим экономическим или
идеологическим гнетом, вынуждающим служить лжи.
ν
В заключение кратко остановимся на взаимосвязи между этими тремя
ценностями — истиной, добром и красотой. Нам известно, что они
возникли в единстве, столь тесном, что составляли почти неделимое целое.
Но не только в древности, но и в современности мыслители и поэты
утверждают единство или, по крайней мере, тесную взаимосвязь отдельных
или всех трех этих основных ценностей. Шефтсбери и Шиллер
подчеркивали их единство; Кант и такие поэты, как Ките22* и немецкий
романтик Новалис, связывали прекрасное с истиной.
Все три ценности возникли в процессе поисков сущности и порядка
в космосе и истинной природы бытия. Этот приоритет истины
сохранился на века; истина все еще предстает как архиценность, как то, на чем
держатся все ценности.
Без истины нет блага. Не отрицаю, в некоторых случаях, может быть,
нужно солгать из гуманных соображений, но основой добропорядочной
жизни и жизни во благо ложь служить не может. Доктринер Грегерс
Верле в Дикой утке Ибсена портит жизнь семьи, разоблачая
«экзистенциальную ложь» Ялмара Экдала. Но идея пьесы — вовсе не защита
экзистенциальной лжи. Ибо причина трагедии — не уколы, наносимые
лжи, но сама ложь, фальшь и неспособность любить, присущие
напыщенному, самодовольному Ялмару; это шаткость и бесплодность жизни,
построенной на лжи. Связь добра с истиной — это стержень
произведения Ибсена: нравственная агония, шаткие критерии истины в его время
и мстящая ложь. В частности, в наших нынешних условиях, когда
добро уже не отождествляется просто с добротой к ближнему, но требует
знания и понимания обстановки в целом, невозможно творить добро,
забыв об истине.
Связь между добром и красотой оказалась более проблематичной.
Красота и добро, воспринимаемые древними как единое целое, превра-
286
тились в процессе современного развития в противоположности.
Протестантский пережиток христианства в нравственном просвещении,
ископаемая условность среднего класса XIX в., и, наконец, исчезновение
ценностей в войнах и кризисах XX в. — эта цепь условий стала
причиной интеллектуальных бунтов. Началом был романтический культ
«поэтического», предлагающий уход от буржуазной серости. Реакция
против увядшего и уже не настоящего романтизма приняла форму
различных течений искусства для искусства, реалистических или
символистских, исповедуемых Флобером и Бодлером23*, Малларме и
Оскаром Уайльдом24*, Уолтером Пейтером25* и Суинберном26*, Стефаном
Георге27* (в ранний период его творчества) и Готфридом Бенном.
Такое возвышение прекрасного было встречено страстным
утверждением добра, тем более впечатляющим, что это исходило от художников,
мастерски владеющих формой: Толстого, Брехта28* и Броха. Каждый из
них по-своему отвергал погоню за прекрасным, утверждая, что долг
человека — это забота о благе ближних.
Но в конечном счете такое деление представляется мне иллюзорным.
Функционально разделять человеческие способности и цели — это
результат пагубной тенденции нашего времени. Чрезмерное увлечение
прекрасным вполне может лишить человека ощущения того, что есть
добро. Но следовало бы уже понять, что абсолютной, т. е. стабильной,
красоты нет. Любая установленная гармония - это всего лишь
передышка в бесконечном процессе накопления, и тот, кто стремится увековечить
ее, неизбежно впадает в ирреальность. С осознанием эфемерности
всяческой гармонии культ абсолютной красоты становится делом
прошлого. В сверхличностных измерениях человеческой и художественной
цельности, которой требуют от нашего поколения, красота и добро уже не
противостоят друг другу.
Возник почти консенсус, даже между романтиками и
приверженцами искусства для искусства, по части того, что прекрасное зиждится на
истине. (Мнения, подобные высказыванию Оскара Уайльда, который,
будучи денди, считал, что прекрасное порождается образной ложью,
представляют собой редкие исключения.) Новалис утверждал, что
«поэзия — это подлинная и абсолютная реальность». Вордсворт29* писал в
Предисловии к Лирическим балладам, что предмет поэзии — «правда, не
личная и местная, но всеобщая и действенная, не основанная на
внешнем свидетельстве, но вносимая живой в сердце страстью». Ките,
созерцая свою Греческую Вазу, утверждал, что «в прекрасном — правда, в
правде — красота, / Вот все, что нужно помнить на земле». Конечно, это
известное высказывание — всего лишь утверждение чувства; множество
книг и статей, посвященных этому, всегда содержит хотя бы несколько
пояснительных стихотворных строк или высказываний о такой
тождественности. То, что выразил Ките в последних строках стихотворения,
кажется убежденностью (сродни убежденности Готфрида Бенна в его
зрелые годы) в том, что «молчаливая форма», которая «отвлекает нас от
мыслей», — это только бесспорное утверждение длящегося
существования.
Для двоих зачинателей искусства для искусства, Флобера и Бодлера,
совершенство формы, т. е. красота, было неотделимо от предельной
287
точности, а значит — истины. Бодлер в Цветах зла превозносил красоту,
настаивая на том, что он называл ипе franchise absolue, «абсолютной
искренностью». Он был по сути первым, прорвавшимся сквозь препоны
классической эстетики, введя в рамки формы безобразное и даже
разлагающееся, тем самым подчинив их красоте. Искусство — это своеобразное
понимание, и его вечно трансформирующаяся, вечно расширяющаяся
реализация — то единственное, что можно ныне назвать прекрасным.
Но нет нужды заходить слишком далеко, чтобы удостовериться, что
прекрасное зиждится на правде. Стоит только оглядеться, и на каждом
шагу мы увидим ущерб, наносимый эстетике фальшью: пластмасса,
выдаваемая за мрамор, дерево или кожу; на домах, машинах и разных
предметах всевозможные скрученные, запутанные орнаменты — запутанные, ибо
они не несут в себе никакого смысла. (Орнаменты были прекрасными,
пока брали начало в чем-то реальном, парафразировали естественную
форму - например, меандр или лотос — или несли символическую
нагрузку, связанную с каким-то образом, традицией или эмблемой.) Появились
«закрытые газоны» из пластмассы, появились розы и гвоздики
фиолетового или зеленого цвета, хотя в природе таких нет. Встречаются пожилые
дамы с голубыми волосами и люди с какими-то попугаями вместо
галстуков и в рубашках с египетскими рисунками; такая одежда задумана для
безликих фигур (каковыми люди и становятся в результате
стандартизации), поскольку она не подчеркивает неповторимость лица, как и
положено, но отбрасывает ее, как бы за ненадобностью.
Мы видим лица и руки, которые могли бы быть прекрасными, если
бы не уродующее приукрашивание, творение коммерческого
воображения украшателей. Эти люди закрывают лицо условной поверхностью,
стирают реальное лицо с его выразительностью и особыми чертами. Они
разрушают индивидуальный характер рук ужасной модой на красные
ногти. Правда, изобретение контактных линз позволяет женщинам
каждый день менять цвет глаз, подбирая их к цвету платьев и косметики, но
это полная противоположность прекрасному за отсутствием правды:
лицо к платью, а не платье к лицу.
С тоской вспоминаем мы определения красоты у Платона и Гегеля
как «сияние идеи в чувственном проявлении», как «чувственная
видимость идеи». Какая уж тут красота, если «идея» человека, некогда
именуемая «душой», исчезла за фальшивой внешностью.
Резюмирую все вышеизложенное.
Нам открылись неразрывная связь и согласие трех главных ценностей
не только у их начал, но и на протяжении веков. Все три, каждая
по-своему, направлены к гармонии, единству и продолжению жизни. Понимать
ли добро (благо) как любовь или как нечто более общее, или как согласие
с самим собой, или с космической природой, рассматривать ли красоту
(прекрасное) как гармонию вширь или вглубь, придавать ли истине
(правде) значение точности, последовательности или подлинности, смысл от
этого не меняется: это согласие, единство, целостность, отражающие
порядок органической формы.
Два мотива выделяются среди прочих, столь же разнообразных
аспектов одного общего постулата. Один — античное понятие eudaimonia,
288
которое в смысле счастливого согласия с самим собой и с порядком
космоса обретается как благо в том смысле, что идея сияет в
чувственном проявлении, понимается как основополагающее прекрасное и в
смысле подлинности тождественно экзистенциальной истине. Другой
мотив- широко распространенная концепция, а скорее ощущение
творческой, вдохновляющей жизнь способности добра, истины и красоты.
Мы видели, что изменение условий, масштабов и пропорций
жизни человека, особенно расширения границ бытия и масштаба знания,
глубоко модифицировали значение этих ценностей. Мы отметили
поворот от стабильности к динамизму, от вечного абсолюта к тому, что я
называю «относительным абсолютом»; мы стали осознавать, что
постоянное в человеческих делах тесно переплетается с движением и
изменением. Коренное изменение произошло при смещении центра
тяжести от индивидуума к коллективу, а это означает, что технический и
интеллектуальный диапазон человечества намного превзошел
возможности разума индивидуума, - несоответствие, представляющее
серьезнейшую угрозу человеческим ценностям и самому человечеству.
Мы видели и все эти коренные изменения. Но мы также видели, что
осталось кое-что от первичного значения этих главных ценностей. В
сущности, в этих заметках я хотел показать, что, вопреки видимости,
истина, добро и красота не совсем исчезли с лица земли, что незаметно,
незримо они все еще с нами.
Когда бы и где бы мы ни ставили целью достичь сопряженности и
интеграции — в поисках новых художественных форм, в борьбе за мир и
взаимопонимание между народами и за установление мирового порядка, думая
прежде всего о человеке и отвергая напыщенный национализм или выбор
между двумя лагерями, для которых добро значит то, что служит
капитализму или коммунизму, — короче, когда бы мы перед лицом беспрецедентных
опасностей ни предприняли попытку объединиться, эти три ценности - то
последнее, что служит оплотом человечности, возрождаются вновь.
1959
Дополнения к Части III
** Уже в глубокой древности в Упанишадах, особенно в Упанишаде Мандукья,
содержится ясное различие между четырьмя состояниями психики, но она совершенно
иная, чем наша ориентированная на рациональность. Восходящий порядок таков:
бодрствование (что соответствует нашему «сознанию»), которое до некоторой
степени присуще и высшим животным; сон, подсознание, при котором контакт с
низшей реальностью утерян и психика уже выходит за ее пределы (в этом состоянии
постоянно пребывают низшие животные); глубокий сон без сновидений, стадия,
предшествующая высшему совершенству, освобождение ото всех желаний и земных
страстей (состояние растений и минералов); и наконец, состояние сверхсознания,
которое достигается йогой, т. е. крайним (или, вернее, самым глубоким) усилием,
концентрацией. В таком состоянии полное выключение жизненных процессов
совпадает с высшим жизненным просветлением; полное отрешение от всех связей с
внешним миром изолирует самое глубинное «Я», которое, впрочем, становится
единым со всепронизывающим космическим «Я» - всемирной душой, брахмой.
Таким образом, по древнеиндийскому учению, восхождение к мировой душе
отождествляется с погружением в бессознательное, которое приобретает метафизичес-
289
кий характер, совершенно противоположный западной логике. И западный, и
восточный мистицизм стремятся к слиянию с мировой душой, но пути их различны.
Западный мистицизм, в его неоплатонической и христианской разновидностях,
стремится достичь единства с внешней силой божества посредством разума.
Индийскому мистицизму свойственно достижение гармонии и просветления путем
физической концентрации; то, что находится сверх ощущений, что выходит за их
пределы, в то же время оказывается ниже ощущений, ниже экзистенциального уровня.
В дзэн-буддизме ясно прослеживается противостояние мышлению. [Упанишады,
Упанишада Мандукья (санскр. упанишад, букв. - сидение около, т. е. вокруг учителя
с целью познания истины, отсюда позже — сокровенное знание, тайное учение),
древнеиндийские произведения религиозно-философского характера,
примыкающие к Ведам как объяснение их тайного внутреннего смысла. Древнейшие Упани-
шады восходят к VI—III вв. до н.э. Упанишады Мандукья входят в группу
позднейших (ХІѴ-ХѴ вв. н.э.) текстов. - Примеч. пер.]
*2 В XVIII в. Лихтенберг писал: «Разве наше понятие о Боге не является
олицетворением непонятного?» И, проводя аналогию с подсознанием человека, добавлял: «В
разуме - человек, а в страстях - Бог...» Впоследствии, в XIX в., Эдуард фон Гарт-
ман описывал Бога как «Бессознательное и Сверхсознательное», что, собственно,
и образует осознание сознания в индивидууме. [Лихтенберг (Lichtenberg) Георг
Кристоф (1742-1799), немецкий писатель, публицист и ученый; Гартман (Hartman)
Эдуард фон (1842-1906), немецкий философ-идеалист. Основой всего сущего он
полагал абсолютное бессознательное духовное начало. — Примеч. пер.]
*3 Между прочим, в немецком мистицизме в душе человека приютился и Бог в
виде божественной искры. Ранее центр тяжести божественного и духовного
существа лежал вне человека, в горнем мире; человек стремился приобщить к нему
свою душу. Ныне центр тяжести переместился внутрь; душа человека
приобщилась к Богу.
*4 «Ego sum, ego existo, quoties a me profertur, vel mente concipitur, necessario esse verum»
(Meditat. II). «Ac proinde haec cognitio: ego cogito, ergo sum, est omnium prima et
certissima» (Princ. Phil. I, 8).
*5 KorzybskiA. Science and Saity, 2nd ed. Lancaster, Pa., 1941. P. 507. Параллелью
этому учению с философской точки зрения является анализ эпистемологического
подсознания Германа Броха. Ср. его работы: «Werttheoretische Bemerkungen zur
Psychoanalyse», «Das System als Weltbewältigung» и «Über syntaktische und kognitive
Einheiten». // Essays. Bd. II. Zürich, 1955. См. также: Kahler Ε. Die Philosophie von
Hermann Broch. Tübingen, 1962.
*6 Жак Маритен в Меллоунских лекциях (Creative Intuition in Art and Poetry.
Bollingen Series. Vol. XXXV. No. 1. New York, 1953. Ch. III), а еще раньше
немецкий философ Эрнст Блох, говорили о предсознании как об области
бессознательного. Маритен отождествляет предсознание с функцией поэтической, или
художественной, интуиции, с динамическим состоянием, с волной sur le rebord de
l'inconscient, «на кромке подсознания»; он называет его «духовным», или, в
платоновском смысле, «музыкальным подсознанием» в противовес фрейдистскому
подсознанию, к которому он прилагает термин «автоматического, или глубокого
подсознания, глухого к интеллекту и структурированному в собственный мир,
оторванный от интеллекта». Понимаемое в этом смысле, предсознание является
особой, «музыкальной» частью творческого подсознания. Но при всех попытках
разграничения не следует забывать, что жизнь не разделена перегородками и что
все ее функции взаимосвязаны и взаимодействуют. [Маритен (Maritain) Жак
(1882-1973), французский философ, представитель неотомизма; Блох (Bloch)
Эрнст (1885-1977), немецкий философ. - Примеч. пер.]
*7 В самом деле, доаристотелевская, несколько ритуальная структура Илиады,
соответствующая геометрическому искусству, была недавно показана Седриком
X. Уитменом в прекрасном исследовании: Homer and the Heroic Tradition, 2nd ed.
290
Cambridge, 1963. А Вергилий, кажется, построил свою Энеиду в еще более
активном, личностно более независимом состоянии человеческого сознания согласно
строгому структурному порядку. Джордж Э. Дакуорт, определивший эту
структуру, называет Энеиду «одной из самых сознательно задуманных и тщательно
сконструированных поэм в мировой литературе... [В ней] проявляется сознательное
внимание к разным структурным приемам: чередование, параллелизм с помощью
уподоблений и противопоставлений, концентрическое обрамление, трехчастные
деления; они встречаются как в эпосе в целом, так и в отдельных книгах»
(Mathematical Symmetry in Vergil's Aeneis // Transactions and Proceedings of the
American Philological Association. Vol. XCI. 1960). Ср. еще более тщательную работу
того же автора: Structural Patterns and Proportions in Vergil's Aeneis: A Study in
Mathematical Composition. Ann Arbor, 1962.
*8 Между повествованиями об исключительном и открытой формой нет особой
связи. Рассказы Эдгара По, посвященные в основном необычным событиям,
построены в соответствии с самой строгой, самой соразмерной структурой. [По
(Рое) Эдгар Аллан (1809-1849), американский писатель и критик. - Примеч. пер.]
*9 Miller Н. Tropic of Cancer. New York, Grove Press, Inc. 1961.
*10 Натали Саррот не учитывает того, что эти устремления в психические глубины
приобрели для нашего сознания стадию реальности и уровень бытия, которые
надолго заняли свое место в расширении существования. Конечно,
существование бездонно, достигает невообразимых глубин, откуда оно и возникает, но это
ни в коем случае не упраздняет реальность и действительность разных степеней
психической глубины, о чем свидетельствуют художественные и научные
исследования. Благодаря им произошло нечто необратимое: они широко раздвинули
границы сферы сознания.
*п Robbe-Grillet A. For a New Novel. Essays on Fiction / Trans, by R. Howard. New
York, Grove Press, Inc. 1965. P. 21-24. Можно уловить то же самое, если
сопоставить стремление Рильке действовать как «рупор вещей (der Mund der Dinge)», т. е.
озвучивание воображаемой души вещи путем анимистического сопереживания с
parti pris des choses, «превращением в вещь», т. е. заявляя о себе как о вещи,
вернее, видя в человеке вещь, как у Френсиса Понжа (ср. его эскиз La Jeune Mere).
*12 У Эдуарда Олби творческий процесс кажется в чем-то параллельным творчеству
Пикассо и Кафки и, скорее, переходным к тому, что можно было бы назвать
«действующим писательством». «Когда я работал над Крошкой Алисой, — сказал он в
одном интервью, — то не вполне представлял себе, что я делаю. Когда я пишу
пьесы, то это для меня - акт открытия. Я открываю то, о чем думал. Я открываю то,
что меня мучило. А спустя какое-то время после окончания работы можно сказать
себе: "Так вот чего я хотел"». Здесь в отличие от «действующих живописцев»
творческим актом как бы раскрывается не идентичность художника, а
идентичность художественного замысла. [Олби (Albee) Эдуард (р. 1928), американский
драматург, представитель «Театра абсурда». - Примеч. пер.]
*13 Музей современного искусства приобрел огромное полотно, парадигму
тотальной редукции, которую ее автор Ад Рейнхардт назвал «Абстрактная живопись» и
пояснил следующим образом: «Квадратное (нейтральное, бесформенное)
полотно в пять футов шириной и пять футов высотой, в рост человека, по ширине
разведенных в стороны рук (не большое, не маленькое, не имеющее размера),
разделенное на три секции (без композиции), причем одна горизонтальная форма
отрицает одну вертикальную (бесформенное, без верха, без низа, без
направления); три (более или менее) темных (неосвещенных), неконтрастных (бесцветных)
цвета; произведение кисти, замазанное краской, чтобы убрать произведение
кисти; матовая, плоская, от руки написанная поверхность (непонятная, лишенная
структуры, линейности, не острая, не тупая), не отражающая своего окружения
(чистая, абстрактная, беспредметная, бесстрастная живопись вне времени и
пространства, без изменений и связей); объект, сознающий себя (вне подсознания),
291
идеальный, трансцендентный, сознающий только искусство (абсолютно не
антиискусство)». [Рейнхардт (Reinhardt) Ад(ольф) Фредерик (1913-1968),
американский художник; преследовал цель устранить всяческие самовыражение,
содержание и смысл из своих произведений, сведя их к монохромным полотнам. - Примеч. пер.]
*14 «Под констелляцией я подразумеваю расположение немногих слов таким
образом, что их взаимосвязи достигаются прежде всего не синтаксическими
средствами, а в результате материального, конкретного совместного местонахождения в
одних и тех же границах». Gomringer Ε. Material I. Darmstadt, 1958 // Mon F.
Movens: Dokumente und Analysen zur Dichtung, bildenden Kunst, Musik, Architektur.
Wiesbaden, 1962. P. 112.
*15 Бенджамин Ли Уорф доказывает в своих исследованиях, что лингвистические
формы, синтаксические структуры порождаются мыслительной системой
народов и наоборот. Как же можно покончить с синтаксической структурой языка,
не отбросив весь этнический опыт и умственное и психическое отношение к
реальности конкретного народа, а в данном случае - к индогерманской семье
народов? Новый стимул начался бы с уровня, неподвластного воле человека.
«Огромная роль языка, - пишет Уорф, - не может, на мой взгляд, означать... что в
язык не возвращается ничего из того, что традиционно называется «духом». Мои
исследования наводят на мысль, что язык, при всей его господствующей роли,
в каком-то смысле лишь вышивка на поверхности более глубинных процессов
сознания, необходимых для возникновения всякой связи сигналов или
символов» (WhorfB.L. Language, Thought and Reality [Cambridge, Mass., paperback ed.
1964. P. 239). [Уорф Бенджамин Ли (1897-1941), американский языковед и
этнограф. - Примеч. пер.]
*16 Конечно, язык есть по сути жест, поскольку он - действие. Он - жест в
сублимированной, отточенной, «артикулированной» форме. В прекрасном эссе Язык
как жест Ричард Блэкмур показывает, как на вершине концентрации, столь
частой в поэзии, язык становится жестом, «обретает силу жеста». И правда, порой
первобытный жест прорывается сквозь слова, «из родной почвы ощущения». Жест
в этом смысле весьма отличается от «телодвижения», т. е. физических,
бесстрастных движений, к которым сводится язык нереальной концепции Мона.
[Блэкмур (Blackmur) Ричард Палмер (1904—1965), американский критик, поэт,
писатель. — Примеч. пер.]
*17 «...что по природе присуще (oikeion) каждому, то для каждого наивысшее и
доставляет наивысшее удовольствие; а значит, человеку присуща жизнь,
подчиненная уму (nous), коль скоро человек и есть в первую очередь ум. Следовательно, эта
жизнь- самая счастливая (eudaimonestatos)» (Eth. Nicom. Χ, 1178 А). «И если ум
в сравнении с человеком божествен, то и жизнь, подчиненная уму, божественна
в сравнении с человеческой жизнью» (Loc. cit. Χ, 1177 В).
*18 «Nihil certo scimus bonum aut malum nisi id quod ad intelligendum re vera conducit, vel
quod impedire potest, quo minus intelligamus» (Eth. IV, Prop. XXVII).
*19 Per bonum... intelligam id, quod certo scimus medium esse, ut ad exemplar humanae
naturae, quod nobis proponimus, magis magisque accedamus» (E\h. IV, Praef.). «Id bonum
aut malum vocamus, quod nostra esse conservando prodest, vel obest, quod nostram agendi
potentiam auget vel minuitjuvat vel coercet» (Loc. cit. Prop. VIII).
*20 «Bonum quod numquisque qui sectatur virtutem, sibi appetit, reliques hominibus etiam
cupiet...» (Loc. cit., Prop. XXXVII).
*21 Metriotes kai symmetria (Philebus 51).
*22 Несколько примеров таких вариантов: Фома Аквинский называет красоту
integritas sive proportio, целостность или пропорция, и proportio sive consonantia,
пропорция или созвучие (Summa Theol. I. 398 С); Кант дает ей следующее
определение: Zusammenhang des Mannigfaltigen zu Einem, связь разнообразия в Одном, и
Zweckmässigkeit ohne Zweck, целенаправленность без цели (Kritik der Urteilskraft,
§ 16). Шеллинг (в Системе трансцендентального идеализма) видит ее в конечном
292
изображении бесконечного (das Unendliche endlich dargestellt).
*23 Гертруда Стайн говорит о высказывании Пикассо: «Однажды Пикассо
сказал, что тот, кто творит вещь, волей-неволей делает ее безобразной; старание
и стремление создать интенсивность всегда приводят к некоему уродству.
Идущие вслед за ним могут сделать из этого прекрасную вещь, потому что знают,
что делают, ибо эта вещь уже изобретена; но поскольку изобретатель не
ведает, что он изобретает, то созданное им неизбежно должно быть уродливым».
[Стайн (Stein) Гертруда (1874-1946), американская писательница.- Примеч.
пер.]
Примечания
Культура и эволюция
1 Подробнее об этом процессе см. в моей работе The Meaning of History. New York,
1964.
2 Dacque E. Urwelt, Sage und Menschheit. München, 1924.
3 Общую информациию о новой концепции природы (не самую последнюю, но
в основном адекватную см. в книге немецкого физика: Weizsaecker С.F. von. The
History of Nature. Chicago, 1949.
4 Simpson G.G. The Meaning of Evolution. New Haven, 1951. Pt. II. Ch. XV. P. 240 ff.
5 Ibid. P. 246.
6 Ibid. Pt. II. Ch. XVII. P. 285 ff.
7 Ibid. P. 286.
8 Huxley Т.Н., Huxley J. Touchstone for Ethics 1893-1943. New York; London, 1947.
P. 133.
9 Ibid. P. 146.
10 Simpson G.G. Op. cit. Pt. II. Ch. XV. P. 257 ff.
11 KroeberA.L. The Concept of Culture in Science // The Nature of Culture: Collected
Essays. Chicago, 1952. P. 120 ff.
Естествознание и история
1 Barraclough G. History in a Changing World. Norman, Oklahoma, 1956. P. 2.
Живучесть мифа
1 Kerenyi К. Die antike Religion. Amsterdam, 1940. Анонимные цитаты
заимствованы из работы Томаса Манна Фрейд и будущее.
2 Манн Т. Фрейд и будущее.
Природа символа
1 Freud S. Symbolism in Dreams: Introductory Lectures on Psychoanalysis. 2nd ed.
London, 1949. Tenth Lecture. P. 128 ff.
2 Jung CG. Modern Man in Search of a Soul. New York, 1933. P. 27 ff.
3 Zimmer Η. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. New York, 1946. P. 62.
4 Cp. The Logic of Hegel. T.W. Wallace. Oxford, 1874. Ch. II. P. 46 ff; Kleist Η. von.
Essay on the Marionettes // Vertical: A Yearbook for Romantic-Mystic Ascensions /
Ed. by E. Jolas. New York, 1941.
Что такое искусство ?
1 Journal of Aesthetics and Art Criticism. Vol. XV. No. 1 (Sept. 1956); репринт,
вместе с данным ответом в: Problems in Aesthetics: An Introductory Book of Readings /
Ed. by M. Weitz. New York, 1959.
2 Simpson G.G., Pittendrigh CS., Tiffany I.H Life. New York, 1957. P. 427 ff; 2nd ed.
1965. P. 479.
3 Ср. статьи «Ars» и «Art» // Thesaurus Linguae Latinae: Gransaigne d'Hauterive,
Dictionnaire des racines des langues europeennes. Paris, 1949; WyldH.C. The Universal
English Dictionary. London, 1952.
294
Разновидности бессознательного
1 Доказательства существования бессознательного см. в: Hadamard J. The
Psychology of Invention in the Mathematical Field. Princeton, 1944; особенно гл. II:
«Споры о бессознательном».
2 Margetts E.L. The Concept of the Unconscious in the History of Medical Psychology
// Psychiatric Quarterly. 27 (1953).
3 Confessiones. X. 30.
4 Ibid. X. 8.
5 Ibid. X. 10.
6 Ibid. X. 11.
7 Ibid. X. 13.
8 Ibid. X. 16.
9 Cp. (Euvres de Descartes. Paris, 1908. Vol. X. P. 180-188.
10 Цитируется в: Whyte L.L. The Unconscious Before Freud. New York, 1960. P. 95
(весьма поучительная книга, содержащая богатый материал, но, к сожалению, он
расположен не в предметном, а в хронологическом порядке).
11 Напечатано в: Jahn О. W.A. Mozart. Leipzig, 1858. Pt. I. p. 496 ff. Это письмо
было впервые опубликовано Рохлитцем в 1815 г. Поскольку местонахождение
оригинала неизвестно и многие данные в тексте не соответствуют фактам,
известным по другим источникам, подлинность письма вызывает сомнение.
Впрочем, оно так многозначительно и описывает с такой необыкновенной ясностью
процесс музыкального творчества вплоть до слухового зрения, что мне не
верится, что это всего лишь подделка. Если так, то автор, должно быть, был
незаурядным человеком, испытавшим это. Мой друг, специалист в данной области,
композитор Роджер Сешенс, с которым я консультировался, согласен с моим
мнением.
12 Bulletin de la Societe Francaise de Philosophie. 28e Annee, No. 1 (1928).
13 Из: Loewi O. An Autobiographic Sketch // Perspectives in Biology and Medicine. Vol. 4,
No. 1 (Autumn 1960). Репринт с разрешения издательства Univ. of Chicago Press.
14 Observation on Man // цит. Whyte. Loc. cit.
15 Цит. в: Penßeld W.y Roberts L. Speech and Brain Mechanism. Princeton, 1959. Здесь
вы найдете дополнительную информацию об опытах с электростимуляцией.
16 «С'est ипе grande erreur de croire qu'il η'у a aucune perceptions dans I'ame que
celles dont eile s 'apergoit». Cp. Grau K.J. Die Entwicklung des Bewusstseinsbegriffes
im XVII. und XVIII. Jahrhundert // Abhandlungen zur Philosophie. 39 Heft. Halle a.S.
1916.
17 Von den Vorstellungen, die wir haben, ohne ihrer bewusst zu sein // Anthropologie.
§5(1798).
18 The New American Painting. New York. P. 64.
19 Rodman S. Conversations with Artists. New York, 1957. P. 82.
20 Ibid. P. 93.
21 Ibid. P. 108.
22 System der Psychologie. Bd. I. Leipzig, 1855. P. 97.
23 Psyche. Stuttgart, 1851. P. 95 ff.
24 Ibid. P. 100.
25 Der Mann Moses und die monotheistische Religion // Gesammelte Werke. Bd. XVI.
P. 224.
26 Die Frage der Laienanalyse // Gesammelte Werke. Bd. XIV. P. 254.
27 Cp. Harms E. Simon-Andre Tissot, the Freudian before Freud // American Journal
of Psychiatry. No. 112, 9 (1956). P. 744.
28 Das Unbewusste // Theoretische Schriften (1911-1925). Wien, 1931. P. 106.
295
29 Ср. Naturerklärung und Psyche: Synchronizität als ein Prinzip akausaler
Zussammenhänge. Zürich, 1952; Synchronicity: An Acausal Connecting Principle //
Collected Works of CG. Jung. Vol. 8. New York, 1960.
Распад художественной формы
1 Английский перевод Поэтики, использованный мной, сделан Лейном Купером
(Rev. ed. Ithaca, 1947).
2 Artists on Art / Ed. R. Goldwater, M. Treves. New York, 1945. P. 410 ff.
3 Uere du soupgon. Paris, 1952. P. 10 ff.
4 Richter Η. Dada-Kunst und Antikunst. Köln, 1964. P. 210 ff.
5 Artists on Art. P. 416 ff.
6 Ibid.
7 Mallarme S. Crise de vers. Paris, 1951. P. 366.
8 Ibid. P. 363.
9 Huelsenbeck R. Dada, eine literarische Dokumentation. Hamburg, 1964. P. 9 ff.
10 Из рецензии на одну немецкую авангардистскую книгу в газете Франкфуртер
Альгемайне Цайтунг.
11 Введение к I Novissimi. Milan, 1961. P. XIV.
12 Ibid. XVII ff.
13 Heissenbüttel H. Voraussetzungen // Bender #., Das Gedicht ist mein Messer, Lyriker
zu ihren Gedichten. 2nd ed. München, 1961. P. 89 ff.
14 Оригинальный английский текст из: Movens: Dokumente und Analysen zur
Dichtung, bildenden Kunst, Musik, Architektur. Wiesbaden, 1960. P. 189.
15 Mon F. Artikulationen. Pfullingen, 1959. P. 31 ff.
16 Ibid. P. 113.
17 Rowley G. Principles of Chinese Painting. Princeton, 1947. P. 72.
18 Да Дэ Цзин, цитируемый Джорджем Роули: Ibid. Ch. XXV. P. 5.
19 Ibid. P. 77.
Истина, добро и красота
I Государство. VI, 505 А ел., 508 Е-509 В.
2Тимей. 29D-31.
3 О душе. 414 А.
4 Пол. VII 1, 1323 В 16; Топ. III I, 116 А 13; Эт. Ником. II, 1094 В 7 и I 8, 1098 В
12 ел.
5 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 2. Anschnitt. Akademie Ausgabe IV. P. 421.
6 Федр. 250 Б ел.
7 Vorlesungen über Aesthetik I (1835). P. 144.
8 Кампания во Франции 1792 г. Мюнстер, 1792.
9 Contemporary British Philosophers I (1924). P. 402.
10 Present Philosophical Tendencies (1925). P. 204.
II Максимы и рефлексии: Искусство и древность.
12 Письмо Цельтеру (31 декабря 1829 г.).
13 Завещание (1829).
Комментарии
Культура и эволюция
·' Цицерон Марк Туллий (Marcus Tullius Cicero) (106-43 до н.э.), римский оратор
и государственный деятель, теоретик риторики, классик латинской
художественной и философской прозы.
2* Римская империя. — Священная Римская империя — средневековая империя,
основанная в 962 г. германским королем Отгоном I в результате подчинения
Северной и Средней Италии (с Римом).
3* ...в Германии появилась столица. - Берлин стал столицей объединенной
Германии в 1871 г.
4* Сублимация (лат. sublimatio) - в психологии - психический процесс
преобразования и переключения аффективных влечений на цели социальной
деятельности и культурного творчества. Понятие введено 3. Фрейдом в 1900 г.
5* Даке (Dacque) Эдгар (1878-1945), немецкий палеонтолог, геолог, философ.
6* ...от кембрийского периода до... эопена. - Кембрийский период, девон и
пермь — соответственно, первый, четвертый и шестой периоды палеозойской эры.
Мел - третий период мезозойской эры. Эоцен — средний отдел палеогенового
периода.
7* Хаксли (Huxley) Джулиан (1887-1975), английский биолог, философ, автор
многих книг, оказавших влияние на развитие современной эмбриологии,
генетики, систематики и др.
8* Стоики. — Представители стоицизма, школы древнегреческой философии,
основанной Зеноном из Китионы ок. 300 г. до н.э.
9* Крёбер (КгоеЬег) Альфред Луис (1876—1960), американский этнограф.
10* ...зуни, дене, кайова. - Названия племен североамериканских индейцев.
Естествознание и история
'* ...типологическую... трактовку... — Типология — метод научного познания, в
основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировок с помощью
обобщенной, идеализированной модели или типа. В XX в. в социальной мысли
тенденция к методологическому переосмыслению типологии обнаруживается в
переходе от теории культурно-исторических типов (Шпенглер), где типология
понималась как вычленение множества реально существующих типов культур, к
идеальной типологии, разработанной М. Вебером; согласно Веберу, типология
заключается в создании некоторых идеальных типов, абстрактных конструкций,
которые представляют собой заведомое упрощение, логические фикции,
предельные понятия, не имеющие прямого аналога в реальности и использующиеся для
исследования причин и характера отклонения исторической действительности от
идеального типа.
2* ...таксономическую трактовку. — Таксономия (от греч. τάξις — расположение,
строй, порядок и ν'μος - закон), теория классификации и систематизации слож-
ноорганизованных областей действительности (органический мир, объекты
географии, геологии, языкознания, этнографии и т. д.). Впервые возникла в
биологии.
3* Вебер (Weber) Макс (1864-1920), немецкий социолог, философ и историк.
Концепцию идеальных типов разрабатывал совместно с Г. Риккертом (1863-1936) и
В. Дильтеем (1883-1911).
4* Леви-Стросс (Levi-Strauss) Клод (р. 1908), французский этнограф и социолог,
один из главных представителей французского структурализма.
297
5* ...новации оккамистов. — Оккамисты — представители оккамизма,
философского течения в поздней схоластике (XIV— нач. XV в.), возникшего под
влиянием идей У. Оккама (1285-1349). Для оккамизма, наряду с прочим,
характерна борьба за автономию научного знания и отделение философии от
богословия.
6* ...менделизм. - Учение о закономерностях наследственности, положившее
начало генетике; его родоначальником был Грегор Иоганн Мендель (1822-1884).
7* Фарадей (Faraday) Майкл (1791-1867), английский физик, химик и физико-хи-
мик.
8* Максвелл (Maxwell) Джеймс Клерк (1831-1879), английский физик.
9* Беккерель (Becquerel) Антуан Анри (1852-1908), французский физик.
,0· Кюри (Curie) Пьер (1859-1906), французский физик.
п* Резерфорд (Rutherford) Эрнст (1871-1937), английский физик.
І2* ...с пресвитерианскими и конгрегациональными установлениями. -
Пресвитериане - последователи протестантских церквей кальвинистской ориентации
(XVI в.); представляли умеренное крыло пуританства. Конгрегационалисты —
последователи возникших на позднем этапе английской Реформации (конец XVI в.)
конгрегации и церквей, активно боровшихся за «очищение» Церкви Англии от
епископата и всех элементов католической доктрины и обрядности.
13* ...в войнах с гугенотами. - Гугеноты - последователи кальвинизма,
добивавшиеся осуществления во Франции ХѴІ-ХѴІІІ вв. принципов Реформации. В 1562-
1594 гг. французские католики, опираясь на объединившиеся вокруг
королевского дома семьи, вели кровопролитные религиозные войны с гугенотами, среди
которых были преимущественно представители третьего сословия
(провинциальная буржуазия и ремесленники) и той части дворянства Южной и
Юго-Западной Франции, которое было недовольно централизационной политикой
королевской власти. Завоеванные гугенотами в этих войнах религиозные и
политические права были закреплены в Нантском эдикте 1598 г.
,4* Левеллеры (англ. Levellers, букв. — уравнители), радикальная мелкобуржуазная
демократическая партия Английской буржуазной революции XVII в.
15* Английская революция. — Английская буржуазная революция XVII в.,
приведшая к утверждению капитализма и установлению буржуазного строя в
Англии.
,6* ...освобождение Нидерландов. - Нидерландская буржуазная революция 1566-
1609 гг., сочетавшая национально-освободительную войну против
абсолютистской Испании с антифеодальной борьбой, завершилась в 1609 г. заключением
Двенадцатилетнего перемирия, по которому Испания признала де-факто
независимость буржуазной Республики Соединенных провинций, получившей
международное признание в 1648 г.
17* Кольбер (Colbert) Жан Баптист (1619—1683), французский государственный
деятель.
,8* Вобан (Vauban) Себастьен Ле Претр де (1633-1707), маркиз, военный инженер,
маршал Франции (1703), почетный член Французской Академии (1699).
19* Неккер (Necker) Жак (1732-1804), французский финансист и государственный
деятель.
20* Галилей (Galilei) Галилео (1564-1642), итальянский физик, астроном,
математик и мыслитель.
Живучесть мифа
г Рильке (Rilke) Райнер Мария (1875-1926), австрийский поэт.
2* Гомер (αΟμηρος), легендарный эпический поэт Древней Греции.
298
3* Наполеон. - Наполеон I Бонапарт (Napoleon Bonaparte) (1769-1821),
французский государственный деятель и полководец, первый консул Французской
республики (1799-1804), император французов (1804-1814), март-июнь 1815.
4* Эмпедокл (Έμπεδοκλες) из Акраганта (ок. 490 - ок. 430 до н.э.),
древнегреческий философ.
5* Илия (Elijah) (ок. IX в. до н.э.), иудейский пророк, утверждавший монотеизм.
Был вознесен на небо смерчем.
6* Парадигма (от греч. παράδειγμα - пример, образец). - Понятие, используемое
в античной и средневековой философии для характеристики взаимоотношения
духовного и реального мира. Платон усматривал в идеях реально существующие
прообразы вещей, их идеальные образцы (парадигмы), обладающие подлинным
существованием.
7* Демиург (греч. δημιουργός, букв. — изготавливающий вещи для народа, отсюда —
ремесленник, мастер) — термин древнегреческой философии для обозначения
«творца» («мастера»), введенный в философский лексикон Платоном в «Тимее».
Демиург - «творец и отец этой Вселенной».
8* Отгон Великий. - Отгон (Otto) I (912-973), германский король с 936 г. и
император Священной Римской империи с 962 г. (из Саксонской династии).
9* ...два Фридриха из династии Гогенштауфенов. — Фридрих I Барбаросса
(Friedrich I Barbarossa) (ок. 1125-1190), император Священной Римской империи
с 1155 г., и Фридрих II Гогенштауфен (Friedrich II Hohenstaufen) (1194-1250),
император Священной Римской империи с 1220 г.
І0* Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924), мыслитель, теоретик
марксизма, организатор международного коммунистического движения.
11 * Гитлер (Hitler) Адольф (наст, фамилия - Шикльгрубер) (1889-1945), лидер
германской национал-социалистской (фашистской) партии, глава германского
фашистского империалистического государства.
,2* Дон Кихот - герой романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса (1547-
1616) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605).
,3* Дон Жуан - герой многих произведений литературы и искусства. Образ
рыцаря-сластолюбца, нарушителя моральных и религиозных норм, посвятившего
жизнь поискам чувственных наслаждений.
,4* Доктор Фаустус - герой немецкой легенды, возникшей в период Реформации;
ученый, заключивший союз с дьяволом ради знаний, богатства и мирских
наслаждений.
15* Вечный Жид - Агасфер, персонаж легенд, возникших в Средние века; был
якобы осужден Богом на вечные скитания за то, что не дал Христу отдохнуть на пути
к месту распятия.
16* Тиль Уленшпигель — фольклорный образ, герой книги бельгийского писателя
Шарля де Костера (1827—1879) «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их
доблестных, забавных и достославных деяниях во Франции и других краях» (1867).
,7* Рип ван Винкль - герой одноименной новеллы американского писателя
Уошинггона Ирвинга (1783—1859).
18* Швейк — герой романа чешского писателя Ярослава Гашека (1883-1923)
«Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» (1921-1923).
19* Архетип (греч. άρχωτυπον, от άρχω - начало и τύπος - образ) - прообраз, идея.
20* Век Рационализма. — Рационализм (франц. rationalisme, от лат. rationalis —
разумный, ratio - разум), философское направление, признающее разум основой
познания и поведения людей. Термин «рационализм» используется для
обозначения и характеристики философских концепций начиная с XIX в.
Обосновывая безусловную достоверность научных принципов и положений математики и
299
естествознания, рационализм пытался решить вопрос, каким образом знание,
полученное в процессе познавательной деятельности человека, приобретает
объективный, всеобщий и необходимый характер. Рационализм утверждал, что
научное знание, обладающее этими логическими свойствами, достижимо
посредством разума, который выступает его источником и вместе с тем
критерием истинности.
21* Естественное право. - Одно из широко распространенных понятий
политической и правовой мысли, обозначающее совокупность или свод принципов, правил,
прав, ценностей, продиктованных естественной природой человека и тем самым
как бы независимых от конкретных социальных условий и государства.
22* Веблен (Veblen) Торстейн (1857-1929), американский экономист и социолог.
23* Теория психоанализа. - Психоанализ (от греч. ψυχώ - душа и άνάλυσις -
разложение, расчленение), метод психотерапии и психологическое учение, ставящее
в центр внимания бессознательные психические процессы и мотивации. Был
разработан в конце XIX - начале XX в. Фрейдом.
Реальность Утопии
]* Московское совещание в декабре 1945 г. - Московское совещание министров
иностранных дел СССР, США и Великобритании 16-26 декабря 1945 г.
2* Женевская конвенция. - Женевские конвенции - многосторонние
международные соглашения, заключенные в Женеве (Швейцария). Ко времени написания
статьи это: 1) Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях (заключена в 1864 г., пересматривалась в 1906 и 1929 гг.; 2) Конвенция об
обращении с военнопленными (заключена в 1929 г.).
Природа символа
г Кожибский (Korzybski) Альфред (1879—1950), американский ученый и философ,
родоначальник общей семантики.
2* «Номотетический» подход. - Номотетический метод (от греч. νομοτθετικώ —
законодательное искусство), в учении Канта способ законодательной деятельности
разума в установлении им законов и правил познания.
3* Фрейд (Freud) Зигмунд (1856-1939), австрийский невропатолог, психиатр,
психолог, основоположник психоанализа.
4* Юнг (Jung) Карл Густав (1875-1961), швейцарский психолог и психиатр,
основатель одного из направлений глубинной психологии - «аналитической
психологии».
5* Бор (Bohr) Нильс Хенрик Давид (1885-1962), датский физик.
6* Хтонические боги (от греч. χθην - земля, которая, по мифологическим
воззрениям, порождала чудовищ) - боги греческой мифологии на ранних
стадиях развития (матриархат), характеризовавшиеся стихийными, уродливыми
формами.
7* Медичи (Medici) - флорентийский род, игравший важную роль в политической
и экономической жизни средневековой Италии.
8* Мария Французская (Marie de France) (конец XII в.), первая известная
французская поэтесса, создавшая стихотворные произведения (лэ) на сюжеты
средневековых сказаний.
9* Илиада (Ilias) — древнегреческая эпическая поэма об Илионе (Трое),
приписываемая Гомеру (ок. IX—VIII вв. до н.э.).
10* Эдда. - Старшая Эдда> сборник древне исландских песен (сохранился в
рукописи XIII в.).
11 * Клейст (Kleist) Генрих фон (1777—1811), немецкий писатель.
300
12* Кретьен де Труа (Chretien de Troyes) (ок. ИЗО - ок. 1191), французский поэт,
автор стихотворных рыцарских романов на сюжеты сказаний о короле Артуре и
рыцарях Круглого стола.
13* Беньян (Bunyan) Джон (1628-1688), английский писатель.
,4* Данте. — Данте Алигьери (Dante Alighieri) (1265-1321), итальянский поэт.
Что такое искусство?
'* Витгенштейн (Wittgenstein) Людвиг (1889-1951), австрийский философ, логик
и математик, представитель аналитической философии.
2* Уайтхед (Whitehead) Алфред Норт (1861-1947), английский логик, философ и
математик. В философских воззрениях Уайтхеда выступает стремление к связи и
согласованию философии с естественно-научными открытиями ХІХ-ХХ вв.
3* Мазаччо (Masaccio) Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи (Гвиди) (1401-
1428), итальянский живописец.
4* Джотто. - Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone) (1266/67-1337), итальянский
живописец.
5* Леонардо. - Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) (1452—1519), итальянский
живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер.
6* Тициан (Tiziano) (1476/77- или 1480-е годы - 1576), итальянский живописец,
крупнейший представитель Венецианской школы эпохи Высокого и Позднего
Возрождения.
7* Рембрандт. - Рембрандт Харменс ван Рейн (Rembrandt Harmensz van Rijn)
(1606-1669), голландский живописец, рисовальщик и офортист.
8* Импрессионисты. — Группа художников — представителей импрессионизма
(франц. impressionisme, от impression - впечатление), направления в искусстве
последней трети XIX - начала XX в.
9* Сезанн (Cezanne) Поль (1839-1906), французский живописец, ведущий мастер
постимпрессионизма.
10* Ван Гог (van Gogh) Винсент (1853-1890), голландский живописец, один из
главных представителей постимпрессионизма.
п* Пикассо (Picasso) Пабло (1881-1973), французский художник.
12* Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт.
13* Символисты. - Представители символизма, европейского художественного
направления конца XIX — начала XX в.
и* Флобер (Flaubert) Гюстав (1821-1880), французский писатель.
15* Пруст (Proust) Марсель (1871-1922), французский писатель.
16* Джойс (Joyce) Джеймс (1882-1941), ирландский писатель.
17* Кафка (Kafka) Франц (1883-1924), австрийский писатель.
,8* Монтеверди (Monteverdi) Клаудио (1567-1643), итальянский композитор.
19* Бах (Bach) Иоганн Себастьян (1685-1750), немецкий композитор, органист.
20* Моцарт (Mozart) Вольфганг Амадей (1756-1791), австрийский композитор.
21* Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770-1827), немецкий композитор, пианист,
дирижер.
22* Вагнер (Wagner) Рихард (1813-1883), немецкий композитор, дирижер,
драматург, музыкальный писатель.
23* Шёнберг (Schönberg) Арнольд (1874-1951), австрийский композитор, педагог,
музыкальный теоретик, дирижер, художник.
24# Гольбейн (Holbein) Ганс, младший (1497-1513), немецкий живописец и график
эпохи Возрождения.
25* Кокошка (Kokoschka) Оскар (1886-1980), австрийский живописец и график.
26* Лоррен (Lorrain) Клод (1600-1682), французский живописец.
301
27* Констебль (Constable) Джон (1776-1836), английский живописец.
28* Тернер (Turner) Джозеф Мэллорд Уильям (1775-1851), английский живописец.
29* Моне (Monet) Клод Оскар (1840-1926), французский живописец-пейзажист,
один из основателей импрессионизма.
30* Барочный роман. - Один из жанров «низового барокко» (к. XVI - нач. XVII в.).
Низовое барокко усваивало готовые риторические формулы, мотивы и сюжетные
схемы галантного и прециозного романа, сатирически переосмысливая и
перерабатывая их и используя для построения новой большой формы народного романа.
ЗІ* Гайдн (Haydn) Йозеф (1732-1809), австрийский композитор, представитель
Венской классической школы.
Искусство и история
1* Преториус (Preetorius) Эмиль (1883-1973), график, иллюстратор и театральный
художник. Был дружен с Калером и близок к Венскому кружку Стефана Георге.
2* Мане (Manet) Эдуар (1832-1883), французский живописец.
3* Пизано (Pisano) Никколо (ок. 1220 - между 1278 и 1284), итальянский
скульптор, один из основоположников Проторенессанса.
4* Ван Эйк (van Eyck) Ян (ок. 1390-1441), нидерландский живописец.
5* Брейгель (Breughel) старший, Питер (ок. 1525/30-1569), нидерландский
живописец и рисовальщик.
6* Эль Греко (El Greco) Доменико (1541-1614), испанский живописец.
7* Грюнвальд (Grünewald) - условное имя, под которым известен немецкий
живописец Матис Нейхардт (ок. 1460/70-1528).
8* Рафаэль. — Рафаэлло Санти (Raffaello Santi) (1483—1520), итальянский
живописец и архитектор.
9* Кандинский Василий Васильевич (1866-1944), русский живописец, один из
основоположников абстрактного искусства.
,0* Поллок (Pollock) Джексон (1912-1956), американский живописец.
п* Шан-Инь. - Период государства Инь (Шан) - II тыс. до н. э. Искусство этого
периода представлено в основном бронзовыми изделиями.
,2* Поздний Чжоу. - Собственно период Чжаньго (V— III вв. до н.э.). В это время
складывается характерный для Китая вид живописи тушью на свитках.
,3* Тан-Сун. — Время господства государства Тан (618—907), период наивысшего
подъема всех областей культуры Китая; столь же высокими достижениями
ознаменован и период Сун, период зрелого Средневековья в Китае (960-1279).
14* Юань. - В период монгольской династии Юань (ХІІІ-ХГѴ вв.) продолжали
сохраняться и развиваться традиции танского и сунского периодов.
15* Мин-Цин. - В периоды Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911) наивысшего
расцвета в Китае достигли архитектура и декоративно-прикладное искусство.
,6* Аббасиды. - Династия арабских халифов (750-1258).
,7* Фатимиды. - Династия арабских халифов, возводившая свое происхождение к
Фатиме, дочери пророка Мухаммеда (909-1171).
,8* Тебриз, Самарканд, Герат. — Тебризская школа пережила высокий расцвет в
первой половине XVI в. с приходом к власти Сефевидов. Самарканд в ХГѴ-ХѴ вв.
был столицей Тимура, крупным культурным центром Средней Азии. Герат (Герат-
ская школа) достиг наивысшего расцвета при Тимуридах (XV в.).
,9* Шейбаниды. — Потомки Шейбана, сына Джучи, брата Батыя. Государство
Шейбанидов (1500-1598) - феодальное государство в Средней Азии со столицей
в Самарканде, затем в Бухаре (с 1560).
20* Аббас Великий. - Аббас I (1571-1629), шах Ирана (с 1587) - из династии
Сефевидов, крупный военачальник.
302
21 * Даосизм (кит. дао цзя — школа дао). — Наряду с конфуцианством одно из двух
основных течений китайской философии. Возникло во второй половине I
тысячелетия до н.э. Согласно традиции, его основателем считается Лао Цзы.
Классический даосизм представлял собой философское учение
наивно-материалистического характера, с начатками примитивной диалектики. Исходной идеей философии
даосизма является учение о дао— пути, извечном, естественном и всеобщем
законе спонтанного возникновения, развития и исчезновения всей Вселенной.
Отсюда вытекает принцип следования дао, т. е. поведения, согласующегося в
микрокосме с дао (природой) человека, а в макрокосме — с дао Вселенной.
п* Буддизм. - Религиозно-философское учение, возникшее в Древней Индии в
ѴІ-Ѵ вв. до н.э. Одна из трех (наряду с христианством и исламом) мировых
религий. Основатель буддизма - индийский принц Сиддхартха Гаутамо,
получивший впоследствии имя Будды, т. е. пробужденного, просветленного. Характерной
особенностью буддизма является его этико-практическая направленность. В
основе буддизма лежат утверждение принципа личности, неотделимой от
окружающего мира, и признание существования своеобразного психологического
процесса, в который оказывается вовлеченным и мир.
23* Матисс (Matisse) Анри Эмиль Бенуа (1869—1954), французский живописец,
график и скульптор.
24* Вёльфлин (Wölfflin) Генрих (1864-1945), швейцарский искусствовед.
25* Дворжак (Dvorak) Макс (1874—1921), австрийский историк искусства,
представитель так называемой Венской школы искусствоведения.
26* Воррингер (Worringer) Вильгельм (1881-1965), немецкий историк искусства.
27* Кларк (Clark) Кеннет (1903-1983), английский историк искусства, ведущий
специалист по искусству итальянского Возрождения.
Разновидности бессознательного
'* Бихевиористы. - Представители бихевиоризма (отангл. behaviour— поведение),
ведущего направления в американской психологии ХІХ-ХХ вв., в основе
которого лежит понимание поведения человека и животных как совокупности
двигательных и сводимых к ним вербальных и эмоциональных реакций на воздействие
(стимулы) внешней среды. Родоначальником бихевиоризма является Э. Торндайк.
2* Сома (от греч. σήμα - тело) - термин, введенный немецким зоологом А. Вей-
сманом для обозначения тела организма в противоположность зародышевой
плазме. «Соматическими» принято называть явления телесного в отличие от явлений
психического характера.
3* Дихотомия. - Дихотомическое деление (от греч. διχοτομδα - рассечение на две
части) - деление объема понятия (класса, множества) на две соподчиненные
производные по формуле исключенного третьего: «А или не-А».
4* Штаупиц (Staupitz) Иоганн фон (1460/69-1524), немецкий католический богослов.
5* Онтологическое доказательство. - Онтологический аргумент, метод
доказательства, при помощи которого необходимость существования чего-либо выводится
из мысли о нем; в западноевропейской философии выступал методом связи
категорий бытия и мышления.
6* Брох (Вгосп) Герман (1886-1951), австрийский писатель.
7* Авсоний. - Авсоний Децим Магнус (Ausonius Decimus Magnus) (ок. 310 - ок.
395), римский поэт, риторик, ученый.
8* Кадуорт (Cudworth) Ралф (1617-1688), английский богослов и философ,
ведущий представитель кэмбриджского платонизма.
9* Пастиччо (итал. pasticcio, букв. - паштет), в переносном смысле - смесь,
мешанина.
303
10* Контрапункт (нем. Kontrapunkt). Здесь — одновременное сочетание двух или
более самостоятельных мелодических линий в разных голосах.
11 * Валери (Ѵаіегу) Поль (1871-1945), французский поэт.
12* Лёви (Loewi) Otto (1873-1961), австрийский физиолог и фармаколог.
,3* Гартли (Hartley) Дейвид (1705-1757), английский мыслитель, один из
основоположников ассоциативной психологии.
14* «Психофизический параллелизм». — То же, что психофизическая проблема; в
широком смысле - вопрос об отношении психических явлений к физическим, в
более узком — о соотношении между психическими и физиологическими (нейро-
гуморальными) процессами.
15* Гештальтпсихология (от нем. Gestalt - форма, образ, облик, конфигурация),
одно из ведущих направлений в западноевропейской, особенно немецкой,
психологии 1920-1930-х годов; подчеркивала целостный и структурный характер
психических образований.
16* Месмер (Mesmer) Франц Антон (1734-1815), австрийский врач.
17* Бертран (Bertrand) Александр Жак Франсуа (1795-1831), французский врач и
философ.
18* Брейд (Braid) Джеймс (1795-1860), английский хирург; одним из первых
изучал явление гипноза; оказал влияние на французскую школу
нейропсихологии.
19* Шарко (Charcot) Жан Мартен (1825—1893), французский врач, один из
основоположников современной невропатологии и психотерапии.
20* Ример (Riemer) Фридрих Вильгельм (1774-1845), немецкий филолог,
литературовед и поэт.
21* Кернер (Körner) Карл Теодор (1791—1813), немецкий писатель.
22* Солипсизм (от лат. solus - один, единственный и ipse - сам). - Крайняя
форма субъективного идеализма, в которой несомненной реальностью признается
только мыслящий субъект, а все остальное объявляется существующим лишь в
сознании индивидуума.
23* Гербарт (Herbart) Иоганн Фридрих (1776-1841), немецкий философ-идеалист
и педагог.
24* Бурже (Bourget) Поль Шарль Жозеф (1852—1935), французский писатель.
25* Достоевский Федор Михайлович (1821-1881), русский писатель, мыслитель,
публицист.
26* Малларме (Mallarme) Стефан (1842-1898), французский поэт.
27* Хопкинс (Hopkins) Джерард Мэнли (1844-1889), английский поэт.
28* Дюжарден (Dujardin) Эдуард (1861-1949), французский писатель.
29* Джемс (James) Уильям (1842-1910), американский философ и психолог.
30* Шницлер (Schnitzler) Артур (1862-1931), австрийский писатель.
31* Экспрессионизм (от лат. expressio - выражение). - Направление,
развивавшееся в европейском искусстве и литературе примерно с 1905 г. по 1920-е годы.
Возникло как отклик на острейший социальный кризис 1-й четверти XX в. От
искусства современных ему авангардистских течений отличалось социально-
критическим пафосом.
32· футуризм (от лат. futurum - будущее). - Авангардистские художественные
движения 10-х- нач. 20-х годов. XX в. в Италии и России. Футуризм явился
субъективно-анархической реакцией на кризис буржуазной культуры, крах
либерально-этических иллюзий XIX в. и выразил стихийно-эмоциональное
предощущение наступления новой исторической эпохи с ее лавинным
научно-техническим прогрессом, нарастающим утилитаризмом мышления, появлением
массовой культуры.
304
33* Дадаизм (франц. dadaisme, от dada - «конек», деревянная лошадка; в
переносном смысле — бессвязный детский лепет). — Модернистское
литературно-художественное течение, существовавшее между 1916 и 1922 гг. В 20-х годах во Франции
дадаизм слился с сюрреализмом, а в Германии - с экспрессионизмом.
34* Сюрреализм (франц. surrealisme, букв. — сверхреализм), авангардистское
направление в художественной культуре XX в.
35* Абстрактный экспрессионизм. - Школа абстрактного искусства, возникшая в
годы Второй мировой войны в США (Дж. Поллок, М. Тоби),
распространившаяся после войны во многих странах (под названием «ташизм» или «бесформенное
искусство») и провозгласившая своим методом бессознательность и автоматизм
творчества, непредвиденность эффектов.
36* Ротко (Rothko) Марк (1903-1970), американский художник, представитель
абстрактного экспрессионизма.
37* Клайн (Kline) Франц (1910-1962), американский художник, представитель
абстрактного экспрессионизма.
38* Фортлаге (Fortlage) Карл (1806-1881), немецкий философ.
39* Карус (Cams) Карл Густав (1789-1869), немецкий естествоиспытатель, врач,
философ, художник.
*°* Адлер (Adler) Альфред (1870-1937), австрийский врач; изучал глубинную
психологию. Родоначальник индивидуальной психологии.
41* Ранк (Rank) Otto (1884-1939), австрийский психоаналитик.
42* Салливан (Sullivan) Гарри Стэк (1892-1949), американский психиатр.
43* Фромм (Fromm) Эрих (1900-1980), немецко-американский психолог и
социолог, представитель неофрейдизма.
"* Гальтон (Galton) Фрэнсис (1822-1911), английский психолог и антрополог.
Распад художественной формы
и Джеймс (James) Генри (1843-1916), американский писатель.
2* Йейтс (Yeats) Уильям Батлер (1865-1939), ирландский поэт и драматург.
3* Толстой Лев Николаевич (1828-1910), русский писатель.
4* Чехов Антон Павлович (1860-1904), русский писатель.
5* Ибсен (Ibsen) Генрик (1828-1906), норвежский драматург.
6* Веберн (Webern) Антон (1883—1945), австрийский композитор, дирижер.
7* Гаргантюа. - «Гаргантюа и Пантагрюэль», роман французского писателя
Франсуа Рабле (1494-1553).
8* Симплициссимус. - Роман немецкого писателя Ханса Якоба Кристофа фон
Гриммельсхаузена (1621-1676).
9* Бальзак (Balzac) Оноре де (1799-1850), французский писатель.
10* Диккенс (Dickens) Чарлз (1812-1870), английский писатель.
п* Маньеризм (итал. manierismo, от maniera — манера, стиль). - Течение в
европейском искусстве XVI в., отражающее кризис гуманистической культуры
Высокого Возрождения.
12* Босх (Bosch) Хиеронимус (ок. 1450/60-1516), нидерландский живописец.
,3* Харди (Hardy) Томас (1840-1928), английский писатель.
14* Миллер (Miller) Генри (1891-1980), американский писатель.
,5* Бенн (Вепп) Готфрид (1886—1956), немецкий писатель, теоретик искусства.
,6* Элиот (Eliot) Томас Стернз (1888-1965), англо-американский поэт и критик.
17* Тейяр де Шарден (Teilhard de Chardin) Пьер (1881-1955), французский ученый,
палеонтолог, философ, богослов.
18* Тристрам Шенди. — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», роман
английского писателя Лоренса Стерна (1713-1768).
305
,9* Саррот (Sarraute) Натали (p. 1902), французская писательница.
20* «Битники» («Beatniks»). - Американское общественное и литературное
движение, начавшееся в 1950-х годах в США и Великобритании, стихийное,
анархически-бунтарское движение молодежи, лишенное какой бы то ни было
положительной социально-политической программы.
21* «Действующая живопись» (action painting). - Термин, введенный американским
критиком Гарольдом Розенбергом применительно к группе американских
абстрактных экспрессионистов, использующих эту агрессивную манеру живописи
(грубые, решительные мазки, выливание краски на холст) с 1950-х годов.
22* Рихтер (Richter) Ханс Вернер (р. 1908), немецкий писатель.
23* Дайн (Dine) Джим (р. 1935), американский художник, график, скульптор и
поэт.
24* Роб-Грийе (Robbe-Grillet) Ален (р. 1922), французский писатель и
кинорежиссер, один из основоположников «нового романа».
25* Барт (Barthes) Ролан (1915-1980), французский интеллектуал и критик,
внесший большой вклад в семиотику.
26* Яноух (Janouch) Густав (1903-1968), чешский музыкант и писатель.
27* Ташизм — то же, что «абстрактный экспрессионизм». См. комм. 35 к статье
«Разновидности бессознательного».
28* «Поп-арт» (англ. pop art, от pop - отрывистый звук, легкий удар, хлопок,
похожий на хлопанье пробки; букв. - искусство, производящее взрывной,
шокирующий эффект; трактуется также как сокращение от англ. popular art -
популярное, общедоступное искусство). — Неоавангардистское направление в
изобразительном искусстве (вт. пол. 1950-х годов).
29* Гинзберг (Ginsberg) Аллен (р. 1926), американский поэт; автор поэмы «Вопль»
(1956), ставшей своеобразным манифестом «битников».
30* Керуак (Кегоиас) Джэк (1922—1969), американский писатель.
31 * Страдания юного Вертера. — Роман (1774) немецкого поэта Иоганна
Вольфганга Гёте (1749-1832).
32* Маклухан (McLuhan) Маршалл (1911-1980), канадский теоретик проблемы
коммуникации, профессор университета Торонто.
33* Маринетти (Marinetti) Филиппо Томазо (1876—1944), итальянский писатель.
34* Аполлинер (Apollinaire) Гийом (1880—1918), французский поэт.
35* Корсо (Corso) Грегори (р. 1930), поэт, ведущий представитель движения
«битников» (сер. 1950-х годов).
36* Уитмен (Whitman) Уолт (1819-1892), американский поэт.
37* Мондриан (Mondrian, Mondriaan) Пит (1872—1944), нидерландский живописец.
38* Брак (Braque) Жорж (1882-1963), французский художник.
39* Миро (Міго) Хоан (1893-1983), испанский живописец.
^* Николсон (Nicholson) Бен (1894-1982), английский художник; его
произведения геометрического абстракционизма принадлежат к числу наиболее известных
полотен английского абстрактного искусства.
41* Манесье (Manessier) Альфред (р. 1911), французский художник.
42* Виейра да Сильва (Vieira da Silva), Мария Елена (р. 1908), французская
художница, автор полуабстрактных архитектурных композиций.
43* Габо (Gabo) Наум (1890-1977), американский художник-конструктивист.
м* Биссье (Bissier) Жюль (1893-1965), немецкий художник.
45* Оп-арт (англ. op art, сокращение от optical art — оптическое искусство). —
Неоавангардистское течение в изобразительном искусстве, одна из поздних
модификаций абстрактного искусства. Ведет начало от так называемого
геометрического абстракционизма.
306
^* Хайссенбюттель (Heissenbüttel) Гельмут Дитрих (p. 1921), немецкий писатель.
47* Мон (Моп) Франц (р. 1926), немецкий писатель.
48* Лоуэлл (Lowell) Роберт (1917-1977), американский поэт.
49* Анжамбеман (франц. enjambement) - перенос, перескок; в стихосложении
несовпадение синтаксической паузы с ритмической — концом стиха, полустишия,
строфы.
Истина, добро и красота
'* Манхейм (Mannheim) Карл (1893—1947), немецкий социолог.
2* Антропоморфизм (от греч. "νθρωπος — человек и μορφά — форма, вид),
уподобление человеку, наделение психическими свойствами предметов и явлений
неживой природы, небесных тел, животных, мифических существ.
3* Конфуций (551-479 до н.э.), древнекитайский философ, основатель
конфуцианства. Характерной чертой учения Конфуция является антропоцентризм; в
центре его внимания - проблемы человека, его умственного и нравственного
облика.
4* Анимизм (от лат. anima, animus — душа, дух). — Термин, обозначающий
религиозные представления о духах и душе.
5* Евклид (Εεκλιδος) из Мегары (ум. после 369 до н.э.) - основатель Мегарской
школы древнегреческой философии, ученик Сократа.
6* Сенека. — Луций Анней Сенека (Lucius Annaeus Seneca) (ок. 5 до н.э. — 65 н.э.),
римский философ, поэт и государственный деятель.
7* Марк Аврелий. - Марк Аврелий Антонин (Marcus Aurelius Antoninus (121-180),
римский философ-стоик, император.
8* Суарес (Suarez) Франсиско (1548—1617), испанский богослов и философ,
представитель поздней (так называемой второй) схоластики; иезуит.
9* Патрицци (Patrizzi) Франческо (1529—1597), итальянский гуманист и философ,
представитель неоплатонизма эпохи Возрождения.
,0* Шефтсбери (Shaftesbury) Антони Эшли Купер (1671-1713), английский
философ-моралист, эстетик, представитель деизма.
м* Майевтика (греч. μαιευτικά), букв. — повивальное искусство, с которым герой
платоновских диалогов Сократ любил сравнивать свой метод философствования.
12* Йегер (Jaeger) Вернер (1888-1961), немецкий филолог-антиковед.
13* Герника. — Центральное произведение в творчестве П. Пикассо. Было
написано в 1937 г. для павильона Испанской Республики на Всемирной выставке в
Париже в знак протеста против войны и разрушения баскского города Герники
легионом Кондор.
14* Больцано (Bolzano) Бернард (1781-1848), чешский математик, философ,
богослов.
15* Гуссерль (Husserl) Эдмунд (1859-1938), немецкий философ-идеалист,
основатель феноменологии.
,6* Гартман (Hartmann) Николай (1882-1950), немецкий философ-идеалист,
основоположник так называемой критической (или новой) онтологии.
,7* Релятивистские и формалистические концепции. - Релятивизм (от лат.
relativus - относительный), методологический принцип, состоящий в
метафизической абсолютизации относительности и условности содержания познания.
Релятивизм проистекает из одностороннего подчеркивания постоянной
изменчивости действительности и отрицания относительной устойчивости вещей и явлений.
Формализм (франц. formalisme, от лат. formalis — относящийся к форме),
предпочтение, отдаваемое форме перед содержанием в различных сферах человеческой
деятельности. В истории искусства формализм проявлялся в отрыве художествен-
307
ной формы от содержания, в признании ее единственно ценным элементом
искусства и соответственно в сведении художественного освоения мира к
отвлеченному формотворчеству.
І8* Элейский абсолют. — Элейская школа (древнегреческая философская школа
конца ѴІ-Ѵ в. до н.э.), представители которой (Парменид, Зенон Элейский)
отрицали существование отдельных вещей и отвергали возможность движения,
первыми попытались понять мир, применяя к многообразию вещей философские
понятия предельной общности (бытие, небытие, движение).
,9* Шиллер (Schiller) Фердинанд Кэннинг Скотт (1864-1937), английский
философ, ведущий представитель прагматизма в Англии.
20* Перри (Реггу) Ралф Бартон (1876-1957), американский философ,
родоначальник нового реализма американской прагматической философии.
21* Инструменталисты. - Последователи инструментализма,
субъективно-идеалистического учения Дж. Дьюи (разновидность прагматизма). Для
инструменталистов логические понятия, идеи, научные законы и теории - лишь инструменты.
Инструментализм рассматривает истину в чисто функциональном плане и считает
основной проблемой отношение «организма» к «среде».
22* Ките (Keats) Джон (1795-1821), английский поэт-романтик.
23* Бодлер (Baudelaire) Шарль (1821-1867), французский поэт.
24* Уайльд (Wilde) Оскар Фингал О'Флаэрти Уилс (1854-1900), английский
писатель и критик.
25* Пейтер (Pater) Уолтер (1839-1894), английский критик, эссеист, гуманист,
сторонник «искусства для искусства».
26* Суинберн (Swinburne) Алджернон Чарлз (1837-1909), английский поэт,
драматург, критик.
27* Георге (George) Стефан (1868-1933), немецкий поэт.
28* Брехт (Brecht) Бертольт (1898-1956), немецкий писатель, теоретик искусства,
театральный и общественный деятель.
29* Вордсворт (Wordsworth) Уильям (1770-1850), английский поэт.
Перевод выполнен В.И.Матузовой по изданию: Kahler Ε. Out of the
Labirynth. Essays in Clarification. N.Y. 1967.
На русский язык переводится впервые.
В.И. Матузова
Эрих Калер:
Размышляя о судьбах человечества
Имя Эриха Калера еще ни о чем не говорит русскоязычному
читателю. Справедливости ради стоит отметить, что оно не
слишком хорошо известно и на Западе, и его творчество ждет
своего исследователя. Между тем Калера поистине можно
было бы назвать «человеком мира»: его жизненный путь
проходил и в Европе, и в США, он публиковал множество работ на родном
немецком и ставшим ему родным английском языках. Он был
разносторонним ученым-гуманитарием. Историк, социолог и философ,
искусствовед и литературовед, причисляемый подчас к неоромантическому (или
даже неогегельянскому) направлению современной философии, он
обладал неким синоптическим видением современного мира. Видение в
перспективе и в целом — этого требовал Калер от науки, и этим
видением он был одарен. Используя для решения выдвигаемых
современностью проблем метод комплексного анализа, в котором проявилась
вся широта его эрудиции, он внес весомый вклад в развитие
культурологии, выработав собственную историко-философскую концепцию.
Его единомышленник, австрийский писатель и философ Герман Брох,
назвал эту концепцию «новой наукой» (scienza nuova), а сам Калер
предложил ей название «нравственная антропология» (человек как вид
неизменно пребывал в центре его внимания).
Несмотря на богатейшее творческое наследие, Эрих Калер до
последнего времени ускользал из поля зрения ученых. Библиография о нем
(за исключением многочисленных прижизненных рецензий на его
работы) насчитывает всего две монографии и одну статью1; первые из
посвященных ему работ появились почти через 20 лет после его смерти.
Для данного издания были выбраны две книги Эриха Калера:
«Смысл истории» (1964) и «Выход из лабиринта» (1967). Они не просто
дают представление о диапазоне научных интересов Калера и об
особенностях и масштабности его творчества; в них его концепция
достигает своей полноты; в них Калер подводит итог размышлениям всей
своей жизни. Они доносят до нас мысли и тревоги, сомнения и
надежды глубоко думающего и столь же глубоко чувствующего гуманиста XX
в. В его книгах — боль за судьбы человечества и уверенность в победе
разума, добра и красоты. В гуманизме Калера - пафос его творчества,
источник пронизывающего его сочинения оптимизма.
311
Эрих Калер родился 14 октября 1885 г. в Праге, в семье еврейского
промышленника Рудольфа Калера (1854-1932), который за заслуги
перед Австро-Венгрией был произведен императором Францем Иосифом
в рыцарское достоинство. Мать, Антуанетта Шварц (1862-1951), была
детской писательницей. В 1900 г. Калеры переехали в Вену. Эрих
становится студентом Венского университета, где в течение двух лет
изучает философию и литературу. Далее (до 1908 г.) последовала учеба в
университетах Берлина, Мюнхена и Гейдельберга. В 1911 г. в Вене,
защитив диссертацию на тему «О праве и морали», Калер получает
степень доктора философии.
Его творческая биография началась в 1903 г., когда он издал первый
сборник своих стихов; второй появился в 1905 г. Поэтическое
мировосприятие вообще является отличительной чертой творчества Калера. В
1913-1933 гг. Калер живет в Мюнхене, занимаясь преподаванием и
работая над книгами. Большую роль в формировании его философской
концепции сыграло участие в кружках, возглавляемых Стефаном
Георге и Максом Вебером. В 1933 г. в жизни Калера произошел резкий
перелом, и ей уже никогда не было суждено потечь по прежнему
руслу. Имя Эриха Калера попало в черные списки нацистов, о чем ему
стало известно, когда он гостил у матери в Вене. В свой дом в
Германии, куда вскоре явились с обыском гестаповцы, Калер больше не
вернулся. Двоюродные братья помогли ему получить чешское
гражданство, и до 1935 г. он жил в Чехословакии, а затем эмигрировал в
Швейцарию (чтобы материально поддержать сына, матери пришлось
продать коллекцию картин французских импрессионистов). В
Швейцарии завязывается его дружба с Томасом Манном, вслед за которым
он в октябре 1938 г. вместе с женой и матерью эмигрирует в США, где
навсегда поселяется в Принстоне.
В годы эмиграции расширяется круг его близких друзей, среди
которых — Герман Брох (кузен матери Калера), последние 7 лет жизни
(1942—1949) живший в семье Калера. Дружба Эриха Калера с
величайшими умами XX в. — Томасом Манном, Максом Вебером, Альбертом
Эйнштейном, поэтом Р.-М. Рильке и другими — это захватывающая
история, история духовного взаимодействия и взаимообогащения
талантливейших людей эпохи.
В 1941—1945 гг. Калер работает в Новой школе социальных
исследований. В дальнейшем, вплоть до 1963 г., он читает лекции по литературе
и искусству в крупнейших высших учебных заведениях США:
университете Чикаго, Блэк-Маунтин колледже (Новая Каролина), в Корнелльском
университете (Итака, Нью-Йорк), в Институте прогрессивных
исследований (Принстон). Его приглашали и в Европу: в 1955—1956 гг. —
Университет Виктории в Манчестере (Великобритания), в 1960-1963 гг. —
немецкие университеты, в том числе Мюнхенский.
Многие книги Калера выросли из его лекционных курсов.
Возможно, именно поэтому их отличает такой ясный, разговорный стиль,
оставляющий у читателя ощущение доверительной беседы, — хотя при этом он
никогда не превращается в популяризатора своих идей. Среди наиболее
известных трудов Эриха Калера (кроме публикуемых ныне) — «Династия
Габсбургов» (1919), «Израиль среди народов» (1933)2, «Немецкий харак-
312
тер в истории Европы» (1937), «Человек-мерило» (1943)3, первая книга,
написанная им в эмиграции и изданная только на английском языке;
«Башня и бездна» (1957) и «Орбита Томаса Манна» (1969).
В последние годы жизни Калер работал над монографией,
посвященной Г. Броху, и над исследованием «Значение экспрессионизма».
Тогда же он приступает к написанию английского варианта книги
«Немецкий характер в истории Европы» (1937), рукопись которой в 1933 г.
в его мюнхенском доме нацисты так и не нашли. Тяжелая болезнь
прервала эту работу. Калер умер 28 июня 1970 г.
Средоточием философской мысли Калера было человечество как
целостность, подтверждением чему, как он полагал, служит вся
историческая (да и биологическая) эволюция человека. Один из рецензентов
справедливо отмечал, что он является носителем классический,
гегельянской традиции философии истории, а более широко — носителем
немецкой культуры рубежа XIX—XX вв., загубленной нацистским
режимом, но навсегда оставшейся самым средоточием духовной жизни
Эриха Калера. Именно это и подвигло его на создание монументального,
впечатляющего труда «Человек-мерило», в котором как величественная
панорама предстает вся история человечества (с особым вниманием к
истории Западной Европы).
«Смысл истории», жанр которого сам автор определил как эссе,
более компактен, более лаконичен, местами, возможно, более сложен по
языку (кажется, ученому не хватало привычных английских
философских терминов, и он нередко прибегал к созданию неологизмов, в
которых отчетливо ощущалась немецкая основа; это вызвало нарекания
многих американских критиков), — но, несомненно, эта книга
представляет собой квинтэссенцию творчества Эриха Калера; в ней
воплотились работа ума и сердца, его рациональный и эмоциональный опыт,
опыт всей его жизни.
Книге предпослано посвящение: «За и против моего друга Эрнста
Канторовича». Во многом она вырастала из дружеских бесед и споров
этих двух незаурядных умов XX в., а, обращаясь к ключевым
положениям творчества Канторовича, который вынашивал замысел книги
«Идея прогресса в Средние века», Калер признал огромное значение
протекавших в Средневековье процессов для генезиса современного
духа. Эпиграфы из Полибия, Монтескье и Марка Блока подчеркивают
основную идею эссе: человеческий мир — это целостность, требующая
целостного познания; в нем в неразрывном взаимодействии находятся
всеобщее и частное; и точно так же человеческая история есть
целостность, в которой прошлое и настоящее пребывают в неразрывной
связи друг с другом. Это прозревали мыслители разных эпох. Законченная
в сентябре 1963 г. работа знаменовала собой первый шаг к созданию
задуманной Калером теории истории.
Все творчество Калера отмечено интересом к проблемам
эпистемологии, к способности человека познавать и осмыслять. Простое, на первый
взгляд даже наивное, деление книги на три части - «Смысл смысла»,
«История истории», «Смысл истории» — подчинено отнюдь не наивному
обращению к проблеме становления и развития исторического сознания (а
313
стало быть, и самосознания) человека, ибо смысл истории может найти (и
находит) только человеческий ум. История для Калера не тождественна
историографии или исторической науке. История — это происшествие,
событие, это сама жизнь, жизнь людей, ибо только человек обладает
сознанием, способным к восприятию и осмыслению себя и своей жизни, — из
чего на протяжении веков формируется историческое сознание. Именно
поэтому в разделе «История истории» читатель не встретит привычного
изложения исторических (как правило, политических) событий в их
хронологической последовательности. Среди них будут лишь те, которые
оказали решающее воздействие на мировосприятие, на самооценку, на
видение хода истории в ретроспективе и в перспективе, запечатленные в трудах
выдающихся мыслителей разных эпох и народов, — это история
постижения истории. Такое постепенное, но неизменно поступательное движение
в сфере сознания не происходило само по себе. Оно было обусловлено
взаимодействием с исторической реальностью: реальность вызывала движение
исторической мысли, вела к созданию исторических концепций, которые,
в свою очередь, проникая в умы, становились одной из движущих сил
исторического процесса, влияли на реальность, изменяли ее.
Итак, Эрих Калер видит историю не просто как череду событий, но как
«цепное взаимодействие, взаимотворчество концепции и реальности,
сознания и действия». Быть может, в этом видении, как полагают иные
критики, живо влияние Гегеля, но у Калера гегелевское развитие по
спирали превращается в развитие по расширяющейся спирали: он утверждает, что
по ходу истории человечество все больше осознает себя как неразрывную
целостность. Из такого взаимодействия концепции и реальности
вырастает и смысл истории. Выступая против позитивистов и представителей
многих других философских «измов» XX в. (он особенно резко
критикует взгляды Ницше и Шпенглера), чьи концепции подрывали веру в смысл
истории, Калер упорно настаивает на том, что история обладает смыслом,
ибо ей присущи порядок, взаимосвязь (сопряженность) событий и
единство многообразия, которые открываются человеческому сознанию.
«Отрицать смысл истории значит отрицать саму историю». Смысл как форма
(предельно выраженный древними греками в рамках цикличной истории
одного народа) и смысл как цель (устремленность человечества в будущее,
возникшая в раннехристианской традиции), взаимно дополняя друг
друга, служат постоянному расширению сферы нашего существования в его
спиралевидном движении.
А если так, то неизбежно встает вопрос, на каком витке спирали, в
какой точке витка находимся мы ныне, каков смысл нашего времени в
структуре смысла истории в целом. Калер обращает наше внимание на
парадоксы современности: мир людей объединен техническими
средствами (и это еще задолго до появления компьютерной сети Internet), но
погрузился в состояние полной анархии; западная цивилизация
распространила свое влияние на весь мир, но сама вступила на путь упадка. В этих
условиях главной целью может быть только спасение человечества, а
основным средством спасения может служить создание наднационального
всемирного порядка, независимого от этнических и конфессиональных
различий. И он может быть создан — если человечество обретет давным-
давно утраченную ориентацию в мире и единство в достижении цели.
314
Невольно напрашивается сравнение труда Эриха Калера с
«Феноменом человека» Пьера Тейяра де Шардена. Последний решал
сходные проблемы человеческой эволюции, но проблемы биологические.
Философия Тейяра де Шардена — это философия природы, в которой,
как отмечали исследователи, отсутствует исторический период
развития человечества. Напротив, Калер в своем творчестве занят
решением именно общественных, исторических проблем. В совокупности эти
два величайших труда гуманистической философии XX в. создают
ярчайший, пронизанный оптимизмом диптих, рисующий
биологическую и историческую эволюцию человечества. Оба мыслителя
представляют себе поступательное развитие человечества: Тейяр де
Шарден — по «вздымающейся спирали», Калер — по спирали
расширяющейся. Оба апеллируют к человеческому сознанию: Тейяр де
Шарден широко пользуется понятием ноосферы, преобразуя тем
самым «феномен человека» в «феномен человечества» (вспомним
знаменитое «человек — эволюция, осознавшая саму себя»); для Калера в
сфере истории сознание в силу трансцендентальной способности человека
является неотъемлемой частью всего исторического процесса (похоже,
что гегелевский Абсолютный Дух у Калера секуляризируется,
спускается на Землю — он разлит, он повсеместно присутствует в человеческом
сознании). Оба философа неколебимо верят в то, что человечество
найдет в себе силы выйти из лабиринта. Этот образ присутствует в
творчестве обоих мыслителей, и Тейяр де Шарден призывает
следовать за «нитью Ариадны», которая ведет по пути развития сознания.
Новизна историко-философской позиции Калера заключена
именно в его попытке написать историю как биографию
человеческого духа: на смену античным концепциям приходят иудейско-христи-
анские мессианские и эсхатологические исторические концепции, от
которых ведет почти прямой путь к современности. Прослеживая эту
эволюцию, он вновь и вновь убеждается сам и убеждает нас в
целостности рода человеческого и в целостности истории. Калер, как и
множество людей первой половины XX в. ставший свидетелем
«технически оснащенного варварства» и сам переживший ужасы
фашизма, был в то же время твердо уверен в том, что история есть некая
целостность, развивающаяся, несмотря на все отступления, в
направлении общечеловеческого единства и братства. Без этого,
предупреждает он, человечество ожидает гибель: «Человек нуждается в
добре, как в хлебе насущном».
Сборник статей, написанных в разные годы, «Выход из лабиринта»
был задуман Калером с целью разъяснения ряда проблем, поднятых им
в таких изданиях, как «Башня и бездна» и «Смысл истории». Статьи
сгруппированы в трех разделах, каждый из которых посвящен
соответственно истории, искусству и социальной психологии. Впрочем, такое
деление вполне условно, так как в методе Калера, как уже говорилось,
гуманитарные дисциплины присутствуют в комплексе. В итоге вполне
самостоятельные исследования в их совокупности предстали в виде
цельной монографии, насыщенной всевозможными проблемами,
которые ставила перед ученым современная ему действительность.
315
И здесь, как всегда, в центре внимания Калера — человечество как
некое единство, каким оно выступает в его книгах «Человек-мерило» и
«Смысл истории».
В статье «Культура и эволюция» поднимаются проблемы, связанные
с пониманием Калером истории как протяженного, непрерывного
развития, как эволюции, направленной к тому, что он называет
«расширением масштаба, расширением рамок бытия». При этом понятие
исторической эволюции совсем не обязательно должно означать
совершенствование или прогресс. Различие между прогрессом и
эволюцией в том, что первый предполагает качественную коннотацию, тогда как
последняя являет собой процесс как таковой.
Статья «Естествознание и история» направлена против
позитивизма в исторической науке с его попытками, с одной стороны,
представить историю как хаос случайных событий, а с другой — вывести
исторические законы, подобные законам природы. Для Калера история ни
в коей мере не является нагромождением не связанных между собой
явлений. Истории свойственна сопряженность событий. Ее ход — это
взаимодействие событий и концепции, реальности и осмысляющего ее
сознания, и потому история не может быть подчинена тем же законам,
что и природа. «Зыбкая основа» человеческого бытия требует от
гуманитарных наук гибкости и подвижности, ибо нет таких явлений в мире
людей, которые можно было бы признать конечными. Конечное
превращается в миф («Живучесть мифа»).
Социально-политическая эволюция человека неизменно
сопровождалась эволюцией сознания в направлении все более широкой
секуляризации и рационализации жизни. Это привело к духовному кризису
современности, когда человек оказался оторванным от тех прочных
устоев, которые предоставляли ему религия и культурная традиция, и
остался один на один с миром, достаточно чуждым его психике.
Достижения, порожденные человеческим сознанием, отсекли сознание от тех
подсознательных источников ценностей, которые прежде служили
цельности человеческой личности. Тому, какую важную роль играет
подсознание в жизни человека, посвящены статьи «Живучесть мифа» и
«Разнообразие бессознательного».
С проблемами психологии тесно связан и раздел, посвященный
проблемам искусства. Калер прослеживает те процессы в современном
искусстве, которые свидетельствуют о вторжении в него сил,
способствующих распаду личности в современном мире. Господство разума,
начавшееся с вычленения мирского мышления в Средневековье,
постепенно дискредитировало себя на протяжении XVIII—XX вв. Процессы,
протекающие в сфере модернистского искусства, суть отражение
процессов, охвативших сферу сознания. Распад художественной формы в
живописи и сомнительные лингвистические эксперименты в литературе
свидетельствуют о распаде человеческого сознания, а в итоге — служат
распаду личности («Распад художественной формы»).
Проблемы, поднимаемые Калером, можно назвать вечными
(вспомним хотя бы, что на протяжении полнящегося кризисными
ситуациями XX в. философы разного толка многократно обращались к поискам
смысла истории), но, кажется, ни один современный мыслитель не вы-
316
разил их с такой тревогой и болью за судьбы человечества. «Реальность
Утопии», возникшая как отклик Калера на взрыв атомной бомбы над
Хиросимой, — это голос разума, взывающий к людям всего мира
осознать нависшую над ними угрозу и, объединившись, отвести ее. В
своей книге он не только поднимает наиболее острые проблемы,
порожденные духовной жизнью и культурой XX в., но пытается отыскать
способ их решения, путь «выхода из лабиринта», который, верит он,
будет найден. Недаром заключительная статья сборника посвящена
непреходящим ценностям человечества и носит название «Истина,
добро и красота». Именно эти вечные ценности должны помочь
человечеству, как бывало уже не раз, обрести верные ориентиры в океане
жизни, во всех ее хитросплетениях, создающих порой «объективную
видимость».
Спустя почти 40 лет после появления эссе Эриха Калера «Смысл
истории» и книги «Выход из лабиринта» мир людей много дальше
продвинулся по пути технической оснащенности, по пути рационализации,
сайентификации и деперсонализации, по пути, на котором так легко
затеряться в круговерти больших и малых событий, так легко потерять
путеводную нить в лабиринте жизни, забыть об основных человеческих
ценностях — истине, добре и красоте. Именно поэтому сочинения
Калера звучат так злободневно. Актуальность (возможно, вечная актуальность)
Калера - в его настойчивом требовании сознательного, осмысленного
поиска человечеством своего места в потоке истории, осознание
которого поможет постановке и решению насущных вопросов и задач его
бытия, а в конечном итоге — обретению бессмертия.
Примечания
1 Engel Ε. J. Erich von Kahler// Deutschsprachige Exilliteratur seit 1933. Bd. 2. Teil 2.
/ Hrsg. J.M. Spalek, J. Strelka. Bern, 1989; KielA. Erich Kahler: Ein «uomo universale»
des zwanzigsten Jahrhunderts. Bern, 1989; Lauer G. Die verspätete Revolution: Erich
von Kahler: Wissenschaftsgeschichte zwischen konservativer Revolution und Exil.
Berlin; New York, 1995.
2 Israel unter den Völkern. В 1967 г. вышла из печати одноименная книга на
английском языке (The Jews among the Nations), но эти книги не идентичны. В
последней содержатся работы, написанные в 1944-1963 гг.: «Евреи и арабы» (1944),
«Кто такие евреи?» (1950), «Евреи в Европе» (1945), «Евреи и немцы» (1963).
3 В 1945 г. Г. Брох проследил такую логику развития философии истории Э.
Калера: «Династия Габсбургов» - «Немецкий характер в истории Европы» -
«Человек-мерило». Несомненно, эту линию продолжает (и увенчивает) «Смысл
истории».
Библиография
Избранная библиография сочинений Эриха Калера
Syrinx. Gedichte. Leipzig: Magazin-Verlag, 1903.
Die Brücke der Iris. Gedichte. Berlin/Leipzig, Schuster & Löffer, 1905.
Verlorene Süssigkeit. Novellen. Leipzig, 1906.
Über Recht und Moral. Philosophische Dissertation der Universität Wien. Brunn,
1911.
Weltgesicht und Politik. Heidelberg, Weiss'sehe Universitätsbuchhandlung, 1915.
Das Geschlecht Habsburg. München: Verlag Der Neue Merkur, 1919.
Der Beruf der Wissenschaft. Berlin: Georg Bondi, 1920.
Israel unter der Völkern. München: Delphin-Verlag, 1933 (тираж уничтожен).
Israel unter den Völkern. Zürich: Humanitas-Verlag, 1936; Heidelberg: L. Stiehm,
1973.
Der deutsche Charakter in der Geschichte Europas. Zürich: Europa-Verlag, 1937.
Man the Measure: A New Approach to History. New York: Pantheon Books, 1943;
London, Jonathan Cape, 1945; New York: Pantheon Books, 1948; Cleveland: World
Publishing Company, 1967; London:Boulder, 1986.
Nihilism and the Rule of the Technics // The Menorah Journal 31,2 (July/
September 1943). P. 176-192.
Der Mensch und die Sachen: Zur Krise des Menschen in der technischen Umwelt
// Deutsche Blätter 3, 26 (Juli/August 1945), S. 27-37.
Das Fortleben des Mythos // Amerikanische Rundschau (Oktober 1946).
The Persistence of Myth // Chimera 4, 3 (Spring 1946). P. 2-11.
Preliminary Draft of a World Constitution. Chicago, University Press, 1948.
Die Krise des Indiviiduums // Hamburger Akademische Rundschau 3, 6 (1949),
S. 401-405.
The Germans. Princeton, University Press, 1951 (1955; 1974; London: Boulder,
Westview Press, 1985).
Der Verfall des Wertens // Merkur 43, 9 (September 1951), S. 827-850.
Die Verantwortung des Geistes: Gesammelte Aufsätze. Frankfurt am Main:
Fischer Verlag, 1952.
Das Kunstwerk und die Geschichte: Für Emil Preetorius // Merkur 8, 10 (Oktober
1954), S. 913-923; // Im Umkreis der Kunst: Festschrift für Emil Preetorius zum
70. Geburtstag. Frankfurt: Insel, 1955. S. 159-168.
The Tower and the Abyss: An Inquiry into the Transformation of the Individual.
New York: G. Braziller, 1957; London: Jonathan Cape, 1958; New York: Viking
Press, 1967.
The True, the Good, and the Beautiful: Lecture Delivered on December 10, 1959.
318
Columbus; Ohio: The Ohio State University, 1960.
The Nature of the Symbol // Symbolism in Religion and Literature / Ed. R. May
New York: G. Braziller, 1960. P. 50-74.
Culture and Evolution // The Centennial Review 5, 3 (Summer 1961). P. 239-259.
Das Wahre, das Gute und das Schöne // Die Neue Rundschau 72, 3 (1961).
S. 467-496.
Die Philosophie von Hermann Broch. Tübingen: J.C.E. Mohr, 1962.
Formen und Provinzen des Unbewussten // Merkur 16, 8 (August 1962).
S. 701-719; 16, 9 (September 1962). S. 838-851.
The Forms of Form // The Centennial Review 7, 2 (Spring 1963), S. 131-143.
The Meaning of History. New York: G. Braziller, 1964; London: Chapmann & Hall,
1965; Cleveland: The World Publishing Company, 1968; Toronto: Nelson, Foster &
Scott, 1968.
Der Sinn der Geschichte. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1964.
Stefan George: Grosse und Tragik. Pfullingen: G. Neske, 1964; Frankfurt am Main:
J. Knecht, 1967; Berlin: Springer, 1970.
Form und Entformung // Jahrbuch der Deutschen Akademie für Sprache und
Dichtung. Heidelberg, Lambert Schneider, 1964. S. 18-58; // Merkur 19, 4 (April/Mai
1965), S. 318-355; 19, 5 (Juni/Juli 1965), S. 413-428.
Science and History // Homage to Galileo: Papers Presented at the Galileo
Quadricentennial. University of Rochester / Ed. Kaplon M.F. Cambridge. Massachusetts:
M.I.T. Press, 1965. P. 115-134.
The Jews among the Nations. New York: F. Ungar, 1967.
Out of the Labyrinth: Essays in Clarification. New York: G. Braziller, 1967.
The Disintegration of Form in the Arts. New York: G. Braziller, 1968.
The Orbit of Thomas Mann. Princeton: University Press, 1969.
Untergang und Übergang. Essays. München: dtv, 1970.
What is Art? // Problems in Aesthetics. / Ed. M. Weitz. New York: Macmillan, 1970.
P. 157-171.
Die Auflösung der Form: Tendenzen der modernen Kunst und Literatur. München,
Paul List, 1971.
Judentum und Judenhass: Drei Essays. Wien: Österreichischer Bundesverlag,
1991.
Литература об Эрихе Кодере
Jonas LB., Jonas K.W. Das Werk Erich von Kahlers: Eine Bibliographie //
Modern Austrian Literature 19, 1 (1986). P. 63-94.
Engel E.J. Erich von Kahler // Deutschsprachige Exilliteratur seit 1933 / Ed.
J.M. Spalek, J. Strelka. Bd. 2. New York, Teil 2. 2, Bern 1989. S. 1644-1668.
Kiel A. Erich Kahler: Ein «uomo universale» des zwanzigsten Jahrhunderts -
seine Begegnungen mit bedeutenden Zeitgenossen vom Georgekreis, Max Weber bis
Hermann Broch und Thomas Mann. Bern, 1989.
Lauer G. Die verspätete Revolution: Erich von Kahler: Wissenschaftsgeschichte
zwischen konservativer Revolution und Exil // Philosophie und Wissenschaft:
Transdisziplinäre Studien. Bd. 6. / Hrsg. C.F. Gethmann, J. Mittelstrass. Berlin, New
York: Walter de Gruyter, 1995.
Матузова В. И. Эрих фон Калер // Культурология. XX век: Энциклопедический
словарь. М.; СПг., 1998. С. 291-292.
Матузова В.И. Место философской традиции Средневековья в концепции
философии истории Эриха Калера // Преемственность и разрывы в
интеллектуальной истории: Материалы научной конференции: Москва, 20-22 ноября 2000 г. М.,
2000. С. 139-142.
319
Рецензии на «Смысл истории»
Demon В. II Harper's Magazine 228 (June 1964). P. 119.
Fox С J. Does History Have a Meaning? // Commonweal 80, 16 (10 July 1964).
P. 488 f.
Gay. The Past, Imperfect; the Present Tense // Book Week 1,51 (30. August
1964). P. 18.
Krieger L. The International Relations of History // Yale Review 54 (December
1964). P. 273.
Lichtheim G. History as Philosophy // The New York Review of Books 2 (28 May
1964). P. 8-10.
Smith P. II Pacific Historical Review 33 (November 1964). P. 494-496.
Strout C. Philosophy as History. A Mixed Mode // Virginia Quarterly Review 40,
4 (Fall 1964). P. 662-665.
Wilkinson W.W. II Maryland Historical Review 59 (December 1964). P. 392 f.
Woodward C.V. II New York Times Book Review (26 July 1965).
Anonymus II Times Literary Supplement (6. May 1965). P. 354.
Gooch G.P. A Purpose of History? // Contemporary Review 207 (August 1965).
P. 109 f.
Higham J. II William and Mary Quarterly 22 (January 1965). P. 139-141.
Horowitz /. // South Atlantic Quarterly 64, 1 (Winter 1965). P. 129 f.
Lucey W. II Manuscripts 9 (July 1965). P. Ill f.
Muller HJ. II Political Science Quarterly 80 (March 1965). P. 117f.
Nadel G.H. II American Historical Review 70 (January 1965). P. 499.
Tonsor S.J. II Catholic Historical Review 50 (January 1965). P. 36If.
Gray W. II Journal of American History 52 (March 1966). P. 810-813.
Nathanson M. II Social Research 34, 4 (Winter 1967). P. 744-746.
Рецензии на «Выход из лабиринта»
Anonymus //Christian Century 84 (6. September 1967). P. 1135.
Bloomquist Η II Library Journal 92 (August 1967). P. 2797.
Chouibard T. The Symbol and Archetype in Analytical and Literary Criticism //
Journal of Analytical Psychology 15, 2 (July 1970). P. 155-164.
Указатель имен
Аббас I Великий 212, 302
Аббат де Сен- Пьер 76, 77, 79, 80, 85, 134
Август 36, 67, 128
Августин Бл. 33, 36-50, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 64, 67, 68, 96, 97, 101, 106,
109, 119, 127, 159, 220, 222, 223, 225, 238
Аверроэс (Ибн Рушд) 52, 53, 133
Авсоний Децим Магнус 226, 303
Агобард Лионский 49, 129
Адаме Б. 21, 126
Адлер М. 123,240,242,305
Азо 68, 69, 78, 133
Аларих I 36, 96, 128
Александр Македонский 22, 28, 66, 126, 127, 169
Альберт Великий 56, 130, 277
Альберт Саксонский 55, 130
Амальрик Венский 57, 58, 132
Ансельм Кентерберийский 50, 129, 224
Антиох III Великий 29, 127
Антиох IV Эпифан 28, 29, 127
АнуйЖ. 215
Аполлинер Г. 259, 306
Ариети С. 214
Арий 129
Аристотель 17, 18, 27, 50-56, 58, 64, 65, 71, 73, 76, 82, 123, 124, 145, 206,
220, 223, 245, 246, 277-280, 282
Аристофан 133
Афанасий Великий 48, 129
321
Бальзак О. де 247, 248, 305
Барнз Дж. 250
Барраклаф Дж. 100, 105, 123, 159, 166, 294
Барт Р. 254, 306
Баттерфилд Г. 55, 120
Бах И.С. 204, 301
БейльП. 85, 135
Беккерель A.A. 160, 298
Бекман М. 217, 253
Бенедикт Анианский 57, 131
Бензье М. 261
Бенн Г. 250, 287, 305
БеньянДж. 195,301
Бергсон А. 112, 138,251
Беренгарий Турский 50, 129
Берлин И. 107, 108, 123, 138
Бернар Клервоский 131
Бернард 67, 133
Бернард Шартский 68
Берроуз У. 257
Бертран А.Ж.Ф. 233, 304
БертхольдЛ. 105, 137, 138
Бетховен Л. ван 204, 205, 247, 301
Бирс А. 105, 138
Бисмарк Р.Э.Л. 104, 138
Биссье Ж. 260, 306
БлокМ. 7, 313
Блох Э. 290
Блэкмур Р.П. 267, 292
Боден Ж. 82, 83, 133, 144
Бодлер Ш. 249, 287, 288, 308
Больцано Б. 282 , 307
Бонавентура Дж.Ф. 53, 54, 130
Бонне Ш. 87, 135
Бор Н.189, 300
Босх И. 247, 305
Боэций Северин 51, 129
БрайсДж. 91, 136
322
Брак Ж. 260, 282, 306
Брейгель П. 210, 211, 247, 302
БрейдДж. 233, 304
Брехт Б. 287, 308
БрохГ. 225, 236, 246, 287, 290, 303, 311-313, 317
Бруно Дж. 82, 134,277
Бурже П. 235, 304
БуриданЖ. 55, 130
БуркхардтЯ.91, 111, 136, 144
Бутс Дж.У. 283
Бэкон Р. 56, 130
Бэкон Ф. 76, 79, 83, 85, 133
БюффонЖ. 80, 86-88, 122, 134, 148, 160
Вагнер Р. 204, 205, 301
Валент Флавий 48, 129
Валери П. 228, 229, 268, 304
Ван Гог В. 204, 205, 213, 253, 282, 301
ВанЭйкЯ. 210, 302
Вашингтон Дж. 104, 137
ВеберМ. 159,297,312
Веберн А. фон 247, 305
ВебленТ. 171,300
ВейльГ. 82, 122, 134
Вейсман А. 303
Вейтц М. 197-202, 206
Вёльфлин Г. 213, 247, 303
Вергилий Марон Публий 196, 291
Виейра да Сильва 260, 306
ВикоДж. 21,78, 83, 112, 122, 126
Вильгельм II 104, 138
Витгенштейн Л. 197, 199, 260, 301
Витело56, 130
Вобан С. Ле П. де 166,298
Вордсворт У. 287, 308
Вольтер 78, 85, 134, 135, 144
ВоррингерВ. 213, 303
323
Габо Η.260, 306
Гайдн Й.205, 302
Галилей Г. 55, 75, 97, 160, 167, 298
ГальтонФ. 241,305
Гаман И.Г. 88, 89, 135,233
Ганди М.К. 10, 124
Гарнье А. 260
Гартли Д. 231,304
Гартман Н. 282, 307
Гартман Э. фон 232, 290
Гашек Я. 299
Гегель Г.В.Ф. 61, 79, 81, 82, 84, 85, 88, 90, 91, 98, 105, 121, 132, 193, 280,
288,314
Гекатей 18, 125
Генрих Мореплаватель 97, 120
Георге С. 287, 308, 312
Гераклит 16, 17, 27, 124
Гербарт И.Ф. 234, 304
Гердер И.Г. 88, 89, 122, 135, 233
Геродот 18, 19, 22, 125
ГертвигО. 112, 138
Гесиод27, 127
Гёте И.В. 86, 204 , 216, 217, 233, 246, 281, 282, 285, 306
ГинзбергА. 257, 259, 306
Гиппократ 17, 125
Гитлер А. 170,299
Гланвилл Дж. 76, 79, 133
Гольбах П.А. 98, 134, 137
ГольбейнГ. 205, 211,301
Гомер 168, 191, 192,298,300
Горгий 17, 125
Грациан Флавий 63, 132
Григорий IX 62, 132
Гриммельсхаузен Х.Я.К. фон 305
Грюнвальд (Матис Нейхардт) 211, 302
Гуссерль Э. 282, 307
Давид Алрой 118
324
Дайн Дж. 254, 306
ДакеЭ. 147, 182,294,297
ДакуортДж.Э. 291
Д'АламберЖЛ. 85, 134, 135
Данте А. 123, 195, 196, 204, 217, 246, 273, 301
Дарвин Ч. 88, 135, 160
Дворжак М. 213, 303
Дега И.Ж.Э. 217
Декарт Р. 76, 77, 79, 98, 106, 122, 133, 167, 224-227, 230, 231, 241, 283
Демаре де Сен-Сорлен 76, 77, 133
Джеймс Г. 246, 305
Джемс У. 236, 304
Джойс Дж. 204, 205, 207, 236, 246, 258, 282, 301
Джотто ди Бондоне 204, 210, 301
Джулиани А. 261, 262
Дидро Д. 80, 134
Диккенс Ч. 247, 305
ДильтейВ. 112, 138,297
Диоклетиан 67
Дионисий Ареопагит 132
Дионисий Ареопагит (Псевдо) 58, 132
Дионисий Экзигий 32, 127
Дитрих Оренбургский 56
Домициан 62, 132
Донат Карфагенский 101, 137
Достоевский Ф.М. 235, 304
ДришХ. 112, 138
ДройзенИ.Г. 91, 136
Дуне Скот Иоанн 54, 130
Дюжарден Э. 236, 304
Дюран де Сен-Пурсен 54, 130
ДюрерА.205,213,217
Евклид из Мегары 276, 307
Еврипид 133
Евсевий Кесарийский 36, 128
Жид А. 215
325
ЖильсонЭ. 39, 119, 128
ЖиродуЖ. 215
Жоффруа Сент-Илэр Э. 87, 88, 135, 160
Зенон из Китионы 297
Зенон Элейский 308
Ибн Хальдун 21, 125
Ибсен Г. 246, 286, 305
ИкскюльЯ.фон 112,138
Иннокентий IV 62, 132
Иоанн XXII 61, 132
Иоанн Скот Эриугена 50, 129
Иоанн Солсберийский 67, 133
Иоахим Флорский 57-62, 97, 132
Ирвинг У. 299
Ирнерий 63, 68, 132
Исоу И. 264
Йегер В. 280, 307
ЙейтсУ.Б. 246, 305
Кабанис П.Ж.Ж. 79, 134
Кадуорт Р. 227, 303
КалерР. 312
КалерЭ. 120, 121, 123, 126,290,311-317
Кальвин Ж. 46, 56, 128, 166
Кандинский В.В. 302
Кант И. 80, 81, 85, 121, 134, 230, 232, 234, 278, 279, 286, 292, 300
Канторович Э. 64-66, 69, 120, 121, 132, 313
Карл Великий 48, 49, 128, 129, 169, 170
Карлштадт А.Р. фон Б. 101, 137
КаррЭ.Х. 108, 123, 138
Карус К.Г. 238, 239, 242, 305
Кафка Ф. 204, 255, 256, 291, 301
Кеплер И. 75, 97, 109, 133,225
Кернер К.Т. 233, 304
КеруакДж. 257, 306
326
КитсДж. 286,287, 308
Клайн Φ. 236, 305
Кларк К. 213, 303
Клее П. 217, 260
Клейст Г. фон 193, 246, 294, 300
Климент Александрийский 120
Клопшток Ф.Г. 88, 135, 233
Кожибский А. 186, 232, 290, 300
КокошкаО. 205, 253, 301
Кола ди Риенцо 61, 132
Коллингвуд Р.Дж. 9, 116, 124
Колридж СТ. 216
Кольбер Ж.П. 166,298
Кондорсе М.Ж.А.Н. 79, 134
Константин Великий 36, 127
Констанций 48, 129
Констебль Дж. 205, 302
КонтО. 84, 122, 123,135
Конфуций 273, 307
Коперник Н. 55, 75, 82, 97, 106, 109, 130, 167
КорнельП.79, 134
Корсо Г. 259, 306
КомтерШ.де 299
Крёбер А.Л. 152, 154, 294, 297
Кретьен де Труа 193, 301
Крюсе Э. 80, 134
Кудинов М.П. 217
Кульман О. 31, 119, 127
Кювье Ж. 86-88, 135, 160
Кюри П. 160, 298
ЛамаркЖ.Б. 88, 91, 135, 148, 160
Ламетри Ж.О. де 98, 137
ЛанжеС. 214
Лао Цзы 303
Лев III 48, 128
Лёви О. 229, 304
Леви-БрюльЛ. 15, 117, 124, 159
327
Леви-Стросс К. 159, 297
ЛёвитК. 116, 117
Лейбниц Г.В. 82, 134, 231-234, 277
Ленин В.И. 170, 299
Леонардо да Винчи 55, 204, 301
ЛеруаЛ. 77, 80
Лессинг Г.Э. 89, 135
ЛессингТ. 116, 117
ЛинкольнА. 10, 124,283
Линней К. 86, 87, 135
Лихтенберг Г.К. 232, 233, 290
ЛоккДж. 122,257
Лоррен К. 205, 301
Лоуэлл Р. 267, 268, 307
Лукреций (Тит Лукреций Кар) 217
Людовик IV Баварский 61, 132
Людовик XIV 78, 79, 134, 166
Людовик XVI 84, 134
Лютер М. 35, 46, 56, 75, 101, 106, 109, 128, 137, 220, 221, 223, 240, 241
Майстер Экхарт (Экхарт И.) 58, 132
Мазаччо Т. ди Дж. 204, 301
Макиавелли Н. 21, 76, 125, 126
Маклухан М. 258, 306
МаколейТ.Б. 91, 136
Максвелл Дж. К. 160, 298
Малларме С. 235, 249, 258, 267, 287, 296, 304
Мальбранш Н. 77, 134
Мальро А.Ж. 89, 135
Мальтус Т.Р. 88, 135
Мане Э. 209, 302
Манесье А. 260, 306
Манн Т. 15, 124, 215, 242, 246, 294, 312
Манхейм К. 271,307
Мао Цзэдун 92, 136
Маринетти Ф.Т. 259, 306
Маритен Ж. 290
Мария Французская 191, 300
328
Марк Аврелий 128, 277, 307
Маркион 129
Маркс К. 79, 81, 82, 98, 105, 134
Матисс А.Э.Б. 213, 246, 282, 303
МейтлендФ.У. 91, 136
Меланхтон Ф. 83, 134
Мендель Г.И. 298
Месмер Ф.А. 233, 304
Миллер Г. 249, 291,305
Мильтон Дж. 217
Минуций Феликс 31
Миро X. 260, 306
МишлеЖ.91,136
МоммзенТ. 91, 119, 136
Мон Ф. 262-264, 292, 296, 307
Мондриан П. 260, 306
Моне К.О. 205, 302
Монтеверди К. 204, 301
Монтескье Ш.Л. 7, 79, 134, 144, 313
Моцарт В.А. 204, 228, 301
Мухаммед 62, 132
МюррейГ. 69, 133
Наполеон I Бонапарт 91, 169, 170, 299
НеккерЖ. 166,298
Нерон (Клавдий Цезарь Нерон) 62, 132
НибурР.91,136
Николай Орем 54, 130
Николсон Б. 260, 306
Ницше Ф. 8, 21, 93, 111, 124, 234, 237, 314
Новалис 90, 136, 235, 286, 287
Ньютон И. 76, 82, 98, 101, 106, 109, 133, 151, 160
Оккам У. 54, 55, 130,298
Олби Э. 291
Ориген21,37, 119, 125
Орозий Павел 37, 106, 128, 159
Отгон I Великий 170, 297, 299
329
Отгон Фрейзингский 67-69, 76, 79, 133
Павел (библ.) 26, 31, 33-35, 37, 40, 48, 50, 60, 68, 96, 109, 127, 129, 193,
220,221
Панофский Э. 217
Парменид 308
Паскаль Б. 76, 133
Патрицци Ф. 277, 307
Пауль Ж. 233
Пеги Ш. 22, 126
Пейтер У. 287, 308
Перри Р.Б. 285, 308
Перро Ш. 76, 77, 79, 133
ПертцГ.Г. 91, 136
Петр Ауриоли 54, 130
Петр Пилигрим из Марикура 56, 130
Пизано Н. 210, 302
Пикассо П. 204, 213, 255, 282, 291, 293, 301, 307
Пиндар 117
Питтендрай Ч.С. 198, 294
Платон 17, 18, 27, 50, 58, 117, 123, 124, 128, 169, 193, 195, 246, 274, 276,
278,280,281,288,299
ПоЭ.А. 291
Полибий 7, 19-22, 95, 125, 313
ПоллардХ.Г. 123
Поллок Дж. 236, 302, 305
Помпеи Гней 66, 133
Поппер К. 99-101, 123, 137, 159
Порфирий 51, 129
Преториус Э. 209, 302
Присциан 67
Продик 17, 125
Пруденций 30, 36, 127
Пруст М. 204, 205, 247, 253, 301
Рабле Ф.305
Ранк О. 240, 305
Ранке Л. фон 91, 136
Рафаэль Санти 211, 302
330
РейДж. 86, 135
Резерфорд Э. 160, 298
Рейнхардт А.Ф. 291
Рембо А. 217, 235, 259
Рембрандт Харменс ван Рейн 204, 205, 210, 211, 283, 301
Реубени 118
РикардоД. 98, 137
РиккертГ. 99, 137,297
Рильке P.M. 168, 216, 229, 298, 312
РимерФ.В. 233, 304
Рихтер Ж.П.Ф. 90, 136
Рихтер X. 253, 296, 306
Роб-ГрийеА. 254, 291,306
Роберт Гроссетест 55, 56, 130
Роберт Молезмский 131
Розенберг Г. 306
Ротко М. 236, 256, 305
РоулиДж. 119,296
Рудольф 104, 138
Руссо Ж.-Ж. 78, 81, 85, 97, 122, 134, 135, 166, 233
РэнсомДж.К. 123
СаббатайЦеви 118
Салливан Г.С. 240, 305
СарротН. 253, 291,306
Сартр Ж.П. 215
Свесипп 17, 124
Сезанн П. 204, 205, 210, 213, 246, 301
Селевк I Никатор 126
Сенека (Луций Анней Сенека) 118, 277, 307
Сервантес М. де 129, 204, 299
Сигер Брабантский 52, 65, 130
Симпсон Дж.Г. 149, 198, 294
СлейданЙ. 83, 134
Сократ 18, 19, 122, 124, 223, 246, 273, 276-278, 307
Сорокин П. 21, 94, 126, 159
Софокл 133
Спиноза Б. 278, 281
331
Стайн Г. 293
Стерн Л. 252, 305
Стравинский И.Ф. 204, 205, 217
Суарес Ф. 277, 307
Суинберн А.Ч. 287, 308
Сципион Эмилиан 20, 125
Сципион (Луций Корнелий Сципион) 29, 127
Тауншенд Ч. 137
Тернер Дж.М.У. 205, 302
Тик Л. 90, 136
ТиффаниАТ. 198,294
Тициан 204, 205, 213, 301
Тоби М. 260, 305
Тойнби А.Дж. 15, 21, 78, 89, 94, 112, 114, 124, 144, 147, 155, 159, 211
ТоквильА. 91, 136
Толстой Л.Н. 287, 305
Торндайк Э. 303
ТэнА.91, 136
ТюргоА.81,84, 122, 134, 166
УайлдерТ. И, 124
Уайльд О. 287, 308
УайтхедА.Н. 203, 301
Уитмен У. 249, 259, 306
Уитмен X. 290
Уорф Б.Л. 292
Файхингер X. 108, 138
Фарадей М. 160, 298
Филон Александрийский 50, 120, 129, 195
Фихте И.Г. 85, 90, 105, 135, 233, 234
Флетчер У.М. 229
Флобер Г. 204, 205, 246, 248, 258, 287, 301
Фома Аквинский 53, 54, 71, 120, 130, 277, 292
Фонтенель Б. Ле Бонье де 77, 79, 82, 134
Фортлаге К. 238, 305
Франк Я. 118
332
Франц Иосиф 137, 312
Франц Фердинанд 104, 137
Франциск Ассизский 97
Фрейд 3. 128, 188, 220, 227, 233, 238-242, 251, 294, 297, 300
Фредегиз49, 129
Фридрих I Барбаросса 64, 130, 132, 170, 299
Фридрих II Гогенштауфен 56, 61, 62, 130, 170, 299
ФробениусЛ. 112, 138, 154
Фромм Э. 240, 278, 305
Фукидид 18, 19,22, 125
Фюстель де Куланж Н.Д. 91, 136
Хайссенбюттель Г. 262, 307
Хаксли Дж. 148, 149, 151,297
Харди Т. 248, 305
Харншоу Ф.Дж.К. 106
ХаскинсЧ.Г. 51,63, 120, 129
Хейквилл Дж. 78, 111
ХеррикКДж. 231
Хитчинс P.M. 123
Хопкинс Дж.М. 235, 249, 304
Хрисипп 30, 127
Хюльсенбек Р. 259
Цельс 31
Цензорин 27, 127
Цицерон Марк Туллий 143, 225, 276, 297
Цукеркандлер В. 215
Чехов А.П. 246, 305
ШарденТ.де 251,305,315
Шарко Ж.М. 233, 304
Шварц А. 312
Шекспир В. 123, 204, 247, 273, 301
Шеллинг Ф.В. 293
Шёнберг А. 204, 205, 301
Шефтсбери А.Э.К. 277, 286, 307
333
Шиллер Ф.К.С. 233, 285, 286, 308
Шлегель Ф. 89, 90, 102, 122, 123, 135, 235
Шницлер А. 236, 304
Шопен А. 260.
Шопенгауэр А. 234
Шпенглер О. 21, 94, 111, 112, 126, 144, 147, 154, 155, 159,297,314
ШтаупицИ. Фон 221,303
Штейн фон Г.Ф.К. 91, 136
Эйнштейн А. 10, 101, 109, 124, 160, 312
Элиот Т.С. 250, 305
Эль Греко Д. 211,302
Эмпедокл 169, 299
Энгельс Ф. 134
Эсхил 133
Юлиан 48, 129
Юнг К.Г. 188, 189, 240-242, 294, 300
Яноух Г. 255, 306
ЯсперсК. 8, 124
Содержание
Смысл истории
Смысл смысла 8
История истории 14
Смысл истории 95
Примечания 116
Комментарии 123
Выход из лабиринта
Предисловие 141
Часть первая
Культура и эволюция 143
Естествознание и история 157
Живучесть мифа 168
Реальность утопии 174
Дополнение к Части I 182
Часть вторая
Природа символа 183
Что такое искусство? 197
Искусство и история 209
Дополнения к Части II 214
Часть третья
Разновидности бессознательного 218
Распад художественной формы 244
Истина, добро и красота 270
Дополнения к Части III 289
Примечания 294
Комментарии 297
В. И. Матузова
Эрих Калер: Размышляя о судьбах человечества 309
Примечания 317
Библиография 318
Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская 321
Научное издание
Книга Света
Эрих Калер
Избранное.
Выход их лабиринта
Корректор Н.И. Кузьменко
Компьютерная верстка В.Д. Лавреников
ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 20.01.2008
Гарнитура NewtonC. Формат 60х90'/16. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21
Уч.-изд. л. 23,6. Тираж 1000 экз. Заказ 937
Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН).
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82
Тел.: 334-81-87 (дирекция)
Тел/факс: 334-82-42 (отдел реализации)
Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14