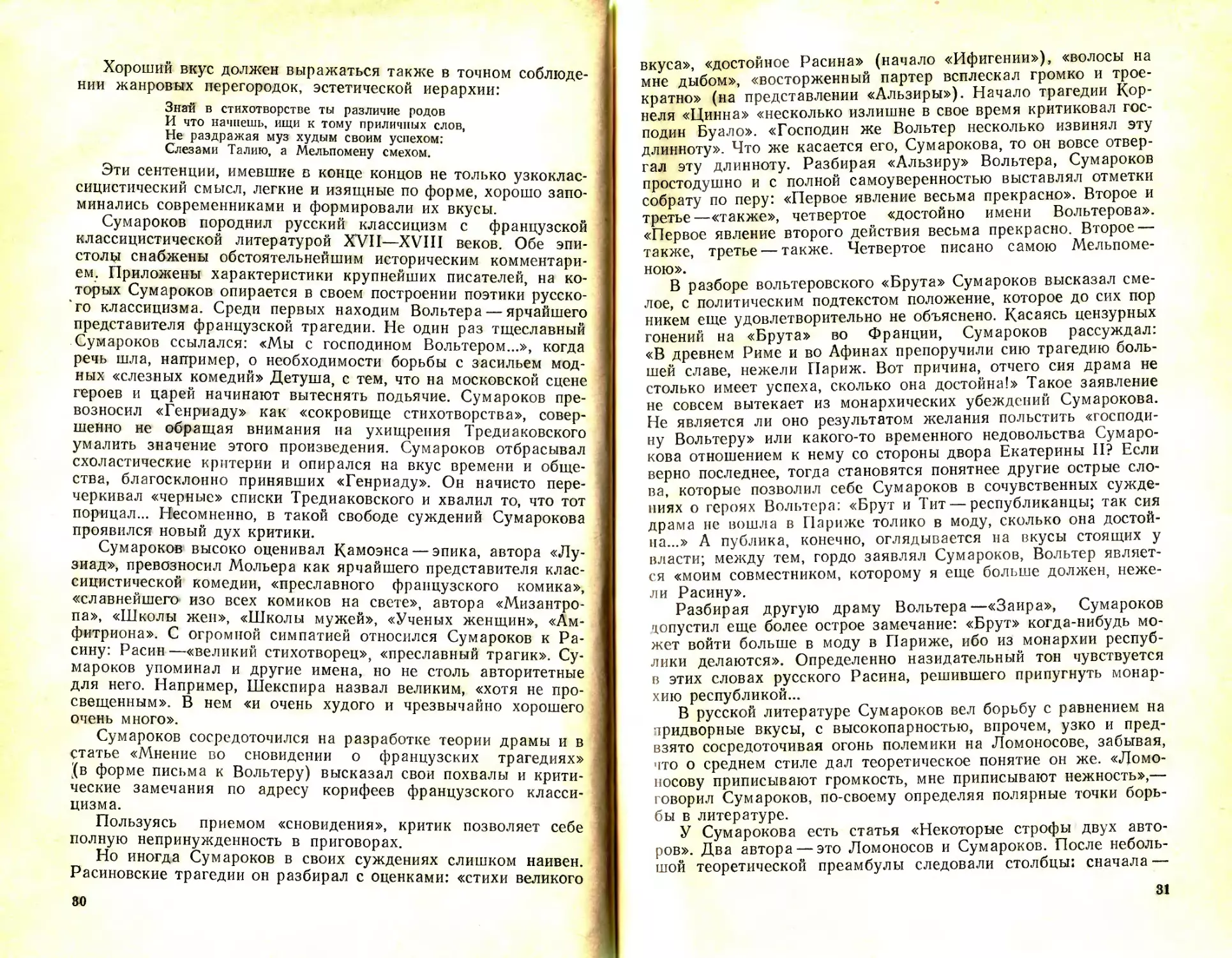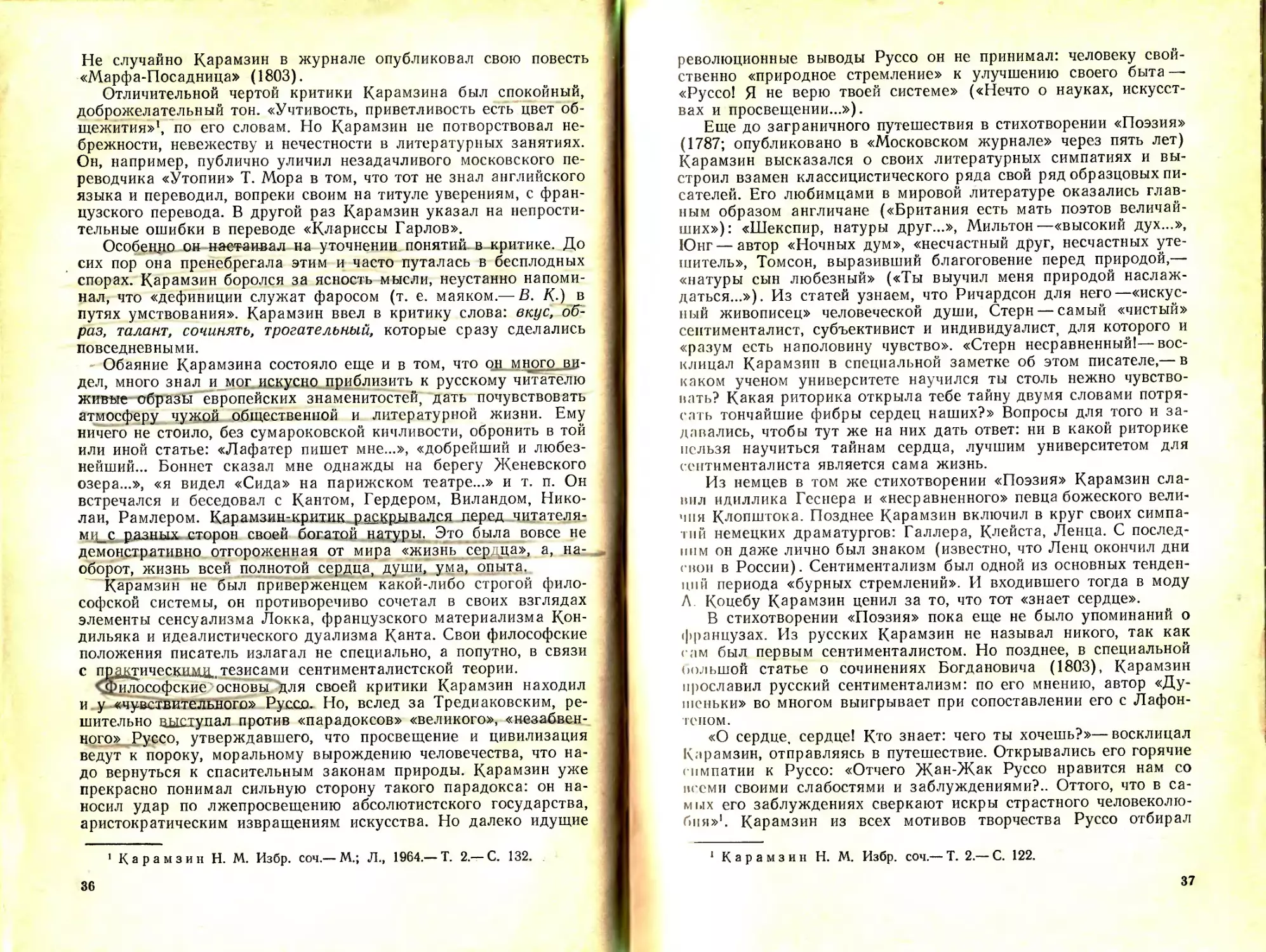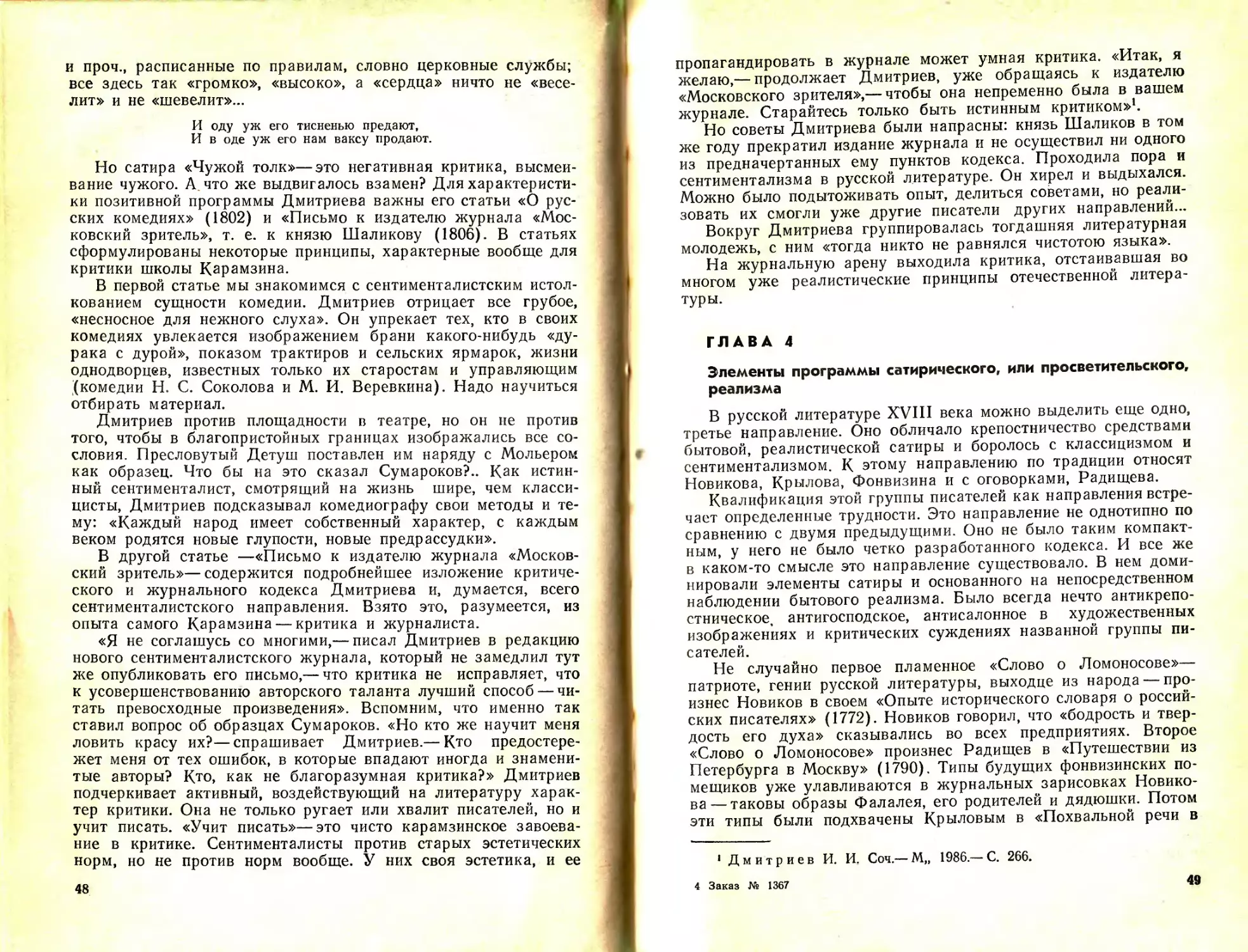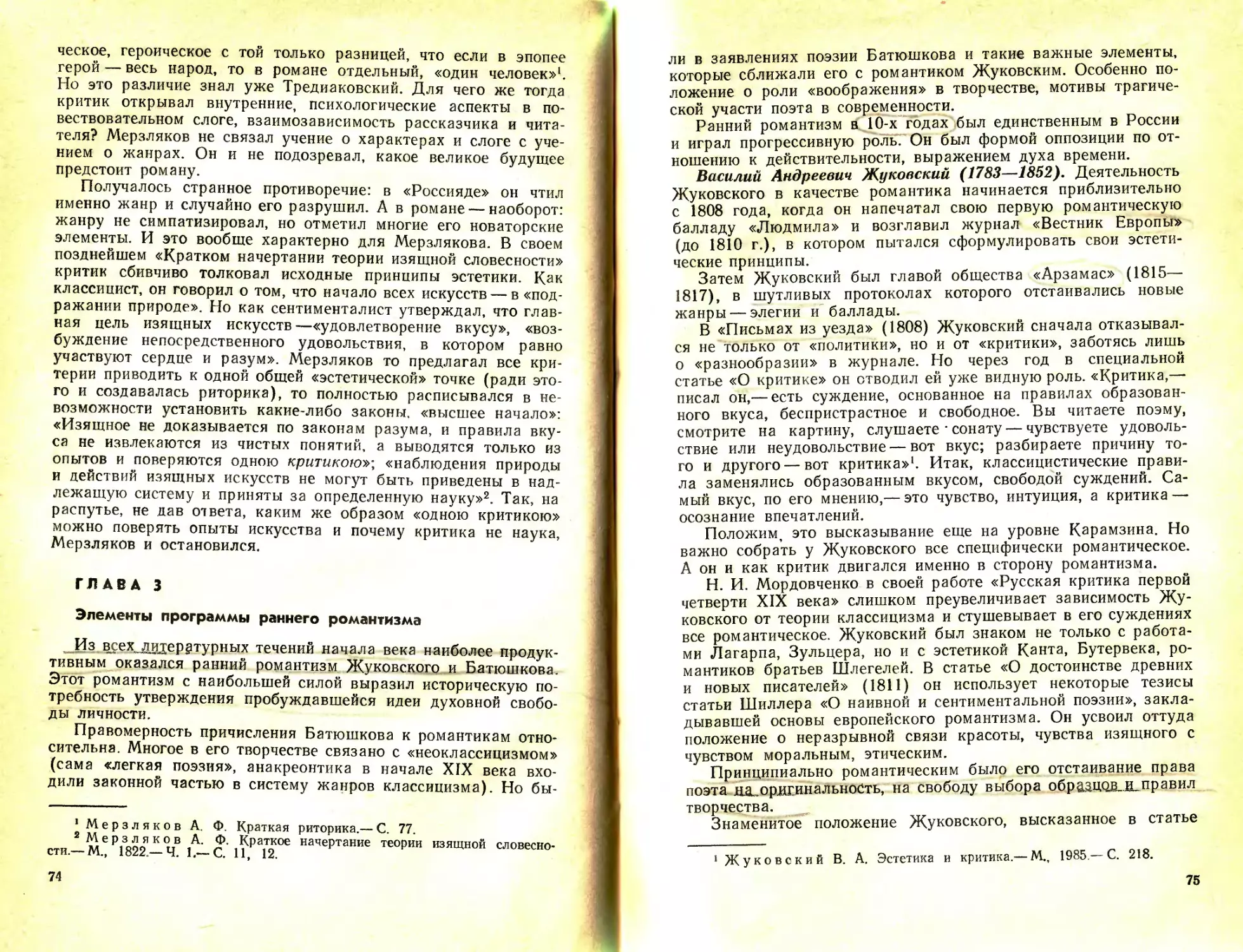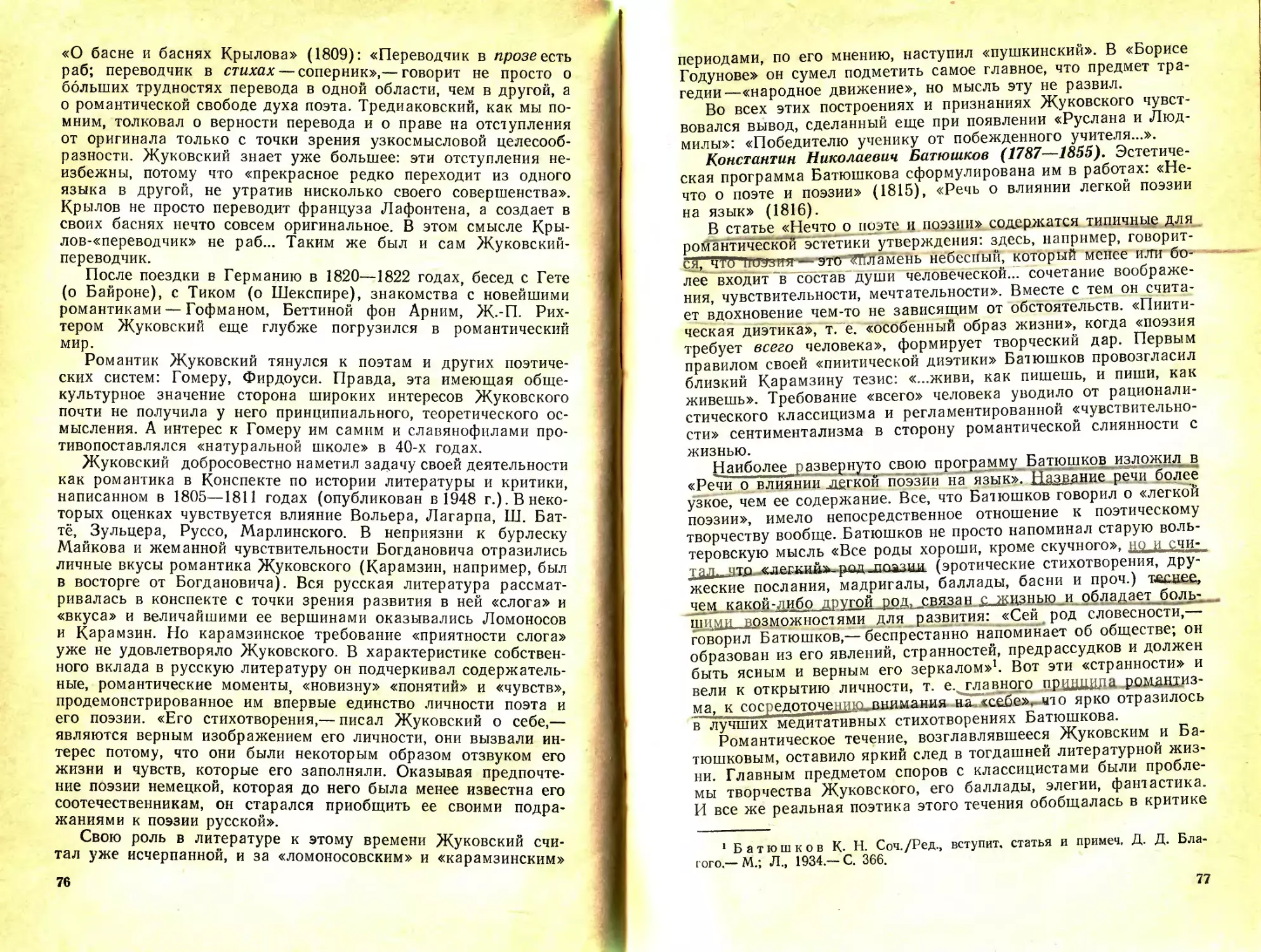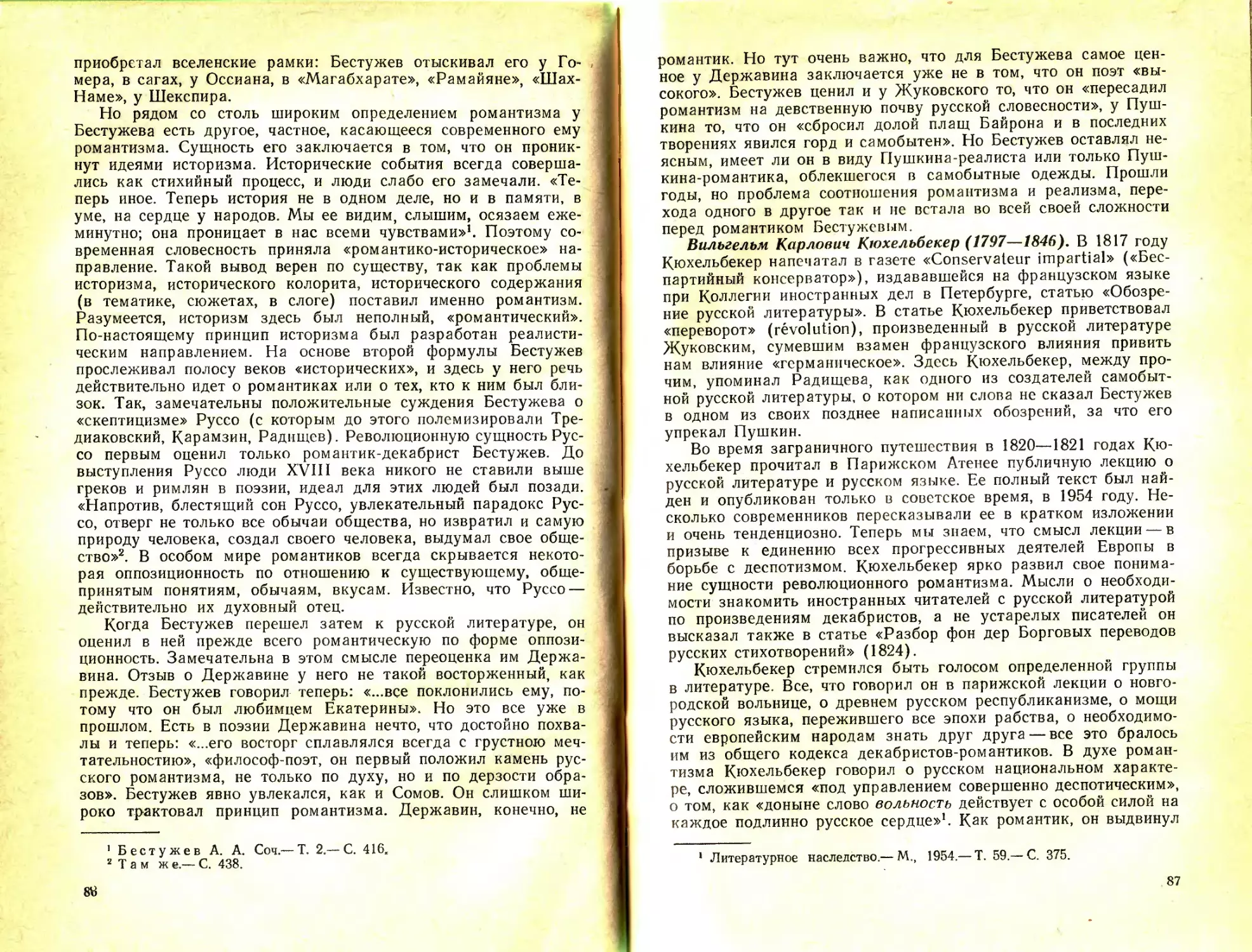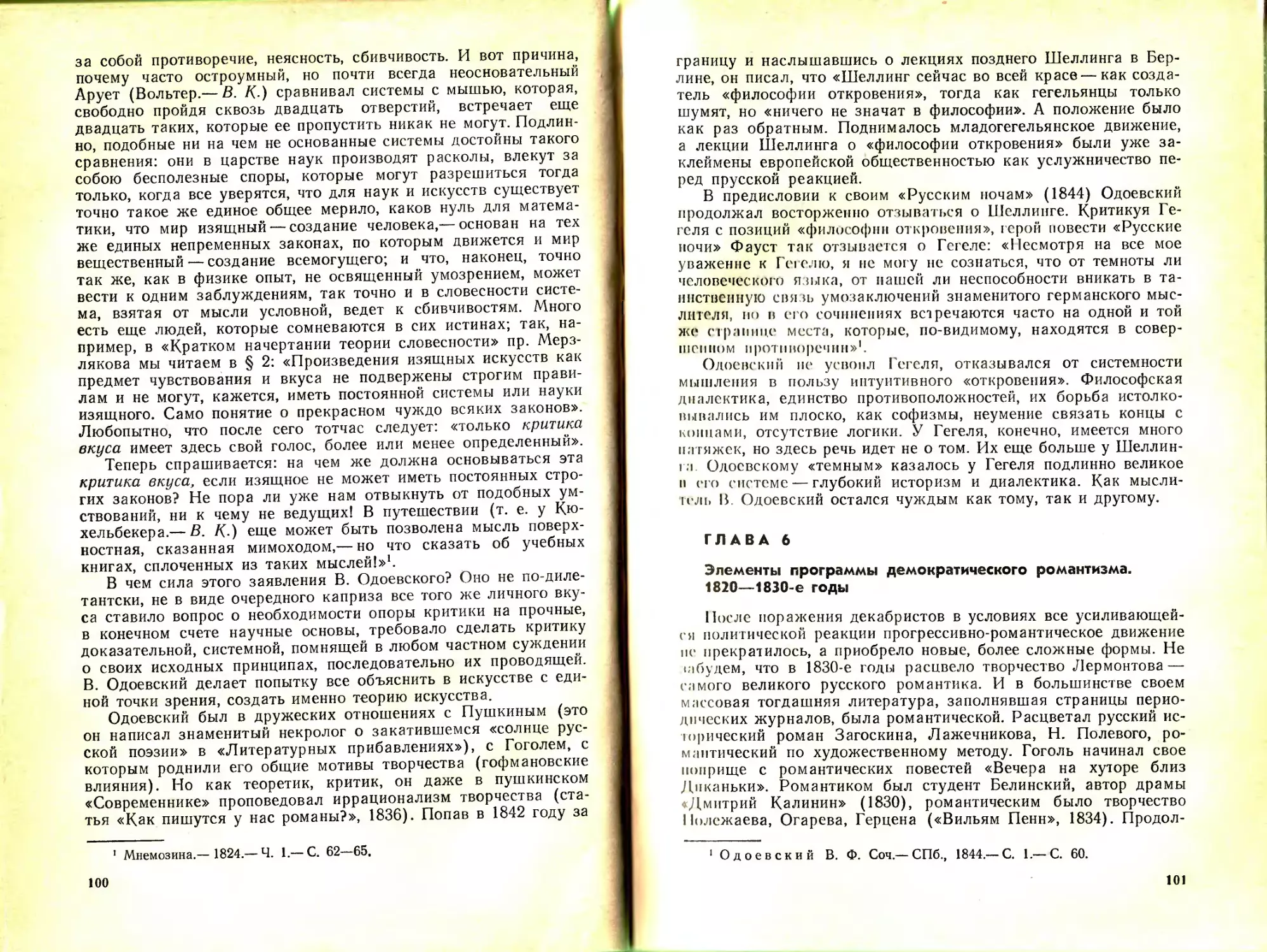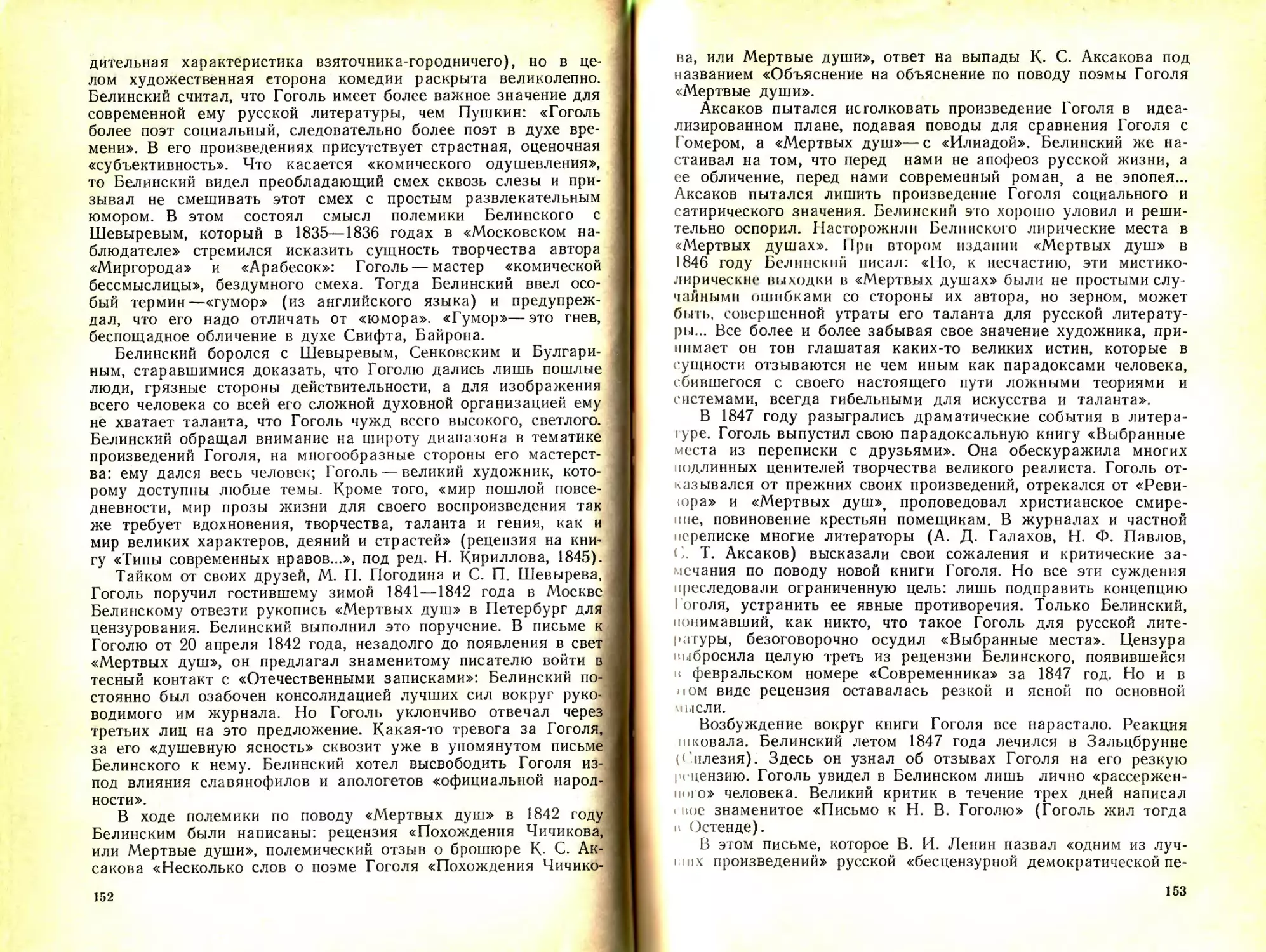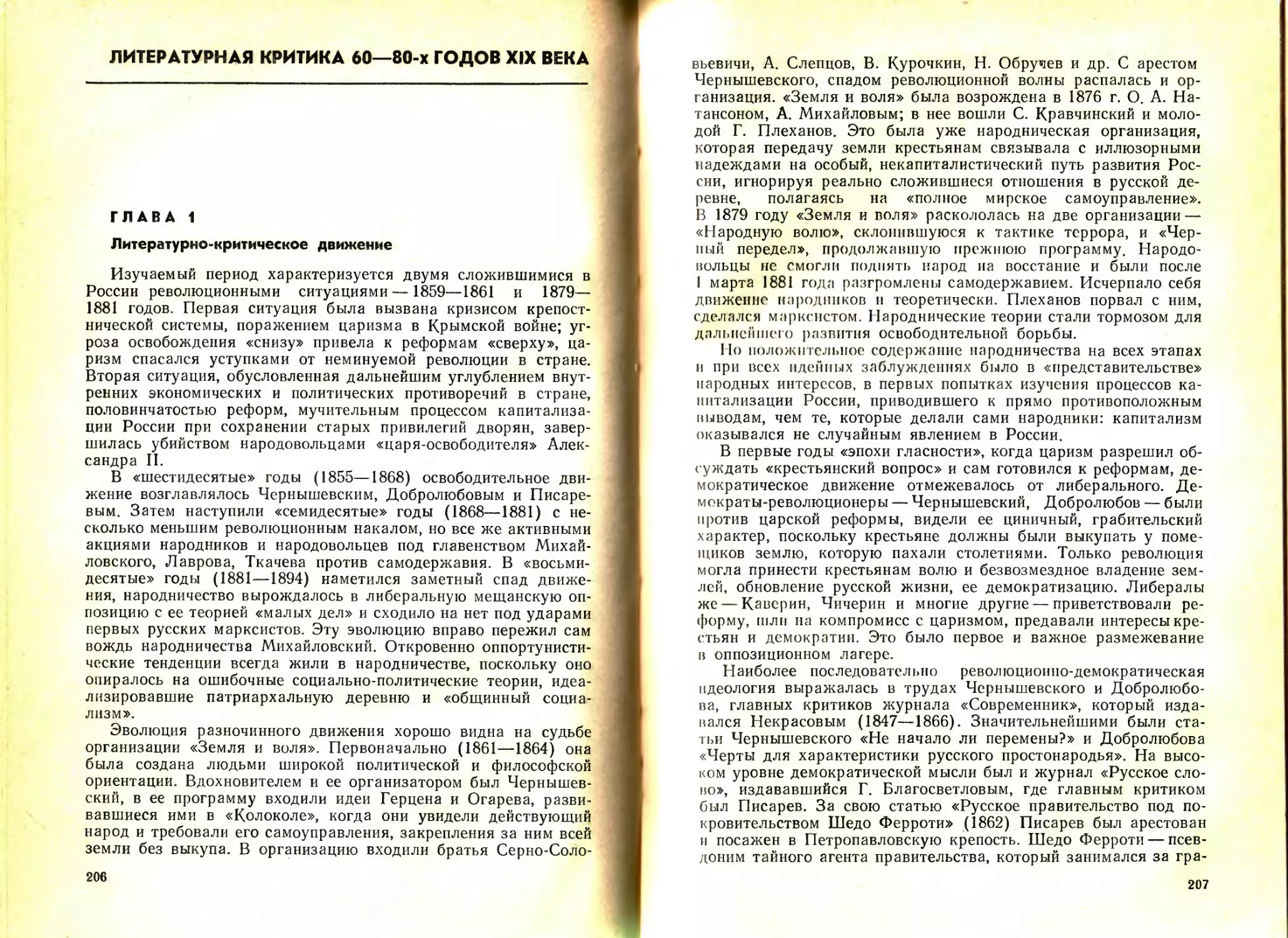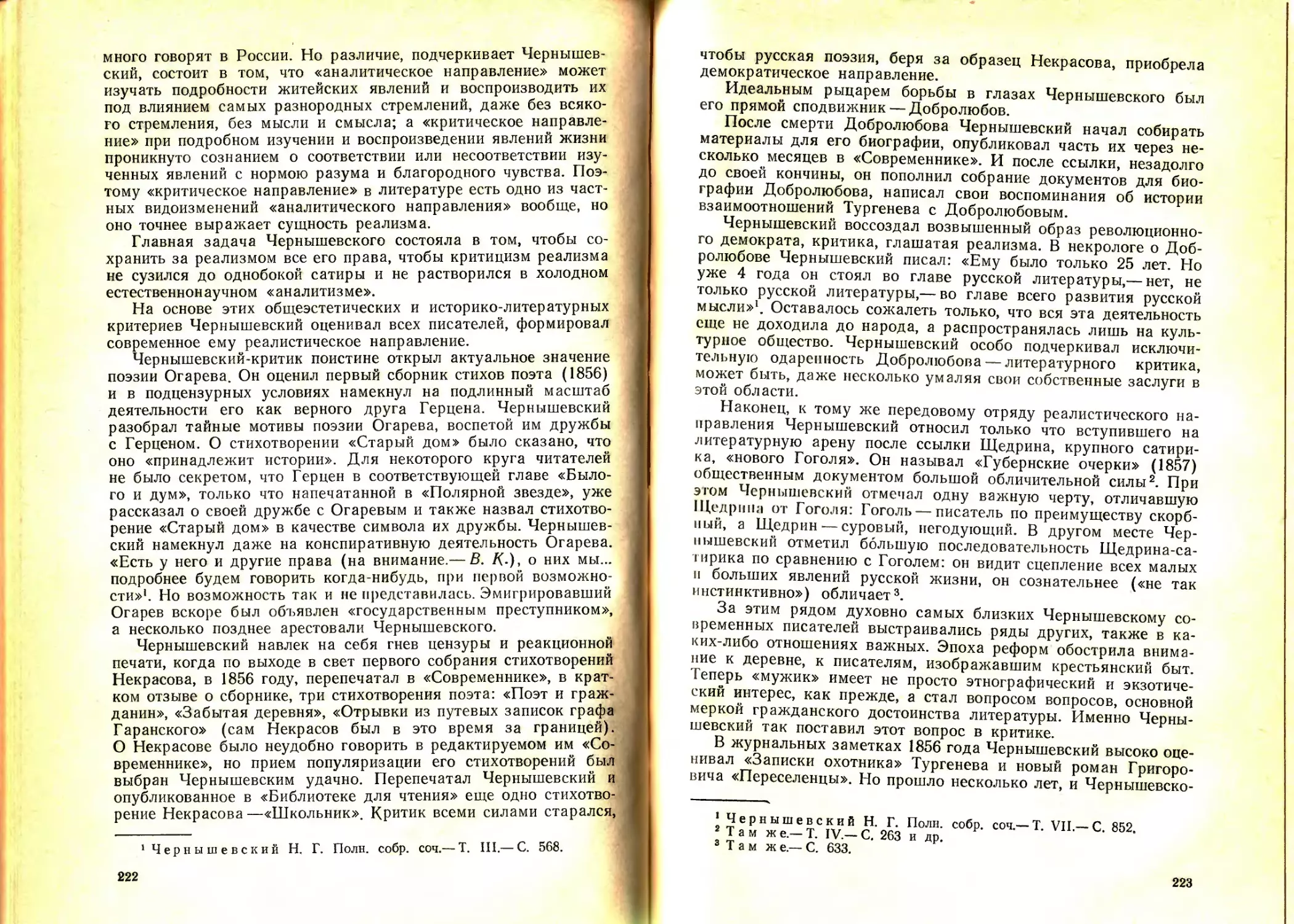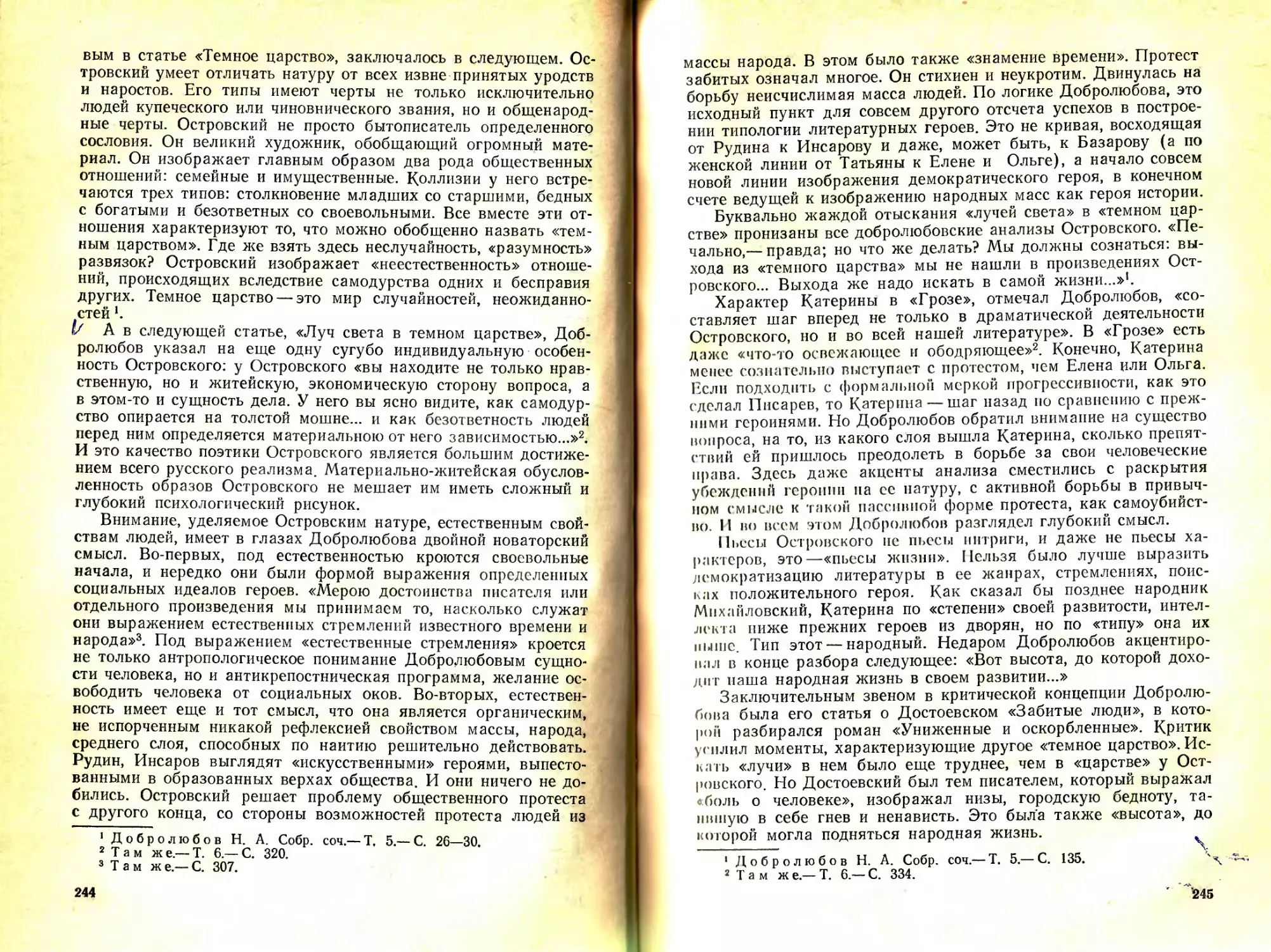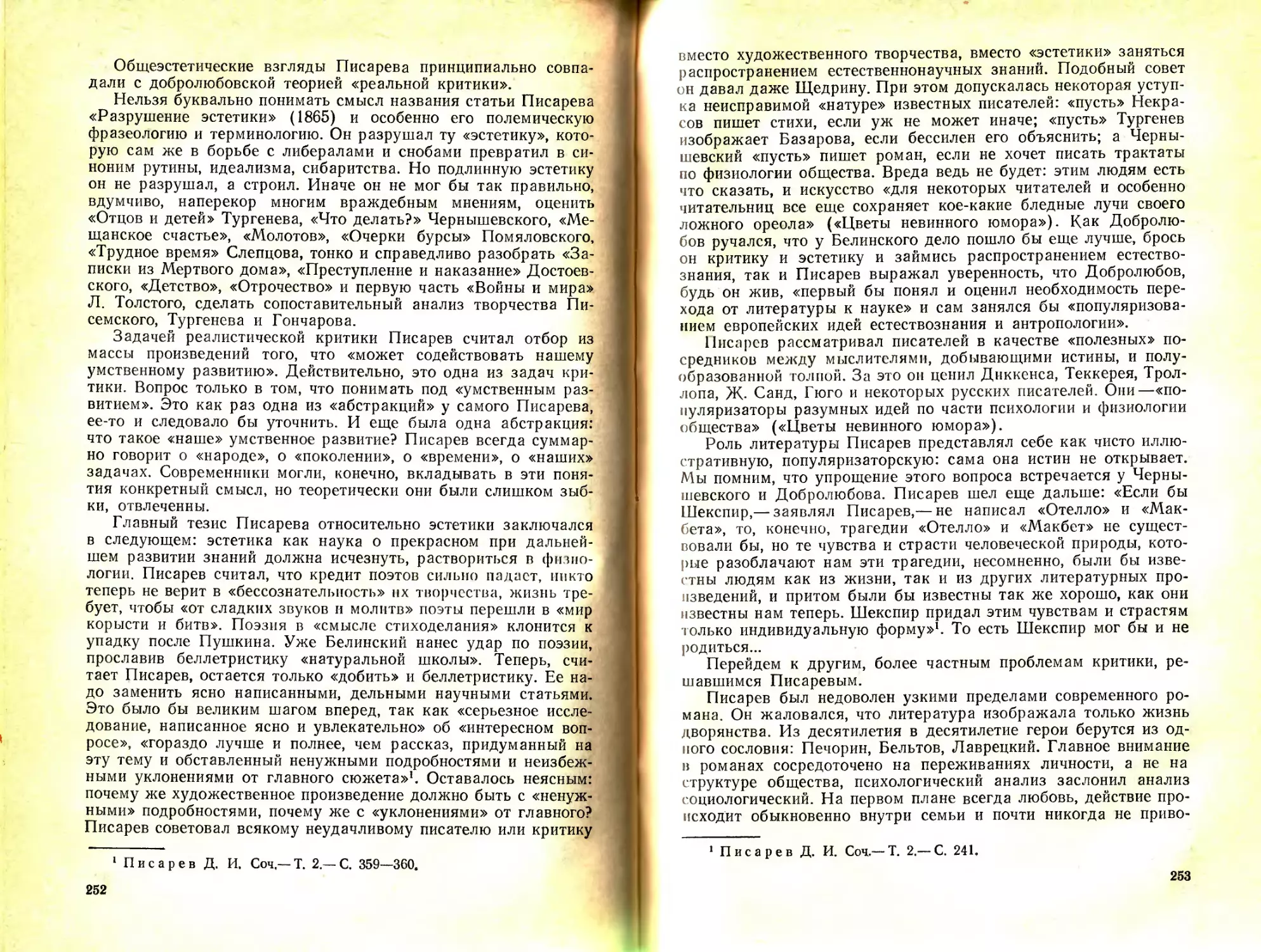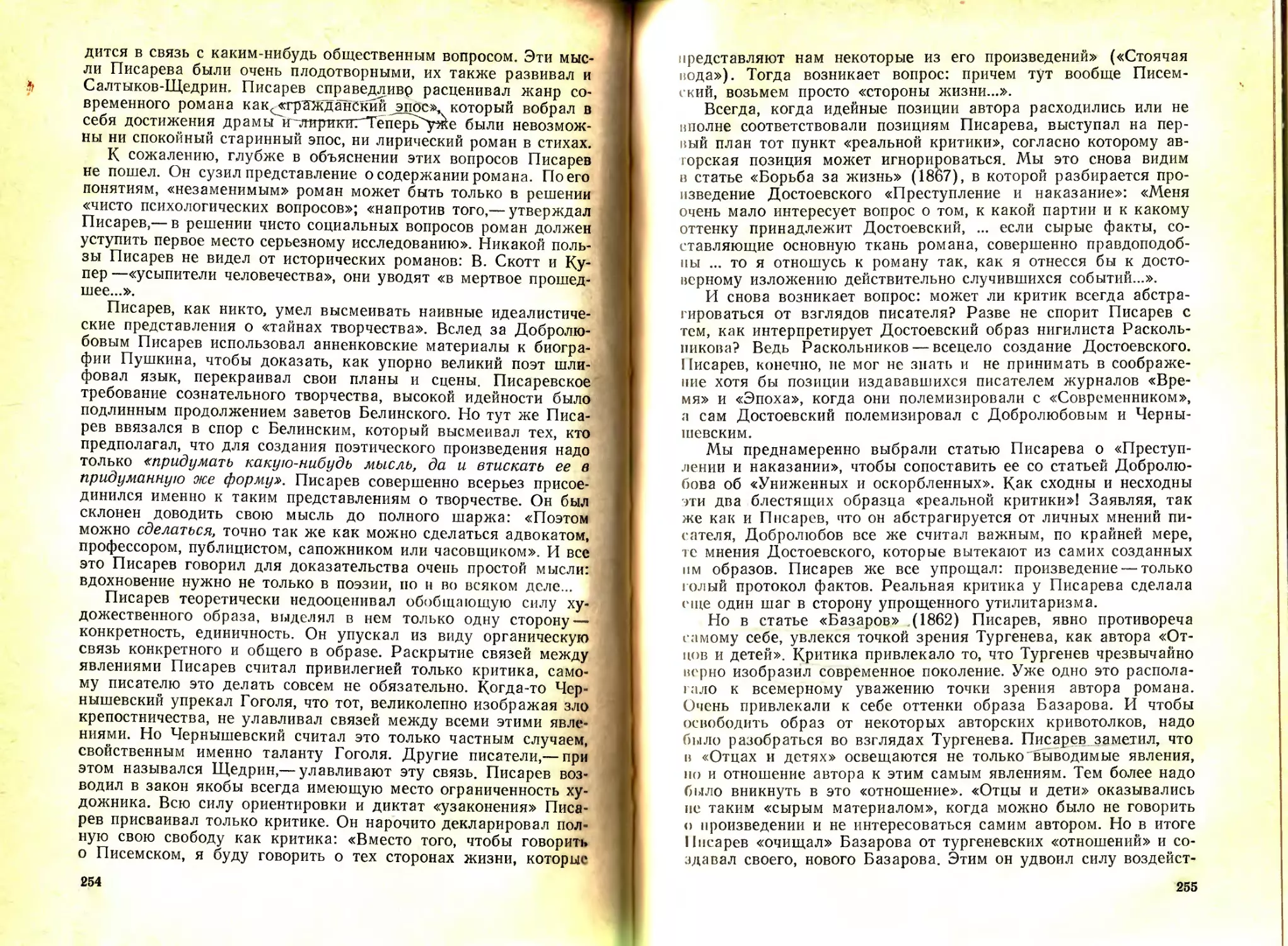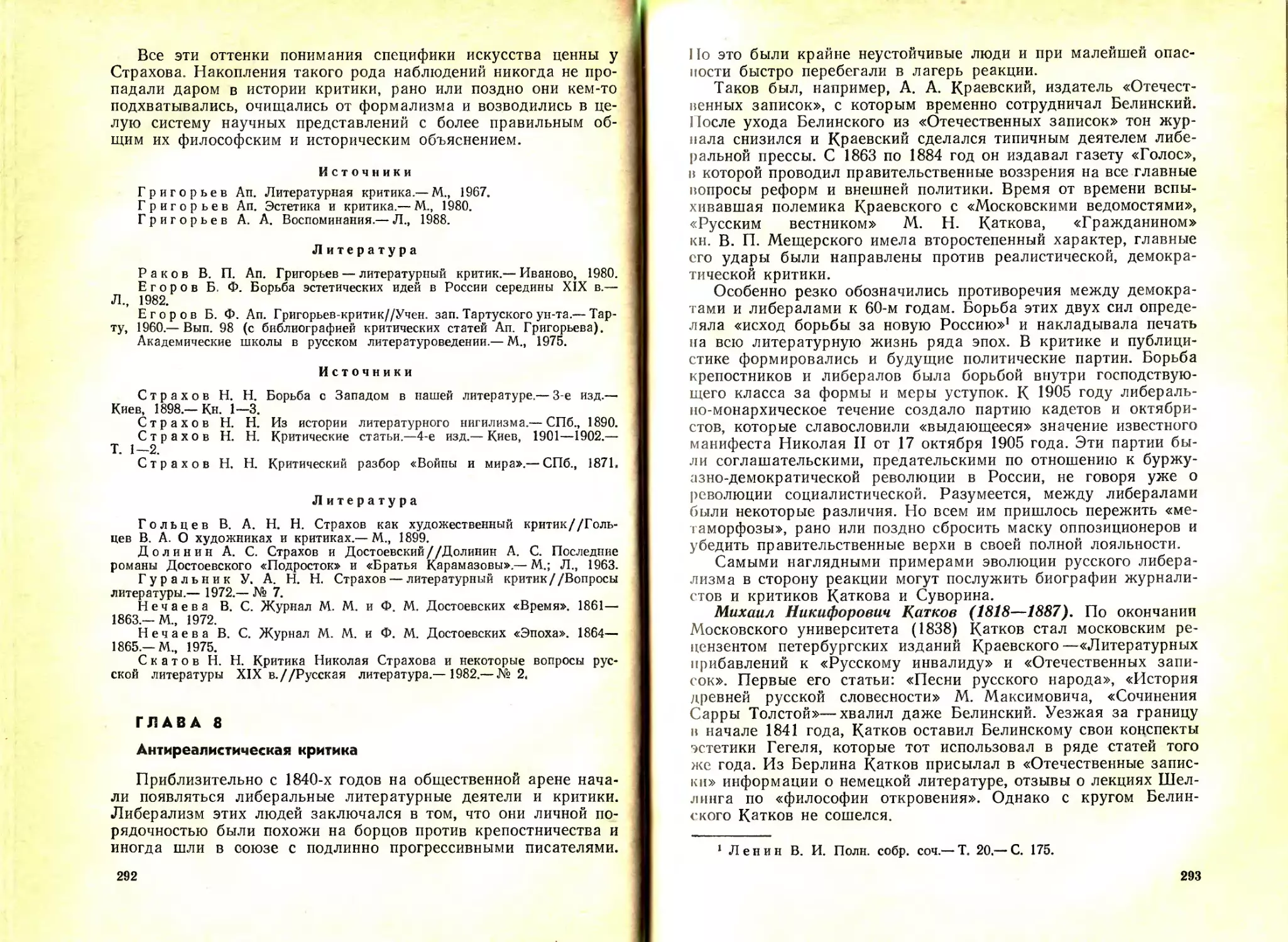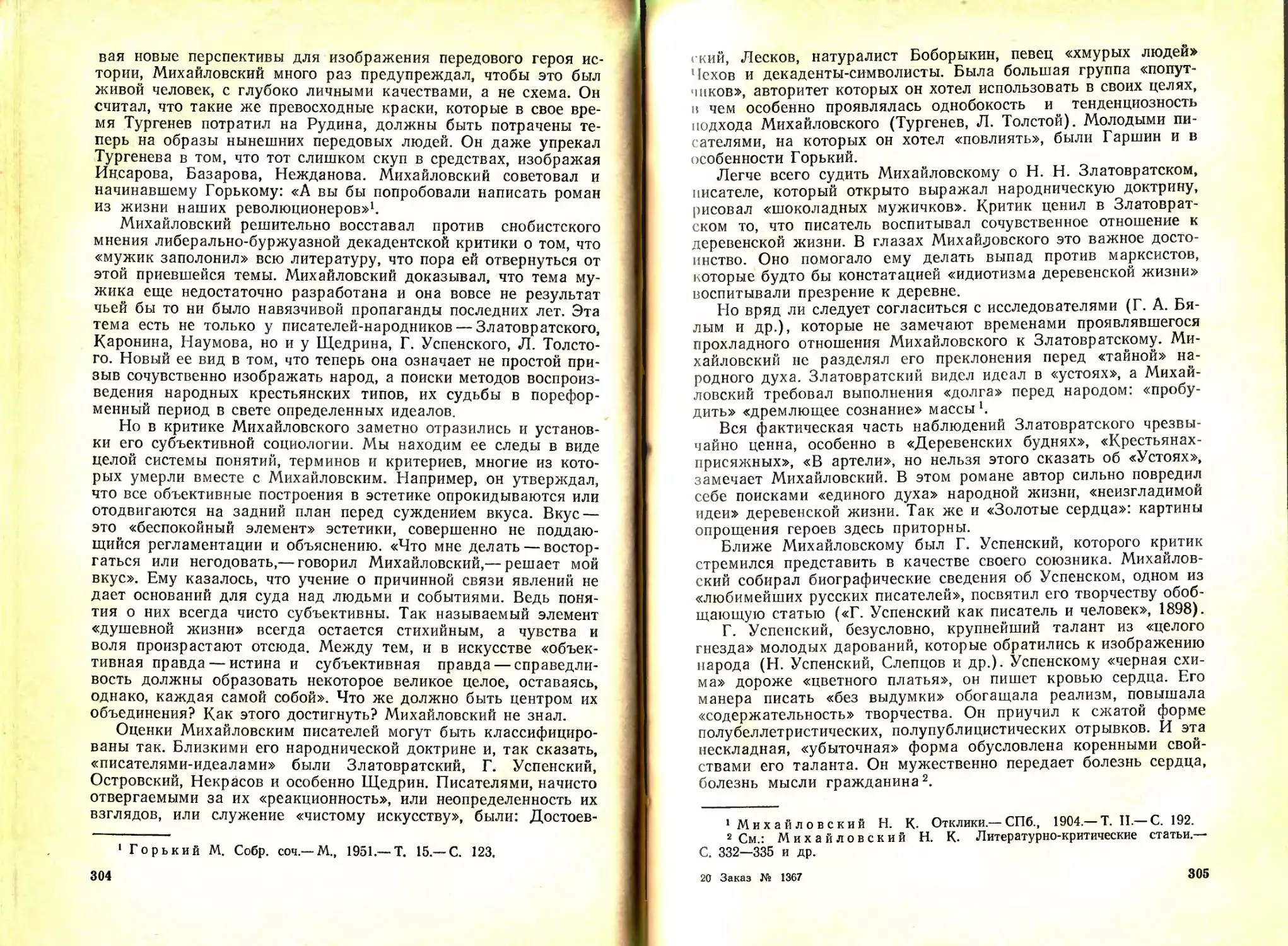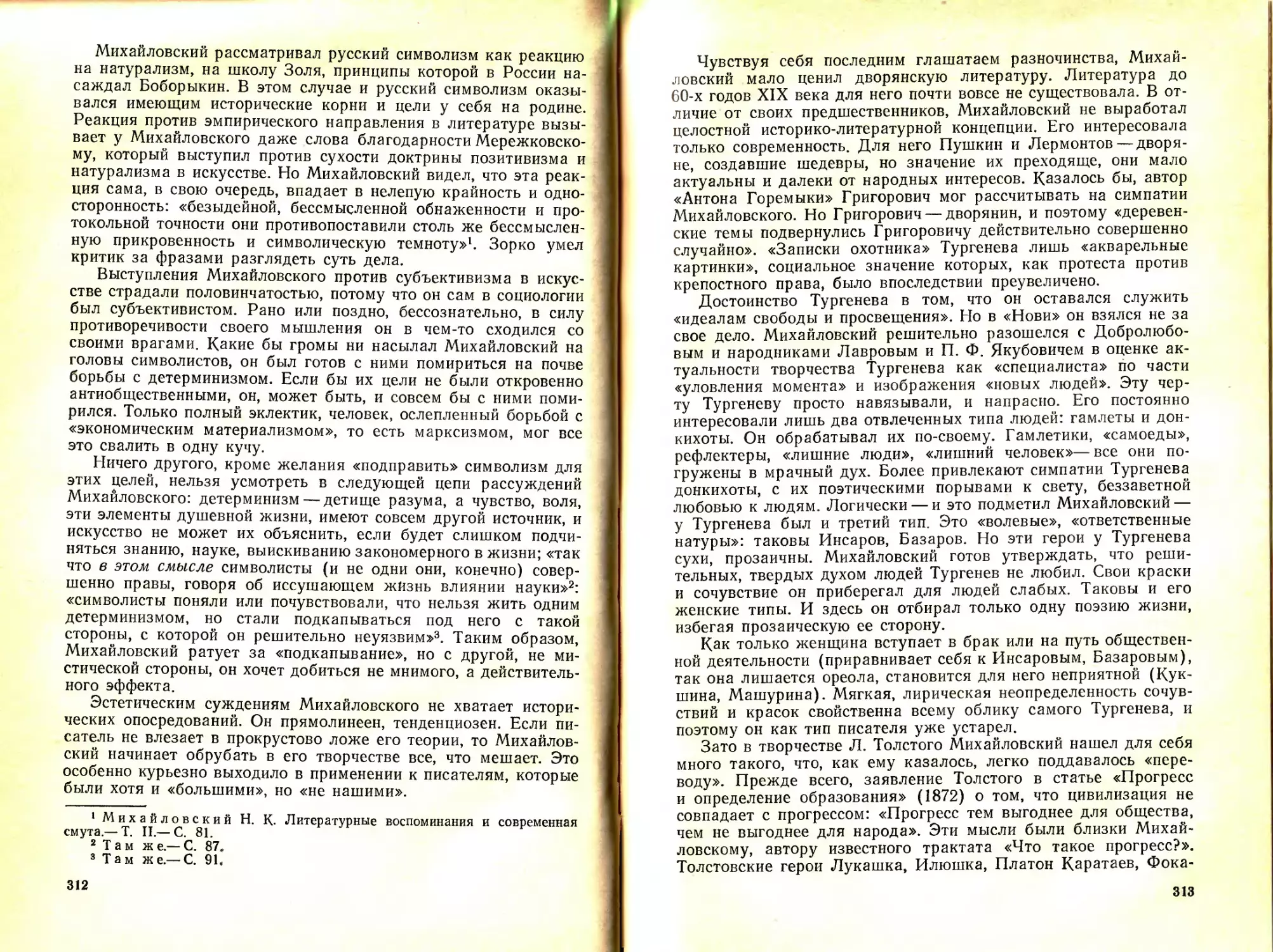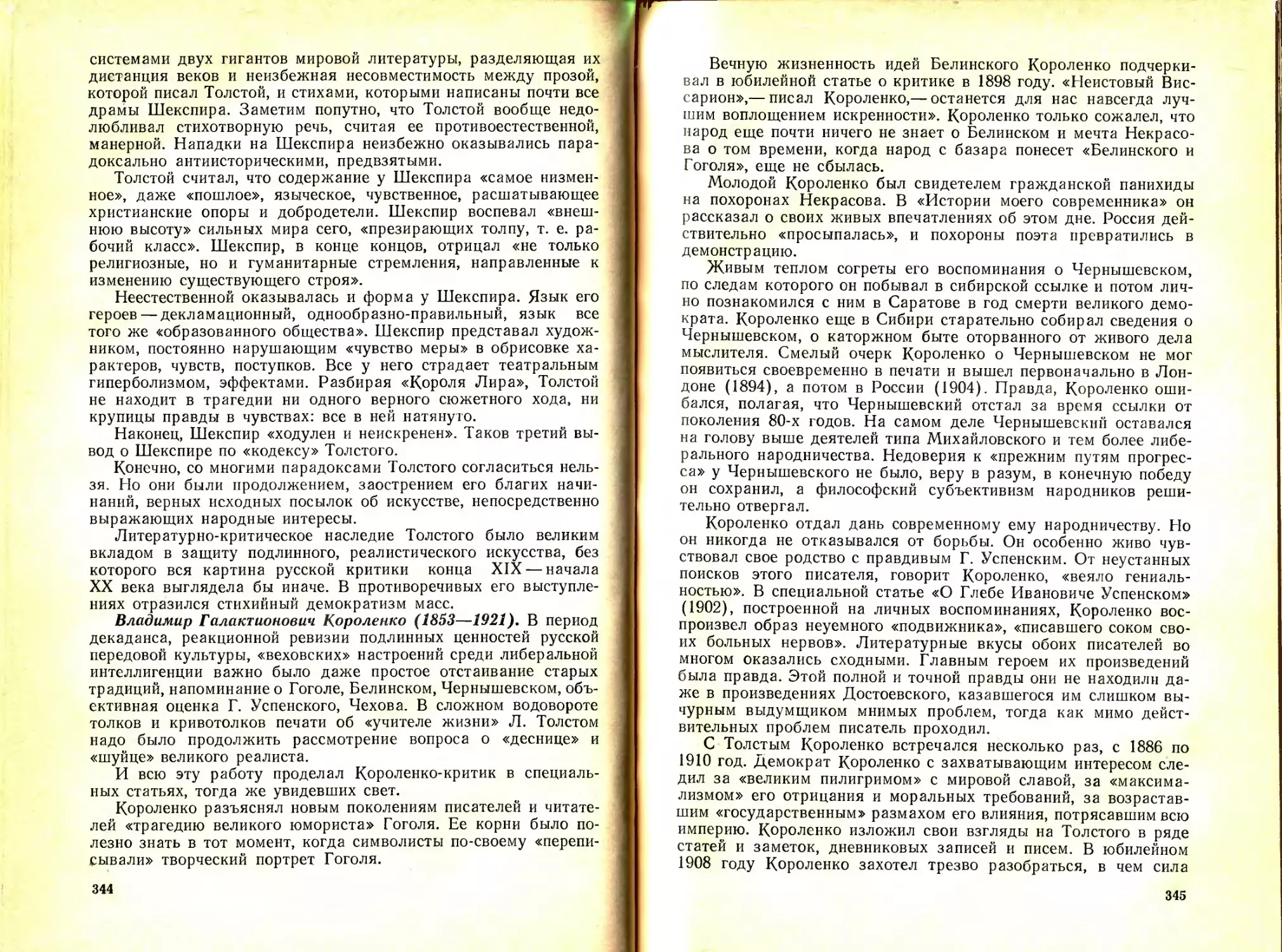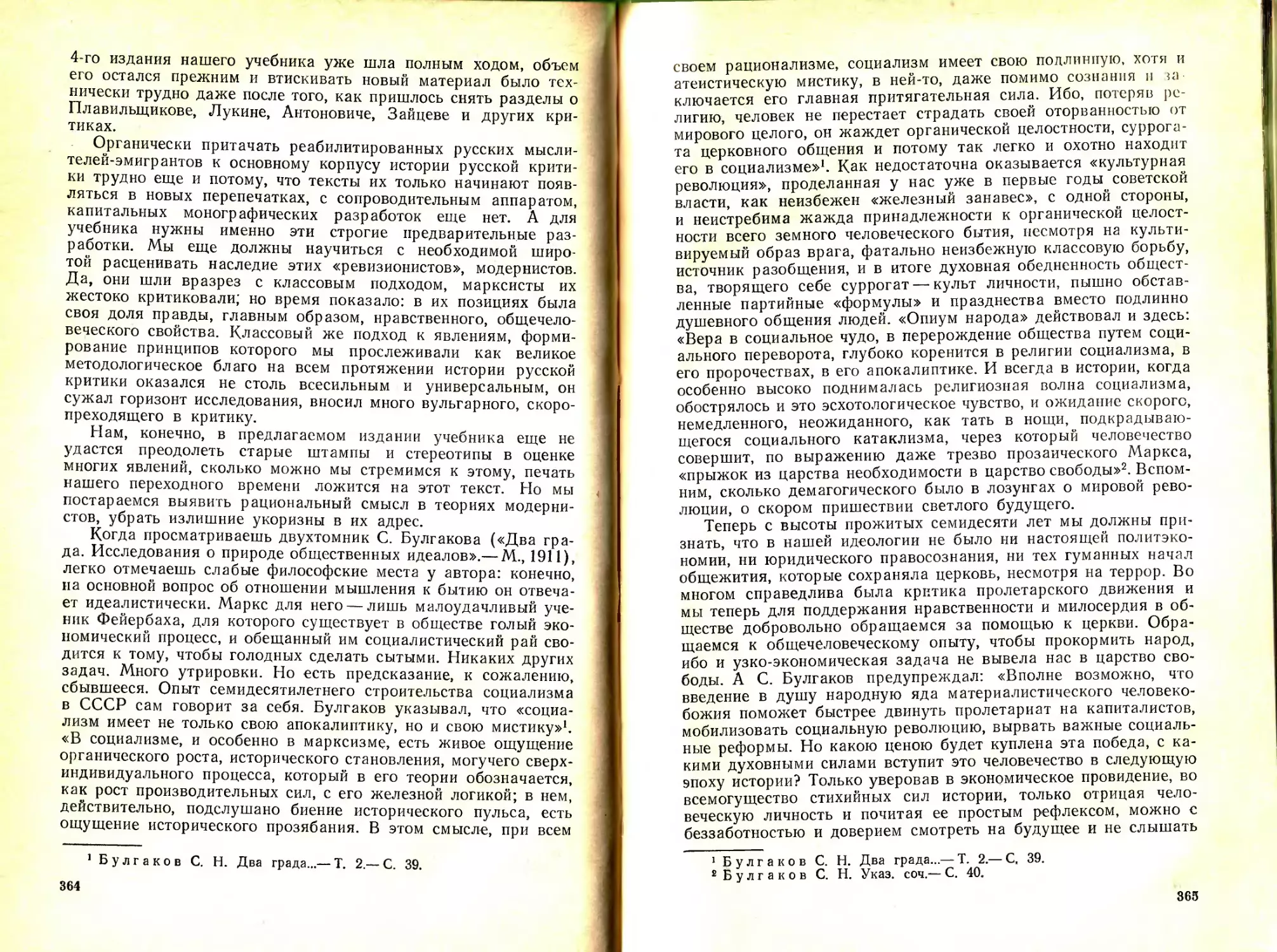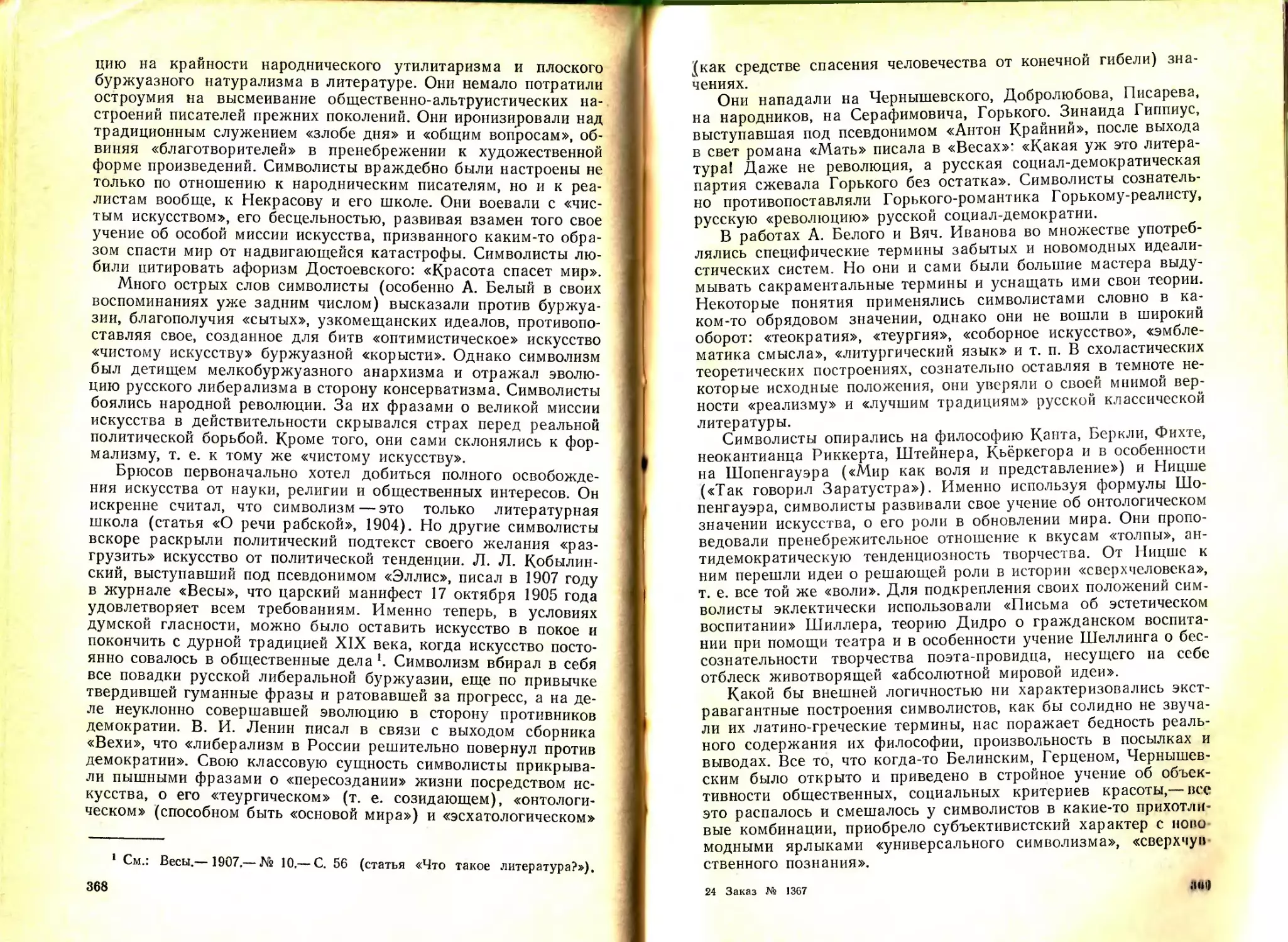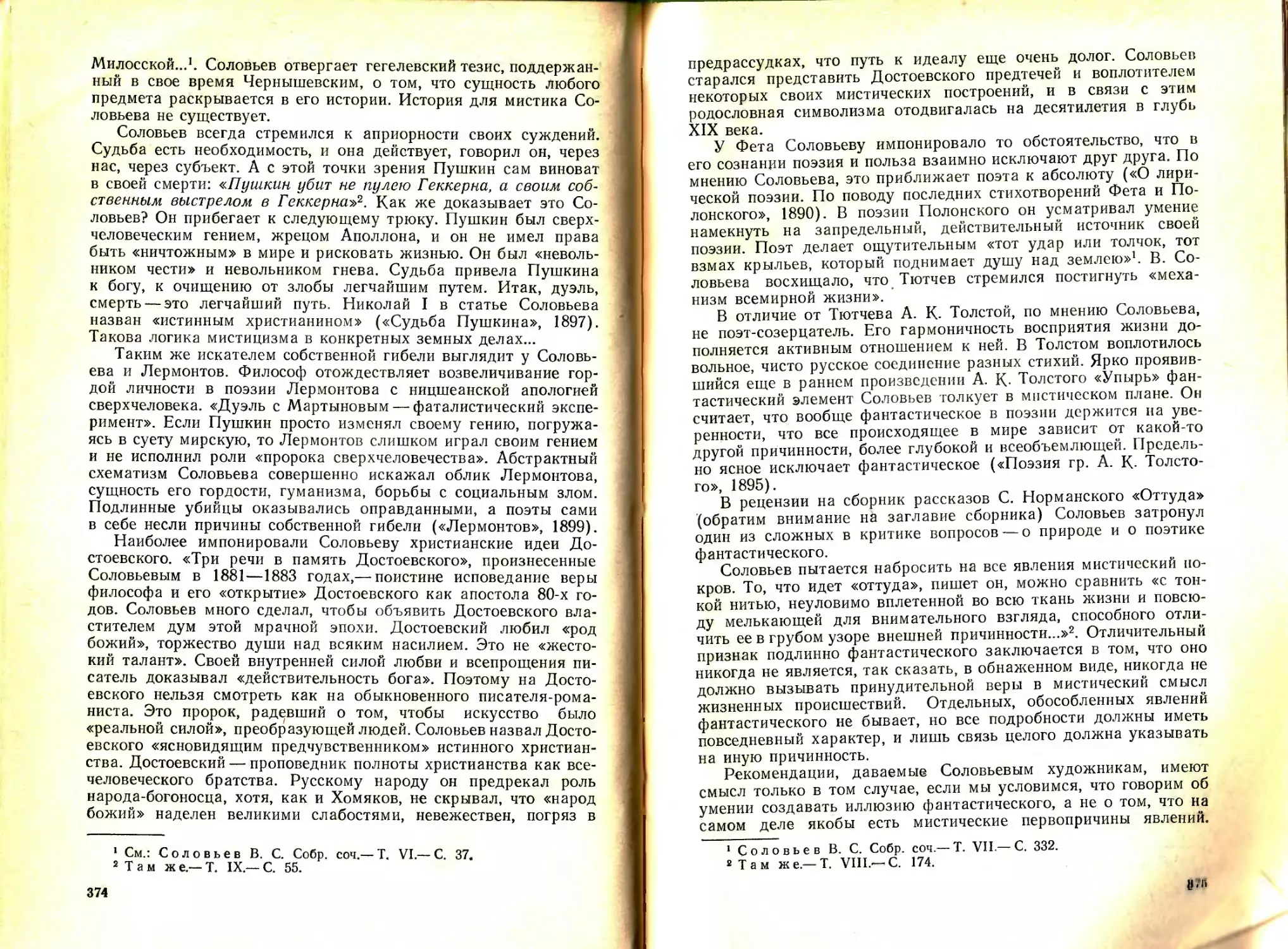Автор: Кулешов В.И.
Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран история монография русская литература критика издательство просвещение учебник для студентов русское освободительное движение
ISBN: 5-09-003214-9
Год: 1991
Критиковать — значит искать и открывать в
частном явлении общие законы разума, по ко-
торым и чрез которые оно могло быть, и опре-
делять степень живого, органического соотноше-
ния частного явления с его идеалом... Критика
происходит от греческого слова, означающего
«судить»; следовательно, в обширном значении,
критика есть то же, что «суждение». Поэтому есть
критика не только для произведений искусства и
литературы, но и критика предметов наук, исто-
рии, нравственности и пр. ...
Критика всегда соответственна тем явлениям,
о которых судит: поэтому она есть сознание дейст-
вительности.
В. Г. БЕЛИНСКИЙ
РЕЧЬ О КРИТИКЕ
1842 г.
В. И. Кулешов
ИСТОРИЯ
РУССКОЙ КРИТИКИ
XVIII-НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Допущено Государственным комитетом СССР по
народному образованию в качестве учебника для
студентов педагогических институтов по специаль-
ности «Русский язык и литература»
4-е издание, доработанное
МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1991
ББК 83.3Р1
К90
Рецензент доктор филол. наук профессор Л. М. Крупчанов
Кулешов В. И.
К90 История русской критики XVIII — начала XX веков:
Учеб, для студентов пед. ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит.»—
4-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 1991.— 432 с.—
ISBN 5-09-003214-9.
В учебнике дано историческое развитие русской литературной
критики в тесной связи с историей русской литературы XVIII—на-
чала XX века и русского освободительного движения. Разделы, даю-
щие общую характеристику литературно-критической классики, соче-
таются с монографическими главами, в которых прослеживается ста-
новление профессиональной критики в России, а также освещаются
литературно-критические выступления выдающихся русских писателей.
„ 430900000000—539
К--------—-------- 29—91
103(03)—91
ISBN 5-09-003214-9 ББК 83.3Р1
© «Просвещение», 1984
© Кулешов В. И., 1991, с изменениями
ВВЕДЕНИЕ
Для изучения истории русской критики необходимо опреде-
лить специфическую особенность критики как одной из разно-
видностей литературной деятельности и как научной дисцип-
лины
Критика формировалась исторически, ее предпосылки во-
ишклн еще в античности (Платон, Аристотель, Гораций). Име-
лись они и в древней русской литературе, и в литературе
XVIII века (Полоцкий, Прокопович, Ломоносов). Если опереть-
ся па опыт наиболее зрелой стадии развития русской критики
в XIX веке, то очевиден такой вывод? критика — это, способ ис-
толкования и оценки художественных произведений в свете
определенных концепций, теоретическое самосознание литера-
турных направлений активное средство борьбы за утвержде-
ние их творческих принципов.
Литературное направление становится собственно направ-
ленном с того момента, когда оно сформулировало свою про-
грамму, объединило под своим знаменем значительные силы.
До тех пор оно развивается стихийно.
У критики есть свои прямые связи с жизнью, общественной
борьбой, разнообразными идеологическими течениями. Эти свя-
<п помогают критике судить о литературе в соответствии с ло-
гикой жизни, вырабатывать общественные критерии для оцен-
ки художественных произведений, разъяснять их смысл чита-
юлям. Но было бы неверно считать, что сопредельные идеоло-
гпвеские течения, при всем их громадном значении, формируют
литературные направления и их критику. Степень зависимости
литературных направлений и критики от идейных течений бы-
вает различная: у одних большая, у других мёньшая, но в прин-
1 В основу определения мы кладем следующее положение Белинского:
« каждая эпоха русской литературы имела свое сознание о самой себе, вы-
ражавшееся в критике'» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т.— М.,
1976—1982.— Т. 7.— С. 346). Далее все ссылки на тексты Белинского даем
но этому изданию, кроме тех, которые приводятся по Полному собранию
сочинений.
3
ципе литература и критика являются самостоятельными фор-
мами познания действительности1.
Но есть между ними и существенные различия. Литература
как вид искусства создает вечные ценности, о которых после-
дующие поколения могут судить по-своему. Критика же более
привязана ко времени и к самой литературе в данном ее исто-
рическом состоянии. Она менее долговечна, и в принципе в ней
многое умирает вместе с поколением. Она вся погружена в
процесс сиюминутного «делания» литературы, обслуживая пре-
ходящие задачи. Только самые гениальные критики пережива-
ют свое время в силу перспективности и проницательности
своих суждений, и имя их срастается с именами писателей,
которых они первыми «открыли» и «правильно» поняли. * В
’ В связи с перестройкой и демократизацией нашего общества сейчас
происходит «реабилитация» многих русских писателей и мыслителей, кото-
рым мы должны найти соответствующее место в истории русской литера-
туры, критики, философии. Естественно, придется потесниться в своих преж-
них концепциях, но и критически отнестись к новым богатствам.
В предлагаемом учебнике попытаемся наметить пути решения этих за-
дач. Некоторые работы эмигрантов-диссидентов могут быть приняты в це-
лом, как классические, например Д. С. Мережковского о Достоевском и
Толстом, два тома, или В. В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе
Достоевского», хотя автор слишком подчиняет «Легенде...» все богатство со-
держания романа «Братья Карамазовы».
Другие работы могут быть приняты лишь частично, в отдельных своих
положениях, о чем мы будем говорить по поводу работы Н. А. Бердяева
«Смысл творчества» (1916).
Третьи — вовсе отвергать как несостоятельные в научном отношении
(несостоятельные не только для нашего, но и для своего времени). Так,
например, в данном случае во «Введении» к учебнику, осмысляя предмет
критики и структуру курса, мы заинтересовались работой В. В. Розанова
«Три момента в развитии русской критики» (1892). Название вызывающее
и обязывающее. Тем не менее предлагаемая В. В. Розановым периодизация
капризно-субъективна, отражает всю парадоксальность его мышления, на
которую обращали внимание еще в далекие времена Н. А. Бердяев, А. С. Су-
ворин и обращает сейчас автор вступительной статьи к только что вышед-
шему сборнику работ Розанова «Мысли о литературе» (1989) А. Н. Нико-
люкин.
Первый момент в развитии русской критики Розанов называет «эстети-
ческим», возглавляемым Белинским. Новое возрождение «эстетической» кри-
тики, то есть продолжение традиций Белинского, В. В, Розанов видит в
статье К. Н. Леонтьева по поводу романов Толстого «Анализ, стиль и вея-
ние» (1890).
Второй период или момент —«этическая» критика, когда прекрасное
было отодвинуто на второй план, «литература — учитель жизни». Вырази-
телем этой критики был Добролюбов. Розанов с теплотой вспоминает
юность, когда его поколение преклонялось перед Добролюбовым. Но с этой
популярностью, подытоживает В. Розанов, связана и отрицательная сторо-
на в деятельности Добролюбова: «Именно ложность почти всех литератур-
ных оценок, которые он сделал». Значение Добролюбова просто перечерки-
вается.
К третьему периоду, «научному», Розанов относит А. П. Григорьева,
а потом Н. Страхова. Что же? Вопрос поставлен, но о «научности» критики
мы спорим до сих пор, и по розановской логике никогда его не решим. Пе-
ред нами случай, когда надо отказаться от «наследства».
4
Художественная литература в ходе собственного историче-
ского развития приобретает вид различных направлений. На
определенной стадии эти направления вырабатывают свою тео-
ретическую программу, т. е. критику. Таким образом, неверно
было бы «выводить» критику из других идеологических тече-
ний и неверно оставлять художественные направления без их
теоретического оружия, т. е. критики. Критика — важнейшая
сторона литературных направлений, она придает им окончатель-
ную идеологическую оформленность и устойчивость.
Взаимодействие критики и литературы следует рассматри-
вать как динамически активное, диалектически обратимое, как
процесс взаимного обогащения. «Искусство и литература идут
об руку с критикою и оказывают взаимное действие друг на
друга. Если новый гений открывает миру новую сферу в искус-
стве и оставляет за собою господствующую критику, нанося ей
тем смертельный удар, то, в свою очередь, и движение мысли,
совершающееся в критике, приготовляет новое искусство, опере-
живая и убивая старое»1.
У критики есть свои исторические традиции, преемственность
н передаче «мыслительного материала», опыта выступлений пе-
ред читателем. История критики изучается специальной науч-
ной дисциплиной под тем же названием. В предмет истории кри-
тики как научной дисциплины входят следующие части: система
провозглашаемых критикой в статьях, манифестах и деклара-
циях художественных принципов того или иного литературного
направления; фактически складывающаяся художественная поэ-
тика направления, анализируемая и обобщаемая критикой; ме-
тодология и методика анализа художественных произведений;
система понятий и терминов, которыми оперирует критика; ее
собственные жанры и стилевые формы (обзоры, статьи, рецен-
зии, пародии) и, наконец, полемика, т. е. активная борьба кри-
тики с чуждыми направлениями за свои принципы, за симпатии
чп тателей.
С философией и эстетикой критика связана в области общей
теории искусства, методологических предпосылок анализа про-
изведений. Критика имеет более прикладное значение, она —
«движущаяся эстетика» (Белинский). Ее задача — оценка
текущей современной литературы, формирование вкусов чита-
телей.
Журналистика для критики — русло, в котором фактически
протекает почти вся ее история; поскольку критика — неотъем-
лемая часть или «отдел» всякого общественно-литературного
журнала, то нередко их история пишется совместно, как исто-
рия сдвоенного предмета. Но все же история журналистики —
самостоятельная научная дисциплина; ее предмет — история на-
правлений журналов и газет, их структур, средств пропаганды
У ••
* Белинский В. Г. Собр. соч.— Т. 5.— С. 81.
5
и агитации. Мы, конечно, все время будем иметь дело с журна-
листикой, ее направлениями, но она для нас имеет подсобное
значение.-_
< Публицистика всегда благотворно влияет на критику, своим
пафосом усиливая ее воздействие. Но критика не сводима к пуб-
лицисТИКе, у нее свои обязанности: объяснять, анализировать
современную художественную литературу и ее связи с жизнью,
программы литературных направлений, в полемике отстаивать
свои эстетические принципы.
Дитературоведение ретроспективно осмысляет опыт критики.
Критика занята оценкой текущей современной литературы, ей
принадлежит приоритет в открытиях и приговорах, отсюда не-
увядающая свежесть ее первых слов... Но как бы ни была про-
ницательна критика, она неизбежно в чем-то ограничена. Лите-
ратуроведение же изучает прошедшее, оно знает, чем кончилось
то или иное явление, оно умудрено опытом истории, а время —
лучший из судей.
Итак, история критики имеет свой специфический предмет,
свое место в системе научных дисциплин.
Периодизация истории критики в принципе совпадает с ли-
тературной периодизацией.
Вводить какую-либо специфическую, дробную периодиза-
цию истории критики вряд ли есть основания, по крайней мере,
при теперешнем уровне изученности этого предмета. Но есть и
общетеоретические предпосылки не делать этого, так как перио-
дизация истории критики неизбежно приближается к периоди-
зации истории литературы и совпадает с ней, чем длиннее и
шире берутся хронологические рамки изучения. Ф. Энгельс в
одном из писем последних лет своей жизни указывал на зако-
номерное приближение периодизации даже в столь разных
областях, как идеология и материальное производство ’. Тем
более, средняя ось развития критики приближается к оси худо-
жественной литературы, поскольку эти области родственны и
одна является стороной другой, а история критики берется нами
на протяжении двух веков.
Литературно-критические системы складывались на основе
литературных направлений: классицизма, сентиментализма, ро-
мантизма, реализма во всех его формах. Важно выявить сте-
пень программности этих систем по отношению к литературным
1 Приведем это место из письма Ф. Энгельса к В. Боргиусу от 25 янва-
ря 1894 г.: «Чем дальше удаляется от экономической та область, которую
мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактно-идеологи-
ческой, тем больше будем мы находить в ее развитии случайностей, тем бо-
лее зигзагообразной является ее кривая. Если Вы начертите среднюю ось
кривой, то найдете, что чем длиннее изучаемый период, чем шире изучаемая
область, тем более приближается эта ось к оси экономического развития,
тем более параллельно ей она идет» (М а р к с К-, Э н г е л ь с Ф. Собр. соч.:
В 50 т,—2-е изд,—М., 1966,—Т. XXXIX.—С. 176).
6
направлениям. Мы стремимся сосредоточиться на главных на-
правлениях и их программах, по развитию предмета критики
проследить основные перевалы в ее истории. При всей важно-
сти подробно освещаемых в учебнике критических систем раз-
личных направлений самой главной для нас является литера-
турно-критическая система реалистического направления во всех
сто разновидностях.
Г1ри характеристике литературных направлений мы выделя-
ем ведущих критиков-профессионалов, создателей и представи-
телей систем, а всех других рассматриваем как более или менее
последовательных сторонников системы. При этом немаловаж-
ное значение для характеристик программ направлений имеют
суждения писателей о литературе. Конечно, мы старались ото-
брать из этого наследия только наиболее существенное, то, без
чего трудно представить себе историю русской критики. Без
различения главных и неглавных проблем мы никогда не вы-
беремся из хаоса бесконечных оттенков мысли, отступлений от
систем, полемических извращений истины, не сможем ответить
на прямо поставленный вопрос: что же такое критика и литера-
турная программа русского классицизма, русского сентимента-
лизма, русского критического реализма и т. д.?
Нужно с единой точки зрения, в четко осознанных соизмери-
мых единицах проследить решающие этапы истории русской
критики, ее спады и подъемы, развитие ее содержания, мето-
дологии, понятий, категорий, жанровых форм, стилей.
При изучении критических систем очень важно не отодвинуть
па задний план самих критиков, не затушевать степень их та-
лантливости. Ведь тут имеется множество индивидуальных от-
тенков. В этом смысле одно дело, например, полные прозорли-
вости и огня статьи Белинского или Писарева и совсем другое —
суховатые статьи Лаврова или Скабичевского. Философская
системность мышления критиков — качество великое, но иная
системность представляет меньшую ценность по сравнению, на-
пример, с лапидарными, словно литыми из чистого золота, муд-
рыми критическими суждениями художников-практиков Пушки-
на или Гоголя. Нас интересует не только проблематика крити-
ческих систем, но и неувядаемая прелесть отдельных, наиболее
важных статей, выдающихся памятников русской критики. При
ном мы стараемся не загружать пособие биографическим и
।екстолого-комментаторским материалом.
До сих пор встречаются большие трудности и неудобства
с литературоведческой терминологией. Они особенно ощутимы
в курсе по истории критики. Следует иметь в виду, что употреб-
ляемая нами терминология во многом условна.
Пе всегда терминологические названия литературных на-
правлений соответствуют их сущности. Названия бывают раз-
поприродного характера, заимствованными из соседних обла-
стей. Но мы должны стремиться к научной последовательности
7
в их употреблении и в любом названии вскрывать его художе-
ственно-методологическую сущность.
Дискуссионным является, например, вошедший в последнее
время в употребление применительно к ряду явлений русской
литературы второй половины XVIII века термин «просвети-
тельский реализм». Принимая его, приходится соглашаться с
несколько расплывчатым определением просветительства и реа-
лизма для столь раннего периода русской литературы. Крайне
неудачно, вслед за Э. Золя, назвало себя «натурализмом» одно
из течений критического реализма в русской литературе 70—
90-х годов XIX века, что до сих пор привносит в понимание это-
го вопроса ассоциации и аналогии с западноевропейским нату-
рализмом, действительно враждебным реализму.
«Славянофильство», «народничество»—термины не литера-
туроведческие, они обозначают течения в русской общественной
мысли. Но под влиянием славянофильства и народничества су-
ществовали и определенные литературные течения, на которые
перешли эти названия. Поэтому важно понять, что, например,
«славянофилы» в своем творчестве и в критике были консерва-
тивными романтиками, а «народники»—одним из течений в
критическом реализме 70—90-х годов.
Не можем мы удовлетвориться и таким собственно литера-
туроведческим названием целой группы критиков, как «теоре-
тики чистого искусства», представители «эстетической критики»:
на самом деле под этими названиями скрывались весьма тенден-
циозные критики либерально-примиренческого настроения —
«западники», по существу являвшиеся ревизионистами по отно-
шению к реалистической программе Белинского, бывшего для
некоторых из них когда-то учителем.
Исчерпывающе ясное в политическом смысле и в методоло-
гическом отношении определение «русская марксистская крити-
ка» также нуждается в приурочении к литературному движению
конца XIX—начала XX века, т. е. к первым симптомам литера-
туры социалистического реализма. Термин «социалистический
реализм» возник гораздо позднее (в этом особенность формиро-
вания теории социалистического реализма), но та позиция, с ко-
торой первые русские марксисты критиковали современную им
буржуазную литературу, приветствовали ростки нового в совре-
менном им реализме М. Горького и других писателей, уже со-
держала в себе некоторые теоретические положения и посылки,
которые впоследствии легли в основу теории социалистического
реализма.
Предлагаемый учебник (первое издание было в 1972 году)
является попыткой создания целостного курса по истории рус-
ской критики для вузов. Предполагается, что читатель уже хо-
рошо изучил историю русской литературы.
В каждом учебнике может быть свой, только ему присущий
ракурс рассмотрения материала. В этом смысле всегда жела-
8
к ./ii.iio, чтобы по тому или иному предмету было в обращении
несколько учебников. В предлагаемом труде, как уже говори-
ли I», есть свой ракурс: мы преимущественное внимание уделяем
вопросу программности критики по отношению к «своим» ли-
к'ратурным направлениям; нас интересуют прежде всего теоре-
।писские задачи, разумеется, в их практически действенном зна-
чении, как факт истории критики, оценки произведений и писа-
ir.iefi. Если критик пишет даже о чем-то побочном, отвлекает-
< я, он делает это ради главной цели: утверждения определенных
принципов своего направления.
Конечно, не следует чрезмерно ригористически рассматри-
вать эту «привязанность» критики к определенным направле-
ниям. Критика может и преодолевать их рамки (Брюсов — сим-
волизм), переходить в другие лагери, решать более широкие,
общелитературные универсальные эстетические задачи. Могут
быть учебники, в которых главное внимание будет сосредото-
к но на других сторонах критики, например на полемиках, на
жанрах, стилях.
Наконец, несколько замечаний о библиографии. В статье «Речь о кри-
пте» В. Г. Белинского, в «Очерках гоголевского периода русской литера-
|\ры» II. Г. Чернышевского, в работе «Сорок лет русской критики»
А М. Скабичевского, в «Истории общественной мысли в России» Г. В. Пле-
«анона уже есть отдельные эскизы истории русской критики. Большое зна-
•IIпне имеют критические труды В. В. Воровского, А. В. Луначарского. Су-
ши шуст также большое количество монографий об отдельных критиках и
.к \ риалах: Вал. Полянского, В. Евгеньева-Максимова, А. Дементьева,
И Беркова, А. Лаврецкого, М. Полякова, Г. Соловьева и других. Но об-
щих курсов истории критики, на которых можно было бы строить препо-
» ii.niнс этого предмета, мы еще не имеем.
В 1897 году вышла «История русской критики» И. И. Иванова. В ней
к и. отдельные ценные наблюдения, но автор с такой явной антипатией от-
»|<к илея к революционным демократам 60-х годов, в особенности к Писа-
р< nv. что это предопределило тенденциозность всего курса.
В советское время (1929—1931) под редакцией А. В. Луначарского и
г..hi Полянского вышли «Очерки по истории русской критики» в двух ТО-
hi IX Большой пользы это издание не принесло. Скудно отобранный факти-
•inidiii материал, не снабженный библиографическими указаниями, в целом
пы и освещен с вульгарно-социологических позиций.
Серьезная разработка истории критики началась после Великой Отече-
। Ин иной войны. В 1950 и 1965 годах в издании Ленинградского универси-
|| и вышел двухтомный коллективный труд «Очерки по истории русской
и урпплпстики и критики». Чрезвычайно богата материалами и научными
in..дамп двухтомная коллективная «История русской критики», изданная
Ль темней наук СССР в 1958 году. Но при всей содержательности послед-
.... । руда в нем недостаточно четко осмыслен сам предмет критики. Изло-
11 пне материала ведется без должной целеустремленности, вследствие че-
ц| оказались размытыми границы между критикой, литературой и журна-
п|< П1КОЙ. Тем не менее академическая «История русской критики» сущест-
I I uno облегчает изучение предмета, и мы отсылаем к этому капитальному
ipv/iy всех, кто пожелает подробнее и шире ознакомиться с материалом.
Пенными представляются «Очерки по истории русской литературной
ipuiHKH середины XIX в.» Б. Егорова, вышедшие в 1973 году в издании
Mi иннградского государственного педагогического института им. А. И. Гер-
1н ни. в которых дана характеристика критики 40-х и 50-х годов, а также
9
критического метода Чернышевского. Полезна его же книга «О мастерстве
литературной критики: Жанр, композиция, стиль» (Л., 1980)1.
Для тех читателей, которые пожелали бы самостоятельно продолжить
изучение истории критики, в специальных разделах, завершающих каждую
из частей, а также в подстрочных примечаниях и ссылках дана по необ-
ходимости краткая библиография. Более подробные сведения можно найти
в известных библиографических указателях: по литературе XVIII века под
редакцией П. Н. Беркова (Наука, 1968), по литературе XIX и XX веков
под редакцией К. Д. Муратовой (Наука, 1962 и 1963).
Но мешает делу недружелюбие среди самих критиков, заедающая их
групповщина. Примером злостного игнорирования чужого труда, заимство-
ваний без ссылок на предшественников может служить сборник статей
«Современная литературная критика» (М.: Наука, 1977), в котором на все
лады муссируются вопросы: что такое критика, какая у нее связь с лите-
ратуроведением, эстетикой, публицистикой, как будто это еще нигде не
обсуждалось. Словом, первое издание нашего учебника обойдено вовсе. Вот
что говорится во вступительной статье указанного сборника: «У нас нет ни
одного научного труда, ни одного учебного пособия по теории критики.
История же русской критики подробно, в соответствии с современными на-
учными требованиями, как исторического процесса, с учетом индивидуаль-
ного места каждого большого критика, еще не исследована, а истории за-
рубежной критики у нас нет вовсе». Словом, нет десятков ценных моно-
графий о русских критиках, нет академического двухтомника «История рус-
ской критики» (1958), нет и нашего учебника, в котором по направлениям и
литературным школам разобрано более восьмидесяти русских критиков.
Конечно, с учебником можно спорить, он вовсе не идеал совершенства, но
делать вид, что он вовсе не существует, что на него не было положитель-
ных откликов в советской и зарубежной печати, непозволительно.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ В 30—90-х ГОДАХ
XVIII ВЕКА
ГЛАВА 1
Литературно-критическое движение
Русская литература XVIII века имела много значительных
достижений. Ломоносов, Державин, Фонвизин, Карамзин, Ради-
щев переступили рубежи своего века и воспринимались после-
дующими поколениями как важные эстетические явления. Не-
мало заслуг и у других писателей этого времени. Поступатель-
ное органическое развитие литературы XVIII века отчетливо
выявлялось в закономерной сменяемости ее различных направле-
ний. И все же эта литература — только предварительный этап
к юй эпохе расцвета русской литературы, который она пережи-
/|.| в XIX столетии. В зачаточном состоянии была и литератур-
ная критика XVIII века, ее методы и приемы анализа произ-
ведений, ее жанры, стили, понятия и термины. Предмет ее еще
юдько формировался.
Непосредственные предпосылки появления литературной кри-
Н1КП, как и литературы в целом, были заложены в великих ре-
формах Петра I, раскрывших богатства русского духа, возмож-
ности культурных общений с Западом. Сами реформы были
величайшим актом критики всего устаревшего и утверждения
iaрождавшегося. Совершенно небывалые требования к лично-
< гн, способностям ума, таланта стала предъявлять эпоха. За-
рождающаяся новая русская национальная литература должна
пыла с боем прокладывать себе дорогу.
Крестьянское восстание, или «пугачевщина» 1773—1775 го-
лов потрясла империю Екатерины II, выявила внутренние клас-
|овые противоречия в русской жизни, решающим образом оп-
ределила борьбу идей на литературной арене, их истинную це-
ну, «просвещенный абсолютизм», еще недавно заигрывавший
< Вольтером и Дидро, тщеславившийся тем, что провозгласил
• оставление «Нового уложения» и собрал депутатов в 1767 году
л ля его обсуждения, теперь явно обнаружил свое реакционное
шцо и стал гонителем передовой мысли, истинной выразитель-
ницы народных чаяний.
Определенную печать на все идейное брожение второй поло-
вин ы XVIII века, находившее свое выражение в литературной
критике, наложила Американская освободительная война 1775—
11
1783 годов, шедшая под знаком борьбы за национальную неза-
висимость, за конституцию.
Великие идеи века Просвещения, провозглашенные Монте-
скье, Руссо, энциклопедистами,— свобода, равенство, братство,
так или иначе преломлявшиеся в критических диспутах, приве-
ли во Франции к революционному взрыву 1789—1794 годов,
и эта Великая буржуазная революция также во многом опре-
делила расстановку сил, эволюцию личностей и группировок в
русской литературе и литературной критике.
Велика была роль в судьбах русской критики очагов про-
свещения, в которых формировались первые ее таланты, во мно-
гом зависевшие от традиций и новшеств, уклада и уровня пре-
подавания.
Из Заиконоспасского училища вышли Ломоносов и Тредиа-
ковский. Из открытого в Петербурге Шляхетного кадетского
корпуса — Сумароков и Херасков. Из Пажеского корпуса, от-
крытого в 1759 году,— основатель русского театра Волков и
первый писатель-революционер Радищев. Установки на бого-
словие явно взрывались усилиями первых русских просвети-
телей и литераторов-критиков, преобразователей языка и мет-
рик. Придворно-аристократическая кастовость — поисками кра-
мольных идей. Особенно была велика роль Российской академии
наук, открытой по указу Петра I в конце 1725 года, и роль
Московского университета, открытого в 1755 году, у колыбели
которого стоял Ломоносов. При университете Херасков создал
свой литературный кружок, журналы «Полезное увеселение»,
«Свободные часы», сыгравшие заметную роль в истории лите-
ратуры и критики.
Подлинным лоном для критики являлась журналистика. Она
в России ведет родословную от петровских еще, начавших изда-
ваться с 1702 года, «Ведомостей о военных и иных делах, до-
стойных знания и памяти, случившихся в Московском государ-
стве и во иных окрестных странах». Здесь уже заложены идеи
будущих «Санкт-петербургских ведомостей», которые издава-
лись затем с 1728 года при Академии, «Московских ведомо-
стей»— с 1756 года. В «Ведомостях» были даны начала и буду-
щему карамзинскому «Вестнику Европы». По-разному оценива-
ли текущую действительность официальные и полуофициаль-
ные издания: «Ежемесячные сочинения» от Академии наук
(1755—1764) — действительно важный и содержательный жур-
нал; «Всякая всячина», в которой задавала тон сама Екатери-
на II через подставных лиц, что послужило пищей для едких
сатир Новикова в его «Трутне»; «Собеседник любителей россий-
ского слова», под дирижерством княгини Дашковой, где, не-
смотря на участие Фонвизина, Державина, большую роль иг-
рала Екатерина II, половину журнала занявшая своими «Запис-
ками касательно российской истории», по едкому замечанию
Добролюбова, имевшими «вид высокой правды и бескорыстия».
12
Указ о «вольных типографиях» был уступкой духу времени
со стороны Екатерины II. Указ она затем отменила, но он все
же успел сыграть положительную роль. Еще с 1759 года Сума-
роков в своей «Трудолюбивой пчеле» начал формировать со-
временную критику с весьма независимым мнением. Появились
сатирические журналы, способствовавшие росту критики, ее
приемов, жанров, злободневности: «Адская почта» Ф. Эмина,
и особенно «Трутень» (1769—1770), «Живописец» (1772—17^3)
Новикова, прямо вступившие в полемику с Екатериной по воп-
росам сатиры, гражданского призвания писателя. Эти традиции
были продолжены в «Почте духов» (1789), «Зрителе» (171)2)
Крылова, державшегося независимо и по отношению к господ-
ствовавшим литературным направлениям — классицизму и сен-
тиментализму. Он упрекал эти направления в потакании гос-
подским вкусам, оглядке на то, что указывают с трона.
Подлинную связь между элементами литературной жизни —
писатель — журналист — читатель — удалось первоначально
наладить Карамзину в его очень живых по содержанию и сти-
лю «Московском журнале» (1791—1792) и «Вестнике Европы»
(1802—1803).
Недаром Н. А. Полевой впоследствии называл журналы
^сводчиками литературными». И действительно, на их страни-
цах критика осуществляла свою главйую роль — быть само-
познанием направлений, их боевым оружием.
Русская литературная критика началась как классицисти-
1сская критика. Но она осваивала ц .перерабатывала наследие
маличных эпох: античности, Возрождения, классицизма, Про,-
< вощения. Первое, что делает Тредиаковский,— переводит «Эпи-
юлу к Пизонам» Горация, «Искусство поэзии» Буало. Опира-
•юь на Буало, пишет свои «Эпистолы»» Сумароков. Изучаются
поэтики и критические суждения Лонгина, Попа, Готшеда,
Вольтера. При этом вдердые ...осознав ад исщ. природные нормы
русского языка, русской версификации, поэтики, систем атизи-
ровались изначальные эстетические понятия применительно к
ипыту зарождавшейся новой русской Литературы.
Впервые слово критик в русской литературе употребил Кан-
к мир в 1739 году в примечаниях к своей седьмой сатире
(• О воспитании») в значении «острый^судья»,. «всяк, кто рас-
суждает наши дела». Кантемир сетовал, что «французы имеют
и.! то речь (слово): critique, который жаль, что наш язык лиша-
I 1СЯ».
С17.5(Ьгада слово критика встречается у Тредиаковского уже
и русском написании в более отвлеченно-теоретическом и специ-
п'1ыю-литературном значении («Письмо, в котором содержится
рпссуждение о стихотворении, поныне на свет йзданном от ав-
и>ра двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от прия-
к ля к приятелю!»). Через два года в примечаниях к переводу
• бшстолы к Пизонам» Горация Тредиаковский высказал мне-
13
ние, что критика должна быть «тонкой, достоверной и рассуди-
тельной»; образцом такой критики он считал Аристарха.
В литературных, филологических трудах Ломоносова обо-
значилась глубокая внутренняя связь критики с рационалисти-
ческим классицизмом, на первый план был выдвинут основной
принцип этой эстетики — понятие о «высоком», «возвышенном».
Была выстроена целая иерархическая система критериев в об-
ласти риторических правил, классификации содержания и сти-
лей произведений, регламентации в области жанров и даже раз-
меров русского стихосложения, в разработке этики самих крити-
ческих выступлений.
Классицистический нормативизм, обогащаемый идеями Про-
свещения, помогал русской литературе наикратчайшим путем
осознать свои общенациональные задачи, покончить со сковы-
вающей средневековой схоластикой, клерикализмом в эстетиче-
ском мышлении, выйти на простор современной общечеловече-
ской культуры, в мир строгих «цивилизованных» общественных
и художественных представлений. Насаждавшиеся Екатери-
ной II идеи «просвещенного абсолютизма» стремились подчи-
нить этот процесс, несший в себе в конечном счете антифео-
дальные, демократические начала. Вследствие этого русский
классицизм развивался крайне противоречивым путем и спе-
цифика его еще далеко не полностью изучена.
Классицистическая критика была программой целого лите-
ратурного направления на протяжении трех четвертей века. Она
пронесла через десятилетия верность исходным принципам Ло-
моносова и развивалась, споря или соглашаясь с ним, в кругу
нескольких основных проблем.
Она последовательно углублялась в разработку проблем рус-
ского стихосложения, состава русского литературного языка,
трех стилей и трех основных жанров: оды (Ломоносов, Держа-
вин), эпопеи (Тредиаковский, Херасков) и драмы (Сумароков,
Лукин, Плавильщиков). Сначала в критике утверждалась об-
щепринятая в европейском классицизме нормативность, а за-
тем все больше критика начинала проникаться национальной
спецификой, обобщая складывавшуюся поэтику русского клас-
сицизма, личный опыт писателей. Начинали обрисовываться
основные положения концепции истории русской литературы с
древнейших времен.
С методологической стороны критика билась между двумя
крайностями: с одной стороны — освященные традицией «веч-
ные» правила искусства, с другой — полный произвол личного
вкуса. Поэтому в критике были либо слишком частые ссылки на
авторитеты, либо увлечение мелочами, стилистическими при-
дирками. Постепенно начинали играть важную роль правила,
выводимые из самого творчества (Державин, Херасков, Лукин,
Фонвизин). В области своих жанров критика двигалась от трак-
татов и риторик к предисловиям и комментариям и, наконец, к
14
статьям, Критическое призвание все больше отделялось от пи-
сательского. JB критике все больше начинал побеждать сумаро-
ковский «средний»_стиль, общедоступность;" простота. ' ....
долго был единственным направлением в* рус-
ской литературе и нападений со стороны не испытывал, потому
что его правила по существу имели непреходящее значение и в
измененном виде продолжали жить в других направлениях.
Сентиментализм, в литературе и в критике обозначился пер-
воначально, так же как и классицизм, в качестве нововведения
одного выдающегося лица. Вслед за ломоносовским после, овал
карамзинский период. Как и в классицизме, здесь критика тес-
но связалась с литературой. Иногда, критика .даже опережала'^
литературу (если взять, например, суждения о Шекспире у Ка-
рамзина). , ..... _ ..._
Бросаются в глаза важные нововведения сентименталист-^
сцрй критики^, Карамзин сумел слить критику с жущщлистжой
и придать ей животрепещущий общественный характер. Изме-
нился самый пульс всей литературной жизни. Соединились в
живую цепь взаимодействия критик-журналист,’Ччнгатсль и пи-
сатель. Критика учила читат и^чила писать. Публика при-
училась ждать критические отзывы на литературные новинки.
В этом смысле Карамзин «заохотил» публику к чтению. Крити-
ка стала преимущественно обобщать реальную практику своего
литературного направления, а не просто вырабатывать «пра-
вила», хотя русские произведения разбирались еще сравни-
гсльно редко. Критика, соединяясь с новейшей эстетикой (Баум-
।артен), становилась наукой. Беря в совокупности все эти мо-
менты, Белинский и назвал Карамзина «основателем» русской
критики.’ Думается, Mhj должны принять это определение в ог-
раниченном смысле, (цримеш ельно кчитрмам XVIII века.
Центральное ^место в сентименталистской критике заняло
изучение. праблем~ипдавцдуа.ДЫ1Р^ .шшщическои и националь-
ной характерности явлений. Отсюда внимание к личности чело-
века, к «чувствительности», психологизму, отсюда известная де-
мократизация героев, смешение различных стихий жизни, язы-
ковых стилей и отчасти жанров (наряду с трагедией и коме-
дией узаконилась драма), выдвижение на первый план емкой
но своим возможностям прозы. Критика начинала опираться на
новые образцы и авторитеты в мировой литературе — Руссо,
Лессинг, Ленц, Ричардсон, Томсон, Шекспир заменили собой
I’ lcinia, Буало, Мольера, Вольтера. Осознавая себя новатором
в области «чувствительного слога» в широчайшем его понима-
нии. Карамзин историю русской литературы рассматривал с
ючкн зрения формирования в ней национальной самобытности
(oi Бояна-вещего), попутно упрекая своих предшественников
к 1.нспцистов в неумении художественно 1
чнрактеры. В к итике ад.и строже употребляться термины и_
понятая, разнообразнее сделались жанры статей и рецензий^*
< предшественников-
изображать русские
15
объективнее стали сами оценки. Разрыв между правилами и
вкусом, образцами и практикой сократился, так как сама кри-
тика делалась «наукой вкуса», одной из сторон зарождающе-
гося общественного мнения. __
^Просвртите^ьскпп р£дднзм>, в отличие от предыдущих на-
правлений, не пмсТГ одного своего корифея, главного вождя и
организатора*. Он был коллективным делом ряда писателей.
(Подчеркиваем еще раз всю условность выделения и термино-
логического обозначения этого направления.)
Каждое из предыдущих направлений всегда обнаруживало
со временем такие тенденции в познании действительности, ко-
торые начинали колебать его исходные поэтические позиции.
В классицизме это выразилось в «склонении» образцов на рус-
ские нравы, в сентиментализме — в учении о «характерах».
К живой действительности писатели наиболее приближались в
области сатиры, социальных обличений. Эта «живопись дейст-
вительная» в конце концов образовывала в русской литературе
некое самостоятельное направление, которое вырастало над дру-
гими направлениями и даже начинало противостоять им как
самое правдивое и плодотворное. Оно оказывалось предтечей
критического реализма, хотя таковыми были в более широком
смысле также и «чистый» классицизм, и «чистый» сентимента-
лизм.
Большинство деятелей «просветительского реализма» объ-
единяла яркая обличительная тенденция, получившая свое на-
иболее законченное выражение в творчестве революционно на-
строенного Радищева.
Классицизм связал зародившуюся русскую литературу с об-
щеевропейскими рационалистическими нормами творчества и
разработал исходные правила для художественного изображе-
ния действительности. Сентиментализм сблизил литературу с
русским обществом, связал критику с журналистикой, поставил
проблему характеров в их психологических, исторических, на-
циональных и социальных признаках. Сатирический, или «про-
светительский» реализм породнил литературу с социальным об-
личительством, с борьбой против крепостничества, выработал
понятие о правдивости, исходном в процессе формирования pea-
ч. диетического метода.
Но все эти открытия еще не были приведены к синтезу, обоб-
щены в едином направлении. Профессиональных критиков еще
не существовало, жанровая специфика критических выступле-
ний еще не была устойчивой. У классицистов она представала в
назидательных рассуждениях и риториках, у сентименталистов
в рамках скоропреходящих статей и рецензий, а у представи-
телей «просветительского реализма» даже еще и не возникал
вопрос о декларациях и программных статьях. Тем не менее
это «затухание» риторик было прогрессивным явлением, так как
выводило критику из плена академических норм на простор
16
живых исканий. Критика «просветительского реализма» приоб-
ретала уже солидную материалистическую основу, накапливала
опыт обобщения реальной сатиры, социального обличения.
Литературная жизнь в XVIII веке вовсе не била ключом, и
ее нельзя расценивать по нормам эпохи Белинского, Чернышев-
ского или символистов.
Мы сейчас воспринимаем литературно-критические материа-
лы той эпохи в далекой перспективе, и они нам кажутся распо-
ложенными в строгой логической последовательности. На самом
же деле они разнокачественные и иногда далеко отстоят друг
от друга по времени.
Ломоносовское «Письмо о правилах российского стихотвор-
ства», которое может рассматриваться как начало начал рус-
ской критики, написано в 1739 году, но официального хода от
академии оно не получило, подлинник его затерялся, и оно бы-
ло опубликовано только в 1778 году. Но к этому моменту клас-
сицизм уже входил в кризисную стадию, и мы всю силу воз-
действия «Письма» на современников должны предположитель-
но возлагать на копии. Во всяком случае, даже Новиков в своем
«Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772),
в разделе о Ломоносове, забыл упомянуть о «Письме». Важней-
шая статья Ломоносова «Рассуждение об обязанностях жур-
налистов...» (1755), по которой мы строим свои представления
об этических правилах тогдашней критики, была написана по-
латыни и появилась не в России, а в Голландии, и не в ориги-
нале, а во французском переводе. На русском языке она частич-
но увидела свет только в 1865 году... Каноны русской оды были
намечены Тредиаковским и Ломоносовым в начале их деятель-
ности, а окончательный вид одическому кодексу придал Дер-
жавин за несколько лет до своей смерти.
В настоящее время еще окончательно не установились мне-
ния по некоторым очень важным вопросам. Не решено, напри-
мер, в точности, к какому направлению следует отнести Ради-
щева: Д. Д. Благой относит его к революционному сентимен-
тализму, Г. П. Макогоненко — к «зачинателям реализма»,
Н. Л. Степанов — к «просветительскому реализму», объединяя
Радищева в одну группу с Новиковым, Фонвизиным и Крыловым.
Остается еще много неясностей относительно того, что такое
вообще русское Просвещение XVIII века.
Медленно совершалось становление критики XVIII века как
самостоятельной сферы литературной деятельности. Для Ломо-
носова вся эта область, включая и поэзию, была «словесными
науками», одним из разделов его академических обязанностей.
Для Тредиаковского поэзия и отчасти критика — отдохновение,
«утешная и веселая забава», хотя он занимался ими с усердием
и даже со «схоластическим педантизмом». Сумароков мнил
себя чистым литератором, старался «творить» во всех областях
и был уже критиком и журналистом в общепринятом смысле.
2 Заказ Xs 1367
17
Труды Ломоносова лишь условно можно назвать критически-
ми: это трактаты, «Риторика», «Российская грамматика», хотя
намечались и чисто критические жанры. Тредиаковский также
выступал больше как ученый: написал «Новый и краткий способ
к сложению российских стихов»; рассуждение об одописании,
приложенное к оде на взятие Гданска; рассуждение об эпопее
как предисловие к изданию «Тилемахиды»; статью «Рассужде-
ние о комедии вообще», являющуюся предисловием к переводу
«Евнуха» Теренция. Критические статьи в то время еще не
оторвались от художественных произведений, они все еще «рас-
суждение» на тему о целесообразности самого произведения,
которое рассматривается автором как «опыт», «попытка». Иног-
да трудно сказать, что для чего писалось: рассуждение для
произведения или произведение для рассуждения (это хорошо
подметил еще Г. А. Гуковский). У Кантемира и Сумарокова
важны не только сатиры и эпистолы, но и примечания к ним.
Русская критика, как и поэзия, тогда была «всем млада и нова».
В полемике было много излишеств. Амбиция, болезненное
авторское самолюбие мешали первым критикам стать на пози-
ции независимого, объективного мнения. Критик торопился быть
авторецензентом своего произведения, опекуном детища. Заси-
лье иностранцев в академии, меценатство создавали препоны
развитию литературы, развращали правы, писатели чувствовали
себя не защищенными от произвола. Почти каждый из них где-
нибудь служил и был зависим от «милостивцев». Ломоносов
рьяно боролся за свою честь и честь всей русской литературы.
Еще далеко было до того, что потом назовется «общественным
мнением». Его надо было создавать в стране крепостничества,
бесправия и монархического гнета.
И все же зарождение и развитие русской критики в XVIII ве-
ке было органическим и глубоко закономерным процессом. Не
случайно наблюдается синхронное совпадение событий. Слово
критик появилось, как мы уже зпаем, у Кантемира в 1739 году
и через некоторое время было подхвачено другими. В этом же
году Ломоносов присылает свое письмо о правилах сложения
российских стихов и первый образец оды. Всего четырьмя года-
ми раньше Тредиаковский опубликовал свой «Новый и краткий
способ...». В 1743 и 1748 годах создаются две редакции «Рито-
рики» Ломоносова. В 1748 году выходят «Эпистолы» о русском
языке и русском стихотворстве Сумарокова. Критика выводится
Сумароковым, и в особенности Карамзиным, на журнальную
трибуну. Новиков и Крылов связывают ее с сатирой. Радищев
в «Путешествии из Петербурга в Москву»—с гражданскими
и политическими идеями. Появляются также обобщающие тру-
ды по критике: «Опыт исторического словаря о российских пи-
сателях» Новикова (1772), «Пантеон российских авторов» Ка-
рамзина (1802).
Сразу вступили в литературу три писателя, три критика.
18
Каждый делает свое дело: Ломоносов разрабатывает преиму-
щественно поэтику оды. Тредиаковский — эпопеи, Сумароков —
драмы. Затем Карамзин — прозы, Радищев — высокой граждан-
ственности, снова охватывающей жанры оды и эпопеи. И все
они толкуют о патриотической, гражданской пользе литературы
и критики в России.
ГЛАВА 2
Классицистическая критика
Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765). Главными со-
здателями теоретической, системы русского классицизма были
(если следовать за хронологией) Тредиаковский, Ломоносов и
Сумароков. Но недаром Белинский весь начальник период рус-
ской литературы нячвя-1 Несмотря на боль-
шие заслуги его сподвижников, только Ломоносов смог теоре-
тически, на подлинно научной основе провести реформу русско-
го стихосложения, обосновать значение различных литературных
стилей, .произвести в соответствии с выдвинутыми эстетическими
принципами полный переворот в русской поэзии.
Ломоносов превосходил всех своих сподвижников. Его ли-
тературно-филологическая, теоретико-эстетическая деятельность
создала целую эпоху. Ломоносов был гением среди своих
современников.
Потому и целесообразно начать курс истории критики с Ло-
моносова (а не с Тредпаковского). JB деятельности Дсшошсова
вне )вые проявилось принципиальное, драгоценное качество кри-
тики вообще, ее предмет, ее сущность и призвание: она соеди-
нилась с живым литературным направлением, своего времени
(классицизмом). По ломоносовским «правилам» писались рус-
ские стихи, по Ломоносову понимались литературные стили, его
«Риторика» на протяжении всей второй половины XVIII века
была необходимой настольной книгой для писателей и читате-
лей. Как поэт Ломоносов был лучшим подтверждением своих
теорий.
В чем заключаетсяСн
Ломоносов решительно порвал с силлабическим стихосложе-
нием^ Исходя из духа русского языка, он объявил силлабо-тони-
ческий принцип стихосложения пригодным для всей..jftrn ашней
русской поэзии. Ломоносов особенно предпочитал ямб, Так как
ямб — самый гибкий размер и по числу возможных ритмов бо-
гаче других размеров.
Ломоносов стремился эстетически осмыслить динамику рих-_
^иов. Хотя в известном споре 1743 года о ямбах и хореях фор-
мально правым оказался Тредиаковский, выступивший против
ломоносовского закрепления размеров за жанрами, для Ломо-
Ломоноеова-кр итик а?
2*
19
Носова это было лишь частью более широкой проблемы. Он хо-
тел рассматривать достоинства размеров в связи со всей сово-
купностью элементов произведения, его содержанием, стилем,
лексикой, синтаксисом, эмоциональным тоном. О связи всех этих
элементов Ломоносов говорил в своей «Риторике» и других
работах.
В «Кратком руководстве к красноречию» Ломоносов разра-
ботал основные начала русской эстетики и поэтики, учил искус-
СТву“ЧЛ'<ртстго говорить» и писать о всякой данной «материи»1.
При всей заботе о «красном говорении» поэзия имеет конечную
цель — истину. При этом Ломоносов ничем не ограничивал об-
ласть риторики: она интересуется всем, что есть в жизни. Итак,
предмет риторики — вся жизнь, цель — истина.
В разделении риторики на три части: «изобретение», «укра-
шение» и «расположение»2— можно усмотреть начатки буду-
щих эстетических идей о единстве формы и содержания в ис-
кусстве, об условности художественного образа, о творческой
субъективности художника.
. Ломоносов сформулировал основные качества тропов. Тро-
пы— это образы и слова, обозначающие явления через другие
явления, неживое через живое, часть через целое. Ломоносов с
примерами разбирает тропы: метафору, метонимию, аллегорию,
синекдоху, иронию, гиперболу. Разъяснения его, естественно,
предваряют то, что мы сегодня можем прочитать об этих тропах
в любом словаре терминов. Важно другое — живое понимание
Ломоносовым поэтической силы тропов как специфического
языка искусства. Метафору он справедливо считал основой поэ-
тического мышления.
Третья часть риторики —«расположение»,— вся написанная
как бы с мыслью о жанре оды, содержит учение о «соединении
идей в пристойный порядок», целый прикладной курс логики:
как строить «великолепные» периоды, иерархические цепи мыс-
лей, ассоциаций, образов, чтобы возбудить и утолить «страсти»
читателя, подействовать на его воображение. Разум и чувства
уравнены у Ломоносова в правах. В его построениях и сейчас
можно найти много полезного для рационального познания поэ-
тики «высокого», которая вовсе не сводилась к «надутости»,
внешней высокопарности,— так богат внутренний мир писателя
и читателя, затрагиваемый «высоким».
В «Риторике», начиная с введения, проводится еще одна цен-
ная тема—«об эрудиции» оратора. Ломоносов считает, что для
приобретения красноречия, мастерства нужны пять следующих
качеств: природное дарование, наука (т. е. теоретические зна-
ния), подражание образцовым мастерам, упражнение в сочи-
нении и знание других наук. Ломоносов настаивает на специ-
1 Ломоносов М. В. Поли. собр. соч.— Т. VII.— С. 91.
2 Т а м ж е.— С. 99.
20
альной учебе «ритора», т. е. поэта. Эти же мысли высказаны
в статье «О качествах стихотворца рассуждение».
Обратимся к «Предисловию о пользе книг церковных в рос-
сийском языке». Ломоносов раскрыл объективное соотношение
различных стихий в русском литературном языке. Решая про-
блему соотношения церковнославянского и русского языков, он
совершенно правильно подчеркивал значительную их родствен-
ность. Все его разграничения литературной речи оказались жи-
выми. Создавая теорию «трех штилей», Ломоносов хотел дать
простор разговорной, народной речи. Звучание слов и их смы-
словое и эмоциональное наполнение Ломоносов связывал с той
материей, которую они изображают. В иерархии стилей сохра-
нялся принцип единства содержания и формы.
Ломоносов не только разграничил разные стихии языка, но
и последовательно закрепил за ними определенные жанры.
К высокому стилю он отнес героические поэмы, оды, прозаиче-
ские речи о важных материях, стихи по поводу придворных
празднеств, побед над врагом, заключения мира и т. д. К сред-
нему стилю — театральные сочинения, дружеские письма о вы-
соких предметах, но не столь важных, как в первом случае,
эклоги, элегии. К низкому стилю — комедии, эпиграммы, песни
и обыкновенные письма (скажем, письмо, в котором заимодавец
просит вернуть ему деньги).
«Письмо о правилах российского стихотворства», «Краткое
руководство к красноречию» и «Предисловие о пользе книг
церковных в российском языке» образуют цикл наиболее тео-
ретических работ в критическом наследии Ломоносова. Но у
него намечалась и чисто прикладная критика, со своим кругом
актуальных вопросов. Сюда можно отнести три его статьи:
«О нынешнем состоянии словесных наук в России» (отрывок),
«Рассуждение об обязанностях журналистов...» и «О качествах
стихотворца рассуждение».
В 1750-х годах началась горячая полемика между Ломоносо-
вым, Тредиаковским и Сумароковым о том, какой стиль пред-
почтительнее развивать в литературе. Коалиции складывались
по-разному. Тредиаковский вместе с Ломоносовым был за вы-
сокий стиль, но принижал заслуги Ломоносова в области ре-
формы стихосложения, в которой имел немалые заслуги сам, и
в предпочтении ямба другим размерам видел непоследователь-
ность Ломоносова. Тщеславный Сумароков, окруженный по-
клонниками из своей «школы» (И. П. Елагин, А. А. Волков,
Н. Е. Муравьев, М. М. Херасков), претендовал на роль законо-
дателя литературных вкусов. Ломоносов и Тредиаковский ка-
зались ему кабинетными одиночками, людьми сухой науки, на-
пыщенного стиля. Сумароков явно хотел умалить значение оче-
видного для всех ошеломляющего успеха Ломоносова как поэта
и как теоретика классицизма, хотя на самом деле Ломоносов
своевременно утвердил значение «высокого» как исходного пунк-
21
та эстетики и в сущности прокладывал пути всем стилям. У Ло-
моносова не было своей «школы» в узком смысле слова, если не
считать Н. Н. Поповского и позднее В. П. Петрова, разделяв-
ших его пристрастие к высокому, торжественному, одическому
стилю; но за ним шла вся русская поэзия, она была бы невоз-
можна без его реформ, а это нечто большее, чем «школа».
В статье «О нынешнем состоянии словесных наук в России»
Ломоносов подчеркивал значение писателей в обработке жи-
вого литературного языка. Недоконченная статья Ломоносова
обещала быть строгим разбором безотчетного смешения стилей
у современников, которое снижало художественный уровень их
произведений. Теория стилей перерастала в теорию классици-
стских критериев художественности.
Ломоносов старался уже на заре русской критики, в пылу
полемики, преподать образцы объективного разбора сочинений,
разработать морально-этический кодекс деятельности критика
и журналиста.
Он хорошо понимал, что гласность в спорах необходима. Ко-
гда начала разгораться полемика с Сумароковым и Елагиным,
Ломоносов в письме к И. И. Шувалову в начале 1754 года вы-
ступил с инициативой издания в России журнала, в котором
можно было бы высказывать литературные мнения. Так заро-
дилис\ «Ежемесячные сочинения» (1755—1764), сыгравшие
большую роль в становлении классицизма и воспитании лите-
ратурных нравов. То, что наболело у Ломоносова, он высказал
в статье «Рассуждение об обязанностях журналистов...» (напи-
сана в 1754 г.). Статья отражала идеи письма к Шувалову и по-
зицшцЛомоносова в спорах.
^Какой же должна быть критика?!
Ломоносов заявил следующее^ надо «понимать» то, о чем
пишешь; «свобода философии», т/"е. суждений,— это правило
очень хорошее, если им не злоупотреблять; есть люди, которые
меньше всего озабочены поисками истины; особенно бесчестно
«красть» у собратьев высказанные мысли и суждения; если кто
пытается судить о сочинениях другого, он должен уметь схва-
тывать существенное в них; журналисту позволяется опровер-
гать то, что, по его мнению, заслуживает опровержения, однако
он должен противопоставить этому основательные возражения.
Ломоносов считал, чт($£рли критик не знает ответа на обсуж-
даемый вопрос, то он не имеет морального права критиковать
другого. Самое интересное в кодексе Ломоносова — тезис о пра-
ве пытливого ума на гипотезы. Творческая мысль идет сложны-
ми, противоречивыми путями, зигзагами. «Журналист не должен
спешить с осуждением гипотез...» Они иногда единственный
путь, идя которым, «величайшие люди дошли до открытия са-
мых важных истин»’.
‘Ломоносов М. В. Поли. собр. соч,—Т. III.—С. 231.
22
До сих пор еще спорят ученые, кто написал прекрасную ано-
нимную статью в «Ежемесячных сочинениях» под названием
«О качествах стихотворца рассуждение» (П. Н. Берков припи-
сывал ее Ломоносову, Л. Б. Модзалевский— Г. Н. Теплову).
Во всяком случае, по тону и мысли она очень напоминает пре-
дыдущую статью Ломоносова. Здесь мы застаем самый момент
формирования классицистской критики, признающей важность
разумных правил и образцов. «Ежели бы Цицерон не представ-
лял себе Демостена (т. е. Демосфена.— В. К), Демостен — Исо-
крата, Платона, Эшила (Эсхила.— В. К.) и других, Вергилий —
Гомера, Расин — Эшила, Софокла и Еврипида, Молиэр Терен-
тиа (Теренция.— В. К) и Плавта, Гораций — Пиндара, Боало —
Горация и Ювенала.... то бы и приращения в словесных науках
мы не видели...» Но должно быть еще одно качество у стихо-
творца, без которого другие теряют свою ценность. Еще Цицерон
говорил: «В безделицах я стихотворца не вижу...» И автор про-
должает несколько переиначив Цицерона: «...в обществе граж-
данина видеть его хочу, перстом измеряющего людские поро-
ки»1. Стихотворец должен активно участвовать в делах обще-
ства и отечества и иногда даже превращаться в сатирика.
Во всех этих рассуждениях чувствуется пафос Ломоносова.
Во всяком случае, если статья написана Тепловым, то словно
с мыслью о Ломоносове, образцовом русском стихотворце, от-
вращавшем поэзию от безделиц и звавшем ее к высокому. Ло-
моносов всеми силами боролся с недоброхотами русского наро-
да, самоотверженно служил отечеству, глубоко верил в его
культурный и исторический прогресс.
Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1768). Реформы
Тредиаковского имели половинчатый характер. Но с 1730 (пре-
дисловие к переводу романа «Езда в остров любви») по 1739 год
(канун выступления Ломоносова) Тредиаковский был единст-
венным крупным представителем зарождавшейся русской кри-
тической мысли. В написанных им в этот промежуток времени
трудах были поставлены некоторые вопросы будущих реформ
и открытий Ломоносова. В предисловии к роману Тредиаков-
ский заявил, что русский разговорный язык вполне может стать
литературным, а «славяно-российский» (т. е. церковнославян-
ский) для «мирской» книги «очюнь темен», его многие не разу-
меют. Впрочем, и язык самого Тредиаковского был еще очень
темен. В «Речи о чистоте российского языка» (1735) он снова
вернулся к этой проблеме и призвал членов Российского собра-
ния Академии наук: «Труд, господа, труд прилежный все пре-
побеждает».
Еще не догадываясь о роли таланта, вдохновения в твор-
честве, Тредиаковский как классицист-рационалист верит, что
«из основательные грамматики и красные риторики не труд-
1 Ежемесячные сочинения.— 1755.— Май.— С. 398.
23
ио произойти восхищающему сердце и разум слову пиитическо-
му...»*. Как раз Ломоносов позднее и создаст эти необходимые
пособия творчеству—«Российскую грамматику» и «Риторику».
В качестве возможных препон творчеству Тредиаковский назы-
вает только существующее «неправильное» (т. с. силлабическое)
сложение стихов и неупорядоченность лексикона. Лексикон и
будет позднее упорядочен Ломоносовым в грамматике и в уче-
нии о «трех штилях», а что касается способа к сложению рус-
ских стихов, то Тредиаковский тут же не без гордости заявлял,
что «способов не нет», т. е. они есть, и указывал: «некоторые
ж и я имею». Он намекал на свой «Новый и краткий способ
к сложению российских стихов» (1735). Здесь Тредиаковский
впервые ввел понятия «лшический. размер» и «стопа» как меру
ритма. и_указал, что практиковавшаяся до сих пор в России сил-
лабическая система стихосложения по польскому образцу при-
водит к нескладице и что большего «сладкогласия» достигает
русский народ в своих песнях, построенных по тоническому
принципу. Но Тредиаковский схоластически отверг трехслож-
ные размеры — дактиль, амфибрахий, анапест, с пренебреже-
нием отнесся к ямбу. Тредиаковский признавал только женскую
рифму в облюбованном им хорее и отвергал мужскую, свойст-
венную ямбу. Впрочем, он по нескольку раз менял свое мне-
ние: сначала признавал рифму, хотя и с ограничениями, а по-
том отказывался от нее вовсе, потому что в народной поэзии нет
рифмы; восставал против попеременного сочетания женских и
мужских рифм, а потом сам его практиковал.
Во второе, переработанное издание своего «Нового и кратко-
го способа...» под названием «Способ к сложению российских
стихов» (1752) Тредиаковский внес улучшения с учетом того,
что сделал Ломоносов. Ряд его наблюдений является сущест-
венным дополнением к Ломоносову. Например, он верно ука-
зывал^ что «чистые ямбы» в русском языке необязательны и за-
труднительны, многие стопы в ямбе заменяются пиррихием, что
рифма еще не делает стихов стихами, для этого нужно нечто
большее, т. е. поэтическое мышление. Рифма бывает «богатая»
и «полубогатая», т. е. точная и неточная. Тут Тредиаковский
даже опережал время: вспомним, что еще в пушкинскую эпоху
совершенно невозможно было допускать неточную рифму; вся
классическая поэзия XIX века стремилась соблюдать это пра-
вило. Рифму «расшатали» символисты, и затем па основе ассо-
нансов и консонансов сс сильно обогатили и, можно сказать,
пересоздали футуристы.
В «Рассуждении об оде вообще», приложенном к оде на взя-
тие города Гданска (1734), Тредиаковский первым сформулиро-
вал некоторые признаки одного из ведущих классицистских
1 Тредиаковский В. К Сочинения и переводы как стихами, так и
прозою.— СПб., 1752.— Т. II.— С. 17.
24
жанров (лирический беспорядок, «божий язык» и пр.), так бле-
стяще потом разработанных Державиным. «Ода,— писал Тре-
диаковский,— есть совокупление многих строф, состоящих из
равных, а иногда и неравных стихов, которыми описывается
всегда и непременно материя благородная, важная, редко неж-
ная и приятная, в речах весьма пиитических и великолепных»1.
Ода сродни псалмам, стансам по «высокости» речей эпической
поэзии, но резко отличается от «всякой мирской песни», содер-
жанием которой «почитай всегда есть любовь, либо иное что
подобное, лехкомысленное...», а речь которых бывает «иногда
сладкая, но всегда льстящая, часто суетная и шуточная, нередко
мужицкая и ребячья»2.
Ломоносов развивал те же идеи («Разговор с Анакреоном»
и др.). Но реальная практика со временем восстановила в пра-
вах и «песню» (это слово является точным переводом греческо-
го слова «ода»). Сумароков и Державин кое-что позаимствуют
из песен для своих од.
Тредиаковский не чужд исторического подхода к решению
вопроса о причинах расцвета и упадка поэзии. Его волновал
вопрос о возможности существования российской поэзии, факт
появления которой он уже провозгласил в «Эпистоле от Россий-
ский поэзии к Аполлину» (1734). Статья Тредиаковского
«О древнем, среднем и новом стихотворении российском» была
первым опытом создания истории русской литературы; при рас-
смотрении стихотворных примеров в ней даются характеристики
деятельности Смотрицкого, Полоцкого, Медведева, Истомина,
Магницкого, Буслаева, Кантемира и других русских поэтов.
Русская поэзия, по его мнению, прошла три периода: «древ-
ний»— языческий, с стихийно природным тоническим стихосло-
жением, закрепившимся в фольклоре; потом «средний»—силла-
бический, под религиозно-христианским и — в области ритми-
ки— главным образом польским влиянием, и, наконец, вступи-
ла в третий, «новый» период. Теперь она снова возвращается к
природному тоническому стихосложению, уже осмысленно, сбра-
сывая иго чужих влияний и осваивая правила творчества, как
понимал их сам Тредиаковский. Тредиаковский с гордостью под-
черкивал свою заслугу в этом преобразовании русской поэзии.
В «Письме к приятелю о нынешней пользе гражданству от
поэзии», «Рассуждении о комедии вообще» и предисловии к
«Тилемахиде» Тредиаковский ставил классическую древность
выше совремейной ему европейской литературы-. Первая была
преимущественно поэзией свободных граждан, потому и расцве-
тала, нынешняя ей уступает, потому что связана с монархиче-
ским правлением. В скрытой форме Тредиаковский критиковал
’Тредиаковский В. К. Сочинения и переводы как стихами, так
и прозою.— Т. II.— С. 30.
2 Т а м ж е.— С. 31.
25
влияние дворов- Елизаветы и Екатерины II. Он ратовал за се-
рьезную, высокую и свободную поэзию, прославлял Фенелона
за то, что тот в своем «Телемаке» показал, как «власть царская
тогда токмо тверда, когда укрепляется любовию подвласт-
ных...»'.
Последовательно применить свои идеи Тредиаковский не
смог. Он порицал появление в качестве героев эпических поэм
не мифологических, а исторических лиц («Генрнада» Вольте-
ра), явно недооценивал успехи новейшей французской литера-
туры. «Итак, лучше нам последовать в сем Софоклу, Еврипиду
и Терентию (Теренцию.— В. К.), нежели Корнелию, Рацину
(Расину.— В. К.) и Молиеру»* 2. За подражания Мольеру он рез-
ко порицал Сумарокова. Ему кажется также, что с развитием
современного общества, наук, физики, геометрии человечество
все меньше нуждается в искусстве. Как видим, историзм у Тре-
диаковского оказывался плохо связанным с идеей прогресса.
В статьях Тредиаковского вызревали, еще в наивной форме,
проблемы формы и содержания искусства, его специфики по
сравнению с наукой. «Новый и краткий способ к сложению рос-
сийских стихов» открывается следующим заявлением: «В поэзии
вообще две вещи надлежит примечать. Первое: материю, или
дело, каковое пиит предприемлет писать. Второе: версифика-
цию, то есть способ сложения стихов. Материя всем языкам в
свете общая есть вещь, так что никоторый оную за собственную
токмо одному себе почитать не может: ибо правила поэмы эпи-
ческия не больше служат греческому языку в Гомеровой «Илиа-
де» и латинскому в Вергилиевой «Энеиде», как французскому
в Вольтеровой «Генриаде», италиянскому в «Избавленном Иеру-
салиме» у Тасса и английскому в Мильтоновой поэме о поте-
рянии рая. Но способ сложения стихов весьма есть различен по
различию языков»3.
Важно, что ыраблемд.содержания («материи») и формы бы-
ЛД поставлена Тредиаковским уже в 1735 году. Правда, форма
понималась узко, сводилась к языку и версификации, а в по-
нятие содержания попадали элементы формы—«правила по-
эмы эпическия». Кроме того, если форма оказывалась нацио-
нальной, то содержание объявлялось «всем языкам в свете
общее».
В других статьях Тредиаковского рассеяны любопытные и
более содержательные замечания об этой проблеме. В статье
«Мнение о начале поэзии и стихов вообще» Тредиаковский под-
черкивал приоритет содержания над формой. Он развивал ари-
стотелевское положение о том, что поэты являются прорицате-
’Тредиаковский В. К. Соч., изд А. Смирдипа.— СПб., 1849.—
Т. И,—С. XXXIX—XL.
2 Та м ж е.— С. LXIV—LXV.
3 К у н и к А. А. Сборник материалов для истории Ими. Академии наук
в XVIII веке.—СПб., 1865 —Ч. I,—С. 21.
26
лями, а поэтическое творчество есть изобретение возможностей,
т. е. «не такое представление деяний, каковы они сами в себе,
но как они быть могут, или долженствуют...»
В предисловии к «Тилемахиде» Тредиаковский сопоставля-
ет поэзию («героическую поэму») с историей, наукой и другими
видами искусства и находит в поэзии специфические преимуще-
ства. Она, так же как и другие формы познания, научает лю-
бить добродетель, но как бы историю «пригвождая к единой
точке», «дабы, единым воззрением вдруг созерцаемая», «чрез то
вперилась бы и впечатлелась в разум на все веки незабвенно».
Тредиаковский верно почувствовал конкретную образность
искусства, его «хитроисканные» средства.
Из классицистических жанров Тредиаковский особенно це-
нил героические поэмы. «Предызъяснение об ироической пии-
ме»—одна из самых содержательных статей Тредиаковского
(1766). Через двадцать лет здесь получили конкретизацию по-
ложения ломоносовской риторики об «изобретении», «украше-
нии» и «расположении».
Тредиаковский подробно разбирал структуру героической
поэмы, законы ее красоты и нормы художественности в класси-
цистическом понимании. Эпопея воспевает не личность, не ге-
роя, а великое деяние, которое должно быть «единым», «цель-
ным», иметь в себе «причину» (гнев богов и проч.). На этой
основе должен строиться «узел», или «завязание», «заплете-
ние», а затем «развязание», или «расплетение», «окончание»
действия. Эти же элементы, по мнению Тредиаковского, долж-
ны присутствовать в каждом отдельном эпизоде произведения.
Что касается «характеров» (в значении действующих лиц), то
они должны быть, как у Гомера, строго выдержаны до конца,
не изменять своей сущности. Поэт может прибегать для моти-
вировки поступков людей к помощи «чудесностей», но как бы
вымышлены ни были эти мотивировки, им следует все же быть
вероятными, иметь вид истины. Самим богам надлежит в дей-
ствиях не выходить «за пределы естества». Нравоучение не
должно быть навязчивым. Тредиаковский много вносит своего,
из личного опыта, оригинально систематизирует теорию герои-
ческой поэмы. Русские читатели впервые узнавали о завязке и
развязке, о цельности характеров, о мотивированности по-
ступков.
Твердые законы эпопеи (композиция, характеры, размер сти-
ха) Тредиаковский хотел бы рекомендовать и жанру трагедии.
Он касается этого вопроса попутно в той же статье.
Комедии Тредиаковский посвятил особую статью. Он опирал-
ся на французского литератора и мыслителя Рэне Рапена
(1621—1687), последователя поэтики Буало, и на иезуита Брю-
моа. «Смешное есть самое существо комедии»’,— заявлял Тре-
1 Тредиаковский В. К. Соч.— Т. I.— С. 427.
27
диаковский. Но тут же указывал, что смешное должно заклю-
чаться не в словах, а в вещах. Этого можно достигнуть только
твердо держась «натуры». Смешное в искусстве должно быть
«копиею» с нравов и худых сторон народной жизни. Но «копия»
еще никак не раскрывалась Тредиаковским с точки зрения
поэтики. Он даже противился изобретению «возможностей» в
этом роде, был против сатиры.
В статье «Рассуждение о комедии вообще» обсуждается во-
прос о правомерности заострения: «... можно ль делать в коме-
дии виды больше природных, чтоб сильняе поразить смотрите-
лев разум... (разум зрителя.— В. Д'.)?» Тредиаковский вплотную
подошел к проблеме художественных преувеличений, без ко-
торых комедии не бывает. Но в общем он не сторонник таких
заострений. Тредиаковский говорит: «Плавт, желая угодить на-
роду, делал так», т. е. заострял события и слова в своих коме-
диях. Другое дело, по его мнению,— Теренций: он угождал бла-
городным вкусам «и представлял пороки, не увеличивая их и
не расширяя». Понятно, почему Тредиаковский не симпатизи-
ровал Мольеру.
Тредиаковский лелеял мечту о свободном процветании досто-
любезных ему «словесных наук». Отсюда его симпатии к Гоме-
ру, Фенелону, Барклею, автору «Аргениды». Всякое покушение
на просвещение ему казалось или святотатством, или плодом
заблуждения. В той же статье, где разбираются термины, Тре-
диаковский вступил в полемику со скептическим взглядом
Ж.-Ж. Руссо па современную цивилизацию. Тредиаковский про-
возгласил: «Без мудрости нет совершенства в добродетели».
Конечно, глубокая революционная сторона в скептических суж-
дениях Руссо им не улавливалась. Критицизм в такой сложной
форме Тредиаковскому казался «суемысленностью». Но харак-
терно, что и позднее в том же ракурсе с Руссо будут полемизи-
ровать Карамзин и Радищев. Перед всеми русскими писателями
в XVIII веке стояла одна прямая задача — всемерное просве-
щение России.
Александр Петрович Сумароков (1717—1777). В критических
выступлениях Сумарокова более или менее законченно офор-
мился кодекс русского классицизма. Сумароков был, можно
сказать, критиком-профессионалом. Он хорошо чувствовал по-
требности дня и облекал свои выступления в легкие, общедо-
ступные формы.
Он видел всю пустоту придворной жизни и старался отстоять
свою писательскую независимость. Сумароков приобщал дворян
к литературе, отсюда борьба за «средний» стиль> за широкую
общественную среду.
Сумароков начал издавать первый в России частный журнал
«Трудолюбивая пчела» (1759), соединять критику с журнали-
стикой. Но в это же время он старался снискать внимание уз-
кой верхушки двора, прослыть русским Расином. Сумароков
28
доказывал, что расцвет русской литературы связан с монар-
хическим правлением, являющимся «верхом» благополучия,
какое «только может представить себе воображение человече-
ское».
Обращает на себя внимание дрограммндя рпре ,еленность
кллсгипистичрских убеждений Сумарокова, выраженных им в
двух эпистолах — одной о русском языке, другой — о стихотвор-
стве (они были изданы в 1748 году, а в 1774 объединены под
общим названием «Наставление хотящим быти писателями»).
Эти эпистолы, собственно, и нужно иметь в виду, когда говорит-
ся о Сумарокове как одном из теоретиков классицизма. В эпи-
столах воспроизводятся основные идеи Бу ало, но даже эписто-
ла о стихотворстве, наиболее близкая к Буало, не является
простым изложением французского оригинала, это во многом
самобытное произведение. Сумароков обстоятельнее, чем Буало,
высказался о правах драматических жан ов расширил теорию
комической поэмы7 приапапппи-«издевкоТ править нрав», с осо-
бой благожелательностью отозвался о песенках, своей «волшеб-
ной свободой» завоевывающих сердца читателей, с знанием
дела отметил некоторые особенности поэтики этого жанра:
«Слог песен должен быть приятен, прост и ясен».
Сумароков, в отличие от Буало. мало коснулся непопуляр-
ных в России жанров сонета, рондо, мадригала, баллады, воде-
виля, равнодушно отозвался об эпопее. В той же второй эписто-
ле он набросал легкий эскиз истории русской поэзии, но только
новейшего времени, т. е. в основном классицистического направ-
ления, и в лестных параллелях с иностранными образцами воз-
величил отечественных поэтов. О Ломоносове, нйпример, без
лицеприятия было сказано: «Он наших стран Мальгерб, он Пин-
дару подобен». Но не исключено, что в этой похвале скрывается
и некоторое лукавство, т. е. заслуги Ломоносова признаются
только в прошлом, как и заслуги Малерба во французской ли-
тературе. Современное же значение он якобы утратил
Сумароков саитащ _ыто первой заботой писателей должна
быть разработка, образцового языка для литературы:
Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат,
Но скупо вносим мы в пего хороший склад.
Примером для русских, говорил он, может служить Фран-
ция, законодательница хорошего вкуса:
Прадой и Шапелен не тамо ли писали,
Где в их же времена стихи свои слагали
Корнелий и Расин, Депро и Молиер,
Делафонтен и где им следует Вольтер.
1 См.: Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литерату-
ры XVIII века —Л., 1964.—С. 22—23.
29
Хороший вкус должен выражаться также в точном соблюде-
нии жанровых перегородок, эстетической иерархии:
Знай в стихотворстве ты различие родов
И что начнешь, ищи к тому приличных слов,
Не раздражая муз худым своим успехом:
Слезами Талию, а Мельпомену смехом.
Эти сентенции, имевшие в конце концов не только узкоклас-
сицистический смысл, легкие и изящные по форме, хорошо запо-
минались современниками и формировали их вкусы.
Сумароков породнил русский классицизм с французской
классицистической литературой XVII—XVIII веков. Обе эпи-
столы снабжены обстоятельнейшим историческим комментари-
ем. Приложены характеристики крупнейших писателей, на ко-
торых Сумароков опирается в своем построении поэтики русско-
‘го классицизма. Среди первых находим Вольтера — ярчайшего
представителя французской трагедии. Не один раз тщеславный
Сумароков ссылался: «Мы с господином Вольтером...», когда
речь шла, например, о необходимости борьбы с засильем мод-
ных «слезных комедий» Детуша, с тем, что на московской сцене
героев и царей начинают вытеснять подьячие. Сумароков пре-
возносил «Генриаду» как «сокровище стихотворства», совер-
шенно не обращая внимания па ухищрения Тредиаковского
умалить значение этого произведения. Сумароков отбрасывал
схоластические критерии и опирался на вкус времени и обще-
ства, благосклонно принявших «Генриаду». Он начисто пере-
черкивал «черные» списки Тредиаковского и хвалил то, что тот
порицал... Несомненно, в такой свободе суждений Сумарокова
проявился новый дух критики.
Сумароков высоко оценивал Камоэнса — эпика, автора «Лу-
зиад», превозносил Мольера как ярчайшего представителя клас-
сицистической комедии, «преславного французского комика»,
«славнейшего изо всех комиков на свете», автора «Мизантро-
па», «Школы жен», «Школы мужей», «Ученых женщин», «Ам-
фитриона». С огромной симпатией относился Сумароков к Ра-
сину: Расин—«великий стихотворец», «преславный трагик». Су-
мароков упоминал и другие имена, но не столь авторитетные
для него. Например, Шекспира назвал великим, «хотя не про-
свещенным». В нем «и очень худого и чрезвычайно хорошего
очень много».
Сумароков сосредоточился на разработке теории драмы и в
статье «Мнение во сновидении о французских трагедиях»
'(в форме письма к Вольтеру) высказал свои похвалы и крити-
ческие замечания по адресу корифеев французского класси-
цизма.
Пользуясь приемом «сновидения», критик позволяет себе
полную непринужденность в приговорах.
Но иногда Сумароков в своих суждениях слишком наивен.
Расиновские трагедии он разбирал с оценками: «стихи великого
80
вкуса», «достойное Расина» (начало «Ифигении»), «волосы на
мне дыбом», «восторженный партер всплескал громко и трое-
кратно» (на представлении «Альзиры»). Начало трагедии Кор-
неля «Цинна» «несколько излишне в свое время критиковал гос-
подин Буало». «Господин же Вольтер несколько извинял эту
длинноту». Что же касается его, Сумарокова, то он вовсе отвер-
гал эту длинноту. Разбирая «Альзиру» Вольтера, Сумароков
простодушно и с полной самоуверенностью выставлял отметки
собрату по перу: «Первое явление весьма прекрасно». Второе и
третье—«также», четвертое «достойно имени Вольтерова».
«Первое явление второго действия весьма прекрасно. Второе —
также, третье — также. Четвертое писано самою Мельпоме-
ною».
В разборе вольтеровского «Брута» Сумароков высказал сме-
лое, с политическим подтекстом положение, которое до сих пор
никем еще удовлетворительно не объяснено. Касаясь цензурных
гонений на «Брута» во Франции, Сумароков рассуждал:
«В древнем Риме и во Афинах препоручили сию трагедию боль-
шей славе, нежели Париж. Вот причина, отчего сия драма не
столько имеет успеха, сколько она достойна!» Такое заявление
не совсем вытекает из монархических убеждений Сумарокова.
Не является ли оно результатом желания польстить «господи-
ну Вольтеру» или какого-то временного недовольства Сумаро-
кова отношением к нему со стороны двора Екатерины II? Если
верно последнее, тогда становятся понятнее другие острые сло-
ва, которые позволил себе Сумароков в сочувственных сужде-
ниях о героях Вольтера: «Брут и Тит — республиканцы; так сия
драма не вошла в Париже толико в моду, сколько она достой-
на...» А публика, конечно, оглядывается па вкусы стоящих у
власти; между тем, гордо заявлял Сумароков, Вольтер являет-
ся «моим совместником, которому я еще больше должен, неже-
ли Расину».
Разбирая другую драму Вольтера—«Заира», Сумароков
'допустил еще более острое замечание: «Брут» когда-нибудь мо-
жет войти больше в моду в Париже, ибо из монархии респуб-
лики делаются». Определенно назидательный тон чувствуется
в этих словах русского Расина, решившего припугнуть монар-
хию республикой...
В русской литературе Сумароков вел борьбу с равнением на
придворные вкусы, с высокопарностью, впрочем, узко и пред-
взято сосредоточивая огонь полемики на Ломоносове, забывая,
что о среднем стиле дал теоретическое понятие он же. «Ломо-
носову приписывают громкость, мне приписывают нежность»,—
говорил Сумароков, по-своему определяя полярные точки борь-
бы в литературе.
У Сумарокова есть статья «Некоторые строфы двух авто-
ров». Два автора — это Ломоносов и Сумароков. После неболь-
шой теоретической преамбулы следовали столбцы: сначала —
31
Ломоносов, потом — Сумароков; предлагалось сопоставить, кто
из них лучше. «Мне уже прпскучилося слышати всегдашний о
г. Ломоносове и о себе рассуждения»,— с досадой писал Сума-
роков. «Я свои строфы распоряжал как распоряжали Мальгерб,
Руссо (т. е. Ж.-Б. Руссо.— В. К.) и все нынешние лирики, а
г. Ломоносов этого не наблюдал». «Г. Ломоносов меня несколь-
кими летами был постарее, но из того не следует сие, что я его
ученик...» На самом деле Сумароков в первое десятилетие зна-
комства с Ломоносовым (1742—1752) многому научился у не-
го... Они даже дружили. После же смерти Ломоносова Сумаро-
ков позволял себе сделать такой вывод об узости его таланта:
«Великий был бы он муж во стихотворстве, ежели бы он мог
•вычищати оды свои, а во протчия поэзии не вдавался»1.
В статьях «К несмысленным рифмотворцам», «О стопосло-
жении», «Критика на оду», «Рассмотрение од г. Ломоносова»
Сумароков от отдельных булавочных уколов решил перейти к
обстоятельному рассмотрению русской оды, и в особенности од
Ломоносова. Статьи Сумарокова оказались как бы реализацией
аналогичного несостоявшегося замысла Ломоносова — написать
свое обозрение современной русской словесности. Там на при-
дирчивый разбор обрекался Сумароков, а здесь — Ломоносов
и Тредиаковский. Пафос статей хорошо выражен Сумароковым
в следующих словах: «... пропади такое великолепие, в котором
нет ясности»2. Сумароков видел свою заслугу в том, что «рус-
ским языком и чистотою склада ни стихов ни прозы не должен
я никому, кроме себя...». Он наивно уточнял эту мысль: «все
говорят, и я не раз говорил, что Расин — мой учитель, но Ра-
син— француз и в русском языке мне дать наставления не мог»3.
Сумароков утверждал в статье «О правописании», что Ломо-
носов далеко не в совершенстве знал русский язык. Например,
Ломоносов пишет достоен вместо достоин. Дело в том, что «Ло-
моносов родом не москвитянин», «его произношение московское
часто обманывало», он писал, как слышал, и ударения ставил
не там: вместо лёта — лета, вместо градов — градов.
В лучших одах Ломоносова Сумароков находил множество
промахов против просодии, ударения, вкуса. Он, например, счи-
тал, что нельзя сказать: «градов ограда». Можно говорить: «се-
ления ограда»: «град от того и имя свое имеет, что он ограж-
ден». И дальше: «Я не знаю сверх того, что за ограда града
тишина», т. е. что значит здесь тишина? «...Я думаю,— заклю-
чал Сумароков,— что ограда града — войско и оружие, а не
тишина».
Из добрых побуждений борьбы против варваризмов в рус-
ском языке Сумароков написал статью «О истреблении чужих
’Сумароков А. П Поли. собр. всех соч., в стихах и прозе.—
Ч. IX - С. 219—220.
2 Т а м ж е,— С. 277.
3 Т а м ж е.— С. 278.
32
слов из русского языка». Однако он слишком полагался на свой
вкус. Его предложения относительно иноземных слов, которые
нужно «истребить» в русском языке, за малыми исключениями,
оказались неудачными. Переспорить историю языка Сумароков
не смог. Например, он восставал против слова фрукты — почему
не сказать плоды? Но и то и другое слово ужились в русском
языке. Сумароков предлагал изгнать слово камера, потому что
можно сказать комната. Но первое слово также осталось. Он
предлагал говорить верхнее платье вместо сюртук, похлебка
вместо суп, мамка вместо гувернантка1. Ломоносов был куда
осторожнее в этом вопросе: он не своевольничал в языке, а уточ-
нял значение слов, выявлял оттенки, сохранял все, что жило и
обогащало язык.
И все же Сумароков много сделал для критики. Он очень
здраво судил о ее прикладном, полезном характере. У Сумаро-
кова есть маленькая заметка «О критике», в которой он рас-
суждал о предмете как о насущнейшем деле в русской литера-
туре: «Критика приносит пользу и вред отвращает; потребна
она ради пользы народа». Он внес много живости и злободнев-
ности в критику, теснее связал ее с художественной литерату-
рой и журналистикой, с формированием эстетических вкусов
публики.
ГЛАВА 3
Сентименталистская критика
Приблизительно с 1770-х годов в русской литературе обна-
ружились первые признаки формирования нового направле-
ния— сентиментализма, связанного с всеевропейским просвети-
тельским и эмансипаторским движением.
Сентиментализм расшатывал традиционные представления
о социальном неравенстве между людьми, проповедовал состра-
дательное сочувствие к демократическим низам («и крестьянки
любить умеют»). Сентиментализм открыл не только внутренний
мир человека, но и окружающую человека природу. Наметилось
характерное именно для сентиментализма противопоставление
целомудренной природы — порочной цивилизации, сельской
уединенной жизни — шумной городской, поэзии «безыскусствен-
ной»— поэзии рассудочной, пробудился интерес к духовной фи-
зиономии народов, национальному эпосу.
Направление не признавало прежних жанровых разграни-
чений, боролось за сочетание различных жанров, чтобы лучше
передавать разнообразные настроения, их оттенки, переливы
и переходы. Сентиментализм возвысил значение прозы, верно * 3
’Сумароков А. П. Поли. собр. всех соч., в стихах и прозе.—
Ч. IX,- С. 245.
3 Заказ № 1367
33
почувствовав, что только в жанре романа или путешествия мож-
но вполне развернуть аналитические возможности своего ме-
тода.
Сентиментализм опирался на развивавшуюся в век Просве-
щения гласность, общественный вкус и свободное мнение, по-
высившуюся ценность отдельной личности, которая дорожит
своей индивидуальностью, независимостью. Гуманистическое со-
держание сентиментализма, его направленность против всего
официального, казенного, бездушного во имя свободы личности
неоспоримы. В социальном смысле этой личностью оставался
все тот же дворянин, познавший свою мятущуюся душу, шедший
навстречу социальным низам во имя идеалов гуманности и про-
свещения.
Но и сентиментализм все же не смог раскрыть конкретный
характер социального человека. Как и классицизм, он пред-
ставлял себе человека слишком абстрактно. Мы это видим в
«Эмиле» Руссо, утопически показывающем идеальное воспита-
ние «естественного» человека, и в «Бедной Лизе» Карамзина,
в которой простонародные черты героини выглядят условными,
пасторальными.
Абстрактно-морализирующее начало в русском сентимента-
лизме выступало особенно ярко, потому что этот сентимента-
лизм в значительной своей части был внутридворянским течени-
ем, старавшимся не разрушить социальный строй, а только усо-
вершенствовать и облагородить его. Но и при такой своей исто-
рической ограниченности русский сентиментализм был шагом
вперед, явлением прогрессивным, значительно расширявшим
возможности развития русской национальной литературы.
Николай Михайлович Карамзин (1766—1826). Родоначаль-
ником и ярчайшим представителем русского сентиментализма
был Н. М. Карамзин. Ему принадлежит честь создания програм-
мы этого литературного направления. Карамзин сумел объеди-
нить вокруг себя целое поколение родственных себе по духу
писателей, оказав большое влияние на русскую литературу
1790—1800 годов. Он сумел «заохотить русскую публику к чте-
нию русских книг» (Белинский). До сих пор еще недооце-
нена роль Карамзина-критика и «необычайная цивилизующая
сила» (Ф. Буслаев) этого писателя в свое время.
По словам Белинского, с Карамзина началась новая эпоха
русской литературы. Карамзин дал толчок к разделению на оп-
ределенные группировки и партии в тогдашней русской лите-
ратуре, вследствие чего было поколеблено поклонение «незыб-
лемым» правилам художественного творчества. С 1790-х годов
литература начала делаться повседневным общественным заня-
тием, «титулы стали отделяться от таланта», и сам Карамзин
служил примером литератора-профессионала. Явилось дело «до-
селе неслыханное»: писатели сделались «двигателями, руково-
дителями и образователями общества», обнаружились попытки
34
«создать язык и литературу». По словам Белинского, «Карам-
зин ввел русскую литературу в сферу новых идей,— и преобра-
зование языка было уже необходимым следствием этого дела».
Карамзин развил вкус изящного, ввел в практику русской кри-
тики оценку явлений с точки зрения эстетики и науки. Карам-
зин был «первым критиком и, следовательно, основателем кри-
тики в русской литературе...»1.
Как критик Карамзин интересовался обширным кругом со-
временных эстетических, философских и исторических проблем.
Сразу же после заграничного путешествия Карамзин решил
заняться литературной деятельностью. В 1791—1792 годах он
издавал ежемесячный «Московский журнал» (переизданный в
начале 1800-х гг.) с постоянным отделом критики и библиогра-
фии. Вокруг журнала объединились лучшие литературные си-
лы: Херасков, Державин, Дмитриев, Нелединский-Мелецкий,
II. А. Львов, П. Ю. Львов, А. А. Петров. Карамзин напечатал
здесь свои маленькие, удивительно содержательные рецензии
па романы Стерна, Ричардсона, Руссо, перевел отрывки из
«Тристрама Шепди» Стерна. Все это одухотворялось сентимен-
тальным настроением, заражавшим современников.
Карамзин был одно время близок с Новиковым, издавал с
ним «Детское чтение» и с симпатией говорил о нем. Но для
Карамзина был характерен лишь поверхностный демократизм
п республиканизм. В предисловии к своему переводу «Юлия
Цезаря» Шекспира (1785) он подчеркивал: «Характеры, в сей
трагедии изображенные, заслуживают внимания читателей. Ха-
рактер Брутов есть наилучший»; «умерщвление Цезаря есть со-
держание трагедии; на умерщвлении сем основаны все дейст-
вия»2. Но тема Брута у Карамзина, как и у Сумарокова, даль-
нейшей разработки не получила. Русский путешественник
присутствовал на бурных заседаниях Народного собрания во
Франции, восхищался ораторским талантом Мирабо, но вскоре
развернувшаяся в полную силу великая революция его напуга-
ла. Он начал проповедовать горацианский идеал уединенной
жизни: таковы его прощание с читателями «Московского жур-
нала», статья «Нечто о науках, искусствах и просвещении»
(1794), материалы альманаха «Аглая». Преследование Нови-
кова и масонов со стороны властей привело Карамзина к пес-
симизму.
Новый расцвет в деятельности Карамзина начался в связи
с изданием «Вестника Европы» (1802—1803), в котором он воз-
родил отдел критики и библиографии. Само название журна-
ла— уже целая программа. Продолжали разрабатываться сен-
। пменталистские проблемы с той особенностью, что на первый
план стали выдвигаться патриотические и гражданские чувства.
1 Белинский В. Г. Собр. соч.— Т. 6.— С. 103; Т. 7.— С. 343.
2 Карамзин Н. М. Избр. соч.— М.; Л., 1964.— Т. 2.— С. 81.
Г 35
Не случайно Карамзин в журнале опубликовал свою повесть
«Марфа-Посадница» (1803).
Отличительной чертой критики Карамзина был спокойный,
доброжелательный тон. «Учтивость, приветливость есть цвет об-
щежития»1, по его словам. Но Карамзин не потворствовал не-
брежности, невежеству и нечестности в литературных занятиях.
Он, например, публично уличил незадачливого московского пе-
реводчика «Утопии» Т. Мора в том, что тот не знал английского
языка и переводил, вопреки своим на титуле уверениям, с фран-
цузского перевода. В другой раз Карамзин указал на непрости-
тельные ошибки в переводе «Клариссы Гарлов».
Особенно он «истаивал на уточнении понятий в критике. До
сих пор она пренебрегала этим и часто путалась в бесплодных
спорах. Карамзин боролся за ясность мысли, неустанно напоми-
нал, что «дефиниции служат фаросом (т. е. маяком.— В. К.) в
путях умствования». Карамзин ввел в критику слова: вкус, об-
раз, талант, сочинять, трогательный, которые сразу сделались
повседневными.
Обаяние Карамзина состояло еще и в том, что он много вщ
дел, много знал и мог искусно приблизить к русскому читателю
живые образы европейских знаменитостей, дать почувствовать
атмосферу чужой общественной и литературной жизни. Ему
ничего не стоило, без сумароковской кичливости, обронить в той
или иной статье: «Лафатер пишет мне...», «добрейший и любез-
нейший... Боннет сказал мне однажды на берегу Женевского
озера...», «я видел «Сида» на парижском театре...» и т. п. Он
встречался и беседовал с Кантом, Гердером, Виландом, Нико-
лаи, Рамлером. Карамзин-критик раскрывался перед читателя-
ми_с разных сторон своей богатой натуры. Это была вовсе не
демонстративно отгороженная от мира «жизнь сер, ца», а, на-
оборот, жизнь всей полнотой сердца, души, ума, опыта.
Карамзин не был приверженцем какой-либо строгой фило-
софской системы, он противоречиво сочетал в своих взглядах
элементы сенсуализма Локка, французского материализма Кон-
дильяка и идеалистического дуализма Канта. Свои философские
положения писатель излагал не специально, а попутно, в связи
с практическими тезисами сентименталистской теории.
^философские основы для своей критики Карамзин находил
и у «чувствительного» Руссо. Но, вслед за Тредиаковским, ре-
шительно выступал против «парадоксов» «великого», «незабвен-
ного» Руссо, утверждавшего, что просвещение и цивилизация
ведут к пороку, моральному вырождению человечества, что на-
до вернуться к спасительным законам природы. Карамзин уже
прекрасно понимал сильную сторону такого парадокса: он на-
носил удар по лжепросвещению абсолютистского государства,
аристократическим извращениям искусства. Но далеко идущие
1 Карамзин Н. М. Избр. соч.— М.; Л., 1964.— Т. 2.— С. 132.
36
революционные выводы Руссо он не принимал: человеку свой-
ственно «природное стремление» к улучшению своего быта —
«Руссо! Я не верю твоей системе» («Нечто о науках, искусст-
вах и просвещении...»).
Еще до заграничного путешествия в стихотворении «Поэзия»
(1787; опубликовано в «Московском журнале» через пять лет)
Карамзин высказался о своих литературных симпатиях и вы-
строил взамен классицистического ряда свой ряд образцовых пи-
сателей. Его любимцами в мировой литературе оказались глав-
ным образом англичане («Британия есть мать поэтов величай-
ших»): «Шекспир, натуры друг...», Мильтон—«высокий дух...»,
Юнг—автор «Ночных дум», «несчастный друг, несчастных уте-
шитель», Томсон, выразивший благоговение перед природой,—
«натуры сын любезный» («Ты выучил меня природой наслаж-
даться...»). Из статей узнаем, что Ричардсон для него—«искус-
ный живописец» человеческой души, Стерн — самый «чистый»
сентименталист, субъективист и индивидуалист, для которого и
«разум есть наполовину чувство». «Стерн несравненный!—вос-
клицал Карамзин в специальной заметке об этом писателе,— в
каком ученом университете научился ты столь нежно чувство-
вать? Какая риторика открыла тебе тайну двумя словами потря-
сать тончайшие фибры сердец наших?» Вопросы для того и за-
давались, чтобы тут же на них дать ответ: ни в какой риторике
нельзя научиться тайнам сердца, лучшим университетом для
сентименталиста является сама жизнь.
Из немцев в том же стихотворении «Поэзия» Карамзин сла-
вил пдиллика Геснера и «несравненного» певца божеского вели-
чия Клопшгока. Позднее Карамзин включил в круг своих симпа-
тий немецких драматургов: Галлера, Клейста, Ленца. С послед-
ним он даже лично был знаком (известно, что Ленц окончил дни
свои в России). Сентиментализм был одной из основных тенден-
ций периода «бурных стремлений». И входившего тогда в моду
А Коцебу Карамзин ценил за то, что тот «знает сердце».
В стихотворении «Поэзия» пока еще не было упоминаний о
французах. Из русских Карамзин не называл никого, так как
сам был первым сентименталистом. Но позднее, в специальной
большой статье о сочинениях Богдановича (1803), Карамзин
прославил русский сентиментализм: по его мнению, автор «Ду-
шеньки» во многом выигрывает при сопоставлении его с Лафон-
теном.
«О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь?»—восклицал
Карамзин, отправляясь в путешествие. Открывались его горячие
симпатии к Руссо: «Отчего Жан-Жак Руссо нравится нам со
всеми своими слабостями и заблуждениями?.. Оттого, что в са-
мых его заблуждениях сверкают искры страстного человеколю-
бия»1. Карамзин из всех мотивов творчества Руссо отбирал
* Карамзин Н. М. Избр. соч.— Т. 2.— С. 122.
37
только «сладкую чувствительность». Руссо казался ему идеалом
современного писателя. На вопрос, выставленный в самом за-
главии статьи «Что нужщх, автору?», Карамзин отвечал — доб-
рота сердца, сочувствие человеку. «...Я уверен, что дурной че-
ловек не может быть хорошим автором».
С понятием сентиментализма по традиции связано представ-
ление о приторной чувствительности. Но Карамзин осуждал
крайности. Он призывал «находить в самых обыкновенных ве-
щах пиитическую сторону», не впадая ни в классицистическую
выспренность, ни в сентиментальную слезливость. В современ-
ной литературе он находил оба эти порока. «Не надобно также
беспрестанно говорить о слезах,— писал он,— прибирая к ним
разные эпитеты, называя их блестящими и бриллиантовыми,—
сей способ трогать очень ненадежен: надобно описать разитель-
ную причину их...»1.
Насколько Карамзин не терпел сентименталистских штам-
пов, видно из его статьи «Мысли об уединении» (1802). Уеди-
нение имеет особенную прелесть для чувствительного, восприим-
чивого сердца, но «человек от первой до последней минуты бы-
тия есть существо зависимое», т. е. общественное. Трудно пере-
оценить важность этого положения в устах корифея русского
сентиментализма. Его главной заботой был живой обществен-
ный человек в литературе. А ведь совсем скоро романтики нач-
нут проповедовать бегство поэта от общества. Как только
«Вестник Европы» перешел к Жуковскому (1808), поэт поме-
стил в нем статью «О меланхолии», в которой в противоречии
с прежней линией Карамзина утверждались идеалы отшельни-
ческой жизни.
Карамзин не ограничивался чисто субъективной и эмоцио-
нальной оценкой произведений. Он пытался осознавать свои
оценки теоретически, рассматривая критику и эстетику, по воз-
можности, как строгую науку: «эстетика есть наука вкуса»,
«эстетика учит наслаждаться изящным».
Еще в Лейпциге в 1789 году Карамзин слушал лекцию по
эстетике профессора Э. Платнера и перенял у него вышепри-
веденные определения. Новейшая немецкая эстетика отвечала
духу современного искусства. Карамзин добросовестно изложил
в «Письмах русского путешественника» тезисы Платнера, ука-
зав, что тот в свою очередь опирался на Баумгартена.
Именно Баумгартеном в 1750-х годах эстетика была впервые
обособлена как отдельная область науки, отличающаяся от ло-
гики, области разума и рассудка. Расшатывая правила старых
поэтик, Карамзин считал необходимым создавать новые прави-
ла. Слепую безотчетность творчества он отвергал.
Перед Карамзиным, по сравнению с классицистами, встава-
ли новые вопросы: «Не есть ли красота и совершенство нечто
1 Карамзин Н. М.-»Избр. соч.— Т. 2.— С. 144.
38
весьма относительное или, лучше сказать, нечто такое, чего во
всей чистоте не найдешь ни у какого народа и ни в каком сочи-
нении?»; «...разве древние без всякого исключения могут быть
для нас оригиналами?»1. Мы видим здесь попытки вырваться
из-под классической ферулы, осознать относительность крите-
риев красоты: «Вкус подвержен был многим переменам».
Карамзин дальше Ломоносова и Тредиаковского продвинул-
ся в разработке представлений о принципиальной связи между
искусством и жизненным фактом. Искусство должно опираться
на реальные впечатления. Карамзин упрекал Хераскова за то,
что в романе «Нума Помпилий» он не сумел соблюсти элемен-
тарных условий исторического правдоподобия: «Это противно
духу тех времен, из которых взята басня». Карамзин порицал
также Ариосто, автора «Неистового Роланда», за то, что тот
«презирал правдоподобие в вымыслах». В то же время Карам-
зин считал, что изображение в искусстве имеет свои законы и не
сводится к рабской верности факту. В карамзинском разборе
«Сида» Корнеля, образцовом, по антиклассицистической направ-
ленности, есть примечательная сторона. Карамзин, например,
указывал на такие несообразности в трагедии: Химена выходит
1амуж за Родриго, убийцу ее отца, в самый день кровавого
злодеяния; история достоверно говорит, что это так и было на
самом деле, но с точки зрения драмы, объясняет Карамзин,
это неправдоподобно, это, как мы бы теперь сказали, мело-
драматично.
Карамзин не углублялся в подробные рассуждения о творче-
ской лаборатории поэта, о природе таланта. Но любопытны его
отдельные замечания- Он говорил о том, что позднее получило
название пафоса творчества: «Слог, фигуры, метафоры, обра-
зы, выражения — все сие трогает и пленяет тогда, когда оду-
шевляется чувством...» («Что нужно автору?»). Талант сочета-
ется с «тонким вкусом», «знанием света», владением «духом
языка своего», терпением, упорством в преодолении трудностей,
во многом «работа есть условие искусства». Талант — дар при-
роды, но от обстоятельств зависит, разовьются или погибнут
его задатки. В России пока таланты развиваются случайно, сти-
хийно. Не в климате, а «в обстоятельствах гражданской жиз-
ни» надобно искать причину: вот «отчего в России мало автор-
ских талантов». Талант — вещь естественная, не нечто «божест-
венное», он нуждается в поощрении и выучке.
Эстетические воззрения Карамзина во многом совпадали со
взглядами Себастьена Мерсье, автора «Нового опыта о драма-
тическом искусстве» (1773), Якоба Ленца, автора «Заметок о
театре» (1774). Мерсье провозгласил лозунг: «Надо освободить
искусство!», «Гений сам создает собственные правила». Ленц
проповедовал идею врожденной гениальности поэтов. Гений сво-
1 Карамзин Н. М. Избр. соч.— Т. 2.— С. 90.
39
боден — он образ бога. Ленц, как и Карамзин, ставил вопрос:
что нужно поэту? И отвечал по-своему: «безумство, вдохнове-
ние». Сегодня человек должен вырваться на простор, он свобо-
ден от фатума, его судьба должна стать в центре литературы-
В этом и заключается сила «штюрмерского» движения. Оно по-
родило образы Гёца и Вертера, Карла Моора и Позы.
Новизна и широта этих концепций творчества, направлен-
ных против классицизма, нравились Карамзину. Но он не после-
довал за учением Мерсье и Ленца в вопросе о всевластии гения.
Карамзин считал, что не одни великие предметы могут вос-
пламенять стихотворца. Нужна живость мыслей и чувств, на-
до уметь «играть воображением», т. е. быть хозяином предмета.
Только в этом смысле гений должен быть всевластен («О Богда-
новиче и его сочинениях», 1803). Он призывал описывать чув-
ства не общими чертами, а особенными, имеющими отношение
к «характеру» и «обстоятельствам» поэта. «Сии-то черты, сии
подробности и сия, так сказать, личность уверяют нас в истине
описаний и часто обманывают, но такой обман есть торжество
искусства»1.
Вдумаемся в последние приведенные слова: здесь три мысли,
и все они чрезвычайно важны.
Прежде всего указывается на необходимость конкретности
в описании чувств, раскрытия их своеобразия; затем Карамзин
углубляется в проблему поэтических «обманов», которую поста-
вил еще Ломоносов в «Риторике». Но Карамзин решает ее уже
не в связи со свойствами тропов, а в связи с более содержа-
тельной проблемой — изображением личности, характера. И на-
конец, Карамзин указал на связь между характером и обстоя-
тельствами» Правда, у него речь идет о личности и обстоятель-
ствах жизни самого художника, которые определенным образом
отражаются в его произведениях: ведь поэт в лирическом са-
мовыражении оказывается героем произведения. Пусть вся
проблема характера и обстоятельств еще трактуется Карамзи-
ным в сравнительно узком плане внутреннего мира поэта-лири-
ка, но оба компонента — характер и обстоятельства — налицо,
и речь идет об их типичности. Вряд ли можно согласиться с ут-
верждением Н. И. Мордовченко в его «Русской критике первой
четверти XIX века» (1959) о том, что Карамзин был «агности-
ком» и задачу искусства видел «не в воспроизведении действи-
тельности, а в украшении жизни».
Как бы ни был противоречив Карамзин и как бы ни декла-
рировал он, что художник всегда пишет лишь «портрет души и
сердца своего», во всем искал для творчества опору в реаль-
ности и требовал подлинной художественности изображений.
Карамзин старался последовательно применять свой подход
к художественным произведениям.
1 Карамзин Н. М. Избр. соч.— Т. 2.— С. 144.
40
1
Он посвятил специальную статью разбору «Клариссы Тар-
лов» Ричардсона (1791). Критик ценил в этом романе «верность
натуре». Но эта традиционная и в устах классицистов похвала
получила у Карамзина иную трактовку. Перед нами — верность
натуре в огромном по объему прозаическом романе на совре-
менную тему. Ничего подобного классицизм не знал. «Написать
интересный роман в восемь томов,— говорит Карамзин,—... не
описывая ничего, кроме самых обыкновенных сцен жизни,— для
сего потребно, конечно, отменное искусство в описании подроб-
ностей и характеров»1. При этом под «подробностями» пони-
мается уже не детализация чувств автора и даже не простая
предметность описаний, а нечто более сложное —«сцены жиз-
ни», их сцепление. Карамзин тщательно прослеживает ход этих
подробностей, в которых раскрываются характеры Клариссы
и Ловеласа. Этим объясняются и следующие восторженные
слова Карамзина: «Что принадлежит собственно до характеров,
то Кларисса, добронравная, нежная, благодетельная и несчаст-
ная Кларисса, которую мы столько любим и столь сердечно
оплакиваем, и Ловелас, в котором видим такое чудное, однако
ж естественное, смешение добрых и злых качеств,— Ловелас,
иногда благородный и любезный, иногда чудовище — сии два
характера, говорю я, будут удивлением всех читателей и всех
времен и останутся вечными памятниками творческой силы Ри-
чардсонова духа». Привлекает в оценке Клариссы и особенно
Ловеласа отсутствие какого-либо морализаторства со стороны
Карамзина, а ведь имя героя давно уже стало нарицательным.
Рецензия на «Клариссу Гарлов» оказывается не просто ре-
цензией, а зерном целой теории характеров. Здесь термин «ха-
рактеры» переживает новую стадию обогащения: он обознача-
ет не просто душевный строй человека, а особенность сложной
души, сотканной из противоречий. Более того, перед нами два
сложных характера в разных вариантах. Из взаимоотношений
между ними состоит вся фабула романа. Вот сколько новых
объектов и новых приемов анализа сразу вводил Карамзин в
критику.
Карамзин вдумывался в проблему характеров как критик и
как писатель. Он чувствовал, что эта проблема центральная в
сентиментализме и логически вытекает из принципов изображе-
ния чувствительности, индивидуальности, социальной характер-
ности.
Когда-то Ломоносов ставил вопрос о страстях челове-
ка вообще как физиологических свойствах. Сумароков ввел их
в мир эстетики и сделал предметом изображения. Уже не о стра-
стях, а о разнообразных «врожденных свойствах» души говорил
Плавильщиков. Характер стал обозначать не действующее лицо
в драме, а именно некоторый неповторимый склад души. Карам-
1 Карамзин Н. М., Избр. соч.— Т. 2.— С. 111.
41
зин полнее исследовал соотношение понятий характера и темпе-
рамента, определил богатое содержание первого, решительнее
связал их с опытом русской исторической и современной жизни.
В «Письмах русского путешественника» писатель сформу-
лировал свою концепцию так: «Темперамент есть основание
нравственного существа нашего, а характер — случайная форма
его. Мы родимся с темпераментом, но без характера, который
образуется мало-помалу от внешних впечатлений. Характер за-
висит, конечно, от темперамента, но только отчасти, завися,
впрочем, от рода действующих на нас предметов. Особливая
способность принимать впечатления есть темперамент; форма,
которую дают сии впечатления нравственному существу, есть
характер»1.
Карамзин исследовал разнообразное воздействие среды. От
чего один и тот же «предмет производит разные действия в лю-
дях?.. От разности темпераментов или от разного свойства
нравственной массы, которая есть младенец?». «Нравственная
масса» и есть характер, продукт среды, общества. Карамзин
стремился перенести центр тяжести с темперамента на характер.
Эти соотношения он исследовал еще и как художник («Чувст-
вительный и холодный», «Моя исповедь», «Рыцарь нашего вре-
мени»). В статье «О случаях и характерах в Российской исто-
рии, которые могут быть предметом художеств» (1802) он
выделил сильные характеры и важные исторические обстоятель-
ства, передававшие «живые черты времени» и сами за себя гово-
рившие потомству.
Характеры и обстоятельства должны быть постигнуты и от-
ражены не только во взаимной своей связи, но и в историческом
и психологическом правдоподобии. Мысль Карамзина углубля-
лась еще в двух направлениях: он искал национальную опреде-
ленность характеров и средства индивидуализации языка.
Наиболее полно Карамзин коснулся первого вопроса в «Ре-
чи, произнесенной на торжественном собрании императорской
Российской академии» в 1818 году. Рассуждения Карамзина о
судьбах русского национального характера нельзя признать по-
следовательными. В них можно найти элементы будущего «за-
падничества» и «славянофильства», причем вторые все больше
давали себя знать в концу деятельности Карамзина. Сначала
Карамзин рассуждал так: Петр Великий могучею рукой преоб-
разил отечество, сделал нас подобными другим европейцам.
«Жалобы бесполезны. Связь между умами древних и новейших
россиян прервалася навеки...» Хорошо это или плохо? Хорошо,
потому что «красоты особенные, составляющие характер словес-
ности народной, уступают красотам общим; первые изменяются,
вторые вечны. Хорошо писать для россиян: еще лучше писать
1 Карамзин Н. М. Избр. соч.— Т. 1.— С. 282—283.
42
для всех людей»1. Перед нами типично «западническая» точка
зрения. При этом Карамзин стремится, чтобы восприятие чужо-
го было не простым копированием, а процессом роста характе-
ра русского народа.
Но тут же Карамзин заявлял: «С другой стороны, Великий
Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского...
Сии остатки, действие ли природы, климата, естественных или
гражданских обстоятельств еще образуют народное свойство
россиян...»; «Есть звуки сердца русского, есть игра ума русско-
го в произведениях нашей словесности...». Эти звуки суть «ос-
татки», отголоски старого, допетровского. Значит, народность —
это «остатки»? Здесь перед нами уже своего рода «славяно-
фильская» точка зрения.
И все же в связи с оценкой петровских преобразований Ка-
рамзин начинал обсуждать вопрос о национальной специфике.
Это создавало предпосылки для постановки проблемы народ-
ности в русской критике XIX века.
Глубоко подходил Карамзин и к проблеме языка, связывая
ее с проблемой характеров. Естественно возникает вопрос: был
ли язык самого Карамзина нарушением ломоносовских трех
«штилей» и созданием некоего среднего салонного стиля?
Д. Д. Благой в учебнике истории русской литературы XVIII ве-
ка утверждает: «Карамзин, уничтожив ломоносовскую иерар-
хию трех штилей, стремился создать некий единый сглаженный
«светский» язык, пригодный к употреблению в культурной дво-
рянской гостиной, в дворянском салоне». П. Н. Берков в преди-
словии к недавнему изданию избранных сочинений Карамзина
в двух томах (1964), в сущности, оспаривает такое мнение: «Оп-
ровергнуть стилистические принципы Ломоносова Карамзину
было не так легко и, главное, вовсе не нужно...». Сам Ломоно-
сов следовал за античными теоретиками и применял к «россий-
скому» языку их учение. Высокий, средний и низкий стили су-
ществуют в любом языке.
Кто же из спорящих прав? Полемизирующие не заметили,
что сущность понимания языково-стилистической реформы Ка-
рамзина лежит не столько в том, нарушил ли он учение Ломо-
носова о стилях или еще в нем нуждался, сколько в том, что он
начинал строить свою стилистику, исходя из совсем другого
принципа. Для его эстетических задач, для языковой характе-
ристики персонажей нужны были все стили русского литератур-
ного языка. Получается приблизительно такое соотношение обо-
значений: Ломоносов говорил — высокий, средний и низкий; Ка-
рамзин— книжный, разговорный, просторечный; мы сегодня
говорим — патетический или напыщенный, повествовательный
или литературный, грубый или натуралистический стили. Глав-
ным регламентирующим принципом уже у Карамзина в «игре
1 Карамзин Н. М. Избр. соч.— Т. 2.— С. 238.
43
стилями» (вспомним об «игре воображением») оказывалась пе-
редача полноты и сложности психологических переживаний, ис-
торического и национального колорита, как бы они в свою оче-
редь ограниченно еще ни понимались в эпоху Карамзина.
В этом направлении Карамзин толковал понятие «богатства
языка». В специальной заметке на эту тему он писал: «Богатый
язык тот, в котором вы найдете слова не только для означения
главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенков,
большей или меньшей силы, простоты и сложности. Иначе он
беден; беден со всеми миллионами слов своих»1. В этом смысле
стало пониматься и «искусство писать», которое есть, конечно,
дело «первое и славнейшее» («Находить в самых обыкновен-
ных вещах пиитическую сторону»).
В разработке своей теории характеров Карамзин хотел опе-
реться на опыт и традиции Шекспира.
Впервые он упомянул о Шекспире в цитировавшемся стихо-
творении «Поэзия» (1787); Карамзин перевел его драму «Юлий
Цезарь» с французского перевода Летурнера и написал к ней
чрезвычайно содержательное предисловие, использовав преди-
словие того же французского переводчика. В наше время значе-
ние карамзинских оценок Шекспира ни у кого не вызывает со-
мнений. Но прежде раздавались скептические голоса о сомни-
тельной новизне суждений Карамзина о Шекспире даже для
России XVIII века (см.: В. В. Сиповский. Н. М. Карамзин,
автор «Писем русского путешественника», 1899). Высокую оцен-
ку суждениям Карамзина о Шекспире, при всей его зависимо-
сти от французского оригинала и концепций штюрмеров, дал
М. Н. Розанов в специальном исследовании «Поэт периода «бур-
ных стремлений» Якоб Ленц» (1901).
В стихотворении «Поэзия» Карамзин с особенной силой вы-
делил Шекспира из числа своих кумиров, нисколько не превра-
щая его в сентименталиста, а раскрывая подлинные его черты:
Шекспир, натуры друг! Кто лучше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ ко всем великим тайнам рока
И светом своего бессмертного ума,
Как солнцем, озарил пути ночные в жизни!
В предисловии к переводу «Юлия Цезаря» Карамзин фикси-
ровал такие черты автора трагедии: Шекспир из тех «великих
духов, коими славятся веки»; величие его творений в «изящно-
сти» и проникновении «в человеческое естество»; им охвачен
«каждый род жизни»; у него «пылкое воображение». Карамзин
оспаривал мнение Вольтера, упрекавшего Шекспира в том, что
тот «писал без правил». Все великолепные картины Шекспира
«непосредственно натуре подражают». «Для каждой мысли на-
1 Карамзин Н. М. Избр. соч.— Т. 2.— С. 142.
44
ходит он образ», каждый характер говорит «собственным своим
языком». Особенно же Карамзин подчеркивал, что у Шекспира
на первом плане изображение характеров. В заслугу ему Карам-
зин ставил смешение разных стилей, единственно по «правилам»
самой натуры. «С равным искусством изображал он и героя и
шута, умного и безумца, Брута и башмашника». Его драмы,
как и сама природа, исполнены «многоразличия», и все вместе
«составляет совершенное целое». Это целое настолько естест-
венно и даже по мерке нового времени так не устарело, что не
требует «исправления от нынешних театральных писателей».
Карамзин понимал значение действия в драме. Он указывал
на роль «обстоятельств», которые также должны быть «харак-
терными». Карамзин так объясняет следующую особенность
развития сюжета в «Юлии Цезаре» Шекспира: Цезарь, то есть
главный герой, убит в начале III акта, а драма продолжается,
и это не недостаток—«Цезарь умерщвлен... но дух его жив
еще». Характер и действие — органическое целое, дух — тоже
«характер» в действии. Вспомним, что точно так поступит позд-
нее и Пушкин в «Борисе Годунове»: Борис умер, а действие
продолжается; или: герой-народ «безмолвствует», но это «без-
молвие»— тоже действие.
Белинский почувствовал важность начатой в конце XVIII ве-
ка серьезной популяризации Шекспира в России. Он высказал-
ся об этом в заметке «Русская литературная старина» (1836).
Критику попался экземпляр упоминавшегося новиковского из-
дания «Юлия Цезаря» с предисловием Карамзина. Остатки
тиража этого издания в свое время были сожжены в числе кра-
мольных книг, когда Новикова арестовали. Имя переводчика
и автора предисловия не было обозначено на издании. Белин-
ский не знал, к кому относились его похвалы.
Предисловие привело в восторг Белинского: здесь все живо
и ново. Каково же было значение этого слова о Шекспире для
литературы, «когда на Руси о Шекспире знали меньше, чем те-
перь о китайских и индийских поэтах, и когда в самой Европе
этот венчанный царь поэтов почитался за пьяного дикаря и вар-
вара». Эта книга показывает, что «и в старину были головы
светлые, самостоятельные... которые своему уму и чувству ве-
рили более, нежели всем авторитетам на свете, любили мыслить
по-своему, идти наперекор общим мнениям и верованиям, во-
преки всем господам Вольтерам, Буало, Баттё и Лагарпам, этим
грозным и могущим божествам своего времени». Автор преди-
словия «своими понятиями об искусстве далеко обогнал свое
время и поэтому заслуживает не только наше внимание, но и
удивление»1.
Карамзин-критик был вдохновителем сентименталистского
1 Белинский В. Г, Собр. соч.— М.; Л., 1953—1959.— Т. II.— С. 200—
201.
45
направления, но он выдвигал при этом и такие эстетические
идеи, которые были шире его писательской практики, опережа-
ли свое время и служили будущему развитию русской литера-
туры. Карамзин все больше начинал понимать, что его собствен-
ная деятельность является звеном в исторической цепи преем-
ственных явлений.
Если сначала Тредиаковский в статье «О древнем, среднем
и новом стихотворении российском», затем Новиков в «Опыте
исторического словаря о российских писателях» впервые систе-
матизировали некоторые сведения по истории русской литерату-
ры, а Херасков в «Рассуждении о российском стихотворстве»
начинал подводить итоги раннему периоду классицизма, то Ка-
рамзин в своем «Пантеоне российских авторов» (1802) бросил
взгляд на предшествующие этапы русской литературы с точки
зрения развития разговорного языка и стиля, самобытных на-
циональных начал литературы и разработки принципов изобра-
жения психологической характерности, т. е. с позиций своей сен-
тименталистской программы.
Опираясь на недавно открытое «Слово о полку Игореве» и
желая «сохранить имя и память древнейшего русского поэта»,
Карамзин начал историю русской литературы с Бояна-вещего.
Потом охарактеризовал Нестора, Никона, Полоцкого, Прокопо-
вича. Любопытно, что чувствительный и салонный создатель
«сглаженного» стиля Карамзин высоко ставил в «Пантеоне...»
«нашего Ювенала»— Кантемира, который, оказывается, «писал
довольно чистым языком». Если разделять слог наш на эпохи,
то Карамзин считал, что с Кантемира надо начать первую эпо-
ху, с Ломоносова — вторую, с сумароковско-елагинской шко-
лы— третью, а «четвертую — с нашего времени, в которое обра-
зуется приятность слога»1. Намечалась периодизация русской
литературы. «Ломоносовский» и «карамзинский» периоды удер-
жатся и в периодизации, которую позднее предложит Белин-
ский. Верна она в принципе и с сегодняшней точки зрения.
В Ломоносове Карамзин видел «первого образователя наше-
го языка», который «открыл в нем изящность, силу и гармо-
нию». Его имя ставилось Карамзиным в ряд с Пиндаром, Го-
рацием и Руссо. Особенную силу Ломоносова Карамзин видел в
лирическом песнопении, в одах. У Сумарокова он подчеркивал
другое драгоценное качество: он «...сильнее Ломоносова дейст-
вовал на публику». Но общая оценка Сумарокова у Карамзина
сниженная. С иронией пересматриваются традиционные сравне-
ния Сумарокова с Расином, Мольером, Лафонтеном и Буало.
В упрек ему ставится то, что «в трагедиях своих он старался более
описывать чувства, нежели представлять характеры в их эсте-
тической и нравственной истине»; называя героев своих имена-
ми древних князей русских, не думал соображать свойства, дела
1 Карамзин Н. М. Избр. соч.— Т, 2.— С. 162.
46
и язык их с характером времени»1. Карамзин упрекал Сумаро-
кова в приторной «чувствительности», неумении изображать ха-
рактеры и обстоятельства в их единстве.
Таким образом, проводилась резкая граница между класси-
цизмом в его наиболее разносторонней сумароковской форме
и сентиментализмом, превосходящим его не только многосторон-
ностью и утонченностью изображения действительности, но и
чувством историзма, индивидуальной специфики явлений. Сен-
тиментализм выступал как наследник всех прежних завоеваний
русской литературы и как ее новое слово.
Иван Иванович Дмитриев (1760—1837). Наиболее близким
единомышленником Карамзина, выступавшим хотя и редко, но
с очень определенной защитой сентиментализма, был Дмитриев.
Дмитриев — земляк и родственник Карамзина, оба из Симбир-
ска и поддерживали друг с другом в течение многих лет тесней-
шую дружбу.
Карамзин откровенно делился с Дмитриевым своими жур-
нальными планами и приглашал к сотрудничеству.
В мемуарах «Взгляд на мою жизнь» (опубл, в 1866 г.) Дмит-
риев подвел своеобразные итоги их современной деятельности и
своим размышлениям о роли Карамзина в русской литературе.
По его во многом справедливому мнению, никто из писателей,
старых и новых, не был богаче и разнообразнее Карамзина:
«Мы видели в нем и политика, и патриота, и критика, и мора-
листа». «Он показал нам образец и в ученых разборах сочине-
ний. До его критического рассмотрения поэмы «Душенька» не
было у нас ничего порядочного в этом роде». Журнал «Вестник
Европы» «по всей справедливости может назваться лучшим на-
шим журналом». Карамзин уже отчетливо представлялся Дмит-
риеву как целая эпоха русской литературы: «Потомство, конеч-
но, признает его вторым (после Ломоносова.— В. К.) преобразо-
вателем нашего слога, и от него будут считать второй период
нашей словесности»2.
Сатира Дмитриева «Чужой толк» (1794) показывает, до ка-
кой степени он был «карамзинистом». Это программное выступ-
ление сознательного участника нового направления, выискиваю-
щего слабые места у своих противников — классицистов. Совре-
менники наизусть повторяли его меткие стихи:
Со всеусердием всё оды пишем, пишем,
А ни себе, ни им похвал нигде не слышим!
Дмитриев высмеивал оды на победы, напоминавшие «реля-
ции», оды «на праздник», их композиционные штампы—«вступ-
ления», «предложения», «заключения», «Пою! даждь мне, Феб»
1 Карамзин Н. М. Избр. соч.— Т. 2.— С. 170.
2Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь: Записки.— М., 1866.—
С. 83, 87.
47
и проч., расписанные по правилам, словно церковные службы;
все здесь так «громко», «высоко», а «сердца» ничто не «весе-
лит» и не «шевелит»...
И оду уж его тисненью предают,
И в оде уж его нам ваксу продают.
Но сатира «Чужой толк»—это негативная критика, высмеи-
вание чужого. А что же выдвигалось взамен? Для характеристи-
ки позитивной программы Дмитриева важны его статьи «О рус-
ских комедиях» (1802) и «Письмо к издателю журнала «Мос-
ковский зритель», т. е. к князю Шаликову (1806). В статьях
сформулированы некоторые принципы, характерные вообще для
критики школы Карамзина.
В первой статье мы знакомимся с сентименталистским истол-
кованием сущности комедии. Дмитриев отрицает все грубое,
«несносное для нежного слуха». Он упрекает тех, кто в своих
комедиях увлекается изображением брани какого-нибудь «ду-
рака с дурой», показом трактиров и сельских ярмарок, жизни
однодворцев, известных только их старостам и управляющим
(комедии Н. С. Соколова и М. И. Веревкина). Надо научиться
отбирать материал.
Дмитриев против площадности в театре, но он не против
того, чтобы в благопристойных границах изображались все со-
словия. Пресловутый Детуш поставлен им наряду с Мольером
как образец. Что бы на это сказал Сумароков?.. Как истин-
ный сентименталист, смотрящий на жизнь шире, чем класси-
цисты, Дмитриев подсказывал комедиографу свои методы и те-
му: «Каждый народ имеет собственный характер, с каждым
веком родятся новые глупости, новые предрассудки».
В другой статье —«Письмо к издателю журнала «Москов-
ский зритель»— содержится подробнейшее изложение критиче-
ского и журнального кодекса Дмитриева и, думается, всего
сентименталистского направления. Взято это, разумеется, из
опыта самого Карамзина — критика и журналиста.
«Я не соглашусь со многими,— писал Дмитриев в редакцию
нового сентименталистского журнала, который не замедлил тут
же опубликовать его письмо,— что критика не исправляет, что
к усовершенствованию авторского таланта лучший способ — чи-
тать превосходные произведения». Вспомним, что именно так
ставил вопрос об образцах Сумароков. «Но кто же научит меня
ловить красу их?—спрашивает Дмитриев.— Кто предостере-
жет меня от тех ошибок, в которые впадают иногда и знамени-
тые авторы? Кто, как не благоразумная критика?» Дмитриев
подчеркивает активный, воздействующий на литературу харак-
тер критики. Она не только ругает или хвалит писателей, но и
учит писать. «Учит писать»—это чисто карамзинское завоева-
ние в критике. Сентименталисты против старых эстетических
норм, но не против норм вообще. У них своя эстетика, и ее
48
пропагандировать в журнале может умная критика. «Итак, я
желаю,— продолжает Дмитриев, уже обращаясь к издателю
«Московского зрителя»,— чтобы она непременно была в вашем
журнале. Старайтесь только быть истинным критиком»1.
Но советы Дмитриева были напрасны: князь Шаликов в том
же году прекратил издание журнала и не осуществил ни одного
из предначертанных ему пунктов кодекса. Проходила пора и
сентиментализма в русской литературе. Он хирел и выдыхался.
Можно было подытоживать опыт, делиться советами, но реали-
зовать их смогли уже другие писатели других направлений...
Вокруг Дмитриева группировалась тогдашняя литературная
молодежь, с ним «тогда никто не равнялся чистотою языка».
На журнальную арену выходила критика, отстаивавшая во
многом уже реалистические принципы отечественной литера-
туры.
ГЛАВА 4
Элементы программы сатирического, или просветительского,
реализма
В русской литературе XVIII века можно выделить еще одно,
третье направление. Оно обличало крепостничество средствами
бытовой, реалистической сатиры и боролось с классицизмом и
сентиментализмом. К этому направлению по традиции относят
Новикова, Крылова, Фонвизина и с оговорками, Радищева.
Квалификация этой группы писателей как направления встре-
чает определенные трудности. Это направление не однотипно по
сравнению с двумя предыдущими. Оно не было таким компакт-
ным, у него не было четко разработанного кодекса. И все же
в каком-то смысле это направление существовало. В нем доми-
нировали элементы сатиры и основанного на непосредственном
наблюдении бытового реализма. Было всегда нечто антикрепо-
стническое, антигосподское, антисалонное в художественных
изображениях и критических суждениях названной группы пи-
сателей.
Не случайно первое пламенное «Слово о Ломоносове»—
патриоте, гении русской литературы, выходце из народа — про-
изнес Новиков в своем «Опыте исторического словаря о россий-
ских писателях» (1772). Новиков говорил, что «бодрость и твер-
дость его духа» сказывались во всех предприятиях. Второе
«Слово о Ломоносове» произнес Радищев в «Путешествии из
Петербурга в Москву» (1790). Типы будущих фонвизинских по-
мещиков уже улавливаются в журнальных зарисовках Новико-
ва— таковы образы Фалалея, его родителей и дядюшки. Потом
эти типы были подхвачены Крыловым в «Похвальной речи в * 4
’Дмитриев И. И. Соч.— М„ 1986.— С. 266.
4 Заказ № 1367
49
память моему дедушке» (1792), а еще позднее они снова в па-
родийном плане воскресли у Радищева в «Памятнике дактило-
хореическому витязю» (1801). Идейная и стилистическая бли-
зость между этими писателями иногда была столь велика, что
ученые до сих пор спорят, кому принадлежит, например, по-
явившийся в «Живописце» 1772 года «Отрывок путешествия
в *** *** у ***». Одни приписывают отрывок Новикову, как
издателю «Трутня», другие — Радищеву, по сходству идейных
мотивов отрывка с «Путешествием из Петербурга в Москву».
Писатели этого направления вели борьбу с парадной торже-
ственностью классицизма, его одами, трагедиями и разрабаты-
вали жанр комедии, приемы бурлеска и травести. Некоторые из
них боролись с крайностями сентиментализма, ложной, наиг-
ранной чувствительностью (Крылов, Радищев). Главный способ,
к которому прибегали все сатирики, заключался в более сме-
лом, чем позволяют классицизм и сентиментализм, вторжении
в жизнь. Они отвергали сложившиеся придворные и салонные
представления о действительности неотразимой логикой наро-
чито вводимых в литературу будничных фактов, указанием на
самое главное и самое уродливое в социальной действительно-
сти— крепостничество. Сатирики расширяли рамки искусства
за счет включения в него «низких» материй. В сущности, созда-
валась во многом новая, непохожая на классицизм и сентимен-
тализм эстетическая система.
Название «просветительский реализм» (Н. Л. Степанов)
или «художественный метод русского Просвещения» (Г. П. Ма-
когоненко) по отношению к перечисленной группе писате-
лей в русской литературе XVIII века стали применять по ана-
логии с установившейся терминологией, выработанной исследо-
вателями западноевропейских литератур того же самого периода
(Н. Я. Берковский, В. Р. Гриб и Др.). Основания для аналогии
дают, во-первых, тенденции реализма в творчестве этих писате-
лей и, во-вторых, наличие в России XVIII века определенного
просветительского движения (в широком понимании слова «про-
свещение») .
Просветительский реализм — одно из частных порождений
просветительского движения, оказавшего влияние и на другие
литературные направления — классицизм и сентиментализм.
Главные идеи Просвещения, связанные с борьбой за раскрепо-
щение человека, проповедью его внесословной ценности, верой
в разумные начала деятельности людей, зависимостью их ха-
рактеров от воспитания, социальной среды,— все это наиболее
полным образом художественно претворял просветительский
реализм.
Но следует при этом учитывать большую условность поня-
тия «просветительский реализм» или «русское Просвещение»
XVIII века. Ясно, что мы придаем понятию Просвещение не-
сколько расплывчатый характер и его нужно соотнести с чет-
50
ким, научным определением просветительства, которое дал
В. И. Ленин применительно к России 60-х годов XIX века в ра-
боте «От какого наследства мы отказываемся?». Для просвети-
телей в ленинском смысле характерны: вражда к крепостному
праву и всем его порождениям, защита просвещения, свободы,
европейских форм жизни, отстаивание интересов народных масс,
искренняя вера, что отмена крепостного права принесет с собой
общее благосостояние, искреннее содействие этому.
Мы не можем автоматически распространить мерку просвети-
тельства 60-х годов XIX века, как его трактует В. И. Ленин,
на русских просветителей XVIII века. Ни один из русских про-
светителей XVIII века, кроме Радищева, не был сторонником
ликвидации крепостного права. Новиков, Крылов и, в особенно-
сти, Фонвизин не шли дальше критики его отдельных сторон,
извращений, крайностей. Не было единого взгляда у них и на
западноевропейских просветителей XVIII века. Например, Фон-
визин резко отличался от Радищева в своем отношении к фран-
цузским просветителям. Религиозный Фонвизин считал фран-
цузских материалистов безбожниками, нарушившими нравст-
венность... А у Новикова и Крылова мы почти ничего не найдем
о французских просветителях, кроме поверхностных выпадов
против французомании.
Имеет смысл выделять Крылова, Новикова, Фонвизина в
особую группу как сатириков-реалистов и просветителей толь-
ко в широком понимании, как людей, стоявших за критику со-
циальной действительности и просвещение вообще. Лишь один
Радищев подходит под более точное определение просветителя.
Все это заставляет с оговорками относиться к понятию
«просветительский реализм».
Николай Иванович Новиков (1744—1818). Новикова следует
рассматривать как одного из первых представителей направ-
ления просветительского реализма. В 1769—1770 годах он из-
давал журнал «Трутень» и смело вступил в полемику с Ека-
териной II, негласно руководившей изданием журнала «Всякая
всячина». Предметом полемики был вопрос о задачах и значе-
нии сатиры. На стороне Новикова объединились свежие силы
русской литературы. Его поддерживали в полемике журналы
«Смесь» Л. Сичкарева и «Адская почта» Ф. Эмина. Затем Но-
виков продолжал развивать свою программу в журналах «Пу-
стомеля» (1770), «Живописец» (1772—1773), «Кошелек» (1774).
Потерпевшая поражение в журнальной полемике Екатерина II
затеяла следствие над Новиковым в связи с его издательской и
масонской деятельностью и в 1792 году заточила его в Шлис-
сельбургскую крепость.
Новиков-сатирик — переходная фигура. С одной стороны, он
связан в своих вкусах, в пристрастии к притчам, аллегориям
с поколением Сумарокова. Недаром «Трутень» первоначально
украшал эпиграф из притчи Сумарокова: «Оне (крестьяне.—
4*
51
В. К.) работают, а вы (дворяне.— В. К.) их труд ядите»1. С дру-
гой стороны, Новиков более решительный сатирик и связан с
Радищевым.
Литературно-критическое наследие Новикова сравнительно
невелико. Оно больше связано с историей, философией, журна-
листикой и, главным образом, публицистикой. Выделим в нем
программные по отношению к направлению черты.
Екатерина II хотела ограничить задачи сатиры абстрактным
морализированием: не задевать личностей и фактов, «не целить
на особы». Новиков доказывал необходимость конкретной сати-
ры «на личности», «на пороки», чтобы придать ей действенный
характер. Новиков высмеивал «правила» лживой сатиры. «Мно-
гие слабой совести люди,— писал он,— никогда не упоминают
имя порока, не прибавив к оному человеколюбия... но таких лю-
дей человеколюбие приличнее назвать пороколюбием. По моему
мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки,
нежели тот, который оным снисходит или (сказать по-русски)
потакает...»2.
Когда Екатерина II выступила против «меланхолических»,
т. е. скептических, писем Новикова и пригрозила «уничтожить»
«Трутень», тот сделал свои выпады против «пожилой дамы»
еще более прозрачными: «Госпожа Всякая всячина на нас про-
гневалась... Видно, что госпожа Всякая всячина так похвалами
избалована, что теперь и то почитает за преступление, если кто
ее не похвалит. Не знаю, почему она мое письмо называет ру-
гательством? Ругательство есть брань, гнусными словами выра-
женная...», но в «Трутне» ведь ничего подобного нет. Что же
касается угроз об уничтожении, то это слово, «самовластию
свойственное»3. Самое ядовитое в этом новиковском ответе бы-
ло, может быть, многократное упоминание о «публике»: «Я тем
весьма доволен, что госпожа Всякая всячина отдала меня на
суд публике. Увидит публика из будущих наших писем, кто из
нас прав»4. Новиков прямо указывал на свои цели, и он их до-
стигал. В таком остром публичном споре побить противника
можно было только одной правдой фактов.
Новиков-критик хорошо осознавал характер своего творчест-
ва, чутко реагировал на опыты других в том же роде. В истории
русской литературы он старался выделить ту линию, которая
представляла сатирическое творчество.
В предисловии к журналу «Пустомеля» (1770) Новиков раз-
вил дальше положения Кантемира и Тредиаковского о критике,
1 В 1770 году, когда Новиков почувствовал надвигавшуюся на него уг-
розу со стороны Екатерины 11, он поставил другой эпиграф из Сумарокова:
«Опасно наставленье строго, где зверства и безумства много».
2 Н о в и к о в Н. И. Избр. соч./Подг. текста, вступит, статья и ком-
мент. Г. П. Макогоненко.— М.; Л., 1951.— С. 35—36.
3 Т а м ж е.— С. 37—38.
4 Т а м ж е.— С. 38.
52
поставив ее на один уровень с искусством: «...со вкусом крити-
ковать так же трудно, как и хорошо сочинять»1. Вероятно, не
случайно свой следующий острый критико-публицистический
журнал Новиков назвал «Живописцем».
Ярчайшим документом собственно критической деятельности
Новикова и этапом обособления критики в самостоятельную об-
ласть является его «Опыт исторического словаря о российских
писателях» (1772). Белинский расценивал словарь как «богатый
факт собственно литературной критики того времени». Его «Сло-
варь»,— писал Белинский,— уже «нельзя миновать в истори-
ческом обзоре русской критики». Кроме того, Новикову-критику
принадлежит ряд ценных-заметок о текущих современных лите-
ратурньц явлениях, о Фонвизине и других писателях.
Поводом для составления словаря послужила пристрастная
заметка «Известие о некоторых русских писателях» в лейпциг-
ском журнале «Новая библиотека изящных наук и свободных
искусств» (1768), написанная каким-то «Проезжим русским».
Его имя до сих пор не удалось разгадать. В «Известии» говори-
лось преимущественно о писателях-аристократах послепетров-
ского времени. Новиков в «Словаре» значительно расширил
круг писателей: вместо 42, как это было в «Известии», называет
317, в том числе 57 писателей допетровской Руси. По социаль-
ному составу у Новикова только около 50 писателей из дворян-
ской знати; большинство — разночинцы и лица духовного
звания.
Но подлинной причиной появления «Словаря» было желание
Новикова по-своему «собрать» русскую литературу в целостную
картину, показать, что писатели, мыслители, проповедники, про-
светители являются подлинными духовными руководителями
русского народа, его величайшей ценностью. «Словарь» продол-
жал борьбу Новикова с Екатериной II, претендовавшей на роль
просветительницы народа, он оказывался духовной опорой в со-
временной борьбе. Новиков демонстративно не назвал в числе
русских писателей Екатерину II, но, может быть, не без тайной
мысли назвал восемь имен просвещенных девиц и женщин, уп-
ражнявшихся в литературе, что было делом новым и необыч-
ным, особенно в докарамзинскую эпоху.
С нескрываемой иронией Новиков говорил о «карманном»
одописце царицы В. Петрове, авторе оды «На карусель», на по-
беды российского воинства, флота, на прибытие «его сиятель-
ства графа Алексея Григорьевича Орлова» и проч, и особенно
«случайных стихов», которые, как известно, писались для того,
чтобы попасть в милость. Петров «напрягается итти по следам
российского лирика», но еще трудно заключить, «будет ли он
второй Ломоносов или останется только Петровым...».
1 Сатирические журналы Н. И. Новикова/Ред., вступит, статья и ком-
мент. П. Н. Беркова.— М.; Л., 1951.— С. 253.
53
Всего в нескольких строчках был охарактеризован Сумаро-
ков. Он по шаблону назван «северным Расином», в эклогах при-
равнен к Вергилию, в сатирических притчах и баснях постав-
лен выше Федра и Лафонтена. Но ничего русского, связанного
с жизнью, в Сумарокове Новиков не указал.
Зато Новиков выделял тех писателей, у которых так или
иначе было стремление к самобытности. С похвалами он от-
зывался о народных темах в творчестве Аблесимова, Попова,
о В. Майкове, который был оригинален и «ничего не заимство-
вал».
Составитель «Словаря» рисовал живые портреты писате-
лей: Ломоносова, Козловского, Поповского, Аничкова, Тредиа-
ковского— патриотов, боровшихся за русскую культуру.
Новиков в значительной степени устранился от групповых
интересов, не касался старых распрей между писателями. Он
наиболее полно и объективно из всех современников отметил
многосторонние дарования и заслуги Ломоносова, чистоту его
слога, знание и разработку правил русского языка, лирический
и ораторский талант, его оды, поэму о Петре Великом. Новиков
счел уместным выделить и чисто личные черты Ломоносова как
русского человека: «Нрав имел он веселый, говорил коротко и
остроумно и любил в разговорах употреблять острые шутки;
к отечеству и друзьям своим был верен, покровительствовал уп-
ражняющихся во словесных науках и ободрял их; во обхожде-
нии был по большей части ласков, к искателям его милости
щедр, но при сем том был горяч и вспыльчив».
Новиков испытывал явное пристрастие к писателям, выбив-
шимся из низов, символизировавшим мощь народного духа:
Феофан, Эмин, Кулибин (купец, изобретатель-самоучка, писав-
ший стихи); Волков, сын купца, основатель русского театра, че-
ловек разносторонних дарований; Крашенинников, землепрохо-
дец, описавший Камчатку, автор слова «О пользе наук и худо-
жеств». О Крашенинникове Новиков сказал: «Он был из числа
тех, кои не знатностию породы, не благодеянием счастия возвы-
шаются, но сами собою, своими качествами, своими трудами и
заслугами прославляют свою породу и вечного воспоминания
делают себя достойными». Крашенинников, как известно, был
другом Ломоносова.
Новиков выделял везде, где можно, сатирическую линию.
Пространную рубрику он посвятил Кантемиру, отмечал его че-
стность, прямодушие, острый, просвещенный ум, который «лю-
бил сатиры». Но главные симпатии Новикова, без сомнения,
принадлежали Фонвизину.
Еще при первых чтениях «Бригадира» в салонах и дворцах
в 1769 году Новиков, связанный с Фонвизиным узами дружбы
по Московскому университету, поместил в «Трутне» благоже-
лательную заметку о нем в форме известия с Парнаса: музы
Талия и Мельпомена смущены появлением нового таланта, жа-
54
луются своему «отцу» Сумарокову. Аллегорическая заметка за-
канчивалась признанием, что на смену Сумарокову пришел но-
вый кумир публики.
В «Пустомеле» 1770 года Новиков снова вернулся к Фонви-
зину и его комедии «Бригадир»: «Его комедия столько по спра-
ведливости разумными и знающими людьми была похваляема,
что лучшего и Молиер во Франции своим комедиям не видал
принятия и не желал...».
Более точная оценка Фонвизина была дана в «Словаре».
Вспомним, что Фонвизин еще не написал «Недоросля», а Но-
виков уже отмечал, имея в виду «Бригадира», «острые слова и
замысловатые шутки», которые «рассыпаны на каждой страни-
це»; «Сочинена она точно в наших нравах, характеры выдержа-
ны очень хорошо, а завязка самая простая и естественная». Фон-
визин возглавлял пользовавшуюся особой симпатией Новикова
группу писателей — Эмин, Майков, Попов.
Все стороны деятельности Новикова — журналиста, сатири-
ка, критика — способствовали развитию русской литературы в
демократическом направлении, в направлении к реализму. Но
его собственное творчество еще таково, что реализм здесь не
представляет собой сколь-либо целостной художественной си-
стемы. Это только элементы и тенденции. Новиков еще в духе
классицизма прибегает к значащим именам героев (Правдулю-
бов, Милована, Безрассуд). Его портреты строятся по принципу
силлогизма, готовой формулы, термина и не развертываются
как лица, образы. Рационалистичность у него еще сильна. Са-
мое близкое к реалистическому письму — это его копии с бар-
ских и крестьянских «отписок», первые абрисы живых людей:
Фалалей, Филатка, Андрюшка и т. п. Это шаг вперед от «скло-
нения» чужой сатиры на русские нравы, как было у Лукина,
шаг к гротескным типам Фонвизина, его чисто русским сю-
жетам.
Заслуга Новикова как критика в том, что он в истории рус-
ской литературы выделил сатирическую линию и самые сокро-
венные надежды в будущем связал с писателями сатирического
направления, или, как он иногда очень удачно выражался,
«действительной живописи».
Иван Андреевич Крылов (1769—1844). В литературной пози-
ции Крылова исследователи (Д. Д. Благой, Н. Л. Степанов и
др.) единодушно отмечают ее разносторонний сатирико-просве-
тительский характер. В «Каибе» (1792) высмеиваются классици-
стические высокопарные оды и сентиментальные идиллии. В «Но-
чах» (1792) пародируются «Ночные думы» предромантика Юнга,
прославленные Карамзиным, а также авантюрно-плутовские
новеллы в духе Лессажа и М. Чулкова, а еще раньше, в «Почте
духов» (1789),— скарроновские бурлескные картины нравов.
Травестирование — один из характерных приемов сатирика Кры-
лова, не удовлетворенного ни одним из существовавших лите-
55
ратурных направлений, но окончательно не нашедшего еще
своего.
Он мастер принимать и компрометировать различные лите-
ратурные маски. Его «Речи» (будь то «Речь, говоренная пове-
сою в собрании дураков» или «Похвальная речь науке убивать
время», «Похвальная речь Ермалафиду») в пародийной форме
высмеивают сентиментализм. Крылов придумал ходячие клич-
ки своим литературным противникам: под Ермалафидом, как
полагают, выведен Карамзин («ермалафия» по-гречески озна-
чает многословную болтовню, чепуху, дребедень); под Антири-
хардсоном — сентиментальный писатель, автор «Российской Па-
мелы» П. Ю. Львов; под «мнимым Детушем»—В. И. Лукин.
«Похвальная речь в память моему дедушке» (1792) продолжа-
ет традицию новиковской сатиры, «Письмо уездного дворяни-
на к своему сыну Фалалею»—фонвизинские образы.
В деятельности Крылова есть элементы эклектизма, и все
же она должна быть определена более точно, чем обычно де-
лается.
Борьба Крылова таила в себе попытку проложить путь не-
коему третьему направлению. И действительно, он борется за
приближение искусства к жизненной правде, к русской дейст-
вительности, за введение в него серьезного содержания. В 19-м
и 44-м письмах «Почты духов» он высмеивал и грубые, извра-
щенные вкусы, и придворную развлекательную оперу. Крылов
задолго до Гоголя провозглашал, что «театр... есть училище
нравов, зеркало страстей, суд заблуждений и игра разума»1.
И в то же время он вносил (после Новикова) в рецензии на ко-
медию Клушина «Смех и горе» важное уточнение в понятие
«публика»: есть публика, щедрая на аплодисменты, «скоропо-
стижные приговоры», на которые никак полагаться не следует.
Крылов приближался к социальному пониманию прекрасно-
го. Он хорошо знал, что о «вкусах» надо спорить и в этом одна
из обязанностей критики. Задолго до Чернышевского Крылов
сопоставлял различные представления, например о женской кра-
соте, бытовавшие в крестьянской и господской среде: «Быть
дородною, иметь природный румянец на щеках — пристойно од-
ной крестьянке; но благородная женщина должна стараться
убегать такого недостатка: сухощавость, бледность, томность —
вот ее достоинства. В нынешнем просвещенном веке вкус во
всем доходит до совершенства, и женщина большого света
сравнена с голландским сыром, который тогда только хорош,
когда он попорчен...»2
Некоторые оттенки в этой цитате могут быть правильно по-
няты, если вспомнить, что доказательства у Крылова идут, так
1 Крылов И. А Соч./Вступит, статья, подг. текста Н. Л. Степано-
ва,—М, 1955,—Т. I —С. 293.
2 Т а м же - С. 377—378.
56
сказать, от противного: ведь на эту тему у него рассуждает
некий «философ по моде», старающийся казаться разумным,
не имея ни капли разума... Но сопоставление вкусов само со-
бой напрашивалось, и симпатии Крылова, конечно, на стороне
«природного румянца».
Сильф Световид пишет о странных обычаях некоторых лю-
дей, которые не стыдятся слыть тунеядцами и повторять часто
с надменностью слова: «мои деревни, мои крестьяне, мои соба-
ки и прочее сему подобное». Крылов рисует безрадостную кар-
тину социальных порядков. Количественное накопление наблю-
дений сопровождается элементами реалистической типизации.
Сильф Дальновид сообщал волшебнику Маликульмульку, что
щедрое название человека, по правде говоря, приложимо только
к «хлебопашцу», «простым людям», «не прилепленным ни к
придворной, ни к статской, ни к военной службам». В «Каибе»,
высмеяв литературных противников, Крылов недвусмысленно
противопоставлял жизнь простого народа и его нравственность
жизни двора, полной пороков.
В рецензии на комедию своего приятеля и сподвижника по
изданию «Зрителя» и «Санкт-Петербургского Меркурия» А. Клу-
шина «Смех и горе» (1793) Крылов довольно подробно изло-
жил свою концепцию драматургии и театрального представле-
ния.
Всякому критику он предъявляем следующее требование:
быть еспристрастным, не огорчать ни бранью, ни грубостями,
а "Поступать так, как сам желал бы, чтобы с тобой поступали.
Суждения Крылова о комедии важно сопоставить с теорией
Лукина, предисловия которого Крылов упрекает в длиннотах,
а комедии — в отсутствии остроты. Другому комедиографу —
Клушину — он ставил в заслугу использование контрастов, что-
бы осмеять порок смехом и плачем; закон драмы — стремитель-
ное развитие действия. В комедии Клушина критик естественно
порицал недостатки в завязке и развязке, ибо «автор не должен
казаться чудотворцем, но подражателем природы»; для построе-
ния сюжета никогда не надо прибегать к большим хитростям,
чем те, какие встречаются в жизни. «На театре должно нраво-
учение извлекаться из действия».
Драматическая теория Крылова была явно выше тех пра-
вил, на которых построена комедия Клушина, и обгоняла разви-
тие современной ему драматургии. Эта теория подходила к
позднее написанным самим Крыловым комедиям «Урок доч-
кам» и «Модная лавка», чрезвычайно близким к манере Луки-
на, Фонвизина и отчасти раннего Грибоедова и его соавторов.
Но не следует переоценивать степень реалистичности крити-
ки Крылова. Нельзя мысленно переносить на его деятельность
в XVIII веке представления о Крылове-баснописце XIX века,
когда он сделался великим реалистом. Сжатый до лаконизма
«роман воспитания» в «Похвальном слове в память моему де-
57
душке» или «роман путешествий» в «Каибе» еще не имеют раз-
вернутой системы «просветительского» романа. Первое напоми-
нает натуралистическую «отписку» в новиковском духе, а вто-
рое— вольтеровские «философские» романы, «реализм» которых
крайне условен.
Всмотримся, за что Крылов порицал Ермалафида, т. е. Ка-
рамзина. Во многих случаях Крылов «придирался» как класси-
цист, а не как реалист. Он упрекал сентименталистов в том, что
они слишком далеко заходят в своей вольности и нарушают ста-
рые каноны: у сентименталистов в комедиях «на сцене появля-
ется целый народ в лаптях, в зипунах и в шапках с заломом».
Ермалафид может «высокое нравоучение подстроить под бала-
лайку, и под его только разумные рассуждения могут плясать
мужики...». При всей шутливости тона Крылова симпатии его
не на стороне Ермалафида и «бородатых».
Крылов-критик был сатирическим реалистом, допускавшим
все большее и большее вторжение социального элемента в ис-
кусство. Но еще сильна у него была оглядка на классицизм.
Денис Иванович Фонвизин (1744 или 1745—1792). Именно
Фонвизин наиболее близко подошел к тому, что мы называем
предреализмом. Без «Недоросля» не было бы «Горя от ума» и
«Ревизора».
Исследователи П. Н. Берков, К- В. Пигарев детально вы-
явили главные черты реализма в «Недоросле». И все же для
Фонвизина были еще обязательными некоторые правила класси-
цизма. Не случайно Белинский подмечал их в «Недоросле».
Правильнее было бы, как это делает К- В. Пигарев, гово-
рить только о тенденциях реализма в «Недоросле», а не о за-
конченном реалистическом методе.
Известно, что у Фонвизина есть, так же как у Новикова,
Крылова, ряд сатирических произведений в форме словников,
вопросов и ответов, рассуждений, посланий, в которых он высту-
пает как обличитель крепостнических язв, бытовой сатирик,
реалист. Точно так же как Новиков и Крылов, он расширял пре-
делы сатиры в классицизме и подтачивал последний. Фонвизин
постепенно заменял «склонение» чужих образов на русские
нравы прямым изображением русских нравов. В «Опыте россий-
ского сословника» его интересовало несоответствие внешнего
звания человека его внутреннему содержанию. Все это созда-
вало предпосылки для реализма. Фонвизин боролся с чрезмер-
ным преклонением перед всем иностранным, требовал от рус-
ских людей истинной грамотности, хорошего знания природного
языка, сознания своего патриотического долга («Челобитная
российской Минерве от российских писателей»).
Но критицизм Фонвизина был ограничен. В комедиях он хо-
тел «осуждать» не все дворянство, а только тех, кто злоупот-
ребляет своими правами. Огромная сила критического изобра-
жения крепостничества ослаблялась весьма умеренными вывода-
58
ми. Он подчеркивал, что далек от «свободоязычия» и «ненави-
дит» его всею душою.
Фонвизин был остер и даже желчен в оценке французских
просветителей: Вольтера, Руссо и особенно Гельвеция. Единст-
венно, что похвалил Фонвизин, будучи во Франции, это обилие
возможностей для просвещения и театра. Постановки трагедий
его не привлекали: они, по его мнению, не оригинальны, осо-
бенно после смерти актера Лекена — подобное можно было ви-
деть и в России. Но комедии его восхищали: «Я никогда себе
не воображал,— писал он родным и П. И. Панину в 1778 г.,—
видеть подражание натуре столь совершенным».
Опытным глазом он заметил сильно развитое начало «ан-
самбля» во французской игре, особенно когда в комедии уча-
ствовали лучшие артисты: «Нельзя, смотря ее, не забываться
до того, чтоб не почесть ее истинною историею, в тот момент
происходящею»1. В замечаниях Фонвизина о французской ко-
медии есть новое по сравнению со взглядами Лукина, Плавиль-
щикова, Крылова. Реальная история им ставится выше вымыш-
ленной комедии, он требует полного реалистического правдо-
подобия, достоверности воспроизведения жизни. Эту верность
искусства жизненной правде еще никто в России с таким упор-
ством не подчеркивал.
Театр имел огромное значение для Фонвизина-драматурга.
В России Фонвизин был в дружбе с Дмитревским, Волковым,
Шумским, пользовался их советами, приспосабливал роли к
возможностям живых исполнителей.
Склад мышления и характер творчества Фонвизина очень
напоминают Гоголя. Фонвизин — первый русский писатель, у
которого наметилось противоречие между объективным смыс-
лом творчества и субъективными намерениями и суждениями.
Но теоретически ни эти противоречия, ни характер складывав-
шегося в его творчестве реализма не были осмыслены ни им
самим, ни современной ему критикой. Надолго они выпали из
поля зрения и последующих судей русской литературы. Вязем-
ский в известной монографии о Фонвизине (1848) обходит эту
творческую проблему, толкуя противоречия писателя в чисто
биографическом, психологическом плане.
Александр Николаевич Радищев (1749—1802). Литератур-
но-критическое наследие Радищева невелико. К области крити-
ки в собственном смысле слова относится только его статья
«Памятник дактилохореическому витязю, или Драматикопове-
ствовательные беседы юноши с пестуном его».
Статья эта посвящена апологии гекзаметра Тредиаковского
и сатирическому осмеянию руссоистской теории воспитания. Но
целесообразно привлечь для рассмотрения и несколько глав из
«Путешествия из Петербурга в Москву» (1790), имеющих отно-
1 Фонвизин Д. И. Собр. соч.— М.; Л., 1959.— Т. 2.— С. 477.
59
шение к критике: главу «Тверь», в которой Радищев рассуждает
о русском стихосложении; главу «Торжок» с кратким повество-
ванием об истории цензуры и раздел «Слово о Ломоносове»,
не случайно поставленный в конец «Путешествия» и как бы
подытоживающий все, что говорится в книге о талантливости,
размашистости души «к славе рожденного» русского народа.
Наконец, большое значение для уяснения эстетических позиций
Радищева имеет его философский трактат «О человеке, о его
смертности и бессмертии» (написан в Илимске и опубликован
после смерти автора в 1809 г.).
В Радищеве слились воедино писатель, мыслитель и рево-
люционер. Только его творчество вполне отразило социальный
опыт XVIII века.
Радищев далеко уклонялся от собственно литературной кри-
тики, но уклонялся в сторону тех важных общих, политических
и.философских проблем, без которых не может существовать и
критика. Его значение не в разработке каких-либо отдельных
разделов критики, а в разработке ее общетеоретических пред-
посылок. Радищев глубоко понимал природу духовного. Он
объяснял происхождение логических категорий результатами
практической деятельности людей, условиями их общественной
жизни.
Как и все просветители XVIII века, Радищев в воспитании
человека придавал важную роль среде. Он умел делать из этого
положения подлинно революционные выводы. Несправедливые
законоположения искажают натуру человека, влияют на его
нрав и умственные силы. Нет ничего вреднее, говорил Радищев
в главе «Торжок», чем «опека» над мыслью, «откупы в помыш-
лениях». Какой-нибудь исполненный духа раболепия перед
властью «мундирный цензор», «один несмысленный урядник
благочиния может величайший в просвещении сделать вред и
на многие лета остановку в шествии разума».
Однако литературные вкусы Радищева далеко не во всем
были столь же передовыми, как философские и политические
взгляды.
В главе «Тверь» Радищев в форме разговора двух проез-
жих весьма непоследовательно обсуждает препятствия, мешаю-
щие успешному развитию русской поэзии. Эти препятствия, как
оказывается, создают не только политическая среда, цензура,
но и «авторитеты», такие, как Ломоносов и отчасти Тредиаков-
ский, Сумароков.
Они слишком канонизировали ямб, рифму и своим автори-
тетом якобы накинули на поэзию «узду великого примера»,
мешающего увидеть возможности гекзаметра, безрифменного
стиха. Но что же это были бы за перспективы? Вряд ли пред-
лагаемые Александром Николаевичем Радищевым эксперимен-
ты могли заменить уже состоявшиеся победы ямба, достигну-
тую относительную легкость языка.
60
Обновлять надо было содержание и совершенствовать при
этом форму. В противоречии со своими же заявлениями Ради-
щев тут же предложил образец «новомодной» поэзии — оду
«Вольность». Но она как раз написана традиционными звучны-
ми ямбами, с рифмой, и ее новаторство заключалось в необыч-
ности темы. Из-за одного только названия, как горестно заявлял
ее автор, ему отказали в издании этого произведения... Что же
касается предложения Радищева даже фактурой затрудненного
стиха изобразить «трудности самого действия», т. е. борьбы за
политическую свободу, то оно вело только к дисгармоничным
стихам, вроде такого: «Во свет рабства тьму претвори». Напрас-
но автор не согласился с теми, кто говорил ему откровенно, что
подобный стих «очень туг и труден».
Радищев хотел сохранить в поэзии высокий одический
стиль, придав ему гражданское звучание. Пушкинская «Воль-
ность» (1817) также написана ямбами и с рифмой, но без на-
рочитой затрудненности стиха.
Вряд ли следовало переводить всю русскую поэзию на гекза-
метры («дактилохореические шестистопы»). Но это еще не зна-
чило, что вовсе не надо было заниматься разработкой русского
гекзаметра. Он был нужен хотя бы для переводов Гомера и
других классических авторов. И в этом отношении опыт Тре-
диаковского, автора «Тилемахиды», «на что-нибудь годился»,
как говорится в подзаголовке вступительного раздела радищев-
ской статьи «Памятник дактилохореическому витязю». Ради-
щев выступает против укоренившегося предубеждения относи-
тельно Тредиаковского. Тредиаковский «не дактилями смешон»,
но «несчастие его было то, что он, будучи муж ученый, вкуса не
имел». Однако он хорошо понимал, что такое русское стихосло-
жение. Радищев приводит много примеров удачных, звонких,
полногласных гекзаметров у Тредиаковского.
Идею Тредиаковского разработать русский гекзаметр, «вы-
сокий» размер Радищев считал плодотворной и перспективной.
В этом и заключается сущность его «памятника» не совсем удач-
ливому «витязю» Тредиаковскому, начинавшему пролагать путь
дактилохореическому размеру в русской поэзии и нуждавшему-
ся в апологии.
Пушкин, как известно, также высоко ценил филологические
и стиховедческие занятия Тредиаковского.
Радищев обращается и к той стороне «Тилемахиды», кото-
рая, по его мнению, «ни на что не годится». В произведении мно-
го манерной нравоучительности, и это сближает его с сентимен-
талистским «романом воспитания», каков, например, «Эмиль»
Руссо. И Радищев не щадит «Тилемахиду» и «Эмиля».
Радищев пародирует «Тилемахиду» и «роман воспитания» в
духе новиковско-крыловского и фонвизинского транслирова-
ния, снижая высокопарные воспитательные сентенции менторов
низкими истинами живой действительности, которые ему гораз-
6]
до дороже. Тут он выступает, как и Новиков, Крылов, Фонви-
зин, сатириком.
«Слово о Ломоносове» является не только заключительным
аккордом «Путешествия из Петербурга в Москву», но и выдаю-
щимся произведением Радищева-критика. В «Слове...» глубоко
проанализирована проблема роли гения в поступательном раз-
витии литературы.
Радищев «соплетает» «насадителю российского слова» граж-
данский «венец», а не тот, которым обычно награждали «рабо-
лепствующих» перед властью: «...доколе слово российское уда-
рять будет слух, ты жив будешь и не умрешь». Заслуги Ломо-
носова перед русской литературой «многообразны». В великих
«благогласных» одах Ломоносова каждый может позавидовать
прелестным картинам народного спокойствия и тишины, «сей
сильной ограды градов и сел». После Ломоносова много людей
сможет прославиться, «но ты был первый». Слава Ломоносова
«есть слава вождя». И еще не было достойного последователя
Ломоносова в «витийстве гражданском».
Тем более строгим должен быть суд над некоторыми слабы-
ми сторонами творчества Ломоносова. До Радищева не всякий
мог это сделать. Радищев бросает резкий упрек Ломоносову:
«...ты льстил похвалою в стихах Елисавете». Как бы хотел Ра-
дищев простить это Ломоносову ради великой склонности его
души к благодеяниям, но зачем же «уязвлять истину и потомст-
во»: они не простят, если покривить душой. Велика заслуга ге-
ния, но есть высший суд, суд народа и времени: «Истина есть
высшее для нас божество...» Можно найти и другие недостатки
у Ломоносова: он прошел мимо драматургии, «томился в эпо-
пее», чужд был в стихах «чувствительности», не всегда был
проницателен в суждениях и «в самых одах своих вмещал
иногда более слов, нежели мыслей». Но «тот, кто путь ко храму
славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы,
хотя бы он войти во храм не мог». «В стезе российской словес-
ности Ломоносов есть первый».
За этими оценками Радищева проглядывала уже новая, его
собственная, более последовательная программа. На революци-
онном пути служения русской литературе первым был сам
Радищев.
Источники
Ломоносов М. В. Поли. собр. соч.— М., 1952—1957.— Т. Ill, VII, X.
Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т.— М.; Л., 1964.— Т. 2,
Карамзин Н. М. Избр. статьи и письма.— М., 1982.
Дмитриев И. И. Соч.— М., 1986.
Новиков Н. И. Избр. соч.— М.; Л., 1951.
Сатирические журналы Н. И. Новикова.— М.; Л., 1951.
Крылов И. А. Соч.: В 2 т.— М., 1955.— Т. 1.
Фонвизин Д. И. Собр. соч.— М., 1959.— Т. 2.
Радищев А. Н. Избр. соч.— М., 1952.
Русская литературная критика XVIII в.— М., 1979.
62
Пособия и исследования
Берков П. Н. История русской журналистики XVIII в.— М.; Л., 1952.
Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII в.— М.; Л., 1961.
Русская литература XVIII в.: Эпоха классицизма.— М.; Л.. 1964.
Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли
XVIII в,-Л., 1968.
Курилов А. С. Литературоведение в России XVIII в.— М., 1981.
Сафронова С. И. Из истории русской критики XVIII в,—Пермь, 1979.
Балицкая А. П. Русская эстетика XVIII в.: Историко-проблемный
очерк просветительской мысли.— М., 1983.
Гуковский Г. А. Русская литературно-критическая мысль в 1730—
1750-е гг.//XVIII век —М.; Л., 1962 — Вып. 5.
Гуковский Г. А. Ломоносов-критик //Литературное творчество
М. В. Ломоносова.— М.; Л., 1962.
М а к о г о и е и к о Г. П. Николай Новиков и русское Просвещение
XVIII в —М.; Л., 1951.
Макогоненко Г. П. Денис Фонвизин: Творческий путь.— М.; Л., 1961,
Макогоненко Г. П. Радищев и его время.— М., 1956.
Степанов Н. Л. И. А. Крылов: Жизнь и творчество.— М., 1958.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА
ГЛАВА 1
Литературно-критическое движение
Русская литература первой половины XIX века выражала
наиболее глубокие тенденции передовой отечественной мысли
того времени и поразительно глубоко проникала в сущность
русского общества. Вся первая половина XIX века характери-
зуется переходом литературы от романтизма к реализму. Этот
важнейший процесс получил свое яркое осознание в критике,
которая стремилась его сформулировать, сделать программой
активных-~устремлений различных писателен в литературе, из
которых одни хотели утвердить реализм, другие препятствова-
ли его победе. В еще большей степени чем в XVIII векр, ,кри-
тика обрела теперь ^.вою трибуну в журналах и газетах.
Первые дворянские революционеры-декабристы — К- Рылеев,
А. Бестужев, А. Одоевский, В. Кюхельбекер были в художест-
венном творчестве романтиками. Они выступали в органах, ко-
торые смогли более или менее подчинить своему влиянию: жур-
нале «Сын Отечества» (в 1816—1825 гг.), издававшемся с
1812 года Н. И. Гречем, альманахе «Невский зритель». Наибо-
лее близким им был журнал «Соревнователь просвещения и
благотворения», который был органом «Вольного общества
любителей российской словесности», своеобразного легального
филиала тайного общества «Союз благоденствия». Создали де-
кабристы и свой альманах «Полярная звезда», который выходил
в 1823—1825 годах. Кюхельбекер вместе с В. Ф. Одоевским из-
давал в Москве альманах «Мнемозина». В дальнейшем роман-
тическое движение на последекабристском этапе получит свой
орган в «Московском телеграфе» Н. А. Полевого (с 1825 по
1834 год). Но этот прогрессивный романтизм имел уже во мно-
гом отличный от декабристского характер. Его трудно опреде-
лить одним словом, и мы условно назовем его «демократиче-
ским», памятуя, что Полевой — выходец из купечества и ста-
рался укрепить престиж и вкусы этого сословия, широко пони-
мая его общественные задачи в жизни России, чутко улавливая
гражданские мотивы в русской литературе, связанные с поис-
ками героического в будничной жизни простых людей (Н. По-
левой. «Рассказы русского солдата»).
Но романтическое движение имело и различного рода ответ-
64
вления, и прямо враждебные органы. Регулярно выступал про-
тив него, в том числе против Жуковского и ранних поэм Пуш-
кина, консервативный «Вестник Европы», с 1815 до 1830 года
безраздельно находившийся в руках профессора М. Т. Каченов-
ского. Официально-патриотического направления был «Русский
вестник» С. Н. Глинки (1808—1824). Сознательными против-
никами передового романтизма, старавшимися развить наибо-
лее идеалистические, примиренческие мотивы концепций Шел-
линга, Новалиса, Тика, были «Московский вестник» (1827—
1830) М. П. Погодина и С. П. Шевырева, затем «Московский
наблюдатель» (1835—1837), издававшийся той же редакцией.
(Большую роль в «Московском вестнике» играл Д. В. Веневи-
тинов.) Консервативной ориентации придерживалось славяно-
фильство— идейное течение, которое сложилось в самом конце
30-х годов. Оно выступало и против памяти о декабристах, и
против Лермонтова, желая, впрочем, приблизить его к себе пу-
тем фальсификации мотивов, якобы общих у него с ними, но
главным образом боролось против укрепившегося к тому вре-
мени реалистического направления в литературе. Славянофилы
А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К- С. Аксаков, Ю. Ф. Сама-
рин выступали в созданных ими органах: журнале «Русская бе-
седа» (1856—1860), «Московских сборниках» (1.846, 1847, 1852).
Романтическое у славянофилов выражалось в идеализации до-
петровской Руси, предсказаниях о всечеловеческой миссии пра-
вославной России, ее особых путях, отличных от путей «рево-
люционного» Запада.
Это была «ретроспективная утопия», поставившая славяно-
филов во враждебные отношения к передовым течениям в рус-
ской литературе и в критике. Особенным нападкам с их сто-
роны подвергалась «натуральная школа».
Противниками этого реалистического направления были кри-
тики лагеря «официальной народности» Погодин, Шевырев,
редактировавшие журнал «Москвитянин», а также О. И. Сен-
ковский, издатель «Библиотеки для чтения», Ф. В. Булгарин —
издатель газеты «Северная пчела» и Н. Греч, чей «Сын Отече-
ства» превратился после поражения декабристов в ретроград-
ный журнал. Характерно это слияние в единый антиреалисти-
ческий блок бывших романтиков консервативного толка в их
борьбе против реализма.
Самое плодотворное направление — реалистическое — нача-
ло заявлять о себе еще в «Литературной газете» Дельвига и
Пушкина в 1830—1831 годах, потом его органом сделался пуш-
кинский «Современник» (с 1836 года). У этого журнала слож-
ная судьба. После смерти Пушкина он попал в руки к Плетневу
и влачил жалкое существование, отстал от времени и даже за-
нимал враждебные позиции по отношению к реализму, В. Г. Бе-
линскому в течение десяти лет. Но с осени 1846 года журнал
арендовали Н. А. Некрасов и И. И. Панаев, а в качестве глав-
б Заказ № 1367
65
ного критика был приглашен Белинский. С 1847 по 1866 год под
редакцией Некрасова он сыграл выдающуюся роль в судьбах
реалистического направления.
Но осмысление эстетики этого направления, по мере того
как оно складывалось в творчестве Пушкина, Лермонтова, Го-
голя, «натуральной школы», проходило и по другим каналам.
В 30-х годах журнал «Телескоп», издававшийся Н. И. Надеж-
диным, развернул борьбу с романтизмом, в частности с «Мос-
ковским телеграфом», «Московским наблюдателем». Но когда
в журнале дебютировал молодой Белинский (а также в ли-
тературном приложении к журналу, в газете «Молва»), он смог
сразу придать обоим изданиям, не встречая со стороны Надеж-
дина принципиальных возражений, нужное направление. На
страницах этих органов Белинский начал разрабатывать свой
эстетический кодекс и историко-литературную концепцию. За-
тем он продолжил эту деятельность в обновленном «Москов-
ском наблюдателе», который возглавил. Особенно важную роль
в консолидации сил писателей-реалистов, в разработке про-
граммы реализма сыграл журнал «Отечественные записки», из-
дававшийся либерально настроенным литератором А. А. Краев-
ским. Критический отдел этого журнала в 1839—1846 годах
возглавлял Белинский, и именно он создал славу «Отечествен-
ным запискам». Затем, порвав с крайне непоследовательным их
издателем, Белинский перешел в некрасовско-панаевский «Со-
временник».
Реалистическое направление завоевало позиции и в других
органах. В «Литературных прибавлениях к «Русскому инвали-
ду» (с 1840 года преобразованных в «Литературную газету»)
главным критиком с 1837 по 1846 год был все тот же Белин-
ский. В фарватере «Отечественных записок» и «Современника»
шел журнал «Финский вестник» (издатель Ф. К- Дершау). Осо-
бенно важную роль в качестве манифестов «натуральной шко-
лы» сыграли сборники, изданные Некрасовым: «Физиология Пе-
тербурга» (1845, две части), «Петербургский сборник» (1846).
Сборники помогли обособить специфическую тематику и проб-
лематику, а также жанры творчества писателей «натуральной
школы», острее подчеркнуть их значение для реалистической
литер атуры. ______________________________-------
одлиннымн наследниками критики “ХуПГ века в поисках
«правил» высокого искусства с его национальной характерно-
стью и политической устремленностью стали романтики-декаб-
ристы. Их общая, централизующая идея определялась термином
«народность», и на основе этой идеи декабристы построили свою
ястеш-честсую- систему.
Идея народности побуждала к борьбе с подражательно-
стью, за самобытную русскую литературу, к поискам русского
национального характера в патриотических, освободительных
и гражданских деяниях русских людей.
66
Две другие разновидности романтизма, а именно романтизм
В. Жуковского и К- Батюшкова и романтизм братьев Полевых,
типологически стоят по разные стороны декабристского роман-
тизма и как бы развивают отдельные его элементы. Первый из
них, психологический, разрабатывал проблему самобытности
личности в связи с «судьбами человеческими», в широчайшем
сопоставлении с опытом переводной мировой литературы, а дру-
гой, исторический и демократический, рассматривал самобыт-
ность «судеб народных», также с опорой на опыт мировой ли-
тературы.
Критика философского романтизма, старавшаяся опереться
на опыт немецкой эстетики, говорила и о русском человеке, и о
русском народе, уклоняясь, впрочем, от прямой социально-по-
литической трактовки проблем.
Надеждин первый указал, каким должно быть современное
искусство, чтобы выполнить свои задачи. Он отверг как негод-
ные, изжившие себя все существующие направления в русской
литературе. Он заговорил о каком-то синтезе классицизма и ро-
мантизма, о создании качественно нового искусства, обосновал
понятие литературы как голоса народа, а не только образован-
ного общества. Он со всей обстоятельностью указал на вели-
кое значение жанров романа и повести как эпоса нового вре-
мени.
Пушкин и Гоголь полностью вывели эти дебаты о синтезе на-
правлений из рамок идеалистической эстетики, указав на необ-
ходимость верного изображения русской действительности как
на главную цель искусства, его давно искомую идею. Верное
изображение окружающего мира предписывает новые правила
искусству, повышает его общественную роль; верность натуре
дает возможность изобразить внутренний мир человека, связан-
ного с передовым движением, со служением подлинной народ-
ности. Оба писателя подробно разъяснили внутреннюю струк-
туру современных жанров трагедии и комедии, романа и по-
вести.
В сущности, Пушкиным и Гоголем была вчерне намечена
система реалистической критики. Ей только не хватало фи-
лософского, материалистического и диалектического обоснова-
ния, последовательной связи частей, широкого осмысления со-
отношения со всей русской и мировой литературой. Завершить
>ту работу выпало на долю Белинского.
Белинский был «центральной натурой» в истории русской
критики 30—40-х годов и всего XIX века. Именно он создал
к-тстический кодекс реализма, стройную концепцию истории
русской литературы. Он смог привести к окончательному син-
тезу все лучшие достижения предыдущей русской критики.
Белинский первый оценил дарования Пушкина, Лермонтова
и Гоголя — основоположников критического реализма. Он от-
крыл таланты писателей «натуральной школы»—Некрасова,
ь* 67
Герцена, Тургенева, Гончарова, Достоевского. Он неустанно и
умело вел полемику с противниками школы.
Белинский активно провозглашал программу реализма. Еще
в 1835 году он выдвинул на первый план поэзию «реальную»,
когда она начинала еще только формироваться в России.
Его обобщение поэтики реалистического направления про-
явилось не только в оценках творчества отдельных писателей,
но и в теоретическом осмыслении общего хода литературы, ее
тенденций, роли романа и повести в литературе нового времени,
в рассуждениях о роли типичности в творчестве, в учении о
разграничениях и слияниях жанров, в размышлениях о демо-
кратизации героя русской литературы. Белинский разработал
методологию глубокого, проникновенного анализа художествен-
ных произведений, подвел под нее философскую диалектиче-
скую и материалистическую основу. Он создал великолепные
критические жанры годовых обзоров литературы, обобщающих
циклов статей об отдельных писателях, многообразных преди-
словий и рецензий, полемических откликов, памфлетов. Он раз-
работал почти все основные понятия, категории и термины кри-
тики. Мы до сих пор пользуемся не только его меткими форму-
лировками, оценками, афоризмами, но и целыми концепциями,
потому что они научно верны.
Вокруг Белинского образовалась целая группа критиков,
которые внесли свой оригинальный вклад в концепцию реализ-
ма: В. Майков — в области оценки психологизма Достоевского
и разработки проблемы положительного героя; Некрасов — в оп-
ределении значения лирического начала в творчестве Гоголя и
судеб русской поэзии в век господства прозы; Герцен глубоко
разработал философские основы критики и связал концепцию
литературного развития России с задачами освободительной
борьбы.
Но не следует думать, что соратники Белинского во всем
следовали за ним. Процесс консолидации реалистического на-
правления и выработки его теории был сложным и противоре-
чивым. Майков вступал в полемику с Белинским, Герцен тоже
часто расходился с ним в оценке литературных явлений. И это
естественно. Нет «чистых» направлений как в литературе, так
и в критике. Важно, что усилия критиков в конечном счете шли
в одном направлении — защиты реализма.
Состав учеников и последователей Белинского можно попол-
нить именами менее известных критиков, подчинявшихся его
влиянию и помогавших на разных уровнях упрочивать крити-
ческий реализм, таких, как И. Панаев, П. Кудрявцев, А. Гала-
хов, А. Милюков.
Противников реализма можно разделить на три группы: от-
крыто враждебных реакционеров, славянофилов-романтиков и
либералов из лагеря «чистого искусства».
68
ГЛАВА 2
Распад старых направлений в критике 1810-х годов.
Переходные теории
В первые ^десятилетия XIX века наблюдается. распад преж-
них направлений, господствовавших в литературе ХУШ века.
О~пноврёменноначинал и форм иров аться новые направления, .»-в
конечном,.счете поляризация сил привела к противоборству и
взаимодействию двух главных из них — романтизма и реализма.
В этом процессе критика прошла через стадии исканий, поис-
ков общей точки зрения, чтобы на новой основе собрать воеди-
но накопленные уже элементы своего предмета. Общую точку
зрения начал искать Мерзляков, потом — критики-романтики,
декабристы, усматривавшие ее в идее народности. Найти ее
смог только Белинский в полноте правды ,_жнзни, т. е. в реа-
лизме.
По-видимому, к эклектикам надо в целом отнести группу
писателей — так называемых «радищевцев», объединившихся в
«Вольное общество любителей словесности, наук и худо-
жеств» (1801—1825). К сожалению, деятели «Вольного об-
щества» не оставили нам своих теоретических трактатов и кри-
тических статей на общелитературные темы. Мы знаем, что на
заседаниях общества обсуждалось несколько трудов на эти те-
мы. Таковы, например, сочинения В. В. Попугаева —«О поэзии»
(1801), «Опыт о высоком изящных искусств» (1804), «Об-
щее рассуждение о словесности, ее начале, ее гармонии и раз-
делении ее на поэзию и прозу» (1804), В. В. Дмитриева—«О те-
атре», В. И. Красовского—«Об английской трагедии» и «О ду-
ховной словесности в России».
Трудно сказать, какое направление было у этих трактатов.
Сохранился лишь план «Опыт о высоком изящных искусств»
Попугаева. Он состоит из четырех частей: о словесности вооб-
ще; о поэзии; о прозе; о словесности российской. Однако само
название «Опыт о высоком изящных искусств», попытки рас-
суждать о словесности вообще, ее начале и гармонии — все это,
вероятно, восходит к классицистическим доктринам.
В 1821 году участник «Вольного общества» Н. Ф. Остоло-
пов издал терминологический «Слодарь древней и новой—поэ-
зии», который прослыл образцом классицистического доктри-
нерства в трактовке литературоведческих понятий. Впрочем,
словарь Н. Остолопова, охватывающий 524 названия,
попытка свести в нечто целое предметные поэтические,,понятия
и термины русской критики почти за целое .столетие после «Ри-
торики» М. В. Ломоносова. .Он может служить ориентиром в
11зу чени и аги и ргушшй критики.
Натурализм был художественно слабым явлением. Его время
наступило позднее (В. Даль, Е. Гребенка, Я. Бутков, Д. Григо-
69
рович, Некрасов-прозаик), когда он расцвел как одна из ветвей
«натуральной школы» под воздействием критики Белинского.
Реализм И. А. Крылова, как до этого и Фонвизина, был еще на-
столько новым явлением, что тогдашняя критика не смогла пра-
вильно истолковать его народность и силу. И позднее Крылов-
реалист не стал главой направления, а влился в тот широкий
поток, который возглавлялся Пушкиным и Гоголем.
Из полемики между «карамзинистами» (эпигонами сенти-
ментализма и представителями зарождающегося романтизма) и
«шишковистами» (эпигонами классицизма), из внутренней эво-
люции обоих этих направлений складывалось содержание тог-
дашней литературной жизни. Само появление литературных ор-
ганизаций «Беседы любителей русского слова» и «Арзамас»,
«чисто» литературных форм борьбы,— небывалое событие в
русской критике. Так открыто эти обе силы еще никогда не
сталкивались. Борьба шла за дальнейший путь развития всей
русской литературы.
К разряду архаических явлений в классицизме следует от-
нести издание в 1810—1814 годах перевода сочинения Лагарпа
«Ликей, или Круг словесности, древней и новой» в пяти частях,
эпигонского по отношению к Буало и Вольтеру. В школьном
рутинном духе пересказывала давно известные положения клас-
сицизма «Наука стихотворства» И. Рижского (1811). К мелким
препирательствам с «Вестником Европы» в защиту старого сти-
ля свелся смысл заманчиво названной брошюры Е. Станевича
«Способ рассматривать книги и судить о них» (1808).
Главным ратоборцем классицизма, ярко выразившим его ре-
акционные притязания, был адмирал А. С. Шишков. «Беседа
любителей русского слова» была основана им в 1811 году с
целью противостоять тому «разврату нравов» в литературе, ко-
торый Шишков приписывал карамзинскому направлению.
О курьезах и странностях «беседчиков» много было сказано
их противниками—«арзамасцами», склонными к шаржу и эпа-
тированию. Но к некоторым выступлениям «беседчиков» совре-
менники прислушивались. Членами «Беседы» были Державин
и Крылов, а в числе «попечителей»—Дмитриев. «Беседа» про-
пагандировала не только малоодаренных поэтов Шихматова
и А. Бунину, но и Державина, Крылова.
Отдельные ценные мысли можно отыскать у Шишкова. Он
был прав, выступая против некоторых крайностей жеманного
карамзинизма. В брошюре «Разговоры о словесности» (1811),
желая показать, как под заимствованной формой иногда скрыва-
ется самобытное русское содержание, он очень верно охаракте-
ризовал Кантемира: «Сочинения его, при всей своей неправиль-
ности, исполнены ума, остроты и воображения. Он подражал
Горацию и Боало Деспрею, но имел собственный свой дар живо
изображать вещи и даже то, что он от них брал, умел облекать
в русскую одежду»,;
70
Шишков, конечно, ошибался, оспаривая полезность силлабо-
тонической реформы стихосложения, произведенной Ломоносо-
вым. Но о пользе возвращения к чистой тонике, русскому раз-
меру думали многие и после Шишкова. Нигде в русских журналах
или трактатах того времени мы не встретим столь же со-
держательного разбора фольклора по сборнику Кирши Дани-
лова, как в шишковских «Разговорах о словесности». Он оста-
вил ценные наблюдения над народным стихосложением.
Бывший деятель «Вольного общества любителей словесно-
сти, наук и художеств» И. Борн в своем «Кратком руководстве
к российской словесности» (1808) уже набрасывал историю
русской литературы от Нестора до современности. После экс-
курса Тредиаковского, обозрения Хераскова, «Словаря» Нови-
кова и «Пантеона» Карамзина это была новая попытка в свете
некой периодизации нарисовать общую картину развития рус-
ской литературы. Как бы отвечая на заданный карамзинистом
Макаровым в «Московском Меркурии» в 1803 году вопрос: «Где
же они, древние русские ученые труды и литература?», Борн
называл Никонову летопись, Четьи-Минеи, Апостол, Степенную
книгу, Судебник, Уложение, сочинения Дмитрия Ростовского,
Петра Могилы, Максима Грека, Иннокентия Гизела, Петра Бус-
лаева, Феофана.
П. И. Макаров, издатель «Московского Меркурия», закреп-
лял новую карамзинскую регламентацию стилей. Стили — не
узкоязыковая, а эстетическая проблема: «высокий слог должей
отличаться не словами или фразами, но содержанием, мысля-
ми, чувствованиями, картинами, цветами поэзии». Надо думать
и об обществе: «Фокс и Мирабо говорили от лица и перед ли-
цом народа, или перед его поверенными», «...а языком Ломоно-
сова мы не можем и не должны говорить, хотя бы умели». «Ка-
рамзин сделал эпоху в истории русского языка. Так мы дума-
ем,— заявлял Макаров,— и, сколько нам известно, так думает
публика». Макаров знает, что история необратима,— придет вре-
мя, устареет и язык автора «Бедной Лизы»; и все же большое
достоинство Карамзина в том, что он одним из первых русских
писателей сделался известным всему ученому свету, его сочи-
нения переводятся на разные языки и приняты везде с вели-
чайшими похвалами: надо бы «радоваться» этому...
«Северный вестник» Мартынова, чтобы лучше показать свои
цели, опубликовал статьи «О рецензии» (1804, № 1), «О кри-
тике» (1804, № 4), переведенные с французского. Для Марты-
нова образцом критики был Карамзин: «Так должно писать
рецензии... с такой вежливостью, с такой скромностью». Из
статьи «О критике» русские писатели узнавали полезные сен-
тенции: «Тот хорошо делает, кто, не следуя правилам, делает
лучше. Тот худо делает, кто, следуя правилам, делает хуже...»
Мартынов воспитывал в писателях и читателях подлинно
гражданские вкусы. В этом журнале в 1804 году было опубли-
71
ковано письмо А. Тургенева, в котором поддерживалась и раз-
вивалась в гражданском духе идея Карамзина о необходимости
воспеть в литературе и в изобразительном искусстве героиче-
ские лица русской истории (№ 10). Свои демократические сим-
патии «Северный вестник» выразил в разгоревшейся тогда по-
лемике по поводу пьесы Н. И. Ильина «Великодушие, или Рек-
рутский набор». Драма Ильина была правдивым изображением
русской крепостнической действительности. Видимо, не случай-
но с большим риском для себя, наряду с упомянутой рецен-
зией, «Северный вестник» анонимно перепечатал еще и главу
«Клин» из запрещенного «Путешествия из Петербурга в Моск-
ву» Радищева...
Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830). Самым ярким
критиком и теоретиком литературы этого переходного времени
был профессор Московского университета А. Мерзляков. Скеп-
тически относясь к классицизму, он все же не порывал с ним,
отрицательно относился к камерной лирике сентименталистов
и романтиков, но признавал заслуги Карамзина, призывал к
созданию сильной, искренней «гражданской» поэзии и впадал в
самый откровенный эклектизм. Может быть, это все было не
случайно у Мерзлякова, по рождению пермского купца, автора
замечательных, ставших народными песен, эрудита, знавшего
произведения Гердера, Гете, Ш. Батте, И. Г. Зульцера, Ф. Бу-
тервека. Он узаконил русскую литературу в программе универ-
ситетского преподавания. Его лекции пользовались большим ус-
пехом у студентов. Среди слушателей в разные годы были Вя-
земский, Тютчев, Полежаев, Лермонтов.
Суждения Мерзлякова поражают контрастами и в общем
характеризуются приверженностью к классицизму.
Мерзляков резко критически относился к драматургии Су-
марокова из-за отсутствия действия, вялых нравоучений (ста-
тья в «Вестнике Европы» 1817 года). Но почти тогда же, в трех
статьях о «Россияде» Хераскова («Амфион», 1815), Мерзляков
выступил как чистый классицист. Он хотел доказать по «пра-
вилам», что «Россияда»—образцовая эпопея, которой могут
справедливо гордиться русские. Но, вопреки намерению Мерз-
лякова, отзыв получился скорее отрицательным, чем положи-
тельным.
Мерзляков сначала доказывал, что предмет, избранный Хе-
расковым, совершенно эпический, достойный бессмертной эпо-
пеи. Все события в «Россияде» подчинены единой концепции —
покорению Казани: с главным лицом — Иоанном IV—соеди-
нены все «эпизоды». А потом Мерзляков заметил, что в «Рос-
сияде» много недостатков в изображении событий, компози-
ции, выборе «чудесного» элемента. Их перечисление создало
диспропорцию между хвалебными и критическими страницами
в разборе и придало ему неожиданно курьезный характер.
На противоречия Мерзлякова остроумно и не без иронии
72
указал студент П. Строев в журнале «Современный наблюда-
тель российской словесности» (1815). Его доводы убивали идо-
лопоклонство перед эпопеей Хераскова и «правилами» класси-
цизма.
Белинский ценил попытки Мерзлякова выработать некий об-
щий, философский подход к искусству: «...он уже хлопотал не
об отдельных стихах и местах, но рассматривал завязку и из-
ложение целого сочинения, говорил о духе писателя, заключаю-
щемся в общности его творений. Это было значительным шагом
вперед для русской критики, тем более, что Мерзляков критико-
вал с жаром, основательностию и замечательным красноречи-
ем»1. Разбор произведений, по мнению Мерзлякова, недостато-
чен с точки зрения грамматической и стилистической, полезно
было бы ввести разбор «эстетический». А между тем в России
«основательная теория изящных наук неизвестна... [и мы] не
подозреваем даже, что начала литературы составляют науку
обширную и глубокую, требующую трудов и тщания» («Рас-
суждение о российской словесности»)2.
Под влиянием «карамзинизма» Мерзляков создавал свис,
разграничение стилей, исходя из чисто функциональных и пси-
хологических. признаков., Различие в слоге, по его мнению, про-
исходит не от комбинаций исторически сложившихся двуязыч-
ных элементов русской литературной речи, а от «характера пи-
сателя», «от сущности материи, которую он избрал, от цели,
которую он себе предположил», «от расположения, в котором он
пишет»3. Слог может быть простым, блестящим, трогательным,
цветущим, живописным. То есть слогов столько, сколько умов,
психологических состояний, целей и проч. Перед нами последо-
вательно проведенное, уже чисто карамзинское смешение стилей.
Мерзляков стремился поставить в центр художественного
изображения живую индивидуальность;*«Человек всего занима-
тельнее для человека». Он углублял карамзинское учение о ха-
рактерах^считал, что основа характеров «изменяется по наро-
дам, поПвременам, по состоянию, по возрасту, образу жизни и
воспитания, по духу народа, по темпераментам и привычкам».
Прямое дело писателя—«угадать, которые из них в том или
другом случае суть подлинные источники мыслей, чувствова-
ний и поступков человеков»4.
Но, глубоко проникая в отдельные эстетические проблемы,
Мерзляков в других оставался догматиком. Он не ценил совре-
менный роман, считая, что «сей род принадлежит более к сти-
хотворным» и содержанием романов является нечто фантасти-
1 Белинский В. Г. Собр. соч.— Т. 6.— С. 249—250.
2 Труды общества любителей российской словесности.— М., 1812.—
Ч. 1,—С. 81.
’Мерзляков А. Ф. Краткая риторика.— 3-е изд.—М., 1821.—
С. 15-16.
4 Там же.— С. 69, 70.
73
ческое, героическое с той только разницей, что если в эпопее
герой — весь народ, то в романе отдельный, «один человек»1.
Но это различие знал уже Тредиаковский. Для чего же тогда
критик открывал внутренние, психологические аспекты в по-
вествовательном слоге, взаимозависимость рассказчика и чита-
теля? Мерзляков не связал учение о характерах и слоге с уче-
нием о жанрах. Он и не подозревал, какое великое будущее
предстоит роману.
Получалось странное противоречие: в «Россияде» он чтил
именно жанр и случайно его разрушил. А в романе — наоборот:
жанру не симпатизировал, но отметил многие его новаторские
элементы. И это вообще характерно для Мерзлякова. В своем
позднейшем «Кратком начертании теории изящной словесности»
критик сбивчиво толковал исходные принципы эстетики. Как
классицист, он говорил о том, что начало всех искусств — в «под-
ражании природе». Но как сентименталист утверждал, что глав-
ная цель изящных искусств —«удовлетворение вкусу», «воз-
буждение непосредственного удовольствия, в котором равно
участвуют сердце и разум». Мерзляков то предлагал все кри-
терии приводить к одной общей «эстетической» точке (ради это-
го и создавалась риторика), то полностью расписывался в не-
возможности установить какие-либо законы, «высшее начало»:
«Изящное не доказывается по законам разума, и правила вку-
са не извлекаются из чистых понятий, а выводятся только из
опытов и поверяются одною критикою»-, «наблюдения природы
и действий изящных искусств не могут быть приведены в над-
лежащую систему и приняты за определенную науку»2. Так, на
распутье, не дав ответа, каким же образом «одною критикою»
можно поверять опыты искусства и почему критика не наука,
Мерзляков и остановился.
ГЛАВА 3
Элементы программы раннего романтизма
Из всех литературных течений начала века наиболее продук-
тивным оказался ранний романтизм Жуковского и Батюшкова.
Этот романтизм с наибольшей силой выразил историческую по-
требность утверждения пробуждавшейся идеи духовной свобо-
ды личности.
Правомерность причисления Батюшкова к романтикам отно-
сительна. Многое в его творчестве связано с «неоклассицизмом»
(сама «легкая поэзия», анакреонтика в начале XIX века вхо-
дили законной частью в систему жанров классицизма). Но бы-
1 Мерзляков А. Ф. Краткая риторика.— С. 77.
2 Мерзляков А. Ф. Краткое начертание теории изящной словесно-
сти.—М„ 1822 —Ч. 1,—С. 11, 12.
74
ли в заявлениях поэзии Батюшкова и такие важные элементы,
которые сближали его с романтиком Жуковским. Особенно по-
ложение о роли «воображения» в творчестве, мотивы трагиче-
ской участи поэта в современности.
Ранний романтизм в. 10-х годах был единственным в России
и играл прогрессивную роль. Он был формой оппозиции по от-
ношению к действительности, выражением духа времени.
Василий Андреевич Жуковский (1783—1852). Деятельность
Жуковского в качестве романтика начинается приблизительно
с 1808 года, когда он напечатал свою первую романтическую
балладу «Людмила» и возглавил журнал «Вестник Европы»
(до 1810 г.), в котором пытался сформулировать свои эстети-
ческие принципы.
Затем Жуковский был главой общества «Арзамас» (1815—
1817), в шутливых протоколах которого отстаивались новые
жанры — элегии и баллады.
В «Письмах из уезда» (1808) Жуковский сначала отказывал-
ся не только от «политики», но и от «критики», заботясь лишь
о «разнообразии» в журнале. Но через год в специальной
статье «О критике» он отводил ей уже видную роль. «Критика,—
писал он,— есть суждение, основанное на правилах образован-
ного вкуса, беспристрастное и свободное. Вы читаете поэму,
смотрите на картину, слушаете • сонату — чувствуете удоволь-
ствие или неудовольствие — вот вкус; разбираете причину то-
го и другого — вот критика»1. Итак, классицистические прави-
ла заменялись образованным вкусом, свободой суждений. Са-
мый вкус, по его мнению,— это чувство, интуиция, а критика —
осознание впечатлений.
Положим, это высказывание еще на уровне Карамзина. Но
важно собрать у Жуковского все специфически романтическое.
А он и как критик двигался именно в сторону романтизма.
Н. И. Мордовченко в своей работе «Русская критика первой
четверти XIX века» слишком преувеличивает зависимость Жу-
ковского от теории классицизма и стушевывает в его суждениях
все романтическое. Жуковский был знаком не только с работа-
ми Лагарпа, Зульцера, но и с эстетикой Канта, Бутервека, ро-
мантиков братьев Шлегелей. В статье «О достоинстве древних
и новых писателей» (1811) он использует некоторые тезисы
статьи Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии», закла-
дывавшей основы европейского романтизма. Он усвоил оттуда
положение о неразрывной связи красоты, чувства изящного с
чувством моральным, этическим.
Принципиально романтическим было его отстаивание права
поэта наиоригинальноСть, на свободу выбора образцов.!!. правил
творчества.
Знаменитое положение Жуковского, высказанное в статье
1 Жуковский В. А. Эстетика и критика.— М., 1985 — С. 218.
75
«О басне и баснях Крылова» (1809): «Переводчик в прозе есть
раб; переводчик в стихах — соперник»,— говорит не просто о
больших трудностях перевода в одной области, чем в другой, а
о романтической свободе духа поэта. Тредиаковский, как мы по-
мним, толковал о верности перевода и о праве на отступления
от оригинала только с точки зрения узкосмысловой целесооб-
разности. Жуковский знает уже большее: эти отступления не-
избежны, потому что «прекрасное редко переходит из одного
языка в другой, не утратив нисколько своего совершенства».
Крылов не просто переводит француза Лафонтена, а создает в
своих баснях нечто совсем оригинальное. В этом смысле Кры-
лов-«переводчик» не раб... Таким же был и сам Жуковский-
переводчик.
После поездки в Германию в 1820—1822 годах, бесед с Гете
(о Байроне), с Тиком (о Шекспире), знакомства с новейшими
романтиками — Гофманом, Беттиной фон Арним, Ж.-П. Рих-
тером Жуковский еще глубже погрузился в романтический
мир.
Романтик Жуковский тянулся к поэтам и других поэтиче-
ских систем: Гомеру, Фирдоуси. Правда, эта имеющая обще-
культурное значение сторона широких интересов Жуковского
почти не получила у него принципиального, теоретического ос-
мысления. А интерес к Гомеру им самим и славянофилами про-
тивопоставлялся «натуральной школе» в 40-х годах.
Жуковский добросовестно наметил задачу своей деятельности
как романтика в Конспекте по истории литературы и критики,
написанном в 1805—1811 годах (опубликован в 1948 г.). В неко-
торых оценках чувствуется влияние Вольера, Лагарпа, Ш. Бат-
тё, Зульцера, Руссо, Марлинского. В неприязни к бурлеску
Майкова и жеманной чувствительности Богдановича отразились
личные вкусы романтика Жуковского (Карамзин, например, был
в восторге от Богдановича). Вся русская литература рассмат-
ривалась в конспекте с точки зрения развития в ней «слога» и
«вкуса» и величайшими ее вершинами оказывались Ломоносов
и Карамзин. Но карамзинское требование «приятности слога»
уже не удовлетворяло Жуковского. В характеристике собствен-
ного вклада в русскую литературу он подчеркивал содержатель-
ные, романтические моменты, «новизну» «понятий» и «чувств»,
продемонстрированное им впервые единство личности поэта и
его поэзии. «Его стихотворения,— писал Жуковский о себе,—
являются верным изображением его личности, они вызвали ин-
терес потому, что они были некоторым образом отзвуком его
жизни и чувств, которые его заполняли. Оказывая предпочте-
ние поэзии немецкой, которая до него была менее известна его
соотечественникам, он старался приобщить ее своими подра-
жаниями к поэзии русской».
Свою роль в литературе к этому времени Жуковский счи-
тал уже исчерпанной, и за «ломоносовским» и «карамзинским»
76
периодами, по его мнению, наступил «пушкинский». В «Борисе
Годунове» он сумел подметить самое главное, что предмет тра-
гедии—«народное движение», но мысль эту не развил.
Во всех этих построениях и признаниях Жуковского чувст-
вовался вывод, сделанный еще при появлении «Руслана и Люд-
милы»: «Победителю ученику от побежденного учителя...».
Константин Николаевич Батюшков (1787—1855). Эстетиче-
ская программа Батюшкова сформулирована им в работах: «Не-
что о поэте и поэзии» (1815), «Речь о влиянии легкой поэзии
на язык» (1816).
В статье «Нечто о поэте и поэзии» содержатся типичные для
романтической" эстетики утверждения: здесь, например, говорит-
ся,“чТб1 'Ни^зия—- это ^Тгламень небесный, который менее или бо-
лее входит в состав души человеческой... сочетание воображе-
ния, чувствительности, мечтательности». Вместе с тем он счита-
ет вдохновение чем-то не зависящим от обстоятельств. «Пиити-
ческая диэтика», т. е. «особенный образ жизни», когда «поэзия
требует всего человека», формирует творческий дар. Первым
правилом своей «пиитической диэтики» Батюшков провозгласил
близкий Карамзину тезис: «...живи, как пишешь, и пиши, как
живешь». Требование «всего» человека уводило от рационали-
стического классицизма и регламентированной «чувствительно-
сти» сентиментализма в сторону романтической слиянности с
жизнью.
Наиболее развернуто свою программу Батюшков изложил в
«Речи о влиянии легкой поэзии на язык». Название речи более
узкое, чем ее содержание. Все, что Батюшков говорил о «легкой
поэзии», имело непосредственное отношение к поэтическому
творчеству вообще. Батюшков не просто напоминал старую воль-
теровскую мысль «Все роды хороши, кроме скучного», но ц счи-
тал- что «легкий»-род дюодци (эротические стихотворения, дру-
жеские послания, мадригалы, баллады, басни и проч.) текцее,
чем какой-либо другой род, связан £_2КЦзнью и обладает боль-
шими возможностями для развития: «Сей род словесности,—
говорил Батюшков,— беспрестанно напоминает об обществе; он
образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен
быть ясным и верным его зеркалом»1. Вот эти «странности» и
вели к открытию личности, т. е. главного принципа романтиз-
ма, к сосредоточению.внимания на. «себе», что ярко отразилось
в лучших медитативных стихотворениях Батюшкова.
Романтическое течение, возглавлявшееся Жуковским и Ба-
тюшковым, оставило яркий след в тогдашней литературной жиз-
ни. Главным предметом споров с классицистами были пробле-
мы творчества Жуковского, его баллады, элегии, фантастика.
И все же реальная поэтика этого течения обобщалась в критике
‘Батюшков К. Н. Соч./Ред., вступит, статья и примеч, Д. Д. Бла-
гого.—М.; Л., 1934.—С. 366.
77
слабо. Участники течения, за исключением Батюшкова, не ос-
тавили серьезных работ по теории своих жанров. Обобщение ис-
торического значения их деятельности, открывавшей для рус-
ской литературы «Америку романтизма», было сделано позднее
Белинским, главным образом в «пушкинских» статьях.
ГЛАВА 4
Программа романтизма декабристов и близких
им современников. 1820-е годы
Первые признаки появленияСЭ^Аанскбго романтизма, обо-
значились в полемике 1816 года по поводу баллады Катенина
«Ольга», которую, как более простонародную, с обличительным
элементом, по контрасту сопоставляли с «Людмилой» Жуков-
ского. К тому же времени относится распад^возглавлявшего я
Жуковским литературного общества «Арзамас* и Появление
первых политических обшсств^декабристоА:
^Декабристы создалицевою художественную литературу, свою
теоретико-эстетическую программу й кршлку. Литературные
силы декабристов были объединены в «Вольное общество люби-
телей российской словесности», являвшееся полулегальным фи-
лиалом «Союза благоденствия». Общество выпускало журнал
«Соревнователь просвещения и благотворения». Особенно боль-
шое значение имел альманах «Полярная звезда», выпускавший-
ся в 1823, 1824 и 1825 годах. Его издателями были А. Бестужев
(Марлинский) и К- Рылеев. Декабристы пытались подчинить
своему влиянию литературные общества «Арзамас», «Зеленая
лампа», журнал «Сын отечества», московский альманах «Мне-
мозина». В тесной связи с их движением развивалось творче-
ство Грибоедова и Пушкина.
Литературная программа революционно-романтического на-
правления создавалась постепенно А. Бестужевым (Марлин-
ским), Кюхельбекером, Рылеевым. Ее разрабатывали также
Гнедич, И. М. Муравьев-Апостол, Сомов, отчасти Вяземский.
Трактат сотрудничавшего в декабристских изданиях О. Со-
мова «О романтической поэзии» сначала обсуждался на заседа-
ниях «Вольного общества любителей российской словесности»,
а затем вышел в свет в «Соревнователе просвещения и благо-
творения» (1823). Важна была теоретическая постановка вопро-
са о романтизме, роли воображения в творчестве. Но Сомов
обобщал пока только опыт поэзии Жуковского и раннего Пуш-
кина, а не политическую поэзию декабристов. Это был трактат
о романтизме в его еще весьма расплывчатом понимании. По
признаку чрезвычайно широко истолковываемой народности и
неподражательности Сомов во многих европейских литературах
пытался выделить представителей романтизма, и в их числе
оказывались не только, скажем, Шиллер и Бюргер, но и Кальде-
78
рон, Лопе де Вега, Шекспир, Клопшток, Гете. В России в число
романтиков попадали не только Жуковский и Пушкин, но и
Державин. Вот почему Пушкин жаловался тогда в письмах
на сбивчивость понятий о романтизме.
Первые попыткилровести разграничения между различными
течениями -в- романтизме сделал Кюл&аьбекер в нашумевшей
статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в
последнее десятилетие» («Мнсмозина», 1824). Он напал на
унылый романтизм Жуковского и тем самым накгёкйл на доз?..
мо^^б^три'й'ёОбходймость какого.-то другого романтизма, свя-
занного со свободным вдохновением и высокими гражданскими
помыслами.
По его мнению, Жуковский и Батюшков стали «на время»
корифеями той школы, которую ныне «выдают нам за романти-
ческую»1. Любопытны слова «на время» и «выдают», т. е. на
деле не эта школа должна была бы представлять «истинный ро-
мантизм» в России. Кюхельбекер и называл Жуковского и Ба-
тюшкова «мнимыми романтиками»». Однако Кюхельбекеру не
хватало решимости назвать «истинно-романтической» ту норую
школу, к которой принадлежал он сам и многие декабристы.
Он только. призъшал ее-создать.
Приблизительно на том же уровне остановился и А. А. Бе-
стужев. В статье «Взгляд на старую и новую словесность в
России» (1823), перебрав заслуги всех русских поэтов с точки
зрения их приближения к народности, Бестужев особо выделил
творчество Рылеева, так как в нем имелись существенные, чи-
сто декабристские черты: «Рылеев, сочинитель дум или гимнов
исторических, пробил новую тропу в русском стихотворстве,
избрав целию возбуждать доблести сограждан подвигами пред-
ков». Бестужев оговаривался, что «долг скромности» как изда-
теля «Полярной звезды» не дает ему возможности полнее оха-
рактеризовать достоинства поэзии Рылеева. Однако Бестужев
не называет ни поэзию Жуковского «романтической», ни поэ-
зию Рылеева «истинно-романтической». Вопрос об определениях
он оставил открытым.
Хылеев в статье «Несколько мыслей о поэзии» (1825) как
бы-маодводил итог попыткам определить характер романтиче-
ской поэзии вообще и той поэзии, представителем которой он
был сам. Он заявлял, что «на самом деле нет ни классической,
ни романтической поэзии, а была, есть и будет одна истинная
самобытная поэзия, которой правила всегда были и будут одни
и те же». Поэзию Данте, Тассо, Шекспира, Шиллера, Гете надо
назвать просто по времени «новою поэзиею», а не романти-
ческой.
В чем достоинство и слабость точки зрения Рылеева? Он пы-
тался за словами разглядеть суть дела. Термины действительно
1 Литературно-критические работы декабристов.— М., 1978.— С. 193.
79
были сбивчивы. Но Рылеев, по существу, вернулся к Сомову и
был вынужден перечислять все те же качества «новой» литера-
туры, которую другие называли «романтической». Неубеди-
тельным выглядел тезис Рылеева о правилах истинной само-
бытной поэзии, которые «всегда были и будут одни и те же».
Поэзия различается лишь по форме у разных народов, а пра-
вила— одни. Но так ли это? Правда, понятие формы у Рылее-
ва давалось очень широкое: он указывал, что на нее влияют
дух времени, степень просвещения, местность. Историческое чу-
тье в этом вопросе — сильный момент рассуждений Рылеева. Но
в целом и Рылеев не прояснил вопроса, отказываясь от сложив-
шейся терминологии и наметившихся разграничений.
Главное, почему декабристы сами себя не называли роман-
тиками и даже пытались снять этот термин, состояло в том,
что ихсрДственная_поэз11Я,. как им казалось, настолько является
поэзией общенациональной, единственно возможной и давно
искомой в России, что называть ее каким-то исторически отно-
сительным, «узким» именем было бы просто неверно. Несом-
ненно, в .этом вопросе декабристы заблуждались. Им не хвата-
ло историзма в подходе к проблеме. Однако в художественном
творчестве и в теоретических рассуждениях декабристы на каж-
дом шагу «проговаривались» как романтики. У них были свои,
весьма определенные правила.
Типично романтическими были представления этих писате-
лей о духе времени, о природе художественного творчества, его
оригинальности, самобытности и народности, о месте личности
в истории и обществе, о гражданской доблести и героике. Все
носило печать романтического пафоса и характерной для роман-
тизма отвлеченности.
Большое значение в творчестве декабристы придавали вооб-
ражению и вдохновению. Они об этом заявляли в теоретической
форме. О. Сомов, следуя за трактатами г-жи де Сталь, провоз-
глашал: «Воображение, усыпающее цветами тернистый путь
нашей жизни, есть самая прихотливая способность души чело-
веческой», «оно скучает однообразием, ищет всегда нового». Да-
же склонный к сохранению некоторых традиций высокого клас-
сицизма Кюхельбекер рассуждал как истинный романтик на
тему о вдохновении и о внутренней свободе поэтической лично-
сти: «Свобода, изобретение и новость составляют главные пре-
имущества романтической поэзии перед так называемою класси-
ческою позднейших европейцев». С тезисом о свободе и
разнообразии Кюхельбекер выступал против (по его мнению)
однообразно-унылого, повторяющегося в основных своих моти-
вах романтизма Жуковского. Заявление А. Бестужева о том,
что Рылеев «пробил новую тропу в русском стихотворстве»,—
это высшая похвала критика-романтика поэту-романтику.
Романтически решалась декабристами и проблема нациоч
нальной специфики русской литературы. Проблему народности
80
они связывали с идеями патриотизма 1812 года и гражданского
служения, которому себя посвятили. В решении вопроса о на-
родности их мысль углублялась в следующих двух важных на-
правлениях. Отождествляя народность с национальностью, де-
кабристы свой национальный, патриотический долг видели в
борьбе с самовластием, тем самым они придавали и проблеме
народности политический оттенок. Одновременно их требова-
ния народности подразумевали обращение к самобытным ис-
точникам, летописям, песням, сказаниям. Они считали, что, изу-
чая народную поэзию, можно лучше узнать настроения народа;
тем самым народ и его голос в поэзии оказывались критериями
специфики русской литературы. Тут понятие народности уже
начинало отделяться от понятия национальности.
Требования декабристов к литературе отличались спартан-
скрй-Строгостью, При этом между теорией и практикой намеча-
лось- некоторое противоречие. Призывы к суровой, даже немного
аскетической сдержанности в проявлении страстей, мешающих
ясному пониманию и осуществлению целей борьбы, не всегда
претворялись в творчестве декабристов. Самая логика их от-
влеченно-романтического мышления приковывала к страстным,
героическим личностям, делала произведения эмоционально ок-
рашенными.
Критики-декабристы в полемическом задоре даже бравиро-
вали своей якобы незаинтересованностью вопросами изящества
формы.
Только там, где, по их мнению, было важное содержание,
нужно заботиться о «живости писаний», «приличии выражений»,
«непритворности изложения чувств высоких и к добру увлекаю-
щих» (устав «Союза благоденствия»). Стихотворение же интим-
но-лирическое, каким бы сладкозвучным ни было, недостойно
было называться поэзией.
Эстетика декабристов — эстетика возвышенного. Поэт-декаб-
рист дссгда мыслил себя на трибуне, на общественном поцри-
ще. Его цель — выявить и воспеть гражданские добродетели в-
человеке.
Декабристц открыто связали литературу с политической
борьбой, провозгласили тенденциозность искусства. Они вы-
водили литературу из того затяжногб эклектизма, в котором
она была с начала XIX века. Но были и узкие места в поэтике
и критике декабристов- ТенденциоЗШКть"Нередко_дакрывала_от
них всего человека, вела к однобокости в обрисовке характеров
и обстоятельств.
Не было в декабристской критике и единодушия по многим
вопросам.
Была группа критиков, которая понимала значение Карам-
зиной Жуковского, отгораживалась от классицизма, экспери-
ментировала во всех жанрах, ориентировалась на опыт совре-
менной мировой литературы. К этой группе принадлежали
6 Заказ № 1367
81
А. Бестужев, Сомов, Вяземский, близко к ней стоял Пушкин.
Другая группа, склонная к архаическим вкусам, начисто
разрывала связи с карамзинизмом и, наоборот, в классицизме
видела хорошую школу для создания своей гражданской поэ-
зии,. ^.ти поэты — Катенин, Кюхельбекер, отчасти Грибоедов —
ценили высокие жанры: оду, трагедию, эпопею, торжественные
обороты старославянского языка, трактуя народность литера-
туры в духе национальной обособленности.
Промежуточное положение, с уклонением ко второй группе,
занимал Рылеев.
Любопйтно" выявить основные индивидуальные оттенки в
критике А. Бестужева, Кюхельбекера, Рылеева и примыкавше-
го тогда к «вольнолюбцам» Вяземского.
Александр Александрович Бестужев (Марлинский) (1797—
1837). Самым талантливым критиком., этого дечения романгцз-__
ма был Бестужев. НаСКЪлько елинский отрицательно относил-
ся к романтическим повестям Марлинского, настолько он всегда
высоко ценил Бестужева-критика и со многими мнениями его
солидаризировался.
Бестужев прославился своими обзорами литературы в «По-
лярной звезде» (1823—1825) и, позднее, участием в «Москов-
ском телеграфе» (1831—1833).
Большую ценность представляет письмо Бестужева к Нико-
лаю I из крепости—«Об историческом ходе свободомыслия в
России». В письме он пытался оправдать восстание 1825 года и
представить его как выражение всенародного недовольства
аракчеевщиной, унижением офицерства и солдат, особенно обид-
ным посЛе побед над Наполеоном.
В статье «Взгляд на старую и новую словесность в России»
(1823) Бестужев продолжил традицию обозрения Хераскова,
«Опыта биографического словаря...» Новикова, «Пантеона рос-
сийских авторов» Карамзина, эскизных набросков пути рус-
ской литературы И. Борна, Мерзлякова. Бестужев захватил в
орбиту своего внимания все периоды истории русской литера-
туры. Литература была рассмотрена под самым прогрессивным
углом зрения, с позиций последовательно проведенной историко-
литературной концепции.
Бестужев старался показать, как выразились в русской ли-
тературе гражданские и патриотические мотивы, начиная со
«Слова о пол^у Цгореве», .где «непреклонный славолюбивый
дух народа дышит в каждой строке»1. Особо превознес он Дер-
жавина— поборника правды, поэта «вдохновенного, неподра-
жаемого», умевшего говорить царям истину. Державин и для
Рылеева был идеалом поэта-гражданина. Правда, в обзоре при-
глушались чисто литературные различия между талантами —
по степени одаренности, по принадлежности к различным шко-
1 Бестужев А. А. (Марлинский). Соч.— М., 1981.— Т. 2.— С. 377.
82
лам. Писатели рассматривались в хронологической последова-
тельности, но не в сопоставлении одних с другими. Такая за-
дача была еще не под силу русской критике.
С удивительной доброжелательностью Бестужев рассматри-
вал творчество .Жуковского. И дело не в том, что Жуковский до-
рог ему как певец 1812 ТОДа, а в том, что он — певец вечиого-ис-
точника романтизма: жизни сердца, мечтательных порывов
юности*. невыразимого состояния души. Из подобной же трак-
товки поэзии Жуковского позднее вырастет концепция Белин-
ского, провозглашавшая непреходящее значение творчества пер-
вого русского романтика.
В обзоре «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 го-
да> Бестужев выразил резкое недовольство совре.^нным со-
стоянием литературы, усматривая главную причину в недооцен-
ке исторического опыта Отечественной войны. Такого рода недо-
вольство весьма характерно для декабристской романтической
позиции.
Этой же критической теме в значительной степени посвящен
и бестужевский «Взгляд на русскую словесность в течение
1824 и начале 1825 годов»: «Когда же попадем мы в свою ко-
лею? когда будем писать прямо по-русски?» Одной из причин,
мешающих успехам русской литературы, по мнению Бестуже-
ва, является то, что до самого последнего времени наблюдалось
отсутствие в ней живых политических интересов. В такой по-
становке вопроса чувствовался пафос декабриста.
Пушкин был согласен с общей бестужевской постановкой
вопроса о важной роли критики. Но он оспорил следующее его
преувеличение: якобы в отличие от недавнего прошлого «у нас
много критики... и мало талантов литературных». «Нет, фразу
твою скажем наоборот,— писал Пушкин Бестужеву,— литера-
тура кой-какая у нас есть, а критики нет». В той же статье,
несколько ниже, Бестужев, по существу, опровергал тезис о ску-
дости русской литературы. Если ей не хватало гражданской
целеустремленности, то она, по крайней мере, отличалась разно-
образием произведений. Бестужев сам сообщал о только что
вышедшем собрании повестей Нарежного, о новых баснях Кры-
лова, о «Бахчисарайском фонтане» Пушкина, о скором выходе
«Чернеца» Козлова. Первую главу романа «Евгений Онегин» и
частично опубликованную и распространившуюся в списках ко-
медию Грибоедова «Горе от ума» он разобрал в этой же статье.
Нельзя сказать, что Бестужев во всем правильно понял ве-
ликие создания Пушкина и Грибоедова. Его отзыв о первой гла-
ве «Евгения Онегина» звучит как похвала, но если вдуматься,
то Бестужев судил о ней как романтик и главного не понял.
В пушкинском романе его привлекает «заманчивая, одушев-
ленная картина неодушевленного нашего света». Но критик
считает, что «везде, где говорит чувство, везде, где мечта уно-
сит поэта из прозы описываемого общества, стихи загораются
G* 83
поэтическим жаром и звучней текут в душу». Между тем все
величие реалистического романа Пушкина в том и состояло, что
в нем описывалась жизнь, такой какая она есть, и именно в
изображении этой прозы действительности Пушкин находил
высшую цель поэзии. Последующие главы «Евгения Онегина»
совсем разочаровали Бестужева.
Гораздо более по существу была оценена Бестужевым ко-
медия «Горе от ума», названная им «феноменом, какого не ви-
дали мы от времени «Недоросля», творением «народным».
Разница в бестужевских оценках двух произведений броса-
ется в глаза. Дело не в том, что «Горе от ума» Бестужев знал
целиком по спискам, а из «Евгения Онегина» вышла в свет
только первая глава. В «Горе от ума» также была набросана
одушевленная картина того же самого неодушевленного, более
того, злого, мстительного общества. Но Бестужев не упрекает
Грибоедова в мелочности темы. По-видимому, здесь для него
все искупал обличительный пафос Чацкого. Чацкий — во многом
родственный декабристам тип, он импонировал им.
Но любопытно, почему же Бестужев прямо не выделял об-
раз Чацкого? Он не выделял также и представителей фамусов-
ской Москвы, но все же говорил о «картине московских нравов».
Сама собой напрашивалась мысль обозначить как-то опреде-
ленно и другой полюс, носителя других, новых нравов — Чац-
кого. Вся комедия построена на идейном столкновении двух ми-
ров. В конце концов, именно Чацкий должен был занять подо-
бающее место в отзыве критика-декабриста. Думается, тут де-
ло не только в цензуре, хотя и это обстоятельство важно (ведь
речь шла об оппозиционном герое в комедии, которую цензура
еще не одобрила; конечно, не следовало мешать Грибоедову
добиваться разрешения напечатать комедию целиком). Главная
причина в том, что на некоторые акценты в бестужевском отзы-
ве повлияло мнение Пушкина, высказанное им в частном письме
к Бестужеву из Михайловского за два месяца до того. Прочтя
вместе с И. Пущиным в списке комедию Грибоедова в январе
1825 года в Михайловском, Пушкин поделился с Бестужевым
своими живыми впечатлениями. Видимо, Бестужев был с неко-
торыми из них в принципе согласен, отсюда и текстуальные
совпадения у него с Пушкиным. Пушкин писал о Грибоедове:
«Цель его — характеры и резкая картина нравов». У Бестуже-
ва: «Толпа характеров, обрисованных смело и резко; живая кар-
тина московских нравов...». Пушкин считал, что Чацкий набрал-
ся ума от самого Грибоедова; Бестужев также, не говоря о са-
мом Чацком, восхитился «душой в чувствованиях», «умом и
остроумием в речах», но отнес все это к уму самого Грибоедова.
Бестужев был и остался романтиком. Закономерно его сбли-
жение с Н. Полевым — романтиком другой формации, но отча-
сти хранившим заветы гражданского либерализма. В 1833 году
Бестужев опубликовал в «Московском телеграфе» пространную
84
(сильно пострадавшую от цензуры) статью-рецензию на роман
Н. Полевого «Клятва при гробе господнем». Смысл статьи не
столько в отзыве о романе, сколько в широко набросанной кар-
тине европейского романтического движения. К этому времени
романтизм не только не умер в русской и западной литературах,
но переживал свой новый расцвет. Развертывалось творчество
романтиков Загоскина, Полевого, Лажечникова, вскоре появил-
ся романтик Лермонтов. Па Западе горячо обсуждались много-
численные романы В. Скотта, «Сен-Марс» А. де Виньи, «Собор
Парижской богоматери» В. Гюго, стихотворения Делавиня,
Ламартина, Гейне.
Белинский не раз подшучивал над этой статьей Бестужева,
ее растянутостью и некоторыми безвкусными приемами завлечь
читателя (которому предлагалось сесть на пароход «Джон
Булль» и объехать различные страны мира, чтобы ознакомить-
ся с литературами и жизнью различных народов). Вступление
к разбору романа Полевого оказалось непомерно большим и
неоправданным, поскольку о самом романе сказано всего не-
сколько строк и отмечено, что он слабый. Было некоторое не-
удобство и в том, что критик писал о романе издателя журна-
ла, в котором печаталась статья... Но содержание статьи Бе-
линский ценил высоко и многие идеи Бестужева о романтизме
впоследствии использовал.
Статья свидетельствует не только об эрудиции автора — ни-
кто еще из русских критиков не проводил столь большого числа
исторических параллелей,— но и о наличии у Бестужева своей
концепции романтизма, в каких-то моментах развитие в ранних
статьях. Получилась последовательная завершенность всей кри-
тической деятельности автора.
Таким образом, начав свою деятельность с широчайшей «пес-
ни песней»—с романтического обзора старой и новой русской
литературы, Бестужев-критик заканчивал ее «лебединой пес-
ней»— обзором романтического движения в мировой литературе.
Бестужев, видимо, помнил, что он говорил о Жуковском еще
в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России»,
обосновывая непреходящее значение романтизма, выражающе-
го первые смутные искания смысла жизни, мечты и порывы.
«Мы живем в веке романтизма»,— несколько раз провозглаша-
ет Бестужев. Поэт в наш век не может не быть романтиком.
Высмеивались маловеры, которые все еще считали, что роман-
тизм— мода, причуда. Романтизм — потребность века, жажда
народного ума, зов человеческой души, «стремление бесконеч-
ного духа человеческого выразиться в конечных формах». «А по-
тому я считаю его,— говорил Бестужев,— ровесником душе че-
ловеческой...»1. На основе этой формулы (романтизм—стремле-
ние к бесконечному, он ровесник душе человека) романтизм
1 Бестужев А. А. Соч.—Т. 2.— С. 416.
85
приобретал вселенские рамки: Бестужев отыскивал его у Го-
мера, в сагах, у Оссиана, в «Магабхарате», «Рамайяне», «Шах-
Наме», у Шекспира.
Но рядом со столь широким определением романтизма у
Бестужева есть другое, частное, касающееся современного ему
романтизма. Сущность его заключается в том, что он проник-
нут идеями историзма. Исторические события всегда соверша-
лись как стихийный процесс, и люди слабо его замечали. «Те-
перь иное. Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в
уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем еже-
минутно; она проницает в нас всеми чувствами»1. Поэтому со-
временная словесность приняла «романтико-историческое» на-
правление. Такой вывод верен по существу, так как проблемы
историзма, исторического колорита, исторического содержания
(в тематике, сюжетах, в слоге) поставил именно романтизм.
Разумеется, историзм здесь был неполный, «романтический».
По-настоящему принцип историзма был разработан реалисти-
ческим направлением. На основе второй формулы Бестужев
прослеживал полосу веков «исторических», и здесь у него речь
действительно идет о романтиках или о тех, кто к ним был бли-
зок. Так, замечательны положительные суждения Бестужева о
«скептицизме» Руссо (с которым до этого полемизировали Тре-
диаковский, Карамзин, Радищев). Революционную сущность Рус-
со первым оценил только романтик-декабрист Бестужев. До
выступления Руссо люди XVIII века никого не ставили выше
греков и римлян в поэзии, идеал для этих людей был позади.
«Напротив, блестящий сон Руссо, увлекательный парадокс Рус-
со, отверг не только все обычаи общества, но извратил и самую
природу человека, создал своего человека, выдумал свое обще-
ство»2. В особом мире романтиков всегда скрывается некото-
рая оппозиционность по отношению к существующему, обще-
принятым понятиям, обычаям, вкусам. Известно, что Руссо —
действительно их духовный отец.
Когда Бестужев перешел затем к русской литературе, он
оценил в ней прежде всего романтическую по форме оппози-
ционность. Замечательна в этом смысле переоценка им Держа-
вина. Отзыв о Державине у него не такой восторженный, как
прежде. Бестужев говорил теперь: «...все поклонились ему, по-
тому что он был любимцем Екатерины». Но это все уже в
прошлом. Есть в поэзии Державина нечто, что достойно похва-
лы и теперь: «...его восторг сплавлялся всегда с грустною меч-
тательностию», «философ-поэт, он первый положил камень рус-
ского романтизма, не только по духу, но и по дерзости обра-
зов». Бестужев явно увлекался, как и Сомов. Он слишком ши-
роко трактовал принцип романтизма. Державин, конечно, не
1 Бестужев А. А. Соч.— Т. 2.— С. 416,
2 Т а м ж е.— С. 438.
8Ь
романтик. Но тут очень важно, что для Бестужева самое цен-
ное у Державина заключается уже не в том, что он поэт «вы-
сокого». Бестужев ценил и у Жуковского то, что он «пересадил
романтизм на девственную почву русской словесности», у Пуш-
кина то, что он «сбросил долой плащ Байрона и в последних
творениях явился горд и самобытен». Но Бестужев оставлял не-
ясным, имеет ли он в виду Пушкина-реалиста или только Пуш-
кина-романтика, облекшегося в самобытные одежды. Прошли
годы, но проблема соотношения романтизма и реализма, пере-
хода одного в другое так и не встала во всей своей сложности
перед романтиком Бестужевым.
Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797—1846). В 1817 году
Кюхельбекер напечатал в газете «Conservateur impartial» («Бес-
партийный консерватор»), издававшейся на французском языке
при Коллегии иностранных дел в Петербурге, статью «Обозре-
ние русской литературы». В статье Кюхельбекер приветствовал
«переворот» (revolution), произведенный в русской литературе
Жуковским, сумевшим взамен французского влияния привить
нам влияние «гсрманическое». Здесь Кюхельбекер, между про-
чим, упоминал Радищева, как одного из создателей самобыт-
ной русской литературы, о котором ни слова нс сказал Бестужев
в одном из своих позднее написаппых обозрений, за что его
упрекал Пушкин.
Во время заграничного путешествия в 1820—1821 годах Кю-
хельбекер прочитал в Парижском Атенее публичную лекцию о
русской литературе и русском языке. Ее полный текст был най-
ден и опубликован только в советское время, в 1954 году. Не-
сколько современников пересказывали ее в кратком изложении
и очень тенденциозно. Теперь мы знаем, что смысл лекции — в
призыве к единению всех прогрессивных деятелей Европы в
борьбе с деспотизмом. Кюхельбекер ярко развил свое понима-
ние сущности революционного романтизма. Мысли о необходи-
мости знакомить иностранных читателей с русской литературой
по произведениям декабристов, а не устарелых писателей он
высказал также в статье «Разбор фон дер Борговых переводов
русских стихотворений» (1824).
Кюхельбекер стремился быть голосом определенной группы
в литературе. Все, что говорил он в парижской лекции о новго-
родской вольнице, о древнем русском республиканизме, о мощи
русского языка, пережившего все эпохи рабства, о необходимо-
сти европейским народам знать друг друга — все это бралось
им из общего кодекса декабристов-романтиков. В духе роман-
тизма Кюхельбекер говорил о русском национальном характе-
ре, сложившемся «под управлением совершенно деспотическим»,
о том, как «доныне слово вольность действует с особой силой на
каждое подлинно русское сердце»’. Как романтик, он выдвинул
’ Литературное наследство.— М., 1954.— Т. 59,—С. 375.
87
в лекции проблемы языка, считая, что в языке раскрывается
национальный характер народа и в зависимости от языка раз-
вивается и литература народа.
В своей главной статье «О направлении нашей поэзии, осо-
бенно лирической, в последнее десятилетие» Кюхельбекер, как
уже говорилось, фактически провел разграничение двух тече-
ний внутри русского романтического движения.
Но Кюхельбекер хотел быть голосом и более узкой группы
литераторов-декабристов, группы «архаистов». Он выступал с
критикой карамзинизма и поэзии Жуковского (а попутно и
элегий Пушкина, Баратынского). Он обвинял эту поэзию в под-
ражательности, общественной пассивности, субъективизме, при-
страстии к монотонному, ставшему уже шаблонным, эпически-
созерцательному изображению жизни в балладах и унылых эле-
гиях. «Не позволим ни ему (т. е. Жуковскому.— В. К.), ни кому
другому... наложить на нас оковы немецкого или английского
владычества». Кюхельбекер знает, что такими заявлениями он,
вероятно, вооружит против себя многих, но он не «льстец», он
говорит «истину», как «сын Отечества»:
«У нас все мечта и призрак, все мнится и кажется и чудится,
все только будто бы, как бы, нечто, что-то <...> чувство уны-
ния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей
погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем
эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием <...>.
Картины везде одни и те же: луна, которая — разумеется — уны-
ла и бледна, скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес,
за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя
заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое,
что-то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные
олицетворения Труда, Неги, Покоя, Веселия, Печали, Лени пи-
сателя и Скуки читателя; в особенности же — туман-, туманы
над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя»1.
Это чрезвычайно яркая, ставшая хрестоматийно-классиче-
ской пародийная оценка поэзии Жуковского с декабристских
позиций подводила итог давней борьбе между двумя течениями
русского романтизма. Уже в споре 1816 года о балладе между
сторонниками Катенина и Жуковского Грибоедов бросил кры-
латую фразу: «Бог с ними, с мечтаниями; ныне в какую книжку
ни заглянешь, что ни прочтешь, песнь или послание, везде меч-
тания, а натуры ни на волос»2. Теперь против «мечтаний» по-
вели борьбу представители гражданского романтизма, и особен-
но архаическая группа, ратовавшая за «высокую» поэзию. Кю-
хельбекера полностью поддерживал Рылеев.
Но если критическая характеристика поэзии Жуковского
оказывалась полезной как «отталкивание», чтобы лучше увидеть
1 Декабристы.— С. 551—552.
2 Грибоедов А. С. Соч.— М., 1953.— С. 370—371.
88
задачи нового романтического течения, и разграничение роман-
тизма на два течения теоретически было содержательным, то
все же в этой характеристике обнаруживалась некоторая одно-
сторонность, излишняя резкость, недостаточный историзм. В раз-
граничении течений обнаруживались неполнота и нечеткость:
Кюхельбекер лишь приближался к идее разграничения, обыг-
рывая слова «направление», в «последнее десятилетие», т. е.
намекая, что было бы лучше, если бы существовало другое, бо-
лее удовлетворяющее современности направление в поэзии. Субъ-
ективно он симпатизировал гражданскому классицизму, проти-
вопоставляя балладам, элегиям и посланиям жанр высокой
оды.
Односторонность статьи Кюхельбекера тогда же хорошо под-
метил Пушкин: «Что ни говори,— писал он в 1825 году Рыле-
еву,— Жуковский имел решительное влияние на дух нашей сло-
весности; к тому же переводный слог его останется всегда об-
разцовым. Ох! уж эта мне республика словесности. За что каз-
нит, за что венчает?»1.
В заметках на статью Кюхельбекера «О направлении нашей
поэзии» он писал, что «критик смешивает вдохновение с востор-
гом», а между тем восторг исключает спокойствие, владение
своими силами и средствами. Пушкин бросил тогда крылатую
фразу: «Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии»2.
Пушкин своим трезвым истолкованием вдохновения намек-
нул, что существует, помимо двух борющихся течений роман-
тизма, еще третий, «истинный романтизм», т. е. реализм, кото-
рый с гораздо большей разборчивостью оценивает все традиции
без тени мистики и идеализма.
Кондратий Федорович Рылеев (1795—1826). Рылеев был пи-
сателем активной критической мысли. В 1825 году он перепи-
сывался и спорил с находившимся в Михайловском Пушкиным.
Видимо, многие советы великого поэта глубоко запали в его
душу. Пушкин критиковал «Думы» Рылеева за то, что они уп-
рощенно тенденциозны и малоисторичны. Пушкин вообще счи-
тал, что в стихах — главное стихи; если это условие не соблю-
дено, то и тенденциозность малого стоит (письмо к Льву Пуш-
кину 14 марта 1825 г.). «С «Войнаровским» мирюсь»,— писал
поэт, находя в поэме Рылеева по сравнению с думами более
верное соблюдение исторического колорита и углубленную трак-
товку характера героя.
Главная критическая статья Рылеева—«Несколько мыслей о
поэзии»—была опубликована в ноябрьском номере «Сына оте-
чества» за 1825 год. Подзаголовок ее «Отрывки из письма к
NN» надо понимать как отрывок из письма к Пушкину. Здесь
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.— Т. X.— С. 118.
2 Пушкин-критик/Подг. текстов, коммент, и вступит, статья Н. В. Бо-
гословского.— М., 1950.— С. 114.
89
все реалии совпадают с перепиской между Рылеевым и Пуш-
киным. Статья — публичный ответ Рылеева Пушкину на все
их споры того года. Переписка не была секретом для их петер-
бургских друзей.
Спора в статье с Пушкиным собственно нет, а есть, как и в
бестужевском отзыве о «Горе от ума», практическое претворение
результатов обсуждения некоторых вопросов с Пушкиным. На
споры Рылеев отвечал делом, преодолевая антиисторизм дум
и присоединяясь к Пушкину в сетованиях, что понятия о клас-
сиках и романтиках сбивчивы.
Рылеев, конечно, ошибался, советуя вовсе отказаться от тео-
ретического определения сущности поэзии: «поэзии вообще не
должно определять». Конечно, его не удовлетворяют ни фран-
цузские, ни немецкие эстетики, так как все их определения или
носят частный характер, относящийся к поэзии какого-нибудь
века, народа, поэта, или слишком сливаются с определениями
других видов искусства и даже философии. Но Рылеев не прав,
предлагая отказаться от сложившейся терминологии, сколь бы
она сбивчива ни была. Правота Рылеева в другом—в его
стремлении выйти из заколдованного круга всяких пристраст-
ных групповых толкований поэзии к «истинной поэзии», сущ-
ность которой, говорит он, всегда была в познании действи-
тельности.
Представление же о содержании и форме всегда изменя-
лось в разные века и определялось «духом времени», степенью
просвещения и местностью.
Критик приближался к пушкинскому представлению об «ис-
тинной поэзии», по Пушкину—«истинном романтизме». Пуш-
кин видел сущность поэзии в передаче истины жизни, в прав-
доподобии характеров и предполагаемых обстоятельств. Рыле-
ев высказал в своей статье нечто подобное, хотя и без пушкин-
ской ясности.
Рылеев говорил об эволюции форм поэзии, завязок, развя-
зок, которые когда-то нравились древним, но теперь «нам не
впору». Пресловутые три единства — не злая выдумка доктри-
неров классицизма, а правила, которые соответствовали поня-
тиям и возможностям тогдашних зрителей и тогдашнего театра:
«Все почти деяния происходили тогда в одном городе или в од-
ном месте; это самое определяло и быстроту и единство дейст-
вия». Кроме того, не следует забывать, что многие формы древ-
ней драмы сложились в условиях «древних республик», когда
«чистое народоправление было удобно, ибо в оном все гражда-
не без изъятия могли участвовать». В наше время, намекает
Рылеев, возникли другие обстоятельства, более сложные и об-
ширные. Только в отдельных случаях события в современной
драме могут «влиться» в три единства, а в целом, чтобы «не
искажать исторического события» (вот один из уроков Пушки-
на), приходится изобретать новые правила и новые законы един-
90
ства. «Это освобождает нас от вериг, наложенных на поэзию
Аристотелем». «Заметим, однако ж,— особо подчеркивает Ры-
леев,— что свобода сия, точно как наша гражданская свобода,
налагает на нас обязанности труднейшие тех, которые требо-
вали от древних три единства»1.
В этих словах Рылеева обозначен пункт преодоления им
представлений о романтической свободе и переход к реалисти-
ческому, детерминистскому представлению о ней.
Мы уже говорили, что программа гражданского романтиз-
ма создавалась не только самими декабристами, но и людьми
их окружения. Гражданский романтизм — понятие сложное, про-
тиворечивое, в нем были свои оттенки и грани. Пушкинский
романтизм тоже общественно активный, но он не тождествен
декабристскому, он шире, гибче, плодотворнее, он, как показа-
ла история, скорее перерастал в реализм. Так соотносились их
взгляды и в области критики. Мы уже наблюдали расхождения
между некоторыми декабристами. Но наши представления о
критике и программе гражданского романтизма были бы непол-
ными, если бы мы не учли того вклада в его теорию, который
внес князь Вяземский, высоко ценившийся декабристами и
Пушкиным как литературный критик.
Петр Андреевич Вяземский (1792—1878). В 1817 году он
написал предисловие к изданию сочинений Озерова. В сужде-
ниях уже виден Вяземский-романтик. Он и у Озерова усмотрел
«цвет романтизма», хотя удивлялся, почему драматург не брал
для содержания своих произведений «повестей из рыцарских
веков». Вяземский ценил у Озерова психологизм характеров,
особенно женских, отказ от классицистской манеры называть
героев значащими именами. Но он без должных оснований на-
зывал Озерова «преобразователем русской трагедии» и ставил
его заслуги наравне с заслугами Карамзина, как «образователя
прозаического языка». Так, и басни Дмитриева Вяземский це-
нил слишком высоко и ставил их выше крыловских («Известие
о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева», 1823). Пушкин не
был с ним согласен в оценках Озерова и Дмитриева и возражал
ему. Готовя в конце жизни издание собрания своих сочинений,
Вяземский сделал примечания к статьям, в которых оговорил
некоторые замечания Пушкина.
Но Вяземский был критиком широкого диапазона, европей-
ской образованности и более проницательным там, где не от-
казывался от острых политических оценок. Пушкин ожидал от
него ясных определений сущности романтизма, разработки рус-
ского «метафизического языка», т. е. терминологии, языка кри-
тики и философии.
В духе складывавшейся декабристской романтической кри-
1 Рылеев К. Ф. Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки,
письма.— М., 1956.— С. 300.
91
тики была статья Вяземского о Державине в «Сыне отечества»
(1816). Восторженная оценка умершего в том году Державина
содержала в себе два важных аспекта: Державин воспринимал-
ся как поэт гражданского пафоса и как поэт глубоко ориги-
нальный, безыскусственный, национально-русский. Ломоносов —
более оратор, Державин—«всегда и везде поэт»; если можно у
него найти оды «пиндарические», «горациянские» и «анакреон-
тические», «то многие по всей справедливости должны назвать-
ся державинскими»1.
Вяземский впервые в русской критике употребил термин на-
родность— сначала в письме к А. И. Тургеневу от 22 ноября
1819 года, а затем специально с теоретическим истолкованием
его в предисловии к пушкинскому «Бахчисарайскому фонтану»
в 1824 году. Предисловие написано в виде разговора между из-
дателем и классиком. Может быть, для того чтобы выдать по-
следнего из них за человека отсталых вкусов, обитающего где-то
на окраине столицы, Вяземский поясняет, что этот классик был
«с Выборгской стороны или Васильевского острова». Под мас-
кой издателя скрывался сам Вяземский. Издатель выражает
сожаление о том, что «мы еще не имеем русского покроя в ли-
тературе; может быть, и не будет, потому что его нет...». Тогда
классик задает вопрос: «Что такое народность в словесности?
Этой фигуры нет ни в пиитике Аристотеля, ни в пиитике Гора-
ция»2. Издатель отвечает так, как на этот вопрос отвечали Ры-
леев и другие декабристы, говоря об истинной поэзии, сущест-
вовавшей во все века и у всех народов: «Нет ее у Горация в пи-
итике, но есть она в его творениях. Она не в правилах, но в чув-
ствах. Отпечаток народности, местности — вот что составляет,
может быть, главное, существеннейшее достоинство древних и
утверждает их право на внимание потомства»3.
Как и декабристы, Вяземский обратил внимание на необ-
ходимость разграничения понятий народность и национальность.
В том же 1824 году в одной из заметок по поводу полемики
вокруг «Бахчисарайского фонтана» в «Дамском журнале»
(№ 8) Вяземский высказал мнение, что «у нас слово народный
отвечает одно двум французским словам «populaire» и «natio-
nal».
Это полезное разграничение Вяземского не было забыто
русской критикой и получило впоследствии четкое обоснование.
Но Вяземский ограничился чисто филологическим указанием на
двоякий смысл слова народность, а декабристы подходили к его
отграничению от слова национальность, подчеркивая демокра-
тическое содержание понятия народности как выражения само-
бытности, которая в наиболее чистом виде запечатлена в на-
1 Вяземский П. А. Собр. соч.: В 2 т.— М., 1982.— Т. 2.— С. 8.
2 Т а м ж е.— С. 96,
3 Т а м же.
92
родной поэзии. Но декабристы также до конца это разграни-
чение понятий не довели.
С присущей ему остротой Вяземский так разъяснил свое
понимание благотворной роли политики в развитии подлинно
народной поэзии: «Греческие трагики также часто делали поли-
тику в своих народных трагедиях. Тиртей был прекрасным пуб-
лицистом, и его гимны героические не что иное, как красноре-
чивые военные манифесты, воспламенявшие умы сограждан, го-
товящихся на брань; Ювенал — политический сатирик...». Дер-
жавин «в лучших одах своих был иногда горячим и метким
памфлетером и публицистом», Жуковский в «Певце во стане
русских воинов» «преподает из своей ставки народное право
и неотразимыми доводами убеждает в истине, что народ не дол-
жен покоряться чуждому владычеству», «Байрон в самых поэти-
ческих и своенравных порывах гения... выбрасывает свои мне-
ния политические и говорит в стихах то, что говорил бы прозою
в верхней палате...». «Вы видите,— заключает Вяземский,— что
я готов назвать поэзию политическою всякую народную или
гражданскую поэзию, объемлющую возвышенные общественные
истины. И почему поэту не быть, наравне с оратором, стражем
народных выгод и блага общественного?»1 (одна из статей цик-
ла «Письма из Парижа», опубликованная в «Московском теле-
графе» 1826 года). Вся эта тирада построена в духе декабрист-
ского гражданского свободомыслия.
Но нельзя ставить полный знак равенства между Вяземским
и декабристами. С одной стороны, он уступал им в понимании
гражданского долга, хотя шире и объективнее судил о заслугах
Карамзина, Жуковского, Пушкина. С другой, уже в 20-х годах
Вяземский начинал по-своему опережать то, что мы обычно
называем «декабристским романтизмом». Он выступил со ста-
тьями о «южных» поэмах Пушкина. Пушкину понравилось его
предисловие к «Кавказскому пленнику» (1822). По его просьбе
Вяземский написал предисловие и к «Бахчисарайскому фонта-
ну» (1824). Появилась статья о «Цыганах» (1827). Сама эта
сращенность предисловий и статей с поэмами говорила за себя.
«Кавказский пленник» появился одновременно с переводом
«Шильонского узника» Байрона, выполненным Жуковским. Вя-
земский говорил об «успехах посреди нас поэзии романтиче-
ской»2. Это были одновременно и успехи романтической кри-
тики.
Вяземский явился теоретиком особого, пушкинского «байро-
низма».
Декабристы восторженно воспринимали «вольные» стихи
Пушкина. Но поэма «Руслан и Людмила» им казалась легко-
мысленной. Южные поэмы они специально не обсуждали: герои
1 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика.— М., 1984.—
С. 57.
2 Т а м ж е.— С. 43.
93
этих поэм не отличались гражданскими доблестями. И в Байро-
не— поэте мировой скорби — они брали не все, а только его
критическую настроенность по отношению к Англии, граждан-
ское сочувствие итальянским карбонариям и греческим повстан-
цам. Брали только созвучное себе. Пушкин — брал все. В его
рефлектирующих героях южных поэм вызревали черты проти-
воречивого героя времени, Евгения Онегина, т. е. готовилось
колоссальной важности художественное открытие, «акт созна-
ния» русского общества». Декабристы были глухи к этим иска-
ниям.
Вяземский подметил главное в первой «южной» поэме: «Ха-
рактер Пленника нов в поэзии нашей, но сознаться должно, что
он не всегда выдержан и, так сказать, не твердою рукою дори-
сован». Но если Вяземский еще упрекал Пленника в равноду-
шии к смерти Черкешенки, то в статье о «Цыганах» он вскрыл
внутреннюю неизбежность противоречий героя поэмы: «Но ук-
рывшийся от общества, не укрылся он от самого себя...»1.
Вяземский восхищался поэтическим мастерством Пушкина,
тонкостями его образной системы, высмеивал какого-то «клас-
сика», который, прочитав у Пушкина стих «Струистый исчезает
круг», так и не понял, что сделалось с Черкешенкой. Вяземско-
го восхищало победное шествие Пушкина от поэмы к поэме:
«В исполнении везде виден Пушкин, и Пушкин, идущий впе-
ред»2. Можно сказать, что до Белинского не было другого тако-
го страстного истолкователя Пушкина, каким был Вяземский.
Но Вяземский был «слишком» романтиком. Ему не хватало
стороннего взгляда на предмет. Он очень дорожил романтиче-
ской условностью описаний, требовал, чтобы не очень явно вы-
ступали прозаические подробности жизни героев. Развитие
Пушкина шло как раз в обратном направлении: он стремился
к выяснению будничных обстоятельств жизни героев.
Вяземский и Рылеев считали, что Пушкин напрасно заставил
своего Алеко водить по селениям медведя и собирать деньги.
Пушкин иронически заметил по этому поводу: «...в таком слу-
чае, правда, не было бы и всей поэмы...». Конкретность колори-
та у Пушкина была залогом его перехода к реализму. Этого не
понимал Вяземский.
Прожив очень долгую жизнь, Вяземский не написал своих
откликов на реалистические, самые великие создания Пушкина.
Не написал он и воспоминаний о нем... Как переводчик «Адоль-
фа» Б. Констана, Вяземский не мог не понимать значения суще-
ственных черт характера Евгения Онегина «с его озлобленным
умом, кипящим в действии пустом». Недаром сам Пушкин, ри-
суя эти черты, мысленно соотносился с романом Констана. Но,
думается, Вяземский понимал реалистический образ главного
1 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика.— М., 1984.—
С. 75.
2 Та м же.— С. 76.
94
героя романа Пушкина как-то по-своему, узко романтически,
не принимая, как и декабристы, строго обыденной манеры изо-
бражения жизни со всеми ее различными мелочами и мотиви-
ровками.
Возникает вопрос: как же Вяземский смог в 1836 году сочув-
ственно откликнуться на «Ревизора» Гоголя? В своей статье
Вяземский констатировал «полный успех» «Ревизора», говорил,
что редко кому из писателей случалось так «задеть публику за
живое, касаясь предметов, близких к ней», так что даже в фар-
совых моментах «Ревизора» нет ни малейшего насилия правдо-
подобию.
Эта высокая оценка Гоголя — знаменательный случай в кри-
тической практике Вяземского. Сатира его влекла, она была со-
звучна настроению его собственного ума (см. «Русский бог»).
Вспомним, что Вяземский уже написал свою монографию о Фон-
визине (опубликована в 1848 г.); Фонвизин — прямой предше-
ственник Гоголя. Гоголь в это время, как и Вяземский, сотруд-
ничал в пушкинском «Современнике». Но это еще не означало,
что Вяземский принимал Гоголя в целом. Он отрицал обобщаю-
щий социально-обличительный смысл «Ревизора», обошел мол-
чанием «Мертвые души», затем выступал против «гоголевской
школы» в литературе, против Белинского.
Все больше эволюционируя в сторону реакции, Вяземский
напечатал в 1847 году в «Санкт-Петербургских ведомостях» ста-
тью по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями». Он
приветствовал направление этой книги Гоголя, просил его
«умерить и умирить в себе» не только человека, но и писа-
теля, создать произведения большой художественной силы в ду-
хе нового (реакционного) курса. Недаром Белинский в «Письме
к Гоголю» заклеймил Вяземского как «холопа» перед властью.
В свою очередь Вяземский называл Белинского «бунтовщиком».
Поэтому, отмечая переход Вяземского от одного типа роман-
тизма к другому, способность подняться до высоких оценок
Фонвизина и Гоголя, надо учитывать и предел его эволюции.
В последние сорок лет своей жизни Вяземский был забытой
фигурой в критике.
ГЛАВА 5
Программные понятия и категории философско-
идеалистического романтизма
Приблизительно в течение десятилетия до выхода на арену
Белинского в русской критике подвизалась небольшая группа
литераторов /Веневитинов, И. Киреевский, Шевырев, В. Одоев-
ский), которая стремилась придать своим суждениям философ-
ский характер и подчеркнуто выражала свои симпатии к немец-
95
кой идеалистической философии, к романтикам — Тику, Вакен-
родеру, Шеллингу."
К числу критиков-философов, если взять их предшествен-
ников и сотрудников, принадлежали разные лица — как по си-
ле дарования (В. Одоевский, И. Киреевский и Мельгунов), так
и по политической ориентации (Веневитинов и Шевырев). Их
условно обычно объединяют в одну группу философских роман-
тиков. Впрочем, в середине 20-х годов некоторые из них еще
стояли близко к радикальной интеллигенции и бывали с ней на
общих сходках, сотрудничали в одних и тех же органах. Напри-
мер, В. Одоевский совместно с Кюхельбекером издавал «Мнемо-
зину», И. Киреевский и «любомудры» встречались (в Москве)
с Рылеевым в начале 1825 года, а Веневитинов был даже бли-
зок по настроениям к декабристам. Консервативные убежде-
ния у некоторых из них сложились позднее. Но несомненно, что
все это философское движение, получившее важное значение
для критики после 1825 года, было реакцией на революционные
теории, на прежний гражданский романтизм.
Критики-философы толковали (о необходимости следовать в
искусстве некоей,верховной идее.^Одни искали ее в проявлени-
ях художнического субъективизма в духе «чистого искусства»
(«Московский вестник», 1827—1830, Шевырев, Титов),-2 дру-
гие — в отвлеченной идеалистической идее, творце всего сущего
(русские шеллингианцы В. Одоевский, И. Киреевский). Продук-
тивность следования этим призывам измерялась единственно
тем, насколько удавалось практически подчинить свои эстети-
ческие воззрения единой централизующей идее.
В конечном счете если не у критиков философско-романти-
ческого течения, то у их последователей со временем в центр
методологии встала гегелевская диалектика. Она наложила пе-
чать на русскую эстетику и критику. Белинский без нее просто
был бы невозможен. Он тоже прошел путь исканий, главное со-
держание которых — диалектика, правильное решение вопроса
о свободе и необходимости, выработка объективных эстетиче-
ских и исторических критериев.
Информация, накопление материала, понятий и терминов,
ознакомление с первыми элементами философской диалекти-
ки— все это подвигало вперед русскую критику. В этом цен-
ность группы критиков-философов.
Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805—1827). Крити-
ческие рассуждения Веневитинова характеризуются следующи-
ми особенностями: дальнейшей разработкой общих шеллинги-
анских основ для критики и поэзии, умением связать их с за-
дачами русского романтизма и стремлением к преодолению са-
мих корней романтизма.
У Веневитинова говорит Платон своему ученику Анаксаго-
ру: «Философия есть высшая поэзия» (статья «Анаксагор. Бе-
седа Платона»). В «Разборе статьи о «Евгении Онегине» (1825)
96
[статьи Н. Полевого] Веневитинов развил эту идею подробнее:
«Не забываем ли мы, что в пиитике должно быть основание
положительное, что всякая наука положительная заимствует
свою силу из философии, что и поэзия неразлучна с филосо-
фией?»1.
Веневитинов замышлял издание особого философско-лите-
ратурного органа для «теоретического исследования ума», «са-
мопознания» народа, его духа, характера (набросок «Несколько
мыслей в план журнала»). Он делал правильный в условиях
после поражения декабристов вывод: кто не умеет правильно
мыслить, тот не умеет и правильно действовать. Уже здесь за-
ложены основы постановки вопроса о свободе и необходимости,
о связи правильной практики с правильной теорией.
Веневитинов опирался в своих философских построениях на
«Систему трансцендентального идеализма» Шеллинга, развивал
идеи его «философии тождества». Тезис о том, что всякое зна-
ние есть «согласие какого-нибудь предмета с представлением
нашим о сем предмете», открывал, хотя и по-идеалистически,
«от обратного», возможности искать в мире разумные законо-
мерности, приравнивать поэта к богу, поэтический акт, творя-
щий «вторую действительность», к произволению промысла.
Вслед за Шеллингом Веневитинов весь мир рассматривал
как движение идеи, а отсюда вытекало представление об этапах
истории человечества и об определенной эволюции поэзии и ее
форм. Веневитинов считал, что человечество прошло уже ста-
дию эпической поэзии, воспевавшей прошлое. Теперь он повсю-
ду отмечал признаки лирического начала. Особенным лиризмом,
по его мнению, отличается романтическая поэзия и ее ярчай-
шая вершина — Байрон. Все жанры эпоса, драмы в настоящее
время пронизаны лиризмом. Но человечеству предстоит пере-
жить третью стадию поэтического развития — драматическую.
В ней сольются начала прежних этапов и родов творчества. Та-
ким образом, концепция Веневитинова, хотя и не очень складно,
говорила о «триаде», предрекала некий синтез форм на третьем
этапе развития искусства. Эту идею позднее подхватит Надеж-
дин, но также с ней не сладит. И только Белинский назовет
«синтезом» разных начал поэзию реальную, т. е. реализм.
Те же стадии исканий прошел Веневитинов и в конкретных
оценках литературных произведений. Особенно это сказалось в
его отзывах о первой и второй главах «Евгения Онегина». В от-
зыве о первой главе он не без некоторых колебаний причислял
Пушкина к последователям Байрона, т. е. видел в нем роман-
тика. Но уже в этом случае Веневитинов шел дальше романти-
ческого кодекса Н. Полевого и настаивал на подчинении твор-
чества определенным законам диалектической сменяемости его
этапов. В заметке о второй главе романа Веневитинов уже по- * 7
1 Веневитинов Д. В. Литературная критика 1800—1880 годов.— М.,
1980.—С. 259.
7 Заказ № 1367
97
чувствовал неповторимое своеобразие образа героя романа: «Ха-
рактер Онегина принадлежит нашему времени и развит ори-
гинально». Веневитинов не сказал, что образ Онегина развит
реалистически, но фактически он выходил в своем приговоре за
рамки трафаретных представлений о гении Пушкина как роман-
тика, «байрониста». Еще устойчивее был отзыв Веневитинова о
«Борисе Годунове» (Пушкин читал трагедию у него на квартире
в Москве). Веневитинов подчеркнул, в отличие от Н. Полевого,
самостоятельность содержания трагедии Пушкина по отношению
к «Истории...» Карамзина.
В составе критиков-«любомудров» числились в 20-х годах
еще И. В. Киреевский и С. П. Шевырев, впоследствии принад-
лежавшие к совсем другим направлениям русской критики, о
которых будет сказано в соответствующих разделах.
Киреевский подхватил мысль Веневитинова, что «нам необ-
ходима философия», «ею одною живет и дышит наша поэзия».
Киреевский отмечал, что у нас развивается интерес к герман-
ской философии: ею занимаются Шевырев, Хомяков, Тютчев; но
каждый народ имеет свой образ мысли, свою физиономию, и
поэтому «философия немецкая вкорениться у нас не может.
Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться
из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего на-
родного и частного быта. Когда? и как?—скажет время»1. Уже
в этой постановке вопроса было у Киреевского что-то сектант-
ское, напоминающее позднейшее его славянофильство. Провоз-
глашая верность действительности в качестве ведущего прин-
ципа современной литературы, Киреевский понимал эту дейст-
вительность идеалистически, по-шеллингиански, как «тождест-
во объекта и субъекта», сводившееся к произволу художника,
творца своих высоких образов. Поэтому Киреевский не оценил
значения бытового фона в «Евгении Онегине», и сам герой ро-
мана ему казался мелочным, прозаичным. Реализма Пушкина
Киреевский не понял.
В кругу субъективистской ограниченности, откровенного эк-
лектизма остался и Шевырев, впоследствии перешедший в ла-
герь реакции. В 1827 году он опубликовал в «Московском вест-
нике» статью с характерным заглавием: «Разговор о возможно-
сти найти единый закон для изящного». В конечном счете Ше-
вырев так и не нашел этот закон. Один из спорящих в «Разго-
воре»— безотчетный романтик, а другой, его оппонент, хотя и
говорит, что блаженство заключается не только в том, чтобы
творить искусство, но и его понимать, однако самые законы
изящного пытается отыскать в душе художника, т. е. все в той
же романтической субъективности. Не выполнил Шевырев и
обещания в следующей статье—«Обозрение русской словесно-
сти за 1827-й год»— рассмотреть словесность в постепенном раз-
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика.— М., 1979.— С. 68.
98
витии, а произведения — как пример некоего целостного, замк-
нутого в себе мира.
Шевырев изверился в возможностях найти централизующий
методологический принцип. Он начинал рассуждать о том, что
поэзия вообще лучше определяется не принципами эстетики, а
фактами истории. Но и этот историзм Шевырева не должен нас
обманывать: он сводился к мелкому фактографизму, эклек-
тизму.
В 1836 году Шевырев опубликовал «Теорию поэзии в исто-
рическом развитии у древних и новых народов». Этот труд це-
нили Белинский и Чернышевский за собранные в нем полезные
сведения. Но Шевырев не сумел и здесь соединить историю с
эстетикой, для пего идеалом оказался романтик и эклектик
Жан Поль Рихтер. А Гегеля Шевырев третировал как бессо-
держательного умозрительного философа, и его диалектику,
пронизанную идеями подлинного историзма, называл игрой в
«нелепые крайности».
Владимир Федорович Одоевский (1804—1869). В 1824 году
у «любомудра» В. Одоевского произошло следующее знамена-
тельное столкновение с соредактором по «Мнемозине» Кюхель-
бекером. Помещая в этом альманахе статью Кюхельбекера «Пу-
тешествие по Германии», наполненную восторженно-романтиче-
скими описаниями сокровищ Дрезденской галереи, В. Одоевский
снабдил ее обширными полемическими примечаниями. Приведем
одно из них целиком, так как оно демонстрирует столкновение
двух критических методологий, двух различных течений роман-
гпзма— гражданского и философского — и жадное искание ру-
ководящей идеи в критике. И это — в то время, когда сам Кю-
хельбекер в той же «Мнемозине» критиковал романтизм школы
Жуковского и доказывал, что ему на смену идет другой, более
прогрессивный романтизм. Но уже готовилась реакция и на
пего...
Обратив внимание на чрезвычайную беглость и чисто вку-
совой характер оценок шедевров мирового искусства в статье
Кюхельбекера, В. Одоевский решил специально привлечь вни-
мание читателей, да и самого автора, к методологии его рас-
суждений.
«Я бы желал здесь спросить автора,— писал В. Одоевский,—
на каких началах основал он сие умствование, которое впослед-
ствии так смело применяет к художественным произведениям?
Позволим себе здесь сделать довольно пространное замечание:
сие умствование, может быть, и справедливо,— но не полно; я
не вижу в нем объема идеи искусства, но представление одного
частного проявления оной. Французы и их последователи научи-
ли нас строить целые системы на началах, взятых от частного;
таковые начала на первый раз кажутся справедливыми (спра-
ведливыми потому, что составляют часть целого — идеи), но
впоследствии, по причине своей неполноты, необходимо влекут
р
99
за собой противоречие, неясность, сбивчивость. И вот причина,
почему часто остроумный, но почти всегда неосновательный
Арует (Вольтер.— В. К.) сравнивал системы с мышью, которая,
свободно пройдя сквозь двадцать отверстий, встречает еще
двадцать таких, которые ее пропустить никак не могут. Подлин-
но, подобные ни на чем не основанные системы достойны такого
сравнения: они в царстве наук производят расколы, влекут за
собою бесполезные споры, которые могут разрешиться тогда
только, когда все уверятся, что для наук и искусств существует
точно такое же единое общее мерило, каков нуль для матема-
тики, что мир изящный — создание человека,— основан на тех
же единых непременных законах, по которым движется и мир
вещественный — создание всемогущего; и что, наконец, точно
так же, как в физике опыт, не освященный умозрением, может
вести к одним заблуждениям, так точно и в словесности систе-
ма, взятая от мысли условной, ведет к сбивчивостям. Много
есть еще людей, которые сомневаются в сих истинах; так, на-
пример, в «Кратком начертании теории словесности» пр. Мерз-
лякова мы читаем в § 2: «Произведения изящных искусств как
предмет чувствования и вкуса не подвержены строгим прави-
лам и не могут, кажется, иметь постоянной системы или науки
изящного. Само понятие о прекрасном чуждо всяких законов».
Любопытно, что после сего тотчас следует: «только критика
вкуса имеет здесь свой голос, более или менее определенный».
Теперь спрашивается: на чем же должна основываться эта
критика вкуса, если изящное не может иметь постоянных стро-
гих законов? Не пора ли уже нам отвыкнуть от подобных ум-
ствований, ни к чему не ведущих! В путешествии (т. е. у Кю-
хельбекера.— В. К.) еще может быть позволена мысль поверх-
ностная, сказанная мимоходом,— но что сказать об учебных
книгах, сплоченных из таких мыслей!»1.
В чем сила этого заявления В. Одоевского? Оно не по-диле-
тантски, не в виде очередного каприза все того же личного вку-
са ставило вопрос о необходимости опоры критики на прочные,
в конечном счете научные основы, требовало сделать критику
доказательной, системной, помнящей в любом частном суждении
о своих исходных принципах, последовательно их проводящей.
В. Одоевский делает попытку все объяснить в искусстве с еди-
ной точки зрения, создать именно теорию искусства.
Одоевский был в дружеских отношениях с Пушкиным (это
он написал знаменитый некролог о закатившемся «солнце рус-
ской поэзии» в «Литературных прибавлениях»), с Гоголем, с
которым роднили его общие мотивы творчества (гофмановские
влияния). Но как теоретик, критик, он даже в пушкинском
«Современнике» проповедовал иррационализм творчества (ста-
тья «Как пишутся у нас романы?», 1836). Попав в 1842 году за
1 Мнемозина.— 1824.— Ч. 1.— С. 62—65.
100
границу и наслышавшись о лекциях позднего Шеллинга в Бер-
лине, он писал, что «Шеллинг сейчас во всей красе — как созда-
тель «философии откровения», тогда как гегельянцы только
шумят, но «ничего не значат в философии». А положение было
как раз обратным. Поднималось младогегельянское движение,
а лекции Шеллинга о «философии откровения» были уже за-
клеймены европейской общественностью как услужничество пе-
ред прусской реакцией.
В предисловии к своим «Русским ночам» (1844) Одоевский
продолжал восторженно отзываться о Шеллинге. Критикуя Ге-
геля с позиций «философии откровения», юрой повести «Русские
ночи» Фауст так отзывается о Гегеле: «Несмотря на все мое
уважение к Гегелю, я нс могу не сознаться, что от темноты ли
человеческого языка, от нашей ли неспособности вникать в та-
инственную связь умозаключений знаменитого германского мыс-
лителя, но в его сочинениях встречаются часто на одной и той
же с।ранние места, которые, по-видимому, находятся в совер-
шенном противоречии»1.
Одоевский не усвоил Гегеля, отказывался от системности
мышления в пользу интуитивного «откровения». Философская
диалектика, единство противоположностей, их борьба истолко-
вывались им плоско, как софизмы, неумение связать концы с
копнами, отсутствие логики. У Гегеля, конечно, имеется много
натяжек, но здесь речь идет не о том. Их еще больше у Шеллин-
га. Одоевскому «темным» казалось у Гегеля подлинно великое
в по системе — глубокий историзм и диалектика. Как мысли-
тель В. Одоевский остался чуждым как тому, так и другому.
ГЛАВА 6
Элементы программы демократического романтизма.
1820—1830-е годы
После поражения декабристов в условиях все усиливающей-
ся политической реакции прогрессивно-романтическое движение
нс прекратилось, а приобрело новые, более сложные формы. Не
избудем, что в 1830-е годы расцвело творчество Лермонтова —
самого великого русского романтика. И в большинстве своем
массовая тогдашняя литература, заполнявшая страницы перио-
дических журналов, была романтической. Расцветал русский ис-
торический роман Загоскина, Лажечникова, Н. Полевого, ро-
мантический по художественному методу. Гоголь начинал свое
поприще с романтических повестей «Вечера на хуторе близ
Дпканьки». Романтиком был студент Белинский, автор драмы
«Дмитрий Калинин» (1830), романтическим было творчество
Полежаева, Огарева, Герцена («Вильям Пенн», 1834). Продол-
1 Одоевский В. Ф. Соч.— СПб., 1844.— С. 1.— С. 60.
101
жалось романтическое творчество некоторых из декабристов —
А. Одоевского, Марлинского, Кюхельбекера.
Романтики предлагали по-своему углубленную трактовку че-
ловеческих характеров, проблемы народности.
Обозначившаяся уже тенденция перехода литературы от ро-
мантизма к реализму продолжала развиваться. Существовало
и начинало оказывать свое огромное влияние на литературу
реалистическое творчество Пушкина. К половине 1830-х годов
от романтизма к реализму переходит Гоголь, реалистическая
линия наметилась в творчестве Лермонтова («Маскарад», 1835;
«Княгиня Лиговская», 1837). Глашатаем реализма выступил
Белинский в статьях «Литературные мечтания» (1834), «О рус-
ской повести и повестях Гоголя» (1835).
Все это усложняло общую картину литературного развития
и терминологически точное обозначение его явлений в критике.
Характерно, что творчество Лермонтова-романтика не послу-
жило основой для создания какой-либо особой теории роман-
тизма. Гениальным истолкователем Лермонтова явился Белин-
ский, критик «гоголевского» периода. Но некоторые новые фор-
мы критического обобщения романтизма в промежуток между
декабристами и Лермонтовым были произведены. В самом ро-
мантизме появились новые, демократические черты, разрабаты-
вались романтические теории контрастов, исторического эпоса.
Авторитеты Шиллера, де Сталь, Констана, Байрона сменились
авторитетами В. Скотта, Гюго, Гейне, Купера.
В литературу начали проникать выходцы из разночинных
слоев и даже из крестьян. Наиболее ярко черты прогрессивно-
демократического романтизма проявились в деятельности брать-
ев Николая и Ксенофонта Полевых, гордившихся своим купе-
ческим происхождением.
Николай Алексеевич Полевой (1796—1846). Главным делом
Н. Полевого было издание одного из лучших русских журна-
лов—«Московского телеграфа» (1825—1834). Полевой явился
новатором гГобласти журналистики и критики. Он первым со-
здал тип русского «энциклопедического журнала»; по этому об-
разцу позднее были созданы «Библиотека для чтения» Сенков-
ского, «Отечественные записки» Краевского, «Современник» Не-
красова и Панаева. Многие материалы Полевой черпал из ли-
беральных французских журналов.
Полевой придавал принципиальное значение в журнале от-
делу критики. Позднее он сам писал: «... никто не оспорит у
меня чести, что первый я сделал из критики постоянную часть
журнала русского, первый обратил критику на все важнейшие
современные предметы»1.
В апреле 1834 года царские власти закрыли «Московский
’Полевой Н. А. Очерки русской литературы.— СПб., 1839.— Ч. 1.—
С. XIV (предисловие).
102
телеграф» за слишком либеральное направление, использовав
в качестве повода неодобрительный отзыв Полевого о казенно-
патриотической драме Кукольника «Рука всевышнего отечество
спасла», от постановки которой был в восторге Николай I.
Н. Полевой был глашатаем романтизма, преимущественно
французской его разновидности: творчества Констана, Альфре-
да де Виньи, Гюго. Философскую основу для своих построений
он нашел в эклектической системе В. Кузена. Он говорил об
этом в рецензии на книгу А. Галича «Опыт науки изящного»
и других статьях.
Н. Полевой стал вводить принцип историзма в критике. Осо-
бенно важны его статьи: «Нынешнее состояние драматического
искусства во Франции» (1830), «О новой школе в поэзии фран-
цузской» (1831), «О романах Виктора Гюго и вообще о новей-
ших романах» (1832), «О драматической фантазии Н. Куколь-
ника «Торквато Тассо» (1834). Из русской тематики важны его
статьи о сочинениях Державина (1832), о балладах и повестях
Жуковского (1832), о «Борисе Годунове» Пушкина (1833), ре-
цензии на сочинения Кантемира, Хемницера и др. Многие свои
статьи он объединил затем в книге в двух частях «Очерки рус-
ской литературы» (1839).
Полевой стремился опереться на биографические факты,
впервые в русской критике придавая им принципиальное значе-
ние в монографических исследованиях творчества художников
слова. Его статьи о различных писателях представляют собой
лемепты целостной историко-литературной концепции, пред-
варявшей в отдельных моментах концепцию Белинского.
11 Полевой рассматривал романтизм в поэзии как либера-
лизм в политике, как средство утверждения нового, демократи-
ческого, антидворянского искусства, свободы творчества, рас-
кованного от стеснительных правил и регламентаций. В то же
время: «Романтик повинуется судье гораздо более строгому, не-
жели Лагарп и Баттё,— уму и уложению более трудному, не-
жели Буалова наука стихотворства—законам истины поэтиче-
ской»1. Правда, Полевой, по словам Белинского, больше отри-
цал, нежели утверждал, больше оспаривал, чем доказывал. Но
в статьях последних лет существования «Московского телегра-
фа» он все определеннее развивал тезисы объективной, истори-
ческой эстетики, выступая против субъективистской эстетики
вкуса, произвольных суждений. «Рассматривайте каждый пред-
мет,— писал он,— не по безотчетному чувству: нравится, не нра-
вится, хорошо, худо, но по соображению историческому века и
парода, и философическому, важнейших истин души человече-
ской» («Песни и романсы А. Мерзлякова»)2. Вот как, напри-
мер, Полевой объяснял появление современных форм романа:
1 Московский телеграф.— 1831.— Ч. 37.— № 4.— С. 572.
2 Т а м ж е.— № 3.— С. 381.
103
«Новому времени, когда события обнажили жизнь человека
вполне, когда герои явились людьми, быт общественный рас-
крылся... когда изменился образ воззрения на все предметы...—
роман должен был преобразоваться. И В. Скотт первый узнал
союз его с историею» («О романах Виктора Гюго и вообще о
новейших романах»)1.
Борясь за «истину изображения», Полевой все же оставался
романтиком и понимал предмет искусства ограниченно. Он вос-
ставал против эстетической диссертации Н. И. Надеждина,
провозглашавшего: «Где жизнь — там и поэзия», хотя, как отмеча-
ют исследователи, может быть, под влиянием того же Надежди-
на сам Полевой все больше начинал признавать примат дейст-
вительности по отношению к искусству и роль объективно-исто-
рических обстоятельств, влияющих на творчество художника.
И все же «нагая истина» ему казалась антиэстетической: «Ис-
тина ли изображения составляет цель изящного произведения?»
(рецензия на «Адольфа» Б. Констана)2. Конечно, Полевой спра-
ведливо выступал против голого копирования жизни. Но его
влекло «высокое», патетическое, гражданское возвеличива-
ние героев. В отличие от установок декабристов, по мнению
Полевого, этими героями должны быть люди среднего со-
словия.
Полевой исходил из тезиса, что существует якобы извечное
противоречие между поэтом и обществом. Конечно, и в такой
постановке вопроса есть доля антидворянского критицизма:
«Чем выше общество, тем более бывает разница между им и
миром поэта»3. Но Полевой не знал, как устранить это противо-
речие, он капитулировал перед обществом и с еще большей си-
лой подчеркивал гуманный непрактицизм своего вдохновенного
героя: «И мир и поэт — оба правы; общество ошибается, если
хочет из поэта сделать своего работника... наряду с другими,
поэт равно ошибется, если подумает, что его поэзия дает ему
такое же право на место между людьми, какое дает купцу его
аршин, чиновнику его канцелярия, придворному его золотой
кафтан» («Торквато Тассо» Кукольника)4.
Первоначально Полевой отрицал идеи художественного кон-
траста, выдвинутые Гюго в предисловии к драме «Кромвель»
(1827). Полевой писал: «Мысль соединить в изящном произве-
дении два противоположные элемента в равной мере, или почти
в равной, кажется нам необдуманною и ложною» («Драматиче-
ское искусство во Франции»)5. По той же причине он нападал
на «Отелло» Шекспира и переводчика его на французский язык
де Виньи. Но позднее Полевой принял тезисы Гюго относитель-
1 Московский телеграф.— 1832.— Ч. 43.— № 2.— С. 233.
2 Там же,—1831,—Ч. 41.—№3,—С. 534.
3Там же,— 1834,—Ч. 55.—№ 3.—С. 470.
4 Т а м ж е.— С. 469.
5 Там же,— 1830 —Ч. 34.—№16,—С. 479.
104
но «контрастного» изображения жизни как соответствующего
«духу времени», поняв, что романтизм — это «отпечаток... раз-
пушительного, дикого порыва» («О романах Виктора Гюго...»)1.
Но соединение противоположных элементов он признавал толь-
ко на почве романтизма. В творчестве Пушкина и в особенности
Гоголя такое смешение он не признавал законным и эстетически
оправданным.
Полевой — историк литературы начисто отказывал всей рус-
ской литературе XVIII века в оригинальности, делая, как и де-
кабристы, уступку только Державину. Сурово осуждал он Ка-
рамзина за подражательность, также и «Бориса Годунова»
Пушкина за рабское, как ему казалось, следование за Карамзи-
ным-историком. Но Полевой проглядел в драме важную для
Пушкина проблему парода. Более объективную оценку велико-
го поэта Полевой дал в некрологической статье «Пушкин»
(«Сын отечества», 1837). Но и в этой статье, благосклонно рас-
ценивая «Полтаву», «Жениха», «Утопленника», он все же не
постиг подлинной народности творчества Пушкина. Он считал,
что Пушкин в «Евгении Онегине» становится народным только
в самом конце, в восьмой главе, где торжествует смиренная
Татьяна. Еще хуже обстояло дело с оценкой Гоголя. «Ревизора»
Полевой называл «фарсом». В «Мертвых душах» он видел
лишь «уродство», «бедность» содержания. Он обвинял Гоголя
в «незнании ни человека, ни искусства». Вся рецензия Полевого
на «Мертвые души» пестрит стилистическими придирками, из
которых видно, что Полевой не понимал гротеска Гоголя, его
реалистических контрастов, сочетания высокого и комического
(«Русский вестник», 1842, № 5 и 6). «Жестокие нападения на
Гоголя,— отмечал Чернышевский,— принадлежат к числу важ-
нейших ошибок Н. А. Полевого» («Очерки гоголевского периода
русской литературы»).
Испытав потрясение в связи с закрытием «Московского те-
леграфа», Полевой в 1837 году переехал в Петербург, сблизил-
ся с Булгариным, Гречем. Белинский осуждал его за измену
прежним убеждениям. Полевой мучительно переживал свою
драму. В 1846 году он попытался порвать с реакционным окру-
жением и по договору с Краевским начал редактировать «Ли-
тературную газету», но вскоре наступившая смерть прервала его
сближение с прогрессивным лагерем. Белинский откликнулся
па смерть Полевого очень объективной по тону брошюрой, в ко-
торой высоко оценил его критическую деятельность в «Москов-
ском телеграфе» как глашатая романтизма.
Ксенофонт Алексеевич Полевой (1801—1867). Ксенофонт
Нолевой — младший брат Николая Полевого, соредактор его по
«Московскому телеграфу». Он разделял все идейные убеждения
п литературную программу своего брата. С первого номера он
1 Московский телеграф.— 1832.— Ч. 43.— № 3.— С. 375.
105
стал деятельно сотрудничать в «Московском телеграфе», а в
1831 —1834 годах был его неофициальным редактором. В этот
период на Кс. Полевом лежали главные обязанности по крити-
ческому отделу. Заслуги его как критика не должны заслонять-
ся заслугами брата. Кс. Полевой не обладал философской под-
готовкой брата, но он продолжал теоретически обосновывать
эстетику романтизма.
Перу Кс. Полевого принадлежит большое количество рецен-
зий в «Московском телеграфе». Они разнообразны по темам:
о стихотворениях Пушкина, Дельвига, Богдановича, трагедии
А. С. Хомякова «Ермак», повести М. П. Погодина «Черная не-
мочь», многотомном сочинении В. Скотта «Жизнь Наполеона
Бонапарта» и др. Наиболее важными статьями являются сле-
дующие: «О русских романах и повестях» (1829), «Взгляд на
два обозрения русской словесности 1829 года» (1830), «О на-
правлениях и партиях в литературе. Ответ г-ну Катенину»
(«Московский телеграф», 1833) и «О новом направлении в рус-
ской словесности» («Московский телеграф», 1834). В 1836 году
Кс. Полевой выпустил в двух частях беллетризованную биогра-
фию «М. В. Ломоносов», тем самым как бы завершив неодно-
кратные (Новиков, Радищев) попытки сказать слово о великом
выходце из народа как символе его одаренности и бессмертия.
Кс. Полевой был недоволен обзорами литературы, состав-
лявшимися О. Сомовым, их узким эмпиризмом («библиографи-
ческая перекличка»), субъективно вкусовым подходом в оцен-
ках, недоволен был и Иваном Киреевским — его равнением на
«литературный аристократизм» (т. е. на Карамзина, Жуковско-
го и Пушкина). Все это, по мнению Кс. Полевого, уже обветша-
ло. Он противопоставлял им «влияние новейшей философии»,
т. е. романтической теории, «обратившейся у нас в критицизм»,
оценку явлений с позиций единой 'теории, принципиальной про-
граммы. Полевой обрушивался на П. Катенина, сетовавшего на
укоренившийся в современной русской литературе дух партий
и направлений. В ответ на это Полевой заявил: журнал не
«складочное место, где всякий может выставлять свое мнение»,
«журнал должен быть выражением одного известного рода мне-
ний в литературе» («О направлениях и партиях в литературе»)1.
В своих рассуждениях о направлениях и партиях в журна-
листике и литературе Кс. Полевой выступал прямым предше-
ственником Белинского. Это было новое слово в критике и ее
методологии. Принцип социальной оценки увенчивал оценку
явлений по месту, времени их возникновения и национальной
характерности. При этом указывалось на объективно-законо-
мерный характер направлений и партий. «Направлением в ли-
тературе,— писал Кс. Полевой,— называем мы то, часто неви-
димое для современников, внутреннее стремление литературы,
1 Московский телеграф.— 1833.— Ч. 51.— № 12.— С. 610, 611.
106
которое дает характер всем или по крайней мере весьма мно-
гим произведениям ее в известное, данное время... Основанием
его, в обширном смысле, бывает идея современной эпохи...»1.
«Партии» не должны сводиться к «личностям», журнальной пе-
ребранке. Они — заостренное выражение программы направ-
лений.
Свою приверженность романтизму Кс. Полевой выражал в
таких формулах: «Человек прежде всего бывает движим фанта-
зиею», «чувство развивается в человеке прежде всех других
способностей». Полевой разъяснял Катенину, что «дарование
и ум — совершенно различные», нс всегда совпадающие поня-
тия. Мало одной образованности — нужно еще и вдохновение,
мало знать — надо еще и уметь художнически воплотить свой
идеал: Катенин «хорошо понимает сущность истинной поэзии,
по не умеет выражать ее в изящных созданиях». Полевой изго-
нял из критики остатки классицистического рационализма и
нормативизма, которые для него были синонимами «аристокра-
тизма».
Кс. Полевой боролся за острую современность в искусстве,
против подделок и подражаний, ухода в экзотику, в прошлое.
Ради самобытности русской литературы он обрушился даже на
сказки Пушкина и Жуковского, усмотрев в них симптомы не-
желательного «нового направления» в литературе: «Останови-
гееь! Довольно опытов и неудачных странствований в чужих
владениях. Будьте русскими не прошедших веков, но настоя-
щего времени!» («О новом направлении в русской словесно-
сти»).
Взгляды Кс. Полевого страдали при этом резкими противо-
речиями. Он отрицал даже народный характер войны 1812 года,
приписывал все заслуги победы Александру I. Он был, как и
его брат, человеком компромиссов, противником решительных
методов борьбы за права «среднего сословия». Он не понимал
шачения реализма и народности Пушкина, отождествлял вели-
кого поэта с «аристократической партией», ставил «Бориса Го-
дунова» на одну доску с «Ермаком» Хомякова. Само учение о
направлениях и партиях у него страдает декларативностью.
Кс. Полевой требовал идеализации добродетелей купечества,
мещанства, не видя ограниченности этих социальных прослоек;
характерны в этом отношении его советы и упреки Погодину,
автору «Черной немочи».
После закрытия «Московского телеграфа» Кс. Полевой со-
шелся с Гречем, Булгариным, стал нападать на Белинского,
Герцена, «натуральную школу». С 1850 года он совсем отошел
от литературы, занялся составлением мемуаров, в которых пы-
тался обелить деятельность своего брата и свою собственную
после 1837 года и свести счеты с литературными противниками.
* Московский телеграф.— 1833.— Ч. 51.— № 12.— С. 595.
107
Условно называемый нами «демократическим» романтизм
братьев Полевых в русской исторической обстановке оказался
неустойчивым, слабым выражением нарождающегося «третьего
сословия». Он внес лишь отдельные ценные вклады в литера-
турную критику, но разошелся с основным ее реалистическим
направлением.
ГЛАВА 7
На подступах к реалистической критике. 1830-е годы
Какая бы внутренняя борьба ни велась между различными
течениями романтизма, с середины 20-х годов и особенно в 30-е
годы она отступала перед более важной, приобретавшей самые
различные формы борьбой между романтизмом в целом и реа-
лизмом, сложившимся в творчестве Пушкина и получившим
свое дальнейшее развитие в творчестве Гоголя. Реализм как но-
вое, самостоятельное течение в литературе не мог обойтись без
осмысления собственной художественной практики, выработки
своего теоретического самосознания в критике.
Николай Иванович Надеждин (1804—1856). Одним из пер-
вых критиков, начавших рассуждать о новом искусстве, кото-
рое должно прийти на смену классицистическому и романтиче-
скому, был профессор Московского университета Надеждин.
По складу ума он был критиком-«философом». Еще в духов-
ной академии он познакомился с трудами Канта, Шеллинга,
Бахмана, Баадера.
Надеждин приблизился к диалектическим началам системы
Гегеля, которого, по всей видимости, даже читал. Знаменатель-
ны, например, следующие его, близкие к Гегелю, рассуждения:
«Законы логические, которыми определяется мышление ума, со-
вершенно согласны с законами вещественными, определяющими
бытие: на этом согласии основана возможность познания»1.
Литературная деятельность Надеждина началась в «Вестни-
ке Европы» М. Т. Каченовского нашумевшими статьями «Лите-
ратурные опасения за будущий год» (1828, № 21, 22), «Сонми-
ще нигилистов» (1829, № 1, 2), подписанными псевдонимом:
«Экс-студент Никодим Надоумко». Независимый, дерзкий тон,
едкие выпады против романтизма и обольщений относительно
успехов современной русской литературы, жонглирование ла-
тинскими и греческими цитатами — все казалось странным, не-
обычным в писаниях Никодима Надоумки. Он нападал на Пуш-
кина, Байрона и особенно на Гюго, проповедовавшего смешение
прекрасного и безобразного, высокого и комического.
Некоторым из современников казалось, что Надеждин — ста-
ровер, союзник Каченовского, ревнитель классицизма. Но это не
* Телескоп.— 1836.—Ч. XXXII.—№ 8.—С. 615—616.
108
так. Надеждин в равной степени видел устарелость и класси-
цизма и романтизма. Ему принадлежат термины: «псевдоклас-
сицизм» в применении к французскому искусству XVII века и
«псевдоромантизм» в применении к некоторым явлениям совре-
менного искусства. Он был за новое искусство, которое насле-
довало бы достижения прежних эпох и утвердило «правила»,
почерпнутые из «идеи поэтической необходимости», историче-
ского опыта, окружающей действительности. В рассуждениях
Надеждина было много задора и много еще неясного. Но «мож-
но было заметить,— писал Белинский,— что противник роман-
тизма понимал романтизм лучше его защитников и был не со-
всем искренним поборником классицизма так же, как и не сов-
сем искренним врагом романтизма»1.
В 1830 году 11адсждип защитил написанную на латинском
языке докторскую диссертацию на тему: «De origine, natura et
fatis Poeseos, quae Romantica audit» («О начале, сущности и
судьбах поэзии, романтической называемой»). Отрывки из нее
были опубликованы в «Вестнике Европы» (1830, № 1), «Ате-
нсе» (1830, № I). В конце 1831 года он получил звание про-
фессора и затем кафедру теории изящных искусств и археоло-
гии в Московском университете. Его лекции пользовались боль-
шим успехом. Их слушали Огарев, Станкевич, К- Аксаков, Гон-
чаров.
В диссертации Надеждин развил свои оригинальные идеи.
Надеждин выдвинул тезис о необходимости новейшего син-
тетического искусства, которое должно «соединить идеальное
одушевление средних веков с изящным благообразием класси-
ческой древности, уравновесить душу с телом». В сущности он
предугадывал появление реализма. Но последовательно развить
эту идею и практически бороться за реализм в русской литера-
туре Надеждин не сумел. Как отмечал Чернышевский, Надеж-
дин рано появился не только для публики, но и для самого себя.
В 1831—1836 годах Надеждин издавал «Телескоп», журнал
«современного просвещения», в приложении к нему—«Молву»,
газету «мод и новостей». Свою программу Надеждин изложил
в статьях: «Современное направление просвещения» (1831,№ 1),
«Всеобщее начертание теории изящных искусств» Бахмана»
(1832, № 5, 6, 8), «Здравый смысл и Барон Брамбеус» (1834,
№ 19—21), «Европеизм и народность в отношении к русской
словесности» (1836, № 1—2), «История поэзии» Шевырева
(1836, № 4) ив многочисленных откликах: о «Борисе Годунове»,
седьмой главе «Евгения Онегина», «Горе от ума», «Вечерах на
хуторе близ Диканьки», «Ревизоре», «Трех повестях» Павлова,
«Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» (в отзыве на альманах «Новоселье»).
Надеждин постоянно вел полемику с Булгариным, Сенков-
’Белинский В. Г. Собр. соч.— Т. 4.— С. 89.
109
ским. Особенно ожесточенно борьба велась с оплотом русского
романтизма—«Московским телеграфом» братьев Полевых. На-
деждин критиковал эклектические романтические позиции «Мос-
ковского наблюдателя».
Надеждин, по словам Чернышевского, «первый прочно ввел
в нашу мыслительность глубокий философский взгляд»1. Он
снова после Карамзина вспомнил о Баумгартене, обособившем
в специальную область эстетическое. На журнальных страни-
цах он обсуждал вопрос о необходимости выработки объектив-
ных эстетических критериев. «От него узнали у нас,— продол-
жает Чернышевский,— что поэзия есть воплощение идеи... что
красота формы состоит в соответствии ее с идеею...», что худо-
жественный успех зависит от того, «понятна ли и прочувствована
ли идея...», что произведение должно обладать по законам «поэ-
тической необходимости» внутренним «единством», характеры
в нем должны соответствовать условиям «времени и народно-
сти...». Теоретически он беспредельно раздвигал понятие о пре-
красном, формулируя его в реалистическом духе: «где жизнь,
там и поэзия», отбрасывая кастовые перегородки в понимании
сущности литературы: «Литература есть глас народа». После
Мерзлякова, Галича и Н. Полевого он ясно показал современ-
ное значение жанров романа и повести как наиболее соответ-
ствующих «возрасту человеческого образования», способных
отображать жизнь «со всех точек, как пучину страстей, как
ткань чувств, как эхо идей» (1832, № 17). Надеждин требовал
народности в искусстве, полагая, что и русскому народу исто-
рия предназначила выразить всемирно-человеческие идеи — на-
до только вполне выявить его духовное лицо, для чего необхо-
димо просвещение. Тут он отчасти повторял утверждения ро-
мантиков.
Но мировоззрение Надеждина крайне противоречиво. Борясь
с субъективизмом романтиков, он сам впадал в объективизм, со-
зерцательность. Прогресс он понимал как постепенность, без
скачков и потрясений. Для него борьба классов, революции —
нарушение гармонии. Он не проводит различий между роман-
тизмом прогрессивным и романтизмом реакционным, этими «ча-
дами безверия и революции». Правдивость в искусстве Надеж-
дин ограничивал одним «высоким», этим объясняется его в це-
лом благожелательная оценка «Бориса Годунова» (1831, № 4).
Но юмористические поэмы «Граф Нулин», «Домик в Коломне»
он считал «мелочными по интересам». Надеждин отказывал в
народности «Евгению Онегину». Теория романа у Надеждина
повисала в воздухе, поскольку он не увидел в «Евгении Онеги-
не» изображения «беспредельной пучины жизни», осуществле-
ния своего же девиза «где жизнь, там и поэзия». Теоретически
‘Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— М., 1947.— Т. III.—
С. 163.
ПО
народность Надеждин сводил все же к простонародности, осо-
бенно ценя у Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», и мень-
ше — реалистические его сатиры на крепостничество. Подлинно
народными он ошибочно считал романы М. Н. Загоскина. Воз-
лагая надежды на просвещение — рычаг прогресса, он полагал,
что это дело всецело должно быть в руках правительства. Здесь
Надеждин смыкался с лагерем «официальной народности». Вы-
ступая при этом против всякого проявления тенденциозности
в искусстве, он предварял и теоретиков «чистого искусства».
В «Телескопе» Надеждин поместил «Философическое пись-
мо» П. Я. Чаадаева (1836), усмотрев в этом произведении род-
ственные себе мотивы критической оценки отсталой допетров-
ской Руси, современного казенного оптимизма, упоения успе-
хами текущей литературы, нежелания трезво посмотреть на
истинное се положение. Правительство признало письмо Чаа-
даева крамольным, и 22 октября 1836 года Николай I запретил
издание «Телескопа». Надеждин был выслан в Усть-Сысольск,
а затем переведен в Вологду. Этот удар круто переменил его
судьбу. Надеждин никогда больше не возвращался к самостоя-
тельной литературно-критической деятельности.
Перед нами второй пример (после судьбы братьев Полевых)
того, как разночинец не устоял в жизненной борьбе (Надеждин
был из «поповичей»).
Известно, как устоял в ней Белинский, который с 1833 года
начал сотрудничество в «Телескопе». Приглашение Белинского
в журнал было одной из главных исторических заслуг Надеж-
дина перед русской критикой.
Не будучи критиками-профессионалами, Пушкин и Гоголь,
как великие художники, высказали много ценнейших суждений
о реалистическом творчестве и путях русской литературы. Пуш-
кина и Гоголя как критиков следует рассматривать в качестве
самых значительных предшественников Белинского. Они пред-
варили многие его мысли и гораздо яснее представляли себе
задачи реализма, чем многие современные им критики-про-
фессионалы.
Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837). Долго и настой-
чиво Пушкин обсуждал состояние русской критики, высмеивал
царившую в ней безотчетность суждений. Каченовский—«туп и
неучен», Греч и А. Бестужев—«остры и забавны», Кюхельбе-
кер— узок и резок, Вяземский — замысловат, но небрежен в об-
щих понятиях, Плетнев — беззуб и пишет «добренькие» крити-
ки. Только у Веневитинова и И. Киреевского блеснули лучи
дельной, философской критики.
Пушкин спорил со своими друзьями-критиками. Он защищал
Жуковского от чрезмерных нападок Кюхельбекера и Рылеева.
Оспаривал преувеличенные похвалы Вяземского Озерову, Дмит-
риеву. А. Бестужева упрекал в том, что он в обзоре русской ли-
111
тературы забыл упомянуть Радищева. Спорил с Рылеевым о
тенденциозности поэзии: ничего нельзя достичь выкриком, за-
меткой; «...сатира не критика, эпиграмма не опровержение».
«Именно критики у нас и недостает... Кумир Державина */4 зо-
лотой, % свинцовый доныне еще не оценен... Мы не знаем, что
такое Крылов» (письмо А. Бестужеву, конец мая — начало июня
1825 г.). А ведь: «Состояние критики само по себе показывает
степень образованности всей литературы вообще» («Опыт от-
ражения некоторых нелитературных обвинений», 1830). Истин-
ная критика должна быть «наукой», открывать красоты и недо-
статки в произведениях, основываться на совершенном знании
правил, которыми руководствовался писатель, и на изучении об-
разцов и деятельном наблюдении современной жизни.
Пушкин-критик ссылался иногда на авторитеты мировой эс-
тетической мысли, на де Сталь («О г-же Сталь и о г. А. М.—ве»,
1825; «О русской литературе, с очерком французской», 1834).
Определение критики как науки заимствовано у Винкельмана.
В высказываниях о драме с контрастным сопоставлением Шекс-
пира и Расина есть заметный след влияния «Курса драматиче-
ской литературы» Ф. Шлегеля. По всей вероятности, Лессинг
оказал влияние на Пушкина в его рассуждениях об условной
правдоподобности изображения действительности в искусстве.
Пушкин заявлял: «Между тем, как эстетика со времен Канта
и Лессинга развита с такой ясностию и обширностию...», мы все
повторяем старые истины «педанта Готшеда» («Драматическое
искусство родилось на площади», 1830).
Но школа мысли у Пушкина была все же другая, не в духе
немецкой идеалистической эстетики. У Пушкина сильны тради-
ции русского и французского просвещения. Системообразующим
центром критики Пушкина было его собственное реалистическое
творчество, связи с традициями русской и мировой литературы.
В статьях и набросках «О французской словесности» (1822),
«О причинах, замедливших ход нашей словесности» (1824),
«О народности в литературе» (1826), «О русской литературе,
с очерком французской» (1834) Пушкин вслед за декабристами
обсуждал вопрос о национальной самобытности русской литера-
туры. Указание на «климат», «тьму обычаев, поверий и привы-
чек» у него общее с ними; но положение об «образе мыслей и
чувствований» вело уже к смещению всей проблемы от источ-
ников народности к ее конкретно-историческим формам, а упо-
минание об образе правления обогащало представление о при-
чинах, определяющих народный характер («О народности в ли-
тературе», 1826).
Народность мыслится Пушкиным еще как нечто замкнутое
в себе: «Народность в писателе есть достоинство, которое вполне
может быть оценено одними соотечественниками — для других
оно или не существует, или даже может показаться пороком...»
(там же). В таком именно плане трактована Пушкиным на-
112
родность Лафонтена и Крылова в статье «О предисловии г-на
Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825). Лафонтен и
Крылов — представители духа обоих народов. Пушкин не зада-
ется вопросом, нет ли разницы между Крыловым и Лафонтеном
как людьми XIX и XVII веков, совершила ли какой-либо про-
гресс сама басня за это время; оставались в тени вопросы: ка-
кие факторы формируют народность сегодня, в каком отноше-
нии понятие русской народности находится с петровскими пре-
образованиями, каково соотношение народного и национально-
го, национального и общечеловеческого?
Глубже высказывался Пушкин о реализме и художественной
типизации. Себя Пушкин называл «истинным романтиком», яв-
но подразумевая свой реализм (набросок предисловия к «Бори-
су Годунову», 1830), и «поэтом действительности», углубляя оп-
ределение, данное ему только что И. Киреевским (эту формулу
Пушкин употребил по отношению к себе в отзыве на альманах
«Денница» в 1830 г.). Пушкин искал подлинные законы «воль-
ного», «широкого», «свободного» изображения нравов и обстоя-
тельств.
Правдоподобие Пушкин понимал прежде всего в букваль-
ном смысле слова. Он указывал на ошибки против истории в
«Думах» Рылеева, в стихах и прозе Батюшкова, в байроновском
«Дон-Жуане». Но в общем Пушкин придавал более глубокий
смысл понятию правдоподобия в искусстве «Истина страстей,
правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельст-
вах...» («Драматическое искусство родилось на площади», 1830).
Именно в таком смысле надо художнику-поэту «воскрешать век
минувший во всей его истине» (разбор драмы М. Погодина
«Марфа-Посадница», 1830). Эта истинность может быть достиг-
нута путем сочетания правдивости бытовых подробностей с вер-
но понятым общим смыслом истории или современной действи-
тельности. В творчестве В. Скотта, «шотландского чародея»,
прельщало Пушкина то, что он знакомит с прошедшими вре-
менами «современно», наглядным образом
У Шекспира — мастера раскрывать противоречия — правдо-
подобие высшего порядка. «Лица, созданные Шекспиром,— пи-
сал Пушкин,— не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти,
такого-то порока, но существа живые, исполненные многих стра-
стей». То есть они и живые существа, и обобщенные типы. Пуш-
кин пошел дальше карамзинской трактовки шекспировской
характерологии: характеры суть индивидуализированное типи-
ческое.
Пушкин указывал также, что искусство есть условное изо-
бражение жизни. Романтикам условность была нужна для оп-
равдания своих фантазий, классицистам — для «украшения»
действительности. Пушкин-реалист толковал об условности как
1 См.: Пушкин-критик.— М., 1950.— С. 132.
8 Заказ № 1367
113
о неизбежной специфической особенности воспроизведения прав-
ды действительности в художественных формах. Он высмеивал
наивное понимание правдоподобия в искусстве. Из всех родов
сочинений самыми неправдоподобными оказываются драмати-
ческие. Все правила драматургии проистекают из жестких зако-
нов сцены — пантомимической игры перед зрителями. В драме
за три часа показывается «судьба человеческая, судьба народ-
ная» (набросок «Драматическое искусство родилось на площа-
ди», 1830).
Кстати сказать, эту формулу Пушкина надо понимать как
формулу диалектическую, а не в том смысле, что драма народ-
ная есть нечто отдельное от драмы человеческой (так нередко
трактуют смысл «Бориса Годунова» и «маленьких трагедий»
Пушкина). Личные судьбы героев раскрываются на фоне на-
родной жизни и в связи с ней, а народная жизнь складывается
из индивидуальных человеческих судеб и входит в судьбу об-
щечеловеческую. Пушкин верно почувствовал, что «дух века
требует важных перемен и на сцене драматической». Драма ро-
дилась на площади, для народного увеселения («Заметки о
«Борисе Годунове», 1830). Русской драме «приличнее не при-
дворные обычаи» Расина и Корнеля, а Шекспир. Первым опы-
том шекспировского сочетания судеб народа и личности в твор-
честве Пушкина был «Борис Годунов».
Черты реалистической эстетики видны у Пушкина и в трак-
товке проблем творческой субъективности художника. Еще
Пушкин-лицеист главный недостаток Шаховского видел в том,
что тот «не хотел учиться своему ремеслу». Пушкин выступал
против романтической теории интуитивного, бессознательного
творчества. Вдохновение само по себе не что иное, как «распо-
ложение души к живейшему принятию впечатлений и сообра-
жению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновение
нужно в геометрии, как и в поэзии». Сознательность творчества,
полное самообладание художника — закон творчества. Пушкин
советовал современным ему русским поэтам иметь «сумму идей,
гораздо позначительней, чем у них обыкновенно водится»
(«Д’Аламбер сказал однажды...», 1822). На чисто карамзинский
вопрос: что нужно драматическому писателю?—Пушкин отве-
чал: философия, бесстрастие (он должен быть «беспристрастен,
как судьба»), государственные мысли историка, догадливость,
живость воображения (набросок статьи «Драматическое искус-
ство родилось на площади», 1830). Ответ Пушкина был неиз-
меримо более содержательным, чем ответ Карамзина на анало-
гичный вопрос. Ответ Пушкина вбирал в себя весь опыт рус-
ской литературы, который она приобрела, пройдя романтиче-
ский этап и вступив в этап реалистический.
Свобода выбора, свобода совести при произнесении пригово-
ра— все это детерминистские реалистические требования. Кри-
тики карамзинского и позднейшего времени часто говорили о
114
вкусе. Каждый понимал вкус по-разному. Пушкин способство-
вал тому, чтобы понятие о вкусе сделалось целой «наукой»:
«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то
слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сооб-
разности» («Отрывки из писем, мысли и замечания», 1827).
Пушкин всегда стремился к всеохвату жизни без догматиз-
ма: «Односторонность — пагуба мысли», «каюсь, что я в лите-
ратуре скептик (чтоб не сказать хуже) и что все ее секты для
меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную
сторону» (1827). Пушкин отстаивал независимость звания пи-
сателя. Но это было у него не проявлением анархизма, а тре-
бованием все той же соразмерности и сообразности, выраже-
нием новаторских стремлений преобразователя русской литера-
туры.
В 1830 году Пушкин высказывался в полемике с Булгариным
и Н. Полевым на тему о сословной кастовости в русской литера-
туре, о так называемой «литературной аристократии». Булга-
рин искал способы свести счеты с Пушкиным и решил уязвить
поэта, указав на сомнительность его дворянства. Пушкин до-
стойно ответил ему в «Моей родословной».
Попытка же Полевого вообще принизить роль дворян в рус-
ской литературе была бесплодной. Дворяне играли в ней ре-
шающую роль. Литературная аристократия, как разъяснял
Пушкин, вовсе не чванилась аристократизмом происхождения,—
это аристократия мысли, ума, образованности.
Пушкин обладал удивительным даром трезвого самоанализа
в творческом процессе. В письме к В. П. Горчакову 1822 года он
делился впечатлениями о герое только что написанного им «Кав-
казского пленника» и, словно глядя со стороны, в точности на-
звал те типические черты, которые стали отличительными в ха-
рактере современного молодого человека. Пушкин широко ос-
мыслял связи своих героев — Онегина, Татьяны — с литератур-
ной родословной. В письме к Вяземскому в 1823 году он сразу
указал на ту «дьявольскую разницу», которая была между его
только что начатым «романом в стихах» и обычными романа-
ми. В заметках о ранних поэмах Пушкин-критик был строгим
блюстителем чистоты стиля. Он требовал ясности, высмеивал
ходячие штампы писателей, почитающих за низость изъяснять-
ся просто о вещах самых обыкновенных. «Точность и крат-
кость— вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и
мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат»
(набросок «Д’Аламбер сказал однажды...», 1822). Бессмыслица,
подмечал Пушкин, может быть двух родов: или от темноты
мысли, или от ее избытка. Но полное овладение мыслью ведет
к простоте и ясности, только здесь проявляется настоящая сво-
бода художника.
К концу жизни Пушкин заметил дарование Белинского и
испытывал удовлетворение от его критических статей, хотя в
8*
115
них были не только похвалы поэту. Пушкин начинал искать
сближения с ним.
В 1834 году Пушкин работал над статьей «О русской лите-
ратуре, с очерком французской». Статья осталась незакончен-
ной. Сохранившийся ее план отчасти близок к плану статьи
Белинского «Литературные мечтания», напечатанной в том же
1834 году. По предположению С. М. Бонди, Пушкин потому не
закончил свою статью, что встретил в статье Белинского много
общего с его собственными мнениями. Белинский также предъ-
являл высокие требования к русской литературе, стараясь уло-
вить в ее истории связующие нити. Совершая свой бесстрашный
суд над ее авторитетами, он провозгласил: «У нас нет лите-
ратуры». Это утверждение созвучно мотивам неоконченной ста-
тьи Пушкина.
Однако вряд ли можно согласиться с категорическим выво-
дом исследователя: «Прочтя эту статью Белинского, столь сов-
падающую по основной установке и даже по общему плану с
начатой им статьей.., Пушкин, конечно, должен был отказаться
от своего замысла»1. Можно предположить и обратное: как это
часто бывало с Пушкиным, начав читать чужое произведение,
он загорелся желанием высказаться самому на ту же тему.
Нельзя предполагать так прямолинейно, что Пушкин отложил
работу над своей статьей, потому что статья другого автора
его удовлетворяла вполне и напоминала его собственную
статью.
В «Литературных мечтаниях» Пушкин мог встретить востор-
женные высказывания о Державине, Ломоносове, резко проти-
воречившие его собственным. И наоборот, Белинский уничижи-
тельно трактовал Тредиаковского, которого высоко ставил Пуш-
кин. Самый план статьи Пушкина во многом не совпадает с
планом «Литературных мечтаний». В плане Пушкина нет ни
слова о философской концепции в шеллингианско-гегелевском
духе, столь важной для характеристики статьи Белинского; нет
теоретических рассуждений о природе поэзии вообще и о рус-
ской в частности, о значении реформы Петра I, нет периодиза-
ции русской литературы, разбора современных произведений,
критики булгаринской клики и многого другого. Все это сви-
детельствует о том, что прямая связь между статьями Пушки-
на и Белинского остается недоказанной.
Пушкин внимательно следил за развертывавшейся деятель-
ностью Белинского и проникался верой в его талант, несмотря
на то, что Белинский в это время крайне отрицательно отзывал-
ся о пушкинском «Современнике», называя его сборником слу-
чайных статей. Когда Гоголь в статье «О движении журнальной
литературы в 1834—1835 году» не отозвался о деятельности Бе-
линского, Пушкин в следующем номере в анонимной заметке
* Литературное наследство.— М.; Л., 1934.— Т. 16—18.— С. 441.
116
«К издателю» поставил Гоголю это в упрек. Пушкин писал:
«Жалею, что вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о г. Бе-
линском. Он обличает талант, подающий большую надежду.
Если бы с независимостию мнений и с остроумием своим соеди-
нял он более учености, более начитанности, более уважения к
преданию, более осмотрительности — словом, более зрелости,
то мы бы имели в нем критика весьма замечательного»1. Но
увидеть полный расцвет деятельности Белинского Пушкину не
было суждено.
Пушкин хотел пригласить Белинского сотрудничать в «Со-
временнике». Когда после закрытия «Телескопа» Белинский ока-
зался без журнала, Пушкин через своего приятеля П. В. Нащо-,
кина, а тот через приятеля Белинского актера М. С. Щепкина
начал подготавливать почву для приглашения критика в Петер-
бург. Можно себе представить, как выиграла бы русская лите-
ратура от сотрудничества в одном журнале великого поэта и
великого критика, впоследствии автора знаменитых статей о
Пушкине.
Николай Васильевич Гоголь (1809—1852). Гоголь-критик
также в основном обобщал свою собственную, глубоко нова-
торскую, творческую практику сатирика-реалиста. Кроме того,
некоторые идеи ему были внушены Пушкиным, а другие он имел
возможность почерпнуть из бурной журнальной полемики 30—
40-х годов вокруг его собственных произведений. Пушкин рас-
ценивал Гоголя как яркого критика и поручил ему критический
отдел в «Современнике». «Я обещался быть верным сотрудни-
ком,— вспоминал Гоголь.— В статьях моих он находил много
того, <н о может сообщить журнальную живость изданию, какой
он в себе не признавал» («О «Современнике», 1847). Были ка-
кие-то и не раскрытые еще учеными трения у Гоголя с Пуш-
киным...
Гоголь-критик выступал редко, с перерывами, его критиче-
ское наследие сравнительно невелико, но все статьи его носят
законченный вид и почти все были своевременно или лишь с
небольшими запозданиями напечатаны и обсуждены.
Как и Пушкин, Гоголь выражал свое недовольство состоя-
нием современной критики. В статье «О движении журнальной
литературы в 1834 и 1835 году» он выступил против Булгарина,
Греча и Сенковского.
Гоголь чутко уловил наступление века журналов, понял, что
«эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература» ведет к
резкому размежеванию на партии. Журнал должен иметь один
определенный тон, одно «уполномоченное мнение», «направле-
ние, хотя даже одностороннее, к какой-нибудь цели». Все эти
суждения Гоголя до чрезвычайности совпадали с тем, что гово-
рили о критике и журналистике братья Полевые и Белинский.
Гоголь высказал отрицательное мнение о главных тезисах
* Пушкин-критик.— С. 487.
117
программной статьи Шевырева «Словесность и торговля», кото-
рой открывался первый номер «Московского наблюдателя» за
1835 год. Шевырев считал великим злом для литературы то,
что она подружилась с журналами, «продала» себя за деньги.
Он имел в виду не столько продажную булгаринскую клику,
сколько современную литературу вообще. Гоголь показал, что
торговля торговле рознь, «читатели и потребность чтения уве-
личились». Гоголь и здесь смыкался с Белинским, который так-
же оспаривал мнение Шевырева, так как появление оплачивае-
мого литературного труда позволяло заработками существовать
разночинцам-литераторам, к которым принадлежал и сам вели-
кий критик. Это вело к увеличению числа профессиональных
литераторов, не связанных с официальной службой, чинами,
званиями, сословными предрассудками.
До сих пор учеными обсуждается вопрос, почему Гоголь в
статье «О движении журнальной литературы...» не упомянул
Белинского.
Пушкин в специальной заметке обратил на это внимание.
Думается, тут имели значение следующие причины. В черно-
вом тексте статьи Гоголя было упоминание о Белинском:
«В критиках Белинского, помещающихся в «Телескопе», виден
вкус, хотя еще необразовавшийся, молодой и опрометчивый, но
служащий порукою за будущее развитие, потому что основан
на чувстве и душевном убеждении. При всем этом в них много
есть в духе прежней семейственной критики, что вовсе неуме-
стно и неприлично, а тем более для публики»1.
Как видим, мнение Гоголя о Белинском не только не проти-
воречило мнению о нем Пушкина, но в общем совпадало с ним.
Учитывал ли Гоголь настроения своих друзей из «Московского
наблюдателя», с которыми в это время вел полемику Белин-
ский? Вряд ли это так. Гоголь сам полемизировал с Шевыре-
вым. По всей вероятности, Гоголь исключил из статьи место о
Белинском не только потому, что считал бы это проявлением
«семейственности» в критике, так как Белинский в «Телескопе»
только что восторженно отозвался о его творчестве в статье
«О русской повести и повестях Гоголя», но главным образом
потому, что в этой статье Белинский поставил Гоголя во главе
всей современной русской литературы («он становится на мес-
то, оставленное Пушкиным»). Поэтому, если Гоголь считал не-
удобным хвалить Белинского в печати, то это диктовалось преж-
де всего соображениями относительно Пушкина, издателя «Со-
временника».
Гоголя-критика живо волновала проблема национальной спе-
цифики русской литературы. Этому он посвятил специальную
большую статью «В чем же, наконец, существо русской поэзии
и в чем ее особенность». В самом заглавии выражается неко-
1 Гоголь Н. В. Поля. собр. соч,—М.; Л., 1952,—Т. VIII,—С. 533.
118
торое раздражение автора по поводу все еще бытующей неоп-
ределенности в этом вопросе, но вопросительного знака в конце
Гоголь не поставил: следовательно, он не столько спрашивает,
сколько берется ответить на этот вопрос...
Гоголь внес ряд новых ценных черт в решение этой пробле-
мы. Он первый увидел живое воплощение национальной сущно-
сти русской литературы в творчестве и личностт^ТТушкинД. «При
имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русскомПТДциональном
поэте»,— писал он в статье «Несколько слов о Пушкине» (1835).
Значение поражающих нас и сейчас своей безошибочностью слов
Гоголя о Пушкине в этой статье нс только в том, что они про-
изнесены были в пору травли Пушкина, толков о «выписавшем-
ся» Пушкине. Главная сила этих слов в том, что давно искав-
шееся критикой теоретическое определение народности, гада-
тельно постигавшиеся особенности русского духа, русской ли-
тературы впервые теперь слились в личности одного писателя,
еще жившего.
Была и вторая важная сторона в гоголевском решении проб-
лемы народности. В крылатой фразе: «...истинная националь-
ность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа»
(там же)—новое то, что Гоголя интересует испытание своего
народного духа в атмосфере других национальных стихий, при
обработке непривычных впечатлений, чужого сюжета и мате-
риала: «Поэт даже может быть и тогда национален, когда опи-
сывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами
своей национальной стихии, глазами всего народа...»1. Пушкин
считал, что народность писателя может быть понята только со-
отечественниками. Гоголь думал точно так же. Он лишь с дру-
гого конца подошел к топ же проблеме.
Подлинное новаторство Гоголя выступало в попытках раз-
граничения понятий народного и национального. Эти понятия
до сих пор обычно смешивались. Разграничение вытекало из су-
щества его сатирического реализма, социальной чуткости к
судьбе «маленького человека».
В статье «О малороссийских песнях» (1834) Гоголь коснул-
ся проблемы самовыражения народа в поэзии. По звукам песен
можно «догадываться» о страданиях народа. Но не только в
фольклоре усматривал Гоголь выражение народности. При ха-
рактеристике своей собственной сатиры в «Ревизоре» и «Мерт-
вых душах» (ему ведь хотелось собрать все «в кучу» и «высме-
ять разом», показать помещичью Русь хотя бы с «одного боку»)
чувствуется не общенациональная, а именно народная задача.
Так, контрастно сопоставлены «мертвые души» господ и «живые
души» крестьян. И в Крылове Гоголь видел «народного поэта».
В нем есть и общенациональные черты: «... всюду у него Русь и
пахнет Русью». Но в его баснях «всем есть уроки, всем степеням
1 Гоголь Н. В. О литературе.— М., 1952.— С. 41.
119
в государстве, начиная от главы <...> и до последнего тру-
женика, работающего в низших рядах государственных»; «толь-
ко в Крылове отразился тот верный такт русского ума <...>,
который мы потеряли среди нашего светского образования и
который сохранился доселе у нашего крестьянина»1. («В чем
же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»,
1846).
Как бы ни преобладала в субъективных планах Гоголя идея
служения своим пером общенациональным, общерусским зада-
чам, у него настойчиво пробивается симпатия к народу, в кото-
ром в конце концов олицетворяется само понятие Руси: «Чем
знатнее, чем выше класс, тем он глупее» (письмо М. П. Пого-
дину, 1833). Объясняя свою тоску по родине, Гоголь писал: «Не-
преодолимою цепью прикован я к своему... И я ли после этого
могу не любить своей отчизны?» (письмо к тому же адресату,
1837). Несомненно, Гоголь приближался к пониманию народно-
сти в литературе как выражению интересов, настроений народа.
Его смех и сатира несли в себе великую раскрепощающую силу.
В трактовке проблемы реализма Гоголь также пошел даль-
ше пушкинского требования правдивости и поставил проблему
типизации как выражения концентрированной индивидуально-
сти. Верность натуре и для Гоголя — закон, но он строит на ос-
нове правдивости нечто новое. «Право, пора знать уже,— писал
он в «Петербургских записках 1836 года»,— что одно только
верное изображение характеров, не в общих вытверженных чер-
тах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас
живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый
человек»,— только такое изображение приносит существенную
пользу»2. Белинский называл такие образы-типы «знакомыми
незнакомцами».
Художественную типизацию образов Гоголь находил в про-
изведениях Пушкина. Безыскусственность изображения дейст-
вительности поднялась у Пушкина на такую высоту, что «сама
действительность кажется перед нею искусственною и карика-
турною». В «Капитанской дочке» «все не только самая правда,
но еще как бы лучше ее». «Так оно и быть должно,— резюмиру-
ет Гоголь,— на то и призвание поэта, чтобы из нас же взять
нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде»
(«В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее осо-
бенность»). Здесь мы уже слышим будущие известные форму-
лировки Белинского о том, что искусство возвращает нам кра-
соту природы в очищенном виде, что оно «перетопляет» мате-
риал жизни в «чистое золото».
Элементы учения о типическом у Гоголя видны и в его не-
однократных заявлениях относительно героев «Ревизора»:
1 Гоголь Н. В. О литературе.— С. 204.
2 Т а м ж е.— С. 86.
120
«Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикату-
ру». Сознавая подчеркнуто гротескный характер своих образов,
Гоголь, однако, хотел сохранить за ними всю полноту жизнен-
ной типизации, реалистической достоверности. В них ничего не
должно быть преувеличенного или тривиального.
Гоголь жаловался, что главного существа в нем самом ни-
кто из критиков не определил,— только один Пушкин заметил
гоголевский дар выставлять ярко пошлого человека, пошлость
жизни, «чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мельк-
нула бы крупно в глаза всем». Гоголь отчетливо понимал, что
изображение жизни не сводится к одной правдивости, а пред-
полагает и заострение, и преувеличение. Он связал проблему
типизации с проблемой гротеска.
После большого перерыва в истории русской критики (при-
близительно с конца XVIII века) Гоголь снова вернулся к проб-
лемам сатиры и смеха, связав их с новым, критическим реализ-
мом, начинавшим господствовать во всех жанрах. В «Петер-
бургских записках 1836 года» Гоголь рассуждал о значении
смеха в современном искусстве и указывал, что он имеет в виду
не легкий, развлекательный юмор и не смех грубой, невежест-
венной толпы, жадной до карикатур и гримас, но тот «электри-
ческий, живительный смех, который исторгается невольно, сво-
бодно и неожиданно, прямо от души...», полон ума и высокого
искусства.
Размышления писателя шли навстречу построениям Белин-
ского о властном, всепроникающем, глубоком «гуморе», кото-
рый он находил прежде всего в творчестве самого Гоголя. Этот
«тумор» должен быть отличительной чертой современного реа-
лизма. Гоголь п Белинский не называли этот реализм критиче-
ским, сам термин появился гораздо позднее, нс знали они и
термина «реализм», но в учении о «гуморе», в рассуждениях о
карающем смехе, о живых уроках уже были заложены элемен-
ты понимания того, что правдивое воспроизведение действитель-
ности непременно должно нести в себе определенное критиче-
ское суждение о ней, или «приговор над действительностью»,
как позднее скажет Чернышевский.
Внимание современников, по словам Пушкина, «не смеяв-
шихся со времен Фонвизина», было обращено Гоголем к забы-
тому жанру комедии. Бездумные водевили и кровавые мелодра-
мы Дюма, Дюканжа «пролезли» на русскую сцену. «Из театра
мы сделали игрушку,— сетовал Гоголь,— ...позабывши, что это
такая кафедра... с которой читается разом целой толпе живой
урок...». Поистине, дух века требовал важных перемен и в об-
ласти комедии. «Ради бога,— восклицал Гоголь,— дайте нам
русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших
чудаков! на сцену их, на смех всем!» Гоголь был против надоев-
ших комедий с любовной интригой, он был за общественную ко-
медию с острым, социальным, обличительным содержанием.
121
В самой языковой, композиционной фактуре пьесы, считал он,
должны быть заложены возможности игры, жеста, мимики, оп-
ределенной манеры сценического поведения. Все в пьесе должно
«вязаться живым узлом». Блестящим образцом такого живого,
«кипящего» действия является «Ревизор». На опыт Гоголя опи-
ралась вся последующая русская драматургия. Гоголь указывал
на необходимость сквозного сюжетного действия в драме. Эта
теория исходила из ведущей роли содержания, мотивировок, она
начисто отменяла героев-статистов, резонеров, вестников, услов-
ные завязки и развязки.
Пушкин советовал Гоголю написать историю русской кри-
тики. Гоголь в первой половине 40-х годов подумывал о том,
чтобы создать «Учебную книгу словесности для русского юно-
шества». К сожалению, оба проекта не были осуществлены.
До нас дошел гоголевский план учебной книги по словесности, в
котором очень интересны и содержательны замечания по тео-
рии жанров. Его привлекли повествовательные сочинения, ко-
торые составляют «как бы середину между романом и эпопеей».
Время древней эпопеи прошло, это Гоголь понимал. Но и ро-
мантические виды повествования могут быть различные: есть
собственно роман, требующий центрального персонажа, на кото-
ром сосредоточивается, как в драме, все действие, и есть «мень-
ший род эпопеи», занимающий «середину между романом и
эпопеей», в которой главная задача провести героя «сквозь цепь
приключений и перемен» и показать «почти статистически схва-
ченную картину недостатков, злоупотреблений, пороков» вре-
мени. Этот тип романа приближается к известному в литера-
туре роману приключений (недаром Гоголь называет создате-
лями этого жанра Ариосто, Сервантеса), но в современных
условиях суть такого повествования не в авантюрных приключе-
ниях героя, а в показе социального фона, в серии картин, в па-
нораме социальных отношений.
В свете таких рассуждений Гоголя становится понятным сю-
жет его «Мертвых душ» и неслучайность того, что жанр этого
произведения назван «поэмой». Но рассуждения Гоголя ничего
общего не имели с попытками К- Аксакова отождествить «Мерт-
вые души» с «Илиадой». Рассуждения Гоголя ближе к точке
зрения Белинского, так как и в такого рода «поэме» главный
пафос не утверждающий, а сатирический, он — в показе «недо-
статков и злоупотреблений». Еще раз подчеркнем: для Гоголя,
как и для Белинского, древний эпос начисто отошел в прошлое
и ни под каким видом невозродим в новых условиях. В своих
рассуждениях о «малой эпопее» Гоголь оставался реалистом и
сатириком, он только намечал различные виды современного ро-
мана, старательно выделяя тот его жанр, который позволял
наиболее емко изобразить современную жизнь. Гоголевский
жанр «малой эпопеи» отчасти связан с общепринятым понятием
«романа-эпопеи», а также сатирическими циклами.
122
Главные контуры историко-литературной концепции набро-
саны Гоголем в цитировавшейся статье «В чем же, наконец,
существо русской поэзии и в чем ее особенность». Эта статья,
вошедшая в «Выбранные места из переписки с друзьями», ду-
мается, еще не привлекла должного внимания исследователей.
В конкретных оценках Ломоносова, Державина, Жуковского
автор статьи очень близок Пушкину и Белинскому, а в оценке
Пушкина чувствуется отголосок знаменитых статей Белинского
о великом поэте.
Прослеживая, как постепенно русская поэзия обрела нацио-
нально-народные черты, Гоголь следит еще за одним ее важным
качеством — формами реализма. На этот второй план статьи
Гоголя, по нашему мнению, исследователи вовсе еще не обра-
щали внимания.
Вслед за Белинским Гоголь особо выделяет сатирическую
поэзию, называя ее «другой стороной» поэзии (Белинский назы-
вал ее «направлением»). Родоначальником сатиры он, как и
Белинский, называет Кантемира, «хлеставшего... глупости едва
начинавшегося общества». Потом Гоголь указывает вершины
сатиры—«Недоросль» и «Горе от ума», в которых изображены
«раны и болезни нашего общества». И у Пушкина Гоголь под-
черкивает прогрессирующее развитие черт, прямо характери-
зующих его как поэта русской действительности: «В последнее
время набрался он много русской жизни...»; «Мысль о романе
(заметим, уже не о романе в стихах.— В. К.), который бы по-
ведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жиз-
ни, занимала его в последнее время неотступно».
И у Лермонтова, поэта «первостепенного», субъективно-ро-
мантического пафоса, певца «безочарования» (Гоголь говорит,
что это слово придумано Жуковским для обозначения поэзии
лермонтовского типа по сравнению с шиллеровской поэзией
«очарования» и байроновской «разочарования»), Гоголь также
выделяет черты «живописца русского быта», роднящие его с
основным «натуральным» направлением русской литературы.
Ответ на поставленный в заглавии статьи вопрос получался
такой: существо русской поэзии и ее особенность заключались
в укреплении ее национальной специфики и в развитии реали-
стического принципа и форм изображения действительности.
Но в статье Гоголя был тезис, гласивший, что, как ни вели-
ки, как ни очевидны успехи русской литературы на пути народ-
ности и реализма, «поэзия наша не выразила нам нигде русско-
го человека вполне, ни в том идеале, в каком он должен быть
(т. е. в его национальной, идеально чистой субстанции.— В. К.),
ни в той действительности, в какой он ныне есть» (т. е. каким
изображает его критический реализм.— В. К.).
Тут Гоголь, так же как и во втором томе «Мертвых душ»
и некоторых письмах конца 40-х годов, высказывал свои меч-
тания о возможности и необходимости изображения доброде-
123
тельных русских помещиков и чиновников, противостоящих тем
пошлым людям, которых изображает сатира. Оказывается в
этой связи, что «нет, не Пушкин или кто другой должен стать
теперь в образец нам: другие уже времена пришли... Христиан-
ским, высшим воспитанием должен воспитаться теперь поэт.
Другие дела наступают для поэзии». В этих-то задачах, в сми-
ренно-мудрой христианской идеализации жизни Гоголь и готов
«наконец» усмотреть существо и особенность русской поэзии.
И все же эта статья — выдающаяся. Недаром Гоголь доро-
жил ею. Она подытоживала всю его критическую деятельность,
свидетельствовала о концептуальности мышления. Мы отчет-
ливо видим, что Гоголь в разработке историко-литературной и
эстетической концепции приближался к Белинскому больше,
чем обычно принято считать.
Источники
Литературная критика 1800—1820-х гг.— М., 1980.
Русские эстетические трактаты первой трети XIX в.: В 2 т.— М., 1974.
Литературно-критические работы декабристов.— М., 1978.
Декабристы: Поэзия, драматургия, проза, публицистика, критика:
В 2 т,— М.; Л., 1951.
Русская критика от Карамзина до Белинского.— М., 1981.
«Их вечен с вольностью союз». Литературная критика и публицистика
декабристов.— М., 1983.
Жуковский В. А. Эстетика и критика.— М., 1985.
Батюшков К. Н. Соч.—М.; Л., 1934.
Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2 т.— М., 1981.— Т. 2.
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи.— Л., 1979.
Рылеев К. Ф. Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки,
письма.— М., 1956.
Вяземский П. А. Соч.: В 2 т.— М., 1982.— Т. 2.
Веневитинов Д. В. Поли. собр. соч.—М., 1934.
Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве.— М., 1982.
Киреевский И. В. Критика и эстетика.— М., 1980.
Аксаков К- С., Аксаков II. С. Литературная критика.— М., 1982.
Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика.— М., 1972.
А. С. Пушкин-критик.— М., 1978.
Н. В. Гоголь о литературе.— М., 1952.
Пособия и исследования
Соколов А. Н. История русской литературы.— 5-е изд.— М., 1987.
Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX в.— М.;
Л„ 1959.
Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы.— М., 1953.
Базанов В. Г. Вольное общество любителей российской словесности.—
2-е изд.— Л., 1964.
Орлов В. Русские просветители 1790—1800-х гг.— 2-е изд.— М., 1958.
Канунова Ф. 3. Вопросы мировоззрения и эстетики В. А. Жуков-
ского.— Томск, 1990.
124
Мейлах Б. С. Пушкин и русские романтики.— М., 1965.
Г и л л е л ь с о н М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство.—
Л., 1974.
Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество.— Л., 1969.
Евгеньев-Максимов В. Е., Березина В. Г. Н. А. Полевой:
Очерк жизни и деятельности.— Иркутск, 1947.
Манн Ю. В. Русская философская эстетика (1820—1830-е гг.).— М.,
1969.
Морозов В. Д. Очерки по истории русской критики второй половины
20—30-х гг. XIX в.— Томск, 1979.
Милованова О. О. Проблемы художественного историзма в рус-
ской критике пушкинской эпохи (1825—1830).— Саратов, 1976.
Попов И. В. Литературная критика преддекабристского периода в ее
публицистическом аспекте.— Куйбышев, 1975.
Попов И. В. Публицистическая критика декабристского времени.—
Куйбышев, 1979.
Максимов Д. «Современник» в 40—50-е гг. от Белинского до Чер-
нышевского.— Л„ 1934.
Бонди С. М. Историко-литературные опыты Пушкина//Литературное
наследство.— М., 1934.— Т. 16—18.
Дрягин К. Борьба Пушкина за реалистическую эстетику//Пушкин —
родоначальник новой русской литературы.— М.; Л., 1941.
Асмус В. Ф. Пушкин и теория реализма//Вопросы литературы.—
1958.—№ 3.
Мордовченко Н. И. Гоголь и журналистика 1835—1836 гг.//
Н. В. Гоголь: Материалы и исследования.— М.; Л., 1936.— Т. 2.
ГЛАВА 8
Создание концепции русского критического реализма.
1830—1840 годы
Виссарион Григорьевич Белинский (1811—1848) придал кри-
тике журнальный, публицистический характер, превратил ее в
орудие борьбы за революционно-демократические идеалы. Мно-
гие писатели и критики считали его своим учителем: они воспи-
тывались в «школе идей» Белинского (так назвал эту школу
Щедрин).
Разночинец Белинский прошел сложный путь развития от
идеализма к материализму, от романтической антикрепостни-
ческой оппозиционности («Дмитрий Калинин», 1830) к осознан-
ному революционному демократизму («Письмо к Н. В. Гого-
лю», 1847).
Его исходной п.озищ1еД_«в_^облао1И- критики был реалиэ-м.
Уже влервой своей оригинальной статье -—«Литературные меч-
тания» (1834), которая справедливо считается началом русской
классической критики, Белинский выступал как страстный гла-
шатай критического^реализм a. Bcip жизнь он строил свою эсте-
тическую систему и свою историко-литературную концепцию. Он
125
все более и более углублял объяснение истории поэтики и за-
дач реализма.
Деятельность БелинСкого наглядно разделяется на москов-
ский (1833—1839) и петербургский (1839.-1848) периоды.
Если же рассматривать критическую деятельность Белин-
ского с точки зрения участия его в журналах, которые он умел
превращать в органы реалистического направления независимо
от их прежней репутации, то можно выделить след ющие четь -
ре периода.
'725ою деятельность Белинский начал в качестве переводчика
₽ журнале «Телескоп» и литературном приложении к нему
«Молва», издававшихся Надеждиным в Москве. Этот первый
период, с «Литератур у да мечтаний» и до закрытия «Телеско-
па», охватывает 1833—1836 го^^рОбратим внимание на логи-
ческую системность появления и расположения статей Белин-
ского в этом периоде. «Литературные мечтания» были широ-
чайшим эскизом концепции критика. А всего через год в статье
«О русской повести и повестях Гоголя» (1835) Белинский в об-
щеэстетическом плане провел важное разграничение поэзии
на Два тида>- поэзию «идеальную и, лаэзща. «реальную», ока-
зав предпочтение второй из них как более соответствующей ду-
ху времени. Кроме того он выделил в «реальной поэзии» про-
заически-повествовательные жанры, т. е. повесть и роман как
наиболее важные формы «эпоса нового времени». Наконец, Бе-
линский провозгласил Гоголя еще при жизни Пушкина главой
современной русской литературы.
Девизом критика становится поэзия действительности, «го-
голевское» направление. Народность и простота вымысла го-
голевских созданий полемически противопоставляются роман-
тическим повестям Марлинского, а поэзия народного самородка
Кольцова — безвкусной мещанской поэзии Бенедиктова. Бе-
линский сразу занял резко полемическую позицию по отноше-
нию к московской консервативной партии в литературе («О кри-
тике и литературных мнениях «Московского наблюдателя») и
реакционной петербургской журналистике с Булгариным и Сен-
ковским во главе («Ничто о ничем»). Все эти статьи «телескоп-
ского ратования» заложили основы русской реалистической кри-
тики.
Следующий период журнальной деятельности Белинского,
Когда он стал во главе преобразованного «Московского наблю-
дателя» (1837—1839), был в области критики менее плодотвор-
ным, чем предыдущий. Но этот период очень важен с точки
зренияхДшлософской эволюции Белинского: критик пережевал
так называем^ примирение с «расийской действительностью»,
сущность которого мы объясним несколько ниже. Оно отрази-
лось еще в «телескопской» рецензии на книгу А. Дроздова
«Опыт системы нравственной философии» (1836), затем в ста-
тье «Гамлет»—драма Шекспира, Мочалов в роли Гамлета» и
126
нескольких рецензиях, появившихся в «Московском наблюдате-
ле», а также в статьях, напечатанных в «Отечественных запис-
ках» конца 1839 года и начала 1840 года: «Очерки Бородинско-
го сражения», «Менцель — критик Гете».
С наибольшей силой деятельность Белинского развернулась
/jftTe годы в Петербурге, когда он по приглашению Краевского
в ал во главе критического отдела журнала «Отечественные
записки» (1839—1846) и «Литературных прибавлений к «Рус-
скому инвалиду», переименованных с 1840 года в «Литератур-
ную газету». Взгляды Белинского нашли свое отражение в по-
явившихся здесь обзорах русской литературы за 1840—1845 го-
ды, в статьях «Речь о критике», «Герой нашего времени»,
«Стихотворения М. Лермонтова», «Сочинения Александра Пушки-
на», в полемических рецензиях по поводу «Мертвых душ» Гого-
ля и во множестве других.
Белинский напечатал несколько сотен рецензий, в которых
дал оценку новейшим явлениям русской литературы; он был
также постоянным театральным обозревателем. Критик сделал-
ся центральной фигурой эпохи, общепризнанным вождем реа-
листического направления.
Современники оставили много свидетельств о нелицеприят-
ных, предельно откровенных литературных суждениях Белинско-
го в частных беседах. Он был чутким воспитателем талантов.
О его принципиальности с восхищением вспоминал Герцен:
«...в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала
мощная гладиаторская натура! Да, это был сильный боец!» Он
мог порвать давние дружеские отношения, если обнаруживал
принципиальное расхождение во взглядах. Так именно произо-
шло у него с К- С. Аксаковым в 1842 году, с которым он дру-
жил почти десять лег, еще со времен кружка Станкевича.
В 1842 году они разошлись в оценке «Мертвых душ» Гоголя:
Аксаков явно склонялся к консервативным взглядам. К 1847—
1848 годам назрел у Белинского разрыв с давним другом
В. П. Боткиным, начинавшим осуждать произведения «нату-
ральной школы» с позиций теории «чистого искусства».
В 1846 году Белинский порвал с «либералом» Краевским и
ушел из «Отечественных записок», которым отдал столько сил.
Все теснее Белинский сближался с Некрасовым, Герценом, Ога-
ревым, молодыми писателями, шедшими вслед за Гоголем.
Никогда не прекращалась полемика Белинского с откровенно
реакционным петербургским лагерем, возглавлявшимся
Ф. В. Булгариным — издателем газеты «Северная пчела»,
Н. И. Гречем — издателем журнала «Сын Отечества» и
О. И. Сенковским, подчинившим своему влиянию журнал «Биб-
лиотека для чтения». Но в 40-е годы развернулась полемика
Белинского с более изощренными защитниками застоя—мос-
ковскими профессорами М. П. Погодиным и С. П. Шевыревым
(с 1841 года они стали издавать журнал «Москвитянин»).
127
Постепенно разгоралась и к концу 40-х годов приобрела осо-
бенно ожесточенный характер полемика Белинского со славя-
нофилами— К- С. Аксаковым, А. С. Хомяковым, И. В. Киреев-
ским, Ю. Ф. Самариным. Все они были противниками критиче-
ского реализма.
Белинскому приходилось в этот период отстаивать, свою про-
грамму в борьбе с различными группировками в либерально-
прогрессивном лагере, непоследовательными сторонниками
«натуральной школы», слишком субъективными истолковате-
лями ее задач. Расхождения во взглядах обозначались весьма
явственно (Боткин, Галахов, Корш)-
Осенью 1846 года Белинский перешел в журнал «Современ-
ник», когда Некрасов и Панаев купили право издавать этот
журнал, основанный некогда Пушкиным. Здесь Белинский опуб-
ликовал два своих последних литературных обзора — за 1846 и
1847 годы. В них он высоко оценил успехи «натуральной шко-
лы», произведения Герцена, Гончарова, Тургенева, Достоев-
ского. Критик имел возможность увидеть полное торжество от-
стаивавшегося им реалистического направления в русской ли-
тературе, его жизнеспособность и устойчивость. Не могло поко-
лебать его и то обстоятельство, что Гоголь, «отец натуральной
школы», как раз в это время переживал тяжелейший идейный
кризис, отказался от своих великих реалистических произведе-
ний и в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» про-
поведовал свои новые взгляды. В рецензии на эту книгу и осо-
бенно в «Письме к Н. В. Гоголю», написанном в Зальцбрунне
в июле 1847 года, Белинский сурово осудил отход Гоголя от ре-
ализма. Он не только подсказывал Гоголю выход из тупика, но
и с большой гордостью констатировал преобладающее влияние
в русской литературе здоровых начал, верных взглядов, желание
большинства писателей выполнить свой общественный долг в
борьбе с крепостничеством и самодержавием.
Белинский смог сделаться теоретиком реализма благодаря
тому, что был революционным демократом. Он в «Письме к
Н. В. Гоголю» ставил вопрос об уничтожении крепостничества,
телесных наказаний, обуздании произвола властей. Закончен-
ной программы крестьянской революции, подобной программе
Чернышевского, у Белинского еще не было. Но своей задачей
критик считал всемерное приближение часа революционной ак-
тивности народа. Никаких надежд на немедленное выступление
критик не питал, но он верно определял общую цель своей дея-
тельности.
Эти трезвые тактические соображения Белинского не долж-
ны заслонять революционного существа его требований и явных
симпатий к решительным средствам борьбы. В 1842 году он в
кругу своих петербургских друзей, в письмах к Грановскому и
Герцену весьма оживленно вел споры о заслугах Робеспьера и
Сен-Жюста, о преимуществах «монтаньяров» над «жиронди-
128
стами» и среди слушателей и спорящих вызвал такой же рас-
кол на «монтаньяров» и «жирондистов».
Уже во второй половине 40-х годов для Белинского кресть-
янская революция была одной из возможностей избавления на-
рода от бедствий крепостничества. Он знал, что историческое
развитие России вынуждает самодержавие провести реформы,
что оно боится назревающего крестьянского возмущения. Бе-
линский писал П. В. Анненкову в начале декабря 1847 года:
«Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение.
Все, что делается в Питере, доходит до их разумения в смеш-
ных и уродливых формах, ио в сущности очень верно. Они убеж-
дены, что царь хочет, а господа не хотят. Обманутое ожидание
ведет к решениям отчаянным... Оно и понятно: когда масса спит,
делайте, что хотите, все будет по-вашему; но когда она проснет-
ся— не дремлите сами, а то быть худу...» Белинский заявил, что
история поставила на очередь дня альтернативу: или будет
проведена реформа, или вопрос об освобождении «решится сам
собою, другим образом, в 1000 (раз) более неприятным для
русского дворянства»* 1.
Но Белинский понимал, что восстание крестьян и решение
вопроса о крепостничестве не единичный акт возмущения, не
счастливый случай, а результат работы целого поколения про-
светителей и революционеров.
В этой связи Белинский и ставил перед литературой, крити-
кой и всем идейным движением эпохи задачу всестороннего
развенчания самодержавия и крепостничества.
Именно как революционный демократ Белинский раскрывал
всю широту эстетических программных задач перед реалистиче-
ским направлением в литературе. Вставала со всей остротой
ш^ача выработки правильного мс'цтда в критике. Тут решаю-
щее значение приобретало изучение диалектики. Овладеть диа-
лектикой оказалось делом нелегким. Но, начиная с Белинского,
русская критика сделалась выражением целостного философ-
ского мировоззрения.
С осени 1837 года, отчасти под влиянием философии Геге-
ля, у Белинского, как мы уже говорили, начинается так назы-
ваемый период примирения с «расейской действительностью»,
длившийся до осени 1840 года.
В чем же сущность примирения? Опираясь на Гегеля, Белин-
ский решал важнейший вопрос общественной и революционной
практики — вопрос о свободе и необходимости. Его уже не удо-
влетворял чисто романтический протест против крепостничест-
ва, характерный для движения декабристов и свойственный его
собственному раннему произведению — драме «Дмитрий Кали-
нин», послужившей властям поводом для исключения его из
университета, а также полному отчаяния «Философическому
1 Белинский В. Г. Собр. соч.— Т, 9.— С. 688.
I) Знкпз № 1367
129
письму» Чаадаева, за публикацию которого царскими властя-
ми был закрыт журнал «Телескоп». Необходимо было найти
реальные общественные силы, управляющие историческим про-
грессом. Формула Гегеля «все действительное разумно, все раз-
умное действительно» выражала на языке идеализма ту мысль,
что все подлинно прогрессивное в жизни людей разумно и оно
рано или поздно с неодолимой необходимостью проложит себе
путь в действительности. Согласно гегелевскому учению, вся
картина мира есть развитие «мирового разума».
Таким образом,.д исканиях Белинского этого периода нашел
выражение исторический ререход от романтических форм борь-
бы к формдм-более реальным. Свобода действий уже понима-
лась не как порыв отдельной -личности или заговор кучки смедь-
чаков, преисполненных «дум высокого стремленья», а как
деятельносхь-uia -основе познанных, здконов объективной исто- .
рической неодолимости. Программа движения и литератур-
ного творчества строидась уже на реальном знании жизни,
движущих сил истории; главнейшей из них для демократов,
начиная с Белинского, становилось крестьянство: с его рево-
люционным выступлением связывались все демократические пе-
ремены в стране. Овладение диалектикой позволяло оконча-
тельно укрепиться на позициях реализма, трезвого знания дей-
ствительности.
Но здоровый процесс сближения с действительностью ради
ее лучшего понимания и изменения таил в себе опасность свое-
го рода фатализма'.^ которого первое время не избежал Белин-
ский. Дело в том, что диалектическое приятие действительно-
сти, примирение с ней как с объектом познания подразумевает
и ее отрицание, т. е. трезвый ее анализ, отграничение в ней
важного от неважного, нового от старого, прогрессивного от
реакционного, «разумного» от «неразумного». Если ограничить-
ся только приятием и забыть об отрицании, то человек остано-
вится на полпути к познанию полной истины, удовольствуется
однобокой констатацией фактов без понимания их полного
смысла. Плеханов в статье «Белинский и «разумная действитель-
ность» (1897) показал, что Белинский мирился, собственно, не
с правительством Николая I, а с «печальной судьбой своего
абстрактного идеала». Он хотел обосновать ход идей ходом ве-
щей . То есть примирение было следствием безвременья, страш-
ного одиночества Белинского, кризиса прежних отвлеченных
представлений о свободе воли. Критик сам назвал это прими-
рение в одном из писем «насильственным». Это был трудный
путь овладения подлинной диалектикой как «алгеброй револю-
ции», путь к реальным силам истории, к тому, чтобы возгла-
вить реалистическое направление в литературе.
«Плеханов Г. В. Соч. —М.; Л., 1925. —Т. X. — С. 223; 1926,—
Т, XXIII,—С. 132.
130
«Примиряться» с действительностью, правда, без ошибок и
односторонности Белинского, приходилось всем передовым дея-
телям того времени — Герцену, Огареву, Петрашевскому. При-
мер Белинского облегчал им путь. Огарев писал Герцену в
1844 году из Берлина: «...примирение есть проникновение себя
истиной». О сближении с действительностью как средстве вы-
хода из сектантской кружковой революционной романтики на
поприще реальной борьбы говорил на своих «пятницах»
М. В. Петрашевский в 1849 году: «Не оттолкнем в сторону
с улыбкой презрения окружающую нас действительность, но
рассмотрим ее внимательно, изучим се тщательно и дадим жи-
вому и способному к пей в жизни достичь желанной полноты
развития. Никакое прошедшее по уничтожается, ио живет в ре-
зультатах— толковое знание его может сделать всякого вла-
стителем будущего». Такое «примирение» проходит каждый дея-
тель, совершающий эволюцию от отвлеченных форм протеста
к формам реальным. Критику-реалисту это было крайне необ-
ходимо проделать.
Белинский вскоре освободился от примирительных настрое-
ний. В начале 40-х годов завершается формирование его фило-
софско-материалистических и революционно-демократических
убеждений. Этому способствовали контрасты жизни, наблюдае-
мые в казенно-официальном Петербурге, встреча с Герценом,
только что отбывшим политическую ссылку и оставшимся под-
надзорным пленником царизма, влияние Лермонтова, который
своей бунтарской поэзией «втягивал» Белинского «в борьбу с
собой» (слова П. В. Анненкова), знакомство с прошедшим труд-
ную жизненную школу Некрасовым, практическая борьба за
«гоголевское» направление. «Проклинаю мое гнусное стремление
к примирению с гнусною дсйствительностию!—писал Белин-
ский Боткину в октябре 1840 года.—...Да здравствует разум, да
скроется тьма!» Через год в письме к тому же адресату Белин-
ский заявлял: «Отрицание — мой бог»; «Социальность, соци-
альность или смерть!»; «В истории мои герои — разрушители
старого— Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Бай-
рон...».
В чем же сущность выхода из примирения? Это выход к пол-
ному овладению диалектикой с ее идеен «отрицания», к реаль-
ной социальной борьбе, к критическому реализму в литературе
н к ее тогдашнему острию — гоголевской сатире.
Навсегда в критическом методе Белинского закрепились ос-
новные положения диалектики, которые помогали ему подхо-
дить к- художественному/ ’Чгв^рчеству исторически, судить о нем
<• точки зрения главных, определяющих его идей, рассматривать
их в движении и развитии, в борьбе с противоположными идея-
ми. Направление критического реализма осознавалось в каче-
стве своеобразного итога всего предшествующего литературно-
го развития России, и прежние литературные направления вы-
ч+
131
глядели теперь как стадии на пути к нему. «Ничто не является
вдруг,—писал Белинский в статьях о Державине в 1843 году,—
ничто не рождается готовым; но все, имеющее идею своим ис-
ходным пунктом, развивается по моментам, движется диалекти-
чески, из низшей ступени переходя на высшую. Этот непрелож-
ный закон мы видим и в природе, и в человеке, и в человече-
стве».
Поступательный процесс не умозрительная прямая; надо
быть всегда готовым к неожиданным комбинациям нового со
старым, хотя новое выходит из «отрицания старого». Новое ка-
чество явлений может повторяться на разных уровнях: «Чело-
вечество движется не прямою линиею и не зигзагами, а спи-
ральным кругом, так что высшая точка пережитой им истины
в то же время есть уже и точка поворота его от этой истины,—
правда, поворота не вверх, а вниз; но для того вниз, чтоб очер-
тить новый, более обширный круг и стать в новой точке, выше
прежней, и потом опять идти, понижаясь, кверху...» («Руковод-
ство к всеобщей истории Ф. Лоренца», 1841). Бел ” него
раз подчеркивал, цто отличительный характер русской литера-
туры состоит в «резкой противоположности ее явлений» («Ге-
рой нашего времени», 1840). Он был первым критиком, к&торо,-
го эта особенность др обескураживала, не казалась простым
столкновением недоразумений, оэдюлюбий,
.Он цидед в этом закон жизни, так как «все живое есть ре-
зультат борьбы; все, что является и утверждается без борьбы,
все то мертво». Эта борьба имеет свой смысл, имеет цель и
даех. Свои плоды в виде все более и более утверждающегося
кщщшеского
Диалектика вовсе не делала Белинского созерцателем ре-
зультатов объективного процесса. Со всем страстным темпера-
ментом Белинский бросался в борьбу. Он понимал, как теоре-
тик, что исторический процесс развивается через активную
деятельность людей, идейных течений, направлений. Высоко це-
ня объективную логику исторической диалектики, он столь же
высоко ценил роль действующего субъекта, без которого она
мертва. «Благо тому, кто, не довольствуясь настоящею дейст-
вительностию, носил в душе своей идеал лучшего существова-
ния, жил и дышал одною мыслию — споспешествовать, по ме-
ре данных ему природою средств, осуществлению на земле
идеала,— рано поутру выходил на общую работу и с мечом, и
с словом, и с заступом, и с метлою, смотря по тому, что было ему
по силам, и кто являлся к своим братиям не на одни пиры
веселия, но и на плач и сетования...» («Сочинения А. Пушки-
на», 1843).
Белинский сознавал великую миссию русской литературы,
высоко расценивал свое призвание литератора: «Умру на жур-
нале и в гроб велю положить под голову книжку «Отечествен-
ных записок»... Литературе расейской моя жизнь и моя кровь»
132
(Письмо В. П. Боткину 14—15 марта 1840 г.). В статье «Речь
о критике» (1842) Белинский провозглашал: «В критике нашего
времени более, чем в чем-нибудь другом, выразился дух време-
ни. Что такое само искусство нашего времени?—Суждение, ана-
лиз общества: следовательно, критика». «Дух анализа и иссле-
дования— дух нашего времени. Теперь все подлежит критике,
даже сама критика»-, «Действительность в фактах, в знании, в
убеждениях чувства, в заключениях ума,— во всем и везде дей-
ствительность есть первое и последнее слово нашего века».
Переход в 40-е годы на материалистические позиции в реше-
нии основного вопроса философии еще сильнее вооружил Бе-
линского как теоретика реализма Еще яснее и тверже он осо-
знавал связь явлений в мире.
Материализм п диалектика помогали Белинскому изгнать из
к'тетнкп априорность, идеалистическую схоластику в объясне-
нии многих проблем, связанных с природой искусства и поэти-
ческого творчества, добиться максимального для домарксист-
ской мысли историзма в этой области. В 1843 году Белинский
писал: «...эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о
чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может
осуществиться только по ее теории: нет, она должна рассмат-
ривать искусство, как предмет, который существовал давно
прежде ее и существованию которого она сама обязана своим
существованием» («Сочинения Державина»).
Но критик не менее ясно понимал и обратную связь эстети-
ческих идеи с художественным творчеством. Когда гений кри-
1ИКП опережает гения искусства, тут существует определенное
взаимодействие.
Белинский был выдающимся эстетика ед. теоретиком искус-
ства. Он выработал свой.эстетический кодек^, которым измерял
степень художественности произведений. Кодекс складывался
постепенно, но особенно ясные черты он приобрел к середине
10-х годов.
Решая вопрос о сущности и специфике искусства, Белинский
решал основной вопрос эстетики; о соотношении истины худо-
/кественной с истиной действительности, о необходимости и це-
ли искусству. Мы обращаем внимание на слово истина, так как,
попреки распространенному и сейчас мнению, сущность эстети-
ческого у Белинского сводилась не к «воплощению прекрасно-
ю» или «эстетическим отношениям», аУГ «щ^цце»^ достоверно-
। н отображения действительности в искусстве. Поэтому и ос-
новной вопрос эстетики для нсгоЗаключаётся не в ^отношении
двух типов прекрасного— в искусстве и действительности, а
н соотношении двух типов истин: истины объективной дейст-
вительности и истины, отображенной в художественном произ-
всленпи. Белинский много размышлял об «объекте», о «предме-
|(>", о «содержании» искусства. Но нигде не говорил об эсте-
iipiecKHx отношениях как основе искусства. Он всегда видел в
133
искусстве, как мы теперь бы выразились, «гносеологическую» и
«идеологическую» его сущность. Человек в его социальных свя-
зях преимущественный предмет искусства.
Самое раннее определение сущности искусства дается Бе-
линским в «Литературных мечтаниях» (1834). Достоинство его
в том, что главный вопрос эстетики сразу же выведен из обла-
сти субъективистских и догматических определений классици-
стической и романтической эстетики. Ходячие определения гла-
сили, например, чю искусство — это «украшение природы», это
«мир прекрасного», «мир фантазии» художника. Белинский вы-
двигал в своей первой статье пока еще объективно-идеалисти-
ческое определение: искусство — это отблеск божественной идеи,
абсолютного духа.
В «Литературных мечтаниях» мы встречаемся со своеобраз-
ным взаимопроникновением идей Шеллинга и Гегеля (последнее
могло дойти до Белинского в популярных изложениях). Гегелев-
ское начало в определении сущности искусства проявилось у
Белинского в утверждении, что абсолютная идея объективна,
а искусство — одна из форм (но не высочайшая) проявления
идеи; шеллингианское же начало заключалось в том, что твор-
чество рассматривалось как бессознательный акт, род сомнам-
булизма. В «Литературных мечтаниях» подчеркивалась все-
сильность искусства, его происхождение от «абсолютной идеи»,
но его специфическая образная природа, идеологическая сущ-
ность оставались нераскрытыми. Не рассмотрен был субъект
творчества, сам поэт как общественный человек. Теория «бес-
сознательного» творчества, приравнивая поэта к богу, творче-
ский акт рационально не раскрывала. Это была еще во многом
романтическая теория творчества.
Дальнейшее развитие мысли Белинского после «Литератур-
ных мечтаний» заключалось в конкретизации именно всех этих
положений о специфических формах искусства, его идейности,
о творческом акте художника.
Так, на переломе 1830—1840-х годов Белинский провозгла-
сил, что искусство — это «непосредственное созерцание исти-
ны». Но здесь уже на главном месте оказывались специфические
формы «непосредственности» искусства: его образность, связь
с чувственными сторонами объективного мира. Кроме того, ис-
кусство сопоставлялось с наукой, религией, с другими формами
познания истины. В моменте созерцания выделен субъект твор-
чества, сам художник. Но и здесь позиция художника ограни-
чивается «созерцанием» истины, ничего активного, мировоззрен-
ческого в познании пока не раскрывается. Теперь перейдем к
слову истина. Оно также очень важно: искусство не просто от-
блеск божественной идеи, а познание «истины». Ясно, что речь
идет о посюсторонней истине, о конкретной действительности, в
которую воплотилась идея.
Еще одна ступень — это формула 1841 года; она гласит:
134
«Искусство есть непосредственное созерцание истины, или мыш-
ление в образах» («Идея искусства»).
Искусство — это «мышление», оно уже не бессознательный
акт, на него можно распространить богатство категорий логи-
ки, эстетика возможна как наука. Важно указание на образ-
ность как специфическую черту мышления в искусстве. Эту фор-
мулу следует признать весьма удачной у Белинского (она упо-
минается им в несколько иной редакции и в обзоре литературы
<а 1847 год).
В ней нет и намека на творчество, воссоздание жизни. Фор-
мула не подразумевает художественных методов, способов со-
•дания произведения. Ведь искусство не является мышлением
образами «про себя», а мыслить можно и про себя. В чем же
разини,а между писателем и читателем, если читатель тоже мы-
слит образами? В искусстве мы имеем дело не с намерением
творить, а с готовыми произведениями искусства. Творческий
акт — акт познавательный. Вот почему эта формула не оста-
лась единственной у Белинского и в общем не постоянно им упо-
доблялась. В формуле выпадает момент об истине, не указана
цель искусства, его предмет (познание истины действительно-
сти). Мышление, о котором идет речь, здесь так же бесстраст-
но и созерцательно, как и в предыдущей формуле.
Когда Белинскому нужно было указать на отражательную,
идеологическую особенность искусства, он всегда прибегал к
другим формулам.
В статье «Горе от ума» Белинский отмечал как важное свой-
ство искусства его активное вторжение в жизнь и переработку
ее: «Создания поэта не суть списки или копии с действительно-
сти, но они сами суть действительность, как возможность, полу-
чившая свое осуществление». Домысливать действительность по
логике самой же действительности, т. е. типизировать ее, мо-
жет не гегелевское само себя мыслящее абсолютное мышление,
.1 субъективное человеческое, отражательное мышление.
В статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1841) Белинский
также подчеркивал эти особенности искусства.
Образ здесь не только слепок с действительности, но и ее
переработка, делающая предмет доступным взору со всех сто-
рон. В формуле «мышление в образах» эта особенность актив-
ною познания жизни в образах скрадывалась, а теперь она
выступала ясно.
У Белинского нет однозначной формулы сущности искусст-
П.1,—именно широкое, многоаспектное хе_-1юлимаш_щ.избавляло
ci о от односложных решений. Ведь и в прежних формулах,
которые Белинский готов был выдавать за универсальные, в
сущности, подчеркивалась то одна, то другая сторона искусст-
в.1 (го выпадает истина как цель, то образность как форма).
В 1()-х годах Белинский говорил уже о типизирующей образ-
ное hi в искусстве, о тенденциозном, даже социальном озраже-
135
нии жизни (девятая статья о Пушкине), об идейной противоре-
чивости творчества гениев (Гоголь). Вся эта сложная диалек-
тика могла раскрыться только перед взором материалиста, для
которого существуют субъект и объект познания, реальное че-
ловеческое общество и социальное сознание.
Перед Белинским вставала проблема уяснения места искус-
ства среди других форм духовной деятельности человека, или,
как мы сказали бы сейчас, среди других форм общественного
сознания. Не зная этого термина, возникшего позднее в маркси-
стской философии, Белинский фактически все время в таком
именно смысле определял специфику искусства как образного
мышления, сопоставляя его с наукой, религией. В сущности, он
ставил вопрос о специфике «предмета» и «содержания» искус-
ства.
В прямых сопоставлениях искусства с наукой Белинский ча-
ще отождествлял их в области содержания, проводя различия
лишь в области формы. Критик недостаточно четко подчерки-
вал специфику таких понятий, как объект, предмет, содержание
искусства. Он знал только последний термин. Но из смысла его
высказываний ясно, что он отождествлял науку и _ искусство
только по объекту познания, подразумевая под ним действи-
тельность. Критик знал, что есть дистанция между реальной
жизнью и ее идеальным отображением в искусстве. В сущности,
он проводил границу между искусством и наукой и по предме-
ту. Это видно из рецензии на роман Лажечникова «Басурман».
Искусство берет совсем не те стороны действительности, какие
берет наука. Художник берет в жизни чувственные стороны,
мимо которых может легко пройти ученый, которому важен
общий смысл явлений, закономерности процесса. Это не что
иное, как разница между искусством и наукой в области пред-
мета при тождестве объекта.
Но Белинский шел и дальше: он выделял категорию содер-
жания в современном нам понимании. Он знал разницу между
реальной жизнью, взятой художником в определенном ракурсе,
в формах жизни (предмет), и ее идеальным, образным, зача-
стую вымышленным отображением в искусстве (содержание).
Он говорил: жизнь в поэзии является больше жизнью, чем в
действительности; из этого вытекает у него и сама необходи-
мость искусства. Искусство потому и необходимо, что оно —
k V Л «вторая», «изящная» действительность, познанная, художест-
венно осмысленная и помогающая наслаждаться сознанием ду-
ховного самоутверждения человека, властелина природы и
творца собственной истории и собственной сущности. Это и
сеть образно выраженное содержание искусства.
Итак, при тождестве с наукой в объекте изучения у искус-
ства есть свой предмет и свое содержание.
В науке содержание логическое, оно анализируется, разла-
гается и обобщается, наконец, формулируется в итогах и за-
136
конах. В искусстве содержание оборачивается перед читателем
или зрителем как картины, как новый, повторенный объектив-
ный мир, пропущенный через призму авторского восприятия.
Нередко мы лишь выносим общее эмоционально-оценочное впе-
чатление от содержания произведения, постепенно разбираясь
в наших мыслях и чувствах, в структуре произведения.
Белинский (ту же самую мысль позднее четко высказал
Добролюбов) ищет содержание произведения не в декларациях
автора, а в художественных образах и за основу берет их объ-
ективный, вытекающий из образов, часто самому автору не до
конца ясный, смысл
Определив сущность искусства как обобщенно-образного
восироцзведения действительности (объект), а также его сход-
ство и различие в сравнении с наукой (предмет, содержание,
форма), Белинский особо выделял поэзию как искусство сло-
на среди других форм искусства (живопись, скульптура, му-
зыка, архитектура) («Идея искусства», «Разделение поэзий на
роды и виды»).
Поэзия, по Белинскому, самая сильная, наиболее^адекват-
ная человеческой мысли и наиболее современная по проблема-
тике форма искусства. Здесь критик выступал не просто как
патриот русской литературы, русского реализма, но и как глубо-
кий последователь Лессинга и Гегеля, уже доказывавших осо-
бую мощь словесно-поэтического творчества. И действительно,
даже при последующем расцвете русской живописи и музыки
ведущей формой русского искусства в XIX веке оставалась ли-
тература.
Белинский произвел глубокое философское разделение ти-
пов самой поэзии. В статье «О русской повести и повестях Го-
голя» (1835) он говорит: «Поэзия двумя, так сказать, способа-
ми объемлет и воспроизводит явления жизни. Эти способы про-
тивоположны один другому, хотя ведут к одной цели. Поэт или
пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от
образа его воззрения на вещи, от его отношений к миру, к ве-
ку и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей
ее наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, крас-
кам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию можно
разделить на два, так сказятъ, отдела — цъидеальную ц ре-
а 1ьную»1 2.
Белинский всю жизнь проводил это разграничение. К ре-
1лыюй поэзии (т. е. реалистической) он относил творчество
Пушкина, Гоголя. К идеальной — романтика Байрона, Гете как
ангора «Фауста», частично Лермонтова, Мицкевича. Но под
идеальной поэзией он подразумевал не только романтизм, а
ш икую поэзию, которая переделывает жизненный материал и
1 См.: Белинский В. Г. Собр. соч.— Т. 4.— С. 304.
Гам же.— Т. 1.— С. 141.
137
его формы в соответствии с заранее поставленной целью. Это
«переделывание» материала следует отличать от общеэстети-
ческого тезиса об искусстве, которое «перетопляет» золото
действительности. Идеальная поэзия не просто в этом деле за-
ходит слишком далеко, но она и начинается с готового ответа
на поставленную проблему; она дедуктивна по методу.
Белинский знал, что «идеальные» образы Фауста, Манфре-
да, Каина, Демона стоят выше не только натуралистических
копий, но и многих созданий реализма. При этом поступатель-
ное развитие «реальной» поэзии нередко предполагало целые
эпохи господства способа идеализации, на основе которого «ре-
альная» поэзия могла сделать новый шаг вперед. Только с по-
вышением конкретного историзма мышления человека, раскры-
тием законов действительности в XIX веке вполне проявились
преимущества «реальной» поэзии, и не случайно она оказалась
«более в духе времени», как считал Белинский. Но это еще
нисколько не означает устарелости, непригодности способа
идеализации в современной нам литературе: это самостоятель-
ная, продолжающая совершенствоваться разновидность поэзии.
В статьях Белинского «Горе от ума» (1840) и «Разделение
поэзии на роды и виды» (1841) соотношение эпоса, лирики и
драмы объясняется с гносеологической точки зрения. Критик
исходит из значения поэзии «как сознания истины и, следова-
тельно, из взаимных отношений сознающего духа — субъекта
к предмету сознания — объекту».
Критик признает связь объективного и субъективного в ак-
те познания. В эпосе повествуется о самом происшествии. В ли-
рике— о тех переживаниях, которыми сопровождаются собы-
тия. В драме реализуется третья, последняя возможность вос-
произведения жизни, когда субъект и объект выступают как
событие, как поступки и переживания живых людей, сознаю-
щих свои цели. Хотя, следуя логике гегелевской «триады», Бе-
линский драму поставил над двумя другими родами поэзии в
качестве их «синтеза», на деле во всех характеристиках поэзии
Белинский ставил на первое место роман и повесть, как «эпос
нашего времени». Вопрос о синтезе родов, по Белинскому, во-
все отпадает; он схоластический. Критик ставит другой вопрос:
о взаимном проникновении родов и о том, что в истории пооче-
редно преобладали то те, то другие роды и жанры.
В дальнейшем, с развитием «натуральной школы», Белин-
ский все больше и больше начинал интересоваться не столько
тем, что разделяет поэзию на роды и жанры, сколько тем, что
их соединяет (статья о «Тарантасе» В. Соллогуба, 1845). Это
соответствовало процессу смешения жанров в практике писа-
телей «натуральной школы», разработке ими беллетристиче-
ских, публицистических жанров, в особенности физиологическо-
го очерка, влиявшего, в свою очередь, на большие формы —
повесть и роман. Вовсе не призывая к бездумному смешению
138
областей, Белинский, однако, обращал внимание на процессы
взаимопроникновения научного и художественного способов по-
знания жизни, обогащающих друг друга и порождающих про-
межуточные жанры. «Искусство, по мере приближения к той
или другой своей границе, постепенно теряет нечто от своей
сущности и принимает в себя от сущности того, с чем граничит,
так что вместо разграничивающей черты является область, при-
миряющая обе стороны» («Взгляд на русскую литературу
1847 года»).
Выше мы коснулись проблемы типизации в связи с общим
определением образной специфики искусства. Но проблема ти-
пизации специально и тщательно разрабатывалась Белинским,
и она HMcei у него ра.зпыб стороны.
Исходный пункт заключается в общефилософском положе-
нии о единстве формы и содержания в любом явлении. Затем
оно в области эстетики преломляется в учение о типическом,
как выражении закономерного в индивидуальном. Типичность,
в свою очередь, имеет в эстетике Белинского несколько своих
ступеней качества: «художественность», «поэтичность» и «бел-
летристика». Уровень типизации в «Евгении Онегине», «Мерт-
вых душах»—высочайший, тут действительность возведена в
«перл создания», и Белинский называл такой уровень «художе-
ственностью». По ряду соображений лишь к «поэтичности» он
относил поэзию Кольцова, первые произведения Достоевского,
Герцена. На уровне беллетристики расценивались им «физио-
логические» очерки «натуральной школы». Но категория «поэ-
тичности» к концу жизни была им снята, видимо, как слишком
искусственная, без которой легко можно обойтись. Теперь Бе-
линский оперировал только двумя категориями—«художествен-
ности» и «беллетристики», углубив их трактовку. Он считал,
что и беллетристика имеет минуты откровения, требует при-
дания, является особым миром творчества.
В чем же сущность типичности? Белинский берет за исход-
ное положение эстетики Гегеля: «Искусство изображает власт-
вующие законы природы и духа», т. е. закономерное, создает
концентрированную индивидуальность — единичное видение це-
/ого.
Тип — это, по идеалистической терминологии Белинского,
идеал, выразитель общей идеи определенного круга явлений.
Белинский предвидел две опасности в такой постановке вопро-
са, которых надо избегать: идеал не должен быть надуманным,
фантастическим, а типическая личность — простой механиче-
ской суммой добродетелей или пороков. Тип — это факт дейст-
вительности, но «проведенный через фантазию поэта, озарен-
ный светом общего»; «Идеал не есть собрание рассеянных по
природе черт одной идеи и сосредоточенных на одном лице, по-
|<>му что собирание не может не быть механическим... Еще ме-
пес идеал может быть воображением того, чего и нет и быть
139
не может, т. е. мечтою, или украшенною природою и усовер-
шенствованными людьми — людьми не как они суть, а какими
будто бы они должны быть» («Горе от ума», 1840). Отелло,
Дездемона —«лица типические, благодаря общей идее, вопло-
тившейся в них». Новое в типе всегда должно быть сущим, а
не гипотезой.
Еще большей четкости Белинский добивался, когда типи-
ческое трактовал как обстоятельства, перенося акцент с лич-
ности на «отношения». «Тут все дело в типах, а идеал тут по-
нимается не как украшение (следовательно, ложь), а как от-
ношения, в которые автор ставит друг к другу созданные им
типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим
произведением» («Взгляд на русскую литературу 1847 года»).
Художник домысливает вероятное развитие фактов по скрытой
в них объективной логике.
Особую область в критике Белинздого занимает круг проб-
лем, относящихся к творческому акту художника. В начале
своей деятельности Белинский постоянно говорил о «бессозна-
тельности» творчества, а в 40-х годах критик-материалист от-
казался от этой спорной мысли и стал подчеркивать во всех
своих выступлениях, что творчество «сознательно» и «легко»
согласуется «с служением современности» («Речь о критике»,
1842). Однако только такое представление о развитии взглядов
Белинского на столь важный вопрос было бы слишком общим
и потому упрощенным.
На самом деле развитие мысли Белинского в этой области
не столь прямолинейно. Конечно, утверждение о бессознатель-
ном творчестве ошибочно, как таковое, но оно не бессмысленно
и в некотором отношении применимо к искусству. Стоит лишь
задать себе вопрос: действительно ли художник знает все, что
он создал в своем произведении, только ли у таких писателей
как Толстой, Гоголь, Бальзак, существовало противоречие меж-
ду намерениями и результатом творчества? На самом деле это
противоречие теоретически существует в творчестве каждого
правдивого художника как диалектическое противоречие меж-
ду воспроизведением и оценкой объекта, таящего в себе воз-
можность различных выводов.
Возникает вопрос: является ли теория «бессознательного»
творчества только результатом известного упадка обществен-
ного движения в 1825—1835 годах? Можно ли ее считать толь-
ко узким проявлением немецкого идеализма, философской ро-
мантики? Эта теория проповедовалась философской критикой
«Московского вестника». Есть она и у Надеждина в «телескоп-
ских» статьях. Но почему эта теория довольно долго развива-
лась в статьях Белинского — теоретика реализма? Дело в том,
что не все категории эстетики Белинского развивались равно-
мерно. В каких-то вопросах он долго оставался «романтиком»,
сам того не сознавая.
140
Решение этой проблемы в ранних статьях Белинского связа-
но с решением вопроса о сущности поэзии. Критик писал: «Ге-
ний есть торжественнейшее и могущественнейшее проявление
сознающей себя природы» («Стихотворения Кольцова», 1835).
Такое представление о поэте близко к концепции Шеллинга,
для которого поэтический гений есть также высочайшее прояв-
ление абсолютного духа (что совсем не так было для Гегеля,
для которого высшее проявление духа — философия). Белин-
скому важно было подчеркнуть нсэфсмерный характер твор-
чества, ему хотелось устойчивой литературы, субстанциональ-
но народнойТГ выдерживающей пены ratine веков? Но первона-
чально он опознавал »гу важную мысль идеалистически: «Тво-
рения гениев вечны, как природа,— говорит он,— потому что
основаны на законах творчества, которые вечны и незыблемы,
как шкопы природы, и которых кодекс скрыт во глубине души,
а не на преходящих и условных понятиях об искусстве того
или другого народа, той или другой эпохи...»
Стремления Белинского совершенно ясны. Он хочет искус-
ства, подобного природе, основанного не на случайных поня-
тиях, а на обьсктнвпых законах творчества. Но каковы эти
законы, он сам не знает. Он считает только, что законы скры-
ты во глубине творческой души, и это еще один из промахов
Белинского как идеалиста. Насколько Белинский восставал
против влияния предвзятых понятий на творчество, свидетель-
ствует следующее его несколько парадоксальное заявление в
1835 году в статье о стихотворениях Кольцова: «Природа да-
ла Кольцову бессознательную потребность творить, а некото-
рые вычитанные из книг понятия о творчестве заставили его
сделать многие стихотворения».
Затем появляются в статьях Белинского переходные фор-
мулировки. Критик начинает отводить некоторую роль и созна-
к'льности. В статье «Идея искусства» (1841) он заменяет тео-
рию «бессознательности» понятием о «непосредственности»
июрчества. Это положение всецело вытекало из его нового,
чисто гегельянского положения об искусстве как непосредст-
венном созерцании истины. «Непосредственность» уже выше
бессознательности».
Постепенно Белинский пересматривал представление о поэ-
ю и его вдохновении как о чем-то замкнутом, не связанном
< бытом и историей — в статье о стихотворениях А. Майкова
(1842), в статьях «Речь о критике» (1842), «Сочинения Зенеи-
1ы Р-вой» (1843).
Наиболее завершенный вид учение Белинского о творческом
л к то художника получило в его рассуждениях о пафосе поз-
ши, развитых в пятой статье «пушкинского» цикла (1844). Бе-
1ИИСКИЙ писал: «Искусство не допускает к себе отвлеченных
философских, а тем менее рассудочных идей: оно допускает
io.ii.ко идеи поэтические; а поэтическая идея — это не силло-
141
гизм, не догмат, не правило, это — живая страсть, это — па-
фос...».
Рациональное зерно в этих рассуждениях о пафосе заклю-
чается в том, что искусство говорит образами, и для этого нуж-
ны не просто любовь и все силы души (они всегда нужны в
серьезном деле), а умение видеть идеи во плоти, заражать чи-
тателя симпатиями и антипатиями. Действительно, для эмоцио-
нальности образа нужна эмоциональность художника, чтобы
«заражать», нужно «заразиться». В науке это не обязательно,
можно сделать великое открытие, а изложить его сухо, «по-де-
ловому». Содержание здесь не зависит от «пафоса», а содер-
жание художественного произведения — зависит.
Творчество оказывается не простой проекцией идей, автор-
ского понимания жизни. Оно не чисто рассудочный акт. Белин-
ский приблизился к той черте, от которой пойдет Добролюбов,
поставивший вопрос о возможном противоречии у художника
между тем, что он «хотел сказать» своим произведением, и тем,
что им фактически «сказалось». Белинский еще не исследует
диалектику взаимоотношений между творчеством и мировоззре-
нием. Но он уже заметил особый характер преломления миро-
воззрения (идей) через пафос в творческом акте воспроизве-
дения действительности.
Белинский оценивал русскую литературу не только через
призму своих общеэстетических принципов гносеологии худо-
жественного отображения, но и через призму проблемы на-
родности.
До Белинского русская критика выработала понятие о на-
циональной специфике литературы как передаче русского на-
ционального психического склада, колорита природы, быта,
языка. За отдельными произведениями признавалось достоин-
ство такого вклада в общенациональную культуру. Но рядом с
понятием национальной специфики складывалось — и мы от-
мечали все случаи симптомов этого процесса — понятие народ-
ности в демократическом значении. При сохранении всех ус-
ловий, связанных с передачей национального колорита, от ли-
тературы стали требовать еще и отображения жизни народа,
выражения его стремлений к свободе, борьбы против крепо-
стничества. Стали появляться зарисовки деревенской жизни,
крестьянских типов, бедных людей с их специфической речью,
психологией, обычаями. Однако во втором значении литерату-
ра давала еще мало материала для обобщения и терминоло-
гического уточнения понятия народности.
Демократическое содержание для своей поэзии декабристы
черпали из фольклора, оно уже намечается и в «Деревне» Пуш-
кина, и в «Родине» Лермонтова. Но только у писателей «нату-
ральной школы» оно серьезно закрепилось как художественная
проблема всей русской литературы и стало выдвигаться на
первый план: «Деревня», «Антон Горемыка» Григоровича,
142
«Записки охотника» Тургенева, стихи Некрасова. Настоящий
же простор для изображения народа открыло только разно-
чинное движение предреформенной и пореформенной эпохи.
В критике Белинского окончательно разделились понятия
национальность и народность, пройдя определенные стадии
эволюции.
В «Литературных мечтаниях» Белинский подхватывал «шел-
лингианское» определение народности, которое уже ввели в
русскую критику философские романтики. «Каждый народ,—
писал Белинский,— вследствие непреложного закона провиде-
ния, должен выражать своею жизпию одну какую-нибудь сто-
рону жизни целого человечества. В отличие от славянофилов,
Белинский уже в ранних статьях считал, что «физиономия»
парода исторически меняется и что полному ее прояснению спо-
собе гвуют просвещение, культурные связи с другими народами,
«займы» у них, «подражания».
Но понятия народность и национальность употреблялись им
еще нерасчлененно, хотя уже Вяземский указывал на необхо-
димость их раздельного употребления. Фактически Белинский
в 30-х годах всегда говорил о национальности, а термин упо-
треблял народность.
В «Литературных мечтаниях» и ближайших к ним по вре-
мени статьях Белинский, беспредельно широко ставя вопрос о
народности русской литературы, заявлял, что «у нас нет лите-
ратуры». Дело в том, что критик ввел еще одно важное разгра-
ничение: в укладе русской жизни после Петра I появились два
полюса—«общество» и «народ». Образованное общество — это
привилегированные классы, космополиты, совсем утратившие
связь с народом. Реформы Петра I коснулись только их, они и
пожинают плоды европейского развития, а народ остался тем,
чем был раньше. В этом смысле у нас есть литература «обще-
ства», но нет литературы «народа». Может показаться, что Бе-
линский употреблял термин народность в прямом смысле сло-
ва. Отсюда и категорический вывод: «У нас нет литературы».
На самом же деле Белинский, говоря о народности, имел в ви-
цу общенациональную специфику. Ее-то и потеряло образован-
ное общество, оторвавшееся от родной почвы. Но Белинский
нпадал во множество явных противоречий. Почему просвеще-
ние оказалось врагом народности у верхушки, у «общества»,
тогда как сам же Белинский говорил, что просвещение способ-
ствует прояснению «физиономии» народа? Разве послепетров-
ское просвещение не коснулось народа? Разве только в России
есть верхушка имущих и, разумеется, образованных классов и
народ? А если у других наций, например у французов, тоже
есть такое деление, то почему у французов «есть» литература?
Каким образом во Франции «общество» оказалось выразите-
мем общенародных интересов? Тут отвлеченными романтиче-
кпми понятиями ничего объяснить нельзя, надо изучать ре-
143
альный исторический процесс, реальные функции народа и
«общества» в судьбах национальных литератур.
В 40-е годы Белинский понял, что «общество» вовсе не жи-
вет само по себе, лучшие его представители как раз те, кото-
рые создают литературу и являются выразителями общенарод-
ных интересов. И тогда критик снял свой прежний тезис и зая-
вил: «У нас есть литература» («Взгляд на русскую литературу
в 1840 году»). Пересмотрел он и вопрос об исторической роли
Петра I. Идея просвещения как средства развития народности
выдвинулась на первый план. Реформы Петра I были историче-
ской необходимостью. Петр I не уничтожил русскую народность,
введенный им европеизм дал ей необходимую сферу для ее
деятельности, покончил с отсталостью, чуждыми, «прививны-
ми» татарскими влияниями, вывел из кривых, избитых тропи-
нок на столбовую дорогу всемирно-исторической жизни.
Белинский теперь восклицает: «Что такое любовь к своему
без любви к общему? Что такое любовь к родному и отечест-
венному без любви к общечеловеческому? Разве русские сами
по себе, а человечество — само по себе?» В таком аспекте ста-
новятся драгоценными все усилия образованного «общества»
для приобщения к общечеловеческой культуре. Эти отдельные
личности — писатели, создатели русской литературы — и есть
настоящие подвижники, и дело их самое что ни на есть на-
родное. В таком свете приобретала интерес вся фактическая
история русской литературы, каждый одаренный писатель. Ис-
тория литературы оказывалась историей развития русского
народа, русской нации.
Но какие бы разнообразные аспекты ни приобретало упо-
требление термина народность у Белинского, в конечном счете
всегда речь шла об общенациональных («субстанциональных»)
интересах литературы, об общенациональном ее значении сре-
ди других национальных литератур. Ничего специфически кре-
стьянского в этом понятии еще не было. Даже в «пушкинских»
статьях Белинский еще легко меняет местами два термина:
всегда, когда он говорит, например, о глубокой народности
«Евгения Онегина», он фактически говорит о его глубокой на-
циональности. Точно так же расценивается им любой классик
русской литературы: Державин, Лермонтов, даже Крылов.
Крылова он трактует на уровне суждений Гоголя, лишь иногда,
наряду с общенациональной спецификой («у него и медведь
русский, и курица — русская курица»), выделяет некоторые
собственно народные черты: обилие просторечий в языке, уме-
ние смотреть на вещи глазами народа. Но последнее еще не
высоко ценилось. Всем этим полна для Белинского поэзия
Кольцова, еще не приобретшая общенационального значения.
Народным Белинский считал Беранже, так как во Франции
«его весь народ», т. е. вся нация, знает.
Думается, уже в полемике о «Мертвых душах» (1842), вы-
144
смеивавших «меньшинство», привилегированную верхушку,
Белинский старался уловить народную точку зрения, с которой
Гоголь вершил свой суд: «...истинная критика,— писал Белин-
ский в 1842 году,— должна раскрыть пафос поэмы, который
состоит в противоречии общественных форм русской жизни с
ее глубоким субстанциональным началом...» Белинский высо-
ко оценивал произведение Гоголя за то, что оно «выхвачено из
гайника народной жизни» и проникнуто «нервистою, кровною
любовию к плодовитому зерну русской жизни» («Похождения
Чичикова, или Мертвые души»).
Этим плодовитым зерном был, конечно, народ, к нему пи-
тал любовь Гоголь, в борьбе за его ингсресы нарисовал типы
помещиков н чиновников.
В прямом смысле подлинную народность Белинский увидел
в «Записках охотника» Тургенева, в той именно части, где ав-
тор изображает народные типы и проявления крепостничества.
В таком 1ерм внелогически важном смысле надо понимать сло-
ва Белинского: «По удивительно, что маленькая пьеска «Хорь
н Калиныч» имела такой успех: в ней автор зашел к народу с
такой стороны, с какой до него к нему никто не заходил»
(«Взгляд на русскую литературу 1847 года»). Тургенев выявил
крестьянские типы, духовный склад народа, его социальные ин-
тересы.
Понятие народность до сих пор было частью понятия нацио-
нальность. Оно останется у Белинского такой частью навсегда:
ведь народ на самом деле часть нации. Но Белинский уже не
хочет довольствоваться только таким рассмотрением. Он хва-
лит «натуральную школу» за то, что она «обратилась к так
называемой «толпе», исключительно избрала ее своим героем».
)го означало «повершить окончательно стремление нашей ли-
тературы, желавшей сделаться вполне национальною, русскою,
оригинальною и самобытною; это значило сделать ее выраже-
нием и зеркалом русского общества, одушевить ее живым на-
циональным интересом» («Русская литература в 1845 году»).
Живой национальный интерес надо искать в жизни толпы,
парода. На возражение аристократов, снобов и эстетов «что за
охота наводнять литературу мужиками?» у Белинского был
наготовлен ответ: «А разве мужик — не человек?—Но что мо-
жет быть интересного в грубом, необразованном человеке?—
Как что? Его душа, ум, сердце, страсти, склонности,— словом,
нее то же, что и в образованном человеке». Белинский даже
читал теперь, что у простых людей больше задатков ума, та-
лантов, чем у избалованных и пресыщенных владельцев крепо-
< ।пых душ («Взгляд на русскую литературу 1847 года»).
Ошибка Гоголя, по Белинскому, состояла не в том, что он
имел желание положительно изобразить русского человека, а в
him, что он искал его не там, где нужно, среди имущих клас-
1<)в. Увлечение «натуральной школы» сатирой, конечно, одно-
Ю Заказ № 1367
145
сторонность, но она имеет основание: «...когда придет время,—
писал Белинский,— верно изображать и положительные явле-
ния жизни», «натуральная школа» перейдет к ним; главное,
чтобы она не переставала быть верной натуре, т. е. реализму
(«Взгляд на русскую литературу 1846 года»). Критик как бы
говорил писателям: сумейте быть народными и национальными
будете.
Белинский был создателем целостной историко-литератур-
ной концепции, охватывавшей в единой картине пути и пере-
путья истории русской литературы от Ломоносова и Кантеми-
ра до Гоголя и «натуральной школы». Концептуальность мыш-
ления, стремление каждый факт осознать в контексте целой
системы, следственно-причинной зависимости — одно из заме-
чательнейших качеств критики Белинского.
Белинский намеревался создать обобщающий труд с изло-
жением своей эстетической и историко-литературной концеп-
ции. О подготовке специального «Теоретического и критиче-
ского курса русской литературы» он объявил еще в 1841 году.
Для этой цели были написаны статьи «Идея искусства» (оста-
лась незаконченной), «Разделение поэзии на роды и виды»,
«Общее значение слова литература», «Древние российские сти-
хотворения» и др. К курсу могут быть отнесены две статьи о
Державине и одиннадцать «пушкинских статей». Труд так и не
был завершен. Однако основные черты концепции критика ясны.
В фольклоре Белинский выделял новгородские былины, раз-
бойничьи, удалые солдатские песни, с мотивами гнева и народ-
ного возмущения. Фольклор у Белинского как бы растет «на-
встречу» литературе, которая подхватывает его вольнолюби-
вые мотивы. Это была совершенно оригинальная точка зрения,
сознательно развивавшаяся Белинским в противовес славяно-
фильским теориям. Только как проявление «мнения народного»,
как голос реального прошлого, фольклор имеет ценность. И по
этой линии он никак не антагонист современной литературы, а
является ее законным предтечей.
Белинский уловил славянофильскую корысть в прославле-
нии фольклора: славянофилы стремились объявить исконной
русской поэзией только «безыскусственный» фольклор и проти-
вопоставить его европеизировавшейся современной литературе
с ее освободительными и реалистическими идеями. Только та-
ким поворотом борьбы со славянофилами можно объяснить
резкие заявления Белинского о том, что одно стихотворение
современного истинного поэта-художника перевесит все народ-
ные песни, вместе взятые. Критик высоко ценил фольклор
(«Древние российские стихотворения», 1841), признавал его
художественные достоинства. Но при прямом сравнении фольк-
лора с современной поэзией предпочтение всегда отдавал по-
следней. По этой же причине Белинский полемически заострен-
но говорил о бедности содержания народной поэзии, однообра-
146
зии ее художественных средств: для своего времени это была
единственно возможная поэзия, во многом она эстетически
ценна и сейчас, но в целом она — пройденная стадия истории
русской поэзии, и на смену ей недаром пришли Пушкин, Лер-
монтов, Гоголь.
Древнюю русскую литературу Белинский несколько недо-
оценивал и знал ее недостаточно хорошо. Во всех своих стать-
ях он упоминает несколько раз лишь летописи, «Слово о полку
Игореве» и «Моление Даниила Заточника». Древняя русская
литература вообще тогда была недостаточно известна, памят-
ники еще только открывались, собирались. Мешали правиль-
ной оценке се Белинским три обстоятельства: стремление сла-
вянофилов противопоставить допетровскую самобытную лите-
ратуру современной «искусственной» литературе; представле-
ние самого Белинского о том, что петровские реформы
решительно отчеркнули старое от нового; древняя литература
казалась выражением узости, застоя, консерватизма, поэтому
надо было создавать современную литературу заново как «пе-
ресадное растение», что и начал делать Ломоносов. И еще,—
мешало особое теоретическое соображение Белинского, соглас-
но которому наряду с понятием литература существует еще и,
как более ранняя ее стадия, понятие словесность; древняя ли-
тература попадала в разряд словесности, а это предрешало ее
уничижительную трактовку.
Из разряда «словесности» выпадали только Пушкин и Го-
голь. Оставалась в ее составе не только древняя литература,
по и литература XVIII века. Дело не в том, что критик просто
ошибался и нам только следует признать, что органическое
развитие в древней литературе и в литературе XVIII века все
же было. Хотя следует признать, что критику не хватало пол-
ноты, конкретно-исторического подхода к древней литературе
и к литературе XVIII века.
В той новой литературе, которая началась после реформ
11етра I и непосредственно с Ломоносова, Белинский открыл
много важных закономерностей. Эта часть его концепции са-
мая живая и до сих пор очень ценная. Он прослеживает в сто-
летнем развитии литературы нарастание самобытности, орга-
ничности. Как-то скрадываются его неверные заявления о «пе-
ресадном» характере этой литературы, о том, что до Пушкина
она была «словесностью», а не литературой...
Историко-литературная концепция в первом варианте бы-
ла изложена Белинским в «Литературных мечтаниях». Здесь
уже заложены ее главные основания, намечены периоды: ломо-
носовский, карамзинский, пушкинский и «прозаическо-повест-
повательный», который вскоре был назван периодом влияния
Гоголя. Затем Белинский достраивал и уточнял в деталях свою
концепцию в годовых обзорах, статьях о Державине (1843) и,
наконец, целиком и в законченном виде на огромном материа-
10*
147
ле изложил в «пушкинских статьях» (1843—1846). Некоторые
важные уточнения применительно к «натуральной школе» он
внес также в обзорах русской литературы за 1846 и 1847 годы.
Изумительное, грандиозное здание концепции истории рус-
ской литературы выстроил Белинский. В ней приобрели строй-
ное целое плоды всех бывших до него попыток в этой области.
В основу своей концепции Белинский положил проблему фор-
мирования реализма в русской литературе — того сложного
синтеза, о котором смутно догадывался Надеждин и который
практически в своем творчестве осуществляли Пушкин и Го-
голь и в качестве критиков старались зафиксировать его за-
коны.
Русская литература, по Белинскому, с самого своего нача-
ла приобрела два русла: «сатирическое» (Кантемир, Фонвизин,
Крылов, Грибоедов) и «одовоспевательное» (Ломоносов, Дер-
жавин, Жуковский). Органически они слились только в твор-
честве Пушкина.
Развитие русской и мировой литературы критик рассматри-
вал как развитие по направлению к реализму и затем по пути
реализма.
Классицизм и романтизм оказывались необходимыми ступе-
нями развития национальных литератур. Особенно важен был
вклад Белинского в разработку животрепещущей для его вре-
мени концепции романтизма. Опираясь на то, что уже сделали
в этой области Марлинский, братья Полевые, он внес много и
своего, оригинального.
Белинский связывал появление европейского романтизма с
«страшными потрясениями» в политической жизни конца
XVIII века, когда «революция изменила нравы Европы» («Со-
чинения Александра Пушкина», 1843; «Тереза Дюнойе», 1847).
Он исследовал различные формы проявления реакции на ре-
волюцию и рационализм, указав на несколько типов романтиз-
ма. Один из них представлял своим творчеством Байрон; этот
романтизм смотрел «не назад, а вперед». К этому же типу ро-
мантиков Белинский относил Ж. Санд, Гюго, Сю, Марлинского,
Н. Полевого. С другой стороны, был романтизм, который смот-
рел назад, обращался к средневековью, мистическому пиетиз-
му, мистицизму, считался «признаком расстроенного вообра-
жения». К этому романтизму Белинский относил Новалиса,
братьев Шлегелей, Тика, Гофмана, Жуковского («Сочинения
Александра Пушкина», 1843; «Николай Алексеевич Полевой»,
1846). Белинский очень четко и всегда последовательно прово-
дил различия между этими двумя разновидностями романтиз-
ма, указывал на целый комплекс присущих им черт, не сводя их
характеристику к односложным упрощенным формулам, хотя
больше симпатизировал первому типу романтизма.
Были и существенные недостатки в концепции романтизма
Белинского. Вслед за Марлинским он трактовал романтизм в
148
целом слишком отвлеченно, не вполне исторично, как «вечную
сторону натуры и духа человеческого» («Сочинения Александ-
ра Пушкина», 1843). Иногда он называл эту сторону не роман-
тизмом, а специальным термином «романтика», подразумевая
настроение возвышенности в душевной жизни и в творчестве.
Романтизм Жуковского он слишком отождествлял с романтиз-
мом «средневековым», недостаточно подчеркивая его новые
черты как явления XIX века с повышенной рефлектированно-
стью, стремлением воспроизводить русский национальный ко-
лорит. К сожалению, Белинский вовсе не упоминал о декабри-
стах, они словно нс существуют для него как тип романтизма
и как звено в истории русской литературы.
Дело тут не только в цензуре, как объясняют некоторые ис-
следователи. Продолжая по существу гражданское дело декаб-
рнстоп, Белинский по методу мышления был совсем другим
человеком, знавшим уроки их горького поражения, обладавшим
большим чувством реальности, понимавшим роль народа в ис-
тории. Вопрос этот нуждается еще во всестороннем изучении.
Белинскому было суждено сделать величайшей важности
дело: он создал концепцию реализма, первый оценил гениев
«натурального» направления русской литературы—Пушкина,
Лермонтова, Гоголя. Он сам рос на познании творчества этих
писателей, постепенно постигая закономерности литературного
процесса, типы реализма, высокие принципы подлинной худо-
жественности.
В «пушкинских статьях» Белинский мастерски сочетает ис-
торический анализ с эстетическим. С Пушкина начинается са-
мобытная русская литература, он—«поэт действительности»,
первый поэт-художник на Руси. Критик отвергал утверждения
многих современников о подражательности творчества Пушки-
на. Шаг за шагом он прослеживал органическое развитие пуш-
кинской поэзии, ее народности, берущей начало в горниле ис-
юрических событий 1812—1825 годов. Почвой поэзии Пушкина
<>ыла «живая действительность и всегда плодотворная идея»
(«Сочинения А. Пушкина», 1843).
В трактовке «Евгения Онегина» Белинский поднялся на не-
виданную ступень социологического анализа. Указывая на на-
родность и «лелеющую душу гуманность» поэзии Пушкина, Бе-
нинский подчеркивал прогрессивный характер деятельности той
части просвещенного дворянства, к которой принадлежал поэт.
<)|сюда и обаяние созданных им образов: Онегина, мысляще-
to, «страдающего эгоиста», и особенно Татьяны с ее «русской
иупюй». «Онегина» можно назвать «энциклопедией русской
кпзпи и в высшей степени народным произведением». Роман
О1.1Л «актом сознания для русского общества». Белинский раз-
1лядсл первопричины поэтической гармонии, наполняющей
нюрчество великого поэта: «Везде видите вы в нем человека,
I у пюю и телом принадлежащего к основному принципу, со-
149
ставляющему сущность изображаемого им класса; короче, вез-
де видите русского помещика... Он нападает в этом классе на
все, что противоречит гуманности; но принцип класса для не-
го— вечная истина... И потому в самой сатире его так много
любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение
и на любование...»
Ни одного из русских народных писателей так социологиче-
ски конкретно Белинский не анализировал. Ни в Лермонтове,
ни в Гоголе Белинский этого «принципа» не подчеркивал. Прин-
цип класса не оказывался ведущим и в оценке писателей «на-
туральной школы». Он проявлялся только в широкой трактовке
проблемы «народности» литературы, сводящейся к верному,
реалистическому изображению действительности: такая вер-
ность изображения жизни была в интересах освобождения на-
рода. Принцип класса сознательно войдет в характеристику
писателей только в период появления разночинной революцион-
но-демократической критики 60-х годов, а еще точнее — только
в марксистской критике, в конце XIX века.
Но не все произведения Пушкина получили развернутое и
правильное объяснение у Белинского. Критик явно недооцени-
вал «вольных стихов» Пушкина. Недооцененной оказалась и
проза Пушкина, в особенности «Повести Белкина». Критик
смотрел на прозу поэта через призму гоголевской сатиры: по-
вести Пушкина казались ему слишком традиционными по сю-
.кетам и бесстрастными по стилю.
Белинский считал, что «тайна» творчества Пушкина вполне
выяснилась и миссия его завершилась, хотя поэт еще мог бы
создать много первоклассных произведений. Его назначение
было «явить на Руси поэзию как искусство», и только. Это по-
ложение у Белинского не совсем верно. Пушкин, конечно,—
первый великий русский поэт и в известном смысле эталон ху-
дожественности. Но все же и он явился не как провозвестник
некоего «искусства» вообще, а как глашатай определенного
поколения, с определенным кругом идей, с «принципом» класса.
Тут Белинский противоречил многим прежним своим высказы-
ваниям о Пушкине.
Критик ошибочно отрицал мировое значение Пушкина. На-
родность поэта была для Белинского несомненной, но он счи-
тал, что «содержание» поэзии Пушкина имеет лишь чисто рус-
ское значение, так как Россия еще не играет всемирно-истори-
ческой роли. Поэту принадлежит форма, а содержание дает
ему история и «действительность его народа». (На этом же
основании Белинский отказывал в мировом значении Лермон-
тову и Гоголю.) Но критик слишком абстрактно толковал по-
нятие содержания и вопрос о роли России в мировой истории.
От поэта зависит не только форма, но и содержание. Что же
касается России, то она уже играла важную роль во всемирной
истории, особенно после 1812 года.
150
Если Пушкин для Белинского весь в прошлом и его надо
было только осмыслить и оценить, то Лермонтова критик бук-
вально открыл, когда журналистика и публика еще не подо-
зревали, как велик талант нового поэта.
В статье о «Герое нашего времени» (1840) Белинский шаг
за шагом проследил глубокую психологическую мотивирован-
ность поступков Печорина, «эгоиста поневоле», скованного об-
стоятельствами безвременья, протестующего, гордого, жажду-
щего больших дел, но вынужденного размениваться по мелочам,
предаваться рефлексии, беспощадному самоанализу. В статье
«Стихотворения М. Лермонтова» (1841) Белинский рассмотрел
главные мотивы творчества поэта, особенно выделив патриоти-
ческое его стихотворение «Бородино» и полную глубоких и ост-
рых мыслен о судьбах современного поколения «Думу». Это
произведение даже подало Белинскому повод для признания
сатиры, которую он раньше явно недооценивал, законным ро-
дом творчества.
Белинский находил, что в поэме «Мцыри» авторская мысль
отзывается «юношескою незрелостию», «незрелостью идеи и
натянутостью в содержании». Несмотря на подчеркнуто протес-
тующий пафос поэмы, Белинский предпочитал этой поэме бо-
лее глубокую и зрелую, по его мнению, поэму «Демон» (она
не была тогда полностью опубликована, но критик знал ее в
списке).
Белинский все время сравнивал Лермонтова с Пушкиным,
так как именно с Пушкиным у нового поэта было много обще-
го в тематике и стилевых приемах. Но в основном Белинский
сопоставлял Лермонтова с Пушкиным по контрасту: «Нигде нет
пушкинского разгула на пиру жизни; но везде вопросы, кото-
рые мрачат душу, леденят сердце... Да, очевидно, что Лермон-
тов — поэт совсем другой эпохи и что его поэзия — совсем новое
звено в цепи исторического развития нашего общества» («Сти-
хотворения М. Лермонтова»).
Сложнее было отношение Белинского — человека и крити-
ка— к Гоголю. Белинский видел в его произведениях образцы
современного реалистического, сатирического творчества. Еще
в 1835 году он начал борьбу за Гоголя, разъяснял смысл его
сатиры. Реакционная критика тогда начала травлю писателя.
Белинский отмечал главные черты таланта Гоголя: «простоту
вымысла, народность, совершенную истину жизни, оригиналь-
ность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким
чувством грусти и уныния» («О русской повести и повестях
Гоголя», 1835). Обстоятельнейший анализ «Ревизора» критик
дал в статье о «Горе от ума» (1840). Во многом ошибаясь в
силу «примирительных» настроений этого периода в оценке
комедии Грибоедова, в качестве примера истинно художествен-
ного создания он приводил «Ревизора». Конечно, «примирение»
и па трактовку «Ревизора» наложило свой отпечаток (снисхо-
151
дительная характеристика взяточника-городничего), но в це-
лом художественная сторона комедии раскрыта великолепно.
Белинский считал, что Гоголь имеет более важное значение для
современной ему русской литературы, чем Пушкин: «Гоголь
более поэт социальный, следовательно более поэт в духе вре-
мени». В его произведениях присутствует страстная, оценочная
«субъективность». Что касается «комического одушевления»,
то Белинский видел преобладающий смех сквозь слезы и при-
зывал не смешивать этот смех с простым развлекательным
юмором. В этом состоял смысл полемики Белинского с
Шевыревым, который в 1835—1836 годах в «Московском на-
блюдателе» стремился исказить сущность творчества автора
«Миргорода» и «Арабесок»: Гоголь—мастер «комической
бессмыслицы», бездумного смеха. Тогда Белинский ввел осо-
бый термин—«гумор» (из английского языка) и предупреж-
дал, что его надо отличать от «юмора». «Гумор»—это гнев,
беспощадное обличение в духе Свифта, Байрона.
Белинский боролся с Шевыревым, Сенковским и Булгари-
ным, старавшимися доказать, что Гоголю дались лишь пошлые
люди, грязные стороны действительности, а для изображения
всего человека со всей его сложной духовной организацией ему
не хватает таланта, что Гоголь чужд всего высокого, светлого.
Белинский обращал внимание на широту диапазона в тематике
произведений Гоголя, на многообразные стороны его мастерст-
ва: ему дался весь человек; Гоголь — великий художник, кото-
рому доступны любые темы. Кроме того, «мир пошлой повсе-
дневности, мир прозы жизни для своего воспроизведения так
же требует вдохновения, творчества, таланта и гения, как и
мир великих характеров, деяний и страстей» (рецензия на кни-
гу «Типы современных нравов...», под ред. Н. Кириллова, 1845).
Тайком от своих друзей, М. П. Погодина и С. П. Шевырева,
Гоголь поручил гостившему зимой 1841—1842 года в Москве
Белинскому отвезти рукопись «Мертвых душ» в Петербург для
цензурования. Белинский выполнил это поручение. В письме к
Гоголю от 20 апреля 1842 года, незадолго до появления в свет
«Мертвых душ», он предлагал знаменитому писателю войти в
тесный контакт с «Отечественными записками»: Белинский по-
стоянно был озабочен консолидацией лучших сил вокруг руко-
водимого им журнала. Но Гоголь уклончиво отвечал через
третьих лиц на это предложение. Какая-то тревога за Гоголя,
за его «душевную ясность» сквозит уже в упомянутом письме
Белинского к нему. Белинский хотел высвободить Гоголя из-
под влияния славянофилов и апологетов «официальной народ-
ности».
В ходе полемики по поводу «Мертвых душ» в 1842 году
Белинским были написаны: рецензия «Похождения Чичикова,
или Мертвые души», полемический отзыв о брошюре К- С. Ак-
сакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичико-
152
ва, или Мертвые души», ответ на выпады К- С. Аксакова под
названием «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя
«Мертвые души».
Аксаков пытался истолковать произведение Гоголя в идеа-
лизированном плане, подавая поводы для сравнения Гоголя с
Гомером, а «Мертвых душ»—с «Илиадой». Белинский же на-
стаивал на том, что перед нами не апофеоз русской жизни, а
ее обличение, перед нами современный роман, а не эпопея...
Аксаков пытался лишить произведение Гоголя социального и
сатирического значения. Белинский это хорошо уловил и реши-
тельно оспорил. Насторожили Белинского лирические места в
«Мертвых душах». При втором издании «Мертвых душ» в
1846 году Белинский писал: «Но, к несчастию, эти мистико-
лирические выходки в «Мертвых душах» были не простыми слу-
чайными ошибками со стороны их автора, но зерном, может
быть, совершенной утраты его таланта для русской литерату-
ры... Все более и более забывая свое значение художника, при-
нимает он тон глашатая каких-то великих истин, которые в
сущности отзываются не чем иным как парадоксами человека,
сбившегося с своего настоящего пути ложными теориями и
системами, всегда гибельными для искусства и таланта».
В 1847 году разыгрались драматические события в литера-
туре. Гоголь выпустил свою парадоксальную книгу «Выбранные
места из переписки с друзьями». Она обескуражила многих
подлинных ценителей творчества великого реалиста. Гоголь от-
казывался от прежних своих произведений, отрекался от «Реви-
зора» и «Мертвых душ», проповедовал христианское смире-
ние, повиновение крестьян помещикам. В журналах и частной
переписке многие литераторы (А. Д. Галахов, Н. Ф. Павлов,
С. Т. Аксаков) высказали свои сожаления и критические за-
мечания по поводу новой книги Гоголя. Но все эти суждения
преследовали ограниченную цель: лишь подправить концепцию
Гоголя, устранить ее явные противоречия. Только Белинский,
понимавший, как никто, что такое Гоголь для русской лите-
ратуры, безоговорочно осудил «Выбранные места». Цензура
выбросила целую треть из рецензии Белинского, появившейся
в февральском номере «Современника» за 1847 год. Но и в
и ом виде рецензия оставалась резкой и ясной по основной
МЫСЛИ.
Возбуждение вокруг книги Гоголя все нарастало. Реакция
шковала. Белинский летом 1847 года лечился в Зальцбрунне
(Силезия). Здесь он узнал об отзывах Гоголя на его резкую
рецензию. Гоголь увидел в Белинском лишь лично «рассержен-
ного» человека. Великий критик в течение трех дней написал
। вое знаменитое «Письмо к Н. В. Гоголю» (Гоголь жил тогда
в Остенде).
В этом письме, которое В. И. Ленин назвал «одним из луч-
ших произведений» русской «бесцензурной демократической пе-
153
чати», три темы. Белинский со всей силой выразил свое воз-
мущение реакционной проповедью Гоголя и подсказал пути
выхода из кризиса: надо написать новые художественные про-
изведения, которые напоминали бы прежние, т. е. «Ревизора»
и «Мертвые души». Затем Белинский высоко отозвался о всей
русской литературе, которая сумела завоевать доверие в об-
ществе и в народе, вследствие чего «титло писателя затмило
мишуру эполет» и общество теперь видит в писателях своих
защитников, пророков, глашатаев правды. Наконец, Белинский
наметил ближайшие революционные задачи в России: отмену
крепостного права, телесных наказаний, исполнение хотя бы
тех законов, которые приняты. Это было политическим заве-
щанием Белинского.
Уже в те годы обрисовались сложнейшие проблемы проти-
воречий гоголевского творчества, которые занимают ученых и
до сих пор. Белинский первый обратил внимание на эти вопро-
сы. Он еще в 1842 году заметил,что талант Гоголя держится
главным образом на наблюдательности, «непосредственной си-
ле творчества», но эта удивительная сила непосредственного
творчества, в свою очередь, вредит Гоголю. Она «отводит ему
глаза от идей и нравственных вопросов, которыми кипит совре-
менность, и заставляет его преимущественно устремлять вни-
мание на факты и довольствоваться объективным их изобра-
жением» («Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя
«Мертвые души»). Гоголь грешил небрежением по отношению
к тем передовым теориям, которые разрабатывали в это время
Белинский, Герцен. Они могли бы вооружить его творчество
ясным пониманием связей всех тех зол жизни, которые он так
мастерски умел изображать. Это дало бы таланту верную ори-
ентировку, нисколько не снизив его изобразительной силы, мог-
ло бы предохранить писателя от падения. Трагедия Гоголя
сильно переживалась не только им самим, но и Белинским. Кри-
тик, однако, ясно понимал, что произошло с писателем и как
надо ориентировать его последователей, учеников.
Но были и в оценке творчества Гоголя моменты, которые
свидетельствовали, что критик не все разглядел и не все пра-
вильно трактовал. Белинский большей частью должен был до-
казывать, что Гоголь — реалист по типу творчества, такой же,
как и другие реалисты, что он вовсе не мастер только на кари-
катуры и сатиру, а всегда имеет в виду полную правду жизни и
ни в чем не искажает ее как художник. Между тем Гоголь вов-
се не был реалистом-бытовиком в общепринятом смысле Ему
давался любой человек и весь человек, но Гоголь-сатирик вовсе
не всякого человека и не во всех ракурсах изображал. Гоголь
был реалистом-сатириком, мастером гротеска, масок, преуве-
личений. Этого Белинский не смог в должной мере вскрыть, тол-
куя о «простоте вымысла», «совершенной истине» жизни у Го-
голя и «смехе сквозь слезы». Больше всего (и напрасно) Бе-
154
линский боялся объявить Гоголя сатириком. Карикатура для
Белинского была вовсе не искусством, и сатиру он считал та-
ким односторонним преувеличением и, следовательно, искаже-
нием жизни, что она ничего общего с реализмом не должна
иметь.
Таким образом, мешало правильно взглянуть на манеру Го-
голя собственное представление Белинского о сатире, преду-
беждение против нее. Хотя критик вел родословную сатиры от
Кантемира и даже считал сатирическую линию одним из пло-
дотворнейших направлений русской литературы, все же по-
следующие представители русской сатиры не получили достой-
ной оценки. В статье о «Горе от ума» Белинский высказывал
много похвал «Недорослю» Фонвизина, но в итоге это произве-
дение не считал «художественным», так как «Недоросль»—это
всею только «сатира». Точно так же «неполноценным» оказы-
валось «Горе от ума» Грибоедова.
В статье «Стихотворения М. Лермонтова» Белинский снима-
ет свое пренебрежительное суждение о сатире. Разбирая «Ду-
му» Лермонтова, Белинский заявлял, что эта сатира вызывает
у него симпатии. Страстный пафос «Думы», в которой Лермон-
тов не отделяет и себя от «нашего» поколения, искупал все.
Сила, искренность, художественность — все в «Думе» убежда-
ло Белинского, что сатира может быть «законным родом»
пюрчества.
Но сделав такое признание, Белинский вовсе не пересмот-
рел заново всю русскую сатиру. Решение этого вопроса остава-
лось у него на прежнем уровне. Когда закипела полемика во-
круг «Мертвых душ», Белинский упорствовал в своем старом
мнении о сатире и решительно отводил утверждения против-
ников о том, что «Мертвые души»—сатира: для него это было
синонимом «искажения правды». Сами его противники не скупи-
лись на обвинения Гоголя в «клевете» на действительность, а
он не счел нужным отделить понятие «сатиры» от злостных ее
истолкований булгаринской кликой. Настороженное отношение
к сатире критик наследовал от гегелевской эстетики и до конца
не преодолел этого старого идеалистического предрассудка.
Отсюда остались некоторые неясности и в общих линиях ис-
юрико-литературной концепции Белинского. Сказав, что рус-
ская литература с самого начала потекла двумя руслами: ло-
моносовским и кантемировским — и что оба эти потока слились
и творчестве Пушкина, он в самом творчестве Пушкина спе-
циально не выделил сатирическую линию. А коснувшись ее в
< гатье о «Евгении Онегине», тут же подчеркнул ее ограничен-
ный смысл. Творчество Гоголя он то объявлял целиком вышед-
шим из этой вековой Кантемировской сатирической традиции
литературы, то подчеркивал наличие в его творчестве также
н патетической, идущей от Ломоносова традиции, а в обзоре
русской литературы за 1847 год Белинский говорил, что ломо-
155
носовская и Кантемировская линии нашли своих истинных про-
должателей в «натуральной школе». Действительно, в «нату-
ральной школе» сходились все линии. Но требовалось допол-
нительно выяснить, какое же место в этом процессе занимает
Гоголь, стоящий между двумя синтезами традиций — между
Пушкиным и «натуральной школой».
Вокруг Белинского и возглавлявшихся им журналов «Оте-
чественные записки», «Современник» начинала группировать-
ся целая плеяда новых, молодых писателей. Создавалось ядро
будущей «натуральной школы»: Герцен, Некрасов, Тургенев,
И. Панаев, Кудрявцев и др. Эти молодые таланты, наследовав-
шие традиции Пушкина, Лермонтова и Гоголя, все больше и
больше приковывали к себе внимание Белинского. В обзоре
литературы за 1845 год он констатировал начало самого «дель-
ного направления литературы». Организационному оформлению
«натуральной школы» сильно способствовал выход в 1845 году
двух частей альманаха «Физиология Петербурга» и в 1846 го-
ду— «Петербургского сборника», изданных Некрасовым. Белин-
ский написал «Вступление» к «Физиологии Петербурга», по-
местил в обеих частях альманаха свои статьи («Петербург и
Москва», «Александрийский театр», «Петербургская литерату-
ра»), а в Петербургском сборнике»—статью «Мысли и замет-
ки». В рецензиях и статьях он приветствовал появление этих ор-
ганов «натуральной школы», подчеркивал актуальность «фи-
зиологических очерков», беллетристики и публицистики с их
темой «маленького человека». Все эти выступления Белинско-
го можно рассматривать как боевые манифесты школы, ее эс-
тетическую программу. Так воспринимали их и сами современ-
ники.
В 1846 году на страницах «Северной пчелы» Булгарин впер-
вые употребил термин «натуральная школа», желая унизить
ее, так как она якобы занимается только грязью жизни, чужда
идеальных стремлений. Белинский подхватил термин, придал
ему положительный смысл: «натуральная»—значит естествен-
ная, рисующая жизнь без прикрас. Это и есть подлинное реа-
листическое искусство. Термин «натуральная школа» привился
в положительном истолковании Белинского; «натуральность»
здесь равнозначна термину «реализм» (в то время этот более
точный термин еще не употреблялся).
В середине 40-х годов «школа» сформировалась вполне. Вее
состав вошли также Достоевский, Гончаров, Григорович. Вско-
ре появились главные произведения школы: романы «Кто вино-
ват?» Герцена, «Обыкновенная история» Гончарова, «Бедные
люди» Достоевского, повести Григоровича «Деревня», «Антон
Горемыка», цикл рассказов Тургенева «Записки охотника», сти-
хотворения Некрасова, рисующие жизнь бедноты, крестьян.
Реализм окончательно победил в русской литературе, стал гос-
подствующим художественным направлением.
156
С особенной силой в это время проявилась проницатель-
ность Белинского. Многим писателям «натуральной школы» он
указал на их собственное «я». Он считал, например, что есть
писатели, у которых индивидуальные особенности могут про-
явиться так, словно у них «талант уходит в ум», а у других
«ум уходит в талант». Примерами таких типов писателей, по
его мнению, могут служить Герцен и Гончаров. Блестящая
сравнительная характеристика их дарований приведена им в
письмах того времени и в статье «Взгляд на русскую литера-
гуру 1847 года». Тургенев долго и многообразно испытывал
свои силы в области поэзии. Ио вот он опубликовал в 1847 го-
ду рассказ «Хорь п Калнныч», и Белинский написал автору:
«Судя по «Хорю», Вы далеко пойдете. Это Ваш настоящий
род».
Оценки Белинского замечательны не только своей опреде-
ленностью, ио и гибкой диалектичностью. Иногда он улавливал
в таланте писателя известную сбивчивость, противоречивость.
Критик помогал писателю выйти на правильную дорогу. Тако-
вы, например, отзывы Белинского о Достоевском.
ГЛАВА 9
Проблемы реализма в критике последователей В. Белинского
Белинский гордился тем, что его взгляды на современную
реалистическую литературу начинали входить в сознание пуб-
лики. Это было верным признаком того, что реалистическое
направление окончательно упрочило свое положение в русской
литературе. У Белинского появились ближайшие единомыш-
1СННИКИ и последователи. Вне его влияния стало уже трудно
писать критические статьи. Но в этой группе были разные лю-
ди, позднее разошедшиеся непримиримо.
С разной степенью последовательности и талантливости под-
хватывались и разрабатывались идеи Белинского. Это отчасти
объяснялось и многоаспектностью, противоречивостью самого
наследия Белинского.
Рассмотрим сначала тех критиков, которые считали себя
приверженцами реалистического направления и на самом деле
ими были.
Валериан Николаевич Майков (1823—1847). С апреля
1846 года В. Майков заступил место Белинского в качестве
।данного критика в «Отечественных записках», после того как
Белинский идейно порвал с их издателем Драевским.
Майков был младшим братом поэта Аполлона Майкова.
Очень одаренный и образованный юноша, он обещал со вре-
менем стать крупным критиком, публицистом, ученым. Сла-
бый здоровьем, Майков двадцати четырех лет умер от апоплек-
< нческого удара во время купания в окрестностях Петербурга.
157
И. С. Тургенев в воспоминаниях о Белинском, В. П. Боткин
в письмах и авторы некрологов о Майкове заявляли, что Май-
ков вполне «заменил» Белинского в «Отечественных записках»
и, опираясь на методы точных наук, даже сумел как критик
пойти дальше него.
В литературных кругах Майков воспринимался не только
как достойный преемник Белинского, но и как его конкурент
и даже антагонист.
Сам Майков, в общем уважительно относившийся к Белин-
скому, счел возможным в первой же статье, опубликованной в
«Отечественных записках»,—«Стихотворения А. В. Кольцова»
(1846) —обвинить великого критика в «диктаторстве», «бездо-
казательности» суждений, в том, что Гоголь, например, им
только «увенчан, а не объяснен»1. Белинский отвечал Майкову
в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», усмотрев
в его суждениях существенные изъяны субъективно-априори-
стического характера. За недооценку национальных основ ли-
тературы Белинский назвал Майкова «гуманистическим космо-
политом».
Майков — прогрессивный деятель, и он не выпадает из ис-
тории передовой русской критики. Чернышевский с большой
симпатией относился к Майкову. Методология самой боевой
русской демократической и реалистической критики, например,
60-х годов, не говоря уже о народниках, была сложной, проти-
воречивой и включала в себя разнообразные философские по-
сылки: вульгарно-материалистические и позитивистские, она в
чем-то шла вперед и одновременно в чем-то понижалась.
По истокам своего мировоззрения Майков был близок к
петрашевцам. Он боролся с официальной идеологией и со сла-
вянофилами, был сторонником реалистического «гоголевского»
направления в литературе. Он первый разъяснил значение глу-
бокого психологизма Достоевского как нового шага в развитии
социального обличительства и гуманизма. Майков приветство-
вал беллетриста Я. П. Буткова, поэта-петрашевца А. Плещее-
ва, напоминал о стихотворениях Тютчева, опубликованных в
«Современнике» 1836 года и затем забытых.
Но в целом критика Майкова была, конечно, ниже критики
Белинского. Современная критика, по мнению Майкова, долж-
на отказаться «от титла руководительницы художественного
таланта; сфера ее ограничивается опытным исследованием об-
стоятельств, сопровождающих зачатие, развитие и выражение
художественной мысли» («Нечто о русской литературе в
1846 году»). Майков не видел различия между искусством и
наукой в области формы (хотя бы в образности), претворяю-
щей силы искусства, создающего «вторую действительность».
Белинский критиковал еще одно утверждение Майкова: по-
1 Майков Валериан. Критические опыты.— СПб., 1891.— С. 5.
158
следний говорил, что историю делают выдающиеся личности,
гении, просвещенное «меньшинство», стоящее наиболее близко
к идеалу целостного, «неделимого» человеческого типа, каким
создает его природа, а массы — это пассивное «большинство»,
слишком подверженное воздействию внешних обстоятельств,
среды, климата, местности. Национальное — это отступление от
«чистоты человеческого типа», искажение его. Плохо будет ху-
дожнику, если он вместо выражения общечеловеческих идеа-
лов окажется «окованный цепями своей национальной односто-
ронности»1. С этих надуманных позиций Майков трактовал
Кольцова как выразителя общечеловеческих идеалов, радости
бытия и труда, умаляя обьективный социальный смысл творче-
ства поэта, его глубокую народность.
Майков был нс прав, когда пытался «общечеловеческое»
отыскивать во всяком человеке, в том числе и в героях «Мерт-
вых душ» (рецензии «Похождения Чичикова, или Мертвые ду-
ши» Гоголя, изд. 2. М., 1846; «Сто рисунков из сочинения
II. В. Гоголя «Мертвые души», 1847).
Майков делал неверный общий вывод о книге Гоголя «Вы-
бранные места из переписки с друзьями», приуменьшая ее ре-
акционное значение. Но он оценил в ней некоторые части, в
особенности четыре письма о «Мертвых душах» с ценными при-
шаниями Гоголя о тех наблюдениях, какие он делал над собой
в процессе создания великих сатирических произведений, о сво-
ем творческом общении с Пушкиным, который первым раз-
глядел гротескные особенности его реализма. Вспомним, что
позднее Чернышевский, нисколько не ревизуя Белинского, так-
же взял под защиту именно эти ценные страницы в последней
книге Гоголя.
Белинский радовался начинавшемуся охлаждению Майко-
на к «Отечественным запискам», его желанию сотрудничать в
Современнике». Если бы не ранняя смерть Майкова, писал
Белинский, он «решительно перешел бы к нам».
Майков по-своему хотел доказать важность и плодотвор-
ность реалистического направления в русской литературе и
объяснить некоторые его стороны. При помощи своих выкла-
док, напоминавших позитивизм О. Конта с его упором на «опыт»
и очевидность результатов, Майкову хотелось усилить «дока-
i.-пельность» реалистической теории. Потом к этому же будут
стремиться Добролюбов и Писарев.
Несомненно, Майков усиливал позиции «натуральной шко-
'ы», доказывая родственность таланта Достоевского и Гоголя.
()и первый сделал то, что не сделал в должной мере Белин-
< кий: обратил внимание на полную оригинальность манеры
Достоевского. Гоголь — поэт «по преимуществу социальный, а
Достоевский— по преимуществу психологический» («Нечто о
* Майков Валериан. Критические опыты,— С. 66, 79.
159
русской литературе в 1846 году»1. Можно согласиться с мне-
нием, что выдвижение Майковым проблемы психологизма как
актуальной и определенным образом достижимой для «нату-
ральной школы» было новым шагом вперед в истолковании
«натуральной школы». Правда, в сопоставлении Достоевского
с Гоголем, которое проводит Майков, чувствуется какая-то
антитеза: психологизм как бы идет на смену социологизму. Но
Майков помогал всерьез связать Достоевского с историей «на-
туральной школы», в то время когда сам писатель был в раз-
доре с кружком Белинского и с «Современником».
Критическое наследие Майкова имеет незавершенный, пе-
реходный характер. Но в целом оно принадлежит к прогрес-
сивным явлениям русской критики.
Николай Алексеевич Некрасов (1821—1877). Особенности
критического дарования Некрасова, высоко ценившегося Бе-
линским, органически вырастали из общей демократической
направленности его деятельности как поэта, журналиста и из-
дателя.
Можно определенно сказать, что в 40-х годах Некрасов-кри-
тик опережал Некрасова-поэта. Переход от сборника «Мечты
и звуки» (1840) к новаторским стихам, таким, как «Еду ли но-
чью...» (1847), был возможен только в результате влияния
Белинского и практики Некрасова-критика. Последний обога-
тился теми новыми демократическими идеями, которые повели
его поэтическое творчество вперед.
Он сотрудничал с Белинским: в 1843 году заменял его в
«Отечественных записках», когда Белинский уезжал в Москву,
а в 1847 году — в «Современнике», когда критик лечился за
границей. В автобиографии Некрасов говорит, что он в это
время «писал много» в отделе критики. Чрезвычайно важна
была роль Некрасова как критика в первой половине 50-х го-
дов, после смерти Белинского и до первых программных вы-
ступлений Чернышевского. Обзоры русской литературы за
1855—1856 годы в «Современнике» им написаны в частичном
сотрудничестве с Чернышевским.
Опорой для него были идеи Белинского, потом Чернышев-
ского. Он развивал их со вкусом, талантом, как великий поэт-
практик, которому и самому было что сказать. Но подлинный
гений Некрасова-критика больше выразился в его организаци-
онной деятельности, собиравшей и скреплявшей реалистическое
направление русской литературы. Если мы вообще критику
рассматриваем как момент программной консолидации направ-
лений, их теоретико-организационного оформления, то под этим
углом зрения деятельность Некрасова — критика и журнали-
ста— встает в подлинном своем величии. Эта деятельность тре-
бовала таланта, ума, подвига.
1 Майков Валериан. Критические опыты.— С. 325.
160
Если Гоголь был «отцом» «натуральной школы», а Белин-
ский ее идейным руководителем, то Некрасов должен быть по
праву назван ее организатором. Он издал обе части «Физиоло-
гии Петербурга» (1845) и «Петербургский сборник» (1846) —
важнейшие органы «натуральной школы»—и сам написал сме-
лую рецензию на первый из них. Затем он вместе с И. Панае-
вым превратил «Современник» в боевой орган реалистического
направления русской литературы (1847—1866).
От личного согласия Некрасова зависело решение вопроса
о приглашении больного Белинского в «Современник» осенью
1846 года. И позднее именно Некрасов пригласил в «Современ-
ник» Чернышевского. Это он должен 61.1л в 1860 году выбирать
между Тургеневым и Добролюбовым, когда произошел раскол
в редакции «Современника». После закрытия «Современника»
первой мыслью Некрасова было под любым видом, любой це-
ной возродить орган революционной демократии и реалистиче-
ского направления. Он вместе с Салтыковым-Щедриным изда-
вал «Отечественные записки» с 1868 по 1877 год (после смерти
1ккрасова журнал издавал Щедрин до самого его закрытия
властями в 1884 году).
Некрасов с первых шагов смело вступил в борьбу с антире-
алистическими течениями, с реакционной критикой. Первая его
статья —«Очерки русских нравов, или Лицевая сторона чело-
веческого рода» (1843) — была направлена против Булгарина.
Он разоблачал сусальную «народность» в произведениях За-
госкина, Кукольника. Некрасов принял участие в полемике по
поводу «Мертвых душ» на стороне Белинского против Сенков-
ского, Н. Полевого и других.
Некрасов прокладывал путь новой школе в литературе.
В анонимной рецензии на первую часть «Физиологии Петер-
бурга» в «Литературной газете» 1845 года Некрасов писал:
Добро пожаловать, книга умная, предпринятая с умною и по-
лезною целью! Ты возложила на себя обязанность трудную, ще-
котливую, даже в некотором отношении опасную...»1 (принад-
лежность Некрасова этой смелой рецензии доказана только в
советское время). Рецензия развивала положения, высказан-
ные Белинским во вступлении к «Физиологии Петербурга».
В рецензии «Музей современной иностранной литературы»
(1847), долгое время ошибочно приписывавшейся Белинскому,
I (скрасов взял под защиту «натуральную школу» от обвинений
в пристрастии к изображению «маленьких людей». Он вскрыл
। уманистический пафос нового, демократического героя «нату-
ральной школы». Некрасов был противником скороспелой бел-
летристики, он доказывал, что беллетристика должна стре-
миться к полноценной типизации явлений (рецензия на «Путе-
вые заметки» Марченко).
’Некрасов А Н. Поли. собр. соч. и писем.— М., 1950.— Т. IX.—
(. 142.
11 Заказ № 1367
161
Когда говорится о столкновении Достоевского с кружком
Белинского, вследствие чего охладились связи автора «Бедных
людей» с «натуральной школой», надо прежде всего иметь в
виду его охлаждение к Некрасову. Последний крайне отрица-
тельно отнесся к фантастическому элементу в «Двойнике». Он
как редактор даже правил рукопись статьи Белинского «Взгляд
на русскую литературу в 1846 году», стараясь усилить в ней
критическую оценку творчества Достоевского. Некрасова ин-
тересовало все касающееся «натуральной школы»: что о ней
думают, какие процессы протекают в ней самой. Он боролся за
здоровые демократические начала и за высокую художествен-
ность ее произведений.
В «Заметках о журналах» (за 1855—1856 годы) Некрасов
возродил критерии «гоголевского периода» эстетики Белинского.
Он указывал на важную роль литературы в общественной жиз-
ни, высмеивал половинчатые, робкие мнения в критике.
Во многих вопросах Некрасов выступал как оригинальный
судья, первый ценитель великих произведений прочитанных им
еще в рукописи. Богата тонкими суждениями его переписка
с Л. Толстым, Тургеневым. Некрасов повел упорную борьбу за
Л. Толстого с целью привлечения автора «Севастопольских
рассказов» в «Современник», в котором с 1855 года главную
роль начинал играть Чернышевский.
В борьбе с «чистым искусством» Некрасов старался в ис-
тинном свете разъяснить главный тезис диссертации Чернышев-
ского о «приговоре» над действительностью.
Некрасов, может быть, живее и «профессиональнее», чем Бе-
линский, чувствовал биение пульса поэтической жизни 40-х го-
дов. Он не столь пессимистически, как Белинский, смотрел на
состояние поэзии, которая начинала занимать свое законное
место в системе «натуральной школы». В глазах Белинского
процесс вытеснения стихов прозой был закономерным и даже
прогрессивным. Некрасовская поэзия не успела получить все-
сторонней оценки со стороны Белинского в печати, хотя критик
уже застал начало ее расцвета и в письмах приветствовал ее
всячески. В тяжелые годы последовавшей затем реакции Не-
красов выступил со статьей «Русские второстепенные поэты»
(1850), в которой напомнил о забытой поэзии Тютчева и пере-
печатал его стихи, в свое время появившиеся в пушкинском
«Современнике». Вспомнил он в этой статье и об Огареве, и о
поэтах кружка Станкевича.
Эпоха Белинского оставила нерешенным вопрос о лиризме
Гоголя. Белинский в ходе полемики 1842 и 1847 годов убедил-
ся, что лиризм у Гоголя является отголоском его проповедни-
ческих настроений, и не считал нужным связывать этот лиризм
с реализмом писателя. Писемский же в связи с изданием в
1856 году второго тома «Мертвых душ» настаивал, что лиризм
вообще не присущ творчеству Гоголя. Некрасов опротестовал
162
1акое заключение Писемского о Гоголе и доказал, что, не при-
нимая во внимание лиризм, нельзя понять всей интонации твор-
чества Гоголя. В то же время Некрасов добавлял нечто такое,
о чем не говорил даже Белинский: Некрасов решительно свя-
зывал лиризм с общим социальным звучанием творчества Го-
голя. И эта точка зрения единственно верная. Она ближе к
юй реабилитации Гоголя, которую предпринял в то же самое
время Чернышевский, глубоко разобравшийся в субъективных
и объективных моментах писательской трагедии Гоголя.
Некрасов выступал против попыток сторонника «чистого
искусства» Дружинина и его единомышленников искусственно
противопоставить «пушкинское» гл «гоголевское» начала в рус-
ской литературе. Он доказывал глубокую связь между двумя
великими русскими национальными писателями и заложенными
ими началами творчества.
Все это позволяло Некрасову в новых условиях вместе с
Чернышевским отстаивать значение «гоголевского» направле-
ния в литературе, продолжателем которого он считал и себя
самого.
Александр Иванович Герцен (1812—1870). Герцен-критик
пыл конгениальным сподвижником Белинского, самостоятель-
но разрабатывавшим проблемы реализма. Глашатаем реализма
<>н остался и во время своей эмиграции.
Еще до отъезда за границу в 1847 году Герцен весьма оп-
•сделенно высказался в русской критике как противник «офи-
циальной народности». В «Отечественных записках» появились
сю пародии и памфлеты: «Москвитянин» о Копернике», «Путе-
пые записки Вёдрина». Свои соображения о реалистическом те-
11 ре он высказал в статье «По поводу одной драмы».
Герцен оказал влияние на русскую критику своими фило-
<офскими работами: «Дилетантизм в науке» (1842—1843),
Письма об изучении природы» (1845—1846). Много ценных
критических суждений Герцен высказал в «Письмах из Фран-
ции и Италии», «С того берега», в «Былом и думах».
В эмиграции Герцен написал книгу «О развитии револю-
ционных идей в России» (1851), статьи: «О романе из народной
кизни в России», являющуюся предисловием к немецкому из-
1.1ПИЮ «Рыбаков» Григоровича (1857), «Новая фаза русской
и и [ сратуры» (1864), отражающую сближение автора с разно-
чинной революционной демократией, «Еще раз Базаров» (1868),
< цидетельствующую о своеобразии революционного демократиз-
м.| Герцена, опирающегося на богатейший опыт исторического
мышления. Все печатавшееся Герценом за границей немедлен-
но становилось известным в России.
Герцен разрабатывал, наряду с Белинским, методологиче-
< । не и философские основы критики; создал концепцию исто-
рии русской литературы под углом зрения развития освободи-
ir«и,ной борьбы в России; внес много нового в трактовку твор-
11
163
чества ряда писателей XVIII и первой половины XIX века и,
наконец, оригинально осмыслил проблему «героев времени».
В «Дилетантизме в науке» и «Письмах об изучении приро-
ды» Герцен занят «расчисткой» общественного сознания. Он
критикует педантизм и поверхностность, с которыми в рус-
ской критике толковали о научно-теоретических и эстетических
проблемах. Герцен на новом уровне решал те проблемы, кото-
рые прежде ставила романтическая философская критика. Рас-
смотрение различных систем мировой философской мысли от
Платона и Аристотеля до современности увенчивалось у него
обстоятельнейшим разбором систем Шеллинга, Гегеля и лево-
гегельянского движения в Германии. Герцен связывал свои
выводы непосредственно с русской критикой, ее методологией
и текущими задачами. Все это помогало укрепить реалистиче-
скую критику на прочном историзме.
Герцен показал, что философия Гегеля является последним
словом человеческой мысли. Не знать ее или пренебрегать ею —
значит проявлять «дилетантизм в науке», отставать от време-
ни, расписываться в собственном невежестве. Но Герцен
подверг критике идеализм Гегеля, его созерцательность и объ-
ективизм, переходящие в политический консерватизм. В самой
Германии наступила эпоха критики Гегеля слева. Герцен не
мог вполне развить эту запретную в России тему. Он сознавал,
что дальнейший шаг вперед после Гегеля означает материа-
листический переворот в философии. Его в Германии уже про-
извел Фейербах. Герцен самостоятельно в России начал мате-
риалистическую критику идеализма Гегеля и сформулировал
принципы философского «реализма» (т. е. материализма).
Диалектика—«алгебра революции»—раскрывалась Герце-
ном на примере русской истории. Герцен всегда был по-особен-
ному чуток к памяти о декабристах. Продолжая традиции
А. Бестужева, Кюхельбекера, он в работе «О развитии револю-
ционных идей в России» осветил пропущенные звенья истории
русской литературы, по-новому обрисовал облик многих вели-
ких писателей, уже истолкованных Белинским. Эта книга Гер-
цена была известна Чернышевскому: он тайно воспользовался
некоторыми ее идеями и разделами в своих «Очерках гоголев-
ского периода русской литературы».
Отныне история русской литературы как предмет изучения
уже не мыслилась без того вклада, который внес в нее Герцен.
Вводилась в исторический контекст целая плеяда революцион-
ных писателей-декабристов. Герцен сам относил себя, а также
Лермонтова и Гоголя к числу «пробудившихся» после событий
на Сенатской площади. Не проблемы языка и романтической
«народности», не «абсолютная идея» искусства, даже не только
«правда жизни» оказывались образующим центром всей исто-
рии русской литературы у Герцена, а непосредственная поли-
тическая борьба с самодержавием и крепостничеством. Веесве-
164
те решались и все другие проблемы. Принесенные жертвы за-
ставляли сказать, что «история нашей литературы — или марти-
ролог, или реестр каторги»: Рылеев повешен, Бестужев умер на
Кавказе в солдатчине после сибирской каторги, Полежаев умер
в военном госпитале, Пушкин убит, Лермонтов убит, Грибоедов
иогиб в Тегеране, Кольцов убит своей семьей, Белинский — го-
лодом и нищетой... Добавим: Герцен и Огарев после ссылки
оказались в политической эмиграции как «государственные
преступники». Мотив объединения всех революционных сил
I .вропы в борьбе со всеми формами деспотизма сильно звучит
у Герцена (он перекликался с главным мотивом парижской
лекции Кюхельбекера).
Пушкин, призванный «явить на Руси поэзию как искусство»,
«дебютировал великолепными революционными стихами», за
которые царь его сослал. Герцен показывал, что Пушкин не
только пел, но и боролся, он не поддавался на ласки Николая I,
котившего «погубить его в общественном мнении». Байронист
в южных поэмах, Пушкин отличался от Байрона не меньшими
масштабами затрагиваемых проблем или легким эпикуреизмом,
। тем, что «ему были ведомы все страдания цивилизованного
человека (т. е. в этом он на уровне Байрона.— В. К.), но он об-
ладал верой в будущее, которой человек Запада уже лишился»
(в этом его преимущество перед Байроном.— В. К.). Нет, Пуш-
кин не исчерпал себя, тайна его творчества не вся выявилась:
Он пал в расцвете сил, не допев своих песен, не досказав того,
чк> мог бы сказать»1.
«Лермонтов —«новое звено» в истории русской поэзии, гово-
рил Белинский. Но кто еще принадлежал к этому звену, вели-
кпн критик не досказал. Герцен протягивал нити: Лермонтов
полностью принадлежит к нашему поколению», поколению
разбуженных великим днем» 14 декабря 1825 года. Герцен
хорошо раскрывает гражданское звучание поэзии Лермонтова,
«ю умение «смело высказываться о многом без всякой пощады
и без прикрас».
Герцен чутко улавливал демократизацию литературы в це-
юм. Гоголь — народный писатель, он принадлежит к народу
по своим вкусам и по складу ума»; «Гоголь полностью свобо-
/н п от иностранного влияния... он больше сочувствовал народ-
non жизни...» Он сосредоточился на двух самых заклятых вра-
i .i\ — на чиновнике и помещике. «Мертвые души» потрясли всю
I’осеню»; «подобное обвинение было необходимо современной
России». «Это история болезни, написанная рукою мастера».
Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда». По мнению Гер-
п< па, в этом и заключалась неувядающая жизненность «гого-
/к некого направления».
Вслед за Белинским Герцен высоко расценивал всю сатири-
1 Герцен А. И. Собр. соч.— М., 1956.— Т. VII.— С. 203, 206, 207.
165
ческую традицию в русской литературе от Кантемира до Гого-
ля, исследовал силу различных «личин смеха». Герцен восста-
новил значение такого важного звена в истории русской лите-
туры, как Грибоедов. Он назвал Чацкого героем декабристско-
го поколения. Линию обличения Герцен протягивал и в буду-
щее, в «новую фазу русской литературы», когда вышли «Гроза»
Островского, «Записки из Мертвого дома» Достоевского.
Какие бы сложные отношения ни возникали у Герцена с
«Современником» в 50-х и 60-х годах, их объединяла общность
судьбы, общность задач борьбы. В Лондоне Герцен не захотел
сблизиться с Чернышевским, специально приезжавшим в
1859 году для переговоров по поводу статьи Герцена «Very
dangerous!!!» («Очень опасно!!!»), в которой оспаривались пре-
имущества разночинцев-революционеров по сравнению с дво-
рянскими революционерами. Но когда царизм совершил так
называемую «гражданскую казнь» над Чернышевским и затем
сослал его в Сибирь, Герцен гневно выступил в «Колоколе»:
«Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть ча-
са — а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к
нему? Проклятье вам, проклятье — и, если возможно, месть!»
(«Н. Г. Чернышевский»).
В «новую фазу русской литературы» Герцен вошел как об-
разованнейший теоретик и художник, не торопившийся разде-
лять все ее лозунги, пытавшийся понять их рациональную и
историческую суть. Он заботился о том, чтобы связать «концы
и начала» в реалистическом и освободительном движении. Мо-
лодым поколениям всегда чрезмерно свойственна тенденция
«отталкиваться» от «отцов». Герцен хотел лучше понять «де-
тей» и быть как можно более полезным для них.
Главное при этом состояло, конечно, в том, что сам Герцен
после ошибок, колебаний, иллюзий, связанных с оценкой цар-
ской реформы, уклонов в либерализм постепенно переходил на
сторону революционной демократии. Он полно и исчерпываю-
ще характеризовал всестороннее значение деятельности лидера
этой фазы литературы — Чернышевского.
Герцен в общем «принял» тех новых людей, которых изоб-
разил Чернышевский в «Что делать?». Он их видел и в Лондоне.
«Русские молодые люди,— писал он,— приезжавшие после 1862,
почти все были из «Что делать?» с прибавлением нескольких
базаровских черт». Он знал, что этим «молодым штурманам
будущей бури» принадлежит руководящая роль на новом эта-
пе революционной борьбы, из их среды выходят «герои време-
ни». В эти годы Герцен уже не считал «опасным» их появление.
Но мышление Герцена в области типологии «героев времени»
нередко трактуется исследователями еще слишком упрощенно:
сначала Герцен якобы боялся, что разночинные радикальные
«желчевики» без всяких оснований вытеснят духовно более со-
держательных «лишних людей», и обещал: «Мы еще поборем-
166
ся»; а потом он понял значение Базаровых и сам примкнул к
демократам. При таком истолковании пропадает много важных
оттенков мысли Герцена, которыми мы и сейчас оперируем в
литературоведении, забывая, что их отстаивал «либеральствую-
щий» Герцен. При всем своем искусстве оперировать обобщаю-
щими понятиями и типами — пристрастии, кстати сказать, силь-
но развитом и у Добролюбова, и у Писарева,— Герцен преду-
преждал, что этим надо пользоваться осторожно и что
художественные типы лишь до некоторой степени должны при-
ниматься за «интегралы» эпох, поколений, групп и партий в
истории и в литературе, и если этого не учитывать, то можно
прийти к упрощенному представлению об общественном и ли-
тературном процессах.
Герцен вошел в эпоху «нигилизма» как зрелый диалектик,
великий материалист и «гегельянец», стоявший выше лучших
умов буржуазной философии и остановившийся непосредствен-
но перед марксизмом. Об этом не следует забывать, тем более
что в философском отношении русская критика 50—60-х годов
в лице Антоновича, Зайцева и даже Писарева во многом пошла
назад от диалектики. Каким своевременным предупреждением
увлекающимся деятелям, готовым рубить сплеча, был его муд-
рый совет: «В жизни все состоит из переливов, колебаний, пе-
рекрещиваний, захватываний и перехватываний, а не из от-
ломанных кусков» («Еще раз Базаров»). Герцен был глубоко
прав, когда требовал, чтобы резкое подчеркивание качествен-
ного своеобразия нового поколения, новых героев не прерыва-
ло преемственной линии с прежними героями, связывающих их
исторических традиций. И либерализм Герцена здесь ни при
чем, в этом он оставался глубоким демократом.
В упоминавшейся статье «Еще раз Базаров» (1868) Герцен
отметил: Писарев «узнал себя и своих» в Базарове и «добавил,
чего недоставало в книге». «Базаров для Тургенева больше, чем
посторонний, для Писарева больше, чем свой»; Писарев «испо-
ведуется за него», улучшает его, творит своего, грандиозного
Базарова. Но, не говоря уже о том, что это означало подмену
одного Базарова другим, домысливание Писарева начинало от-
рывать Базарова от его почвы. В родословном древе Базаровых
у Писарева вовсе отсутствуют декабристы. «Знание» и «воля» у
Базаровых получают односторонне полемический характер по
отношению к духовным качествам «отцов». «Оттого-то и вы-
шло,— писал Герцен,— что часть молодого поколения узнала
себя в Базарове. Но мы вовсе не узнаем себя в Кирсановых,
i.iK, как не узнавали себя ни в Маниловых, ни в Собакеви-
чах...»
Кирсановы — самые стертые и пошлые представители «от-
цов». У Рудиных и Бельтовых «иной раз бывает и воля и на-
стойчивость». Например, иллюстрирует Герцен, сумели же «от-
цы» 40—50-х годов — т. е. сами Герцен и Огарев — создать в
167
Лондоне Вольную русскую типографию и «Колокол». «Я при-
знаюсь откровенно: мне лично это метанье камнями в своих
предшественников противно». Ведь всех их связывают «красные
нитки». Не нужно снова применять отвергнутого еще Белинским
абсолютного способа суждения. Надо видеть, что «Онегины и
Печорины прошли. Рудины и Бельтовы проходят. Базаровы
пройдут... и даже очень скоро. Это слишком натянутый, школь-
ный, взвинченный тип, чтобы ему долго удержаться». Из дво-
рян выходили революционеры-декабристы. Их никак не обви-
нишь «ни в отсутствии знаний, ни в отсутствии воли». Если б
эти «князья, бояре, воеводы, эти статс-секретари и полковники
не проснулись первые от нравственного голода и ждали, чтоб
их разбудил голод физический, то не было бы не только ною-
щих и беспокойных Рудиных, но и почивших в своем «единстве
воли и знания» Базаровых»1.
Герцен был против того, чтобы «грузить на плечи типов
больше, чем они могут вынести». Надо осторожно выбирать так
называемых «представителей» классов и групп. Например, за
«интеграл» всех стремлений и деятельности людей 1812—
1825 годов надо брать не Онегина — он только одна из сторон
тогдашней жизни, а декабристов: «Тип того времени, один из
великолепнейших типов новой истории, это — декабрист, а не
Онегин. Русская литература не могла до него касаться целые
сорок лет, но он от этого не стал меньшим».
В литературе этот тип в большей мере отразился в образе
Чацкого. Декабристы—«наши великие отцы, Базаровы — наши
блудные дети». Впрочем, если б встретились все эти герои за
круглым столом, они, наверное, поняли бы друг друга. Нет не-
проходимых перегородок между ними. Герцен считал, что если
заставить Базарова отказаться от его жаргона, фраз, ершисто-
сти, попросить быть самим собой и разговаривать о себе без
полемического задора, можно было бы объясниться с ним «во
всем остальном в один час».
Герцена привлекала мысль о непрерывности развития ре-
волюционных идей в России, та особая красота мироздания, ко-
торая заключается в братском союзе подлинно передовых дея-
телей, в радости подготовки переворота. Герцен своим широ-
ким историзмом вплотную подходил к марксистскому исто-
ризму.
Источники
Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: В 2 т.— М., 1974.
Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т.— М., 1976—1983.— Т. 1—9.
Белинский В. Г. Собр. соч.: В 3 т.— М., 1948.— Т. I—III.
Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. и писем: В 12 т.— М., 1952.— Т. IX.
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т.— М.; Л., 1954—1965.— Т. II, VII, IX.
Русская эстетика и критика 40—50-х гг. XIX в.— М., 1982.
1 Герцен А. И. Собр. соч.— Т. XX.— С. 340—341.
168
Пособия и исследования
Белинский — историк и теоретик литературы.— М., 1949.
Мордовченко Н. И. Белинский и русская литература его време-
ни.— М.; Л., 1950.
Б у р с о в Б. И. Вопросы реализма в эстетике революционных демокра-
тов.— М., 1953.
Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х гг.
XIX в,— М„ 1958.
Лаврецкий А. Эстетика Белинского.— М., 1959.
Поляков М. Я. Виссарион Белинский: Личность, идеи, эпоха.— М.,
1960.
Гуляев Н. А. В. Г. Белинский и зарубежная эстетика его времени.—
Казань, 1961.
Мезенцев П. А. В. Г. Белинский и русская литература.— М., 1965.
Поляков М. Я. Поэзия критической мысли.— М., 1968.
Соболев П. В. Эстетика Белинского.— Л., 1978.
Егоров Б. Ф. Литературно-критическая деятельность В. Г. Белин-
ского.— М., 1982.
Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе.— 2-е изд.—
М., 1982.
Евгеньев-Максимов В. Е. «Современник» 40—50-х гг.— Л., 1934.
Поляков М. Я. В мире идей и образов.— М., 1983.
Манн Ю. В. Русская философская эстетика.— М., 1969.
Ш а г и н я н Р. П. Белинский — основоположник русской классической
критики.—Самарканд, 1981.
Прохоров Е. П. В. Г. Белинский.— М., 1978.
Янковский Ю. 3. Патриархально-дворянская утопия: Страницы
русской общественно-литературной мысли 1840—1850-х гг.— М., 1981.
Усакина Т. И. Петрашевцы и литературно-общественное движение
40-х гг. XIX в.— Саратов, 1965.
Усакина Т. И. История, философия, литература (середина XIX в.).—
Саратов, 1968.
Лаврецкий А. Эстетические взгляды русских писателей.— М., 1963
(«Некрасов-критик», «А. И. Герцен и эстетика реализма»).
Г и н М. М. Некрасов — литературный критик.— Петрозаводск, 1957,
Н. А. Некрасов и русская литература: Сб. статей.— М_, 1971.
ГЛАВА 10
Реакционная критика лагеря «официальной народности»
Реалистическому направлению приходилось вести борьбу с
реакционными течениями, среди которых самое крупное и
сильное было связано с идеологией «официальной народности».
Следствие над декабристами обнаружило, что вся передовая
литература была настроена оппозиционно по отношению к са-
модержавию, лучшие писатели или участвовали в заговоре,
или были к нему близки. Самодержавие пыталось пристроиться
к лозунгам, выработанным литературным движением: в конце
1832 года С. С. Уваров предложил правительству придержи-
ваться политики, основанной на трех заповедях —«православие,
самодержавие и народность». Власти хотели выдать свою дея-
тельность за угодную народу.
169
Политика «официальной народности» получила поддержку у
реакционно настроенного дворянства. Появились писатели и
критики, которые старались на ее основе создать художествен-
ные произведения: Н. В. Кукольник, Н. А. Полевой (после
1837 г.), Е. Ф. Розен, К- П. Масальский, М. Н. Загоскин,
П. В. Ободовский и другие. Но никакого художественно цен-
ного литературного направления или течения они создать не
смогли. И. С. Тургенев саркастически называл этих писателей
«ложно-величавой школой». Они эклектически использовали
приемы романтизма и натурализма, чтобы выдать свои без-
дарные поделки, полные плоской моралистической дидактики,
за художественные произведения. Все эти произведения были не
познанием действительности, а откровенной иллюстрацией к за-
ранее известным верноподданническим предписаниям.
Литература «официальной народности» имела и своих крити-
ков, пытавшихся не столько сформулировать ее позитивную про-
грамму, сколько бороться с прогрессивными писателями и кри-
тиками. Этим слугам существующего режима была предостав-
лена широкая возможность издавать журналы, дискредитировать
честных писателей, растлевать сознание читателей. В научно-тео-
ретическом смысле писания реакционных критиков Греча, Бул-
гарина, Сенковского, в значительной степени Погодина и даже
очень начитанного и входившего в тонкости литературных раз-
боров Шевырева представляют лишь исторический интерес.
Главными противниками Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Бе-
линского были критики реакционного петербургского журналь-
ного «триумвирата»: издатели «Сына отечества» и «Северной
пчелы» Греч и Булгарин и «Библиотеки для чтения» Сенков-
ский. Когда к началу 40-х годов они были высмеяны Пушкиным
в памфлетах и эпиграммах, Белинским в статьях «Телескопа» и
«Отечественных записок», на их место встали более «подкован-
ные» и изощренные противники реализма — профессора Мос-
ковского университета, издатели журнала «Москвитянин»—По-
годин и Шевырев.
Николай Иванович Греч (1787—1867). В 1812 году Греч ос-
новал журнал «Сын отечества» с целью патриотической мобили-
зации русского общества. Журнал первое время имел прогрес-
сивное значение. В «Записках о моей жизни» Греч рассказывает
о своих широких связях с будущими декабристами; с 1816 года
декабристы превратили журнал «Сын отечества» в орган своей
пропаганды. Но после 1825 года Греч резко изменил курс и
стал выступать против прогрессивной литературы.
В 1831—1859 годах Греч совместно с Булгариным издавал
реакционную газету «Северная пчела». Взаимная поддержка
этих периодических изданий, безвкусные похвалы и комплимен-
ты вызывали насмешки у современников.
Не вдаваясь в оценку грамматических работ Греча, имев-
ших для своего времени некоторое значение, отметим, что в
170
1840 году Греч в публичных лекциях по русскому языку глу-
мился над языком «Отечественных записок» и особенно над
языком статей Белинского. Он выхватывал из контекста фило-
софские термины, отдельные обороты и старался придать им
абсурдный характер, чтобы подорвать доверие к «гегелизму»
и реализму.
Греч стал широко известен как автор «Опыта краткой исто-
рии русской литературы» (1822). Это была попытка на основе
компиляций из Новикова, Карамзина, Сопикова, Борна и Бол-
ховитинова (автора словаря писателей из духовного звания)
построить, по словам В. Н. Перетца, «историческую схему» рус-
ской литературы от летописей до «Руслана и Людмилы». Курс
Греча долго служил в качестве справочного издания, переводил-
ся на иностранные языки. Эту в общем реакционную по духу
«историю» вытеснили в 40-х годах статьи Белинского, хресто-
матия А. Д. Галахова с примечаниями, близкими по направле-
нию к передовой критике, а также «Очерк истории русской поэ-
зии» А. П. Милюкова (1847, 1858, 1864).
Реакционность Греча становилась все более явной. В 1854 го-
ду праздновался пятидесятилетний юбилей его литературной
деятельности. Он получил анонимное стихотворение, в котором
была едко высмеяна его «позорная» деятельность, а сам Греч
именовался литературным «мошенником». Автором стихотворе-
ния (как сумела дознаться полиция) оказался студент Главного
педагогического института Н. А. Добролюбов, будущий великий
критик. Друзьям едва удалось отстоять его от суровой кары.
В советское время было найдено анонимное письмо, полученное
Гречем в связи с его верноподданнической статьей в «Северной
пчеле» по поводу смерти Николая I. Письмо было резкое по
отношению и к умершему царю, и к его верному лакею Гречу.
Подписано было письмо: «Анастасий (по гречески: «воскрес-
ший») Белинский». Анализ текста позволяет думать, что авто-
ром и этого письма был Добролюбов, истинный продолжатель
Белинского1. Несмотря на все старания Греча и III отделения,
отыскать смелого автора не удалось.
Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859). Самой реак-
ционной фигурой в русской критике XIX в. был Булгарин. Сна-
чала он вращался в кругах будущих декабристов, а затем сде-
лался агентом III отделения. Поддерживаемый тайной полицией,
он травил передовых русских писателей. Имя доносчика Булга-
рина стало нарицательным.
Главным изданием Булгарина была политическая и литера-
турная газета «Северная пчела» (1825—1859). Газета отлича-
лась бойкостью стиля, казенно-патриотическим направлением.
С историко-литературной точки зрения Булгарин мало инте-
ресен. Он беспринципен, недостоверен, однообразен, эклектичен.
1 См. публ. Б. Козмина: Литературное наследство.— М., 1951.— Т. 57,—
С. 7—24.
171
Булгарин нападал на Пушкина в 1830—1831 годах, когда поэт
участвовал в ненавистной Булгарину «Литературной газете» Дель-
вига, и в 1836 году, когда Пушкин сам стал издавать «Совре-
менник». Пушкин отвечал ему в памфлетах: «Моя родослов-
ная», «О записках Видока», «О мизинце г. Булгарина и о про-
чем».
Булгарин бранил седьмую главу «Евгения Онегина», уверяя,
что «ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного
чувствования, ни одной картины, достойной воззрения! Совер-
шенное падение»1.
Булгарин внушал читателям верноподданническую мысль, что
Пушкин, посетив в 1829 году Кавказ, может быть, «обогатится
новыми впечатлениями» и в «сладких песнях» постарается пове-
дать потомству «великие подвиги русских современных героев»2.
Но Пушкин не захотел воспеть политику Николая I и подвиги
войск Паскевича-Эриванского.
Задетый статьей Гоголя «О движении журнальной литера-
туры», напечатанной в «Современнике», Булгарин отвечал на все
ее обвинения, попутно взяв под защиту Сенковского. Он считал
Гоголя «живописцем мелочей», «грязи и пошлости» жизни. На-
падал на Гоголя, когда тот в 1835 году опубликовал «Мирго-
род» и «Арабески» и в 1842 году «Мертвые души».
Особенную ненависть у Булгарина вызвала «натуральная
школа». Он и придумал ей это название, желая им унизить де-
мократически настроенных писателей-реалистов. В январе
1846 года Булгарин опубликовал очередной фельетон в «Север-
ной пчеле», в котором откликнулся на выход «Физиологии Пе-
тербурга» под редакцией Некрасова: «Читатели наши знают,—
писал он,— что Некрасов принадлежит к новой, т. е. натураль-
ной, литературной школе, утверждающей, что должно изобра-
жать природу без покрова»3. Слово «натуральная» в понимании
Булгарина означало литературу, чуждую всего высокого, нраво-
учительного, узаконенного. Белинский не отказался от термина
«натуральная школа», он подхватил его, придав ему совсем дру-
гой смысл: натуральная — значит такая литература, которая
изображает жизнь без прикрас и румян, как она есть.
Булгарин называл Белинского бунтовщиком хуже Робеспье-
ра. Критик обвинялся в изничтожении выгодного мнения в пуб-
лике о Грече, Загоскине, Н. Полевом, Сенковском, Кукольнике
и о нем, Булгарине. Обвинялся он и в том, что провозгласил
«гениями» Лермонтова и Гоголя.
Жертвами инсинуаций и доносов Булгарина были Пушкин,
Чаадаев, Герцен, Некрасов, Гончаров, Тургенев; даже Краев-
ский, даже цензор Никитенко. И особенно Белинский. По книге
* Северная пчела.— 1830.— № 35.
’Там же.
8 Там же.— 1846.— № 22.
172
М. К. Лемке «Николаевские жандармы и литература 1825—
1856 годов» (СПб., 1908) можно ознакомиться с доносами Бул-
гарина, извлеченными исследователем из архива III отделения.
Один из доносов назван так: «Социалисм, коммунисм и панте-
исм в России в последнее 25 летие».
Но Булгарин терпел одно поражение за другим.
Осип Иванович Сенковский (1800—1858). Более «презента-
бельным» на вид в триумвирате был Сенковский — журналист,
беллетрист, профессор Петербурского университета, редактор
журнала «Библиотека для чтения» (1834—1857). Он выступал
под разными масками-псевдонимами: Барон Брамбеус, Тютюнд-
жю-Оглу, Снегин П., Белкин А., Закусаев и др.
Его «Библиотека...»—журнал «словесности, наук, художеств,
промышленности, новостей и мод»—сыграл некоторую положи-
тельную роль в русской журналистике. «Библиотека...» закрепи-
ла тип «энциклопедического» журнала, выработанный Н. Поле-
вым в «Московском телеграфе». Сенковский ввел твердую поли-
стную оплату за труд. Журнал выходил точно в срок, имел боль-
шой тираж.
Но Сенковский был деспотичным редактором, кромсал и пе-
ределывал чужие статьи, цинично менял свои мнения, любил
рекламу.
Пушкин, В. Одоевский, Жуковский, Вяземский и другие вско-
ре отшатнулись от него. Фактически Сенковский смыкался с
Булгариным и Гречем.
Несмотря на свою эрудицию, Сенковский во всем был кон-
серватором. В его статьях много произвольного, он был крайне
субъективным в суждениях.
Журнал Сенковского ориентировался на невзыскательные
провинциальные вкусы, развращал публику, служил реакции.
Сенковский «не любил русской литературы» (Дружинин), су-
дил о ней надменно, свысока, ставил рядом с Пушкиным без-
дарного поэта Тимофеева, замалчивал Лермонтова, Кольцова.
Превозносил реакционных писателей — Кукольника, Булгарина,
Розена.
Особенно злобны были нападки Сенковского на Гоголя, в ко-
тором незадачливый Барон Брамбеус видел соперника, перехва-
тившего у него славу юмориста. Сенковский преследовал каждое
выходившее в свет произведение Гоголя. «Читаешь и глазам
своим не веришь!»—притворялся непонимающим Барон Брам-
беус, говоря об «анекдотах», положенных в основу произведений
Гоголя, его ученых статей в «Арабесках»1.
Он спорил с Белинским, делая вид, что не понимает истин-
ного смысла его заявления: «У нас нет литературы». Как же
нет литературы,— вопрошал Сенковский,— если есть: Ломоно-
сов, Державин и Крюковский, Пушкин и Булгарин, Гоголь и
'Сенковский О. И. Собр. соч.— СПб., 1859.— Т. IX.— С. 346.
173
Загоскин. Выстроив такой ряд, Сенковский высмеивал необхо-
димость внутреннего «единства в литературе».
Всякое объединение передовых писателей Сенковский назы-
вал «литературной шайкой, начальствуемой одним литературным
атаманом», навязывающей «умственную монополию», «убиваю-
щей оригинальность»; «...для меня нет образцов в словесности,—
восклицал он,— все образец, что превосходно, и я так же громко
восклицаю «великий Кукольник!» <...>>, как восклицаю «вели-
кий Байрон!» (статья «Исторические драмы»).
Соизмеряя все только с самим собой, Сенковский двусмыс-
ленно уверял: «Критика в наше время сделалась картиною лич-
ных ощущений всякого... О правилах нет и речи. Одно только
условие в этом чувстве средств и способов, условие apriori —
нравственность».
Развратитель литературных нравов, Сенковский сыпал на-
право и налево игривые сальности и афоризмы в расчете на
своих почитателей. «Вкус — это прихоть беременной женщины,
которая есть общество». Что такое история как наука?—«Же-
манная и придирная баба». Что такое исторический роман?—
«Плод соблазнительного прелюбодеяния истории с воображе-
нием». Французская юная словесность «стреляет раскаленными
ядрами по бастиону супружества».
В статье «Брамбеус и юная словесность» (1834) Сенковский
обрушился на современную французскую литературу, обвиняя
ее в безнравственности, которая породила Марата, Робеспьера
и Сен-Жюста. В романах В. Скотта его пугали правдивые кар-
тины народных возмущений.
По законам старой дружбы Сенковский с похвалами отзы-
вался о романе Булгарина «Иван Выжигин», как образцовом и
нраственно-назидательном произведении.
К 40-м годам Сенковский уже явно исписался и затем совсем
сошел со сцены как критик.
В несколько ином тоне в Москве стала подавать свой голос
новая группировка консервативных критиков, имевшая весьма
благоприличное прошлое.
М. П. Погодин и С. П. Шевырев даже боролись с «Библио-
текой для чтения» и с «торговым» направлением полуофици-
альной петербургской журналистики. Они отчасти были связаны
со славянофилами. Но их открытая приверженность политике
«официальной народности», постоянная враждебность по отно-
шению к реализму, к Гоголю, «натуральной школе» и Белинско-
му принципиально сближали их с охранительным лагерем.
Погодин и Шевырев издавали в разное время три журнала:
«Московский вестник» (1827—1830), «Московский наблюдатель»
(1835—1837) и «Москвитянин» (1841—1856). Эти журналы свя-
заны между собой некоторой преемственностью: в них проводи-
лась антибулгаринская линия, но в то же время нарастала и ре-
акционная ориентация. Это заставляло Пушкина участвовать в
174
первом из них в надежде создать противовес рептильной петер-
бургской журналистике. По той же причине первоначально Пуш-
кин и Гоголь проявили интерес к «Московскому наблюдателю».
Но каждый раз, как обнаруживалось консервативно-романти-
ческое, а затем и охранительное направление журналов, передо-
вые писатели от них отходили. Никто из крупных русских писа-
телей постоянно не участвовал в «Москвитянине», который был
создан для отпора не столько «Библиотеке для чтения» и «Се-
верной пчеле», сколько «Отечественным запискам» с Белинским
во главе.
Михаил Петрович Погодин (1800—1875). Погодин больше
проявил себя не как критик, а как редактор и издатель трех
поименованных журналов. Круг его интересов был чисто науч-
ным: он был историком, профессором Московского университета,
затем академиком.
Наиболее обстоятельно свои позиции Погодин изложил в
статьях, появившихся в «Москвитянине», когда уже полным хо-
дом шла борьба западников со славянофилами: «Петр Вели-
кий» (1841), «Месяц в Париже» (1841), «Параллель русской
истории с историею западных европейских государств» (1845).
Погодин надеялся на спасительное значение для современной
литературы, погрязшей в «натурализме», перевода Жуковским
«Одиссеи» Гомера: перевод, «вероятно, будет для нас началом
новой эпохи». Погодин хвалил публичные лекции своего сорат-
ника С. П. Шевырева по истории русской словесности, читав-
шиеся в Московском университете, в противовес нашумевшим
тогда публичным лекциям западника Грановского.
У Погодина «официальная народность» выступала как «уче-
ние», как цепь доказательств, а не как одно словословие.
Погодин знал о затеянном славянофилами в 1839 году споре
относительно путей развития России.
Согласно славянофилам, получалось, что весь путь царской
России за сто с лишним лет после Петра I был сплошной ошиб-
кой и таил в себе опасные последствия. Это мнение никак не
согласовывалось с политикой самодержавия. Погодин доказы-
вал, что Петр I был великим русским человеком, реформы его
были нужны, но привитые им «европейские» элементы только
теперь, при Николае I, стали вполне «национальными». Льсти-
вое сопоставление само говорило за себя.
Но в этой статье Погодин еще не заявлял, что все западное
плохо, а все русское хорошо. Лишь в следующей статье—«Па-
раллель русской истории с историей западных государств»,
опубликованной через четыре года, он славил крепостническую
Россию, ее «мудрое» политическое устройство, покорность и ре-
лигиозность народа, его верность царю.
В дешевых тонах ура-патриотического гротеска Погодин опи-
сывал проведенный им месяц в Париже, посещение заседания
палаты депутатов, «нечестивые» лекции в Коллеж де Франс,
175
выступления либеральных «говорунов», волнения толпы на ули-
цах, стрельбу войск, бой барабанов в связи с отставкой старого
кабинета и формированием нового. «Не убираться ли нам сов-
сем с этого политического Везувия!»—восклицал Погодин и тут
же вспоминал о тихих лекциях в Московском университете,
о России, где все якобы совершается в богобоязненной обста-
новке Е Погодин неприязненно и враждебно относился к беспо-
койной русской реалистической литературе, особенно к «нату-
ральной школе», в лице всех ее представителей.
Степан Петрович Шевырев (1806—1864). В категорической
форме заявление, что Запад «гниет» и «умирает», а Россия жи-
вет и процветает под монаршим правлением, сделал С. П. Шевы-
рев в статье «Взгляд русского на современное образование Ев-
ропы» (1841J. России нужно разорвать литературные связи с
Западом. Она должна видеть в истории Запада лишь «предо-
хранительный урок» для своей жизни. Из этих сношений с За-
падом мы вынесли три коренных чувства, которые являются
залогом нашего спасения: религиозность, чувство государствен-
ного единства, в котором царь и народ — одно неразрывное це-
лое, и, наконец, сознание нашей народности, идущее от древней
Руси во всей своей чистоте. Шевырев постарался «обосновать»
уваровскую формулу научной аргументацией.
Чем больше набирало сил реалистическое направление, тем
яростнее выступал против него Шевырев. Для этой цели и был
создан «Москвитянин».
Шевырев в статье «Сочинения Пушкина» (в связи с выходом
9—11 томов посмертного издания) первым пытался противопо-
ставить в русской литературе «пушкинское» и «гоголевское» на-
чала. Он это сделал в 1841 году в «Москвитянине». Но тогда
же предложенная антитеза сразу получила отпор со стороны
Белинского. С явными реминисценциями из отзывов Белинского
о Гоголе, чтобы от них «оттолкнуться», Шевырев хвалил стро-
гую простоту прозы Пушкина, певца радостей бытия и жизни
под эгидой «официальной народности». То, чего царь и Булга-
рин не смогли сделать из Пушкина при его жизни, Шевырев
старался сделать после смерти поэта.
Бесцеремонно отзывался Шевырев о Лермонтове в статьях
«Герой нашего времени» и «Стихотворения М. Лермонтова»
(1841). Он превозносил образ Максима Максимыча как выра-
жение «цельного характера коренного русского добряка, в ко-
торого не проникла тонкая зараза западного образования». Пол-
ностью отвергался образ Печорина: это «злодей», получивший
«западное воспитание, чуждое всякой веры», «пигмей зла», не
имеющий в себе ничего русского. Печорин — тень западного
недуга; там он — герой действительности, а у нас это «призрак,
только в мире нашей фантазии имеющий существенность»2.
’ Москвитянин.— 1841.—№ 1.— С. 126, 122 и др.
2 Т а м же,-№ 2,— С. 535—537.
176
В 1842 году Шевырев написал две статьи о «Мертвых ду-
шах». Гоголь был лично близок к нему и к Погодину. Оба кри-
тика претендовали на какое-то особенное понимание писателя.
Шевырев старался оспорить истолкование творчества Гоголя,
данное в статьях Белинского. Для этого он искал зацепки в вы-
сказываниях самого Гоголя. Получалось, что все эти Собакеви-
чи, Ноздревы — не образы реальных лиц, а, как и Печорин, толь-
ко призраки, фантомы, тени недуга, мелькнувшие в фантазии
автора.
Шевырев считал, что сатирический подход мешает Гоголю
изображать людей целиком — все получается односторонним,
вполобхвата. Критик сделал несколько ценных наблюдений над
гротеском Гоголя. Шевырев уловил «светлые» возможности та-
ланта Гоголя в лирических местах «Мертвых душ» и даже сам
старался их развить: например, славил «неоцененного» критикой
кучера Селифана как воплощение «свежей, непочатой русской
природы»1, призывал Гоголя заняться внутренней Россией, обра-
тить внимание на ее добро. Естественно, когда вышла в свет
книга «Выбранные места из переписки с друзьями», он обрадо-
вался отказу Гоголя от прежнего направления в своем творче-
стве.
После статьи «Взгляд русского на современное образование
Европы» Шевырев написал «Взгляд на современное направле-
ние русской литературы» (1842) и попытался отыскать запад-
ный «тлетворный» дух уже не только у Лермонтова и Гоголя,
но у всего молодого поколения русской литературы. Белинского
и возглавлявшееся им реалистическое направление он назвал
«стороной черной». Выразителей же «официальной народно-
сти» в литературе Шевырев назвал «стороной светлой». Сюда
же, ценой натяжек и фальсификаций, он причислял Пушкина,
Соллогуба, Павлова, В. Одоевского, Даля, Вельтмана, Гре-
бенку.
Самой большой бедой в литературе Шевырев считал влияние
журналистики, которая дала возможность развернуться таким
«кондотьери», как Белинский, и организоваться целому литера-
турному направлению «натуралистов». В рецензии на «Петер-
бургский сборник» (1846) Шевырев старался представить «на-
туральную школу» как искусственное явление. Свойственное ей
«филантропическое» сочувствие «маленьким людям» он расцени-
вал как результат «западного влияния». Особенно оно прояви-
лось, по мнению Шевырева, в «Бедных людях» Достоевского.
Западное влияние Шевырев старался продемонстрировать в спе-
циальном «Словаре солецизмов, варваризмов и всяких измов
современной русской литературы» (1848), в котором главное
место заняли «искандеризмы»—цитаты из Герцена. Старая за-
тея Греча, Булгарина высмеивать язык «Отечественных запи-
1 Москвитянин.— 1842.— № 7.— С. 219.
12 Заказ Ns 1367
177
сок» и Белинского была продолжена Шевыревым. Он выстав-
лял профессорские отметки стилю Герцена, нападал на слова,
смелые обороты, которые несли в себе новые понятия и потом
вошли во всеобщее употребление.
Белинский в полемической статье «Ответ «Москвитянину»
(1847) исчерпывающе раскрыл реакционность нападок Шевы-
рева и других сотрудников журнала на передовое направление
русской литературы.
ГЛАВА 11
Славянофильская критика 1840—1850 годов
Славянофилы в своих литературных вкусах и построениях
были консервативными романтиками и убежденными противни-
ками критического реализма. Новые противники реализма про-
шли искусы немецкой философии, и спорить с ними было нелег-
ко. Они сражались, можно сказать, тем же оружием, что и при-
верженцы реализма.
Среди славянофилов следует различать два поколения.
К старшему, основавшему самое учение, относятся И. В. Кире-
евский, его брат П. В. Киреевский, А. С. Хомяков. К молодому
поколению, бравшему доктрину не в целости,— К- С. Аксаков,
Ю. Ф. Самарин. Позднее выступивший И. С. Аксаков собствен-
но литературным критиком не был.
Первоначально славянофилы сотрудничали в журнале По-
година и Шевырева «Москвитянин» (1841 —1845). В 1845 году
они самостоятельно выпустили под редакцией И. Киреевского
первые три номера этого журнала, а затем ограничивались толь-
ко ролью сотрудников. Это обстоятельство мешало читателям
выделить в своем сознании особую славянофильскую критику:
она сливалась в некую единую «москвитянинскую». В 1846 и
1847 годах в целях обособления славянофилы выпустили два
своих «Московских литературных и ученых сборника», которые,
однако, не оправдали их надежд на успех. В 1852 году первый
номер сборника вызвал неудовольствие властей из-за статьи о
Гоголе; начались цензурные гонения на славянофилов. Второй
номер сборника был запрещен еще до выхода в свет. В предре-
форменную эпоху славянофилы сумели добиться для себя неко-
торых свобод: с 1856 по 1860 год, с большими перерывами, они
издавали под редакцией А. И. Кошелева журнал «Русская бе-
седа»— основной свой орган. Но и «Русская беседа» успеха не
имела, ее направление расходилось с начавшимся общественным
подъемом. «Современник» вел решительную борьбу с «Русской
беседой». С 1861 по 1865 год И. Аксаков издавал газету «День»,
нападавшую на нигилистов, материалистов, проповедовавшую
антипольские, панславистские настроения.
Идеи славянофилов не могли создать художественно ценной
178
литературы. Выделяются лишь отдельные стихотворения Хом я-
нова, К- Аксакова, И. Аксакова. Козырем в конкуренции с про-
грессивной реалистической литературой у них был С. Т. Аксаков
(отец Константина и Ивана Аксаковых). Но С. Т. Аксаков не
был собственно славянофилом, а как писатель-реалист даже
противостоял им. Он был другом Гоголя, ценил его как автора
«Ревизора» и «Мертвых душ» и порицал «Выбранные места из
переписки с друзьями». Именем Гоголя славянофилы явно спе-
кулировали, используя его дружеские отношения с домом Акса-
ковых. Позднее славянофилы малоуспешно старались привлечь
к себе Островского как бытописателя москворецкой старины.
Они пытались приспособить к себе «черноземную правду» Пи-
семского, тем более что сам писатель уклонялся от передовых
идей и как бы шел навстречу таким желаниям. Пытались они
в своем «народном» духе истолковать и «Записки охотника»
Тургенева. Но все эти писатели не пошли вместе со славяно-
филами.
Питаясь не столько собственным положительным литератур-
ным опытом, сколько страхом перед реалистическими разобла-
чениями российской действительности, способствующими перево-
ротам, славянофилы разработали особую систему исторических
и эстетических взглядов, которую с методологической стороны
можно квалифицировать как консервативный романтизм.
Сущность славянофильской доктрины заключалась в идее
национального единения всех русских людей в лоне христианской
церкви без различия сословий и классов, в проповеди смирения
и покорности властям. Все это имело реакционно-романтический,
утопический характер. Проповедь идеи «русского народа-бого-
носца», призванного спасти мир от гибели, объединить вокруг
себя всех славян, совпадала с официальной панславистской
доктриной Москвы как «третьего Рима».
Но у славянофилов были и настроения недовольства сущест-
вующими порядками. Царская власть, в свою очередь, не могла
терпеть покушений на свои устои даже в туманных рассуждени-
ях славянофилов о необходимости совещательных земских со-
боров, особенно в заявлениях о необходимости личного освобож-
дения крестьян, в обличениях неправого суда, злоупотреблений
чиновничества, чуждых истинно христианской морали. Славяно-
филы были представителями либерального дворянства, дально-
видно начавшего искать выход из тупика, чтобы избежать в
России революционных взрывов по западному образцу.
Оппозиционность славянофилов была ограниченной. Писате-
ли-реалисты и подлинные демократы, выносившие на себе глав-
ную тяжесть борьбы с самодержавием, критиковали их за лож-
ную народность, утонченную защиту основ существующего строя.
Славянофилы старались возвысить свой престиж за счет то-
го, что после 1848 года западники, пережив разочарование в
буржуазном утопическом социализме, стали разрабатывать идеи
12*
179
«русского общинного социализма». Красноречивым примером
для них был эмигрант Герцен. Славянофилы давно твердили,
что в крестьянской общине сохранился дух подлинной народно-
сти, единения классовых интересов. При поверхностном взгляде
получалось, что западники пришли на поклон к славянофилам.
Известно, что и позднее находились теоретики, которые Черны-
шевского и народников, разрабатывавших идеи все того же
крестьянского «общинного социализма», относили к славянофи-
лам. Но сходство это только кажущееся.
Для славянофилов община — средство сохранения патриар-
хальности, оплот против революционного брожения, в конечном
счете против требования личного освобождения крестьян,
средство удержания крестьянских масс в повиновении поме-
щикам, воспитания в них смирения. А для революционных
демократов и народников община — форма перехода к социа-
лизму, прообраз будущего социалистического труда и общежи-
тия. Пусть эта доктрина была утопической, но все же сущность
общины и ее назначение трактовались революционными демо-
кратами в прямо противоположном по сравнению со славяно-
филами смысле.
Славянофилы любили выдавать себя за подлинных предста-
вителей русской самобытности, народности. Они собирали фольк-
лор, как отголосок идеализировавшегося ими прошлого в жизни
народа. Они претендовали на создание особого внеклассового
русского искусства взамен русского реализма, который уже су-
ществовал. Все это были реакционные утопическо-романтиче-
ские абстракции. Славянофилы радовались любым проявлениям
противоречий в жизни Запада и пытались выдать Россию за
оплот нравственных начал, якобы имеющую совсем иную исто-
рию, не чреватую революционными потрясениями.
Иван Васильевич Киреевский (1806—1856). Киреевский —
один из основоположников славянофильства. С 1828 по 1834 год
он выступал как прогрессивный мыслитель, искавший широкую
философскую основу для русской критики. Он издавал журнал
«Европеец» (1832), который на третьем номере был закрыт пра-
вительством из-за статей самого издателя «Девятнадцатый век»
и «Горе от ума» на Московской сцене». В первой статье Киреев-
ский утверждал, что старые формы философии, гражданского
самосознания, общественного устройства Западная Европа уже
исчерпала, России же предстоит развить свои, новые формы, ис-
пользуя опыт Запада. В конце статьи Киреевский риторически
предлагал самим читателям «сделать выводы» относительно ха-
рактера просвещения в России. Этого было достаточно, чтобы
царь заподозрил Киреевского в проповеди необходимости кон-
ституции. «Европеец» был запрещен, а Киреевский взят под
наблюдение.
Киреевский в молодости написал несколько замечательных
критических статей: «Нечто о характере поэзии Пушкина»
180
(«Московский вестник», 1828), «Обозрение русской словесности
за 1829 год» («Денница», 1830), уже упомянутые «Горе от ума»
на Московской сцене» и «Девятнадцатый век», а также «Обо-
зрение русской словесности за 1831 год» («Европеец», 1832),
«О стихотворениях Языкова» («Телескоп», 1834).
В статьях проявился незаурядный критический талант Кире-
евского. Пушкин был доволен его богатыми содержанием суж-
дениями. Белинский заимствовал у него несколько важных фор-
мулировок: о романтизме, о Пушкине как «поэте действитель-
ности». Вдумчивый, спокойный тон его статей высоко ценил
Чернышевский. Верный своему принципу, Киреевский приучал
русскую критику искать «общий цвет, одно клеймо» в творчестве
разбираемого поэта. И он сам мастерски находил его у Пушки-
на, Веневитинова, Баратынского, Дельвига, Подолинского, Язы-
кова.
Киреевский устанавливал периодизацию развития творчества
Пушкина. Первый период характеризуется влиянием «итальяно-
французской школы». Затем наступил «байронический» период.
Бытовые сцены в «Онегине», образы Татьяны, Ольги, описание
Петербурга, деревни, времен года в соединении с опубликован-
ной тогда сценой в Чудовом монастыре из «Бориса Годунова»,
по мнению Киреевского, составляют третий, особый, русско-
пушкинский период поэзии. Пушкин предстал перед читателя-
ми как явление «великое», основное качество которого—«соот-
ветственность с своим временем»1, живое чувство современности.
Обоснование достоинств этого самого содержательного периода
в творчестве Пушкина Киреевский еще углубил в статье «Обо-
зрение русской словесности за 1831 год».
В обозрении русской словесности за 1829 год Киреевский
уже намечал основные периоды русской литературы: ломоносов-
ский, карамзинский, пушкинский. Пушкинский период характе-
ризуется «уважением к действительности», стремлением «вопло-
тить поэзию в действительности»2.
Эта концепция, пронизанная признанием нарастающих эле-
ментов художественной правдивости, входила у Киреевского в
емкое понятие «девятнадцатого века», характеристике которого
он посвятил специальную статью.
Но уже в этих статьях примешивались рассуждения, из ко-
торых позднее выросла славянофильская доктрина Киреевского.
Здесь он начинал мыслить «абсолютным способом», альтерна-
тивно, взаимоисключающими категориями.
Основы западной цивилизации, говорил Киреевский, опреде-
лились тремя условиями: христианством, завоеваниями варва-
ров и классическими традициями. Россия восприняла христиан-
ство из рук православной Византии, а не из рук развратного,
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика.— М., 1979.— С. 55.
2 Т а м ж е.— С. 63.
181
еретического Рима; татары не разрушили Россию и не привили
ей своих нравов, а недостаток классических традиций был вос-
полнен Петром I.
Киреевский пока говорил об отличиях русской цивилизации
от западноевропейской, но позднее он будет их считать преиму-
ществами. Он уже здесь говорил о «китайской стене», разделя-
ющей Россию и Западную Европу, о важности для нас «поня-
тия, которое мы имеем об отношении русского просвещения к
просвещению остальной Европы».
Собственно славянофильская теория родилась в споре И. Ки-
реевского с Хомяковым в 1839 году. Хомяков устно читал в са-
лонах свою статью «О старом и новом», в которой поставил
вопрос ребром: была ли прежняя, допетровская Русь лучше
России европеизированной? Если была, то следует вернуться к
прежним ее порядкам. Киреевский в специальном «Ответе
А. С. Хомякову» оспаривал категоричность такой постановки
вопроса: «Если старое было лучше теперешнего, из этого еще
не следует, чтобы оно было лучше теперь». У Киреевского более
тонкая постановка вопроса. Но все же и он склонялся к старому.
Статьи «Ответ А. С. Хомякову», «Обозрение современного со-
стояния литературы» («Москвитянин», 1845), «Публичные лек-
ции проф. Шевырева об истории русской словесности» (там
же, 1846) образуют славянофильский период деятельности Ки-
реевского. Здесь яснее обозначились черты его программного
славянофильства и резче — нелюбовь к реалистическому направ-
лению, «натуральной школе» и Белинскому. В теоретическом и
историко-литературном отношении этот период ниже предыду-
щего. Толки о философской критике, о единстве и широте лите-
ратурных концепций почти потеряли свой смысл у Киреевского,
потому что все эти понятия теперь получали узкую, утилитар-
ную, антиреалистическую направленность.
Киреевский заранее объявил неинтересной, хотя исторически
неизбежной всю ту часть русской литературы, которая так или
иначе являлась «повторением» западноевропейской. Она важна
только для нас, учеников, а не для мирового общественного со-
знания. Отрицательно-рационалистическое направление, т. е.
критический реализм, пришло к нам с Запада. Гораздо важнее
разобраться в «положительном» направлении. Тут Россия дей-
ствительно может быть оригинальной, никому не подражать и
показаться во весь свой рост. Все это напоминало шевыревское
деление литературы на «черную» и «светлую». Симпатии Кире-
евского вполне определились в пользу своего, русского. Запад
дает только формальное развитие ума, и только в этом смысле
его можно использовать при разработке оригинального содер-
жания.
Киреевскому представлялось, что он борется в России на
два фронта. Он не приемлет западный рационализм, «Отечест-
венные записки», критику Белинского, «натуральную школу» и
182
«положительный» казенно-официальный патриотизм журнала
«Маяк». На фоне таких контрастов выгодно выделялись славя-
нофилы. Если «Маяк» вульгарно все хвалит, то «Отечественные
записки» незаслуженно «стремятся унизить все наши известно-
сти, стараясь уменьшить литературную репутацию Державина,
Карамзина, Жуковского, Баратынского, Языкова, Хомякова...».
Кого же на их место поставил Белинский? Оказывается: И. Тур-
генева, А. Майкова и Лермонтова. Но ведь никакой ошибки
Белинский не совершил бы, если бы даже поступил так. Да
и Державина, Карамзина, Жуковского он как раз в это время,
в «пушкинских статьях», оценил высоко и верно. Языкова и
Хомякова Белинский перед тем критиковал как воинствующих
глашатаев славянофильства. Но это совсем другой вопрос.
К последним годам деятельности Киреевского-славянофила
относятся статьи: «О характере просвещения Европы и о его
отношении к просвещению России» («Московский литературный
и ученый сборник на 1852 год»), «О необходимости и возмож-
ности новых начал для философии» («Русская беседа», 1856).
В этих статьях по-прежнему отвлеченно трактовались понятия
«просвещение», «русский», «француз», «немец». Суммарность
категорий у Киреевского, их «романтизм» дают знать себя на
каждом шагу. Снова он вспоминает три элемента цивилизации:
варварство, христианство и классическое наследие, но несколько
варьирует свою «триаду», ему теперь важны: особая форма,
через которую проникло в Россию христианство, особый вид, в
котором перешло к ней древнеклассическое наследство, и, нако-
нец, особые формы государственности. Последнего, явно «вер-
ноподданнического» элемента раньше в «триаде» не было. Рус-
ская земля якобы не знала завоевателей и завоеванных, наси-
лия власти, все классы населения были проникнуты одним
духом, не было стеснительных преимуществ и «мечтательного
равенства» (о котором хлопочут социалисты.— В. К.). Только
на Западе сложилась сословная и иерархическая пирамида, а
в России все основано на общинном духе, убеждениях и мнени-
ях, а не на праве и законах. Но рисуемая Киреевским идиллия
лишь подтверждала общепринятое мнение о господстве в цар-
ской России беззакония, отсутствии всяких гарантий для лич-
ности, полном произволе власти. Об этом писал Белинский в
знаменитом письме к Гоголю.
В последней своей статье—«О новых началах философии»—
Киреевский откровенно расписался в приверженности учению
отцов церкви, уже не веря ни в одну из философских систем.
«Жалкая работа — сочинять себе веру»,— говорил Киреевский,
но он все же ее сочинял. Славянофилы добровольно смирились
с властью, проиграв все битвы со своими противниками.
Алексей Степанович Хомяков (1804—1860). Хомяков стоял
дальше от литературной критики, чем И. Киреевский. Хомяков
писал стихи, пьесы, изредка критические отзывы, но главные
183
его труды касались философских вопросов, поземельных отно-
шений в России, проблем реформы, межславянской солидар-
ности, учения о самобытных путях России.
В статье «О старом и новом» (1839) Хомяков в наиболее рез-
кой форме выразил основы своего учения. Нисколько не скры-
вая отсталости России, автор считал, что причиной тому явля-
ются петровские реформы, оторвавшие Россию от ее прошлого,
изменившие ее самобытный путь развития. Теперь пора об этом
вспомнить, так как западные пути Хомяков считает пройденны-
ми: Запад находится накануне катастрофы.
Обидой на русское самоуничижение и на западное высоко-
мерие пронизаны две статьи Хомякова: «Мнение иностранцев об
России» («Москвитянин», 1845) и «Мнение русских об иностран-
цах» («Московский сборник на 1846 год»). Образцовой страной,
умеющей хранить патриархальность, была для него Англия
(«Англия», 1848). Хомяков посетил Англию в 1847 году, и она
полюбилась ему своим «торийским» духом: «тут вершины, да
зато тут и корни». Хомяков находит даже сходство между
Москвой и Лондоном: «в обоих жизнь историческая еще впере-
ди». Впрочем, Хомяков заходил слишком далеко: он слово «ан-
гличане» уподоблял славянскому «угличане».
В программном предисловии к первому номеру «Русской бе-
седы» в 1856 году, ничему не научившись на опыте поражения
в Крымской войне, Хомяков снова и снова призывал «пересмот-
реть все те положения, все те выводы, сделанные западною нау-
кою, которым мы верили так безусловно».
Много раз по разным поводам Хомяков возвращался к оцен-
ке немецкой философии от Канта до Фейербаха и приходил к
тем же выводам, что и И. Киреевский: это крайнее выражение
западного «рационализма» и «анализа», «рассудочная» школа,
зашедшая в тупик. Одним из криминалов объявлялось то, что
Гегель сам приготовил переход к философскому материализму,
т. е., согласно Хомякову, вообще к ликвидации философии. Хо-
мякову удается отметить несколько действительных натяжек у
Гегеля: его «неограниченный произвол ученого систематика»,
когда «формула факта признается за его причину»1. Но все де-
ло в том, что Хомяков не приемлет учения Гегеля о причинно-
сти и необходимости. Самому Шеллингу, к которому он явно
испытывал симпатии как к «воссоздателю целостного духа», при-
шедшему к «философии веры», бросается упрек в том, что он,
Шеллинг,— слишком рассудочный философ. Славянофилы упре-
кали Гегеля и материалистов, в частности Фейербаха, в ликви-
дации философии, но сами они действительно ликвидировали
ее, ибо где начинается вера, там кончается всякое доверие к че-
ловеческому разуму, к философии. Хомяков говорил: «...есть
возможность более полной и глубокой философии, которой
1 Хомяков А. С. О старом и новом.— М., 1988.— С. 108.
184
корни лежат в познании полной и чистой веры — православия»1.
Как литературный критик Хомяков выступал всегда с одной
«вечной» темой: возможна ли русская художественная школа?
Сам вопрос возникал как бы в пылу полемики с «натуральной
школой».
Одной школе хотелось противопоставить другую школу. Но
где было взять «свою» школу? «Натуральную школу» Хомяков
отрицал как результат западного влияния.
В специальной статье «О возможности русской художествен-
ной школы» («Московский сборник на 1847 год») Хомяков за-
явил, что никакой русской школы не может быть, пока «жиз-
ненное начало утрачено нами» из-за «прививного ложного полу-
знания». О «русской школе» вообще, о «разуме» вообще, о «жиз-
ненном начале» вообще, о «народности» вообще говорил Хомя-
ков в этой статье.
Но он стремился, вслед за Шевыревым, хотя бы по кусоч-
кам, ценой натяжек собрать некое подобие зарождающейся рус-
ской школы в искусстве. Это видно из его тенденциозных и лишь
местами справедливых разборов произведений разных видов
искусств: оперы Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»),
картины А. Иванова «Явление Христа народу», отзывов о Гого-
ле, Веневитинове, С. Аксакове, Л. Толстом. С пафосом Хомяков
утверждал, что для подлинно русских художников обязательно
быть «вполне русским» и «жить вполне русской жизнью». Хомя-
кова прельщает патетический финал оперы Глинки, «медью ко-
локолов с сорока сороков» славящий единство русской земли,
как благовест будущего всечеловеческого братства. Далекий
план, на котором у Иванова поставлена фигура Христа,— про-
явление чисто византийско-русской плоскостной иконописи, из-
бегавшей объемной чувственности католического искусства. «Ни-
когда вещественный образ,— говорит Хомяков о картине Ива-
нова,— не облекал так прозрачно тайну мысли христианской...»
Созерцать картину Иванова — не только наслаждение, «это про-
исшествие в жизни»2.
Естественно, что Хомяков не был согласен с теорией «чисто-
го искусства», он стоял за тенденциозное искусство в духе сла-
вянофилов и поэтому разбранил односторонне-отрицательную по
своему духу драму Писемского «Горькая судьбина», отвергал
традиционные похвалы критиков С. Т. Аксакову за «объектив-
ность» его творчества. Сущность этого писателя, разъяснял Хо-
мяков, вовсе не в объективности, вообще «недоступной челове-
ку». Сущность аксаковского творчества в том, что «он первый
из наших литераторов взглянул на нашу жизнь с положитель-
ной, а не с отрицательной точки зрения»3. Положительность, по
Хомякову, характеризуется отсутствием сатиры. В этом и заклю-
1 Хомяков А. С. Поли. собр. соч.—Т. III.— С. 241.
2 Там же.— С. 361, 365.
3 Т а м ж е.— С. 374, 375.
185
чается сущность «русской» школы в искусстве. Хомяков призна-
вал право искусства на некоторое обличение, но ограничивал
его только сатирой на «типы пороков», а не на «частные лица».
В этом смысле он хвалил моралистически обличительный дух
рассказа Л. Толстого «Три смерти». Но подлинно социальное
обличение, которое было главным пафосом русской реалистиче-
ской литературы, практически он отвергал.
Здравая идея о «русской школе» в искусстве искажалась
Хомяковым до абсурда и погибала, не найдя своего обоснова-
ния. А ведь школа в действительности была — школа реализма,
но она вызывала неприязнь у Хомякова.
Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860). Константин
Аксаков по справедливости считался «передовым бойцом славя-
нофильства» (С. А. Венгеров). Запомнилась современникам
его юношеская дружба с Белинским по кружку Станкевича и за-
тем резкий разрыв с ним. Особенно ожесточенное столкновение
между ними произошло в 1842 году по поводу «Мертвых душ».
К- Аксаков написал на выход «Мертвых душ» брошюру «Не-
сколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мерт-
вые души» (1842). Белинский, также откликнувшийся (в «Оте-
чественных записках») на произведение Гоголя, затем написал
полную недоумений рецензию на брошюру Аксакова. Аксаков
ответил Белинскому в статье «Объяснение по поводу поэмы Го-
голя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» («Москвитя-
нин»). Белинский, в свою очередь, написал беспощадный разбор
ответа Аксакова в статье под названием «Объяснение на объяс-
нение по поводу поэмы Гоголя «Похождения Чичикова, или
Мертвые души».
Затушевывая значение реализма и сатиры в произведении
Гоголя, Аксаков сосредоточился на подтексте произведения, его
жанровом обозначении как «поэмы», на пророческих посулах
писателя изобразить отрадные картины русской жизни. Аксаков
выстроил целую концепцию, в которой, по существу, Гоголь объ-
являлся Гомером русского общества, а пафос его произведения
усматривался не в отрицании существующей действительно-
сти, а в ее утверждении. Аксаков явно хотел приспособить Го-
голя к славянофильской доктрине, т. е. превратить его в пев-
ца «положительных начал», «светлой стороны» действитель-
ности.
Гомеровский эпос в последующей истории европейских лите-
ратур утратил свои важные черты и обмельчал, «снизошел эпос
до романов и, наконец, до крайней степени своего унижения, до
французской повести». И вдруг, продолжает Аксаков, возникает
эпос со всею глубиною и простым величием, как у древних —
является «поэма» Гоголя. Тот же глубокопроникающий и всеви-
дящий эпический взор, то же всеобъемлющее эпическое созерца-
ние. Напрасно затем в полемике Аксаков доказывал, что у него
нет прямого уподобления Гоголя Гомеру. Оно есть, и оно очень
186
закономерно для славянофилов. Недаром они рекламировали в
40-х годах перевод Жуковским «Одиссеи» Гомера, якобы имею-
щий значение здорового противовеса современной, погрязшей в
критицизме «натуральной школе».
Аксаков указывал на внутреннее свойство таланта самого
Гоголя, стремящегося связывать в стройные гармонические кар-
тины все впечатления от русской жизни. Мы знаем, что такое
субъективное стремление у Гоголя было и. отвлеченно говоря,
славянофильская критика правильно на него указывала. Но это
наблюдение тут же обесценивалось ими начисто, поскольку та-
кое «единство» или такая «эпическая гармоничность» таланта
Гоголя были призваны в их глазах уничтожить Гоголя-реалиста.
Эпичность убивала в Гоголе сатирика — обличителя жизни. Ак-
саков готов отыскивать «человеческие движения» в Коробочке,
Манилове, Собакевиче и тем самым облагородить их как вре-
менно заблудившихся людей. Носителями русской субстанции
оказывались примитивные крепостные люди, Селифан и Пет-
рушка.
Белинский высмеивал все эти натяжки и стремления уподо-
бить героев «Мертвых душ» героям Гомера. По заданной самим
же Аксаковым логике Белинский с сарказмом провел напраши-
вающиеся параллели между героями: «Если так, то, конечно,
почему бы Чичикову не быть Ахиллом русской «Илиады», Соба-
кевичу — Аяксом неистовым (особенно во время обеда), Мани-
лову— Александром Парисом, Плюшкину — Нестором, Селифа-
ну — Автомедоном, полицеймейстеру, отцу и благодетелю горо-
да,— Агамемноном, а квартальному с приятным румянцем и в
лакированных ботфортах — Гермесом?..»1.
Славянофилы всегда претендовали на особенное, как им ка-
залось, наиболее глубокое понимание Гоголя. Они подчеркива-
ли, что знают Гоголя «изнутри», видят за маской юмориста и
сатирика того, «второго» Гоголя, который ускользает от взгля-
да непосвященных и является истинным. Белинский, видевший
в Гоголе главное, т. е. реалиста, действительно, до выхода
«Мертвых душ» и даже, точнее, до полемики с К- Аксаковым не
задавался вопросом о «двойственности» Гоголя и оставлял в
тени проповеднические «замашки» писателя. Правда, уже «Рим»,
как показывает его письмо к Гоголю от 20 апреля 1842 года,
т. е. за месяц до выхода в свет «Мертвых душ», насторожил
Белинского — он пожелал писателю «душевной ясности». Доба-
вим еще, что только Чернышевский позднее, опираясь на опуб-
ликованные письма и второй том «Мертвых душ», глубоко разоб-
рался в противоречиях Гоголя. Но славянофилы тут ни причем,
они с самого начала упускали главное — отрицали социальное
значение и реализм творчества Гоголя. Они придавали решаю-
1 Белинский В. Г. Собр. соч.— Т. 5.— С. 58.
187
щее значение тому внутреннему стремлению воспеть «несмет-
ные богатства» духа русского, которое было у Гоголя.
Чтобы сопоставление Гоголя с Гомером выглядело не слиш-
ком одиозным, Аксаков выдумал сходство между ними еще «по
акту создания». Заодно на равную ногу поставил он с ними и
Шекспира. Но что такое «акт создания», «акт творчества»? Это
надуманная, чисто априорная категория, цель которой — запу-
тать вопрос. Кто и как измерит этот акт? Белинский предлагал
вернуться к категории содержания: оно-то, содержание, и долж-
но быть исходным материалом при сравнении одного поэта с
другим. Но уже было доказано, что у Гоголя нет ничего обще-
го с Гомером в области содержания.
В разгар нового тура полемики славянофилов с «натураль-
ной школой» в 1847 году Аксаков выступил с «Тремя критиче-
скими статьями» в «Московском литературном и ученом сбор-
нике» под псевдонимом «Имрек».
Аксаков подверг критическому разбору «Петербурский сбор-
ник», изданный Некрасовым. Предвзятость мнений сквозит у
Аксакова в каждом абзаце. Роман Достоевского «Бедные лю-
ди» назван произведением подражательным по отношению к
Гоголю, «не художественным», «лишенным искренности», испор-
ченным филантропической тенденцией. Впечатление от романа
«Бедные люди», говорит Аксаков, «тяжелое», Достоевский «не
художник и не будет им».
Аксаков начинал выискивать трещины у «натуральной шко-
лы». Может быть, по личным московским салонным симпатиям,
еще не разобравшись в истинном духе его мыслей, Аксаков весь-
ма доброжелательно отзывался об Искандере (Герцене), авторе
«Капризов и раздумья». Да и сама эта вещь еще не выдавала
вполне антиславянофильства Герцена. Разруганный за «Поме-
щика» Тургенев также был обласкан Аксаковым в специальном
примечании, в котором он откликался на появление в «Современ-
нике» рассказа «Хорь и Калиныч». «Вот что значит прикоснуть-
ся к земле и к народу!—восклицал по-своему довольный этим
рассказом Аксаков,— в миг дается сила!.. Дай Бог Тургеневу
продолжать по этой дороге»1. Аксаков тщетно хотел приблизить
народные рассказы Тургенева к славянофильству.
О статье Белинского «Мысли и заметки о русской литера-
туре», помещенной в «Петербургском сборнике», Аксаков ото-
звался неприязненно, но в развернутую полемику вступать по-
боялся. Он отметил только противоречие у Белинского: прежде
критик говорил о непереводимости чрезвычайно оригинального
стиля Гоголя на иностранные языки, а теперь радовался, что
Гоголя перевели во Франции. Обрадовало Аксакова другое вы-
сказывание Белинского — о том, что в будущем Россия, кроме
'Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика.— М„
1982 —С. 193.
188
«победоносного меча», положит на весы европейской жизни еще
и «русскую мысль». Но это высказывание у Белинского имело
совсем другое значение, чем славянофильские упования на осо-
бую миссию России, их толки об обособленной от всего мира
«русской мысли», «русской науке». Белинский говорил о дру-
гом: о способности России внести свой вклад в духовную сокро-
вищницу человечества.
В критическом методе Аксакова чувствовались следы изуче-
ния диалектики; он, как и ранний Белинский, сначала выводил
явление «отвлеченно», а потом «прилагал» теорию к фактам.
В отличие от И. Киреевского, любившего в диалектике момент
покоя, Аксаков любил момент движения, он считал, что «одно-
сторонность есть рычаг истории», т. е., как сказал бы Белин-
ский, «идея отрицания», «борьба противоположностей» есть ры-
чаг истории. Такой метод Аксаков применил в своей монографии
«М. В. Ломоносов в истории русской литературы и русского язы-
ка», защищенной в 1847 году в качестве магистерской диссер-
тации. Здесь метод вступал даже в противоречие с доктриной.
Ведь, согласно славянофилам, реформы Петра I исказили рус-
скую народность. Следовательно, и Ломоносов, введший по не-
мецкому образцу новое стихосложение в России, начавший пи-
сать придворные оды, направил русскую литературу по ложному
пути. Но Аксаков пытается сначала выстроить диалектическую
«триаду» и в ее свете оценить роль Ломоносова. По этой триаде
реформы Петра I, при всей их односторонности, были историче-
ски «необходимым моментом» развития России. И «явление
Ломоносова в нашей литературе есть также необходимый мо-
мент».
Последующие критические выступления К- Аксакова—«Опыт
синонимов. Публика — народ» («Молва», 1857) и другие — бы-
ли малооригинальными. В «Обозрении современной литературы»
(«Русская беседа», 1857), «Обозрении современных журналов»
(«Молва», 1857), статье «Наша литература» («День», 1861) он
то хвалил «Губернские очерки» Щедрина, почувствовав в них
какой-то родственный себе «русский дух», то проклинал их, ког-
да увидел, что Щедрин — совсем не тот писатель, за которого он
его принимал. В последние годы К. Аксаков пропагандировал
«положительное» направление творчества малодаровитой писа-
тельницы Н. С. Кохановской (Соханской). Все это делалось из
желания любой ценой поддержать авторитет славянофильства.
Политический смысл позиций славянофильства вполне вы-
явился в «Записке о внутреннем состоянии России», представ-
ленной К- Аксаковым императору Александру II в 1855 году и
опубликованной только в 1881 году (в газете «Русь»). К. Акса-
ков обращал внимание нового царя на «угнетательскую систему»
в России, взяточничество, произвол. Внутренний разлад, при-
крываемый «бессовестной ложью» правительства и «верхов»,
отделил их от «народа», в результате чего в народе нет «дове-
189
рия» к правительству. Надо «.понять Россию,— призывал Акса-
ков молодого царя,— и возвратиться к русским основам». У Рос-
сии только одна опасность—«если она перестанет быть Рос-
сией)».
Юрий Федорович Самарин (1819—1876). Самарин был моло-
же основателей славянофильства и производил впечатление че-
ловека свободного в обращении с их доктринами. Из многочис-
ленных его работ к истории критики относятся, собственно,
только две статьи: отзыв о повести В. А. Соллогуба «Тарантас»
(«Московский сборник на 1846 год») и «О мнениях «Современ-
ника», исторических и литературных» («Москвитянин», 1847,
№ 2). Обе подписаны буквами «М. 3. К»-
Самарин пытался уверять, что славянофилы вовсе не требу-
ют возвращения к допетровской Руси, они вовсе не отрицают
развития на Руси принципа личности. И при Алексее Михайло-
виче были уже западные влияния, и Илья Муромец, и Чурила
Пленкович — чем не удальцы и не «личности».
В отзыве о «Тарантасе» Соллогуба он проявил утонченность
суждений, которая и заставила Белинского, перед тем также пи-
савшего о «Тарантасе», назвать его статью «умной содержани-
ем и мастерским изложением» («Взгляд на русскую литературу
1846 года»). В статье Самарина Белинскому могло понравиться
то, что автор не старался возвысить славянофильские доброде-
тели ни одного, ни другого из героев «Тарантаса». И степной
помещик Василий Иванович — слишком упрощенный экземпляр
исконно русских начал, и славянофильствующий Иван Василье-
вич, наглядевшийся на Европу во время путешествий, оказался
слишком ненадежным, почти пародийным пропагандистом сла-
вянофильского учения. Все это могло казаться Белинскому по-
хожим на шарж, близким его собственной интерпретации солло-
губовского «Тарантаса»; ведь Белинский прозрачно намекал, что
герой Иван Васильевич — это Иван Васильевич Киреевский...
Но Самарин и не думал искать в «Тарантасе» пародии, он про-
сто всерьез упрекал героев повести в никчемности, а автора —
в поверхностном отношении к серьезным вопросам.
Никаких иллюзий относительно позиций Самарина в статье
«О мнениях «Современника», исторических и литературных» у
Белинского, уже не было. Самарин выступал открытым против-
ником «натуральной школы» и пытался, в отличие от Хомяко-
ва, толковать не о ее невозможности, а о внутренних противоре-
чиях между ее «пророками», о противоречиях между Гоголем и
его учениками. Выпад Самарина был тем более коварным, что
он, казалось, строился на фактах и преследовал цель реабили-
тировать Гоголя после выхода книги «Выбранные места из пе-
реписки с друзьями». Белинский парировал выпад Самарина в
статье «Ответ «Москвитянину». В письме к К. Д. Кавелину
22 ноября 1847 года Белинский объяснил резкий тон своего «От-
вета «Москвитянину»: «Поверьте, что в моих глазах г. Самарин
190
не лучше г. Булгарина, по его отношению к натуральной шко-
ле...»1.
В чем же суть выпада Самарина? В обновленном «Совре-
меннике», который с января 1847 года стал выходить под не-
гласной редакцией Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, были те-
перь сосредоточены основные силы «натуральной школы», здесь
же сотрудничал и Белинский. Но цензура не разрешила Некра-
сову и Панаеву издавать «Современник» под своими именами.
Тогда редакции пришлось пойти на компромисс: она пригласила
в качестве ответственного редактора профессора Петербургского
университета А. В. Никитенко, не чуждого литературным инте-
ресам и одновременно служившего в цензурном комитете. Ники-
тенко был известен своим либерализмом: это он разрешил с не-
которыми переделками опубликовать «Мертвые души» Гоголя.
Некрасов и Панаев намеревались использовать Никитенко в ка-
честве ширмы.
В первом номере «Современника» за 1847 год были помеще-
ны две программные статьи: статья Белинского «Взгляд на рус-
скую литературу 1846 года» и статья Никитенко «О современ-
ном направлении русской литературы». Статьи не только по ка-
честву, но и по некоторым установкам противоречили одна дру-
гой. Самарин это тотчас заметил и попытался использовать в
борьбе с «натуральной школой». Кстати, Белинский только из
тактических целей в «Ответе «Москвитянину» старался затуше-
вать свои расхождения с Никитенко, взять под свою защиту от-
ветственного редактора «Современника». Но в самой редакции
уже назревали противоречия, и Никитенко вскоре вынужден был
уйти из «Современника».
Самарин не без удовлетворения отметил, что Никитенко —
весьма двусмысленный сторонник «натуральной школы», хотя
номинально и возглавляет «Современник». Действительно, Ни-
китенко лишь повторял вслед за Белинским, что литература
должна иметь определенное направление и что в современной
русской литературе хотя и нет талантов, равных Гоголю, все же
«отстоялись и улеглись жизненные начала дальнейшего разви-
тия и деятельности»2. Но Никитенко выражал недовольство тем,
что «натуральная школа» односторонне изображает русскую
действительность, нарушает «вечные законы искусства». Совер-
шенно в духе писаний самих славянофилов Никитенко утверж-
дал: «Ежели есть у нас и Ноздревы, и Собакевичи, и Чичико-
вы, то рядом с ними есть помещики, чиновники, выражающие
нравами своими прекрасные наследственные качества своего
народа с принятыми и усвоенными ими понятиями мира обра-
зованного...»3.
1 Белинский В. Г. Собр. соч.— Т. 9.— С. 682.
2 Современник.— 1847.— № 1.— Отд. II.— С. 61.
3 Т а м ж е.— С. 63.
191
Используя упреки «натуральной школе» в односторонности,
Самарин от себя заострил некоторые мысли Никитенко, выбрав
из его статьи много скрытых и явных выпадов против «натураль-
ной школы».
Отметим попутно, что именно Самарин превратил обозначе-
ние метода «натуральной школы» в термин «натурализм»1, тог-
да как Белинский этот термин в такой редакции еще не употреб-
лял, хотя и не увидел в нем злостного искажения самого понятия
«натуральное изображение жизни». Однако термин «натура-
лизм» не удержался в тогдашней критике и возник позднее, уже
совсем в другой связи.
Главный грех «натуральной школы» Самарин видел в том,
что она переняла у Гоголя только его односторонность, сатиру.
Она основана на «двойном подражании»: Гоголю и французской
словесности.
Поскольку славянофилы уже не раз сталкивались с Белин-
ским на почве высказанной им формулы: «...надо отвергать все
национальное, в чем нет человеческого», то Самарин решил по-
бороться и здесь. Он спрашивал: кто же нам объяснит, в чем,
собственно, состоит это человеческое? Для одного оно в одном,
для другого в другом. «С вопросом: что есть общечеловеческое
и как отличить его от национального, спор только что начнет-
ся»2. Но Самарин не отвечал на поставленный вопрос, он только
пугал трудностями его решения, а на деле расписывался в сим-
патиях к старой Руси, что было уже не ново. В том и состояла
сущность давно начавшейся борьбы лагерей вокруг этого вопро-
са, что ими давались различные ответы на него. История пока-
зала, кто был прав. Под человечностью и истинностью отноше-
ний славянофилы подразумевали патриархальность, отсталые
общественные формы, смирение народа и подчинение предрас-
судкам, идеализацию церкви и власти. В этом и заключалась их
реакционность. Белинский под человечностью подразумевал ко-
ренные социальные перемены в России, о сущности которых он
говорит во всех своих статьях и в «Письме к Н. В. Гоголю».
ГЛАВА 12
Теория «чистого искусства»
Концепции реализма Белинского предстояло пережить много
тяжелых испытаний.
С 1848 по 1856 год было даже запрещено упоминать его имя
в печати. В библиотеках изымались номера «Отечественных за-
писок» и «Современника» с его статьями.
Начались глубокие изменения в самом лагере прогрессивных
писателей. «Натуральная школа» 40-х годов, включавшая в себя
1 Москвитянин.— 1847.— Ч. 2.— С. 192.
2 Т а м же.— С. 217.
192
разнообразных писателей — Некрасова и А. Майкова, Достоев-
ского и Дружинина, Герцена и В. Даля, была возможна на ос-
нове единого антикрепостнического фронта. Но уже к концу
40-х годов в нем усилились демократические и либеральные тен-
денции. Когда Белинский в 1846 году порвал с «либералом»
Краевским и перешел в некрасовский «Современник», с ним вме-
сте перешли немногие (Герцен, Огарев, Панаев). Но остались
сотрудничать с А. Краевским те же Дружинин, В. Даль, В. Бот-
кин, Т. Грановский, а также К- Кавелин, А. Галахов. Белинский
в 1847 году разошелся со старым своим другом Боткиным в
оценке ряда произведений «натуральной школы». Отходили от
«натуральной школы» Соллогуб, В. Одоевский, рецензенты и
обозреватели литературы Кудрявцев, Мельгунов, склонявшиеся
к либеральным позициям. Противоречия между демократами и
либералами уже в то время выявились в спорах по поводу фран-
цузской революции XVIII века, «Писем из Avenue Marigny»
Герцена. С критикой западных порядков выступали Герцен, Ога-
рев, Белинский. Защитниками всего западного в той или иной
степени были Боткин, Грановский, Анненков, Дружинин,
В. Корш, Галахов, П. Кудрявцев.
В 40-х годах по многим вопросам они пе доспорили, а насту-
пившая после 1848 года политическая реакция жестоко пресле-
довала демократию. В этих условиях «друзья-предатели», как
называл Белинский людей типа Боткина, начали пересмотр его
концепций, нередко под флагом дальнейшего их совершенство-
вания. Они выступали против «тенденциозного» искусства, за
«чистую художественность», за «вечное» искусство.
На почве «чистого искусства» объединились в своеобразный
«триумвират» Боткин, Дружинин и Анненков. Они третировали
истинных учеников Белинского, таких, как Чернышевский, и в
этом получали поддержку со стороны Тургенева, Григоровича,
Гончарова.
Истинный смысл их «эстетической» критики исчерпывающе
ясно раскрыл Чернышевский: «Вы по доброте Вашей,— обра-
щался он в письме к Тургеневу, тогда еще сотруднику «Совре-
менника»,— слишком снисходительно слушаете всех этих гг. Бот-
киных с братиею. Они были хороши, пока их держал в ежовых
рукавицах Белинский,— умны, пока он набивал им головы свои-
ми мыслями. Теперь они выдохлись и, начав «глаголати от по-
хотей чрева своего», оказались тупицами <...> я Вас попрошу
указать мне во всем, что написано Боткиным, Дружининым, Ду-
дышкиным<...>, хотя одну мысль, которая не была бы или
банальною пошлостью, или бестолковым плагиатом»1.
Эти лица не просто выступали за бесцельность и аполитич-
ность искусства. Они оспаривали ту заостренную тенденциоз-
1 Чернышевский Н, Г. Полн. собр. соч.— М., 1949.— Т. XIV.—
С. 345.
13 Заказ № 1367
193
ность, которую хотели придать искусству демократы. Их устраи-
вал устаревший уровень тенденциозности, хотя они и с ним едва
примирялись при жизни Белинского. Их позиция была типично
либеральной, и они позднее были совершенно довольны той
куцей «гласностью», которая установилась в результате царской
реформы. В. И. Ленин указывал на объективно реакционный
смысл либерализма в условиях подготовки демократической ре-
волюции в России: «Либералы 1860-х годов и Чернышевский,—
писал он в 1911 году,— суть представители двух исторических
тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до
нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию»1.
Созданная Боткиным, Дружининым, Анненковым, отчасти
Дудышкиным «эстетическая», «художественная», или «артисти-
ческая», критика носила в конечном счете антиреалистический
характер, обслуживала сторонников «чистого искусства», тенден-
циозно прославляла лишенное гражданских мотивов творчество
Фета, Щербины, Полонского. На страницах «Библиотеки для
чтения» и «Отечественных записок» она оценивала творчество
Тургенева, Островского, Л. Толстого с типично либеральных
позиций, затушевывая социальную остроту произведений, прямо
вступая в полемику с отзывами о них Чернышевского, Добро-
любова в «Современнике».
Бороться с «эстетическим триумвиратом» было трудно, так
как он получал большую поддержку в широких либеральных
литературных кругах предреформенной и послереформенной эпо-
хи, пользовался научной терминологией.
Александр Васильевич Дружинин (1824—1864). Главным
деятелем «эстетической» критики был Дружинин, беллетрист,
критик, фельетонист и переводчик. Он сначала сотрудничал в
«Современнике» (1847—1856), но вскоре ушел из него из-за
полных разногласий с Чернышевским. Дружинин приобрел ре-
дакторские права в «Библитеке для чтения» (прежде редакти-
ровавшейся Сенковским, затем Старчевским) и на ее страницах
повел борьбу с «Современником» (1856—1861). Затем он уча-
ствовал в довольно бесцветном еженедельном журнале «Век»
(1861) и в «Русском вестнике».
Славу Дружинину принесла его первая повесть «Полинька
Сакс» («Современник», 1847), посвященная теме эмансипации
женщины, написанная под влиянием романа Ж. Санд «Жак».
Белинский отмечал, что в повести «много истины и душевной
теплоты».
Дружинин был в тесных связях с Тургеневым, Боткиным,
Григоровичем. Отношение к нему Тургенева и особенно Л. Тол-
стого, которого он явно хотел склонить на свою сторону, было
сложным. Некрасов лишь внешне сохранял с ним дружеские
отношения, но идейно они расходились.
’Ленин В. И. Поли. собр. соч.— Т. 20.— С. 174—175.
194
Своим девизом в редактировавшейся им с конца 1856 года
«Библиотеке для чтения» Дружинин избрал стих Гете «ОЬпе
Hast, ohne Rast» («Без торопливости, без отдыха»). Он проци-
тировал этот стих в заключительной части своей программной
статьи «Критика гоголевского периода русской литературы и
наши к ней отношения» (1856), направленной против «Очерков
гоголевского периода русской литературы» Чернышевского. Дру-
жинин старался противопоставить свой девиз тут же цитируе-
мым в эпиграфе стихам Некрасова о Белинском: «Упорствуя,
волнуясь и спеша, ты быстро шел к одной высокой цели!»1.
Методология Дружинина как критика характеризуется пере-
смотром наследства Белинского, полемикой с Чернышевским,
старавшимся возродить и продолжить традиции своего предше-
ственника и учителя.
В работе «Критика гоголевского периода русской литерату-
ры и наши к ней отношения» Дружинин исходил из мысли, что
учитель известного литературного поколения никак не будет учи-
телем поколений последующих. Общество и литература идут впе-
ред, не сообразуясь ни с какими «критическими авторитетами».
Дружинин отмечает немаловажные заслуги Белинского: он со-
здал историю русской литературы, популяризировал глубокие
теории иностранных критиков (имеется в виду Гегель), помог
освободиться от «французской рутины» и других авторитетов,
породил в литературе множество поклонников, учеников, подра-
жателей. Не знать заслуг Белинского никто «не имеет права».
Но тут же Дружинин приводил длинный перечень «грехов» Бе-
линского: Белинский «действовал безнаказанно» в узком кругу
поклонников, был «опрометчив» и даже «заносчив», так как не
имел перед собой серьезных противников; он критиковал славя-
нофилов, а надо было ладить с ними, так как они «порядочные»
люди; он быстро менял свои мнения, и из двух периодов его
деятельности ценнее период 30-х годов, когда он признавал
«чистое искусство», а в 40-х годах сделался дидактиком и утили-
таристом; он несправедливо отрицательно относился к Марлин-
скому и к старой «Библиотеке для чтения», «обругал» Татьяну
в статьях о Пушкине и хвалил слабейшие романы Ж. Санд. Все
эти обвинения либо нелепы, либо полны натяжек, либо идут в
обход главного в критике Белинского.
Дружинин не знал тех философских оснований, на которых
строилась критика Белинского. Голословно похвалив его за «ге-
гельянство» и иронически отозвавшись как о невеждах о тех,
кто подшучивал над терминологией Белинского — «субъектив-
ность», «объективность», «замкнутость», «конкретность»,— сам
Дружинин, взявшийся судить о Белинском, заявлял; «Мы не на-
столько знакомы с немецкою философиею, чтоб считать себя
1 Цитата неточна: у Некрасова —«Ты честно тел к одной высокой це-
ли» («Памяти приятеля», 1853).
13* 195
вправе подробно разбирать отношения критики нашей к эстети-
ческим воззрениям Гегеля, но на этот счет мы можем руково-
диться отзывами людей беспристрастных и знающих дело». Как
же мог Дружинин понять величие метода Белинского, если он
из вторых рук брал весьма сбивчивые сведения о Гегеле?
Дружинин осмеливался спорить с Чернышевским, глубочай-
шим образом исследовавшим сущность связей между Белинским
и Гегелем,— диалектиком, показавшим непреходящее значение
и оригинальность Белинского как русского мыслителя-демокра-
та. Позднее Дружинин смягчил свои приговоры Белинскому. Это
заметно уже в отзыве об «Очерке истории русской поэзии»
А. П. Милюкова (1858) и особенно о первых томах солдатенков-
ского издания сочинений Белинского (1859). Здесь Дружинин
называет Белинского единственным в России «критиком-публи-
цистом», который, как с трибуны, «держал речь ко всему, что
было свежего, молодого, просвещенного и прогрессивного в на-
шем обществе».
В критике Дружинина наблюдается распад прежних эстети-
ческих категорий, основывавшихся на учении о необходимости,
объективной логике исторического развития, на диалектическом
подходе к явлениям искусства. Дружинин поддается субъектив-
ному произволу в суждениях и приговорах, его историзм поверх-
ностен и сводится к биографизму, весьма относительному при-
знанию роли «среды» и «житейских обстоятельств» в художе-
ственном творчестве, в эволюции писателей и целых литератур.
В статьях «А. С. Пушкин и последнее издание его сочине-
ний» (1855), «Критика гоголевского периода русской литературы
и наши к ней отношения» (1856) Дружинин сформулировал
принципы своей «артистической теории» искусства. Он считал,
что поэзия служит сама себе целью, мир поэзии отрешен от
прозы жизни; поэт должен служить не интересам минуты, а веч-
ным идеям «красоты, добра и правды»; творчество непреднаме-
ренно, оно служит само себе наградой; если поэт и дает мо-
ральные уроки человечеству, то он делает это «бессознательно».
Таковы, по мнению Дружинина, были Шекспир, Данте, Пуш-
кин и таковыми являются теперь Фет, Щербина. Есть и дру-
гое, неистинное, «дидактическое» искусство, оно служит злобе
дня, скоропреходящим современным вопросам. К дидактикам
Дружинин относил Ж. Санд, Гейне, Берне, Т. Гуда, Гервега,
Фрейлиграта, Э. Сю, Арндта, Т. Кернера, последователей Гого-
ля, писателей «натуральной школы». Дружинин искусственно
противопоставил в русской литературе «пушкинское» и «гого-
левское» направления, якобы враждебные друг другу. «Против
того сатирического направления, к которому привело нас неуме-
ренное подражание Гоголю,— говорил он,— поэзия Пушкина
может служить лучшим орудием». Все это было тенденциозной
натяжкой и свидетельствовало, что Дружинин по-настоящему не
понимал ни Пушкина, ни Гоголя.
196
Еще в начале своего литературного пути Дружинин прослыл
плодовитым фельетонистом: в «Современнике» 1848—1854 годов
печатались его «Письма иногороднего подписчика о русской
журналистике». По жанру эти систематические обзоры напоми-
нали обзоры Белинского. Были зерна правды в суждениях Дру-
жинина о таланте Достоевского, Буткова, о различиях и спосо-
бах изображения простонародного быта у Григоровича и Даля,
о влиянии Гоголя на современников, следы которого Дружинин
находил также в творчестве Гончарова, Островского, Писемско-
го. Но и здесь чувствовалось его снобистское пренебрежение к
«сентиментально-филантропической» тенденциозности физиоло-
гических очерков «натуральной школы». Он хвалил Писемского
за его «здравость», за то, что он не поддался «рутинному» чело-
веколюбию, «дидактизму» и своей «беспристрастностью» проти-
водействовал «сентиментальной филантропии», насаждавшейся
«натуральной школой». Все свои оценки Дружинин строил на
нехитром, якобы свойственном всем авторам художественных
произведений противоречии между «законными временными ув-
лечениями» и «служением вечным истинам». Он считал, что са-
тира стесняет кругозор поэта, ведет даже к боязни жизни. Отсю-
да проистекали броские афоризмы Дружинина.
Даже любимец его Тургенев, по мнению Дружинина, лишь
губит свое чистое дарование попытками откликнуться на совре-
менные проблемы. Наряду с меткими замечаниями об образах
Андрея Колосова, Чулкатурина, Рудина есть у Дружинина и
попытки увести Тургенева от поисков героя времени. Точно так
же, приветствуя молодое, мощное дарование Л. Толстого и от-
мечая глубокий психологизм писателя, он не раскрывал его диа-
лектичности, как это сделал Чернышевский; универсальность
дарования Толстого трактовалась им как «независимость» от
партий, т. е. Дружинин хотел использовать Толстого, чтобы
лишний раз нанести удар партии «Современника». В поэзии
Огарева, чтобы унизить все ту же «партию» в литературе, Дру-
жинин, наоборот, увидел лишь «однообразие» и «бессилие».
Дружинин с явной симпатией относился к поэзии «чистого
искусства». В отзыве на «Греческие стихотворения» Н. Щерби-
ны (1850) Дружинин указал, что их автор не выступает в каче-
стве простого переводчика, подражателя древним грекам, он
стремится к слиянию древнего элемента с симпатией современ-
ного человека. Сущность этой симпатии — в поисках гармонии,
всестороннего проявления духа. Здесь вполне выявились те «ар-
тистические» начала, которые Дружинин превыше всего ценил
в искусстве. У Фета он также отмечал умение в своей сравни-
тельно невеликой области, лишенной драматизма, быть всегда
самим собой. Поэт «самого высшего разбора», Фет как немно-
гие разумеет значение «музыки слов». Его область — «неулови-
мые», «сокровеннейшие тайники души человеческой», он чуток
и тонок и умеет выразить то, перед чем, как «невыразимым»,
197
останавливался Жуковский ’. Все подобного рода наблюдения
Дружинина удачны и ценны. Но они вкраплены в полемический
контекст. Критик не просто называет качества поэзии того или
иного поэта, но тут же старается противопоставить их ненавист-
ной «дидактике» демократов, социологической критике «гоголев-
ского периода».
Дружинин—«западник», он имел особенное пристрастие к
английской литературе и много сделал для пропаганды в Рос-
сии ее выдающихся романистов, наиболее близких по духу рус-
ской литературе середины XIX века.
Даже компилятивные статьи Дружинина о Джонсоне, Бос-
велле, драмах Шеридана, Вальтере Скотте сохраняют до сих пор
познавательное значение. Особенно замечательна серия очерков
о выдающихся романах мировой литературы: «Клариссе Тар-
лов» Ричардсона, «Векфильдском священнике» Голдсмита, о
романах Анны Радклиф, «Одном из тринадцати» («Мадам
Жюлль») Бальзака. Но и здесь чувствуется тенденциозность,
либерально-западническое преклонение перед умеренным анг-
лийским парламентаризмом, меркантильностью, буржуазным
комфортом, респектабельностью, которым Дружинин старался
сам следовать в жизни.
Дружинин называет Бальзака «одним из лучших деятелей»
французской литературы, его романы—«эпопеи нашего време-
ни». Но все это говорилось для того, чтобы в итоге провозгла-
сить Бальзака певцом «интимной» жизни, комфорта, богатства.
Он отождествлял Бальзака с его героями. Не было и намека
на обличительный пафос творчества «доктора социальных наук».
Поверхностно трактовал Дружинин и творчество Диккенса
и Теккерея. Он верно критиковал сентиментальность Диккенса,
особенно в концовках произведений. Но сила диккенсовской кри-
тики буржуазной действительности не была им оценена. Текке-
рей чужд приторности, но нельзя было на основе «Ньюкомов»
делать общее заключение, что Теккерей «все сливает, все при-
миряет, все живит в своем широком миросозерцании». Извест-
но, что в то же время Чернышевский критиковал отход Текке-
рея от сатиры и реализма в «Ньюкомах», хотя в целом и высоко
оценивал его дарование.
Василий Петрович Боткин (1811—1869). Боткин хорошо знал
иностранные языки, следил за европейской литературой, был в
дружеских отношениях с Белинским, Бакуниным, Огаревым,
Грановским, Некрасовым, Тургеневым, Анненковым, Герценом,
Дружининым, Л. Толстым.
В разное время Боткин примыкал к различным лагерям.
В своей деятельности, особенно в 40-х годах, он поддерживал
прогрессивное общественное движение. Был знатоком и цените-
лем поэзии, музыки, живописи. Следил за философскими тео-
1 См.: Дружинин А. В. Собр. соч.— Т. VII,—С. 124—126, 120,-
198
риями в Германии, социалистическими исканиями во Франции,
много путешествовал за границей.
В лучшую пору деятельности Боткин сотрудничал в «Теле-
скопе» и «Молве». В «Московском наблюдателе» помещал статьи
о концертах, переводы произведений Гофмана «Дон Жуан»,
«Капельмейстер Крейслер», критический отзыв о русском пере-
воде «Серапионовых братьев». Затем по приглашению Белинско-
го он стал сотрудничать в «Отечественных записках». Особенно
ценны его обзоры немецкой литературы с критикой лекции Шел-
линга о «философии откровения» (с цитатами из анонимной бро-
шюры Энгельса на эту тему), абстрактно-идеалистической эсте-
тики Ретшера, примиренчески-философских «Писем из Пари-
жа» младогерманца К- Гуцкова. В духе проповедуемой Белин-
ским эмансипации женщины Боткин написал статью «Галерея
женщин Жоржа Занда».
Боткин был ценным информатором Белинского о событиях
в зарубежной журналистике, левогегельянском движении в Гер-
мании (упоминал о Фейербахе). Но к концу 40-х годов назре-
вала размолвка. Боткин не понимал «тенденциозного» творчест-
ва «натуральной школы», повести Григоровича «Антон Горемы-
ка», «Записок охотника» Тургенева. Крайпе неустойчивый чело-
век, Боткин в то же время вместе с Некрасовым писал статьи
в «Современнике»—«Заметки о журналах за июль 1855 года».
Постепенно Боткин склонялся к теории «чистого искусства»,
подчеркнуто восхваляя душевные «мелодии» в поэзии Огарева.
Вместе с Дружининым и Анненковым он составил «триумвират»
критиков, считая политику «могилой искусства». Его статья о
поэзии Фета (1857) свидетельствует, что он больше всего ценил
теорию «свободного», бессознательного творчества, а в поэзии —
«чистую» форму. Он стал выступать против «тлетворной» про-
поведи «Современника», осуждал диссертацию «Эстетические
отношения искусства к действительности» и роман «Что де-
лать?» Чернышевского.
По словам Тургенева, литература для него стала отзывать-
ся чем-то вроде «бунта».
Павел Васильевич Анненков (1813—1887). В составе «триум-
вирата» Анненков занимал несколько особую позицию. В отли-
чие от Дружинина, он прошел хорошую школу диалектической
мысли. Анненков ровно и спокойно, лишь с некоторыми откло-
нениями, служил тем принципам, которые у него сложились в
40—50-е годы. Недаром в конце жизни его как мемуариста вле-
чет «замечательное десятилетие», т. е. 1838—1848 годы, в рус-
ском общественном развитии, Белинский и Герцен. Познакомив-
шись с Белинским в 1839 году, Анненков сделался участником
передовых идейных исканий того времени.
Анненков много лет провел за границей: в Германии. Авст-
рии, Италии, Швейцарии, Франции. Летом 1841 года в Риме
Анненков под диктовку Гоголя переписывал начисто первый том
199
«Мертвых душ». В «Отечественных записках» и «Современнике»
печатались его «Письма из-за границы» (1841—1843) и «Па-
рижские письма» (1846—1847). Он сделал живые зарисовки
университетской жизни Германии (лекции Шеллинга, Вердера),
журнальной борьбы во Франции (дебютов левосоциалистическо-
го журнала «Независимое обозрение», издававшегося П. Леру,
Ж. Санд и Л. Виардо), первых успехов натуралистических «Фи-
зиологий», возбуждения, вызванного выходом романа Э. Сю
«Парижские тайны». В Брюсселе Анненков познакомился с
К. Марксом, вступил с ним в переписку по поводу взглядов
Прудона.
Анненков следил за развитием духовных интересов русских
передовых людей, информировал их о книгах Фейербаха, Леру,
Кабэ. Он оказался в атмосфере страстных философских, полити-
ческих споров вокруг Гоголя и «натуральной школы», между
западниками и славянофилами. В воспоминаниях Анненков на-
рисовал портреты многих современников, с которыми он поддер-
живал связи и переписку (Бакунин, Гоголь, Боткин, Кудряв-
цев). Летом 1847 года Анненков сопровождал больного Белин-
ского в заграничной поездке и был свидетелем создания кри-
тиком в Зальцбрунне «Письма к Н. В. Гоголю».
К концу «страшного семилетия» Анненков начал выступать
в качестве литературного критика, порвал с «Современником»
и перешел в дружининскую «Библиотеку для чтения». Войдя
в «эстетический триумвират», он стал активно проповедовать
теорию «чистого искусства», полемизировать с Чернышевским,
осуждать «тенденциозность» его эстетики.
В 1857—1861 годах Анненков — типичный представитель по-
ловинчатой, соглашательской партии. Он приветствовал царскую
реформу. Возобновившиеся было приятельские отношения с
эмигрантами Герценом и Огаревым прерываются, как только
издатели «Колокола» заняли критическую, осуждающую пози-
цию по отношению к реформе.
Важной литературно-критической статьей Анненкова являют-
ся «Заметки о русской литературе прошлого года» (первый об-
зор литературы в «Современнике» после смерти Белинского, как
бы поддерживавший его традицию). Явная ревизия «заветов»
великого критика отчетливо наметилась в статье Анненкова
«Старая и новая критика» (первоначально называлась’ «О зна-
чении художественных произведений для общества», 1856). Раз-
бирая роман Григоровича «Рыбаки» и рассказы Писемского
«Леший», «Питерщик», Анненков отказывался от критериев «на-
туральной школы», допускал изображение конфликтов лишь при
условии их последующего примирения («Романы и рассказы из
простонародного быта в 1853 году», 1854).
В статье «Литературный тип слабого человека» (1858), со-
держащей оценку повести Тургенева «Ася», Анненков вступил
200
в открытую полемику с Чернышевским, как автором статьи
«Русский человек на rendez-vous».
Считая отошедшим в прошлое рефлектирующего героя-интел-
лигента и якобы не свойственный русской жизни «героический
элемент», Анненков предпочитал тихое процветание того поряд-
ка, который укреплялся в России накануне и особенно после ре-
формы. Героями времени он считал «цельных» по натуре Кали-
новича из «Тысячи душ» Писемского и Потугина из «Дыма»
Тургенева (статьи «Деловой роман в нашей литературе», 1859;
«Русская современная история в романе И. С. Тургенева «Дым»,
1867).
Анненков недоумевал, почему Щедрин и после 1861 года все
еще возвращается к критике крепостного права, отыскивает его
следы в настоящем («Русская беллетристика и г-н Щедрин»,
1863).
Он нападал на недочеты «романического развития», переда-
чи «духа времени», исторической и бытовой правды в толстов-
ской эпопее «Война и мир» («Исторические и эстетические воп-
росы в романс гр. Л. II. Толстого «Война и мир», 1868). Он явно
судил об этом романе с позиций традиционного, узкого, семей-
ного романа и не понимал глубокого новаторства Толстого.
Но не следует целиком отождествлять Анненкова с другими
теоретиками «чистого искусства». Он никогда не расставался с
общественно-историческим критерием в искусстве. Он продол-
жал требовать от литературы постановки «нравственных» воп-
росов, оставался чутким к реалистическим исканиям.
Анненков впервые ввел термин «реализм», хотя и в несколь-
ко ограниченном толковании, как отображение бытовой правды,
в упоминавшейся статье «Заметки о русской литературе прошло-
го года» («Современник», 1849, № 1). Он не приписывал себе
приоритета, а ссылался на разработанное уже Белинским поня-
тие «реализм». «Появление реализма в нашей литературе,— пи-
сал Анненков, имея в виду появление «натуральной школы»,—
произвело сильное недоразумение, которое уже пора объяснить.
Некоторая часть наших писателей поняла реализм в таком ог-
раниченном смысле, какой не заключала ни одна статья, писан-
ная по этому предмету в петербургских журналах (речь идет о
статьях Белинского в «Отечественных записках», «Современни-
ке».— В. К ). Чувство справедливости и уважения к критическим
статьям их понуждает нас защищать их от упреков, обыкновенно
падающих на это направление (т. е. на «натуральную школу».—
В. К-). Кому могло прийти в голову, что литературная деятель-
ность наша изберет преимущественно только два типа для своих
представлений и, довольная находкой, выкинет за черту весь
остальной мир. Эти геркулесовы столбы, за которые уже не пе-
реходит поэтическая фантазия писателей, образуются из двух
фигур — кто их не знает?— человека ничтожного, убитого об-
стоятельствами, и человека разгульного, не понимающего их».
.201
Анненков выступал против натурализма, штампов, мелко-
темья, которыми начинали увлекаться некоторые писатели «на-
туральной школы» и бросать тем самым тень на главный метод
в творчестве всей школы. В статьях Белинского, действительно,
имеется много предупреждений о том, что у писателей «нату-
ральной школы» есть произведения посредственные и есть под-
линно художественные, широкие по охвату жизни. Но, за неиме-
нием терминов, все они назывались Белинским «натуральным
изображением жизни» и входили в «натуральную школу». Ан-
ненков обращает внимание на это важное разграничение. Он
употребляет термин с курсивом, но как бы не придает значения
своему новшеству, так как вводит его лишь взамен давнего тер-
мина «натуральность изображения». Он употребляет термин
«реализм» в прежнем, всеобщем значении, ссылаясь на «петер-
бургские журналы», т. е. на Белинского, и хочет, собственно,
отделить реализм от натурализма. Но разграничения терминов
«реализм» и «натурализм» Анненков не провел. Поэтому его
попытка замены не была тогда замечена критикой. К сожале-
нию, начатая Анненковым плодотворная терминологическая ра-
бота не получила продолжения ни у него самого, ни у других
критиков. Через много лет, как увидим, в связи с появлени-
ем «русских натуралистов», последователей Золя, Щедрин чет-
ко и ясно отделит друг от друга термины «реализм» и «натура-
лизм».
Мемуары Анненкова в своеобразной форме «дублировали»
«Былое и думы» Герцена. Они параллельно охватывали почти
тот же исторический процесс духовной жизни России и Запад-
ной Европы, но придавали ему либеральное истолкование. И все
же это значительный его труд, занимающий место сразу же пос-
ле герценовского.
Анненков рецензировал почти те же главные произведения
эпохи, что и критики-демократы. Несмотря на всю невыгодность
такой конкуренции и несколько вялый стиль, можно говорить
об известной эстетической проницательности Анненкова, его мас-
терстве как критика. Он много сделал для изучения Пушкина,
его биографии и творчества.
Он выступил в защиту «Грозы» Островского от нападок не-
которых критиков, подметил характерные детали в творчестве
Помяловского. Но особенно много ценных наблюдений он сделал
над произведениями Тургенева, общая гражданская и эстетиче-
ская направленность творчества которого глубоко импонировала
Анненкову. Его интересовал сопоставительный анализ различных
реалистических приемов, он провел тонкий разбор творчества
Тургенева и Л. Толстого в статье, первоначально называвшейся
«О смысле в произведениях изящной словесности» (1854), позд-
нее озаглавленной «Характеристики: И. С. Тургенев и Л. Н. Тол-
стой». По глубине проникновения в психологию творчества писа-
теля замечательны также воспоминания Анненкова о почти за-
202
бытом тогда А. Ф. Писемском («Художник и простой человек»,
1882).
Степан Семенович Дудышкин (1820—1866). Дудышкин не-
посредственно к «триумвирату» не принадлежал, но он был бли-
зок к «эстетической критике». С 1861 по 1866 год Дудышкин был
редактором-издателем и критиком либеральных «Отечественных
записок».
При всем эклектизме, либеральной половинчатости суждений
в критике Дудышкина оставались элементы той эстетической си-
стемы, которую разработал Белинский. Дудышкин называл Бе-
линского «могущественным двигателем литературы», «авторите-
том», «человеком убеждений в высшей степени», редкого «такта
и поэтического чутья», сочетавшего в себе талант публициста,
критика и философа, стремившегося к «обобщениям», целостной
системе взглядов *. Дудышкин даже защищал Белинского от на-
падок Кс. Полевого («Шипящие старики», 1859).
Дудышкин оставался верен памяти Гоголя, заветам его реа-
лизма (см. критический его отзыв об «Опыте биографии Н. В. Го-
голя» 11. Л. Кулиша, 1854).
В 1860 годах вышло издание сочинений Лермонтова под ре-
дакцией Дудышкина с «Материалами для биографии и лите-
ратурной оценки Лермонтова». Хотя Дудышкин назвал Лермон-
това «поэтом отчаяния» и отрицательно отозвался о созданном
им образе гордого скептика Печорина, все же поэт оказывался
выразителем не только «общечеловеческого начала», но и идей
своего времени, который «будет дорог всем тем несчастным по-
колениям, на долю которых выпадет ужасная судьба его эпо-
хи»1 2. Дудышкин подчеркивал политические мотивы творчества
Лермонтова, указывал на гонения против поэта со стороны
властей.
В 50-е и 60-е годы с предельной ясностью выявились черты
умеренного либерализма Дудышкина, уклончивость и расплыв-
чатость его оценок. Он толковал об «общественных началах»,
«прогрессе», «связи искусства с жизнью», но все это имело ли-
берально-соглашательский характер. Критика Дудышкина в
свое время даже прославилась рыхлой описательностью, отсут-
ствием прямых суждений, узким эмпиризмом. Чернышевский в
статьях «Об искренности в критике», «Полемические красоты»
высмеивал таких критиков, как Дудышкин: «На каждую по-
хвалу или порицание у них всегда готова совершенно равно-
сильная оговорка или намек в противоположном смысле». На-
пример, обзор русской литературы за 1852 год Дудышкин пре-
вратил в простой перечень произведений, отказавшись от каких-
1 См.: Отечественные записки.— 1859.— Т. CXXIV.— № 5.— Отд. III.—
С др__з1
2 Лермонтов М. Ю. Соч.— СПб., 1863.— Т. 2.— С. XLVIII (преди-
словие).
203
либо обобщений: он полагал, что не следует «повторяться», если
об этих произведениях в течение года было уже говорено в биб-
лиографической хронике. Но это нисколько не мешало Дудыш-
кину в конце той же статьи посетовать на измельчание русской
критики, сказать, что критика, начиная с дружининских «Писем
иногороднего подписчика», стала «репертуарной», мелочной, по-
верхностной.
Дудышкин активно полемизировал с «Современником», идея-
ми диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искус-
ства к действительности». Он поддержал богослова-философа
Юркевича, обрушившегося на статью Чернышевского «Антропо-
логический принцип в философии». Особенно оспаривал Дудыш-
кин тезис Чернышевского о том, что «прекрасное есть жизнь»,
объявляя его неновым, банальным. Дудышкин восставал против
мнения, что искусство «выносит приговор над действительно-
стью», усматривая в нем покушение на свободу творчества. Он
отрицал целостность, последовательность и оригинальность кон-
цепции Чернышевского.
Но Тургенева ценил высоко, называл автора «Рудина» «од-
ним из лучших наших современных писателей»; в его произведе-
ниях «сколько... современного, живого, сколько интересного и
поучительного». Но концы с концами и в этой статье он связать
не смог, оставив открытым вопрос об общем направлении твор-
чества писателя.
Высоко Дудышкин оценивал Писемского («Очерки из крестьян-
ского быта», 1856), его роман «Тысяча душ» (1859). Критик ут-
верждал, что в повестях «Питерщик», «Леший», «Плотничья ар-
тель» Писемский изображает народ таким, каков он есть в от-
личие, например, от Григоровича, который заражен «сентимен-
тальностью натуральной школы». Критик отмечал «блестящий
талант» Л. Толстого, автора «Военных рассказов», «Детства»,
«Отрочества», но, как Дружинин и Анненков, не понял глубины
его демократизма и своеобразия психологизма.
Симпатии Дудышкина, либерала-постепеновца, ярко прояви-
лись в оценках многих литературных героев. Он нападал на
«желчного», «едко-острого» лермонтовского Печорина, привет-
ствовал пародию на него в романе М. Авдеева «Тамарин» (1852).
Его прельщал выведенный Авдеевым образ благополучного дель-
ца Иванова, как и в «Тысяче душ» Писемского образ Калинови-
ча. У критика проскальзывало явное раздражение против преж-
них «лишних людей», этих «фаталистических натур», умничаю-
щих, ничего не делающих.
Дудышкин придерживался жизненного девиза полюбившего-
ся ему образа Иванова: «Мы должны работать и трудиться»,
трудиться в том смысле, в каком раскрывала возможности этим
людям реформа. Дудышкин за то и хвалил Тургенева, что он
якобы «с первого раза поставил на свое место всех Бреттеров,
Лучиновых и тому подобных героев».
204
С типично либеральным суесловием Дудышкин хвалил «бла-
гие» начинания царя Александра II и упрекал литературу за то,
что жизнь застает ее врасплох, она еще мало изобразила прак-
тических дельцов нового времени.
Источники
Зельдович М. Г., Лившиц Л Я. Русская литература. XIX в.:
Хрестоматия критических материалов.— 3-е изд.— М., 1967.
Русская эстетика и критика 40—50-х гг. XIX в.— М., 1982.
Русская критика от Карамзина до Белинского.— М., 1981.
Киреевский И. В. Критика и эстетика.— М., 1980.
Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика.— М., 1981.
Чернышевский II. Г. Очерки гоголевского периода русской лите-
ратуры//Поли. собр. соч.: В 15 т.— М., 1939—1953,—Т. III.
Анне н к о в 11. В. Литературные воспоминания.— М., 1983.
Дружинин А. В. Литературная критика.— М.. 1983,
Хомяков А. С. О старом и новом.— М., 1988.
Пособия и исследования
Дементьев А. Г. Очерки по истории русской журналистики 1840—
1850 гг,—М.; Л., 1951.
Манн Ю. В. Русская философская эстетика.— М., 1969.
Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература.— М., 1976.
Литературные взгляды и творчество славянофилов 1830—1850 гг.— М.,
1978.
Егоров Б. Ф. О мастерстве литературной критики: Жанры. Компози-
ция. Стиль.— Л., 1980.
Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX в.—
Л., 1982.
Боткин Б. Ф. Боткин — критик и публицист//Литературная критика.
Публицистика. Письма.— М., 1984.
Дискуссия о славянофилах в «Вопросах литературы»//Вопросы лите-
ратуры.— 1969.— № 5, 7, 10, 12.
Дементьев А. Г. Борьба Шевырева с Белинским по вопросам исто-
рии русской литературы//Учен. зап. Ленинградского ун-та.— 1938.— № 47.—
Вып. 4.
Каверин В. А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журна-
листа, редактора «Библиотеки для чтения».— 2-е изд.— М., 1966.
Сорокин IO. К истории термина «реализм» в русской критике//Изв.
ЛИ СССР.— Сер. лит. и яз.— 1957.— Вып. 3.
См. также соответствующие главы в «Очерках по истории русской жур-
налистики и критики», т. I и «Истории русской критики», т. I.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 60—80-х ГОДОВ XIX ВЕКА
ГЛАВА 1
Литературно-критическое движение
Изучаемый период характеризуется двумя сложившимися в
России революционными ситуациями—1859—1861 и 1879—
1881 годов. Первая ситуация была вызвана кризисом крепост-
нической системы, поражением царизма в Крымской войне; уг-
роза освобождения «снизу» привела к реформам «сверху», ца-
ризм спасался уступками от неминуемой революции в стране.
Вторая ситуация, обусловленная дальнейшим углублением внут-
ренних экономических и политических противоречий в стране,
половинчатостью реформ, мучительным процессом капитализа-
ции России при сохранении старых привилегий дворян, завер-
шилась убийством народовольцами «царя-освободителя» Алек-
сандра II.
В «шестидесятые» годы (1855—1868) освободительное дви-
жение возглавлялось Чернышевским, Добролюбовым и Писаре-
вым. Затем наступили «семидесятые» годы (1868—1881) с не-
сколько меньшим революционным накалом, но все же активными
акциями народников и народовольцев под главенством Михай-
ловского, Лаврова, Ткачева против самодержавия. В «восьми-
десятые» годы (1881—1894) наметился заметный спад движе-
ния, народничество вырождалось в либеральную мещанскую оп-
позицию с ее теорией «малых дел» и сходило на нет под ударами
первых русских марксистов. Эту эволюцию вправо пережил сам
вождь народничества Михайловский. Откровенно оппортунисти-
ческие тенденции всегда жили в народничестве, поскольку оно
опиралось на ошибочные социально-политические теории, идеа-
лизировавшие патриархальную деревню и «общинный социа-
лизм».
Эволюция разночинного движения хорошо видна на судьбе
организации «Земля и воля». Первоначально (1861—1864) она
была создана людьми широкой политической и философской
ориентации. Вдохновителем и ее организатором был Чернышев-
ский, в ее программу входили идеи Герцена и Огарева, разви-
вавшиеся ими в «Колоколе», когда они увидели действующий
народ и требовали его самоуправления, закрепления за ним всей
земли без выкупа. В организацию входили братья Серно-Соло-
206
вьевичи, А. Слепцов, В. Курочкин, Н. Обручев и др. С арестом
Чернышевского, спадом революционной волны распалась и ор-
ганизация. «Земля и воля» была возрождена в 1876 г. О. А. На-
тансоном, А. Михайловым; в нее вошли С. Кравчинский и моло-
дой Г. Плеханов. Это была уже народническая организация,
которая передачу земли крестьянам связывала с иллюзорными
надеждами на особый, некапиталистический путь развития Рос-
сии, игнорируя реально сложившиеся отношения в русской де-
ревне, полагаясь на «полное мирское самоуправление».
В 1879 году «Земля и воля» раскололась на две организации —
«Народную волю», склонившуюся к тактике террора, и «Чер-
ный передел», продолжавшую прежнюю программу. Народо-
вольцы по смогли подпить парод па восстание и были после
I марта 1881 года разгромлены самодержавием. Исчерпало себя
движение народников и теоретически. Плеханов порвал с ним,
сделался марксистом. Народнические теории стали тормозом для
дальнейшего развития освободительной борьбы.
По положительное содержание народничества на всех этапах
и при всех идейных заблуждениях было в «представительстве»
народных интересов, в первых попытках изучения процессов ка-
питализации России, приводившего к прямо противоположным
выводам, чем те, которые делали сами народники: капитализм
оказывался не случайным явлением в России.
В первые годы «эпохи гласности», когда царизм разрешил об-
суждать «крестьянский вопрос» и сам готовился к реформам, де-
мократическое движение отмежевалось от либерального. Де-
мократы-революционеры — Чернышевский, Добролюбов — были
против царской реформы, видели ее циничный, грабительский
характер, поскольку крестьяне должны были выкупать у поме-
щиков землю, которую пахали столетиями. Только революция
могла принести крестьянам волю и безвозмездное владение зем-
лей, обновление русской жизни, ее демократизацию. Либералы
же — Каверин, Чичерин и многие другие — приветствовали ре-
форму, шли па компромисс с царизмом, предавали интересы кре-
стьян и демократии. Это было первое и важное размежевание
в оппозиционном лагере.
Наиболее последовательно революционно-демократическая
идеология выражалась в трудах Чернышевского и Добролюбо-
ва, главных критиков журнала «Современник», который изда-
вался Некрасовым (1847—1866). Значительнейшими были ста-
тьи Чернышевского «Не начало ли перемены?» и Добролюбова
«Черты для характеристики русского простонародья». На высо-
ком уровне демократической мысли был и журнал «Русское сло-
во», издававшийся Г. Благосветловым, где главным критиком
был Писарев. За свою статью «Русское правительство под по-
кровительством Шедо Ферроти» (1862) Писарев был арестован
и посажен в Петропавловскую крепость. Шедо Ферроти — псев-
доним тайного агента правительства, который занимался за гра-
207
ницей травлей в печати эмигранта Герцена. К демократическому
лагерю принадлежали и издававшиеся Герценом и Огаревым аль-
манахи «Полярная звезда» (1855—1868, Лондон, Женева) и
газета «Колокол» (1857—1867, Лондон, Женева). Издававшиеся
в России журналы подвергались цензурным и правительствен-
ным гонениям, «Современник» и «Русское слово» временно «при-
останавливались» в 1862 году, а после выстрела Каракозова в
царя в 1866 году были закрыты.
Воспреемниками их традиций оказались на последующем эта-
пе разночинного демократического движения журнал «Отечест-
венные записки» (1868—1884), который стал издавать Некрасов
в сотрудничестве с Щедриным. После смерти Некрасова (1877)
журнал вел Щедрин в сотрудничестве с народником Михайлов-
ским. Журнал был закрыт правительством за ту же «неприемле-
мую» программу. Традиции «Русского слова» были возрождены
в журнале «Дело» (1866—1888), под редакцией все того же
Благосветлова, а после его смерти — Шелгунова.
Но существование демократической печати не следует пред-
ставлять себе идиллически, были свойственны ей внутренние
противоречия. Были важные оттенки в проявлении самого де-
мократизма. Например, «Современник» и «Русское слово» ча-
сто даже полемизировали друг с другом по некоторым вопросам.
Многое зависело от простого соотношения сил, от того, кто имен-
но «заправлял» делами в журнале в тот или иной момент. Рас-
хождения в понимании эстетических, да и политических вопро-
сов были у Писарева с Чернышевским, хотя они не вели поле-
мики лично. Но после ареста того и другого в 1862 году уровень
критики в обоих журналах понизился: в «Современнике» видную
роль занял М. А. Антонович, а в «Русском слове»— В. А. Зайцев.
Оба критика вступили в полемику по поводу диссертации Чер-
нышевского «Об эстетических отношениях искусства к действи-
тельности», каждый, в свою очередь, ошибочно толкуя отдель-
ные положения великого критика. Н. Щедрин в «Современнике»
в статье «Наша общественная жизнь» указал на некоторое из-
мельчание демократизма «Русского слова», Зайцев ответил по-
лемической статьей «Глуповцы, попавшие в «Современник». Ан-
тонович писал о «Лжереалистах» «Русского слова». В полемику
ввязался Писарев, приславший из крепости статью «Посмот-
рим!». В этой полемике многое кажется сейчас непринципиаль-
ным, но это был живой процесс исканий, самоопределения ин-
дивидуальностей. Без таких противоречий не бывает живой
критики. Были некоторые отличия в позициях и «Отечествен-
ных записок», и «Дела», и внутри редакции «Отечественных
записок» более последовательный Щедрин был недоволен неко-
торыми народническими тенденциями в статьях своего сотруд-
ника Михайловского. Сползание народничества к легальному
оппозиционерству особенно выразилось в «Русском богатстве»
(с 1876 г.), в котором с 90-х годов главным критиком был Ми-
208
хайловский; этот орган «полукадетской партии», по определению
В. И. Ленина.
Реакционная критика и журналистика в своих выпадах про-
тив демократии должна была прибегать к средствам, которые
прикрывали бы ее истинную сущность. Старался скрыть свое
«дирижерство» в газете «Гражданин» (с 1872 г.) ее истинный
хозяин, ярый реакционер кн. В. П. Мещерский. По логике вещей
реакционерами становились вчерашние либералы: в первую ре-
волюционную ситуацию им сделался Катков, издатель «Русского
вестника» (1856—1887), «Московских ведомостей» (вторично с
1863 г.).
Он проклинал «нигилистов», травил Герцена и даже «про-
клинал» царские реформы 60-х годов. Во вторую революцион-
ную ситуацию перешел в лагерь реакции Суворин, издатель
(с 1876 г.) газеты «Новое время».
Между «Современником» и «Русским вестником» полярность
позиции была совершенно ясна. Более расплывчатой была пози-
ция таких либеральных изданий, как «Отечественные записки»,
«Библиотека для чтения», позднее «Вестник Европы». Они были
за реформы, за прогресс, за умеренность, что привлекало к жур-
налам много литераторов. Ведь Краевски й слыл издателем, ко-
торый некогда предоставил в «Отечественных записках» три-
буну Белинскому. Дружинин в «Библиотеке для чтения» не при-
нимал только «крайности» позиции «Современника». «Вестник
Европы» в руках Стасюлевича с 1866 по 1909 год, при всей дряб-
лости своего либерально-буржуазного направления, собирал во-
круг себя не только кавелиных. Здесь печатались и Гончаров
(«Обрыв»), Островский («Снегурочка»), Тургенев («Новь»),
Щедрин («Пестрые письма», «Мелодии жизни», «Пошехонская
старина»).
Размежевание демократов с либералами, мы знаем, было
закономерным процессом. Но под прессом цензурных и полити-
ческих репрессий приходилось нередко обоим направлениям и
сотрудничать. В катковском «Русском вестнике» были опубли-
кованы «Отцы и дети» Тургенева, многие романы Достоевского,
«Война и мир» и «Анна Каренина» Толстого. Эту сложность
перипетий журнально-критической, литературной жизни следует
учитывать.
Если мы вспомним, что журналистика, а в этой связи и идей-
ные направления, история русской общественной мысли нас
интересуют в связи с художественной литературой, то картина
соотношения взаимодействующих сил в критике еще услож-
нится.
Антинигилистическая, антизападная позиция, например, Стра-
хова ясна. Но Страхов — один из ведущих критиков «почвенни-
чества», сотрудник журналов, издаваемых братьями Достоев-
скими, «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865). В этих
же журналах ведет критический отдел талантливый и противо-
14 Заказ № 1367
209
речивый критик Ап. Григорьев. По отношению к ним обоим
Достоевский нечто третье и как писатель вообще не исчерпы-
вается понятием «почвенник». Он великий реалист и обличитель.
Как «почвенник» все же Достоевский радуется «расколу в ниги-
лиссах»—полемике, завязавшейся между «Современником» и
«Русским словом», пишет об этом статьи в своем журнале «Эпо-
ха». Достоевский выступает против мнений Добролюбова об
искусстве, пишет фельетон против Щедрина. Михайловский вы-
ступает против Достоевского со статьей «Жестокий талант».
Сложные отношения соединяют и разъединяют Л. Н. Толсто-
го с демократической критикой. Толстой сблизился с Дружини-
ным, был противником идей диссертации Чернышевского и тезиса
о «приговоре» над действительностью. Последующая демо-
кратическая критика не смогла оценить «Войны и мира», а ли-
берал Анненков в своей статье о романе подметил много вер-
ного. Много дельного сказал о нем в своей статье и Страхов.
Тем не менее Толстой-художник неизмеримо ближе к позиции
«Современника», «Отечественных записок» (после 1867 г.) как
«срыватель» масок, реалист, обличитель, даже как автор трак-
тата «Что такое искусство?» (1898), с выразившимся в нем сти-
хийным демократическим пафосом.
Осмысляя картину соотношения направлений в журналисти-
ке и критике второго этапа освободительной борьбы, мы должны
помнить, что главным его результатом в области литературы
было упрочение критического реализма. Но сам этот реализм
был многолик, расслаивался на различные типологические ви-
ды, попадал в сферу питавших его или сковывавших его идео-
логических течений, и само их взаимодействие было чрезвы-
чайно сложным процессом.
ГЛАВА 2
Дальнейшая разработка концепции реализма. 1860-е годы
Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) начал кри-
тическую деятельность с изложения своей целостной теории ис-
кусства и историко-литературной концепции. В 1853 году он
написал, а в 1855 году защитил и опубликовал магистерскую
диссертацию «Эстетические отношения искусства к действитель-
ности». В 1855—1856 годах на страницах «Современника» напе-
чатал «Очерки гоголевского периода русской литературы». Это
сочинение предполагалось в двух частях, и в нем существенное
место должна была занять характеристика литературного дви-
жения 30—50-х годов. Но создать Чернышевский успел только
первую часть, посвященную истории критики «гоголевского пе-
риода»; в попутных рассуждениях он коснулся и художествен-
ных произведений этого периода.
210
В статье «Об искренности в критике» (1854) и некоторых
других работах Чернышевский изложил свой критический ко-
декс, продолжив «Речь о критике» Белинского: он высмеял кри-
тику «уклончивую» и развил свое понимание критики «прямой»,
принципиальной, высокоидейной, прогрессивной. Чернышевский
выступал также как критик текущей современной литературы.
Но, сделав в этой области ряд замечательных успехов, среди
которых самым великим было открытие Л. Толстого как писате-
ля, он занялся другими, не менее важными тогда экономиче-
скими проблемами, препоручив отдел критики в «Современнике»
Добролюбову.
Чернышевский изложил свою материалистическую эстетику
как систему, противопоставив ее системам идеалистическим.
К этому понуждали его три обстоятельства: внутренняя после-
довательность его собственной материалистической и демокра-
тической мысли, системность возрождаемого наследия Белин-
ского и логическая последовательность гегелевской эстетики, на
которую опирались противники Чернышевского. Победить идеа-
лизм можно было, лишь создав концепцию, которая могла бы с
новой исторической и философской точки зрения более рацио-
нально осветить все прежде поставленные и возникшие новые
проблемы.
Все теоретические построения Чернышевского развертыва-
ются следующим образом: сначала он разбирает господствую-
щие идеалистические представления о цели и предмете искусст-
ва, а именно понятия о прекрасном; затем провозглашает свой
тезис «прекрасное есть жизнь» и разбирает нападки идеалистов
на прекрасное в действительности и уже затем в известной по-
следовательности позитивно излагает свои тезисы. В конце дис-
сертации он делает выводы из сказанного и сжато излагает сущ-
ность нового материалистического учения об искусстве.
Чернышевский всесторонне разобрал основную формулу идеа-
листической эстетики: «Прекрасное есть совершенное соответ-
ствие, совершенное тождество идеи с образом»1. Эта формула
родилась в лоне идеалистической эстетики, главным образом
гегелевской школы, и вытекает из следующего идеалистического
тезиса: весь мир является воплощением абсолютной идеи, идея
в своем развитии проходит ряд ступеней, область духовной дея-
тельности подчинена закону восхождения от непосредственного
созерцания к чистому мышлению. По Гегелю, наивной стадией
созерцания является искусство, затем идет религия и самой зре-
лой ступенью духовной деятельности является философия. Пре-
красное— это сфера искусства, оно — результат кажущегося
тождества идеи и образа, полного их совпадения в отдельном
предмете. На самом же деле, говорят идеалисты, идея никогда
1 Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. Поли. собр. соч.— М., 1949.— Т. H.-
С. 265, 266.
14*
211
не может воплотиться в отдельном предмете, но сама иллюзия
настолько облагораживает предмет, что он выглядит прекрас-
ным. На следующих ступенях познания идея покидает конкрет-
ный образ, и для развитого мышления существует не призрачное
прекрасное, а только доподлинная истина. Для чистого мышле-
ния прекрасного нет, прекрасное даже унизительно для него.
Чистое мышление — сама себе адекватная идея, не прибегающая
к помощи образов низменной эмпирии, чтобы явиться миру.
Провозглашая «прекрасное есть жизнь», Чернышевский брал
жизнь во всей безграничности ее проявлений, в значении радо-
сти бытия («лучше жить, чем не жить»). Он трактовал жизнь в
ее социально-классовых проявлениях. Чернышевский показы-
вал, что имеются различные представления о красоте у крестьян
и у господ. Например, красота сельской девушки и светской ба-
рышни. Он впервые выдвинул классовый принцип понимания
проблемы прекрасного.
Чернышевский явно симпатизирует тем представлениям о
прекрасном, которые выработало наивное сознание трудового
крестьянства, но дополняет их представлениями об «уме и серд-
це», которые складываются в просвещенном сознании деятелей
революционно-демократического направления. Вследствие слия-
ния этих двух начал положение Чернышевского о прекрасном
получало материалистическое и демократическое истолкование.
Идеалисты в свое учение о прекрасном ввели категории воз-
вышенного, комического, трагического. Чернышевский также
уделял им большое внимание.
В идеалистической эстетике понятие трагического соединя-
лось с понятием судьбы. Судьба выступала в виде существую-
щего порядка вещей (что соответствовало понятию социального
строя), а субъект или герой, активный и волевой по своей на-
туре, нарушал этот порядок, сталкивался с ним, страдал и поги-
бал. Но его дело, очищенное от индивидуальной ограниченности,
не пропадало, оно входило как составной элемент во всеобщую
жизнь.
Чернышевский во всех этих положениях идеализма блестяще
вскрыл присущую им охранительную тенденцию. Он опроверг
фатализм теории трагической судьбы героя не только как рево-
люционный демократ, но и как диалектик, последовательный ре-
алист. Он также исходил из того, что трагическое связано с
борьбой героя и среды. «Неужели эта борьба всегда трагич-
на?»— спрашивал Чернышевский и отвечал: «Вовсе нет; иногда
трагична, иногда не трагична, как случится»1. Нет фаталистиче-
ского действия рока, а есть лишь сцепление причин и соотноше-
ние сил. Если герой сознает свою правоту, то даже тяжелая
борьба — не страдание, а наслаждение. Такая борьба только
драматична. И если принять необходимые предосторожности, то
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. II.— С. 27.
212
эта борьба почти всегда заканчивается счастливо. В этом ут-
верждении чувствуется оптимизм подлинного борца-револю-
ционера.
Чернышевский верно указывал, что «не следует ограничи-
вать сферу искусства одним прекрасным», что «общеинтересное
в жизни — вот содержание искусства»1. Идеалисты явно пута-
ли формальное начало искусства — единство идеи и образа как
условие совершенства произведения — с содержанием искусства.
Кроме задачи воспроизведения действительности, искусство
имеет еще другое назначение — давать «объяснение жизни», быть
«учебником жизни». Таково внутреннее свойство самого искус-
ства. Художник не может, если бы и хотел, отказаться от про-
изнесения своего суждения над изображаемыми явлениями:
«приговор этот выражается в его произведении».
Цель искусства заключается в воспроизведении действитель-
ности, в объяснении ее и в приговоре над ней. Чернышевский
нс только возвращался к идеям Белинского, но и существенно
обогащал материалистическую эстетику требованиями, вытекав-
шими из самой сущности искусства и конкретных условий лите-
ратурной жизни 50—60-х годов. Особое значение имел тезис
о «приговоре» над жизнью. Это было то повис, что Чернышев-
ский внес в проблему тенденциозности искусства.
Но в диссертации Чернышевского имеются и упрощения. Он
прав в самом важном: искусство вторично, а действительность
первична («выше» искусства). Однако сопоставление образов
искусства с живыми предметами Чернышевский проводит не в
том плане, в каком искусство соотносится с жизнью как «вторая
действительность». Чернышевский признает за искусством толь-
ко право средства информации, комментария, «суррогата дей-
ствительности». Даже выражение «учебник жизни», хотя в прин-
ципе и верное, имеет узкий смысл: справочник жизни, сокращен-
ное ее изложение. В тех случаях, где Чернышевский говорит о
типизации, обобщении в искусстве, он первенство и превосход-
ство признает за «типизацией», свойственной самой стихийной
жизни, а искусству оставляет лишь суждение, приговор над дей-
ствительностью. Но это качество вообще вытекает из свойства
человека судить обо всем окружающем. Где же здесь особая
форма приговора в искусстве? Чернышевский не говорит о голой
тенденциозности, но он также не говорит и о том, что искусство
воздействует на человека через свои образы и общий тон, пафос
произведения. Верная мысль об объективности красоты и ти-
пического упрощается Чернышевским, поскольку он умаляет
значение типизации, выявления в хаосе случайностей того, что
является закономерным и необходимым. Недооценивал он и
роль творческого воображения, художественной формы в искус-
стве.
’Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. II.— С. 82.
213
Чернышевский полагал, что, хотя суждение о действительно-
сти и входит в намерение писателя, он все же не поднимается
до обобщений ученого, а произведение искусства — до научного
сочинения. По мнению Чернышевского, разница только в том,
что история, например, говорит о жизни человечества и жизни
общества, а искусство — об индивидуальной жизни человека.
Это утверждение противоречило другим его заявлениям об об-
щественной сущности и общественной роли искусства. Автор
диссертации спрашивает: зачем нужно искусство, в чем его «пре-
восходство» перед действительностью? Например, он говорил,
что живописец может группу людей поместить в обстановку,
«более эффектную» и даже более приличную сущности ее, не-
жели обыкновенная действительная обстановка»1. Можно подо-
брать для характеров более «соответствующую» обстановку.
Искусство может легко «восполнить» неполноту картины дей-
ствительности, и оно имеет в этом случае «преимущество пред
действительностью»2. Но Чернышевский не считал эти возмож-
ности искусства существенными и тут же ограничивал их зна-
чение: «пейзаж есть только рамка для группы, или групп лю-
дей, только второстепенный аксессуар»3 4. Воображение писателя
только украшает и придумывает новые комбинации, разнообра-
зит сочетания тех элементов, которые предоставляет ему дейст-
вительность. Далее Чернышевский высказал верную мысль, но,
к сожалению, не развил ее должным образом: «они (т. е. эле-
менты.— В. К.) все найдутся в действительной жизни, только
без преднамеренности, без arriere pensee»*. Чернышевский не
замечает, что в этой arriere pensee, т. е. в скрытом смысле обра-
зов, и заключается суть искусства. Здесь-то искусство и превос-
ходит действительность. Дело не в трудностях преодоления ма-
териала, не в тщеславной гордости человека делом своих рук,
как доказывал Чернышевский, а в мощи этой arriere pensee. Ис-
кусство становится учебником жизни в этом высшем смысле,
а не в смысле мемуара, копии. Чернышевский свел значение
фантазии к воспроизведению недостающих звеньев, к восполне-
нию памяти. Все это у него служит лишь «переводу» событий
с «языка жизни» на «скудный, бледный, мертвый язык поэзии».
Но фантазия придает языку поэзии великую мощь.
При всем ярко бьющем в глаза утилитаризме, с которым
Чернышевский подчеркивал содержательность поэзии, творче-
ства, он в принципе всегда считал важным и элементы формы,
в соотношении с формой рассматривал он и проблему содер-
жания.
Если писатель произносит «приговор» над действительностью,
то он должен позаботиться и о совершенстве формы.
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. II.— С. 60,
2 Т а м же.
3 Т а м же.
4 Т а м ж е.— С. 86.
214
Эта мысль проводилась, например, в рецензии «Стихотворе-
ния Н. Огарева» (1856). Недостаточно оценивать поэзию только
по гражданским мотивам: «Но ведь историческое значение поэ-
та должно же отчасти основываться на чисто поэтическом до-
стоинстве его произведений»1. Чернышевский намеревался по-
говорить об этой стороне поэзии Огарева в будущем, но не
успел выполнить своего обещания.
От проблемы прекрасного Чернышевский переходил к уче-
нию о художественности, доказывая тем самым, что его эстетика
вовсе не сводилась к голому утилитаризму. Тут Чернышевский
во многом был близок Белинскому.
Первый закон художественности, говорил Чернышевский,—
«единство произведения». Поэтическая идея нарушается, когда
в произведение вносятся элементы, чуждые ей. Не всякая поэ-
тическая идея допускает постановку общественных вопросов.
Так, в «Детстве» Л. Толстого дан детский мир со своим опреде-
ленным объемом интересов. Нельзя требовать, чтобы Пушкин
в «Каменном госте» изображал русских помещиков или выра-
жал сочувствие Петру Великому. Художественность — не просто
красивая отделка подробностей. Художественность заключается
в «соответствии формы с идеею». Все части формы произведе-
ния проистекают из основной идеи. Вспомним, что единство фор-
мы и содержания, идеи и образа было у Чернышевского одним
из определений прекрасного в технологическом смысле, в смыс-
ле мастерства.
За малым исключением, все литературные явления прошлого
оценивались Чернышевским близко к точке зрения Белинского.
Отходил Чернышевский от псе в оценке Карамзина, относитель-
но которого он считал, что писатель имеет значение только для
истории русского языка и как историограф, а в его художествен-
ных произведениях нет ничего русского. «Горе от ума» Черны-
шевский считал малохудожественной комедией; равнодушно он
относился и к сатире XVIII века, казавшейся ему слишком
слабой.
Четыре большие статьи Чернышевского об анненковском из-
дании сочинений Пушкина (1855) предшествуют «Очеркам гого-
левского периода» (1855—1856). Пушкин для него — тема чисто
историческая, уже решенная Белинским в его «пушкинских ста-
тьях». Чернышевский разделял мнение Белинского о том, что
Пушкин — истинный отец нашей поэзии, воспитатель эстетиче-
ского чувства. В лице Пушкина русское общество впервые при-
знало писателя «великим, историческим деятелем». При этом,
может быть, выше, чем Белинский, Чернышевский оценивал ум
Пушкина и содержание его поэзии. Пушкин — человек «необык-
новенного ума», каждая его страница «кипит умом и жизнью
образованной мысли»2.
‘Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.—Т. III.—С. 568.
2 Там же.— Т. II.— С. 475.
215
Статьи Чернышевского были ответом на разгоревшийся в со-
временной ему критике спор о «пушкинском» и «гоголевском»
направлениях: имена Пушкина и Гоголя условно обозначали два
противоположных направления в литературе и критике—«чистое
искусство» и «сатиру». В противовес этому Чернышевский вся-
чески старался подчеркнуть основополагающее значение творче-
ства Пушкина для всей русской литературы. Пушкин возвел
литературу в «достоинство общенационального дела», был родо-
начальником всех ее школ. «Вся возможность дальнейшего раз-
вития русской литературы была приготовлена и отчасти еще
приготовляется Пушкиным...»1. Опираясь на приведенные Ан-
ненковым сведения о творческой лаборатории Пушкина, Чер-
нышевский разрушал легенду о свободном художнике, якобы
творившем без труда, по наитию. Великий поэт упорно обраба-
тывал каждую строку своих произведений, всегда обдумывал
их план.
С величайшим интересом Чернышевский изучал и разъяснял
современникам значение «гоголевского периода» русской лите-
ратуры. Гоголь оставался лучшим образцом писателя-реалиста.
Надо было возродить суждения о нем Белинского, истолковать
смысл сатиры и реализма Гоголя, осмыслить новые материалы
о нем, появившиеся после смерти писателя, и, наконец, разга-
дать тайну его противоречивой личности.
В чем же достоинства и заслуги Гоголя? Он «отец нашего
романа». Он «дал перевес» прозе над стихами. Придал литера-
туре критическое, сатирическое направление. Все писатели — от
Кантемира до самого Пушкина — предтечи Гоголя. Он был неза-
висим от посторонних влияний. У него чисто русская тематика
и проблематика. Он «пробудил в нас сознание о нас самих».
Значение Гоголя не исчерпывается значением его собственных
произведений. Он не только гениальный писатель, но вместе
с тем глава школы—«единственной школы, которою может гор-
диться русская литература»2.
Ни Грибоедов, ни Пушкин, пи Лермонтов, по мнению Чер-
нышевского, школы не создали. Гоголь в более сильной форме
служил определенному направлению «нравственных» стремле-
ний, т. е. создал школу.
Чернышевский обстоятельно рассматривает полемику преж-
них лет по поводу Гоголя. Все критики делятся им на гонителей
и поклонников Гоголя. К первой группе относятся Н. Полевой,
Сенковский, Шевырев, ко второй—Вяземский, Плетнев. Но
глубже всех оценил Гоголя Белинский.
В «Очерках гоголевского периода» Чернышевский пытался
разгадать внутренний смысл противоречий Гоголя. В чем источ-
ник его художественной силы, какова степень сознательности
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. II.— С. 475,
2 Та м же —Т. III.—С. 20.
216
творчества, в чем сущность духовного кризиса? Его интересует
вопрос: была ли какая-то метаморфоза во взглядах Гоголя в
конце жизни или же он всегда был самим собой, но его не пони-
мали? Как квалифицировать в привычных понятиях особенности
мировоззрения Гоголя, в чем психологическая загадка его ха-
рактера?
Новые, публиковавшиеся тогда материалы впервые раскры-
вали поразительную картину внутренних процессов, противоре-
чий в душе писателя.
Чернышевский решительно возражал против попыток пред-
ставить Гоголя писателем, бессознательно нападавшим на по-
роки общества.
Гоголь понимал необходимость быть сатириком. Итак, суть
дела в посылках и целях Гоголя. Ясно, что обличение было
средством для этих целей. Лихоимство обличали уже Кантемир,
Державин, Капнист, Грибоедов, Крылов. В чем особенность
сатиры Гоголя?
Основа сатиры у Гоголя была «благодарная и прекрасная».
Это утверждение Чернышевский распространяет даже на второй
юм «Мертвых душ». Более того, хотя «Выбранные места из пе-
реписки с друзьями» легли пятном на имя Гоголя, он и здесь
не мог «ни при каких теоретических убеждениях окаменеть
сердцем для страданий своих ближних». Он был человеком «ве-
ликого ума и высокой натуры»1. По характеру своего творчест-
ва Гоголь — общественный деятель, поэт идеи; и в «Выбранных
местах» энтузиазм его несомненен.
Может показаться, что в рассуждениях Чернышевского есть
некоторая непоследовательность. С одной стороны, он подбирает
из писем Гоголя, например к С. Т. Аксакову, такие заявления,
как: «Внутренне я не изменялся никогда в главных моих поло-
жениях», и утверждает, что путь Гоголя — нечто единое, писа-
юль не изменялся, он только постепенно раскрывался2. А с дру-
гой стороны, Чернышевский доказывает, что в образе мыслей
Гоголя, приведших к «Выбранным местам», сделалась разитель-
ная перемена где-то в 1840—1841 годах. Этому содействовал
«какой-то особенный случай», вероятно, в связи с «жестокою бо-
лезнью»3.
Видимо, Чернышевского надо понимать так: перелом произо-
шел только в смысле откровенности и полноты раскрытия взгля-
юв, но с субъективной стороны нового в концепции Гоголя ни-
чего не появилось. Объективно «Выбранные места», конечно,—
реакционная книга. Но в субъективном плане проповедническая
идея входила в общую концепцию жизни у Гоголя и тогда, ког-
ца он создавал «Ревизора» и «Мертвые души» и когда писал
«Выбранные места».
•Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. III.— С. 663, 665.
2 Та м же,—Т. III.-С. 530.
3 Т а м ж е.-С. 529, 535.
217
В чем же тогда беда Гоголя как внутренне противоречивого
мыслителя?
Если продолжить рассуждения Чернышевского, то основа
трагедии Гоголя в том, что, правильно почувствовав пророческое
«назначение писателя на Руси» и необходимость иметь самому
всеохватывающую концепцию жизни с ее обличительными и по-
зитивно-утверждающими тенденциями, он оказался неподготов-
ленным, чтобы занять такое положение. Он был плохим теоре-
тиком не вообще (об этом свидетельствуют его дельные крити-
ческие статьи), но именно теоретиком того «учительского» и
всеохватывающего масштаба, каким хотел быть. Для этого
надо было решительно идти на сближение с лагерем Белинского,
что критик и предлагал ему еще в письмах 1842 года.
В развитии Гоголя-писателя был свой предел. Чернышевский
указывал: «Мы не считаем сочинения Гоголя безусловно удов-
летворяющими всем современным потребностям русской пуб-
лики, <...> даже в «Мертвых душах» мы находим стороны сла-
бые или по крайней мере недостаточно развитые, <...> наконец,
в некоторых произведениях последующих писателей мы видим
залоги более полного и удовлетворительного развития идей, ко-
торые Гоголь обнимал только с одной стороны, не сознавая
вполне их сцепления, их причин и следствий»1. Чернышевский
нашел единственно верный ответ: нельзя сказать, что Гоголь не
понимал того, что писал, он все понимал, и довольно широко, но
не с той степенью теоретической и социально-политической по-
следовательности, какой требовали подымаемый им острый жиз-
ненный материал и претензии быть «учителем жизни».
Понятие «гоголевского периода» органически включало в се-
бя и другую колоссальную фигуру, в которой как раз идеально
выразились сознательные теоретические начала реалистического
направления, это — Белинский. Он был для Чернышевского иде-
альным критиком и общественным деятелем. Для восстановле-
ния памяти о нем Чернышевский сделал больше, чем кто-либо.
Надо было снять запрет с имени Белинского, опровергнуть кле-
вету врагов, возродить его концепцию и оценки, его критический
метод.
Чернышевский подчеркивал, что он «не любит» расходиться
с мнениями Белинского, он любит ссылаться на них, так как нет
более справедливого авторитета, чем Белинский, «истинный учи-
тель всего нынешнего молодого поколения»2.
Критик нарисовал трогательную картину своего посещения
могилы Белинского на Волковом кладбище, на которой даже
не было тогда памятника («Заметки о журналах», июль 1856 го-
да). А между тем везде «его мысли», «повсюду он», «им до сих
пор живет наша литература!..»3.
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. III.— С. 9—10.
2 Т а м ж е.— С. 455.
3 Т а м ж е.— С. 677—678.
218
Чернышевский считал 1840—1847 годы периодом расцвета
деятельности Белинского, когда его взгляды вполне сформиро-
вались и имели наибольшее влияние на русское общество. После
смерти Белинского русская критика заметно ослабла. До сих
пор только одна критика Белинского сохраняет свою жизнен-
ность. Все остальные направления, либо ей противостоявшие, ли-
бо уклонявшиеся от нее в сторону, за последние годы были
«пустоцветами» или «тунеядными растениями».
Чернышевский назвал Белинского человеком «гениальным»,
произведшим «решительную эпоху» в нашей умственной жизни.
Он имел «стройную систему воззрений», в которой одно поня-
тие вытекало из другого. И нелишне было подчеркнуть, что
вся его деятельность имела глубоко патриотический характер.
Система Белинского сложилась на основе важных исканий
предшествующей русской критики в борьбе с враждебными реа-
лизму течениями. Чернышевский разбирал критическое наследие
И. Киреевского, Шевырева, Сенковского, Н. Полевого, Надеж-
дина и других предшественников и противников Белинского уже
не только с точки зрения того, как они оценивали Гоголя, а с
точки зрения их критической, философско-теоретической мето-
дологии, подхода к литературным явлениям вообще. Именно
должной системности мышления и понимания реальности он
у них и не находил.
Любопытны ракурсы, в которых Чернышевский рассматри-
вал Белинского. Для Чернышевского всего важнее было пока-
зать целостность личности Белинского, подлинно творческий и
концептуальный характер его теории реалистического искусст-
ва. Эволюция взглядов Белинского полна исканий, зигзагов, но
в целом совершалась медленно, перемены в суждениях происхо-
дили незаметно. Величайшим достоинством критики Белинского
Чернышевский считал ее теоретичность, обращенность к дейст-
вительности, ее общественно-социальный пафос.
Чернышевский подробно выяснял, в каких отношениях к Ге-
гелю находился Белинский, что было благоприобретением и что
уступкой идеализму с его стороны. Белинский «отбросил все,
что в учении Гегеля могло стеснять его мысль»1, и сделался
критиком совершенно самостоятельным. «Тут в первый раз рус-
ский ум показал свою способность быть участником в развитии
общечеловеческой науки»2.
С большой осторожностью, веской аргументацией Чернышев-
ский раскрывал основные особенности эволюции Белинского,
до самой смерти шедшего вперед, все более «проникавшегося
живыми интересами русской действительности»3. Требования его
были «очень умеренными», но «последовательными», высказы-
вавшимися с «энергией». Что касается учености Белинского, то
1 Чернышевский Н. Г, Поли. собр. соч,— Т. III,— С. 215.
2 Т а м ж е,— С. 206.
3 Т а м ж е.— С. 226.
219
какое может быть в ней сомнение: он, «будучи значительнейшим
из всех наших критиков, был и одним из замечательнейших на-
ших ученых»1.
Опираясь на «гоголевское» направление и наследие Белинско-
го, Чернышевский смело оценивал современную ему литерату-
ру. Ее проблематика начинала выходить за рамки прежнего опы-
та, обусловливаться требованиями новой эпохи.
Условия жизни литературы зависят не только от самой лите-
ратуры, указывал Чернышевский, они скорее — в самой публи-
ке. Чего хочет публика, тем и бывает литература. Не торопи-
тесь всегда осуждать русского писателя. Публика мало знает
о закулисной стороне литературной жизни, ее положение может
вызывать только сострадание. Речь идет не об интригах и игре
самолюбий. Есть отношения и обстоятельства гораздо более
важные: цензура, вкусы, авторитеты, которым поклоняются.
Поднять уровень литературы может только более живое участие
общественного мнения.
Чернышевский любил говорить: «События приготовляются со-
бытиями». Здесь был скрытый призыв к революционному дея-
нию, преобразованию общества, чтобы общество не убаюкивало
себя словами о всесилии литературы, печатного слова. Черны-
шевский как бы наводил на мысль: не переоценивайте значения
слов, переходите к делам.
Исходные позиции Чернышевского в вопросе о соотношении
народного и общечеловеческого начал такие же, как у Белин-
ского. Он не верит в какую-то изолированную народную правду.
Только образование дает индивидуальности человека и всему
народу содержание и простор. Варвары все сходны между со-
бой. А каждая из высокоразвитых наций имеет нечто общее с
другими нациями и нисколько не теряет от этого своей ориги-
нальности. Народная поэзия привлекательна. Она единственное
средство самовыражения младепчествующего парода, и форма
ее прекрасна. Но эта поэзия однообразна, и содержание ее бед-
но. Зачем же цыганский хор противопоставлять опере, Киршу
Данилова ставить выше Пушкина? (Рецензия на «Песни разных
народов» в переводе Н. Берга, 1854).
Рецензируя публикацию собрания писем царя Алексея Ми-
хайловича, Чернышевский показывает на материалах Гербер-
штейна, Флетчера, Олеария, Брюса, Мейнерса, какой неустро-
енностью, отсталостью отличалась жизнь в допетровской Руси
и как эта еще не европеизировавшаяся жизнь давным-давно уже
не была изолированной от разных византийских, восточноазиат-
ских и татаро-монгольских влияний. Чернышевский предлагает
читателю подумать, не сохранились ли и сейчас азиатские при-
вычки в русском быту2. А в рецензии на «Письма об Испании»
‘Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. III.— С. 277,
2 Там же.—Т, IV.—С. 251.
220
В. П. Боткина (1857) отсталость Испании он явно уподоблял
русской отсталости и критиковал испанцев за «беззаботность
невежества и равнодушие к улучшению материального быта»1.
Существенно изменялась у Чернышевского в связи с этим
даже сама постановка вопроса о предмете истории русской лите-
ратуры. Что входит в ее состав: только ли произведения Пушки-
на, Гоголя и других «своих» писателей? Вопрос оказывался ши-
ре, сюда относится и переводная литература (Шиллер, Гете,
Байрон), которая также удовлетворяет запросы читателей и
влияет на творчество русских писателей. Входят переводы в со-
став и любой другой национальной литературы (рецензия на
книгу «Шиллер в переводе русских поэтов», под ред. Н. Гербе-
ля, 1856)2.
Расширяя представление о предмете истории литературы,
Чернышевский одновременно стремился разработать необходи-
мые терминологические понятия. Критик понимал, что современ-
ную реалистическую литературу уже нельзя обозначить именем
какого-нибудь одного писателя. В «Очерках гоголевского перио-
да...» Чернышевский поставил вопрос о необходимости введе-
ния методологического определения направления в литературе.
Он говорил, что пора бы появиться новому, послегоголевско-
му направлению в литературе, его дальнейшему развитию. Это
была бы новая эпоха в литературе, новое сатирическое, или, как
справедливее будет его называть, «критическое направление»3.
Чернышевский считал, что лучше заменить традиционное назва-
ние «сатирическое направление» на «критическое направление».
Новое название не даст противникам поводов к утрированию.
Кроме того, само понятие критики расширяется в своих грани-
цах, захватывая и сферу жизни. Чернышевский при этом чутко
уловил несостоятельность начинавшегося уже тогда стремления
отождествить методы искусства с методами естественных наук,
наивного и плоского позитивизма. «В новейшей науке,— писал
Чернышевский,— критикою называется не только суждение о яв-
лениях одной отрасли народной жизни — искусства, литературы
или науки, но вообще суждение о явлениях жизни, производи-
мые на основании понятий, до которых достигло человечество, и
чувств, возбуждаемых этими явлениями при сличении их с тре-
бованиями разума. Поэтому, принимая слово «критика» в этом
обширнейшем смысле, в «новейшей науке», т. е. со времен Бе-
линского, стали говорить: «Критическое направление в изящной
литературе, в поэзии»4. Конечно, этим выражением обозначается
направление, до некоторой степени сходное с «аналитическим
направлением» в литературе, о котором в последнее время так
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. IV.— С. 245.
2 Т а м ж е.— С. 503 и др.
3Там же.— Т. III.— С. 18.
4 Там же.— С. 18 (прим.).
221
много говорят в России. Но различие, подчеркивает Чернышев-
ский, состоит в том, что «аналитическое направление» может
изучать подробности житейских явлений и воспроизводить их
под влиянием самых разнородных стремлений, даже без всяко-
го стремления, без мысли и смысла; а «критическое направле-
ние» при подробном изучении и воспроизведении явлений жизни
проникнуто сознанием о соответствии или несоответствии изу-
ченных явлений с нормою разума и благородного чувства. Поэ-
тому «критическое направление» в литературе есть одно из част-
ных видоизменений «аналитического направления» вообще, но
оно точнее выражает сущность реализма.
Главная задача Чернышевского состояла в том, чтобы со-
хранить за реализмом все его права, чтобы критицизм реализма
не сузился до однобокой сатиры и не растворился в холодном
естественнонаучном «аналитизме».
На основе этих общеэстетических и историко-литературных
критериев Чернышевский оценивал всех писателей, формировал
современное ему реалистическое направление.
Чернышевский-критик поистине открыл актуальное значение
поэзии Огарева. Он оценил первый сборник стихов поэта (1856)
и в подцензурных условиях намекнул на подлинный масштаб
деятельности его как верного друга Герцена. Чернышевский
разобрал тайные мотивы поэзии Огарева, воспетой им дружбы
с Герценом. О стихотворении «Старый дом» было сказано, что
оно «принадлежит истории». Для некоторого круга читателей
не было секретом, что Герцен в соответствующей главе «Было-
го и дум», только что напечатанной в «Полярной звезде», уже
рассказал о своей дружбе с Огаревым и также назвал стихотво-
рение «Старый дом» в качестве символа их дружбы. Чернышев-
ский намекнул даже на конспиративную деятельность Огарева.
«Есть у него и другие права (на внимание.— В. К.), о них мы...
подробнее будем говорить когда-нибудь, при первой возможно-
сти»1. Но возможность так и нс представилась. Эмигрировавший
Огарев вскоре был объявлен «государственным преступником»,
а несколько позднее арестовали Чернышевского.
Чернышевский навлек на себя гнев цензуры и реакционной
печати, когда по выходе в свет первого собрания стихотворений
Некрасова, в 1856 году, перепечатал в «Современнике», в крат-
ком отзыве о сборнике, три стихотворения поэта: «Поэт и граж-
данин», «Забытая деревня», «Отрывки из путевых записок графа
Гаранского» (сам Некрасов был в это время за границей).
О Некрасове было неудобно говорить в редактируемом им «Со-
временнике», но прием популяризации его стихотворений был
выбран Чернышевским удачно. Перепечатал Чернышевский и
опубликованное в «Библиотеке для чтения» еще одно стихотво-
рение Некрасова —«Школьник». Критик всеми силами старался,
’Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. III.— С. 568.
222
чтобы русская поэзия, беря за образец Некрасова, приобрела
демократическое направление.
Идеальным рыцарем борьбы в глазах Чернышевского был
его прямой сподвижник — Добролюбов.
После смерти Добролюбова Чернышевский начал собирать
материалы для его биографии, опубликовал часть их через не-
сколько месяцев в «Современнике». И после ссылки, незадолго
до своей кончины, он пополнил собрание документов для био-
графии Добролюбова, написал свои воспоминания об истории
взаимоотношений Тургенева с Добролюбовым.
Чернышевский воссоздал возвышенный образ революционно-
го демократа, критика, глашатая реализма. В некрологе о Доб-
ролюбове Чернышевский писал: «Ему было только 25 лет. Но
уже 4 года он стоял во главе русской литературы,— нет, не
только русской литературы,— во главе всего развития русской
мысли»1. Оставалось сожалеть только, что вся эта деятельность
еще не доходила до народа, а распространялась лишь на куль-
турное общество. Чернышевский особо подчеркивал исключи-
тельную одаренность Добролюбова — литературного критика,
может быть, даже несколько умаляя свои собственные заслуги в
этой области.
Наконец, к тому же передовому отряду реалистического на-
правления Чернышевский относил только что вступившего на
литературную арену после ссылки Щедрина, крупного сатири-
ка, «нового Гоголя». Он называл «Губернские очерки» (1857)
общественным документом большой обличительной силы2. При
этом Чернышевский отмечал одну важную черту, отличавшую
Щедрина от Гоголя: Гоголь — писатель по преимуществу скорб-
ный, а Щедрин'—суровый, негодующий. В другом месте Чер-
нышевский отметил большую последовательность Щедрина-са-
тирика по сравнению с Гоголем: он видит сцепление всех малых
п больших явлений русской жизни, он сознательнее («не так
инстинктивно») обличает3.
За этим рядом духовно самых близких Чернышевскому со-
временных писателей выстраивались ряды других, также в ка-
ких-либо отношениях важных. Эпоха реформ обострила внима-
ние к деревне, к писателям, изображавшим крестьянский быт.
Теперь «мужик» имеет не просто этнографический и экзотиче-
ский интерес, как прежде, а стал вопросом вопросов, основной
меркой гражданского достоинства литературы. Именно Черны-
шевский так поставил этот вопрос в критике.
В журнальных заметках 1856 года Чернышевский высоко оце-
нивал «Записки охотника» Тургенева и новый роман Григоро-
вича «Переселенцы». Но прошло несколько лет, и Чернышевско-
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч,—Т. VII.—С. 852,
2 Т а м же.—Т. IV,— С. 263 и др.
3 Т а м ж е.— С. 633.
223
му Григорович и Тургенев стали казаться уже писателями, слиш-
ком идеализировавшими крестьянский быт.
Пристально вглядывался Чернышевский в Писемского. Это
был писатель активный, сотрудничавший во враждебной «Биб-
лиотеке для чтения» и не соглашавшийся с «Современником»
по многим вопросам. Чернышевский в своих отзывах о его «Очер-
ках из крестьянского быта» и повести «Старая барыня» оспари-
вал мнение Дружинина, пытавшегося противопоставить Писем-
ского всей «гоголевской» литературе. Чернышевский угадал суще-
ственную слабость Писемского — его почти пассивное отношение
к злу, натуралистичность его творчества. Между прочим, при-
слушавшись к замечаниям Чернышевского, Писемский внес в
1861 году исправления в «Старую барыню». Но в целом писа-
тель все больше отдалялся от демократов.
Зато в рассказах молодого писателя Н. Успенского критик
увидел ту правдивость воспроизведения темных сторон крестьян-
ской жизни, которая помогла осознанию духовной и материаль-
ной бедности народа. Такая правда представлялась лучше вся-
ких прикрас, в ней слышалась любовь к народу. Свои идеи в
связи с рассказами Н. Успенского Чернышевский изложил в
статье «Не начало ли перемены?» (1861).
Лично по отношению к Н. Успенскому Чернышевский во мно-
гом ошибся: писатель оказался слабым, вскоре отошедшим от
демократического лагеря, и писал он все хуже и хуже. Но са-
мый принцип «перемены» манеры изображения деревни, кото-
рый демонстрировал Чернышевский, используя рассказы Н. Ус-
пенского, оказался правильным и прогрессивным. Объективные
условия позволили Н. Успенскому сказать мужественную прав-
ду об отсталости народа, о ничтожно низкой его сознательно-
сти. Жизнь по правилу «так заведено», тупость крестьян иллю-
стрируются Н. Успенским во многих рассказах («Обоз» и др.).
Н. Успенский воспроизводил дюжинные натуры, бесцветных,
безликих людей. Не торопитесь заключать, предупреждал Чер-
нышевский, по ним о всем народе. Инициатива народной дея-
тельности не в них, они плывут по течению, как подобные нату-
ры и в других сословиях, но есть и другие мужики. Необходи-
мо знать, какими средствами могут подействовать на них ини-
циативные люди.
Эти выводы представляют собой логически первую полови-
ну статьи Чернышевского. После этого он переходит к выясне-
нию причин забитости народа. Мало сказать, что объективные
обстоятельства жизни таковы. Коренная причина тяжкого хода
народной жизни в том, что народ сам чрезмерно терпелив. Во
всем другом житейском он сметлив и хитер. А вот в главном
наблюдается какая-то еще инертность *. Важно всеми силами
пробудить энергию народа для отпора господствующим классам.
1 См.: Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. VII.— С. 875—876.
224
В поисках «знатоков жизни» Чернышевский обратил внима-
ние на еще одного современного писателя, старавшегося под-
черкнуто держаться в отдалении от демократов 60-х годов,—
на Л. Толстого. Можно со всей определенностью сказать, что
высшим достижением деятельности Чернышевского-критика,
примером его эстетической проницательности, личной непредвзя-
тости, даже самоотвержения, была именно оценка творчества
Толстого. Толстой служил примером тому, как много может до-
биться художник, если он будет правдиво изображать крестья-
нина и как бы переселяться в его душу.
Можно сказать, что Чернышевский открыл грандиозный та-
лант Толстого. Он разобрал ходячие, шаблонные похвалы Тол-
стому современных критиков. Они говорили о чрезвычайной на-
блюдательности, тонком анализе душевных движений, отчетли-
вости в изображении картин природы, изящной простоте их, но
не вскрывали специфического в таланте писателя. Между тем
талант Толстого был особенный, и он развивался быстро, в нем
появлялись все новые черты.
У Пушкина наблюдательность, как полагает Чернышевский,
«холодная, бесстрастная». У новейших писателей более развита
оценивающая сторона. Иногда наблюдательность так или иначе
соотносится с какой-нибудь другой чертой таланта: например,
наблюдательность у Тургенева направлена на поэтические сто-
роны жизни, а к семейной жизни он невнимателен. Психологиче-
ский анализ бывает разный. То перед ним цель, чтобы вполне
очертить какой-нибудь характер, то влияние общественных отно-
шений на характеры или на связь чувств с действиями. Анализ
может заключаться в сопоставлении двух крайних звеньев про-
цесса, начала и конца, или контрастных состояний души. У Лер-
монтова, например, есть глубокий психологический анализ, но
анализ все же у него играет подчиненную роль: Лермонтов вы-
бирает устоявшиеся чувства, а если Печорин рефлектирует, то
это рефлексия знающего себя ума, это самонаблюдение путем
раздвоения.
Толстого же интересуют сами формы психологического про-
цесса, законы «диалектики души», и «он один мастер на это»1.
У Толстого на первом месте переливы состояний. Полумечта-
тельное чувство сцеплено у него с понятиями и чувствами ясны-
ми, интуитивное — с рациональным. Способность играть на этой
струне проявляется даже тогда, когда Толстой не прибегает
прямо к «диалектике души», диапазон его возможностей все вре-
мя ощущается даже по одной какой-нибудь черте.
Толстому свойственна «чистота нравственного чувства»2. Она
как-то сохранилась у него «во всей юношеской непосредственно-
сти и свежести». Она грациозна, непорочна, как природа.
’Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч,— Т. III.— С. 426.
2 Т а м ж е.— С. 431.
15 Заказ Ка 1367
225
Указанные особенности таланта Толстого, заявил Чернышев-
ский, останутся навсегда у писателя, сколько бы он ни прожил
и сколько бы произведений ни написал. Ему предстоит долгий
путь: «какая прекрасная надежда для нашей литературы...»—
пророчествовал Чернышевский,— все доныне созданное—«толь-
ко залоги того, что совершит он впоследствии, но как богаты и
прекрасны эти залоги»1. В связи с «Утром помещика» Черны-
шевский существенно уточнил содержание понятий «диалектика
души» и «чистота нравственного чувства». Иначе определение
таланта Толстого было до некоторой степени формальным: речь
шла только о «силах таланта», но еще не «о содержании твор-
чества». Теперь оказывалось, что Толстой с замечательным ма-
стерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта
крестьян, но и, что гораздо важнее, их «взгляд на вещи»: «Он
умеет переселяться в душу поселянина — его мужик чрезвычай-
но верен своей натуре,— в речах его мужика нет прикрас, нет
риторики...»2. Чернышевский еще не говорит, что придет время,
когда Толстой переменит свои классовые убеждения, совершит
переход на позиции крестьянина; однако такая возможность,
пока как художническое свойство, как способность писателя,
уже угадана критиком верно.
После Н. В. Успенского и Л. Н. Толстого ничто уже не могло
подкупить Чернышевского своей простонародностью.
Успех «Семейной хроники» С. Т. Аксакова давал повод мно-
гим современникам считать, что с Аксакова «начинается новая
эпоха для нашей литературы». Но Чернышевский знал, какое
значение имеет «гоголевский период» и в чем должна состоять
новая эпоха современной литературы. В восхвалениях Аксакова
он усматривал некий маневр славянофилов, попытки противопо-
ставить литературе критического реализма художника из «свое-
го» лагеря со спокойными позитивными идеалами. Чернышев-
ский полезное в «Семейной хронике» видел все в тех же элемен-
тах реализма, в обличении барства, зверств Куролесовых.
Не подкупала Чернышевского и «простонародность» проис-
хождения поэта Никитина. Качество его стихов расценивалось
им невысоко. Никитин, в глазах Чернышевского,— только пере-
делыватель чужих мотивов. Это дар образованности, а не при-
роды. Чернышевский советовал Никитину оставить на время
сочинение стихов, пока жизнь не разбудит в нем подлинно поэти-
ческие мысли и чувства. Этот урок не пропал даром для Ники-
тина.
О стремлении Чернышевского повлиять на крупного писа-
теля являются его отзывы об Островском. Чернышевский хоро-
шо знал, что Островский начал свой путь в духе «натуральной
школы» в комедии «Свои люди — сочтемся» (1847). Современни-
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Те III.— С. 426.
2 Т а м же,—Т. IV.— С. 682.
226
кн сравнивали его пьесу с «Недорослем» и «Ревизором». Но по-
том наступил особенный период в творчестве Островского: он
испытал влияние младославянофильской группы. «Бедная не-
веста» не уронила его таланта, но и не поддержала. «Не в свои
сани не садись» вызывала уже опасения за его талант. А «Бед-
ность не порок» (1854), по мнению Чернышевского, выявила
слабость и фальшь нового направления Островского. Прискорб-
ное различие между «Свои люди — сочтемся» и комедией «Бед-
ность не порок» в том, что Островский «впал в приторное при-
крашиванье того, что нс может и не должно быть прикраши-
ваемо»1.
Несомненно, отрицательная оценка комедии «Бедность не
норок» со стороны Чернышевского вызвана тем, что Ап. Гри-
горьев поднял па щит новые настроения Островского. В задачу
Чернышевского входило отвоевать Островского у неославянофи-
лоп. Драматург уже повредил своей литературной репутации,
по «нс погубил еще своего прекрасного дарования»2. «Доходное
моего» (1856) примирило Чернышевского с Островским: эта
пьеса «напоминала» ему «Своп люди — сочтемся», в ней много
«правды п благородства», только лишним представляется весь
пятый акт, без морализма которого образ Жадова был бы
сильнее.
I естественно, что Чернышевский должен был выработать свое
определенное отношение и к образам «героев времени», которые
были задолго до этого нарисованы писателями-дворянами. Чер-
нышевский понимал, что образы, созданные Пушкиным, Лер-
монтовым, Герценом,— это сокровища в общественно-познава-
।(‘льном отношении. Поэтому Чернышевский едко высмеял по-
.... М. Авдеева использовать образ Печорина для того, чтобы
создать нечто вроде «антинигилистического» романа. В 1850 го-
ну М. Авдеев опубликовал роман «Тамарин». Сама фамилия
героя подобрана по такому же типу, как Онегин, Печорин.
Авдеев хотел дискредитировать Печорина. Он говорил, что
in га 1 ели слишком увлеклись с блеском нарисованным Печори-
ным и вместо того, чтобы увидеть в нем образец своих недо-
( га гков, стали подражать ему. Таким образом Авдеев возрождал
< тирую клевету реакционного «Маяка» и «Москвитянина», со-
глпсно которой Лермонтов выкроил своего Печорина по запад-
ному обра щу и навязал его вкусам русского общества. Черны-
шгпгкнй выступил в своей убийственной статье об Авдееве в ка-
мее i не бескомпромиссного защитника классических образов
героев времени, созданных дворянской литературой.
Но, кажется, попытка Авдеева усмотреть некоторую галерею
героев времени, достойных пародирования, слишком запомни-
лась Чернышевскому, п он фактически в ряде последующих вы-
' Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.-г-Т, II.— С. 240.
" I п м ж с.
1Ь* ~ , 227
сказываний отвергал мысль о существовании такой галереи и
настаивал на том, что все эти резко отличающиеся индивиду-
альности — Онегин, Печорин, Бельтов — ничего общего между
собой в типологическом отношении не имеют. До поры до вре-
мени Чернышевский или не видел связи между этими образа-
ми, или из полемических целей не считал нужным ее подчер-
кивать.
Но в споре с Дудышкиным об «идеалах» творчества Турге-
нева Чернышевский в 1857 году признал, хотя и с оговорками,
существование галереи: Онегин сменился Печориным, Печо-
рин — Бельтовым, а за этими типами, как указывал Чернышев-
ский, последовал Рудин.
Лишь в статье «Русский человек на rendez-vous» (1858) о
тургеневской «Асе» Чернышевский явил образец не только эсте-
тического чутья, но и системного понимания всей проблемы: ге-
роя «Аси» он подводил под готовый онегинский и рудинский тип.
Кто-то из критиков тогда утверждал, что характер героя не вы-
держан. Но увы: «в том и состоит грустное достоинство... пове-
сти,— говорил Чернышевский,— что характер героя верен наше-
му обществу»1. И вот Чернышевский начинал сам вычерчивать
родословную «лишних людей», которую раньше отрицал. В «Фа-
усте» Тургенева никчемный герой старается «ободрить» себя
тем, что он и возлюбленная его Вера должны отречься друг от
друга. Почти то же и в «Рудине»: оскорбленная трусостью ге-
роя, девушка отворачивается от него. Точно таким же по типу
выглядит и герой поэмы Некрасова «Саша», хотя талант Некра-
сова совсем другой, чем у Тургенева. Это совпадение типов ге-
роев у разных авторов было весьма замечательным. Припомним
поведение Бельтова: он также предпочитал всякому решитель-
ному шагу отступление. Чернышевский не называет Онегина.
Но из всей логики его рассуждений ясно, что отмечаемая зако-
номерность развития типа так или иначе присуща и этому герою.
«Таковы-то наши «лучшие люди» (т. е. «лишние люди».—
В. К.) — все они похожи на нашего Ромео», т. е. на героя из
«Аси»2.
Нового типа взамен ему Чернышевский не конструирует. Еще
нет сопоставлений всей этой галереи образов с Инсаровым из
«Накануне». Позднее, в романе «Что делать?», Чернышевский
резко изменит самый подход к проблеме героя времени. Но в
критике он остановился на том, что сказал в статье об «Асе».
Дорабатывали всю проблему «лишних людей» Добролюбов и
Писарев, осветившие принципиально новое значение образов
Инсарова, Базарова, Рахметова.
Но обобщенность постановки вопроса Чернышевским видна
из заглавия статьи: взят дворянин как тип, как человек на
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.— Т. V.— С. 158,
2 Там же.— С. 160.
228
rendez-vous co своей совестью и с обществом. Критический пафос
у Чернышевского направлен не столько на самого героя, сколько
на русское общество, сделавшее его таким. Это был излюблен-
ный прием Чернышевского. Он подводил читателя к мысли о
необходимости полной замены как героя времени, так и обще-
ственного устройства.
ГЛАВА 3
Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
Одаренность Николая Александровича Добролюбова (1836—
1861) как литературного критика первым заметил Чернышев-
ский. Прочитан присланную в «Современник» статью «Собе-
седник любителей российского слова» (1856), Чернышевский
пригласил к себе па дом се автора, тогда еще студента Главно-
го педагогического института, и предложил ему постоянное со-
трудничество в журнале. Добролюбов уже знал работы Черны-
шевского, поклонялся его гению, мечтал о знакомстве с ним.
Вскоре Некрасов предоставил молодому сотруднику полную
свободу действий в отделе критики и библиографии и затем ввел
('го в состав редакции. Чернышевский добровольно передал
Добролюбову критический отдел, а сам сосредоточился на обще-
политических и политико-экономических проблемах, начинав-
ших приобретать все большее значение в идейном движении
60 х годов. В 1857—1861 годах литературная критика в «Совре-
меннике» почти всецело была в руках Добролюбова. Он откли-
кал( я па все вопросы текущей литературы, писал главные ста-
п.и па самые важные темы, активно разрабатывая эстетические
проблемы и проблемы «реальной критики»1.
Чернышевский отмечал, что никакие личные отношения не
могли поколебать Добролюбова в его деятельности. Он не сбли-
жался с теми людьми, с которыми, по его убеждению, не стоило
сближаться. Ему казалось, что плохие союзники — не союзники.
1ут напрасны были всякие просьбы. Взаимное понимание меж-
ду Чернышевским и Добролюбовым было на редкость полное.
♦Статей его я никогда не читал (в корректуре.— В. К.). Я всегда
только говорил Некрасову: «Все, что он написал, правда. И тол-
кова и. об этом нечего...»2. «...Тургенев имел наивность,— вспо-
минал Чернышевский,— жаловаться мне на Добролюбова», но
«какого в самом деле утешения себе от меня мог ждать человек,
жалующийся па Добролюбова». Именно неприязненное отноше-
1 Добролюбов печатался под псевдонимами и криптонимами: Н. Лайбов,
I бои, 11. А Александрович, Андрей Критский, Н.— Тов. Н. Турчинов, Кон-
рпд Лнлпсишвагер, Яков Хам, Аполлон Капелькин, Д. Свиристелев, Н. Л.
к др.
’ Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.—Т. XV.— С. 149. Письмо
A II. Пыпипу от 25 февр. 1878 г.
229
ние к Добролюбову, не любившему либеральную половинча-
тость, толкнуло Тургенева на его разрыв с «Современником».
В области общефилософских принципов Добролюбов полно-
стью солидаризировался с Белинским и Чернышевским. Это вид-
но из общего духа его статей и нескольких прямых высказыва-
ний на эти темы Добролюбов постоянно подчеркивал, что ма-
териализм надо смелее применять в области теории искусства
и литературы. Здесь было еще много работы.
Главному вопросу эстетики — об отношении искусства к дей-
ствительности— Добролюбов придавал острый публицистиче-
ский поворот.
В статьях «О степени участия народности в развитии русской
литературы» (1858), «Литературные мелочи прошлого года»
,'(1859) он говорил, что нашей литературе нечего гордиться свои-
ми мнимыми достижениями, она идет уже проторенными путя-
ми, тогда как она должна бы идти впереди жизни. Добролюбов
хотел вдохновить литературу на новые подвиги.
Молодой критик стоял на уровне Белинского и Чернышевско-
го, когда раскрывал специфику искусства по сравнению с нау-
кой. Она и для Добролюбова по преимуществу в образности.
В статье «Луч света в темном царстве» (1860) он указывал, что
разница между искусством и философией соответствует разнице
в самом способе мышления художника и ученого: «...Один мыс-
лит конкретным образом, никогда не теряя из виду частных яв-
лений и образов, а другой стремится все обобщить, слить част-
ные признаки в общей формуле»1 2. Возникавшая еще у Белинско-
го проблема «предмета» и «содержания» искусства, которыми
оно помимо образности, также отличается от науки, вовсе не
затрагивалась Добролюбовым. Обошел ее и Чернышевский.
Впрочем, эта проблема и у Белинского еще не получила полного
теоретического выражения; она усматривается нами теперь в
составе его конкретных построений.
Но была одна общеэстетическая проблема, в решении кото-
рой Добролюбов пошел дальше Белинского и Чернышевского.
Это проблема соотношения мировоззрения и творчества худож-
ника. Образная специфика искусства здесь получила глубокую
разработку. Вслед за Белинским он сосредоточил внимание на
Понятии «пафоса» творчества писателя. Добролюбов называет
его уже не «пафосом», а «миросозерцанием» и даже точнее —
«общим миросозерцанием». Эти замены оказались очень продук-
тивными. Особенно конкретное их развитие.
«Но напрасно,— писал Добролюбов в статье «Темное царст-
1 Таковы его критический разбор книги профессора Казанского уни-
верситета В. Верви «Физиологическо-психологический сравнительный взгляд
на начало и конец жизни» (1858), рецензия на «Основания опытной психо-
логии архимандрита Гавриила» (1859).
2 Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т.— М., 1960—1964.— Т. 6.—
С. 312—313.
230
во»,— стали бы мы хлопотать о том, чтобы привести это миросо-
зерцание в определенные логические построения, выразить его
в отвлеченных формулах. Отвлеченностей этих обыкновенно не
бывает в самом сознании художника; нередко даже в отвлечен-
ных рассуждениях он высказывает понятия, разительно противо-
положные тому, что выражается в его художественной дея-
тельности,— понятия, принятые им на веру или добытые им
посредством ложных, наскоро, чисто внешним образом состав-
ленных силлогизмов. Собственный же взгляд его на мир, слу-
жащий ключом к характеристике его таланта, надо искать в жи-
вых образах, создаваемых им»1.
Это одно из великих положений критики Добролюбова, так
уважительно отнесшегося к интуиции художника, иногда заве-
домо слабого в общих силлогизмах и понятиях, но сильного в
гноем чувстве правды. «Для нас не столько важно то, что хотел
сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и ненаме-
ренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов
жизни» («Когда же придет настоящий день?»)2.
Глубокими у Добролюбова здесь являются вот какие момен-
ты. Миросозерцание художника надо искать в его образах, а не
в силлогизмах. Образы — это плоть произведения, и главное, в
произведении не желаемое, а окончательный результат; миросо-
«срцаппс включает не только собственно идеологию, но и худо-
жественный метод творчества.
Эти положения позволили Добролюбову увидеть союзников
среди писателей, ему далеких. Он черпал материал для харак-
гсрнстикн крепостничества у С. Т. Аксакова, в целом идеологи-
чески ему чуждого. И миросозерцание Островского он не торо-
пился сводни, к временным увлечениям неославяиофильством.
В згоМ методологическая сила подхода Добролюбова. Тезис
Чернышевского о «приговоре» над действительностью раскры-
в 1лся во всей полноте своего жизненного смысла. Реальная кри-
гика постоянно оказывалась хозяином положения в литературе,
вела ее за собой, чутко улавливала все формы сознательных и
бессознательных, прямых и косвенных авторских «приговоров».
< )на консолидировала направление критического реализма.
Итак, Добролюбов разрабатывал проблему диалектических
свя юн между миросозерцанием в идеологическом смысле и ми-
рогозерцанием в смысле творческом: они, в сущности, грани од-
ши <> и того же явления. Но очевидны и некоторые слабые mo-
mi*.. в концепции Добролюбова. Почему общее миросозерца-
ние художника не может быть приведено в систему определенных
«и влеченных формул? Почему писатель в своем творчестве не мо-
же! отправляться от общих формул, почему он только наспех, на
веру принимает чужие понятия, а не вырабатывает их сам, как
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч.— Т. 5.— С. 22.
“Там ж е.— Т. 6.— С. 97.
231
любой человек, как философ (например, Гете в «Фаусте»)? Оста-
валась необъясненной, ниоткуда не выведенной «добросовест-
ность», «верность фактам» писателя. Не должны ли и они вхо-
дить в понятие миросозерцания в широком смысле?
Большей ясности Добролюбов достигал в следующем рас-
суждении: «Его (художника.— В. К.) непосредственное чувство
всегда верно указывает ему на предметы; но когда его общие
понятия ложны, то в нем неизбежно начинается борьба, сомне-
ния, нерешительность, и если произведение его и не делается
оттого окончательно фальшивым, то все-таки выходит слабым,
бесцветным и нестройным. Напротив, когда общие понятия ху-
дожника правильны и вполне гармонируют с его натурой, тогда
эта гармония и единство отражаются в произведении. Тогда дей-
ствительность отражается в произведении ярче и живее, и оно
легче может привести рассуждающего человека к правильным
выводам и, следовательно, иметь более значения для жизни»1.
Эти окончательно установленные диалектические отношения
между взглядами и воспроизведением жизни показывают, что
Добролюбов не умалял значение таланта и мировоззрения. Доб-
ролюбов предсказывал возможность полной гармонии между
мировоззрением и творчеством: «Свободное претворение самых
высших умозрений в живые образы и, вместе с тем, полное со-
знание высшего, общего смысла во всяком, самом частном и
случайном факте жизни — это есть идеал, представляющий пол-
ное слияние науки и поэзии и доселе еще никем не достигну-
тый»2. Дак замечательно прозорливо это утверждение Добро-
любова! Оно напоминает нам известные рассуждения Ф. Энгельса
об идеале искусства будущего: об осознанной глубине исто-
рического смысла явлений и шекспировской живости их изо-
бражения (из опубликованной в советское время переписки
с Ф. Лассалем по поводу его драмы «Франц фон Зиккинген»).
Совершенно логично, исходя из своей трактовки образной
специфики искусства и его идеологической целенаправленности,
Добролюбов большую роль в творчестве отводил домыслива-
нию. В типизации — специфика искусства: «...художник — не пла-
стинка для фотографии... Художник дополняет отрывочность
схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в
душе своей частные явления, создает одно стройное целое из
разрозненных черт, находит живую связь и последовательность
в бессвязных, по-видимому, явлениях...» («Забитые люди»,
1861)3.
Добролюбов прославился у современников как теоретик «ре-
альной критики». Это понятие выдвинул он и постепенно его раз-
рабатывал. «Реальная критика»—это критика Белинского, Чер-
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч.— Т. 5.— С. 24.
2 Там же.
3 Т а м ж е.— Т. 7.— С. 233—234.
232
иышевского, доведенная Добролюбовым до классически ясных
постулатов и приемов анализа с одной целью — выявить обще-
ственную пользу художественных произведений, направить всю
литературу на всестороннее обличение социальных порядков.
Термин «реальная критика» восходит к понятию «реализм». Но
термин «реализм», употребленный Анненковым в 1849 году,
еще не привился. Добролюбов видоизменял его, определенным
образом истолковывая как особое понятие.
В принципе во всех методологических приемах «реальной
критики» все сходно с приемами Белинского и Чернышевского.
11о иногда нечто важное сужалось и упрощалось. Особенно это
видно в трактовке связей критики с литературой, критики с
жизнью, проблем художественной формы. Получалось, что кри-
тика— это не столько раскрытие идейно-эстетического содер-
жания произведений, сколько приложение произведений к тре-
бованиям самой жизни...
Последовательно проведенный «реальный» подход часто при-
водил ис к объективному разбору того, что есть в произведении,
а к суду над ним с неизбежно субъективных позиций, которые
критику казались наиболее «реальными», самыми стоящими вни-
мания... Внешне критик, кажется, ничего нс навязывает, но он
полагается больше на свою компетенцию, свою проверку и как
бы ис вполне доверяет познавательной мощи самого художника
как первооткрывателя истин. Поэтому не всегда верно опреде-
лялись и «норма», объемы, ракурсы изображенного в произве-
дениях. Пс случайно же Писарев с позиций той же «реальной
кри!пк11» впуипл и полемику с Добролюбовым по поводу об-
раза Катерины из «Грозы», недовольный степенью заложенного
в нем гражданского критицизма...
«Реальная критика» теоретически почти ничего не брала на
себя в отношении изучения биографии писателя, творческой ис-
юрни произведения, замысла, черновиков и пр. Это казалось
посторонним делом.
Добролюбов был прав, восставая против «крохоборства» в
критике. Но он ошибочно относил на первых порах к «крохо-
борам» Н. С. Тихонравова и Ф. И. Буслаева. Добролюбову при-
шлось пересмотреть свои утверждения, когда он столкнулся с
• и дельными фактографическими и текстологическими уточнения-
ми и открытиями. Рецензируя седьмой том анненковского издания
<очппений Пушкина, Добролюбов заявил, что Пушкин предстал
и его сознании несколько иным; статья Пушкина о Радищеве,
критические заметки, новооткрытые стихи «О муза пламенной
с.ппры!» поколебали прежнее мнение о Пушкине, как «чистом
художнике», преданном религиозным настроениям, бежавшем от
«черни непосвященной».
Хотя теоретически вопрос об анализе художественной формы
произведений ставился Добролюбовым недостаточно обстоятель-
но—и это недостаток «реальной критики»,— практически у
233
Добролюбова можно установить несколько любопытных подхо-
дов к этой проблеме.
Добролюбов часто подробно анализировал форму, чтобы вы-
смеять пустоту содержания, например в «шипучих» стихах Бе-
недиктова, в бездарных «обличительных» стихах М. Розенгей-
ма, комедиях Н. Львова, А. Потехина, рассказах М. И. Воскре-
сенского.
В важнейших своих статьях Добролюбов серьезно разбирал
художественную форму произведений Гончарова, Тургенева,
Островского.
Добролюбов демонстрировал, как «художественность взяла
свое» в «Обломове». Публика негодовала на то, что герой рома-
на в течение всей первой части не действует, что в романе автор
уклонился от острых современных вопросов. Добролюбов уви-
дел «необыкновенное богатство содержания романа» и начал
свою статью «Что такое обломовщина?» с характеристики нето-
ропливого таланта Гончарова, присущей ему огромной силы
типизации, как нельзя лучше отвечавшей обличительному на-
правлению своего времени. Роман «растянут», но это-то и дает
возможность обрисовать необычный «предмет»—Обломова. Та-
кой герой и не должен действовать: здесь, как говорится, форма
вполне соответствует содержанию и вытекает из характера ге-
роя и таланта автора. Отзывы об эпилоге в «Обломове», искус-
ственности образа Штольца, сцене, раскрывающей перспективу
возможного разрыва Ольги со Штольцем,— это все художествен-
ные разборы.
И наоборот, анализируя лишь упоминаемую, но не показы-
ваемую Тургеневым деятельность энергичного Инсарова в «На-
кануне», Добролюбов считал, что «главный художественный не-
достаток повести» заключается в декларативности этого образа.
Образ Инсарова бледен в очертаниях и не встает перед нами
с полной ясностью. Для нас закрыто то, что он делает, его внут-
ренний мир, даже любовь к Елене. А ведь любовная тема всег-
да получалась у Тургенева.
Добролюбов устанавливает, что только в одном пункте «Гро-
за» Островского построена по «правилам»: Катерина нарушает
долг супружеской верности и наказана за это. Но во всем ос-
тальном законы «образцовой драмы» в «Грозе» «нарушены са-
мым жестоким образом». Драма не внушает уважения к долгу,
страсть развита недостаточно полно, много посторонних сцен,
нарушается строгое единство действия. Характер героини двой-
ствен, развязка случайная. Но, отталкиваясь от шаржируемой
«абсолютной» эстетики, Добролюбов великолепно раскрывал
ту эстетику, которую создавал сам писатель. Он высказал глу-
боко верные замечания о поэтике Островского.
Наиболее сложный и не во всем себя оправдавший случай
полемического анализа формы произведения мы встречаем в
статье «Забитые люди» (1861). Открытой полемики с Достоев-
234
ским нет, хотя статья является ответом на статью Достоевского
«Г.— бов и вопрос об искусстве», напечатанную в февральской
книжке «Времени» за 1861 год. Достоевский упрекал Добролю-
бова в пренебрежении к художественности в искусстве.
Добролюбов заявил оппоненту следующее: если вы радеете
о художественности, то с этой точки зрения ваш роман никуда
не годится или во всяком случае стоит ниже эстетической кри-
тики; и все же мы будем говорить о нем потому, что в нем есть
драгоценная в глазах реальной критики «боль о человеке»1, т. е.
все выкупает содержание. Но можно ли сказать, что Добролю-
бов был здесь во всем прав? Если такой прием легко мог сойти в
применении к какому-нибудь Львову или Потехипу, то как-то
странно он выглядел по отношению к Достоевскому, уже высоко
оцененному Белинским, и чей роман «Униженные и оскорблен-
ные» при всех его недостатках является классическим произве-
дением русской литературы.
В эстетической концепции Добролюбова имеют важное зна-
чение проблемы сатиры и народности.
Добролюбов был недоволен состоянием современной ему са-
тиры, тем более что появилась приспособленческая «обличитель-
ная» литература. Он это высказал в статье «Русская сатира в
век Екатерины» (1859). Внешним поводом для рассмотрения
вопроса послужила книга А. Афанасьева «Русские сатирические
журналы 1769—1774 годов». Книга Афанасьева была откликом
на период «гласности» и преувеличивала общественные успехи
сатиры в русской литературе XVIII века, развитие сатиры в
русской литературе. Добролюбов с похвалой отмечал в статье
«.Русская сатира в век Екатерины» такие произведения XVIII ве-
ка, как «Отрывок путешествия в ***» и ныне приписываемый то
11овикову, то Радищеву знаменитый «Опыт российского сослов-
пнка» Фонвизина, вызвавший резкий окрик царицы.
Добролюбов был прав, повышая критерии оценки сатиры во-
обще. По он явно недооценивал сатиру XVIII века, слишком
утилитарно, по исторически к ней подходил. Добролюбов выра-
ботал схему, которая нс закрепилась в науке: «...сатира яви-
лась у нас, как привозной плод, а вовсе не как продукт, выра-
ботанный самой народной жизнью»2. Если Белинский допускал
подобное утверждение применительно к русской литературе с
ее одами, мадригалами, то во всяком случае сатирическое на-
правление даже в той форме, в какой оно началось с Кантемира,
всегда считал самородным, безыскусственным.
Несколько расплывчато трактует Добролюбов понятие «на-
родность», таково уже само заглавие специальной статьи «Осте-
пени участия народности в развитии русской литературы» (1858).
Общий принцип понимания народности писателя у Добро-
любова такой: «Чтобы быть поэтом истинно народным, надо...
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч,— Т, 7.— С. 242.
2 Там же.—Т. 5.—С. 314.
235
проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вро-
вень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного
учения... и прочувствовать все тем простым чувством, каким
обладает народ»1.
Добролюбову кажется, что в литературе было два процесса:
постепенная утрата национального, народного начала в после-
петровское время и затем постепенное его возрождение. Этот
процесс настолько затянулся, что, собственно, почти ни одного
писателя Добролюбов не смог назвать народным. «Напрасно
также у нас и громкое название народных писателей: народу,
к сожалению, вовсе нет дела до художественности Пушкина, до
пленительной сладости стихов Жуковского, до высоких парений
Державина и т. д. Скажем больше: даже юмор Гоголя и лука-
вая простота Крылова вовсе не дошли до народа»2.
Все решается критиком прямолинейно: «Ломоносов много
сделал для успехов науки в России... но в отношении к общест-
венному значению литературы он не сделал ничего»3. У Ломо-
носова нет ни слова о крепостном праве. Добролюбов признает
только прямые, наглядные формы служения. Державин подви-
нулся только «на немного» во взгляде на народ, на его нужды
и отношения. У Карамзина точка зрения «по-прежнему отвлечен-
ная и крайне аристократическая». Жуковский «одно только из
русской народности воспроизвел... и это одно — суеверие народ-
ное» (в «Светлане».— В. К.). Пушкин при всех его громадных
заслугах художника «постиг только форму русской народности»4.
Гоголь «более сил нашел в себе», но и его изображение пошло-
сти жизни «ужаснуло»; он взвалил все грехи не на правительст-
во, а на народ5. «Нет, мы решительно недовольны русской са-
тирой, исключая сатиры гоголевского периода»6.
Конечно, такой разбор намечал какие-то высшие задачи пе-
ред литературой. В Добролюбове кипело «святое» недовольство.
Но сомнительно было подвигать дело такими односторонними,
крайними суждениями, разрушавшими накопленный историче-
ский опыт. Ведь уже Белинскому было известно, что почти все
перечисленные писатели были истинно народными, каждый в ме-
РУ своего таланта и времени. Художественная бессмертность
произведения вообще недостаточно принималась Добролюбовым
в расчет.
Обратимся к историко-литературным воззрениям Добролю-
бова.
В оценке фольклора Добролюбов всецело опирался на статьи
Белинского и открыто солидаризировался с ними. Он считал
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч.— Т. 2.— С. 260.
2 Т а м ж е.— С. 227.
3 Т а м ж е.— С. 252.
4 Т а м ж е.— С. 262.
5 Т ам же.
6 Т а м ж е.— С. 270.
236
эту поэзию высокохудожественной, но в целом себя уже изжив-
шей. Наиболее полно он высказался на эту тему в рецензии на
очередные выпуски «Народных русских сказок», собранных и из-
данных А. Афанасьевым, и на «Южно-русские песни» (1858).
Сборник Афанасьева превосходил другие сборники по своей пол-
ноте и точности. Но и ему не хватало «жизненного начала» в
подборе сказок и комментировании их. Добролюбов и в фольк-
лоре отыскивал «черты для характеристики» простонародья.
Упрекая в упущениях этого начала современную ему фольклори-
стику и намечая пути се дальнейшего развития, Добролюбов
исходил из мысли: народ ведь что-то думает о том, что сам рас-
сказывает в сказках; мечта о тридевятом царстве, золотом веке
пронизывает народную поэзию. Так сказать, «народность» спол-
на участвует в создании фольклора, этой своей, кровной поэзии.
Голос се должен быть услышан. Но эстетического анализа про-
изведений фольклора Добролюбов не делал.
К прошлому русской литературы Добролюбов возвращался
неохотно, чаще с критикой, и в этой части его историко-литера-
турной концепции, наряду с великими мыслями, имеется наи-
большее число ошибочных положений.
В древней русской литературе Добролюбов ничего не искал.
Знал он ее, пожалуй, лучше Белинского. Недаром он занимался
у И. Срезневского. Свои знания прошлого Добролюбов проде-
монстрировал в статье о журнале «Собеседник русского слова»
г едкой критикой истории России, написанной Екатериной II.
Но вслед за Белинским он расширил тезис о «прививном» ха-
рактере пашей литературы, отодвигая границу ее начала еще
дальше эпохи Петра I, полагая, что вообще вся письменность
была привита Руси с принятием христианства при князе Влади-
мире. Добролюбов мало ценил творчество Карамзина, назвав
«Письма русского путешественника» «легкой, игривой болтов-
ней», и иронически отзывался о патриотических стихах Жуков-
ского («Певец во стане русских воинов»).
Особенно несправедлив Добролюбов был к Пушкину. Перед
нами последняя его статья «Забитые люди» (1861). Здесь кри-
тик писал: «у Пушкина проявляется кое-где уважение к челове-
ческой природе», но он был «мало серьезен», «слишком гармо-
ничен», избегал «аномалии жизни».
Лермонтов не заслуживал упрека в недостатке энергии и
(всрдосгн. По Добролюбов и Лермонтова считал пройденной
ступенью. Пока идеалом художника, приносящего реальную об-
щественную пользу, по мнению Добролюбова, оставался Гоголь.
Только Гоголь, да и то не вдруг внес в нашу литературу «гу-
маппческий элемент»; чем дальше, чем сильнее «выказывалась»
ла сторона у Гоголя.
В статье «Литературные мелочи прошлого года» (1859) До-
бролюбов, имея в виду гоголевский вклад в литературу, пытал-
237
ся наметить и хронологические границы периодов литературы
как подступы к этому вкладу.
Наиболее «жизненный» период русской литературы прихо-
дится на 1825—1848 годы, говорит Добролюбов. Первая дата
откровенно связывается с восстанием декабристов (по цензур-
ным условиям Добролюбов указал, что это год начала издания
«Московского телеграфа» Н. Полевого), а оканчивается период
годом смерти Белинского. Об этом он говорил уже открыто.
Первым «стоящим внимания» был именно тот период, когда
победили «гоголевская партия» и истолкователи творчества ее —
Белинский и его лучшие друзья, т. е. Герцен и Огарев. Все они
«решительно овладели сочувствием публики; их идеи и стремле-
ния сделались господствующими в журналистике». Но «начатое
дело остановилось при самом начале».
Наступили бесплодные 1848—1856 годы, какой-то летаргиче-
ский сон, прерываемый только «библиографическим храпом и
патриотическими грезами» в связи с Крымской войной, окон-
чившейся поражением царизма. Опять иносказательно Добро-
любов констатирует: завершением этого периода можно считать
тот момент, когда скончался «незабвенный» «Москвитянин», т. е.
1856 год. Но под «незабвенным» скорее можно подразумевать
Николая I (так называли его ссыльные декабристы), который
умер в феврале 1855 года.
С 1856 года начался новый период, который продолжается
«по настоящее время», т. е. по 1859 год. Этот период анализи-
руется Добролюбовым во всей его сложности и противоречи-
вости.
Современная литература разделялась Добролюбовым на два
ряда. Первый состоял из отживших свое поэтов и писателей:
Ростопчиной, Розена, Бенедиктова, Подолинского, А. Кокорева,
Соллогуба, Вердеревского, «Львова, Потехина, Воскресенского.
Сюда же включалась без должных оснований вся «пушкинская
плеяда» поэтов. За вычетом последней Добролюбов верно кри-
тиковал всю эту в целом мертвую литературу.
Параллельно мыслился другой ряд имен новых поэтов, по
таланту, может быть, и слабых, но актуальных, пользовавших-
ся сочувствием критика, даже полезных в некоторых отношени-
ях. Таковы Жидовская, искренне и задушевно выплакивавшая
свои чувства (антипод холодной Ростопчиной); Никитин, автор
поэмы «Кулак», полный истинно гуманных чувств, интереса к
материальной стороне народной жизни, что было новым в реа-
лизме; В. Курочкин, даровитый переводчик Беранже, сатирик,
«искровец»; Плещеев, бывший петрашевец, борец, хотя, может
быть, немного декларативный. Сюда же Добролюбов относил
Полонского с его унылой задумчивостью. В этом ряду значи-
тельнейшее место отводилось Кольцову, истинному поэту из на-
рода, который первый стал представлять в своих песнях настоя-
щего русского человека, знал народную жизнь по опыту, прошел
238
школу житейской нужды. Вся эта группа поэтов — своеобразный
резерв Добролюбова, который он использовал при полной харак-
теристике реалистического направления.
Наконец, отмечались писатели, по таланту незначительные,
но наиболее тесно связанные с народно-антикрепостнической те-
мой (М. Вовчок, Славутинский). Нужно было появление под-
линного гения, который бы поднял общий художественный уро-
вень этой литературы и связал бы ее с передовой критикой.
Добролюбов гипотетически уже рисовал образ «злобивого» поэ-
та, смелого в битвах и великого как художника. Фактически
таким поэтом уже был Некрасов, но Добролюбов о нем не мог
говорить полным голосом в «Современнике».
Вдумчиво всматривался критик в новейшие прогрессивные
явления текущей русской литературы и улавливал в них анти-
крепостническое содержание.
Исследователи уже отмечали, что все, и в особенности изве-
стнейшие статьи Добролюбова о классиках современной ему ли-
тературы, представляют собой нечто логически стройное, цело-
стный мир взаимно связанных идей.
Все статьи написаны за четыре с небольшим года. Ранее всех
появилась статья о «Губернских очерках» Щедрина (1857). За-
тем «Что такое обломовщина?» (1859), чуть позднее—«Темное
царство» (1859). После этого—«Когда же придет настоящий
день?» (1860) и снова статья об Островском—«Луч света в
темпом царстве» (1860). И, наконец, самая последняя статья,
написанная по возвращении из-за границы и опубликованная за
два месяца до смерти автора,— «Забитые люди» (1861). Какая
же внутренняя логика связывает эти статьи?
Главное у Добролюбова в этих статьях — концепция чело-
века, героя времени, смена типов героев времени, разработка
гпиа того «реалиста»-протестанта, который приходит на смену
«мечтателям», идеалистам прежнего поколения. В статьях как
61.1 повторялась та смена типов деятелей, которая произошла в
1<‘пс1 вительности.
Это был перевал в самой общественной жизни, и он отра-
слей в художественной литературе.
Логически первой статьей; с которой надо начинать разбор,
является статья
дц.ш итог истории героя времени из дворян, «лишнего челове-
ка», указывала на обобп^ающ^донятде «рбдрщдащДВД»,
I > а п в ада,, галерею, типов — Онегин.. ...Пааршш,... Бельтов,..., ЕудшЗх..
<>( Юломов» отсекад целый этап исканий русский литературы.__
(’ появлением образа Обломова лишался.прежнего обаяния тот
icpoii, которым долго гордилась русская литература. Да первый
план выступали его паразитические черты.^После такого выво-
да надо было искать что-то новое, это ^ыло время буквально
•»накануне» появления других героев.
239
Добролюбов отнесся к роману Гончарова как к счастливой
находке. Роман вышел в «Отечественных записках» в апреле
1859 года, а в мае того же года в «Современнике» появилась
Статья Добролюбова.
Роман Гончарова—«знамение времени»1. Тип «лишнего че-
ловека» не новый в русской литературе, но никто еще не вы-
ставлял его так просто и естественно. Это не значит, что образ
Обломова художественно выше образов Онегина или Печорина.
Речь идет о превосходстве в раскрытии инертности, апатии, бар-
ства, нравственного рабства. В романе Гончарова все черты
сгруппировались вокруг одного качества героя—«обломов-
щины».
И тут помогал делу своеобразный склад таланта Гончарова.
Писатель не руководствуется никакими теоретическими преду-
беждениями и заданными идеями: он прежде всего художник,
умеющий остановить «летучее явление жизни во всей его полно-
те и свежести и держать его перед собою до тех пор, пока оно
не сделается полной принадлежностью художника»2. Добролю-
бов колебался, не зная, как отнестись к этой бесстрастной полно-
те художнического созерцания. Но непосредственный эффект
романа был слишком очевиден. Значит, талант писателя затра-
чен на общественно важное дело.
Сопоставление Обломова с другими типами «лишних лю-
дей» сделано о ролюбовым вГ двух планЯЗС “——-------
Он выделяет в образах О неги н аГТГёчорин а. Ру, ина — при
всей разнице между ними —«обломовские» черты. Это просле-
живается по оттенкам отношения ко всякому_додгу л делу, люб-
ви, браку. Добролюбов указывал., как можно отыскать эти ти-
пы в самой жизни. И в то же время Добролюбов выделял в
жизни Обломова «онегинские» и «рудинские» черты.
Обломовщина под пером романиста, указывает критик, озна-
чает „большее,_чем разоблачение русского дворянства середины
прошлого века. Это художественно-социологическое обобщение
паразитизма всех тунеядствующих классов. Но в каком же
смысле Добролюбов говорил: Обломов—«это коренной, народ-
ный наш тип»?3 Добролюбов вовсе не хотел объявить русский
народ нацией обломовых. Но гончаровский образ' заставлял
вспомнить о некоторой инертности не только «лишних людей»—
Онегина, Рудина, но и самого народа в эпоху крепостничества.
Народ-труженик не может быть лежебокой. Но исторически сло-
жившаяся пассивность его, которую демократы страстно хотели
преодолеть, заставляла, например Чернышевского, говорить «о
нации рабов», а Н. Успенского — о бестолковости, темноте, за-
битости народа, Щедрина — о «глуповцах». Обломовщина много-
лика: собственно помещичья обломовщина, обломовщина как
‘Добролюбов Н. А. Собр. соч.— Т. 4.—-С. 314.
2 Та м же.— С. 310.
3 Там же.— С. 314,
240
влияние господ на все другие сословия, обломовщина среди на-
рода как недостаток, появившийся в условиях крепостного раб-
ства. Истинная любовь к народу позволяет критику считать об-
ломовщину социальным злом. Думается, в этом критическом,
активно революционном смысле и нужно трактовать вышепри-
веденную формулу Добролюбова.
Раскрыв Обломова и обломовщину под их разными одежда-
ми, Добролюбов тут же переходил к «газетным вопросам дня»
и делал «применения» гончаровского образа к живым типам
общественной жизни.
Итак, образ Обломова был осмыслен в свете литературной
традиции как завершающее звено галереи «лишних людей» и
в перспективе жизни, дальнейшей борьбы с крепостнической и
либерально-буржуазной обломовщиной.
Добролюбов не согласился с выводом Гончарова—«...про-
щай, Обломовка, ты дожила свой век»—как с неоправданным
оптимизмом. Обломовка еще живуча, она еще не умерла, с ней
предстоит длительная, жестокая борьба. Наиболее. резкие заме-
чадщя.были высказаны критиком пи поводу образа Штольца.
Литература не может забегать слишком далеко вперед. Если
старая «загадка разрешилась» и источник всех зол—«обломов-
щина»— найден, то образ Штольца вовсе не был ответом на
вопрос русских писателей: «Кто же скажет России всемогущее
слово «вперед!»?» Штольц не дорос еще до идеала обществен-
ного русского деятеля и в настоящей полезной деятельности не
показан. Добролюбов обращает внимание на духовную ограни-
ченность Штольца, она явно выступает в его разговоре с Оль-
гой: «Мы не пойдем с Манфредами и Фаустами,— говорит он,—
на дерзкую борьбу с мятежными вопросами... смиренно пережи-
вем трудную минуту...».
Яркий образ Ольги позволял создать кольцевую замкнутость
в характеристике «обломовщины». Добролюбов хорошо уловил_________
некоторую идеальность образа Ольги. У нее полная гармония
между умом и сердцем. Ей казалось, что у нее хватит сил пере-
воспитать Обломова. В рационализме рассуждений Ольги чув-
ствуется барышня 60-х годов: «Теперь я вас люблю, и мне хоро-
ню; а после я полюблю другого, и, значит, мне с другим будет
хорошо. Напрасно вы обо мне беспокоитесь»1, .Эта проедшя
и ясность мышления отмечаются Д$б олюбовым как задатки
повой жизни- Ольга допытывается ответа на вопрос о смысле
жизни и у Штольца; она не будет счастлива со Штольцем: «Об-
ломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее во всех
видах, под всеми масками и всегда найдет в себе столько сил,
чтоб произнести над нею суд беспощадный...»2. Таким образом,
«обломовщина» раскрывалась критиком с различных сторон на * 8
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч.— Т, 4.— С. 342,
8 Т а м ж е.— С. 343.
1ft Заказ № 1367
241
основе мотивов и образов самого романа. Гончаров придумал
Штольца по контрасту с Обломовым, а Добролюбов показал,
что Штольц тот we Об помов ------——
Следующим звеном в оценках Добролюбовым современной
литературы с ее положительными исканиями была статья «Когда
же придет настоящий день?».
Тургенев принадлежал к тем наблюдателям жизни русской
интеллигенции, которые создавали образы «лишних людей». Да-
же сам этот термин ввел в употребление именно Тургенев в
«Дневнике лишнего человека» (1850). Герои его произведений —
Рудин, отчасти Лаврецкий — были продолжением линии обра-
зов, намеченной Пушкиным, Лермонтовым, Герценом. Но в «На-
кануне» сам Тургенев словно почувствовал исчерпанность ста-
рого материала, решил создать новый образ активного борца.
В этом романе тенями предшествовавших героев являются Шу-
бин и Берсенев, а в образах Елены и Инсарова намечены ге-
рои, которые живут великой жаждой идти «вперед».
Инсаров — болгарин, мечтающий освободить свою страну от
турецкого гнета. Субъективно Тургенев пока ничего другого по-
казать не смог, хотя в своем окружении сталкивался с людьми
нового типа. Но с ними вскоре рассорился, унеся лишь ощущение
их принципиальной новизны... Добролюбов в самом заглавии
статьи спрашивал: когда же появятся русские Инсаровы? Или
им нет дела в России, разве мало у нас врагов, внутренних?
Добролюбов намечал уже новые перспективы реализма и ге-
роики, которым не во всем удовлетворял Тургенев даже в «На-
кануне». Добролюбов жаждет «героической эпопеи» с более
широким миром героев, их столкновений, коллизий, которых еще
не знал русский и зарубежный роман. Молодой России свойст-
венно желание «деятельного добра», но «что делать?»—она не
знает. И она ждет, чтобы кто-нибудь объявил, «что делать?».
Не явится ли завтра тот, кто скажет нам, «как делать добро?».
Известно, что несколько позднее Чернышевский и сказал это
«всемогущее слово «вперед!» своим романом «Что делать?».
Тургенев не был согласен с революционным толкованием
тенденций своего романа, тем публицистическим домысливани-
ем перспектив, которые позволил себе Добролюбов. Это было
причиной разрыва Тургенева с «Современником».
Когда вышел роман «Отцы и дети», современники заметили
некоторое внешнее и внутреннее сходство между Базаровым и
Добролюбовым. В исследовательской литературе называется
длинный ряд возможных прототипов Базарова. Но думается, что
стержень замысла надо искать в пережитой Тургеневым идео-
логической драме в момент его разрыва с «Современником».
Принципиальный ответ на вопрос можно найти, сопоставляя
роман «Отцы и дети» со статьями Добролюбова «Литературные
мелочи прошлого года» (1859), «Когда же придет настоящий
день?» (1860) и др.
242
Громкое слово «нигилизм» было вовсе не изобретением Тур-
генева, хотя он популяризировал его своим романом «Отцы и
дети». Это слово трижды громко обнародовал в «Современнике»
Добролюбов в упоминавшемся отзыве о малоизвестной книге
В. Бервн, «ругавшего» этим словом молодое поколение. Это бы-
ло за четыре года до романа Тургенева. Знаменитое словцо Пав-
ла Петровича Кирсанова «принсипы» также упоминается в ста-
тье «Литературные мелочи прошлого года».
Сопоставление Добролюбова с Базаровым вовсе не должно
служить полному отождествлению их. Нигилистом в вульгарном,
базаровском смысле Добролюбов никогда не был. Важно осо-
знать, как велико было влияние отдельных черт Добролюбова и
его статей на Тургенева. Конфликт с «Современником» не от-
вел Тургенева от злободневной темы, а, наоборот, навел на нее.
Гончаров и Тургенев были «отцами», людьми предшествую-
щего поколения. Приемы анализа их произведений во многом
традиционны у Добролюбова.
Совершенно новым явлением, требующим новых приемов
анализа, был Островский. Тут и самый подход к оценке изме-
нился у Добролюбова. Критик строил на осмыслении произведе-
ний Островского новые разделы своей эстетики и оправдывал
все неожиданные алогизмы его поэтической системы. «Движу-
щаяся эстетика» явно приспосабливалась к новому художест-
венному факту.
Ситуация сложилась так, что, хотя эффект в литературе Ост-
ровский произвел большой, никто из критиков еще не дал пол-
ной характеристики его таланта и даже не указал на особен-
ные черты его произведений. Критика вообще не поняла его
новаторства: «Его хотели непременно сделать представителем
известного рода убеждений»1. Добролюбов намекал на нео-
славянофилов Аполлона Григорьева, Тертия Филиппова из «Мо-
сквитянина», пытавшихся повлиять на Островского в своем
духе. Добролюбов возражал против восхваления Любима Торцо-
ва, героя комедии «Бедность не порок», как выразителя «народ-
ности» Островского.
Но Добролюбов был не совсем согласен и с отзывом Черны-
шевского о комедии «Бедность не порок». Добролюбов не при-
писывал самому Островскому тех истолкований его пьес, кото-
рые делались неославянофилами, и прямо извинял его отдельные
промахи. Ничто не могло уничтожить у Островского чувства
действительной жизни, и это хорошо понял Добролюбов.
Критики отмечали у Островского дар наблюдательности. Но
у какого писателя его нет? Меткость народного языка, обыден-
ность характера у него хвалили, недостатки экономии в плане и
построении пьес, случайность развязок порицали.
Новое, еще не отмеченное и впервые указанное Добролюбо-
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч.— Т. 5.— С. 16.
16*
243
вым в статье «Темное царство», заключалось в следующем. Ос-
тровский умеет отличать натуру от всех извне принятых уродств
и наростов. Его типы имеют черты не только исключительно
людей купеческого или чиновнического звания, но и общенарод-
ные черты. Островский не просто бытописатель определенного
сословия. Он великий художник, обобщающий огромный мате-
риал. Он изображает главным образом два рода общественных
отношений: семейные и имущественные. Коллизии у него встре-
чаются трех типов: столкновение младших со старшими, бедных
с богатыми и безответных со своевольными. Все вместе эти от-
ношения характеризуют то, что можно обобщенно назвать «тем-
ным царством». Где же взять здесь неслучайность, «разумность»
развязок? Островский изображает «неестественность» отноше-
ний, происходящих вследствие самодурства одних и бесправия
других. Темное царство — это мир случайностей, неожиданно-
стей ’.
I/ А в следующей статье, «Луч света в темном царстве», Доб-
ролюбов указал на еще одну сугубо индивидуальную особен-
ность Островского: у Островского «вы находите не только нрав-
ственную, но и житейскую, экономическую сторону вопроса, а
в этом-то и сущность дела. У него вы ясно видите, как самодур-
ство опирается на толстой мошне... и как безответность людей
перед ним определяется материальною от него зависимостью...»2.
И это качество поэтики Островского является большим достиже-
нием всего русского реализма. Материально-житейская обуслов-
ленность образов Островского не мешает им иметь сложный и
глубокий психологический рисунок.
Внимание, уделяемое Островским натуре, естественным свой-
ствам людей, имеет в глазах Добролюбова двойной новаторский
смысл. Во-первых, под естественностью кроются своевольные
начала, и нередко они были формой выражения определенных
социальных идеалов героев. «Мерою достоинства писателя или
отдельного произведения мы принимаем то, насколько служат
они выражением естественных стремлений известного времени и
народа»3. Под выражением «естественные стремления» кроется
не только антропологическое понимание Добролюбовым сущно-
сти человека, но и антикрепостническая программа, желание ос-
вободить человека от социальных оков. Во-вторых, естествен-
ность имеет еще и тот смысл, что она является органическим,
не испорченным никакой рефлексией свойством массы, народа,
среднего слоя, способных по наитию решительно действовать.
Рудин, Инсаров выглядят «искусственными» героями, выпесто-
ванными в образованных верхах общества. И они ничего не до-
бились. Островский решает проблему общественного протеста
с другого конца, со стороны возможностей протеста людей из
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч.— Т, 5.— С. 26—30.
2 Т а м ж е.— Т. 6.— С. 320.
3 Т а м ж е.— С. 307.
244
массы народа. В этом было также «знамение времени». Протест
забитых означал многое. Он стихиен и неукротим. Двинулась на
борьбу неисчислимая масса людей. По логике Добролюбова, это
исходный пункт для совсем другого отсчета успехов в построе-
нии типологии литературных героев. Это не кривая, восходящая
от Рудина к Инсарову и даже, может быть, к Базарову (а по
женской линии от Татьяны к Елене и Ольге), а начало совсем
новой линии изображения демократического героя, в конечном
счете ведущей к изображению народных масс как героя истории.
Буквально жаждой отыскания «лучей света» в «темном цар-
стве» пронизаны все добролюбовские анализы Островского. «Пе-
чально,— правда; но что же делать? Мы должны сознаться: вы-
хода из «темного царства» мы не нашли в произведениях Ост-
ровского... Выхода же надо искать в самой жизни...»*.
Характер Катерины в «Грозе», отмечал Добролюбов, «со-
ставляет шаг вперед не только в драматической деятельности
Островского, но и во всей нашей литературе». В «Грозе» есть
даже «что-то освежающее и ободряющее»1 2. Конечно, Катерина
мопсе сознательно выступает с протестом, чем Елена или Ольга.
Если подходить с формальной меркой прогрессивности, как это
сделал Писарев, то Катерина — шаг назад по сравнению с преж-
ними героинями. Но Добролюбов обратил внимание на существо
вопроса, на то, из какого слоя вышла Катерина, сколько препят-
ствий ей пришлось преодолеть в борьбе за свои человеческие
нрава. Здесь даже акценты анализа сместились с раскрытия
убеждений героини па се натуру, с активной борьбы в привыч-
ном смысле к такой пассивной форме протеста, как самоубийст-
во. 11 во всем этом Добролюбов разглядел глубокий смысл.
Пьесы Островского нс пьесы интриги, и даже не пьесы ха-
рактеров, это—«пьесы жизни». Нельзя было лучше выразить
демократизацию литературы в ее жанрах, стремлениях, поис-
ках положительного героя. Как сказал бы позднее народник
Михайловский, Катерина по «степени» своей развитости, интел-
лекта ниже прежних героев из дворян, но по «типу» она их
выше. Тип этот — народный. Недаром Добролюбов акцентиро-
вал в конце разбора следующее: «Вот высота, до которой дохо-
дит наша народная жизнь в своем развитии...»
Заключительным звеном в критической концепции Добролю-
бова была его статья о Достоевском «Забитые люди», в кото-
рой разбирался роман «Униженные и оскорбленные». Критик
усилил моменты, характеризующие другое «темное царство». Ис-
кать «лучи» в нем было еще труднее, чем в «царстве» у Ост-
ровского. Но Достоевский был тем писателем, который выражал
«боль о человеке», изображал низы, городскую бедноту, та-
ившую в себе гнев и ненависть. Это была также «высота», до
которой могла подняться народная жизнь.
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч.— Т. 5.— С. 135.
2 Т а м ж е.— Т. 6.— С. 334.
' '245
Добролюбов назвал Достоевского одним из замечательней-
ших русских писателей. По направлению своего таланта Досто-
евский— гуманист. Но отношение Добролюбова к Достоевскому
сильно отличается от его отношения к Гончарову, Тургеневу и
Островскому. Достоевский импонирует ему социальной силой
своего творчества, вниманием к маленьким людям. Но отвраща-
ет от него болезненная углубленность в психологизм, неясность
перспектив в трактовке зла и общественных ненормальностей.
Винит критик Достоевского и за нечетко проводимое объясне-
ние причин измельчания забитых людей, их сумасшествия, раз-
двоения.
Отчего же Макар Девушкин «прячется», скрывается, трепе-
щет, беспрерывно стыдится за свою жизнь, в которой он вовсе
не виноват? Отчего так же ведут себя Горшков, Голядкин, Шум-
ков, Неточна, Нелли? Где причины всех этих диких, поразитель-
но странных людских отношений? Исчерпывающего, незамутнен-
ного ответа у Достоевского на этот вопрос нет. Мы должны его
сделать сами.
Но дело не только в неясности трактовок героев. И за Ост-
ровского иногда приходилось делать выводы. Тут все сложнее.
Люди, человеческое достоинство которых оскорблено, явля-
ются у Достоевского в двух главных типах: кротком и ожесто-
ченном. Нечто подобное отмечалось и у Островского: у него лю-
ди делятся на безответных и своевольных. Достоевский более
досконально разработал эту проблему, но и привнес в ее реше-
ние нечто такое, что позднее назовется «достоевщиной». Среди
кротких есть подразряд людей, заменивших недостающее им
сознание своего человеческого права условной фикцией условно-
го права. Они бережно хранят эту фикцию, становясь щепетиль-
ными, амбициозными. Излюбленными, встречающимися во всех
произведениях Достоевского являются образы болезненного, ра-
но созревшего самолюбивого ребенка, тихой, чистой, нравствен-
ной девушки, подозрительного человека, сходящего с ума, без-
душного циника. Все это Достоевский изображал мастерски, но
недостаточно ясно давал, как казалось, социологическое объяс-
нение патологических явлений жизни. Является ли «двойниче-
ство» героев Достоевского формой протеста? Добролюбов со-
мневался в этом. Протест героев Достоевского напоминает са-
моубийство без борьбы, безропотное смирение и терпение.
Добролюбов не мог, конечно, удовлетвориться тем, что раз-
личные писатели-художники давали ему только правдивые ма-
териалы о жизни, а выводы он должен был всегда делать сам.
Ему хотелось и прямого, демократического искусства, сознаю-
щего свои цели. И он нашел его в Щедрине. Этот писатель был
наиболее идейно близок Добролюбову.
В русской литературе родились рассказы в особом «щедрин-
ском роде». Щедрин не сходил с арены обличительства, направ-
ляя стрелы сатиры против либерального лагеря, так как эти
246
прогрессисты «играли не внутренностями, а кожей». Эту стой-
кость Щедрина Добролюбов отмечал в специальной статье об
отдельном издании «Губернских очерков» (1858) и вернулся к
пей в статье «Забитые люди». При этом подчеркивалось, что
для сатирика важен не сам по себе чиновный мир, а обличение
среды, общественных условий, порождающих «крапивное семя».
Высоко был оценен Добролюбовым вклад Щедрина в обличе-
ние «талантливых натур» в «Губернских очерках», в развенчание
«лишних людей», вылинявших Печориных, провинциальных
Гамлетов. Щедрин высмеивал галерею лишних, или, как он сам
сказал, «неуместных» людей, так называемых «талантливых»
натур: образы Корепанова, Лузгина, Горехвастова. Щедрин
отыскивал в них «обломовские» черты.
Важнейшая особенность щедринского творчества заключа-
лась в его своеобразной, подлинно демократической народно-
сти. Он восполнял то, чего так существенно литературе не хва-
тало. Его отрицание господствующего меньшинства, уже тогда
беспощадное на фоне всей литературы, было народным в своем
существе. Бросалась в глаза любовь Щедрина «ко всему све-
жему, здоровому» в народе. Здесь-то и загорались «лучи» бу-
дущего России. Все эти решающие выводы Добролюбов сделал
па основе «Губернских очерков».
Критик мечтал о новом поэте, который бы объединил в себе
черты Пушкина и Лермонтова и проникся бы идеями того де-
мократизма, которому был верен сам Добролюбов. Мыслью об
лом идеале поэта, который все больше начинал сливаться у
Добролюбова с образом Некрасова, и замыкалась вся цепь исто-
рию» литера гурных построений критика. Они соответствовали
логике социальной борьбы и типологических расслоений внутри
критического реализма 60-х годов.
ГЛАВА 4
Д. И. Писарев
Дмитрий Иванович Писарев (1840—1868) по праву считается
* третьим», после Чернышевского и Добролюбова, великим рус-
ским критиком-шестидесятником. То, что он в «Русском слове»
(1861—1866) время от времени полемизировал с «Современни-
ком», нисколько не меняет основного представления о нем как
1сорстике и защитнике реалистического направления в русской
литературе. Писарев глубоко ценил произведения Чернышев-
ского, Тургенева, Л. Толстого, Достоевского, Помяловского, Не-
красова, Писемского, Гончарова, Слепцова, боролся за материа-
листическую эстетику, против реакции и «чистого искусства».
11очти во всех столкновениях с «Современником» был неправ
Писарев. Много лишнего задора и парадоксов в полемику вно-
( пли со стороны «Русского слова» В. А. Зайцев, а со стороны
247
«Современника»—М. А. Антонович. Нельзя забывать, что Доб-
ролюбов и Чернышевский, когда вполне развернулась критиче-
ская деятельность Писарева, уже не стояли у руководства «Со-
временника» (Добролюбов умер в ноябре 1861 года, а Черны-
шевский в июне 1862 года был арестован).
Писарев также был арестован в июле 1862 года и пробыл в
заключении до 1866 года, продолжая сотрудничать в «Русском
слове» и присылая иЗ Петропавловской крепости свои статьи,
среди которых были и такие выдающиеся, как «Базаров», «Реа-
листы», «Мыслящий пролетариат» и др. В 1866 году, после вы-
стрела Каракозова, когда началась реакция, были закрыты
«Современник» и «Русское слово».
Выйдя на свободу, Писарев не захотел сближаться с
Г. Е. Благосветловым, издававшим теперь журнал «Дело». Тра-
диции «Современника», возродившиеся в «Отечественных запис-
ках», казались Писареву более близкими, и последние полгода
своей жизни он сотрудничал в этом журнале. За это время Пи-
сарев написал немного статей: «Французский крестьянин в
1789 году», «Старое барство», «Романы Андре Лео», «Образо-
вание и толпа» и «Очерки из истории европейских народов». Но
эти статьи и завязывавшиеся личные отношения с Некрасовым
и Щедриным свидетельствовали, что намечался новый период
деятельности Писарева. Критик переживал кризис некоторых
своих старых убеждений, преодолевал нигилистическое отноше-
ние к «эстетике», необоснованные упования на решающее зна-
чение в истории критически мыслящих личностей. Писарев стал
с большим вниманием относиться к вопросу о роли народных
масс в истории, к великим общественным переворотам.
На протяжении всей своей деятельности Писарев тянулся
ко всему новому, смелому, дерзкому, что резко противоречило
господствующим политическим и моральным устоям. Все время
у него было острое ощущение великой трагедии: парод темей,
безграмотен, а кипучая деятельность, в которой он, Писарев,
сам участвовал, затрагивала только верхний слой, слабо про-
никала в глубины народа. «Наш народ,— писал он, окидывая
весь объем предстоящей просветительской работы,— конечно, не
знает того, что о нем пишут и рассуждают, и, вероятно, еще лет
тридцать не узнает об этом» («Схоластика XIX века»). Сбли-
жение с народом он считал «великой задачей времени»1.
Весьма определенны были его требования устранить самодер-
жавный строй, петербургскую бюрократию, династию Романо-
вых. Он написал смелую статью-прокламацию о брошюре цар-
ского агента барона Фиркса, выступавшего под псевдонимом
Шедо Ферроти против Герцена-эмигранта с целью его дискре-
дитации. Прокламация не увидела света, так как подпольная
типография, куда она была сдана, подверглась разгрому, и Пи-
1 Писарев Д. И. Соч.— М., 1955.— Т. 1.— С. 99.
248
сарев был посажен в Петропавловскую крепость. В проклама-
ции содержался прямой революционный призыв: «Низвержение
благополучно царствующей династии Романовых и изменение
политического и общественного строя составляет единственную
цель и надежду всех честных граждан России»1. Примирения
в этой борьбе не может быть: «На стороне правительства стоят
только негодяи ... На стороне народа стоит все, что молодо и
свежо, все, что способно мыслить и действовать»2.
Писарев понимал, что в России существует антагонизм между
имущими и неимущими классами. На Западе также мало уте-
шительного, там тысячи рабочих рук находятся в полном рас-
поряжении капиталистов. Писарев нападал на ученых-лакеев,
па лживую политэкономию, бесчеловечную теорию Мальтуса.
Писарев рисовал неравенство в виде социальной пирамиды, как
у Сен-Симона, и верил, что когда-нибудь «пирамида рухнет и
превратится в безобразную кучу мусора»3.
Важно отметить, что социалистическая мечта не облекается
у Писарева в какую-либо из форм западного буржуазного со-
циализма или в форму русского общинного социализма, уже за-
рождавшегося народничества, выступившего через год после
смерти критика с развернутыми манифестами. Писарев предпо-
чел остаться трезвым скептиком по отношению ко всем «универ-
сальным лекарствам». Впрочем, и Писарев не избежал некото-
рых иллюзий, но они у него приняли совершенно оригиналь-
ный вид.
Его иллюзии отразились в статье «Исторические идеи Огю-
ста Копта» (1865). Писарев поддержал некоторые идеи одного
пл самых слабых, самых идеалистических произведений пози-
гнвпега О. Копта—«Курса положительной политики».
Увлекающий и увлекающийся Писарев много раз указывал
па связь своих идей с идеями Белинского, Чернышевского, Доб-
ролюбова, и эти связи действительно были. Но в то же время
<>п считал, что не обязательно поклоняться «учителям». Каж-
1ЫЙ деятель хорош в свое время. Если бы свести Добролюбова
<• Белинским, говорил он, они разошлись бы по многим пунктам.
I ели бы он сам, Писарев, поговорил с Добролюбовым, то «мы
не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте» («Реалисты»)4.
Писарев слишком торопился доказывать эту мысль. Скорее
можно предположить обратное: при встрече великие критики со-
шлись бы во мнениях по большинству вопросов. Во всяком слу-
чае, вся их историческая деятельность выглядит как деятель-
ность людей, солидарных в главных идеях.
Поколения 60—70-х годов запомнили Писарева как исключи-
юльно остроумного, немного склонного к парадоксам, но горяче-
1 Писарев Д. И. Соч.— Т. 2.— С. 125.
2 Т а м ж е.— С. 126.
3 Та м ж е.— С. 330.
4 Т а м ж е.— Т. 3.— С. 35.
249
го и убежденного пропагандиста материализма. В статьях «Схо-
ластика XIX века», «Идеализм Платона», «Наша университет-
ская наука», «Физиологические эскизы Молешотта» он дока-
зывал необходимость единства духовной и физической жизни
людей, преодоления разрыва между умственным и физическим
трудом, развития гармонического человека. Он ратовал за про-
свещение самых широких масс народа, выступал против религии
и всякого рода предрассудков. Никогда еще проблема женской
эмансипации в России не имела такого умного, блестящего за-
щитника, как Писарев. О влиянии статей Писарева, самого их
задорного тона, щедро рассыпанных в них афоризмов, убийст-
венных сравнений свидетельствовали в своих письмах и мемуа-
рах многие писатели, журналисты, ученые.
В «Схоластике XIX века» Писарев заявил о своей полной
солидарности с материализмом Чернышевского. В этой статье
он высказал убеждение, что «ни одна философия в мире не при-
вьется к русскому уму так прочно и так легко, как современный,
здоровый и свежий материализм»1.
Символами идеализма, априоризма, игнорирующего всякое
опытное знание, для Писарева были Платон, Шеллинг и Гегель.
Идеализм тяготел над Рудиными и Чулкатуриными прошлого
поколения; он породил «наших грызунов и гамлетиков, людей с
ограниченными умственными средствами и бесконечными стрем-
лениями»2. Параллель у Писарева в основном верная, запоми-
нающаяся, она восходит к сопоставлениям в самом романе об-
раза Рудина с Шеллингом и Гегелем, которых Рудин «изучал»,
«исповедовал» в студенческом кружке (Тургенев имел в виду в
качестве прообраза кружок Станкевича). Писареву важно было
выявить разновидности русских «нереалистов», донкихотов, и од-
ного из них, славянофила Ивана Киреевского, он вывел в спе-
циальной едкой статье «О Шеллинге и Гегеле и русском Дон-
Кихоте».
На другом полюсе у Писарева стояли Аристотель и совре-
менные материалисты, которым следовало подражать во всем.
Писарев поклонялся Молсшотту, тому самому, которого, наряду
с К- Фохтом и другими физиологами середины XIX века, Ф. Эн-
гельс назвал «разносчиками дешевого материализма». Все они
стояли ниже Фейербаха, «учителя» Чернышевского.
Писарев в запальчивости назвал «литературным подлогом»
выпады против него С. С. Дудышкина в «Отечественных запис-
ках», который с насмешкой указывал, что Писарев в статье
«Физиологические эскизы Молешотта» слишком прямолинейно
проводил связь между пищеварением людей и их национальным
самосознанием. Писарев с презрением отвел некоторые припи-
сываемые ему натяжки, например, будто страстный характер
1 Писарев Д. И. Соч.— Т. 1.— С. 118.
2 Там же.— С. 81.
250
английской революции эпохи Кромвеля зависел от распростра-
нения возбуждающего кофе, а характер немецкой Реформации —
от введения чая.
Но странное дело, все же нечто подобное Писарев говорил.
Демонстрируя на примерах связь между духом и телом, он за-
являл, что пища влияет «на темперамент, на направление и дея-
тельность мысли, словом, на весь нравственный и интеллекту-
альных характер человека», «логика и практическая философия
народа всего заметнее могут измениться от того, что один нар-
котический напиток будет заменен другим»1. Совершенно оче-
виден безнадежно упрощенческий смысл таких заявлений. Они
сказались и на построении теории «реализма» у Писарева.
Было еще одно упрощение, которое можно считать попят-
ным движением Писарева от Белинского, Чернышевского и Доб-
ролюбова. Писарев высмеивал занятия диалектикой как «дон-
кихотство». «Кто хоть понаслышке,— писал он,— знаком с фило-
софиею истории Гегеля, тот знает, до каких поразительных край-
ностей может довести даже очень умного человека мания всюду
соваться с законами и всюду вносить симметрию»2. Все богат-
ство диалектики, уже известное русским читателям по статьям
Белинского, Герцена, сведено Писаревым к «симметрии». Писа-
рев с пренебрежением говорил о закономерностях, о детерми-
низме— понятиях, которые с таким трудом вводились в русскую
критику его предшественниками. «Когда я вижу предмет, то не
нуждаюсь в диалектических доказательствах его существова-
ния; ...очевидность есть лучшее ручательство действительности»3.
Воззрения не могут быть нн истинны, ни ложны: есть мое, ваше
воззрение, третье, четвертое...
Отказ от диалектики, к сожалению, не был у Писарева толь-
ко декларативным. Без нее на самом деле обеднялась его мысль,
разоружалась его критика. Всякий, кто понаслышке судил о
диалектике или заменял ее доморощенными законами «симпа-
тии», «антипатии», «симметрии», «контраста», тот сразу ставил
себя в положение дилетанта.
Понижение философской мысли в критике началось с Писа-
рева, который отказывался от Гегеля, игнорировал Фейербаха и
следовал за мыслителями второго сорта: О. Контом, Молешоттом.
Слабые места общефилософских предпосылок у Писарева пере-
крывались тем, что он был блестящим критиком и публицистом;
здесь решающее слово было за важными вопросами самой жиз-
ни, за емкими образами русской литературы, которые он анали-
зировал, толковал, пропагандировал. Тем самым он входил в
। ушу общественных антагонизмов и был стихийным диалек-
I пком...
1 Писарев Д. И. Соч.— Т. 1.— С. 382.
2 Там же.— С. 121.
3 Т а м ж е.— С. 123.
251
Общеэстетические взгляды Писарева принципиально совпа-
дали с добролюбовской теорией «реальной критики».
Нельзя буквально понимать смысл названия статьи Писарева
«Разрушение эстетики» (1865) и особенно его полемическую
фразеологию и терминологию. Он разрушал ту «эстетику», кото-
рую сам же в борьбе с либералами и снобами превратил в си-
ноним рутины, идеализма, сибаритства. Но подлинную эстетику
он не разрушал, а строил. Иначе он не мог бы так правильно,
вдумчиво, наперекор многим враждебным мнениям, оценить
«Отцов и детей» Тургенева, «Что делать?» Чернышевского, «Ме-
щанское счастье», «Молотов», «Очерки бурсы» Помяловского,
«Трудное время» Слепцова, тонко и справедливо разобрать «За-
писки из Мертвого дома», «Преступление и наказание» Достоев-
ского, «Детство», «Отрочество» и первую часть «Войны и мира»
Л. Толстого, сделать сопоставительный анализ творчества Пи-
семского, Тургенева и Гончарова.
Задачей реалистической критики Писарев считал отбор из
массы произведений того, что «может содействовать нашему
умственному развитию». Действительно, это одна из задач кри-
тики. Вопрос только в том, что понимать под «умственным раз-
витием». Это как раз одна из «абстракций» у самого Писарева,
ее-то и следовало бы уточнить. И еще была одна абстракция:
что такое «наше» умственное развитие? Писарев всегда суммар-
но говорит о «народе», о «поколении», о «времени», о «наших»
задачах. Современники могли, конечно, вкладывать в эти поня-
тия конкретный смысл, но теоретически они были слишком зыб-
ки, отвлеченны.
Главный тезис Писарева относительно эстетики заключался
в следующем: эстетика как наука о прекрасном при дальней-
шем развитии знаний должна исчезнуть, раствориться в физио-
логии. Писарев считал, что кредит поэтов сильно падает, пикт о
теперь не верит в «бессознательность» их творчества, жизнь тре-
бует, чтобы «от сладких звуков и молитв» поэты перешли в «мир
корысти и битв». Поэзия в «смысле стиходелания» клонится к
упадку после Пушкина. Уже Белинский нанес удар по поэзии,
прославив беллетристику «натуральной школы». Теперь, счи-
тает Писарев, остается только «добить» и беллетристику. Ее на-
до заменить ясно написанными, дельными научными статьями.
Это было бы великим шагом вперед, так как «серьезное иссле-
дование, написанное ясно и увлекательно» об «интересном воп-
росе», «гораздо лучше и полнее, чем рассказ, придуманный на
эту тему и обставленный ненужными подробностями и неизбеж-
ными уклонениями от главного сюжета»1. Оставалось неясным:
почему же художественное произведение должно быть с «ненуж-
ными» подробностями, почему же с «уклонениями» от главного?
Писарев советовал всякому неудачливому писателю или критику
1 Писарев Д. И. Соч,— Т. 2.— С. 359—360.
252
вместо художественного творчества, вместо «эстетики» заняться
распространением естественнонаучных знаний. Подобный совет
он давал даже Щедрину. При этом допускалась некоторая уступ-
ка неисправимой «натуре» известных писателей: «пусть» Некра-
сов пишет стихи, если уж не может иначе; «пусть» Тургенев
изображает Базарова, если бессилен его объяснить; а Черны-
шевский «пусть» пишет роман, если не хочет писать трактаты
по физиологии общества. Вреда ведь не будет: этим людям есть
что сказать, и искусство «для некоторых читателей и особенно
читательниц все еще сохраняет кое-какие бледные лучи своего
ложного ореола» («Цветы невинного юмора»). Как Добролю-
бов ручался, что у Белинского дело пошло бы еще лучше, брось
он критику и эстетику и займись распространением естество-
знания, так и Писарев выражал уверенность, что Добролюбов,
будь он жив, «первый бы понял и оценил необходимость пере-
хода от литературы к науке» и сам занялся бы «популяризова-
нном европейских идей естествознания и антропологии».
Писарев рассматривал писателей в качестве «полезных» по-
средников между мыслителями, добывающими истины, и полу-
образованной толпой. За это он ценил Диккенса, Теккерея, Трол-
лопа, Ж- Санд, Гюго и некоторых русских писателей. Они—«по-
пуляризаторы разумных идей по части психологии и физиологии
общества» («Цветы невинного юмора»).
Роль литературы Писарев представлял себе как чисто иллю-
стративную, популяризаторскую: сама она истин не открывает.
Мы помним, что упрощение этого вопроса встречается у Черны-
шевского и Добролюбова. Писарев шел еще дальше: «Если бы
Шекспир,— заявлял Писарев,— не написал «Отелло» и «Мак-
бета», то, конечно, трагедии «Отелло» и «Макбет» не сущест-
вовали бы, но те чувства и страсти человеческой природы, кото-
рые разоблачают нам эти трагедии, несомненно, были бы изве-
стны людям как из жизни, так и из других литературных про-
изведений, и притом были бы известны так же хорошо, как они
известны нам теперь. Шекспир придал этим чувствам и страстям
только индивидуальную форму»’. То есть Шекспир мог бы и не
родиться...
Перейдем к другим, более частным проблемам критики, ре-
шавшимся Писаревым.
Писарев был недоволен узкими пределами современного ро-
мана. Он жаловался, что литература изображала только жизнь
дворянства. Из десятилетия в десятилетие герои берутся из од-
ного сословия: Печорин, Бельтов, Лаврецкий. Главное внимание
в романах сосредоточено на переживаниях личности, а не на
структуре общества, психологический анализ заслонил анализ
социологический. На первом плане всегда любовь, действие про-
исходит обыкновенно внутри семьи и почти никогда не приво-
1 Писарев Д. И. Соч.— Т. 2.— С. 241,
253
дится в связь с каким-нибудь общественным вопросом. Эти мыс-
ли Писарева были очень плодотворными, их также развивал и
& Салтыков-Щедрин, Писарев справедливо расценивал жанр со-
временного романа как^гражданСкйй эпос», который вобрал в
себя достижения драмы и'лирттктггТеперь'^уже были невозмож-
ны ни спокойный старинный эпос, ни лирический роман в стихах.
К сожалению, глубже в объяснении этих вопросов Писарев
не пошел. Он сузил представление о содержании романа. По его
понятиям, «незаменимым» роман может быть только в решении
«чисто психологических вопросов»; «напротив того,— утверждал
Писарев,— в решении чисто социальных вопросов роман должен
уступить первое место серьезному исследованию». Никакой поль-
зы Писарев не видел от исторических романов: В. Скотт и Ку-
пер —«усыпители человечества», они уводят «в мертвое прошед-
шее...».
Писарев, как никто, умел высмеивать наивные идеалистиче-
ские представления о «тайнах творчества». Вслед за Добролю-
бовым Писарев использовал анненковские материалы к биогра-
фии Пушкина, чтобы доказать, как упорно великий поэт шли-
фовал язык, перекраивал свои планы и сцены. Писаревское
требование сознательного творчества, высокой идейности было
подлинным продолжением заветов Белинского. Но тут же Писа-
рев ввязался в спор с Белинским, который высмеивал тех, кто
предполагал, что для создания поэтического произведения надо
только «придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее в
придуманную же форму». Писарев совершенно всерьез присое-
динился именно к таким представлениям о творчестве. Он был
склонен доводить свою мысль до полного шаржа: «Поэтом
можно сделаться, точно так же как можно сделаться адвокатом,
профессором, публицистом, сапожником или часовщиком». И все
это Писарев говорил для доказательства очень простой мысли:
вдохновение нужно не только в поэзии, по и во всяком деле...
Писарев теоретически недооценивал обобщающую силу ху-
дожественного образа, выделял в нем только одну сторону —
конкретность, единичность. Он упускал из виду органическую
связь конкретного и общего в образе. Раскрытие связей между
явлениями Писарев считал привилегией только критика, само-
му писателю это делать совсем не обязательно. Когда-то Чер-
нышевский упрекал Гоголя, что тот, великолепно изображая зло
крепостничества, не улавливал связей между всеми этими явле-
ниями. Но Чернышевский считал это только частным случаем,
свойственным именно таланту Гоголя. Другие писатели,— при
этом назывался Щедрин,— улавливают эту связь. Писарев воз-
водил в закон якобы всегда имеющую место ограниченность ху-
дожника. Всю силу ориентировки и диктат «узаконения» Писа-
рев присваивал только критике. Он нарочито декларировал пол-
ную свою свободу как критика: «Вместо того, чтобы говорить
о Писемском, я буду говорить о тех сторонах жизни, которые
254
представляют нам некоторые из его произведений» («Стоячая
вода»). Тогда возникает вопрос: причем тут вообще Писем-
ский, возьмем просто «стороны жизни...».
Всегда, когда идейные позиции автора расходились или не
вполне соответствовали позициям Писарева, выступал на пер-
вый план тот пункт «реальной критики», согласно которому ав-
торская позиция может игнорироваться. Мы это снова видим
в статье «Борьба за жизнь» (1867), в которой разбирается про-
изведение Достоевского «Преступление и наказание»: «Меня
очень мало интересует вопрос о том, к какой партии и к какому
оттенку принадлежит Достоевский, ... если сырые факты, со-
ставляющие основную ткань романа, совершенно правдоподоб-
ны ... то я отношусь к роману так, как я отнесся бы к досто-
верному изложению действительно случившихся событий...».
И снова возникает вопрос: может ли критик всегда абстра-
гироваться от взглядов писателя? Разве не спорит Писарев с
тем, как интерпретирует Достоевский образ нигилиста Расколь-
никова? Ведь Раскольников — всецело создание Достоевского.
Писарев, конечно, не мог нс знать и не принимать в соображе-
ние хотя бы позиции издававшихся писателем журналов «Вре-
мя» и «Эпоха», когда они полемизировали с «Современником»,
а сам Достоевский полемизировал с Добролюбовым и Черны-
шевским.
Мы преднамеренно выбрали статью Писарева о «Преступ-
лении и наказании», чтобы сопоставить ее со статьей Добролю-
бова об «Униженных и оскорбленных». Как сходны и несходны
эти два блестящих образца «реальной критики»! Заявляя, так
же как и Писарев, что он абстрагируется от личных мнений пи-
сателя, Добролюбов все же считал важным, по крайней мере,
те мнения Достоевского, которые вытекают из самих созданных
им образов. Писарев же все упрощал: произведение — только
голый протокол фактов. Реальная критика у Писарева сделала
еще один шаг в сторону упрощенного утилитаризма.
Но в статье «Базаров» (1862) Писарев, явно противореча
самому себе, увлекся точкой зрения Тургенева, как автора «От-
цов и детей». Критика привлекало то, что Тургенев чрезвычайно
верно изобразил современное поколение. Уже одно это распола-
гало к всемерному уважению точки зрения автора романа.
Очень привлекали к себе оттенки образа Базарова. И чтобы
освободить образ от некоторых авторских кривотолков, надо
было разобраться во взглядах Тургенева. Писарев „за метил, что
в «Отцах и детях» освещаются не только "выводимые явления,
но и отношение автора к этим самым явлениям. Тем более надо
было вникнуть в это «отношение». «Отцы и дети» оказывались
не таким «сырым материалом», когда можно было не говорить
о произведении и не интересоваться самим автором. Но в итоге
Писарев «очищал» Базарова от тургеневских «отношений» и со-
здавал своего, нового Базарова. Этим он удвоил силу воздейст-
255
вия образа, в основном домыслив Базарова по логике жизни,
почти не насилуя логику самого произведения.
Приглядимся пристальнее к «реалистическому» методу Пи-
сарева, чтобы лучше понять его критические приговоры.
V Писарев первый широко ввел в публицистику и критику тер-
мин «реализм». До этого времени термин «реализм» употреблял-
ся Герценом в философском значении, в качестве синонима по-
нятия «материализм» (1846). Затем, как мы знаем, Анненков
употребил его в литературоведческом значении, но в несколько
ограниченном смысле (1849).
У Писарева этот термин употреблялся лишь отчасти приме-
нительно к художественной литературе; главным же образом
он применялся для характеристики некоего типа мышления во-
обще, в особенности проявляющегося в более широкой нравст-
венно-практической области. Писарев излагал теорию «реализ-
ма» как кодекс определенного поведения, а молодое поколение
шестидесятых годов воспринимало теорию «реализма» Писаре-
ва как свою практическую программу действий.
Теорию «реализма» Писарев излагает в статьях: «Базаров»
(1862), «Реалисты» (1864), «Мыслящий пролетариат» (1865).
Ему очень хотелось выдать теорию «реализма» в качестве не-
давно зародившегося, оригинального, глубоко русского направ-
ления мысли, такого же, как русский социализм, русское народ-
ничество. Западные пути были уже изведаны, и они принесли
разочарование. И вот выступал особенный русский «реализм
мышления» как норма времени.
"'•Реалист — это человек, который верит только своему прак-
тическому опыту, опирается на очевидные факты, делает из них
прямые выводы и у которого слово не расходится с делом. Реа-
лист отбрасывает от себя все мечтательное, гадательное, апри-
ггрное как проявление слабости, ограниченности и даже лицеме-
рия. Реалист не сворачивает с однажды выбранной дороги, дей-
ствует по убеждению, поэтому готов на самопожертвование.
Главная его цель — распространение в народе и в обществе по-
лезных, здравых, научных знаний и идей и в особенности совре-
менного естествознания, которое уже в себе таит реалистиче-
ские, опытные методы, очевидность, доказательность, оздоров-
ляющие этические начала. Реалист, полный запаса свежей
энергии, умственных сил, отрицательно относится к «эстетике»,
которая символизирует все идеалистическое, бесполезное, отвле-
ченное в мышлении и поведении людей, преимущественно стар-
ших поколений, уже сыгравших свою роль.
Несмотря на частые возвраты Писарева к изложению сущно-
сти своего «реализма» и подчеркнутую конкретность формулиро-
вок «по пунктам», полной ясности он так и не добился. Писарев-
ский «реализм»—это комплекс «качеств» и «долженствований»,
составленный из отдельных положений модного тогда естествен-
нонаучного материализма, просветительства, общественного аль-
256
труизма и, конечно, настоящего невымученного реализма рус-
ской художественной литературы. Эта часть и была самой цен-
ной в писаревской теории «реализма».
Обстоятельно излагая, какими качествами должны обладать
«реалисты», Писарев должен был признаться, что он сам их
черпает главным образом из литературы. Именно русские ро-
манисты сумели отразить приметы времени и нарисовать прав-
дивые типы современного поколения. «Я хотел говорить о рус-
ском реализме,— замечает Писарев,— и свел разговор на от-
рицательное направление в русской литературе... Ведь в самом
деле, только в одной литературе и проявлялось до сих пор хоть
что-нибудь самостоятельное и деятельное...
А где же наши исследователи, где наши практические работ-
ники?..» («Реалисты»).
Сама по себе теория «реализма» не представляла большой
методологической новизны, она была «перепевом» теории Белин-
ского, Чернышевского, Добролюбова, хотя и весьма оригиналь-
ным. Писареву удалось связать в единый комплекс боевые по-
ложения современного ему материализма и демократизма и ув-
лечь ими целое поколение борцов против гнета и насилия. Он
сумел возбудить определенное общественное мнение вокруг этих
вопросов.
Этот общественно-практический реализм сливался у Писаре-
ва в существенных моментах с реализмом художественной лите-
ратуры и образовывал ту призму писаревской «реальной крити-
ки», через которую он рассматривал произведения современной
ему русской литературы.
Полюсы этой литературы Писарев символически обозначал
двумя именами — Некрасова и Фета.
Хотя Некрасов был издателем «Современника», с которым
полемизировало «Русское слово», Писарев независимо от этого
хорошо сознавал значение направления его творчества. Он весь-
ма определенно заявлял о своих симпатиях к поэту: «Некра-
сова, как поэта, я уважаю за его горячее сочувствие к страда-
ниям простого человека, за честное слово, которое он всегда го-
тов замолвить за бедняка и угнетенного»1. Некрасов в основном
соответствовал писаревскому представлению о поэте-демократе,
хотя критик силу его таланта несколько недооценивал.
Па другом полюсе было «чистое искусство». Писарев, ко-
нечно, заострял свою неприязнь к некоторым представителям
этой группы поэтов. Он уверял, что Фет, Полонский, Щербина,
Греков и многие другие «микроскопические поэтики» скоро за-
будутся, так как они ничего не сделали для общества, не обо-
гатили его сознание: «Вы вольны делать, как угодно, но и я, как
читатель и критик, волен обсуживать вашу деятельность, как
мне угодно»* 2.
’ Писарев Д. И. Соч.— Т. 1.— С. 196.
2 Т а м же.
17 Заказ № 1367
257
Пушкин, Лермонтов и Гоголь были для Писарева пройден-
ной ступенью. Он мог ими гордиться, но особо ими не интере-
совался.
Историко-литературная концепция, столь широкая у Белин-
ского, затем суженная у Чернышевского и в особенности у Доб-
ролюбова, у Писарева уже не захватывала даже «гоголевского»
периода. Его уже не волновали проблемы предшествовавшего
поколения писателей. Он считал, что современная литература
только и может по-настоящему осознать свои боевые задачи,
если будет отталкиваться от прошлого, его героев, его эстетики.
Только люди с эстетическим чувством, говорил Писарев, и в его
устах это вовсе не похвала, зачитываются и знают наизусть со-
чинения Пушкина, Лермонтова и Гоголя. «Что же касается до
большинства, то оно или вовсе не читает их, или прочитывает их
один раз, для соблюдения обряда, и потом откладывает в сто-
рону и почти забывает» («Схоластика XIX века»).
Совершенно нарушал Писарев необходимый исторический
подход в статье «Пушкин и Белинский» (1865). Он ставил толь-
ко один вопрос: следует ли нам читать Пушкина сейчас? И от-
вечал отрицательно. Пушкина следует сдать в архив вместе с
Ломоносовым, Державиным, Карамзиным и Жуковским. Пуш-
кин для Писарева — только «великий стилист», «легкомыслен-
ный версификатор». Никакой «энциклопедией русской жизни» и
«актом сознания» для общества роман «Евгений Онегин» не
был. В самом герое, Онегине, ничего передового и симпатич-
ного нет, Татьяна — идеальничающая посредственность.
Судьба героев прошлого определяется Писаревым так: с Оне-
гиным мы не связаны решительно ничем; Бельтов, Чацкий, Ру-
дин лучше Онегина, без них не могло бы быть и нас, это наши
учителя, но их время прошло навсегда с той минуты, как появи-
лись Базаровы, Лопуховы и Рахметовы («Пушкин и Белин-
ский»).
К старшему поколению писателей, которое уже клонится сой-
ти со сцены, Писарев относил Писемского, Тургенева и Гончаро-
ва. О последних двух писателях критик имел возможность до-
вольно объективно высказаться в самый ранний период своей
деятельности в журнале «Рассвет» (1859). Тогда, еще «уважая»
эстетику, Писарев с одобрением отозвался об «Обломове» и
«Дворянском гнезде». Теперь, в «Русском слове», он опублико-
вал статьи сразу о трех писателях в сопоставительном плане:
«Писемский, Тургенев и Гончаров» (1861) и «Женские типы в
романах Писемского, Тургенева и Гончарова» (1861), и судил
о писателях суровее.
Выше всех он поставил Писемского, который казался худож-
ником, ничего не выдумывающим, изображающим дюжинных
людей безжалостно, совершенно трезво. Писемскому критик по-
святил еще одну статью—«Стоячая вода» (1861). Писарева
подкупал «безыскусственный» реализм автора, он не замечал
258
некоторой бескрылости, чрезмерного натурализма произведений
11исемского. Лишь когда этот писатель поддался реакционным
влияниям и написал о «русских лгунах» антинигилистический ро-
ман «Взбаламученное море», Писарев понял, как он заблуж-
дался насчет «черноземной силы» писателя («Прогулка по са-
дам российской словесности», 1865).
Гончаров, наоборот, сразу был незаслуженно принижен Пи-
саревым. Он осуждал Гончарова за бесстрастие, чрезмерную
любовь к детальным описаниям в «Обломове», «тепловатое» от-
ношение к гражданским идеям. Гончаров «по плечу всякому
читателю», он поочередно становится на точку зрения каждого из
действующих лиц. «Тип Обломова не создан Гончаровым»; это
повторение Бельтова, Рудина и Бешметева (из повести Писем-
ского «Тюфяк».— В. К.). Но поскольку Гончаров заострил образ
Обломова, то весь роман «Обломов»—«клевета на русскую
жизнь»1. Писарев отказывал образу Обломова в типичности,
а роману в народности.
Между Писемским и Гончаровым был поставлен Тургенев.
Писарев ценил Тургенева за отрицательный и трезвый взгляд
на явления жизни. Все недостатки его, как человека «сороко-
ных годов», выкупались в глазах Писарева тем, что Тургенев
наиболее ярко воплотил передового героя времени. Роман «Ру-
цин» он ценил за правдивость воплощения отрицательных черт
прошлого поколения, как драгоценный «акт самосознания» рус-
ского общества. Попытку же Тургенева изобразить в Инсарове
преальный тип он считал неудачной, сделанной в обход тради-
ции отрицательного направления. По мнению критика, всякий,
кю сходил с этого пути в русской литературе, терпел пораже-
ние. Писарев вообще пока даже не задумывался о возможности
положительного героя. Он знал, что всех этих героев — от Оне-
niiia до Рудина — надо только критиковать. Добролюбов, как
мы знаем, в это же самое время воздавал должное попытке
I ypi eiK'iia в «Накануне» идти дальше в поисках героя времени.
По стоило Тургеневу нарисовать реального русского разно-
чинца нигилиста Базарова, как Писарев ухватился за этот
оГ»|111 I.
Он досконально обследовал новую галерею разночинных ге-
ihjcii нромсни (Базаров, Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна,
Рйхмсюи), людей активных, увлек ими читателей и указал на
их «ипченне далеко за пределами литературы. Все преувели-
чении и ошибки в решении теоретических вопросов, в оценке
11ytiiKiiii.i, Гончарова, Островского, Щедрина как бы выкупались
и иг|н< 1СПНЛЛЫ1ЫМ истолкованием новых героев времени. Тут
|||и и|нч1 был целиком «у себя дома». Вся его концепция «реа-
/III ни н» г(‘И('рь приняла удивительно стройный вид.
I чинному герою романа «Отцы и дети» Писарев посвятил
1 Hui II ре II Д. II. Соч.—Т. 1,—С. 203, 210,
I /•
259
специальную статью, назвав ее броско «Базаров» (1862). Писа-
рев находит, что весь роман проникнут самой полной, самой тро-
гательной искренностью. Базаров — центр всего романа.
V Писарев любуется Базаровым, старается даже улучшить его,
слегка подправить, когда тот «завирается»: отрицает поэзию
Пушкина, музыку (между прочим, в дальнейшем сам критик за-
разился «базаровщиной» в этих вопросах). Он хорошо почувст-
вовал смену поколений. Сам Тургенев, создавая Базарова, «хо-
тел разбить его в прах», а вместо того «отдал ему полную дань
справедливого уважения»1. Базаров — глубокая цельная нату-
ра, поэтому у него нет рефлексии. Он хорошо дорисовывается в
двух эпизодах: в увлечении Одинцовой и в агонии смерти. Писа-
рев, конечно, понимал, что Тургенев только издали знал этот тип
людей, он не мог показать их в реальной деятельности, среди
единомышленников. Но, «не имея возможности показать нам,
как живет и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он
умирает». Статья содержит апофеоз Базарова: «Из Базаровых,
при известных обстоятельствах, вырабатываются великие исто-
рические деятели; такие люди долго остаются молодыми, силь-
ными и годными на всякую работу...»2. Писарев проходит мимо
заявлений самого Базарова, что его дело — только разрушение,
а созидание — это дело других. Базарову не хватает «принци-
пов», цельности, общей цивилизованности.
уЧерез два года в статье «Реалисты» Писарев еще выше под-
нял значение Базарова как символа поколения и того особого
мировоззрения, которое обозначалось в самом заглавии статьи.
Он повторял почти все сказанное о Базарове в предыдущей
статье, с той только разницей, что теперь уже не считал нужным
обращать внимание на то, что Базаров зря и сплеча отрицает
искусство, что Базаров свысока относится к народу, что Турге-
нев не благоволит к своему герою и наделяет его отрицатель-
ными чертами. Наметилась у Писарева некоторая идеализация
Базарова. Предыдущая статья лучше, объективнее, чем та часть
статьи «Реалисты», в которой говорится о Базарове. Но сама
эта идеализация отражала порыв Писарева идти в поисках ге-
роя дальше, вне рамок тургеневского образа. И вскоре Писарев
нашел свой идеал в героях «Что делать?» Чернышевского, осо-
бенно в образе Рахметова.
V Статья о романе «Что делать?» называется «Мыслящий про-
летариат» (1865). Первоначальное ее название—«Новый тип»—
прямо подчеркивало, в какой преемственной связи с прежней
галереей героев времени мыслил Писарев «новых людей» и
«особенного человека» из романа Чернышевскго. Это были те
самые «реалисты», о которых мечтал Писарев. До этого он
«приподымал» Базарова до своего идеала. Приходилось иметь
1 Писарев Д. И. Соч.— Т. 2,— С. 48.
2 Т а м ж е.— С, 44.
260
чело с противоречивым Тургеневым. Чернышевский был вполне
«свой», пропаганда новых людей сливалась в некоторую линию,
линию «Современника» и «Русского слова». Идиеологические
позиции романиста и критика на этот раз были предельно род-
ственными.
Образу Базарова Писарев обрадовался как неожиданной на-
ходке, как подарку со стороны. Образы Лопухова, Кирсанова,
Веры Павловны, Рахметова для него — как давно ожидаемое,
закономерное явление, представители того «направления» в рус-
ской «умственной жизни», которое резко выделилось в последнее
время. В нем заключается наша действительная сила, на него
«со всех сторон сыпятся самые ожесточенные и самые смешные
нападения». Писарев, конечно, имел в виду «реалистов», которых
обвиняют их противники в «глумлении над искусством», «неува-
жении к публике», «безнравственном цинизме» и «в зародышах
всяких преступлений». В «Что делать?» новое направление за-
явило себя «решительно и прямо».
Писарев делал великое и благородное дело. Вспомним, что
осужденный Чернышевский уже томился в сибирской ссылке, и
говорить с такими похвалами о его романс — значило возбуж-
дать к автору симпатии в обществе, делать его живым вождем
поколения, продолжать его дело. Сам же критик писал «Мысля-
щий пролетариат», находясь в Петропавловской крепости.
Писарев выделял «Что делать?» из разряда обычных рома-
нов. Это произведение «создано работою сильного ума», его ло-
тка ведет к «высшим теоретическим комбинациям». Этот роман
как бы целиком написан по рецептам писаревской теории «реа-
'III <ма». По искреннему, но явно преувеличенному убеждению
Писарева, Чернышевский оказался единственным нашим бел-
лс I ристом, художественное произведение которого оказало не-
посредственное влияние на наше общество.
Разбор героев «Что делать?» производится по тем признакам
* реалистов», о которых мы говорили выше. Новые люди ценят
• руд как источник радости, богатства, всеобщего благополучия,
они хотят освободить труд и сделать распределение богатств
( праведливым, личная их польза совпадает с общественной, их
1 >гоизм» «разумен», он вмещает в себя самую беспредельную
любовь к человечеству, ум новых людей находится в полной гар-
м<..и с их чувством, они принимают друг от друга только то,
•но дается с радостью, им чуждо принятие жертвы от ближнего,
<'iacri.(—это полнота развития натуры.
Главное внимание Писарева по логике теории «реализма»,
с< нттвешю, должен был привлечь образ Рахметова, «чистого»
•» реалиста», человека, работающего над собой по принципу
jkoiiomiiii мышления», альтруиста и «разумного эгоиста». В то
ли- время этот образ до некоторой степени символический, по-
<1.1л.'1В111пй новые импульсы в будущее, может быть, за пределы
дппннк) поколения. Это человек, который готовится к грядущим
261
битвам. Рахметову как бы тесно в современности, он «осбен-
ный» человек.
Еще говоря о Базарове, Писарев подчеркивал, что это боль-
шой, дельный человек, который еще встанет «при известных об-
стоятельствах» во весь свой рост. Такая характеристика теперь
еще больше относилась к Рахметову. Рахметов — фигура «ти-
таническая». До поры до времени такие люди пребывают в без-
вестности; но наступают минуты, когда Рахметовы «необходимы
и незаменимы... Я говорю о тех минутах, когда массы, поняв
или, по крайней мере, полюбив какую-нибудь идею, воодушевля-
ются ею до самозабвения и за нее бывают готовы идти в огонь
и в воду... Те Рахметовы, которым удается увидать на своем
веку такую минуту, развертывают при этом случае всю сумму
своих колоссальных сил; они несут вперед знамя своей эпо-
хи...».
Таким апофеозом героя литературного произведения еще ни-
кто из русских критиков не заканчивал своих статей. Сам Писа-
рев здесь встал во весь рост и оказался знаменосцем эпохи.
Все его выводы логически вытекали из посылок и подтвержда-
лись материалом произведения. Обычно свойственное Писареву
некоторое пренебрежение к художественной стороне здесь ни-
сколько не вредило делу, поскольку главное замечание о ней
было высказано сразу же веско, убедительно и исчерпывающе:
это роман особенный, он действует на общество непосредст-
венной концепцией свободного труда, апофеозом жизни новых
людей. Новизна концепции делала праздными все заботы о ху-
дожественной форме в обычном смысле слова. В Чернышевском-
беллетристе Писарев видел блестящее подтверждение своего
тезиса, что всякий умный человек, которому есть что сказать
обществу, может сделаться писателем... Эти «реалисты», в кото-
рых всегда подчеркивалось бескорыстие их умственного труда,
подвижничество в области науки и просвещения, в статье назы-
вались «мыслящими пролетариями». Это должно было еще и
еще раз повысить доверие к их лозунгам, подкрепляемым при-
мером личной жизни.
Когда-то Писарев так резюмировал свои выводы относитель-
но места Базарова в галерее героев времени: «...у Печориных
есть воля без знания, у Рудиных — знания без воли; у Базаро-
вых есть и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твер-
дое целое». Герои Чернышевского, в особенности Рахметов,
добавляли нечто новое и важное: у них, так же как у Базаро-
ва, есть знания и воля, но они уже, в отличие от Базарова, об-
ладают сознанием своей великой цели, они стремятся к социа-
листическим благам для всего человечества. Рахметов уже не
может сказать, как Базаров: «Мне приятно отрицать, мой мозг
так устроен — и баста». Рахметовское отрицание более осмы-
сленное, оно — подвиг всей жизни, оно включает в себя процесс
подготовки к битвам.
262
У Писарева была сильно развита способность мыслить типо-
логически. Он неожиданно объединял, казалось бы, несоедини-
мое, для того чтобы показать сходство явлений, или столь же
неожиданно разъединял как враждебное то, что по привычке
воспринималось как родственное. Так он объединял «погибших»
людей в «Мертвом доме» Достоевского и «погибающих» в «Очер-
ках бурсы» Помяловского, не находя ни в чем разницы между
принудительной каторгой и системой обучения в «вольных» цар-
ских учреждениях («Погибшие и погибающие», 1865). А попыт-
ку Достоевского выдать своего Раскольникова за раскаявшегося
«нигилиста» и тем самым криво истолковать самый дорогой для
Писарева вопрос он решительно оспорил и показал, что Рас-
кольников ничего общего не имеет с современными «нигилиста-
ми», т. е. «реалистами» («Борьба за жизнь», 1867).
Ориентируясь на образы Базарова и Рахметова, Писарев без-
ошибочно точно вел отсчет качеств прогрессивности и регрессив-
ности при оценке того или иного образа русской литературы.
Он умел это делать умеренно, артистически, бойко, остроумно.
Никто из критиков так не работал над типологией образов, как
Писарев. И его мысль всегда билась на быстрине эпохи, он раз-
решал легко и ясно самые головоломные вопросы, связанные
с определением сущности того или иного из героев новейшей
русской литературы.
В итоге генеалогия героев времени вырисовывалась следую-
щим образом: по прямой линии выстраивались Чацкий, Печо-
рин, Бельтов, Рудин, Базаров, затем Лопухов, Кирсанов, Вера
Павловна и Рахметов. Онегин выпадал из галереи как натура
«лишком прозаическая и почти вовсе не альтруистическая.
Штольц — это подделка, «деревянная кукла». Ольга слишком
< хематнчна и умозрительна. Катерина сбивчива, религиозна,
«лишком занижена. Инсаров — надуманный герой. Раскольни-
ков— это уже совсем другое, попытка автора дискредитировать
|ероя времени. Рязанов в «Трудном времени» Слепцова мог
бы и. шчислен в прямую фалангу героев, у него есть все для то-
ю данные. Он несомненный «реалист» в столкновениях с либера-
лом Щетининым. И героиня романа, Мария Николаевна, близ-
ки Вере Павловне и могла бы попасть с ней в один ряд. Но Пи-
си реву, видимо, никого уже не хотелось ставить выше героев
•Icpni..евского (роман «Трудное время» появился три года спу-
i in после «Что делать?»).
Писарев старался через общую призму разглядеть и соот-
нес i в с современностью и толстовских героев — Иртеньева и Не-
хлюдова. Ничего дискредитирующего в них, как в Раскольни-
кове. Писарев не находил, но он и не видел особой призмы «тол-
« loBcriia», через которую пропущен весь мир духовных и нрав-
< ।венных исканий этих героев. Писарев просто прикладывал к
llpicni.ruy и Нехлюдову свою привычную мерку. Он производил
( ион расчеты: Иртеньев и Нехлюдов принадлежат к тому поко-
263
лению, которому во время Крымской войны было около тридца-
ти лет. Это поколение лет на десять моложе Рудиных и Печо-
риных и лет на десять или пятнадцать старше Базаровых. В на-
стоящую минуту (т. е. в 1864 году) людям базаровского типа
можно положить возраст от двадцати до тридцати лет. Иртень-
евым и Нехлюдовым — около сорока лет, а Рудиным и Печори-
ным— за пятьдесят (вспомним, что Павлу Петровичу Кирсано-
ву, этому провинциальному Печорину, в романе сорок пять лет).
Как же выглядят эти «полустарички», Иртеньев и Нехлюдов,
сегодня? Их философствования Писарев называет «промахами
незрелой мысли» (так называется статья). Они не обладают
главным качеством «реалистов», они страдают «мыслебоязныо»,
у них все — разлад между мечтой и действительностью: то ма-
ленько погрешишь, то маленько раскаешься, постегаешь сам
себя. Писарева вовсе не подкупает психологический анализ
Толстого, он видит все время только негодный предмет анализа:
копание героев в своих переживаниях, их уродливую нравст-
венную гимнастику, подлейшую приторность отношений, когда
герои сами себя приневоливают к диалогам и исповедям. Умст-
венное барское банкротство наглядно проявляется в безобразной
сцене с крепостным Васькой, которого ударил Нехлюдов.
В «Утре помещика» таковы те сцены, в которых изобража-
ются попытки героя улучшить положение крестьян, а между
тем ему нужно было бы сначала освободить самого себя от не-
обходимости жить трудами своих крестьян, выучиться «хлебно-
му» ремеслу.
Но самым важным в размышлениях о будущем герое време-
ни из разночинцев у Писарева было то, что он сказал об образе
Молотова у Помяловского в статье «Роман кисейной девушки»
(1865).
Герой повести «Мещанское счастье» и романа «Молотов»
мог бы быть зачислен в разряд героев прямой линии «мысляще-
го пролетариата». Но он в нее не попал. А ведь Молотов — сын
слесаря, он стремился к высоким целям. Даже проснулся его
классовый инстинкт, когда он случайно подслушал разговор о
себе супругов Обросимовых. И все же из Молотова герой не
получился.
До сих пор в литературе деятельный разночинец одерживал
победы над хлипкими дворянами. От Чацкого до Обломова ис-
сякала линия этих героев времени. Смена типов отражала исто-
рический процесс смены дворян разночинцами в освободитель-
ном движении. Но вот разночинцы добились полного успеха: Ба-
заров, Рахметов были тем верхом, до которого поднялись типы
разночинцев в литературе.
Самоуверенность этой когорты была впервые поколеблена
Помяловским. Он первый изобразил «лишнего человека» из раз-
ночинцев. Писарев говорил: Помяловский показывает, каким
264
..(•разом жизнь «щупает ребра умному и развитому пролета-
рию», автор «своим здоровым чувством и светлым умом понял
k.iK нельзя лучше, что пора поворотить поток фраз в другую
. трону». До сих пор на заевшую их среду жаловались только
I лмлеты Щигровского уезда, провинциальные Печорины, Рудй-
(Iи. Но вот наступила пора критически взглянуть на червоточи-
ны в душах разночинцев. Не повторяются ли и здесь те же про-
цессы спада, разложения? Чего добился Молотов? Только лично-
!<• внешнего благополучия как чиновник, не берущий взяток. Но
I» । ше ради только «честной чичиковщины» существует движение
реалистов»? Что за мещанский идеал? Изнутри разночинцам
не было видно, где конец их движения, в чем его изъяны. По-
мяловский и Писарев обратили на это внимание. Ведь историче-
< кн на смену героям из разночинцев шли другие, настоящие
пролетарии, как когда-то разночинцы пришли на смену дворя-
нам. Писарев даже не подозревал, на какое важное открытие он
набрел вместе с Помяловским. Они, можно сказать, увидели
। рсбснь той волпы, которая их самих несла. Чисто интеллигент-
ное понимание прогресса как смены типов героев времени под-
' однло к концу. Надо было обратиться к пароду и все явления в
мире начать мерить не меркой стопроцентного передового мыс-
онцего пролетария и естествоиспытателя, а меркой близости
к роя к массам, меркой народной революции. Для Писарева, как
человека 60-х годов, были закрыты какие-либо новые перепек-
шим. Пролетариат в России еще только зарождался. Для кри-
пта была открыта одна возможность, и он ею воспользовался:
>н вернулся в конце жизни к широкому демократизму Черны-
шевского, который в начале той же исторической эпохи, на
подъеме общественного движения был глашатаем крестьянской
революции.
ГЛАВА 5
М. Е. Салтыков-Щедрин
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826—1889)
можно по праву назвать оригинальнейшим русским критиком,
i.шамающим место сразу же после Чернышевского, Добролюбо-
ва и Писарева. При этом он был не только устойчив в своей
in рпости великому «наследству», но и внес много нового в трак-
1Ш1ку основных проблем реализма. Его роль в области критики,
можно сказать, до сих пор еще недостаточно оценена...
Щедрин стремился снять образовавшиеся наслоения на «ре-
i'ii.iioii критике» и вернуться к полноте понимания теоретиче-
ских категорий автора «Эстетических отношений искусства к
|гй( гвитсльности» и «Очерков гоголевского периода русской ли-
и р.иуры». При этом заметно обозначилось и то новое, что внес
III.e/ipiiH в теорию реализма.
265
В его статьях можно выделить основные тематические узлы:
обсуждение сущности реализма в сопоставлении с чуждыми ему
художественными методами; обсуждение тезиса о тенденциозно-
сти искусства, т. е. его «приговоров над действительностью» в
новых пореформенных условиях; проблемы народности литера-
туры в ее демократически-крестьянском содержании; перспектив
развития героя времени как «нового человека» после того уров-
ня, который был показан Тургеневым и Чернышевским; осмыс-
ление новых «форм жизни» и новых «форм» романа и, нако-
нец, наблюдения над поэтикой сатиры вообще и своей в част-
ности, над вынужденными и невынужденными чертами «эзопо-
ва» стиля.
Щедрин продолжал борьбу против «чистого искусства», «мо-
тыльковой» поэзии К- Павловой, «эмбрионической», т. е. пост-
роенной на недомолвках, импрессионистических мотивах, поэзии
Фета. Он беспощадно высмеивал реакционно-аитинигилистиче-
ские романы «Марево» В. П. Клюшникова, «Взбаламученное
море» Писемского, «Некуда» Лескова, попытки Гончарова «по-
уличному» карикатурно истолковать стремления передовых лю-
дей в романе «Обрыв» и особенно в романе Д. Л. Мордовцева
«Знамения времени». Щедрин преследовал либерально-обли-
чительных сатириков и нравоописателей (А. Иволгин, М. В. Ав-
деев), сентиментальных хвалителей царской «свободы» (Ап. Май-
ков), мещанско-порнографический натурализм (В. П. Авенариус,
П. Д. Боборыкин).
Осторожно, с большой чуткостью, иногда подправляя их
стиль, он хвалил за искренность и благородные стремления
А. Н. Плещеева, Я. П. Полонского, Д. Д. Минаева, даже
Н. А. Лейкина, С. В. Максимова, А. К- Шеллер-Михайлова и др.
Особо выделял Щедрин поиски положительных героев в произ-
ведениях Ф. М. Решетникова, И. В. Омулевского.
Старыми противниками для Щедрина оставались «почвенни-
ки»— Страхов, братья Достоевские. Новые противники реализ-
ма обозначились среди «пенкоснимателей» из либерального «Ве-
стника Европы», «нововременец» А. С. Суворин, обрушившийся
па «Историю одного города» с обвинениями в антиреализме.
Опираясь на небывалый расцвет активного демократическо-
го искусства 60—70-х годов, Щедрин пересматривал тезис «ре-
альной критики» об отставании литературы от общества, о ма-
лой «степени участия народности» в жизни литературы. Щедрин
не хотел таким образом «прибадривать» литературу, он был пре-
исполнен чувства реально совершенного ею великого подвига.
В статье с характерным названием «Напрасные опасения (по
поводу современной беллетристики)» (1868) он называет литера-
туру «очагом общественной мысли», которая отображает не
только то, что есть, но и те стремления, которые «в данную ми-
нуту хотя и не вошли еще в сознание общества, но тем не менее
существуют бесспорно и должны определить будущую его физио-
266
помию»1. Щедрин заботился о «читателе-друге», без которого
даже «могучий» писатель «бессилен» («Мелочи жизни», 1887;
«Пестрые письма», 1885). Щедрин мечтал о времени, когда его
«читателем-другом» сделается весь народ.
Глубокая оригинальность Щедрина особенно проявилась в
решении указанных основных тем его критики. Он вносил кор-
рективы в сложившуюся терминологию, добиваясь предельной
четкости.
Напомним еще раз о том, как употреблялся в критике термин
«реализм». В 1835 году Белинский ввел понятие «поэзии реаль-
ной», и Герцен стал впервые употреблять термин «реализм»,
но в философском смысле, как эмпиризм, материализм («Пись-
ма об изучении природы»). Белинский термин «реализм» не
употреблял, но понятие о нем разработал. У него был другой,
менее совершенный термин «натуральность», и он не отождест-
влял его с представлением о голом копировании действительно-
сти. Затем выступил Анненков и употребил термин «реализм» в
литературоведческом смысле, заменив им термин «натураль-
ность». Вслед за Белинским Анненков, по существу, оспорил
представление о реализме как о копировании жизни, однако по
контрасту термины «реализм» и «натурализм» (копирование) не
осмыслил. Чернышевский ввел понятие «критическое направле-
ние» в литературе, что, по существу, означало реалистическое
направление. Но все же понятие «реализм» оставалось неотрабо-
танным с терминологической точностью и не было осмыслено в
методологическом противопоставлении натурализму. Критика
даже уходила от него несколько в сторону, поскольку введенное
Добролюбовым новое понятие «реальная критика» оказывалось
не только реалистической литературной критикой, но и особой
этической, методологической нормой естественнонаучного мыш-
ления. Еще дальше пошел в этом направлении Писарев. Его «ре-
ализм»— это мышление определенной прослойки особо «реально»
мыслящих умственных пролетариев.
Заслуга Щедрина в том, что он вернулся к специальной от-
работке уже выдвинутого в русской критике эстетического поня-
тия и термина «реализм» и вокруг него сосредоточил все мето-
дологические размышления о прекрасном в жизни и в искусст-
ве, о тенденциозности искусства, его образной специфике.
Реализм в широком, точном понятийном и терминологическом
смысле был Щедриным резко противопоставлен натурализму.
То, что было отработано в понятиях, но не воплощено в терми-
нах у Белинского, то, что начало воплощаться Анненковым в
терминах, но не было доведено до конца в понятиях, Щедрин рас-
крыл и в понятиях, и в терминах. Именно от Щедрина берет на-
чало сегодняшнее истолкование реализма и натурализма. Прак-
’ Сб.: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков) о литературе/Сост. и прим.
В. Я, Кирпотина.—М., 1952.— С. 298—299.
267
тика русского реализма позволяла Щедрину смело и широко
решать эти вопросы.
Разбирая «Горькую судьбину» Писемского (1863), нарисо-
ванные писателем «деревянные фигуры» крестьян, Щедрин на-
зывал «реализм» этого писателя-эмпирика «сомнительным», «так
называемым реализмом»: «Дело в том,— писал Щедрин,— что
мы иногда ошибочно понимаем тот смысл, который заключается
в слове «реализм», и охотно соединяем с ним понятие о чем-то
вроде грубого, механического списывания с натуры, подобно
тому, как многие с понятием о материализме соединяют поня-
тие о всякого рода физической сытости»1. Реализм — это «нечто
большее, нежели простое умение копировать». Реализм «допы-
тывается того интимного смысла, той внутренней жизни, кото-
рые одни только и могут дать факту действительное значение
и силу»2. Реализм враждебен «исключительности», «односторон-
ности». То направление, к которому Щедрин причислял самого
себя, он называл то по-старому «реальным», то по-новому и го-
раздо четче «реалистическим»: «Что реализм есть действительно
господствующее направление в нашей литературе — это совер-
шенно справедливо»3. Именно реализм отныне Щедрин выдвигал
как «мерило», как «идеал» современного искусства.
Щедрин много раз возвращался к углублению понятия реа-
лизм, когда вынужден был критически отзываться о натурали-
стических произведениях. Он зорко следил за развитием опасно-
го для искусства воспевания «хлама» жизни, обнаженного «ощу-
щения пола», смакования порнографии (отзыв на ранний роман
П. Боборыкина «Жертва вечерняя», 1868). Особенно едко Щед-
рин высмеял две такого сорта натуралистические повести
В. П. Авенариуса — «Современная идиллия» (1867) и «Повет-
рие» (1867). Чтобы написать такие романы, «нужно только сесть
у окошка и пристально глядеть на улицу. Прошел по улице
франт в клетчатых штанах — записать; за ним прошла девица с
стрижеными волосами — записать; а если она при этом припод-
няла платье и показала ногу — записать дважды; потом проехал
извозчик и крикнул на лошадь: «Эх ты, старая!»—записать»4.
Дагерротипность, механическое «склеивание» разрозненных впе-
чатлений— таков метод натурализма. Щедрин напомнил, что
когда-то М. П. Погодин в своих записках «Год в чужих краях»,
высмеянных Герценом в пародии «Путевые записки Вёдрина»,
отличился такой прейскурантной точностью описаний разгово-
ров с содержателями отелей. Традиция, как видим, не славная.
Натурализм легко делается добычей реакционных теорий, сек-
суальности, аморализма. Он не стремится к познанию и обоб-
щению закономерного в жизни.
1 Сб.: Н. Щедрин о литературе.— С. 111,
2 Т а м же.
8 Т а м ж е.— С. ПО.
4 Т а м ж е.— С. 398.
268
Щедрин уловил, что есть разновидность натурализма, связан-
ная с безыдейной сытостью буржуазии, она потворствует ее вку-
сам, развращенности. Щедрин понял, что началась нездоровая
спекуляция на понятии «реализм». Вступиться за правильное его
понимание, считал он, нужно было именно русским писателям.
Русская литература, можно сказать, реализм выстрадала: «Сло-
во это небезызвестно и у нас, и даже едва ли не раньше, нежели
во Франции, по поводу его у нас было преломлено достаточно
копий» («За рубежом»)1. На Западе термин «реализм» ввел
Шанфлери в 1857 году, но и там оно вскоре было забыто, иска-
жено. Теперь во главе современных французских реалистов, го-
ворил Щедрин, стоит Э. Золя, писатель «несомненно талантли-
вый», но предпочитающий называть себя «натуралистом». В его
творчестве, в частности в романе «Нана», есть какое-то попятное
движение по сравнению с такими горячими, страстно идейными
писателями, как Ж- Санд, В. Гюго. Размеры нашего, русского
реализма, отмечал Щедрин, «несколько иные, нежели у совре-
менной школы французских реалистов. Мы включаем в эту об-
ласть всего человека, со всем разнообразием его определений и
действительности; французы же главным образом интересуются
торсом человека и из всего разнообразия его определений с на-
ибольшим рачением останавливаются на его физической право-
способности и на любовных подвигах»2. Когда-то Герцен,
сравнивая Пушкина и Байрона, отмечал наличие у Пушкина
веры в будущее, которой человек Запада уже лишился. Теперь
у Щедрина эти различия между русскими писателями и запад-
ными углубляются на почве современного реализма. Но разли-
чия в принципе те же: русская литература — хранительница гу-
манизма, она заинтересована в целостном человеке, она верит
в будущее, натурализм на Западе разрушает эту целостность и
веру.
Щедрин полностью разделял тезис Чернышевского об искус-
стве, выносящем «приговор над действительностью». Он много
раз доказывал, что искусство тенденциозно и другим быть не
может. Еще нс было критика в России, который бы умел это
доказать с такой убедительностью, как Щедрин. Он не оставлял
неясной ни одной стороны в этой проблеме. Тенденциозность для
него — внутренний закон художественного познания: «Писатель-
беллетрист не может уклониться от необходимости относиться к
действительности под определенным углом зрения»3, если не
хочет забвения у публики. Тенденциозность должна быть созна-
тельной, и она нисколько не ведет к искажению истины жизни.
Наоборот: «Ничто в такой степени не возбуждает умственную
деятельность, не заставляет открывать новые стороны предметов
1 Сб.: Н. Щедрин о литературе.— С. 597.
2 Т а м же.
3 Т а м ж е.— С. 362.
269
и явлений, как сознательные симпатии или антипатии»1. Эту си-
лу Щедрин называл «подстрекающей», ведущей к открытиям и
обобщениям.
Щедрин пошел дальше «реальной критики» в разработке
этой проблемы. Он требовал, чтобы художнику была предостав-
лена возможность исследовать все сферы жизни, чтобы не ока-
зывалось никакого «давления» на его точку зрения. Не вступая
в полемику с Добролюбовым и Писаревым, Щедрин, по сущест-
ву, отодвигал их тезис о том, что критику не важно знать о наме-
рениях, о точке зрения автора произведения, о его личности. Это
был возврат из суженной сферы «реальной критики» Добролю-
бова в широкую сферу реалистической критики Белинского, ко-
торый не разрывал субъективное и объективное начала в твор-
честве. Но Щедрин решал эту проблему с большей определен-
ностью, чем Белинский. Абстрагирование от позиций автора
Щедрин считал делом ненормальным: «...современная русская
критика,— говорил Щедрин в отзыве о романе И. И. Лажечни-
кова «Немного лет назад» (1863), приступая к оценке произве-
дений писателя,— никак не может оставаться равнодушною к
его личности, или, лучше сказать, к тому живому нравственному
образу, которого присутствие слышится в его произведениях»2.
«Следить за личностью автора по его произведениям дело очень
интересное и поучительное»3. Мало разъяснить типические черты
характеров и положений, «тут является еще одно условие — это
отношение писателя к типам, им изображаемым» («Господа
ташкентцы», 1870)4.
Критерии подлинно революционно-демократического понима-
ния народности с его практически-действенным содержанием
давала для литературы 60—80-х годов статья Чернышевского
«Не начало ли перемены?» (1861). Эта суровая, но полная люб-
ви к народу статья помогала в борьбе с либеральной идиллич-
ностью в освещении крестьянской жизни и с идеализацией му-
жика.
Но Щедрин выработал еще более совершенный, чем у Чер-
нышевского, критерий народности. Для Щедрина не только сла-
щавость, но и беспощадность в освещении народной жизни —
крайность. Он понимал историческую относительность обеих то-
чек зрения. Щедрин нисколько не умалял заслуг Григоровича,
Тургенева, введших впервые крестьянскую тему в русскую лите-
ратуру. Знал он цену и Н. Успенскому, положившему конец
«идиллически-пейзанскому хныканью» и начавшему говорить
«правду о мужике настолько, насколько хватало у него сил».
Но что же получилось? Одни писатели говорили: «нет драмы в
жизни русского мужика», другие говорили: «есть только курьез-
1 Сб.: Н. Щедрин о литературе.— С. 362.
2 Там же.— С. 132.
3 Там ж е.— С. 133.
4 Т а м ж е.— С. 529.
270
ные случаи». Куда же идти дальше? Щедрин нашел свой путь,
отличный от прежних односторонностей и от зарождавшейся
народнической идеализации. Он решил применить к изображе-
нию крестьянства всю полноту уже выработанных аспектов и
средств реализма.
Драма в жизни крестьян — это борьба за существование. Не
надо подходить к народной жизни с шаблонами старых романов,
старого психологизма, любовных завязок. Здесь все не так, все
по-другому. Но борьба за существование как драма до такой
степени обширна, что «дает полную возможность вместить в нее
все разнообразие простонародной жизни». Щедрин приводил
в пример роман Решетникова «Где лучше?» (1869), в котором
при всех его недостатках впервые показывалось, что «русская
простонародная жизнь дает достаточно материала для рома-
на». Особенность народной жизни еще состоит и в том, что «ни-
какая личная драма не может иметь места иначе, как в связи
с драмою общею». И дело не только во власти патриархаль-
щины, но еще и в условиях борьбы за существование. Щедрин
по-новому подошел к проблеме взаимоотношения частного и об-
щего, личности и народа. Это требовало усовершенствования тра-
диционных приемов художественного изображения действитель-
ности. Критический реализм должен был подняться на новую
ступень.
Требование полноты реализма в изображении народа, лич-
ности и среды, изучения возможностей народа самому выдвигать
героические характеры в борьбе за существование — вот новое,
что Щедрин внес в решение проблемы реализма и народности
после Белинского и Чернышевского, вот его великая трезвость по
сравнению с Н. Успенским и народником Михайловским. Он
нашел единственно верное для своего времени решение воп-
роса.
В этом свете легко решается и наметившееся еще у Белин-
ского разграничение понятий национальности и народности. На-
род оказывался носителем национальной специфики, а «кре-
стьянский вопрос»—центром всех бесконечно многообразных
ситуаций русской действительности. Щедрин разрабатывал толь-
ко одно понятие — народность. Оно уже не двоилось у него и не
путалось с понятием национальности. Понятие народности при-
обретало свое новое деление: есть народность писателя опосре-
дованная («посредственная») и непосредственная. В обоих слу-
чаях речь идет о борьбе за мужика, о том, как лучше послужить
делу его освобождения. Но послужить можно, или прямо изо-
бражая народ во всей полноте, что отметил Щедрин у Решет-
никова, или изображая сословия господ, чиновников, но с кри-
тической народной точки зрения. Это разграничение Щедрин
хорошо и четко провел в некрологе о И. С. Тургеневе, писателе,
который сумел послужить народу обоими указанными способа-
ми: «Посредственно—всею совокупностью своей литературной
271
деятельности... непосредственно—«Записками охотника», кото-
рые положили начало целой литературе, имеющей своим объек-
том народ и его нужды»1. Идеи непосредственной народности за-
родились у Щедрина еще в статье о Кольцове (1856), когда он
подчеркнул, что Кольцов был в истории нашей литературы «по-
полнителем Пушкина и Гоголя». Это «пополнение» и заключа-
лось в крестьянской теме, позднее обогащенной другими писате-
лями-реалистами.
Щедрин вводил еще одно важное разграничение в понятия
народ и народность. А. С. Суворин, нападая на «Историю одно-
го города», обвинял Щедрина в «глумлении над народом». Си-
туация сложилась приблизительно такая же, как в свое время
вокруг рассказов Н. Успенского, которого либералы упрекали в
клевете. Мы помним, что Щедрин со своих позиций также упре-
кал Н. Успенского в некоторой односторонности изображения
народа. Как же теперь он сам отвечал на упреки Суворина? В от-
личие от Н. Успенского, не заглядывавшего вдаль в своем отри-
цательном изображении отсталости народа, Щедрин всегда счи-
тал, что народ является «воплотителем идеи демократизма». При
этом Щедрин видел и конкретное историческое бытие народа в
данный момент, поведение отдельных представителей народа.
И тут получалось, что если народ допускает, чтобы чиновники
измывались над ним, то народ не заслуживает сочувствия: «глу-
повские» нравы достойны только сатиры. Итак, Щедрин говорил
об утверждающем и отрицательном пафосе вычленяемой им в
особый вид так называемой непосредственной народности. Эти
категории позволяют охватить и осмыслить все многообразие
тогдашней демократической литературы.
Щедрин много раз употреблял термин Чернышевского «фор-
мы жизни». Этот термин для него был полон злободневного
смысла. Критик следил, как «формы жизни» диктуют и содер-
жание новых типов героев, и художественные формы их вопло-
щения. Эту проблему он обстоятельно обсуждал в статьях: «Не-
сколько слов о современном состоянии русской литературы во-
обще и беллетристики в особенности» (1862), «Напрасные опа-
сения» (1868), «Где лучше?» (1869).
Щедрин разделял сетования публики о том, что современная
литература стала очерковой, дробной по жанрам и темам. Но
положить конец засилью сырых материалов может только но-
вый принцип сюжетной типизации. Щедрин указывал, что в из-
вестном смысле старый семейный, любовный роман исчерпал
себя. Нужен общественно-политический роман, который бы во-
брал в себя богатство наблюдений над современностью. Чита-
тель стал уже не тот. Он требует, чтоб ему «подали» земского
деятеля, нигилиста, мирового судью, а пожалуй, даже и губер-
натора. «А где их найти? Как найти? Под каким соусом по-
1 Сб.: Н, Щедрин о литературе.— С, 620,
272
дать?» Новый принцип отбора и трактовки материала встречал-
ся с почти непреодолимыми цензурными и политическими пре-
пятствиями.
Формы жизни требовали нового героя времени. Выстраивав-
шиеся прежней критикой бесконечные цепи образов от Чацкого
до Рахметова стали уже рутиной. Что разночинец сменил дворя-
нина, стало аксиомой. Помяловский указал даже на возмож-
ность загнивания и этого типа. Щедрин начинает новую линию
исканий. Отправляясь от Катерины из «Грозы» Островского, он
ищет подлинно народного героя. Базаров должен быть «улуч-
шен», показан в деятельности. «Что делать?» Чернышевского он
называл «серьезным» произведением, проводящим мысль о необ-
ходимости «новых жизненных основ и даже указавшим на эти
основы», т. е. на свободный труд, коллективное распределение
богатств. Но Щедрин упрекал автора «Что делать?» в излишней
утопической «регламентации подробностей» новой жизни, т. е.
в ненужных абстракциях.
Вся конкретная программа построения положительного героя
у Щедрина строго согласовывалась с принципом реализма. Щед-
рин много раз предупреждал о недопустимости умозрительных
схем в этом деле: лучше остановиться на пороге нового, если
оно еще не созрело в жизни, не пережито автором психологиче-
ски, чем его «сочинять». Новый герой должен быть из народа,
деятельным, нарисованным высокохудожественно, чтобы «висло-
ухие не злорадствовали».
Щедрин считал, что живая правда о положительном русском
человеке, к которой безуспешно когда-то стремился Гоголь, су-
ществует. Молодая литература 60—70-х годов разрабатывала
эту тему. Реализм получил теперь большую возможность ото-
бразить народные идеалы и разрешить проблему положитель-
ного героя.
Для литературы стало ясно, что «дело отрицания»—только
полдела. Но изображение нового героя встречает много трудно-
стей. Надо проникнуть во внутренний мир нового человека. Меж-
ду тем новый человек с трудом может проявить себя в делах,
его черты искажаются «отсутствием света и воздуха».
Поэтому на вопросы, где же эти писатели, создавшие образы
новых героев, Щедрин вынужден был отвечать в самой общей
форме: главным деятелем является вся молодая литература, ее
общий тон, ее общее направление. Русская литература нашла
уже путь, прямой и правильный. Главное дело современных пи-
сателей заключается в подготовлении почвы, в собирании мате-
риала. Гений придет и обобщит.
Щедрина радовали попытки начинавшего тогда писателя
И. В. Омулевского идти путем, который был намечен Щедриным
в статье «Напрасные опасения». При всех художественных не-
достатках роман Омулевского «Шаг за шагом» (1871) был удач-
ным. Щедрин цитировал предисловие Омулевского, в котором
18 Заказ № 1367
273
тот объяснял, почему такие герои, как выведенный им Светлов,
не могут еще получить полного воплощения. Со стороны автора
есть стремление к воплощению, но «не до блестящих интриг те-
перь нам с тобой, читатель», а за «развязку же никто не может
поручиться тебе в наше переходное, обильное всякими недора-
зумениями время»1. Деятельность Светлова еще не может быть
выведена всецело, еще не пришло то «желанное время»: «...где —
укажи нам, та широкая общественная арена, на которой она
могла бы показать свои действительные силы, борясь открыто,
лицом к лицу, с своими исконными врагами — тьмой и невеже-
ством? Только еще в далекой радужной перспективе носится пе-
ред нами такая борьба...»2. Все дело в «формах времени» в ши-
роком смысле, в возможностях эпохи. Щедрин зорко изучал эти
потенциалы, но как строгий реалист ничего «сочинять» не при-
зывал. Старый критический реализм подходил к своему преде-
лу, Щедрин это чувствовал.
Щедрин-критик вносил новые вклады не только в разработку
содержания критического реализма, но, что особенно важно, в
разработку художественных форм, его поэтики. Последнее было
как раз слабым местом прежней «реальной критики».
Особенно важны осмысления поэтики реалистического гро-
теска, «эзопова» языка сатиры. Здесь Щедрин-критик сливался
с Щедриным-писателем. Кроме него, некому было осознать столь
важную особенность художественного реализма.
Чернышевский и Добролюбов сошли со сцены, когда во всю
мощь развернулось сатирическое творчество Щедрина. Их отзы-
вы о «Губернских очерках» были в высшей степени положитель-
ными, но не затрагивали проблем сатиры и гротеска. Да и само
произведение еще не давало поводов для постановки этих проб-
лем. «Новый Гоголь» явился — вот лучшая похвала, которая
раздалась по адресу Щедрина. Похвала большая, но в ней за-
ключалась только оценка масштаба дарования, а внутренние
особенности всецело сводились к односложному определению —
«реализм». Писарев совсем не разобрался в «цветах» сатиры и
юмора Щедрина. Таким образом, Щедрину волей-неволей при-
ходилось самому растолковывать сущность сатиры вообще и
своей в особенности. Ясно, что к этому могли подавать поводы
только внешние обстоятельства, нападки реакционной критики,
вынуждавшие Щедрина выступать с «разъяснениями». Щедрин
сделал несколько важных признаний и обобщений относительно
творческой лаборатории писателя-сатирика, мастера гротеска и
«эзопова» языка. Свои наблюдения он высказал в «Письме в
редакцию «Вестника Европы» в связи с упоминавшейся статьей
А. С. Суворина «Историческая сатира», изобиловавшей лжетол-
кованиями «Истории одного города». Датированное 1871 годом
1 Сб.: Н. Щедрин о литературе.— С. 498,
2 Т а м же.
274
письмо не было отправлено Щедриным по назначению и впервые
увидело свет только в 1913 году. Оно важно как факт биографии
Щедрина и в историю критики в свое время не вошло. И все же
подобные мысли Щедрин высказывал в других своих статьях,
например в цикле «Круглый год» (1879), и в какой-то мере они
не остались секретом. Многие суждения Щедрина сотрудники
«Отечественных записок» имели возможность слышать от него
устно, в личном общении. В частности, о значении такого обще-
ния рассказывает Михайловский в своих статьях о Щедрине.
Щедрин говорил об относительной свободе писателя-реали-
ста в обращении с художественной формой. В «Истории одного
города» ему, например, было удобно в форме исторической хро-
ники вести рассказ от лица архивариуса. Перерывы в повество-
вании, переходы, мотивировки органически сливались с общим
«глуповским» фоном «Истории одного города». Ошибка Сувори-
на в том, что он эту «историю» судил по меркам реальной исто-
рии России, совершенно забыв, что «иносказательный смысл
тоже имеет право гражданственности» в искусстве1. Нельзя
наивно, буквалистски толковать гротескные приемы писателя-
реалиста. Суворин вопрошал: какой же это реализм, если у гра-
доначальников вместо мозгов — фарш или органчик? Щедрин
парировал эти замечания следующим образом: «Ведь не в том
дело, что у Брудастого в голове оказался органчик, наигрывав-
ший романсы: «не потерплю!» и «раззорю!», а в том, что есть
люди, которых все существование исчерпывается этими двумя
романсами»2. Тут все дело в социальной функции гротеска. Точ-
но также нет никакого глумления со стороны сатирика над на-
родом, когда он выводит «глуповцев». Есть народ как вопло-
щение идеи демократизма, и есть народ исторический, живущий
в данный момент. И в его жизни может оказаться много черт,
достойных беспощадного осмеяния. Функции гротеска всегда
направленные, их нельзя судить по правилам будничной досто-
верности, формальной правильности по отношению к факту.
В «Круглом годе» (1879) Щедрин еще полнее охарактеризо-
вал свою манеру писать, которая некоторых современных ему
критиков постоянно вводила в заблуждение: «с кем они имеют
дело?» И Щедрин тут же прибегал к блестящему шаржу, еще
раз доказывая, какой великой мощью обладает его иносказание,
при помощи которого удается сказать все, что хочешь, а «при-
драться» цензуре нельзя.
В намерения Щедрина вовсе не входило только «обмануть
начальство». Существование писателя-сатирика «законами не
возбраняется»: в учебниках по риторике, «допущенных к обна-
родованию», предусмотрена и метафора, и аллегория, и синек-
доха, и метонимия, и эпиграммы, и сатира.
1 См. сб.: Н. Щедрин о литературе.— С. 523.
2 Т а м же.
18* 275
Иногда «эзопова» манера небезвыгодна: благодаря ей писа-
тель «отыскивает такие пояснительные черты и краски, в кото-
рых при прямом изложении предмета не было бы надобности, но
которые все-таки не без пользы врезываются в памяти читате-
ля»1. Щедрин дает понять, что поэтика его «эзоповой» речи, хо-
тя и навязана цензурными обстоятельствами, не может объяс-
няться только этой узкой причиной. Искусство многопланового
иносказания стимулирует разработку языка, новых оборотов,
приемов творчества, обогащает художественный реализм. Исто-
рик литературы не должен упрощать эту проблему, а брать ее во
всей полноте конкретного содержания и значения, как подска-
зывает сам Щедрин.
ГЛАВА 6
Внутренние противоречия в реалистической критике
1860—1870 годов
Спад революционной волны после 1861—1863 годов вызвал
кризис реалистической критики. Наступило разочарование в ра-
ционалистических прогнозах об историческом прогрессе. Сниже-
ние уровня критики выразилось в оживлении разного рода субъ-
ективистских, волюнтаристских теорий, и даже в пересмотре
«наследства».
Смерть Добролюбова, арест Чернышевского ослабили «Со-
временник». В середине 60-х годов более активную роль в кри-
тике начало играть «Русское слово». Методологически эта кри-
тика уступала критике корифеев «Современника». Но и в самом
«Современнике» теперь начали действовать менее даровитые
критики и публицисты: М. А. Антонович, Г. 3. Елисеев,
Ю. Г. Жуковский. В «Русском слове», особенно после ареста
Писарева, также выдвинулись новые, менее значительные фигу-
ры, как например В. А. Зайцев. Сотрудничали в нем, но менее
активно Н. В. Шелгунов, П. Н. Ткачев.
Критики обоих журналов считали себя по-прежнему верными
последователями Чернышевского и Добролюбова, по-прежнему
боролись со славянофилами и их газетой «День», с «почвенни-
ками» Страховым, братьями Достоевскими, издававшими жур-
налы «Время», «Эпоха», с либералами, сгруппировавшимися во-
круг «Отечественных записок» Краевского и Дудышкина, и, ра-
зумеется, с реакционерами Аскоченским, издателем «Домашней
беседы», Катковым и его сотрудниками в «Московских ведомо-
стях» и «Русском вестнике».
Оба прогрессивных журнала во многом были близки друг
другу. Недаром они одновременно приостанавливались властями
в 1862 году, а в 1866 году были вовсе закрыты. Аресту подверг-
лись Чернышевский, Писарев, Зайцев, позднее Шелгунов, Тка-
* Сб.: Н. Щедрин о литературе.— С. 587,
276
чев. Судьба их была до некоторой степени общей. Но наметился
и очень обрадовавший врагов «раскол в нигилистах». Полемика
между «Русским словом» и «Современником» была шумной,
грубой, опускавшейся до мелочности и личных обид. Те принци-
пиальные моменты, которые в ней были, одинаково относились
к обоим журналам: в чем-то каждый из них отстаивал наслед-
ство, а в чем-то его ревизовал.
Поводом к полемике послужила статья Щедрина в январ-
ском номере «Современника» за 1864 год из цикла «Наша об-
щественная жизнь», в которой Щедрин в очень спокойной фор-
ме, но убедительно обвинил «Русское слово» в «понижении
тона» критики, преувеличении исторической роли интеллиген-
ции, односторонних увлечениях популяризацией науки, естест-
вознания, в забвении социально-общественных «жизненных тре-
петаний». Замечания Щедрина были совершенно своевременны-
ми. «Русское слово» действительно склонялось к либерализму,
допускало вульгаризаторские концепции, особенно в статьях Зай-
цева («зайцевская хлыстовщина») и Писарева. Последний отве-
тил статьей «Цветы невинного юмора». Антонович в статье «Со-
временная эстетическая теория» в свою очередь намекнул на
вредный, анархический характер «разрушения эстетики» Писа-
ревым. Писарев еще раз отвечал в статье «Реалисты», справед-
ливо обвиняя Антоновича в теоретическом отходе от Чернышев-
ского. Сделал свои выпады и Зайцев в статьях «Перлы и адаман-
ты русской журналистики» и «Глуповцы, попавшие в
«Современник». Полемика затронула оценку отдельных писате-
лей, произведений, героев произведений. Писарев выразил несо-
гласие с Добролюбовым, якобы переоценивающим значение об-
раза Катерины в «Грозе» Островского («Мотивы русской дра-
мы»). Критики «Современника», в особенности Антонович,
выступили с необоснованно уничтожающим разбором образа
тургеневского Базарова («Асмодей нашего времени»), расхва-
ленного Писаревым. Большую бестактность допустил Зайцев в
одной из рецензий, фактически оправдывавшей рабство негров
в буржуазном мире. «Современнику» ничего не стоило камня на
камне не оставить от такого рода «разухабистой» «нигилисти-
ческой ерунды» Зайцева. Несомненно, в целом эта полемика
еще более ослабляла демократический лагерь. Щедрин вскоре
отошел от полемики, не одобряя «грызню» Антоновича и Зайце-
ва, тон их статей, затем и вовсе вышел из состава редакции
«Современника».
В полемику ввязывались, чтобы заодно свести счеты с тем
и с другим демократическим журналом, реакционные публици-
сты. Не удержался и Достоевский. Он еще в 1861 году спорил
с Добролюбовым по вопросу о целях искусства, а в 1864 году
написал памфлет «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах».
С 1868 года Щедрин и Некрасов снова начали борьбу за
реализм в обновленных «Отечественных записках», между про-
277
чим, не допустив к участию в журнале Антоновича, Жуковского,
Зайцева и пригласив в него для сотрудничества вышедшего из
крепости Писарева, который, отбросив прежние журнальные рас-
при, обнаружил искреннее стремление к сближению с новой ре-
дакцией «Отечественных записок».
Источники
Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.: В 15 т. 16-й т. дополи.— М.,
1939—1953. В I т.— воспоминания Чернышевского о Добролюбове, Некрасо-
ве; во II т.— эстетические статьи, диссертация; в т. Ill, IV, V, VII, VIII —
главные критические статьи,
Чернышевский Н. Г. Литературная критика: В 2 т.— М., 1981,
Добролюбов Н. А. Собр. соч: В 9 т.— М., 1961—1964.
Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3 т.— М., 1950—1952.
Писарев Д. И. Соч.: В 4 т.— М., 1955—1956.
Писарев Д. И. Литературная критика: В 3 т.— Л., 1981.
Щедрин Н. (Салтыков М. Е.) О литературе.— М., 1952.
Салтыков-Щедрин М. Е. Литературная критика.— М., 1982.
Литература
Плеханов Г. В. Литература и эстетика: В 2 т.— М., 1958.
Б у р с о в Б. И. Вопросы реализма в эстетике революционных демокра-
тов.— М.; Л., 1953.
Лаврецкий А. Эстетические взгляды русских писателей.— М., 1963.
Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за
реализм.— 2-е изд.— М., 1968.
Руденко В. Ф. История критики: Русская революционно-демократи-
ческая критика 50—60-х годов XIX в.— Одесса, 1971.
Курилов А. С. Традиции русской критической мысли.— М., 1974.
Ильин В. В. Русская реальная критика переходного периода.— Смо-
ленск, 1975.
Зельдович М. Г. Уроки критической классики.— Харьков, 1976.
Соколов Н. И. Критики и литература: Из истории русской литера-
туры и критики второй половины XIX в.— Л., 1977.
Рюриков Б. С. Идеологические основы эстетики.— М., 1978.
Белинский. Чернышевский. Добролюбов.— М., 1980.
Егоров Б. Ф. О мастерстве литературной критики: Жанры. Компози-
ция. Стиль.— Л., 1980.
Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX в.—
Л., 1982.
Козьмин Б. П. Литература и история.— 2-е изд.— М., 1982.
Академические школы в русском литературоведении.— М., 1975.
Проблемы типологии русского реализма.— М., 1969.
Евгеньев-Максимов В, Е. «Современник» при Чернышевском и
Добролюбове.— М., 1936.
,278
Евгеньев-Максимов В. Е. Последние годы «Современника».
1863—1866,—Л., 1939.
Шестидесятые годы.— М.; Л., 1933.
Шестидесятые годы.— М., 1940.
Сикорский Н. М. «Современник»— журнал революционной демокра-
тии 60-х годов XIX в.— М., 1962.
Теплинский М. В. «Отечественные записки». 1868—1884: История
журнала. Литературная критика.— Южно-Сахалинск, 1966.
Варустин Л. Э. Журнал «Русское слово». 1859—1866.— Л., 1966.
Кузнецов Ф. Ф. Публицисты 1860-х годов.— М., 1969.
Б урсо в Б. И. Чернышевский как литературный критик.— М.; Л., 1951.
Бурсов Б. И. Мастерство Чернышевского-критика.— 2-е изд.— Л.. 1959.
Зельдович М. Г. Чернышевский и проблемы критики.— Харьков, 1968.
Покусаев Е. И. Н. Г. Чернышевский: Очерк жизни и творчества.—
5-е изд.— М., 1976.
Соловьев Г. Д. Эстетические воззрения Чернышевского.— 2-е изд.—
М., 1978.
II. А. Добролюбов — критик и историк русской литературы.— Л., 1963.
Жданов В. В. Николай Александрович Добролюбов.— М., 1961.
Наумова М. А. Социологические, философские, политические и эсте-
тические взгляды Н. А. Добролюбова.— М., 1960.
Лебедев А. А. Драматург перед лицом критики.— М., 1974.
Плоткин Л. А. Д. И. Писарев: Жизнь и деятельность.— М.; Л., 1962.
Симкин Я. Р. Жизнь Дмитрия Писарева: личность и публицистика.—
Ростов-на-Дону, 1969.
Ильин В. В. Писарев и Пушкин.— Смоленск, 1972.
Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты: Опыт критической характери-
стики.— Л., 1972.
Конкин С. С. Эстетические и литературно-критические взгляды
Д. И. Писарева.— Саранск, 1990.
Борщевский С. Щедрин и Достоевский: История их идейной борь-
бы.— М., 1956.
ГЛАВА 7
«Неославянофильская» и «почвенническая» критика
Непосредственными продолжателями романтической славя-
нофильской критики была так называемая «неославянофиль-
ская», или «младомосквитянинская» группа критиков во главе
с Аполлоном Григорьевым (Т. Филиппов, Б. Алмазов). В 1850—
1856 годах они обосновались в журнале «Москвитянин» и пыта-
лись проводить линию, во многом напоминавшую линию «ста-
рых» славянофилов. Но, в отличие от них, неославянофилы не
так рьяно боролись с западным влиянием и чувствовали себя по
279
сравнению со славянофилами-дворянами большими демократа-
ми. Носителем подлинной русской народности они считали сред-
ний слой русского общества — купечество и стремились про-
возгласить певцом этой народности Островского. Но неославяно-
филы просуществовали недолго, их разъединяли внутренние
противоречия. Сам А. Григорьев сблизился с народившейся в
60-х годах новой разновидностью консервативно-романтической
критики —«почвенничеством», глашатаями которого выступали
критик и философ Н. Н. Страхов, Ф. М. Достоевский и его стар-
ший брат М. М. Достоевский, издававшие журналы «Время» и
«Эпоха».
Ввиду значительности фигуры А. Григорьева целесообразно
сосредоточить внимание прежде всего на его критической дея-
тельности, а затем перейти к собственно «почвенникам». Затем
мы остановимся на критиках либерально-буржуазного лагеря —
Каткове, Суворине, которые в тактике прислужничества перед
самодержавием сильно отличались в худшую сторону от своих
предшественников из группы «чистого искусства».
Аполлон Александрович Григорьев (1822—1864). Григорьеву
долго в нашем литературоведении «не везло»: почти не появля-
лись о нем работы советских литературоведов. Вследствие это-
го, конечно, обеднялось представление о русской критике, о раз-
нообразии ее школ и о ее внутренних противоречиях. В послед-
нее время появился ряд ценных работ о Григорьеве (У. А. Гу-
ральника, Б. Ф. Егорова и др.).
У некоторых поклонников критика было пристрастие выдви-
гать на первый план только положительные стороны его деятель-
ности. Ближайшие друзья Григорьева, например Страхов, заяв-
ляли, что не Белинский, Добролюбов и Писарев, а именно Гри-
горьев является «лучшим нашим критиком, действительным
основателем русской критики. Ему принадлежит единственный
существующий у нас полный взгляд на русскую литературу...»1.
Григорьев очень любил Москву, он воспел родное Замоскво-
речье («Мои литературные и нравственные скитальчества»). Не-
сомненен его демократизм (кстати, его дед был крепостным).
Григорьев сочувствовал скромным людям, символически связы-
вал их тип с образом Ивана Петровича Белкина. Развитие таких
героев он внимательно прослеживал в русской литературе и осо-
бенно в творчестве «натуральной школы». Филантропическую
линию в ней он броско назвал «школой сентиментального нату-
рализма». Но если брать главное в критике Григорьева, его
методологию и его цели, то нельзя не согласиться с тем же Пи-
саревым: «Очевидно, все развитие нашей умственной жизни шло
вразрез с симпатиями и стремлениями Григорьева»2. Консерва-
1 Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л, Н. Тол-
стом.— 4-е изд.— Киев, 1901.— С. 236.
2 Писарев Д. И. Соч.—М., 1956 —Т, 3 —С. 253.
280
тивно-романтическая отвлеченность «неославянофильских» и
«почвеннических» критериев приводила Григорьева к пренебре-
жению такими вопросами, умалять значение которых было нель-
зя и над решением которых билась вся великая, честная рус-
ская демократическая критика.
Например, Григорьев писал, сознательно расставляя в скоб-
ках возможные возгласы и недоумения читателей: «Если вопрос
и глубже п обширнее по своему значению всех наших вопросов —-
и вопроса (каков цинизм?)о крепостном состоянии, и вопроса
(о ужас!) о политической свободе. Это вопрос о нашей умствен-
ной и нравственной самостоятельности»1. По Григорьеву выхо-
дило, что искомая им духовная самостоятельность русских лю-
дей будто бы была возможна без решения коренных вопросов о
политической свободе в России.
Вопрос об оригинальности взглядов Григорьева до сих пор
остается спорным. У Григорьева много парадоксов, трюизмов и
софизмов. Часто одно за другим следовавшие положения взаим-
но исключали друг друга. Смысл его деятельности, конечно, не
сводим к той или иной ошибочной пли неудачной формулировке.
Но и самые запоминавшиеся его формулировки — а он был боль-
шим мастером на них — часто в конечном счете восходили к уже
известному в русской критике. Григорьев бросил фразу: «Пуш-
кин— это наше все...». Но Белинский уже говорил о Пушкине—-
поэте, призванном историей «явить на Руси поэзию как искусст-
во». Григорьев говорил о Белинском: «У него были ключи к сло-
вам его эпохи». Но подобное уже было не раз сказано о Белин-
ском многими мемуаристами, например Тургеневым, который
назвал Белинского «центральной натурой» своего времени. Гри-
горьев ввел понятие литературное «веяние», но нетрудно заме-
тить, как оно неопределенно и малопродуктивно.
Журнально-критический путь Григорьева был крайне проти-
воречивым. «Неославянофильский» период в его деятельности
падает на 1848—1856-е годы. С конца 1850 года Григорьев стал
главным критиком «Москвитянина». Вокруг журнала сгруппиро-
вались: Т. И. Филиппов, Б. Н. Алмазов, Е. Н. Эдельсон,
Л. А. Мей, Н. В. Берг, А. А. Потехин. Примыкал к группе одно
время и Островский. К этому периоду относятся статьи Григо-
рьева:. «Русская литература в 1851 году», «Русская изящная ли-
тература в 1852 году», «О комедиях Островского и их значении
в литературе и на сцене». Пытался он участвовать в славяно-
фильской «Русской беседе», поместив в ней статью «О правде
и искренности в искусстве» (1856). Статья «Критический взгляд
на основы, значение и приемы современной критики искусства»
появилась в «Библиотеке для чтения» (1858). Обозначились
большие противоречия между Григорьевым и славянофилами,
1 Письмо А. Григорьева к Н. Страхову от 18 июля 1861 г. опубликова-
но в журнале «Эпоха» (1864.— № 9.— С. 12).
281
Григорьевым и сторонником «чистого искусства» Дудышкиным.
Григорьев очень тяжело переживал свое духовное одиночество
и помышлял о том, чтобы вовсе оставить литературно-критиче-
скую деятельность.
В 1858—1861 годах Григорьев несколько сблизился с пози-
циями демократов. Сказался характерный для тех лет общест-
венный подъем. На страницах «Русского слова», «Светоча» Гри-
горьев стал бороться с «чистым искусством». Он признал поло-
жительное и актуальное значение мотивов протеста в поэзии
Лермонтова, в творчестве Тургенева, Герцена («Взгляд на рус-
скую литературу со смерти Пушкина», «И. С. Тургенев и его
деятельность», «После «Грозы» Островского»).
Но идеи «органической критики» не случайно привели Гри-
горьева в журналы «почвенников» братьев Достоевских—«Вре-
мя» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865). Здесь им были по-
мещены статьи «О развитии идеи народности в нашей литера-
туре», «Стихотворения Н. Некрасова», «По поводу нового изда-
ния старой вещи» (т. е. «Горя от ума»), «Литературная деятель-
ность графа Л. Толстого».
В последние два года жизни, когда Григорьев сотрудничал
в журнале Ф. Т. Стелловского «Якорь», он определенно занимал
реакционные позиции.
Мы не будем подробно прослеживать эволюцию взглядов
Григорьева. Нам важно в целостности представить их основные
особенности.
Что значит «органическая критика»? Это понятие ввел Гри-
горьев, чтобы отличить свою критику от уже существовавшей
«философской», «художественной», «исторической», «утилитар-
ной», «реальной» критики. Наиболее полно Григорьев охаракте-
ризовал ее принципы в статьях «О правде и искренности в искус-
стве» (1856), «Критический взгляд на основы, значение и приемы
современной критики искусства» (1858), «Несколько слов о зако-
нах и терминах органической критики» (1859), «Парадоксы ор-
ганической критики» (1864).
«Органическая критика» оказывала предпочтение «мысли
сердечной» перед «мыслью головной», ратовала за «синтетиче-
ское» начало в искусстве, за «рожденные», а не «деланные»*
произведения, за непосредственность творчества, не связанного
ни с какими научными, теоретическими системами. Несомненно,
«органическая критика» была системой, построенной на отрица-
нии детерминизма, социальной сущности искусства. Эта поздне-
романтическая теория искусства превратно истолковывала неко-
торые положения раннего Белинского и смыкалась с «почвенни-
чеством». В общем она имела консервативный смысл. Но
благодаря несомненной личной талантливости Григорьева «орга-
1 Григорьев Аполлон. Собр. соч./Под ред. В. Ф. Саводника.— М.,
1915,—Вып. 2,— С. 70.
282
ническая критика» была одним из самых серьезных противников
реализма, тем более что иногда высказывала и верные суждения.
В статье «Критический взгляд на основы, значение и приемы
современной критики искусства» Григорьев обвинял демократи-
ческую критику в трех ошибках и «беззакониях». По его мне-
нию, она слишком увлекалась связями искусства с общественны-
ми вопросами, в каждом произведении искала преднамеренные
цели, превратила произведения искусства «в орудие готовой тео-
рии»1. Собственно, все три «греха», отмечаемые Григорьевым,—
вариации первого «греха»: искусство подчинили общественным
интересам.
Но Григорьев вовсе не ратовал за «чистое искусство». У него
была своя программа, связанная, как ему казалось, не с «момен-
тами» истории, а с «вечными» проблемами бытия. Об относитель-
ности и тенденциозности своей программы он не догадывался,
искренне веруя, что она воплощает в себе законы «органического
искусства» и «органической критики». Последняя, кстати ска-
зать, рассматривалась им также как своего рода искусство, спо-
соб постижения прекрасного.
«Критик,— писал он,— ...есть половина художника, может
быть, даже в своем роде тоже художник, но у которого судя-
щая, анализирующая сила перевешивает силу творящую. ...Об-
ладая в высшей степени отрицательным сознанием идеала, он
чувствует (не только знает, но и чувствует, что гораздо важнее),
где что не так, где есть фальшь в отношении к миру души или
к жизненному вопросу, где не досоздалось или где испорчено
ложью воссоздание живого отношения»2.
Жизнь бесконечна, душа человека всегда едина, ее стремле-
ния к идеалам правды, красоты и любви вечны. Та критика, ко-
торая исходит из понятия об исторической относительности этих
идеалов и стремлений, не имеет твердых критериев, довольст-
вуется «частью истины», принимая ложь мимолетных историче-
ских отрезков времени за истину. Нет относительных истин, есть
только истины абсолютные. Нарушая традиции диалектического
мышления в русской критике, не признавая конкретного исто-
ризма и не умея соотнести понятия об истине абсолютной и исти-
не относительной, Григорьев бросал своеобразный вызов тради-
ции мышления: «не вечная правда судится и измеряется века-
ми, эпохами и народами, а века, эпохи и народы судятся и разме-
ряются по мере хранения вечной правды души человеческой и
по мере приближения к ней»3.
Но что же такое вечные начала человеческой души? Григорь-
ев в ответ ничего, кроме бесплодных абстракций, предложить не
мог. Какая сила заставляет людей из века в век бороться за свои
1 Григорьев Ап. Собр. соч./Под ред. В. Ф. Саводпика.— М., 1915.—
Вып. 2.— С. 73.
2 Григорьев Ап. Литературная критика.— М., 1967.— С. 127.
3 Т а м ж е.— С. 135.
283
идеалы? Григорьев уводил критику от уже закрепленных Белин-
ским, Герценом, Чернышевским и другими демократами важней-
ших положений диалектики, материализма и историзма. Он
перепевал на новый лад те положения, которые уже были у фи-
лософских романтиков, у славянофилов и нищету, бесплодность
которых доказало время. Он вращался в кругу романтических
отвлеченностей: «Для того, чтобы вера была живою верою, нуж-
но верить в непреложность, непременность, единство того, во что
веришь»1. Так легко было впасть в любую форму символики и
софистики. Кстати, позднее символисты, опираясь именно на ав-
торитет «последнего романтика» Григорьева, и обнаружат склон-
ность к таким построениям.
Трудная «уязвимость» Григорьева заключалась в том, что,
оказывая предпочтение «сердцу» перед «разумом», он решитель-
но восставал против «бессознательности» искусства (Григорьев
был за синтез обоих начал), не признавая историзма, он требо-
вал «органического исторического чувства» от художников.
«Органическая критика» могла похвалиться тем, что стара-
лась удерживать в единстве оба начала в художественном произ-
ведении: «что сказано» с тем, «как сказано». Но как ни часто
касался Григорьев вопроса о капризной творческой индивиду-
альности художника, он, по существу, сказал о ней дельного и
конкретного меньше, чем критики-демократы. Григорьев пред-
ставлял себе писателя внесоциальным, неисторическим явлени-
ем, подходил к нему с отвлеченными критериями романтической
эстетики.
Григорьев считал своим учителем раннего Белинского. Он хо-
тел опереться на учение Белинского «о бессознательности» твор-
чества, о высокой роли искусства. Григорьев даже сетовал, что
в его время многие заветы Белинского «перезабыли», искази-
ли. Но одновременно он считал, что в сороковые годы Белинский
изменил себе, стал утилитаристом в критике. Из этого можно
сделать вывод, что Григорьев сам не понял главного в наследии
Белинского, искажал его.
Григорьев снова вернулся к обсуждению проблемы Гоголя
и «натуральной школы». Он упрекал Белинского за то, что тот
должным образом не оценил стремление позднего Гоголя изоб-
ражать идеальные стороны русской жизни; Григорьев положи-
тельно оценивал «Выбранные места из переписки с друзьями».
Но нельзя не признать определенной ценности указаний Гри-
горьева на гротескную особенность реализма Гоголя. В статье
«Русская изящная литература в 1852 году» есть тонкие рассуж-
дения об особенностях гоголевского «комизма». Этот комизм от-
личается от смешного у других писателей. Его нельзя мерить
меркой простой обыденности, хотя форма его обыденная, все де-
тали, мелочи до скрупулезности верны действительности. Но
1 Григорьев Ап. Литературная критика.— М., 1967.— С. 150,
284
ведь при этом у Гоголя наблюдается и масса несообразностей,
почти «дерзостей»: бог знает, что творится в «Ревизоре», Подко-
лесин в «Женитьбе» выпрыгивает из окна. Такой гротеск Гри-
горьев объяснял следующим образом. Космические размеры
комического у Гоголя вырастали из того обстоятельства, что
его произведения верны не действительности (правильнее было
бы сказать не только верны действительности в будничном пони-
мании.— В. К-), а «общему смыслу действительности», находя-
щейся в противоречии с идеалом. Белинский уже отмечал про-
тиворечия у Гоголя между идеалом и действительностью. Но Бе-
линский только показал социальные истоки критического пафоса
творчества Гоголя, а те уродливые формы, которые порождает
это противоречие в самой фактуре образов «Мертвых душ», не
раскрыл. Между тем Гоголь создавал свой особый комический
мир, домысливая, заостряя, преувеличивая все смешное по за-
конам логики самой извращенной действительности. И выходи-
ло, что гоголевская «ненатуральность» оказывалась вернее вся-
кой частной, поверхностной натуральности, типы получались
глубокой обобщенности и ослепительной яркости.
Но в этом пункте у многих исследователей, вольно или не-
вольно, часто происходила ошибочная переориентировка поня-
тий. Гоголевские типы объявлялись не образами реальных лиц,
а фантомами, плодами разыгравшейся фантазии писателя. Меж-
ду тем, проникая в природу гротеска Гоголя и подчеркивая,
например, вслед за Григорьевым важность создаваемого Гоголем
комического мира, нужно не потерять ариаднину нить в этих
построениях. Надо помнить, что мы говорим о форме реализма,
пусть о марионеточном мире, но в конечном счете восходящем
к миру реальному, к отрицаемой русской социальной действи-
тельности. Григорьев не сделал ошибочных выводов, он указал
только на масштаб комического у Гоголя и его причудливую
форму. Но в его толковании гоголевского «идеала», в частности
в «Выбранных местах», были тенденции к извращению всей
проблемы комического, как это наблюдалось в работах Шевыре-
ва и позднее у Белого.
Грехом «натуральной школы» Григорьев считал доведение
комизма Гоголя до грубой социальной сатиры, а его бытового
реализма —до голого натурализма. Но сам Григорьев ошибался
в этих случаях. В комизме Гоголя была социальная, сатириче-
ская жилка. А в так называемом натурализме «натуральной
школы» не было рабского копирования действительности. Это
был тот же реализм, но более «сознательный», расширившийся
в своей тематике. Введенное Григорьевым понятие «сентимен-
тальный натурализм» имело отрицательный оттенок, указание
на ложную филантропию школы, отбрасывавшую ее к карам-
зинизму. Но иногда ирония Григорьева сдерживалась, и он го-
ворил о разработке всей русской литературой образа маленько-
го человека, восходящего к пушкинскому Белкину, и в этом про-
285
цессе «школе сентиментального натурализма» принадлежала
определенная роль.
Григорьев полагал, что теперь это социально-обличительное
и «филантропическое» направление умерло в русской литерату-
ре. Умерло и «лермонтовское» космополитическое направление,
любовавшееся образами эгоистов, «хищников», демонов, каким
является Печорин.
Народилось третье направление, «органическое», ярчайшим
представителем которого Григорьев считал Островского, обла-
давшего «коренным русским миросозерцанием, здоровым и спо-
койным, юмористическим без болезненности, прямым без увле-
чения...»1.
Григорьев приписывал себе честь открытия Островского. И он
действительно был одним из первых, кто громко сказал о появ-
лении нового большого таланта. Новаторство Островского Гри-
горьев видел в следующем: в «новости» изображенного быта, в
«новости» отношения автора к этому быту, в «новости» манеры
изображения. Но Григорьев все же извращал облик писателя.
Он трактовал Островского как певца русских нравов, умеющего
показывать и «идеалы». Григорьев полемизировал с Добролю-
бовым, его социальным истолкованием Островского как обли-
чителя «темного царства».
В статье «После «Грозы» Островского» Григорьев оспаривал
утверждение Добролюбова, что Катерина — образ «протестую-
щий»; Островский не сатирик, а «народный» писатель. Попутно
отметим: Григорьев не проводил различий между понятиями
«народный» и «национальный», в теоретическую разработку
этих важных вопросов он ничего нового не вносил. Само разгра-
ничение этих понятий у него просто снималось, так как и «народ-
ное» и «национальное» он понимал как «органическое» единение
всех слоев нации в духе некоего единого миросозерцания. В этом
смысле, по его мнению, и был народен Островский. Григорьев
подчеркивал при этом, что с примитивной простонародностью
Островский не имел ничего общего. А как же быть с замоскво-
рецким бытом, он ли не простонароден? Добролюбов ясно гово-
рил, что Островский поднимается до общечеловеческих интере-
сов, показывая и в «темном царстве» пробивающиеся «лучи све-
та». Григорьев понимал «идеалы» Островского иначе. Для него
русское купечество, целиком взятое, и было хранителем русской
национальности, «почвой» русской народности.
Во всех суждениях Григорьева весьма ощутимо стремление
приспособить различных писателей к своей собственной доктри-
не. Приведем несколько примеров.
Грибоедовский Чацкий объявлен «единственным истинно ге-
роическим лицом нашей литературы». Почему же «единствен-
ным»? Это было сказано для того, чтобы зачеркнуть современное
1 Григорьев Аполлон. Литературная критика.— С. 61.
286
обличительное направление. Григорьеву важно, что у Чацкого
«честная деятельность», он «лжи не спустит», он ратовал за все
русское (монолог о французике из Бордо). В этом-то «русском»
и все дело.
Из всех тургеневских образов Григорьев особенно ценил Лав-
рецкого, севшего на почву, идеалом которого было «пахать зем-
лю... и стараться как можно лучше ее пахать». Лаврецкий —
«сознание нашей эпохи». Лаврецкий — это не Рудин, отрешен-
ный от почвы, и не никчемный Белкин, сливающийся с серыми
буднями. Лаврецкий — живой человек, связанный со всеми на-
шими преданиями, прошедший все бездны страданий, верующий
в народ и смиряющийся перед народной правдой и еще более
высоким критерием, христианством. И беспощадный анализ у
Л. Толстого устремлен на то, чтобы добраться до «почвы», до
простых «основ», до «первоначальных слоев» во всем.
Белкин, Максим Максимыч, капитан (из «Рубки леса» Тол-
стого) не сами по себе ценны, «они — критические контрасты
блестящего и, так сказать, хищного типа, которого величие ока-
залось на нашу душевную мерку несостоятельным, а блеск фаль-
шивым». Значение их, кроме того, в «протесте всего смиренного,
загнанного, но между тем основанного на почве в пашей приро-
де». Вот что берет Григорьев у Толстого — элементы созре-
вающей «теории опрощения». А если и касается критического па-
фоса Толстого, то не в социальном, а в «почвенническом» аспек-
те, согласно которому смирение оказывается природной чертой
русских людей.
Демократа Некрасова Григорьев целиком принять не мог. Он
не отрицал таланта поэта и его популярности. Но Григорьев об-
винял Некрасова в том, что он «слишком» отдавался своей му-
зе: «Ведь одной поэзии желчи, негодования и скорби слишком
мало для души человеческой». Идеалов Некрасова Григорьев не
разделял, народности в его поэзии не видел. Некрасов для Гри-
горьева пример не цельного, а одностороннего поэта, отдававше-
гося желчи негодования.
Мы видим, что Григорьев во многих случаях просто ошибал-
ся, во многих останавливался перед важными открытиями (Го-
голь, Островский, Толстой). Но вполне обосновать своп наблю-
дения он не смог, так как абстрактно-романтический подход к
литературе сужал его горизонт и вносил сбивчивость даже в от-
дельные верные наблюдения.
Николай Николаевич Страхов (1828—1896). Страхов (псев-
доним— Косица) — деятельнейший критик «почвеннического»
направления. Если А. Григорьев был мостом от «неославяно-
фильства» к «почвенничеству», то Страхов — мостом от «почвен-
ников» к символистам. Уже Страхов выделял наиболее симпа-
тичных ему поэтов, жрецов чистой формы, ритма, полутонов —
А. Майкова, Полонского, Фета, Тютчева, А. Толстого, которых
поднимут на щит позднее В. Соловьев и символисты. Страхов
287
считал их особой «школой» талантов, как бы помня завет Хомя-
кова— собрать воедино «русскую школу» в искусстве.
Некрасов вызывал неприязнь Страхова как претендент на
звание выразителя дум народа. Страхов старался дискредитиро-
вать Некрасова, называя его «первообразом наших обличитель-
ных поэтов», почти куплетистом, который «не прочь грустно под-
делываться или тоскливо поглумиться над народом», не зная на
самом деле, чем живет русский народ (статьи «Некрасов и По-
лонский», «Некрасов — Минаев — Курочкин», напечатанные в
журнале «Заря» в 1870 г.).
Излюбленными темами Страхова были следующие: борьба с
западными влияниями в русской литературе (на эту тему у него
есть специальный сборник статей; история русского «нигилиз-
ма» и борьбы с ним (есть также специальны?! сборник статей);
творчество Пушкина, которое Страхов противопоставлял как
недостижимый идеал всем современным русским и мировым пи-
сателям; творчество Тургенева и Л. Толстого, которых он расце-
нивал с точки зрения борьбы в русской литературе «нигилисти-
ческих» и «почвеннических» начал.
Под широко понимаемым «нигилизмом» Страхов подразуме-
вал отрицание сложившихся форм жизни, явление, навеянное
Западом, но по своей стихийно-дилетантской сути оказавшееся
чисто русским. Образцовое обличение «нравственного хаоса ни-
гилизма», поднявшегося до отцеубийства, он увидел в «Братьях
Карамазовых», а самую фамилию Карамазов считал фатально
напоминающей фамилию Каракозов. Нигилизм превращался в
кличку, под него старательно подводились все литераторы враж-
дебного лагеря. Наиболее неугодными для «почвенников» были,
конечно, демократы и революционеры. «Освобождение кресть-
ян,— жаловался Страхов,— как будто подало лозунг ко всяче-
скому освобождению умов»’. Но Страхов старался возвысить
«почвенничество» над обеими крайностями — над «славянофиль-
ством» и над «западничеством», хотя, по существу, склонялся к
первому и только хотел его несколько приспособить к новым
условиям. В критических очерках сборника «Бедность нашей ли-
тературы» (1868) Страхов упрекал славянофилов в том, что они
слишком убаюкивали себя иллюзиями, будто после Петра I ос-
тались еще живы на Руси какие-то старые коренные начала, а
«западников» он критиковал за то, что они породили нигилизм,
т. е. полное отрицание «почвы».
«Бедна наша литература,— восклицал Страхов,— но у нас
есть Пушкин»* 2. Пушкин и должен был всех примирить, он —
твердая почва. В статье «Несколько запоздалых слов» (1866),
’ Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Тол-
стом.— 4-е изд.— Киев, 1901.— Т. 1.— С. VIII (из предисловия ко второму
изданию).
2 Страхов Н. Бедность нашей литературы: Критический историче-
ский очерк.—СПб., 1868.— С. 54.
288
затем в сборнике «Заметки о Пушкине и других поэтах» (1888)
Страхов не только взял под защиту Пушкина от «брани» Писа-
рева, но и заявил в духе А. Григорьева, что для нас «с именем
Пушкина неразлучно связано какое-то очарование», а оно состо-
ит во вселенской «отзывчивости» Пушкина. Поэт со своей «ду-
шевностью» после всех столкновений с чужими мирами выра-
ботал нашу «особенность». Вследствие этого Пушкин—«наше
все», представитель нашего «полного душевного здоровья».
«Почвенники» сожалели, что Пушкин все еще «терпит обиду не-
понимания»1. За всей этой особой апологией Пушкина скрывал-
ся старый дружининский тезис о гармоническом Пушкине, кото-
рого надо противопоставлять сатирику Гоголю, а теперь «ниги-
листам». Это была попытка еще раз корыстно истолковать Пуш-
кина. В свете старательно подчеркиваемой провиденциальной
роли Пушкина смазывалось его личное новаторство как поэта:
Пушкин якобы законно брал все у предшественников, но «ново-
вводителем» не был. Нет никакого смысла, говорит Страхов, в
обычно употребляемых выражениях «пушкинский стих», «пуш-
кинский слог».
Тургенев и Л. Толстой осмыслялись Страховым по контрас-
ту; один как певец «нигилизма», другой как певец подлинной
«черноземной силы». Контраст особенно подчеркивался тем, что
критические статьи о Тургеневе и Толстом более чем за два-
дцать лет были объединены Страховым в отдельный сборник
(1885).
Тургенев сначала казался Страхову человеком, преклоняю-
щимся перед Базаровым. Но потом Страхов стал по-иному тол-
ковать смысл романа Тургенева: Тургенев якобы выделял База-
рова лишь на фоне тщедушных людей; но за «миражами» внеш-
них действий Базарова льется «неистощимый поток жизни»,
и эта жизнь создает светлый фон в романе Тургенева. Вера в
«вечные начала человеческой жизни»,— заявлял Страхов,— ис-
тинная философия Тургенева. Страхов в корне искажал идею
«Отцов и детей» и позицию Тургенева. Так же тенденциозно
Страхов обошелся и с другими романами Тургенева. Он не при-
нимал пессимизма Литвинова в романе «Дым» и оптимизма Со-
ломина в романе «Новь», как слишком искусственных, прежде
всего, с точки зрения «почвеннических» начал. «Не дым все
русское!»—восклицал Страхов в специальной рецензии на этот
роман (1867). Ставилась Тургеневу в упрек его долгая жизнь
за границей, отрыв от родины («Поминки по Тургеневу», 1883).
Зато главная сила Л. Толстого представлялась Страхову в
«вере в жизнь», в семейное, родовое начало, справедливость и
красоту и в проистекавшем отсюда «очень тонком понимании
простого народа». Толстой — несравненный психолог, стремя-
1 Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах.— СПб., 1888,—
С. 16.
19 Заказ № 1367
289
щийся к тому, чтобы по крупицам, путем глубочайших проник-
новений в души людей собрать «идеалы истинной жизни», ука-
зать на препятствия для их достижения, и отсюда у него «ува-
жение к истории». Толстой в поисках идеалов вторгается во все
сферы жизни. Он психолог и обличитель, «реалист» (этот важ-
ный термин Страхов употребил по отношению к Толстому мно-
го раз).
Этим особенным видением Толстого и объясняется то обстоя-
тельство, что Страхов оказался единственным критиком, или од-
ним из малого их числа (включая сюда и П. В. Анненкова), ко-
торый высоко оценил роман «Война и мир», встреченный, как
известно, в критике осудительно, слева и справа.
Страхов указал на новые, еще не замеченные черты психоло-
гизма писателя. Все лица у Толстого не только имеют ярко выра-
женную физиономию, а «растут» на протяжении романа; Тол-
стой умеет раскрывать «родственное сходство тех душ, которые
связаны родством по крови». Таковы все Ростовы, Болконские,
Курагины. Мы чувствуем, что Соня, живущая в доме Росто-
вых,— существо совсем «другого корня»; каждое чувство рас-
крывается Толстым не только само по себе, но еще и усложняет-
ся всеми порождаемыми им «отзывами». Толстой — мастер со-
вмещения различных планов в одном психологическом эпизоде.
Но все эти особенности поэтики Толстого-психолога Страхов
сводил к следующей внесоциологической схеме: Толстой — певец
народной, «органически сложившейся жизни» (Мережковский по-
том назовет Толстого «ясновидцем плоти»), обличитель, но не
социальных зол, а всего искусственного, наносного, напускного,
нерусского. Патриотизм и народность «Войны и мира» сильно
извращались Страховым. А в «Анне Карениной» он увидел ото-
бражение лишь «вечных вопросов жизни», страстей души. Так
отрицалось всякое социальное значение романа. Страхов считал,
что «Анна Каренина» подводит к мысли о религии как выходу
из хаоса и отчаяния («Взгляд на текущую литературу», 1883).
При всей ошибочности посылок и выводов Страхов иногда
приходил к верным наблюдениям. Остановимся на двух случаях.
Тут важно точно провести границы полезности: где мысль кри-
тика остается правильной и где она переходит в свою противо-
положность.
Страхов в статье «Об иронии в русской литературе» (1875)
снова поднял вопрос об особой субъективной призме, через кото-
рую Гоголь рисовал реалистические полотна русской жизни. Мы
помним заслуги в этом вопросе Белинского, Чернышевского, Не-
красова, А. Григорьева. Конечная цель Страхова — доказать, что
демократическая критика все еще не понимает Гоголя, что «тьма
низких истин» не была главной целью Гоголя. Но, в отличие от
Шевырева и К- Аксакова, Страхов не подвергает сомнению реа-
лизм Гоголя. Все дело в своеобразии этого реализма. По-види-
мому, говорит Страхов, ничего нет реальнее «Мертвых душ».
290
<>голь описывает величайшие мелочи с полнейшей верностью и
ючностью. Этим нередко и ограничивается представление о реа-
шзме Гоголя. Но ведь сила Гоголя не в том, что факты действи-
юльности верно воспроизведены, а в том, что они им «возведены
в перл создания», подверглись какому-то процессу художествен-
ного преображения, от которого получили необыкновенную зна-
штельность. В чем же дело? Страхов не ставит в полном объеме
фоблемы типизации, но он обращает внимание на «тон расска-
»;>» у Гоголя, или, как в наше время говорят, на авторскую по-
шцию, а этот тон «не простой, не сливающийся с содержанием
речи», он в «высшей степени иронический». Ирония у Гоголя
имеет разные формы. Сила иронии иногда проявляется в контра-
сте между словами героев и содержанием их поступков. И чем
< тоньше черта», отделяющая иронию от действительности, тем
ужаснее впечатление от пошлости действительности. Ирония вы-
ражает «непрямое отношение» к предмету, поэтому ирония ис-
пользует чаще язык переносный, несобственно-авторский. Она
« вязана с «неуловимым оттенком синонимических слов, ... с не-
уловимым поворотом фразы». Поэтому-то Гоголя и трудно пере-
водить. Конечно, Страхов все особенности формы Гоголя свел к
иронии, но ведь и она есть в методе гоголевского воспроизведе-
ния жизни. Эти наблюдения, хотя они строились на противопо-
ставлении их щедринскому и некрасовскому «гиперболизму» и
сарказму, в какой-то мере дополняли именно щедринские на-
блюдения над законами «эзоповой», иронической, непрямой ре-
чи сатирика, мало еще изучавшейся тогдашней прогрессивной
критикой.
Страхов затрагивал еще один интересный вопрос о так назы-
ваемой «истинной поэзии» («Заметки о Пушкине и других поэ-
тах»), Он, разумеется, желал еще раз уколоть «тенденциозную»
поэзию Минаева и Курочкина. Он говорил, что искусство всегда
является преображенным повторением жизни и соблюдает осо-
бенное, непременное условие «искусственности». Вследствие это-
го его образы действуют сильнее, чем сама действительность.
Иногда люди говорят: «тут есть что-то поэтическое»-, «да это
/юлшн»; «какова сцена или картина»-, «случай чисто трагиче-
ский или чисто комический»-, некто «в этой драме играет очень
дурную роль» и т. д. Во всех этих обыкновенных выражениях
мы невольно признаем, что «нашли в действительности больше,
чем она обыкновенно дает нам, что она почему-то вдруг окра-
силась ярче своего обыкновенного цвета». Ничего одиозного нет
в том, что поэт «забывает мир», создавая свой мир образов.
Пушкин «обливался» слезами над «вымыслом», над «нас возвы-
шающим обманом» в поэзии. Когда мы указываем на условность
искусства, то этим не отрываем его от жизни, а просто указыва-
ем на главную особенность искусства как акта создания «второй
природы». Искусство поистине и есть творчество, пересоздание
впечатлений.
19*
291
Все эти оттенки понимания специфики искусства ценны у
Страхова. Накопления такого рода наблюдений никогда не про-
падали даром в истории критики, рано или поздно они кем-то
подхватывались, очищались от формализма и возводились в це-
лую систему научных представлений с более правильным об-
щим их философским и историческим объяснением.
Источники
Григорьев Ап. Литературная критика.— М., 1967.
Григорьев Ап. Эстетика и критика.— М., 1980.
Григорьев А. А. Воспоминания.— Л., 1988.
Л итература
Раков В. П. Ап. Григорьев — литературный критик.— Иваново, 1980.
Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX в.—
Л., 1982.
Егоров Б. Ф. Ап. Григорьев-критик//Учен. зап. Тартуского ун-та.— Тар-
ту, 1960.— Вып. 98 (с библиографией критических статей Ап. Григорьева).
Академические школы в русском литературоведении.— М., 1975.
Источники
Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе.— 3-е изд.—
Киев, 1898.—Кн. 1—3.
Страхов Н. Н. Из истории литературного нигилизма.— СПб., 1890.
Страхов Н. Н. Критические статьи.—4-е изд.— Киев, 1901—1902.—
Т. 1—2.
Страхов Н. Н. Критический разбор «Войны и мира».— СПб., 1871.
Литература
Гольцев В. А. Н. Н. Страхов как художественный критик//Голь-
цев В. А. О художниках и критиках.— М., 1899.
Долинин А. С. Страхов и Достоевский//Долинин А. С. Последние
романы Достоевского «Подросток» и «Братья Карамазовы».— М.; Л., 1963.
Гуральник У. А. Н. Н. Страхов — литературный критик//Вопросы
литературы.— 1972.— № 7.
Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—
1863.—М., 1972.
Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—
1865.— М„ 1975.
Скатов Н. Н. Критика Николая Страхова и некоторые вопросы рус-
ской литературы XIX в.//Русская литература.— 1982.— №2.
ГЛАВА 8
Антиреалистическая критика
Приблизительно с 1840-х годов на общественной арене нача-
ли появляться либеральные литературные деятели и критики.
Либерализм этих людей заключался в том, что они личной по-
рядочностью были похожи на борцов против крепостничества и
иногда шли в союзе с подлинно прогрессивными писателями.
292
Но это были крайне неустойчивые люди и при малейшей опас-
ности быстро перебегали в лагерь реакции.
Таков был, например, А. А. Краевский, издатель «Отечест-
венных записок», с которым временно сотрудничал Белинский.
После ухода Белинского из «Отечественных записок» тон жур-
нала снизился и Краевский сделался типичным деятелем либе-
ральной прессы. С 1863 по 1884 год он издавал газету «Голос»,
в которой проводил правительственные воззрения на все главные
вопросы реформ и внешней политики. Время от времени вспы-
хивавшая полемика Краевского с «Московскими ведомостями»,
«Русским вестником» М. Н. Каткова, «Гражданином»
кн. В. П. Мещерского имела второстепенный характер, главные
его удары были направлены против реалистической, демокра-
тической критики.
Особенно резко обозначились противоречия между демокра-
тами и либералами к 60-м годам. Борьба этих двух сил опреде-
ляла «исход борьбы за новую Россию»1 и накладывала печать
на всю литературную жизнь ряда эпох. В критике и публици-
стике формировались и будущие политические партии. Борьба
крепостников и либералов была борьбой внутри господствую-
щего класса за формы и меры уступок. К 1905 году либераль-
но-монархическое течение создало партию кадетов и октябри-
стов, которые славословили «выдающееся» значение известного
манифеста Николая II от 17 октября 1905 года. Эти партии бы-
ли соглашательскими, предательскими по отношению к буржу-
азно-демократической революции в России, не говоря уже о
революции социалистической. Разумеется, между либералами
были некоторые различия. Но всем им пришлось пережить «ме-
таморфозы», рано или поздно сбросить маску оппозиционеров и
убедить правительственные верхи в своей полной лояльности.
Самыми наглядными примерами эволюции русского либера-
лизма в сторону реакции могут послужить биографии журнали-
стов и критиков Каткова и Суворина.
Михаил Никифорович Катков (1818—1887). По окончании
Московского университета (1838) Катков стал московским ре-
цензентом петербургских изданий Краевского—«Литературных
прибавлений к «Русскому инвалиду» и «Отечественных запи-
сок». Первые его статьи: «Песни русского народа», «История
древней русской словесности» М. Максимовича, «Сочинения
Сарры Толстой»—хвалил даже Белинский. Уезжая за границу
в начале 1841 года, Катков оставил Белинскому свои конспекты
эстетики Гегеля, которые тот использовал в ряде статей того
же года. Из Берлина Катков присылал в «Отечественные запис-
ки» информации о немецкой литературе, отзывы о лекциях Шел-
линга по «философии откровения». Однако с кругом Белин-
ского Катков не сошелся.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч.— Т. 20.— С. 175.
293
В 1845—1850 годах Катков — адъюнкт Московского универ-
ситета, преподаватель философии. С 1851 года он завладел га-
зетой «Московские ведомости», а с 1856 года начал издавать
журнал «Русский вестник», в которых широко развернул про-
паганду своих либерально-буржуазных взглядов. Он поддержи-
вал реформаторские мероприятия правительства, обличал рет-
роградов среди высшей бюрократии, помещиков и чиновников.
Пресловутая «эпоха гласности» (1858—1862) была с большой
помпой использована Катковым.
Тонкий дипломат, человек, свободно владевший несколькими
европейскими языками, Катков был талантливым публицистом.
К его голосу все больше начинали прислушиваться в верхах.
Никогда еще самодержавие не приобретало такого помощни-
ка-демагога, действительно увлекавшего за собой массу чита-
телей.
Этот критик бравировал тем, что ставил прямо самые ост-
рые вопросы: например, одна из его статей называется: «К ка-
кой принадлежим мы партии?» («Русский вестник», 1862). От-
вет был — ни к какой. Но это была ложь, которая обставлялась
сложной философской и либеральной фразеологией. Заявлялось,
например, что в России, строго говоря, еще нет политической
жизни, а поэтому все партийные «исты», т. е. прогрессисты, ре-
формисты, материалисты, нигилисты, социалисты,—-все они су-
ществуют только в воображении. То, о чем долго пеклись рево-
люционеры, намекал Катков, случилось само собой: царь провел
реформу. Какой же смысл теперь может иметь межпартийная
борьба? Все должны быть довольны, объединиться вокруг тро-
на, вокруг общей работы. Партийные пристрастия только меша-
ют видеть вещи в их подлинном свете. Охранительное начало —
сущность и цель прогресса. При этом Катков оговаривался, что,
конечно, плохи те консерваторы, которые мечтают только о со-
хранении существующего. Но и всякое улучшение, продолжал
Катков, происходит только на основании существующего. Без
монархизма будет анархизм, диктатура выскочек. Но как бы ни
уверял Катков: «Мы никогда не искали чести принадлежать
к какой-нибудь из наших партий»1, на самом деле он возглавлял
партию либералов, реформистов, соглашателей.
Поэтому Катков вел решительную борьбу с реалистическим
направлением, партией «Современника» и «Русского слова», лов-
ко обставляя пышными фразами свои заурядные эстетические
требования, сводившиеся к насаждению послушного, казенно-
благоприличного искусства.
В статье «Пушкин» (1856) Катков, с одной стороны, отверг
«чистое искусство» и «бессознательность» творчества, с другой —
высмеял тех, кто хотел вручить поэтам «метлу». Катков заботил-
ся только об «истине» в поэзии, а польза, считал он, придет сама.
1 Русский вестник.— 1862.— Т. 37.— № 2.— С. 835.
294
Катков брал искусство в плен и уводил его под знамена сво-
<11 «беспартийности».
В 1856 году, открывая в «Русском вестнике» отдел современ-
ной летописи, Катков выступил против журнальных браней меж-
iy «Современником» и «Отечественными записками», но роль
миротворца он не выдержал и сам тут же сделал недвусмыслен-
ный выпад против «свистунов», т. е. Добролюбова и поэтов «Со-
временника». Вскоре Катков набросился на материализм в
статьях Антоновича, заодно объявив мертвой систему Гегеля.
На прицел был взят и «главный вождь дружины» материалистов
Чернышевский, автор статьи «Антропологический принцип в фи-
лософии». Катков противопоставлял материалистическим убеж-
дениям Чернышевского сочинения преподавателя Киевской ду-
ховной академии П. Д. Юркевича и перепечатал в своем жур-
нале его реакционное сочинение «Из науки о человеческом ду-
хе». Не оставлен был в стороне и Герцен. Против него была на-
правлена статья Каткова «Старые боги и новые боги» (1861).
Наиболее важной у Каткова является статья «О нашем ниги-
лизме. По поводу романа Тургенева» (1862).
Известно, что «Отцы и дети» впервые появились в «Русском
пестнике» Каткова. Какую же цель преследовал Катков, публи-
куя роман и свой отзыв о нем? Катков надеялся—-и в этом духе
внушал Тургеневу соответствующие редакторские поправки —
использовать роман в борьбе с нигилистами. Катков высмеивал
Газарова как псевдоученого, нахватавшегося знаний по книжеч-
кам Фейербаха и Бюхнера... Катков хотел доказать, что ниги-
лизм не фаза человеческого развития, а только временная бо-
лезнь, именно русская, разрушающая одни авторитеты, но впа-
дающая в поклонение другим. Сила нигилизма в незрелости
русской среды, Базаровы блещут лишь на фоне Ситниковых.
Они, конечно, на мизерную подлость не пойдут, а на большую
пойдут. Убить Базаровых сможет только настоящая цивилиза-
ция. Реформа как раз и дает ей простор. Базаровых выживут
усилия положительных, деятельных людей. Пусть же скорее эти
люди займут все поприща общественной жизни. Катков высту-
пал как реформист, ненавидящий демократов и революционеров.
Маску либерала Катков окончательно сбросил в 1863 году,
когда прошли крестьянские бунты, вызванные реформой, и
вспыхнуло польское восстание. Катков сделался шовинистом,
черносотенцем, сторонником «энергических мер». Он подсказы-
вал, чтобы усмирителем польского восстания был назначен
М. Н. Муравьев («вешатель»). Катков даже упрекал министров
в нерешительности действий во внешней и внутренней политике.
На этой почве у него была стычка с министром народного про-
свещения Головниным и министром внутренних дел Валуевым.
Выстрел Каракозова подогрел рвение Каткова. Последний требо-
вал свертывания реформ, выступал против суда присяжных, на-
стаивал на жестоких приговорах революционным народникам.
295
Он заметил начинающееся рабочее движение в России и высту-
пал за суровое наказание участников Морозовской стачки (1885).
Катков пользовался поддержкой царей — Александра II, Алек-
сандра III. Он заправлял общественным мнением, опираясь на
помощь нового министра внутренних дел Толстого и обер-проку-
рора святейшего Синода Победоносцева.
Имя Каткова вызывало справедливую ненависть в демокра-
тических кругах России. Его клеймил Герцен, указывая на то,
что «разношерстное стадо Каткова» погрязло в предательстве,
лицемерии, прислужничестве перед царизмом.
Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912). Не менее ярким
представителем этой же «миссии» эпохи буржуазного подъема
России был выходец из воронежских однодворцев Суворин.
С 1861 года Суворин сотрудничал в московском журнале «Рус-
ская речь» графини Салиас (Евгении Тур). Потом переехал в
северную столицу и публиковал фельетоны в «Санкт-Петербург-
ских ведомостях» и «Биржевых ведомостях». Суворин был зна-
ком с Чернышевским. За несколько дней до выстрела Каракозова
он выпустил очерки современной жизни под названием «Вся-
кие» (1866); здесь он с сочувствием нарисовал образ Чернышев-
ского под именем Николая Гавриловича Самарского и сцену
гражданской казни над ним. За этот очерк Суворин подвергся
преследованиям со стороны властей. Он враждебно относился
к антинигилистическим выпадам Крестовского, Лескова, холод-
но, ядовито обличал продажного Каткова и его подручного по
журнальной деятельности профессора П. М. Леонтьева («Письмо
к современнику», 1870). Суворин в фельетонах выводил на свет
банковские и биржевые проделки русских воротил и плутокра-
тов, акционерных обществ, железнодорожных компаний («Очер-
ки и картинки», 1875).
В 1876 году Суворин пристроился к шумной пропагандист-
ской кампании в связи с войной на Балканах против турок, под-
держал притязания царизма на Босфор и Константинополь,
клеймил Дрейфуса и Бейлиса, поляков, конкурируя в этом с
«Голосом» Краевского и «Московскими ведомостями» Каткова.
Угодничество суворинской газеты «Новое время», в которой вид-
ную роль играл консервативный критик В. Буренин, вошло в
пословицу. Салтыков-Щедрин заклеймил эту газету названием
«Чего изволите?». А между тем либералы кричали, что «Новое
время»—это «парламент мнений», Суворин — это «король пе-
чати», «величайший журналист XIX века и начала XX века»,
«гениальный русский самородок», «богатырское детище своего
народа».
В связи с кончиной Суворина В. И. Ленин написал убийст-
венный памфлет под названием «Карьера», в котором дал исчер-
пывающую характеристику этого деятеля: «Либеральный жур-
налист Суворин во время второго демократического подъема в
России (конец 70-х годов XIX века) повернул к национализму,
296
к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущи-
ми»’. Еще большее сползание либеральной буржуазии к контр-
революции наметилось после 1905 года, что позволило В. И. Ле-
нину сделать широкое обобщение: «Катков — Суворин—«вехов-
цы», это все исторические этапы поворота русской либеральной
буржуазии от демократии к защите реакции, к шовинизму и ан-
тисемитизму»1 2.
Литературно-критические взгляды Суворина не отличались
оригинальностью. Он не был способен понять глубокий реализм
и демократизм некоторых современных ему писателей.
В статье «По поводу «Отцов и детей» (1870) Суворин лож-
но трактовал образ Базарова, полагая, что едва ли среди моло-
дежи были такие люди. В духе Каткова автор статьи заявлял:
«Таким образом, у нас, собственно говоря, никаких нигилистов
не было, а было то же, что бывало всегда, то есть, что молодое
поколение шло дальше отцов и предъявляло к жизни большие
требования»3. Мирный, «естественный» прогресс вполне устраи-
вал Суворина. Писарев, по его словам, хотя и узнал себя в Ба-
зарове, но сделал это напрасно. Суворин видел в Базарове лишь
образ сильного характером человека, своего рода предприимчи-
вого «янки» (так буквально сказано у Суворина).
В статье «Историческая сатира» (1871) Суворин напал на
«Историю одного города» Салтыкова-Щедрина, на его слишком
безнравственные, неисторические, непатриотические портреты
«глуповцев». Гротеск, сатира, карикатура и реализм, по мнению
Суворина, несовместимы.
Характеризуя литературный портрет Л. Толстого (середина
70-х годов), Суворин был шокирован «руссоизмом» Толстого,
тем, что писатель, как ему казалось, был «противником прогрес-
са». Идеалом Толстого, говорил Суворин, является русская пат-
риархальная семья, работа на земле, простота отношений, родо-
вые, а не индивидуальные качества человека. Суворин не почув-
ствовал народности романа «Война и мир», не придал значения
пафосу социального обличения аристократии и официальной
жизни.
Суворин не понял значения романа «Анна Каренина». Боль-
шой талант Толстого, по его мнению, потрачен на обрисовку
«пошлых» великосветских типов: «блонд, кружев, обнаженных
плеч с их холодной мраморностью», «нагло милых» обманов
Анны, «растительной» жизни Левина и Кити.
Довольно сложными были у Суворина отношения с Чеховым.
Последний долгое время доверял своему, как верно определил
один из критиков, «ласковому врагу». Но в конце концов Чехов
увидел, каким неискренним человеком был Суворин, каким от-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч.— Т. 22.— С. 44.
2 Т а м же.
5 Суворин А. С. Очерки и картинки.— СПб., 1875.— Кн. 2.— С. 217.
297
вратительным шовинистом, душителем свобод все чаще и чаще
он выступал. Чехов решительно порвал с ним отношения.
«Благополучный россиянин» Суворин, как видно из случайно
дошедшего до нас его интимного дневника, не предназначавше-
гося для печати (опубликован в 1923 году), предчувствовал, что
буржуазно-помещичья, монархическая Россия катится к пропа-
сти. Он не раз выражал тревогу по поводу коррупции двора,
бездарности царя Николая II, его министров. Уже кровавая
Ходынка во время коронации была зловещим предзнаменовани-
ем. Суворин пережил первую русскую революцию и чувствовал,
что надвигается новая гроза. Все честные люди ополчались про-
тив самодержавия. «Два царя у нас,— записывал Суворин,—
Николай Второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II
ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его
трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и
его династии»1.
Суворин признавал популярность Максима Горького и, в от-
личие от некоторых современников, верно почувствовал, что
влияние этого писателя будет с годами все больше расти.
ГЛАВА 9
Литературная теория народничества 1870—1880 годов
С 70-х годов начался новый этап демократического движе-
ния—«народничество». Он продолжался до конца XIX века.
В 1868—1869 годах была напечатана в газете «Неделя» серия
статей П. Л. Лаврова под названием «Исторические письма», а
в 1869 году в «Отечественных записках» появился трактат
Н. К- Михайловского «Что такое прогресс?». В этих трудах бы-
ли сформулированы теоретические принципы революционного
народничества 70-х годов.
Термин «народничество» обычно употребляется в широком
и узком смысле.
В широком смысле народничеством называют разночинное
освободительное движение на всем его протяжении от 40-х до
90-х годов. Сущность движения заключается в борьбе за инте-
ресы крестьянства, против крепостничества и его остатков и
одновременно в теоретической разработке идей «русского об-
щинного социализма». Эти идеи разрабатывали с начала 1850-х
годов Герцен, потом Чернышевский. С различными видоизмене-
ниями они встречаются позднее во всех разветвлениях народ-
ничества.
Широкое понимание народничества нужно сохранить в науке.
Оно позволяет видеть связь между народничеством в целом и
входящей в него частью — «высокой» демократией 60-х годов,
’Суворин А. С. Дневник.— М., Пг., 1923.— С. 263.
298
внимательно относиться к демократическому содержанию на-
родничества, этой буржуазно-демократической идеологии, столь
органически соответствующей точке зрения разночинца. Ее сущ-
ность — «в представительстве интересов и идей русского мел-
кого производителя»1. Народники всегда проповедовали в сво-
их теориях, начиная с 1861 года, некапиталистический путь
для России.
Но закрепилось и другое значение термина «народничество»,
в более узком и как бы в «собственном» смысле, применитель-
но к тем этапам развития разночинной идеологии, выражавшей
крестьянские интересы, которые берут свое начало после «ше-
стидесятников», где-то на грани 60-х и 70-х годов. Сам термин
«народничество» возник только к середине 70-х годов. В 1876 го-
ду в Петербурге была создана революционная организация
«Земля и Воля», программу которой стали называть «народ-
нической», а участников общества «народниками». Вера Фигнер
свидетельствует: «Раньше это название нами не употреблялось»
(«Запечатленный труд»)2.
Почему в это время появилось народничество? Реформа
1861 года изменила все условия жизни в России. В стране наме-
тился спад революционной волны. Народники упорно пропове-
довали идеи русского утопического, общинного социализма,
опиравшегося на определенные исторические предпосылки. На-
родничество сделало крупный шаг вперед, поставив перед обще-
ственной мыслью вопросы развития капитализма в России.
«Постановка этих вопросов есть крупная историческая заслуга
народничества...»3. Семидесятые годы — самый героический пе-
риод в развитии народничества, породивший «хождение в на-
род», подпольную практическую революционную деятельность
«Земли и Воли», а затем «Народной воли», создавший небыва-
лые еще по конспирации, волевой целеустремленности организа-
ции профессиональных революционеров. Вопрос о свободе наро-
да был тесно ими связан с вопросом о его экономическом осво-
бождении (земля и воля).
Не сумев поднять народ путем агитации (хождение в народ),
они думали его воодушевить своим героическим самопожертво-
ванием, примером революционного деяния.
Но после 1 марта 1881 года народничество быстро начало
вырождаться в мелкобуржуазную оппозицию, проповедовать тео-
рию «малых дел», утрачивать прогрессивное значение (Кривен-
ко, Южаков, Гайдебуров, Юзов, Червинский). «Легальное на-
родничество» было разгромлено марксистами. Начал борьбу
1 Ленин В. И. Экономическое содержание народничества//Поли. собр.
соч.— Т. 1.— С. 422.
2 Фигнер Вера. Поли. собр. соч.— М., 1932.— Т. 1.— С. 108.
8 Л е н й н В. И. От какого наследства мы отказываемся?//Поли. собр.
соч,— Т. 2.— С. 631.
299
против народников Г. В. Плеханов и завершил ее В. И. Ленин
(«Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-
демократов?», 1894). В народничестве всегда сосуществовали
революционное и либеральное течения, но если в 70-х годах пре-
обладало революционное, то в 80—90-х годах — либеральное.
В литературе возникла особая «народническая» ветвь, спе-
циально и подчеркнуто занимавшаяся изображением жизни
«мужика» (Каронин, Наумов, Златовратский), Литературное на-
родничество представляет собой одно из течений внутри реа-
листического направления. В основном оно разделяло его прин-
ципы, но иногда отвлекалось в область романтической идеализа-
ции русской деревни или в очерковый описательный натурализм.
Хотя теоретики народнической литературы сравнительно меньше
интересовались эстетикой и критикой, чем демократы 60-х годов,
все же они внесли свой вклад в разработку программы реали-
стического направления.
Мы выделим для рассмотрения статьи Михайловского и Ска-
бичевского, в основном выступавших в русских легальных жур-
налах «Отечественные записки», «Русская мысль», «Русское
богатство».
Николай Константинович Михайловский (1842—1904). Наи-
более видным теоретиком и литературным критиком народниче-
ского течения был Михайловский. Он печатался в популярных
журналах «Отечественные записки» (1868—1884) и «Русское
богатство» (1894—1904).
Михайловский обладал ярким темпераментом публициста и
критика. Он выступал постоянным обозревателем литературных
новинок, истолкователем крупнейших современных писателей.
С 1877 года стал одним из редакторов «Отечественных записок».
В своих воспоминаниях Михайловский пытался сгладить проти-
воречия, которые были у него с Щедриным. Но следует при-
знать, что в широком смысле демократическая платформа у них
была во многом общей. Михайловский был связан с подпольной
организацией «Земля и Воля», сотрудничал в нелегальных из-
даниях «Народной воли». В. И. Ленин ценил смелость, с какой
Михайловский старался вызвать сочувствие в обществе к неле-
гальным революционерам.
В трактате «Что такое прогресс?» Михайловский стремился
вернуть внимание общественности к социальным проблемам.
Михайловский усмотрел определенный классовый эгоизм в рас-
пространявшихся тогда эстетических утверждениях Герберта
Спенсера, что искусство есть игра, воспроизведение абстрактных
законов контраста.
Но Михайловский сам тут же сползал к идеалистическому
субъективизму и социологизму, полагая, что свой суд над жиз-
нью человек совершает, исходя из «идеалов нравственности»,
а нравственность разъяснялась Михайловским в свете им же
самим составленной абстрактной «формулы прогресса». Приве-
300
дем эту знаменитую формулу, в которую, как в Алькоран, веро-
вали молодые поколения 70—80-х годов: «Прогресс,— писал
Михайловский,— есть постепенное приближение к целостности
неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению
труда между органами и возможно меньшему разделению труда
между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, нера-
зумно все, что задерживает это движение. Нравственно, спра-
ведливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнород-
ность общества, усиливая тем самым разнородность его отдель-
ных членов»1. Что же означала эта формула? Михайловский
поставил во главу угла рассмотрение интересов абстрактной лич-
ности, весь ход его мысли приобрел морализаторский характер.
Михайловский предлагал заменить разделение труда между
людьми разделением труда между их органами, чтобы сохра-
нить всесторонность, гармоничность человеческой личности. Пре-
цеденты такой гармонии он находил только в прошлом, в патри-
архальном хозяйстве, отсюда его любовь к общине.
Когда-то Белинский разрабатывал проблему свободы и не-
обходимости, искал объективные исторические и эстетические
критерии, опирался на диалектику Гегеля. Михайловский от все-
го этого отказался. «Сфера практической мысли»,— говорилен,—
мало терпит «теорию необходимости», ее можно «доказать толь-
ко задним числом»2. Знание исторических условий для оценки
деятельности личности необходимо, но столько же необходимо
и знание внутренней ценности человека. Но что такое внутрен-
няя ценность? Михайловский далек от понимания личности как
продукта среды. Он не может связать воедино личность и обще-
ство, обстоятельства и волю. Детерминизм Михайловский ото-
ждествлял с фатализмом и считал, что оба они не оставляют
места для свободы воли. Михайловский боролся за «двуединую»
правду, соединяющую в себе «правду-истину» и «правду-спра-
ведливость». Он настаивал, что «правда-истина» неразлучна с
«правдой-справедливостью»3. Исходной для практической рево-
люционной деятельности оказывалась вторая, моралистическая
справедливость, по-своему понятая свобода личности, ее инте-
ресы и права.
Под истиной Михайловский подразумевал только «явления
и те постоянные отношения, в которые они становятся друг к
другу». А в принципе для него сущность вещей—«вечная тьма»;
Михайловский в философии плелся за позитивистами, за Огю-
стом Контом и за агностиком Кантом. Цель познания—«рас-
положение системы все растущих знаний, чтобы при этом полу-
1 Михайловский Н. К. Соч.— СПб., 1896.— Т. I.— С. 150.
2 Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи.— М.,
1957,—С. 71.
3 Михайловский Н. К. Последние сочинения.— СПб., 1905.— Т. I.—
С. 71.
301
чало удовлетворение и нравственное чувство»1. Разумеется, это
уже никакое не познание.
Михайловский разработал свое особенное учение о «типах»
и «степенях» развития личности, из конфликта между которыми
якобы складывается современная социальная борьба. Больше
всего он касается этого вопроса в статьях «Десница и шуйца
Льва Толстого» (1875) и «Щедрин» (1889).
Первобытный строй, как и современная крестьянская общи-
на, находится на более низкой «степени» развития, чем совре-
менный общественный строй; но по «типу», в смысле всесторон-
ности и гармоничности развития человеческой личности, они
стоят выше. Задача истинных борцов за прогресс в том и состо-
ит, чтобы развить до высокой «степени» потенциально высший
«тип» общественного устройства. Как видим, здесь у Михайлов-
ского больше игры словами, чем рационального смысла.
Равно и классы характеризуются Михайловским двумя раз-
личными моральными качествами: «честью» и «совестью». «Честь»
(это тот же «тип») принадлежит только трудящимся. Но они
страдают от темноты (т. е. стоят на низкой «степени» развития).
У них есть только «сознание напрасно претерпенных обид и
оскорблений», муки от страха и насилий. Проснувшаяся честь
терзает народ сознанием «бесчестной слабости». Напротив, при-
вилегированные классы мучаются «совестью», сознанием винов-
ности перед народом (т. е. по «типу» они ниже, а по «степени»
выше, чем массы; недаром появилась особая группа людей —
«кающихся дворян»). Итак, у господ «бессовестная сила», у на-
рода «бесчестная слабость»2. Такова априорно построенная, тео-
ретически бедная концепция Михайловского относительно клас-
совой борьбы, ее пружин и целей. Но все эти категории, как
нетрудно заметить, лишь эрзацы категорий подлинной социоло-
гии и подлинного историзма.
В эстетике и критике Михайловского мы всегда сталкиваем-
ся с противоречиями: то он следует за своими слабыми теорети-
ческими выкладками и тогда допускает много эстетических про-
махов, то дает простор демократическому своему «нутру» и тог-
да приближается в оценках литературы в пафосу «шестидесят-
ников».
Михайловский понимал, что искусство и наука работают над
одним и тем же материалом жизни и что искусство достигает
своих эффектов при помощи специальной эстетической эмоции.
При этом от писателя требовалось, чтобы он был одинаково
богат и логической и художественной силой. Каждый писатель
«должен быть публицистом в душе». Как народник, Михайлов-
ский, естественно, был за тенденциозное искусство. Он нисколько
1 Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная
смута,—СПб, 1905.—Т. II.—С. 48.
“Михайловский Н. К, Литературно-критические статьи.— С. 356,
357, 477, 481, 489 и др.
302
не упрощал этого вопроса. Вслед за Чернышевским он требовал
от искусства суждений о жизни, полагая в то же время, как и
Добролюбов, что этот «приговор» иногда может быть субъектив-
но не до конца осознан самим писателем, а «санкцией факта»,
т. е. выводом, вытекающим из самих образов.
Михайловский понимал, что художественные образы нераз-
рывно связаны с действительностью. Писатель, который садится
за свой стол с целью изобразить одно «вечное», писал Михай-
ловский, ничего, кроме сухих и безжизненных абстракций, не
произведет. «Величайшие представители всемирной литературы
никогда не боялись ни ярко-местного, ни временного». Таковы
творения Данте, Сервантеса... И в то же время Михайловский
неоднократно указывал на условность художественных образов,
говоря, что реализм и правдивость в искусстве нельзя понимать
как натуралистическое копирование жизни. Михайловский готов
даже допустить, что в этой условности может быть много искус-
ственности. Но и она реалистична, ведет к раскрытию глубин
жизни. Если, например, иметь в виду только требования жиз-
ненной правды во всей их полноте, то видимая зрителем тень
отца Гамлета окажется совершенной бессмыслицей. Но как внут-
ренний голос самого Гамлета, как примета психологии и веро-
ваний людей определенной эпохи она истинна: «Попробуйте
устранить подобные условности во всех сферах искусства, что
от него останется?..» Есть свой условный язык у каждой формы
искусства. Например, умирающий человек в опере поет сладко-
звучным голосом. Этого в жизни не бывает, но ведь и речита-
тивом в жизни тоже никто не говорит.
Михайловский не очень доверял современным «новаторам»
в искусстве, он требовал уважительного отношения к традициям,
к «старым шаблонам красоты». В них много истинного и поучи-
тельного. Они живут и сегодня, в них только надо сделать ма-
ленькую «передвижечку».
А «передвижечка» нужна для того, чтобы во всеоружии испы-
танных средств попробовать нарисовать новый образ героя вре-
мени из разночинцев, образ революционера. Михайловский вслед
за Щедриным и Шелгуновым настойчиво разрабатывал пробле-
му нового героя. Он считал характернейшей особенностью пе-
реживаемого времени то, что в литературу 1870-х годов «разно-
чинец пришел». В статье «Вперемежку» Михайловский патети-
чески восклицал: «Ах, если бы я был первоклассный художник,
если бы я мог разлиться в звуках, в образах, в красках,— я
воспел бы вас, братья по духу, изобразил бы вас, мученики ис-
тории...»1. Эти герои должны быть проникнуты сознанием идеи
долга перед обществом, самопожертвования, идеалом сочетания
«совести» и «чести», воплощением «формулы прогресса». Откры-
* Михайловский Н. К. Соч.— Т. IV.— С. 239 (статья «Вперемеж-
ку»).
303
вая новые перспективы для изображения передового героя ис-
тории, Михайловский много раз предупреждал, чтобы это был
живой человек, с глубоко личными качествами, а не схема. Он
считал, что такие же превосходные краски, которые в свое вре-
мя Тургенев потратил на Рудина, должны быть потрачены те-
перь на образы нынешних передовых людей. Он даже упрекал
Тургенева в том, что тот слишком скуп в средствах, изображая
Инсарова, Базарова, Нежданова. Михайловский советовал и
начинавшему Горькому: «А вы бы попробовали написать роман
из жизни наших революционеров»1.
Михайловский решительно восставал против снобистского
мнения либерально-буржуазной декадентской критики о том, что
«мужик заполонил» всю литературу, что пора ей отвернуться от
этой приевшейся темы. Михайловский доказывал, что тема му-
жика еще недостаточно разработана и она вовсе не результат
чьей бы то ни было навязчивой пропаганды последних лет. Эта
тема есть не только у писателей-народников — Златовратского,
Каронина, Наумова, но и у Щедрина, Г. Успенского, Л. Толсто-
го. Новый ее вид в том, что теперь она означает не простой при-
зыв сочувственно изображать народ, а поиски методов воспроиз-
ведения народных крестьянских типов, их судьбы в порефор-
менный период в свете определенных идеалов.
Но в критике Михайловского заметно отразились и установ-
ки его субъективной социологии. Мы находим ее следы в виде
целой системы понятий, терминов и критериев, многие из кото-
рых умерли вместе с Михайловским. Например, он утверждал,
что все объективные построения в эстетике опрокидываются или
отодвигаются на задний план перед суждением вкуса. Вкус —
это «беспокойный элемент» эстетики, совершенно не поддаю-
щийся регламентации и объяснению. «Что мне делать — востор-
гаться или негодовать,— говорил Михайловский,— решает мой
вкус». Ему казалось, что учение о причинной связи явлений не
дает оснований для суда над людьми и событиями. Ведь поня-
тия о них всегда чисто субъективны. Так называемый элемент
«душевной жизни» всегда остается стихийным, а чувства и
воля произрастают отсюда. Между тем, и в искусстве «объек-
тивная правда — истина и субъективная правда — справедли-
вость должны образовать некоторое великое целое, оставаясь,
однако, каждая самой собой». Что же должно быть центром их
объединения? Как этого достигнуть? Михайловский не знал.
Оценки Михайловским писателей могут быть классифициро-
ваны так. Близкими его народнической доктрине и, так сказать,
«писателями-идеалами» были Златовратский, Г. Успенский,
Островский, Некрасов и особенно Щедрин. Писателями, начисто
отвергаемыми за их «реакционность», или неопределенность их
взглядов, или служение «чистому искусству», были: Достоев-
* Горький М. Собр. соч.— М., 1951.— Т. 15.— С. 123.
304
ский, Лесков, натуралист Боборыкин, певец «хмурых людей»
Чехов и декаденты-символисты. Была большая группа «попут-
чиков», авторитет которых он хотел использовать в своих целях,
в чем особенно проявлялась однобокость и тенденциозность
подхода Михайловского (Тургенев, Л. Толстой). Молодыми пи-
сателями, на которых он хотел «повлиять», были Гаршин и в
особенности Горький.
Легче всего судить Михайловскому о Н. Н. Златовратском,
писателе, который открыто выражал народническую доктрину,
рисовал «шоколадных мужичков». Критик ценил в Златоврат-
ском то, что писатель воспитывал сочувственное отношение к
деревенской жизни. В глазах Михайловского это важное досто-
инство. Оно помогало ему делать выпад против марксистов,
которые будто бы констатацией «идиотизма деревенской жизни»
воспитывали презрение к деревне.
Но вряд ли следует согласиться с исследователями (Г. А. Вя-
лым и др.), которые не замечают временами проявлявшегося
прохладного отношения Михайловского к Златовратскому. Ми-
хайловский не разделял его преклонения перед «тайной» на-
родного духа. Златовратский видел идеал в «устоях», а Михай-
ловский требовал выполнения «долга» перед народом: «пробу-
дить» «дремлющее сознание» массы *.
Вся фактическая часть наблюдений Златовратского чрезвы-
чайно ценна, особенно в «Деревенских буднях», «Крестьянах-
присяжных», «В артели», но нельзя этого сказать об «Устоях»,
замечает Михайловский. В этом романе автор сильно повредил
себе поисками «единого духа» народной жизни, «неизгладимой
идеи» деревенской жизни. Так же и «Золотые сердца»: картины
опрощения героев здесь приторны.
Ближе Михайловскому был Г. Успенский, которого критик
стремился представить в качестве своего союзника. Михайлов-
ский собирал биографические сведения об Успенском, одном из
«любимейших русских писателей», посвятил его творчеству обоб-
щающую статью («Г. Успенский как писатель и человек», 1898).
Г. Успенский, безусловно, крупнейший талант из «целого
гнезда» молодых дарований, которые обратились к изображению
народа (Н. Успенский, Слепцов и др.). Успенскому «черная схи-
ма» дороже «цветного платья», он пишет кровью сердца. Его
манера писать «без выдумки» обогащала реализм, повышала
«содержательность» творчества. Он приучил к сжатой форме
полубеллетристических, полупублицистических отрывков. И эта
нескладная, «убыточная» форма обусловлена коренными свой-
ствами его таланта. Он мужественно передает болезнь сердца,
болезнь мысли гражданина* 2.
’Михайловский Н. К. Отклики.— СПб., 1904.— Т. II.— С. 192.
2 См.: Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи.—
С. 332—335 и др.
20 Заказ № 1367
305
Но тут же Михайловский начал «приспосабливать» к себе
Успенского, добавлять ему свою «болезнь совести». Получалось,
что Успенский — какой-то «кающийся» дворянин, что совершен-
но не соответствовало действительности. Михайловский настаи-
вал, что в образе Михаила Ивановича из «Разоренья» писатель
показывал «драму совести». Но некоторый пробел в творчестве
Успенского якобы заключался в том, что он мало занимался
изображением пробуждения «чести», т. е. процессов духовной
эмансипации в самом крестьянстве. Михайловский явно прибе-
гал к натяжкам, или, как удачно говорит Г. А. Вялый, «перево-
дил» Успенского на свой язык. Творчество Успенского рассмат-
ривалось как доказательство правоты народнических формул
Михайловского.
Наиболее объективно судил Михайловский о Щедрине, с ко-
торым он совместно издавал «Отечественные записки». После
смерти писателя Михайловский напечатал ряд статей о Щедрине
в «Русских ведомостях» и затем выпустил их отдельной книжкой
(«Щедрин», 1889). Эта книжка — значительный вклад в изуче-
ние Щедрина. Михайловского привлекала в писателе широта его
художнической палитры. Щедрин соединял в себе правдивого
реалиста и мастера гротеска, беспощадного сатирика и страст-
ного лирика: «В способах околдования читателей Салтыков был,
конечно, без сравнения разнообразнее Достоевского». Писатель
сочетал в творчестве непосредственную одаренность, художниче-
скую интуитивность с трезвым расчетом, «силой неусыпно бодр-
ствующего сознания».
Щедрин был новатором в области художественной формы, он
творил ее, подчиняя своей идее. Михайловского подкупала щед-
ринская форма, дерзостное сочетание разнородных элементов
реализма, сатиры, фантастики, «эзоповой» речи: «Формалисты
назовут ее (форму у Щедрина.— В. К.), может быть, распу-
щенностью, беспорядочностью, невыдержанностью стиля. Ну и
бог с ними».
Михайловский начисто снимал старые выпады Писарева,
Зайцева и Достоевского против Щедрина. «Напрасно стараются
уверить, что Салтыков стоял вне партий,— писал Михайлов-
ский.— Его великий талант поднимал его над всеми нашими пар-
тиями, но умом и сердцем он принадлежал вполне, детально
определенному направлению... он был редактором журнала с со-
вершенно определенной физиономией».
Но уже здесь начинала смешиваться правда и неправда у
Михайловского. Правда, что Щедрин «партиен», но огулом опре-
делялась сама «партия», к которой он принадлежал. Скрады-
вались расхождения в редакции «Отечественных записок». Но в
общем по поводу запрещенных к этому времени «Отечественных
записок» сказано было верно и мужественно.
Симпатизировал Михайловский Щедрину еще и вот по какой
причине: он находил в произведениях Щедрина борьбу на два
306
|)ронта: с «бессовестной силой» (т. е. господами) и «бесчест-
ной слабостью» (т. е. глуповцами, пассивностью народа). Сал-
тыков занимался тем, что будил совесть в силе и честь в сла-
бости.
Мы видим, как Михайловский в категориях собственной со-
циологии «приспосабливает» Щедрина к себе, говоря непросто
об очевидных истинах. Он и сам понимал: «Салтыков нигде не
употребляет этих выражений, но самые отношения, ими опреде-
ляемые, его очень занимали».
Сатира Щедрина на «чумазых», на «столпов» и кандидатов
в «столпы», Разуваевых, Колупаевых, Деруновых вызывала сим-
патии Михайловского. Но Михайловский сужал смысл великих
картин и образов сатирика.
И все же в условиях безвременья, общественного спада и та-
кая урезанная интерпретация Щедрина была подвигом, поддер-
живавшим в литературе мотивы гражданственности, трезвого
реализма. Это особенно станет понятным, когда мы обратимся
к другому полюсу в литературе — к писателям, так или иначе
связанным с консервативными направлениями, против которых
боролся Михайловский.
Михайловского не могло прельстить «почвенничество» Досто-
евского. Он считал такое народолюбие ложным, искусственным.
Карикатурное изображение революционеров в «Бесах» оконча-
тельно отвратило Михайловского от Достоевского: «Вы не за
тех бесов ухватились». Настоящими бесами Михайловский счи-
тал нарождающихся буржуазных дельцов. Не понял критик
значения «предупреждений» Достоевского в «Бесах».
Статья Михайловского о Достоевском—«Жестокий талант»
(1882)—выглядит ясной по мысли, политической позиции, но
она крайне односторонняя по выводам. Михайловский предна-
значал своей статье определенную общественную миссию, кото-
рую поддержал позднее Антонович своим разбором «Братьев
Карамазовых».
Реакция 80-х годов раздувала значение Достоевского до раз-
меров «духовного вождя своей страны», «пророка божия». Ми-
хайловский гордился постоянством своего критического отноше-
ния к Достоевскому. Он чутко уловил в 1902 году, что «звезда
Достоевского, по-видимому, вновь загорается...» в связи с инте-
ресом к нему декадентов. Здесь критик в принципе предварял
выступление М. Горького по поводу увлечения «карамазовщи-
ной».
Но Михайловский считал, что Добролюбов напрасно припи-
сывал Достоевскому сочувствие к обездоленным. Теперь, думал
Михайловский, смысл творчества Достоевского раскрылся впол-
не: писатель исходил всегда из предпосылок, что «человек — дес-
пот от природы и любит быть мучителем», «тирания есть привыч-
ка, обращающаяся в потребность». Достоевский «любил травить
овцу волком», причем в первую половину творчества его особен-
20*
307
но интересовала «овца», а во вторую—«волк». Отсюда иллюзия
«перелома» в творчестве Достоевского, а на самом деле перело-
ма не было. Он любил ставить своих героев в унизительные
положения, чтобы «порисоваться своей беспощадностью». Это —
«злой гений», гипнотизирующий читателя. Некоторые критики
справедливо упрекали Михайловского за то, что он слишком
отождествлял взгляды героев со взглядами автора. Конечно,
этого ни в коем случае делать было нельзя. Здесь нужна вели-
чайшая осторожность.
Очевидна у Михайловского упрощенность трактовок Достоев-
ского. Все черты творчества объясняются личностью писателя,
его капризом. Истоки творчества Достоевского не объяснены,
гуманизм и реализм в их объективной сущности не раскрыты.
Великий русский писатель оказывался только «жестоким талан-
том», словно это явление индивидуально-патологическое.
Таким же носителем ложной народности и гуманизма был
для Михайловского Лесков. Критик возмущался обычными заяв-
лениями в печати, что Лесков может быть поставлен в ряд с
Гончаровым, Тургеневым, Толстым, Щедриным, Писемским. Та-
кое сравнение Михайловский считал «скандальным». Лесков —
«резко тенденциозный писатель», Михайловский не может про-
стить ему антинигилистического романа «Некуда». Но и в суж-
дениях Михайловского о Лескове, как нетрудно заметить, было
много недопонимания.
Ложным другом реализма, по мнению Михайловского, был
«натурализм», представителями которого выступали П. Боборы-
кин, Евг. Марков, Ахшарумов, Лейкин, Вас. Немирович-Данчен-
ко, Терпигорев, Салов, Мордовцев. Но к «натуралисту» Бобо-
рыкину у Михайловского не было особой неприязни. Михайлов-
ский воздавал должное начитанности, образованности Боборы-
кина. В его беллетристике вы всегда хорошо видите, «с кого он
портреты пишет и где разговоры эти слышит». Прельщает чест-
ность, быстрота и точность его восприятий1. В романах «Дель-
цы», «Китай-город» он ухватился как раз за тех самых «бесов»
русской жизни, капиталистов, на которых и надо было нападать
литературе. Однако зарисовки Боборыкина, по справедливому
заключению Михайловского, фотографичны, сыры, поверхностны.
Эстетические и политические его убеждения неустойчивы. У него,
строго говоря, нет настоящих врагов и нет настоящих друзей,
ибо «никому такой легкомысленный враг не страшен и никому
такой легкомысленный друг не дорог»2.
Очень сложным для Михайловского казался Чехов. Этот пи-
сатель, долгое время остававшийся загадкой для критиков, по
мнению Михайловского, хотя и незаурядный беллетрист, в худо-
жественном отношении стоящий выше Боборыкина, все же при-
1 См.: Михайловский Н. К. Отклики.— Т. I.— С. 78—79.
2 См.1 Т а м ж е.— С. 86.
308
надлежит к лагерю «ничегонеделателей», релятивистов, широко
открывающих двери чуждым влияниям. Известно, что к Чехову
точно так же относились тогда Шелгунов и критики из «Не-
дели».
Чехов—«безыдейный писатель», самой будничной холодно-
стью своей индифферентности воспитывающий в обществе рав-
нодушие ко злу. В ровности тона Чехова Михайловский видел
черту «восьмидесятников», оторвавшихся от заветов «отцов». Че-
хов «идеализирует отсутствие идеалов». Чехов — это «даром
пропадающий талант». Выбор тем у Чехова отличался случай-
ностью. Не в «хмурых людях» тут дело, а в самом Чехове, кото-
рому «все едино суть»: «вон быков везут, вон почта едет, коло-
кольчики с бубенчиками пересмеиваются, вон человека задуши-
ли, вон шампанское пьют»1.
С особенным полемическим задором Михайловский писал
о «Мужиках» Чехова, тем более что тогдашняя либеральная
критика встретила это произведение благосклонно и делала из
него далеко идущие выводы против народников. Герой «Мужи-
ков», лакей Чикильдеев, приехавший с семьей к родным в де-
ревню, расхваливает свою московскую жизнь, службу в рестора-
не «Славянский базар». Деревня изображена Чеховым беспо-
щадно отрицательно, как беспросветное царство нищеты.
Михайловский ловко сталкивал в своей рецензии Чехова с Г. Ус-
пенским, процитировав рассказ последнего «Развеселить гос-
под», в котором также героем является половой, рассказываю-
щий, однако, об идиотизме городской жизни. Михайловский взы-
вал: не сшибайте лбами двух разрядов людей, жизнь которых в
разном роде, но одинаково темна и скудна2.
Но Михайловский что-то важное недопонимал в пафосе Чехо-
ва. Писатель вовсе не хотел на место одной идеализации поста-
вить другую, его «Мужики» метили не только в народников. Ози
как раз и давали картину всеобщей бедности в России.
Воззрения Михайловского на Чехова со временем несколько
изменились, как, впрочем, изменился и сам Чехов. Кажется, в
исследовательской литературе о Михайловском это еще недоста-
точно учитывается.
Отрицательные суждения Михайловского о рассказах 80-х
годов были в какой-то степени правильными. Но Михайловский
«подобрел» к Чехову с момента выхода в свет «Скучной исто-
рии» (1889), в которой Чехов поднялся уже «до тоски по идеа-
лу», «по общей идее»3.
Михайловский пристально следил за изменениями в творчест-
ве Чехова. По поводу «Палаты № 6» (1892) Михайловский уже
заявлял: Чехов на наших глазах «хоронит» свое «пантеистиче-
1 Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи.— С. 607.
2 См.: Михайловский Н. К. Отклики.— Т. II — С. 129.
8 Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи.— С. 607.
309
ское миросозерцание»1. В «Палате № 6» решался вопрос, как
следует и как не следует относиться к действительности. Это был
уже «перелом» в мировоззрении писателя. Чехов «вырос почти
до неузнаваемости», но Чехов не сказал еще своего окончатель-
ного слова2. В связи с «Человеком в футляре» (1898) еще раз
было замечено, что конца развитию Чехова еще не видно: «В ов-
раге», «Случай из практики», «Крыжовник», «Человек в футля-
ре»—«это новый шаг вперед»3. Михайловский начал восприни-
мать Чехова в динамике. В пьесах «Дядя Ваня» (1897), «Три
сестры» (1901) уже звучали мечты о будущем, пусть они еще
звучат «почти механически», но «страшно подводить относи-
тельно его (Чехова.— В. К.) итоги, до них еще далеко»4 («О по-
вестях и рассказах Горького и Чехова», 1902). Михайловский
начинал постигать особенный характер чеховского оптимизма и
взглядов на будущее России.
Наконец, в группе писателей, вызывавших отрицательные или
настороженные оценки Михайловского, большое место занимали
народившиеся на его глазах современные декаденты, симво-
листы.
Михайловский посвятил им несколько разборов: «Символисты,
декаденты и маги», «Русские символисты», «Г-жа Гиппиус и сту-
пени к новой красоте». Много ядовитых стрел Михайловский
выпустил по Минскому, Случевскому, Мережковскому, «косми-
ческой лирике» Бальмонта, «перепевам» Ф. Сологуба.
Он упрекал их в тяготении к мистике, формализму, амора-
лизму, «безответственности инстинктов». Он цитировал из перво-
го сборника В. Брюсова «Русские символисты» такие стихи, как
«Фиолетовые руки на эмалевой стене», «О, закрой свои бледные
ноги», и издевался над ними. Он карал эти «якобы стихи» за
отвлеченность, надуманность, гурманство. В статье о Гиппиус он
цитировал ее «Песню»: «Мне нужно то, чего нет на свете, Чего
нет на свете!» Он находил во всем этом смердяковщину, «исте-
рически-капризные ноты», только «дикие», «ложные жесты».
Михайловский уловил связь между расцветом декаданса и об-
щественным упадком 80—90-х годов. Требования логической,
нравственной и художественной благопристойности ослабли в
своем «предупреждающем, устрашающем и карающем значе-
нии».
Но Михайловский упрощал проблему генезиса декаданса
вообще и русского в частности. Он считал, что имеет дело с поэ-
тами-бездарностями, выскочками, пускающими «мыльные пузы-
ри», чтобы приобрести славу. Это, конечно, ошибка. Дело было
сложнее. Среди символистов оказалось много подлинных талан-
тов. Кроме того, Михайловский искренне считал декаданс при-
1 Михайловский Н. К. Последние сочинения.— Т. I.— С. 36.
2 Т а м ж е.— С. 300.
3 Т а м ж е.— С. 306.
4 Там же,—Т. II —С. 172.
310
возным растением, веянием буржуазного Запада, не имеющим
корней в русской действительности.
Особо острому разбору подверглись книги Д. С. Мережков-
ского «О причинах упадка и о новых течениях современной рус-
ской литературы» и «Религия Л. Толстого и Достоевского». Ми-
хайловского возмущал открытый вызов, с которым Мережков-
ский определял сущность искусства: «...сущность искусства
нельзя выразить никакими словами, никакими определениями»;
...идею символических характеров никакими словами нельзя
передать». Мережковский насчитывал три главных элемента в
новом, т. е. декадентском, искусстве: мистическое содержание,
символы и расширение художественной впечатлительности. Осо-
бенно первые два пункта вызывали резкую и справедливую кри-
тику со стороны Михайловского: «Мережковский не пророк и
не герой нового течения, а жертва недоразумения. Он сам стра-
дает недостатком того всеохватывающего начала, за отсутствие
которого громит русскую литературу». Он «боится жизни», «ин-
стинктивно чует свое бессилие ориентироваться в сложных путях
жизни»; «при этих условиях мистические сферы остаются един-
ственным убежищем, куда Мережковский и удаляется вслед за
французскими символистами. Нам туда не по дороге». Все ло-
гические построения Мережковского лишены логики, он раб
своего «каламбурного мышления», парадоксального, бьющего
на эффект, но не выдерживающего проверки фактами. Сколько
произвольностей он наговорил в книге о «религии» Толстого и
Достоевского, проявив здесь «жестокость сладострастия» в на-
вязчивом преследовании Толстого и возвеличивании Достоев-
ского!
Ополчаясь на дешевое экспериментаторство, Михайловский
вовсе не преграждал путь экспериментам. Он слишком хорошо
знал реальную историю русской поэзии. Любопытно в этой свя-
зи следующее его заявление: «В самом деле, техника искусства
ведь не сказала своего последнего слова, да и когда же она его
скажет? Поэтому и задача символистов, при всей своей узости,
может иметь свое значение»1. То есть относительную ценность
исканий формы Михайловский признавал. И у символистов, на-
ряду «с утомительной вычурностью» языка, есть отдельные уда-
чи. Несостоятельной только представлялась идея слияния всех
видов искусства в лоне поэзии. Это замечание особенно любо-
пытно, так как сам Михайловский в области публицистики был
за слияние всех наук «вперемежку», за «профанство». Но там
он чувствовал меру, а здесь, в слиянии (поэзии — музыки, поэ-
зии— живописи), он видел лишь маниловскую прихоть. Кроме
того, там был стержень — боевой демократизм, а здесь полная
релятивность, чистый формализм. На этой основе он тем более
считал слияние невозможным.
1 Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современ-
ная смута.— Т. II.— С 58.
311
Михайловский рассматривал русский символизм как реакцию
на натурализм, на школу Золя, принципы которой в России на-
саждал Боборыкин. В этом случае и русский символизм оказы-
вался имеющим исторические корни и цели у себя на родине.
Реакция против эмпирического направления в литературе вызы-
вает у Михайловского даже слова благодарности Мережковско-
му, который выступил против сухости доктрины позитивизма и
натурализма в искусстве. Но Михайловский видел, что эта реак-
ция сама, в свою очередь, впадает в нелепую крайность и одно-
сторонность: «безыдейной, бессмысленной обнаженности и про-
токольной точности они противопоставили столь же бессмыслен-
ную прикровенность и символическую темноту»1. Зорко умел
критик за фразами разглядеть суть дела.
Выступления Михайловского против субъективизма в искус-
стве страдали половинчатостью, потому что он сам в социологии
был субъективистом. Рано или поздно, бессознательно, в силу
противоречивости своего мышления он в чем-то сходился со
своими врагами. Какие бы громы ни насылал Михайловский на
головы символистов, он был готов с ними помириться на почве
борьбы с детерминизмом. Если бы их цели не были откровенно
антиобщественными, он, может быть, и совсем бы с ними поми-
рился. Только полный эклектик, человек, ослепленный борьбой с
«экономическим материализмом», то есть марксизмом, мог все
это свалить в одну кучу.
Ничего другого, кроме желания «подправить» символизм для
этих целей, нельзя усмотреть в следующей цепи рассуждений
Михайловского: детерминизм — детище разума, а чувство, воля,
эти элементы душевной жизни, имеют совсем другой источник, и
искусство не может их объяснить, если будет слишком подчи-
няться знанию, науке, выискиванию закономерного в жизни; «так
что в этом смысле символисты (и не одни они, конечно) совер-
шенно правы, говоря об иссушающем жизнь влиянии науки»2:
«символисты поняли или почувствовали, что нельзя жить одним
детерминизмом, но стали подкапываться под него с такой
стороны, с которой он решительно неуязвим»3. Таким образом,
Михайловский ратует за «подкапывание», но с другой, не ми-
стической стороны, он хочет добиться не мнимого, а действитель-
ного эффекта.
Эстетическим суждениям Михайловского не хватает истори-
ческих опосредований. Он прямолинеен, тенденциозен. Если пи-
сатель не влезает в прокрустово ложе его теории, то Михайлов-
ский начинает обрубать в его творчестве все, что мешает. Это
особенно курьезно выходило в применении к писателям, которые
были хотя и «большими», но «не нашими».
1 Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная
смута.— Т. II.— С. 81.
2 Т ам ж е.— С. 87.
3 Т а м ж е.— С. 91,
312
Чувствуя себя последним глашатаем разночинства, Михай-
ловский мало ценил дворянскую литературу. Литература до
60-х годов XIX века для него почти вовсе не существовала. В от-
личие от своих предшественников, Михайловский не выработал
целостной историко-литературной концепции. Его интересовала
только современность. Для него Пушкин и Лермонтов — дворя-
не, создавшие шедевры, но значение их преходяще, они мало
актуальны и далеки от народных интересов. Казалось бы, автор
«Антона Горемыки» Григорович мог рассчитывать на симпатии
Михайловского. Но Григорович — дворянин, и поэтому «деревен-
ские темы подвернулись Григоровичу действительно совершенно
случайно». «Записки охотника» Тургенева лишь «акварельные
картинки», социальное значение которых, как протеста против
крепостного права, было впоследствии преувеличено.
Достоинство Тургенева в том, что он оставался служить
«идеалам свободы и просвещения». Но в «Нови» он взялся не за
свое дело. Михайловский решительно разошелся с Добролюбо-
вым и народниками Лавровым и П. Ф. Якубовичем в оценке ак-
туальности творчества Тургенева как «специалиста» по части
«уловления момента» и изображения «новых людей». Эту чер-
ту Тургеневу просто навязывали, и напрасно. Его постоянно
интересовали лишь два отвлеченных типа людей: гамлеты и дон-
кихоты. Он обрабатывал их по-своему. Гамлетики, «самоеды»,
рефлектеры, «лишние люди», «лишний человек»—все они по-
гружены в мрачный дух. Более привлекают симпатии Тургенева
донкихоты, с их поэтическими порывами к свету, беззаветной
любовью к людям. Логически — и это подметил Михайловский —
у Тургенева был и третий тип. Это «волевые», «ответственные
натуры»: таковы Инсаров, Базаров. Но эти герои у Тургенева
сухи, прозаичны. Михайловский готов утверждать, что реши-
тельных, твердых духом людей Тургенев не любил. Свои краски
и сочувствие он приберегал для людей слабых. Таковы и его
женские типы. И здесь он отбирал только одну поэзию жизни,
избегая прозаическую ее сторону.
Как только женщина вступает в брак или на путь обществен-
ной деятельности (приравнивает себя к Инсаровым, Базаровым),
так она лишается ореола, становится для него неприятной (Кук-
шина, Машурина). Мягкая, лирическая неопределенность сочув-
ствий и красок свойственна всему облику самого Тургенева, и
поэтому он как тип писателя уже устарел.
Зато в творчестве Л. Толстого Михайловский нашел для себя
много такого, что, как ему казалось, легко поддавалось «пере-
воду». Прежде всего, заявление Толстого в статье «Прогресс
и определение образования» (1872) о том, что цивилизация не
совпадает с прогрессом: «Прогресс тем выгоднее для общества,
чем не выгоднее для народа». Эти мысли были близки Михай-
ловскому, автору известного трактата «Что такое прогресс?».
Толстовские герои Лукашка, Илюшка, Платон Каратаев, Фока-
313
ныч — это высокие «типы» народных героев, не имевших до сих
пор возможности подняться на высокую «ступень» развития.
Михайловский заострял и без того курьезные парадоксы учения
Толстого: яснополянский школьник Федька, конечно, «Фауста»
не напишет и не поймет, но Фауст и сам Гете могут позавидовать
светлой гармоничности души Федьки, полученной от рождения.
Нехлюдовы, Оленины, Левины не случайно завидуют Лукашкам
и Илюшкам. Не очень богатые философской мыслью операции
Михайловского с понятиями «совести» и «чести» таили в себе
некоторое сходство с толстовской проповедью «опрощения».
В статье «Десница и шуйца Льва Толстого» (1875) Михай-
ловский в общем верно указал на демократический дух толстов-
ского творчества, хотя и объяснял его неправильно. Михайлов-
ский делал важный шаг вперед после Чернышевского в истол-
ковании творчества Толстого, переходя от констатации его
художнической манеры переселяться в душу простолюдина к
констатации идеологической принципиальности этой манеры у
Толстого, заключающей в себе прямое нравственное противо-
поставление народа господам. Даже Плеханов проглядел прин-
ципиальность этих демократических начал у Толстого. И только
В. И. Ленин полностью объяснил их классовый источник. Тол-
стой— выразитель интересов и психологии патриархального
крестьянства в период подготовки буржуазно-демократической
революции в России. По-иному у В. И. Ленина обозначатся
сила и слабость Толстого, его «десница» и «шуйца». Михайлов-
ский классифицировал их по-своему, иногда относя к силе Тол-
стого то, что на самом деле составляло его слабость, и, наоборот,
относя к слабости то, что было у писателя силой. Но Михайлов-
ский первым поставил вопрос о внутренней противоречивости
Толстого и даже верно описал отдельные ее стороны.
Михайловский первый обратил внимание на то, что Толстой
поучителен даже в своих многочисленных противоречиях, что
Толстого «наше общество еще не знает», что надо заглянуть в
его теоретические работы, «там и откроете для себя, что Тол-
стой крайне противоречив. По романам это не видно». К по-
следней фразе сделаем лишь поправку: в романах это разгля-
деть было, действительно, несколько труднее...
Прокомментируем одно из типичнейших рассуждений Михай-
ловского о Толстом, когда он контрастно сопоставляет «десни-
цу» и «шуйцу» писателя. Михайловский описывал борьбу этих
противоречий так: то вытягивается десница, поднимается силь-
ный, смелый человек во имя истины и справедливости, во имя
интересов народа помериться со всей историей цивилизации
(цивилизация — это регресс, вот пример слабости Толстого, ко-
торая зачтена как его сила.— В. К.), то вылезает «шуйца», сла-
бый, нерешительный человек, проповедник фатализма, непро-
тивленчества (здесь названы действительные недостатки Тол-
стого.— В. К.). К «шуйце» Михайловский относил толстовское
314
неверие в разум, в науку, в искусство. Народник-просветитель
Михайловский, конечно, не мог этого «простить» Толстому. Но
он тут же сам противоречил себе и солидаризировался с Тол-
стым, поскольку все достижения цивилизации совершенно нело-
гично объявлял регрессом.
Корень противоречий Толстого Михайловский усматривал в
его социальном положении, положении барина, проникшегося
идеями филантропии к крестьянству. Толстой даже пока еще
не «кающийся дворянин» (это крылатое определение ввел Ми-
хайловский), а просто честный наблюдатель, которого при всей
его прозорливости все еще затягивает «семейное» родовое нача-
ло. Отсюда «шуйца»—как простая непоследовательность: «ро-
димые пятна» мешают подняться до полного отрицания господ-
ской жизни. А когда Толстой в 80-х годах порвал со своим клас-
сом и перешел на позиции патриархального крестьянства, когда
возросли его демократические симпатии, Михайловский, беря
только одно непротивленчество, заявлял: «Великий писатель зем-
ли русской совсем левша стал». Михайловский сам хорошо не
знал, за развитием какого принципа надо следить у Толстого.
И поэтому он не заметил, что Толстой в то же самое время со-
всем и «правшой» стал. Теперь оба начала выросли в своем зна-
чении и резче сопоставились в творчестве писателя. А Михайлов-
ский увидел лишь подчинение «шуйце» всех прежних положи-
тельных моментов. Он прозорливым оказался лишь в том, что
непротивленчество Толстого объяснял пассивностью 80-х годов,
но противоречивости Толстого и связи этих противоречий с двой-
ственной природой крестьянства не понимал. Крестьянство для
народника Михайловского — единое, непротиворечивое начало.
Во всем последующем творчестве Толстого Михайловский видел
только проповедь пассивного протеста и, естественно, как народ-
ник, относился к ней отрицательно.
Активность Михайловского-критика проявлялась не только в
жестком отборе «своих» и «чужих» писателей, не только в истол-
ковании смысла творчества «чужих» писателей в духе своих док-
трин, но и в попытках прямо подчинить своему влиянию молодых
писателей, подсказать им свой «верный» путь. Любопытна в этой
связи тактика Михайловского по отношению к Гаршину.
В произведениях Гаршина Михайловский увидел боль за
простого человека, но пресловутое «неделимое» по Михайловско-
му оказывалось здесь всего лишь «пальцем от ноги». Может ли
человек смириться с такой участью? Что победит: свойственное
человеку ощущение своего достоинства или стихийный общест-
венный процесс, превращающий человека в ничто («Еще раз о
Гаршине и о других», 1886). «Мысль об «одиноком и толпе»,
о безвольном орудии некоторого огромного, сложного целого
постоянно преследует Гаршина и, несомненно, составляет источ-
ник всего его пессимизма»,— писал Михайловский. Конечно, уже
здесь чувствуется «приспособление» Гаршина: «Вот за эту-то
315
память о человеческом достоинстве и за эту оригинальную, лич-
но Гаршину принадлежащую скорбь, мы его и полюбили. Мы хо-
тели бы только видеть его более бодрым, хотели бы устранить
преследующие его безнадежные перспективы»1. Человек в рас-
сказах Гаршина никогда не торжествует над средой. Об этом-
то Михайловский и сожалеет. Рассказы Гаршина написаны не
прямо на тему о достоинстве человека, а на тему о том, как че-
ловека побеждают обстоятельства. Оптимистическая подсказка
Михайловского идеализировать человека не повлияла на Гарши-
на: народником-романтиком он не сделался.
Пожалуй, наиболее сложным было отношение Михайловско-
го к Горькому. Михайловский написал ряд мелких откликов на
его произведения и обобщающую статью «О Максиме Горьком
и его героях» (1898).
Горький вышел из народа — вот лучшее подтверждение тези-
са о могуществе народной стихии, живой пример самобытного
«типа», сумевшего подняться на высочайшую «ступень». Горь-
кий писал о простых людях, о народе и это были темы, уже чет-
верть века укреплявшиеся в русской литературе. Горький пошел
дальше в их разработке. В его идеализаторском взгляде на бо-
сяков, в заявлении «человек — это звучит гордо» было что-то
родственное, как казалось Михайловскому, его собственному
учению о необходимости пробуждения в низах сознания «чести».
Критическое изображение купеческой и мещанской жизни под-
тверждало призывы покарать «совесть» имущих. Наряду с «каю-
щимися дворянами», уже прежде выведенными на сцену русски-
ми классиками, с Горьким появились и «кающиеся купцы», взя-
точники, захребетники, насильники. Горький ярко изобразил пол-
ное разложение капиталистического «темного царства». Все, что
нравилось Михайловскому еще у Щедрина, Г. Успенского, Ост-
ровского и Л. Толстого, «логически» сливалось для него теперь
в Горьком. Но судьба жестоко обманула Михайловского...
Горькому предстояло вскоре изобразить борющийся проле-
тариат, «подтвердить» марксистский детерминизм, учение о не-
умолимой классовой борьбе и полную утопичность и обречен-
ность народнических теорий.
Но вернемся к взаимоотношениям критика и писателя. Ми-
хайловский сразу заметил Горького: «... мы имеем дело с боль-
шой художественной силой»2. Критик судил по «Челкашу» и де-
лал приятный для себя вывод, что Горький городом недоволен.
Промелькнувшее в образе Гаврилы отрицательное отношение
автора к деревенщине смутило Михайловского, но он сперва не
придал этому значения.
Михайловский хотел предостеречь Горького от возможных
дурных влияний декадентов. Частое использование символики
•Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи.— С. 310—
311.
2 Михайловский Н. К. Отклики.— Т. II.— С. 394.
316
могло вредить смыслу произведений. Например, Михайловский
скептически расценивал претензии на изображение современно-
сти в «Буревестнике»: «...пусть все так там, наверху, в облаках
и тучах, а что на деле?» Но все эти опасения Михайловского
были лишены основания. В символике «Буревестника» точно
изображена расстановка классовых сил «на земле», вполне схва-
чен смысл главного конфликта времени и его революционная
динамика. Просто народник, Михайловский сам не так читал
карту истории, такая символика ему ничего не говорила.
Михайловский настойчиво искал определение качественного
своеобразия реализма Горького. Отдельные наблюдения Михай-
ловского очень верны. Они могут быть использованы и переос-
мыслены в наше время, когда мы с иных позиций подходим к
проблеме Горького и к оценке тех стадий его развития, которые
приблизили его к новому типу реализма.
В статье «О повестях и рассказах Горького и Чехова» (1902)
Михайловский сопоставлял двух реалистов.
Из этого сопоставления наиболее важным является указание
на сочетание у Горького романтического и реалистического на-
чал. Здесь угадывалось Михайловским нечто принципиально
новое в методе писателя. Романтизм с его характерными при-
знаками трактуется Михайловским не как нечто прошлое, пере-
житочное, которое тянет Горького назад; наоборот, в этом ро-
мантизме усматривается призыв идти вперед. Горький показывал
сильных людей, а к этой идее привел его романтизм. Конечно,
Михайловский не мог в должной мере оценить пафос образа
Фомы Гордеева, бунтаря-отщепенца, обличающего свой буржу-
азный класс, не мог осознать значение первых образов пролетар-
ских бунтарей, Грачева в повести «Трое» и др. Но Михайловский
чувствовал, что Горькому предстоит подняться еще на какую-то
новую ступень. Какая она? Мы теперь знаем: это ступень четкого
социал-демократизма. Пока Горький сам стоит и читателей сво-
их держит «на некотором распутьи». Герои «по частям выража-
ют его философию» жизни. Но он сам еще не очень разобрался
в собственной философии. То есть Горький ищет сильных, не ро-
мантизированных людей, но где их найти, еще не знает. Где
взять настоящих героев и целостную философию жизни?
Симптомы этой целостности Михайловский стал искать в дра-
мах Горького. «На дне» Михайловский воспринял без восторга.
Он увидел в пьесе перепевы рассказов: мир героев оказался ис-
черпанным «до дна». Но вот критик опять вернулся к методу
Горького и к динамике его развития. Михайловский чутко улав-
ливал, что в Горьком «совершается какой-то перелом», старая
линия пройдена. По «темпераменту» Горький больше публицист,
чем художник (при несомненности художественного дарования)1.
Что значит «по темпераменту»? Это новый термин, он не объяс-
.* См.: Михайловский Н. К. Последние сочинения.— Т. II.— С. 390.
317
нен, но ясно, что говорится об общественной направленности
творчества. Под публицистикой у Михайловского опять же надо
подразумевать общественную направленность творчества, на-
правленность не на обыденность и не на символически-сильных
героев, а на сильных героев из реального общества. Отсюда и
возрастающее обилие «философско-публицистических тем в раз-
говорах» героев Горького. Отсюда, может быть, и однообразие
языка: оно результат попытки вылепить современный образ бор-
ца с идеями. Отсюда и та особенность творчества, когда герои
«излагают мысли» самого автора. Все это связано со стремлени-
ем Горького создать сложный, собирательный образ героя. Пока
таким героем является сам автор с его общественным темпера-
ментом, публицистической направленностью творчества.
Вот как близко Михайловский подошел к сути дела, как чут-
ко он по-своему фиксировал «предел» развития Горького. Соче-
тание художника и публициста могло бы дать благоприятные
результаты. Верно заметил он у Горького тенденции к новому
методу. Но кого изберет героем Горький или какой герой выра-
стет из собирательной мысли автора, он не знал.
Михайловский не был настолько наивен, чтобы прямо совето-
вать Горькому принять свои народнические доктрины. Но он
верно уловил важную черту в творческой биографии Горького:
он еще «не разобрался в своих собственных взглядах. Он только
теперь (1902 год.— В. К ) в них, по-видимому, разбирается, от-
казываясь, как мы видели от мысли что ...босяки философствуют
лучше, чем Шопенгауэр»1. Философский пересмотр жизни Горь-
кого «еще не закончен». Мы знаем, что этот пересмотр и привел
Горького в 1905 году к социал-демократам.
Александр Михайлович Скабичевский (1838—1910). Скаби-
чевский был деятельным критиком народнического направления,
верным сподвижником Михайловского и во многом вполне са-
мостоятельным. С 1868 по 1884 год он активнейшим образом
сотрудничал в критическом отделе «Отечественных записок» и
сам считал этот период наиболее продуктивным в своей дея-
тельности. Он называл себя типичным «семидесятником» и пи-
сал: «...если бы я умер в 1884 году (год закрытия «Отечествен-
ных записок».— В. К-), я имел бы полное право сказать при
последнем издыхании: я все свое земное совершил»2. Можно
только добавить, что Скабичевский, как и Михайловский, после
этого времени совершил эволюцию в сторону либерального на-
родничества, сотрудничал в «Русском богатстве».
Хотя Скабичевский не отличался самостоятельностью в фи-
лософских и общеэстетических построениях и в лучшем случае
лишь присоединялся к выводам «шестидесятников», он много
сделал полезного в русской демократической критике.
’Михайловский Н. К. Последние сочинения.— Т. II.— С. 398.
2Скабичевский А. М. Литературные воспоминания.— М.; Л.,
1928,—С. 237.
318
Скабичевский живо откликнулся с демократических позиций
на множество новейших явлений в текущей русской литературе,
и без его отзывов о Г. Успенском, Наумове, Каронине, Злато-
вратском, Л. Толстом, Чехове, Д. Н. Мамине-Сибиряке значи-
тельно беднее вылядела бы русская прогрессивная критика.
Именно Скабичевский во всю ширь применил критическую на-
родническую методологию ко всей тогдашней русской литера-
туре, откликнувшись на самые ее разнообразные явления. Ска-
бичевский в меру своих сил поддерживал уважение к тради-
циям демократов 60-х годов, к заслугам Чернышевского, Доб-
ролюбова и Писарева, опровергал возводимые на них все новые
и новые наветы реакционеров. Наконец, Скабичевский обруши-
вался на современные модернистские веяния в русской литера-
туре.
К важным достоинствам критики Скабичевского следует от-
нести еще и то, что он старался в обобщающих циклах рассмот-
реть некоторые важные явления в русской литературе. Таковы
его работы: «Живая струя» (1869), «Новый человек деревни»
(1882), «Мужик в русской беллетристике» (1899), «Сорок лет
русской критики» (1872). Упоминавшаяся уже «История новей-
шей русской литературы» выдержала семь изданий. Скабичевско-
му было что сказать и закрепить в общественном сознании при
всем несколько пространном, академически вялом по сравне-
нию с классиками стиле его изложения, иногда сбивчивости
ведущей идеи статей. Когда декаденты кричали «освободите нас
от Скабичевского», то они хотели освободиться прежде всего
вообще от демократизма и реализма в критике.
Проникнутый сознанием активного вмешательства в жизнь,
сочувствием к подлинным борцам за народные права, Скаби-
чевский, как и почти все демократы, отрицательно отнесся к
«старой правде» Гончарова в «Обрыве», усмотрел подделку под
демократизм даже в тургеневском Базарове, находя, что автор
«Отцов и детей» сделал антинигилистический выпад, ничем не
отличающийся от выпадов Писемского, Клюшникова, Лескова,
Авенариуса (статья «Русское недомыслие», 1868). Скабичевский
считал, что отныне героем может быть только человек, действи-
тельно знающий народ, желающий внести в его гущу свет со-
знания, хотя и настаивал, что эволюция типов героев непрерыв-
на, есть преемственность между этапами их развития и нельзя
одним попирать других.
Но в целом проблему изображения народа Скабичевский ре-
шал как типичный народник и сам в каких-то моментах отсту-
пал от заветов Чернышевского. Это особенно видно из статьи
«Живая струя» (1869), в которой он упрекал Н. Успенского и
Слепцова в бездумном, иногда ироническом изображении тупо-
сти, забитости русского народа. Скабичевский не понял глубо-
кого смысла статьи Чернышевского «Не начало ли перемены?».
Чернышевский не хуже Скабичевского видел художественные
319
недочеты рассказов Н. Успенского, но ему важен был новый
угол зрения на предмет, помогавший пробуждению самосозна-
ния народа и суливший впоследствии новые художественные до-
стижения литературы. Скабичевскому же как народнику такая
правда казалась пессимистической. Он искусственно противопо-
ставлял Н. Успенскому и Слепцову Решетникова, автора «Под-
липовцев», который привлекателен был тем, что сумел под гру-
бой сермягой отличить биение сердца и перестрадал вместе с
простыми людьми их страданиями.
Не до конца раскрыл Скабичевский и внутренние противоре-
чия творчества Г. Успенского. Он рецензировал «Разоренье» в
статье «Герои вечных ожиданий» (1871), без основания отметив
«случайность» появления таких деклассированных героев, как
Михаил Иванович. В отзыве на вышедшие в 1891 году «Сочине-
ния Г. Успенского» Скабичевский пристрастно отметил, что пи-
сатель «не изучает народ, не изображает его, а болеет за него,
как родная мать». Эти внешне похвальные слова обходили кри-
тицизм Успенского, его подлинное отношение к народу. Сопостав-
ляя его творчество с творчеством Златовратского, выпустившего
к тому времени свой роман «Устои», Скабичевский увидел раз-
личия между двумя писателями в том, что пафос Успенского
«отрицательный», а Златовратского «положительный». Но это
отмечалось критиком лишь затем, чтобы тут же выявить то об-
щее, что было у обоих писателей: Успенский показывал, как
разлагается «власть земли» и мужик теряет нравственность, а
Златовратский восторженно восхвалял вековые «устои», сожа-
лея о деградации выделяющейся из общины «личности». Скаби-
чевский и здесь не замечает главного — того, что Успенский
своим критицизмом опровергал народнические иллюзии относи-
тельно деревни и ее «устоев».
Всегда живой интерес у Скабичевского вызывало творчество
Л. Толстого. В ранней статье «Граф Лев Николаевич Толстой —
как художник и мыслитель» (1870) Скабичевский отмечал ис-
ключительную силу таланта писателя, его правдивость, но скеп-
тически отнесся к попыткам автора сблизить своих героев Не-
хлюдова, Оленина, Пьера Безухова с простым народом. Скаби-
чевский недоумевал, зачем понадобилось автору возвышать
Платона Каратаева как какого-то вдохновенного глашатая на-
родной мудрости: «Признаемся откровенно, нам страшно за гра-
фа Толстого. Мы боимся, что один из самых могучих, светлых
и симпатичных талантов настоящего времени погибнет так же
ужасно, как погиб талант Гоголя»1. Новые поводы для забот
Скабичевскому подали и роман «Анна Каренина», последовав-
ший в 1880—1881 годах известный перелом во взглядах Толстого,
и апологетические статьи и брошюры о «философии» Толстого
ряда публицистов (Громеки, Оболенского и др.). Скабичевский
1 Скабичевский А. М. Соч,— Т. I.— С. 648.
820
написал большую статью «Мысли и заметки по поводу нравст-
венно-философских идей гр. Л. Толстого» (1885). Критик все
время напоминал, что надо разграничивать художественную и
философскую стороны в творчестве Толстого. Скабичевский на-
чисто отвергал его теорию «непротивления злу насилием», отри-
цание науки, искусства и вообще жизни разумом, необходимости
эмансипации женщины. Во всем этом критик усматривал «весьма
ветхую закваску крепостного права».
Но Скабичевский явно стоял ниже своего учителя Михайлов-
ского в определении «десницы» и «шуйцы» Толстого и отказы-
вался отыскивать единый, подлинный источник противоречий
писателя.
Скабичевский считал, что учение Толстого слишком «соби-
рательное, эклектическое», чтобы можно было его «выводить из
одного какого-нибудь источника». Скабичевский не почувство-
вал стихийного демократизма Толстого. Он продемонстрировал
свое полное бессилие, не поняв «Власти тьмы» Толстого. Ска-
бичевский скорбел по поводу пессимизма Толстого, напоминаю-
щего пессимизм Н. Успенского, он упрекал Толстого в мелодра-
матизме пьесы, нелогичности действия, в тенденциозном изобра-
жении женщин как исчадий ада. Но Скабичевский проглядел
главное: критическое отношение Толстого к власти денег и го-
рода. Эти новые силы окончательно превратили деревенскую
жизнь в ад. Все старые дикие инстинкты деревни приобрели те-
перь новую силу под растлевающим влиянием «желтого дьяво-
ла». Против него-то и направлена пьеса Толстого.
С выпадами Скабичевского против декадентов и символистов
получилось приблизительно то же самое, что и с выпадами про-
тив них Михайловского. Скабичевский верно почувствовал на-
ступление на философский материализм и реализм в книге Ме-
режковского «О причинах упадка и новых течениях современной
русской литературы». В журнальной рубрике «Заметки о теку-
щей литературе» он разобрал книгу Мережковского и показал,
какой «невообразимый сумбур» господствует в его претенциоз-
ной «концепции». Особенно поразительна поверхностность, с ка-
кой толкует Мережковский свое основное понятие «мисти-
цизм». Это и «глубина священного незнания», и «близость тайны,
близость океана», и «религиозные верования», и «идеализм», и
всякое «фантастическое». Точно так же самые противоречивые
начала подразумевал Мережковский, толкуя о символах, отвле-
ченных идеях и просто о внешнем образе всякого предмета и о
художественных образах, как, например, о Гамлете, Дон-Кихоте,
Обломове. Скабичевский напал на символистские произведе-
ния, в которых 3. Гиппиус, Ф. Сологуб увлекались изображени-
ем невменяемых людей (статья «Больные герои больной лите-
ратуры», 1896). Критик едко высмеивал «курьезы и абсурды»
молодой модернистской критики, признаки «одичания современ-
ной молодежи», увлекающейся Мережковским и Волынским.
21 Заказ № 1367
321
Но в позициях Скабичевского была своя доля субъективиз-
ма, которая делала его не до конца последовательным борцом
против «чистого искусства» и декадентства.
Еще в ранней работе «Сорок лет русской критики» (1872)
Скабичевский обнаружил склонность к субъективистскому ис-
толкованию взглядов Белинского, Добролюбова. Особенно это
заметно в том месте, где Скабичевский разбирал смысл полеми-
ки между Белинским и В. Майковым и вообще соотношение их
философских и эстетических взглядов. Скабичевскому было как
бы тесно в строгих категориях исторического детерминизма Бе-
линского, он предпочитал наметившуюся у В. Майкова тенден-
цию в сторону «законов нашего психического мира». Скабичев-
ский вслед за В. Майковым хотел бы «правду-истину» дополнить
«правдой-справедливостью». Понравилось Скабичевскому у
В. Майкова и пресловутое разделение народа на мыслящее мень-
шинство и пассивное, инертное большинство. Ведь это предваря-
ло народническое учение о героях и толпе. Здесь источник после-
дующих неприятий Скабичевским целого ряда произведений.
Переоценка критически мыслящей личности у Скабичевского
вела к переоценке и значения самих мыслей, субъективных пред-
ставлений личности. Скабичевский совершал грубую философ-
скую ошибку, когда заявлял, что «искусство должно воспро-
изводить действительность не в том виде, как она есть сама по
себе, а как она нам представляется»; этим самым мы сразу «пе-
реместим искусство с прежней почвы тщетной погони за вер-
ностью действительности на почву верности нашим представле-
ниям». В статье «Задачи литературной критики» Скабичевский
писал о том, что правда истинно художественного произведения
есть второстепенный продукт. «Художник стремится лишь к то-
му, чтобы возможно живо, ярко и полно воплотить в образах
чувства, волнующие его, чтобы пробудить с возможно большей
силой в читателе чувства, наполняющие его...» Главное для Ска-
бичевского— заразить читателя своим субъективным народни-
ческим чувством.
Но иногда бывает так: одержимые своей идеей люди прояв-
ляют особенную зоркость в самых неожиданных областях. Так,
Скабичевский, например, разглядел тенденциозность творчества
даже «бестенденциозного» Чехова, и в этом состоит определен-
ная заслуга критика. Заглавие его статьи передает споры того
времени: «Есть ли у А. Чехова идеалы?» (1892). В отличие от
Михайловского, Скабичевский сразу ответил на вопрос: есть.
«Сообразите только,— писал Скабичевский о «Палате № 6»,—
имел ли бы возможность художник нарисовать столь мрачную
картину во всем ее ужасающем вас безобразии, если бы в душе
своей он не имел идеала иной, более светлой, разумной и жела-
тельной жизни?»1. Но и здесь Скабичевский рассуждал в плане
предположительном, «от обратного», а сущности идеалов и оп-
тимизма Чехов!, например, в соотношении с народническими
322
и щалами не исследовал. Критик не исследует сами воспроизво-
димые Чеховым факты во всем их разнообразии, те случаи, ко-
гда среди его героев оказывались и носители светлых идеалов.
Все дело в том, что для Скабичевского важна не действитель-
ность, а наши представления о ней. Ни самовыражение автора,
ни изображение им объекта не получали у Скабичевского пол-
ного освещения, так как он разрывал субъект и объект в ис-
кусстве.
Этот недостаток его методологии заметно проявился в суж-
дениях о М. Горьком (статья «Максим Горький», написанная в
связи с выходом «Очерков и рассказов» писателя в 1898 г.).
Скабичевский воспринимает Горького только как «поэта босой
команды». Сама «команда» для критика не продукт паупериза-
ции деревни, а более поэтический предмет: остатки исконно рус-
ского бродяжничества, реликты эпохи, существовавшей до
Юрьева дня. Скабичевский начисто отвергает предположение,
что Горький от босяков будет эволюционировать в сторону про-
летариата, что он свяжет свое творчество с распространяющим-
ся в России марксизмом. Сам марксизм Скабичевский мерил од-
ной меркой: марксистам свойственно равнодушное отношение к
мужику. Он писал, что считать Горького способным стать марк-
систом было бы большим заблуждением: «Если бы он был марк-
систом, мы могли бы ждать от него некоторой идеализации фаб-
ричных рабочих за счет деревенских мужиков; но ничего подоб-
ного в рассказах его мы не встречаем. Фабричного быта Горький
вовсе не касается».
Прошло несколько лет, и Горький стал именно певцом борю-
щегося пролетариата. Но Скабичевский, доживший до 1910 го-
да, давно уже молчал в критике. Он понял, как и Златоврат-
ский, что исписался, нового времени не понимает, а старые на-
роднические устои оказались разбитыми.
ГЛАВА 10
Проблемы реализма в критических статьях И. Тургенева,
И. Гончарова, Ф. Достоевского, Л. Толстого,
В. Короленко
Критические суждения выдающихся писателей всегда крайне
важны и интересны. Они являются неотъемлемой составной ча-
стью истории критики и представляют огромную ценность даже
на ее самых зрелых стадиях развития.
В большинстве случаев суждения писателей выступают в ка-
честве важных дополнений, коррективов к уже сложившимся
программам направлений, без которых они были бы неполными.
Особенно эти суждения ценны для характеристики внутренней
творческой лаборатории писателей. Без этих «признаний» самая
21*
323
совершенная критическая программа выглядела бы слишком
схематической.
Мы не предполагаем делать каких-либо обобщений из этих
суждений. Они сами говорят за себя. Нам важно осознать, в чем
они дополняют и совершенствуют «реальную критику» 60-х и на-
родническую критику 70—90-х годов, в каких моментах писа-
тельские суждения были шире и мудрее «официальной» критики
реалистического направления. Взаимоотношения писателей с
критико-эстетическими программами направлений не следует
рисовать как идиллические. Тут бывают свои внутренние проти-
воречия, как, например, в отношении Тургенева, Достоевского,
Л. Толстого к критике и эстетике Чернышевского. Но в конечном
счете все писатели-реалисты так или иначе делали общее дело.
Эти линии их принципиальных схождений важно выяснить.
Кроме того, суждения писателей-реалистов служили надеж-
ным оплотом против декаданса даже тогда, когда «официаль-
ная» передовая критика явно пасовала и делала уступки идеа-
лизму, субъективизму, как это было с народнической кри-
тикой.
Следует учитывать и различную степень профессиональных
связей писателей с критикой, случайность и неслучайность пово-
дов для их выступлений и самый характер выступлений (речь,
статья, трактат, дневник).
Тургенев-критик идет рука об руку с Тургеневым-писателем
на всем протяжении творчества. Круг его интересов беспредель-
но широк. Несколько флегматичный Гончаров сделался крити-
ком в конце жизни, кажется, поневоле, главным образом, чтобы
«объяснить» некоторые неудачи романа «Обрыв».
Достоевский издавал журналы «Время» и «Эпоха», но общий
смысл его критических суждений как писателя-реалиста далеко
выходил за рамки «почвенничества». Л. Толстой изредка высту-
пал на критическом поприще. Но зато какой резонанс вызвали
его трактаты об искусстве и Шекспире! Г. Успенский и В. Коро-
ленко обладали сильным демократическим темпераментом и
охотно делились с читателями своими впечатлениями о многом
как критики.
Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883). Тургенев ведет борь-
бу за реализм в рамках общепринятых после Белинского и
Добролюбова понятий и приемов. Такова речь Тургенева о Пуш-
кине, сказанная в 1880 году при открытии памятника поэту в
Москве. Речь повторяла все уже блестяще сказанное о Пушкине
Белинским. Достоинство Тургенева было в том, что он сказал
о Пушкине как о первом русском великом «художнике», осво-
бодившем русскую литературу от «подражательности», как о
создателе русского «литературного языка», после почти полного
его отрицания народниками. Но Тургенев еще колебался, мож-
но ли назвать Пушкина национальным поэтом, как называют,
например, англичане Шекспира, а немцы Гете.
324
К числу блестящих, глубоко оригинальных выступлений Тур-
генева относится его рецензия о русском переводе «Фауста»
(1844) и статья «Гамлет и Дон-Кихот» (1860). Через осмысле-
ние образов мировой литературы Тургенев подходил к опреде-
лению типологии героев русской литературы. Все, что говорил
Тургенев о Фаусте как эгоисте, а о Мефистофеле как воплоще-
нии скептицизма нового времени,— все это было повторено им
в более сложной форме применительно к Гамлету в упомянутой
статье. Гамлет и оказался наследником фаустовского эгоизма,
рефлексии. Под гамлетами Тургенев подразумевал современных
«лишних людей». Под донкихотами — вечных энтузиастов, под-
вижников добра, изобретателей, немного чудаковатых и мечта-
тельных, но подлинных двигателей человечества. Донкихоты на-
ходят нечто великое для всех, а гамлеты эгоистически стара-
ются приспособить их к себе и топят в рефлексии реальные пло-
ды открытий. В сопоставительном анализе двух типов героев,
словно в алгебраической формуле, Тургенев искал важные для
него творческие импульсы, после того как сам создал «гамлета»
Рудина и не совсем удачливого «донкихота» Лаврецкого. Ему
нужен был донкихот всерьез, после того как гамлет превратил-
ся в «Гамлета Щигровского уезда». Донкихот был лишь посту-
лирован в образе Инсарова в романе «Накануне». Несмотря на
то что донкихоты были поставлены Тургеневым выше гамлетов,
русские демократы не совсем соглашались признать себя за
донкихотов: донкихоты, по Тургеневу, люди односторонние,
иногда безумцы, сражающиеся с ветряными мельницами, тогда
как у гамлетов есть привлекательная тонкость и глубина ана-
лиза...
Тургенев написал блестящий очерк воспоминаний о Белин-
ском (1869). Это было большим, оригинальным дополнением
к труду Чернышевского «Очерки гоголевского периода», кото-
рый Тургенев, не в пример диссертации того же Чернышевского,
высоко ценил. Тургенев характеризует Белинского как «цент-
ральную натуру» своей эпохи, проницательного открывателя
и воспитателя талантов, убеждения которого «были очень силь-
ны и определитсльно резки». Но Тургенев навязывал Белинско-
му свои либеральные симпатии, старался оторвать его от «на-
следников»— Чернышевского и Добролюбова, уверял, что Бе-
линский не любил выходить из узкого круга эстетических проб-
лем в область публицистики и политики. Это, конечно, неверно.
Здесь Тургенев явно сводил счеты с редакцией «Современника»
60-х годов.
В противовес реакционным критикам Тургенев сказал свое
веское слово об «Истории одного города» Щедрина. В сущности,
он оспорил придирки А. С. Суворина к гротескным приемам
автора знаменитой сатиры. В 1871 году Тургенев написал пре-
дисловие к английскому переводу «Истории одного города», в
котором назвал манеру Щедрина родственной по духу сатире
325
Ювенала, реализму Свифта. Он указал на особые трудности пе-
ревода Щедрина, у которого «местный колорит слишком ярок»
и заслуживает специального изучения.
Известно, что у Тургенева были крупные расхождения во
взглядах с Л. Толстым. Он многим восхищался в творчестве
Толстого, но не одобрял чрезмерный его самоанализ, психоло-
гизм, эту «капризно-однообразную возню в одних и тех же ощу-
щениях». Особенно все эти черты бросались в глаза в «Войне
и мире». Но в 70—80-х годах Тургенев много доброго сказал
о Толстом в связи с двумя французскими переводами «Войны
и мира». Он отмечал в парижской печати мощь психологическо-
го анализа Толстого и «способность создавать типы», огромное
познавательное значение его эпопеи.
Еще в отзыве на повесть Евгении Тур «Племянница» (1852)
Тургенев высказал предположение, что старый авантюрный ро-
ман отжил свое, что теперь нужно идти даже не за В. Скоттом,
а за «бытовиками»—Ж. Санд и Диккенсом. Теперь, в 1880-х го-
дах эпопея «Война и мир» не только подтверждала победу но-
вых форм романа, но и представляла собой сложнейший жанр
романа, в котором сплелись достижения прежних форм истори-
ческого, социально-бытового и психологического романов. Тур-
генев начинал все больше ценить масштаб дарования Толстого.
Он боялся, что проповедь «непротивления» может погубить Тол-
стого-реалиста. В страстном предсмертном письме к Толстому
Тургенев призывал «великого писателя русской земли» вернуть-
ся к художественному творчеству.
Тургенев здесь выступил ревнителем не только таланта Тол-
стого, но и реалистического направления в целом, которое пере-
живало кризис в связи с общественным спадом 80-х годов.
Иван Александрович Гончаров (1812—1891). По непосредст-
венному наитию Гончаров-критик написал, может быть, только
одну статью «Мильон терзаний» (1872) о комедии Грибоедова
«Горе от ума», поставленной на сцене Александрийского театра
в бенефис известного артиста И. В. Монахова. Но и то, по во-
споминаниям М. М. Стасюлевича, мысль записать впечатления
в виде статьи подсказал Гончарову один из его друзей, слышав-
ший его прекрасную речь-импровизацию, произнесенную на бан-
кете сразу же после спектакля. Статья получилась блестящая.
До сих пор она является одной из лучших критических работ о
комедии «Горе от ума». Статья исправляла однобокие суждения
Пушкина о заемном «уме» Чацкого, неудачные суждения Белин-
ского «примирительного» периода о Чацком—«крикуне-маль-
чишке».
Не будучи драматургом, Гончаров вдруг обнаружил изуми-
тельное знание законов драмы и сиены. Медлительный в работе
и в манере развертывать повествование в своих романах, Гон-
чаров вдруг обнаружил себя поборником сжатого, компактного
сюжета и взял под решительную защиту сценичность «Горя от
326
ума». Он блестяще доказал наличие в комедии сквозного дейст-
вия и, кроме того, законченность не только ее как целого, но
п каждой отдельно взятой сценки в ней. Гончаров стоял в созна-
нии русской публики очень высоко как писатель, сумевший за-
вершить своим Обломовым целую галерею образов «лишних
людей». Но тут его вдруг привлекла стоящая каким-то особня-
ком в русской литературе комедия Грибоедова со своим совсем
не похожим на «лишних людей» героем. Чацкий —«один в поле
воин», энтузиаст, вечный борец за новую «жизнь свободную»,
обличитель лжи, смело принимающий бой с количественно пре-
восходящей его «старой силой» и наносящий ей «смертельный
удар качеством силы свежей»1. Неожиданно оказывалось, что
вовсе не Штольцы и Тушины, а именно Чацкие были теми героя-
ми, которые всегда говорили в России всемогущее слово «впе-
ред». Конечно, была глубокая внутренняя связь у Гончарова с
Грибоедовым. Гончарова привлекали родственный ему бытовой
реализм комедии, ее изобразительная сторона, сатира на нравы,
необыкновенно близкий к жизни язык.
Не случайны также и симпатии Гончарова к Островскому,
которого он считал «самым крупным талантом в современной
литературе». В отзыве о «Грозе» (1860) перед присуждением
автору академической премии Гончаров назвал его драму клас-
сической, отметив типизм образов, «выхваченных прямо из сре-
ды народной жизни». Позднее Гончаров собирал материалы
для статьи об Островском как обличителе старых нравов и быта
(1874). Гончарова привлекал размах творчества Островского,
нарисованная им картина «тысячелетней России». Одним «кон-
цом» картина «упирается» в доисторические времена («Снегу-
рочка»), а другим—«останавливается у первой станции желез-
ной дороги, с самодурами, поникшими головой перед гласным
судом, перед нагрубившим ему строкулистом-племянником».
Но если в «Горе от ума» Гончаров выделял, может быть, не-
достижимые для себя свежесть конфликта и сквозное действие,
то в манере Островского он улавливал нечто совсем себе род-
ственное: Островский, в сущности, «писатель эпический», сочи-
нение действия —«не его задача», да оно и не подходит к той
жизни, которую изображает Островский. Гончаров верно уловил
новые черты драматургической поэтики Островского, продолжив
вслед за Добролюбовым ценные над ней наблюдения. Сочинение
занятной фабулы «унизило бы» Островского, он должен был бы
ради нее жертвовать частью своей великой правдивости, цело-
стностью характеров, драгоценными штрихами нравов, деталя-
ми быта. А в этих особенностях как раз и заключается сила
Островского-реалиста.
Однако в двух моментах нельзя согласиться с гончаровской
интерпретацией Островского. Он ограничивает воздействие Ост-
1 Гончаров И. А. Собр. соч.— М.., 1955.— Т. VIII.— С. 32.
327
ровского только на среду тех людей, которые в жизни нагля-
делись сами на это «темное царство»; образованная публика
якобы не узнает в этих изуродованных лицах человеческих черт.
Но мы помним, что уже Добролюбов доказывал нечто обратное:
несмотря на уродства «темного царства», в нем есть «лучи», и
Островский не просто изображает обособленный купеческий
мир, а создает и общечеловеческие типы. Неверно также утвер-
ждение Гончарова, согласно которому все то, что подлежало
изображению в «темном царстве», Островским уже изображено
и что он теперь если не исписался, то во всяком случае все уже
описал. Поэтому если до «нового времени», т. е. до реформ, ни-
что не ускользало от его зоркого ока, то теперь ему как бы уже
делать нечего. Он не пошел и не пойдет за новой Россией —
в обновленных детях ее уже нет более героев Островского. Здесь
у Гончарова мы снова слышим его обманчивое заявление «про-
щай, Обломовка... ты отжила свой век»... На самом деле Ост-
ровский шел за жизнью вперед и не переставал искать новые
темы.
Представления об обновленных «детях» у Гончарова были
путаные: с одной стороны, Штольцы и Тушины, а с другой —
Волоховы... Только обращаясь в прошлое, он верно в Чацком
нашел героя нового. Но правильно разглядеть его наследников
не смог.
Нападение демократов на роман «Обрыв» (1869) заставило
Гончарова энергично взяться за перо критика. Он выступил с
важными разъяснениями смысла своего романа и творчества
в целом. У Гончарова есть авторские признания, которые вскоре
приобрели значение первоисточника для построения научной
концепции его творчества. Есть общетеоретические положения
о реализме, идущие от личного опыта писателя и от вниматель-
ного чтения статей Белинского и Добролюбова. Но были у него
и попытки как-то оправдаться, уверить читателей в чистоте сво-
их намерений, когда он писал роман «Обрыв» и создавал образ
Марка Волохова.
Из этих противоречивых положений и состоит «Предисловие
к роману «Обрыв», приготовленное Гончаровым к отдельному
изданию романа в 1870 году, но не увидевшее света (впервые
опубликовано в 1938 г.). Материалы предисловия были затем
использованы Гончаровым в статье «Намерения, задачи и идеи
романа «Обрыв» (1876), которая была опубликована посмертно
в 1895 году. Для историко-литературного процесса были важны
увидевшие свет при жизни Гончарова его критические заметки
«Лучше поздно, чем никогда» (1879), в которых наряду с авто-
биографическими и общеэстетическими вопросами он изложил
и свое понимание романа «Обрыв», использовав свои прежние
работы и наброски.
Гончаров настаивал на мысли о том, что существует относи-
тельная связь между тремя его романами как трилогии, в кото-
328
рой отразились три разные эпохи. Он указывал на значение
образов дельцов — Адуева-старшего, Штольца и Тушина, первых
ласточек новых веяний. Новые веяния отразились и в женских
образах — Наденьки, Ольги Ильинской и Веры. Все это давно
учтено исследовательской литературой, хотя не очень верится,
что все три романа — это трилогия. Указывая на такую связь,
Гончаров, может быть, хотел за счет более удачного «Обломо-
ва» несколько скрасить недостатки «Обрыва»...
Особенно неубедительными были его неоднократные попытки
разъяснить образ Волохова, на который главным образом и на-
падала демократическая критика. Гончаров даже не сохранил
необходимой последовательности в своих оправданиях. То он
настаивал, что «Обрыв» был задуман в 1849 году и его роман
к антинигилистическим настроениям никакого отношения не име-
ет, то свидетельствовал, что вместе с движением времени образ
Волохова из простого «неблагонадежного» озорника сделался
портретом расплодившихся особенно в 60-х годах «нигилистов».
Не верится, что Райский — это проснувшийся в пореформенную
эпоху Обломов, хотя, как показывал Добролюбов, в жизни легко
было еще встретить новых Обломовых.
По темпераменту, широте интересов Райский далеко отстоит
от Обломова. Эти два типа плохо вяжутся друг с другом. Рай-
ский— скорее повторение на новой основе Адуева-младшего, ка-
ким мы его знаем по первым главам «Обыкновенной истории».
Гончаров много сил потратил, доказывая, что Волохов — это
не герой современного поколения. Но при этом Гончаров подме-
нял понятия. Он перечислял различные типы либеральных поре-
форменных деятелей и спрашивал: неужели эти деловые, благо-
приличные люди имеют что-либо общее с Волоховым? Но ведь
под «современным поколением» имелись в виду вовсе не дель-
цы, а Базаровы... Неразъясненными оставались тезисы Гонча-
рова: почему Вера надеялась найти в Марке опору, а нашла
ложь?
Тенденциозность романа не была опровергнута Гончаровым.
Автор не видел, что в образе Тушина повторяет те же ошибки,
которые допустил с образом Штольца, а идеализацией бабушки
Татьяны Марковны Бережковой воспел «старую правду» Обло-
мовки...
Но Гончаров был прав в своих сетованиях, что суровые судьи
«Обрыва» прошли мимо всей живописной стороны романа, леп-
ки образов, а ведь в «Обрыве» при всей неудачности образа
Марка Волохова была воспета Россия, ее быт, обычаи, мастер-
ски нарисованы картины Поволжья, провинции, столицы. Все
это осталось неоцененным в критике. Не правы оказались и те,
кто предрекал полный провал романа, забвение его в будущем.
«Обрыв» до сих пор остается одним из классических русских
романов. И в этом романе было много критической силы, и
прежде всего в образе Веры.
329
Гончаров опирался на эстетику Белинского и Добролюбова.
Он отрицал «приемы» творчества, которые копируют естествен-
нонаучные методы исследования природы, отрицают «в худо-
жественных поисках правды такие пособия, как типичность,
юмор, отрицают всякие идеалы, не признают нужною фантазию
и т. д.»1. Как глубокий реалист, Гончаров напомнил еще одну
важную заповедь эстетики Белинского: «Художественная прав-
да и правда действительности — не одно и то же». Ученый ниче-
го не создает, он открывает готовую и скрытую в природе прав-
ду, ее законы. А художник создает подобие правды, «пишет не
прямо с природы и с жизни, а создает правдоподобия их», т. е.
вторую природу. Гончаров был прав, называя утверждаемые
им истины «азбукой эстетики». Но, увы, в 70-х годах некоторые
критики начинали забывать эту «азбуку».
Вслед за Белинским и Добролюбовым он напоминал, что в
художественном произведении все должно говориться через об-
разы без голой дидактики. Образы — ум произведения, его со-
держание.
Писатель решительно был против бесцельного творчества,
«чистого искусства», иронически предлагал называть его «искус-
ством без искусства».
Но в статьях Гончарова заметно некоторое злоупотребление
понравившимся ему, но не до конца точным определением сущ-
ности его собственного таланта, данным Белинским и Добролю-
бовым, как бестенденциозного. Гончаров хотел казаться худож-
ником, только верно рисующим образы с натуры, но не ведаю-
щим о том, что они значат и куда ведут. Гончаров всерьез хотел
уверить, что когда он писал «Обрыв», то только «следил за от-
ражением» «борьбы старого и нового». Он подчеркивал слово
«следил», потому что ему хотелось сказать «смотрел и писал,
даже не думая, что вбираю в себя впечатлительным воображе-
нием лица и явления, окрасившиеся в краски момента...»* 2. Гон-
чаров очень хотел, чтобы о нем думали как о художнике, у ко-
торого «ум ушел в талант», он только художник и больше ничего
Но как бы ни было верным такое определение его таланта в
целом, по сравнению, например, с Герценом, у которого явно
«талант ушел в ум», это определение нельзя абсолютизировать,
представлять себе наивно. На самом деле, Гончаров знал, что
писал. Это видно из его признаний: если верить его же словам,
он сразу замыслил трилогию романов о трех эпохах, видел свя-
зи и переходы между героями, знал о «намерениях, задачах и
идее» романа «Обрыв». Азбука эстетики никогда не давала ему
забываться.
В написанных по просьбе А. Н. Пыпина «Заметках о лично-
сти Белинского» (1873—1874) Гончаров помогал воскресить в
'Гончаров И. А. Собр. соч.— Т. VIII.—С, 106.
2 Т а м ж е.— С. 8.
330
общественном сознании обаятельную фигуру великого критика,
опровергнуть некоторые либеральные о нем легенды. Гончаров
освидетельствовал как очевидец и как участник «натуральной
школы», что Белинский был больше, чем критик, литератор, пуб-
лицист,— он был «трибуном». Думается, Гончаров правильно оп-
ределил соотношение критики Белинского с критикой 70-х годов.
Гели бы Белинский прожил дольше, «он, конечно, отдался бы
современному реальному и утилитарному направлению, но от-
нюдь не весь и не во всем. Искусство, во всей его широте и силе,
не потеряло бы своей власти над ним,— и он отстоял бы его от
гех чересчур утилитарных условий, в которые так тесно и узко
хотят вогнать его некоторые слишком исключительные ревнители
утилитаризма». Действительно, можно с уверенностью сказать,
именно так бы вошел Белинский в последующие эпохи русской
критики, развиваясь вместе со временем, но не растратив самого
себя, не пристраиваясь к «разрушению эстетики» ни под ка-
ким видом. Он нес в себе начала «органической критики»
Ап. Григорьева.
Напрасно в цитированных словах Гончарова исследователи
и комментаторы иногда видят шпильки в адрес докучавших
«утилитаристов». Что бы он о них ни думал, как обиженный
автор «Обрыва», «утилитаристы» действительно существовали
и заслуживали упрека в упрощении тех вопросов эстетики, ко-
торые правильно решал Белинский. Достоинство Гончарова за-
ключалось в том, что он теперь с замечательной твердостью и
убежденностью отстаивал «азбуку эстетики» Белинского.
Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Достоевский
обладал ярким талантом литературного критика и полемиста.
Еще в 1847 году он опубликовал несколько незаурядных фелье-
тонов в «Санкт-Петербургских ведомостях».
После каторги Достоевский вместе с братом Михаилом (умер
в июне 1865 г.) издавал журналы «Время» (1861—1863) и «Эпо-
ха» (1864—1865). Затем сотрудничал в газете-журнале «Граж-
данин» (1873) князя В. П. Мещерского, взяв на себя и редактор-
ские обязанности. Свое страстное желание разговаривать с пуб-
ликой «один на один» обо всех волновавших его вопросах До-
стоевский вполне осуществил в уникальнейшем в истории рус-
ской журналистики издании —«Дневнике писателя», который
сначала возник как раздел в «Гражданине», затем, в 1876—
1877 годах, выходил отдельными выпусками (в 1880 и 1881 гг.
вышло всего по одному выпуску).
В «Дневнике писателя» Достоевский выступал одновремен-
но как критик, публицист и писатель-художник.
Еще в «Объявлении» от редакции о выходе «Времени» До-
стоевский обещал обратить «особенное внимание» на отдел кри-
тики. Вскоре появился «Ряд статей о русской литературе». В од-
ной из рецензий он так формулировал «предмет» и значение
этого рода литературной деятельности: критика «сознательно
331
разбирает то, что искусство представляет нам только в обра-
зах»; «в критике выражается вся сила, весь сок общественных
выводов и убеждений в данный момент». Достоевский даже
оспаривал в печати один из тезисов своего главного сотрудника
Ап. Григорьева: «Я критик, а не публицист». К этим его словам,
процитированным в воспоминаниях Страхова об Ап. Григорьеве,
Достоевский сделал примечание: «Но всякий критик должен
быть публицистом», т. е. иметь «твердые убеждения» и «уметь
проводить» их. Как видим, в общей форме такие заявления
Достоевского повторяют то, что говорили Белинский, Черны-
шевский о необходимости для критики пафоса современности,
об ее «искренности», о предпочтении критики «прямой» критике
«уклончивой».
Но понятие «направление» применительно к Достоевскому
имеет двоякий смысл. Первый и узкий — это «почвенничество»,
особое учение, которое Достоевский активно развивал и пропа-
гандировал вместе со Страховым и Ап. Григорьевым; оно во мно-
гом было враждебно революционно-демократической критике.
Второй — более широкий и неизмеримо более ценный — касается
тех случаев, когда Достоевский выступал как глашатай реализ-
ма и тем самым сливался с основным направлением русской
прогрессивной критики.
Достоевский-критик к «почвенничеству» несводим, но и к реа-
листическому направлению примыкал по-особенному, не только
внося в него много оригинального, личного, даже исповедаль-
ного как гениальный писатель-реалист, но и привнося много
спорного, противоречивого, что оказывалось связанным все с
тем же «почвенничеством».
Учение под названием «почвенничество»— результат пере-
смотра Достоевским после каторги своих взглядов, отказа от
«петрашевства», социалистических, революционных путей преоб-
разования России. «Почвенничество»—плод идеализации До-
стоевским царской реформы 1861 года, веры в возможность мир-
ного сосуществования сословий, «общего для них дела», разви-
тия «народных начал», столь сковывавшихся крепостничеством,
когда мыслящие люди России из дворян отрывались от родной
«почвы», превращались в «скитальцев» по Европе, преклонялись
перед всем западным. В утверждении, что «почва»—это народ,
а не правящие верхи,— скрывалась некоторая крамольная мысль,
но она тонула у Достоевского в заимствованной у славянофилов
отвлеченной фразеологии о «народной правде», о «самобытно-
сти», и получалось что-то вроде льстивого угождения народу, его
«смирению», «здравым началам», в которых больше «залогов к
прогрессу», чем в «мечтаниях самых горячих обновителей Запа-
да»: «Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому,
чем желал бы стать». По Достоевскому народ хочет стать лишь
«сосудом Христовой истины». Конечно, Достоевскому искренне
хотелось создать устойчивую, всеобъемлющую концепцию жизни
8С2
н развития русского народа: он предчувствовал его великое бу-
дущее, но, кроме эклектической утопии «почвенничества», писа-
тель, к сожалению, ничего создать не мог. Достоевский сам
убеждался, что реформа не внесла единства в русскую жизнь.
«Все рабы...» — заявлял он в отзыве на драму Кишенского «Пить
до дна — не видать добра» (1873) о крестьянах, пропивающих
общину, готовых за деньги покривить совестью.
Достоевский-«почвенник» хотел возвыситься над крайностями
обеих партий: славянофилов и западников. Он критиковал газе-
ту «День» И. С. Аксакова за фанатически нетерпимое отношение
к современной русской литературе, заглаживание ужасов кре-
постничества («Два лагеря теоретиков», 1862 и др.). Критико-
вал он и катковский «Русский вестник» за снобистское, унизи-
тельное отношение к русской культуре; споря с теми, кто заяв-
лял, что русский «театр умер», напоминал о значении драматур-
гии Гоголя, Островского, Писемского («Культурные тупики»,
1874). Оспорил Достоевский и позицию Дудышкина, который от-
рицал народность Пушкина: «...одни образованные знают Пуш-
кина». Первоначально Достоевский был готов защищать обли-
чительное направление «Современника» и «Свистка» от нападок
«Русского вестника»: «Да пусть его свищет! ведь иногда свист
и полезен, ей-богу!» И все же в конце концов именно против ре-
волюционно-демократической общественной программы, литера-
турной критики, эстетики, этики выступал «почвенник» Достоев-
ский. К концу жизни он даже сблизился с И. С. Аксаковым,
Катковым и будущим обер-прокурором святейшего синода ре-
акционером Победоносцевым.
Еще в конце 40-х годов, порывая с кругом Белинского, Досто-
евский собирался выступить (а потом подтвердил это в следст-
венных показаниях) против «газетного», «пожарного» направле-
ния великого критика. Сразу же после каторги Достоевский го-
товил статью против диссертации Чернышевского. Он оспорил
затем главные выводы Чернышевского по поводу рассказов
Н. В. Успенского, не усмотрев в них никакого «начала переме-
ны» в изображении крестьянства.
Против крайнего «утилитаризма», идущего в ущерб художе-
ственности, Достоевский выступил в статье «Г.—бов и вопрос
об искусстве» (1861). «Господин — бов»—это псевдоним Доб-
ролюбова, который обвинялся в том, что преувеличивал значе-
ние рассказов Марко Вовчка. Дак казалось Достоевскому, в
рассказах этой писательницы Добролюбов собирал только «чер-
ты для характеристики русского простонародья», не обращая
внимания на художественный уровень рассказов.
Не отрицая ни ума, ни популярности Добролюбова, Достоев-
ский доказывал, что критик «Современника» в своем увлечении
«содержанием» произведений—«лишь бы идея была хороша»—
чего-то недопонимает в самой природе искусства. Искусству
нельзя предписывать целей и путей: оно свободно и естествен-
333
но, как потребность есть и пить. Художественность в писателе —
это способность писать хорошо. Красота должна быть принята
«без всяких условий». Никогда нельзя определить, что вредно
и что полезно. Честный человек всегда может ошибиться. До-
стоевский оспорил основную формулу «реальной критики»: «изо-
бражать жизнь как она есть». Она казалась ему эмпиричной,
бездуховной. Но Достоевский сам упрощал толкование этой
формулы, сводил ее к копировке действительности. Он впадал
даже в агностицизм: «сущность вещей человеку недоступна»,
«человек воспринимает природу, как она отражается в его идее
и чувствах» (статья «По поводу выставки», 1873).
Как уже говорилось, Достоевский крайне противоречив: неиз-
меримо более ценной оказывалась та часть его критического на-
следия (статьи, пометки в записных книжках, письма, даже от-
дельные вкрапления в статьи, написанные под «почвенническим»
влиянием), в которой он делился секретами писательского ма-
стерства, высказывал глубокие общие положения о формах
современного реализма, о направлениях в литературе, об от-
дельных писателях. Вот почему из двух указанных «направле-
ний» в критике Достоевского мы предпочитаем у него второе и
помещаем раздел о Достоевском не там, где стоят Страхов и
Ап. Григорьев, а рядом с Тургеневым, Гончаровым, Толстым и
другими писателями, внесшими большой вклад в реалистическую
критику. Именно это характеризует подлинный масштаб Досто-
евского-критика. Достоевский признает познавательную и обще-
ственную сущность литературы, ее обличительную силу, могу-
чую роль в «восстановлении» человека, изуродованного корыст-
ными, жестокими общественными условиями, право писателя на
дерзание и обновление форм (предисловие к русскому переводу
романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери»). Тут Досто-
евский— в полную силу гуманист и правдоискатель.
Достоевский-критик в «Дневнике писателя» восстановил в па-
мяти портреты «старых людей»— Белинского и Герцена. Он
назвал Белинского «самым торопившимся» русским человеком,
т. е. жаждавшим скорейшего обновления жизни в отечестве.
Четырежды выступал Достоевский в защиту своих молодых
убеждений, подчеркивая, что «мы, петрашевцы, стояли на эша-
фоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния»
(«Одна из современных фальшей», 1873). С полным доверием
пришел однажды Достоевский к Чернышевскому как общепри-
знанному вожду поколения с взволновавшей его листовкой
«Молодая Россия»: он хотел охладить молодые умы, хотя и пре-,
клонялся перед их смелостью. И Чернышевский уважал в До-
стоевском «бывшего политического». Снимались многие недо-
разумения в личных отношениях с демократами. В «Отечествен-
ных записках» Некрасова и Щедрина был напечатан роман
Достоевского «Подросток» (1875). В «Дневнике писателя» До-
стоевский рассказал, как он пришел к постели умиравшего Не-
834
красова. Достоевский произнес свою речь на могиле Некрасова,
поставив поэта-демократа «не ниже» Пушкина и Лермон-
това. Его знаменитая речь о Пушкине в 1880 году, произне-
сенная в торжественные дни открытия памятника поэту в Москве,
при многих спорных ее положениях, явилась общественным тор-
жеством русской литературы.
Задача искусства, не раз говорил Достоевский,— не случай-
ности жизни, а общая идея. Понятие «общая идея» имеет у До-
стоевского несколько аспектов.
Прежде всего оно направлено против узкого эмпиризма и на-
турализма, подразумевает художественную типизацию явлений
жизни. Достоевский считал присваиваемый ему «титул» писате-
'я-психолога неправильным и отказывался от него: «Меня зовут
психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е.
изображаю все глубины души человеческой» («Записная книж-
ка»). Тут важно слово «все». Только в этом случае удается осу-
ществить «полный реализм», «найти в человеке человека». Реа-
лизм смыкается с гуманизмом.
Но «реализм в высшем смысле» понимался Достоевским еще
и в плане домысливания действительности, включения в художе-
ственную сферу фантастического, необычного. В том виде игры
воображения, в каком домысливание встречается у Гофмана, и
в виде мечты об идеале, в каком оно есть у Ж- Санд: «Идеал
ведь тоже — действительность, такая же законная, как и теку-
щая действительность» («По поводу выставки»). Но под «фанта-
стическим» Достоевский подразумевал и неожиданности, оше-
ломляющие сенсации самой жизни, как молнией, освещающие
глубокие потемки ее закономерностей. В этом смысле «что мо-
жет быть фантастичнее и неожиданнее действительности» («Дои
Карлос и сэр Уаткин», 1876)?
Сам Достоевский щедро использовал в романах данные га-
зетных хроник. Тут он, сам того не сознавая, смыкался с Белин-
ским, понимавшим соотношение «случайности» («газетности», по
словам Достоевского) и «необходимости» в жизни.
Достоевский имел свою позицию в вопросе о вечной ценности
и применимости приемов в арсенале искусства прежних, каза-
лось бы, уже отживших форм отражения жизни. Романтическая
культура, например, для него не была вся в прошлом, как для
многих. Реализм в высшем смысле синтезирует все приемы твор-
чества в своей безгранично емкой системе. Достоевский доказы-
вал соединимость точных будничных подробностей с энтузиасти-
ческими сновидениями о «золотом веке» человечества.
Писатель-критик был великим мастером приспосабливать к
своим воззрениям все те явления, о которых писал. В его оцен-
ках всегда есть правда объективных открытий, даже прорицаний,
но есть всегда и немалая «добавка» субъективизма. Например,
блистательное высказывание о «Горе от ума» Грибоедова как
комедии гениальной, но «сбивчивой» имеет ту подоплеку, что
335
возглас Чацкого «Пойду искать по свету» означает следующее:
«за границу хочет бежать», «не к народу же он пойдет, он ведь
сам из круга господ». Для него «свет» означает Европу. Чац-
кий— первый из русских несчастных «скитальцев».
А «Дворянское гнездо» Достоевский хвалит, явно преувели-
чивая «вечное», всемирное литературное значение этого романа
Тургенева, за то, что здесь «сбылся» впервые «пророческий сон»
всех поэтов наших, тут показано «слияние оторвавшегося обще-
ства русского с душою и силой народной»; как истинно народ-
ные прельщают Достоевского сцена свидания Лаврецкого с Ли-
зой в монастыре и девиз Лаврецкого «пахать и как можно луч-
ше пахать», т. е. как бы трудиться на «почве». Особенно же
хорошо здесь, по мнению Достоевского, то, что к такому выводу
пришел «западник» Тургенев.
Таким же разочаровавшимся в Западе и ринувшимся искать
настоящую «почву» был для Достоевского «гражданин вселен-
ной» Герцен, которого он уважал за мужество и открытость ду-
ши, с какой тот исповедовался в своей духовной драме. Подлин-
ных идей его «русского социализма», ведшего к революции, До-
стоевский не принял.
И корень любви Некрасова-поэта к народу Достоевский ус-
матривал не в самих его революционных идеях, а в том, что он
был с юности «раненой душой». Эта любовь была исходом из
страданий своей совести, поиском в народе «почвы» для себя.
В проникновенных откликах на смерть Ж. Санд в «Дневнике
писателя» за 1876 год Достоевский воздает должное великой
«эмансипаторше», «одной из самых ясновидящих предчувствен-
ниц» совершенства и счастливого будущего, рассказывает, как
много значили ее романы для русских молодых писателей 40-х
годов и для него лично. Но и тут слышится голос Достоевского,
противника насилия, проповедника смирения, создателя образа
Сони Мармеладовой. Типы девушек, замечает Достоевский, по-
вторялись у Ж. Санд сряду из романа в роман: «Изображается
прямой, честный, но неопытный характер юного женского суще-
ства, с тем гордым целомудрием, которое не боится и не может
быть загрязнено от соприкосновения даже с пороком, даже ес-
ли б вдруг существо это очутилось случайно в самом вертепе
порока. Потребность великодушной жертвы (будто бы от нее
именно ожидаемой) поражает сердце юной девушки, и, нисколь-
ко не задумываясь и не щадя себя, она бескорыстно, самоотвер-
женно и бесстрашно вдруг делает самый опасный и роковой
шаг». Достоевский не касался социализма Ж- Санд, прошел ми-
мо других ее образов.
Высоко была оценена Достоевским «Анна Каренина» Л. Тол-
стого как «факт особого значения». Но дело не только в высоком
художественном достоинстве романа, подобного которому в Ев-
ропе ничего уже нет и явиться не может, а, главным образом,
будто бы в проведенном в романе «чисто русском» взгляде на
336
виновность и невиновность человеческую. Достоевский выстраи-
вает свою излюбленную концепцию: на Западе все объясняется
общественными условиями, а если допустить, что общество уст-
роено ненормально, то с человека и нечего спрашивать; пока зло
не разрушено, преступления не существует, «все позволено»
(эта идея будет проведена в «исповеди» Ивана Карамазова).
Люди Запада ждут будущего «муравейника», т. е. социализма,
а «пока зальют мир кровью». «Чисто русский» же взгляд за-
ключается будто бы в том, что есть высшая нравственная ответ-
ственность человека перед самим собою и высшее преступление
как раз бывает перед своей совестью. Самоанализ и самоказнь
человека могут идти до бесконечности, ибо «зло таится в чело-
вечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты». Можно
было бы согласиться с критикой Достоевским упрощенных пред-
ставлений связей человека с обществом или схематизма прожек-
тов тех же «лекарей» человечества. Можно усмотреть и некото-
рую связь между позицией моралиста Толстого и моралиста
Достоевского, отвергавших «судей окончательных» и прибегав-
ших к мудрости того, кто изрек: «Мне отмщение и Аз воздам».
Но Достоевский шел дальше: зло таится не только «глубже»,
но и всегда присуще человеку: «ни в каком устройстве общества
не избегнете зла», «душа человеческая останется та же», «не-
нормальность и грех исходят из нее самой». Достоевский впада-
ет еще раз в агностицизм, противоречит самому себе как гума-
нисту: «...законы духа человеческого столь же неизвестны, столь
неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что
нет и не может быть еще лекарей, ни даже судей окончатель-
ных...» («Дневник писателя», 1877).
Как же тогда быть с высоконравственной и христианской
формулой о «восстановлении погибшего человека», особенно с
«оправданием униженных и всеми отринутых парий общества»
(из предисловия к роману В. Гюго «Собор Парижской богома-
тери»)? Весь пафос романов Достоевского, «боль о человеке»
противоречили этому пессимизму.
Достоевский был субъективнейшим писателем и критиком.
Тем не менее искренность его исканий, метаний и противоречий
несомненна. Ему удалось сказать много «своих слов» в критике,
заставить «задуматься» господствующие системы воззрений и
усовершенствовать свои доводы. Без вкладов Достоевского в реа-
лизм, без его нюансов понимания коренных проблем искусства
была бы неполной картина развития русской классической кри-
тики второй половины XIX века.
Лев Николаевич Толстой (1828—1910). Относительно проб-
лемы «Толстой-критик» нужно сделать несколько предваритель-
ных пояснений. Толстой не стремился выступать с литературно-
критическими статьями. Однажды он принужден был дать в
журнале пояснения о своем романе «Война и мир», когда подав-
ляющая масса критиков напала на произведение и криво его
22 Заказ № 1367
337
толковала. К концу жизни Толстой стал охотнее заявлять в пе-
чати о своих критических вкусах и мнениях (в отзывах на «Ду-
шечку» Чехова, на рассказы Мопассана, на роман фон В. По-
ленца «Крестьянин»), Защищая свои необычные, подчас пара-
доксальные суждения об авторитетах, о современной ему лите-
ратуре, Толстой написал трактаты о том, что такое искусство,
о Шекспире и драме, еще более раздражив современников не-
обычностью своих приговоров и теоретических суждений. Подав-
ляющая масса критических суждений Толстого рассеяна в его
письмах, дневниках, частных беседах, которые дошли до нас в
записях мемуаристов. Все это свидетельствует об особых фор-
мах литературной критики Толстого. Учитывать их необходимо.
Критика Толстого носила по содержанию и по форме подчас
крайне субъективный характер. Толстой издавал в 60-х годах
журнал «Ясная Поляна», но журнал имел педагогический уклон
и в нем лишь косвенно затрагивались вопросы эстетики и лите-
ратуры. Участие в издательстве «Посредник» имело чисто про-
пагандистское значение и целиком проходило под знаком про-
поведи «толстовства», т. е. наиболее слабых сторон мировоззре-
ния писателя.
И все же в высказываниях Толстого сосредоточивалась выс-
шая мудрость русской реалистической критики. В конце концов,
именно через эти письма, дневниковые записи, трактаты, устные
суждения проходит полноводная река самых широких обобщений
судеб русской литературы, ее тревоги и надежды. Толстой вы-
ступает как высший авторитет и судия в делах реалистического
искусства, как великий художник-практик, как гениальный, неза-
висимый ум, выразитель крестьянских чаяний в период подго-
товки и в момент «генеральной репетиции» буржуазно-демокра-
тической революции в России.
Толстой намеревался поместить в своей повести «Детство»
полемическую главу «К тем господам, которые захотят принять
ее на свой счет», направленную против Сенковского, глумивше-
гося в «Библиотеке для чтения» над молодыми талантами: здесь
Толстой горячо выступил против «личностей» и «пасквилей» в
критике: «Критика есть вещь очень серьезная»1. В 1859 году Тол-
стой вступил в члены Общества любителей российской словесно-
сти. В этой связи пришлось произносить речь. Он развивал в
ней воззрение, близкое дружинииской критике: о «бестенденци-
озности» искусства, что было отчасти тут же оспорено председа-
тельствовавшим славянофилом Хомяковым. Но мысль Толстого
была шире, не тождественна теории «чистого искусства»; он уже
в дневнике за год до того писал: «Никакая художническая струя
не увольняет от участия в общественной жизни»2. Толстой вско-
ре и нашел свою «тенденциозность» в яснополянской педагоги-
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (юбилейное).— Т. 1,— С. 212. Все
дальнейшие ссылки по этому изданию.
2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.—Т. 47.— С. 95.
338
ческой деятельности, открыто начав противопоставлять художе-
ственные способности деревенских мальчишек Федек и Семок
«господскому» искусству. Правда, в этом противопоставлении
выражался не только стихийный демократизм Толстого, но и его
заблуждения. Он предлагал читать крестьянам не общепризнан-
ных классиков, а только Евангелие, сказки, былины. Но важно
выделить у Толстого не столько парадоксы его исканий, сколько
линию, которая связывала его с основоположниками русской
реалистической критики, те особенные повороты общих у него
с ними проблем, которые приобретали особую важность именно
в то время.
Толстой постоянно продолжал разрабатывать самый кодекс
критики. «Чтобы критиковать,— говорил он,— нужно возвысить-
ся до понимания критикуемого... У них выходит так, как пре-
красно сказал мой приятель Ге: «Критика — это когда глупые
судят об умных»1. Толстой, конечно, прибегает к явному пара-
доксу, но в нем была своя истина...
Непонимание критики Толстому пришлось испытать на себе.
Известно, что даже проницательнейшие ценители литературы не
смогли понять величия «Войны и мира». Автора упрекали в от-
сталых вкусах, возрождении аристократического снобизма в ис-
кусстве, в уходе от злобы дня. Толстой поместил в «Русском
архиве» за 1868 год статью «Несколько слов по поводу книги
«Война и мир», в которой взял под защиту главную, как потом
он скажет, «мысль народную» своего произведения и своеобраз-
ный жанр «Войны и мира», не сводимый ни к историческому, ни
к социальному роману, ни к поэме. Речь явно шла у него о жан-
ре романа-эпопеи, в котором важны события в масштабах на-
циональной жизни, а не отдельные вопросы «злобы дня». Не
поняла «присяжная» критика «Анны Карениной», проявив бли-
зорукость в истолковании общей идеи произведения. Толстой
писал по этому поводу: «Во всем, почти во всем, что я писал,
мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных
между собою для выражения себя....»2. Это «выражение себя»
означало обрисовку всего социального, общественно-психологи-
ческого фона, всей цепи причин, приведших Анну Каренину к
гибели, к трагическим «переворотам» во всей русской жизни
70-х годов.
С годами Толстой все более становился недовольным состоя-
нием современной ему критики. Она деградировала, становилась
формалистической, бессодержательной. Толстой верно уловил
наступление эпохи декаданса. Критики толковали о внешней пи-
сательской технике, фальсифицировали социальные проблемы.
В заключительной части трактата «Что такое искусство?» (1889)
Толстой резко осуждал современную критику, у которой нечему
поучиться. Растление нравов в критике вело к другой беде:
1 Литературное наследство.— М., 1939.—Т. 37—38,—С. 452—453.
2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.— Т. 62.— С. 269.
22* 339
«Всякое ложное произведение, восхваленное критиками, есть
дверь, в которую тотчас же врываются лицемеры искусства»1.
Собственный критический кодекс, объединяющий эстетиче-
ские и этические начала, Толстой формулировал следующим об-
разом: достоинства всякого поэтического произведения опреде-
ляются тремя свойствами: содержанием произведения, чем со-
держание значительнее, тем произведение выше; внешней
красотой, достигаемой техникой, соответственной роду искусст-
ва; и, наконец, искренностью.
К этим основным положениям примыкают многочисленные и
многообразные частные пояснения Толстого-критика, когда он
говорил об искусстве вообще, или об отдельных писателях, или
о произведениях всех времен и всех народов. В письмах, днев-
никах собрано у Толстого неисчислимое множество таких выска-
зываний.
Проблема содержания истолковывалась Толстым в широком
социальном плане. Писатель всегда, считал Толстой, испытыва-
ет желание «подвергнуть свои мысли решающему суду рабочего,
трудящегося человека». Современное «господское», утонченное
искусство могло возникнуть только на рабстве народных масс и
может продолжаться только до тех пор, пока будет это рабство.
Если рабов освободить, то они предъявят искусству другие тре-
бования. Конечно, Толстой слишком разрывал «господское» и
«народное» искусство, сваливал в одну кучу вместе с декадент-
скими, бездарными произведениями шедевры классики от Бок-
каччо и Шекспира до своих собственных бессмертных романов,
от которых теперь отрекался. И «утонченность» он подчас тол-
ковал слишком упрощенно, сводя ее к вкусам и прихотям извра-
щенных бар и усматривая в ней опасность измельчания искус-
ства.
Толстой приветствовал «содержательность» творчества таких
писателей, как Тургенев, Герцен, Чехов. Особенно внимателен
был Толстой к писателям, посвятившим себя крестьянской те-
ме,— Кольцову, Никитину. В предисловии к книге С. Т. Семено-
ва «Крестьянские рассказы» (1894) Толстой развил свои люби-
мые идеи: Семенов касался самого значительного сословия Рос-
сии— крестьянства. Крестьянскую жизнь он знает, как может
ее знать «только крестьянин, живущий сам тягловой жизнью».
Значительность содержания Толстой увидел и в упоминавшемся
романе Поленца, ибо крестьянство, по мысли Толстого, стоит «в
основе всякого общественного устройства».
Своеобразная содержательность произведений Мопассана по
отношению к французской жизни конца XIX века, особенно его
рассказов, Толстому была совершенно ясна. И все же он не мог
безоговорочно принять это «содержание». У Мопассана-мастера
была и красота формы, и искренность, но нравственный прин-
1 Толстой Л, Н. Поли. собр. соч.— Т. 30.— С. 125.
340
цип, как казалось Толстому, нарушался в угоду вкусам пресы-
щенных буржуа. Мопассан умер в переходный период своих ис-
каний, заявлял Толстой, он видел уже аморализм общества,
«подделку под любовь». Но до подлинного протеста Мопассан
не поднялся. Толстой скорбит при этом о забвении современным
человечеством заповедей Евангелия и христианских добродете-
лей. Гнет аморализма и гедонизма мешает подняться выше об-
щества даже таким сильным личностям, как Мопассан.
О том, что такое форма в искусстве, Толстой высказал неис-
числимое множество ценнейших суждений, почерпнутых из со-
кровищницы своего личного писательского опыта. Тут почти все
его мысли верны, глубоки и поразительны. Например, о «сдер-
живании» себя, когда не пишется, но и о важности «напрягать-
ся» в труде, без подмены вдохновения; об «энергии заблужде-
ния, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя».
В каждой формулировке Толстого богатая пища для размыш-
лений. «Нельзя описывать только то, что бывает в мире,— ука-
зывал Толстой.— Чтобы была правда в том, что описываешь,
надо писать не то, что есть, а то, что должно быть...», «нужно
достигнуть иллюзии, а не изображать так, как есть». Для этого
писатель должен иметь определенный, свой личный взгляд па
вещи. И кроме того, нужно искусство «заострения», только тог-
да мысли «пройдут через равнодушие», тогда появиться «красо-
та». Она есть сила, которая должна заставить вникнуть в смысл
произведения. Особенно важен общий художественный «фокус»
произведения, некая основная мысль, как, например, в «Войне и
мире» «мысль народная», а в «Анне Карениной» «мысль семей-
ная». Этот фокус создает особенный, единый стиль всего про-
изведения (Белинский, как мы помним, назвал это качество про-
изведения его общим «пафосом»).
Обстоятельно и не раз, особенно же в трактате о Шекспире,
Толстой говорил о важности «чуть-чуть» в искусстве, т. е. не
только важности мелочей, фактической точности в простом по-
нимании, но того «чуть-чуть», которое заставляет жить про-
изведение, делает портрет зрячим. Роль этого «чуть-чуть» Тол-
стой не раз подчеркивал в произведениях Пушкина, Чехова, в
языке Щедрина, Островского, в наблюдательности Фета, Тют-
чева. Такую «утонченность» Толстой, конечно, принимал це-
ликом.
До конца своих дней Толстой выискивал в современной ли-
тературе разнообразие вариантов проявления подлинной правди-
вости гуманистических начал, художественного совершенства.
Его суждения об одних и тех же писателях иногда противоречи-
вы. Но даже самые крайности суждений всегда несут в себе
полезные истины, заслуживающие серьезного внимания. Это
или грани сложного предмета, или эволюция и переменчивость
судимого писателя, или сдвиги в позиции самого Толстого.
Он восхищался тонкостью стихов Фета, но критиковал его не
341
раз за то, что «Фету противны стихи со смыслом». То восхищал-
ся Достоевским, особенно «Записками из Мертвого дома», то
осуждал за надуманность многих ситуаций в его романах, повто-
ры (в «Преступлении и наказании»), за однообразие языка (все
герои говорят языком автора), что не совсем справедливо. Че-
хов для него «несравненный художник» жизни, мастерство ко-
торого «высшего порядка», «каждая деталь у него или нужна,
или прекрасна»; и «Мужики» просто поразили Толстого силой
рассказа, а «Душечка» всегда вызывала прилив самых добрых
чувств, что видно из предисловия Толстого к изданию этого рас-
сказа Чехова. Но драматургию Чехова не принимал, считал
ее «хуже» шекспировской, возмущался, посмотрев на сцене «Дя-
дю Ваню», а «Чайку» называл «вздором настоящим». Тут все
построено у Толстого на особенном «сгибе ума», ракурсе рас-
смотрения.
Он протестовал против натурализма, но Боборыкина хвалил
за «замечательную чуткость в уловлении современных веяний».
И считал, что избыток вымыслов вреден и настоящий «худож-
ник должен дать больше фотографии в своем произведении»1.
Фотографичность он ценил и у Семенова, и в «Ярмарке в Голт-
ве» Горького. Толстой активно не принимал Л. Андреева, авто-
ра «Жизни человека», «Царя Голода». В его произведениях Тол-
стой не находил ни содержания, ни простоты. Но в то же время
терпкая правда, особая фотографичность «Ямы» Куприна ему
также не нравилась. Снова вставал вопрос о «чуть-чуть» в ис-
кусстве, с которого оно начинается и без которого его нет.
Высоко оценил Толстой Горького при первом же знакомстве:
«Настоящий человек из народа». Понравился он как личность,
как автор пьесы «На дне». Но «Мещане», «Фома Гордеев» не
вызывали восторга у Толстого, а роман «Мать» он совсем не
принял. Не нравились ему у Горького «воображаемые, неесте-
ственные и героические чувства», «напыщенный стиль» с упо-
доблениями жизни природы внутренним человеческим душевным
движениям: «море смеялось», «небо плакало». Все критические
суждения Толстого в совокупности связаны с его размышления-
ми над положением русской литературы, ее ходом, над судьба-
ми искусства в современном мире.
В этом широком аспекте надо рассматривать «заключитель-
ные» выступления Толстого-критика, его трактаты «Что такое
искусство?» (1898), «О Шекспире и о драме» (1903—1904) со
всеми их парадоксами и глубокими выводами, неподдельной
скорбью по поводу невозможности в данных исторических усло-
виях создать подлинно народное искусство.
Толстой рассмотрел написанные на разных языках самые ве-
ликие и самые модные сочинения по теории искусства: Баумгар-
тена, Винкельмана, Канта, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра,
1 Булгаков В. Ф. Лев Толстой в последний год его жизни//Толстой
в воспоминаниях современников.— М., 1955.— Т. 2.— С. 300.
342
Спенсера, Бергмана, Шербюлье, Верона и многих других — и на-
шел, что большинство из них держится на принципе: искусст-
во— это красота, т. е., в конечном счете, то, что нам, господам,
нравится. Иногда несколько упрощая проблему «красоты», Тол-
стой видел во многих теориях скрытый в них классовый эгоизм
господ, желающих узаконить свои вкусы, укрепить свои жизнен-
ные позиции.
Но Толстой тут же впадает в свои богоискательские ошибки
и оказывается сам уязвимым: он считает, что руководящим на-
чалом в настоящее время, в том числе и для искусства, должно
быть религиозное сознание, «братская жизнь всех людей». Опре-
деление, что искусство не прихоть, а «одно из условий человече-
ской жизни», необходимейшее средство духовного «общения лю-
дей», и расширяло его границы, и притупляло остроту критики
«господского» искусства. А «народное» искусство оказывалось
лишенным великих завоеваний тысячелетней культуры челове-
чества, приобретало отвлеченный моралистически-христианский
характер.
В трактате рассеяны гениальные мысли об искусстве, кото-
рое призвано «заражать» людей своей силой, об искусстве, име-
ющем главным своим предметом «чувства» и переживания.
Правда, при этом Толстой слишком противопоставлял «чувства»
«мыслям». Г. В. Плеханов в «Письмах без адреса», принимая
многое в трактате Толстого, в том числе и указание на то, что
искусство передает «чувства» людей и «заражает» ими, сделал
поправку к формулировке: искусство передает в одинаковой ме-
ре как чувства, так и мысли людей.
Но самая попытка Толстого возвысить голос по столь общим,
жизненно важным вопросам, умение придать им значение «зло-
бы дня» и всенародного дела — великая заслуга писателя. Он и
в области эстетики срывал маски с лицемеров, хотел связать
эстетические проблемы с народными заботами, твердо в общем
уверенный, что у народа мир чувств более сложен и глубок, чем
у правящих классов.
Конечно, выбор Шекспира в качестве примера «ложности»
искусства, приноровленного ко вкусам господствующих верхов,
был крайне неудачным.
В лице Шекспира Толстой увидел классический образец не-
погрешимого, общепринятого авторитета в искусстве, которому
много веков поклоняется весь «просвещенный» мир. Для пред-
полагавшегося разговора о «господском» и «народном» искусст-
ве, живущих в антагонизме между собой, когда первое явно тес-
нит второе, Шекспир оказывался самым подходящим полем бит-
вы. Восхваление Шекспира Толстой объявлял «великим злом»,
«великой неправдой».
По своим собственным критериям, которые сложились в его
творчестве, Толстой и стал судить Шекспира. Тут, конечно, резко
сказались различия между эстетическими и художественными
343
системами двух гигантов мировой литературы, разделяющая их
дистанция веков и неизбежная несовместимость между прозой,
которой писал Толстой, и стихами, которыми написаны почти все
драмы Шекспира. Заметим попутно, что Толстой вообще недо-
любливал стихотворную речь, считая ее противоестественной,
манерной. Нападки на Шекспира неизбежно оказывались пара-
доксально антиисторическими, предвзятыми.
Толстой считал, что содержание у Шекспира «самое низмен-
ное», даже «пошлое», языческое, чувственное, расшатывающее
христианские опоры и добродетели. Шекспир воспевал «внеш-
нюю высоту» сильных мира сего, «презирающих толпу, т. е. ра-
бочий класс». Шекспир, в конце концов, отрицал «не только
религиозные, но и гуманитарные стремления, направленные к
изменению существующего строя».
Неестественной оказывалась и форма у Шекспира. Язык его
героев — декламационный, однообразно-правильный, язык все
того же «образованного общества». Шекспир представал худож-
ником, постоянно нарушающим «чувство меры» в обрисовке ха-
рактеров, чувств, поступков. Все у него страдает театральным
гиперболизмом, эффектами. Разбирая «Короля Лира», Толстой
не находит в трагедии ни одного верного сюжетного хода, ни
крупицы правды в чувствах: все в ней натянуто.
Наконец, Шекспир «ходулен и неискренен». Таков третий вы-
вод о Шекспире по «кодексу» Толстого.
Конечно, со многими парадоксами Толстого согласиться нель-
зя. Но они были продолжением, заострением его благих начи-
наний, верных исходных посылок об искусстве, непосредственно
выражающих народные интересы.
Литературно-критическое наследие Толстого было великим
вкладом в защиту подлинного, реалистического искусства, без
которого вся картина русской критики конца XIX — начала
XX века выглядела бы иначе. В противоречивых его выступле-
ниях отразился стихийный демократизм масс.
Владимир Галактионович Короленко (1853—1921). В период
декаданса, реакционной ревизии подлинных ценностей русской
передовой культуры, «веховских» настроений среди либеральной
интеллигенции важно было даже простое отстаивание старых
традиций, напоминание о Гоголе, Белинском, Чернышевском, объ-
ективная оценка Г. Успенского, Чехова. В сложном водовороте
толков и кривотолков печати об «учителе жизни» Л. Толстом
надо было продолжить рассмотрение вопроса о «деснице» и
«шуйце» великого реалиста.
И всю эту работу проделал Короленко-критик в специаль-
ных статьях, тогда же увидевших свет.
Короленко разъяснял новым поколениям писателей и читате-
лей «трагедию великого юмориста» Гоголя. Ее корни было по-
лезно знать в тот момент, когда символисты по-своему «перепи-
сывали» творческий портрет Гоголя.
344
Вечную жизненность идей Белинского Короленко подчерки-
вал в юбилейной статье о критике в 1898 году. «Неистовый Вис-
сарион»,— писал Короленко,— останется для нас навсегда луч-
шим воплощением искренности». Короленко только сожалел, что
народ еще почти ничего не знает о Белинском и мечта Некрасо-
ва о том времени, когда народ с базара понесет «Белинского и
Гоголя», еще не сбылась.
Молодой Короленко был свидетелем гражданской панихиды
на похоронах Некрасова. В «Истории моего современника» он
рассказал о своих живых впечатлениях об этом дне. Россия дей-
ствительно «просыпалась», и похороны поэта превратились в
демонстрацию.
Живым теплом согреты его воспоминания о Чернышевском,
по следам которого он побывал в сибирской ссылке и потом лич-
но познакомился с ним в Саратове в год смерти великого демо-
крата. Короленко еще в Сибири старательно собирал сведения о
Чернышевском, о каторжном быте оторванного от живого дела
мыслителя. Смелый очерк Короленко о Чернышевском не мог
появиться своевременно в печати и вышел первоначально в Лон-
доне (1894), а потом в России (1904). Правда, Короленко оши-
бался, полагая, что Чернышевский отстал за время ссылки от
поколения 80-х годов. На самом деле Чернышевский оставался
на голову выше деятелей типа Михайловского и тем более либе-
рального народничества. Недоверия к «прежним путям прогрес-
са» у Чернышевского не было, веру в разум, в конечную победу
он сохранил, а философский субъективизм народников реши-
тельно отвергал.
Короленко отдал дань современному ему народничеству. Но
он никогда не отказывался от борьбы. Он особенно живо чув-
ствовал свое родство с правдивым Г. Успенским. От неустанных
поисков этого писателя, говорит Короленко, «веяло гениаль-
ностью». В специальной статье «О Глебе Ивановиче Успенском»
(1902), построенной на личных воспоминаниях, Короленко вос-
произвел образ неуемного «подвижника», «писавшего соком сво-
их больных нервов». Литературные вкусы обоих писателей во
многом оказались сходными. Главным героем их произведений
была правда. Этой полной и точной правды они не находили да-
же в произведениях Достоевского, казавшегося им слишком вы-
чурным выдумщиком мнимых проблем, тогда как мимо дейст-
вительных проблем писатель проходил.
С Толстым Короленко встречался несколько раз, с 1886 по
1910 год. Демократ Короленко с захватывающим интересом сле-
дил за «великим пилигримом» с мировой славой, за «максима-
лизмом» его отрицания и моральных требований, за возрастав-
шим «государственным» размахом его влияния, потрясавшим всю
империю. Короленко изложил свои взгляды на Толстого в ряде
статей и заметок, дневниковых записей и писем. В юбилейном
1908 году Короленко захотел трезво разобраться, в чем сила
345
художника, сумевшего поднять печатное слово на высоту, недо-
сягаемую для властей. В статье «Лев Николаевич Толстой»
(«Русское богатство», 1908) Короленко поставил вопрос о Тол-
стом как о «зеркале» жизни. Отражение действительности не
должно быть механическим, мертвым, ибо художник — зеркало,
но зеркало «живое», оно должно «верно» отражать реальный
мир. Между тем «нынешний период литературы особенно богат
искривлениями и иллюзиями».
Короленко выдвинул тезис о необходимости рассмотрения
Толстого, художника и мыслителя, в неразрывной связи: «Тол-
стой-мыслитель— весь в Толстом-художнике»1. Здесь все его
крупные достоинства и не менее крупные недостатки. Это было
новым словом после статьи Михайловского о «деснице» и «шуй-
це». И это единство для Короленко не нечто мертвое. Взвешивая
теоретический уровень философствования Толстого, Короленко
считал, что «ведущим» началом у него является все же худо-
жественное творчество, писательская концепция мира, а теоре-
тические занятия были «служебным» оружием при художествен-
ной интуиции. Слишком заметны свойство Толстого подгонять
все теории к своей схеме, дидактический, моралистический уклон
его мысли. Он подчиняет себе чужие системы или отвергает их,
но не движется между ними, расширяя, меняя свои взгляды. Но
если он и меняет свои взгляды, испытывает на себе чье-то влия-
ние, то это касается не влияния Канта, Спенсера, Песталоцци,
а влияния крестьян.
Кажется, всего коснулся великий художник. Но если вгля-
деться, то Толстой «знает и чувствует, видит только два полюса»
в России — барина и мужика, а средний, разночинный, демокра-
тический слой его не интересует: «Совсем нет ни самостоятель-
ной, городской жизни, ни фабрик, ни заводов, ни капитала, отор-
ванного от труда, ни труда, лишенного... собственного крова,
ни трестов, ни союзов рабочих, ни политических требований, ни
классовой борьбы, ни забастовок...»* 2.
У Толстого есть не только этот пропуск, у него наблюдается
«неумение самому ориентироваться в запутанностях этого строя,
из которого он желает нам указать выход». Он, как моралист,
видит зло в самих деньгах, а не в их общественной роли, он зовет
к патриархальности, как «иудей первого века», веря в возмож-
ность братства по соглашению людей. Еще одно замечание де-
лает Короленко. Проповедуя святость физического труда, опро-
щения, Толстой был способен «заражаться народными настрое-
ниями», и это определяло крупнейшие повороты в его взглядах
и творчестве. Это сообщало его произведениям искренность, раз-
мах в отрицании произвола, смертных казней. Короленко кладет
последний штрих на установленную им связь толстовской мечты
‘Короленко В. Г. Собр. соч.— М., 1955,— Т. 8.— С. 111.
2 Там ж е.— С. 106.
346
о лучшем мире с «народными интересами». Мы, люди более яс-
ных убеждений, говорит Короленко, не можем последовать за
Толстым в «измечтанную им область», но эта искренность дает
ему силу, и мы уважаем Толстого, более того, «идеальная мечта»
«всегда была отличным критерием действительности». Связь с
крестьянством порождает искренность Толстого и его мечту о
лучшем будущем.
Но на этом пункте оканчиваются замечательные прозрения
Короленко. Сразу же тут выступают слабые места его суждений.
Короленко оперирует суммарным представлением о народе, ни-
как не выделяя специфические социальные требования русско-
го крестьянства. Он совсем не представляет себе реального по-
ложения крестьянства в революции и связь Толстого с крестьян-
ством, а через него с революцией. «Зеркало» было большое и в
общем прямое, но Короленко совсем не задумался проследить
сложные связи, двойную, тройную аберрацию, которые в конеч-
ном счете сделали «непротивленца» Толстого «зеркалом револю-
ции». Короленко увидел связь Толстого с крестьянством только
в области проповеди «непротивления», а связи критицизма Тол-
стого с протестом народа он не увидел. Толстой не изображал
города, рабочего движения. Это верно. Но, изображая барина
и мужика, Толстой уже вовлекался в тот круг противоречий, ко-
торый определял их реальное положение в обществе и противо-
речивую связь с русской революцией.
Короленко не одобрял народнического и толстовского идоло-
поклонства перед народом, будто бы уже живущего идеей нор-
мального общественного уклада. Но он считал, что и марксисты
слишком идеализируют пролетариат как класс, знающий пути
истории. «Лично я,— говорил писатель,— давно отрешился от
этого двустороннего классового идолопоклонства». Короленко
не заметил, что правильно понять Толстого можно было, только
направив на него свет с двух сторон: судить о нем с точки зре-
ния крестьянства, интересы которого он отражал, и с точки зре-
ния рабочего класса, который был главной силой революции и
руководил крестьянством в борьбе. Короленко не дошел до трез-
вого понимания расстановки классовых сил в русской революции
и свойств толстовского «зеркала»—отражать противоречия ис-
торического момента.
И все же думается, сама проблема Толстого-«зеркала» не
забылась. Через месяц после выступления Короленко, в сентяб-
ре 1908 года, в газете «Пролетарий» появилась ленинская статья
«Лев Толстой, как зеркало русской революции». Эта статья, ду-
мается, была написана В. И. Лениным со знанием различных
толков в критике о Толстом-«зеркале». В. И. Ленин дал свой
исчерпывающий ответ на поднятые, но нерешенные вопросы о
Толстом.
У художника Короленко есть много полных свежести наблю-
дений над общеэстетическими проблемами. Хотя они не делали
347
переворотов в критике, но они были новым словом, шедшим от
собственной практики писателя, от раздумий о путях современ-
ного искусства.
Снова вслед за Белинским, Гончаровым, Л. Толстым Коро-
ленко еще и еще раз напоминал, что реализм не простое вос-
произведение того, что есть в жизни, а переработка писателем
непосредственных впечатлений. Эти впечатления вступают в из-
вестное взаимодействие соответственно с лежащей в душе ху-
дожника общей концепцией мира. Искусство дает «иллюзию
мира», в которой мы получаем знакомые элементы действитель-
ности в новых, доселе незнакомых нам сочетаниях. Здесь воз-
можны, конечно, самые смелые приемы выразительности, гипер-
болы, гротеска. Но «процесс новых сочетаний и комбинаций,—
подчеркивает Короленко,— происходящий в творящей глубине
сознания писателя, должен соответствовать тем органическим
законам, по которым явления сочетаются в жизни. Тогда и толь-
ко тогда мы чувствуем в «вымысле» писателя живую художе-
ственную правду». Короленко вспоминал, как молодой Чехов,
писавший драму «Иванов», вдруг спросил- его при московской
встрече в доме на Садовой, что делать: между двумя эпизодами
вдруг образовалась пустота. Оба художника поделились опы-
том: приходится строить мостки не воображением, а логикой.
«Формы жизни»—это не только слепки с предметов, образы ми-
ра, это и логика жизни.
Свободу художника в выборе изобразительных средств Ко-
роленко понимал очень широко. Отвергая символизм как дека-
дентское течение, Короленко был не против символических об-
разов вообще и сам написал «чисто символический» рассказ
«Огоньки». Любая политическая идея может быть выражена
символическим образом. Важно, чтобы символ не искажал дей-
ствительности, чтобы идея была животворной.
Короленко выразил в своем творчестве героические начала.
Он понимал, что старый реализм становится уже недостаточ-
ным, возникала необходимость в каком-то качественно новом
реализме, чтобы героическое в жизни занимало искусство столь
же органически, как и отрицательное. Верно Короленко чувст-
вовал направление, в котором надо искать ответ: «Открыть зна-
чение личности на почве значения массы,— писал он в дневни-
ке,— вот задача нового искусства...»
Ростки нового творчества, как слияние реализма и романтиз-
ма, Короленко начинал усматривать в произведениях М. Горь-
кого. Но до конца раскрыть смысл синтеза романтизма и реализ-
ма Короленко не смог. В одном из частных писем 1898 года он
высказал ценную мысль: «Несомненно, что они (марксисты.—
В. К.) вносят свежую струю даже своими увлечениями и уж во
всяком случае заставляют многое пересмотреть заново»1.
‘Короленко В. Г. Собр. соч,— М., 1956,— Т, 10.— С, 275.
348
Короленко до конца своих дней был стойким демократом и
гуманистом. Он страстно осуждал террор обеих борющихся сто-
рон в гражданской войне. Его письма к А. В. Луначарскому,
посетившему писателя в Полтаве, показывают, что, в целом со-
чувствуя новой власти и видя ее народный характер, Короленко
выступал решительно против бессудных расстрелов, произвола и
насилия, которые чинили представители местной Советской вла-
сти. Короленко зорко усматривал в красном терроре зачатки
кощунственных извращений самого духа социалистического пе-
реворота. Слабым местом в деятельности Советской власти он
считал чрезмерное злоупотребление насилием, недостаточное
внимание к экономически-созидательным проблемам. Слишком
велика была разруха в стране, невыносим голод и страдания де-
тей, и нужно было как можно скорее организовать народ. Только
через труд можно было накормить страну.
ГЛАВА 11
Теория русского «натурализма»
На переломе 70—80-х годов в русской литературе отчетливо
обозначились довольно сложные, внутренне противоречивые «на-
туралистические» течения. Одно из этих течений, «золаизм»1, по
крайней мере в лице главного его представителя П. Д. Боборы-
кина, само себя мыслило как дальнейшее совершенствование
реализма.
Обычно самая постановка вопроса о русском натурализме
этих лет связывается с фактом публикации в 70-х годах в Рос-
сии «Парижских писем» Э. Золя, в которых французский писа-
тель развивал свою оригинальную теорию «натурализма», полу-
чившую затем широчайший, всеевропейский резонанс. Особенно
важными были два его письма: «Современная драматическая
сцена» (Вестник Европы.— 1879.— Кн. 1) и «Эксперименталь-
ный роман» (Вестник Европы.— 1879.— Кн. 9). Упоминание о
сотрудничестве Золя в «Вестнике Европы» нередко истолковы-
вается учеными как «прививка» русской литературе чуждого ей
западного буржуазного натурализма.
Литературоведам еще предстоит тщательно разобраться в со-
ставе русской литературы последней четверти XIX века, чтобы
решить вопрос, были ли в ней «свои» «натуралистические» тече-
ния и как соотносится с ними «золаизм». Работа эта еще не
проделана, и оценки натурализма противоречат одна другой: или
потому, что путают его различные стороны, или за натурализм
выдается всякое малохудожественное, плоское произведение с
претензиями на внешнюю правдивость, или вследствие неточно-
го зачисления того или иного писателя в натуралисты. Нужно
1 Позднее установилось более правильное написание этого термина —•
«золяизм».
349
исследовать, всегда ли совпадают границы между различными
сторонами натурализма в теории и практике и между натура-
лизмом в целом и реализмом в целом.
В различных научных трудах и общих курсах к русским на-
туралистам относят заведомо третьестепенных писателей, по по-
воду которых никаких споров не бывает (Ольга Шапир, Виктор
Бибиков, кн. Голицин-Муравлии). Относят к числу натуралистов
реакционных писателей, употреблявших плоские приемы копи-
рования жизни (Маркевич, Авсеенко, Аверкиев, исторический
романист Данилевский, малоудачливые драматурги Крылов,
Дьяченко, Шпажинский). Щедрин причислял к «натуралистам»
Авенариуса, автора порнографических романов «Современная
идиллия», «Поветрие», и без должных оснований авторов «анти-
нигилистических романов»—Лескова, Писемского. Все еще не-
ясно, на каком основании к натуралистам причисляются пропо-
ведник теории «малых дел» Потапенко и братья Василий и Вла-
димир Немирович-Данченко. Последние вовсе писатели не реак-
ционные, второй из них один из основателей Московского Ху-
дожественного театра.
С другой стороны, нередко исследователи категорически за-
являют, что натурализм враждебен подлинному искусству, явля-
ется его извращением и что русская литература не знала нату-
рализма как школы. Старательно подыскиваются заменители
«натурализма» в определенных чертах творчества Г. Успенского,
Гарина-Михайловского и других писателей.
Наконец, есть исследователи, которые в произведениях мно-
гих выдающихся русских писателей находят «золяизм» с харак-
терными для него приемами «экспериментального» романа и при-
месью биологизма и протоколизма. В качестве примеров называ-
ются произведения Писемского «Бывые соколы», «Птенцы по-
следнего слета». Добавим, что черты нарочитого, в духе Золя,
экспериментализма чувствуются в очерках Г. Успенского. Разве
не специально придуманы им «среда» и «условия» для характе-
ристики жизни безлошадного крестьянства в России в очерке
«Четверть лошади»? Это и есть «живые цифры»... Г. Успенский
экспериментирует в очерках «Крестьянин и крестьянский труд».
Им придумываются специальные ситуации, которые выявляли
бы особенности психологии крестьянина Ивана Ермолаевича и
интеллигента в их отношениях к заботам сельской и городской
жизни. Нарочитая экспериментальность приемов чувствуется и
в рассказе Г. Успенского «Выпрямила». Роман Л. Толстого «Вос-
кресение» построен с подчеркнутой экспериментальностью: герои
сводятся и разводятся по «процедурам» суда присяжных. Точно
так же экспериментально, с обыгрыванием гротескного контраста
построены и поздние рассказы Л. Толстого—«После бала»,
«Фальшивый купой». Мамина-Сибиряка еще при жизни называ-
ли «русским Золя». Писатель несколько раз обсуждал вопрос о
правомерности сопоставления его с Золя. В автобиографическом
350
романе «Черты из жизни Пепко» (1894), изображая свои студен-
ческие годы, Мамин-Сибиряк свидетельствует, что им была за-
думана большая серия романов наподобие «Ругон-Маккаров»
Золя. Студенческий период приходится на 1872—1876 годы. А из-
вестно, что в 1873 году в «Вестнике Европы» появился первый из
названной серии романов Золя — роман «Карьера Ругонов»,
затем в других журналах—«Чрево Парижа», «Добыча», «Завое-
вание Плассана». Следовательно, замысел Мамина-Сибиряка
созрел под живым впечатлением от выступлений! Золя. Пополз-
новения использовать теорию биологической наследственности
встречаются в романах Мамина-Сибиряка «Приваловские мил-
лионы», «Горное гнездо». В письмах к брату Владимиру Мамин-
Сибиряк только по внешности, а не по существу оспаривал допу-
щенные Скабичевским в одной из юбилейных работ сравнения
его с Золя. Газета «Искра» в некрологе о Мамине-Сибиряке
также сочла нужным сравнить его с Золя.
Выступление Золя в «Вестнике Европы» со своей теорией па-
ло на подготовленную почву. Преклонение Золя перед фактом и
опытом, перед методами естественнонаучного наблюдения, дар-
виновской теорией наследственности как своеобразным момен-
том детерминизма, его стремление вывести роман из узких ра-
мок любовно-бытовых сюжетов на широкий простор современной
общественной тематики — все это безотносительно к Золя так
или иначе уже обсуждалось в русской литературной критике
(«натуральная школа» и ее «физиологические очерки», Писарев,
Щедрин). Выступление Золя приветствовали И. Тургенев, Ста-
сов, Боборыкин.
В качестве иллюстрации отрицательного отношения русской
критики к Золя обычно ссылаются на отзывы о нем Щедрина.
Но, во-первых, рядом с отзывами Щедрина стоят другие, поло-
жительные и также авторитетные отзывы. Кроме того, Щедрин
не касался теории Золя. Щедрин никогда не отождествлял само-
го Золя с его французскими подражателями, утрировавшими
его принципы (Э. Фаге, Рони, Гюисманс). И наконец, Щедрин
был не во всем прав в суждениях о Золя. Отзывы Щедрина в
основном касались несколько фривольного романа «Нана». Но
ведь Золя правдиво изображал цинизм буржуазного общества,
его самого трудно заподозрить в цинизме мыслей. Верно было
установлено Щедриным главное: погоня Золя за так называе-
мыми научными методами таила в себе опасность отхода от со-
циологического исследования жизни, преклонения перед биоло-
гическими началами жизни. В этом вопросе Золя действительно
уступал, например, «доктору социальных наук» Бальзаку. Но
эта теневая сторона вовсе не характеризует всего творчества
Золя. У Золя много общего с Бальзаком, и его творчество про-
никнуто подлинно социальным пафосом.
Стремление упрочить представление о законосообразности
объективной действительности и о могуществе человеческого ума
351
в познании природы и общества — важная черта теории Золя.
Вспомним, что в русской критике в это время начинали гос-
подствовать волюнтаристские теории народников.
Из самих сопоставлений приемов художественного творчества
с приемами научного исследования возникала важная проблема
методов. Все чаще и чаще в эстетике стало звучать важное на-
учное положение о том, что каждый предмет изучения нуждает-
ся в своем специфическом методе раскрытия. Реализм начинал
четко осознавать себя с точки зрения общих принципов подхода
к материалу. Метод заключается в том, чтобы переходить от
«известного к неизвестному»1.
Золя уже понимал всевластие метода, его объективное суще-
ствование как совокупности принципов творчества, как основы
литературного направления. Он боролся за всестороннее изу-
чение действительности. Во имя объективной правды он готов
был отказаться от всякого влияния субъективного мнения.
В этом пункте он полемически сталкивался с нашей народни-
ческой эстетикой, пренебрегавшей не только детерминизмом, но
и не чуждавшейся прямой идеализации действительности. Та-
ким образом, трезвая теория Золя противостояла не только ин-
детерминизму, но и эстетической идеализации действительности.
Последняя выступала не только в народническом обличии, но
и в старых формах официального оптимизма, «чистого искусст-
ва», затем символизма.
Все эти функции теории Золя совпадали с чаяниями русского
реализма и воспринимались как помощь в борьбе с враждебны-
ми течениями в литературе. Но союзник этот был все же непо-
следовательным и с подлинным реализмом сливался не до конца.
Золя допустил много неверных утверждений и упрощений.
Он бился над определением специфики «эксперимента» и все же
удовлетворительной ясности не достиг: эксперимент есть созна-
тельно вызванное наблюдение над механизмом страстей челове-
ческих под влиянием социальной среды и наследственности, ху-
дожник преуспевает тогда, когда убеждается, что механизм
страстей, разобранный и вновь собранный им, действует соглас-
но законам природы.
Но то, что навязывалось Золя под именем «эксперимента»,
давно уже было известно в эстетике как отбор явлений, их
сравнение, обобщение. Воспроизводя в своих романах классовые
противоречия, Золя в теории ни словом не обмолвился о них.
Золя сдавал позиции как социолог. Ведь известно, что социаль-
ный человек не просто «индивидуум», общество не просто «сре-
да», человеческое тело не просто «механизм», а человек вовсе
не просто «тело».
Золя теоретически отрицал значение личного авторитета вы-
дающихся людей в художественном творчестве. В натурализме
1 Вестник Европы.— 1879.— Т. I.— № 1.— С. 408,
352
не может быть «ни новаторов, ни главы школы»1. Тут есть толь-
ко труженики. Конечно, это неверно. И русская «натуральная
школа» имела корифеев, и достославная «Меданская школа»
имела корифея, самого Золя...
Писатель полагал, что художникам не следует особенно за-
ботиться о форме своих произведений, она автоматически долж-
на вытекать из содержания.
Итак, довольно легко определяются сильные и слабые сто-
роны теории Золя. Нельзя стушевывать наличие двойственности
в его теории натурализма. Надо всегда четко знать, о какой сто-
роне ее идет речь. Замена терминов была делом чисто внешним:
«натурализм» мыслился как усиленный реализм. Обо всем этом
русская публика читала в «Вестнике Европы» у самого Золя и
в популярных изложениях его русских доброжелателей и попу-
ляризаторов, особенно Боборыкина.
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921). Романы Боборы-
кина «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин», «Русский
Шеффильд», повести «Поумнел» и в особенности «Умереть — ус-
нуть», кажется, прямо написаны по теории Золя.
Но по отношению к Боборыкину русская критика в прошлом,
точно так же как и сегодня, не совсем справедлива. Он «фото-
графировал» много таких тенденций капиталистической русской
действительности, которые были очень важны и не были «охва-
чены» высокохудожественным реализмом. Иногда у автора про-
рывалось сочувствие демократическим массам, и он выводил ге-
роев борьбы. М. Горький отмечал наблюдательность писателя:
«Я — верил ему, находя в его книгах богатый бытовой мате-
риал»2. Точно также Чехов в одной из бесед отмечал, что Бобо-
рыкин— добросовестный труженик и его романы дают большой
материал для изучения эпохи.
Мемуары Боборыкина («За полвека», «Столицы мира»), мно-
гочисленные разрозненные воспоминания о Писемском, Гончаро-
ве, Герцене, Л. Толстом, о русских политических эмигрантах раз-
ных поколений — драгоценные исторические документы. Если их
мысленно свести воедино, получается энциклопедия русского и
европейского духовного движения 1860—1900 годов, по своему
значению занимающая место после «Былого и дум» Герцена,
«Замечательного десятилетия» и «Писем из-за границы» Аннен-
кова. Это, можно сказать, третий по счету широкий охват взгля-
дом одного человека целых исторических эпох, когда русские
люди чувствовали себя участниками всемирно-исторического дви-
жения.
Боборыкин был лично знаком с Золя, Флобером, Додэ, Мопас-
саном, Эдмоном Гонкуром (его брат Жюль к тому времени уже
скончался). В блестящем очерке «У романистов» («Слово»,
1 Вестник Европы.— 1879,— Т. V.— № 9.— С. 432.
2Горький М. О литературе: Литературно-критические статьи.— М.,
1953.— С. 510 («Беседы о ремесле»).
23 Заказ № 1367
353
1878, № 11) он красочно описал их быт, нравы, литературный
труд, дал оценку их произведениям и школе в целом. Специаль-
но о Золя он написал очерк «Писатель и его творчество» («На-
блюдатель», 1883, № 11). Но особенно важное пропагандист-
ское значение имели публичные лекции Боборыкина в Петер-
бурге под названием «О реальном романе во Франции», затем
напечатанные в «Отечественных записках» (1876, № 6 и 7).
Здесь была изложена теория «натурализма» и «эксперименталь-
ного романа» Золя. Лекции Боборыкина комментировали вы-
ступления самого Золя в «Вестнике Европы» и давали живые
характеристики писателя по личным впечатлениям. При этом
приводилось автобиографическое письмо, специально прислан-
ное им Боборыкину. Русская публика впервые знакомилась с
жизненным путем Золя тогда, когда о писателе еще мало знали
в самой Франции. Затем Боборыкин обобщал свои суждения о
европейском реализме и, в частности, о так называемом «нату-
рализме» в большой своей работе «Европейский роман в XIX сто-
летии» (1900). Наконец, несколько блестящих страниц о Золя
есть в мемуарах Боборыкина «Столицы мира». В названных ра-
ботах много повторений. Но все читается с живейшим интересом
благодаря прекрасному изложению, важности темы и тому, что
все это писалось очевидцем и непосредственным функционером
«натуралистического» движения.
Как же конкретно, с какими оттенками и колебаниями оцени-
вал Боборыкин «натурализм» и формулировал его принципы?
Живые нити, связывавшие Золя с традицией, указаны Бобо-
рыкиным в его книге о романе. Бальзак, Диккенс и Теккерей на-
званы тремя крупнейшими талантами.
Еще во введении к «Европейскому роману в XIX столетии»
Боборыкин говорит, что насчет нового термина «натурализм»,
сложившегося к 80-м годам, «следовало бы столковаться и не
придавать ему какого-нибудь особенного руководящего значе-
ния»1. Допускала ли сама теория Золя многие излишества? Ока-
зывается, допускала. Боборыкин решительно оспаривает право-
мерность применения дарвинизма, теории развития видов в об-
ласти искусства.
В другом месте своего труда Боборыкин пишет: «Теорией на-
следственности в применении к созданию характеров в свое вре-
мя сильно увлекался Эмиль Золя и как романист, и как автор
критических статей об экспериментальном романе»2. А дальше
замечает: «Но если она имеет свое несомненное значение вооб-
ще, то в деле творческого дарования и развития ее никак нельзя
держаться абсолютно»3. От отца к сыну могут переходить тем-
перамент, чисто физическая, умственная бодрость, но талантли-
1 Боборыкин П. Д. Европейский роман в XIX столетии.— СПб.,
1900,—С. 18.
2 Т а м ж е.— С. 313.
3 Т а м ж е.— С. 313—314.
354
вость в узком смысле слова остается всегда делом сугубо инди-
видуальным.
В заключении книги Боборыкин снова отмечает излишества
теории «натурализма». Творчество Золя составляет третью, осо-
бую фазу европейского романа после Бальзака и Флобера. Оно,
в сущности, прямо вытекало из предыдущих фаз, но принципы
творчества здесь были доведены «до слишком прямолинейной
односторонности». Это очень знаменательное заявление Бобо-
рыкина.
Неплохи сами основы и побуждения «натурализма», но пор-
тит дело теория наследственности, узкая теория «эксперимен-
тального романа». Натурализм сливался в своей лучшей части с
реализмом, а теория «экспериментального романа», концентри-
ровавшая в себе зависимость «натурализма» от опытных наук,
была его слабым местом.
В своих мемуарах Боборыкин выступает не просто как хро-
никер интересных событий и встреч. Он сознательно искал ин-
тересное в окружающей жизни. Он не уклоняется от посильных
для него оценок событий, и эти оценки полезно было бы объек-
тивнее взвесить. Пренебрежительное отношение к информациям
Боборыкина чувствуется до сих пор и вряд ли является оправ-
данным. При всех грехах натурализма и связанного с ним объ-
ективизма вряд ли Боборыкина следует считать «апологетом
капитализма», «певцом» буржуазного развития России. Он отли-
чался уклончивостью оценок, грешил теоретизированиями в ду-
хе «чистого искусства» (статья «Красота, жизнь и творчество»,
1893). Но степень неразборчивости его в суждениях сильно пре-
увеличена.
Приведем несколько примеров, заставляющих внимательнее
отнестись к Боборыкину.
Он присутствовал на Брюссельском и Базельском конгрессах
I Интернационала (Международного товарищества рабочих) в
1868 и 1869 годах. О первом из них весьма сочувственную кор-
респонденцию он поместил в 1868 году в газете «Голос». Бобо-
рыкин не скрывал своего иронического отношения к анархист-
ским выступлениям Михаила Бакунина, пользовавшегося у всей
левой европейской оппозиции непререкаемым авторитетом.
Против Бакунина в то время вел беспощадную борьбу Маркс.
Сам Боборыкин расплывчато характеризует свою «любовь к сво-
боде», но посмотрим, что он говорит о Марксе, и, кстати, сравним
его отзыв с прохладными отзывами о Марксе и «марксидах»,
например у Герцена в «Былом и думах». «Из всех тогдашних
конгрессов, на каких я присутствовал,— писал Боборыкин,—
Съезд Интернационального Союза рабочих... был, без сомнения,
самый содержательный и важный по своим последствиям. Идеи
Маркса, создавшего это общество, проникли с тех пор всюду и у
нас к половине 90-х годов, т. е. около четверти века спустя, за-
хватили массу нашей молодежи и придали ее настроениям го
.ш
23*
раздо более решительный характер общественной борьбы и
наложили печать на все ее мироразумение»1. Это писалось Бо-
борыкиным приблизительно в 1913 году, т. е. в «позорное деся-
тилетие» русской интеллигенции, когда многие марксизм про-
клинали. Конечно, Боборыкин и теперь далек от правильного
понимания марксизма, но все же он верно говорит о его победе
в умах людей.
Боборыкин сообщает много ценных подробностей о русских
писателях в упомянутых воспоминаниях и статьях о них. Всех
этих писателей он лично знал. Но особенно выделяются прозор-
ливостью и глубиной (как бы слово «глубина» ни казалось не-
применимым к «поверхностному» Боборыкину) его суждения о
Герцене. Он познакомился с Герценом во Франции незадолго до
его смерти, знал итоги его деятельности и безбоязненно поведал
о Герцене в своих публичных лекциях в Петербурге, которые за-
тем поместил в «Русской мысли» в 1907 году.
Вспомним, что о Герцене в течение десятилетий нельзя было
даже упоминать в печати. Только революция 1905 года открыла
возможность издания первого, далеко не полного собрания его
сочинений. На это потребовалось специальное разрешение Ни-
колая II.
Опальный государственный преступник, издатель «Полярной
звезды» и «Колокола» предстал в воспоминаниях Боборыкина
во всем своем обаянии и могуществе мысли. В 1907 году на стра-
ницах «Русской мысли» Боборыкин весьма доброжелательно и
верно оценил ряд главных моментов идейных исканий Гер-
цена.
Боборыкин подчеркивал громадную роль, которую Герцен
сыграл в формировании освободительных идей в России. Смысл
его важнейшей работы «С того берега» трактуется так: «Июнь-
ские дни» (имеется в виду Французская революция 1848 года.—
В. К.) с жестокой, бездушной репрессией торжествующего ме-
щанства над пролетариатом сделали Герцена непримиримым
врагом политико-социальной фальши, т. е. буржуазного поряд-
ка и его демократии. Понимание кризиса мелкобуржуазного
социализма поставило Герцена «головой выше и своих загранич-
ных сверстников, не исключая самых выдающихся и знамени-
тых». Тут, «москвич 30-х и 40-х годов», Герцен выступил «с пла-
менным словом горечи и обличения, брошенным в лицо всей
тогдашней якобы радикальной прессы». Нет во всей европейской
литературе, заявлял Боборыкин, такой книги, как «С того бере-
га». Под знаком разрыва с либерализмом в России прошел у
Герцена и разрыв давней дружбы с Тургеневым. Не нравился
ему и анархист Бакунин. В книге «О развитии революционных
идей в России» Герцен поведал о борющейся России, о главном
смысле ее истории. Разошелся Герцен с либералами и по поль-
1 Боборыкин П. Д. Воспоминания.— М., 1965.— Т. II,— С. 75.
356
скому вопросу. Но эта принципиальность Герцена была проявле-
нием его «любви к родине». Нелегко было жить Герцену вдалеке
от России, осыпаемому градом упреков, нападок даже со сторо-
ны своей, так называемой «молодой», русской эмиграции (Серно-
Соловьевич и др.).
Обо всех этих событиях Боборыкин говорил в России впер-
вые, видимо, многое услышав от самого Герцена. Немногие могли
тогда так глубоко заглянуть в сущность политического заве-
щания Герцена. Боборыкин говорил, что с переселением на кон-
тинент в последний год жизни Герцен «стал менее мрачно смот-
реть на европейскую реакцию, на тогдашний бонапартизм, воз-
лагал больше надежд на французскую молодежь...». И дальше:
«...не превращаясь в форменного социал-демократа, последова-
теля теории Маркса, все-таки же, несмотря на долгое нераспо-
ложение к автору «Капитала»... в письме к Огареву, относяще-
муся уже к последнему году его жизни, признает Маркса вели-
ким инициатором в борьбе пролетариев с капиталистическим
строем, а в письме к Бакунину, также от 1869 года, он говорил
следующее: «Работники, соединяясь между собою и выделяясь в
особое государство в государстве, достигающие своего устрой-
ства и своих прав помимо капиталистов и собственников, помимо
политических границ и границ церковных, составят первое семя
и первый всход будущего экономического устройства»1. И затем
Боборыкин сделал замечательное резюме: «Думаю, что под та-
кого рода словами подпишется и теперь всякий, даже очень ор-
тодоксальный социал-демократ». Герцен «ставил в великую за-
слугу Марксу создание «Международного союза рабочих»* 2.
Вот как, по существу, понял Боборыкин эволюцию Герцена,
смысл того «нового берега», к которому он приближался вплот-
ную.
Нельзя сказать, что Боборыкин, аттестуя Герцена в «Русской
мысли» 1907 года, не знал, что делал. Его суждения о сдвигах
во взглядах Герцена заслуживают самого серьезного внимания.
Они стоят выше того, что писала о Герцене либеральная пресса
в юбилейном 1912 году и позднее. Но Боборыкин не понимал
ни сущности марксизма, ни смысла обращения Герцена к Интер-
националу. Много толкуя о «солидарности» рабочих, об орга-
низующей роли Интернационала, Боборыкин и слова не говорит
о их конечной цели — о завоевании политической власти; он
толкует лишь о лучшей организации труда, более справедливом
распределении богатств. Все это раскрывает либерализм самого
Боборыкина. В оценке эволюции Герцена он также допускал ряд
серьезных ошибок. И все же замечательна объективность Бобо-
рыкина в характеристике Герцена.
Боборыкин умер в 1921 году в Лугано (Швейцария), выехав
за границу еще до мировой войны.
'Боборыкин П. Д. Воспоминания,— Т. II.— С. 490.
2 Там же.— С. 490, 491.
357
Источники
Соколов А. Г. Михайлова М. В. Русская литературная критика
конца XIX —начала XX века: Хрестоматия.—М., 1982.
Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи.— М. 1957.
Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12 т.—М., 1956.—Т. 11: М., 1979 —
Т. 12.
Тургенев И. С. Статьи о писателях.— М., 1957.
И. А. Гончаров-критик.— М., 1981.
Достоевский Ф. М. Об искусстве.— М., 1973.
Достоевский Ф. М. Искания и размышления.— М., 1983.
Толстой Л. Н. О литературе: Статьи. Письма. Дневники.— М„ 1955.
Толстой Л. Н. Об искусстве и литературе: В 2 т.— М., 1958.
Короленко В. Г. О литературе.— М., 1957.
Пособия и исследования
Соколов Н. И. Русская литература и народничество: Литературное
движение 70-х годов XIX века.— Л., 1968.
Коновалов В. Н. Народническая литературная критика.— Казань,
1974.
Коновалов В. Н. Литературная критика народничества.— Казань,
1978.
Теплине к ий М. В. «Отечественные записки» 1868—1884: История
журнала. Литературная критика.— Южно-Сахалинск, 1966.
Смирнов В. Б. Литературная история «Отечественных записок»
(1868—1884).—Пермь, 1975.
Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России//Избр.
труды.— М., 1961. См. также: Козьмин Б. П. Литература и история.—
2-е изд.— М., 1982.
Лукин В. Н. Эстетические взгляды Н. К. Михайловского.— Куйбы-
шев, 1972.
С л и н ь к о А. А. Н. К. Михайловский и русское общественно-литера-
турное движение второй половины XIX — начала XX века,— 2-е изд.— Во-
ронеж, 1982.
Виленская Э. С. Н. К. Михайловский и его идейная роль в народ-
ническом движении 70-х — начала 80-х годов XIX века.— М., 1979.
Кантор В. К. Русская эстетика второй половины XIX столетия и
общественная борьба.— М., 1979.
Твардовская В. А Идеология пореформенного самодержавия
(М. Н. Катков и его издания).— М., 1978.
Лаврецкий А. Эстетические взгляды русских писателей.— М., 1963.
Кирпотин В. Я. Достоевский в шестидесятые годы.— М., 1966.
Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—
1863.— М., 1972; Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских
«Эпоха». 1864—1865,—М., 1975.
Достоевский — художник и мыслитель.— М., 1979.
Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература.— М., 1979.
Купреянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого.— М.; Л., 1966.
Ломунов К. Н. Эстетика Льва Толстого.— М., 1972.
Бабаев Э. Г. Лев Толстой и русская журналистика его эпохи.— М.,
1978.
Бабаев Э. Г. Очерки эстетики и творчества Л. Н. Толстого.— М., 1981.
Бялый Г. А. В. Г. Короленко.— Л., 1983.
Бартенев В. В. Г. Короленко — литературный критик.— Иваново, 1953.
Кулешов В. И. Этюды о русских писателях.— М., 1982.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 90-х ГОДОВ
XIX —НАЧАЛА XX ВЕКА (ДО 1917 ГОДА)
ГЛАВА 1
Литературно-критическое движение.
Кризис декадентских направлений в критике
Вступление пролетариата и марксистов на историческую аре-
ну русского освободительного движения породило глубокий кри-
зис буржуазной идеологии и всех течений, которые ее тогда
представляли в России. Несмотря на упоение некоторыми свобо-
дами, проблесками демократии в стране, которые удавалось от-
воевывать у царизма грозным выступлением масс, в сущности
буржуазная идеология переживала глубокий кризис.
С большими претензиями на пересмотр демократических тра-
диций выступил Н. Минский в статье «Старинный спор» (1884),
а затем в книге «При свете совести» (1890), положивших начало
русскому декадансу. В этом же русле были статьи П. Д. Бобо-
рыкина «Наша литературная критика» (1883) и «Красота, жизнь
и творчество» (1893). Проповедь мистики, «чистого искусства»
пронизывает и объемистый том статей Волынского (А. Л. Флек-
сера) под названием «Русские критики» (189G).
Волынский декларировал свое полное отрешение от «поли-
тики». Он заявлял, что «истинная критика» не может гнаться за
минутным «содержанием», она должна иметь дело с «вечными
ценностями». Критика «должна следить за тем, как поэтическая
идея, возникнув в таинственной глубине человеческого духа, про-
бивается сквозь пестрый материал жизненных представлений и
взглядов автора»1. Волынский не желал признавать, что идеи и
«материал представлений»—сами продукты среды. Напрасно он
старался противопоставлять их друг другу.
Г. В. Плеханов написал на книгу Волынского блестящую,
полную иронии статью «Судьбы русской критики». Он показал,
что кроется за фразами автора о «дуновении вечных идеалов»,
о «вдохновениях свыше». «Его теоретическая философия,— пи-
сал Плеханов,— сводится к совершенно бессодержательным
фразам, его практическая философия есть не более как чрезвы-
чайно плохая пародия на нашу «субъективную социологию»2.
Попытка Волынского возвыситься над категориями социаль-
ного детерминизма и уйти в область «высших философских па-
1 Волынский А. Л. Русские критики.— СПб., 1896.— С. 120.
2 Плеханов Г. В. Собр. соч.—М.; Л.. 1925.—Т. X,—С. 174.
,'ПН»
чал» приводила к жалкой декламации, обесцениванию подлин-
ного содержания творчества и заслуг классиков русской критики.
Добролюбов якобы «не знал никаких широких увлечений с ки-
пением всех чувств», тогда как статьи Белинского были «облиты
светом внутреннего пожара». Но ни тот ни другой критик, по
мнению Волынского, все же не обнаружил «самобытного фило-
софского таланта», такого, какой был, например, у пресловутого
Юркевича. Пафос поэзии Пушкина, говорил Волынский, не в
том, в чем его видел Белинский. Пушкин не реалист, не социаль-
ный писатель, а певец широкого размаха русской души, любви и
грусти, глубоко спрятанного религиозного чувства. Остался для
Белинского «невыясненным» и Лермонтов, не разгадал он и па-
фоса творчества Гоголя Г
Из подобных заявлений и состояла, по существу, вся книга
Волынского.
В несколько более усложненном виде идеи модернистского
разложения проводил В. Розанов. Он вызывающе выступал со
своими статьями. С ним, парадоксалистом, автором книг «Уеди-
ненное» (1912), «Опавшие листья» (1913, 1915), спорили Горь-
кий, Михайловский, Луначарский, М. Протопопов, Андреевич
(Е. А. Соловьев) и даже «свои»—Мережковский, Н. Минский,
А. Белый.
В статьях, озаглавленных «Почему мы отказываемся от «на-
следства 60—70-х годов?», «В чем главный недостаток «наслед-
ства 60—70-х годов?», Розанов прямо говорил, что дети имеют
право отрицать отцов, что «смена зеленого убора»—закон жиз-
ни, что мы ищем «другой правды». Прошлые поколения верили
в торжество разумных, демократических начал общественной
жизни, а Розанов в них уже не верил. В статье «Три момента в
развитии русской критики» Розанов считал, что не Белинский и
не Добролюбов, а Ап. Григорьев и Н. Страхов являются ее под-
линными представителями и выразителями. Розанова привлека-
ли «поздние фазы славянофильства», а не демократические тече-
ния в России.
В книге «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевско-
го» (1906) Розанов истолковал идеалы автора «Братьев Кара-
мазовых» как «жажду земного бессмертия». Розанову было важ-
но доказать, что «человеческое существо иррационально», только
религия и страдание облагораживают его.
Юлий Исаевич Айхенвальд (1872—1928). Шумно и скандаль-
но обсуждалась в то время теория «интуитивной критики»
Ю. Айхенвальда.
В издававшейся пять раз книге «Силуэты русских писате-
лей» (первое изд. появилось в 1906—1910 гг.) Айхенвальд
собрал в подобие некой теории буквально все, что до него го-
ворили различные критики-субъективисты. Со всеми видами
1 Волынский А. Л. Русские критики.— С. 122,
360
ненавистного ему детерминизма Айхенвальд ведет борьбу, ратуя
за полное раскрепощение личности художника, ибо она есть
«сама по себе ценность». Силуэты писателей набросаны им-
прессионистски, без учета конкретно-исторической обстанов-
ки и лишь во внешней хронологической последовательности от
Батюшкова до Чехова.
Программный характер имело введение к книге «Теоретиче-
ские предпосылки». Остановимся на нем подробнее — оно ха-
рактерно для Айхенвальда и всего декадентского направления
в критике.
Эстетика как наука невозможна, писал Айхенвальд. Нельзя
выработать объективный критерий для отбора материала, нель-
зя знать, что изучать, о чем говорить. Нет мерила и для опреде-
ления таланта, гения. В своем субъективизме Айхенвальд был
особенно близок к Шопенгауэру, сочинения которого перевел на
русский язык. Он говорил, что Тэн и Брюнетьер хотели создать
науку о литературе по образцу естествознания, но ничего у них
не вышло. Они изучали влияние на поэта расы, среды, момен-
та, но забывали о самом творце-художнике, на которого рас-
пространяются все эти влияния. Культурно-историческая школа
много толкует об эпохе, времени, связях писателя с определен-
ной культурой.
Но что такое эпоха, культура, связи? Все эти понятия отно-
сительны. «Особенно роковую неудачу в попытке объяснения ли-
тературы,— отмечал Айхенвальд,— терпит классовая точка зре-
ния, исторический материализм»1. Писатель вовсе не «продукт»
общества, он не во власти чужого, а сам по себе. Он продолжает
дело бога, его творчество сплетается с творчеством вселенной.
Детерминисты считают это иллюзией, но откуда сама эта воз-
можность иллюзии? Ведь мы вечно находимся у нее в плену.
Литература вовсе не «зеркало» действительности: «писатель
своим современникам не современник, своим землякам не зем-
ляк»2. Писатель живет всегда и везде.
Главное в литературе — иррациональная сила талантливой
личности. Нет направлений, есть только писатели. Сколько писа-
телей, столько и направлений. Только личность и ее воля — факт,
все остальное сомнительно.
Для понимания писателя совсем не обязательно знать его
эпоху, даже его биографию, важно знать только то, что дает
его произведение. Только связь с вечным, а не с временным
определяет истинную силу писателя.
Классическая критика XIX века, по мнению Айхенвальда,
испортила наши вкусы навязчивой общественностью, ограничила
круг интересов, «отняла у нас чувство красоты». С сокрушением
’Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей,— 4-е изд.— М.,
1914.— Вып. 1.— С. XVI (вступление).
2 Т а м ж е.— С. XV.
361
Айхенвальд вспоминает «позорный вандализм Писарева», его
«ребяческое разрушение эстетики», вследствие которого мы от-
вернулись от искусства как искусства, от Пушкина, Фета, Тют-
чева. Критика потеряла свой критерий, она сделалась публицис-
тикой. Чернышевский, для того чтобы призвать к скорейшему
освобождению крестьян, пишет статью «Русский человек на
rendez-vous», и это по случаю тургеневской наипоэтичнейшей
«Аси»!
Айхенвальд ловко группирует факты, скользит по их поверх-
ности, ему важно не вникнуть в их сущность, а создать опреде-
ленное, выгодное для себя впечатление. Он собирает всевозмож-
ные обвинения против «реальной критики», ее действительные
и мнимые промахи, лишь бы сокрушить ее в главном — в глубо-
кой вере, что искусство — зеркало действительности и могучее
средство критики существующего.
Он приписывает Чернышевскому грубый утилитаризм, кото-
рого на самом деле не было.
Что же взамен детерминизма и исторического материализма
предлагал Айхенвальд? Немногое, очень старое и знакомое: пол-
ный субъективный произвол.
«Гораздо естественнее,— писал Айхенвальд,— метод имма-
нентный, когда исследователь художественному творению орга-
нически сопричащается и всегда держится внутри, а не вне его.
Метод имманентной критики... берет у писателя то, что писатель
дает, и судит его, как хотел Пушкин, по его собственным зако-
нам, остается в его собственной державе».
Айхенвальд без оснований пытался опереться на Пушкина.
Пушкин призывал принимать в соображение намерения писате-
ля и не судить его произвольно, но Пушкин вовсе не считал, что
писатель должен быть оторван от эпохи, от социальной жизни,
и критик должен всецело оставаться в «его державе». Пушкин
считал критику наукой открывать красоты и недостатки произ-
ведений, наукой, основанной на знании образцов, правил, при-
слушивающейся ко всем живым голосам современности.
Силуэт Белинского, набросанный в третьей части книги Ай-
хенвальда, вызвал бурю негодования и протестов со стороны
честной и прогрессивно настроенной литературной общественно-
сти. Против уничижения Белинского, его развенчания, которые
пытался провести Айхенвальд (что также было отражением его
«веховского» духа), выступили П. Н. Сакулин, Н. Л. Бродский,
В. Чешихин-Ветринский, А. Дерм ан, Е. Ляцкий и другие. Саку-
лин, например, указывал, что место Белинского «давно уже опре-
делено нелицеприятным судом истории: его имя свято. Давно
уже Белинский находится за чертою досягаемости». Н. Л. Брод-
ский в статье «Развенчан ли Белинский?» показал, каким про-
изволом отличается требуемая Айхенвальдом «свобода исследо-
вания»: он предъявляет Белинскому обвинения в противоречиях,
не понимая, что взгляды критика развивались. А. Дерман об-
362
винял Айхенвальда в потере исторической перспективы в оценке
Белинского.
Айхенвальд отвечал своим критикам в брошюре «Спор о Бе-
линском» (1914). Внеисторично, игнорируя диалектику развития
живой ищущей мысли Белинского, Айхенвальд стал называть
его «Виссарионом-отступником» за то, что в высказываниях кри-
тика были противоречия, иногда действительные, иногда кажу-
щиеся. Известно, что Белинский в «Письме к Н. В. Гоголю»
выразил свои революционные настроения, и в то же время он
прислушивался к каждому, даже слабому голосу сочувствия
крестьянам (например, в «Сельских чтениях» В. Одоевского,
Заблоцкого-Десятовского). Разве это означало, что Белинский
отказывался от своей твердой программы? Айхенвальду было
важно указать на такое мнимое противоречие Белинского, за-
маскировать свое собственное отступничество от великого насле-
дия. Справедливо оппоненты упрекали Айхенвальда в том, что
он «сосчитал на солнце пятна и проглядел его лучи».
Этот спор накануне первой мировой войны и Великой Ок-
тябрьской революции показал, до какой степени «веховская» тен-
денция продолжала развиваться у либералов. Спор обнаружил
раскол в лагере интеллигенции, в результате которого одна се
часть впоследствии прокляла революцию, а другая пошла за
ней.
Наблюдалось сближение между собой разнообразных субъ-
ективистских теорий, имевших различное историческое проис-
хождение. Все они приходили к одному результату—агности-
цизму, интуитивизму, мистицизму и объединялись на общей для
них основе неприятия художественного реализма.
В качестве социалистов и «легальных марксистов» начинали
свою деятельность П. Струве, М. Туган-Барановский, II. А. Бер-
дяев.
Как «легальный марксист» начинал и С. Н. Булгаков.
Бердяев и Булгаков были ведущими авторами в сборнике
«Вехи» (1909). В этом сборнике сотрудничали и публицисты, фи-
лософы, литературоведы других школ. Однако общая цель их
заключалась в том, чтобы призвать интеллигенцию покончить
с социалистическими «иллюзиями», пойти на службу к капита-
лизму и самодержавию. Сборник «Вехи» состоял из следующих
статей: «Философская истина и интеллигентская правда»
Н. А. Бердяева, «Героизм и подвижничество» С. Н. Булгакова,
«Творческое самосознание» М. О. Гершензона, «В защиту пра-
ва» Б. А. Кистяковского, «Интеллигенция и революция»
П. Б. Струве, «Этика нигилизма» С. Л. Франка, «Об интелли-
гентной молодежи» А. С. Изгоева.
Это философы, социологи, а не литературные критики. Мы
разбирать их здесь не будем. Но мы и упустили возможность
сколь-либо развернуто о них высказаться, так как цензурный
запрет с их имен у нас был снят совсем недавно. Подготовки
И (1.1
4-го издания нашего учебника уже шла полным ходом, объем
его остался прежним и втискивать новый материал было тех-
нически трудно даже после того, как пришлось снять разделы о
Плавилыцикове, Лукине, Антоновиче, Зайцеве и других кри-
тиках.
Органически притачать реабилитированных русских мысли-
телей-эмигрантов к основному корпусу истории русской крити-
ки трудно еще и потому, что тексты их только начинают появ-
ляться в новых перепечатках, с сопроводительным аппаратом,
капитальных монографических разработок еще нет. А для
учебника нужны именно эти строгие предварительные раз-
работки. Мы еще должны научиться с необходимой широ-
той расценивать наследие этих «ревизионистов», модернистов.
Да, они шли вразрез с классовым подходом, марксисты их
жестоко критиковали; но время показало: в их позициях была
своя доля правды, главным образом, нравственного, общечело-
веческого свойства. Классовый же подход к явлениям, форми-
рование принципов которого мы прослеживали как великое
методологическое благо на всем протяжении истории русской
критики оказался не столь всесильным и универсальным, он
сужал горизонт исследования, вносил много вульгарного, скоро-
преходящего в критику.
Нам, конечно, в предлагаемом издании учебника еще не
удастся преодолеть старые штампы и стереотипы в оценке
многих явлений, сколько можно мы стремимся к этому, печать
нашего переходного времени ложится на этот текст. Но мы
постараемся выявить рациональный смысл в теориях модерни-
стов, убрать излишние укоризны в их адрес.
Когда просматриваешь двухтомник С. Булгакова («Два гра-
да. Исследования о природе общественных идеалов».— М., 1911),
легко отмечаешь слабые философские места у автора: конечно,
на основной вопрос об отношении мышления к бытию он отвеча-
ет идеалистически. Маркс для него — лишь малоудачливый уче-
ник Фейербаха, для которого существует в обществе голый эко-
номический процесс, и обещанный им социалистический рай сво-
дится к тому, чтобы голодных сделать сытыми. Никаких других
задач. Много утрировки. Но есть предсказание, к сожалению,
сбывшееся. Опыт семидесятилетнего строительства социализма
в СССР сам говорит за себя. Булгаков указывал, что «социа-
лизм имеет не только свою апокалиптику, но и свою мистику»1.
«В социализме, и особенно в марксизме, есть живое ощущение
органического роста, исторического становления, могучего сверх-
индивидуального процесса, который в его теории обозначается,
как рост производительных сил, с его железной логикой; в нем,
действительно, подслушано биение исторического пульса, есть
ощущение исторического прозябания. В этом смысле, при всем
1 Б у л г а к о в С. Н. Два града...— Т. 2.— С. 39.
364
своем рационализме, социализм имеет свою подлинную, хотя и
атеистическую мистику, в ней-то, даже помимо сознания н за
ключается его главная притягательная сила. Ибо, потеряв ре-
лигию, человек не перестает страдать своей оторванностью от
мирового целого, он жаждет органической целостности, суррога-
та церковного общения и потому так легко и охотно находит
его в социализме»1. Как недостаточна оказывается «культурная
революция», проделанная у нас уже в первые годы советской
власти, как неизбежен «железный занавес», с одной стороны,
и неистребима жажда принадлежности к органической целост-
ности всего земного человеческого бытия, несмотря на культи-
вируемый образ врага, фатально неизбежную классовую борьбу,
источник разобщения, и в итоге духовная обедненность общест-
ва, творящего себе суррогат — культ личности, пышно обстав-
ленные партийные «формулы» и празднества вместо подлинно
душевного общения людей. «Опиум народа» действовал и здесь:
«Вера в социальное чудо, в перерождение общества путем соци-
ального переворота, глубоко коренится в религии социализма, в
его пророчествах, в его апокалиптике. И всегда в истории, когда
особенно высоко поднималась религиозная волна социализма,
обострялось и это эсхотологическое чувство, и ожидание скорого,
немедленного, неожиданного, как тать в нощи, подкрадываю-
щегося социального катаклизма, через который человечество
совершит, по выражению даже трезво прозаического Маркса,
«прыжок из царства необходимости в царство свободы»* 2. Вспом-
ним, сколько демагогического было в лозунгах о мировой рево-
люции, о скором пришествии светлого будущего.
Теперь с высоты прожитых семидесяти лет мы должны при-
знать, что в нашей идеологии не было ни настоящей политэко-
номии, ни юридического правосознания, ни тех гуманных начал
общежития, которые сохраняла церковь, несмотря на террор. Во
многом справедлива была критика пролетарского движения и
мы теперь для поддержания нравственности и милосердия в об-
ществе добровольно обращаемся за помощью к церкви. Обра-
щаемся к общечеловеческому опыту, чтобы прокормить народ,
ибо и узко-экономическая задача не вывела нас в царство сво-
боды. А С. Булгаков предупреждал: «Вполне возможно, что
введение в душу народную яда материалистического человеко-
божия поможет быстрее двинуть пролетариат на капиталистов,
мобилизовать социальную революцию, вырвать важные социаль-
ные реформы. Но какою ценою будет куплена эта победа, с ка-
кими духовными силами вступит это человечество в следующую
эпоху истории? Только уверовав в экономическое провидение, во
всемогущество стихийных сил истории, только отрицая чело-
веческую личность и почитая ее простым рефлексом, можно с
беззаботностью и доверием смотреть на будущее и не слышать
’Булгаков С. Н. Два града...— Т. 2.— С, 39.
2 Б у л г а к о в С. Н. Указ. соч.— С. 40.
365
запаха уже начавшегося гниения души народной...»1. Не со вся-
ким оборотом мысли, словом С. Булгакова можно согласиться,
но сколько угадано верно. Мы знаем ныне, с какими духовными
запасами вступаем в третье тысячелетие, как подавлена была и
превращена в «винтики» государственной машины человеческая
личность. Все это правда. Все это было.
Литературное направление символизма начало формировать-
ся с первых сборников «Русские символисты», изданных
В. Я. Брюсовым в Москве в 1894—1895 годах. Брюсов перенес
из французской литературы это название и закрепил его за
определенной группой русских поэтов. В предисловиях Брюсов
провозгласил свои творческие задачи.
Органами символистов стали журналы «Мир искусства»
(1899—1904), «Новый путь» (1903—1904), а центральным орга-
ном, объединившим вокруг себя лучшие силы,— журнал «Весы»
(1904—1909). Деятельно работали издательства символистов
«Скорпион», «Гриф», «Мусагет», «Альциона», выпускавшие сбор-
ники стихов и теоретических статей. Для понимания генезиса
символизма важное значение имеют нашумевшая в свое время
книга Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях
современной русской литературы» (1893), сборники критических
статей А. Белого под названиями «Символизм», «Арабески»,
«Луг зеленый» (1910 и 1911 гг.), сборники статей Вяч. Иванова
«По звездам» (1909), «Борозды и межи» (1916), курс лекций
«Эллинская религия страдающего бога» (1904). Чрезвычайно
важны статьи Брюсова и Блока, отразившие идейные искания
поэтов и разрыв их с символизмом.
Символисты жили шумной литературной жизнью. Они сами
придавали ей характер обостренных творческих дискуссий.
В. Брюсов, пропагандировавший несколько рационалистиче-
скую «ученую поэзию», решительно расходился со всеми симво-
листами, и особенно с Бальмонтом, по вопросу о «бессознатель-
ности» творчества. Брюсов порвал с Мережковским, издававшим
журнал «Новый путь», почувствовав его охранительную направ-
ленность. С критикой «словесного кафешантана» Мережковского
и 3. Гиппиус выступал А. Блок.
А. Блок и А. Белый, с одной стороны, и Вяч. Иванов — с дру-
гой, сильно разошлись в вопросе о возможности создания симво-
листского театра. Иванов наивно готов был видеть в театре все-
народный форум, своего рода парламент, средство завоевания
политической свободы. Блок и А. Белый высмеивали пророчест-
ва Иванова. А. Белый называл их «неонародничеством». Блок
в своем «Балаганчике» зло пародировал «мистерии» Иванова.
Блока и А. Белого соединяла противоречивая «дружба-враж-
да». Причины споров лежали глубоко: А. Белый упрекал Блока
в чрезмерно положительных суждениях о реалистах-«знаньев-
1 Булгаков С. Н. Указ. соч.— С, 49.
266
цах», что было симптоматичным в эволюции поэта; впоследст-
вии в мемуарах А. Белый извратил суть спора с Блоком, при-
писывал себе инициативу в пересмотре взглядов на реалистов.
И в то же время символисты представляли собой организо-
ванное направление в литературе со своей четко разработанной
критической программой и поэтикой. Теоретизировали они все,
в особенности Мережковский, А. Белый, Иванов. Предтечей их
был философ В. Соловьев.
Внутри символизма были отдельные течения. Можно говорить
о московской школе во главе с Брюсовым и А. Белым и петер-
бургской школе во главе с А. Блоком и Вяч. Ивановым. Симво-
листы делились еще на «старших»—Мережковский, 3. Гиппиус,
В. Брюсов, А. Добролюбов — и «младших»—А. Блок, А. Белый,
В. Иванов. Иногда от символистов отделяют откровенных дека-
дентов— Мережковского, 3. Гиппиус, Ф. Сологуба. Но это от-
граничение верно лишь до некоторой степени. Мы будем рас-
сматривать символизм в широком аспекте.
Накануне 1905 года и в ходе революции в символизме нача-
лись резкие размежевания. Некоторые из модернистов и симво-
листов — Минский, Бальмонт — почувствовали необходимость
сближения с революционными силами и социал-демократами. Но
для Минского, Бальмонта кратковременное сотрудничество в
большевистской газете «Новая жизнь» оказалось только модой.
Для Блока же революция значила совсем другое; она положила
начало его сближению с борющимися силами России, серьезно-
му преодолению символизма как идеологии и как творческой
программы. Позднее такой же процесс пережил Брюсов.
Еще сложнее и противоречивее приняли символисты Ок-
тябрьскую революцию 1917 года.
В лагерь белой эмиграции ушли Мережковский и 3. Гиппиус.
Вяч. Иванов эмигрировал за границу в 1924 году. А. Белый и
М. Волошин, воспринявшие революцию как долгожданное осво-
бождение, остались, однако, все же во многом чуждыми со-
циализму. Только Брюсов и Блок, порвав с символизмом, приня-
ли пролетарскую революцию и стали сотрудничать с советским
строем. Брюсов вступил в Коммунистическую партию. Такое
расслоение русской буржуазной интеллигенции было законо-
мерным.
Что же такое символистская критика как социально-общест-
венное и эстетическое явление?
Символисты слишком раздували внутренние противоречия по
литературным вопросам между своими отдельными группиров-
ками. По своей социальной сущности, неприязни к реализму и
склонности к формализму они представляли собой не что иное,
как широкое либерально-буржуазное, декадентское направле-
ние ’. Символисты рассматривали себя как закономерную реак-
1 См.: Асмус В. Вопросы теории и истории эстетики.— М., 196Я,—
С. 531 и др.
•ЧП/
цию на крайности народнического утилитаризма и плоского
буржуазного натурализма в литературе. Они немало потратили
остроумия на высмеивание общественно-альтруистических на-
строений писателей прежних поколений. Они иронизировали над
традиционным служением «злобе дня» и «общим вопросам», об-
виняя «благотворителей» в пренебрежении к художественной
форме произведений. Символисты враждебно были настроены не
только по отношению к народническим писателям, но и к реа-
листам вообще, к Некрасову и его школе. Они воевали с «чис-
тым искусством», его бесцельностью, развивая взамен того свое
учение об особой миссии искусства, призванного каким-то обра-
зом спасти мир от надвигающейся катастрофы. Символисты лю-
били цитировать афоризм Достоевского: «Красота спасет мир».
Много острых слов символисты (особенно А. Белый в своих
воспоминаниях уже задним числом) высказали против буржуа-
зии, благополучия «сытых», узкомещанских идеалов, противопо-
ставляя свое, созданное для битв «оптимистическое» искусство
«чистому искусству» буржуазной «корысти». Однако символизм
был детищем мелкобуржуазного анархизма и отражал эволю-
цию русского либерализма в сторону консерватизма. Символисты
боялись народной революции. За их фразами о великой миссии
искусства в действительности скрывался страх перед реальной
политической борьбой. Кроме того, они сами склонялись к фор-
мализму, т. е. к тому же «чистому искусству».
Брюсов первоначально хотел добиться полного освобожде-
ния искусства от науки, религии и общественных интересов. Он
искренне считал, что символизм — это только литературная
школа (статья «О речи рабской», 1904). Но другие символисты
вскоре раскрыли политический подтекст своего желания «раз-
грузить» искусство от политической тенденции. Л. Л. Кобылин-
ский, выступавший под псевдонимом «Эллис», писал в 1907 году
в журнале «Весы», что царский манифест 17 октября 1905 года
удовлетворяет всем требованиям. Именно теперь, в условиях
думской гласности, можно было оставить искусство в покое и
покончить с дурной традицией XIX века, когда искусство посто-
янно совалось в общественные дела *. Символизм вбирал в себя
все повадки русской либеральной буржуазии, еще по привычке
твердившей гуманные фразы и ратовавшей за прогресс, а на де-
ле неуклонно совершавшей эволюцию в сторону противников
демократии. В. И. Ленин писал в связи с выходом сборника
«Вехи», что «либерализм в России решительно повернул против
демократии». Свою классовую сущность символисты прикрыва-
ли пышными фразами о «пересоздании» жизни посредством ис-
кусства, о его «теургическом» (т. е. созидающем), «онтологи-
ческом» (способном быть «основой мира») и «эсхатологическом»
* См.: Весы.— 1907,— № 10.— С. 56 (статья «Что такое литература?»).
368
£как средстве спасения человечества от конечной гибели) зна-
чениях.
Они нападали на Чернышевского, Добролюбова, Писарева,
на народников, на Серафимовича, Горького. Зинаида Гиппиус,
выступавшая под псевдонимом «Антон Крайний», после выхода
в свет романа «Мать» писала в «Весах»' «Какая уж это литера-
тура! Даже не революция, а русская социал-демократическая
партия сжевала Горького без остатка». Символисты сознатель-
но противопоставляли Горького-романтика Горькому-реалисту,
русскую «революцию» русской социал-демократии.
В работах А. Белого и Вяч. Иванова во множестве употреб-
лялись специфические термины забытых и новомодных идеали-
стических систем. Но они и сами были большие мастера выду-
мывать сакраментальные термины и уснащать ими свои теории.
Некоторые понятия применялись символистами словно в ка-
ком-то обрядовом значении, однако они не вошли в широкий
оборот: «теократия», «теургия», «соборное искусство», «эмбле-
матика смысла», «литургический язык» и т. и. В схоластических
теоретических построениях, сознательно оставляя в темноте не-
которые исходные положения, они уверяли о своей мнимой вер-
ности «реализму» и «лучшим традициям» русской классической
литературы.
Символисты опирались на философию Канта, Беркли, Фихте,
неокантианца Риккерта, Штейнера, Кьёркегора и в особенности
на Шопенгауэра («Мир как воля и представление») и Ницше
(«Так говорил Заратустра»), Именно используя формулы Шо-
пенгауэра, символисты развивали свое учение об онтологическом
значении искусства, о его роли в обновлении мира. Они пропо-
ведовали пренебрежительное отношение к вкусам «толпы», ан-
тидемократическую тенденциозность творчества. От Ницше к
ним перешли идеи о решающей роли в истории «сверхчеловека»,
т. е. все той же «воли». Для подкрепления своих положений сим-
волисты эклектически использовали «Письма об эстетическом
воспитании» Шиллера, теорию Дидро о гражданском воспита-
нии при помощи театра и в особенности учение Шеллинга о бес-
сознательности творчества поэта-провидца, несущего па себе
отблеск животворящей «абсолютной мировой идеи».
Какой бы внешней логичностью ни характеризовались экст-
равагантные построения символистов, как бы солидно не звуча-
ли их латино-греческие термины, нас поражает бедность реаль-
ного содержания их философии, произвольность в посылках и
выводах. Все то, что когда-то Белинским, Герценом, Чернышев-
ским было открыто и приведено в стройное учение об объек-
тивности общественных, социальных критериев красоты,— вес
это распалось и смешалось у символистов в какие-то прихотли-
вые комбинации, приобрело субъективистский характер с ново
модными ярлыками «универсального символизма», «сверкнув
ственного познания»,
24 Заказ № 1367 а’П1<)
Символисты были не способны сформировать общие понятия.
Общие категории, которые еще надо было вывести и доказать,
оказывались у них заданными заранее. Символисты спекулиро-
вали на понятии «опыт», который оказывался простым комплек-
сом субъективных ощущений, «переживаний», оторванных от
опыта всего человечества и от исторической практики.
Камнем преткновения для символистов были понятия «воли»,
«свободы». Для них, как для Шопенгауэра и Вл. Соловьева, во-
ля— это субстанция мира, одно из начал его, а свобода — это
произвол личности.
Общеэстетические построения символистов, с одной стороны,
отстаивали независимость искусства от политики и тем самым
закладывали основы формализма, т. е. сужали роль искусства,
с другой — безгранично расширяли его выспренними заявле-
ниями об особой цели искусства. Вторая сторона их теории ока-
залась исторически совершенно мертвой, хотя на ее разработку,
например, А. Белый и Вяч. Иванов потратили большие усилия
и она считалась наиболее важной.
Обращение к проблемам формы, «инструментализации язы-
ка»— в противовес «беззаботно» относившимся к этой стороне
искусства народникам и натуралистам — часто давало положи-
тельные результаты. Субъективно они совершенствовали форму
ради создания «литургического» языка, языка жрецов, но объек-
тивно они оттачивали и совершенствовали русский поэтический
язык, значительно обогащали рифмы и ритмы, были мастерами
формы. Можно многое принять у символистов в области отыска-
ния новой энергии в словах, борьбы со стилистическими штампа-
ми, «румяными эпитетами». Правы они и в том, что смысл
слов бывает многозначен, трудноуловим, что постижение новых
смысловых значений раздвигает перспективы поэтического твор-
чества.
Весьма дельными были высказывания Брюсова о стиле, ис-
тории рифмы, ритма, стихосложения *. Важны рассуждения Вяч.
Иванова о том, что в каждом произведении искусства, даже
пластическом, «есть скрытая музыка», каждому произведению
«необходимо присущи ритм и внутреннее движение». Вяч. Ива-
нов заявлял, что «истинное содержание художественного изо-
бражения всегда шире его предмета», но далее неправильно
утверждал, что искусство «символично», «для ума необъятно»,
«божественно»1 2. Однако в целом мысль о несводимости содер-
жания произведений к предмету, сюжету и теме верна и заслу-
живает внимания.
А. Белый и Вяч. Иванов старались разъяснить, что такое
символизм, но так и оставили этот главный пункт своего учения
темным и неопределенным. Вяч. Иванов писал, что символ «мно-
1 См., например, статьи В. Я. Брюсова «Фиалки в тигеле» (1905), «На-
учная поэзия» (1909), «Ремесло поэта» (1918) и др.
2 См.: Иванов Вячеслав. По звездам.— СПб., 1909.— С. 200—201.
370
голик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине» («По
звездам»). Он считал, что стихотворение Лермонтова «Из-под
таинственной холодной полумаски...» означает не встречу на
маскараде, как имел в виду Лермонтов, а мистическое обнару-
жение Вечной женственности. А. Белый указывал, что центр тя-
жести в эстетике символисты «переносят от образа к способу
его восприятия». Блок говорил: «Врубель видел сорок голов
Демона, а в действительности их не счесть». То есть все дело
в субъективном восприятии.
А. Белый заявлял, что познание вытекает из названия вещи.
Познание — это установление «отношений между словами», ко-
торые впоследствии «переносятся на предметы», соответствую-
щие словам («Магия слов»). Его не смущает, например, абсурд-
ность утверждений: «Всякое познание есть фейерверк слов, ко-
торыми я наполнил пустоту», «творческое слово создает мир»
(«Символисты»). Символисты восставали против «предметных
понятий», рожденных в практике, их привлекало «химерическое
содержание», язык магов, жрецов и волхвов («блажен, кто слы-
шит нас»,— говорил К- Бальмонт, («Поэзия как волшебство»).
Как же символисты представляли себе свое место среди раз-
личных литературных течений и направлений?
Всю историю мировой литературы они рассматривали лишь
как прелюдию к символизму. Даже в 1910 году А. Блок еще
заявлял: «Солнце наивного реализма закатилось; осмыслить что
бы то ни было вне символизма нельзя» (доклад «О современном
состоянии русского символизма»)1.
Символисты возражали против того, чтобы их называли дека-
дентами. Слово «декадент» казалось им бранным, канувшим в
прошлое. Они сами себя считали оптимистами, ликвидаторами
застоя и пессимизма в литературе, порожденных реакцией 80-х
годов. Но их оптимизм, их вероучение о потусторонней сущности
вещей, вражда к социальному реализму были одной из форм
буржуазного декаданса.
Гораздо охотнее они устанавливали свои исторические связи
с романтизмом. Брюсов в статье «Ключи тайн» (1904) писал:
«Романтизм, реализм и символизм—это три стадии в борьбе
художников за свободу» (имелась в виду свобода творчества.—
в. к.у
Таким образом, символизм назывался третьей стадией исто-
рии русской и всякой другой литературы. Некоторые символисты
толковали «триаду» как возврат к неоромантизму. Брюсов опи-
рался в своей эстетике на немецких романтиков и французских
символистов. Вяч. Иванов свою теорию драмы, культ Диониса
заимствовал через Ницше у немецких романтиков. Учение об
«иронической» стилизации, игре различными планами в искус-
стве символисты заимствовали у Ф. Шлегеля. Если формула ро-
24*
1 Блок А. А. Собр. соч.— М.; Л., 1962.— Т. 5.— С. 433.
«71
мантизма хорошо выражается стихом Лермонтова «В уме своем
я создал мир иной и образов иных существованье», то у сим-
волистов мы найдем ее полную утрировку: Ф. Сологуб говорил,
что «весь мир — одно мое убранство» («Мои следы»). Романти-
ческий эгоцентризм Брюсов выражал так: «Создал я в тайных
мечтах Мир идеальной природы...»
Символисты, и в частности А. Блок в речи «О романтизме»
(1919), склонны были расширительно толковать романтизм как
вечно живое чувствование и видение мира. Литературные направ-
ления оказывались лишь одним из частных случаев романтиз-
ма (например, таким случаем для них был йенский романтизм).
Такое толкование также давало возможность объявить симво-
лизм сегодняшним романтизмом. Символизм действительно был
связан с разнообразными формами консервативного романтизма
в русской и мировой литературе. С йенскими романтиками сопо-
ставлял их М. Горький в своих каприйских лекциях по русской
литературе. Но этот вопрос в целом нуждается еще в особом
исследовании. До появления символизма с брюсовскими сбор-
никами теоретическими предтечами самого направления были
Вл. Соловьев и Д. Мережковский. Поэтому целесообразно рас-
смотреть их критические работы.
ГЛАВА 2
Символистская критика
Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900). Владимир Со-
ловьев был сыном известного русского историка С. М. Соловье-
ва. Его учителем в Московском университете был профессор
П. Юркевич, известный философский противник Чернышевского.
В. Соловьев впервые придал в глазах общественности мистико-
идеалистическим теориям значение оригинальной «русской» фи-
лософии.
Построения Соловьева сложны, противоречивы, но они при-
надлежат духовной традиции России. В отличие от своего учи-
теля, он высоко ценил Чернышевского и откликнулся на пере-
издание его диссертации. Соловьевская идея «всеединства»,
синтеза слияния культур, его утверждение о необходимости брат-
ской любви, о высоком нравственном предназначении человека,
о вреде разобщения между народами — все это созвучно нашему
времени. Официальная церковь не принимала его учения, пе-
чататься приходилось за границей. Он не признавал господства
государства над личностью и вступал в конфликт с властью.
Нравственно-гуманистическое значение наследия Соловьева ог-
ромно, хотя и имеет свои слабые места, на которые обращал
внимание сам автор. «Сознательное убеждение в том, что настоя-
щее состояние человечества не таково, каким быть должно,
значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразова-
372
но. Я не признаю существующего зла вечным, я не верю в черта.
Сознавая необходимость преобразования, я тем самым обязы-
ваюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы
это преобразование было действительно совершенно. Но самый
важный вопрос: где средства?»1.
Взгляды В. С. Соловьева мало изменялись с годами, так как
он, по его мнению, имел дело с «вечными» истинами и величи-
нами.
Путем чисто умозрительного синтеза разных начал в че-
ловеке и в обществе он хотел достичь идеального совершенст-
ва—богочеловека и «свободной теократии».
В. С. Соловьев окончательно отказался от детерминистского
освещения таких категорий, как свобода, воля, совесть, добро,
благо, жалость.
Он оперировал этими понятиями как неизменными истина-
ми, данными как откровение.
Соловьев был настолько убежден в своих целях, что говорил,
например, о встречах во время путешествия к египетским пира-
мидам с «Вечной женственностью», «Высшим существом»... Он
считал, что между реальной действительностью и богом нахо-
дится некая особая область, женственное начало, «София —
премудрость божия». Свои видения он описал в стихотворении
«Три встречи».
В. Соловьев открыто выступил против материализма в пре-
дисловии к своему переводу «Истории материализма» Ф. А. Лан-
ге (1899). Он считал, что материализм — это «низшая элемен-
тарная ступень философии», философия «простейших умов»,
принимающая все существующее как «самоочевидную истину»2.
В работе «Кризис западной философии» (1874) Соловьев сде-
лал широкий анализ истории мировой философской мысли. Но
он тенденциозно выделил только духовно близких себе мыс-
лителей. Особенно слабым оказался у него раздел о Гегеле.
Соловьева больше привлекали агностики кантианского толка3.
Для нас представляют интерес общеэстетические работы Со-
ловьева. К их числу относятся статьи «Красота в природе»
(1889), «Общий смысл искусства» (1890). Обе они направлены
против Чернышевского. Но, отмечая некоторые промахи Чер-
нышевского, Соловьев так и не смог объяснить свой тезис, чем
красота в искусстве превосходит красоту в природе. Соловьев
настаивал только на своем особенном мистическом «монизме»,
на божественном синтезе всех ступеней красоты. Как кантианец,
разрывавший форму и сущность явлений, он заявлял, что гене-
тическая связь не дает понимания эстетической сущности явле-
ний; так, каменная баба не помогает уразуметь красоту Венеры
1 Лосев А. Ф. Вл. Соловьев.— М., 1983.— С. 52.
Соловьев В. С. Собр. соч,—СПб., 1913.—Т. IX,—С. 372—373.
3 Подробнее о философии В. С. Соловьева см.: Лосев А. Ф. Владимир
Соловьев и его время.— М., 1990.— С. 195.
373
Милосской...1. Соловьев отвергает гегелевский тезис, поддержан-
ный в свое время Чернышевским, о том, что сущность любого
предмета раскрывается в его истории. История для мистика Со-
ловьева не существует.
Соловьев всегда стремился к априорности своих суждений.
Судьба есть необходимость, и она действует, говорил он, через
нас, через субъект. А с этой точки зрения Пушкин сам виноват
в своей смерти: «Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим соб-
ственным выстрелом в Геккерна»2. Как же доказывает это Со-
ловьев? Он прибегает к следующему трюку. Пушкин был сверх-
человеческим гением, жрецом Аполлона, и он не имел права
быть «ничтожным» в мире и рисковать жизнью. Он был «неволь-
ником чести» и невольником гнева. Судьба привела Пушкина
к богу, к очищению от злобы легчайшим путем. Итак, дуэль,
смерть — это легчайший путь. Николай I в статье Соловьева
назван «истинным христианином» («Судьба Пушкина», 1897).
Такова логика мистицизма в конкретных земных делах...
Таким же искателем собственной гибели выглядит у Соловь-
ева и Лермонтов. Философ отождествляет возвеличивание гор-
дой личности в поэзии Лермонтова с ницшеанской апологией
сверхчеловека. «Дуэль с Мартыновым — фаталистический экспе-
римент». Если Пушкин просто изменял своему гению, погружа-
ясь в суету мирскую, то Лермонтов слишком играл своим гением
и не исполнил роли «пророка сверхчеловечества». Абстрактный
схематизм Соловьева совершенно искажал облик Лермонтова,
сущность его гордости, гуманизма, борьбы с социальным злом.
Подлинные убийцы оказывались оправданными, а поэты сами
в себе несли причины собственной гибели («Лермонтов», 1899).
Наиболее импонировали Соловьеву христианские идеи До-
стоевского. «Три речи в память Достоевского», произнесенные
Соловьевым в 1881—1883 годах,— поистине исповедание веры
философа и его «открытие» Достоевского как апостола 80-х го-
дов. Соловьев много сделал, чтобы объявить Достоевского вла-
стителем дум этой мрачной эпохи. Достоевский любил «род
божий», торжество души над всяким насилием. Это не «жесто-
кий талант». Своей внутренней силой любви и всепрощения пи-
сатель доказывал «действительность бога». Поэтому на Досто-
евского нельзя смотреть как на обыкновенного писателя-рома-
ниста. Это пророк, радевший о том, чтобы искусство было
«реальной силой», преобразующей людей. Соловьев назвал Досто-
евского «ясновидящим предчувственником» истинного христиан-
ства. Достоевский — проповедник полноты христианства как все-
человеческого братства. Русскому народу он предрекал роль
народа-богоносца, хотя, как и Хомяков, не скрывал, что «народ
божий» наделен великими слабостями, невежествен, погряз в
1 См.: Соловьев В. С. Собр. соч.— Т. VI.— С. 37.
2 Т а м ж е — Т. IX.— С. 55.
374
предрассудках, что путь к идеалу еще очень долог. Соловьев
старался представить Достоевского предтечей и воплотителем
некоторых своих мистических построений, и в связи с этим
родословная символизма отодвигалась на десятилетия в глубь
XIX века.
У Фета Соловьеву импонировало то обстоятельство, что в
его сознании поэзия и польза взаимно исключают друг друга. По
мнению Соловьева, это приближает поэта к абсолюту («О лири-
ческой поэзии. По поводу последних стихотворений Фета и По-
лонского», 1890). В поэзии Полонского он усматривал умение
намекнуть на запредельный, действительный источник своей
поэзии. Поэт делает ощутительным «тот удар или толчок, тот
взмах крыльев, который поднимает душу над землею»1. В. Со-
ловьева восхищало, что Тютчев стремился постигнуть «меха-
низм всемирной жизни».
В отличие от Тютчева А. К. Толстой, по мнению Соловьева,
не поэт-созерцатель. Его гармоничность восприятия жизни до-
полняется активным отношением к ней. В Толстом воплотилось
вольное, чисто русское соединение разных стихий. Ярко проявив-
шийся еще в раннем произведении А. К. Толстого «Упырь» фан-
тастический элемент Соловьев толкует в мистическом плане. Он
считает, что вообще фантастическое в поэзии держится на уве-
ренности, что все происходящее в мире зависит от какой-то
другой причинности, более глубокой и всеобъемлющей. Предель-
но ясное исключает фантастическое («Поэзия гр. А. К. Толсто-
го», 1895).
В рецензии на сборник рассказов С. Норманского «Оттуда»
(обратим внимание на заглавие сборника) Соловьев затронул
один из сложных в критике вопросов — о природе и о поэтике
фантастического.
Соловьев пытается набросить на все явления мистический по-
кров. То, что идет «оттуда», пишет он, можно сравнить «с тон-
кой нитью, неуловимо вплетенной во всю ткань жизни и повсю-
ду мелькающей для внимательного взгляда, способного отли-
чить ее в грубом узоре внешней причинности...»2. Отличительный
признак подлинно фантастического заключается в том, что оно
никогда не является, так сказать, в обнаженном виде, никогда не
должно вызывать принудительной веры в мистический смысл
жизненных происшествий. Отдельных, обособленных явлений
фантастического не бывает, но все подробности должны иметь
повседневный характер, и лишь связь целого должна указывать
на иную причинность.
Рекомендации, даваемые Соловьевым художникам, имеют
смысл только в том случае, если мы условимся, что говорим об
умении создавать иллюзию фантастического, а не о том, что на
самом деле якобы есть мистические первопричины явлений.
1 Соловьев В. С. Собр. соч.— Т. VII.— С. 332.
2 Там же.-Т. VIII.— С. 174.
В этом случае советы Соловьева интересны: фантастические яв-
ления в искусстве не должны выступать прямо, а должны под-
готавливаться внутренними и внешними ситуациями, входя в об-
щую связь действий и происшествий в произведении. Самый
способ обрисовки таинственных образов, указывает Соловьев,
должен отличаться особенной чертой неопределенности и неуло-
вимости, чтобы впечатления читателя не подвергались грубому
насилию, а сохраняли за собой свободу того или другого объяс-
нения, и деятельность сверхъестественного не навязывалась бы,
а только давала себя чувствовать.
Соловьев сразу же заметил брюсовские сборники «Русские
символисты» и откликнулся рецензиями на эти «тетрадки»,
имеющие «несомненные достоинства», хотя они «не отягощают
читателя своими размерами и отчасти увеселяют своим содер-
жанием». Соловьев отметил, что сборники выпускаются никому
не известными молодыми людьми, но число их быстро растет:
Брюсов (его же псевдонимы В. Даров, К. Созонтов, 3. Фукс),
А. Бронин (т. е. А. Я. Коц), Ал. Миропольский, Н. Нович, И. Ко-
невской, А. Добролюбов. В принципе Соловьев почувствовал в
символистах своих соратников, но уж очень они были шумными
и задиристыми, а это могло опошлить зарождавшиеся идеи сим-
волизма. Для него Тютчев, Фет, А. Толстой, Полонский были
гораздо более важной опорой, чем эти молодые люди. Соловьев
подшучивал над «поэзией намеков» Брюсова, выбирал в его
стихах банальности: «Сердце звонкое бьется в груди, Милый
друг, приходи, приходи». Что тут неясного, какие тут «наме-
ки»?— спрашивал Соловьев. Он называл символистов «юными
спортсменами». Они, в свою очередь, откликнулись на критиче-
ские отзывы Соловьева. Завязалась небольшая перепалка. Со-
ловьев высмеивал стихи: «Не цветут созвучий розы на куртинах
пустоты...» Пустоту он находил также и в стихах, скоро ставших
знаменитыми: «Всходит месяц обнаженный при лазоревой луне».
Или: «О, закрой свои бледные ноги!» Сюда надо бы прибавить,
иронизировал Соловьев, еще и такие малоудачные стихи, как
«И под кнутом воспоминанья», «Собак секретного желанья»,
«Слишком синее дыханье». Соловьев иронически заключал:
«Быть может, у иного строгого читателя уже давно «залаяла в
сердце собака секретного желанья»,— именно того желанья,
чтобы авторы и переводчики таких стихотворений писали впредь
не только «под кнутом воспоминанья», но и «под воспоминани-
ем кнута...»1.
Соловьев написал несколько стихотворных пародий на поэ-
зию символистов, которые еще больше привлекли внимание пуб-
лики к их творчеству. В. Соловьев, вскоре скончавшийся, стал
для символистов подлинным философом-патроном.
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1941). Мережков-
1 Соловьев В. С. Собр. соч.— Т. VII.— С. 169.
376
ский был первым литературным критиком, который с чрезвычай-
но субъективной, но глубокой точки зрения проанализировал
эволюцию творчества крупнейших русских писателей, доказывая
наступление кризиса старого классического реализма и возрож-
дения неоромантизма, главная из форм которого потом получила
название символизма («О причинах упадка и о новых течениях
современной русской литературы», 1893).
Мрачными были выводы Мережковского относительно совре-
менной критики. За некоторым исключением, критика была «си-
лой противонаучной и противохудожествснной», сводившейся к
публицистике. Здесь он имел в виду революционно-демократиче-
скую критику.
Мережковский отыскивал начала некоего «нового идеализма»
в произведениях Тургенева, Гончарова, Достоевского и Л. Тол-
стого, желая доказать, что сам критический реализм уже давно
вынашивал в себе необходимость поворота к символизму, от «не-
познанного» к «непознаваемому». Вслед за В. Соловьевым он
назвал Лермонтова поэтом «сверхчеловечества». Искусно подби-
рая мотивы и отдельные выражения («матерь божия», «пусты-
ня внемлет богу», «крест несу я без роптанья»), Мережковский
называл Лермонтова еще и пророком наступающего сейчас не-
коего «религиозного народничества»1. Поскольку русскому паро-
ду религиозность сродни, то Лермонтов более народен, чем
Пушкин. Пушкин в жизни весь на людях, но в творчестве один,
а Лермонтов, наоборот, в жизни один, а в творчестве идет к
людям. Мережковский дает понять, что не от «благословенного»
Пушкина, а от «проклятого» Лермонтова мы получили «образок
святой»—завет матери, завет родины. От народа к нам идет
Пушкин, от нас к пароду идет Лермонтов; пусть он не дошел,
но он все-таки шел к нему...
Если сравнить стихотворения «Пророк» того и другого поэ-
та, «Памятник» Пушкина и «Прощай, немытая Россия» Лермон-
това, то сразу видна поверхностность контрастов и характерис-
тик Мережковского. Ему было важно только одно — нацепить
современной России «образок святой», и поэтому Мережковский
«возлюбил» Лермонтова, притянул аргументацию в пользу од-
ного поэта за счет другого.
Существенным вкладом в изучение гоголевского гротеска яв-
ляется работа Д. С. Мережковского «Гоголь и Чорт» (1906).
Известно, что проблема гротеска у Гоголя даже не вставала
перед Белинским: реалист — и все тут. А те, кто позднее гротеск
замечали, отрицали реализм писателя, считали, будто созданные
им образы суть фантомы, мир ирреальный (А. Белый, В. Роза-
нов, С. Соловьев, С. А. Венгеров). Мережковского интересует
своеобразие реализма, созданного писателем религиозным, по-
1 Мережковский Д. С. Поли. собр. соч.— СПб., М., 1912.— Т. X.—
С. 334.
377
следовательно поддерживавшим в себе христианскую убежден-
ность. Исходное положение Мережковский находит в письме Го-
голя Шевыреву в апреле 1847 года: «Как черта выставить дура-
ком?» Это было, по собственному признанию писателя, главной
мыслью всей его жизни, всего его творчества. «Уже с давних пор
я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насме-
ялся вволю человек над чертом». В религиозном понимании
Гоголя,— рассуждает Мережковский,— черт есть мистическая
сущность и реальное существо, в котором сосредоточилось отри-
цание бога, вечное зло. Гоголь как художник при свете смеха
исследует природу этой мистической сущности; как человек
оружием смеха борется с этим реальным существом: смех Го-
голя— борьба человека с чертом»1.
Следовательно, черт вовлекается Мережковским в гоголев-
скую концепцию мира, в его писательскую лабораторию, иссле-
дуется в различных применениях и соотношениях с реальными
образами.
В трех видах черт присутствует у Гоголя. Как народное пове-
рие в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Черт вмешивается
повсюду в людские дела, навсегда посрамлен. Вакула верхом на
черте совершает путешествие в Петербург за черевичками для
своей Оксаны. Но черта Гоголь находил и в самом себе как сла-
бость людскую, и писатель уверял, что он всю жизнь рисовал
самого себя: когда задумывал создать какой-либо образ оли-
цетворения порока, то предварительно старался покопаться в
своей душе. Мережковским уловлена весьма специфическая чер-
та у Гоголя: его болезненная исповедальность. Гоголь совершил
важный переворот в литературе, снял роскошные костюмы с Ме-
фистофеля, с великолепных героев Байрона и показал дьявола
без маски. «Гоголь первый увидел невидимое и самое страшное,
вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не
в силе, а в бессилии, не в безумных крайностях, а в слишком
благоразумной середине, не в остроте и глубине, а в тупости и
плоскости, пошлости всех человеческих чувств и мыслей, не в
самом великом, а в самом малом»2.
Но владычество черта имело и более широкие границы. Бес-
нуется в «Ревизоре» весь уездный город, а в «Мертвых душах»—
губернский. У Гоголя вмешательство черта придает образам
огромную обобщающух силу. Хлестаков—«посредственность»,
середина. Однако всех грех попутал, и Хлестаков уже кажется
значительным лицом, «генералиссимусом»: «Я везде-везде». Вез-
де-везде и Чичиков, и он кажется Наполеоном.
Во всех трех случаях Гоголю удается сделать смешным чер-
та, добившись своей цели. Но в дни горьких размышлений по
поводу неудачи «Переписки с друзьями...», у Гоголя срывается
1 Мережковский Д. С. Гоголь и Чорт.— М., 1906,— С. 2.
2 Т а м ж е.— С. 3.
878
фраза о самом себе, что, кажется, здесь он «размахнулся Хле-
стаковым». Можно сказать, что на сей раз черт победил Гоголя.
Мережковский чрезвычайно своеобразно сопоставляет Не-
красова и Тютчева в брошюре «Две тайны русской поэзии».
Можно ожидать, что здесь все будет в пользу Тютчева, поэта
«чистого искусства», воскрешаемого декадентами, и все в уни-
жение Некрасову, мода на демократизм которого проходит. Но
получается совсем наоборот: вся антитеза выстроена Мережков-
ским в пользу Некрасова. К чести критика, он уважительно от-
носится к Некрасову, ценит его вклад в демократическое дви-
жение, кается, что декаденты попирают великого поэта. Но ни-
когда не поздно отплатить ему добром. Обе «тайны» русской
поэзии исследуются Мережковским под чрезвычайно важным
теперь для него углом зрения: «Тютчев и Некрасов — воплощен-
ное отрицание и утверждение русской революционной общест-
венности— это, в самом деле, два полюса, которыми определя-
ется вся грозовая сила, все магнитные токи русской поэзии, мо-
жет быть, и русской действительности»1.
Некрасов целиком посюсторонен: все его интересы принад-
лежат России, народу. В своих взлетах и падениях он искренен,
поучителен, поэтическое совершенство его творений для Мереж-
ковского — вне сомнения.
Тютчев подвергается своеобразному развенчанию. Некрасов,
конечно,— атеист, как все передовые русские интеллигенты, но
он верит в того бога, который живет в русском мужике. При
всех социальных диссонансах, внешний мир для Некрасова кра-
сив и целесообразен. Для Тютчева — это бездонный мир, в кото-
ром «хаос шевелится». Если даже при мировом катаклизме, в
океанических волнах изобразится божий лик,— это лишь поэти-
ческое допущение. На самом деле, по Тютчеву: «Хаос не только
в начале, но и в конце мира. Мир, космос — только движение от
хаоса к хаосу, кто поверит, что богом такой создан мир, а не
дьяволом»2. Тютчев всегда чувствует себя на грани «двойного
бытия», но больше он склоняется к тому миру, где «кругом
разлитое таинственное зло». Он — скептик по принципу. Для
него природа—«сфинкс», «загадки нет и не было у ней». С од-
ной стороны, он в «Цицероне» приветствует «минуты роковые»
человеческой истории и участие в них. Но это — только миг.
Главный девиз тютчевской жизни:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои...
Лишь жить в самом себе умей.
Некрасов знал, насколько «убогая», «бессильная матушка-
Русь», но он был полон веры, что рабство не вечно, народ разог-
1 Мережковский Д. С. Две тайны русской поэзии.— Птгр., 1915.—
С. 7.
2 Т а м ж е.— С. 94.
379
нется. Тютчев также обращается ко всей России, но вековеч-
ное рабство в стране его не смущает. Это как бы неотъемлемый
удел народа, и даже пророк должен рядиться в лохмотья:
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
Мережковский не может простить Тютчеву эти рабские вер-
вии, ложное избранничество рабской России: «Христос благо-
словил Россию, а все остальные народы проклял».
Тютчев о себе говорит:
Душа моя — элизиум теней...
Что общего меж жизнью и тобою?
Религия — значит общение, но Тютчев не ищет общения с
людьми: «Мысль изреченная есть ложь». Только зло на зло
откликается: «Пир жизни — пир во время чумы», и «Кубок жиз-
ни отравлен»1.
Дно вселенной для Тютчева — пусто: там «хаос». Пантеизм
обезличивает бога. «Человек лишь снится сам себе». Он не хочет
бессмертия. Он жаждет смерти. У него нет преклонения перед
крестом. Мережковский пишет: «Он заглянул туда, куда почти ни-
кто не заглядывал. И вот все-таки решил: там ничего нет — ни
бога, ни дьявола»2. Нет и борьбы между ними. Но двоемирие
склоняет чашу весов в пользу зла: «Свобода — бред,— но ведь
это и есть основная посылка Тютчева, из которой он делает все
свои выводы. Дух свободы, дух революции — антихристов дух»3.
Чужаком, космополитом чувствует себя Тютчев в родном
Овстуге, на Брянщине. Душа его стремится в иные края. Отре-
кается он от родного бога, ибо так ничтожна жизнь кругом, ни-
чтожна политика, жизнь народов. Бессмыслена сама жизнь, упо-
вание на промысел:
И чувства пет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе!
Это не то же самое, что у Некрасова:
Сейте разумное, доброе, вечное!
«У Некрасова,— подытоживает Мережковский,— религиозное
народничество революционное, во имя России будущей; у Тют-
чева — консервативное, во имя России прошлой».
1 Мережковский Д. С. Две тайны..,— С. 85.
2 Т а м ж е.— С. 96.
3 Т а м ж е.— С. 106.
380
Конечно, анализ явлений у Мережковского выстроен с зара-
нее заданной целью. Материал он отбирает тенденциозно, при-
страстен в суждениях. И все же ход мыслей его очень интересен.
Сопоставляя творчество и религиозные искания Толстого и
Достоевского, Мережковский отыскивал у них мотивы своего
собственного мистического учения. Он назвал Толстого «тайно-
видцем плоти», а Достоевского «тайновидцем духа». По Мереж-
ковскому, у них общий корень: оба писателя больше, чем писа-
тели, они строители концепции жизни и общего совершенство-
вания человеческого рода.
Для Толстого существует только вечная противоположность
жизни и смерти, а для Достоевского — только их вечное един-
ство. У Толстого перевес плоти над духом, у Достоевского пере-
вес духа над плотью. Толстой в художественном анализе дви-
жется от внешнего к внутреннему, от телесного к духовному,
давая читателю массу подробностей. Достоевский идет от внут-
реннего к внешнему. У Толстого мы слышим потому, что видим,
у Достоевского мы видим потому, что слышим. Герои у него не
умствуют, как у Толстого, а действуют.
Все это не так. Не только у Достоевского, но и у Толстого
мы «видим потому, что слышим». И у Андрея Болконского, Пье-
ра Безухова есть «страсти ума», их отвлеченные мысли и искания
истины коренятся в глубоком их существе. И у Толстого дейст-
вие нередко приобретает драматический и трагический характер.
Мережковский не только абсолютизирует различие между писа-
телями, но и допускает натяжки ради предложенной им схемы.
Нельзя, например, согласиться с тем, что герои у Толстого толь-
ко полувыпуклые горельефы и никогда не объемны, вследствие
чего мы к ним не можем подойти «с другой стороны». Нельзя
принять и замечания, будто у Толстого нет характеров, а в
романах мало воздуха, язык один и тот же, т. е. язык самого
автора. Скорее именно у Достоевского везде язык самого авто-
ра, и скорее к Достоевскому может быть отнесен упрек в отсут-
ствии воздуха в его «идеологических» романах.
Высоко ценя религиозные искания обоих писателей, Мереж-
ковский втайне предпочитает Достоевского, возвеличивавшего
дух над плотью, обсуждавшего идею человекобога. Кириллов в
«Бесах» хочет физически переродиться и «дверь открыть» в цар-
ство человекобога.
Все эти наблюдения, по мысли Мережковского, должны бы-
ли вести к одной заветной цели: нужно новое религиозное со-
знание, призванное спасти мир. Достоевский и Толстой — любо-
пытные варианты начавшегося еще в XIX веке искания новой
религии.
Под иным углом зрения анализировал Мережковский двух
непохожих друг на друга современных писателей — Чехова и
Горького. Мережковский обвинял их в том, что они расшатывали
все верования, объявляли: человек — вот правда! Они хотели-де
381
показать, что человек и без бога есть бог, а показали на самом
деле, что он — зверь и даже хуже зверя. Таковы у Чрхова интел-
лигент и у Горького анархист-босяк. Но Чехов и Горький, са-
ми того не желая, учили жаждать пришествия царства божь-
его...
Обычно считается, что в известной статье «Грядущий хам»
Мережковский нападал на приближавшуюся социалистическую
революцию. Это в общем верно. Но мысль Мережковского была
более сложной и путаной, под хамом он подразумевал также са-
модержавие, церковную реакцию, черную сотню, торжествующее
мещанство, хулиганство. Но как спасти основы самодержавного
строя? В поисках ответа на этот вопрос Мережковский превра-
щался к контрреволюционера и охранителя. Он переходил к
прямой клевете, заявляя, что духовные идеалы пролетариата
ничтожны и сводятся к одной только сытости. Мережковского
приводил в ярость возможный социалистический переворот в
России. Он хотел обратить «милостивый» взор властей на судьбы
русской буржуазной интеллигенции, которую они еще не научи-
лись ценить. Мы «между двумя гнетами»,— писал Мережков-
ский,— самодержавием и темной народной стихией». Интелли-
генция— как раз та сила, которая сможет возродить новую ре-
лигию, способную принести спасение.
Это необходимо сделать как можно скорее, так как «хама
грядущего победит лишь грядущий Христос».
Мы видим, какие софизмы нагромождала либеральная бур-
жуазная критика, чтобы, припугнув самодержавие грядущей гро-
зой, избежать революционной катастрофы.
Новое наше перестроечное мышление позволяет, однако, от-
казаться от столь суровых приговоров по адресу Мережковско-
го и других декадентов и открыть в их суждениях много рацио-
нального и пригодного нам сейчас.
Мы должны внести важные поправки в традиционные свои
«приговоры». Тот же Мережковский видел гнилость самодержа-
вия, жаждал перемен, но не хотел гражданской войны, и для
него переживаемая эпоха оказывалась с «открытым финалом».
Три смысла он вкладывал в понятие «Грядущий Хам»: самодер-
жавный террор, попрание всех человеческих свобод, новейшее
буржуазное хамство, купля-продажа благопристойности в се-
мье, в общественном поведении, подкупы «черной сотни», анти-
семитизм, погромы, и, наконец, то, что несет с собой революци-
онная стихия, ее анархизм, угроза цивилизации вообще. Мы те-
перь знаем, какие нравственные потери мы понесли, забыв о
человеке, отдавая приоритет общественной пользе, коллекти-
вистским началам. Апология человека, его космическая всесто-
ронность, плодотворность волевых начал, право на свое виде-
ние мира — сильнейшая сторона русских модернистов. «Отлича-
ясь мощным взлетом творчества во всех видах искусства, 1890-е
годы в России породили ряд принципиальных художественных
382
явлений, которые стали определяющими для культуры уже но-
вого XX столетия, получили общий мировой резонанс»1.
Вернемся хотя бы к упоминавшейся уже работе Д. С. Мереж-
ковского «О причинах упадка и о новых течениях современной
русской литературы». Мережковский не просто хотел очернить
русскую литературу, погрязшую в раздорах, а найти связующие
нити между различными ее направлениями. А ведь задача кон-
солидации стоит перед нами и теперь. Поставлен непростой
вопрос. Или — Лермонтов, «поэт сверхчеловечества»—не оче-
редной зигзаг в религиозных исканиях Мережковского, интерес-
ный только для него самого. «Сверхчеловечность» Лермонто-
ва— апофеоз его непреклонной гордости, демонического начала.
Лермонтов никогда не упоминает Христа. Трон поэта рядом с
троном бога. Все это адекватно общепринятой формуле о бого-
борчестве, непогрешимой честности русской литературы, заботе
о мироустройстве в целом, о судьбе народа, человечества. Или
работа «Гоголь и Чорт» (1906) — попытка поставить вопрос о
гротеске у Гоголя, мимо которого прошел даже Белинский.
Черт и Вакула — это гротеск в народе. Черт в самом Гоголе —
странное признание, ведущее в лабораторию писателя, и, нако-
нец, черт как всеобщая пошлость, способная вылепить Хлестако-
ва-генералиссимуса, Чичикова-Наполеона. Все эти вопросы, над
которыми думать и думать нашей критике. Для Мережковского
Гоголь не мастер рисовать фантомы, а реалист, но реализму ко-
торого свойствен гротеск. В трактовке этой темы Мережковский
куда ближе к России и национальным корням, чем поклонники
«карнавальных» римских истоков комизма и гротеска Гоголя,
которых развелось много среди советских литературоведов.
Андрей Белый (1880—1934). Теоретиками, старавшимися в
области критики связать все идеи символизма в единое целое,
были А. Белый и Вяч. Иванов. Под псевдонимом Андрей Белый
писал Борис Николаевич Бугаев, сын профессора-математика
Московского университета.
А. Белый упорно пытался сформулировать эстетическое кре-
до символизма и ответить на вопрос: что же такое символизм?
Однако, предлагая множество вариантов ответа, он все же по-
терпел полную неудачу. Необходимо различать то, что говорил
А. Белый в самый разгар своей деятельности в «Весах» (1904—
1909), в сборниках программных статей «Символизм» (1910),
«Луг зеленый» (1910), «Арабески» (1911), и то, что он писал
позднее в мемуарах «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало
века. Воспоминания» (1933), «Между двух революций» (1934).
В мемуарах он пытался оправдать и в розовом свете предста-
вить идеалистические блуждания своего поколения, показать
гражданский идеал символизма. Но, с другой стороны, дистан-
1 Сборник статей. Типология русского реализма второй половины XIX ве-
ка.— М., 1990.— С. 4.
383
ция времени помогла А. Белому более четко осознать смысл
своей прежней деятельности и ко многому отнестись критически.
Критик засвидетельствовал, что в начале века произошел
заметный «сворот оси» в читательских вкусах и настроениях.
До 1900 года в Москве совсем не интересовались творчеством
Ибсена, Стриндберга, Уитмена, Гамсуна, Метерлинка. Пребывал
в неизвестности Верхарн, Чехов считался «сомнительным», Горь-
кий—«пределом понимания». А к 1910 году читали преимущест-
венно этих писателей, да еще Пшибышевского, д’Аннунцио,
Гофмансталя, Бодлера, Верлена, Брюсова, Блока, Бальмонта,
Сологуба. Выявился подчеркнутый интерес к поэзии Пушкина,
Тютчева, Баратынского. Новой жизнью зажили даже поэты ста-
рой Франции — Ронсар, Малерб, Ракан. В их произведениях
выискивали забытые ритмы и рифмы. Изучали эксперименты в
области формы, словотворчества. Но исчезли с полок книги
Мачтета, Потапенко, Шеллера-Михайлова, Альбова, Станюко-
вича. Не «проливали уже слез» над Элизой Ожешко и не ув-
лекались «характером» Вернера. Был «сломан хребет» истин
Пыпина, Скабичевского; «Андреев, Куприн, Горький и Сологуб
стали одно время четверкой наиболее знаменитых писателей»1.
Под крылатым словом «символизм», как уверял А. Белый,
объединились отрицатели «быта», «пошлости». И хотя сами эти
поэты были продуктом разложения буржуазии в период 1900—
1910 годов, «обстании» (специальное словцо, изобретенное
А. Белым и обозначавшее влияние на людей среды, «обстанов-
ки»), все же символизм обнаружил твердую устойчивость и во-
лю. Вместо того чтобы «доразложиться», он стал «слагаться».
Эту жизнестойкость символизма А. Белый всячески подчеркивал
и старался отделить символизм от декаданса. Ему казалось, что
символизм нес в себе протестующее, активное начало.
Символизм был одной из форм декаданса, его «слагание»
было процессом «доразложения» русской либеральной буржуа-
зии, боявшейся революции и пролетариата. У символистов име-
лись некоторые побочные достижения: они упрекали старшее по-
коление за то, что, увлекшись позитивизмом, альтруизмом, оно
«не учло» Фета, Тютчева, Баратынского: «Мы их открывали в
пику отцам... некогда мы готовы были согласиться на что угод-
но: на Ницше, на Уайльда, даже... на Якова Беме, только бы нас
освободили от Скабичевского, Кареева и Алексея Веселовско-
го...»2. Борьба с рутиной, застарелыми штампами, схемами мыш-
ления была необходима. Скабичевский, Алексей Веселовский
действительно заслуживали критики и иронии. Но символисты
в конечном счете жертвовали большим, чем приобретали.
Формализм был результатом всех эстетических представле-
ний символистов. Даже в мемуарах А. Белый твердил не раз:
1 Белый Андрей. Начало века.— М.; Л., 1933.— С. 446.
2 Белый Андрей. На рубеже двух столетий.— М.; Л., 1930.— С. 5—6.
384
в художественных произведениях «что», или смысловая тенден-
ция, значит не более одной десятой полного смысла; девять
десятых лежат в «как», т. е. в выполнении. Но и «что» А. Белый
понимал крайне узко, сводил его к фабуле, над которой ирони-
зировал. Ему было всегда досадно, что смысл произведения
был «обидно ясен». Это в его глазах было равнозначно баналь-
ности, «все дело в музыке слов». Он называл символистов «арго-
навтами», которые отправились за «золотым руном» незатре-
панных слов.
В одной из самых важных статей—«Проблема культуры»—
А. Белый соединил важнейшие постулаты и выводы своей тео-
рии: символизм подчеркивает примат творчества над познанием,
возможность в художественном творчестве преображать образы
действительности, в этом смысле символизм повышает значение
формы художественных произведений, символизм придает смысл
изучению стиля, ритма, словесной инструментовки памятников
поэзии и литературы, признает принципиальное значение разра-
ботки вопросов техники в музыке и живописи. Символ есть об-
раз, взятый из природы и преобразованный творчеством; символ
есть образ, соединяющий в себе переживания художника и чер-
ты, взятые из природы. В этом смысле всякое произведение ис-
кусства, по существу, символично 1.
Выделим здесь узловые пункты и попытаемся осмыслить их,
опираясь также и на другие высказывания А. Белого.
А. Белый исходит из кантианского разграничения «обманчи-
вой видимости» явлений и их «сущности». Творчество предше-
ствует познанию, так как сущность «магии слов» заключается в
том, что, когда я называю предмет, я утверждаю его существо-
вание, совокупность слов «дает образ»2. Говоря об отличии об-
раза действительности от образа искусства, А. Белый повторял
положения философии Канта. Образ действительности — это
только «вопрос, заданный моему познанию», а образ искусства
есть полная живая жизнь, так как он — всецело создание моего
разума.
А. Белый ввел категорию «переживания», еще больше рас-
ширил сферу бесконтрольной субъективности поэта. Переход от
представления к переживанию «освобождает представляемые об-
разы от законов необходимости, и они свободно сочетаются в
новые образы, в новые группы»3.
В своих мемуарах, когда А. Белый уже знал судьбу симво-
лизма, он все еще пытался прикрыть заурядный эклектизм и
формализм своей системы высокими терминами «синтез», «диа-
лектика», «метод». Символизм означал осуществленный до кон-
ца синтез; в символизации совершался якобы процесс «станов-
* См.: Белый Андрей. Символизм.— М., 1910.— С, 8.
2 Там же.— С. 433, 451.
3 Белый Андрей. Луг зеленый.— М., 1910.— С. 21 и др.
25 Заказ № 1367
385
Ленин новых качеств» (искусства.— В. /С); в словесной изобра-
зительности—«диалектика течения новых словесных значений».
Он заклинал: «Не выводите нас из крупной промышленности»,
«не смешивайте с декаденством»1.
Символисты и в области формы оставались идеалистами-схе-
матиками. В эстетике Гегеля и Белинского разделение поэзии
на роды и виды определялось ее содержанием, а Белый хотел
ввести новый принцип классификации на основе «процессов твор-
чества», исходя из субъективных форм мышления. Истинные
процессы творчества, писал он, должны быть освобождены от
догматики любой школы, течения, направления, политики2. Все
это открывало ворота чистому формализму. Эстетика будущего,
провозглашал А. Белый, одновременно и свободна, и точна. Она
отправляется от творческого «я» поэта и кладет в основу поэ-
тики «эксперимент».
Так же как и у других символистов, у А. Белого была опре-
деленная тенденциозность в осмыслении истории русской лите-
ратуры, которая прикрывалась фразами о независимости искус-
ства. Его оценки во многом совпадали с оценками В. Соловьева
и Мережковского, но кое в чем и отличались от них.
В статьях «Символизм и современное русское искусство»,
«Настоящее и будущее русской литературы»3 А. Белый пытался
показать расстановку сил в текущей русской литературе.
Наибольшими симпатиями у него пользовалась, конечно, мос-
ковская группа: Брюсов, Эллис, С. Соловьев, Философов («ста-
билизировавшаяся пятерка» «Весов», если еще сюда прибавить
самого А. Белого). Он не скупился на похвалы своей группе и
своей теории. Валерия Брюсова он называл «первым из совре-
менных русских поэтов», произведшим во взглядах на поэзию
«глубокий переворот». А. Белый напоминает, что родоначальни-
ком русского символизма был именно Брюсов.
Около Мережковского, а затем Вяч. Иванова в Петербурге
объединились другие символисты: Г. Чулков, В. Розанов, Бердя-
ев, С. Булгаков, примыкал к ним А. Блок. Их центром были
журналы «Новый путь», «Золотое руно», «Аполлон» и альманах
«Шиповник». А. Белый критиковал Иванова за чрезмерное ув-
лечение иератическим, зашифрованным языком, мистериальной
драматургией, строившейся на основе его особого учения о не-
обходимости возрождения древнегреческого культа Диониса.
Тем не менее А. Белый ценил в Иванове энергичного пропаган-
диста символизма.
Если Брюсова А. Белый возводил к Пушкину и Баратынско-
му, то Блока — к ранним русским романтикам: Жуковскому и
«любомудрам», Мережковского, Андреева — к Достоевскому, Со-
1 Белый Андрей. На рубеже двух столетий.— С. 197.
2 См.: Белы й Андрей. Луг зеленый.— С. 34.
8 Т а м же.
386
логуба— к Гоголю. Многих писателей и философов из декаден-
тов— Б. Зайцева, Л. Шестова, Ремизова, не подходивших под
символизм, А. Белый условно называл импрессионистами.
Особым вопросом, на котором объективно могли выявиться
вкусы и ориентация символистов, было их отношение к группе
писателей—«знаньевцев», возглавлявшейся М. Горьким. А. Бе-
лый не раз провозглашал, что «истинный символизм совпадет
с истинным реализмом»1. Разве символисты отрицают, спраши-
вал он, верность действительности, точное изображение быта,
тенденциозность? Мы принимаем Некрасова, Л. Толстого, Го-
голя. «И там, где Горький — художник, мы ценим Горького».
А. Белый считал нужным протестовать только против того, что
задача литературы заключается в фотографировании быта. Но
ведь реалисты такой задачи перед собой и не ставили.
Кто же из реалистов ратовал за фотографирование дей-
ствительности? Если символисты признавали реализм, то всегда
с условием, что за бытом и тенденциями должны быть постав-
лены символы как знаки особой тайной их сущности. Но, касаясь
социальных аспектов жизни и искусства, символисты всегда
терпели крушение. Здесь А. Белый договаривал все до конца и
в политическом смысле полностью обнаруживал свою капиту-
ляцию перед существующим строем: «...мы не согласны, что
искусство выражает классовые противоречия», нельзя сводить
задачи искусства к иллюстрации «социологических трактатов».
«Трактаты», конечно, придуманы Белым, на самом же деле
он вообще отрицал связь искусства с классовой борьбой.
В оценках классиков у А. Белого тот же прием приспособле-
ния их к символизму, как мы это наблюдали у В. Соловьева и
Мережковского.
В воспоминаниях «На рубеже двух столетий» А. Белый пи-
сал: «Гоголь — первая моя любовь среди русских прозаиков; он,
как громом, поразил меня яркостью метафоры и интонацией
фразы». В конце жизни А. Белый написал весьма субъективное
и формалистское исследование «Мастерство Гоголя» (1934).
Еще в статье «Настоящее и будущее русской литературы» А. Бе-
лый, уклоняясь от анализа социальной проблематики творчества
Гоголя, спрашивал: «Что за образы? из каких невозможностей
они созданы?»—и отвечал, что Гоголь — это «какой-то новый
мир». А. Белый считал, что Гоголь с детства приучил его к не-
коей символике, многозначности слов, которая потом была про-
возглашена как одно из программных положений символизма.
Также по-своему извращал А. Белый и Чехова, трезвого реа-
листа, которого Мережковский обходил как неколебимую препо-
ну для символизма. А. Белому импонировал «непартийный» Че-
хов, писатель «без школы». Интерес Чехова к обыденному —
всего лишь «методологический прием», благодаря которому
1 См.: Белый Андрей. Луг зеленый.— С. 125.
25*
387
образы получают четкость рисунка, зато повседневность стано-
вится «колыхающейся декорацией, а действующие лица — си-
луэтами, намалеванными на полотне». Таким образом, точный,
чрезвычайно конкретный реализм Чехова превращался только
в средство намекнуть на символы. Чехов якобы дает почувство-
вать «сквозной», прозрачный характер своих образов. Чехов
расчленил ткань времени, реальности на мелкие элементы и
мгновения, и поэтому здесь реализм и символизм как бы сопри-
касаются. Чехов не символист, но он честно послужил тому, что-
бы «творчество его стало подножием русского символизма».
«В мелочах Чехова есть какой-то тайный шифр», через пошлость
виден иной, лучший мир.
Поражает резкий контраст между суждениями о Достоев-
ском А. Белого, В. Соловьева и Мережковского. По логике тео-
ретических рассуждений А. Белого, он, казалось, должен был
включить Достоевского в родословную символизма. Однако в
своих суждениях о Достоевском А. Белый оказался ближе к де-
мократу Михайловскому и даже к М. Горькому, чем к симво-
листам.
А. Белый считал, что Достоевский—«большой художник», но
опасался, «как бы культ Достоевского не привел нас в пусто-
ту!». А. Белый указывал, что слог у Достоевского плохой, а глу-
бина «часто фальшива», «поддельная бездна». В его произведе-
ниях «туман неясности создавался на почве путаницы методов
отношения к действительности». А. Белый поясняет: «Для того,
чтобы соединить ницшеанский бунт во имя долга с карамазов-
ским бытием — соединить в формах православия и официальной
народности — чтобы решиться на такое безвкусие, воистину на-
до быть великим путаником». Окончательно запутали понима-
ние творчества Достоевского, говорит А. Белый, такие критики,
как Мережковский, В. Розанов. «Достоевский был политикан-
ствующим мистиком», а теперь «хулиганство и черносотенность
окружили имя его ореолом мрачным и жестким»1. У него не
было своего слуха, он вечно взрывался, «детонировал», отклика-
ясь на сложившуюся в обществе ситуацию.
Но А. Белый хотел только исправить отдельные недостатки
Достоевского. Он видел два пути спасения русской литературы
от того «тленья и смерти», которые заложены в нее «инквизи-
торской рукой» Достоевского: надо идти назад, к Пушкину и Го-
голю— этим светлым первоисточникам русской литературы; на-
до идти вперед, к Ницше, т. е. отдаться всецело идее сверхчело-
века без той профанации, которую допустил Достоевский, соеди-
нив ее с карамазовщиной. Критика Достоевского у А. Белого
оказалась только прелюдией к извращенному выводу. Из книги
«Между двух революций» мы узнаем, что А. Белый решил на-
пасть на Достоевского по чисто групповым соображениям, что-
1 Белый Андрей. Арабески.— М., 1911.— С. 92, 93.
388
бы уязвить Мережковского, В. Розанова, Гиппиус, Волынского,
проповедовавших «достоевщину»1. Этим умаляется принципи-
альность выпадов А. Белого против мистических сторон Досто-
евского. Но вклад в борьбу с «достоевщиной» А. Белый все же
внес.
Вячеслав Иванович Иванов (1866—1949). Иванов разраба-
тывал литературную теорию символизма в трех направлениях:
установление связей между понятиями «реальность», «символ»,
«миф», «религия»; выяснение понятия «соборного» начала в ис-
кусстве как предпосылки неохристианства и разработка тео-
рии «дионисийского начала» в искусстве вообще и в драме в
особенности как одной из главных форм «соборности».
Иванов устанавливал такие взаимозависимые понятия: ре-
альное явление, символ, миф, религия. «Символика — система
символов; символизм — искусство, основанное на символах. Оно
вполне утверждает свой принцип, когда разоблачает сознанию
вещи как символы, а символы как мифы»2.
Заложенная в приведенной цитате мысль проста, даже три-
виальна. Проделана совсем нехитрая операция: символ и миф —
это лишь по-другому названная обыкновенная обработка жиз-
ненных впечатлений в сознании. Однако Иванову важно ска-
зать, что вещи суть символы, а не просто вещи. Ему удобно от
символа перейти к мифу, а от мифа — к религиозности искусст-
ва; от древнегреческого мифа о Дионисе — к неохристианской
религии, от одной «соборности»—к другой, от низшей — к выс-
шей.
Религиозные цели искусства не выглядят у Иванова, разуме-
ется, как простое прислужничество церкви. Тут ему всего важ-
нее идея «всенародности» мифа, религии. Иванов много раз под-
черкивал очень важную для него идею: поэты творят не от себя
и не для себя, они не индивидуалисты (отсюда отрицание «чис-
того искусства» и даже связей символизма с романтизмом), не
рупоры «апокалипсической эсхатологии» (здесь расхождения с
В. Соловьевым), а жрецы созидательного труда, «соборного»
приобщения народа к «цельному» приятию Христа, или «изъяв-
лению» субстанциональных народных начал.
Но стоило Иванову попытаться сформулировать ответ на во-
прос, в чем же специфика особых национальных черт русского
народа, как он повторил банальности славянофилов и почвенни-
ков: русскому народу якобы искони свойственны пафос «совле-
чения», т. е. обнажения правды вещей, срывания всех личин и
риз, ясность и последовательность мысли, разгульно-широкая
душа, мятеж против всего искусственного. Русскому народу
предназначено быть «богоносцем». На чем основываются подоб-
ные выводы, Иванов не показывает. Вся эта риторика выдвига-
1 Белый Андрей. Между двух революций,—Л., 1934.— С. 207.
2 Иванов Вяч. По звездам.— СПб., 1909.— С. 248.
389
лась в пику «обветшалым словам» революционной и народниче-
ской демократии. Русские революционные демократы в свое вре-
мя уже высмеяли такого рода абстрактности и разоблачили
их реакционный смысл. Поэтому напрасно Иванов «оживлял»
эти слова и считал, что освободительное движение прервалось,
не принеся никаких плодов1.
В статье «О неприятии мира» Иванов писал: «Течение симво-
лизма естественно окрашивается в цвета мистического анархиз-
ма, будучи пронизано лучом соборности»2. В свете этого луча
Иванов тенденциозно толковал пушкинское стихотворение «Поэт
и чернь». Трагичен себя «не опознавший гений», которому нечего
дать толпе. Вывод Иванова такой: истинный символизм дол-
жен примирить «поэта» и «чернь» в большом всенародном ис-
кусстве.
По-своему понимал Иванов и смысл «Цыган» Пушкина. Ста-
рик цыган — это символ хора, соборности, народа, изрекающий
суд над эгоистом Алеко. Иванов вступил в спор с Достоевским,
который слишком узко истолковал тезис «смирись, гордый чело-
век». Это не простая мудрость табора, и смирение не должно
означать: «иди пахать русскую почву». По Иванову, смысл поэ-
мы космический: усмотри в себе эгоизм вообще, и смысл побега
должен быть не в побеге от людей, а от самого себя, от своих
слабостей, несовершенств.
Новые и новые поиски делал Иванов в интересах «соборно-
сти». Он нашел ее в романах-референдумах Достоевского, в ко-
торых спорящие герои «соборно» обсуждают коренные идеи бы-
тия, хотя и смущала Иванова чрезмерная дисгармоничность
этих споров.
Наконец, вслед за Ф. Ницше Иванов пытался дисгармонич-
ность современной жизни осмыслить в категориях древнеэллин-
ского мифа о Дионисе, страдающем и воскресающем боге, празд-
нества в честь которого сопровождались безудержными оргиями.
Полное аномалий анархическое дионисийское начало противо-
стояло в сознании эллинов гармоничному и стройному началу
Аполлона. Подробно изучив и описав празднества в честь Дио-
ниса, он уподобил их весеннему празднику воскресения Христо-
ва, а отсюда сделал переход к мистицизму: так, мистическое
начало в развитии человеческого миропостижения является тем
необходимее, живучее и истиннее, чем глубже корни его погру-
жаются в первозданный хаос и древнюю ночь.
Но этот благословляемый Ивановым «хаос», в сущности, про-
тиворечил «соборности», той новой стройности и «хоровой» спе-
тости человечества, которые он перед тем проповедовал.
1 Иванов Вяч. По звездам.— СПб., 1909.
2 t а м же,— С. 121.
390
ГЛАВА 3
Преодоление символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов (1873—1924). С Брюсовым про-
изошло то, что часто бывает с основоположниками каких-либо
направлений и систем: они первыми перерастают их рамки и
затем сами отрицают эти направления и системы.
В предисловиях к сборникам «Русские символисты», в «Ин-
тервью о символизме», реферате «К истории символизма» (1897),
в работах «О искусстве» (1899), «Ключи тайн» (1904) Брюсов
сформулировал цели символизма.
Первоначально он провозглашал лишь импрессионистическую
свободу творчества, формалистическую программу обновления
рифм, ритмов, выразительно-изобразительных средств языка, пе-
редачи настроений. Брюсов ставил цель «загипнотизировать» чи-
тателя, вызвать известное настроение, путем намеков «коснуться
миров иных». Но дело было не в самих мирах, а в раскрытии
«души художника», неповторимости ее содержания. Когда Брю-
сов в статье под многообещающим заглавием «Ключи тайн» пи-
сал, что «искусство есть постижение мира иными, нерассудочны-
ми путями», «искусство — то, что в других областях мы называ-
ем откровением» и что создания искусства — это приотворенные
двери в «вечность», то все это была обычная романтическая
риторика.
Брюсов хотел зачаровать необычностью открываемого им ми-
ра творчества, характеризующегося необыкновенно строгим тре-
бованием к стиху, инструментализации поэтической речи.
Но в то же время его угнетали примитивизм и пошлость ок-
ружавшей жизни. В воспоминаниях «Из моей жизни» (опубл,
в 1927 г.) Брюсов ярко обрисовал быт, который его засасывал.
Подлинным спасением для него было знакомство с поэзией Вер-
лена, Малларме. В письме к М. Горькому в 1901 году Брюсов
признавался, что движет его исканиями ненависть ко «всему
строю нашей жизни»: «Его я ненавижу, ненавижу, презираю.
Лучшие мои мечты о днях, когда все это будет сокрушено».
Ратуя за свободу творчества, Брюсов видел опасность под-
чинения искусства «посторонним» целям. Он восклицал: «Не-
ужели... его будут заставлять служить религии! Дайте же ему,
наконец, свободу!» С остроумием и ядовитостью Брюсов рассуж-
дал: «Быть теургом, разумеется, дело очень и очень недурное.
Но почему же из этого следует, что быть поэтом—дело зазор-
ное?» («О «речи рабской» в защиту поэзии»)1. В проповеди не-
зависимости, свободы искусства Брюсов заходил очень далеко.
Однако в мировоззрении Брюсова много важных оттенков,
которые были залогом выхода его к правильному пониманию
современных общественных задач искусства. Например, он про-
1 Аполлон.— 1910.— № 9.— С. 32.
391
являл исключительный интерес к Пушкину, Некрасову и вообще
к классике, ее содержанию и форме, боролся за реальность кри-
териев в оценке любого писателя.
Резко расходился Брюсов с Мережковским, Бальмонтом в
оценке М. Горького. Он защищал Горького от их нападок.
Если просмотреть сборник очерков «Далекие и близкие»
(1912), в котором Брюсов зарисовал портреты многих русских
поэтов, то мы увидим, что Брюсов не с таким нажимом, как
В. Соловьев, Мережковский, А. Белый, выделяет символистиче-
ские мотивы у Тютчева, Фета, Случевского, Минского. Пантеизм,
великое опьянение мгновением он трактует в плане простой кон-
статации особенностей их мастерства. Он с одинаковым внима-
нием относится и к импрессионистам Фофанову, Анненскому, и к
реалистам Бунину, А. Жемчужникову, и к религиозно-мистиче-
ски настроенному В. Соловьеву. У Мережковского он отмечал
«жажду новой веры», у Ф. Сологуба—«острый взгляд» и «пуш-
кинскую простоту», у Вяч. Иванова и А. Белого как теорети-
ков— культ формы, разработку теории стиха. У Блока — не вос-
певание некоей символистической «таинственности», а «недоска-
занность», искусство «не договаривать», придававшее особую
прелесть его «Стихам о Прекрасной Даме». Брюсов особо под-
черкивал, что в стихах Блока становится все меньше «блоков-
щины». В 1917 году в статье о Блоке, написанной для «Истории
русской литературы XX века» под редакцией С. А. Венгерова,
Брюсов уже писал: «Блок совершил знаменательную эволюцию
от «мистики к реализму»1.
Обозревая стихи 1911 года, Брюсов с сожалением говорил
«о поразительной, какой-то роковой оторванности всей совре-
менной молодой поэзии от жизни» («Новые сборники стихов»).
Сделал Брюсов и для себя важнейшие выводы после опыта
мировой войны и революции. Он с головой окунулся в работу.
Сотрудничал в студии при литературном отделе Наркомпроса,
студии при Дворце искусств, Высшем литературно-художест-
венном институте. Он преподавал теорию стиха, учил поэтиче-
скому ремеслу молодых пролетарских поэтов, старался пере-
дать свою огромную культуру, знания новой аудитории.
Брюсов правильно судил о том, какой должна быть новая,
пролетарская культура, как надо относиться к классическому
наследию. Он решительно выступил против левацких перегибов
Пролеткульта. В этом отношении замечательна его статья «Про-
летарская поэзия» (1920). Брюсов отстаивал правильные пози-
ции: нужна перестройка старой культуры на новый лад, а не
особая «пролетарская культура», оторванная от вековых тради-
ций. Строительство новой культуры — это долгий, постепенный,
но в существе своем революционный процесс. Старые кадры ху-
дожников могут во многом помочь в этом деле.
'Брюсов В. Я. Избр. соч.— М., 1955,— Т. 2.— С. 282.
392
Чрезвычайно содержательна статья Брюсова «Смысл совре-
менной поэзии» (1920), в которой он сводил счеты со своей
прежней «символистской» совестью, хотя и пытался несколько
выгородить символизм и преувеличить его историческую роль.
Исходное философское положение у Брюсова о соотношении
литературных школ и творческих принципов следует признать
спорным. Брюсов считал, что литературное развитие в XIX и на-
чале XX века прошло три стадии и как бы отчасти вернулось в
исходное положение: был романтизм, затем реализм, а прибли-
зительно с 80-х годов наступила эра неоромантизма, т. е. симво-
лизма. О судьбе критического реализма Брюсов судил слишком
решительно, умаляя значение Толстого, Чехова, Бунина, Купри-
на, «знаньевцев» и М. Горького.
В трактовке символизма у Брюсова было много новых и мет-
ких наблюдений, но чувствовалась попытка обелить и возвысить
его. Так, он говорил, что символисты хотели найти более широ-
кие, чем у реалистов, цели искусства, которые служили бы не
одному классу общества, но всему человечеству. Брюсов был
прав, указывая, что символисты «создали и новый стиль и но-
вый стих, отличные от романтического и реалистического»1.
И все же Брюсов в 20-х годах вводил своих слушателей и чи-
тателей в сложный комплекс вопросов, которые не могла тогда
решить ни доживавшая свой век довольно плоская культурно-
историческая школа, ни набиравшая силы вульгарная социо-
логия. Решение всех этих проблем стало по плечу литературо-
ведению гораздо позднее.
Александр Александрович Блок (1880—1921). Блок относился
к символизму более страстно, чем Брюсов. Он глубоко разделял
некоторые доктрины этого течения и тем резче порывал с ними.
Блок-критик развивался одновременно с Блоком-поэтом. На-
прасно 3. Гиппиус, Ю. Айхенвальд и другие декаденты утверж-
дали, что теоретизирующий Блок всегда «роняет себя», что
Блок-поэт «лучше» Блока-критика. Никакого антагонизма меж-
ду его критической и поэтической деятельностью не было.
Первоначально Блок был правоверным символистом, в своих
рецензиях о произведениях Бальмонта, Брюсова, А. Белого раз-
делял оптимизм этого направления. Блок повторял общие кано-
ны символизма: это видно также из его отзывов о В. Соловьеве,
о творчестве В. Иванова (1905). Блок признавал Иванова за
теоретика символизма, сочувственно цитировал основные его
положения.
И для Блока «кромчими звездами» являлись Тютчев, Хомя-
ков. Разрыв Блока с В. И. Ивановым произошел позднее —
в 1912—1913 годах.
Но как ни резко распадается эволюция Блока на два перио-
да, в его взглядах до конца жизни оставалось много от изна-
* Брюсов В. Я. Избр. соч.— Т. 2.— С. 326.
393
чального символизма. Рецидивы их чувствуются в доклада
«О современном состоянии русского символизма» (1910), в двух
работах об Аполлоне Григорьеве («Судьба Аполлона Григорье»
ва», 1916; «Что надо знать об Ап. Григорьеве», 1919) и в речи
«О романтизме», произнесенной перед актерамй большого дра«
мэтического театра в Петрограде в 1919 году.
Доклад «О современном состоянии русского символизма» был
сделан под девизом: «Кто захочет понять — поймет». Блок в ду-
хе Рембо и Метерлинка пояснял тайны собственного творчества:
«Незнакомка»— это сплав из многих миров, преимущественно
синего и лилового, а не просто дама в черном платье со страу-
совыми перьями.
И в 1911 году, и позднее прельщал Блока величественный,
как ему казалось, образ «рыцаря-монаха»—Владимира Соловье-
ва. Таким же рыцарем «печального образа», не опознанным со-
временниками, был для Блока и Аполлон Григорьев. Крайне
субъективно Блок старался разглядеть в Григорьеве «осенен-
ность свыше», «отсветы Мировой Души», носителя русской
«органической идеи»1, которая была утеряна русской интелли-
генцией, пошедшей за своим «генералом» Белинским, «опечатав-
шим» всю классику своими «штемпелями». И здесь субъектив-
нейшая конструкция в пользу символизма оказывалась обяза-
тельно связанной с уничижением то «наивного», то «глумливого»
реализма. Блок говорил о провиденциальной роли искусства в
связи с проблемой романтизма. Он высмеивал «профессорские»
мнения о романтизме: романтизм — нечто возвышенное, но всег-
да отвлеченное, туманное, далекое от жизни; романтиком назы-
вают человека неуклюжего, рассеянного, непрактичного. Но
иначе к романтизму отнеслась, как оказывается, более пытли-
вая наука конца XIX — начала XX века при новом русском «воз-
рождении», т. е. при символизме. «Подлинный романтизм,—
говорил Блок,— вовсе не есть только литературное течение», он
не был «отрешением от жизни», наоборот, романтизм «преиспол-
нен жадным стремлением к жизни». Блок, как и Брюсов, счи-
тал, что «принципы» творчества вечны, «школы» и «течения» вре-
менны, они только применяют принципы всем напоказ. Но
всмотримся, как конкретизирует Блок свое вселенское понятие
романтизма. Он придает ему отвлеченный смысл побудительной
творческой силы вообще. У него романтизм, собственно, оказы-
вается и не течением, и не принципом творчества. Романтизм —
это «шестое чувство»: «Романтизм есть не что иное, как способ
устроить, организовать человека, носителя культуры, на новую
связь со стихией». Под стихией Блок по-символистски понимает
внешний мир, мир сущностей. Романтизм «есть дух, который
струится под всякой застывающей формой и в конце концов
взрывает ее». Блок повторял старый тезис символистов: роман-
1 Блок А. А. Собр. соч.— М.; Л., 1S62.— Т. 5.— С. 488,
394
тизм — это восстание против материализма и позитивизма. При
этом можно добавить от себя — и реализма.
Но рядом с такого рода суждениями у Блока можно найти и
другие. Это заметно в его Статьях «О современной критике»
(1907), «О реалистах» (1907), «О драме» (1907), «Три вопроса»
(1908), «Вечера «искусств» (1908), «Народ и интеллигенция»
(1909) и др.
Блок с презрением стал писать о различных собраниях и
вечерах интеллигенции при различного рода художественных,
религиозных обществах, в салонах, журнальных редакциях. Он
улавливал лицемерно-снобистский характер этих сборищ, диле-
тантизм затеваемых дискуссий, их реакционный смысл. Он все
дальше расходился с прославленным героем таких вечеров —
Мережковским. В статьях «Литературные итоги 1907 года»,
«Вечера «искусств» (1908) Блок зло обрисовал религиозно-фило-
софские собрания, на которых «и дела никому нет до народа, как
быть с рабочим и мужиком». В старое время, писал Блок, на
литературных вечерах звучало проникновенное слово Достоев-
ского, мастерски читавшего свои произведения или «Пророков»
Пушкина и Лермонтова, читал свое знаменитое «Вперед, без
страха и сомненья!» Плещеев. Сегодняшним же модным поэтам
нечего сказать. Стихи любого из них «читать не нужно и почти
всегда — вредно». Нечего размножать породы людей «стиля мо-
дерн», дни которых «сочтены».
Недоволен был Блок и состоянием современной ему литера-
турной критики. Он замечал в статьях К- Чуковского, В. Роза-
нова, С. Городецкого непоследовательность в суждениях о
Л. Андрееве, М. Горьком. Задыхаясь от символистских слово-
прений, начал Блок расходиться и со «своими», с А. Белым.
Последний в этой связи вызывающе бросал в адрес поэта:
«Блок, ведь вы дитя, а не критик! Оставьте в покое келью сим-
волизма, если там «спертый воздух»... Мы же признаем необхо-
димым считать вас выбывшим из фаланги теоретиков и крити-
ков нам любезного течения»1.
Одна из статей Блока названа «Вопросы, вопросы и вопро-
сы»; она как бы передает ажиотаж тогдашних словопрений. Блок
отобрал три вопроса, из которых два были традиционными, а
третий новым. Он говорил, что, помимо пресловутых вопросов
«как» и «что» изображать в искусстве, возникает еще третий во-
прос— о «полезности» художественных произведений вообще.
Вопрос о «пользе», о «долге» поставлен временем. Блок указы-
вал, что символисты отошли от хороших старых заветов сближе-
ния литературы с жизнью, что «подлинному художнику не опасен
публицистический вопрос». Блок сочувственно цитировал сло-
ва Михайловского: «Каждый художник, я думаю, должен быть
публицистом в душе». Особенно это качество должно быть свой-
1 Блок А. А. Собр. соч.— Т. 5.— С. 730 (коммент.)
395
ственно русскому художнику. От третьего вопроса отныне, по
мнению Блока, зависит решение и первых двух.
Блок никогда не торопился сбрасывать со счетов классиков
русского реализма. В ответах на одну из анкет Блок признавал-
ся, что любит Некрасова, что Некрасов оказал на него большое
влияние; народность Некрасова была «неподдельной, настоя-
щей». Блок высмеивал измышления В. Соловьева, Мережковско-
го, что Пушкин, Лермонтов, Гоголь были сами повинны в своих
несчастьях и в смерти: «Нет, мы знаем, чья рука управляла пи-
столетами Дантеса и Мартынова», «кто пришел сосать кровь
умирающего Гоголя», «в каком тайном и быстро сжигающем ог-
не сгорели Белинский и Добролюбов», кто «увел Достоевского
на Семеновский плац и в мертвый дом». Во всем этом повинны
самодержавие и попы.
Характерно заглавие статьи Блока о Льве Толстом, написан-
ной в связи с восьмидесятилетием писателя: «Солнце над Рос-
сией». Блок с горькой иронией говорил, что Россия чтит велико-
го писателя, вопреки запрету синода и властей, что Толстой
так же гоним, как всякий честный русский писатель и граж-
данин.
Лев Толстой служил Блоку каким-то залогом неустрашимо-
сти русской литературы, ее величия, гражданской честности.
Этот оптимизм Блок черпал не из теургии символистов, а из со-
знания, что где-то рядом творит свое великое дело на благо
народа великий Толстой.
Реальными носителями протеста в окружающей современной
литературе для Блока оказались в значительной степени писате-
ли-реалисты, до сих пор совершенно чуждого ему лагеря —Горь-
кий и «знаньевцы». Он посвятил им специальную, очень сложную
статью с весьма определенной положительной оценкой. Статья
Блока вызвала бурю возмущения среди символистов, но он не
отказался ни от одного из своих слов.
В 1918 году в статье «Интеллигенция и революция» Блок
заново переосмыслил все прежние проблемы.
После революции Блок заведовал литературной частью Пет-
роградского Большого драматического театра, горячо отстаивал
классику в его репертуаре. Он старался подыскать боевые, ре-
волюционно звучащие пьесы: «Разбойники», «Орлеанская дева»
Шиллера, «Эрнани» Гюго, «Дантон» М. Левберга.
В «Речи к актерам» он звал идти в сторону «высокого реа-
лизма». Но в то же время Блок выступал против, может быть,
и актуальных по теме, но серых по художественным достоин-
ствам произведений, критиковал их и отвергал.
Блок разборчивее стал относиться к своим прежним друзьям.
Он окончательно разошелся с Леонидом Андреевым, так как
Андреев был лицом обращен «в провал черного окна...», «он пе-
вец ночи, смерти». Поэтов упадка Блок видел и в акмеистах,
творчество которых он метко охарактеризовал словами: «без
396
г
божества, без вдохновенья». Не принимал Блок левоанархист-
ского искусства, голого экспериментаторства, спекуляций на
примитивах. Под лозунгом «исканий» нередко выдавалось трю-
качество, нигилизм по отношению к классике, которая «устаре-
ла», «громоздка».
Блок отстаивал постановку «Отелло», «Дон Карлоса»: «Мы
служим титанам мысли и чувства и никогда не раскаемся в
этом»,
Вместе с тем не следует думать, что Блок все уже понимал
правильно, решительно и безоговорочно принимал, что делалось
на его глазах в области культуры. Во-первых, не все понимал,
а, во-вторых, многое делалось с такими перегибами и неумело,
что это не могло не вызвать с его стороны справедливого наре-
кания.
ГЛАВА 4
Ранняя марксистская критика.
Георгий Валентинович Плеханов (1856—1918) завершил тео-
ретические искания своих предшественников — Белинского, Чер-
нышевского, Добролюбова — и открыл новую эпоху в русской
критике. Он воспринял марксизм и творчески стал разрабаты-
вать его применительно к русским условиям и к тем областям
культуры, эстетики и литературы, которые не были освещены
новым взглядом.
Плеханов внес новое в изучение проблемы происхождения ис-
кусства, развития его классовых форм, зарождения пролетарской
социалистической литературы, в развенчание «чистого искусст-
ва», декаданса, символизма, буржуазной политической реакции.
Его суждения приобрели большое значение в советском литера-
туроведении.
Важнейшим периодом в деятельности Плеханова было двад-
цатилетие с 1883 по 1903 год. За это время «он дал массу пре-
восходных сочинений, особенно против оппортунистов, махистов,
народников»1. Сюда относятся такие работы Плеханова, как
«Социализм и политическая борьба» (1883), «Наши разногла-
сия» (1885), «К вопросу о монистическом взгляде на историю»
(1895), лекции «Искусство с точки зрения материалистического
объяснения истории» (1903). Расходясь с В. И. Лениным в прин-
ципиальных вопросах понимания эпохи империализма, роли
пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической ре-
волюции и перспективах социалистической революции в Рос-
сии, Плеханов, однако, колеблясь и ошибаясь во многом, сумел
написать после 1903 года ценные статьи против декадентов, о
Льве Толстом, Максиме Горьком. Он выступал, солидаризируясь
’Ленин В. И. Поли. собр. соч.— Т. 25.— С. 222.
397
с В. И. Лениным, против эмпириокритиков, «неомарксистов» и
«ликвидаторов» партии.
Благодаря Плеханову русская критика, или, точнее, ее фило-
софская методология, после тридцатилетнего блуждания в сфе-
рах народнического субъективизма и прагматического позити-
визма, наивного доктринерства снова вышла на путь мировой
революционной и теоретической мысли XIX века. На этот путь
она пыталась вступить еще в 40-х годах, во времена Белинского
и Герцена, начав одновременно с лучшими умами Запада пере-
осмыслять немецкую классическую философию и искать «пра-
вильную революционную теорию...» С глубоким убеждением Пле-
ханов писал в 1899 году, что «отныне критика (точнее, научная
теория эстетики) в состоянии будет подвигаться вперед, лишь
опираясь на материалистическое понимание истории» («Письма
без адреса»)1.
Новый, подлинно научный метод обязывал Плеханова ко мно-
гому. Предмет его критики определяла не только тогдашняя ли-
тературная ситуация, но и внутренние потребности реализации
марксистского метода. Перед Плехановым, как первым марк-
систом в России, вставала задача заново критически пересмот-
реть многие, прежде решенные вопросы. Он возвращался к
проблемам общей «идеи искусства», как сказал бы Белинский,
к «эстетическим отношениям искусства к действительности», как
сказал бы Чернышевский. Плехановские «Письма без адреса»
(1899—1900) — третий, после работ Белинского и Чернышевско-
го, в истории русской критики важнейший опыт решения общих
вопросов генезиса и специфики искусства.
Плеханову надо было заново «переписать» историю русской
общественной мысли. Он еще в «Наших разногласиях» рисовал
с симпатией портреты Герцена, Бакунина, Чернышевского, Тка-
чева. В 1897 году он написал статью «Белинский и разумная
действительность» как главу к задуманному труду «История
русской общественной мысли». Последующие работы Плеханова
о Чернышевском (1890—1892, переработана в 1909 г.), о Гер-
цене (1911—1912), о Чаадаеве, Печерине, В. Майкове, Погоди-
не, И. Киреевском — фрагменты того же труда. Наиболее ин-
тенсивно Плеханов работал над этим так и не осуществленным
до конца замыслом в 1912—1916 годы.
Плеханов высоко оценил трезвый реализм Глеба Успенского
в специально посвященной ему статье 1888 года. Этой же теме
посвящены статьи о Каронине (1890) и Наумове (1897). Истин-
ным выразителем подлинно народной души и стремлений, со-
гласно Плеханову, был Некрасов, на могиле которого он когда-
то произнес пламенную речь. Любимому поэту Плеханов посвя-
тил большую статью «Н. А. Некрасов» (1903) и воспоминания
«Похороны Н. А. Некрасова» (1917).
1 Плеханов Г. В. Избр. философ, произведения.— М., 1958.— Т. V.—
С. 312.
398
Плехановские статьи о Льве Толстом: «Симптоматическая
ошибка» (1907), «Отсюда и досюда» (1910), «Смешение пред-
ставлений» (1910—1911), «Карл Маркс и Лев Толстой» (1911),
«Еще о Толстом» (1911)—были вызваны не только приближав-
шимся юбилеем и затем неожиданной смертью писателя, но и
борьбой Плеханова против «толстовства» как разновидности
модного тогда богостроительства, захлестнувшего часть рабо-
чего движения. В какой-то степени этой задачей была продикто-
вана некоторая однобокость подхода Плеханова к Толстому,
в наследии которого он брал для рассмотрения только его тео-
рию, его учение, «толстовство».
В духе той же борьбы, высоко ценившейся В. И. Лениным,
были выступления Плеханова против декадентов, символистов.
В целом последователен был Плеханов в своих высоких
оценках творчества Максима Горького, явившего образцы на-
ступательного пролетарского искусства, впервые изобразившего
рабочий класс, его психологию, волю, героизм, оптимизм. Ожи-
даниями такого искусства пронизаны многие работы Плеханова:
и тогда, когда он критически отмечал фальшивые мысли и
положения в буржуазных произведениях («Пролетарское движе-
ние и буржуазное искусство», 1906), и когда старательно под-
мечал ростки «снизу вверх» народного самосознания в произве-
дениях Каронина, и, наконец, когда прямо обращался к чита-
телям-рабочим с призывами создать свою пролетарскую литера-
туру. Лучшей оценкой Горького была статья «К психологии
рабочего движения», написанная по поводу пьесы «Враги» (1907).
Но Плеханов-меньшевик не целиком принимал Горького;
писатель для него был слишком «ленинцем», и Плеханов холод-
но отозвался о романе «Мать». Даже в статье о пьесе «Враги»
он пытался свести свои счеты с большевиками и оспорить на-
дежды писателя относительно возможности победы рабочих в
ближайшем будущем.
Сейчас, в свете пройденного Советской страной более чем
семидесятилетнего пути, становится ясным, что при недостаточ-
ном общем развитии культуры в России, отсутствии в ней эле-
ментарной традиции демократии, юридического правосознания
возникли трудности в процессе партийного и советского строи-
тельства. Все это облегчило Сталину захват власти и методами
террора и приказными командными средствами руководства по-
зволило извратить сущность социализма. И все же, в свое время,
в споре с Плехановым прав был Ленин: власть надо было брать
и использовать ее как мощное средство культурных и всех про-
чих преобразований, призванных конкретно воплотить социа-
лизм. Правильный партийный курс компенсировал бы недо-
статок пролетарской прослойки в общем населении страны, не
довел бы страну до голода и до изоляции от всего мира.
Возникает вопрос: в какой степени Плеханов был «профес-
сиональным» критиком? Став в 1880 году политэмигрантом, Пле-
899
ханов прожил за границей до 1917 года. Он многое напечатал в
заграничной социал-демократической прессе. В «Социал-демо-
крате», издававшемся в Лондоне, затем в Женеве, была напе-
чатана его большая работа о Чернышевском; в немецком «Новом
времени»— статья о Некрасове, отдельной брошюрой —«Речь о
Белинском». Часть работ вошла в сборник статей Плеханова
«За двадцать лет» (1903).
Но многие собственно литературно-критические статьи, за
малым исключением, печатались в русских легальных журна-
лах под различными псевдонимами: «Письма без адреса»—
частично в журнале «Начало» под псевдонимом «Н. Андрее-
вич», потом они были продолжены в «Научном обозрении» за
подписью «А. Кирсанов»; статьи «Искусство и общественная
жизнь»—в журнале «Современник», «Французская драматиче-
ская литература и французская живопись XVIII столетия»,
«Пролетарское движение и буржуазное искусство»—в журнале
«Правда». Все эти статьи вышли в 1905 году. Статьи о Белин-
ском печатались в журналах «Новое слово» и «Мысль». Боль-
шая статья о деятельности Белинского была написана для
пятитомной истории русской литературы под редакцией Д. Н. Ов-
сянико-Куликовского. Наиболее знаменитым псевдонимом Пле-
ханова стал «Н. Бельтов», взятый из герценовского романа
«Кто виноват?» (у Герцена, впрочем, героя зовут Владимиром).
Этим псевдонимом подписана легально вышедшая работа Пле-
ханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на исто-
рию» (1895), на которой воспиталось много поколений русских
марксистов. Участвовал Плеханов и в легальной социал-демо-
кратической печати: его статьи «Карл Маркс и Лев Толстой»,
«Еще о Толстом», «Отсюда и досюда» появились в газетах «Со-
циал-демократ» и «Звезда».
Поэтому не приходится говорить об отрыве Плеханова от
русской критики и журналистики, несмотря на долгие годы эми-
грации. Это была профессиональная, интенсивная критика.
Статьи Плеханова носят трактатный характер, они обычно
эпохальные по теме, с симметричной закругленностью компози-
ции, подчеркнутой связью посылок и выводов. Цель автора —
на крупном вопросе показать целостность своих взглядов и ме-
тодологии.
В основе его многих статей лежит сопоставление марксист-
ского, пролетарского мировоззрения с каким-то другим, немарк-
систским, ошибочным, но популярным мировоззрением, являю-
щимся злобой дня. Он, так сказать, везде демонстрирует «наши
разногласия» с идейными противниками и пропагандирует «мо-
низм» своей системы.
На резком, контрастном сопоставлении построена статья
«Карл Маркс и Лев Толстой», в которой исследуется вопрос, на-
сколько правомерны претензии Толстого выступать в роли «учи-
теля жизни».
400
Статья «Искусство и общественная жизнь» отмечена попыт-
кой разоблачить мнимость существования «чистого искусства»,
отрешенного от общественных и политических вопросов. Конт-
растно построена и статья «Виссарион Белинский и Валер >ян
Майков», доказывающая неосновательность утверждений о том,
будто Майков в истории критики пошел дальше Белинского в
теоретическом отношении. Плеханов всякий раз четко разгра-
ничивал, откуда и докуда («Отсюда и досюда») может быть
приемлема для марксизма та или иная противоречивая система
или как вредно для системы «смешение представлений». Этот
строгий разбор в теоретическом плане стал возможен только с
позиций самого последовательного учения.
Марксизм внутренне видоизменил статьи Плеханова по
сравнению с типом статей прежней демократической критики.
Бросается в глаза социологический подход Плеханова к яв-
лениям искусства, желание определить классовую точку зрения
художника, учитывая его намерения и результаты творчества.
Это ведет в статьях Плеханова к подробному освещению общей
политической ситуации момента, к выявлению экономической
структуры общества, предопределяющей всю надстройку. Кри-
тики-демократы не умели вскрывать логику связей всех обще-
ственных явлений. Они знали непримиримость классовой борьбы,
но не умели объяснять ее политэкономией, учением о форма-
циях и лежащих в их основе способах производства и производ-
ственных отношениях. Незавершенность анализа, элементы идеа-
лизма и эклектики в исторических воззрениях демократов меша-
ли им доходить до сути вещей. Эту сущность вещей как раз
свободно и широко демонстрирует Плеханов, отвечая на все
актуальные вопросы. Он любил подчеркивать при анализе конк-
ретных явлений, где кончались знания Белинского, Герцена,
Чернышевского, в чем был корень их противоречивости. Теоре-
тические введения в статьях Плеханова никогда не отделяются
от остального содержания. Они сопутствуют анализу на всех
ступенях, конкретизируются и таким путем приобретают свою
окончательную доказательную силу.
На этой прочной методологической основе развертывается
дарование Плеханова как тонкого знатока искусства, со своими
глубоко личными наблюдениями и выводами. Во многих рабо-
тах ему приходилось объяснять недоразумения и каверзные
теоретические случаи прежних этапов русской критики: ошибки
з оценке писателей-народников, Толстого-пророка, «примире-
шя» с российской действительностью Белинского. Но в боль-
шинстве статей Плеханов выступал с новыми открытиями.
Стиль статей Плеханова деловой и логически убедительный.
Часто в статьях его проступает ирония. Она вытекает из диа-
лектических разоблачений чьих-то упрощений, метафизики, со-
физмов, субъективных натяжек, «дилетантизма в науке» или
невежества. В основном это философское, а не чисто словесное,
6 Знь.1 । № 1367
401
«журнальное» остроумие. Он всегда заботился о ясности мето-
дологии своей критики.
Плеханов прекрасно понимал крайнюю необходимость не
только пропагандировать марксизм и применять его в России,
но и реставрировать память о Гегеле, Фейербахе, с которыми
русская критика уже имела дело и потом от них отошла.
О Фейербахе много говорит Плеханов в работах о Черны-
шевском, даже несколько преувеличивая историческое значение
немецкого материалиста (будто он понимал значение практиче-
ской политической борьбы в 1848 году) и его влияние на Чер-
нышевского. Плеханов перевел на русский язык работу Ф. Эн-
гельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической фило-
софии» (1894). Именно на Фейербахе обрывались подлинно
прогрессивные философские симпатии русских материалистов.
Для осмысления различных литературных явлений, критико-
философских систем, политических учений Плеханову надо было
не только четко сформулировать сущность материализма и диа-
лектики, но и разработать понятие о просветительстве и о про-
светителе как типе деятеля, соотнесенного с понятиями материа-
лист и диалектик. Этому понятию «просветитель» Плеханов
уделял много внимания. Но Плеханов, во-первых, слишком рас-
плывчато трактовал просветительство и не сумел ясно осмыс-
лить то, что политически соединяло и разъединяло революцион-
ных демократов, дворянских революционеров с просветителями.
И, во-вторых, Плеханов слишком преувеличивал антидиалек-
тичность просветителей и революционных демократов и суммар-
но всех их рассматривал как метафизиков.
Перейдем к эстетическим и литературным взглядам Плеха-
нова.
В «Письмах без адреса», в статье о французской драматур-
гии и живописи в XVIII веке Плеханов непосредственно разби-
рает вопросы происхождения искусства. До него никто еще так
глубоко не вникал в эту область. Белинский отвлеченно говорил
об «идее» искусства, Чернышевский считал искусство одной из
областей духовных интересов человека, однако на подлинно ис-
торическую почву этот вопрос перенес Плеханов. Искусство есть
общественное явление; труд создал человека, и труд является
источником искусства; труд предшествует искусству: «Природа
человека делает то, что у него могут быть эстетические вкусы и
понятия. Окружающие его условия определяют собой переход
этой возможности в действительность». Человечество «сначала
смотрит на предметы и явления с точки зрения утилитарной и
только впоследствии становится в своем отношении к ним на эс-
тетическую точку зрения».
Примеры, подтверждающие прямую связь искусства с тру-
дом, Плеханов почерпнул у многочисленных европейских уче-
ных, путешественников, посетивших Африку, Австралию и опи-
савших обычаи и жизнь отсталых племен. Правда, Плеханов
402
понимает труд не вполне по Марксу, у него труд подразумева-
ется чисто мускульный, а не общественный.
Английский социолог Герберт Спенсер в книге «Основы пси-
хологии» (1876) заявлял: искусство возникло из игры. Игра есть
искусственное упражнение сил, она вовсе не имеет утилитарной
цели. Из игры возникает искусство, «чистое» искусство для ис-
кусства.
Интересные наблюдения над связью между работой, игрой
как упражнением сил и искусством Плеханов нашел в работе
К- Бюхера «Работа и ритм» (1896). Бюхер проявил не замечен-
ную им «самим непоследовательность. Он говорил о трудовом
происхождении поэзии, но считал, что выведенное им правило
верно только для самых начальных стадий развития поэзии; на
последующих стадиях игра начинает предшествовать труду и,
следовательно, искусству. «Игра старше труда,— заявлял Бю-
хер,— а искусство старше производства полезных предметов».
Этот вывод Бюхер демонстрировал на играх детей, которые
только готовятся к трудовой деятельности. Противоречие фактам
в книге Бюхера подметил Плеханов. Игры детей, конечно, пред-
шествуют труду, но разве таким образом развивается человече-
ство? Играющих детей содержат родители, которые трудятся
для этого. Следовательно, играм детей предшествует труд взрос-
лых. И вообще, для того чтобы играть, надо существовать, тру-
диться. Содержание игры указывает на ее утилитарную цель:
упражнение сил в охоте на животных, в их преследовании.
В жизни общества труд старше игры и искусства.
Плеханов соглашался с Бюхером только в исходном тезисе:
искусство происходит из труда. Но затем доказывал, как связь
искусства с трудом, столь явно выступающая на ранних стади-
ях развития человечества, усложняется, маскируется и опосре-
дуется. Вступают в свои права влияния других форм идеологи-
ческой надстройки — мифологии, магии, религии, философии,
этики. В конечном счете все они, так же как и искусство, свя-
заны с экономическим базисом общества, способом производст-
ва. Таким образом, связь искусства с трудом сохраняется на
всех стадиях общественного развития, она только сильно ус-
ложняется.
Эту усложненную связь искусства с полезным трудом,
разросшейся идеологической надстройкой, борьбой классов, син-
хронистическую связь одной формы искусства с другой Плеханов
решил показать на примере французской драматургии и живопи-
си XVIII века.
В «Очерках по истории материализма» Плеханов сформули-
ровал свои принципы исторического детерминизма, следуя кото-
рым можно объяснить любое общественное явление. Характер
всех явлений определяет: «...данная степень развития производи-
тельных сил; взаимоотношения людей в процессе общественного
производства, определяемые этой степенью развития; форма об-
26*
403
щества, выражающая эти отношения людей; определенное со-
стояние духа и нравов, соответствующее этой форме общества;
религия, философия, литература, искусство, соответствующие
способностям, направлениям вкуса и склонностям, порождаемым
этим состоянием...»1
В этой «пятичленной» формуле Плеханова не все верно.
Уровень развития некоторых форм духовной деятельности лю-
дей, в том числе и искусства, не прямолинейно соответствует
«степени» развития производительных сил. Расплывчато сказано
о «формах общества», т. е. о социально-экономических форма-
циях, и о соответствующем им «состоянии духа» общества.
В других работах Плеханов уточнял отдельные элементы своей
формулы и методологии. Но и в таком виде она была большим
завоеванием русской критики и знакомила с учением о базисе
и надстройке, определяющих лицо того или иного общественно-
го явления. А главное, она была монистичной и изгоняла из ис-
тории всякий субъективизм.
Однако, уличив других в односторонности и легко опроверг-
нув несколько тезисов своих противников, Плеханов не всегда
мог до конца довести с ними борьбу и сам оказывался в плену
некоторых уступок им. Научно-генетический метод Плеханова
нельзя идеализировать, он иногда не был последовательно марк-
систским. Например, Плеханов решительно оспаривал односто-
роннюю мысль Л. Толстого, что искусство призвано только вы-
зывать у нас чувства, а не мысли. Плеханов доказывал, что оно
возбуждает и то и другое, нельзя чувства отрывать от мысли. Но
на вопрос «Для чего нужно искусство?» Плеханов давал неточ-
ные ответы, нередко в духе антропологизма Чернышевского:
«Искусство начинается тогда, когда человек снова (?) вызывает
в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием окружаю-
щей его действительности, и придает им известное образное вы-
ражение»2. Во-первых, не ясно: ради чего человек хочет «снова»
вызывать «в себе» чувства и мысли, побуждающие творить про-
изведения искусства? Чернышевский говорил просто: не всегда
же под боком море, вот и хочется иметь картину с морским
пейзажем; антропологисту тут все ясно — так натура человека
устроена. Для марксиста этого мало. Какая разница между чув-
ствами, однажды испытанными под влиянием обстановки, и те-
ми, которые вызывает произведение искусства? Плеханов не ста-
вит этот вопрос. Искусство оказывается простым повторением
однажды испытанного. То, что искусство выражает субъективные
классовые мысли и чувства, Плеханов великолепно понимал.
Но что оно, помимо этого, еще и широко отражает объективные
процессы жизни, частицы абсолютной истины,— это он упускал
1 П л е х а н ов Г. В. Избр. философ, произведения.— Т. II.— С. 171,
2 Т а м ж е,- Т. V.— С. 285.
404
из виду. Искусство как средство познания толковалось Плехано-
вым узко, близко к рамкам антропологического понимания.
В Женеве в 1912 году у Плеханова произошел спор с Луна-
чарским об абсолютном критерии красоты. Луначарский, сам
занимавшийся «богостроительством» в то время, задал на лек-
ции Плеханову вопрос: если все течет, все развивается, то кри-
терия красоты нет, он субъективен. Нельзя доказать, что мы
сейчас переживаем период декаданса. То, что не нравится се-
годня, может понравиться завтра. Плеханов отвечал: абсолют-
ного критерия красоты, конечно, нет, но это еще не значит, что
мы лишены «всякой объективной возможности судить о том,
хорошо ли выполнен данный художественный замысел». «Чем
более соответствует исполнение замыслу или ...чем больше фор-
ма художественного произведения соответствует его идее, тем
оно удачнее. Вот вам и объективное мерило»1. Соблюдая внеш-
ний историзм, Плеханов считал, что все и всегда эстетические
критерии относительны. Но он впадал в релятивизм и объекти-
визм, так как неверно решал вопрос о соотношении истины отно-
сительной и абсолютной.
Луначарский, конечно, не прав. Но и Плеханов подошел к
вопросу слишком узко. Как он отвечал Луначарскому? Он огра-
ничивался замкнутым кругом: выполнение должно соответство-
вать замыслу, форма — содержанию, данное исполнение — дан-
ному замыслу, данная форма — данному содержанию. Мерилом
является прототип. Последнее отчасти верно. Сверьте картину
с подлинником — вот вам мерка, хорошо ли выполнена картина.
Но остается вопрос: прекрасен ли сам замысел, выбранный
прототип? Что в нем вечное, общеинтересное? Плеханов забыл
о соотношении истины относительной и истины абсолютной.
Он поторопился заявить, что абсолютных критериев нет. В каж-
дой относительной истине есть кусочек абсолютной: «теория от-
ражения» говорит об этом.
Предмет он понимал глубоко и правильно: предметом искус-
ства является человек в его общественных связях, со всеми
сложными процессами его психологической жизни. Предмет
искусства — не одно «прекрасное», а все стороны жизни. Но Пле-
ханов принципиально считал, что содержание искусства едино
с содержанием других форм идеологии, например философии.
Все дело в форме, искусство—«мышление в образах». Эту фор-
мулу Белинского он принимал целиком, лишь материалистиче-
ски истолковывая само мышление. Мы знаем уже о ее недо-
статках.
Свою задачу отображения жизни, говорит Плеханов, искусст-
во может выполнить, только руководствуясь передовыми идея-
ми. Весь этот раздел эстетики, связанный с учением о роли
идей, которые определяют степень художественности, у Плеха-
1 Плеханов Г. В. Избр. философ, произведения.— Т. V.— С. 745, 746.
405
нова разработан сильно и повлиял на советскую критику 30-х
годов.
Общество не может признать бесполезного искусства. Лож-
ные идеи вредят художественности произведения. Безыдей-
ность— та же ложная идейность. Даже те, кто бравирует «чи-
стотой» искусства, протестует против тенденциозности, не пра-
вы, хотя, может быть, и искренни. Стоит только осмыслить их
протест (или предложить им осмыслить его), и мы неизбежно
вернемся «к той самой идейности», против которой они восста-
вали. Плеханов не всегда был прав в выборе примеров (навя-
зывал Пушкину приверженность «чистому искусству», но он
глубоко исследовал, в какие эпохи, в какой форме, кем именно
провозглашалось «чистое искусство». «Склонность к искусству
для искусства возникает там, где существует разлад между ху-
дожниками и окружающей их общественной средою»'. Разлад
разладу рознь. Хотя фактически Пушкин после поражения де-
кабристов не был сторонником чистого искусства, Плеханов
верно объяснял право Пушкина на свою исключительность,
подчеркнутую отрешенность его гордой музы от официальной
политики. Плеханов полагает, что под «чернью», которую клей-
мил Пушкин, следует понимать окружавшую его «великосвет-
скую чернь».
Истолкование Плеханова приняли все «пушкинисты», оно
действительно многое объясняет. Но не все. Под «чернью» Пуш-
кин подразумевал не только реально окружавших его врагов.
Понятие «чернь» собирательное, иначе как объяснишь слова
поэта о народе: «поденщик, раб нужды, забот...»? Пушкин имел
в виду обобщенный образ невежд, тупых утилитаристов, «тол-
пу», а не «общество», как сказал бы Белинский.
Плеханов все же слишком однобоко исследовал вопрос о
«разладе» поэта с обществом. Иногда этот разлад — результат
протеста, отрицания общества. Такой разлад способен выдви-
нуть только боевое, тенденциозное искусство, ничего общего не
имеющее с «чистым искусством». Иное дело—«чистое искусст-
во» 3. Гиппиус. В этом случае чистое искусство свидетельству-
ет о равнодушии к общественным интересам. Поэтесса требует
«того, чего нет на свете»; «когда талантливый художник вдох-
новляется ошибочной идеей, тогда он портит свое собственное
произведение». Вот почему Плеханов не допускал снисхожде-
ния к «талантам» символистов. Он, может быть, чрезмерно пря-
молинейно доказывал их художественную слабость, ложность их
формы. Плеханов любил повторять слова английского эстетика
Джона Рескина: «Девушка может петь о потерянной любви, но
скряга не может петь о потерянных деньгах». Не всякая идея
может быть предметом прямого патетического вдохновения, хотя
скряга, разумеется, может быть предметом сатиры. Мир симво-
’ Плеханов Г. В. Избр. философ, произведения.— Т. V.— С. 693.
406
листов Плеханов считал достойным только пародирования. Он не
принимал их всерьез.
Полагая, что в искусстве все зависит от силы таланта и от
мировоззрения писателя, Плеханов вслед за Белинским настаи-
вал на важности понятия пафоса творчества как органического
проникновения художника в свою идею, горения ею. Тенденция
ни в коем случае не должна быть голой, простым силлогизмом.
Было очень важно возродить это понятие после утилитаризма
«реальной» критики и субъективизма народников. Идея должна
войти в плоть и кровь писателя, быть его страстью, верой. Когда
писатель «не сделался полным господином своих идей», идеи ему
самому «неясны и непоследовательны», тогда произведение дела-
ется «холодным», назидательным и нехудожественным. И очень
важно при этом знать, что «вина будет падать здесь не на идеи,
а на неумение художника разобраться в них, на то, что он <../>
не сделался идейным до конца» («Генрик Ибсен). Дело здесь
не во вреде идейности, а в недостатке идейности.
Плеханов указывал на необходимость в художественном твор-
честве осознанной идейности. Но он признавал случаи, когда пи-
сатель может, вопреки ложным сторонам своего мировоззрения,
правдиво отразить действительность. Плеханов это показал на
разборе произведений Г. Успенского, Каронина.
Но просто ли в обход взглядов? В отличие от многих своих
последующих толкователей, Плеханов говорил об отображении
жизни вопреки некоторым «сторонам» мировоззрения и «в силу»
других его сторон. Надо, чтобы художник сумел пойти против
своих ошибочных взглядов. Не всякий, имеющий ошибочные
взгляды, способен преодолеть их. Это случается тогда, когда
художник идет за логикой жизни, познает ее глубже и отбрасы-
вает первоначальные, хотя и дорогие для себя схемы. Ложная
идея убивает талант.
Из всех направлений в поэзии Плеханов предпочитал реа-
лизм. Он боролся за реализм последовательно, как в русской,
так и в мировой литературе. Начисто отметая декадентские те-
чения, не видя в них ничего ценного с точки зрения формы,
Плеханов вовсе не отстранялся от поисков новых форм. Он толь-
ко не считал привилегией модернистов решать проблемы коло-
рита, цвета, эвфонии, рифмы, ритма, новых тропов.
Вовсе не нужно никакой особой сосредоточенности декадента
над формой, искусства над искусством, чтобы постоянно обога-
щалась форма. Безыдейность импрессионизма он считал тем его
«первородным грехом», который роднит его с карикатурой и ме-
шает ему совершить заявленный в декларациях переворот в ис-
кусстве. Затасканные проблемы цвета, колорита легче решаются
с позиций «здорового» реализма и философского материализма,
чем тех доморощенных субъективистских посылок, которые им-
прессионисты крадут у идеалистов и интуитивистов. И само ин-
туитивное связано с познанием, а не с уходом от него: это его
407
первая необходимая ступень. Нужно лишь нам самим, поклон-
никам реализма, сполна почувствовать себя хозяевами положе-
ния. «Внимательное отношение к световым эффектам,— писал
Плеханов,— увеличивает запас наслаждений, доставляемых че-
ловеку природою». Свет, краски, звуки, оттенки — это все краски
самой жизни, реализм не должен отказываться от их воспроиз-
ведения.
Из определенного понимания природы искусства, его роли в
обществе, многосложности его форм вытекали и представления
Плеханова о задачах литературной критики. Задача критики
тоже общественная: объяснение художественных произведений,
их происхождения, значения, специфики. Его подогревала борь-
ба с недавним народническим субъективизмом. Плеханов не раз
говорил, что критика не должна говорить искусству, чем оно
«должно быть». Критик лишь ограничивается наблюдением, как
возникают различные правила искусства в различные эпохи.
В этом случае Плеханов любил ссылаться на статью Белинского
о Державине (1843), где сказано, что эстетика не предписывает
искусству правил, а объясняет его.
Правда, здесь объективность легко перерастает у Плеханова
в объективизм. Он слишком настаивал на «невозмутимости» кри-
тики, на том, что она «объективна, как физика». Его любимый
афоризм: задача критика не в том, чтобы «смеяться» или «пла-
кать»... а чтобы понимать». Но для чего понимать? Очевидно,
для того, чтобы реагировать и действовать. Но грешил объек-
тивизмом Плеханов больше в теории. В конкретных же оценках
Л. Толстого, Некрасова, Ибсена, Г. Успенского, Гамсуна он об-
наруживал оценочный подход. Он считал, что и стиль критики
должен быть пристрастным: «объективная критика... оказывает-
ся публицистической именно постольку, поскольку она является
истинно научной»1. В рецензии на книгу Лансона по истории
французской литературы Плеханов стремился изъять объекти-
визм и идеализм из последнего его прибежища. Лансон утверж-
дал, что «личный остаток» всегда остается в произведениях ис-
кусства, при всем строгом детерминизме, объясняющем его ис-
торическую природу. Но «личный остаток», возражал Плеханов,
тоже подчиняется детерминизму: чем оригинальнее, крупнее пи-
сатель, тем теснее он связан со своей эпохой.
Чисто плехановская особенность методологии в критике за-
ключается еще в весьма своеобразном учении о двух актах кри-
тики: задача критики в том, чтобы «перевести» идеи данного
художественного произведения с языка искусства на язык со-
циологии. И еще: найдя «социологический (или общественный)
эквивалент», мы потом должны произвести «эстетическую оцен-
ку» произведений с точки зрения единства формы и содержания,
так как художественные образы—живая одежда «идеологии».
'Плеханов Г. В. Избр. философ, произведения.— Т. V.— С. 186.
408
Один акт подразумевает другой, они неразрывны. Конечно, кри-
тика— это своего рода наука, она не пересказывает произве-
дение искусства, а анализирует и объясняет его. Объяснение
может быть только социологическое. Но почему, по Плеханову,
необходимо переводить произведение с языка образов на язык
логики? Содержание подменять эквивалентом? Разве художест-
венное произведение без того непонятно, не действует, не несет
в себе выводов? Не возвращает ли нас это положение к Тол-
стому: искусство действует на чувства, а не на разум? Плеханов
сам же с ним спорил. Теперь он хочет «уразуметь» чувства.
Плеханов, конечно, неудачно использовал слово «переводить».
Он хотел сказать только, что критика объясняет нам те впечат-
ления, которые непосредственно вызывает в нас художествен-
ное произведение. Мы не «переводим» их с одного языка на дру-
гой, а осознаем то, что чувствуем.
Источник сбивчивости, уступок релятивизму, объективизму
и социологизаторству в области критики следует искать в фило-
софских и политических ошибках Плеханова.
Плеханов допускал кантианские ошибки в философии. Кант
утверждал, что прекрасное существует вне всякого соображения
о пользе, партийное суждение не есть чистое суждение. Плеха-
нов комментировал эти тезисы таким образом: «Это вполне
верно в применении к отдельному лицу. Но дело изменяется,
когда мы становимся на точку зрения общества...» То есть полу-
чалось, что отдельный человек может судить беспартийно. Суж-
дение индивидуума также носит общественный характер. Пле-
ханов считал партийным только коллективное суждение, кол-
лективный разум класса или сословия.
Весьма спорными выглядят и следующие утверждения Плеха-
нова, до сих пор вызывающие дискуссии: «Художественное про-
изведение, являясь в образах или звуках, действует на нашу
созерцательную способность, а не на логику, именно потому нет
эстетического наслаждения там, где при виде художественного
произведения в нас рождаются лишь соображения о пользе
общества»’. Польза общества — понятие широкое, и тут никакое
«лишь» не будет узким, и вряд ли вообще этот довод стоило
выделять как исключающий эстетическое наслаждение. Соглас-
но смыслу цитаты, получается, что польза познается рассудком,
а красота —«созерцательной способностью», или, как в другом
месте говорит Плеханов: в первом случае человеком руководит
«расчет», во втором —«инстинкт». Здесь допущено смешение
понятий и терминов, старое толстовское деление: искусство —
для чувств, наука—для разума. Это старый идеалистический
тезис: польза — область науки, красота — область искусства. Во-
зникает и еще вопрос: что же такое эта особая «созерцательная
способность»? Плеханов этого не разъясняет и тем еще усугуб-
1 Плеханов Г. В. Избр. философ, произведения.— Т. V.— С. 365.
400
ляет уступки идеализму. Он заявляет, что созерцательная спо-
собность суть «суждение вкуса» (вкусовщина, особенно если
речь идет об отдельном человеке). Суждение вкуса «несомнен-
но, предполагает отсутствие всяких утилитарных соображений
у человека». В этой связи опять выступает неслучайность и
двусмысленность прежнего тезиса о переводе художественного
произведения с языка образов на язык логики.
Отсюда и остальные ненужные категории — типа «созерца-
тельная способность». Разве есть особая, отрешенная от общего
процесса познания созерцательная способность? Эстетическая
оценка, по Марксу,— это «особая форма оценки практической».
А Плеханов снова исходит из понятия о человеке по Фейерба-
ху, а не по Марксу и приписывает ему «чистую оценку», без
примеси утилитаризма.
Плеханов делал уступки и вульгарному материализму, дарви-
низму, когда заявлял: «В искусстве выражается не только обще-
ственная, но и биологическая сущность человека». Как это всегда
бывает при уступках различным учениям, они нередко объе-
диняются эклектически. Плеханов, действительно, пытался по-
мирить Канта с Дарвином, когда заявлял, что свойственный лю-
дям дух противоречия «коренится в свойствах человеческой
природы» («Письма без адреса»). Окружающая среда, конечно,
воздействует на человека. А что же дальше? А дальше все
строится по Канту: «Он (человек) сочетает их по известным
общим законам». Именно Кант считал, что законосообразность
заложена в разуме человека, а поток внешних впечатлений из
жизни хаотичен и недостоверен. Компромисс заключен и в та-
кой фразе: «Идеал красоты, господствующий в данное время, в
данном обществе или в данном классе общества, коренится ча-
стью в биологических условиях развития человеческого рода
<...>, а частью — в исторических...»1. Но биология в идеалах
красоты решительно ничего не объясняет.
Заставляет ли эта неверная мысль поставить под подозре-
ние другое высказывание Плеханова, приведенное выше: приро-
да человека делает то, что у него могут быть эстетические вкусы
и понятия, а общественная жизнь делает эту возможность ре-
альностью? Мысли, близкие по внешности. Думается, они со-
вершенно разные. Первая формулировка верна, если ее не дово-
дить до абсурда. Действительно, человек должен сначала суще-
ствовать биологически, обладать способностями видеть, слы-
шать, без чего ни о какой эстетике в общественном смысле не
может быть и речи. Это биологическая предпосылка возможно-
сти эстетики, но не ее источник. А во второй цитате речь идет
именно о биологии как частичном источнике понятий красоты,
идеалов. Это уже теоретическая ошибка.
‘Плеханов Г, В. Избр, философ, произведения.— Т. V.— С. 708.
410
Сбиваясь временами на узкое, антропологическое понимание
материализма, Плеханов в ряде случаев шел на уступки узко-
психологическим объяснениям идеологических понятий и кате-
горий эстетики. Так, еще в книге «О развитии монистического
взгляда на историю» его соблазнила схема Брюнетьера относи-
тельно развития идеологий по признаку их сходства и противо-
положности, по закону антитезы. Предлагалась чисто формаль-
ная смесь эпох по контрасту, без объяснения подлинно историче-
ских и социальных их своеобразий. И здесь Плеханов легко
подпадал под власть чисто психологических, наглядных, но,
увы, неубедительных объяснений причин смены вкусов, идеалов.
Более того, психология начинает уже подчинять себе и остатки
социологии, которая становилась чистой фразой. «Борьба клас-
сов приводит в действие психологический закон противоречия
(антитез)»1. Классовая борьба играет роль как бы только де-
тонатора, а подлинным двигателем вкусов является психология
с ее особым законом «противоречия». Закон оказывается зара-
нее заданным. Его нужно было только привести в действие.
Плеханов сочувственно ссылался на И. Тэна, который объяснял
искусство психологией данного времени. Плеханову казалось, что
все дело только в том, чтобы психологию объяснить материали-
стически, структурой экономического развития. Но дело опять
же не в психологии, хотя бы и правильно объясненной.
Законы «антитезы», «противоречия», «симметрии»—это все
уступки антропологизму, дарвинизму, кантианству. Согласно
этим учениям, такие законы коренятся в строении человеческого
тела, психики или ума. Плеханов блестяще объяснял смену
форм искусства во Франции XVIII века классовыми, историче-
скими причинами, но порой перемену вкусов объяснял и некоей
модой по контрасту, по симметрии, что было его ошибкой и про-
явлением непоследовательности как марксиста.
Обратимся теперь к историко-литературной концепции Плеха-
нова, еще недостаточно изученной как целое, во всех своих ком-
понентах. За некоторыми исключениями, она явно восходит к
концепции Белинского, Плеханов даже шире, чем Чернышев-
ский, возродил историко-литературную концепцию Белинского.
Правда, звенья этой концепции развиты неодинаково. Но у Пле-
ханова нет ни всеядности академистов, вроде Пыпина, ни ниги-
лизма по отношению к дворянской литературе, как у Михай-
ловского. Он, как марксист, учитывает ценный вклад в литера-
туру Герцена. Впрочем, некоторый налет пренебрежения к дво-
рянским писателям у него, как и у Михайловского, чувствуется.
Он явно предпочитал писателей разночинного и пролетарского
этапов. Но желание трезво оглянуться назад и быть объектив-
1 Литературное наследие Г. В. Плеханова.— М„ 1936.— Т. III.— С. 99;
Плеханов Г. В. Избр. философ, произведения.— Т. V.— С. 297, 303, 304.
411
ным у него было. Сам марксистский подход обязывал Плехано-
ва воскресить интерес ко всем эпохам, осмыслить их заново.
Что же касается последнего звена концепции, связанного с ос-
мыслением пролетарского периода освободительной борьбы и
литературного развития, то это чисто новаторский вклад Пле-
ханова как марксиста.
Плеханов заявлял, что Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Турге-
нев и Л. Толстой — поэты «высшего дворянского сословия», ге-
рои у них в основном из дворян, изображение народа отсутст-
вует. Это, конечно, узкое, неверное определение сущности твор-
чества названных классиков. Были у Плеханова заявления и о
том, что рабочий класс Пушкина не поймет. Но сам Плеха-
нов в других статьях снимал крайности некоторых своих суж-
дений.
В письме к С. М. Степняку-Кравчинскому в 1888 году он
предлагал совместно написать книгу «Правительство и литера-
тура в России», своеобразный «мартиролог» (идея Герцена) от
Радищева и Новикова до Чернышевского: о жертвах, которые
несла русская литература как участница освободительной борь-
бы. Речь шла о карах и ссылках, постигших Пушкина, Лермон-
това, Тургенева, Плещеева, Достоевского. Следовательно, Пле-
ханов ценил жертвы, принесенные дворянами в борьбе. Он даже
упрекал Чернышевского за крайнее утверждение, будто бы до
Гоголя не было изображения народа в русской литературе.
Плеханов указывал, что надо учитывать формы народности и
уровни общественного развития. Совершенно по Белинскому
Плеханов заявлял, что с самого начала XVIII века русская ли-
тература стала развиваться по двум направлениям: «идеально-
му»— от Ломоносова и «сатирическому»—от Кантемира.
Но не следует преувеличивать значение этой историко-лите-
ратурной схемы. Она собирается нами по частям из немного-
численных заявлений Плеханова и подробно им не разработана.
По-видимому, она получила бы свое завершение в труде по ис-
тории русской общественной мысли, если бы он был закончен.
В практических оценках современной литературы, в особенности
Л. Толстого, уничижительное отношение к «бытописателям дво-
рянских гнезд» с оглядкой на их родословную, начиная от Пуш-
кина, нет-нет да и сказывалось у Плеханова.
Следы целостной концепции больше чувствуются в плеханов-
ских оценках русской революционно-демократической критики,
т. е. Белинского, Чернышевского и Добролюбова, которых он
очень высоко ценил и сумел разъяснить с замечательной глуби-
ной. Это было ближайшее наследство, которое надо было от-
стоять, осознать и использовать. Эти мыслители и критики воз-
вышались над народниками и вызывали особую симпатию Пле-
ханова.
Плеханов чувствовал в трудах Белинского, Чернышевского
нечто родное себе, зачатки тех исканий «правильной теории»,
412
которые в конце концов нашли свой исход в распространении
марксизма в России, в чем первая по времени заслуга принад-
лежала самому Плеханову.
Вся история нашей критики и философии нуждалась в новом
освещении, в критической переработке. Плеханов, в свою оче-
редь, нуждался в опоре на русских демократов в конкретной
борьбе с народниками, декадентами, реакционерами. Как это
ни странно, ошибки Плеханова, его упрощение диалектики, ма-
териализма побуждали его иногда «опираться» на Белинского
и Чернышевского, на незавершенность их систем. Это особый
вопрос, но он специфичен для Плеханова.
Плеханов заимствовал у Белинского положение о специфике
искусства (образность), его предмете, единстве формы и содер-
жания, общественно активной роли. Но Белинский решительно
осуждал «искусство для искусства». Плеханов видел в этом
плоды утилитаризма и просветительства. Сам он, как мы знаем,
считал, что существуют такие эпохи, когда подобные теории оп-
равдывают себя (Пушкин в 30-х годах, французские романтики
перед 1848 годом). Пожалуй, уступал Плеханов Белинскому и в
понимании диалектических тонкостей психологии художествен-
ного творчества. Плеханов слишком огрублял, схематизировал
этот вопрос: творчество для него — простой идеологический акт,
проявление взглядов, а не познавательное воспроизведение дей-
ствительности, полное неожиданностей и противоречий.
Некоторые исследователи (А. Фомина, отчасти М. Розенталь)
упрекают Плеханова за то, что он будто бы прошел мимо богат-
ства конкретного исторического анализа литературно-критиче-
ской деятельности Белинского. Верно, что в статьях, непосредст-
венно посвященных критику, Плеханов больше уделяет внимания
его философской эволюции. Может быть, Плеханов слишком
умозрительно анализировал философские искания Белинского, не
попытался выяснить вопрос о том, интересы какого сословия от-
разил Белинский в своей деятельности. Но в многочисленных
попутных суждениях о нем он использовал критические суж-
дения Белинского о Пушкине, Гоголе, Лермонтове. Плеханов
больше всех сделал для истолкования взглядов Белинского. Он
рассмотрел его философскую эволюцию в связи с эволюцией
мировой философской мысли, с немецкой классической филосо-
фией. Масштаб Белинского позволял ему сравнивать русского
мыслителя с Шеллингом, Фихте, Гегелем, Фейербахом. Эта «ле-
сенка» вызывала впоследствии много нареканий на Плеханова:
он подчинил развитие русского мыслителя немецкой философии.
Но именно Плеханов впервые серьезно сделал эти неизбежные
сопоставления. Белинский знал системы этих философов, взгля-
ды Белинского формировались под влиянием главных течений
мировой философии. Плеханов избрал для специального рас-
смотрения период «примирения» критика с русской действи-
тельностью не потому, что это вообще наиболее сложный, запу-
413
тайный момент в развитии Белинского, вызывавший либо злоб-
ные выпады его противников, либо либерально обтекаемые
характеристики. Не всякому по силам разобраться в «примире-
нии» Белинского. Главное, что привлекло Плеханова именно к
этому эпизоду философских исканий Белинского, состоит в том,
что в период «примирения» Белинский впервые порвал с тради-
ционными до него романтическими формами протеста и стал со-
здавать предпосылки для правильных исканий революционной
теории. Само примирение, конечно, было ошибкой, результатом
релятивистски понятого требования диалектики принять всю
действительность как факт, требующий анализа.
Плеханов справедливо почувствовал в исканиях Белинского
начало того пути русской мысли, который сделал ее способной
принять марксизм, раскрыл все величие обращения Белинского
к действительности. Он показал и главные результаты нового
подхода Белинского к действительности, особенно в период от-
каза от примирения с нею. Это означало, что критик отказывал-
ся от абсолютного идеализма в пользу диалектики. Справедли-
вы и многие другие тонкие суждения Плеханова: в эпоху «при-
мирения» Белинский нередко злоупотреблял априорностью, ло-
гическими построениями, пренебрегал фактами, впадал в объек-
тивизм. Отворачиваясь от временного, он отворачивался от всего
исторического, хотя, казалось бы, ради него было вызвано само
примирение. Так не до конца понятая диалектика и релятивизм
вели Белинского к новой метафизике.
Плеханов сам не все до конца правильно понял в философ-
ской эволюции Белинского. Это особенно касается оценки после-
дующих этапов эволюции Белинского. Выйдя из примирения и
освоив диалектику, Белинский затем, по словам Плеханова, сде-
лался «просветителем» и начал изменять диалектике. Просвети-
тельство Плеханов понимал как простое проявление тенденциоз-
ности, навязывание определенных требований искусству. Форма
материализма Белинского обозначалась им как чистое «фейер-
бахианство». Но это звучит у Плеханова неконкретно, бездоказа-
тельно, по аналогии с философской эволюцией Чернышевского.
Развитие Белинского подчинялось заранее принятой схеме. Пле-
ханов цитировал одни и те же беглые упоминания в переписке
Белинского о «фихтеанстве», в котором он «почувствовал робес-
пьерпзм». Но как это выразилось в его статьях, Плеханов не
показывает. Ему важно только соблюсти «лесенку»: от Шеллин-
га, к Фихте, от Фихте к Гегелю, от Гегеля к Фейербаху.
Неверно утверждение Плеханова и о том, что, меняя свои фи-
лософские и общественные взгляды, Белинский якобы в эстети-
ческих суждениях оставался неизменным. На основе этой эстети-
ческой стабильности Плеханов пытался сформулировать и эсте-
тический кодекс Белинского. Сама по себе попытка уловить
постоянные, повторяющиеся требования Белинского к искусству
не является ошибочной. Но Плеханов рассматривает кодекс как
414
нечто остановившееся, застывшее, верное для всех периодов раз-
вития Белинского.
Вот основные пункты кодекса Белинского по Плеханову: ис-
кусство должно показывать, а не доказывать, мыслить образа-
ми; поэт должен изображать жизнь, как она есть, без прикрас и
искажений; идея художественного произведения должна быть
конкретной, целостной, охватывающей весь предмет, а не отдель-
ную его сторону; соответственно и его форма должна быть еди-
ной; содержание и форма должны быть едины1. Возникают не-
доумения и вопросы. Зачем надо было Плеханову специально
требовать единства сначала содержания, потом формы отдельно
друг от друга, если есть особый пункт об их взаимном единст-
ве? Выражение «конкретная идея» слишком напоминает немец-
кую идеалистическую терминологию. Некоторые пункты повто-
ряются или вообще не относятся к кодексу, как, например, са-
мый первый из них: он говорит об общем определении специфи-
ки искусства. Думается, проблему кодекса надо решать заново
на основе учения Белинского о художественности.
В основе интереса Плеханова к Чернышевскому, которому он
посвятил столько своих работ, лежало то же, что и в основе ин-
тереса к Белинскому. Если Белинский для него—«родоначаль-
ник» русских демократов, то Чернышевский—«самый их круп-
ный представитель».
Диссертация Чернышевского является дальнейшим развитием
тех взглядов, к которым Белинский пришел в конце жизни. На
примере Чернышевского Плеханов смог доказать, как важна фи-
лософия Фейербаха, с которой и он сам сильно связан. Достоин-
ство Чернышевского, по Плеханову,— в опоре на принципы исто-
ризма и материализма, а недостатки — в непоследовательном
применении их. Плеханов ставит в заслугу Чернышевскому сле-
дующие его самостоятельные открытия. История искусства, го-
ворил Чернышевский, служит основанием теории искусства, без
истории предмета нет и его теории. Гениальным открытием Чер-
нышевского Плеханов считал также утверждение зависимости
эстетических понятий от экономического бытия. Плеханов глу-
боко объяснил связь между антропологическим принципом в фи-
лософских воззрениях фейербахианца Чернышевского и всей
системой его эстетических категорий.
Плеханов показал сильные и слабые стороны диссертации
Чернышевского. Он вскрыл непоследовательность Чернышев-
ского как результат его идеализма в области общественных
отношений. Прекрасное в природе выше прекрасного в искус-
стве, заявлял Чернышевский; и в то же время Чернышевский
считал, что прекрасное — это то, что соответствует «нашему
понятию» о прекрасном, понятию о жизни, какой она должна
1 См.: Плеханов Г, В. Избр. философ, произведения.— Т. V,—
С, 211—212.
415
быть. Последнее выглядит очень слабым в философском отно-
шении, хотя и вытекает из просветительского идеала. Не по-
правляет дела и заявление: идеал вытекает из «здоровых
стремлений натуры человека».
Но Плеханов сам при этом недоучитывал следующее: крити-
куя Чернышевского за узкий подход, он не увидел его боли за
человека. В. И. Ленин пометил на полях книги Плеханова о
Чернышевском: «Из-за теоретического различия идеалистиче-
ского и материалистического взгляда на историю Плеханов
просмотрел практически-политическое и классовое различие ли-
берала и демократа». Плеханов считал, что не из самой природы
искусства, а из активного «просветительства» проистекали тре-
бования Чернышевского к искусству, чтобы оно «объясняло
жизнь» и выносило «приговор о явлениях ее». Вместе с просве-
тительской оболочкой Плеханов отбрасывал и революционную
сущность эстетики Чернышевского. «Приговор над действитель-
ностью» Плеханов объявлял идеалистическим тезисом. Здесь
проявлялась оппортунистическая созерцательность самого Пле-
ханова.
Гораздо меньше внимания Плеханов уделял Добролюбову и
Писареву. Он считал Добролюбова в теоретическом отношении
учеником Чернышевского, но с меньшей рассудочностью. У До-
бролюбова Плеханов отмечал природное дарование критика, ко-
торому, впрочем, сильно мешала публицистика. Но Плеханов
вовсе не против публицистики. Он только хочет сказать, что
Добролюбов был бы еще более сильным публицистом и крити-
ком, если бы эти обе области сознательно размежевались в его
деятельности. Публицистика бы вышла к своим прямым темам
и не путалась бы в специфических литературных проблемах, а
литературная критика занималась бы своим делом, не впадая в
дидактизм и в рассуждения «по поводу» художественных про-
изведений.
На этой основе Плеханов делает ряд метких замечаний о так
называемой «реальной критике» 60-х годов. С явной симпатией
он отмечает ее общественный пафос, что она «не предписывает,
а изучает», не навязывает автору своих мыслей. Но он не при-
нимает ее грубый, чисто просветительский утилитаризм, когда
литературе отводится служебная роль. Плехановская точка зре-
ния, изложенная в статье «Добролюбов и Островский», закре-
пила представление о «реальной критике» как отказывающейся
от эстетического воспитания читателя.
Статьи о писателях-народниках — Г. Успенском, Каронине,
Наумове — не ставили цели подробного изложения их народни-
ческой теории. Статьи построены на выявлении живого и мерт-
вого в их взглядах и в творчестве. Эти статьи — нечто принци-
пиально новое в русской критике: никто никогда еще не анали-
зировал так писателей-народников. В приемах Плеханова есть
зачатки «теории отражения». Борясь с народниками, Плеханов
416
любил этих писателей за доставляемый ими материал против
их же собственных доктрин.
Главный вывод Плеханова чрезвычайно методологически ва-
жен: «Народничество как литературное течение, стремящееся к
исследованию и правильному истолкованию народной жизни,—
совсем не то, что народничество как социальное учение, указы-
вающее путь «ко всеобщему благополучию». Первое не только
совершенно отлично от другого, но оно может, как мы видим,
прийти к прямому противоречию с ним»1.
Представляют интерес сильные и слабые стороны суждений
Плеханова о разночинном этапе русской литературы вообще
и народнической беллетристике в частности.
Как бы продолжая развивать формулу Михайловского «раз-
ночинец в литературу пришел», Плеханов подробно характеризу-
ет самый тип разночинного деятеля. Этот прием не совсем строго
научен с точки зрения марксизма. Суммарную характеристику
деятеля вообще давал еще Писарев, говоря о своих «реалистах».
При этом Плеханов применял многие формулы из арсенала на-
родников (например, «разночинец — наш мыслящий пролетари-
ат»). Вслед за народниками Плеханов считал разночинную ин-
теллигенцию особым классом, сословием страдальцев за народ.
Тип разночинца обладает следующими качествами: он не может
жить без дела; ему, в отличие от дворян, некогда бредить разо-
чарованием и предаваться рефлексии; он обязательно специа-
лист в какой-нибудь прикладной области — химик, ботаник, ме-
дик; ему свойственны общественные интересы, по какой-то при-
чине, видимо, по практицизму своему, он в ссоре с искусством;
прежних учителей жизни — Ж. Санд, Бальзака — он сменил на
Сен-Симона, Луи Блана; по самому своему общественному по-
ложению он борец за права трудящихся людей; обуреваем
поэзией подвига, грубоват в манерах; разговаривает не цветисто,
но дельно; иностранных языков не знает, потому что всю свою
жизнь посвятил борьбе за кусок хлеба; если он еще к тому же
и писатель, то целиком посвящает себя изображению жизни на-
рода, решению «проклятых вопросов». Такую характеристику
народнику-разночинцу давал Плеханов, во многом следуя за
Михайловским.
Как непреложный факт Плеханов утверждал, что писатели-
разночинцы— художники-социологи, что у них общественная
проблематика снижает художественность их творений, они пуб-
лицистичны; народническая беллетристика рисует нам не инди-
видуальные характеры и не душевные движения личностей, а
привычки, взгляды и, главное, общественный быт массы. Эти
особенности можно найти в творчестве Златовратского, Наумова
и у более аналитических умов, таких, как Г. Успенский, Коро-
нин. Одни меньше, другие больше искали разгадку исторической
’Плеханов Г, В. Избр. философ, произведения.— Т. V.— С. 71.
27 Заказ № 1367
417
формации, условий жизни крестьян. У Г. Успенского один из ге-
роев очерка «На Каспии» говорит: «теперича вобла сплошь по-
шла»; точно так же и русский народ живет «сплошной жизнью».
Характер жизни земледельцев не дает большого простора и раз-
маха художнической кисти. А народническое «учение» тем более
сужало круг воспроизведения. Индивидуальность человека была
скована и не развивалась. А «доктрина» велела восхищаться
«сплошной» жизнью в общине.
Ярким примером губительного воздействия ложных идей на
писателя в глазах Плеханова было творчество Льва Николае-
вича Толстого.
Противоречия у Л. Н. Толстого были более сильными, чем
у народников. Но Плеханов сузил задачу своего исследования.
Он свел оценку Толстого к оценке его учения, почти не касаясь
художественного творчества писателя. Противоречия замыкались
внутри мировоззренческой сферы и как бы противопоставлялись
творчеству.
Критические отзывы Плеханова о Толстом-проповеднике бы-
ли вызваны «симптоматическими ошибками» выступлений либе-
ральных и даже прогрессивных журналов и газет в юбилейном
1908 году и затем под впечатлением смерти писателя, в атмосфе-
ре богостроительских увлечений, ревизии демократических тра-
диций. Буржуазная пресса объявляла Толстого «учителем
жизни».
В. И. Ленин писал Горькому в январе 1911 года: «Насчет
Толстого вполне разделяю Ваше мнение, что лицемеры и жули-
ки из него святого будут делать. Плеханов тоже взбесился
враньем и холопством перед Толстым, и мы тут сошлись»1. Тол-
стой-богоискатель сам являлся выразителем «упадка настрое-
ния» в обществе, писал Плеханов. Он своим «непротивлением»
полностью осуждал наше освободительное движение. Нужны не
«книксены» перед Толстым, а трезвое осознание, какими общест-
венными условиями вызвана болезнь —«толстовство». Ведь не
впервые в русской литературе великие писатели оказываются
жертвами безвременья и неверных теорий. Таковы были Гоголь,
Достоевский, ими овладевала «болезнь покаяния», говорит Пле-
ханов.
Специально учение Толстого разобрано Плехановым в
статье «Смешение представлений». Заглавие взято у самого
Толстого. Так названа одна из вероучительских его статей. Пле-
ханов разбирал парадоксальные примеры непротивления по
Толстому на основе якобы «правильно» понятого учения Христа.
Едко высмеивал Плеханов модные попытки «дополнить» «тол-
стовство» «марксизмом» (статья «Карл Маркс и Лев Толстой»).
Плеханов удивительно близко подходил к сути дела. Но, верно
указав границы положительного и отрицательного, даже ссыла-
1 Л ев ин В. И, Поли. собр. соч.— Т. 48.— С. 11,
418
ясь на художественную силу писателя, Плеханов не связывал
воедино противоречия во взглядах и творчестве Толстого, он счи-
тал их лишь причудами «барина». Мертвая констатация «поль-
зы» от художника Толстого для современного движения, кото-
рое он явпо не понимает и не принимает, есть в статье «Карл
Маркс и Лев Толстой»: «Написанная великим художником яр-
кая картина совершаемых палачами жестокостей возбудила
против правительства общественное мнение...» Итак, по Плеха-
нову Толстой оказывается в каком-то смысле «зеркалом револю-
ции». Но Плеханов отвлекался от проблемы крестьянства как
основы протеста Толстого. Все Плеханов сужал и сводил к про-
стой бесплодности учения: «но прямая его проповедь ничего не
дала», палачи продолжали свое дело, точно и не слыхали просьб
Толстого, «толстовская проповедь не пугает эксплуататоров».
Максимально близко к правильному, диалектическому решению
проблемы Плеханов подошел в следующих высказываниях:
«Нравственная проповедь гр. Л. Толстого вела к тому, что,—
поскольку он занимался ею,— он, сам того не желая и не заме-
чая, переходил на сторону угнетателей народа»1. Плеханов го-
ворит о бессознательном переходе на позиции класса угнетате-
лей, не исследуя специфических крестьянских противоречий.
Переход констатируется как выражение слабости графа. А где
же источник его силы? «Не будучи в состоянии заменить в своем
поле зрения угнетателей угнетаемыми,— иначе сказать: перейти
с точки зрения эксплуататоров на точку зрения эксплуатируе-
мых, Толстой, естественно, должен был направить свои главные
усилия на то, чтобы нравственно исправить угнетателей, побудив
их отказаться от повторения дурных поступков». Значит, пере-
ход Толстого был только допущен Плехановым как возможность,
но на самом деле он не произошел. А между тем в этом пункте
Плеханов приближался к самой сути дела. Он и в другом месте
возвращался к ней. Самым ценным у Толстого оказывалось все
же художественное творчество, и проповедь не была сплошным
заблуждением. «Значение толстовской проповеди заключалось
не в ее нравственной и не в ее религиозной стороне. Оно заклю-
чалось в ярком изображении той эксплуатации народа, без кото-
рой не могут существовать высшие классы». Сила Толстого в
срывании масок, в обличении, и она имеет своим источником,
между прочим, также и проповедь. Но чья эта проповедь, како-
го класса, как сочетаются в ней сила и слабость? Все это Плеха-
новым не исследовано. Плеханов считал Толстого заблудившим-
ся дворянином, парадоксалом. Ни в искренность его протеста, ни
в демократизм его он не верил. Плеханов говорил, что Толстой
остался в стороне от освободительного движения.
Были в литературе 90—900-х годов явления, о которых Пле-
ханов говорил без всякой тени уважения. Декаденты были для
‘Плеханов Г. В. Искусство и литература.— С. 701,
27*
419
него выразителями буржуазной корысти, явлением антихудоже-
ственным и реакционным.
Плеханов резко критиковал суждения Д. С. Мережковского,
3. Гиппиус, Д. В. Философова, выпустивших в 1908 году в Мюн-
хене на йемецком языке книгу «Царь и революция», проникну-
тую мистическим анархизмом, ницшеанским взглядом на Европу
и Россию. Его возмущало заявление в книге, что русские дека-
денты достигли величайших вершин мировой культуры. Рево-
люция 1905 года вызвала общественную активность всех кругов
буржуазной интеллигенции. Но потом она во всем «разочарова-
лась». Проклиная в период «позорного десятилетия» демокра-
тию, она в испуге ухватилась за различные реакционные теории,
увлеклась богостроительством. Символизм —это «нечто вроде
свидетельства о бедности», говорил Плеханов, он возник из стра-
ха перед реальностью. Уже импрессионисты-живописцы были
равнодушны к идейному содержанию искусства, свет был глав-
ным действующим лицом в их картинах. Кубисты — это крайний
индивидуализм, «чепуха в кубе!».
Для символистов реально только собственное «я». Они, на-
чав с «культа красоты», кончили «безобразием», «оргиями субъ-
ективизма», «эротическим умопомешательством». Все их произ-
ведения пронизаны «мистическим анархизмом». 3. Гиппиус пи-
сала: «Я Считаю естественной и необходимейшей потребностью
человеческой природы — молитву... Поэзия вообще, стихосложе-
ние в частности, словесная музыка — это лишь одна из форм,
которую принимает в нашей душе молитва». Декаденты уверя-
ли, что субъективное «я» оторвано от другого субъективного
«я». Плеханов уличал их поэтику в определенной вредной идео-
логической настроенности.
Плеханов не обманывался и предупреждал других, чтобы они
не обманывались некоторой активизацией символистов после
1905 года. Часть декадентов примкнула к рабочему движению,
войдя в ту фракцию, которая казалась ей самой «левой». Мин-
ский был редактором «Новой жизни», Бальмонт объявил себя на
это время кузнецом, кующим боевые стихи на столбцах той же
газеты. Но эти господа внесли в названную фракцию свойствен-
ные им буржуазные идеологические прёдрассудки. «Подобное
промежуточное общественное положение,— предостерегал Пле-
ханов,— больше всего способствует политическим и всяким дру-
гим колебаниям между буржуазией и пролетариатом». Глубоко
вскрывал Плеханов цену мелкобуржуазного анархизма и бунтар-
ства, легко прибегавшего к внешней символике в современной
ему мировой литературе, связывал эти процессы с процессами в
русской литературе.
Перед Плехановым, естественно, не раз возникал вопрос об
исторической неизбежности появления нового, пролетарского ис-
кусства. Плеханов выводил необходимость его появления как из
«узко» партийных задач, так и из объективного развития совре-
420
меннои культуры, когда каждый класс ковал свое духовное ору-
жие, а пролетариат представлял собой самую передовую силу.
Но, сумев, как никто до него в России, разглядеть историческую
неизбежность появления пролетарского искусства, Плеханов то
слишком узко смотрел на самый его характер, то весьма пре-
вратно истолковывал появлявшиеся его первые образцы.
Еще в 1883 году группа «Освобождение труда» подготовила в
Женеве сборник стихотворений «Песни труда», к которому Пле-
ханов написал предисловие под названием «Два слова читате-
лям-рабочим». Уже в начальном заявлении, что «у каждого об-
щественного класса также есть своя поэзия» и что она «теряет
всякий смысл для другого класса», было нечто сектантское, вуль-
гарное, намекавшее на какую-то особую пролетарскую культуру,
оторванную от всей предшествовавшей культуры человечества и
не являющуюся ее закономерным развитием и критической пере-
работкой. Кощунственно звучало заявление: «Рабочий просто не
поймет внутреннего содержания» романа Пушкина «Евгений
Онегин». Плеханов проявлял особую чуткость к революционной
поэзии Некрасова, Гейне, Шевченко. Верно ставил вопрос и об
особых пролетарских интересах, которые должны быть отраже-
ны в поэзии. Он был прав, заявляя, что пролетариат — истинный
представитель «труда и разума», что у него «возвышенные идеа-
лы». Но все же в общем вопрос им ставился узко. Плеханов
совершенно не принимал во внимание художественную сторону
этой новой поэзии.
Он бился над этими вопросами много и упорно. Анализируя
венецианскую выставку живописи в 1905 году, Плеханов отмечал,
что современное буржуазное искусство односторонне в своей те-
матике, тенденциозно и сглаживает жизненные противоречия, со-
вершенно «глухо к стремлениям рабочего класса». Привилегиро-
ванные, эксплуататорские классы не могут пойти дальше состра-
дания, филантропии, жалости по отношению к пролетариату,
лучшие из них могут лишь вежливо пожелать голодным «доброй
ночи». «Благодарствуйте, добрые люди!—восклицает Плеха-
нов.— Но ваши часы отстали: ночь уже кончается, начинается
«настоящий день»1. Слова курсивом напоминали название ста-
тьи Добролюбова «Когда же придет настоящий день?». Вместе
с пролетарским движением этот день пришел. Не зная тогда еще
неопубликованной переписки Ф. Энгельса с писательницей
М. Гаркнесс, Плеханов, так же как и Энгельс, требовал, чтобы
рабочий класс получил достойное место в современном искусстве
как реальная и решающая сила истории.
Плеханов неустанно подчеркивал, что с появлением пролетар-
ского движения должен измениться и реализм, его формы, сюже-
ты, идейная тональность. У многих современных писателей Пле-
ханов старался не пропустить ни одной нотки в пользу его мне-
1 Плеханов Г. В. Избр. философ, произведения.— Т. V.— С. 456.
421
ния, что реализм переживает обновление. Даже непролетарские
писатели испытывали на себе влияние этой тенденции.
Плеханов мастерски выявляет те идеологические затруднения
и тупики, в которые заходила мысль народнических, буржуаз-
ных писателей вследствие отвлеченности понимания ими перс-
пектив общественного развития, утопичности их идеалов. Верное
наблюдение над фактами нередко приводило писателей к необ-
ходимости изменить свое мировоззрение, принять такую точку
зрения, которая дает правильное решение вопроса.
И герои Г. Успенского, и герои Коровина могли найти для
себя исход, а писатели — свой художественный успех в изобра-
жении результатов исканий смысла жизни, если бы они поняли
смысл переживаемой ими поворотной эпохи. Для этого надо по-
кончить со своими предрассудками. Только рабочее движение,
пролетарская среда, движение «снизу вверх» подводит к тем во-
просам, к которым «сверху вниз» подошла передовая, марксист-
ская интеллигенция. «А раз возникают в голове рабочих эти ве-
ликие вопросы, то можно сказать, что в стране уже начинается
историческое движение, способное вдохновить самого великого
художника»1. Плеханов цитирует Ф. Лассаля, который (кстати,
после известной переписки с Марксом и Энгельсом по поводу
собственной драмы «Франц фон Зикинген», переписки, неизвест-
ной Плеханову, но в которой вожди пролетариата высказали
много аналогичных суждений о конфликтах, связанных с ролью
народных масс в истории) также писал об обновлении искусст-
ва: «Перед величием подобных всемирно-исторических целей и
порождаемых ими страстей бледнеет всякое возможное содер-
жание трагедии индивидуальной судьбы».
Разрешалась, наконец, вековечная проблема, поставленная
еще Белинским и корректированная Щедриным, об изображении
положительного начала в жизни. Плеханов констатировал от-
крывавшуюся новую историческую перспективу в решении этой
проблемы. Если писатели научатся «сознательно» изображать
положительные стороны в связи с появлением на исторической
сцене пролетариата, то «это будет большим шагом вперед в
развитии нашей художественной литературы»2.
Плеханов старался предугадать возможный художественный
метод нового искусства. В его рассуждениях выдвигался тезис о
непременном сочетании романтизма с реализмом, о том, что но-
вое искусство, будет изображать не только то, что есть, но и то,
что будет, желаемую, лучшую жизнь. Эту любопытную проблему
он развивал в связи с оценкой диссертации Чернышевского и
его писательского опыта. Смесь реализма с «идеализмом» (т. е.
«романтизмом») вообще свойственна искусству новых общест-
венных слоев, стремящихся к своему освобождению. Жизнь гос-
подствующих классов кажется им достойной осуждения, и прие-
1 Плеханов Г. В. Избр. философ, произведения.— Т. V,— С. 91,
2 Там же.— С 158.
422
мы художников, воспроизводящих эту жизнь, кажутся искусст-
венными. Новый класс выдвигает своих художников, которые
в борьбе со старой школой выступают как реалисты. Но жизнь,
к которой они апеллируют, есть «хорошая жизнь», как она долж-
на быть согласно понятиям нового класса. А эта жизнь еще не
совсем сложилась: ведь новый класс только еще стремится к
своему освобождению; она в значительной степени сама оста-
ется еще идеалом. Поэтому и искусство, созданное представите-
лями нового класса, будет представлять собой «своеобразную
смесь реализма с идеализмом». Плеханов считает, что перед
фактом такого сплава стареют и самые передовые эстетические
теории, они не схватывают качественного своеобразия нового
искусства. Упрек направляется и в адрес эстетической теории
самого Чернышевского. «Об искусстве, представляющем собою
такую смесь, нельзя сказать, что оно стремится к воспроизведе-
нию прекрасного, существующего в действительности. Нет, ху-
дожники такого рода не удовлетворяются и не могут удовлетво-
ряться действительностью; им, как и всему представляемому ими
классу, хочется частью переделать, а частью дополнить ее со-
образно своему идеалу. По отношению к таким художникам и к
такому искусству мысль Чернышевского была ошибочна»1.
С этим очень смелым и любопытным тезисом Плеханова нель-
зя не согласиться. Действительно, новый реализм требовал и но-
вой эстетической теории. Но Плеханов тут же начинал допускать
нечеткость в трактовке вопроса о том самом «идеализме», кото-
рый нужно добавлять к новому реализму. Им оказывались уже
не идеалы и та новая жизнь, которую еще надо было разгадать,
предугадать, а «приговор» над действительностью, которого тре-
бовала еще «старая» эстетика Чернышевского. Такое требование
от искусства Плеханов считал уступкой идеализму со стороны
Чернышевского и Добролюбова.
Вот слова Плеханова: «...эстетическая теория Чернышевско-
го и Добролюбова сама была своеобразной смесью реализма с
идеализмом. Разъясняя жизненные явления, она не довольство-
валась констатированием того, что есть, а указывала также,—
и даже главным образом,— то, что должно быть. Она отрицала
существующую действительность...», но не сумела «дать ей социо-
логическую основу»—идею отрицания2. Можно спросить Пле-
ханова: разве реализм заключается только в простом констати-
ровании? Кажется, Плеханов просто не сладил с идеей сочета-
ния объективного и субъективного в искусстве и приписал по-
следнее специально придуманному «идеализму».
Под идеализмом Плеханов подразумевал все то же «просве-
тительство», «приговор над действительностью». Тенденциоз-
ность искусства оказывалась внешним привеском, примесью к
искусству, его гадательной частью,
1 Плеханов Г. В. Избр. философ, произведения.— Т. V.— С. 279—280.
2 Там же.— С. 280, 281.
423
Большой интерес представляют немногочисленные, сложные
и противоречивые высказывания Плеханова о Максиме Горьком.
Этот писатель был качественно новым пролетарским художником.
По логике рассуждений Плеханова, он должен был восторженно
приветствовать появление реалистических произведений Горь-
кого, в особенности романа «Мать» как подтверждения своих
теоретических прогнозов. И действительно, он противопоставлял
М. Горького декадентам, всему буржуазному искусству как при-
мер новой, пролетарской литературы. Кстати, в отличие от Ми-
хайловского, Плеханов вовсе прошел мимо ранних романтиче-
ских произведений писателя, прославлявших босяков. Плеханов
ценит в Горьком его пролетарскую направленность. Печальным
явлением в горьковском творчестве была его «Исповедь» и бого-
строительские тенденции. Плеханов с сожалением вынужден был
критиковать за них писателя: «Только марксизм мог бы выле-
чить Горького. Чем ушибся, тем и лечись». Правда, при этом
проявлялось у Плеханова нечто и меньшевистское. Горький в
романе «Мать» взялся быть проводником марксизма. Плеханову
не нравится ленинский курс романа. Горький — только худож-
ник. Он мало годится для роли проповедника марксизма. Язы-
ком логики он говорить не умеет. Вот где пригодилось Плеха-
нову разделение логики и чувств, познания и «созерцательной
способности» в искусстве.
В предисловии к третьему изданию сборника «За двадцать
лет» Плеханов называл Горького «человеком со многими недо-
статками» и «утопистом». В каком же смысле? В смысле «идеа-
лизма»? В романе «Мать» он выразил веру в ленинскую теорию
пролетарской революции, в скорую победу. Это и есть «утопизм».
На самом деле в таком утверждении ярко выразился меньше-
визм Плеханова. Он с иронией назвал «Мать» произведением с
«романтическим оптимизмом».
Но в отзыве о «Врагах» Плеханов глубоко оценил историче-
скую роль Горького, сумевшего создать новаторские «сцены»,
изобразить «психологию рабочего движения». Плеханов подвел
социологическую основу под новый героизм рабочей массы:
«Его тяготение к массе прямо пропорционально его стремлению
к независимости, его сознанию собственного достоинства,— сло-
вом— развитию его индивидуальности»1. Способ производства
сплачивает рабочих, производственные отношения также спла-
чивают. Пролетарий чувствует себя величиной, будучи сложен-
ным с другими частями. Рабочие — это сильные люди, знающие
свою цель. Внешняя недостаточная героичность их действий выку-
пается сознанием своей общей цели. Им не нужна в традицион-
ном понимании героичность — плод отчаяния, романтизма. Здесь
героизм построен на верном расчете. Во «Врагах» изображен
героизм массы, ее спокойная решимость, героизм долга перед
’Плеханов Г. В. Избр. философ, произведения.— Т. V.— С. 511.
424
коллективом. Павел Рябцев жертвует собой не потому, что он
лучше других, а потому, что другие «лучше» его. Старик Лев-
шин говорит: «Потревожат лучших, которые дороже тебя, Па-
шок, для товарищеского дела».
Все благодушие схематических построений Плеханова от-
носительно «психологии рабочего движения», упований на но-
вый героизм пролетариев ради «товарищеского дела» ярко
выступает перед нами в свете исторической дистанции. Прожи-
тое послереволюционное семидесятилетие изобиловало факта-
ми, чрезвычайно омрачающими представления о чистоте проле-
тарского сознания. В нем обнаружилось много индивидуали-
стического, своекорыстного: рабочие писали на рабочих доносы,
во «врагах народа» оказывались миллионы ошельмованных
людей, для рабочих новая власть завела лагеря и тюрьмы, и
сыновья отвечали за отцов, расстреливали без суда и след-
ствия, и была до основания потрясена всякая психология и,
прежде всего, психология рабочего движения. Плеханову и в
голову не могло прийти, какие чудовищные извращения эле-
ментарной нравственности будут допущены тоталитарной рабо-
че-крестьянской властью. Жесткую логическую схему выстроил
Плеханов, кабинетный марксист, оторванный от России, от
жизни. Как же снова не вспомнить учение о вечных человече-
ских духовных ценностях, возвышавшихся над классовой схват-
кой, о которых с такой настойчивостью твердили С. Н. Булга-
ков и Д. С. Мережковский, а до них — Достоевский и Лесков,
сердцеведы и знатоки русской жизни, русского народа.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
На протяжении почти двух веков истории русской критики
формировался ее предмет, приобретал внутреннюю специфиче-
скую структуру, свою методологию, жанры и стили. Росло и об-
щественное призвание критики. На этой основе вырастали вели-
кие личности, критики всемирной значимости, интерес к насле-
дию которых все растет.
Развитие шло не без противоречий и борьбы, отражавших не-
устанные поиски истины, связь критики с различными литера-
турными направлениями и классовыми тенденциями.
Русская критика XVIII — начала XX веков переработала и
вобрала в себя огромное наследство, завещанное древнерусской
литературой, с ее законами благонравия, суда по совести и спра-
ведливости, высоким чувством благолепия, подлинной красоты,
неразрывно связанными с нравственными началами и поучением
добру.
Многие ценные понятия античной древности пришли к нам
через Византию. Полным переворотом в мышлении, духовных
идеалах и представлениях о прекрасном стало принятие хри-
стианства.
Самостоятельно перерабатывалось и наследие прогрессивной
западноевропейской мысли, прежде всего, критики и философии.
У нас был свой русский классицизм, сентиментализм, роман-
тизм.
Каждое из художественных направлений выдвигало своих
теоретиков, ратоборцев. Но особенно плодотворной оказалась
критика реалистического направления, не имеющая аналогов во
всемирной литературе: десятки гениев за короткий срок! Им
дано было понять и свое, и чужое в живой преемственности, раз-
работать концепции и кодексы не только реализма, во всех его
разветвлениях и жанрах, но и проникнуть в таинства нереали-
стических направлений, которые тоже были формой познания
действительности.
Особо следует выделить русскую демократическую критику,
ее родоначальника Белинского, умевшего органически соединять
426
исторический и эстетический анализ произведений, открывать но-
вые таланты, направлять их развитие. Его гений оказал влияние
не только на Чернышевского и Добролюбова, но и на Ап. Гри-
горьева, критиков-модернистов, теоретические суждения Турге-
нева, Гончарова, Достоевского, Короленко, Блока.
Между критиками различных направлений была не только
борьба, но и шел процесс взаимного обогащения принципами и
открытиями. Критика вовсе не выстраивалась в единый поток.
Но динамика противоречий не исключала общности истоков, как
скажем, у раннего Белинского и славянофилов, многообразие
подходов к одной и той же проблеме, например, к проблеме на-
родности у Герцена и Толстого, в ее патриотическом содержа-
нии, к той же проблеме народности, как она выразилась в твор-
честве «купца» Островского, в подходах к ней со стороны Доб-
ролюбова и Ап. Григорьева. В знаменитом открытии «диалектики
души» у Толстого мы должны видеть заслугу не одного толь-
ко Чернышевского. В перечень специфических черт этой диалек-
тики внесли свои вклады и П. В. Анненков и Н. Н. Страхов. Все,
на что они указали, действительно есть у Толстого. А Достоев-
ский был открыт и Некрасовым, и Белинским, и Валерианом
Майковым. Тютчева по-настоящему открыл Некрасов, кажется,
полный его антипод по творчеству. Но каким нелицеприятием
в суждениях отличались великие критики и писатели, какую
беспощадную правду они говорили друг другу в письмах и в
личных встречах!
Неоценимые богатства представляют собой суждения рус-
ских критиков о секретах творческого процесса художника: как
зарождается идея произведения, возникают образы, сюжетные
сцепления между ними, и насколько можно доверять признани-
ям самих творцов, произведения которых живут векй?
Мы встретились с большим количеством случаев, когда, ос-
паривая работы того или иного мыслителя в целом, должны
согласиться с отдельными его частными умозаключениями, важ-
ными, оригинальными, имеющими корни в философских систе-
мах и различных ветвях русской критики, в том числе и демо-
кратической.
Возьмем, например, работу выдающегося русского мысли-
теля, эмигранта Н. А. Бердяева «Смысл творчества» (1916).
Особенно интересно все, что говорит автор о свободе твор-
чества. Рассуждения в IV главе «Творчество и гносеология»
генетически восходят ко многим шеллингианским рассужде-
ниям раннего Белинского о «бессознательности» творчества,
позднему учению о «пафосе», к рассуждениям Ап. Григорьева
об «органичности» творчества и его результатов, «живорожден-
ности» произведений, добролюбовскому заявлению, что глав-
ные мысли и идеи писателя в образах, которые он создает, что
нам важно не то, что «хотел сказать» писатель, а «что сказа-
лось» самим его произведением. Н. А. Бердяев в указанной
427
главе размышляет о том же и чрезвычайно углубляет всю проб-
лему: «Творческий акт неподсуден гносеологии, с ее не знаю-
щей конца дурнобесконечной рефлексией. Творческий акт непо-
средственно пребывает в бытии, он есть самораскрытие сил бы-
тия. Творческий акт оправдывает, но не оправдывается, он сам
себя обосновывает, но не требует обоснования чем-то, вне его
лежащим. Самосознание человека как существа творческого
есть изначальное, а не произвольное самосознание. От сознания
в себе творческого акта должен человек исходить, это револю-
ционное в человеке сознание, к которому нельзя прийти ни логи-
ческим, ни эволюционным путем. Самосознание человека как
творца не есть результат какого-нибудь учения о человеке, оно
предшествует всякой науке и всякой философии, оно до, а не
после всякой гносеологии. Творческий акт человека совершается
в том плане бытия, на который не простирается компетенция
науки, а потому не имеет к нему отношения и гносеология науки.
Гносеологически оправдать и гносеологически отвергнуть само-
сознание человека как творца — одинаково невозможно и не-
уместно. Творчество как опыт религиозный не знает идеалисти-
ческого деления на субъект и объект»1. Как все это сродни
ошеломляющему толстовскому заявлению, что для художест-
венного творчества, помимо прочего, нужна еще и «энергия за-
блуждения», то есть «изначальность», «самораскрытие сил бы-
тия», что творческий акт революционен по своей сути, так как
может открывать неизвестное, существующее в своем специфи-
ческом «плане бытия», где бессильна наука. «Религиозность» же
творческого акта такого же рода, как и самосознание человека,
ставящего перед собой вопросы об «изначальности» бытия, цели
существования и возможности бессмертия.
В советской литературной критике особенно обстоятельно ос-
мыслена общественная роль критики. Весь опыт советской
литературы способствовал этому. Нажим делался на классо-
вый подход, но именно нажим и приводил к вульгарной социо-
логии.
Половина критиков выбрасывалась из истории, облик других
искажался. Повезло представителям демократического направ-
ления, но трактовка и их наследия подгонялась под готовые
штампы, приобретая уныло-однообразный характер, осовреме-
нивалась. Все те, с кем в свое время критики полемизировали,
подвергались остракизму и всяческому поношению.
Ценнейшие идеи старой классической критики переходили
не столько в современную советскую критику, сколько в лите-
ратуроведение.
Но вульгарный социологизм нанес вред и литературоведе-
нию, уводил от современной проблематики. Литературная
1 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества.— М., 1989.—
С. 341—342.
428
критика все более мельчала, довольствовалась ярлыками, об-
служивала конъюнктурные задания. Были, конечно, и отдель-
ные удачи, зависевшие от личной одаренности критика, спо-
собного высказывать самостоятельные мнения. Но многие из
них и пострадали от сталинского террора.
Сейчас, в связи с перестройкой, возникают новые трудности,
которые придают дискуссионный характер, казалось бы, незыб-
лемым положениям. На них в значительной степени строились
все концепции истории революционной России, истории литера-
туры и литературной критики.
В «Литературной газете» от 22 августа 1990 года была пере-
печатана старая статья В. Я- Брюсова «Свобода слова», опуб-
ликованная в 1905 году в журнале символистов «Весы». В ней
Брюсов оспаривает основные положения статьи В. И. Ленина
«Партийная организация и партийная литература», появившей-
ся в том же 1905 году в газете «Новая жизнь». Специалисты, ко-
нечно, знали о статье Брюсова и во всем мире ее цитировали.
Но у нас она была под запретом, даже не включалась в собра-
ние сочинений поэта. Брюсов считал, что современной может
быть только внеклассовая литература, а этого ожидать придется
долго. В ту эпоху действительная свобода открывалась только
перед литературой, открыто связанной с пролетариатом. «Для
нас,— подытоживает Брюсов,— такая свобода кажется лишь
сменой одних цепей на новые». Он приводит примеры из жизни
Рэмбо, Гогена, которые создавали свои произведения в обстанов-
ке голода и бесприютности, вопреки полному пренебрежению со
стороны воех классов общества.
Потребуются усилия многих ученых, чтобы в капитальных
исследованиях разобраться во всех этих вопросах и упрочить
базис для внесения корректив и в историю русской критики.
Источники
Плеханов Г. В. Искусство и литература.— М., 1948.
Плеханов Г. В. Литература и эстетика: В 2 т.— М., 1958.
Плеханов Г. В. Избр. филос. произведения: В 5 т.— М., 1956—1958,—
Т. V.
Плеханов Г. В. Социология искусства: В 2 т.— М., 1979.
Блок А. А. Соч.: В 2 т.— М., 1955.— Т. 2.
Блок А. А. Соч.: В 8 т.— М., 1962.— Т. 5—6.
Блок А. А. Соч.: В 6 т.— Л., 1982.— Т. 4.
Брюсов В. Я- Избр. соч.: В 2 т.— М., 1955.
Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т.— М., 1975.
Трифонов Н. А. Русская литература XX века: Дооктябрьский пе-
риод: Хрестоматия.— 4-е изд.— М., 1980.
Соколов А. Г., Михайлова М. В. Русская литературная критика
конца XIX — начала XX века: Хрестоматия.— М., 1982.
429
Пособия и исследования
Общую характеристику основных направлений в критике эпохи 90-х го-
дов XIX века и начала XX века в России можно найти в книгах:
Русская литература конца XIX — начала XX века: В 3 т.— М„ 1968—
1972.
Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала
XX века —М., 1975.
Русская наука о литературе в конце XIX — начале XX веков.— М., 1982.
Лосев А. Владимир Соловьев и его время.— М., 1990.
Лифшиц М. А. Г. В. Плеханов: Очерк общественной деятельности и
эстетических взглядов,— М., 1983,
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение................................................... , 3
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ
В 30—90-х ГОДАХ XVIII ВЕКА
Глава 1. Литературно-критическое движение.......................11
Глава 2. Классицистическая критика. М. Ломоносов. В. Тредиа-
ковский. А. Сумароков......................................... 19
Глава 3. Сентименталистская критика. Н. Карамзин. И. Дмит-
риев ...........................................................33
Глава 4. Элементы программы сатирического, или просветитель-
ского, реализма. Н. Новиков. И, Крылов. Д. Фонвизин.
А. Радищев . ...........................49
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Глава 1. Глава 2. Глава 3. Литературно-критическое движение , , , , . 64 Распад старых направлений в критике 1810-х годов. Переходные теории. А. Мерзляков 69 Элементы программы раннего романтизма. В. Жуков- ский. К. Батюшков 74
Глава 4. Программа романтизма декабристов и близких им со- временников. 1820-е годы. А. Бестужев, В. Кюхель- бекер. К. Рылеев. П. Вяземский рО
Глава 5. Программные понятия и категории философско-идеа- — листического романтизма. Д. Веневитинов. В. Одоев- ский 95
Глава 6. Элементы программы демократического романтизма, 1820—1830-е годы. Н. Полевой. Кс. Полевой . . ClQJx
Глава 7. На подступах к реалистической критике. 1830-е годы. Н. Надеждин. А. Пушкин. Н. Гоголь 108
Глава 8. Создание концепции русского критического реализма 1830—1840 годы. В. Белинский 125
Глава 9. Проблемы реализма в критике последователей В. Бе- линского 157
Глава 10. Реакционная критика лагеря «официальной народно- сти». Н, Греч. Ф. Булгарин. О. Сенковский. М. Пого- дин. С. Шевырев 169
Глава 11. Славянофильская критика 1840—1850 годов. И. Кире- евский. А. Хомяков. К. Аксаков. Ю, Самарин . . . 178
Глава 12. Теория «чистого искусства». А. Дружинин. В. Боткин. П. Анненков. С. Дудышкин 192
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 60—80-х ГОДОВ XIX ВЕКА
Глава 1. Литературно-критическое движение.....................200
Глава 2, Дальнейшая разработка концепции критического реа-
лизма, 1860-е годы. Н, Чернышевский...............210
431
Г ла в a 3. Н. А. Добролюбов....................... . 229
Г л а в а 4. Д. И. Писарев........................... 247
Г л а в а Й. М. Е. Салтыков-Щедрин.....................265
Глава 6. Внутренние противоречия в реалистической критике
1860—1870 годов........................................276
Глава 7. «Неославянофильская» и «почвенническая» критика.
Ап. Григорьев. Н. Страхов..............................279
Глава 8. Антиреалистическая критика. М. Катков. А. Суворин 292
Глава 9. Литературная теория народничества 1870—1880 годов.
Н. Михайловский. А. Скабичевский.............298
Глава 10. Проблемы реализма в критических статьях И. Турге-
нева, И. Гончарова, Ф. Достоевского, Л. Толстого,
В. Короленко......................................... 323
Глава 11. Теория русского «натурализма». П. Боборыкин . . 349
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 90-х ГОДОВ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА
(ДО 1917 ГОДА)
Глава 1. Литературно-критическое движение. Кризис декадент-
ских направлений в критике. Ю. Айхенвальд . . . 359
V Г л а в а 2. Символистская критика. В. Соловьев. Д. Мережков-
ский. С. Булгаков. Н. Бердяев. Андрей Белый. В. Ива-
нов ......................................................372
Глава 3. Преодоление символизма. В. Брюсов и А. Блок . . 391
Глава 4. Ранняя марксистская критика. Г. В. Плеханов . . 397
Вместо заключения . ............ 426
Учебное издание
Кулешов Василий Иванович
ИСТОРИЯ РУССКОЙ КРИТИКИ XVIII — НАЧАЛА
XX ВЕКОВ
Зав. редакцией В. П. Журавлев
Редактор Л. И. Фартышева
Художественный редактор Л. Ф. Малышева
Технический редактор Т. Е. Молозева
Корректоры 6. В. Ивашкина, И. Н. Панкова
ИБ 13592
Сдано в набор 19.11.90. Подписано к печати 11.06.91. Формат 60X90'/ie- Бум. типо-
граф. № 2. Гарнит. Литер. Печать высокая. Усл. печ. л. 27+0,25 форз. Усл.
кр.-отт. 27,5. Уч.-изд. л. 29,43+0,4 форз. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1367.
Цена 3 р. 80 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Министерства пе-
чати и массовой информации РСФСР. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова Смоленского облуправ-
ления издательств, полиграфии и книжной торговли. 214000, г. Смоленск, проспект
им. Ю. Гагарин^, 2.
значит понять его идею и оценить его форму. Кри-
тик должен судить и о содержании и о форме; он
должен быть и эстетиком и мыслителем... Недоста-
точно определить достоинство художественного
произведения с точки зрения «отвлеченной мысли»:
нужно еще уметь оценить его форму, то есть про-
следить, насколько удачно художник воплотил
свою мысль в образах. ...Поэтому хорошим кри-
тиком художественных произведений может быть
только тот, у кого с сильно развитой мыслитель-
ной способностью соединяется также сильно раз-
витое эстетическое чувство.
Г. В. Плеханов
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
1897 г.