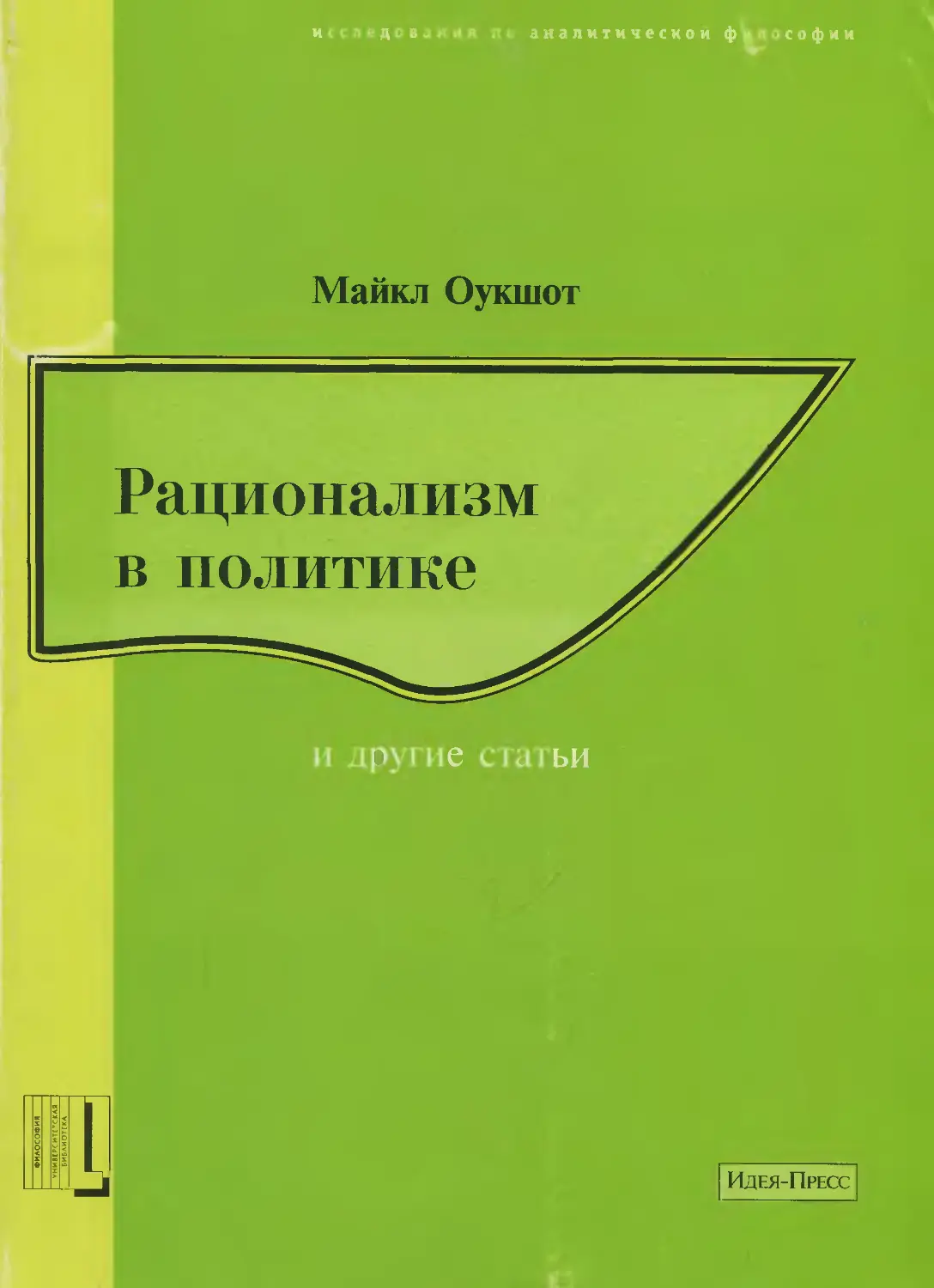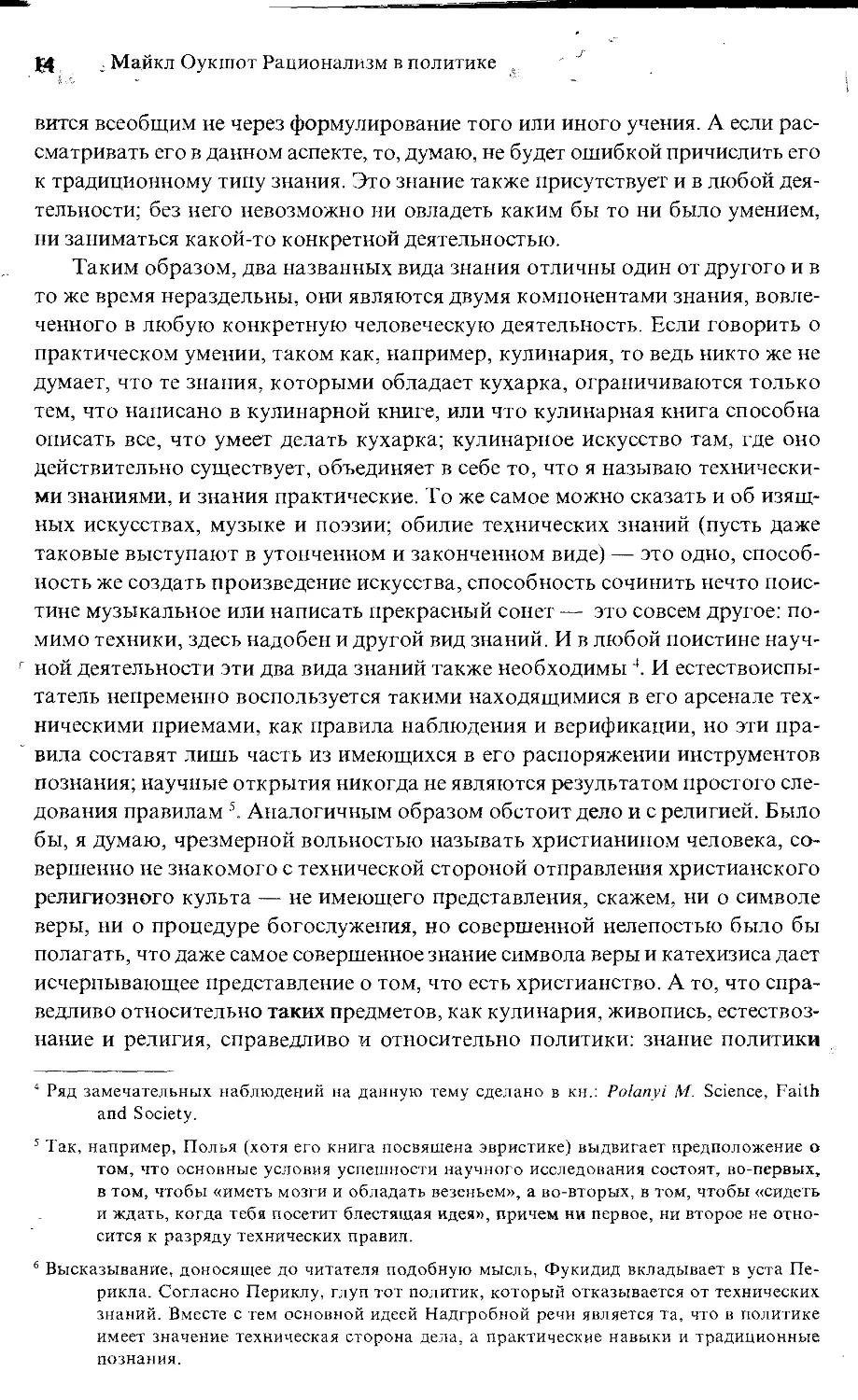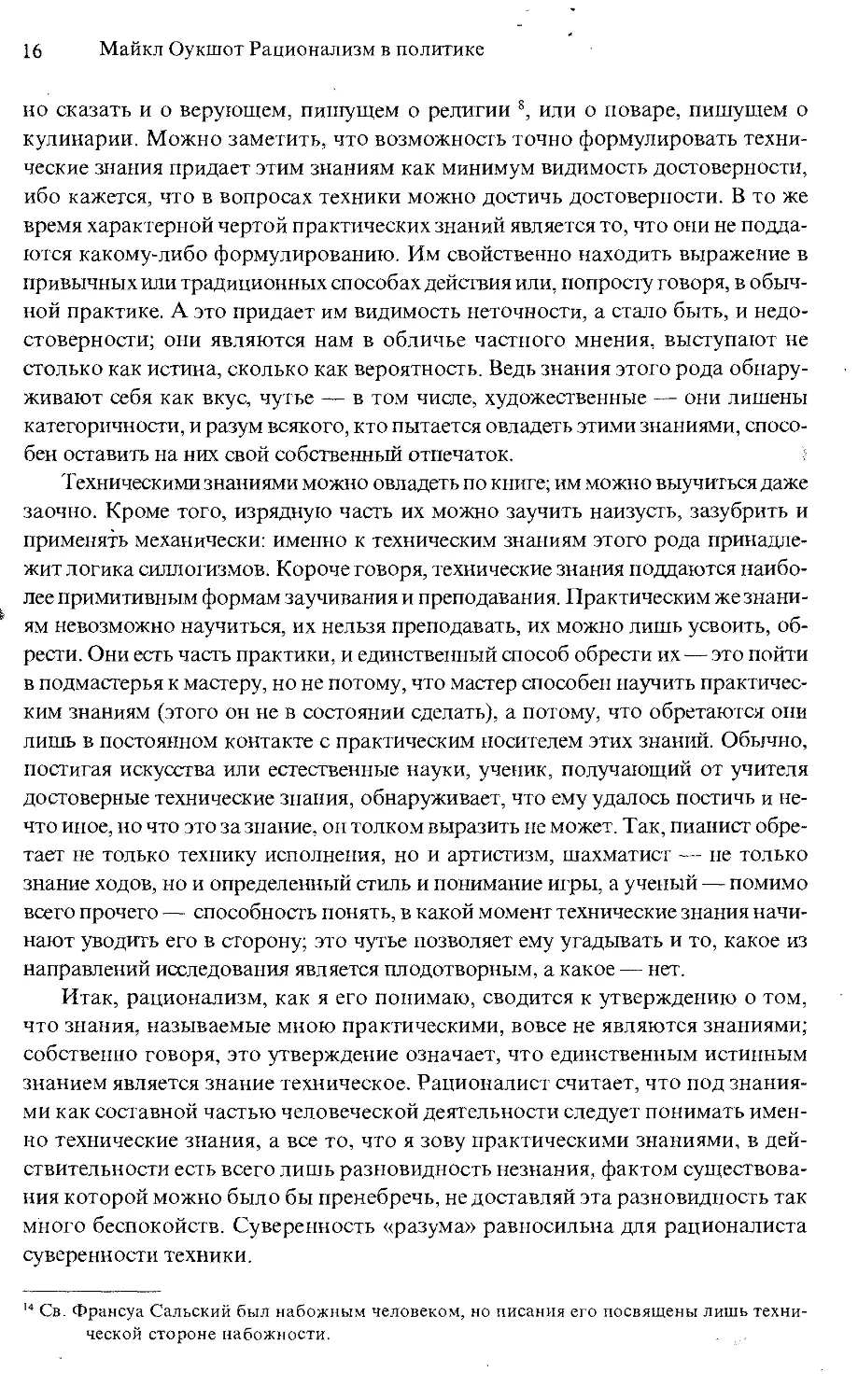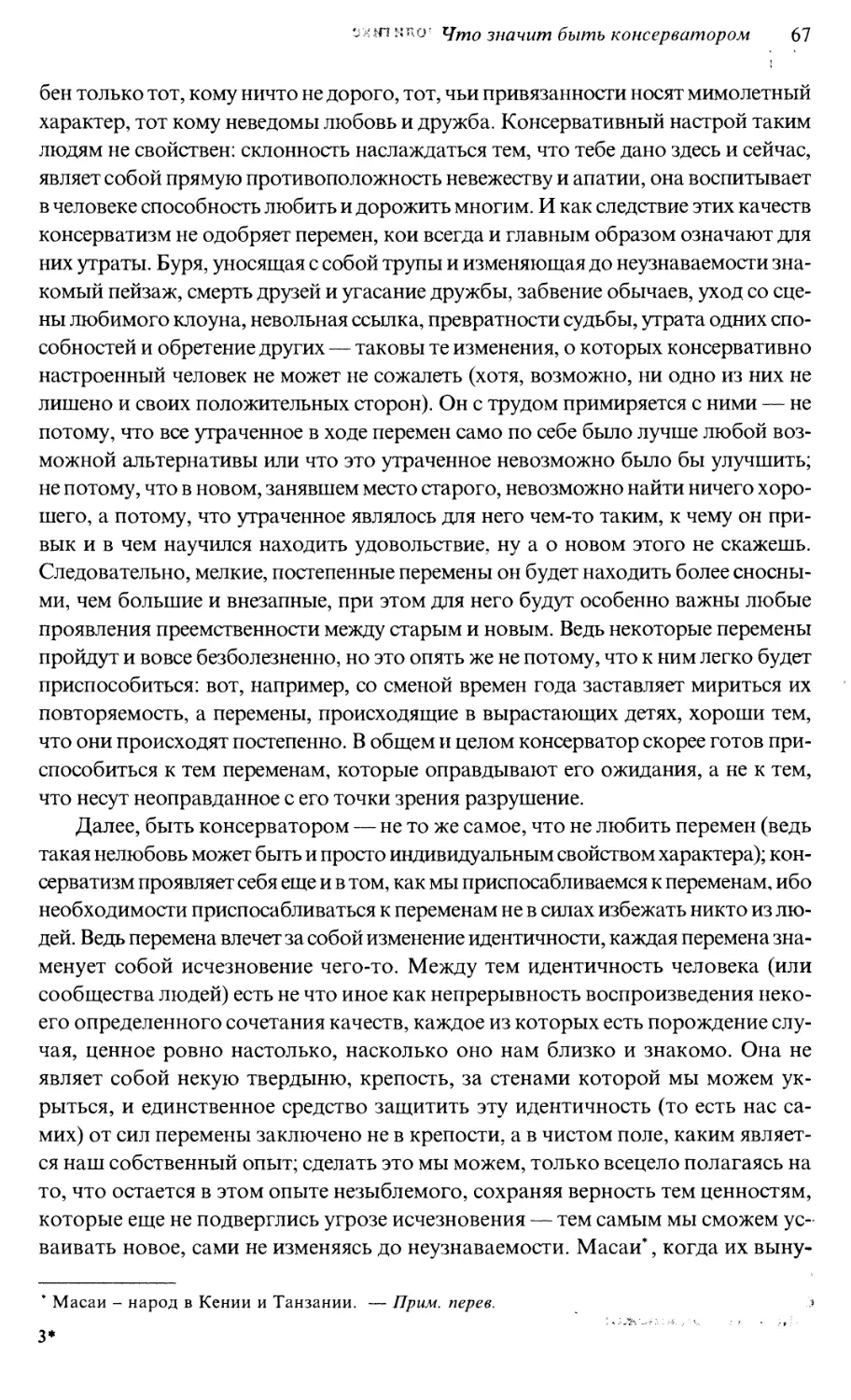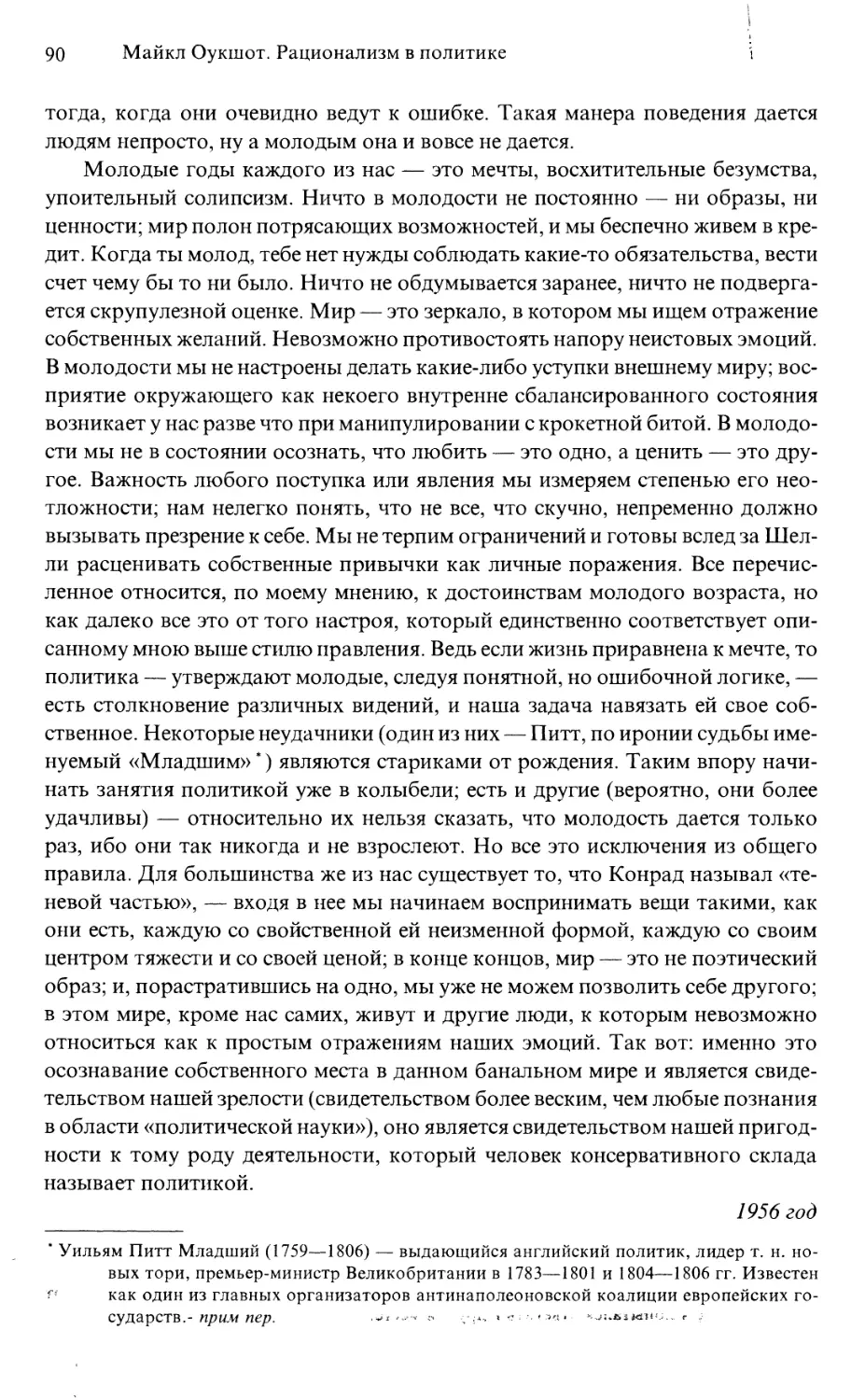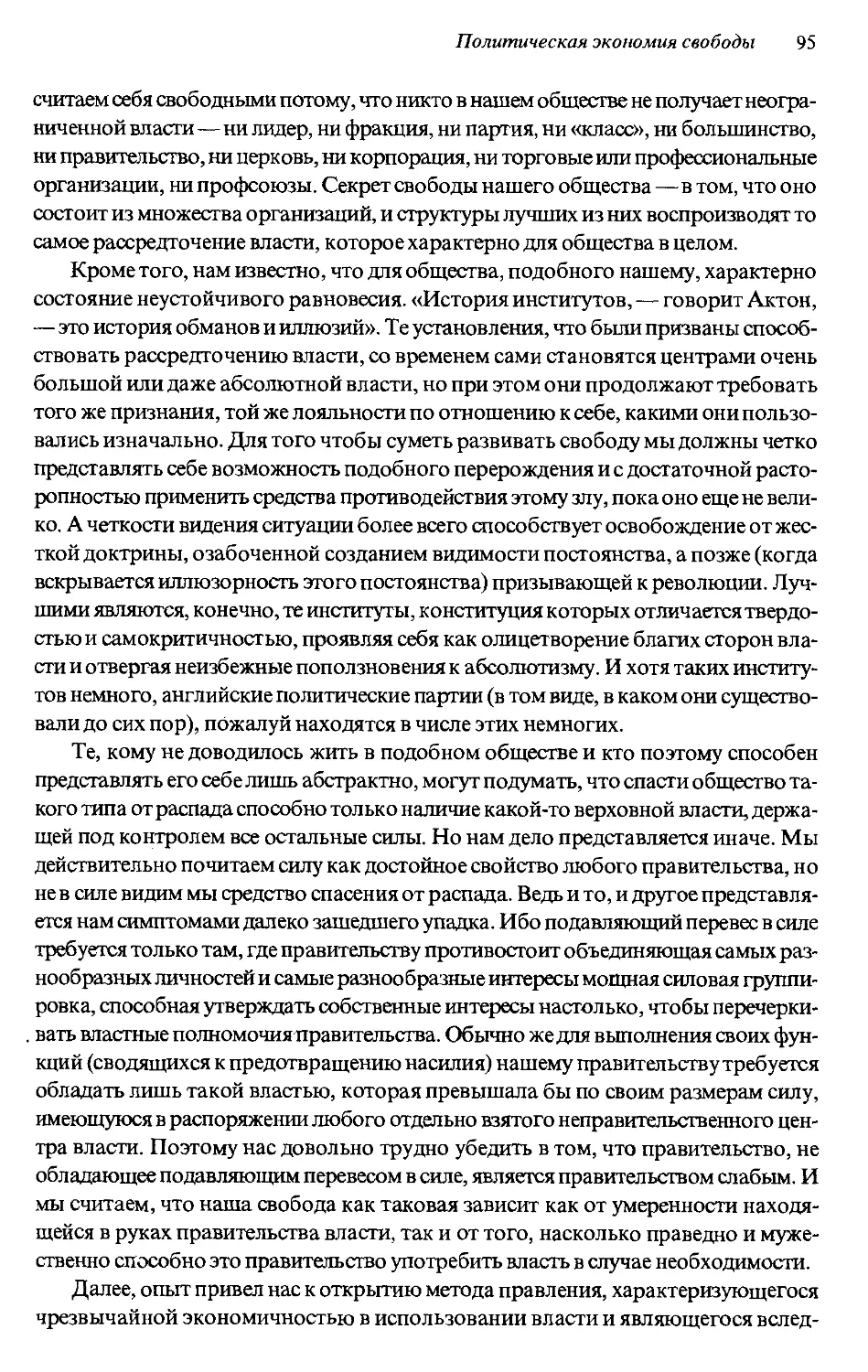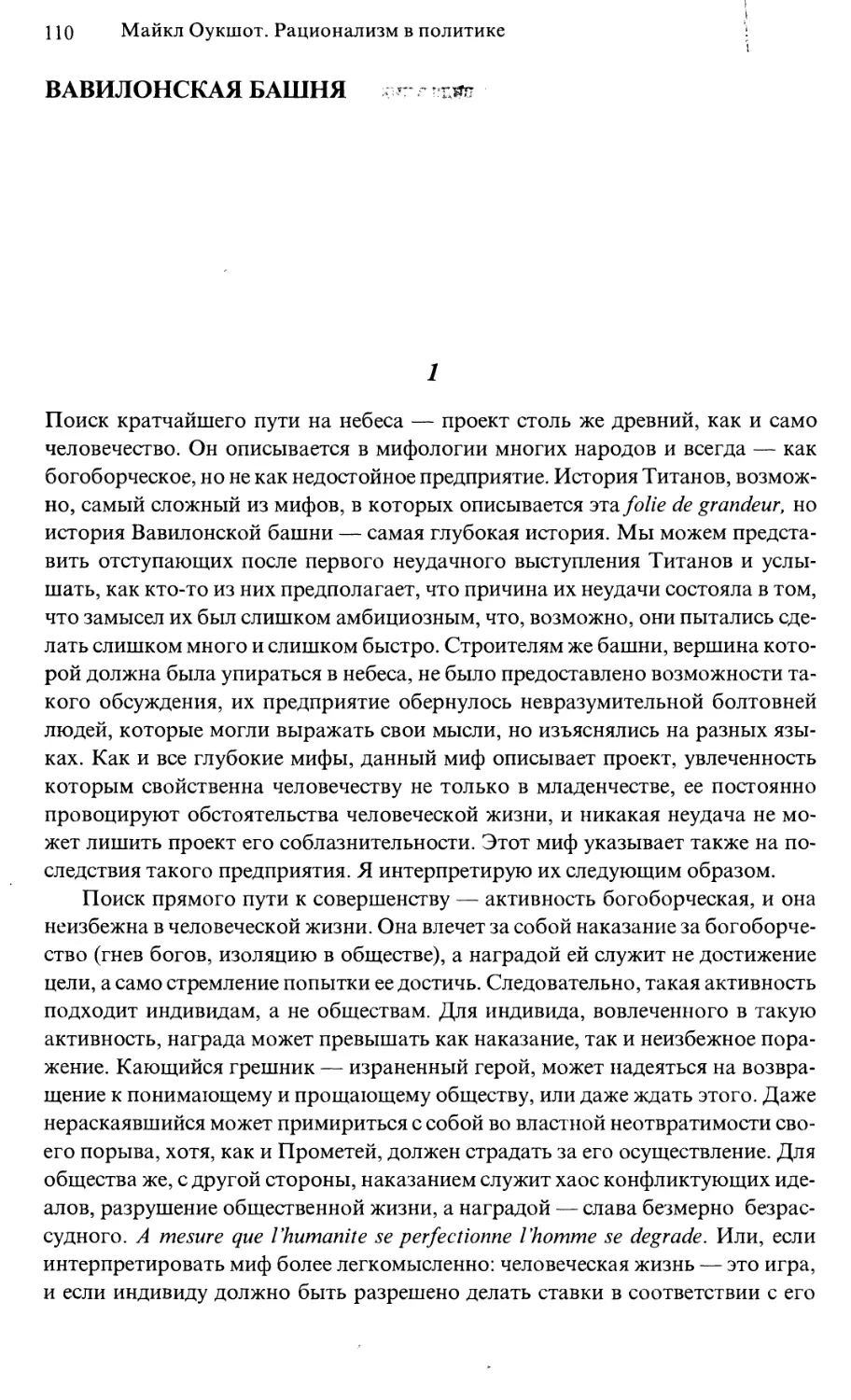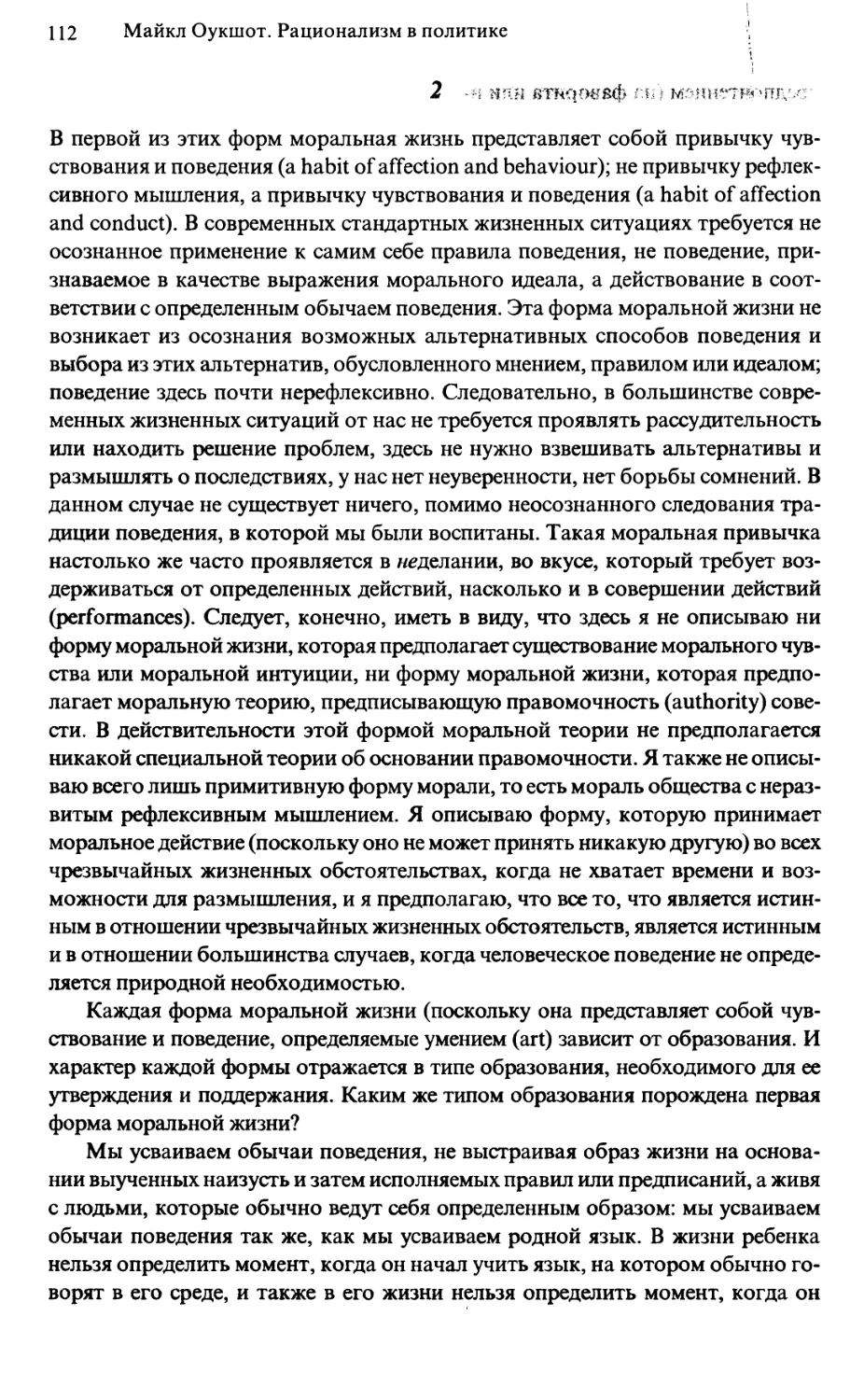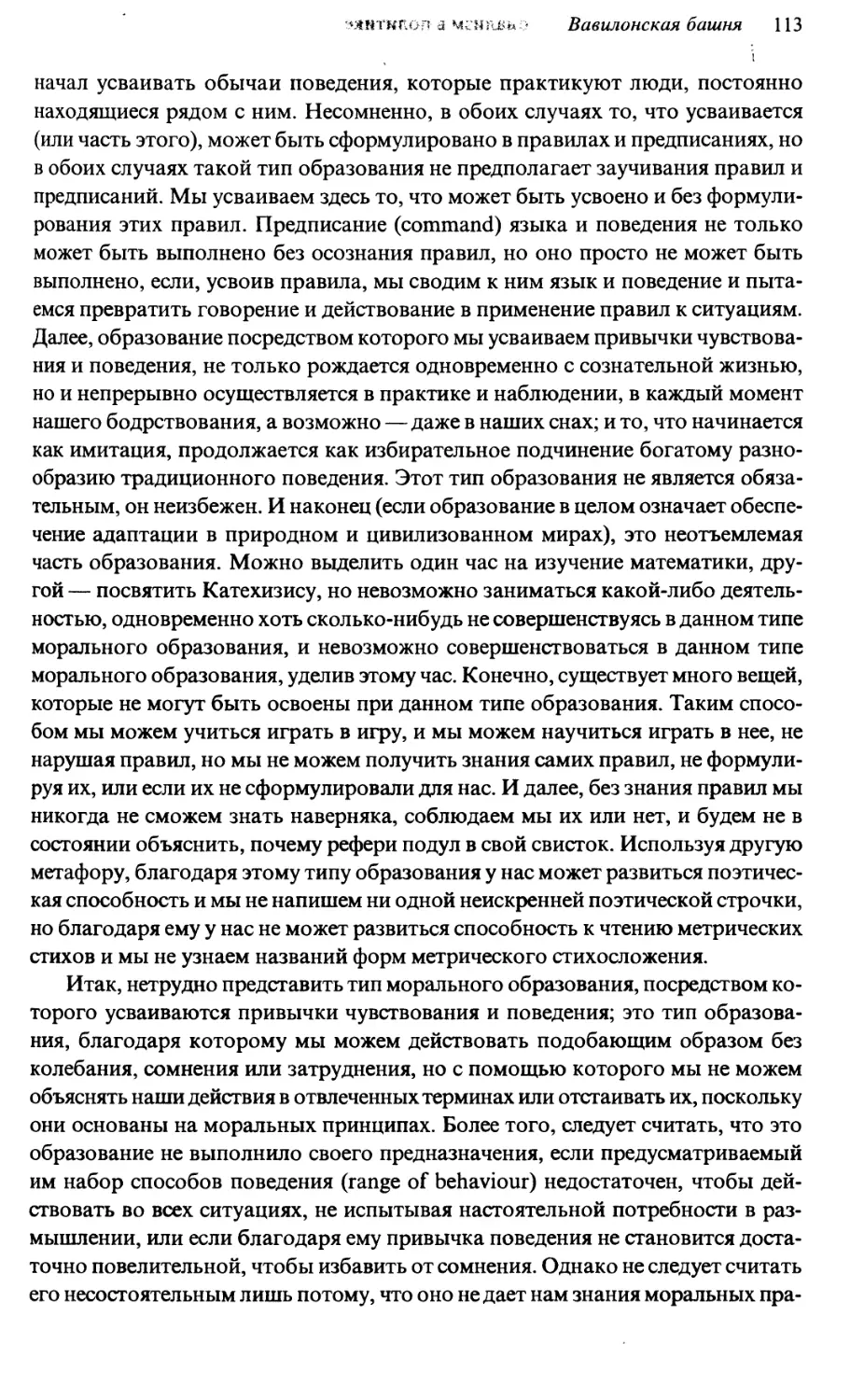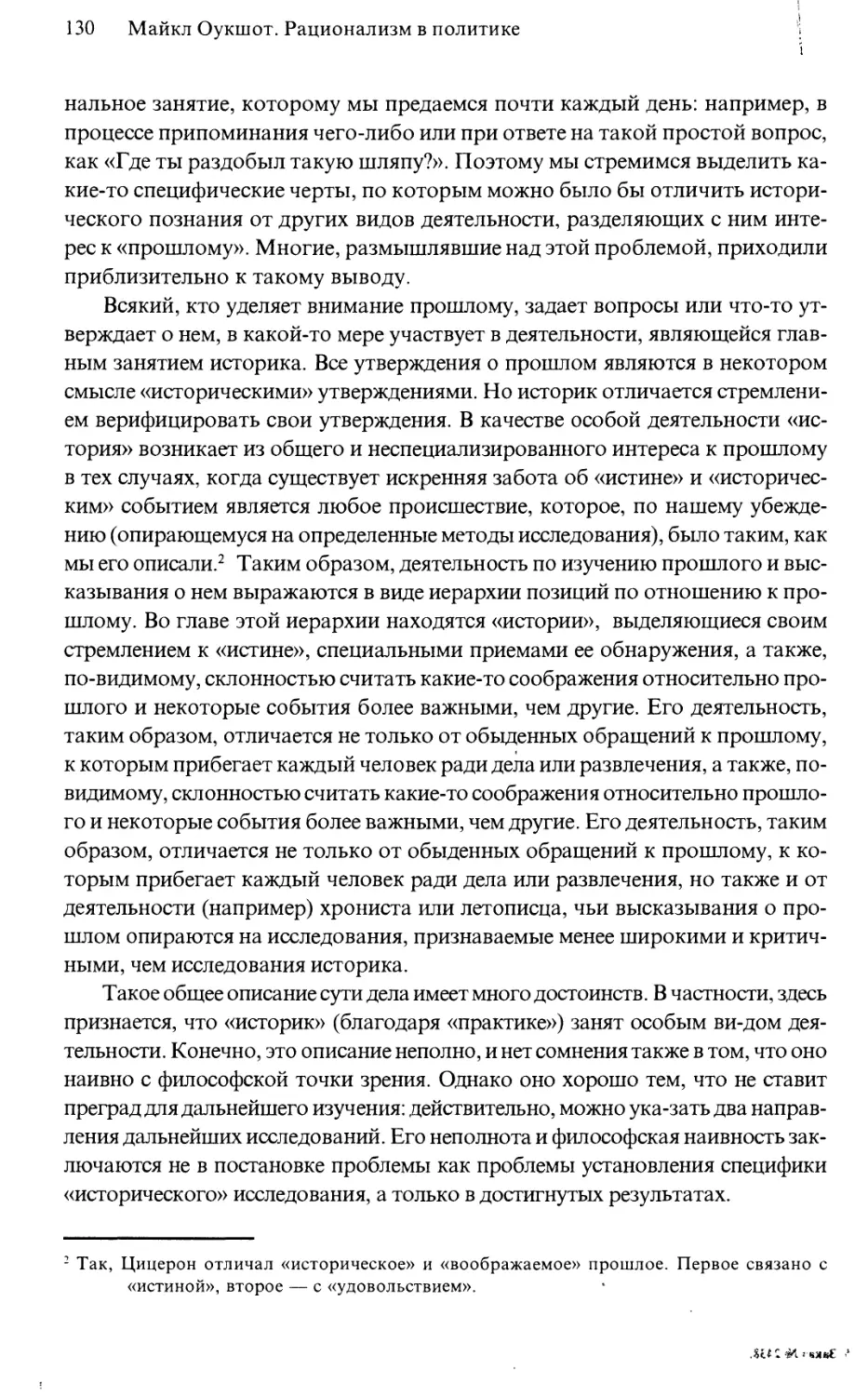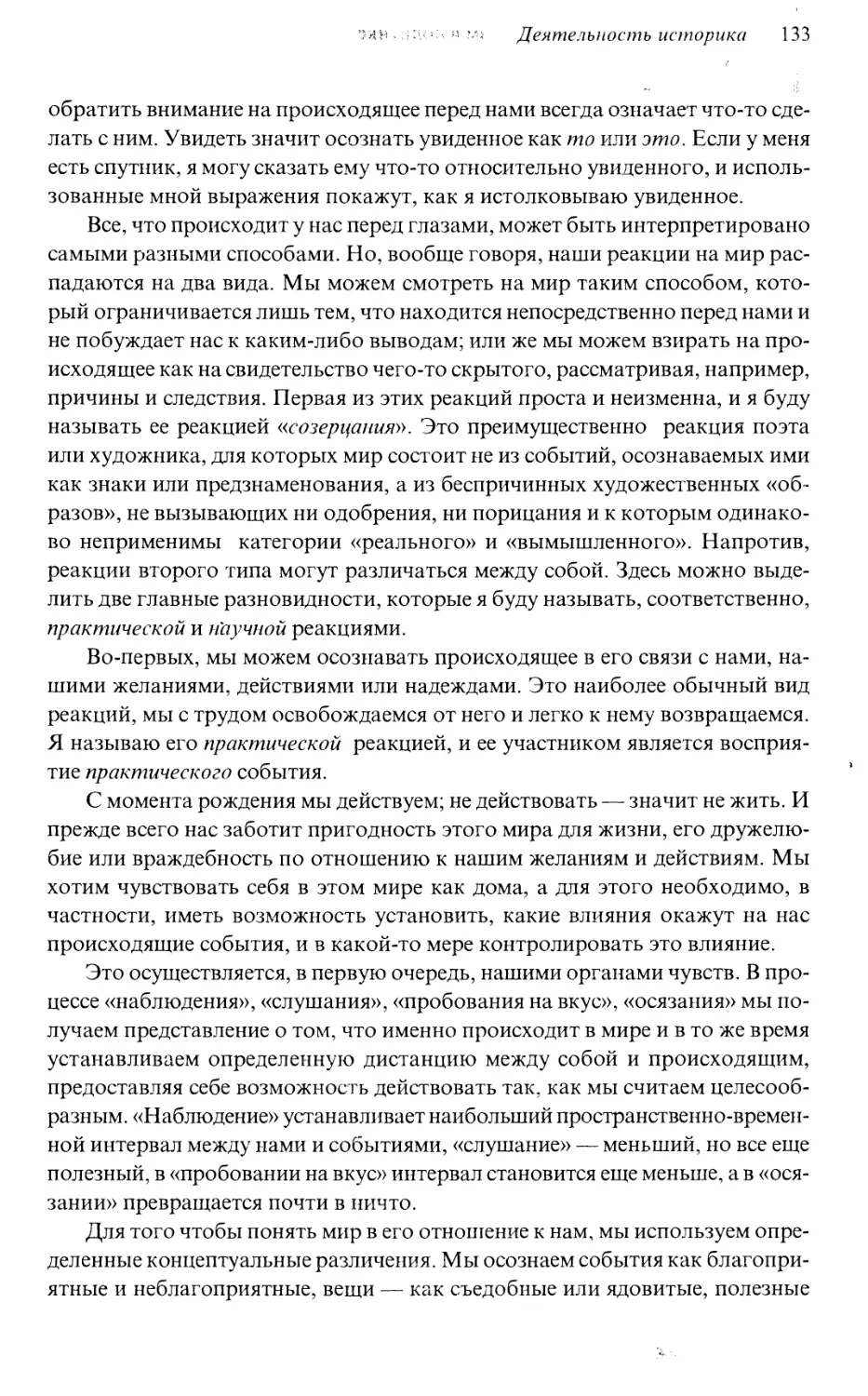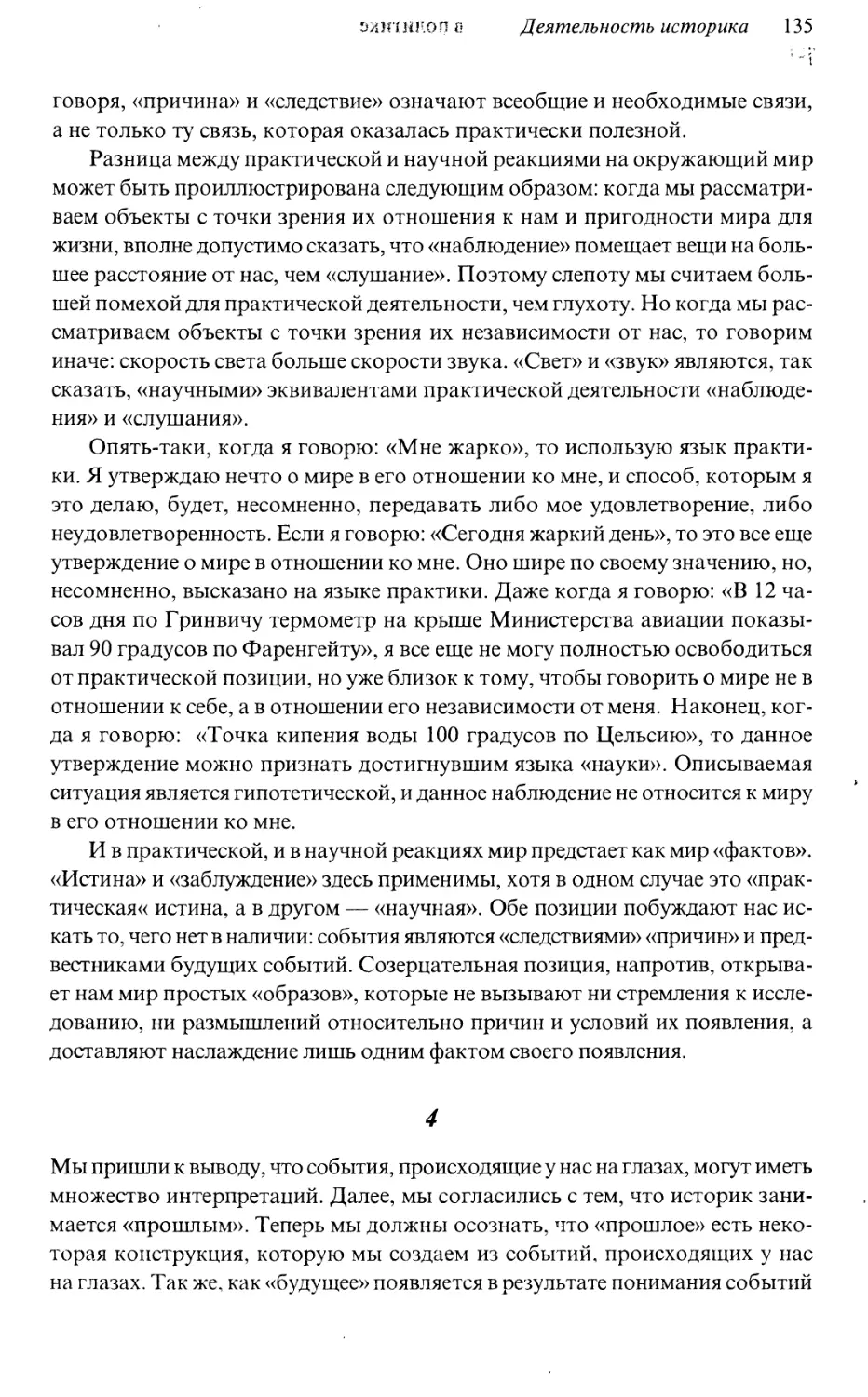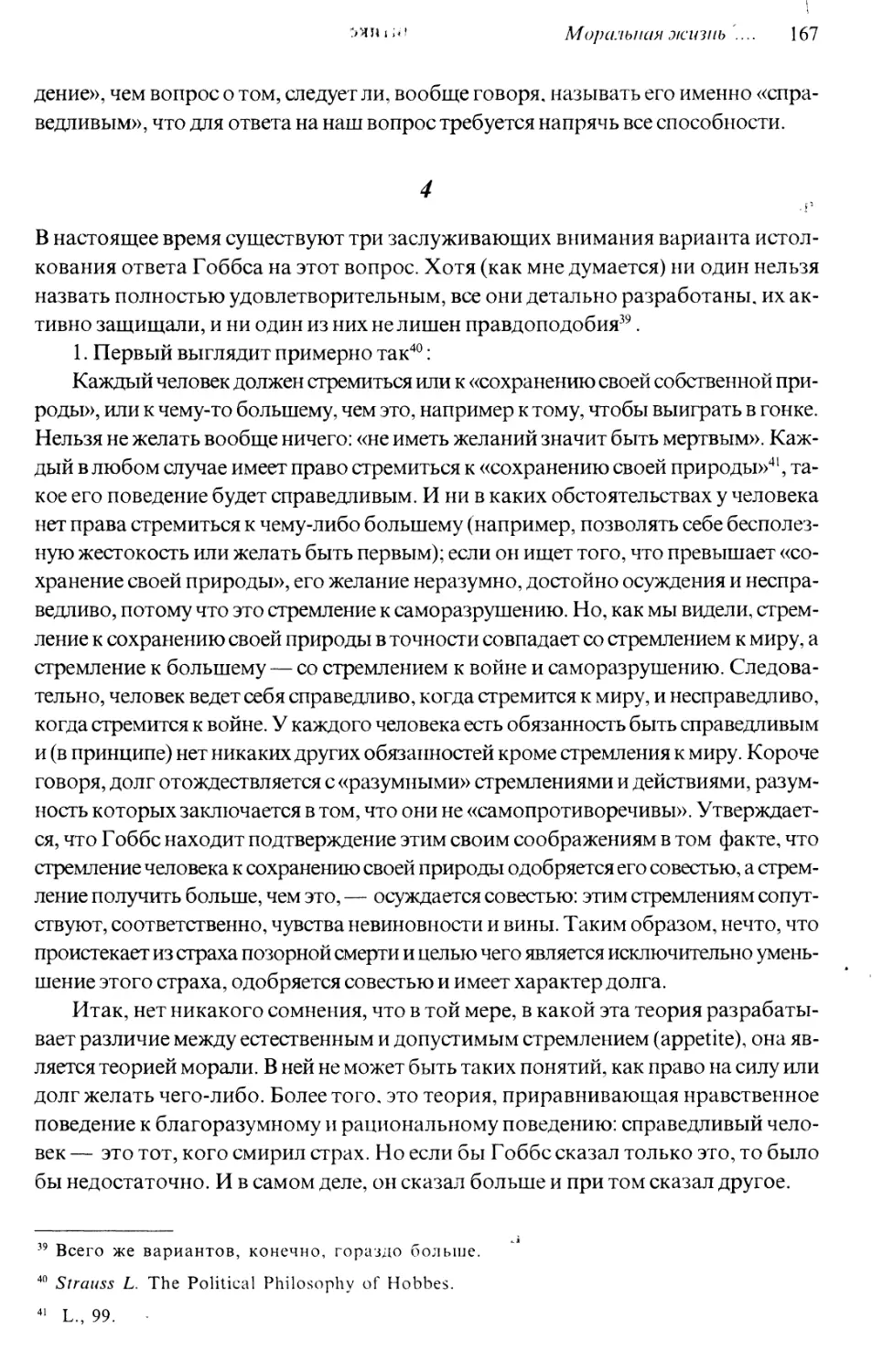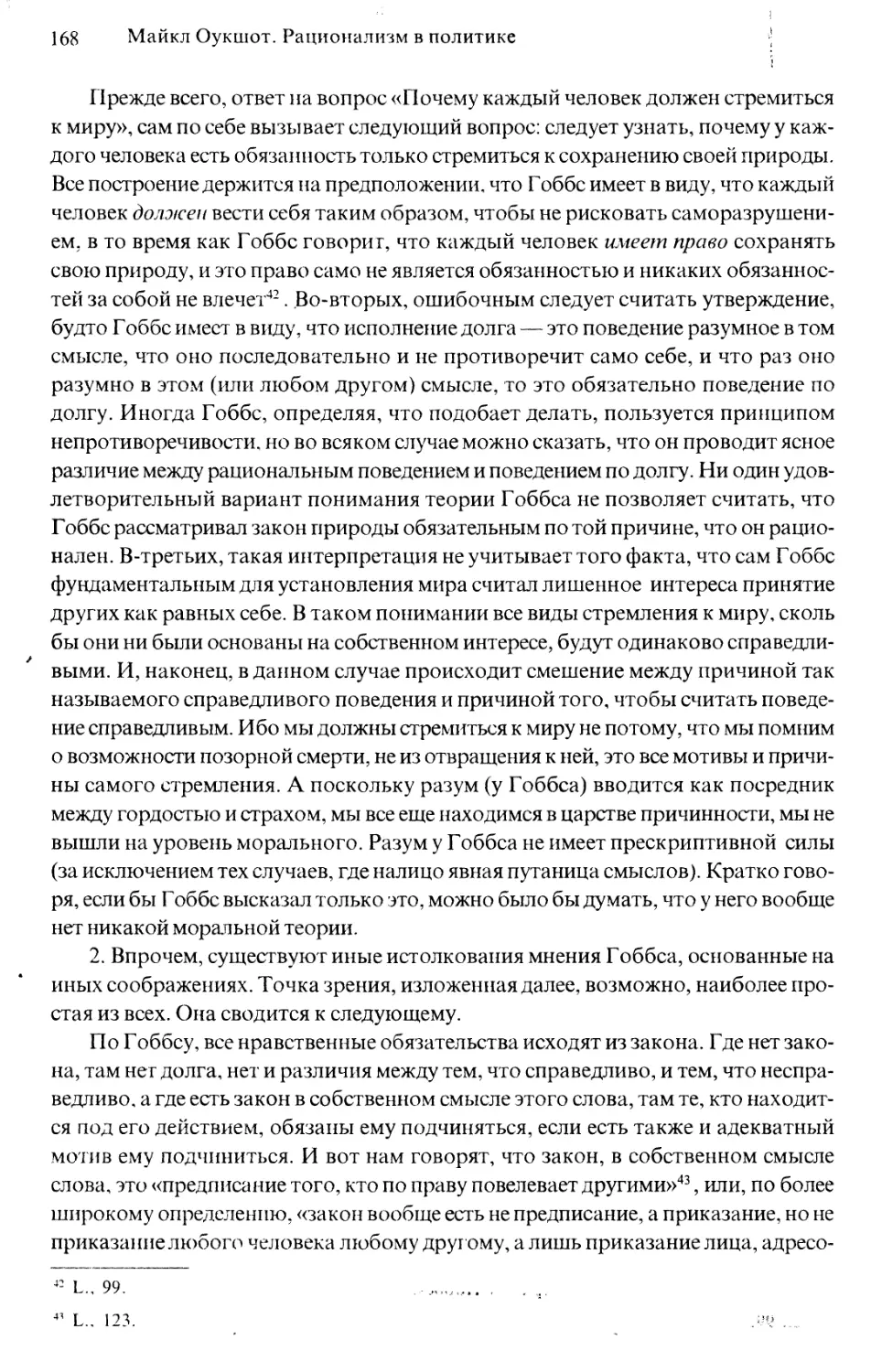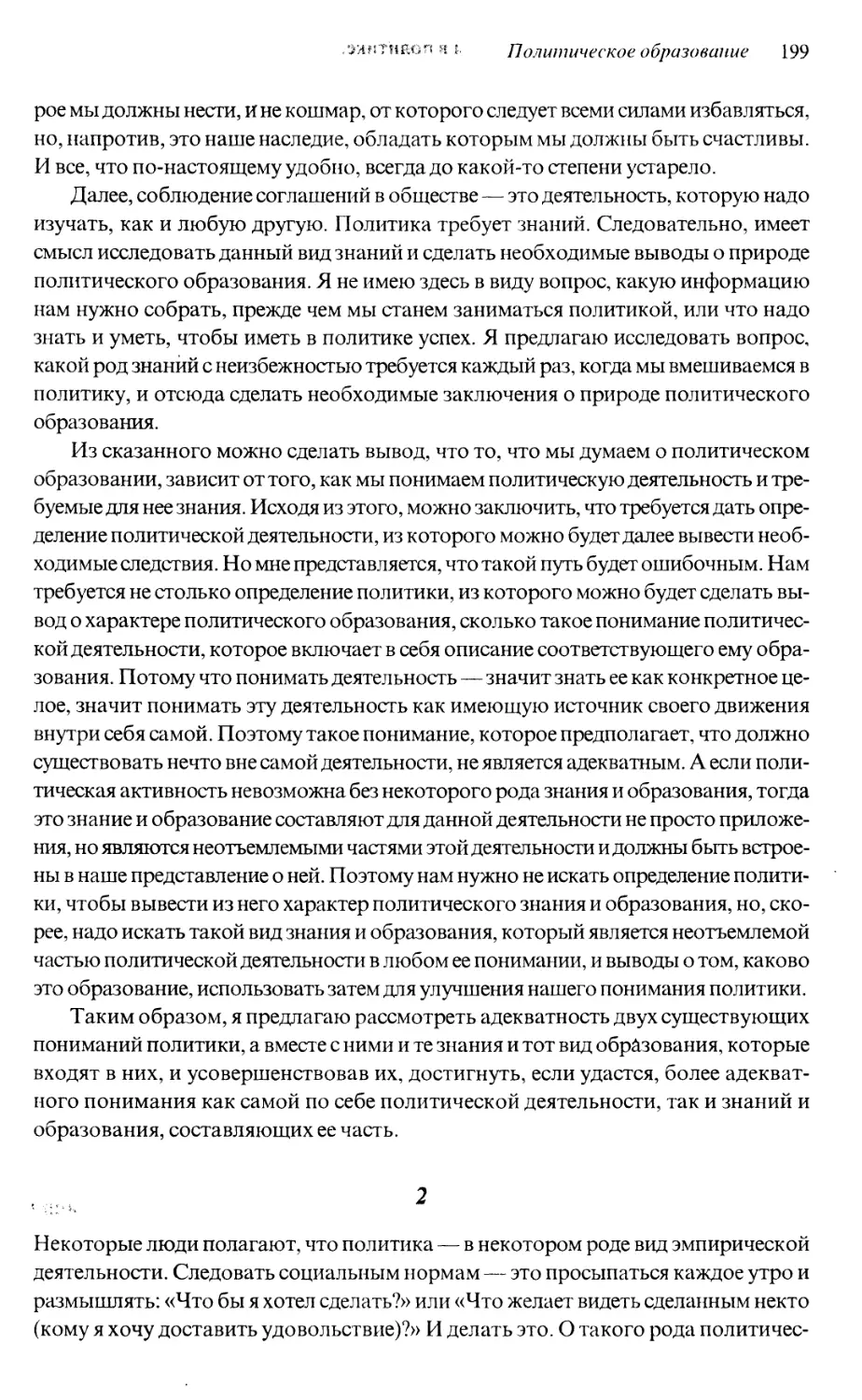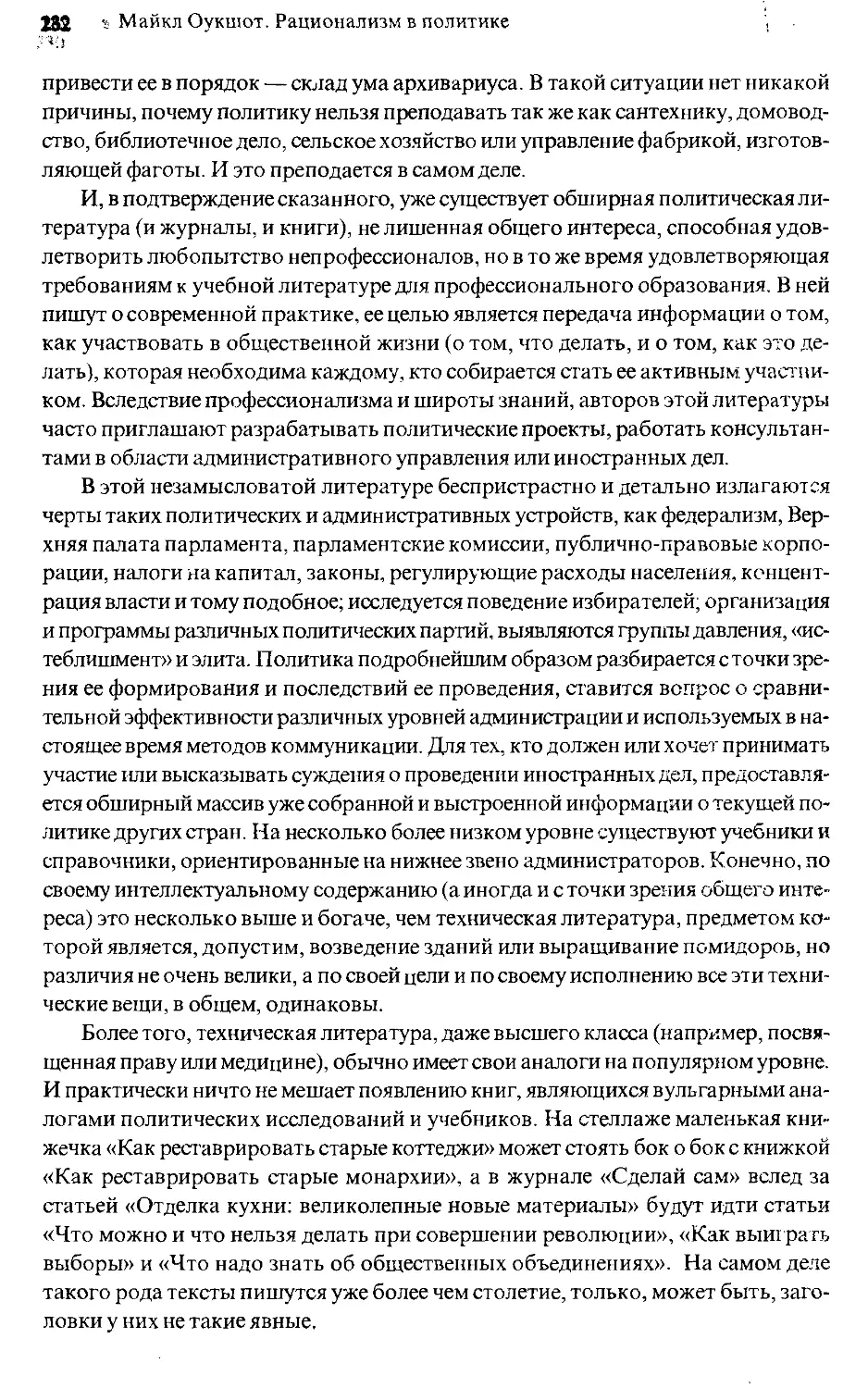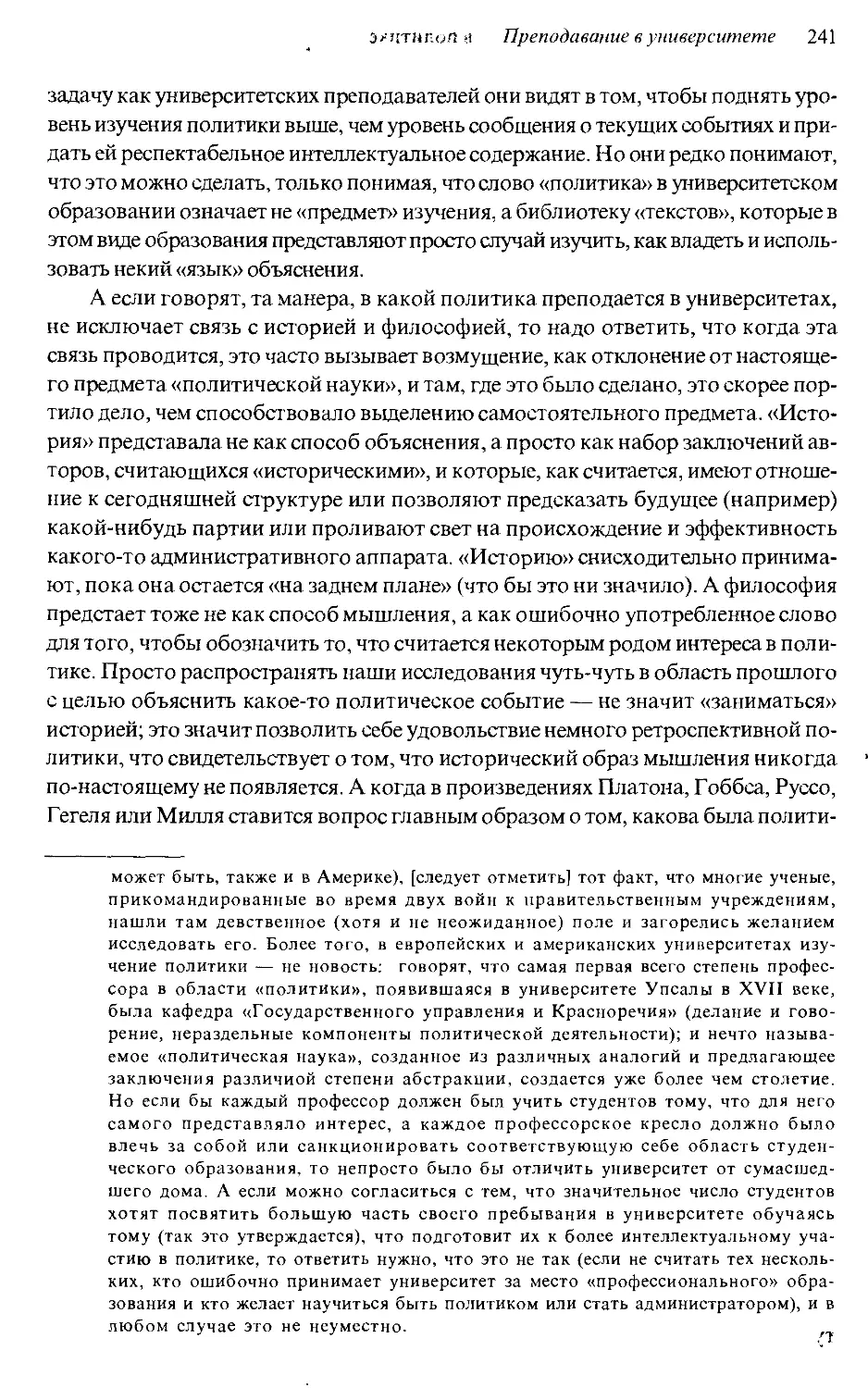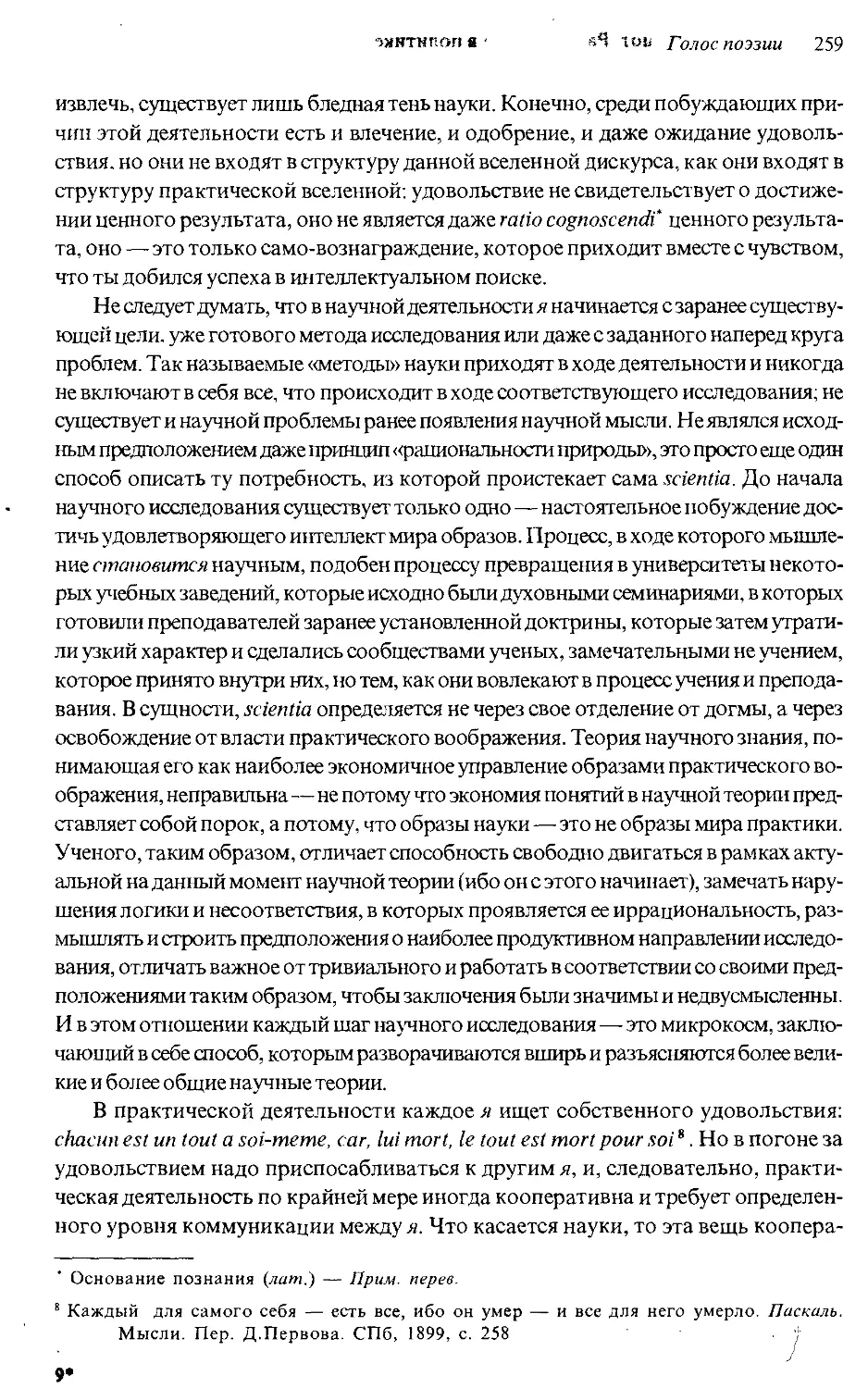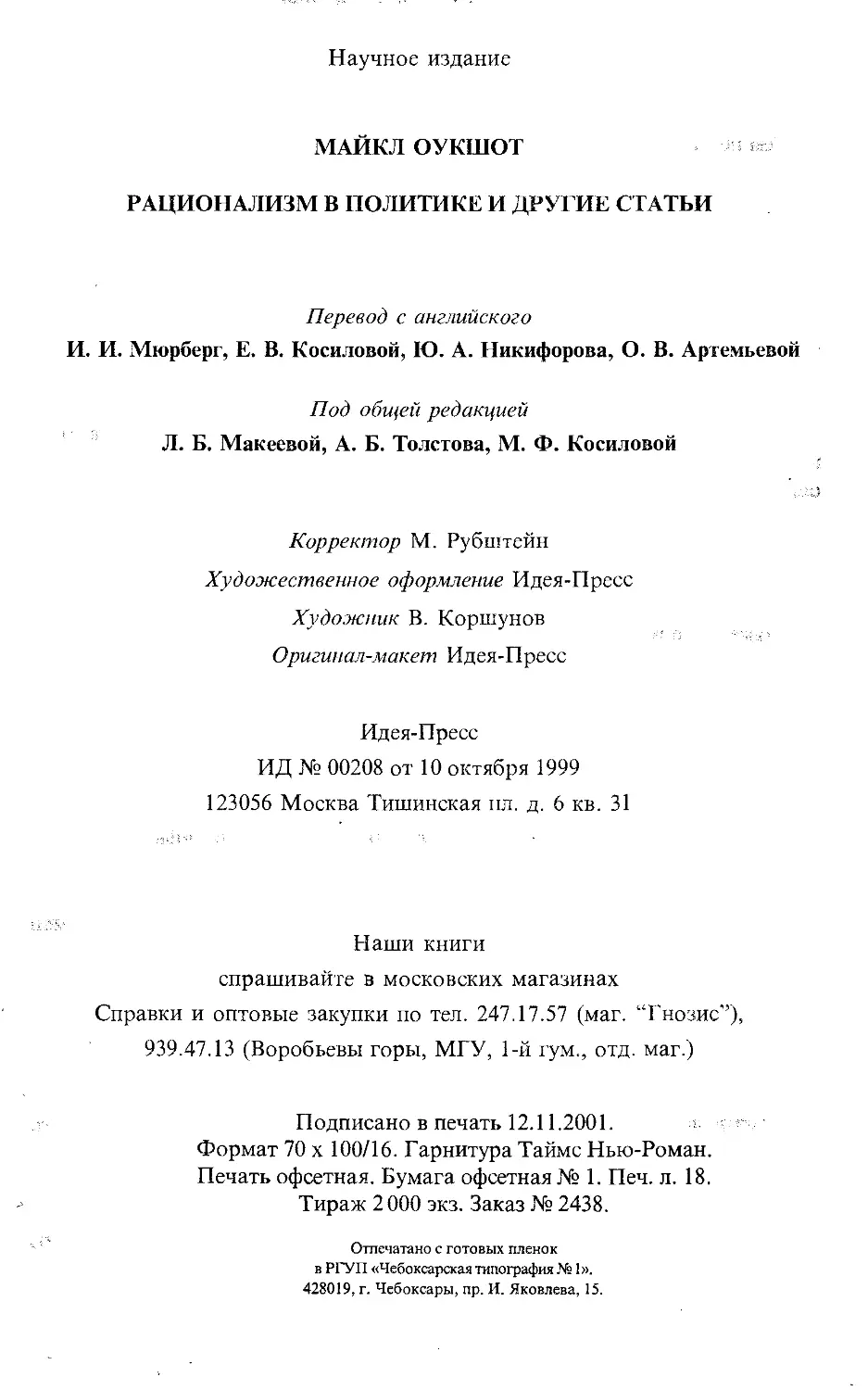Автор: Оукшот М.
Теги: история философии философия сборник статей морально-политические темы нравственная жизнь рационализм
ISBN: 5-7333-0036-1
Год: 2002
Текст
и<< (сваяия п с аналитическом философии
Майкл Оукшот
jp\ г те статьи
Рационализм
в политике
Идея-Пресс
исследования по аналитической философии
исследования по аналитической философии
Rationalism in Politics
and Other Essays
by Michael Oakeshott
Methuen & Co LTD London, 1949
исследования по аналитической философии
Майкл Оукшот
Рационализм в политике
и другие статьи
Перевод с английского
И. И. Мюрберг, Е. В. Косиловой, Ю. А. Никифорова,
О. В. Артемьевой
Под общей редакцией
Л. Ь. Макеевой, А. Б. Толстова, М. Ф. Косиловой
Идея-Пресс, Москва, 2002
УД КЗ 2
ББК 87.3
090
Издание выпущено при поддержке
Института “Открытое общество” (Фонд Сороса) — Россия
в рамках мегапроекта “Пушкинская библиотека”
This edition is published
with the support of the Open Society Institute
within the framework of “Pushkin Library” megaproject
Редакционный совет серии “Университетская библиотека”:
Н.С. Автономова, Т.А. Алексеева, М.Л. Андреев, В.И. Бахмин,
М.А. Веденяпина, Е.Ю. Гениева, Ю.А. Кимилев, А.Я. Ливергант,
Б.Г. Капустин, Ф. Пинтер, А.В. Полетаев, И.М. Савельева,
Л.П. Репина, А.М. Руткевич, А.Ф. Филиппов
“University Library” Editorial Council:
Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Michail Andreev,
Vaycheslav Bakhmin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva,
Yuri Kimelev, Alexander Livergant, Boris Kapustin,
Francis Pinter, Andrei Poletayev, Irina Savelieva,
Lorina Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov
Оукшот, Майкл
090 Рационализм в политике и другие статьи. Перевод с англ. —
М.: Идея-Пресс, 2002. — 288 с.
Книга известного британского философа М.Оукшотта представляет собой
сборник статей, посвященных рассмотрению разнообразных морально-
политических тем, начиная с особенностей нравственной жизни современной
цивилизации и кончая трактовкой консерватизма и рационализма в политике.
ББК 87.3
ISBN 5-7333-0036-1
© Перевод с англ. И. И. Мюрберг,
Е. Н. Косиловой, Ю. А. Никифорова,
О. В. Артемьевой, 2001
© Художественное оформление Идея-Пресс,
В. П. Коршунов, 2001
© Идея-Пресс, 2002
Содержание
Рационализм в политике ......................................7
Перевод И. Мюрберг
Рациональное поведение......................................38
ПереводИ. Мюрберг
Что значит быть консерватором...............................65
Перевод И. Мюрберг
Политическая экономия свободы...............................91
Перевод И. Мюрберг
Вавилонская башня...........................................ПО
Перевод О. Артемьевой
Деятельность историка......................................128
Перевод Ю. Никифорова
Моральная жизнь в сочинениях Томаса Гоббса.................153
Перевод Е. Косиловой
Политическое образование...................................197
Перевод Е. Косиловой
Преподавание в университете предмета политики:
очерк об уместности........................................218
Перевод Е. Косиловой
Голос поэзии в беседе человечества.........................245
Перевод Е. Косиловой
эхнтянопa
Рационализм в политике
7
РАЦИОНАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ
Les grands hommes, еп apprenant aux falbles a reflechlre,
les ont mis sur la route de I'erreure.
Vauvenargues. «Maximes et Reflexions», 221*.
1
Данное эссе посвящено рассмотрению характера и достоинств наиболее
примечательного интеллектуального течения Европы времен постренессанса.
На поверхности этого течения проступают черты рационализма, свойственного
более отдаленному прошлому, в глубинных же своих слоях оно совершенно
самобытно; эту-то самобытность я и собираюсь рассмотреть — главным обра-
зом с точки зрения влияния, оказанного ею на европейскую политику. То, что
я называю рационализмом в политике, есть, конечно, не единственное (И,
определенно, не самое плодотворное) течение современной европейской полито-
логии. Но это — полнокровный и жизнеспособный образ мысли (являющийся
таковым благодаря своему родству со многими другими, столь же полнокров-
ными и жизнеспособными, интеллектуальными течениями современной Евро-
пы); он смог придать характерную окраску не какому-то отдельно взятому, а
всем без исключения политическим направлениям, невзирая на партийные
различия. Рационалистическую или приближающуюся к рационалистической
позицию заняли почти все из ныне существующих политиков, и каждый шел к
ней собственным путем: одни следуют рационализму по убеждению, другие —
вследствие веры в то, что рационализм неотвратим, что он одерживает одну
победу за другой, третьи приняли его и вовсе без рассуждений.
Общий характер и настрой рационалиста определить, я думаю, несложно.
Это прежде всего утверждение (рационалист всегда утверждает) независимос-
ти разума в любых возможных обстоятельствах, утверждение свободы мысли,
отказывающейся преклоняться перед авторитетом и делающей исключение
только для авторитета «разума». Современная ситуация в мире превращает
рационалиста в спорщика: именно он оказывается врагом авторитетов, пред-
рассудков, всего традиционного, привычного, застойного. По своему образу
мысли рационалист является одновременно и скептиком, и оптимистом: скеп-
тиком — потому, что во всем разнообразии мнений, обычаев, верований (ка-
кими бы устоявшимися и общепризнанными они ни были) не находится ниче-
го, что избежало бы его критики, ничего, способного уйти от суда «разума»;
оптимистом же он является потому, что никогда не сомневается в способности
' «Великие люди, приобщая к размышлениям людей слабых, направляют их тем самым не
пути заблуждений» (Из афоризмов маркиза Вовенарга). — Прим, перев.
8 . Майкл Оукшот Рационализм в политике
собственного «разума» (коль скоро тот правильно применен) определять истин-
ную ценность вещей, справедливость мнений или уместность действий. Кроме
того, он укрепляется верой в «разум» всего человечества, в рациональность как
таковую, лежащую в основе любого рассуждения и дающую импульс к тому,
чтобы начать рассуждать. Над дверью любого рационалиста можно было бы
высечь предписание Парменида — выноси суждения путем разумного размыш-
ления. Но и это еще не все: рационалист — это интеллектуальный эгалитарист,
к тому же он в некотором роде является и индивидуалистом, считающим, что
если кто-то другой способен рассуждать так же честно и ясно, как и он, то ход
мысли такого человека вряд ли будет расходиться с его собственным.
Но было бы ошибкой приписывать ему излишнее пристрастие к априорным
суждениям. Не пренебрегает он и опытом, хотя зачастую создается обратное впе-
чатление — причиной тому его утверждения, будто речь может идти только о
собственном опыте (ведь он желает все всегда начинать сначала); пренебреже-
нием к опыту выглядит и та легкость, с какой он сводит любой многообразный
и запутанный опыт к набору принципов (которые затем он критикует либо за-
щищает — и все это исключительно с рационалистических позиций). Ему чужды
представления о накоплении опыта, для него опыт существует лишь в закончен-
ном — преобразованном в ту или иную формулу — виде, а прошлое видится ему
не более чем помехой настоящему. Он совершенно не обладает той негативной
способностью, которую приписывал Китс Шекспиру, — способностью подчи-
няться опыту, не выказывая (при столкновении с загадочными и неясными его
сторонами) той раздражающей суетливости, что продиктована стремлением все
упорядочить, во всем достичь достоверности. Он не способен к тому присталь-
ному и подробному изучению реально явленного, которое Лихтенберг зовет не-
гативным энтузиазмом, все его способности лежат в области обнаружения неко-
его глобального значения, которое мы начинаем придавать конкретным собы-
тиям при рассмотрении их через призму той или иной общей теории. По своему
образу мысли он является гностиком, сформулированное Рункеном (Ruhnken)
правило Oportet quaedam nescire для него — пустой звук. Встречаются люди, ум
которых как бы вбирает в себя весь долгий путь кропотливого познания тради-
ций и достижений той цивилизации*’, к которой они принадлежат; такие люди
производят впечатление личностей культурных, способных по достоинству оце-
нить оставленное им наследие. Но не таков ум рационалиста, похожий, в луч-
шем случае, на хорошо отлаженный нейтральный инструмент; подобный ум
уместно назвать тренированным, но вряд ли можно сказать, что он принадле-
жит культурному человеку. Интеллектуальные амбиции такого человека направ-
лены не на то, чтобы овладеть опытом сообщества, членом которого он являет-
ся; для него важнее заявить о себе как о неком самородке. А это придает его
интеллектуальным и практическим начинаниям почти что сверхъестественные
‘ Что-то должно оставаться неизвестным. Доел.: Надо чего-то и не знать (лат.) — Прим, перев.
" Здесь и ниже автор не делает различия между понятиями «цивилизация» и «культура». —
Прим, перев.
; - Рационализм в политике 9
обдуманность и честолюбие, совсем не оставляющие места для пассивности и
лишающие его поступки чувства ритма и связности, отчего деятельность его
выглядит сплошной чередой роковых обстоятельств, преодолеваемых при по-
мощи демонстрации силы ума (tour de raison). Интеллектуальная атмосфера, в
которой живет рационалист, не знает смен времен года и температурных коле-
баний; его умственные процессы максимально изолированы от внешних влия-
ний и протекают в некой пустоте. Такой человек — отмежевавшийся от тради-
ционных знаний собственного общества и не видящий смысла в том, чтобы ус-
матривать в образованности нечто большее, чем владение техникой анализа, —
как правило, склонен считать общество неопытным и потому беспомощным в
критические моменты жизни; ему недостает самокритичности даже для того,
чтобы спросить себя: а как же столь неопытному сообществу удавалось выжи-
вать все это время? В попытках прожить каждый свой день так, как если бы это
был его первый день на нашей земле, он достигает почти что поэтической отре-
шенности от мира; самую возможность того, что что-то станет для него привыч-
кой, он воспринимает как личное поражение. Если же, отвлекаясь от аналити-
ческих способностей рационалиста, попытаться присмотреться к особенностям
его личности, то не столько в характере его, сколько в темпераменте мы заметим
глубинное неприятие феномена времени, нетерпеливую устремленность в вечность
и нервное раздражение при столкновении с чем-то злободневным и преходящим.
Между тем изо всех сфер человеческой деятельности именно сфера политики
может показаться наименее поддающейся рационализации — ведь политике свой-
ственно глубоко увязать в традиционном, случайном и преходящем. Именно на
этом поле признавали свое поражение некоторые из убежденных рационалис-
тов: так, Клемансо, в интеллектуальном плане являвшийся детищем современ-
ной рационалистической традиции (о чем свидетельствует, например, его отно-
шение к морали и религии), отнюдь не был рационалистом в политике. Но по-
бежденными на этом поле признали себя не все. Если не говорить о религии, то
величайшие из несомненных побед рационализма были одержаны именно в об-
ласти политики: не следует надеяться, будто кто-то из тех, кто сделал рациона-
лизм стилем своей повседневной жизни, удержится от превращения его также и в
стиль своего поведения на ниве общественной жизни
Однако, говоря о таком типе людей, важно отметить, что узнать их можно
вовсе не по тем решениям и поступкам, на которые вдохновляются эти люди, а
по тому, что составляет источник их вдохновения: я имею в виду их специфичес-
кие представления о политической деятельности (ведь представлениям таких
людей присуща осознанность и продуманность). Конечно же, рационалист ве-
рит в открытость разума, в свободу его от предрассудков и их наследия — обы-
чаев. Он верит в то, что ничем не скованный человеческий «разум» (если только
таковой возможен) явится безошибочным советчиком в политической деятель-
ности. Еще он верит в рассудок как некий технический аспект применения «ра-
'Заслуживающее доверия описание политики рационализма со всей присущей ей путаницей
и неоднозначностью см. в кн.: Blackham J. Н.Political Discipline in a Free Society r
]о Майкл Оукшот Рационализм в политике
зума», то есть его непосредственное воплощение; ведь все, что нужно рациона-
листу, это достичь истинности мнения и выявить рациональные основания су-
ществования (но отнюдь не использования) того или иного института. Следова-
тельно, политическая деятельность рационалиста во многом сводится к вынесе-
нию на суд собственного разума всей совокупности наличных социально-поли-
тических, правовых и институциональных структур общества; в остальном же
его заботит лишь обеспечение такого рационального управления, при котором
«разум» получает безграничные полномочия. Рационалист не может признать
ценность чего бы то ни было только потому, что это существует (тем более когда
это существует на протяжении многих поколений); то, насколько привычен нам
предмет, не имеет никакого значения — ничто не должно ускользнуть от крити-
ческого рассмотрения. При таком подходе, как правило, легче дается не приня-
тие или реформирование сущего, а разрушение его и созидание нового. Чинить,
ставить заплатки (то есть заниматься делом, требующим терпеливого изучения
материала) — это для него пустая трата времени; использованию привычного,
проверенного средства он всегда предпочтет изобретение чего-то нового. Нали-
чие изменения он признает только в том случае, если таковое произведено со-
знательно, и из-за этого он склонен допускать ошибку отождествления обычно-
го, традиционного, с неизменным. Ярким примером такой ошибки является от-
ношение рационалиста к идейным традициям. О сохранении или улучшении та-
ких традиций, по его мнению, не может быть и речи, ведь это, в понимании ра-
ционалиста, равносильно тому, чтобы по собственной воле подчиниться тради-
ции. Традиция должна быть разрушена. А на место разрушенной традиции ра-
ционалист помещает собственное творение — идеологию, представляющую со-
бой формализованную, сокращенную версию того, что, как он полагает, и явля-
лось «рациональным зерном» разрушенной традиции.
Практическое ведение дел видится рационалистом исключительно как дея-
тельность, направленная на разрешение проблем; причем совершенно негодны-
ми для этой цели объявляются все те, чей разум закоснел под властью привычек,
либо оказался замутненным традициями. Пригодными же для названной дея-
тельности рационалист считает людей его собственного склада — таковых он
называет «инженерами по духу»: разум таких людей всецело соответствует тех-
нике выполнения поставленной задачи. Решение задачи неизменно начинается с
исключения из внимания «инженера» всего того, что не имеет непосредственно-
го отношения к стоящей перед ним конкретной задаче. Именно в понимании
политики как частного случая инженерии и состоит миф рационалистической
политики. И конечно же миф этот непрестанно муссируется в рационалистичес-
кой литературе. Вдохновляемую этим мифом политику можно охарактеризо-
вать как политику насущных нужд, ибо, в понимании рационалиста, политика
всегда отражает сиюминутные настроения. Характер проблем всецело предпи-
сывается ему обстоятельствами, решение же их никоим образом от обстоятельств
не зависит. Сама мысль о том, что в любой отдельно взятый исторический пери-
од что бы то ни было может стать препятствием для удовлетворения данной
сиюминутной потребности общества, должна представляться рационалисту со-
5интнпоГ1 а манг Рационализм в политике 11
вершенненшей чепухой и мистикой. Фактически проводимая им политика есть
не что иное как опыт рационального разрешения тех головоломок, которые ие
перестают возникать в реальной жизни общества, пока это общество придает
первостепенное значение собственным сиюминутным потребностям. Благодаря
такому подходу политическая жизнь превращается в сплошную череду кризи-
сов, и преодоление всех их выпадает на долю «разума». При этом перед каждым
новым поколением и даже перед каждой новой властью как бы открывается не-
тронутая область безграничных возможностей. Случись же, что эта tabula rasa"
вдруг окажется исписанной иррациональными каракулями одурманенных тра-
дициями предков,—тогда изначальной задачей рационалиста должно будет стать
очищение доски; как было замечено Вольтером, единственный способ получить
хорошие законы — это сжечь все нынешние законы и начать с чистого листа2.
Рационалистической политике как таковой присущи и две другие характер-
ные черты. Данная политика всегда стремится, во-первых, к совершенству, а во-
вторых — к единообразию; наличие только одной из этих характеристик гово-
рит о принадлежности ее обладателя к иному типу политиков: суть рационализ-
ма заключена в сочетании того и другого. Можно сказать, что тезис о недолго-
вечности любого совершенства является первым слагаемым рационалистичес-
кого кредо — ведь характер рационалиста нс лишен и скромности; рационалист
допускает возможность возникновения таких проблем, разрешение которых явит-
ся для его разума непосильной задачей. Чего он не может себе представить —
так это политики, несводимой к деятельности по разрешению проблем; не до-
пускает он и существования таких политических проблем, для которых нельзя
было бы найти какого-либо рационального решения. Таковые он относит к
лжепроблемам. А «рациональное» разрешение любой проблемы является, по
определению, совершенным решением. При этом, называя данное решение со-
вершенным, рационалист имеет в виду решение не просто «лучшее для данной
ситуации», а «наилучшее изо всех возможных»; ведь, в его понимании, функция
разума как раз и состоит в преодолении любых обстоятельств. Конечно, рацио-
налиста нельзя считать безусловным перфекционистом с помыслами, вечно уст-
ремленными к некой всеобщей Утопии; но в том, что касается деталей, ои неиз-
менно проявляет себя как перфекционист, А политика, направленная на дости-
жение совершенства, порождает политику насаждения единообразия; игнори-
рование обстоятельств приводит к тому, что и для многообразия не остается
места. «Природа вещей такова, что в ней непременно должна быть предусмотре-
на единая, лучшая из всех, форма правления, с которой просто не может не со-
гласиться любой разумно мыслящий человек, коль скоро ему удалось очнуться
от сна первобытного невежества» — пишет Годвин. Этот отважный рациона-
лист дерзнул придать всеобщее значение тому, что более умеренные сторонники
* Чистая доска (лат.). — Прим перев.
г Ср,г Платон. Государство, 501а. Мысль, будто от закона можно' освободиться, сжегши
его, типична для рационалистов, для которых закон — это всего лишь нечто иаши-
санное. .
12
Майкл Оукшот Рационализм в политике
данного кредо готовы признать справедливым лишь для частных случаев. Но,
как бы там ни было, сформулированный рационалистами принцип гласит: даже
если ото всех политических напастей невозможно найти одного-единственного
избавления, то для каждой из них в отдельности всегда имеется некое противо-
ядие, и оно столь же универсально в применении, сколь рационально по содержа-
нию. Коль скоро для какой-то из проблем общества найдено рациональное реше-
ние, то допустить, чтобы какая-то из частей этого общества не приняла данного
решения, значило бы, ex hypothesi, поступить иррационально. Отдать предпочте-
ние какому-то одному решению можно только исходя из рациональных основа-
ний, но все рациональные основания с неизбежностью совпадают между собой.
Следовательно, политическая деятельность должна быть направлена на то, что-
бы единообразно усовершенствовать поведение всех без исключения людей.
Современная история Европы прямо-таки наводнена проектами рациона-
лизации политики. Наиболее возвышенный из этих проектов принадлежит, по-
жалуй, Роберту Оуэну, ратовавшему за «всемирный договор об освобождении
рода человеческого от невежества, нищеты, разобщенности, греховности и не-
счастий» — проект, настолько возвышенный, что даже рационалисту он спосо-
бен показаться эксцентричным (хотя объяснить, почему ему, рационалисту, этот
проект показался таковым, сам рационалист не смог бы). Не менее характерной
чертой нынешнего поколения следует признать настойчивые поиски им некой
безобидной силы, которую нестрашно было бы возвеличить настолько, что она
смогла бы контролировать все прочие властные силы, действующие в челове-
ческом обществе; столь же характерна для нынешнего поколения присущая ему
вера в то, что политические структуры способны сделать ненужными нравствен-
ное воспитание и политическое образование. Представление о возможности сде-
лать основой общества (будь то общество, состоящее из индивидов или сообще-
ство государств) Декларацию прав человека есть порождение рационалистичес-
кого ума. Это же можно сказать и о возведении в ранг всеобщих принципы «на-
ционального» или расового самоопределения. Такими же перлами рационалис-
тической мысли являются проект так называемого воссоединения христианских
церквей, открытая дипломатия, единый налог, концепция государственной служ-
бы, при назначении на которую кандидатам «помимо их личных способностей,
не понадобится никакой профессиональной квалификации», доклад Бевериджа,
закон об образовании 1944 года, федерализм, национализм, наделение жен-
щин правом голоса, закон о регулировании трудовых отношений ", круше-
1 Согласно гипотезе (лат.). — Прим, перев.
" Имеется в виду т. н. закон Вагнера, принятый в США в 1938 г. Данным законом, распро-
страняющимся на всех наемных рабочих, занятых в коммерческих операциях иа об-
гцефередальном уровне, устанавливался минимальный уровень оплаты труда (25
центов в час в течение первого года действия закона; в последующие 7 лет этот ми-
нимум должен был быть доведен до уровня 40 центов в час). Кроме того, устанавли-
валось, что рабочее время, превышающее 44 часа в неделю в первый год действия
закона, 42 часа во второй и 40 часов в последующие годы, должно считаться сверху-
рочными и оплачиваться отдельно. — Прим, перев.
-л1 s • f Рационализм в политике 13
ние Австро-Венгерской империи, Всемирное государство (по проекту Г. Дж.
Уэллса или кого бы то ни было еще), а также восстановление гэльского язы-
ка в статусе официального языка эйров.
2
Образ рационалиста связывается в нашем сознании с представлениями о ра-
ционализме как о некоем спокойном озере: водная гладь его привычна нашему
взору, вид ее впечатляет нас; воды озера питаются из многих лежащих в поле
нашего зрения источников. Однако в глубинах этого озера бьет невидимый ключ;
и хотя не он был тем источником, что наполнил в свое время озеро, но именно он
стал главным гарантом его долговечности. Таким ключом является в рациона-
лизме учение о человеческом знании. Тому, что глубины рационализма таят в
себе тот или иной родник, не удивятся даже люди, поверхностно знакомые с ра-
ционализмом. Превосходство чистого интеллекта состоит именно в том, что он
способен получить более обширное и точное знание о человеке и обществе, чем
если бы он был чем-то обременен; превосходство идеологии над традицией со-
стоит в том, что она обладает большей точностью и создает видимость доказуе-
мости собственных тезисов. Вместе с тем она не является философской теорией
познания в истинном смысле слова, и это можно доказать общедоступным язы-
ком. Любая наука, любое искусство любой вид практической деятельности пред-
полагает обладание достоверными знаниями. Эти знания повсеместно бывают
двух видов, и оба вида в равной степени участвуют во всякой реальной деятель-
ности. Думаю, в том, чтобы называть их двумя разными видами знания, нет пре-
увеличения — ведь несмотря на то что отдельно друг от друга они не существу-
ют, между ними имеются некоторые важные различия. Первый вид знания я бы
назвал техническим знанием или знанием техники. В любом искусстве или на-
уке, в любой практической деятельности не обойтись без знания техники тела.
Во многих видах деятельности технические знания облечены в форму правил,
поддающихся сознательному заучиванию, запоминанию и могущих, как мы уже
сказали, применяться на практике. Но независимо от того, получили ли такие
знания точную формулировку или нет, главная их черта — в том, что они могут
быть точно сформулированы, хотя для этого могут потребоваться особые уме-
ния и глубокое понимание предмета3. Техника вождения автомобиля (по край-
ней мере отчасти) описана в Правилах дорожного движения, техника приготов-
ления пищи — в кулинарной книге, а техника совершения открытий в области
естествознания или истории — в соответствующих правилах организации ис-
следований, ведения наблюдений и построения доказательств. Знание второго
типа я назову практическим, так как оно существует только в применении, не
является рефлективным и, в отличие от технических знаний, не может быть сфор-
мулировано в виде правил. Все это, однако, не означает, что речь идет об эзоте-
рическом знании. Это означает, что подобное знание распространяется и стано-
3 Polya G. How То Solve It.
и ; Майкл Оукшот Рационализм в политике t
вится всеобщим не через формулирование того или иного учения. А если рас-
сматривать его в данном аспекте, то, думаю, не будет ошибкой причислить его
к традиционному типу знания. Это знание также присутствует и в любой дея-
тельности; без него невозможно ни овладеть каким бы то ни было умением,
ни заниматься какой-то конкретной деятельностью.
Таким образом, два названных вида знания отличны один от другого и в
то же время нераздельны, они являются двумя компонентами знания, вовле-
ченного в любую конкретную человеческую деятельность. Если говорить о
практическом умении, таком как, например, кулинария, то ведь никто же не
думает, что те знания, которыми обладает кухарка, ограничиваются только
тем, что написано в кулинарной книге, или что кулинарная книга способна
описать все, что умеет делать кухарка; кулинарное искусство там, где оно
действительно существует, объединяет в себе то, что я называю технически-
ми знаниями, и знания практические. То же самое можно сказать и об изящ-
ных искусствах, музыке и поэзии; обилие технических знаний (пусть даже
таковые выступают в утонченном и законченном виде) — это одно, способ-
ность же создать произведение искусства, способность сочинить нечто поис-
тине музыкальное или написать прекрасный сонет — это совсем другое: по-
мимо техники, здесь надобен и другой вид знаний. И в любой поистине науч-
ной деятельности эти два вида знаний также необходимы4. И естествоиспы-
татель непременно воспользуется такими находящимися в его арсенале тех-
ническими приемами, как правила наблюдения и верификации, но эти пра-
вила составят лишь часть из имеющихся в его распоряжении инструментов
познания; научные открытия никогда не являются результатом простого сле-
дования правилам 5 6. Аналогичным образом обстоит дело и с религией. Было
бы, я думаю, чрезмерной вольностью называть христианином человека, со-
вершенно не знакомого с технической стороной отправления христианского
религиозного культа — не имеющего представления, скажем, ни о символе
веры, ни о процедуре богослужения, но совершенной нелепостью было бы
полагать, что даже самое совершенное знание символа веры и катехизиса дает
исчерпывающее представление о том, что есть христианство. А то, что спра-
ведливо относительно таких предметов, как кулинария, живопись, естествоз-
нание и религия, справедливо и относительно политики: знание политики
4 Ряд замечательных наблюдений на данную тему сделано в кн.: Polanyi М. Science, Faith
and Society.
5 Так, например, Полья (хотя его книга посвящена эвристике) выдвигает предположение о
том, что основные условия успешности научного исследования состоят, во-первых,
в том, чтобы «иметь мозги и обладать везеньем», а во-вторых, в том, чтобы «сидеть
и ждать, когда тебя посетит блестящая идея», причем ни первое, ни второе не отно-
сится к разряду технических правил.
6 Высказывание, доносящее до читателя подобную мысль, Фукидид вкладывает в уста Пе-
рикла. Согласно Периклу, глуп тот политик, который отказывается от технических
знаний. Вместе с тем основной идеей Надгробной речи является та, что в политике
имеет значение техническая сторона дела, а практические навыки и традиционные
познания.
9Я1ф1Ж>пам: Рационализм в политике 15
предполагает обладание как техническими, так и практическими познания-
ми 6. Ведь во всех областях деятельности, в центре которых — воздействие на
людей (например, медицина, управление производством, дипломатия, а так-
же искусство военачалия), политическая деятельность характеризуется, прежде
всего, той двойственностью, о которой идет здесь речь. Относительно этих
областей деятельности неправильно было бы утверждать, что технические
познания дают возможность человеку (например, врачу) понять, что нужно
делать, а практические — как это следует делать, как вести себя у постели
больного, как добиться правильного отношения пациента к своей деятельно-
сти. Но уже в самом вопросе «что делать?» (в первую очередь на этапе поста-
новки диагноза) содержится описанный дуализм техники и практики: нет и
не может быть такого знания, которое не являлось бы определенным ноу хау.
К тому же различие между техническими и практическими познаниями не
совпадает с различиями между знанием средств и знанием целей, хотя порой
может показаться, что здесь имеет место совпадение того и другого. Короче,
нигде — и конечно уж не в политической деятельности — технические позна-
ния невозможно отделить от практических и нигде нельзя считать их ни тож-
дественными, ни взаимозаменяемыми 7.
Итак, нас интересуют различия между двумя названными видами знания;
при этом важны те различия, которые проявляются в том, сколь неодинако-
во выглядят эти виды знания и сколь несхожими путями они приобретаются.
Как мы уже видели, существует тенденция формулировать технические
знания в виде правил, принципов, направлений и афоризмов. Технические
знания можно изложить в форме книги. Поэтому нас не удивляет то, что,
например, художник, пишущий о своем искусстве, освещает лишь его техни-
ческую сторону. Делает он это не потому, что ему чужда так называемая эс-
тетическая сторона творчества, и не потому, что он считает данную сторону
несущественной, а потому что эту сторону он уже выразил (если он худож-
ник) в своих картинах, а другого способа выражения он не знает. То же мож-
7 Правитель Хуан-ди читал книгу в дальнем конце зала; у входа в зал возился с колесом колесный
мастер. Отложив в сторону киянку и зубило, мастер обратился к правителю, поинтересовав-
шись тем, что тот читает. «Книгу, запечатлевшую высказывания мудрецов, — ответил ему
герцог. «А живы ли эти мудрецы?» — спросил колесный мастер. «О нет, — сказал герцог, —
они умерли.» «Тогда то, что ты читаешь, — сказал колесный мастер, — есть лишь осадок да
пена, оставшиеся от этих ушедших людей.» «Как смеешь ты, колесный мастер, поносить то,
что читаю я. Я готов простить тебя, только если ты дашь надлежащие объяснения своим
словам. В противном же случае ты умрешь.» — «Я сужу обо всем как колесных дел мастер:
если я делаю колесо и движения мои слишком медленны, то колесо хорошо тормозит, но
вращается неравномерно; если же движения мои слишком быстры, то колесо вращается
равномерно, но при торможении скользит. Приучить руки не допускать ни слишком быст-
рых, ни слишком медленных движений можно, только если душой вникнешь в свое дело.
Словами (правилами) этого не передать; это искусство, объяснить которого я не могу даже
своему сыну; потому-то я и не могу передать ему свое ремесло; вот и приходится мне в
семьдесят лет продолжать делать колеса. Думаю, и с вашими старцами все обстоит таким
же образом. Все, что было в них ценного, умерло вместе с ними; а все остальное они записа-
ли в своих книгах. Потому-то я и сказал, что вы довольствуетесь осадками и пеной ушед-
ших людей.» Джуан-цзы.
16
Майкл Оукшот Рационализм в политике
но сказать и о верующем, пишущем о религии 8, или о поваре, пишущем о
кулинарии. Можно заметить, что возможность точно формулировать техни-
ческие знания придает этим знаниям как минимум видимость достоверности,
ибо кажется, что в вопросах техники можно достичь достоверности. В то же
время характерной чертой практических знаний является то, что они не подда-
ются какому-либо формулированию. Им свойственно находить выражение в
привычных или традиционных способах действия или, попросту говоря, в обыч-
ной практике. А это придает им видимость неточности, а стало быть, и недо-
стоверности; они являются нам в обличье частного мнения, выступают не
столько как истина, сколько как вероятность. Ведь знания этого рода обнару-
живают себя как вкус, чутье — в том числе, художественные — они лишены
категоричности, и разум всякого, кто пытается овладеть этими знаниями, спосо-
бен оставить на них свой собственный отпечаток.
Техническими знаниями можно овладеть по книге; им можно выучиться даже
заочно. Кроме того, изрядную часть их можно заучить наизусть, зазубрить и
применять механически: именно к техническим знаниям этого рода принадле-
жит логика силлогизмов. Короче говоря, технические знания поддаются наибо-
лее примитивным формам заучивания и преподавания. Практическим же знани-
ям невозможно научиться, их нельзя преподавать, их можно лишь усвоить, об-
рести. Они есть часть практики, и единственный способ обрести их — это пойти
в подмастерья к мастеру, но не потому, что мастер способен научить практичес-
ким знаниям (этого он не в состоянии сделать), а потому, что обретаются они
лишь в постоянном контакте с практическим носителем этих знаний. Обычно,
постигая искусства или естественные науки, ученик, получающий от учителя
достоверные технические знания, обнаруживает, что ему удалось постичь и не-
что иное, но что это за знание, он толком выразить не может. Так, пианист обре-
тает не только технику исполнения, но и артистизм, шахматист — не только
знание ходов, но и определенный стиль и понимание игры, а ученый — помимо
всего прочего — способность понять, в какой момент технические знания начи-
нают уводить его в сторону; это чутье позволяет ему угадывать и то, какое из
направлений исследования является плодотворным, а какое — нет.
Итак, рационализм, как я его понимаю, сводится к утверждению о том,
что знания, называемые мною практическими, вовсе не являются знаниями;
собственно говоря, это утверждение означает, что единственным истинным
знанием является знание техническое. Рационалист считает, что под знания-
ми как составной частью человеческой деятельности следует понимать имен-
но технические знания, а все то, что я зову практическими знаниями, в дей-
ствительности есть всего лишь разновидность незнания, фактом существова-
ния которой можно было бы пренебречь, не доставляй эта разновидность так
много беспокойств. Суверенность «разума» равносильна для рационалиста
суверенности техники.
14 Св. Франсуа Сальский был набожным человеком, но писания его посвящены лишь техни-
ческой стороне набожности. . .
зшшУаУга Рационализм в политике 17
Все дело в том, какую роль приписывает рационалист достоверности. По-:
нятия техники и достоверности именно потому оказываются в его понима-
нии неразрывно связанными между собой, что обладание достоверным зна-
нием освобождает, как ему кажется, от необходимости искать какие-либо до-
стоверности вне самого этого знания; такое знание, которое не только при-
водит к достоверности, но и начинается с достоверности, и является досто-
верным на всем пути приобщения к нему. Ведь именно таковым и представ-
ляется техническое знание. Оно имеет вид некоего самодостаточного знания,
так как сохраняет свои качества, начиная с отчетливого первого шага (кото-
рым оно кладет конец чистому незнанию) и кончая отчетливым последним
шагом, когда оно приобретает завершенность (подобную той, что возникает
при полном заучивании правил новой игры). Это знание того типа, которое
можно полностью уместить в книгу и затем пользоваться им — скорее всего,
чисто механически, так как никакого иного знания, кроме описанного в кни-
ге, оно не несет. Так, например, превосходство идеологии над идейной тра-
дицией состоит в том, что первая производит впечатление самодостаточнос-
ти. Легче всего насаждать ее между людьми с совершенно пустыми головами;
если же пытаться привить ее тем, кто уже и так во что-то верит, то первым
шагом учителя должно будет стать «промывание мозгов», с помощью кото-
рого можно будет обрести уверенность, что из голов удалены все предрас-
судки и предвзятости и можно начинать закладывать новый фундамент на
незыблемом основании полного невежества. Короче говоря, технические зна-
ния являются единственным типом знаний, отвечающим испытываемой ра-
ционалистом потребности в достоверности.
Далее, я предположил, что ни один конкретный вид деятельности не спо-
собен ограничиться только техническими знаниями. А если так, то ошибка
рационалистов представляется весьма простой — она состоит в принятии
части за целое, в наделении части свойствами целого. Но этим одним ошибка
рационалистов не исчерпывается. Если самодостаточность техники можно
считать его главной иллюзией, то не меньшим заблуждением рационалиста
является представление о достоверности технических знаний. О превосход-
стве технических знаний заключают на том основании, что они, как кажется,
начинаются с чистого незнания и приходят к достоверному и полному зна-
нию; таким образом, создается впечатление того, что данное знание является
достоверным от начала до конца. На деле же все это — иллюзия. Процесс
приобретения технических знаний, как и любого знания вообще, состоит не в
уходе от чистого незнания, а в преобразовании ранее приобретенных зна-
ний. В пустую голову невозможно заложить ничего — даже полностью само-
достаточных технических знаний (правил игры); усвоение всего нового зави-
сит от того, что было усвоено ранее. Человек, знающий правила одной игры,
благодаря этому знанию быстрее научится правилам другой игры; а самым
неспособным учеником окажется тот, кто вообще не знает никаких правил
(если такое вообще можно себе представить). И подобно тому, как человек-
J8S Майкл Оукшот Рационализм в политике
самородок никогда не является самородком в полном смысле слова, так как
за ним стоит определенное общество и обширное, хотя и не замечаемое на-
следие, технические знания также фактически никогда не обладают самодос-
таточностью; представить их таковыми можно, лишь забыв те гипотезы, ко-
торые являются их исходными точками. И если самодостаточность этих зна-
ний иллюзорна, то столь же иллюзорна приписываемая им достоверность,
так как эта последняя рассматривается как следствие самодостаточности.
Однако не в развенчании рационализма состоит моя цель; ошибки рациона-
лизма интересуют меня только потому, что они вскрывают его характер. Нас
занимает не только вопрос истинности доктрины, но и та роль, которую данное
интеллектуальное направление играет в Европе эпохи постренессанса. И еще нам
предстоит попытаться дать ответы на следующие вопросы: какому поколению
принадлежит эта убежденность в самодостаточности техники? Откуда происте-
кает эта непоколебимая вера в человеческий «разум», понятый в духе рациона-
лизма? В какой среде, в каком контексте обитает данный интеллектуальный тип?
При каких обстоятельствах проник он в европейскую политику и каковы были
последствия этого проникновения?
3
Возникновение нового интеллектуального типа подобно появлению нового
архитектурного стиля; он складывается почти незаметно, испытывая на себе
влияние бесчисленного множества факторов, искать его истоки — пустой труд.
Ведь таких истоков попросту нет; все, что удается проследить, это медленные
изменения, бесконечное перетасовывание точек зрения, приливы и отливы
вдохновения — и, наконец, появление на свет новых очертаний. Любой историк
счел бы делом чести попытаться избежать огрубленного изображения данного
процесса, не забегая вперед и не запаздывая с выработкой точной дефиниции
того, что рождалось у него на глазах; но, находясь под впечатлением от того,
что он стал свидетелем возникновения нового явления, историк вместе с тем
должен был бы постараться не переоценить его значения. Однако для менее
амбиционных исследований данный момент зарождения нового представляет
первостепенный интерес. Так что я намерен не затягивать описание того, как
именно происходило зарождение современного рационализма и интел-лекту-
ального образа рационалиста. Начну с того времени, когда уже безоши-бочно
можно было судить о появлении этого нового направлени, — начну, рассмотрев
лишь один из элементов рационализма в контексте его становления. Речь пойдет
о начале XVII века: данный период, помимо всего прочего, нес на себе отпечаток
тогдашнего состояния знаний — как естественнонаучных, так и гуманитарных.
Начало XVII века характеризуется особым состоянием развития знания в
Европе — в этой области уже имелись значительные достижения, тяга к ис-
следованиям была так высока, как никогда ранее в истории, и питающие эту
исследовательскую страсть исходные допущения далеко еще не исчерпали в
этот период своего потенциала. Но вместе с тем вдумчивый наблюдатель мог
эянгыиоп я ж.нп- Рационализм в политике
19
бы прийти к выводу о том, что описываемому состоянию знаний не достает
чего-то весьма и весьма важного. «Состояние знания, — писал Бэкон, — не
отличается ни процветанием, ни большими успехами»9. И это отсутствие про-
цветания невозможно было объяснить сохранением прежнего образа мыслей,
враждебно настроенного по отношению к проводимым тогда исследовани-
ям. Данный образ мыслей представлялся помехой для умов, уже освободив-
шихся от исходных посылок (но не от деталей) аристотелевской науки. Инте-
рес к осуществлению исследований, методические приемы исследований —
всего этого было в избытке; чего не хватало данной эпохе — так это созна-
тельно сформулированной техники исследования, искусства интерпретации
результатов исследования, закрепленных на бумаге методических правил. На-
мерение восполнить данный пробел как раз и послужило изначальным им-
пульсом к зарождению нового интеллектуального настроя, определяемого
мною как рационализм. Главными фигурами эпохи формирования рациона-
лизма явились, конечно же, Бэкон и Декарт; в их сочинениях уже присутству-
ют основные черты рационалистического подхода.
я Бэкон стремился наделить разум всем необходимым для достижения дос-
товерного, доступного проверке знания о мире, в которым мы живем. Такое
знание недостижимо для «естественного разума», способного только к «мел-
ким вероятностным выводам», а не к достоверности 10 *. Именно этим несовер-
шенством объясняется то, что нынешнее состояние знаний далеко не благо-
получно. «Новый Органон» открывается анализом интеллектуальной ситуа-
ции того периода. В частности, констатируется отсутствие ясного понима-
ния природы достоверности, равно как и адекватных средств достижения
такого понимания. «Остается, — говорит Бэкон, — лишь один способ воз-
вращения к полноценному, здоровому состоянию, а именно, сызнова начать
всю работу по пониманию, не позволяя разуму с самого начала идти своим
путем, а направлять каждый его шаг» “. Требуется «надежный план», новый
«способ» понимания, «искусство» или «метод» исследования, «инструмент»,
способный (подобно механическим средствам, используемым людьми с це-
лью повышения эффективности их природной силы) восполнить недостатки
естественного разума, короче, нужна четко сформулированная техника ис-
следования 12. Он признает, что подобная техника явится своего рода поме-
хой для естественного разума, так как отнюдь не окрылит, а, напротив, утя-
9 Bacon. Novum Organum (Fowler), p. 157. (См.: Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.в 2 т. М.,
1977, т. 1, с. 60: «состояние наук неблагоприятно и не показывает их рост»),
10 Ibid., р. 184; там же, т. 2, с. 10: «не предполагать красиво и правдоподобно, но знать
твердо и очевидно».
" Ibid., р. 182; там же, т. 2, с. 8: «Остается единственное спасение в том, чтобы вся эта
работа была начата сызнова и чтобы ум уже с самого начала никоим образом не
был предоставлен самому себе, но чтобы он был постоянно управляем и дело совер-
шалось бы механически».
12 Ibid., р. 157; там же, т, 1, с. 60: «необходимо открыть человечеству новую дорогу ... и
дать ему новые средства помощи».
20
Майкл Оукшот Рационализм в политике
желит его, дабы не позволить ему посягать на слишком многое 13; но это будет
такая помеха, которая устранит другие помехи — те, что лежат на пути достиже-
ния достоверности, ибо естественному разуму достичь достоверности в знании о
мире мешает отсутствие дисциплины. Бэкон уподобляет данную технику техни-
ке построения силлогизма, показывая, что первая годится для установления ис-
тинности вещей, а вторая — для установления истинности мнений 14.
Рекомендуемое Бэконом искусство проведения исследования обладает тре-
мя главными характеристиками. Во-первых, оно представляет собой набор
правил, благодаря чему это искусство и является истинной техникой — точ-
ной инструкцией, поддающейся заучиванию наизусть 15. Во-вторых, это та-
кой набор правил, применять который можно чисто механически; это истин-
но технические знания, так как для пользования ими не требуется обладать
никаким другим знанием или пониманием кроме того, что заключено в самой
этой технике. Бэкон совершенно недвусмысленно говорит об этом. Дело ос-
мысления природы «совершалось бы механически» 16. «К этому не имеет ни-
какого отношения сила и совершенство разума (исследователя)» 17, новый ме-
тод «делает все умы и способности к пониманию приблизительно равными
между собой» 18. И в-третьих, подобный набор правил универсален в приме-
нении; его чисто технический характер обусловлен тем, что как инструмент
исследования он безразличен к предмету исследования. «
Далее, значимым элементом данного проекта является не (позитивный или
негативный) характер правил ведения исследования, а само представление о
возможности разработки подобной техники. Ибо предлагаемый набор неких
непогрешимых исследовательских правил представляет собой нечто весьма при-
мечательное — этакий философский камень, универсальную отмычку, «науку
наук». В описании деталей данного метода Бэкон немногословен: он не посяга-
ет на роль создателя метода в целом. Но убежденность его в возможности со-
здания такого метода глубока и безгранична 19. Для нашего анализа наиболь-
шее значение имеет первое из представленных им правил, предписывающее нам
отречься ото всяческих предубеждений и «начать сначала, с основ»20. Постиже-
Ibid., р. 295; там же, т. 2, с. 57.
14 Ibid., р. 168; там же, т. 1, с. 70—71.
15 Ibid., р. 168; там же.
111 Ibid.,p. 182; там же, т. 2, с. 8.
17 Ibid., р. 162; там же, т. 1, с. 65: «Ибо каково бы ни было превосходство сил ума и ... как
бы часто ни повторялся жребий опыта, они не в силах победить это».
18 Ibid., р. 233; там же, т. 2, с. 27: «Наш же путь открытия наук таков, что он немногое
оставляет остроте и силе дарований, но почти уравнивает их».
” Ibid., р. 331; там же, т. 2, с. 79: «Ибо толкование есть истинное и естественное творение
ума, освобожденного от всех препятствий».
20 Ibid., р. 295; там же, т. 2, с. 57: «предписать себе и осуществить совершенный отказ от
обычных теорий и понятий и заново обратиться к опыту и к частностям, приложить
затем заново к частностям очищенный и беспристрастный ум».
Рационализм в политике 21
ние истинного знания начинается с «промывания мозгов», ибо такое знание
должно быть самодостаточным и достоверным с начала до конца. Между зна-
нием и мнением нет ничего общего. О том, чтобы вычленить истинное знание
из «изначально присущих нам детских представлений», не может быть и речи.
Именно в этом, заметим, состоит отличие рационализма современного от ра-
ционализма Платона и схоластов: Платон — рационалист, но его диалектика
не является методом; у схоластов же метод всегда служил ограниченным целям.
С нашей точки зрения, в суммарном выражении концепция «Нового Орга-
нона» может быть представлена как тезис о самодостаточности метода
(technique). Повышенное внимание к методу не дополняется здесь пониманием
того, что одними лишь методическими познаниями знание не исчерпывается;
напротив: данная концепция равнозначна утверждению, будто знание слагает-
ся исключительно из метода и того материала, к которому этот метод надлежит
применить. Вместе с тем все это — еще не начало нового интеллектуального
направления, а лишь самый первый безошибочный признак скорого его появ-
ления; само же это направление можно назвать следствием не столько самих
взглядов Бэкона, сколько связанных с ними преувеличенных ожиданий.
Для Декарта, так же как и для Бэкона, источником философских озарений
служили недостатки, присущие современным ему исследованиям; он тоже по-
нимал, что этим исследованиям недостает сознательного, четко сформулиро-
ванного метода. И то, что предложено им в «Discours de la Methode» и в
«Regulae» 21, во многом соответствует методу «Нового Органона». Декарт не
менее Бэкона озабочен достижением ясного и отчетливого знания. А ясные по-
знания возникают только в очищенном разуме; с очищения разума и начинает-
ся метод исследования. Первым из принципов, которым следует Декарт, явля-
ется «de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse evidemment
etre telle, c’est-a-dire d’eviter soigneusement la precipitation et la prevention»22, а также
«de batir dans un fbnds qui est tout a moi»23; об исследователе же говорится, что
он—«comme un hornrne qui marche seul et dans les tenebres»24. Во-вторых, техни-
ка исследований описывается в виде набора правил, из которых в идеале дол-
жен слагаться некий непогрешимый метод, метод всеобщий и применяемый со-
вершенно механически. И в-третьих, в познании не существует никаких степе-
ней, всякое неотчетливое знание есть просто незнание. От Бэкона Декарта от-
личает, однако, более основательная образованность в области схоластичес-
кой философии, а также то, что особую роль он отводит принятой в геометрии
21 См.: Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать
истину в науках и Первоначала философии И Соч. М., 1989, с. 250—296 и 297—422.
22 Никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью,
т.е. тщательно избегать поспешности и предубеждения (там же, с. 260).
23 Включать в свои рассуждения только то, что представляется моему уму столь ясно и от-
четливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению (см.: там же).
34 Как человек, идущий один в темноте (см.: там же, с. 259)
22
Майкл Оукшот Рационализм в политике
системе доказательств; в результате данных образовательных и идейных раз-
личий выработанные им формулировки техники исследования отличаются
большей точностью, а следовательно, и большей критичностью. Помыслами
своими он устремлен к созданию некоего непогрешимого и универсального
метода или исследования, но так как предлагаемый им метод позаимствован
из геометрии, то там, где речь идет не об абстракциях, а о реальных вещах,
границы применимости этого метода очевидны. Декарт более последователен,
чем Бэкон, постольку поскольку свою критику он обращает и на себя самого; и
в конце он признает ошибочной ту мысль, что метод способен служить един-
ственным средством исследования 25. Самодостаточность метода оказывается
мечтой, а не реальностью. Однако поистине усвоен последователями Декарта
был именно тезис учителя о самодостаточности метода, а отнюдь не его сомне-
ния относительно возможности создания непогрешимого метода.
• Таким образом, будет вполне позволительно, упрощая подлинную историю
возникновения рационализма, сказать, что данное интеллектуальное течение яви-
лось плодом, с одной стороны, преувеличенных ожиданий Бэкона, а с другой,
недооценки скептицизма Декарта; современный рационализм — это то, во что
превратили заурядные умы вдохновенные и незаурядные начинания гениев. Les
grands homines, en apprenant aux faibles a reflechire, les ont mis sur la route de
1’erreure.26 Но история рационализма не сводится только лишь к истории посте-
пенного становления и оформления этой новой интеллектуальной тенденции,
кроме этого, она является и историей того, как учение о самодостаточности ме-
тода стало неотъемлемой частью всех видов интеллектуальной деятельности. Сам
Декарт так и не стал картезианцем, однако, как говаривал о XVII столетии Буйе,
«1е cartesianisme a triomphe; il s’est empare du grand siele tout entier, il a penetre de
son esprit, non seulement la philosophie, mes les sciences et les lettres elles-memes»27.
Общеизвестно, что в это время в поэзии и драматическом искусстве огромное
внимание уделялось технической стороне — правилам композиции, соблюде-
нию правил хорошего тона в литературе; и так продолжалось на протяжении
почти что двух веков. Неиссякаемым потоком обрушивали издательства на го-
ловы читающей публики книги об «умении слагать стихи», «умении жить», «уме-
нии мыслить». Ни религии, ни естествознанию, ни образованию, ни самому об-
разу жизни не удалось остаться в стороне от влияния нового рационализма; ни
один вид деятельности, ни один слой общества не ушел от этого влияния 28.
11 Discours de la Methode, vi (см.: Рассуждение о методе, Часть шестая И Соч., М., 1989, с.
285—296.
26 См. примечание 1.
27 Картезианство одержало победу; оно захватило все это великое столетие, оно проникло в
сам дух его — не только в философию, но и в саму литературу (Histoire de la
philosophie cartesienne, I, 486).
28 Одной из важных сторон истории становления рационализма явилось изменение значения
слова «разум». «Разум», о котором говорит рационалист, это не то же самое, что ра-
зум Роберта Хукера — последний все еще мыслил в традициях стоицизма — и Фомы
5Х НТК до г; иг Рационализм в политике 23
Этот процесс подспудных изменений, приведший к превращению рацио-
налиста XVII столетия в современного рационалиста, — история долгая и
сложная, пересказать ее я не берусь даже в сокращенном виде. Отмечу лишь
то важное обстоятельство, что с каждым последующим шагом рационализм
отдалялся от своего первоисточника, приобретая при этом все более грубое и
вульгарное содержание. То, что в XVII веке было “L”art de penser”, в наше
время превратилось в опус типа: Ваш разум и как им пользоваться: стратегия
всемирно известных специалистов по тренировке ума при минимуме затрат.
То, что раньше было Умением жить, стало теперь Техникой успеха, а пред-
шествующие, более скромные начинания в области образовательных мето-
дик переросли в пельманизм.”
Естественно, более глубинные основания возникновения этого интеллек-
туального поветрия весьма туманны; след их теряется на задворках европейс-
кого общества. Но, помимо всего прочего, возникновение его связано с утра-
той веры в Провидение; место всемилостивого и непогрешимого Господа за-
нял всемилостивый и непогрешимый Метод; там, где Провидению не под силу
справиться с ошибками людей, особенно важно таких ошибок не допускать.
Разумеется, подходящей средой для подобных убеждений явилось общество
или поколение людей, ценящих не столько унаследованное от предков, сколь-
ко добытое собственными силами 29. То было поколение, поражающееся соб-
ственным успехам, поколение, склонное становиться жертвой иллюзий соб-
ственного интеллектуального величия (типичного умопомрачения в Европе
периода постренессанса), поколение, которое, так и не сумев примириться с
прошлым, не смогло поладить и с самим собой. Представления же о методе,
Аквинского. Разум рационалиста — это способность делать умозаключения относи-
Cgi! тельно одной вещи, исходя из другой вещи, способность находить подходящие сред-
ства к достижению заданной цели, причем такие, которые сами были бы не уязвимы
для критики со стороны разума; подобная способность дает возможность познавать
мир, понимая его как некий механизм. Многими из своих сильных сторон рациона-
лизм обязан молчаливому приписыванию этому новому «разуму» тех качеств, кото-
рые в действительности принадлежат тому разуму, который присущ старой интеллек-
туальной традиции. Эта расплывчатость, смешение нового со старым встречается в
произведениях многих авторов начала XVII века — например, в поэзии Малерба, стар-
шего современника Декарта, являвшегося одним из великих провозвестников тради-
ции самодостаточности технических приемов в литературе.
* Искусством мыслить (фр.). — Прим, перев.
** Пельмаиизм (епелъманизм) — образовательная методика, названная по имени колледжа в
Атланте (США), специализирующегося на обучении чернокожих женщин (в этом
учебном заведении женщины могут получить степень бакалавра в более чем 20 об-
ластях знания). С 1884 года колледж существует на благотворительные пожертвова-
ния Джона Рокфеллера Младшего. С этого же времени колледж и называется Спель-
мановским (или Пельмановским) — в честь матери жены бизнесмена, имя которой
(С)пельман. — Прим, перев.
39 Именно так обстояли дела во времена Бэкона. А в наши дни профессор Бернал заявляет,
что после 1915 года о природе человека как в общем, так и в деталях, было узнано
больше, чем за всю предшествующую историю. . ' '
24
Майкл Оукшот Рационализм в политике
благодаря которому становились равны между собой все умы, явились желан-
ным упрощением для тех из людей, кто спешил обрести ученый вид, будучи,
однако, не в состоянии должным образом — детально — овладеть всем имею-
щимся [духовным] наследием. Начиная с XVII века численность таких людей
неуклонно возрастала, и отчасти в том была заслуга самого рационализма 30.
Ведь можно сказать, что все или почти все из тех влияний, что способствовали
в свое время становлению рационализма, впоследствии, в рамках нашей сегод-
няшней цивилизации еще более усилились.
Однако не следует думать, будто утверждение рационализма происходило
легко и не вызывало противодействия. Поначалу к нему, как и ко всякому нов-
шеству, относились с подозрением, и некоторые сферы человеческой деятель-
ности — те, где изначальные позиции рационализма были весьма тверды (как,
например, в литературе), — впоследствии освободились от его влияния. Ведь
сопротивление рационалистическим учениям, не прекращаясь, шло все это вре-
мя во всех областях и на всех уровнях жизнедеятельности людей. В полной мере
прояснить значение доктрины самодостаточности метода помогает знакомство
с позицией одного из первых и наиболее основательных критиков этой докт-
рины. Со здравой критикой Декарта выступил Паскаль, противостоящий ему
хотя и не во всех, но в самых существенных моментах31. Во-первых, он понял,
что картезианское стремление к достоверному знанию основано на ложном
критерии достоверности. Декарту необходимо было взять в качестве отправ-
ной точки что-то столь достоверное, что в этом нельзя было бы усомниться;
поэтому он и пришел к мнению, согласно которому истинное знание есть зна-
ние метода. Паскалю же удалось избежать подобного вывода при помощи уче-
ния о вероятностном характере знания; достоверным может быть лишь знание
частностей; парадокс состоит в том, что вероятностное знание является более
истинным, чем знание достоверное. Во-вторых, Паскаль понимал, что ни в ка-
ком конкретном виде деятельности знание в целом не сводится только к карте-
зианскому raisonnement '.То, насколько успешно функционирует человеческий
30 Думаю, в не столь отдаленные времена посетители бегов и скачек были, главным обра-
зом, те, кто действительно разбирался в лошадях, и с точки зрения этих специаль-
ных знаний данные люди являлись поистине образованными. Теперь же подобное
мода на кулинарные книги). Автор одной из таких книг (Учебник призеров, Или как
угадать, кто выиграет Дерби), понимая различие между техническими и полными
знаниями, старательно подчеркивает, что для определенных случаев невозможно ус-
тановить никаких точных правил отбора победителей и в таких случаях надобно
пользоваться разумом (для коего не существует никаких достоверных правил). Но
некоторые из алчных, рационалистически настроенных читателей этой книги — из
тех, кто всегда ищет безошибочного метода, который позволил бы (подобно бэко-
новскому методу) поставить их убогие познания на один уровень с истинной обра-
зованностью — сочли себя обманутыми, а это говорит лишь о том, что таким чита-
телям было бы куда полезней почитать Св. Августина или Гегеля, а не Декарта: je ne
puis pardonner a Descartes (я не могу пощадить Декарта [фр.] — Прим, перев.)
31 Pensees (Brunschvicg), I, 76.
* Рассуждение (фр.).— Прим, перев. , . ,, .. ,-«> /,<_ s:-
гч’пхлоп а м». Рационализм в политике 25
разум, утверждает он, зависит не только от сознательного использования им
четко сформулированного метода; там же, где использование такого метода
действительно имеет место, разум пользуется им «tacitement, naturellement et
sans art» *. Точная формулировка правил исследования, преувеличивая значе-
ние метода, снижает шансы исследования на успех. Данное направление мыс-
ли, начало которому положил Паскаль, имело своих последователей, в ре-
зультате чего значительная часть современной философии развивалась вок-
руг данной проблемы. Но мало кому из последующих авторов, выступавших
на данную тему зачастую с более развернутой критикой, удалось четче, чем
самому Паскалю, зафиксировать тот факт, что истинное значение рациона-
лизма состоит не в обнаружении им знания как метода, а в неспособности
признать существование какого бы то ни было иного вида знания: философ-
ское заблуждение рационализма заключается в том, что методу и учению о
его самодостаточности приписывается здесь качество достоверности; прак-
тическая же ошибка рационализма заключена в убеждении, что сознатель-
ное поведение — это всегда благо.
4
Столь мощное и динамичное интеллектуальное течение, каким явился
рационализм, не могло не сказаться и на политике. Вместе с тем обращает на
себя внимание тот факт, что политика оказалась во власти рационализма раньше
и полнее, чем любая другая сфера человеческой деятельности. В большинстве
сфер нашей жизни влияние рационализма на протяжении последних четырех
веков сказывалось неравномерно, в политике же оно постоянно шло по
возрастающей, и теперь оно сильнее, чем когда бы то ни было. Выше мы уже
говорили о том, чем отличается общий интеллектуальный настрой рационалиста,
занимающегося политикой; остается рассмотреть лишь то, при каких
обстоятельствах европейская политика почти безоговорочно сдалась на милость
рационализма и каковы были результаты подобной капитуляции.
То, что рационализм прочно укоренился в современной политике, возможно
отрицать лишь в том случае, если смотришь на этот факт совершенно иными
глазами. Рационализм присущ не только отрицательным, но и положитель-
ным сторонам нашей политики. Наши проекты являются в основном проекта-
ми рационалистическими — как по своим целям, так и по характеру, — но, что
еще важнее, таков же и сам образ нашего политического мышления. Что же
касается традиционных черт политики (в частности, английской), способных
оказывать противодействие экспансии рационализма, то они демонстрируют
ныне почти полный конформизм в отношении преобладающего интеллекту-
ального настроя; мало того, подобный конформизм выглядит уже как прояв-
ление их жизнеспособности, умения приспосабливаться к веяниям времени.
Рационализм уже больше не является одним из возможных стилей осуществле-
‘ Молчаливо, естественно и безыскусно (фр.). — Прим, перев. . ь •
26
Майкл Оукшот Рационализм в политике
ния политики, он превратился в своего рода критерий респектабельности лю-
бой политики вообще.
Своеобразным показателем глубины влияния рационализма на сам образ
нашего политического мышления и действования является то, в какой степени
идеология стала подменять собой традиционное поведение, а политику вос-
становления стала вытеснять политика разрушения с последующим созидани-
ем нового, вследствие чего всему, что возникает как продукт конструирова-
ния, осуществляемого на основе сознательного планирования, оказывается
предпочтение передо всем, что складывается, постепенно, само собой и как бы
неосознанно. Подобное превращение привычного, гибкого и бесконечно из-
менчивого поведения в относительно жесткую систему абстрактных идей само
по себе, конечно, не ново. В Англии данный процесс начался уже в XVII веке,
на заре рационалистической политики. Но если в ту пору он шел с трудом,
встречая на своем пути молчаливое сопротивление, благодаря, например, не-
формальному характеру английской политики (данный неформальный харак-
тер позволял нам долгое время проводить политику, не придающую чрезмер-
ного значения активистской стороне и достижению определенных целей; он
позволял нам, по крайней мере в политике, уйти от той иллюзии, будто с несо-
вершенством возможно когда-либо покончить), то теперь и само это сопро-
тивление преобразовано в идеологию32. Поэтому основное значение такой кни-
ги, как «Дорога к рабству» Хайека ”, состоит не в стройности предложенной
им доктрины, а в том, что предложенное им является доктриной. План, состо-
ящий в том, чтобы отказаться ото всяческого планирования, возможно, лучше
плана противоположного содержания, но он принадлежит к тому же стилю
политики, что и его противоположность. Только в обществе, основательно
зараженном рационализмом, преобразование традиционных источников со-
противления тирании рационализма в сознательно исповедуемую идеологию
может рассматриваться как укрепление этих источников. Кажется, теперь, для
того чтобы участвовать в политике и быть услышанным, необходимо являться
носителем настоящей доктрины; неготовность (нежелание) исповедовать ка-
кую бы то ни было доктрину воспринимается ныне как признак легкомыслия,
считается даже, что не иметь доктрины неприлично. А тот ореол священнодей-
ствия, который некогда окружал традиционное политическое действо, теперь
принадлежит исключительно рационалистической политике.
Рационалистическая политика, как я уже сказал, является политикой удовлетво-
рения насущных нужд, никак не связанных с истинным конкретным знанием того, в
чем состоят постоянные интересы общества и каково направление развития этого
общества; вычитанная из книжки рационалистическая политика дает этим нуждам
«разумное» толкование и удовлетворяет их в соответствии с принятой ею идеологи-
ческой стратегией. В этом состоит еще одна характерная черта почти всей без
3- Первые робкие и потому не столь пагубные шаги в направлении подобного преобразова-
ния были сделаны уже первым лордом Галифаксом.
” Hayek. Road to Serfdom.
аянгнкоп в мгнп Рационализм в политике 27
исключения современной политики: с точки зрения этой политики, не заручить-
ся тем или иным пособием — значит пытаться обходиться без необходимого; не
следовать в точности написанному в книге — значит быть несерьезным полити-
ком. Ведь следование книге стало теперь настолько важным требованием, что
даже те из политиков, которые до сих пор обходились без пособий, были вынуж-
дены (по принципу «лучше поздно, чем никогда») засесть за написание собствен-
ного пособия. Это еще один признак того, что принцип следования методу, яв-
ляющийся, как мы показали, краеугольным камнем современного рационализ-
ма, одержал полную победу, ибо любое пособие содержит лишь то, что возмож-
но передать посредством печатного слова, а именно, методологические предпи-
сания. Так, с книгой в руке (ибо хотя правила и можно заучить наизусть, зубреж-
кой заниматься не всегда хочется) европейские политики и колдуют над котлом,
в котором готовится наше общее будущее, при этом ведут они себя подобно зар-
вавшейся кухонной прислуге, пытающейся в отсутствие повара готовить само-
стоятельно — ведь познания их ограничиваются лишь тем, что им удается вычи-
тать в книжке, поэтому руководствуются они только предписаниями, а отнюдь
не вкусом самого приготавливаемого блюда.
В числе прочих свидетельств господства рационализма в современной поли-
тике можно назвать расхожее притязание «ученых» (химиков, физиков эконо-
мистов или психологов) на то, чтобы тоже иметь свое слово в политике, так как,
хотя научное знание как таковое никогда не сводится только к методологии, в
политике оно способно выступать только в своей методологической ипостаси.
Вследствие этого интеллект в политической сфере перестает выполнять функ-
цию критики политических обычаев, подменяя собой эти последние, а жизнь
общества утрачивает привычную размеренность и плавность и превращается в
сплошную череду проблем и кризисов. Фольклор — поскольку в нем нет метода,
начинают отождествлять с невежеством, начисто забывая о необходимости со-
хранения того, что Бёрк называл партнерством между настоящим и прошлым34.
Между тем сам тезис о том, что рационалистический настрой является наи-
более характерной чертой современной политики, не нуждается в особом до-
казательстве; в пользу этого тезиса красноречиво свидетельствует уже то рас-
пространенное убеждение, будто заниматься политикой легко. За примером
далеко ходить не надо: достаточно вспомнить о том, какие были предложены
нам меры по контролю над производством и потреблением ядерной энергии.
Рационалистической верой в самодостаточность метода пронизано как допу-
щение самой возможности реализации всеохватывающего механического кон-
троля, так и детали каждой из предложенных конкретных схем: ведь данная
проблема причислена здесь к разряду «административных». Но если наше об-
щество дошло уже до практически ничем не ограниченного господства рацио-
нализма, то следует поставить вопрос: в силу каких обстоятельств возникло
подобное положение дел? Ведь истинное значение победы рационализма зак-
14 Поэтический образ политики рационализма создан Рексом Уорнером в «Аэродроме» (см.:
Warner R. The Aerodrome). . ,, ,,
;:р {Я
28
Майкл Оукшот Рационализм в политике
лючено не только в ней самой, айв том контексте, в рамках которого она
реализовалась.
Вкратце ответ на данный вопрос сводится к тому, что политика рациона-
лизма отличает политически неопытных людей и что ярчайшей чертой евро-
пейской политики последних четырех столетий являлось вторжение в нее по-
литически неопытных деятелей, среди которых различается, по крайней мере,
три категории: во-первых, это деятели, принадлежащие к новому типу прави-
телей, к новому правящему классу и к новому политическому обществу — и
это если не принимать в расчет представителей новой сексуальной ориента-
ции, недавно представленной в лице мистера Шоу. Стоит ли говорить о том,
что именно человек, по воспитанию и образованию не предназначенный доя
политической деятельности, но обличенный политической властью и вынуж-
денный, в силу обстоятельств, выступать с политическими инициативами, явит-
ся наиболее вероятным сторонником рационалистического подхода. Такой
человек просто не может обойтись без некоего чудотворного метода ведения
политики, способного компенсировать отсутствие у него надлежащего поли-
тического образования; поэтому он совершенно не склонен сомневаться в том,
что подобный метод существует. Он хватается за него, как за спасительную
соломинку; услышав, что все необходимые сведения содержатся в одной-един-
ственной книге и что по своему характеру эти сведения таковы, что их можно
заучить наизусть и применять совершенно механически, он просто не верит
своему счастью. А между тем, именно такого рода руководство или нечто, чрез-
вычайно похожее на него, предлагают (как представляется неопытному поли-
тику) Бэкон и Декарт. Ибо, хотя ни тот и ни другой не оставили подробных
инструкций относительно того, как применять их метод в политике, некото-
рые высказывания о рационалистической политике в их сочинениях присут-
ствуют — правда, высказывания эти отмечены скептицизмом, который, впро-
чем, можно легко проигнорировать. Кроме того, неопытному политику, нуж-
дающемуся в методе, вовсе не обязательно было дожидаться, пока его изобре-
тут Бэкон и Декарт; — уже за сто лет до них новобранцы в сфере политики
могли воспользоваться сочинениями Макиавелли.
Утверждают, что сочинения Макиавелли имели своей целью создание на-
уки о политике, но я думаю, что это утверждение не учитывает одного важного
обстоятельства. Наука, как мы уже отмечали, представляет собой конкретное
знание, поэтому ни ее выводы, ни те средства, с помощью которых они дости-
гаются, невозможно полностью изложить в виде книги. Ни искусство, ни на-
ука не укладываются в набор правил; для того чтобы овладеть тем или другим,
требуется обретение определенного мастерства. Другое дело — метод, им мож-
но овладеть именно как некой техникой. И если говорить о Макиавелли, то
его работы посвящены именно технической стороне политики. Он признавал,
что техника управления республикой несколько отличается от техники управ-
ления княжеством — ведь в его работах исследуется и то, и другое. Но, рас-
сматривая методы управления княжествами, он приспосабливал изложение их
к уровню восприятия нового князя, своего современника. Так поступал он по
мгн! .1 Рационализм в политике 29
i
двум причинам, одна из которых была принципиальной, а другая — личност-
ной. Ведь если бы перед ним был полноправный династический владыка, на
воспитании которого оставили свой отпечаток традиция и роль наследника
векового опыта предков, то таковой и безо всяких руководств являлся лично-
стью, достаточно подготовленной к деятельности на открывающемся перед ним
поприще; возможно, усвоение по ходу дела техники правления могло быть
полезно и ему, но, как правило, он и так знал, как себя вести на названном
поприще. Правитель же новой формации, пришедший на поприще исключи-
тельно благодаря тем качествам, которые позволили ему заполучить полити-
ческую власть, правитель, которому ничего не давалось на этом поприще лег-
ко, кроме приобщения к порочным сторонам пребывания во власти, к свой-
ственным княжескому сану капризам, — находился в совершенно ином поло-
жении. Так как все его образование сводилось к усвоению властных замашек,
он должен был побыстрее научиться тому, чтобы так или иначе производить
впечатление образованного человека, следовательно, он нуждался в книге. При
этом ему нужна была книга особого рода — книга-шпаргалка: неопытность
мешала ему скрывать от посторонних взоров то, как он сражается с государ-
ственными проблемами. От шпаргалки же требуется, чтобы автор ее владел
тем же языком, которым изъясняются образованные люди, чтобы написавший
ее человек был в состоянии поступиться собственной гениальностью (если он
обладал таковой) ради роли простого переводчика; вместе с тем, шпаргалка не
полностью гарантирует невежественного читателя от ошибок. Таким образом,
замысел Макиавелли состоял в том, чтобы оснастить политиков шпаргалкой
— суррогатом подлинного политического образования, методом, рассчитан-
ным на властителей, не знакомых с традицией. То был ответ на требование
времени, кроме того, Макиавелли выказывал личную страстную заинтересо-
ванность в том, чтобы удовлетворить назревшую потребность, так как «нали-
чие трудностей распаляло его». Правитель новой формации был для него бо-
лее интересен, потому что он — куда чаще, чем династический владыка, —
попадал в затруднительные ситуации и, следовательно, чаще нуждался в сове-
тах. Но, как и все вообще великие предтечи рационализма (Бэкон, Декарт),
Макиавелли понимал, что возможности технических знаний ограничены; вера
в самодостаточность метода была присуща не самому Макиавелли, а его пос-
ледователям, видевшим в правлении не что иное, как «публичное управление»,
коему можно научиться по книгам. Новому князю Макиавелли предлагал не
только свою книгу, но и самого себя — на случай, если каких-то необходимых
сведений в книге не окажется: он никогда не утрачивал понимания того, что
политика, в сущности, есть дипломатия, а не метод.
Что касается новых, политически неопытных социальных классов, обрет-
ших за последние четыре века политические полномочия, классов, превратив-
шихся в агентов политических инициатив, то о них позаботились не хуже, чем
позаботился Макиавелли о появившихся в XVI веке новых князьях. Ни один
из названных классов не располагал временем для того, чтобы прежде, чем
прийти к власти, получить надлежащее политическое образование; каждый из
2 30
Майкл Оукшот Рационализм в политике
них нуждался в шпаргалке, политической доктрине, способной подменить со-
бой политические навыки. Некоторые из подобного рода творений являют
собой подлинные образчики политической вульгарности; в них не то чтобы пол-
ностью отрицается наличие политической традиции или ценность таковой (ведь
их авторы являются политически образованными людьми), а просто дается со-
кращенное изложение традиции, представляющее собой некую рационализацию,
нацеленную на выявление «сути» традиции и изложение ее в виде набора абст-
рактных принципов; однако при этом изложении неизбежно упускается из виду
значение традиции во всей его полноте. Сказанное, в первую очередь, относится
ко Второму трактату о государственном правлении Локка — политической
шпаргалке, по популярности, долговечности и ценности не уступавшей вели-
чайшей изо всех религиозных шпаргалок, книге Палея Очевидность христиан-
ства '. Но есть и другие авторы (такие, как Бентам или Годвин), которые пыта-
ются удовлетворить потребности не только этого, но и последующих поколений
неопытных политиков путем сведения всех вообще политических традиций и
обычаев, бытующих в собственном обществе, к некой чисто спекулятивной идее:
рационалистические «секты» подобного рода отличаются крайним ригоризмом.
Если же говорить об авторитарности, то здесь ничто не может сравниться с про-
изведениями Маркса и Энгельса. Конечно, не будь этих двух авторов, европейс-
кие политики все равно пребывали бы во власти рационализма, но эти двое не-
сомненно принадлежат к числу титанов нашего политического рационализма; и
в этом нет ничего удивительного, ибо их произведения предназначаются для
инструктирования класса, политически наименее просвещенного изо всех тех,
' кому когда-либо приходила мысль взять в свои руки бразды политического прав-
.* ления. Эта величайшая из всех политических шпаргалок была выучена и приме-
г. йена теми, на кого она была рассчитана, в лучших традициях зубрежки. Ни один
другой метод не был навязан миру так, как если бы это было вполне конкретное
знание; ни один другой метод не породил столь огромной армии интеллектуаль-
ного пролетариата, коему нечего терять, кроме самого этого метода35.
Поучительным моментом истории рационалистической политики являет-
ся ранняя история Соединенных Штатов Америки. Ситуация, требовавшая от
тогдашнего американского общества безотлагательных политических иници-
атив, в общих чертах напоминает аналогичную ситуацию, в которой приходи-
лось оказываться как отдельно взятым личностям, так и отдельно взятым скла-
дывающимся классам, когда ни те, ни другие не были еще вполне подготовле-
45 Книга священника англиканской церкви Вильяма Палея (Paley W. A View of the Evidence
of Christianity, 1794) являлась рекомендованным чтением при поступлении в Кемб-
риджский университет. — Прим, перев.
46 Придав своему методу форму анализа не «человеческой природы», а хода событий (про-
шлых, настоящих и будущих), Маркс надеялся, что тем самым он избежал рациона-
лизма; но поскольку он постарался превратить описание хода событий в доктрину,
это бегство от рационализма оказалось иллюзорным. Рационалист подобен Мида-
су: несчастье его в том, что, стоит ему к чему-либо прикоснуться, как это превраща-
ется в абстракцию; опыт никак не может пойти ему впрок.
эянтнпоп в Mf wr Рационализм в политике 31
ны к тому, чтобы взять на себя реализацию политической власти. Сходство
еще более усиливается, когда, на первых порах, независимость данного обще-
ства воспринимается как нечто незаконное, как конкретное и демонстратив-
ное отрицание традиции — отрицание, основанием которого, следовательно,
может служить лишь нечто такое, что само по себе ни с какой традицией не
связано. Если же говорить конкретно об американских колонистах, то к тому,
что их революция приняла рационалистическое обличье, вынуждали не толь-
ко эти, но и другие обстоятельства. Отцы американской независимости опира-
лись не только на традиции европейской мысли, но и на собственные полити-
ческие обычаи, на собственный политический опыт. Случилось так, что те ин-
теллектуальные дары (дары философские и религиозные), что преподнесла Аме-
рике Европа, изначально носили преимущественно рационалистический ха-
рактер, а местные политические обычаи, будучи продуктом существования в
условиях колонизации, представляли собой разновидность стихийного, наи-
вного рационализма. Американцы — простые, непритязательные люди, не
склонные размышлять о том, что за обычаи получили они в наследство от пред-
ков, живших в пограничных сообществах и привыкших самостоятельно уста-
навливать порядок и законность на основе общей договоренности, — мысли-
ли свое общественное устройство не иначе как продукт исключительно соб-
ственных инициатив; они начинали на пустом месте, и все, чем они располага-
ли, было добыто ими самостоятельно. Порожденная первопроходцами циви-
лизация почти неизбежно приобретает облик сообщества этаких самородков,
сознающих собственную самодостаточность, — самородков, рационализм ко-
торых есть следствие обстоятельств, а не размышлений. Таких не надо убеж-
дать в том, что всякое знание начинается с tabula rasa,* свободный разум для
них — даже не результат искусственной картезианской прочистки мозгов, а,
как говаривал Джефферсон, дар Божий.
Таким образом, уже задолго до революции образ мысли американских ко-
лонистов был рационалистическим, и таковым же являлся преобладающий ин-
теллектуальный настрой и способ осуществления политики. Все это нашло яс-
ное отражение в конституционных документах и в истории каждой из коло-
ний. Когда же данные колонии стали «разрушать связывавшие их друг с дру-
гом политические узы», заявляя каждая о собственной независимости, данный
стиль реализации политики имел лишь один внешний источник вдохновения,
досконально соответствовавший особенностям национального характера аме-
риканцев. Таким источником, вдохновившим Джефферсона и других отцов
американской независимости, являлась идеология, выработанная Локком ис-
ходя из английской политической традиции. Американцы были предрасполо-
жены верить в то, что правильная организация общества, правильное ведение
общественных дел должны исходить из неких абстрактных принципов, а вовсе
не из традиций («роющихся, — как сказал Гамильтон, — в древних пергамен-
тах и заплесневевших рукописях»); уверовать в абстрактные принципы амери-
'Чистой доски (лат ). — Прим, перев.
32
Майкл Оукшот Рационализм в политике
канцы способны были гораздо сильнее любого из обитателей Старого Света.
Подобные принципы не являлись продуктом цивилизации, они были естествен-
ны, «писаны самой человеческой природой»36. Короче говоря, я полагаю, что
тот авторитет, которым пользуются у нас естественные науки, был использо-
ван в целях упрочения рационалистического стиля в мышлении, но делалось
это не учеными как таковыми, а лишь теми из них, что являлись рационалиста-
ми вопреки собственной науке.
Данное краткое описание того, что представляет собой рационализм в политике
и каковы социальные и интеллектуальные предпосылки данного явления, можно
дополнить некоторыми размышлениями. Поколение политиков-рационалистов,
не обладая политической опытностью, является поколением политических
неудачников. В европейских обществах неопытность и неудача часто
сопутствовали друг другу, нераздельны были они и в Древнем мире, порой даже
древним приходилось жестоко страдать от этого союза. Особенность
рационализма Нового Времени проистекает из того обстоятельства, что
современному миру удалось изобрести в высшей степени убедительную методу
сокрытия нехватки политического образования, благодаря которой даже самим
необразованным политикам может так никогда и не прийти в голову, что они
необразованны. Конечно, данная неопытность никогда и нигде не была всеобщей,
кроме того, она никогда не была абсолютной. Во все времена имелись и люди,
истинно политически образованные, для которых не существовало риска
заразиться рационализмом (особенно известна такими людьми Англия, для
которой политическая образованность была более распространенным явлением,
чем для любой другой страны); порой смутное осознание ограниченности
собственного метода возникало даже в головах завзятых рационалистов. Ведь
чисто рационалистическая политика настолько непрактична, что даже человек,
являющийся новичком во власти, часто откладывал в сторону книгу-шпаргалку,
предпочитая полагаться вместо нее на свой жизненный опыт, обретенный им в
качестве бизнесмена или, скажем, профсоюзного деятеля. Подобный опыт
конечно же является более надежным путеводителем, чем шпаргалка, по крайней
мере это реальное знание, а не тень, но и он не является знанием тех политических
традиций общества, создание которых, даже при самых благоприятных условиях,
требует усилий двух или трех поколений.
36 Здесь не место прояснять крайне сложную связь, существующую между политикой «разу-
ма» и политикой «естества». Заметим лишь, что поскольку и разум, и естество про-
тивостоят цивилизации, их исходная точка едина, и «рациональный» человек, и че-
ловек, освобожденный от традиционных идолов и предрассудков, могут с равным
основанием называться «естественными» людьми. В политике, религии и образова-
нии современный рационализм и современный натурализм являются выражением
общего неприятия всех тех достижений человечества, возраст которых превышает
продолжительность жизни одного поколения.
Элян:<;••i н менпы Рационализм в политике 33
Вместе с тем рационалист (если только он не является наглецом и ханжой)
может оказаться и вполне приятной личностью. Ведь ему так хочется найти
подтверждения собственной правоты, но, к сожалению, это ему никогда не
удастся. Он проснулся слишком поздно и встал не с той ноги. Знание, которым
он обладает, обречено на то, чтобы всегда оставаться полузнанием, поэтому
он может быть прав только наполовину37. Он подобен иностранцу или челове-
ку, принадлежащему к иному социальному классу: он чувствует себя сбитым с
толку обычаем или традицией, с которой знаком лишь поверхностно; любой
дворецкий или наблюдательная горничная оказываются здесь более компетен-
тными, чем он. Поэтому он и вырабатывает в себе презрение к тому, чего не
понимает; привычки и обычаи представляются ему чем-то в принципе плохим
— разновидностью невежественного поведения. И, предаваясь странному са-
мообману, он начинает приписывать традиции (характеризующейся в основ-
ном, конечно же, подвижностью) ту ригидность и неизменяемость, которая в
действительности присуща идеологической политике. Следовательно, доверить
управление рационалисту — предприятие опасное и дорогостоящее; наиболь-
ший ущерб рационалист способен принести не тогда, когда ему не удается ов-
ладеть ситуацией (ведь такие словосочетания, как «овладение ситуацией» и
«преодоление кризисов», являются ключевыми словами его правления), а тог-
да, когда ему кажется, что у него все получается. Дело в том, что за каждый его
мнимый успех мы должны расплачиваться усилением общерационалистичес-
кого настроя в жизни общества.
Не придаваясь панике, следует вместе с тем указать на то, что в числе ха-
рактерных черт политического рационализма есть две такие, которые делают
его чрезвычайно опасным для общества. Ни один здравомыслящий человек не
будет впадать в отчаяние от того, что не сможет сразу же отыскать способа
избавления от болезни, грозящей превратить его в калеку; совсем другое дело,
если болезнь принадлежит к разряду прогрессирующих. В этом случае боль-
ной имеет все основания для серьезного беспокойства. К сожалению, именно к
этой последней категории относится такая болезнь, как рационализм.
Во-первых, рационализм в политике, как я его описал, сопряжен с явной
ошибкой, неправильным пониманием природы человеческого знания, что рав-
носильно разрушению разума. В результате рационализм оказывается неспо-
собным к исправлению собственных недостатков; он не обладает гомеопати-
ческими возможностями; даже становясь все более истовым и глубоким рацио-
налистом, вы не избегаете присущих рационализму ошибок. Это, заметим, есть
своего рода плата за то, что живешь по книжке. Рационализм не только приво-
дит к определенным ошибкам, но и иссушает сам разум: жизнь по предписани-
ям в конце концов порождает интеллектуальную нечистоплотность. Мало того,
’«-.UM'S? •»•« ’ -* .
37 Сказанное является отголоском сочинения Генри Джеймса: образ миссис Хедуей, персо-
наж его произведения «Осада Лондона» (James Н. The Siege of London), является
1 о и лучшим из всех известных мне изображений человека, находящегося в вышеописан-
ной ситуации. • •• : ' t
2. Заказ № 2438.
34
Майкл Оукшот Рационализм в политике
рационалист заранее отметает тот единственный внешний источник вдохнове-
ния, который только и способен помочь ему исправить ошибки; он не просто
пренебрегает спасительным для него видом знания — он начинает с разрушения
его. Сначала он выключает свет, а затем жалуется на то, что ему ничего не вид-
но, что он — «comme un homme qui marche seul et dans les tenebres»38. Короче,
рационалист в принципе не поддается превращению в образованного человека;
вывести его из рационалистического настроя можно, лишь заставив его почув-
ствовать вдохновение, но именно вдохновение он считает злейшим врагом чело-
вечества. Все, на что способен предоставленный себе самому рационалист, это
поменять один, неудавшийся, рационалистический замысел на другой — тот, на
который он возлагает новые упования. Этим безнадежным делом как раз и заня-
ты современные политики: политические обычаи и традиции, которыми в не-
давнем прошлом владели все в английской политике, вплоть до крайних оппо-
нентов, теперь вытеснены чисто рационалистическим стилем мышления.
Но, во-вторых, общество, усвоившее рационалистический метод ведения по-
литики, вскоре проявит тенденцию к тому, чтобы перевести на чисто рациона-
листические рельсы также и образование. Утверждая это, я не имею в виду той
грубой тактики, что в свое время была принята на вооружение национал-социа-
листами или коммунистами, поставившими под запрет все виды образования,
не отвечающие господствующей рационалистической доктрине; я говорю о бо-
лее вероятной стратегии, при которой никакие формы образования, не облада-
ющие общерационалистическим характером, просто не получают шансов на
выживание39. Когда же рационализм одержит полную победу и в образовании,
последним шансом на спасение будет обнаружить всеми позабытого педанта,
«роющегося в древних пергаментах и заплесневевших рукописях» — ведь толь-
ко он и сможет рассказать, каким был мир до воцарения «золотого века».
С самого своего зарождения рационализм демонстрировал чрезвычайный
интерес к образованию. Он уважает «мозги», многого ожидает от их трени-
ровки; он убежден в том, что ум надо поощрять и что наградой за выдающиеся
умственные способности должна быть власть. Но в чем состоит эта образован-
ность, в которую так верит рационалист? Ясно, что она не имеет ничего обще-
го ни с приобщением к моральным и интеллектуальным традициям и достиже-
ниям собственного общества, ни с установлением связи между настоящим и
прошлым, ни с обменом конкретными знаниями; ибо подобное есть, по мне-
нию рационалиста, приобщение к невежеству, кое не имеет никакой ценности
и само по себе является опасным. Образованность его состоит в обучении ме-
тоду, то есть в обретении полузнания, почерпнуть которое возможно из книг,
используемых в качестве шпаргалок. Интерес рационалиста к образованию не
позволяет предположить, что образование является для него простым ухищре-
38 «Как человек, идущий один в темноте» (Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно
направлять свой разум и отыскивать истину в науках И Соч., М.,1989, с. 259)
” Что-то подобное имело место в постреволюционной Франции, но вскоре после этого к
людям начало возвращаться здравомыслие.
чЕНМючЬ .£
'in я МГШ1. Рационализм в политике 35
нием, с помощью которого он рассчитывает еще более утвердиться в обще-
стве, — ведь ясно, что сам он является жертвой тех же иллюзий, что и его уче-
ники. Он искренне полагает, что единственным достойным видом образова-
ния является обретение технических знаний, так как убежден, что познание как
таковое есть именно познание метода. Он верит в то, что надежнейшую защи-
ту от демагогического самообольщения, от лжи диктаторов обеспечит препо-
давание «публичного управления».
Если же общество уже и так изрядно прониклось рационалистическим ду-
хом, оно продемонстрирует положительный спрос на подобного рода образова-
ние. Полуобразованность (если только она охватывает именно техническую «по-
ловину» знания, найдет свое применение в экономике; «натренированный» ра-
зум, на вооружении которого окажутся новейшие методические приемы, будет
пользоваться спросом на рынке. И, надо полагать, спрос будет удовлетворен: в
изобилии будут издаваться и раскупаться соответствующие книги, появятся и
учебные заведения, предлагающие именно этот тип образования, как общего,
так и по отдельным видам деятельности40. Если говорить о нашем обществе, то
в нем уже давно начали всерьез эксплуатировать эту потребность; первые слу-
чаи наблюдались уже в XIX веке. Но научиться играть на фортепьяно или заоч-
но овладеть фермерскими знаниями — это не самое важное из того, чему долж-
ны учиться люди; в любом случае в существующей ситуации эти знания никуда
от них не денутся. Важно то, что рационалистический настрой оказывает разла-
гающее влияние на истинно образовательные институты нашего общества, на
все, что является предпосылкой для истинного образования: некоторые из путей
и способов, которыми доносилось до людей истинное (а не только техническое)
знание, уже исчезли, другие находятся в процессе устаревания, третьи разлага-
ются изнутри. К этому подталкивает вся современная ситуация. Система настав-
ничества, при которой ученик работает рука об руку с учителем, перенимая от
него не только технику ремесла, но и такие знания, которые невозможно препо-
давать, — эта система еще не исчезла, но она устаревает, а место ее занимают
технические училища, прививающие знания, которые, будучи чисто техничес-
кими знаниями, оседают в головах учеников мертвым грузом до тех пор, пока те
не погрузятся в стихию реальной практики. И в профессиональном обучении
усиливается тенденция к тому, чтобы считать образование усвоением техничес-
ких знаний 4I, коими можно овладеть заочно; в результате вскоре мы получим
такую ситуацию, когда умные люди будут обладать множеством профессий, но
реальных навыков у таких людей будет мало, а возможности приобщиться ко
всем тем нюансам, что составляют традицию и задают критерии истинного про-
40 Некоторым все это представляется неизбежным результатом воцарения индустриальной
цивилизации, но, думаю, они ошибаются. Индустриальная цивилизация нуждается
в истинных умениях, до тех же пор, пока наша индустриальная цивилизация зани-
мается разрушением умений и желает обходиться исключительно техническими зна-
ниями, ей суждено переживать упадок.
41 См.: Boswell J. The Artist’s Dilemma.
2*
36 Майкл Оукшот Рационализм в политике
i
фессионального мастерства, у них не будет и вовсе42. Одним из способов со-
хранения (ведь речь идет великом достижении человечества, и если не хра-
нить его, оно будет утрачено), а также передачи истинного знания является
семейная традиция. Но рационализму недоступно понимание того, что для
овладения профессией требуется опыт двух поколений; он даже делает все от
него зависящее, чтобы исключить саму возможность подобного постижения
профессии, считая это вредным. Подобно человеку, не владеющему никаким
другим языком, кроме эсперанто, он никак не может знать о том, что история
началась не в XX веке. И бесценные профессиональные традиции уничтожа-
ются вместе с уничтожением так называемых монополий (vested interests). Но
самая, пожалуй, серьезная атака на образование — та, что направлена про-
тив университетов. Ныне потребность в носителях технических знаний столь
высока, что готовящих подобных специалистов институтов становится недо-
статочно и университеты перепрофилируются, дабы удовлетворить эту по-
требность. Ужасное выражение «мужчины и женщины с университетской вы-
учкой» становится обычным — и не только для документов министерства
образования.
Для противников рационализма все это — локальные, хотя и не пустяч-
ные, поражения, и каждое из них в отдельности, возможно, не является нео-
братимым. По крайней мере, такой институт, как университет, в состоянии
постоять за себя. Но на другом фронте рационалист уже нанес нам урон, оп-
равиться от которого будет не так просто, потому что если рационалист зна-
ет, что одержал победу, то его противник едва ли сознает, что потерпел пора-
жение. Я имею в виду то, что рационалистический стиль мышления обман-
ным путем присвоил себе всю сферу нравственности и морального воспита-
ния. Мораль рационалиста — это мораль сознательного следования идеалам
нравственности, этой морали обучают путем предписаний, путем изложения
и разъяснения моральных принципов. И все это подается как более высокая
нравственность («мораль свободного человека» и прочие трескучие фразы),
чем та, что выражается в привычке, в бессознательном следовании традиции
нравственного поведения; на самом же деле рационалистическая мораль есть
не что иное, как сведение морали к технике; овладеть такой моралью можно
через усвоение идеологии, а не через моральное воспитание. В сфере нрав-
ственности, как и во всех прочих сферах, начальная цель рационалиста со-
стоит в том, чтобы разрушить предшествующее невежество, а уже затем за-
полнить образовавшуюся в разуме пустоту определенными знаниями, абст-
рагированными от его личного опыта и подтверждаемыми, как полагает ра-
42 Особенно легко постичь разницу между технически проинструктированными и образо-
ванными людьми, когда наблюдаешь людей, составляющих воюющую армию; ум-
ный штатский без труда усвоит технику военного руководства и искусство коман-
дира, но (вопреки тому, что говорится в шпаргалках типа Советы молодым офице-
рам) он всегда будет уступать в образованности офицеру регулярной армии, так как
этот последний не просто практически подготовлен к службе, но и воспитан в опре-
деленном нравственно-эмоциональном настрое.
sxNTBRGi':! к. Рационализм в политике 37
ционалист, совокупным «разумом» человечества43. Этим принципам он го-
тов дать обоснование, имеющее вид стройной (хотя и скудной с точки зрения
нравственного содержания) доктрины. Но, как бы там ни было, его собствен-
ный жизненный стиль неизбежно оказывается чем-то сбивчивым и прерывис-
тым, его поведение сводится к решению потока проблем, к урегулированию
череды кризисов. Мораль рационалиста подобна его политике (с которой она,
конечно, связана нераздельно), она представляет собой мораль личности-са-
мородка и общества-самородка: другое название этому — «идолопоклонство».
И то, что вдохновляющая рационалиста сегодня моральная идеология (кото-
рую он как политик к тому же и проповедует) фактически является расчленен-
ными остатками того, что некогда было бессознательной моральной традици-
ей аристократии (которая, не заботясь об идеях, установила определенный
обычай поведения в отношении друг друга и передавала этот обычай посред-
ством истинно нравственного воспитания), не имеет для него никакого значе-
ния. Главное для рационалиста — это отделить зерна идеала от плевел привы-
чек; для нас же главное здесь — удручающие последствия его успеха. Нрав-
ственные идеалы подобны некоему осадку; они имеют значение лишь будучи
растворены в религиозной или социальной традиции — они живы до тех пор,
пока они являются частью религиозной или социальной жизни44. Бичом наше-
го времени стало то, что в результате многолетних усилий рационалистов, на-
правленных на «сливание» (и выбрасывание за ненадобностью) того субстра-
та, который служил «растворителем» наших моральных идей, нам остался лишь
некий сухой и твердый остаток, который застревает у нас в горле всякий раз,
как мы пытаемся его проглотить. Во-первых, мы изо всех сил стараемся покон-
чить с родительским авторитетом (так как считается, что он действует угнета-
юще), затем мы сентиментально сокрушаемся по поводу немногочисленности
«хороших семей» и, наконец, мы создаем паллиативы, завершающие всю эту
разрушительную деятельность. Именно поэтому на фоне всех безнравствен-
ных и нездоровых явлений мы видим череду лицемерных рационалистических
политиков, проповедующих населению (у которого они и их предшественники
постарались уничтожить единственную живую основу нравственного поведе-
ния) идеологию бескорыстия и служения обществу; им противостоит другой
ряд политиков, пестующих планы спасения нас от рационализма силами вдох-
новляющей идеи новой рационализации нашей политической традиции.
1947 год
43 За эти и прочие издержки рационализма Декарт не несет ответственности. Декарт Р. Рас-
суждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в на-
уках и Первоначала философии. Часть третья И Соч., М., 1989, с. 263—268.
44 Когда Конфуций посетил Лао-цзы, тот вел с ним разговор о добродетели и долге. «Шелу-
ха, летящая из-под веялки, — сказал Лао-цзы, — может так засорить глаза, что мы
не сможем различить, смотрим ли мы на север или на юг, на восток или на запад, на
небеса или на землю... Все эти разговоры о добродетели и долге, все эти бесконеч-
ные булавочные уколы нервируют и раздражают слушателя; трудно придумать что-
либо более разрушительное для внутреннего спокойствия.» Джуан-цзы.
38. Майкл Оукшот. Рационализм в политике
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В последнее время словом рациональный сильно злоупотребляют
Кольридж. «В помощь размышлениям»
Слово разум и соответствующие ему определения — разумный и рациональный
— имеют длинную историю, наградившую эти понятия неоднозначностью и
сбивчивостью. Они, подобно зеркалам, служили отражением изменяющихся
представлений о мире и о человеческих возможностях — представлений,
буквально наводнивших нашу цивилизацию в последние два тысячелетия; в
результате бесконечного взаимоналожения этих понятий и представлений в
наших головах образовался полный сумбур. Вопрос о том, какой смысл имеют
данные слова в сфере человеческих отношений, а также в области политики,
способен кого угодно поставить в тупик — и не без основания, ибо изначально
эти слова вошли в наше употребление как определения к слову «аргумент»;
поэтому ассоциирование их со словом «поведение» способно вызвать
замешательство. С этой путаницей, возникшей из-за простой
недобросовестности мыслителей, способен покончить философ или же историк,
который проследит весь путь формирования множественности значений и
очистит одно от другого, не прибегая к услугам самозваных помощников, коими
являются здесь категории истины и заблуждения. Цель данной статьи —
определить, в каком значении следует использовать слово рациональный
применительно к поведению, а также затронуть философские и исторические
аспекты ряда сопряженных с этим вопросом тем.
1
Начну с утверждения, что когда мы называем поведение или способ ведения
дел «рациональным», то тем самым мы желаем похвалить его. «Рациональное
поведение» — это нечто такое, за что никому не может быть стыдно. Правда,
обычно полагают, что для того, чтобы счесть поведение внушающим любовь,
а ведение дел — потрясающе успешным, оно должно быть не просто
«рациональным». Но, вообще говоря, «рациональность» традиционно
считается у нас похвальным качеством — по крайней мере, существует традиция
всеми средствам избегать иррациональности. Таким образом, нам предстоит
рассмотреть такую идею, благодаря которой человеческое поведение становится
чем-то достойным похвалы. Правда, наша цивилизация имеет в своем арсенале
аялгпгоь п «си. Рациональное поведение 39
и иной словарь, применяющийся наравне с тем, о котором только что
упоминалось; и в этом втором словаре определение «рациональный» является
едва ли не бранным словом. Основанием для подобного разочарования в разуме
явилось связанное с рационализмом сужение круга человеческих симпатий -
ведь данное слово означало не столько отрицание прежних понятий о том, что
подобает и чего не подобает делать, сколько ограничение самого круга
представлений о том, что есть правильное, достойное восхищения поведение.
Во-вторых, я буду исходить из того понимания, что по отношению к чело-
веческому поведению слово «рациональный» означает прежде всего стиль по-
ведения и только во вторую очередь — ту цель, которая этим поведением дос-
тигается, а также успешность достижения цели. Таким образом, поступать «ра-
ционально» значит [для меня] действовать «разумно», а то, окажется ли раци-
ональное поведение успешным в узкопрагматическом плане, зависит не столько
от самой этой «рациональности», сколько от обстоятельств. И это предлагае-
мое мной понимание также не противоречит расхожему употреблению слова
«рациональный»: так, «безумец» — человек, поведение которого мы признаем
«иррациональным», — отнюдь не всегда оказывается неспособным к достиже-
нию поставленных им целей; кроме того, как известно, даже в доказательстве
ошибочный ход рассуждений способен привести к правильным выводам.
Начиная с XVIII века нашему вниманию был предложен целый ряд типов
поведения и способов деятельности, рекомендуемых нам в виде образчиков «ра-
циональности». Появились такие понятия, как «рациональное воспитание»,
«рациональное ведение сельского хозяйства», «рациональная диета», «рацио-
нальная одежда», не говоря уж о «рациональной религии» или «рациональном
правописании». Так, были признаны «иррациональными» раздельное воспи-
тание полов, а также мясоедение и употребление вредных для здоровья напит-
ков. Один знаменитый пропагандист рациональной одежды утверждал, что
если между телом и воротничком сорочки не остается зазора, по величине сво-
ей достаточного для того, чтобы засунуть в него булку, то такая сорочка слиш-
ком узка и не обеспечивает свободного доступа воздуха к телу; ношение голов-
ного убора часто также признавалось «иррациональным». Выражение же «ра-
циональная одежда» употреблялось, особенно в викторианские времена, при-
менительно к тем изысканным девичьим туалетам, которые именовались кос-
тюмами для езды на велосипеде; полюбоваться на них можно на страницах
тогдашних номеров журнала «Панч». «Рациональной одеждой» для велосипе-
дисток были признаны шаровары. Сами же мы в своих нынешних представле-
ниях о «рациональности» способны зайти еще дальше, чем наши предшествен-
ники, усматривавшие «рациональность» в подобном виде одежды '.
Совершенно ясно, что, изобретая эту «рациональную одежду», они думали
прежде всего о кручении педалей. Интеллектуальная задача состояла здесь в том,
чтобы рассмотреть, с одной стороны, определенную конструкцию велосипеда,
1 Сама ли миссис Блумер (изобретательница шаровар. — Прим, перев.) пришла к подобному
потрясающему выводу или кто-то сделал это за нее — не могу сказать. .
40 Майкл Оукшот. Рационализм в политике j
а с другой — строение человеческого тела и совместить одно с другим. Все
прочие соображения были исключены как не имеющие отношения к проекти-
руемой «рациональной» одежде. Так, в частности, разработчиками модели ре-
шено было не принимать в расчет бытующих в области женской одежды ус-
ловностей и предрассудков, а также фольклорных мотивов: с точки зрения «ра-
циональности» все они были признаны не более чем помехами. Поэтому пер-
вым шагом в осуществлении проекта создания «рациональной» одежды для
данного случая должно было стать определенное «промывание мозгов» — эта-
кая сознательная попытка освободиться от предвзятости в данном вопросе.
Конечно, без определенного рода знаний — таких, как знания в области меха-
ники и анатомии, — обойтись было невозможно, вместе с тем все то, что обыч-
но приходило на ум в связи с данным начинанием, представлялось неким пре-
пятствием, ненужным отвлечением, от которого следовало освободиться. Ин-
вестор, желающий нанять дизайнера для выполнения подобной задачи, впол-
не мог бы предпочесть, например, китайца, а не англичанина, так как китайца
меньше отвлекали бы неуместные традиционные английские подходы: именно
так поступили некоторые государства Латинской Америки, обратившись к
Бентаму с просьбой разработать для них «рациональную» конституцию. Та-
ким образом, дизайнеры одежды викторианской эпохи понимали «рациональ-
ность» как некое вневременное и универсальное качество — нечто такое, что
изъято из мира мнений и перенесено в мир достоверности. Конечно, возможны
были ошибки — и не только в области механики или анатомии (это было наи-
менее вероятно), а и ошибки самого разума, если он окажется недостаточно
свободным, недостаточно защищенным от предрассудков. И они совершили-
таки ошибку; предрассудки помешали их разуму изобрести шорты (куда более
отвечающие сформулированной ими задаче), вот они и остановились на шаро-
варах. А может быть, в этом не было ошибки? Может быть, остановиться их
заставило смутное сознание того, что «рациональность» есть нечто большее.
Теперь спросим себя: почему именно шаровары считались «рациональной»
формой одежды велосипедисток? Что такого особо «рационального» усмат-
ривали в этом современники изобретателей? В качестве общего ответа на эти
вопросы можно указать, во-первых, на то, что шаровары соответствовали си-
туации, являя собой удачное решение данной конкретной проблемы; имей ве-
лосипеды иную конструкцию (скажем, педали вращались бы руками, а не но-
гами), иным было бы по своему дизайну и «рациональное» одеяние велосипе-
дисток. Во-вторых, данное конкретное решение являлось плодом обдумыва-
ния проблемы (или это только казалось, что оно являлось таковым): шарова-
ры были признаны «рациональными», потому что эта одежда (или сама прак-
тика ее ношения) возникла как следствие независимого размышления ума, не
омраченного «неуместными» рассуждениями. Короче, здесь перед нами при-
мер применения широко разрекламированного в свое время «рационального
метода».
ояитнг.ап a Рациональное поведение 41
2 >с
В рассматриваемой нами концепции2 основным признаком «рациональности»
поведения названа целенаправленность', «рациональная» деятельность — это
поведение, преследующее самостоятельно заданную [действующим субъектом]
цель и определяемое исключительно заданной целью. Данная цель может
представлять собой как некий внешний результат, так и наслаждение самой
этой деятельностью. К целенаправленным действиям можно отнести как участие
в какой-либо игре ради победы (а может быть, и ради получения приза), так и
ради удовольствия, получаемого от самого игрового процесса. Далее,
«рациональным» является такое поведение, которое сознательно направлено
на достижение некой сформулированной цели и определяется исключительно
ею. Помимо достижения цели возможно появление и других — в том числе и
неизбежных — последствий и результатов подобного поведения, но все они
явятся по отношению к нему чем-то внешним, случайным и «иррациональным»,
поскольку они нежеланны, не являются частью замысла. Шаровары были
задуманы не для того, чтобы шокировать типичных представителей
викторианской эпохи, повеселить или отвлечь их от повседневности, а для того,
чтобы обеспечить их одеждой, вполне подходящей для езды на велосипеде.
Модельеры не ставили себе целью создать что-то забавное; в равной мере не
считали они, что чем «нелепей» будет их изобретение, тем более в нем будет
«рациональности»; на практике же «нелепость» оказалась столь частой
спутницей творений тех дизайнеров, которыми движет идея «рациональности»,
что ее уже вполне можно считать признаком удачного воплощения
«рационалистического» замысла. Поэтому «рациональное» поведение обычно
характеризуется не только конкретностью цели, но и ее простотой; ибо в случае,
когда цель сложна, эффективное достижение ее возможно либо тогда, когда
эта сложная цель разбивается на ряд простых (цели достигаются одна за другой,
пока не будет достигнута вся сложная цель), либо тогда, когда простые
составляющие данного сложного целого рассматриваются как связанные с
конкретными частями деятельности в целом. Отсюда наличие в «рациональном
поведении» необходимости точной формулировки поставленной цели; решение
создателя шаровар сконцентрировать свое внимание исключительно на
механике и анатомии, оставляя в стороне все прочие соображения.
«Рациональная» деятельность ориентирована на получение окончательного и
достоверного ответа на поставленный вопрос, отчего и сам вопрос должен
ставиться таким образом, чтобы допускать возможность такого ответа.
Далее, сознательная направленность деятельности на достижение поставлен-
ной цели возможна лишь при наличии необходимых средств, а также при усло-
вии, что мы имеем возможность выбрать из всех имеющихся в нашем распоря-
жении средств те, которые нам необходимы для достижения данной цели. Таким
- Данная концепция изложена в сочинении профессора Гинзберга: Ginsberg. Reason and
Unreason. ....... . - .
4& Майкл Оукшот. Рационализм в политике >
образом, «рациональное» поведение предполагает наличие не только заранее
заданной цели, но и заранее осмысленного выбора средств ее достижения. И
все это предполагает размышление с изрядной долей беспристрастности. Тща-
тельный отбор целей и средств предполагает решимость и способность проти-
востоять хаотичному потоку обстоятельств. Здесь действует правило поэтап-
ности; причем каждый очередной шаг предпринимается без какого бы то ни
было предварительного знания о том, что должно последовать за ним. Следо-
вательно, при таком понимании «рациональность» поведения заключена в том,
что этому поведению предшествует-, «рациональной» деятельность становит-
ся благодаря тому, как конкретно она подготавливается.
Дальнейшие определения так называемого «рационального» поведения
можно получить путём установления не совместимых с ним или противопо-
ложных ему родов деятельности. Во-первых, «рациональность» исключает
просто капризное поведение, то есть такое, которое не обладает заранее задан-
ной целью. Во-вторых, «рациональное» поведение противоположно поведе-
нию импульсивному, не обладающему такой необходимой для рационального
поведения чертой, как продуманный выбор средств достижения поставленной
цели. В-третьих, это «рациональное» поведение неизменно составляет проти-
воположность тому типу поведения, которое не руководствуется никакими со-
знательно принятыми правилами, принципами или канонами и не является ре-
зультатом сознательного следования некоему четко сформулированному прин-
ципу. Далее, оно исключает поведение, подчиняющееся не прошедшему про-
верки авторитету традиции, обычая или привычки. Ибо, хотя достичь цели
можно и посредством традиционного поведения, такая цель явится неразрыв-
но связанной со способом ее достижения, и достигший этой цели человек, пол-
ностью оставаясь в русле традиции, не будет должным образом сознавать ха-
рактер самой этой цели. Например, определенные процедуры, принятые в па-
лате общин, фактически обеспечивают достижение стоящих перед ними конк-
ретных целей, но так как на достижение их они не были рассчитаны, их роль в
качестве средств достижения определенных целей остается не выраженной в
явном виде. И наконец, я думаю, исключается и такая деятельность, в которой
заведомо отсутствуют средства, необходимые для достижения поставленной
цели; поведение такого рода «нерационально».
Попробуем углубиться в суть вопроса. Но прежде чем сделать это, поясним,
что предмет нашего рассмотрения является нам как таковой в виде возможного
(и достойного) способа поведения, образа действия, а не только в виде размышле-
ний об этом поведении. Можно признать, что люди не часто отвечают критери-
ям подобного поведения; можно также, не в ущерб нашему рассмотрению, при-
знать, что обычное поведение большей части рода человеческого не соответ-
ствует этим критериям, отличаясь гораздо меньшей дисциплинированностью.
Но мы намерены рассмотреть здесь точку зрения, согласно которой возможен и
такой тип поведения, такая конкретная деятельность, которая вышеописанным
критериям удовлетворяет и потому называется «рациональной». Поэтому нам
следует рассмотреть то, на каких исходных допущениях основывается этот взгляд,
датами a w-rar
Рациональное поведение 43
и то, насколько правомерны эти допущения.
Первое допущение, как нам представляется, состоит в том, что люди обла-
дают способностью судить о вещах, рассматривать те или иные утверждения,
касающиеся деятельности, упорядочивать их, формировать из них непротиво-
речивое целое. Далее, полагается, что данная способность не зависит от каких
бы то ни было других способностей, являясь чем-то исходным по отношению
ко всякой деятельности. И только такая деятельность, которой предшествует
реализация данной способности — предварительное «обдумывание» челове-
ком в определенной манере своего поведения, — может называться «рацио-
нальной» (или «разумной»). «Рациональное» поведение предполагает предва-
рительное «осмысление». Человек, способный к полностью «рациональному»
поведению, должен уметь заранее представить себе и выбрать ту цель, кото-
рую ему надлежит осуществить, дать этой цели ясное определение и выбрать
подходящие средства ее достижения; причем описанная способность никоим
образом не должна зависеть не только от традиции и неконтролируемых эле-
ментов опыта, обретенного им случайным путем, но также и от самой дея-
тельности, коей эта способность должна предшествовать. Если же речь идет о
нескольких людях, совместно занятых чисто «рациональной» деятельностью,
то необходимо, чтобы указанными способностями обладал каждый из них и
чтобы реализация этих способностей привела бы всех к одинаковым выводам
и подталкивала бы всех к одинаковым действиям.
Конечно, в прошлом уже были предприняты разнообразные попытки
сформулировать данные исходные допущения; они хорошо известны, но все
они отличаются приблизительностью, и нам не следует обращать на них
внимание. Все они придавали чрезмерную роль именно той способности, о
которой ведем мы здесь речь; эту способность все они величали «разумом».
Предполагалось, что «разумность» есть исконное свойство человеческого
ума, что она представляет собой некий естественный свет, замутнить кото-
рый может лишь образование; «разум» представлялся этаким застрахован-
ным от ошибок инструментом, оракулом, волшебное слово которого пред-
ставляет собой истину. Когда же это начинает выходить за рамки необходи-
мого и разумного, неизбежным становится предположение, что (если ука-
занная способность должна существовать), ум человека может быть отделен
как от его содержания, так и от его деятельности. Соответственно прихо-
дится интерпретировать ум как нейтральный инструмент, как некий меха-
низм. И для того чтобы этим механизмом можно было воспользоваться наи-
лучшим образом, требуется долгая и интенсивная подготовка; за этим инст-
рументом необходим уход, его нужно содержать в рабочем состоянии. Вме-
сте с тем это самостоятельный инструмент, и «рациональное» поведение есть
результат пользования этим инструментом.
Согласно этой гипотезе, ум человека является незаменимым инструмен-
том освоения опыта. Убеждения, идеи, знания, все содержимое ума и прежде
всего поведение людей в мире сами по себе не считаются ни умом, ни частью
ума, а рассматриваются в качестве случайных, позднейших его приобрете-
44 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ний, относящихся к таким результатам умственной деятельности, возникно-
вение которые носит совершенно необязательный характер. Ум может на-
капливать знания или являться причиной телесной деятельности, но сам по
себе он есть нечто такое, что может существовать помимо всякого знания и в
отсутствие всякой деятельности. Он устойчив и постоянен, в то время как
наполняющее его знание носит неустойчивый и зачастую случайный харак-
тер. Далее, предполагается, что данный постоянный умственный инструмент
поддается тренировке — и это несмотря на то, что он дан человеку с рожде-
ния. Но то, что мы называем «тренированным умом», является, подобно сле-
зам, пролитым школьником над положением в учебнике Евклида, послед-
ствием изучения и деятельности, а не заключением из них. Поэтому трени-
ровка ума способна принимать вид либо чисто функционального упражне-
ния (подобного гимнастике), либо усилия, предпринимаемого наудачу, —
такого, как попытка догнать автобус. Тренировкой ума способен служить
«пельманизм»* или изучение латинской грамматики. И наконец, принято счи-
тать, что ум лучше всего сможет воспринимать опыт, если будет как можно
меньше замутнен ранее обретенными знаниями или предрасположенностями:
открытый, пустой или свободный ум, ум без пристрастий, является средством
привлечения истины, устранения предрассудков и единственным источником
«рационального» суждения и «рационального» поведения. Следовательно,
чисто формальное упражнение ума обычно рассматривается как нечто более
высокое, чем то разнородное его употребление, в котором к уму примешано
«знание того, как делать»; такое применение ума неизбежно несет с собой кое-
что из прошлых установок. Так что первым действием по подготовке ума, уже
зараженного определенной предрасположенностью, должен стать процесс его
очищения, освобождения от наслоений специальных знаний и умений — про-
цесс восстановления девственно нетронутого состояния. К сожалению, в дет-
стве ум человека из-за его нетренированное™ накапливает массу убеждений,
склонностей, знаний, принимающих форму определенных установок; поэтому
взрослый обязан прежде всего избавить свой мыслительный механизм от всех
этих предрассудков. В этом и состоит «разум», «рациональная» составляющая
человека; человеческая деятельность может считаться «рациональной» тогда
лишь, когда ей предшествует деятельность «разума», когда понимаемый та-
ким образом «разум» обусловливает человеческую деятельность.
3
Может показаться, что вышеописанный взгляд есть нечто из ряда вон
выходящее, что взгляд этот принадлежит кучке эксцентрично мыслящих людей,
которых не следует принимать всерьез, а сказанное ими нельзя понимать
буквально. Но это не так. Данный взгляд являет собой теорию, занимающую в
истории философии вполне респектабельное место; философы немало
*О «пельманизме» см. сн. 36 к статье «Рационализм в политике». — Прим, перев.
i . : Mti.px Рациональное поведение 45
потрудились для того, чтобы внушить данный образ мысли обычным людям.
Правда, многие из тех, чьи высказывания заставляют нас думать, будто они
разделяют эту теорию, станут отказываться от нее — и вместе с тем их
высказывания будут напоминать о ней. Но тогда следует узнать у них, что
именно они имеют в виду. Ведь это довольно распространенное мнение; его
придерживаются, например, все не слишком глубокомыслящие сторонники
замены образования тренировкой ума. Именно это мнение позволяет понять,
почему признание чего бы то ни было «логичным» рассматривается некоторыми
людьми как достаточное основание считать данное «логичное» действие или
мероприятие заслуживающим того, чтобы быть осуществленным или
организованным. Сюда же относится и принцип la carriere ouverte aux talents
представление о том, что члены гражданского общества «не должны отличаться
друг от друга ничем, кроме как личными способностями», а также предложение
обучать наших детей родному английскому языку, не засоряя при этом их
головы английской литературой 3. Думаю, рассматриваемый здесь взгляд не
является моим собственным измышлением; сторонников его можно отыскать
в любой сфере жизни. Согласно ему, «рациональность» поведения является
продуктом действия определенного самостоятельного инструмента и только
тот образ поведения «рационален», который продиктован исключительно
данным инструментом.
Нужно ли говорить о том, какой именно вид примет поведение, если оно
будет соответствовать такому пониманию «рациональности». К таковому
будет отнесена лишь деятельность, направленная на выполнение заранее оп-
ределенных целей, деятельность, целиком определяемая той целью, на дости-
жение которой она направлена, деятельность, максимально исключающая
любые непредвиденные и нежелательные последствия. Целью такого поведе-
ния явится, прежде всего, выявление задачи, осознание того, какой цели над-
лежит достичь; во-вторых, определение того, какие средства необходимо ис-
пользовать для достижения именно этой (а не какой-либо другой) цели; и в-
третьих, осуществление соответствующих действий. При таком подходе че-
ловеческая деятельность как бы распадается на ряд подлежащих разрешению
проблем, что предполагает достижение определенных целей, а это, в свою
очередь, предполагает выполнение определенных действий, направленных на
реализацию данных целей. В этом случае свободное от предубеждений рас-
смотрение определенных проектов станет заменой любой политике; при вы-
работке предпринимаемых мер будет исключено (насколько это возможно)
пользование прецедентами и предписаниями; а человек, вооруженный фор-
мулой, займет место человека, не пользующегося в своей деятельности по-
добными формулами.
Между тем говоря о такой деятельности, которая, согласно допущению,
является воплощением разработанного нами идеала «рационального» пове-
4 Дорога открыта для талантов (фр.)- — Прим, перев. >-
5 Darlington С. D. The Conflicts of Science and Society. ,
4f> Майкл Оукшот. Рационализм в политике
дения, мы должны соблюдать известную осторожность, ибо то, что мы рас-
сматриваем сейчас, является в действительности не образом поведения как
таковым, а теорией поведения. Поскольку же эта теория является (как я на-
мерен доказать) ошибочной, поскольку она дает неверное изображение чело-
веческого поведения, среди конкретных примеров человеческого поведения
невозможно отыскать такой, который смог бы соответствовать ей на деле.
Если то, о чем мы говорили, и есть «рациональное» поведение, то мало того,
что такое поведение нежелательно — оно к тому же и невозможно. Люди не
ведут себя вышеописанным образом, ибо так они просто не могут себя вести.
Конечно, сторонники данной теории считают описываемый ею тип поведе-
ния возможным, а называя его «рациональным», они тем самым показыва-
ют, что именно такой тип поведения является желательным. Но они заблуж-
даются. Хотя, несомненно, везде, где имеет хождение данная теория, будет
наблюдаться тенденция к тому, чтобы привести реальное поведение людей в
соответствие с предлагаемым ею шаблоном, все предпринимаемые в этом
направлении попытки будут безуспешны. Практическая опасность ошибоч-
ной теории заключается не в том, что она способна заставить людей вести
себя нежелательным образом, а в той путанице, которую она порождает в
человеческих поступках. Но займемся самой теорией.
4
Ни для кого не секрет, что рассматриваемая концепция «рациональности»
поведения оставляет желать лучшего. Некоторые ее детали уже стали предметом
критики, оказавшейся в некоторых отношениях настолько неоспоримой, что в
теорию пришлось внести существенные коррективы. Сам я, не желая заострять
внимание на мелких недостатках, остановлюсь на том, что представляется мне
главным пороком данной теории. Думаю, стоит только продемонстрировать,
что представляет собой эта теория, как она рухнет сама собой, погребенная
под бременем собственного несовершенства. По моему мнению, изложенная
выше концепция не является удовлетворительным понятием о рациональном
поведении, ибо не имеет отношения ни к какому поведению.
к; Начнем с рассмотрения центрального для данной теории понятия — поня-
тия «ума» или «разума». Здесь мы имеем следующую картину: нечто, называе-
мое «умом», существует изначально; и это нечто обретает убеждения, знания,
предрассудки — наполняется ими, — но все это наполнение «ума» является в
отношении его самого не более, чем придатком; сам же «ум» является причи-
ной телесной деятельности, и в этом качестве он функционирует лучше всего
тогда, когда оказывается ничем не обремененным. Так вот: подобные пред-
ставления об уме кажутся мне фикцией; ум здесь — не что иное как наделенная
самостоятельным бытием деятельность. Разум, насколько нам известно, пред-
ставляет собой порождение знания и деятельности; он весь состоит из мыслей.
Вы не можете сначала обладать умом, а уже потом наполнять его «начинкой»
из идей, после чего ум начнет определять — какие из них истинные, а какие
эзгягнарЛ a Mt-Wi. Рациональное поведение 41
ложные, какие правильные, а какие неправильные, какие разумные, а какие
неразумные, — и уже затем, в качестве третьего шага, ум «породит» деятель-
ность. Собственно говоря, до всех этих различий и независимо от них никако-
го ума существовать не может. Ведь эти и некоторые прочие различия не явля-
ются чем-то приобретаемым умом, они — неотъемлемые части ума. Попро-
буйте исключить их из ума, и окажется, что они — не какое-то «знание» (часть
знания), а сам ум. После подобного вычитания мы не обнаружим в остатке ни
некоего нейтрального, беспристрастного инструментария, ни чистого разума
— мы вообще ничего не обнаружим. Думаю, ошибочным является само пред-
ставление об уме как о мыслительном аппарате, между тем, именно эта ошиб-
ка составляет основу вышеописанного понимания природы «рационального»
поведения. Уберите ее — и вся концепция рассыплется. Л
Далее, как следствие сказанного, ошибочным представляется и тот взгляд,
что поведение вообще способно «порождаться» некой деятельностью, ошибоч-
но трактуемой как обретение «умом» самостоятельного существования, то есть
неверно думать, будто поведение обусловливается способностью рассматри-
вать абстрактные суждения о поведении. То, что такая способность существу-
ет, не вызывает сомнений; но предпосылкой ее является само поведение. По-
добный вид деятельности не может существовать до самого поведения; он есть
не что иное, как результат размышления о поведении, порождение анализа
поведения, следующего за самим поведением. Данное утверждение справедли-
во не только относительно поведения в узком смысле, но и относительно лю-
бой деятельности вообще — будь то деятельность ученого или мастерового,
деятельность политика или повседневная жизнедеятельность любого челове-
ка. Следовательно, утверждать, что деятельность может возникать из назван-
ной мыслительной способности, просто бессмысленно, а рекомендовать назы-
вать «рациональной» лишь ту деятельность, которая возникает подобным об-
разом, просто неумно. Делание чего-либо зависит от того, знаем ли мы, как это
делается; а если знаем, то само делание это знание продемонстрирует; и хотя
впоследствии часть этого знания (но никогда не все знание) можно свести к
знанию в форме суждений (а возможно, и к целям, правилам и принципам),
данные суждения отнюдь не являются ни источником деятельности, ни ее не-
посредственным регулятором.
Попытка охарактеризовать столяра, ученого, художника, судью, повара и
любого другого человека с точки зрения его обычной жизнедеятельности, его
отношений с другими людьми и с окружающим миром представляет собой зна-
ние, но знание не тех или иных суждений, касающихся их самих, орудий их
труда, материалов, с которыми они работают, а знание того, как решать опре-
деленные вопросы; именно такое знание и обусловливает способность строить
подобные суждения. Следовательно, если «рациональность» должна олицет-
ворять желаемое качество деятельности, она не может быть способностью иметь
продуманные заранее и независимые суждения о деятельности до того, как эта
деятельность начнется. Ошибочно называть деятельность «рациональной» на
том лишь основании, что ее конкретная цель определена заранее и решено, что
48 Майкл Оукшот. Рационализм в политике '
’г ТЗ у;, st-iSi’cTH'- ,-Ь ОСН -ЦЛЛ
будет достигнута именно эта цель, исключая все прочие: дело в том, что опре-
делить цель деятельности до самой деятельности невозможно, а если бы это и
было возможно, то источником деятельности все равно оставалось бы знание
того, как достичь данной цели, а отнюдь не ее формулировка. Поваром, на-
пример, является не тот, кто сначала представляет себе пирог, а затем пытается
его испечь; повар — это человек, умеющий готовить, именно из умения гото-
вить и происходят его планы и его достижения. «Хороший» английский язык
не есть нечто существовавшее до письменного английского языка (то есть до
английской литературы); а знание того, что такое-то выражение является не-
литературным либо грамматически неправильным, не может явиться человеку
само собой, до того, как он изучит письменный английский язык, и независи-
мо от знания письменного английского.
Поэтому я считаю, что сама попытка отыскать способ поведения, являю-
щийся «рациональным» в вышеописанном смысле, является заблуждением. Ин-
струментального ума не существует, а если бы он и существовал, он все равно
не смог бы стать источником какой бы то ни было конкретной деятельности.
Тем не менее невозможно отрицать, что на протяжении достаточно долго-
го времени люди сознательно стремились к тому, чтобы их поведение было
«рациональным» в вышеописанном смысле. Они верили в то, что такое «раци-
ональное» поведение являет собой высшую добродетель. Часто они сознавали,
что им не удается абстрагироваться от прочих источников деятельности; вмес-
те с тем, всякий раз, когда они, как им казалось, умудрялись внимать исключи-
тельно голосу «разума», они были горды этим. Думаю, что своим происхожде-
нием эта иллюзия обязана некой ложной, но на вид правдоподобной теории
образования, благодаря которой она не кажется иллюзией. Мы можем согла-
шаться с тем, что считать деятельность проистекающей из каких-то предвари-
тельных суждений о деятельности бессмысленно; вместе с тем мы склонны ве-
рить в то, что для обучения какой-либо деятельности необходимо сначала пре-
образовать наши знания в ряд суждений (из которых складывается, например,
грамматика языка, правила исследования, принципы проведения эксперимен-
та и верификации, каноны мастерства) и что изучение деятельности следует
начинать именно с изучения таких положений. Конечно, глупо было бы отка-
зывать подобному педагогическому приему в определенной ценности. Одна-
ко, следует отметить, что, во-первых, данные правила и другие суждения о де-
ятельности представляют своего рода конспект конкретного знания препода-
вателем своей деятельности (а следовательно, они вторичны по отношению к
самой деятельности) и во-вторых, изучение этих правил представляет собой
самую примитивную стадию обучения любой деятельности. Выучить эти пра-
вила не составляет труда, но это будет далеко не все из того, чему можно на-
учиться у преподавателя. С другой стороны, работа бок о бок с опытным уче-
ным или мастеровым дает возможность не только выучить правила, но и обре-
сти непосредственное умение, столь необходимое для занятия этим делом (и,
помимо всего прочего, обрести знание того, как и когда следует применять
правила); и пока не научишься всему этому, никакие знания не будут играть
эянтшхоп 8 м-гнк- Рациональное поведение 49
большой роли. И только убеждение, будто данные знания не могут сравниться
по важности со знанием правил, только нежелание признать их настоящими
знаниями позволяет нам думать, будто и сам процесс приобретения знаний
подтверждает то мнение, что деятельность как таковая возникает из суждений
о деятельности и что эти суждения существуют до самой этой деятельности и
независимо от нее. [По тексту: И только когда мы думаем, что это не имеет
значения по сравнению с изучением правил самих по себе, когда мы отвергаем
это как не соответствующее понятию обучения в собственном смысле, как не
настоящее знание, тогда кажется, что характер изучения деятельности служит
подтверждением того факта, что сама активность может быть основана на пред-
варительно обдуманных положениях о ней. ]
Но всякому, кто возьмется доказать неистинность подобной «рациональ-
ности», придется углубиться в потаенную историю тех интеллектуальных ус-
тановок, что незримо господствовали в Европе — в особенности на протяже-
нии последних четырех столетий. Искать каких-то конкретных причин подоб-
ного положения дел не стоит, но полагаю, что есть смысл сказать о трех обсто-
ятельствах, ответственных за то, что названный тип «рациональности» пока-
зался нам столь привлекательным. Во-первых, существовало похвальное убеж-
дение, что честность помыслов, незаинтересованность, непредубежденность
являются величайшими интеллектуальными достоинствами. Но, к сожалению,
это убеждение дополнялось некой странной путаницей в умах — верой в то,
что на незаинтересованность способен только совершенно самостоятельный
ум4, то есть ум, свободный от ранее приобретенных установок. Это уважение к
интеллектуальней честности в соединении с представлением о том, что суще-
ствует некая определенная «честная» деятельность, и одновременно нежела-
ние думать, что таковая деятельность представляет собой приобретенное уме-
ние и что это умение бывает разным в разных обстоятельствах, — все это
вместе и явилось первым шагом на пути к столь неудачно выбранному идеа-
лу «рациональности».
Во-вторых, в том, что касается объектов веры, а также поведения, существо-
вала неистовая тяга к установлению достоверности, которой сопутствовало убеж-
дение, что достоверность должна быть просто «дана», что в достоверности не-
возможно убедиться, так как она — дар божий, а не вознаграждение за работу.
Считалось, что достоверность должна быть началом всякого познания; а источ-
ником достоверности могло быть только положительное знание, не зависящее
от деятельности. Но это стремление к безошибочной достоверности не было, по
моему мнению, столь же искренним, как желание соблюдать интеллектуальную
честность; мне даже кажется, что отношение к уму как к некоему инструменту в
некоторых отношениях являет собой остаточную веру в магию.
И в-третьих, в рассматриваемый период во многих сферах жизни и, в част-
ности, в политике росло незнание того, как вести себя в том или ином случае;
все чаще возникали ситуации, в которых из-за их «новизны» у людей не оказы-
4 Самое убедительное изложение подобной доктрины дал Спиноза в своей «Этике».
50
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
валось готовых средств для их разрешения. Когда в политике человек ощуща-
ет себя беспомощным, он, как правило, бывает склонен принижать ценность
имеющихся в его распоряжении знаний и преувеличивать ценность и необхо-
димость свободного, открытого мышления, которому он начинает приписы-
вать способность знать о деятельности заранее. Иллюстрацией сказанному
может служить политика французских реформаторов времен Людовика XIV.
Реформаторы были убеждены, что французское государство находилось в тот
период в безнадежном состоянии; в то же время традициям французского прав-
ления были присущи институты и способы поведения, которые вышли из упот-
ребления, но которыми могли воспользоваться и действительно воспользова-
лись французские реформаторы. Реформаторы знали, как велись дела до сих
пор, и это знание легло в основу выдвигаемых ими предложений. Европа так-
же находилась в безнадежном состоянии. Но в Европе ничего не знали о том,
каким должно быть правильное ведение дел; там, насколько было известно
реформаторам, никогда не существовало надлежащей организации дел. И по-
скольку все необходимо было (как им казалось) начинать de novo *, представ-
ленные ими планы европейского мира являли собой продукт чистого мышле-
ния. Планы, разработанные аббатом Сент-Пьером ** для Франции, разительно
отличались от его же планов для Европы. Ведь на деле никогда не бывает тако-
го, чтобы мы совсем не знали, как поступать; во все времена человечество зна-
ло, на что положиться. Поэтому никому никогда и не удавалось проводить
чисто «рациональную» политику. Однако на практике пользоваться имеющи-
мися в его распоряжении реальными знаниями человечеству то и дело мешала
приверженность к ложным идеалам свободного ума и привычка прибегать к
абстрактной, немощной «рациональности». Политика же как специфическая
сфера деятельности особенно подвержена влиянию этого «рационального»
идеала. Если вы попробуете испытать данный «разумный» подход в обраще-
нии, скажем, с бойлером или с электрогенератором, ваши попытки будут недо-
лгими - случится взрыв или что-нибудь подобное. В политике же результатом
такого подхода может стать война и хаос, а их вы не сразу свяжете с собствен-
ными ошибками. Движущей силой деятельности политического доктринера
является не какое-то независимое позитивное знание о поставленной цели, а
незнание истинного источника своей деятельности. [По тексту: Доктринер в
политике — это не тот человек, источник деятельности которого представля-
ет собой независимое знание о том, какой цели следует достигать, а тот чело-
век, который не может определить подлинный источник своей деятельности]
Обычно политический доктринер представляет из себя человека, отвергаю-
щего как не имеющие силы бытующие представления о правильном ведении
политики и полагающегося в этом вопросе на знания из других областей де-
ятельности (отнюдь не всегда являющихся истинным подспорьем), при этом
------------- tfiSH w > да.
* Сначала (лат.). — Прим, перев.
* * Сент-Пьер — подлинное имя Шарль-Ирене Кастель (1658—1743) — французский публи-
цист и реформатор. — Прим, перев.
$2 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
«рациональным». Результат их деятельности был «рациональным» потому, что
была достигнута ясная, заранее поставленная цель, а также потому, что он явил-
ся плодом предшествующей теоретической деятельности. Но, как мы уже заме-
чали, кое-что в данной ситуации заставляет нас усомниться в том, действи-
тельно ли то, что они реально создали, совпало с их замыслом, — ведь именно
при условии совпадения того и другого их поведение возможно было назвать
«рациональным». Почему они остановились на шароварах, а не выбрали шор-
ты? Ответить на этот вопрос в том духе, что это, мол, было сделано исключи-
тельно по недосмотру, приведшему к непроизвольному отступлению от «ра-
циональности», значило бы представить дело упрощенно. Ведь само их изоб-
ретение выглядит как свидетельство того, что осуществить изначальный за-
мысел им удалось-таки, но при этом они руководствовались некоторыми до-
полнительными соображениями; между тем назвать все предприятие «рацио-
нальным» допустимо лишь в случае, если бы таковых соображений у них не
было. Шаровары не являются адекватным ответом на вопрос: какая одежда
более всего соответствует езде на велосипеде определенной конструкции? Они
являются адекватным ответом на вопрос: какая одежда, позволяя ездить на
велосипеде, одновременно отвечает бытовавшему комплексу представлений о
том, как должна была выглядеть английская девушка-велосипедистка 1880-х
годов? Именно на этот вопрос, сами того не сознавая, пытались ответить тог-
дашние модельеры. Но если допустить, что сами модельеры разделяли изна-
чальную формулировку «рациональности» (на несостоятельность которой мы
уже указывали), то можно предположить, что вторую, уточненную нами вер-
сию этой формулировки они сочли бы недостаточно «рациональной». Деятель-
ность действительно должна определяться заранее поставленной целью, и в
этом смысле она не лишена «рациональности»; и все же это совсем иная дея-
тельность, чем та, которую они привыкли называть «рациональной». Данная
деятельность принципиально неотличима от деятельности любого дизайнера
одежды. Прежде всего на сформулированный выше вопрос определенно невоз-
можно дать ответа с точки зрения «чистого разума»; здесь требуется нечто боль-
шее, чем инструментальный ум. Конечно, это же можно сказать и об ответе на
первый вопрос — тот, что был на уме у дизайнеров; разница состоит лишь в
том, что для ответа на первый вопрос необходимо было сначала очистить ум.
Между тем для ответа на наш вариант вопроса требуются гораздо более пози-
тивные шаги. Ни одному здравомыслящему капиталисту не пришло бы в голову
поручать данное дело китайцу; незнание им английских вкусов, традиций, фоль-
клора, а также предрассудков, существующих в области женской одежды, об-
рекло бы его начинания на неминуемый провал. Поэтому несмотря на то что мы
не отрицаем необходимости установления цели заранее, мы не упускаем из виду
того, что цель эта в высшей степени сложна. В ней присутствует даже некоторая
внутренняя противоречивость: принципы анатомии и механики требуют одно-
го, а социальные условности—другого. Данный вопрос исключает возможность
определенного ответа, так как он построен на той или иной интерпретации мне-
ний; кроме того, на этот вопрос нельзя ответить раз и навсегда, так как ответ
зависит от времени и места. Короче, этот вопрос вряд ли является «рациональ-
ным», если исходить из описанного выше понимания «рациональности». И все
же, полагаю, именно на этот вопрос пытались дать ответ дизайнеры «рацио-
нальной одежды» — и таким ответом стало создание шаровар6.
Здесь мы имеем дело с примером конкретной человеческой деятельности,
относительно которой следует задать вопрос: в каком смысле можно считать
подобное примером «рациональной» деятельности? Неисправимый приверже-
нец идеи «рациональности» (идеи, с нашей точки зрения, неприемлемой) ска-
зал бы, что данная деятельность «рациональна», так как порождена заранее
обдуманной целью, хотя данная конкретная цель не является простой и не обус-
ловливается исключительно «разумом»; вряд ли эту цель можно считать не за-
висящей от деятельности. Далее, он сказал бы, что приведенные характеристи-
ки не противоречат прежним критериям; данная деятельность является «раци-
ональной» постольку, поскольку она представляет собой заранее обдуманную,
«разумную» деятельность. И хотя изначально мы утверждали, что цель, дос-
тигнутая дизайнерами одежды, на самом деле не была продумана ими заранее
(ибо та задача, которую они сознательно формулировали, была более узкой,
чем та, которую они фактически выполнили), было бы правильнее не спорить
здесь с приверженцем идеи «рациональности», поскольку у нас еще нет оче-
видных причин сомневаться в продуманности этой деятельности. Здесь мы все
еще находимся в области абстракций, хотя и не таких высоких и выхолощен-
ных, как те, которыми пользуются сторонники теории инструментального ума.
6
Рассматривая конкретную деятельность историка, повара, ученого, политика
или повседневную жизнедеятельность любого человека, мы заметим, что в каж-
дом из этих случаев речь идет о поиске ответа на конкретный вопрос. При
этом любого специалиста отличает то, что он знает (или думает, что знает),
как найти ответ на каждый такой вопрос. Но о том, что эти вопросы связаны
именно с этим родом деятельности, он не может знать до того, пока не попро-
бует ответить на них: отвечая именно на данные, а не на какие-то другие воп-
росы, он не прибегает ни к каким внешним по отношению к его деятельно-
6 Те, кто знаком с романом Толстого «Анна Каренина», вспомнят разговор Левина и Свяж-
ского о «рациональном» ведении сельского хозяйства. Для Свяжского «рациональ-
ное» ведение сельского хозяйства состояло исключительно во внедрении машин,
правильного учета и пр. Но Левину тут же становится ясно, что во всем этом чего-
то не хватает: нет ничего «рационального» в том, чтобы предоставлять сложную
технику в распоряжение крестьян, не знающих, как ею пользоваться, и с презрением
относящихся ко всей этой технике. То, что «рационально» для Германии, «нерацио-
нально» для России. Необходимо ведь дать своим крестьянам образование и при-
способить уровень своих технических нововведений к уровню их образованности.
Левин понимает (но не может объяснить), что всякая деятельность предполагает зна-
ние того, как себя вести в данной ситуации; этого не понимает Свяжский, занимаю-
щий типично «рационалистическую» позицию. См.: Толстой Л .Н. Анна Каренина,
ч. III, гл. 27—28; ч. IV, гл. 3.
54
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
сти правилам или принципам; он занимается той деятельностью, которой, в
общем и целом, умеет заниматься. Именно сама эта деятельность и определяет
как характер вопросов, так и способ ответа на них. Конечно, нет ничего невоз-
можного в том, чтобы сформулировать ряд принципов, содержащих более или
менее точное определение того вида деятельности, которым мы намерены за-
няться; но выводить такие принципы следует из деятельности, а никак не на-
оборот. Но даже если человек и обладает подобного рода положительным зна-
нием о своей предстоящей деятельности, его фактические знания об этой дея-
тельности никогда указанным знанием не ограничиваются. Из этого явствует,
что деятельность таких людей (да и вообще всяческая деятельность) является в
сущности первичной; и каждый из нас постепенно осваивает любую деятель-
ность — при этом невозможно установить начало деятельности, так как не су-
ществует такого момента, когда бы мы совсем ничего об этой деятельности не
знали. Конечно, деятельность вообще не является заранее заданной в виде сум-
мы составляющих ее действий; в целом она заключается в знании того, как
решать ту или иную конкретную проблему. В отношении же конкретных задач
отдельно взятого ученого или повара она действительно является заранее за-
данной. Каким же образом (если все это настолько ясно, насколько представ-
ляется мне) возникает у нас иллюзия, будто деятельность названных и подоб-
ных им людей может иметь в качестве своего реального источника, своего на-
правляющего начала некую задачу, цель или набор правил, которые не зави-
сят от самой этой деятельности и которые можно обдумать заранее, на основа-
нии чего и делается вывод о том, что именно этот источник и это направляю-
щее начало являются носителями «рациональности»?
Всякий человек, занятый определенным родом деятельности, выбирает в
ней для себя определенный вопрос и ищет на него ответ. Перед ним стоит опре-
деленная задача: вычислить массу Луны, испечь бисквитный торт, нарисовать
портрет, выяснить все обстоятельства, сопутствовавшие войне на Пиренеях,
заключить соглашение с иностранной державой, дать образование сыну и т.д.
и т.п. А так как любому человеку, сосредоточенному на определенным деле,
свойственно не обращать внимания на то, что лежит за пределами его внима-
ния, он и полагает, что источником и направляющей силой данной деятельно-
сти является эта самая задача. Никто из людей, занимаясь определенной зада-
чей, не может держать в поле своего зрения все возможные ее грани, все привхо-
дящие обстоятельства. Деятельность как целое разбивается на отдельные дей-
ствия, и возникает ложное впечатление самостоятельности каждого из таких
действий. Когда же речь идет не о нашей собственной, а о чьей-то посторонней
деятельности, то эта бессвязность впечатлений, как правило, лишь усиливается.
Любое предприятие, не являющееся нашим собственным, кажется сплошь состо-
ящим из приемов и упрощений. Поэтому нет никакой загадки в том, каким об-
разом возникло представление, будто всякая конкретная деятельность порожда-
ется независимо от нее возникшей задачей: ошибка начинается с того, что всей
деятельности приписывается характер отдельного действия, которое абстраги-
руется от той деятельности, частью которой оно является, — например, кули-
Рациональное поведение 55
нарной деятельности приписывается характер действий по выпечке конкретно-
го пирога и предполагается, что исполнитель не является поваром.
Если же наш повар или наш ученый взялся бы рассмотреть все примешива-
ющиеся обстоятельства своих конкретных действий, он очень скоро пришел
бы к двум выводам. Во-первых, он заметил бы, что его действия, направлен-
ные на осуществление поставленной задачи, определяются не только заранее
обдуманной целью, но и тем, что можно назвать традициями того вида дея-
тельности, к которому относится осуществление данной задачи. Именно пото-
му, что он знает, как нужно решать проблемы этого рода, он в состоянии раз-
решить и данную конкретную проблему. Иными словами, он увидит, что ис-
точник и направляющая сила его действий заключены в тех умениях, которы-
ми он обладает, в знании, как подступиться к данному делу, в той его общей
причастности к конкретному виду деятельности, по отношению к которому
данное частное занятие является некой абстракцией. И хотя порой эта причас-
тность к конкретному виду деятельности (деятельности ученого или повара)
способна выглядеть простым применением правил или осуществлением постав-
ленной цели, сам-то исполнитель будет сознавать, что эти правила и эта цель
вытекают из самой деятельности, а не наоборот; что деятельность в целом ни-
когда не сводится к осуществлению заранее заданной цели или применению
заранее установленных правил.
Но если самое первое его наблюдение заключается в том, что никакое ре-
альное занятие не может, как бы то ни казалось на первый взгляд, порождать-
ся или направляться некой независимо спланированной целью — проблемой,
которую предстоит разрешить, или же проектом, который решено осуществить
(ибо если бы это было так, то данная конкретная деятельность так и не смогла
бы быть начата); то его второе наблюдение является еще более радикальным:
он поймет, что никакой план деятельности невозможно разработать заранее,
до того, как начнешь эту самую деятельность. Его участие в конкретной дея-
тельности по решению такого рода проблем является источником не только
его способности решить данную проблему, но и самой деятельности по ее ре-
шению. И сами проблемы, и пути нахождения их решений в скрытом виде уже
присутствуют в этой деятельности, и вычленить их из нее можно лишь посред-
ством абстракции. Прежде чем вы сможете разработать конкретный план, вам
необходимо обладать знанием того, как к нему подступиться (а это предпола-
гает участие в данной деятельности), и в не меньшей степени аналогичные зна-
ния необходимы для того, чтобы сформулировать план. Короче говоря, каж-
дая частная деятельность никогда не начинается как частная, но всегда пред-
ставляет собой некий язык (idiom) или традицию деятельности. Человек, не
являющийся ученым, не сможет даже сформулировать научную проблему; сфор-
мулированная им проблема сразу же будет отнесена человеком искушенным к
разряду «ненаучных», так как ее невозможно будет рассмотреть «по-научно-
му». Аналогичным образом человек, искушенный в исторических исследова-
ниях, сразу же признает вопрос типа «Была ли Французская революция ошиб-
кой» неисторическим.
56
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Таким образом, мы получили те же выводы, что и ранее, хотя и в более
радикальной форме. Деятельность, проистекающая из не зависящей от нее за-
ранее обдуманной цели, деятельность, направляемая такой целью, невозмож-
на; мы не обладаем способностью заранее, до того как начата сама деятель-
ность, до того как имеет место определенное поведение, продумывать цель и
формулировать правила и стандарты поведения. Изображать их источником
и направляющим началом деятельности значит искажать само представление
о деятельности. Полагать, будто деятельность именно такова и пытаться сде-
лать ее таковой, значит просто извратить всю деятельность, так и не добив-
шись искомого соответствия ее предустановленным целям и правилам. Назы-
вать такое поведение «рациональным» бессмысленно, так как это будет вовсе
не поведение, а его бледная тень. Заметим также, что если мы согласны с тем,
что глупо называть «рациональным» поведение потому только, что оно пол-
ностью определяется независимой от него, предустановленной целью, то нам
следует согласиться и с тем, что не следует называть «рациональным» и то по-
ведение, которое достигло поставленной цели, то есть является успешным. До-
стижение желаемого результата не является показателем «рациональности» по-
ведения, ибо, как мы уже видели, представлять себе поведение вытекающим из
желания достичь определенного результата можно только если пренебречь дей-
ствительным положением вещей, полностью абстрагироваться от него.
7
До сих пор наши выводы в основном носили отрицательный характер, но в
процессе исследования, думаю, выявился и более плодотворный взгляд на
«рациональность» поведения. Если «рациональность» поведения заключена не
в чем-то, что имело место до самого поведения — будь то не зависящее от него
обдумывание цели или установление правил поведения, — если
«рациональность» поведения не есть что-то, привносимое в него извне, что-то
внешнее по отношению к собственному языку данного поведения, тогда,
вероятно, она должна быть качеством или свойством самого поведения.
Любое реальное поведение, любая конкретная деятельность возникает в
контексте определенного, имеющегося языка поведения. А под «языком пове-
дения» (idiom of activity) я понимаю знание того, какое именно поведение соот-
ветствует данным конкретным обстоятельствам. Научная деятельность пред-
ставляет собой исследование (exploration) имеющегося в распоряжении ученых
знания о том, как следует формулировать научные вопросы и как на них отве-
чать; моральная деятельность — это исследование наличного знания о том,
как хорошо себя вести. В обоих случаях вопросы и проблемы складываются из
имеющегося у нас знания о том, как подходить к их решению, то есть из самой
деятельности. И постичь язык деятельности нам удается не иначе, как в про-
цессе самой этой деятельности; ибо научиться деятельности мы можем только
занимаясь ею. Начинаем же мы с того, что уже знаем (в научной сфере — с
того, что мы знаем о том, как работает ученый; в сфере морали — с того, что
эхн'* / лн Рациональное поведение 57
нам известно о хорошем поведении), а если бы мы не знали ничего, то ничего и
не смогли бы начать. Постепенно, многими различными способами, мы совер-
шенствуем и расширяем свое первоначальное знание о том, как действовать. В
числе таких способов (занимающих, правда, подчиненное положение, поскольку
они находятся в очевидной зависимости от достигнутого нами уровня знания
того, как осуществлять деятельность) — анализ деятельности, определение при-
сущих ей правил и принципов и размышление над этими правилами и принци-
пами. Но эти правила и принципы являются не более чем «сокращенной фор-
мой» самой деятельности; они не существуют до самой деятельности, о них нельзя
с полным правом утверждать, что они направляют деятельность или служат сти-
мулом к ней. Полное владение этими принципами может сочетаться с полной
неспособностью заниматься соответствующей деятельностью. Ибо осуществле-
ние деятельности состоит не в применении этих принципов; но даже если бы это
было и так, знание того, как применять их (знание, действительно заключенное
в самом процессе деятельности), не заложено в знании этих принципов.
Таким образом, если согласиться с тем, что единственным содержательным
использованием слова «рациональный» применительно к поведению является
то, под которым мы разумеем качество или свойство (и, возможно, желатель-
ные качество или свойство) самой деятельности, то нам представляется, что
данное качество являет собой не просто «разумность», а верность имеющемуся
в нашем распоряжении знанию о том, как осуществлять ту конкретную дея-
тельность, которой мы занимаемся. «Рационально» вести себя значит посту-
пать таким образом, чтобы не нарушать, а по возможности утверждать язык
(idiom) той деятельности, разновидностью которой является данное поведение.
А это, конечно, не то же самое, что верность принципам или правилам или
целям деятельности (если таковые выяснены); принципы, правила и цели суть
не более чем сокращенные выражения внутреннего единства деятельности —
храня верность этим последним, вполне можно утратить связь с самой деятель-
ностью. И необходимо заметить, что, говоря об этой характеризующей «раци-
ональность» верности, мы имеем в виду не нечто неизменное и окончательное
(ибо знание о том, как осуществлять деятельность, всегда находится в разви-
тии); мы имеем в виду, что такого рода верность сама по себе способствует
единству деятельности (а не просто иллюстрирует это единство). А из этого
следует, во-первых, что вне связи с соответствующим языком поведения ника-
кое поведение, действие или последовательность действий не могут быть ни
«рациональными», ни «иррациональными»; во-вторых, что «рациональность»
— это нечто, всегда находящееся впереди, а не позади, и вместе с тем не связан-
ное с успешностью достижения желаемого результата или предустановленной
цели; и в-третьих, что некая деятельность в целом (наука, кулинария, истори-
ческое исследование, политика или поэзия) не может быть признана ни «раци-
ональной», ни «иррациональной» до тех пор, пока мы не осмыслим все языки
деятельности как составные части единого универсума деятельности. Посмот-
рим теперь, куда ведет нас этот взгляд.
58
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
1
<
i
I
t? *•*<* "*« Ли ТЛ?ЖД иА К М*МПГ1Г1П¥ Л М'-М-
Какое отношение имеет все это к тому виду деятельности, который называется
«наукой»? Научная деятельность не является осуществлением предустановлен-
ной цели; никто не знает, каков будет результат. Мы не можем заранее предста-
вить себе достижение, которое установит для нас критерии оценки новых дости-
жений или же для которого нынешние наши занятия станут средством осуществ-
ления. Единство ее не является следствием наличия некой общей цели, которую
можно предначертать заранее. Отдельные исследователи могут иметь перед со-
бой конкретные заранее установленные цели, ставить перед собой частные зада-
чи, что обычно и имеет место. Тем не менее, как мы уже видели, их деятельность
не проистекает из этих целей и не направляется ими: ведь они в виде абстракций
возникают из знания того, как вести научное исследование, и никогда не явля-
ются чем-то установленным заранее и независимо от этого знания. Единство на-
учной деятельности также не имеет ничего общего с системой соблюдаемых уче-
ным принципов или правил — с «научным методом»; такие принципы и прави-
ла, несомненно, существуют, но они — лишь сжатые выражения той деятельно-
сти, которая во всех отношениях не укладывается в их рамки — в особенности
если это касается понимания того, когда и как применять их. Это единство обес-
печивается тем лишь, как относится к собственному исследованию сам ученый,
то есть тем, насколько он соблюдает существующие традиции научного иссле-
дования. Данные традиции не есть нечто неизменное и завершенное, но они не
совпадают и с имеющимися на данный момент научными мнениями или неким
определенным «методом»; они служат руководством в любом конкретном науч-
ном исследовании — и в то же самое время любая научная деятельность способ-
ствует их расширению, их развитию. Поскольку же эти традиции не являют со-
бой некоего завершенного достижения, которое может полностью сложиться в
уме ученого еще до того, как он начнет свою деятельность (таковым, по предпо-
ложению, должен быть «метод»), то само по себе соблюдение их не может, соб-
ственно говоря, рассматриваться в качестве общенаучной цели.
Итак, по моему мнению, поведение ученого может быть признано поистине
«рациональным» постольку, поскольку он хранит верность традициям научно-
го исследования. «Иррациональным» же является не тот ученый, источником
деятельности которого не служит некая независимая, заранее установленная цель
(подобного источника не может быть ни у какой деятельности вообще), и не тот,
чья деятельность не направляется заранее установленными принципами и пра-
вилами (ибо таких принципов и правил не существует), а также не тот, кто вовсе
ничего не соблюдает, не достигает никаких результатов и ничем не проявляет
свою деятельность; на самом деле «иррациональный» ученый — это некий экс-
центрик, чудак от науки. Отличает его не отход от существующих на данный
момент научных мнений, а нежелание соблюдать традицию научного исследо-
вания в целом, незнание того, как вести научное исследование — незнание, вы-
ражающееся не в специфических результатах его деятельности, а в самом ее про-
ведении, в тех вопросах, которые он себе ставит, и в тех ответах, которыми удов-
эмнтг ’.оп я рациональное поведение 59
летворяется. Рассмотрев данный вопрос в целом, мы, я полагаю, признаем, что
словом «рациональный» в указанном понимании мы пользуемся так же часто,
как и в каком бы то ни было другом, хотя при этом мы не всегда сознаем, какие
смыслы этого слова исключаются данным употреблением.
9
Далее, некоторые из тех людей, кто в общем и целом разделяют наш взгляд,
вместе с тем склонны думать, что научная деятельность представляет собой
специфическую область и кое-что верное в отношении ее может быть неприме-
нимо в других областях. Поэтому в заключение я должен попытаться дока-
зать, что данный подход применим и к так называемому общечеловеческому
моральному и социальному поведению, ибо я не считаю, что научная деятель-
ность является в этом отношении чем-то особенным. И если то, о чем нет нуж-
ды здесь говорить, будет выглядеть некой догмой, то это потому, что выше я
уже привел соответствующую аргументацию, и она кажется мне убедительной.
Человеческое поведение в наиболее общем выражении предстает в виде не-
кой энергии; энергия не есть его причина, энергия не есть его выражение — сама
человеческая деятельность и есть энергия. И будучи энергией, она может прини-
мать вид страсти или желания, но не какого-то общего, а определенного. Но и
желание также не есть причина деятельности; как таковое, желание и есть опре-
деленная форма деятельности. То есть дело обстоит не так, будто человек снача-
ла обретает «желание», которое затем уже либо заставляет его действовать, либо
само проявляется в деятельности; утверждение, что человек желает чего-то, есть
лишь иной способ утверждения о том, что он совершает определенные действия
— например, протягивает руку, чтобы выключить кран с горячей водой, просит
или спрашивает о чем-то (например, «Пожалуйста, передайте мне словарь» или
«Как пройти к Национальной Галерее?») или изучает расписание поездов, иду-
щих в Шотландию, или размышляет о том, как приятно было встретиться с дру-
гом. Все эти действия не предполагают, не выражают предшествующего им же-
лания, равно как не являются его свидетельством; все они сами являются харак-
терной деятельностью-желанием (activities of desiring).
Далее, виды деятельности-желания являются неотделимыми друг от друга,
а предметы желания не являются случайными и преходящими, стихийно сме-
няющими друг друга. Утверждать, что человек обладает характером или склон-
ностями, значит констатировать, помимо всего прочего, и то, что присущие
ему формы деятельности-желания составляют более или менее стройное целое.
Новая деятельность-желание возникает не иначе как в контексте уже упорядо-
ченного целого; она не приходит извне вместе с предъявляемым предметом
желания, но являет собой происходящую дифференциацию в существующем
уже языке деятельности. А наше знание этого языка есть прежде всего умение
осуществлять деятельность-желание. Дело обстоит не так, что сначала у нас
появляется желание, а уже затем мы начинаем выяснять, как можно его удов-
летворить; предметы наших желаний познаются нами в процессе их поиска.
60 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Участвовать в социальной жизни — жить по-человечески — значит созна-
вать, что одни типы деятельности-желания одобряются, а другие порицаются,
что осуществление каких-то из них является правильным поведением, а осуще-
ствление других — неправильным. Вполне возможно, в основе этого одобре-
ния или порицания лежат свои принципы или даже правила; ищущий разум
обнаруживает принципы во всем. Но указанное одобрение или порицание воз-
никает не из данных принципов и не из знания их. Ибо принципы есть не более
чем сокращенные выражения, абстрактные определения того единства, в кон-
тексте которого заявляют о себе акты одобрения или порицания. Также не сле-
дует считать одобрение и порицание какой-то дополнительной деятельностью,
направляемой независимой заранее установленной целью. В моральной дея-
тельности'независимой заранее установленной цели так же нет места, как и в
деятельности научной. Говоря иначе, одобрение и порицание представляют
собой не какую-то отдельную деятельность, сопровождающую деятельность-
желание и привносящую извне нормы поведения; эти нормы неотделимы от
самой деятельности-желания. Одобрение и порицание есть не более чем абст-
рактный, несовершенный способ описания присущего нам целостного знания
того, как направлять свою деятельность-желание, как себя вести. Короче гово-
ря, моральные суждения выносятся не до и не после моральной деятельности, а
по ходу этой деятельности.
Следовательно, человеческая деятельность всегда осуществляется по опре-
деленному шаблону, и этот последний не навязывается ей извне, а является чем-
то присущим самой этой деятельности. Порой отдельные элементы этого шаб-
лона вырисовываются достаточно четко; их-то мы и называем обычаями, тра-
дициями, установлениями, законами и пр. Собственно говоря, они не являются
ни выражением единства деятельности, ни выражением одобрения или порица-
ния, ни проявлением знания того, как себя вести, — они сами и есть это един-
ство, это содержание нашего знания о том, как себя вести. В действительности
все происходит не так, что сначала мы приходим к выводу о правильности и
желательности определенного поведения, а затем уже институционально закреп-
ляем наше одобрение как установление; в действительности знание нами того,
как хорошо себя вести, уже и есть установление. Оттого же, что последнее обсто-
ятельство не всегда нами осознается, мы порой ошибочно полагаем, будто уста-
новления (в частности, политические институты) можно переставлять с места на
место, как если бы они были механизмами, а не языками поведения.
Далее, можно предположить, что позитивная проблема социального пове-
дения (то есть умения вести себя по-человечески) состоит в том, каким образом
можно обеспечить удовлетворение одобряемых желаний, — ведь это куда бо-
лее разумная постановка вопроса, чем та, что предлагается привычной нега-
тивной формулировкой — каким образом можно избежать деятельности, име-
ющей нежелательную направленность. Вместе с тем и это не есть некая само-
стоятельная проблема. Дело обстоит не так, что сначала в нас возникает ка-
кое-то желание, а затем мы его одобряем, после чего ищем способ согласовать
его с прочими заслужившими одобрение желаниями и пути его удовлетворе-
Ш ГН ПОП 3 МОИ
Рациональное поведение 61
ния. Подобное было бы возможно лишь в том случае, если бы мы вообразили
себе, что в самом одобрении или неодобрении какого-либо желания, в нахожде-
нии способов его удовлетворения мы уже имеем дело с этим желанием во всей
его полноте и взываем к некоему находящемуся за пределами этой деятельности
авторитету, прося его вынести решение относительно уместности данного жела-
ния; но представить себе нечто подобное было бы ошибкой. То, что здесь изоб-
ражается в виде линейного процесса, на деле является единым целым, ни одну из
частей которого невозможно представить себе отсутствующей.
До сих пор я всячески подчеркивал единство моральной деятельности, что
вполне оправданно, во-первых, потому, что моральная деятельность начинает-
ся (если вообще допустимо говорить о ее начале) с единства. Мы уже изначально
знаем, как себя вести; конечно, это знание несовершенное, оно не является по-
сланием иного мира и возникает одновременно с деятельностью-желанием. Ат-
рибутом данной деятельности я считаю определенную направленность, тенден-
цию, нечто вроде преобладающей симпатии. Источником развития данной дея-
тельности не является воздействие какой-то внешней силы, направление этой
деятельности не определяется никакой заранее установленной целью; необходи-
мость прибегать к подобным представлениям возникает тогда лишь, когда мы
изначально заблуждаемся, считая, что отправным моментом деятельности явля-
ется, во-первых, состояние покоя («знание», возникающее из чистого незнания)
и, во вторых, деятельность, лишенная определенного направления («знание», в
котором истина еще не отделена от лжи, а правильное — от неправильного). Но
пора рассмотреть и те факторы, которые способны препятствовать движению
или вызывать отклонение от нужного направления, а именно, незнание нами
того, как себя вести.
То, что моральная деятельность должна иметь место на грани последних до-
стижений в области нравственности, устанавливая связи между современным раз-
нобоем нравственных позиций и единством моральной традиции в целом, явля-
ется столь же нормальным явлением, сколь и любое вращение деятельности вок-
руг своей современной основы, всегда являющей собой некое единство: и то, и
другое свидетельствует о наличии знания о том, как себя вести. Ни в том, ни в
другом случае не имеет места ни затруднение движения, ни отклонение от опре-
деленного направления. Но это не значит, что затруднение движения и отклоне-
ние от определенного направления вовсе не возможно — подобное представляет
собой довольно частое явление и, как таковое, заслуживает того, чтобы быть
принятым во внимание при рассмотрении природы моральной деятельности. В
общем виде данное состояние можно охарактеризовать как утрату доверия к
традиционному направлению моральной деятельности, сопровождающуюся по-
терей интереса к данной деятельности как таковой; подобное является, с одной
стороны, симптомом того, что нравственное воспитание (умение обращаться со
знанием о том, как себя вести) уже не обладает былой эффективностью, а с дру-
гой стороны, предпосылкой утраты эффективности 7. Нет нужды исследовать
7 Кажется, именно такую ситуацию имел в виду Мэн-цзы.
i
62 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
вопрос о том, в каких случаях возможно создание подобной ситуации, хотя не-
которые из таких случаев просто поражают своей тривиальностью: взять хотя
бы такие очевидные события, как землетрясение, чума, война или техническое
изобретение, — каждое из них в той или иной степени нарушало нормальное
течение нравственной деятельности, дезорганизуемое непредвиденными водо-
воротами и теряющееся в беспорядочных наводнениях. Но стоит отметить, что
подобные обстоятельства не имеют точного аналога в истории научной дея-
тельности — хотя, в принципе, в науке как таковой нет ничего, что делало бы
ее неподверженной такой напасти; так что даже в настоящее время подобная
угроза для нее существует.
Вообще? говоря, от такого положения дел должно излечивать все то, что
может привести к восстановлению доверия и появлению стимулов к морально-
му поведению. Возвращение к норме должно исходить из того, что осталось
неизменным. Представление, согласно которому знание о том, как себя вести,
может быть в любой момент заменено чем-то равноценным, представление,
согласно которому больному надо дать возможность умереть (или даже следу-
ет помочь ему умереть), чтобы потом он смог начать жить новой, более здоро-
вой жизнью, — подобные представления могут принадлежать лишь тем, кто
ничего не знает о природе моральной деятельности. Обычно в подобных слу-
чаях «больному» прописывают такое лечение, как «переливание» концентри-
рованного раствора идеалов, принципов, правил и целей. Это лечение может
дать желаемый результат при соблюдении двух условий: во-первых, если при-
виваемые идеалы, принципы и пр. сами принадлежат к терпящей бедствие мо-
ральной традиции, то есть, иначе говоря, обладают той же группой крови, что
и пациент; и во-вторых, если пациент способен усвоить то, что ему «перели-
ли», и уже в собственных жилах преобразовать полученное знание теоретичес-
ких положений о хорошем поведении в знание того, как себя вести. Соблюсти
первое из этих условий просто: ведь остающиеся в нашем распоряжении прин-
ципы и идеалы есть на деле не что иное как сокращенные выражения утрачен-
ного знания о том, как себя вести. Их можно представить и в более впечатляю-
щем виде — в виде Божьих даров — и тогда они станут объектом суеверного
поклонения; однако сомнительно, что это упоение иллюзиями увеличит шан-
сы на исцеление. Второе условие соблюсти сложнее: превратить бренные ос-
танки морали в нечто живое отнюдь не просто; если же при этом наши позна-
ния ограничиваются одной анатомией, то подобная задача окажется для нас
просто невыполнимой. Рассуждая практически, нет никакой возможности при-
вить кому-либо знания о том, как себя вести, исходя исключительно из знания
теоретических положений о хорошем поведении. В конечном счете излечение
будет зависеть от прирожденной силы пациента, то есть от того, насколько уце-
лели в нем остаточные знания о том, как себя вести.
Мы кратко рассмотрели моральную деятельность, находящуюся как в здо-
ровом, так и в больном состоянии. Теперь зададимся вопросом: где во всем
этом «рациональное» поведение? Принято думать (об этом мы говорили выше),
будто в поведении заложено нечто исключительно «рациональное» и своим
тлнтнппп 6 Рациональное поведение 63 •
i
к
!
существованием это нечто обязано (или это только так кажется) тому обстоя- *
тельству, что цель поведения или правила поведения устанавливаются и обду-
мываются заранее совершенно независимым от самого поведения образом; так
вот утверждается, что именно благодаря такому заблаговременному обдумы-
ванию, а также благодаря успешности достижения заранее поставленной цели
само поведение и бывает «рациональным». Если следовать этому мнению, то
окажется, что в высшей степени «рациональным» поведение является после того,
как оно «прошло лечение». Но и этого с полным основанием утверждать не-
возможно; самое большое, о чем можно здесь с уверенностью заявлять, — это
что особой «рациональностью» поведение характеризуется тогда, когда его
«излечили» от болезни; при этом основу успешности лечения должна состав-
лять иллюзия, будто целительная сила вливаемого вещества связана с тем, что
оно совершенно не заражено данной больной моральной традицией; а это ил- •
люзия, подобная той, которую питает человек, полагающий, будто он нашел '
новый, независимый образ жизни, тогда как в самом деле он лишь проживает 1
унаследованный от предков капитал. Конечно, размышление о принципах и *
целях поведения способно служить не только делу излечения, им можно пользо-
ваться в педагогических, а возможно, даже и в профилактических целях: важ- *
но, однако, понимать, что в любом случае оно является не более чем приемом. *
Между тем, как уже было показано, мы в состоянии полностью опроверг-
нуть названный подход. Поведение, о котором идет речь, конечно, способно ~
быть «рациональным», но в рамках рассматриваемого подхода суть его «ра- '
циональности» понимается совершенно превратно. Ведь все говорит нам о том, ~
что конкретная деятельность есть знание о том, как нужно поступать, и что, '
если мы правильно приписываем «рациональность» поведению, «рациональ- *
ность» должна выступать в роли свойства самого поведения. А если следовать
этому принципу, то практическая деятельность человека может считаться «ра- ’
циональной» исключительно с точки зрения верного соблюдения ею знаний о •
том, в чем состоит хорошее поведение; эта деятельность «рациональна» лишь
благодаря тому, что она хранит приверженность собственной традиции мо- э
ральной деятельности. Никакая деятельность не является «рациональной» ни ь
сама по себе, ни вследствие чего-то, что предшествовало ей; «рациональной» ее
делает место, занимаемое ею в потоке сочувствия, в непрерывности моральной
деятельности. Ведь не существует никакого основания, позволяющего нам апри- *
ори отказать в «рациональности» какому бы то ни было типу деятельности. И е
импульсивная деятельность, и «спонтанные порывы», и деятельность, подчиня-
ющаяся обычаям или правилам, и деятельность, коей предшествовала длитель-
ная рефлексия, — все это в равной степени способно быть «рациональным». Не ;
эти и не какие-то подобные характеристики (либо их отсутствие) делают дея- г
тельность «рациональной» или «иррациональной». «Рациональность» есть свой- к
ство, которое мы готовы признать за любым поведением, способным сохранять **
за собой определенное место в том потоке сочувствия, в том единстве деятельно- У
сти, которое и реализуется в определенном образе жизни. Как таковое, это един-
ство не есть проявление способности, именуемой «разумом», или способности,
64
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
имя которой «сочувствие», оно не является порождением ни некоего независимо
возникающего морального чувства, ни какого-то инструментального сознания.
В реальности нет никакой внешней гармонизирующей силы, существующей обо-
собленно ото всего того, что существует в гармонии или ищет гармонии. Силой,
устанавливающей гармонию и выявляющей ее отсутствие, служит сам конкрет-
ный ум, ум, насквозь состоящий из деятельности по поиску гармонии и прони-
зывающий собой каждый достигнутый уровень гармонии.
Здесь снова можно подчеркнуть, что именно так понимаем слово «рацио-
нальный» и мы с вами — пусть даже при этом мы и не обязательно осознаем
все то, что следует из такого понимания. Когда суд оказывается перед необхо-
димостью вынести решение о том, прибегал ли данный человек в данном кон-
кретном случае к «разумной предосторожности», его не интересуют ни какое-
то абстрактно «рациональное» количество предосторожности (неизменное во
всех случаях и при всех обстоятельствах), ни то, сколь долго и последователь-
но размышлял данный человек, прежде чем совершить данный поступок, —
ему важно принять решение о самом этом поступке, установить, воспользо-
вался ли данный человек в рассматриваемом случае предполагаемо присущим
ему знанием того, как себя вести. И судебное решение принимается здесь ис-
ключительно исходя из того, что данный человек фактически сделал, а не из
того, что он подумал, прежде чем это сделать. «Разумная предосторожность»
не есть нечто такое, о чем можно заранее иметь достоверное знание. Она есть
та степень осторожности, которую, по предположению английских присяж-
ных (или английского судьи), должен проявить в данных обстоятельствах лю-
бой англичанин, обладающий обычными познаниями, обычной предусмотри-
тельностью и обычной собранностью. В каждом таком случае присяжные или
судья воплощают собой глас существующей моральной деятельности. Они —
представители; но представляемое ими есть не более, чем заложенное в данном
образе жизни знание того, как себя вести. Короче говоря, поведение можно
считать «рациональным» в том случае, если оно демонстрирует именно ту «ра-
зумность», которая соответствует рассматриваемому языку деятельности.
. «.. г
^нтнг Что значит быть консерватором 65
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ КОНСЕРВАТОРОМ
1
Я не разделяю расхожего мнения о том, будто установить те общие принципы,
коими руководствуются в своих поступках представители консервативного на-
правления, либо вовсе невозможно, либо возможно, но не стоит труда, так как в
их случае подобные принципы все равно не имеют значения. Пожалуй, есть доля
истины в том, что образ действия консерваторов не слишком удобно формули-
ровать в виде общих идей, отчего и не находится желающих осуществить данное
начинание; но из этого отнюдь не следует, что как таковой консервативный стиль
поведения менее других подходит для подобных интерпретаций и что примени-
тельно к нему эти интерпретации менее плодотворны, чем в иных случаях. Вме-
сте с тем такого рода интерпретация не входит сейчас в мои задачи. Темой на-
стоящего исследования является не кредо и не доктрина, а склад ума. Быть кон-
серватором значит демонстрировать предрасположенность к определенному типу
поведения, отдавать предпочтение некоему определенному жизненному укладу,
быть консерватором значит действовать в рамках определенного поля возмож-
ных решений. Цель данной статьи —показать эту предрасположенность, создав
образ консерватора, каким он является в наше время, а не растворять этот образ
в наборе общих принципов.
Общие черты этой предрасположенности установить нетрудно, хотя нередко
их и путают с чем-то другим. Среди этих черт главной является склонность
довольствоваться тем, что есть, а не желать чего-то иного и не стремиться к
иному; я имею в виду способность радоваться настоящему, а не прошлому или
будущему. Благодаря судьбу за настоящее, консерватор может прийти к выво-
ду, что этот дар, это наследие получено им от прошлого, но осознание этого не
заставит его поклоняться прошлому, тому, чего уже нет, как некоему идолу.
Более всего он ценит настоящее — и не потому, что оно хранит связи с какими-
то древностями, не потому, что оно представляет собой самую достойную из
всех имеющихся возможностей, а потому, что оно ему знакомо: девиз его — не
Verweile doch, du bist so schon , а Побудь co мной, потому что я к тебе привязан.
Если настоящее отличается скудостью, если в нем не найти ничего или по-
чти ничего хорошего, то предрасположенность [общества] к консерватизму
* Побудь еще, ты так прекрасен (нем.) - Прим, перев. Ц| н ни ши лшциН/л
3. Заказ № 2438.
66 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
1
также бывает незначительна, а может и полностью отсутствовать; когда же
наиболее яркой чертой настоящего является неустроенность, предрасположен-
ность к консерватизму проявляется в поиске утраченных устоев, а следователь-
но, в тяге к прошлому, в интенсивном изучении прошлого; ну а в благополуч-
ном, процветающем обществе процветает и консерватизм, причем наиболее
сильными его позиции оказываются там, где процветание сочетается с опасе-
ниями его утраты. Короче, предрасположенность к консерватизму выказывают
те, кому есть что терять и кто научился ценить то, что имеет; консервативно
настроенная личность живет в достатке, но доступные ей блага не настолько
обильны, чтобы утрата их не вызвала у нее сожалений. Наиболее естественно
консервативный настрой проявляется в старшем, а не в молодом поколении, но
не потому, что чем старше люди, тем болезненней переживают они утраты, а
потому, что старшее поколение имеет более полное представление о том, как
богат возможностями окружающий их мир, именно поэтому старики куда ме-
нее, чем молодежь, склонны считать этот мир несовершенным. В некоторых людях
неразвитость консервативных наклонностей является следствием того, что им
просто неведомо, насколько велики потенциальные возможности того мира, в
котором они живут: настоящее представляется им сплошь беспросветным.
Таким образом, быть консерватором значит предпочитать знакомое неиз-
веданному, опробованное неопробованному, факт загадке, действительное
возможному, ограниченное безграничному, близкое далекому, достаток изо-
билию, просто удобное совершенному, радость сегодняшнего дня блаженству,
обещанному где-то в утопическом будущем. Консерватор скорее будет при-
держиваться старых связей и старых убеждений, нежели соблазнится новыми,
более выгодными; для него не так важно приобретать и приумножать, как хра-
нить, культивировать и наслаждаться тем, чем обладаешь, горечь утраты он
переживает острее, чем радость новых обретений и обещания новых возмож-
ностей. Быть консерватором значит быть достойным своей судьбы, жить по
средствам, принимать девиз: «лучшее — враг хорошего» применительно к са-
мому себе и к обстоятельствам собственной жизни. Одни люди приходят к кон-
серватизму путем сознательного выбора, другие консервативны просто по пред-
расположенности, возникшей и сохраняющейся как бы помимо их воли и про-
являющейся с той или иной регулярностью в приятии ими чего-то одного и
неприятии другого.
Все эти предпочтения находят концентрированное выражение в некоем харак-
терном для консерваторов отношении к переменам и новшествам, при котором под
переменами понимаются такие изменения, которые приходится пережить, а под
новшествами—такие, которые задумываем и осуществляем мы сами.
Перемены—это такие обстоятельства, к которым надо приспосабливаться, и в
этом смысле консервативный настрой можно одновременно трактовать как свиде-
тельство того, как трудно дается нам такое приспосабливание, и как готовность
пытаться приспособиться. Перемены не отражаются лишь на тех, кто вообще ниче-
го не замечает, кто не знает, чем обладает, и не придает значение обстоятельствам, в
которых сам он находится; и приветствовать все без разбору перемены спосо-
охшнясг Что значит быть консерватором 67
1
I
бен только тот, кому ничто не дорого, тот, чьи привязанности носят мимолетный
характер, тот кому неведомы любовь и дружба. Консервативный настрой таким
людям не свойствен: склонность наслаждаться тем, что тебе дано здесь и сейчас,
являет собой прямую противоположность невежеству и апатии, она воспитывает
в человеке способность любить и дорожить многим. И как следствие этих качеств
консерватизм не одобряет перемен, кои всегда и главным образом означают для
них утраты. Буря, уносящая с собой трупы и изменяющая до неузнаваемости зна-
комый пейзаж, смерть друзей и угасание дружбы, забвение обычаев, уход со сце-
ны любимого клоуна, невольная ссылка, превратности судьбы, утрата одних спо-
собностей и обретение других — таковы те изменения, о которых консервативно
настроенный человек не может не сожалеть (хотя, возможно, ни одно из них не
лишено и своих положительных сторон). Он с трудом примиряется с ними — не
потому, что все утраченное в ходе перемен само по себе было лучше любой воз-
можной альтернативы или что это утраченное невозможно было бы улучшить;
не потому, что в новом, занявшем место старого, невозможно найти ничего хоро-
шего, а потому, что утраченное являлось для него чем-то таким, к чему он при-
вык и в чем научился находить удовольствие, ну а о новом этого не скажешь.
Следовательно, мелкие, постепенные перемены он будет находить более сносны-
ми, чем большие и внезапные, при этом для него будут особенно важны любые
проявления преемственности между старым и новым. Ведь некоторые перемены
пройдут и вовсе безболезненно, но это опять же не потому, что к ним легко будет
приспособиться: вот, например, со сменой времен года заставляет мириться их
повторяемость, а перемены, происходящие в вырастающих детях, хороши тем,
что они происходят постепенно. В общем и целом консерватор скорее готов при-
способиться к тем переменам, которые оправдывают его ожидания, а не к тем,
что несут неоправданное с его точки зрения разрушение.
Далее, быть консерватором — не то же самое, что не любить перемен (ведь
такая нелюбовь может быть и просто индивидуальным свойством характера); кон-
серватизм проявляет себя еще и в том, как мы приспосабливаемся к переменам, ибо
необходимости приспосабливаться к переменам не в силах избежать никто из лю-
дей. Ведь перемена влечет за собой изменение идентичности, каждая перемена зна-
менует собой исчезновение чего-то. Между тем идентичность человека (или
сообщества людей) есть не что иное как непрерывность воспроизведения неко-
его определенного сочетания качеств, каждое из которых есть порождение слу-
чая, ценное ровно настолько, насколько оно нам близко и знакомо. Она не
являет собой некую твердыню, крепость, за стенами которой мы можем ук-
рыться, и единственное средство защитить эту идентичность (то есть нас са-
мих) от сил перемены заключено не в крепости, а в чистом поле, каким являет-
ся наш собственный опыт; сделать это мы можем, только всецело полагаясь на
то, что остается в этом опыте незыблемого, сохраняя верность тем ценностям,
которые еще не подверглись угрозе исчезновения — тем самым мы сможем ус-
ваивать новое, сами не изменяясь до неузнаваемости. Масаи*, когда их выну-
* Масаи - народ в Кении и Танзании. — Прим, перев. j
3*
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
дили оставить прежние места обитания и переселиться в современную резер-
вацию на территории Кении, взяли с собой имена своих родных гор, равнин
и рек и назвали этими именами горы, равнины и реки на новых местах. Так,
с помощью бог знает каких ухищрений, каждая личность и каждый народ,
вынужденный пережить значительные перемены, спасает самого себя от сты-
да вымирания. ,
Таким образом, от перемен не уйти, и ни один консервативно настроенный
человек (то есть тот, кто твердо намерен сохранить собственную идентичность)
не может воспринимать их равнодушно. Главным образом, он судит о них по
тем беспокойствам, которые они причиняют, и так же, как и все вообще люди,
он копит силы, готовясь достойно встретить их. Но с другой стороны, всякие
инновации вдохновляются стремлением к улучшению. Несмотря на это, консер-
вативно настроенный человек сам по себе никогда не проявит страсти к иннова-
циям. Во-первых, он не из тех, кто думает, что если не происходит никаких вели-
ких перемен, то и вообще ничего не происходит, поэтому отсутствие инноваций
его не тревожит: существующее положение дел почти полностью поглощает его
внимание. К тому же он понимает, что не всякое новшество есть улучшение; ин-
новацию, не дающую улучшения, он склонен считать преднамеренной или не-
преднамеренной глупостью. Даже в тех случаях, когда новшество сулит опреде-
ленные улучшения, он, прежде чем отрезать, семь раз отмерит. Поскольку вся-
кое улучшение, как он его себе представляет, предполагает изменение, то следу-
ет всегда соразмерить привносимый этим изменением беспорядок с той выго-
дой, которая ожидается вследствие осуществления данного изменения. Но и эти-
ми соображениями консерватор не ограничивается. Инновация всегда представ-
ляет из себя сомнительное предприятие, в котором так тесно переплетены между
собой выгоды и потери (даже если не брать в расчет тех утрат, которые несет с
собой исчезновение чего-то родного и близкого), что предвидеть то, к чему все
это в конечном счете приведет, крайне трудно — ведь чистого улучшения не
бывает. Ибо инновация — это такая деятельность, которая порождает не только
«улучшение», но и новую сложную ситуацию, в контексте которой инновация
играет роль лишь одной из составных частей. Общее изменение — это всегда
нечто более обширное, чем задуманное изменение; всех его последствий невоз-
можно предвидеть — так же, как невозможно очертить пределы этих изменений.
Таким образом, относительно всякой инновации можно с определенностью ут-
верждать, что она несет с собой более значительные изменения, чем предполага-
лось, что она будет сопряжена не только с приобретениями, но и с утратами и
что утраты одних из людей, вовлеченных в инновационный процесс, будут боль-
ше, чем других; существует вероятность того, что выгоды, полученные в резуль-
тате инновации, будут большими, чем ожидалось, но существует также и риск,
что все они будут сведены на «нет» отрицательными последствиями инновации.
Из всего этого человек консервативного склада делает определенные вы-
воды. Во-первых, инновация влечет за собой непременные утраты и возмож-
ные приобретения — следовательно, бремя доказательства того, что предлага-
емое изменение будет в общем и целом благотворным, лежит на инициаторе
OMHTF
Что значит быть консерватором 69
последнего. Во-вторых, консерватор считает, что чем более общего имеет ин-
новационный процесс с процессом нормального развития (то есть чем в боль-
шей степени он представляет собой саморазвитие ситуации, а не навязанные
извне изменения), тем меньше вероятность того, что он приведет не столько к
положительным, сколько к отрицательным результатам. В-третьих, он пола-
гает, что нововведение, представляющее собой попытку исправить тот или иной
недостаток, восстановить нарушенное в чем-то равновесие, более предпочти-
тельно, чем то, которое предпринимают с намерением добиться общего улуч-
шения условий человеческого существования, — не говоря уж о тех нововведе-
ниях, что нацелены на достижение совершенства. Следовательно, мелким и
ограниченным изменениям он отдает предпочтение перед изменениями масш-
табными и неопределенными. В-четвертых, он отдает предпочтение медлен-
ным переменам перед стремительными и в ходе преобразований делает оста-
новки для того чтобы оценить возникающие последствия и произвести соот-
ветствующую коррекцию собственных действий. И наконец, он верит в то, что
на ход инноваций существенным образом влияет случай, и при прочих равных
условиях он выберет в качестве наиболее подходящих для нововведений те,
при которых достигнутые изменения будут более всего соответствовать замыс-
лу, а влияние на них со стороны нежелательных и неуправляемых факторов
будет минимальным.
Таким образом, консервативный настрой состоит в том, чтобы сочувственно
принимать наличное состояние общества и, соответственно, неприязненно, крити-
чески отвергать всякое изменение, всякое нововведение в нем. Человек консерва-
тивных наклонностей считает, что «от добра добра не ищут». Он — не большой
любитель опасностей и приключений, его не тянет пускаться в плаванье по
незнакомым водам, романтика странствий, таящих в себе опасность потери
курса и кораблекрушения, его не влечет. Если же ему все-таки придется прола-
гать себе путь сквозь неизвестность, он сочтет за благо через каждый метр про-
движения вперед замерять, сколько футов остается у него под килем. То, что
другие, скорее всего, посчитали бы отсутствием уверенности в себе, сам он рас-
ценивает как разумную осмотрительность; то, что другие воспринимают как
пассивность, сам он объясняет как способность довольствоваться данным и не
посягать на иное. Он осторожен и предпочитает выражать собственное согла-
сие или несогласие с чем бы то ни было не в категоричном виде, а с оговорка-
ми. Любую ситуацию он оценивает, прежде всего, с точки зрения того, насколь-
ко она способна разрушить нынешнее, знакомое положение дел.
2
Широко распространено мнение, согласно которому данный консервативный
настрой заложен в самом основании того, что мы зовем «человеческой приро-
дой». Перемены утомительны, новшества требуют усилий, люди же, как ут-
верждают, более склонны к лености, а не к активности. Однажды найдя удов-
летворительный способ существования, они уже не расположены искать боль-
7Q Майкл Оукшот. Рационализм в политике
шего и рисковать тем, что имеют. В них заложен естественный страх перед не-
известностью, стремление избежать опасности и обеспечить надежность. На
инновации они идут с неохотой, и изменения приемлют не потому, что им хо-
чется перемен, а потому лишь, что они (как писал Ларошфуко о смерти) неиз-
бежны. Перемены вызывают грусть, а отнюдь не воодушевление: ведь и рай
есть мечта о мире, не только совершенном, но и неизменном. Разумеется, те,
кому природа человека представляется именно таковой, соглашаются, что по-
добным настроем человеческая природа не исчерпывается; они утверждают
лишь, что этот настрой являет собой чрезвычайно сильно выраженную, воз-
можно даже, доминирующую черту человеческого характера. И до какой-то
степени подобные выводы оправданы: не будь консерватизм важной состав-
ной частью природы человека, человеческая жизнь имела бы совсем иной вид.
Уже первобытные люди, как утверждают, тяготели к знакомому и чурались
перемен; древние мифы полны предостережениями, предупреждающими об
опасности новшеств; наш собственный фольклор и та житейская мудрость, что
заключена в пословицах и поговорках, изобилует консервативными наставле-
ниями; а дети — сколько слез проливается ими, когда приходится нехотя рас-
ставаться с тем, что им привычно! Везде, где сложилась определенная идентич-
ность, всякая угроза ей, несомненно, порождает волну консервативных настро-
ений. С другой стороны, подростковый возраст часто более склонен к экспери-
ментам и приключениям: когда мы молоды, ничто не кажется нам столь при-
влекательным, как игра со случаем; pas de risque, pas de plaisir*. В то время как
одним, кажется, успешно удается жить долгие годы, избегая перемен, история
других отмечена периодами интенсивных и смелых инноваций. Ведь в общих
рассуждениях о «человеческой природе» — не более постоянной, чем все про-
чее, — толку мало. Куда больше толку в том, чтобы понять природу современ-
ного человека, свою собственную природу.
Думаю, мы сами отнюдь не обладаем выраженной склонностью к консерватиз-
му. Ну а если судить по тому, как мы прожили последние пять столетий, то сторон-
ний наблюдатель, обладающий способностью непредвзятого суждения, вполне мог
бы причислить нас к любителям перемен, не знающим иного пристрастия, кро-
ме как тешить себя все новыми преобразованиями, и совсем не уделяющим
времени (то ли из ненависти к себе, то ли вследствие невнимания к собственной
идентичности) тому, чтобы заняться самими собой. Вообще, интерес к новому
ощущается гораздо острее, чем удовлетворенность знакомым. До тех пор, пока
не начнутся какие-либо нововведения, мы пребываем в убеждении, что ничего
важного не происходит, а раз имеет место обновление чего-либо, значит это
нечто пришло в упадок. Все неизведанное наперед рисуется нам в лучшем све-
те. Мы с легкостью приходим к выводу, что все перемены так или иначе ведут
к лучшему; нас нетрудно убедить в том, что любые последствия нашей иннова-
ционной деятельности или являют собой улучшения, или же в крайнем случае
есть та приемлемая цена, которую пришлось заплатить за достижение постав-
* Без риска нет и наслаждения (фр.). — Прим, перев.
эхнгн Что значит быть консерватором 71
ленной цели. Консерватор, будучи вынужден играть наудачу, делал бы свою
ставку заодно с другими участниками игры; мы же скорее будем играть в свою
собственную игру, действуя без должной расчетливости и не задумываясь о
последствиях проигрыша. Тяга к присвоению доходит в нас до жадности, сна-
чала мы бросаем кости, а затем уже размышляем над содеянным, имея увели-
ченное отражение его в зеркале будущего. В мире, находящемся в процессе не-
престанного преобразования, ничто не может устоять перед очередной волной
обновления: срок жизни всего, что окружает человечество, кроме его самого,
постоянно сокращается. Сменяются объекты почитания и лояльности, скорость
происходящих перемен не позволяет нам сформировать сильную привязанность
к чему бы то ни было. Мы хотим испробовать все — хотя бы раз — каковы бы
ни были последствия этого. На смену одному виду деятельности приходит дру-
гой, более «современный»: устаревшие нравственно-религиозные требования
подобны выброшенным на помойку автомобилям и телевизорам: глаза наши
непрерывно ищут «новенького». Увидеть таковое — значит представить себе,
чем можно было бы заменить то, что существует в данный момент; прикос-
нуться значит преобразовать. Какие бы очертания, какое бы качество ни обре-
тал окружающий мир, все это бренно, поскольку желаниям нашим нет конца.
И те, кто уже находится в этом мчащемся поезде, заражают всех остальных
своей энергией и предприимчивостью. Omnes eodem cogemur *: становясь тяже-
лы на подъем, мы начинаем искать место в кругу других людей L
Конечно, кроме этой жажды перемен нам присущи и кое-какие другие чер-
ты (стремление хранить и лелеять нам тоже не чуждо), но в том, что жажда
перемен преобладает надо всем остальным, сомневаться не приходится. В по-
добной ситуации консервативный настрой представляется уже не какой-то
допустимой (или даже полноправной) альтернативой нашему в основном «про-
грессивному» образу мыслей, а досадной помехой поступательному движению;
либо он видится нам чем-то вроде хранителя в музее, представляющем дости-
жения прошлого в качестве забавы для детей; экспонаты этого музея, время от
времени подвергающиеся ревизии, еще не выброшены на свалку истории и
именуются (с изрядной долей иронии) прелестями жизни.
Здесь, видимо, и следует закончить описание консерватизма как состояния
души, а также его судеб в современном мире, при этом последнего из людей,
демонстрирующего подобные наклонности и плывущего против течения, ви-
димо, следует проигнорировать — не потому, что он якобы не способен ска-
зать ничего истинного, а потому, что все сказанное им будет неуместно; его
следует просто сбросить со счета — и не вследствие какого-то внутреннего де-
фекта, а в силу обстоятельств; его характерная, уходящая в прошлое застенчи-
вость, склонность к ностальгии вызывает чувство жалости к нему как к изгою
* Всех объединяет одно и то же (лат.). — Прим, перев.
1 “Кто из нас, — вопрошает (не без некоторой двусмысленности) один из современников, —
не предпочел бы общество лихорадочно-созидательное, каких бы нервных затрат
оно от него не потребовало, обществу статичному?»
. Майкл Оукшот. Рационализм в политике
и заставляет презирать его как реакционера. И тем не менее, думаю, следует ска-
зать еще кое-что. Даже в существующей ситуации, когда консервативный взгляд
на вещи явно непопулярен, в определенных случаях он остается не только умес-
тным, но и имеет преимущество перед всеми прочими подходами; ибо существу-
ют обстоятельства, с неизбежностью толкающие нас на путь консерватизма.
Прежде всего, среди различных видов деятельности, есть и такой (он еще не
прекратил своего существования), заниматься которым можно только будучи
консерватором; речь идет о тех видах деятельности, целью которых является на-
слаждение настоящим, а не получение (помимо опыта как такового) прибыли,
вознаграждения, приза или какого-то другого результата. А коль скоро призна-
ется, что названным видам деятельности неотъемлемо присущ консерватизм, пос-
ледний предстает нашему взору уже не как воплощение враждебности «прогрес-
сивному» мышлению, способному охватить все ипостаси человеческого бытия,
а как единственно уместное — в обширной и значительной сфере человеческой
деятельности — мироощущение. А человек преобладающе консервативного скла-
да предстает нам не в образе некоего ретрограда, желающего, несмотря ни на
что, насаждать консерватизм во всех сферах человеческой деятельности, а в об-
разе личности, предпочитающей из всех видов деятельности только те, кои тре-
буют именно консервативных подходов. Короче, если говоря о человеческой
деятельности вообще, мы (как и большая часть нашего общества) склонны от-
вергать консерватизм, то это не мешает нам утверждать, что существует и такой
вид человеческой деятельности, применительно к которому данный образ мыс-
ли является не только уместным, но и единственно возможным. t
Однако, в сфере человеческих отношений немало и таких типов отноше-
ний, применительно к которым консервативный настрой (располагающий к
тому, чтобы воспринимать любые отношения как некую самоцель) не слиш-
ком уместен: взять хотя бы отношения хозяина и слуги, владельца недвижимо-
сти и управляющего этой недвижимостью, покупателя и продавца, начальни-
ка и подчиненного. Во всех названных случаях один из участников отношений
нуждается в услуге, а другой — в плате за услугу. Посетитель, видя, что в дан-
ном магазине нет того, что ему нужно, либо убеждает продавца в необходимо-
сти расширить ассортимент товаров, либо идет в другое место; продавец же,
когда у него нет того, чего хочет покупатель, пытается продать ему те товары,
которые у него есть. Начальник, недовольный работой подчиненного, ищет
ему замену. Слуга, считающий, что получает за свою работу недостаточно,
просит прибавки к жалованию; а слуга, недовольный условиями работы, пы-
тается сменить работу. Короче, все названные отношения имеют своей целью
получение определенного результата; каждая из сторон заинтересована в том,
чтобы другая сторона смогла достичь ожидаемого результата. Если же резуль-
тат не достигается, отношения придут в упадок или будут прерваны. В подоб-
ных случаях быть консерватором и наслаждаться теми отношениями, какие
есть (невзирая на то, что они не удовлетворяют соответствующей потребнос-
ти), — просто потому, что они тебе нравятся и ты привык к ним, — значило бы
вести себя как консерватор-экстремист, отвергающий, вопреки здравому смыс-
эхнтнпо! Что значит быть консерватором 73
лу, любые альтернативные типы отношений. Между тем даже если отношения
нацелены на результат, они не исключают возникновения между партнерами
определенных привязанностей и симпатий, как правило являющихся следстви-
ем их длительного знакомства; в противном случае остается ощущение, что
указанным отношениям чего-то недостает. моя
В отношениях иного рода никакого результата не предполагается, эти от-
ношения являются самоцелью. Такова, например, дружба. В этом случае при-
вязанность возникает из тесного знакомства и поддерживается общностью тех
или иных черт характера. Одно дело покупать мясо у разных мясников, пока
не найдешь такого, который поставляет именно то мясо, которое тебе нужно;
или же воспитывать своего подчиненного, пока он не начнет работать так, как
требуется, — данные поступки соответствуют определенному типу отношений;
но расставаться с друзьями потому только, что они ведут себя не так, как бы тебе
хотелось, или отказываются учиться тому, что ты им предписываешь, — значит
демонстрировать полное непонимание характера дружеских отношений. Дружить
— это не значит предъявлять друг к другу какие-то требования, дружить — зна-
чит наслаждаться самим общением с другом; условием дружбы является готов-
ность принимать друзей такими, как они есть, не пытаясь что-либо в них изме-
нить или улучшить. От друга не ожидают, что он будет придерживаться опреде-
ленного стиля поведения, удовлетворять определенную утилитарную потребность,
сможет быть практически полезен в том или ином смысле; друг не обязан ни об-
ладать определенными приятными дая нас качествами характера, ни разделять
наших мнений; друг — это тот, кто пробуждает в нас воображение, наводит на
размышления; друг — это такой человек, само общение с которым предполагает
наличие интереса, сочувствия, радости и верности ему. Одного друга не заме-
нишь другим; смерть друга никоим образом несопоставима с потерей, скажем,
личного портного. Отношения между друзьями носят не утилитарный, а драма-
тический характер; друзей связывает личная близость, а не польза; общий на-
строй их взаимоотношений всецело консервативный, а никак не «прогрессив-
ный». Данные характеристики относятся не только к дружбе, но и в равной мере
к таким понятиям, как патриотизм или, скажем, просто беседа — ведь и то, и
другое возможно только при консервативном настрое.
Кроме того, существуют и такие занятия, предаваться которым возможно
лишь ради удовольствия, а никак ни ради достижения определенного нужного
результата — например, получения вознаграждения; таким занятиям соответ-
ствует однозначно консервативный настрой. Взять хотя бы рыбалку. Если все,
что вам нужно, это наловить рыбы, то нет никакой причины подходить к этой
задаче чересчур консервативно. В этом случае вы выберете наилучшие снасти,
не станете повторять тех приемов рыболовства, которые ранее не принесли
вам удачи, не будете приходить на те места, где прежде не было хорошего кле-
ва, любые личные предпочтения, привычки и привязанности не смогут носить
здесь устойчивого характера; наоборот, самым разумным подходом к постав-
ленной задаче будет испробовать все — в надежде найти оптимальный вари-
ант. Но такому делу, как рыбалка, можно предаваться и не ради улова, рыбал-
74 Майкл Оукшот. Рационализм в политике i
ка может быть и просто увлечением; в этом случае рыбак будет возвращаться
домой удовлетворенным, даже ничего не наловив. Для такого рыбалка являет-
ся своего рода священнодействием, предполагающим консервативный настрой.
К чему беспокоиться о качестве рыболовных снастей, если и сам улов не слиш-
ком вас интересует? Что действительно имеет значение в данном случае, так
это возможность применить определенные умения (или, может быть, просто
приятно провести время)2, а это никак не зависит от того, какие у вас снасти,
— достаточно, чтобы они были вам привычны и не представляли собой чего-
то, совсем уж не подходящего для рыбной ловли.
Таким образом, о предрасположенности к консерватизму свидетельству-
ют все виды деятельности, в коих главным является вовсе не результат, а удо-
вольствие, получаемое от самого процесса. Таких видов деятельности множе-
ство. Фокс, утверждавший, что в азартной игре есть два момента наивысшего
наслаждения — наслаждение от выигрыша и наслаждение от проигрыша —
тем самым причислил к названным видам деятельности и азартные игры. Я же
могу припомнить лишь одно из пристрастий подобного рода, не являющееся
по своей сути консервативным: увлечение модой как некую беспричинную ра-
дость по поводу изменения как такового, безотносительно к тому, что именно
этим изменением порождается.
Но помимо данного немаловажного класса родов деятельности, коими занима-
ются единственно ради реализации собственных консервативных наклонностей, при
осуществлении ряда других видов деятельности также нередко возникает потреб-
ность в удовлетворении тяги к консерватизму — более того, мало найдешь таких
занятий, которые не предполагали бы обращения, на той или иной стадии, к консер-
вативным подходам. Последнее оправданно во всех случаях, когда стабиль-
ность оказывается большим благом, чем улучшение; когда определенность це-
нят больше, чем спекуляции; когда знакомство с предметом играет большую
роль, чем степень его совершенства; когда согласованные, хотя и ошибочные,
позиции являются более предпочтительными, чем позиции верные, но вызыва-
ющие раздоры; йогда страдать от болезни легче, чем переносить лечение; ког-
да осуществление ожиданий более важно, чем то, насколько эти ожидания «оп-
равданны»; когда любое правление оказывается лучше, чем риск остаться безо
всякого правления. Причем с какой бы точки зрения ни подходили мы к ос-
мыслению человеческой деятельности, описанные ситуации неизменно будут
занимать в ней немаловажное место. Те же, кому консервативно настроенные
личности представляются этакими одинокими пловцами, движущимися напе-
рекор объективному ходу вещей, пользуются, очевидно, негодными линзами,
исключающими из поля их видимости массу различных обстоятельств, — это
- Когда правитель Вен Ван приезжал с инспекцией в Цзан, он увидел там старика, занятого
рыбной ловлей. Но ловил он не по-настоящему — старика не интересовал улов, ему
нравился сам процесс ловли. Тогда Вен Ван пожелал привлечь его к управлению стра-
4 ной, но он опасался, что его министры, дяди и братья станут возражать против этого
назначения. С другой стороны, он не мог допустить того, что — в случае, если он
позволит старику уйти с миром, — люди окажутся лишены его влияния. Чжуан-цзы.
^я-пнп'-г Что значит быть консерватором 75
касается, в частности, и того общества, которое ныне принято именовать вуль-
гарным словечком «прогрессивное».
Большинство из тех видов деятельности, которым предаются не ради про-
цесса, можно в определенном смысле рассматривать как сводящиеся к двум
составляющим, как то: цель и средства, задача и орудия ее осуществления.
Конечно, на деле данное противопоставление не является абсолютным; сам
характер задачи может зависеть от имеющихся инструментов ее осуществле-
ния; а бывает (хотя и реже), что постановка определенной задачи вызывает к
жизни необходимость изобрести средства, подходящие для ее осуществления.
То, что в одной ситуации является задачей, в другой может быть средством
выполнения задачи. Кроме того, из этого правила имеется как минимум одно
важное исключение — поэтическое творчество. Это относительное противо-
поставление обладает, однако, некоторой пользой: оно привлекает внимание
к тому, что отношение к двум названным компонентам может быть разным.
В общем и целом можно сказать, что к орудиям у нас более консервативное
отношение, чем к планам, задачам; или, говоря иначе, что орудия менее подда-
ются обновлению, чем планы, так как орудия, за редкими исключениями, не
создаются специально для выполнения данной частной задачи, чтобы потом
быть выброшенными; орудия предназначены, как правило, для осуществле-
ния целого класса задач. Это и понятно: ведь большинство орудий рассчитано
на человека, обладающего определенным умением, а умение неотделимо от
опыта, от знания дела: любой умелец, будь он моряк, повар или бухгалтер,
имеет представление о том, как обращаться с определенными орудиями труда.
Конечно, столяр, как правило, куда лучше умеет обращаться с собственными
инструментами, чем с теми, с которыми вообще могут иметь дело столяры; а
адвокат с большей охотой воспользуется именно своими, а не чужими экземп-
лярами таких книг, как, например, «Партнерство» Поллока* или «Завещания»
Джармана* 3,— ведь в них он наверняка найдет собственноручно сделанные по-
метки. Знакомство с любым конкретным инструментом весьма существенно
для способности воспользоваться им; и до тех пор, пока человек в пользуется,
скажем, животным как орудием, он будет относиться к нему консервативно.
Многие из орудий, находящихся в общем пользовании, оставались неиз-
менными на протяжении жизни нескольких поколений, в то время как внешний
вид других орудий претерпел значительные изменения; наш набор инструмен-
тов все время пополнялся новыми изобретениями, изменялся дизайн старых
инструментов. Кухни, фабрики, мастерские, строительные площадки и офисы
— все они являют собой картину характерного смешения старого, проверен-
ного, и недавно изобретенного оборудования. Но при всем том стоит нам только
* Речь идет о популярном на протяжении многих десятилетий учебном пособии для студен-
тов английских юридических факультетов, написанном английским ученым-право-
ведом сэром Фредериком Поллоком (1845—1937); полное название книги: Pollock F.
Digest of the Law of Partnership (1877). — Прим, nepee.
3 Jarman. Wills.
76 Майкл Оукшот. Рационализм в политике :
i
I
взяться за какое-то конкретное дело — начать выпекать пирог, подковывать
лошадь, выпускать заем, открывать компанию, торговать рыбой или страхо-
выми полисами, строить корабль или шить одежду, сеять пшеницу или сажать
картофель, закладывать фундамент будущего порта или возводить плотину —
и нам непременно покажется, что в данном случае лучше всего консервативно
относиться к используемым инструментам. Если речь идет о масштабном про-
екте, то во главе его мы должны поставить человека, обладающего необходи-
мыми знаниями, который найдет себе помощников, знающих поручаемое им
дело и умеющих пользоваться соответствующими инструментами. На опреде-
ленной стадии подбора мастеровых мы можем получить от них предложение
пополнить имеющийся набор инструментов некоторыми дополнительными ин-
струментами, нужными для выполнения данной конкретной работы. Автором
подобного предложения, вероятно, будет кто-то из работников среднего зве-
на: вряд ли стоит ожидать, что дизайнер вдруг скажет: «Мне нужно отвлечься
от своей работы и, прежде чем вернуться к ней, я должен потратить пять лет на
доскональное изучение всех стадий работы» (ведь его инструментарием явля-
ются соответствующие знания, и мы рассчитываем, что именно ими он и дол-
жен свободно владеть); а от низового работника мы не ожидаем, что у него в
распоряжении окажется набор инструментов, не нужных для выполнения его
конкретной работы. Но даже если бы все происходило вышеописанным обра-
зом, это никак не изменило бы того факта, что все вовлеченные в работу инст-
рументы требуют к себе консервативного отношения. Ведь очевидно, что ни-
какая работа никогда не будет выполнена, никакой бизнес не будет налажен,
если в общем и целом мы не будем консервативны в отношении используемых
орудий. А так как мы почти всегда заняты тем или иным делом, а без орудий
почти никакое дело не обходится, консерватизм неизбежно присутствует в ха-
рактере каждого из нас и составляет его неотъемлемую черту.
з! Столяр, даже когда он берется за работу, подобной которой никогда рань-
ше не делал, приносит с собой свой обычный набор инструментов, и именно от
того, насколько умело сможет он применить свои инструменты, зависит ус-
пешность выполнения им данной работы. Когда водопроводчик уходит за не-
достающими инструментами, его отсутствие может оказаться чрезмерно дол-
гим, возьмись он усовершенствовать свои старые инструменты или изобрести
что-то новое. Никто не стал бы оспаривать ту важную роль, которую играют
на рынке деньги. Но никакая сделка не состоялась бы, если бы, прежде чем
отвесить фунт сыра или налить пинту пива, покупатель и продавец стали бы
обсуждать вопрос относительной пользы денег как всеобщего эквивалента.
Хирург никогда не останавливается в разгар операции для того, чтобы переде-
лать свои инструменты. Международная ассоциация крикета никогда не ста-
нет вводить новые стандарты на толщину биты, вес мяча или ширину воротец
ни в момент проведения международного матча по крикету, ни даже просто в
середине игрового сезона. Когда ваш дом охвачен пожаром, вы не станете зво-
нить на противопожарную научно-исследовательскую станцию и просить их
сконструировать для вас что-нибудь новенькое; как сказал Дизраэли, если толь-
Что значит быть консерватором 77
i
ко вы не сумасшедший, вы вызовете местную пожарную команду. Музыкант
может импровизировать во время исполнения того или иного произведения, но,
если бы вы попросили его одновременно сымпровизировать и с конструкцией
используемого им музыкального инструмента, он бы на вас обиделся. Ведь при
выполнении любой особо сложной работы мастер зачастую предпочтет пользо-
ваться не какими-нибудь новыми инструментами, к которым он еще и не прино-
ровился, а теми, в работе с которыми он уже набил руку. Несомненно, рано или
поздно наступает время (и находится место) для радикальных подходов и в этой
области: изобретаются новые инструменты и совершенствуются старые, но при
всем этом инструменты остаются объектом консервативного отношения.
Но если сказанное верно относительно любых инструментов (и в этом со-
стоит принципиальная противоположность между инструментами и теми за-
дачами, которые с их помощью осуществляются), то особенно верны утверж-
дения о консервативности наиболее универсальных инструментов, каковыми
являются общие правила поведения. Если о таких инструментах, как молотки
и щипцы, биты и мячи, можно сказать, что общепонятность их является след-
ствием того, что все они относительно неподвластны изменениям, то тем более
правомерно утверждать это относительно таких «инструментов», как, скажем,
распорядок работы в офисе. Распорядки, конечно же, тоже можно совершен-
ствовать; но любой распорядок тем полезней, чем лучше он знаком всем и каж-
дому. И было бы явной глупостью не проявлять в данном вопросе консерва-
тизма. Правда, возможны и исключения, в случае которых отступления от рас-
порядка оказываются оправданными; но если говорить о распорядке как та-
ковом, то относительно его, несомненно, уместней будет практиковать не ре-
формистский, а консервативный подход. Вспомним, как осуществляется веде-
ние публичного митинга, как реализуются правила ведения дебатов в палате
общин, как вершится судопроизводство. Главным достоинством всех упомя-
нутых установлений является их неизменность и общеизвестность; ими порож-
даются и реализуются определенные ожидания; они позволяют упорядочить
выступления, предотвратить ненужные коллизии и сберечь силы людей. В сущ-
ности, они являются типичными инструментами — орудиями, подходящими
для использования при выполнении разнообразных, но схожих между собой
работ. Они формируются в результате размышления и выбора, в них нет ниче-
го священного, они подвержены изменению и совершенствованию; но если бы
наш подход к ним не был, вообще говоря, консервативным, если бы мы прояв-
ляли склонность то и дело спорить о них и изменять их, они быстро утратили
бы все свое значение. И хотя в отдельных редких случаях полезно бывает при-
остановить их действие, обновлять или улучшать эти распорядки по ходу их
действия ни в коем случае нельзя. В качестве другого примера возьмем прави-
ла игры. Они также являются результатом размышления и выбора, поэтому их
тоже допустимо подвергать пересмотру с целью приведения в соответствие с
меняющимся опытом; вместе с тем и они требуют к себе консервативного от-
ношения, и поэтому недопустимо за один раз менять все эти правила целиком,
а тем более недопустимо менять правила по ходу игры. Ведь чем более стре-
78
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
мится к победе каждая из сторон, тем важнее для нее неизменность правил игры.
В процессе игры участники ее могут изобретать новые тактические решения,
импровизировать с новыми способами атаки и обороны, они вправе делать
все, что угодно, для того чтобы разрушить ожидания своих соперников, но
вводить новые правила игры они не могут. Таковые нововведения возможно
предпринимать лишь вне игрового сезона и только в небольших дозах.
Можно привести еще массу ситуаций, в коих предрасположенность к кон-
серватизму является вполне оправданной, а также найти признаки данной пред-
расположенности даже в таких характерах, как наши, отмеченных преоблада-
нием противоположной тенденции. Ведь я еще ничего не сказал о морали и о
религии; но, возможно, и того, что было сказано, достаточно для подтвержде-
ния следующей мысли: даже если полностью консервативный настрой на прак-
тике не является возможным (так как — из-за несходства с нынешним образом
мыслей — поведение последовательных сторонников консерватизма было бы
просто непонятно для окружающих), среди всего разнообразия видов челове-
ческой жизнедеятельности трудно найти такие, где бы не был востребован,
помимо всего прочего, и консервативный настрой; в целом ряде видов деятель-
ности этому настрою принадлежит ведущая роль, а кое-где он главенствует
безраздельно.
Как проявляет себя данный консервативный настрой в сфере политики?
Исследуя этот вопрос, я хочу, чтобы мой ответ был понятен не только примени-
тельно ко всем мыслимым обстоятельствам, но и в особенности применительно
к нашей сегодняшней жизни.
Те из авторов, кому доводилось заниматься этой темой ранее, обычно начинают
с обращения к общемировоззренческим вопросам, таким как природа человека и
человеческих ассоциаций; они способны рассматривать данный вопрос даже с точ-
ки зрения сущности мироздания; эти исследователи готовы поведать нам, что такое
явление, как консерватизм в политике, можно правильно понять, лишь увидев в нем
отражение определенной мировоззренческой позиции по данным глобальным воп-
росам. Так, например, утверждается, что консерватизму в политике соответствует
общеконсервативный настрой во всем образе действий человека: реформизм в
бизнесе, нравственности или религии представляется данным авторам несов-
местимым с консерватизмом в политике. Утверждается, что консерватором в
политике можно стать исключительно вследствие обладания определенными
религиозными убеждениями — скажем, теми, что естественный закон есть по-
рождение человеческого опыта, что установленный провидением миропоря-
док отражает божественное предназначенье природы, что человечество обяза-
но сообразовывать собственное поведение с историей человечества, ибо от-
ступление от истории несет с собой несправедливости и несчастья. Далее, ут-
верждается, что предрасположенность к консерватизму в политике соответ-
ствует так называемой «органической» теории человеческого общества; что
Что значит быть консерватором 79
эта предрасположенность связана с верой в абсолютную ценность человечес-
кой личности, а также с верой в первородную греховность человека. Что же до
собственно английского консерватизма, то его напрямую увязывают даже с
такими реалиями, как роялизм и англиканство.
Оставляя в стороне наиболее частные погрешности данного подхода, под-
черкну лишь то, что являет, как мне кажется, главную его слабость. Соглашусь
с тем, что многие из перечисленных убеждений действительно характерны для
людей, демонстрирующих собственной политической деятельностью тенден-
цию к консерватизму, не буду спорить и с тем, что подтверждение существова-
ния подобной тенденции (или даже обоснование ее наличия) все эти люди ви-
дели не в ком-нибудь, а в себе самих. Но мне-то представляется, что склон-
ность к консерватизму в политике никак не зависит ни от истинности данных
положений, ни даже от того, что мы их считаем таковыми. Ведь я вообще не
склонен думать, что между предрасположенностью к консерватизму и какими
бы то ни было общими воззрениями относительно мироздания, вселенной и
человеческого образа действий должна с необходимостью существовать та или
иная связь. С чем эта предрасположенность связана в действительности — так
это с определенными взглядами на управленческую деятельность и на инстру-
менты управления; стало быть, и прояснение того, что есть консервативная
политика, следует осуществлять в связи именно с этими, а не с какими-то дру-
гими понятиями. Если — прежде чем начать пространное описание собствен-
ных взглядов — вкратце описать мою позицию на этот счет, то она такова:
разъяснение сущности консерватизма в политике не имеет ничего общего ни с
естественным законом, ни с установленным провидением миропорядком, ни с
моралью, ни с религией; выявление этой сущности сводится к наблюдению того
образа жизни, который непосредственно открывается нашему взору, а также к
убеждению (являющемуся, по нашему мнению, не более чем гипотезой), соглас-
но которому всяческое правление есть специфическая и ограниченная деятель-
ность, а именно установление наиболее общих правил поведения и обеспече-
ние соблюдения этих последних; причем под общими правилами поведения
понимаются не какие-то навязываемые обществу планы, касающиеся осново-
полагающих видов деятельности, а некие инструменты, позволяющие людям,
насколько это возможно, избежать разочарований, занимаясь тем, чем они
хотят; ведь именно в отношении к такого рода инструментам уместно было бы
выказывать консерватизм.
Начнем все сначала: не с заоблачных эмпирей, а с нас самих — таких, как
мы есть на самом деле. Я сам, мои соседи, мои сподвижники, мои соотечествен-
ники, мои друзья и враги, а также все те, кто мне безразличен, — все это люди,
занятые самыми разными видами деятельности. Все мы способны иметь раз-
нообразные мнения по любым вопросам, и эти мнения мы склонны менять,
когда как мы устаем от них или же когда они оказываются бесполезными. Каж-
дый из нас идет своим путем; и нет такой невероятной задачи, которую кто-
нибудь из нас не взялся бы выполнить, нет такой глупости, которую кто-то не
взялся бы претворить в жизнь. Существуют люди, кладущие свои жизни на
80 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
распространение среди евреев англиканского катехизиса. Половина человече-
ства занята тем, чтобы заставить другую половину возжелать того, в чем эта
другая половина до сих пор не испытывала никакой нужды. Интересующих
нас предметов мы склонны придерживаться со страстью, независимо от того,
идет ли речь об изготовлении и продаже чего-либо, или же о бизнесе, спорте,
религии, образовании, поэзии, выпивке, наркотиках. У всех нас свои собствен-
ные предпочтения. Для одних многообразие выбора является желанным пово-
дом к действию, для других наличие выбора представляется не столь прият-
ным или даже обременительным. Одни спят и видят сны о новом, более совер-
шенном мире, другие предпочитают идти изведанными путями, а то и просто
бездельничать. У одних стремительность перемен вызывает осуждение, у дру-
гих — восторг; но сам факт перемен признается всеми. Порой мы устаем ото
всего и впадаем в сон: есть некое блаженное облегчение в том, чтобы смотреть
в витрину магазина и не находить в ней ничего, что тебе нужно; безобразное
вызывает в нас чувство благодарности просто потому, что оно отталкивает от
себя внимание. Но чаще всего поиски счастья заключаются для нас в попытках
удовлетворить желания, рождающиеся из неисчерпаемости наших взаимоот-
ношений. И мы продолжаем вступать в различные отношения, руководствуясь
то интересом, то эмоциями, то соперничеством, то партнерством, то стремле-
нием оберегать, то любовью, то дружбой, то ревностью, то ненавистью, — одни
из этих отношений оказываются более, а другие менее долговечными. Мы зак-
лючаем друг с другом некие договоренности; каждый из нас обладает опреде-
ленными ожиданиями относительно поведения другого; мы способны одоб-
рять или не одобрять это поведение или быть к нему безразличными. Данное
многообразие видов деятельности и мнений способно порождать коллизии:
наши пути пересекаются с путями других людей, и не всем нам нравится в по-
ведении окружающих одно и то же. Но в целом мы ладим друг с другом, порой
это требует от нас уступок, иногда, наоборот, неуступчивости, а когда и комп-
ромисса. В общем, наше поведение состоит в том, чтобы приспосабливаться к
другим посредством мелких, незначительных и не требующих от нас серьез-
ных жертв изменений.
Почему все обстоит именно так, а не иначе, в данном случае не имеет зна-
чения. Данная картина вовсе не обязательно должна быть верна. Можно нари-
совать и иную картину человеческого поведения в мире; ведь нам известно,
что в другие времена и других местах деятельность людей отличалась гораздо
меньшим разнообразием и потому была не столь чреватой коллизиями; но в
общем и целом мы все же узнаем в представленной картине свою собственную
жизнь. Данный образ жизни есть некое благоприобретенное состояние — но
не в том смысле, что все это кто-то за нас предусмотрел и выбрал. Данный
образ жизни возник не как пресловутое свободное самовыражение «человечес-
кой природы»; он сложился вследствие того, что у людей вошло в обыкнове-
ние, чтобы калсдый самостоятельно делал свой выбор. А о том, куда это обык-
новение нас заведет, мы знаем сейчас так же мало, как о том, какие шляпки или
какого вида автомобили войдут в моду через двадцать лет.
зхнгшю Что значит быть консерватором 81
Взирая на картину современной жизни, некоторые люди особо указывают
на отсутствие порядка и гармонии как на главный признак современности, коей
присущи, по их мнению, расточительность, фрустрация, пустая растрата чело-
веческих сил, отсутствие продуманной цели, неспособность двигаться в сколь-
ко-нибудь определенном направлении. Ей свойственно состояние возбужде-
ния, подобное тому, что имеет место на автомобильных гонках; вместе с тем ей
неведома та удовлетворенность, что сопутствует ведению хорошо отлаженно-
го бизнеса. Находясь в таком состоянии, люди склонны преувеличивать реаль-
ные размеры беспорядка; отсутствие какого бы то ни было плана настолько
бросается в глаза, что мелкие преобразования и даже крупномасштабные ме-
роприятия, направленные на преодоление хаоса, представляются им ничтож-
ными; в этой неупорядоченности они неспособны обнаружить свои привлека-
тельные стороны — им видятся одни неудобства. Важна, однако, не эта огра-,
ниченность восприятия ими окружающей действительности, а то, на что сей-
час направлены их помыслы. Они понимают, что можно что-то сделать для
уничтожения этого хаоса и наведения порядка, ибо разумные люди не могут
растрачивать свои жизни таким образом. Подобно Аполлону, увидевшему
Дафну с растрепанными волосами, они вздыхают и говорят самим себе: «А
хорошо бы привести все это в порядок». Мало того, они говорят, что видели
во сне прекрасную, свободную от распрей жизнь — жизнь, достойную челове-
чества, этот сон побуждает их искать способы уничтожения разнообразия и
прочие причины, обусловливающие возникновение характерных для нашего
времени конфликтов. Конечно, не все их мечты одинаковы, но во всех них есть
одно объединяющее начало: каждая содержит в себе представление о некоем
бесконфликтном существовании, представление о такой степени согласован-
ности, отлаженности человеческих взаимодействий, при которой совместная
деятельность четко развивается в определенном направлении и все имеющиеся
ресурсы используются в полной мере. Соответственно и институт управления
понимается такими людьми как принудительное приведение общества в то са-
мое состояние, которое пригрезилось им во сне. Управлять для таких людей
значит превращать свой собственный сон в обязательный для всего общества
образ жизни. Таким образом, политика становится точкой пересечения мечты
и реальной деятельности, а правительство (в вышеописанном его понимании)
получает в свое распоряжение соответствующие рычаги управления.
Я не собираюсь подвергать здесь критике данный победоносный стиль
осуществления политики, при котором правление понимается как постоянные
посягательства на человеческие энергетические ресурсы, которые предполага-
ется сконцентрировать в едином направлении; все это не лишено смысла, мно-
гое в нашей современной жизни располагает именно к такой стратегии. Я же
хочу только подчеркнуть, что это совершенно иная трактовка правления, трак-
товка не менее внятная и имеющая такое же, а в существующей ситуации, воз-
можно, и большее право на существование, чем наша.
Смысловой стержень альтернативного — основанного на консервативном
подходе понимания правления и его инструментов составляет идея о необхо-
8QB Майкл Оукшот. Рационализм в политике !>
димости принять как данность описанные мною раньше современные условия
человеческого существования, а именно: предрасположенность к тому, чтобы
самим делать выбор и в том обретать свое счастье; сосуществование всевоз-
можных предприятий, каждое из которых осуществляется с увлечением; нали-
чие разнообразных верований, в каждом из которых ее приверженцы видят
истину в последней инстанции; наличие у членов данного общества таких черт,
как изобретательность, способность изменяться, а с другой стороны, отсут-
ствие у них каких бы то ни было далеко идущих планов; избыточность, гипе-
рактивность и неформальность заключаемых компромиссов. При этом задача
правительства состоит не в том, чтобы навязывать своим гражданам иные ве-
рования и иные виды деятельности, не в том, чтобы наставлять или просве-
щать их, не в том, чтобы прививать им иные способы совершенствования и
достижения счастья; консервативное представление об управлении не предпо-
лагает определять направления деятельности своих граждан, побуждать их к
действиям, руководить ими или координировать их деятельность таким обра-
зом, чтобы исключить возникновение конфликтов между ними; задача кон-
сервативного правительства заключается в том лишь, чтобы управлять. А это
весьма конкретная и ограниченная по своему характеру деятельность, легко
становящаяся объектом коррупции — стоит только соединить ее с какой-то
другой деятельностью; но в наших условиях управленческая деятельность в
высшей степени полезна. Правитель выступает здесь либо в роли рефери, дело
которого — следить за соблюдением правил игры, либо в роли председателя,
руководящего дебатами в соответствии с принятыми правилами, но лично в
них не участвующего.
Далее, данная категория людей обычно обосновывает свой тезис о том,
что правильное управление состоит в одобрении наличных условий человечес-
кого существования посредством апелляции к определенным общим представ-
лениям. К таковым относятся утверждения об абсолютной ценности свободы
человеческого выбора, а также о том, что право частной собственности (этого
воплощения свободного выбора) является естественным правом, что истин-
ные убеждения и правильное поведение реализуются лишь в условиях, предус-
матривающих наличие разных точек зрения и разных видов деятельности. Я
же не думаю, что консервативный настрой нужно разъяснять при помощи этих
либо каких бы то ни было других общих представлений. Здесь достаточно го-
раздо более простых вещей, а именно, признания того, что данные условия
человеческого существования являются преходящими и что мы приспособи-
лись к ним и научились управлять ими; намедостаточно сознания, что мы не
дети, in statu pupillan , а зрелые личности, не считающие себя обязанными оп-
равдываться за самостоятельно сделанный выбор; и что опыт человеческий не
позволяет делать заключения вроде того, будто властители наделены высшей
мудростью, снабжающей их лучшим пониманием и позволяющей действовать
лучше других, благодаря чему они и получают право навязывать своим граж-
В сиротском положении (лат.). — Прим, перев.
ywri Что значит быть консерватором 83
данам принципиально иной образ жизни. Короче, если спросить консерватив-
но настроенного человека: «Почему правительству следует признать существу-
ющее разнообразие мнений и видов деятельности, а не навязывать подчинен-
ным ему людям собственные представления о лучшем устройстве?», то доста-
точно было бы и следующего ответа: «А почему бы и нет?» Мечты правителей
ничем не лучше тех, на которые способен любой другой человек; и если утоми-
тельно даже выслушивать пересказ чужих грез, то претворять их в жизнь воп-
реки собственной воле и подавно невыносимо. Мы привыкли смиряться с су-
ществованием людей, одержимых различными маниями, — таков уж наш обы-
чай, но разве должны мы позволять им править нами? Не является ли достой-
ной задачей для правительства (спросит человек консервативного склада) ог-
радить нас от посягательств со стороны тех людей, которые растрачивают всю
свою энергию и богатства на то только, чтобы попытаться навязать другим
свои мелочные недовольства; защитить нас от таких людей правительство смог-
ло бы и не подавляя их деятельность в пользу других, аналогичных поползно-
вений, а просто устанавливая некоторый предел тому беспокойству, которое
вправе причинять один человек другому.
Данные консервативные представления о правлении не означают, будто,
по мнению консерватора, правительству ничего не надо делать. Согласно кон-
сервативному пониманию, правительству есть чем заниматься, но вся работа
правительства должна осуществляться при искреннем признании им права на
существование за всеми существующими убеждениями и за всеми имеющими-
ся видами деятельности — на том лишь основании, что они уже существуют.
Короче, к числу управленческих задач консерватор отнесет разрешение неко-
торых из тех коллизий, которые порождаются многообразием убеждений и
видов деятельности, а также поддержание мира, — но не путем наложения зап-
рета на свободу выбора и уничтожения разнообразия в результате выбора чего-
то одного, не путем введения единообразия, а путем установления единых для
всех правил и процедур.
Таким образом, для консерватора правление начинается не с представле-
ния об ином, непохожем на нынешний, более совершенном мире, а с наблюде-
ния за тем, как управляют собственным бизнесом самые разные, в том числе и
импульсивные, люди; оно начинается с неформального взаимоприспосаблива-
ния различных бизнесов, дающего возможность помочь тем, кто не способен
выжить в борьбе интересов. Порой это взаимоприспосабливание имеет вид
простой договоренности, обязывающей каждую из сторон не вмешиваться в
дела другой; в иных случаях имеет место более многогранное и долговремен-
ное установление, такое, как, например, международное соглашение о предот-
вращении столкновений на море. Короче, правительственные инициативы дол-
жны исходить из установившейся практики, а не из религиозно-философских
положений, и ориентироваться при этом на установление мира и порядка, а не
на поиск истины и совершенства.
Однако самоуправление, осуществляемое реальными людьми — людьми,
обладающими собственными страстными убеждениями, а также предприим-
84 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
чивостью, — имеет свойство давать сбой именно тогда, когда оно более всего
необходимо. Для восстановления самоуправления зачастую бывает достаточ-
но урегулировать незначительные столкновения интересов, хотя в более серь-
езных случаях подобная тактика не срабатывает. Для урегулирования более
масштабных коллизий, к коим нередко приводит наш образ жизни, для избав-
ления людей от сопряженных с подобными коллизиями массовых фрустраций
требуется более точная и менее подверженная коррупции процедура. Обеспе-
чение подобной процедуры как раз и является делом «правительства», уста-
навливаемые им правила становятся «законом». Можно представить себе и
такое правительство, которое играло бы роль арбитра в столкновении интере-
сов и при этом обходилось бы безо всяких законов: так, можно вообразить
себе игру без правил, но с участием некоего рефери, к которому обращались
бы играющие в случае возникновения конфликтов и решения которого всякий
раз являлись бы импровизацией, нацеленной на избавление участников спора
от угрозы взаимной фрустрации. Но нерациональность такого решения на-
столько очевидна, что оно способно прийти в голову разве что к тем, кто скло-
нен видеть в правителе некое сверхъестественное существо, либо же, напротив,
к тем, кто видит в нем нечто совсем иное — лидера, наставника, управляюще-
го. Как бы там ни было, в основе консервативного отношения к правительству
лежит принятие реальной жизнедеятельности граждан, а также их убеждений
такими, как они есть, и единственной соответствующей подобному отноше-
нию формой правления является установление определенных правил поведе-
ния и обеспечение их соблюдения.
Следовательно, правление в понимании консерватора — это оформление
в виде vinculum juris 10 тех реально существующих способов поведения в конк-
ретных ситуациях, которые позволяют сократить до минимума опасность воз-
никновения порождающих фрустрацию конфликтов интересов, а также обес-
печивают возмещение убытков и прочие компенсации лицам, пострадавшим в
результате данного конфликта. Кроме того, речь может идти также и о наказа-
нии тех участников коллизии, кто в отстаивании собственных интересов нару-
шил действующие правила, и, конечно же, об обеспечении достаточных ресур-
сов, позволяющих правительству должным образом выполнять возлагаемые
на него функции арбитра. Таким образом, под управлением понимается некая
конкретная и ограниченная деятельность — управление не предприятием, а
теми, кто занят в реализации всего многообразия собственных предприятий.
Управление направлено не на личностей, а на деятельность; причем всевоз-
можные виды деятельности интересуют управление лишь в той мере, в какой
они могут вступать между собой в коллизии. Тем, что хорошо, а что дурно в
моральном плане, правительство не занимается, оно не ставит перед собой за-
дачи совершенствования людей; само его предназначение вытекает не из «есте-
ственной испорченности рода человеческого», а из склонности людей к нео-
рдинарным поступкам; его задача — поддерживать мир, в то время как граж-
------------- л? ЭНР
* Оков закона {лат ). — Прим, перев ~
эхнтш Что значит быть консерватором 85
дане занимаются, каждый по-своему, обеспечением собственного блага. Един-
ственная идея, которую можно сформулировать на основе подобной прави-
тельственной стратегии, — та, что любое правительство, не умеющее обеспе-
чить лояльности своих граждан, является бесполезным и что как раз этого и не
может обеспечить правительство, выступающее (в старых пуританских тради-
циях) «от имени истины» (поскольку некоторые из его подданных считают,
что проповедуемая им «истина» суть заблуждение), в то время как правитель-
ство, с равным безразличием относящееся и к «истине», и к «заблуждению» и
стремящееся только к поддержанию мира, не мешает гражданам быть лояль-
ными в отношении его самого.
Вместе с тем нетрудно понять, что в данном понимании роли правитель-
ства заложена нелюбовь к переменам: мол, правительство задает правила по-
ведения, а для правил главное — быть общеизвестными. Но поведение реаль-
ного человека одним только следованием правилам не ограничивается. В со-
временном мире постоянно возникают все новые и новые виды деятельности
(часто порождаемые новыми изобретениями); соответственно и убеждения,
царящие в обществе, претерпевают изменения, от каких-то из них приходится
отказываться, и отставание правил от изменяющейся действительности явля-
ется столь же опасным, как и недостаточная известность правил. Так, напри-
мер, ряд новых изобретений и изменение стиля ведения бизнеса привели к ус-
тареванию ныне действующего закона об авторском праве. Кроме того, мож-
но предположить, что такие вещи, как газета, моторная лодка или аэроплан,
не получили еще должного отражения в своде английских законов, а ведь все
они уже породили достаточно неудобств, с которыми необходимо каким-то
образом бороться. Или вот еще какая проблема: в конце прошлого столетия
наше правительство провело большую работу по кодификации значительной
части нашего законодательства, что позволило приблизить его к существую-
щим представлениям и к современной жизни; с другой стороны, подобное сде-
лало наше законодательство весьма неприступным, неотзывчивым на конк-
ретную ситуацию — а ведь именно конкретность являлась характерной чертой
нашего общего права *. Между тем многие из имеющихся в нашем праве стату-
тов ныне безнадежно устарели. Порой совершенно отжившие законы парла-
мента, утратившие всякую связь с действительностью (такие как закон о купе-
ческих кораблях), продолжают царить в обширных и важных областях жизне-
деятельности общества. Таким образом, только обновление законов способно
сохранить их действенность. Но консервативный подход предполагает, что
изменение законов всегда будет носить форму следования переменам в убежде-
ниях и образе жизни граждан, на которых эти законы рассчитаны, и не в коем
случае не разрушит — во имя возвеличивания закона — единство закона и
жизни. Следовательно, консерватор не имеет ничего общего с теми инноваци-
* Общее право — свод английских законов, не зафиксированных в статутах и не кодифици-
рованных. Общее право олицетворяет юридическую практику, основанную на традиции
и прецеденте, и служит основой системы английского права в целом’. — Прим, перев.
Майкл Оукшот. Рационализм в политике i
t
ями, которые осуществляются применительно к некой несуществующей, гипо-
тетической ситуации. Он всегда предпочтет не изобретать новый закон, а реа-
лизовывать старый; и прежде чем вносить изменения в закон, он подождет и
убедится в том, что то изменение действительности, которое данная коррекция
закона призвана отразить, является достаточно долговременным. Он с подозре-
нием воспримет любые чрезмерные, не оправданные ситуацией поползновения,
направленные на изменение законодательства. Его насторожит желание прави-
теля получить чрезвычайные полномочия во имя осуществления преобразова-
ний, если свои планы данный правитель оформляет в виде общих идей типа «благо
общества», «социальная справедливость». Он не поверит «спасителям общества»,
бряцающим оружием и обещающим «убить дракона». Вместо этого он предпоч-
тет внимательно рассмотреть обстоятельства, подталкивающие к переменам;
короче, он отнесется к политике как к такой деятельности, в которой необходи-
мо постоянно заботиться об имеющихся орудиях, не меняя постоянно весь арсе-
нал, а лишь время от времени обновляя некоторые предметы. ш
Все это помогает лучше понять, в чем состоит консервативное отношение
к правлению; можно дать и более подробные разъяснения, демонстрирующие
то, как представляется консервативно мыслящему человеку решение других
важнейших задач правления, таких как осуществление внешней политики.
Можно также показать, почему столь большое значение уделяет консерватор
многосложной системе, именуемой «институтом частной собственности», в чем
смысл отрицания им положения о том, что политика есть не более чем тень,
отбрасываемая экономикой, и на чем основывается его убеждение, согласно
которому главной (и, возможно, единственной) экономической миссией пра-
вительства является поддержание стабильного курса отечественной валюты.
Но по данному вопросу, как мне кажется, следует сказать кое-что еще.
Некоторым людям «правительство» представляется в виде огромного резервуа-
ра власти, и это представление вдохновляет их на мечты о том, как можно было бы
воспользоваться этой властью. Они вынашивают некие заветные, более или менее
масштабные, проекты, способные, по их искреннему убеждению, облагодетельство-
вать человечество; само же правление представляется им авантюрой: источник вла-
сти надо сперва захватить, затем, если необходимо, преумножить, после чего и на-
ступает удобный случай навязать ближним своим собственные заветные проекты.
Таким образом, в правлении они видят один из инструментов реализации личных
пристрастий; искусство политики для них сводится к воодушевлению, внушению
другим людям неких определенных желаний. Короче, правление оказывается упо-
добленным многим другим видам деятельности — изготовлению и продаже оп-
ределенного сорта мыла, разработке местных ресурсов, строительству жилья —
с той лишь разницей, что власть здесь (по большей части) уже мобилизована, а
само предприятие отличается тем, что заведомо имеет целью образование моно-
полии и сулит успех с момента захвата власти. Конечно, в наши дни подобный
политик, относящийся к своему делу как к частному предприятию, немногого
смог бы достичь — разве что нашлись бы люди, либо столь неопределенные в
своих потребностях, что он смог бы внушить им свои собственные цели, либо
sx‘>' Что значит быть консерватором 87
это были бы люди со столь рабским характером, что предпочли бы обещания
грядущего изобилия возможности самим делать выбор и обладать свободой дей-
ствия. Кроме того, все это не так просто: часто политики подобного сорта не-
правильно оценивают собственные шансы; в этом случае даже демократическая
страна может стать свидетелем сцены, когда, образно говоря, «верблюд показы-
вает своему погонщику, что он о нем думает».
Консервативный же подход к политике предполагает совершенно иное понима-
ние того, в чем состоит правление. Человек, придерживающийся подобных убежде-
ний, полагает, что обязанностью правительства является не разжигание страстей и
не подливание масла в огонь, а охлаждение горячих голов, ограничение аппетитов,
умиротворение и примирение конфликтующих сторон—правительство должно не
раздувать, а тушить пожар желаний. И не потому, что страсть—это зло, а сдержан-
ность —благо, а потому, что только сдержанность способна помочь страстным людям
избежать взаимной фрустрации. Такой тип правления не следует считать ни про-
водником милостивого проведения, ни хранителем морального закона, ни вопло-
щением божественного порядка. Но ценность такого правления вполне очевидна
для граждан (если только они — такие же люди, как и мы с вами); отчасти то же
самое граждане способны делать для себя и сами всякий раз, когда они занимаются
своим обычным делом или же предаются удовольствиям. Вряд ли они нуждаются в
том, чтобы им напоминали, сколь важно для них такое правление — в отличие от
древних персов, которые, по свидетельству Секста Эмпирика, имели обыкновение
об этом регулярно себе напоминать, для чего они периодически отменяли все
законы на пять дней и получали, таким образом, возможность вновь пережить
тот кошмар, что воцарился после смерти царя. Вообще-то граждане не прочь
платить правительству умеренную цену за оказываемые им услуги, к тому же
они признают необходимость быть лояльными данному правительству (иног-
да эта лояльность искренняя, иногда же она напоминает присягу Сидни Го-
долфина* *), уважать его и относиться к нему с некоторым подозрением, а от-
нюдь не с любовью или привязанностью. Таким образом, к правлению отно-
сятся как к некоему второстепенному роду деятельности, хотя и признается,
что это деятельность особого рода и что она не вполне совместима с любой
другой деятельностью, так как все прочие занятия (за исключением лишь роли
стороннего наблюдателя) порождают определенную односторонность, неспо-
собность хранить то самое беспристрастие, которое считают необходимым
качеством не только судьи, но и законодателя (ведь последний тоже имеет дело
с законом). От правительства этого рода граждане хотят, чтобы оно было силь-
ным, энергичным, решительным, экономным, не будучи при этом ни каприз-
ным, ни суетливым: им не нужен такой рефери, который судит игру не по пра-
вилам, позволяет себе быть пристрастным, затевает интриги и постоянно сви-
* Граф Сидни Годолфин 1-й (1645—1712) — британский политик; находился на службе сна-
чала у Джеймса II, а после революции 1688 года сразу же получил должность при
• з : дворе нового короля Вильяма III, продолжая при этом поддерживать отношения с
якобитами — сторонниками смещенного короля Джеймса II. — Прим, перев.
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
J
1
стит в свисток, ведь в конце концов игра есть игра, она способна порой лишать
нас склонности к консерватизму.
Но помимо тех ограничений, которые налагают на нас общеизвестные пра-
вила, есть в этом стиле правления и еще кое-что. Разумеется, это «кое-что» не
является чем-то, что воздействует на нас помимо закона: это не какое-то внуше-
ние или умасливание; это всего лишь образы, скажем, образ отечески настроен-
ного министра внутренних дел или грозного канцлера казначейства*. Но произ-
водимое ими впечатление полного безразличия к тому, во что верят и чем зани-
маются их граждане, само по себе действует охлаждающе. В суету повседневной
жизни, в неистовое столкновение различных позиций, в возвышенную решимость
спасать души ближних своих, если не всего человечества, — во все это прави-
тельство привносит частицу даже не разума (этого от него никто не ожидает), а
какой-то иронии, готовности противопоставить одному злу другое; речь идет о
чем-то вроде подшучивания, обезоруживающем экстремистов (причем сам шут-
ник и не стремится выглядеть мудрецом); это такое своеобразное насмешниче-
ство, помогающее снизить напряженность, преодолеть энергию и скептицизм;
можно даже сказать: потому мы и выбрали именно такое правительство, что у
самих нас нет ни времени на скептицизм, ни склонности к нему. Это как холод-
ное дыхание гор, ощущаемое на равнинах даже в самые знойные летние дни.
Или (если оставить в покое высокохудожественные метафоры) правительство
похоже на «регулировочный реостат» **, контролирующий скорость движения
отдельных частей и тем самым не позволяющий мотору разлететься на куски.
Так что к подобному отношению к деятельности правительства консервато-
ра подводят не просто какие-то глупые предрассудки, для формирования этого
отношения или уяснения его сути не требуется никаких высокопарных метафи-
зических теорий. Данное отношение основано на простом осознании того, что
когда деятельность пронизана духом предпринимательства, ей следует противо-
поставить такую деятельность, сама направленность которой явится ограничи-
телем этого духа; но такого рода деятельность легко поддается коррупции (и
даже может вовсе превратиться в нечто иное), когда свойственную ей власть на-
чинают использовать для продвижения любимых проектов. «Рефери», ведущий
себя так, как если бы он тоже был игроком, — это не рефери. «Правила», к кото-
рым не относятся консервативно, — это не правила, а подстрекательство к бес-
порядку. Соединение правителя с мечтателем порождает тиранию.
4
Следовательно, политический консерватизм отнюдь не является недоступным
пониманию людей предприимчивых и любящих приключения, людей, тя-
* Пост канцлера казначейства соответствует в современной Великобритании должности ми-
нистра финансов. — Прим, перев.
** Здесь игра слов: данный технический термин переводится на английский язык тем же сло-
вом, что и «правитель» — «governor». — Прим, перев.
тжятяоа Что значит быть консерватором 89
готеющих к переменам и склонных осмысливать свои пристрастия в терминах
«прогресса».4 А для того чтобы полагать, что правительство не должно быть
преимущественно «прогрессистским», вовсе не обязательно придерживаться
мнения, будто вера в «прогресс» является самым жестоким и бесплодным из
всех возможных убеждений. Ведь предпочтение консервативному правитель-
ству должны отдавать, главным образом, те из людей, которым есть что де-
лать, и есть над чем поразмыслить; такие люди обладают определенными уме-
ниями и способны достичь немалого также и на интеллектуальном поприще;
они не нуждаются в том, чтобы кто-то разжигал их страсти, возбуждал в них
желания и мечты о лучшей жизни. Такие люди знают цену правлению, дающе-
му порядок, но не вмешивающемуся в их дела, правлению, умеющему сконцен-
трироваться на долге и оставляющему место развлечению. Они могли бы ужить-
ся даже с легально установленным религиозным строем — но не благодаря
вере в то, что данное правление олицетворяет собой некую неопровержимую
религиозную истину, а потому только, что такое государство налагало бы ог-
раничения на недобросовестную конкуренцию сект и (как говорил Юм) усми-
ряло «натиск чересчур старательного духовенства».
Итак, независимо от того, представляются ли существующие убеждения разум-
ными и соответствующими нашей эпохе и тем возможностям, которые мы склонны
находить в наших правителях, они и им подобные как раз и есть то, что делает
понятным такое явление, как консерватизм в политике. Соответствовала ли бы эта
предрасположенность к консерватизму иным обстоятельствам, имело бы консерва-
тивное отношение к правительству такое же значение, будь мы народом не склон-
ным к авантюризму, пассивным и бездуховным, — на эти вопросы нечего даже
пытаться искать ответ, ибо для нас важны мы сами, такие, какие мы есть. Но,
надеюсь, я прояснил один важный момент: нет никакого противоречия в том,
чтобы быть консерватором в отношении к правительству и радикалом в отно-
шении к любому другому виду деятельности. Об этой предрасположенности,
по моему мнению, больше интересного можно узнать от Монтеня, Паскаля,
Гоббса и Юма, чем от Бёрка и Бентама.
Изо всех возможных дополнений к сказанному я сделаю лишь одно, а имен-
но то, что консервативная политика не подходит молодежи — и не вследствие
ее порочности, а вследствие тех черт, которые я, скорее, причислил бы к досто-
инствам этой возрастной группы.
Никто не станет утверждать, что легко быть бесстрастным, как того требует
консерватизм в политике. Трудно держать при себе собственные убеждения и соб-
ственные желания, принимая мир таким, как он есть, не нарушая сложившегося
равновесия; трудно мириться с существованием всяческих безобразий, видеть раз-
ницу между преступлением и прегрешением, соблюдать формальности даже
4 Я не забыл спросить себя и вот о чем: «Почему же наше отношение к условиям, соответ-
ствующим нашей ситуации, было столь небрежным, что мы позволили отождествить
образ типичного политика нашего времени с образом мечтателя-активиста?» На этот
вопрос я попытался ответить в другом месте.
90
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
I
тогда, когда они очевидно ведут к ошибке. Такая манера поведения дается
людям непросто, ну а молодым она и вовсе не дается.
Молодые годы каждого из нас — это мечты, восхитительные безумства,
упоительный солипсизм. Ничто в молодости не постоянно — ни образы, ни
ценности; мир полон потрясающих возможностей, и мы беспечно живем в кре-
дит. Когда ты молод, тебе нет нужды соблюдать какие-то обязательства, вести
счет чему бы то ни было. Ничто не обдумывается заранее, ничто не подверга-
ется скрупулезной оценке. Мир — это зеркало, в котором мы ищем отражение
собственных желаний. Невозможно противостоять напору неистовых эмоций.
В молодости мы не настроены делать какие-либо уступки внешнему миру; вос-
приятие окружающего как некоего внутренне сбалансированного состояния
возникает у нас разве что при манипулировании с крокетной битой. В молодо-
сти мы не в состоянии осознать, что любить — это одно, а ценить — это дру-
гое. Важность любого поступка или явления мы измеряем степенью его нео-
тложности; нам нелегко понять, что не все, что скучно, непременно должно
вызывать презрение к себе. Мы не терпим ограничений и готовы вслед за Шел-
ли расценивать собственные привычки как личные поражения. Все перечис-
ленное относится, по моему мнению, к достоинствам молодого возраста, но
как далеко все это от того настроя, который единственно соответствует опи-
санному мною выше стилю правления. Ведь если жизнь приравнена к мечте, то
политика — утверждают молодые, следуя понятной, но ошибочной логике, —
есть столкновение различных видений, и наша задача навязать ей свое соб-
ственное. Некоторые неудачники (один из них — Питт, по иронии судьбы име-
нуемый «Младшим» *) являются стариками от рождения. Таким впору начи-
нать занятия политикой уже в колыбели; есть и другие (вероятно, они более
удачливы) — относительно их нельзя сказать, что молодость дается только
раз, ибо они так никогда и не взрослеют. Но все это исключения из общего
правила. Для большинства же из нас существует то, что Конрад называл «те-
невой частью», — входя в нее мы начинаем воспринимать вещи такими, как
они есть, каждую со свойственной ей неизменной формой, каждую со своим
центром тяжести и со своей ценой; в конце концов, мир — это не поэтический
образ; и, порастратившись на одно, мы уже не можем позволить себе другого;
в этом мире, кроме нас самих, живут и другие люди, к которым невозможно
относиться как к простым отражениям наших эмоций. Так вот: именно это
осознавание собственного места в данном банальном мире и является свиде-
тельством нашей зрелости (свидетельством более веским, чем любые познания
в области «политической науки»), оно является свидетельством нашей пригод-
ности к тому роду деятельности, который человек консервативного склада
называет политикой.
1956 год
* Уильям Питт Младший (1759—1806) — выдающийся английский политик, лидер т. н. но-
вых тори, премьер-министр Великобритании в 1783—1801 и 1804—1806 гг. Известен
г; как один из главных организаторов антинаполеоновской коалиции европейских го-
сударств,- npUM Пер. v п j-; .txt. г /
эммтшхс Политическая экономия свободы 91
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ СВОБОДЫ
Работа покойного профессора Чикагского университета Генри С. Саймонса долж-
на быть хорошо известна всем тем, кто изучает экономику, поэтому было бы излиш-
ним пытаться привлечь их внимание к рассматриваемому здесь сборнику наиболее
важных из его статей.1 Однако прочим читателям это имя может быть и незнакомо.
Но несмотря на тот факт, что Саймонс не является ни перворазрядным автором, ни
писателем-популяризатором, в его работах есть кое-что полезное и для широкого
круга читателей; и хотя многое из того, о чем он говорит, имеет непосредственное
отношение к США, английские читатели найдут в его статьях нечто полезное и для
себя. В настоящем обзоре я намерен рекомендовать работы этого автора как такие,
с которыми непременно надо познакомиться каждому интересующемуся современ-
ным положением дел человеку. Как экономист, Саймонс занимался, в частности,
проблемами банковского дела, денежного обращения, монетаристской политики,
но (подобно своему учителю и коллеге по работе в чикагском университете профес-
сору Ф. Г. Найту,2 создавшему в рамках этого университета столь уважаемую
школу экономических исследований) он прекрасно сознавал, что в основе любого
обсуждения частной проблемы, любого проекта экономической политики присут-
ствует, часто подспудное, представление о том, какой именно тип социальной ин-
теграции является наиболее предпочтительным. И дабы исключить возможные раз-
ночтения касательно его собственной позиции на этот счет, он постарался дать от-
крытое и упорядоченное изложение собственных представлений об оптимальном
типе социальной интеграции. Эти представления не являются настолько разрабо-
танными, чтобы заслужить называться политической философией, ведь и сам он
говорит о них лишь как о своем «политическом кредо»', предпринятая им попытка
объединить в своем рассмотрении «экономику» и «политику» лишена чрезмерных
притязаний. Удача же этой попытки объясняется тем, что она являет собой не еще
одну из многих тем, поднимаемых Саймонсом, а отражает присущий ему неизмен-
ный образ мышления. Хотя в этом сборнике и есть пара статей, напрямую посвящен-
ных исследованию целей и средств в политике, в большинстве своем заключенные
в нем статьи касаются специальных экономических проблем, причем он никогда
1 Simons Н. С. Economic Policy for a Free Society. University of Chicago Press and Cambridge
University Press, 1948, 2b. net.
2 Knight F. H. Ethics of Competition (1935), and Freedom and Reform (1947).
92
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
не забывает показать, каким образом предлагаемое им решение той или иной
проблемы связано с его более общими представлениями об оптимальном типе
социальной интеграции. Тех же, кто желает более полного освещения вопроса,
он знакомит с собственными теоретическими предпочтениями; и здесь изложение
его, несмотря на некоторую фрагментарность, обнаруживает не только ясное, но
и глубокое видение различных форм социальной интеграции с точки зрения их
совместимости или несовместимости.
Само собой разумеется, Саймонс не претендует на изобретение собственного
политического кредо: он не из тех тщеславцев, кто, прежде чем начать реализовы-
вать свои познавательные задачи, обеспечивают чистоту цели посредством полно-
го опустошения собственного сознания. Его представления о чести лежат в области
следования традиции. Он называет себя «старомодным либералом», ставя себя в
один ряд с предшественниками—такими, как Адам Смит, Бентам, Милль, Сидж-
вик, а также Токвиль, Буркхардт и Актон. Подобный список удивляет некоторой
некритичносгью отбора, упускающего из виду исторические нюансы. Но в этом нет
ничего страшного. Ведь в том, что касается сочинений других людей, Саймонс был
человеком широких взглядов, с благодарностью принимающим то, что предлагают
другие, и воздерживающимся от критических тонкостей. Если он и был либералом,
то таким, которого не затронули нынешние пороки либерализма—неразборчи-
вость в друзьях и нервозная готовность раскрыть свои старческие объятия для лю-
бого, кто заявит о поддержке «прогресса». Вместе с тем нет нужды придавать черес-
чур большое значение тому, под какой именно вывеской он излагает собственное
кредо. Он называет себя либералом и демократом, но эти названия не слишком
много для него значат, он хочет лишь устранить ту неоднозначность, которая, к
сожалению, присутствует ныне в этих понятиях. Поэтому неудивительно, что мно-
гое Из того, о чем говорит Саймонс, представляется нам вещами известными и безна-
дежно устаревшими. Общеизвестность сказанного им связана не с бесконечным
пережевыванием данных идей в последние годы, а с тем, что интеллектуальные
денди фабианского общества поместили их в наспех составленный ими для учебно-
го плана перечень ошибок. Старомодность же идей Саймонса обусловлена выра-
жаемым им неодобрением в адрес этих эксцентричных арбитров. Несмотря на все
это, великим достоинством книги Саймонса является то, что «нынешнему искушен-
ному поколению», знающему ответы на все вопросы и вместе с тем вопиюще нео-
бразованному, она дает возможность самостоятельно поразмышлять над теми ве-
щами, которые ранее советовали им отбрасывать как простые суеверия.
Сделанный в данной книге «акцент на свободе» назван Саймонсом «отличи-
тельной чертой» той традиции, к которой он причисляет себя самого; он верит в
свободу. Тем самым он как бы ослабляет собственные позиции в глазах читате-
лей, ибо быть в наше время истинным либертарианцем в политике значит принад-
лежать к разряду людей, ныне, к сожалению, определенно вышедшему из моды.
Теперь наши симпатии на стороне людей иного типа, и признаваться в любви к
свободе именно как к unum necessarium *, а не как к чему-то нужному в опреде-
К чему-то необходимому (лат.). — Прим, перев.
Политическая экономия свободы 93
ленной ситуации, значит обнаруживать непозволительную наивность, понятную
лишь в случае маскировки ею собственного стремления к власти. Свобода стала
девизом бесцеремонной и безыскусной политики. Но тот урон, что понесла ли-
бертарная политика от нападок своих явных и скрытых врагов, не является не-
восполнимым; в конце концов все их ухищрения есть лишь глупые околичности,
которыми они сами себя разоблачают. Куда опасней оказываются зачастую са-
мозваные друзья. Необходимо, говорят они, внести ясность относительно того,
что мы понимаем под «свободой». Во-первых, давайте дадим ей определение; и
только после того, как мы поймем, о чем идет речь, настанет время отыскивать ее,
любить ее и умирать за нее. Что такое свободное общество? Этот (абстрактно
поставленный) вопрос открывает дверь бесконечной игре слов, этакому блужда-
нию в потемках, освещаемому лишь перлами софистики. Подобно людям, рож-
денным в тюрьме, мы обречены мечтать о чем-то, чего не знаем (о свободе от
нужды), и класть эту мечту в основание своей политики. Нас учат отличать «по-
зитивную» свободу от «негативной», «старую» свободу от «новой», выделять
«социальную», «политическую», «гражданскую», «экономическую» и «личную»
свободы; нам говорят, что свобода—это «осознанная необходимость»; нас убеж-
дают, что главное — это «внутренняя свобода» и что ее следует отождествлять с
равенством и с властью—словом, чего только нам не втолковывают. Но поколе-
ние, так долго прождавшее «в преддверии» чего-то важного, в ожидании про-
светления, что разговор о “le silence eternel de ces espaces infinis” * начал его
раздражать, — это поколение готово теперь послушать речи, более приближен-
ные к жизни. И любой, кто наконец пригласит это поколение не толпиться в пред-
дверии, а войти и закрыть за собой дверь, видимо, будет услышан. Во всяком
случае, именно так понимаю я то, что хочет сказать нам Саймонс. Свободу, изу-
чением которой занимается он, ни абстракцией, ни мечтой не назовешь. Его ли-
бертарьянство обусловлено не тем, что свои рассуждения он начинает с абстрак-
тного определения свободы, а тем, что ему действительно нравится тот образ
жизни (и он видит, что этот образ жизни нравится и другим), который сами любя-
щие его люди привыкли называть (в силу определенных присущих этому образу
жизни черт) свободным, а также тем, что сам он счел за благо вести именно этот
образ жизни. Цель его исследования заключена не в словесных определениях, а в
выяснении того, что же именно есть хорошего в этом образе жизни, что враждеб-
но этому образу жизни и каковы условия оптимальной реализации этого образа
жизни. А результатом этого исследования явится не только наилучшее понима-
ние того, что нам нравится в свободе, но и нахождение надежного критерия для
вынесения суждений относительно тех абстрактных свобод, которым нас застав-
ляют следовать. Ибо если какая-то из предлагаемых свобод не сможет быть дос-
тигнута теми самыми средствами, что и свобода, коей мы наслаждаемся ныне, то
этим будет выявлена иллюзорность данной свободы. Кроме того, мы не должны
поддаваться на уговоры проявить уважение к чувствам, скажем, русских или
турок, никогда не живших в условиях свободы (и, следовательно, имеющих лишь
’ Вечном молчании этих бескрайних пространств (фр.)- — Прим, перев.
94
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
абстрактное представление о ней), и писать слово «свобода» в кавычках — ведь
любое подобное употребление этого английского слова будет выглядеть чем-то
неправильным и смехотворным. В английском языке свобода является таким сло-
вом, политический смысл которого также непосредственно вытекает из нашего
политического опыта, как смысл слов Ekevipepia, libertas и liberty — из соответ-
ствующего опыта каждой из стран.
Какие же качества нашего общества позволяют нам чувствовать себя сво-
бодными, в то время как в отсутствие этих качеств мы не сможем считать себя
свободными в принятом у нас смысле слова? Прежде чем ответить на этот вопрос,
следует заметить, что присущая нам свобода не слагается из ряда независящих
друг от друга черт нашего общества, так чтобы их механическое сложение дава-
ло нам нашу свободу. Правда, свободы бывают разными, одни из них имеют
более общий характер, являются более устоявшимися и зрелыми, чем другие, но
та свобода, которую знает и ценит английский либертарианец, состоит в един-
стве взаимно подкрепляющих друг друга свобод, каждая из которых усиливает
целое, причем ни одна из них не существует сама по себе. Свобода не является
следствием ни отделения церкви от государства, ни господства закона, ни част-
ной собственности, ни парламентской формы правления, ни закона habeas corpus',
ни независимости суда — ни вообще какого-либо из тысячи учреждений и уста-
новлений, свойственных нашему обществу; свобода есть следствие существова-
ния их всех, а именно, она есть следствие отсутствия в нашем обществе центров
всеподавляющей концентрации власти. Это самое общее условие нашей свобо-
ды — настолько общее, что все прочие условия могут рассматриваться как его
составные части. Это условие проявляется прежде всего в рассредоточении вла-
сти, распылении ее между прошлым, настоящим и будущим—ни то, ни другое, ни
третье не господствует над нашим обществом безраздельно. А о таком обществе,
над которым полностью господствует либо его прошлое, либо его настоящее,
либо его будущее, мы сказали бы, что оно страдает от деспотизма суеверий, а это
несовместимо со свободой. Политика нашего общества подобна беседе, в кото-
рой участвует и прошлое, и настоящее, и будущее; и хотя в каждый отдельный
момент может преобладать то одно, то другое, постоянно доминировать ни то, ни
другое, ни третье не может, благодаря чему мы и являемся свободными. Кроме
того, власть у нас рассредоточена между множеством составляющих наше обще-
ство заинтересованных лиц и организаций. Мы не боимся разнообразия интере-
сов и не стремимся уничтожить это разнообразие, и если власть рассредточена
между ними не полностью, мы считаем нашу свободу несовершенной; а если ка-
кое-то заинтересованное лицо или группа заинтересованных лиц, пусть даже со-
ставляющих большинство, обретает чрезвычайную власть, мы считаем, что тем
самым свобода ставится под угрозу. Аналогичным образом управление нашим
обществом предполагает рассредточение власти — и не только между признан-
ными органами власти, но и между правительством и оппозицией. Короче, мы
* Habeas Corpus Act — один из основных конституционных актов Великобритании. При-
нят в 1679 г. Гарантировал процессуальные права граждан, устанавливая пра-
вила ареста и привлечения обвиняемого к суду. — Прим, перев.
Политическая экономия свободы 95
считаем себя свободными потому, что никто в нашем обществе не получает неогра-
ниченной власти—ни лидер, ни фракция, ни партия, ни «класс», ни большинство,
ни правительство, ни церковь, ни корпорация, ни торговые или профессиональные
организации, ни профсоюзы. Секрет свободы нашего общества—в том, что оно
состоит из множества организаций, и структуры лучших из них воспроизводят то
самое рассредточение власти, которое характерно для общества в целом.
Кроме того, нам известно, что для общества, подобного нашему, характерно
состояние неустойчивого равновесия. «История институтов, — говорит Актон,
—это история обманов и иллюзий». Те установления, что были призваны способ-
ствовать рассредточению власти, со временем сами становятся центрами очень
большой или даже абсолютной власти, но при этом они продолжают требовать
того же признания, той же лояльности по отношению к себе, какими они пользо-
вались изначально. Для того чтобы суметь развивать свободу мы должны четко
представлять себе возможность подобного перерождения и с достаточной расто-
ропностью применить средства противодействия этому злу, пока оно еще не вели-
ко. А четкости видения ситуации более всего способствует освобождение от жес-
ткой доктрины, озабоченной созданием видимости постоянства, а позже (когда
вскрывается иллюзорность этого постоянства) призывающей к революции. Луч-
шими являются, конечно, те институты, конституция которых отличается твердо-
стью и самокритичностью, проявляя себя как олицетворение благих сторон вла-
сти и отвергая неизбежные поползновения к абсолютизму. И хотя таких институ-
тов немного, английские политические партии (в том виде, в каком они существо-
вали до сих пор), пожалуй находятся в числе этих немногих.
Те, кому не доводилось жить в подобном обществе и кто поэтому способен
представлять его себе лишь абстрактно, могут подумать, что спасти общество та-
кого типа от распада способно только наличие какой-то верховной власти, держа-
щей под контролем все остальные силы. Но нам дело представляется иначе. Мы
действительно почитаем силу как достойное свойство любого правительства, но
не в силе видим мы средство спасения от распада. Ведь и то, и другое представля-
ется нам симптомами далеко зашедшего упадка. Ибо подавляющий перевес в силе
требуется только там, где правительству противостоит объединяющая самых раз-
нообразных личностей и самые разнообразные интересы мощная силовая группи-
ровка, способная утверждать собственные интересы настолько, чтобы перечерки-
вать властные полномочия правительства. Обычно же для выполнения своих фун-
кций (сводящихся к предотвращению насилия) нашему правительству требуется
обладать лишь такой властью, которая превышала бы по своим размерам силу,
имеющуюся в распоряжении любого отдельно взятого неправительственного цен-
тра власти. Поэтому нас довольно трудно убедить в том, что правительство, не
обладающее подавляющим перевесом в силе, является правительством слабым. И
мы считаем, что наша свобода как таковая зависит как от умеренности находя-
щейся в руках правительства власти, так и от того, насколько праведно и муже-
ственно способно это правительство употребить власть в случае необходимости.
Далее, опыт привел нас к открытию метода правления, характеризующегося
чрезвычайной экономичностью в использовании власти и являющегося вслед-
96
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ствие этого весьма эффективным средством сохранения свободы: имя этому методу
—правление закона. Ведь если бы наше правительство постоянно или даже время
от времени вмешивалось в нашу жизнь, нарушая ее внутренний строй, мы бы уже
не чувствовали себя свободными, даже если бы при этом принимались необходи-
мые меры противодействия той концентрации власти, опасность которой является
общепризнанной. Ибо, с одной стороны, такому правительству пришлось бы зару-
читься чрезвычайными полномочиями (и тогда каждая предпринимаемая им мера
приобретала бы форму своеобразной интервенции), а с другой стороны, несмотря
на всю эту концентрацию власти, общество оказалось бы лишенным общеприня-
тых устоявшихся защитных структур, являющихся столь важным условием свобо-
ды. Правление же в условиях главенства закона (то есть осуществление принужде-
ния при помощи предписываемых процедур и устанавливаемых правил, равно обя-
зательных как для управляющих, так и для управляемых), ничем не уступая по силе
воздействия иным способам правления, как таковое является воплощением той
диффузии власти, развитие которой и составляет смысл названного стиля правле-
ния; именно поэтому данный стиль правления особенно подходит свободному об-
ществу. Данный стиль является наиболее экономичным с точки зрения использова-
ния власти: он предполагает не оставляющее места для произвола партнерство
между правящими и теми, кем они правят, он способствует утверждению традиции
оказания противодействия любым проявлениям опасной концентрации власти, а
эта традиция представляет собой куда более действенное средство, чем любые
беспорядочные наступления, какими бы сокрушительными по силе они не были;
обеспечиваемый этим типом правления контроль, при всей его эффективности, не
нарушает общего положительного хода вещей; он придает деятельности практи-
ческую направленность, оказывая обществу те ограниченные, но необходимые
услуги, которых только и может ожидать общество от своего правительства; в то
же время такое правление не порождает в нас тщетных и опасных ожиданий. Мы
знаем, что те или иные конкретные законы могут оказаться не в состоянии защитить
свободу нашего общества и даже способны разрушить некоторые из наших сво-
бод. Но знаем мы и то, что главенство закона являет собой важнейшее условие
свободы, избавляя нас от великого страха, свойственного столь многим сообще-
ствам, —страха перед собственным правительством.
В ряду всего многообразия свобод, из которых каждая служит уточняющим и
подкрепляющим аспектом принадлежащей нам всем совокупной свободы, мы с
давних пор признаем особую важность двух видов свободы: свободы ассоциа-
ций и свободы владения частной собственностью. В один ряд с ними часто ставят
и третью разновидность: свободу слова. Спору нет, эта третья тоже обладает
огромным, основополагающим значением; ее можно назвать даже краеугольным
камнем всего свода наших свобод. Но сам по себе краеугольный камень — это
еще не целый свод, и нынешний обычай преувеличивать значение этой формы
свободы опасен тем, что за нею мы можем не увидеть других, не менее важных
свобод. Ведь подавляющей части человечества просто нечего сказать; для боль-
шинства людей потребность высказываться отнюдь не является жизненной не-
обходимостью. Напрашивается предположение, что столь неординарный статус
Политическая экономия свободы 97
свободы слова есть дело рук некой малочисленной, но крикливой части нашего
общества и что в определенном смысле данное состояние дел является правомер-
ным отражением чьих-то частных интересов. А эти интересы далеко не так безобид-
ны и могут стать инструментом злоупотреблений; так, например, принимая форму
права фотографировать и публиковать все, что угодно, права пикетировать част-
ные дома и вторгаться в них, права заставлять беззащитных людей—при помощи
уговоров или шантажа — выказывать собственную внутреннюю пустоту и глу-
пость, а также права выступать с публичными инсинуациями против тех, кто отка-
зывается говорить, свобода слова начинает представлять опасность для свободы в
целом. Для большинства людей лишение права создавать добровольные ассоциа-
ции и участвовать в них или права на частную собственность было бы куда более
тяжелой и чувствительной потерей, чем лишение права свободно высказываться.
Сказать об этом важно именно в той ситуации, в которой находится Англия в наши
дни, ибо ныне, под влиянием сбитых с толку журналистов и лукавых тиранов, мы
слишком легко поддаемся на уверения в том, что до тех пор, пока у нас не отнята
свобода слова, мы не можем понести никакой поистине серьезной утраты—а ведь
это не так. Возможно и такое, что при полном сохранении за человеком свободы
выражать свои мысли будут ущемлены его более важные свободы — так, напри-
мер, могут, не спросив, по решению властей продать его дом или лишить возмож-
ности продолжать пользоваться снимаемым им жильем, если хозяин этого жилья
возьмет и продаст его на слом или под реконструкцию; или же его могут принудить
к вступлению в профсоюз, членство в котором не позволит ему поступить на ту
работу, какая ему наиболее подходит.
Данная нашему обществу свобода ассоциаций вызвала к жизни такое несмет-
ное множество ассоциаций, что ныне и само единство нашего общества можно
считать результатом существования этих добровольных ассоциаций; в этом смыс-
ле мы полагаем, что достигли определенного расширения и упрочения собствен-
ной свободы. Добровольные ассоциации олицетворяют собой рассредоточение
власти, соответствующее нашим представлениям о свободе. Право на доброволь-
ные ассоциации означает право инициировать создание новых ассоциаций, право
вступать или не вступать, а также выходить из уже существующих ассоциаций;
право на добровольные ассоциации является также и правом неучастия ни в одной
из них. Кроме того, оно подразумевает обязанность не создавать и не вступать ни в
какие ассоциации, нацеленные на ущемление прав других или фактически ущемля-
ющие права других — любые, включая и право на добровольные ассоциации.
Подобная обязанность не должна считаться ограничением прав на ассоциации;
названное право, как и все прочие права, не знает никаких ограничений, кроме
тех, что налагаются той правовой системой, к которой оно относится, а также тех,
что характерны для него самого; так что эта обязанность есть не что иное, как
негативное определение самого этого права. Если же мы рассмотрим природу это-
го права в целом, то выяснится, что реализация его может вступать в противоречие
с нашим представлением о собственной свободе лишь в том случае, когда данное
право фактически становится отрицанием себя самого—т.е. в случае «доброволь-
но-принудительной» ассоциации. А «добровольно-принудительная» ассоциация
4. Заказ № 2438.
98
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
представляет собой заговор, нацеленный на уничтожение нашего права на ассо-
циации; это такая концентрация власти, которая реально или потенциально губи-
тельна для всего того, что мы называем свободой.
Никто не станет спорить с тем, что собственность в определенном смысле
является формой власти, а институт собственности есть один из способов органи-
зации функционирования в обществе данной формы власти. С этой точки зрения
между разными видами собственности едва ли существуют какие-либо отличия
—во всяком случае, категориальных отличий здесь нет. Собственность личная и
недвижимая, личное движимое имущество, собственность как обладание личны-
ми физическими и интеллектуальными способностями, собственность в виде так
называемых средств производства — все это суть различные степени и формы
власти; да и к тому же все они проистекают из одних и тех же источников, како-
выми являются капиталовложения, наследование и везение. Ни одно общество
не может обойтись без института собственности. В идеально упрощенном виде
этот институт выступает там, где все права собственности принадлежат только
одному человеку, что превращает этого человека в деспота и монополиста, а его
подданных—в рабов. Но данный институт является в нашем понимании не толь-
ко наиболее простым, но и наиболее враждебным свободе. Возможно, при орга-
низации своего института собственности мы ине столь преуспели в плане защиты
свободы, как преуспели мы в ряде прочих установлений; но кое в чем наш успех
не подлежит сомнению: в общем и целом созданный нами институт собственности
обеспечивает наилучшие шансы сохранения свободы, предоставляя наибольший
простор для распределения собственности и эффективно противодействуя чрез-
мерной и опасной концентрации той власти, которую собственность олицетворя-
ет. Несомненны и конкретно-правовые аспекты данного установления. Речь идет
о праве частной собственности, то есть о признании действующим институтом
собственности за каждым совершеннолетним членом общества права на облада-
ние собственными личными способностями, а также всем тем, обладания чем он
достиг признанными в обществе способами приобретения. Данное право, как и
всякое другое, имеет самоограничительный характер: например, оно запрещает
рабство, но не произвольно, а потому, что правом владения другим человеком
никогда не смогут в равной мере пользоваться все члены общества. Поскольку
же общество налагает на это право и внешние ограничения, по своему усмотре-
нию исключая те или иные предметы из числа возможных объектов частной соб-
ственности, то можно вести речь лишь об умеренном праве частной собственнос-
ти, не обеспечивающем того максимального рассредоточения власти, которое
способна дать собственность. Ибо и то, чем не может владеть отдельно взятый
человек, должно, тем не менее, находиться в собственности, а значит, оно должно
перейти во владение правительства, прямое или косвенное, способствуя тем са-
мым приращению правительственной власти и создавая потенциальную угрозу
свободе. Может случиться также, что общество решит вывести из сферы частной
собственности кое-что из предметов, не несущих в своей природе ничего, что
заставляло бы исключать их из объектов частного владения, и на то у общества
могут быть свои причины. Следует, однако, заметить, что какие бы преимуще-
Политическая экономия свободы 99
ства ни давало подобное исключение, увеличения свободы в данном случае ожи-
дать, понятно, не приходится. Несомненно, принципу свободы наиболее соответ-
ствует такой институт собственности, как осуществляемое с наименьшими про-
извольными изъятиями и ограничениями право частной собственности, ибо толь-
ко с его помощью достижимо максимальное рассредоточение той власти, кото-
рую несет с собой собственность. И это не какая-то умозрительная абстракция—
справедливость сказанного подтверждает весь опыт нашего общества, в кото-
ром величайшая угроза свободе всегда исходила от чрезмерного сосредоточения
собственнических прав в руках правительства, крупного бизнеса, промышлен-
ных корпораций и профсоюзов, и все эти случаи следует рассматривать как при-
меры произвольного ограничения права частной собственности. Конечно, осно-
ванный на частнособственническом принципе институт собственности далеко не
прост и не примитивен, он — сложнейший изо всех институтов собственности,
для сохранения его требуется постоянная бдительность, иногда — реформы и,
кроме того, серьезное отношение к данному предмету. Полезно отметить также,
сколь тесно связаны многие частнособственнические права, неизменно ассоции-
руемые нами с представлениями о свободе, с другими частнособственическими
правами—теми, которые ныне принято ошибочно относить к числу прав, подры-
вающих свободу. Положение о том, что человек свободен лишь тогда, когда он
обладает правом собственности на свои личные способности и на свой труд,
разделяется всеми, кто понимает свободу так же, как и англичане. Между тем
само это право невозможно без существования множества потенциальных нани-
мателей, готовых этот труд использовать. Свобода, уберегающая человека от
рабства, есть не что иное, как свобода выбирать, свобода переходить из одной
автономной, независимой организации или фирмы в другую, от одного нанимате-
ля к другому, а это предполагает наличие у продавца своего труда собственнос-
ти не только на свои личные способности, но и на другие ресурсы. Везде, где
средства производства оказываются под контролем какой-то одной силы, неиз-
бежным следствием этого становится та или иная степень порабощения.
Заговорив о собственности, мы тем самым приступили к рассмотрению эко-
номической организации общества. В определенном смысле институт собствен-
ности является орудием организации производственной и распределительной де-
ятельности общества. Для либертарианца нашей традиции основной вопрос со-
стоит здесь в том, как наладить такое регулирование предприятий, занятых обес-
печением собственного существования, которое не разрушило бы тех самых сво-
бод, которые само это регулирование так превозносит. Конечно, либертарианец
признает полное соответствие нашего института частной собственности (как сред-
ства организации указанных предприятий) принципу свободы. Все монополии
или приближающиеся к статусу монополий структуры понимаются им как пре-
грады на пути этой свободы, и важнейшим институтом, стоящим между нами и
монополиями, является частная собственность. Относительно монополий у него
не будет иллюзий; он не станет относиться к ним оптимистически, надеясь, что
они не допустят злоупотреблений властью. Он, либертарианец, знает, что чрез-
мерную власть нельзя доверить ни индивиду, ни группе, ни ассоциации, ни проф-
4*
100
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
союзу и что вообще глупо жаловаться на то, что обладатель абсолютной власти
этой властью злоупотребляет. На то и дается абсолютная власть, чтобы ею зло-
употреблять. Вследствие этого либертарианец возлагает все свои надежды лишь
на те структуры, которые делают воцарение абсолютной власти маловероятным.
Иными словами, он признает, что организовать предприятие, занятое обеспече-
нием собственного существования, таким образом, чтобы оно не ущемляло доро-
гой ему свободы, можно лишь с помощью установления и поддержания эффектив-
ной конкуренции. Ему известно, что эффективная конкуренция не возникает сама
собой, что и конкуренция и любая альтернатива ей суть порождения закона; но
заметив, что закон создает (часто необратимо) монополии и другие препятствия
на пути свободы, он не придет к выводу, что общество не в состоянии укреплять
уже утвердившуюся традицию правового обеспечения эффективной конкурен-
ции. Но он согласится с тем, что любое смешение таких разных задач, как, с
одной стороны, забота об эффективной конкуренции и с другой стороны, органи-
зация (благодаря возможности эффективной конкуренции) предприятия по обес-
печению средств к существованию и удовлетворению потребностей, окажется
губительным для свободы, как он ее понимает. Ибо замена политическим контро-
лем той интеграции деятельности, которая обеспечивается конкуренцией (рын-
ком), есть одновременно и создание монополии, и уничтожение неразрывно свя-
занной со свободой рассредточения власти. Несомненно, все это заставило бы
либертарианца прислушаться к игнорируемым им ранее сетованиям и задаться
вопросом о том, насколько эффективна его собственная экономическая система
производства товаров; как совместить противоречащие друг другу требования
свободы и эффективности? Правда, на этот вопрос у него имеется готовый ответ.
Эффективным следует признать только самый экономичный способ снабжения
людей тем, что они готовы купить. А ситуация, при которой данное формальное
значение достигает своего максимума, — это ситуация эффективно конкуриру-
ющего производства, ибо тогда предприниматель оказывается всего лишь посред-
ником между потребителями товаров и продавцами услуг. Данная идеальная сис-
тема основана на сравнении не между тем уровнем эффективности, что достижим в
условиях улучшенной (но не совершенной) рыночной экономики и тем, что дости-
жим в условиях совершенной плановой экономики, а на сравнении между улуч-
шенной рыночной экономикой и той разновидностью плановой экономики (со всей
ее расточительностью, срывами и коррумпированностью), которая только и суще-
ствует в качестве единственной реальной альтернативы. Короче говоря, все, что
противно свободе — монополии, монополизирующиеся структуры, а также все
вообще типы концентрации власти, — одновременно является и препятствием к
достижению единственного достойного внимания типа эффективности.
Эта краткая характеристика политического кредо традиционного английс-
кого либертарианца будет признана неполной, если не завершить ее таким важ-
ным аспектом, как описание (хотя бы приблизительное) конечной цели или пред-
назначения, которому посвящает себя подобное общество. Однако изображение
данной цели в виде достижения некой предначертанной утопии, некоего абстрак-
тного идеала (такого, как счастье или процветание) или некоего предрешенного
Политическая экономия свободы 101
и неизбежного конца, присуще совсем другой традиции. Цель же данного обще-
ства (если вообще есть смысл говорить о какой бы то ни было присущей ему цели)
не может ни привноситься извне, ни выражаться в абстрактной формулировке—
разве что с грубыми искажениями. Интересующее нас общество возникло не вче-
ра, и в том, что касается свойственной ему жизнедеятельности, оно обладает
определенным характером и устоявшимися традициями. В данных обстоятель-
ствах социальным достижением следует считать предугадывание того, каким
должен быть следующий шаг (диктуемый или подсказываемый самим характе-
ром этого общества, находящегося во взаимодействии с изменяющимися окружа-
ющими условиями), а также осуществление этого шага способом, не приводящим
общество в волнение и не имеющим серьезных последствий для будущих поколе-
ний. Следовательно, такого рода общество должно руководствоваться не некой
предопределенной целью, а принципом преемственности (представляющим со-
бой «рассредоточение» власти между прошлым, настоящим и будущим) и прин-
ципом консенсуса («рассредоточением» власти между различными легитимными
интересами настоящего). Мы считаем себя свободными потому, что в своем стрем-
лении удовлетворить наши нынешние желания мы не утрачиваем сочувствия к
былому; подобно мудрецам, мы живем в мире с собственным прошлым. Упрямое
нежелание пошевеливаться, чистый прагматизм плебисцитарной демократии, вы-
холащивание традиции простым повторением того, что делалось «в прошлый
раз», следование сокращенным путем, вместо того чтобы идти длинным и учить-
ся на каждом шагу, — все это представляется нам признаками рабства. Мы счи-
таем себя свободными потому, что не забегаем вперед и не засиживаемся на од-
ном месте, не желаем жертвовать ни настоящее отдаленному, непредсказуемому
будущему, ни непосредственное обозримое будущее—преходящему настояще-
му. Свобода нужна нам для того, чтобы иметь возможность выбрать тактику
медленных, постепенных перемен, тактику, опирающуюся на добровольный кон-
сенсус; свобода позволяет нам противостоять распаду, не прибегая при этом к
подавлению оппозиции; свобода проявляется в осознании нами того, что для об-
щества важнее хранить единство и согласованность действий, чем пытаться дви-
гаться быстрее и дальше. Мы не претендуем на непогрешимость собственных
решений; ведь не существует никаких внешних или абсолютных критериев со-
вершенства, стало быть, и само понятие непогрешимости не имеет смысла. Все,
что нам необходимо, мы находим в принципе изменений и принципе тождества, те
же, кто пытаются предложить нам нечто сверх того, те, кто зовут нас к великим
жертвам и желают сделать из нас героев, вызывают у нас недоверие.
Нельзя сказать, чтобы какая-то из перечисленных черт была в полной мере
присуща нашему нынешнему обществу, в то же время ни одна из них не является
полностью отсутствующей. В течение достаточно долгого времени мы имели воз-
можность вкушать и то, и это; мы познали цену всему, так что наши представле-
ния о свободе возникли не на пустом месте. Мы называем себя свободными пото-
му, что наше нынешнее устройство в общем и целом соответствует описанным
условиям свободы. А роль либертарианца в политике состоит в том, чтобы взра-
щивать и лелеять посеянное, избегать бесплодной погони за иллюзорными свобо-
102
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
дами, обрести которые при помощи знакомого нам и проверенного метода обес-
печения свободы невозможно. Политика не должна исходить из представлений о
некоем воображаемом обществе нового типа, она не должна принимать форму
преобразования существующего общества в соответствии с абстрактным идеа-
лом; дело политики—осознание того, какими должны быть следующие шаги по
развитию зародившихся в лоне существующего общества ростков будущего. Сле-
довательно, правильная политика может быть построена только на глубоком зна-
нии того общества, которое она намерена усовершенствовать, на ясном пред-
ставлении о том, каково его нынешнее состояние, и на точно сформулированной
программе реформирования его законодательства.
Современное нам общество находится в крайне сложной ситуации; но с ли-
бертарной точки зрения в этой ситуации различимы три главные составляющие.
Речь идет, во-первых, о широко распространенном и удручающем невежестве в
том, что касается характера самой либертарной традиции, о сбивчивости пред-
ставлений относительно того, какое именно общество мы унаследовали, а также
относительно того, в чем состоят сильные и слабые стороны этого общества.
Стоящее ныне у руля нетерпеливое и заумное поколение со взорами, прикованны-
ми к отделенным целям, и головами, набитыми иноземной чепухой, порвало связь
с прошлым; это поколение заботится о чем угодно, только не о собственной сво-
боде. Во-вторых, вследствие беспечности прошлых поколений в обществе нако-
пилась масса несогласованностей, множество точек концентрации власти, о рас-
средоточении которой никто не позаботился; исправление подобного положения,
несущего в себе угрозу свободе, станет делом либертарианцев, а также, возмож-
но, и обладателей иных убеждений, хотя мотивы этих последних не столь ясны. В-
третьих, в настоящее время в обществе царит хаос, вызванный попытками лю-
дей, не имеющих никакого представления о природе собственного общества, ус-
транить имеющиеся несогласованности при помощи не тех средств, что подсказа-
ны любовью к свободе, а тех, что способны подорвать свободу как в случае
провала всего начинания, так и в случае его успеха.
Главными из числа современных оппонентов либертарного общества, как мы
его понимаем, являются два таких взаимоисключающих направления, как кол-
лективизм и синдикализм. Оба они рекомендуют осуществлять интеграцию об-
щества посредством создания новых и укрепления имеющихся монополий; оба не
видят ничего хорошего в теории рассредточения власти. Вместе с тем их следует
считать взаимоисключающими оппонентами свободного общества, так как син-
дикалисты выступают за такой монополизм, который полностью исключает как
коллективистское, так и свободное общество.
В современном мире у термина «коллективизм» есть несколько синонимов;
под коллективизмом понимают менеджеризм, другими его синонимами являются
коммунизм, национал-социализм, социализм, экономическая демократия и цент-
ральное планирование. Мы же будем продолжать пользоваться термином «кол-
лективизм» — по крайней мере, так будет эмоциональней. Предположим к тому
же, что проблема привнесения коллективистской организации в общество, обла-
дающее высокой степенью свободы, успешно решена,—иными словами, пред-
Политическая экономия свободы 103
положим, что в настоящее время достигнут необходимый консенсус. Это не такое
уж немыслимое предположение, поскольку, когда говорят о средствах избавле-
ния нашего общества от всего того, что, по общему мнению, мешает свободе,
первым (как это ни парадоксально) на ум приходит именно коллективизм. Либер-
тарианца в этой ситуации более всего заинтересует исследование вопроса о совме-
стимости коллективистской организации с его представлениями о свободе. Короче
говоря, коллективизм и свобода являются реальными альтернативами—выбрав
одно, мы оказываемся вынуждены отказаться от другого. Навязать коллективизм
обществу, воспитанному в духе любви к свободе, и сохранить при этом видимость
преемственности можно лишь при условии, что люди разлюбят свободу. Данная
мысль, конечно, не нова — точно так же представляли себе этот вопрос де Ток-
виль, Буркхардт и Актон, имевшие возможность оценить характер современного
коллективизма, когда он все еще находился в процессе становления.
Оставляя в стороне наиболее скандальные из тех обвинений, которые можно
выдвинуть против реальных воплощений коллективизма, рассмотрим лишь те
изъяны (в смысле угрозы свободе), которые коренятся в самом этой концепции.
Оппозиционность коллективизма свободе выражается, прежде всего, в отрица-
нии коллективистами самого понятия рассредточения власти, равно как и пред-
ставления об обществе, организуемом силами множества добровольных ассоци-
аций. Для исправления монополий предлагается создать побольше крупных мо-
нополий ^установить силовой контроль над ними. Мысль о подобного рода орга-
низации исходит от представителей правительства. Речь идет о всеобъемлющей
организации; все неувязки, всяческую неконтролируемую деятельность предла-
гается считать результатом некомпетентности, так как они с неизбежностью от-
ражаются на структуре в целом. А для полного контроля над этой организацией
требуется огромная власть, достаточная не только для того, чтобы покончить с
единой сверхмощной системой концентрации власти, коль скоро таковая возник-
нет, нои для того, чтобы постоянно контролировать порождаемые коллективис-
тами системы, концентрирующие в себе огромную власть. Правительство кол-
лективистского общества способно терпеть оппозицию своим планам только в
весьма ограниченных дозах; ведь им отрицается с таким трудом завоеванное нами
различие между оппозицией и предательством — различие, ставшее одной из
неотъемлемых частей нашей свободы; для этого правительства отсутствие под-
чинения равносильно саботажу. Отвергнув все прочие средства социальной и
промышленной интеграции, коллективистское правительство вынуждено либо
постоянно ужесточать им самим введенный порядок, либо позволить обществу
скатиться в хаос. Либо же, следуя традиции власти экономить на расходах, это
правительство пойдет на подкуп политической оппозиции поддерживающими его
группами, которые, в свою очередь, могут потребовать от правительства протек-
ции как платы за поддержание мира. Ясно, что все это подрывает свободу; но и
это еще не все. В дополнение к принципу главенства закона, а зачастую и подме-
няя его, коллективизм во многом полагается на использование дискреционной
власти. Организация, навязываемая им обществу, не способна к собственному
движению; поддержание ее в рабочем состоянии требует каждодневных и беспо-
104
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
рядочных вмешательств—контроля над ценами, лицензий на определенные виды
деятельности, разрешений на производство и выращивание, покупку и продажу,
постоянного пересмотра норм и постоянной раздачи привилегий и льгот,—коро-
че, использования как раз того типа власти, который более других подвержен
злоупотреблениям и коррупции. Сопутствующее главенству закона рассредото-
чение власти не оставляет в распоряжении правительства власти, достаточной
для управления коллективистским обществом. Далее, следует заметить, что кол-
лективизм предполагает уничтожение разделения труда между рыночными и по-
литическими средствами управления, а ведь это разделение есть часть нашей
свободы. Конечно, и в этой ситуации возможно сохранение, вопреки господству
политики, аномальных и рудиментарных форм конкуренции; однако, в принципе,
предприятие терпят, лишь пока оно не носит рыночного характера, то есть толь-
ко если оно функционирует либо как синдикат, служащий инструментом цент-
ральной власти, либо как мелкая фирма, деятельность которой благодаря квоти-
рованию и контролю над ценами оказалась лишенной всех элементов риска и
перестала быть предпринимательством в истинном смысле слова. Конкуренцию
как форму организации сначала обескровливают, а затем разрушают, а прису-
щая ей ранее роль интегратора нашего общества становится еще одной из функ-
ций правительства; тем самым власть правительства еще более возрастает, оно
становится участником любого возникающего в обществе конфликта интересов.
А вместе с конкуренцией исчезает то, что мы привыкли считать одним из краеу-
гольных камней нашей свободы. Но изо всех тех приобретений, коими усиливает
себя правительственная власть, пожалуй, наиболее губительной для свободы яв-
ляется монополия правительства на внешнеторговую деятельность; ибо свобода
во внешней торговле есть одно из наиболее сильных и действенных средств, пре-
дохраняющих сообщество от чрезмерной концентрации власти. Подобно тому,
как уничтожение конкуренции внутри страны делает правительство участником
любого конфликта (тем самым усугубляя его), коллективизм во внешней торгов-
ле вовлекает правительство в перипетии коммерческой конкуренции, что учаща-
ет и усугубляет случаи дисгармонии в международных отношениях. Таким обра-
зом, коллективизм есть мобилизация общества, обеспечивающая единство дей-
ствий. В современном мире такая мобилизация выступает в качестве средства
избавления от несовершенной свободы, являющейся следствием несовершенной
конкуренции, но это смертоносное средство. И выбор именно такого средства
неудивителен: ведь истинным источником коллективизма является стремление не
к свободе, а к войне. Ожидание войны сильнее, чем что-либо, подталкивает к
коллективизму, а ведение войны представляет собой процесс массовой коллек-
тивизации. Кроме того, крупномасштабному коллективизму всегда присуща во-
инственность; в конце концов складывается и соответствующая этому настрою
обстановка. Отсюда двойной резон отказаться от свободы—к такому решению
подталкивает как сама коллективистская организация, так и цель, которой она
служит. Ибо хотя коллективизм может заявлять о себе как о средстве достижения
«благоденствия», единственный тип «благоденствия», осуществлению которого
он в состоянии способствовать—централизованное общенациональное «благо-
Политическая экономия свободы 105
действие», — в масштабах страны оказывается враждебным свободе; а в между-
народных отношениях такое «благоденствие» порождает практику организован-
ного соперничества.
Коллективизм безразличен ко всем элементам нашей свободы, в отношении
же некоторых из них он поистине враждебен. Но действительную противополож-
ность свободному образу жизни (как мы его понимаем) являет синдикализм. Ведь
синдикализм—это разрушение не только свободы, а и любой вообще разновид-
ности упорядоченного существования. Он отрицает как чрезмерную концентра-
цию власти в руках правительства (с помощью которой коллективистское обще-
ство всегда спасается от того хаоса, который само же оно и порождает), так и то
распыление власти, которое составляет основу свободы. Синдикализм представ-
ляет собой такое изобретение, с помощью которого общество обретает склон-
ность к ведению непрекращающейся гражданской войны, участниками которой
являются организованные корыстные интересы функциональных меньшинств и
слабое центральное правительство; общество в целом расплачивается за эту вой-
ну господством монополий и отсутствием порядка. В синдикалистском обществе
громадная концентрация власти происходит в сфере торговли трудом, организо-
ванной в функциональные монопольные ассоциации. Подозрительное отноше-
ние к свободе свойственно всем монополиям, однако есть все основания думать,
что монополизация труда опасней всех других видов монополии и что общество,
попавшее во власть такой монополии, будет обладать меньшей свободой, чем
другие типы обществ. Во-первых, монополизация труда оказалась более способ-
ной к обретению поистине огромной власти—экономической, политической и
даже военной, — чем монополизация предприятий. Властные аппетиты таких
монополий неутолимы, а поскольку они ничего не производят, то и излишне не-
экономичными они стать не могут. Достигнув больших размеров, они крайне
трудно поддаются разукрупнению и вовсе не поддаются контролю. А так как они
выступают в качестве легального порождения права на добровольные ассоциа-
ции (при том, что, будучи монополистами, они представляют собой фактическое
отрицание этого права), то в отношении их действует правовой иммунитет, и,
несмотря на скандальный характер их деятельности, они пользуются поддержкой
общества. В то же время монополизация предприятий (столь же неприемлемая с
точки зрения либертарианца) менее опасна, так как обладает меньшей властью.
Такие монополии с трудом сохраняют собственную целостность, они непопуляр-
ны и уязвимы для правового контроля. Сам по себе вопрос о том, какой из этих
двух видов монополии более пагубен для свободы, неправомерен. Но опасность
монополизации труда состоит не только в более сильной, чем в случае с предпри-
ятиями, концентрации власти, но и в том, что в качестве своего дополнения она
требует монополизации предприятий. Оба названных вида монополий обладают
пугающим единством интересов; каждому свойственна тенденция усиливать дру-
гой вид в совместных усилиях по выкачиванию благ из общества; в момент же
раздела добычи эти монополии схватываются между собой. Ведь сам по себе
конфликт капитала и труда (борьба за раздел прибыли) есть лишь видимость
борьбы (зачастую общественность терпит от нее булыпие убытки, чем сами уча-
106
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
стники), за которой сокрыт основной конфликт, конфликт между производителем
(предприятием и трудом—при монополистической организации и того, и друго-
го) и потребителем. Поэтому синдикализм может считаться наиглавнейшим вра-
гом свободы; в то же время он не менее враждебен и коллективизму. Коллективи-
стское правительство легко становится жертвой шантажа, когда оказывается
один на один со множеством функциональных меньшинств, каждое из которых
представляет собой монополию, способную подорвать весь производственный
план в случае, если не будут удовлетворены ее требования; когда же такие
монополии не выставляют правительству крупных требований, они впадают в
состояние нескончаемой гражданской войны, выражающейся в создании са-
мых разных мелких помех упорядоченному ведению бизнеса. В случае же если
своей политической мощью коллективистское правительство обязано синдика-
листским рабочим организациям, положение его оказывается совершенно от-
чаянным — оно является жертвой шантажа, в то время как общество не ощуща-
ет в этом для себя никакой опасности. Изо всех общественных форм общество
коллективистского типа наименее способно к оказанию отпора разрушитель-
ному потенциалу синдикализма.
. Когда коллективизму и синдикализму удается воцариться в обществе с ли-
бертарными традициями, они принимают там вид взаимоисключающих тенден-
ций (иногда причудливым образом заключивших союз друг с другом), каждая из
которых представляет угрозу свободе. Но для верного себе либертарианца ос-
новная опасность заключается не в возможности окончательной победы тойили
иной из названных двух тенденций, а в их совместном успехе, выражающемся в
создании помех истинно либертарным начинаниям, нацеленным на устранение
накопившихся в нашем обществе несогласованностей и на решение имеющихся
в нем реальных проблем. Потребность в таких начинаниях назрела давно, и тот
факт, что они явно запаздывают, не следует объяснять популярностью вышеопи-
санных псевдорешений. Нельзя сказать, что последние пятьдесят лет либертарное
общество находилось в состоянии полного бездействия; расширение свободы шло
вэти годы за счет устранения множества мелких злоупотреблений. В целом, одна-
ко, реформистское движение этой страны слишком часто вдохновлялось коллекти-
вистскими мотивами. В отсутствие ясно сформулированной политики либертарно-
го реформаторства свобода понесла невосполнимый урон.
Правда, в настоящее время с подобной политикой выступил Саймонс. Он не
является первым инициатором такого рода начинания, но над тем, что он гово-
рит, нелишне будет поразмыслить любому приверженцу свободы. Трудно себе
представить более спокойное отношение к современному положению дел в обла-
сти свободы, чем то, которое демонстрирует он; а выдвинутые им предложения
носят не просто либертарный характер, но и являются во многих отношениях
(как сам он подчеркивает) проектом более радикальным, чем проект коллективи-
стов. Разработчик плана, намеренный осуществлять преобразования посредством
беспорядочного вмешательства в жизнедеятельность общества с использовани-
ем дискреционной власти, разрушает свободу и поэтому менее способствует ре-
формам, чем либертарианец, нацеленный на расширение и укрепление главен-
Политическая экономия свободы 107
ства закона. Саймонс называет свою политику «позитивной программой laissez-
faire» главным образом потому, что она предусматривает оптимизацию конку-
ренции везде, где только эффективная конкуренция не является заведомо невоз-
можной; эта политика также ставит своей целью восстановление рассредоточе-
ния власти (ныне сильно скомпрометированной всевозможными монополиями) и
сохранение того разделения труда между рыночными и политическими механиз-
мами контроля, которое и составляет основу основ нашей свободы. Но эта поли-
тика, предложенная им в 1934 году, являлась в Англии и Америке частью про-
граммы laissez-faire в историческом ее понимании — программы устранения оп-
ределенных ограничений для конкуренции, возникших не самопроизвольно, а в
результате деятельности коллективистов. Вместе с тем его предложения конечно
же не имеют ничего общего с тем воображаемым состоянием полной свободы
конкуренции, которое он смешивает с laissez-faire, состоянием, становящимся
объектом насмешек коллективистов всякий раз, когда им бывает нечего сказать.
А ведь каждому школьнику должно быть известно, что эффективная конкуренция
может иметь место только благодаря существованию системы права, узаконива-
ющего ее, и что монополия смогла утвердиться только потому, что не существо-
вало системы законов, противодействующих ее утверждению. Азбучными исти-
нами политэкономии свободы являются положения о том, что нерегулируемая
конкуренция — это химера, что регулирование процесса конкуренции — это не
то же самое, что вмешательство в действие рыночных механизмов, и что между
тем и другим имеются вполне определенные различия.
Вследствие всего этого общая тенденция сближения с политикой коллекти-
визма представляется либертарианцу помехой; но у того зла, коим явилась нео-
твратимость (и крайняя экономическая нецелесообразность) появления коллек-
тивизма в либертарных обществах, когда те вели войну не на жизнь, а на смерть,
есть и своя положительная сторона. Приверженцу коллективизма свойственно
видеть в войне случай заявить о себе, так что демобилизация общества не входит
в его планы. Тем же, кто верит в свободу и в то же время колеблется в вопросе о
демобилизации, Саймонс адресует пару мудрых мыслей: «В условиях частых войн
победа, вероятно, будет на стороне тех, кто сохраняет состояние мобилизации. ..
Если же речь идет о высвобождении посредством демобилизации, т.е. посред-
ством возврата к свободному обществу, жизнетворных, созидательных сил, то
этот шаг, пожалуй, принесет нации достаточно сил для того, чтобы с лихвой
компенсировать тот риск, на который она идет, решаясь на демобилизацию».
Любой, кого война оторвала от его профессии, вернется к ней со всей той энерги-
ей, которая подавлялась и накапливалась в нем за все время войны; а то, что
верно в отношении отдельного человека, может оказаться верным и в отношении
экономики в целом. Демобилизация открывала возможности для того, чтобы воз-
рожденная рыночная экономика заработала более эффективно, чем раньше (этой-
то возможности и лишили нас коллективисты), а это увеличило бы нашу способ-
ность выдерживать будущие войны. Общество с либертарными традициями по-
тенциально выигрывает от смены таких потрясений, как мобилизация и демоби-
лизация, правда, не ясно, сможет ли оно реализовать это преимущество. Точно
108
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
так же, как гражданское лицо сражалось бы лучше (ведь у него есть за что сра-
жаться), если бы в периоды перемирия ему было бы позволено существовать как
гражданскому лицу (а не как солдату индустриального фронта), так и экономи-
ка, получающая в мирное время возможность потянуться и поразмяться, в момент
военной мобилизации проявила бы булыпую выносливость, чем та, что находит-
ся в состоянии непрестанной мобилизации.
Основные принципы этой политики просты, мы их уже отмечали. Во—пер-
вых, следует подавлять все формы частных монополий. Это означает установле-
ние и поддержание (посредством законодательной реформы, направленной на
преобразования в сфере бизнеса и промышленности) эффективной конкуренции
везде, где есть хоть какая-то возможность таковой, то есть это означает осуще-
ствление подлинной «социализации», а не коллективистской пародийна нее. Что
касается монополий и практики монополизма, то здесь уничтожению подлежит
монополизация труда. Ограничение на торговлю должно рассматриваться как
тягостное преступление. Следует уменьшить несоразмерно большую власть кор-
пораций над предприятиями. «Нет никаких оснований, — заявляет Саймонс, —
для того, чтобы разрешать корпорациям владеть акциями других корпораций
(исключением является лишь немногочисленный и узкоспециализированный класс
предприятий); как нет никакой целесообразности (если не говорить о рентабель-
ности) в существовании корпораций с фондами в сто миллионов долларов (в ка-
кие бы формы ни была обличена эта их собственность). Даже если бы вся разрек-
ламированная экономичность гигантских финансовых объединений была реаль-
ностью, мудрость политики выразилась бы в том, чтобы пожертвовать всей этой
экономичностью ради сохранения наибольшей экономической свободы и равен-
ства». Корпорация—это социально полезный прием организации собственности
и контроля при руководстве компаниями, размер которых достаточен для обеспе-
чения истинного эффекта масштаба при производстве в условиях единого управ-
ления; но, если закон о корпорациях позволяет этому приему служить помехой
свободе, он не может быть частью реформ. Что же касается труда, то в этой сфере
проблема снижения роли существующих и будущих монополий и борьбы с прак-
тикой монополизма является более сложной. Наибольшее, на что здесь можно
рассчитывать, это, видимо, то, что при отсутствии правовой поддержки монопо-
лизация труда перестанет усугубляться и даже пойдет на спад с точки зрения
концентрации власти в этой сфере. И при условии компетентного решения дру-
гих, более простых проблем, можно ожидать, что и в решении этой проблемы
наметится прогресс.
Во-вторых, те предприятия, применительно к которым невозможно задейство-
вать рыночные механизмы контроля, должны быть переданы в общественное уп-
равление. Рассмотрим теперь, в чем именно состоит отличие данной политики от
политики коллективизма. Прежде всего речь идет о разнице в акцентах. Коллекти-
висты готовы в конечном счете взять на себя любое предприятие, «национализа-
ция» которого не влечет за собой непреодолимых технических осложнений; либер-
тарианец же идет на создание контролируемой правительством монополии лишь в
том случае, если монополизация представляется в любом случае неизбежной. Кол-
жтшсн Политическая экономия свободы 109
/лективист приветствует монополии, видя в них возможность расширения собствен-
ного политического контроля; либертарианец же намерен уничтожить все монопо-
лии, которые только поддаются уничтожению. Мотивы его ясны. Либертарианец
считает все монополии весьма дорогим удовольствием, порождающим к тому же
отношения рабства. Если коллективист рад такому состоянию общества, при ко-
тором (вследствие роста населения и изменений технологии производства) пред-
приятия разрастаются до гигантских размеров, и приветствует наличие гигантов
даже тогда, когда чрезмерное разрастание не приветствуется законом, то либерта-
рианец видит в этой тенденции угрозу свободе, которую нужно (и можно) устра-
нить с помощью соответствующих законодательных реформ. Из данной разницы в
акцентах проистекают и все прочие различия: нежелание создавать монополии
там, где их еще не существует (например, в образовании), стремление уменьшить и
упростить все те монополии, руководство которыми взяло на себя правительство,
— ведь подобное будет мерой по ограничению власти государства, а это, в свою
очередь, явится наиболее действенным правовым шагом по предупреждению воз-
никновения синдикалистских тенденций внутри этих монополий, равно как и при-
знанием того факта, что на власть правительства подобные предложения воздей-
ствуют не менее ощутимо, чем на «общество». Короче говоря, политэкономия сво-
боды зиждется на ясном осознании того, что предметом рассмотрения здесь являет-
ся вовсе не «экономика» (не максимизация богатства, не производительность и не
уровень жизни), а политика, то есть вопросы образа жизни; что за соответствую-
щее принципу свободы политическое устройство надо платить, и ценой здесь будет
снижение уровня производительности; что расходы здесь оправданны—если толь-
ко нам не придется расплачиваться самой свободой.
Третьим объектом данной экономической политики является стабильность
национальной валюты, обеспечиваемая не при помощи меняющихся день ото дня
уловок администрации, а через соблюдение общеизвестных и неизменных пра-
вил. А того, что данная цель связана с политэкономией свободы, доказывать не
приходится: инфляция — мать рабства.
Политика — это не наука установления некоего неуязвимого общества, по-
литика — это искусство определения того, в каком направлении сделать следую-
щий шаг при изучении уже существующего общества традиционного типа. Что
же касается такого общества, как наше, общества, еще не лишившегося пред-
ставлений о правительстве как о спасении от насилия, общества, видящего в
правительстве такую власть, которая держит в узде даже сверхмощных поддан-
ных своих и выступает защитником меньшинств от господства большинства, —
применительно к такому обществу нынешнее поколение должно видеть свое при-
звание в не том, чтобы осуществлять усердно рекламируемую «реконструкцию
общества», а в том, чтобы предупредить возникновение новых тираний, воцаре-
ние которых становится вероятным вследствие бурного роста населения в ситуа-
ции безудержного развития производства; при этом важно, чтобы прописанное
нынешним поколением лекарство было бы не опасней самой болезни.
1949 год
по
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ г
1
Поиск кратчайшего пути на небеса — проект столь же древний, как и само
человечество. Он описывается в мифологии многих народов и всегда — как
богоборческое, но не как недостойное предприятие. История Титанов, возмож-
но, самый сложный из мифов, в которых описывается эта folie de grandeur, но
история Вавилонской башни — самая глубокая история. Мы можем предста-
вить отступающих после первого неудачного выступления Титанов и услы-
шать, как кто-то из них предполагает, что причина их неудачи состояла в том,
что замысел их был слишком амбициозным, что, возможно, они пытались сде-
лать слишком много и слишком быстро. Строителям же башни, вершина кото-
рой должна была упираться в небеса, не было предоставлено возможности та-
кого обсуждения, их предприятие обернулось невразумительной болтовней
людей, которые могли выражать свои мысли, но изъяснялись на разных язы-
ках. Как и все глубокие мифы, данный миф описывает проект, увлеченность
которым свойственна человечеству не только в младенчестве, ее постоянно
провоцируют обстоятельства человеческой жизни, и никакая неудача не мо-
жет лишить проект его соблазнительности. Этот миф указывает также на по-
следствия такого предприятия. Я интерпретирую их следующим образом.
Поиск прямого пути к совершенству — активность богоборческая, и она
неизбежна в человеческой жизни. Она влечет за собой наказание за богоборче-
ство (гнев богов, изоляцию в обществе), а наградой ей служит не достижение
цели, а само стремление попытки ее достичь. Следовательно, такая активность
подходит индивидам, а не обществам. Для индивида, вовлеченного в такую
активность, награда может превышать как наказание, так и неизбежное пора-
жение. Кающийся грешник — израненный герой, может надеяться на возвра-
щение к понимающему и прощающему обществу, или даже ждать этого. Даже
нераскаявшийся может примириться с собой во властной неотвратимости сво-
его порыва, хотя, как и Прометей, должен страдать за его осуществление. Для
общества же, с другой стороны, наказанием служит хаос конфликтующих иде-
алов, разрушение общественной жизни, а наградой — слава безмерно безрас-
судного. A mesure que I’humanite se perfectionne rhomme se degrade. Или, если
интерпретировать миф более легкомысленно: человеческая жизнь — это игра,
и если индивиду должно быть разрешено делать ставки в соответствии с его
ЭЯНТШЮП в мешнонш "Вавилонская башня 11Т
предпочтением (на фаворита или на аутсайдера), то общество всегда должно
находиться вне поля этой игры. Рассмотрим данную проблему в приложении к
нашей собственной цивилизации.
Активность, которую мы рассматриваем, называют моральной активнос-
тью, то есть активностью, которая может быть либо доброй, либо злой (good or
bad). Моральная жизнь — это человеческие чувствование и поведение, детерми-
нированные не природой, а искусством. Это такое поведение, которому есть аль-
тернатива. При этом не требуется, чтобы данная альтернатива осознавалась;
моральное поведение не предполагает с необходимостью, чтобы выбор конк-
ретного действия был осознанным. Также не требуется, чтобы человек в каждом
случае был свободен от предрасположенности или даже предопределенности
действовать конкретным образом: можно допустить, что чувства и поведение
человека порождены его характером и от этого они не перестают быть мораль-
ными. Свобода, без которой моральное поведение невозможно, — это свобода
от природной необходимости, принуждающей всех людей действовать одинако-
во. Но такого понимания недостаточно. Ведь моральное поведение здесь опре-
деляется как осуществление приобретенного умения (оно необязательно должно
приобретаться самосознателыю), но это умение здесь не отделяется от других
видов умения: от кулинарного или плотничьего дела. Тем не менее такого пони-
мания достаточно для достижения моей цели, которая состоит в том, чтобы про-
анализировать форму моральной жизни, в особенности — форму моральной
жизни современной западной цивилизации.
В каждом проявлении моральной жизни ее форма и содержание, конечно,
нераздельны. Однако нельзя сказать, что является определяющим для другого,
при анализе формы мы будем анализировать абстракцию, которая в принципе
не зависит от какого-либо конкретного содержания, а также от какой-либо кон-
кретной этической теории. Практический вопрос: какие типы человеческой ак-
тивности (enterprise) должны обозначаться как правильные и неправильные, и
философский вопрос: какова изначальная природа морального критерия, — на-
ходятся за пределами нашего рассмотрения. Мы имеем дело только с формой
моральной жизни. И наш интерес скорее должен быть философским и истори-
ческим, нежели практическим, поскольку обычно ни общество, ни индивид не
имеют возможности выбрать определенную форму моральной жизни.
Форма моральной жизни нашего общества не является ни простой, ни одно-
родной. В действительности форма нашей морали представляет собой смешение
двух идеальных крайностей — смешение, характер которого обусловлен преобла-
данием одной из них. Я не настаиваю на необходимости тбго, чтобы крайности
рассматривались именно как идеальные; возможно, одна из них, если не обе, мо-
гут существовать как реальные формы моральной жизйи. Но даже если это пред-
ставляется сомнительным, идеальная крайность безусловно настолько незначи-
тельно отличается от реальной, что допустимо приступить к анализу данных край-
ностей как возможных форм морали. Рассмотрим две формы, которые, как по
отдельности, так и в сочетании образуют форму моральной жизни запад ного мира.
112 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
1
I
I
2 wm втжмнтф мзннетж?пщхг
В первой из этих форм моральная жизнь представляет собой привычку чув-
ствования и поведения (a habit of affection and behaviour); не привычку рефлек-
сивного мышления, а привычку чувствования и поведения (a habit of affection
and conduct). В современных стандартных жизненных ситуациях требуется не
осознанное применение к самим себе правила поведения, не поведение, при-
знаваемое в качестве выражения морального идеала, а действование в соот-
ветствии с определенным обычаем поведения. Эта форма моральной жизни не
возникает из осознания возможных альтернативных способов поведения и
выбора из этих альтернатив, обусловленного мнением, правилом или идеалом;
поведение здесь почти нерефлексивно. Следовательно, в большинстве совре-
менных жизненных ситуаций от нас не требуется проявлять рассудительность
или находить решение проблем, здесь не нужно взвешивать альтернативы и
размышлять о последствиях, у нас нет неуверенности, нет борьбы сомнений. В
данном случае не существует ничего, помимо неосознанного следования тра-
диции поведения, в которой мы были воспитаны. Такая моральная привычка
настолько же часто проявляется в неделании, во вкусе, который требует воз-
держиваться от определенных действий, насколько и в совершении действий
(performances). Следует, конечно, иметь в виду, что здесь я не описываю ни
форму моральной жизни, которая предполагает существование морального чув-
ства или моральной интуиции, ни форму моральной жизни, которая предпо-
лагает моральную теорию, предписывающую правомочность (authority) сове-
сти. В действительности этой формой моральной теории не предполагается
никакой специальной теории об основании правомочности. Я также не описы-
ваю всего лишь примитивную форму морали, то есть мораль общества с нераз-
витым рефлексивным мышлением. Я описываю форму, которую принимает
моральное действие (поскольку оно не может принять никакую другую) во всех
чрезвычайных жизненных обстоятельствах, когда не хватает времени и воз-
можности для размышления, и я предполагаю, что все то, что является истин-
ным в отношении чрезвычайных жизненных обстоятельств, является истинным
и в отношении большинства случаев, когда человеческое поведение не опреде-
ляется природной необходимостью.
Каждая форма моральной жизни (поскольку она представляет собой чув-
ствование и поведение, определяемые умением (art) зависит от образования. И
характер каждой формы отражается в типе образования, необходимого для ее
утверждения и поддержания. Каким же типом образования порождена первая
форма моральной жизни?
Мы усваиваем обычаи поведения, не выстраивая образ жизни на основа-
нии выученных наизусть и затем исполняемых правил или предписаний, а живя
с людьми, которые обычно ведут себя определенным образом: мы усваиваем
обычаи поведения так же, как мы усваиваем родной язык. В жизни ребенка
нельзя определить момент, когда он начал учить язык, на котором обычно го-
ворят в его среде, и также в его жизни нельзя определить момент, когда он
a ’ Вавилонская башня 113
i
начал усваивать обычаи поведения, которые практикуют люди, постоянно
находящиеся рядом с ним. Несомненно, в обоих случаях то, что усваивается
(или часть этого), может быть сформулировано в правилах и предписаниях, но
в обоих случаях такой тип образования не предполагает заучивания правил и
предписаний. Мы усваиваем здесь то, что может быть усвоено и без формули-
рования этих правил. Предписание (command) языка и поведения не только
может быть выполнено без осознания правил, но оно просто не может быть
выполнено, если, усвоив правила, мы сводим к ним язык и поведение и пыта-
емся превратить говорение и действование в применение правил к ситуациям.
Далее, образование посредством которого мы усваиваем привычки чувствова-
ния и поведения, не только рождается одновременно с сознательной жизнью,
но и непрерывно осуществляется в практике и наблюдении, в каждый момент
нашего бодрствования, а возможно—даже в наших снах; и то, что начинается
как имитация, продолжается как избирательное подчинение богатому разно-
образию традиционного поведения. Этот тип образования не является обяза-
тельным, он неизбежен. И наконец (если образование в целом означает обеспе-
чение адаптации в природном и цивилизованном мирах), это неотъемлемая
часть образования. Можно выделить один час на изучение математики, дру-
гой — посвятить Катехизису, но невозможно заниматься какой-либо деятель-
ностью, одновременно хоть сколько-нибудь не совершенствуясь в данном типе
морального образования, и невозможно совершенствоваться в данном типе
морального образования, уделив этому час. Конечно, существует много вещей,
которые не могут быть освоены при данном типе образования. Таким спосо-
бом мы можем учиться играть в игру, и мы можем научиться играть в нее, не
нарушая правил, но мы не можем получить знания самих правил, не формули-
руя их, или если их не сформулировали для нас. И далее, без знания правил мы
никогда не сможем знать наверняка, соблюдаем мы их или нет, и будем не в
состоянии объяснить, почему рефери подул в свой свисток. Используя другую
метафору, благодаря этому типу образования у нас может развиться поэтичес-
кая способность и мы не напишем ни одной неискренней поэтической строчки,
но благодаря ему у нас не может развиться способность к чтению метрических
стихов и мы не узнаем названий форм метрического стихосложения.
Итак, нетрудно представить тип морального образования, посредством ко-
торого усваиваются привычки чувствования и поведения; это тип образова-
ния, благодаря которому мы можем действовать подобающим образом без
колебания, сомнения или затруднения, но с помощью которого мы не можем
объяснять наши действия в отвлеченных терминах или отстаивать их, поскольку
они основаны на моральных принципах. Более того, следует считать, что это
образование не выполнило своего предназначения, если предусматриваемый
им набор способов поведения (range of behaviour) недостаточен, чтобы дей-
ствовать во всех ситуациях, не испытывая настоятельной потребности в раз-
мышлении, или если благодаря ему привычка поведения не становится доста-
точно повелительной, чтобы избавить от сомнения. Однако не следует считать
его несостоятельным лишь потому, что оно не дает нам знания моральных пра-
114
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
вил и моральных идеалов. Можно сказать, что человек (a man) в совершенстве
усвоил то, что ему может дать этот тип морального образования, когда его
моральные качества (dispositions) нераздельно связаны с его amour-propre, если
источник его поведения — не приверженность идеалу, не сознание обязаннос-
ти выполнить правило, а самоуважение, и если порочное действие он воспри-
нимает как унижение достоинства.
Далее следует отметить, что эта форма морали придает удивительную ста-
бильность моральной жизни как индивида, так и общества; ее природа не до-
пускает существенных или резких изменений в необходимых типах поведения.
Части этой формы моральной жизни могут разрушаться, но поскольку состав-
ляющие ее обычаи поведения никогда не осознаются в качестве системы, это
разрушение не распространяется немедленно на целое. Отсутствие осознанной
устойчивой системы (например, системы отвлеченных моральных идеалов),
отличной от самих способов поведения, не ведет к такому типу разрушения,
которое проистекает из обнаружения некоторого изъяна в системе моральных
идеалов или ее противоречивости. Теоретическая ошибка в отношении мораль-
ных идей или мнений не компрометирует моральную жизнь, прочно укоренен-
ную в обычае поведения. Коротко говоря, стабильность, свойственная данной
форме моральной жизни, является следствием ее гибкости и способности пре-
терпевать изменения, не разрушаясь. Во-первых, в ней нет ничего абсолютно
неизменного. Точно так же как в языке могут быть определенные неправиль-
ные грамматический конструкции, но во всех значимых оборотах речи язык
послушен писателю, который не собьется с пути, если только его не покинет
талант, так и в этой форме моральной жизни, чем основательнее образование,
тем определеннее наш вкус и тем богаче для нас выбор поступков в рамках
традиции. Обычай всегда восприимчив к нюансу ситуации и легко приспосаб-
ливается к нему. Это утверждение может показаться парадоксальным, ведь нас
учили, что обычай является слепым. Однако это досадная ненаблюдательность;
обычай не является слепым, он лишь «слеп, как летучая мышь». И каждый, кто
изучает традицию в контексте обычного поведения (customary behaviour) (или
традицию другого вида), знает, что ей не свойственны ни ригидность, ни не-
стабильность. Во-вторых, эта форма моральной жизни допускает как переме-
ны, так и незначительные изменения. В самом деле, не существует ни традици-
онного поведения, ни традиционного умения, всегда остающихся неизменны-
ми; история этой формы моральной жизни — история непрерывного измене-
ния. Действительно, изменение, которое она допускает, никогда не бывает ни
крупным, ни неожиданным; но с другой стороны, революционное изменение,
как правило, является результатом окончательного крушения позиции нена-
висти к изменению и типично для того, что имеет немного внутренних ресур-
сов для изменения. Видимость неизменности в морали традиционного поведе-
ния — иллюзия, которая проистекает из ошибочного убеждения в том, что зна-
чительным является лишь такое изменение, которое либо вызвано самосозна-
тельной активностью, либо по меньшей мере осознается. Тип же изменения,
присущий этой форме моральной жизни, аналогичен изменению, которому
5МНТНПОП вмотвпо
Вавилонская башня 115
подвержен живой язык: нет ничего более привычного или традиционного, чем
наши формы выражения (ways of speech), и ничего, что было бы в большей
степени подвержено непрерывному изменению. Подобно ценам на свободном
рынке, обычаи морального поведения не демонстрируют революционных из-
менений, поскольку они никогда не бывают статичными. Но следует также
отметить, что поскольку характерная для этой формы моральной жизни внут-
ренняя динамика проистекает не из размышления над моральными принципа-
ми, а отражает лишь несамосознательное (unconscious) пользование гениаль-
ностью традиции морального поведения, она не приводит к моральной крити-
ке самой морали. Следовательно, этот вид моральной жизни, если она дегра-
дирует в идолопоклонство (superstition), или если возникает кризис, не имеет
достаточной возможности для возрождения. Ее безопасность обеспечивается
единственно сопротивлением условиям, порождающим кризис.
Вероятно, следует упомянуть и следующий момент: место и особенность мо-
рального чудака в этой форме моральной жизни, когда она рассматривается в
качестве моральной жизни общества. Моральный чудак, разумеется, не исклю-
чается этой формой морали. (Часто считают, что людям, практикующим пре-
имущественно традиционную мораль, присущи недостаток моральной чуткос-
ти, неискренность морального характера — черты, которые неправильно при-
писывают традиционной форме морали; причина же этого состоит в чем-то дру-
гом.) Иногда мы думаем, что именно при ориентации на сформированный мо-
ральный идеал, отклонение от традиционной морали неизбежно. Но это не так.
Свобода и изобретательность — в самой сути каждого традиционного образа
жизни, и отклонение может быть выражением свободы, проистекающей из чут-
кости к самой традиции и сохраняющей верность традиционной форме. Вообще
говоря несомненно, что поощрение отклонения от морального обычая является
перфекционистским, но необязательно осознанно перфекционистским. Такое
отклонение не является по своей сути бунтарским и может быть уподоблено типу
инновации, вносимой в пластическое искусство случайным проявлением у ин-
дивида особого мастерства владения руками, или типу изменения, которое вно-
сит в язык великий стилист. Хотя в любом конкретном случае в результате тако-
го отклонения какой-то чудак может пойти по ложному пути, и хотя отклонение
- это не то, чему полезно подражать, моральная экстравагантность (вне зависи-
мости от направления, которое она может принимать) представляет ценность
для общества с традиционной моралью, если только она остается активностью
отдельного индивида и если не допускается разрушения общинной (communal)
жизни. В таком случае в морали обычного образа поведения влияние морально-
го чудака может быть значительным, но непременно — косвенным, а отношение
общества к нему — с необходимостью амбивалентным. Им восхищаются, но ему
не подражают, его уважают, но за ним не следуют, его приветствуют, но в обще-
ство не допускают.
' г,г .-л- •
ЙИ Майкл Оукшот. Рационализм в политике «
к
* .4 , 1 < ь. _ Г.у 1' ' J
Вторую форму моральной жизни, которую мы должны рассмотреть, во мно-
гих аспектах можно считать противоположной первой. Активность здесь оп-
ределяется не как привычка поведения, а как рефлексивное применение мораль-
ного критерия (the reflective application of a moral criterion). Оно может прояв-
ляться в двух имеющих общую природу разновидностях: в самосознательном
стремлении к моральным идеалам и в рефлексивном исполнении моральных пра-
вил. Важно, что рефлексивное применение морального критерия характеризу-
ет обе разновидности, этот признак отделяет не разновидности друг от друга,
а обе разновидности от первой формы морали.
Во второй форме моральной жизни особая ценность приписывается индиви-
дуальному или общественному самосознанию, продуктом рефлексивной мысли
здесь оказываются не только правило и идеал, но и само применение правила
или идеала к ситуации также является рефлексивной активностью. Обычно сна-
чала теоретически определяется правило или идеал, то есть первая задача по
воспитанию искусства поведения в контексте данной формы состоит в выраже-
нии моральных устремлений (aspirations) в словах — в формулировании прави-
ла жизни или системы абстрактных идеалов. Это задача вербального выраже-
ния de omnibus dubitandum, но ее цель состоит не просто в том, чтобы сформули-
ровать желаемые цели поведения, но в том, чтобы сформулировать их ясно и
недвусмысленно, а также раскрыть их отношение друг к другу. Во-вторых, чело-
век, который принимает эту форму моральной жизни, должен быть уверен в сво-
ей способности защищать определенно выраженные устремления от критики,
поскольку в силу того, что моральные устремления стали эксплицитными, по-
явилась возможность их критики. Третья задача состоит в воплощении этих ус-
тремлений в поведении, в осуществлении их в повседневных жизненных ситуа-
циях. Следовательно, в этой форме моральной жизни действие производно от
суждения о правиле или целях, которые должны быть осуществлены, оно также
предполагает решимость осуществить их. В теории жизненные ситуации следует
представлять как проблемы, которые должны быть разрешены, лишь в этой
форме моральной жизни им уделяют то внимание, которого они требуют. Здесь
наблюдается сопротивление безотлагательности действия, более значимым ока-
зывается обладание правильным моральным идеалом, нежели совершение дей-
ствия. Применение правила или идеала никогда не может быть простым; и иде-
ал, и ситуация обычно требуют интерпретации, и правило жизни (если понима-
ние жизни не упрощено редуцированием многообразия предусматриваемых си-
туаций) никогда не является очевидным, пока не сопровождается изощренной
софистикой или герменевтикой. Правильно, что моральные идеалы и мораль-
ные правила могут стать настолько привычными, что принимают черты обыч-
ного, или традиционного, способа мыслить о поведении. Также правильно, что
благодаря длительному знакомству с нашими идеалами мы обретаем способ-
ность выражать их более конкретно в системе особых, удобных для применения
прав и обязанностей. Кроме того, моральный идеал может быть выражен и как
Вавилонская башня 117
тип человеческого характера — такой, как характер джентльмена, тогда поведе-
ние превращается в мыслительное применение идеального характера к ситуа-
ции. Однако с помощью этих уточнений мы можем пройти лишь часть пути:
уточнения могут устранить необходимость ad hoc размышления о самих по себе
правилах и идеалах, но при этом остаются нерешенными проблема интерпрета-
ции ситуации и задача воплощения идеала, правильного или долга в поведении,
поскольку правильное или долг всегда состоят в исполнении правила или в реа-
лизации цели, а не в конкретном образе поведения. В действительности в кон-
тексте этой формы моральной жизни нежелательно, чтобы мы всегда подчиня-
лись традиции; отличительная для этой формы добродетель состоит в подчине-
нии поведения непрерывному корректирующему анализу и критике.
Эта форма моральной жизни не менее, чем первая, зависит от образования,
но от соответствующего ей, особого образования. Для усвоения необходимого
знания моральных идеалов или правила жизни, нам нужно нечто большее, неже-
ли наблюдение и осуществление самого поведения. Во-первых, нам необходимо
интеллектуальное упражнение по выявлению и пониманию самих моральных
идеалов — упражнение, в котором идеалы отделяются от их с неизбежностью
несовершенного воплощения в конкретных действиях и оказываются независи-
мыми от него. Во-вторых, нам необходимо упражнение в искусстве интеллекту-
ального оперирования (management) этими идеями. И в-третьих, нам необходи-
мо упражнение в применении идеалов к конкретным ситуациям, в умении воп-
лощать цели, которые внушает нам образование, а также в умении подбирать
соответствующие средства для достижения этих целей. Такое образование мо-
жет быть сделано обязательным в обществе, но лишь из-за того, что оно не явля-
ется неизбежным. Правильно сказал Спиноза, что заменой совершенному мо-
ральному познанию может служить вверение правила жизни памяти и безогово-
рочное следование ей L Несмотря на то что некоторые именно этим и ограничи-
ваются, такую замену нельзя считать целью данного морального образования.
Чтобы достичь своей собственной цели, такое образование должно давать го-
раздо больше, чем освоение моральной техники; и следует считать, что оно не
выполнило своей цели, если не обеспечило развития способности определять
поведение посредством самосознательного выбора, а также понимания идеаль-
ных оснований выбора. Такая форма моральной жизни может во всей полноте
осуществляться только тем, кто отчасти является философом и отчасти аналити-
ком, который подвергается самоанализу: целью данного морального образова-
ния является поведение как результат культивируемых сообществом рефлексив-
ных способностей каждого индивида. л
Моральная жизнь в контексте которой каждый в каждый момент времени
точно знает, что он делает и почему, хорошо защищена от вырождения в идо-
лопоклонство, и более того, придает значительную уверенность тем, кто ее ве-
дет. Тем не менее и в ней заключены опасности как для индивида, так и для
общества. Уверенность, которую дает эта форма моральной жизни, главным
1 См.: Спиноза Б. Этика: V, х.
118
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
образом является уверенностью в отношении самих идеалов или морального пра-
вила. Следует ожидать, что понимание идеалов и правила составит самую ус-
пешную часть этого морального образования; а обучать и учиться искусству
применять идеалы и гораздо труднее. Поэтому также следует ожидать, что не-
уверенность в отношении того, как действовать, будет возрастать пропорцио-
нально уверенности в отношении того, как мыслить моральные идеалы. Посто-
янный анализ поведения способствует расшатываю не только предрассудков в
моральном обычае, но и самого морального обычая, а моральная рефлексия мо-
жет привести к подавлению моральной восприимчивости.
Далее, мораль, которая принимает форму самосознательного устремления к
моральным идеалам, в каждый момент призывает тех, кто ее практикует, опреде-
лять свое поведение на основании образа совершенства. Это не относится к слу-
чаю, когда руководящим принципом является моральное правило, потому что
правило не символизирует совершенства, а утверждает посредничество между
поведением, которого требует по каждому случаю и абсолютным моральным
ответом на ситуацию. Но когда руководящим принципом поведения является
моральный идеал, нам никогда не будет дозволено абстрагироваться от совер-
шенства. Постоянно, а в действительности всегда, общество вынуждено доби-
ваться добродетели напрямик (as the crow flies). Можно даже сказать, что эта
форма моральной жизни требует особо острого морального зрения и стимулиру-
ет напряженное моральное соперничество между теми, кто ведет ее, а моральный
чудак здесь предстает не в качестве жертвы во имя стабильности общества, а как
лидер и руководитель. И несчастное всслышащее, всегда уверенное в том, что
следует думать (хотя это никогда не бывает надолго одним и тем же) общество в
действии то колеблется, то беспорядочно бьется, как обезумевшее животное.
Кроме того, мораль идеалов имеет мало ресурсов для самоизменения; ее ста-
бильность проистекает из ее негибкости и невосприимчивости к изменениям. Она,
конечно, допускает интерпретацию, но рамки этой интерпретации тесные и очень
жесткие. Мораль идеалов имеет огромный ресурс для сопротивления изменени-
ям, но, когда сопротивление подавлено, происходит не изменение, а революция
— отрицание и замена. Более того, каждый моральный идеал потенциально под-
талкивает к фанатизму, стремление к моральным идеалам также становится идо-
лопоклонством, когда конкретные объекты признаются в качестве «богов». Эту
потенциальную возможность можно удержать под контролем с помощью более
основательной рефлексии, интеллектуального схватывания всей системы, в ко-
торой каждому моральному идеалу отводится свое место и своя роль, но такое
схватывание достигается редко. Слишком часто безоглядное стремление к одно-
му идеалу приводит к исключению других, возможно — всех других; в нашем
рвении осуществить справедливость мы забываем о милосердии, а страсть к пра-
вильности сделала многих людей суровыми и жестокими. На самом деле не су-
ществует никакого морального идеала, стремление к которому не привело бы к
разочарованию, досада в конце концов поджидает всех, кто идет по этому пути.
Каждый достойный восхищения идеал имеет свою противоположность, не ме-
нее достойную восхищения. Свобода или порядок, справедливость или мило-
онтнпоп в кошню Вавилонская башня 119
сердие, спонтанность или обдуманность, принцип или обязательства, самость
или другие — все это виды дилеммы, перед которой нас всегда ставит данная
форма моральной жизни, она раздваивает наш взгляд, всегда направляя наше
внимание на абстрактные крайности, ни одна из которых не является единствен-
но желаемой. Это форма моральной жизни, которая не только ставит перед сво-
ими приверженцами задачу перевода моральных идеалов в соответствующие
формы морального поведения, но и налагает на них тяжелое интеллектуальное
обязательство: до осуществления морального поведения устранить вербальное
противоречие между идеалами. Эти противоречащие друг другу идеалы, ко-
нечно, примиряются во всех благожелательных характерах (то есть, когда они
больше не выступают в роли идеалов), но этого недостаточно. Коротко гово-
ря, это форма моральной жизни, опасна для индивида и гибельна для обще-
ства. Для индивида она представляет собой игру, которая может принести вы-
игрыш, если осуществляется в рамках общества, которое в эту игру не вовлече-
но; для общества же она — только безрассудство,
от Фж н
4 *
Данное краткое описание казалось бы двух форм моральной жизни, хотя, вероят-
но, и устанавливает обособленность этих форм и даже их противоположность
друг другу, все же в большей степени заставляет нас усомниться в возможности их
независимого существования. Ни одну из форм, взятую отдельно, нельзя убеди-
тельно рекомендовать в качестве удовлетворительной формы моральной жизни
для индивида или общества; одна — всецело обычай, другая — всецело рефлек-
сия. И чем внимательнее мы их анализируем, тем более уверенными становимся в
том, что они представляют собой не формы моральной жизни, а идеальные край-
ности. И когда мы обратимся к рассмотрению того типа формы моральной жиз-
ни, которую они образуют в сочетании, вероятно сможем обрести подлинную
уверенность в приближении к возможной или даже к исторической реальности.
Если в соединении преобладает первая крайность, то можно ожидать, что
моральная жизнь будет защищена от путаницы между поведением и стремле-
нием к идеалам. Действие удержит свое первостепенное значение, и всякий раз
когда бы ни требовалось его совершение, источником действия будет обычай
поведения. Само поведение никогда не станет проблематичным, поскольку не
сдерживается колебаниями, которыми чревата абстрактная спекуляция, и по-
скольку не требует с необходимостью применения к ситуации философского
таланта и плодов философского образования. Уверенность в действии, кото-
рая характеризует зрелую традиционную моральную жизнь, останется непо-
колебленной. Последовательность моральной жизни здесь не обусловлена аб-
страктным единством, которое обеспечивается рефлексивным соподчинением
ценностей. К тому же можно предположить, что эта смешанная форма мораль-
ной жизни имеет преимущества, которые вытекают из рефлексивной морали,
— способность к критике, самореформированию и самообъяснению, а также
способность к преодолению границ традиции общества. Этой форме также
120 Майкл Оукшот. Рационализм в политике J ‘
1
к
присуща соответствующая интеллектуальная уверенность в собственных мо-
ральных стандартах и целях. Обладая всем этим, она не подвергается опаснос-
ти узурпации моральным критицизмом места обычая морального поведения
или опасности привнесения моральной спекуляцией дезинтеграции в мораль-
ную жизнь. Образование в сфере морального обычая будет дополнено, а не
ослаблено образованием в сфере моральной идеологии. В обществе, в котором
осуществляется эта форма моральной жизни, и обычай, и идеология могут на-
ходиться в общем владении всех его членов или в реальности моральная спеку-
ляция может быть формой морали немногих, в то время как мораль большин-
ства останется моралью привычного поведения. Но в любом случае внутрен-
ние ресурсы динамики этой формы морали будут дополняться обоими, прису-
щими ей компонентами: потенциальная индивидуальная эксцентричность,
присущая традиционной морали, будет дополнена более осознанной бунтарс-
кой эксцентричностью, корни которой — в более строгом следовании перфек-
ционизму, свойственному морали идеалов. Коротко говоря, эта форма мораль-
ной жизни дает обществу те же преимущества, которые свойственны религии,
которая приняла теологию ( необязательно народную теологию) и не утрати-
ла своего характера как образа жизни.
С другой стороны, мораль, форма которой представляет собой соединение,
где преобладает вторая крайность, я думаю, страдает от постоянного напряже-
ния между своими составными частями. Главенствуя, мораль самосознательно-
го стремления к идеалам будет иметь разрушающий для обычая поведения эф-
фект. Когда требуется совершить действие, спекуляция или критицизм будут это-
му препятствовать. Само поведение становится проблематичным, уверенность в
его правильности пытаются обеспечить последовательностью идеологии. Стрем-
ление к совершенству удовлетворяется на пути стабильной и гибкой моральной
традиции, наивная последовательность которой будет цениться ниже, нежели
единство, проистекающее из самосознательного анализа и синтеза. Более важ-
ным будет казаться обладание теоретически обоснованной моральной идеоло-
гией, нежели готовым обычаем поведения. Напрашивается заключение, что мо-
раль, которую трудно перенести в другое общество, которая не обладает оче-
видной универсальностью, не отвечает (по этой причине) потребностям и того
общества, где возникла. Общество будет служить самозваным моральным учи-
телям, устремляясь к крайностям, которые те рекомендуют, и будет оказываться
в полной растерянности, когда они молчат. Незаурядный, вдохновляющий заез-
жий проповедник, который тем не менее является чуждым нашему образу жиз-
ни, сменит священника нашего прихода. В моральной жизни, постоянно или пе-
риодически страдающей от опустошений, чинимых армиями враждующих иде-
алов, или (когда это относится к прошедшим временам) попавшей в руки цензо-
ров и инспекторов, культивирование обычая морального поведения будет на-
столь же мало возможно, как и культивирование земли, когда фермер приведен
в замешательство, сбит с толку учеными критиками и политическими руководи-
телями. В действительности при таком соединении (когда обычай поведения вто-
ростепенен по отношению к стремлению к идеалам) каждый из компонентов в
таньнпьп й мгйджюяи Вавилонская башня 121
своем функционировании с неизбежностью оказывается чуждым сущности са-
мого соединения; как и в литературе, когда критика узурпирует место поэзии,
или как в религиозной жизни, когда занятие теологией представляется в каче-
стве альтернативы практике благочестия.
Однако все это следует считать не столь существенным, хоть и серьезным
изъяном такого соединения крайностей в моральной жизни; основной недо-
статок этой формы — это основной недостаток доминирующей здесь крайно-
сти — отрицание ею поэтического характера всей человеческой активности.
Прозаическая традиция мышления приучила нас к предположению, которое
выявляется при анализе моральной активности и состоит в том, что моральная
активность состоит в переводе идеи о том, что должно быть, в практическую
реальность, в трансформировании идеала в конкретное существование. И мы
приучены даже о поэзии думать в этом контексте; сначала «желание сердца»
(идея), а затем — ее выражение, ее перевод в слова. Тем не менее, этот взгляд я
считаю ошибочным; он представляет собой наложение на искусство и мораль-
ную активность совершенно неподходящей дидактической формы. Стихотво-
рение — это не перевод состояния духа в слова. Что поэт говорит и что он
хочет сказать — это не две разные вещи, одна из которых следует за другой и
включает затем ее в себя; это одна и та же вещь; поэт не знает о том, что он
хочет сказать до тех пор, пока этого уже не сказал. И «исправления», которые
он может сделать после первой попытки, выражают не усилия сделать слова
более точно соответствующими уже сформированной идее или уже полностью
оформившимся в его разуме образам , а представляют собой новые усилия по
формированию идеи, по постижению образа. Ничего не существует заранее,
до самого стихотворения, возможно, за исключением поэтической страсти. И
то, что является истинным в отношении поэзии, я думаю, является столь же
истинным и в отношении всей человеческой моральной активности. Мораль-
ные идеи не являются в первую очередь продуктами рефлексивной мысли, вер-
бальными выражениями неосуществленных идей, которые затем воплощают-
ся (с различной степенью точности) в человеческом поведении; они являются
продуктами человеческого поведения, человеческой практической активнос-
ти, которую рефлексивное мышление впоследствии частично и абстрактно вы-
ражает в словах. То, что является хорошим, правильным, или то, что считается
разумным поведением может существовать до ситуации, но только в обобщен-
ной форме возможностей поведения, определяемых искусством, а не приро-
дой. Так сказать, капитал моральных идеалов, с которым мораль идеалов пус-
кается в бизнес, всегда накапливался моралью обычного поведения, а она про-
2 Например, Жэнь (забота о других) в конфуцианской морали представляла собой абстрак-
цию сыновнего почтения и уважения к старшим, которые в древнем Китае конститу-
ировали обычай морального поведения. В активности ученых мужей (согласно Хуан
Цзы), которые изобрели доброту, долг, правила и идеалы морального поведения,
конкретная мораль обычного поведения была скрупулезно проанализирована и очи-
щена, но подобно безмерно критичным составителям антологии, они выбросили
все несовершенное из своего материала, и то, что осталось, представляло собой уже
не отражение литературы, а просто собрание шедевров.
122
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
является в форме абстрактных идеалов только потому, что была конвертиро-
вана (в целях пожертвования) рефлексивным мышлением в идеи2. Этот взгляд
на проблему, конечно, не лишает моральные идеалы власти критиковать чело-
веческие обычаи, он не очерняет активность рефлексивного мышления по вер-
бальному выражению принципов поведения; нет никакого сомнения в том, что
мораль, в которой нет места рефлексии, является ущербной. Но этот взгляд
предполагает, что мораль стремления к моральным идеалам или мораль, в ко-
торой такое стремление доминирует, — не такая, какой кажется на первый
взгляд, то есть она не имеет собственных оснований. Такой морали, которая
наделена силой избавить от идолопоклонства, дана задача порождать мораль-
ное поведение — задача, которую в действительности она не может решить. И
следует лишь ждать, что мораль такого рода подвергнется неожиданному и
позорному крушению. В жизни индивида этому крушению необязательно быть
фатальным; а в жизни общество оно скорее всего будет непоправимым, по-
скольку общество представляет собой совместный образ жизни; и истинным
является не только то, что общество может погибнуть от болезни, которая нео-
бязательно является смертельной даже для тех членов, которые страдают ею,
но и то, что разрушительное для общества, может не быть разрушительным
для его членов.
Читателю, знающему столько же, сколько и я, о форме моральной жизни со-
временного христианского мира, не нужно говорить, куда все это ведет. Если
сказанное мной здесь действительно попадает в цель, вероятно, можно согла-
ситься в том, что форма нашей морали представляет собой соединение, в кото-
ром главенствует мораль самосознательного стремления к идеалам. Мораль-
ная энергия нашей цивилизации на протяжении многих веков расходовалась
главным образом (хотя, конечно, не исключительно) на строительство Вави-
лонской башни; и в мире головокружительных моральных идеалов мы еще
меньше, чем раньше, знаем, как себя вести в публичной и частной сферах. По-
добно глупцу, мы устремили свой взгляд на край земли. Потеряв нить Ариад-
ны, мы доверились плану лабиринта и стали внимать толкователям плана. Не
имея обычаев морального поведения, мы прибегли к моральным мнениям как
к их заменителю; но, как все мы знаем, размышляя о том, что делаем, мы слиш-
ком часто приходим к выводу, что поступаем неправильно. Подобно одиноко-
му человеку, который, чтобы вновь обрести поддержку, преувеличивает та-
ланты своих немногочисленных друзей, мы преувеличиваем значение наших
моральных идеалов, чтобы заполнить пустоту нашей моральной жизни. Мы
отметили вступление в жестокий союз с призрачным идеалом. Несомненно,
наше сегодняшнее моральное смятение (которое длится уже несколько столе-
тий) проистекает отчасти из нашей неуверенности в отношении самих мораль-
ных идеалов; все усилия по анализу и критике пока еще не увенчались успехом
окончательного установления единственного из них. Но не это представляет
эхнтнпоп a MtNiwHON Вавилонская башня 123
u .
i
суть данного вопроса. Истина состоит в том, что эта форма моральной жизни
безотносительно к качеству идеалов ничего, кроме смятения и нестабильнос-
ти, не порождает. Возможно, именно смутное понимание этого заставило не-
которых ученых придать искусственную стабильность своим моральным иде-
алам. Некоторые из этих идеалов отобраны, и эти некоторые превратились в
авторитарный канон, который затем был сделан руководящим принципом за-
конодательства или даже основанием для насильственного наказания инако-
мыслия (eccentricity). Моральная идеология устанавливается и утверждается,
поскольку это кажется единственным способом завоевания для общества не-
обходимой моральной стабильности. Но в действительности и это не способ;
моральная идеология лишь скрывает развращенность сознания, моральное по-
мутнение, присущее морали самосознательного стремления к идеалам. Тем не
менее, это служит иллюстрацией истины, что моральная организация именно
того типа общества, которое по необходимости вынужденно быть врагом по-
лезной моральной инаковости (eccentricity), порождена стремлением к идеа-
лам; поскольку моральная жизнь такого общества сама по себе ничем не луч-
ше произвольного выбора моральных экстравагантностей (eccentricities).
Я не утверждаю, что наша мораль всецело заключена в форму морали са-
мосознательного стремления к моральным идеалам. На самом деле мой взгляд
состоит в том, что она представляет собой идеальную крайность и сама по себе
вообще не является возможной формой морали. Я предполагаю, что на форму
нашей моральной жизни преобладающее влияние оказывает эта крайность и
что наша моральная жизнь, следовательно, испытывает внутреннее напряже-
ние, присущее этой форме. Конечно, у нас есть обычаи морального поведения,
но слишком часто наше самосознательное стремление к идеалам препятствует
тому, чтобы мы пользовались ими. От самосознания требуют быть творчес-
ким, а обычаю отводят роль критика, так то, что должно быть второстепен-
ным, начинает управлять и управление превращается в дезориентацию. Иног-
да напряжение проявляется на поверхности, и в таких случаях мы понимаем,
что что-то не так. Человек, который не может осуществить то, что проповеду-
ет, не слишком нас беспокоит; мы знаем, что предмет проповеди — моральные
идеалы и что ни один человек не может полностью осуществить их. Это лишь
слабое напряжение между идеалом и его воплощением. Но когда человек про-
поведует «социальную справедливость» (или фактически любой другой идеал)
в то же время при очевидном отсутствии обычая обыденного благопристойно-
го поведения (обычая, который принадлежит нашей морали, но, к счастью,
никогда не идеализировался), и появляется то напряжение, о котором я гово-
рю. Факт, что мы все еще способны признать его доказывает, что мы не нахо-
димся полностью во власти морали абстрактных идеалов. И все же я считаю,
что тот, кто анализировал данную проблему, не станет отрицать, что мы в
значительной мере находимся под властью этой морали. Это не наша вина;
нам был предоставлен в этом вопросе небогатый выбор или даже у нас вообще
не было выбора. Тем не менее, это наша беда. В заключение будет уместным
кратко рассмотреть, как все это произошло.
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
124
i
По вопросу истории европейской морали я не могу сказать ничего нового,
могу лишь направить внимание на то, что уже хорошо известно. Форма совре-
менной западноевропейской морали пришла к нам из далекого прошлого. Она
установилась в первые четыре столетия христианской эры, в тот исключитель-
но важный период нашей истории, когда в значительной степени начала про-
являться наша интеллектуальная и эмоциональная позиция. Было бы, конеч-
но, нелепо предполагать, что европейская мораль произросла из некоторых
новых сортов семян, впервые посеянных именно в тот период; что же было
действительно новым, если вообще что-то было новым в то время — так это
смесь семян, которая была в распоряжении тех поколений и которая должна
была быть посеяна, культивирована и вновь посеяна пока не закрепятся свой-
ства плодов. Это была эпоха морального изменения. В том греко-римском мире
старые обычаи морального поведения утратили свою жизненную силу. Конеч-
но, встречались люди, которые были хорошими соседями, верными друзьями
и благочестивыми гражданами, их вера в традиции, определявшая их поведе-
ние, оставалась все еще непоколебимой; но в целом движущая сила обычая
морального поведения была растрачена — что, вероятно, иллюстрировало не-
достаток формы морали, которая слишком надежно изолирована от критики с
позиции идеалов. Следовательно, это была эпоха глубокого морального са-
мосознания, эпоха моральных реформаторов, которые с неизбежностью про-
поведовали мораль стремления к идеалам и учили множеству догматических
моральных идеологий. Интеллектуальная энергия того времени была направ-
лена на определение идеала, а моральная энергия — на осуществление этого
идеала на практике3. Само моральное самосознание стало добродетелью4; под-
линная мораль была отождествлена с «практикой философии»5. Считалось, что
для достижения хорошей жизни необходимо, чтобы человек подвергал себя
специальному моральному упражнению, моральной гимнастике аокт|о^; уче-
ба и дисциплина должны быть добавлены к «природе». Конечно, эпоха была в
состоянии провести различие между тем человеком, который достиг лишь уров-
ня постижения моральных идеалов, и тем человеком, попытка которого воп-
лотить идеал в реальности увенчалась успехом, но общий для всех принцип
состоял в том, что моральная жизнь может быть реализована, как сказал Фи-
лон только «чтением, созерцанием и возбуждением в разуме благородных иде-
алов». Короче говоря, все, что греко-римский мир того периода мог предло-
жить, — это мораль, в которой самосознательное стремление к идеалам было
преобладающим.
И то, что мы унаследовали из раннего христианства — другого источника
нашего морального вдохновения, — имело ту же природу. В самом деле, это
наследие в данном контексте нельзя полностью отделить от наследия всего Древ-
него мира. На заре христианства быть христианином означало быть членом
3 См.: Эпиктет. Diss, i, 4, 30.
4 См.: там же, 2, 10.
5 Dio Chrisostom. ii, 239.
эхм'пшоп МЕЫтишоп; Вавилонская башня 125
сообщества, вдохновляемого верой и поддерживаемого надеждой — верой в
личность и надеждой на суд Христа (coming event). Мораль этих сообществ
представляла собой обычай поведения, соответствующий характеру веры и
природе ожидания. Это был образ жизни, который в своем времени и простран-
стве выделялся отсутствием четко сформулированного морального идеала; и
это был образ жизни, только лишь отклонение от которого влекло за собой
наказание исключением из сообщества. И к тому же это был образ жизни, ко-
торый допускал крайности в поведении — поощрял подвиги совершенства
(counsels of perfection), но не требовал их. Самое близкое к моральному идеалу,
что было известно этим сообществам, — идеал милосердия, а самое близкое к
моральному правилу — предписание любить Бога и ближнего своего. Это была
мораль, характерное вербальное выражение которой обнаруживается во фра-
зе тогкр тротюф кцрюц, Божественный порядок (the custom of the Lord). Ho
ранние христианские сообщества на протяжении двух столетий претерпели ог-
ромное изменение. Обычай морального поведения превратился в самосозна-
тельное стремление к четко сформулированным моральным идеалам — пре-
вращение параллельное переходу от веры (faith) в личность к убежденности
(belief) в совокупности умозрительных высказываний, кредо. Этот переход
обусловлен разнообразными причинами: изменением в обстоятельствах хрис-
тианской жизни; давлением неземного интеллектуального мира, который сфор-
мировал христианина; желанием «дать основание надежде», которая вооду-
шевляла бы его; необходимостью перевести христианский образ жизни в фор-
му, которая сделает его понятным для тех, кто никогда не испытывал того пер-
вого вдохновения и кто должен был учить христианство как иностранный язык
и поэтому нуждался в грамматике. Тяга спекулировать, абстрагировать, опре-
делять, которая овладела христианством как религией, поразила также хрис-
тианство как моральный образ жизни. Но что бы ни служило импульсом к
изменению, думается, уже к середине третьего века христианская мораль суще-
ствовала в форме самосознательного стремления к моральным идеалам, и ко
времени Св. Амвросия форма этой морали стала неотличимой от морали окру-
жающего мира, морали добродетелей и пороков и морали перевода идеалов в
действия. Христианская мораль в форме образа жизни, конечно, не погибла и
полностью никогда не исчезала. Но с того времени в истории христианского
мира христианский обычай морального поведения (который был порожден об-
стоятельствами христианской жизни) был поглощен христианской моральной
идеологией и ощущение поэтического характера человеческого поведения ока-
залось утраченным.
Я не стремлюсь внушить, что как самосознательная мораль греко-римско-
го мира в начале нашей эры, так и перемена, которая охватила христианскую
мораль во втором и третьем столетиях, не были неизбежны. Первая служила
только для заполнения вакуума, образовавшегося после коллапса традицион-
ной морали; а что касается второго — возможно, чтобы изменить мир, мораль
должна быть редуцирована к легко переводимой прозе морального идеала,
должна быть определена и сделана теоретически непротиворечивой, даже если
ш Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ценой всего этого окажется утрата спонтанности, уверенности и близость к
опасной одержимости. Однако остается факт, что моральное наследие запад-
ной Европы, как классической культуры Древнего мира, так и христианства,
было даром не морали обычного поведения, а моральной идеологии. Правиль-
но, что на протяжении столетий эта моральная форма прошла некоторый путь
по превращению в мораль обычного поведения. Такое превращение, конечно,
возможно, когда моральные идеалы становятся привычными, находят свое
выражение в традициях и институтах, которые оказывают прямое воздействие
на поведение и перестают быть только идеалами. Также правильно, что наше-
ствие варваров содействовало скорее утверждению традиционной морали, не-
жели морали идеи. Тем не менее, современная европейская мораль никогда не
была в состоянии сбросить форму, в которой впервые возникла. И когда од-
нажды она опрометчиво предстала в абстрактных терминах моральных идеа-
лов, оставалось только ждать когда ее критики (которые никогда надолго не
умолкали) ухватятся за это и тогда защищаясь от нападения, моральные идеа-
лы должны будут стать особенно твердыми и завышенными. Каждая серьез-
ная атака на христианскую мораль (например, атака Ницше) ошибочно отож-
дествлялась с атакой на конкретные моральные идеалы христианской жизни,
тогда как какой бы силой она ни обладала, эта сила обусловлена фактом, что
действительным объектом атаки является мораль идеалов, которая никогда не
может стать моралью обычного поведения.
История европейских нравов в таком случае является частью истории ут-
верждения и распространения морали, на форму которой с самого начала пре-
обладающее влияние оказывало стремление к моральным идеалам. Поскольку
это неудачная форма морали, которая чревата фанатизмом и находится в борьбе
с собой, то эта неудача достойна сожаления; и раз ее невозможно с легкостью
избежать, то следует хотя бы использовать наилучшим образом. И если мо-
раль идеалов теперь все, или, по крайней мере, лучшее из того, что мы имеем,
подробный анализ ее недостатков может показаться неуместным. Но для того,
чтобы наилучшим образом использовать неизбежную ситуацию, нам так же
необходимо знать ее недостатки, как и чувствовать ее неизбежность. В настоя-
щее время между нами и возможностью (как таковой) преодолеть неудачу сто-
ит не наше ощущение, что это трудно сделать, а ошибочный вывод, который
мы делаем из нашей ситуации — убеждение, которое медленно укоренялось в
нас, поддерживаемое всеми интеллектуальными тенденциями последних сто-
летий, в том, что вообще нет никакой неудачи, а есть ситуация, которую надо
приветствовать. Европейскую мораль отличает не просто то, что на ее форму
определяющее влияние оказывает самосознательное стремление к идеалам, а
то, что эта форма повсеместно считается лучшей и более возвышенной, нежели
любая другая. Мораль обычного поведения отброшена как примитивная и ус-
таревшая; стремление к моральным идеалам (какими бы неудовлетворитель-
ными сами идеалы ни казались) отождествляется с моральной просвещеннос-
тью. Кроме того, стремление к моральным идеалам высоко ценится и (особен-
но высоко стало ценится по этой причине с XVII в.), поскольку кажется, что в
эянтнпоп a >oit
Вавилонская башня 127
нем содержится возможность самого модного достижения — «научной» мора-
ли. Однако есть основания опасаться, что в обеих этих кажимостях мы горько
обманываемся. Стремление к идеалам оказалось (чего можно было ожидать)
не заслуживающей доверия формой морали, которая не является источником
ни практической, ни «научной» моральной жизни.
Трудное положение, в котором пребывают западные нравы, как я пони-
маю, выражается во-первых в том, что на нашу моральную жизнь преоблада-
ющее влияние стало оказывать стремление к идеалам — разрушительное для
сложившегося обычая поведения; и, во-вторых, в том, что мы стали думать об
этом влиянии как о благе, за которое мы должны быть благодарны или как о
достижении, которым мы должны гордиться. И единственная цель исследова-
ния постигшей нас трудности состоит в разоблачении искаженного сознания,
самообмана, который примиряет нас с нашей неудачей.
1948 год
128 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСТОРИКА
Различные виды активности возникают самопроизвольно, как игры, которые
изобретают для себя дети. Вначале они возникают не в результате
преднамеренного движения к цели, а как некая направленность внимания,
за которой следуешь, не задумываясь над тем, куда она приведёт. Мог ли
наш первобытный предок знать, что это значит — быть астрономом, бухгал-
тером или историком? Однако именно он, играя, направил нас на тот путь,
который привёл к возникновению этих узкоспециализированных ныне видов
деятельности.1 Направленность внимания, если ей следовать, может обрести
свой собственный характер и обособиться в некую «практику». И участника
той или иной деятельности узнают не по достигнутым им результатам, а по
его склонности соблюдать правила данной «практики». Кроме того, когда
характер деятельности в определенной степени утвердится, она может сама
стать предметом исследования, поскольку на определенном этапе мы захотим
не только усвоить и применять составляющие ее приемы, но и установить
систему взаимосвязей данной деятельности (в ее специфике) с другими и
определить ее место на общей карте человеческой активности.
То, что сегодня понимается нами под историческим познанием, возникло
именно таким образом. Начавшись со спонтанной направленности внимания,
оно достигло состояния особого вида деятельности, участники которой отли-
чаются своей верностью сложившейся «практике». И в течение последних двух-
сот лет эта деятельность была предметом самостоятельного анализа.
Ее анализ осуществляется в двух направлениях. Во-первых, стремились
найти удовлетворительное общее описание исторического познания в том
виде, как оно сложилось. Предполагается, что эта деятельность сама есть
историческое явление и что та степень специализации, которой она в насто-
ящее время достигла, достаточна для того, чтобы признать ее самостоятель-
ным способом изучения мира. Результатом этого исследования должно стать
раскрытие того рода знания, которое историческое мышление налагает на
мир, и тех особенностей, благодаря которым этот вид деятельности отлича-
-------------- е-тм ..
1 См.: Платон. Законы, 672в.
£ шяг. Деятельность историка 129
ется от других - тех, от которых он отделился в ходе своего возникновения.
Это, без сомнения, трудная задача, но ее решение, кажется, способно приве-
сти к некоторым общезначимым результатам.
Второе направление исследования, можно сказать, возникает из перво-
го (правда, не обязательно). Допустим, что удовлетворительное описание
современного состояния исторического познания уже получено. Тогда вста-
ёт вопрос: допускает ли это состояние (или можно ли предполагать) воз-
можность дальнейшей специализации, которая не просто изменит некото-
рые характерные черты данной деятельности, но придаст ей окончательный
характер? А если так, то каков этот характер? Поскольку я не собираюсь
рассматривать здесь это направление исследований, следует сказать о нем
несколько слов, прежде чем оставить в стороне. Коротко говоря, дело об-
стоит так: деятельность историка заключается в познании прошлого. По-
скольку при нынешнем способе познания прошлое остается не вполне по-
нятным, должен, в принципе, существовать другой способ, лишенный этого
недостатка, который и мог бы считаться той конечной целью, к которой
стремится «история» в ее современном состоянии. Наиболее привлекатель-
ным считается метод исследования (хотя могут существовать и другие, еще
не известные методы), объясняющий события прошлого посредством пред-
ставления их в качестве примеров действия общих законов. Я лично не могу
понять, как этот путь рассуждений мог бы привести к полезным результа-
там. Ясно, по крайней мере, что в основе его лежат далеко не очевидные
предположения, и его приемлемость зависит от нашего отношения к обо-
снованности этих предположений. Кроме того, следует заметить, что пред-
метом поиска является не просто демонстрация того, что историческое по-
знания в его нынешнем состоянии в принципе вынуждено оставлять про-
шлое не вполне понятным, а обнаружение такого способа познания «про-
шлого», который превосходил бы «историю» в ее современном состоянии и
был бы способен занять ее место.
2
Далее я собираюсь рассмотреть современные способы и результаты анализа
с современного состояния исторического познания, иначе говоря, того
анализа, который стремится дать общее описание деятельности историка в
том виде, как она установилась, и определить тип знания, который она
налагает на мир.
Историк отличается, в первую очередь, направленностью своего внима-
ния: он занимается прошлым. Окружающий мир интересует историка лишь
как свидетельство того мира, которого более не существует, и его подлин-
ной деятельностью мы считаем изучение «прошлого». Вместе с тем мы при-
знаем также, что исследовать прошлое и судить о нем — чрезвычайно ба-
s. Заказ № 2438.
130 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
нальное занятие, которому мы предаемся почти каждый день: например, в
процессе припоминания чего-либо или при ответе на такой простой вопрос,
как «Где ты раздобыл такую шляпу?». Поэтому мы стремимся выделить ка-
кие-то специфические черты, по которым можно было бы отличить истори-
ческого познания от других видов деятельности, разделяющих с ним инте-
рес к «прошлому». Многие, размышлявшие над этой проблемой, приходили
приблизительно к такому выводу.
Всякий, кто уделяет внимание прошлому, задает вопросы или что-то ут-
верждает о нем, в какой-то мере участвует в деятельности, являющейся глав-
ным занятием историка. Все утверждения о прошлом являются в некотором
смысле «историческими» утверждениями. Но историк отличается стремлени-
ем верифицировать свои утверждения. В качестве особой деятельности «ис-
тория» возникает из общего и неспециализированного интереса к прошлому
в тех случаях, когда существует искренняя забота об «истине» и «историчес-
ким» событием является любое происшествие, которое, по нашему убежде-
нию (опирающемуся на определенные методы исследования), было таким, как
мы его описали.2 Таким образом, деятельность по изучению прошлого и выс-
казывания о нем выражаются в виде иерархии позиций по отношению к про-
шлому. Во главе этой иерархии находятся «истории», выделяющиеся своим
стремлением к «истине», специальными приемами ее обнаружения, а также,
по-видимому, склонностью считать какие-то соображения относительно про-
шлого и некоторые события более важными, чем другие. Его деятельность,
таким образом, отличается не только от обыденных обращений к прошлому,
к которым прибегает каждый человек ради дела или развлечения, а также, по-
видимому, склонностью считать какие-то соображения относительно прошло-
го и некоторые события более важными, чем другие. Его деятельность, таким
образом, отличается не только от обыденных обращений к прошлому, к ко-
торым прибегает каждый человек ради дела или развлечения, но также и от
деятельности (например) хрониста или летописца, чьи высказывания о про-
шлом опираются на исследования, признаваемые менее широкими и критич-
ными, чем исследования историка.
Такое общее описание сути дела имеет много достоинств. В частности, здесь
признается, что «историк» (благодаря «практике») занят особым ви-дом дея-
тельности. Конечно, это описание неполно, и нет сомнения также в том, что оно
наивно с философской точки зрения. Однако оно хорошо тем, что не ставит
преград для дальнейшего изучения: действительно, можно ука-зать два направ-
ления дальнейших исследований. Его неполнота и философская наивность зак-
лючаются не в постановке проблемы как проблемы установления специфики
«исторического» исследования, а только в достигнутых результатах.
2 Так, Цицерон отличал «историческое» и «воображаемое» прошлое. Первое связано с
«истиной», второе — с «удовольствием».
Деятельность историка 131
Оно побуждает нас прежде всего уточнить наше понимание деталей
«практики» «историка». В ответ на это были предприняты попытки выя-
вить эвристические приемы исторического исследования и свести «практи-
ку» «историка» к набору правил. Но это предприятие оказалось не слишком
успешным. Я не хочу заниматься этим здесь.
Существует, однако, другое направление исследований, подсказываемое
данной формулировкой проблемы: попробовать рассмотреть, нельзя ли исто-
рическое познание охарактеризовать посредством выявления специфики за-
даваемых историком вопросов и его высказываний о прошлом. Поскольку
движение в этом направлении обещает некоторые плоды, я собираюсь рас-
смотреть, куда оно ведет нас и какие результаты оно способно принести.
Исследователи, которые двигались этим путем, уже достигли определен-
ных результатов. Они заметили, например, что изучение прошлого может
принимать форму выяснения того, что должно было произойти, либо что
могло произойти, либо что действительно произошло. И большая часть из
них пришла к выводу о том, что историк занимается исключительно тем,
что действительно произошло. Было осуществлено разделение мира «при-
роды» и мира «человека», и был сделан вывод, что историк занимается со-
бытиями, которые можно считать результатами человеческих действий, а
также теми, которые (пусть они и принадлежат миру «природы», как земле-
трясения или климатические изменения) обусловлены или вызваны конкрет-
ными человеческими действиями.
Уточняя эту позицию, Коллингвуд указывает на то, что предметом (res
gestae) истории являются не любые человеческие действия, а только «осоз-
нанные», т.е. целенаправленные действия. Предполагалось далее, что отно-
шение к прошлому, побуждающее к изучению «истоков» отдельных явле-
ний современной действительности, есть отношение, чуждое историку. Рав-
ным образом совсем недавнее прошлое было сочтено неподходящим для
«исторического» исследования. И последнее: некоторые ученые заключили,
что «историк» не рассматривает человеческие действия с точки зрения их
моральной правоты или неправоты, и в его сочинениях неуместны утверж-
дения, содержащие нравственное одобрение или осуждение.
Все эти идеи можно считать попытками более точно определить харак-
тер вопросов и утверждений, соответствующих деятельности историка, по-
пытками отличить особое «историческое» отношение к прошлому от дру-
гих существующих или возможных отношений и, таким образом, более точ-
но охарактеризовать специфику исторического познания. Каждая из этих
идей была поддержана определенными рассуждениями. Вопросы, исключен-
ные из сферы деятельности «историка», рассматриваются либо как вопро-
сы, ответить на которые историку не дают возможности имеющиеся в его
распоряжении свидетельства и методы; либо же они исключены по какой-то
другой причине. Многое можно сказать в пользу этого способа постепенно-
132 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
го выяснения сути деятельности «историка», он обладает достоинствами
умеренности и эмпиричности.
Тем не менее в этой процедуре постепенного исключения тех или иных
вопросов остается что-то не вполне удовлетворительное. Даже если рассужде-
ния, подкрепляющие каждое исключение, были бы более убедительными, чем
это обычно бывает, отсутствие общего видения ситуации придает этим ис-
ключениям неизбежный отпечаток произвольности. Каждое исключение (или
запрещение) остается изолированным и подкрепленным лишь доводами ad
hoc, которые либо непонятны, либо неадекватны, поскольку не связаны с ка-
ким-либо общим представлением о типах исследования и видах утверждений,
соответствующих «историческому» познанию прошлого. Одним словом, дан-
ный способ изучения деятельности «историка» ставит перед нами задачу: ус-
тановить логику этих попыток задать поле исторического исследования.
Распространенная точка зрения содержит не вполне продуманные допу-
щения. Считается, что среди различных видов утверждений о прошлом мож-
но обнаружить и выделить утверждения определенных типов или даже одно-
го типа, которые являются особой прерогативой историка. Считается, что
множество утверждений о прошлом, являющихся вполне правомерными (и
даже в некотором смысле «истинными»), нельзя отнести к «историческим»
утверждениям. Полагают, что «историческим» событием является не проис-
шествие особого рода, которое, как мы считаем, имело место, но происше-
ствие особого рода, обнаруженное при ответе на вопрос определенного типа.
Наша задача — дать оценку этим допущениям, чтобы определяемый ими
взгляд на деятельность «историка» мог быть раскрыт более полно и, вероят-
но, более прочно обоснован.
Будет правильным начать с нашего отношения к окружающему миру, по-
скольку изучение прошлого есть проявление определенного отношения к
элементам этого мира. Любое происшествие, случившееся у нас на глазах
(если мы вообще обращаем на него внимание), вызывает какую-то реакцию,
причем каждое событие способно вызвать множество таких реакций. На-
пример, если я вижу снос старого здания, моей реакцией может быть про-
стая реакция самосохранения — убраться подальше от падающих облом-
ков. Однако это может быть и более сложная реакция. Я могу осознать про-
исходящее как акт вандализма и испытать гнев и скорбь, либо увидеть в нем
свидетельство прогресса и прийти в радостное возбуждение по этому пово-
ду, либо, в конце концов, всю сцену можно созерцать без какой-либо arriere
pensee * — просто как картину, образ, который радует глаз. Одним словом,
*3адней мысли (фр.). — Прим, перев.
Деятельность историка 133
обратить внимание на происходящее перед нами всегда означает что-то сде-
лать с ним. Увидеть значит осознать увиденное как то или это. Если у меня
есть спутник, я могу сказать ему что-то относительно увиденного, и исполь-
зованные мной выражения покажут, как я истолковываю увиденное.
Все, что происходит у нас перед глазами, может быть интерпретировано
самыми разными способами. Но, вообще говоря, наши реакции на мир рас-
падаются на два вида. Мы можем смотреть на мир таким способом, кото-
рый ограничивается лишь тем, что находится непосредственно перед нами и
не побуждает нас к каким-либо выводам; или же мы можем взирать на про-
исходящее как на свидетельство чего-то скрытого, рассматривая, например,
причины и следствия. Первая из этих реакций проста и неизменна, и я буду
называть ее реакцией «созерцания». Это преимущественно реакция поэта
или художника, для которых мир состоит не из событий, осознаваемых ими
как знаки или предзнаменования, а из беспричинных художественных «об-
разов», не вызывающих ни одобрения, ни порицания и к которым одинако-
во неприменимы категории «реального» и «вымышленного». Напротив,
реакции второго типа могут различаться между собой. Здесь можно выде-
лить две главные разновидности, которые я буду называть, соответственно,
практической и научной реакциями.
Во-первых, мы можем осознавать происходящее в его связи с нами, на-
шими желаниями, действиями или надеждами. Это наиболее обычный вид
реакций, мы с трудом освобождаемся от него и легко к нему возвращаемся.
Я называю его практической реакцией, и ее участником является восприя-
тие практического события.
С момента рождения мы действуем; не действовать — значит не жить. И
прежде всего нас заботит пригодность этого мира для жизни, его дружелю-
бие или враждебность по отношению к нашим желаниям и действиям. Мы
хотим чувствовать себя в этом мире как дома, а для этого необходимо, в
частности, иметь возможность установить, какие влияния окажут на нас
происходящие события, и в какой-то мере контролировать это влияние.
Это осуществляется, в первую очередь, нашими органами чувств. В про-
цессе «наблюдения», «слушания», «пробования на вкус», «осязания» мы по-
лучаем представление о том, что именно происходит в мире и в то же время
устанавливаем определенную дистанцию между собой и происходящим,
предоставляя себе возможность действовать так, как мы считаем целесооб-
разным. «Наблюдение» устанавливает наибольший пространственно-времен-
ной интервал между нами и событиями, «слушание» — меньший, но все еще
полезный, в «пробовании на вкус» интервал становится еще меньше, а в «ося-
зании» превращается почти в ничто.
Для того чтобы понять мир в его отношение к нам, мы используем опре-
деленные концептуальные различения. Мы осознаем события как благопри-
ятные и неблагоприятные, вещи — как съедобные или ядовитые, полезные
134 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
или бесполезные, дешевые или дорогие, и так далее. Если не все, то большая
часть этих различий дает пример опознания в практической деятельности
того, что можно назвать «причиной» и «следствием», поскольку осознать
«причину» означает понять его как сигнал или знак того, что, вероятно, за
ним последуют другие события. Понять событие как благоприятное значит
ожидать, что за ним последуют другие события определенного характера;
признать товар «дешевым» значит воспринять его как сигнал к наступле-
нию других событий. Способность осознавать события как «причины» в этом
смысле сразу же значительно увеличивает нашу власть над миром. Она по-
зволяет предугадывать события, которые еще не произошли, и благодаря
этому дает дополнительную возможность контролировать их влияние на нас.
Кроме того, наше одобрение или осуждение, наши моральные оценки
также включены в это практическое отношение к миру. Категории «пра-
вильный» и «неправильный», «хороший» и «плохой», «справедливый» и
«несправедливый» и др. относятся к организации и пониманию мира в его
отношении к нам, т.е. к его пригодности для жизни. «Герой» и «злодей» мо-
жет быть, грубые категории, но они занимают свое место в мире практичес-
кой деятельности. Осуждая «порок» и аплодируя «добродетели», мы выра-
жаем наши убеждения относительно того, что желательно, а что нежелатель-
но в человеческом поведении и характере.
Практическая позиция дает нам некий универсум рассуждения, однако
это не единственный доступный нам универсум. Ее дополнением и альтер-
нативой является та позиция, которую я назвал научной. При этой позиции
мы рассматриваем события не в их отношении к нам и пригодности мира
для жизни, а как независимые от нас. Одним словом, данное отношение яв-
ляется тем, что мы трубо называем «объективным» отношением, и эта «объек-
тивность» отражается в наших утверждениях о наблюдаемых событиях. В
то время как охотник осознает животных как опасных и дружелюбных (обо-
значая некоторых из них как «съедобных»), хозяйка различает продукты в
зависимости от их цены, кухарка — в отношении их вкуса, а моралист — в
оценках одобрения или осуждения, категории ученого упорядочивают объек-
ты иным способом — безотносительно к тому, как они затрагивают его лич-
но, а так, как они существуют сами по себе.
Общий характер подхода ученого к окружающему миру проявляется в
используемых им понятиях «причины» и «следствия». Когда действующий
человек осознает событие как «причину», он понимает его как знак того,
что следом можно ожидать какого-то другого события, и основанием тако-
го понимания является восприятие человеком мира в отношении к нему са-
мому. С другой стороны, для ученого «причина» есть гораздо более точное
и ограниченное понятие, и «причину» в его понимании настолько трудно
установить, что она не обладает практической полезностью. «Причина» —
это необходимое и достаточное условие гипотетической ситуации. Иначе
ЭЛ HI ш ю п 6
Деятельность историка 135
говоря, «причина» и «следствие» означают всеобщие и необходимые связи,
а не только ту связь, которая оказалась практически полезной.
Разница между практической и научной реакциями на окружающий мир
может быть проиллюстрирована следующим образом: когда мы рассматри-
ваем объекты с точки зрения их отношения к нам и пригодности мира для
жизни, вполне допустимо сказать, что «наблюдение» помещает вещи на боль-
шее расстояние от нас, чем «слушание». Поэтому слепоту мы считаем боль-
шей помехой для практической деятельности, чем глухоту. Но когда мы рас-
сматриваем объекты с точки зрения их независимости от нас, то говорим
иначе: скорость света больше скорости звука. «Свет» и «звук» являются, так
сказать, «научными» эквивалентами практической деятельности «наблюде-
ния» и «слушания».
Опять-таки, когда я говорю: «Мне жарко», то использую язык практи-
ки. Я утверждаю нечто о мире в его отношении ко мне, и способ, которым я
это делаю, будет, несомненно, передавать либо мое удовлетворение, либо
неудовлетворенность. Если я говорю: «Сегодня жаркий день», то это все еще
утверждение о мире в отношении ко мне. Оно шире по своему значению, но,
несомненно, высказано на языке практики. Даже когда я говорю: «В 12 ча-
сов дня по Гринвичу термометр на крыше Министерства авиации показы-
вал 90 градусов по Фаренгейту», я все еще не могу полностью освободиться
от практической позиции, но уже близок к тому, чтобы говорить о мире не в
отношении к себе, а в отношении его независимости от меня. Наконец, ког-
да я говорю: «Точка кипения воды 100 градусов по Цельсию», то данное
утверждение можно признать достигнувшим языка «науки». Описываемая
ситуация является гипотетической, и данное наблюдение не относится к миру
в его отношении ко мне.
И в практической, и в научной реакциях мир предстает как мир «фактов».
«Истина» и «заблуждение» здесь применимы, хотя в одном случае это «прак-
тическая« истина, а в другом — «научная». Обе позиции побуждают нас ис-
кать то, чего нет в наличии: события являются «следствиями» «причин» и пред-
вестниками будущих событий. Созерцательная позиция, напротив, открыва-
ет нам мир простых «образов», которые не вызывают ни стремления к иссле-
дованию, ни размышлений относительно причин и условий их появления, а
доставляют наслаждение лишь одним фактом своего появления.
4
Мы пришли к выводу, что события, происходящие у нас на глазах, могут иметь
множество интерпретаций. Далее, мы согласились с тем, что историк зани-
мается «прошлым». Теперь мы должны осознать, что «прошлое» есть неко-
торая конструкция, которую мы создаем из событий, происходящих у нас
на глазах. Так же, как «будущее» появляется в результате понимания событий
136 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
настоящего в качестве свидетельств того, что еще только готовится появить-
ся, «прошлое» появляется благодаря истолкованию текущих событий как сви-
детельств того, что уже произошло. Короче говоря, «прошлое» является след-
ствием понимания настоящего особым образом.
Рассмотрим то, что находится перед нами: здание, предмет мебели, кар-
тина, монета, отрывок текста, юридический документ, надпись на камне,
современная манера поведения или воспоминание. Любое из этих явлений
принадлежит настоящему. И одна из возможных реакций (хотя, конечно, не
единственная) на эти явления состоит в том, чтобы понять их как свидетель-
ства событий, которые уже произошли. Действительно, в мире нет ничего,
что не могло быть рассмотрено таким образом, но также нет ничего, что
можно рассматривать только таким образом.
В таком случае «прошлое» есть определенный способ прочтения «настоя-
щего». Но помимо того, что это прочтение предполагает понимание явлений
настоящего как свидетельств уже происшедших событий, оно может подразу-
мевать и множество отношений к этим событиям. Если руководствоваться
высказываниями тех, кто говорил и писал о событиях прошлого, то три наи-
более важных и доступных нам отношения можно назвать практическим, на-
учным и созерцательным. И для каждой из этих позиций существует свой спо-
соб говорить о прошедших событиях. Во-первых, если мы понимаем события
прошлого только в отношении к себе и нашим собственным действиям, нашу
позицию можно назвать «практической».
Таково, например, отношение к прошлым событиям практикующего
юриста: о том, что они действительно имели место, он заключает, истолко-
вывая явление настоящего — лежащий перед ним правовой документ, —
как свидетельство этого. Рассматривая прошедшее событие исключительно
в связи с его настоящими следствиями, он сообщает своему клиенту: «Мож-
но ожидать, что по этому завещанию вы унаследуете тысячу фунтов» или
«Мы должны получить консультацию адвоката относительно того, являет-
ся ли этот договор действительным». И, конечно, его интересуют только те
события прошлого, которые имеют практические следствия в настоящем.
Итак, наше обычное отношение к тому, что мы видим, является практи-
ческим и точно так же является практическим наше обычное отношение к тому,
что — как мы считаем (опираясь на непосредственное восприятие) — уже про-
изошло. Обычно мы интерпретируем прошедшие события в отношении к себе
и к нашей текущей деятельности. Мы читаем прошлое назад от настоящего
или от менее далекого прошлого, мы всматриваемся в него в поисках «исто-
ков» того, что видим вокруг себя. Мы выносим моральные суждения относи-
тельно поведения людей в прошлом и заставляем прошлое разговаривать с
нами на языке настоящего. То, что появляется в результате, можно назвать
практическим прошлым. И задаваемые нами вопросы, и наши утверждения о
прошлом соответствуют именно практическому отношению. Например:
' Деятельность историка 137
Ты хорошо выглядишь, где провел отпуск?
Лето 1920 г. было прекраснейшим в моей жизни. \
Он умер слишком рано.
Король Иоанн был плохим королем.
Смерть Вильгельма Завоевателя была случайной.
Было бы лучше, если бы Французская революция не произошла.
Он истратил свои ресурсы в серии безуспешных войн.
Вмешательство Папы изменило ход событий.
Эволюция парламента.
Развитие индустриального общества в Великобритании.
Фабричное законодательство начала XIX века получило высшее развитие в го-
сударстве всеобщего благосостояния XX века.
Наиболее серьезным последствием наполеоновских войн была потеря рынков
сбыта английских товаров на континенте.
Результатом англо-бурской войны было осознание необходимости радикальной
реформы британской армии.
На следующий день Освободитель выступил на большом собрании в Дублине.
Каждое из этих утверждений сформулировано на языке практики.
Во-вторых, наше отношение к тому, что случилось в прошлом, может
быть, вообще говоря, «научным» отношением. При этом события прошлого
интересуют нас не в отношении к нам и пригодности мира для жизни, а в
отношении их независимости от нас. Практическая реакция — это всегда
реакция заинтересованного лица, сторонника той или иной позиции. В на-
учной реакции появляется прошлое, не связанное с нами, прошлое само по
себе. Но хотя слово «научный» вполне можно использовать для обозначе-
ния интереса к прошлым событиям в отношении их независимости от нас,
здесь необходимо сделать два уточнения.
Во-первых, стремление «ученого» к установлению необходимых и дос-
таточных условий будет отражено в языковых выражениях, используемых
им для разговора о прошлом. Образец утверждений «ученого» можно най-
ти у Валери: «Необходимым и достаточным условием всех революций де-
вятнадцатого столетия была централизованная система власти, благодаря
которой ... одним словом минимальной силы и продолжительности целая
нация могла быть подчинена любому авантюристу». Одним словом, если
придать более точное значение слову «наука», то это не просто утвержде-
ния, в которых прошлое остается не включенным в настоящее, но также
такие утверждения, в которых события истолковываются как примеры дей-
ствия общих законов. И во-вторых, если быть еще точнее, на самом деле
«научного» отношения к прошлому быть не может, поскольку мир, появ-
ляющийся в научной теории, — это мир без времени, мир не реальных со-
бытий, а гипотетических ситуаций.
138 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Наконец, наше отношение (и, следовательно, способ, которым мы осоз-
наем прошедшие события, а также наши высказывания относительно этих
событий) может быть «созерцательным» отношением. Оно представлено в
деятельности так называемых «исторических» романистов, для которых
прошлое представляет собой не практический, не научный «факт», а кладо-
вую чистых образов. Например, Наполеон в романе Л .Н.Толстого «Война и
мир» есть образ, относительно которого бессмысленно спрашивать: где он
родился? Был ли он таким на самом деле? Совершал ли он эти поступки,
произносил ли эти слова в действительности? Где он находился в то время,
когда его имя не упоминается на страницах романа? Точно так же подобные
вопросы были бы неуместны в отношении Орсино, герцога Иллирии из «Две-
надцатой ночи» В.Шекспира. Здесь, правда, необходимо сделать оговорку.
«Прошлое» как таковое не может появиться в «созерцании» (при этом отно-
шении к миру мы не ищем того, что не дано непосредственно). «Созерцать»
события прошлого — деятельность, собственно говоря, зависимая. То, что
мы созерцаем, — события не прошлого, а настоящего, которые, как мы счи-
таем (в силу какого-то другого отношения к настоящему), произошли. Вспо-
минать и созерцать воспоминания — это разные виды опыта; в первом слу-
чае между прошлым и настоящим проводится различие, во втором — нет.
Одним словом, когда предметы (корабль или лопата) «созерцаются», мы
пренебрегаем их практической пригодностью. Точно так же, когда «созер-
цается» то, что при другом отношении было бы осознано как событие «про-
шлого», его принадлежность прошлому игнорируется.
В таком случае то, что мы называем «событиями прошлого», является
продуктом понимания современных явлений как свидетельств событий, ко-
торые уже произошли. Прошлое, каким бы образом оно ни появилось, есть
определенная разновидность прочтения настоящего. Любое отношение, ко-
торое события настоящего способны вызвать у нас, может также быть выз-
вано событиями, появляющимися в результате осмысления событий настоя-
щего как свидетельств других событий — тех, которые мы называем собы-
тиями «прошлого». Короче говоря, не существует одного прошлого, пото-
му что не существует одного настоящего. Существуют «практическое», «на-
учное» и «созерцательное» прошлое, причем каждый из этих универсумов
рассуждения логически отличен от других.
к
Итак, принято считать «историка» первым среди тех, кто рассматривает со-
бытия настоящего в качестве свидетельств уже прошедших событий. И это
действительно так. Хотя практический человек часто и находит полезным
использовать такое отношение к настоящему, а ученый (в общих чертах) и
поэт также на это способны (или пользуются результатами опыта других),
Деятельность историка 139
«историк» никогда не действует каким-либо другим способом. Деятельность
историка отличается тем, что явления настоящего, находящиеся перед ним,
он истолковывает как свидетельства прошедших событий. Его отношение к
настоящему является единственным, при котором прошлое появляется всегда.
Но для того чтобы вполне понять его деятельность, мы должны спросить себя;
можно ли в отношении «историков» к прошлому и в типичных для них утвер-
ждениях выделить какие-то характерные черты, которые позволили бы сде-
лать вывод, что кроме «практического», «научного» и (обманчивого) «созер-
цательного» прошлого существует еще особое «историческое» прошлое?
Существует, кажется, одно затруднение, от которого можно сразу же
избавиться, так как в действительности трудность это вымышленная. Прак-
тический способ понимания прошлого столь же стар, как и сам род челове-
ческий. Понимание мира (включая то, что, как мы считаем, произошло в
прошлом) в отношении к себе есть простейший и наименее изощренный спо-
соб понимания. И созерцательное отношение к тому, что осознается как со-
бытия прошлого, вообще говоря, также является изначальным и универсаль-
ным. Обстоятельства могут помешать созерцанию, и даже для привыкших
к нему людей оно может стать обременительным и будет отброшено в пользу
другого отношения. Но великие поэтические сказания Европы и Востока
показывают, что с самых древних времен то, что в других терминах осозна-
ется как события прошлого, осознавалось не как «факты», а как «образы»
созерцания. Вопросы, которые являются равно правомерными относитель-
но «Jude the Obscure», являются равно правомерными относительно гоме-
ровского Одиссея или Роланда и Оливера. Одним словом, когда мы рассмат-
риваем привычные для нас утверждения о прошлом, нет сомнения в том, что
большая их часть состоит из выражений языка практики или искусства.
Поэтому, если обратиться к тем авторам, которых именуют «историками»
(поскольку они проявляют устойчивый интерес к событиям прошлого), и
спросить, какого рода утверждения о прошлом являются для них привыч-
ными, то мы увидим, что в основном это будут практические и созерцатель-
ные утверждения. Кажется, что данное наблюдение лишает ветра паруса
нашего исследования. К чему, спрашивается, обратиться, чтобы установить,
что значит быть историком, как не в практической деятельности тех, кто
проявляет устойчивый интерес к прошлому? И на этом пути нас ждет при-
близительно такой ответ: история есть набор высказываний о прошлом, в
котором преобладают выражения языка практики и созерцания. И если мы
не хотим создать вымышленный персонаж, по непонятным причинам назы-
ваемый «историком», то больше нам сказать нечего.
Однако это затруднение не должно смутить нас. Есть два соображения,
дающие возможность предотвратить провал нашего исследования. Во-пер-
вых, следует вспомнить, что «история», как и многие другие виды деятель-
ности, возникла постепенно и только недавно стала приобретать особый
140 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
!
V
характер. Легко понять, что деятельность астронома и утверждения людей,
занимающихся астрономией, во многих отношениях отличающихся от того,
какими они были в то время, когда эта деятельность была гораздо менее
специализированна, чем сейчас. Мы не считаем все виды утверждений о звез-
дах (и даже все варианты «истинных» утверждений) подходящими для «аст-
ронома». Действительно, многие из этих утверждений мы отбрасываем как
явно чуждые тому, что сегодня признается полем деятельности астронома.
И хотя мы менее решительно применяем такие рассуждения к историческо-
му познанию, в данном отношении эти два вида деятельности похожи. Кро-
ме того, раскрыты многие детали того процесса, благодаря которому исто-
рическое познание стало специфическим видом деятельности. В ходе этого
процесса, похожего на тот, благодаря которому появился «ученый-естествен-
ник» в сегодняшнем понимании, были разработаны методы критического
анализа источников информации, созданы, применены, а затем подвергну-
ты критике универсальные понятия, ныне отвергнутые или переформули-
рованные 3.Ни в одном из этих аспектов не было непрерывного прогресса.
Ценные достижения часто оказывались забыты или утрачены и возрожда-
лись только тогда, когда очередной поворот в судьбах историографии зас-
тавлял вспомнить о них. И наконец, историческое познание было разброса-
но во множестве отдельных областей исследования, и часто более четкая
специализация достигалась в каких-то областях раньше, чем в других (часто
благодаря взаимному влиянию). По-видимому, можно утверждать, что пи-
онерами специализации были библейские и церковные историки, и продви-
жение в этих областях постепенно распространилось на другие сферы иссле-
дования. Так, например, замечательные результаты, достигнутые в после-
дние 80 лет историками Средних веков, оказались возможными в значитель-
ной мере благодаря применению более ранних технических достижений ис-
ториков Древнего мира. Короче говоря, хотя и можно надеяться обнару-
жить некоторые специфические черты исторического познания, мы не зани-
маемся поисками его необходимых и достаточных условий. Данная деятель-
ность представляет собой то, чем она стала, и наш анализ ограничивается
только тем, что уже достигнуто.
И во-вторых, если изучить работы тех, кто проявлял устойчивый инте-
рес к прошлому, особенно новейших писателей, то мы найдем в них не толь-
ко практические или созерцательные утверждения, но также утверждения
3 Актон в одной из своих записных книжек (Add, 5436,62), цитируемых в работе X.Баттерфилда
«Человек в его прошлом», замечает: «Выражения типа «развитие языка», «физиология
государства», «национальная психология», «мышление церкви», «развитие
1П платонизма», «непрерывность права», на уточнение которых была потрачена половина
умственной работы нашего века, были непонятными для мыслителей XVIII столетия
— Юма, Джонсона, Смита, Дидро». Но не менее верно и то, что в последние 80 лет
произошел отказ от большинства, если не от всех, этих понятий; они вновь стали
непонятными.
ой > 1 м > Деятельность историка 141
другого вида. И поскольку такие утверждения, вообще говоря, можно най-
ти в сочинениях только тех авторов, которых мы привыкли считать «исто-
риками», постольку полезно посмотреть, не содержится ли в них намек на
такое отношение к прошлому, которое — не будучи ни практическим, ни
научным, ни созерцательным — может быть с полным основанием названо
«историческим».
6
Теперь, учитывая эти соображения, наше положение представляется более
выгодным для того, чтобы опять — уже с большей надеждой на достижение
обоснованного результата — попытаться ответить на вопрос: «Что такое
историческое познание?».
Мы уже видели, что «историк» понимает явления окружающего мира как
свидетельства прошлых событий. Другие виды исследования также связаны с
этим, но «историк» уникален, поскольку никогда не делает ничего другого.
Но какого рода утверждения высказывает он о прошлом, обнаруживаемым
таким образом? Каков характер тех утверждений о прошлом, которые иногда
(но не всегда) используют «историки» (в отличие от остальных пишущих о
прошлом)?
Их первая отличительная особенность заключается в том, что они пред-
назначены не .для того, чтобы связать прошлое с настоящим фактом или удо-
вольствием: отношение к прошлому здесь не является тем, что я назвал прак-
тическим отношением.
Практический человек читает прошлое назад. Его интересуют и осозна-
ются им только те события прошлого, которые он может связать со своей се-
годняшней деятельностью. Он всматривается в прошлое для того, чтобы объяс-
нить современность, оценить или сделать окружающий мир более пригодным
для жизни и менее таинственным. Прошлое состоит из событий, осознавае-
мых как относящиеся или не относящиеся к последующему положению дел,
как благоприятные или враждебные по отношению к желаемому течению со-
бытий. Практический человек проводит различия между событиями прошло-
го как садовник, отличающий полезные растения от сорняков, как адвокат,
видящий разницу между законными и незаконными детьми. Если он политик,
он приветствует в прошлом то, что подкрепляет его политические пристрас-
тия, и обличает то, что враждебно им. Если он моралист, он налагает на про-
шлое моральную конструкцию, различая добродетель и порок в человечес-
ком характере, должное и ложное в человеческих поступках, одобряя одно и
осуждая другое. Если его наблюдательный пункт дает ему достаточно широ-
кий обзор, он воспринимает в глубинных движениях событий те, что являют-
ся пагубными, и те, которые являются благотворными. Если он увлечен лю-
бимым делом, прошлое представляется ему конфликтом относящихся к этому
142 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
делу событий и действий. Одним словом, человек относится к прошлому так
же, как к настоящему. И его утверждения о прошлых действиях и лицах носят
тот же характер, что и утверждения о современной ситуации, в которую он
непосредственно включен.
Однако с точки зрения особой «исторической» позиции (как она представ-
лена в том типе утверждений, которое я считаю характерным для исторических
сочинений) прошлое не рассматривается в отношении к настоящему и не истол-
ковывается так, как если бы оно было настоящим. Все, что раскрывают или на
что указывают источники, воспринимается как обладающее своим собствен-
ным местом; ничто не исключается, ничто не считается «не относящимся к делу».
Место события не определяется его отношением к последующим событиям 4.
Мы не ищем здесь ни оправдания, ни критики, ни объяснения последующего
или настоящего положения дел. В «истории» нет человека, умершего слишком
рано или «случайно», не существует успехов и неудач и нет незаконных детей.
Ничто не вызывает одобрения и не существует такого желаемого положения
дел, которое можно было бы одобрить, но ничто и не обличается. Такое про-
шлое существует вне морали, политического устройства или социальной струк-
туры, которые практический человек переносит из своего настоящего в свое
прошлое. Вмешательство Папы пе меняло хода событий. Оно само являлось
частью хода событий и, следовательно, действие Папы не было «вмешатель-
ством». X не умер «слишком рано», он умер тогда, когда умер. Y не истощил
своих ресурсов в серии безуспешных войн: эти войны принадлежат фактическо-
му ходу событий, а не некому воображаемому незаконному ходу событий. Пе-
ред собранием в Дублине выступал не «Освободитель», а Дэниел О'Коннел.
Короче говоря, существует отношение к прошлому, которое явно отличается
от «практического» отношения, и поскольку это отношение характерно (хотя,
конечно, с некоторыми оговорками) для тех, кого мы привыкли называть «ис-
ториками» вследствие их устойчивого и исключительного интереса к прошло-
му, его аналог можно назвать особым «историческим» прошлым. И при таком
понимании ситуации утверждения о прошлом на языке практики должны быть
признаны не «ложными» (поскольку нет причин отказывать им в истинности в
рамках их собственного универсума рассуждения: если кто-нибудь и умирает
«случайно», то Вильгельм Завоеватель, конечно, умер именно так; что касается
политики Карла V, то Папа действительно вмешался), а просто «не-историчес-
кими» утверждениями о прошлом.
Это различие между «практическим» и «историческим» прошлым может
быть усилено благодаря дальнейшему наблюдению. Внимание практическо-
го человека привлекается к прошлому смесью современных событий, кото-
рые важны для него вследствие его сиюминутных интересов, честолюбия и
4 Сравни отношение Мейтланда к правовому документу с отношением практикующего
адвоката.
ЭЛКТЯПОП«М1^ Деятельность историка 143
направлений деятельности, либо такими современными происшествиями, ко-
торые случайно встречаются на его пути или обусловлены какими-то жизнен-
ными обстоятельствами. Материал, относительно которого можно спросить:
«Какие данные он дает о прошлом», попадает к нему случайно либо благода-
ря некритическому выбору. Короче говоря, свидетельства, с которых он на-
чинает, попадают к нему от окружающих событий, он их не ищет и не отвер-
гает ничего из того, что предлагает ему окружение. С историком дело обстоит
не так. Его исследование прошлого не определяется случайными столкнове-
ниями с текущими событиями. Он собирает для себя мир современного опыта
(документы и т.п.), руководствуясь соображениями пригодности (соответствия)
и полноты. Именно из этого мира настоящего опыта возникает «историчес-
кое» прошлое.
При таком подходе деятельность «историка» (благодаря свободе от прак-
тического интереса к прошлому) выражает интерес к событиям прошлого
ради них самих, в их независимости от последующих или современных со-
бытий. Одним словом, она выражает то, что в общем смысле я назвал «на-
учным» отношением к прошлому. При таком понимании нет ничего удиви-
тельного в том, что в современной Европе «научное» отношение к миру и
«историческое» отношение к прошлому возникают одновременно и взаим-
но влияют друг на друга. Выделение «научного» и «исторического» позна-
ния было достигнуто в процессе освобождения от древнего и едва ли не един-
ственного когда-то практического отношения человечества к своему окру-
жению. Опять-таки неудивительно также, что, например, изучение звезд,
освободившееся от практического интереса и сопровождающееся утвержде-
ниями о них на «научном», а не «практическом» языке 5, должно было по-
явиться раньше подобного освобождения в отношении изучения прошлого.
Чрезвычайно велика склонность рассматривать деятельность людей в про-
шлом так, как если бы это было настоящее, и прошлое является настолько
важной частью практической деятельности, что освободиться от этого прак-
тического отношения к нему чрезвычайно трудно - гораздо труднее, чем
избавиться от рассмотрения окружающего мира только в отношении к на-
шим сегодняшним желаниям и заботам.
t Тем не менее эта близость между «научным» отношением к миру и «исто-
рическим» отношением к прошлому явилась источником недоразумений. Она
привела к мысли о том, что деятельность историка должна следовать за дея-
5 Под «научным» изучением звезд я не имею в виду, конечно, исследование, не связанное с
желанием получить полезную информацию (в связи с навигацией, например), или такое
исследование, характер которого исключает возможность получения такой
<у информации. Я имею в виду исследование, в котором звезды не считаются (как было
когда-то) интересными благодаря их власти определять или раскрывать человеческие
судьбы. На самом деле, отношение к звездам, при котором они понимаются как не
* ‘ зависимые от нас, является условием любого исследования, которое могло бы дать
"if < полезную информацию (например в навигации).
144 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
тельностыо ученого по мере того, как последняя становилась все более специ-
ализированной. В частности, интерес ученого к установлению всеобщих при-
чин, необходимых и достаточных условий был принят за образец, которому
должен был следовать «историк». При этом забывали о том, что «ученый»
имеет дело только с гипотетическими ситуациями, а это сразу же отделяет
деятельность ученого от всего, чем может заниматься «историк». Однако, ув-
лечение историка более конкретными (отличными от всеобщих) заботами
ученых было недолговечным, оно продолжалось немногим более ста лет. Уди-
вительно, но это увлечение можно рассматривать как запоздалое вторжение
практического отношения в ту деятельность, которая уже находилась в про-
цессе самоопределения, постепенно освобождаясь от этого отношения. По-
этому сегодня попытка выявления общих причин в связи с событиями про-
шлого должна быть признана стремлением еще раз (но в новой и, очевидно,
более выгодной манере) включить прошлое в настоящее и будущее, попыт-
кой заставить прошлое говорить с настоящим и, следовательно, рецидивом
практического отношения к прошлому.
События в понимании «историка» не содержит ничего «случайного», как
не содержит «необходимого» или «неизбежного». Его деятельность состоит
не в распутывании всеобщих причин или необходимых и достаточных усло-
вий, а в предъявлении нам цепочки событий (в той мере, в которой они могут
быть установлены), которая является связующим звеном от одного обстоя-
тельства к другому. Ученый в состоянии установить набор условий, которые
образуют необходимые и достаточные условия гипотетической ситуации,
обозначаемой выражениями «горение» или «окисление»: когда они имеются
в наличии и отсутствуют помехи для их действия, горение имеет место. Но
«историк», хотя и пишет иногда о начале войны как о «пожарище», не остав-
ляет нам и тени сомнения в том, что ему неизвестен набор таких условий, ко-
торые могли бы быть названы необходимыми и достаточными для возник-
новения такого «пожарища». Ему известен только набор событий, которые,
будучи полностью изложены, заставляют воспринимать факт начала данной
войны не как «случайность», «чудо» или «необходимость», а просто как по-
нятное происшествие. Именно это, например, делает де Токвиль в книге «Ста-
рый режим»: французская революция произошла, и ее характер показан не
как необходимое и неизбежное следствие предшествующих событий, а как
понятное сочетание человеческих поступков и решений.
Или рассмотрим следующий отрывок из Мейтланда:
«Представление о том, что король является верховным собственником
всей земли, становится нормой нашего права во времена норманнского
завоеваний. Оно было принято в Книге Страшного суда *... спокойно
Кадастровая книга Вильгельма Завоевателя, 1086 г. — Прим, перев.
зхятнпоп £- Деятельность историка 145
принято в качестве основы для описания земель. С другой стороны, мы
можем с уверенностью сказать, что до завоевания оно не являлось
нормой английского права. К такой норме английское право двигалось
давно, и очень возможно, что недалеко было то время, когда логика
фактов сама породила бы эту идею; реальные правовые отношения уже
были таковы, что общий принцип «Король — верховный собственник
всей земли» не сильно затронул бы их. Однако этот принцип был еще
не развит. Он был привнесен из-за границы, но был спокойно принят,
его не нужно было силой навязывать завоеванной стране. В Нормандии
земли зависели от герцога, герцог, в свою очередь, зависел от короля;
конечно, то же самое было в Англии, другая система была немыслима.
Процесс конфискации дал Завоевателю прекрасную возможность
сделать теоретические представления практической нормой. Соратники,
которых он награждал конфискованными землями, должны были,
конечно, зависеть от него; крупные английские землевладельцы, чьи
владения были восстановлены королем, также зависели от него. Что же
касается простых людей, то они уже были арендаторами собственников,
и когда собственники лишились своих прав, для арендаторов естествен-
ным был взгляд на эти события просто как на перемену господ. Данное
положение в одних случаях было верно, в других — нет. Часто оно
казалось лишь введением новой и более простой терминологии: тот,
кто прежде являлся землевладельцем, лично связанным с господином,
стал арендатором земли, держащим землю господина. Не было
законодателя и, я убежден, хрониста, ссылавшегося на введение этого
нового принципа. Что касается позднейших юристов, Гленвиля и
Брэктона, они никогда не переводили его в слова, они никогда не
z утверждали как достойный внимания факт, что вся земля является
& владением короля: конечно, это так».
Здесь раскрывается некоторый процесс изменений. Мейтланда не интересуют
общие причины или необходимые и достаточные условия. Он предъявляет
нам некое явление (в данном случае представление о земле), и для того чтобы
сделать его понятным, показывает нам, каким образом пересеклись события,
чтобы вызвать его к жизни.
Итак (не считая сказанное последним словом по поводу этой сложной
проблемы), представляется, что существует отношение к прошлому, возник-
шее постепенно и вопреки многим препятствиям, в которых прошедшие со-
бытия понимаются как «факты» (а не простые «образы») — с точки зрения
их независимости от последующих событий или современных обстоятельств
или желаний, а также как не имеющие необходимых и достаточных усло-
вий. Иначе говоря, существует отношение к прошлому, не являющееся ни
практическим, ни научным, ни созерцательным, и побуждающее к исследо-
146 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ваниям особого типа. Многие исследователи прошлого настойчиво придер-
живаются этого отношения, не принимая других, и мы считаем последова-
тельное следование ему важным достижением. Правильность обозначения
его как специфически «исторического» отношения обусловлена двумя об-
стоятельствами. Во-первых, хотя это отношение и не всегда представлено в
исследованиях и высказываниях авторов, которых мы привыкли называть
«историками», оно представлено только этими писателями. И во-вторых,
историческое познание — не некий дар, внезапно обретенный человечеством,
а достижение. Оно возникло постепенно из нескольких видов деятельности,
в процессе которых события настоящего понимаются как свидетельства
прошедших событий, и именно в этом процессе специализации появилось
отношение того типа, которое я описал.
Тем не менее надо признать, что оно наделяет прошлое, а также мир ис-
ключительно гипотетическим и промежуточным типом понятности, и мы
можем захотеть продвинуться дальше. Оно проявляет элементарный «науч-
ный» характер и, таким образом, указывает на существование более «науч-
ного» понимания мира, при котором прошедшие события воспринимаются
как примеры действия всеобщих законов. Однако несмотря на то что по-
пытка достижения этого более «научного» понимания заманчива и может
(на время) отвлечь наше внимание от того, что сейчас считается «историчес-
ким» познанием, она сталкивается с громадными трудностями (в придании
связности понятийной структуре и в сборе соответствующей информации).
Поэтому нелегко увидеть, каким образом (даже при достижении определен-
ных результатов) одно когда-нибудь могло смениться другим.
7
Я утверждал, что в современном познании попытка более точно определить
характер «истории» свелась к исключению определенных типов исследования
и определенных видов высказываний как неподходящих для «историка».
Однако вследствие отсутствия согласия относительно того, что значит быть
историком, мы не в состоянии судить об убедительности этих исключений
или справедливости рассуждений, подкрепляющих каждое из них. Но о каких
бы недостатках современного представления о деятельности историка я не
говорил, оно все-таки обладает тем достоинством, что позволяет нам делать
то, что невозможно было делать прежде. (Другой вопрос, конечно, дает ли
оно возможность делать это правильно.) Теперь очевидно, что большая часть
исключений предложена для того, чтобы более точно отделить деятельность
«историка» от «практического» отношения к событиям прошлого. В самом
деле именно это явилось следствием почти всех технических достижений
историографии за последние 200 лет. А поскольку в методе постепенного
определения характера «исторического» исследования это было упущено из
эмк шг ип а шли Деятельность историка 147
J
виду (или никогда как следует не учитывалось), исключения часто были
недостаточно конкретизированы и подкреплялись неподходящими
рассуждениями.
Например, сомнение в отношении представления о том, что историческое
исследование устанавливает «истоки», оказывается вполне правомерным, но
не по тем причинам, на которые обычно ссылаются. «Историк» склонен от-
вергать поиск «истоков» не потому, что выражение «истоки» двусмысленно
(и вызывает смешение «причины» с «началом»), что «истоки» находятся вне
досягаемости или представляют незначительный интерес, а потому, что ис-
следовать «истоки» значит читать прошлое назад и, таким образом, вклю-
чать его в последующие события или в события настоящего. Такое исследова-
ние погружается в прошлое, чтобы получить информацию о «причине» или
«начале» уже установленной ситуации. Направляемое этой ограниченной це-
лью, оно познает прошлое только в той мере, в какой прошлое представлено
в данной ситуации, и налагает на события прошлого произвольную телеоло-
гическую структуру. Так поступает, например, практикующий юрист (но не
Мейтланд), склонный считать исследование прошлого поиском «истоков».
Одним словом, такие выражения, как «истоки Французской революции», «ис-
токи христианства», «истоки консервативной партии», означают чтение про-
шлого назад и вторжение практического отношения в то, что считается «ис-
торическим» исследованием. Вместо того чтобы побуждать исследователя к
открытию того способа, которым одна конкретная ситуация переходит в дру-
гую, оно провоцирует его всего лишь к абстрактному рассмотрению прошло-
го, являющемуся аналогом той абстракции, которую он выбрал для изучения.
Далее, уже не раз высказывалось скептическое отношение к возможности
подлинно исторического исследования событий недавнего прошлого, а так-
же указывалось на ограниченность «исторического» характера «официаль-
ных» исследований прошлого. Предложенное мной здесь представление об
«истории» усиливает этот скепсис. В то же время оно преобразует, а не просто
подтверждает приводимые обычно доводы. Имеется множество причин ве-
рить, что от изучения недавнего прошлого и от «официального» исследова-
ния прошлого нельзя ожидать достижения статуса «исторического» исследо-
вания. На недавних событиях особенно трудно сфокусировать внимание, а
существующие предубеждения мешают беспристрастности. Данные, которые
необходимо учесть, слишком обширны и в то же время разочаровывающе
неполны. Было отмечено также, что «официальному» изучению прошлого
свойственна ограниченность, обусловленная наличием иных интересов, не-
жели стремление к «истине». Все это вполне известно. Однако реальным осно-
ванием нашего скептицизма служит тот факт, что прошлое предстает перед
нами, в первую очередь, на языке практики, а на язык «истории» его еще нуж-
но перевести. И решить эту задачу перевода «историку» особенно трудно тог-
да, когда изменение обстоятельств, переживаемый период времени или рав-
148 Майкл Оукшот. Рационализм в политике i
i
нодушие ничем или почти ничем не помогают ему. Легче созерцать объект,
чья бесполезность и неприменимость к текущим делам позволяет его изоли-
ровать, и легче оценить шутку, если она не направлена против самого себя.
Точно так же легче (при прочих равных условиях) вычленить «историю» из
прошлого, которое безусловно не вызывает не-исторического отношения.
Кроме того, данное понимание проблемы не только ставит наш скепти-
цизм на более твердую почву — оно также расширяет его сферу в двух на-
правлениях. Во-первых, становится ясным, что равное сочувствие всем лицам
и интересам, включенным в ситуацию (т.е. простое отсутствие предубежде-
ния), само по себе никогда не может перевести «практическое» описание ситу-
ации в «историческое», ибо здесь мы имеем дело с двумя разными универсу-
мами рассуждений. И во-вторых, выясняется, что трудно взглянуть «истори-
чески» не только на недавнее прошлое, но и на любой период или ситуацию,
которые вызывают практический интерес. Не так давно то, что называют ев-
ропейским «Средневековьем», вызывало преимущественно практическое от-
ношение, и было чрезвычайно трудно не связывать тем или иным образом
события того времени с более поздними периодами и с настоящим. Действи-
тельно, выражение «Средние века» (подобно выражениям «античный», «со-
временный», «ренессанс», «просветительский», «готический» и т.п.) возникло
как «практическое» выражение, и лишь недавно стало приобретать ограни-
ченную «историческую» пригодность 6. Изучение Средних веков началось в
тот период, когда шло разрушение институтов феодального общества, и мно-
го времени прошло, прежде чем оно вышло из тени политики. Многое можно
сказать в пользу того, что нам труднее изолировать от практического (поли-
тического или религиозного) отношения и рассматривать «исторически» XVII
столетие истории Англии и норманнское прошлое Ирландии, чем любой дру-
гой период нашего прошлого. «Историческое» отношение к герцогу Альба
является даже сейчас трудно достижимым в Бельгии, а для испанских авторов
все еще нелегко перевести на язык «истории» иберийскую цивилизацию мав-
ров, т.е. не писать о ней как о незаконном и прискорбном вторжении. Одним
словом, когда реальное основание трудности написания недавней «истории»
становится явным, оно обнаруживает себя как основание гораздо более ши-
рокого поля трудностей в «историческом» исследовании прошлого 7. Реко-
8 Стоит вспомнить замечание Хейзинги относительно того, что эти и подобные выражения
(например, «каролингский», «феодальный», «христианский»,* «гуманистический») в
исторических сочинениях нельзя считать доказанными гипотезами или фундаментом
для возведения серьезных конструкций. Это — термины, по небрежности используемые
ради той частицы понимания, которую они могут дать.
7 «То обстоятельство, что гак называемая политическая борьба новой истории является частью
той борьбы, в которой мы сами участвуем, оказывает на историю двоякое влияние.
Оно усиливает наш интерес и в то же время замутняет и искажает наш взгляд. В какой
степени последнее обстоятельство верно, можно заключить из того факта, что (даже
когда это касается событий древней истории и времен далекого прошлого) если
'Ч.Л/П г v Деятельность историка 149
мендация историку исключить моральные оценки (но, конечно, не описание
поведения в терминах морали) из всех высказываний представляет собой наи-
лучший пример как полезности, так и ущербности данного способа уточне-
ния смысла деятельности «историка». При моем истолковании данной дея-
тельности подтверждается справедливость исключения морального одобре-
ния или осуждения и выражений, представляющих моральные оценки поведе-
ния в прошлом. Однако рассуждения, которые обычно приводят в поддержку
этого исключения, большей частью ошибочны и несущественны. Это объяс-
няется разными причинами. Мы указывали на то, что моральная оценка про-
шлого опирается либо на безусловные моральные нормы (относительно ко-
торых, тем не менее, нет единодушия), либо на нормы, принятые в ту эпоху,
когда осуществлялись рассматриваемые действия (и в этом случае исследова-
тель занимается просто установлением того, что сказал бы моралист того вре-
мени; безусловно, было бы гораздо лучше, если бы он занялся установлением
того, что было сказано фактически, и благодаря этому сделал бы свое иссле-
дование «историей» моральных мнений), либо на нормы каких-то других мест
и эпох, например, на нормы настоящего времени (но с точки зрения «исто-
рии» не существует веских причин предпочесть в качестве точки отсчета ка-
кое-либо одно место и время другому, и вся эта деятельность оказывается,
таким образом, произвольной и излишней). И мы говорили далее, что по-
скольку моральность или аморальность поведения связаны с мотивами дей-
ствий, а эти мотивы всегда скрыты в тайниках души, то имеющихся свиде-
тельств будет недостаточно для вынесения морального приговора такого сорта
относительно чьего-либо поведения как в прошлом, так и в настоящем. Одна-
ко этот аргумент исключает лишь моральное осуждение, но не моральные
оценки вообще из произведений «историков», тогда как желательно исклю-
чить и то, и другое. Истина, однако, заключается в том, что основанием для
исключения моральных оценок (мнений, решений) из «исторического» иссле-
дования и языка является не отсутствие договоренности относительно приме-
няемых норм и не отсутствие свидетельств, а тот факт, что суждение по пово-
ду моральной ценности поведения и наложение моральной конструкции на
прошлое представляют собой вторжение практического интереса в исследо-
вание прошлого. А как мы видели, при вторжении такого интереса не остает-
ся места ни для чего другого. Исследователь прошлого, выступающий в каче-
стве адвоката хорошего поведения, преуспевает только в предъявлении нам
ч я
существует какое-либо сходство между политикой тогда и сейчас, мы, кажется, едва
ли в состоянии взглянуть на них беспристрастно. Таким образом, определенная степень
отдаленности объектов истории желательна (хотя она и не всегда помогает в отношении
предубеждений, подобных нашим сегодняшним предубеждениям) и совершенно
необходима для пестрой смеси наших сегодняшних предвзятых мнений об истории: в
силу разных причин мы хотим, чтобы они отстояли очень далеко от нас» ( Грот Дж.
Кембриджские эссе, 1856, с. 111).
150 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
практического прошлого. Когда мы судим о моральной ценности поведения
в прошлом или о его ценности и полезности («бесполезные» войны, напри-
мер), мы обращаемся с прошлым так, как если бы оно было настоящим. И,
помимо этой, не нужно искать других причин для исключения моральных оце-
нок из деятельности «историка». Одним словом, исследовать моральную цен-
ность прошлого поведения означает впасть в практическое отношение к про-
шлому, и если допустить это в одном пункте, мы вообще не сможем избавить-
ся от практического отношения.
По-видимому, в результате предпринятой здесь попытки охарактеризо-
вать деятельность «историка» мы пришли к некоторым заключениям, кото-
рые, взятые совместно, несколько продвигают нас в этом направлении. Рас-
смотрение же логики этих отдельных заключений не только не дает средства
для подтверждения или опровержения, но также открывает модификации и
расширения, которые делают нашу характеристику еще более обоснованной.
8
Из такого понимания деятельности историка следуют некоторые выводы.
Оказывается, что задача «историка» не может быть выражена в терминах
«вспомнить» или «воссоздать» события прошлого; что, по сути дела, «исто-
рическое» событие — это нечто, реально никогда не происходившее, а «ис-
торическое» действие — что-то никогда не совершавшееся; что «историчес-
кий» герой есть некто, никогда не живший. Язык события всегда является
языком практики, и запись о происшедшем обычно осуществляется на язы-
ке практики, но «практика» и «история» — это два разных универсума рас-
суждения. Таким образом, задача «историка» заключается в том, чтобы со-
здать перевод и понять поведение людей и события прошлого так, как они
никогда не понимались в свое время; перевести действия и события с их прак-
тического языка на исторический язык. Однако, не вдаваясь в подробное
рассмотрение этих выводов, я хочу в заключение высказать некоторое об-
щее замечание по поводу современных проблем исторического познания.
Мы пришли к мнению о том, что в наше время историческое познание
достигло (тем же способом, что и другие виды деятельности) определенной
степени специализации. Быть может, это действительно так. Однако, несмот-
ря на то что мы уже научились распознавать некоторых врагов «историчес-
кого» отношения к прошлому, мы все еще далеки от победы над ними. Если
я правильно представляю себе современное положение дел, мы пытались
вырваться (на протяжении последних ста лет) из того тупика, в который за-
вело историческое исследование руководство «науки»; и мы пришли к осоз-
нанию того факта, что главным непобежденным противником «истории»
является «практическое» отношение к прошлому (хотя относительно этого
существуют еще сомнения и нерешительность). Мы признаем также, что этого
1
зянтнпмп я mi Деятельность историка 151
7$ -8 ? '% 4 ’ <. ь- е •< к
противника трудно победить. Одна из трудностей в этой борьбе обусловле-
на пониманием того, что практическое отношение к прошлому и использо-
вание практического языка в разговоре о прошлом не может, конечно, быть
отвергнуто просто как незаконное. Почему мы должны запрещать его? На
каком основании следует поставить вне закона исконную деятельность при-
способления к окружающему нас миру путем включения нашего прошлого в
наше настоящее? Это, может быть не очень большая трудность, и она пре-
одолевается, когда мы осознаем, что практическое прошлое (включая мо-
ральные оценки прошлого поведения) — враг не человечества, а только «ис-
торика». Но у нас остается более серьезное затруднение, обусловленное тем
фактом, что язык практики налагает свой отпечаток на все исследования
прошлого и его хватку нелегко ослабить, а также тем, что мы живем в таком
интеллектуальном мире, который, в силу своей пагубной привычки к «прак-
тике», является особенно враждебным «истории».
И не следует тешить себя ложными надеждами, верой в то, что «истори-
ческое» отношение к прошлому сегодня более распространено, чем раньше,
что наша эпоха в каком-то смысле особенно расположена к истории. Я ду-
маю, это — иллюзия. Конечно, нашей эпохе свойственно воспринимать собы-
тия, происходящие у нас перед глазами, как свидетельства прошедших собы-
тий, понимать их как «следствия» и обращаться к прошлому, чтобы открыть
их «причины». Но эта склонность соединена с другой, не менее сильной, склон-
ностью включать прошлое в настоящее. Нас интересует не «история», а толь-
ко политика, обращенная в прошлое. Сегодня в большей степени, чем когда
бы то ни было, прошлое представляет собой поле, на которое мы выпускаем
наши моральные и политические мнения, словно гончих на луг в воскресный
день. И даже наши теоретики (от которых можно было бы ожидать больше-
го) в основном заняты выяснением связей между прошлым и настоящим, чем
обоснованием того, что задача «историка» заключается как раз в ослаблении
всех связей между прошлым и «практическим» настоящим. г
«Историк» поклоняется прошлому, но сегодня для тех, кто влюблен в
прошлое, мир оставляет меньше места, чем когда-либо прежде. В самом
деле, событиям не дают спокойно уходить в прошлое, стремятся сохранить
их живыми, искусственно продлевая им жизнь или (если нужно) воскрешая
их из мертвых, чтобы они могли передать свои идеи. Мир желает только
учиться у прошлого и конструирует «живое прошлое», которое с кажущейся
убедительностью повторяет выражения, вложенные в его уста. Однако для
«историка» это является образцом грубой некромантии, ибо обожаемое
им прошлое мертво. Мир же не испытывает ни любви, ни уважения к тому,
что умерло, желая лишь вновь вызвать его к жизни. Он смотрит на про-
шлое как на мужчину, ожидая, что тот сообщит ему что-нибудь дельное,
соответствующее его простым делам и занятиям. Но для «историка» (для
которого прошлое мертво и безупречно) прошлое — женского рода. Он
152 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
любит прошлое как любовницу, от которой никогда не устает и от которой
не ждет «дельного» разговора.
Когда-то на пути возникновения «исторического» прошлого стояла рели-
гия, теперь это делает политика, но всегда это — практическая склонность.
Таким образом, «история» есть результат строгого и изощренного спо-
соба мышления о мире, возникшего недавно из первичного интереса к на-
шему окружению как содержащему намек на то, чего больше нет. Она не
дает ни эстетического наслаждения, ни «научного» осознания, ни практи-
ческого понимания. Как и они, «история» мечта, но мечта особого сорта.
Существует прошлое легенд и саг, представляющее собой драму, из которой
исключено все случайное, второстепенное и нерешенное; она имеет ясный
сюжет, пронизана единым чувством и все в ней точно, за исключением места
и времени. Существует прошлое, в котором случайности получают объяс-
нение через осознание их как продуктов необходимых и достаточных усло-
вий, а также как примеров действия общих законов. И существует прошлое,
в котором каждый компонент известен и понятен в отношении своей связи с
предпочитаемым будущим. Однако «историческое» прошлое носит иной
характер. Это сложный, трудный для понимания мир, мир без единства чувств
и ясного сюжета: в нем события не имеют единого образца и замысла, нику-
да не ведут, не указывают на предпочитаемое строение мира и не служат
основанием для практических выводов. Это мир, целиком состоящий из слу-
чайностей, в котором случайности понятны не потому, что они разрешены,
а благодаря подробным и обстоятельным связям, которые установлены меж-
ду ними: историка интересуют не причины, а повод. Это картина, вычерчен-
ная во множестве разных измерений, и каждая часть подлинно историческо-
го сочинения имеет свой собственный масштаб и должна быть признана са-
мостоятельным примером исторического мышления. Деятельность истори-
ка не сводится к тому, чтобы способствовать разъяснению единственно мыс-
лимой последовательности событий, которая может быть названа «правдой»,
а все другие должны быть отброшены; это деятельность, в которой ученый,
занятый прошлым ради самого прошлого и работающий в избранном мас-
штабе, добивается связности в группе случайностей сходного размера. И если
в столь новом и столь деликатном предприятии он увлечется и сделает ус-
тупку языку легенды, это, вероятно, нанесет меньший ущерб, чем другие от-
клонения от нормы.
1955 год
» i
Моральная жизнь .... 153
МОРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В СОЧИНЕНИЯХ ТОМАСА ГОББСА
Нравственная жизнь — это жизнь inter homines *. Даже если мы станем искать ка-
кое-то внеположное основание для морального долженствования (например воля
Бога), нравственное поведение все равно будет иметь отношение к отношениям
людей между собой и к тому7, какую власть они способны иметь друг над другом.
Это, вне сомнения, распространяется также и на другие виды отношений — напри-
мер на отношение к животным и даже к вещам — но нравственное значение этих
последних ситуаций заключается в том, как в них отражаются отношения людей
друг с другом. Далее, нравственная жизнь возможна только тогда, когда отноше-
ния людей свободны от естественной необходимости, другими словами, если в по-
ведении человека наличествует ситуация выбора. Это не означает, что в каждом
случае выбор обязательно имеет место, поскольку нравственное поведение может
войти в привычку; это не означает также, что каждая ситуация застает человека
без какой-то заранее определенной склонности вести себя тем или иным образом;
не требуется также, чтобы в каждой ситуации диапазон выбора был бесконечен.
Но в то же время возможность выбора должна присутствовать, и, может быть,
можно предположить, что определенные выборы какого-то рода (при том не обяза-
тельно выбор именно такого действия) были сделаны когда-то ранее, хотя в дан-
ной ситуации они уже являются потерянными и отошедшими в прошлое. По-друго-
му говоря, нравственное поведение — это искусство, а не природный дар: оно
представляет собой осуществление приобретенного умения. Но умение в данном
случае заключается не в знании того, как получить желаемое с наименьшей затра-
той энергии, а знание того, как вести себя так, как мы должны вести себя: умение не
в области желания, а в одобрении и в делании того, что одобряется.
Все это, конечно, хорошо известно. Каждый моралист замечал разрыв между
существующими наклонностями людей и тем, что с этим следует делать. Но нужно
заметить кое-что еще, а именно что то, что мы должны делать, неизбежно связано с
тем, каковы мы на самом деле; а мы в данном случае таковы, какими себя считаем.
Моралист, который этого не поймет, может прийти к абсурду. Юм жаловался не на
саму попытку установить связь между моральным и действительным, а на то, как
это было поспешно и неудовлетворительно сделано. Проницательный Вовенарг
Среди людей (лат). — Прим, иерее.
154 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
заметил, что, только изобретя такую увертку, как «добродетель, несовместимая с
природой человека», Ларошфуко смог холодно констатировать: «Никакой доб-
родетели нет». И в самом деле, все моральные языки (idioms), которые смогла по-
родить наша цивилизация, различаются, в первую очередь, не в плане того, как мы
должны поступать, а в плане того, чем мы являемся на самом деле.
Я полагаю, что всего таких языков три, и я их сейчас перечислю: во-первых,
это мораль общественных связей; во-вторых, это мораль индивидуальности; в-
третьих, это мораль общего блага.
В рамках морали общественных связей люди рассматриваются только как
члены общества, и считается, что любая деятельность носит исключительно об-
щественный характер. Здесь не известны отдельные индивиды, способные и склон-
ные совершать собственный выбор, не потому что их подавляют, а потому, что
отсутствуют условия, в которых они могли бы появиться. В морали такого рода
хорошим поведением считается должное участие в неизменной деятельности об-
щества. Кажется, что все выборы уже сделаны, и то, что должно, предстает не в
виде общих правил поведения, но в виде детализированного ритуала, отклонить-
ся от которого столь трудно, что кажется, что для него не существует никаких
видимых альтернатив. То, что следует делать, неотличимо от того, что делается,
так что искусство кажется порожденным самой природой. Несмотря на это, поня-
тие морального поведения существует, поскольку общественная деятельность
такого рода — это на самом деле искусство, а не природа. Оно, конечно, порож-
дено не замыслами, а бесчисленными давно забытыми выборами.
С другой стороны, в морали индивидуальности человеческие существа рас-
сматриваются (поскольку они сами начинают рассматривать себя таким обра-
зом) как отдельные, суверенные индивидуумы, связанные друге другом, причем
их объединение происходит не на основе единственного общего для них всех
дела, но на основе взаимообмена, и они стараются максимально приспособиться
друг к другу: это мораль «Я и другие». Здесь господствует индивидуальный вы-
бор, с которым связана большая часть счастья. Считается, что моральное поведе-
ние состоит в установлении отношений между этими индивидуумами, а одобряе-
мое поведение ставит в фокус независимую индивидуальность, которая предста-
ет как универсальная характеристика человека. Мораль — это искусство взаим-
ного приспособления.
Мораль общего блага исходит из другого понимания человеческой природы
или (что то же самое) появления другого языка для описания человеческого харак-
тера. Люди понимаются как независимые центры деятельности, но одобрение свя-
зывается с таким поведением, когда собственная индивидуальность подавляется,
если она входит в противоречие не с индивидуальностью других, а с интересами
«общества», состоящего из людей. Все вовлечены в одно общее дело. Здесь лев и
бык не считаются одинаковыми, но для обоих не только существует одинаковый
закон, но для того и для другого существует одно и то же одобряемое положение
вещей: лев должен есть солому, как и бык. Единственное, что одобряется — это
«общественная польза», «благо для всех», и мораль предстает как искусство дос-
тижения и поддержания этого состояния. s ‘
гын nftton а Менг.Bi Моральная жизнь .... 155
Возможно, в более глубоком исследовании истории европейских моральных
учений удалось бы выявить, кроме этих трех, другие общие схемы морали, и,
может быть, мои описания выделенных мной схем, будучи идеальной экстраполя-
цией того, что на самом деле только ощущается, неестественно детальны; но у
меня нет сомнения, что эти три общие схемы присутствовали и следовали друг за
другом (не обязательно исключая друг друга) в течение последнего тысячелетия
нашей истории, причем каждая порождает свойственный именно ей тип мораль-
ного рассуждения.
;м* ЭТО ЭГГЭК
2
Изучая труды любого моралиста, прежде всего следует задать вопрос, каково
его понимание человеческой природы. В Гоббсе мы можем узнать писателя, кото-
рый занимается разработкой того языка моральной жизни, который я назвал мо-
раль индивидуальности. Впрочем, это совершенно неудивительно. Только очень
плохой моралист сам изобретает для себя набор добродетелей или понимание
человеческой природы; как заповеди, так и представление о том, каков характер
человека, он должен взять из мира вокруг себя. А, поскольку для Западной Евро-
пы XVII века было характерно быстрое появление на первом плане представле-
ния об индивидуальности — независимом, предприимчивом человеке, выходя-
щем в мир на поиск интеллектуальной или материальной удачи, и об индивиду-
альной человеческой душе, ответственной за собственную судьбу, — разумеет-
ся, это не могло не стать для Гоббса, как и для других современных ему морали-
стов основным предметом моральной рефлексии. Ибо, если бы Гоббс (или любой
другой моралист XVII и XVIII веков) рассуждал бы в схеме морали обществен-
ных связей или морали общего блага, это было бы анахронизмом. Следователь-
но, от современников Гоббса отличает не то, какой язык описания он использо-
вал, но та точная манера, с которой он интерпретировал существующее в его
время отношение к индивидуальности, то, какое моральное учение он с ней свя-
зывал или намеревался из нее вывести. А если задача каждого философа состоит
в том, чтобы перевести обычное для его времени чувство на язык общих понятий,
универсализировать какое-то частное понимание человеческой природы, найдя
для него рациональное основание, у Гоббса это было еще усилено его представ-
лением о том, что философия — это наука о выводе с помощью дедукции общих
причин для наблюдаемого положения вещей. Он применял это как к людям, так и
к вещам; но он был согласен допустить некоторое ослабление связи между ними
1, и, в отличие от Спинозы, который представляет нам универсум метафизичес-
ких индивидуальностей (в котором человек является только частным случаем
универсального состояния), Гоббс как моралист отправлялся от рассмотрения
уникальной человеческой индивидуальности; в его представлении первое, что
следует сделать — это рационализировать эту индивидуальность, выявив ее «при-
чины» (cause), ее состав и структуру.
1 E.W., II, XX
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Сложный образ человеческого характера Гоббс создал на основе того, что
он назвал «самые очевидные постулаты человеческой природы», а именно —
постулат «естественного влечения» (natural appetite), или страсти, и постулат
«естественного разума»2. Это образ, который в разных языках описания пресле-
довал европейскую мысль в течение многих веков, и хотя в наибольшей степени
он знаком нам из христианства, его следы в латинской мысли можно проследить
из языческой античности. Его отражает, например, стихотворение поэта XVI века
Фулька Гревилла:
о wearisome condition of humanity,
born to one law and to another bound,
vainly begot and yet forbidden vanity,
created sick, commanded to be sound
what meaneth nature by these diverse laws,
Passion and Reason, self-division’s cause *.
Но если поэт может позволить себе создать образ, задачей философа является
разъяснить то, что в нем нелогично, и сделать его умопостигаемым.
Любое краткое изложение построенного Гоббсом аккуратно сформулирован-
ного и чрезвычайно сложного образа человеческой природы рискованно, и иссле-
довать все его тонкости сейчас невозможно. Если говорить кратко — по крайней
мере, по сравнению с самим Гоббсом — в его представлении человек является
телесной структурой, для которой характерны внутренние движения. Прежде все-
го, это движения, названные им «органическими» (vital), непроизвольные движе-
ния, характерные для живого, примером которых являются циркуляция крови и
дыхание. Однако эта телесная структура существует в среде и чувствительна к
ней; контакты ее с ее средой или способствуют ее жизненным движениям, или явля-
ются для них препятствием. Переживания, благоприятствующие жизненным дви-
жениям, представляют собой удовольствие и считаются благом, а препятствующие
— представляют собой боль и считаются злом. Таким образом, удовольствие и
ж
2 E.W., II, vii.
Ф. Гревилл, лорд Брук.
О, утомительное человеческое состояние
Быть рожденным по одному закону, а обязанным следовать другому,
В суете зачатый и все же отвергший суету
Сотворенным больным, обязан быть здоровым
Что имеет в виду природа под этими противоречивыми законами?
Страсть и разум — основа разлада с собой. — Прим, перев.
swRTimc.m яг Mons* Моральная жизнь .... 157
боль — это наше интроспективное знание о том, что мы живы; мы предпочитаем
удовольствие боли, поскольку мы предпочитаем жизнь смерти. Далее, то, что мы
предпочитаем, мы стремимся осуществить. Мы стремимся переживать те из контак-
тов, которые способствуют нашим жизненным движениям и избегать тех из них,
которые этим движениям мешают. Гоббс считал эти стремления начальными дви-
жениями к определенным компонентам нашей окружающей среды или от них и
называл соответственно влечениями (appetites) и отвращениями (aversions).
В общем, с точки зрения Гоббса, понятие жизни применимо как к человечес-
ким существам, так и к животным, а в какой-то степени, возможно, и к другим
организмам: это первичный дар «органического движения», которому способ-
ствуют или препятствуют контакты со средой и изначальное отвращение к смер-
ти. Но в этот момент Гоббс вводит различие между людьми и другими организ-
мами. Например, животное может ощущать удовольствие и боль, но на его орга-
нические движения влияют только непосредственные контакты со средой, его
влечения и отвращения — это движения к тому, чего оно хочет или не хочет, но
только при выборе из того, что наличествует, и его голод — это голод настоя-
щего момента3. Но у человека есть другие стремления, что расширяет область
его влечений и отвращений. В этой области его ведут память и воображение.
Человеческие существа имеют способность сохранять свои переживания удо-
вольствия и боли и впоследствии вспоминать их причины; и в дополнение к
неизбежной окруженности объектами они окружают себя миром воображаемых
переживаний, и они способны желать того, что существует только в воображе-
нии. Они осознанно стремятся удовлетворять свои прихотливые влечения, и
они способны к произвольным движениям для достижения своих воображаемых
целей, а не просто к рефлекторным ответам на то, что происходит в окружаю-
щей их среде. К простым страстям желания и любви, отвращения и ненависти,
радости и печали прибавляются надежда и отчаяние, мужество и гнев, честолю-
бие, раскаяние, зависть, ревность и месть. Они желают не только, чтобы окру-
жающая среда в настоящий момент благоприятствовала их органическим дви-
жениям, но такой власти над средой, которая обеспечивала бы такое благопри-
ятствование в будущем, а цель, которую они себе ставят, счастье (Felicity) —
это, строго говоря, вообще не цель, но просто «постоянная удача в достижении
тех вещей, которых человек время от времени желает»4. Но люди, однако, ни-
когда не бывают спокойны и удовлетворены не просто потому, что мир посто-
янно требует от них все новых и новых реакций, но потому что влечение у суще-
ства, способного к воображению, невозможно удовлетворить по определению.
У них «вечное и беспрестанное желание все большей и большей власти, жела-
ние, прекращающееся лишь со смертью», не потому, что они желают получать
«более интенсивное наслаждение», но вследствие «невозможности обеспечить
ту власть и те средства к благополучной жизни, которыми человек обладает в
данную минуту, без обретения большей власти».
1 Левиафан, 82.
4 Левиафан, 24.
158 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Более того, в понимании Гоббса, хотя люди и животные подобны друг другу
в том, что они сконцентрированы на себе, важное различие между ними заключа-
ется в том, что влечениям и страстям человека присущ соревновательный харак-
тер: каждый человек стремится превзойти всех других людей. «Человеку, ра-
дость которого состоит в сравнении себя с другими людьми, доставляет удоволь-
ствие только то, что является выдающимся»5. Таким образом, человеческая жизнь
представляет собой постоянную гонку, у которой нет «ни другой цели, ни друго-
го вознаграждения, но только быть первым». Счастье [человека] — это «посто-
янное стремление превзойти того, кого он видит»6. В самом деле: самое большое
удовольствие человека то, что более всего стимулирует всего органические дви-
жения его сердца — это сознание своей власти; источник его естественного жела-
ния (appetite) — это не то, что предлагает ему окружающий мир, а желание опере-
жать, стремление быть первым, стремление к славе, к тому, чтобы добиться при-
знания, чтобы другие люди чествовали его как победителя и называли его выда-
ющимся 7. Главная и самая характерная страсть человека — Гордость; больше
всего он хочет быть уверенным в своем превосходстве. И это его желание так
сильно, что он склонен удовлетворять его в своем воображении, если (как то
обычно и бывает) наличное положение дел не позволяет ему прийти к этому выво-
ду. Таким образом гордость может выродиться в пустое тщеславие (vain glory),
простое воображение славы ради наслаждения ее результатами; а пребывая в
иллюзии пустого тщеславия, человек теряет почву под ногами в гонке на опере-
жение в соревновании с другими8.
Однако страсть гордости имеет оборотную сторону, а именно страх. У жи-
вотных страх можно рассматривать как простое состояние испуга, но у человека
это нечто гораздо более важное. Любое способное к воображению существо,
которое находится в состоянии отстаивания своего первенства в борьбе с себе
; подобными, должно учитывать возможность того, что его постигнет неудача. В
этом случае страх — это не просто опасение того, как бы не упустить очередное
удовольствие, но ужас отстать в гонке и таким образом утратить счастье. И каж-
дый раз такой страх — это отражение предельного страха, страха смерти. Но в то
время как животные могут бояться того, что вызывает отвращение, у человека
главный страх (по сравнению с которым все остальные не имеют большого значе-
ния) — это страх перед соперниками по гонке. И в то время как для животных
предельный ужас — это смерть любого вида, предельный ужас человека — это
страх насильственной (или безвременной)9 смерти от руки другого человека; это
бесчестье, это символ всякого человеческого поражения. Это тот страх, о котором
Гоббс говорит, что «с этой страстью человека необходимо считаться»: она про-
5 Левиафан, 130.
6 Elements of Law, I, ix, 21. ;
7 «Чествовать» кого-либо означает признать, что он обладает большей силой. E.W., IV, 257.
8 Elements, I, ix, 1; L, 44, 77.
.J-
9 L, 100
□лнтннол я moihoof Моральная жизнь .... 159
истекает не просто из желания пребывать живым в неблагоприятных обстоятель-
ствах, она представляет собой не просто отвращение к смерти, а менее всего —
отвращение от боли, которая присуща смерти; она проистекает из отвращения к
позорной смерти.
Итак, человеческая жизнь является напряжением между гордостью и стра-
хом; в свете каждой из этих страстей другая становится более понятной, вместе
же они определяют те неоднозначные отношения, в которые вступают между со-
бой люди. Они нуждаются друг в друге, потому что без других не может быть и
успеха, признания превосходства, не может быть почестей и славы, не может
быть настоящего счастья; и все же тем не менее каждый человек — это враг
каждого человека и находится в соревновании друг с другом в борьбе за превос-
ходство, и он не может не знать, что в этой гонке можно потерпеть неудачу10 11.
Итак, это относительно постулата о «естественном стремлении» и о том, как
он влияет на поведение и склонности человека. Но есть и второй постулат — о
«естественном разуме».
В словоупотреблении Гоббса слова «разум», «рациональное» и «мышление»
обозначают различные человеческие способности, склонности и стремления, ко-
торые связаны друг с другом, но друг к другу не сводятся. В общем и целом эти
слова обозначают те способности, которые отличают людей не друг от друга, а
от животных. Человек, в отличие от животных, имеет две способности, которые
можно назвать, по крайней мере, задатками рациональности. Во-первых, эти за-
датки могут управлять «последовательностью своих мыслей» таким образом,
чтобы не только найти причину того, что является предметом мысли, но и, «раз-
мышляя о чем бы то ни было, видеть все возможные последствия, которые могут
быть им вызваны, а следовательно, вообразить, что они могут сделать с этим,
когда будут этим обладать» и. Другими словами, человеческое мышление огра-
ничено и упорядочено, что не имеет места у животных, потому что у них мышле-
ние сопряжено с ощущением. По всей видимости, это природный дар. Во-вторых,
люди обладают даром Речи 12, речь же является последовательностью мыслей,
перенесенной в последовательность слов 13. Эту особую способность даровал
человеку Бог («первый автор речи»), когда научил Адама давать названия созда-
10 Это и есть «война всех против всех» (L, 96), которую Гоббс понимал как вечное
состояние всеобщей враждебности. Конечно, ошибкой было бы предполагать,
что этот образ «естественных» человеческих отношений выдумал Гоббс (он
восходит к Августину, который избрал его символом историю Каина и Авеля).
Гоббс осмысливает этот образ по-новому, не связывая с понятием «греха». Да-
лее, Гоббс отличает эту ситуацию от другой, которую также называет «войной»
и в которой враждебность характеризуется не постоянным и не всеобщим ха-
рактером. Такую войну он считает тем условием, благодаря которому устанав-
ливается и поддерживается государство (civitas). Этой цели никоим образом не
может удовлетворять «война всех против всех».
11 L, 20
12 L, гл iv.
13 L. 24.
160 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ниям, представленным его взору; и она является условием специфически челове-
ческой способности «рассуждения» (reasoning), способности складывать слова
определенным образом и выдвигать аргументы. Однако речи каждое поколение
учится заново, и ребенок становится «разумным существом» только тогда, когда
он приобретет умение пользоваться речью14.
Прежде всего, слова употребляются в качестве «меток для воспоминания» и
для того, чтобы зафиксировать последовательность наших мыслей15. Но ими мож-
но пользоваться также и для общения с другими людьми, чтобы передать в общении
как информацию, так и желания. Верно, что и у животных имеются определенные
средства для того, чтобы сообщать о своих желаниях друг другу, но, не имея речи,
они не могут вступать в общение (о том, чего у них нет вследствие узости их вооб-
ражения), а именно о долговременных и осознанных волевых актах, которые у
человека по праву называются «желания и намерения». Их способность к обще-
нию, а следовательно, и те соглашения, в которые они могут вступать друг с дру-
гом, являются только «природными» или инстинктивными16. Что же касается об-
щения людей, оно происходит посредством искусства слова. С помощью слов люди,
помимо многого другого, способны «делать извест ными для других свои намере-
ния и цели, благодаря чему возможна взаимная помощь людей друг другу»17. Сле-
довательно, речь является основой существующего между людьми взаимопонима-
ния; а это взаимопонимание, в свою очередь, является основой любого возможного
между ними соглашения (agreement), в которое они могут вступать для достижения
своих целей. С точки зрения Гоббса, сама Речь (как средство общения) покоится на
соглашении — на соглашении относительно значения слов.
Вообще говоря, соглашение между людьми предстает только в виде специфи-
ческих соглашений, которые бывают трех видов. Иногда бывает так, что некто
желает иметь то, что есть у другого, который готов расстаться с этим за вознаг-
раждение, — в таком случае возможно достичь соглашения сразу же, как это
происходит при купле-продаже за наличные деньги. Эта ситуация описывается
Гоббсом как одновременная передача вещи и права на эту вещь18. И как бы недо-
верчиво ни относились друг к другу те люди, которые вступают в сделку такого
рода, все же единственное разочарование, которое может быть в данном случае,
— это разочарование, возможное для любого покупающего, а именно, если ока-
жется, что купленная вещь не такова, как он ожидал. В других же случаях право
на вещь может быть передано ранее самой вещи, как, например, когда вещь, за
которую уплачено сегодня, будет доставлена покупателю завтра, или когда че-
ловек соглашается работать неделю за вознаграждение, которое будет выплаче-
но ему в конце педели. Это называется Договор (Pact) или Соглашение (Covenant).
14 L., 37
* 15 L., 25
16 L., 130 сл. -
' 17 L., 25 '
18 L., 102
Моральная жизнь .... 161
При этом одна сторона обещает, а вторая действует и ожидает выполнения обеща-
ния [одна сторона выполняет свою часть сделки немедленно, а вторая—отсрочен-
ной Другими словами, в случае соглашения имеет место ситуация, включающая
кредит. Элемент кредита особенно важную роль играет при соглашениях
(agreements) третьего типа, которые Гоббс называет «соглашения (Covenant),
основанные на взаимном доверии». В этом случае ни одна из сторон не «действу-
ет сразу», но обе соглашаются ожидать исполнения обещания в будущем. И в
этом случае «разум» выносит наиболее безошибочное предупреждение, и откры-
вается истинный порок природы человека.
Итак, за счет богатства своего воображения (охватывающего область как
настоящего, так и будущего) и за счет своей способности к речи люди являются
существами-заключающими-договоры-и-соглашения, и их согласие не «естествен-
но», а исполняется в форме искусственных «соглашений»19. Более того, посколь-
ку сами соглашения можно считать склонностью изменить предшествующее со-
стояние всеобщей подозрительности и враждебности, которое является их есте-
ственной средой, и благодаря этому уменьшить присущий такому состоянию страх,
постольку люди имеют достаточно вескую причину вступать в эти соглашения.
Однако достойный сожаления факт состоит в том, что нельзя полностью поло-
житься на те виды соглашений, которые могли бы быть наиболее продуктивны,
то есть договоры и «соглашения, основанные на взаимном доверии», и они лишь
на короткое время способствуют уменьшению страха. Ибо в данном случае одна
из сторон вынуждена выполнить свою часть обещания раньше, чем другая, и
риск, что вторая сторона не выполнит обещания (или потому что в будущем вы-
полнять обещание станет уже не в ее интересах, или поскольку, чаще всего, вме-
шиваются «честолюбие» и «скупость»), должен быть всегда достаточно велик,
чтобы было неразумно быть тем, кто должен выполнить обещание первым. Таким
образом, в то время как можно было бы вступить в такую сделку, разум предуп-
реждает против того, чтобы выполнить свои обещания прежде другого20, следо-
вательно, побуждает к тому, чтобы быть в таких сделках стороной, исполняю-
щей во вторую очередь. Короче говоря, если бы способность «разума» сводилась
к тому, чтобы давать возможность людям общаться между собой и вступать в
соглашения, то он был бы полезен как способность, но не был бы в состоянии
разрешить противоречие между гордостью и страхом. Но его возможности этим
не ограничиваются, поскольку «рациональным» образом можно уменьшить не-
достатки договорных соглашений, что позволяет человеческой расе освободить-
ся от разочарований, которые несет с собой природное влечение.
В данном случае для Гоббса «разум» не является некоторой инстанцией суж-
дения, наложенной на страстную природу человека; в самом деле, сам разум
порождается страстью страха. Поскольку у человека страх активен и изобрета-
телен, он побуждает человека не просто защищаться от него, но дает возмож-
19 L, 131. Разумеется, соглашения (Covenant) невозможны между человеком и живот-
ным. Невозможны они также и без посредничества Бога. L., 106
6. Заказ № 2438.
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
।
ность «определенного предвидения будущего зла», приводя к осторожности и
осмотрительным приготовлениям к встрече опасности. «Путешествующие несут
с собой свои мечи ... и даже самые сильные армии, наилучшим образом подгото-
вившись к сражению, все же иногда ведут мирные переговоры, боясь мощи друг
друга, а в противном случае они были бы побеждены»21. Короче говоря, страх
несчастий, которые могут с ним произойти, пробуждает человека от пустых тщес-
лавных мечтаний (поскольку долгое пребывание в уверенности в собственном
превосходстве — это всегда иллюзия) и заставляет его обратить внимание на то,
что на самом деле он находится в ситуации, полной неизвестности и риска.
Первой реакцией человека является желание победить непосредственного врага,
то есть того, кто находится в соревновании на одно место вперед. Но «разум»
отвергает этот ход, потому что это недальновидный ход — всегда будут другие,
которых надо будет побеждать, и всегда будет существовать неуверенность отно-
сительно своей возможности их победить. А кроме того, побеждать врага означает
на какое-то время отказаться от чувства собственного превосходства, а следова-
тельно, и от счастья22. По-настоящему необходимо только навсегда избавиться от
страха позорной смерти. И потому порожденный страхом разум доказывает, что
отсутствие страха смерти означает условие удовлетворения любого влечения. Он
ратует за то, чтобы изменить погоню за превосходством, введя в нее соглашения,
то есть установить мир. Следствия первичного влечения—гордость и страх; «пред-
ложение» и обещание разума—мир. А мира—результата признания всеми общего
врага (смерти)—можно достичь только при условии всеобщего подчинения искус-
ственно созданной суверенной власти, иначе говоря, в государстве, в civitas23 .Тог-
да, при условии подчинения государственному закону, созданному и проводимому
в жизнь уполномоченной на это общей Властью, соглашения (Covenants) более не
провоцируют неуверенность в своей надежности, они становятся «постоянными и
длящимися», и заканчивается война всех против всех». Стремление к миру есте-
ственно, оно порождено человеческим разумом в борьбе против человеческого
страха. Состояние мира—это изобретение разума, созданное им и исполняющееся
в соглашении «всех со всеми», в котором каждый передает свое «право управлять
собой» некоторой «общей власти»24.
Итак, предполагается, что выживание более желательно, чем превосходство.
Чтобы выжить, гордые люди должны стать смиренными людьми. Однако, если мы
предположим, что из затруднительной ситуации, в которой находится естествен-
ный человек, Гоббс видит именно такой выход, мы обнаружим, что понимаем не
все. Гоббс интерпретирует человеческую жизнь как противоположность между
гордостью (страстью к превосходству и почестям) и страхом (опасением бесчес-
тья), и разум находит способ это противоречие разрешить. Но при этом остаются
определенные трудности.
21 E.W., п, 6.
22 Ср. L., 549—550. . f
23 См. прим, на с. 294.
24 L., 131—132.
эяытнпоп а Моральная жизнь .... 163
Прежде всего, предложенное решение односторонне: страх уменьшается, но
ценой утраты Счастья. А этого может желать только тот, кто боится бесчестья
больше, чем жаждет чести. Такой человек будет согласен жить в мире, из которо-
го исчезли и бесчестье, и честь, — а не таков характер у человека, как его изобра-
жает Гоббс. В конце концов кажется, что разум может нас научить только лишь
тому, как избежать страха, но человек, это воплощение гордости, не согласится,
чтобы эта унылая (хотя и первоклассная) безопасность дала ему то, в чем он
нуждается. Он не примет ее, даже если будет считать, что без нее бесчестье для
него практически неизбежно.
Короче говоря, или этот выход подходит для посредственности, для того, кто
желает только успешно «достичь тех вещей, которых время от времени желает
человек», того, кто стремится к скромному благополучию, имея как можно мень-
ше неприятностей и как можно больше помощи от других людей, того, для кого
такое существование дороже, чем Радость. Или Гоббсу следует предъявить уп-
рек в том, что он определил человеческое Счастье так, что люди, как он их пони-
мает, не могут его переживать, в том, что сами условия Счастья являются препят-
ствием к обладанию им.
Во-вторых, возможно, мы можем задаться вопросом, почему в Гоббсовом по-
нимании ситуации напряжения между гордостью и страхом нельзя оставить гор-
дость и страх без всякой попытки разрешить это напряжение между ними. Вне со-
мнения, когда разум говорит, он имеет все основания претендовать на то, чтобы
его услышали, поскольку разум не менее чем страсти принадлежит «природе». Но
если (как считает Гоббс) разум выполняет только служебную функцию, давая воз-
можность познать возможные причины событий, возможные следствия действий и
возможные средства для достижения желаемых целей, откуда берутся его полномо-
чия принимать решения о поведении человека? А если разум нельзя наделить таки-
ми полномочиями, должны ли мы делать еще что-то кроме того, что принять его
мнение к сведению и затем (с открытыми глазами) сделать свой выбор? Благора-
зумный человек, стремящийся только к выживанию, легко со своим благоразумием
не расстанется, но в какой-то момент его благоразумие может лишиться для него
ценности, когда он увидит, что другой (который рискованным предприятием зас-
лужил себе славу) испытывает Радость, от которой сам он отказался. Он вспомнит,
что есть такие вещи, как безрассудство, и его унылая безопасность покажется ему
несколько менее привлекательной, несколько менее соответствующей характеру
человека25. Возможно даже, он станет смутно ощущать, что
There is no pleasure in the world so sweet
As, being wise, to fall at folly’s feet *.
25 Против этого можно возразить, что и в civitas остается возможность соревнования и
риска. В нем мы лишены только «радости» успеха в абсолютно ничем не защи-
u 1 щенном неблагоразумии.
Нет в мире большего наслаждения
Чем, будучи мудрым, пасть к ногам безрассудства. — Прим, перев. х
6*
164
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Во всяком случае (хотя, как мы увидим дальше, упрекать Гоббса в том, что
он игнорирует эти соображения, несправедливо), мы, возможно, можем заподоз-
рить, что когда кажется, что здесь он рекомендует в качестве «рационального»
поведения стремление к миру и отказ от славы, как и в некоторых других случа-
ях, он забывает о собственных словах, что «разум служит только для того, чтобы
убедить в истине (не факта, а) последствий»26, и незаконно пользуется тем старым
значением слова «разум», когда разум считался господином или по крайней мере
полномочным руководителем.
' сТ -
Как кажется сначала, мирное существование — это просто заключение есте-
ственного разума. Пробужденный от иллюзорных мечтаний пустого тщеславия и
подстегиваемый страхом позорной смерти, «разум» не только делает для челове-
ка ясным связь между выживанием и миром, но и «предлагает» средства, с помо-
щью которых можно достичь такого существования, и разрабатывает его струк-
туру, которую Гоббс называет «статьи мирного соглашения»27. Первые (то есть
средства для достижения) нас сейчас не интересуют, что касается вторых, то
соображения на этот счет помогут нам лучше понять, что понимает Гоббс под
«миром». Всего таких статей девятнадцать, и в целом они намечают такое состо-
яние, когда исчезает погоня за превосходством не за счет взаимной кооперации,
а за счет взаимной толерантности. Этот свод статей, говорит Гоббс, может быть
«легко сведен к общему правилу, которое понятно даже для тех, кто обладает
самыми скудными умственными способностями — не делай другому то, чего не
сделал бы себе»2*. Эта максима отражает исследуемую Гоббсом формулу нрав-
ственной жизни в негативной формулировке, но он (как до него еще Конфуций)
интерпретирует ее как повеление думать о других, избегая обособленности29.
Но произошла трансформация. Мирное существование, которое сначала пред-
лагалось как рациональное соображение, которое делает возможным поведение,
позволяющее избежать позорной смерти (то есть соображение, продиктованное
благоразумием), теперь предстает как моральное обязательство. Конечно (по
соображениям Гоббса), не хотеть мира и не устанавливать его тем единственным
образом, которым он может быть установлен, нелепо. Однако не делать этого в
то же время становится и нарушением долга. Эта трансформация языка не являет-
ся следствием простой неаккуратности. Ибо Гоббс не оставляет никакого сомне-
ния в том, что он понимает природу морального поведения и разницу между ним и
простым благоразумием или поведением по необходимости.
26 L., 292 сл
27 L., 98.
28 L., 121, E.W., IV, 107
29 Anaclets., xv, 23.
; > г* я ; и* - Моральная жизнь .... 165 \
У
Впрочем, следует заметить, что в языке Гоббса слова «зло» и «добро» не
имеют (как правило) моральной натруженности. «Добро» означает все то. что
желательно, а следовательно, то, что может быть объектом стремления человека,
«зло» означает любой объект его отвращения. Следовательно, слова эти по су-
ществу лишние, повторно обозначающие то, что уже ранее было названо слова-
ми «приятное» и «неприятное». Когда Гоббс говорит: «Разум утверждает, что
мир — это добро», он имеет в виду не то, что все непременно должны способство-
вать наступлению мира, а то, что так будут делать благоразумные30. А когда он
говорит: «Каждый желает себе добра, а добро для него — это мир», он не может
заключить из этого, что каждый непременно стремится к миру31, но лишь то, что
если кто-то так не делает, он «противоречит себе»32. По правде говоря, суще-
ствует нечто, что Гоббс называет «предписание разума», или даже «правило ра-
зума», или «закон разума», или «диктат разума». Из этого можно заключить, что
то, что разумно, в некотором роде обязательно. Но из примеров, которые он при-
водит, становится ясно, что «предписание разума» имеет гипотетический харак-
тер и не тождественно долженствованию. Например, он говорит, что «предписа-
нием разума является умеренность, потому что неумеренность ведет к болезням и
смерти»33; нельзя сказать, что умеренность является долгом, если не считать дол-
гом здоровье и жизнь, а Гоббс ясно пишет, что эти вещи являются «правами», и,
следовательно, не обязанностями. А когда он пишет, что законы Природы вооб-
ще «диктуются Разумом», ясно, что он имеет в виду, что разум их предлагает,
формулирует, а не навязывает34.
Ясно выраженный моральный оттенок имеет слово «справедливость», а имен-
но это слово Г оббс употребляет чаще всего, когда пишет на языке нормативнос-
ти: вести себя нравственно значит совершать справедливые деяния, быть добро-
детельным человеком означает хотеть справедливости. Впрочем, несмотря на то
что вести себя справедливо равносильно совершению одних поступков и воздер-
жанию от других, эту равносильность нужно определить более тонко. Долг чело-
века состоит в том, чтобы иметь «искреннее и последовательное стремление»35 к
справедливому поведению; на первом месте здесь стоит именно стремление, а не
внешние его выражения, не само действование. В самом деле, человек может
совершить поступок, по видимости справедливый, но если он был совершен слу-
чайно или если на самом деле причиной было несправедливое стремление, то
этого человека следует считать не справедливым, а просто невиновным. И, соот-
ветственно, если было совершено некое несправедливое действие, но намерение
30 E.W., II, 48; V, 192.
31 На языке Гоббса бессмысленно говорить, что некто должен чего—то желать, хотя в
некоторых случаях он и говорит так. Ср. L., 121.
32 Ср L., 101, 548; E.W.., II, 12, 31.
33 E.W., II., 49
35 L., 122 сл.
166 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
было справедливым, то технически человека можно признать виновным, но на
самом деле несправедливо он не действовал36. Однако следует обратить внима-
ние, что для Гоббса «стремление» (endeavour) не то же самое, что намерение
(intention): «стремиться» означает совершать действия, производить заметные дви-
жения. Следовательно, другие могут уверенно судить о стремлении человека, в
то время как уверенно судить о его намерениях может быть затруднительно. И во-
вторых, несмотря на то. что мне представляется сомнительным, что Гоббс счита-
ет справедливость обязанностью человека —долг человека выполняется только
тогда, когда человек и справедлив (то есть совершает движения, которые пред-
ставляют собой «стремление к справедливости») и невиновен (то есть избегает
совершения несправедливости).
Итак, по представлению Гоббса, объектом морального стремления является
мир; то, что нам уже известно как рациональное стремление, теперь предстает
как объект справедливого стремления. Или, если слегка уточнить это определе-
ние, справедливое поведение — это искреннее и постоянное стремление призна-
вать других равными себе, а во взаимоотношениях с ними не принимать во вни-
мание собственные страсти и эгоизм37 Слово «искреннее» употреблено здесь, я
полагаю, для того, чтобы подчеркнуть, что стремление будет моральным только
тогда, когда оно предпринимается ради самого себя, а не для того, например,
чтобы избежать наказания или добиться для себя какой-то выгоды. А слово «стрем-
ление» подразумевает, что следует не только желать мира, но и действовать так,
чтобы вероятным результатом действия был мир.
Следовательно, мы имеем предписание, гласящее, что «каждый человек дол-
жен стремиться к миру», и перед нами стоит вопрос, какую причину или какое
обоснование приводит Гоббс для такого морального поведения? Почему человек
должен искренне стремиться держать свое слово, приспосабливаться к другим, не
забирать себе больше своей доли, не судить все по своим собственным законам, не
выказывать ненависти и презрения к другим, относиться к другим как к равным
себе, а также исполнять все остальное, что свойственно миру38 ? Как преодолевает
Гоббс разрыв между естественными склонностями человека и тем, что с ними надо
делать? Этот вопрос относится к самому скрытому существу моральной доктрины
Гоббса. Именно ответа на этот основной вопрос мы всегда должны искать в сочи-
нениях любого моралиста, поскольку сами предписания обычно берутся из окру-
жающего морального сознания, а философ лишь приводит причины, по которым
можно верить, что они разумны. В случае Гоббса эта проблема до сих пор больше
всего запутывала всех исследователей его творчества, хотя некоторые из них и
навязали нам свои мнения, проигнорировав мнения остальных с замечательной
самонадеянностью. Обычно Гоббс настолько более тщательно разрабатывал воп-
рос об истинных мотивах и «причинах» того, что называется «справедливое пове-
16 E.W.. П, 32; IV. 109.
37 L., 118, 121. V W
38 L., гл. xv.
Моральная жизнь .... 167
дение», чем вопрос о том, следует ли, вообще говоря, называть его именно «спра-
ведливым», что для ответа на наш вопрос требуется напрячь все способности.
4
В настоящее время существуют три заслуживающих внимания варианта истол-
кования ответа Гоббса на этот вопрос. Хотя (как мне думается) ни один нельзя
назвать полностью удовлетворительным, все они детально разработаны, их ак-
тивно защищали, и ни один из них не лишен правдоподобия39.
1. Первый выглядит примерно так40:
Каждый человек должен стремиться или к «сохранению своей собственной при-
роды», или к чему-то большему, чем это, например к тому, чтобы выиграть в гонке.
Нельзя не желать вообще ничего: «не иметь желаний значит быть мертвым». Каж-
дый в любом случае имеет право стремиться к «сохранению своей природы»41, та-
кое его поведение будет справедливым. И ни в каких обстоятельствах у человека
нет права стремиться к чему-либо большему (например, позволять себе бесполез-
ную жестокость или желать быть первым); если он ищет того, что превышает «со-
хранение своей природы», его желание неразумно, достойно осуждения и неспра-
ведливо, потому что это стремление к саморазрушению. Но, как мы видели, стрем-
ление к сохранению своей природы в точности совпадает со стремлением к миру, а
стремление к большему — со стремлением к войне и саморазрушению. Следова-
тельно, человек ведет себя справедливо, когда стремится к миру, и несправедливо,
когда стремится к войне. У каждого человека есть обязанность быть справедливым
и (в принципе) нет никаких других обязанностей кроме стремления к миру. Короче
говоря, долг отождествляется с «разумными» стремлениями и действиями, разум-
ность которых заключается в том, что они не «самопротиворечивы». Утверждает-
ся, что Гоббс находит подтверждение этим своим соображениям в том факте, что
стремление человека к сохранению своей природы одобряется его совестью, а стрем-
ление получить больше, чем это, — осуждается совестью: этим стремлениям сопут-
ствуют, соответственно, чувства невиновности и вины. Таким образом, нечто, что
проистекает из страха позорной смерти и целью чего является исключительно умень-
шение этого страха, одобряется совестью и имеет характер долга.
Итак, нет никакого сомнения, что в той мере, в какой эта теория разрабаты-
вает различие между естественным и допустимым стремлением (appetite), она яв-
ляется теорией морали. В ней не может быть таких понятий, как право на силу или
долг желать чего-либо. Более того, это теория, приравнивающая нравственное
поведение к благоразумному и рациональному поведению: справедливый чело-
век — это тот, кого смирил страх. Но если бы Гоббс сказал только это, то было
бы недостаточно. И в самом деле, он сказал больше и при том сказал другое.
39 Всего же вариантов, конечно, гораздо больше.
40 Strauss L. The Political Philosophy of Hobbes.
41 L., 99.
168 Майкл Оукшот. Рационализм в политике *
I
к
Прежде всего, ответ на вопрос «Почему каждый человек должен стремиться
к миру», сам по себе вызывает следующий вопрос: следует узнать, почему у каж-
дого человека есть обязанность только стремиться к сохранению своей природы.
Все построение держится на предположении, что Гоббс имеет в виду, что каждый
человек должен вести себя таким образом, чтобы не рисковать саморазрушени-
ем, в то время как Гоббс говорит, что каждый человек имеет право сохранять
свою природу, и это право само не является обязанностью и никаких обязаннос-
тей за собой не влечет42. Во-вторых, ошибочным следует считать утверждение,
будто Гоббс имеет в виду, что исполнение долга — это поведение разумное в том
смысле, что оно последовательно и не противоречит само себе, и что раз оно
разумно в этом (или любом другом) смысле, то это обязательно поведение по
долгу. Иногда Гоббс, определяя, что подобает делать, пользуется принципом
непротиворечивости, но во всяком случае можно сказать, что он проводит ясное
различие между рациональным поведением и поведением по долгу. Ни один удов-
летворительный вариант понимания теории Гоббса не позволяет считать, что
Гоббс рассматривал закон природы обязательным по той причине, что он рацио-
нален. В-третьих, такая интерпретация не учитывает того факта, что сам Гоббс
фундаментальным для установления мира считал лишенное интереса принятие
других как равных себе. В таком понимании все виды стремления к миру, сколь
бы они ни были основаны на собственном интересе, будут одинаково справедли-
выми. И, наконец, в данном случае происходит смешение между причиной так
называемого справед ливого поведения и причиной того, чтобы считать поведе-
ние справедливым. Ибо мы должны стремиться к миру не потому, что мы помним
о возможности позорной смерти, не из отвращения к ней, это все мотивы и причи-
ны самого стремления. А поскольку разум (у Гоббса) вводится как посредник
между гордостью и страхом, мы все еще находимся в царстве причинности, мы не
вышли на уровень морального. Разум у Гоббса не имеет прескриптивной силы
(за исключением тех случаев, где налицо явная путаница смыслов). Кратко гово-
ря, если бы Гоббс высказал только это, можно было бы думать, что у него вообще
нет никакой моральной теории.
2. Впрочем, существуют иные истолкования мнения Гоббса, основанные на
иных соображениях. Точка зрения, изложенная далее, возможно, наиболее про-
стая из всех. Она сводится к следующему.
По Гоббсу, все нравственные обязательства исходят из закона. Где нет зако-
на, там нег долга, нет и различия между тем, что справедливо, и тем, что неспра-
ведливо, а где есть закон в собственном смысле этого слова, там те, кто находит-
ся под его действием, обязаны ему подчиняться, если есть также и адекватный
мотив ему подчиниться. И вот нам говорят, что закон, в собственном смысле
слова, это «предписание того, кто по праву повелевает другими»43, или, по более
широкому определению, «закон вообще есть не предписание, а приказание, но не
приказание любого человека любому друг ому, а лишь приказание лица, адресо-
42 L., 99. ........... ...
L.. 123. лм ..
Моральная жизнь .... 169
ванное тому, кто раньше обязался повиноваться этому лицу»44. А законодатель в
собственном смысле — это тот, кто принял данную ранее власть, которой следует
подчиняться, поскольку те, кто ему подчинен, передали ему ее или поскольку
признали, что ему следует ее иметь. «Ни у кого не может быть какого-либо обяза-
тельства, которое не было бы им принято добровольно»45. Акт передачи или при-
знания полномочий является необходимым условием подлинной законодатель-
ной власти. Другими словами, для Гоббса не может быть такой вещи, как «есте-
ственная», не приобретенная власть, устанавливающая законы46.
К этому добавляются еще два условия долженствования: от законодателя
может исходить закон в собственном смысле только тогда, когда те, на кого этот
закон налагает обязательства, знают, что он автор этого закона, а также когда
они точно знают, чего он требует. Но на самом деле эти условия заложены в
первом условии, поскольку ни один субъект не может знать о себе, что он субъект,
без этого акта признания или передачи полномочий, а невозможно совершать
этот акт и в то же время не знать, кто законодатель и чего он требует.
Короче говоря, вне сомнения, Гоббс считает, что закон создается и что связы-
вает он исключительно вследствие того, что он некоторым образом создан впол-
не определенным законодателем и что только из закона проистекает обязатель-
ство. Другими словами, никакое приказание не может быть обязательным только
по своей очевидности или само по себе (то есть за счет того, что именно требуется,
или за счет разумности требуемого). Обязательность приказания следует дока-
зать или отвергнуть, и Гоббс пишет о том, каково должно быть такое доказатель-
ство или отвержение. Следует только выяснить, является ли требование законом
в точном смысле, а это значит выяснить, имел ли его автор власть законодателя.
Что касается того, является ли государственный закон законом в точном смыс-
ле слова, то это является для Гоббса аналитическим утверждением, а не эмпири-
ческим фактом47, поскольку само civitas определяется как искусственное состоя-
ние человеческой жизни, в котором существуют законы, о которых известно, что
их автор — законодатель, получивший власть их издавать, поскольку ему ее
передали его подданные48. В государстве требуемое известно и достоверно ис-
44 L., 203, 406. E.W., II, 49.
45 L., 166, 220, 317, 403, 448; E.W., II, 113, 191; IV, 148.
46 Не являются исключениями и те места, в которых Гоббс, как кажется, утверждает,
что источником законодательной власти является просто Всемогущество. Все-
могущество, как и любая другая характеристика власти, тоже передано ей. Все-
могуществом обладает только тот, кого признали и приняли в этом качестве,
тот, кого открыто наделили неограниченной властью. Это справедливо как для
человека, так и для Бога (кроме тех случаев, когда слово Бог употребляется как
синоним понятия Первопричина), потому что «Бог» — это слово, которому люди
по своему соглашению придали определенный смысл. L., 282, 525.
47 Ср. L., 443.
48 Это справедливо как в том случае, когда суверен приобрел власть через Присвое-
ние или через Учреждение (L., 537 сл). Гоббс принимает, что то же было спра-
ведливо в древнем иудейском «Царстве» (L., гл.35).
I
170 Майкл Оукшот. Рационализм в политике !
толковано. Далее, у подданных, на которых распространяется это закон, имеется
адекватный мотив для того, чтобы признать себя подзаконными ему. Гражданский
закон удовлетворяет всем условиям закона в собственном смысле. Следовательно
(так уверяют те, кто отстаивает такую точку зрения на теорию Гоббса), по мнению
Гоббса, гражданские законы являются вне всякого сомнения обязательными, и их
обязательность проистекает не из того, что они есть отражение других «естествен-
ных» законов, которые несут с собой «естественные» обязательства, а исключи-
тельно из характеристик того, кто является законодателем, а также способа, кото-
рым они были провозглашены и истолкованы. На вопрос: Почему я морально обя-
зан подчиняться приказам суверена моего civitas (что является весьма важным воп-
росом для Гоббса), нет другого ответа кроме: «Потому что я, по соглашению с
другими, с которыми у меня есть общий интерес заключать договоренности
(covenants), «уполномочили» его; мы безусловно, знаем, что он законодатель, и
знаем, что его приказы являются законами в точном смысле слова»49. Более того
(как утверждается), законы государства не просто являются законами в собствен-
ном смысле, но только в государстве, по Гоббсу, и возможны законы в собственном
смысле этого слова. Так называемые «законы» церкви, так называемые Естествен-
ные Законы — в государстве не будут законами в собственном смысле, если только
они не будут соответствующим образом провозглашены в качестве гражданских
законов50. И в самом деле, Гоббс считает, что ни о каком законе нельзя говорить,
что это закон в собственном смысле слова, если это не «гражданский» закон в том
смысле, что его автором является суверен государства: законы Бога являются за-
конами в собственном смысле только тогда, когда Бог является главой государ-
ства (civil sovereign), который осуществляет свою власть через ее исполнителей.
Конечно, глава государства не может издать естественные законы как разумные
формулировки для охраны людей, но в самом строгом смысле можно сказать, что
только он может «сделать» их законами в собственном смысле51. Например, по
Гоббсу, в определенных случаях (там, где Бог главой государства не является)
можно счесть разумным отдать Богу Богово, а кесарю—кесарево, но Гоббс указы-
вает, что это не может являться обязательным до тех пор, пока не разделены эти две
сферы, а это разделение в обоих случаях может быть зафиксировано только граж-
данским законом. Вне сомнения, в civitas субъект может сохранить какие-то харак-
терные признаки естественного права, но по Гоббсу естественное право — не обя-
зательство и никакого отношения не имеет к тому, что человек должен делать.
О таком понимании теории Гоббса можно сказать, что по-прежнему остается
неразрешенным вопрос, думал ли он, что те, кто не являются подданными закон-
ной государственной власти и которые, следовательно, по гражданскому закону
обязательств не имеют, тем не менее все-таки имеют, наряду с правами, и какие-
то обязательства. Этот вопрос сводится к следующему: помимо гражданского
7^
49 L., 131, 135, 166, 220, 317.
50 L., 205, 222, 405, 406, 469.
51 L., 347.
ш вшах я мшш ои/ри
п add*» 1 ih.o П.?. , J) энн
i i ,.J) «gaoqejj» мо . анкглж
Э'лнт'^т\ я MfNfSHO Моральная жизнь .... 171
1
закона, может ли еще какой-либо закон быть законом в собственном смысле сло-
ва? Это интересный вопрос, но есть две причины, по которым он не очень важен
для тех, чью интерпретацию Гоббса мы сейчас рассматриваем. Прежде всего,
естественно, Гоббс писал не для дикарей, а для тех, кто живет в civitas', следова-
тельно, его задачей было показать, каковы и откуда берутся их обязательства.
Он показал, что гражданский закон, и только он один, накладывает обязатель-
ства, и ничто другое в его задачу не входило. Во-вторых (в той интерпретации,
которую мы сейчас рассматриваем), не может возникнуть никакого вопроса о
происхождении обязательств, налагаемых гражданским законом, из другого за-
кона, или об их связи с другим законом, даже если этот другой «закон», суще-
ствующий не в civitas, и окажется законом в собственном смысле слова, и окажет-
ся, что он обязателен для всего человечества: в civitas единственный закон в
собственном смысле — это гражданский закон. В основе такой интерпретации
лежит предположение, что для Гоббса государство, civitas, представляет собой
не просто полезное дополнение к условиям человеческой жизни, но видоизмене-
ние самих естественных условий человеческой жизни. Однако, рассмотрение воп-
роса о том, какие обязательства могут быть налагаемы негражданским законом,
более удобно рассмотреть в связи с другой интерпретацией его моральной тео-
рии, для которой именно этот вопрос является центральным.
Тогда в той интерпретации, которую мы сейчас рассматриваем, на вопрос,
что заставляет людей заключать соглашение, в результате которого появляется
и наделяется полномочиями гражданская власть, дается ответ, что это страх раз-
рушения, который превращается в рациональное стремление к миру. Однако обя-
зательства вступать в такое соглашение у людей нет. Их долг стремиться к миру
начинается вместе с появлением гражданского закона, который, единственный
из всех, называется законом в собственном смысле слова и который требует на-
личия этого стремления.
Эта интерпретация (как и любая другая) зависит от определенного прочтения
некоторых важных мест у Гоббса, и если не принимать во внимание других мест,
имеющих отношение к тому же вопросу, можно заметить, что, во-первых, эта
интерпретация опирается на единственно возможное понимание того места в «Ле-
виафане», где Гоббс дает определение того, что может быть названо «суверенно-
стью» гражданского закона52; и, во-вторых, из него следует, что выражение «чьи
приказания адресованы тем, кто формально обязан подчиняться ему»53 (это вы-
ражение Гоббс использует, давая определение законодателя в собственном смыс-
ле слова) означает «тот, кого уже путем договоренности избрали или кого дру-
гим образом признали или провозгласили суверенным законодателем». По мое-
му мнению, именно таким способом следует понимать формулу Гоббса, хотя в
данном случае ослабляется смысл слова «обязан»54. Но и эта интерпретация идей
52 L., 205.
L.. 203.
-4 Ср. Pollock. An Introduction to the History of the Science of Politics, p. 65.
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
172
i
Гоббса не свободна от затруднений, и нам придется рассмотреть еще одну, приня-
тие которой заставит нас отвергнуть эту.
Эта интерпретация вызывает три возражения. Прежде всего (как это замече-
но), если единственное обязательство субъекта в государст ве — исполнять обяза-
тельства, накладываемые на него законодателем, которого этот субъект признал
(способом заключения сделки или подтверждением прав), и если единственное, на
чем оно основано, это то, что такие обязанности подлинны, потому что гражданс-
кий закон—это, несомненно, закон в подлинном смысле, применимый к субъекту в
государстве, что, в конце концов, заставляет субъекта соблюдать те договоренно-
сти, которые привели к легитимности законодателя? Есть ли у него долг поддержи-
вать эти соглашения, если это можно отделить от долга исполнять законы? Если
нет, то не дает ли здесь сбой Гоббсова доктрина морального обязательства по при-
чине отсутствия адекватного ответа? А если субъект все-таки имеет такое обяза-
тельство, то не должно ли быть какого-то закона в собственном смысле, отличного
от гражданского закона, который обязывает его к этому? Кажется, что это сокру-
шительное возражение, но с точки зрения тех, чью интерпретацию мы сейчас об-
суждаем, ответ на него есть, возможно, даже два ответа. Прежде всего, можно
заметить, что весьма мало свидетельств (если не считать неясных мест, например
L., 110), что Гоббс придерживался мнения, что заключение Соглашений (Covenant)
— это не только благоразумно, но и морально обязательно и что «соблюдать усло-
вия соглашения» и «подчиняться закону» — это разные вещи; а если имеется долг
подчиняться закону (в тех случаях, когда он имеется), то есть и конструктивный
долг выполнять условия соглашения55 и охранять их. Однако, если принять, что
для существования обязательства «выполнять условия соглашения», должен быть
закон, в котором это обязательство формулируется, и это не может быть сам по себе
гражданский закон, тогда, поскольку в рассматриваемой интерпретации никакого
«другого» закона в собственном смысле в сочинениях Гоббса нельзя найти (то есть
нет закона, который был бы основан на признании правителя со стороны поддан-
ного), мы должны заключить, что для Гоббса не существовало никакого особого
долга выполнять соглашения. А зачем такой долг нужен? Никакую моральную
теорию, в том числе теорию Гоббса, нельзя считать неполноценной, если она не
устанавливает, что то, что желательно, одновременно является обязательным. Для
Гоббса долг всегда (прямо или косвенно) заключается в том, чтобы стремиться к
миру, а стремиться к миру, в свою очередь, является долгом тогда, когда существу-
ет закон, который обязывает к этому. Стремлением к миру диктуется также и ис-
полнение соглашений, которыми создается государство (в том числе наделение
полномочиями). Но если в данном случае желательно, чтобы это стало долгом, все
же это не необходимо. А если (вследствие отсутствия закона, предписывающего
выполнение этих соглашений) они долгом не станут, то все же это не значит, что о
них не будет известно. Для Гоббса (в данной интерпретации) они представляют
действия благоразумия, и их разумно и желательно исполнять при условии, что
другие их также выполняют, или действия «величия», не предполагающие ника-
55 Ср. E.W., II, 31; L, 102, 548.
Моральная жизнь .... 173 ‘
ких условий. Конечно, справедливо, что для Гоббса ни при каких условиях не
может быть долгом действовать против собственного интереса (то есть стремить-
ся к войне всех против всех), но отсюда не следует, что стремление к миру всегда
должно быть долгом. Кратко сказанному можно подвести итог следующим обра-
зом: если принять, что Гоббс имеет в виду, что законам civitas нужно подчиняться,
потому что для подданных civitas это законы в собственном смысле, но нет ника-
кого отдельного долга соблюдать соглашение, по которому установлена граж-
данская власть (sovereign), то отсюда не делается вывод, что его утверждение
абсурдно. Оно сводится просто к тому, что есть некоторое собственное (proper)
значение слова «долг» (duty), но государство держится не на долге (кроме тех
случаев, когда долг, например, вытекает из закона против государственной из-
мены), а или на собственном интересе, которому служит разум, или на величин,
которое не снисходит до того, чтобы рассчитывать возможные убытки от повино-
вения власти, которая не в состоянии силой заставить себе повиноваться56.
Второе возражение состоит в следующем: утверждается, что доя Гоббса стрем-
ление к миру является рациональным поведением, а долгом становится, если и
когда предписывается законом в собственном смысле слова. Далее, гражданс-
кий закон и только он является законом в собственном смысле, имеющим свою
силу (propriety) не оттого, что он отражает какой-то другой, более высокий и
столь же «в собственном смысле» закон, но лишь вследствие способа, которым
он был принят, обнародован и верно истолкован). Он предписывает тем, кто ему
подчиняется, стремиться к миру, причем они обязаны (а другие в иных обстоя-
тельствах не обязаны) «стремиться к миру». Но (есть возражение) на самом деле
ситуация не совсем такова. Даже для Гоббса гражданский закон предписывает
не просто стремиться к миру, а выполнять некие действия и воздерживаться от
других действий. Если нарушитель закона скажет: «Я стремлюсь к миру», но не
будет выполнять то, что предписывает закон, или станет делать нечто, что закон
запрещает, то это не будет оправданием. Впрочем, ответ на это возражение зак-
лючается в том, что для Гоббса «стремиться к миру» всегда означаез выполнять
определенные действия (а не просто иметь мирные намерения в условиях не мир-
ной обстановки). Направляться в определенную сторону — значит двигаться в
этом направлении. Общие схемы действий, от которых можно ожидать, что они
приведут к установлению мира, всем (кроме сумасшедших и детей) сообщает
разум. Определить же, какие именно действия необходимы в частном случае, и
придать им обязательный характер — прерогатива закона57. Когда «стремление
56 В заключении своего произведения «Левиафан» (L., 548) Гоббс формулирует двадцатый
Естественный Закон, а именно: «Каждый человек по природе обязан, насколько это
зависит от него, оберегать Войну, ту Власть, которая его сама оберегает в мирное
время». Он поясняет, что не вести себя таким образом будет самопротиворечиво.
Но демонстрировать несамопротиворечивость не означает исполнять долг, и то тот
способ действия, который назван здесь несамопротиворечивым, становится дол-
гом только тогда, когда есть закон в собственном смысле, предписывающий его.
Для граждан государства это должен быть гражданский закон.
57 L., 136.
114 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
к миру» является долгом, то это всегда долг повиноваться закону, а любой закон—
это всегда набор конкретных требований и запрещений. Отсюда следует, что долг
стремиться к миру совпадает' с долгом совершать действия, диктуемые законом:
нельзя одновременно «стремиться к миру» и совершать то, что запрещено законом,
хотя можно стремиться к миру посредством действий, которые закон не предписы-
вает, например проявляя добрую волю. Но сам долг стремиться к миру — это долг
повиноваться закону, а это означает быть справедливым и невиновным.
Третье возражение заключается в том, что Гоббс, как можно видеть в его
произведениях, часто пишет о «естественных законах», причем он пишет о них
так, как если бы это были законы в собственном смысле, которые способны нала-
гать на всех людей «естественную обязанность» стремиться к миру. Во всяком
случае, любую интерпретацию теории Гоббса, которая не учитывает этот ас-
пект, следует признать неудовлетворительной. Это возражение опровергнуть тоже
непросто. Правда, Гоббс постоянно и совершенно прямо пишет, что Естествен-
ные Законы — это вообще не законы в собственном смысле, кроме тех случаев,
когда они изданы как законы неким законодателем, власть которого основана
на соглашении или признании полномочий, если не брать в расчет такой случай,
естественные законы — это просто «качества, предрасполагающие людей стре-
миться к миру и порядку», «заключения или теоремы относительно того, что ве-
дет к сохранению и защите людей». Этими законами предлагаются действия, ве-
дущие к сохранению мира, как и рациональной (но не моральной) основой civitas5*.
Но наряду с этими местами у Гоббса встречаются другие, которые можно интер-
претировать так, как будто сами Естественные Законы (внутренний правитель)
накладывают обязанности на людей, и даже как будто обязанность субъекта по-
виноваться законам civitas диктуется ему одним или несколькими естественными
законами58 59. Впрочем, центральной темой следующей, третьей, интерпретации
моральной теории Гоббса будет вопрос, считает ли он Естественные Законы за-
конами в собственном смысле слова, поэтому, насколько сильно данное возраже-
ние, уместнее будет рассмотреть в этой связи.
3. Третья интерпретация берет свое начало там же, где предыдущая60. В этой
интерпретации принимается, что любые моральные обязательства для Гоббса ос-
нованы на каком-то законе: где есть подлинный закон, там будет долг, где нет
закона — нет долга. Следовательно, можно считать, что стремление к миру будет
долгом для всех, если имеется универсальный закон, который предписывает его.
До сих пор, по моему мнению, разных мнений относительно того, что имел в виду
Гоббс, быть не может. Но далее делается следующее утверждение: по мнению
Гоббса, сам по себе Естественный Закон, без дальнейшей его разработки, и есть
тот универсальный и постоянно действующий закон, который накладывает долг
стремления к миру на всех людей. Все интерпретаторы Гоббса согласны в том,
58 L., 99, 122, 205, 211 и др., ; E.W., II, 49—50 и др.
59 L., 99, ПО, 203, 121, 258—259, 36,3; E.W., II, 46, 47, 190, 200.
60 Warrender Н. The Political Philosophy of Hobbes; Brown J. M. Political Studies, Vol. I, No.
I; Vol. II, No. 2.
ЭХНТШЮП в МШл
Моральная жизнъ .... 175
что те законы, которые он называет естественными, и то, что он называет «статьи
соглашения о мире», совпадают по своему содержанию. Они являются «предло-
жениями» и заключениями разума относительно сохранения человеческой жизни.
В данном случае утверждается, что Гоббс считает их законами в собственном
смысле, а это, в свою очередь, значит, что их автор известен и у него имеется
априорное (antecedent) право повелевать, что эти законы обнародованы и извес-
тны, что имеется достоверное толкование их и что те, кто должен им повиновать-
ся, имеют достаточный мотив это делать. В заключение делается вывод, что для
Гоббса стремление к миру — это обязательство, которое налагает на всех людей
Естественный Закон, и что любое дальнейшее обязательство, то есть или повино-
вение законам civitas. или обязательство соблюдать условия соглашений, проис-
текает из этого естественного и универсального всеобщего обязательства61.
Нужно признать, что, действительно, у Гоббса встречаются такие выражения
и места, которые можно истолковать как подтверждение вышеизложенной интер-
претации. Но прежде чем мы примем их в буквальном смысле, мы должны подроб-
но разобрать вопрос, принимал ли Гоббс те предположения, которые, безусловно,
следуют из принятия такой точки зрения. И если мы придем к выводу, что это не
так, то, возможно, окажется, что эти места надо интерпретировать по-другому, или
придется удовольствоваться выводом, что у Гоббса, при любой интерпретации его
точки зрения, имеются заметные внутренние противоречия в теории.
Первое направление нашего исследования очевидно. Если, по мнению Гоб-
бса, обязательность закона зависит не от того, что именно содержится в законе, а
от того, кто его автор62, причем этот автор должен быть не только известен сам по
себе, но обладать подтвержденным правом командовать, прежде всего, нам надо
задаться вопросом: считал ли Гоббс, что естественный закон имеет автора, изве-
стного всему человечеству? Если так, то кто, по его мнению, этот автор? Каким
образом известно, что именно этот автор издал этот закон? Вместе с этим мы
сможем увидеть, какая точка зрения относительно права этого автора издавать
этот закон раскрывается в произведениях Гоббса. В той интерпретации, которую
мы рассматриваем сейчас, нам предлагается принять такой ответ: Гоббс, вне
сомнения, считал, что у естественного закона есть автор, известный в этом своем
качестве всем людям; автор этот — сам Бог, и его право быть законодателем
проистекает не из того, что он творец тех, кто должен его слушаться, но из его
61 В некоторых версиях этой интерпретации имеются уточнения, которые я здесь не
буду рассматривать, потому что независимо оттого, действительно ли они со-
впадают с мнением Гоббса или нет, они не изменяют основную мысль. Напри-
мер, имеется такое соображение, что civitas — это такое положение, при котором
обязанность «стремиться к миру» (и так уже вмененная Естественным Законом)
«утверждается» («validated»). Ясно, что это предположение обосновано в том
случае, если считается, что для Гоббса естественный закон является законом в
н-ого» собственном смысле. Мы в первую очередь должны рассмотреть вопрос: явля-
ется ли естественный закон, без какой бы то ни было детализации относительно
условий и людей, законом в собственном смысле, и может ли он налагать на все
^^-•человечество обязательство «стремиться к миру»?
62 Напр., E.W., II. 191 сл. '
176
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
I
Всемогущества63. Следует вывод, что естественный закон — это закон в соб-
ственном смысле, ему подчинены все люди во всех обстоятельствах, потому что
известно, что такова воля Всемогущего Бога.
Принять эту интерпретацию мешают несколько затруднений. Первое состо-
ит в том, что по меньшей мере в высшей степени сомнительно, что Гоббс считает,
что естественное наше знание включает (и может включать) в себя знание о Боге
как авторе законов, регулирующих поведение людей. Обсуждая слово «Бог», он
пишет, что божества прежде всего порождаются человеческим страхом, который
следует из того, что мы часто не знаем причин того хорошего и плохого, что с
нами случается. Но понятие «одного Бога, Бесконечного и Всемогущего, может
быть легче выведено из желания людей познать причины естественных тел и их
различных свойств и действий, чем из страха людей перед тем, что с ними может
случиться в будущем»: прослеживая причины вещей дальше и дальше в прошлое,
мы должны будем «в конце концов прийти к заключению, что существует первич-
ный двигатель, т. е. первичная и предвечная причина всех вещей». А это именно
то, что люди разумеют под именем Бог»64. Следовательно, о таком Боге, который
по необходимости является гипотезой, прежде всего говорится, что мы имеем о
нем естественное знание. А по причине Всемогущества этого Бога (поскольку
«господство» (rule) его как первопричины неизбежно и абсолютно) мы можем
говорить о нем как о «Царе всей земли» и о том, что вся земля — это Царство
Божие и что все существующее на ней принадлежит ему. Но говоря так, мы дол-
жны иметь в виду, что мы употребляем слова «царь» и «царство» только в пере-
носном смысле65.
Тем не менее, слово «Бог» можно употреблять в другом смысле, и тогда мож-
но говорить, что Бог является Царем и имеет Царство в собственном смысле
слова: он является подлинным правителем тех, кто «верит в Бога, правящего
миром, давшего заповеди, обещавшего награды и наказания человечеству»66.
Но относительно этого надо сделать два наблюдения. Прежде всего, эта вера не
согласуется с естественным знанием, которое (в этой связи) присуще необходи-
мой гипотезе Бога как Всемогущей Первопричины67, Бог «провидения» — это не
в меньшей степени порождение человеческих мыслей, чем Бог-Первопричина, но
63 Это исключает две другие точки зрения, которые в противном случае были бы воз-
можны. Прежде всего: естественному закону следует подчиняться, потому что
он самоочевидно разумен или потому что он обязателен аксиоматически; на мой
взгляд, нельзя понять Гоббса таким образом: естественный закон обязателен
вследствие того, что у него есть автор, но при этом что автор — не Бог. В этой
третьей интерпретации теории Гоббса Бог присутствует необходимо.
64 L., 83.
65 L., 90, 314 сл.
66 L., 274, 314. Это необходимое условие, но (как мы вскоре увидим), необходимо и
достаточно не чтобы эти люди «верили» в такого Бога, но лишь, чтобы они
провозгласили его своим правителем.
67 Гоббс считает, что у нас нет естественного знания природы Бога или судьбы души
после смерти. L., 113.
Моральная жизнь .... 177
в то время как Бог-Первопричина — это порождение человеческого разума, «про-
виденциальный» Бог — порождение человеческого влечения68. И во-вторых,
поскольку впрямую веру в «провиденциального» Бога имеет не все человече-
ство69 , естественные подданные Бога (то есть те, у которых есть обязательство
подчиняться его требованиям) — это те, кто признают «провиденциального» Бога,
имеющего отношение к действиям человека, те, кто надеются на награду от него
и боятся его наказаний. (По ходу дела здесь можно заметить, что это обстоятель-
ство определяет различие, которое проводит Гоббс между естественными под-
данными Бога и его подданными по соглашению: единственное правильное пони-
мание выражения «царство Божие» — это государство, учрежденное (по согла-
сию тех, кто должны были стать его подданными) для гражданского управле-
ния»70 . Подданные этого государства обязаны подчиняться естественному зако-
ну71 , они должны всегда стремиться к миру. Верно, что и на других людей может
действовать этот закон, они могут чувствовать, что они получают удовольствие,
когда подчиняются ему, и боль, когда не подчиняются, но у них нет морального
обязательства подчиняться, и удовольствие, которое они испытывают, не награ-
да, а боль не наказание.
Может показаться, что в таком случае по Гоббсу Бог, в качестве автора
закона, предписывающего стремиться к миру, является правителем не всего че-
ловечества, а только тех, кто признает его в таком качестве и кто, следователь-
но, знает, что именно он и есть автор; и что это признание является вопросом не
естественного знания, а «веры»72. Сказать, что Гоббс где-либо говорит, что мы
должны подчиняться естественным законам, потому что это законы Бога — не-
брежность. На самом деле он говорит, что эти законы были бы для нас обязатель-
ны, если бы это были законы в собственном смысле, а законами в собственном
смысле они являются тогда, когда известно, что они созданы Богом73. А это озна-
чает, что это законы в собственном смысле лишь для тех, кто знает, что они
созданы Богом. Кто же это? Конечно, не все люди; и, конечно, из всех людей
только те, кто признают, что Бог — их создатель. Следовательно, нельзя согла-
ситься с утверждением, что, по Гоббсу, естественный закон является законом в
68 L., 525.
69 L., 275. Имеются в виду не атеисты. По Гоббсу, «атеист» — этот тот, чей ум слаб и не
может прийти к гипотезе о Первопричине, и только во вторую очередь человек,
который не верит в «провиденциального» Бога, имеющего отношение к дей-
ствиям человека. В этом отношении Гоббс делит людей на несколько групп:
атеисты; те, кто признают Бога-Первопричину, но не верят в провиденциально-
го Бога; безумные и незрелые люди; те, кто признают и Бога-Первопричину, и
«провиденциального» Бога. Только для последних является обязательным есте-
ственный закон.
70 L., 317 и др. Особенно следует обратить внимание на E.W., II, 206.
71 L., 276. .v '
72 Ср. L., 300.
73 L., 403
178
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
собственном смысле и обязывает все человечество стремиться к миру, какие бы
места в пользу этого утверждения из его сочинений (большинство из которых
можно трактовать по-разному) ни выдергивались74.
Но далее, если ясно, что даже так называемые «естественные подданные» Бога
не могут иметь естественного знания о Бога как об авторе универсальной заповеди
о стремлении к миру, ясно также, что Гоббс не допускает и любого другого вида
знания о Боге как об авторе такого рода естественного закона. Он прямо утверж-
дает, что если эти подданные заявят, что получили знание о том, что Бог налагает
обязанность стремиться к миру, через «сверхъестественное чувство» («Открове-
ние», «вдохновение»), то такое заявление силы не имеет75. «Сверхъестественное
чувство» может дать человеку знание о чем угодно, но не об универсальном законе
и не о том, что автор этого закона — Бог. То, что не удалось получить путем
«естественного знания» и «сверхъестественного чувства», нельзя получить и через
пророчество. Верно, что о том, что автор закона Бог, человек может знать через
веру, но вера показывает нам Бога не как автора «естественного закона», который
налагает долг на всех людей, но Бога как автора «позитивного закона», который
обязывает долгом только тех, кто непрямым соглашением избрали Бога своим пра-
вителем, таким образом передав ему полномочия. Кратко говоря, только там, где
стремление к миру формулируется позитивным законом, оно становится долгом, и
именно этот закон является законом в собственном смысле, поскольку автор его
известен, и обязывает к этому долгу этот закон только тех, кто его автора знает.
Вопрос «Полагает ли Гоббс, что естественный закон — это закон в собствен-
ном смысле, поскольку автор его известен» сводится с следующему вопросу: «Кто
из всего человечества, по мнению Гоббса, обязан исполнять заповедь о стремлении
к миру, поскольку они знают, что автор этой заповеди — Бог?» Отвечая на этот
вопрос, мы обнаружили, что у Гоббса различие между «естественными подданны-
ми» Бога и его подданными по соглашению и признанию полномочий, которое
казалось сначала явно выделенным, на самом деле не столь строго: единственное
«Царство Божие» в собственном смысле — это civitas, в котором Бог признан в
качестве автора гражданского закона. К тому же заключению мы приходим, рас-
сматривая связанный с этим вопрос: «Какой властью налагает Бог обязательства?»
В той интерпретации теории Гоббса, которую мы сейчас рассматриваем, говорит-
ся, что власть Бога над его «естественными подданными» вытекает из его «неогра-
ниченной мощи», и, следовательно, это власть создавать закон для всего человече-
ства76 . Но этого быть не может, как бы ни казалось, что Гоббс пишет так в этих и
других местах. Всемогущество и «неограниченная мощь» — это характеристики
Бога как «первой и предвечной причины всех вещей», но этот Бог—не законода-
тель и не правитель, и мы уже видели предупреждение, что говорить о нем как о
«Царе», имеющем «Царство», можно только в метафорическом смысле. Бог, кото-
рый является «правителем» в собственном смысле (Бог, налагающий подлинные
74 Напр. L., 315, 363.
75 L., 275.
76 L., 90, 276, 315, 474, 551; E.W., П. 209: IV, 170.
Моральная жизнь .... 179
обязательства), это правитель не всех людей и вещей в мире, но только «той части
человечества, которая признает его Промысел». Только в их признании его своим
правителем он и становится известен как автор закона в собственном смысле; это
признание является тем актом, из которого вытекает долженствование, потому что
без этого акта правитель остается неизвестен. Следовательно, источник власти
Бога создать закон в собственном смысле — это не его всемогущество, а соглаше-
ние, признание его людьми как законодателя.
Далее, если естественный закон — это закон в собственном смысле, то у него,
помимо известного автора, должны быть еще две характеристики. Во-первых, он
должен быть известен—или доступен для узнавания—тем, кто должен ему подчи-
няться, то есть он должен быть каким-то образом «обнародован», «издан». Кроме
того, должна существовать его адекватная интерпретация. Имеет ли, по мнению
Гоббса, естественный закон эти характеристики?
В отношении первой из этих характеристик рассматриваемая нами сейчас ин-
терпретация Гоббса затруднения не видит: она основывается на положении Гоб-
бса, что Бог дал естественный закон своим естественным подданным в «предписа-
ниях естественного разума» или в «разумном праве». В рассматриваемой интер-
претации этот закон известен «без других Божественных слов», и достаточное зна-
ние о нем имеют даже те, чей разум не имеет выдающихся достоинств77. Но можно
задать вопрос: каким образом может человек знать посредством «предписания ра-
зумного права», что приказ стремиться к миру исходит от подлинной власти, если
«разум» (по определению Гоббса, «разум» — это способность определять вероят-
ные причины наличных вещей и вероятные последствия наличных действий, и при
этом разум служит «отысканию истины (не о факте, а о следствии») сам по себе не
может ни дать какие-либо категорические предписания, ни служить средством их
установления? Как может Бог «объявить свои законы» человечеству (именно как
законы, а не просто как теоремы) в «предписаниях естественного разума»? Ответ
на эти вопросы ясен: если придерживаться того же взгляда на сущность разума, что
и Гоббс, невозможно полагать, что Бог совершает что-либо подобное. А если Бог
не может этого сделать, то терпит крушение и вся теория, по которой естественный
закон является законом в собственном смысле и налагает обязательства на все
человечество, потому что он известен и известно, что он от Бога. Вне сомнения, в
некоторых местах у читателя складывается впечатление, что Гоббс действительно
имеет в виду, что естественный закон известней естественным образом, как закон в
собственном смысле, налагающий на все человечество обязанность стремиться к
миру. Иногда Гоббс говорит о «естественных обязанностях»78 (хотя отказывается
вводить понятие «естественная справедливость»)79. Ниже мы разберем, почему
Гоббс подводит читателей к такой мысли. Но также нет никакого сомнения в том,
что, учитывая его понимание «разума», строго Гоббс может утверждать только то,
что естественный закон — это набор теорем о сохранении человека, который в
77 L., 292; E.W., I, 3.
78 L., 277.
74 E.W., IE vi.
180 Майкл Оукшот. Рационализм в политике - 'i
1
этом смысле известен всем людям80. Следовательно, отсылки к «естественному
разуму», которые можно найти в произведениях Гоббса, имеют только двусмыс-
ленный характер, и в отсутствии несомненных свидетельств противного мы долж-
ны заключить, что естественный закон не является законом в собственном смысле и
что обязательство стремиться к миру естественным образом неизвестно не только
всем людям, но даже и так называемым «естественным подданным» Бога. На са-
мом деле известно, что есть долг стремиться к миру, когда этот долг наложен пози-
тивным законом Бога на тех, кто непрямым соглашением признали его власть обя-
зать выполнять этот долг; известен ли им этот долг через «пророческое» слово Бога
или через позитивный закон civitas. В государстве же «пророчество» и приказ суве-
рена неразличны, потому что Властитель государства — это «пророк Бога»81.
Третья характеристика закона в собственном смысле — это существование
«достоверного толкования» его значения82. Именно этого весьма сильно не хвата-
ет естественному закону, если к нему не добавляется какая-либо позитивно при-
знанная власть, например правитель государства или «пророк», имеющий знание
от Бога и признанный своими последователями83. Сам Бог может быть толковате-
лем естественного закона не больше, чем он может быть толкователем слова Свя-
щенного писания. Кратко говоря, для Гоббса не может быть одновременно и «есте-
ственного», то есть «не по соглашению», и «достоверного» толкования естествен-
ного закона. Конечно, в некотором смысле можно сказать, что «естественный ра-
зум» или «совесть» обычных людей — это интерпретаторы естест венного закона84,
но нельзя думать, что именно такое толкование этого закона и есть наиболее
достоверное. Когда каждый человек интерпретирует на свой лад, не только
80 L., 286. Выражение истинный разум (Right Reason) отражает широко укорененный
взгляд на вещи, в основе которого лежит представление о разуме как об «искре
Божией». Такой разум, предполагается в данном случае, способен привести
человека к познанию по крайней мере некоторых из его моральных обязаннос-
тей. Однако такой взгляд на вещи Гоббс во мнотих местах открыто опровергает.
По Гоббсу, «наш естественный разум» - эго, несомненно, «слово Бога» ( L.,
286), однако он выражает лишь гипотетические соображения относительно при-
чин и следствий, а не категорическую информацию о долженствовании. В том,
как Гоббс использует выражение «наш разум», есть даже некоторая непоследо-
вательность; строго говоря, «разум» - это способность рассуждать (reasoning),
то есть выводить законные умозаключения. Следовательно, при появлении вы-
ражения «истинный разум» (Right Reason) у Гоббса внимательный читатель дол-
жен быть начеку и видеть в этом двусмысленность.
(В английском языке сочетание «Right Reason» действительно очень часто встречает-
ся, по—русски нет такого же устойчивого понятия. Можно переводить: правовой
разум, правильный разум, разум права, разумная правильность или, например,
«свет разума» или «самоочевидное и общезначимое рациональное свидетель-
ство». — Прим, перев.}
81 L., 337.
82 L., 211 сл., 534; E.W., II, 220.
83 L., 85, 317.
84 L., 249. . , , ч .
Моральная жизнь .... 181
невозможно исключить вмешательство страсти (в конце концов, и совесть —
это только мнение самого человека о том, что он сделал или намеревается сде-
лать), но и сама обязательность закона, когда он интерпретируется таким обра-
зом, перестает быть универсальной, всеобщей обязанностью стремиться к миру;
она становится в самом лучшем случае обязанностью каждого повиноваться
этому закону, bona fide* как он его понимает, а этого недостаточно. Закон,
который для каждого якобы подзаконного ему человека может быть разным,
это вообще не закон, а просто разнообразный набор мнений о том, какого пове-
дения хотел от нас законодатель (в данном случае, Бог)85. На самом деле, не
бывает закона там, где нет общей (common) власти, которая бы объявляла и
толковала его. Он также не позволяет предполагать, что каждый человек от-
ветственен перед Богом за то, что его толкование естественного закона было
добросовестным: такую ответственность могут нести только те из людей, кто
верит в провиденциального Бога, имеющего отношение к людским делам.
Итак, мы подробно рассмотрели интерпретацию сочинений Гоббса, и в кон-
це концов пришли к следующему заключению: на вопрос «Имеет ли, на взгляд
Гоббса, естественный закон необходимые и достаточные свойства для того,
чтобы быть законом в собственном смысле слова, который налагал бы на все
человечество обязанность стремиться к миру?» или в иной форме: «Является ли
долг стремиться к миру «естественным» долгом, который накладывает обяза-
тельства на всех людей, или он заключается только путем сделки?» — следует
дать отрицательный ответ. Но в ходе нашего обсуждения мы пришли к мысли,
может быть, более правильно вопрос следовало бы сформулировать: «По мне-
нию Гоббса, в каком случае у естественного закона эти свойства есть?» или
«Для кого стремление к миру может быть не только рациональным способом
действия, принятым ради самосохранения, а предписанием [императивом], име-
ющим моральный характер?» Ибо, несмотря на то, что Гоббс пишет многое, что
провоцирует неправильное его понимание, все-таки кажется очевидным, что
для него естественный закон имеет эти свойства [делающие его законом в соб-
ственном смысле] только в некоторых случаях и что налагает он обязанности
только на некоторых, определенных людей. В общем и целом [мы можем ска-
зать, что] это те случаи, когда стремление к миру становится положением неко-
торого позитивного закона, будь то Божественного или человеческого. В об-
щем случае, закон накладывает обязательства только на тех, кто знает автора
закона и признает его власть как законодателя86. Это, кажется, соответствует
Добросовестный (лат.). — Прим, перев.
85 Ср. L., 453, 531, 534. Стоит обратить внимание на то, что Гоббс отвергает «писате-
лей» и «труды по философии морали», не считая их за подлинных интерпретато-
ров гражданского закона (L., 212). «Достоверное толкование» должно быть един-
8> ственным и авторитетным. А без [такого] толкования закон можно считать не
известным, а следовательно, не существующим, а долг — отсутствующим.
86 Хорошо известно, что Гоббс различал два типа обязательства: in fore inter по и in fore
externo («через внутреннее суждение» и «через внешнее суждение». — Прим.
182 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
тому, что, как я считаю, является глубочайшим убеждением Гоббса относитель-
но морального долга; это убеждение, что «любой человек принимает на себя ка-
кой-либо долг только через совершение собственного акта»87. Но из этого принци-
па, по I Ъббсу, следует не то, что долг создается выбором того, кто обязан, а что где
нет выбора (соглашения и признания полномочий), там неизвестен законодатель и,
следовательно, нет закона в собственном смысле и нет обязанностей. И мне кажет-
ся, что этот принцип исключает возможность «естественных» (то есть принятых не
путем соглашения) обязанностей. Необходимый «акт» может быть признанием Бога
в вере в «провиденциального» Бога, который имеет отношение к поведению чело-
века; но для тех, кто живет в civitas, это тот акт, которым творится и признается
государственный правитель, суверен, потому что для этих людей все их обязанно-
сти поступают к ним как приказы этого правителя.
< Во внимание можно принимать и другие, менее ясные мысли Гоббса, но мне
кажется, очевидно, что Гоббс полагает, что, каковы бы ни были все остальные
обстоятельства и все остальные условия, несомненно одно — именно государ-
ство является тем условием, где есть закон в собственном смысле88 (то есть граж-
данский закон), и только в нем этот закон будет законом в собственном смысле, и
этот закон состоит в том, что все подданные обязаны стремиться к миру. Если
понимать Гоббса так, будто бы этот возникший в результате заключения согла-
шения долг появляется как «естественный», a priori наложенный на все человече-
ство независимым и непреходящим «естественным законом», то нужно игнориро-
вать так много заключений Гоббса насчет Бога, «разума», человеческого позна-
ния, «значения слов» и соображений относительно морального долженствова-
ния. что в результате модель гораздо больше упускает, чем объясняет. Принять
ее нельзя — она неудовлетворительна. Таков один источник совершенно непрео-
долимых противоречий, второй же, еще более важный, берет начало у самого
Гоббса. Это смешение того, что он пишет о «естественном законе» как о «теоре-
мах относительно того, что ведет к сохранению и защите людей» (а именно о том
в них, что доступно естественному разуму, что, безусловно, постижимо даже для
самых низших представителей человечества), и того, что он говорит о естествен-
перев. ). Очень детально и с большой тщательностью это различие было иссле-
довано Уорриндером, однако все же это различие второстепенно по отношению
к тому вопросу, которым мы занимаемся сейчас: «Каковы, по мнению Гоббса,
условия каких бы то ни было обязательств?» И поэтому я не считаю необходи-
мым углубляться сейчас в этом различие. Впрочем, можно заметить, что, мнение
Уорриндера, Гоббс считает, что в природном состоянии естественные законы
всегда налагают обязательства in jore interna, a in fore externo не всегда —
нельзя назвать убедительным (Warrender, р. 52; L., 121). Следует считать, что
Гоббс имел в виду: естественные законы, если они являются законами в соб-
ственном смысле, всегда накладывают обязательства in fore interno, но не всегда
in fore externo. Разве это [утверждение Уорриндера] не идет дальше толкования
слова «всегда» как «во всех ситуациях человеческой жизни», в том числе «в
естественном состоянии»?
87 L., 314, 317, 403, 448.
88 L 443 ./кvsHii
эмгп нс-оп я м* нт ьнош Моральная жизнь .... 183
ном разуме как о моральных обязательствах. Другими словами, это смешение
между разумом, который учит, и законами, которым подчиняются.
Можно сказать, что в каждой из интерпретаций Гоббса что-то остается нерас-
смотренным или непонятым. Но следует отличать те интерпретации, которые не
согласуются с отдельными (возможно, многими) местами из его текстов, и теми,
которые, как кажется, не соответствуют тому, что можно назвать самыми струк-
турными принципами мысли Гоббса, хотя часто и трудно решить, где провести
границу. Мы рассмотрели три интерпретации. Представляется, что первую при-
нять труднее всего. Вторую (в которой долг понимается как стремление к миру в
соответствии с законами государства, civitas) — легче всего, потому что она, на
мой взгляд, в наименьшей степени входит в противоречие с теми принципами,
которые кажутся мне основополагающими для всего философствования Гоббса.
Тем не менее, следует признать, что слова Гоббса относительно «естественных
законов», которые накладывают «естественные» обязательства (что является
основной темой в третьей интерпретации), не следует считать чем-то несуществен-
ным, что можно просто отбросить как появившиеся по недосмотру. Очевидно,
что они контрастируют с некоторыми мыслями Гоббса, которые являются для
него совершенно принципиальными. Но их так много, что просто игнорировать
их существование нельзя. Уорриндер прекрасно показал, что если их выделить из
контекста и собрать воедино, из них одних можно составить вполне цельную и
связную моральную теорию. Насколько я понимаю, в данном случае налицо сле-
дующая ситуация: философская работа, в которой (не совсем рядом, но почти
вперемешку) сосуществует и оригинальная и последовательная моральная тео-
рия, и другие, более мелкие, мысли — другое понятие морального долженствова-
ния. Язык и общие принципы этой теории совпадают с общепринятыми (хотя и
есть оригинальный подход к некоторым вещам). Конечно, можно сказать, что
сам Гоббс не понимал, что пишет. Но каждый, кто считает, что наряду с главной
там присутствует другая — по его мнению, менее значительная89 — скорее всего
предложит более приемлемое объяснение этого факта. Несомненно, у Гоббса в
некоторых местах есть смешение разных вещей, но присутствие двух разных тео-
рий морального долженствования следует объяснять не просто этим смешением.
Вообще говоря, вопрос стоит так: почему Гоббс, предпринимая попытку про-
лить свет на основания и на характер долженствования, которое вытекает из
жизни человека в civitas, сводит вместе две совсем разные (а в некоторых отно-
шениях просто противоположные) понятия морального долга? В частности, нам
89 Я уже перечислил несколько причин, по которым, на мой взгляд, первая из этих
интерпретаций вызывает меньше возражений, чем вторая, можно указать также
на следующий факт: Гоббс полагает, что его мнение относительно характера
морального долженствования покажется современникам оскорбительно эксцен-
тричным (напр., L., 557). Если бы ею теория была такова, какой ее считает
” i Уорриндер, он вряд ли имел бы основания так думать. . J
184
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
нужно выяснить, почему у него в произведениях появляются противоречивые ут-
верждения, краткий список которых приведен ниже.
1. Он пишет, что по природе «человек имеет право на все, даже на тело друго-
го человека», право управлять самим собой согласно своим собственным сужде-
ниям, «делать все, что он хочет», и действовать во имя своего сохранения любым
способом, который он считает подходящим90. И в то же время он пишет, что по
природе каждый имеет «естественный» долг стремиться к миру, происходящий из
естественного закона, в свою очередь сотворенного всемогущим Богом.
2. Он пишет, что «разум» «служит только тому, чтобы убедить в истине (не
факта, а) последствий», что разум работает с гипотетическими предположениями
относительно причин и следствий91, что его роль в поведении человека заключа-
ется в придумывании подходящих способов достижения желаемых результатов и
что ничто, что разумно, вовсе не является при этом обязательным. Но также он
пишет о том, что естественные законы, которые, по его определению, представ-
ляют собой не просто гипотетические заключения относительно самосохранения
человека, известны нам «велением естественного разума»92.
3. Он пишет, что мы можем посредством разума познать Бога как автора
морального закона; в то же время он утверждает, что посредством разума мы
ничего не можем узнать ни о Боге как авторе морального закона (как и о награ-
дах и наказаниях иной жизни), но лишь то, что Бог есть Первопричина.
4. Он пишет, что «наш долг гражданского повиновения... прежде всех других
гражданских законов»93, предполагая, что это есть «естественное» и всеобщее
долженствование и выводя его из обязанности не восставать против суверена госу-
дарства; но в другом месте он отрицает универсальный характер этого должен-
ствования, обозначая вместо этого тот класс людей, к которому оно относится
вследствие заключенного этими людьми соглашения или признания полномочий.
5. Он заявляет о независимой авторитетности как естественного закона,
так и Священного Писания, первый из которых основан на разуме, а второе — на
откровении, но в другом месте он говорит, что для членов civitas авторитет-
ность естественного закона проистекает из санкции суверена государства, и за-
поведи Священного Писания таковы, какими их считает суверен.
6. Гоббс использует слово «предписание» разума в качестве синонима слов
«общее правило» разума94, чтобы описать первый естественный закон, причем
делает это таким образом, что в конце концов приходит к отрицанию того, что
предписывающий характер естественного закона не имеет никакого отношения
к его умопостигаемости95.
90 L., 99.
91 L., L., 292 и др.
92 L., 275 и др.
93 EW, li, 200.
94 L., 258.
95 L., 122.
ьлп гщкш & -«лшиищ Моральная жизнь .... 185
7. Он использует выражение «естественный закон» как тогда, когда имеются в
виду гипотетические заключения человеческого разума относительно самосохра-
нения человека, так и тогда, когда речь идет об обязательстве, которое накладыва-
ет Бог на всех людей за исключением атеистов, сумасшедших и детей. В этой мане-
ре практически проглядывает признание в преднамеренном смешении понятий.
8. Он пишет, что естественным законом суверен (без определения) обязан «забо-
титься о безопасности (и процветании) народа», за что «он отвечает перед Богом,
творцом этого закона, и ни перед кем другим»96. Но как показывает сам Гоббс (если
не считать бесчисленного множества иных затруднений), в лучшем случае это спра-
ведливо для того суверена, который относится к классу людей, верующих в прови-
денциального Бога, имеющего отношение к поведению человека, к тому классу,
который (по тексту Гоббса) крайне сложно отличить от класса верующих христиан.
9. Большую роль играет у Гоббса различение между «естественным царством
Бога» и «естественными подданными Бога», но наряду с этим он пишет, что сло-
ва «царство» и «подданные» в отсутствие договора или соглашения являются не
более чем метафорическими выражениями. д-
10. Он различает две ситуации: «Первые основатели и законодатели государств
среди язычников, ставившие себе единственной целью держать народ в повино-
вении и мире, везде заботились о том, чтобы внушить народу»97, что гражданс-
кий закон имеет Божественное происхождение. Вторая ситуация иимела место у
древних иудеев: «сам Бог» основал свое царство по соглашению. Однако при
этом Гоббс игнорирует тот факт, что все, что он говорит о Боге и о способностях
человеческого воображения, приводит к тому, что выражение «сам Бог» стано-
вится бессмысленным: то, каков Бог «есть» а также то, что он «делает», зависит от
того, как люди думают или «мечтают» об этом.
Некоторые комментаторы полагают, что им удалось разрешить те или дру-
гие из указанных выше противоречий по отдельности, не приводя решения ситу-
ации в целом. Возможно, самую заметную попытку такого рода совершает Уор-
риндер, обсуждая противоречие на с. 205 «Левиафана»98- * Но даже ее нельзя
считать успешной. Уорриндер находит в тексте Гоббса reductio ad absurdum **
теории естественного закона, предполагая при этом, что Гоббс не имел намере-
ния этого делать. Соответственно, по его мнению, это место у Гоббса нельзя вос-
96 L., 258.
97 L., 89—90.
98 Warrender, р. 167.
Трудно сказать, о каком месте речь, так как нигде не сказано, по какому изданию
Левиафана идет счет страниц. Я установила примерные соответствия ссылок
автора на места русского перевода, так что судя по ссылке на с. 205, это при-
мерно начало главы 23, в русском переводе с. 103. Вот, может быть, какое место
имеется в виду: «Лишь монарх или верховное собрание имеют полномочия не-
посредственно от Бога учить и наставлять людей, и никто, кроме суверена, не
получает своей власти по милости одного лишь Бога. Все прочие получают ее
по милости и промыслу Божьему и их суверенов». — Прим, перев.
Сведение к абсурду (лат.). — Прим перев.
186
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
принимать буквально, поскольку он не считает возможным допустить, что Гоббс
соглашается с вытекающими отсюда следствиями (которые он и защищает, и
отвергает одновременно). Но в любом случае, как бы успешно или неудачно ни
толковали комментаторы отдельные лежащие на поверхности противоречия Гоб-
бса, остается незатронутым самое ядро проблемы. Нам следует найти объяснение
всей ситуации в целом, более убедительное, нежели ссылки на путаницу терми-
нов, неумение Гоббса аккуратно рассуждать и его склонность преувеличивать.
Можно считать, что сочинения Гоббса о гражданском повиновении (и, в час-
тности, «Левиафан») преследуют двоякую цель. Представляется, что он считает
необходимым разработать теорию долженствования, находящуюся в соответствии
с принципами его общей системы философии, с его пониманием природы челове-
ка. Кроме того, он хотел показать современникам, в чем заключается их граж-
данский долг, с целью борьбы с анархическими тенденциями и смутой как в жиз-
ни, так и в философии того времени" Из этих двух целей первая является, в сущ-
ности, логической задачей, и для ее решения язык, который выработал Гоббс,
адекватен. Вторую же задачу можно выполнить, только пользуясь языком обыч-
ной политической теории того времени, поэтому в итоге Гоббс разрабатывает
такое учение, новизна которого (если таковая вообще имеется) все-таки соответ-
ствует контексту тогдашних предрассудков относительно морального поведе-
ния. Теперь, как оказывается, эти две задачи (которые у другого, более традици-
онного и шаблонного, автора могли бы и не прийти в особое противоречие друг
с другом), вступают в противоречие не в каких-то второстепенных, а в наиболее
существенных центральных частях теории. Принадлежащий к старшему поколе-
нию Хукер нашел возможным разработать теорию гражданского повиновения,
которая не очень сильно отличается от менее традиционной теории Гоббса, внеся
некоторое количество поправок в общепринятую тогда теорию естественного
закона. Можно считать, что Гоббс (во второй из своих задач) ставит себе пример-
но такую же задачу, хотя его изменения были гораздо более радикальны и не
могли не вызвать определенных конфликтов. Но никаким изменением этой тра-
диционной схемы естественного закона нельзя было достичь даже отдаленного
соответствия между учением о гражданском долге и общей системой философии
Гоббса. Кратко говоря, если для объяснения важнейших противоречий в творче-
стве Гоббса выбирать между смешением понятий и намеренной двусмысленнос-
тью, то, по моему мнению, более вероятно второе.
99 Если мы проведем различие (что возможно) между важностью морально обязатель-
ных действий, склонности к ним и учением, целью которого является показать,
почему обязательным является то, что таковым считается — прежде всего, мож-
но заметить, что в тех случаях, когда Гоббс рекомендует некие новые виды
обязанностей (что он всегда делает неохотно, E.W.., II, xxii), это изобретения не
его собственные, а заложенные в ситуации разворачивания нового государ-
ства, в котором управление признается деятельностью суверена. Следует отме-
тить также, что, как представляется с точки зрения предлагаемой интерпрета-
ции произведений Гоббса, двойная задача, которую он себе ставит, приводит
(там, где это имеет место) к противоречиям нс в том, какие именно обязанности
1 , называются, а в том, какое обоснования дается tomv, что они обязательны.
ЭЯТПмной я МЕшино Моральная жизнь .... 187
Предположим, мы остановимся на таком объяснении, по которому у Гоббса
было два учения, одно для посвященных (для тех, кто обладает достаточным
умом чтобы противостоять путанице в голове, которая в принципе может быть
вызвана его скептицизмом), а другое — для обычного человека, с которым все-
гда надо разговаривать на том языке, к которому он привык. Для такого челове-
ка все нововведения (как в смысле того, что касается обязанностей, так и того,
что касается их обоснования) должны подаваться так, как будто это общие мес-
та. Тогда мы не приписываем Левиафану ничего уникального и до сих пор неслы-
ханного. Огромное количество тех, кто писал на эту тему (например, Платон,
Макиавелли и даже Бентам) создавали труды, в которых присутствуют — при-
чем в достаточно перемешанном состоянии — две доктрины: эзотерическая и
экзотерическая. Мнение, что об этом (то есть вообще о политике) вообще прямо и
начистоту можно говорить только с посвященными, а для остальных это должно
оставаться определенным образом «тайной», восходит к самому началу размыш-
лений о политике, и, конечно, в XVII веке оно никоим образом не исчезло.
Я не собираюсь кому бы то ни было навязывать свою интерпретацию того,
что думал Гоббс об обязанностях. По самой ее природе ее невозможно доказать.
Но мне кажется весьма вероятным, что противоречия в произведениях Гоббса
требуют подобного общего объяснения.
т:
6
Итак, в своем исследовании творчества Гоббса мы пришли к определенным зак-
лючениям, которые должны быть приняты большинством читателей. Представ-
ляется ясным, что Гоббс полагал, что разумная склонность людей совпадает со
стремлением к миру. В понятие мира входит признание других равными себе,
входит необходимость держать свое слово, не выказывать презрения и ненавис-
ти, не стремиться одержать победу над всеми вокруг ради того, чтобы испытать
восторг от того, что ты вышел на первое место. Именно такой способ жизни
продиктован разумом. Разум также предлагает и средства осуществления — при
том постоянного — такого способа жизни: это civitas. Наградой за принятие его
является избавление от постоянного страха насильственной и позорной смерти от
рук других людей. И до сих пор достаточный мотив и достаточную причину для
стремления к миру мы находим в страхе позорной смерти: страх стимулирует
разум, а разум решает, что следует сделать, чтобы избежать тех обстоятельств, в
которых возникает страх.
Мы также рассмотрели вопрос, говорит ли Гоббс что-либо в защиту той точ-
ки зрения, что это стремление к миру на самом деле является не только разумным,
но также и справедливым, а значит, морально обязательным. Относительно этого
мы пришли к заключению, что Гоббс, вне сомнения, способен отличить достаточ-
ные причины человеческого поведения от тех причин, которыми они обосновы-
ваются. Далее, мы видели, о каких причинах Гоббс считает адекватным здесь
говорить: это существование закона в собственном смысле слова, который пред-
писывал бы данное стремление. Кроме перечисленного, есть еще целый пласт
188 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
рассуждений, в котором не столь просто разобраться. Самое лучшее, что может
сделать относительного него исследователь — это определить, какие черты он
считает наиболее существенными и изложить, почему он полагает так, а не ина-
че. Я только что сделал это. Но кроме этого следует сказать еще кое-что.
Мы видели, что Гоббс исповедует мораль человека покорного. Конечно, са-
мый главный стимул жизненного движения сердца — это то наслаждение, кото-
рое испытывает человек, когда его постоянно признают лучшим. Но без этого
величайшего счастья нужно обойтись: гордость, даже когда она и не скатывает-
ся в пустое тщеславие, слишком опасная страсть. Допустить ее нельзя, хотя по-
давление ее до какой-то степени и лишает жизнь блеска.
Но в произведениях Гоббса есть еще одна линия рассуждений. Она разрабо-
тана не очень детально, но достаточно, чтобы направить наши мысли в другом
направлении. В этом случае по-прежнему справедливым считается стремление к
миру, а целью — освобождение от страха перед насильственной и позорной смер-
тью от рук других людей. Отличие состоит в том, каково то желательное состоя-
ние, к которому следует стремиться. Это не состояние человека гордого, охва-
ченного страхом, подавляющего свою гордость и (путем заключения соглаше-
ний) становящегося покорным. Это — моральное рассуждение о самой гордости.
Как могло это случиться?
Вообразим человека, обладающего таким характером, каким, как полагал
Гоббс, обладают все люди: этот человек неизбежно лучший друг сам себе и при
этом (по причине своей слабости) подверженный страху оказаться опозоренным,
обесчещенным и даже убитым. Но предположим, что гордость у этого человека
все-таки сильнее страха; что это человек, для которого обречь себя на прозябание
просто ради того, чтобы выжить, — это больший позор, чем потерпеть неудачу; что
это человек, который желает преодолеть свой страх не разумно (то есть, обеспечи-
вая себе условия внешней безопасности), а храбростью; человек, совсем не лишен-
ный несовершенств и не обманывающийся относительно себя. Он достаточно горд,
чтобы не испытывать горя от своих недостатков и утешаться иллюзиями своих
достижений. Про него нельзя сказать, что он, безусловно, герой, потому что он для
этого слишком беспечен, по, быть может, у него есть некоторые черты и небрежно-
го геройства. Короче говоря, этот человек (говоря словами Монтеня) «знает, как
принадлежать самому себе». Он не сочтет для себя позором, если — в соответству-
ющих обстоятельствах — на его могиле будет эпитафия г ; . д • -л; • •.л т
Par delicatesse
-i J’ai perdu ma vie *.
Итак, человек такого типа не страдает от недостатка стимулов для жизненного
движения сердца, но он в высокой степени независим, определен самим собой. Он
стремится к миру, и если тот мир, которым он наслаждается, является только его
Я потерял жизнь
Из-за своей хрупкости.— Прим иерее.
Моральная жизнь .... 189
собственным достижением и потому защищен от неприятностей, которые могут с
ним произойти, то от этого он ни в коей мере не становится угрожающим для покоя
других людей, имеющего иную природу. В его поведении нет ничего враждебного,
он никого не осуждает. Он не вызывает враждебности и к себе. Он добивается для
себя и приноситв общее существование нечто прямо противоположное тому, чего
достигают другие посредством своих соглашений, проистекающих из страха и
рассчитанных разумом. Ибо если для каждого человека неизбежно стремиться к
самосохранению — а самосохранение интерпретируется (по Гоббсу) не как избав-
ление от смерти самой по себе, а как избавление от страха позорной смерти — этот
человек достигнет одним способом (мужеством) того, что другие достигнут другим
способом (рациональным расчетом). В отличие от остальных, он не только сам
воздерживается от совершения несправедливостей, но и способен равнодушно пе-
ренести несправедливость по отношению к себе от других. Короче говоря, несмот-
ря на то, что такой человек гораздо больше напоминает идею dmeforte Вовенарга,
чем того можно было бы ожидать от Гоббса, все же это не идет вразрез с психологи-
ей Гоббса. По мнению Гоббса, различия людей сводятся к различию в том, какие
страсти для них являются доминирующими. С этой точки зрения вполне допустимо
представить себе человека, у которого гордость доминирует над страхом.
Следует отметить, что такой характер в произведениях Гоббса на самом деле
появляется. Более того, Гоббс считает этот характер справедливым. Он пишет:
«Оттенок справедливости придает человеческим поступкам известное (редко
встречающееся) благородное или галантное мужество, при котором человек не
желает быть обязанным какими-нибудь благами жизни хитрости или нарушению
обещания. Эта справедливость характера и имеется в виду, когда называют спра-
ведливость добродетелью»* 100. Гоббс считает, что человек может держать свое
слово не только потому что боится последствий, если он его нарушит, а вслед-
ствие «желания славы и чувства гордости, побуждающих человека показать, что
он способен не нарушать своего слова»101. Гоббс отождествляет величие души
со справедливым поведением, причина которого — в презрении к несправедли-
вости. Он признает, что иногда люди предпочитают скорее умереть, чем подвер-
гнуться позору определенного рода102. Единственное, что мешает нам считать
этот характер истинно гоббсовским — это то, что Гоббс всегда использует слово
«гордость» в отрицательном смысле103.
Но на самом деле это утверждение чересчур сильно. Гоббс, конечно, иногда
использует слово «гордость» в отрицательном смысле, в качестве обозначения
для одной из трех страстей, самой главной из тех, что вызывают раздор104. Но в
Гордая душа (фр.). — Прим, перев.
100 L., 114. Русск.пер. по Левиафан, с. 61.
101 L., 108 (рус.пер. 57). Ср. L., 229.
11,2 E.W., II, 38.
101 Strauss, 25.
1,14 L.. 57, 128, 246.
190 Майкл Оукшот. Рационализм в политике I
другом смысле это же слово для него - синоним щедрости, мужества, благород-
ства, великодушия и стремления к славе105. Он отличает гордость от «пустого
тщеславия» (vain-glory), которое всегда является пороком, потому что ведет к
иллюзии и к борьбе без надежды на счастье106. Короче говоря, Гоббс (взявший
понятие «гордости» из августинианской традиции моральной и политической
идеологии) понимал то двойственное значение, которое всегда несет в себе слово
«гордость». В традиции, идущей от Августина, гордость — это страсть к тому,
чтобы быть «подобным Богу». Но это положение тоже можно понимать двояко:
стремление поставить себя на место Бога и стремление подражать Богу. Первое
— это дерзкая иллюзия, сатанинская любовь к самому себе. Эта страсть, которая
верит в то, что она всемогуща и не только представляет собой основание для всех
других страстей, но и единственный движущий всем мотив, так что человек дела-
ет все, чтобы поставить себя над всем остальным миром — миром и людей, и
вещей. Это Гоббс, как и все другие моралисты, считает пороком и абсолютным
препятствием к тому, чтобы обеспечить для жизни человека мирные условия. Эта
страсть представляет собой разрушительную Немезиду, и Гераклит о такой стра-
сти говорит, что с ней надо бороться более, чем с пожаром. Но как говорит Дунс
Скот, любой порок — это обратная сторона добродетели. В своем другом лице, в
смысле подражания Богу, любовь к себе представляет собой самопознание и са-
моуважение. Ложная власть над людьми замещается реальностью самоконтроля,
а слава неуязвимости, которая основывается на мужестве, приводит к великоду-
шию. а великодушие — к миру. Это добродетель гордости, которая ведет свое
происхождение от нимфы Ибрис (Hybris), которая родила от Зевса бога Пана. Об
этой гордости писал в megalophychos Аристотель, а на более низком уровне она
отразилась в представлении стоиков о мудреце. Такая sancta superbia* получила
свое место в моральных трактатах средневековых схоластов. Именно ее считал
Гоббс альтернативой тому, что основано на страхе, основанием для сохранения
своей собственной природы и освобождения от страха позорной смерти и от борь-
бы, которую этот страх вызывает.
Этому образу справедливого человека можно найти аналогии в трудах других
моралистов того же образа мысли, что и Гоббс. Рассматривая ту же проблему,
Спиноза указывает на две возможности преодолеть склонность к конкуренции,
заложенную в природе человека, и прийти к состоянию мира: одна из них основана
на страхе и благоразумном предвидении последствий, результатом чего является
закон и порядок eivitas, а вторая — на силе ума, позволяющей подняться над жиз-
ненными обстоятельствами. Юм пишет о двух простых, одинаково эгоистичных
(self-centred) страстях—гордости и покорности (которую он понимал в том смысле,
в каком Гоббс понимает страх) — что они являются началом добродетели. Что
касается «самоуважения» (self-esteem), то оно порождает «сияющие добродетели»
— мужество, бесстрашие, великодушие и стремление к такой славе, когда «смерть
105 L., 96.
106 L., 44, 77
Святая гордость (лат.). — Прим, иерее..
эмн nmnn а мешишонi Моральная жизнь .... 191
теряет свою страшную силу», а человеческая жизнь — свою суетность
(contentiousness). Юм считает, что гордость хороша тем, что она является мотивом
к справедливому поведению не только потому что она «приятна» (agreeable) (Юм
отождествляет это с удовольствием, а покорность — с фрустрацией), но и потому,
что она в высшей степени «полезна»107. Что касается Гоббса, то относительно него
нам следует задать себе такой вопрос: почему он не продолжает развитие этой идеи
далее? Почему он не пишет о полезности гордости и в конце концов приходит к
заключению, что «страсть, с которой следует считаться, — это страх»?
На этот вопрос Гоббс дает ясный ответ, менее полно разработанный, чем у
Спинозы, но по существу своему точно такой же: не потому, что гордость не
бывает причиной истинного стремления к миру, а по причине смерти благород-
ных героев. Он пишет, что это «является благородством, слишком редко встре-
чающимся, чтобы на него можно было рассчитывать, особенно у тех, кто пресле-
дует цели богатства, власти или чувственных наслаждений, а к ним принадлежит
большая часть человечества»108. Короче говоря, Гоббс понимает, что людям чаще
не хватает именно страстей, а не разума, и в особенности им не хватает этой
страсти. Но когда она есть, она приводит к стремлению к миру, основа которого
более прочна, чем у любого другого стремления, и, следовательно, стремление,
основанное на ней (даже в civitas, в котором быть справедливым безопасно), бу-
дет самым надежным. Более того, даже кажется, что Гоббс считает, что именно
такие люди представляют собой необходимую основу государственности. Разу-
меется, только на них (поскольку у них есть адекватный мотив это делать) можно
положиться в деле защиты [власти], когда власть суверена подрывается разно-
гласием. Воплощение человека такого типа он видел в Сиднее Годольфине109.
Несмотря на это, даже в этом случае Гоббс, как всегда, более интересуется под-
линными причинами справедливого поведения, чем тем вопросом, почему мы ве-
рим, что у нас есть обязанность стремиться к миру: «гордость» не встает на место
разума, она лишь является возможной альтернативной причиной.
Может быть, надо сделать еще одно наблюдение. Страх позорной смерти,
благодаря которому разум ищет подходящие условия мира, тот способ, каким
они могут стать схемой действий человека, ведет к появлению морали «покорно-
го» (tame) человека. Этому человеку нужна только безопасность, он не испыты-
вает потребности в благородстве, щедрости, великодушии и стремлении к славе,
и они не ведут его к тому, чтобы быть справедливым. Поскольку в той мере, в
какой взгляд Гоббса был таков, он считается проповедником так называемой
морали «буржуа». Но именно в рамках такого понимания нравственной жизни,
несмотря на то, что взгляд Гоббса на человеческую природу был чисто индивиду-
алистическим, как кажется, появляется и воспроизводится понятие «общей
пользы». Из всех возможных человеческих ситуаций существует только одна,
107 Трактат, II, i и iii; Исследование, § 263; Essays, xvi; The Stoic.
104 L.. 108, рус.пер., стр. 57.
L., Посвящение, 548; Vita (1681), 240.
192
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
которая подлежит одобрению, мораль же становится наукой о том, как достичь и
как сохранить именно эту ситуацию мир. Но нужно обратить внимание на неко-
торые обстоятельства, которые позволяют считать Гоббса (наряду с Кантом и
другими) прежде всего философом морали индивидуальности. Во-первых, более
всего Гоббса интересуют причины подчинения гражданскому закону. Его менее
интересует то, что делал бы человек со своей жизнью в иных обстоятельствах,
чем те минимальные условия, при которых стремление к миру делается основой
жизни даже наименее расположенного к добру из всех людей. Эти минимальные
условия: должен быть один закон и для льва, и для быка, и у того и у другого
должно быть достаточное основание подчиняться этому закону. В этом, возмож-
но, заложена мораль «общей пользы», но полностью она отсюда не вытекает. А
во-вторых, у Гоббса есть этот другой план рассмотрения, на котором достаточ-
ный мотив для стремления к миру основывается на гордости и самоуважении. На
этом плане он, безусловно, философ морали индивидуальности. Этот разговор о
морали ведется как бы с «аристократических» позиций, и сам по себе он ничуть
не выглядит неожиданным в произведениях того, кто (хотя и чувствовал себя
стесненным необходимостью писать для тех, чьим главным устремлением было
«преуспеть») считал людей гораздо более созданными для чести, чем для преус-
певания и выживания.
ПРИМЕЧАНИЕ
К теме этого очерка вопрос о том, каким именно образом, по мнению Гоббса,
создается государство, то есть откуда оно, предположительно, возникает, прямо-
го отношения не имеет, но сам по себе он весьма интересен. Если даже не нахо-
дить других причин, то он все равно будет интересен хотя бы только своей труд-
ностью, и я планирую вкратце его здесь рассмотреть110.
Точка зрения Гоббса такова: несмотря па то, что состояние человека уже не
совпадает с естественным, однако никто не может быть до конца защищен от есте-
ственных «жадности, похоти, гнева и тому подобного» у окружающих его людей, и
(следовательно) ему ничего не остается, кроме как готовиться к отвратительному,
жестокому, полному разочарований и борьбы существованию. Правда, даже в этом
состоянии люди способны заключать друг с другом соглашения, сделки, контракты
и т.п. Но они, ничуть не преобразовывая исходное состояние неуверенности, сами
по себе являются источником неуверенности. Особенно характерно это для согла-
шений, где исполнение обещанного взаимно отложено. В этом случае какая-то из
сторон должна исполнить условия договора прежде другой, и в этом она рискует
быть обманутой. В самом деле, риск, что вторая сторона нарушит свои обязатель-
ства (необязательно потому что выполнение обещания противоречит ее интересам,
но потому, что над разумом часто берут верх «алчность» и «честолюбие») всегда
------------- -ли ,#№.3 Т М $ .. ч
110 Я должен принести благодарность за высказанные в нижеследующем тексте пред-
положения г-ну Дж.М.Брауну, однако он не несет никакой ответственности за
те ошибки, которые, возможно, в этом тексте содержатся, .
f .
Моральная жизнь .... 193
должен быть слишком велик, чтобы любой человек счел для себя неразумным быть
стороной, исполняющей условия договора в первую очередь. Таким образом, хотя
и в таком состоянии по-прежнему могут заключаться и исполняться договоры, и
среди них даже сделки по взаимному доверию, в них всегда будет заключен риск, на
который не может ни один разумный человек, и они не могут обеспечить никакого
надежного способа изменить состояние войны всех против всех.
Однако ситуация изменилась бы, если бы существовала «общая власть», ко-
торую признавали бы все и которая обладала бы достаточной силой, чтобы зас-
тавить исполнять условия соглашений. Гоббс задает следующий вопрос: каким
образом можно помыслить происхождение этой власти и ее характер?
Он пишет, что единственный способ, которым можно поставить такую власть,
заключается в том, чтобы каждый человек договорился со всеми другими пере-
дать свое естественное право управлять собой и сохранять свою собственную
природу и отказался бы от своей естественной власти добиваться выполнения
своих желаний в пользу одного человека или собрания людей, и «признать, что
он автор всего, что сделает тот, кто таким образом представляет общее лицо
всех, и всего, что будет сделано по его воле, в том, что касается общего мира и
безопасности, и таким образом подчинить воли всех воле одного, и их суждения
— его суждению».
Теперь, приняв на время, что в результате этого те, кто находятся в такой
ситуации, обретут то, чего они желают, то есть мир, рассмотрим вопрос, как можно
помыслить тот процесс, в ходе которого эта ситуация достигается. Здесь встреча-
ются определенные затруднения. Заключаемая сделка относительно установления
общей власти — это, без сомнения, соглашение по взаимному доверию, а заключа-
ется она людьми, которые находятся в естественном состоянии. Следовательно
(если только нам не укажут причину для чего-либо иного), в данном случае будут
действовать соображения о том, что все такие соглашения неразумны и рискован-
ны для той стороны, которая выполняет обязательстве! первой, и поэтому разумно-
му человеку нельзя относиться к ним с доверием. Конечно, условия этого договора
не совсем такие же, как в остальных соглашениях по взаимному доверию, но каким
образом эти условия (то есть то, что именно гарантируется) могут превратить со-
глашение из неразумно рискованного для первой выполняющей стороны в такое, в
котором какой бы то ни было риск не столь неразумен велик? Правда и то, что в
этом соглашении, в отличие от обычных сделок, много сторон, но и любое другое
соглашение по взаимному доверию может быть таким, а в этом случае нет причи-
ны, почему нельзя подозревать, что не выполнят свои обязательства по крайней
мере некоторые участники, и, следовательно, многосторонний характер этого со-
глашения никоим образом не ведет ни к каким преимуществам. И далее будет
часто казаться, что у Гоббса получается, что простое заключение этого соглаше-
ния, простое, так сказать, его «подписание» уже ведет к появлению «общей влас-
ти», и не очень просто понять, как такое может быть.
Но если мы снова вернемся к тому, что пишет Гоббс, может быть, в его словах
нам удастся отыскать некий ключ к разрешению этого затруднения. Я полагаю,
это возможно, если бы будем понимать его таким образом: ;
7. Заказ № 2438.
194 Майкл Оукшот. Рационализм в политике \
L ;
«Мир» и такое состояние, в котором все соглашения будут надежными, может
быть только если есть Суверен, который [силой] установит мир и заставит испол-
нять условия соглашений. Чтобы выполнить свое назначение, этот Суверен дол-
жен иметь власть (то есть право) и силу. Власть он может приобрести только спосо-
бом заключения соглашения, который был описан выше, и ничего, кроме такого
соглашения, для того чтобы иметь власть, не нужно. Следовательно, такое согла-
шения (или что-либо подобное ему) можно считать необходимой «причиной» civitas.
И, может быть, также можно сказать, что это необходимо на эмпирическом уровне,
в качестве средства порождения той силы, которая необходима Суверену, посколь-
ку в действительности трудно представить себе, чтобы огромное количество инди-
видуумов, если они не заключат соглашения, признали бы его власть в готовности
(dispositions) к подчинению и в действиях подчинения, посредством которых и со-
здается сила Суверена. Тем не менее, само по себе соглашение не является доста-
точной причиной для civitas, власть оно дает, но силу только обещает. Необходи-
мым и достаточным условием для того, чтобы Суверен обладал властью и силой,
требуемыми для того, чтобы установить состояние мира, было бы одновременное
заключение этого соглашения и, наряду с этим, достаточное распространение го-
товности (открыто выраженной в действиях) соблюдать условия этого соглаше-
ния. Власть Суверена — это обратная сторона готовности его подданных к пови-
новению. И, следовательно, нам следует искать у Гоббса аргументы, которые убе-
дят нас, что в случае этого соглашения — в отличие от всех других соглашений,
заключаемых в естественном состоянии, — разумно ожидать, что все стороны вы-
полнят свои обязательства. Ибо — может быть, в каком-то смысле парадоксально
—теперь оказывается, что та власть, которая необходима для установления мира
и для того, чтобы обеспечить выполнение соглашений, порождается не заключени-
ем сделки, но лишь процессом ее выполнения, то есть готовностью к подчинению, и
соответствующими действиями. Говоря кратко, мы убедились, что в случае любых
соглашений по взаимному доверию, заключаемых в естественном состоянии, нера-
зумно быть первой выполняющей стороной. Теперь же Гоббс должен показать, что
в этой сделке по взаимному доверию быть первой исполняющей стороной не нера-
зумно. И сразу же можно указать на то, что такое положение дел не может иметь
место вследствие того, что есть какая-то власть, которая может принудить вторые
исполняющие стороны к выполнению обещаний, потому что мы ищем как раз удов-
летворительное объяснение того, как эта власть устанавливается. it
Представляется, что в этом вопросе Гоббс занимает позицию двойной надеж-
ности. Он приводит две системы аргументов, показывая нам: прежде всего, то,
что в этой сделке быть первой исполняющей стороной не неразумно даже в том
случае, если нет разумных оснований ожидать, что остальные договаривающие-
ся стороны выполнят все условия. Далее, что на самом деле есть разумное осно-
вание ожидать, что значительная часть участников сделки выполнит свои обеща-
ния и что в случае именно этой сделки (в отличие от обычных сделок) этого доста-
точно, чтобы быть первой исполняющей стороной оказалось не неразумно.
Во-первых, некто, участвующий в данной сделке, конечно, до некоторой сте-
пени рискует, что он подчинится власти суверена, который окажется неспособ-
ЗЛНГНПОП Я MCWIW
Моральная жизнь .... 195
ным заставить других участников сделки подчиняться, если нет разумных осно-
ваний ожидать, что они захотят подчиниться ему сами. Тем не менее, этот риск не
неоправдан, потому что то, что он, подчинившись, приобретет, больше чем то,
что он потеряет. Кроме того, если в этой сделке «общей власти» кто-то не станет
первой исполняющей стороной, то состояние мира не наступит вообще никог-
да111. Аргумент этот убедителен, справедлива содержащаяся в нем идея об отли-
чии соглашения по признанию власти суверена и всех остальных соглашений по
взаимному доверию. Из нее вытекает заключение, что в таком соглашении быть
первой исполняющей стороной не неразумно. Но большинству читателей Гоббса
этого покажется мало, и они будут искать более сильные аргументы. Не впадая в
противоречия с тем, что он пишет в остальных местах, аргументы эти можно
найти благодаря следующим соображениям.
Важное различие между соглашением по признанию власти суверена, которое и
наделяет суверена силой, и другими соглашениями по взаимному доверию состоит
в том, что оно может соблюдаться даже в том случае, если не все стороны действуют
так, как они давали обещание себя вести. В обычной сделке по взаимному доверию
между двумя сторонами первая сторона не получает вознаграждения до тех пор,
пока вторая сторона не сдержит своего слова, когда наступит ее очередь действо-
вать. Это справедливо также для такого обычного (то есть связанного с товарами и
услугами) соглашения по взаимному доверию, в котором участвуют несколько сто-
рон. Первая исполняющая сторона, а также все следующие за ней не получают
чего-то важного до тех пор, пока свои обещания не сдержат все участники сделки.
Но в многосторонней сделке по установлению власти суверена первый и последую-
щие добровольные участники ничего не теряют в том случае, если свои обещания
сдержат не все, а только некоторые, если только число этих некоторых достаточно
для того, чтобы предоставить суверену силу, которой он может заставить подчи-
няться тех, кто не намерен этого делать. Конечно, неразумно ожидать, что жадность
или честолюбие не коснутся никого из участников и не помешают им выполнить
свое обещание подчиниться, однако вполне можно ожидать, что окажется не затро-
нуто таким вмешательством достаточное число участников. Следовательно, в этой
сделке есть некая черта, которая отличает ее от обычных сделок по взаимному дове-
рию: благодаря этой черте быть первой исполняющей стороной становится не нера-
зумно. Каждая сторона в ней—потенциально первая исполняющая. Но, поскольку
то, чего ищут все разумные люди и чего ожидает первый исполняющий, — это д ли-
тельное состояние мира, может быть, лучше описать эту ситуацию таким образом:
не неразумно быть первой исполняющей стороной и держать свои обещания, потому
что не неразумно ожидать, что достаточное число других участников сами по себе в
течение дост аточного времени будут добровольно выполнять условия сделки, что-
бы у суверена благодаря этому появилась достаточная сила для принуждения к
выполнению обязательств тех, кто по каким-то частным причинам не имеет намере-
111 Возможно, чтобы представить себе происхождение государства, необходимо вооб-
разить себе человека не столько благоразумного, сколько гордого, который
выше того, чтобы рассчитывать последствия своего решения первым высту-
пить за мир. Для такого предположения у Гоббса есть некоторые основания.
7*
196 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ния подчиняться. Насколько разумно быть первым исполняющим не зависит от
того, насколько разумно ожидать, что постоянно будет множество людей, кото-
рые оправдают доверие к себе; достаточно, если можно разумно ожидать, что
таких людей будет лишь некоторое определенное количество. Тучи алчности,
честолюбия и иных страстей плывут' по небу и бросают свою тень то на одного, то
на другого человека. Нет такого человека, на которого можно было бы поло-
житься, что он всегда, в любом случае выполнит условия сделки. Но в этом нет
необходимости, достаточно, если на достаточное количество людей во многих
случаях можно положиться в том, что они своим добровольным подчинением сво-
ему суверену обеспечат тому достаточную силу, чтобы тот, в сою очередь, стра-
хом заставил подчиниться тех, кто в данном случае не расположен подчиняться.
Следовательно, вкратце идея сводится к следующему: естественный разум пре-
достерегает нас от того, чтобы быть первой исполняющей стороной в обычном
соглашении по взаимному доверию; в то же время он подсказывает, что нам выгод-
но искать мира и предлагает способ, каким мир может быть достигнут. Для того,
чтобы был мир, необходимо, чтобы был суверен, обладающей как властью, так и
силой. Власть такого суверена может быть основана только на заключенном меж-
ду всеми соглашении по взаимному доверию, которым они передают этому сувере-
ну свое естественное право управлять собой и которым они признают, что любые
его приказы, которые касаются общего мира и безопасности, должны выполняться
ими так, как будто это их собственные приказы. Сила, которой может суверен
заставить исполнять свои приказы, проистекает из общей силы тех, кто, согласив-
шись подчиняться ему, действительно ему подчиняется. Но где—то должно быть
положено начало, и надо пояснить, как такое положение может быть разумным
образом установлено впервые. Не разумно ли утверждать, что, будучи один раз
достаточно разумными, чтобы заключить это соглашение, в каждый момент време-
ни достаточное количество людей окажутся достаточно разумны (другими слова-
ми, достаточно свободными от алчности, честолюбия и т.п., чтобы определить, в
чем заключается их собственный интерес), чтобы выполнять его? А если это так, то
для любого человека становится уже не неразумно быть первой исполняющей сто-
роной. И в такой сделке каждая сторона потенциально является первой исполняю-
щей. «Таково рождение того великого Левиафана ... которому мы под владыче-
ством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой».
Впрочем, надо признать, что в данном случае не говорится, что быть первой
исполняющей стороной в сделке по наделению властью суверена неоспоримо
разумно (или даже что это неоспоримо не неразумно), а лишь то, что риск в дан-
ном случае более оправдан, чем в любом другом соглашении по взаимному дове-
рию. А поскольку, насколько я понимаю, Гоббс ставит себе цель показать именно
что это разумно, а не то, что это, вероятно, более разумно, чем в других случаях,
я должен признать, что его доказательство или несовершенно, или неполно. До
какой степени у людей (примером которых Гоббс считал Сиднея Годольфина),
которые в этой сделке считают себя выше того, чтобы бояться быть обманутыми
в качестве первых исполняющих, людей не «разума», а» гордости», их гордость
превзойдет то, что они потеряют, читатель должен решить для себя сам.
Политическое образование 197
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
r w 3
>
(Этот текст, впервые представленный в качестве инаугурационной лекции в Лон-
донской школе экономики, вызвал различные отклики. Примечания, а также
незначительные изменения, которые я в него внес сейчас, преследуют цель прояс-
нить вызванные им недоразумения. Однако, в общем, я рекомендую читателю
иметь в виду, что этот текст посвящен вопросу понимания и объяснения полити-
ческой деятельности, которая сама по себе является объектом политического об-
разования. Здесь также рассматривается и проектирование людьми политичес-
кой деятельности, и различные типы политического поведения, прежде всего,
поскольку то и другое иногда позволяет обнаружить взгляды на политическую
деятельность и поскольку обычно (хотя я считаю это неверным) предполагается,
что объяснения являются основаниями поведения).
Два человека, которые в прошлом занимали этот пост, Грэм Уоллес и Ха-
рольд Ласки, были людьми исключительных достоинств; к тому, чтобы отва-
житься встать в один ряд с ними, я недостаточно подготовлен. Первый из них
являл собой пример счастливого сочетания опытности и осмысления своего опы-
та, благодаря чему его понимание политики было в равной степени и практичес-
ким, и глубоко теоретическим. Как мыслитель он не придерживался одной опре-
деленной системы, однако его мысли были надежно связаны между собой нитью
честного, терпеливого исследования. Это был человек, который посвятил свои
интеллектуальные усилия тому, чтобы изучить непоследовательность человечес-
кого поведения и для которого равно значимы были и доводы разума, и зов серд-
ца. Второй отличался удивительным сочетанием сухого интеллекта и пылкого
энтузиазма. С юмором ученого у него уживался темперамент реформатора. Ка-
жется, еще не прошло и часа с тех пор, как он кружил нам головы широтой и
свежестью своей эрудиции, завоевывал нашу симпатию своими бесстрашными
речами и покорял наши сердца своей щедростью. Оба эти человека оставили
свой след в политическом образовании Англии, каждый по-своему, и те, кто при-
шли им на смену, во многом не могут даже надеяться на то, чтобы равняться с
ними. Оба они были прекрасными педагогами, преданными своему делу и не зна-
ющими усталости, и при этом они были действительно уверены в том, чему они
учат. И, может быть, в каком-то смысле несправедливо, что сейчас на смену им
приходит скептик, который рад бы сделать лучше, да не знает как. Но невозмож-
198
Майкл Оукшот. Рационализм в политике.
но представить себе более требовательных и в то же время более полных сочув-
ствия критиков, чем эти два человека. И они бы одобрили ту тему, которую я
выбрал для сегодняшнего выступления.
1
Выражение «политическое образование» переживает не лучшие дни, в специфи-
ческом и полном неискренности языке, который характерен для нашего времени,
оно приобрело мрачный оттенок. Во многих местах — не в том, где мы с вами
сейчас находимся — оно стало ассоциироваться с параличом мыслительных спо-
собностей, вызванным применением силы, нагнетанием страха или бесконечным
гипнотизирующим повторением слов, для которых и одного раза много. Этот
паралич поражал народы целых стран и приводил их к подчинению. Следова-
тельно, стоит набраться смелости и совершить попытку еще раз, в спокойной
обстановке, рассмотреть, как нам надо понимать это выражение, связывающее
вместе два вида деятельности, достойные похвалы, и, может быть, эта наша скром-
ная попытка поможет реабилитировать его.
Я называю политикой такую деятельность, посредством которой некая общность
людей, оказавшихся вместе случайно или по собственному выбору, соблюдает
общие соглашения. В таком смысле слова собственную «политику» будут иметь
семьи, клубы и ученые общества. Но те сообщества, в которых данный вид дея-
тельности является преобладающим, — это исторически сложившиеся коопера-
тивные группы, многие из которых имеют древнюю историю, и все — какие-то
соображения о своем прошлом, настоящем и будущем. Мы называем их «госу-
дарствами». Для большинства людей политическая деятельность является по-
бочным видом деятельности, иначе говоря, они занимаются еще чем-то помимо
соблюдения упомянутых соглашений. Но нужно заметить, что любой член груп-
пы, если только это не ребенок и не сумасшедший, принимает какое-то участие в
этой деятельности и несет за нее какую-то ответственность. Итак, эта деятель-
ность носит в той или иной степени универсальный характер.
Я сказал «соблюдать соглашения», а не «заключать соглашения», потому что
в названных мной исторических кооперативных группах эта деятельность никогда
не начинается с чистого листа и неограниченных возможностей. Каждое поколе-
ние, даже самое революционное, всегда считает необходимым пересматривать на-
много меньшее количество соглашений, чем оставлять без изменения, поскольку
последние всех удовлетворяют; тех же, которые уже при своем принятии удовлет-
воряют всех, меньше в сравнении с теми, в которые затем вносятся поправки: [дру-
гими словами], новое есть только незначительная часть целого. Конечно, есть люди,
которые позволяют себе говорить так,
что лишь затем мы принимаем соглашенья
чтобы потом вносить в них улучшенья,
но для большинства из нас наше побуждение улучшать свое поведение не мешает
нам понимать, что большая часть того, что мы имеем—это не тяжкое бремя, кото-
/улнт'паеп я t-
Политическое образование 199
рое мы должны нести, и не кошмар, от которого следует всеми силами избавляться,
но, напротив, это наше наследие, обладать которым мы должны быть счастливы.
И все, что по-настоящему удобно, всегда до какой-то степени устарело.
Далее, соблюдение соглашений в обществе — это деятельность, которую надо
изучать, как и любую другую. Политика требует знаний. Следовательно, имеет
смысл исследовать данный вид знаний и сделать необходимые выводы о природе
политического образования. Я не имею здесь в виду вопрос, какую информацию
нам нужно собрать, прежде чем мы станем заниматься политикой, или что надо
знать и уметь, чтобы иметь в политике успех. Я предлагаю исследовать вопрос,
какой род знаний с неизбежностью требуется каждый раз, когда мы вмешиваемся в
политику, и отсюда сделать необходимые заключения о природе политического
образования.
Из сказанного можно сделать вывод, что то, что мы думаем о политическом
образовании, зависит от того, как мы понимаем политическую деятельность и тре-
буемые для нее знания. Исходя из этого, можно заключить, что требуется дать опре-
деление политической деятельности, из которого можно будет далее вывести необ-
ходимые следствия. Но мне представляется, что такой путь будет ошибочным. Нам
требуется не столько определение политики, из которого можно будет сделать вы-
вод о характере политического образования, сколько такое понимание политичес-
кой деятельности, которое включает в себя описание соответствующего ему обра-
зования. Потому что понимать деятельность — значит знать ее как конкретное це-
лое, значит понимать эту деятельность как имеющую источник своего движения
внутри себя самой. Поэтому такое понимание, которое предполагает, что должно
существовать нечто вне самой деятельности, не является адекватным. А если поли-
тическая активность невозможна без некоторого рода знания и образования, тогда
это знание и образование составляют для данной деятельности не просто приложе-
ния, но являются неотъемлемыми частями этой деятельности и должны быть встрое-
ны в наше представление о ней. Поэтому нам нужно не искать определение полити-
ки, чтобы вывести из него характер политического знания и образования, но, ско-
рее, надо искать такой вид знания и образования, который является неотъемлемой
частью политической деятельности в любом ее понимании, и выводы о том, каково
это образование, использовать затем для улучшения нашего понимания политики.
Таким образом, я предлагаю рассмотреть адекватность двух существующих
пониманий политики, а вместе с ними и те знания и тот вид образования, которые
входят в них, и усовершенствовав их, достигнуть, если удастся, более адекват-
ного понимания как самой по себе политической деятельности, так и знаний и
образования, составляющих ее часть.
2
Некоторые люди полагают, что политика — в некотором роде вид эмпирической
деятельности. Следовать социальным нормам — это просыпаться каждое утро и
размышлять: «Что бы я хотел сделать?» или «Что желает видеть сделанным некто
(кому я хочу доставить удовольствие)?» И делать это. О такого рода политичес-
200 Майкл Оукшот. Рационализм в политике.
кой деятельности, скорее, можно сказать, что это политика как занятие, но не
политика как искусство, требующее умений и знаний. С первого взгляда кажет-
ся, что в данном случае вообще нельзя определить, в чем, собственно, здесь поли-
тика; кажется даже, что такого вида деятельности существовать не может. Одна-
ко некоторым подобием такого подхода представляется политика вошедшего в
пословицу восточного деспота, а также политика тех, кто пишет надписи на сте-
нах или охотится за голосами. И нужно полагать, что результатом такого рода
политики будет хаос, и в этой неустойчивой системе в каждый данный момент
будет властвовать любая идея. Подобный политический стиль приписывается
первому лорду Ливерпульскому, о котором Эктон сказал: «Секрет его политики
заключался в том, что у него не было никакой политики». Один француз заметил
об этом деятеле, что если бы тот присутствовал при первом дне творения, то
сказал бы: «Господи, пусть так и останется хаос!» Таким образом, похоже, что
политика эмпирического вида возможна в действительности. Но ясно также и то,
что, хотя какой-то вид знаний и соответствует такому стилю политической дея-
тельности (как говорят французы, это знание не о том, каковы сами мы, а том,
каков наш аппетит), единственным подходящим в данном случае видом образо-
вания было бы обучение быть неразумным — обучение тому, как подчиняться
исключительно только своим страстям. Из этого следует один очень важный вы-
вод: а именно, что понимать политику как чисто эмпирическую деятельность оз-
начает не понимать ее. Сам по себе эмпиризм — это не какая-то специфическая
определенная манера деятельности. Он может представлять собой часть опреде-
ленной деятельности, при условии, что он находится в сочетании с чем-то еще.
Например, в науке он имеет право на существование в соединении с гипотезой. В
данном понимании политики важно не то, что к ней может появиться какой-то
подход, но то, что она по сути не является конкретным видом деятельности, име-
ющим свой источник в себе самом, иначе говоря, в любом виде деятельности это
будет не более чем некий абстрактный момент. Конечно, политика — это всегда
преследование каких-то целей, но именно потому, что она такова, она и не может
быть погоней за тем, что представляется желательным время от времени. Дея-
тельность [по достижению] потребности не идет по такому пути, капризы никогда
не бывают абсолютными. Таким образом, стиль политики, близкий к чистому
эмпиризму, мы можем порицать с практической точки зрения, потому что внешне
он напоминает безумие. Но с теоретической точки зрения дело не в том, что чисто
эмпирическая политика трудно осуществима в жизни или что ее следует избегать,
а в том, что она просто невозможна и представление о ней является результатом
непонимания.
Итак, нельзя понимать политику как эмпирическую деятельность, поскольку в та-
ком случае речь вообще идет не о какой-либо конкретной деятельности. Кроме
этого, если не очень умные политики станут ориентироваться на такой стиль со-
блюдения соглашений в своем обществе, то результаты этого, скорее всего, будут
.WTTUTJPi
Политическое образование 201
плачевными; стремиться к невозможному вообще всегда неблагодарная задача.
Итак, наше понимание политики мы должны по возможности усовершенство-
вать. В каком направлении мы должны двигаться, может подсказать следующий
вопрос: «Что мы забыли включить в наше понимание политики?» Грубо говоря,
что надо к нему добавить, чтобы в результате получить картину политической
деятельности как деятельности конкретной, т.е. имеющей свой источник в себе
самой? И, похоже, что стоит только сформулировать вопрос, как появляется от-
вет на него. Оказывается, что то, чего не было в предыдущем понимании полити-
ки,— это то нечто, что заставляет эмпиризм работать, то нечто, что соответству-
ет гипотезе в науке, цель, которая требует несравненно большего для своего
достижения, чем простое сиюминутное желание. И, следует заметить, что это не
просто удачное добавление к эмпиризму, но нечто такое, без чего эмпиризм как
действие невозможен. Давайте рассмотрим это предположение подробнее, и для
начала я заявляю его в форме утверждения: политика представляется деятельно-
стью, имеющей источник в себе самой, когда эмпиризму предшествует и им уп-
равляет идеологическая деятельность. Я имею в виду не так называемый идеоло-
гический стиль в политике как желательный или нежелательный способ соблю-
дения общественных соглашений; я имею в виду только то, что когда к неизбеж-
ному элементу эмпиризма (то есть действия, основанного на желании) присоеди-
няется политическая идеология, появляется имеющая источник в себе самой дея-
тельность и что, следовательно, это в принципе можно рассматривать как адек-
ватное понимание политической активности.
В моем понимании политическая идеология [сама по себе] — это абстрак-
тный принцип или набор связанных между собой абстрактных принципов,
которые были независимым образом приняты ранее. С помощью этого поли-
тическая идеология заранее формулирует цель, к которой следует стремить-
ся, осуществляя деятельность по достижению общественных соглашений, и
таким образом она обеспечивает средства для различения тех желаний, ко-
торые следует поощрять, и тех, которые следует подавлять или направлять в
другое русло,
Самый простой вид политической идеологии — это единичная абстракт-
ная идея, например идея «свободы», «равенства», «максимальной продук-
тивности», «расовой чистоты» или «счастья». И в таком случае политичес-
кая деятельность понимается как процедура проверки, соответствуют ли об-'
щественные соглашения данной абстрактной идее. Впрочем, следует принять
во внимание, что чаще имеется необходимость не в одной идее, а в сложной
схеме взаимосвязанных абстрактных идей, и можно указать на следующие
примеры таких систем: «принципы 1789 года», «либерализм», «демократия»,
«марксизм» или Атлантический договор. Не следует рассматривать эти прин-
ципы как абсолютные и не подверженные изменениям (хотя часто их рассмат-
ривают таким образом), но их ценность заключается в том, что они были
обдуманы заранее. Они дают представление о том, чего следует достигать безот-
носительно к тому, как это должно быть достигнуто. Политическая идеология
требует того, чтобы содержание понятий «свобода», «демократия» или «спра-
202
Майкл Оукшот. Рационализм в политике.
ведливость» было заранее известно, и таким образом заставляет эмпиризм рабо-
тать. Конечно, насчет данного набора принципов можно спорить и над ним мож-
но работать. Это то, что приходит людям на ум, и в дальнейшем они могут запом-
нить или записать это. Но есть условие, при котором данная идеология может
выполнить возложенную на нее задачу: она не должна никак зависеть от той
деятельности, которой она управляет. «В том, чтобы знать, что есть истинное
благо общества, заключается наука законодательства, — сказал Бентам, — а
искусство состоит в том, чтобы определить, какие цели подходят для достижения
этого блага».
Итак, мы пришли к утверждению, что эмпиризм можно сделать работа-
ющим (и при этом появляется конкретный, имеющий источник в себе са-
мом, вид деятельности), когда к нему добавляется руководящее начало та-
кого вида: желание и нечто, проистекающее не из желания.
Теперь нет никакого сомнения относительно того, какое знание требуется для
понятой таким образом политической деятельности. Прежде всего требуется
знание выбранной политической идеологии — знание того, какие цели пре-
следовать, знание того, что мы хотим делать. Конечно, если мы хотим, чтобы
нам в этом сопутствовал успех, нужно знание и другого рода — скажем, зна-
ние экономики и психологии. Но для всех этих случаях верно то, что данные
знания необходимо иметь заранее, прежде чем начинать деятельность по со-
блюдению общественных соглашений. Более того, хорошее образование
должно включать в себя преподавание соответствующей политической иде-
ологии, должно обеспечивать получение необходимых навыков соответству-
ющих методов работы, а также (если, к несчастью, мы окажемся без какой-
либо определенной идеологии) должно давать умение абстрактно мыслить и
то умение рассуждать, которое необходимо для создания какой-либо идео-
логии, подходящей для нас. Мы будем нуждаться в таком образовании, ко-
торое позволит нам сделать политическую идеологию ясной, позволит ее от-
стаивать, следовать ей, а может быть, и создать ее.
Поставив себе задачу найти убедительное доказательство того, что та-
кое понимание политики соответствует виду деятельности, имеющему источ-
ник в себе самом, мы, несомненно, были бы вознаграждены, если бы нашли
пример политики, осуществляющейся именно таким образом. Это, по край-
ней мере, дало бы нам знак, что мы на верном пути. Следует помнить, что
недостаток понимания политики как чисто эмпирической деятельности со-
стоял в том, что в таком понимании политика — вообще не деятельность, а
абстракция; этот недостаток проявился в том, что мы не смогли указать на
стиль политики, который только приближался к этому. Как в этом отноше-
нии проявит себя понимание политики как эмпиризма в соединении с идео-
логией? Возможно, не будет излишней самонадеянностью счесть, что это имен-
но то, что нам надо. Потому что в примерах политики, соответствующих
такому пониманию, мы не будем иметь недостатка: по самой скромной оцен-
ке, в половине стран мира, как представляется, политическая деятельность
осуществляется именно таким образом. И далее, не проявляет ли себя опи-
Политическое образование 203
санный стиль совершенно явным образом как возможный, поскольку даже
когда мы не соглашаемся с определенной идеологией, мы не находим ничего
абсурдного с точки зрения политической технологии в работах тех, кто вну-
шает нам, что данный стиль политики превосходен? По крайней мере защит-
ники его, кажется, знают, о чем говорят: они понимают не только свой образ
деятельности, но и то, каких он требует знаний и какого образования. «В
России каждый школьник, — пишет сэр Норман Энджел, — знает учение
Маркса и может пересказать ее главные положения. Сколько британских
школьников имеют сравнимое с этим представление о принципах, изложен-
ных Миллем в его несравненном эссе о свободе? «Сейчас большинство лю-
дей, — говорит Э.Х.Карр, — уже не спорят с тем, что ребенка надо воспиты-
вать в официальной идеологии его страны». Короче говоря, если мы хотели
получить свидетельства того, что политика есть эмпирическая деятельность,
которой предшествует идеологическая деятельность, мы вряд ли ошибемся,
предположив, что они налицо.
И все же некоторые сомнения остаются: во-первых, действительно ли такое
понимание политики в принципе соответствует виду деятельности, имеюще-
му источник в себе самом; и, кроме того, действительно ли названные нами
примеры стиля политики являются примерами именно такого ее понимания.
Мы анализируем предположение, что соблюдение общественных согла-
шений может начинаться с заранее принятой идеологии и с независимого от
него представления о том, к каким целям следует стремиться 1. Таким обра-
зом, предполагается, что политическая идеология — это результат предва-
рительного обдумывания, и что, поскольку она представляет собой корпус
принципов, которые сами по себе не зависят от деятельности по соблюдению
общественных соглашений, она может определять и направлять эту деятель-
ность. Однако, если мы более тщательно исследуем характер политической
идеологии, мы тотчас обнаружим, что это предположение ложно. Полити-
ческая идеология оказывается в такой же мере квазибожественным родите-
лем политической деятельности, как и ее земным пасынком. Вместо того, что-
бы представлять собой заранее разумно выработанную схему целей, к кото-
рым следует стремиться, она является системой идей, которые имеют своим
источником привычки людей относительно их соглашений. Если проследить
происхождение любой политической идеологии, окажется, что она возникла
не в результате предварительного размышления, предшествующего политичес-
кой деятельности, а в результате осмысления [уже существовавшей] политики.
Короче говоря, политическая деятельность предшествует политической идеоло-
гии, и, в строгом смысле слова, к сожалению, то представление о политике, кото-
рое мы изучаем, не имеет отношения к действительному положению вещей.
Проиллюстрируем это сначала на примере научной гипотезы, которая, как я
упомянул выше, в некоторых отношениях представляет собой то же для науки,
1 Например, так обстоит дело с «естественным законом»; принимается ли он как объяснение
политической деятельности или (неверно) как руководство к политическим действиям.
204 Майкл Оукшот, Рационализм в политике.
что для политики представляет собой идеология. Если бы научная гипотеза была
самопорожденной блестящей идеей, которая не находилась бы в долгу у научной
деятельности, тогда сочетание эмпиризма и управляющей им гипотезы можно
было бы рассматривать как автономный вид деятельности; но ситуация, конеч-
но, не такова. Дело в том, что только тот, кто уже является ученым, может сфор-
мулировать научную гипотезу; таким образом, гипотеза — это не независимое
изобретение, которое способно направлять научный поиск, но зависимое предпо-
ложение, которое абстрагируется из уже существующей научной деятельности.
Более того, когда определенная гипотеза сформулирована, как руководящая идея
исследования она не может работать без постоянного сопоставления с традиция-
ми научного исследования, порождением которых она явилась. Конкретной си-
туации не существует до тех пор, пока определенная гипотеза, которая является
основанием для того, чтобы эмпиризм заработал, сама не будет понята как по-
рождение существующего знания об управлении научным поиском.
Или рассмотрим пример кулинарии. Можно подумать, что некий не обла-
дающий знанием человек, некий набор съедобных продуктов и кулинарная кни-
га составляют весь необходимый набор для имеющей свой источник в себе са-
мой (или конкретной) деятельности, называемой кулинария. Но нет ничего бо-
лее далекого от истины. Кулинарная книга — не независимо возникший источ-
ник, дающий начало приготовлению пищи; он представляет собой лишь свод
того, что кто-то знал о том, как готовить: это дочернее, а не родительское нача-
ло для деятельности. Книга, в свою очередь, может помочь человеку пригото-
вить обед, но если бы он полагался только лишь на нее, на самом деле, он не
смог бы даже приступить к этому: книга может дать необходимую информацию
только тому, кто уже знает, что именно от нее следует ожидать и, соответствен-
но, как интерпретировать прочитанное в ней. Итак, как кулинарная книга пред-
полагает кого-то, кто уже знает, как готовить, и ее использование предполага-
ет кого-то, кто уже знает, как ей пользоваться, и как научная гипотеза порож-
дается знанием о том, как проводить научное исследование, и, отделенная от
этого знания, не в силах заставить эмпиризм работать с пользой, так и полити-
ческая деятельность: ее следует понимать не как заранее независимо обдуман-
ное начало политической деятельности, но как знание (абстрактное и обобщен-
ное) некоего конкретного вида соблюдения общественных соглашений. Спи-
сок целей, подлежащих достижению, просто резюмирует содержание конкрет-
ного поведения, в котором все эти цели уже существуют в скрытом виде. До
политической активности он не существует, и сам по себе он является недоста-
точным руководством к действию. Политические мероприятия, подлежащие
достижению цели, соглашения, которые следует установить, то есть обычные
составляющие политической идеологии, не могут быть выработаны ранее су-
ществующего способа соблюдения общественных соглашений; то, что мы де-
лаем, и, более того, то, что мы хотим делать, — все это результат того, как мы
привыкли вести наши дела. В самом деле, часто это отражает просто появив-
шуюся способность делать нечто, что затем предписывается делать некоторым
авторитетным источником.
лйнтппопа
Политическое образование 205
4 августа 1789 года сложная и прогнившая социальная и политическая систе-
ма Франции была заменена Правами человека. Читая этот документ, можно прий-
ти к заключению, что некто выработал его в результате размышления. Здесь
налицо выраженная в нескольких положениях политическая идеология: система
прав и обязанностей, схема целей — справедливость, свобода, равенство, безо-
пасность, собственность и все остальное — все в готовом виде, все ждет того,
чтобы в первый раз осуществиться на практике. «В первый раз?» Ничего подоб-
ного. Эта идеология существовала до политической практики не более чем кули-
нарная книга существует до знания о том, как готовить. Конечно, она была и
результатом чьих-то размышлений, но это были не предшествующие политичес-
кой деятельности размышления. Ибо здесь, на самом деле, изложены, кратко сфор-
мулированы и суммированы обычные законные права англичан. Это не плод
независимо осуществленной заранее разработки, не дар Божественных щедрот, а
результат вековой практики ежедневного соблюдения соглашений определен-
ным историческим обществом. Или возьмем «Второй трактат о государственном
управлении» Локка, который в XVIII веке в Америке и во Франции использовал-
ся в качестве теоретической системы абстрактных принципов, предварявших по-
литическую деятельность. Но он отнюдь не предварял ее, он несет печать после-
действия и может быть руководством к действию именно благодаря тому, что сам
имеет корни в политическом опыте. Здесь кратко сформулированы в абстракт-
ных терминах те способы, которыми англичане привыкли пользоваться при со-
блюдении своих соглашений — великолепный конспект английских политичес-
ких обычаев. Или возьмем такой отрывок из текста современного европейского
(не английского) автора: «Свобода заставляет европейцев без отдыха находить-
ся в движении. Они хотят свободы, в то же время зная, что у них ее нет. Они также
знают, что свобода принадлежит человеку как его право». По определении цели
политическая деятельность представляется как реализация этой цели. Но «сво-
бода», которая является в данном случае целью, это не независимо заранее обду-
манный идеал или мечта; она, как научная гипотеза, заранее дана в конкретном
виде поведения. Свобода, как рецепт пирога с мясом, не какое-то блестящее от-
крытие, и как «право человека» она не выводится из некоего умозрительного
концепта человеческой природы. Та свобода, иметь которую мы считаем благом
— только соглашения, процедуры определенного вида, свобода англичанина не
взята в качестве примера из процедуры habeas corpus *, на самом деле она по сути
своей есть возможность такой процедуры. И та свобода, которую мы хотим иметь,
это не идеал, полученный нами в результате размышления, независимого от наше-
го политического опыта, напротив, она уже дана нам в этом опыте.* 2
В таком понимании те системы абстрактных идей, которые мы называем «иде-
ологиями» — это абстракции, полученные из определенных видов конкретной
деятельности. Большинство политических идеологий, и, конечно, наиболее по-
Название закона о правах человека (лат.). — Прим.перев.
2 Ср.: «На первый взгляд, независимый закон постепенно скрывали в процедурных
промежутках». Maine, Early Law and Customs, p. 389.
206 Майкл Оукшот. Рационализм в политике.
лезные из них (поскольку, вне сомнения, от них есть своя польза) — это абстрак-
ции, выведенные из политических традиций какого-либо общества. Но иногда
случается так, что в качестве управляющего начала для политики избирается
идеология, которая представляет собой абстракцию не политического опыта, а
других видов деятельности — например войны, религии или управления про-
мышленностью. И в данном случае модель, которую мы видим, не только абст-
рактна, но и неуместна из-за того, что она является абстракцией нерелевантного
вида деятельности. В этом, я полагаю, кроется один из недостатков марксистс-
кой идеологии. Но важно то, что в большинстве случаев идеология — это некое
резюмирование определенного вида конкретной деятельности.
Теперь, возможно, мы находимся на такой стадии, когда можно составить
более глубокое представление об идеологическом стиле в политике. Мы должны
заключить, что его существование не дает оснований предполагать, что полити-
ческую деятельность нужно понимать как эмпиризм, управляемый только идео-
логией. Идеологический стиль в политике — это смешанный стиль. [Если кор-
ректно сформулировать его сущность], то он представляет собой традиционный
способ соблюдения общественных соглашений, который изложен сокращенно в
виде учения о целях, к которым следует стремиться (плюс с этому соответствую-
щие политические технологии). Ошибочно полагают, что на такую доктрину сле-
дует полагаться, как на указание к действию. В определенных обстоятельствах
[такая доктрина, которая по сути своей представляет] конспективное сокраще-
ние может быть полезно; оно придает политической традиции четкий контур и
точность формулировок, в которых иногда может возникнуть необходимость.
Если какой-либо способ соб-людения общественных соглашений переносится из
того общества, где он появился и развился, в другое общество (что само по себе
всегда является сом-нительным предприятием), упрощение идеологии может ока-
заться ценным приемом. Например, если предстоит перенести в какую-то страну
английскую политику, то, может быть, ее сначала следует сократить до чего-
нибудь под названием «демократия», прежде чем упаковывать и везти за грани-
цу. Существует, правда, и альтернативный метод: в этом случае экспортируется
не сокращенный конспект традиции, а ее деталь; очаровывают лозунги. Но ка-
кие бы достоинства время от времени ни появлялись у идеологического стиля
политики, связанное с ним объяснение политической деятельности имеет один
недостаток. Он сразу станет ясен, как только мы, находясь в рамках такого под-
хода, рассмотрим, какой вид знания и какой род образования достаточен для
деятельности по соблюдению общественных соглашений. Ибо этот подход пред-
полагает, что знание избранной политической идеологии может занять место по-
нимания традиции политического поведения. Скипетру и книге приписывается
власть, вместо того чтобы считать их только символами власти. [При таком под-
ходе] общественные соглашения представляются не типами поведения, а механи-
ческими деталями, которые можно без разбора развозить по любым странам. Пред-
полагается, что детали традиции, которые выпали в процессе сокращения, не
имеют значения: как будто «права человека» существуют отдельно от способа
их соблюдать. А поскольку на практике сокращенная запись достаточным руко-
эмитнн ) •» « мг г Политическое образование 207
водством являться никак не будет, нам придется заполнять пробелы не из нашего
предполагаемого политического опыта, а из опыта других (часто неважно каких
именно) конкретно понятных видов деятельности, например войны, управления
промышленностью или переговоров с профсоюзами.
4
Итак, понимание политики как деятельности по соблюдению общественных согла-
шений, управляемой заранее независимо обдуманной идеологией не менее оши-
бочно, чем понимание ее как деятельности чисто эмпирической. Политика может
начинаться с чего угодно, но не с идеологической деятельности. И когда мы пыта-
лись усовершенствовать нашу теорию, мы в принципе уже указали, что именно
следует принять во внимание для того, чтобы теория была приемлемой. Так же как
научная гипотеза может возникнуть и способна функционировать только внутри
уже существующей традиции научного поиска, так и схема целей политической
деятельности появляется и имеет ценность, только когда она соотнесена с уже су-
ществующей традицией соблюдения наших соглашений. В политике можно обна-
ружить только один конкретный способ деятельности, в котором [и] эмпиризм, и
преследуемые цели, как в своем существовании, так и в своем функционировании
признаются зависимыми от традиционного способа поведения.
Политика — это деятельность по соблюдению общих соглашений некото-
рой совокупности людей, которые составляют единую общность в отношении
их общего понимания способа соблюдения этих соглашений. Говорить о мно-
жествах людей без признанной традиции поведения или о таких множествах,
которые довольствуются принятыми соглашениями, не предполагая никак их
изменять и вообще держать их в поле внимания3, означает говорить о людях,
неспособных к политике. Таким образом, данная деятельность проистекает и не
из сиюминутных желаний, и не из общих принципов, но из существующих традиций
поведения. А форма, которую она принимает, потому что никакой другой принять
не может, — это улучшение существующих соглашений путем расширения и дос-
тижения того, что содержится в них. Соглашения, управляющие способным к поли-
тической активности обществом—обычаи, институции, законы, дипломатические
решения — всегда одновременно согласованы и не согласованы между собой. С
одной стороны, они являются матрицей для деятельности, с другой стороны, в них
заложено стремление к тому, что еще не проявлено. Политическая деятельность —
это развертывание данного стремления, и, следовательно, адекватное политичес-
кое рассуждение будет состоять из описания того, что наличествует потенциально,
но еще не работает, и убедительных доказательств, что именно сейчас следует
воплотить это в жизнь. Например, в нашем обществе долгое время (а может быть, и
сейчас) был в известной степени не определен правовой статус женщин, потому
что составляющие его права и обязанности не были проработаны в деталях. Если
рассматривать вещи с предлагаемой мной точки зрения, то единственная убеди-
---------------- /у?;
3Это такие общества, в которых право и закон считаются Божественным даром.
Л 1
Майкл Оукшот. Рационализм в политике.
I
тельная причина, которую следует выдвинуть для технического наделения женщин
избирательным правом, — это то, что во всех или в большинстве аспектов они им
уже наделены. Аргументацию от абстрактного «естественного закона», или от «спра-
ведливости», или от некоего общего представления о женской личности следует
считать или неубедительной, или, в ином случае, косвенной формой одного-един-
ственного значимого аргумента, а именно, что [до сих пор] в общественных согла-
шениях существовала несогласованность, настоятельно требующая разрешения.
Таким образом, в политике каждое действие логически вытекает одно из другого,
и цели ставятся не мечтами, не некими общими принципами, а тем, что существует
потенциально. В данном случае мы имеем дело с вещью не такой обязательной, как
логические импликации или необходимые следствия, но если то, что потенциально
заложено в традициях поведения, менее заметно или не так явно выражено, это не
значит, что оно играет меньшую роль. Конечно, не существует такого застрахо-
ванного от ошибок механизма, с помощью которого мы могли бы перевести в об-
ласть явных целей самое важное из заложенного потенциально. Мы не только часто
делаем в суждениях на этот счет огромные ошибки, но и конечный эффект удовлет-
ворения нашего желания так сложно предсказать, что наша деятельность по улуч-
шению [существующего положения вещей] часто заводит нас туда, куда сами бы
мы не пошли. Более того, в любой момент все предприятие можно испортить, в
погоне за властью скатившись к эмпиризму. Есть черты, избавиться от которых
нельзя, они входят в самую сущность политической деятельности. Но можно пред-
полагать, что наши ошибки будут менее частыми и менее катастрофическими, если
мы не станем строить иллюзии, будто политика—это нечто большее, чем разверты-
вание потенциально заложенного, что это беседа, а не убеждение.
Итак, каждое интеллектуально развивающееся общество способно время от
времени представлять свою традицию поведения в виде схемы абстрактных идей;
и иногда политические дискуссии касаются не частных вопросов (как речи геро-
ев в Илиаде) и не политических традиций (как речи у Фукидида), а общих прин-
ципов. В этом нет ничего плохого — может быть, даже есть польза. И, возможно,
в кривом зеркале идеологии можно будет увидеть какие-то важные вещи, кото-
рые до того были скрыты, подобно тому как карикатура выявляет скрытые черты
лица. Если это так, то исследование вопроса, чем становится традиция, когда
она сводится к идеологии, может оказаться полезной частью политического об-
разования. Но одно дело пользоваться сокращенными изложениями как методом
выявления заложенного в традиции, то есть использовать их как ученый исполь-
зует гипотезу, другое дело — и это гораздо хуже — считать, что сама политичес-
кая деятельность должна улучшать общественные соглашения, приводить их в
соответствие с требованиями идеологии. Потому что в этом случае идеологии
приписывается характер, которого она не имеет, и предъявляются требования,
которые она не может выполнить. И тогда окажется, что мы движемся в непра-
вильном направлении, потому что, во-первых, в сокращенном изложении, как бы
удачно оно ни было, часто преувеличивается и подается в качестве безусловной
ценности какая-то отдельная часть целого. Польза, которую могло бы принести
кривое зеркало, теряется, когда сами искажения начинают приниматься за Крите-
ллнишог: ч z Политическое образование 209
рий истины. Во-вторых, сокращение никогда не позволит получить необходимое
для политической деятельности полное знание.
Некоторые скажут, что, хотя в целом они согласны с таким пониманием поли-
тической деятельности, однако в данном случае смешивается существующее и не-
обходимое [сущее и должное], а также что среди туманных общих рассуждений
оказались потерянными некоторые важные исключения (играющие особенно боль-
шую роль в современном мире). Конечно, могут сказать они, совсем неплохо рас-
сматривать политику как деятельность по развертыванию того, что заложено в
традициях поведения, но как в таком случае следует интерпретировать политичес-
кие кризисы, например, норманнское завоевание Англии или установление советс-
кого режима в России? Конечно, глупо отрицать, что серьезные политические кри-
зисы возможны. Но если мы исключим — справедливо — [гипотетический] абсо-
лютный катаклизм, который бы мгновенно уничтожил существующую в данный
момент традицию поведения (чего не было ни в англосаксонской Англии, ни в
России)4, то вряд ли можно говорить, что даже серьезные политические кризисы
опровергают наше понимание политики. Традиция — это не фиксированный и раз
навсегда заданный способ поведения, она подобна потоку. Ее может на время на-
рушить влияние извне, она может быть искажена, ограничена, даже полностью
остановлена, может исчерпать сама себя, в ней может оказаться столько внутрен-
них противоречий, что кризис разражается даже в отсутствие иностранного втор-
жения. И если бы существовал такой постоянный, неизменный, независимый прин-
цип, к которому могло бы обратиться общество, чтобы справиться с этими кризи-
сами, то, вне сомнения, это можно было бы лишь приветствовать. Но такого руко-
водящего принципа нет; не существует ничего, кроме тех остаточных фрагментов
традиции, которые оказались не затронуты кризисом. Потому что даже та помощь,
которую нам могут оказать традиции другого общества (или традиции более обще-
го порядка, которые разделяют несколько обществ), зависит от того, как мы можем
воспринять их и перевести в наши собственные соглашения и наш способ соблю-
дать наши соглашения. Голодный и беспомощный человек ошибается, если дума-
ет, что он справляется с проблемой при помощи консервного ножа: на самом деле
его спасает чье-то знание о том, как приготовлять пищу, и этим знанием он может
воспользоваться только лишь потому, что сам он неполностью невежествен. Коро-
че говоря, политический кризис (даже в том случае, когда кажется, что происходят
изменения, которыми само общество не в состоянии управлять) всегда происходит
внутри некоторой традиции политической деятельности; «разрешение» же прихо-
дит от тех ресурсов существовавшей традиции, которые не пострадали. Нужно
считать, что повезло тем обществам, которые сохраняют посреди меняющихся
обстоятельств живое ощущение собственной идентичности и непрерывности (у
этих обществ нет ненависти к собственному опыту, вызывающей желание сте-
4 Ср. отрывок из текста Мэтленда. Революция в России (то, что произошло в действительности)
не была претворением в жизнь абстрактного сценария, который Ленин и другие разра-
ботали в Швейцарии: она была порождена именно специфическими российскими усло-
виями. Так же и французская революция имеет гораздо больше отношения к «старому
режиму» [во Франции], чем к идеям Локка или к Америке.
реть самую память о нем). Им повезло не потому, что они обладают тем, чего у
других нет, но потому, что они уже мобилизовали то, что у всех есть [в виде
резерва] и на что, в сущности, все и полагаются.
Таким образом, можно сказать, что политическая деятельность подобна
бескрайнему и бездонному морю, так что нельзя ни укрыться в гавани, ни бро-
сить якорь, и неизвестны ни отправная точка, ни пункт назначения. И при этом
надо держаться на воде без крена. Море бывает и дружественным, и враждеб-
ным, и искусство мореплавателя состоит в том, чтобы каждую неблагоприят-
ную ситуацию обратить себе на пользу, используя ресурсы традиционного спо-
соба поведения 5.
Пожалуй, можно сказать, что эта теория выглядит довольно пессимистичес-
ки. Так могут сказать даже те, кто не склонен делать ошибку и впадать в грубый
детерминизм, на самом деле весьма далекий от истинного положения вещей. Нельзя
говорить, что традиция поведения — это жесткая канва, от которой нельзя откло-
ниться ни на миллиметр и внутри которой мы вынуждены беспомощно влачить
нашу безрадостную жизнь: Spartam nactus es; hanc exorna . Но на самом деле все
выглядит так печально потому, что исключаются надежды, которые с самого
начала были тщетными. Кроме того, разочаровывает то, что ориентиры, кото-
рые, казалось, несут сверхчеловеческую мудрость, на самом деле не таковы.
Возможно, эта теория и лишает нас утопического представления о созданной на
небесах модели, к которой мы должны стараться приблизить нашу жизнь, однако
она не ведет нас в болото, где каждый выбор одинаково хорош или одинаково
предосудителен. А то, что политика — nur fur die Schwindelfreie* *, должно разо-
чаровывать только трусов.
Академический ученый всегда грешит тем, что витиевато изъясняется. Тем не
менее из его медлительности тоже можно извлечь своего рода пользу. Может
быть, в конце концов окажется, что ничего особо ценного он не предложил, но во
всяком случае плод не окажется незрелым, сорвать его можно будет тотчас же.
Нам надо выяснить, какого рода знание задействовано в политической деятель-
5 Эта теория политической деятельности покажется чересчур скептичной тому, кто
полагает, что ему хорошо известно место назначения (другими словами, ему
ясно, какой общественной ситуации он хочет достичь), и кто думает, что жела-
тельная для него ситуация столь же желательна и для остальных. Но можно спро-
сить этих людей, откуда они взяли идею такой ситуации, и полагают ли, что
когда эта ситуация наступит, политическая деятельность прекратится? И если
они все же согласятся, что тогда должны открыться следующие, более отдален-
ные перспективы, то не следует ли из этого, что политика является как раз той
деятельностью, не имеющей конца, которую я только что описал? Или они пред-
ставляют себе политику как устройство необходимых соглашений для группы
маргиналов, которые всегда в глубине души надеются, что о них позаботятся?
Тебе досталась Спарта — так разукрась ее (лат.). — Прим, перев.
** Только для тех, у кого не кружится голова (нем.). — Прим, перев.
лмНПлНоп б и Политическое образование 211
ности и какое в данном случае необходимо образование. И если правильно то
понимание политики, которое я изложил сейчас, то сразу становится совершенно
ясно, какое для нее нужно знание и какое образование: это максимально глубо-
кое изучение нашей традиции политического поведения. Конечно, в дополнение
неплохо знать и другие вещи. Но без этого знания мы вообще не сможем как бы то
ни было использовать все остальное, что знаем.
Правда, изучить традицию поведения непросто. В самом деле, на первый
взгляд может показаться, что эта вещь вообще недоступна строгому познанию.
Во-первых, она не постоянна и не конечна; у нее не существует неизменного цен-
тра, с которого можно начать ее постепенное изучение; нет самостоятельной цели,
невозможно определить какое-то неизменное направление; нет ни модели для под-
ражания, ни идеи для воплощения, ни правил, чтобы ими воспользоваться. От-
дельные части могут изменяться не так быстро, как остальные, но так или иначе
все изменяются. Все носит временный характер. Однако, несмотря на то, что
традиция поведения непостоянна и неуловима, какая-то непрерывность в ней все
же есть. Не все в ней изменяется одновременно, а сами происходящие изменения
были потенциально заложены в ней. Именно это делает ее возможным объектом
познания. В ней властвует принцип непрерывности', одинаково важны и прошлое,
и настоящее, и будущее; и старое, и новое, и только наступающее. Постоянна она
потому, что хотя она и изменяется, она никогда не бывает в движении вся; а
подвижна она потому, что какой бы постоянной ни казалась, совсем она не оста-
навливается никогда6. Ничто в ней не теряется бесследно. Мы все время огляды-
ваемся назад; даже в самых древних временах мы постоянно пытаемся найти что-
то, что имеет смысл для нас. Все временно, но ничто не произвольно. Все позна-
ется в сравнении, но сравнивается оно не с тем, что находится рядом с ним, а со
всем целым. А поскольку традиция поведения чувствительна к различиям между
важным и случайным, знание о ней неизбежно является знанием ее деталей: знать
только сущность — значит не знать ничего. Изучить нужно не какую-то абстрак-
тную идею, не набор приемов, даже не ритуал, но конкретный и последователь-
ный способ жизни во всей его сложности. Конечно, нечего надеяться приобрести
это трудное понимание, не затратив никакого труда. Хотя мы ищем частного, а
не всеобщего знания, к нему не существует короткого пути. Более того, полити-
ческое образование состоит не только в том, чтобы каким-то образом начать
понимать некую традицию, но нужно еще научиться участвовать в беседе: это
одновременно посвящение в го нлслещие
терес, и разворачивание того, что в нем заложено. Как изучать политическую
традицию — до какой-то степени всегда будет оставаться загадкой. Пожалуй,
единственное, что здесь можно сказать наверняка, — это то, что совершенно
неизвестно, откуда начинать. Политика некоторого сообщества людей не менее
6 Меня привел в недоумение критик, который нашел в этом абзаце «некоторый уклон в
мистику»: описание, которое я дал, самому мне кажется совершенно сухой ха-
рактеристикой любой традиции, будь то английское право, или так называемая
британская конституция, или христианская религия, или современная физика,
или игра в крикет, или судостроение. , . . э
212 •, Майкл Оукшот. Рационализм в политике.
(и не более) своеобразна, чем язык; тому и другому одинаково учатся и одинако-
во применяют это. Собственный родной язык мы начинаем изучать не с алфавита,
не с учебника грамматики; мы заучиваем не слова, а то. как ими пользоваться; в
отличие от чтения, мы начинаем не с того, что легче, продвигаясь затем к тому,
что сложнее; мы учимся не в школе, а в колыбели, а то, что мы говорим, всегда
продиктовано тем, как мы это делаем. То же самое справедливо и для политичес-
кого образования — начинается оно с приобщения к традиции, с наблюдения над
тем, как ведут себя старшие, и с подражания им. Что бы мы ни увидели, все
важно. Как только мы узнаем настоящее, мы узнаем прошлое и будущее. Задолго
до того, как мы достигнем возраста, в котором начинаем интересоваться книга-
ми, в которых написано о политике, мы уже приобретаем сложное и многообраз-
ное знание о нашей политической традиции, без которого мы вообще ничего не
поймем в той книге, которую собрались прочитать. То, о чем мы мечтаем, проис-
текает из нашей традиции. Следовательно, большая (и, возможно, наиболее важ-
ная) часть того политического образования, в котором мы нуждаемся, состоит в
том, чтобы понять тот полуестественный—полуискусственный мир, в котором
мы живем, и ничего другого нам не надо. Конечно, потом окажется, что нужно
что-то еще, и особенно много будет нужно, если окажется, что нам повезло жить
в мире, где политическая традиция живая и богатая, и вокруг люди политически
хорошо образованные, истоки политической деятельности начнут выявляться
ранее; но все-таки самое бедное общество и самая убогая среда какое-то полити-
ческое образование предоставить могут, и мы [и в этих обстоятельствах] исполь-
зуем все, что можно. Но если такая ситуация характерна для начального этапа,
то дальнейшее изучение готовит нам еще более замысловатые вопросы. Нужно
проводить академические исследования политики. Тут есть над чем подумать, и
нам важно заранее решить, что это. Здесь, как и везде, нам прежде всего следует
руководствоваться тем соображением, что наше изучение должно быть направ-
лено на понимание политической традиции, некоего конкретного вида поведе-
ния. И поэтому на академическом уровне изучение политики прежде всего долж-
но быть изучением истории, — не потому что следует всегда быть сосредоточен-
ным преимущественно на прошлом, а потому что нам необходимы для изучения
конкретные детали. На самом деле в политической традиции на поверхность на-
стоящего всплывает только то, что уже существовало в ее глубине, в прошлом, и
часто если упустить момент проявления этого, можно лишиться ключа к подлин-
ному пониманию смысла происходящего. Именно поэтому настоящее историчес-
кое исследование — неотъемлемая часть политического образования. Однако
важно не только то, что происходило там-то и там-то тогда-то и тогда-то, но и то,
что люди говорили и думали о том, что происходит. Это история не политических
идей, но способа нашего политического мышления. Особо подчеркивая отдель-
ные моменты в летописи своей истории, каждое общество слагает собственную
легенду о своих победах. Эта легенда о прошлом живет в настоящем каждого
общества, и в ней скрыто его собственное понимание своей политики. Истори-
ческое исследование этой легенды — с целью не раскрыть ошибки, а обнаружить
лежащие в ее основе предубеждения—должно стать решающей частью полити-
ь*’ Политическое образование 213
ческого образования. Следовательно, это будет как изучением подлинной исто-
рии, так и той квазиистории, которая является ретроспективой тенденций насто-
ящего времени. И [при таком построении образовательного процесса] мы можем
надеяться избежать одного из наиболее распространенных и коварных заблужде-
ний относительно политической деятельности — представления о том, что в нача-
ле ставится цель, а затем для ее достижения разрабатывается некий механизм,
состоящий из общественных учреждений и процедур, в то время как на самом
деле все это лишь способы поведения, которые лишены всякого смысла сами по
себе, в отрыве от контекста. Например, под влиянием именно этого заблуждения
Милль провозгласил, что для каждого общества, достигшего определенного уров-
ня того, что он называл «цивилизацией», наиболее подходящей формой правле-
ния будет нечто, что он называл «представительное правительство». Кратко го-
воря, это заблуждение состоит в том, что мы считаем свои соглашения и учрежде-
ния более значимыми, чем опыт мыслителей и государственных деятелей, кото-
рые знали, куда идти, хотя и не знали конечного пункта назначения.
Тем не менее, недостаточно знать только собственную традицию политичес-
кой деятельности. Достойное политическое образование должно обеспечивать
также знание политики других современных обществ. Это необходимо прежде
всего потому, что до какой-то степени наша политической деятельность всегда
связана с такой же деятельностью других народов. Не знать, каким образом они
соблюдают свои соглашения, означает не знать, каким курсом они будут следо-
вать, и, значит, не знать, на что нам [в связи с этим] нужно будет опереться в
нашей собственной традиции. И можно сказать, что знать только свою собствен-
ную политическую традицию означает не знать и ее. Но и здесь сразу же следует
сделать два наблюдения. Наши отношения с соседями начались не вчера; чтобы
построить эти отношения, нам не нужно постоянно искать какие-то специальные
формулы или сиюминутные ad hoc решения вне нашей собственной традиции.
Мы вынуждены нести отсебятину только тогда, когда, подобно актерам, забыв-
шим роль, преднамеренно или по небрежности упускаем те возможности понима-
ния и инициативы, которые заложены в нашей традиции. И второе: о политике
другого общества стоит искать только такого знания, которое мы хотим иметь о
нашей собственной политической традиции. И здесь тоже la verite rests dans les
nuances*. Например, сравнительное исследование общественных учреждений,
не учитывающее этого факта, даст нам только иллюзию знания. Подлинного по-
нимания таким путем достичь нельзя. Изучение политики других народов, так же
как и изучение нашей собственной политики, должно быть экологическим иссле-
дованием традиции поведения, а не анатомическим препарированием механичес-
ких органов общества и не детальным знакомством с его идеологией. И только
при таком исследовании чужие традиции будут вдохновлять нас, но не вводить в
заблуждение. Искать по всему миру «наилучшие» политические приемы и цели у
других государств (как эклектик Зевке, который, как говорят, в попытке создать
статую, более прекрасную, чем Елена, собирал по всем другим статуям их от-
Истина — в деталях (фр.). — Прим, перев. , . ..... .... , ... . ..
214 Майкл Оукшот. Рационализм в политике. •
дельные наиболее совершенные части) — безнадежное мероприятие и один из
самых верных способов потерять политическое равновесие. Но изучение конк-
ретного способа, которым действует другой народ, соблюдая общественные со-
глашения, может способствовать открытию важных моментов в собственной тра-
диции, которые в ином случае оставались бы скрытыми.
В академическом изучении политики следует учесть еще третью составляю-
щую — за неимением лучшего названия я назову ее философским аспектом иссле-
дования. Рефлексия политической деятельности может происходить на разных уров-
нях: можно рассматривать, какие способы предоставляет нам наша политическая
традиция для работы с различными ситуациями, или может возникнуть необходи-
мость кратко сформулировать наш политический опыт в виде доктрины, которая
позже будет использована для разворачивания того, что в ней заложено, подобно
тому, как ученый использует гипотезу. Но кроме этих и других видов политическо-
го мышления, существует область рефлексии, объектом которой является вопрос о
месте самой политической деятельности на общей карте нашего опыта. Такого
рода рефлексия имеет место в любом политически сознательном и интеллектуально
живом обществе; и что касается европейских обществ, каждое поколение форму-
лировало свои собственные интеллектуальные проблемы и решало их имеющими-
ся в его распоряжении техническими методами. А поскольку политическую фило-
софию нельзя назвать «прогрессивной» наукой, которая получает достоверные
результаты и приходит к заключениям, на которых надежно основывались бы даль-
нейшие исследования, особую важность приобретает ее история. И в самом деле, в
каком-то смысле можно сказать, что у нее вообще нет ничего кроме истории. Это не
история доктрин и систем, а история тех несоответствий, которые обнаружили фи-
лософы во всеобщих шаблонах рассуждения, и предложенных ими решений. Мож-
но предполагать, что изучение этой истории должно занять весьма важное место в
политическом образовании, а еще более важное место должна занять попытка по-
нять, какое значение придает этой истории современная рефлексия [политическое
самосознание]. Нельзя ждать, что философия политики поможет нам достичь успе-
ха в политической деятельности. Она не научит нас отличать хорошие политичес-
кие прожекты от плохих. Она не даст нам указаний, как нам развивать то, что
заложено в нашей традиции. Но терпеливый анализ общих идей — таких как при-
рода, хитроумный замысел, причина, воля, закон, власть, обязанность — может
пойти на пользу политической деятельности, по крайней мере в том, что такой
анализ поможет частично избавиться от нечестности в нашем мышлении и научить-
ся точнее употреблять понятия. Его роль нельзя ни переоценивать, ни недооцени-
вать. Но наука эта не практическая, а теоретическая, и польза от нее может быть
только в том, что мы научимся не обманываться амбициозными заверениями и не
дадим ввести себя в заблуждение неубедительными аргументами.
Abeunt studia in mores*. Плоды политического образования будут состоять в
том, каким образом мы говорим и думаем о политике и, может быть, в том, как мы
осуществляем нашу политическую деятельность. Выбирать отдельные плоды из
Долгие занятия оказывают влияние на характер (лат.). — Прим, перев.
Г.1Н ГНПОП Я f
Политическое образование 215
этого грядущего урожая, разумеется, достаточно рискованное занятие. Относи-
тельно того, что важнее, мнения будут расходиться. Но я надеюсь на две вещи. Чем
более глубоким будет наше понимание политической деятельности, тем меньше мы
будем попадаться на крючок правдоподобных, но на самом деле ошибочных ана-
логий, тем меньше нас введет в заблуждение какая-нибудь ложная или неуместная
модель. А чем полнее мы будем понимать нашу собственную политическую тради-
цию, тем более доступны будут для нас все ее богатства. И тем меньше вероятность
того, что мы поддадимся иллюзии, свойственной невежественным и неосторожным
людям, а именно что можно обойтись без традиции поведения, что конспективное
изложение традиции само по себе является достаточным руководством к дей-
ствию, и еще такой иллюзии, что в политике может существовать безопасная
пристань, что в ней существует какое-то место назначения, которого надо достичь,
и что можно даже каким-то образом определить, что прогрессивно, а что нет. «Этот
мир — лучший из всех возможных миров, и все в нем — необходимое зло».
1951 год
РАЗВИТИЕ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ
(1) Я надеюсь, что я достаточно ясно выразил ту мысль, что я употребляю это
выражение в качестве описания того, чем на самом деле является политическая
деятельность в условиях «исторически сложившихся кооперативных групп, ко-
торые мы называем государствами, многие из которых имеют древнюю историю,
и все — какие-то соображения о своем прошлом, настоящем и будущем». Те кри-
тики, которые указывают, что это определение является настолько узким, что
оно совершенно не включает в себя многое из того, что происходит в современ-
ном мире, конечно, делают уместное замечание. Что же касается тех, которые
считают, что эта формула не имеет смысла в применении к так называемым «ре-
волюционным» ситуациям и ко всем проявлениям так называемой «идеалисти-
ческой» политики — их я попросил бы подумать еще раз, вспомнив, что я предла-
гаю свою формулу не для объяснения мотивов политических деятелей и не для
выражения их представлений относительно того, что они делают, а для описания
того, что они делают на самом деле.
С таким пониманием политики я связываю следующие два предположе-
ния: во-первых, если оно верно, нужно предполагать, что оно должно ка-
ким-то образом повлиять на то, как мы изучаем политику, то есть на поли-
тическое образование. Во-вторых, если оно верно, оно должно каким-то об-
разом повлиять на то, как мы осуществляем нашу политическую деятельность:
допустим, то, как мы думаем, говорим и спорим о политике, должно прийти в
несколько большее соответствие с тем, что мы делаем. При этом я думаю, что
второе из этих предположений менее важно.
(2) Некоторые говорили, что предлагаемое мной определение политической
деятельности сводит ее ко всякого рода «предчувствиям», «интуиции», не предо-
ставляя возможности для «сколько-нибудь разумной аргументации». Я никоим
образом не имел этого в виду. Лично я сказал бы, что, если предлагаемое мной
216
Майкл Оукшот. Рационализм в политике.
определение политической деятельности справедливо, некоторые виды аргу-
ментации (например всевозможные попытки апеллировать в обоснование поли-
тических предложений к «естественному закону» или абстрактной справедливо-
сти) следует считать не имеющими отношения к делу. Они также могут оказаться
неуклюжими формулировками для других, по-настоящему действенных обосно-
ваний, и преследовать чисто риторические цели. .пмю
(3) Говорилось также, что такое понимание политической деятельности не
дает никакого четкого критерия для отделения хороших политических проектов
от плохих и для принятия решений в политике. Такое мнение появилось, опять же,
поскольку было неправильно понято то, что я сказал: «Все познается в сравне-
нии, но сравнивается оно не с тем, что находится рядом с ним, а со всем целым».
Тех, кто привык все судить с позиции «справедливости», «солидарности», «про-
цветания» или какого-нибудь другого абстрактного принципа и кто не умеет по-
другому ни думать, ни говорить, можно спросить, допустим, как на практике
действует адвокат, доказывая в апелляционном суде, что предыдущий суд поста-
новил его клиенту выплатить слишком большую сумму компенсации за убытки.
Разве достаточно будет ему заявить, что «это возмутительная несправедливость»?
Или можно ожидать, что он станет говорить, что «таких компенсационных сумм
в настоящее время за клевету не присуждают»? А если он будет действовать та-
ким образом, разве можно сказать, что он «не пользуется сколько-нибудь разум-
ной аргументацией», что у него «нет никакого четкого критерия», что он просто
ссылается на то, «как это было в последний раз» (ср. Аристотель, «Первая ана-
литика», 2, 23). Опять же, разве не таким же образом действует Н. Э. Свэнсон,
обсуждая революционное предложение, что игроку, подающему в крикет, нужно
разрешить «бросать» мяч: «Современный прием подачи развился как последова-
тельность движений, от движения снизу руки, через движение вокруг руки к дви-
жению сверху от руки. Каждая следующая ступень сначала считалась незакон-
ной, затем ее официально разрешали. Я настаиваю, однако, что «броску» в этой
последовательности нет места...»? А, с другой стороны, Дж. X. Фендер; разве он
«не имеет четкого критерия» или действует «только по интуиции», когда доказы-
вает, что «бросок» надо официально разрешить, потому что ему в этой последо-
вательности место есть? И разве натяжкой будет рассматривать такого рода спор
как типичный пример «развертывания того, что заложено» во всей данной ситу-
ации в целом? И что бы мы ни говорили для того, чтобы польстить самим себе,
разве не таким же образом принимаются решения о любых изменениях, в дизайне,
в мебели, в одежде, в машинах, в обществах, способных к политической деятель-
ности? Разве станет более понятно, если мы исключим из рассмотрения среду и
переведем происходящее в термины «принципа»? Например, если игрок в крикет
станет доказывать, что он имеет «естественное право» подавать мяч броском? И
даже в этом случае разве можно исключить сопутствующие обстоятельства —
что было бы, например, с правом на бросок в такой ситуации, когда право на
подачу через руку еще не было отменено? Итак, может быть, мне будет позволено
еще раз повторить мое мнение, что этические и политические «принципы» явля-
ются лишь краткими формулировками традиционной манеры поведения, и невер-
Политическое образование 217
но будет представлять эти принципы в качестве причины какого-то определенно-
го поведения (то есть представлять в качестве этой причины некий критерий,
который является надежным потому, что он лишен случайности, такой как «спра-
ведливая цена»),
(4) Указывалось, что в политике не бывает «ситуации в целом»: «Почему
мы должны предполагать, что на той территории, которую мы называем
Британией, ... имеется только одно общество только с одной традицией? По-
чему не могут вместо этого оказаться два общества ... каждое из них со своим
собственным стилем жизни?» С точки зрения серьезного критика это может
оказаться глубоким философским вопросом, на который нельзя дать корот-
кий ответ. Но в наших обстоятельствах, возможно, достаточно ответить: во-
первых, отсутствие одинаковости не означает, что нет единства; во-вторых,
предметом нашего рассмотрения является общество, организованное на ос-
нове права, и мы рассматриваем способ, которым реформируются и изменя-
ются правовые структуры этого общества (а у этих структур, несмотря на
все их несовершенство, все-таки не может быть альтернативы); в-третьих, я
объясняю, что я понимаю под «единым обществом» и почему я считаю необ-
ходимым отталкиваться именно от этого понятия.
(5) Наконец, говорили, что поскольку я отвергаю всякие «общие прин-
ципы», постольку я не могу предложить никакого способа для определения
того, что является внутренним противоречием [традиции] и что должно под-
лежать реформированию. «Как нам определить, что заложено в обществе
(sic)?» Но на это я могу только ответить: «Что же, вы хотите, чтобы в поли-
тике было то, чего точно нигде больше не существует — безошибочный спо-
соб определять, что следует делать, а чего нет?» Каким образом ученый, ко-
торый имеет перед собой наличное состояние изучаемой им природы, реша-
ет, в каком направлении ему двигаться в своем исследовании? Какие сооб-
ражения принимали в расчет средневековые строители, решая, что строить
из камня надо не так, как из дерева? Как выносит художественный критик
свое решение, что в картине имеются какие-то несоответствия, как он реша-
ет, что трактовка художником одних частей находится в противоречии с трак-
товкой других?
Дж. С. Милль (Милль Дж. Автобиография. История моей жизни и убеж-
дений. М.: Книжное дело, 1896, с. 136—137, 144—145), отказавшись считать
общие принципы ориентиром в политической деятельности и адекватным
средством для ее изучения, заменил их «теорией прогресса человечества» и
понятием, названным им «философия истории». Изложенный мной в данной
работе взгляд можно рассматривать как еще один шаг в этом же направле-
нии. На том этапе, на котором мы теперь находимся, уже ни принципы (ко-
торые на самом деле оказываются попросту указателями на конкретное по-
ведение), ни какая бы то ни было общая теория относительно характера и
направления социальных изменений не могут предоставить ни объяснения,
ни адекватной формулировки практического поведения.
218
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ПРЕПОДАВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРЕДМЕТА
ПОЛИТИКИ
ОЧЕРК ОБ УМЕСТНОСТИ
1
Как и все остальное, форма образования, даваемого в университете, подвержена
изменениям. Когда проводимые в университете изменения состоят в том, что в
число преподаваемых студентам предметов вводится некая новая область, кото-
рая, как утверждается, находится для этого в соответствующем состоянии, то
такие изменения, как правило, достаточно хорошо организованы. Конечно, ошиб-
ки случались, были допущены изменения, которые приводили к худшему, но боль-
шого ущерба это не нанесло. Те, кто защищает введение нового предмета в сис-
тему студенческого образования (я не пишу здесь ни о чем другом) обычно не
ошибались в том, на какие именно его достоинства они должны указывать, что-
бы его удалось внедрить успешно. Защитники этого предмета на ранних этапах
его пути брали на себя все заботы и решали все вопросы. Именно таким образом
в английских университетах появились такие курсы, как естественные науки,
современная история, современные языки, английская литература и экономика.
Также начали свое существование генетика и международное право. Иногда их
принятие облегчалось благорасположением какого-нибудь спонсора, который
был согласен обеспечивать одобренные курсы поддержкой. Однако в любом слу-
чае в студенческие учебные планы вводился предмет, который перед тем как его
предлагали студентам, уже в течение поколения или дольше существовал в каче-
стве академического направления.
Однако в последнее время в университетском образовании происходят изме-
нения, источник которых состоит в другом. Появляются благодетели со своими
собственными излюбленными проектами, энергичный и способный к убеждению
отряд проповедников с патроном в кармане, профессия, которая состоит в том,
чтобы добиться для своего предмета статуса университетской дисциплины по
причине его таинственности. Предложения относительно изменения универси-
тетского преподавания делало даже правительство. И хотя эти изменения оказа-
лись не такими катастрофическими, как можно было бы предположить сначала, в
целом их введение в учебные планы было подготовлено не так хорошо. Часто
сопутствующие этому жадность или желание во что бы то ни стало идти в ногу со
временем печально отразились и на справедливости суждений, и на результатах
научного исследования. Вследствие этого общая схема университетского обра-
зования пострадала от недостаточно продуманных и даже вредных изменений.
эчн i n: п я Преподавание в университете 219
Такой предмет преподавания, как «политика» проник в английское универ-
ситетское образование довольно косвенным и замысловатым образом, не так
просто и прямо, как он вошел в университетское образование Америки. Нельзя
сказать, что совсем не было необходимых обсуждений, и было найдено несколько
мест в уже существующих учебных планах, куда его удобно было поместить.
Не было недостатка в щедрых и уверенных в своем деле меценатах, часто игра-
ли свою роль и энергичные и умеющие убеждать проповедники. Его поддержи-
вали замечательные спонсоры, часто сами ученые. В защиту этой дисциплины
приводились примеры из античности (к сожалению, в наше время неуместные),
из недавнего времени и из практики других стран (изученной не очень тщатель-
но). Это соответствовало духу времени. Новый предмет вводился постепенно,
под различными названиями, что позволило приспособить его к любым интер-
претациям, которые могли ему дать разные профессора и преподаватели. В
таких довольно необычных обстоятельствах не удивительно, что наряду с го-
товностью преподавать «политику» в высших учебных заведениях, возник (при-
чем довольно поздно) вопрос о том, что преподавать. Не было недостатка в
советах, но весьма часто, к сожалению, это были не нужные в данном случае
советы относительного должных политических позиций или о том, какой мас-
сив информации должны освоить студенты. Даже и само изучение вопроса о
том, что преподавать было не совсем правильно проведено, потому что о нем
слишком часто переставали думать, как только предлагалась более или менее
приличная формула. Нам говорили, что «политика — это изучение политичес-
кого поведения», «изучение власти в обществе», «изучение политических ин-
ститутов и политических теорий». Однако относительно того, каким образом
изучать все это, было полнейшее молчание.
С моей точки зрения, такое положение вещей неудовлетворительно, и я пред-
лагаю сейчас поставить этот вопрос заново, хотя решение его, на мой взгляд,
требует движения в несколько другом направлении. Я предлагаю рассмотреть
следующий вопрос: Какой именно предмет под названием «политика» уместен
для того, чтобы его преподавать в университете? И для того чтобы решить этот
вопрос, я предлагаю прежде всего рассмотреть, что такое университетское обра-
зование вообще.
В этом смысле идей у нас не очень много. Мы знаем, что университетское
образование — это то, которое идет после школы, мы называем его «продвину-
тым», «дальнейшим»,« высшим» или «специальным»; образованием для взрос-
лых и так далее. Но все эти идеи довольно расплывчаты, и если бы дело ограни-
чивалось только ими, пришлось бы признать, что образование в университете
принципиально ничем не отличается от других видов образования. На самом
деле, некоторые люди считают, что так оно и есть. Они в принципе согласны с
делением на «элементарное» и «высшее», они полагают, что исследования на
высших уровнях характеризуются большим количеством деталей, требуют боль-
ших умственных способностей. Следовательно, в их представлении 6-й класс
средней школы — это начало приближения к университету, а технический кол-
ледж— это уже что-то вроде университета. ! =««< ;<н
220
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Лично я такой точки зрения не придерживаюсь. Я полагаю, что университет-
ское образование принципиально отличается от всех других видов образования,
причем в каком-то смысле его отличительной чертой является даже его элемен-
тарный характер. Несмотря на то, что оно не единственное из всех возможных и
не может заменить никакое другое, само по себе оно уникально и очень важно. И,
следовательно, на мой взгляд, каждый компонент университетского образова-
ния имеет свой собственный характер и свое качество.
Я буду считать образованием процесс обучения тому, как определять и неко-
торым образом формировать самих себя, который происходит в управляемой и
направляемой ситуации. Этот процесс неизбежно имеет два аспекта. Во-первых,
мы наслаждаемся приобщением к тому, что я, за неимением лучшего слова, буду
называть «цивилизация». В процессе этого мы понимаем также, в чем состоят
наши собственные таланты и склонности, которые могут найти применение в
этой цивилизации. Мы начинаем развивать их и пользоваться ими. Нельзя на-
учиться сделать что-то из себя, достичь чего-либо, если нет контекста. А этот
контекст появляется не только в том, что именно изучается, но и в условиях уп-
равления и ограничения, которые являются неотъемлемыми характеристиками
процесса обучения.
Некоторые люди полагают, что цивилизация — это набор вещей типа книг,
картин, музыкальных инструментов, произведений, зданий, событий, ландшаф-
тов, изобретений, приспособлений, машин и так далее — в общем, всех результа-
тов внедрения человечества в мир «природы». Но это чрезвычайно узкая (на самом
деле, крайне примитивная) точка зрения на «вторую природу» (как ее называет
Гегель), в контексте которой происходит наша деятельность. Гораздо вернее, что
мир, в который мы входим, это мир определенного набора эмоций, верований,
образов, идей, способов мышления, языков, умений, ритуалов и способов деятель-
ности, благодаря которым порождаются все перечисленные выше «вещи». И, сле-
довательно, правильнее было бы думать о цивилизации не как о том, что наличе-
ствует, а как о капитале - другими словами, как о чем-то, что известно и имеет
смысл только в процессе использования. То, что определяется таким образом, ни-
когда не является законченным и определенным, все представляет собой одновре-
менно и достижение, и перспективу новых достижений. Этот капитал накапливал-
ся в течение многих столетий. Когда им пользуются, он приносит проценты, кото-
рые частично потребляются, а частично идут на новые вложения.
Но с другой точки зрения, цивилизацию, в особенности нашу, можно рас-
сматривать как беседу, которую ведут между собой различные виды человечес-
кой деятельности, каждому из которых присущ свой собственный голос, свой
собственный язык; например, моральная оценка, практическая деятельность, ре-
лигиозная вера, философская рефлексия, художественное созерцание, историчес-
кое и научное исследование и объяснение. То, что создают эти различные виды
мышления и речи, я называю беседой, потому что взаимоотношения между ними
состоят не из отстаивания своей точки зрения и не из отвержения других, а из
признания друг друга и взаимного приспособления друг к другу, что свойственно
именно беседе.
uxHTHRant Преподавание в университете 221
Следовательно, если мы определим образование как введение в цивилиза-
цию, то можно его рассматривать как начальную ступень овладения материаль-
ным, эмоциональным, моральным и интеллектуальным наследием; как научение
узнаванию всего многообразия того, что произносится человечеством, и способ-
ности принять участие в общечеловеческой беседе. А если считать образованием
процесс, в котором мы открываем и начинаем создавать самих себя, то можно
считать его научением тому, как узнавать его в зеркале этой цивилизации.
Я не утверждаю, что эта картина образования универсальна; это всего лишь
картина (или ее часть). И нельзя исключить такую возможность. Поэтому, если
мы хотим сказать нечто, имеющее отношение к нашей ситуации, контекстом, в
котором будет двигаться наше исследование, надо считать именно ее.
Образование в моем понимании начинается в яслях, где младенец в основном
учится жить в нашем естественно-искусственном мире. Здесь он учится приме-
нять свои органы чувств и члены тела, полагаться на них, он научается управ-
лять своим голосом, узнает свои эмоции, привыкает к неудачам и научается их
переносить. Он учится приспосабливаться к другим людям. Он учится говорить,
играть словами и в то же самое время — использовать и понимать символический
язык практической жизни. Все или почти все здесь — игра. Неважно, что полу-
чится, важен только сам процесс. Все, что узнает ребенок, вкладывается обратно
в него же; хотя, конечно, ребенок обладает капиталом радости и боли, который
приносит дивиденды всей семье. И в данном случае у образования также нет
никакой специальной ориентации, оно еще не принимает во внимание особые
таланты и склонности ребенка, хотя проявиться они могут очень рано.
Этот же вид младенческого образования продолжается и в школе. Обучение >
чтению начинается по книгам, которые рассчитаны на то, чтобы научить узна-
вать слова, письмо — это прежде всего упражнение в чистописании, а не сочине-
ние осмысленных текстов, на уроках музыки играются бесконечные гаммы и пье-
сы, направленные на развитие подвижности рук; обучение иностранным языкам
состоит в повторении одного и того же, только разными словами; арифметика
обучает правилам действий с цифрами.
Но постепенно и незаметно происходит некоторое изменение; к нему подго-
тавливали пройденные уроки чтения, пения, рисования, танцев и социальных
взаимоотношений (то есть виды деятельности, у которых неизбежно есть свой
важнейший результат, хотя и преходящий). Начинает приобретать значение, что
именно читается, и происходит вхождение в мир литературы. Игра на инструмен-
тах становится уже не упражнением руки и глаз, но слуха. Даже иностранные
языки предстают как выражение другой системы мыслей, которую нельзя переве-
сти дословно. Короче говоря, интеллектуальным капиталом цивилизации начи-
нают наслаждаться и пользоваться уже тогда, когда навыки, посредством кото-
рых он усваивается, еще не достигли полного развития. А может быть, мы вообще
можем только догадываться о том, как надо им наслаждаться.
Впрочем, в школьные годы надо собрать так много информации из стольких
разных источников, что это интеллектуальное наследие кажется скорее не капи-
талом, а набором идей, догм, впечатлений, образов и так далее. Мы часто не
222
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
знаем как использовать то, что приобретаем, и часто мы даже не думаем об этом
в терминах использования, иначе говоря, мы не предполагаем, что если это как-
то вложить, может быть получено что-то, ценное само по себе. В таком случае
обучение является сбором сырого материала, возможная польза которого остает-
ся неясной. Иначе говоря, большинство из того, что изучается, немедленно и
автоматически используется для того, чтобы продолжать обучение, так что ка-
жется, что никакого другого результата у этого нет, ничего того, что можно было
бы как-то передать или с кем-то разделить.
Следовательно, о школьном образовании недостаточно сказать, что оно на-
чальное или простое; у него есть своя специфика. Оно состоит в том, что человек
учится говорить прежде, чем есть, что сказать. То, чему учат, должно быть таким,
чтобы его можно было выучить, не обязательно понимая; при изучении таким обра-
зом оно лишь не должно быть абсолютной бессмыслицей или наносить явный вред.
Или можно сказать, что то, что изучается в школе, никоим образом не предполага-
ет предварительного понимания своего невежества: мы не потому начинаем учить
таблицу умножения, что до нас вдруг доходит, что мы не знаем, сколько будет 8 х
9, и даты правления английских королей мы тоже заучиваем не потому, что знаем,
что не знаем, когда взошел на трон Эдуард I: в школе мы учим все это просто
потому, что нам велят это учить. Далее нужно заметить, что школьное образование
не имеет специальной ориентации: оно еще не принимает во внимание таланты и
склонности ребенка, а если они себя проявляют (что возможно), то школьное обра-
зование построено так, чтобы не идти на поводу у этих склонностей. В школе нам
совершенно справедливо не разрешают следовать своим склонностям.
Но в наше время «школьные дни» стали долгим временем в жизни человека,
в отличие от того, что было когда-то. Теперь они длятся не меньше десяти лет, а
для некоторых и четырнадцать-пятнадцать. И в последнее время ближе к оконча-
нию школы в программе стали появляться некоторые признаки так называемой
«специализации». Мне кажется, это ошибка. Но можно понять, какая иллюзия
была у тех, кто испортил таким образом школьное образование, и можно опреде-
лить те неправильно понятые аргументы, которыми они руководствовались. Од-
нако это приводит лишь к тому, что увеличивается обманчивая область перекры-
тия различных типов образования. То образование, которое вообще-то должно
даваться в школе, сокращается в пользу того, что называется «специализация».
Специализация эта на самом деле не является ни профессиональным, ни универ-
ситетским образованием, она мешает и тому, и другому. В особенности это каса-
ется такого вида «специализации», как произвольное сокращение широты охва-
тываемых предметов, при котором не происходит ни увеличения глубины подачи
материала, ни какой-то специальной ориентации. А если какая-то ориентация
учащихся и появляется, придавая школьной специализации крен в сторону спе-
циального образования, то это не соответствует давней английской традиции,
которая состоит в том, что профессиональное образование с самого начала дол-
жно быть серьезным. Ему не должна предшествовать какая-то пантомима. Когда
вы обучаетесь профессии, вы обучаетесь тому, чтобы что-то реально делать, и
лучше перед этим не учиться делать вид, что вы это делаете. доЗьн „ .«•
эхмтнкоп
Преподавание в университете 223
Следовательно, окончание школы — это ключевой момент. Это сигнал о
появлении какого-то нового отношения к тому капиталу, которым мы теперь
владеем. Тем не менее образование продолжается далее, и теперь оно оказывает-
ся способным разделиться на два направления—я назову одно «специальным», а
второе — «университетским» образованием. К тому капиталу, из которого со-
стоит цивилизация, они представляют два различных и до какой-то степени взаи-
модополняющих подхода.
С одной точки зрения, цивилизацию можно рассматривать как множество
умений, приемов, которые вместе определяют и делают возможным данный спо-
соб жизни. Изучить одно из этих умений—например профессию юриста, врача,
банкира, электротехника, фермера, инженера или рекламного агента — означа-
ет стать обладателем соответствующей части общего капитала и использовать ее
таким образом, чтобы она давала проценты. Этот процент, в свою очередь, мож-
но пускать на непосредственное употребление или вкладывать в совершенство-
вание имеющегося умения. В каждом из этих умений имеется какая-то интеллек-
туальная составляющая, и во многих есть компонент физического умения. Чис-
то физическое умение (например возить тележки в Ковент-Гарден) — это вооб-
ще не умение в данном смысле. В этом умении капитал, составляющий цивили-
зацию, принимает участие ничтожным образом, а тот минимальный процент,
который оно приносит, весь уходит на текущее потребление. С другой стороны,
если какой-то навык имеет значительную интеллектуальную составляющую,
то он сам требует большого вклада капитала (что выражается уже в том, какое
долгое время уходит на то, чтобы этому научиться). Он способен принести вы-
сокий процент, не уходящий в потребление.
Перечисленные выше умения приобретаются в рамках «профессионального»
образования; в нем цивилизация наивно предстает в виде имеющихся в ней зна-
ний и практикуемых в ней навыков, являющихся частью данного способа жизни.
Конечно, этот способ жизни никогда не бывает окончательно установившимся.
Но у него есть какое-то общее направление в движении современности, которое
зависит от этих умений и от других, которые могут произойти от них. Он также
никогда не бывает внутренне полностью согласован и непротиворечив: он состо-
ит из умений, одни из которых уже уходят, а другие еще только приходят; в наше
время ручные ткацкие станки и геральдика бок о бок сосуществуют с генетикой
животных и вычислительными машинами.
Можно сделать некоторые наблюдения над тем, что преподается и изучается
в «профессиональном» виде образования. В большинстве случаев это обучение
какому-то одному навыку. Этот навык может быть сложен и иметь значительный
интеллектуальный компонент, а может быть простым и легким для изучения. Но
профессиональное образование по существу своему является высокоспециализи-
рованным, и не только потому, что оно обычно концентрируется на одном навы-
ке. Ибо учение в данном случае равносильно приобретению определенного коли-
чества знаний, а также умению легко ориентироваться в этом материале и без
затруднений его использовать. У плотника или строителя уровень свободы вла-
дения своими инструментами часто намного превосходит все, чего может дос-
П4 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
тичь при помощи своих инструментов историк папства или филолог-классик.
Причина этого в том, что запас знаний строителя и плотника весьма ограничен,
он не имеет значительного отношения к чему-либо кроме себя. Профессиональ-
ное образование всегда направлено на изучение имеющихся видов деятельности
и всегда передает то, что считается известным. Каким образом это стало извест-
но, какие на этом пути были преодолены несовершенства и ошибки, значит не
больше, чем значат для современного линотиписта в типографии способы, кото-
рыми действовали первые печатники XVI века. При таком типе образования важ-
ный принцип специализации принят не только потому, что большинство обучае-
мых желает приобрести только один навык, а потому, что при специализации
обучаемому преподается только то, что является высшим достижением цивилиза-
ции на данном этапе развития в области навыков и умений, востребованных в
современном мире. Коротко говоря, профессиональное образование (хотя и не
абсолютно исключает это), в общем, не интересуется тем уровнем, на котором
изучаемый предмет способен приносить проценты, не идущие на употребление:
его задачей не является научить людей, как не знать—здесь знание не может быть
знанием чего-то отсутствующего. ,
И здесь я хочу ввести разделение, которым я предполагаю воспользоваться в
дальнейшем: разделение между «языком» (под которым я понимаю способ мыш-
ления) и «литературой», или «текстом» (под которыми я понимаю то, что время от
времени говорится на «языке»). Это, например, различие между «языком» поэти-
ческого воображения» и стихотворением или прозаической вещью, между «язы-
ком» ученого как его манерой думать и учебником геологии или книгой, отража-
ющей современные знание о геологии.
Итак, в рамках «профессионального» обучения изучается «литература»,
«текст», но не «язык». Усваивается знание о том, что сказано, и сказано автори-
тетно, а не знакомство с тем способом мышления, который породил то, что было
сказано. Например, при таком виде образования учат не тому, как думать науч-
ным образом, как узнавать научную проблему или научное утверждение, как
пользоваться «языком» науки, а тому, как пользоваться готовыми результатами
научной мысли, которые востребованы нашим современным образом жизни. Или,
если это различие кажется слишком жестким, можно сказать, что в рамках про-
фессионального обучения преподается не живой язык, с целью говорить на нем и
сказать на нем что-то новое, а «мертвый» язык. Он изучается только для того,
чтобы уметь читать «литературу» или «текст», чтобы овладеть содержащейся в
нем информацией. Приобретается умение пользоваться информацией, а не гово-
рить на «языке».
Далее, «профессиональное» образование — это изучение одного из множе-
ства умений современной жизни. Вообще говоря, в рамках этого образования
преподается только то, что в настоящее время используется на практике. Если
речь идет о каком-то умении, известном с древности, приходится обращаться к
капиталу, который собирался уже долго, но в большинстве случаев достаточно
капитала последней сотни или полусотни, а то и двадцати лет. С точки зрения
инженера-электрика, мир начался только позавчера. Другими словами, профес-
ЗИГ
Преподавание в университете 225
сиональное образование состоит в том, чтобы сделать человека соответствую-
щим определенному месту в современном способе жизни; чтобы он удовлетворял
современным требованиям. И, следовательно, если предположить, что современ-
ный способ жизни законсервировался и сделался неизменяемым, то в рамках про-
фессионального образования как раз не будет очень уж неуместен вопрос, како-
во именно должно быть число людей, обученных определенному навыку (вопрос,
который, как мы увидим далее, совершенно неприменим ни к школьному, ни к
университетскому образованию).
Университетское образование, как я его понимаю, коренным образом отли-
чается и от школьного, и от профессионального. Оно отличается тем, что изуча-
ется (и критерием, определяющим, что следует изучать), и тем, как это изучает-
ся. В случае, когда университетское образование имеет специализированный
характер (оно необязательно таково, в то время как профессиональное — обя-
зательно), принципы специализации не таковы, как в случае профессионально-
го образования. Если же то, что я говорю, кажется слишком догматичным, мож-
но сказать, что есть некий способ образования, явным образом отличающийся и
от школьного, и от профессионального. И я полагаю, что именно им в течение
многих веков занимались в учебных центрах, которые мы с тех пор и до насто-
ящего времени называем университетами. Кратко говоря, университетское об-
разование отличается и от школьного и от профессионального тем, что это обу-
чение «языкам», а не «литературам», т.е. текстам, написанным на этих языках,
а также тем, что это обучение владению объяснительными языками(или спосо-
бами мышления), а не языками описания. В то время как школьник может с
увлечение прочесть множество книг и из многих из них извлечь огромное коли-
чество знаний, а из других — знание о себе самом и о том, как жить, в универси-
тете ему предложат, возможно, в тех же самых книгах, найти нечто другое. И
тогда он поймет, что многие книги, которые содержат в себе устаревшую ин-
формацию, на которые в смысле содержащихся в них данных, если таковые
имеются, нельзя положиться (Гиббон, Стаббс, Дайси, Бэджхот, Кларк-Макс-
велл, Адам Смит) и которые, вследствие этого, бесполезны с точки зрения про-
фессионального обучения, тем не менее содержат в себе нечто весьма соответ-
ствующее университетскому образованию.
Университет — это, прежде всего, сообщество людей, собранных в опреде-
ленном месте, чьей профессией является забота обо всем интеллектуальном капи-
тале, из которого состоит ци-вилизация, занятием всем им. Это означает не толь-
ко сохранить это интеллектуальное наследие в целости и сохранности, но и по-
стоянно заново находить утраченное, восстанавливать то, что осталось в пре-
небрежении, собирать то, что оказалось разбросанным, воссоздавать целостность
того, что было испорчено, изучать заново то, что было уже однажды изучено,
придавать новую форму, по-новому организовывать, делать более понятным,
заново издавать, заново вкладывать в капитал. В принципе, на эту деятельность
не оказывают влияние практические интересы; то, на что в данный момент на-
правлен ее интерес, не зависит ни от чего, кроме академических соображений.
Вся прибыль, какая от нее может быть, вкладывается в нее же.
8. Заказ № 2438.
226
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Конечно, деятельностью такого рода занимаются не только университеты, в
нее вовлечены многие не являющиеся членами этих сообществ. Но нигде больше,
кроме как в университетах, она не происходит так, как я описал (постоянно и ис-
черпывающе). Когда университеты не берут на себя эту задачу, их ничто не может
заменить. Потому что по самой сути своей это кооперативная деятельность, в кото-
рой принимают участие разные умы, критически относящиеся друг к другу. И по-
тому еще, что по сути предмет ее - это не то, что появилось в последние пятьдесят-
сто лет, и не то, что имеет непосредственную практическую значимость для насто-
ящего времени. И, следовательно, в обществе, которое, подобно нашему, имеет
высокий стандарт практической значимости, университетскую науку часто прихо-
дится защищать. Защищают ее обычно, доказывая, что она тоже вносит свой вклад
(пусть косвенно) в осуществление текущих предприятий, или приписывая ей статус
«приятной вещи»: вещи, которая, в общем-то, ничего не стоит, но нашей сентимен-
тальной привязанностью к ней защищена от намеренного и немедленного уничто-
жения. Не столь хорошо защищена она от использования ее в чуждых ей целях.
Во-вторых, в университете интеллектуальный капитал существует не в виде
наработанных результатов, авторитарного учения, некой совокупности надеж-
ной информации или современного состояния знаний, а в виде разнообразных
способов мышления или направлений интеллектуальной деятельности, каждое
из которых говорит своим собственным голосом и на собственном «языке». Соот-
несены друг с другом они как участники беседы: не согласием—несогласием, а
косвенным признанием и приспособлением. Например, физическая наука в уни-
верситете — это не энциклопедия информации о современном состоянии нашего
знания о физике, но разворачивающаяся, протекающая в настоящий момент дея-
тельность, образ мышления и речи, состоящий в объяснении. То же справедливо
для математики, философии или истории: каждая из них является набором идиом
мысли, живым языком, который существует не просто для того, чтобы переда-
вать на нем результаты, но в постоянном процессе разворачивания творчества и
использования. Те учения, идеи и теории, которые везде в других местах служат
для того, чтобы приносить практические результаты или поддерживать практи-
ческий способ жизни (биологическая теория наследования Менделя, молекуляр-
ная структура материи, закон Паркинсона), в университете рассматриваются
как временные достижения, значение которых состоит в их вкладе в будущее. А
вклад в будущее состоит здесь в развертывании «языка», объяснительного спо-
соба мышления и речи соответствующей науки.
В-третьих, университет— это место не только обучения и исследования, но и
образования. На образование, которое он дает, прежде всего накладывает отпе-
чаток сам характер этого заведения. Обучение в университете - это не занятия у
частного преподавателя, и даже не поездка по лучшим университетам других
стран вместе с хорошим и широко образованным научным руководителем. Все
перечисленное — это образование, но ни то ни другое — не университетское
образование. Также это неравнозначно пользованию библиотекой, даже перво-
классной. Университетское образование — это прекрасная возможность пользо-
ваться местами, где осуществляется деятельность, которую я описал, и где она
эхчгнкои
Преподавание в университете 227
осуществляется так, как я ее описал. И это сразу же отличает его от любого
другого вида образования - от школьного, от того, которое дается в заведениях
для «профессионального» обучения, в политехнических институтах, где препо-
дают несколько предметов,специализированных исследовательских институ-
тах, которые берут к себе нескольких обучающихся, а также от того образова-
ния, которое можно получить под руководством научного руководителя, заня-
того в каком-либо виде подобной деятельности, который берет себе ученика,
подобно тому, как Дёллингер взял молодого Эктона. Даже тот, кто является не
более чем благожелательным наблюдателем, может наслаждаться возможнос-
тью такого образования, которое не может дать и не дает никакое другое учеб-
ное заведение и которое в разных степенях давалось в университетах со времен
Средневековья, когда они были тем местом, где происходили «рыцарские» дис-
путы между магистрами и докторами, а студенты были зрителями, внимающими
тайне. Короче говоря, то, что имеется в университете, не может (или не может с
той же легкостью) появиться где-либо еще; образ цивилизации как множества
разнообразных видов интеллектуальной деятельности, как беседы между раз-
ными манерами мышления; и это определяет характер того образования, кото-
рое дает университет. ч
Наконец, университет— это сообщество людей, занятых в формальном про-
цессе обучения. В данном аспекте отличительная особенность университета зак-
лючается в том, чем занимаются преподаватели. Как преподаватели они могут
лучше или хуже, чем в других местах; но они отличаются тем, что они — сами
ученые; причем они исследуют не то, что преподают. Это не те люди, у которых
всегда наготове заданный набор заключений, выводов, фактов, истин, догм и т.п.,
как и какая-нибудь давно и хорошо испытанная теория для объяснения. Эти люди
также не считают своим главным делом быть знакомыми с «современным состояни-
ем знания» в области, в которой они работают: каждый из них разрабатывает ка-
кие-то частные способы мышления в характерных для них частных связях.
Тем не менее преподают они не то, что в настоящее время является центром их
исследовательской деятельности; это также и не то, что они открыли или изучили
вчера. Как ученые, они могут находиться на самом переднем крае науки, но как
преподаватели они должны быть не представителями передового края, а чем-то
иным. Также можно сказать, что то, чему они учат, не есть та деятельность, кото-
рой заняты они сами: ученики их обучаются их деятельности. У ченый-естествен-
ник, историк или философ не учит своих студентов быть естественниками, исто-
риками или философами. Иначе говоря, его занятие как преподавателя не только
в том, чтобы готовить себе вероятных последователей, хотя некоторые из его
учеников могут впоследствии оказаться именно ими. То главное, что имеет уни-
верситетский преподаватель и что он может передать (поскольку его не отвлека-
ют соображения немедленной практической пользы, уместности его предмета для
настоящего времени) - это знакомство со способами мышления, с теми «языка-
ми», которые, в соответствии с определенным взглядом, составляют весь интел-
лектуальный капитал цивилизации. То, что предлагает университет — это обу-
чение не информации, а практике мышления, и не практике мышления вообще, но
8*
ж Майкл Оукшот. Рационализм в политике
такой практике мышления, которая способна достичь своих собственных, харак-
терных только для нее заключений. И студенты нигде, кроме университета, не
имеют таких благоприятных шансов понять, что значит мыслить исторически,
или математически, или естественнонаучно, или философски, и понять эти пред-
меты не как «объекты изучения», а как живые «языки», и понять тех, кто говорит
на этих языках, как тех, кто занят исследованием и объяснением самых разных
научных задач.
Далее. Можно определить университет как сообщество таких преподавате-
лей, деятельность которых отражает некоторые представления о том, как наи-
лучшим образом осуществлять данный вид преподавания. Самое главное из этих
представлений (сейчас оно, к сожалению, отходит на задний план) — это то, что
самый лучший способ передачи способа мышления (то есть языка) осуществляет-
ся в связи с изучением некоторого соответствующего вида «литературы». Это
представление о том, что думать научно лучше всего научиться посредством
изучения не какого-то так называемого научного «метода», а вполне определен-
ной ветви знания, а научиться думать исторически следует, не изучая некий так
называемый «исторический метод», а наблюдая и следуя за тем, как ученый-
историк работает над определенной областью прошлого. Может показаться (но
только на первый взгляд), что в данном случае предполагается некоторое сбли-
жение образования университетского и «профессионального». Но это заблужде-
ние становится явным, когда мы видим, что в университетском образовании текст
понимается не как организация информации, а как парадигма некоего языка.
Следовательно, вместе с признанием, что в университете «языки» наилучшим
образом изучаются в связи с «литературой», идет признание, что некоторые при-
меры литературы (которые могут относиться к каким-то видам естественнонауч-
ного исследования, некоторым историческим периодам, некоторым правовым
системам, произведениям некоторых авторов-философов) находятся в более под-
ходящем состоянии для изучения или дают более ясное представление о парадиг-
ме соответствующего языка и что именно эти виды литературы или «тексты» и
именно по этим причинам предлагается читать студентам: они должны изучать
скорее химию, чем физику солнечной системы, историю средневековой Англии -
чем современную историю острова Ява, римское право — чем хеттское или кель-
тское, а Аристотеля, Юма и Канта — чем Демокрита, Лейбница, Риккерта или
Бергсона. Это удобный и целесообразный способ решить, что следует изучать,
потому что он всегда оставляет возможность изменений и указывает на критерий,
по которому следует судить, насколько соответствующая область подходит для
изучения студентам. Этот критерий имеет чисто педагогический характер и не
имеет никакого отношения к профессиональным или другим соображением, в
том числе к актуальному в текущий момент научному интересу педагогов как
исследователей-ученых, потому что может оказаться, что материал исследова-
ния находится в совершенно недоступном студентам состоянии.
Из этой попытки обучать студентов чему-то вроде интеллектуального капи-
тала нашей цивилизации родились два совершенно разных подхода к представ-
лению этого капитала для студенческого образования. Утвердились два способа
*8
эхнтнг.оп а : Преподавание в университете 229
«специализированного» обучения. В одном из них (который, наверное, лучше
всего представлен «Великими») изучаются различные способы мышления—на-
пример, исторического, философского, поэтического, правового, возможно, ес-
тественнонаучного в связи с «литературой» или текстом на греческом и на латин-
ском языках или вообще из мира классической античности. В других школах (в
их числе школы современной истории, математики, естественных наук и т.д.)
изучается только один язык, или один способ мышления на примере любых дос-
тупных текстов — например, конституционная история средневековой Англии,
химия, физика, геология и т.п., английское право собственности, поэзия Англии
XVI века и так далее. Предпочтение одних текстов другим определяется тем,
насколько они представляют образцы способов мышления; а это зависит и от
того состояния, в котором эти способы мышления находятся в настоящий момент,
а также (естественно) и оттого, насколько это подходит для студентов, которые
пришли в университет, получив определенное школьное образование.
Итак, вот что я понимаю под университетским образованием. Нельзя ска-
зать, что это что-то туманное или неопределенное. Напротив, это нечто ясное,
безошибочно отличаемое от любого другого вида образования. Студент в этом
своем качестве наслаждается «отдыхом», который предоставляется ему возмож-
ностью мыслить без того, чтобы обязательно мыслить в прагматических терми-
нах действия, и возможностью говорить, без того, чтобы непременно говорить в
терминах практического предписания и практического совета - отдыхом, кото-
рый, вкратце говоря, определяет своеобразие академической деятельности, зак-
лючающееся в объяснении. И мнение, что даже тем, кто посвятит свою жизнь
практическим занятиям того или иного рода и кому (в этой связи) профессиональ-
ное образование также было бы подходящим, стоит провести три года, в течение
которых внимание (когда это касается занятий) совершенно отвлекается от пред-
писательного способа мышления, с тем чтобы сконцентрироваться не только на
объяснении, но и на понимании процесса объяснения—это мнение, в котором в
кратком виде представлена самая суть специфического характера университетс-
кого образования. И тот, кто хочет придать университетскому образованию дру-
гой характер, не только изменит характер самих университетов, но и совершит
решающий шаг в направлении, которое рано или поздно приведет к тому, что
этот род образования совсем сойдет со сцены.
2
Далее, можно предположить, что под названием «политика» (или каким-нибудь
другим похожим названием), можно изучать нечто на всех трех названных мной
уровнях образования — и школьном, и профессиональном, и университетском
образовании. О политике говорят и пишут, изучают ее и обучают ей различными
способами, которые явным образом отличаются друг от друга. В самом деле, мы
можем обнаружить, что наше современное состояние дел не свободно от неясно-
сти, например, в университетах политика отчасти преподается так, как это более
подходило бы для другого уровня образования. Но мы, имея перед собой данный
ж Майкл Оукшот. Рационализм в политике i
очерк того, что характерно для вышеописанных видов образования, можем оп-
ределить, каким образом нужно изучать политику в каждом из этих случаев.
> '-Р В случае школьного образования, я полагаю, несложно решить, что именно
следует преподавать в школе. Это прежде всего нечто, подходящее для всех, по-
скольку одним из принципов школьного образования является то, что у него нет
никакой определенной ориентации. Далее, это нечто, что можно изучать без того,
чтобы смысл его изучения был очевиден самим учащимся. Причем то, что изучает-
ся, не должно явным образом приносить вред и не должно быть бессмысленным. С
точки зрения преподавателя, во-первых, это может приносить пропедевтическую
пользу (как изучение греческой грамматики для чтения греческой поэзии), во-вто-
рых, может представлять собой некий набор информации, который рассматривает-
ся как имеющий пользу вообще. Но с точки зрения учащегося у этого может быть не
больше отношения к специфической полезности, чем у геометрии, алгебры или
физической географии. Короче говоря, подходящим является то, что дает возмож-
ность с какой-то стороны подойти к овладению цивилизацией (той цивилизацией,
наследниками которой и являются эти учащиеся), которая понимается как набор
идей, верований, образов, способов практической деятельности и т.п., а не как
капитал. И именно таким образом преподавался раньше в школах предмет под
названием «гражданское право», а теперь преподается его наследник — предмет
под названием «современная политическая жизнь» («current affairs»): как ознако-
мительное введение в текущую деятельность правительства и соответствующие
подразделения, структуры и процедуры; для иллюстрации этого уделяется некото-
рое внимание верованиям и мнениям. Скорее всего, особо увлекательным этот пред-
мет не назовешь, особенно в таких его сухих частях, как обязанности городской
администрации, функции Палаты Общин, заявления Кеннеди, Хрущева или Каст-
ро; причем, в отличие от древнегреческих неправильных глаголов, он не обещает в
дальнейшем изучения более интересных вещей. Тем не менее идею изучать полити-
ку в школе можно поддержать на том основании, что политика является у нас
делом каждого; а содержание этого предмета не больше вводит в заблуждение, чем
это по необходимости делают другие школьные предметы (например экономика
или история). По крайней мере, это знание несколько поможет изменить таинствен -
ность мира, как он предстает в газетах, и он ничем не мешает появлению у школь-
ников более глубокого интереса к политике, как это иногда бывает с крикетом,
космическими путешествиями и с церковной музыкой. Интерес, которому служит
этот предмет, — это интерес к текущей политической жизни.
Также, я думаю, не особенно трудно решить, какой характер должно иметь
то, что можно назвать «профессиональным» образованием в политике, то есть
образование, рассчитанное специально на тех, кто желает заниматься политичес-
кой деятельностью. «Профессиональное» образование (в том смысле, в котором
я употребляю это слово) может появиться, если выполняются три основных усло-
вия, и когда они выполняются, в той или иной форме это образование обычно
появляется. Прежде всего, должно существовать некое специальное умение, ко-
торое в общем случае заложено в определенном способе жизни; во-вторых, в
эхнтйкопа Преподавание в университете 231
связи с этим умением должно существовать нечто, чему можно научить, хотя это
может также требовать практики, которую нельзя передать формально прежде
чем произойдет эффективное усвоение самого умения; в-третьих, должны быть
люди, которые желают овладеть этим умением, в связи с чем желают получить
соответствующее образование. Вполне можно предположить, что все эти три ус-
ловия выполняются в отношении того, что мы называем политической деятельно-
стью (то есть такой деятельностью, которая имеет отношение к управлению и
инструментам управления). Вне всякого сомнения, политика — это такое умение,
которое укоренено в наличествующем способе жизни. Существуют не только
люди, занятые ею профессионально (политики, главы партий, функционеры и их
помощники), как это происходит и в других профессиональных областях (только
в еще большей степени), существуют те, кто участвует в политической деятель-
ности периодически (например должностные лица и служащие правительства или
профсоюзов). То знание, которое профессионалам необходимо, нужно также и
им. И в самом деле, тот стиль политики, который ныне распространен во всем
мире, требует участия и занимает большое количество этих непостоянных участ-
ников, не говоря уж о политических комментаторах и ведущих, которые стали
привычной чертой нашей жизни и которым данная информация необходима для
их повседневной работы. В этих обстоятельствах нужно считать, что «професси-
ональное» обучение политике подходит большей, более разнородной и соответ-
ственно менее определенной группе студентов, чем обучение другим (хотя и не
всем) предметам. Возможно мы не будем, в отличие от некоторых, утверждать,
что каждому гражданину необходимо профессиональное образование в «демок-
ратии» или что этому надо обучить достаточное количество людей, чтобы обес-
печить остальных. Однако можно определить это как профессиональное образо-
вание для тех, кто разбирается или хочет разбираться в политике. Но перечислен-
ные особенности не изменяют «профессионального» характера этого образова-
ния, которое здесь, как и везде, нацелено прежде всего на передачу некоторого
количества проверенного знания, которое необходимо для осуществления более
или менее ограниченной и практической деятельности. А если знанием, которое
здесь передается, некоторые пользуются постоянно, а другие время от времени;
для некоторых это профессия, для других—дело случая, то это отнюдь не меняет
его профессионального характера и не отличает его, допустим, от такого предме-
та, как профессиональное изучение права, которое необходимо не только тем,
для кого право — профессия, но и многим другим, занятым в иных сферах дея-
тельности. И, наконец, какие бы сомнения у нас ни были относительно объема
этого предмета, его надежности и внутренней логики (а также относительного
того, что еще мы считаем необходимым знать тому, кто участвует в политике), но
было бы абсурдно придирчиво считать, что в связи с политикой не существует
информации о том, что обычно в настоящее время, как в настоящее время думают
и говорят, которая составляет характерную черту профессионального образова-
ния, или что знанию такого рода нельзя обучить. На самом деле, этой информа-
ции огромное количество, и большая ее часть сформулирована столь невнятно,
что для того чтобы ее собрать воедино, нужно невероятное упорство, а чтобы
232 •> Майкл Оукшот. Рационализм в политике \
привести ее в порядок — склад ума архивариуса. В такой ситуации нет никакой
причины, почему политику нельзя преподавать так же как сантехнику, домовод-
ство, библиотечное дело, сельское хозяйство или управление фабрикой, изготов-
ляющей фаготы. И это преподается в самом деле.
И, в подтверждение сказанного, уже существует обширная политическая ли-
тература (и журналы, и книги), не лишенная общего интереса, способная удов-
летворить любопытство непрофессионалов, но в то же время удовлетворяющая
требованиям к учебной литературе для профессионального образования. В ней
пишут о современной практике, ее целью является передача информации о том,
как участвовать в общественной жизни (о том, что делать, и о том, как это де-
лать), которая необходима каждому, кто собирается стать ее активным участни-
ком. Вследствие профессионализма и широты знаний, авторов этой литературы
часто приглашают разрабатывать политические проекты, работать консультан-
тами в области административного управления или иностранных дел.
В этой незамысловатой литературе беспристрастно и детально излагаются
черты таких политических и административных устройств, как федерализм, Вер-
хняя палата парламента, парламентские комиссии, публично-правовые корпо-
рации, налоги на капитал, законы, регулирующие расходы населения, концент-
рация власти и тому подобное; исследуется поведение избирателей; организация
и программы различных политических партий, выявляются группы давления, «ис-
теблишмент» и элита. Политика подробнейшим образом разбирается с точки зре-
ния ее формирования и последствий ее проведения, ставится вопрос о сравни-
тельной эффективности различных уровней администрации и используемых в на-
стоящее время методов коммуникации. Для тех, кто должен или хочет принимать
участие или высказывать суждения о проведении иностранных дел, предоставля-
ется обширный массив уже собранной и выстроенной информации о текущей по-
литике других стран. На несколько более низком уровне существуют учебники и
справочники, ориентированные на нижнее звено администраторов. Конечно, по
своему интеллектуальному содержанию (аиногда и сточки зрения общего инте-
реса) это несколько выше и богаче, чем техническая литература, предметом ко-
торой является, допустим, возведение зданий или выращивание помидоров, но
различия не очень велики, а по своей цели и по своему исполнению все эти техни-
ческие вещи, в общем, одинаковы.
Более того, техническая литература, даже высшего класса (например, посвя-
щенная праву или медицине), обычно имеет свои аналоги на популярном уровне.
И практически ничто не мешает появлению книг, являющихся вульгарными ана-
логами политических исследований и учебников. На стеллаже маленькая кни-
жечка «Как реставрировать старые коттеджи» может стоять бок о бок с книжкой
«Как реставрировать старые монархии», а в журнале «Сделай сам» вслед за
статьей «Отделка кухни: великолепные новые материалы» будут идти статьи
«Что можно и что нельзя делать при совершении революции», «Как выиграть
выборы» и «Что надо знать об общественных объединениях». На самом деле
такого рода тексты пишутся уже более чем столетие, только, может быть, заго-
ловки у них не такие явные.
эинтнкоп
Преподавание в университете 233
И вот в результате наблюдения над всеми этими исследованиями сложился
облик новой «науки» об управлении и администрировании, непрерывно расши-
ряющееся тело которой состоит, как предполагается, из хорошо проверенной
информации, которая становится все более всесторонней с каждым днем, об ори-
ентации и надежности различных процессов, проектов, политических ходов, ма-
териалов и средств, которые доступны в данный момент в политической и адми-
нистративной деятельности, «чтобы разрешать проблемы политики и управле-
ния, стоящие перед человечеством».
Имеющиеся описания этой так называемой «магистерской науки» («master
science»)1 — не представляют ее как нечто, где предпринимаются попытки понять
события с точки зрения действия общих законов, ио (более скромно) создать сис-
тематическое, упорядоченное, подходящее для преподавания «тело знания», ис-
ходя из изучения политических идей, строения и деятельности правительства, а
также структуры и деятельности политических партий и групп, формирование
общественной политики и общественного мнения и взаимоотношений между го-
сударствами2 . Из этого знания предполагается извлечь «набор рациональных
принципов» политической деятельности и управления общественными делами.
Приняв во внимание то, что нам говорится об «ожиданиях и надеждах», возло-
женных на эту «магистерскую науку», то, как набирается это количество знания
и то, как ему обучают, у нас не остается никакого сомнения, что из этого предпо-
лагается сделать материал для образования в области политической и управлен-
ческой деятельности. «Подлинные цели» этой науки таковы: «изучить мораль-
ные проблемы человечества с целью установить принципы коллективной мора-
ли», сформулировать «принципы, которые должны вдохновлять политическую
организацию и ее деятельность», «пролить свет на политические идеи и полити-
ческие действия для того, чтобы улучшить управление людьми», «пролить неко-
торый свет на великие проблемы нашего времени, такие как проблема недопуще-
ния войны, упрочения мира и безопасности в мире, распространения свободы,
помощи в развитии отсталых стран, предотвращения эксплуатации их населе-
ния; использования правительства для повышения стандарта жизни и способ-
ствования процветанию, добиться, чтобы социальные службы боролись с неве-
жеством, нищетой, нуждой и болезнями, чтобы в общем и целом увеличивалось
благосостояние, счастье и достоинство человечества», «чтобы разрешать про-
блемы политики и управления, которые стоят перед человечеством», «чтобы бо-
роться с болезнями и конфликтами и предотвращать напряжение в обществе»,
«чтобы показать народам, как достичь мира и безопасности». А цель преподава-
ния этой науки — «дать студенту средства, чтобы понимать важнейшие полити-
ческие события современности», для того чтобы «эффективно участвовать в по-
литической дискуссии, лучше ориентироваться в важных вопросах политики,
1 W. A. Robson. The University Teaching of the Social Sciences - Political Science. UNESCO,
1954; H. J. Blackham. Political Discipline In a Free Society.
2 Иногда дается общая формулировка: и»учение проявлений, процессов, сфер деятель-
ности, результатов и моральных основ «власти в обществе».
234
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
противостоять лести демагогов, лжи диктаторов, обещаниям обманщиков; уметь
отличить пропаганду от правды, использовать критическую информацию, каса-
ющуюся деятельности властей, владеть критериями, по которым следует оцени-
вать деятельность правительства» и предоставить избирателю возможность ре-
ального управлении страной, без чего «не может эффективно работать демокра-
тия». Кратко говоря, в данном случае описывается типичное «профессиональное»
образование в политике, причем это образование подходит не только для тех, кто
будет официальным лицом (хотя многое здесь особенно подходит для тех, кто про-
фессионально занят в органах политики или управления), но образование, рассчи-
танное на участников, имеющих одну из тех профессий, которые участвуют в обес-
печении нашего современного образа жизни, нацеленное на улучшение качества
их участия и отстаиваемое в связи с «чрезвычайной практической важностью»
проблем, с которыми связана данная профессия. Нацеленность этого образования
точно такая же, как у образования фермера или практикующего врача, но (так
предполагается) определенно имеет еще большую важность.
Но если опустить полеты фантазии, преувеличенные ожидания, а также неко-
торое несоответствие того, что изучается, тому, что ожидается получить в резуль-
тате, трудно не согласиться с предположением, что те серьезные вопросы, которые
я перечислил выше, целью которых является изучение современных политических
идей и практик таким образом, как это соответствует их использованию в области
политики и управления, подразумевают наличие некоторого «тела» знания, кото-
рому можно научить и которое является подходящим для обучения в рамках про-
фессионального образования. Наше современное знание о процедуре голосова-
ния, об организации консервативной партии, о Президенте Соединенных Штатов,
о специфике профсоюзов, а также о структуре и управлении общественными объе-
динениями — это столь же реальные виды информации, как и современное состоя-
ние нашего знания о свойствах вещества или об устройствах, используемых в об-
ласти сантехники. А почему избиратель, политический комментатор (entertainer),
политический деятель, политический агент или работник местного органа власти
должен меньше знать о своем деле, чем врач, юрист или библиотекарь?
Более того, не меньшим образом допускает сходное рассмотрение еще один
аспект политической деятельности. Политика всегда была на три четверти разго-
вором, и для любого, кто желает принимать участие в этой деятельности, и как
профессионал, и как любитель, незнание того, как использовать ее современный
лексикон, будет серьезным препятствием. Язык политики — это язык желания и
отталкивания, предпочтения и выбора, одобрения и неодобрения, похвалы и осуж-
дения, убеждения, решения, обвинения и суда. На этом языке мы даем обещания,
просим о помощи, призываем верить и действовать, советуем, проводим админист-
ративные приемы и организуем мысли и мнения других таким образом, чтобы поли-
тику можно было осуществлять эффективно и экономично: короче говоря, это язык
каждодневной, практической жизни. Однако люди, занятые политической деятель-
ностью (как и другие, которые заняты в бизнесе или в проповеди какой-то рели-
гии), для того чтобы их слова и действия выглядели более привлекательно, часто
склонны пропагандировать их в терминах языка общих мыслей, и в тех же терми-
•jXHTWPonst Преподавание в университете 235
нах общих мыслей они склонны чернить мнения и действия других, чтобы сделать
их менее привлекательными. Именно таким образом и появился наш современный
политический лексикон (часто присваивая себе слова, первоначально имевшие
совершенно другой смысл). В него входят такие слова и выражения как: демокра-
тический, либеральный, равный, естественный, человеческий, общественный, дес-
потический, конституционный, плановый, интегрированный, провокационный, фе-
одальный, консервативный, прогрессивный, капиталистический, коммунистичес-
кий, национальный, реакционный, революционный, фашистский, привилегирован-
ный, частный, общественный, социалистический; открытый, закрытый, присваи-
вающий, изобильный, ответственные и безответственные общества; международ-
ный порядок, партия, фракция, благосостояние и ценность (amenity). Этот словарь
достаточно сложен, и обучить его правильному употреблению, безусловно, явля-
ется необходимым на «профессиональном» уровне политического образования. И
здесь также имеется литература, которая обучает употреблению этого словаря
(хотя иногда это не является ее главной задачей). Каждый день выходят новые
книги, задачей которых является обучить нас думать политически и предоставить
образование тем, которые или для дела или для собственного удовольствия хотят
говорить на современном политическом языке. В самом деле, для того чтобы опре-
делить род этой литературы, было изобретено (или переоткрыто заново) соответ-
ствующее название: это так называемая литература «политической теории», а «по-
литические теории» (в данном смысле) походящим образом определяются как «де-
мократические», «социалистические», «консервативные», «либеральные», «про-
грессивные» —по-другому говоря, прилагательными, которые сами принадлежат
к современному политическому языку и употребляются для того, чтобы обозначить
политический цвет соответствующих теорий.
Таким образом, «профессиональное образование в политике — это не просто
какая-то воображаемая возможность; умения, которые оно призвано передавать,
входят в число тех, которые используются в условиях нашего образа жизни наи-
более часто (и, кстати, наиболее неумело), а слова и идеи, с которыми оно пресле-
дует цель нас познакомить, чаще всего используются в общественных дискусси-
ях: нет сомнения, что для учебного плана соответствующего образования имеет-
ся самый подходящий материал. А какие бы ограничения этой «науки» об управ-
лении ни накладывались на этот вид образования, я не принадлежу к числу тех,
кто считает, что это нестоящий предмет для обучения, поскольку ему, не хватает
обобщений, характерных для других наук. Он может без труда отстоять прису-
щий ему характер компендиума надежной информации, полезной для тех, кто
занимается политической деятельностью3. А когда мы примем во внимание срав-
нительную сложность данного умения, смесь дилетантства и профессионализма,
которую провоцирует наша политическая и административная деятельность, а
5 Впрочем, это самое большее, что можно о нем сказать. Самые горячие заявления в
пользу этой «магистерской науки» основаны или на моральных убеждениях тех,
кто делает эти заявления (а надо ожидать, что не все такие заявления будут
приняты всеми другими людьми), или на наивном этическом натурализме.
236
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
также отсутствие установленных профессиональных стандартов, то становится
совершенно не удивительно ни то, что для учебных программ этого вида образо-
вания все еще характерно отсутствие авторитетного определения, ни то, что учеб-
ных заведений, предлагающих этот род образования, все еще сравнительно мало
(за пределами США, России и Китая).
Но есть еше одна причина, по которой появление возможности профессиональ-
ного образования в политике не вызвало в нашей стране пышного расцвета учеб-
ных заведений, которые могли бы давать такое образование. Ибо когда, в конце
концов, наблюдения и размышления о политической деятельности привели к появ-
лению значительного количества информации относительно правительства и ад-
министрации, и когда профессиональная политика перестала быть исключительно
занятием королей и классов, в которых власть передавалась по наследству, когда
(вкратце) само управление перестало быть загадкой, и когда после этого прошло
какое-то время, политику ео nomine’ начали преподавать в наших университетах,
и способ, которым ее преподавали был таким, который больше подходит для «про-
фессионального» образования. Не ожидающие ничего студенты, большая часть
которых никогда не планировала стать профессиональными политиками или адми-
нистраторами, но у некоторых из них, может быть, иногда появлялось смутное
желание быть политически сознательными, вкупе с невозможностью достичь этого
собственными силами, обнаружили, что им предлагается для выполнения програм-
ма невообразимой тоскливости, в ходе которой они изучали структуры современ-
ных мировых конституций, анатомический разбор которых только оживлялся вре-
мя от времени пустой политической болтовней и тенденциозными спекуляциями
относительно современной политики. Как «профессиональное» образования в по-
литике это было, конечно, бесполезно; и информация, которая предлагалась, и то,
как она там пред лагалась, могли представлять какой-то мыслимый интерес только
для тех, чьи головы были полны идей проектов участия в политической деятельно-
сти, или для тех, у кого любопытство ненасытно, как у консьержки. Это придавало
ложную видимость академичности всем политическим интересам, которые могли
там присутствовать, а от открытого разоблачения в ненаучности данный предмет
был защищен присутствием некоей доли настоящего исторического исследования.
Вместе с этим там присутствовали разборы значительных книг («Республики» Пла-
тона, «Левиафана» Гоббса, «Об общественном договоре» Руссо, очерк Милля о
«Свободе» и «Философская теория государства» Бозанкета), а также некоторые
менее значимые трактаты, о которых предполагалось, что в каком-то смысле они
«о политике» и, следовательно, должны содержать некоторый политический «иде-
ал», или программу, или способ действия, или рекомендацию какого-то средства.
Изучались они таким образом, чтобы выявить эту программу и подвергнуть ее
критическому разбору: короче говоря, считалось, что это книги по «политической
теории»* 4. В самом деле, я могу описать метод, по которому читались эти книги,
Под таким названием (лат.). — Прим, перев.
4 В этом мнении нас поддержали, например, Hobhouse’s (Metaphysical Theory of the
State), а позже Crossman (Plato Today) и Popper (The Open Society and its Enemies)
о л hi
Преподавание в университете 237
только как нечто среднее между тем, как читался бы устаревший учебник по
судостроению и тем, как читается современный предвыборный манифест. В ре-
зультате живо мы воспринимали только то, что в этих книгах было забавного (а
иногда чудовищного), и наше внимание сузилось или до изучения чьих-то лож-
ных шагов, или до отзвуков политической современности.
Некоторые, конечно, избежали этой участи. Были люди, которые никогда
не поддавались этому; те университеты, в которых давно преподавалась «по-
литика» в рамках истории или философии, до какой-то степени были вооруже-
ны против этого; и в любом случае английские университеты намного меньше
пошли на компромисс, чем американские. Но это вызывающее сожаление по-
ложение — сожаление, поскольку оно шло вразрез с самыми глубоко укоренив-
шимися традициями университетского образования — привело к появлению
курса «политика» в тех университетах, в которых он утвердился в качестве
независимого «предмета» в студенческих программах, курса, отойти от кото-
рого было уже трудно, даже если этого и хотели.
Без сомнения, давно уже согласились с тем, что такой способ изучения поли-
тики (который теперь, наверное, можно найти только в американских учебниках)
не совсем подходит для университета; было сделано значительное количество
улучшений. Но эти улучшения по большей части были направлены не на то,
чтобы создать что-то другое, больше подходящее для университетского образо-
вания, а на то, чтобы исправить то, что было сделано плохо до этого. Мы добави-
ли исследования действия к исследованию структуры, мы добавили изучение
политических партий, групп давления, государственных служб, местных орга-
нов власти и общественных объединений к изучению устройства правительства;
мы исследовали темные места в политической организации; добавила свой голос
и политическая социология; мы исследовали то, что можно назвать только забав-
ными вещами в политике; мы постарались выявить информацию более общего
интереса путем сравнения одной структуры с другой. Короче говоря, нельзя ска-
зать, что мы ничего не предпринимали и ничего не хотели менять; однако в целом
мы продолжали работать на том же самом уровне информации, на котором рабо-
тали пионеры политических исследований в университетах, — на уровне, подхо-
дящем только для «профессионального» образования. А что касается этих клас-
сиков политической рефлексии, нашим студентам все еще предлагают их читать,
чтобы найти в них указания относительно политического поведения, которые,
как предполагается, содержатся в них, и для того, чтобы поразмышлять относи-
тельно того, насколько эти указания для нас подходят; и до сих пор о них еще
пишут в таком духе. Поиск в сегодняшнем университетском преподавании поли-
тики (в тех университетах, где этот предмет уже твердо вошел в программу) чего-
то, что бы определенно и безошибочно отличало его от того, что походит тому,
что я назвал «профессиональным» обучением политике, чего-то, что бы выводи-
ло нас за пределы изучения «литературы» как скопления информации к изучению
«языка», или способа мышления, будет не очень успешным. В самом деле, самое
всестороннее недавнее описание преподавания «политики» в университетах (ци-
таты из которого я уже приводил), без всякого сомнения и оговорок принимает в
238
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
качестве подобающего для университетского образования этот «профессиональ-
ный» стиль, стиль участника. Конечно, есть некоторое смущение, но почти нет
намерения обратить взгляд в другом направлении.
Теперь, может быть, мне скажут, что я просмотрел два направления возможно-
го изменения, каждое из которых указывает на способ изучения, который, как мож-
но предположить, некоторым образом отделяет преподавание «политики» в уни-
верситете от его «профессионального» состояния и придать ему то, что несколько
наивно называется «либеральным» характером. Прежде всего, будет сказано, нам
больше недостаточно наблюдать и докладывать разнохарактерные результаты на-
шего наблюдения; мы уже переросли политическою анатомию. Вместо этого мы
будем «анализировать» (священное слово) и преподавать искусство анализа, мы
будем заниматься сравнением (не менее священное слово) и преподавать искусство
проведения сравнения, мы создаем идеальные модели, конструируем гипотезы,
формулируем проблемы будущего и ищем решения. И кое-что из этого, вне сомне-
ния, заслуживает одобрения: никто не может сказать, что мы слишком примитивны
в нашем изучении политики. Но ничто из этого не послужило (и даже не имело
такого намерения) для того, чтобы поставить перед нами другие вопросы, чем обыч-
ные «профессиональные» вопросы: как это происходит? как это улучшить? демок-
ратично ли это? — и так далее. А многое из этого (став заниматься воображаемыми
«системами», «процессами», «силами», «структурами» и «элитными группами»,
теми или другими стереотипами) уводит наше внимание от зачастую иррегулярно-
го характера политических организаций и событий, делая, таким образом, наше
«профессиональное» образование хуже, чем оно могло бы быть. Короче говоря,
несмотря на все усложнения и тонкости, которые придали нашей исходной наивно-
сти некоторый оттенок глубокомыслия, все-таки мы по-прежнему склоняемся к
тому, чтобы преподавать в университетах «политику» как курс об обязанностях
политического персонала.
Но, во-вторых, будут возражать мне, несмотря на нашу довольно прискорб-
ную тенденцию заставлять студентов знакомиться с шаблонами и структурами се-
годняшней политики (другими словами, с содержанием политических «текстов») и
обеспечивать их нужды, приглашая экспертов по постоянно возрастающему числу
этих «текстов», экспертов по политическим «системам» Индии и Ирака, Ганы и
Индонезии, мы все-таки сделали заметную попытку обучить их использованию
«языка», а именно языка политики. Разница между нами и теми, кто только начи-
нал вводить предмет «политики» в университете, состоит в том, что по нашему
замыслу изучение скучных и сомнительных деталей политических структур и опе-
раций является средством для того, чтобы научить студентов думать политически.
Короче говоря, мы начали признавать, что «политика» в университете должным
образом связана с изучением «языка», а «литературы» только как парадигмы это-
го языка. Однако когда мы рассмотрим попытки убедить наших учеников знако-
миться с возможно большим количеством этих текстов, наше обыкновение призна-
вать «авторитетность» тех, которые сами заняты в политической деятельности (или
ушли в отставку), и наше признание, что есть проблема «уклона» в преподавании
политики в университете (что может относиться только к «профессиональному»
аяк гнгоп it Преподавание в университете 239
политическому образованию), может быть, мы можем усомниться в правоте этих
заверений. Но даже признавая, что, действительно, между нами и пионерами пре-
подавания политики имеется заметная разница, все же для того чтобы наше препо-
давание отличалось от «профессионального» образования в политике, необходи-
мо добавить еще кое-что. До сих пор здесь говорилось только то, что мы предлага-
ем лучшее «профессиональное» образование, чем предлагалось когда-то.
Вкратце говоря, разница состоит в природе рассматриваемых «языков». Пре-
подавание языка современной политики является неотъемлемой частью «профес-
сионального» образования в политике, потому что навык использования этого языка
и знакомство с тем образом мысли, который он представляет, являются неотъемле-
мой частью политической деятельности. Но этот язык не принадлежит к тем «язы-
кам», преподавать студентам которые, как я предположил, являегся отличитель-
ной чертой университетского образования. Все эти «языки» — «языки» истории,
философии, естественной науки или математики — принадлежат к языкам объясне-
ния; каждый из них представляет особый способ объяснения. А язык политики —
это не язык объяснения, не более чем являются языками объяснения язык поэзии или
язык нравственного поведения. Специфически «политического» объяснения чего-
либо не существует: само слово «политика» обозначает определенные верования и
мнения, вынесение определенного рода суждений, совершение определенного рода
действий, мышления в терминах практических, а не объяснительных предпосылок.
Если в некотором роде существует способ думать и говорить, который можно на-
звать «политическим», то в университете подобающим занятием в этом отношении
является не использовать его или научить его использованию, а объяснить его, то
есть наложить на него один или несколько из существующих на данный момент
признанных способов объяснения. Если выражение «политическая активность»
обозначает нечто, что требуется понять и объяснить, то преподаватель «политики»
в университете должен задать себе такие вопросы: каким образом я планирую это
объяснять? на какой объяснительный «язык» или «языки» надо мне это перевести?
какими, как окажется, объяснительными языками будет студент учиться пользо-
ваться в связи с политикой?
Далее, я полагаю, что если мы оставим заманчивую, но не подходящую для
университета «профессиональную» идею преподавать употребление языка поли-
тики и обращение с ним, то изучение «политики» в университете может дать студен-
ту возможность познакомиться с двумя различными способами понимания, двумя
способами мышления, двумя объяснительными «языками», а именно «языком» ис-
тории и философии. То, что остается за их пределами, я полагаю, это все равно или
первая, или вторая манера мыслить, скрытая под иными (не слишком привлека-
тельными) одеждами. Каждая из этих манер мышления по своему существу имеет
объяснительный характер: каждая использует ясные критерии уместности; каждая
может приходить к своим собственным суждениям; в каждой можно сказать, что то
или другое является ошибкой, а также (и более важно) что то или другое не соответ-
ствует духу анализируемого текста; и заявления, сделанные на этих языках, не
претендуют на то, чтобы иметь силу предписаний. Таким образом, для студента,
изучающего «политику» в университете, подходящим является быть обученным и
240 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
изучить нечто о способах мысли и манерах речи историка и философа, и сделать это
в связи с политикой, в то время как другие (учащиеся других «Школ») делают то
же самое в другой связи. В то время как один студент может получить какое-то
представление о способе, которым историк думает, говорит, понимает и объясняет
в связи с английской торговлей шерстью в XV веке, или в связи с папством в XVI
веке (то есть таковы выбранные тексты), другой, обучающийся в Школе «полити-
ки», может заниматься тем же самым в связи с какой-то политической партией,
Палатой общин, «Князя» Макиавелли или «Отчета Хэлдейна» (Haldane Report).
И в то время как студент Школы факультета философии может изучать кантовс-
кую «Критику чистого разума» (и если он делает это университетским способом,
то его задача не просто познакомиться с тем, какие выводы делает Кант, но и
понять, какие стояли перед Кантом проблемы, и приобрести ту степень понимания,
на которой узнаются философские аргументы), так и студент факультета политики
может читать «Левиафана» Гоббса или «Философию права» Гегеля и надеяться
узнать из своего изучения нечто о философском способе мышления. А если окажет-
ся, что политика—это подходящий случай получить знакомство и с другими аутен-
тичными языками объяснения, то можно будет использовать и эту возможность5.
Но только таким образом может появиться такое изучение «политики», которое по
существу своему отличается от «профессионального» образования и может занять
место в специфически университетском виде образования.
Главное препятствие состоит в том «профессиональном» виде, в котором изу-
чение политики пришло в университетское образование и от которого ему никогда
не удавалось отрешиться. Я не думаю, что это положение среди университетских
преподавателей «политики» является результатом глубокого обдумывания, хотя
некоторые из них держатся за него со страстной приверженностью, которую они
пытались защищать. Прежде всего оно проистекает оттого, что прежде всего они
сами заинтересованы в политике в примитивном смысле, в проблемах управления,
поскольку самих их прежде всего интересует информация о том, какой можно за-
няться политической и административной деятельностью, и от их невозможности
понять, почему эту информацию не передавать в университетском образовании
студентам и, в самом деле, что еще можно преподавать под названием «политика».
Их ошибочная позиция как университетских преподавателей коренится не в том
направлении, куда привели их научные исследования, а в их стремлении обучать
студентов тому, что интересует их самих, невзирая на неуместность этого6. Свою
5 Верно, что уже в течение столетия исследуется возможность по-настоящему объясни-
тельной науки о политике. Но поскольку, кажется, никто не нашел ничего даже
отдаленно находящегося в состоянии, пригодном для представления студентам
с целью обучения их научному способу мышления, я не счел необходимым рас-
сматривать, что было бы, если бы эта задача была решена более успешно.
Никто также не пытался (разве что, может быть, в Америке), преподавать эту
«науку» студентам.
6 Конечно, ясно, что я не возражаю против участия высоких профессорских чинов в
ЙЫп: г.-
политике. Академические ученые уже давно стали интересоваться деятельнос-
тью по управлению и инструментами управления, и среди обстоятельств, кото-
рые способствовали развитию этого интереса в последнее время в Англии (а
эяятнпола Преподавание в университете 241
задачу как университетских преподавателей они видят в том, чтобы поднять уро-
вень изучения политики выше, чем уровень сообщения о текущих событиях и при-
дать ей респектабельное интеллектуальное содержание. Но они редко понимают,
что это можно сделать, только понимая, что слово «политика» в университетском
образовании означает не «предмет» изучения, а библиотеку «текстов», которые в
этом виде образования представляют просто случай изучить, как владеть и исполь-
зовать некий «язык» объяснения.
А если говорят, та манера, в какой политика преподается в университетах,
не исключает связь с историей и философией, то надо ответить, что когда эта
связь проводится, это часто вызывает возмущение, как отклонение от настояще-
го предмета «политической науки», и там, где это было сделано, это скорее пор-
тило дело, чем способствовало выделению самостоятельного предмета. «Исто-
рия» представала не как способ объяснения, а просто как набор заключений ав-
торов, считающихся «историческими», и которые, как считается, имеют отноше-
ние к сегодняшней структуре или позволяют предсказать будущее (например)
какой-нибудь партии или проливают свет на происхождение и эффективность
какого-то административного аппарата. «Историю» снисходительно принима-
ют, пока она остается «на заднем плане» (что бы это ни значило). А философия
предстает тоже не как способ мышления, а как ошибочно употребленное слово
для того, чтобы обозначить то, что считается некоторым родом интереса в поли-
тике. Просто распространять наши исследования чуть-чуть в область прошлого
с целью объяснить какое-то политическое событие — не значит «заниматься»
историей; это значит позволить себе удовольствие немного ретроспективной по-
литики, что свидетельствует о том, что исторический образ мышления никогда
по-настоящему не появляется. А когда в произведениях Платона, Гоббса, Руссо,
Гегеля или Милля ставится вопрос главным образом о том, какова была полити-
может быть, также и в Америке), [следует отметить] тот факт, что многие ученые,
прикомандированные во время двух войн к правительственным учреждениям,
нашли там девственное (хотя и не неожиданное) поле и загорелись желанием
исследовать его. Более того, в европейских и американских университетах изу-
чение политики — не новость: говорят, что самая первая всего степень профес-
сора в области «политики», появившаяся в университете Упсалы в XVII веке,
была кафедра «Государственного управления и Красноречия» (делание и гово-
рение, нераздельные компоненты политической деятельности); и нечто называ-
емое «политическая наука», созданное из различных аналогий и предлагающее
заключения различной степени абстракции, создается уже более чем столетие.
Но если бы каждый профессор должен был учить студентов тому, что для него
самого представляло интерес, а каждое профессорское кресло должно было
влечь за собой или санкционировать соответствующую себе область студен-
ческого образования, то непросто было бы отличить университет от сумасшед-
шего дома. А если можно согласиться с тем, что значительное число студентов
хотят посвятить большую часть своего пребывания в университете обучаясь
тому (так это утверждается), что подготовит их к более интеллектуальному уча-
стию в политике, то ответить нужно, что это не так (если не считать тех несколь-
ких, кто ошибочно принимает университет за место «профессионального» обра-
зования и кто желает научиться быть политиком или стать администратором), и в
любом случае это не неуместно.
242
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ческая позиция их авторов, когда такие выражения как «естественный закон»,
«общая воля», «свобода», «закон», «справедливость», «суверенитет», которые,
если говорить философски, являются объяснительными концептами, объяснитель-
ную ценность которых можно было бы исследовать, превращаются в понятия
предписательные (поскольку политик превращает в это все, чего он касается), и
когда размышляют только об их предписательной силе, не остается никакого
шанса узнать что-либо о философском способе мышления. Когда таким образом
философский аргумент превращается в так называемую «политическую теорию»
и считается вполне возможным навесить на него политический ярлык, назвав его
«демократическим», «консервативным», «либеральным», «прогрессивным» или
«реакционным», можно видеть, как возвращается «профессиональное» образо-
вание; утрачивается возможность понять, что философ никогда не занимается
состоянием вещей, но только лишь способом объяснения, и узнать, что единствен-
ная вещь, которая играет роль в философской аргументации — это ее логич-
ность, умопостигаемость, способность прояснять и продуктивность. А когда мы
проверяем познания студентов, обсуждая такие темы: «Был ли Милль демокра-
том?» «Изжила ли себя Палата Лордов?» или «Какое государственное устрой-
ство было бы более целесообразным в Гане: президентская или парламентская
система правления?» или «Движется ли Великобритания к однопартийному уст-
ройству?» — то можно подозревать, что это не очень высокого класса «професси-
ональный» вид образования в работе.
Нам предстоит еще большой путь; и если мы начнем двигаться не в том на-
правлении, скорее всего прогресс в направлении подобающего университетско-
го преподавания политики будет не особенно быстрым. Но есть два рецепта, если
последовать которым, они приведут к тому, что, я полагаю, является правиль-
ным направлением. «1^;..
Прежде всего, в Школе «Политики» мы никогда не должны пользоваться
языком политики; мы должны пользоваться только объяснительными «языками»
академического исследования. Конечно, в принципе можно произносить слова,
из которых состоит наш политический лексикон, но лишь для того, чтобы поста-
вить вопрос об их использовании и их значении, для того чтобы расчленить их на
составляющие, чтобы расшифровать их в письме исторического или философс-
кого объяснения. Ни в коем случае нельзя придавать им самим вид объяснитель-
ных слов и выражений. И нам надо понять, что эта так называемая «политичес-
кая теория» — это сама по себе форма политической деятельности, и поэтому ее
надо не преподавать, а объяснять, исторически или философски.
И, во-вторых, поскольку в университете мы должны считать, что мы изучаем
не «тексты», понимаемые как организация информации, а использование объяс-
нительных «языков» в связи с подходящими текстами, необходимо подбирать
тексты с осторожностью и основываясь на их педагогической уместности. В на-
стоящее время используются любые критерии, кроме подходящих. Стоит только
какой-то части света часто появляться в газетах, стоит только какому-то госу-
дарству быть новым или сильным, стоит только какой-то административной струк-
туре показаться ученым мужам интересной или административно важной, и счи-
, нчоп в Mf Преподавание в университете 243
тается, что выбор этого в качестве «текста» для студенческого изучения неопро-
вержим. Но это не лучшие причины для выбора, а худшие: это политические, а не
педагогические причины. Например, мне кажется, что совершенно неоправдан-
ное место в университетском образовании сейчас занимает политика современ-
ной России, поскольку оправдать это можно только в неуместных терминах «про-
фессионального» образования. Мы знаем несравненно меньше7 о том, что проис-
ходит в российской политике, чем в политике любой другой страны мира, за
исключением, возможно, Китая. Этот «текст» был бы сомнительным даже для
«профессионального» образования, потому что изучение его потребует много
поверхностных и бесполезных знаний: системы вместо «реальностей», механи-
ческие модели вместо конкретного поведения — и это может быть оправдано
только могуществом и политической важностью Российского государства: от-
сюда желание изучить что-нибудь о ней, как бы это ни было неадекватно. Но для
университетского образования это не значимые соображения; здесь имеет значе-
ние то, что материал должен находиться в подходящем состоянии для того, чтобы
научить студентов мыслить исторически. А это, вне сомнения, не то состояние, в
котором находится современная российская политика. Почему Школа «полити-
ки» должна портить свою работу, выбирая для обучения студентов особенно тем-
ные и испорченные «тексты», «тексты», которые на самом деле под силу только
опытнейшим выпускникам (emandators), когда имеются «тексты» прекрасно от-
редактированные, например политика Франции, Швеции, США или Испании
(уже не говоря о Великобритании)?
Научное исследование появляется только тогда, когда какая-то деятельность
изолирована и находится в таком состоянии, чтобы быть материалом для объяс-
нительных модусов мысли. Есть большие периоды человеческого прошлого —
искусство и литература, законы и обычаи, события в мире, мысли, которые леле-
яли люди, их открытия и изобретения — что является подходящим материалом
для исследования такого рода. Физические и химические реакции, где бы они ни
происходили, свойства чисел, обычаи экзотических народов мира, структура и
устройство земли, а также наши собственные моральные соображения могут быть
отделены от нашего одобрения и неодобрения и изучены с другой точки зрения,
нежели их полезность в достижении наших практических целей. Даже изучение
редких возможностей, которые предоставляет нам мир для удовлетворения на-
ших желаний, может быть отделено от соображений общественной и личной
пользы. Во всем этом, конечно, содержится призыв не только исследовать; но
этому призыву мы легко можем не следовать. Впрочем, что касается современной
политики (нашей и соседствующих с нами народов), это труднее; это не наверня-
ка многообещающий материал для его объяснения. Для большинства людей слиш-
ком сложно повернуться спиной к тому, чтобы принять участие в происходящем и
думать на «профессиональном» языке участия; слишком легко перепутать пред-
7 Или, может быть, имеется в виду: на самом деле, несмотря на то, что об этом пишут во
всех газетах, мы о России знаем меньше, чем о других странах, потому что ее не
понимаем. Тогда, мне кажется, надо вставить это «на самом деле». s t... - .
244 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
писание и объяснения; слишком привлекательно пренебречь философией ради
того, чтобы найти причины для обоснования предпочтительной политической
позиции, и не творить собственную историю, ради того, чтобы делать выводы,
подобающие историкам. Политика представляет собой самую сложную из всех
«литератур», самый тяжелый набор «текстов», в связи с которыми можно изучать
и овладевать объяснительными языками: идиомы изучаемого материала всегда
готовы наложиться на способ, которым он изучается. Тем не менее, если мы со-
гласимся в том, что следует делать в университете, сама трудность может быть
привлекательной; если мы поймем, что наше настоящее дело состоит совсем не в
политике, а в обучении, в связи с политикой, тому, как использовать «языки»
истории и философии, как различить их и различные виды их речи.
1961 год
9ИНТНП.ОП
Голос поэзии 245
ГОЛОС ПОЭЗИИ В БЕСЕДЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1
Есть философы, которые уверяют нас, что вся речь человечества бывает только
одного вида. Они замечают определенную разницу в выражениях, они способны
отличить один тон речи от другого, но слышат они только один настоящий голос.
И можно было бы найти определенные доводы в защиту такой точки зрения, если
бы мы рассматривали первобытное состояние человечества, когда смерть была
рядом, когда отдых был редкостью, и когда почти все, что говорилось (в том
числе даже религиозные обряды и магические заклинания) имело, вероятнее все-
го, практический характер. Но уже давно человечество изобрело иные виды речи.
Возможно, и сейчас чаще всего можно услышать голос практической деятельно-
сти, но вместе с ним существуют другие голоса, пользующиеся для выражения
себя иным языком. Среди этих последних два самые заметные — это голоса «по-
эзии» и «науки»; похоже, в последнее время свой собственный голос и свой язык
обрела или начала обретать «история». В таких условиях задача увидеть един-
ство в человеческой речи стала более трудной. Тем не менее с трудом уходит в
прошлое тот взгляд, что Вавилон был проклятием, наложенным на человечество,
и задача философов—освободить нас от этого проклятия, и остается стремление
придать любой значимой человеческой речи некий единственно верный харак-
тер. Например, нас убеждают считать любые виды речи вариантами (имеющими
разное, но сравнимое достоинство) научного исследования или спора между уче-
ными-исследователями о нас самих и о мире, в котором мы живем. Но это понима-
ние определение всякой человеческой деятельности и всех отношений между
людьми как исследования, хотя оно на вид учитывает разные голоса, на самом
деле слышит только один голос, а именно голос аргументированного рассужде-
ния, голос «науки», и ценность всех остальных голосов признается в зависимости
от их способности подражать голосу науки. И все-таки можно предполагать, что
разные языки и способы речи, посредством которых общаются людей в наши дни,
где-то составляют некое множество. И я рассматриваю их встречу не как иссле-
дование, не как спор, а как беседу.
Беседа не вынуждает участвующих в ней заниматься исследованиями или
приводить логические обоснования своей точки зрения; в ней нет необходимости
открывать «истину», не надо логически доказывать никаких положений, не надо
обязательно заключать ее подведением определенных итогов. Беседуют не для
246
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
того, чтобы предоставить информацию, чтобы убедить или чтобы опровергнуть
друг друга, поэтому убедительность речи зависит не от того, что все говорят на
одном языке — различия не ведут к несогласию. Конечно, в беседе могут встре-
титься отрывки споров, а говорящему не возбраняется и доказывать; но рацио-
нальное убеждение не единственное и не играет главной роли, и сама беседа —
это не убеждение. Когда девушка хочет уйти от ответа, она может произнести
что-нибудь, что на первый взгляд кажется совершенно неуместным, но на самом
деле ее цель — сделать разговор, который ей неприятен, таким, в котором она
чувствует себя более свободно. «Факты» в беседе появляются только для того,
чтобы вновь распасться на возможности, из которых они были составлены; «оче-
видности» сгорают прямо на глазах, и не потому, что они вступают в контакт с
другими «очевидностями» или с сомнениями, а потому что их уничтожает присут-
ствие идей другого порядка; сближаются между собой понятия, обычно друг от
друга далекие. Мысли разных видов летают и парят рядом друг с другом, откли-
каясь на движения друг друга и вызывая друг друга на свежие усилия. Никто не
спрашивает, откуда они взялись, по какому праву они присутствуют тут; никого
не волнует, что станет с ними, когда они сыграют свою роль. Нет ни ведущего
собрание, ни судьи; даже на входе никто не требует предъявить билет. Всё, что
приходит, принимается за чистую монету, и допустимо все, что может быть при-
нято в поток размышлений. И ведущие беседу голоса не имеют иерархии. Беседа
— не дело, которое должно принести некую дополнительную прибыль, это не
соревнование, в котором победивший получает приз, это не толкование текстов;
это всегда неожиданное интеллектуальное приключение. Беседа подобна пари:
ее суть состоит не в том, выиграли вы или проиграли, но в азарте пари как тако-
вом. Вообще говоря, в отсутствие различия голосов она и невозможна: в ней
встречаются разные вселенные дискурсов, они признают друг друга и с наслаж-
дением вступают в косвенные взаимоотношения друг с другом, которые вовсе не
обязательно приведут впоследствии к их взаимной ассимиляции.
Я полагаю, что это является адекватным образом человеческих взаимоотно-
шений — адекватным, поскольку в данном случае принимаются во внимание осо-
бенности, отличительные черты и реальные отношения тех видов речи, которыми
изъясняются люди. Мы, цивилизованные люди — наследники не столько исследо-
вания самих себя и мира, не столько все увеличивающегося объема информации,
сколько беседы, начавшейся в девственных лесах первобытного мира и расширяв-
шейся и все более артикулированной и тонкой с течением веков. Эту беседу ведет
каждый из нас — и на публике и наедине с самим собой. Конечно, существуют и
споры, и рациональные доказательства, и передача информации, но когда они при-
носят свои плоды, их надо рассматривать как отрывки этой глобальной беседы, и,
возможно, это не самые увлекательные из всех отрывков. Человека от животного
и цивилизованного человека от варвара отличает не способность разумно убеж-
дать, не совершать открытия, не придумывать проекты улучшения мира, а способ-
ность участвовать в беседе. И в самом деле, не столь невероятно, что наше насто-
ящее состояние мы приобрели благодаря участию в беседе (где разговор не требует
заключения); может быть, какая-то стая человекообразных обезьян засиживалась
g‘< '!=>. Голос поэзии 247
за разговором допоздна, и сидели они так долго, что утратили хвосты. Образова-
ние, следовательно, это посвящение в искусство и в общение этой беседы, в кото-
ром мы учимся распознавать голоса, учимся узнавать, какой именно вид речи уме-
стен в каждом случае, и приобретаем подобающие беседе интеллектуальные и мо-
ральные привычки. И эта беседа, в конце концов, определяет место и характер
каждой человеческой деятельности и каждой речи. Я сказал «в конце концов»,
потому что, разумеется, непосредст венной областью приложения моральной дея-
тельности является мир практического, а интеллектуальные достижения появляют-
ся в различных вселенных дискурса, но сами наши нравственные поступки имеют
свое значение, потому что практическая деятельность не изолирована; она являет-
ся партнером в беседе, и интеллектуальные достижения измеряются в конце концов
тем, что они вносят в ту беседу, в которой встречаются все вселенные дискурса.
Каждый голос — это отражение человеческой деятельности, и он начинает-
ся, не ведая о том, куда приведет, но требуя для себя в своем участии особого
способа речи; и внутри каждого вида речи можно различить подвиды и вариа-
ции. Следовательно, нельзя сказать, что в беседе задействовано какое-то опре-
деленное количество голосов, но наиболее заметные из всех — это голоса прак-
тической деятельности, «науки» и «поэзии». Философию, которая побуждает
изучать особенности и стиль каждого из этих голосов, отражать взаимоотноше-
ния этих голосов между собой, следует считать паразитическим видом деятель-
ности. Она проистекает из беседы, потому что философы изучают именно ее; но
в то же время в саму беседу она не вносит своего вклада.
Беседа — не только величайшее, но и труднейшее из достижений челове-
чества. Никогда не было недостатка в тех, кто понимал человеческую дея-
тельность и взаимоотношения людей именно таким образом, но только немно-
гие принимали эту точку зрения безоговорочно и без опасений, и в этой связи
следует упомянуть наиболее известного из тех философов, которому это уда-
лось: Мишель Монтень. Впрочем, по большей части беседе удалось выжить
несмотря на наши взгляды на образование молодого поколения, которые, ка-
жется, постепенно все больше и больше удаляются от соответствующего по-
нимания человеческой деятельности и взаимоотношений людей1. Более того,
некоторые голоса по природе своей имеют склонность к варварству, из-за
чего их трудно выдерживать.
Каждый голос одновременно является и способом говорения, и определен-
ным видом речи. Как способ говорения, каждый голос полностью укладывается
в рамки беседы. Но некоторые голоса обладают существенным недостатком: неко-
торая независимость (а часто отсутствие связи) между тем, что говорится, и тем,
Вот что пишет один преподаватель из Итона (Уильям Кори), который разделяет ту
точку зрения, что образование должно подготавливать к участию в беседе: «В
в ,
школе вы заняты не столько приобретением знании, сколько тренировкой свое-
го ума [под руководством преподавателя]... Конечно, затратив какое-то количе-
ство усилий, вы можете приобрести и удержать какое-то количество знаний, и
ие стоит жалеть и о тех часах, которые вы затратили на изучение того, что потом
забылось, — от этого утраченного знания всегда остается хотя бы какая-то тень,
248
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
как это говорится, и когда это происходит, голос превращается в некий набор
заранее достигнутых заключений Зоуцата, и в результате этого скорее возбужда-
ет спор, нежели участвует в беседе. Например, «наука» — это способ думать и
говорить (всегда на грани неправильной интерпретации), который представлен в
какой-нибудь универсальной энциклопедии. С другой стороны, голос философии
является необыкновенно подходящим для беседы. Не существует философского
знания в отрыве от философствования как деятельности: отсюда положение Юма о
том, что философское мышление имеет прежде всего облагораживающую приро-
ду, отсюда также и та трудность, с которой и люди науки, и люди бизнеса пытаются
понять, чем занимается философия, и их частые попытки преобразовать ее во что-
то более им знакомое. Далее, беседу может погубить не только вторжение тенден-
ций некоторых голосов к спору, ее могут испортить, даже на время совсем остано-
вить, дурные манеры одного или нескольких участников. Ибо каждый голос скло-
нен к superbia", что в данном случае означает некую исключительную занятость
собственной речью, что в конце концов может привести к тому, что он отождествит
с собою всю беседу и будет говорить так, как будто говорит сам с собой. И можно
наблюдать, как вслед за этим наступает варварство.
Может показаться, что представлять всю человеческую деятельность и все
общение как беседу легкомысленно и непростительно скептично. Может показать-
ся, что это понимание деятельности как составленной, в крайнем случае, из непос-
ледовательных занятий, которые часто откладываются на завтра и никогда не
завершаются, а участников этой деятельности как приятелей, движимые не верой в
искоренение ошибок и несовершенств, а диктуется их верностью и симпатией друг
к другу, не включает в себя страсть и серьезность, с которой часто проводится и
научная, и практическая деятельность и в них появляются выдающиеся достиже-
ния. А отрицать иерархический порядок среди этих голосов значит не только отхо-
дить от одной из самых заметных традиций европейской мысли (в которой любая
деятельность рассматривалась в ее отношении к vita contemplativa**), но и неизбеж-
но прийти к возрождению скептицизма. Но, хотя нельзя отрицать наличия некото-
рой доли скептицизма, легкомысленной эта концепция только кажется, потому что
мы неправильно понимаем самую суть беседы. Насколько я понимаю, прелесть
этой беседы (как и других) проистекает из напряжения между серьезностью и не-
которая в дальнейшем по крайней мере предотвратит у вас множество иллюзий. Но
в хорошую школу вы идете не столько за тем, чтобы получить знания, сколько за
тем, чтобы приобрести умения и навыки; чтобы создать себе определенные при-
вычки, обучиться искусству выражения своих мыслей, искусству схватывать про-
исходящее, понимать новые идеи, быстро проникать в мысли другого человека,
чтобы контроль за собой вошел у вас в привычку, чтобы овладеть мастерством
соглашаться и не соглашаться частично [видеть мир в полутонах, а не только как
черное и белое], навыком точно подмечать мелкие детали, умением сделать то, что
возможно, за то время, которое есть. По-другому это можно назвать вкусом, прони-
цательностью, духовной решительностью и духовной трезвостью. А главное, за
чем вы идете в хорошую школу, — это за тем, чтобы познать самое себя».
Гордость (лат.) . — Прим, перев. !\С
Здесь: жизнь в размышлении (лат.) — Прим, перев.
эинтнт,ons
Голос поэзии 249
рой. В каждом голосе присутствует претензия на серьезность (хотя он серьезен не
только в отношении того, к каким он желает прийти заключениям); и без этой серь-
езности беседе недоставало бы движущего начала. Но своим участием в беседе
каждый голос учится также играть, учится рассматривать самого себя с точки
зрения общей беседы и воспринимать себя как голос среди других голосов. Это как
у детей — несравненных мастеров беседы — игра всегда серьезна, а серьезность, в
конце концов, тоже только вид игры. >
В последние несколько веков беседа, как общественная, так и наша внутрен-
няя, стала несколько скучной, потому что ею практически полностью завладели
два голоса: голос практической деятельности и голос «науки»; наши основные
занятия—это что-то знать и что-то придумывать. Конечно, в этой области случа-
лись подъемы и спады; но ситуацию определило появление в XVII веке четкого
разделения интеллектуального мира между этими двумя занятиями, и с тех пор это
разделение делается все более и более явным. И очень часто в общем хоре можно
расслышать только недовольные и спорящие тона в голосе науки, вместе с тем
вариантом голоса практической деятельности, который мы называем «полити-
кой»2 . Но когда беседой завладевают один или два голоса — для нее это страш-
ный порок, потому что с течением времени начинает казаться, будто это в порядке
вещей. Все виды речи должны быть уместны; но уместность в беседе определяется
течением самой беседы, для нее не существует никакого внешнего стандарта. Сле-
довательно, установление монополии не только не дает услышать другие голоса,
но приводит к тому, что представляется, будто их и не следует слушать: они зара-
нее подвергаются обвинению в неуместности. Сразу выйти из этого тупика нелег-
ко. Исключенный голос может пойти против течения, и существует риск, что бесе-
да в конце концов превратится в спор. Может он заставить себя услышать, подра-
жая голосам монополистов, но тогда и слышна будет лишь поддельная речь.
Спасти беседу из того убогого положения, в котором она находится сейчас, и
хотя бы несколько вернуть ей часть утраченной ею свободы движения потребует
философии, более глубокой, чем все, что я могу предложить. Но есть и более скром-
ная цель, которую тоже, может быть, можно поставить. Я предлагаю снова рас-
смотреть голос поэзии; я предлагаю рассмотреть, как он говорит в беседе. Никто
из заинтересованных в беседе не будет сомневаться, что это стоит сделать. Конеч-
но, голос поэзии никогда не исключали полностью, но часто от поэзии требовали
только того, чтобы она обеспечивала развлечение в перерывах между более серь-
езными дискуссиями; а то, что она почему-то начала периодически говорить то
голосом политики, то голосом науки, можно рассматривать как свидетельство
2 Для всей истории Европы Нового времени характерно (хотя не абсолютно) отнесение
голоса «политики» к области практической деятельности, и в последние четыре
века у этого взгляда нет практически никакой альтернативы. Но в античной
Греции (особенно в Афинах) «политика» считалась видом «поэтической» дея-
тельности, в рамках которой искусство говорения (не просто убеждения, а со-
здания запоминающихся словесных образов) ценилось чрезвычайно высоко и
цели которой состояли в стяжании «славы» и «величия» — подобный взгляд на
вещи можно найти у Макиавелли. «.чрмяпП еячээ, . -ни
....... вэ
250
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
того, что в наше время трудно расслышать ее в ее собственном характере. И если
встанет задача отдохнуть от монотонности беседы, которой слишком долго владе-
ли голоса политики и науки, то можно думать, исследование свойств и значения
голоса поэзии может способствовать этому. Но это не просто своевременно, это
имеет также и «философский» смысл: ибо рассмотрение поэзии становится фило-
софским, когда показано, что поэтические образы имеют не необходимое, но осо-
бенное место в человеческой деятельности. Во всяком случае, каждый, кто умеет и
любит предаваться рефлексии и в то же время находит наслаждение в том, чтобы
слушать голос поэзии, не может сопротивляться побуждению размышлять о приро-
де этого наслаждения; а если он свои размышления приводит в некую систему, то
он только старается в наибольшей степени понять, каково все-таки качество по-
этического голоса и каким образом этот голос соотносится со всеми остальными
голосами. И если в конечном счете эта наибольшая степень окажется достаточной,
возможно, он скажет о поэзии что-то относительно ценное.
Но не следует ожидать слишком многого. В том, что я скажу, мало что найдут
для себя и поэт, и критик поэтического жанра. Поэт, разумеется, сам является
господином и себе, и тому, что делает. А задача критика состоит в том, чтобы
облегчить нам услышать голос поэзии и разобрать свойства какого-то стихотво-
рения. Неплохо увидеть в этом кое-что также и для философа; философская реф-
лексия, возможно, удержит критика от неуместных вопросов и от того, чтобы
думать и говорить о поэзии неадекватным образом, а этим не стоит пренебрегать
(хотя и много дать это нам тоже не может)3. Но для этого у него должна быть
другая квалификация, а критик, который заплывет слишком далеко в открытое
море, рискует скоро утратить из вида то, о чем он пишет. Ибо в данном случае
философия занимается только областью поэтического и расширением нашей спо-
собности понять голос поэзии, как он говорит в беседе, в которой он может время
от времени доминировать, но в которой он никогда не остается один.
2
В моем понимании реальный мир—это мир опыта, внутри которого я (self) и не-я
открывают себя отражению (рефлексии). Это разделение, без сомнения, двусмыс-
ленно и неустойчиво: трудно, если не невозможно, найти что бы то ни было, что бы
принадлежало исключительно одной из сторон. Но несмотря на то, что по краям
всегда остается неопределенност ь, само разделение мы проводим, не задумываясь.
А то, что в любом случае узнается как я, узнается по тому, что отделяет себя от
существующего в тот же момент не-я: я и не-я порождают друг друга.
Я появляется как деятельность. Это не «вещь» и не «субстанция», которая
способна к деятельности, это есть сама деятельность. Эта деятельность первична,
5 Некоторых критиков (например Колриджа или Джеффри Скотта в «Архитектуре гума-
«и иизма») философская рефлексия привела к стремлению к оценке поэзии. У дру-
ы о гих [их критика поэзии] представляется нерефлективной (хотя, конечно, хорошо
btf < усвоенной) привычкой думать и говорить нечто подходящее относительно про-
,. . изведений искусства. Примером этого может служить театральная критика Мак-
са Бирбома.
эинтнпип « mfhiumotwsS '•о Голос поэзии 251
ей ничто не предшествует. У нее могут оказаться различные степени силы или
слабости; она может быть живой или сонной, внимательной или рассеянной;
она может быть образованной или сравнительно наивной; но в любом случае
для своего начала ей никогда не надо преодолевать никакого состояния покоя
или пассивности. Таким образом, нельзя понимать я как пространство, которое
бывает чем-то заполнено, пусто или может находиться в процессе заполнения.
Говорить о нем можно только в таких терминах, как умелое или неумелое, ак-
тивное или вялое. Далее, в любом случае эта деятельность является деятельно-
стью некоторого специфического вида; я не может быть деятельным, но не осу-
ществлять никакой особой деятельности, не может быть умелым вообще, но не
обладать никаким особенным умением; это столь же невозможно, как отсут-
ствие всякой деятельности.
? Я назову эту деятельность «воображение» («imagining»): я порождает и узнает
образы и находится в движении между ними сообразно характеру этих образов, с
различной степенью умения. Таким образом, ощущение, восприятие, чувствова-
ние, желание, мышление, вера, созерцание, предположение, знание, предпочтение,
одобрение, смех, плач, танец, любовь, пение, скашивание сена, проведение мате-
матических доказательств и так далее — все это является или находится среди
определенных видов воображения и движения подобающим образом между обра-
зами определенного вида. Хотя мы далеко не всегда (и даже не часто) отдаем себе
отчет в том, к какой вселенной дискурса принадлежит наше воображение в каж-
дом случае, оно никогда не бывает неспецифично (хотя может быть достаточно
сумбурно), потому что им всегда управляют очевидности, которые принадлежат к
какому-то частному умению.
Следовательно, не-я состоит из образов. Но эти образы нашему я не «даются»
и ему не «представляются»: они не являются самостоятельными сущностями, ко-
торые ловит, по мере того как они проплывают мимо, в свою сеть ожидающее или
индифферентное я. Они не таковы, потому что вообще не представляют собой
ничего вне своей связи с я: а я — это деятельность. Образы создаются. Тем не
менее я и н-я, воображение и образ, не являются причиной и следствием, сознани-
ем и его содержанием: само я конституируется в своей деятельности по созданию
образов и по движению между ними. Далее, нельзя считать, что эти образы созда-
ются из какого-то другого, менее определенного материала (из впечатлений или
sensa*), потому что никакого «другого материала» не дано. Они также не являются
представлениями других сущностей, например образов или «вещей»; например:
«вещью» мы называем только некоторый род образа, который узнается как тако-
вой по определенной присущей ему манере поведения и который соответствующим
образом отвечает на наше вопрошание. И снова, несмотря на то, что образы часто
бывают размыты и кажутся неопределенными, на самом деле у них всегда есть
специфический характер, то есть они соответствуют специфической манере вооб-
ражения, которую можно распознать (если мы желаем ее распознать) посредством
выяснения того, какого рода вопросы уместно задавать относительно данных об-
Ощущения (лат.). — Прим, перев.
252
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
разов: не существует такого образа, относительного которого можно было бы про-
вести любое исследование, определяющее его сущность. И, наконец, образ никог-
да не бывает изолирован и одинок; он всегда относится к миру или полю образов,
которое во всех отношениях конституирует не-я.
Следовательно, деятельность воображения — это не то, что Аристотель назы-
вал фаотаФю., не то, что Гоббс называл «исходной фантазией», не то, что Колридж
называл «первичным воображением»; зто не та «слепая, но необходимая связь»
между ощущением и мыслью, которую называет воображением Кант. Эта деятель-
ность не является более общей по отношению к каким-нибудь другим более част-
ным, для которых она бы предоставляла материал и которым бы предшествовала;
она всегда подчиняется специфическим и явным очевидностям. Это не условие
мысли; в одном из своих видов это есть мысль.
3
Итак, беседой человечества я назвал место встречи разных видов воображения; и
в этой беседе нет ни одного голоса, который не имел бы собственного языка. Голо-
са не отклоняются от некоторого идеального способа речи, который не был бы
идиоматичен, отличаются они только друг от друга. Следовательно, для того что-
бы описать набор идиом каждого языка, надо определить, чем он отличается от
других и какова его связь с ними. А поскольку наиболее известные собеседники
голоса поэзии — это голос практической деятельности и голос науки, я начну с
того, что скажу несколько слов о них.
Практическая деятельность—это самый распространенный способ воображе-
ния; мы с трудом отрешаемся от нее и очень легко вновь в нее впадаем. При этой
деятельности я создает образы, узнает образы и движется между образами опреде-
ленного рода. Быстрее всего привлекает внимание такой аспект практической де-
ятельности, как влечение, желание (desire) и отталкивание (aversion); мир практики
— это мир sub species voluntatis*, и состоит он из образов удовольствия и боли* 4.
Конечно, влечение не причина деятельности я, до того бывшего недеятельным;
нельзя сказать, что сначала у нас «есть влечение», которое заставляет нас перехо-
дить из состояния покоя в один из видов движения: желать означает просто быть
деятельным определенным образом: например, протягивать руку, чтобы сорвать
цветок, или нащупывать монету в кармане. Также нельзя сказать, что сначала мы
имеем влечение, а затем начинаем подбирать средства для его удовлетворения;
наши влечения предстают нам только в деятельности влечений, а иметь влечение
означает искать удовлетворения. Вне сомнения, большую часть времени мы ведем
себя как автоматы, воображающие не ради совершения определенного выбора, а
по привычке; но в практической деятельности эти привычки—это привычки вле-
чения и отталкивания. Следовательно, задачей практической деятельности являет-
Под знаком воли (лат.). — Прим, перев.
4 Я имею в виду не то, что в практической деятельности влечение и отталкивание
проявляются первыми или что она сводится к ним, а лишь то, что влечение и
отталкивание всегда имеют место.
Голос поэзии 253
ся наполнение нашего мира образами удовольствия.
Далее, во влечении ищутся не просто образы удовольствия, но такие образы
удовольствия, которые опознаются как «факты», а это предполагает различение
между «фактом» и «не-фактом». Даже мир притворства (make—believe) предпола-
гает это различение, потому что в этом случае статус «факта» присваивается тому,
что узнается как «не-факт», чтобы наслаждаться удовольствием, которое дает это
идеальное присваивание. «He-факты» нельзя отождествлять с ошибками, потому
что ошибаться означает принимать «не-факт» за «факт» или, наоборот, «факт» за
«не-факт».
В моем понимании различение между «фактом» и «не-фактом» — это различе-
ние между различными видами образов, а не различение между просто образом и
чем-то, что образом не является. И, следовательно, иногда нам в точности неиз-
вестно, считать ли какой-то образ «фактом», и если у нас есть сомнения, мы зада-
ем вопросы, которые у нас принято задавать себе, чтобы прийти к какому-то
заключению. Однако разумное решение такого рода часто не необходимо, и на
самом деле оно было бы невозможно, если бы мы не были бы уже знакомы с миром,
в котором уже определено, что есть «факт» и что «не-факт». Нельзя сказать, что я
просыпается, обнаруживая себя в мире неопределенных образов и затем начинает
различать некоторые из них как «факты»; узнавание «факта» — это не деятель-
ность, которая идет следом за более примитивной деятельностью по созданию об-
разов, узнавание «фактов» не имеет какого-то определенного начала, мы постоян-
но заняты этим, особо этого не осознавая, и средства для этого есть всегда, хотя
возможна большая или меньшая степень компетентности. Более того, не все обра-
зы, которые определяются как «факты», определяются как факты одного вида.
Детерминанты «практических фактов», вообще говоря, прагматичны: образ счи-
тается «фактом» тогда, когда из узнавания его как «факта» (приятного или непри-
ятного) для желающего я возможна дальнейшая деятельность. Смерть, прекраще-
ние всех желаний—символ всякого отталкивания. Короче говоря, в практической
деятельности есть scientia, но это scientiapropterpotentiam*.
Следовательно, в практической деятельности каждый образ — это отраже-
ние желающего я, которое занято созданием своего мира и постоянным его пере-
созданием таким образом, чтобы получить удовольствие. Здесь мир состоит из
того, что съедобно и того, что ядовито, того, что благоприятно, и того, что враж-
дебно, того, чем можно управлять, и того, что не поддается управлению. А каж-
дый образ узнается как нечто, что можно использовать. Один писатель вспоми-
ная поездку к водопаду Оуэн, около озера Виктория, пишет: «Мы провели, дол-
жно быть, часа три, наблюдая за потоком воды и размышляя, как можно было бы
обуздать его на пользу человеку. Такая мощь пропадает пустую, такое выгодное
место никак не занято, таким рычагом управления природными силами Африки
никто не овладел — это не может не дразнить и не стимулировать воображение».
Это не поэтический образ, как у Китса
Scientia (лат). - знание; Scientia propter potentiam (лат) — знание ради силы. — Прим,
перев.
254
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
The moving waters at their priest-like task
Of pure ablution round earth’s human shores *—
— и не «научный» образ; это практический образ.
Однако быть практически-активным значит быть одним я среди других я (inter
homines esse'"). Тем не менее отношение;/ к образам, которые узнаются как другие
я, принципиально не отличается от его отношения к тем образам, которые узнаются
как «вещи»—хотя оно несколько сложнее для осуществления. Другое я известно
мне как потребитель того, что я произвожу, производитель того, что я потребляю,
участник, тем или иным образом, моих проектов, слуга моего удовольствия. Дру-
гими словами, желающее я принимает «факт» других я, но отказывается узнавать
их как я, отказывается признавать их субъектность: для деятельности они суще-
ствуют только в отношении того, какую можно извлечь из них пользу. Каждое я
обитает в собственном мире, мире образов, относящихся к его собственным жела-
ниям; одиночество, следствие неспособности в этой деятельности признать другие
я за таковые, имеет сущностный, а не случайный характер. Отношения между та-
кими я неизбежно являются bellum omnium contra omnes'**.
Умение в области влечения и отталкивания означает знание, как сохранить
практическое я от исчезновения, умение, в котором узнаются факты на соответ-
ствующем уровне, избегаются иллюзии и достигается больше удовольствия, чем
боли. Сюда же относится умение достигать желаемого с наименьшей возможной
затратой энергии: быть экономным в этом отношении означает создать большую
дистанцию между желающим я и смертью и, таким образом, сохранение энергии—
это не требование сверхдолжного. Простая трата энергии ради удовольствия от
этого чужда желающему я, которое признает только удовлетворение от достиже-
ния желаемого и избежания неудачи. Но если бы этот принцип экономии походил
для всех случаев, это с неизбежностью происходило бы также, когда желающее я
сталкивается с другим я. Ибо из всех практических образов другое я менее всех
покорно и чревато самой большой потерей энергии и наибольшей угрозой причи-
нения ущерба. Привязать другое я к своим желаниям требует исключительного
умения. Другое я иногда можно заставить служить моим целям с помощью силы или
грубого давления, но это редко является наиболее эффективным и самым эконом-
ным способом достигнуть моих целей. Чаще неудачи можно избежать только при-
знанием субъектности другого я, что приведет к тому, что то, что отказывалось
быть рабом, делается партнером — другими словами, предлагается обмен вида
quidpro quo**'*, что само по себе является признанием субъектности5. Это партнер-
Воды в движении, исполняющие свою задачу, подобную задаче священника
Чистого омовения повсюду земных человеческих берегов. — Прим, перев.
Быть среди людей (лат.). — Прим, перев.
Война всех против всех (лат.). — Прим, перев. >'(£
Что за что, т.е. «одно за другое». — Прим, перев. _ ______
5 Такой обмен вида quid pro quo никогда не требуется в случае, когда образ узнается
как «вещь».
sxMTHfiona мгкп«йоп><Р'1 Голос поэзии 255
ство может продолжаться недолго, а может быть весьма постоянным, что характер-
но для стабильного способа поведения или для установившейся процедуры, благо-
приятной для общей меры само-поддержания в деятельности влечения.
Впрочем, не должно быть непонимания относительно пределов такого парт-
нерства, пределов, поставленных не обстоятельствами, но самой природой жела-
ющих я. Оно основано только на том, что они de facto признают субъектность
друг друга; не признавать ее — это вид заблуждения, которое может препятство-
вать успешной деятельности. Желающие я не берут на себя никаких обязательств,
не признают никакого закона; субъектность других я они признают только для
того, чтобы быстрее достигнуть своих собственных целей. Следовательно, это
неискреннее признание субъектности; bellum omnium contra omnes продолжается
другими средствами.
Но мир практической деятельности находится не только sub specie voluntatis,
он находится также sub specie marts': он состоит не только из образов влечения и
отталкивания, но и из образов одобрения (approval) и осуждения.
Одобрение — это иной вид деятельности, нежели желание, а неодобрение не
следует смешивать с отталкиванием. Например, смерть — это символ всяческого
отталкивания, но не любого неодобрения: нас всегда отталкивает наша собствен-
ная смерть, но есть обстоятельства, в которых мы не должны осуждать такую воз-
можность, и мы можем вести себя логично. Тем не менее, практическая деятель-
ность, в которой отсутствуют оба эти измерения, остается абстракцией. Можно
представить себе человека, который способен, допустим, наблюдать в деятельнос-
ти других действие этих моральных категорий, но рассматривающего их в каче-
стве не более чем указание на то, какую помощь или препятствие он может ожидать
от этих я в удовлетворении своего желания6; но этот образ остается только обра-
зом, его невозможно квалифицировать как «факт». Иногда, как кажется, одобре-
ние совпадает с желанием: наблюдатель водопада Оуэн (хотя он об этом ничего не
говорит) ничуть не сомневается в моральной уместности своего образа желаемого.
В других случаях одобрение—неодобрение появляются как критики влечения—
отталкивания, действуя в actus secundus". Но как бы они ни появлялись, в любом
случае образы одобренного или неодобренного влечения или отталкивания извес-
тны только в деятельности по одобрению—неодобрению. И если признается изме-
рение одобрения—неодобрения, практическое воображение определяется как дея-
тельность, цель которой состоит в том, чтобы наполнить наш мир образами одно-
временно желаемыми и одобряемыми.
Эта моральная позиция имеет место в отношениях между я, занятыми в прак-
тической деятельности. Просто желающее я не может пойти дальше, чем лице-
мерное принятие других я; с другой стороны, в мире sub specie moris признание
------------- -и
Под знаком нрава (лат.). — Прим, перев.
6 Попытку дать портрет такого человека предпринял Бакунин в своей книге «Катехи-
зис революционера», но и здесь обрисован человек, не совсем лишенный мора-
ли, но лишь имеющий довольно эксцентричные моральные суждения.
"Здесь: вторичным образом. — Прим, перев.
256 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
других я подлинно и безоговорочно. Все другие я считаются целями, а не только
средствами к достижению наших собственных целей: я могу пользоваться их уме-
ниями, но я признаю, что следует (а не просто необходимо) платить за это. А как
заметил Гоббс, человек достигает этой моральной позиции, «если, при взвешива-
нии действий других людей и собственных, первые окажутся слишком тяжелыми,
он должен положить их на другую чашу весов, а собственные действия—на их
место, с тем чтобы его собственные страсти и самолюбие ничего не могли приба-
вить к весу действий других людей»7. Другими словами, в моральной деятельно-
сти всея являются равными членами общности я: деятельность одобрения и нео-
добрения принадлежит им как членам этой общности. В практической активнос-
ти моральное умение, ars bene beatique vivendi’ означает знание, как вести себя в
отношении других я, подлинно признаваемых за таковые.
Тогда в общем можно сказать, что моральная деятельность — это соблюде-
ние равновесия между влечениями желающих я, каждое из которых признается
другими за цель, а не только за слугу желаний какого-то другого я. Но этот
общий характер всегда предстает в виде частного равновесия, и одна «мораль»
отличается от другой уровнем жесткости и качеством выдерживания этого рав-
новесия. Например, в «пуританской» морали уровень автономии всехя и неверо-
ятная точность, с которой вычисляется их равновесие, превосходит все разумные
пределы, не позволяя ни на волос отклониться от установленной точки равнове-
сия, запрещая хоть сколько-то расширить диапазон приемлемого и исключая
любое расположение, хоть чуть-чуть основанное на симпатии и склонности.
Речью я в практической деятельности, по большей части, являются действия;
она открывает себя в поведении. Но в процессе движения между образами прак-
тического мира мы также говорим слова, иногда это бывает комментарий того,
что мы делаем, иногда это преследует цель подчеркнуть или дать более точное
определение тому, что мы делаем и что мы хотим, чтобы делали другие. Характер
и цель этой речи соответствуют нуждам практического я. Это средство, которым
мы привлекаем внимание других я; оно позволяет нам назвать и описать образы
желания и одобрения, объяснить, оспорить, приказать, вступить в переговоры;
советовать, увещевать, угрожать и приказывать; успокаивать, побуждать, при-
мирять и утешать. С помощью этого языка мы передаем наши желания, нежела-
ния, предпочтения, выборы, просьбы, одобрения и неодобрения; мы обещаем и
берем на себя обязательства; мы признаемся в своих надеждах и страхах; мы
выражаем прощение и раскаяние.
Язык, на котором ведутся дела практической жизни, — это символический
язык. Слова и выражения этого языка представляют собой множество согласо-
ванных знаков, которые, поскольку они имеют относительно устойчивые и точ-
ные значения и поскольку они не являются звуками (non-resonant), служат надеж-
ными средствами коммуникации. Учиться этому языку надо через подражание.
Сами по себе звуки (то, как они произносятся) и форма (как они изображаются)
7 Гоббс, Левиафан, гл. 15, с.65.
Искусство жить счастливо и правильно (лат.). — Прим, персе.
Голос поэзии 257
слов не имеют значения при условии, что слова узнаваемы. Во многих случаях
вместо слов можно подставить другие знаки, жесты или движения; у слов преиму-
щество перед этими знаками таково, что с их помощью можно выразить соответ-
ствующее значение более точно. Более того, эти другие знаки (кивок головой,
улыбка, нахмуренное выражение лица, знак рукой, пожатие плечами и т.п.) —
сами по себе тоже символы; их тоже надо изучить; в разных обществах они могут
иметь разный смысл. Пользуясь этими словами и знаками, мы не пытаемся расши-
рить их значение или запустить процесс языковых ассоциаций; в самом деле, этот
язык подобен денежным отношениям: чем более постоянным будет достоинство
каждой монеты, тем лучше она будет служить в качестве средства обмена. Коро-
че говоря, в данном случае говорить означает передавать и использовать обра-
зы, а не создавать новые. Если я говорю: «Мне грустно», то я не собираюсь найти
свежий нюанс слова «грустно», я ожидаю, что это слово будет понято без игры и
без затруднений, и я жду не ответ типа: «Что ты имеешь в виду?», а типа: «Что
случилось?» или: «Не вешай голову!» Если я говорю: «Положи это в ведро», то
мои слова могут озадачить ребенка, который не знает, что означает слово «вед-
ро», но взрослый, который владеет символическим языком, ответит, например:
«Где ведро?». Соединение этих символов бессодержательно, когда они символи-
зируют образы, которые не сочетаются между собой, например «горячий лед»,
«жидкие деревья»; если я намерен кого-то обмануть в этом языке, я использую
неправильное слово. Клише официального письма не вызывают неприятных
чувств, напротив, их даже нужно предпочесть элегантному стилю, поскольку
они лучше знакомы и более подлинно символичны. До тех пор, пока речь идет об
этом языке, неоспоримым преимуществом явилось бы использование единствен-
ного набора символов по всему миру: «базовый» язык такого типа, который бы
все понимали, и возможен, и желателен. И еще, вполне разумно, чтобы власти
считали своим долгом осуществлять контроль над правильностью описания выс-
тавленных на продажу товаров: по крайней мере, природа языка такова, что
возможно осуществить этот контроль, потому что каждое слово имеет соответ-
ствующий референт или значение.
Такова, следовательно, практическая деятельность, и такова природа прак-
тического языка, и таков язык голоса практики. На нем говорят не только глуп-
цы; кроме информации, он может нести и выражение нежности; он может спорить
и приказывать; и двигаться он может как между видимыми, так и между мыслен-
ными образами. Но дискурс практики — дискурс, который идет между я в прак-
тической деятельности и который приносится в беседу голосом практики — все-
гда обусловлен образами влечения и отталкивания, одобрения и неодобрения и
особым уровнем «фактов» и «не-фактов», которые он признает.
4
Когда мы в школьные годы впервые встречаемся с «наукой», она предстает пе-
ред нами как энциклопедия, содержащая информацию о мире, поразительно от-
личающуюся от той, как мы представили бы ее себе сами. Образ неподвиж-ной
9. Заказ № 2438.
258
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
земли заменяется на образ неподвижного солнца, железо распадается на протоны
и электроны, вода оказывается комбинацией газов, а вместо образа звука прихо-
дит понятие о колебании воздуха в разных измерениях. И мы знакомимся с обра-
зами, аналогов которым в знакомом нам мире нет, такими как понятия скорости,
инерции или скрытой теплоты. Таковы «чудеса науки». И вместе с ними мы вхо-
дим в мир, образы которого — не образы влечения или отталкивания, и они не
вызывают ни одобрения ни неодобрения. «Факт» и «не-факт» в этом мире разли-
чаются, но по какому-то другому принципу, нежели прагматический принцип
практической деятельности. С scientia, узнаванием «факта» и «не-факта», мы уже
встречались, но до сих пор это была scientia propter potentiam — знание, как
получить желаемое нами, как достичь мира одобряемых и доставляющих удо-
вольствие образов. Однако теперь, похоже, появляется scientia другого рода:
мир, понимаемый в отношении независимости от наших надежд и влечений, пред-
почтений и замыслов, мир образов, который мог бы быть общим у нас с суще-
ством, созданным совсем по-другому, имеющим другие желания, обитающим в
другой части вселенной (например, это обитатель Марса), если бы его внимание
обратилось бы на то же и управлялось бы такими же очевидностями; мир, в кото-
рый так же легко мог бы войти и двигаться в нем так же свободно слепой, как и
зрячий. Более того, мир науки открыл себя не только как состоящий из образов, не
имеющих отношения к нашим практическим нуждам, но и как система умопостига-
емых образов, связанных друг с другом по определенным законам и требующих
универсального признания как рациональное описание мира, в котором мы живем.
Итак, оказалось, что scientia надо понимать не как захватывающие воображение
открытия, не как догматически принятое учение о мире, но как вселенную дискур-
са, способ воображения и движения среди образов, деятельность, исследование,
главным в котором является не то, что достигнуто на настоящий момент, но спо-
соб, каким это достигнуто. И голос науки — это не менторский тон энциклопе-
дии (как нам показалось вначале), но голос, использующий свой собственный
язык, но способный участвовать в беседе.
Научное исследование, деятельность ученых— это человечество в поиске
того интеллектуального удовлетворения, которое дает создание и изучение ра-
ционального мира взаимосвязанных понятий, в котором каждому образу, кото-
рый опознается как уместный «факт» в идиоматическом языке этого исследова-
ния, отводится свое место и дается соответствующая интерпретация. Цель его—
не создать мир, в котором каждый из составляющих его образов предназначен для
того, чтобы вызывать удовольствие или моральное одобрение, а создать рацио-
нальный мир из умопостигаемых образов, логически связанных между собой. «Мир
природы» ученого — это искусственно созданный мир не в меньшей степени, чем
мир практической деятельности; но он искусственно создан по другому принципу и
в ответ на другой импульс. И, если говорить точно, scientia возникает тогда, когда
мы отдаемся этому импульсу рационального понимания: она существует только
там, где этот импульс культивируется ради него самого, без всякого вмешатель-
ства воли к власти или желания получить выгоду, если же ценятся продукты этой
деятельности (открытия о мире), и при этом ценятся из-за того, что можно из них
ЖЯТНПОП S '
s4 wii Голос поэзии 259
извлечь, существует лишь бледная тень науки. Конечно, среди побуждающих при-
чин этой деятельности есть и влечение, и одобрение, и даже ожидание удоволь-
ствия, но они не входят в структуру данной вселенной дискурса, как они входят в
структуру практической вселенной: удовольствие не свидетельствует о достиже-
нии ценного результата, оно не является даже ratio cognoscendi* ценного результа-
та, оно — это только само-вознаграждение, которое приходит вместе с чувством,
что ты добился успеха в интеллектуальном поиске.
Не следует дума ть, что в научной деятельности я начинается с заранее существу-
ющей цели, уже готового метода исследования или даже с заданного наперед круга
проблем. Так называемые «методы» науки приходят в ходе деятельности и никогда
не включают в себя все, что происходит в ходе соответствующего исследования; не
существует и научной проблемы ранее появления научной мысли. Неявлялся исход-
ным предположением даже принцип «рациональности природы», это просто еще один
способ описать ту потребность, из которой проистекает сама scientia. До начала
научного исследования существует только одно—настоятельное побуждение дос-
тичь удовлетворяющего интеллект мира образов. Процесс, в ходе которого мышле-
ние становится научным, подобен процессу превращения в университеты некото-
рых учебных заведений, которые исходно были духовными семинариями, в которых
готовили преподавателей заранее установленной доктрины, которые затем утрати-
ли узкий характер и сделались сообществами ученых, замечательными не учением,
которое принято внутри них, но тем, как они вовлекают в процесс учения и препода-
вания. В сущности, scientia определяется не через свое отделение от догмы, а через
освобождение от власти практического воображения. Теория научного знания, по-
нимающая его как наиболее экономичное управление образами практического во-
ображения, неправильна—не потому что экономия понятий в научной теории пред-
ставляет собой порок, а потому, что образы науки—это не образы мира практики.
Ученого, таким образом, отличает способность свободно двигаться в рамках акту-
альной на данный момент научной теории (ибо он с этого начинает), замечать нару-
шения логики и несоответствия, в которых проявляется ее иррациональность, раз-
мышлять и строить предположения о наиболее продуктивном направлении исследо-
вания, отличать важное от тривиального и работать в соответствии со своими пред-
положениями таким образом, чтобы заключения были значимы и недвусмысленны.
И в этом отношении каждый шаг научного исследования—это микрокосм, заклю-
чающий в себе способ, которым разворачиваются вширь и разъясняются более вели-
кие и более общие научные теории.
В практической деятельности каждое я ищет собственного удовольствия:
chacuri est ип tout a soi-meme, car, lui mart, le tout est mart pour soi* 8. Но в погоне за
удовольствием надо приспосабливаться к другим я, и, следовательно, практи-
ческая деятельность по крайней мере иногда кооперативна и требует определен-
ного уровня коммуникации между я. Что касается науки, то эта вещь коопера-
Основание познания (лат.) — Прим, перев.
8 Каждый для самого себя — есть все, ибо он умер — и все для него умерло. Паскаль.
Мысли. Пер. Д.Первова. СПб, 1899, с. 258 у
9*
260
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
тивна по своей природе. Все, кто участвует в построении рационального мира
умопостигаемых образов, которые требуют принятия всеми, представляют собой
как бы одного человека, и точность коммуникации между ними абсолютно необ-
ходима. В самом деле, можно сказать, что scientia — это взаимопонимание, кото-
рым наслаждаются те, кто знает, как участвовать в творении этого мира обра-
зов. Все ученые совместно прилагают максимальные усилия, чтобы предоста-
вить нам знания о мире, но scientia — это деятельность, а не информация, и прин-
цип этой деятельности заключается в том, чтобы исключить все частное, эзотери-
ческое или неоднозначное. И в ответ на это требование точности коммуникации
образы превращаются в измерения в соответствии с согласованными шкалами,
отношения исчисляются математически, а положение задается числовыми коор-
динатами: мир науки — это мир sub specie quantitatis".
Следовательно, нельзя сказать, что голос науки непременно звучит дидакти-
чески; этот голос может участвовать в беседе, но говорит языком, который еще
более символичен, нежели даже язык практики. Диапазон его выражений и более
узок, и более точен. В то время как слова практической деятельности часто только
чуть-чуть тоньше и пригоднее для общения, чем жесты (причем и слова и жесты —
это символы), и их можно законно использовать и для того, чтобы выразить, и для
того, чтобы скрыть свои мысли, слова научной речи—это более точные символы,
и когда их уже нельзя дальше уточнять, они заменяются не жестами, а технически-
ми выражениями, знаками и математическими символами, которые можно более
точно связать между собой и поставить в максимально точные отношения между
собой, поскольку они уже очищены от всякого следа двусмысленности. Символы
подобны шахматным фигурам: с ними можно производить действия согласно изве-
стным правилам, причем правила, которые управляют математическими символа-
ми, жестче, чем правила употребления слов; в самом деле, некоторые утверждения,
выраженные на языке математических символов, нельзя перевести на язык слов.
На поверхностном уровне идиоматический язык научной речи напоминает и соот-
ветствует языку практики: например, оба признают различение между «фактом» и
«не-фактом», ни в том ни в другом говорение само по себе не создает образы; пер-
вый обязан быть доказательным, а второй может быть таковым; в обоих определен-
ным образом выражаются знание, частное мнение, догадка и предположение. Но
все же это только поверхностное сходство. «Факт» и «не-факт» в этих видах
деятельности определяются по-разному; и scientia целиком обусловлена своим им-
пульсом построить рациональный мир логически связанных между собой умопос-
тигаемых образов, и этот импульс конституирует другую вселенную дискурса, чем
практическая вселенная.
5
«Поэзией» я называю деятельность по созданию образов определенного рода и
движение среди них посредством некоего способа, соответствующего их харак-
Под знаком количества (лат.). — Прим, перев.
Голос поэзии 261
теру. Различными способами поэтической деятельности являются рисо-вание,
скульптура, актерская игра, танец, пение, литература и сочине-ние музыки. Ко-
нечно, не каждый, кто рисует на холсте, кто высекает из камня, ритмически дви-
гает своими членами, открывает рот в песне или наносит карандашом на бумагу
стих или прозу, говорит на языке поэзии; ею говорит лишь тот, кто предается
этому особым образом9. Голос поэзии — это тот голос, который говорит языком
этой деятельности. Как мы определим его? г*ж' >тн •
Позвольте мне напомнить один вид деятельности, который не относится ни к
практике, ни к науке, однако не незнакомый. Я назову его «созерцание»
(contemplating) или «наслаждение» (delighting). Эта деятельность, как и любая дру-
гая, состоит в создании образов определенного вида и соответствующего движе-
ния среди них. Но эти образы определяются в первую очередь как просто образы,
то есть они не определяются как «факты» или «не—факты», например как события,
которые или были, или не были. Определить образ как «факт» или задать себе
вопрос: «Факт» это или «не-факт»? означает объявить себя совершающим иную
деятельность, нежели созерцание—например практическую, научную или истори-
ческую. Недостаточно также и сказать: «Этот образ может быть фактом, а может и
не быть, но, созерцая его, я игнорирую возможность его фактуального характера».
Ибо нейтральными образы не бывают, нельзя выбирать, каким способом тракто-
вать тот или другой: они не могут быть освобождены от очевидностей, которые
определяют их характер, и они всегда являются партнерами определенного спосо-
ба воображения. Где воображение состоит в «созерцании», там не появляются «фак-
ты» и «не-факты». И, следовательно, эти образы не определяются как «возмож-
ные» или «вероятные», как заблуждения или как вид притворства, потому что все
эти категории сводятся к разделению на «факт» и «не-факт».
Далее, в созерцании образы просто присутствуют; они не вызывают ни воп-
роса, ни размышления относительно условий своего появления, но лишь наслаж-
дение от того, что они есть. У них нет ни предпосылок, ни следствий; они не
определяются ни как причины, ни как условия, ни как знаки появления каких-то
следующих образов, нй как результат или эффект тех образов, которые были
прежде; они не являются ни примерами чего-либо, ни средствами к достижению
какой-либо цели; они ни «полезны» ни «бесполезны». Образы созерцания могут
иметь между собой какую-то связь, но у них нет истории: если бы она у них была,
это были бы образы истории. Можно сказать, что в практической деятельности
образ непостоянен, потому что он всегда является лишь этапом в необходимо
бесконечном процессе, который завершается только со смертью; это шаг к осу-
ществлению какого-нибудь проекта или определенной политики; это что-то, что
можно использовать, улучшить или преобразовать. Это же верно относительно
концептуальных образов научной теории, которые определяются как имеющие
последствия и логические связи, которые присутствуют наготове, чтобы быть
использованными как инструменты исследования, когда наступит подходящий
момент. Их можно улучшать. Что касается образов, сопутствующих созерца-
’ Аристотель, Поэтика, i, 7—8; ix, 2. ."Здиэмвтэцащ: н sr.oa quM» "
262
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
нию, они представляются как вечные и как единственные, оно не пользуется сво-
ими образами, поэтому они не изнашиваются и не устаревают. Созерцание не
вносит в них изменений: оно покоится в них, не смотря ни назад, ни вперед. Но эта
кажущаяся вечность образов созерцания не должна вводить в заблуждение: об-
раз созерцания, как любой другой, может быть уничтожен по небрежности, может
быть потерян, может рассыпаться. Он вечен просто потому, что его изменение и
возможное уничтожение в нем самом не заложены; единственен он потому, что на
его место нельзя поставить никакой другой образ.
' Более того, образ созерцания не несет в себе ни удовольствия, ни страдания;
в моральном смысле он не подвергается ни одобрению, ни осуждению. Удоволь-
ствие и страдание, одобрение и неодобрение — все это характеристики образов
влечения и отталкивания, но то, что соответствует влечению и отталкиванию, не
может соответствовать созерцанию. > же» от
Однако не нужно думать, что образам созерцательного воображения можно
законно сопоставить какую-то высшую «реальность» или важность. И в этой
связи я должен провести различие между тем, что я называю созерцанием, и
другим понятием, возможно, более знакомым. Некоторые авторы (чья манера
думать наложила глубокий отпечаток на наши интеллектуальные привычки)
понимают созерцание как вид опыта, в котором партнером я является не мир
уникальных, хотя и преходящих образов, а мир вечных сущностей: созерцать
значит «видеть» «универсалии», по отношению к которым образы ощущения,
эмоции и мысли являются простыми копиями. И, следовательно, для этих авто-
ров созерцание есть наслаждение от особого непосредственного доступа к «ре-
альности». Кажется, именно такого взгляда придерживался Платон; Спиноза
считал, что такой характер присущ тому, что он назвал scientia intuitiva * 10, а
Шопенгауэр нашел в состоянии Kontemplation" союз между я и species rerutn’*11.
Я думаю, вряд ли возможно серьезное сомнение по крайней мере в том, как
пришел к своей концепции созерцания ©еетрга Платон. Он понимал деятель-
ность — как человеческую, так и Божественную — как изготовление, деятель-
ность ремесленника; «делать» для него означало копировать, воспроизводить
способом подражания из преходящих материалов пространства и времени не-
кую идеальную модель. Следовательно, в этой концепции деятельность, вызы-
вает в качестве первого шага «видение» того архетипа, который надо копиро-
вать; именно этот опыт он и назвал ©еетрих. Таким образом, созерцание (этот
непосредственный опыт — не образов, а настоящих эйдосов (ei5o<;), предстало
как деятельность ремесленника, заторможенная перед этапом копирования. И в
рамках учения Платона голос ©еетрих среди других голосов беседы человече-
* Интуитивное знание (лат.). — Прнм. перев.
10 Этика, п, 40; v, 25—38.
Созерцательность (нем.). — Прим, перев.
Виды вещей (лат.). — Прим, перев.
11 «Мир как воля и представление», § 34.
КТ'! нчоп t. . Голос поэзии 263
ства был самым главным, поскольку он освобожден от работы ремесленника,
которая считалась рабской, потому что ей свойствен повторяющийся характер,
и во многих случаях понималась как работа простого создателя подражатель-
ных образов.
В течение многих веков истории философской мысли в Европе созерцание,
понимаемое как чисто рецептивный опыт сущностей, занимало высшее место среди
всех возможных видов человеческого опыта, причем научное исследование счи-
талось в лучшем случае только подготовительной ступенью к нему, а практичес-
кая деятельность — чем-то от него отвлекающим. В последнее время, однако,
созерцание в этом смысле не только потеряло свое высшее место в иерархии (его
вытеснила обывательская концепция полезного знания), но и само его существо-
вание поставлено под вопрос, поскольку ему не находится места в существую-
щем сейчас представлении о деятельности. Платоническое понимание деятельно-
сти как воспроизведения идеальных моделей (и, следовательно, подразумеваю-
щее «видение» тех моделей, которые подлежат копированию) была заменена пред-
ставлением о «творческой» деятельности12, в которой нет места как идеальным
моделям и образам, являющимся простыми копиями этих моделей, так и описан-
ному виду созерцания. Но самому понятию ©etnpta внутренне присущи трудно-
сти и противоречия, которые этот поворот его судьбы в истории обнаруживает
не до конца. Нет никакого сомнения, что в понятии ©etnpta отражено некоторое
вполне реальное состояние человеческого опыта, но вопрос в том, обладает ли
это отражение необходимой достоверностью; сам я не знаю, куда поместить опыт,
полностью освобожденный от модальности мира «объектов», который не являет-
ся миром образов и не управляется никакими очевидностями. Более того, судя по
всему, если провозгласить данный вид опыта высшим, это повлечет за собой
веру в высшее иерархическое положение также таких категорий, как исследова-
ние, «истина» и «реальность», а я желал бы избежать этой веры. Но как бы то ни
было, сейчас я анализирую созерцание в другом смысле. Я понимаю созерцание
как вид деятельности, и это создание образов. Образы созерцания отличаются от
образов и научного, и практического воображения, не по причине своей «универ-
сальности», но вследствие того, что они узнаются как индивидуальности, и они
не являются ни некоторым набором качеств, любое из которых может встретить-
ся где-либо еще (как, например, уголь и древесину можно сравнивать по их горю-
чести, или двух людей по их мастерству в каком-то предмете), ни знаками и сим-
волами чего-либо другого. И я склонен думать, что в конце концов только это и
может выжить из платоновского понятия ©etnpta.
Поскольку образы в созерцании отличаются по характеру от образов прак-
тической и научной деятельности, организация этих образов тоже будет другой.
Согласованность образов практического мира (которые организованы по таким
критериям, как их способность приносить удовольствие или боль, вызывать одоб-
рение или неодобрение, по тому, являются они «фактами» или «не-фактами», ожи-
даемыми или неожиданными, выбранными или отвергнутыми) основана на том,
12 Ср. М. Foster, Mind, октябрь 1934
264
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
что все они — порождения влечения, а мир научных образов как организацион-
ный принцип имеет умопостигаемость, допускающую коммуникацию. Каким об-
разом организованы образы созерцания и как движется среди них созерцающее я!
Мир, в который входит я при созерцании, может быть темным, а его образы
могут быть трудноразличимыми, и пока деятельность находится на грани летар-
гии, то будет просто появляться последовательность образов, следующих друг за
другом в ленивых ассоциациях. Каждый будет на какое—то время развлекать,
но ни один не будет задерживаться и разворачиваться. Однако это лишь самая
низшая точка созерцания; созерцающее я просыпается, когда какой-то образ (не-
сущий в себе особое наслаждение) попадает в фокус внимания и становится яд-
ром деятельности, в которой ему позволяется разрастись, вызвать другие образы,
вступить с ними в связь и занять свое место в более сложной и развернутой компо-
зиции. Однако и эта композиция — не заключение; это только еще один образ
такого же типа. Образы порождают друг друга, они видоизменяются и перемеши-
ваются друг с другом в ходе этого процесса, у которого нет никакой заранее
заданной цели. Эта деятельность заключается никак не в умозаключениях и не в
доказательствах. Поскольку нет задачи ни решить проблему или исследовать
гипотезу, ни истощить неутомимое побуждение к деятельности, ни удовлетворить
влечение, ни заслужить одобрение, здесь не бывает «Это, следовательно, То», не
бывает перехода от образа к образу, в котором каждое движение — это шаг к
разъяснению или исполнению какого-то проекта. А поскольку никто не ищет вы-
хода из лабиринта образов, не нужны и никакие проводники. К деятельности на
каждом шагу побуждает и придает ей всю согласованность, какая у нее может
быть, то наслаждение, которое происходит из этого бесконечно расширяющего-
ся взаимодействия созерцающего я и его образов.
Следовательно, созерцание — это особый вид воображения и движения среди
образов, который отличается и от практического, и от научного воображения. Это
деятельность по созданию простых образов и наслаждению ими. В случае практи-
ки и в случае науки деятельность невозможно отрицать. В первом случае имеется
некоторая потребность, которую надо удовлетворить, некая нужда, которая чего-
то требует, и вслед за насыщением всегда идет новая нужда; может быть утомле-
ние, но не может быть отдыха. А в другом случае имеется неутомимое побуждение
к деятельности, соответствующее своему идиоматическому языку, причем каждое
следующее продвижение к видению абсолютно умопостигаемого мира образов —
просто прелюдия к новой деятельности. Но поскольку в созерцании не существует
ни поиска того, что не представляется само, ни желания того, чего нет, его часто
ошибочно принимают за бездеятельность. Но правильнее называть его (как его
называет Аристотель): деятельность без труда, которая, как кажется, до какой-то
степени имеет характер ничегонеделания, потому что она подобна игре, а не рабо-
те, потому что в ней нет забот, она свободна и от логической необходимости, и от
прагматических требований. Тем не менее то, что она на вид напоминает отдых
5уо/щ не свидетельствует о летаргии; это проистекает из наслаждения самодоста-
точностью, присущей деятельности без заранее поставленной цели. И в какой бы
момент ни прервать созерцание, оно никогда не будет страдать неполнотой. Следо-
Голос поэзии 265
вательно, то «наслаждение», которое я считаю присущим созерцанию, возникает
не как награда, следующая за деятельностью, как за работой следует вознаграж-
дение, как за научным исследованием следует знание, как за смертью или за дозой
опиума следует освобождение; «наслаждение» — это другое название для самого
«созерцания».
Каждый вид воображения—это деятельность, которой соответствуют особые
образы, и эти образы не могут встретиться в другой вселенной дискурса, иными
словами, каждый способ начинается и кончается внутри самого себя. Следова-
тельно, ошибкой (хотя и частой) будет говорить о способе воображения как о «пре-
вращении», «трансформации» или «реконструкции» какого-то предполагаемого
неспецифического образа, образа вообще или образа, принадлежащего к другой
вселенной дискурса. «Неспецифический образ» — то же самое, что ничего; что
касается образов из другой вселенной дискурса, то к ним при ином способе вообра-
жения нет доступа, даже как к грубым материалам. Например, слово «вода» отно-
сится к практическим образам; но ученый не сначала воспринимает воду, а потом
переводит ее в Н2О. scientia начинается тогда, когда «воды» уже нет. Сказать, что
Н2О — это «химическая формула воды» означает говорить смешанным образом:
«Н,О» как символ управляет совершенно иным поведением, чем символ «вода».
Точно так же, созерцательная деятельность—это не превращение какого-то прак-
тического или научного образа в образ созерцания; она может появиться только
тогда, когда у практического и научного воображения больше нет власти.
Тем не менее ясно, что один способ воображения может уступить место друго-
му и вытеснить другой, и отношения между этими разными вселенными дискурса
станут более понятными, если мы поймем, как это возможно. У взрослых людей
из всех способов воображения чаще всего, без сомнения, встречается практичес-
кая деятельность — и ясно, почему это так, ибо избежание смерти является усло-
вием любой другой деятельности. Эпизоды другой деятельности всегда похожи
на поездки в другую страну; особенно это справедливо для созерцания, потому
что никогда нельзя ожидать, что это будет более чем эпизодическая деятельность.
Как происходит переход от практической деятельности к созерцанию? Вообще
говоря, кажется, что любой шанс прервать утвердительный поток практической
деятельности, любое ослабление неотступности влечения, любое смягчение уп-
рямства амбиций, все, что притупляет строгость морального суждения, дает шанс
появлению деятельности созерцания. Самому созерцанию летаргия не свойствен-
на, но оно может воспользоваться для своего появления моментом, когда практи-
ческая деятельность как бы засыпает. Образ, которым желающее я не смогло
овладеть (если он не станет образом отталкивания) всегда готов, так сказать,
уступить место образу созерцательного наслаждения. Разочарование или более
постоянная отчужденность, свойственная такой практической позиции, как «фа-
тализм», часто приводят к (или служат просто другими названиями для) практи-
ческой летаргии, в которой заложены семена возможного прихода состояния по-
коя (leisureness), свойственного созерцанию. Более того, практический образ,
который в силу обстоятельств теряет включенность в свой мир и становится как
бы чуждым ему (такой как покинутый дом, как старый, больше не пригодный для
266 Майкл Оукшот. Рационализм в политике •
плавания корабль или как безответная любовь), или образ, характер которого нео-
днозначно практический (например, батон хлеба в красках, скульптура, друг или
любовник) мгновенно вызывает прерывание практической деятельности, и тогда
вместо нее может возникнуть созерцание. В самом деле, каждый практический образ,
который, появляясь в неожиданных обстоятельствах, вызывает удивление, может
открыть дорогу созерцанию, если удивление не переходит в желание узнать {scientia).
И кажется, что созерцание появляется особенно легко, когда практический образ
приходит из воспоминаний. В отношении образов памяти не так сильно действуют
влечение и отталкивание, не так настоятельны одобрение и неодобрение, и даже
необходимость отличать «факт» от «не-факта» не так заметна; хотя, конечно, память
вообще и память в созерцании — это образы из разных вселенных дискурса. Говоря
кратко и в общем, хотя ни один образ не может существовать вне собственной ему
вселенной дискурса, ослабление или прерывание деятельности одного вида может
представить возможность появления деятельности другого вида. И те, кто хочет ис-
пытывать трудное наслаждение созерцания, должны быть готовы войти в любую
дверь, которую внезапно могут открыть перед ними обстоятельства.
Я вспомнил об этом виде деятельности, потому что в моем понимании поэтическое
воображение — это созерцательная деятельность. Я не хочу сказать, что поэтичес-
кое воображение — один из многих видов созерцательного воображения; я имею в
виду, что голос созерцания — это голос поэзии, у него нет другого вида речи. И как
практическая деятельность состоит из желания и обладания, а научная—из иссле-
дования и понимания, так и поэзия состоит из созерцания и наслаждения13.
То, что в поэзии деятельность представляет собой воображение, создание и
движение среди образов, настолько не вызывает сомнений, что это не отрицают
даже те, кто не принимает мою точку зрения, что воображением является любая
деятельность (кроме символической речи). Но, на мой взгляд, поэзия появляется
тогда, когда воображение становится созерцательным, то есть тогда, когда обра-
зы определяются не как «факты» или «не-факты»14, когда они не вызывают мо-
13 Выше я сказал, что склонен думать, что «созерцание» в моем понимании — это все,
что может остаться от платоновского понятия ©ешрга. Это утверждение теперь
можно переформулировать следующим образом: в своем описании ©есорш Пла-
тон на самом деле имел в виду эстетический опыт, но описал его неверно и
приписал ему высшую иерархическую позицию, находиться на которой он не
может. Поскольку он определял поэзию как ремесло, а ремесло как воспроизве-
дение идеальных моделей, ои пошел в ложном направлении, которое привело
его к ненужной гипотезе о «бессловесном», не создающем образов опыте, то
есть о «видении» моделей, подлежащих копированию. Тем не менее, если мы
будем считать платоновскую ©ешрга созданием образов, мы придем к представ-
лению о некоей деятельности, в ходе которой создаются образы. Однако эта
деятельность не будет «копированием», а создаваемые образы не будут «пред-
ставлениями».
14 Поэтому это не «заблуждения» (illusion) и не «притворство» (make—believe).
Голос поэзии 267
рального одобрения или неодобрения, когда они не понимаются как символы, при-
чины, результаты или средства для достижения дальнейших целей, но тогда, когда
образы создаются, пересоздаются, когда на них смотрят, когда ими играют, их
перевертывают, о них думают, ими наслаждаются, когда они составляют части
каких-то больших композиций, которые в свою очередь будут только образами, а
не заключениями. Поэт собирает образы, как девушка букеты цветов, подбирая их
только по тому, как они будут смотреться вместе. Он имеет дело только с такими
образами, которые можно сочетать друг с другом, и его букет — только еще один
образ того же вида; стиль и манера, которая отличает одного поэта от другого,
зависит от того, какими именно образами он склонен наслаждаться и как он скло-
нен их сочетать. И критик (в отличие от философа) тоже имеет дело со «стилем» в
этом смысле. убжйг
Таким образом, поэтическим образом может быть любая сцена, форма, укра-
шение, поза или движение в видимом или слышимом мире, любое действие, слу-
чай или цепочка событий, любой обычай или расположение, выражающееся в
движении или в речи, любая мысль или воспоминание, если их воображение про-
исходит в той манере, которую я назвал «созерцание». Но некоторые образы —
сцены, формы, позы, движения и так далее — вследствие обстоятельств их появ-
ления определяются как поэтические образы быстрее и точнее: они положительно
вызывают к себе созерцательное отношение, а не какое бы то ни было еще, по-
скольку сопротивляются символическому прочтению. Такие образы мы называ-
ем произведениями искусства: например, «Давид» Донателло, «La Grande Jatte»
Сёра, «Фигаро» Моцарта, кормилица в «Ромео и Джульетте», «Моби Дик», «Анна
Каренина», Лорд Рэндалл из баллады «Потерянный рай», позу или элемент дви-
жения Нижинского, лиру Тома У оллса или словесные образы, например:
О sea — starved hungry sea *.
Earth of the slumbering and liquid trees ".
And man is such a marigold ***.
Goe, and catche a falling starre,
Get with child a mandrake roote,
Tell me, where all past yeares are,
Or who cleft the Divels foot
Море, изголодавшее, как только море может голодать. — Прим, перев.
Земля спящих н текучих деревьев. — Прим, перев.
А мужчина — это такой цветочек . — Прим, перев.
Иди, поймай падающую звезду
Вместе с сыном выкопай корень мандрагоры
Скажи, где все ушедшие годы
Кто рассек ногу дьявола. — Прим, перев.
268 Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Конечно, все эти и подобные формы, звуки, движения, характеры, словесные кон-
струкции и т.д. могут быть объектами не поэтического воображения. Какую-ни-
будь скульптуру можно назвать непристойной, а нечто нарисованное может быть
объектом поклонения, оценка дядей Мэтью кормилицы из «Ромео и Джульетты»
(«потаскухой») показывает, что он воображал на языке практической деятельнос-
ти, а почти любую словесную конструкцию (например, метафору) можно использо-
вать, в силу ее «яркости», как риторическое средство для убеждения слушателя в
истине какого-нибудь предположения или для украшения заявления, которое ина-
че звучало бы тривиально. Произведение искусства отличается от других образов
только тем, что оно в наибольшей степени защищено от его прочтения (то есть
воображения) другим, не поэтическим образом; его защищает от этого его поэти-
ческое качество и те обстоятельства, в которых оно появляется15. В случае одних
видов искусства в этом качестве, вероятно, труднее ошибиться, чем в случае дру-
гих видов. Музыкальный образ защищен более, чем картина; в поэзии поэтическое
восприятие иногда провоцирует неуместность данного образа в практической дея-
тельности. Далее, слово или словесная конструкция может оказаться уместной в
нескольких вселенных дискурса: понятие «Великая французская революция» для
Блэйка было поэтическим образом, для Токвилля оно представляло собой истори-
ческий образ, а для Наполеона — практический; слово «демократия» некоторые
люди воспринимают как квазинаучное понятие, для многих других оно означает
образ из области практики (символ желательного и одобряемого положения ве-
щей), для Токвилля это по-прежнему историческое понятие, но для У олта Уитмена
это был поэтический образ. Коротко говоря, характер образа открывается в его
поведении, в том, какие относительного него уместно делать заявления и какие
уместно относительно него ставить вопросы.
Предположим, что поэтическая деятельность—это не «воображение», а некий
подвид практической или научной деятельности. В таком случае относительно по-
этического образа будет уместно задать определенные вопросы: можно рассмот-
реть, «факт» ли он, и какого рода «фактом» или «не-фактом» он является. В отно-
шении «Давида» Донателло мы, например, можем спросить: были ли у Давида (кто
бы он ни был) именно такие пропорции? Носил ли он именно такую шляпу или он
надел ее специально, чтобы позировать этому скульптору? Точно так же можно
относительно Анны Карениной задаться вопросами: говорила она именно эти сло-
ва именно в этих ситуациях, или Толстой неверно передал то, что она сказала? Мы
можем провести исследование о Гамлете: в какое время он обычно ложился спать?
Относительно Тамерлана Марлоу нам надо бы сразу же усомниться: как получи-
лось, что он говорит по-английски, или Марлоу переводит со скифского языка для
нашего удобства? В отношении «Потерянного рая» во многих местах можно по-
ставить вопрос: какая часть страны описывается нам? Или какова дата смерти
Адама? На представлении «Фигаро» можно поставить вопрос, насколько близок
голос исполнительницы к голосу настоящей Барбарины? И так далее.
15 Например, такими обстоятельствами могут быть театр, картинная галерея, концерт-
.< р., ный зал, обложка книги. ,,
Голос поэзии 269
-Ль Но стоит только предположить эти и другие вопросы на таком же языке, что-
бы понять, что они поставлены неверно. Толстой в принципе не мог неверно пере-
дать, что сказала Анна, потому что она не могла говорить то, что он не вложил в
ее уста. Гамлет никогда не ложился спать; он существует только в пьесе, он —
поэтический образ, состоящий из слов и действий, которыми одарил его Шекс-
пир, и за пределами этой пьесы он не представляет собой ничего. Рэчел не «подра-
жала» словам и действиям, не « была похожа» на живую или жившую когда-то
женщину, она освободилась от собственного практического я и превратилась (на
сцене) в поэтический образ, в котором сочетаются движение и речь16. Коро не мог
дать неверное представление о пейзаже, потому что он вообще не ставил себе
задачу изобразить конкретный пейзаж, он создавал поэтический образ. Донател-
ло в своей скульптуре не стремился изобразить царя Давида мальчиком; он даже
того, кто ему позировал, не стремился изобразить: модель скульптора — это не
человек, а поза. «Лгать» может фотограф, если он преследует цель запечатлеть
какое - то событие, а поэтический образ «лгать» не может, потому что он ничего
не утверждает. Эти образы — формы, сцены, движения, характеры, словесные
конструкции — принадлежат не к той вселенной дискурса, в которой различают-
ся «факт» и «не-факт»; они — плоды фантазии. И эти истории и описания, выпол-
ненные в красках, в словах или в камне, или движения танца— это не истории о
реальных событиях и сценах; это сказки. Поэтому мы и не можем сказать, что они
порождаются заблуждением или притворством—не может быть понятий заблуж-
дения, притворства и лжи там, где нет отношения к «факту». Анна не совершала
самоубийства, Отелло не совершал убийства, а глупенькая Дэйзи Миллер не
умерла от perniciosa — в этом смысле она просто никогда не была жива; она
фантом. На самом деле о таких образах нельзя даже говорить в прошедшем вре-
мени, они не относятся к практическому миру пространства и времени. Далее,
точно так же к этим образам не приложимы моральные понятия одобрения—нео-
добрения, потому что эти люди никогда не жили в практическом мира влечений и
действий, их «поведение» не может быть ни «правильным», ни «неправильным»,
нравы их не могут быть ни «злыми», ни «добрыми». Судя по хроникам, семья
Ченчи отличалась неприветливостью и дурным характером, но в драме Шелли
поэтический образ Беатрис является примером ни хорошего, ни дурного поведе-
ния; это трагическая героиня, к которой неприложимы ни моральное одобрение,
ни неодобрение. И как раз тот факт, что, встречаясь на страницах книги с такими
героями, как Анна Каренина, Лорд Джим или герцогиня Сансеверина, мы не
можем вынести морального суждения об их «поведении» или характере, и свиде-
тельствует о том, что мы безошибочно узнаем в них высокое поэтическое каче-
ство. Наконец, поэтические образы не доставляют удовольствия (pleasure) и боли.
Удовольствие и боль сопутствуют влечению, желанию, а здесь влечение и оттал-
кивание отсутствуют: одинаковое поэтическое наслаждение (delighting) прино-
сит и то, что в практическом мире доставило бы и удовольствие, и боль.
16 Драма — это не «представление» и не «выдуманное представление» («таке—believe
acting»), это «игра в представлении» (playing at acting).
270
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Короче говоря, поэты — художники, скульпторы, писатели, композиторы, ак-
теры, танцоры, певцы — делают не две вещи: сначала наблюдают, думают, вспо-
минают, слышат, чувствуют и т.д., а потом «выражают» или производят какие-то
аналогии, имитации, репродукции того, что они увидели, услышали, вспомнили,
почувствовали это в практическом мире, причем делают это лучше или хуже, бо-
лее верно или менее; на самом деле это одна вещь, поэтическое воображение. И
создаваемые ими образы ведут себя как свойственно образам поэтического вооб-
ражения. Разумеется, можно найти много вопросов, которые будет уместно задать
об этих образах, например с целью определить их качества, в результате чего мы
обретаем способность наслаждаться тоньше и сильнее. Здесь я только хотел отме-
тить, что к поэтическим образам неприменимы вопросы, которые могут быть зада-
ны относительно образов практических, исторических или научных.
Тем не менее некоторые неверные представления о поэтическом воображении
уходят медленно. Некоторые люди считают, что, хотя поэтические образы нераци-
ональны (unintelligible), все же можно называть их в каком-то смысле «правдивы-
ми», имеющими отношение к «правде», а поскольку выполнение этого требования
сталкивается с очевидными трудностями, вводится понятие «художественной прав-
ды», особого рода «правды», которая, как обычно считается, глубже других выра-
жений «правды». Далее, есть обыкновение понимать поэтическое воображение
как деятельность (выше других видов деятельности), в которой вещи предстают
такими, «как они есть», причем особый дар видеть это есть у поэтов, но его нет у
простых людей. Опять же, бывают люди, которые не понимают, как может быть
поэтическое воображение не «выражением», не «передачей» того опыта, испытав
который, поэт хочет передать его остальным. Часто думают, что этот опыт пред-
ставляет собой «эмоции» или «чувства». Наконец, обычно считается, что поэти-
ческое воображение—это попытка создании образов, наделенных особым каче-
ством «красоты». Но я считаю такие и подобные представления заблуждениями,
исследование легко опровергнет их; и если (как я думаю), поэтическое воображе-
ние — это то, что я называю «созерцанием», то от этих мнений надо отказаться.
Вот что можно сказать о понятии «художественный правды»; уже самим им
подразумевается, что та «правда», которая может присутствовать в поэтическом
образе, не имеет отношения ни к практической, ни научной, ни к исторической.
Имеется в виду, что расценить поэтический образ как практически невозможный,
научно ложный или как исторический анахронизм так же противоречит природе
вещей, как как выяснять, свистит ли когда-нибудь рак на горе. Если говорить
строго, там, где есть «правда», должно иметь место некое утверждение, но, если
практические заявления могут содержать в себе утверждение, а научные и истори-
ческие всегда содержат их в себе, поэтические образы никогда не имеют такого
характера. И я не понимаю, каким образом понятие «художественной правды»
можно приложить к таким поэтическим образам, как
О sea-starved hungry sea ’.
Море, изголодавшее, как только море может голодать. — Прим, перев.
axKTSJum a мгш.едонпк4! го-; Голос поэзии 271
Fair maid, white and red,
Comb me smooth, and stroke my head;
And every hair a sheave shall be,
And every sheave a golden tree ”.
или к Анне Карениной, к движению Нижинского на сцене, к мелодии Россини или
к Святому Франциску Беллини. Ни в одном случае здесь нет утверждения о «фак-
те»; и в самом деле, мир образов, в котором равно нет ни «фактов», ни «не-фак-
тов», это не тот мир, составляющие компоненты которого уместно определять
такими эпитетами, как «правдивый» и «ошибочный», «достовер-ный» или «не-
правильный».
Далее, когда говорят, что в поэтическом воображении происходит «видение
вещей как они есть», что видение поэта отличает особая «точность» наблюдения,
это снова завлекает нас в мир, состоящий не из образов, а из коров и полей, юных
девушек и майских рассветов, кладбищ и греческих ваз, который можно видеть с
различной степенью точности, но который не имеет отношения к воображению.
Если же имеется в виду не это, тогда, судя по всему, нам говорят, что поэтическое
воображение — это проникновение (как у Платона и его последователей) в мир
«вечных сущностей» вещей феноменального мира, и в данном случае это будет
называться «видеть вещи как они есть». Но в любом случае в этих взываниях к
«правде» и «реальности» можно увидеть или отрицание взаимной зависимости между
я и его образами, или несколько искаженное представление ошибочной веры в то,
что все виды воображения и движения среди образов следует понимать только как
способы постижения природы реального мира. Этих трудностей нельзя избежать и в
случае более скромного заявления, а именно, что поэтическое воображение—это
видение вещей как они есть, когда восприятие не искажено вмешательством влече-
ния, одобрения или желания знать. В моем понимании поэт вообще не говорит о
«вещах»17 (то есть об образах, которые принадлежат не к вселенной дискурса по-
эзии, а к другим вселенным). Он говорит не: «Таковы были эти люди, вещи или
события (возвращения Улисса, Дон Жуан, закат на Ниле, рождение Венеры, смерть
Мими, современная любовь, нива (Traherne), Великая французская революция) на
самом деле», а: «Я создал эти образы в своем воображении, я прочел их так, как это
подобало им, и я нахожу в них только наслаждение». Короче говоря, если вы знае-
те, каковы вещи на самом деле, вы не сможете создать произведение искусства.
Все же, конечно, нужно успокоить еще некоторые опасения. Даже если мы
согласимся, что поэтическое воображение нельзя определять как видение вещей
— таких как майское утро или кладбище — «как они есть на самом деле», суще-
Прекрасная девица, белая и красная * "
Нежно расчесала и пригладила мои волосы
И каждый волос будет как сноп
И каждый сноп как золотое дерево. — Прим, персе.
р Как и ни о каких «сторонах» (аспектах) вещей. ......
272
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ствуют смягченные версии этой точки зрения, которые следует рассмотреть. Что
же (могут спросить меня), вы предлагаете отбросить также и ту теорию поэтичес-
кого воображения, по которой оно является переживанием чувств или эмоций, а
поэтические образы призваны быть «выражениями» этого переживания? И я дол-
жен признаться, что мой ответ таков: «Да, именно это я предлагаю сделать, но не
без того, чтобы предварительно обсудить эту теорию».
Разумеется, легко понять, что я не могу рассматривать поэтическое вообра-
жение как «сообщение» какого-то эмоционального переживания с целью вызвать
его у других, потому что это придало бы ему абсолютно практический характер.
«Ода об унынии» — это не попытка вызвать у читателя уныние, а «Ода о долге»
— не попытка напомнить нам о нашем долге, также как трагическая ситуация в
пьесе описана не для того, чтобы вызвать у нас страдание. Я не могу (без непосле-
довательности) принять также и такую точку зрения, что в поэтическом образе
эмоциональное переживание только «выражается»18, потому что и тогда тоже
деятельность была бы абсолютно практической, а не созерцательной; а образ
был бы символом; в выражении эмоций в действиях и словах состоит значитель-
ная часть нашей практической деятельности. Но кроме этой теории, существует
еще одна, возможно, более правдоподобная. Ее изложил в своих сочинениях Уор-
дсворт19, но похоже, ее же придерживались и другие авторы (например сэр Филип
Сидней и Шелли); она является одной из наиболее распространенных в наше
время. Она заключается в следующем: поэзия начинается вместе с эмоциональ-
ным переживанием поэта (например гнева, любви, уныния, безнадежности), за-
тем это эмоциональное переживание созерцается, а из этого созерцания рождает-
ся поэтический образ как «выражение» какого-то аналога исходного эмоцио-
нального переживания. Следовательно, можно ожидать, что он даст нам то, что
Сидней20 называет «более глубоким проникновением» в опыт.
Против этой теории — из которой, как мне кажется, следует и мнение, что
поэзия должна давать какую-то информацию и к чему-то призывать — есть не-
сколько возражений. Когда говорят, что поэтическое воображение начинается
из испытываемого поэтом эмоционального переживания, подразумевают, что поэт
переживал то, что описывает. Возможным следствием будет представление о по-
эте как о человеке по преимуществу эмоциональном, чувствительном21. Но,
п
18 В той же ситуации употребляются различные слова, различающиеся нюансами, но
равно неудовлетворительные: показывать, передавать, выражать, сообщать,
представлять, олицетворять, символизировать, воплощать, служить изображени-
ем, увековечивать и т.д. Может быть, меньше всего возражений вызывает слово
«изображать» (imitate). Оно передает вымышленный характер поэтического об-
раза, но содержит в себе ошибочное предположение, что до поэтического обра-
за существовало нечто, изображением чего он является.
19 “Observations prefixed to the second edition of «Lyrical Ballads» («Наблюдения, пред-
посланные второму изданию «Лирических баллад»»).
<3 эонов ймцжвм N
20 Sidney, Apologie for Poetrie. (Сидней, «Апология поэзии»),
21 Shelley, A Defense of Poetry (Шелли, «Защита поэзии»); или у Уордсворта: «Поэзия —
это непосредственный избыток сильного чувства». -t — - - ;
wT’it. • ;-i tow Голос поэзии 273
очевидно, для того, чтобы созерцать эмоцию (если продолжать употреблять это
слово), совершенно необязательно испытывать ее самому; напротив, созерцание,
подобное настроению зрителя, утвердилось бы с большей вероятностью, если эмо-
ция не была пережита. Рассматриваемая теория делает необходимым то, что явля-
ется не более чем маловероятной возможностью. Далее, поэту приписывается дея-
тельность по созерцанию той эмоции, которая переживается, — а это невозможно.
Эмоция — это практический образ, и в этом качестве она не может войти в мир
дискурса созерцания. Чувства могут стать поэтическим образом, только когда они
«воображаются» (в том смысле, что не испытываются)22. И в этой связи справед-
ливо следует сказать, что это смутно ощущают некоторые из тех, кто отстаивает
эту теорию. У Уордсворта созерцанию подвергается «припомненная эмоция»23, а
что касается Сиднея, то он говорит о страстях, которые, вообще говоря, страстями
не являются—их не испытывают, а «смотрят сквозь них». Но смутных ощущений
недостаточно, и Уордсворта они далеко не уводят, потому что он продолжает на-
стаивать, что поэтический образ появляется только тогда, когда поэтическое спо-
койствие уступает место другой эмоции, «родственной той, которая была до того
предметом созерцания», и что сам этот образ — это выражение эмоции, которая
«действительно существует в сознании». Более того, в этой теории порожденный
образ и созерцаемое переживание—это разные вещи, причем говорится, что пер-
вый является «выражением» второго. Нов моем понимании поэтическая речь (про-
изведение искусства) — это не «выражения» переживаний, это и есть пережива-
ния, и переживания существуют только в них. Поэт не совершает три действия:
сначала переживает или вспоминает какую-то эмоцию, затем ее созерцает, а затем
ищет средства для выражения результатов своего созерцания; на самом деле его
действие одно, и это — поэтическое воображение. Рисовать картину, создавать
словесный образ, сочинять мелодию — все это виды деятельности созерцания, из
которой состоит поэтическое воображение24. Представление о том, что существу-
ют поэты, которые не способны «выразить себя», потому что у них, к несчастью,
22 Есть одно очень глубокое замечание: «Любое горе можно вынести, если о нем можно
рассказать». На самом деле в данном случае имеется в виду то, что горе можно
вынести, если удастся подставить на его место поэтический образ.
21 Воспоминания, по-видимому, представляют собой продуктивный источник поэтичес-
ких образов, потому что, когда мы вспоминаем (если нам удастся не впасть в
ностальгию), мы уже наполовину свободны от практического мира влечения и
эмоций. Но даже в этом случае созерцается не настоящее воспоминание, а абст-
ракция — воспоминание, которое не определяется как «факт» и которое суще-
ствует вне пространства и времени. Поэзия — это не родное, а приемное дитя
памяти. Ср. Eckermann. Gesprache mit Goethe, 28 March 1831.
24 Изменения, которые поэты часто вносят в свою работу, это, в строгом смысле, не
исправления, то есть не попытки улучшить «выражение» какого-то уже ясного
им самим образа; на самом деле это попытки более ясного воображения и более
глубоко наслаждения. И эскизы художников (например эскизы Сера к картине
«Гран Жат»), которые позже могут стать частями более сложной композиции —
это не работы над гипотезами. Каждый эскиз сам по себе представляет поэти-
ческое произведение, каждый сам образ. Он может войти в более сложный об-
раз, а может остаться сам по себе.
274
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
не хватает технических умений, то есть они не умеют писать стихи или рисовать
картины или танцевать, это ложное представление. Таких людей не бывает. Бы-
вают только поэты (то есть люди, которые способны создавать поэтические обра-
зы и двигаться среди них) и люди, которые способны определить произведение
искусства с присущим ему характером25.
На самом деле эта теория не выдерживает критики даже в применении к одно-
му из наиболее подходящих примеров. Если бы потребовалось найти идеальный
пример поэтического образа, несомненно, можно было бы привести «Оду к мелан-
холии» Китса. И однако видно, что эта поэма могла быть написана человеком
сангвинического темперамента, который никогда не ощущал даже тени меланхо-
лии, и так же ясно, что цель ее—не вызвать меланхолию у читателя (а если ее цель
такова, то поэма своей цели не дост игает), и нельзя сказать, что эта вещь описыва-
ет, что такое «на самом деле» меланхолия. Мы можем подумать, что поэма Китса
написана «на тему о меланхолии» в таком же смысле, в каком настоящий очерк
написан «на тему о поэзии», только если нас введет в заблуждение ее название
(которое в произведении искусства никогда не имеет значения26; поэты всегда зна-
ют поэмы по их первым строчкам, и они начинают их не с «предмета», а с поэтичес-
кого образа). На самом деле поэма Китса — это комплекс образов, созданный в
деятельности созерцания (но созерцания не той эмоции, которую символизирует
слово «меланхолия»), и он ни «выражает» меланхолии, ни дает нам ее «ближайше-
го понимания», а лишь дарит нам возможность созерцательного наслаждения.
Следовательно, в деятельности поэтического воображения ничего не «выра-
жается», не «передается», не «копируется», не «имитируется» и не «воспроизво-
дится»; нет никакого недифференцированного «первичного воображения»27, ко-
25 Если приведенных возражений против этой теории недостаточно, позвольте привес-
ти еще одно, которое, может быть, окажется уместно. Очевидно, что во многих
произведениях, насчет которых невозможно ошибиться, что они являются произ-
ведениями искусства, вряд ли можно указать, какую эмоцию поэт хотел «выра-
зить». Какая эмоция выражена в «Анне Карениной»? В «Рождении Венеры» Бот-
тичелли? В «Фигаро»? В соборе св.Павла? В стихотворных строчках: «Ах, Под-
солнух, страж мгновений// Кормчий солнечных течений...» (Блэйк У. Подсолнух.
Пер. К.С.Фарай). Разве можно предполагать, что авторы этих поэтических про-
изведений были настолько некомпетентны, что оставили нас в неведении отно-
сительно того, что они, по этой теории, стремились выразить?
26 Впрочем, можно заметить, что в то время как то название, которое дает поэме поэт
(или его издатель), обычно служит только для ее обозначения, и его можно (как
часто и случается) без большого ущерба опустить или заменить на номер, на-
- звания некоторых поэм являются не только их простыми обозначениями или
попытками (неизбежно неудачными) указать на их «тему», но поэтическими об-
разами, входящими в поэму как ее часть, например «Суини среди соловьев».
Что же касается оглавлений музыкальных изданий, то они часто (и правильно)
перечисляют произведения по их первым тактам . 4
27 Coleridge, Biographia Literaria (Everyman ed.), p. 159. Колридж (вслед за Кантом)
склонен любой опыт считать «воображением», но то, что он называет «первич-
ное воображение» на самом деле «первично» только в том смысле, что в этот
вид воображения мы бываем вовлечены чаще всего, то есть это практическое
воображение. ^а»»тэч гэжом s
дан'нпог
Голос поэзии 275
торое обеспечивает ее материалом, и другие виды деятельности не обладают ни-
чем, чем она могла бы воспользоваться. Эта деятельность состоит в том, чтобы
наслаждаться, развлекаясь ее собственными созерцательными образами. Зара-
нее неизвестно, какие композиции могут составить вместе эти образы и могут ли
они стать компонентами более сложного образа. Последовательности, компози-
ции, соответствия могут доставлять наслаждение, когда они соответствуют ожи-
даниям, но только поэтическим ожиданиям; могут они доставлять наслаждение и
когда они удивляют, выходя за рамки ожидания, но только если это поэтическое
удивление. Про поэтическое воображение нельзя сказать, что оно в своих обра-
зах преследует цель достичь какого-то абсолютного потенциала наслаждения.
Нет никакого «правильного», «настоящего», «необходимого» порядка образов,
приближение к которому можно искать. Каждый поэт подобен испанскому живо-
писцу Орбанехе, про которого Сервантес рассказывает, что когда у него спроси-
ли, что он рисует, он ответил: «Что получится». Следовательно, «красота» (в
терминах теории эстетики, к которой, как я думаю, она теперь по праву относит-
ся) — это не то же, что «истина»; она ведет себя по-другому. Употребление этого
слова состоит в том, чтобы описать поэтический образ, которым мы не можем не
восхищаться, не так, как мы восхищаемся (с одобрением) благородным действи-
ем, не как мы восхищаемся чем-то хорошо сделанным (например математическим
доказательством), но ни с чем не сравнимым восторгом, который поэтический
образ вызывает у созерцающего зрителя.
Итак, поэзия начинается и заканчивается как язык. Но знаки языка поэзии —
слова, формы, звуки, движения—не имеют заранее установленных значений; это
не шахматные фигуры, которые ходят согласно известным правилам, и не моне-
ты, ценность каждой из которых определена; это не инструменты, имеющие опре-
деленные возможности и предназначенные для определенного употребления, это
не средства для передачи того, что уже существует в мысли или в чувстве. В этом
языке нет также синонимического множества, в котором один знак можно подста-
вить вместо другого, если он способен передать то же значение, и в котором знаки
другой природы (жест вместо слова) часто служат для той же цели. Короче гово-
ря, это не символический язык. В поэзии слова сами являются образами, а не
знаками других образов; воображение само является речью (utterance), и без речи
нет образа. Это язык без словаря, и, следовательно, ему нельзя научиться через
подражание. Но если мы назовем его (как, я полагаю, его следует вполне адек-
ватно назвать) метафорическим языком, следует сразу же провести различие между
метафорой в поэзии и метафорой в символическом языке. В символическом языке
метафора всегда остается символом. Она может быть риторическим выражени-
ем, которое употребляется для того, чтобы привлечь внимание, ослабить (или
поднять) накал в споре, иногда она может служить даже для уточнения; но в ней
во всех случаях употребляются естественные или общепринятые соответствия, и
удачно найденное основание для сравнения является условием ее эффективнос-
ти. Здесь метафоры подобны маркам на конвертах, на которых может быть кра-
сивое изображение, но это изображение является только обозначением их стоимо-
сти, а не самой стоимостью. «Сын Адама» означает «мужчина», «поляна в золо-
276
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
те» означает «трава в свете солнца», «акула» означает жестокость» Что каса-
ется языка поэзии, то в нем метафоры сами по себе являются поэтическими обра-
зами, и, следовательно, они выдуманы. Поэт не признает и не использует есте-
ственные или общеизвестные соответствия, не использует их чтобы «исследовать
действительность»; он не вызывает ассоциации по сходству, а создает образы. У
его метафор нет заранее известной стоимости, их стоимость будет зависеть от
того, как он их подаст. Конечно, и в них может проявиться символизм, поскольку
они являются словесными выражениями, и любая из них может превратиться в
монету установленной стоимости (особенно так называемые архетипические об-
разы), но если это происходит, метафора просто перестает быть поэтическим об-
разом* 28. А играть символическими метафорами, составлять из них различные ком-
позиции — это деятельность, которую Колридж противопоставил поэтическому
воображению и назвал фантазированием (fancy)29. Как в науке нет места дву-
смысленности, так и в поэзии нет места стереотипным образам. Следовательно,
для того, чтобы могла появиться поэзия, прежде всего надо избавиться не от об-
разов «первичного» — не имеющего модальности — воображения, но от власти
символического языка практической деятельности и от еще более строго—сим-
волического языка науки. В музыке и танце враги поэтического воображения —
символичные звуки и движения, пластические искусства начинаются там, где
забыт символизм форм, и появлению поэзии сильно и постоянно препятствует
символический язык практической деятельности. В истории каждого символи-
ческого языка есть периоды, когда символизм только закладывается и, следова-
тельно, не так препятствует поэзии, и, похоже, именно такая ситуация была в XVI
веке в Англии30. Но, хотя никакой практический язык никогда не становится
символичным до конца, язык XX века, конечно, значительно превосходит в этом
смысле язык XVI-ro, поэтому и представляет собой для поэтического воображе-
ния значительно большее препятствие. Впрочем, еще есть народы, находящиеся в
лучшем положении, например ирландцы, у которых для поэзии есть наготове
язык очень архаического и потому не такого навязчивого символизма.
Для тех, кто рассматривает поэтическое воображение как наивный и древ-
ний вид деятельности, историческое появление поэзии не представляет собой за-
гадки. Они считают прозаическое мышление и прозаическую речь—пригодные
для передачи «научного» знания—историческим достижением, вероятно (по край-
ней мере насколько дело касается Европы) появившимся благодаря грекам клас-
сического периода. Они предполагают, что это изобретение пришло на смену
более древнему мифологическому мышлению, которое они отождествляют с по-
этическим. И затем они превозносят или принижают это изобретение, смотря по
‘ Символически-метафорическим языком такого рода является так называемый «язык
цветов» (средневековая куртуазная система знаков. — Прим, перев.)
28 Так происходит в архитектуре, имитирующей стиль какой-то эпохи, в игре характер-
ных ролей или в значительной части поэзии прерафаэлитов.
2’ Coleridge, Biographia Literaria (Everyman ed.), p. 160.
’° Прекрасное место об этом есть у Маколи в начале эссе о Мильтоне. . .... ’. ....
Голос поэзии 211
своим склонностям. Однако я полагаю, что это ошибочная теория, и, к сожале-
нию, она привела к нежелательным последствиям в эстетике: у нее появились
запутанные дополнения в виде модных психологических интерпретаций вообра-
жения. Нет сомнения, что мифологическое мышление предшествовало тому, что
мы определяем как «научное», но язык и набор идиом мифологического мышле-
ния имеют гораздо более практический и религиозный, чем поэтический харак-
тер, и от мифа поэту надо отрешиться не меньше, чем ученому. В истории Европы
гораздо позднее произошла попытка поэтического воображения освободиться от
власти «научного» мышления.
В древности играли заметную роль две фигуры, каждая из которых имеет
свои параллели в современном мире. Во-первых, существовал пророк, учитель,
часто говорящий загадками, фигура религиозного значения, жрец, судья, может
быть колдун, личность которого была священна и слова которого отличались
мудростью; во-вторых, был весельчак, шут, исполнитель песенок, который рас-
сказывал знакомые истории знакомыми словами, причем аудитория не потерпела
бы в этих историях никаких нововведений. В каждой из этих историко-культур-
ных фигур находили предшественников поэта, соответственно интерпретируя и
саму поэзию; ее смешивали и с мудростью, и с развлечением. Но я рассматриваю
деятельность другого поэта, у которого нет ни мудрости пророка, ни обязательств
шута. Не очень легко указать, кому соответствует он в те древние времена: чело-
век, для которого тотем не был ни объектом страха, ни власти, ни благоговения,
а объектом созерцания; человек, для которого миф, магическое заклинание и
загадочная речь пророка были образами не власти или мудрости, но наслажде-
ния. Но кто бы это ни был (может быть, этот человек украшал тотемный столб,
придумал словесную форму для заклинания или перевел исторические события
на язык мифа), можно предполагать, что его деятельность не имела признания,
как и деятельность самых ранних мыслителей, которые положили начало иссле-
дованию причин и следствий в том мире, который стал считаться «природой», а
не изобретением и не воплощением божества. И, конечно, размышления, в кото-
рых рождалась в тех древних обществах, среди признанных тогда видов деятель-
ности, первая поэзия, теряются во тьме.
Что всегда существовали поэты и всегда были «произведения искусства» —
в том смысле, в котором я употребляю это выражение,—я не вижу причин сомне-
ваться; но деятельность этих людей не всегда получала признание, а поэтический
характер образов часто был скрыт чем-то другим. И хотя в освобождении из-под
власти практического (прежде всего религиозного) воображения можно разли-
чить общие условия воображения поэтического, само событие его появления за-
метить удается редко. Строго говоря, в Древней Греции его вообще никогда не
было; в Риме можно различить отдельные его проблески, и в дальнейшем в Евро-
пе оно медленно и неуверенно начало пробивать себе дорогу31. Здесь еще не так
31 Я не решаюсь судить о Востоке. Но существует интересный рассказ у Chuang Tzu о
Ch’ing, главном плотнике князя Лу, который почти точно описал деятельность
художника в терминах того, о чем он должен был забыть.
278
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
много веков назад то, что мы бы сочли «произведениями искусства», считалось
прежде всего обслуживающим практическую деятельность. Считалось, что их на-
значение заключается в том, чтобы служить отделкой и иллюстрацией, чтобы ум-
ножать блеск королевского величия, религиозного обряда или купеческого образа
жизни. Их ценили как выражение благочестия или призыв к нему, фамильная гор-
дость, уважение к правосудию и почтение к власти, способ сохранить память о
великих людях и событиях, сделать известными незнакомые лица, выразить под-
линную веру, научить правильному поведению. Но освобождение, то есть призна-
ние этих образов созданными для созерцательного внимания, было результатом не
какого-то нового и необъяснимого желания избавиться от власти практического
воображения, и, конечно, оно не привело немедленно к появлению произведений,
совершенно непохожих на то, что было прежде; оно было результатом постепен-
ных изменений, которые (создав новый контекст для того, что уже существовало)
изменили его и даже способствовали появлению того, что подходило этому контек-
сту. В этом освобождении от старого контекста сыграли большую роль даже про-
сто ход времени и обычная забывчивость: оставались истории, а первоначальный
их смысл терялся, долго жили образы, чье «значение» было забыто; происходили
встречи с пришедшими из других мест образами (и словесными, и пластическими),
символизм которых был неизвестен. Например, весь образный мир таких вещей,
как «Сон в летнюю ночь» и «Буря», освобожден от их религиозного и практическо-
го значения и преображен в поэзию: там есть заклинания, но они не действуют, есть
образы, которые потеряли свою эмоциональную нагруженность, там есть лица,
которые потеряли свою связь и с историей, и с мифом и приобрели поэтический
характер. А что касается пластики, возможно, больше всего способствовало этой
перемене огромное количество вещей, которые можно было счесть произведения-
ми искусства. Они хранились в сокровищницах королей, аристократов, церквей,
торговцев, городских общин и цехов, причем об их практическом происхождении
было забыто или неизвестно, и оберегались от практического использования или
значения, которое когда-то могли иметь, и попав в новый контекст, они приобрели
возможность вызывать созерцательное внимание — как в античности у римлян,
завоевателей Греции, вызвали созерцательное наслаждение греческие статуи и
сооружения, поскольку эти вещи не имели для них религиозно-символического зна-
чения. Подобное же происходит в наше время с иконами и со старыми коврами, с
идолами, со зданиями и предметами быта, поэтические качества которых приобре-
тают признание, когда на них смотрят взгладом, для которого они никогда не пред-
назначались. В некотором смысле, история современного искусства—это история
о том, как человеческое воображение наполняет соответствующими образами этот
контекст (который сам по себе представляет собой случайный дар истории). И это
справедливо не только для пластических искусств: та же история с европейской
драмой и музыкой, тут можно видеть те же взаимоотношениями между случайнос-
тями и творчеством нового. А то в нашем отношении к поэзии, что противоречит
этому отношению: то, что мы ищем «предмет» у поэмы или у картины, требуем от
искусства, чтобы оно учило нас жизни, путаем поэзию с мудростью или с развлече-
нием, интересуемся «психологией» поэта, с трудом можем принять выдуманное
Голос поэзии 279
просто как оно есть, не интерпретируя его как символ, как притворство или как
заблуждение, и так далее — все это можно рассматривать как пережиток ушедших
времен, когда поэзия еще не возникла и не добилась признания для самой себя, или
как отвращение к тому правильному пониманию, которое в историческом смысле
все еще является для нас сравнительно новым и не ассимилированным до конца.
'Л
7 'а
Любая апология поэзии — это попытка найти ее место на карте человеческой
деятельности; каждое ее оправдание приписывает поэтическому воображению
определенный характер и в зависимости от этого помещает его в определенное
место на этой карте. И следует ожидать, что тот, кто считает, что какой-то частный
вид деятельности играет исключительную роль, найдет для поэзии какую-то роль,
связанную с этим видом деятельности. Так, поскольку в наше время чаще всего
основными занятиями человечества считаются практическая деятельность и мо-
ральные оценки, не удивительно, что апологеты поэзии обычно находят ей оправ-
дание с точки зрения этих занятий. Когда изучают вопрос об отношении искусства
и общества, то изучается отношение искусства к обществу людей, занятых практи-
ческой деятельностью: какова «функция» поэзии в общественном порядке? Неко-
торые авторы этого направления, не слишком тонко разбирающиеся в поэтичес-
ком воображении, считают, что это достойное сожаления отклонение от правиль-
ного жизненно-го пути, в лучшем случае—увеселительная прогулка в выходные,
с которой человек надеется возвратиться отдохнувшим и приступить к работе с
новой энергией. Другие, впрочем, придают поэзии большее значение: ее считают
ценной служанкой практической деятельности, способной выполнять ряд полез-
ных задач. Мы узнаем от этих авторов, что назначение поэзии состоит в том, чтобы
научить нас, как надо жить, дать критический анализ нашей жизни, провозгласить
и распространить шкалу моральных ценностей, слу-жить делу морального образо-
вания, не только описывая правильные чувства и поучая им, но и пробуждая их в
нас; способствовать душевному здоровью, излечить больное сознание и «приспо-
собить нас к существованию»; отражать структуру и жизнь «общества», в котором
она появляется32; она должна утешить несчастных, устрашить грешников или про-
сто обеспечить вам «музыку во время работы». На взгляд более глубокого мысли-
теля (Шиллера), «социальная ценность поэзии» заключается в том, чтобы дать
освобождение от единообразия и жестких рамок жизни, узко сконцентрированной
на практических усилиях. А в пресловутой гиперболе поэты названы «непризнан-
ными законодателями мира»33.
Что касается тех авторов, которые полагают, что главным занятием человече-
32 По мнению авторов, которые разделяют эту точку зрения, «Прованская» любовная поэзия
XII века появилась не потому, что созерцательное внимание было устремлено в новом
направлении, но потому, что человеческие чувства изменились, что она и отразила.
Таким образом, они считают ее не частью истории поэзии, а частью истории нравов.
33 Может быть, мы должны считать это не гиперболой, а отражением сложности характе-
ра Аполлона. Ср. Bacon, Advancement of Learning, J; Vico. Scienza Nuova, II, §615.
280
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
ства является или должно являться исследование самого себя и мира, в котором мы
живем, они совершенно так же интерпретируют задачу поэзии в связи с scientia.
Проблема взаимоотношений искусства и общества—это проблема места искусст-
ва в обществе людей, занятых научной деятельностью. У апологетов этого языка,
возможно, более трудная задача, однако они не замедлили за нее взяться. Здесь,
как и в предыдущем случае, есть авторы, которые видят в поэтическом воображе-
нии только отклонение от требований науки и которые не-символический язык
поэзии считают лишь бесполезным инструментом для научного общения. Упомяну-
тые люди — аболиционисты: у них благородная родословная, и они процветают в
нашей среде с XVII века. Но им вторят другие авторы: которые провозглашают,
что поэтическое воображение обладает особой силой «видеть вещи как они есть»,
которые считают поэзию отчетом о том, что происходит и хранилищем знаний о
мире, и которые понимают ее, приписывая ей силу и обязательство едать нам ясное
и беспристрастное знание о природе вещей». А некоторые авторы даже в самом
процессе научного поиска и открытия находят некий компонент, который они отож-
дествляют с поэтическим воображением.
В том смысле, как я понимаю поэзию, попытки обеих этих областей деятельно-
сти присвоить себе поэзию заведомо ошибочны, хотя, конечно, некоторое из ска-
занного таким образом может быть правильно замечено и само по себе верно34.
Избрав себе направление движения, те, кто мыслит таким образом, будут рассмат-
ривать всё с точки зрения пользы или препятствия для достижения своей цели. Их
исследование предпринимается не для того, чтобы точнее указать на место поэзии
на карте человеческой деятельности; его предмет — подчиненное положение по-
эзии к той точке на этой карте, которая интересует больше всего их самих. Но
насколько я понимаю, единственная апология поэзии, которую стоит рассматри-
вать, ставит целью определить место и качество голоса поэзии в беседе человече-
ства — беседе, в которой каждый голос говорит своим собственным языком, где
время от времени один из них может говорить громче, чем другие, но ни у кого нет
естественного доминирования, превосходства над остальными. Подобающий кон-
текст, в котором следовало бы рассматривать поэтическую, как и все остальные
виды речи, это не «общество», всецело занятое практической деятельностью, не то,
которое посвятило себя научному поиску; это общество тех, кто беседует.
В этой беседе каждый голос, с одной точки зрения, представляет собой осво-
бождение от условий, в которых формировался язык остальных голосов. Scientia
— это уход от условия «scientiapropterpotentiam» практического мира, а практи-
ческая деятельность — это уход от научного «факта». Соответственно, если мы
будем считать, что поэтическое воображение—это вид «ухода» (считая созерца-
ние уходом от влечений, одобрений, изобретений и исследований), мы говорим
всего лишь только то, что вселенная дискурса, в которой оно движется, создана
по-иному, чем вселенные других видов воображения; точно то же самое можно
сказать и о практике, и о науке. А неизменное появление какой-то тени неодобре-
ния, когда говорят, что поэтическое воображение — это «уход», только свиде-
-------------
34 Например, мысли Шиллера о полезности «бесполезной» деятельности.
э»н; . эп 8 мьш,*шощ1бЧ . iav Голос поэзии 281
тельствует о том, что не до конца понимается сама беседа. Разумеется, с какой-
то точки зрения можно сказать, что поэзия — это «уход»; это уход не (как иногда
предполагается) от трудной или неудачливой практической жизни поэта, но от
очевидностей практической деятельности. Нов практических делах, моральной
оценке и научном поиске нет ничего такого святого, чтобы «уход» от них следо-
вало бы непременно осуждать. На самом деле, обстоятельства бывают обремени-
тельны и тяжелы настолько, что освобождения от них искать естественно, и бесе-
да, в которой слышны только их голоса, нагоняет тоску. Следовательно, страда-
ющее и желающее, знающее и изобретающее я в поэзии уступает место я созерца-
ющему, и оглянуться назад для него означает предательство, которого столь же
трудно избежать, сколь трагично оно окажется по своим последствиям. Тем не
менее, для того чтобы участвовать в беседе, каждый голос должен не только
говорить на своем языке, но должен также иметь способность быть понятым; и
сейчас мы должны разобраться, как голос поэзии может быть понят, когда у его
партнеров по беседе такой отличный от него характер.
Я полагаю, что то, что голос науки и голос практической деятельности дос-
таточно хорошо понимают друг друга, не представляет загадки. Несмотря на то,
что они говорят на разных языках, многому в научной вселенной дискурса име-
ются свои параллели из практики: как образы практики, так и образы науки
можно упорядочить в последовательность, в обоих случаях имеет место деление
на «факт» и «не-факт», язык того и другого дискурса построен символическим
образом. Но, как я постарался показать, вряд ли можно ожидать, что в беседе
окажется возможным обычное понимание между голосом поэзии и остальными
голосами: у него не бывает никаких выводов, он не признает разницы между
«фактом» и «не-фактом», его язык состоит не из знаков. И эта отдаленность по-
этической речи, без сомнения, провоцирует на то, чтобы так или иначе уподобить
ее идиоматическим оборотам науки и практики. Большинство поэтов (даже если
мы не будем делать ошибки и не станем приписывать им те мнения, которые они
вкладывают в уста своих героев) имеют определенное мировоззрение, мысли о
мире вообще, о том, как жить, и когда мы обращаемся к этим мыслям, кажется,
что голос поэзии начинает обретать ясность и доступность, которой ему так не
хватало. Нам может казаться, что у Шекспира «взгляд на жизнь» был глубоким,
или мы, подобно Джонсону35, можем считать его неудовлетворительным; но како-
во бы ни было наше заключение относительного этого, нам кажется, что мы дали
место голосу поэзии в общей беседе голосов, которого у него до тех пор не было.
Но это ошибка; мы поймали как раз то, что не является поэтическим — теологию
Данте, поверхностные религиозные убеждения Баньяна, правдоподобие Энгра,
вышедший из моды «пессимизм» Харди, псевдо-научные рассуждения Гёте, патри-
отизм Шопена—а сам поэтический образ проскользнул сквозь нашу сеть и остал-
ся в своей собственной стихии. Или, например, можно предположить, что быть
воспитанным (как школьники во Франции) на Расине — это значит получить со-
вершенно другие представления о желаемом и одобряемом, чем представления
35 Джонсон, предисловие к изданию Шекспира.
282
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
английских школьников, которых воспитывают на Шекспире; однако, какой бы
глубокой или поверхностной ни была эта разница, она происходит не от поэтичес-
ких качеств этих авторов. И как Платон определял, что в желающей душе есть
некая тень разума (он назвал ее «умеренность»), которая способна если не вести
себя разумно, то слышать голос разума и подчиняться его управлению, так и мы, я
думаю, можем найти в практической деятельности заложенные в ней зачатки созер-
цательного воображения, которые способны ответить на голос поэзии.
В наиболее распространенных человеческих отношениях, встречающихся в
области практической деятельности — между производителем и потребителем,
хозяином и слугой, начальником и помощником — каждый участник ищет или
какой-то услуги, или вознаграждения за услугу, и если это не получается, взаи-
моотношения прекращаются. Таковы же и отношения партнеров в бизнесе, кол-
лег и даже приятелей, которые собрались вместе в силу обстоятельств и близость
которых основана на их общем занятии, интересе, вере или страхе. В мире, кото-
рый находится sub specie voluntatis", мы обычно отказываемся от того, что нам не
нравится, а в мире sub specie moris" мы обычно отвергаем то, что оказывается
иррациональным или несовершенным. Но существуют взаимоотношения, кото-
рые, вне всякого сомнения, относятся к практической области, в которых все
бывает по-другому. По-другому, например, бывает в любви и дружбе. Друзьям и
любящим важно не то, что они могут друг от друга получить, но лишь радость,
которую они друг другу приносят. Друг это не тот, кому можно доверять в том,
что он поведет себя определенным образом, не тот, у кого есть какие-то полезные
качества, кто придерживается приемлемых мнений; он — это тот, кто вызывает
интерес, радость, восторг, верность без рассуждения и (почти) созерцательное
воображение. Взаимоотношения друзей драматичны, а не утилитарны. И, конеч-
но, любить — это не «делать хорошо»; любовь не долг; она освободилась от
необходимости одобрять или не одобрять. Любят человека, а не набор качеств:
Венера ради Адониса покинула небеса. В любви передается и радует не множе-
ство эмоций: привязанность, нежность, забота, страх, восторг и т.д., — а непов-
торимость я. Но как не существует того, кого нельзя было бы полюбить, так
никто не выделяется таким образом, что его следует любить в первую очередь. В
появлении любви не играют никакой роли ни достоинства, ни необходимость; ее
порождают случайная удача и выбор — случайная удача, потому что нельзя
искать того, о чем заранее неизвестно, что это будет, а в выборе дает себя почув-
ствовать неизбежный практический компонент влечения36. Короче, нельзя со-
мневаться, что мир sub specie amoris"' — это мир практический деятельности;
там есть влечение и разочарование, нравственные достижения и неудачи, есть удо-
Под знаком воли (лат.). — Прим, перев.
Под знаком нрава (лат.). — Прим, перев.
зб Отсюда те трудности, которые испытывал Августин, не понимая, как можно было
сказать, что Бог «любит» человека (De Doct. Christ, i, 34.)
Под знаком любви (лат.). — Прим, перев. . sj
Голос поэзии 283
вольствие и боль; а (в разных смыслах) одновременно и является возможностью, и
определяется как summum malum**. Тем не менее, в любви и дружбе образ (то, что
создается при этих способах воображения) чаще, чем в любой другой практичес-
кой деятельности, оказывается «тем, что получится». Может быть, перечисленные
случаи не являются созерцательной деятельностью в полном смысле слова, но они
представляют собой, по крайней мере, двусмысленно практическую деятельность,
в которой есть место созерцанию, и можно сказать, что они служат связью между
голосами поэзии и практики, тем каналом, по которому происходит взаимное пони-
мание. И, вне сомнения, именно поэтому из всех поэтических образов самыми изве-
стными являются выдуманные герои любовных историй.
Далее, может быть, какое-то освобождение от беспощадности дел и возмож-
ность совершенства, близкого к поэзии, можно найти в «нравственной доброте»
(но не в «добродетельном поведении», не в «превосходном характере» и не в
занятости «добрыми делами»). Ибо деятельность здесь отличается частным ха-
рактером, самодостаточностью, она не приспособлена к миру, она отделена от
места и от обстоятельств, в ней то, что делается, не зависит от того, что было до
того и что может быть после; ни один человек не отвергается по причине его
невежества или потому, что он недостаточно компетентен и не знает о возможных
последствиях действий, или (как говорит Кант) по причине какой-то особой не-
милости судьбы или из-за того, что его слишком скудно одарила мачеха-Приро-
да37, и успех в этой деятельности совершенно не связан с критерием «пользы» или
с внешними достижениями.
Более того, поэтическая речь (произведение искусства) как образ тоже часто
неоднозначна. Вследствие своего положения в практическом мире эти образы час-
то подвергаются опасности неправильного понимания — в том смысле, что они
занимают место, являются предметами влечения, имеют цену и так далее. А некото-
рые произведения искусства—например здания — находятся в особо неоднознач-
ном положении, поскольку, с одной стороны, их следует рассматривать только как
поэтические образы, а с другой стороны, нужно принимать во внимание их долго-
вечность и то, насколько они удовлетворяют практические нужды. Но сами те
возможности, которые произведения искусства (некоторые больше, некоторые мень-
ше) предоставляют для того, чтобы об их поэтическом характере забыли, могут
косвенным образом способствовать признанию в них произведений искусства. К
какой-то поэтической вещи наше внимание может быть привлечено в первую оче-
редь по совершенно внешней причине—поскольку кажется, что она представляет
в практическом мире что-то знакомое нам или особо нас интересующее, потому что
в ней заключена нужная для нас историческая информация, потому что некоторые
детали нам нравятся, или даже просто потому, что это работа нашего друга или
знакомого; но когда эта вещь уже завладела нашим интересом и вниманием, может
возобладать состояние созерцания, и поэтический образ этой вещи сразу или посте-
пенно дойдет до нас. И не следует презирать даже такое вхождение в мир поэзии.
Наибольшее зло (лат.). — Прим, перев.
37 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 394.
284
Майкл Оукшот. Рационализм в политике
Опять же, искомую связь могут дать нам воспоминания детства. У каждого его
ранние годы несли в себе мечту, прекрасное безумие, чудесное сочетание поэзии и
практической деятельности, когда ничто не имеет ни постоянной формы, ни посто-
янной цены. В детстве еще нет абсолютного различия между «фактом» и «не-фак-
том». Вести себя означает входить в сделку с событиями; ребенка переполняют
неясные желания; есть влечения и есть выборы, объекты которых определены не-
четко; все «такое, как получится». И говорить означает создавать образы. Ибо,
хотя в детстве мы проводим много времени, учась символическому языку практи-
ческих отношений (а когда мы изучаем иностранный язык, мы всегда изучаем его
как набор символов), это не тот язык, с которого мы начинаем говорить. В детстве
самые повседневные слова—не знаки, имеющие постоянное и неизменное упот-
ребление, это поэтические символы. Мы говорим героическим языком собственно-
го нашего изобретения не только потому, что мы еще недостаточно умеем обра-
щаться с символами, но потому, что к речи нас подвигает не только желание обще-
ния, но и наслаждение от самой речи. И как бы мы позже ни стали привержены
практическим или научным делам, каждый, кто вспомнит, как все было запутанно
и неясно в детстве, будет готов понять и услышать голос поэзии.
Следовательно, не так уж невозможно понять, как в современной беседе, в
которой так доминируют голоса практики и науки, можно услышать и голос
поэзии. Тем не менее, как я это понимаю, поэтическое воображение привносит в
эту беседу уникальное звучание (utterance), которое полностью ничем не ассими-
лируется. Голос поэзии в высшей степени создан для беседы. И в научном, и в
поэтическом воображении можно разделить то, что сказано, и то, как это сказа-
но, то есть доктрину и деятельность; в поэзии это невозможно. Поэтический образ
— это не символ; и поскольку он ничего не «выражает», между воображением и
речью не существует напряжения. Более того, взаимоотношения между поэтичес-
кими образами сами по себе построены на беседе; они друг друга не подтвержда-
ют и не опровергают, они просто вызывают друг друга и соединяются вместе не
для того, чтобы выработать какое-то заключение, но для того, чтобы создать
более сложный образ того же порядка. Далее, поэзия никогда не учит нас, как
нам жить и что мы должны одобрять. Практическая деятельность—это бесконеч-
ная борьба за нечто благородное или низменное, но ее цели всегда иллюзорны,
борьба, от которой практическое я не может уйти, а победа в ней недостижима,
поскольку желание никогда нельзя удовлетворить: все, что достигается, всегда
узнается как несовершенное, а любое несовершенство имеет цену только как
начальная ступень совершенства, что само по себе уже иллюзия. И даже «проще-
ние» — это не разрубание цепи в фатальности совершенного, но лишь символ
отмены происшедшего; никакие действия, даже те, которые забыты, нельзя ис-
править. Поэтическая деятельность не принимает участия в этой битве, и у нее нет
власти ни воздействовать на нее, ни изменить ее, ни заставить ее закончиться. Если
она станет подражать голосу практики, ее звучание будет фальшиво. Слушать
голос поэзии означает наслаждаться не победой, а сиюминутным освобождением,
кратким очарованием. А косвенно, может быть, это значит наслаждаться и чем-то
большим. Готовность к тому, чтобы воспринять голос поэзии равносильна пред-
Голос поэзии 285
расположенности выбрать наслаждение (delight), а не удовольствие (pleasure) и не
добродетель познания, готовность, которая отразится в практической деятельнос-
ти привязанностью к тому, что несет в себе начало поэзии.
Тем не менее, мы должны ожидать этот голос чаще, чем мы его слышим.
Поэтическое воображение часто считалось чем-то вроде «посещения» Музы, но,
хотя это считалось признаком его высшей природы, даже Божественного вдохно-
вения, на самом деле это свидетельствует только о том, что созерцательная ак-
тивность непременно бывает преходяща:
All things can tempt me from this craft of verse:
One time it was a woman’s face, or worse —
The seeming needs of my fool-driven land;
Now nothing but comes readier to the hand
Than this accustomed toil. When I was young,
I had not given a penny for a song
Did not the poet sing it with such airs
That one believed he had a sword upstairs;
Yet would be now, could I but have my wish,
Colder and dumber and deafer than a fish *.
Но желание это может быть удовлетворено только на какое-то время. Короче
говоря, не бывает vita contemplativa *, бывают только отдельные моменты созер-
цательной деятельности, защищенные и сохраненные от потока любопытства и
планирования. Поэзия—это что-то вроде способа уклониться от деятельности,
это мечта внутри мечты о жизни, это цветок, посаженный среди наших полей,
засеянных пшеницей.
1959 год
Все что угодно может соблазном отвлечь меня от этого ремесла стиха
Один раз это было лицо женщины, или даже хуже —
Кажущиеся нужды моей дурацки управляемой земли
А теперь ничто не дается мне с такой готовностью,
Чем этот привычный тяжелый труд. Когда я был молод
Я и пенни за песню не давал я и в грош ее ценил
Разве не пел ее поэт с таким важным видом,
Что можно было подумать, что у него дома меч
Все-таки было бы так сейчас, мог бы я иметь только такое желание
Холоднее и глуше и немее рыбы. — Прим, перев.
Здесь: созерцательная жизнь (лат). — Прим, перев.
Научное издание
МАЙКЛ ОУКШОТ
РАЦИОНАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ И ДРУГИЕ СТАТЬИ
Перевод с английского
И. И. Мюрберг, Е. В. Косиловой, Ю. А. Никифорова, О. В. Артемьевой
Под общей редакцией
Л. Б. Макеевой, А. Б. Толстова, М. Ф. Косиловой
Корректор М. Рубштейн
Художественное оформление Идея-Пресс
Художник В. Коршунов
Оригинал-макет Идея-Пресс
Идея-Пресс
ИД № 00208 от 10 октября 1999
123056 Москва Тишинская пл. д. 6 кв. 31
Наши книги
спрашивайте в московских магазинах
Справки и оптовые закупки по тел. 247.17.57 (маг. “Гнозис”),
939.47.13 (Воробьевы горы, МГУ, 1-й гум., отд. маг.)
Подписано в печать 12.11.2001. ?
Формат 70 х 100/16. Гарнитура Таймс Нью-Роман.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 18.
Тираж 2000 экз. Заказ № 2438.
Отпечатано с готовых пленок
в РГУП «Чебоксарская типография № 1».
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.