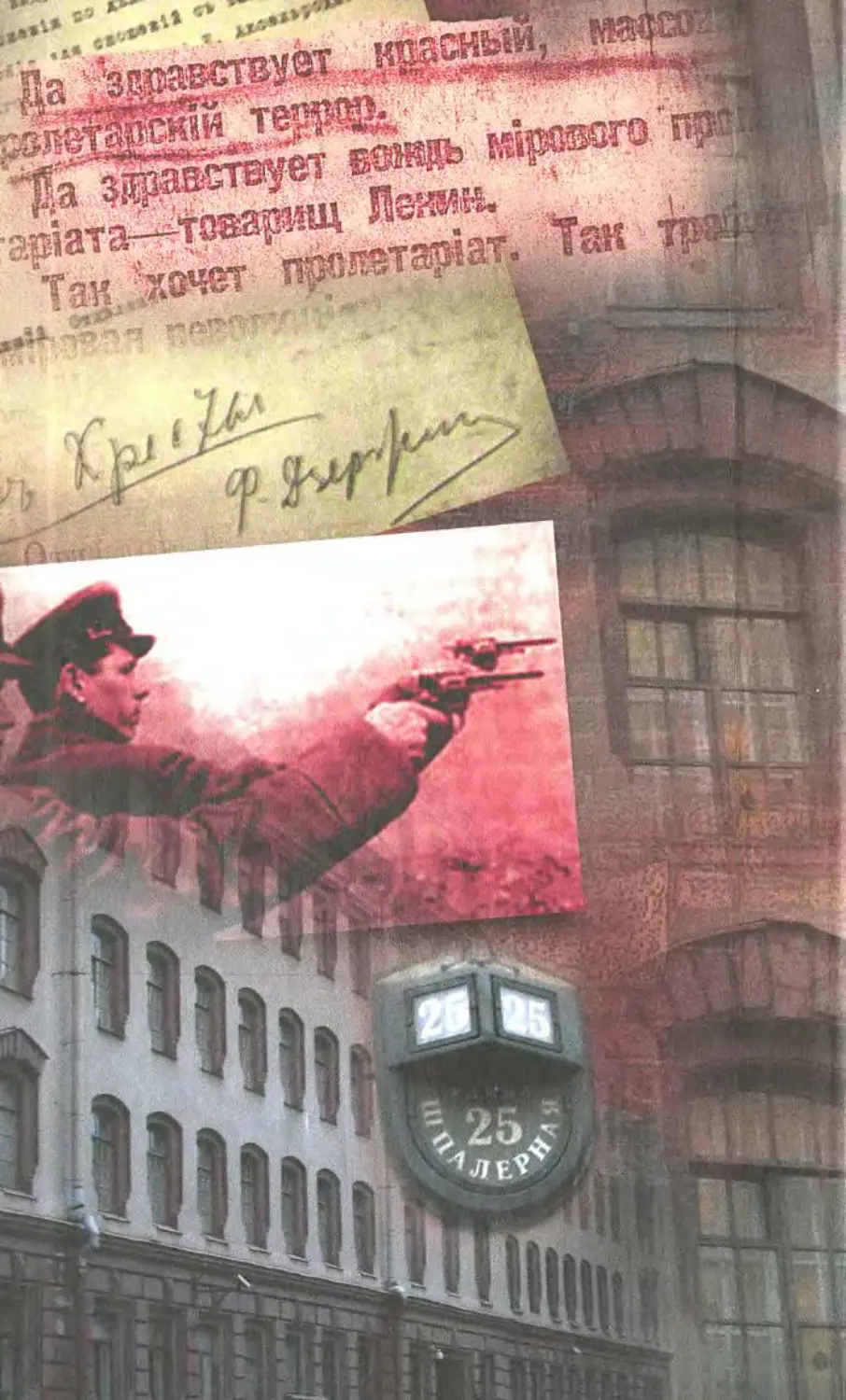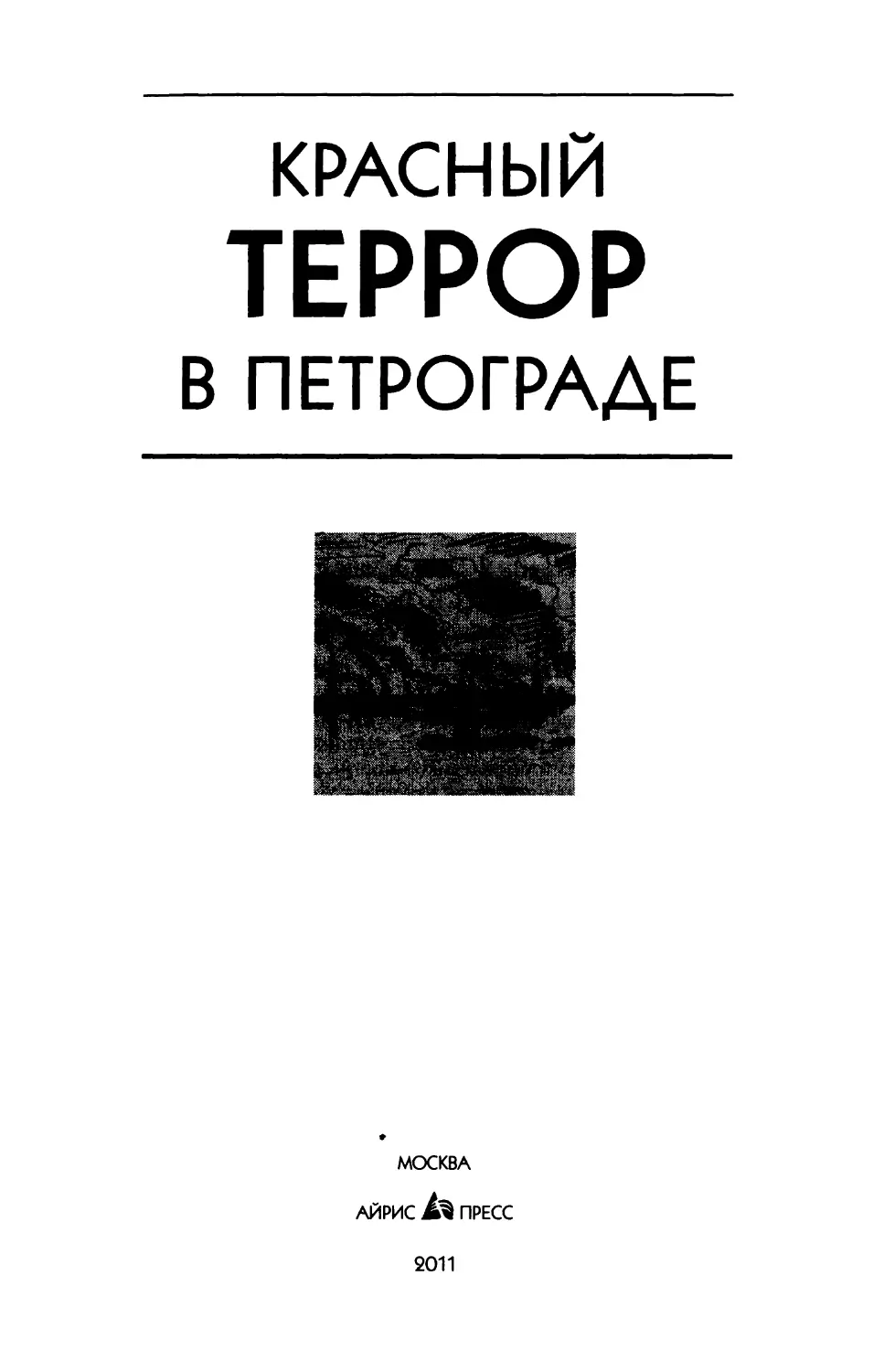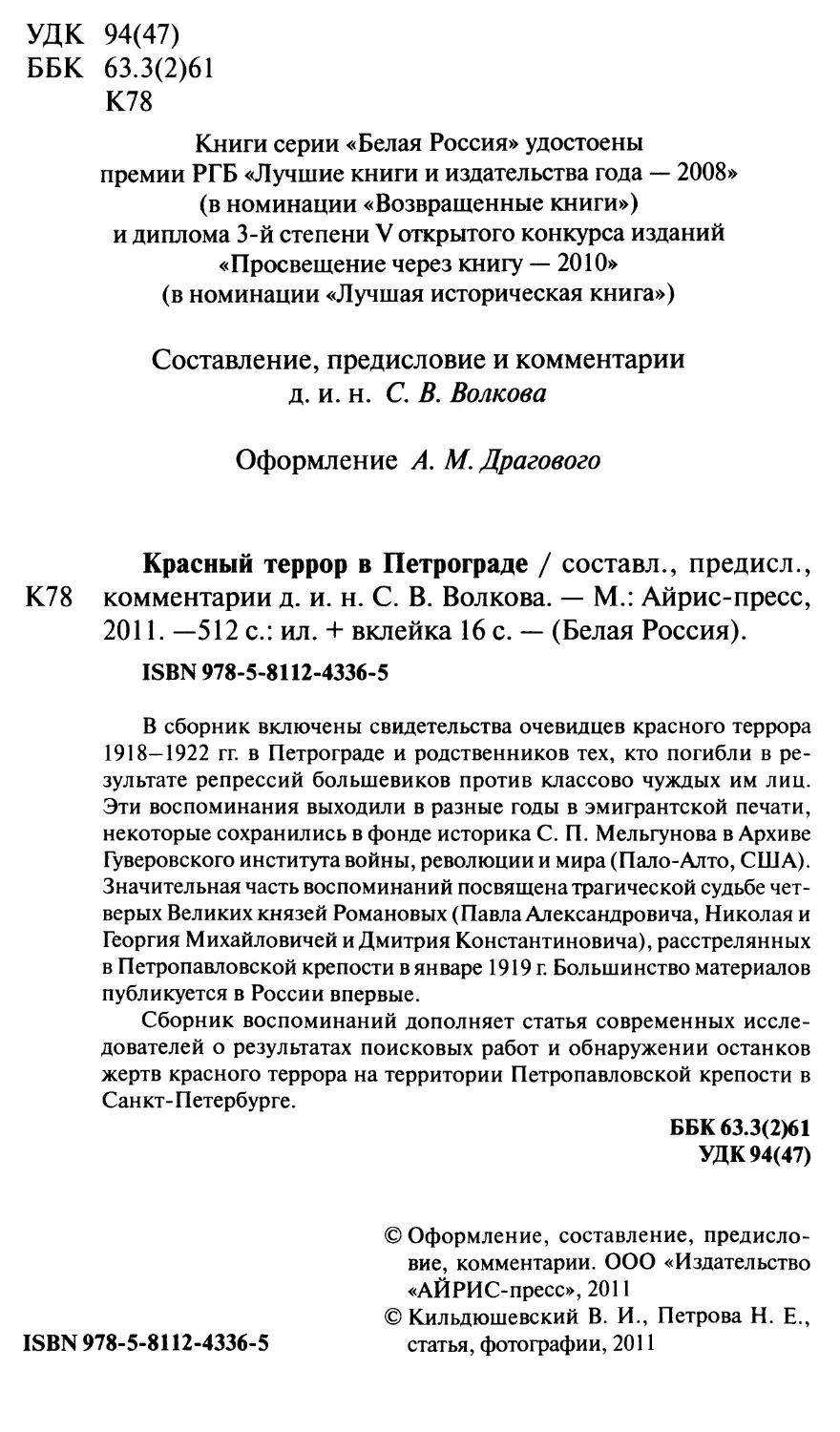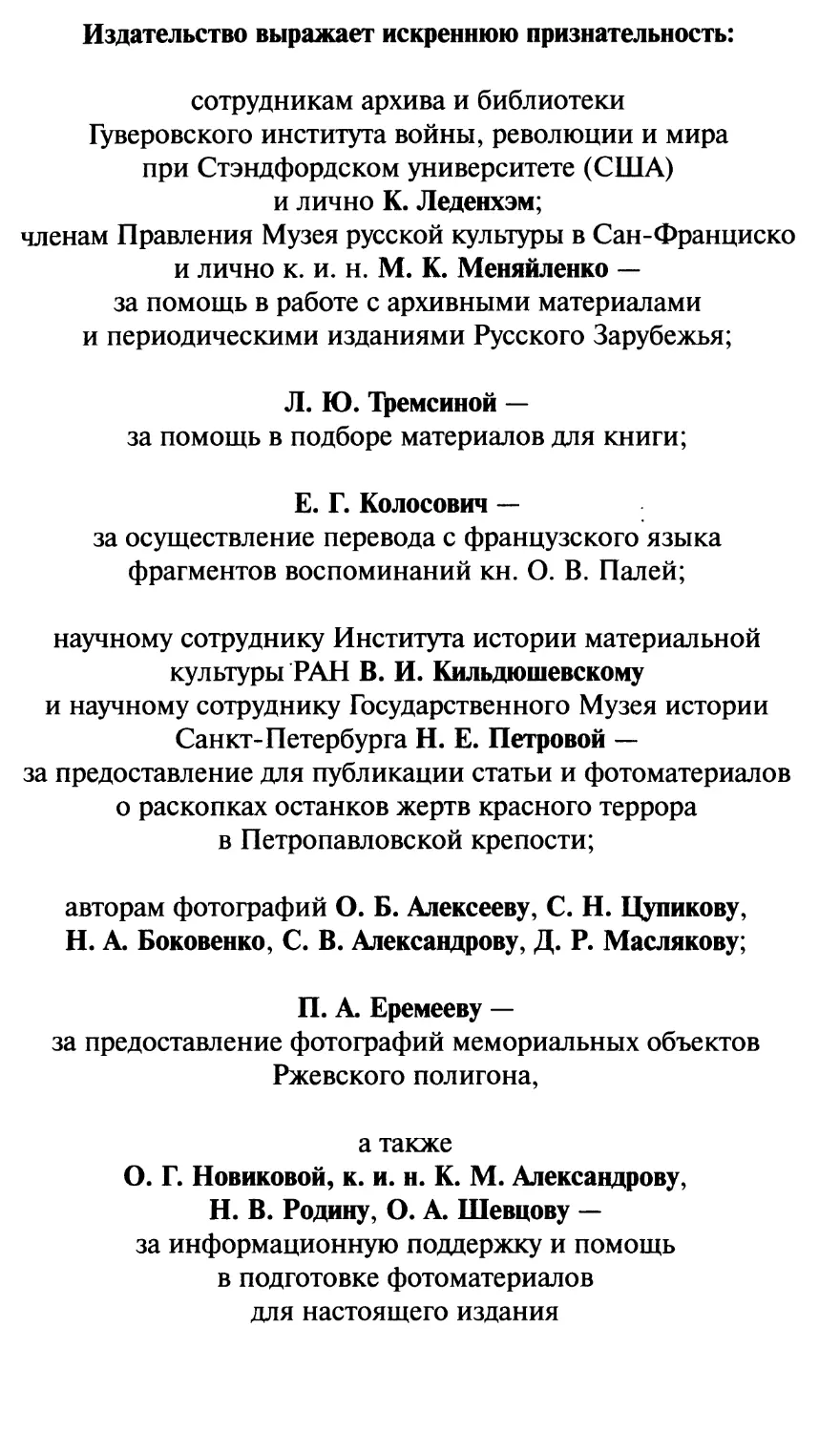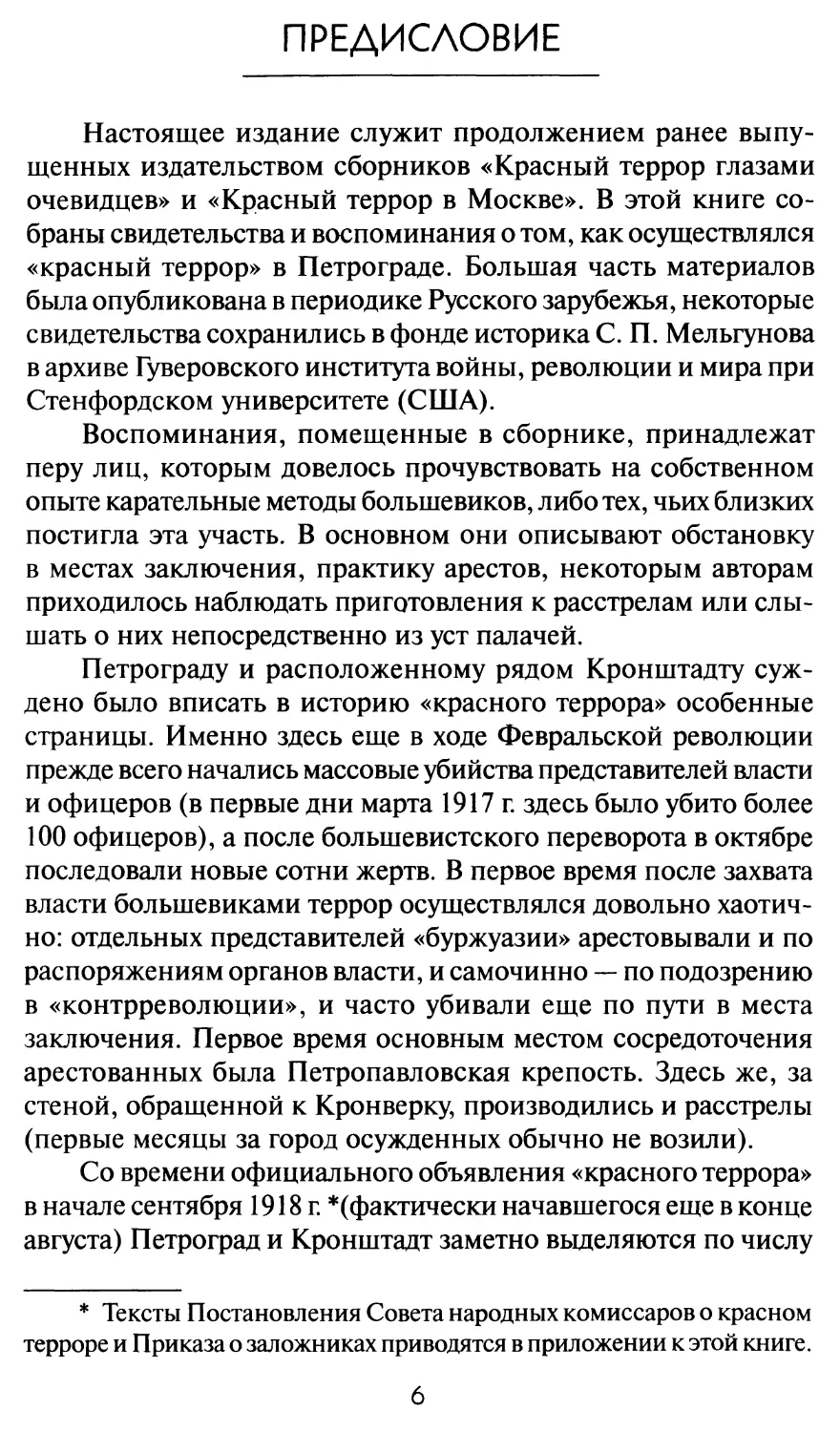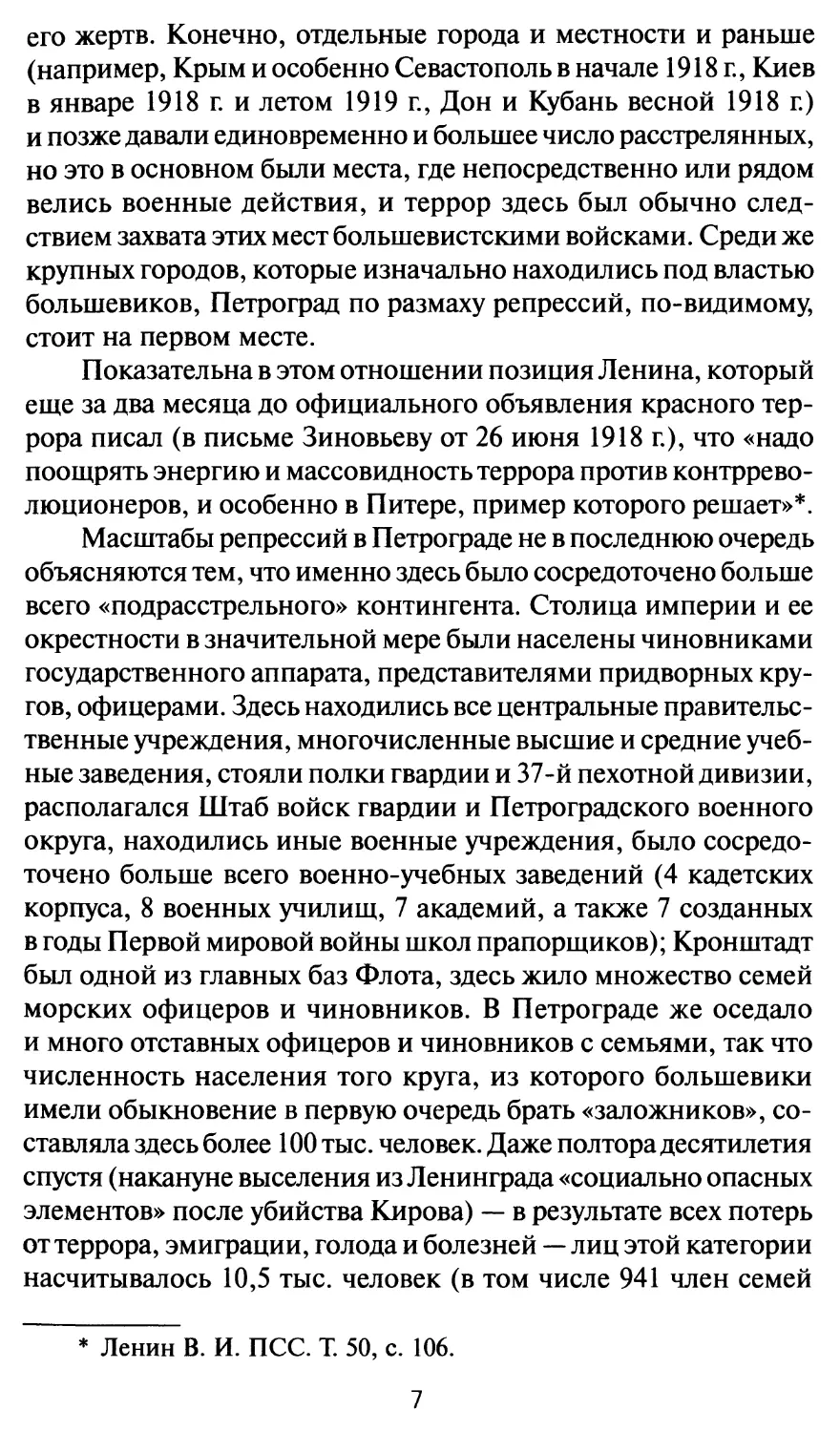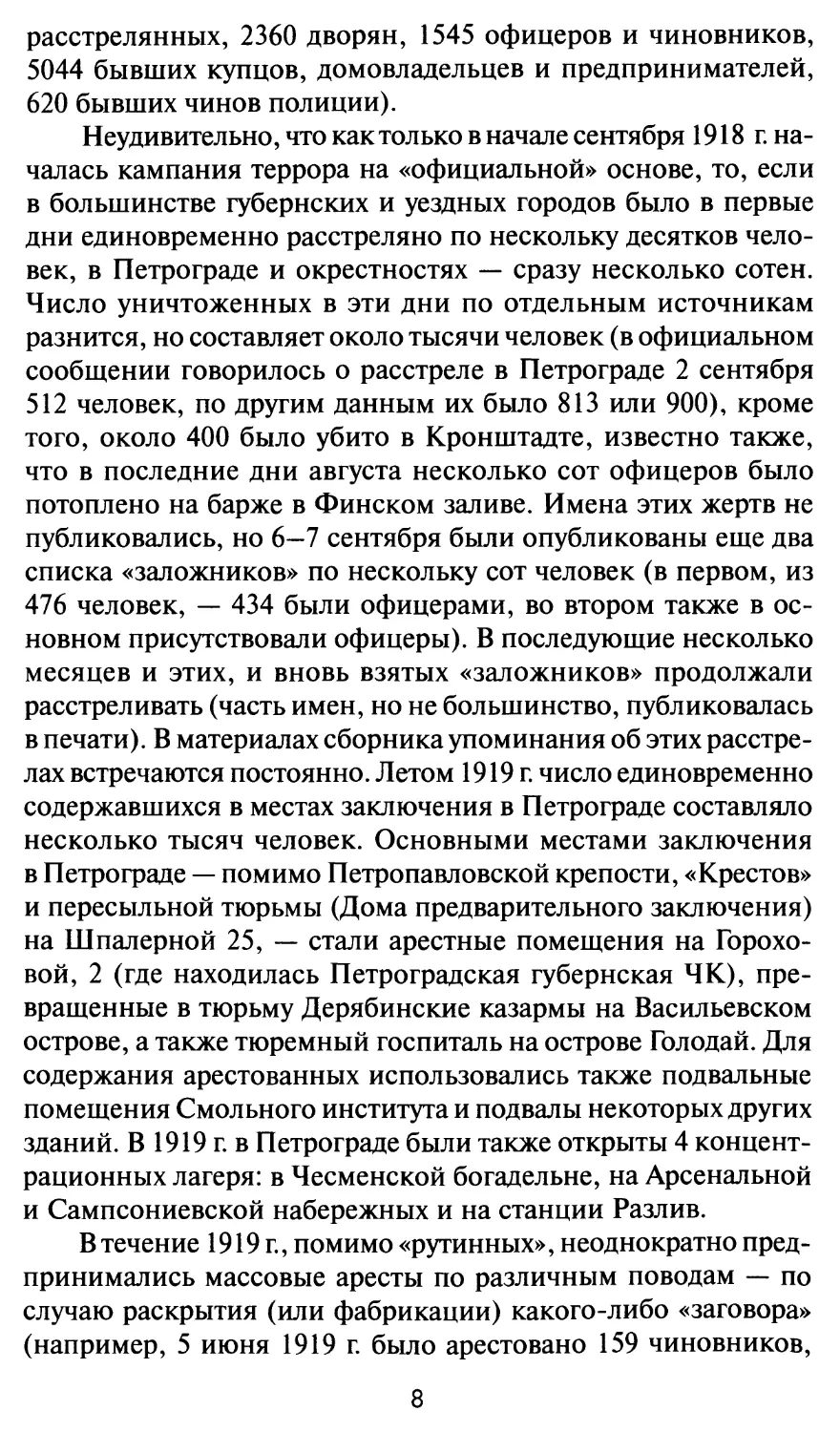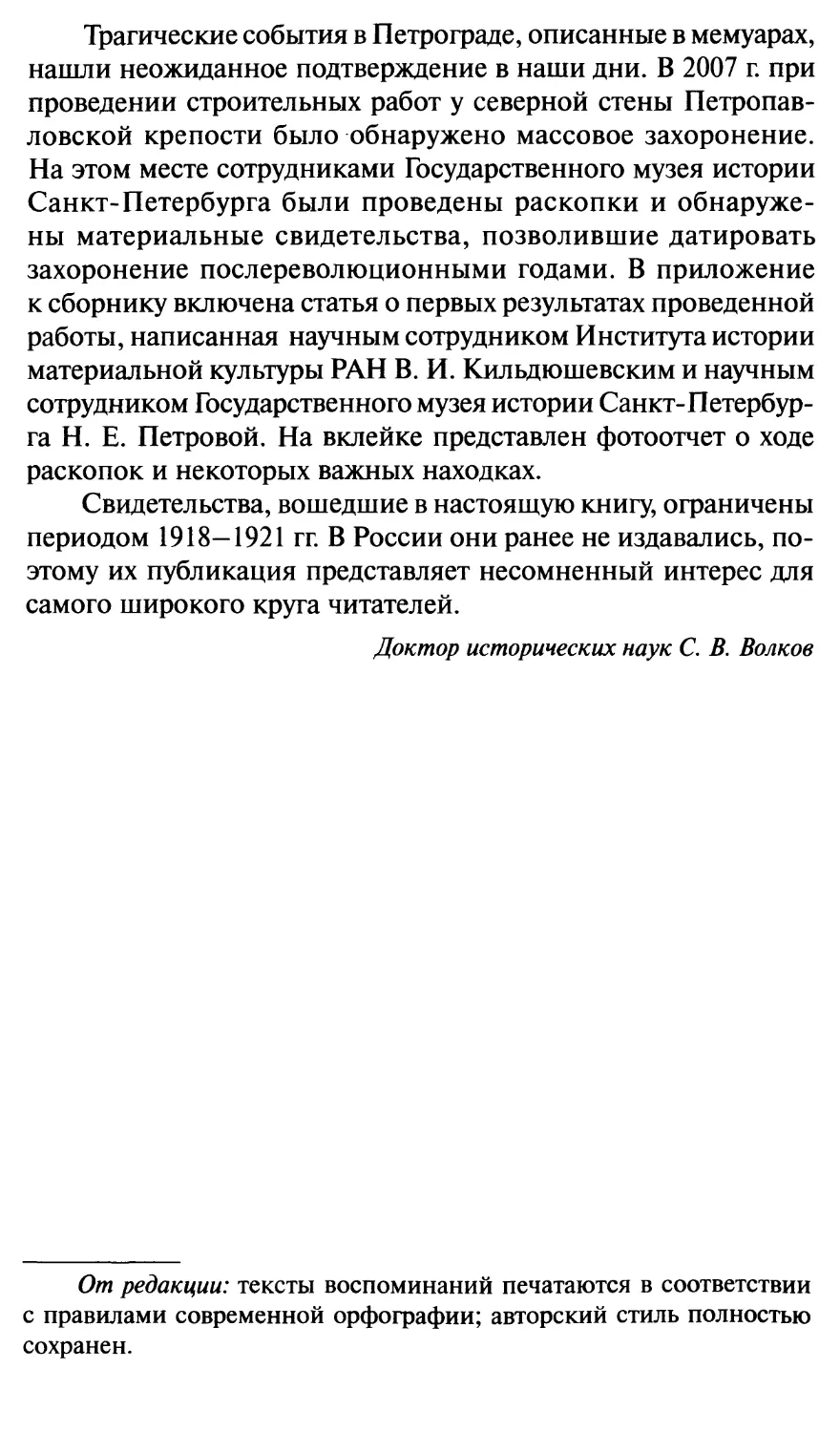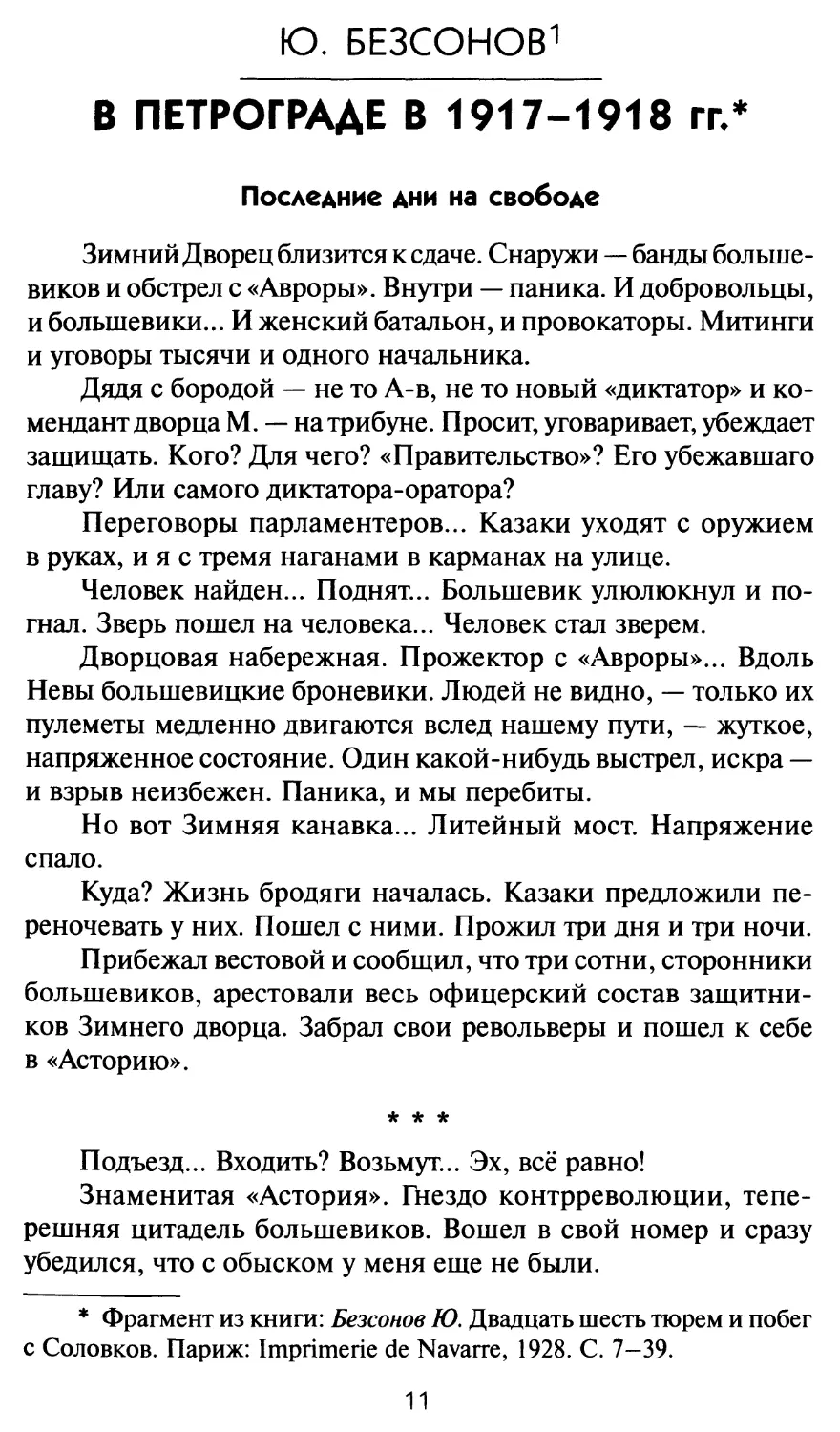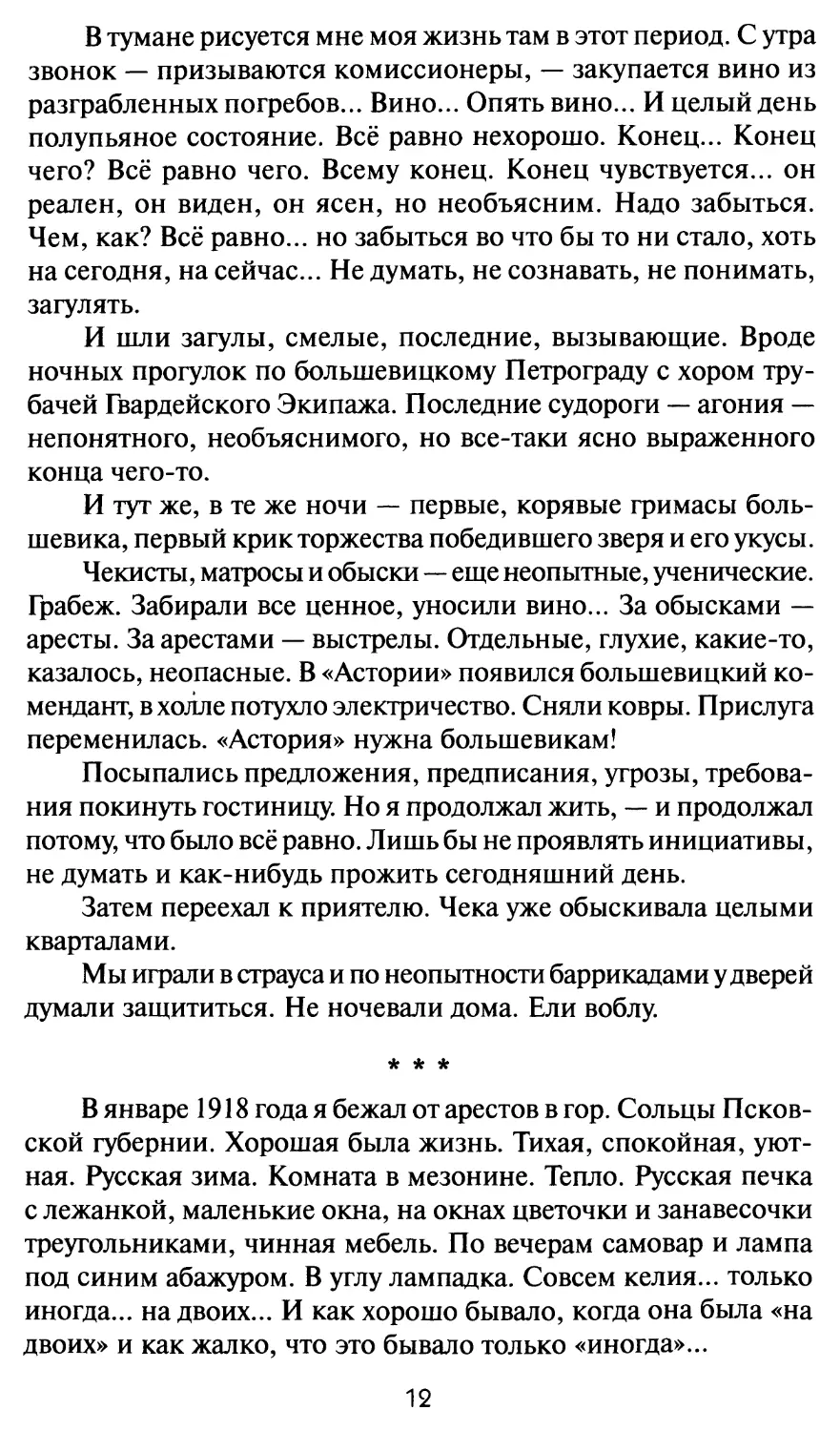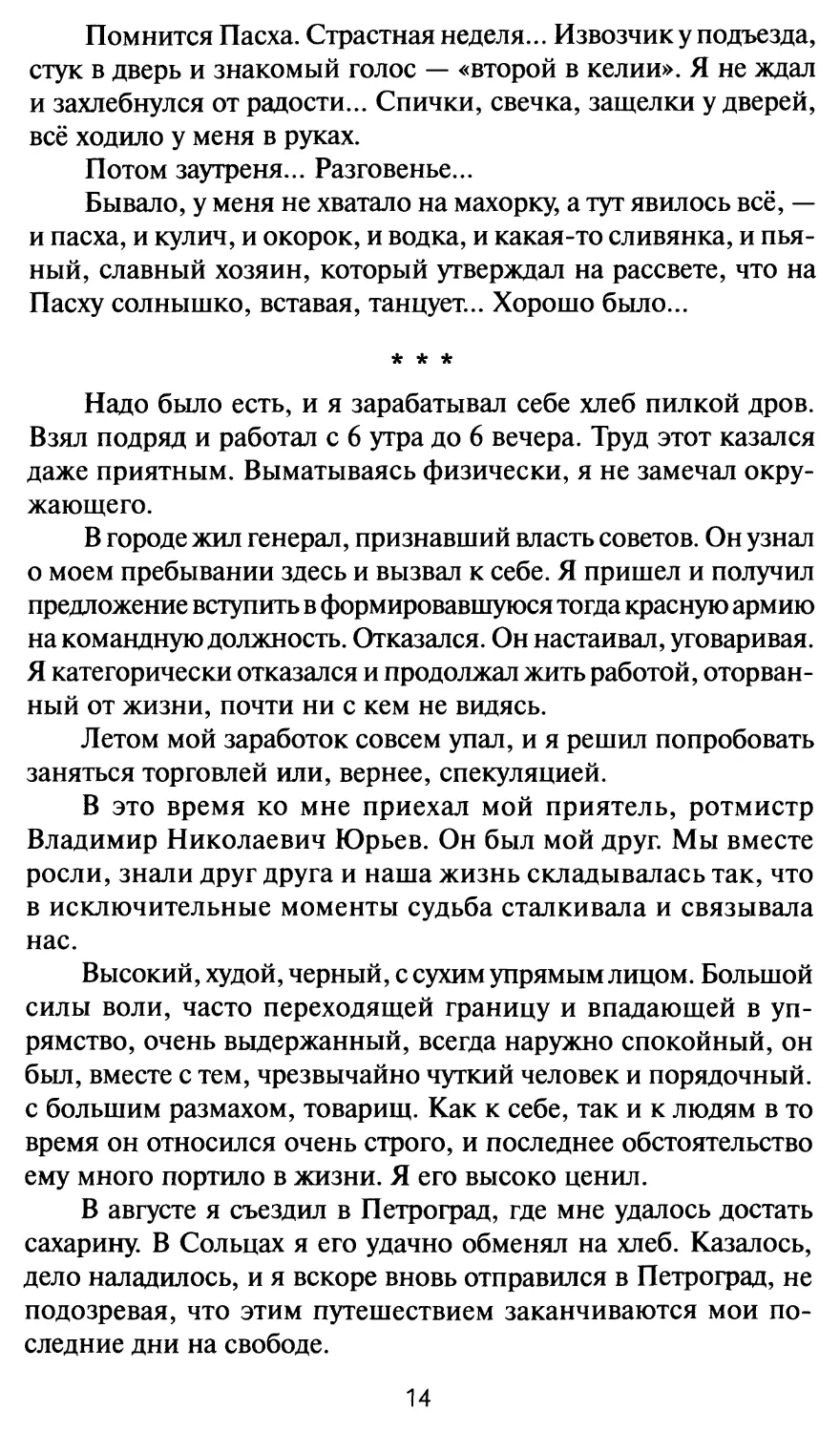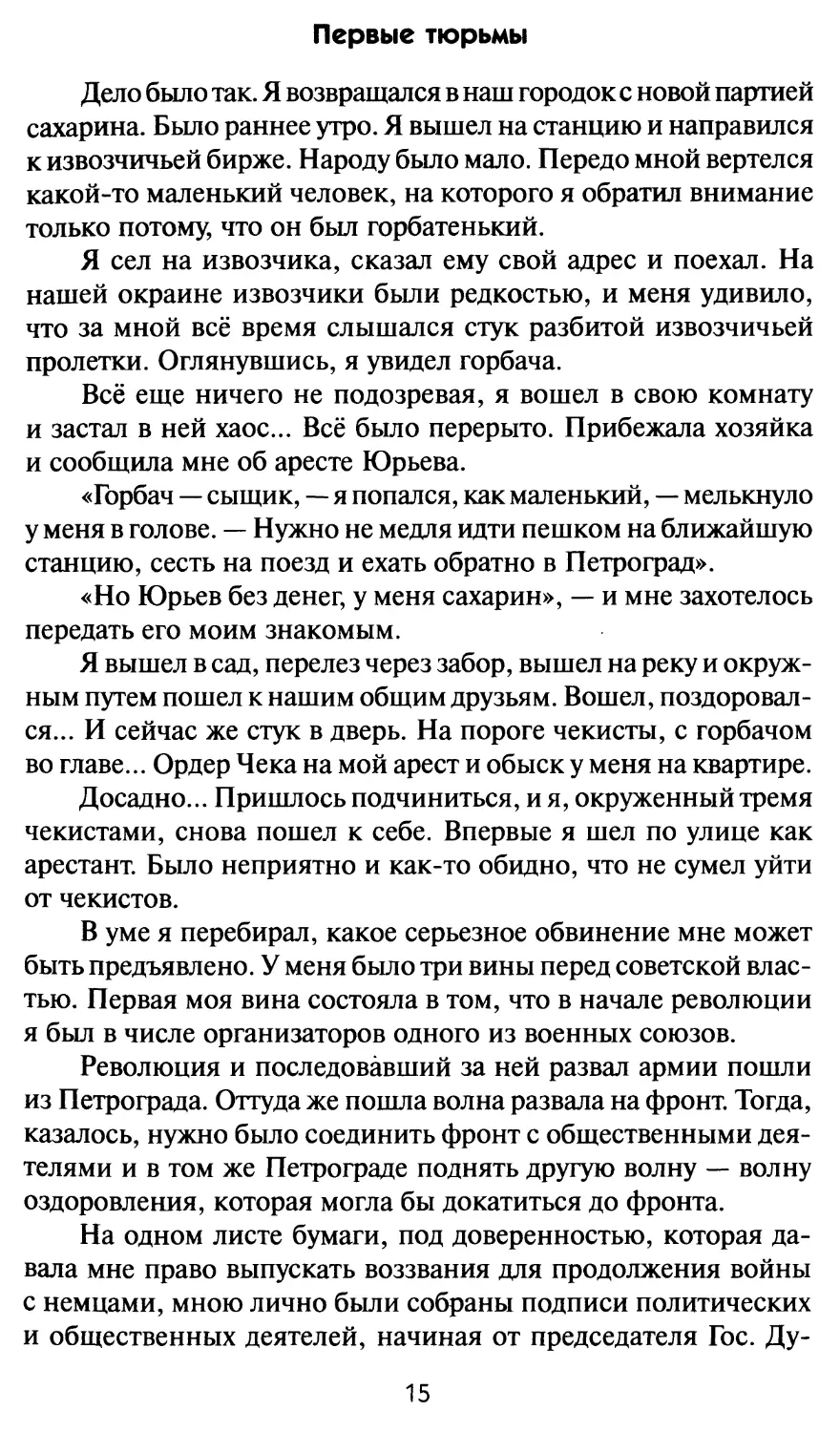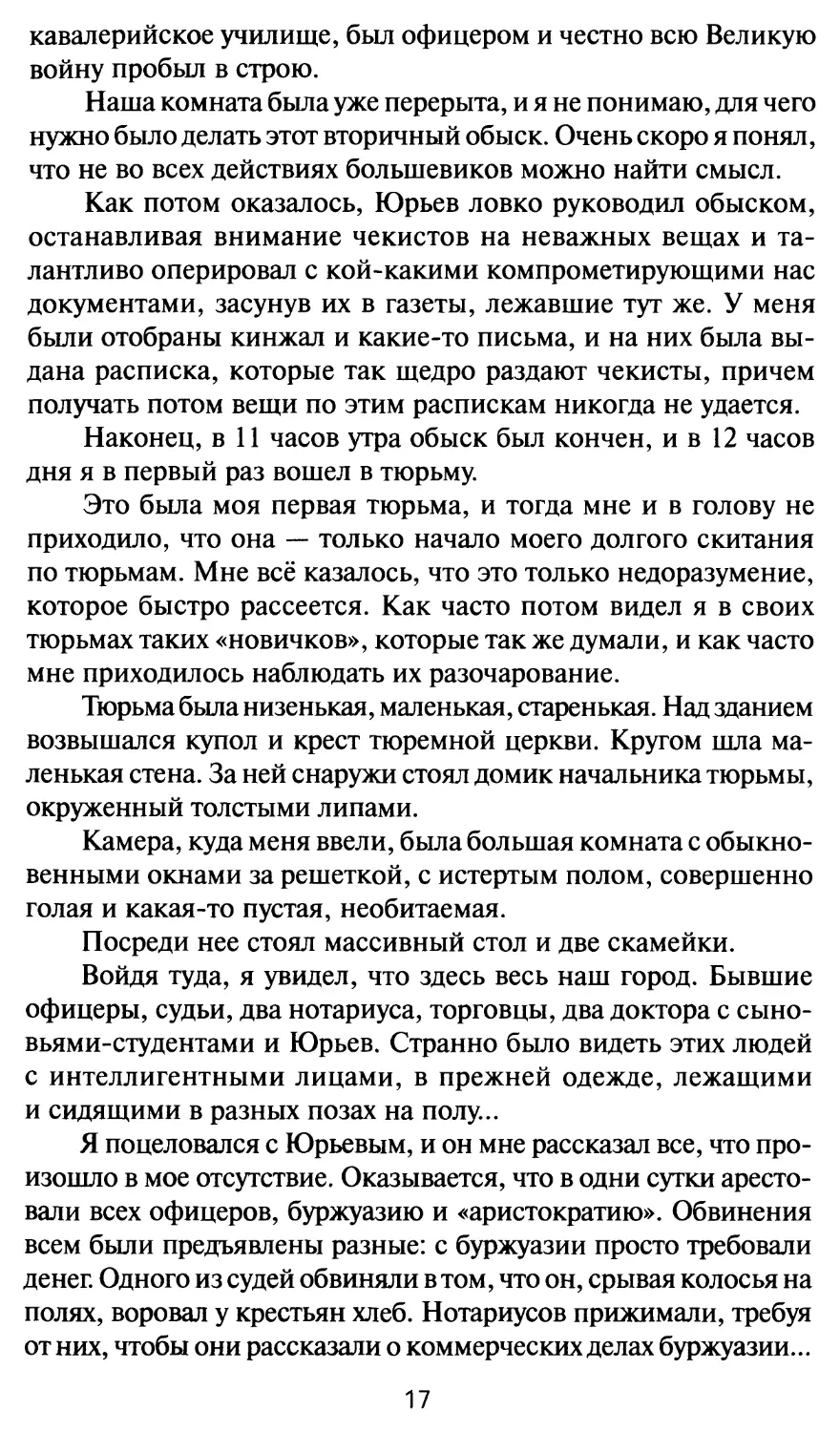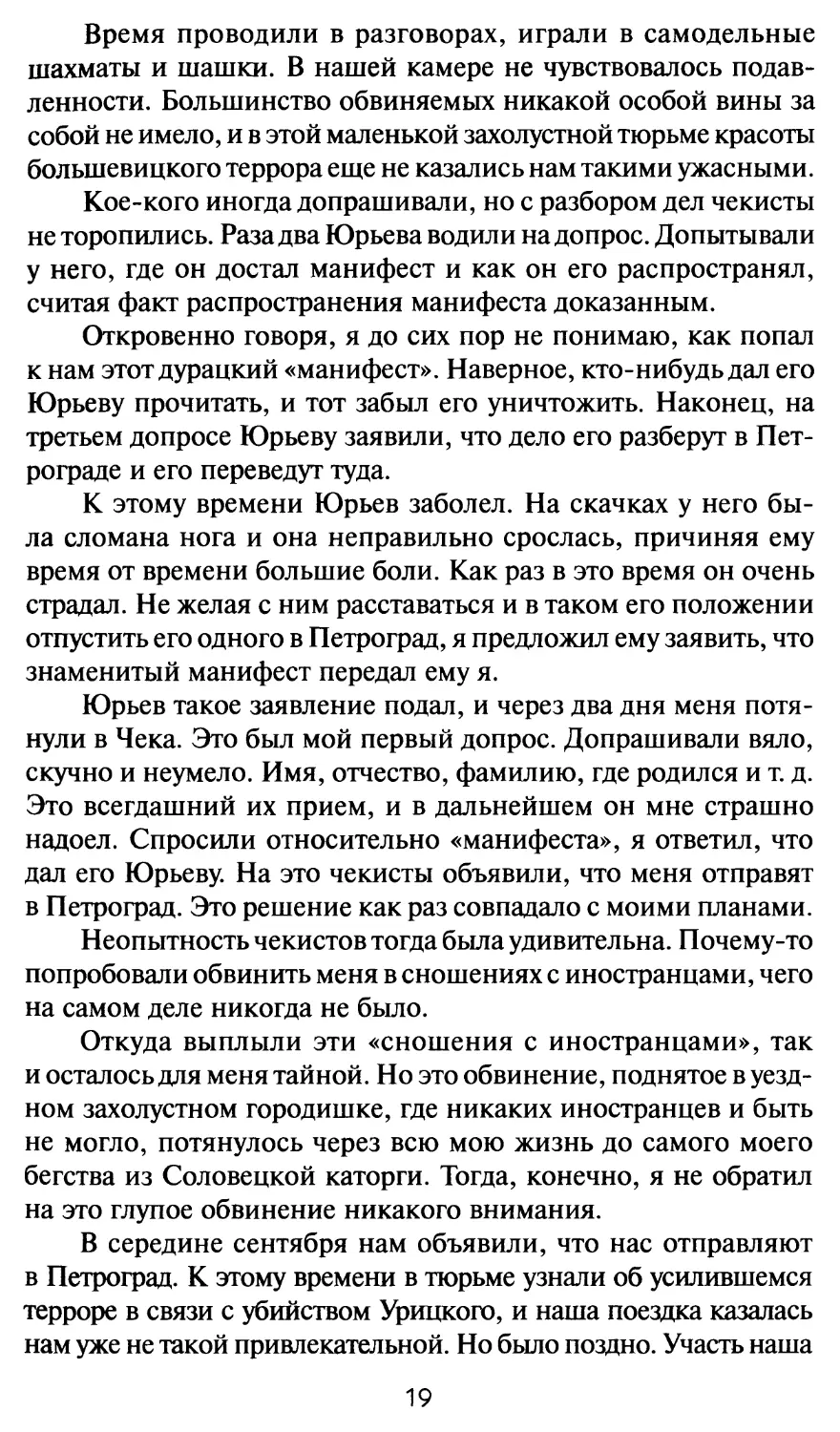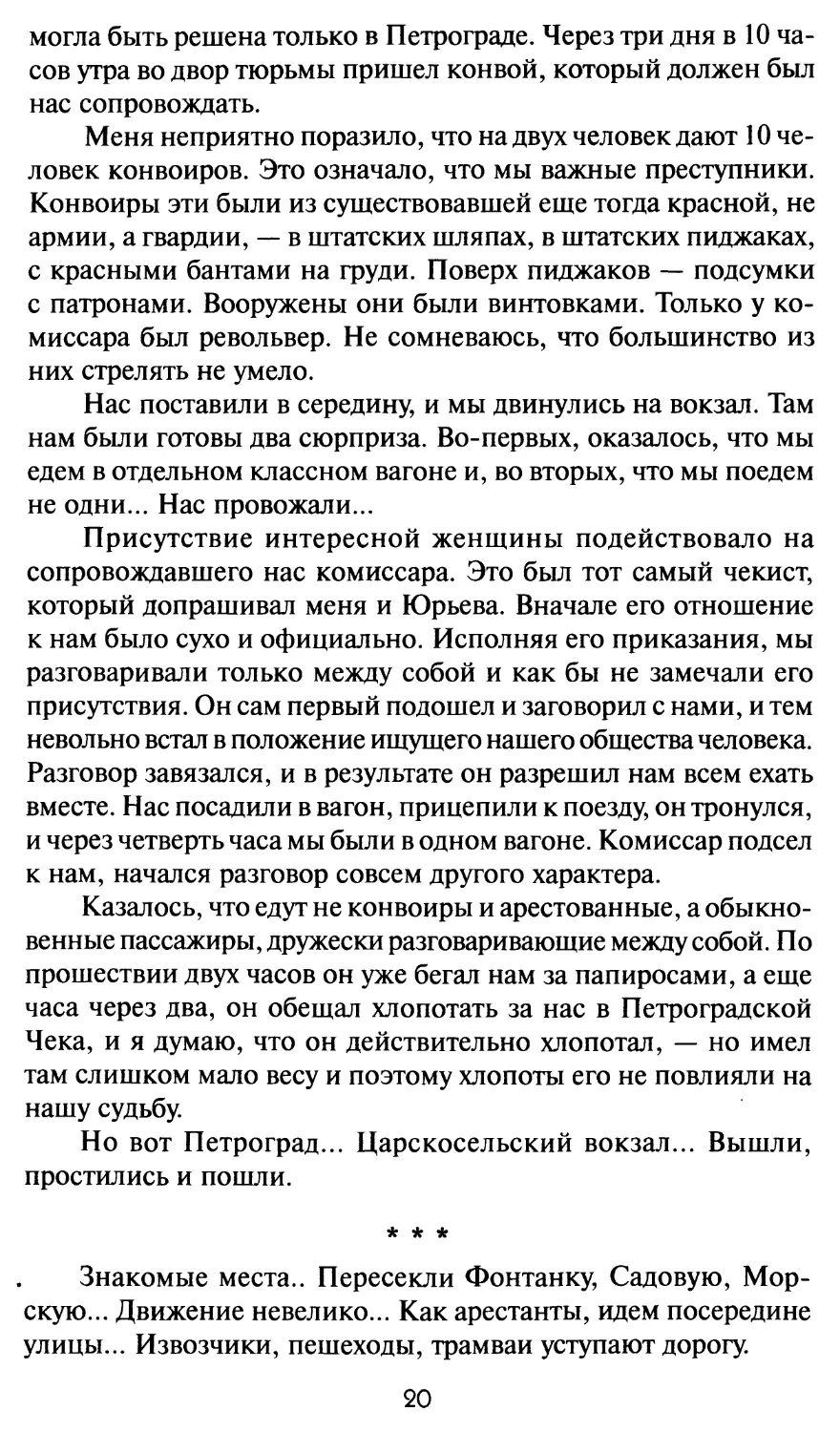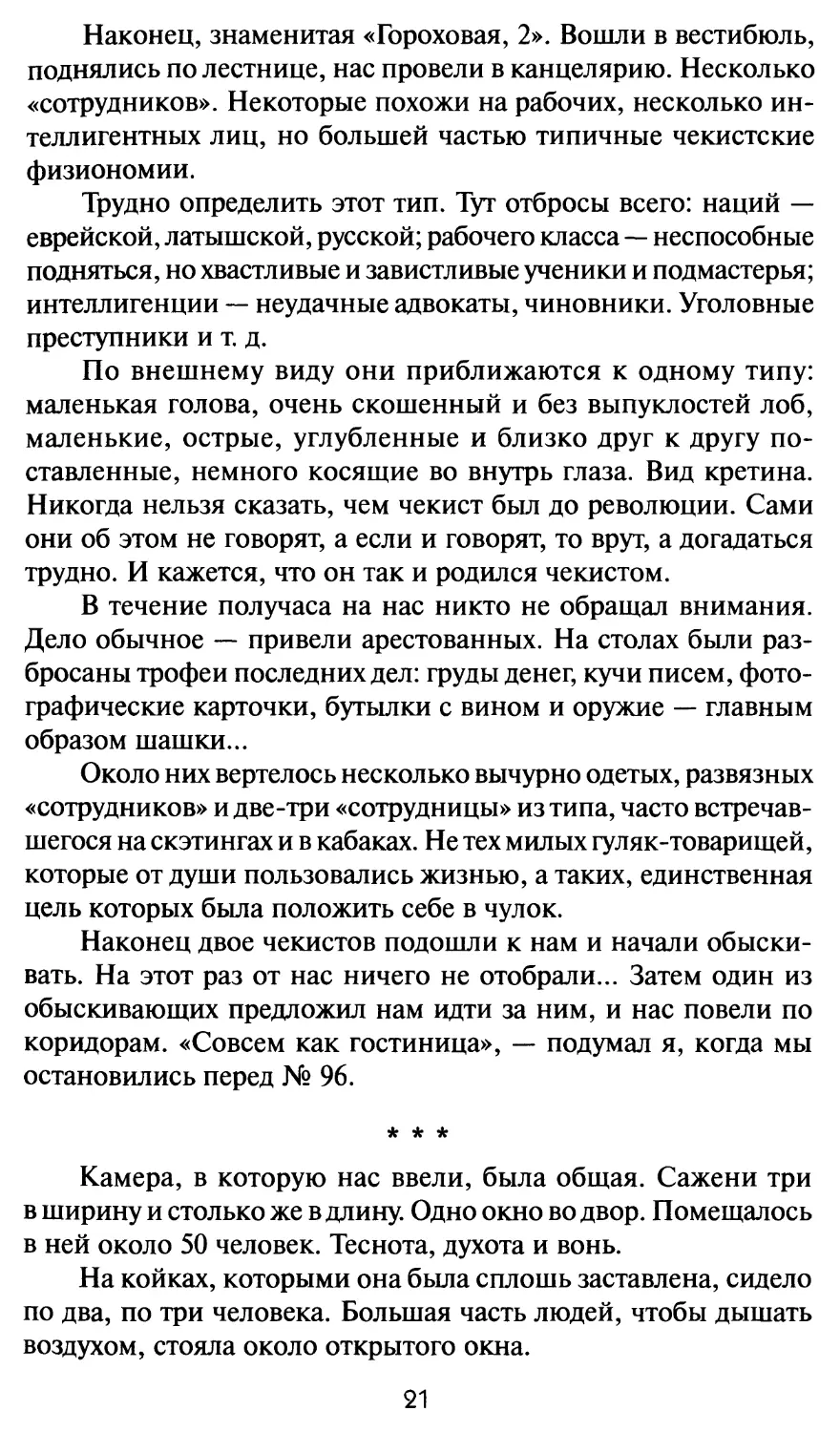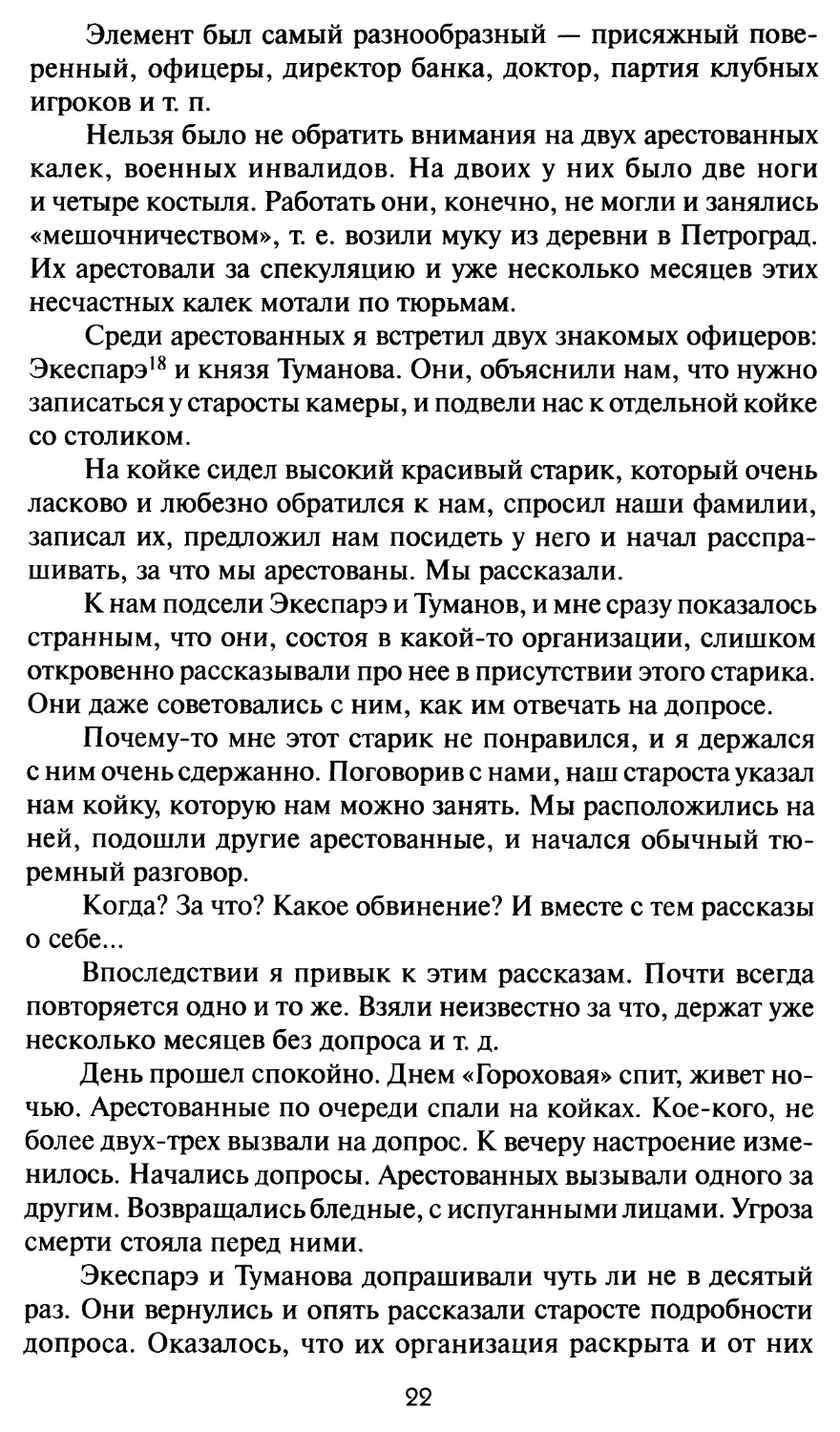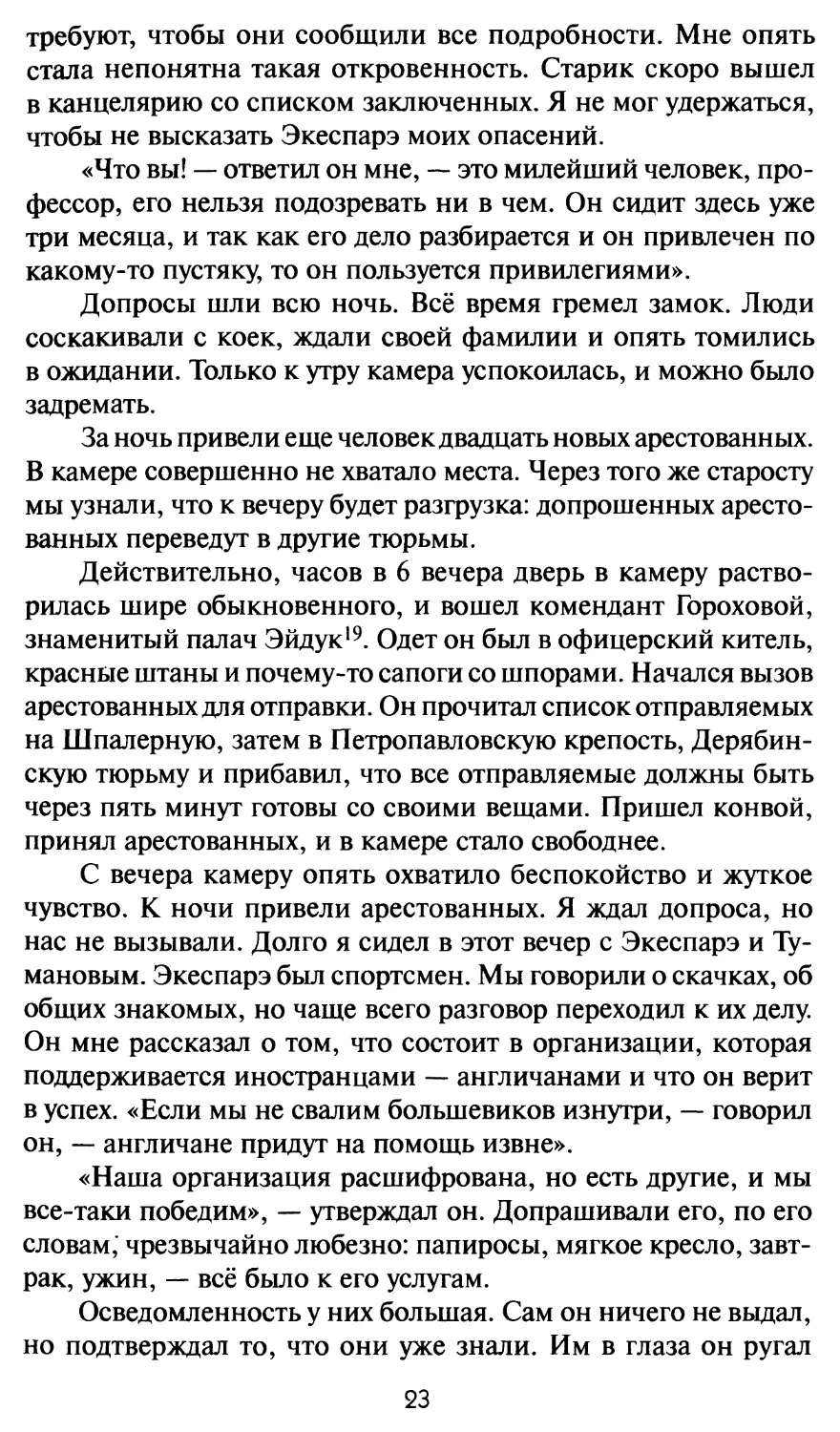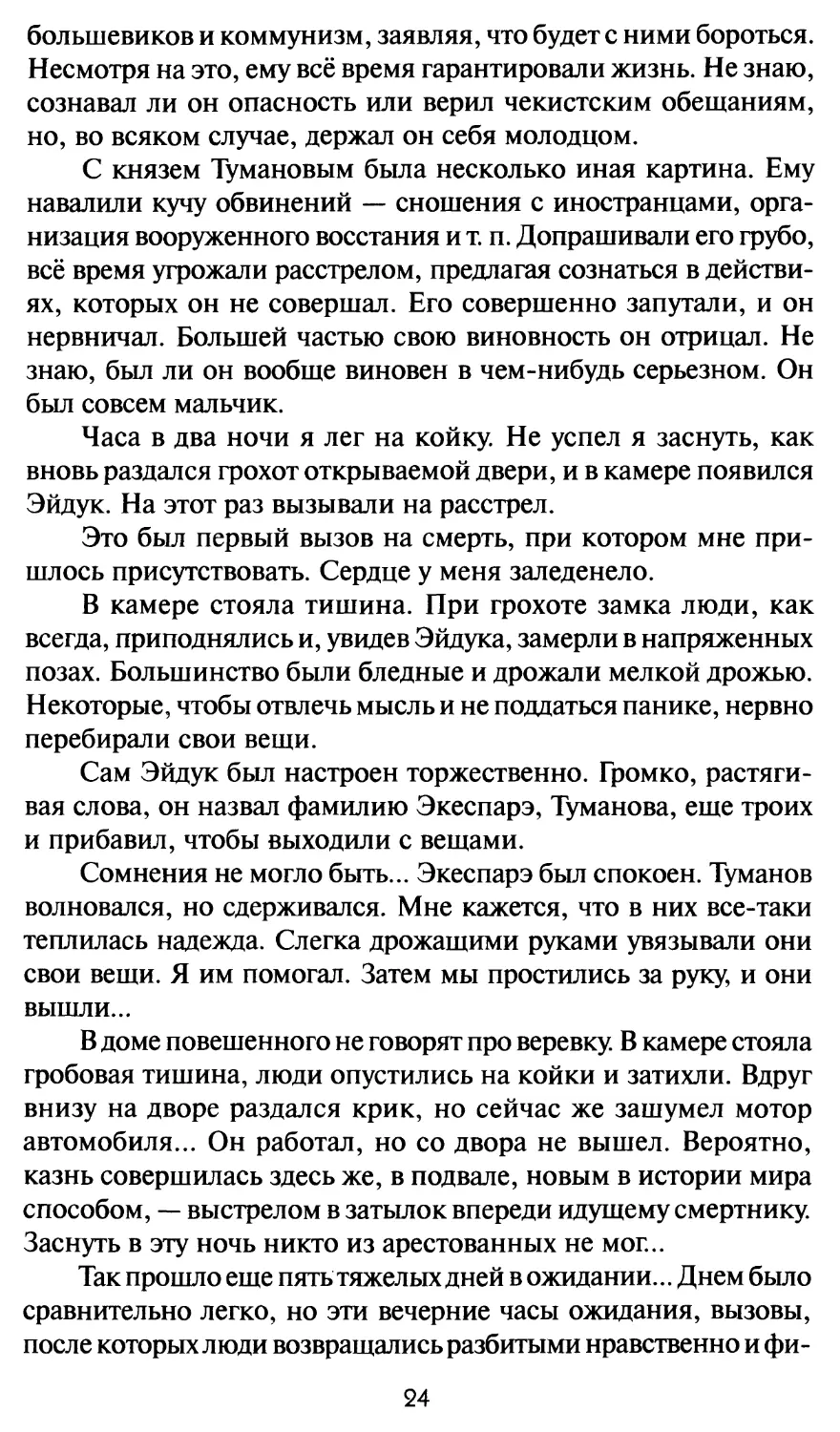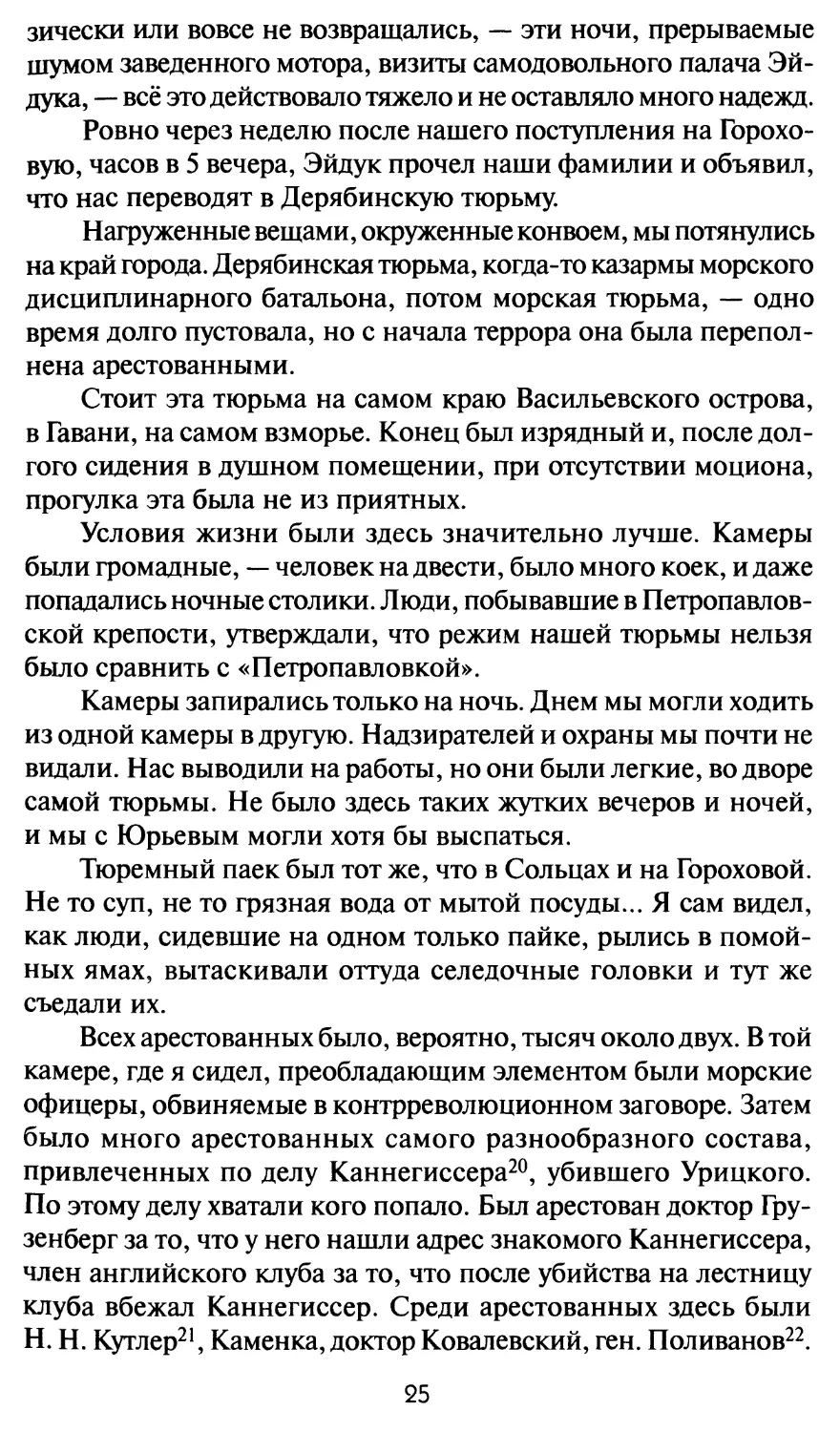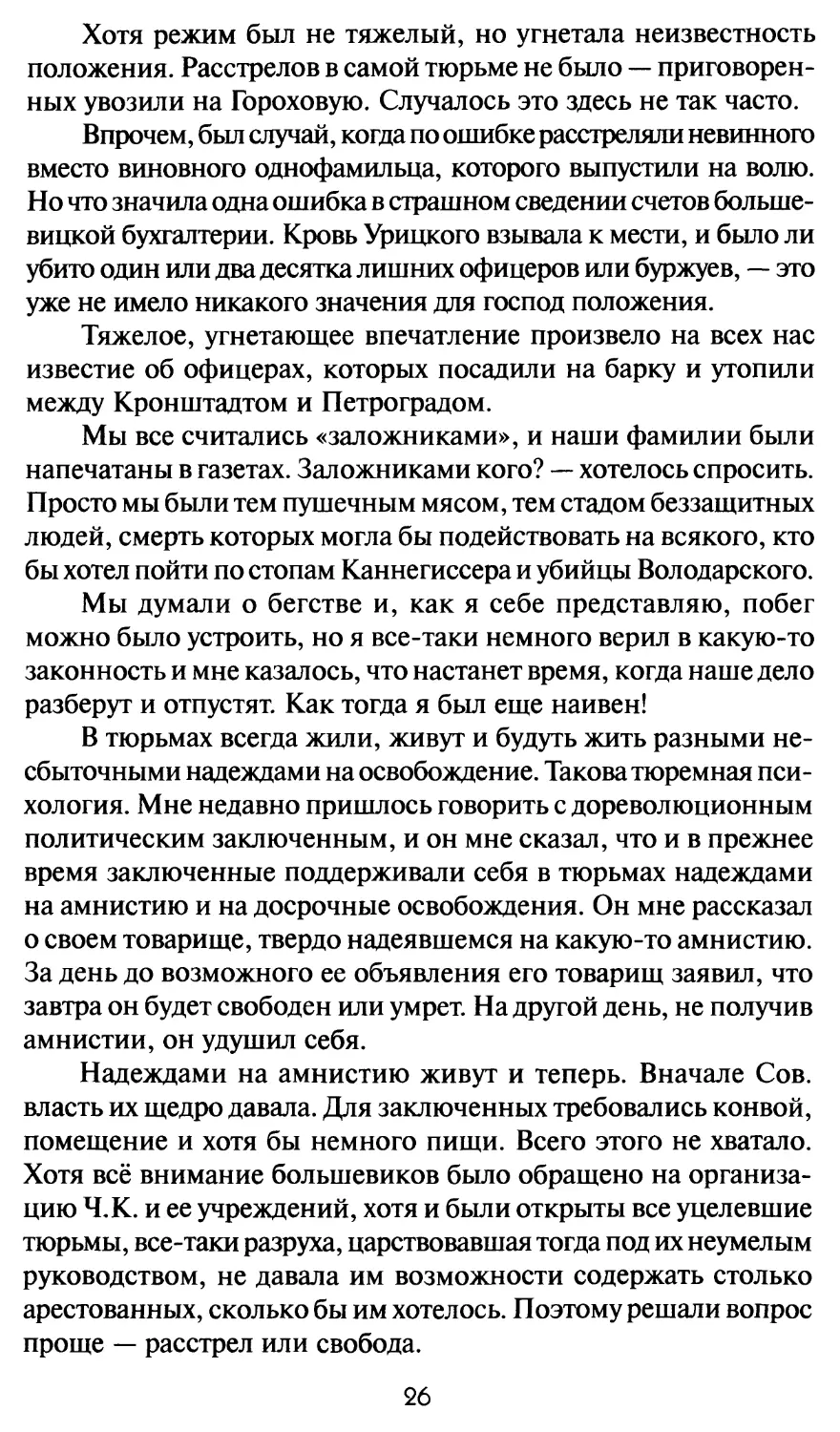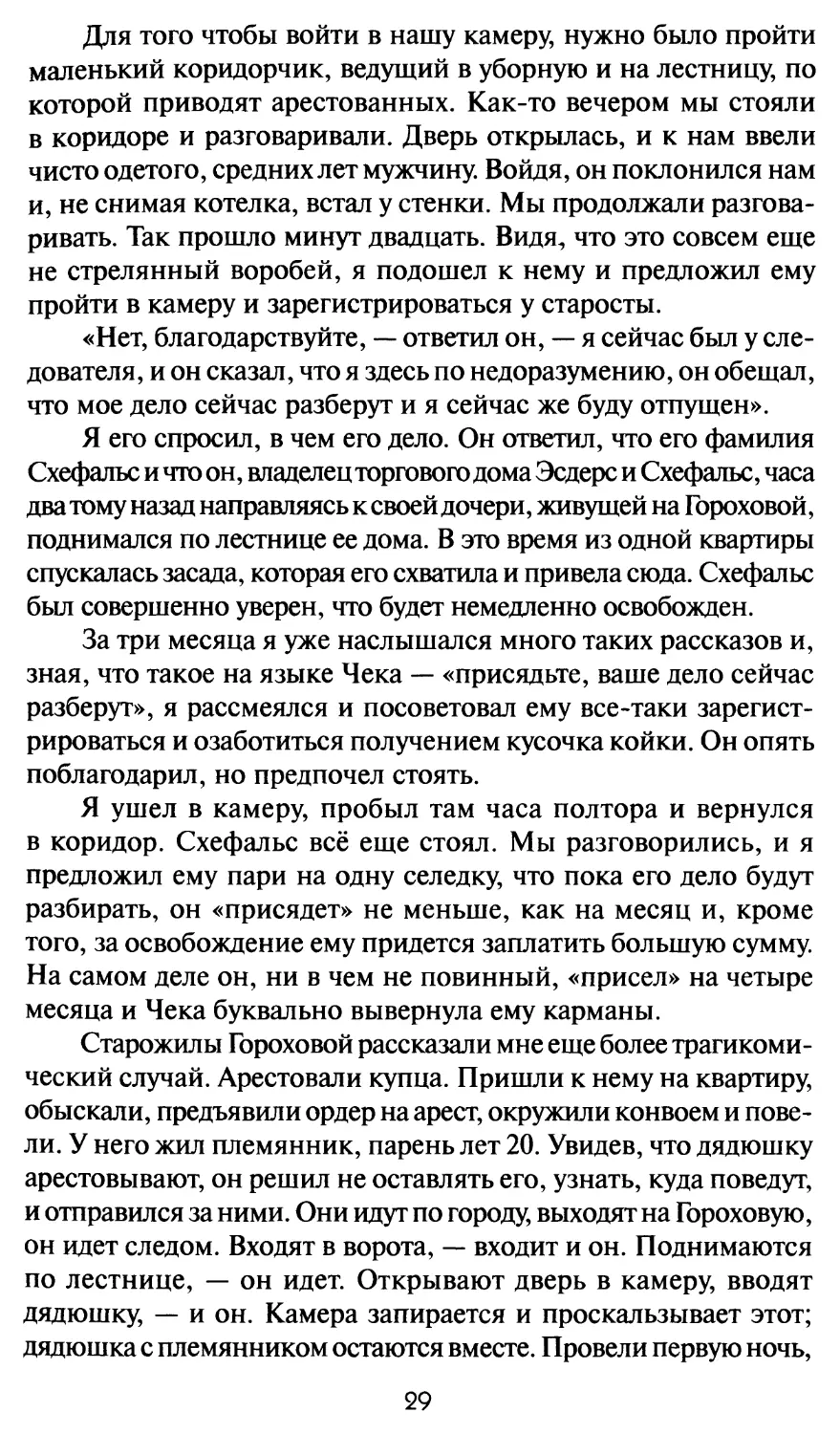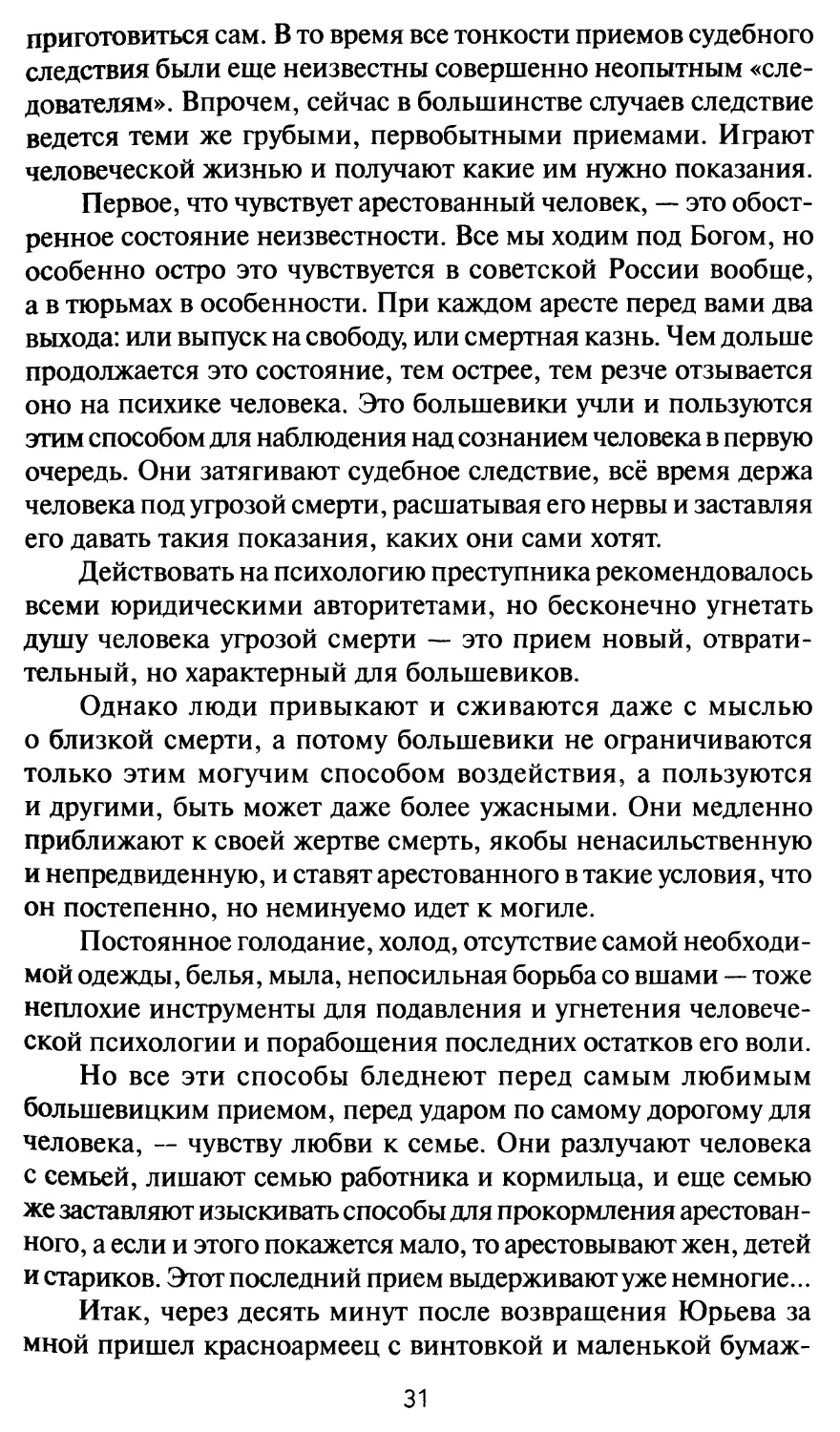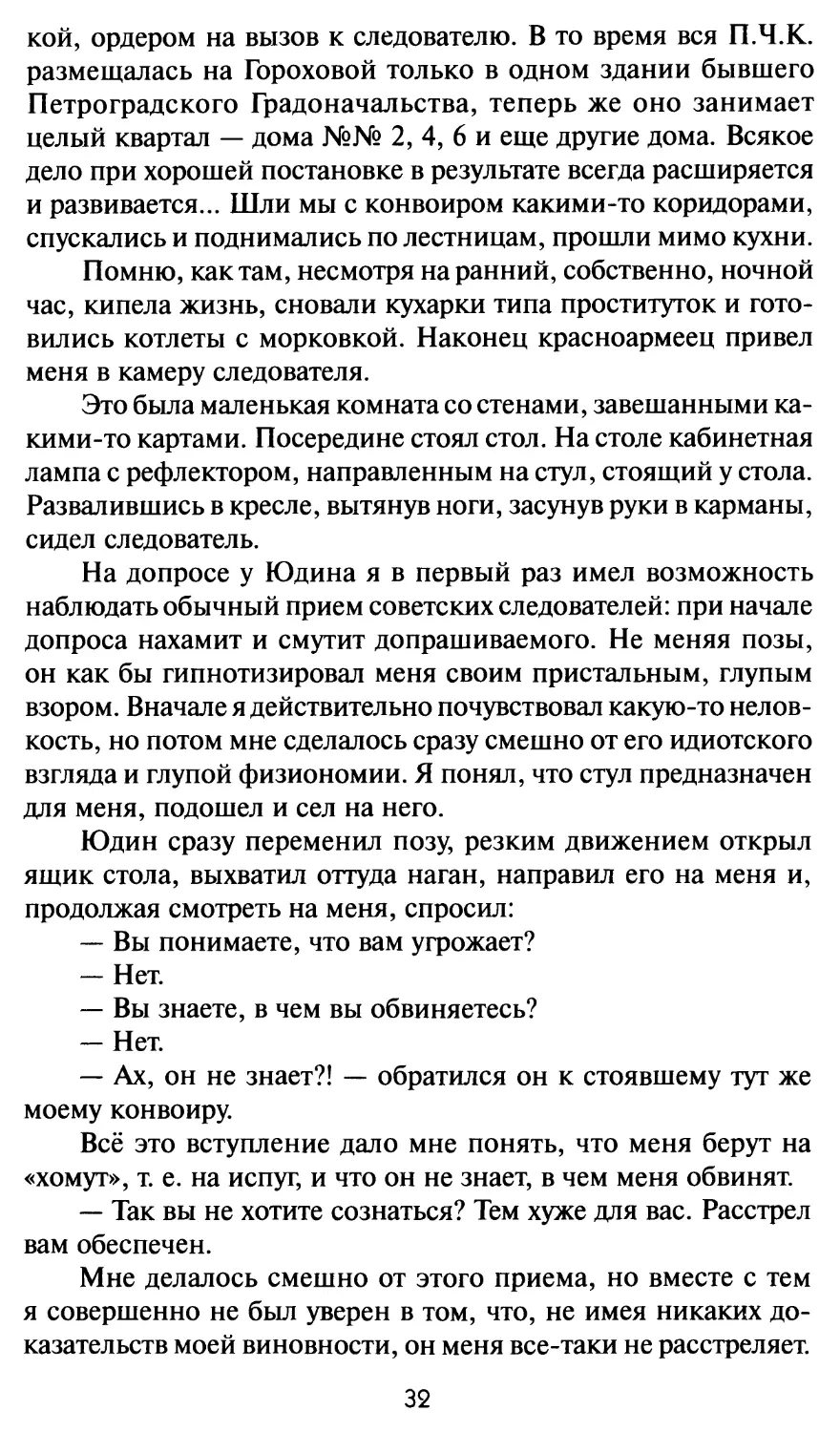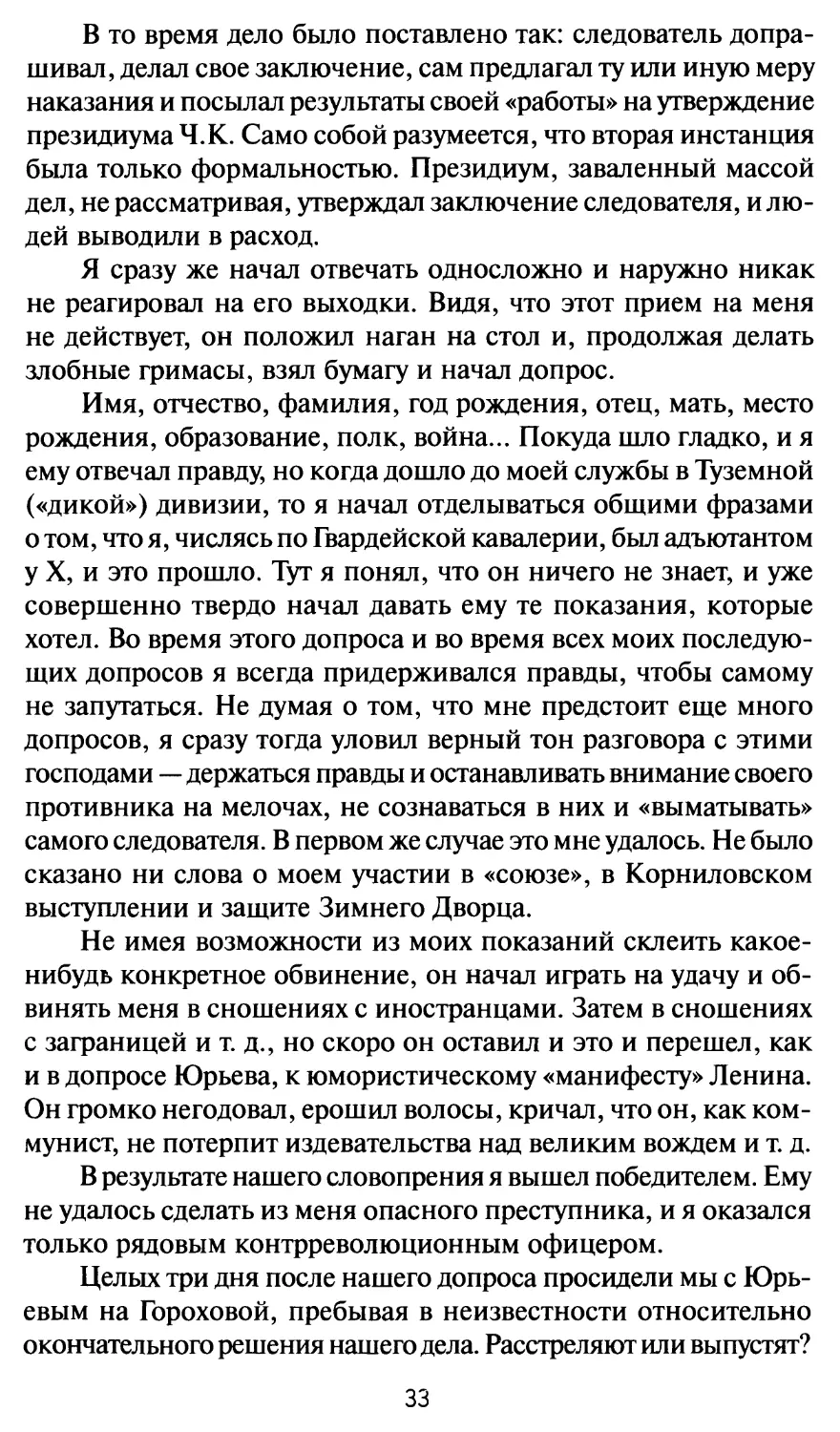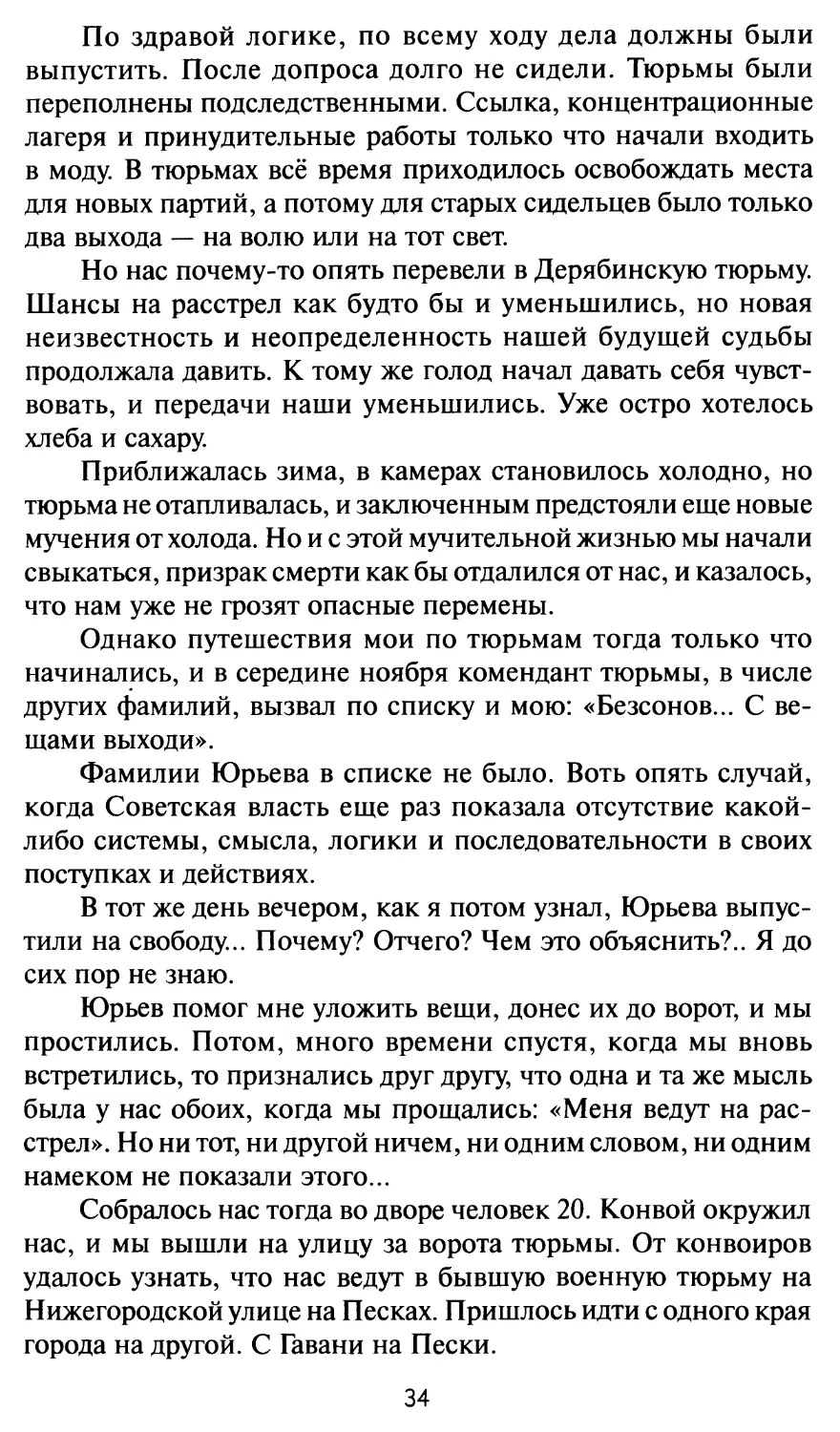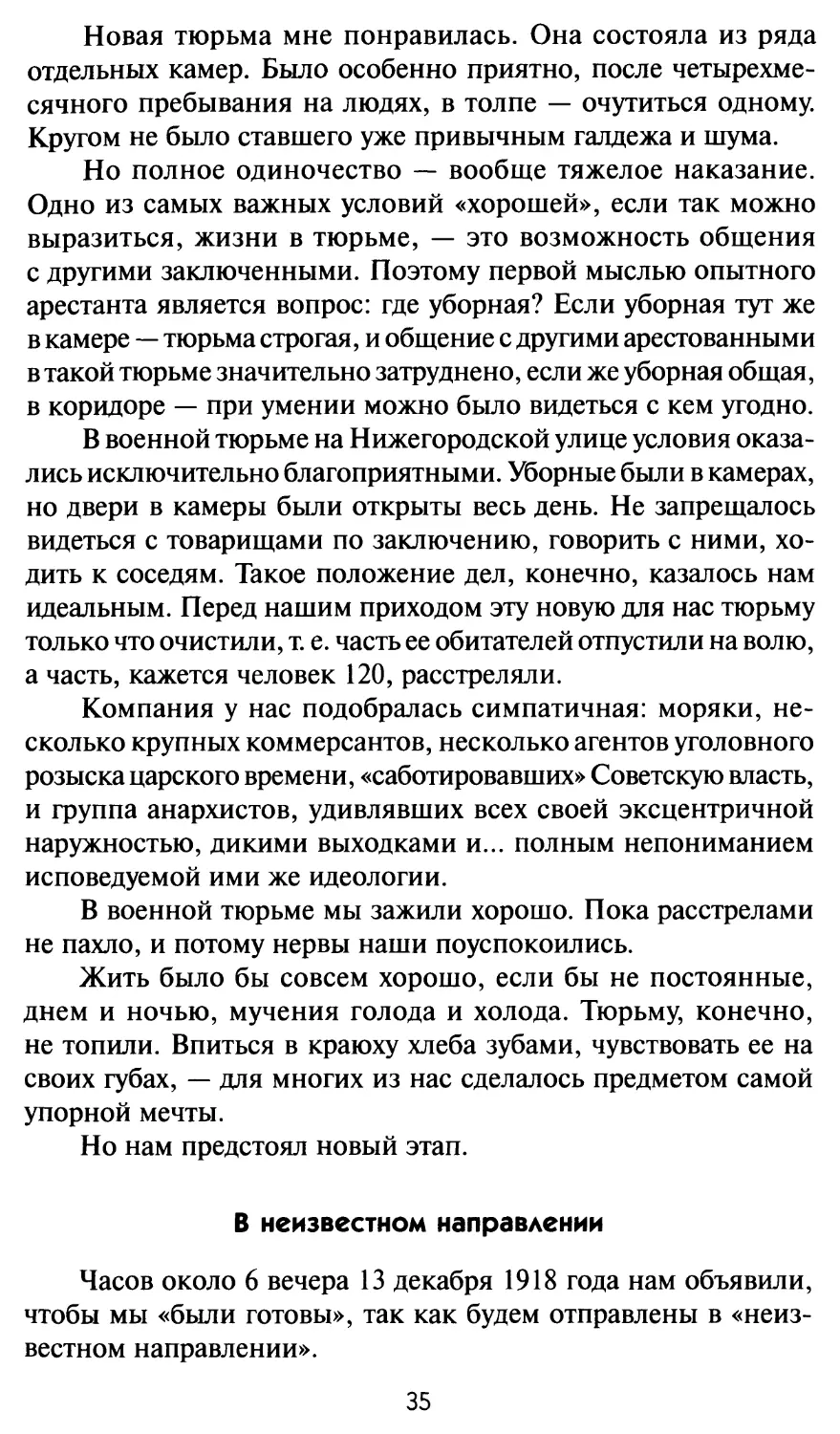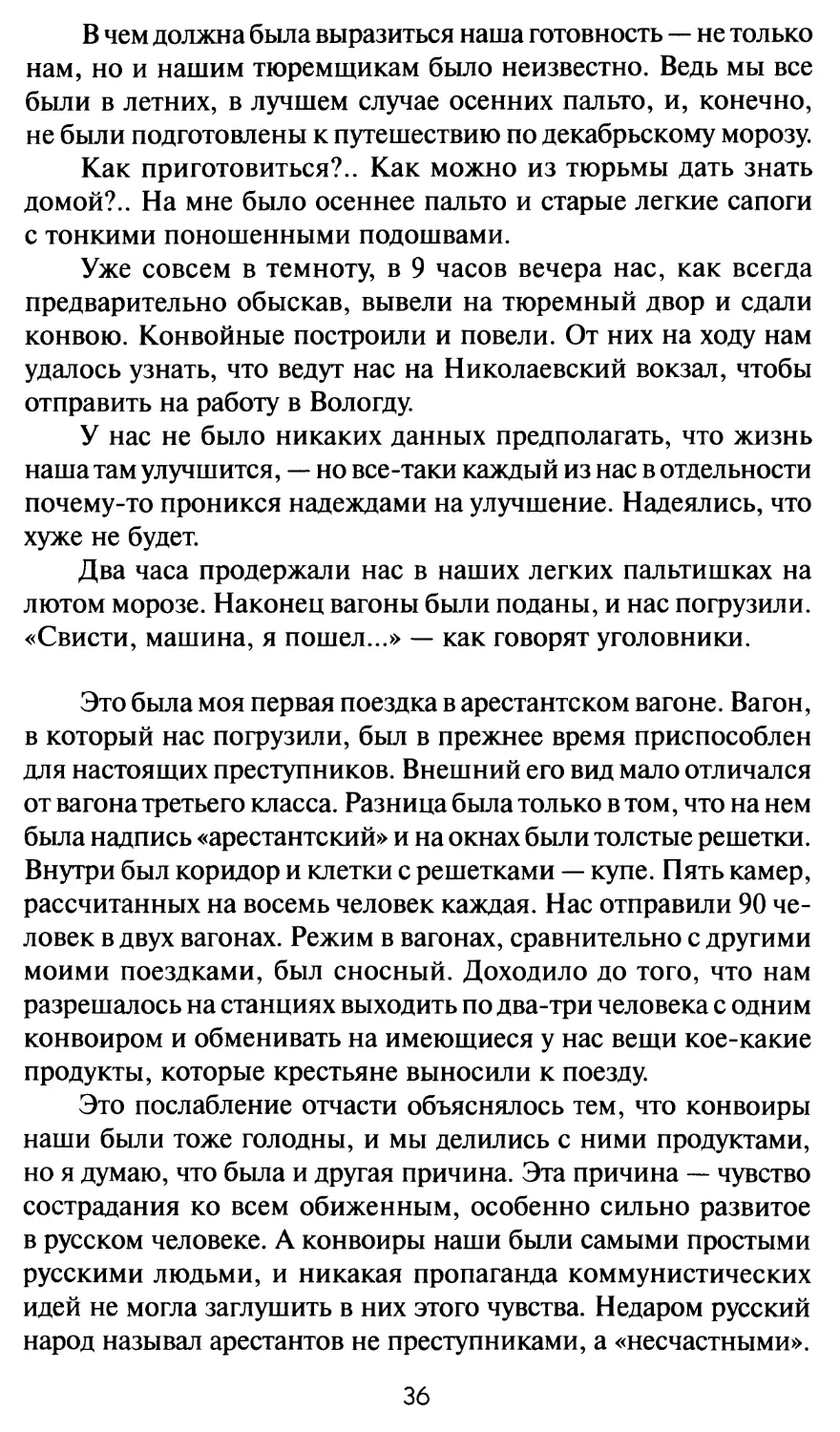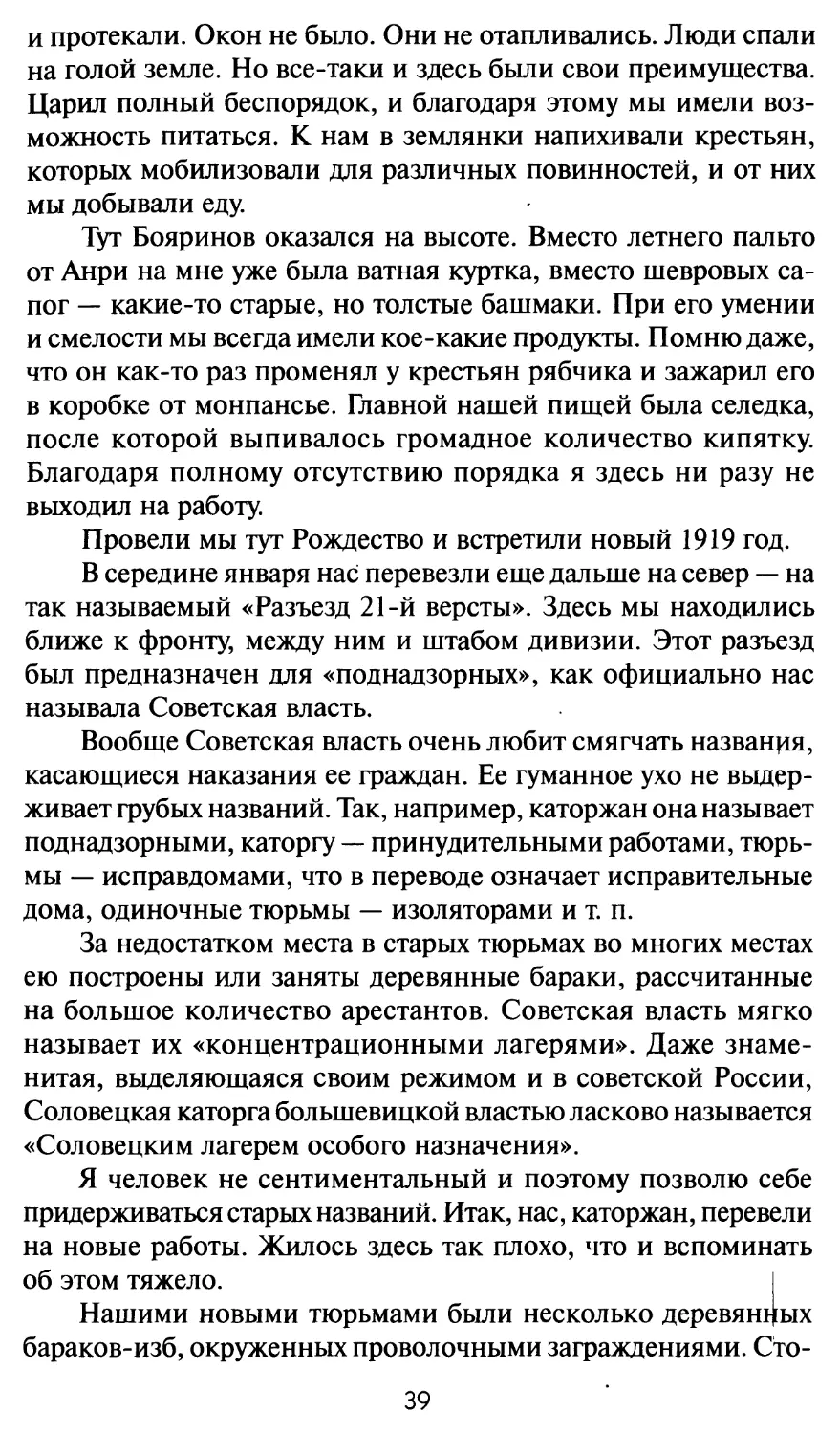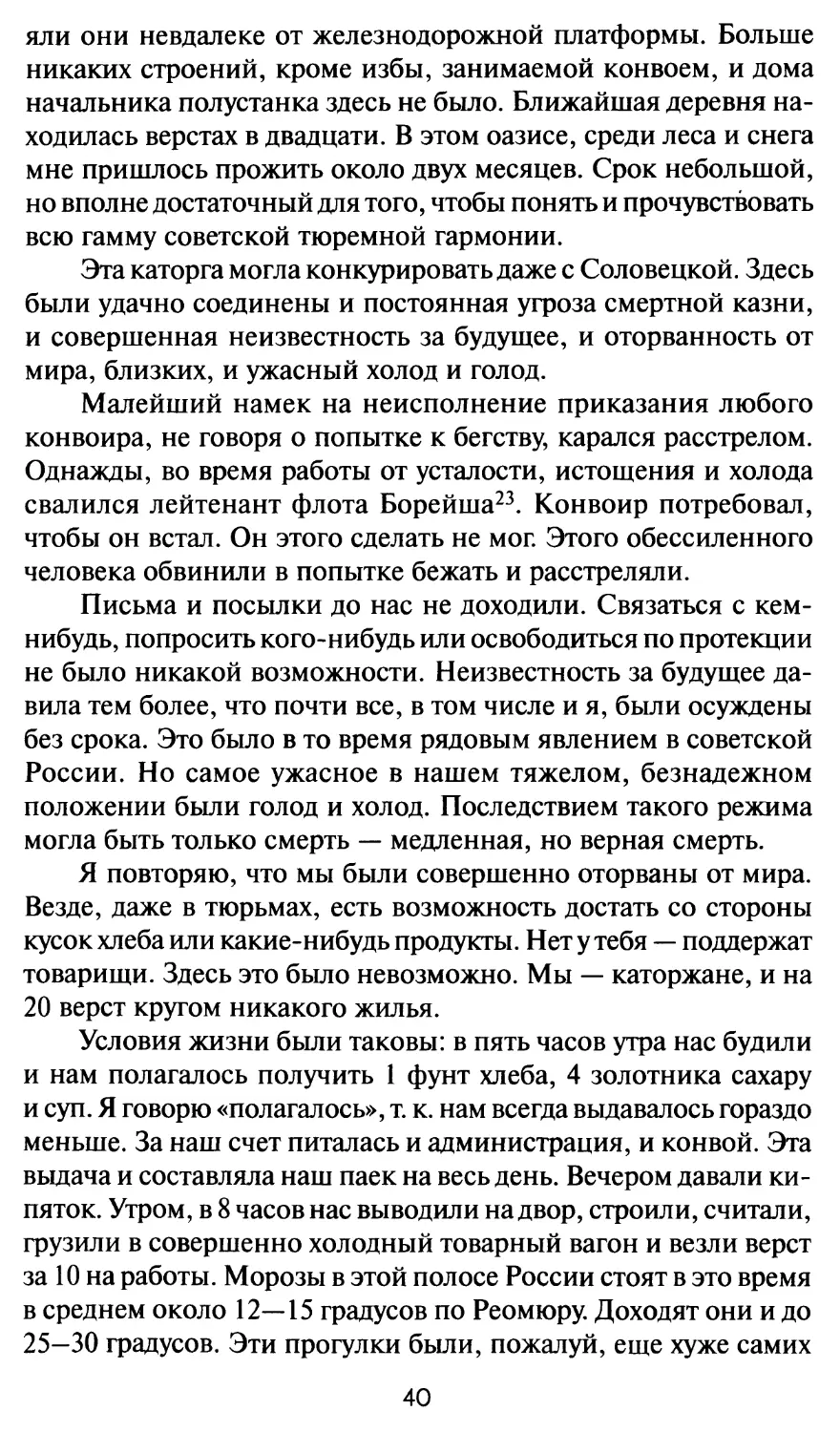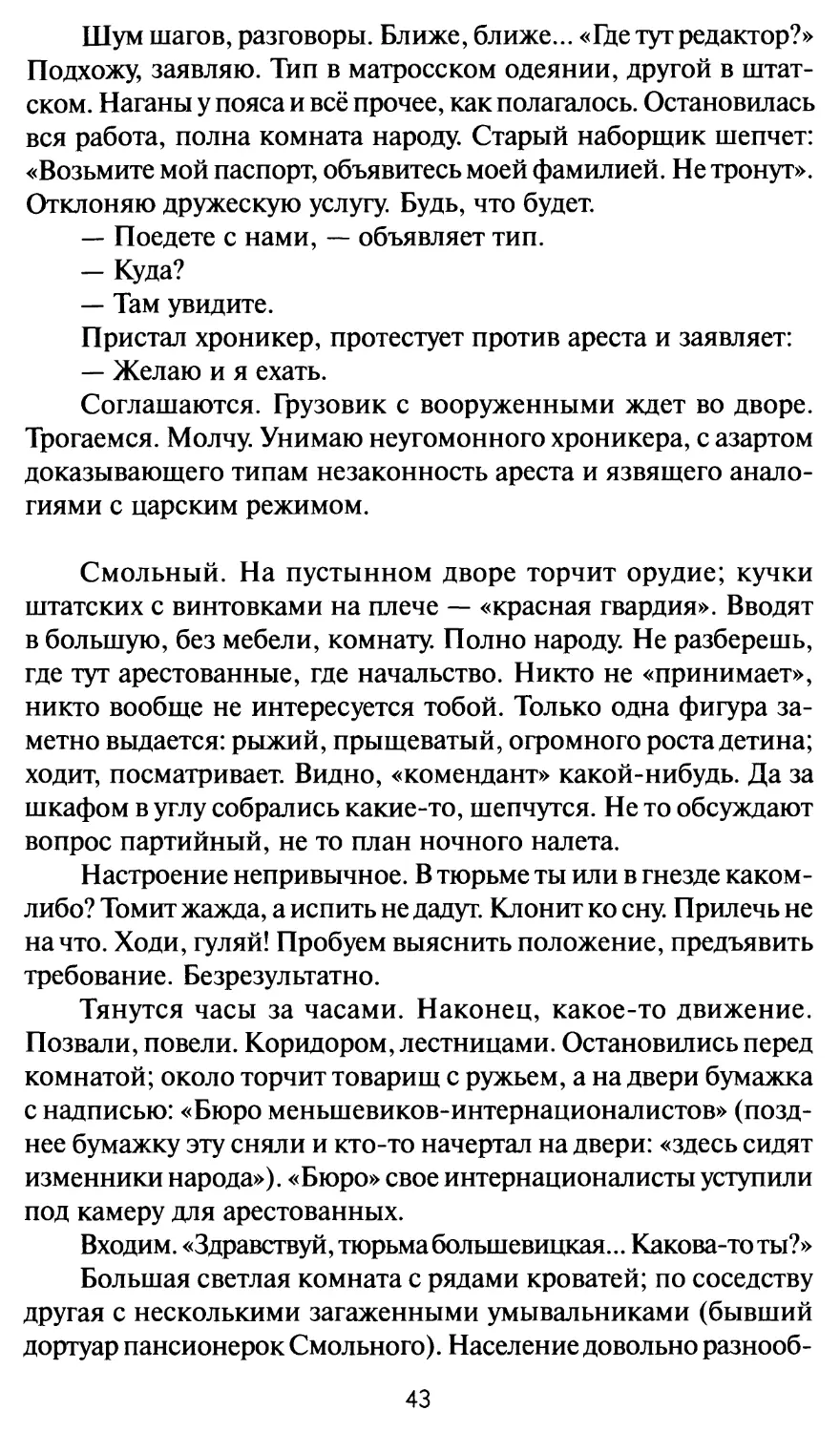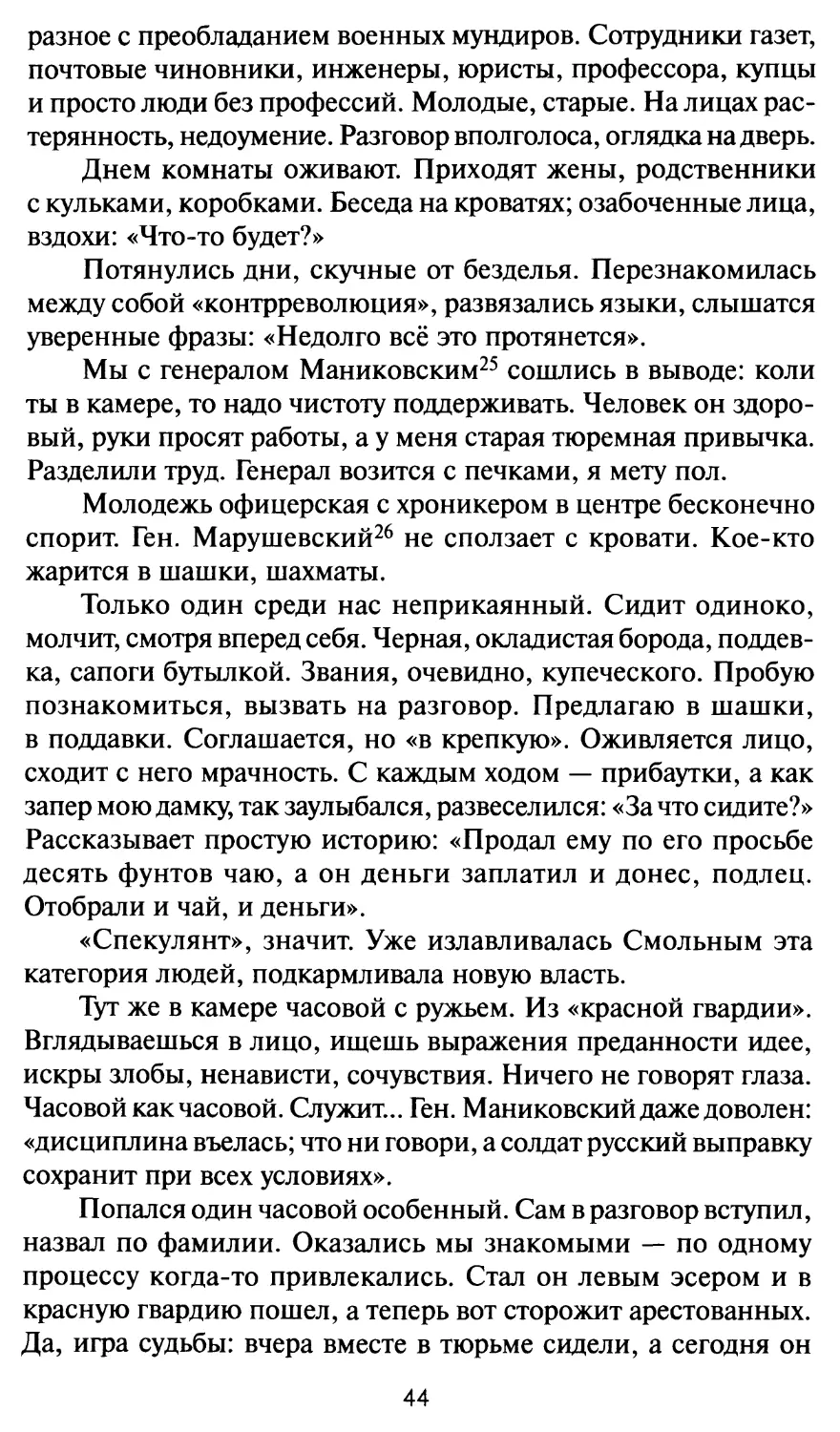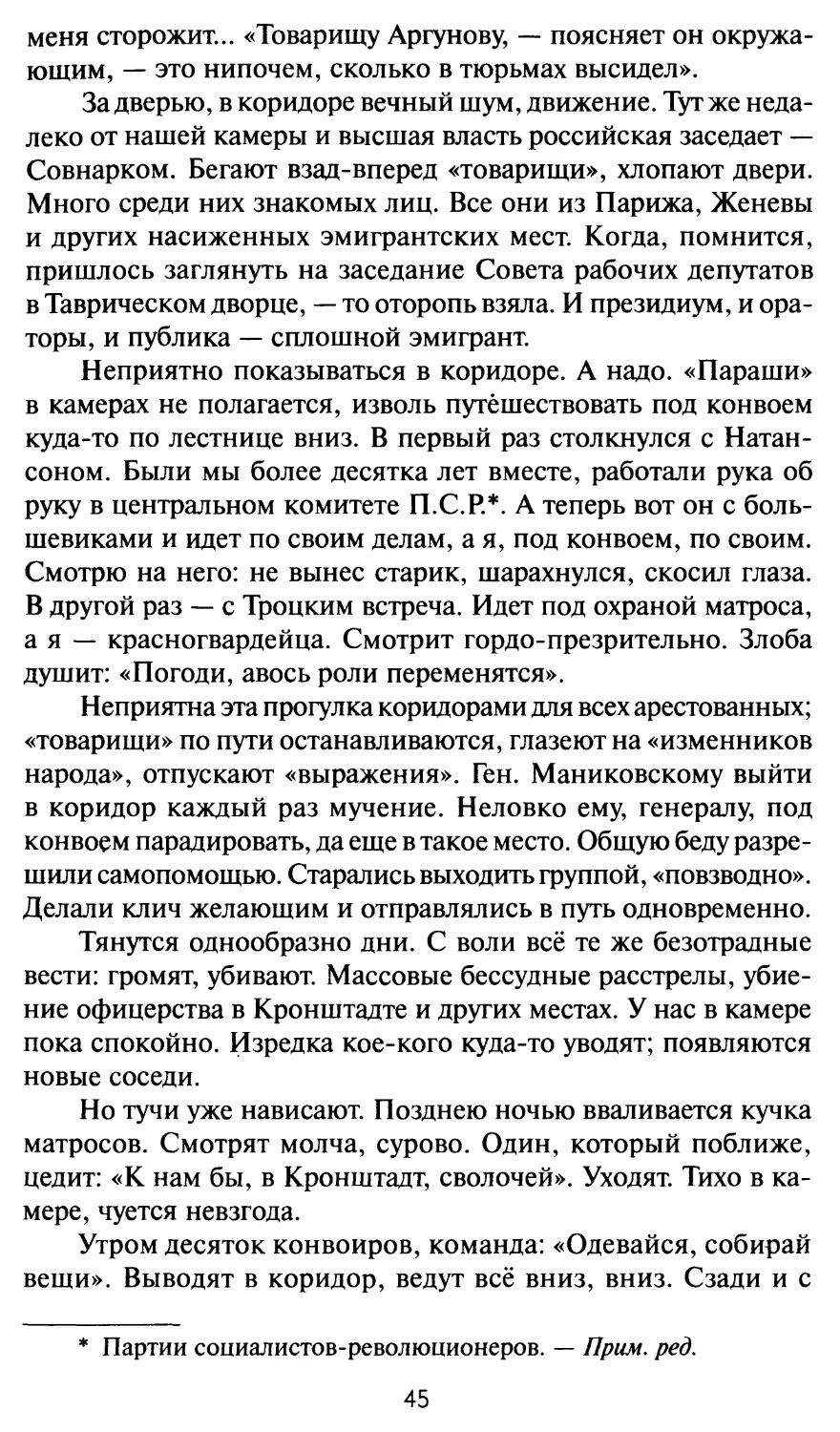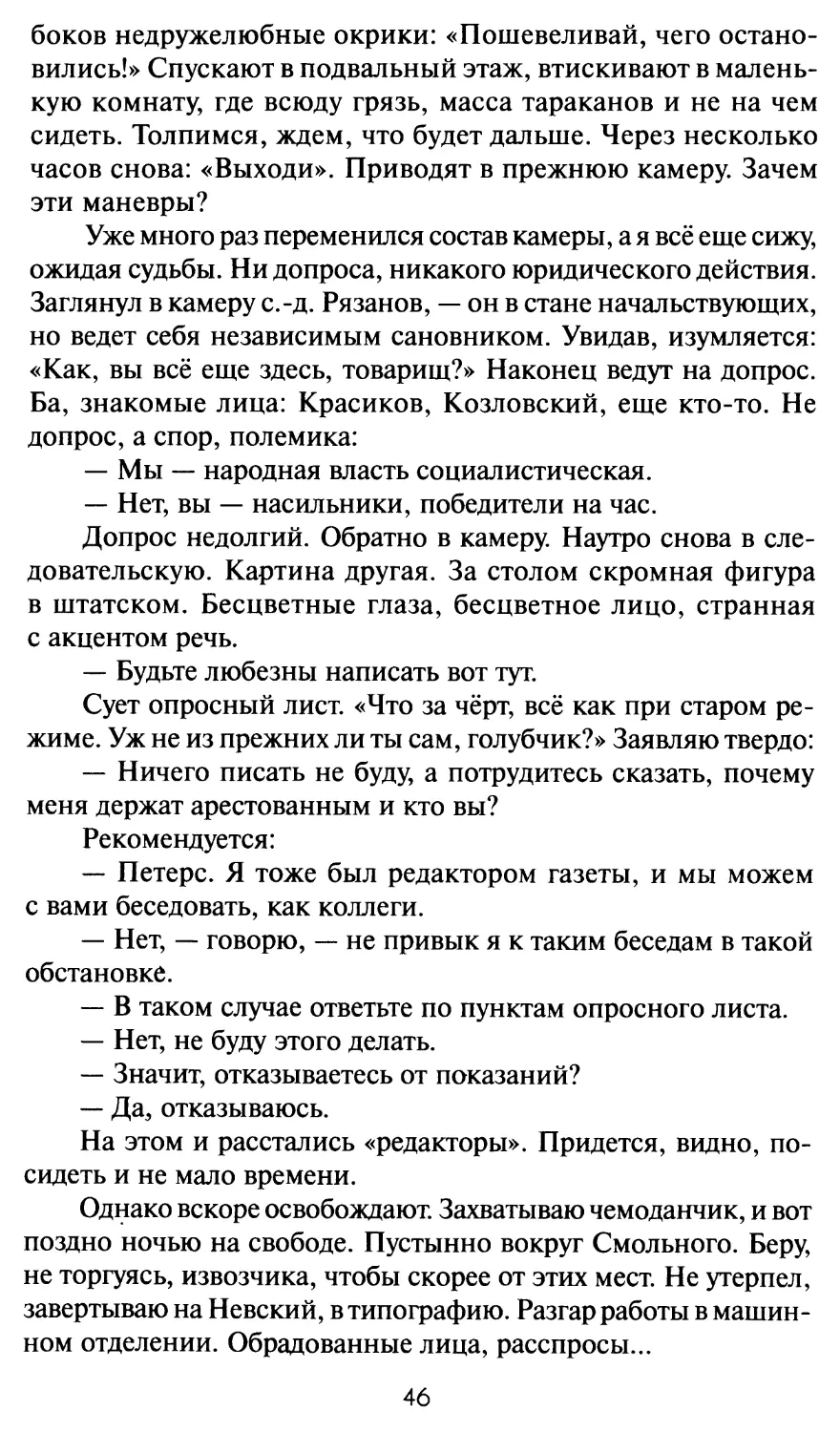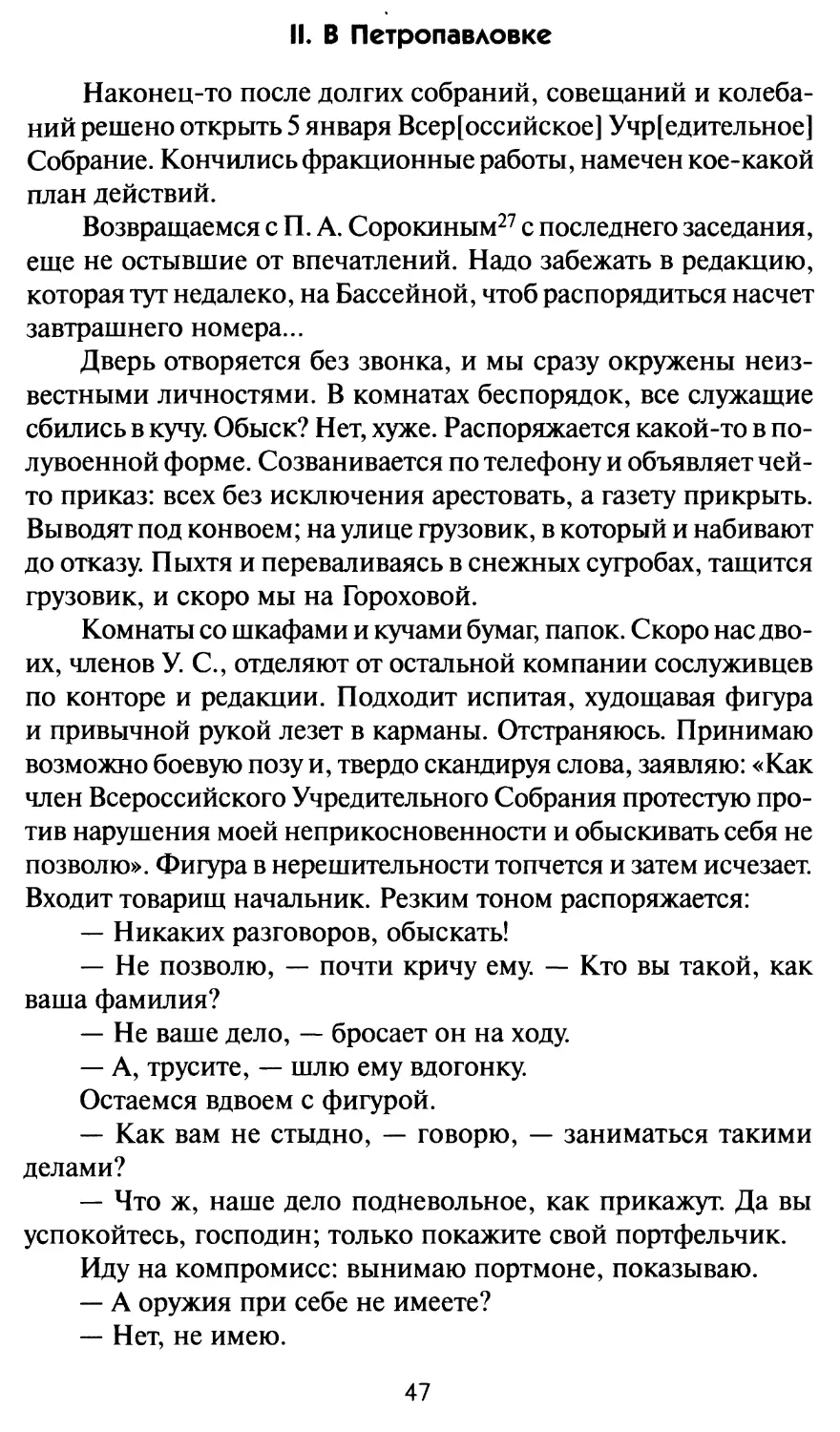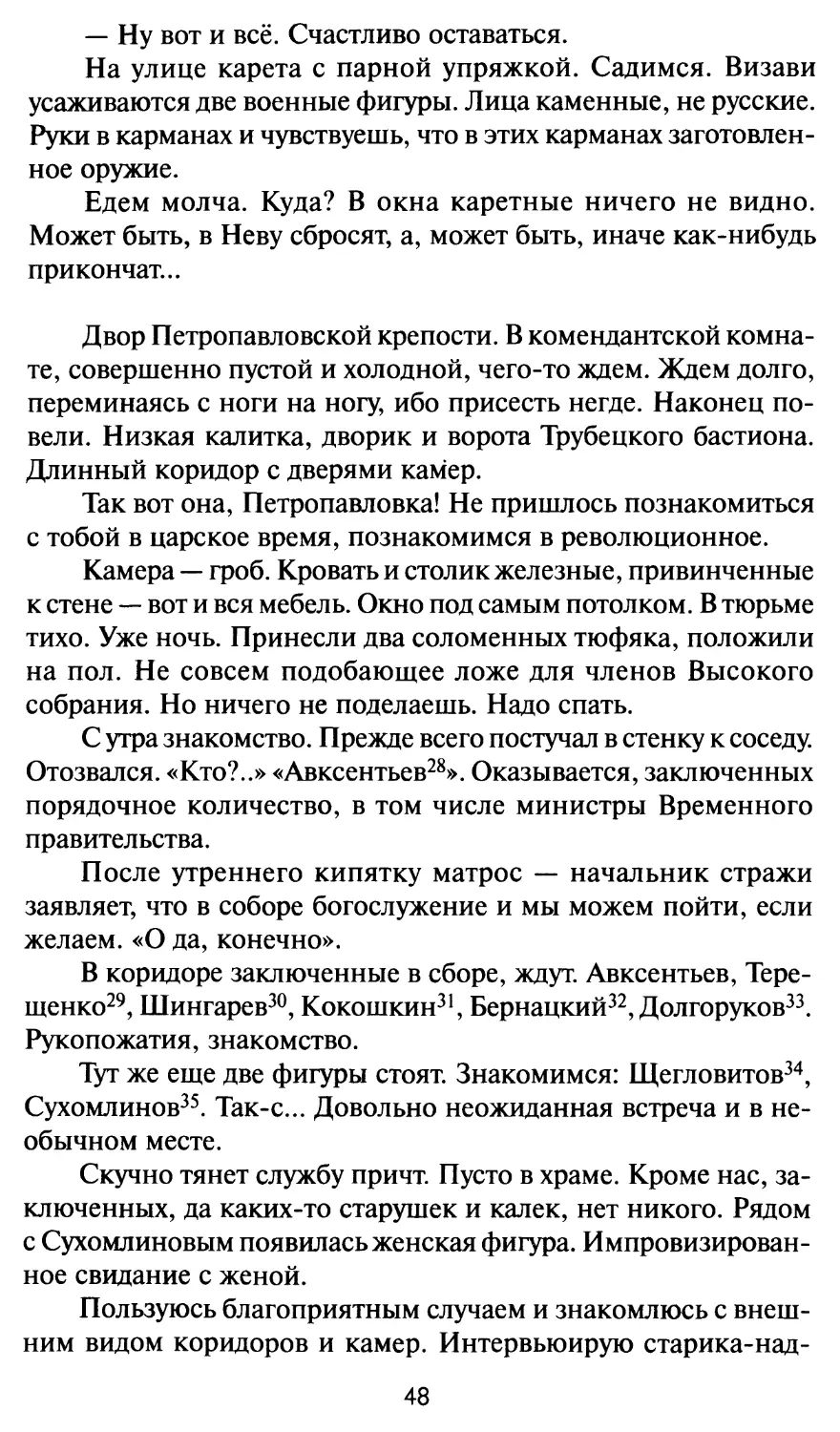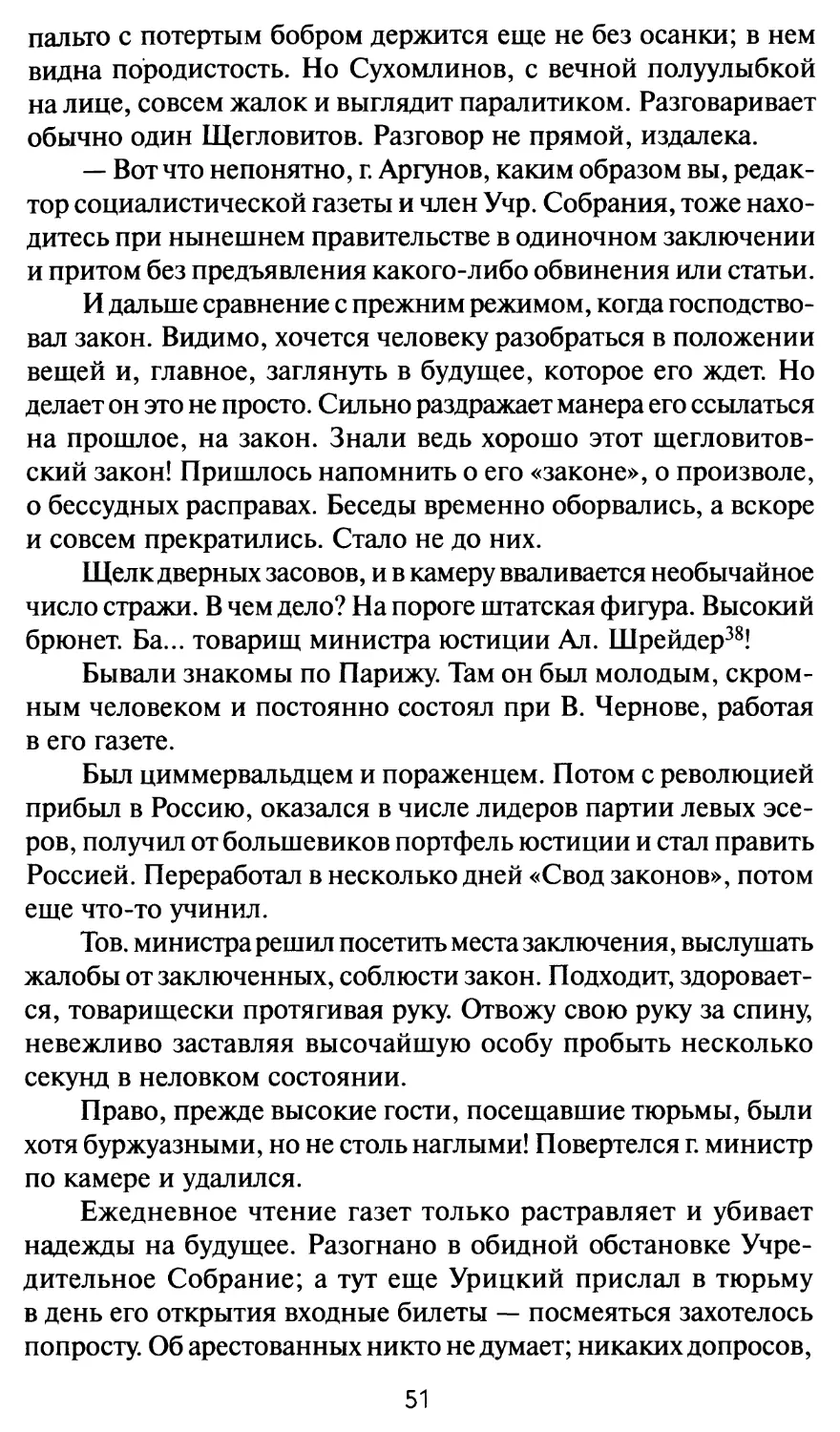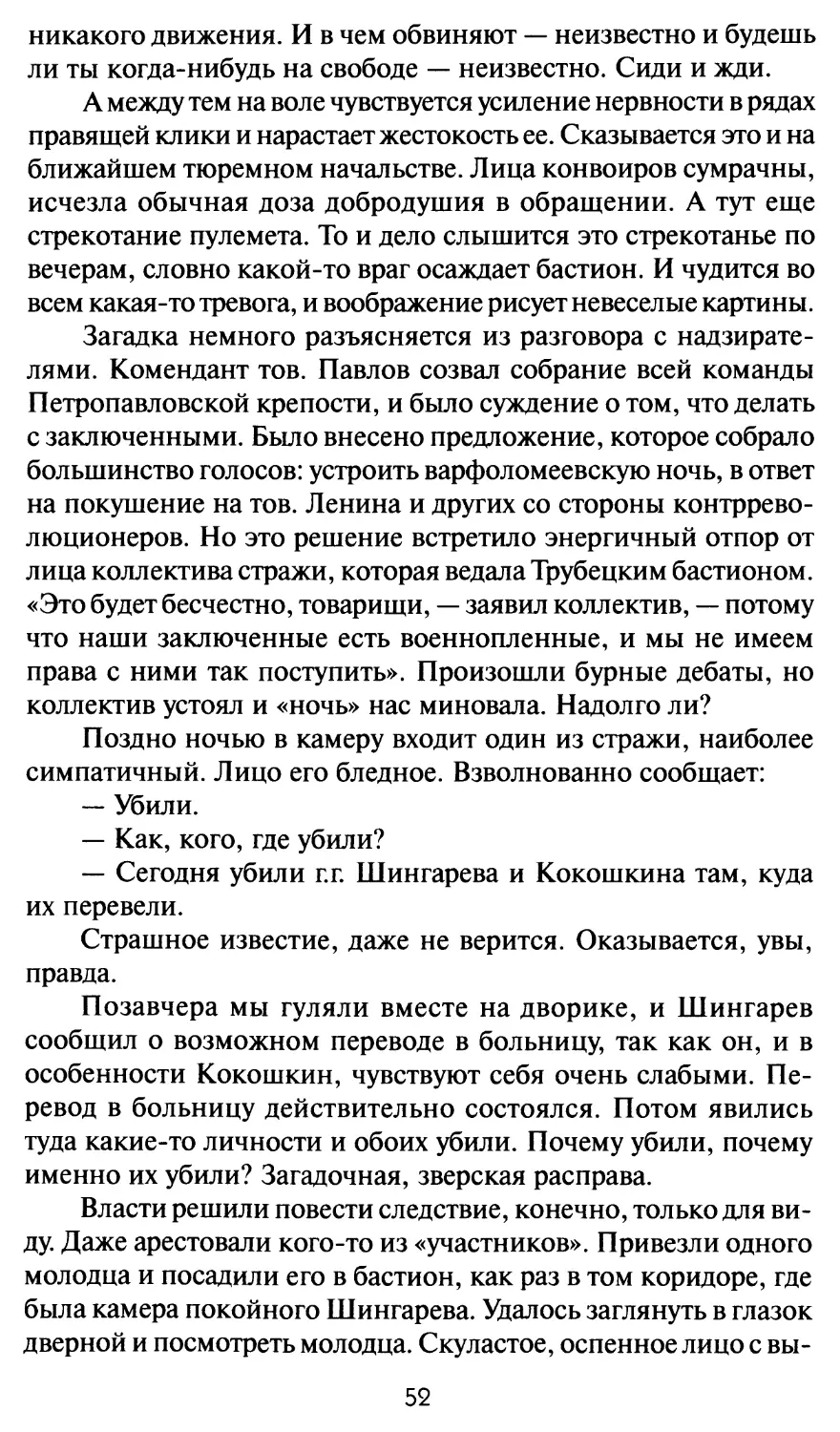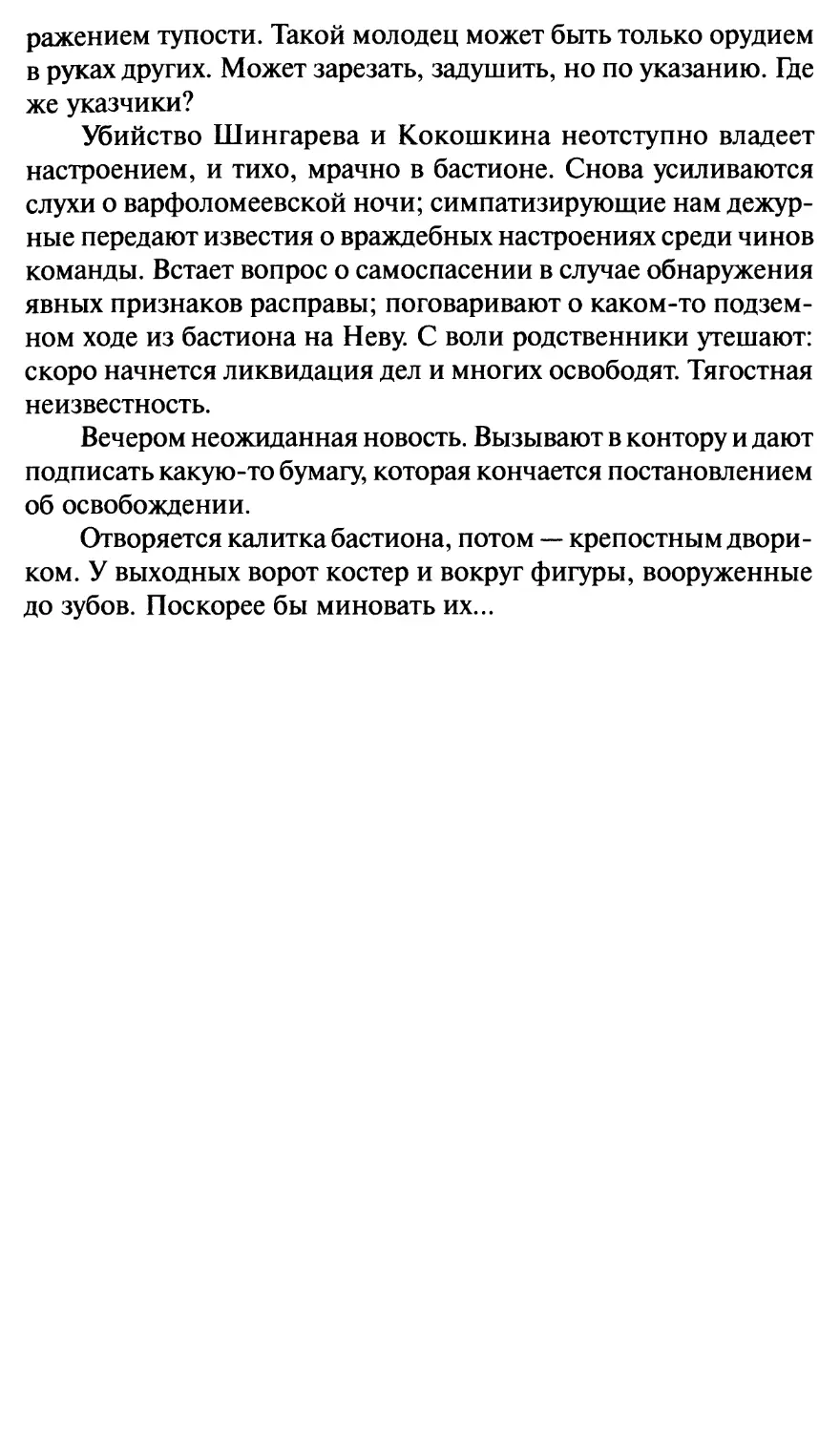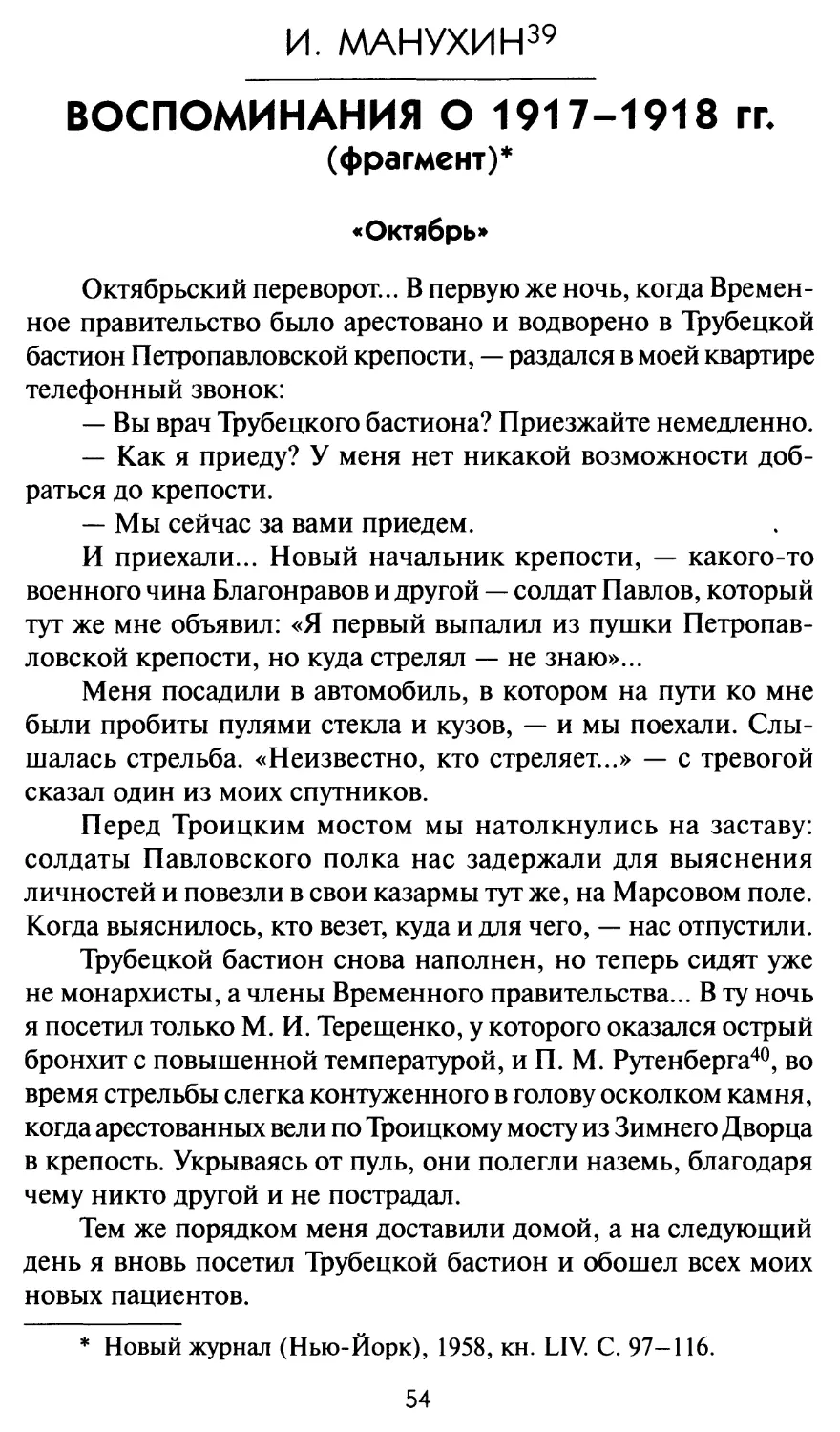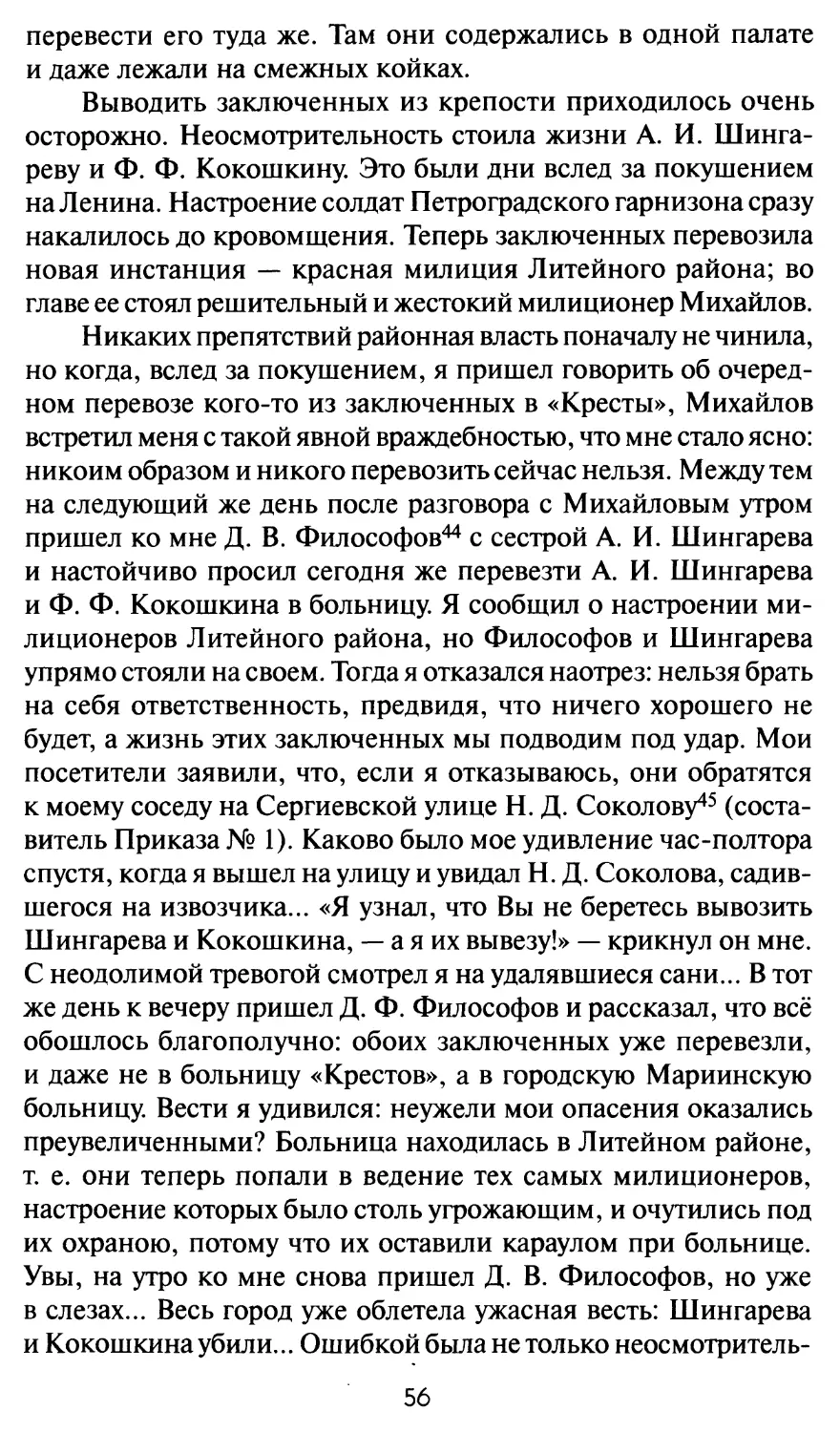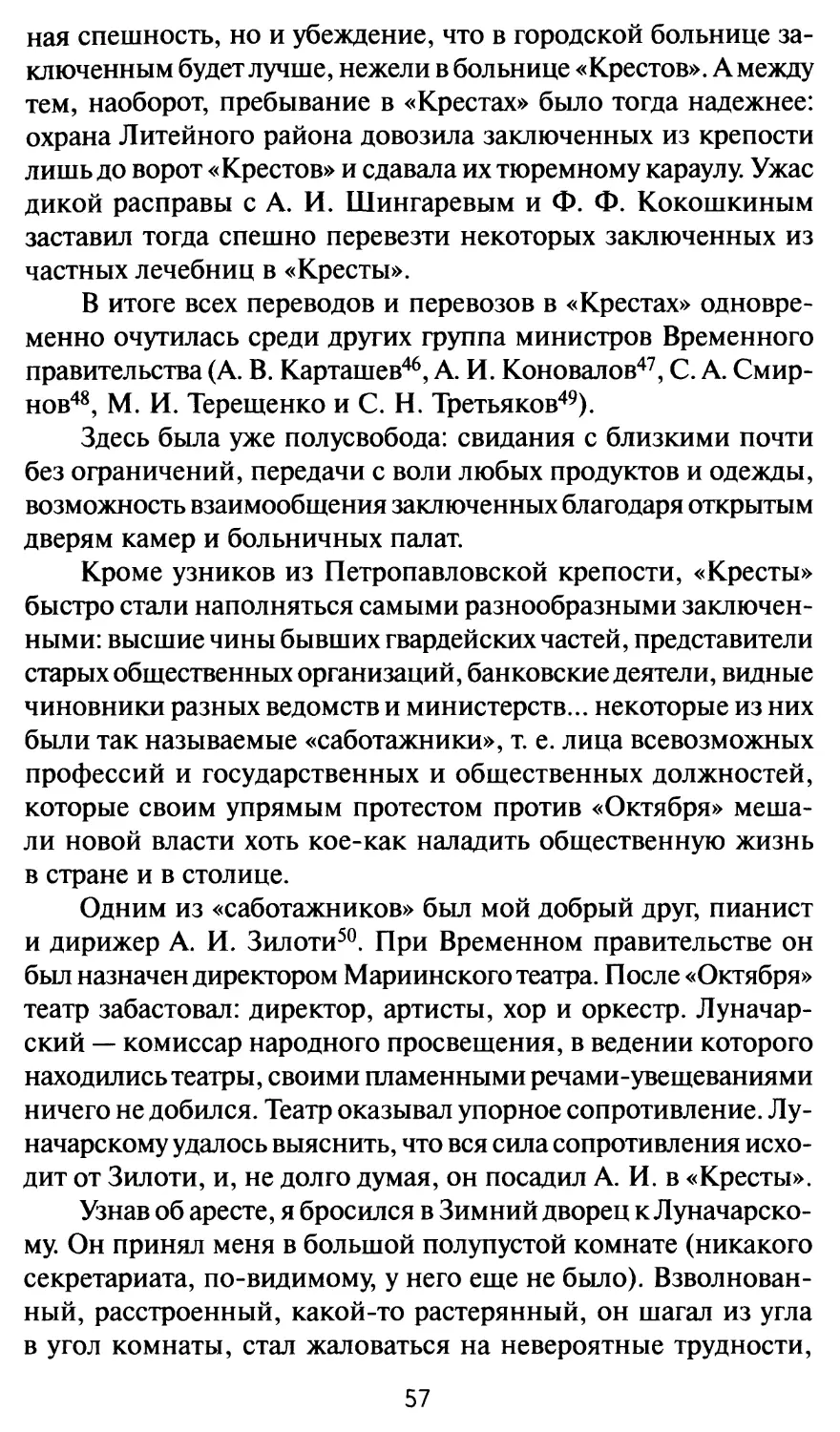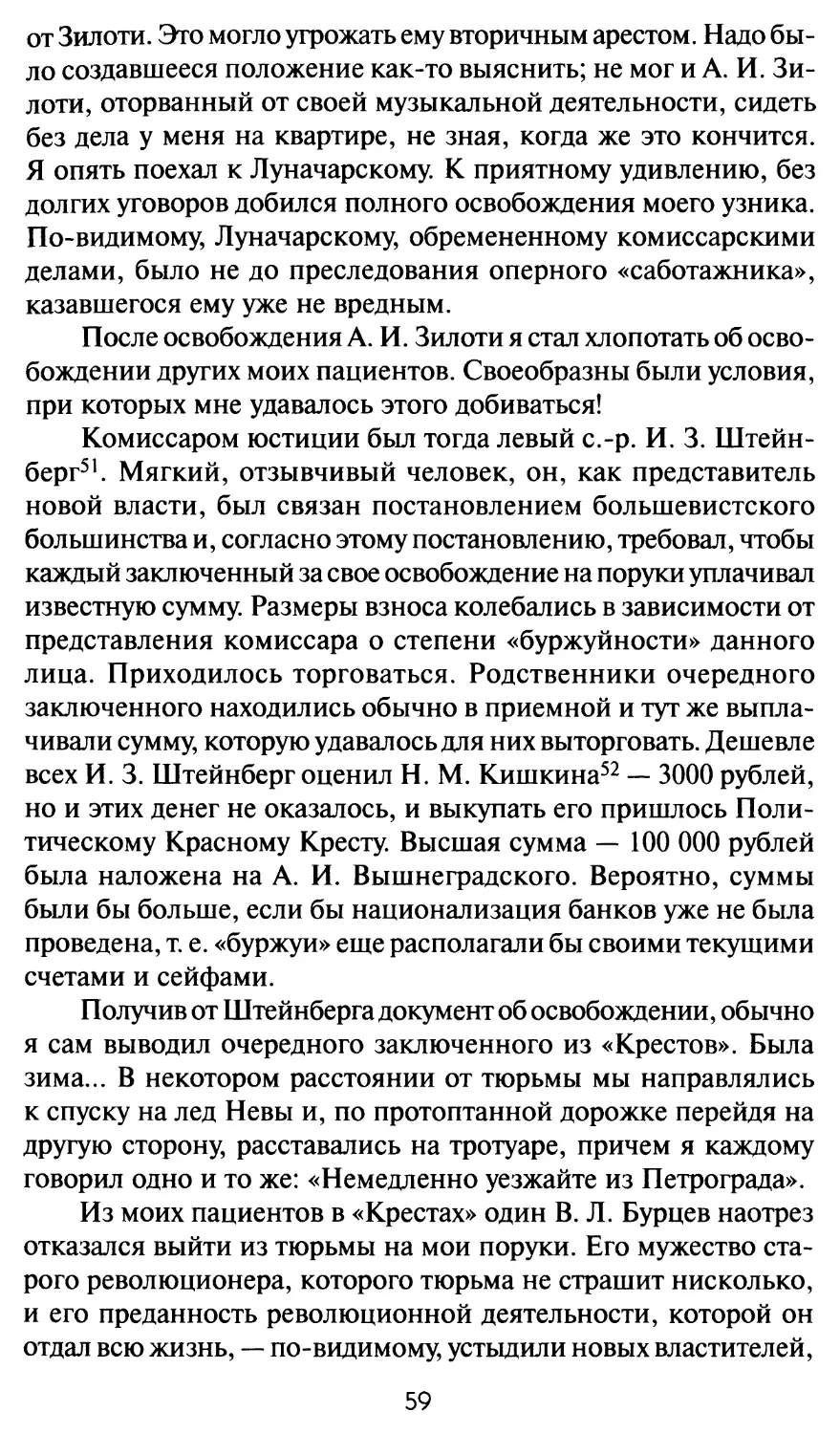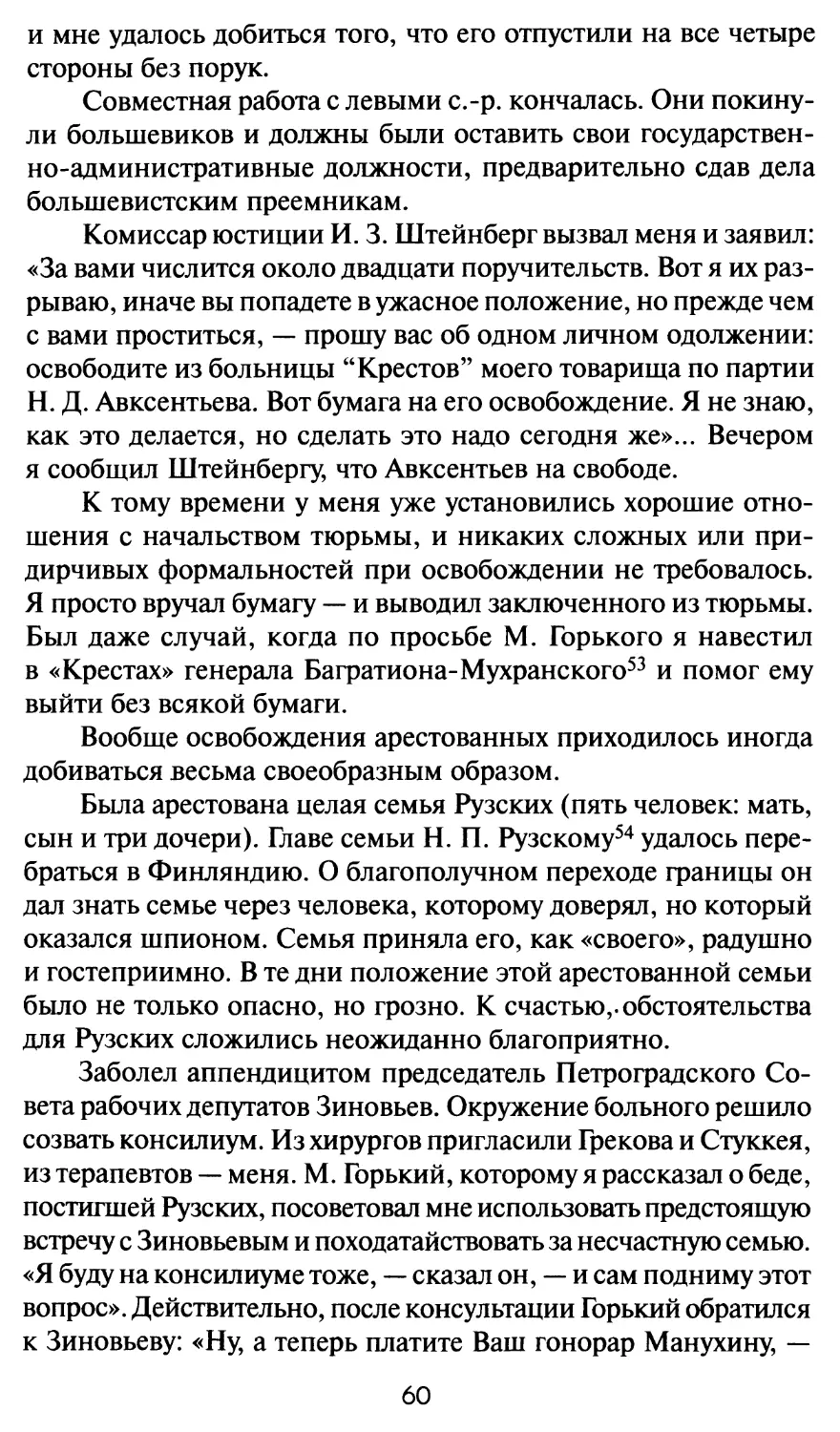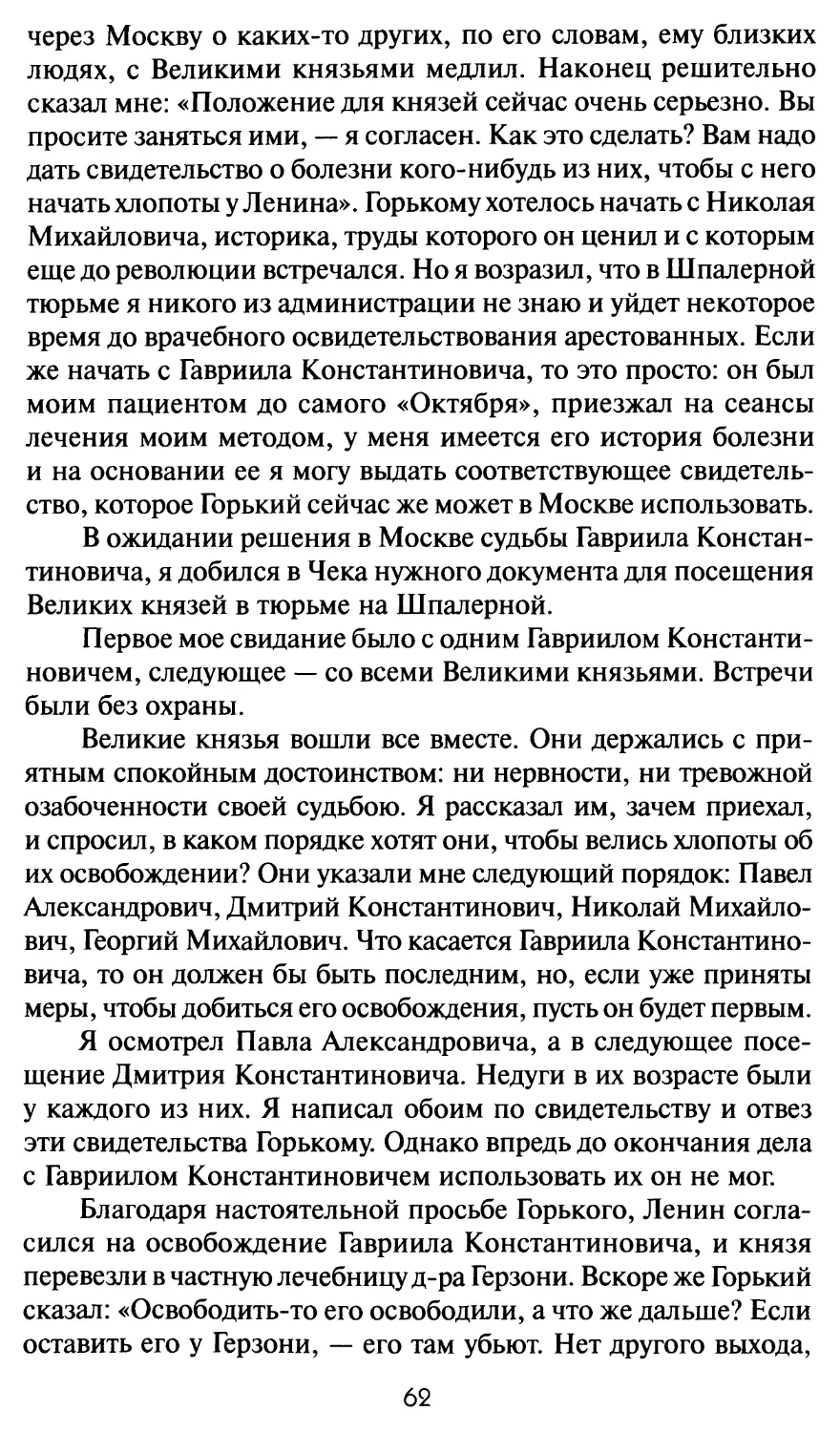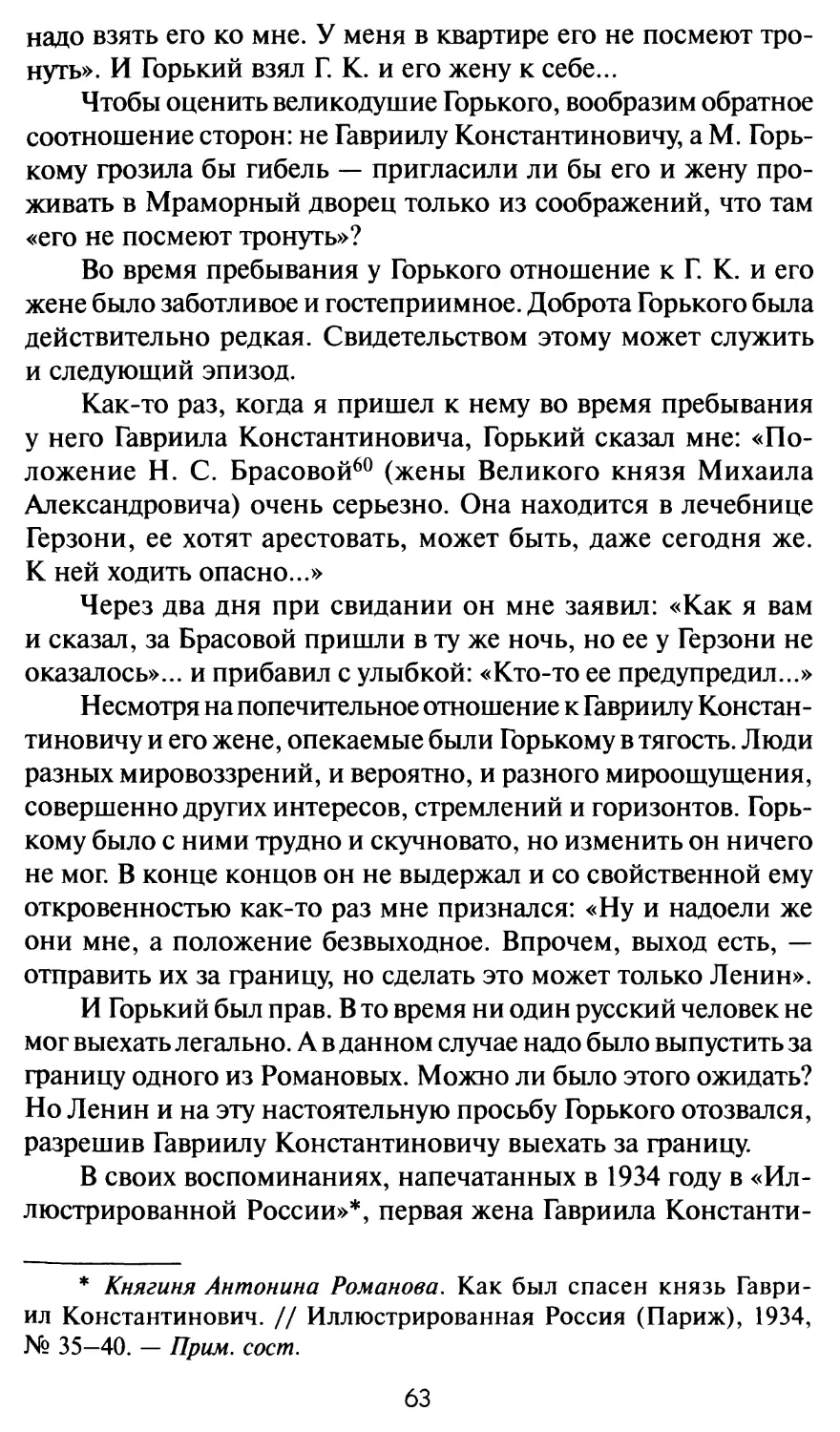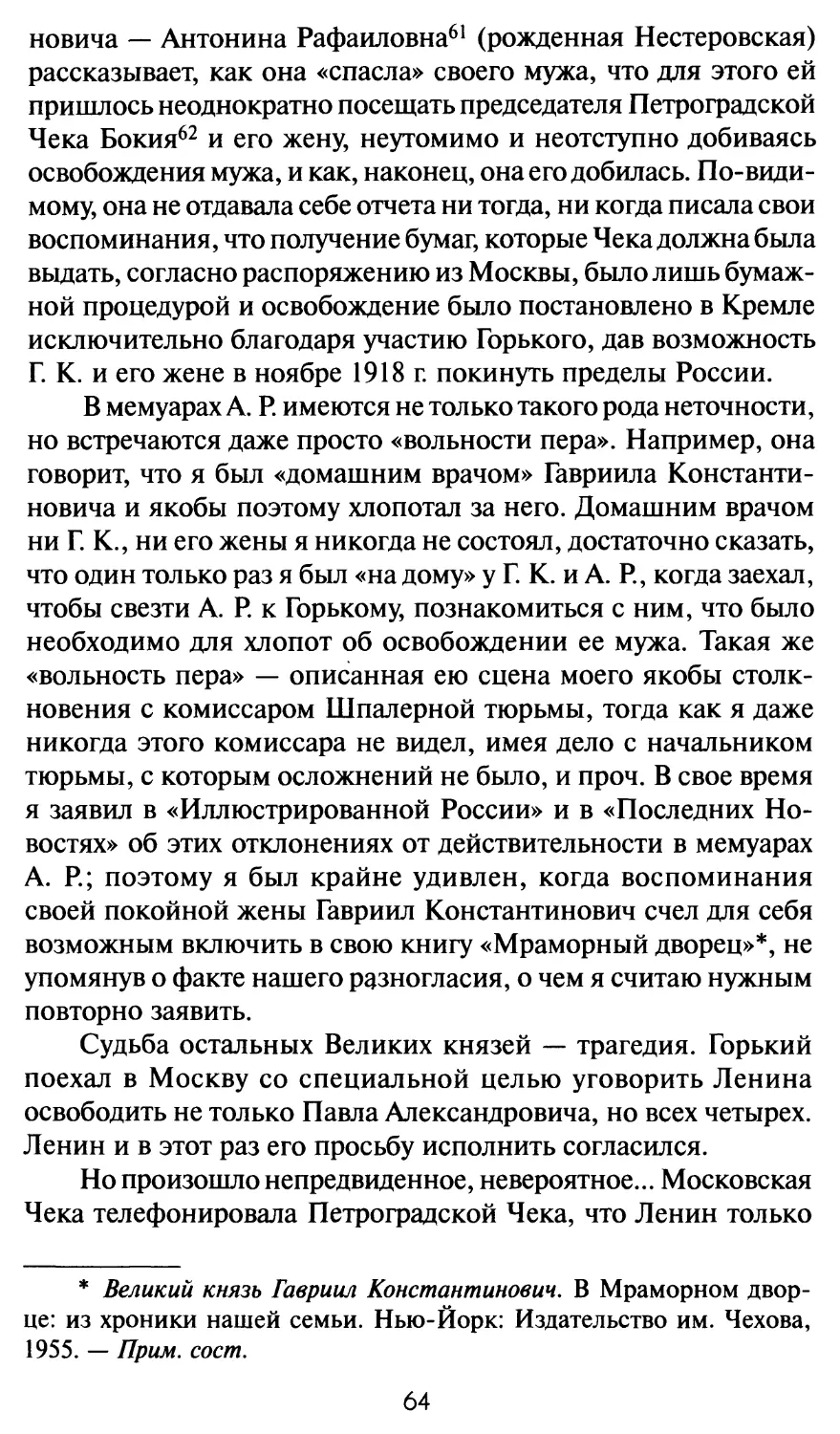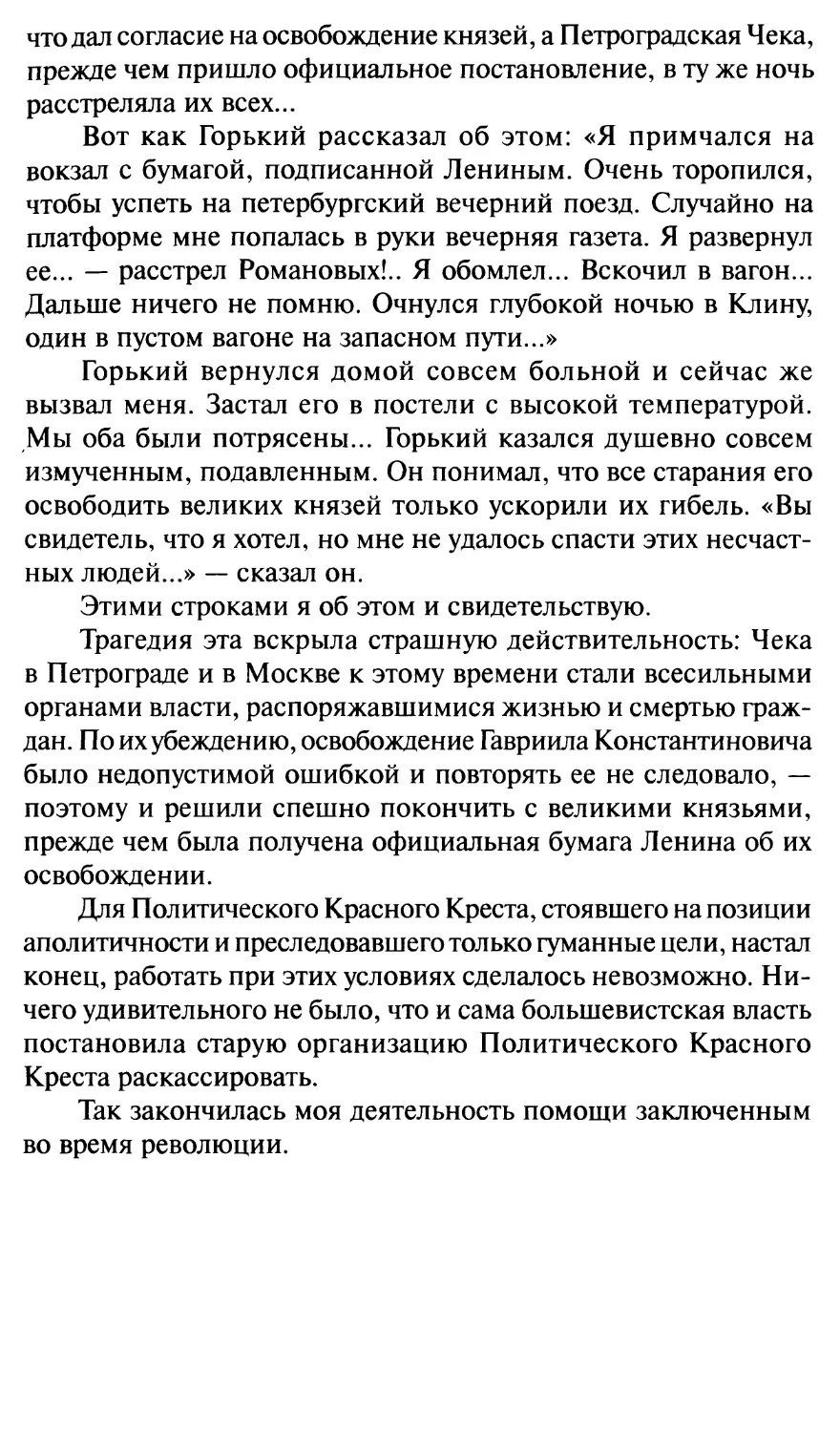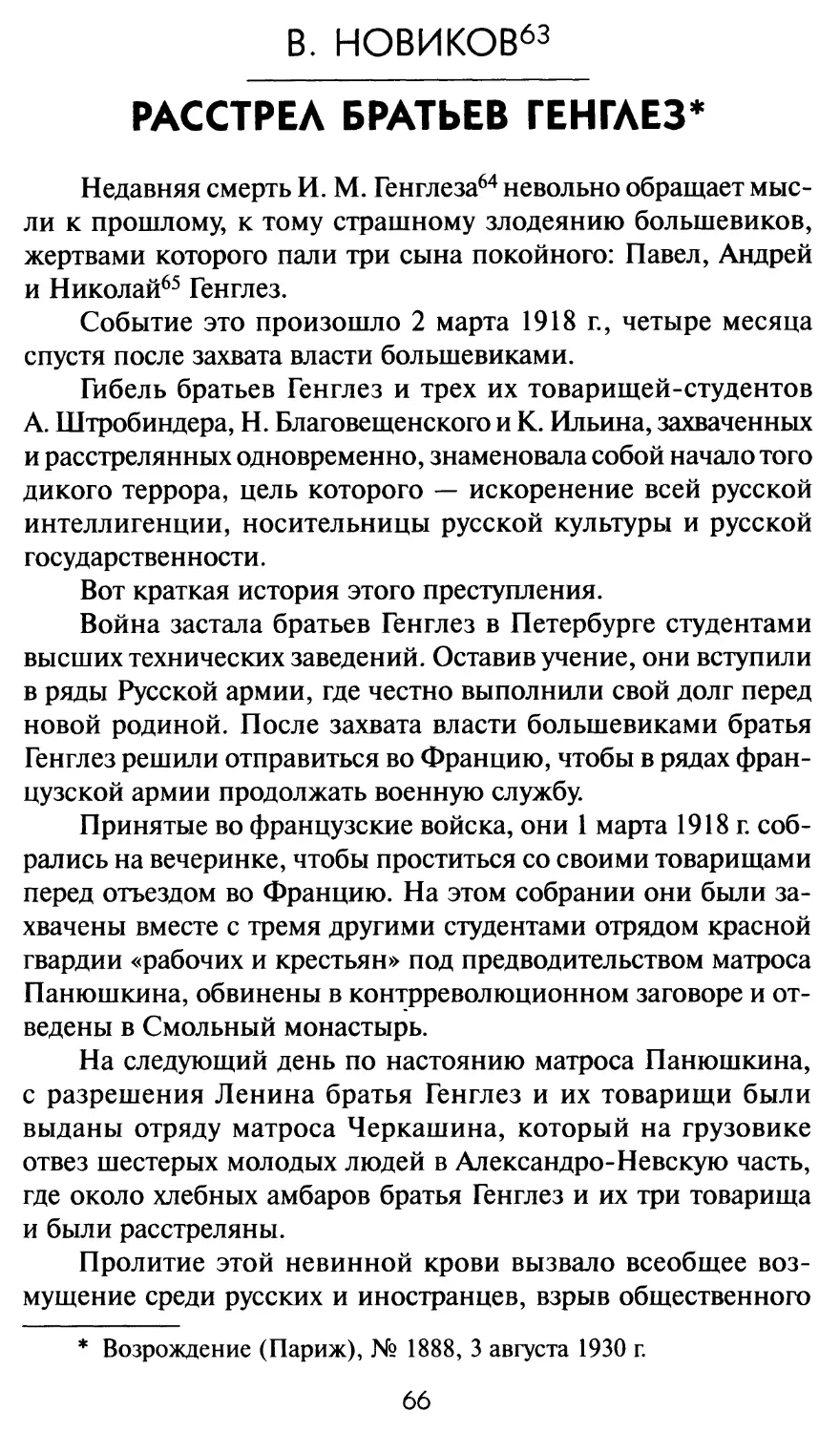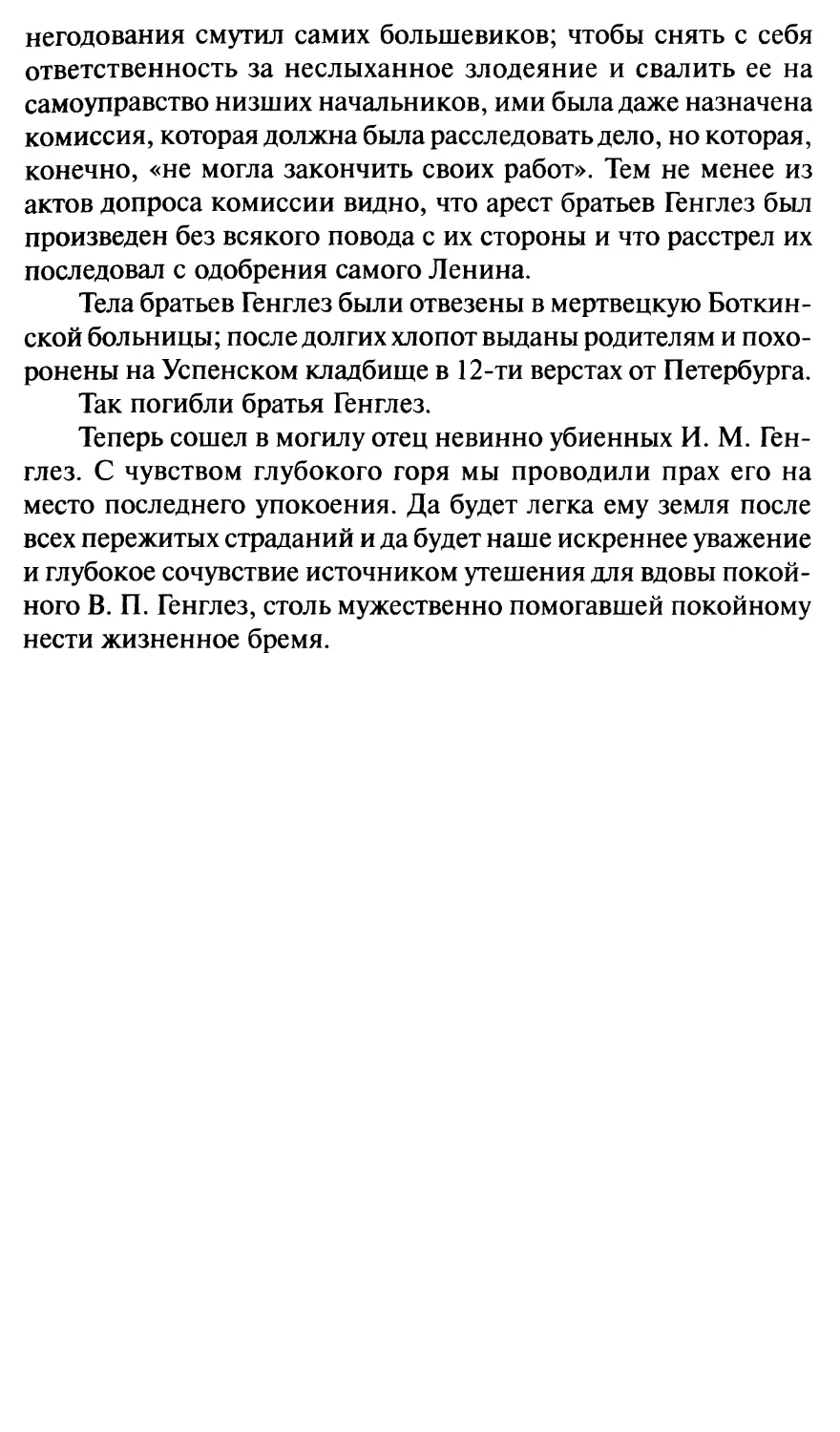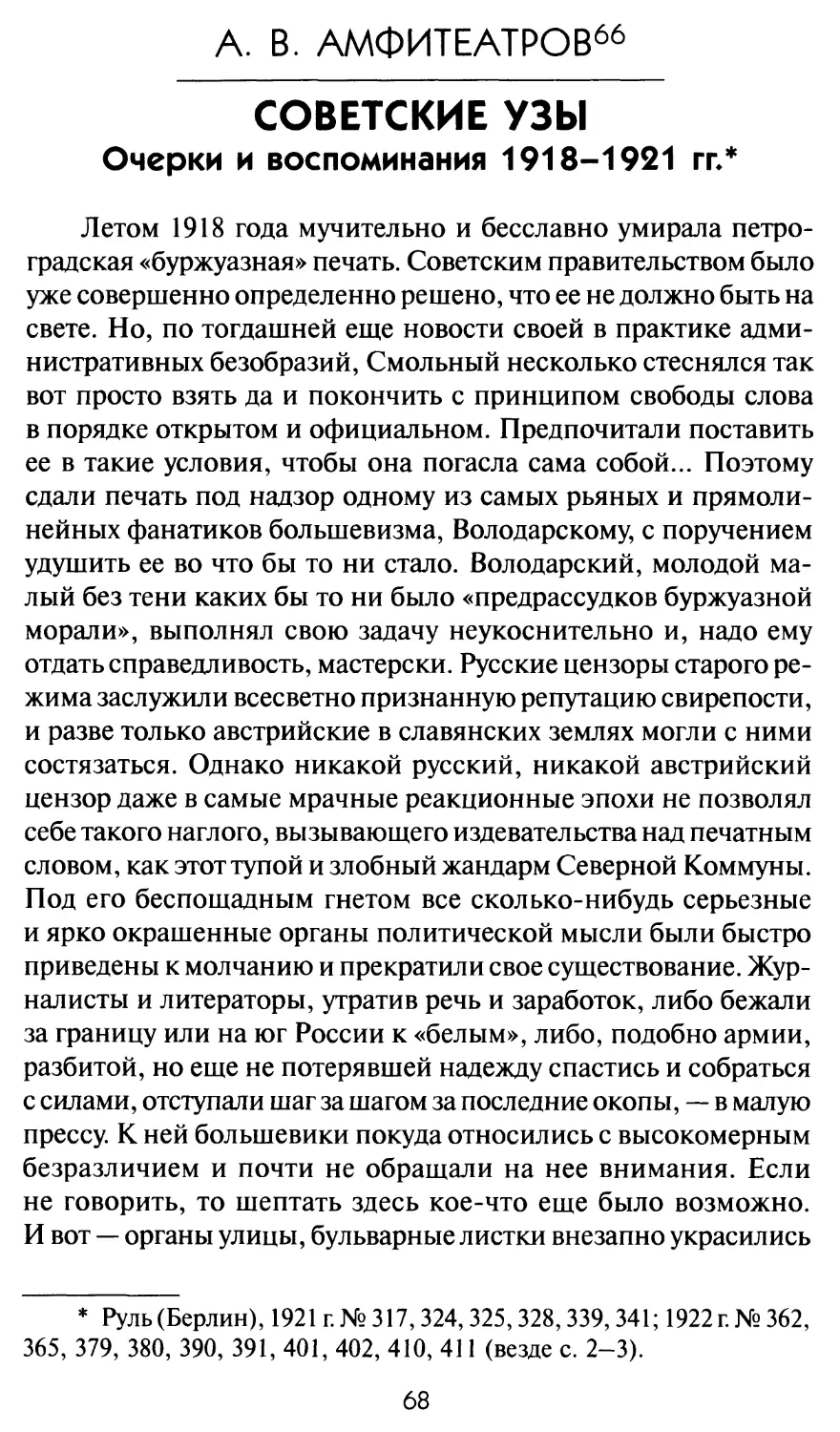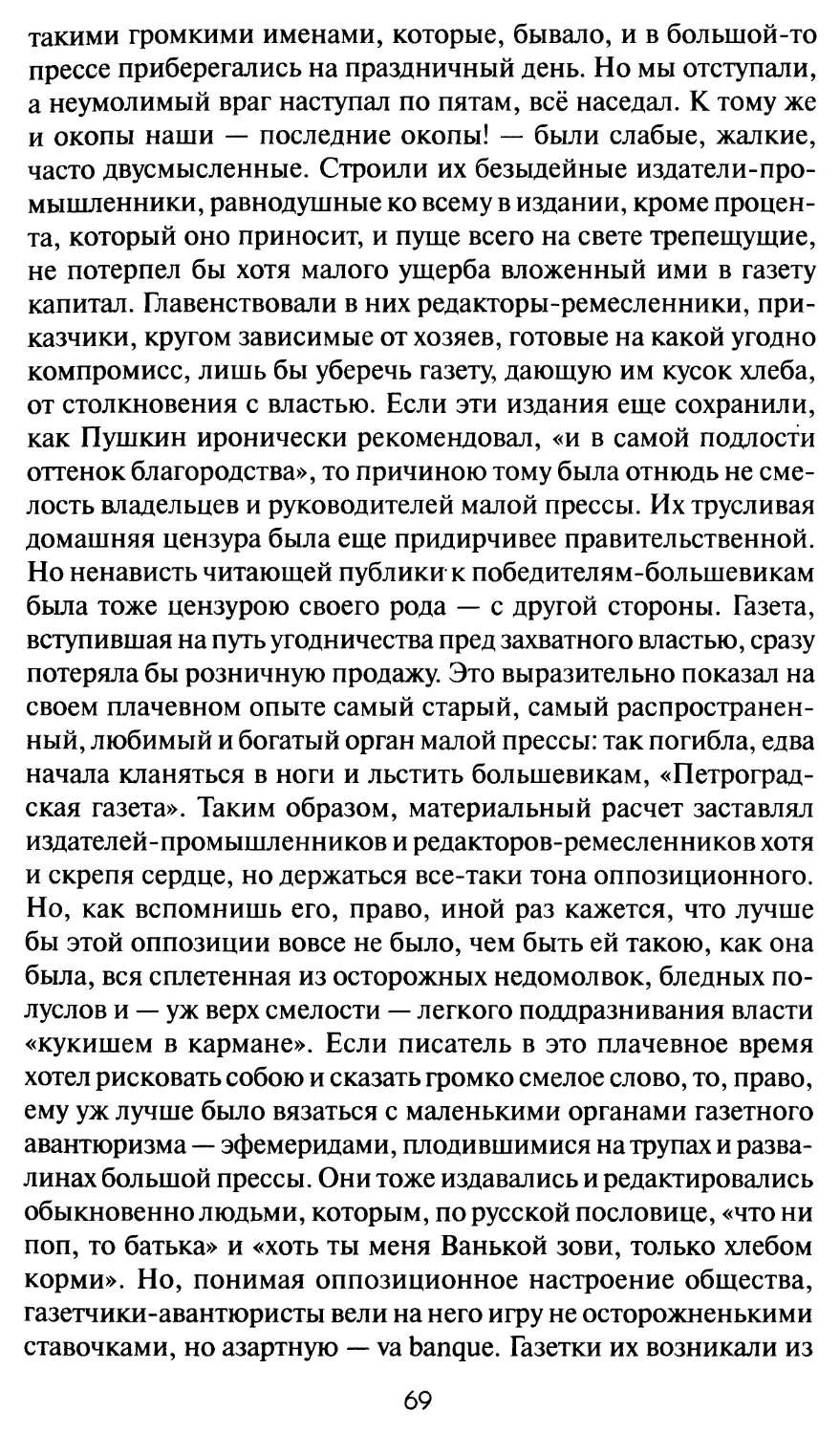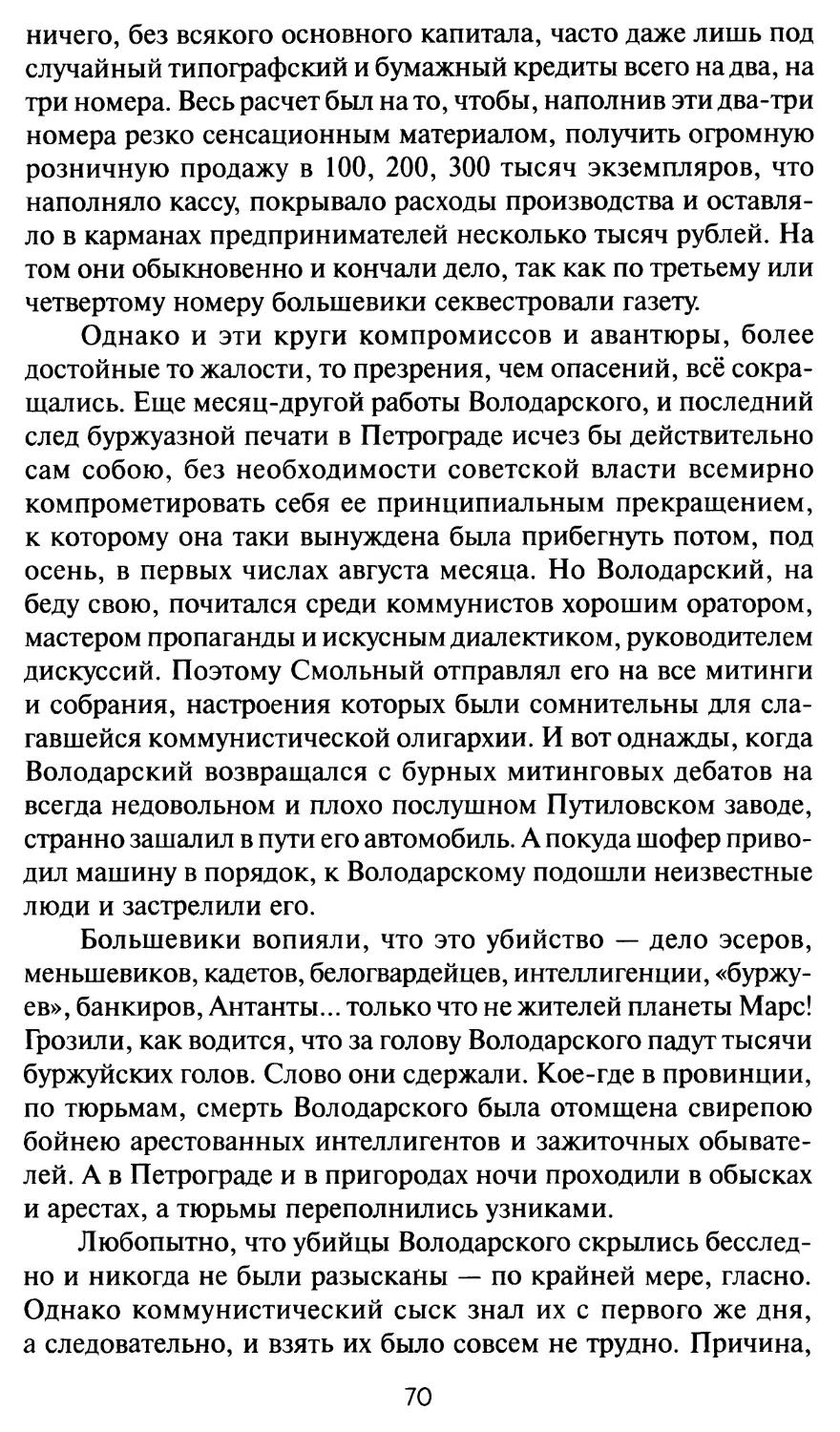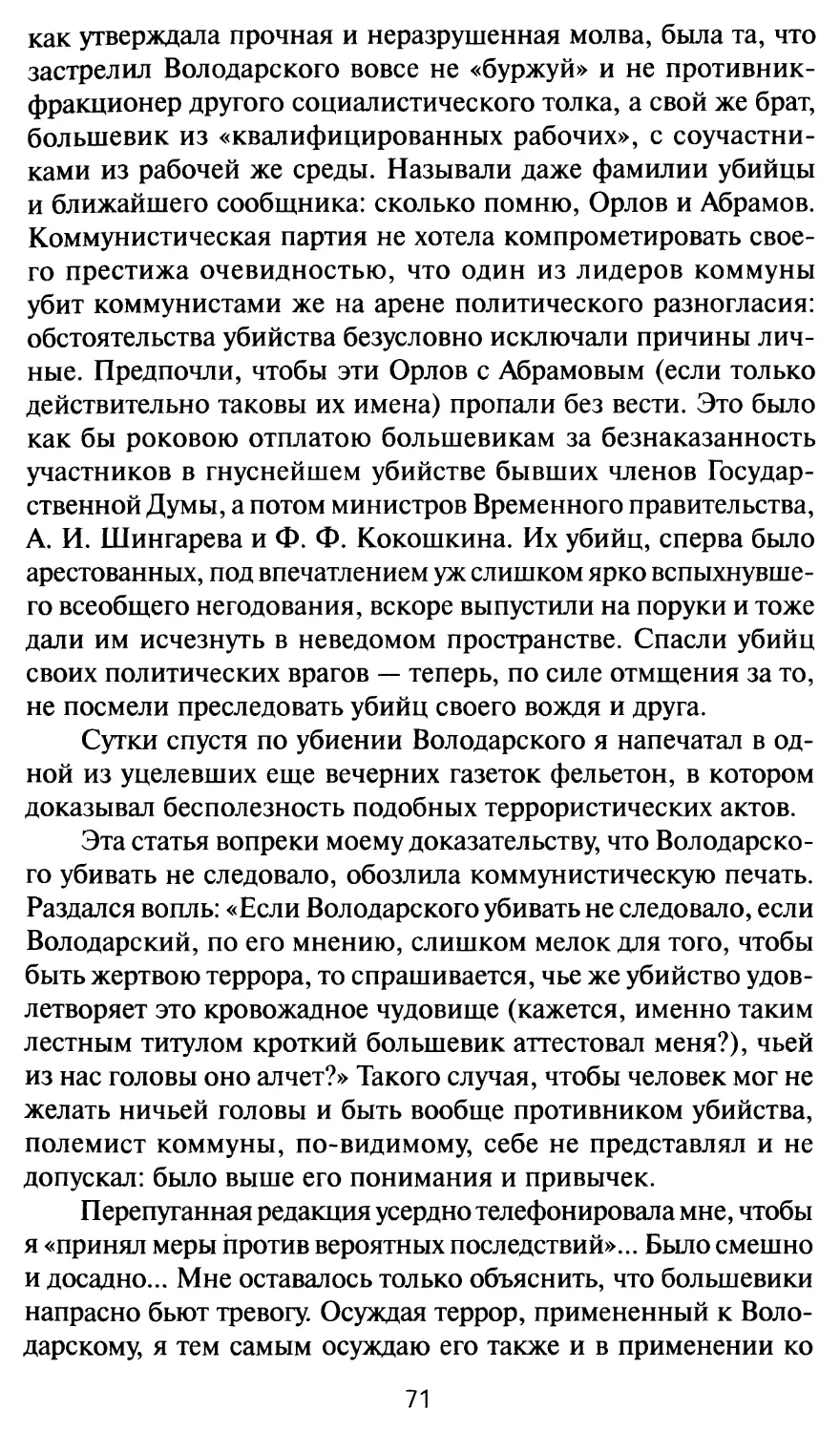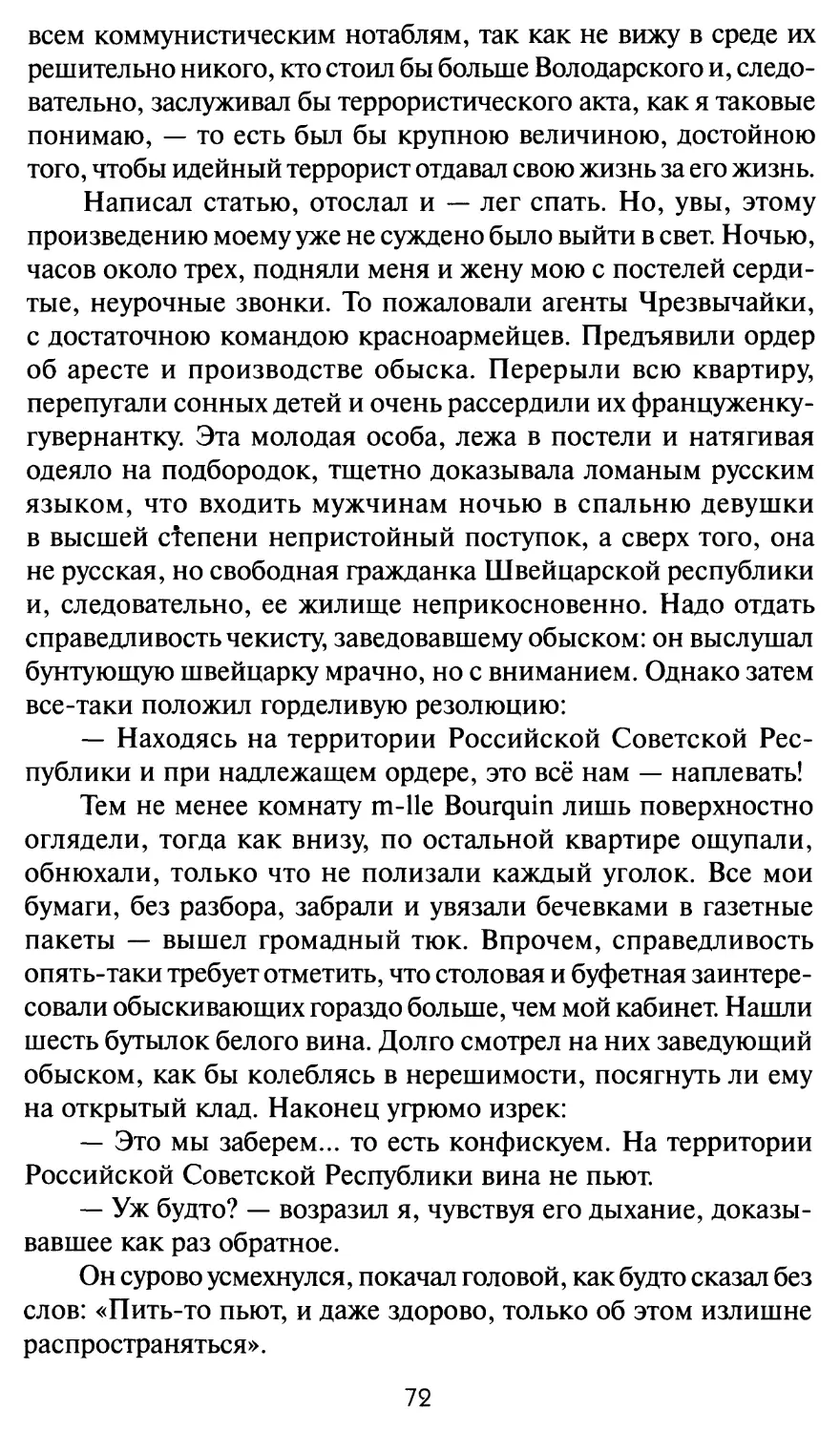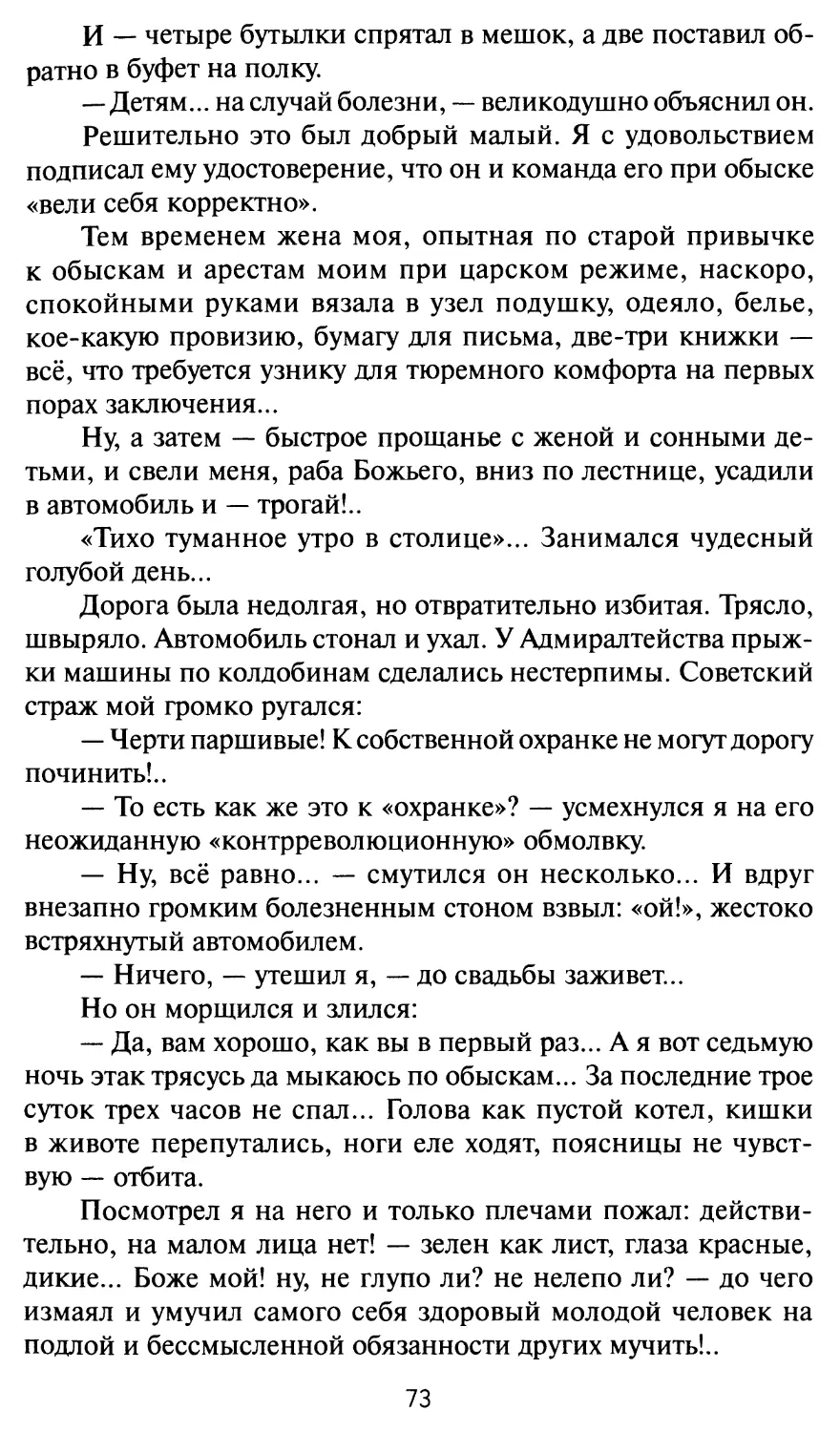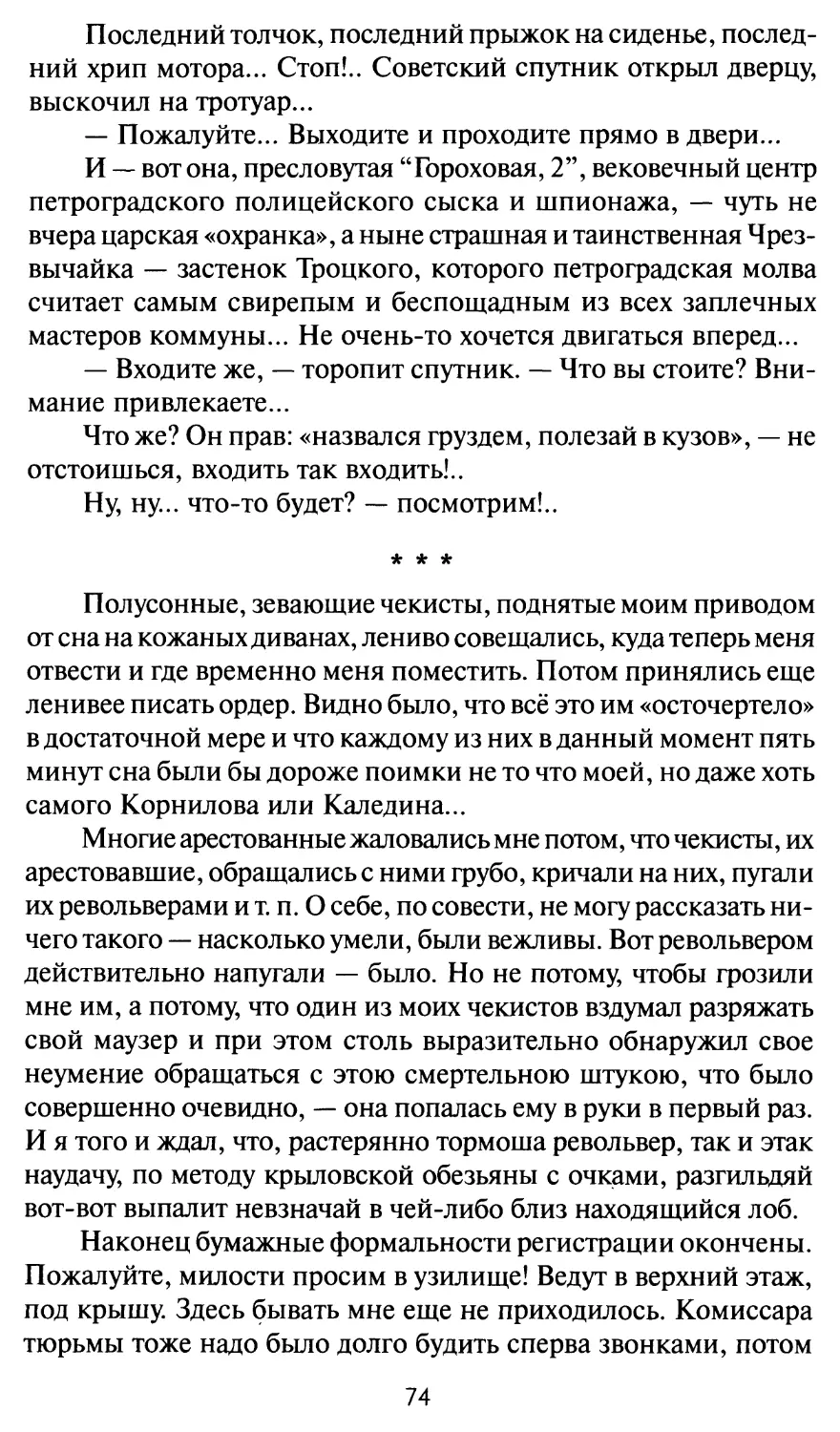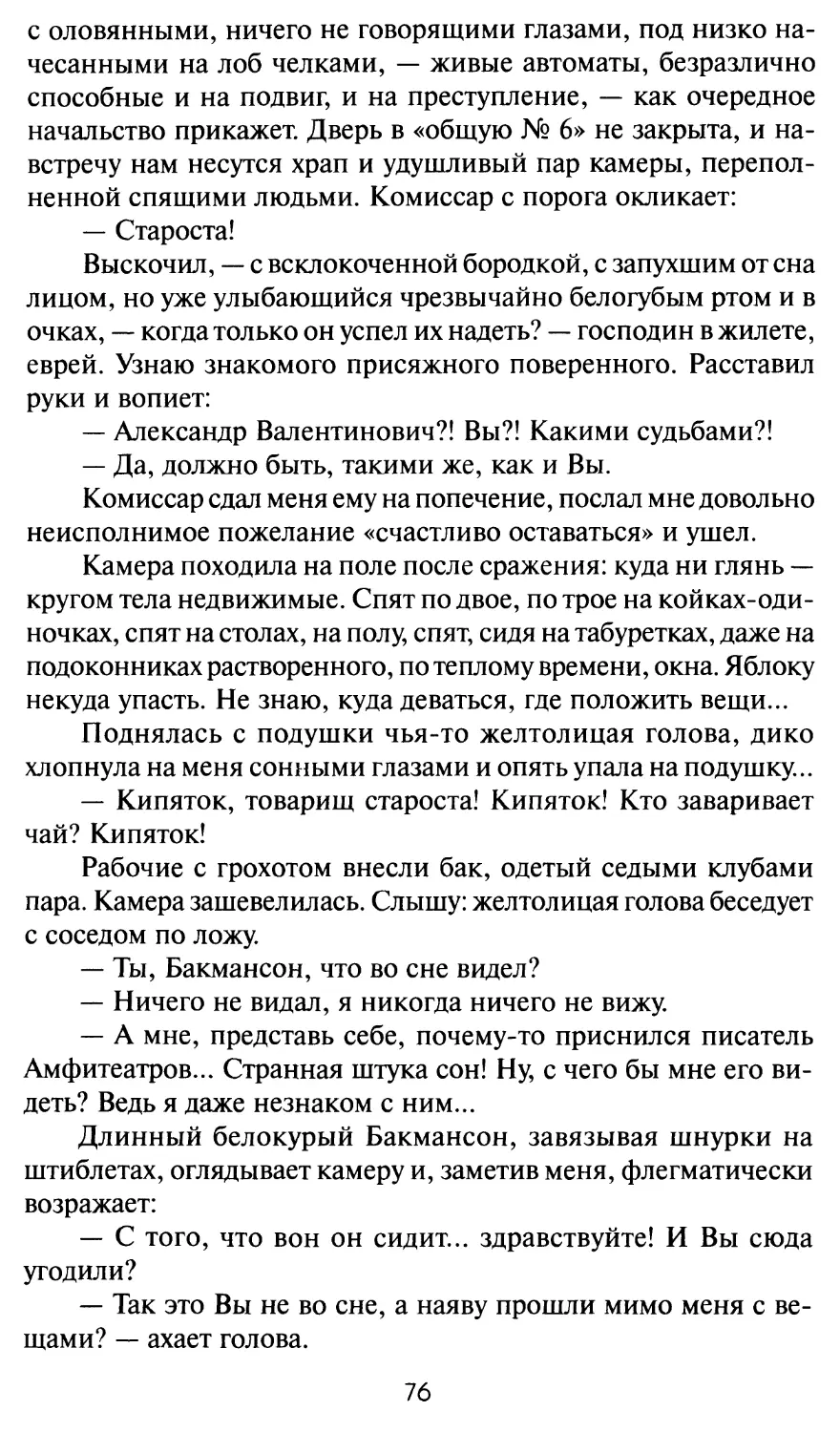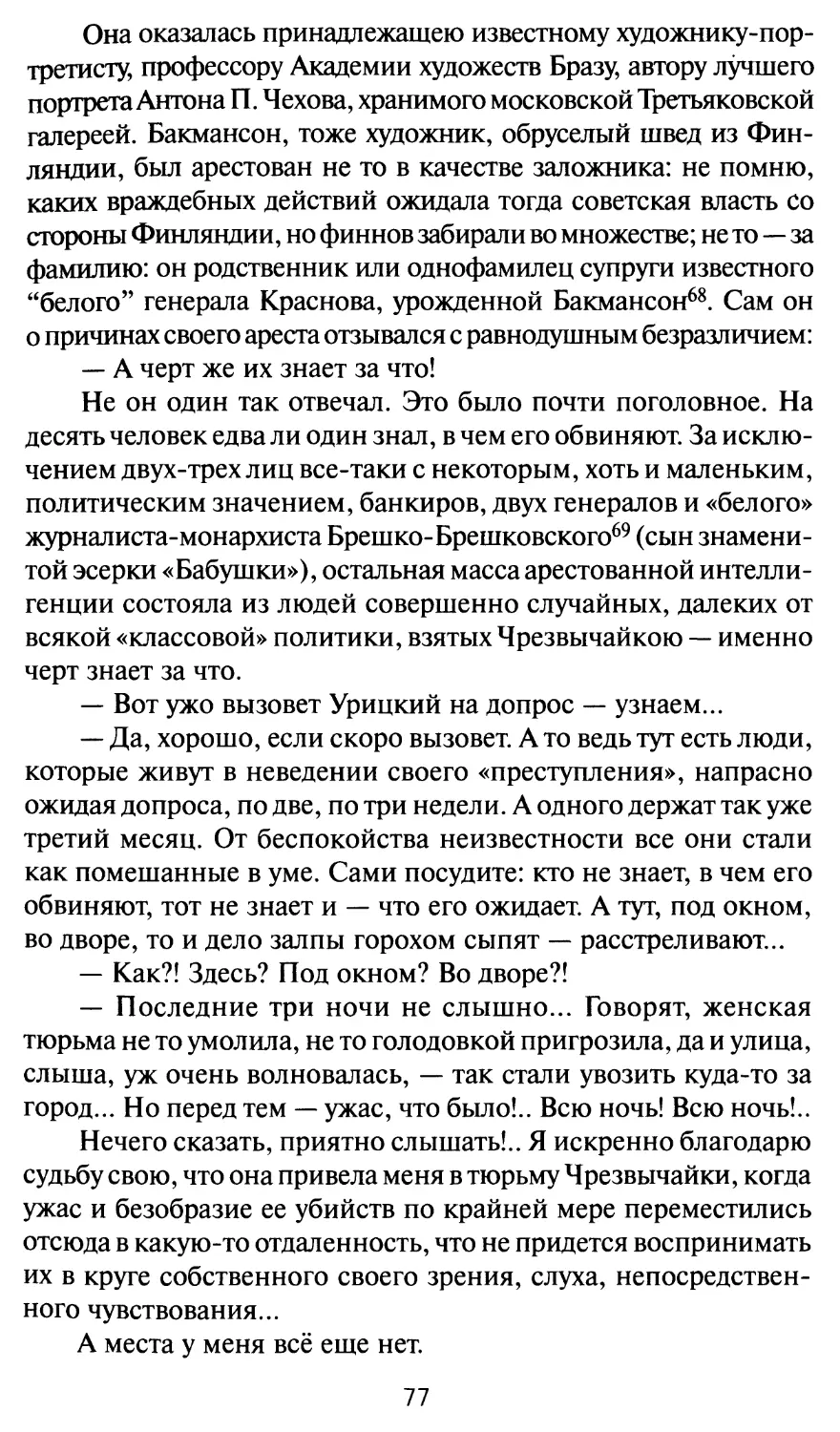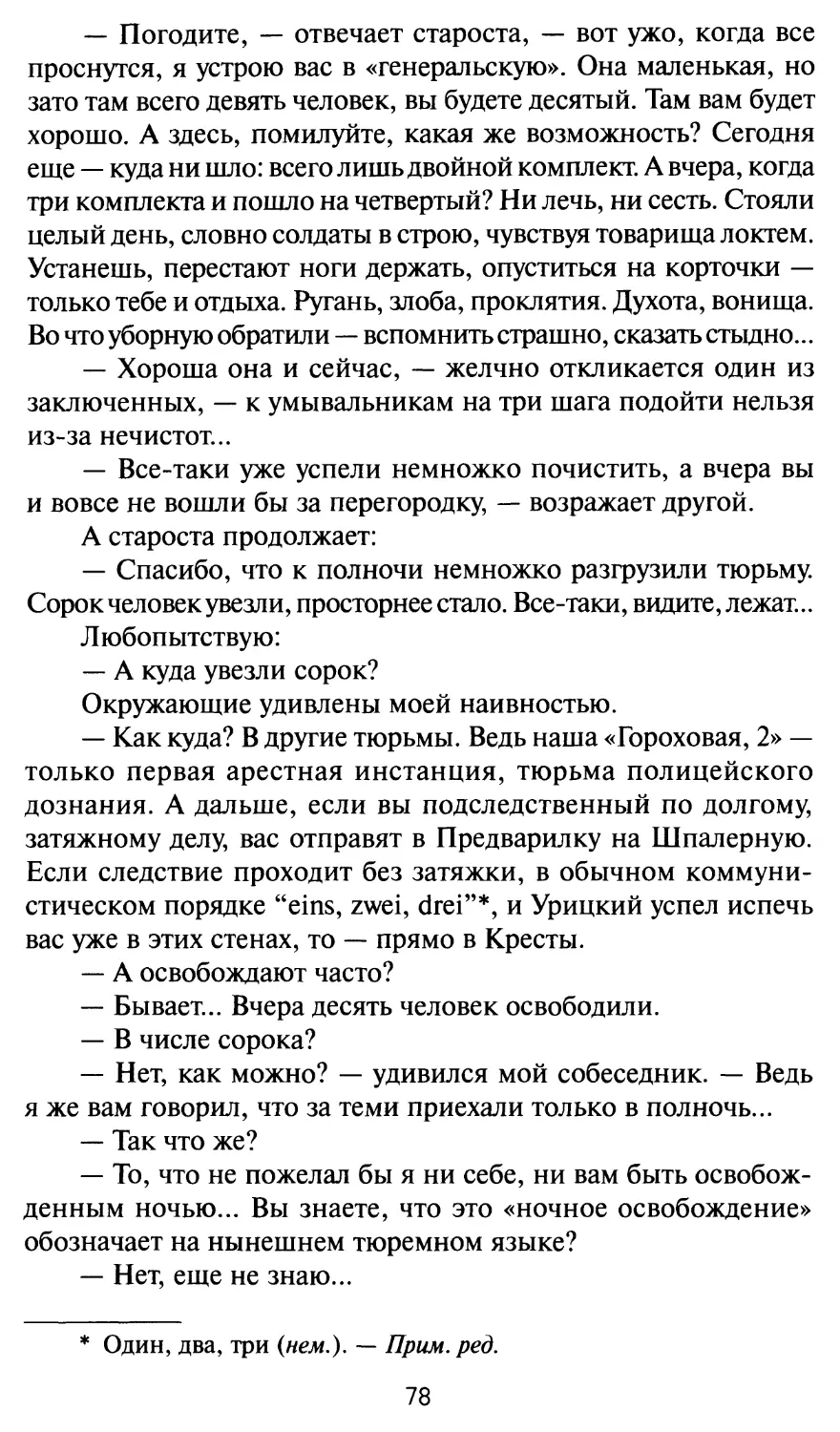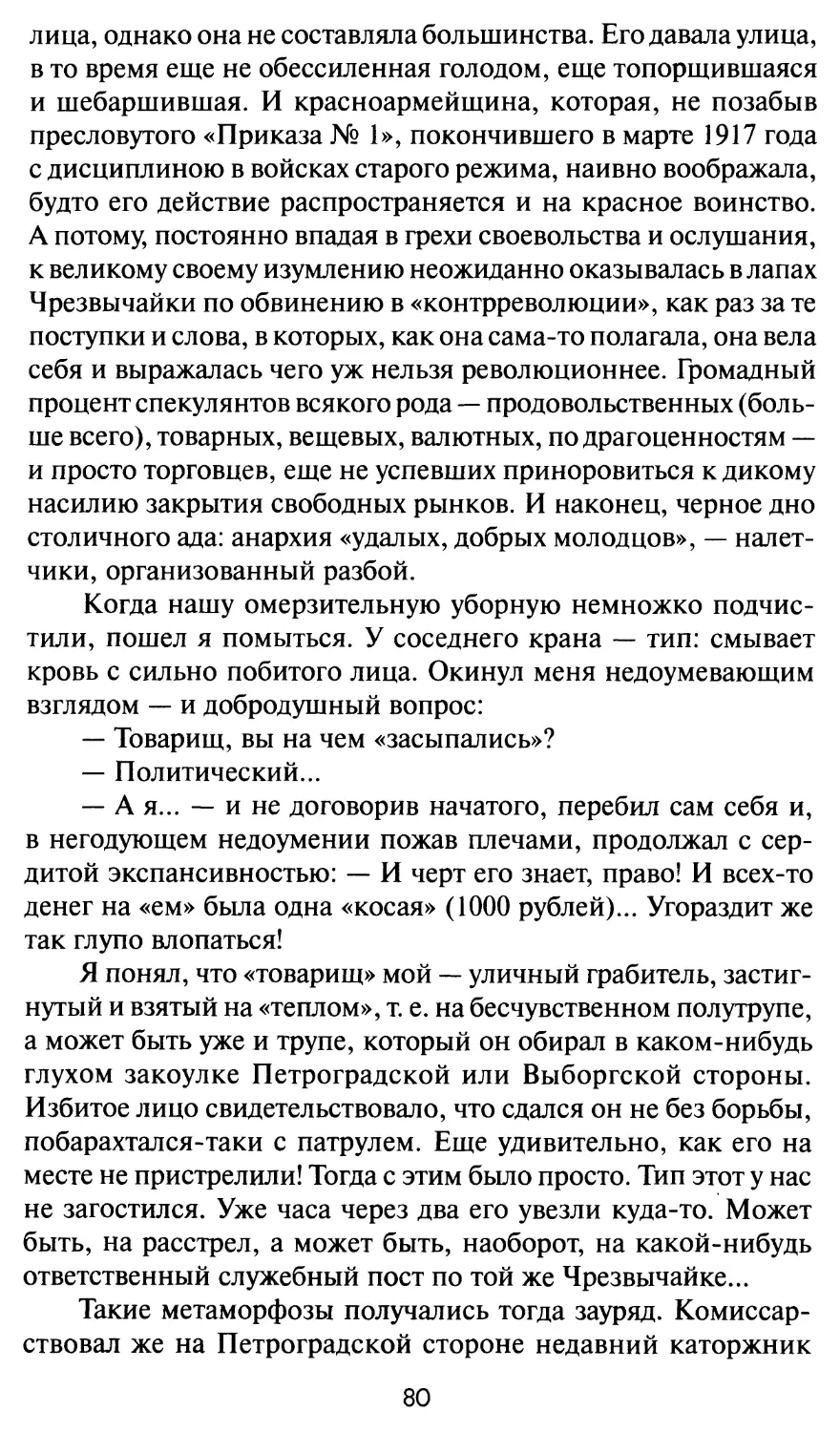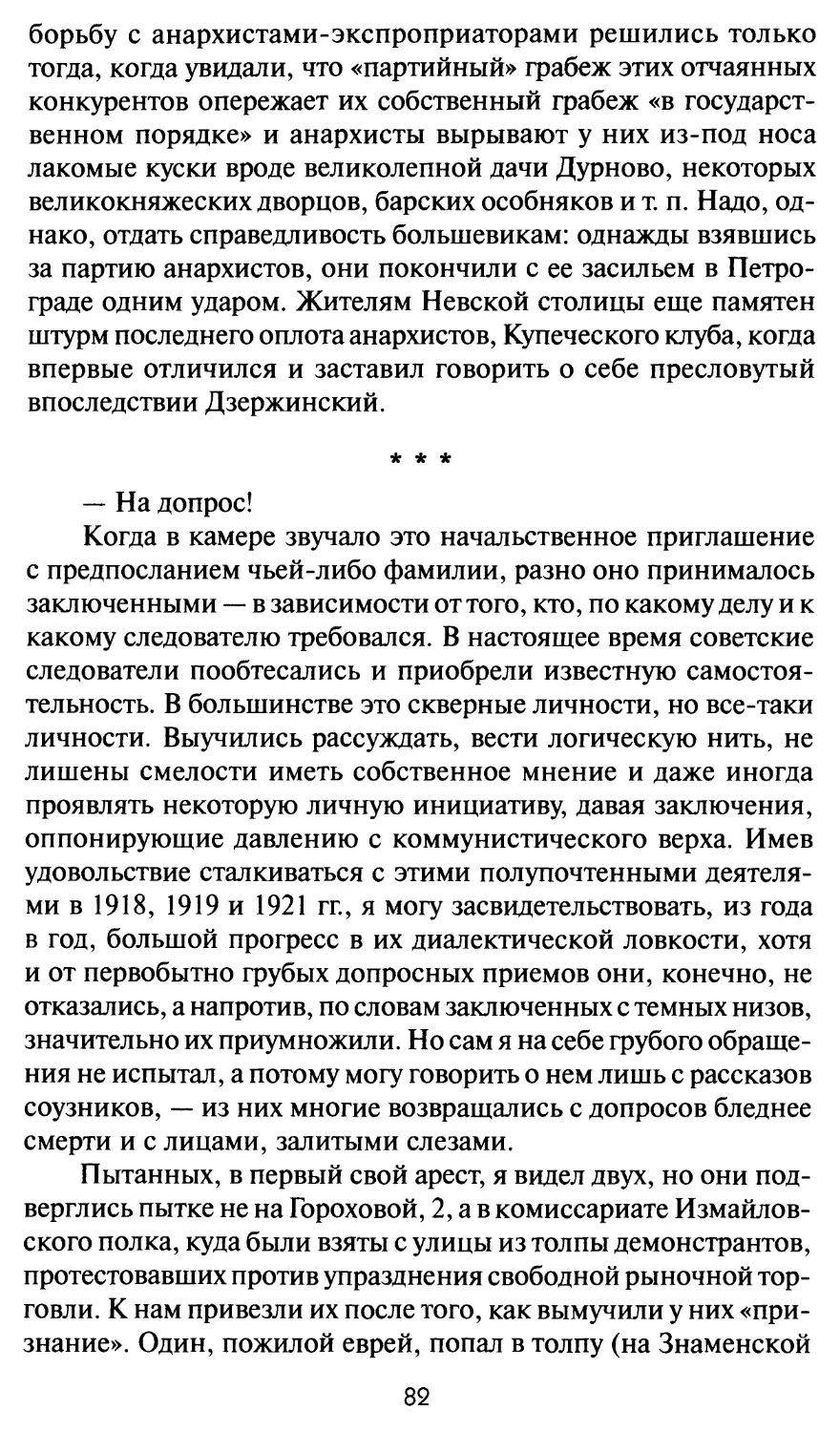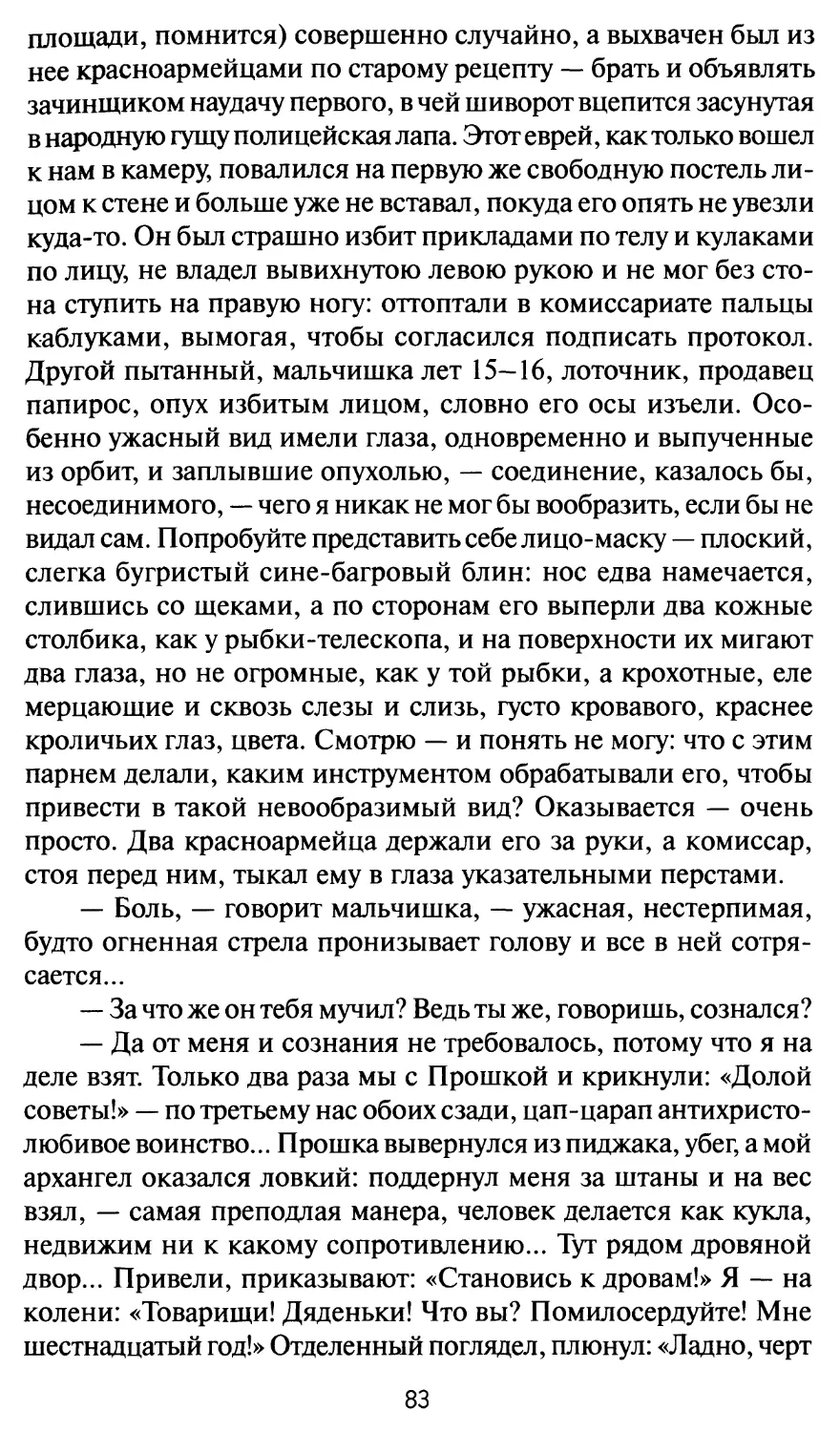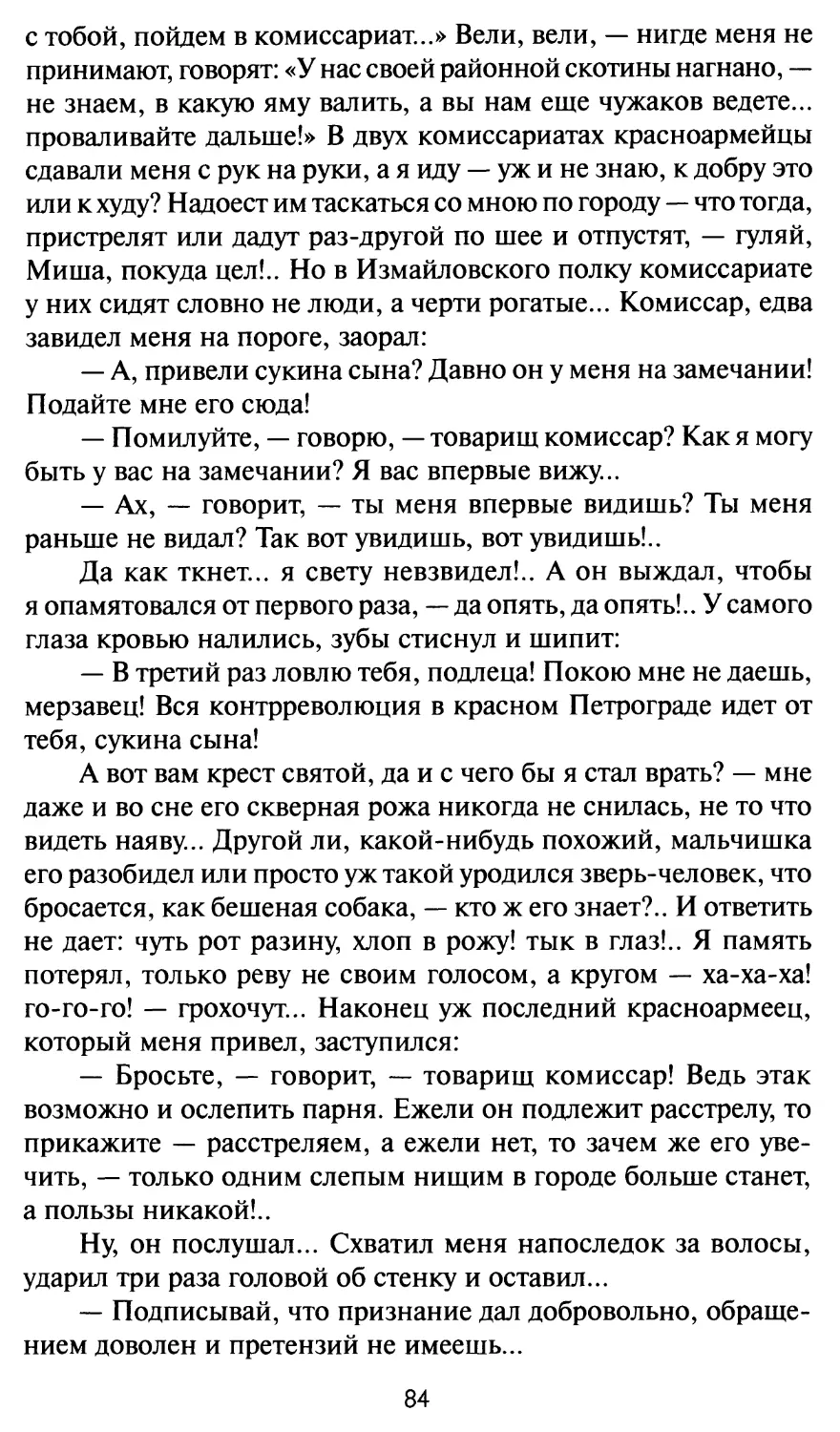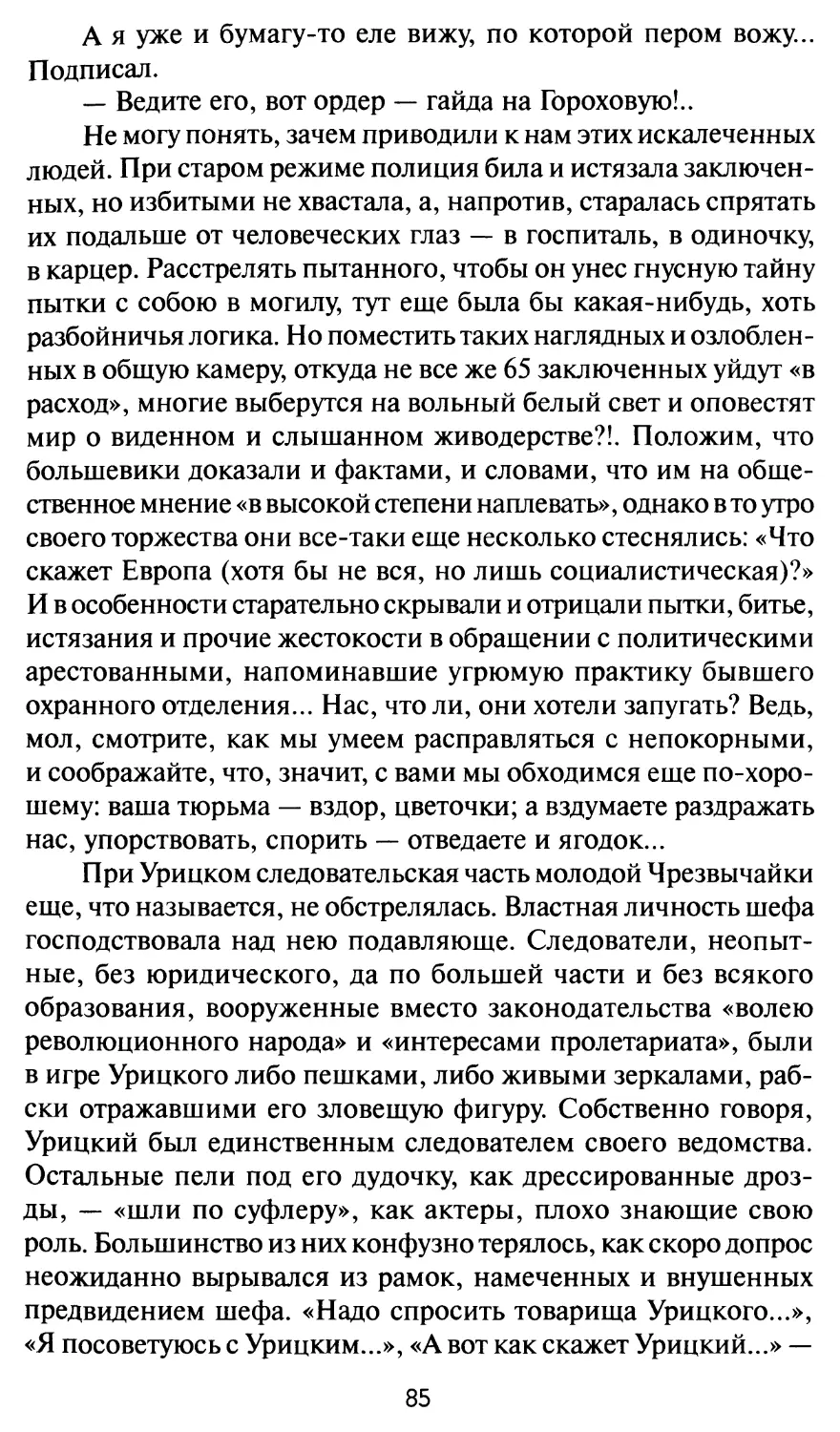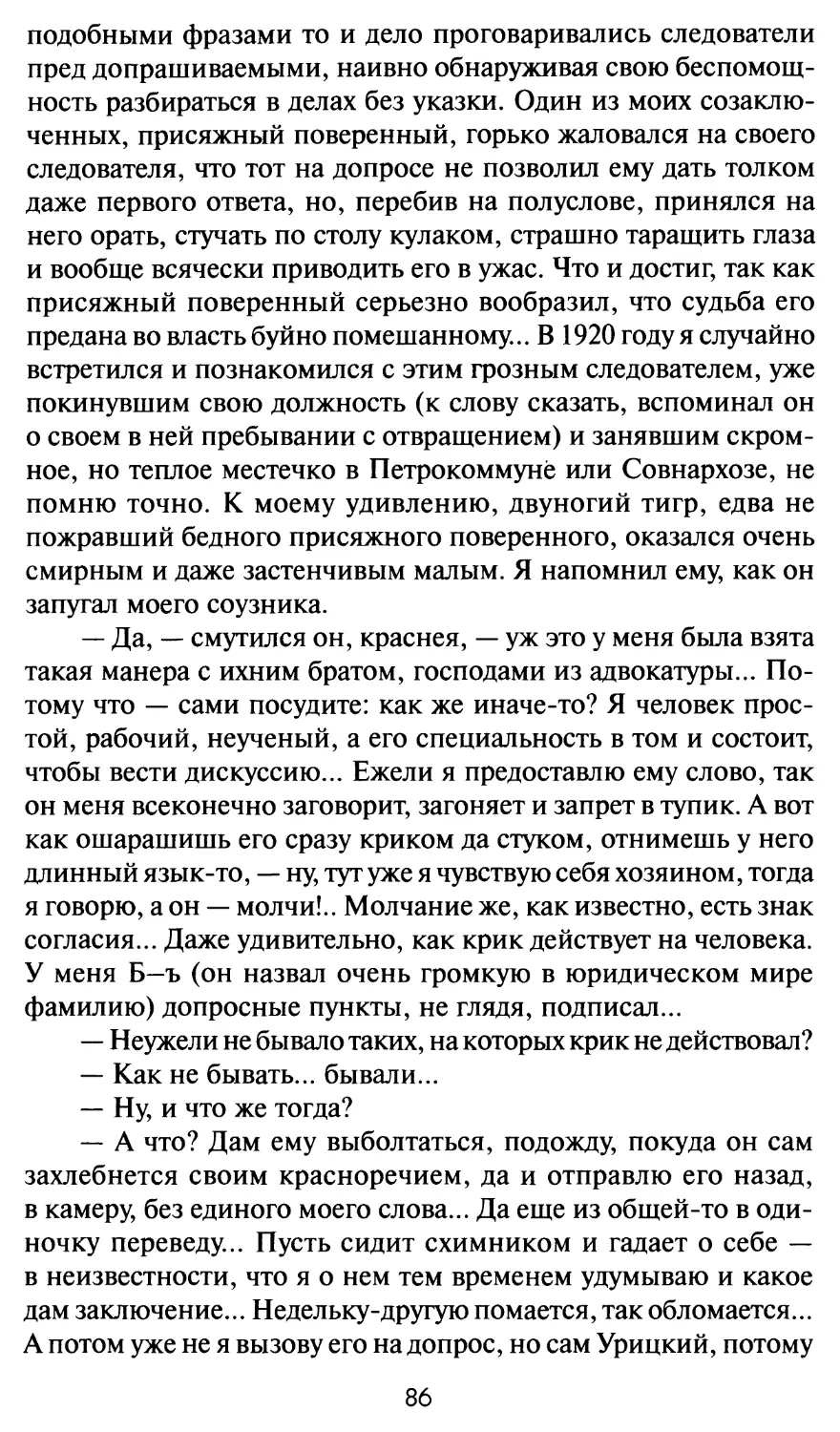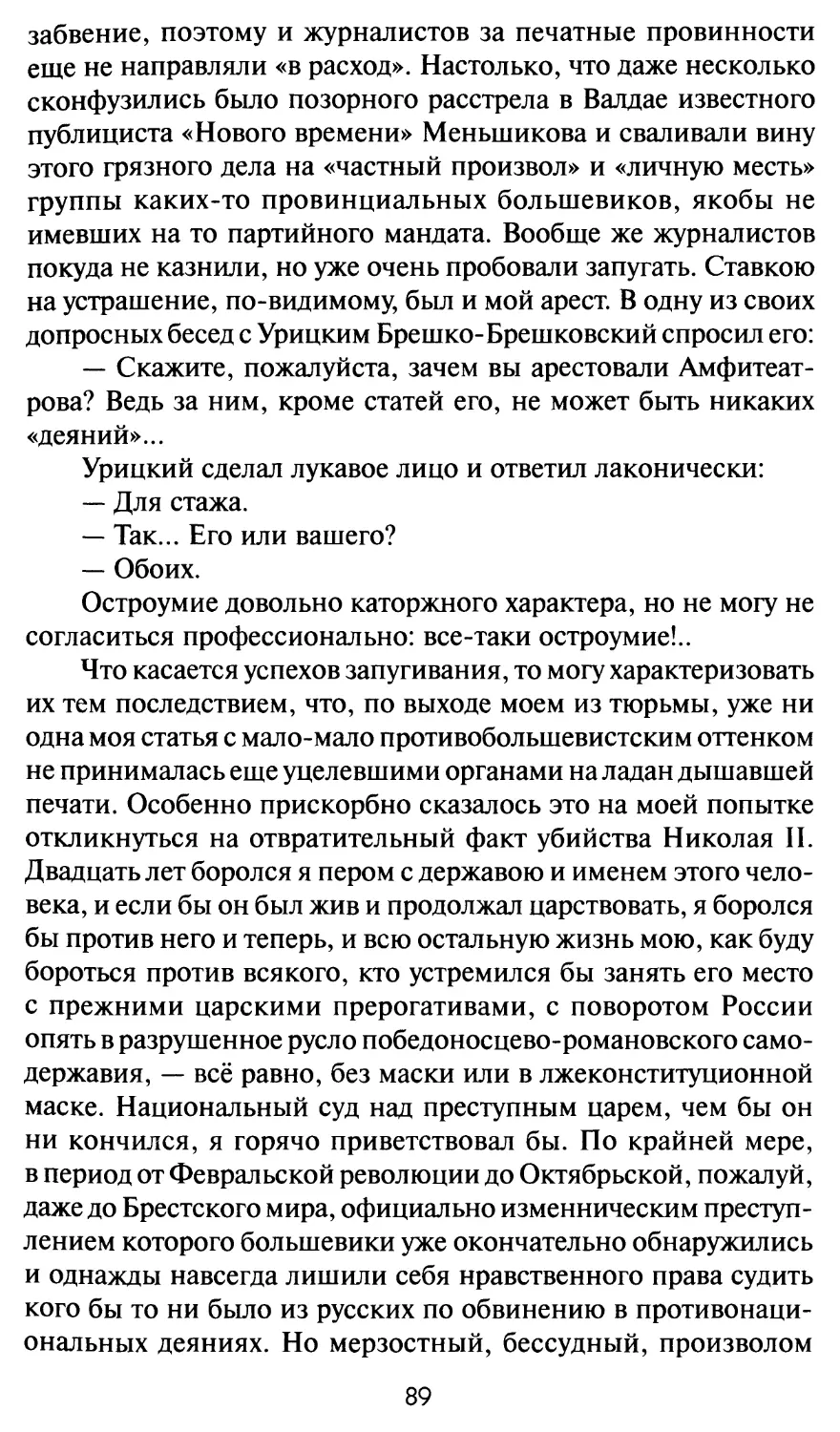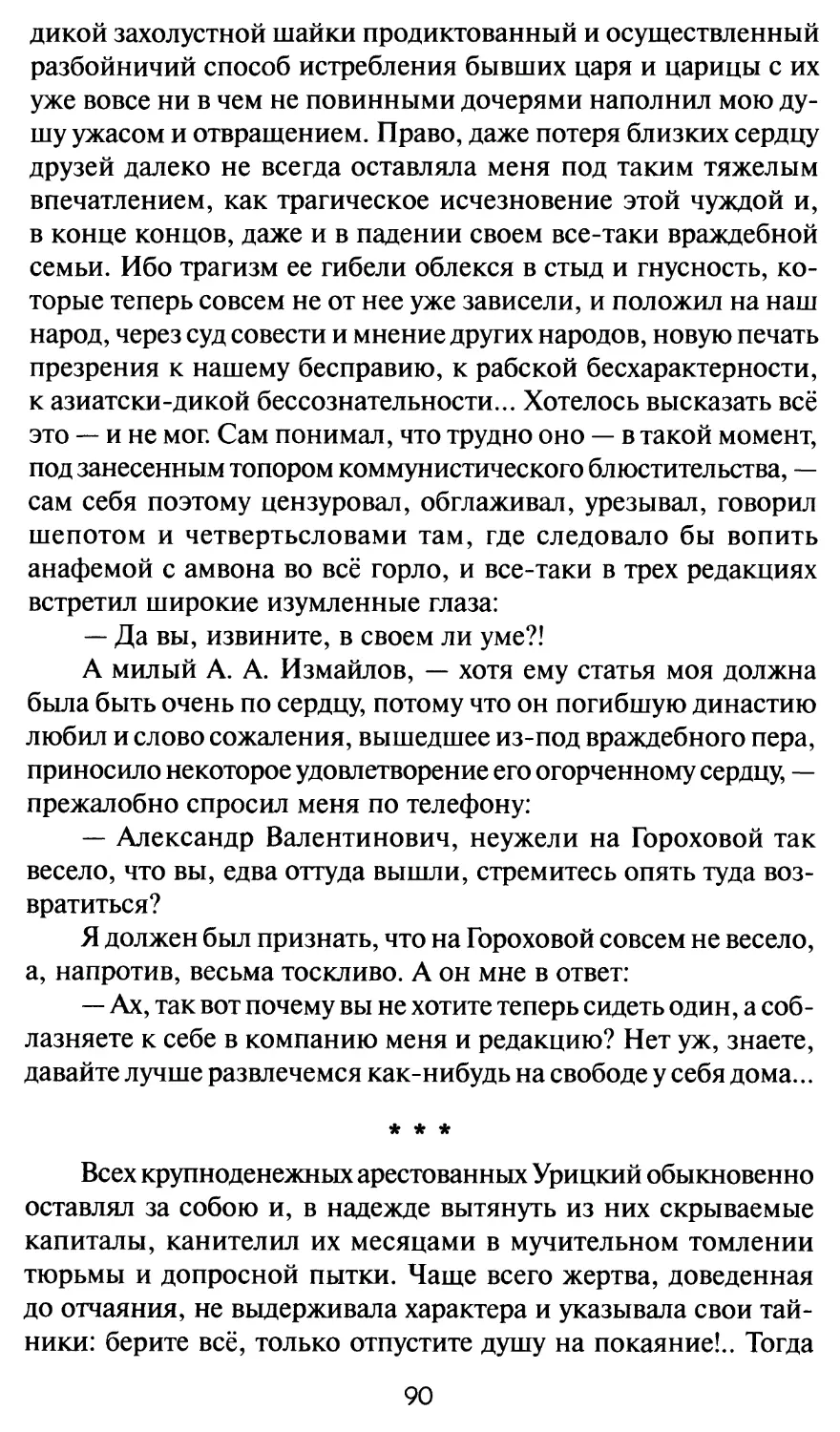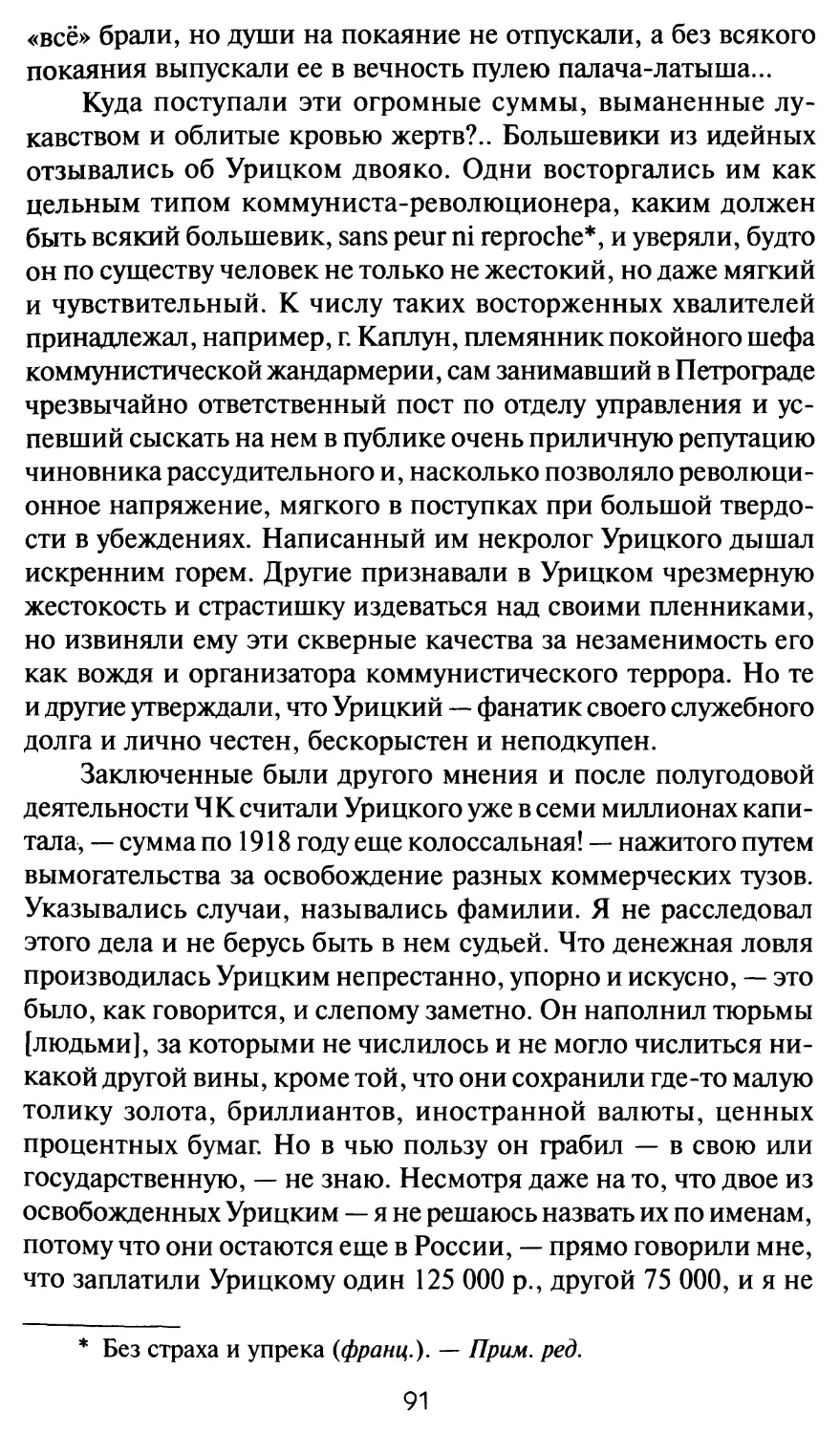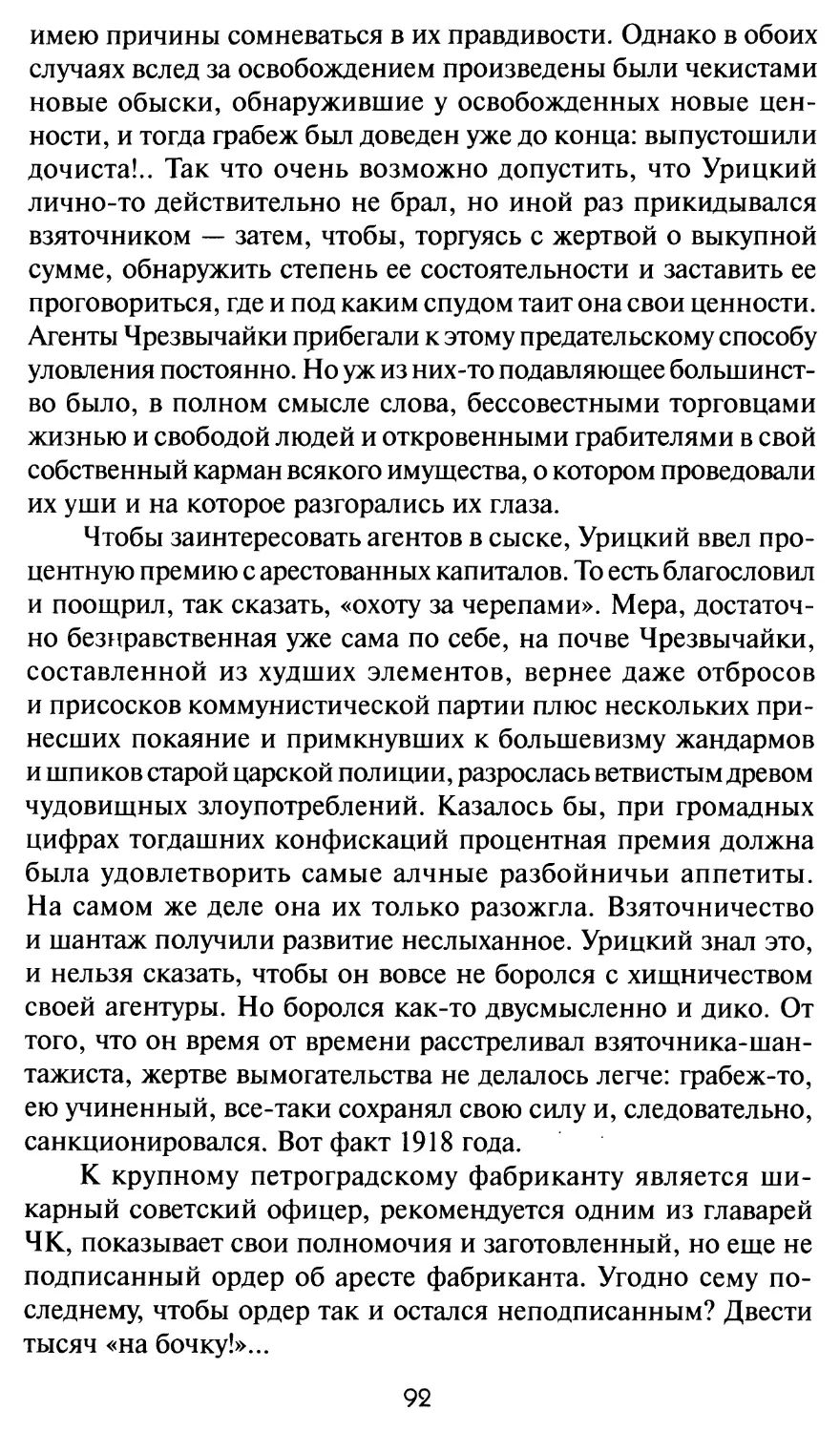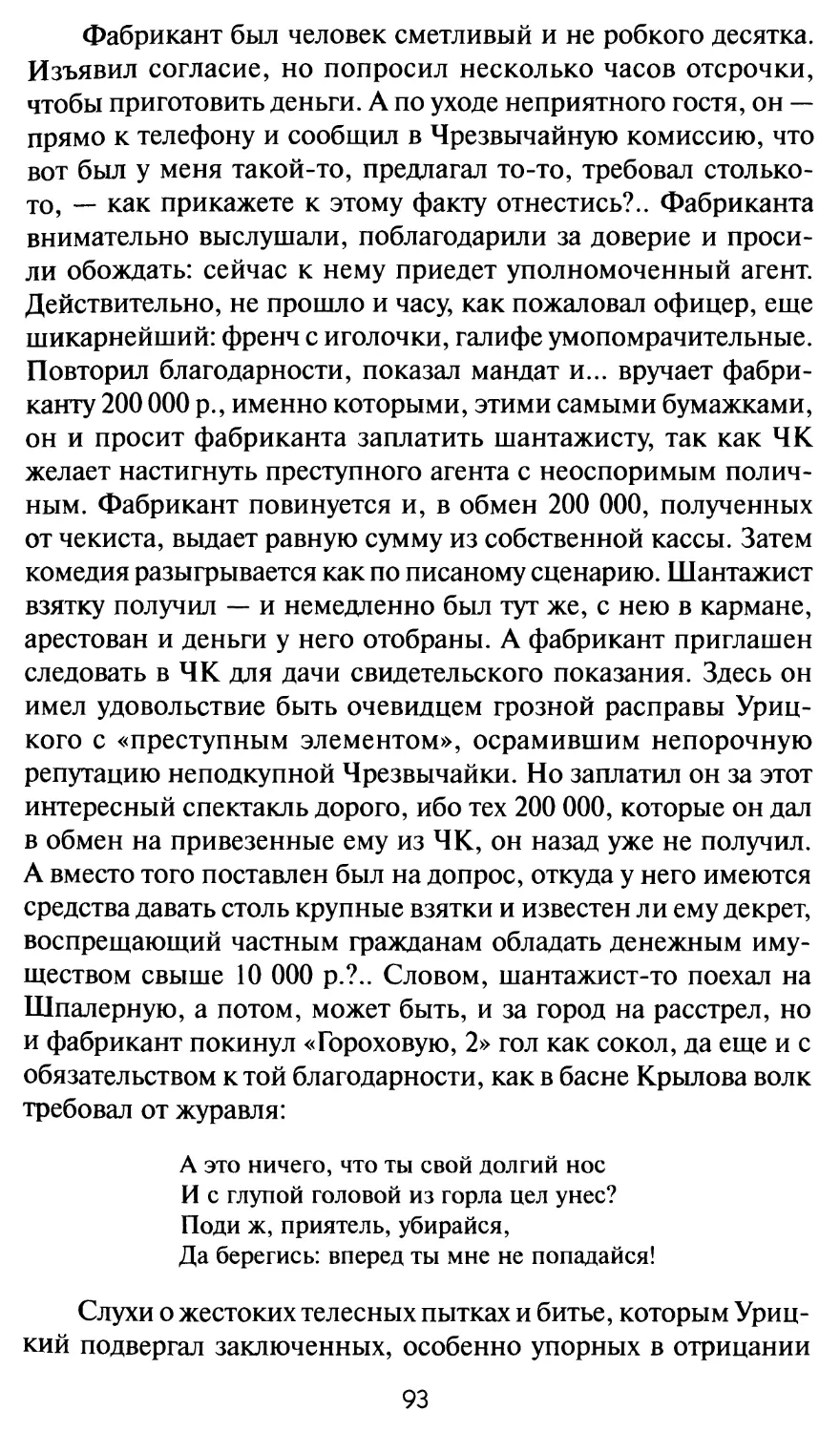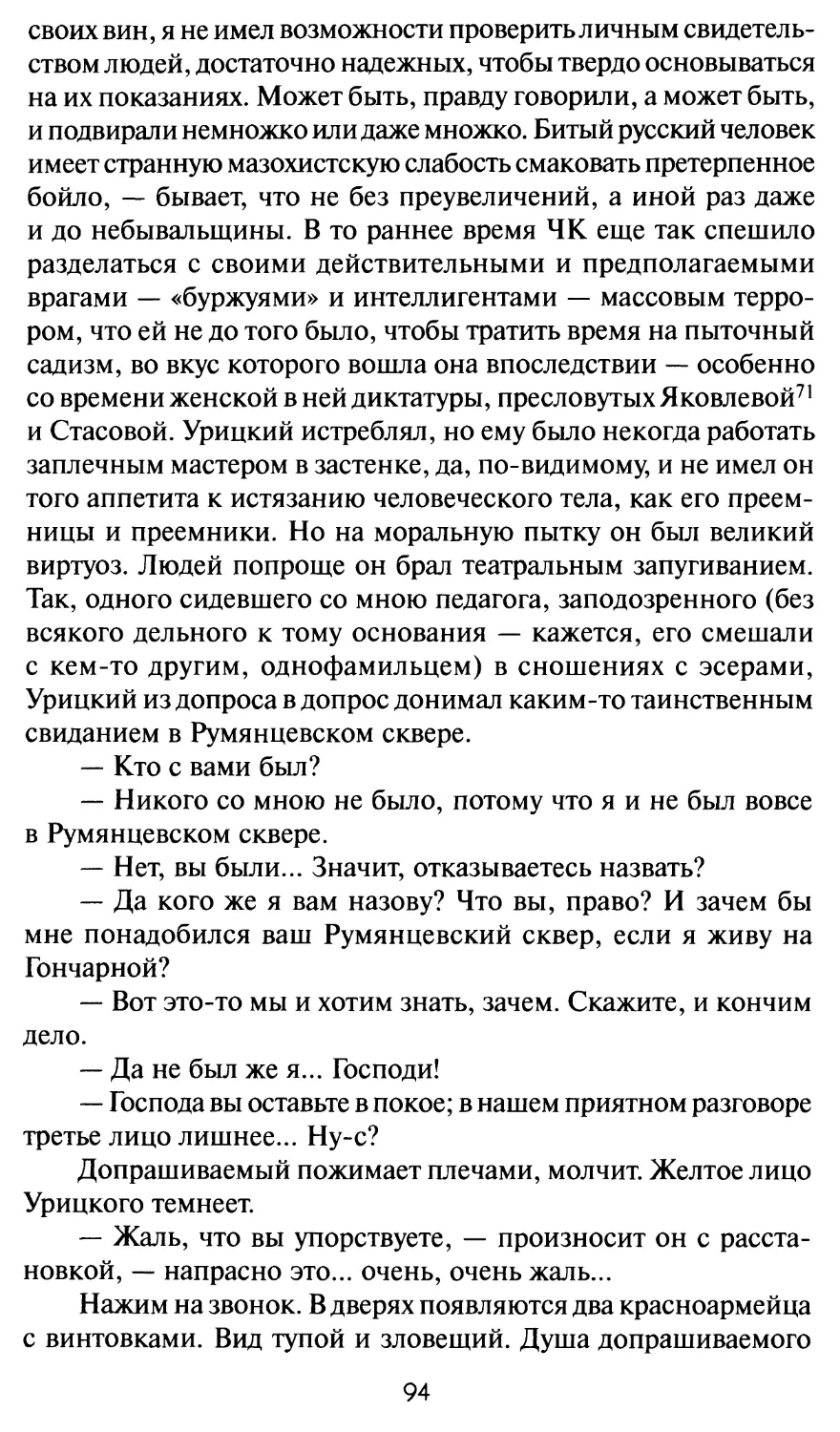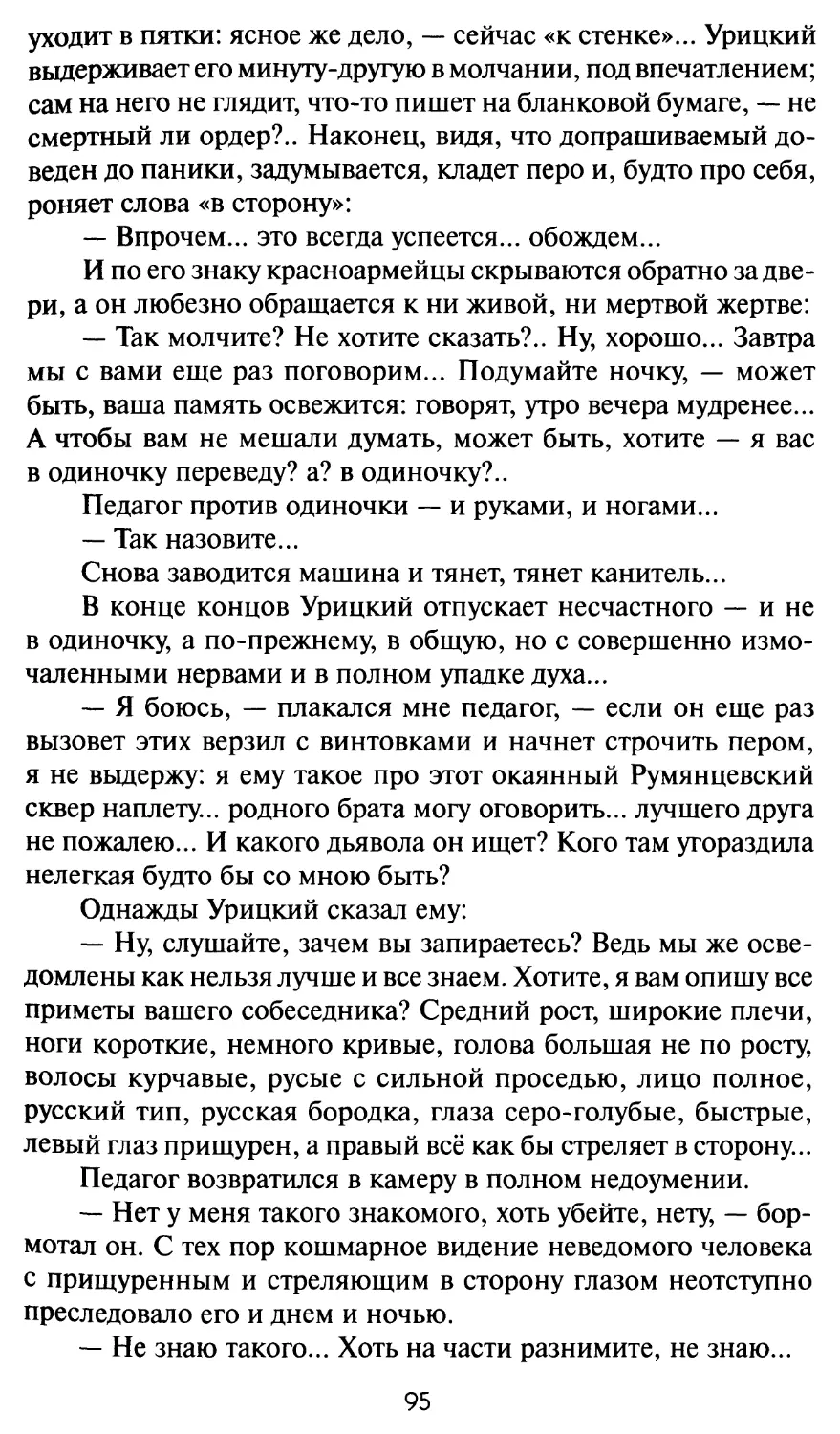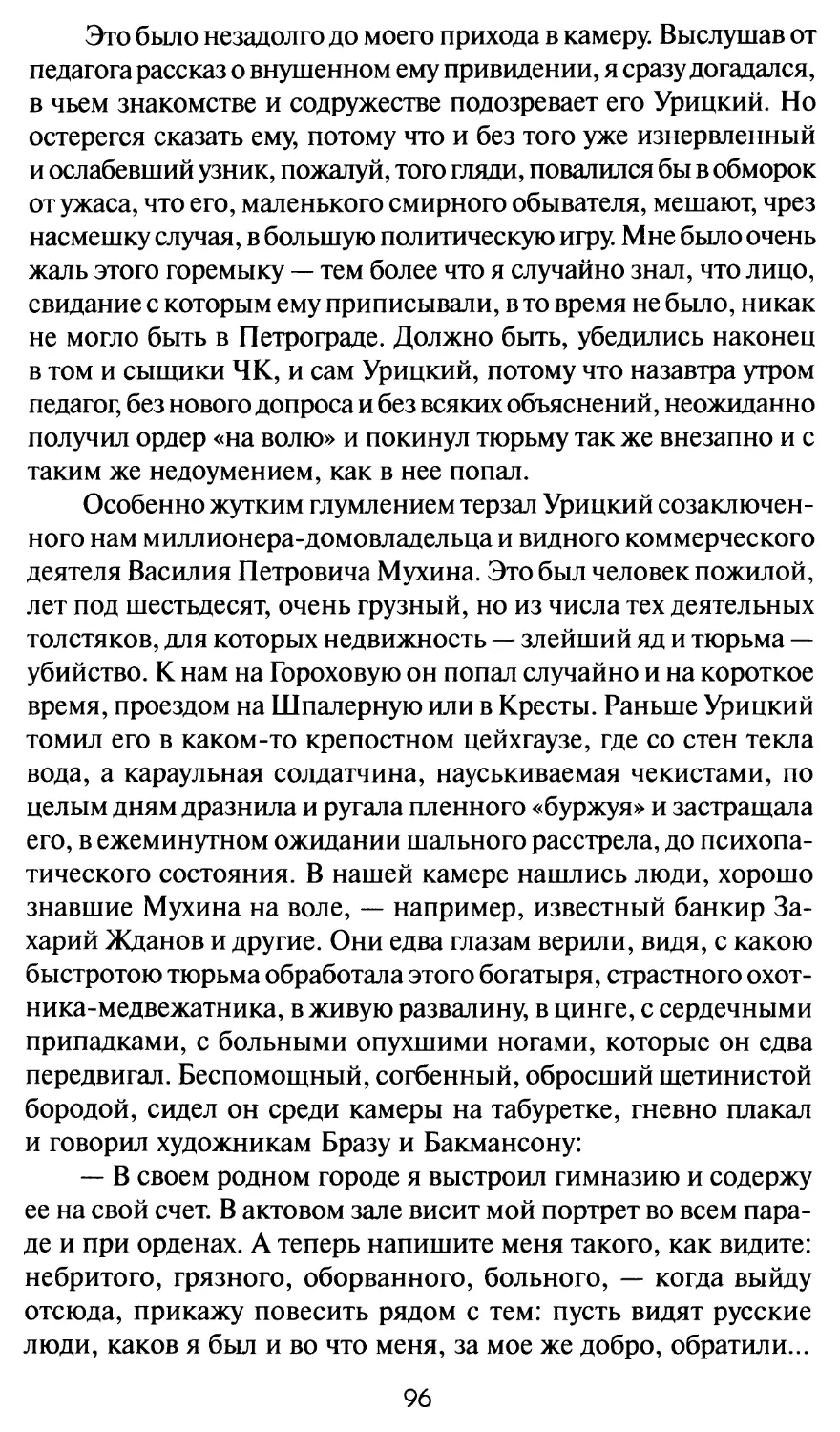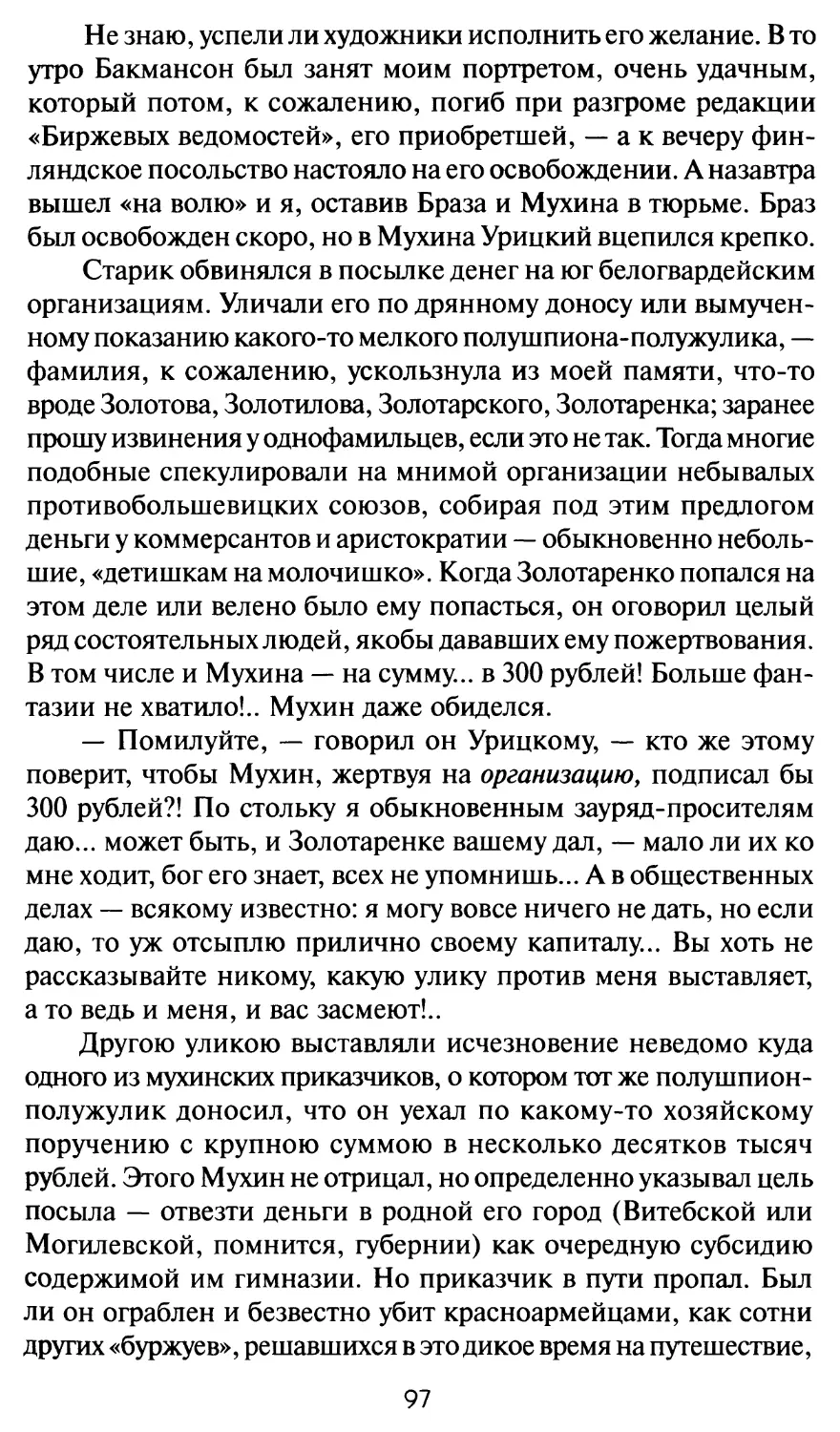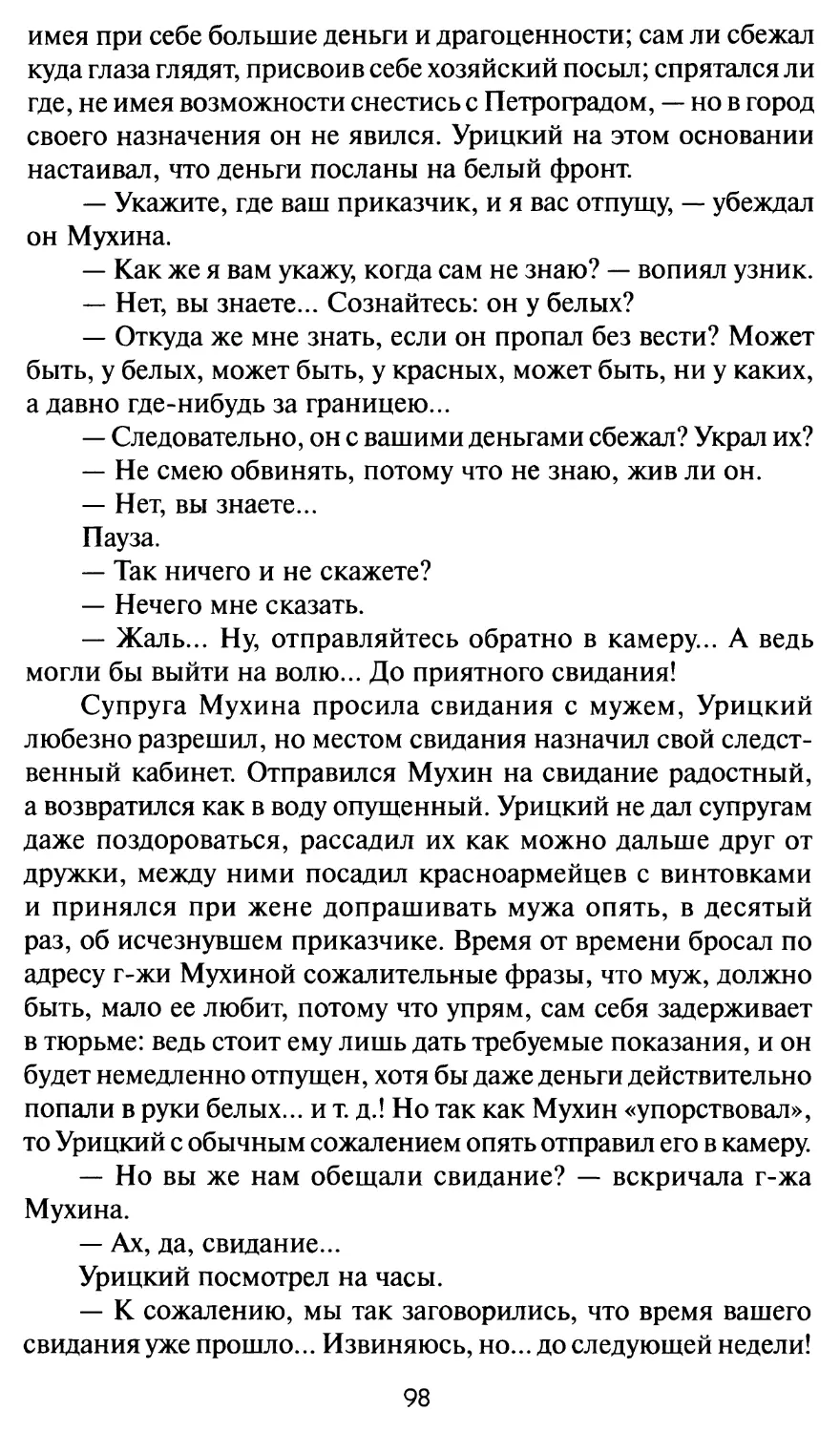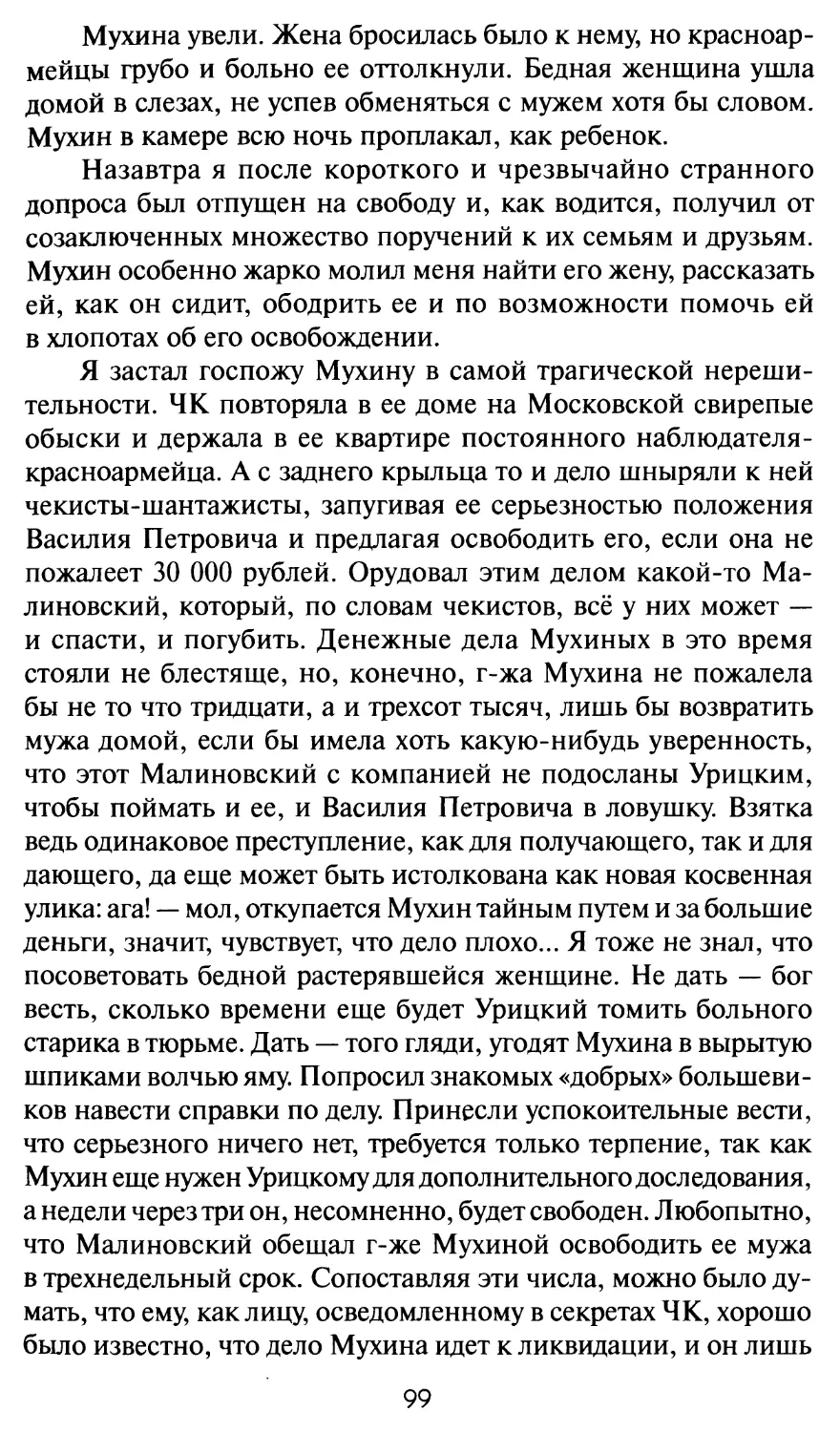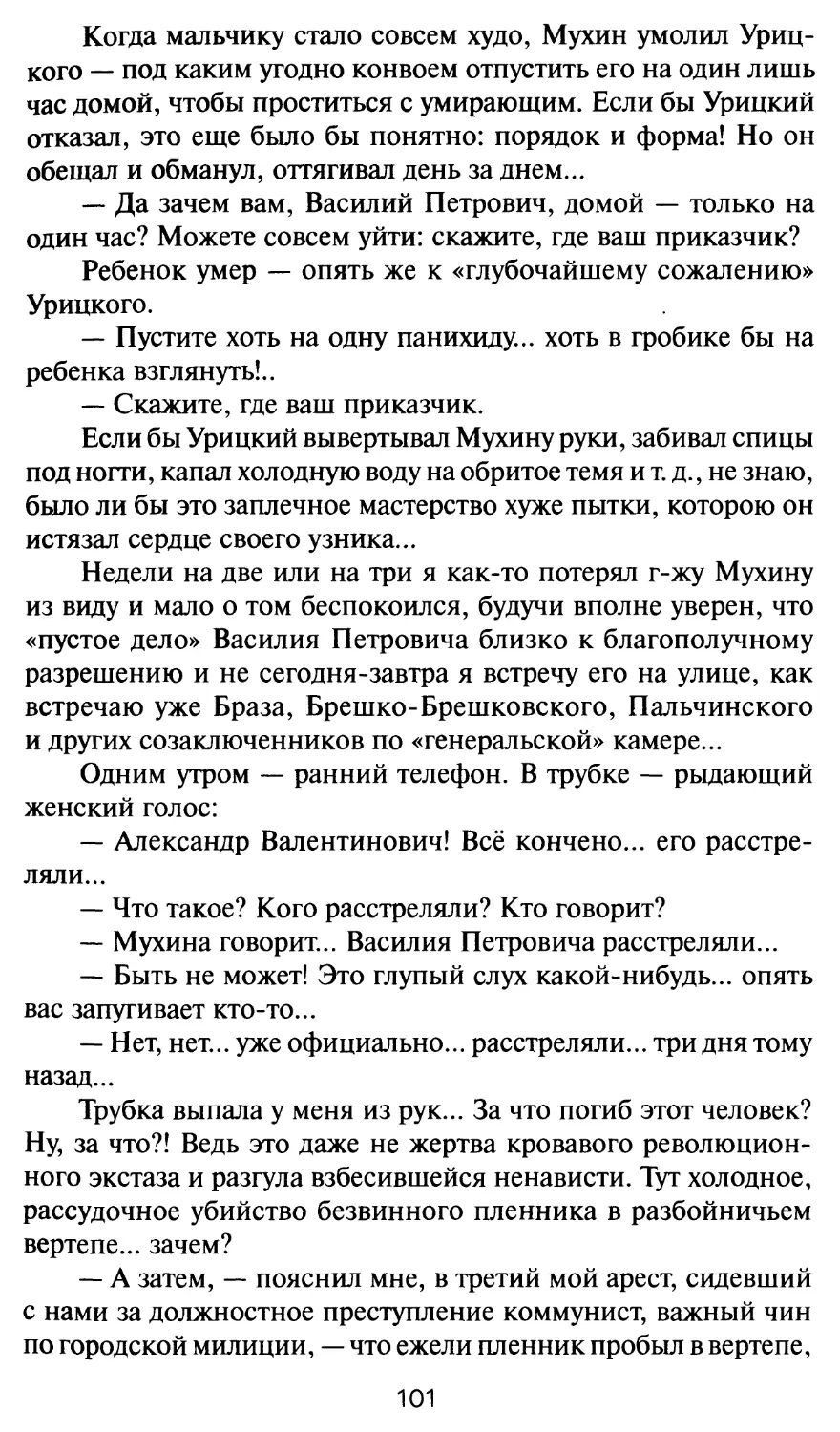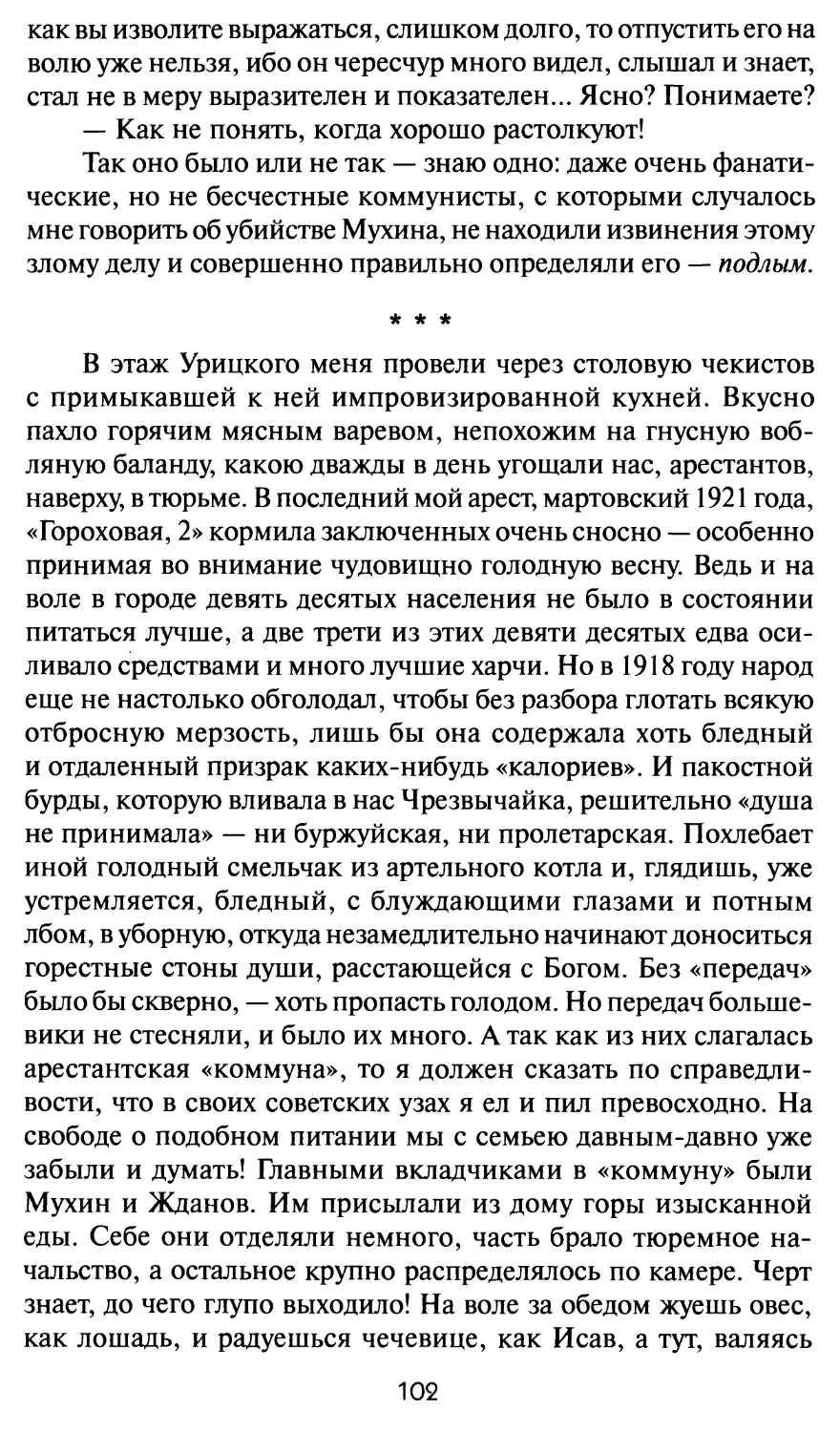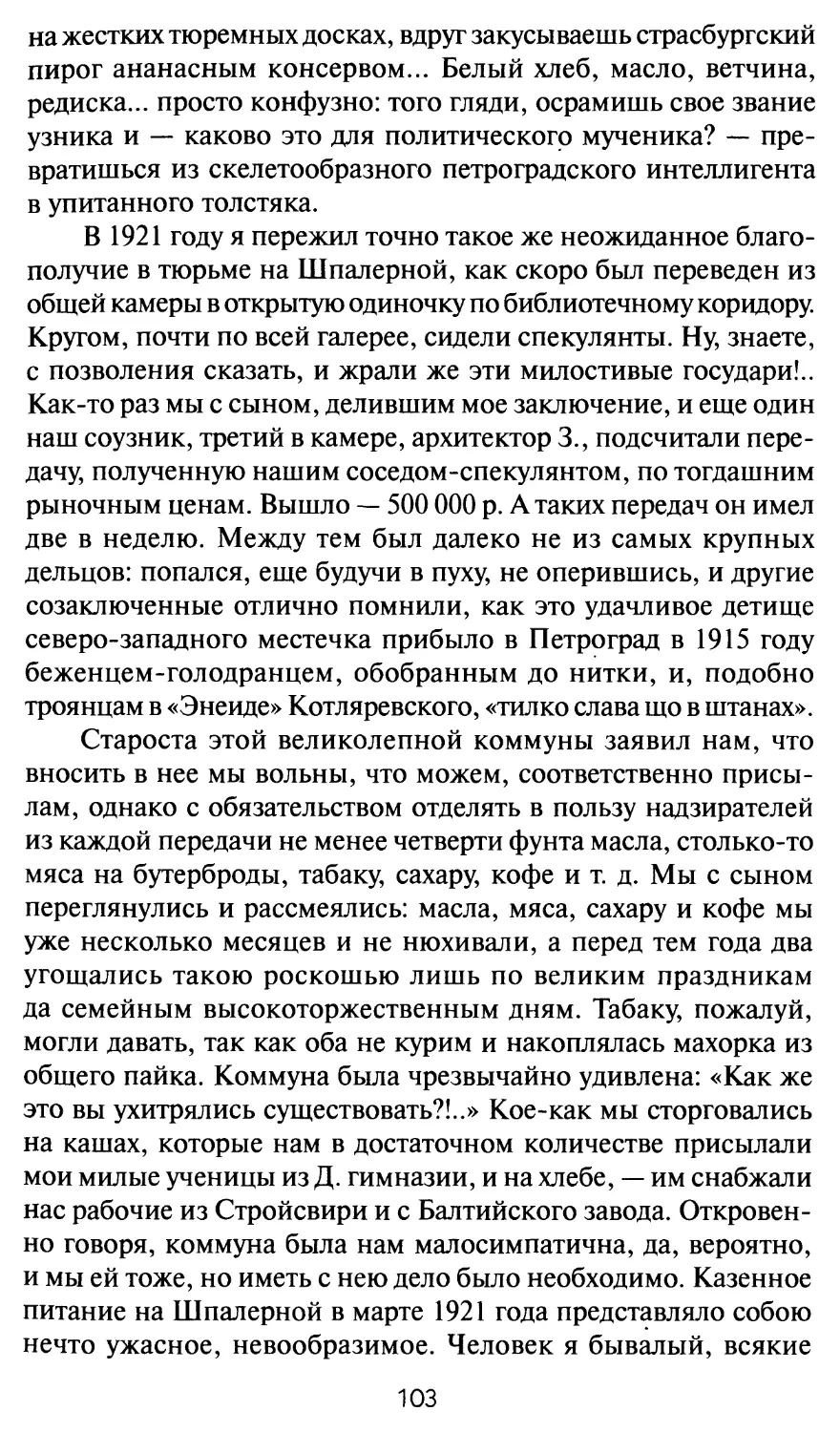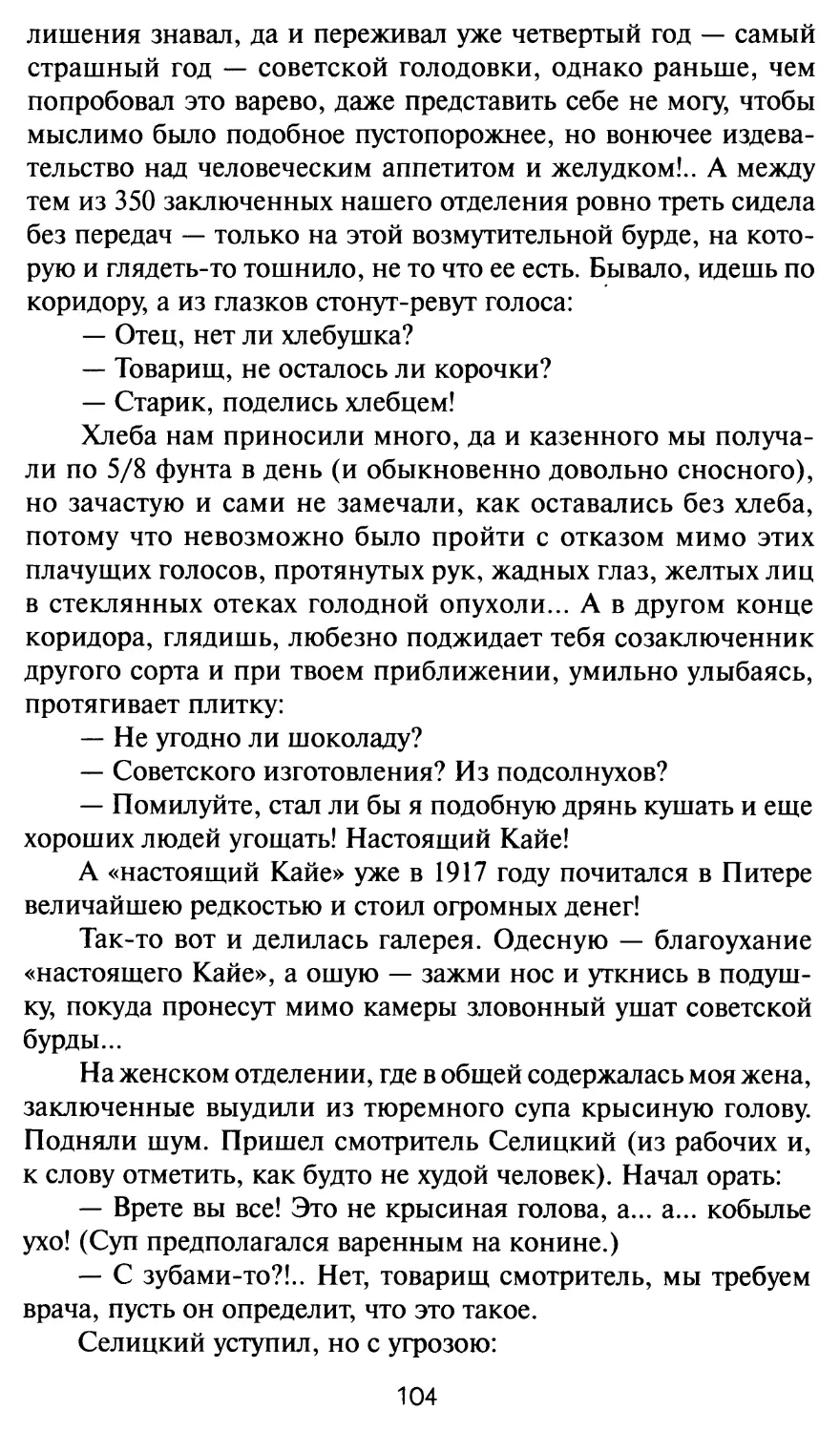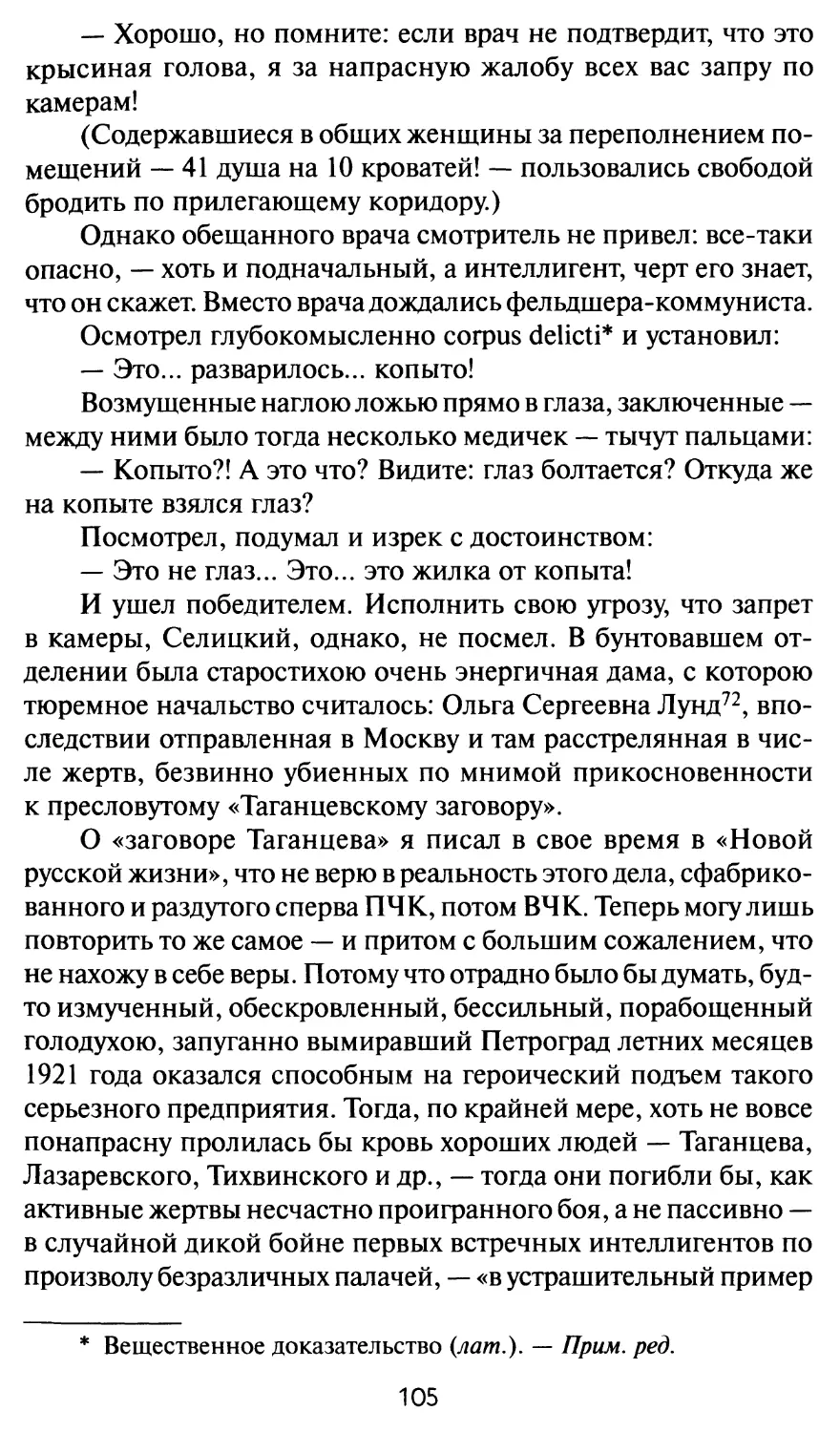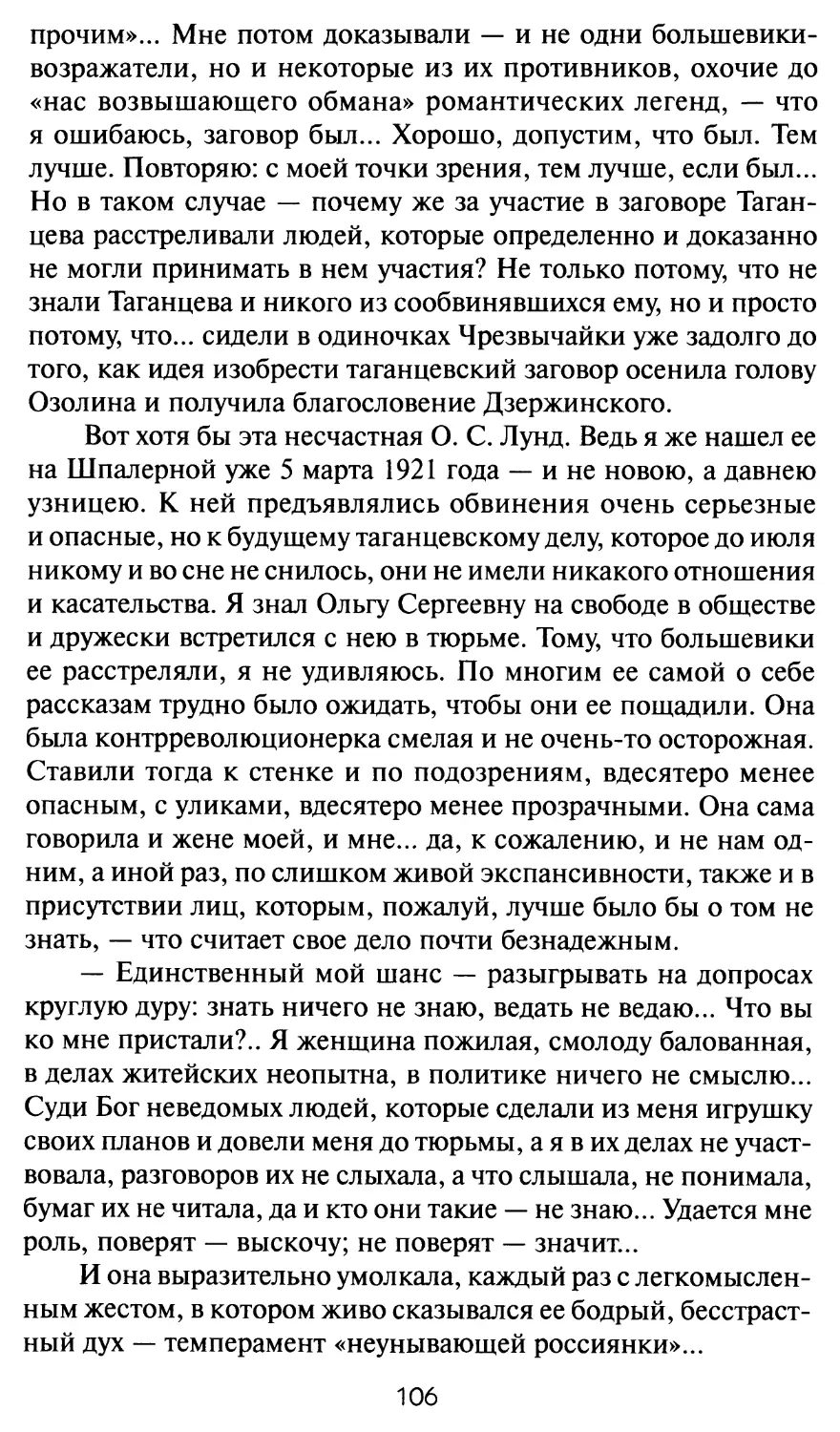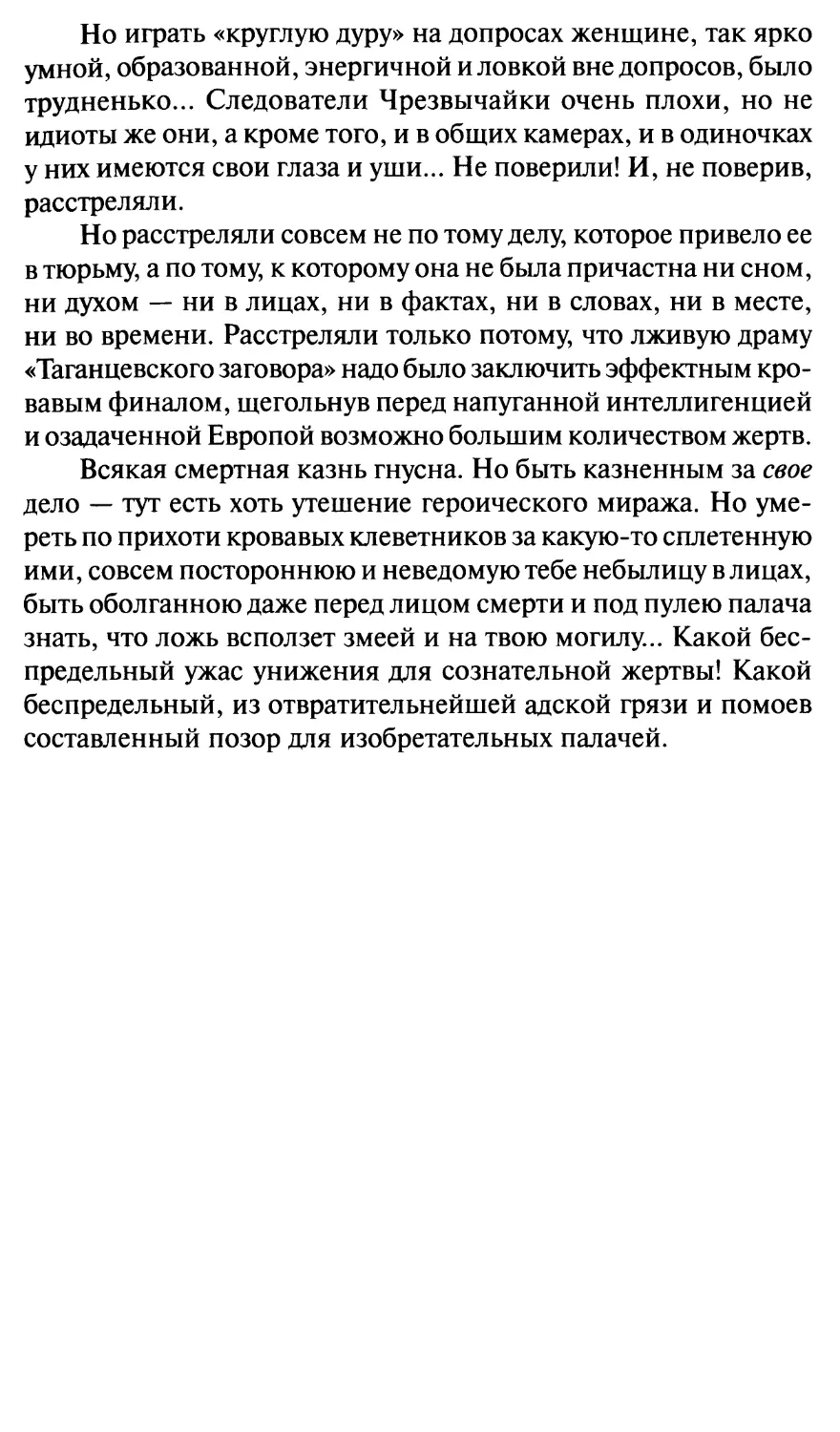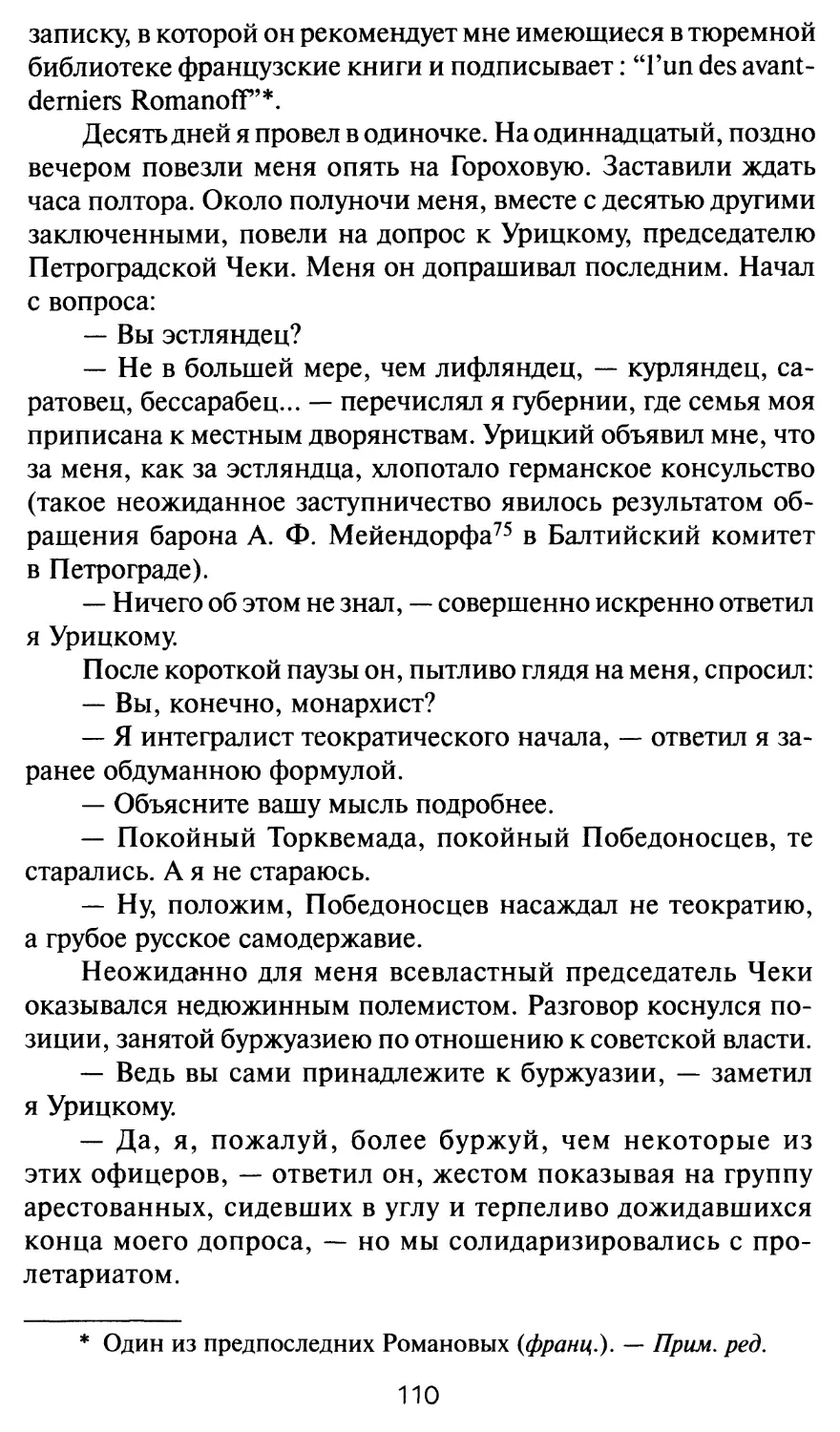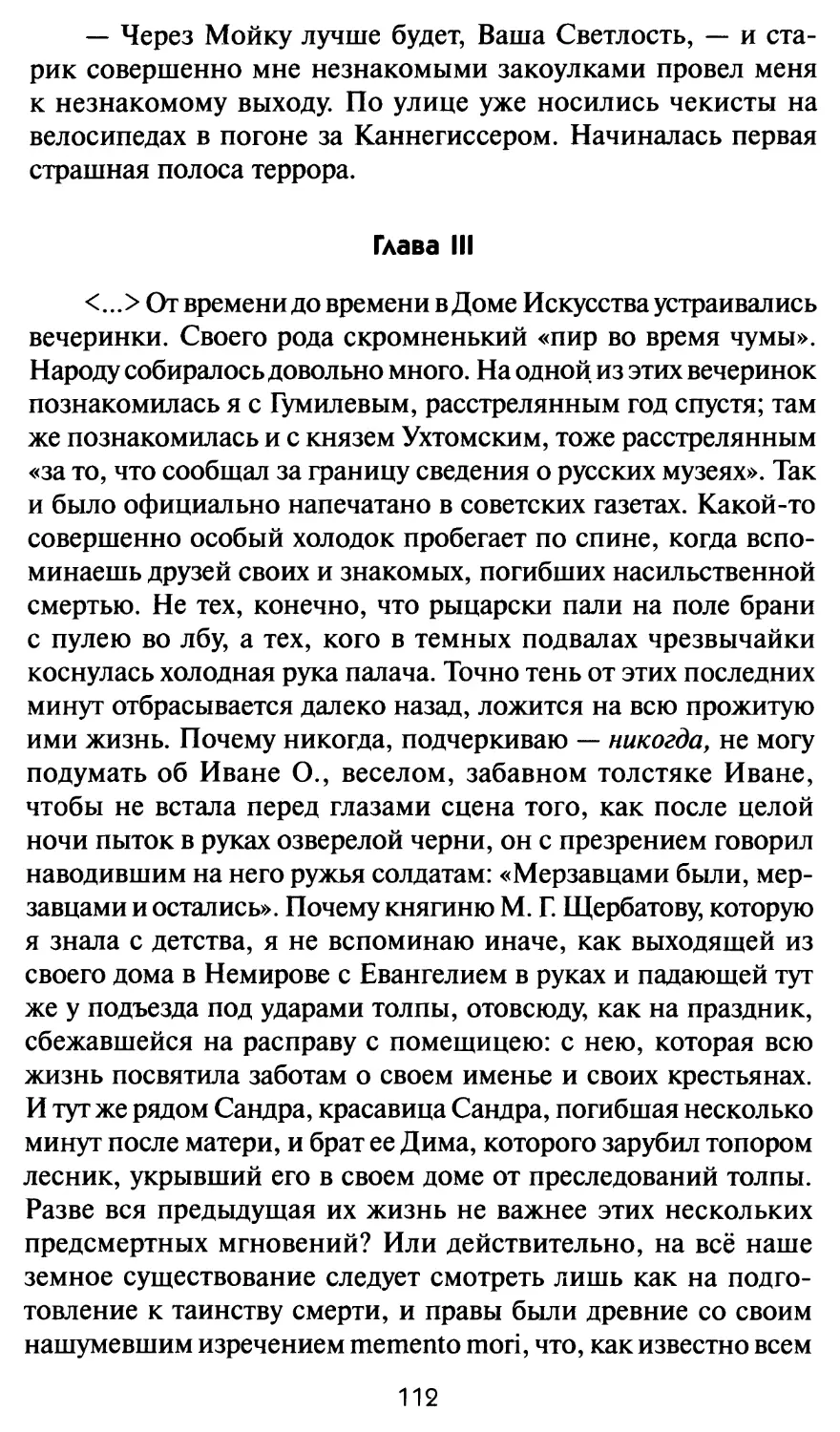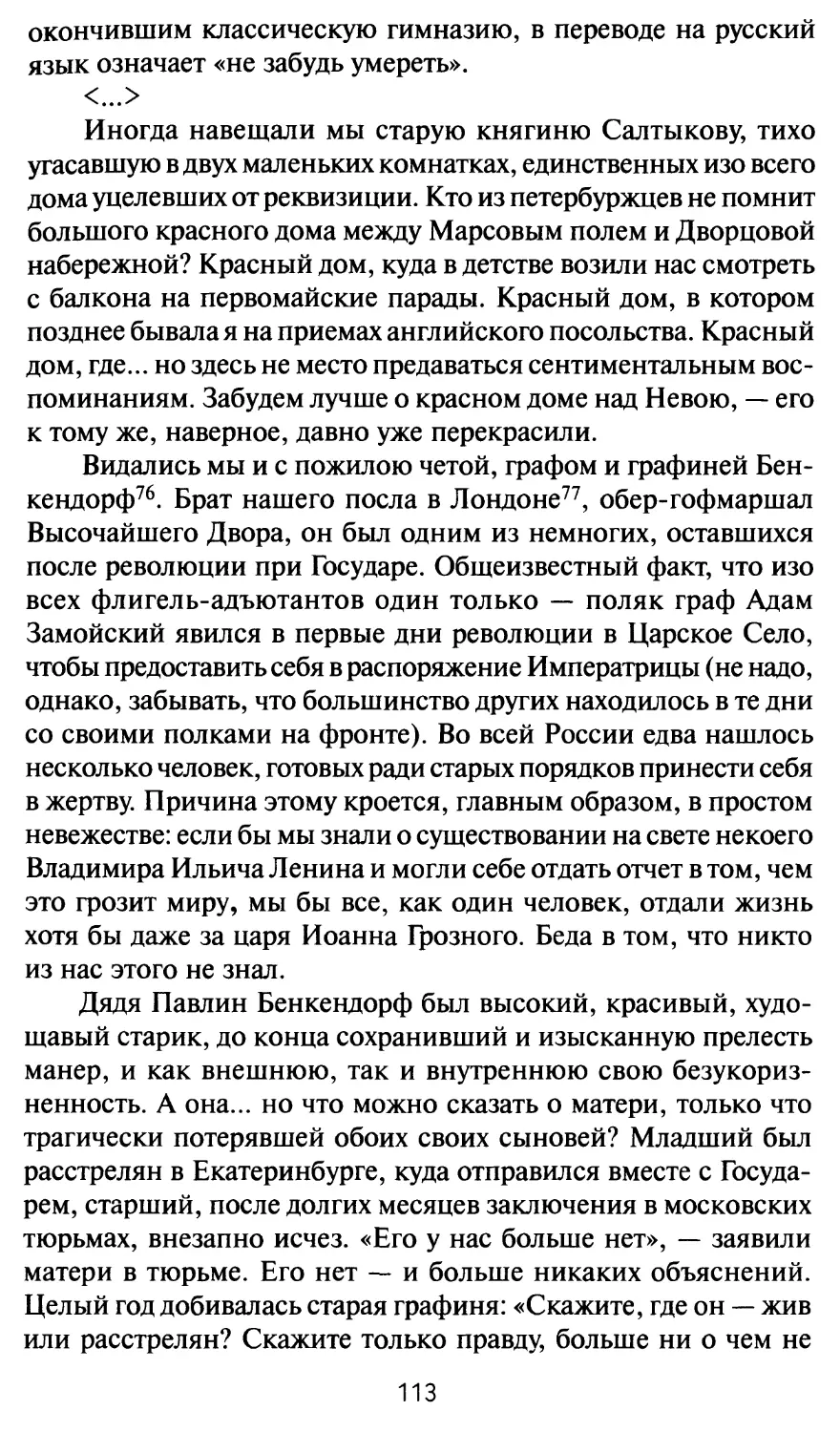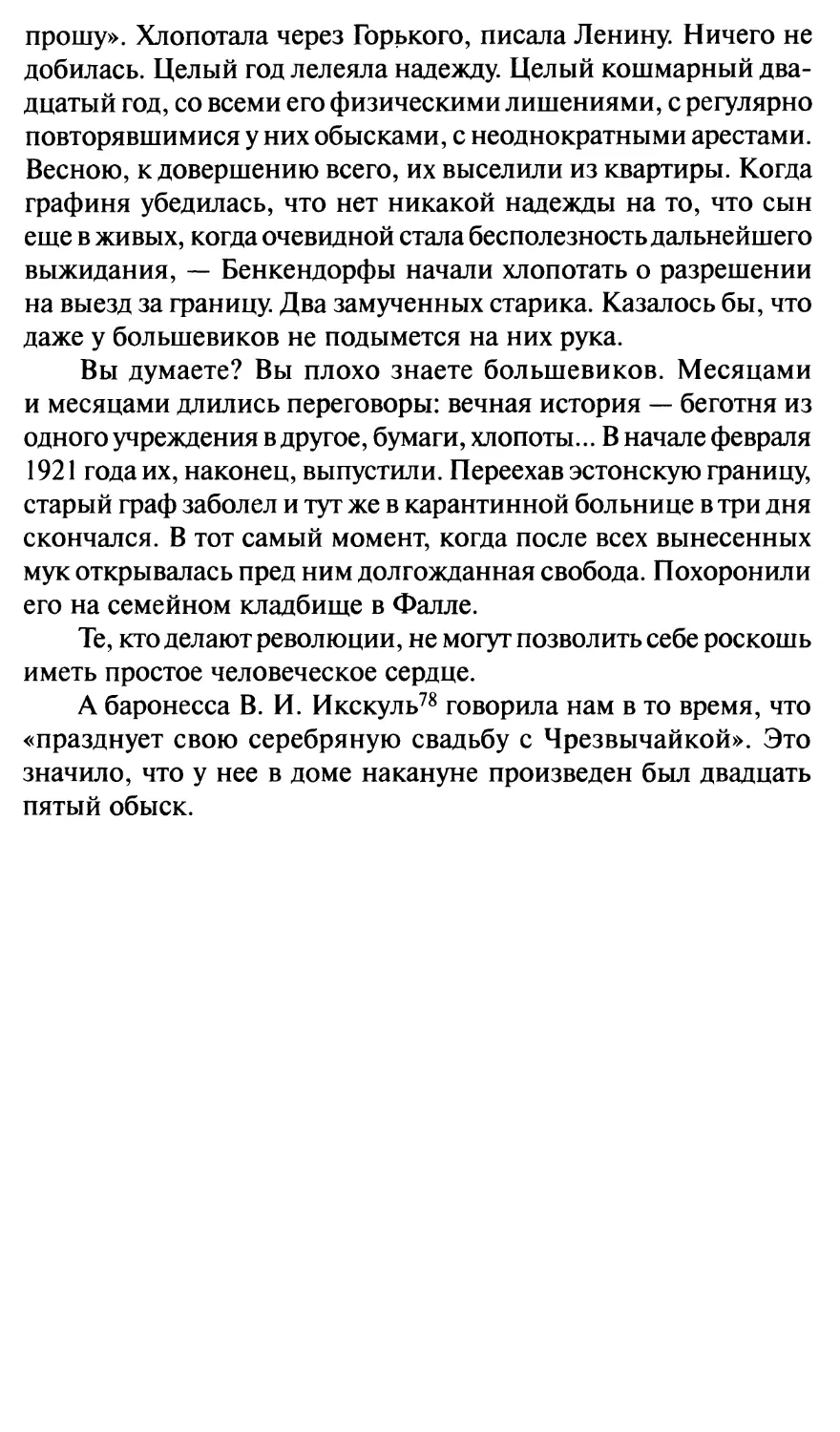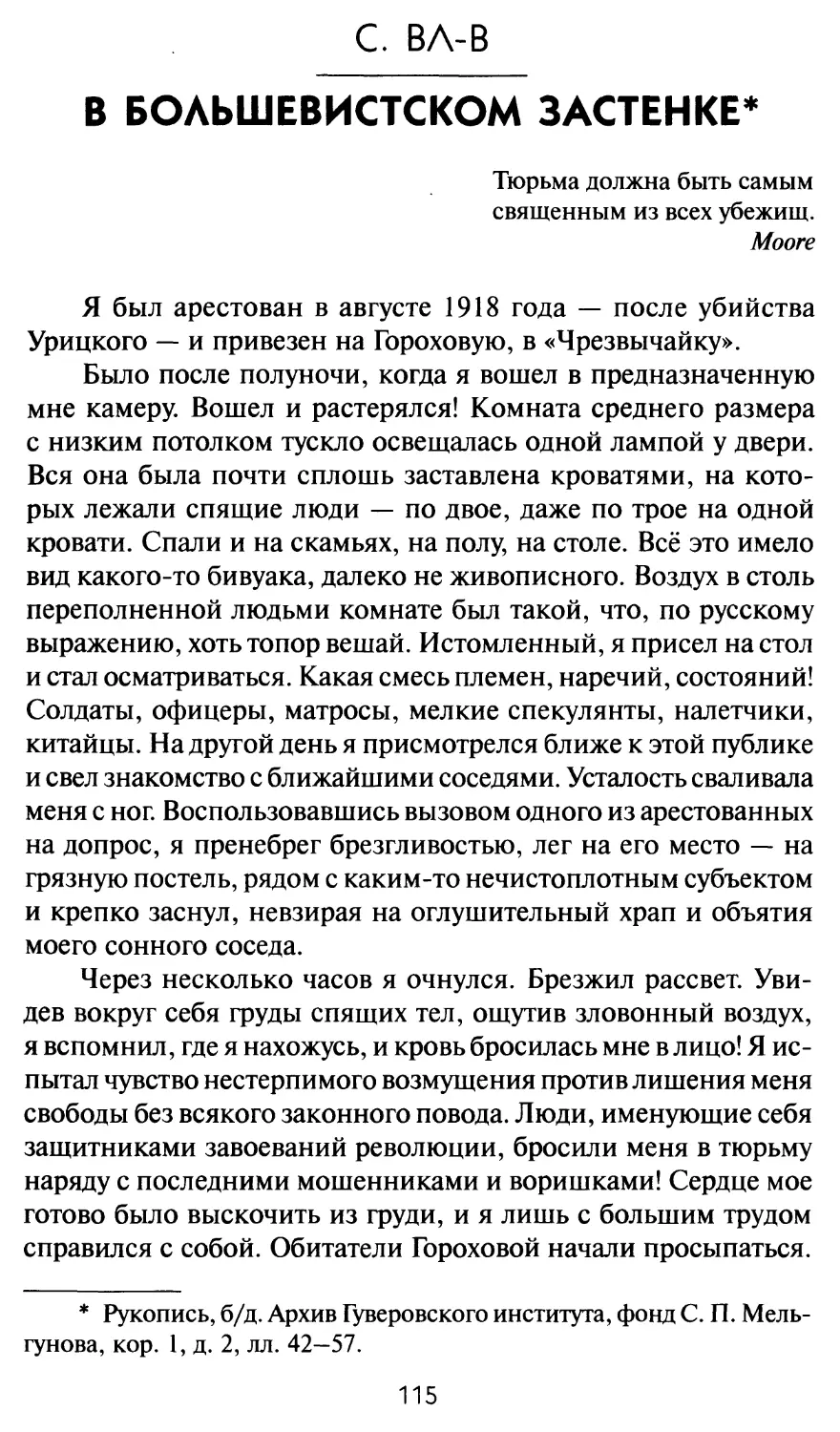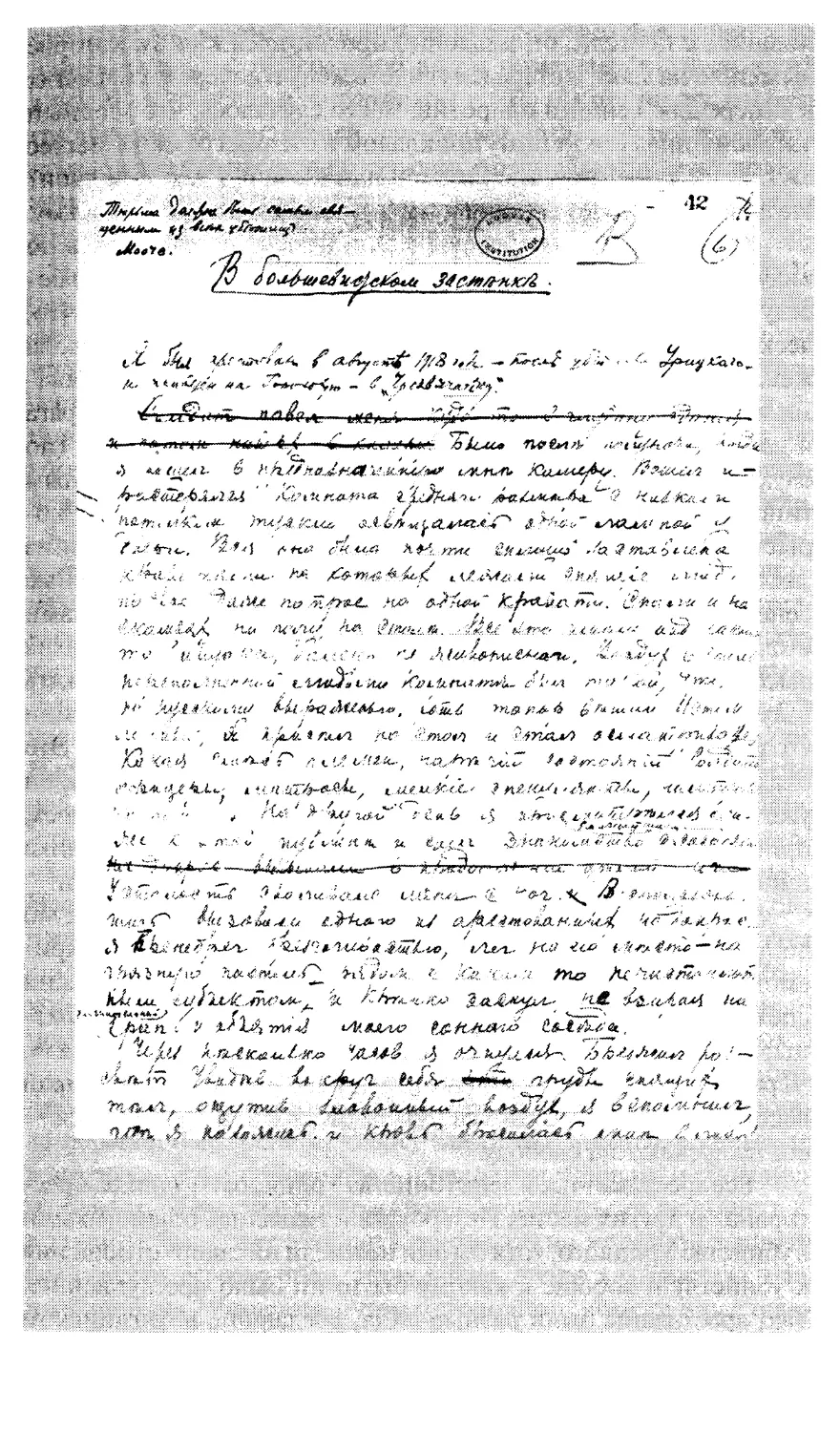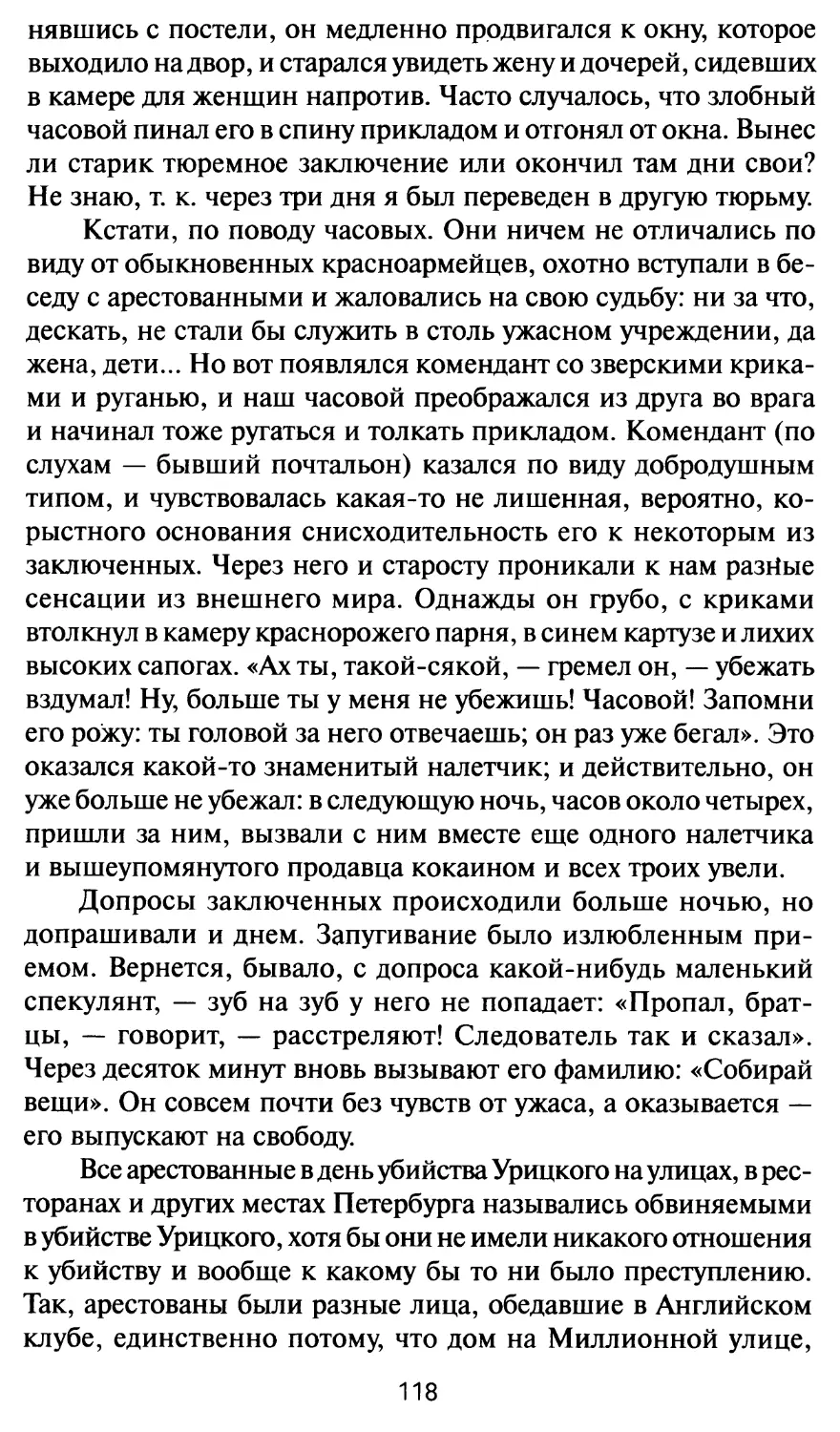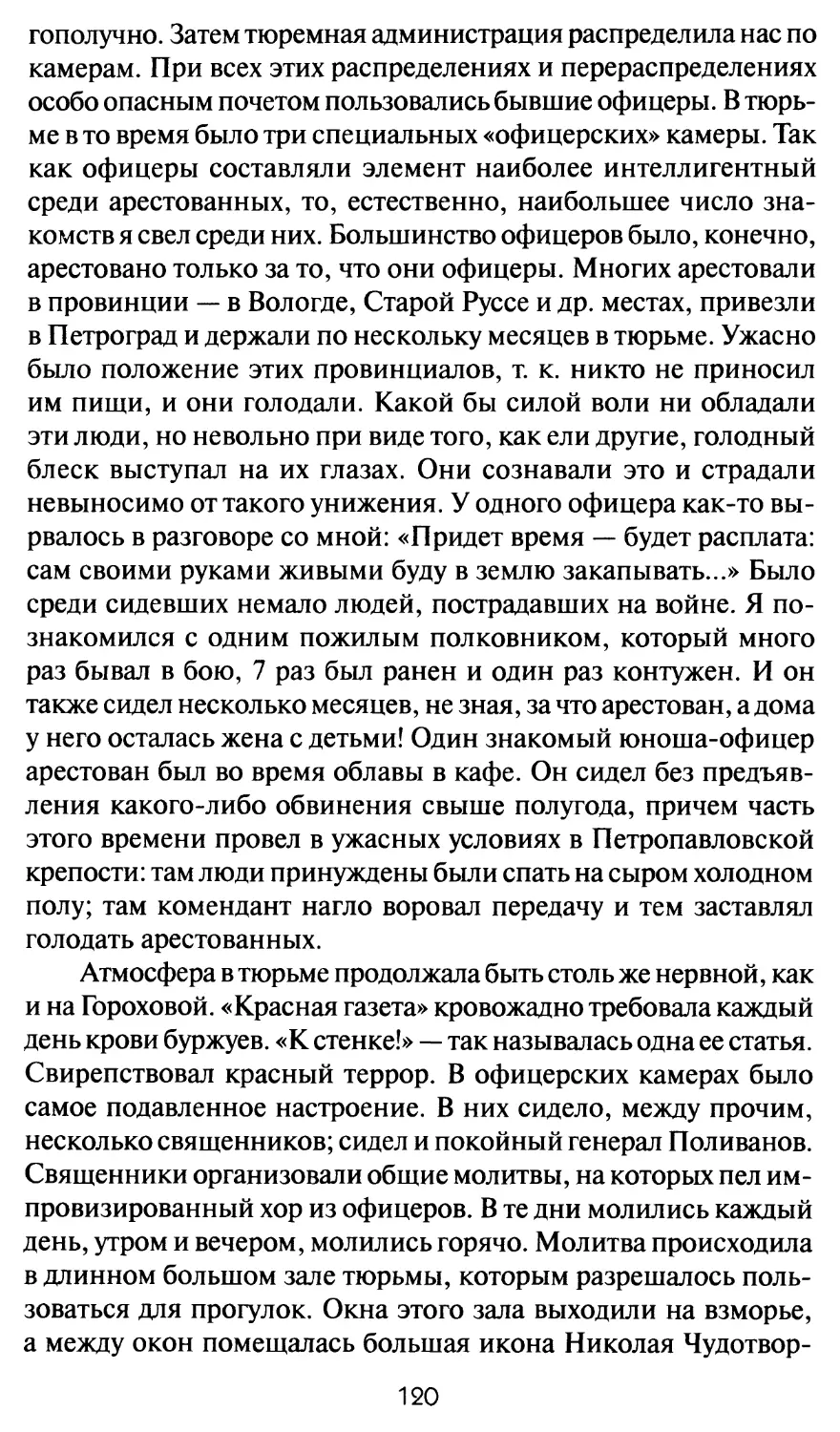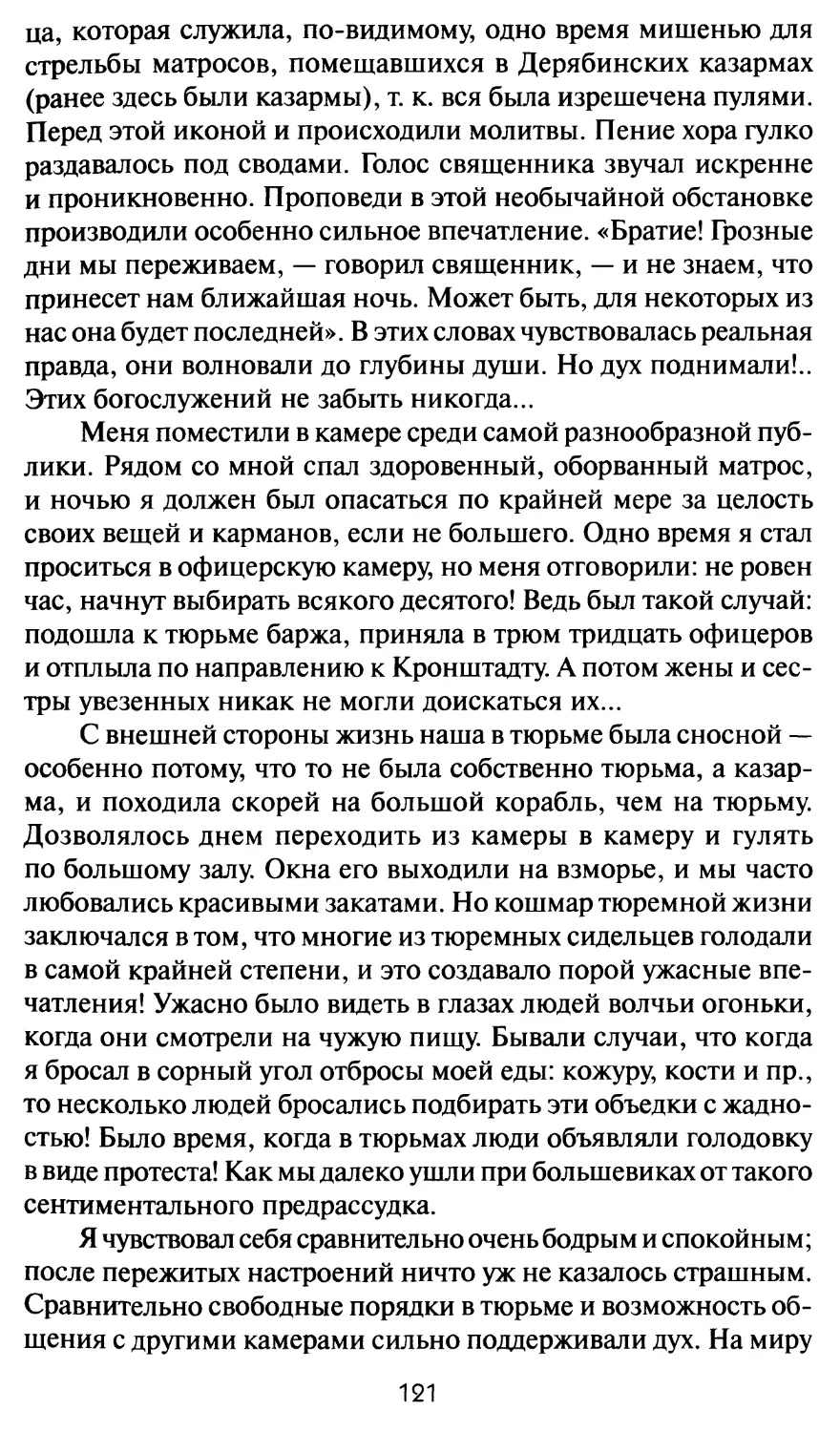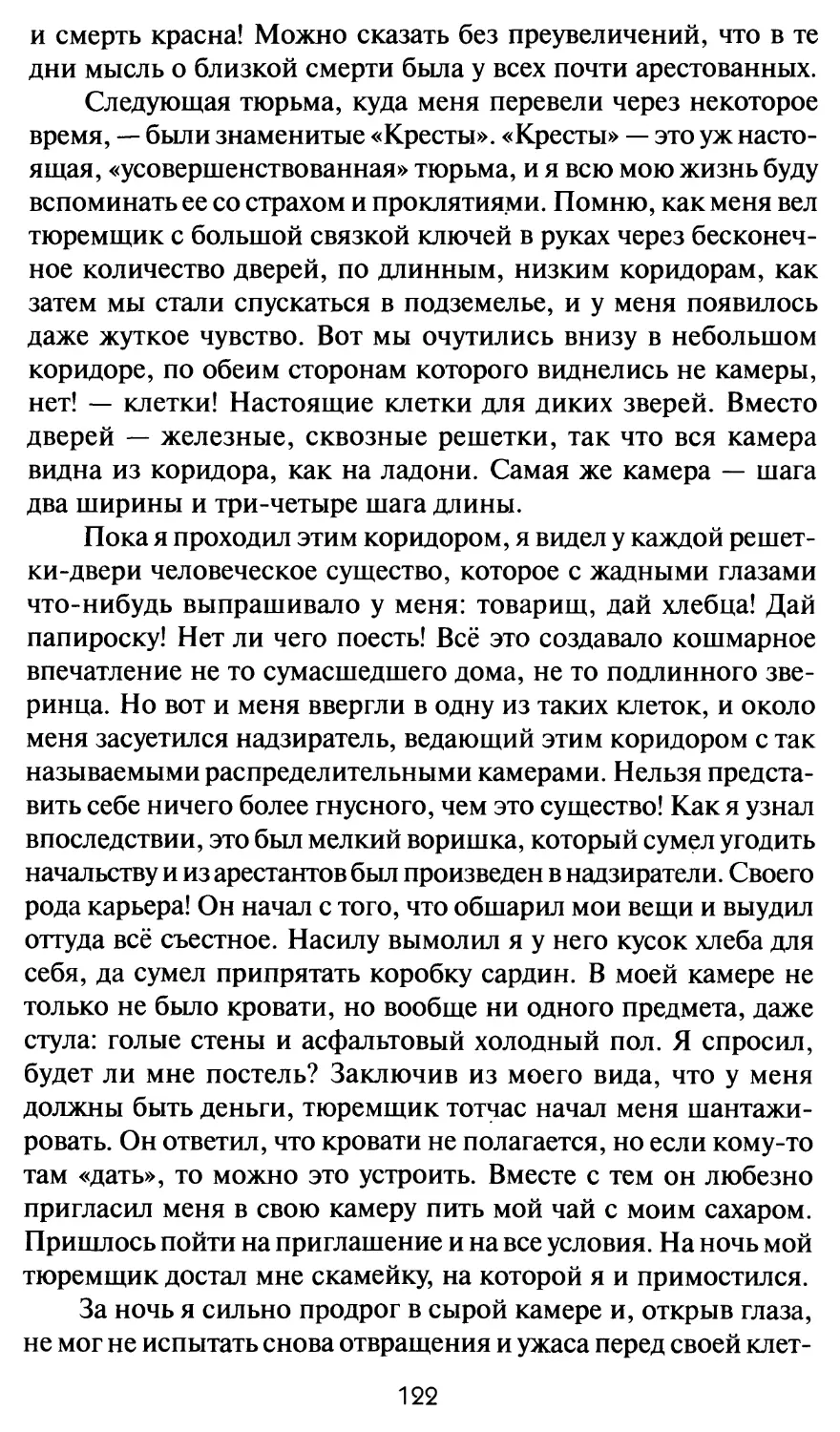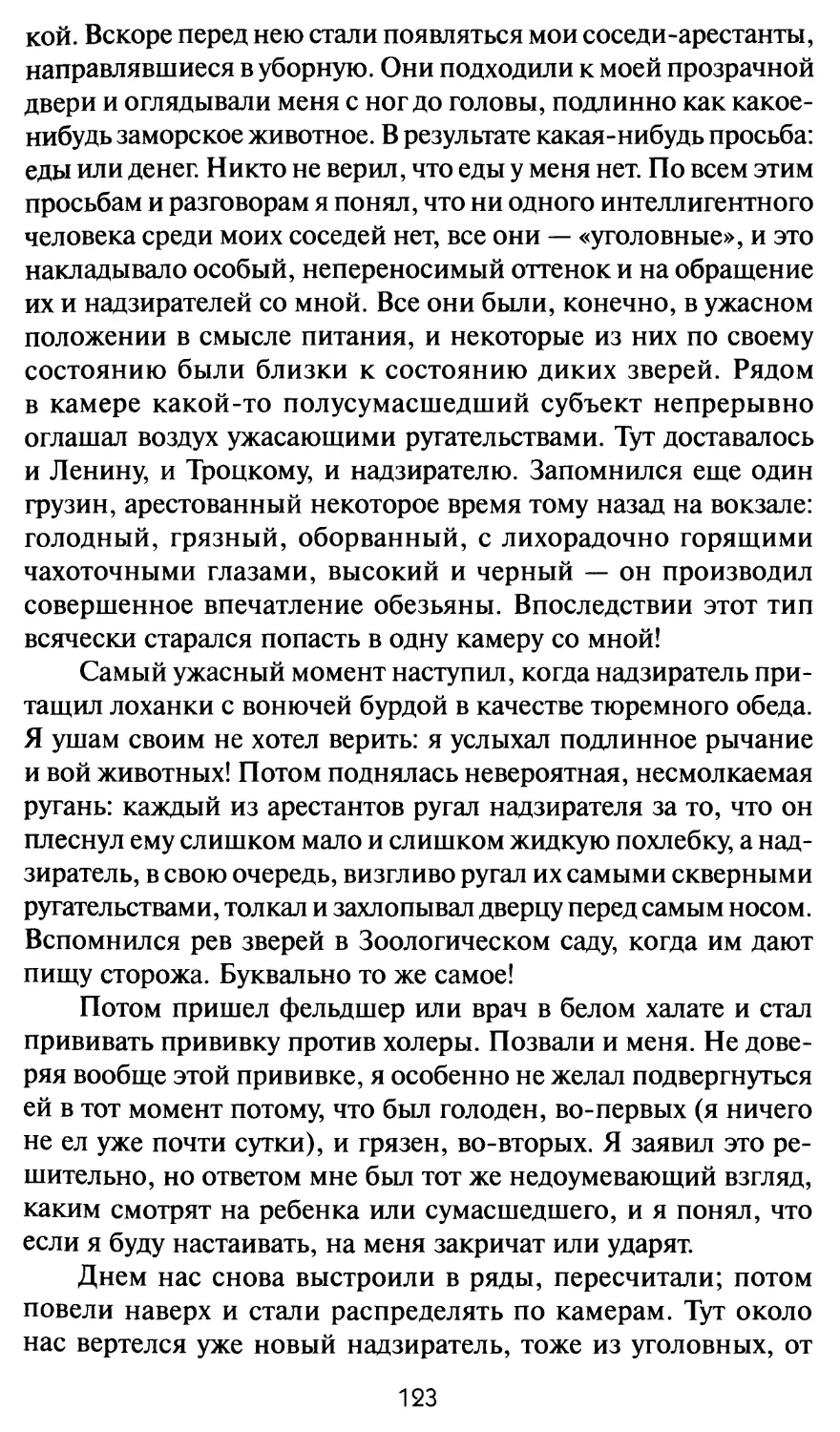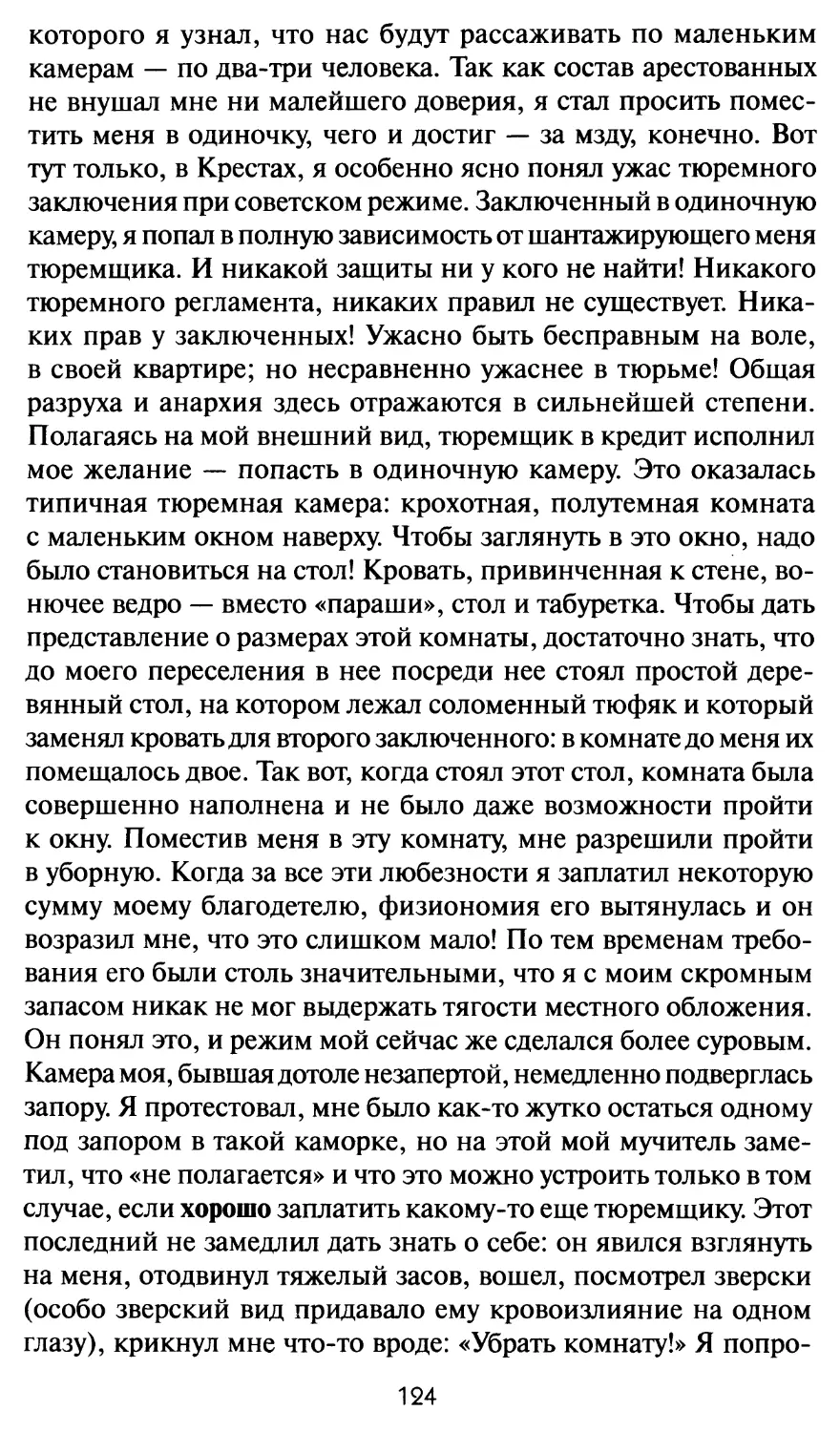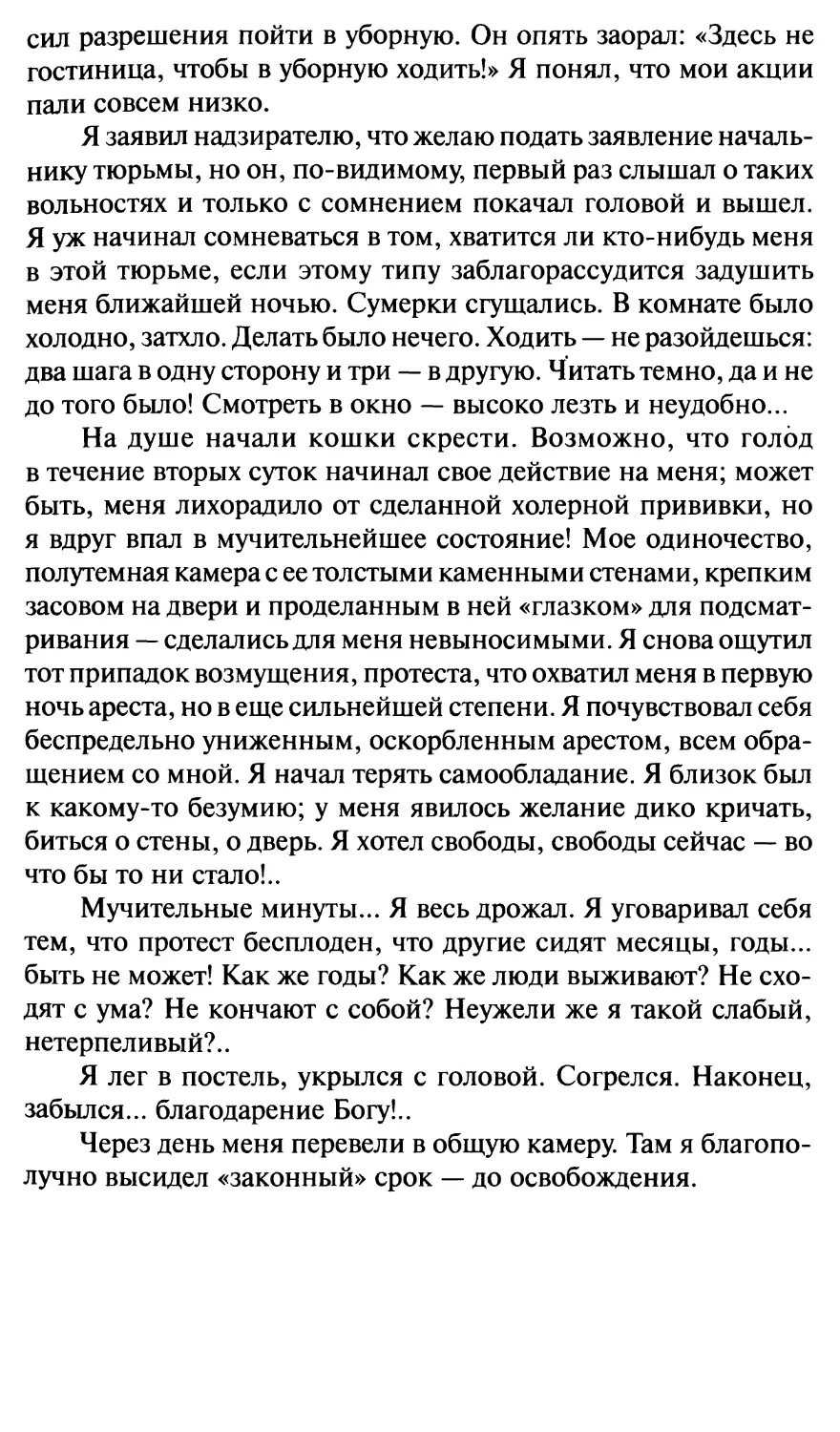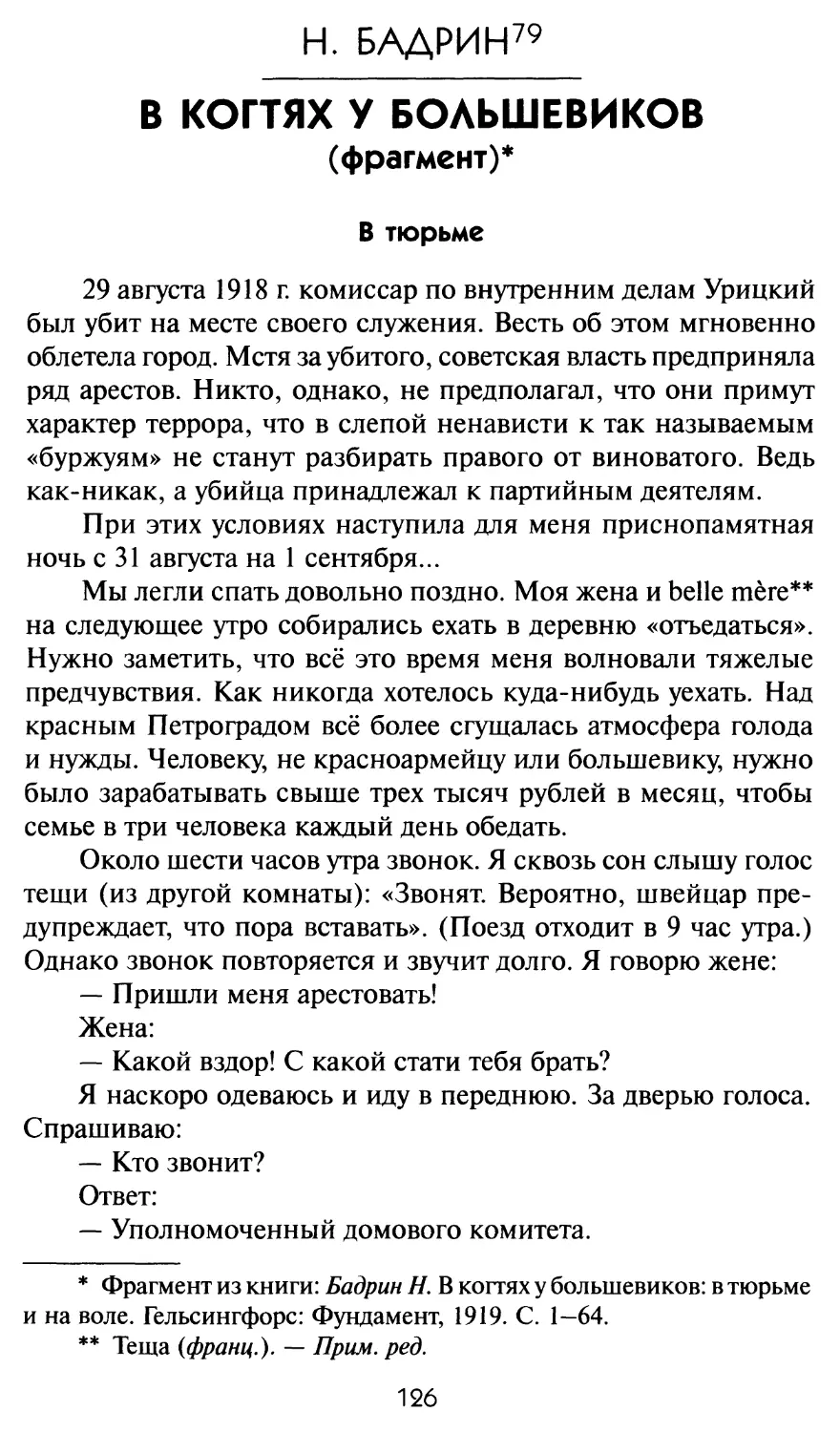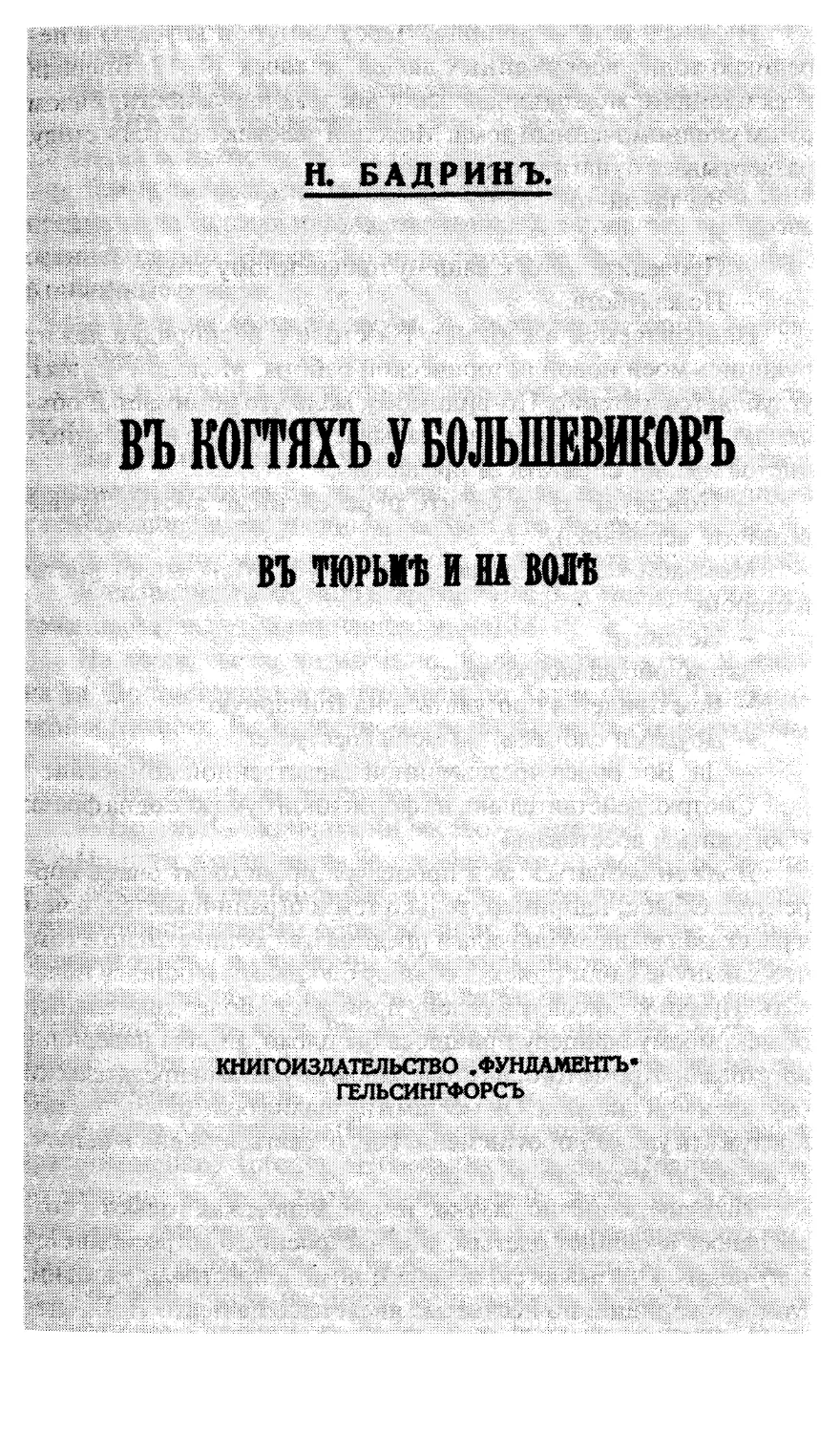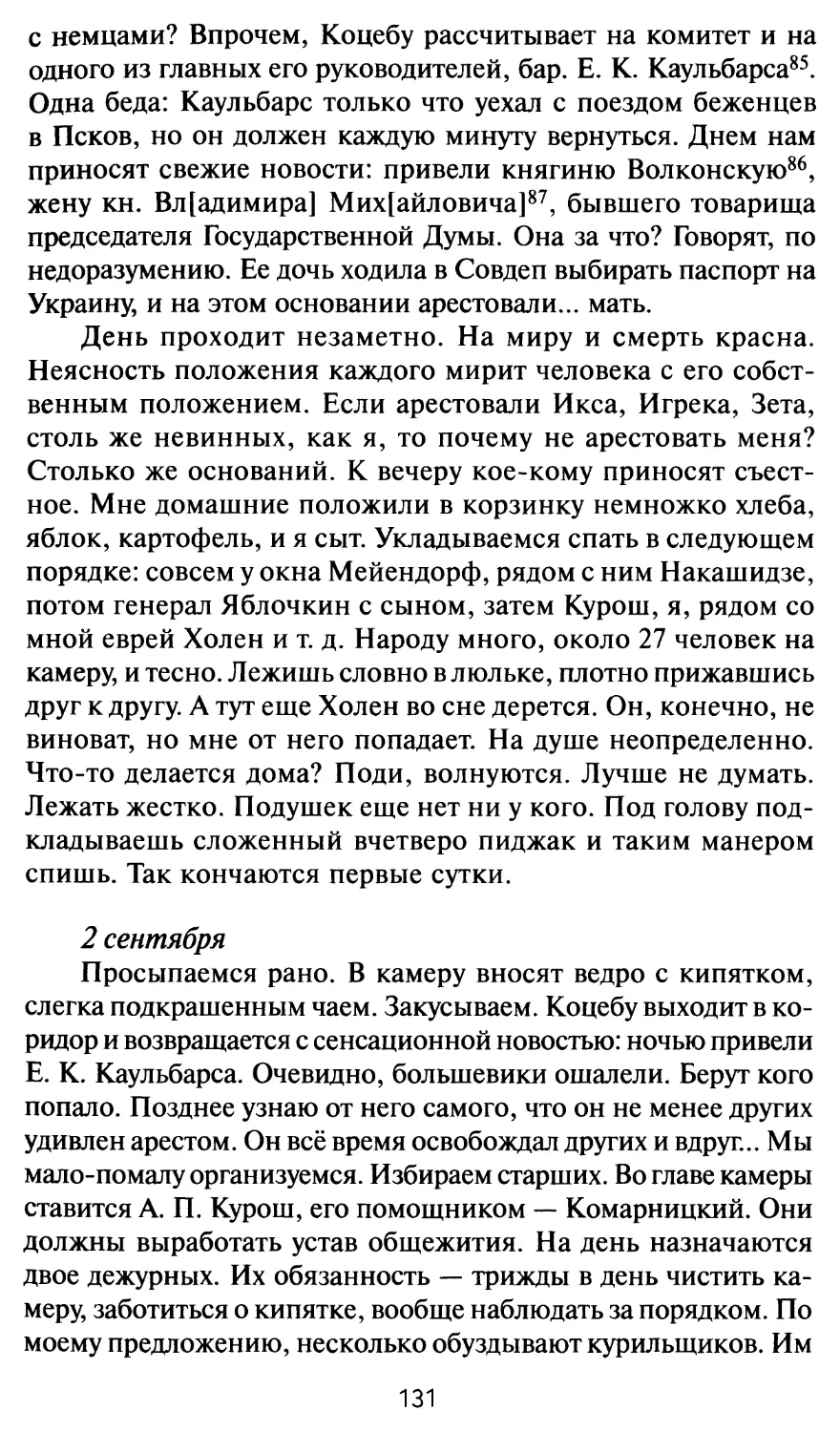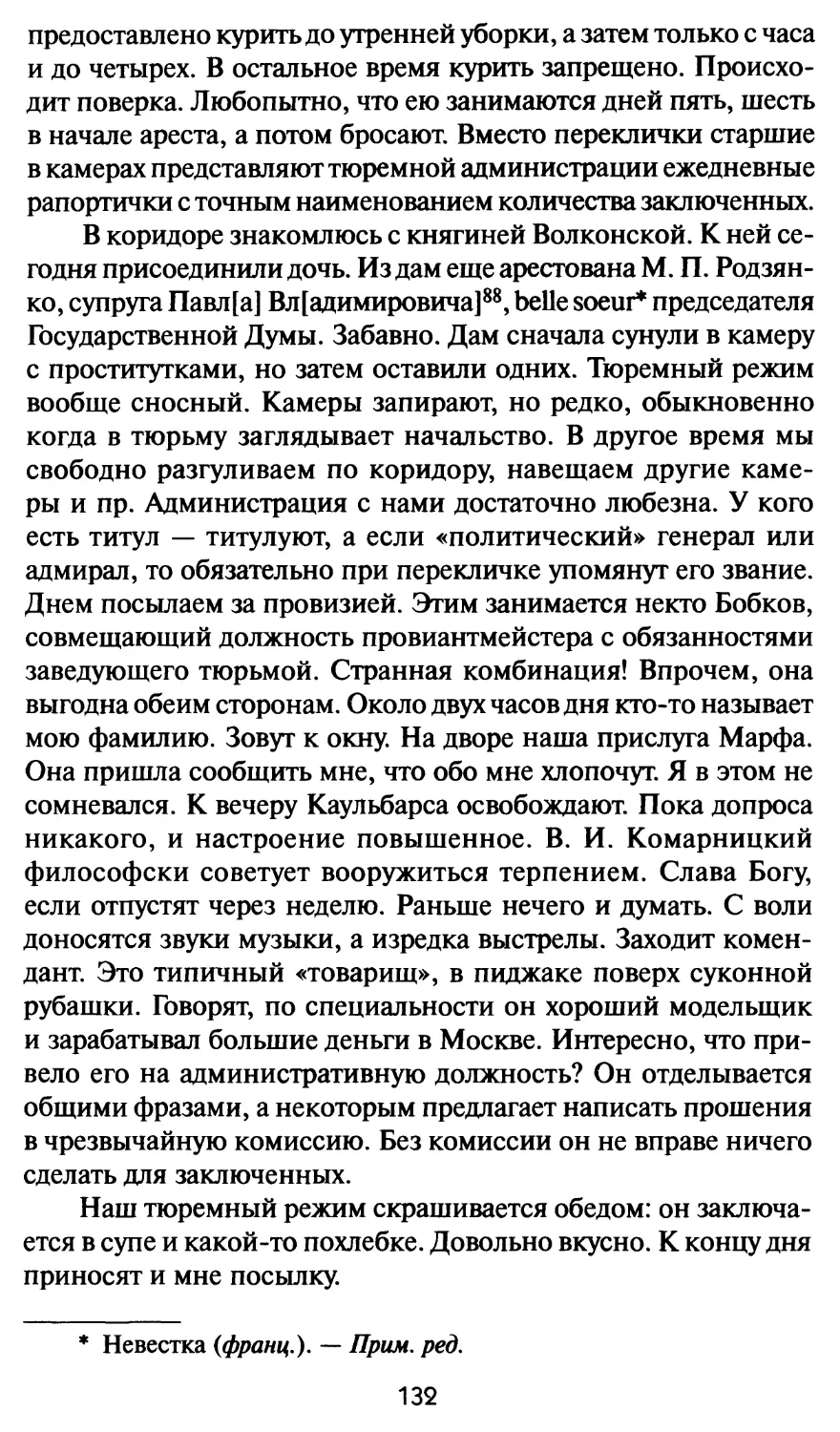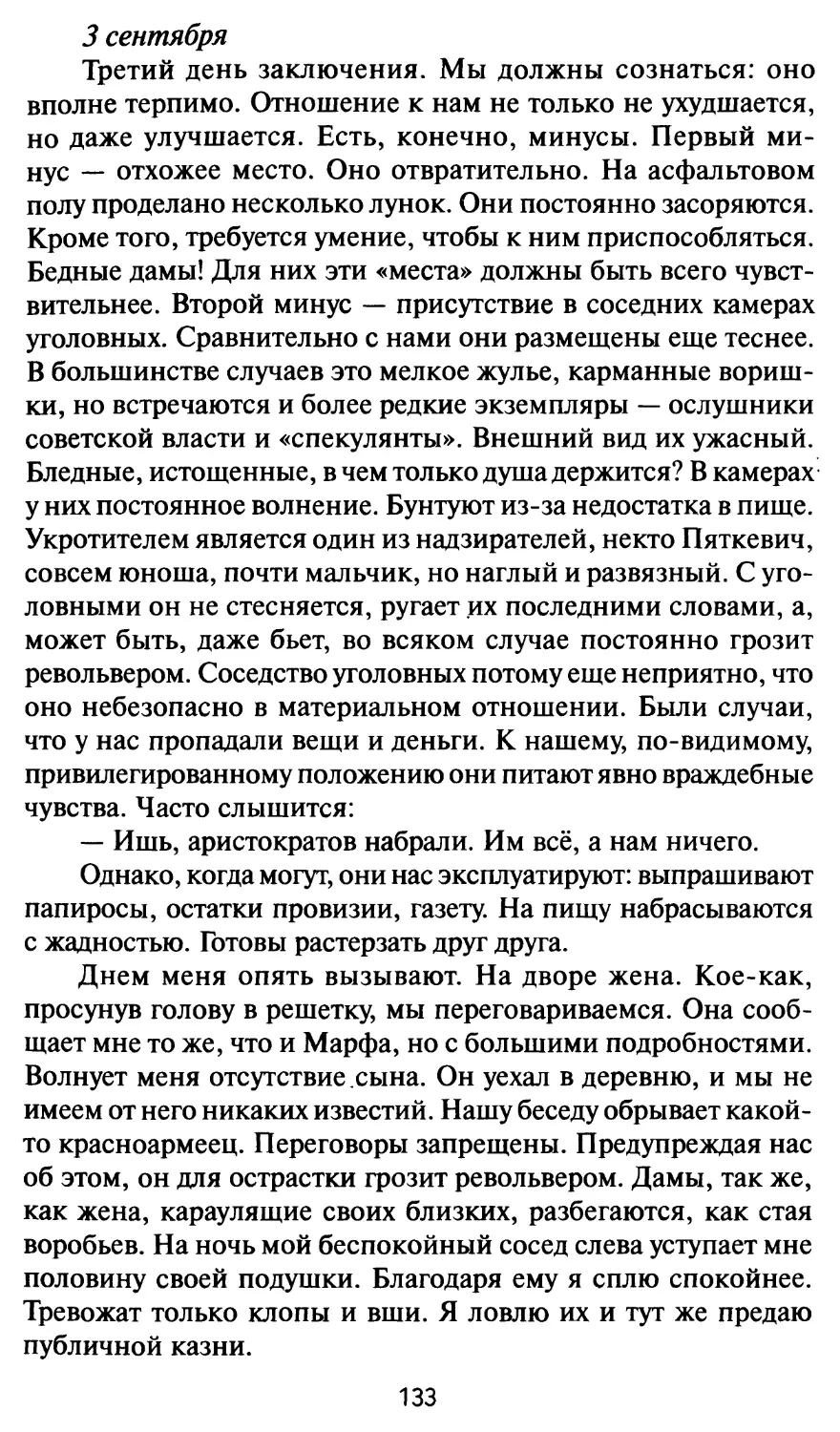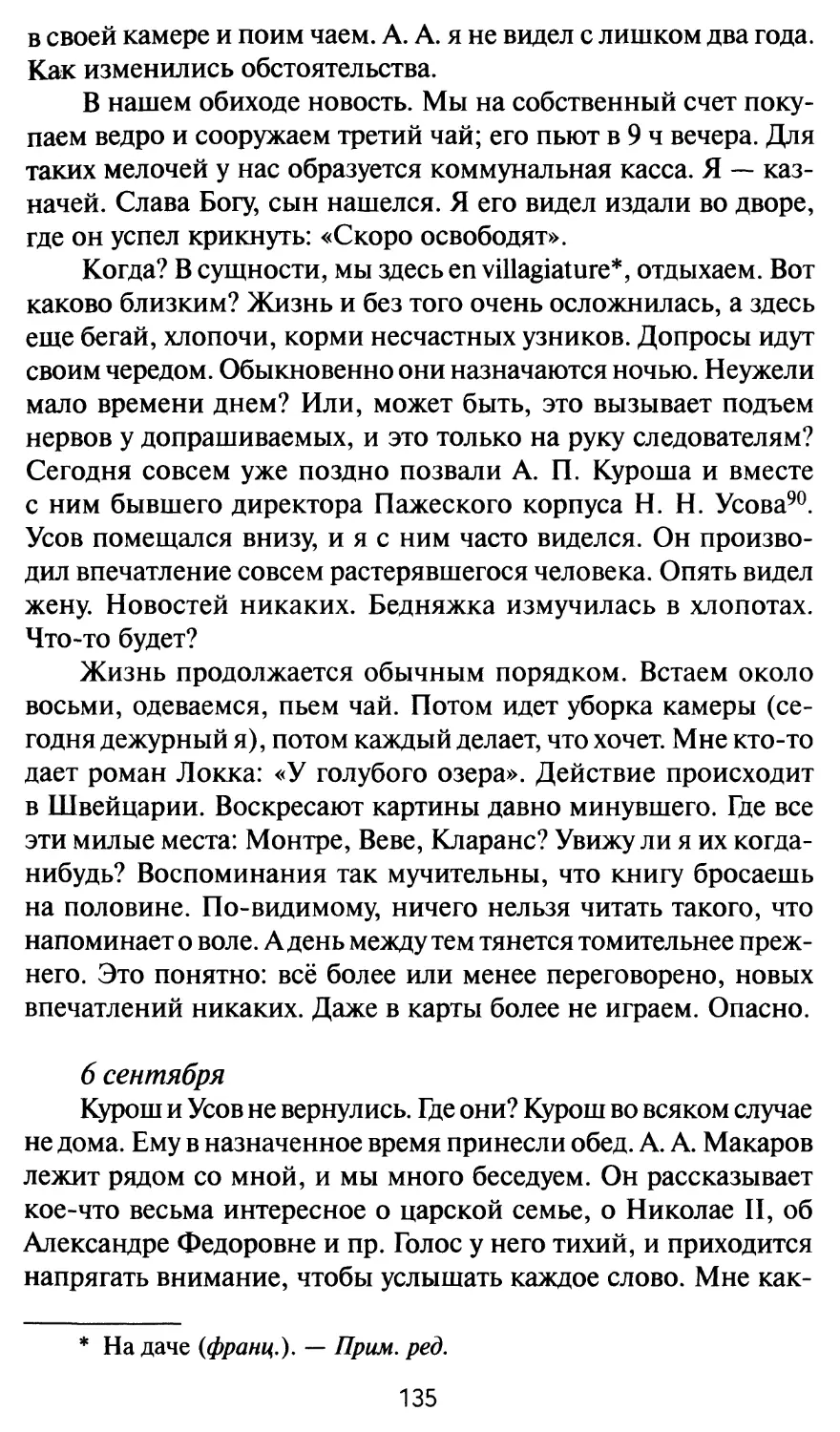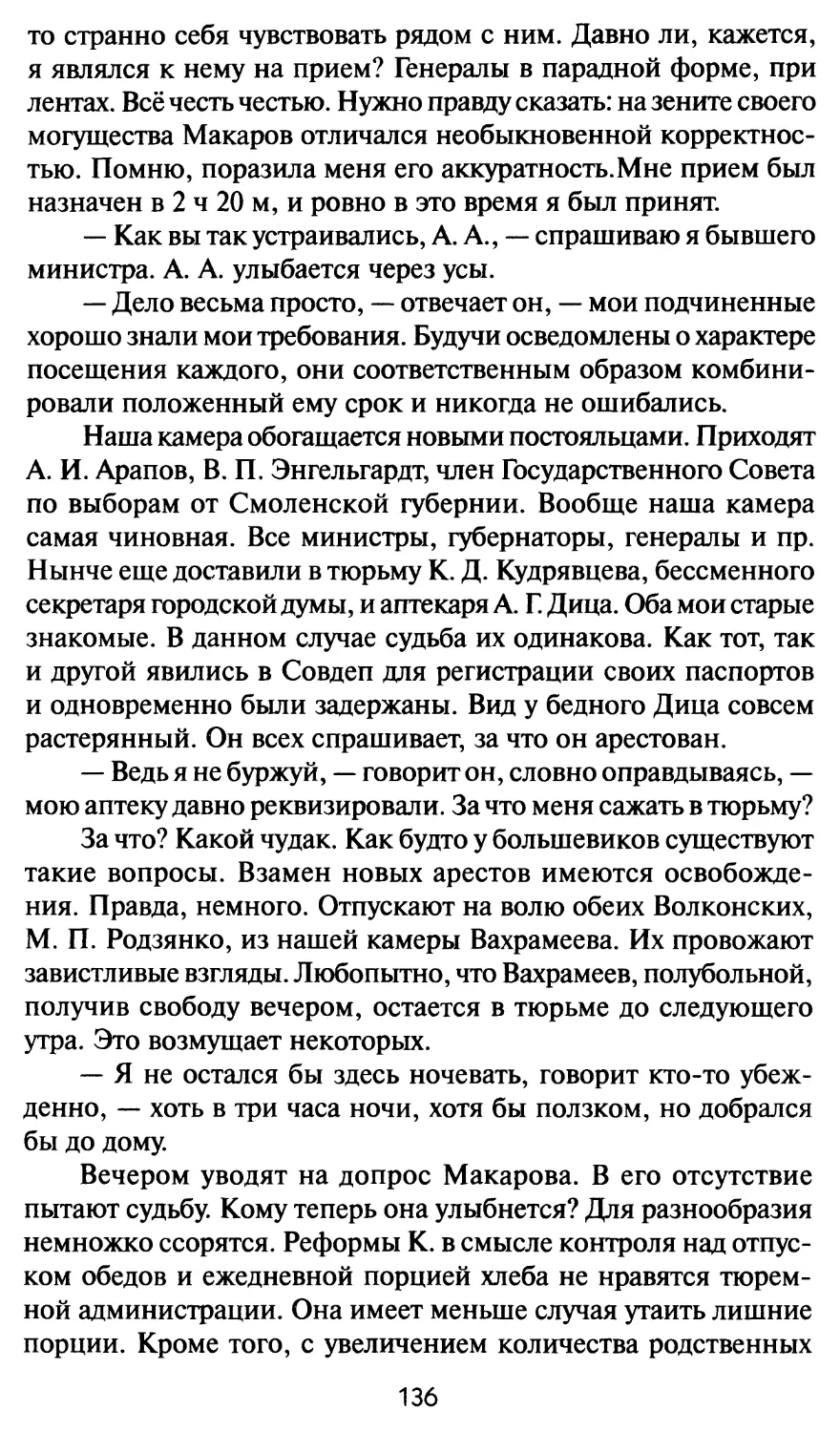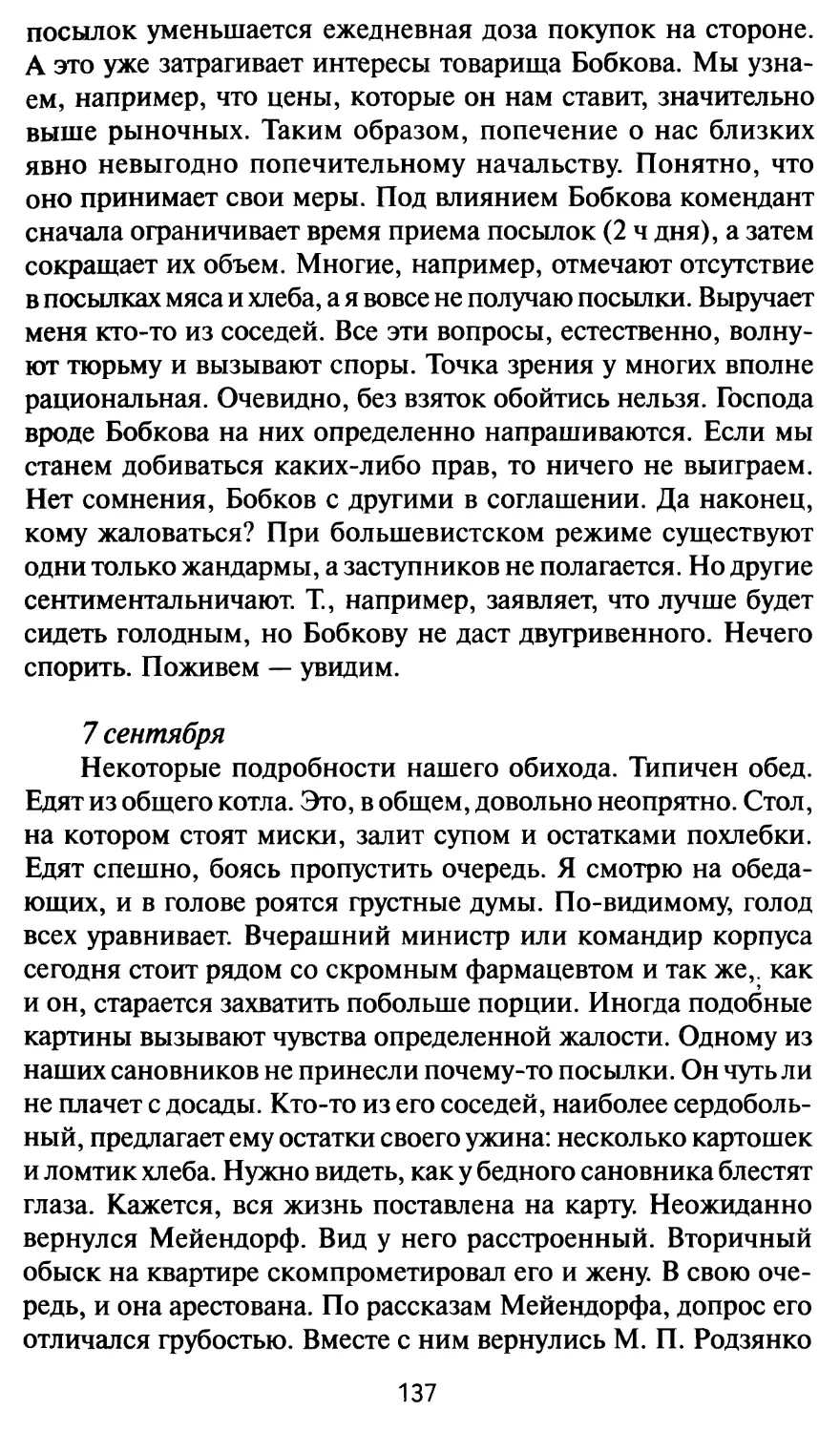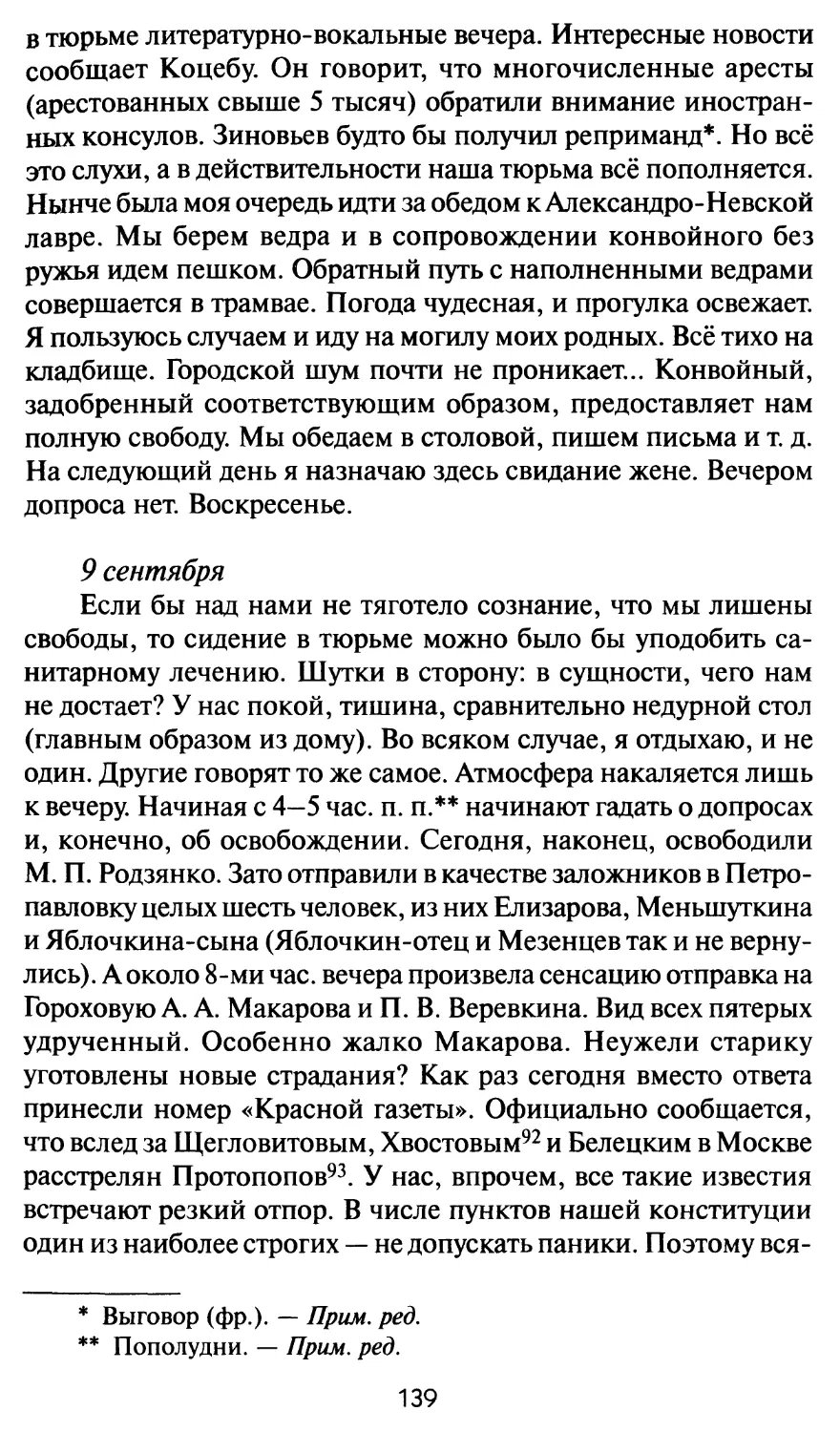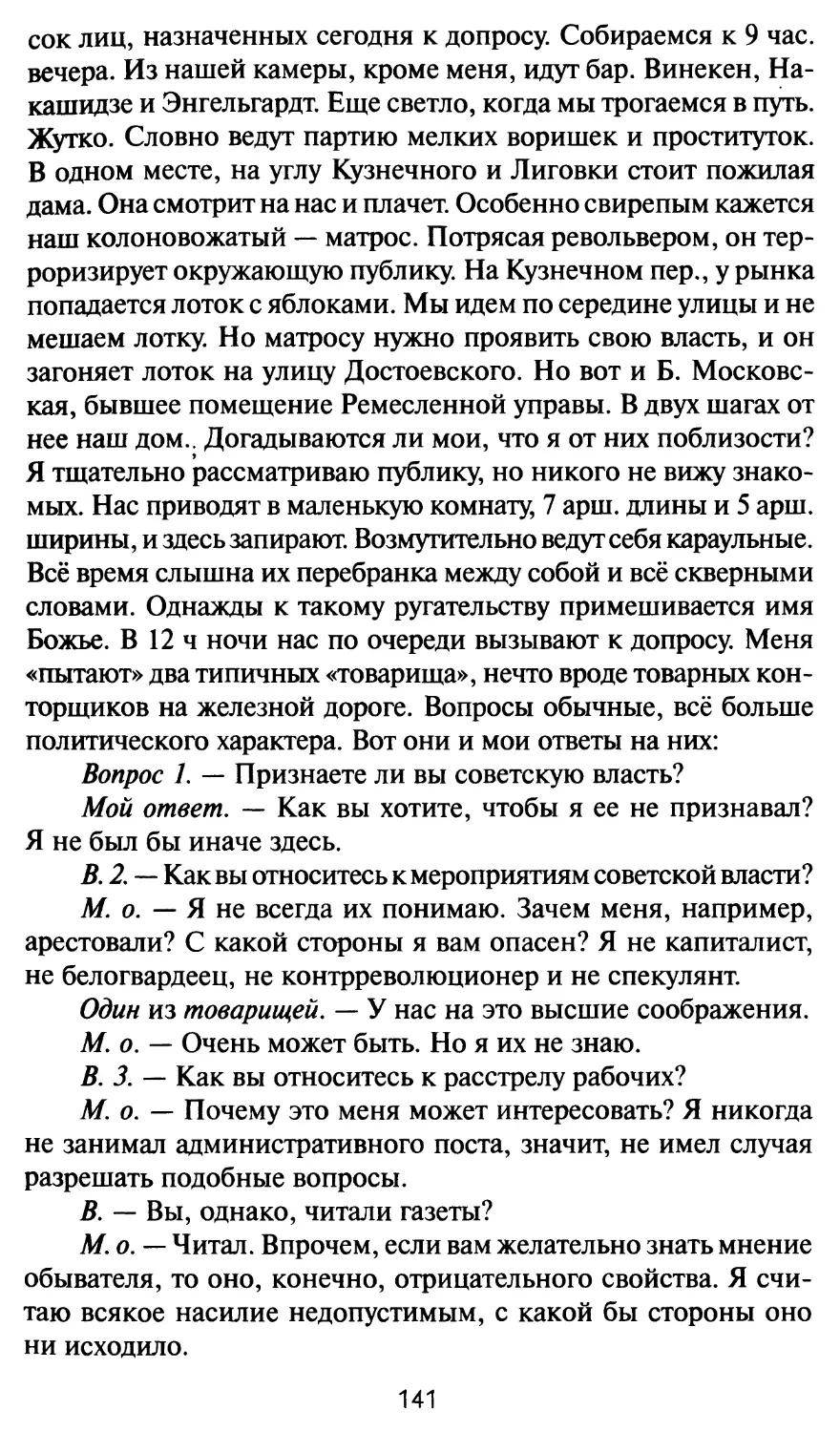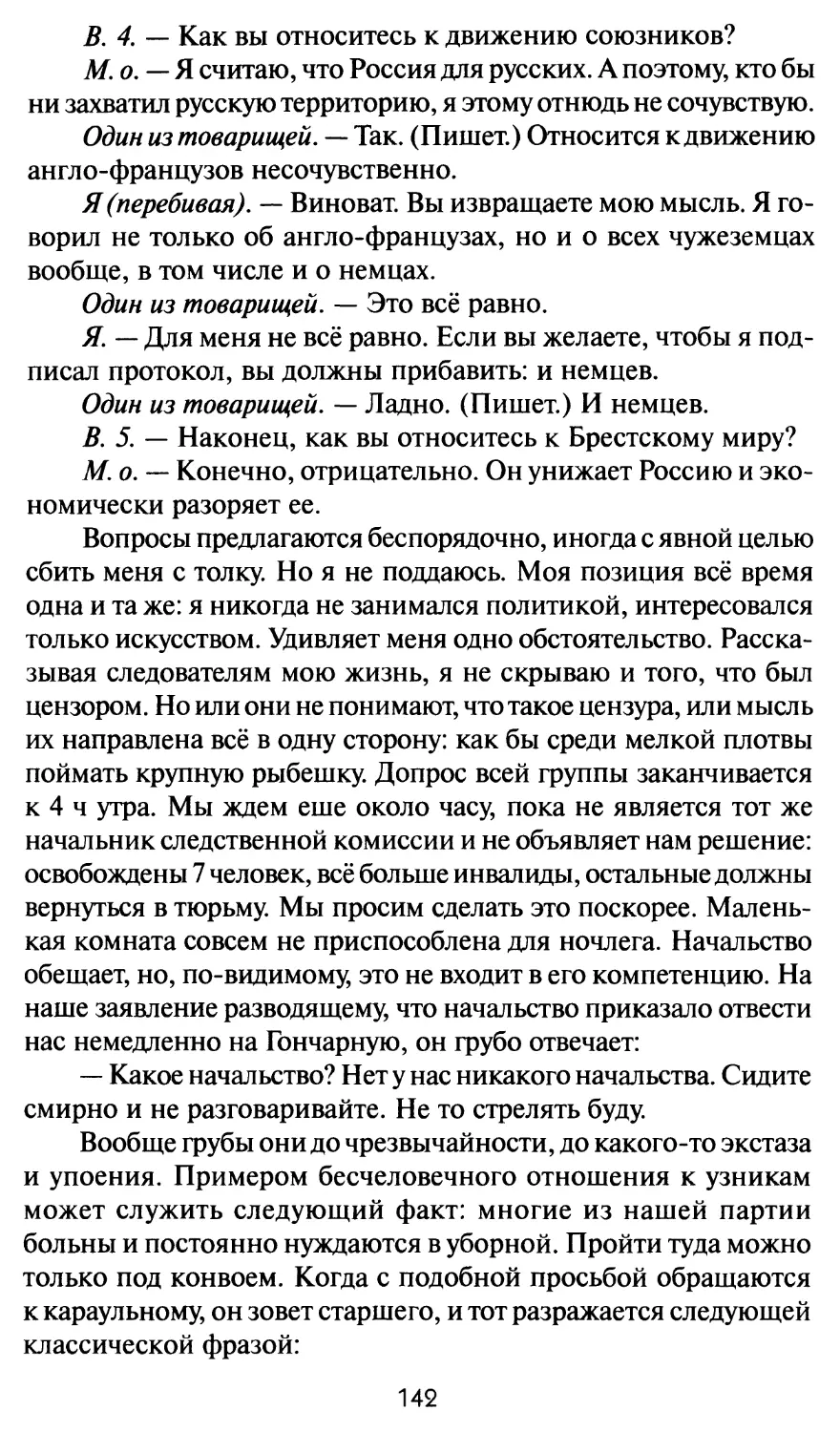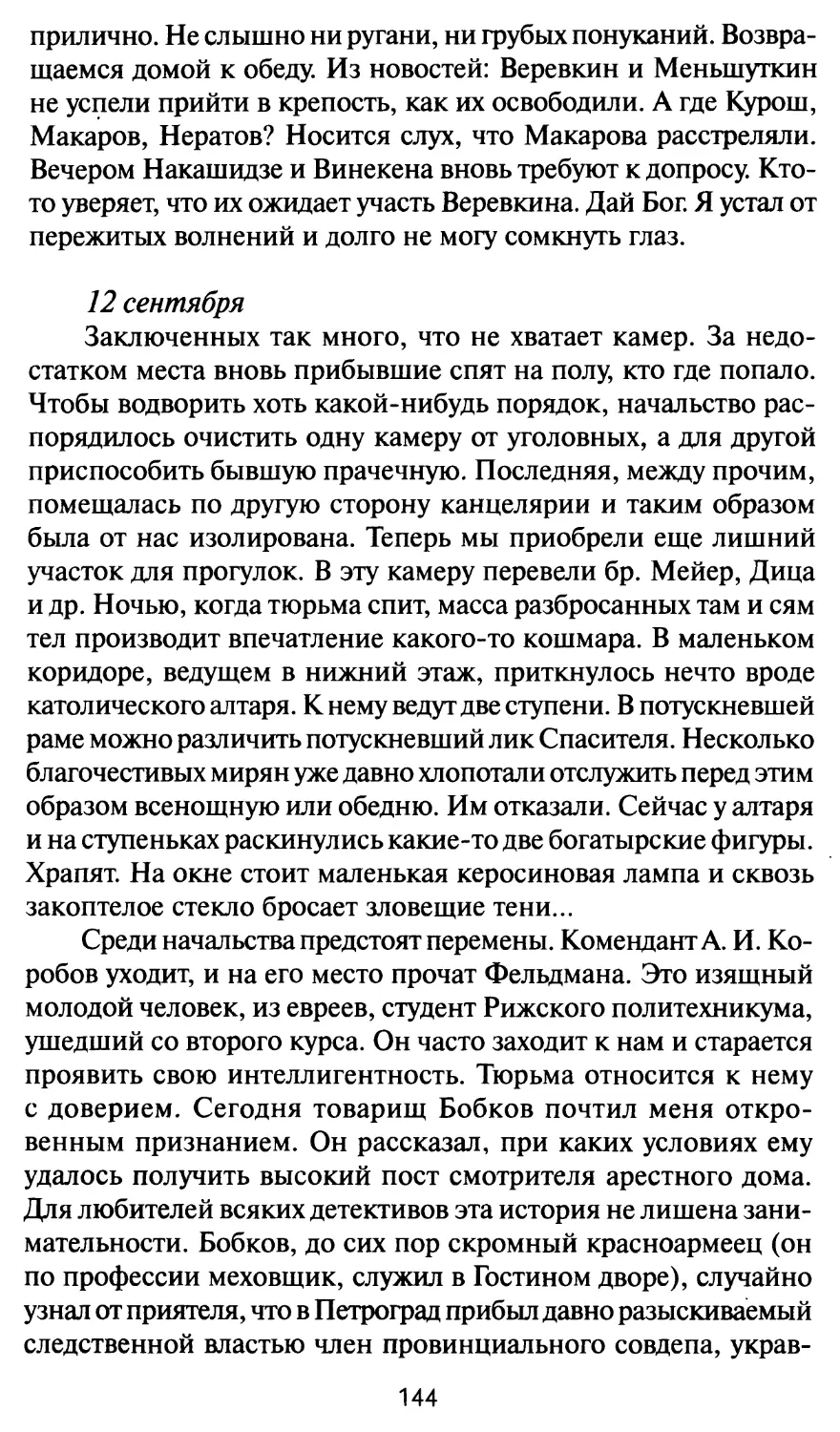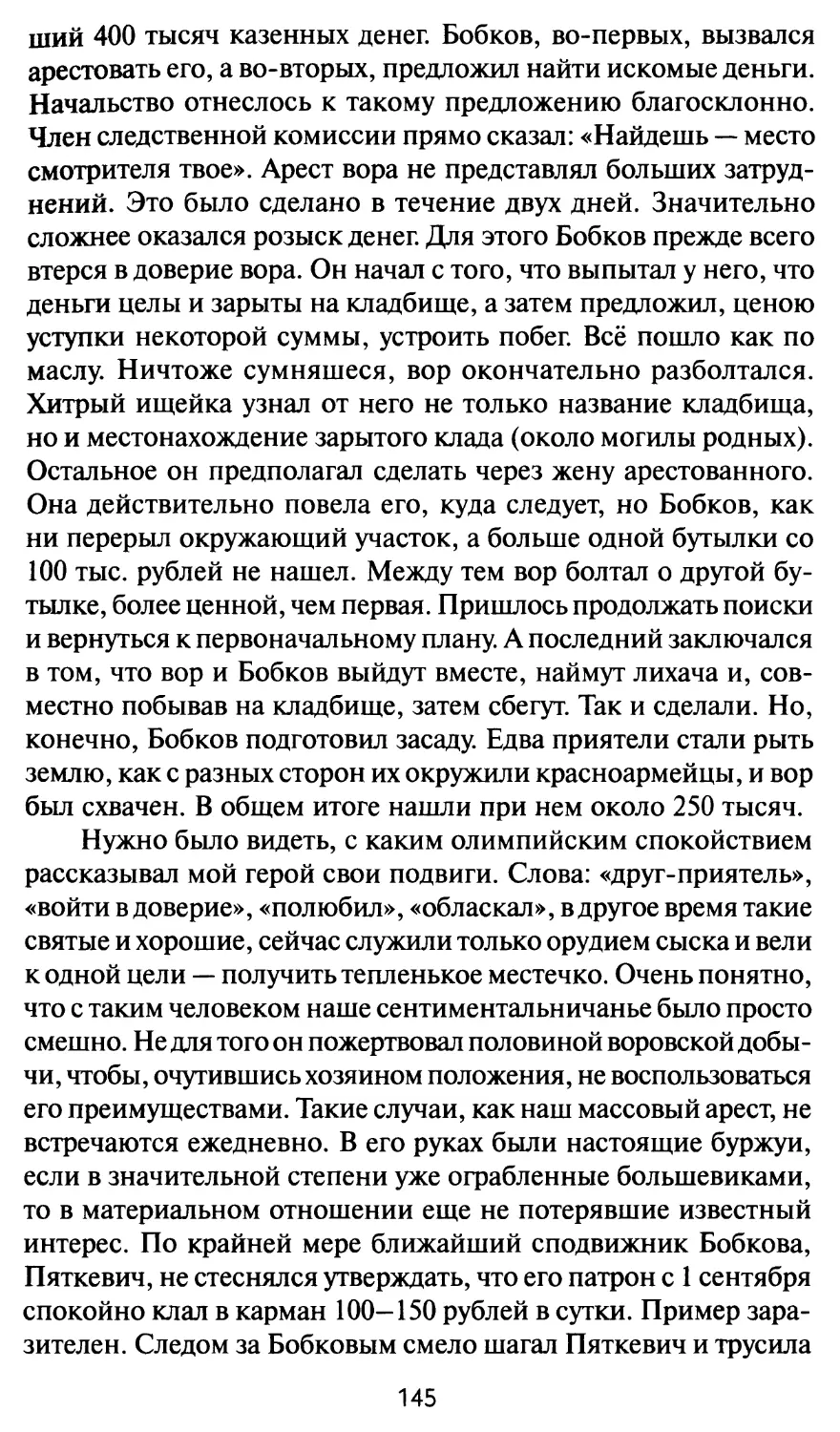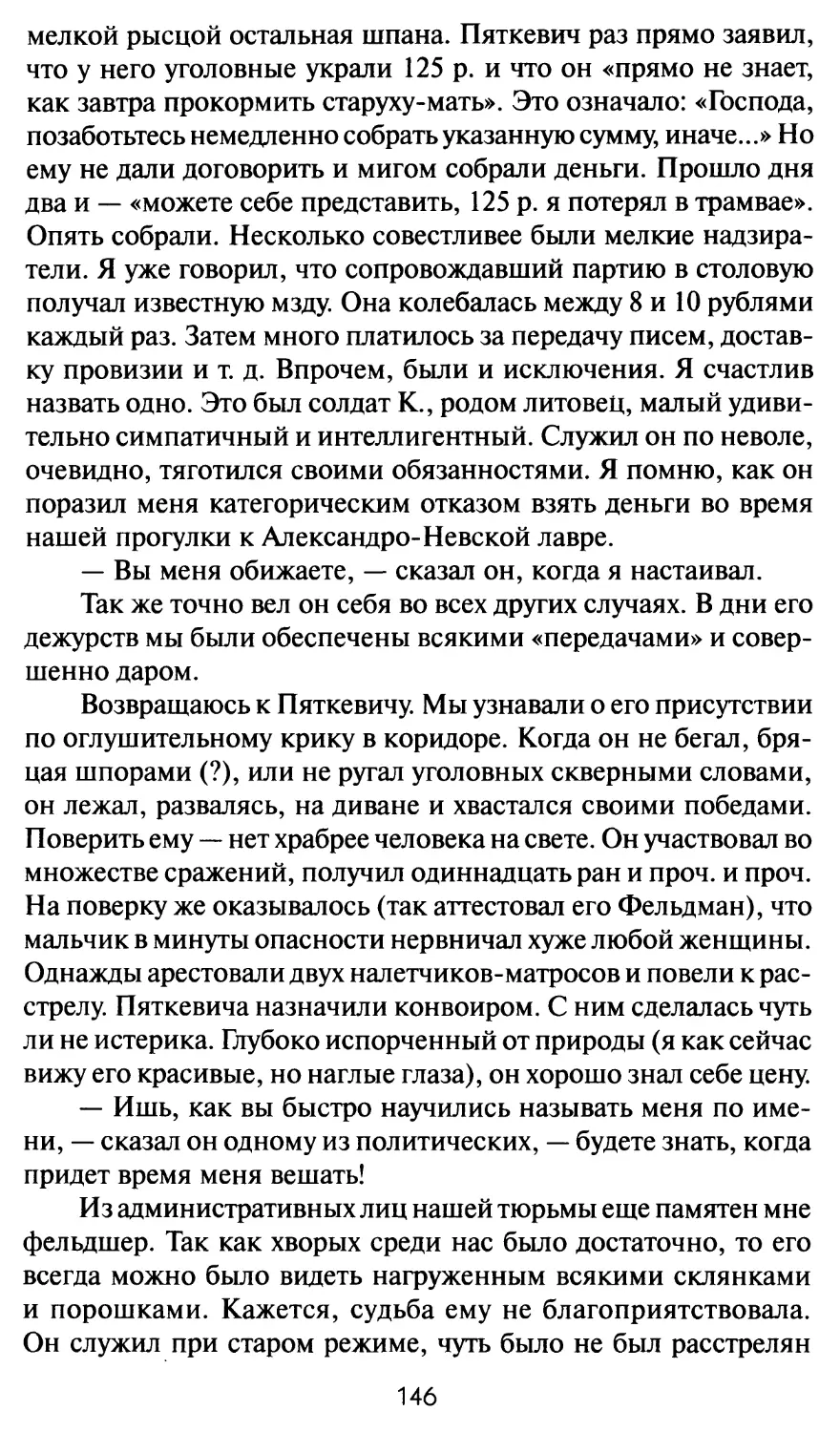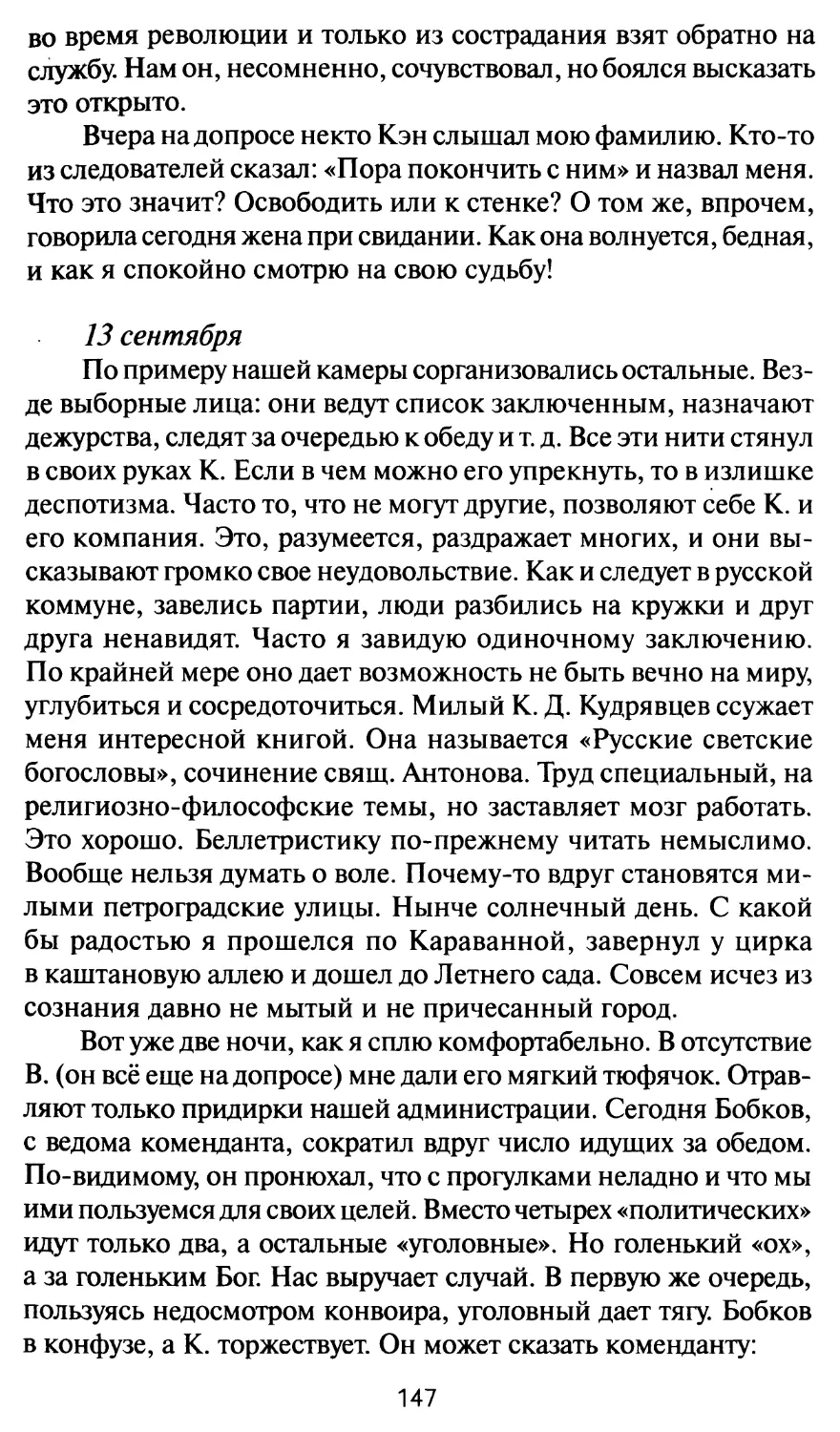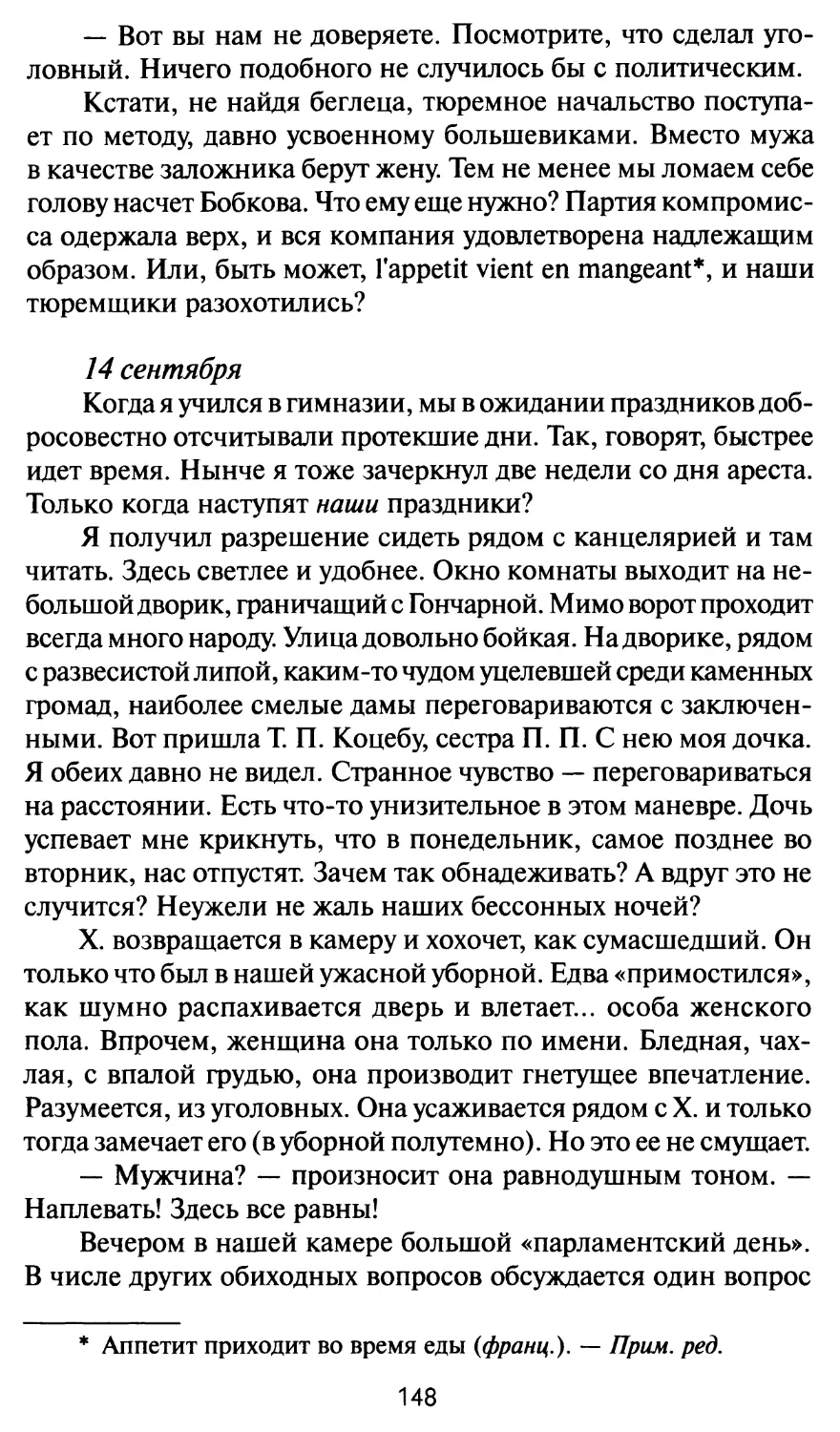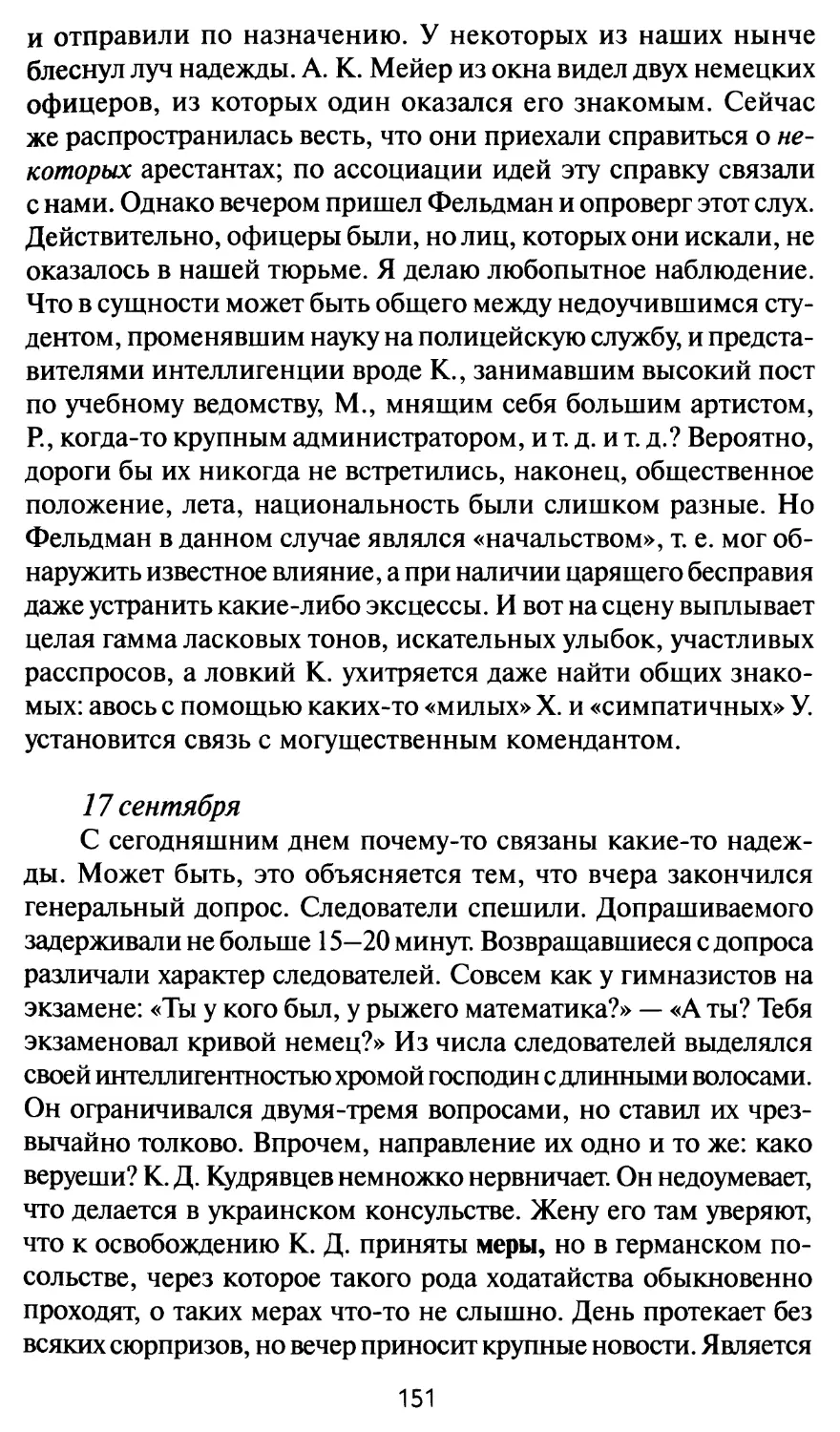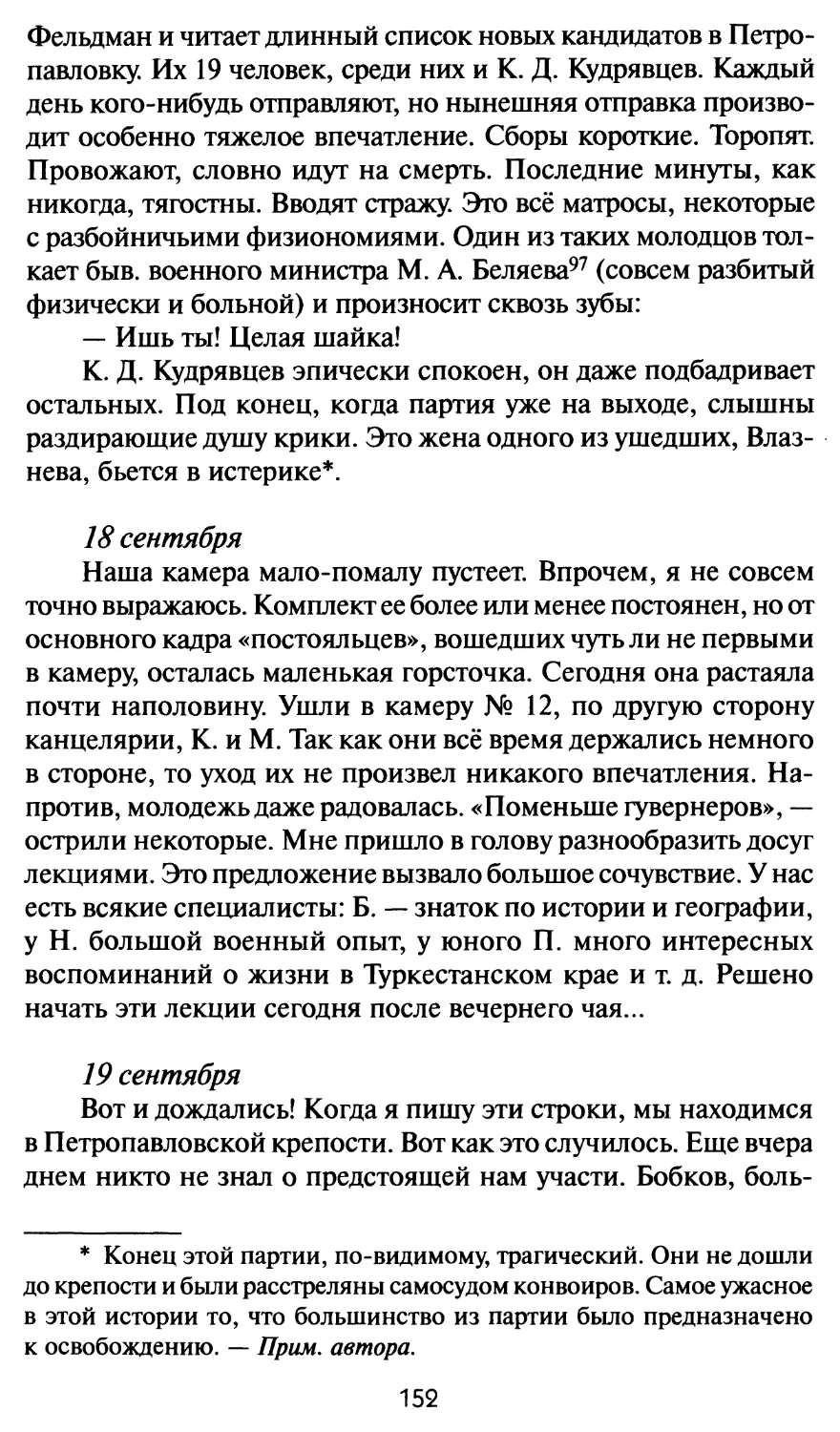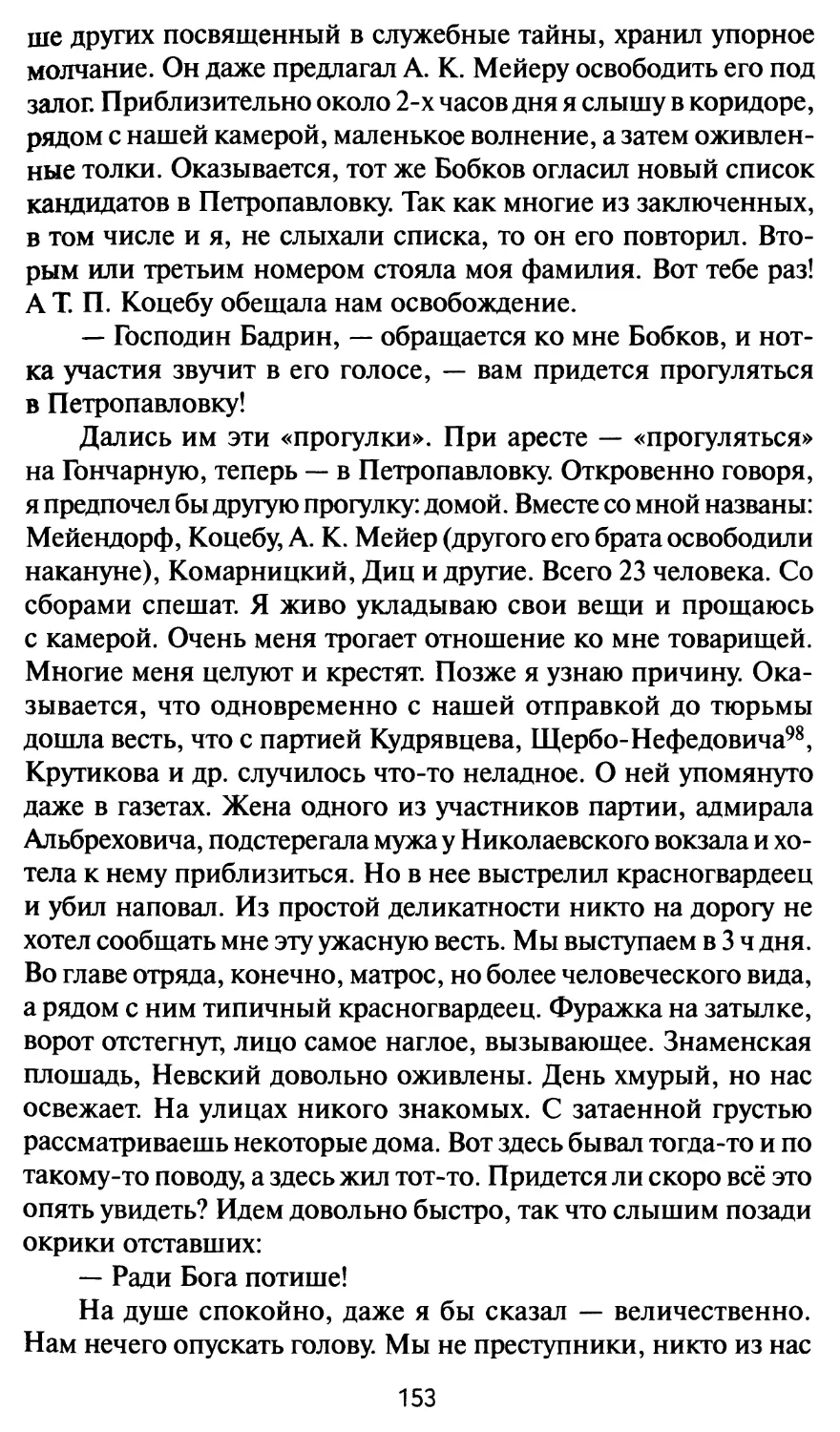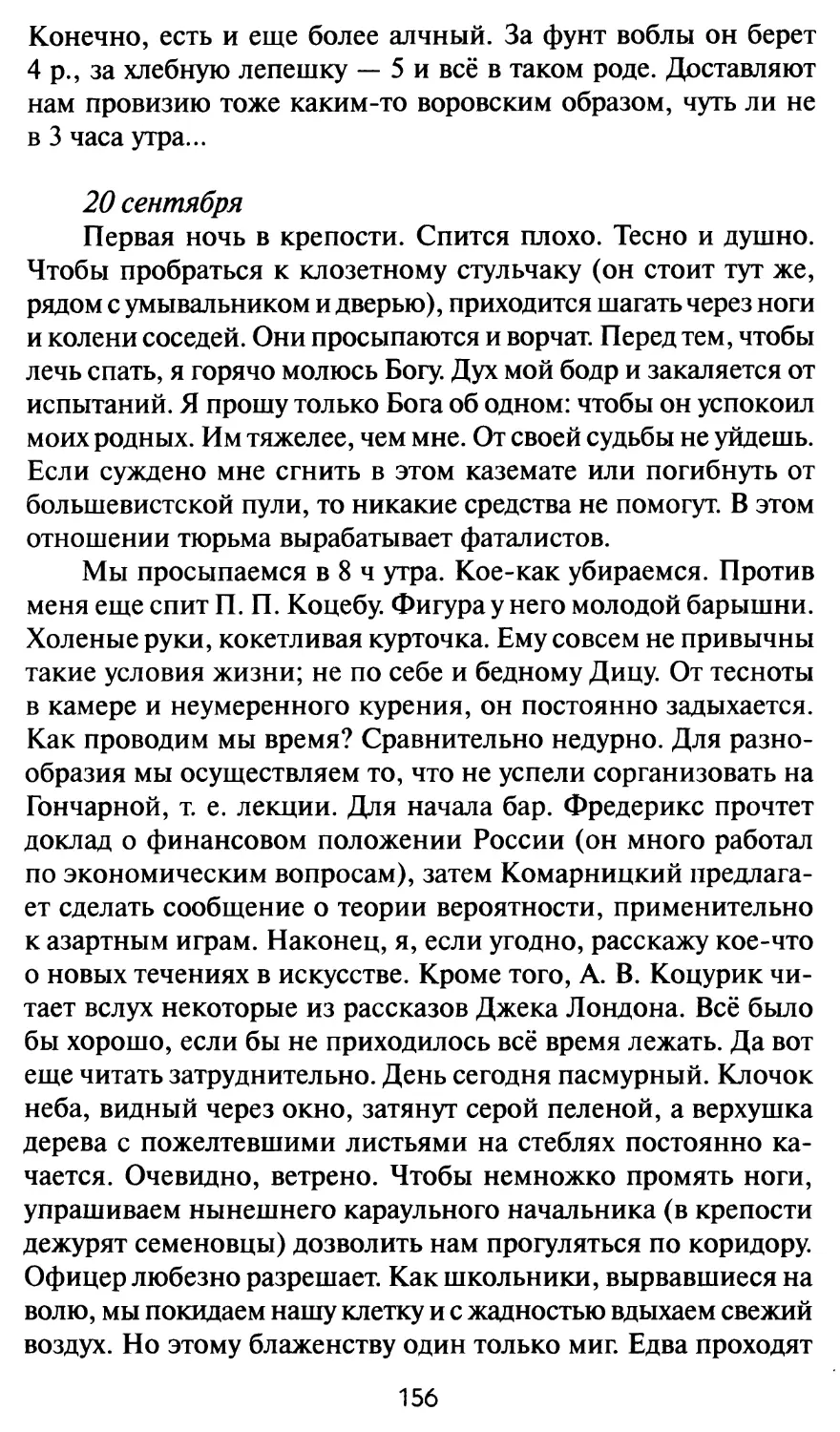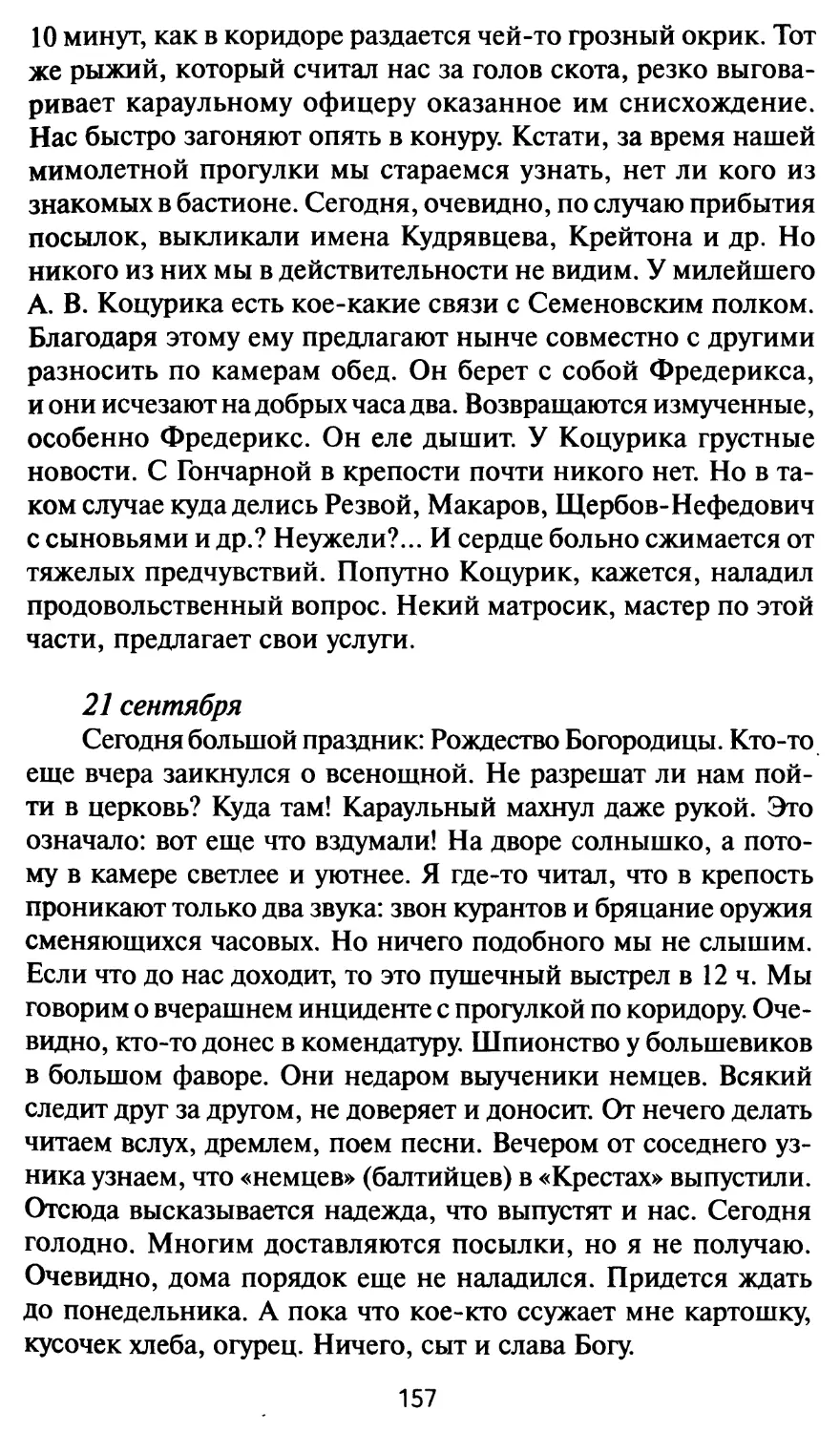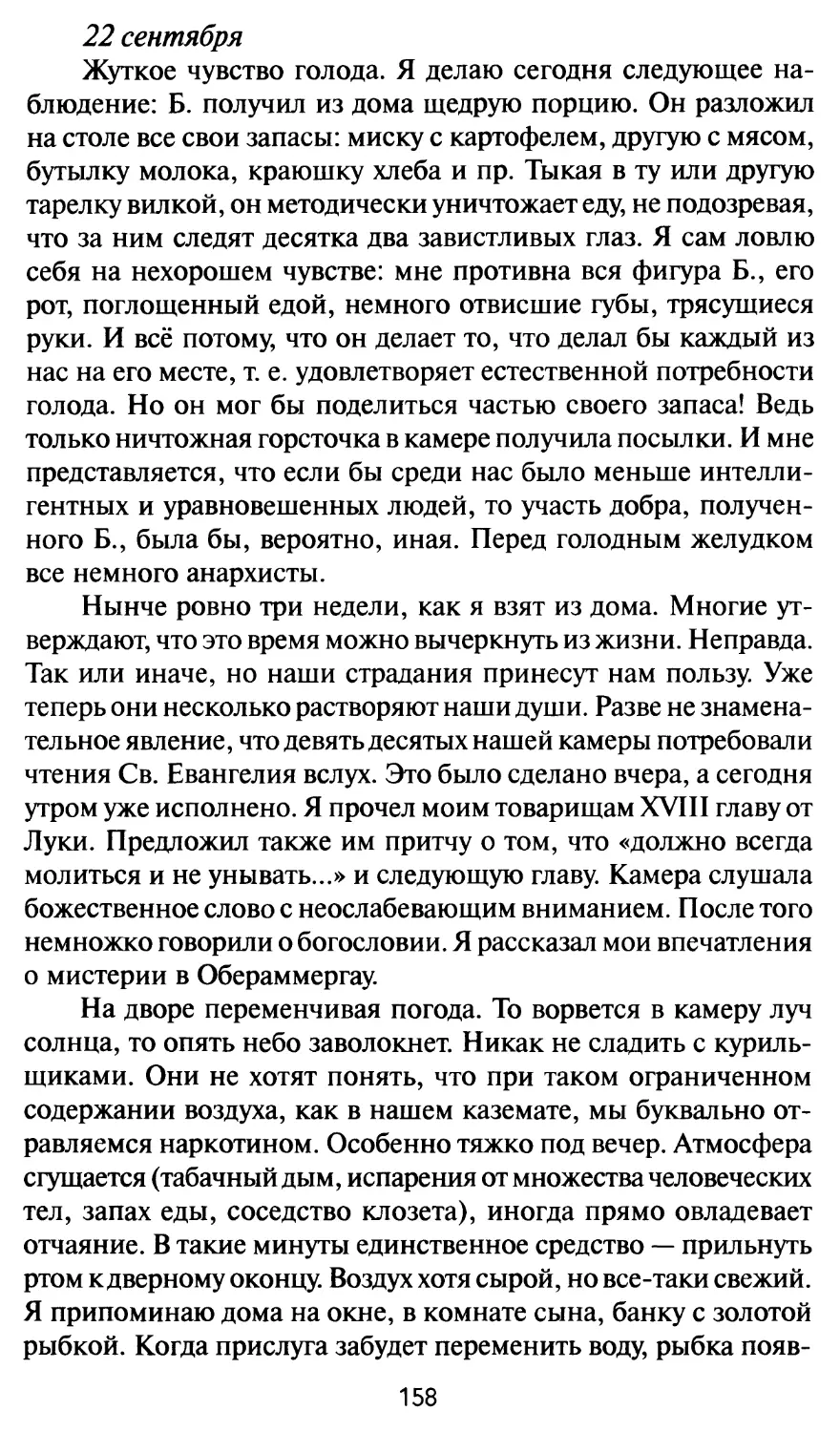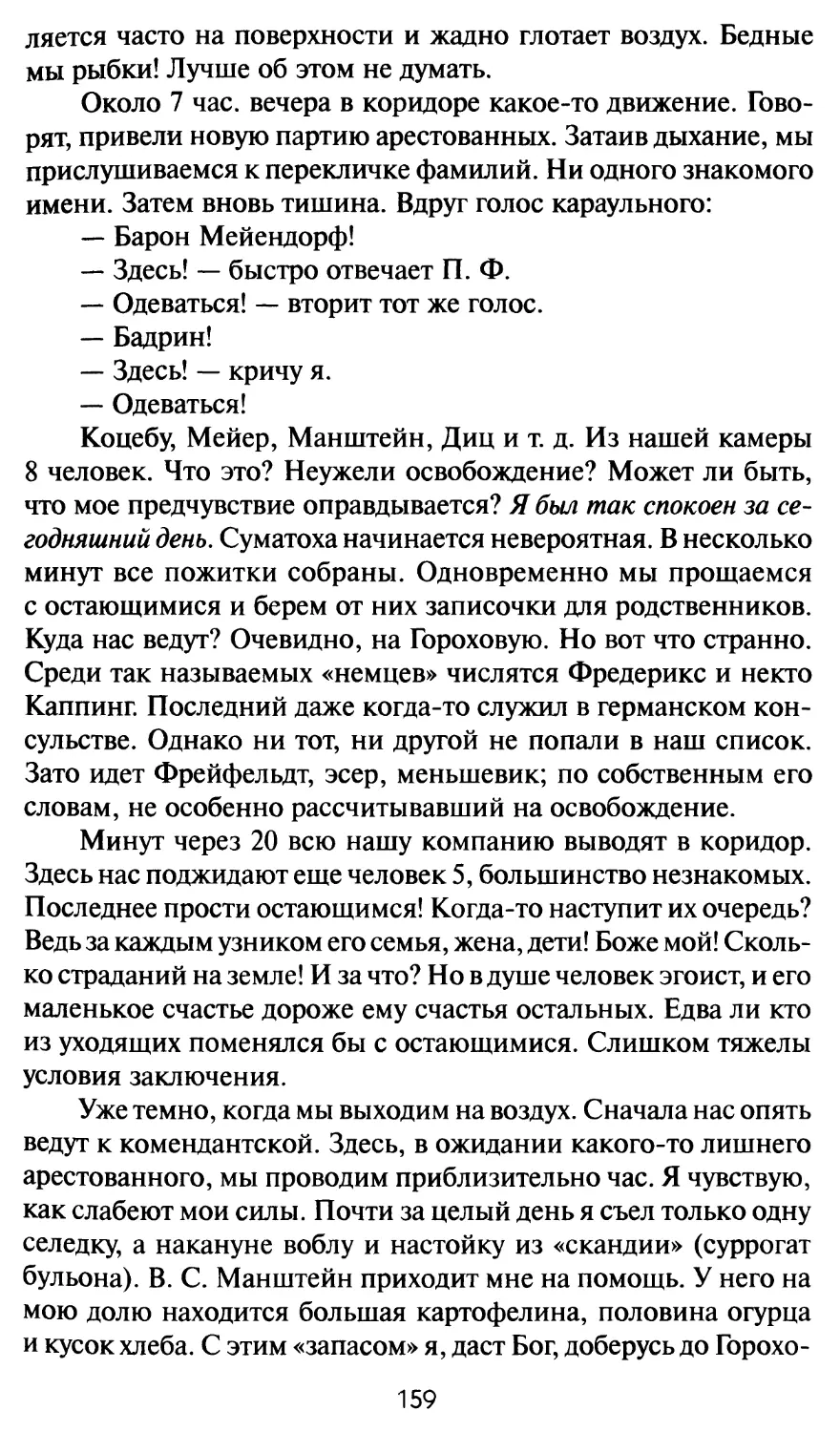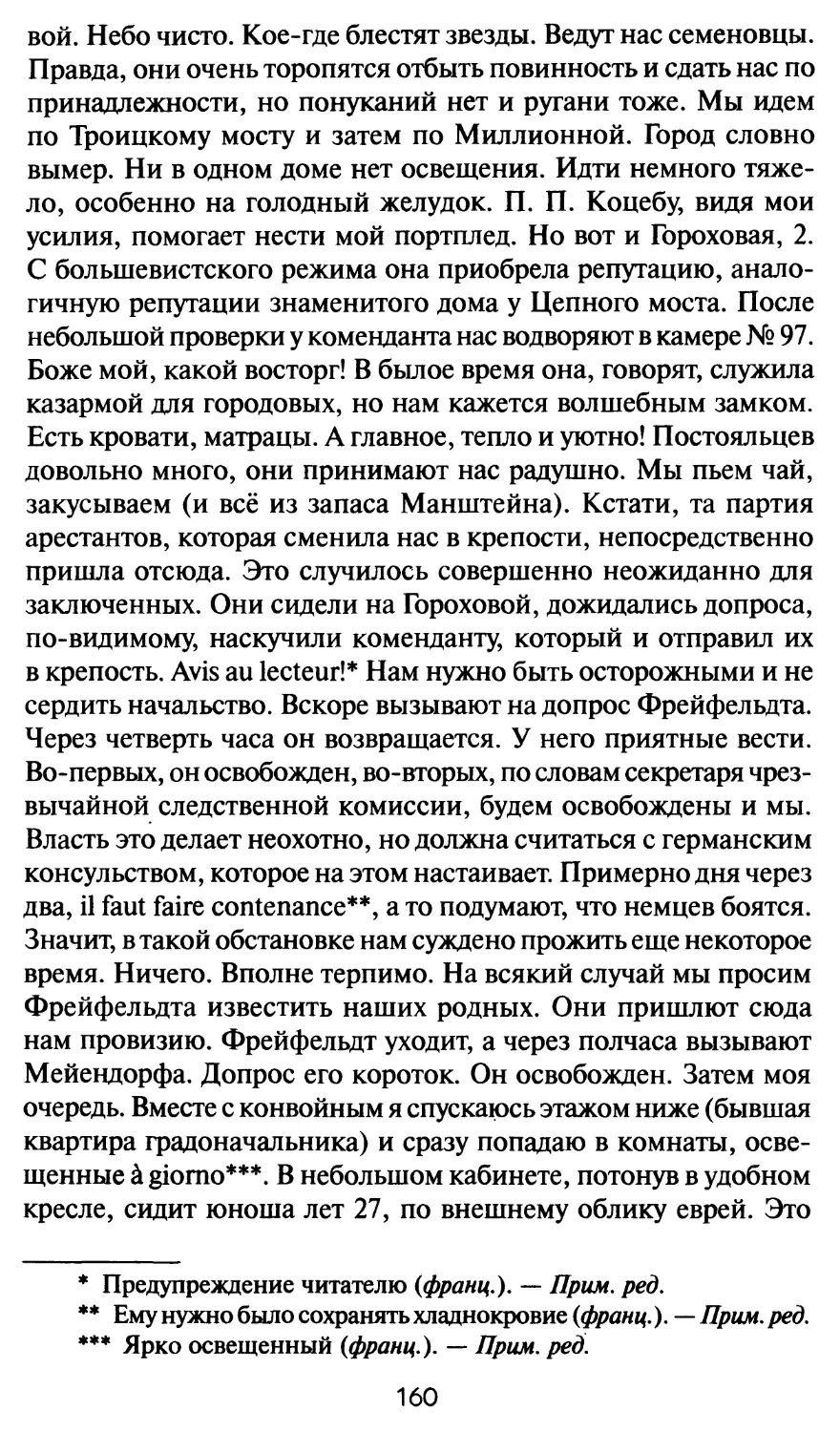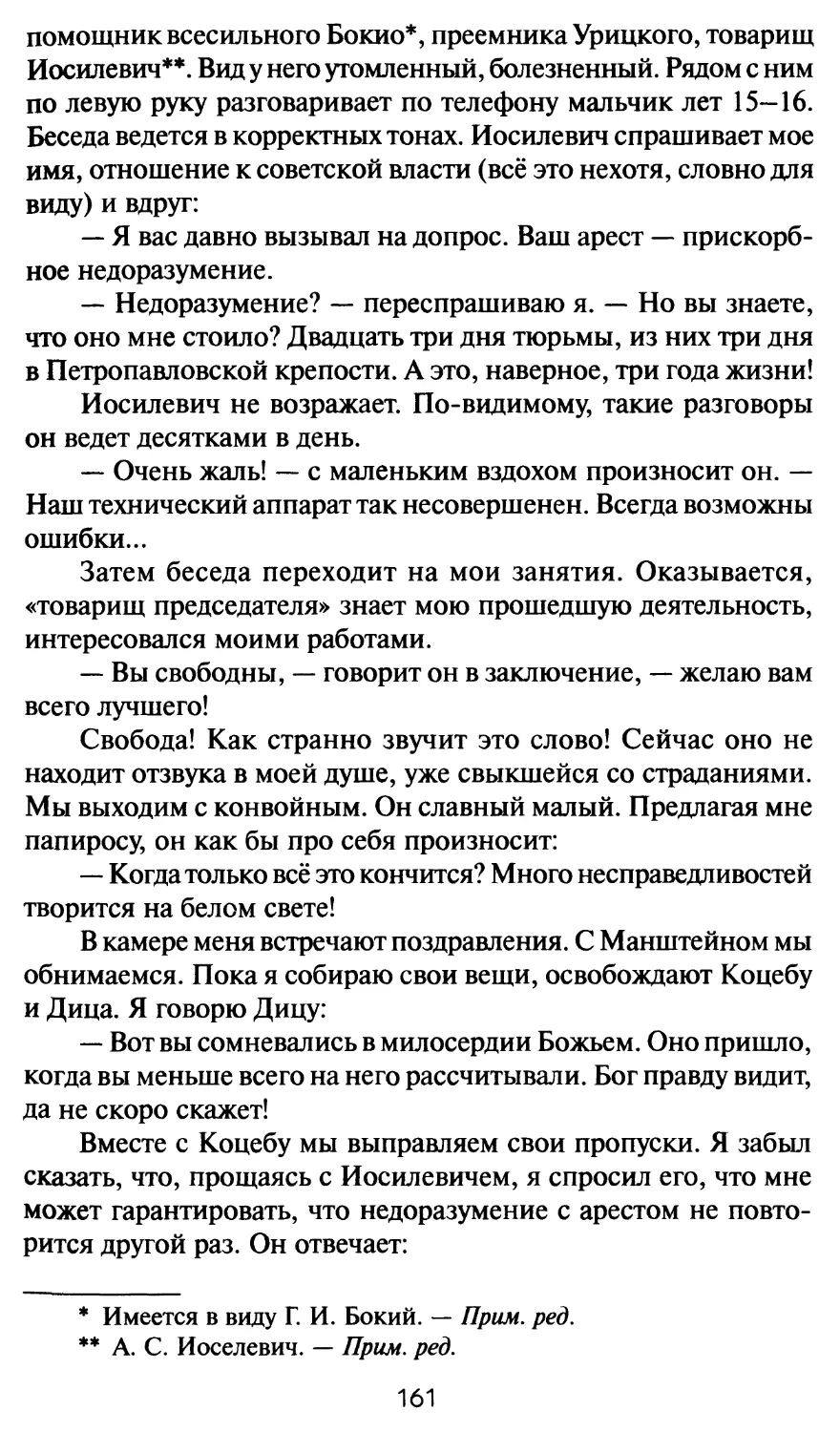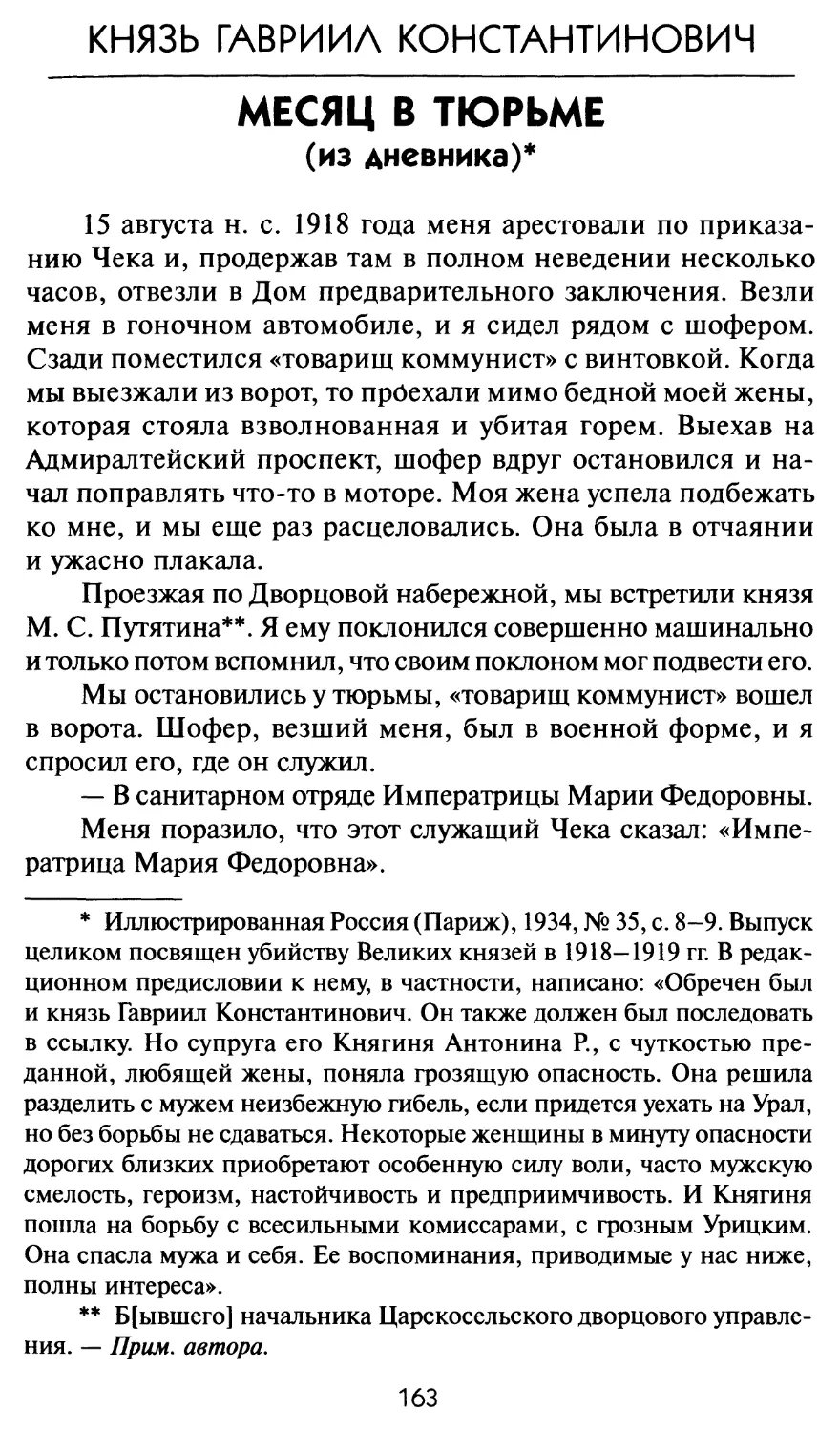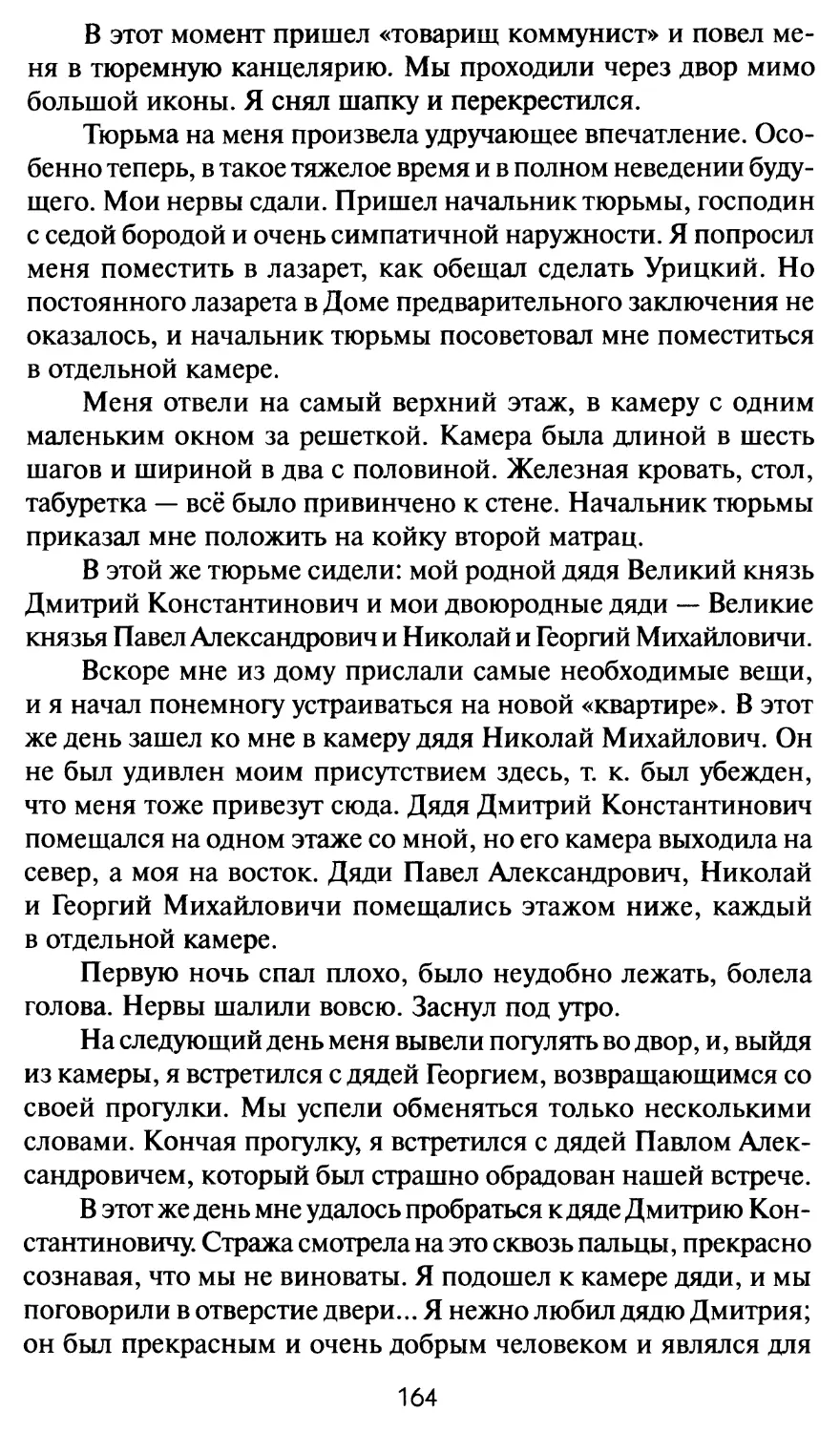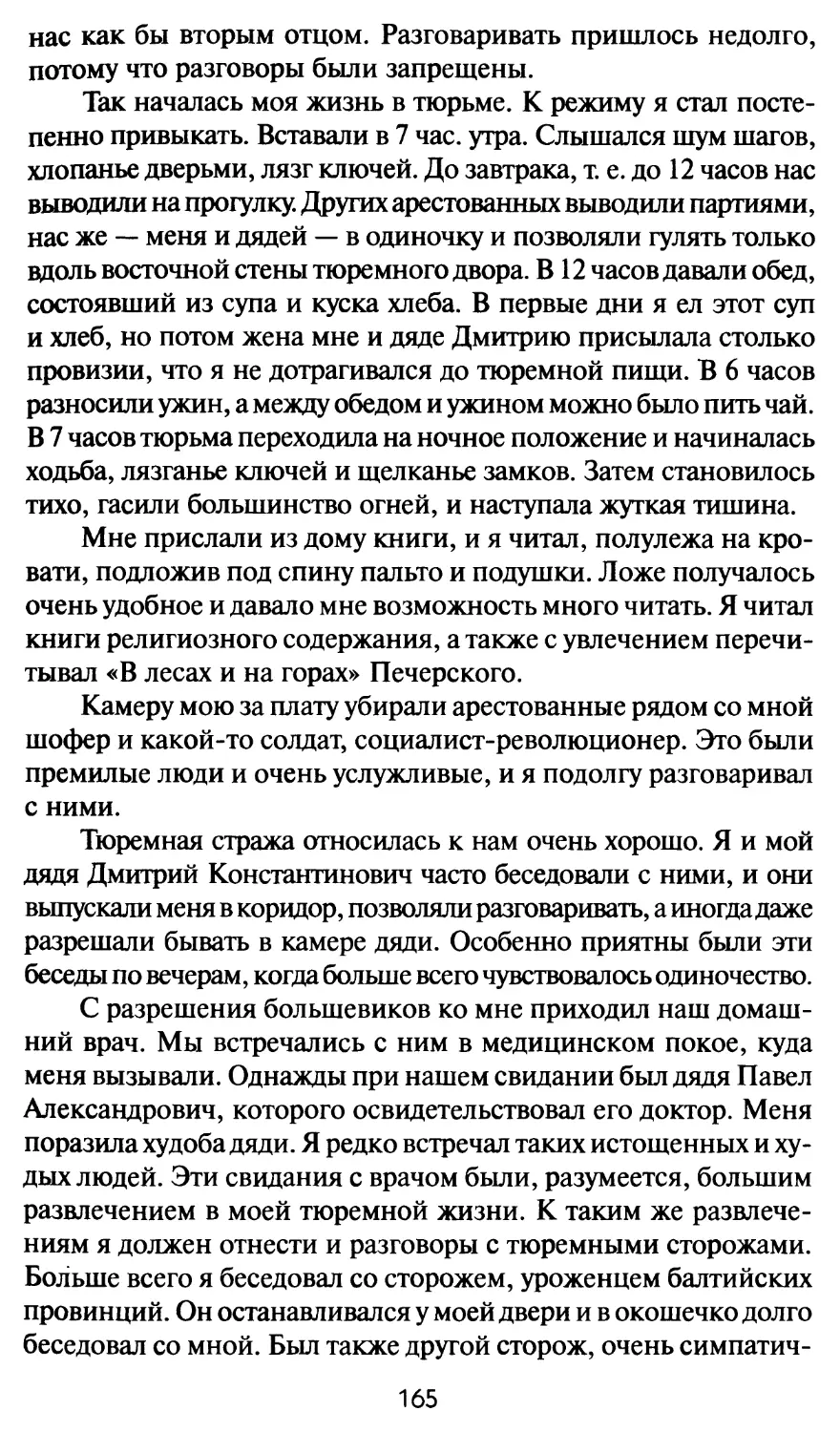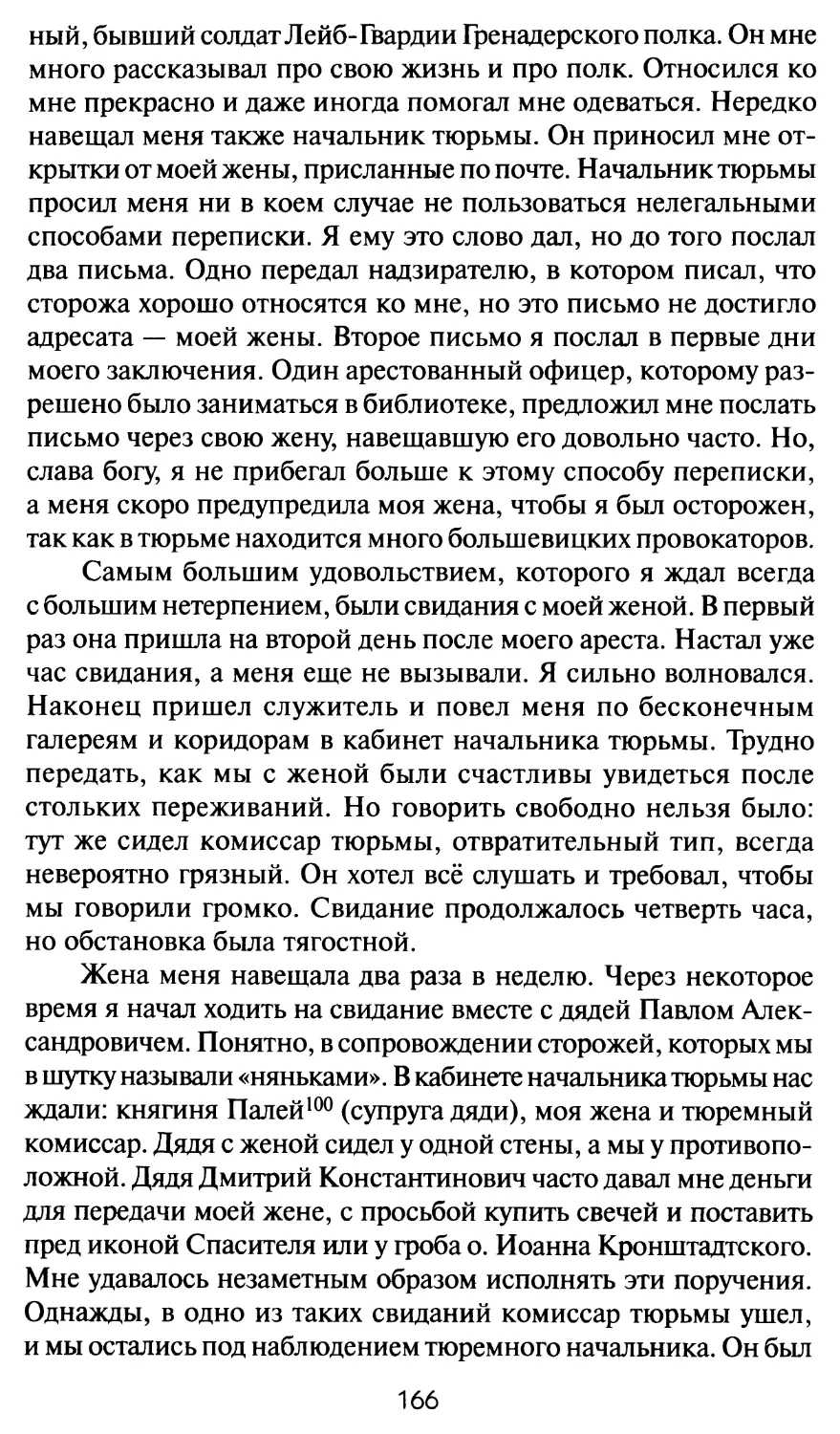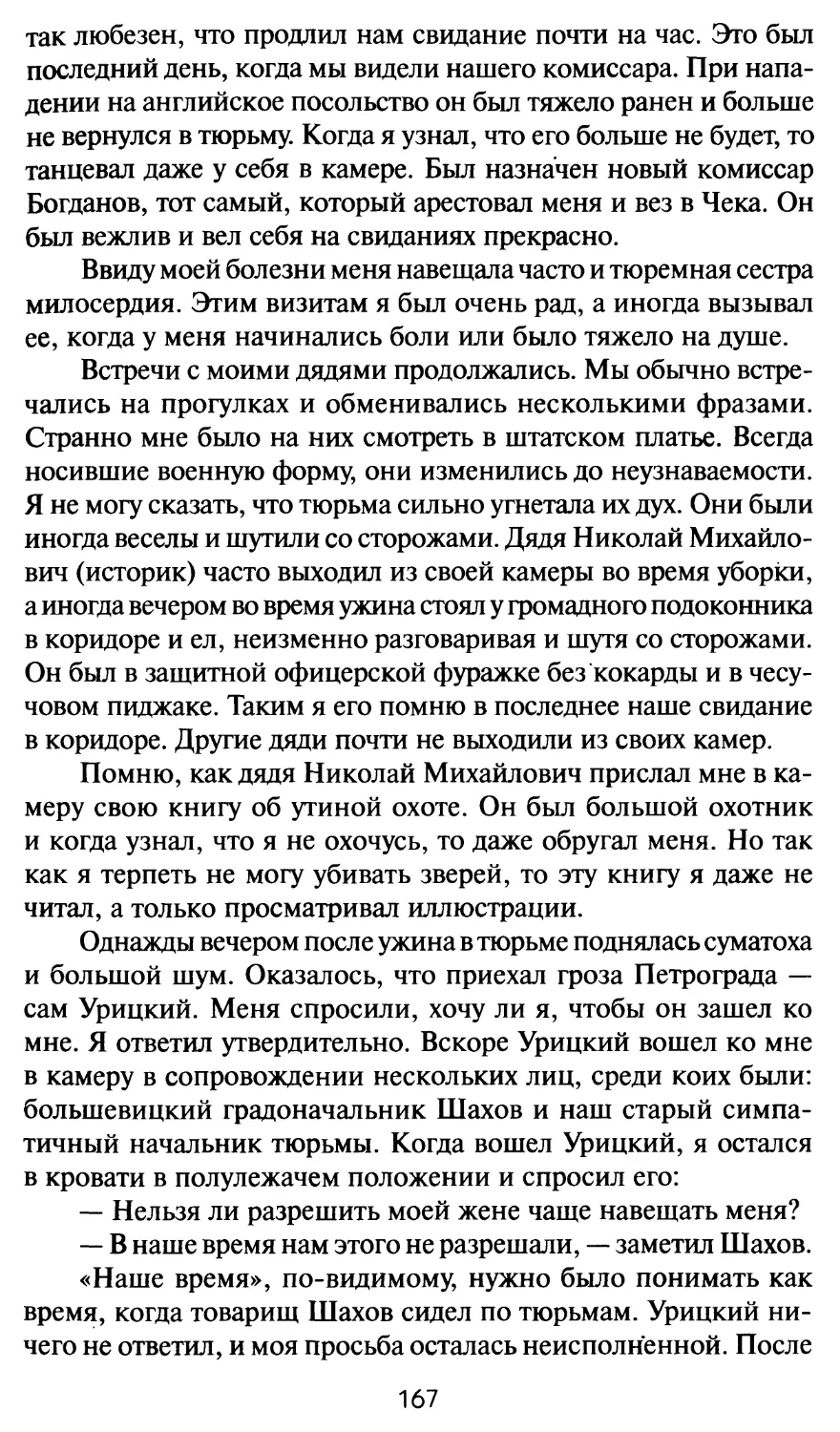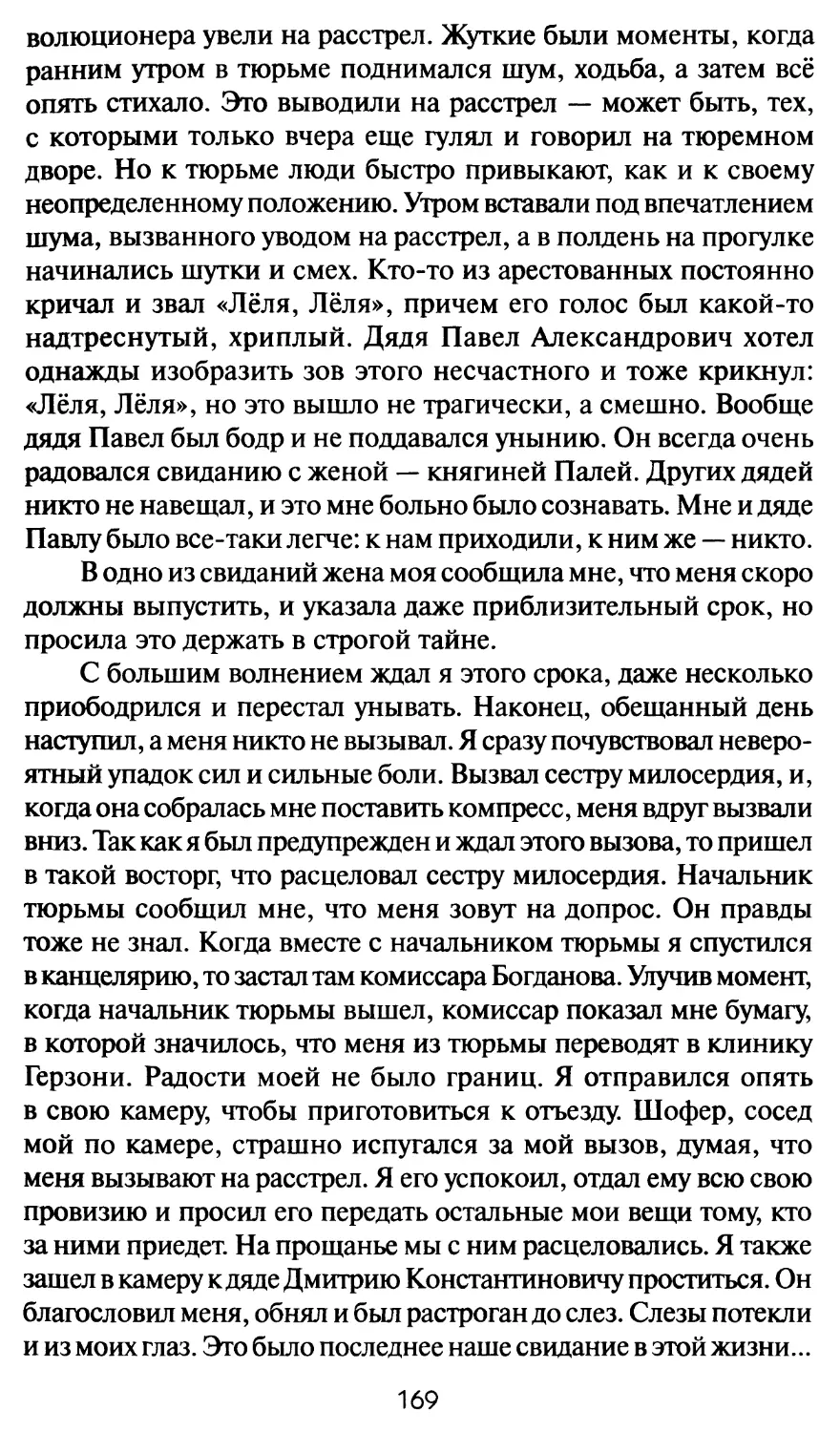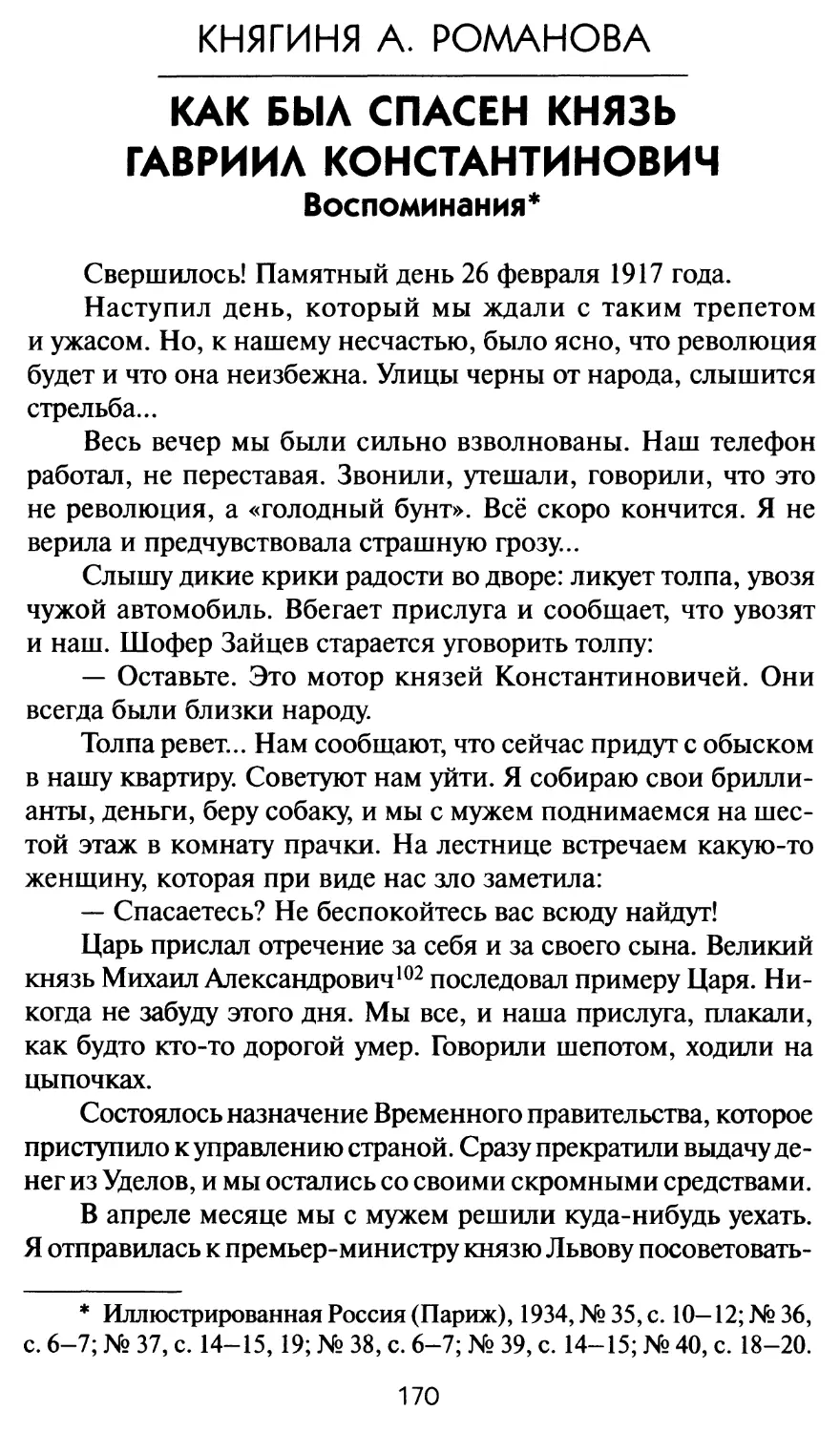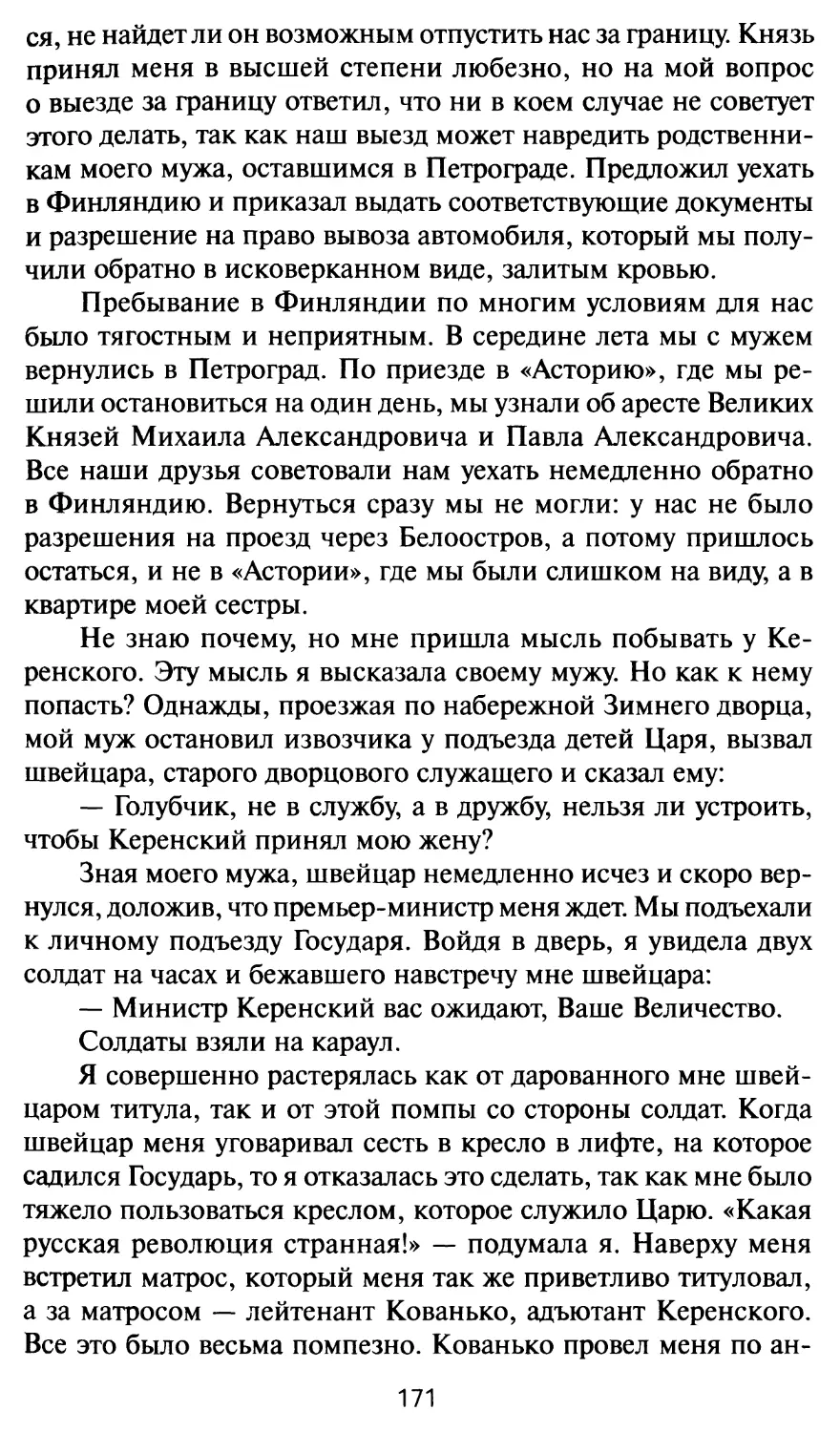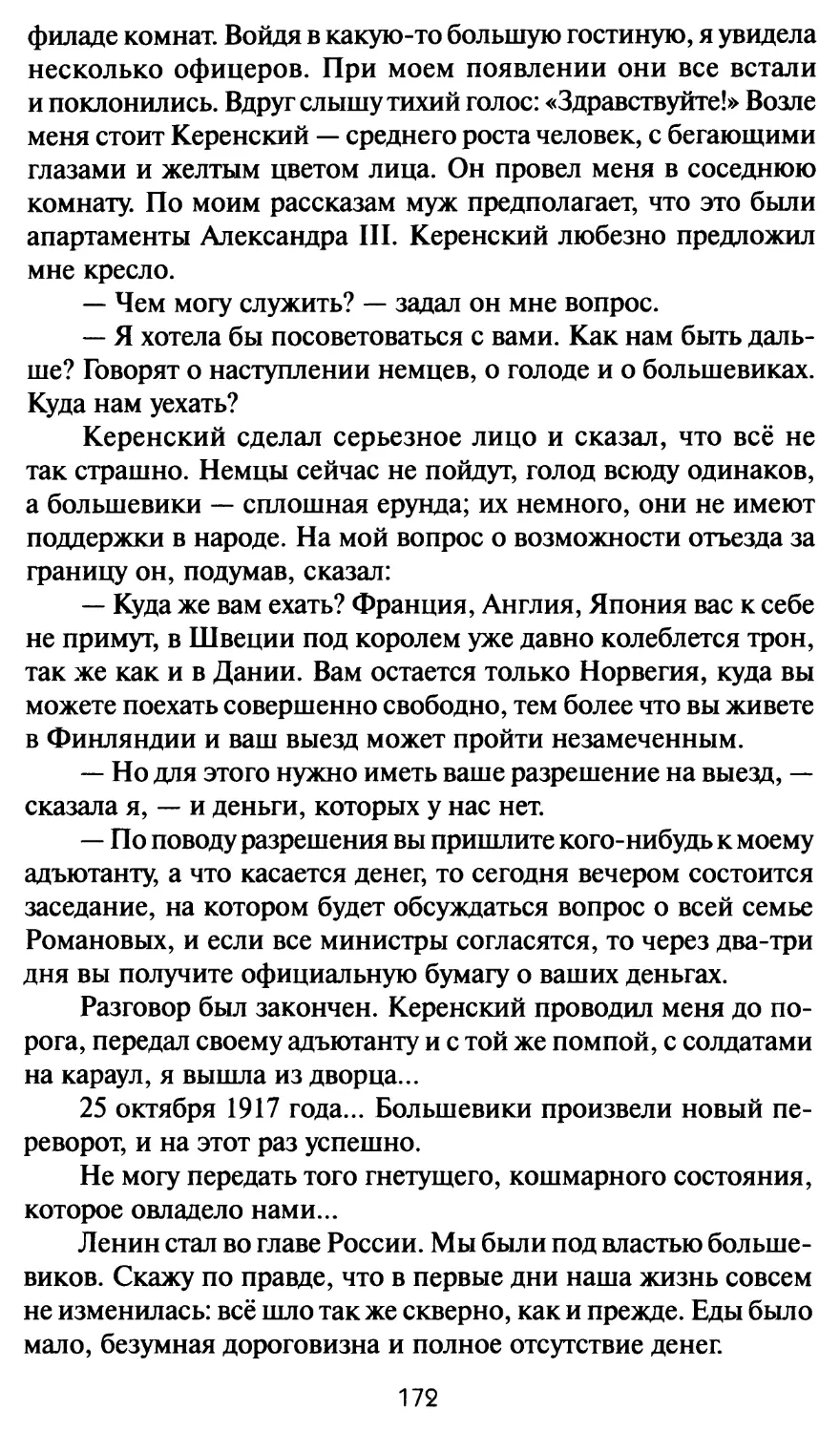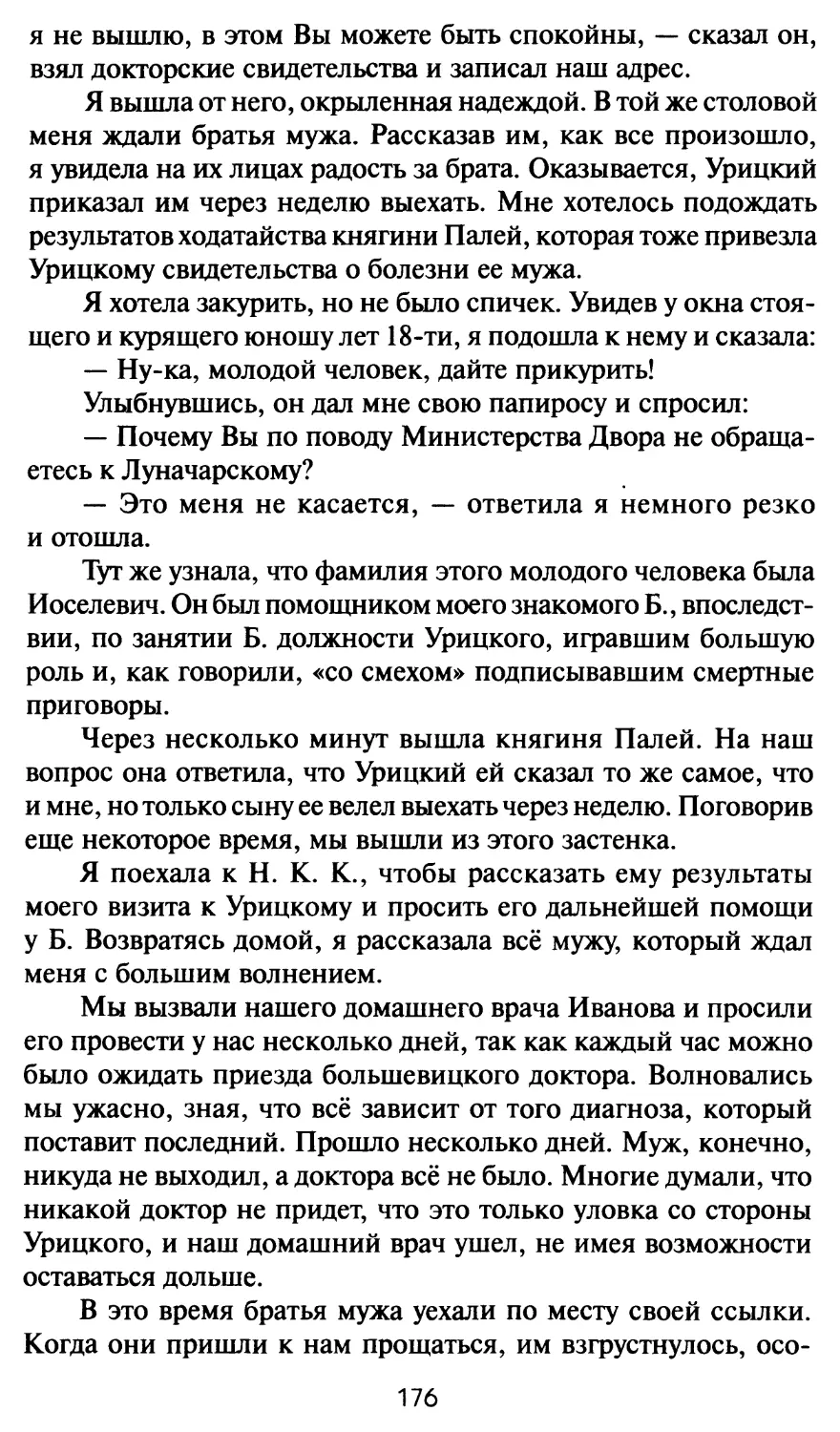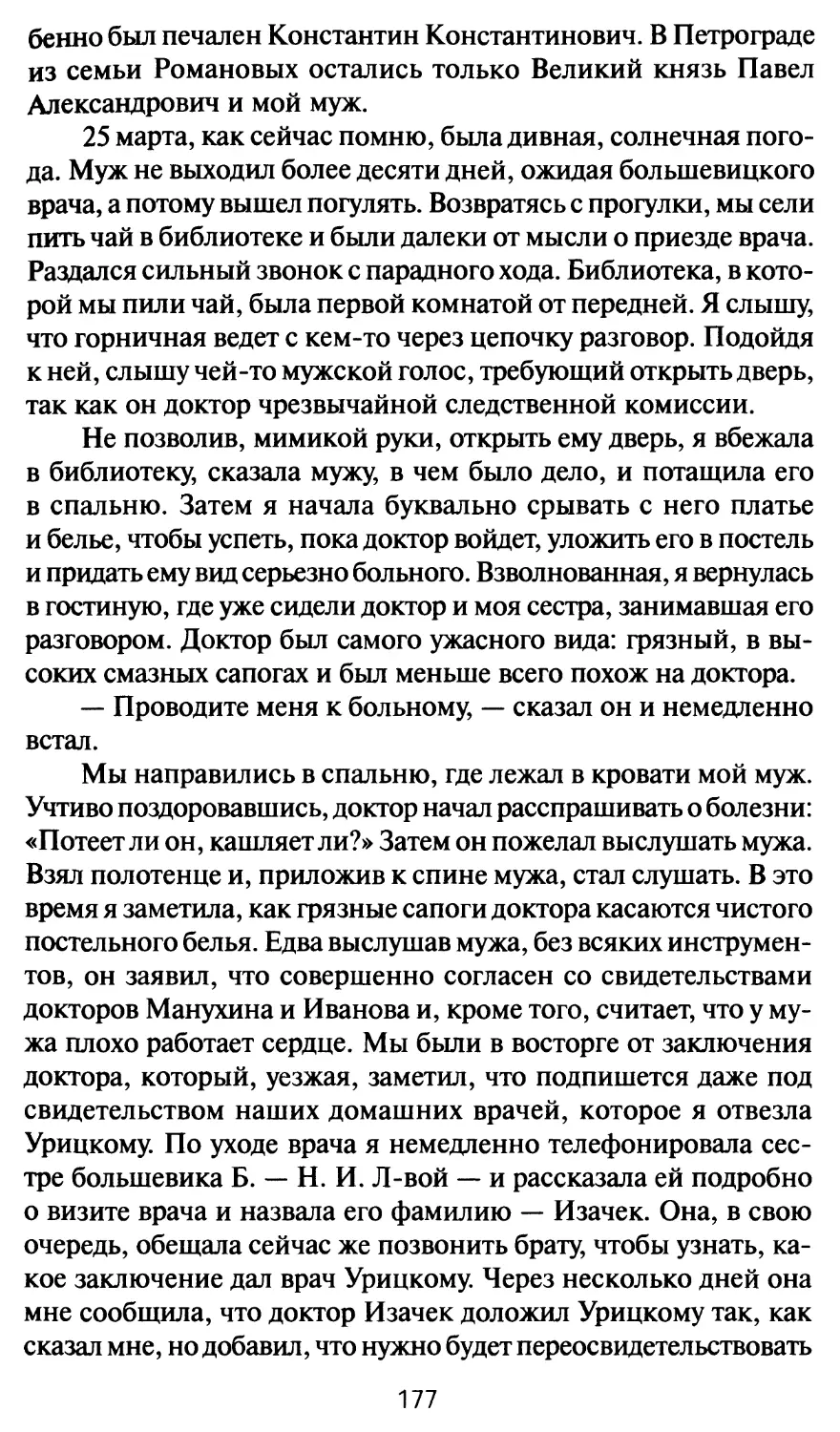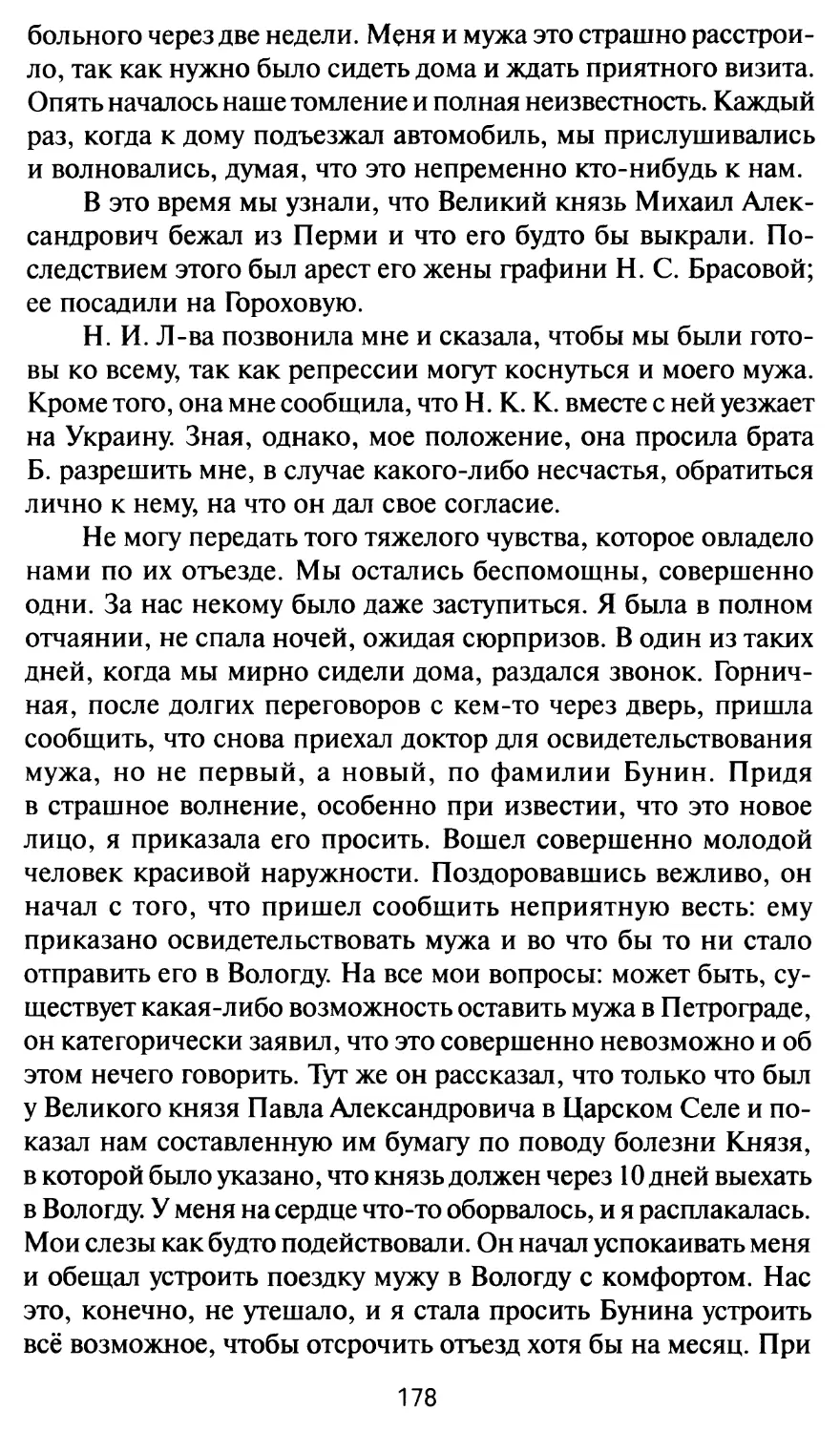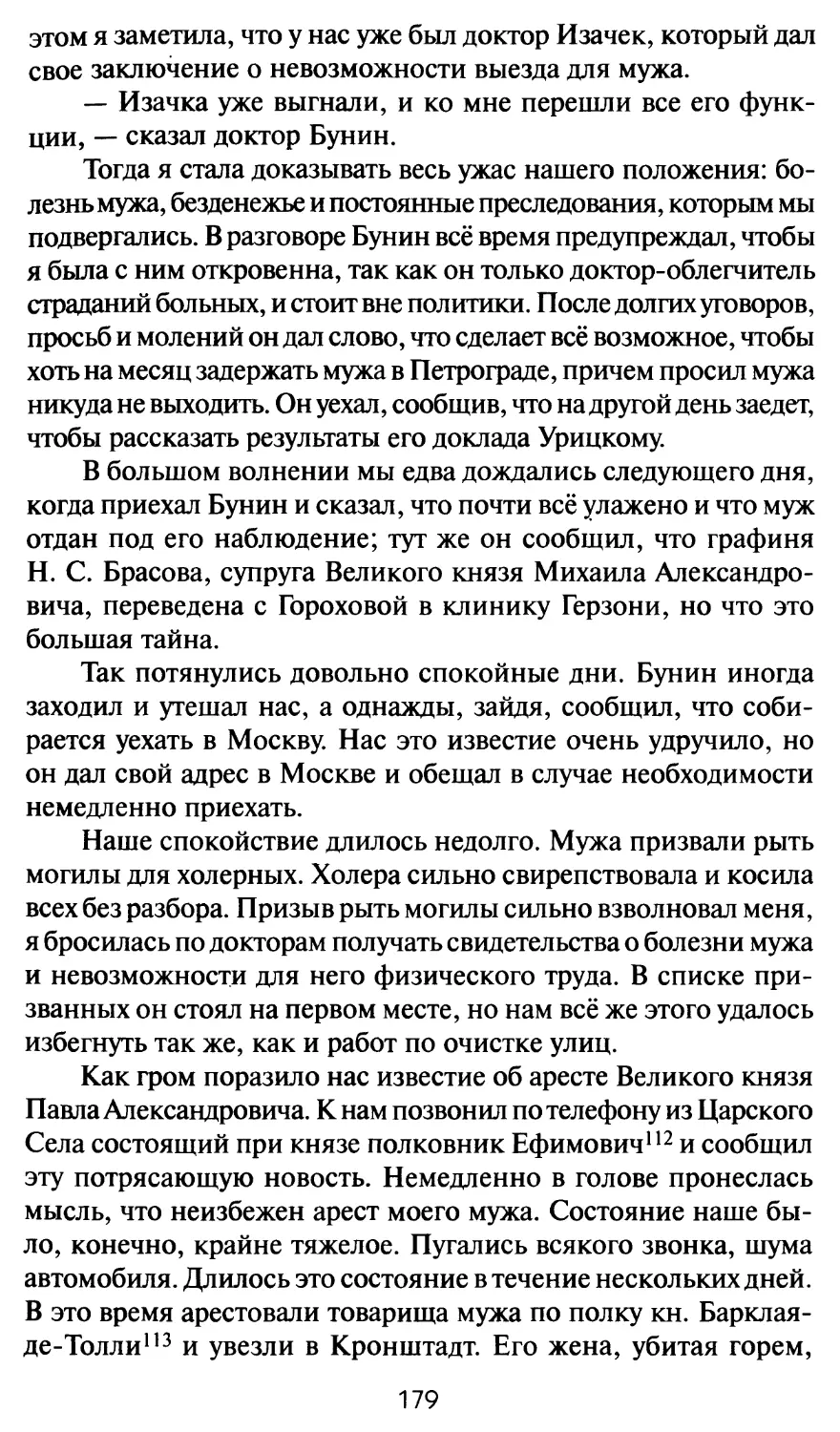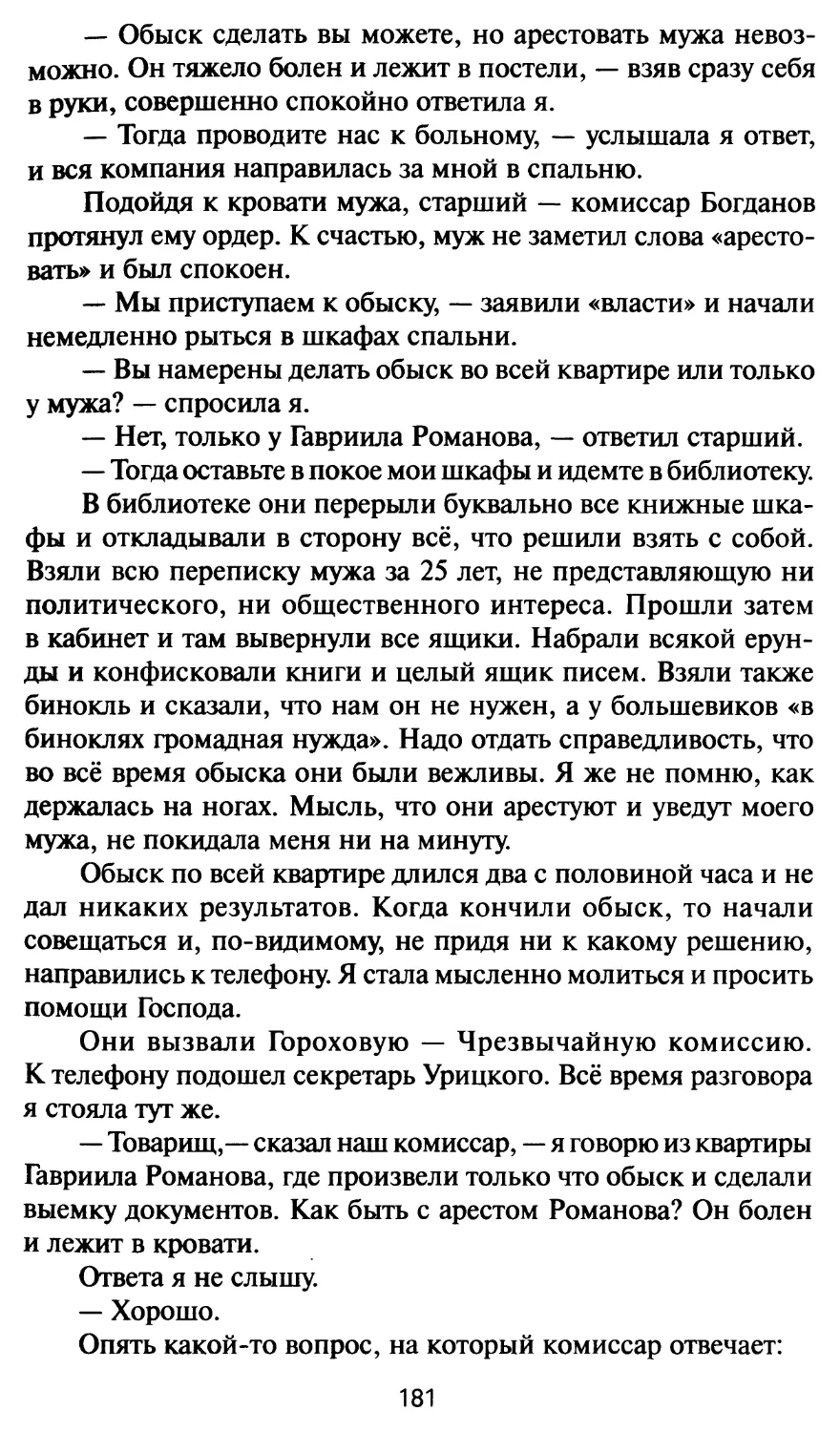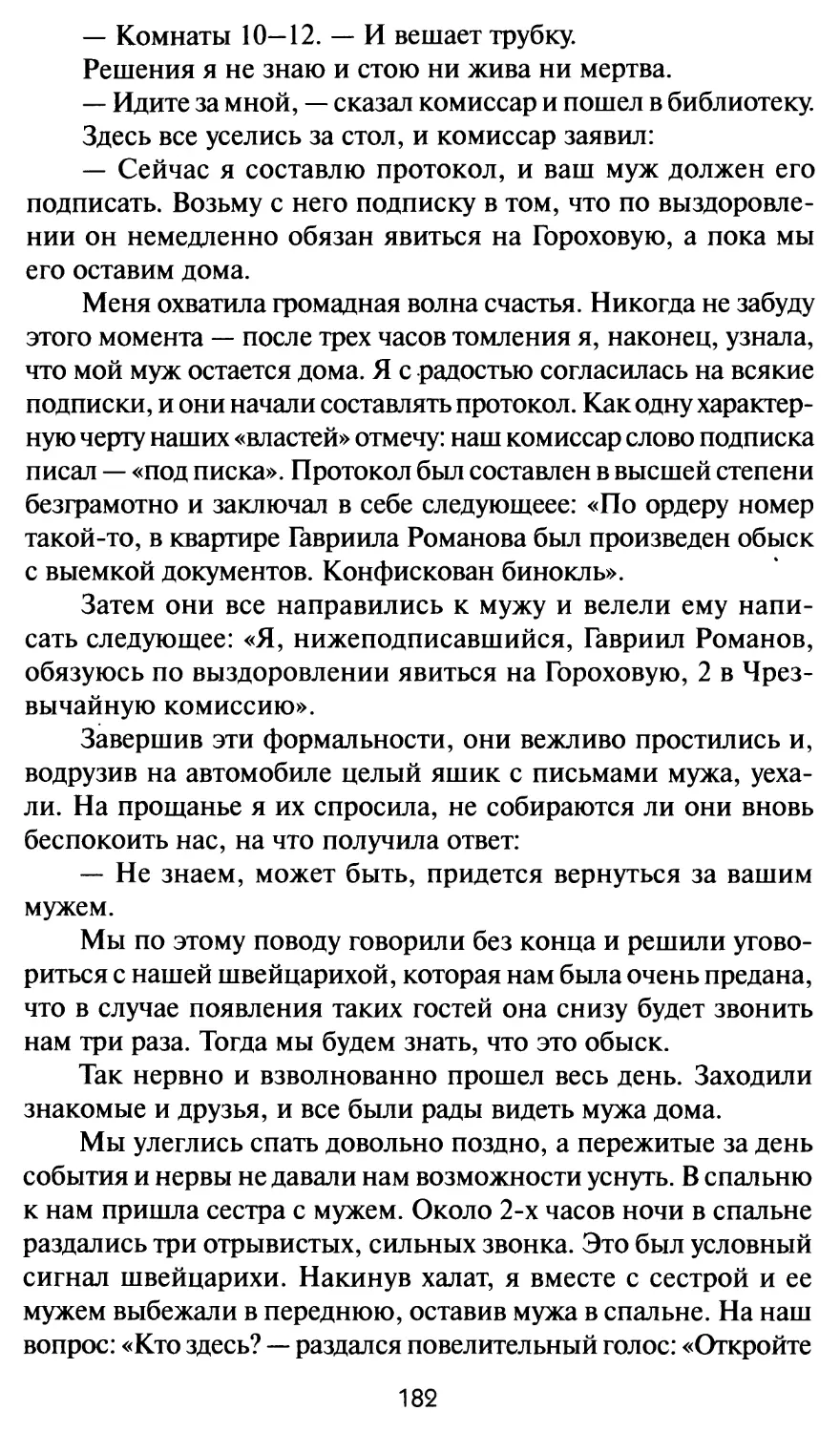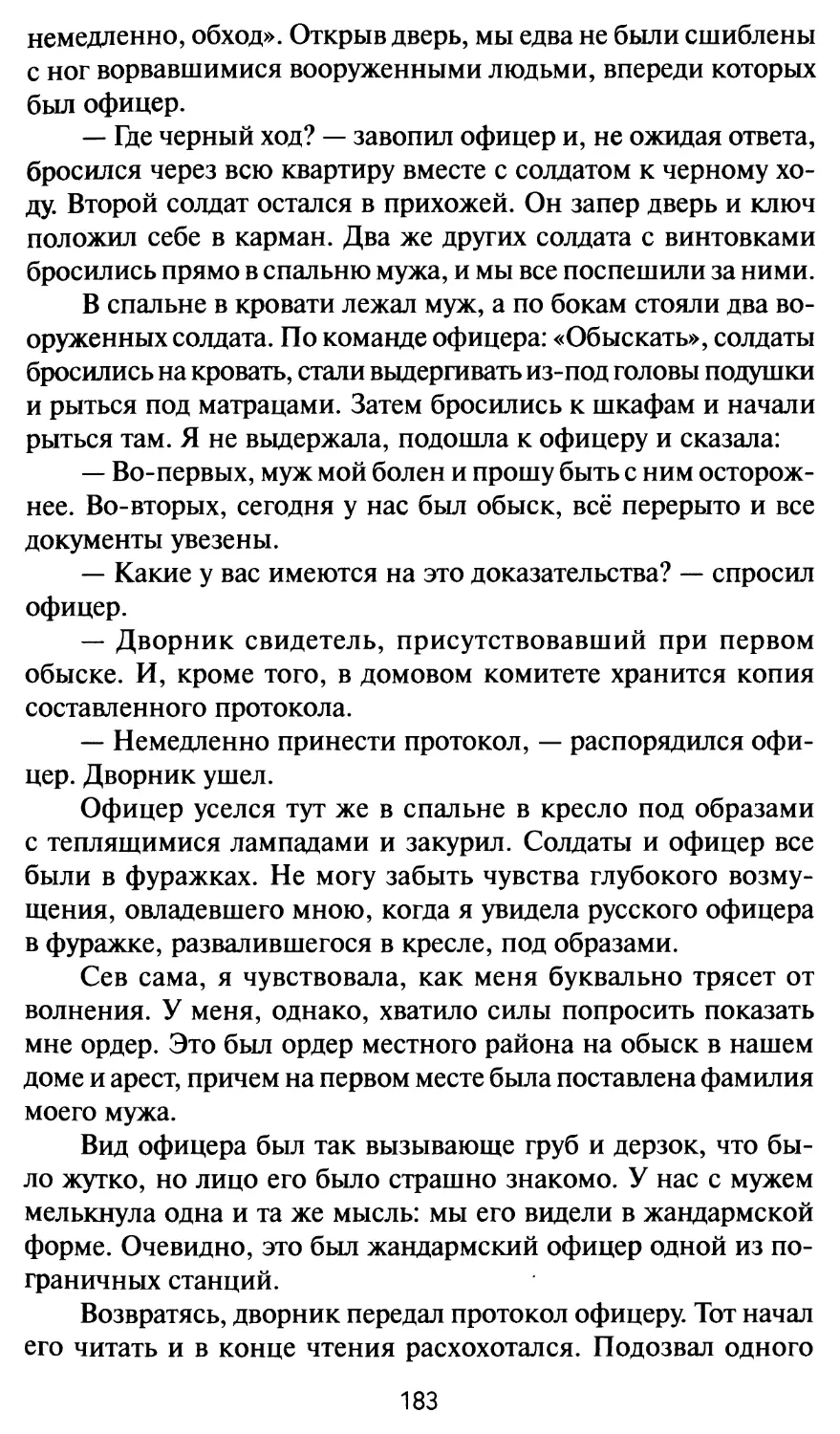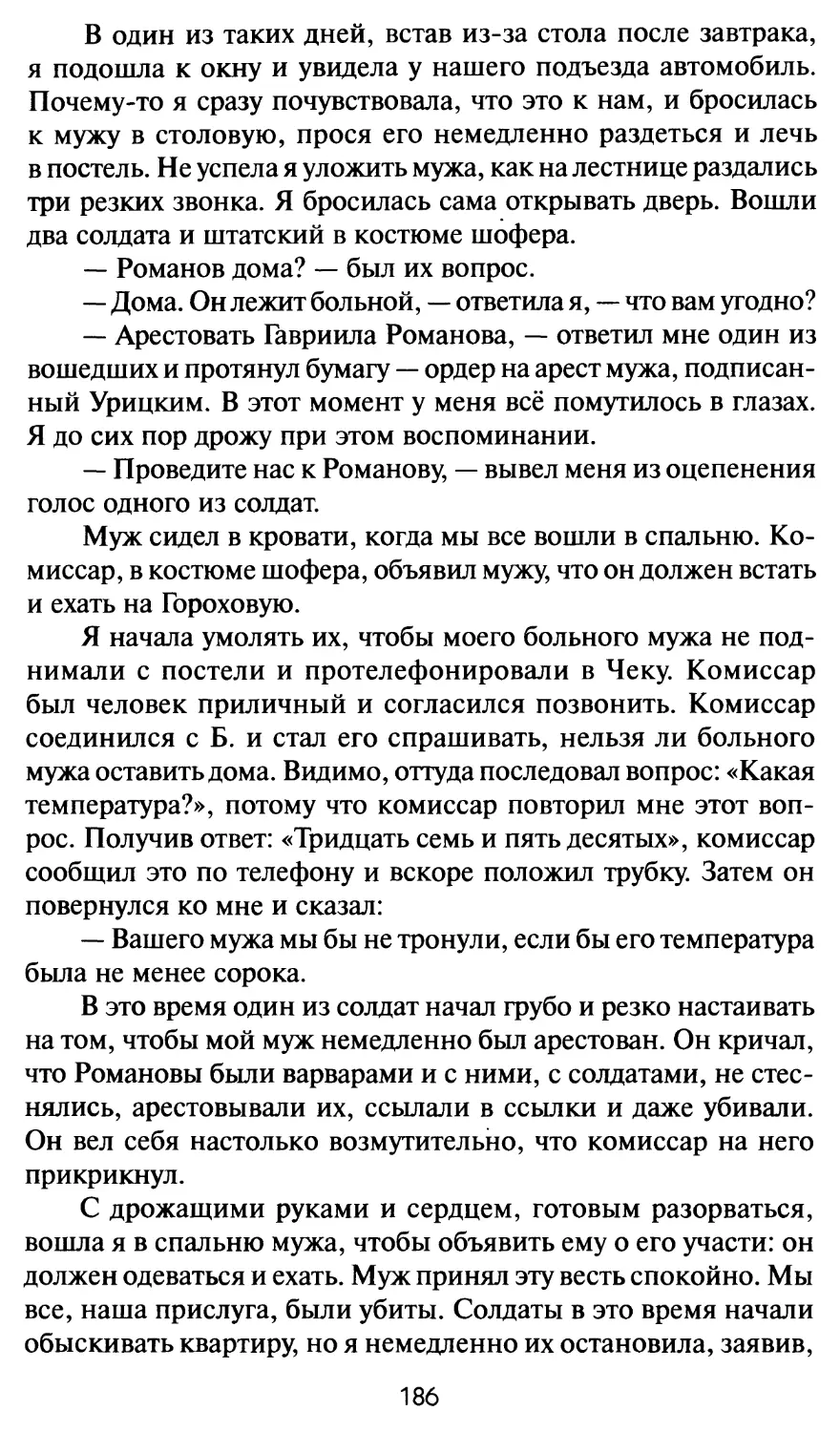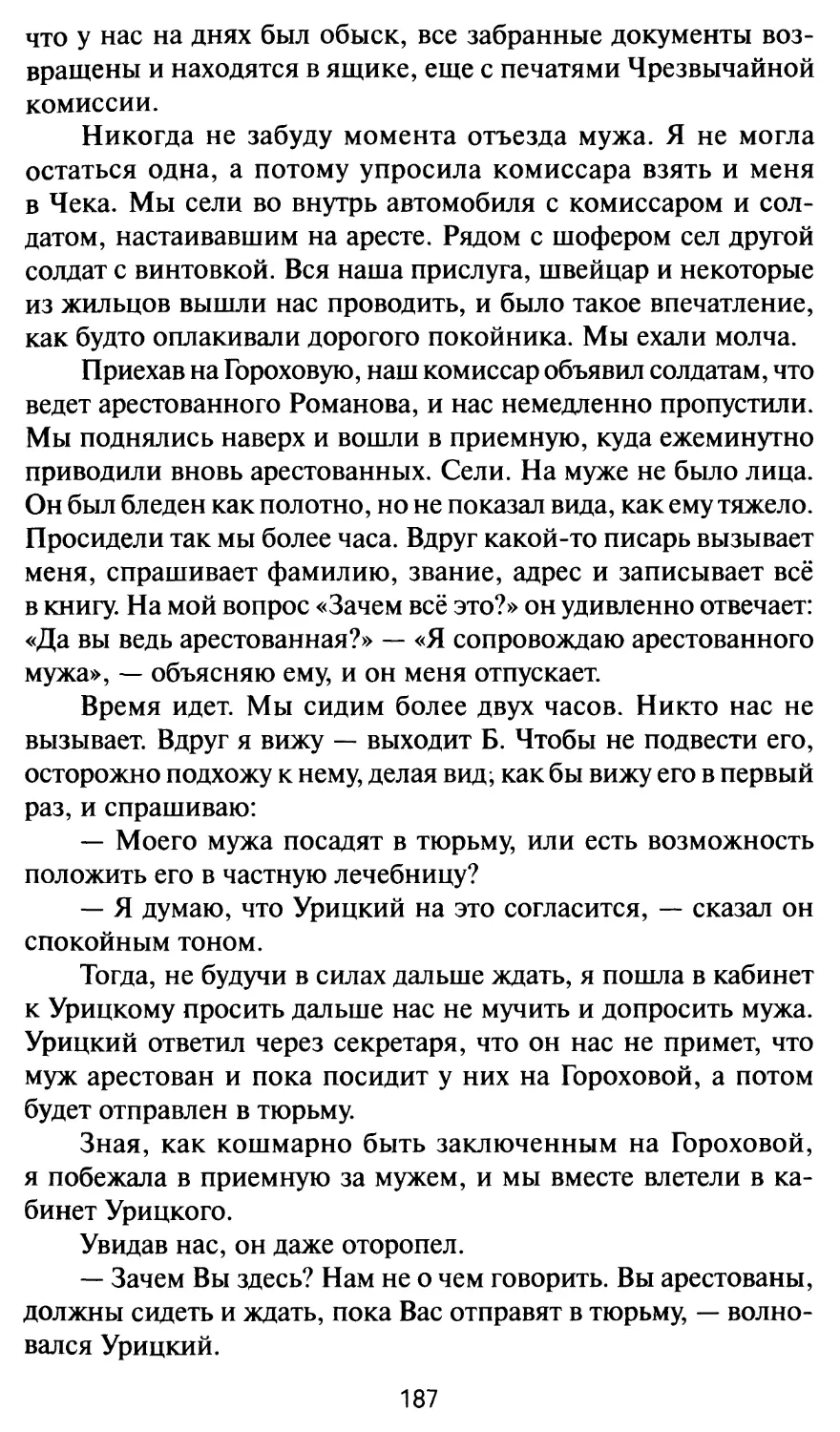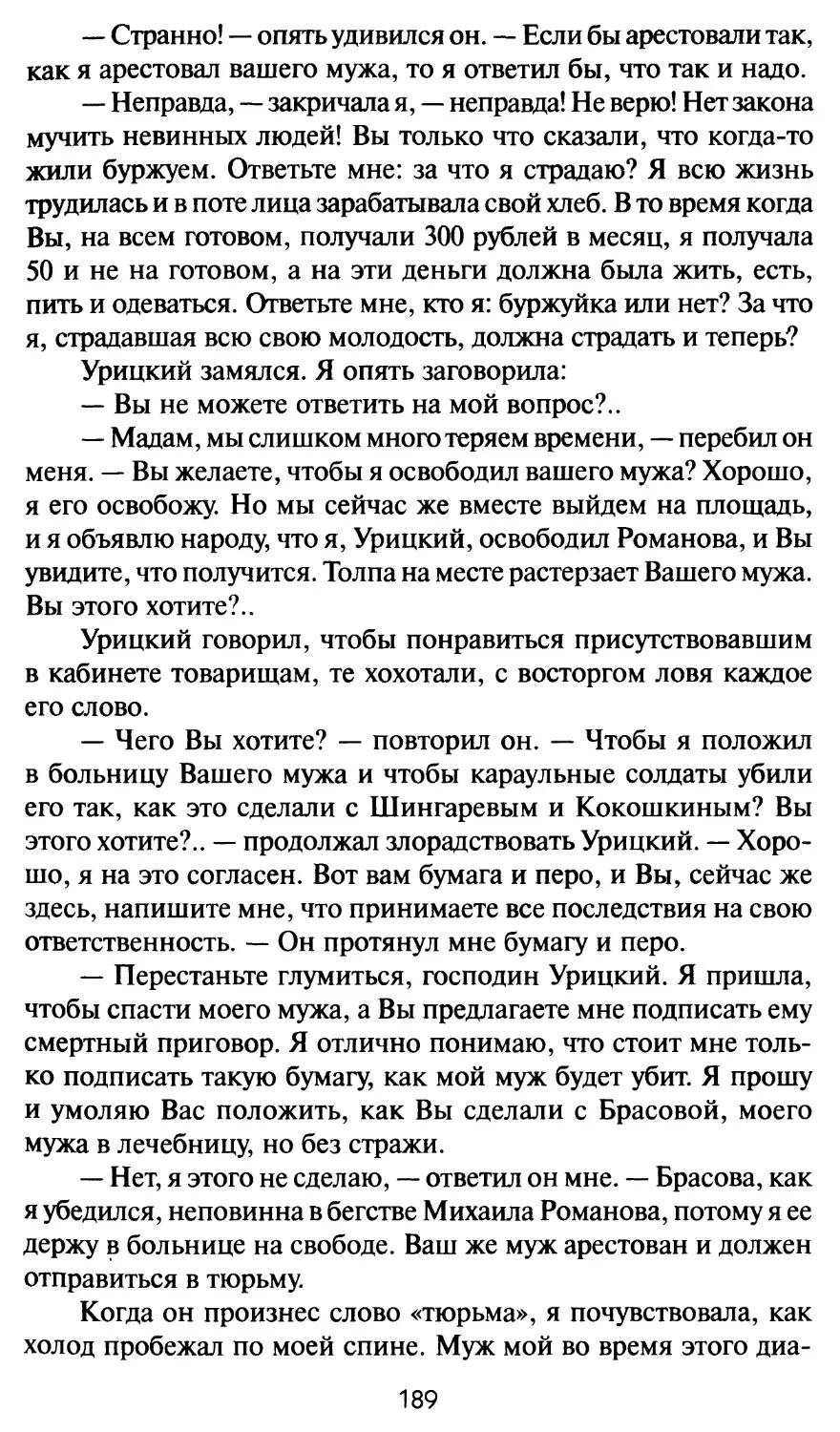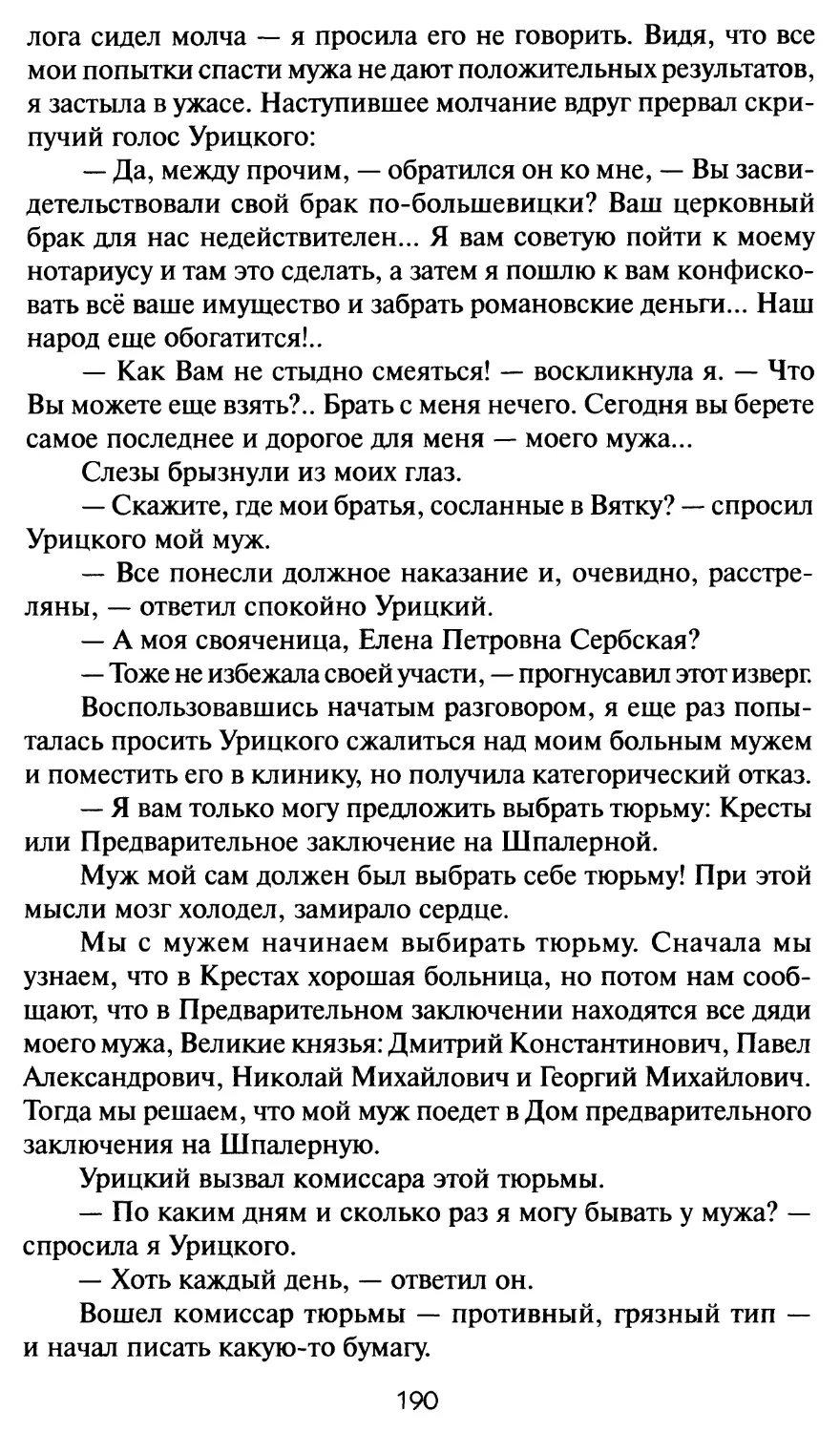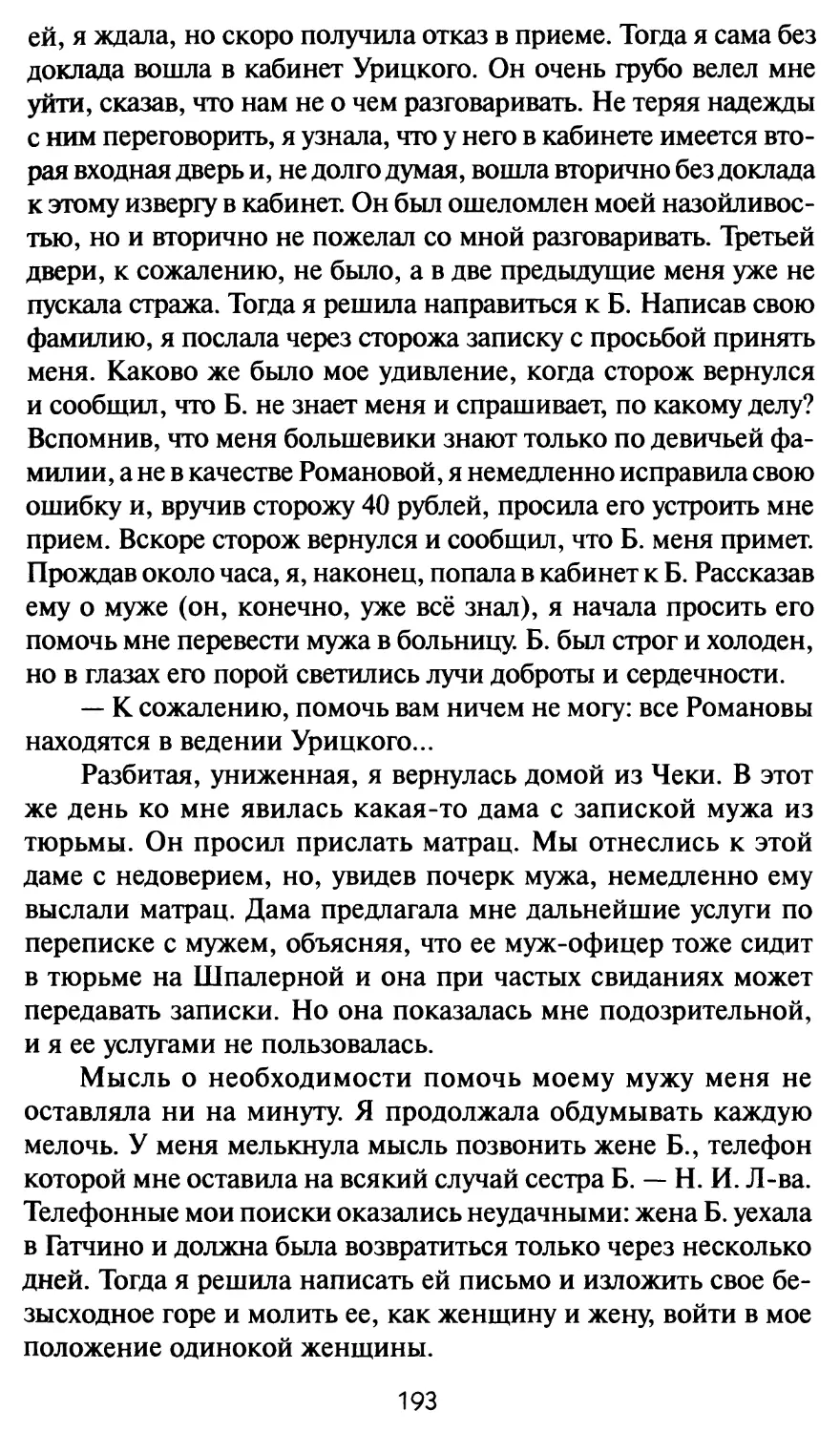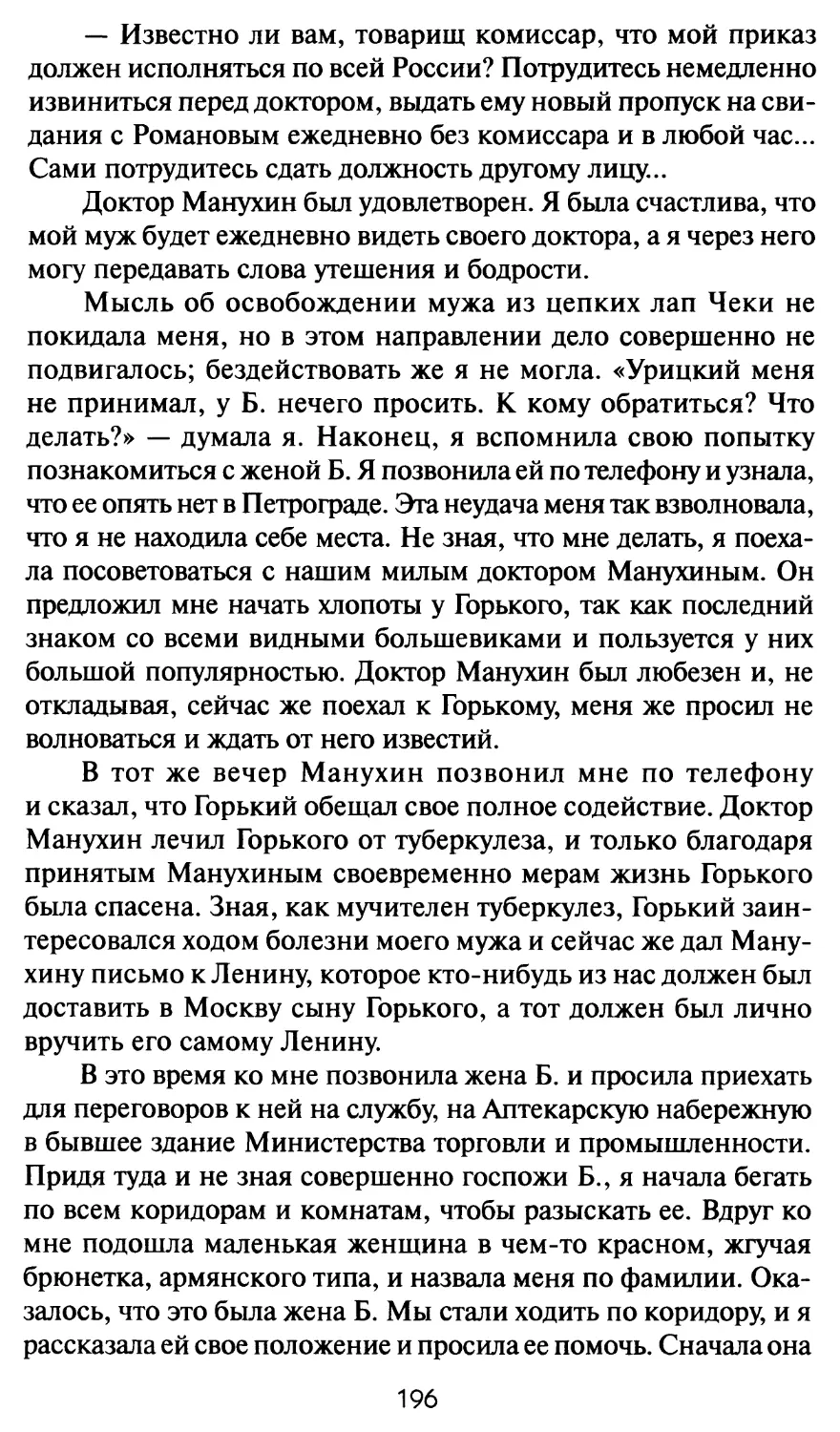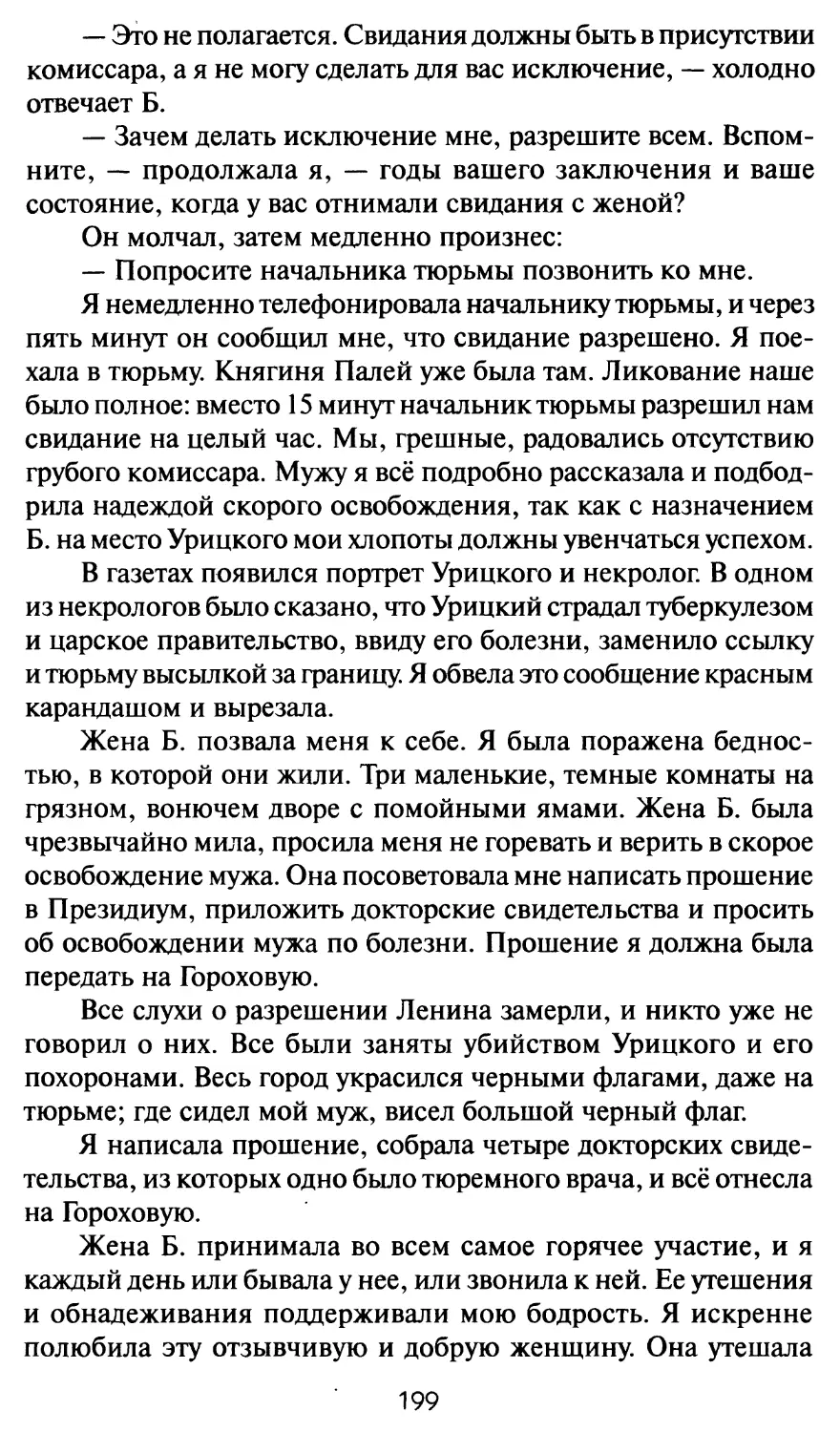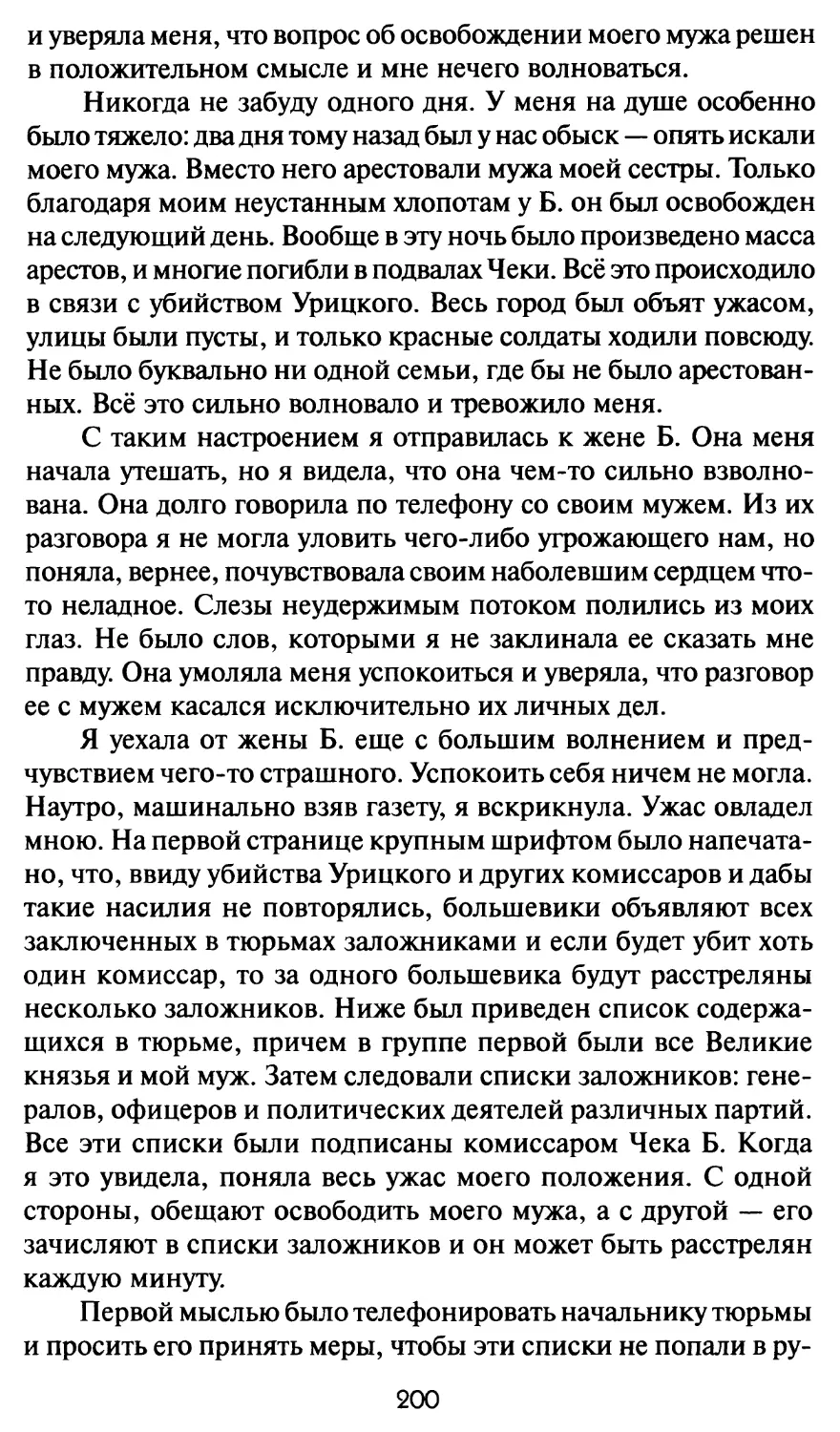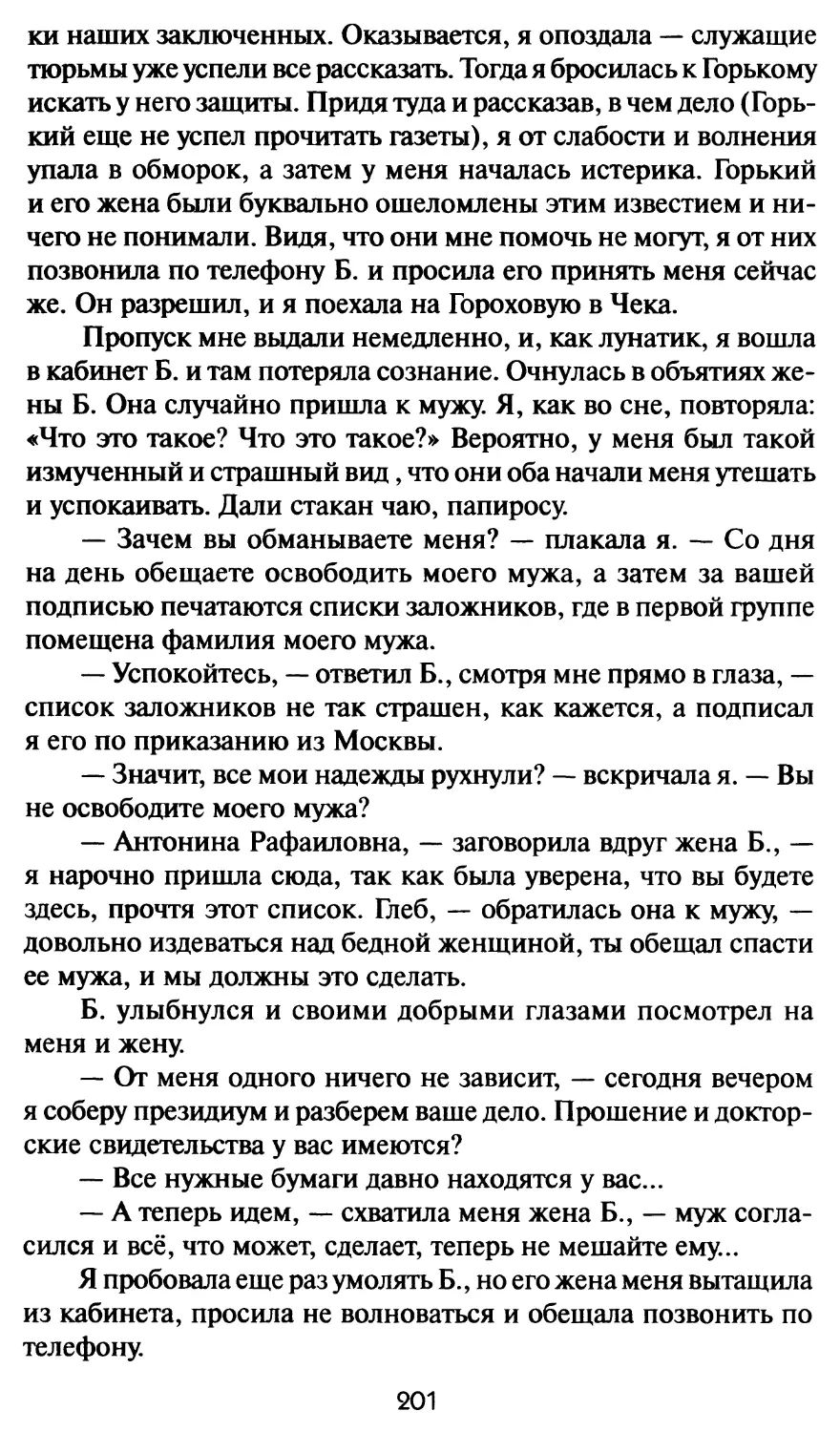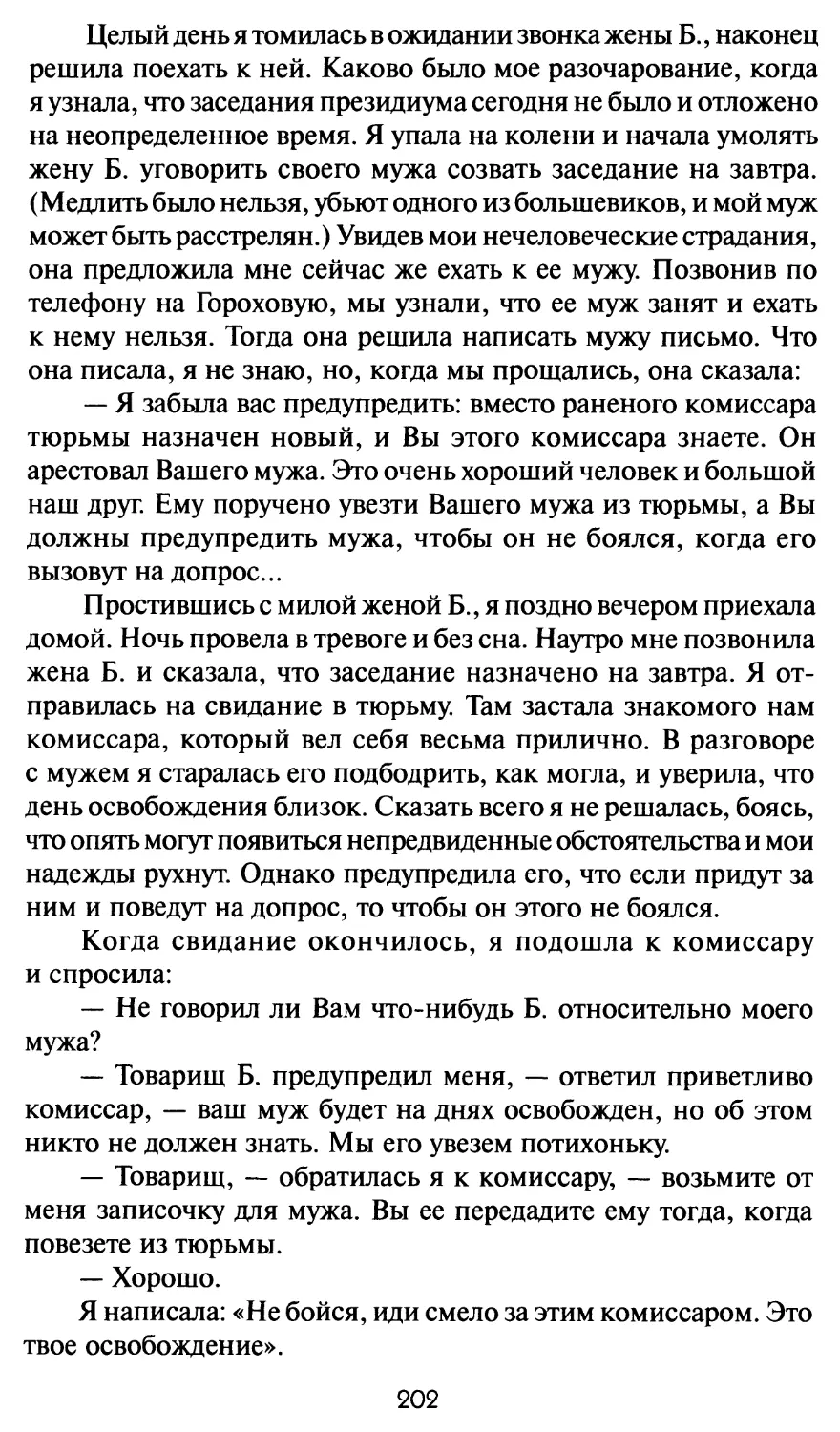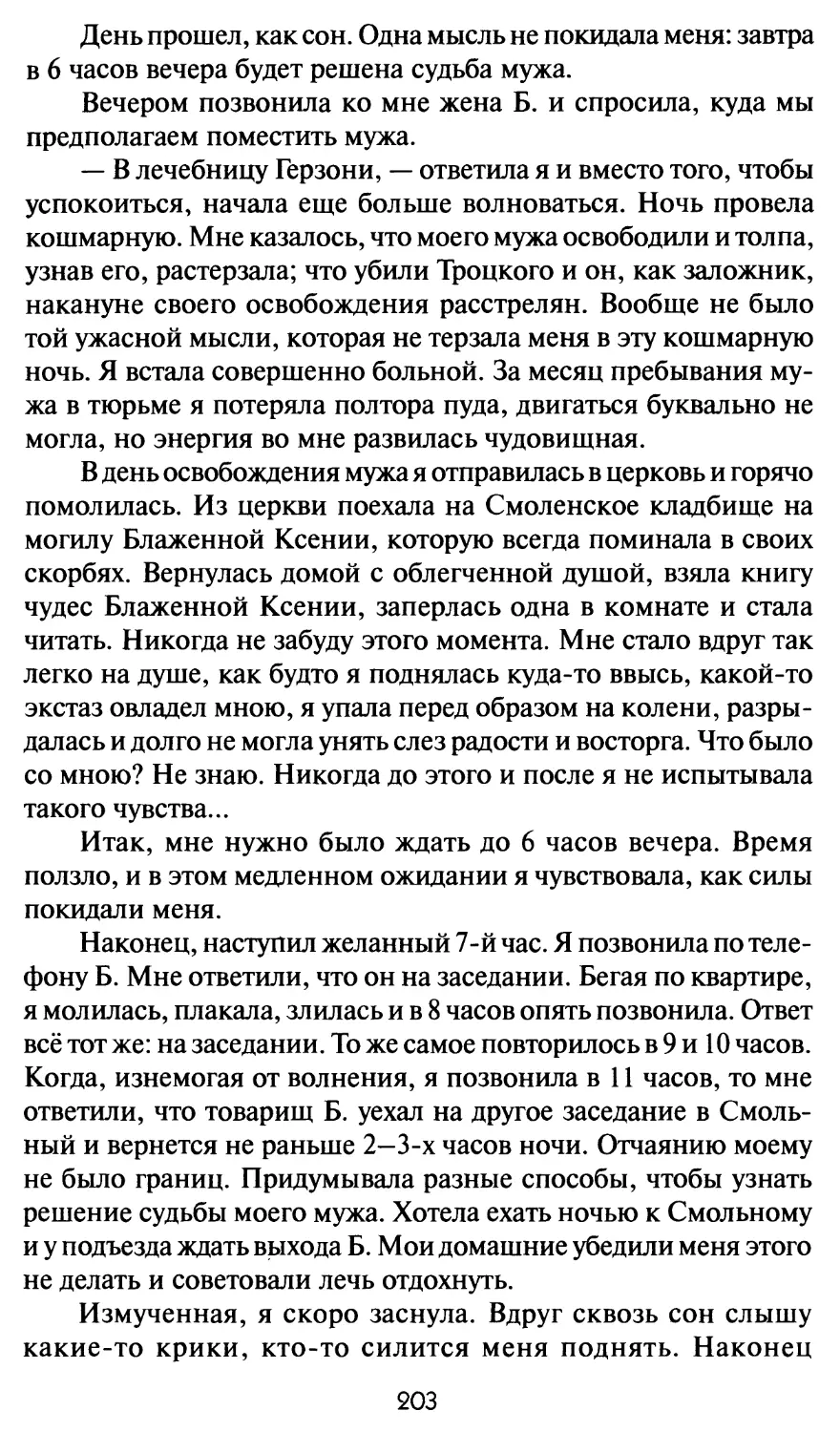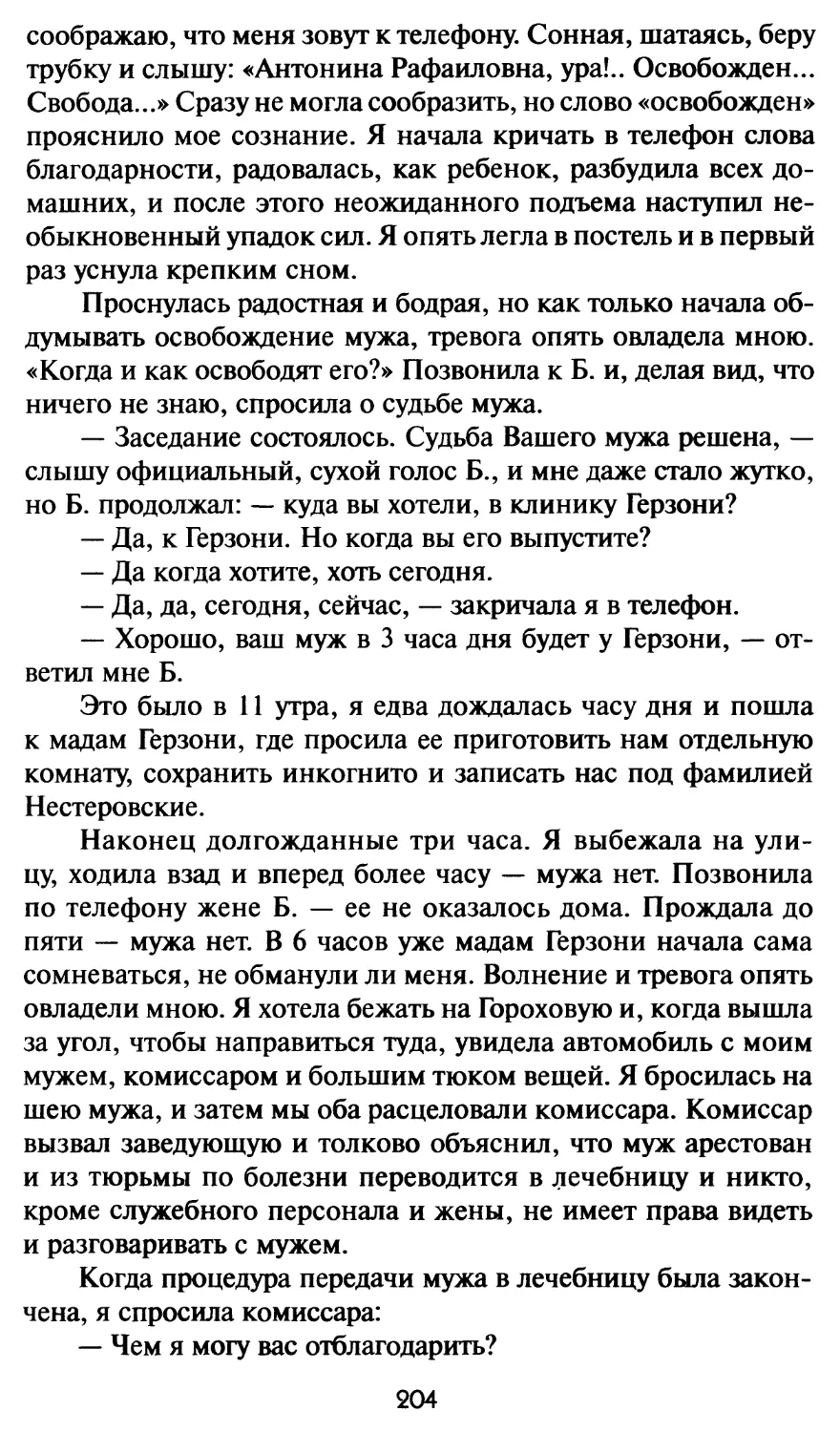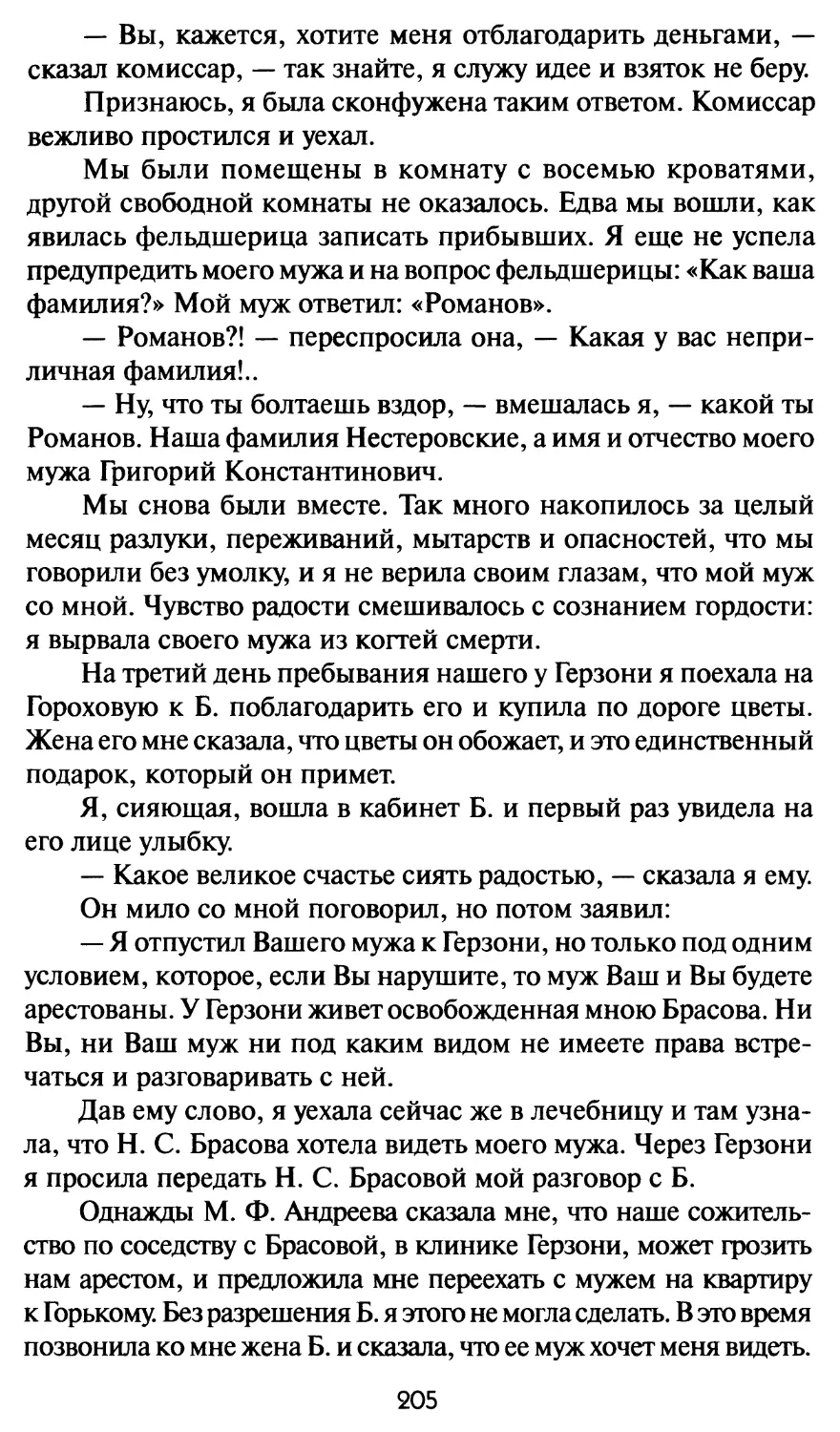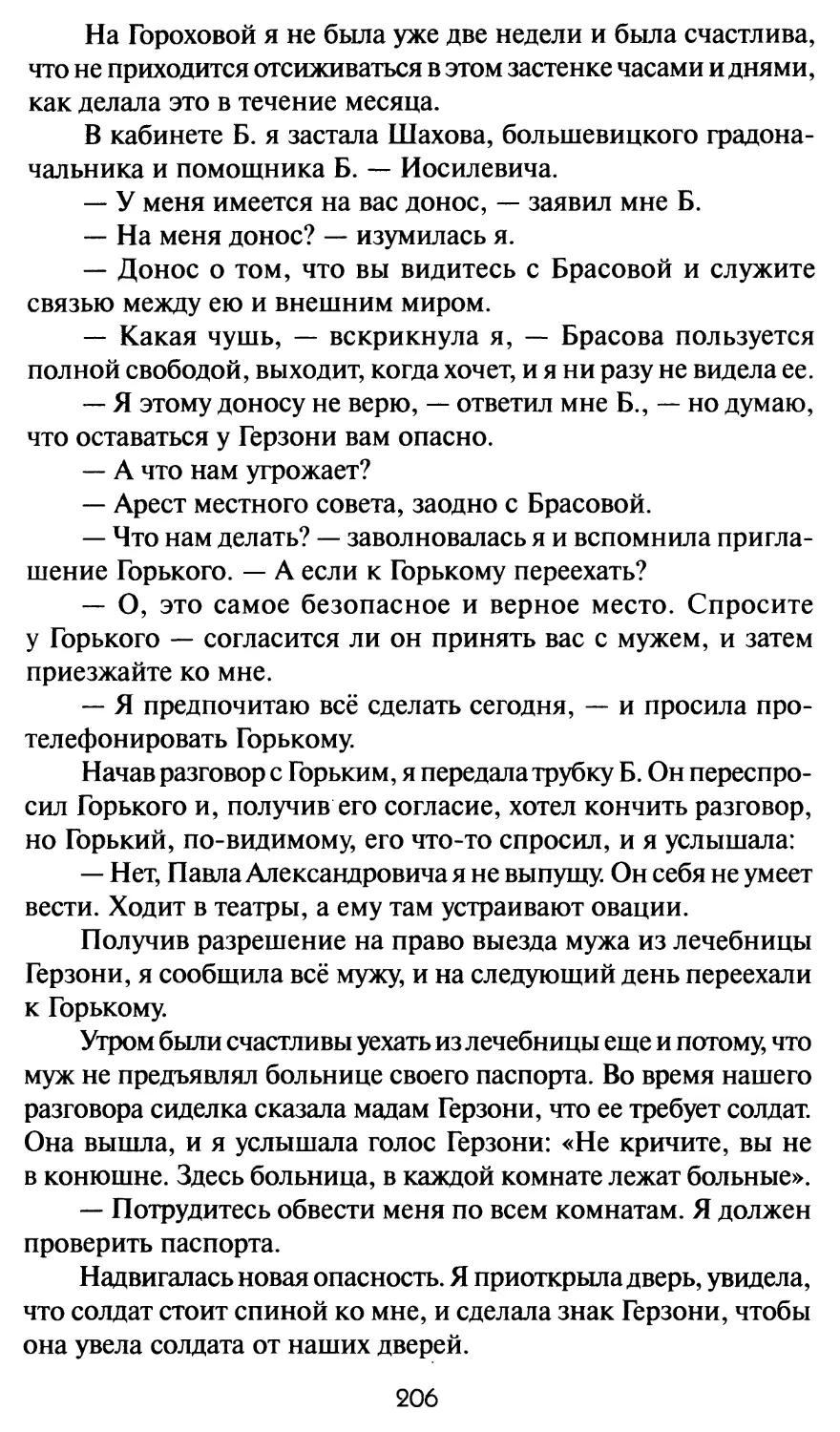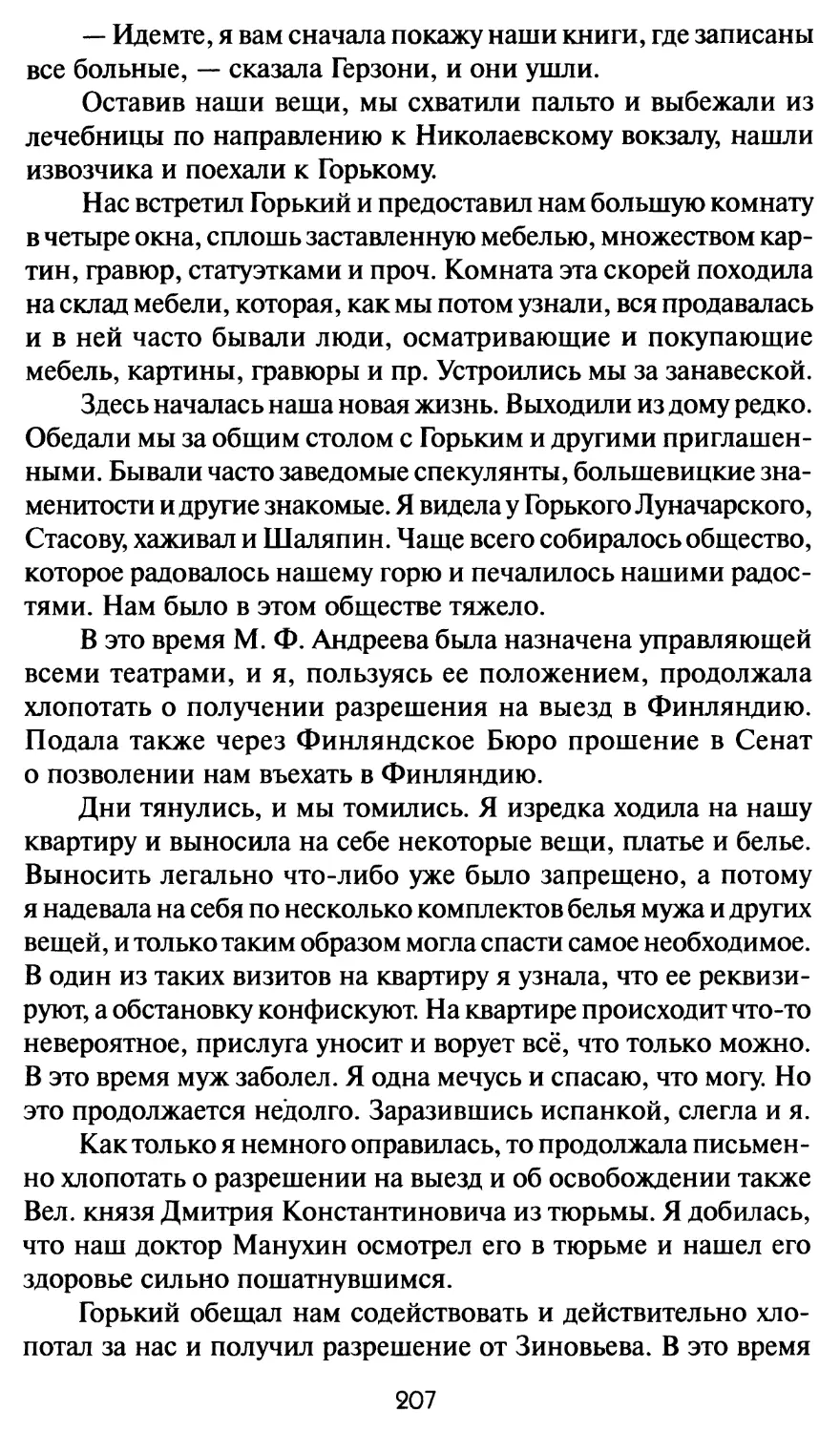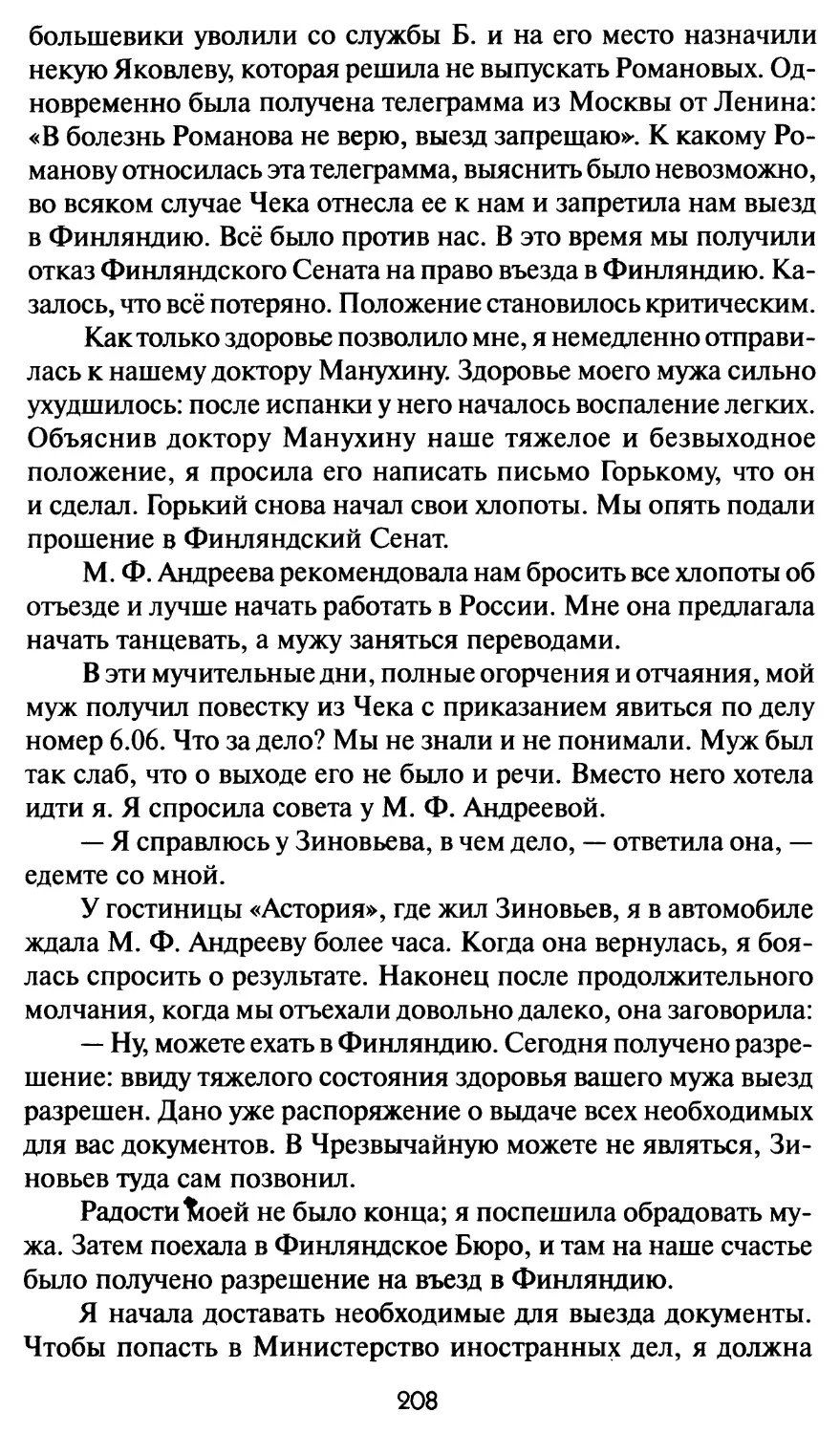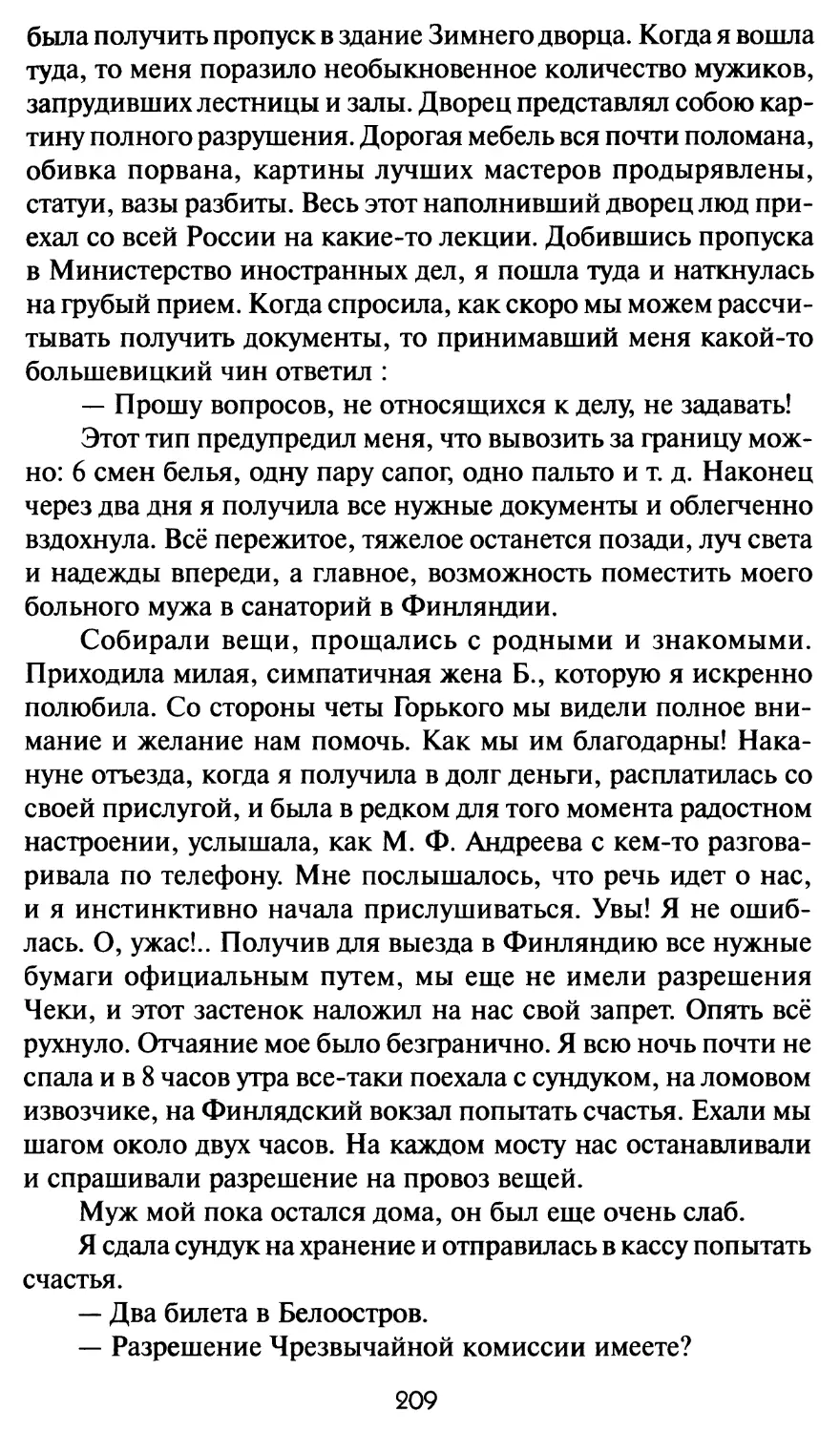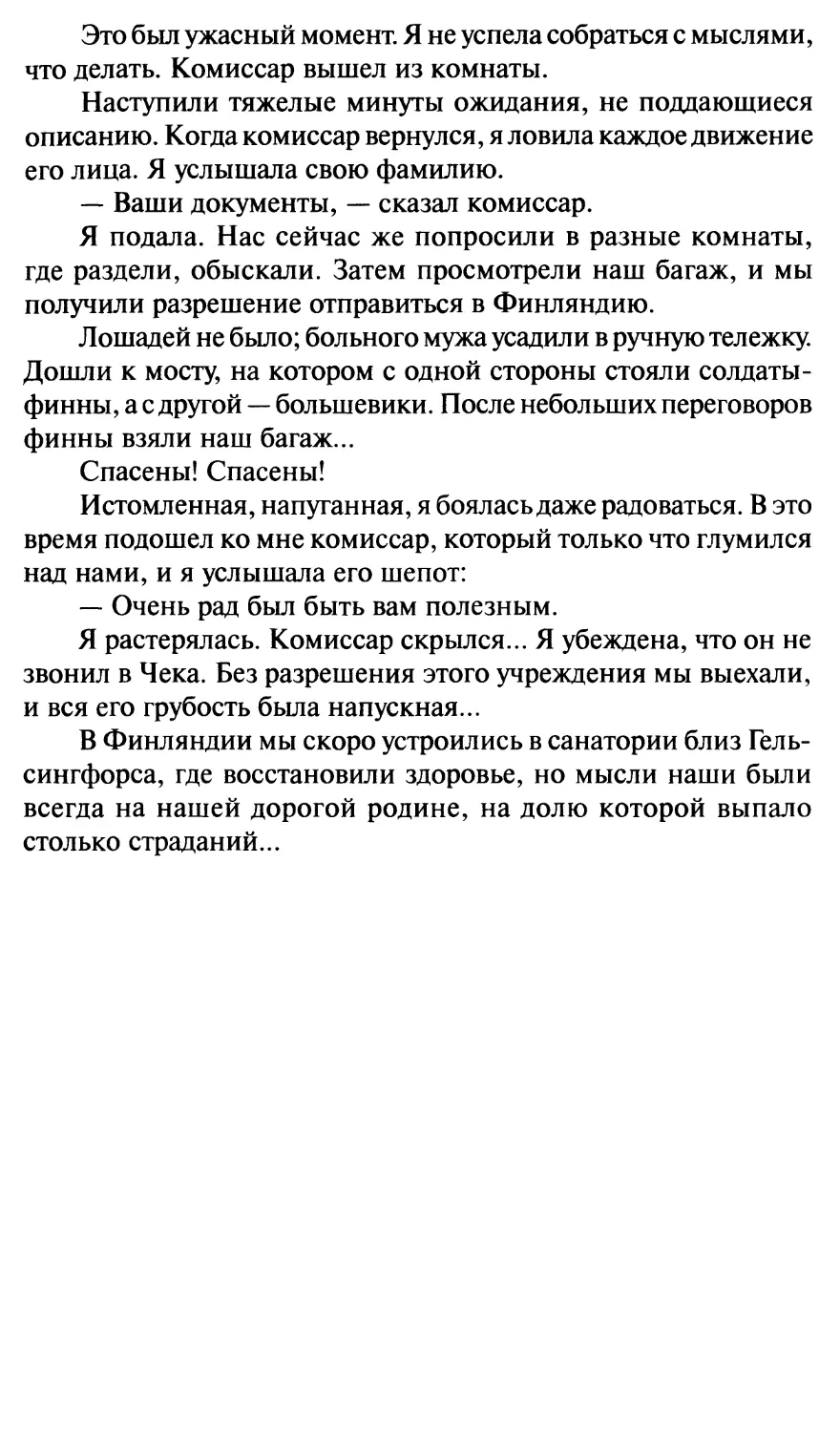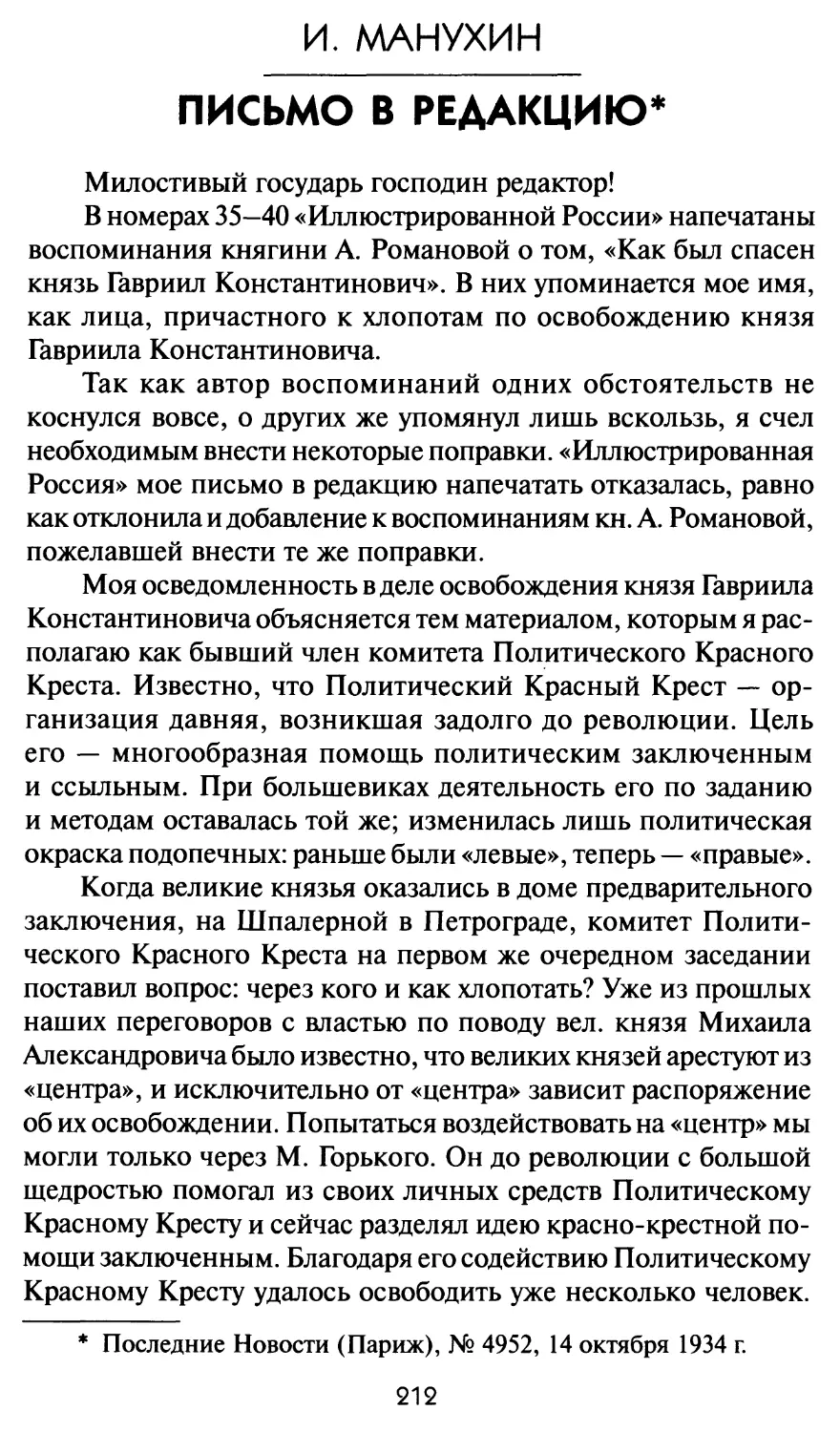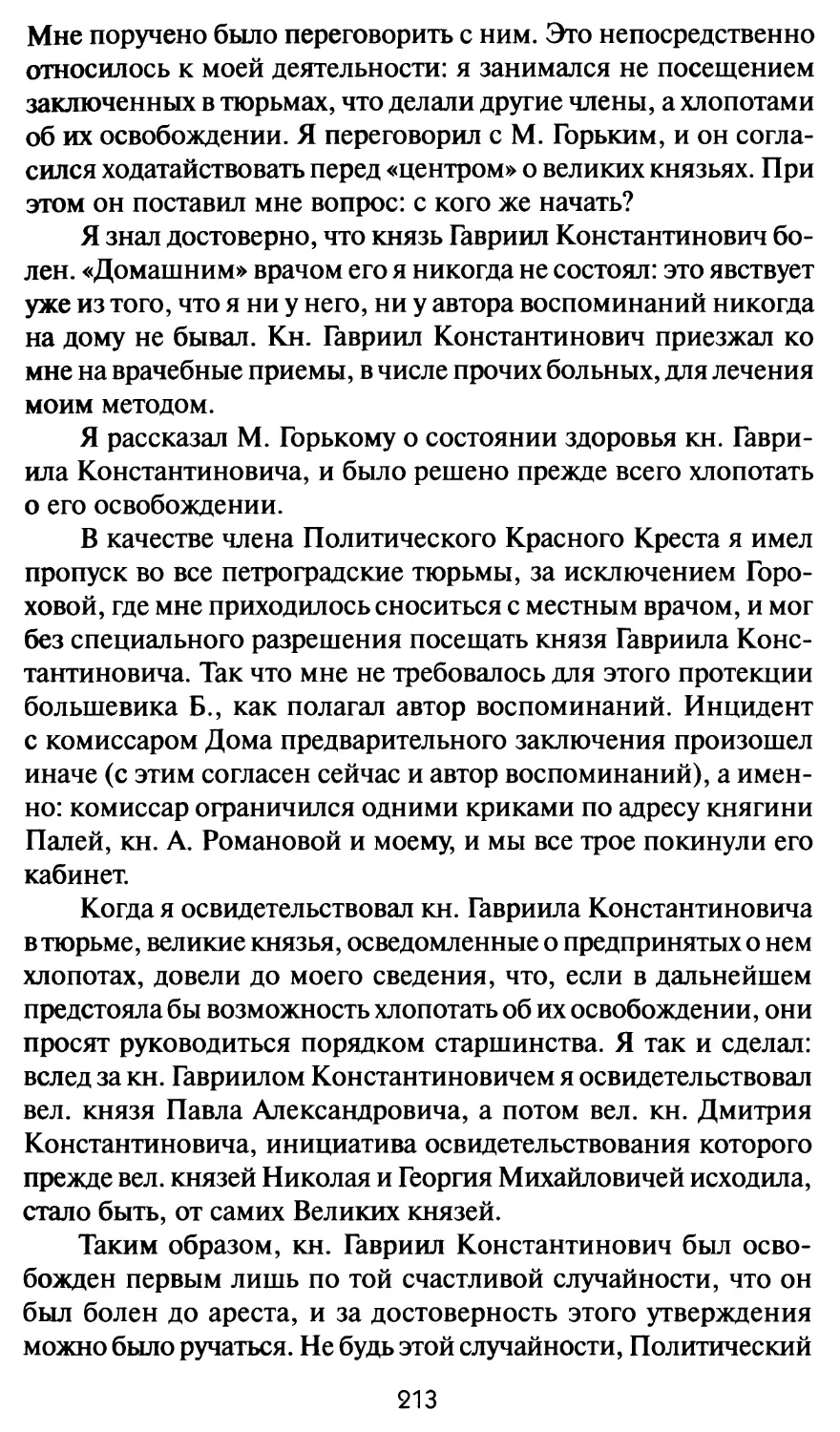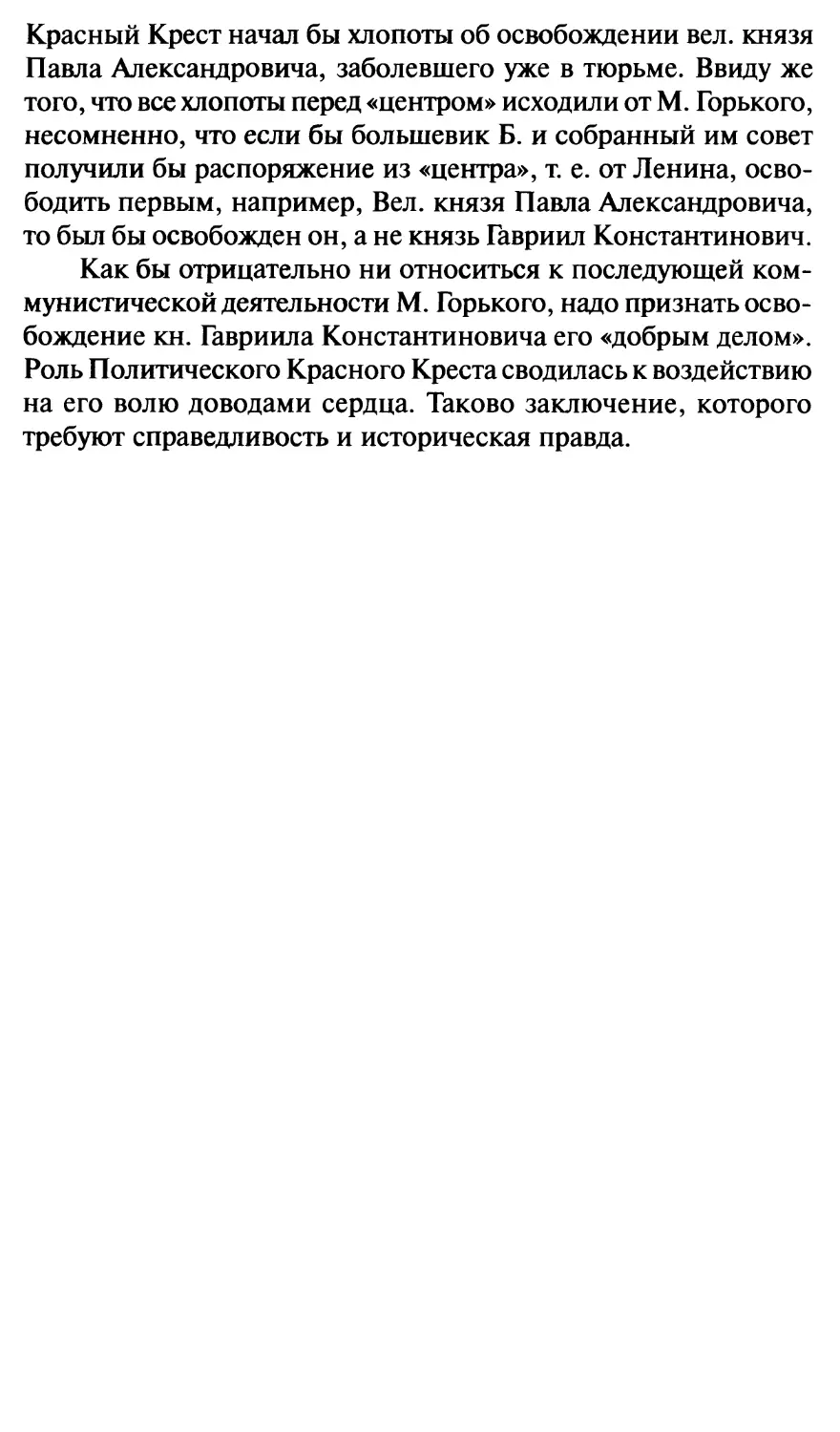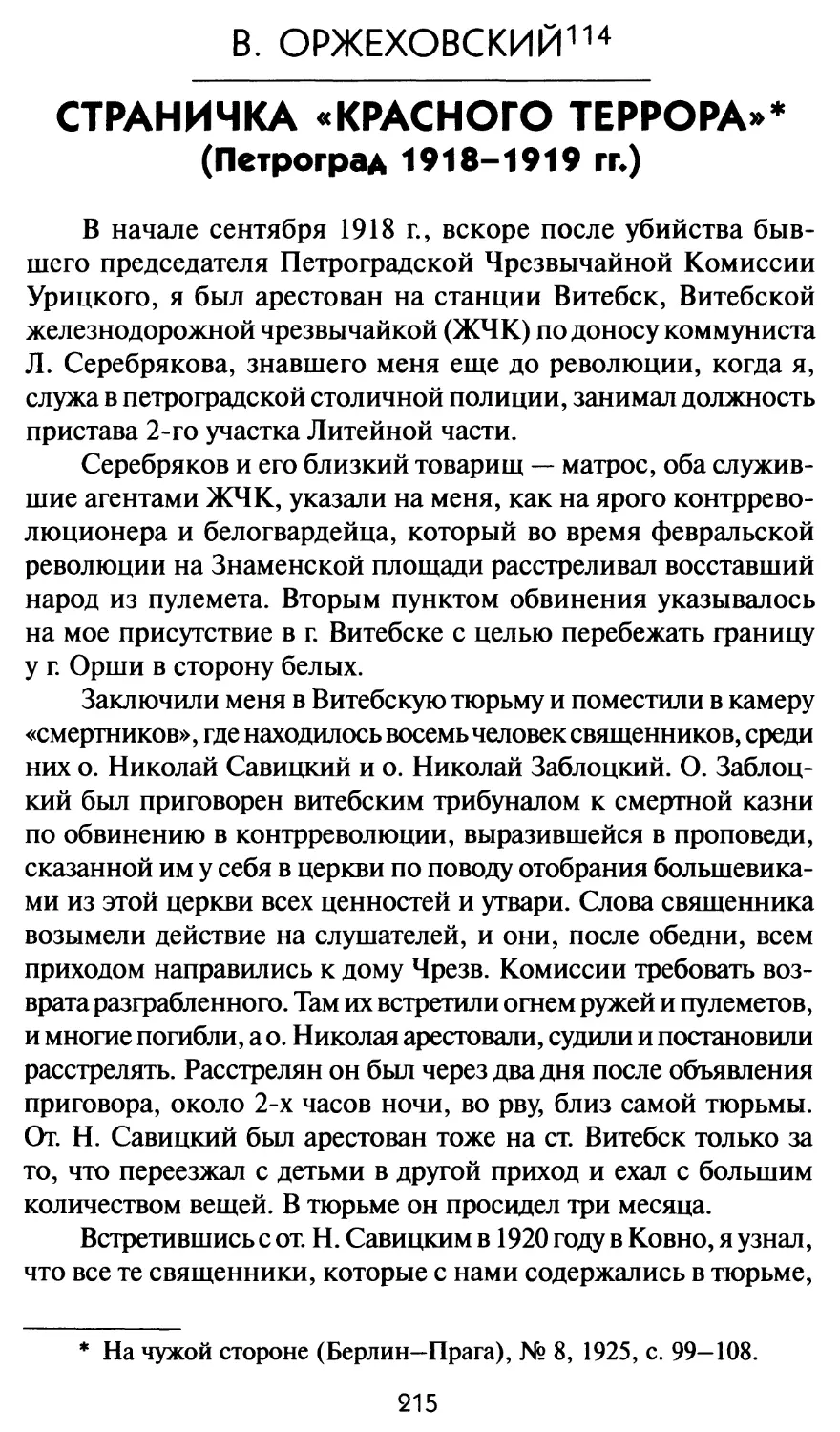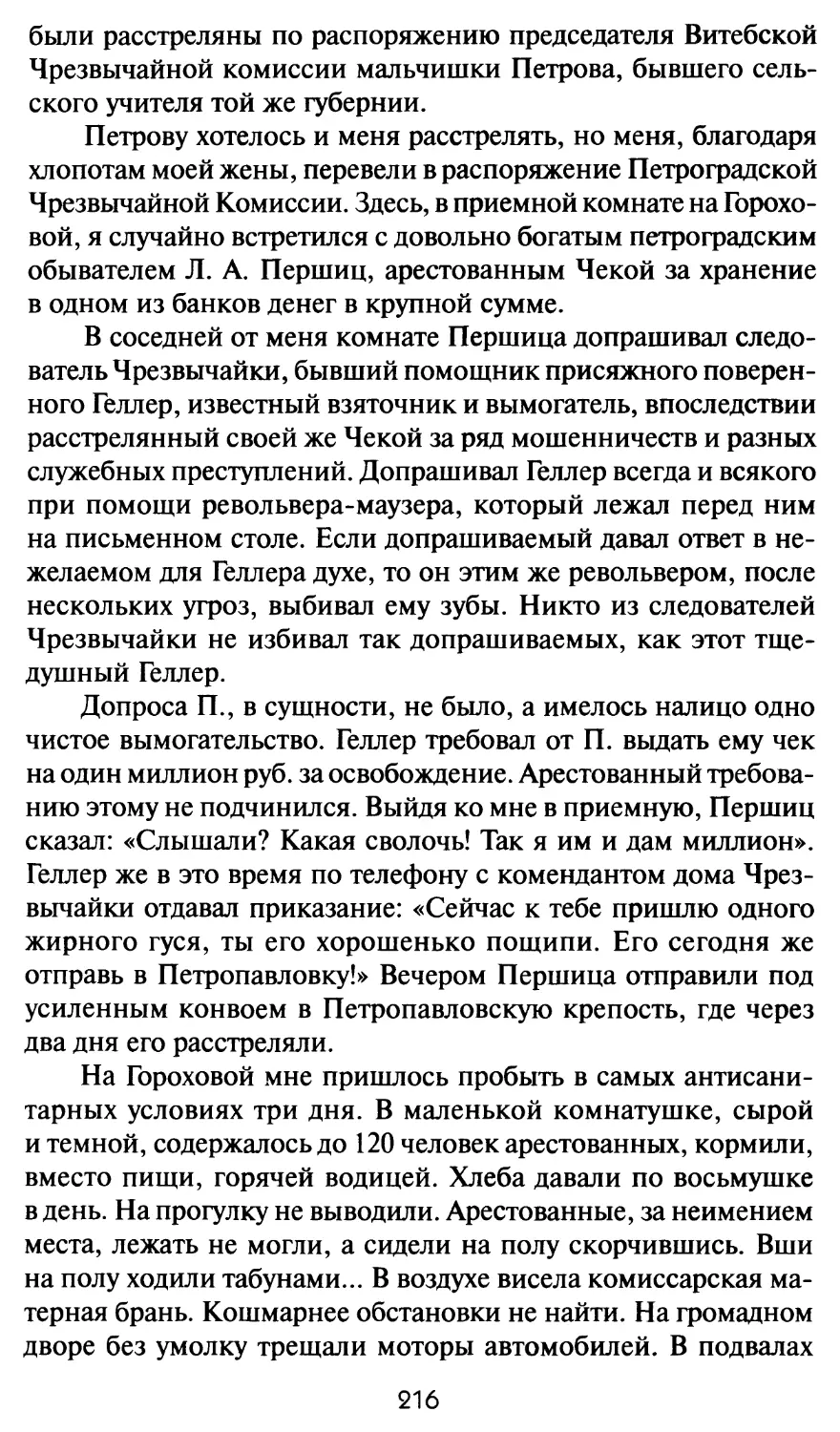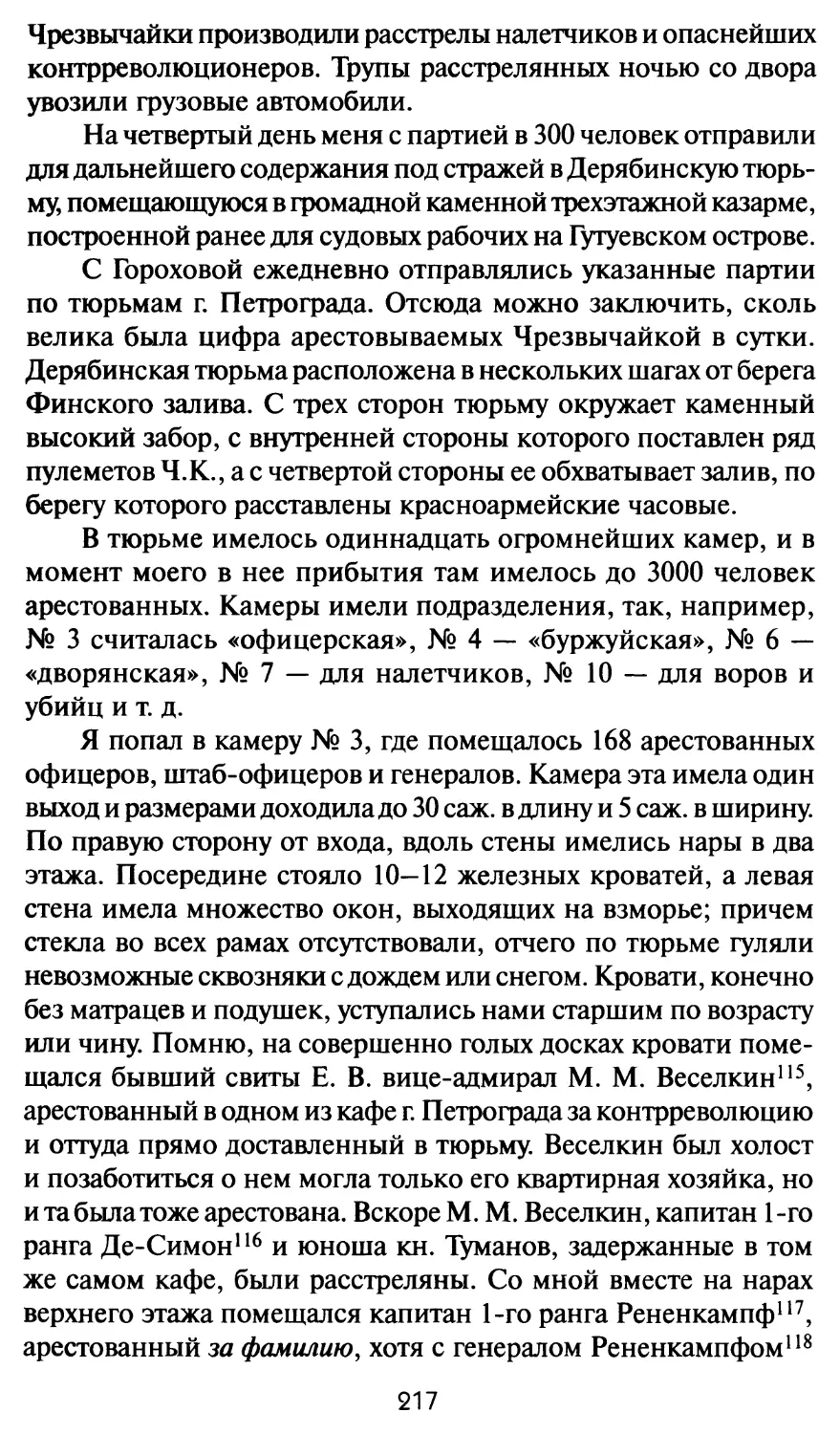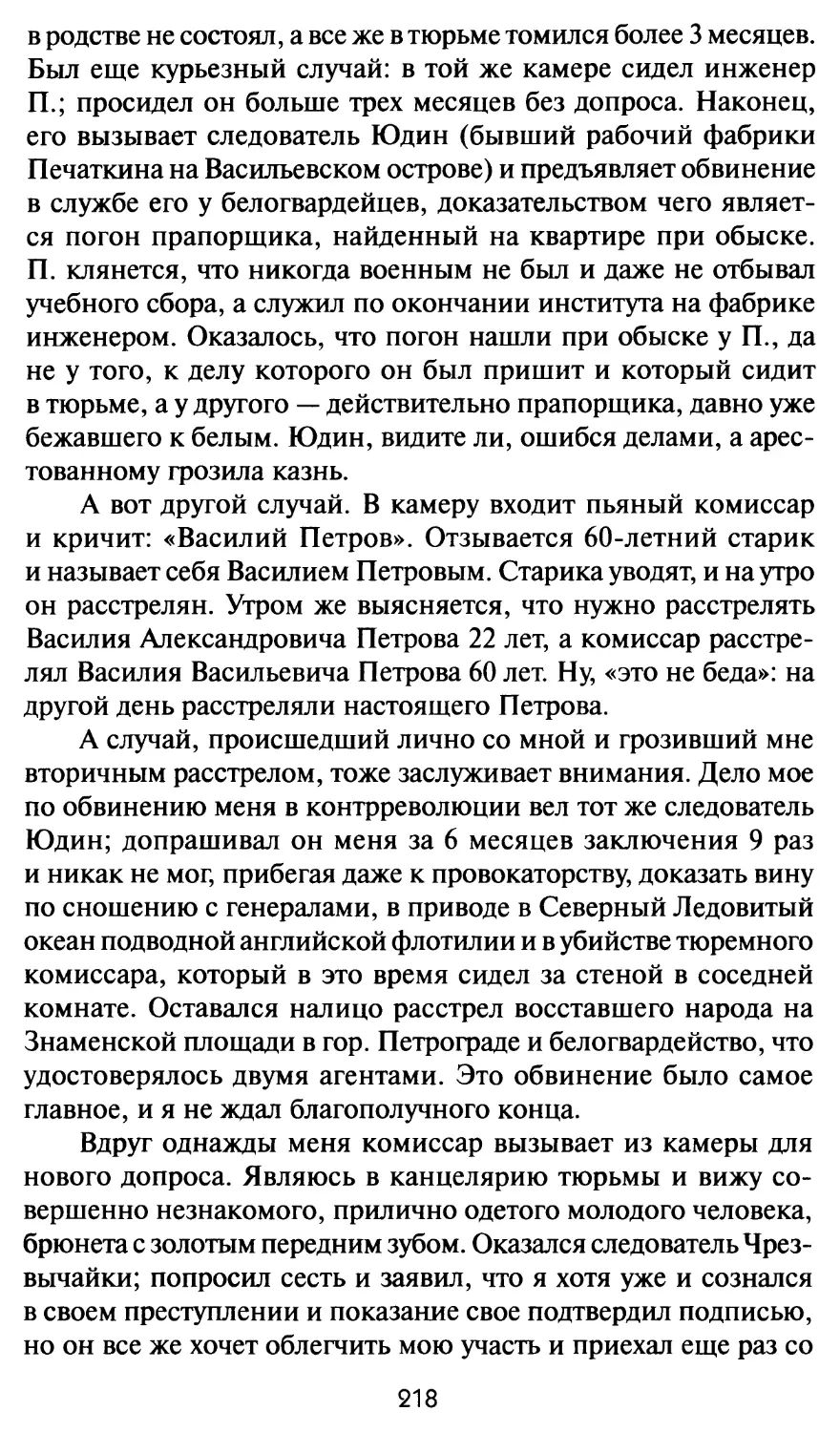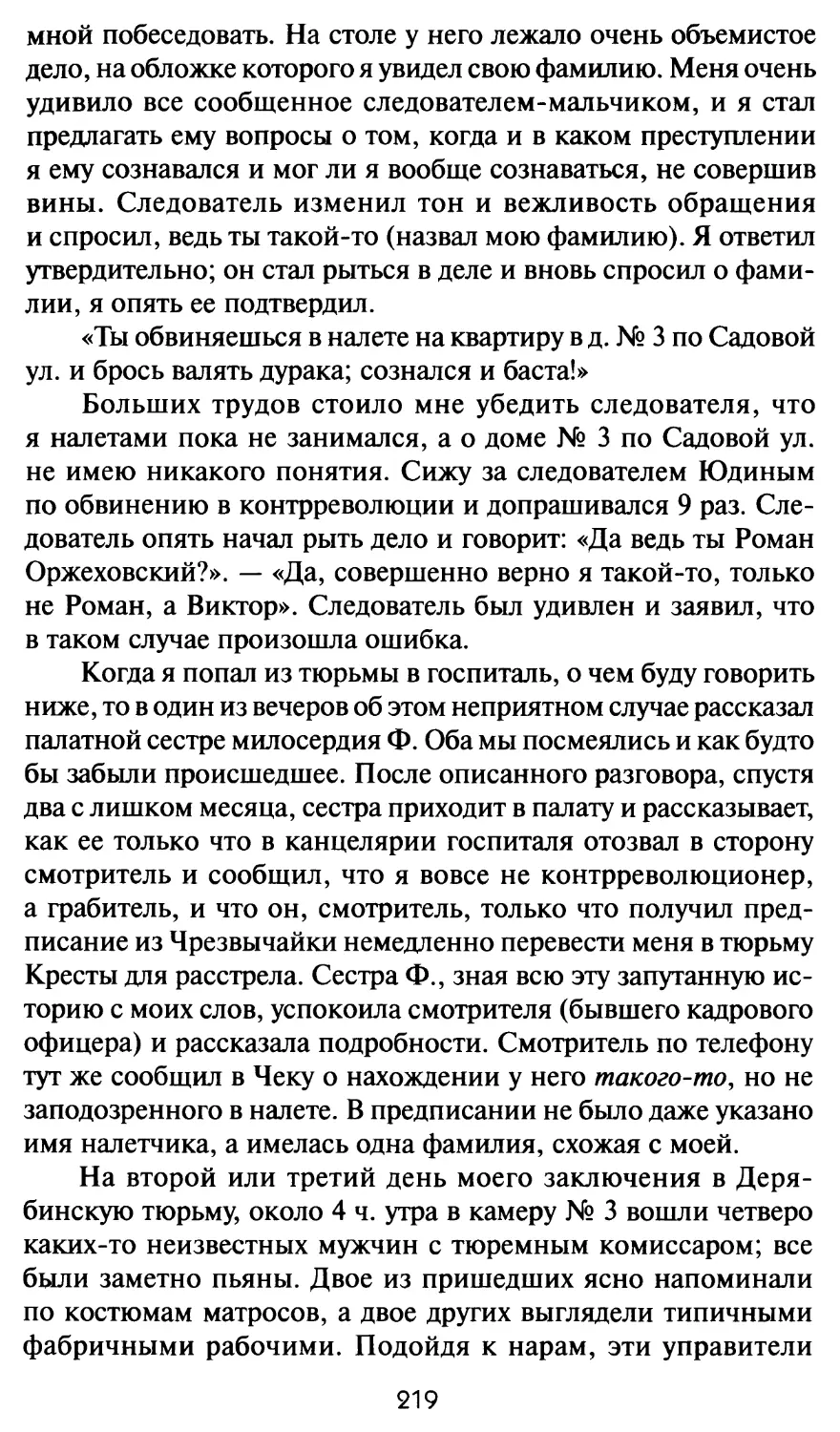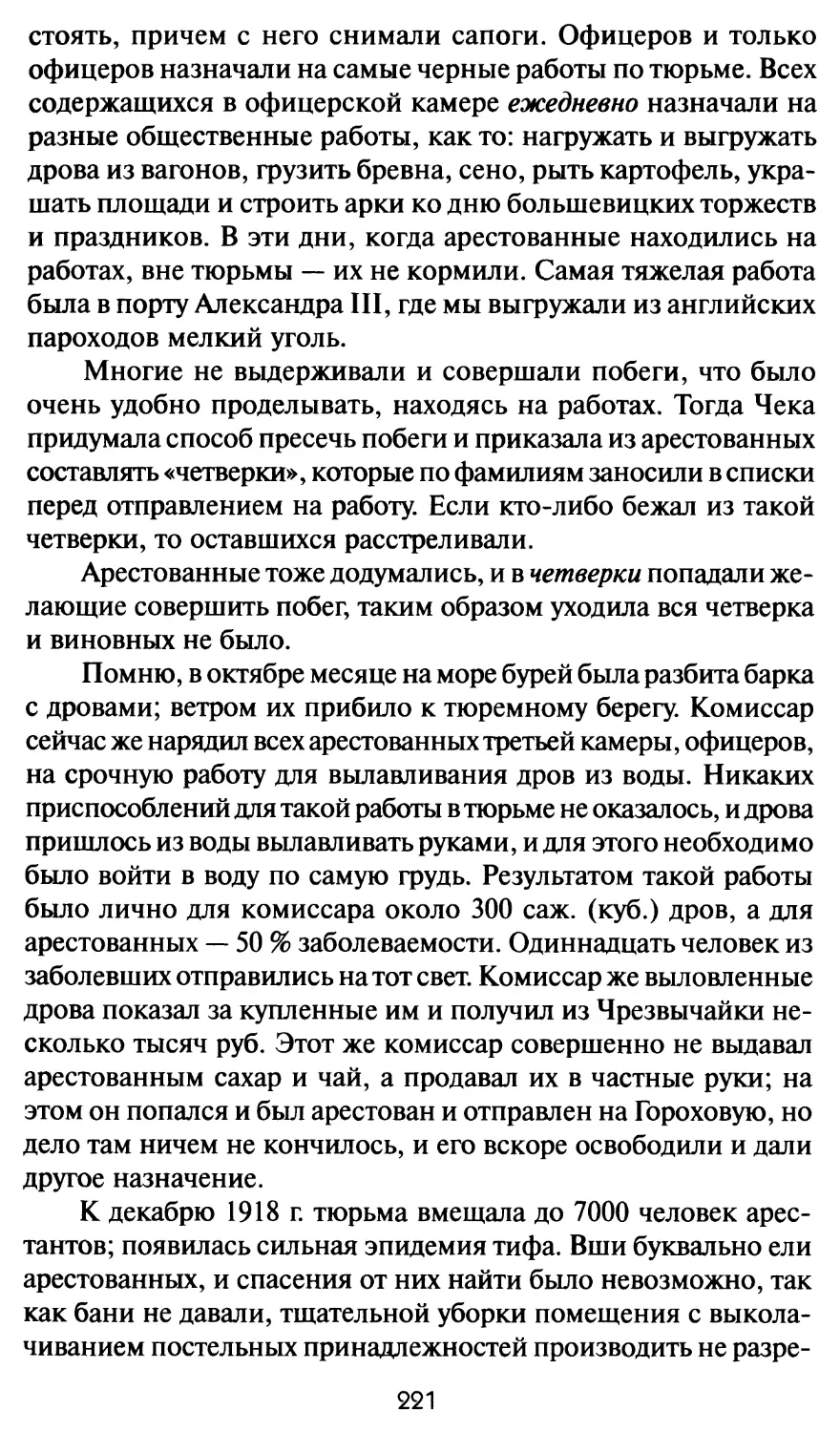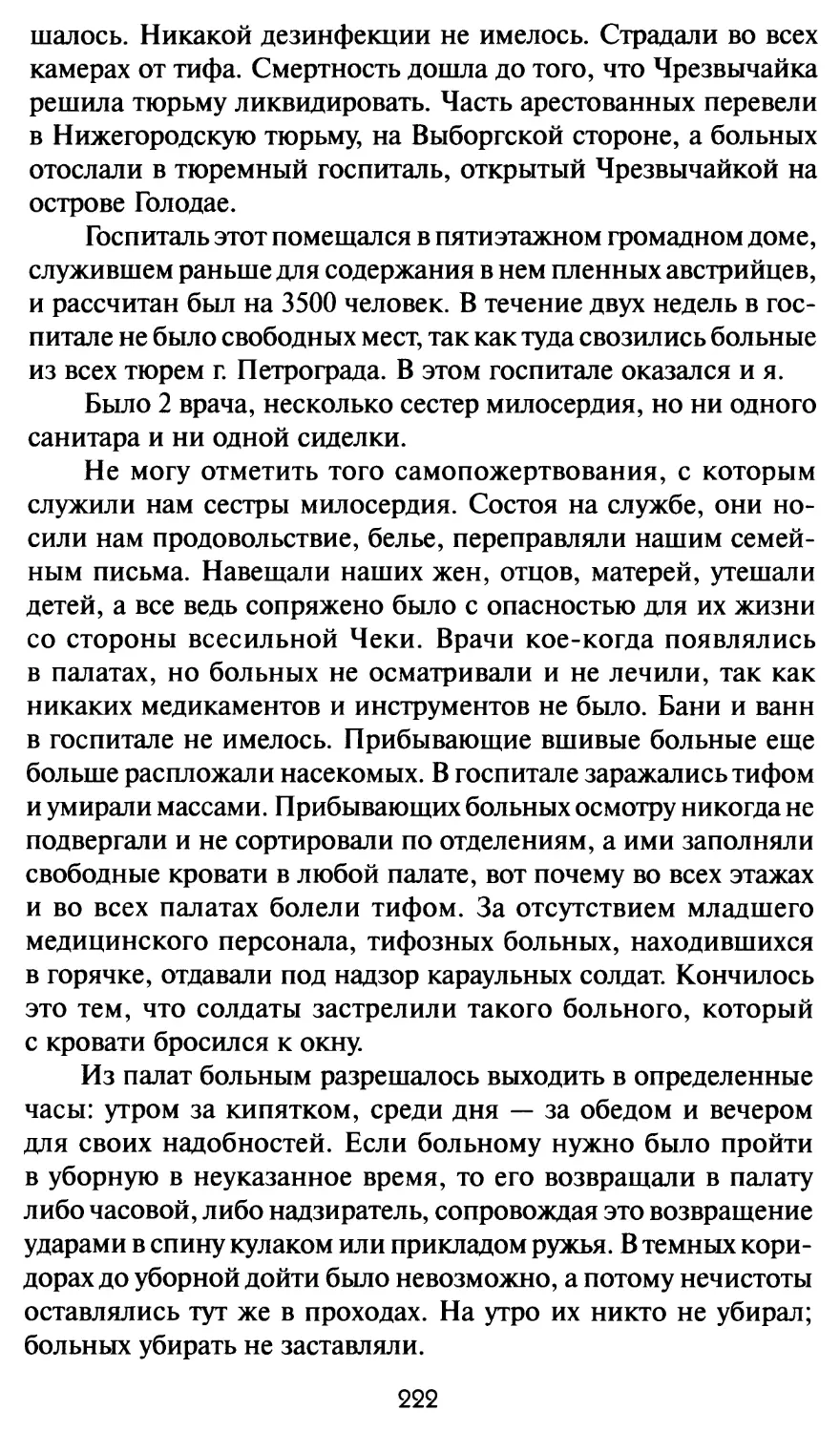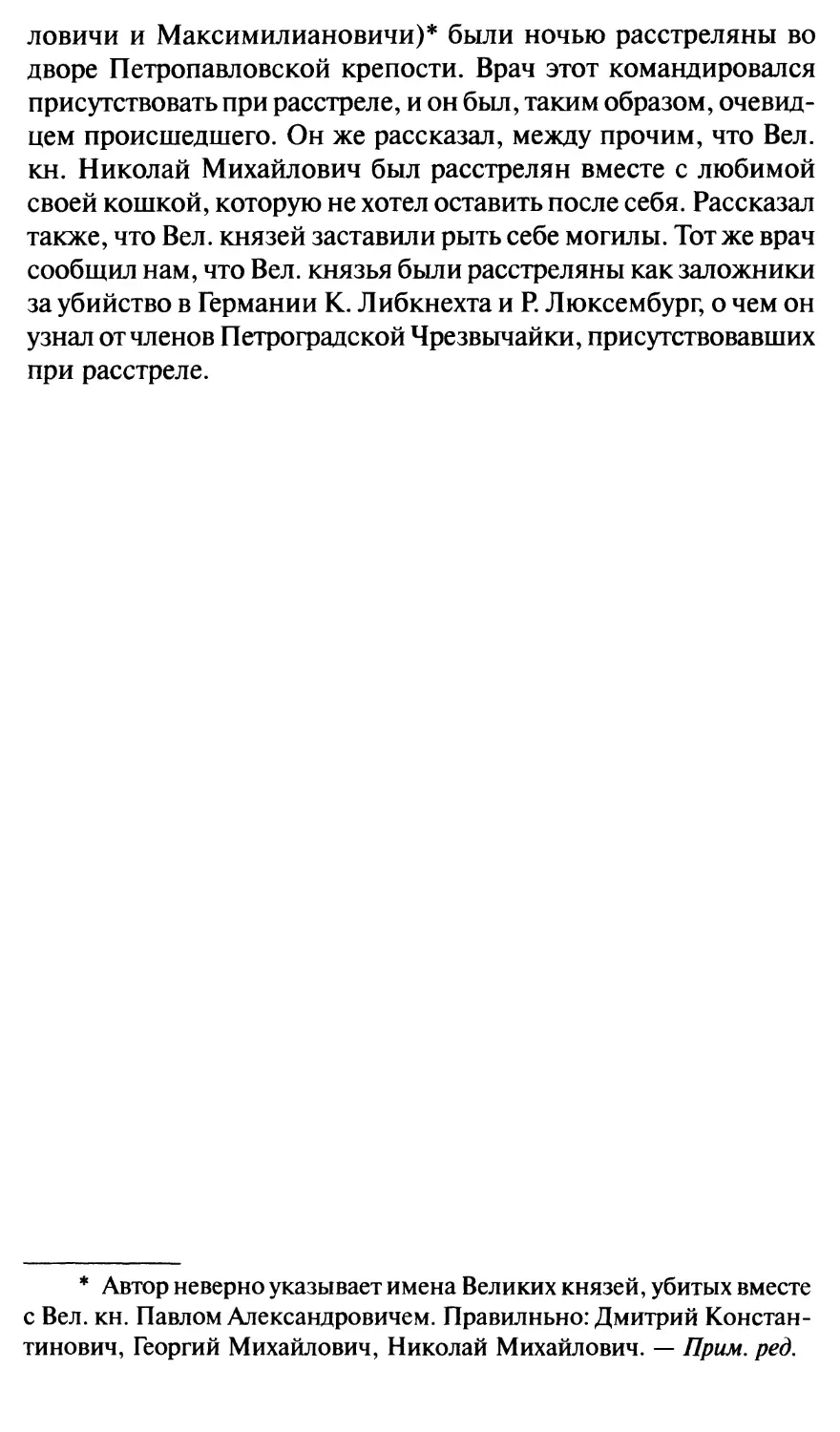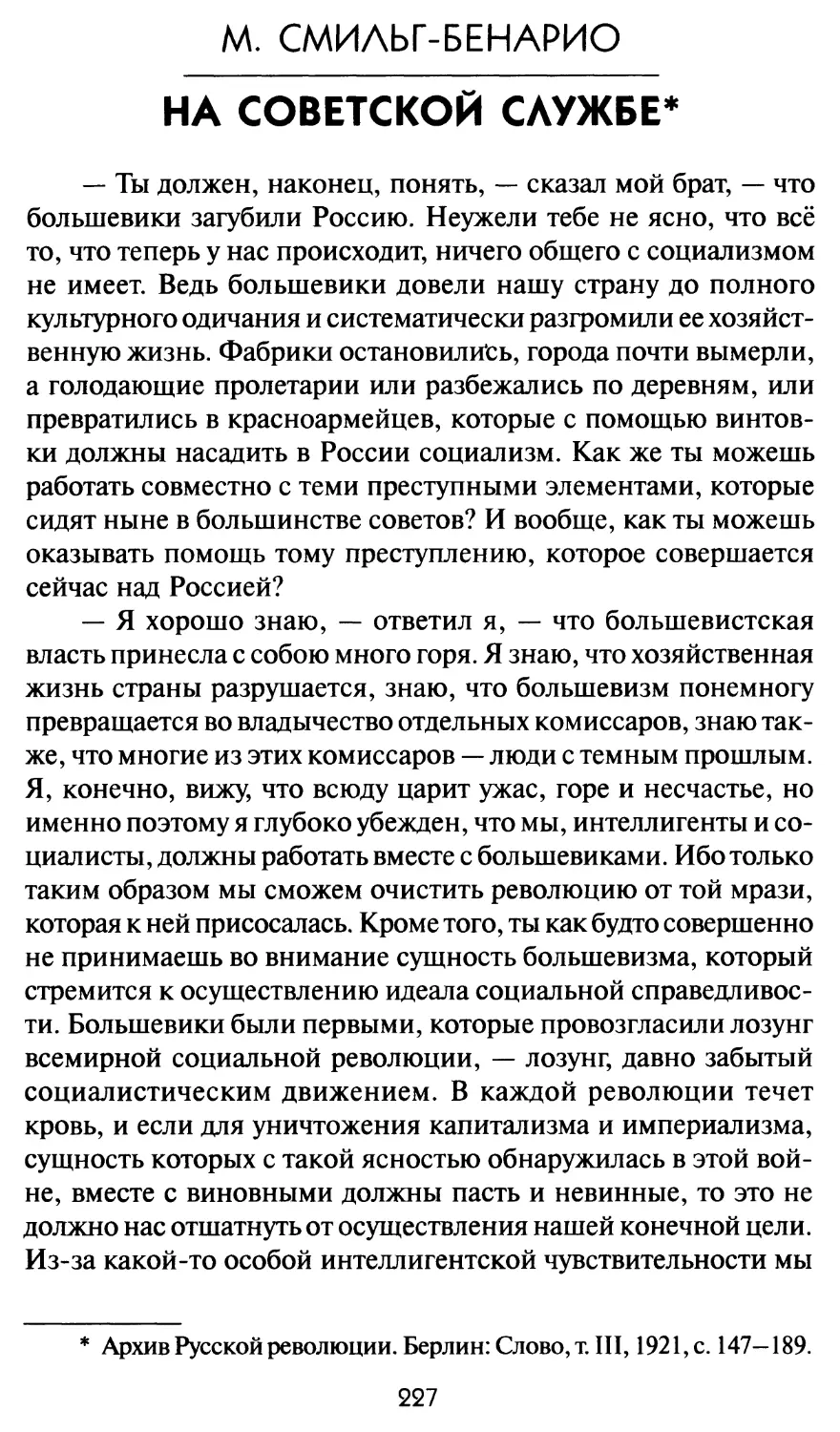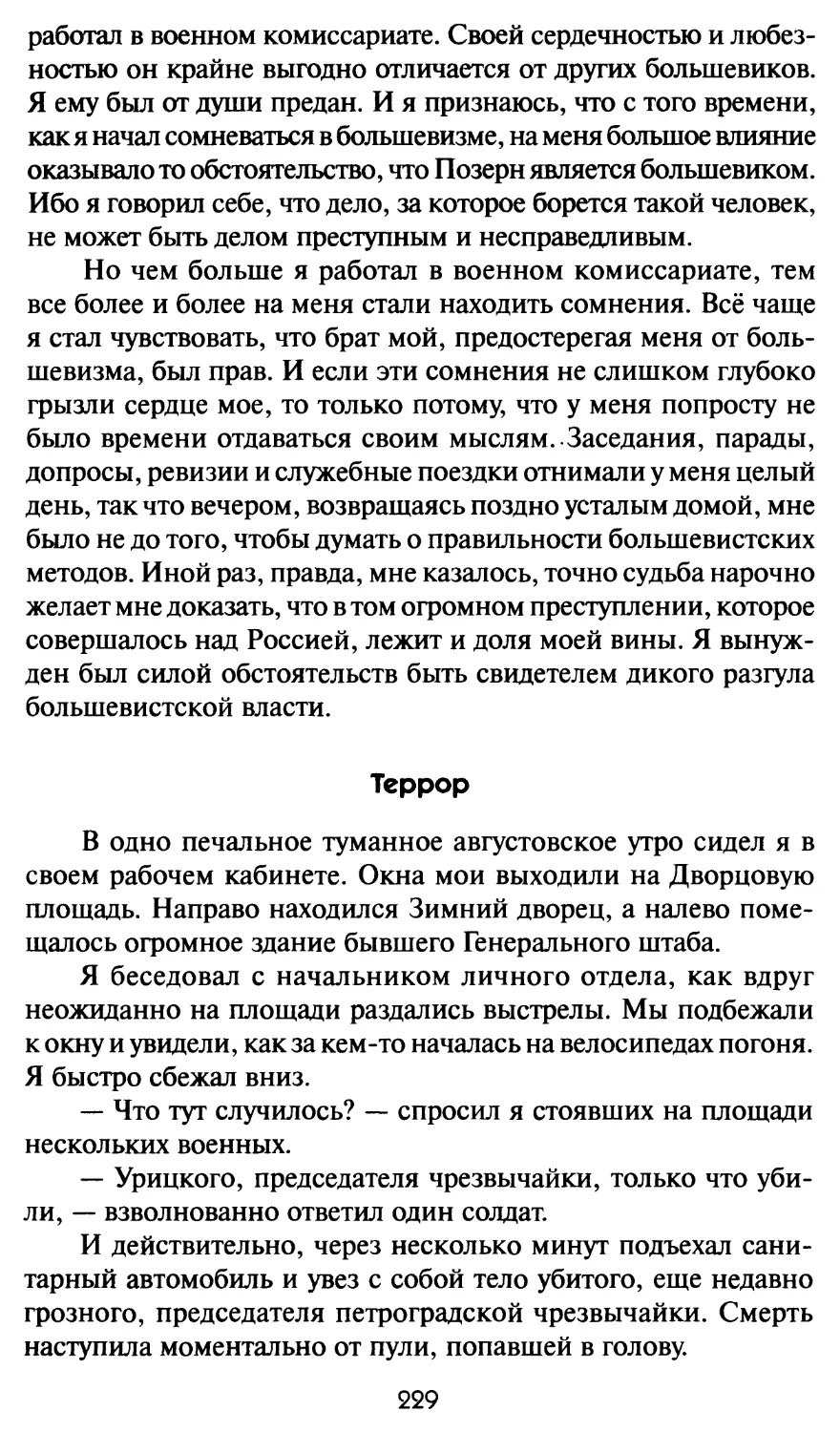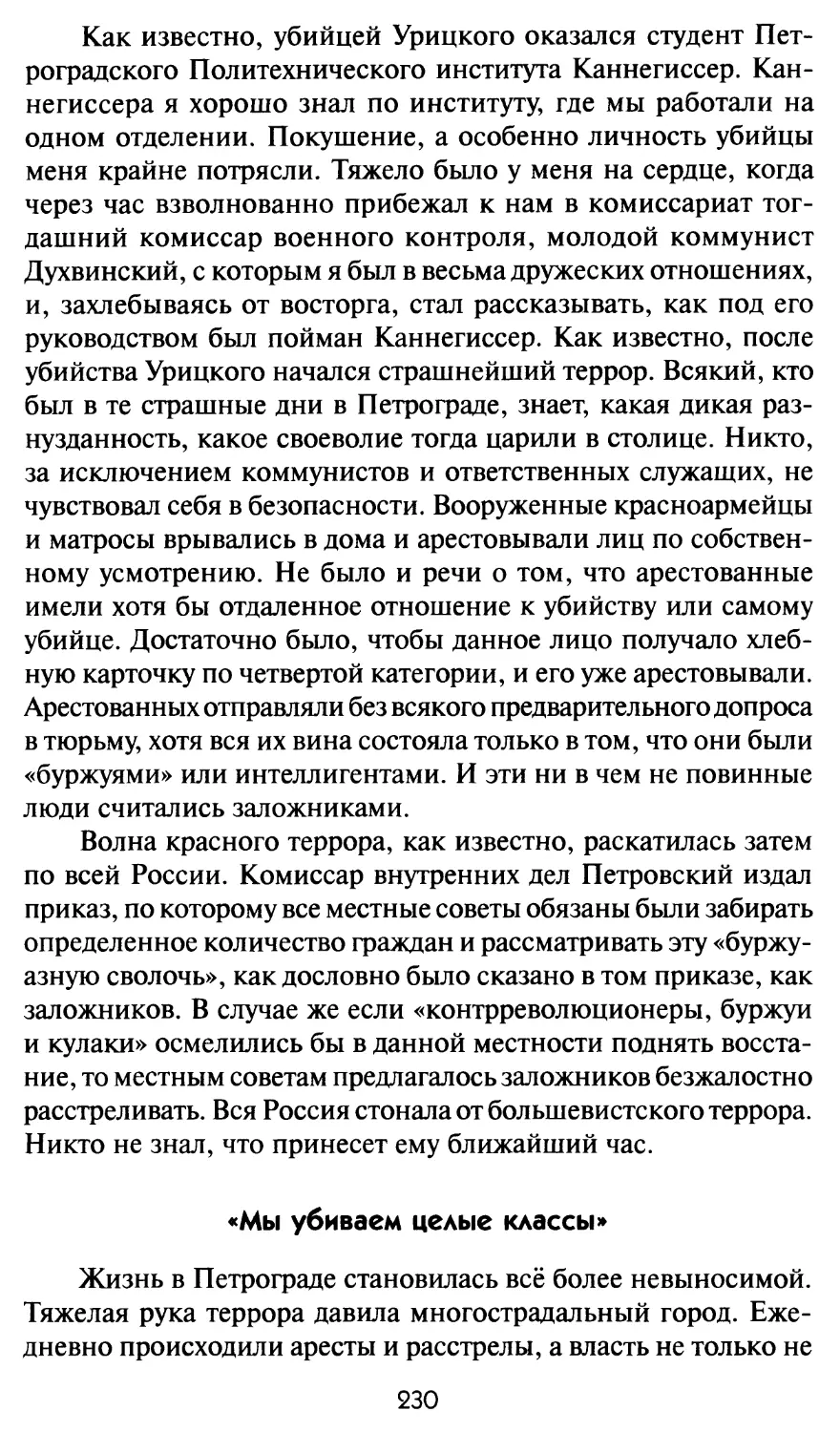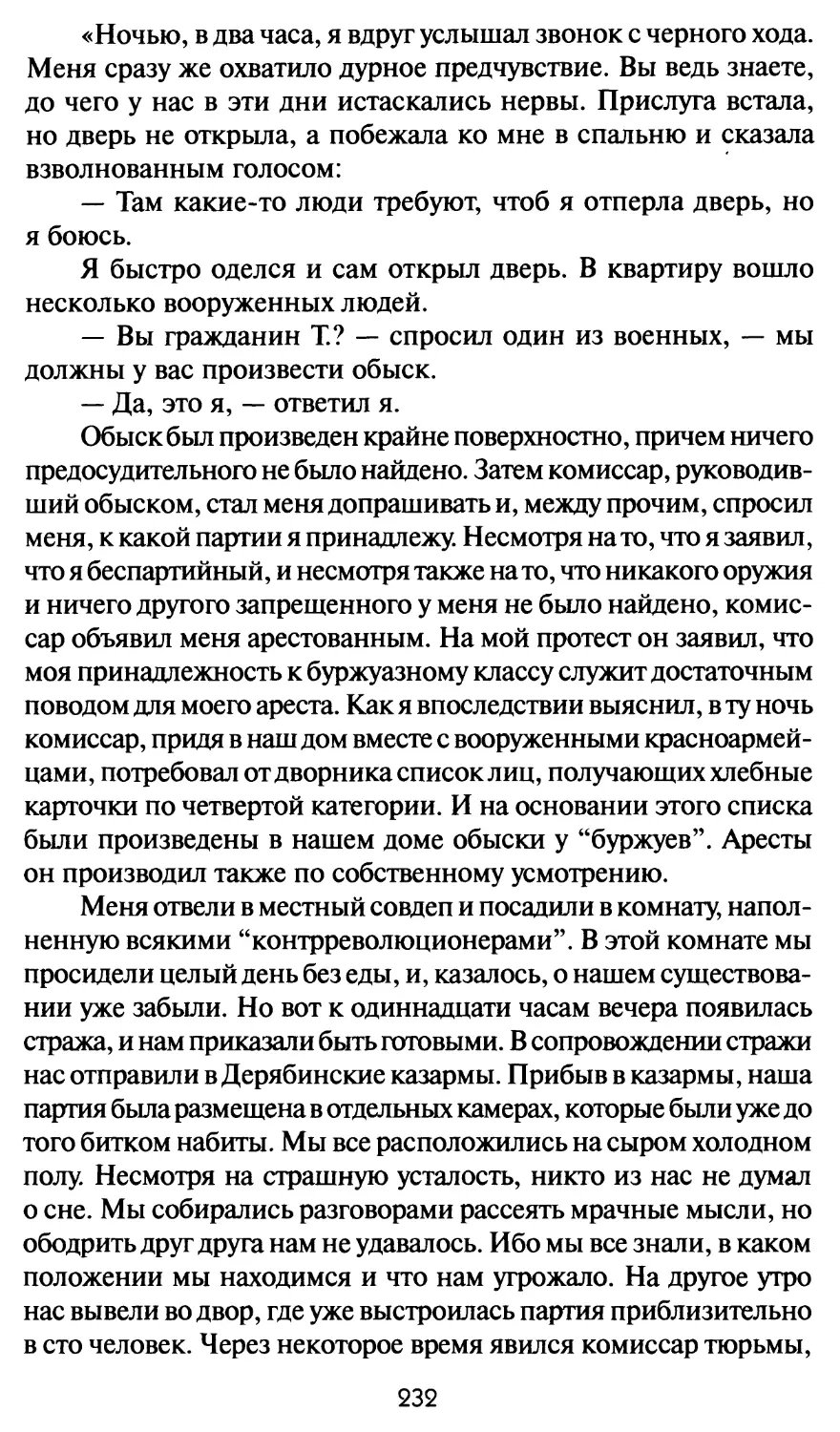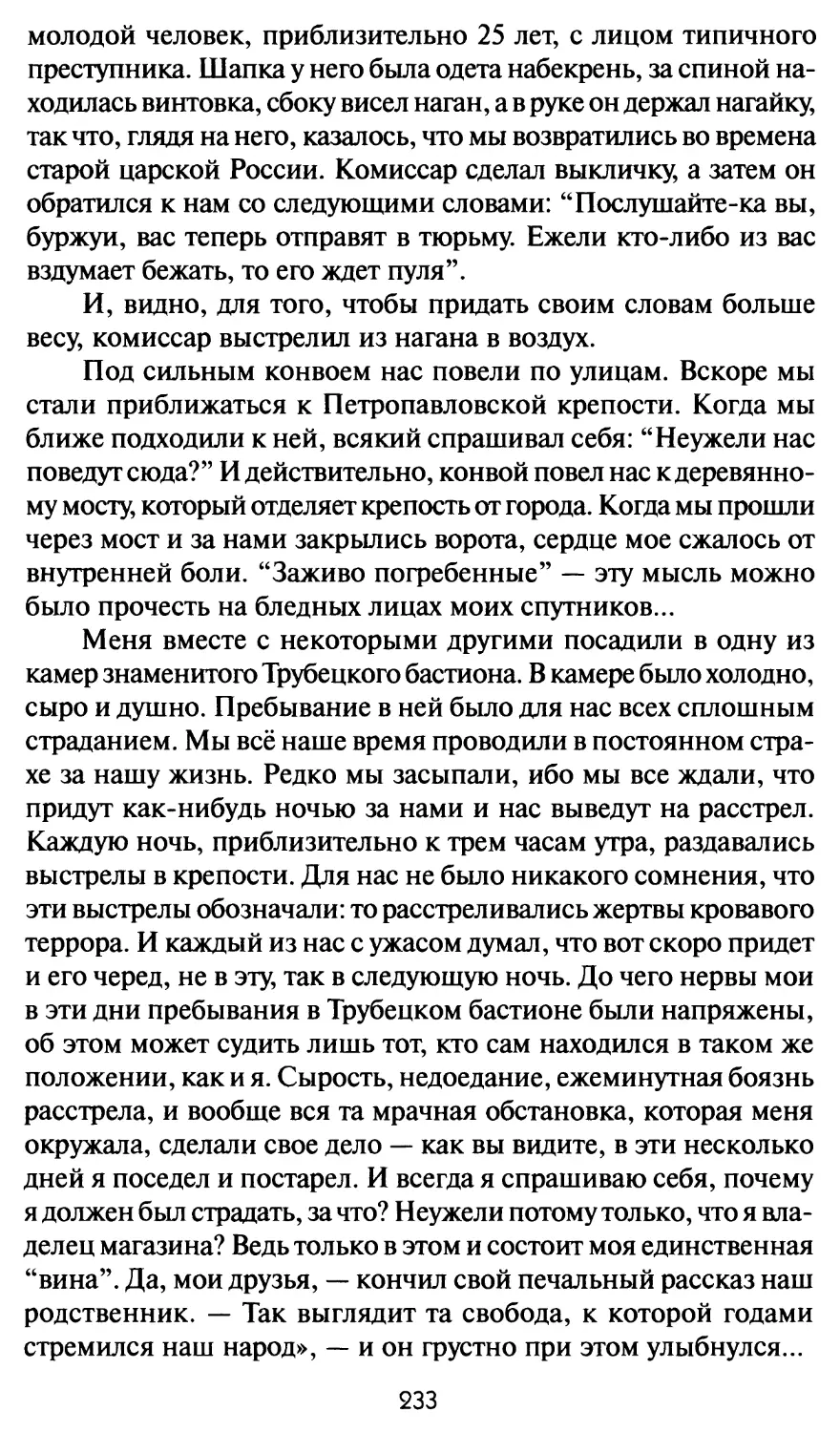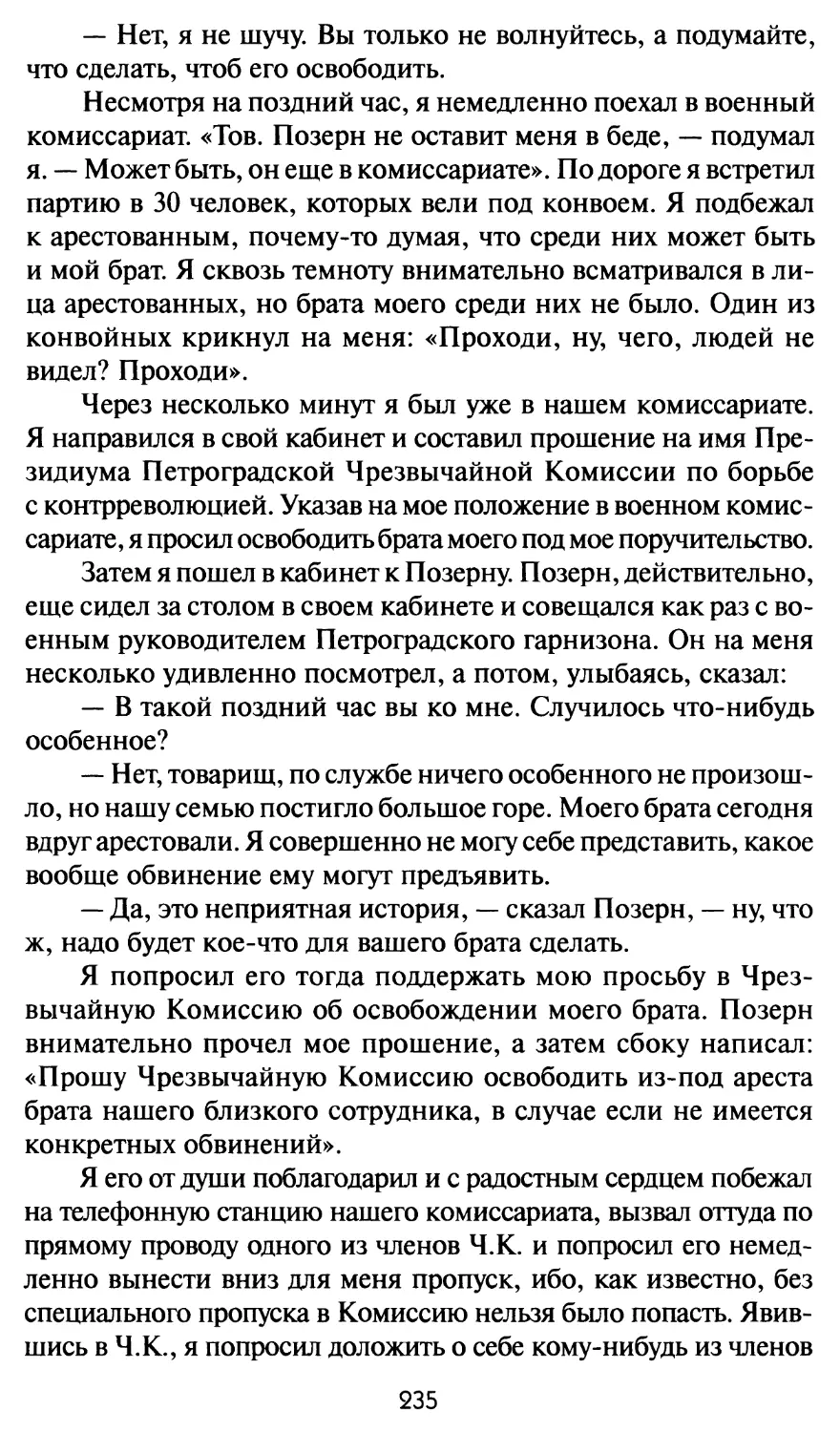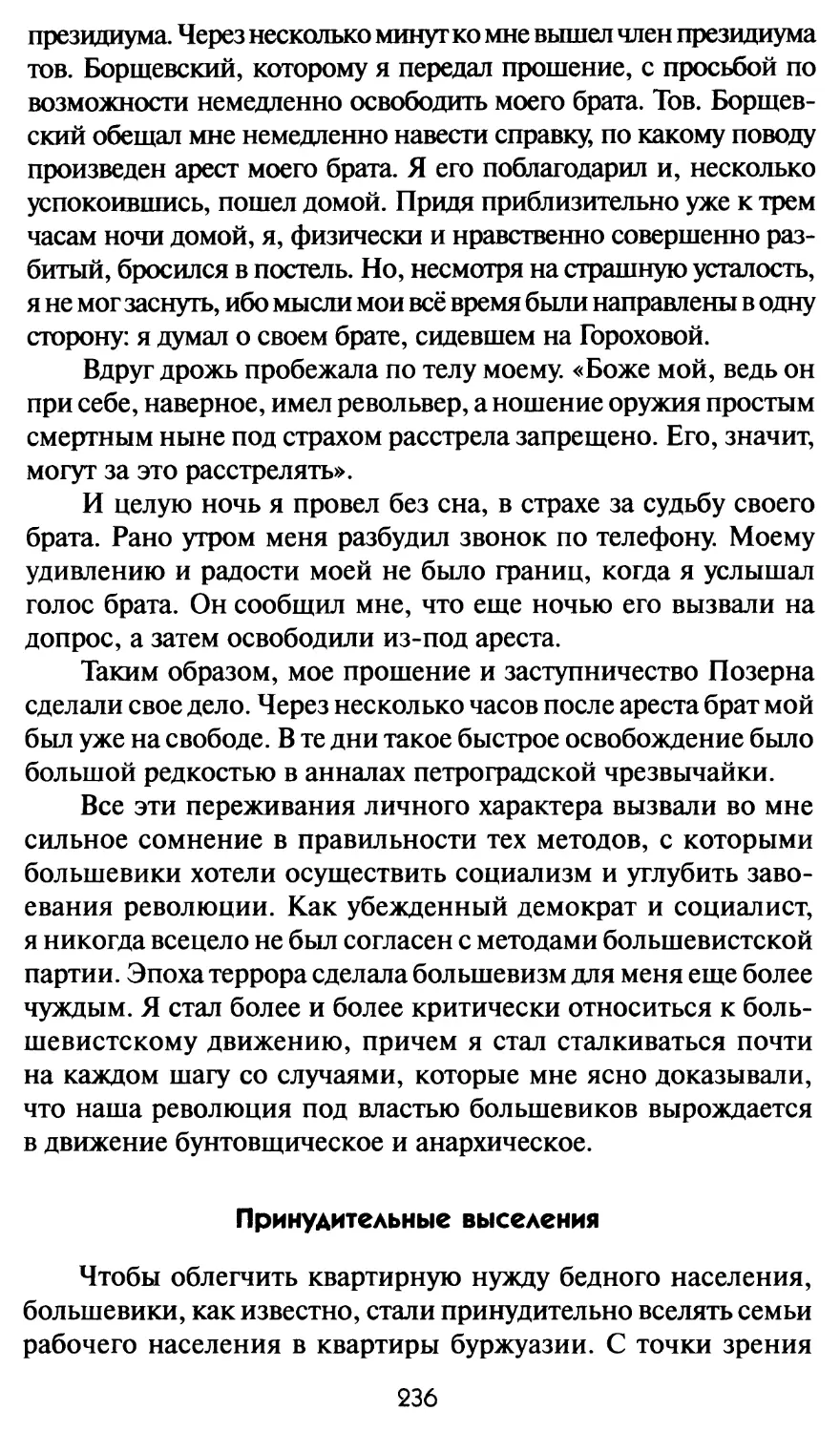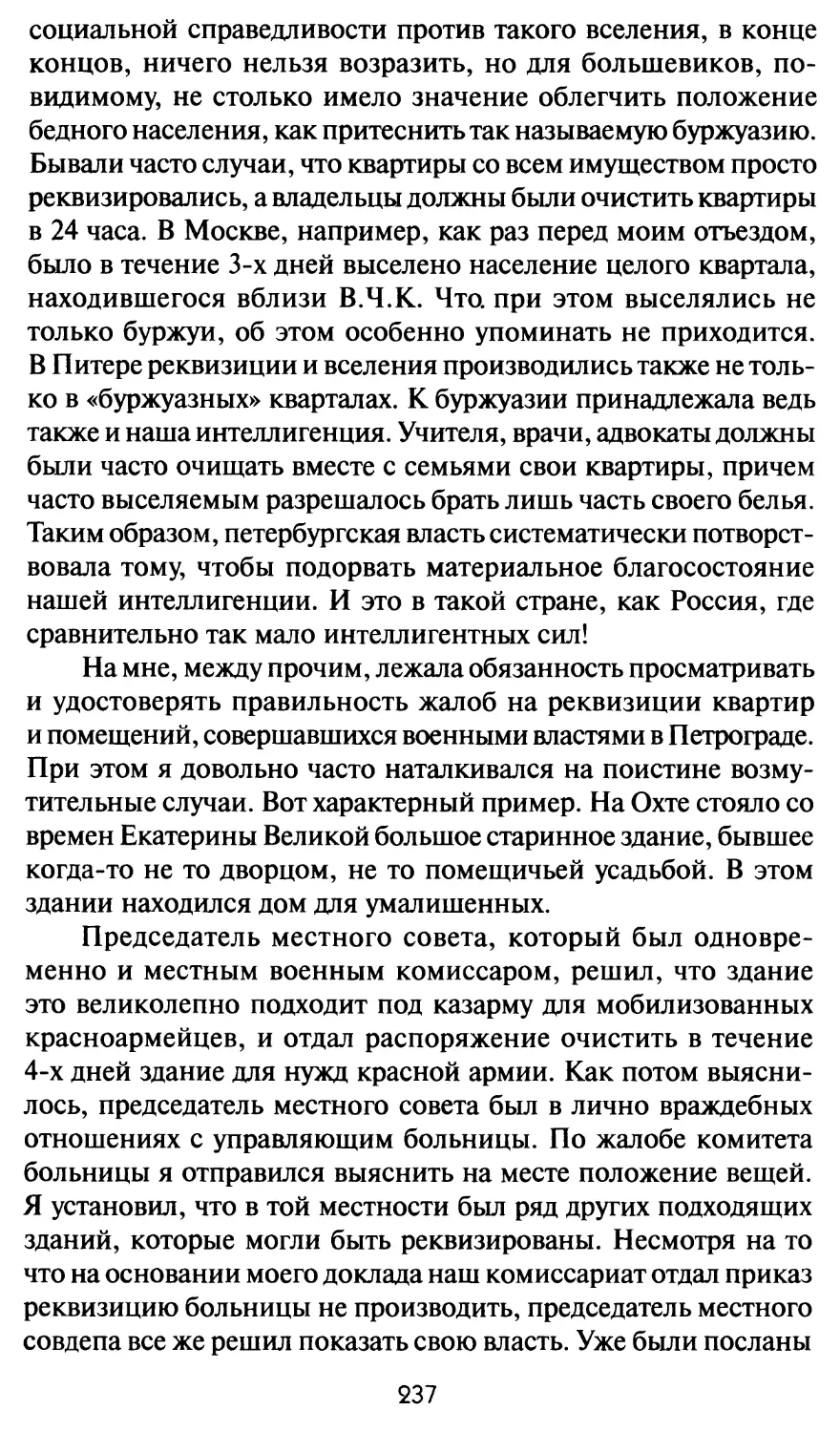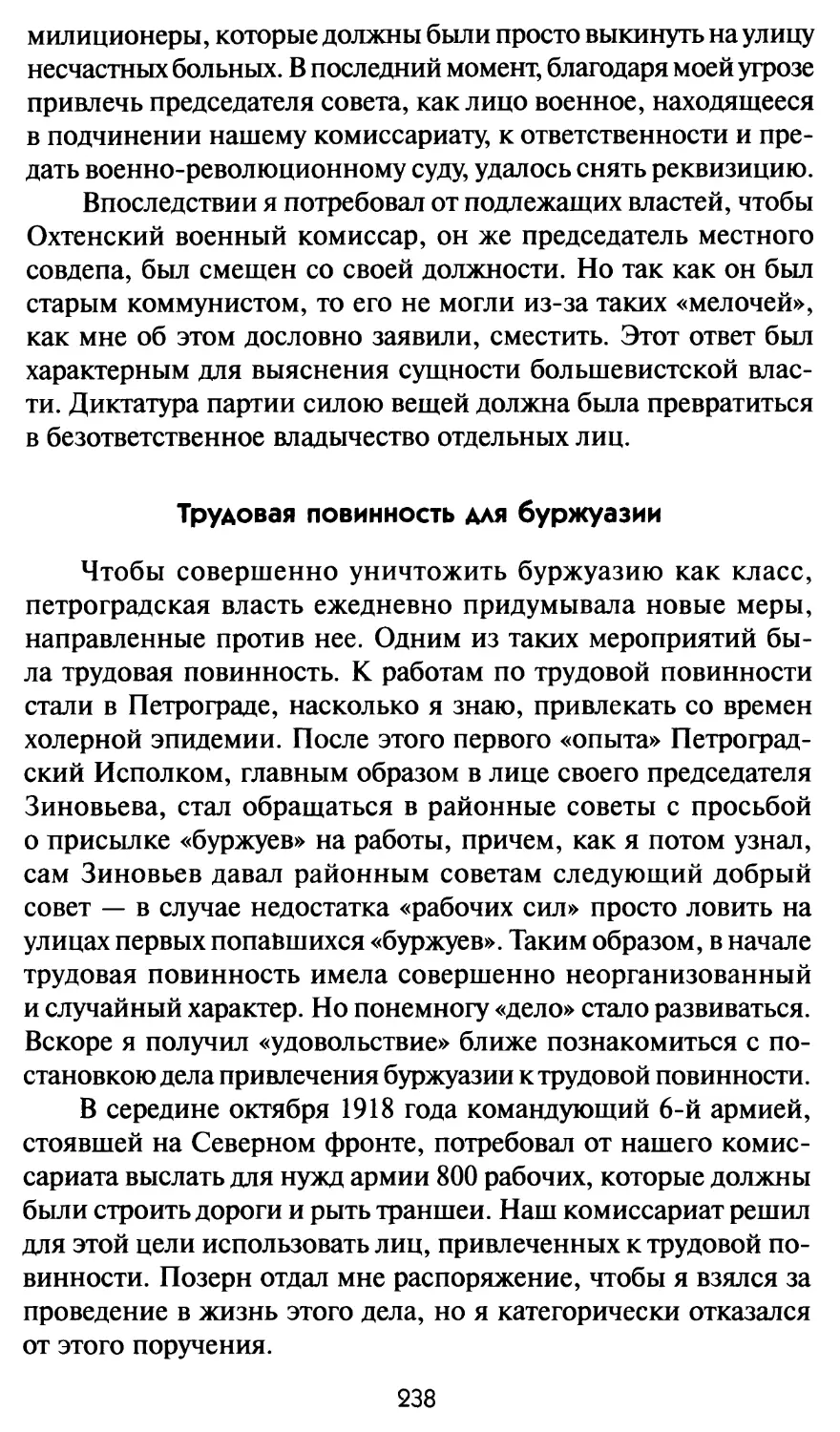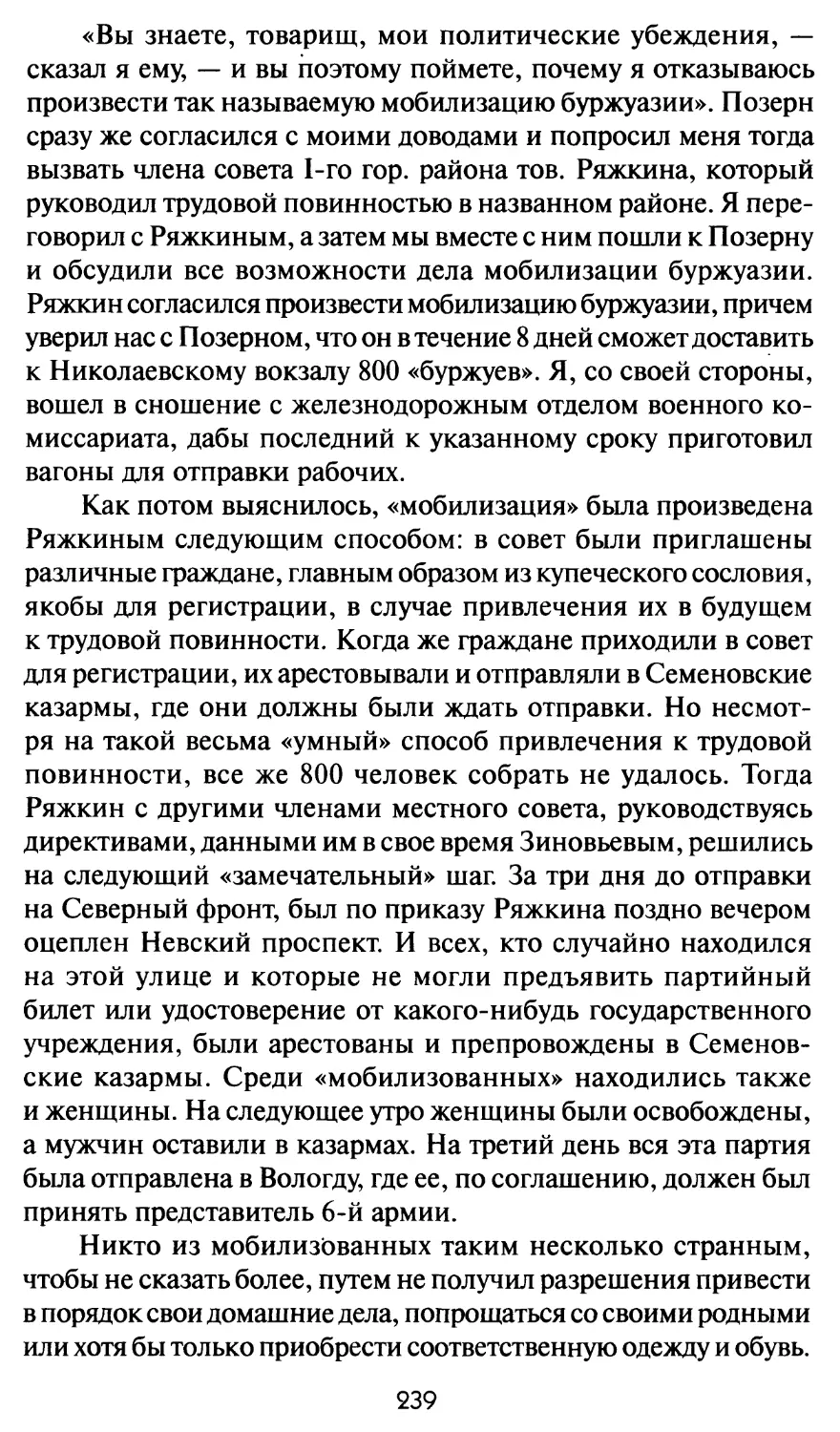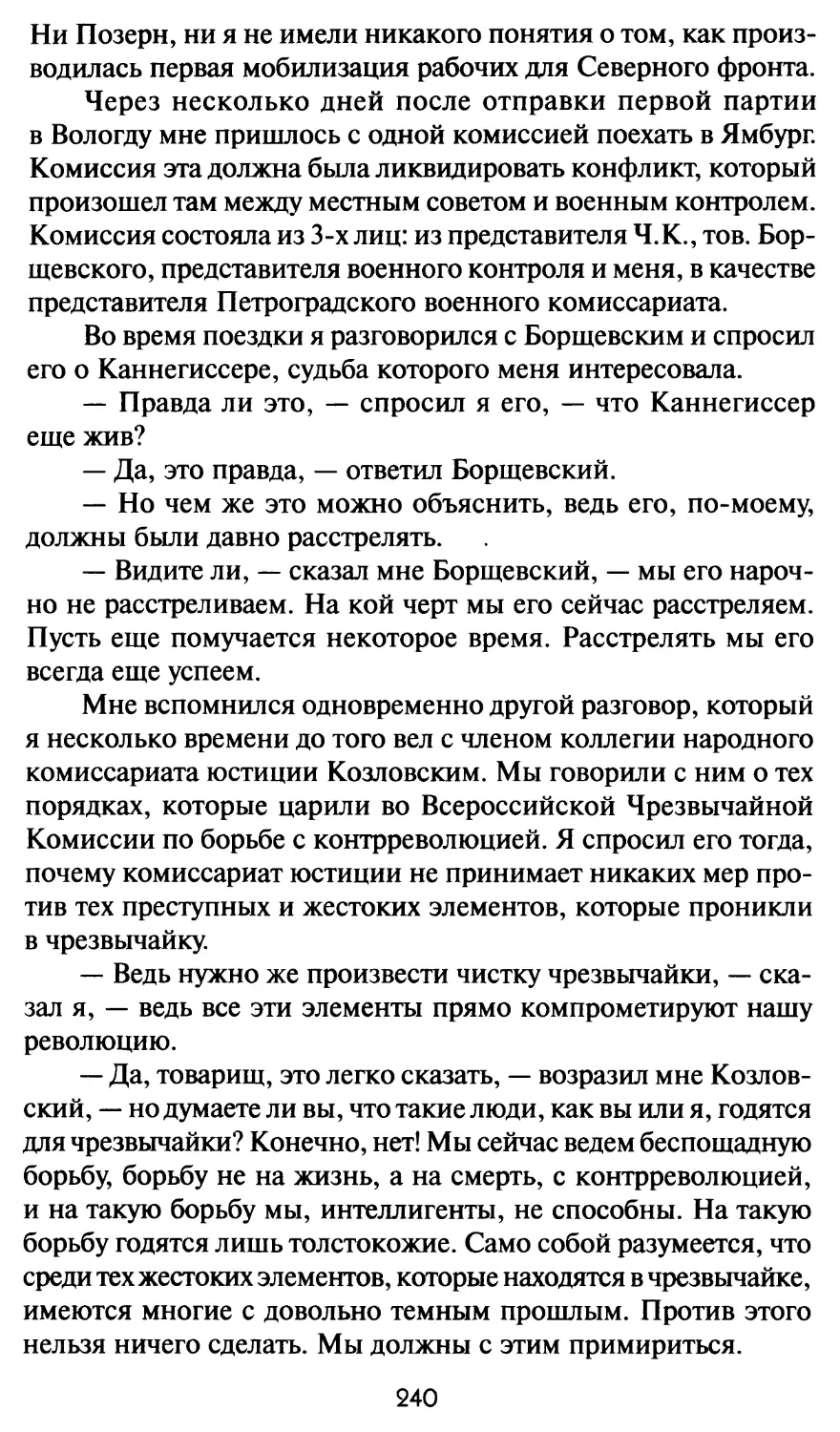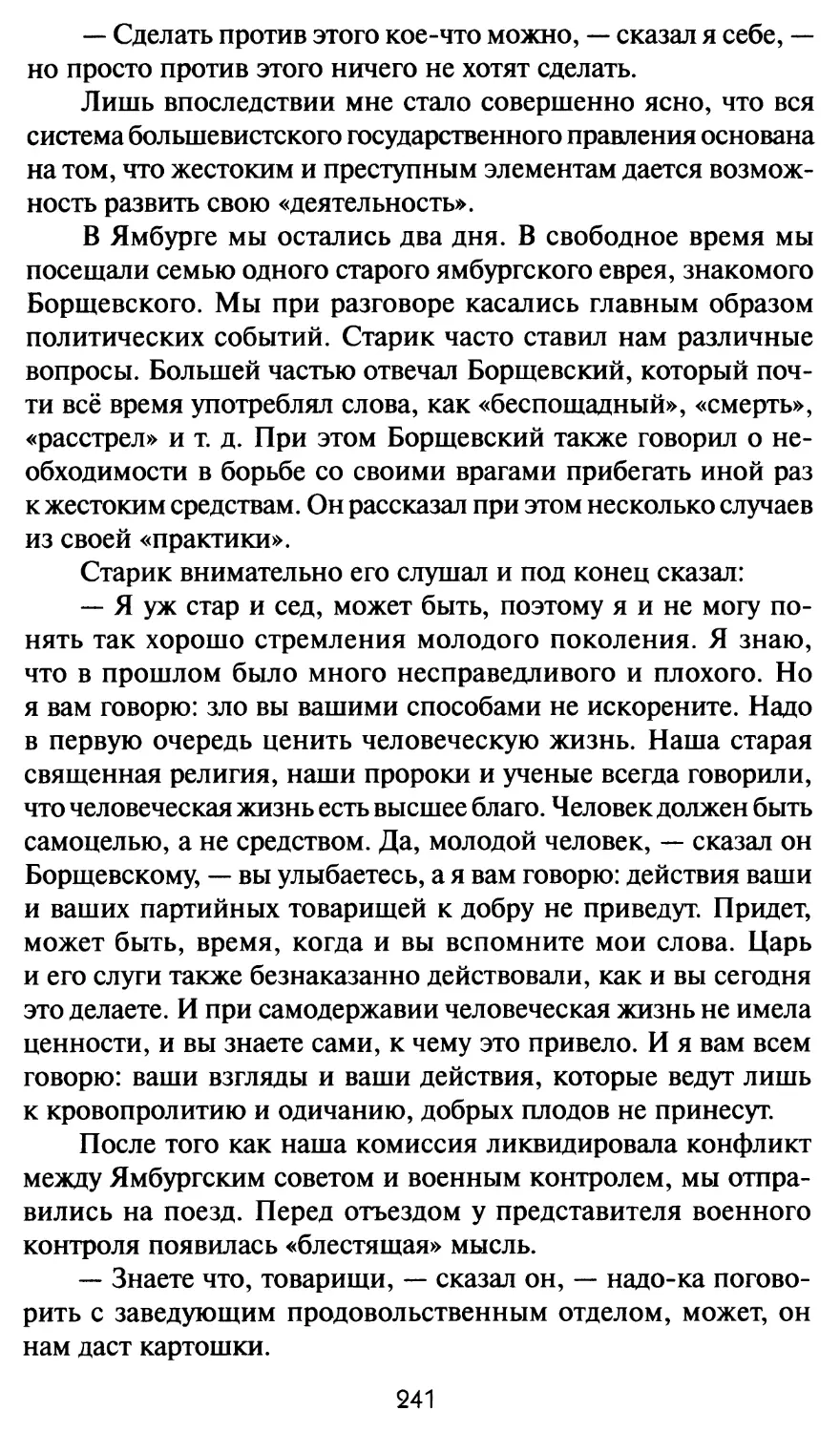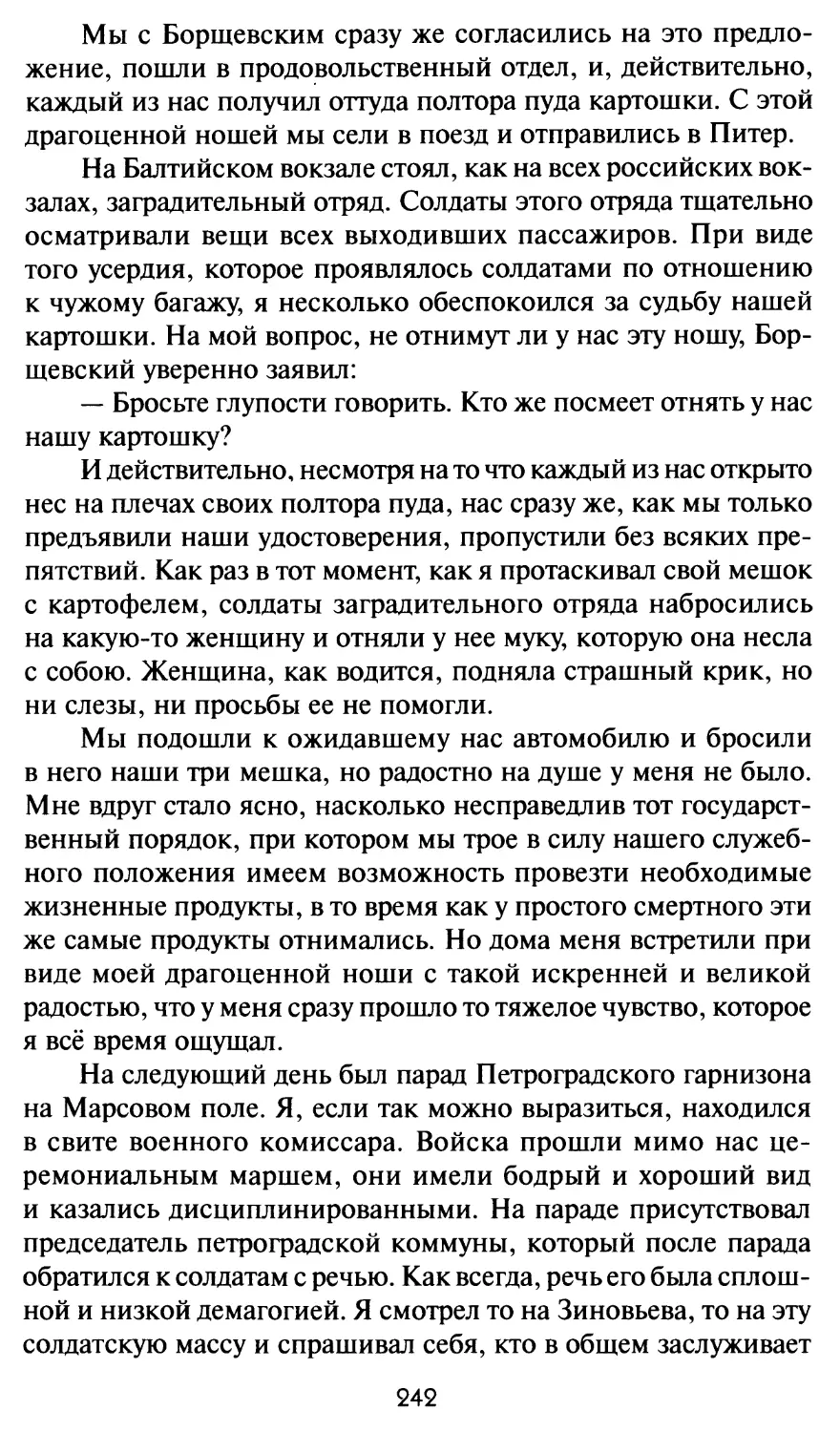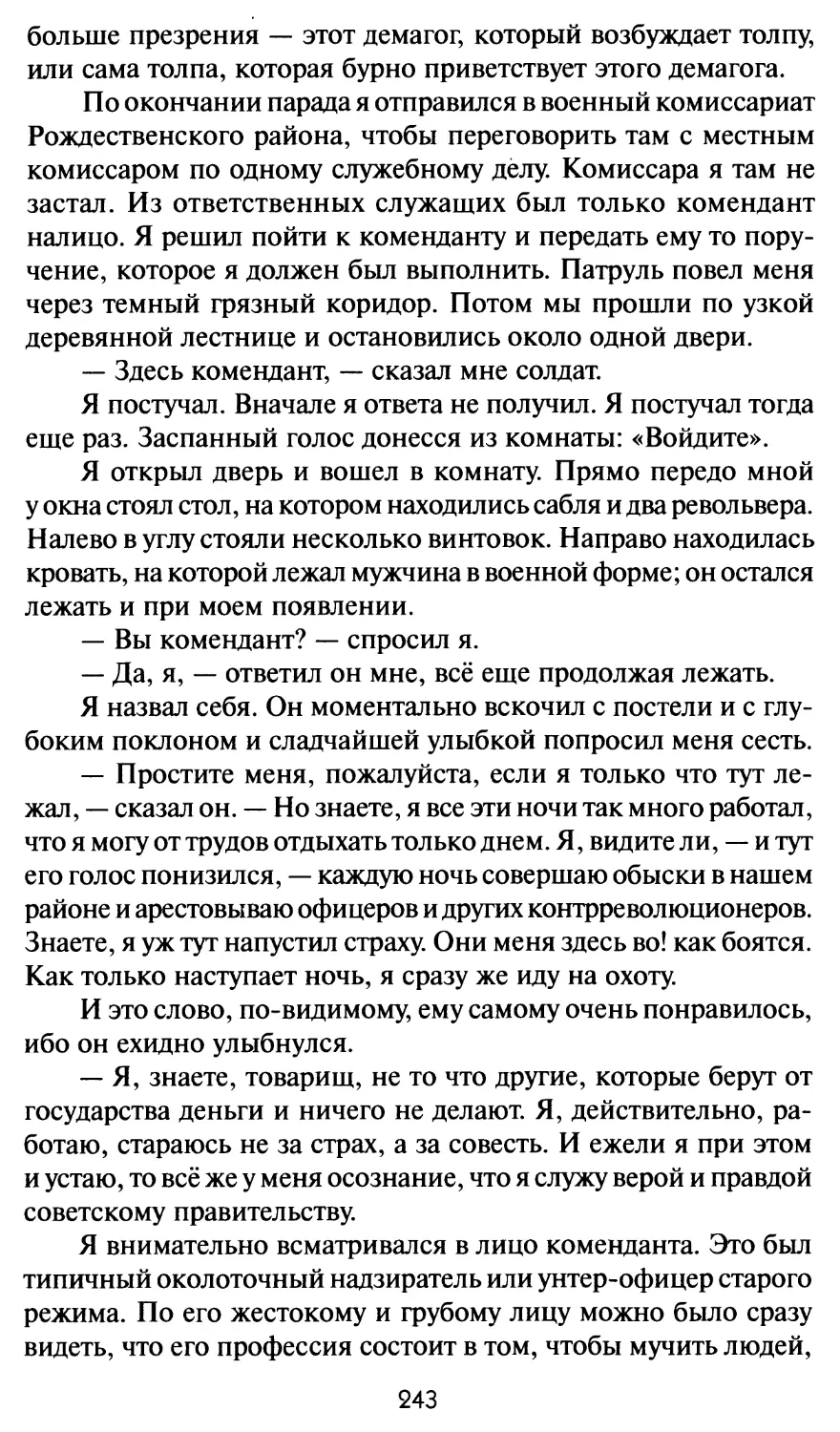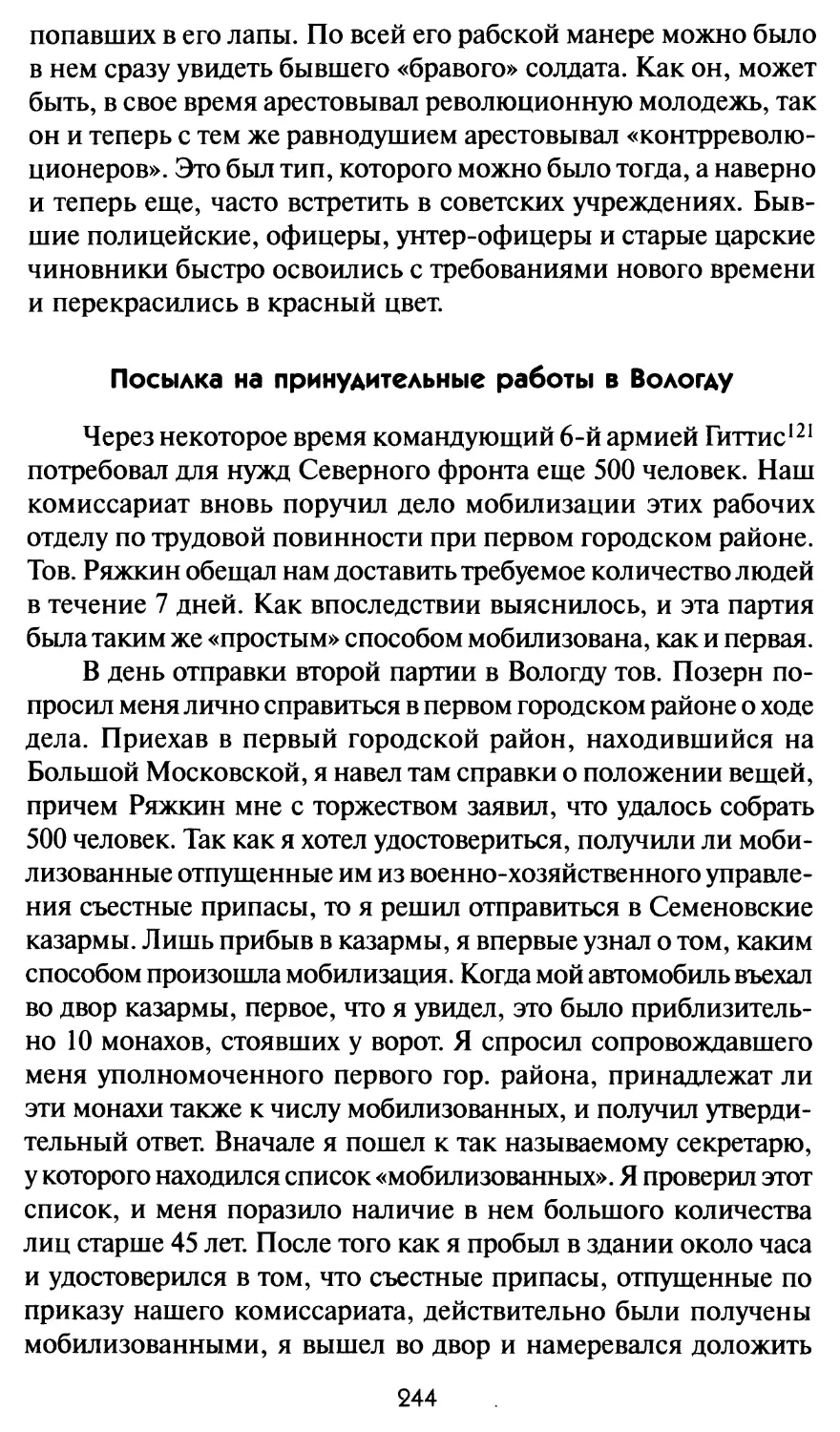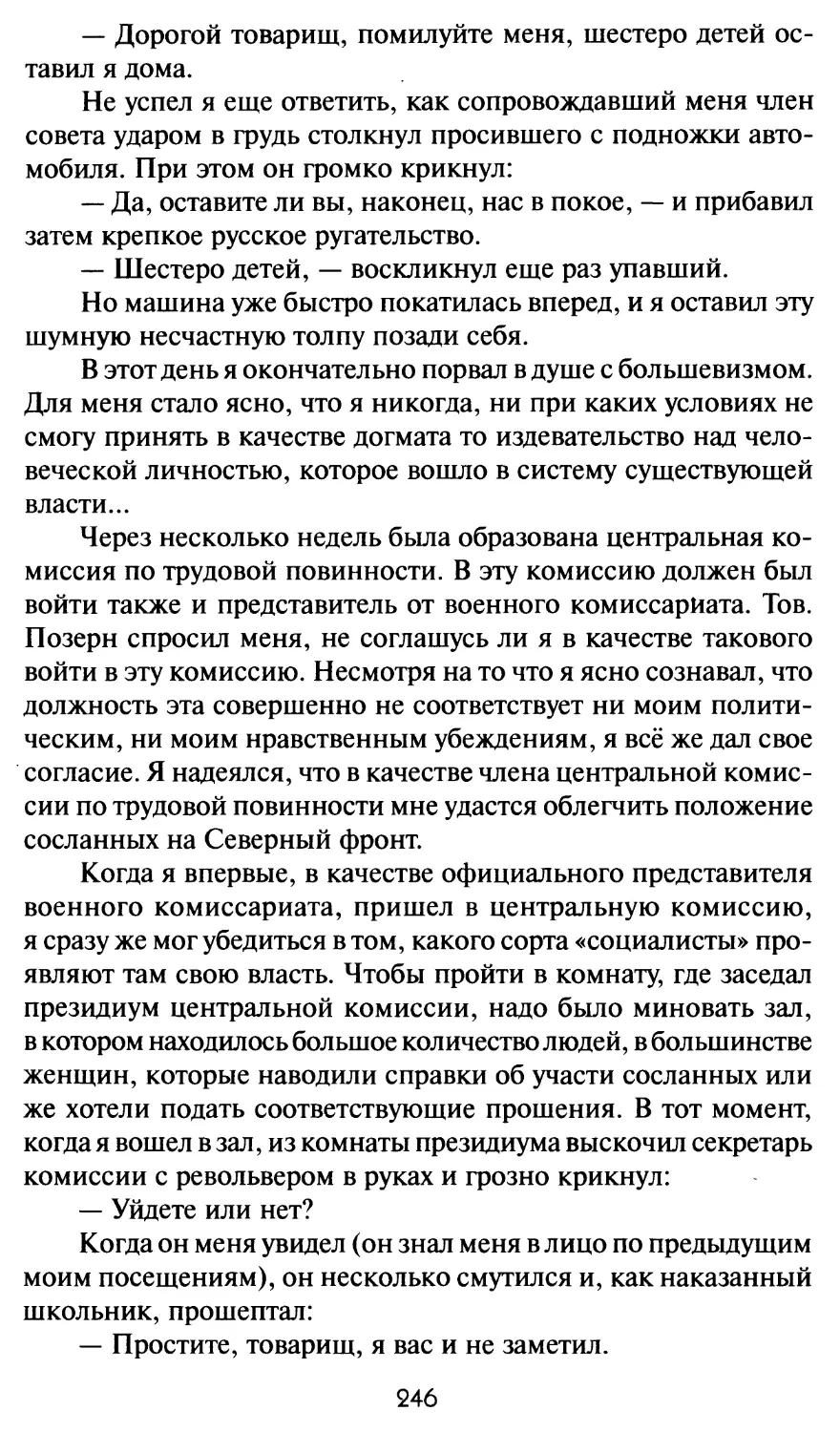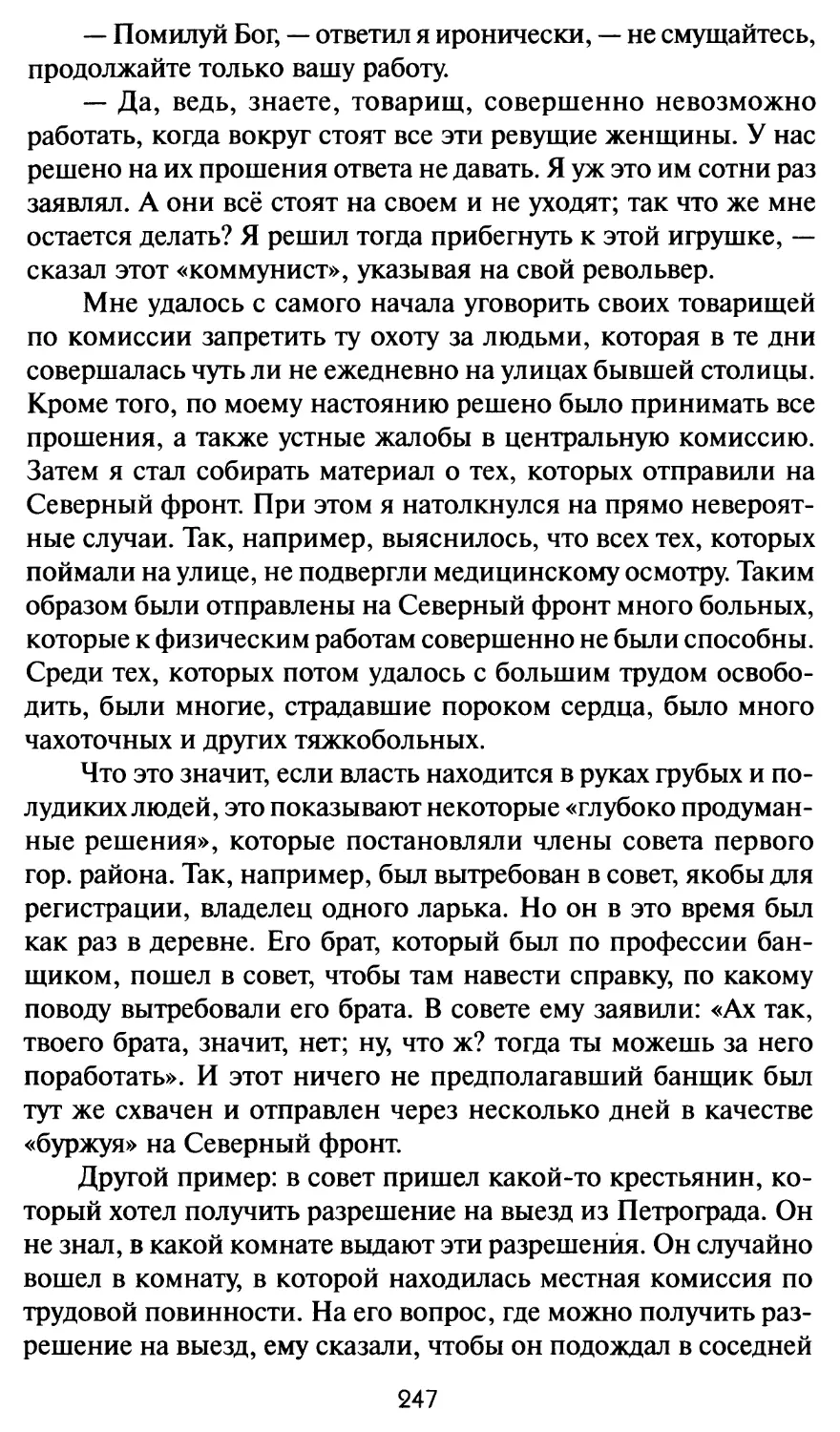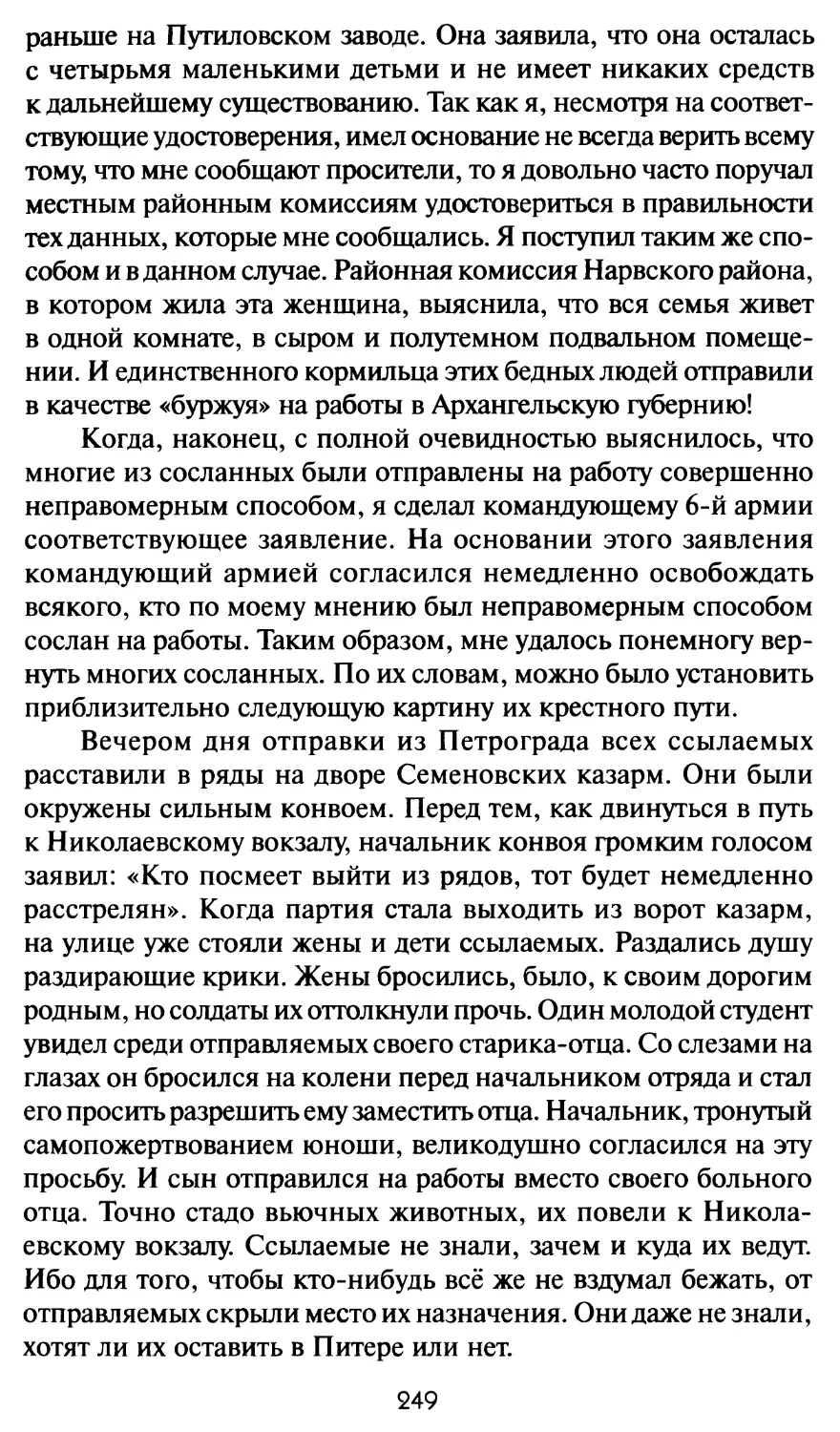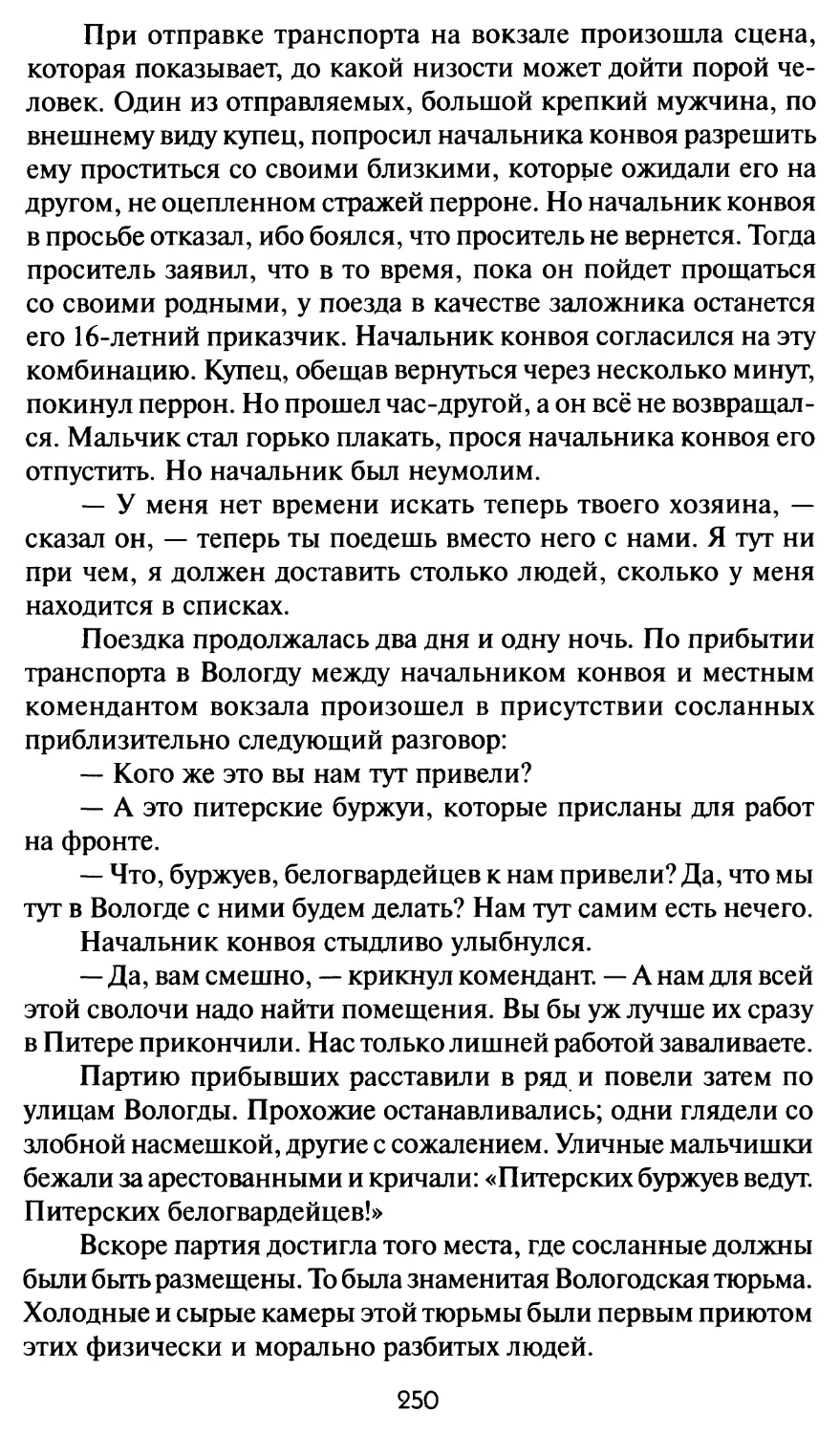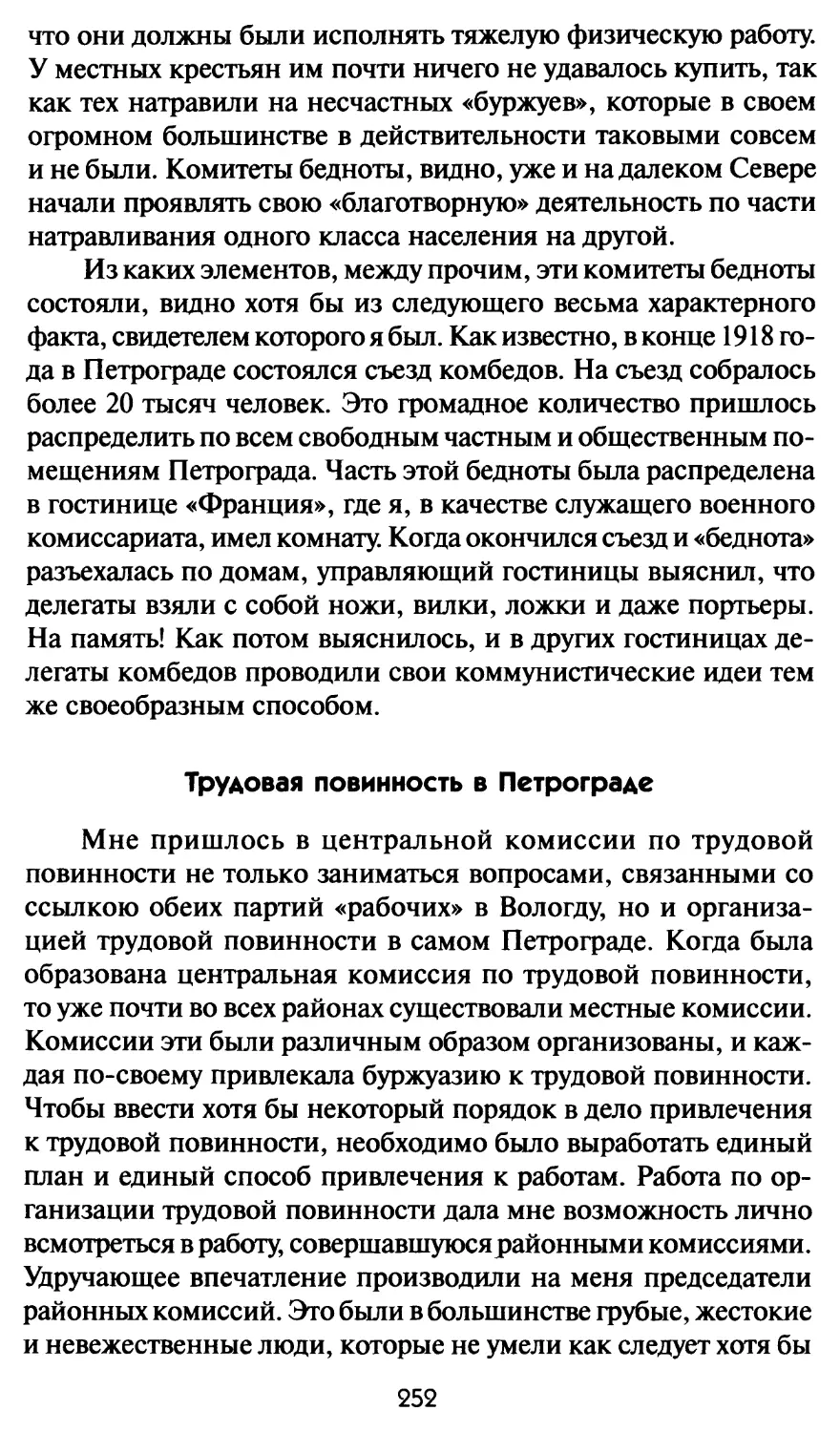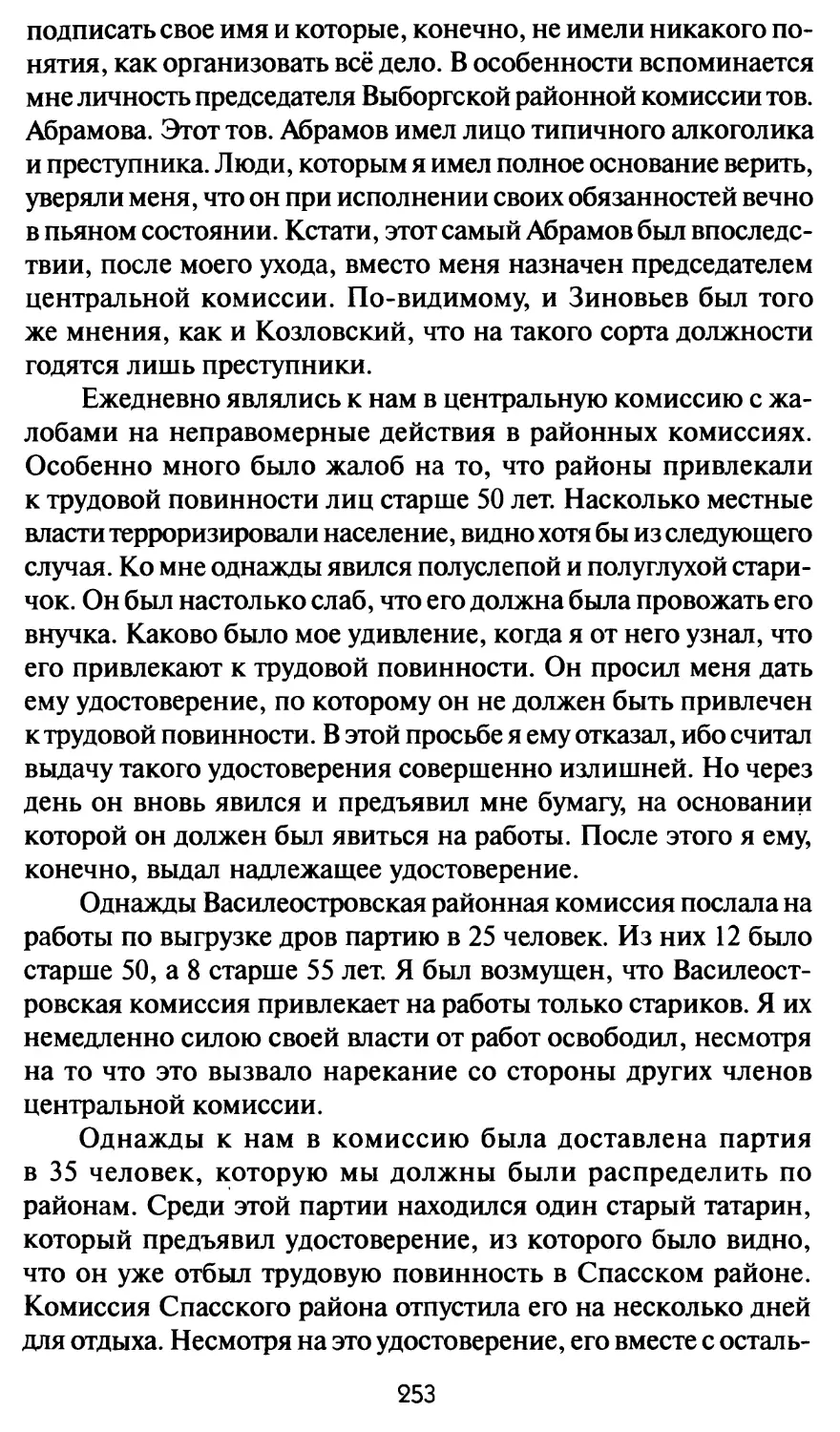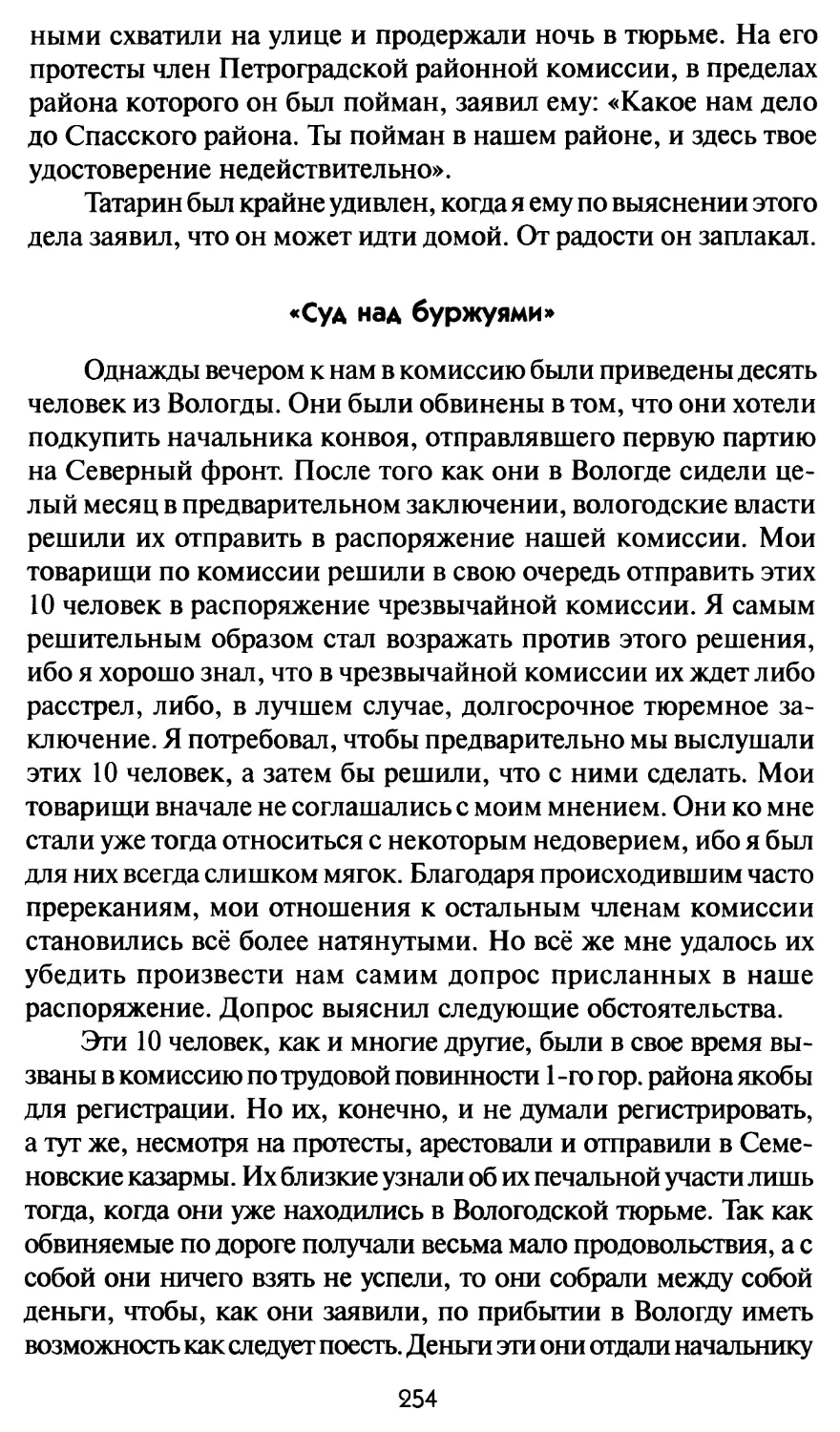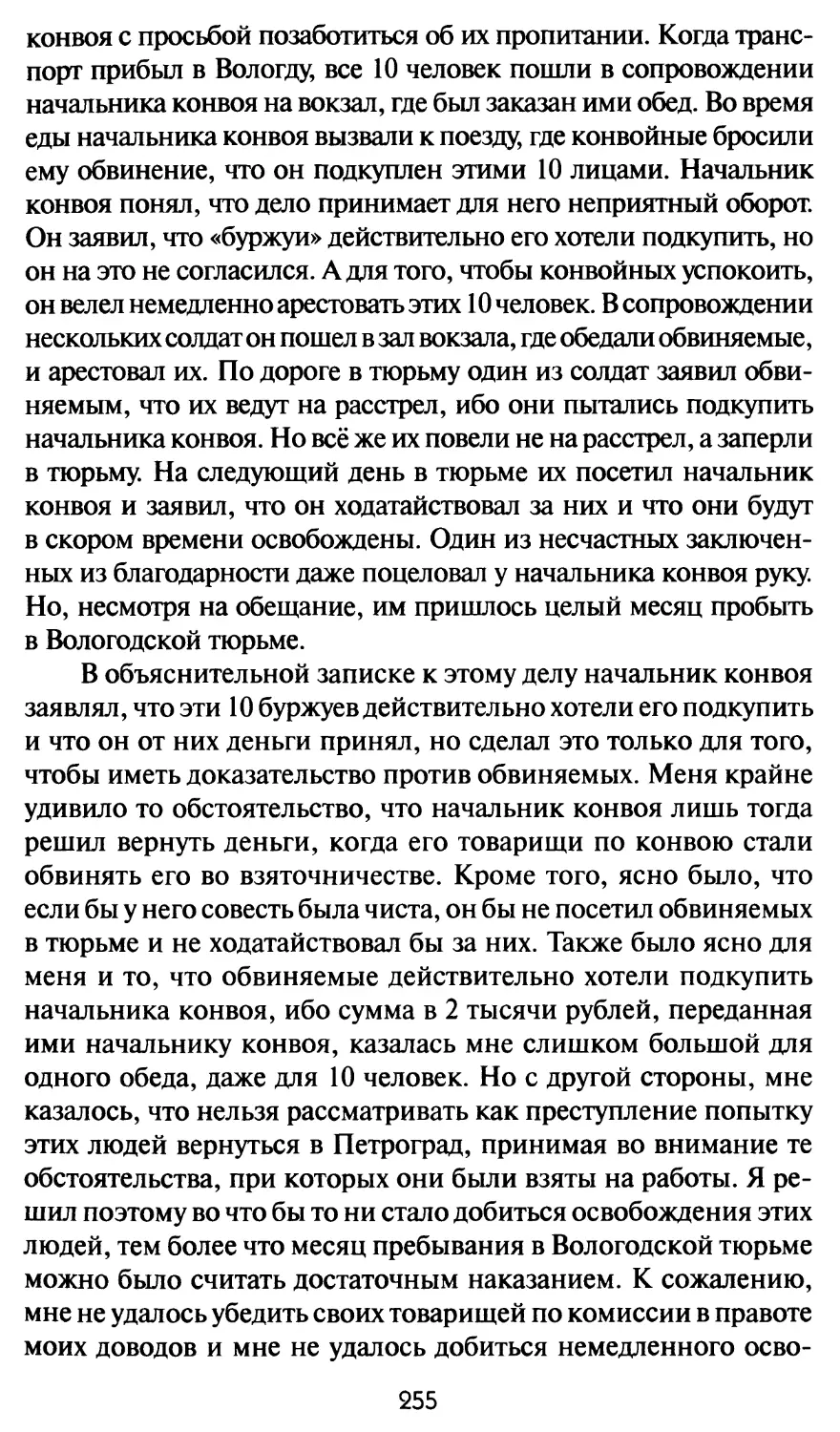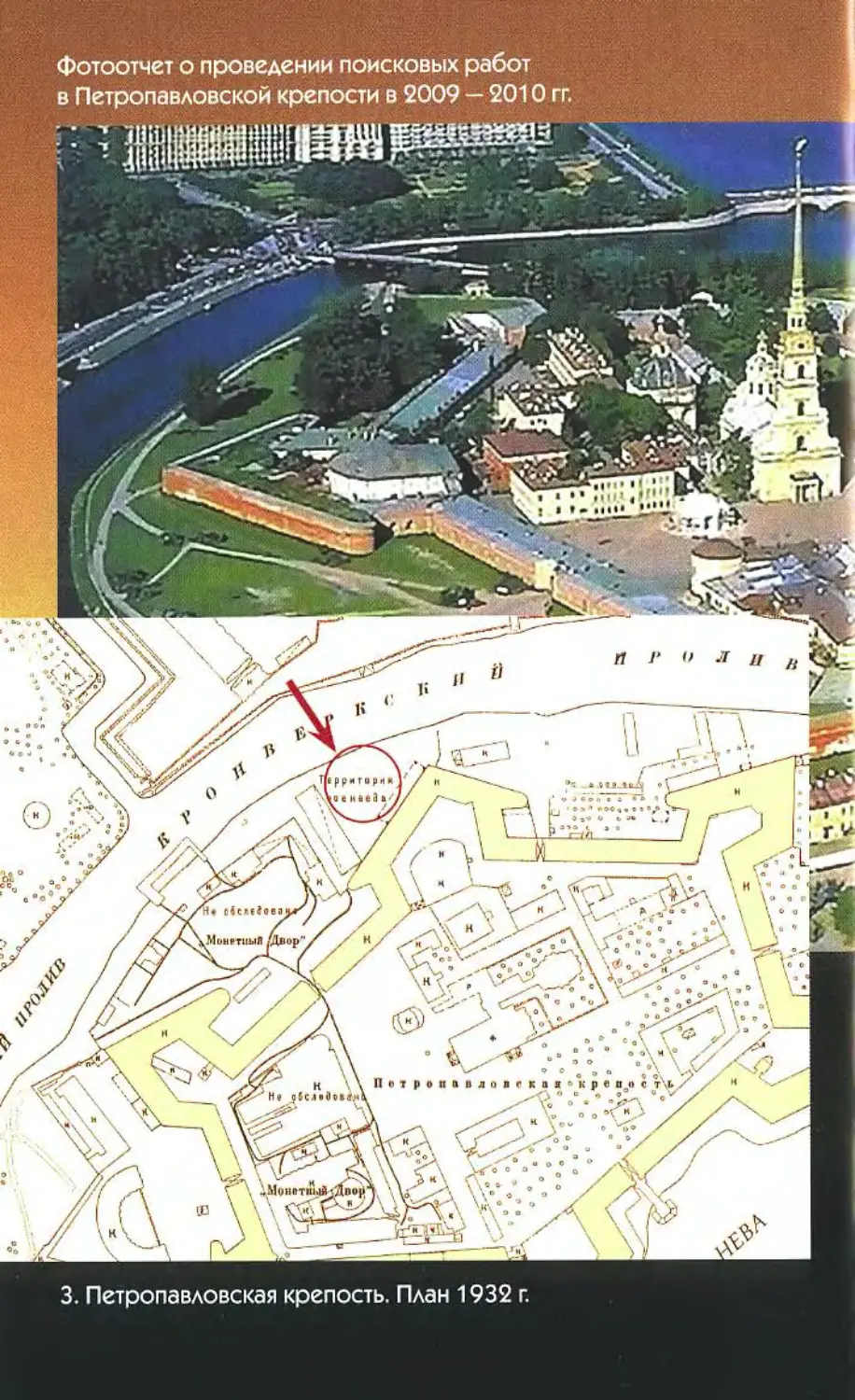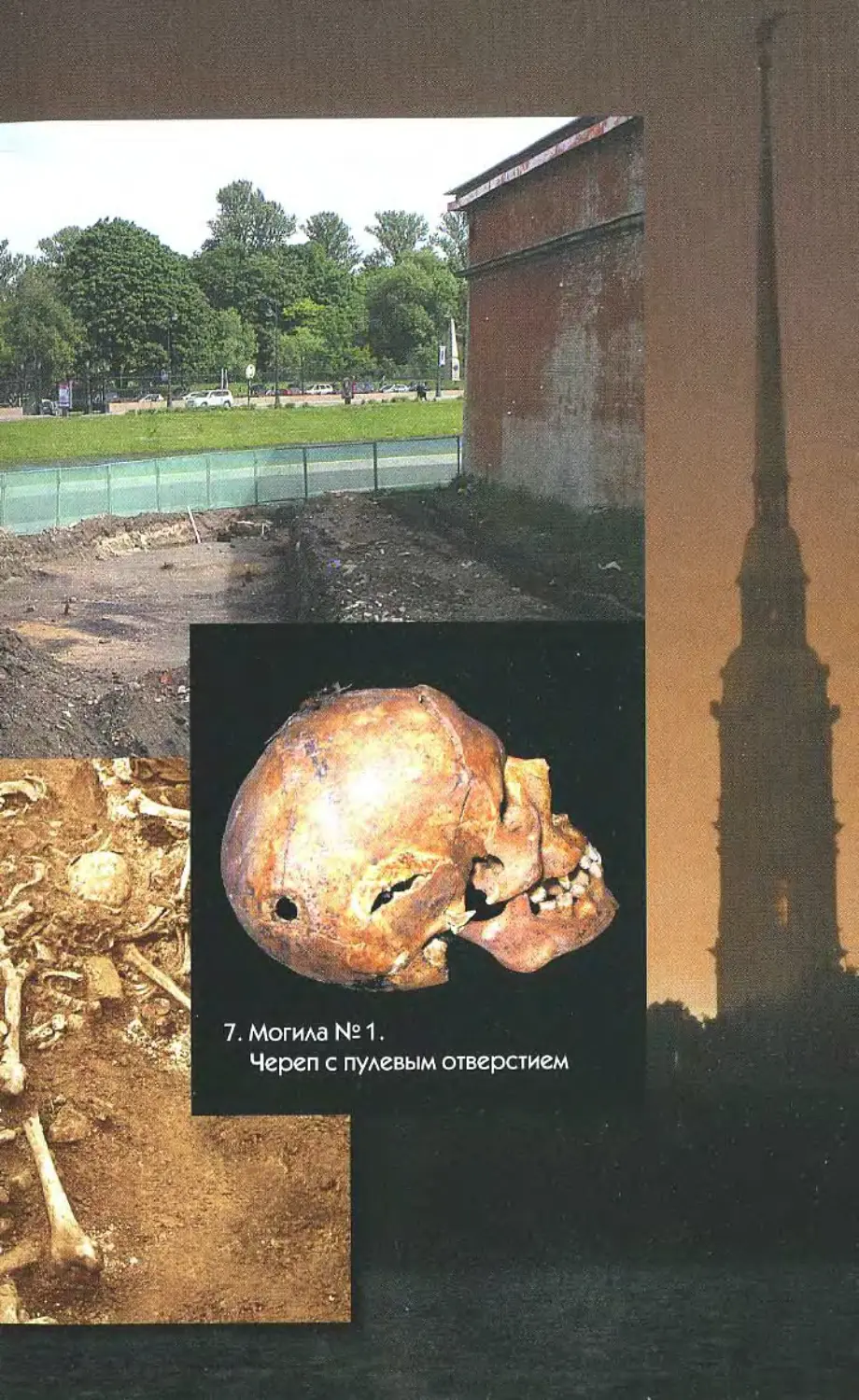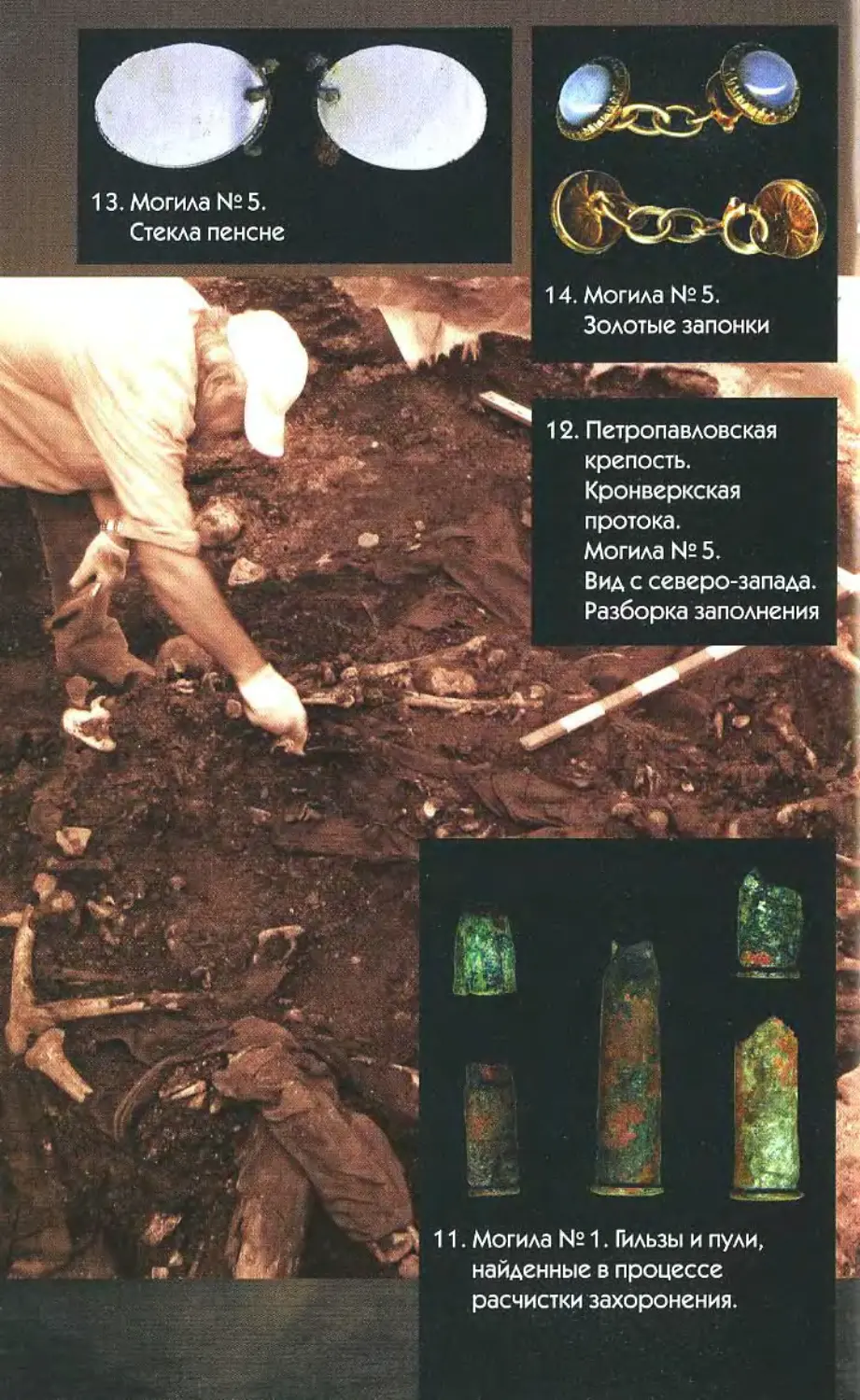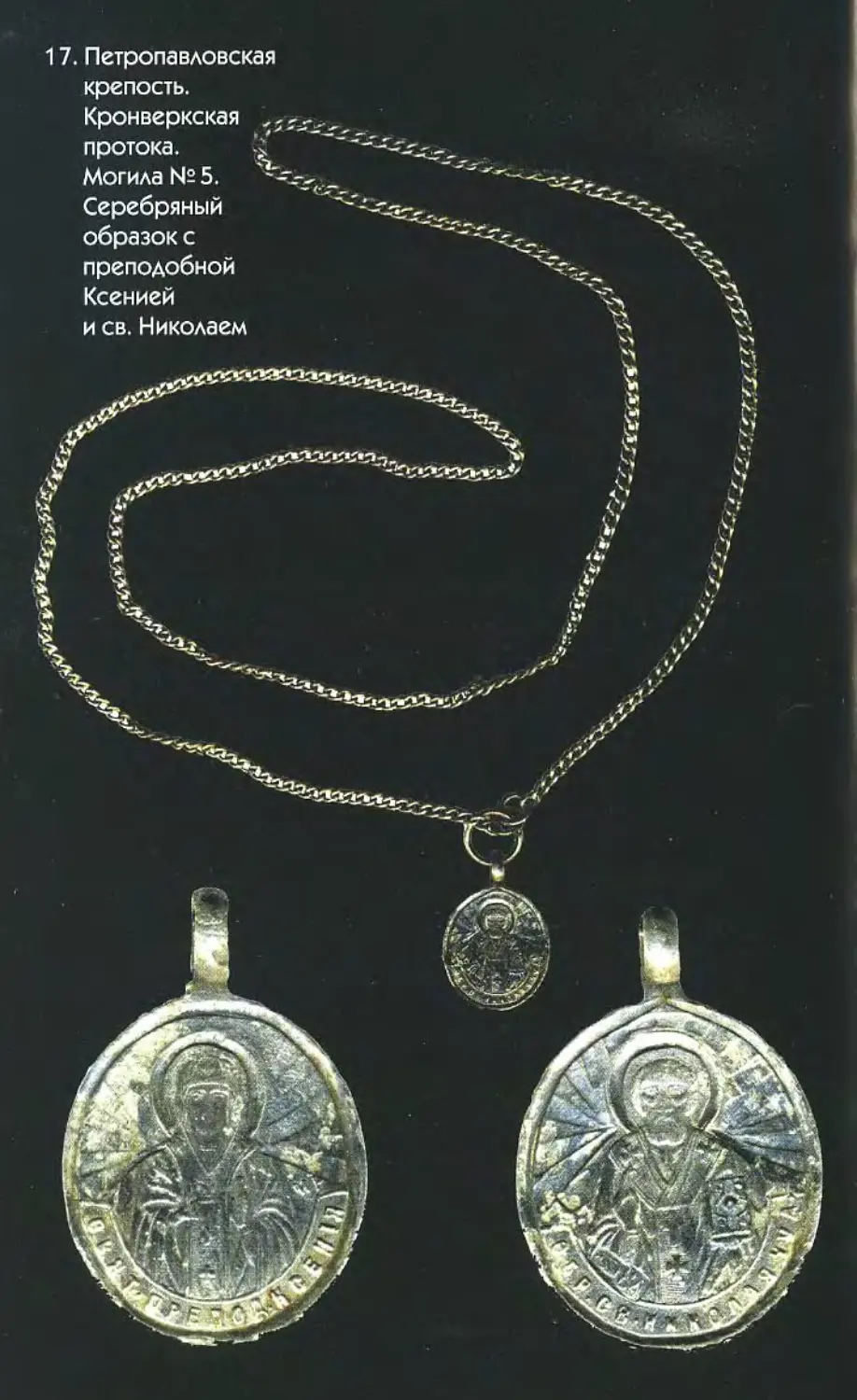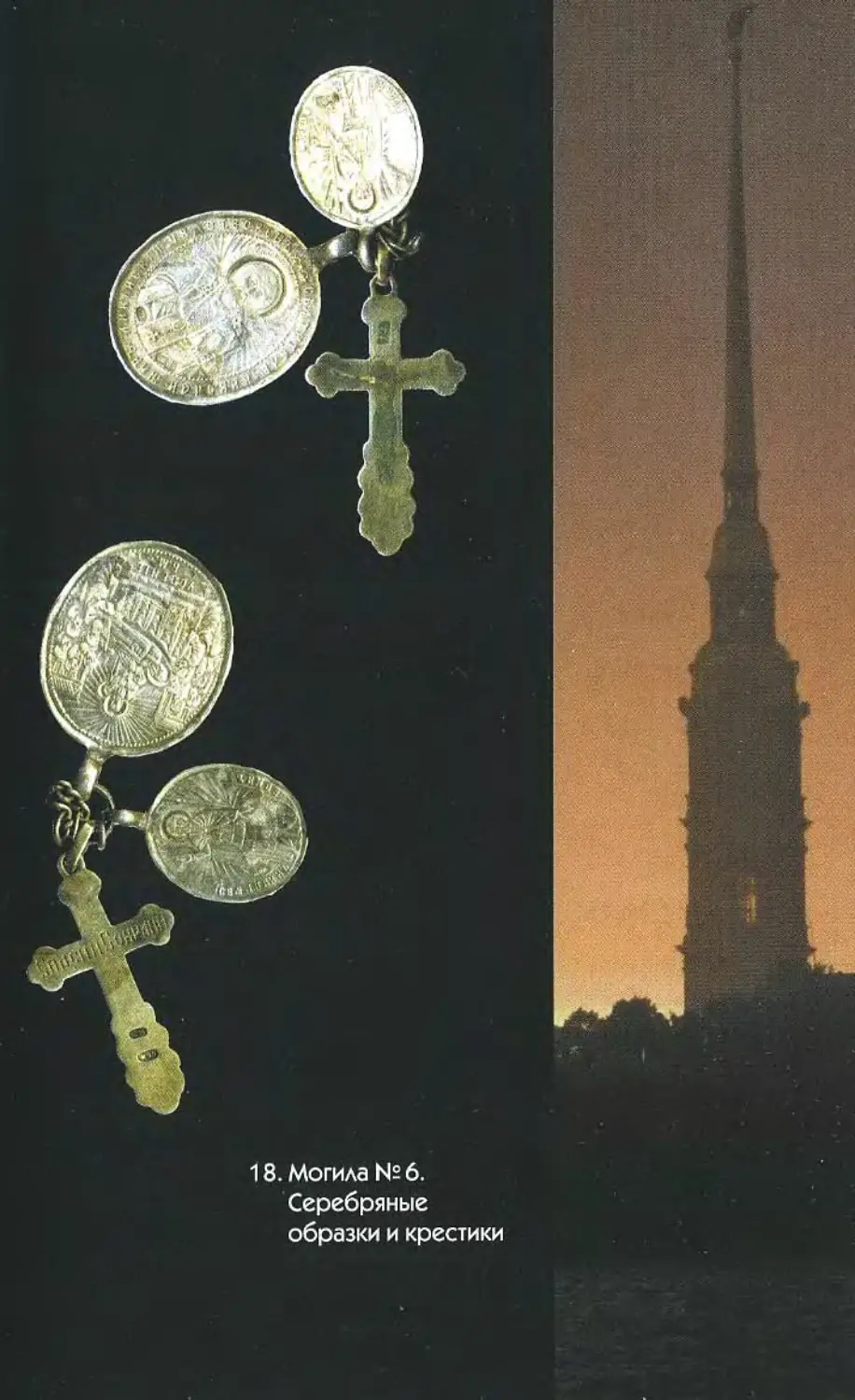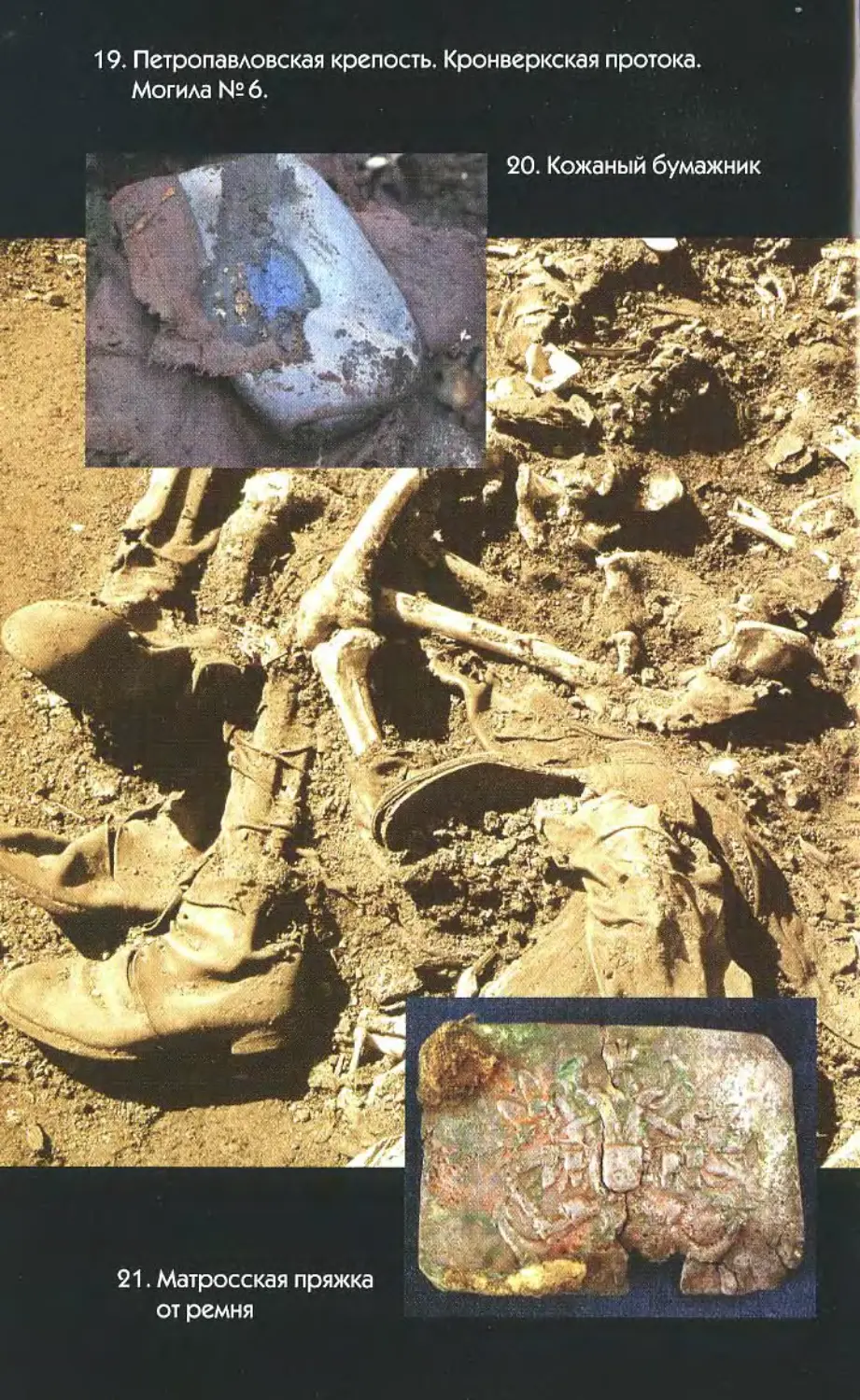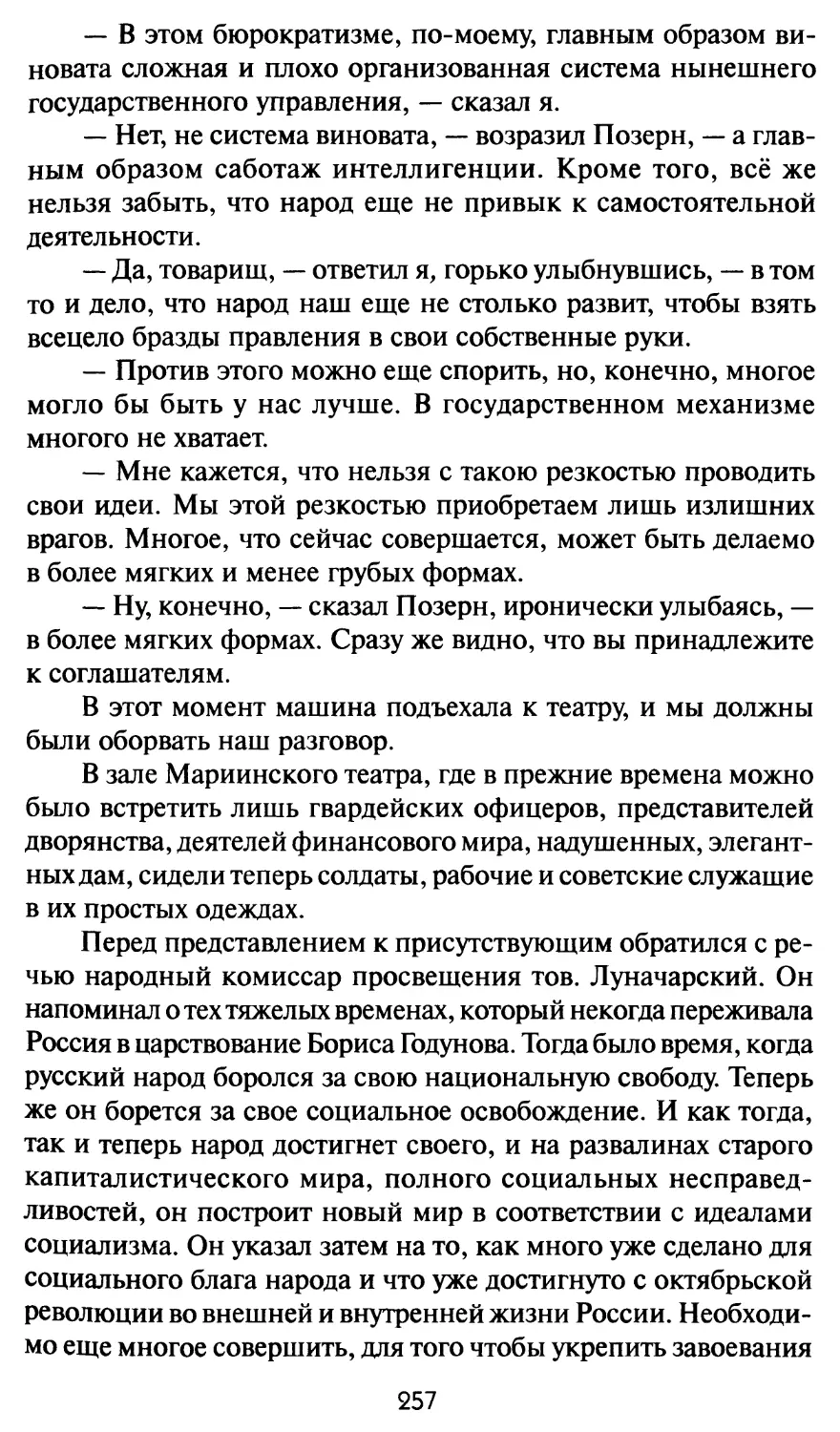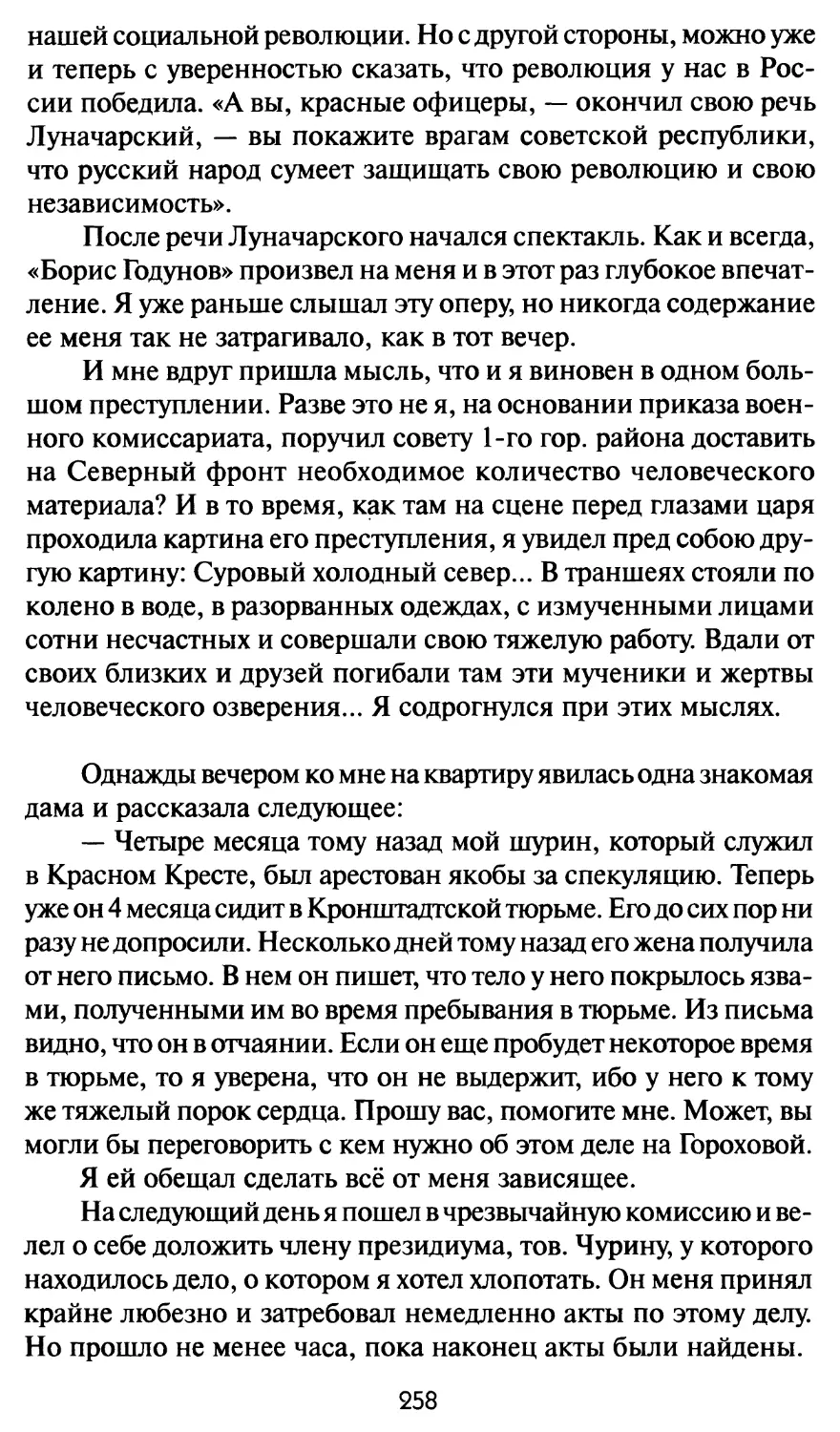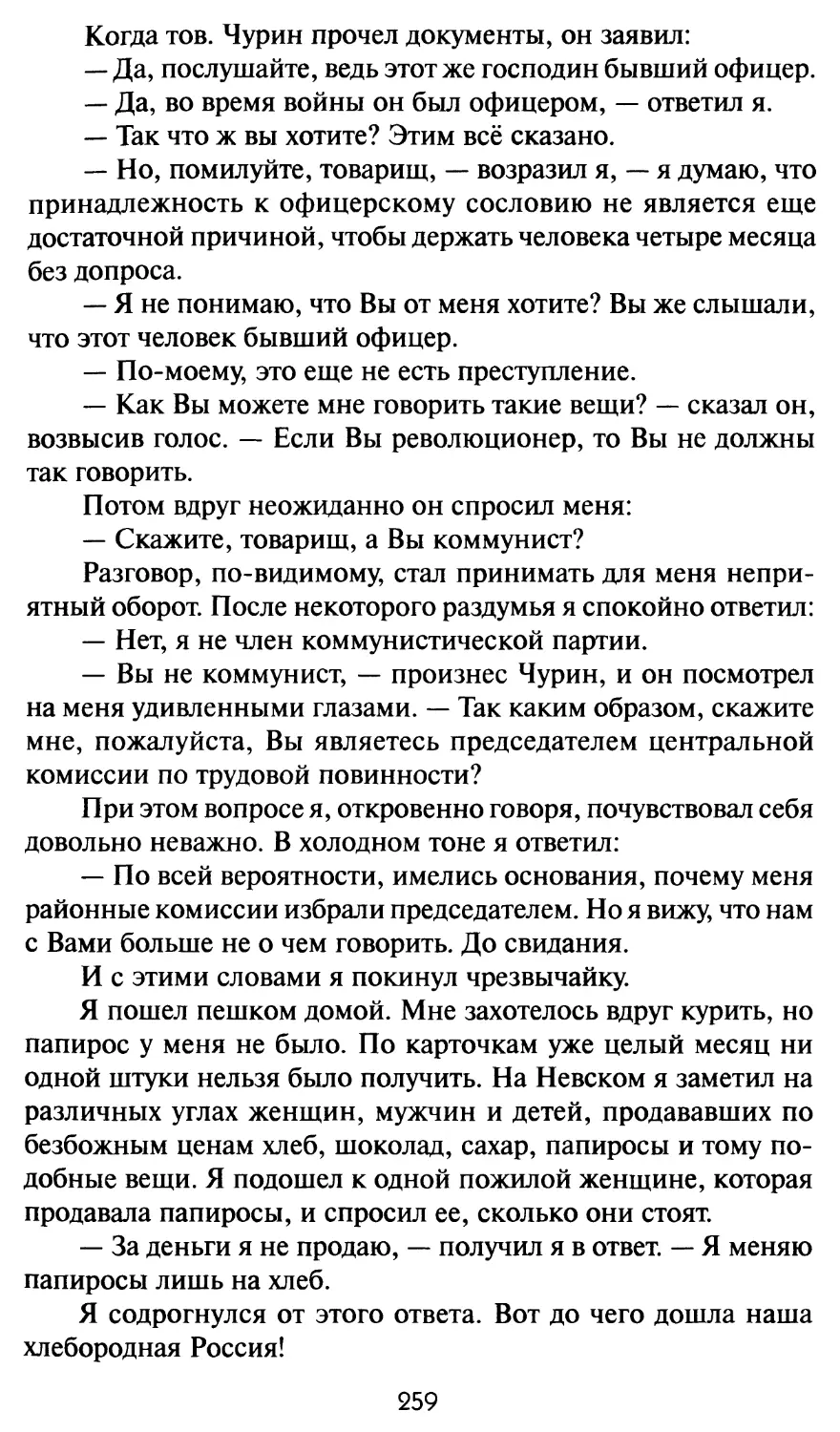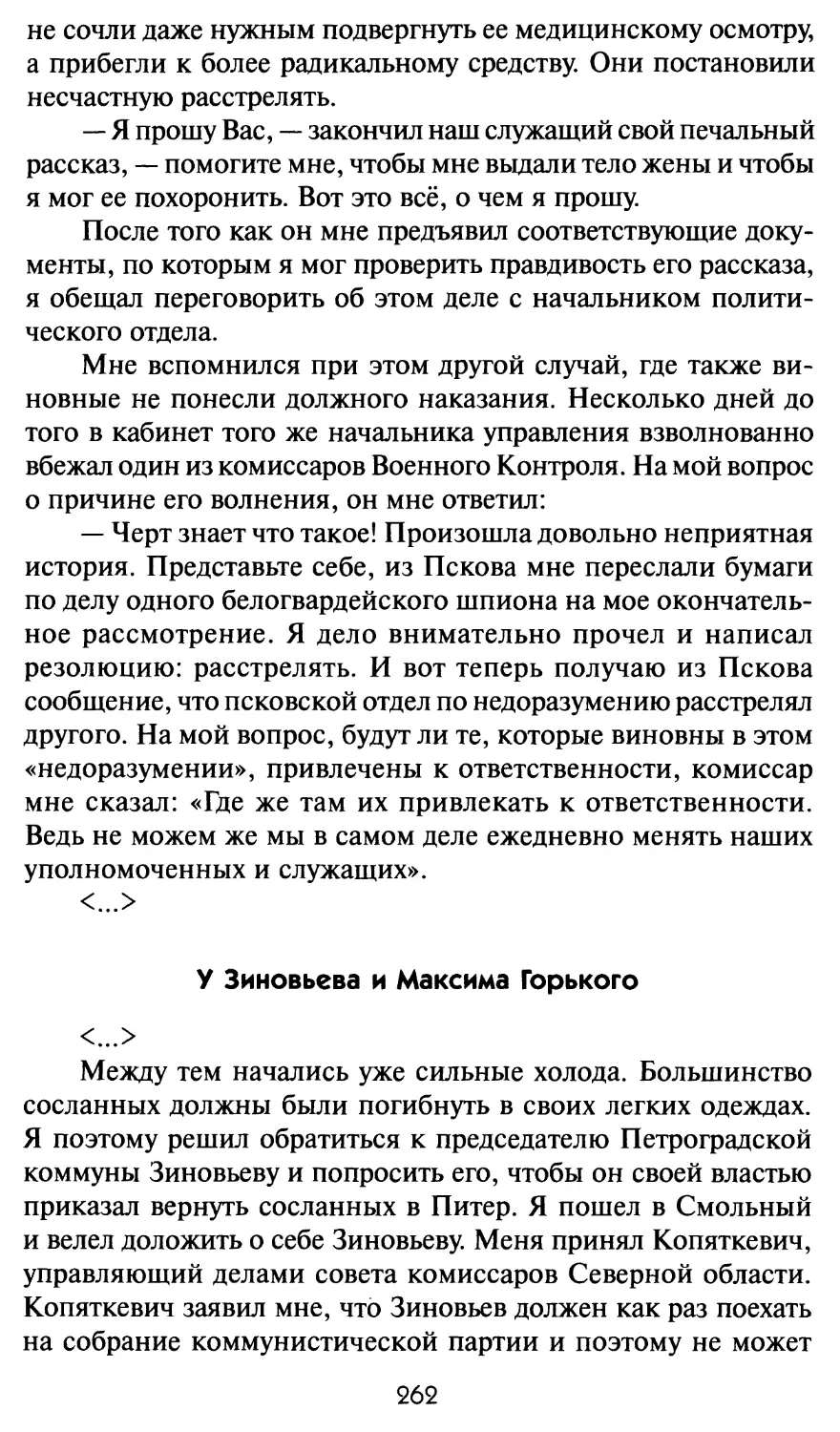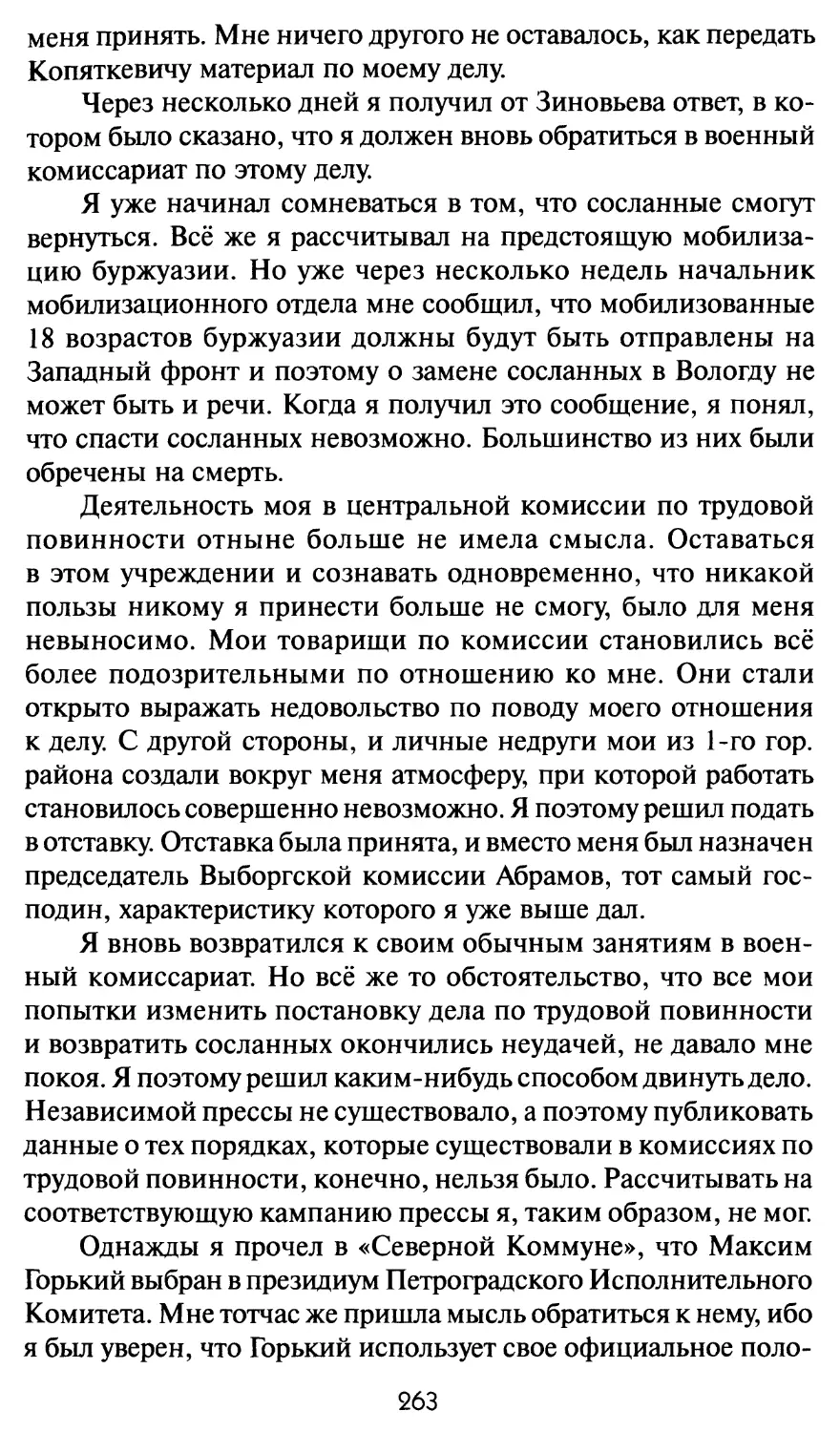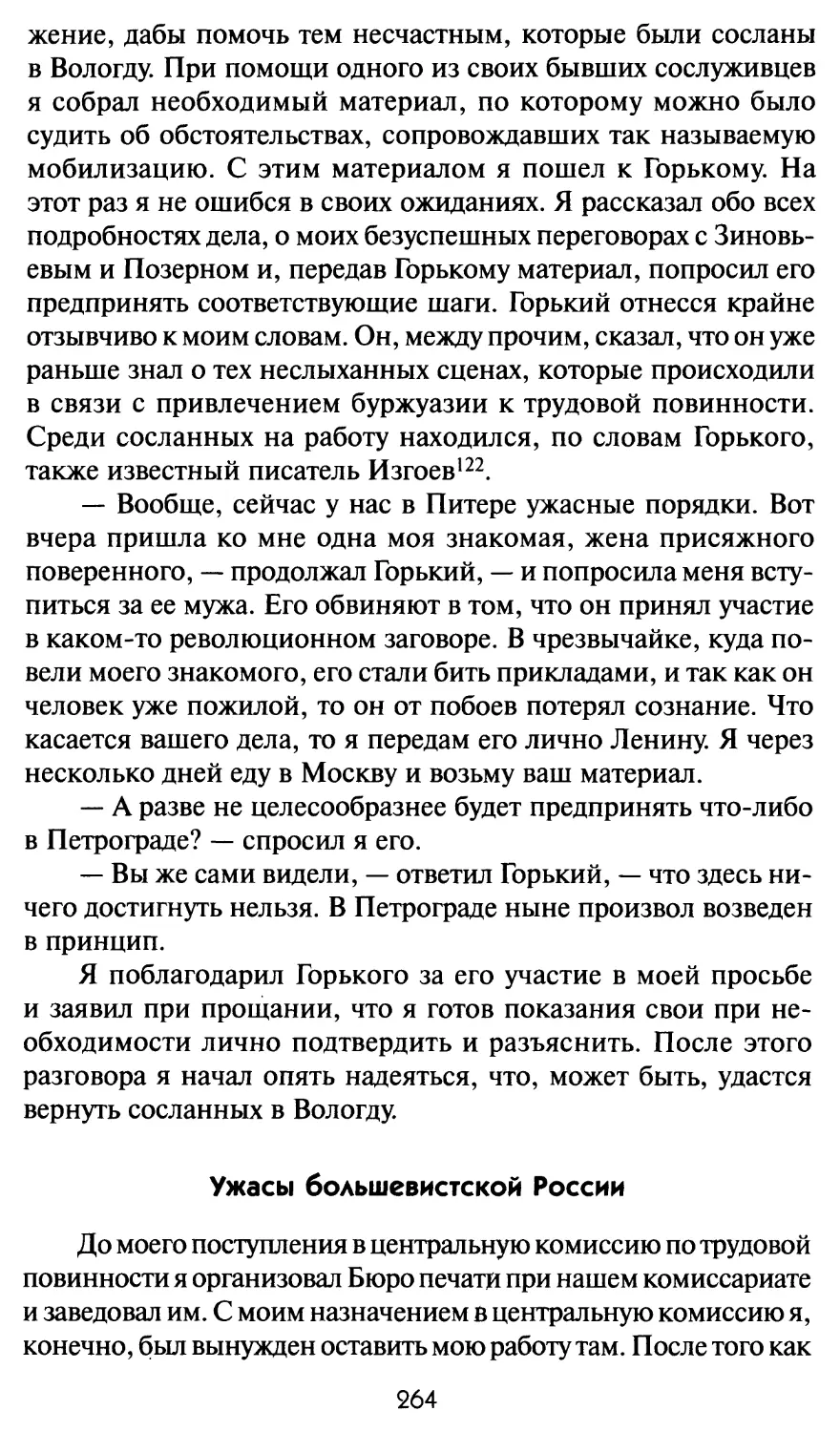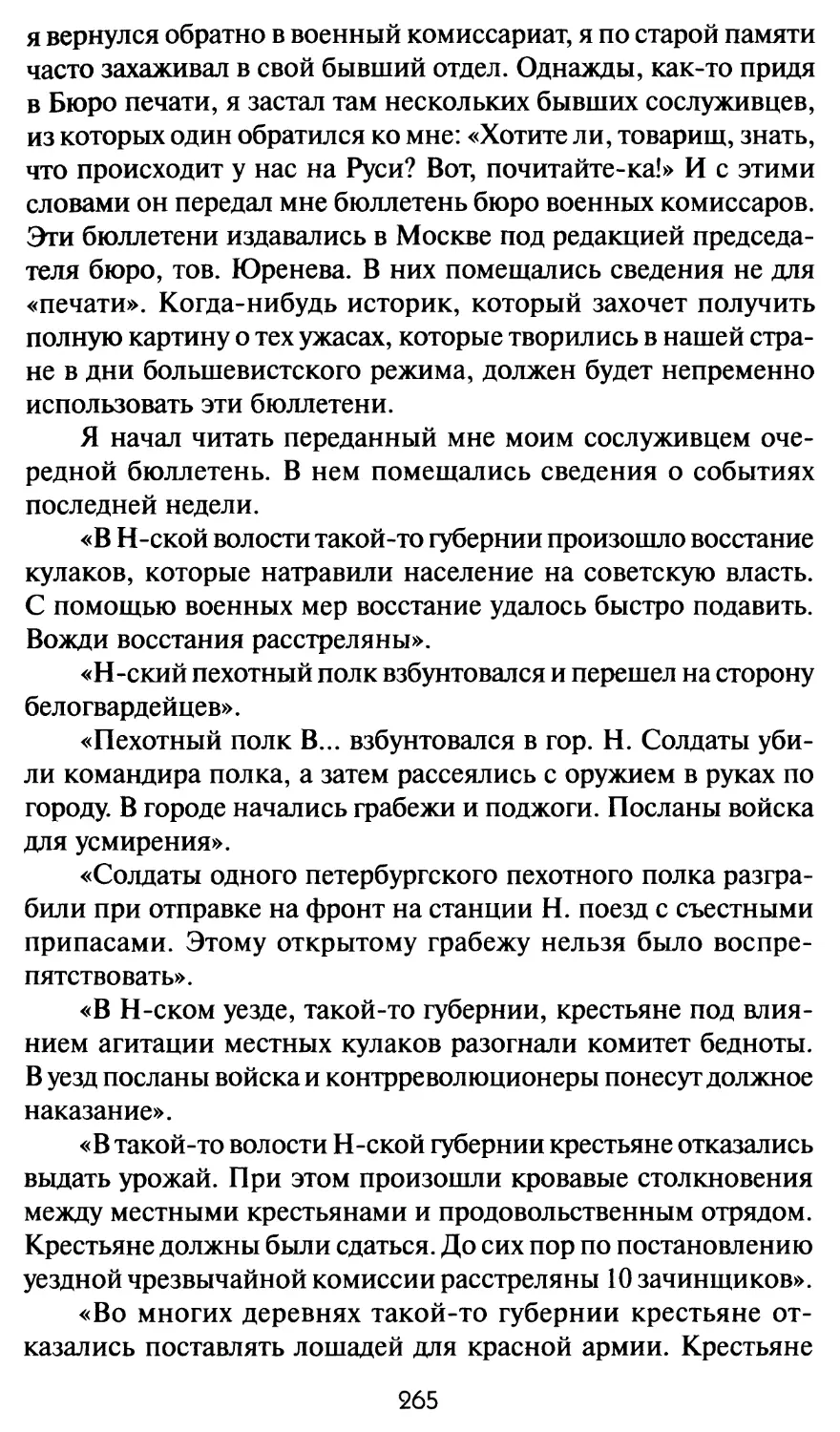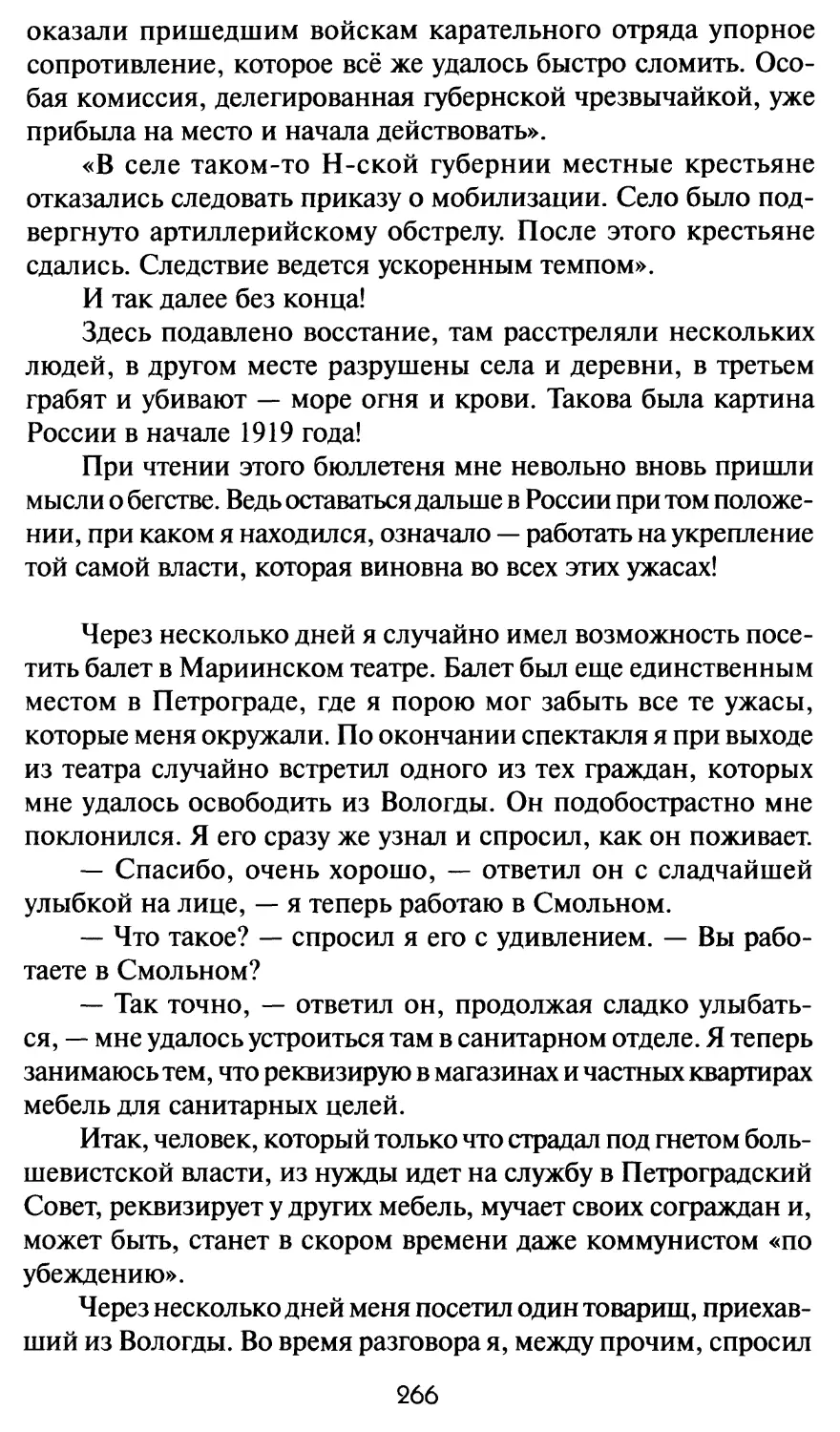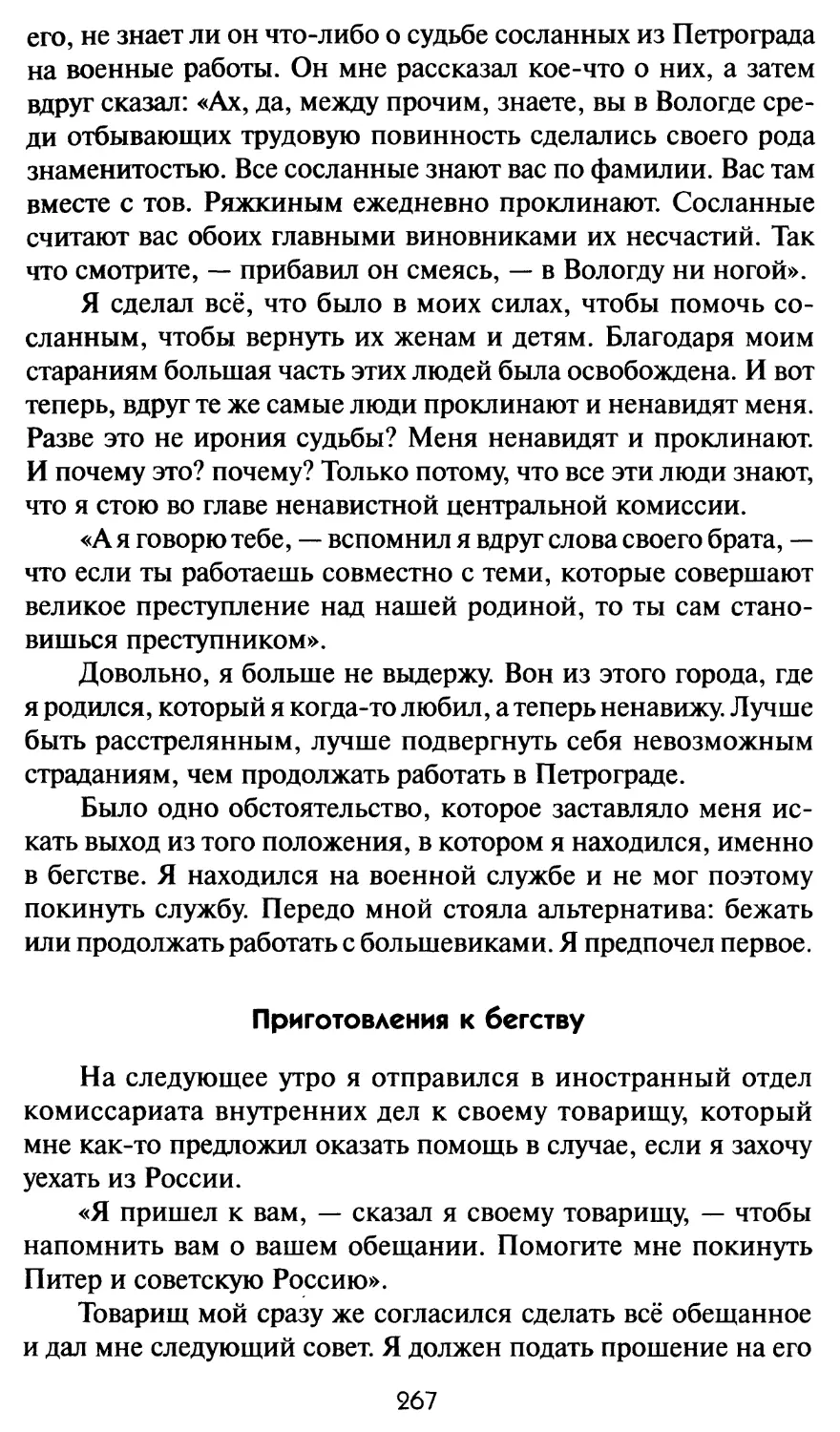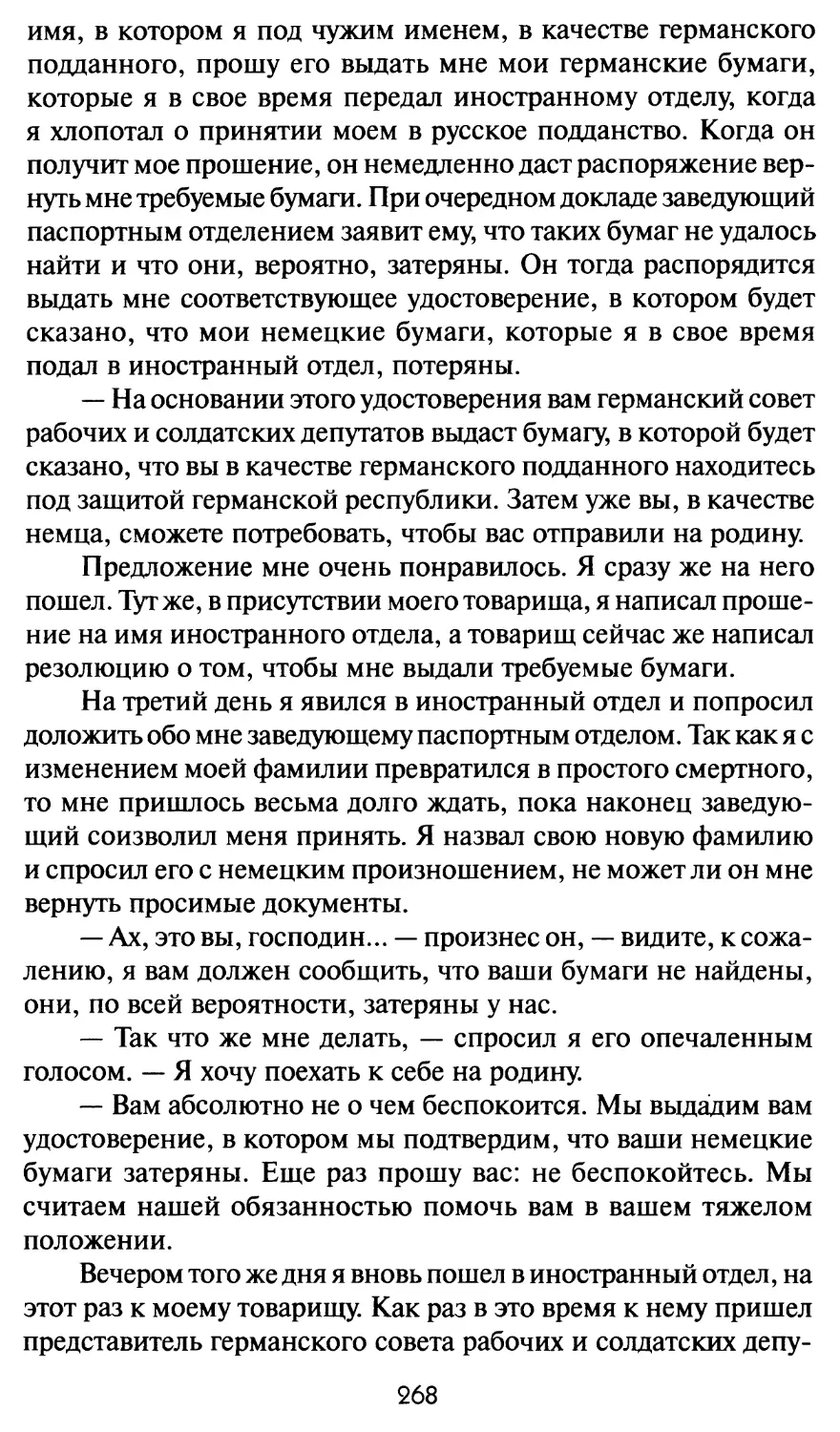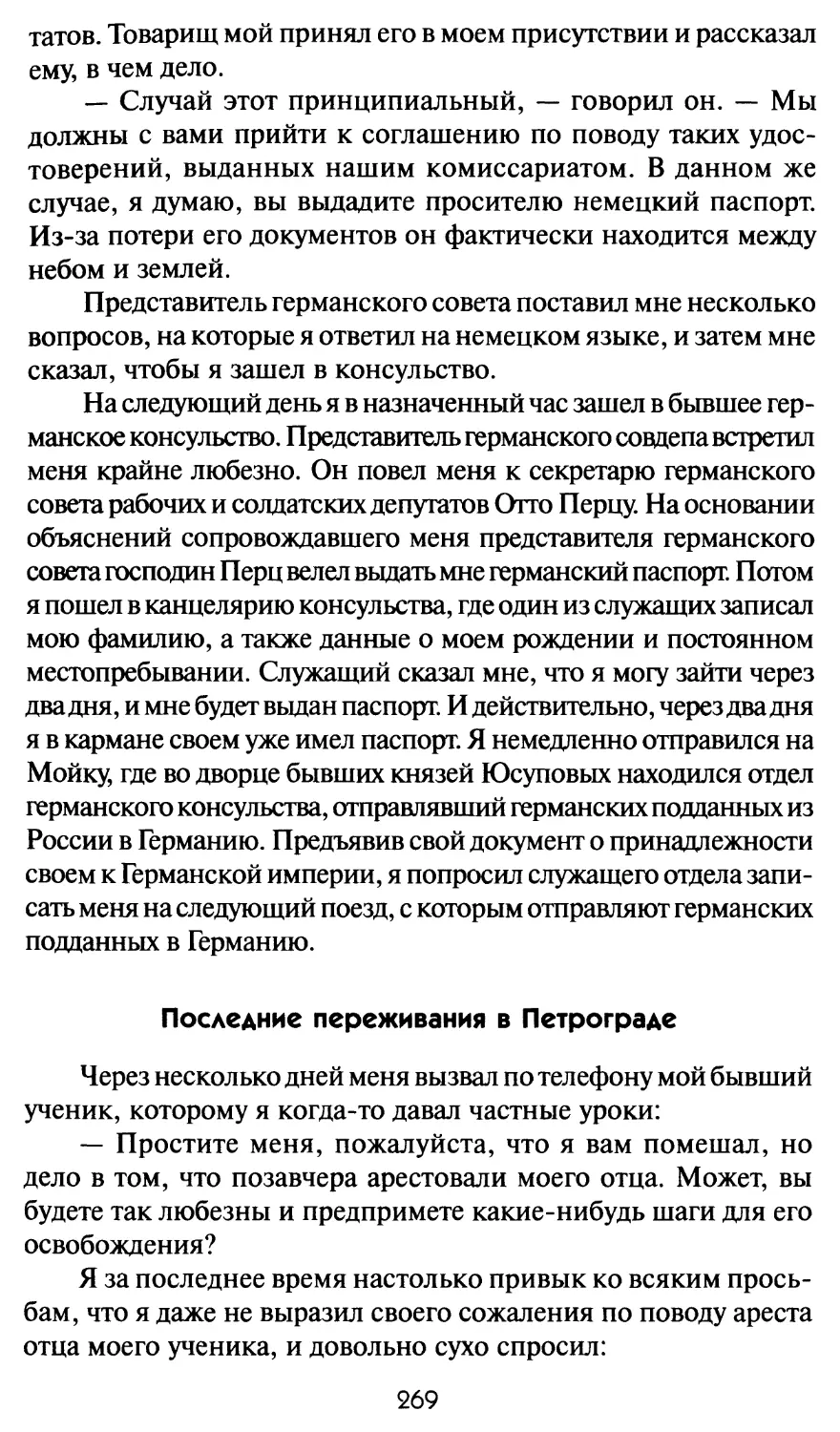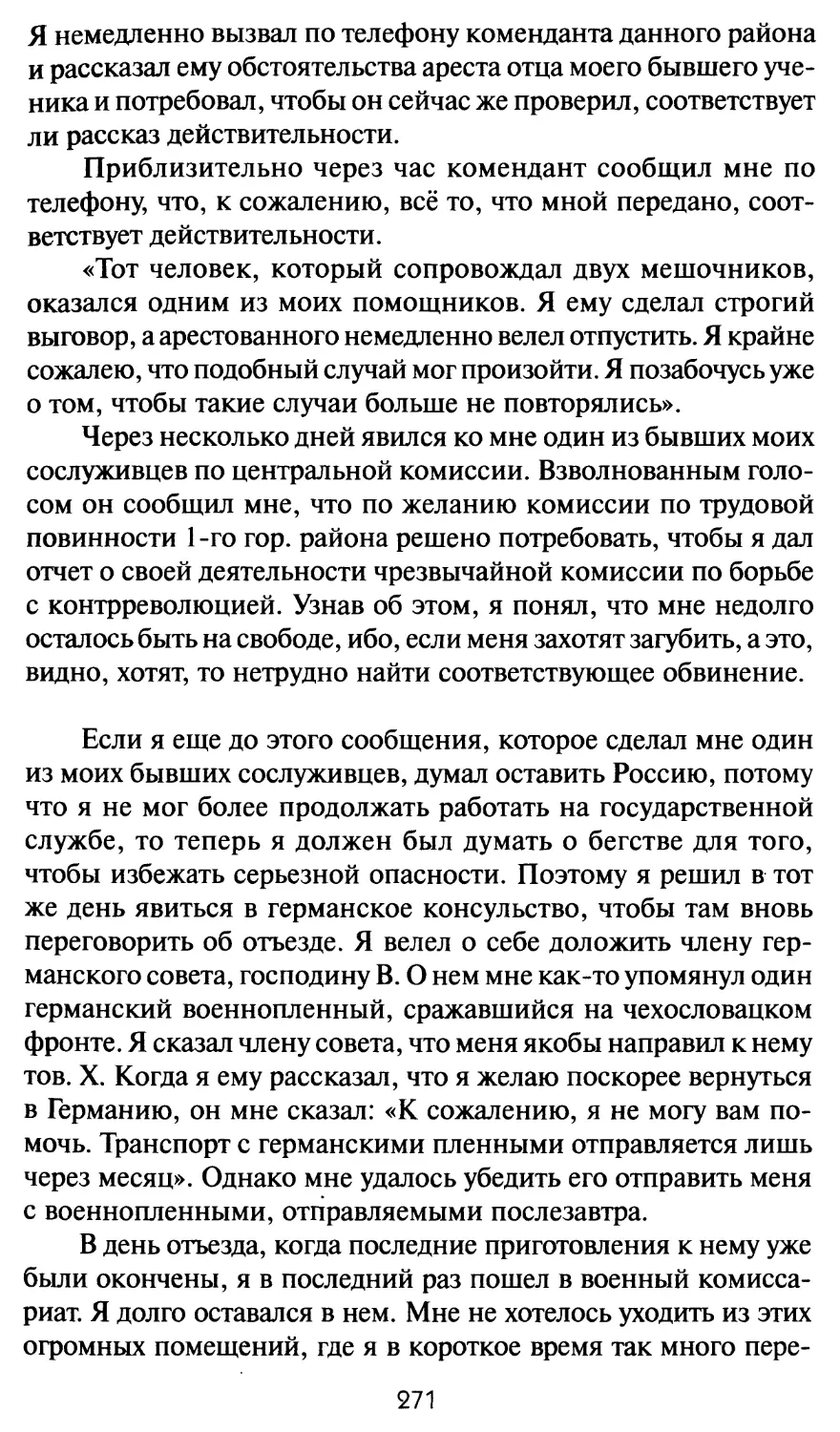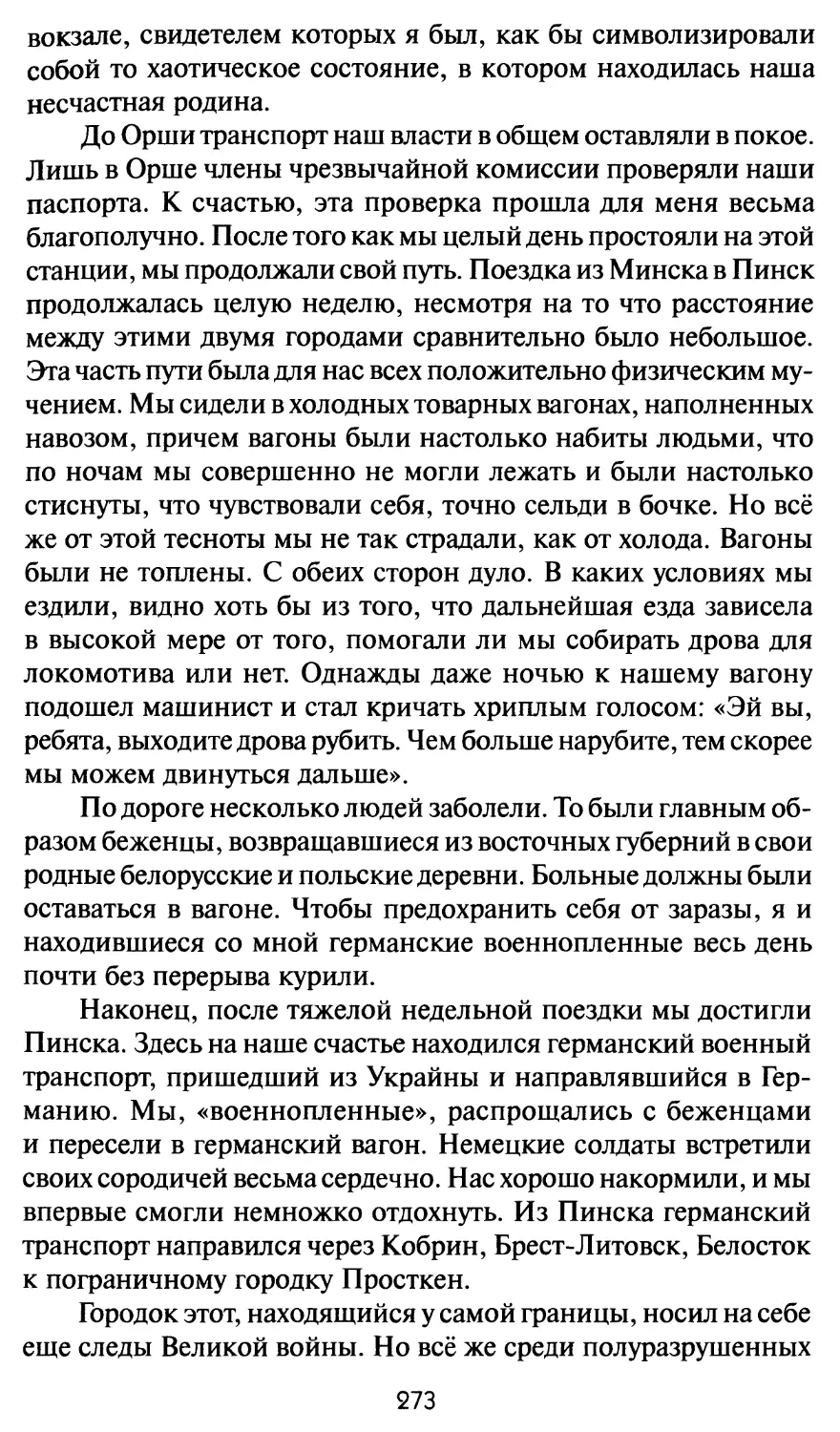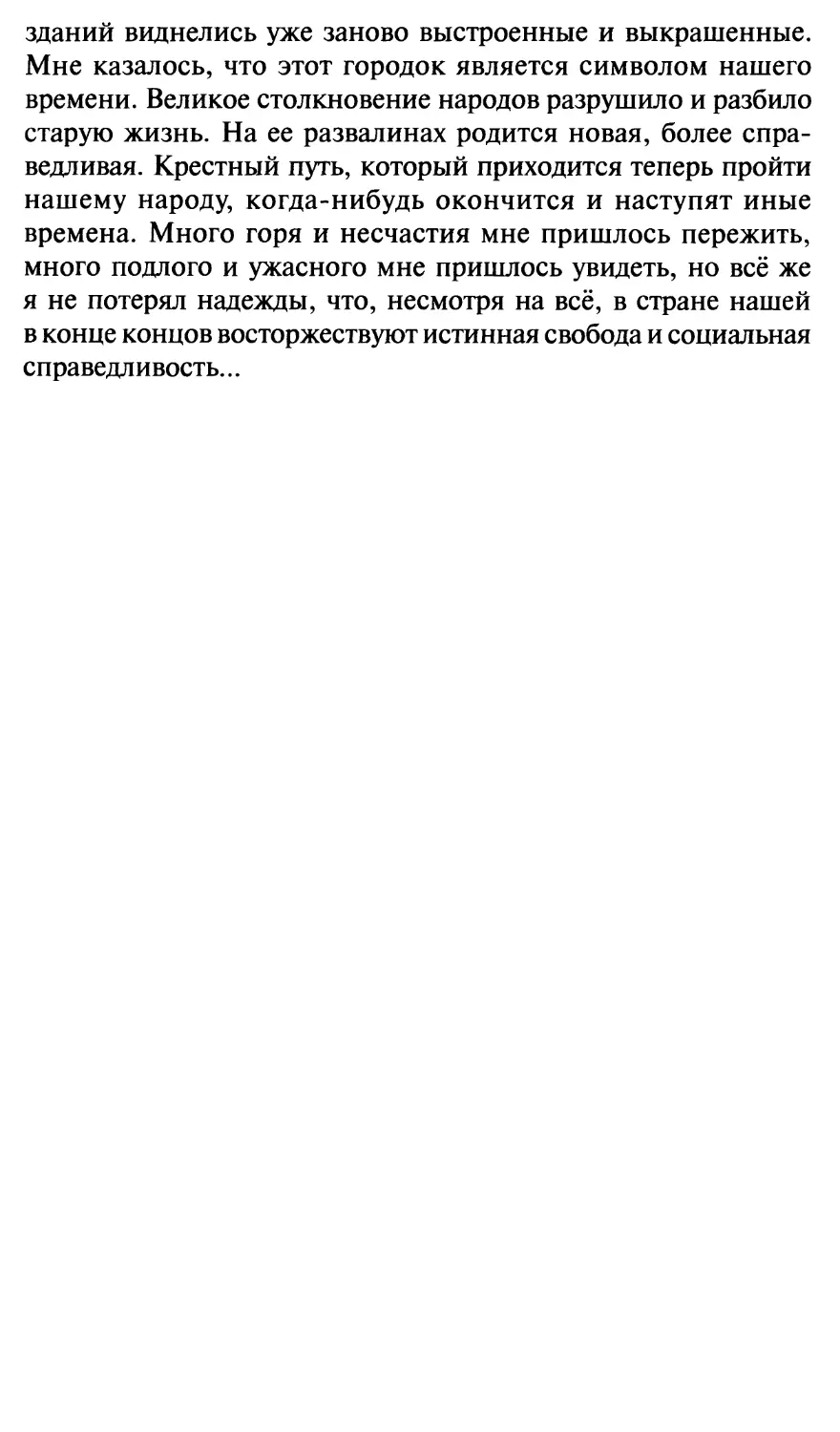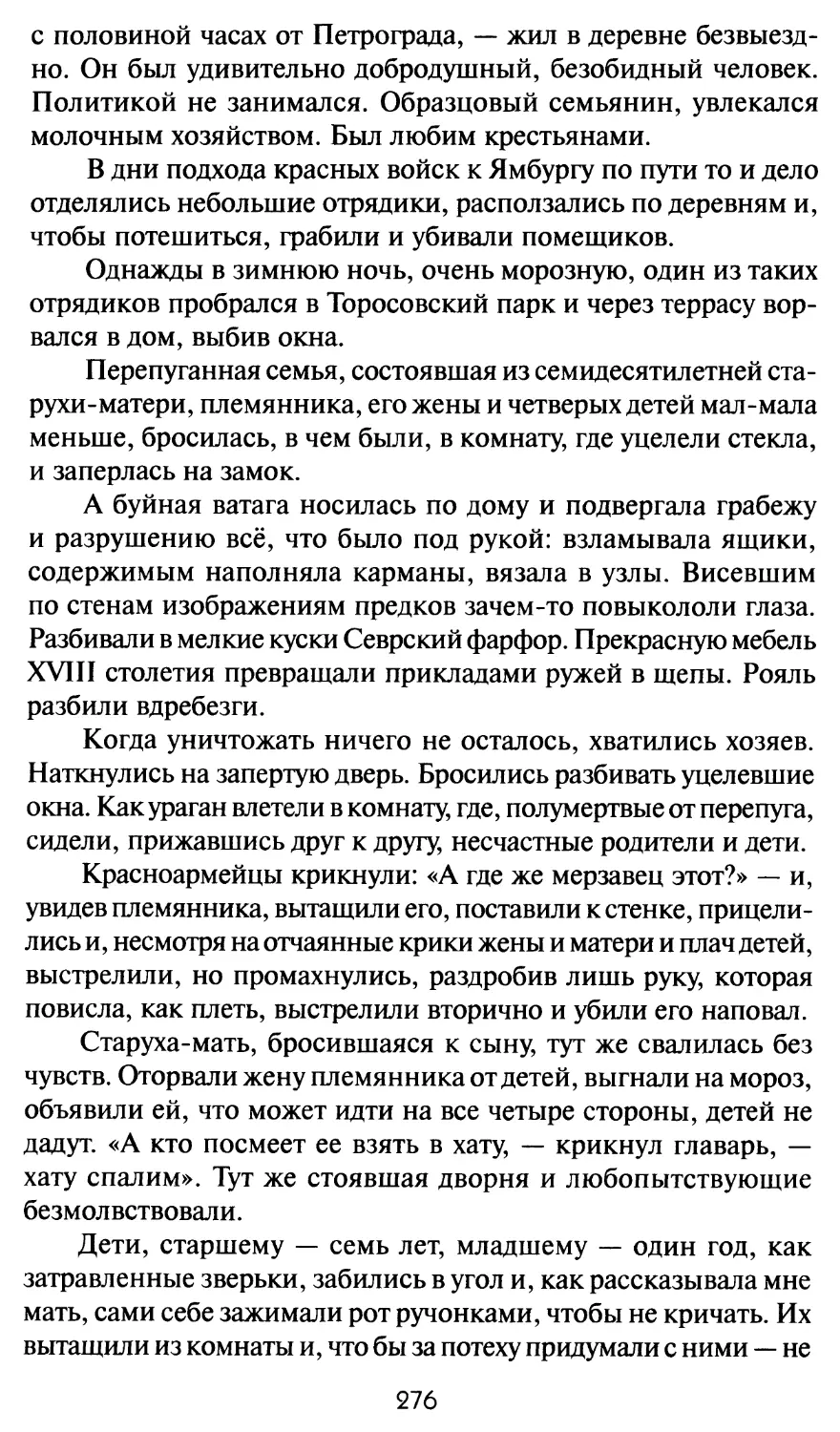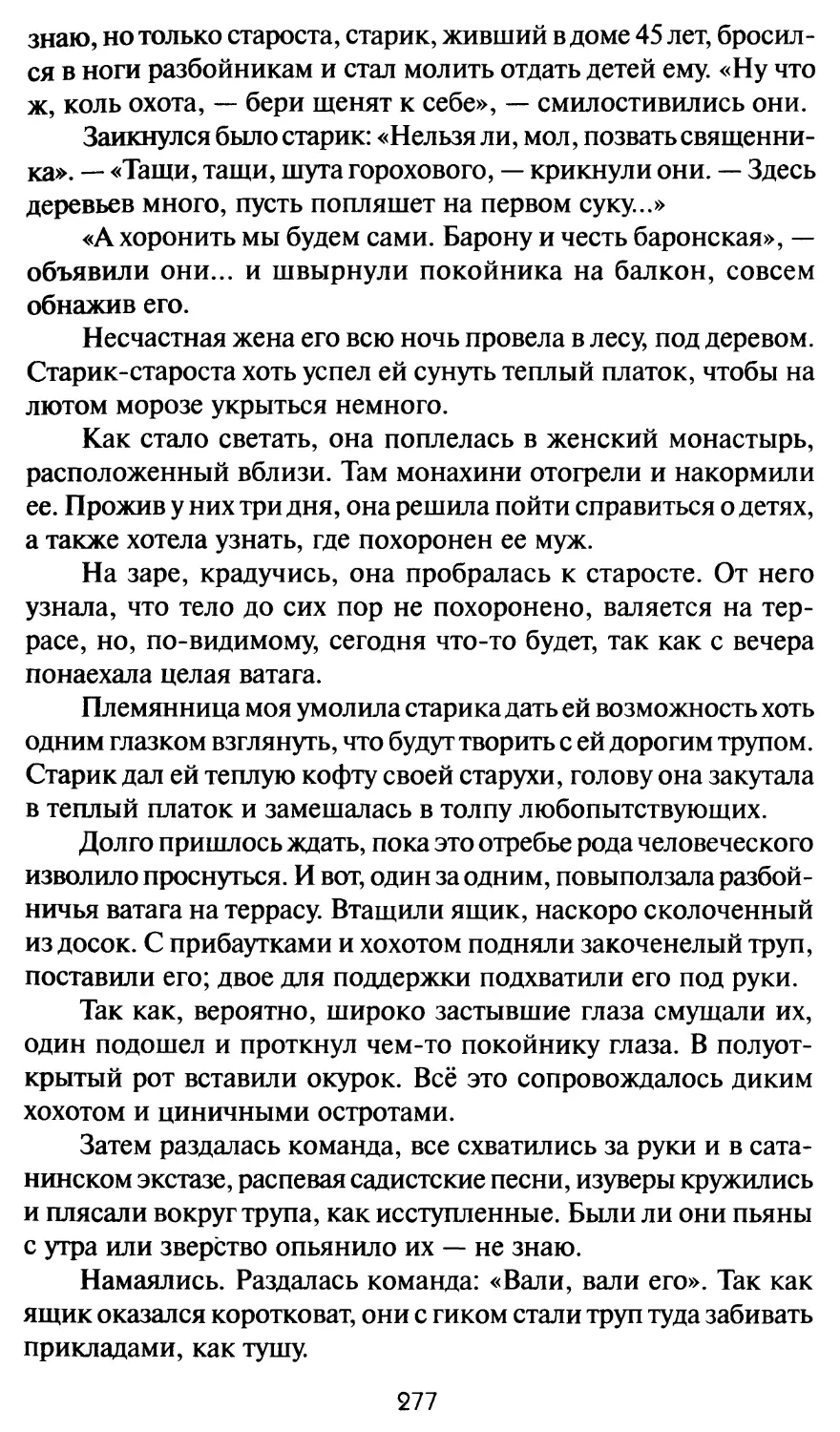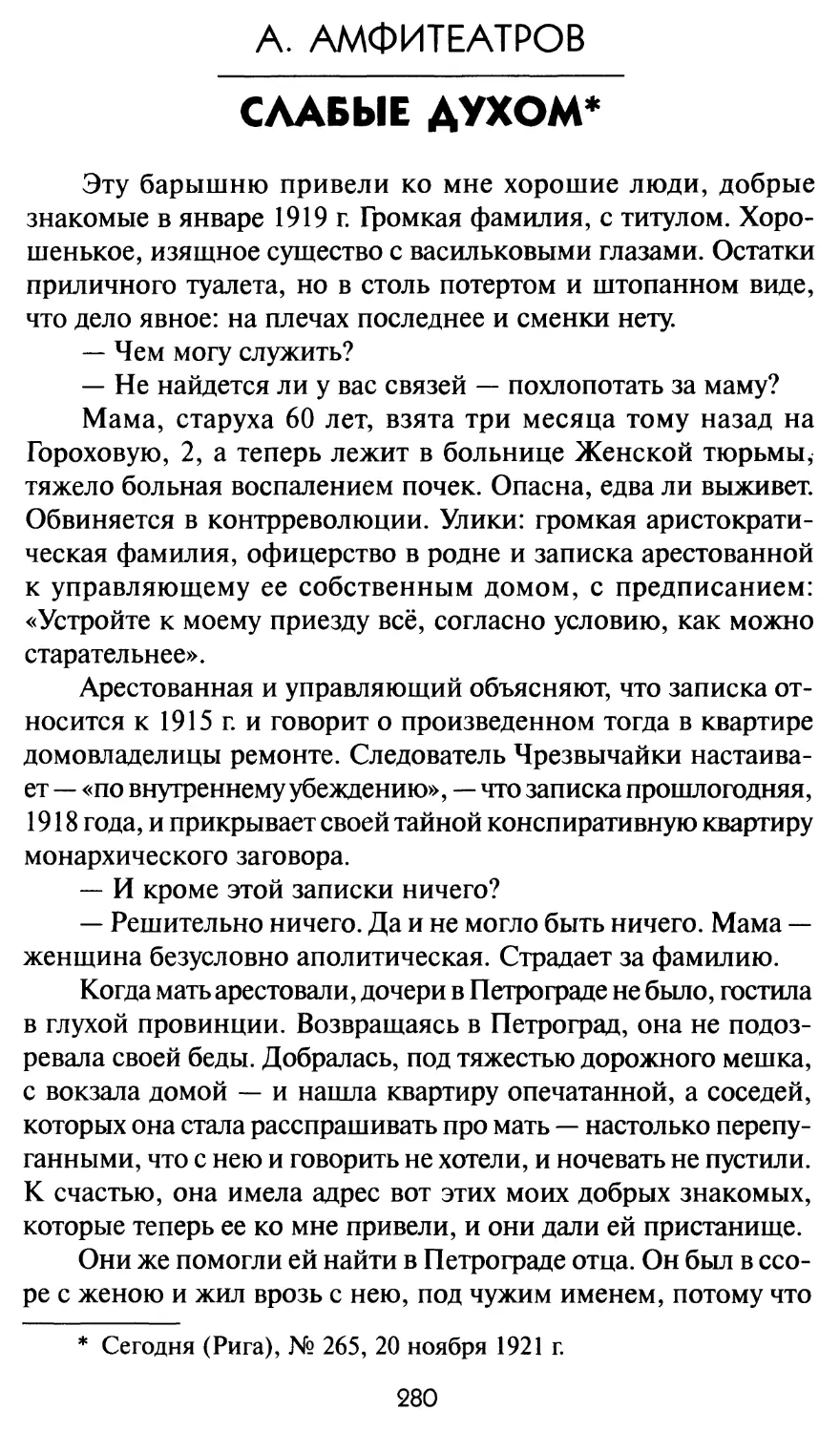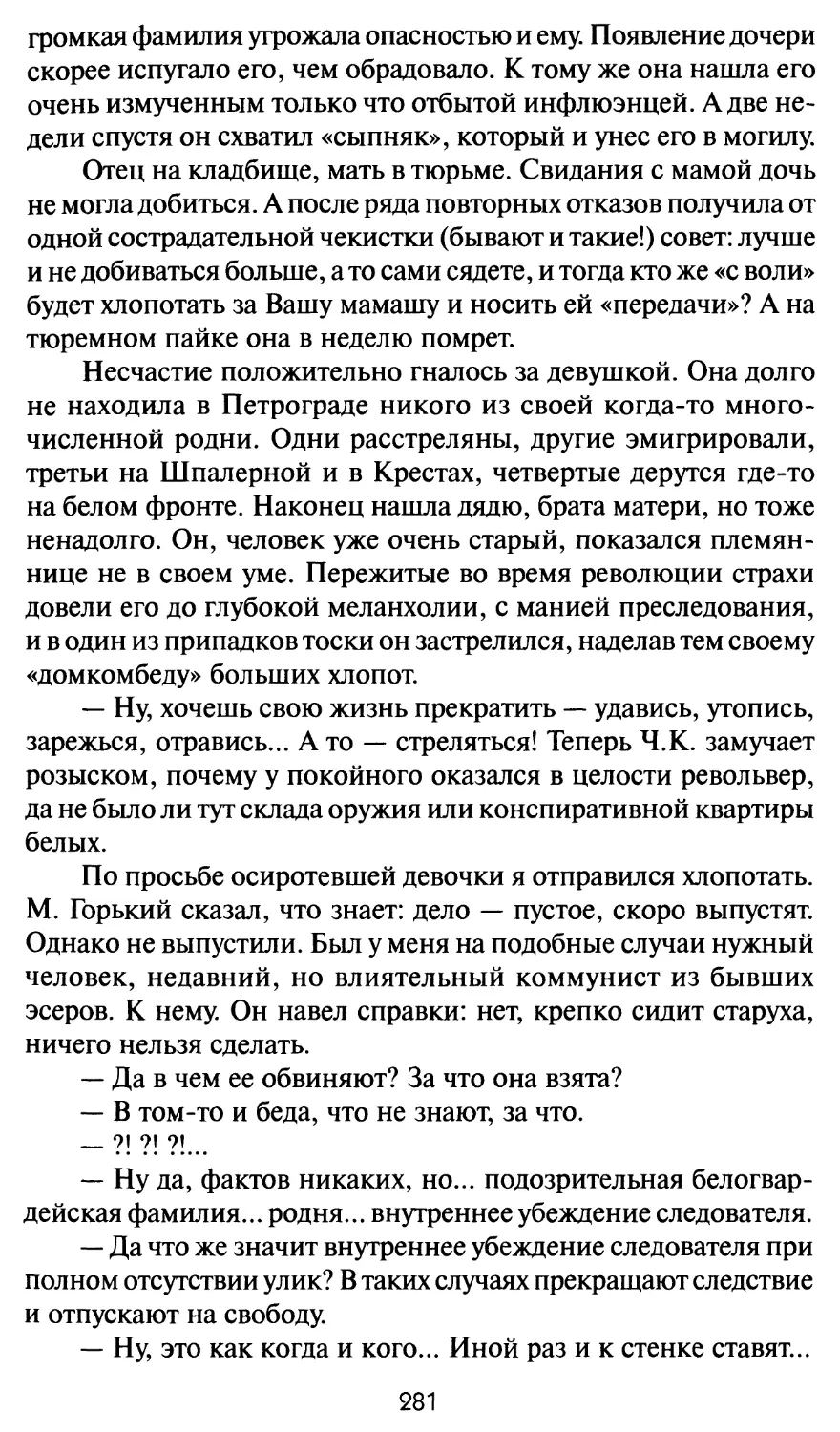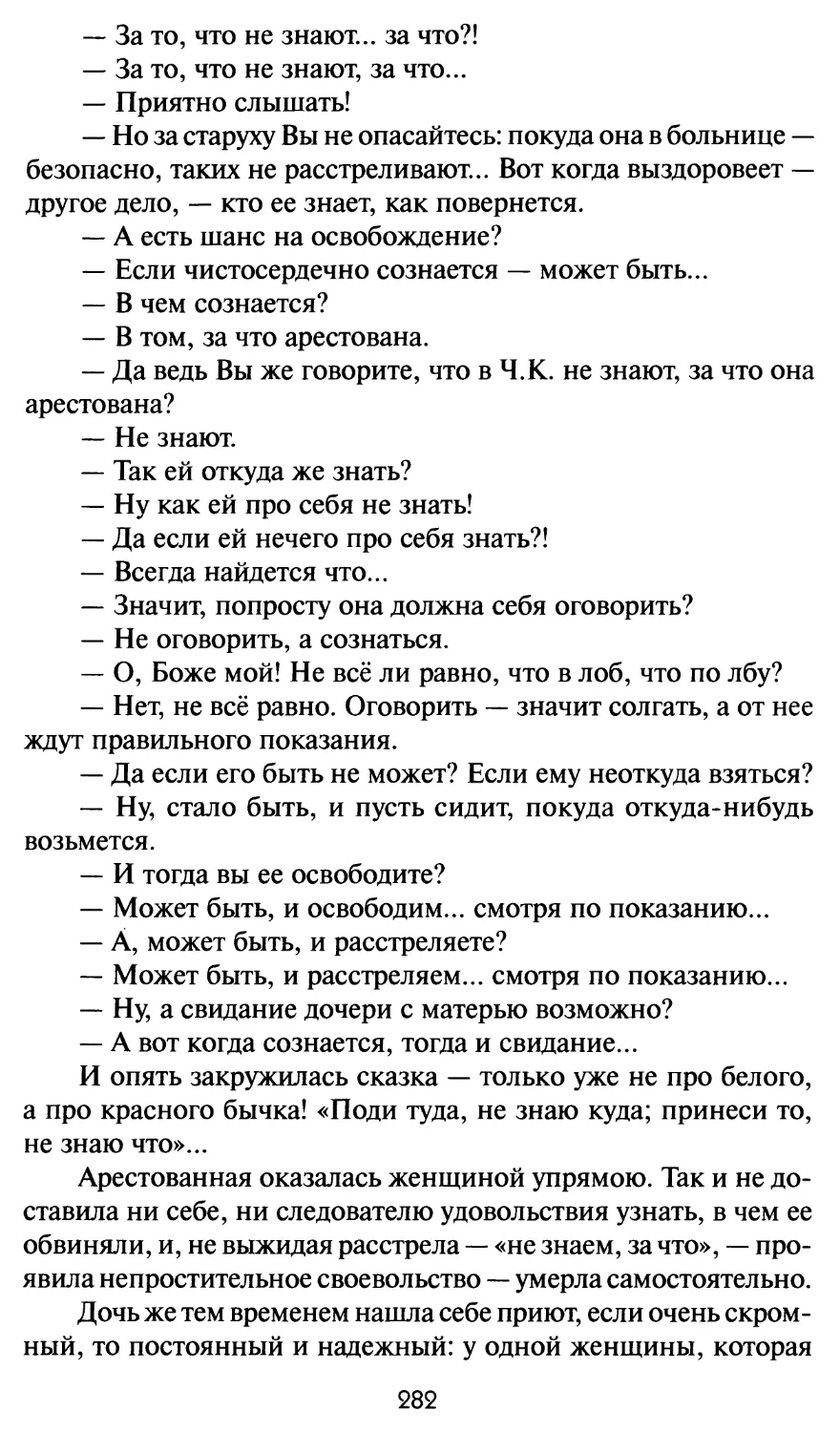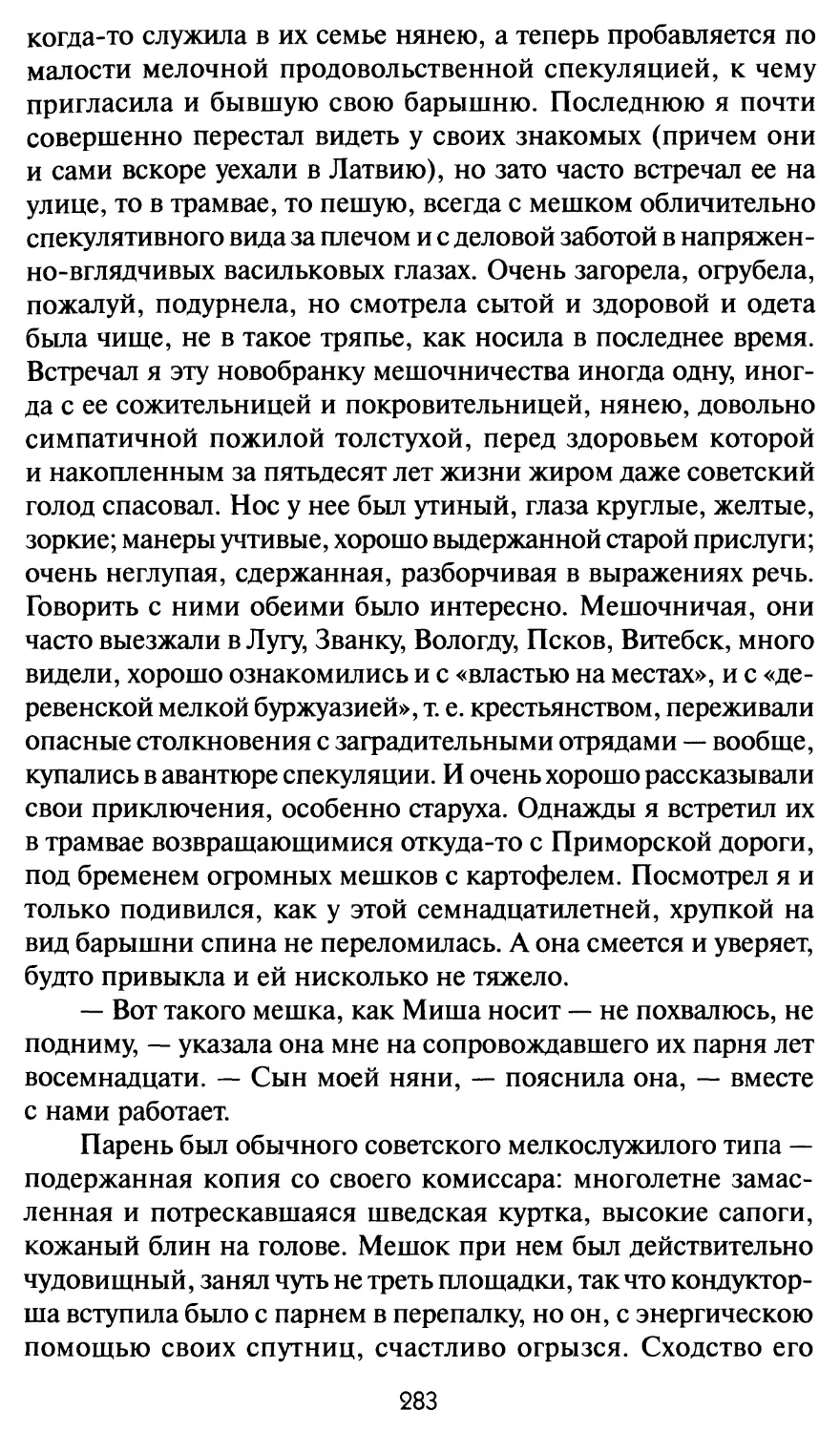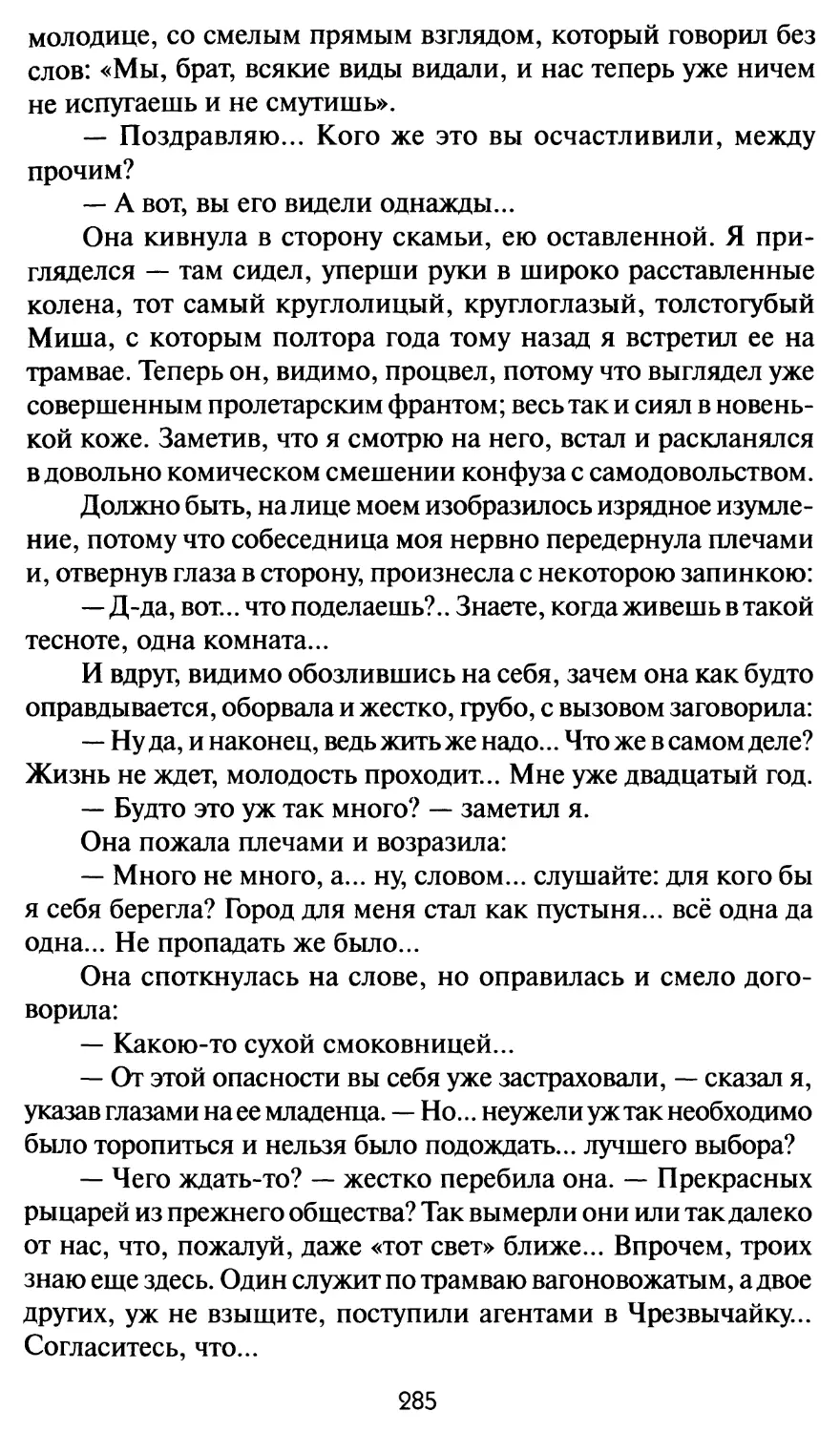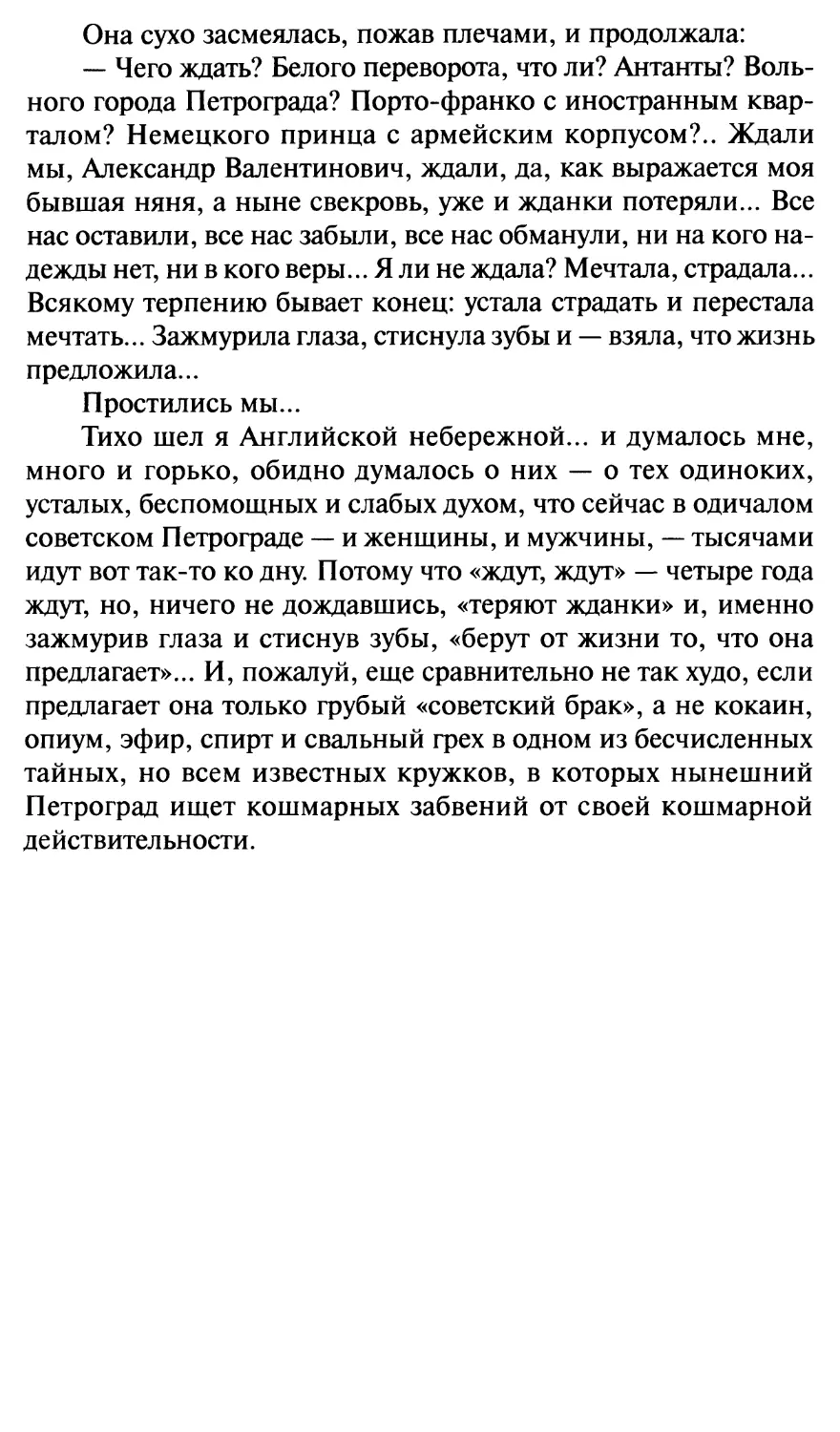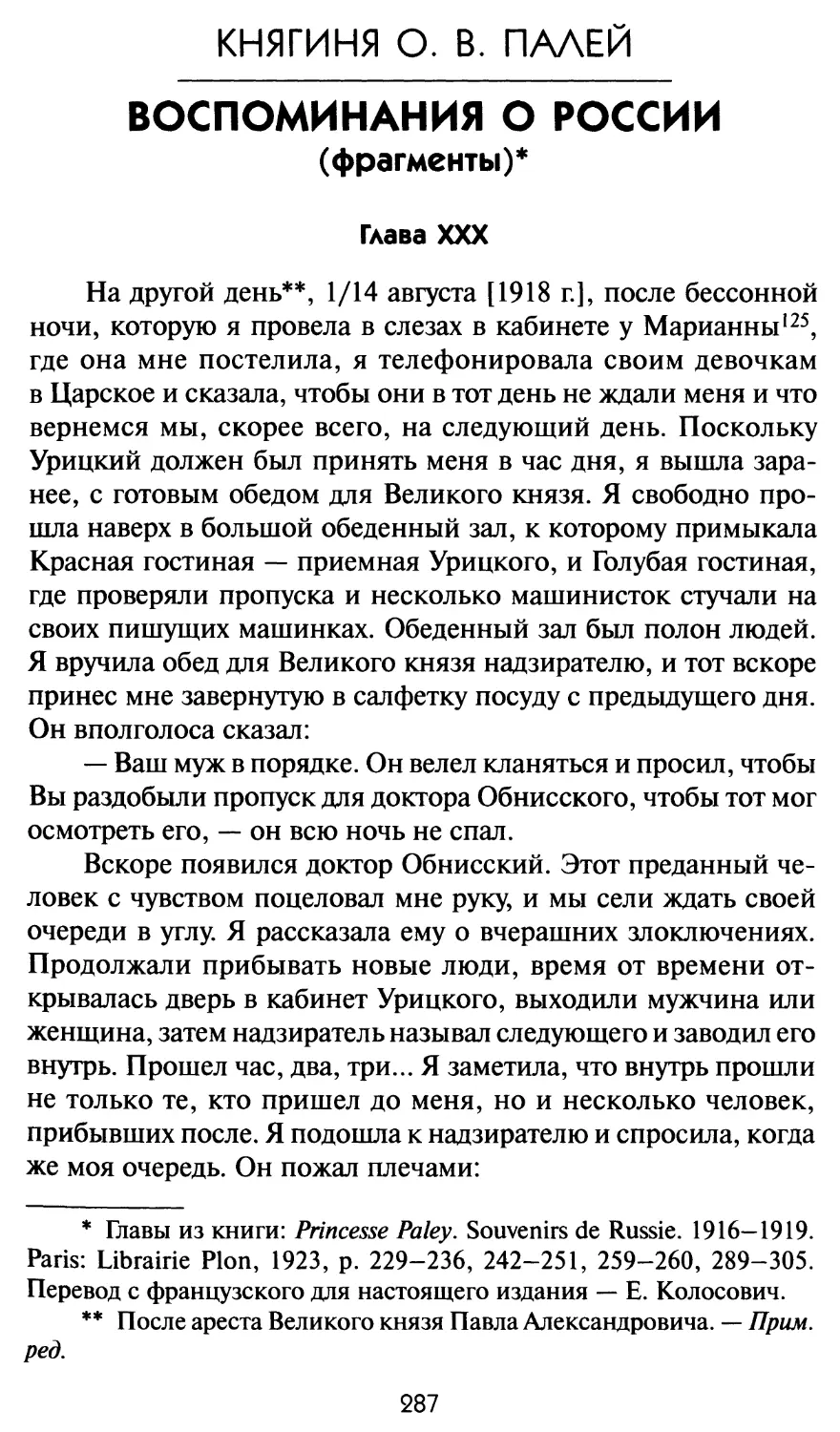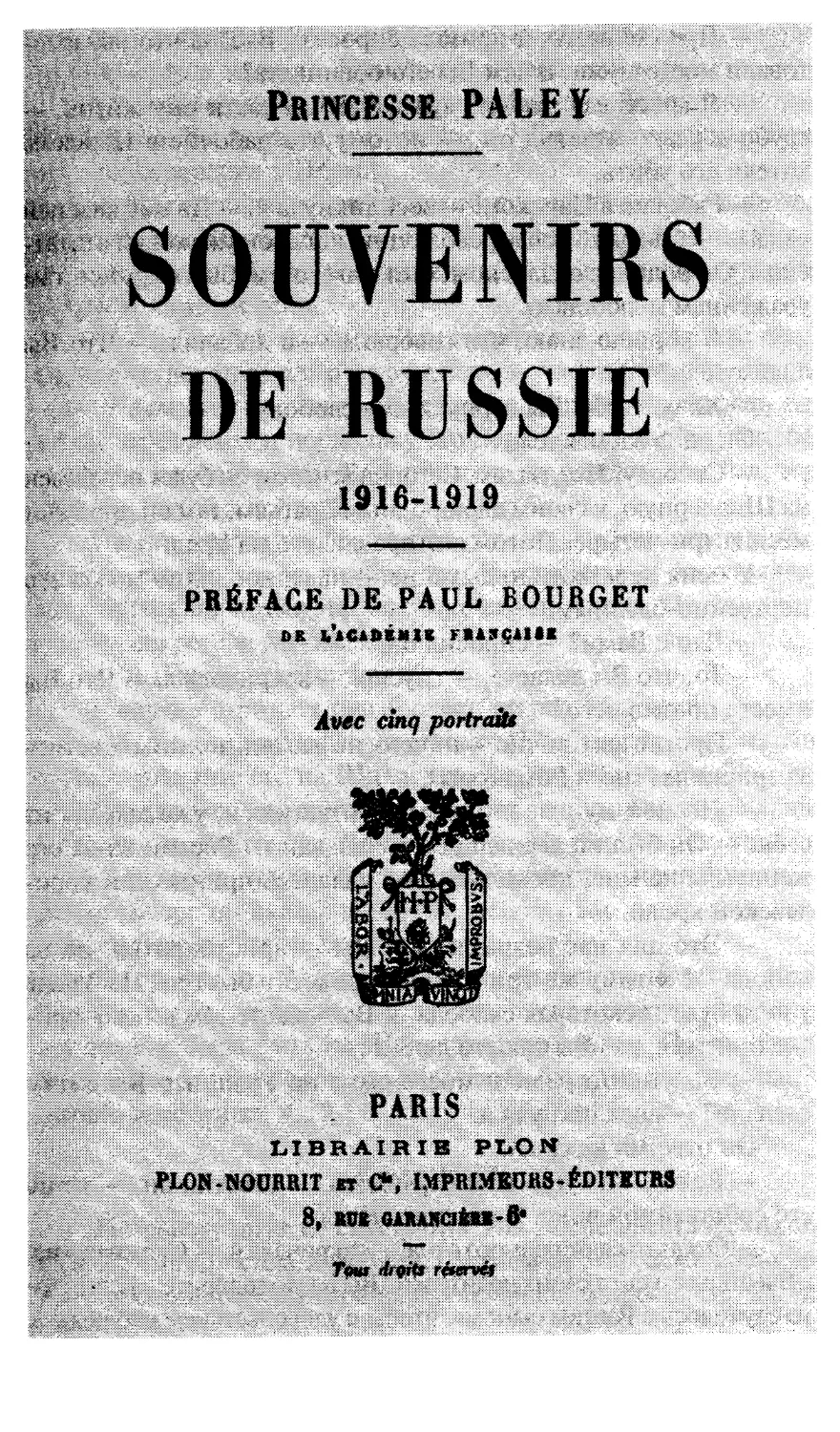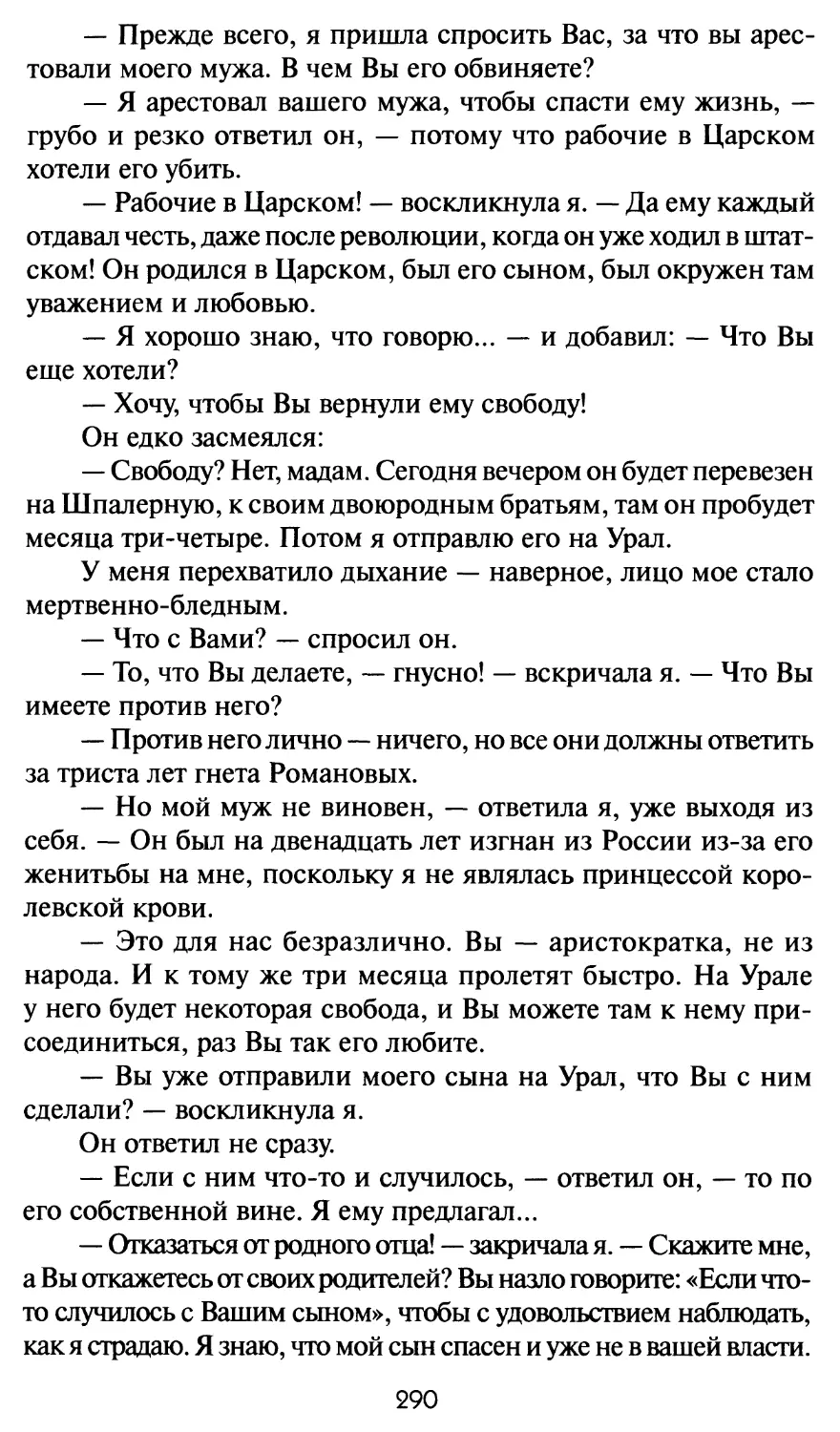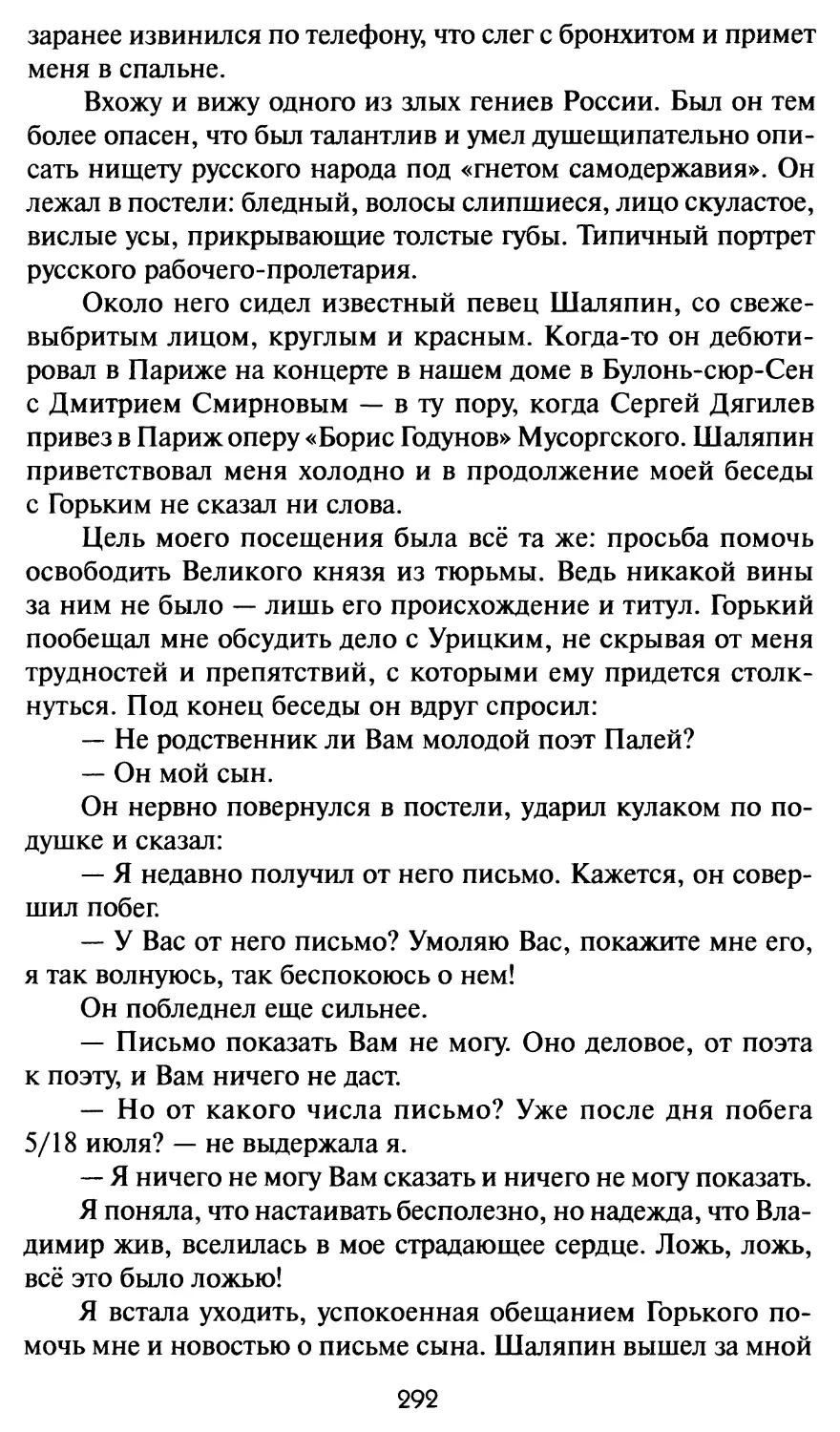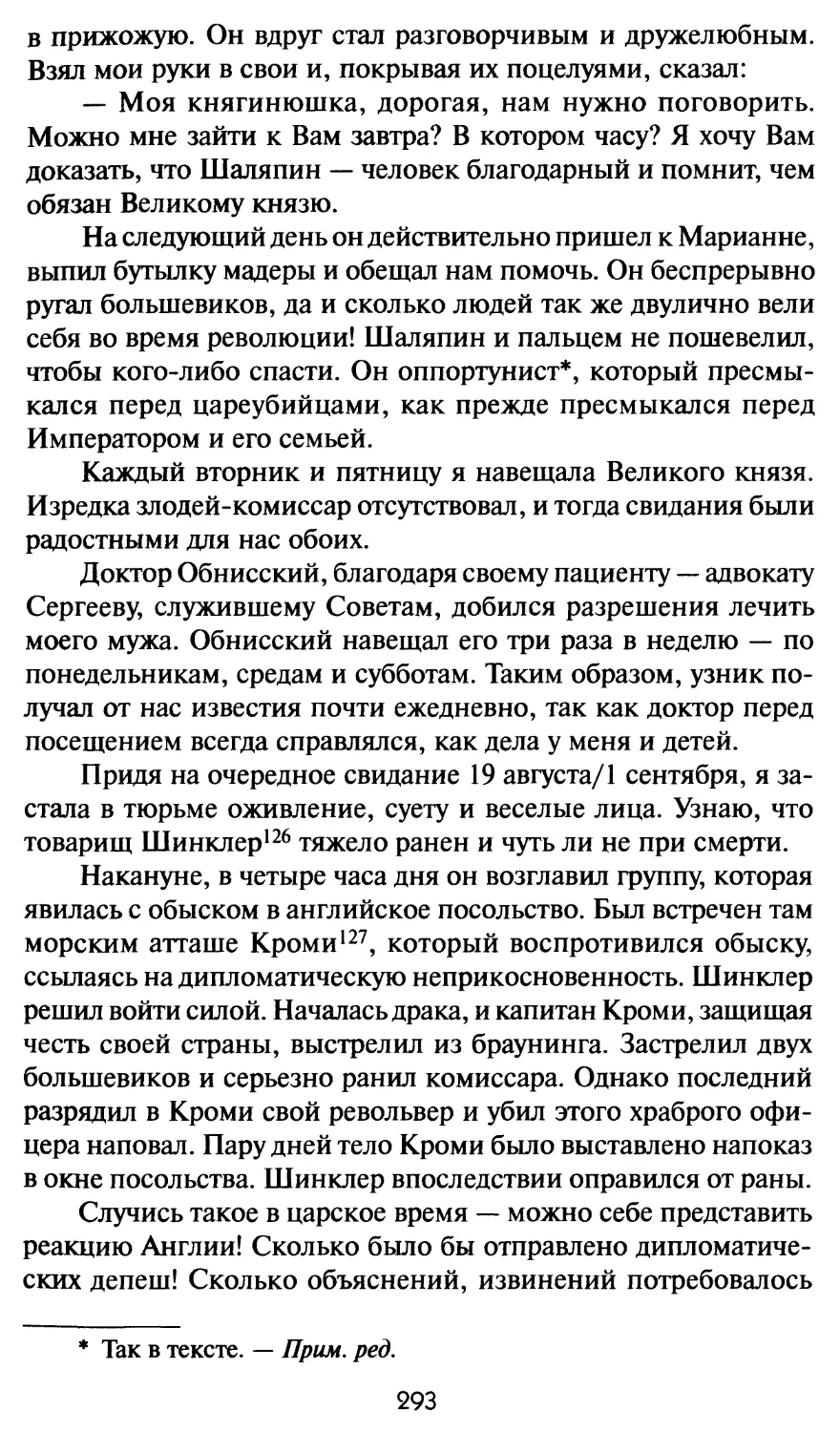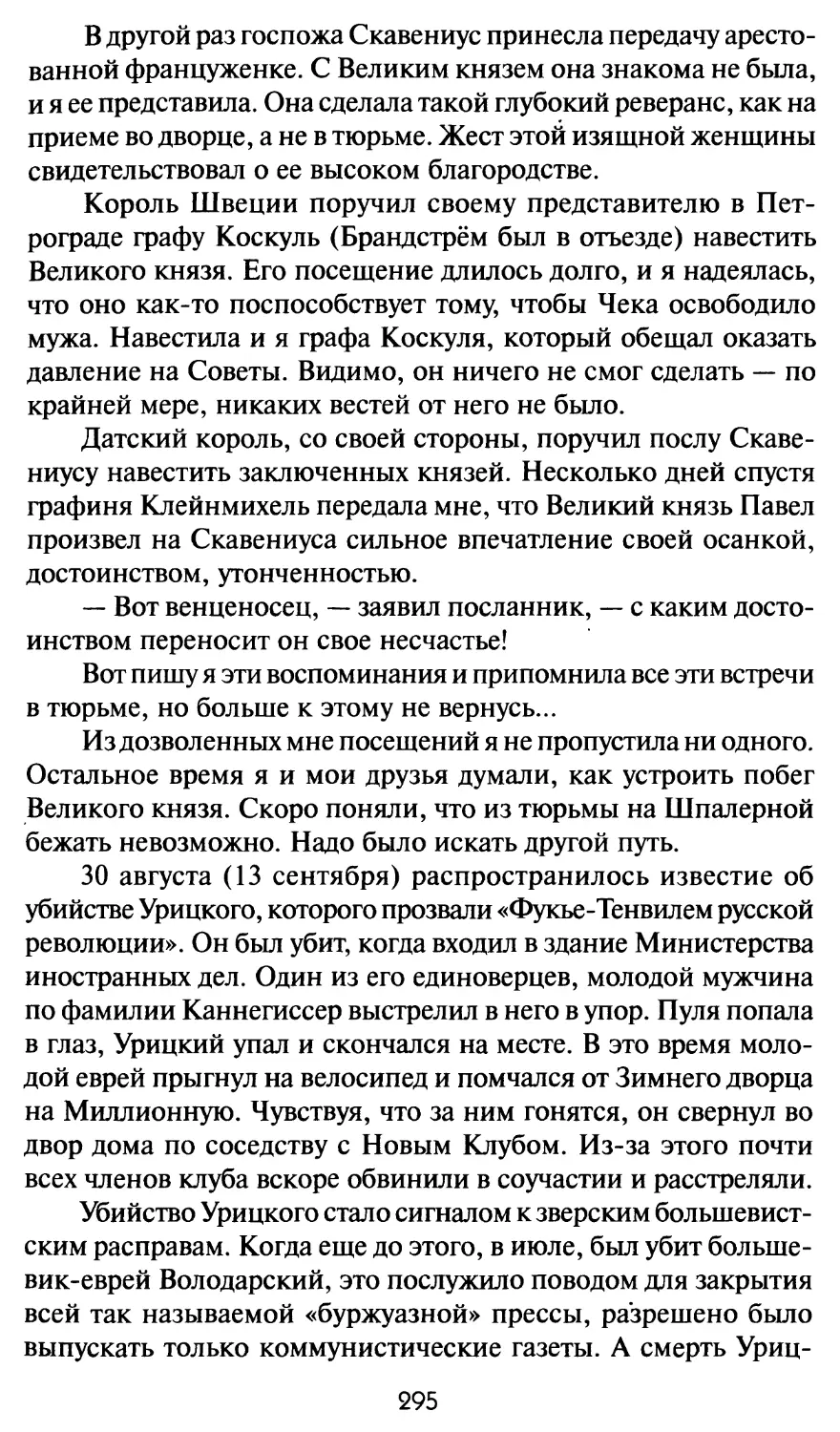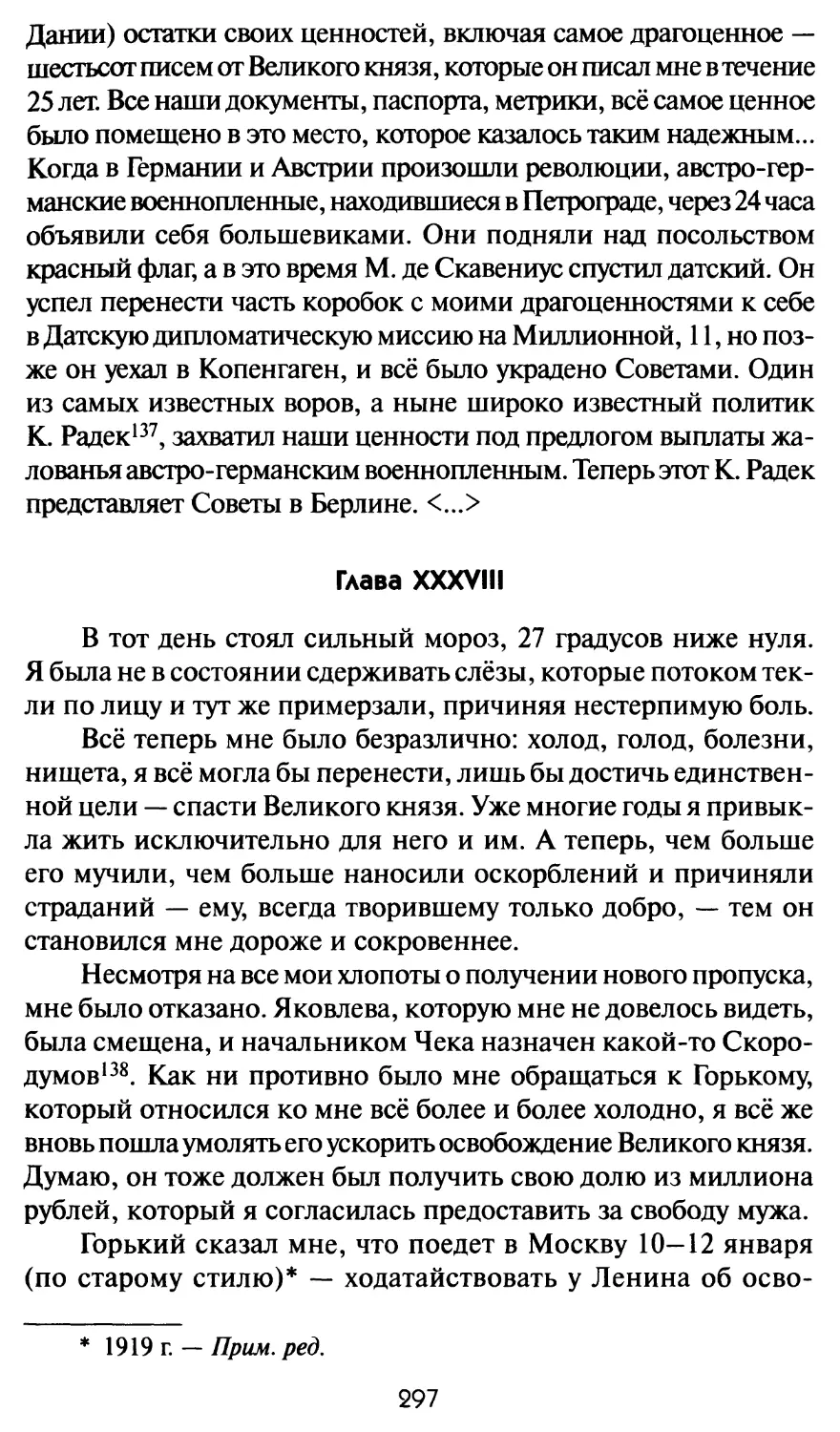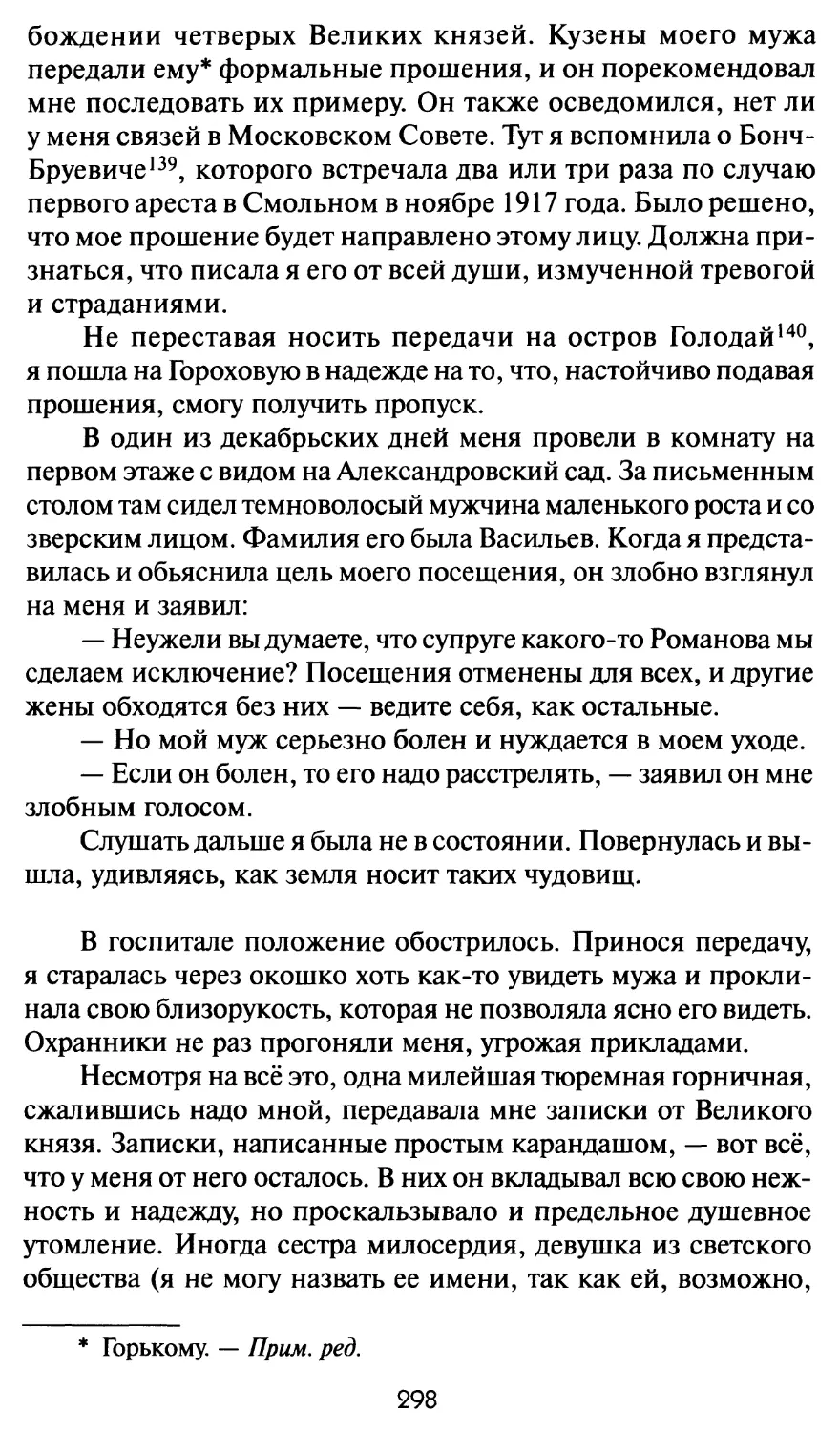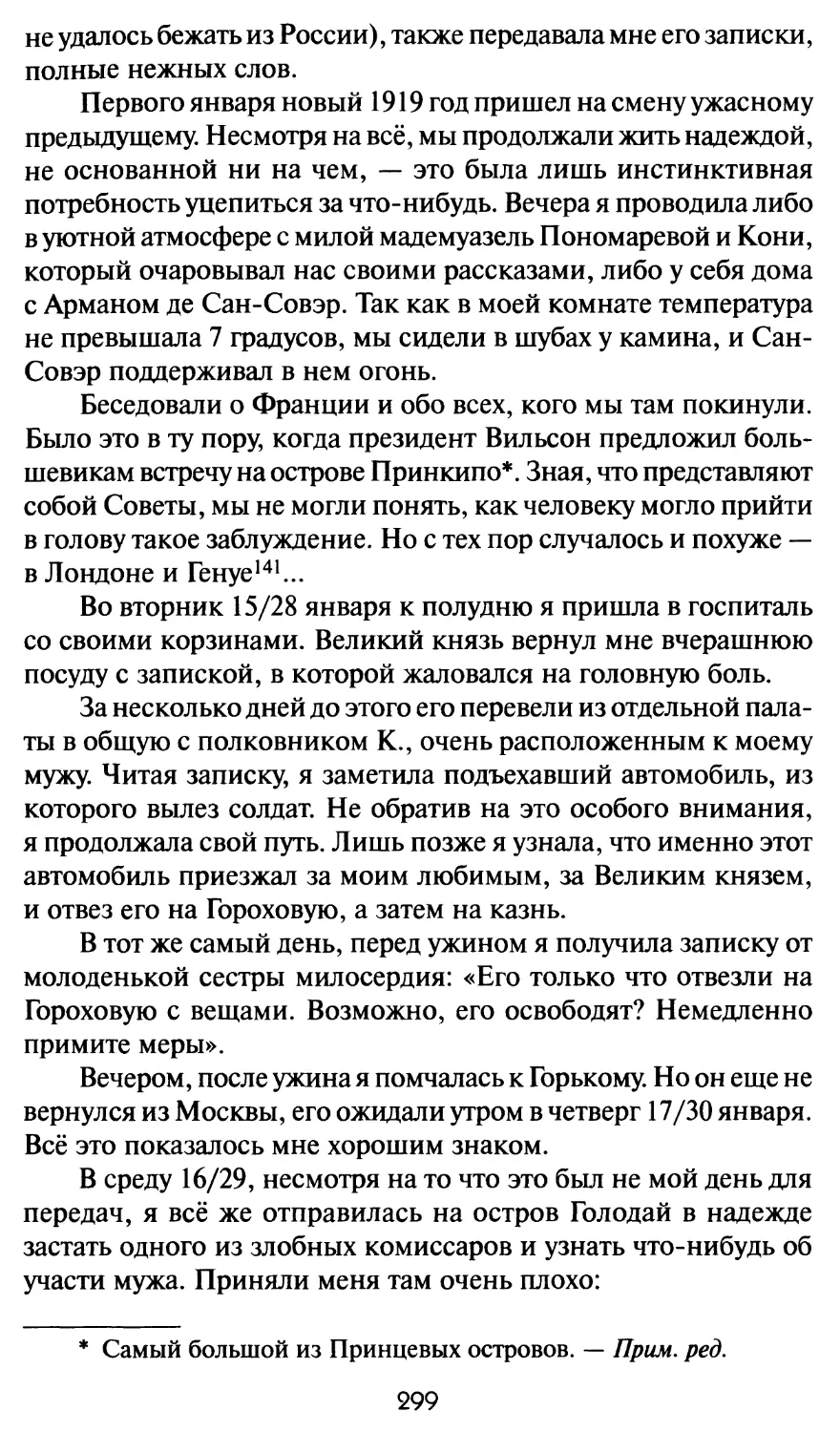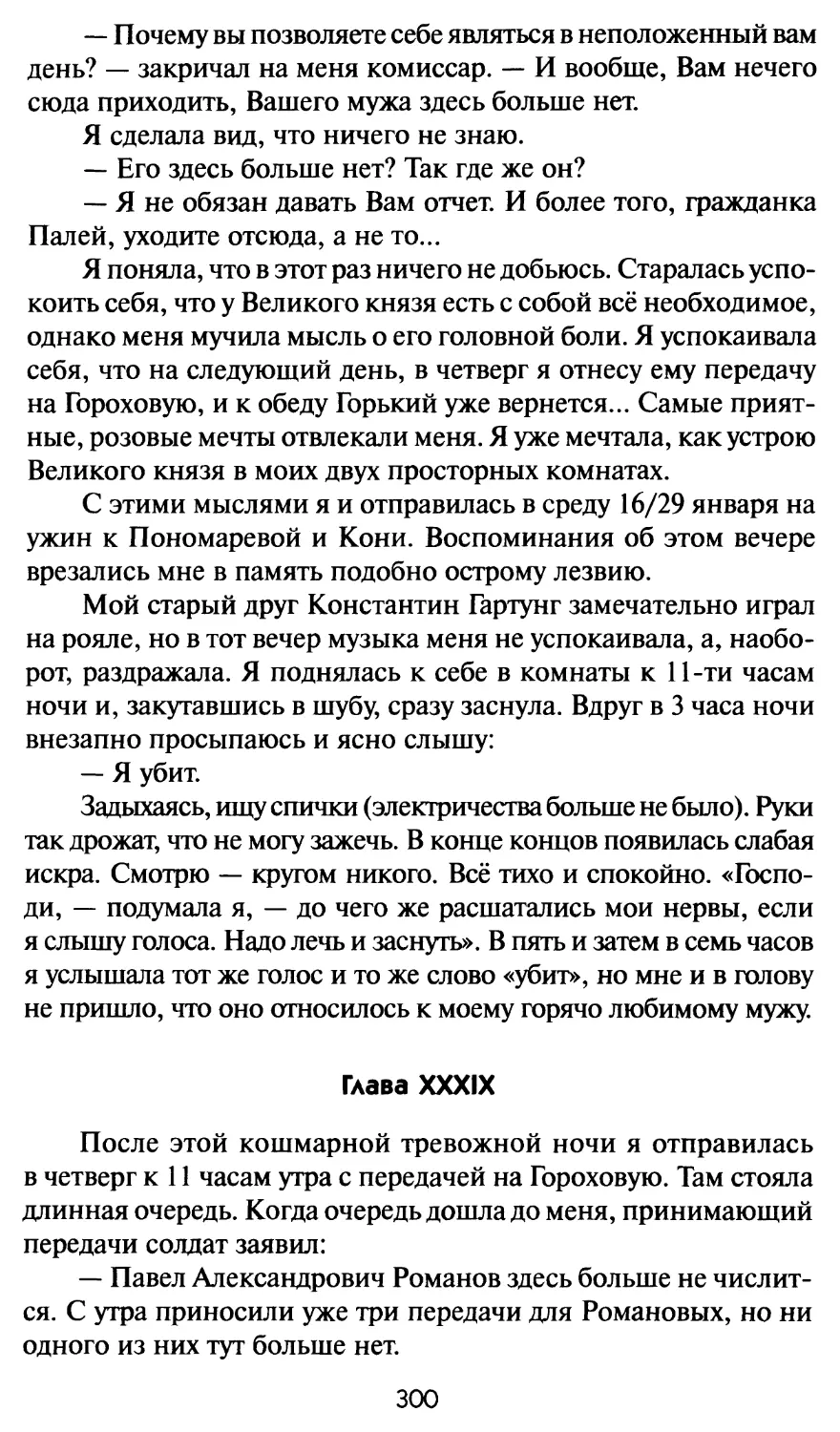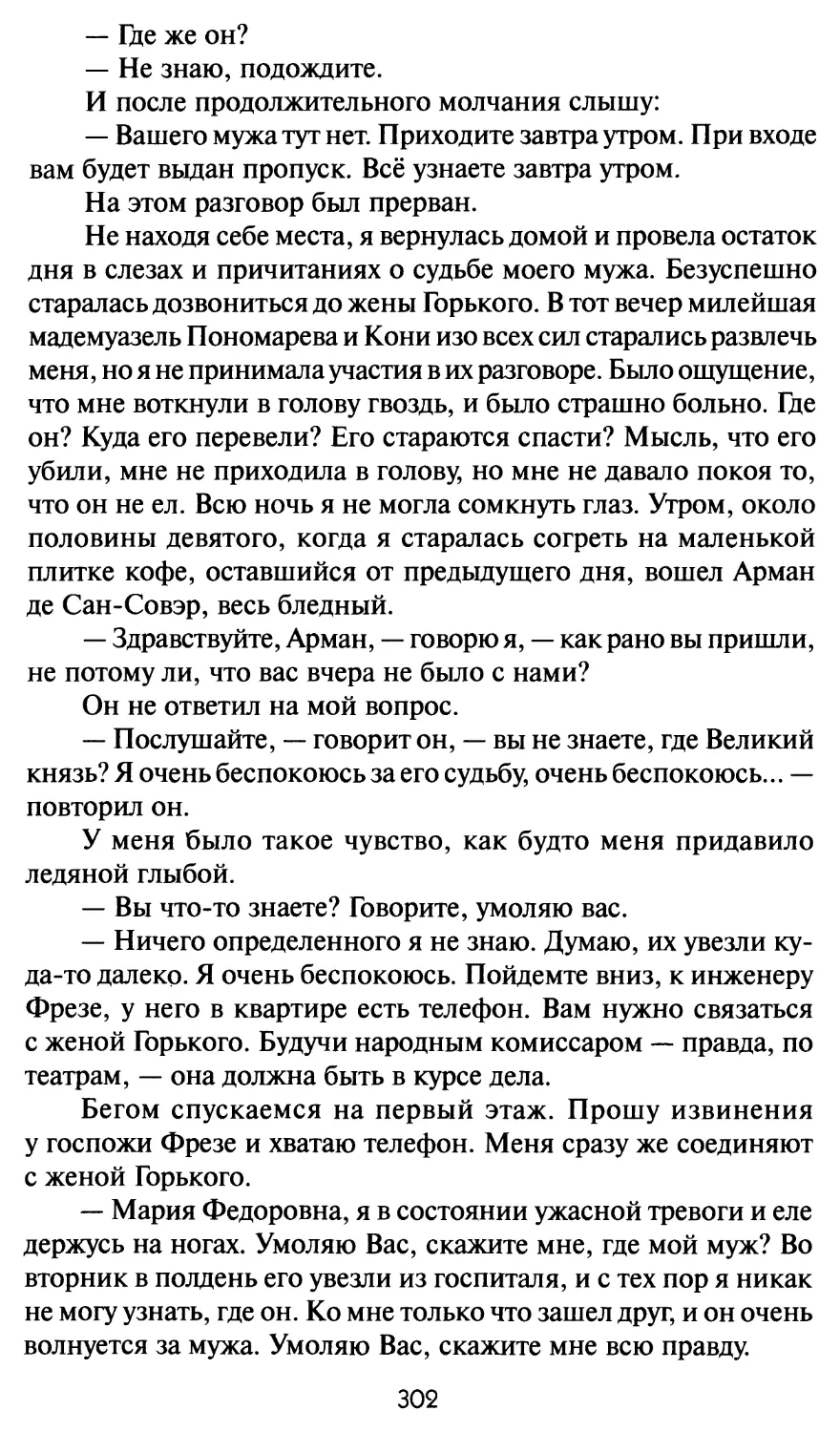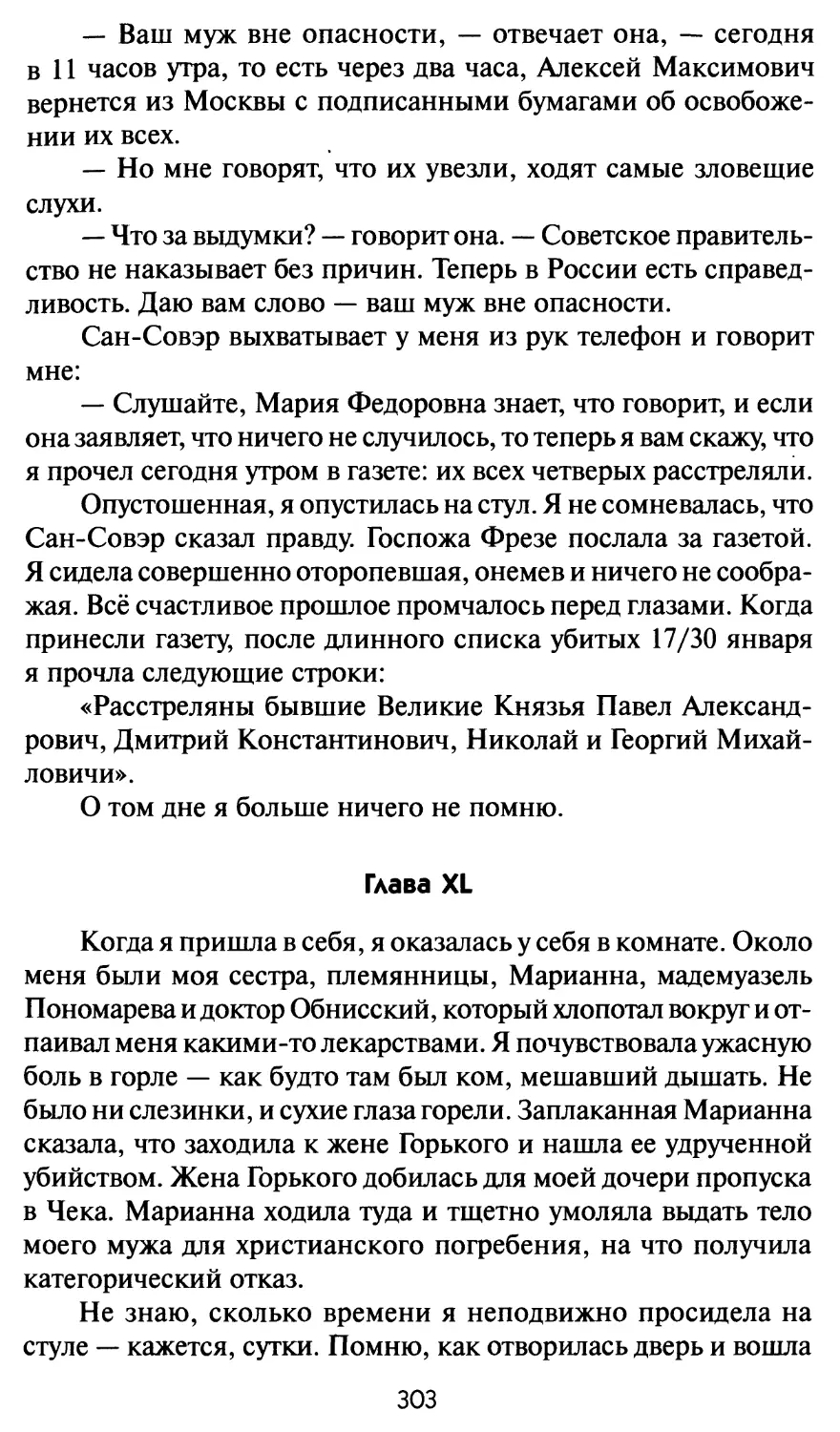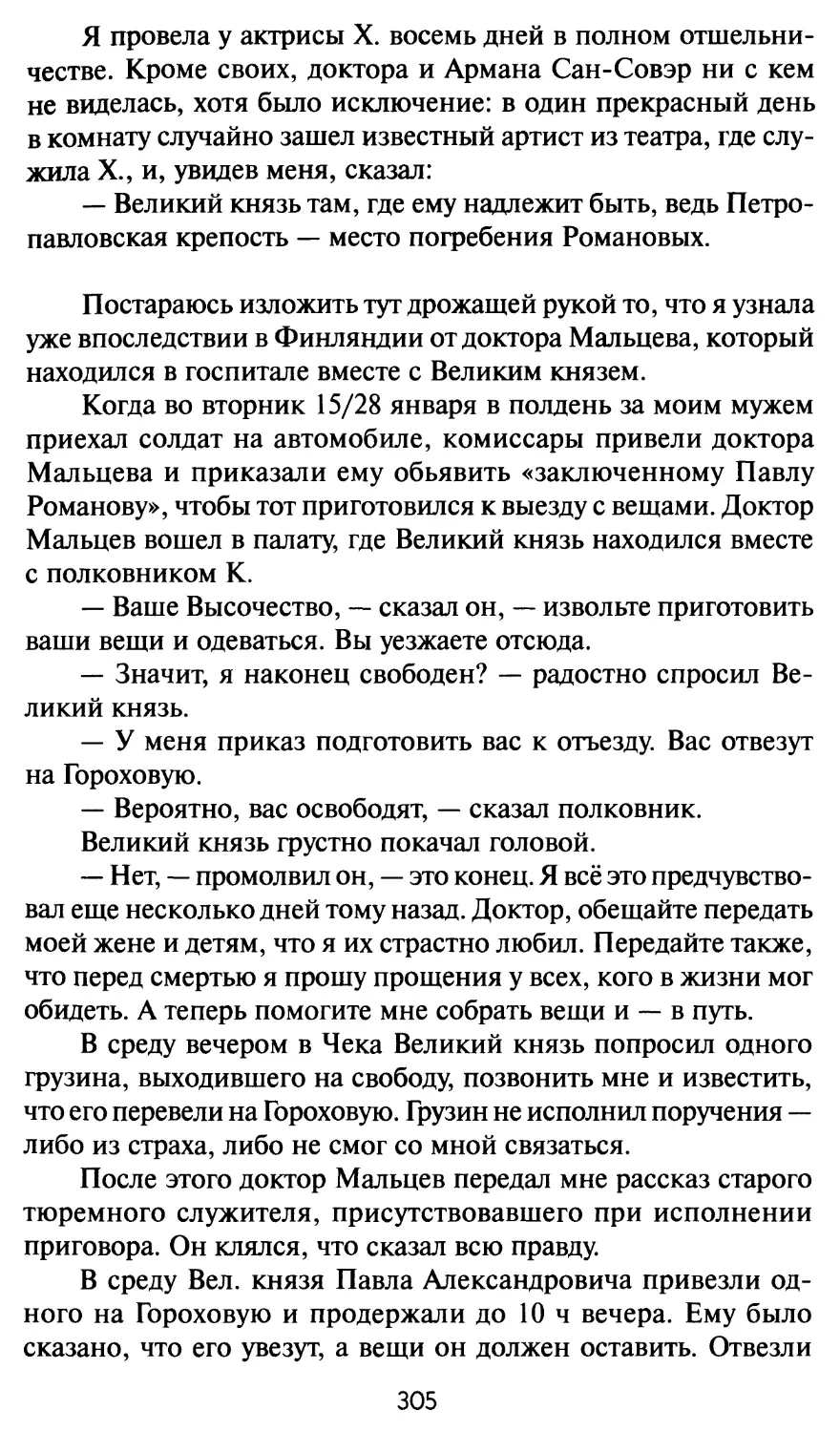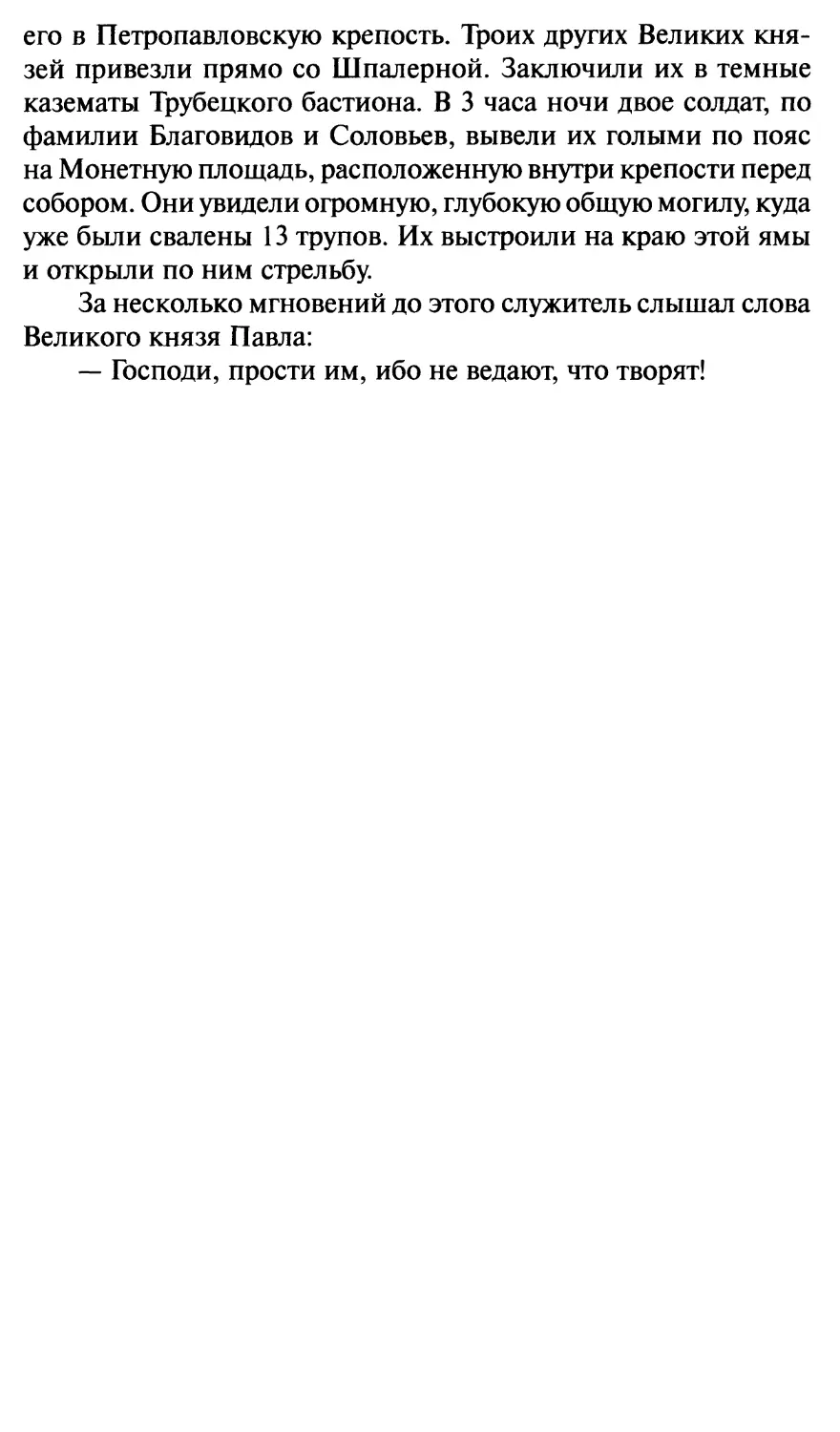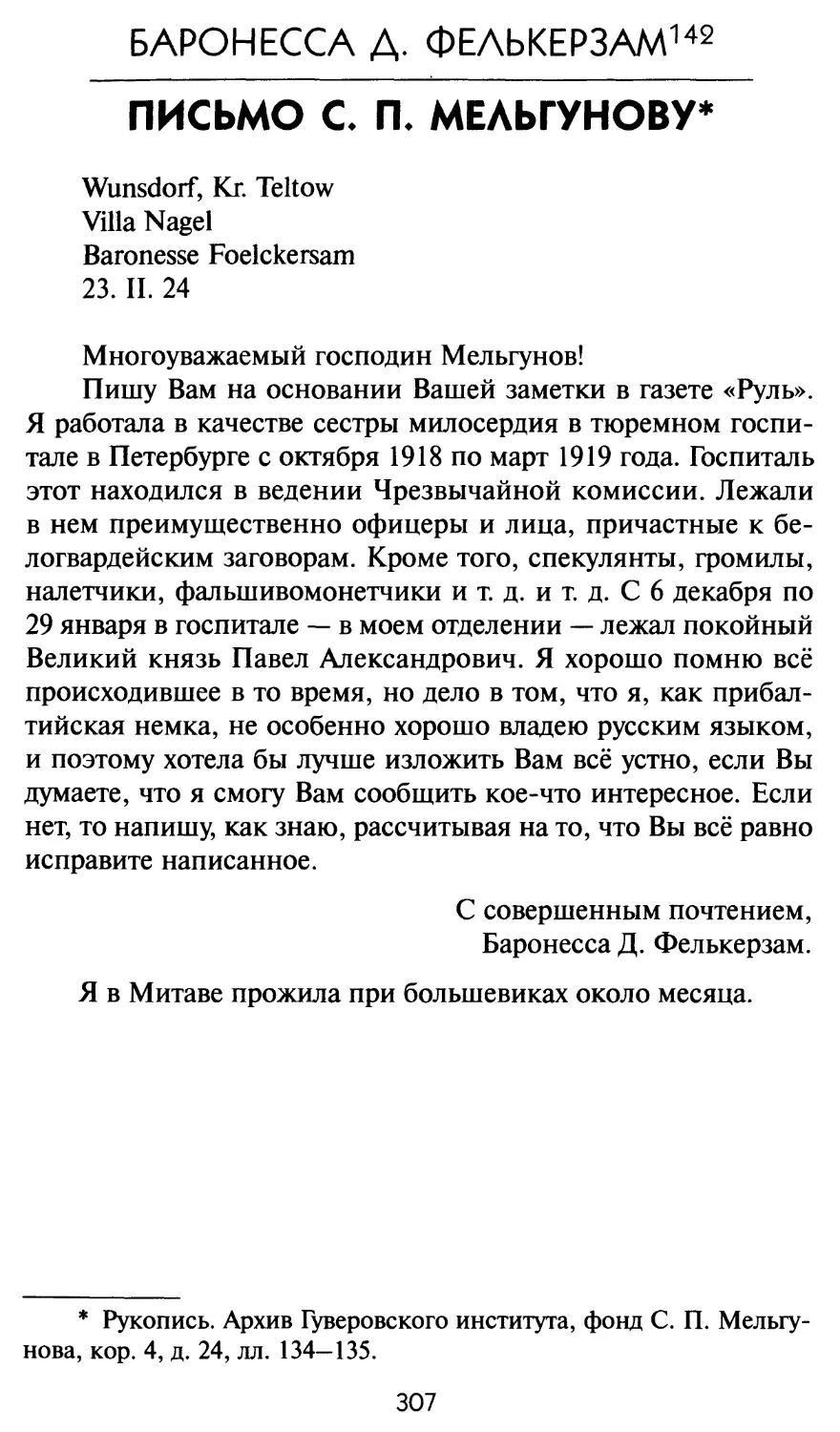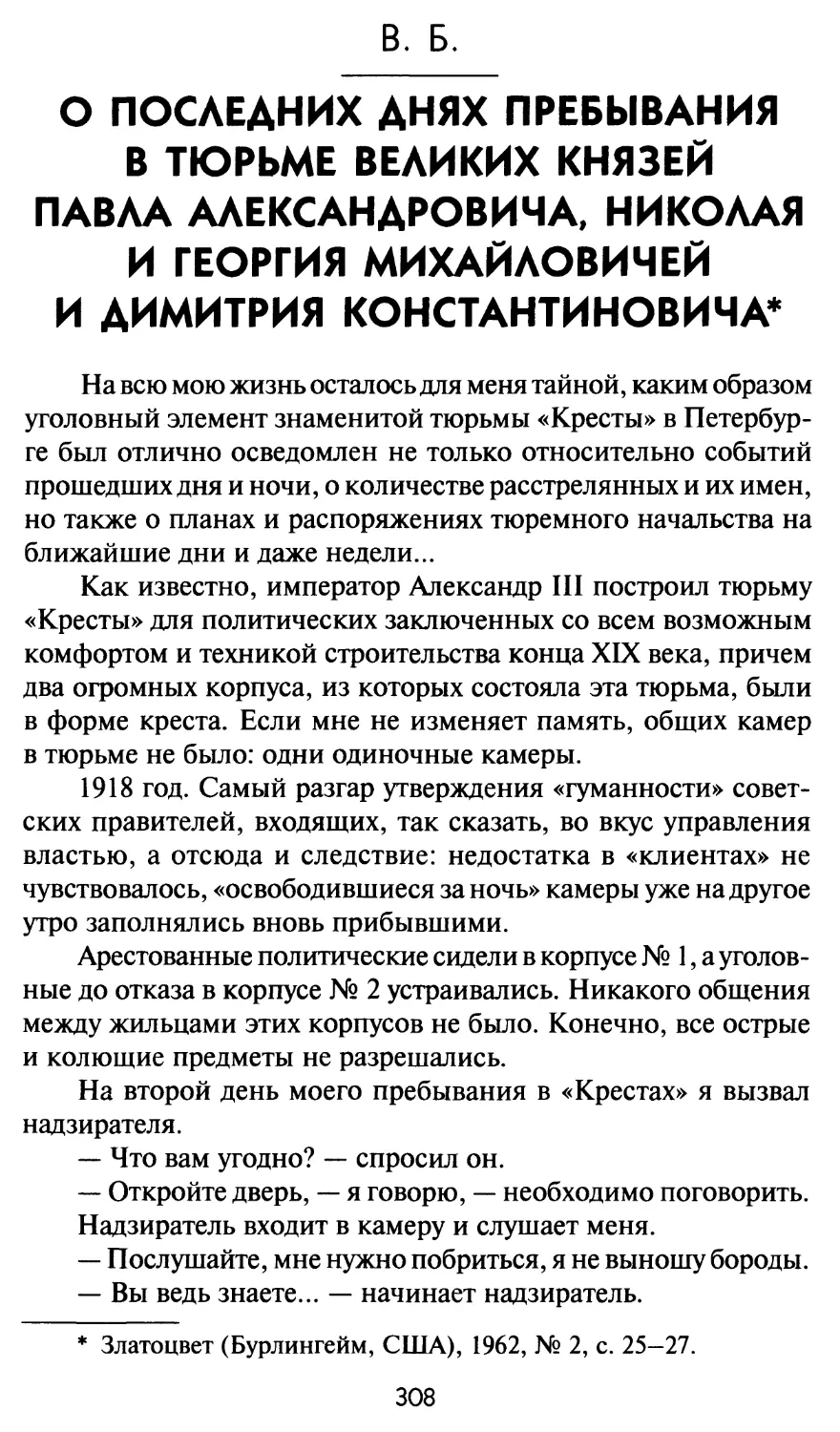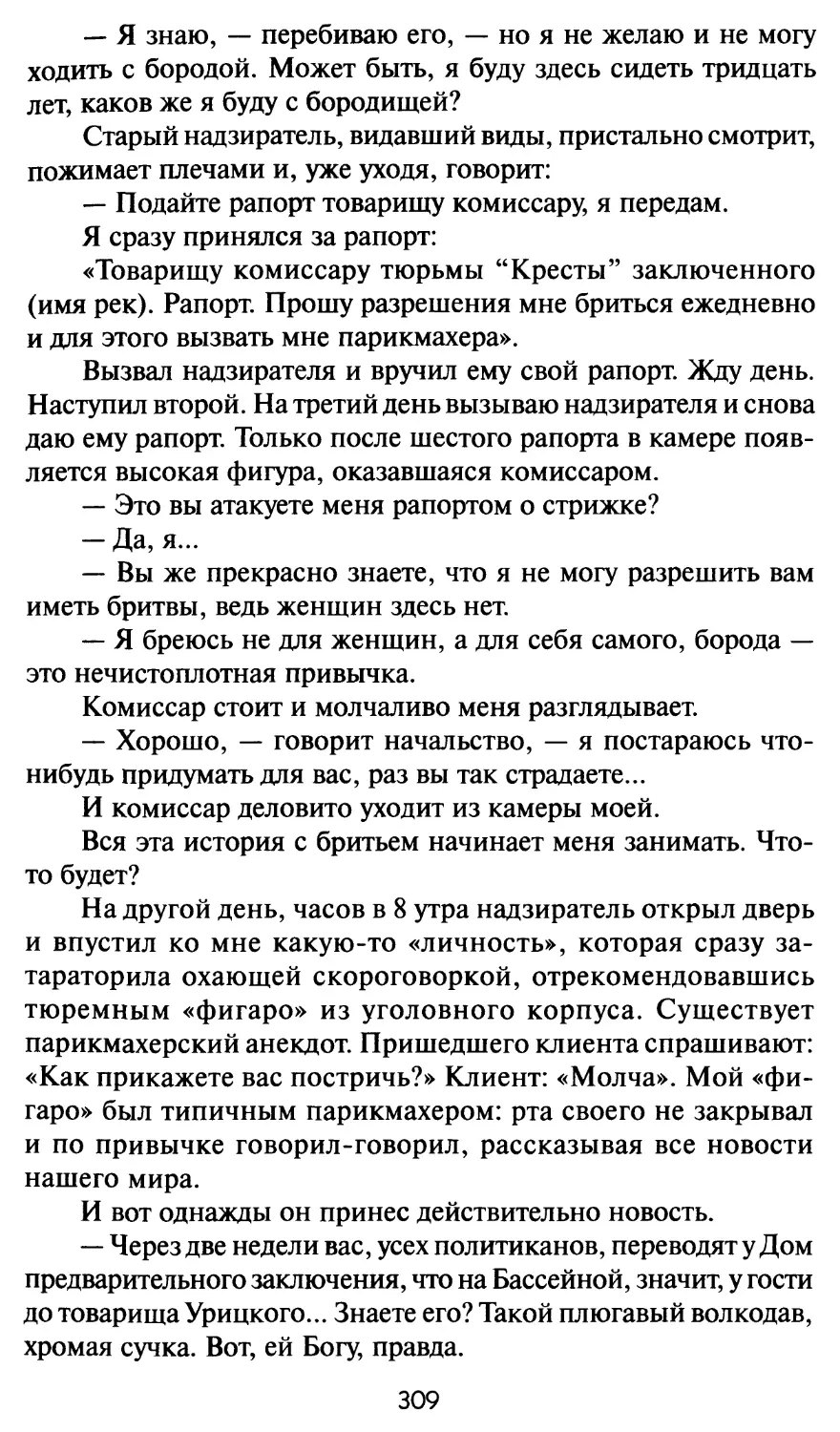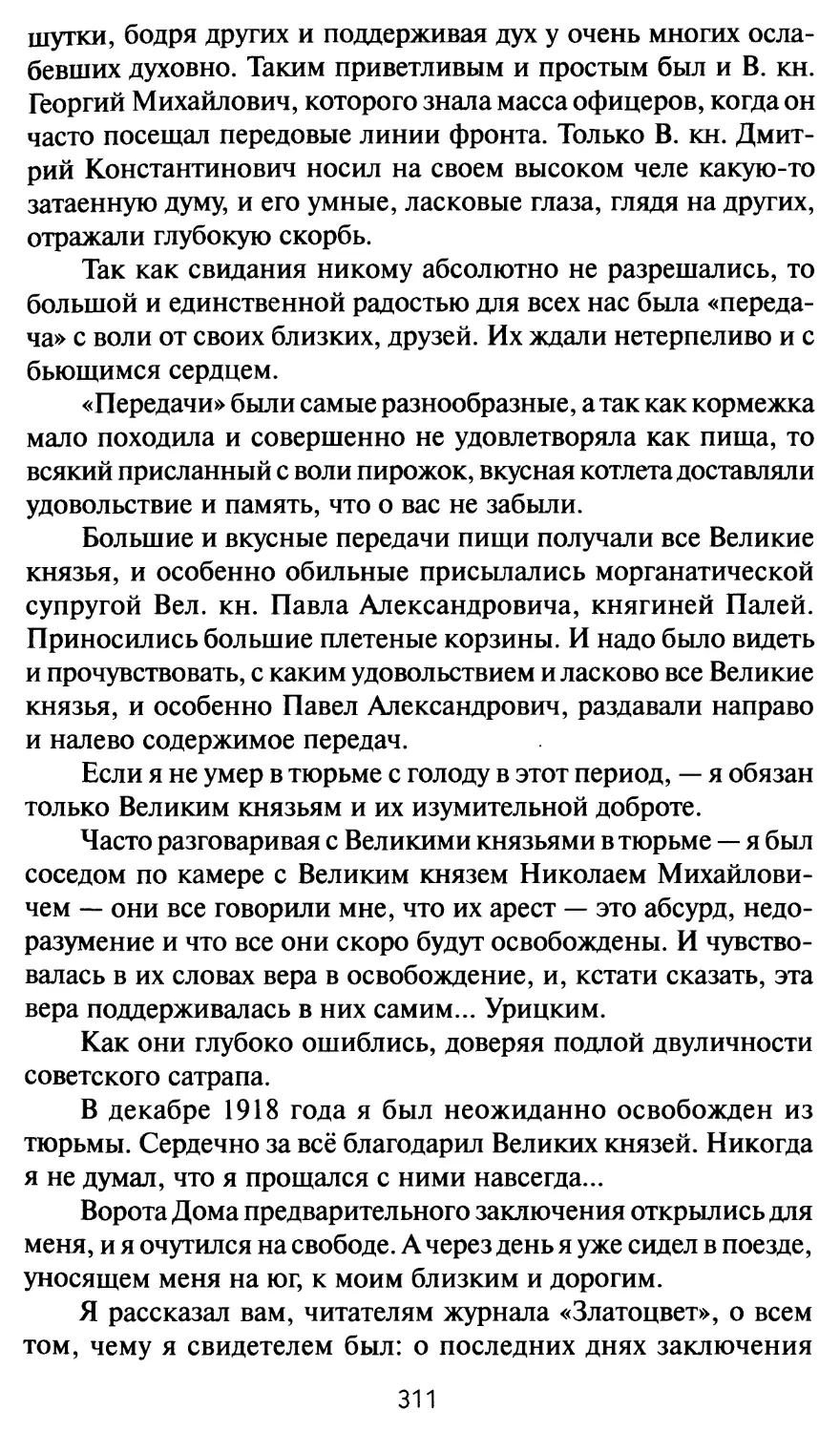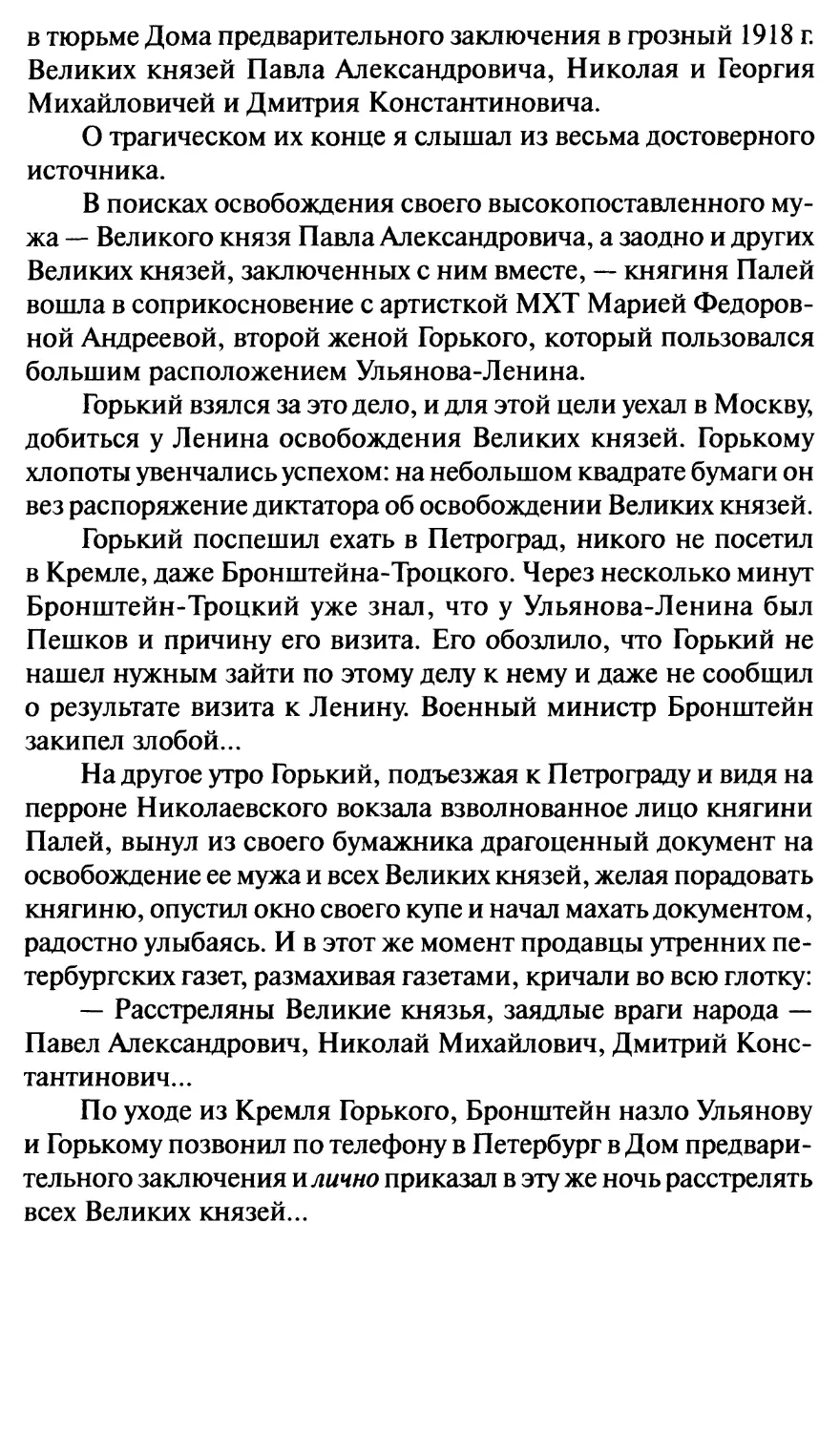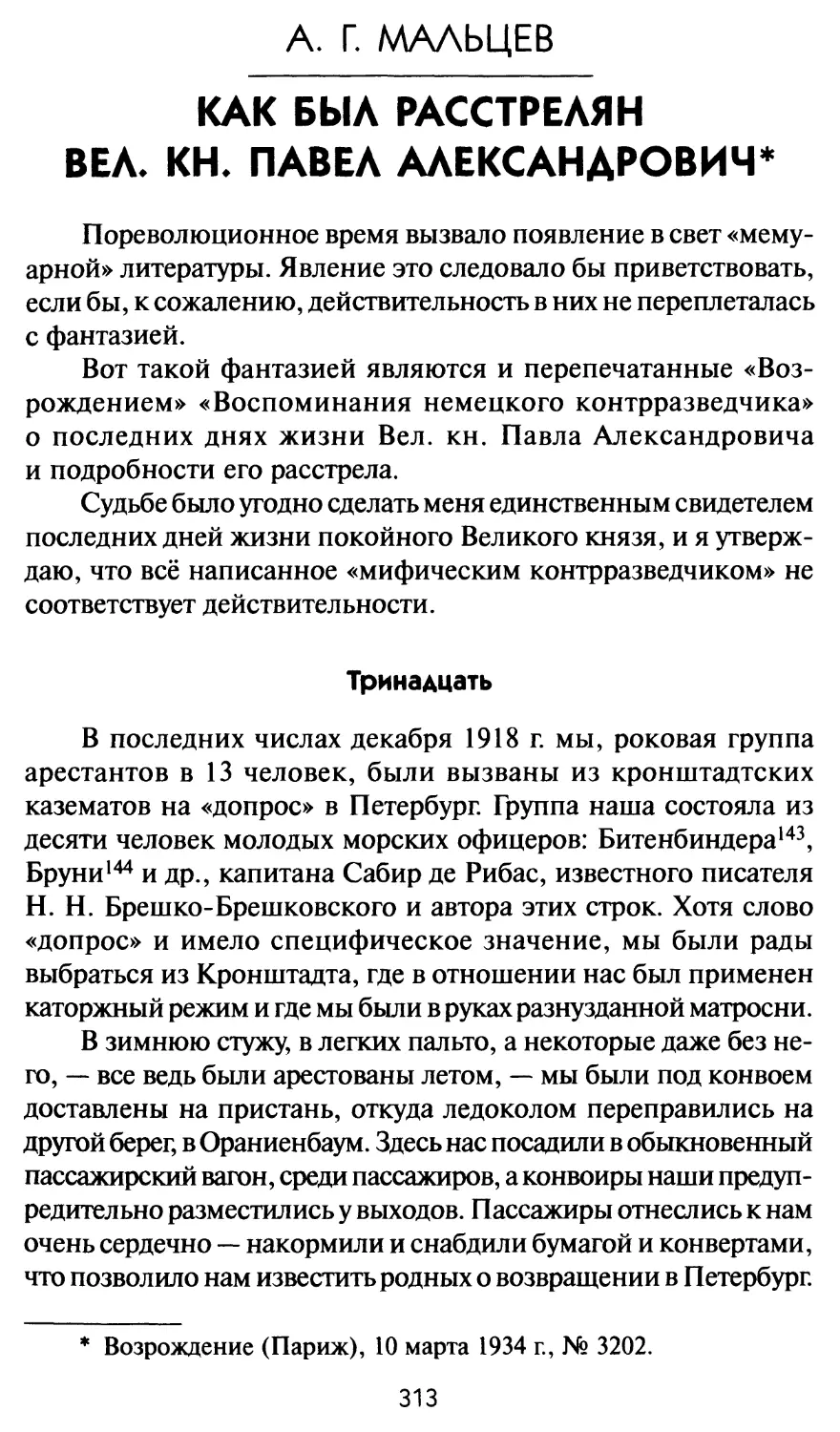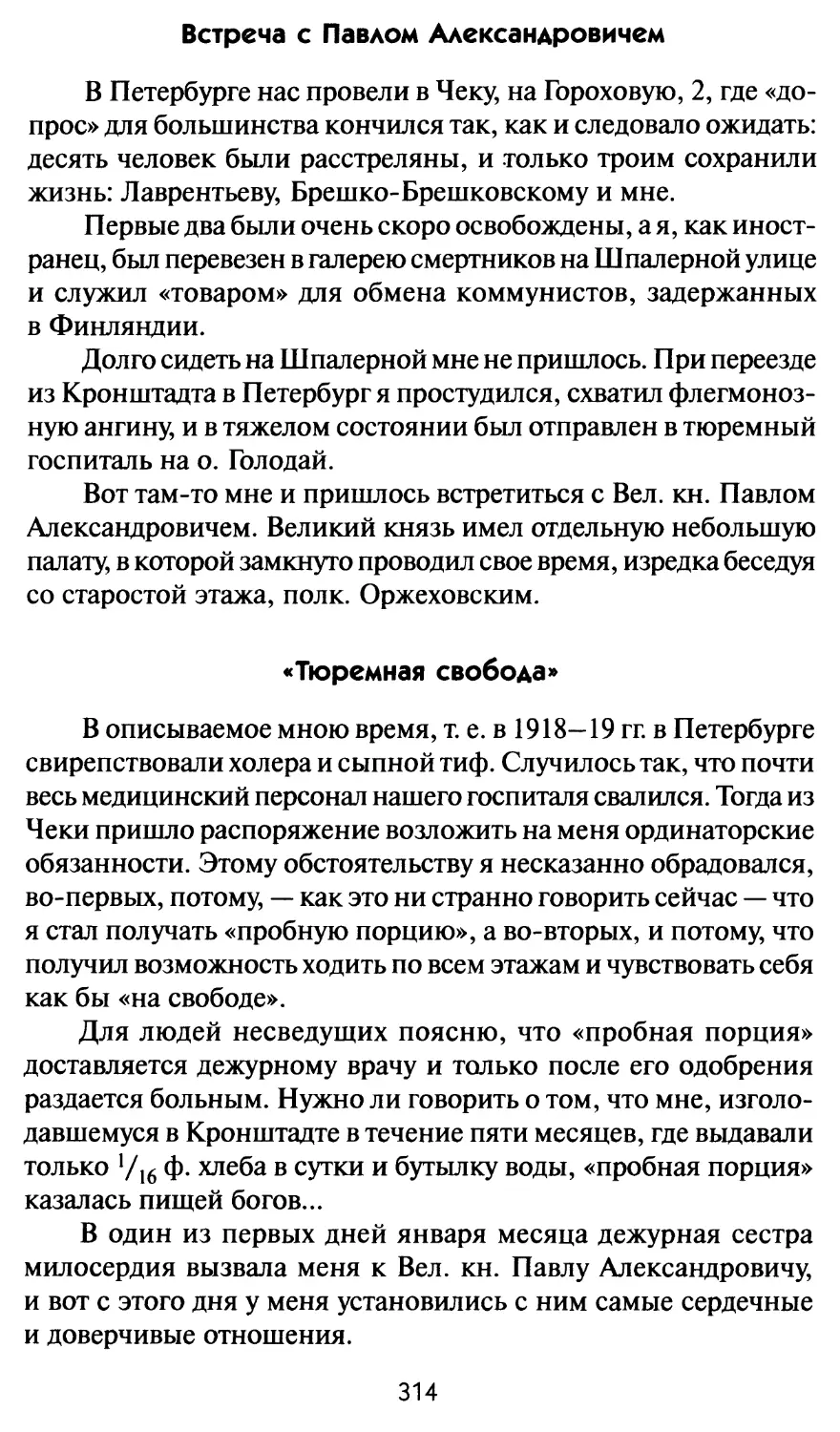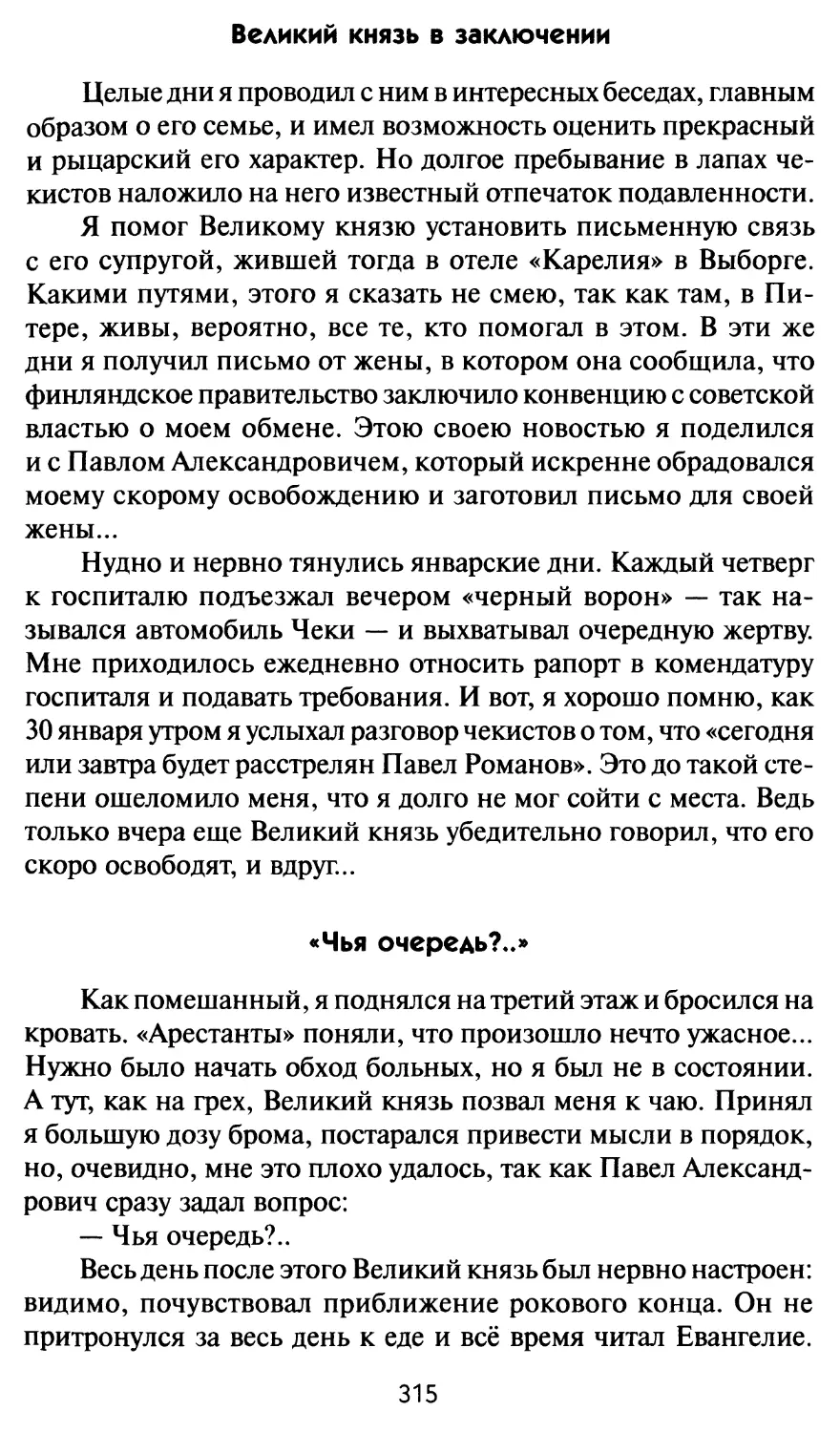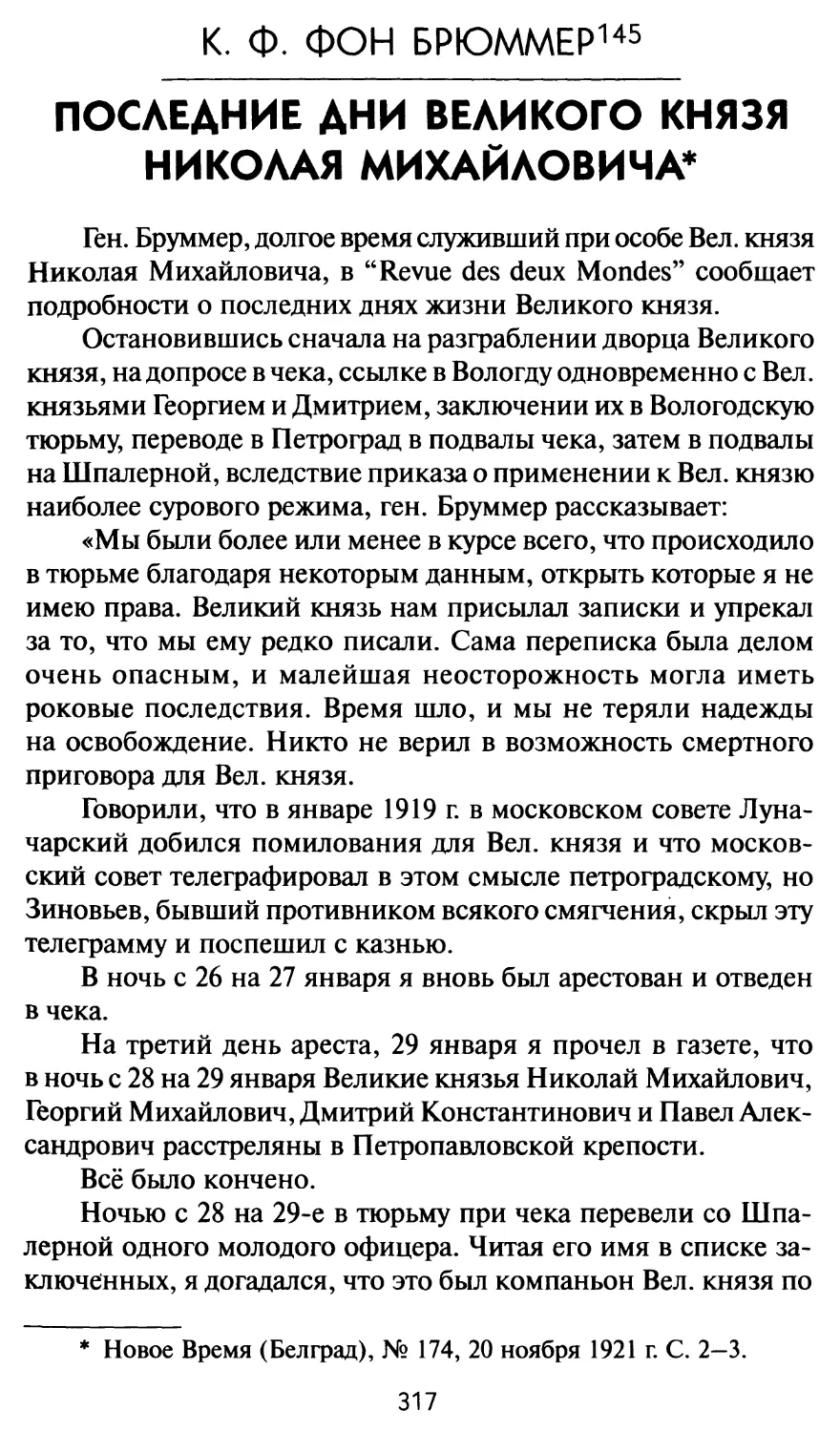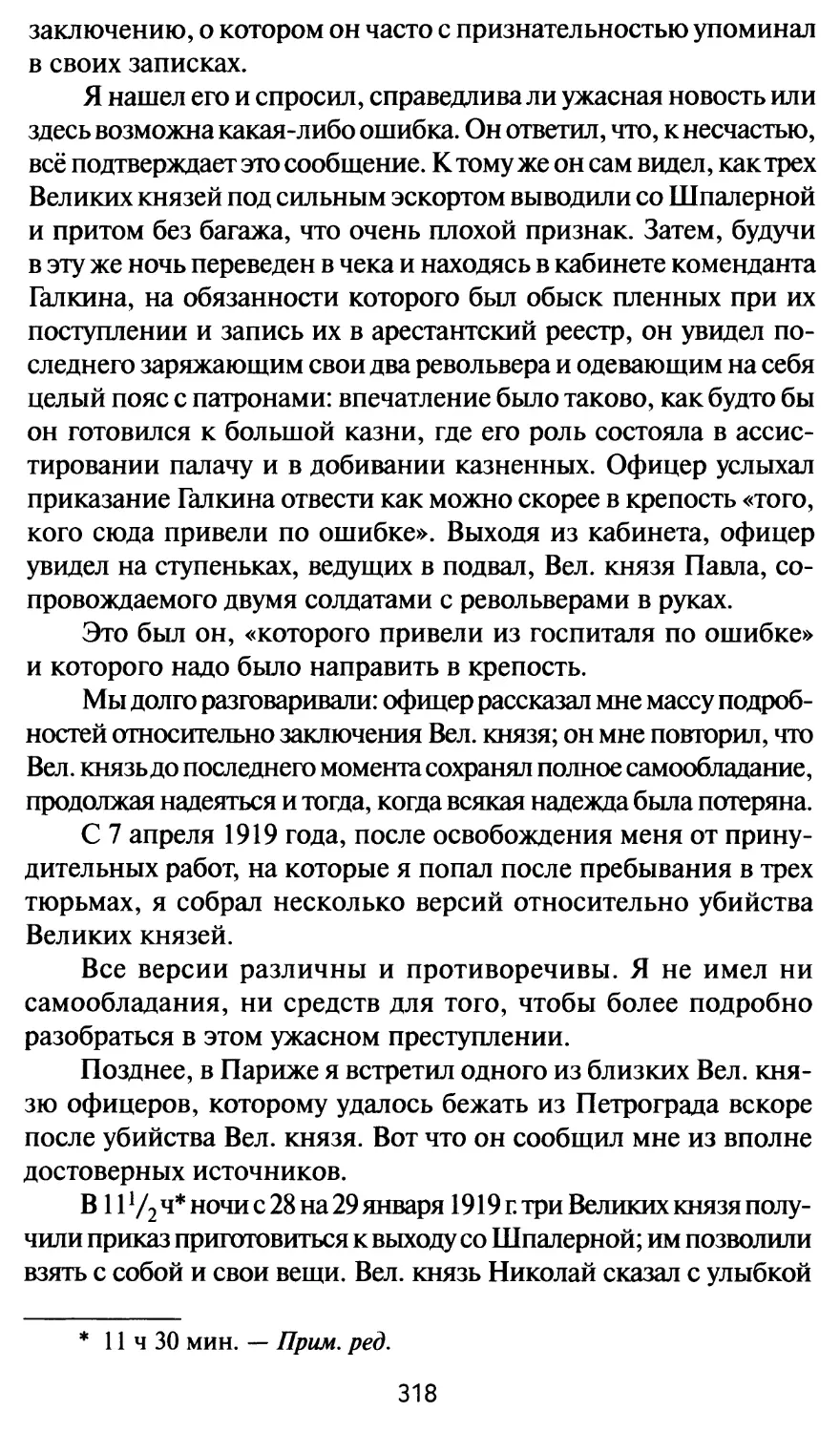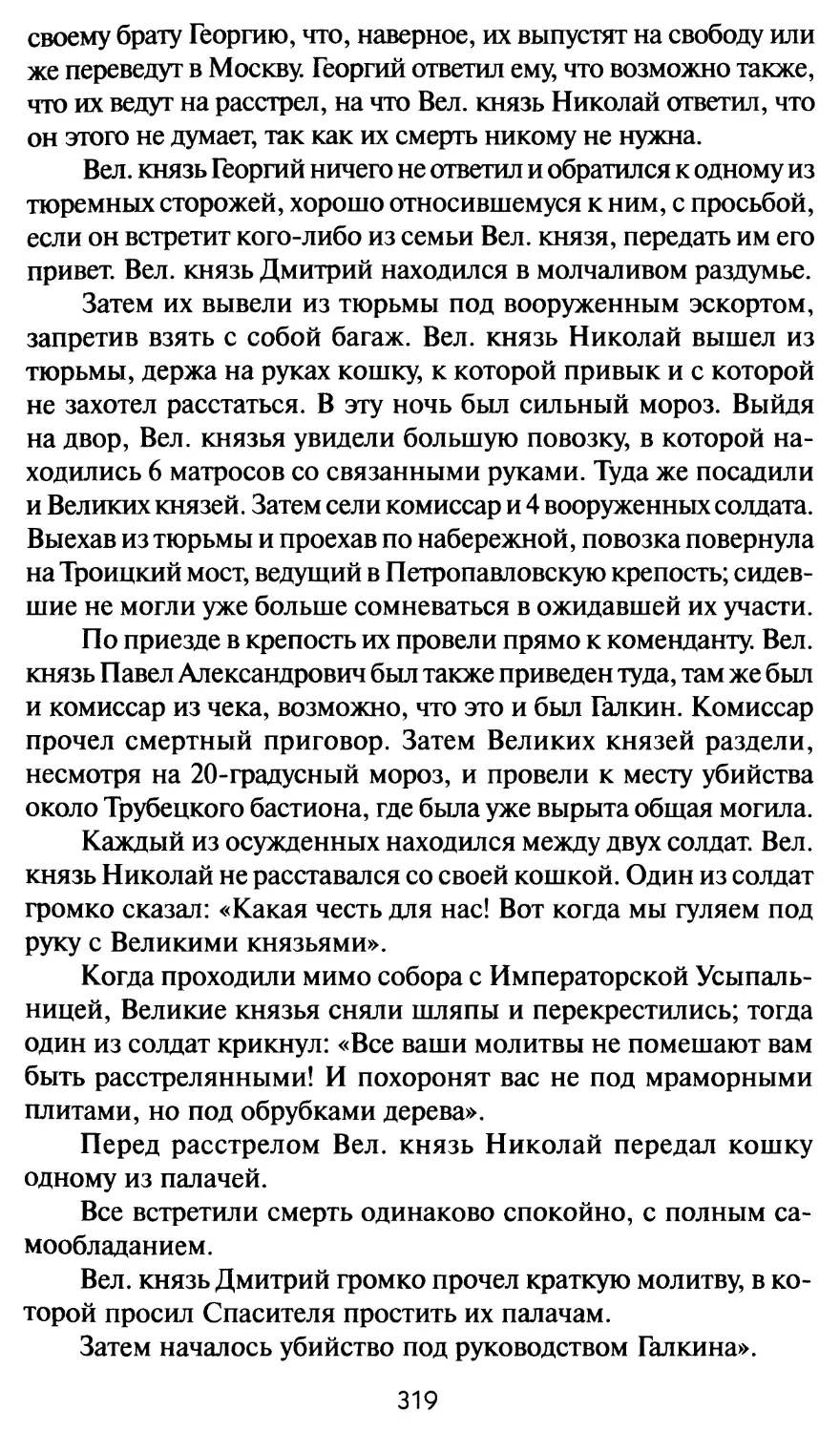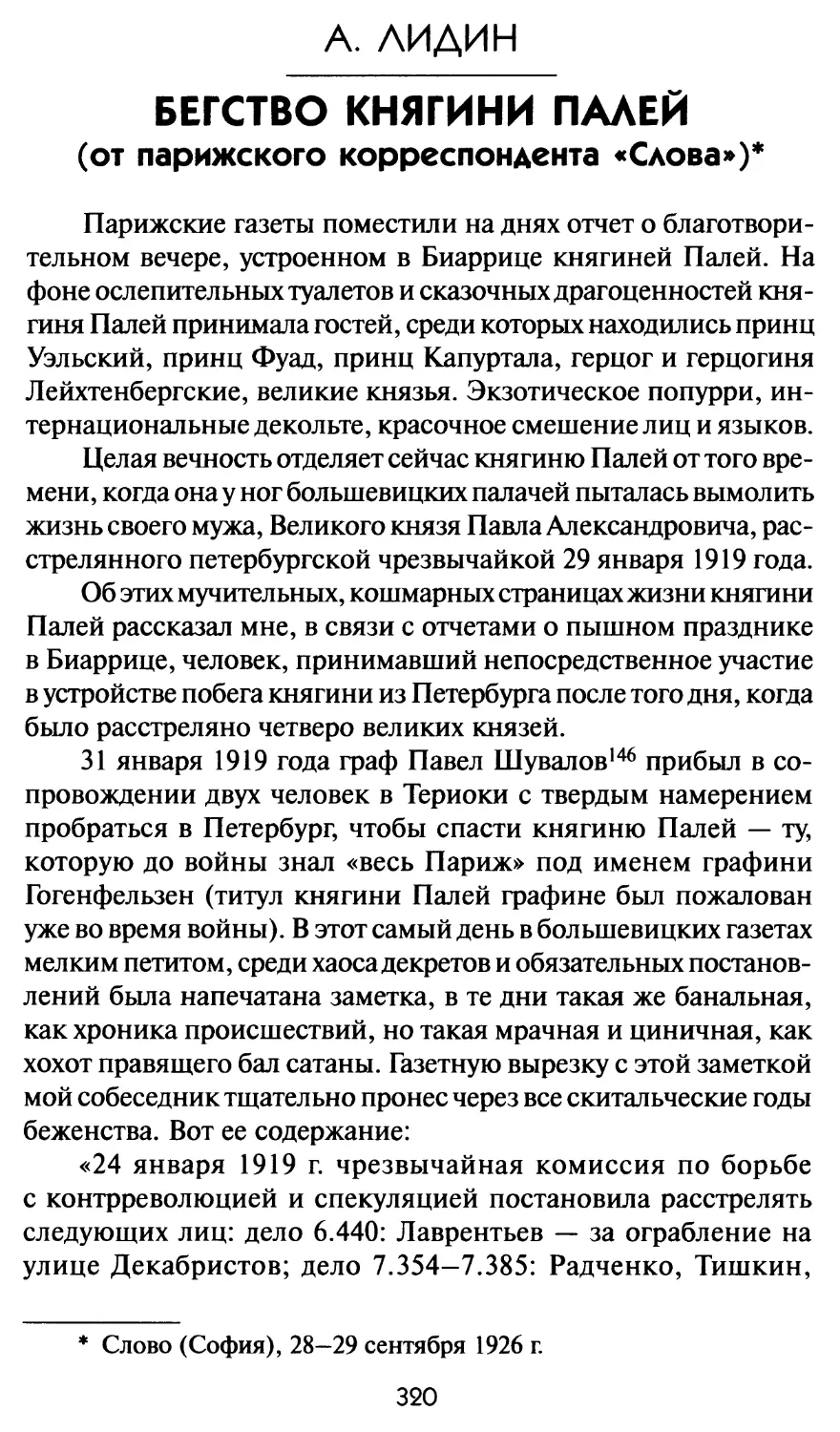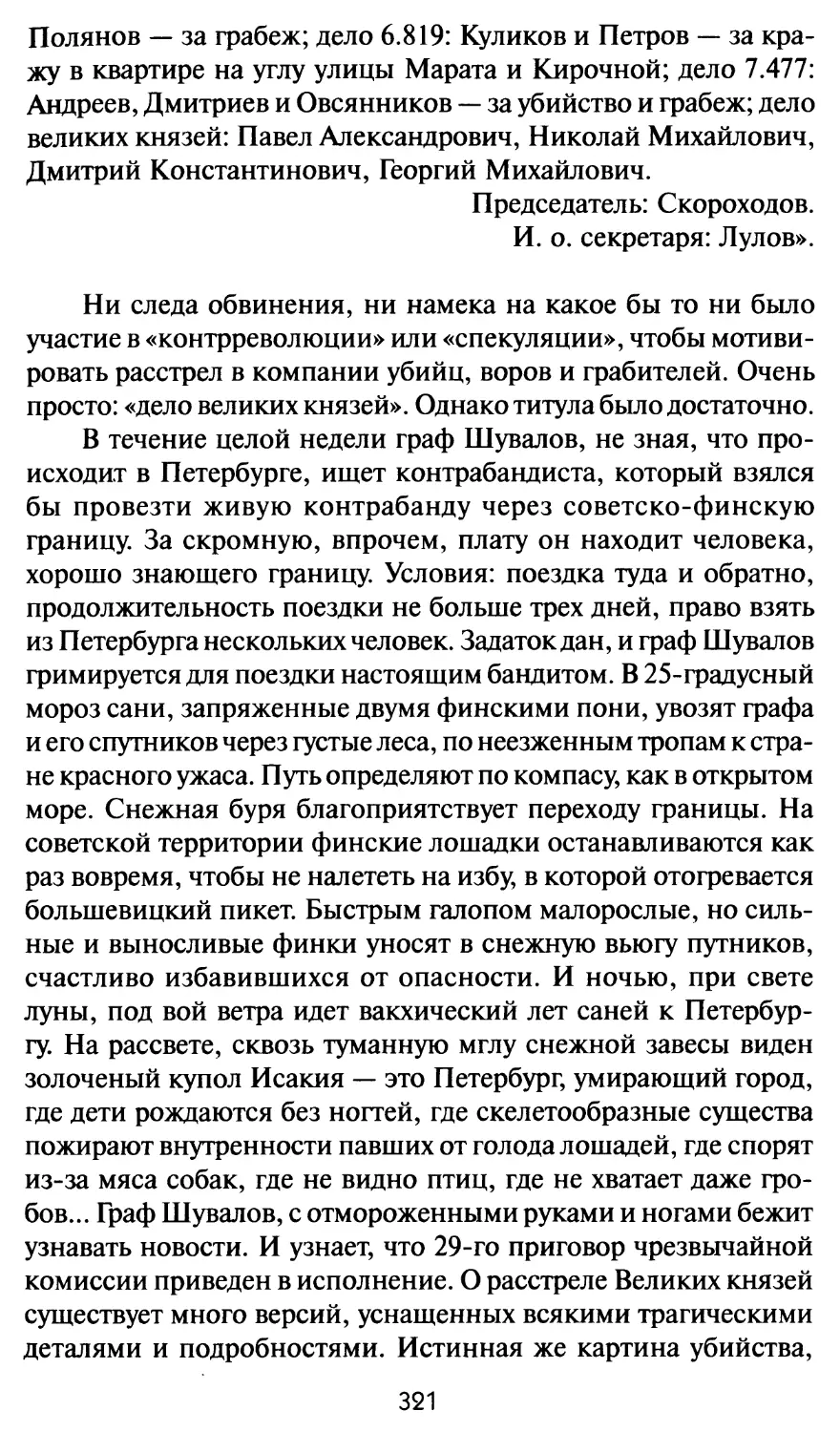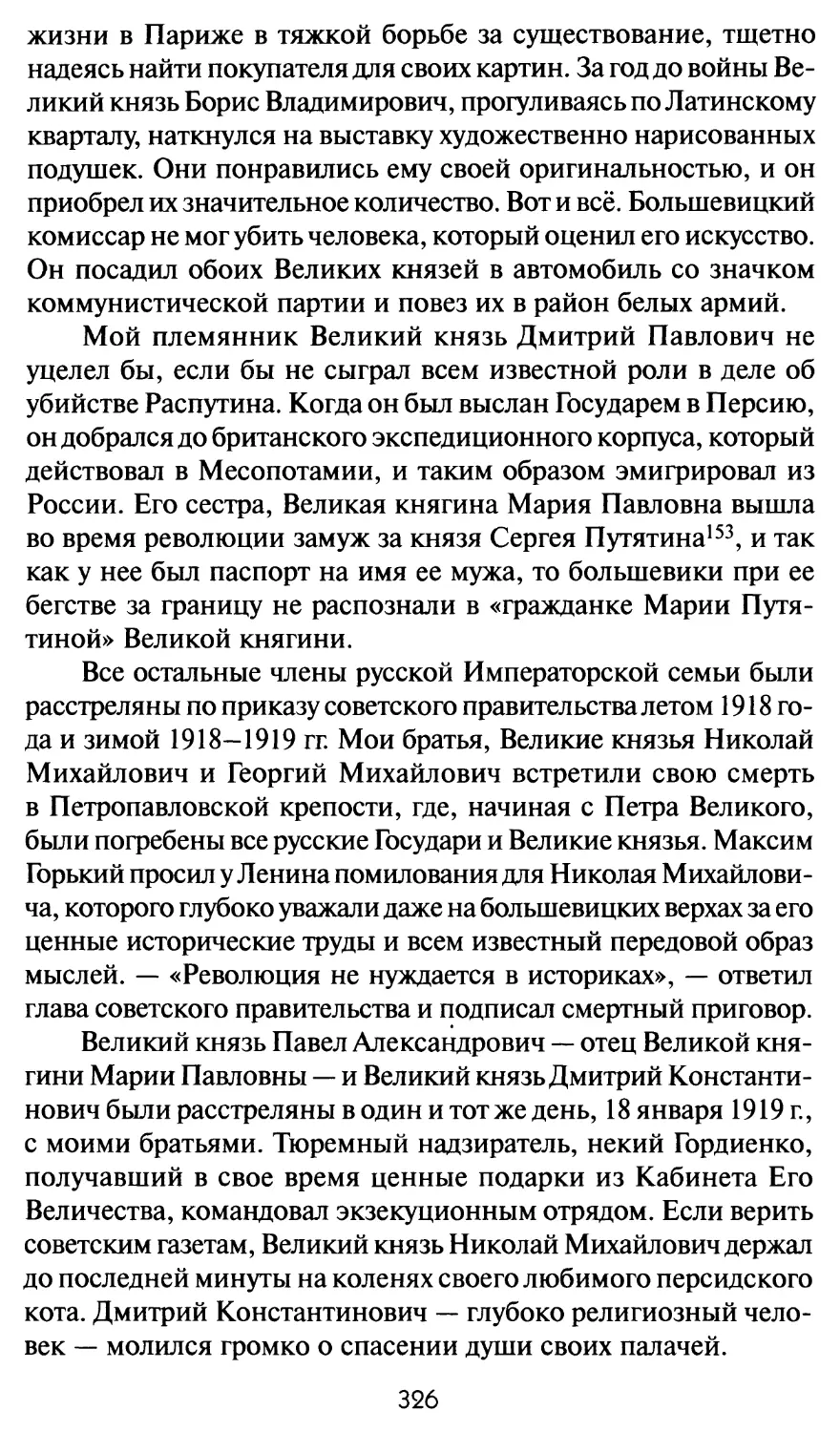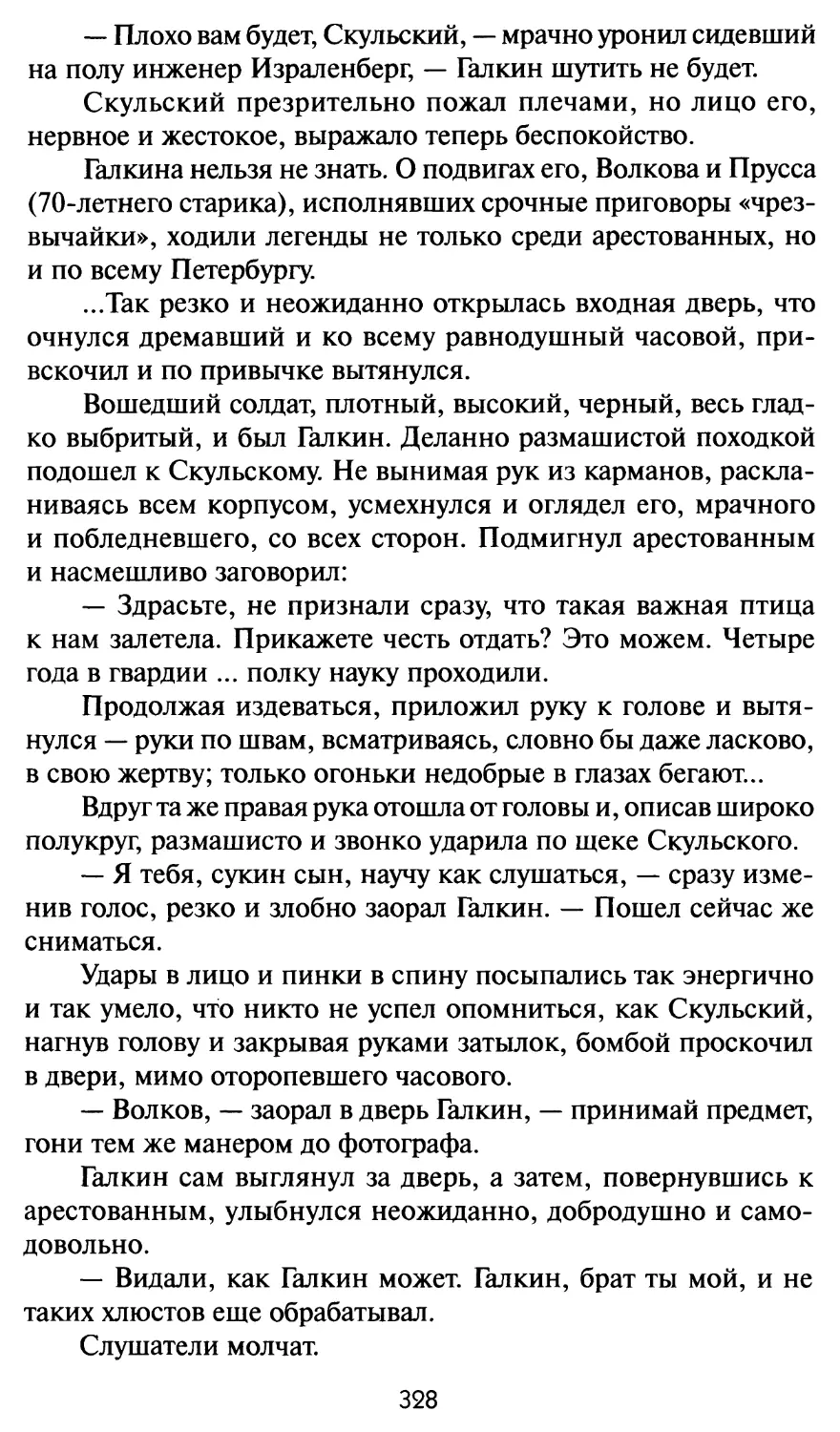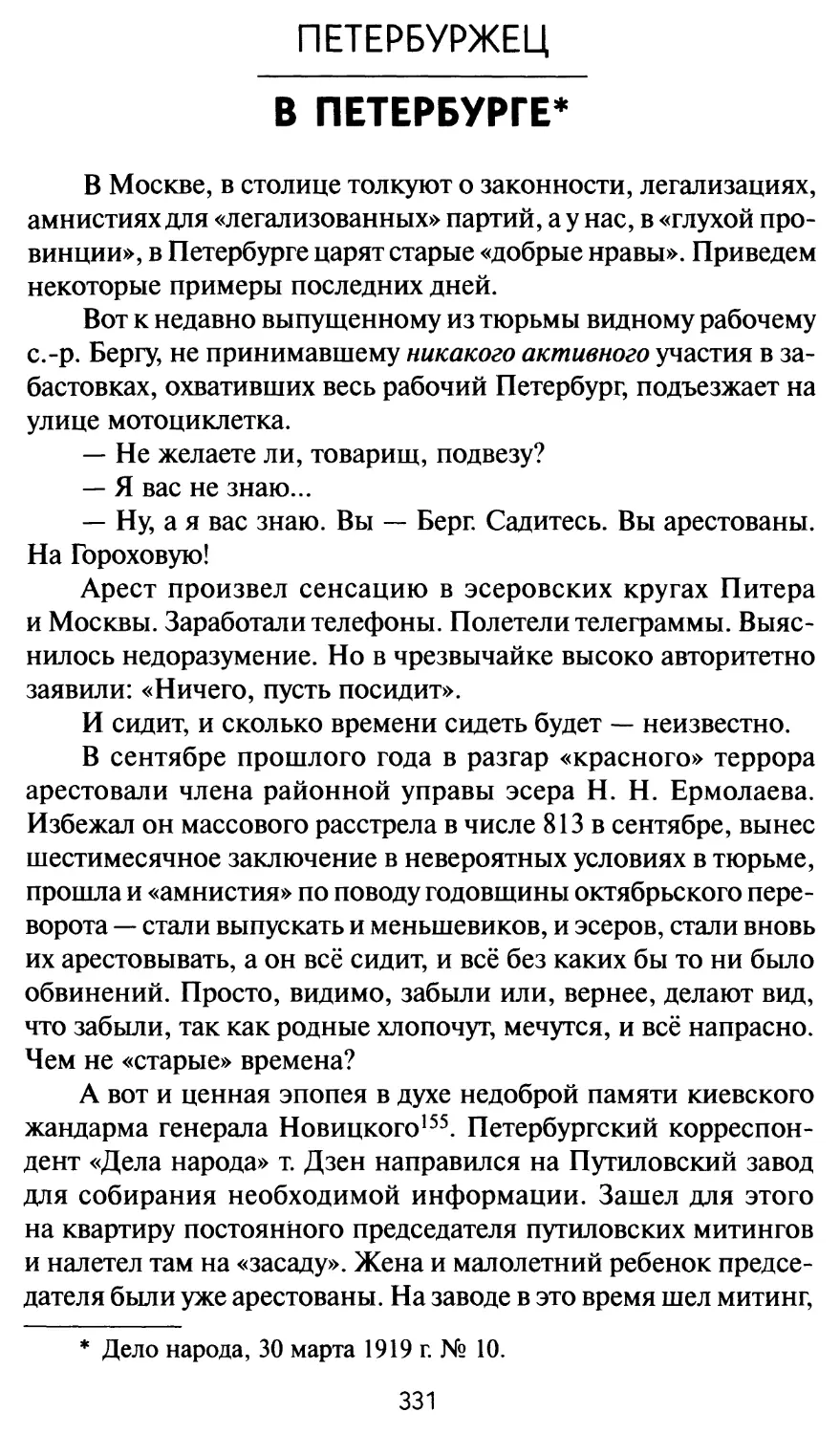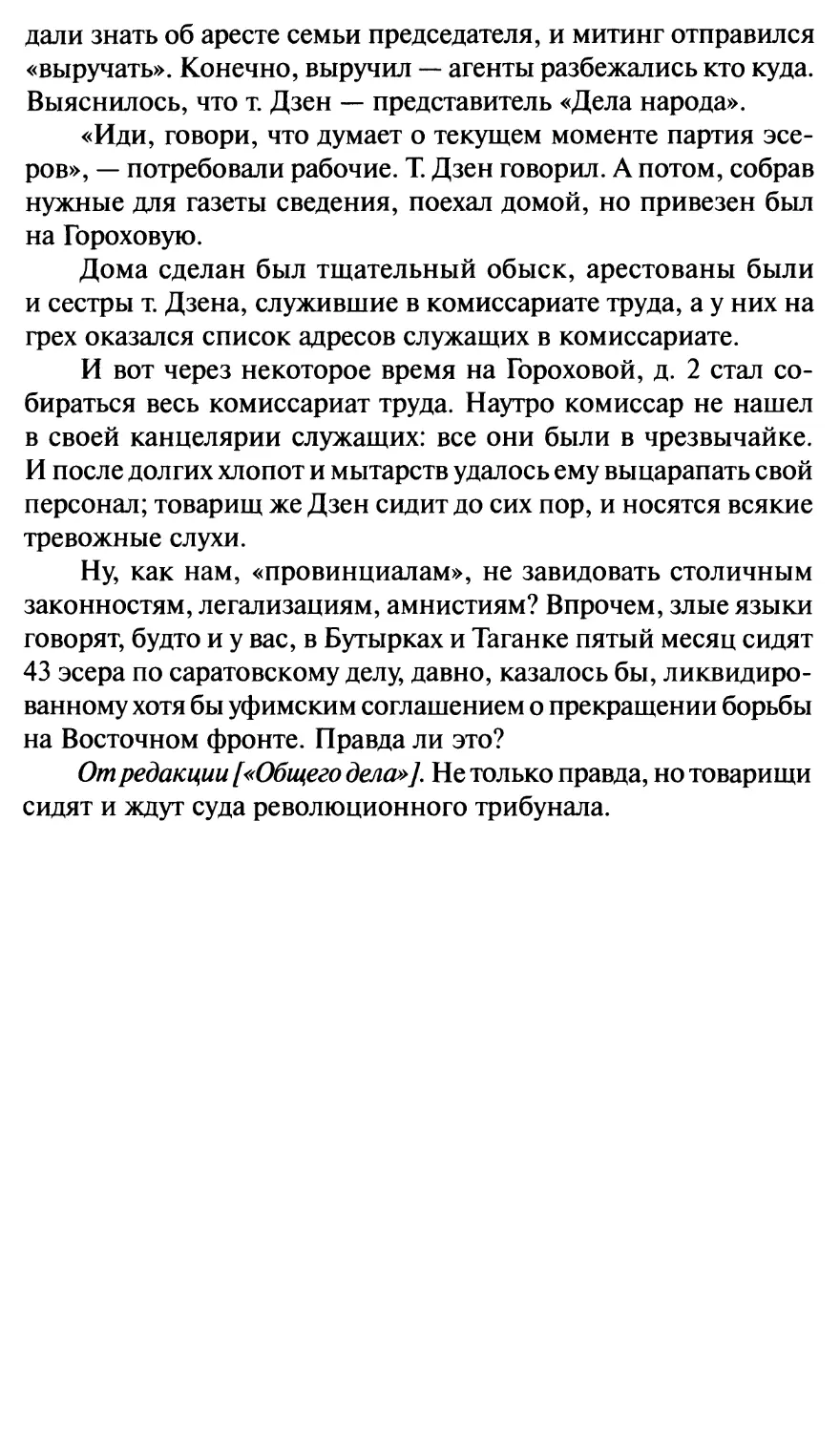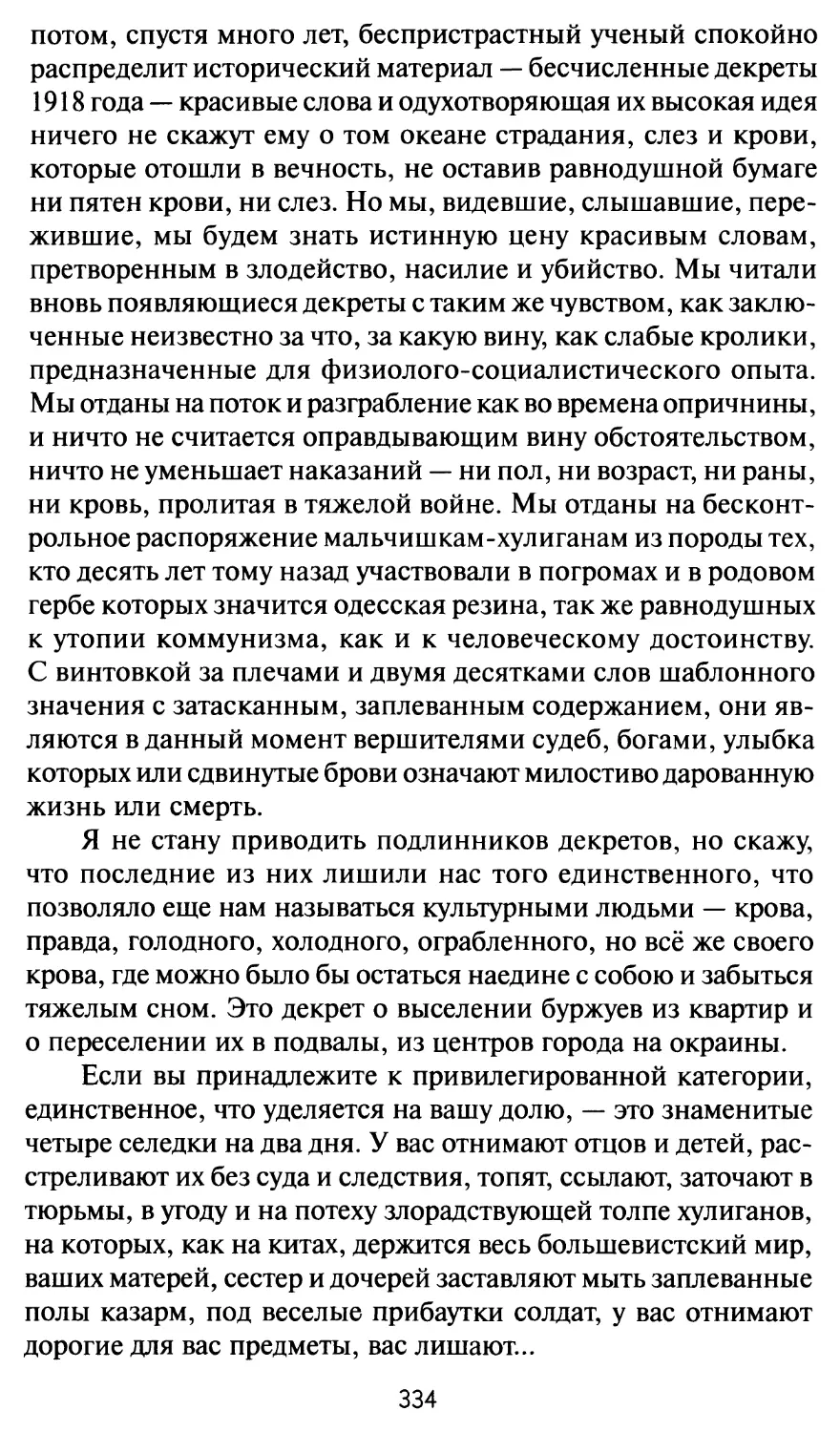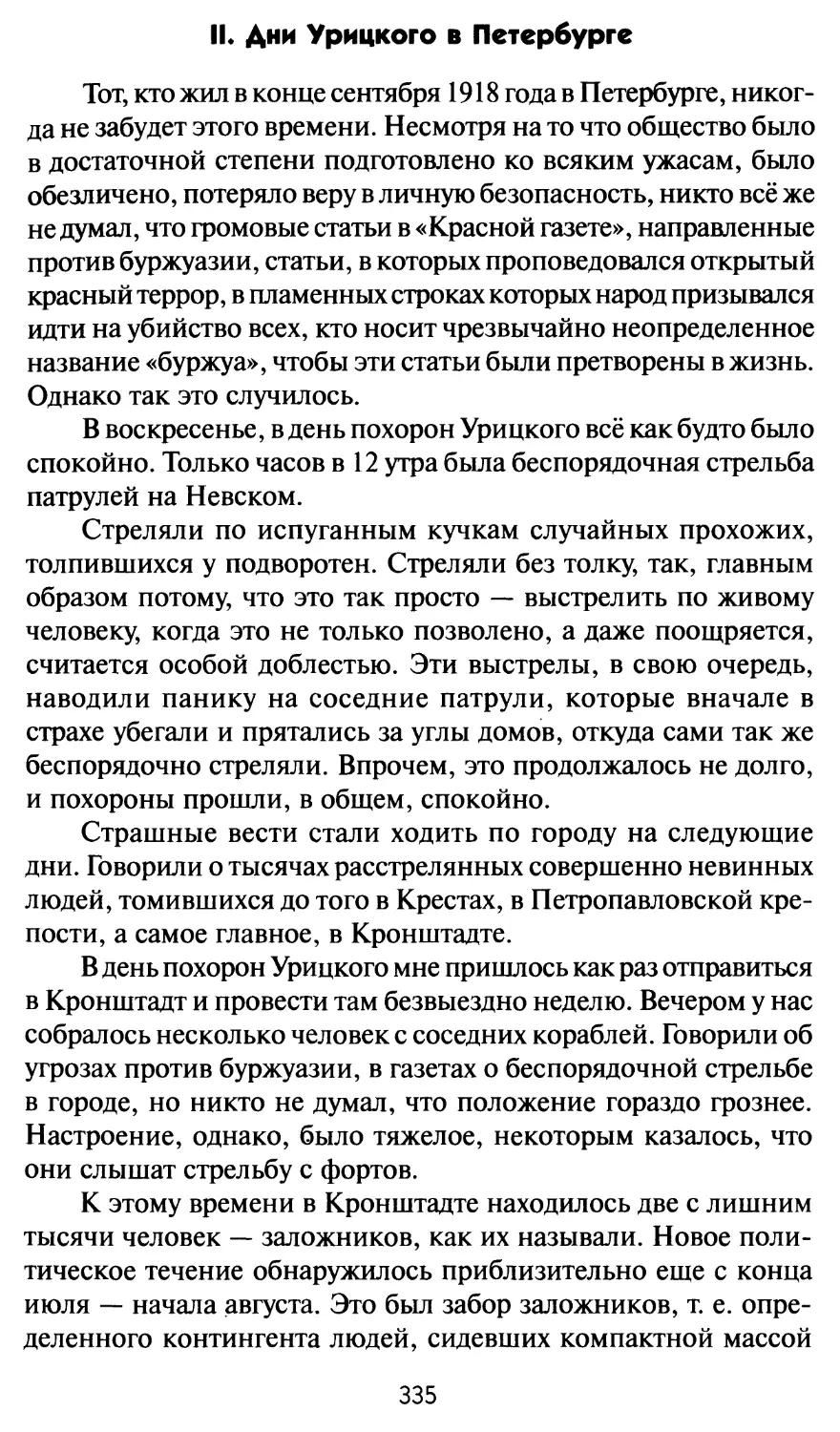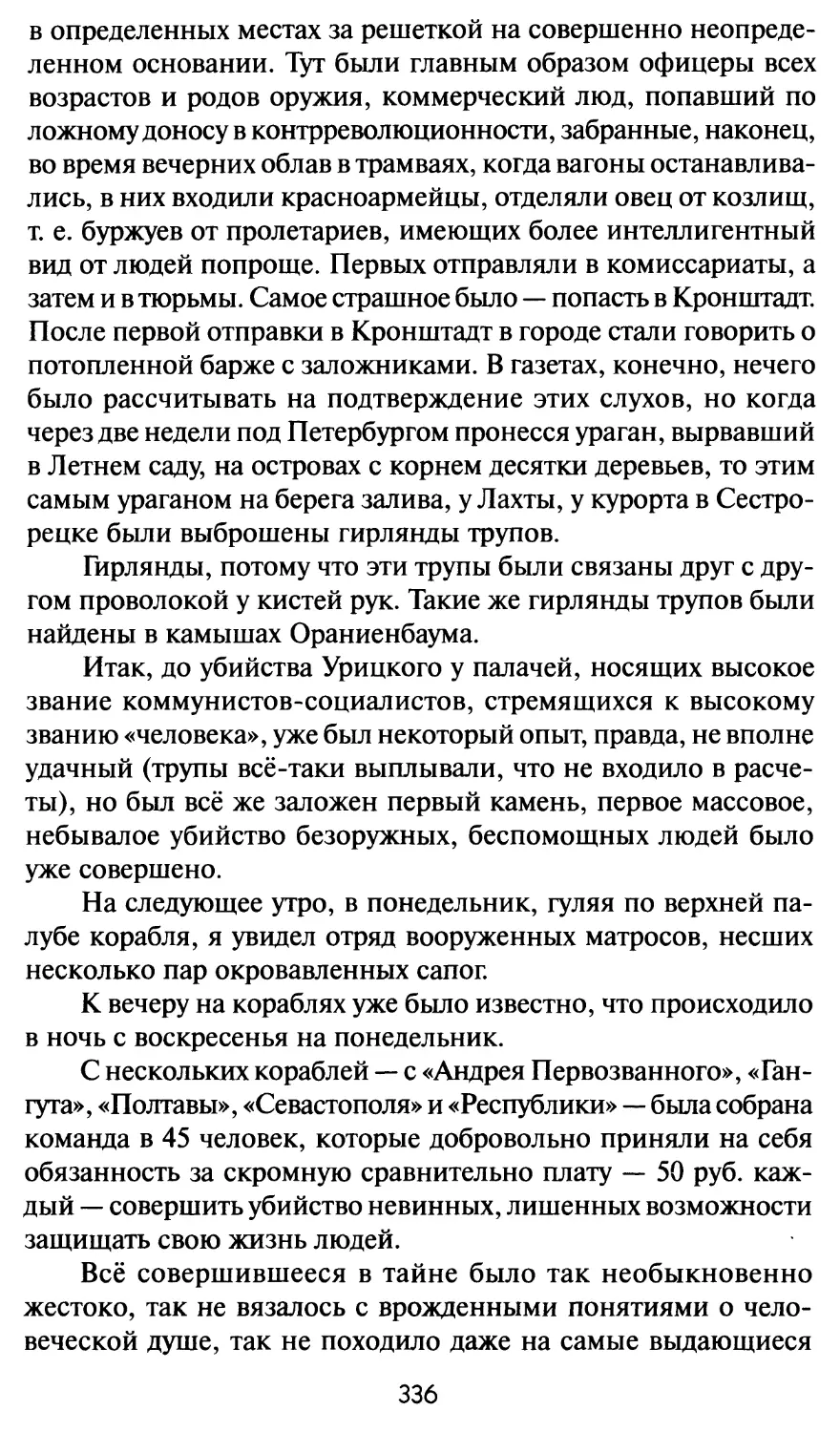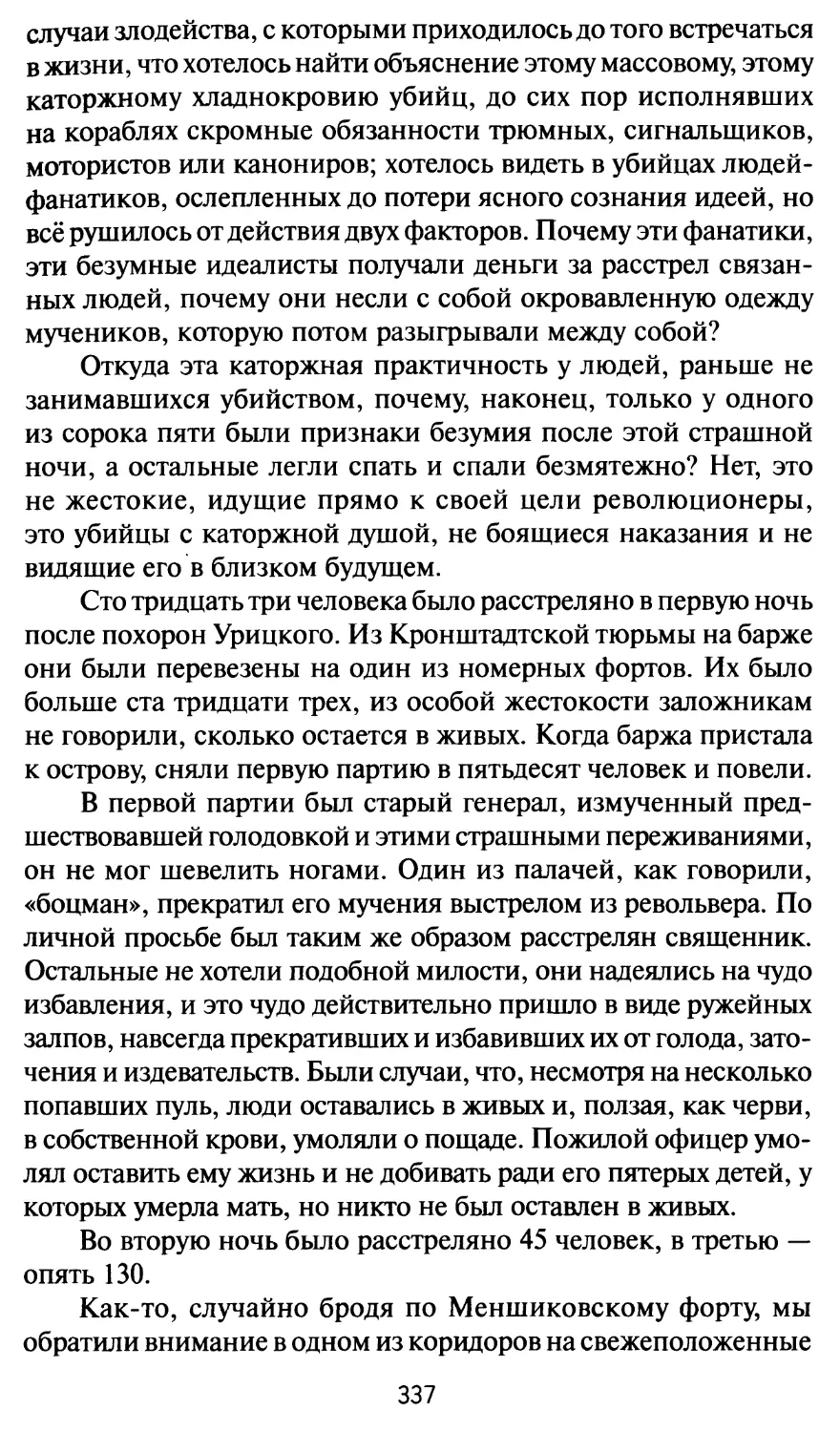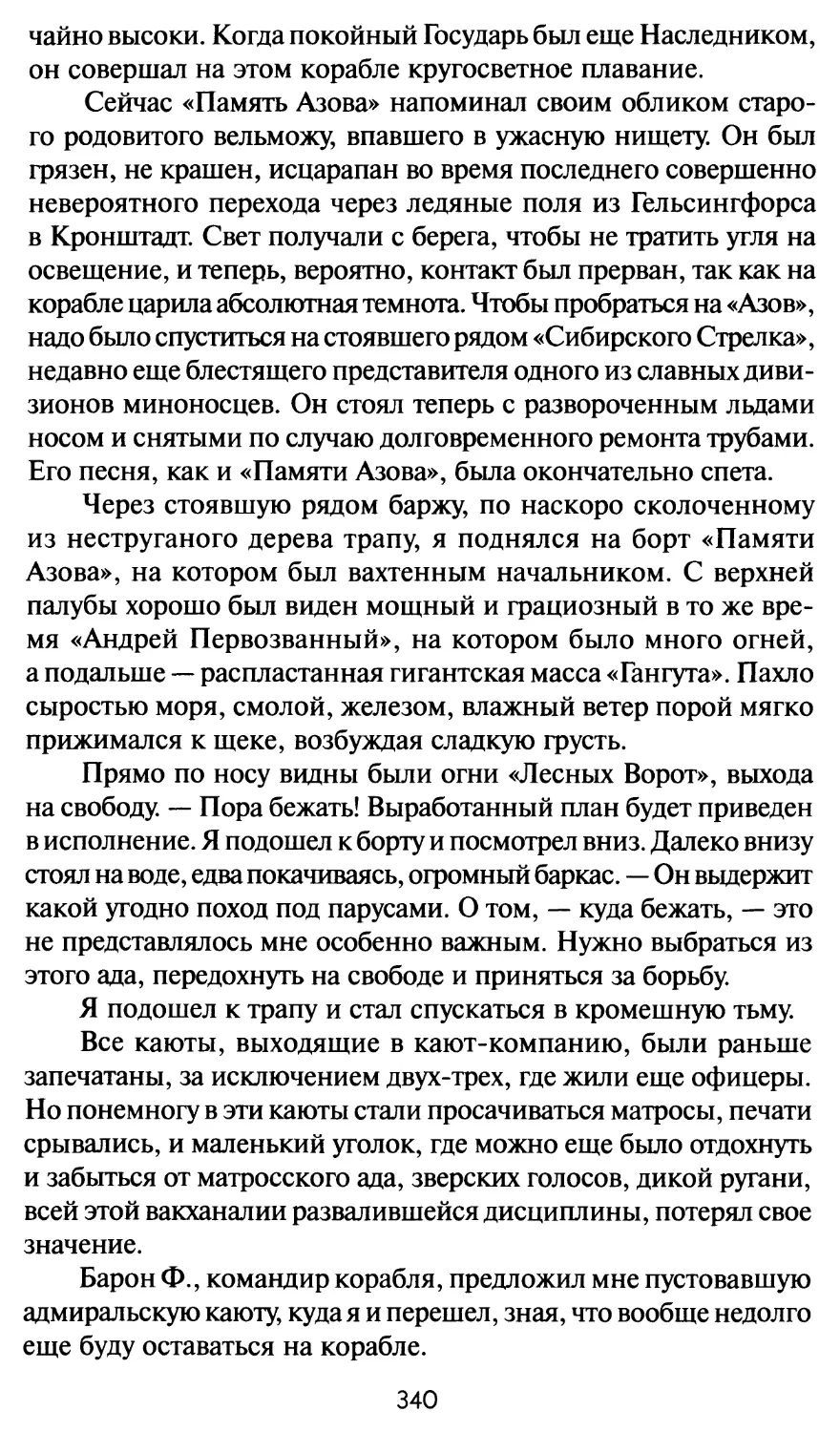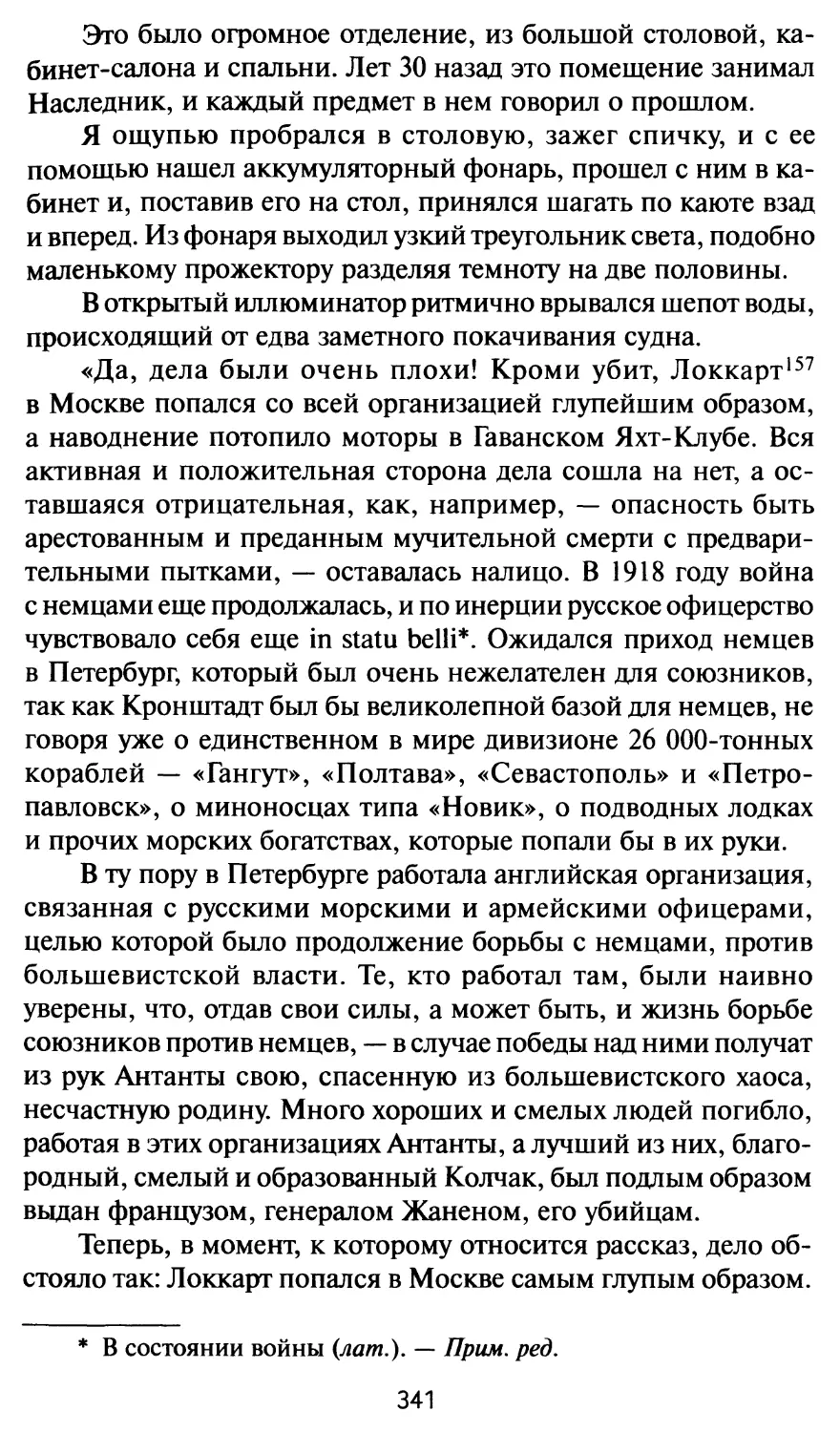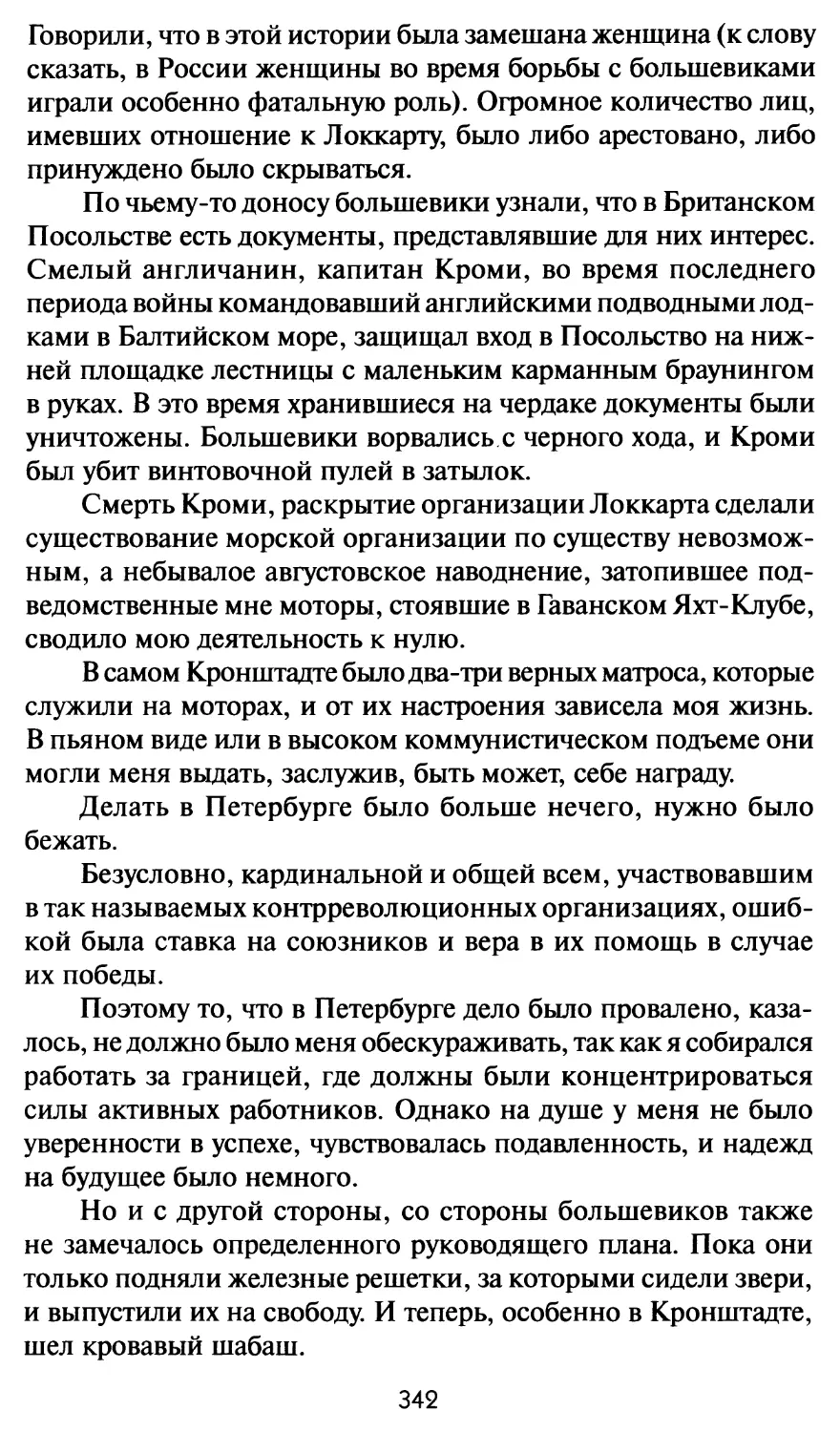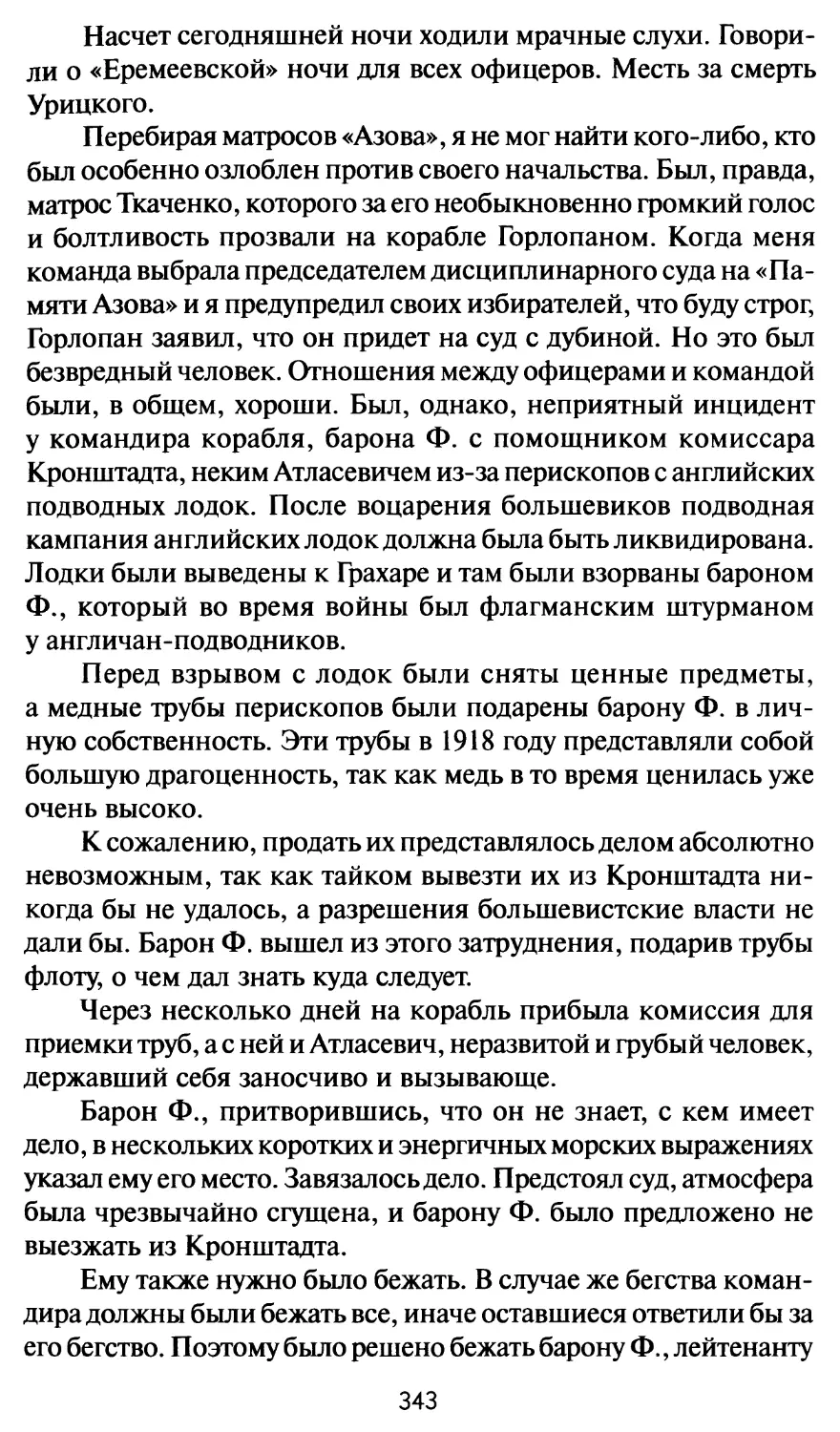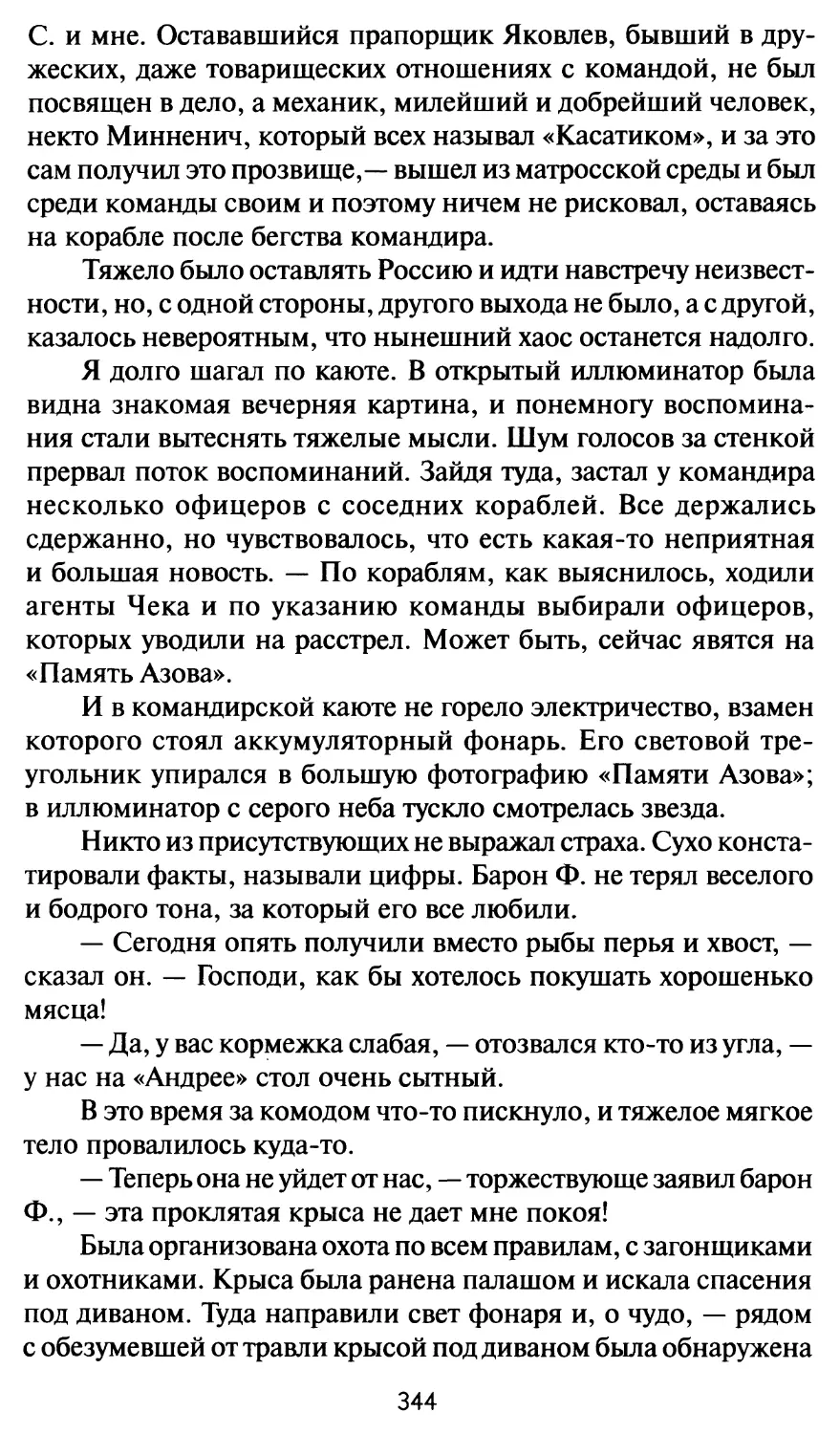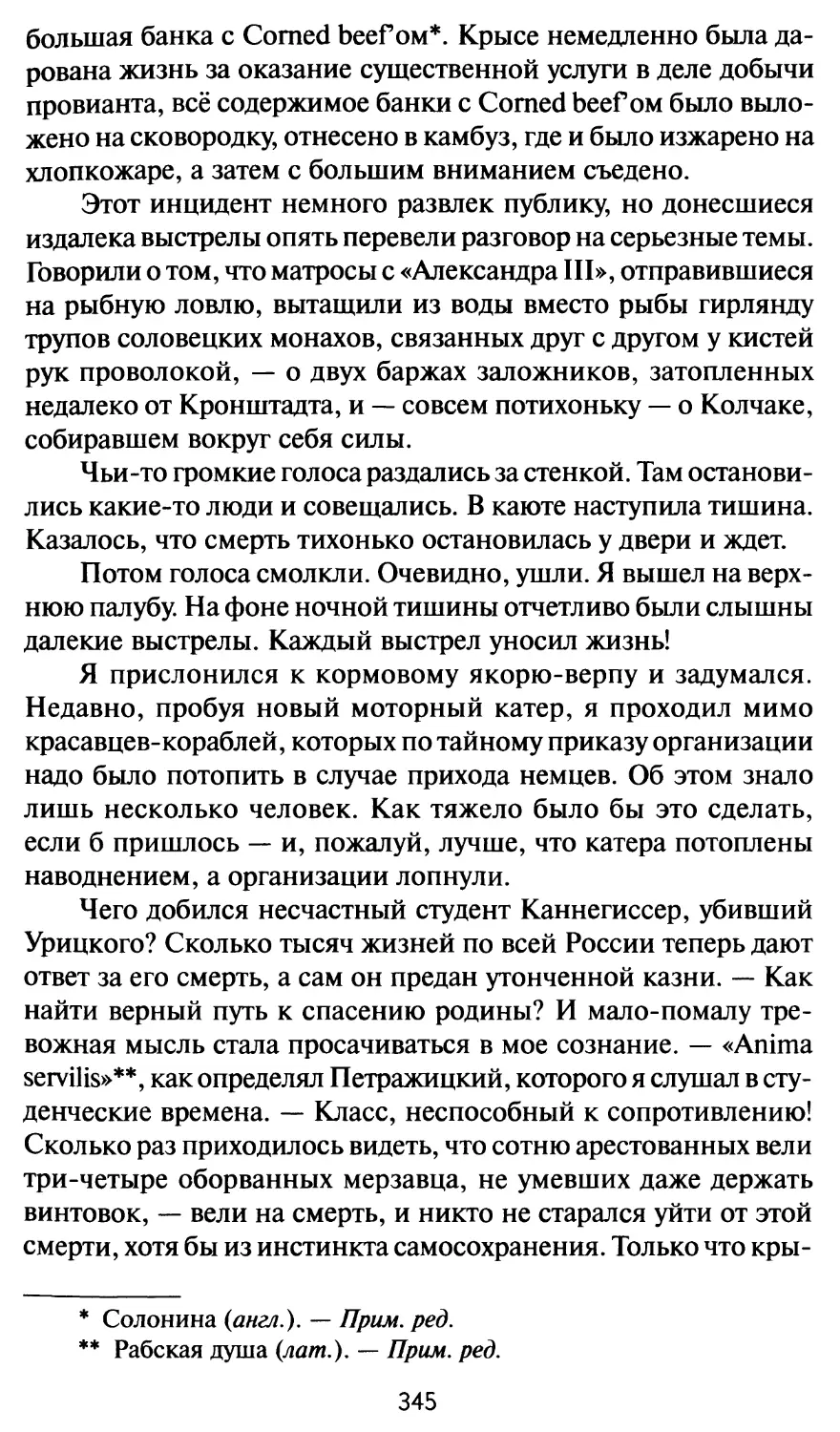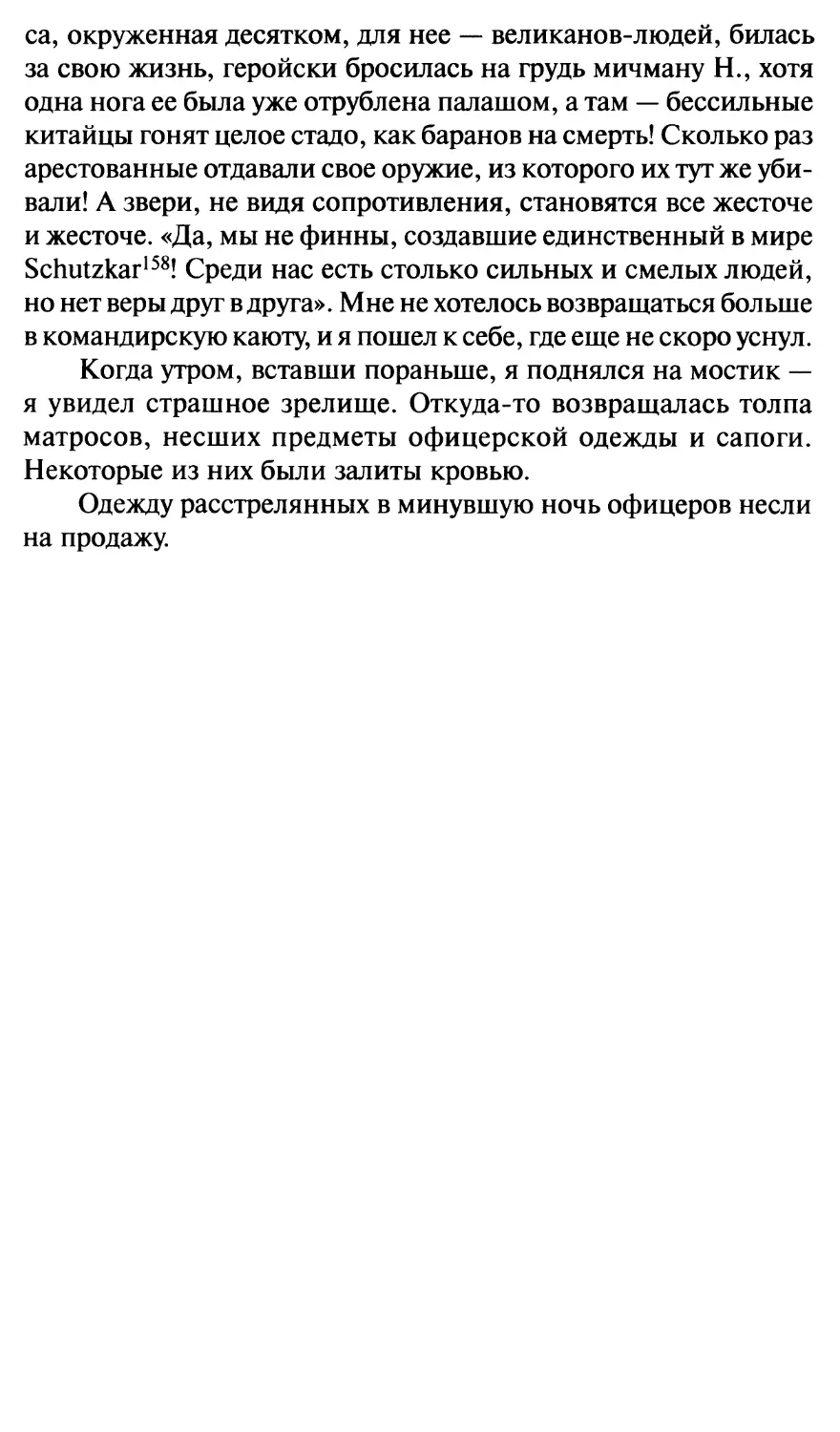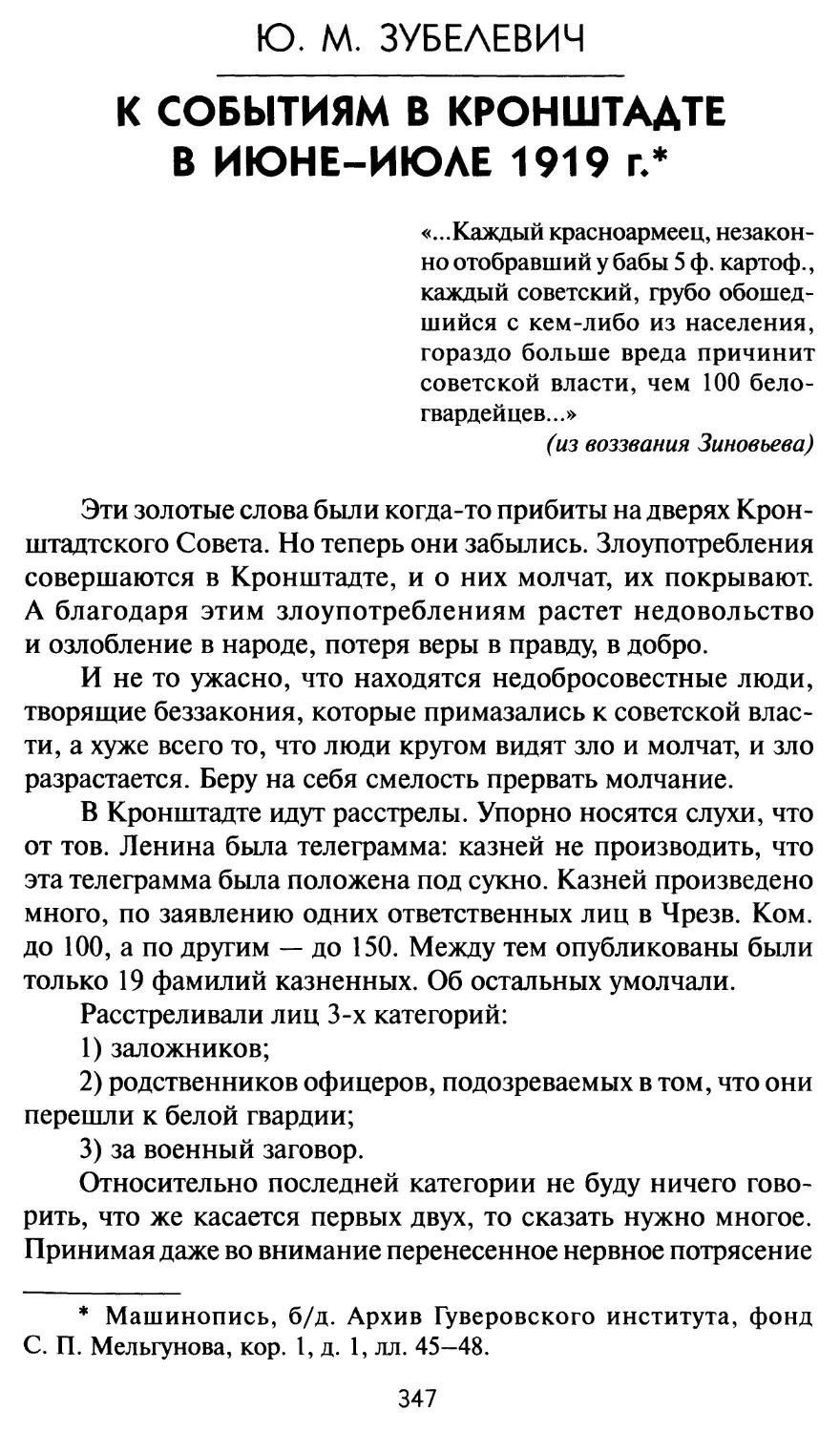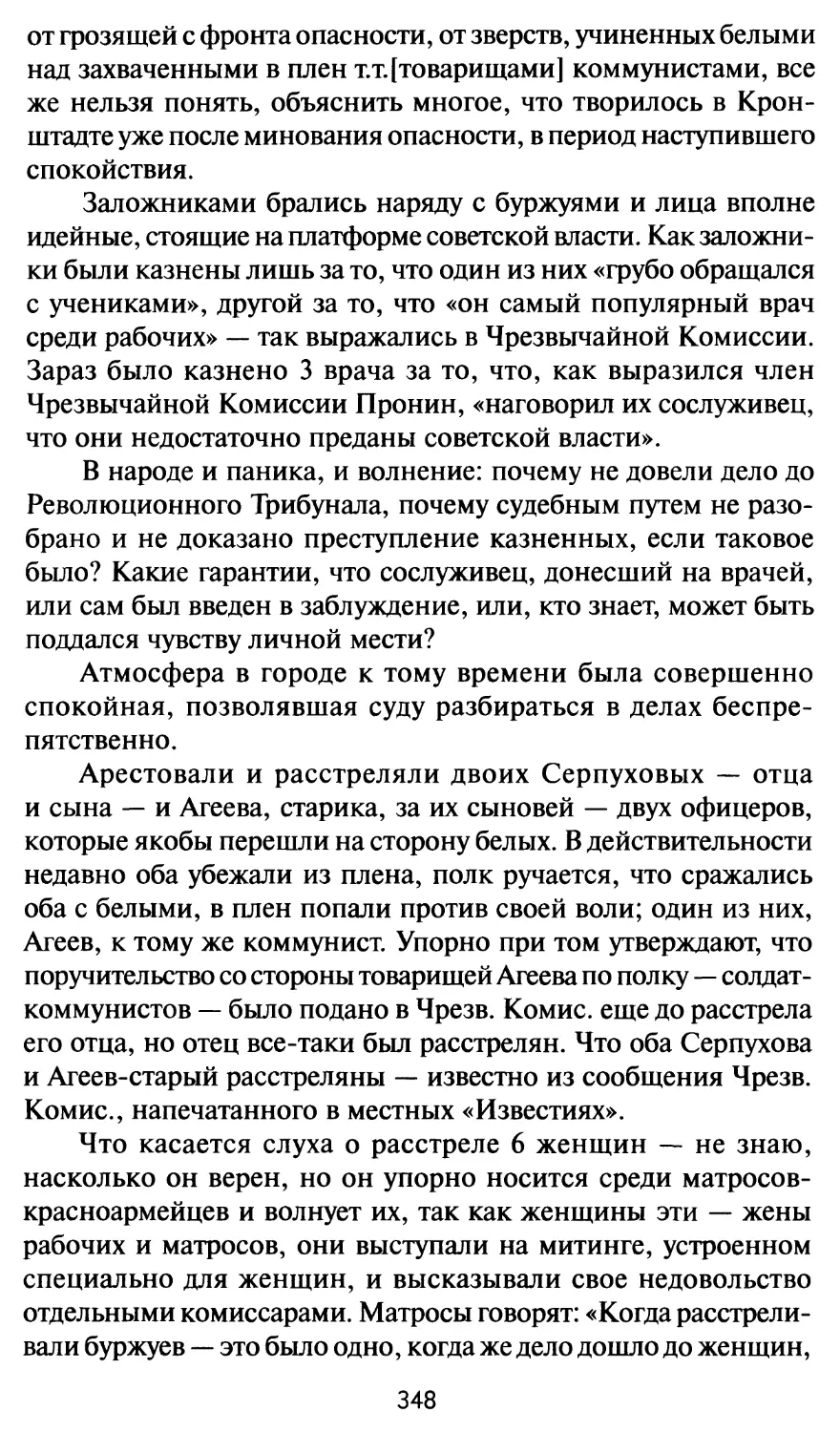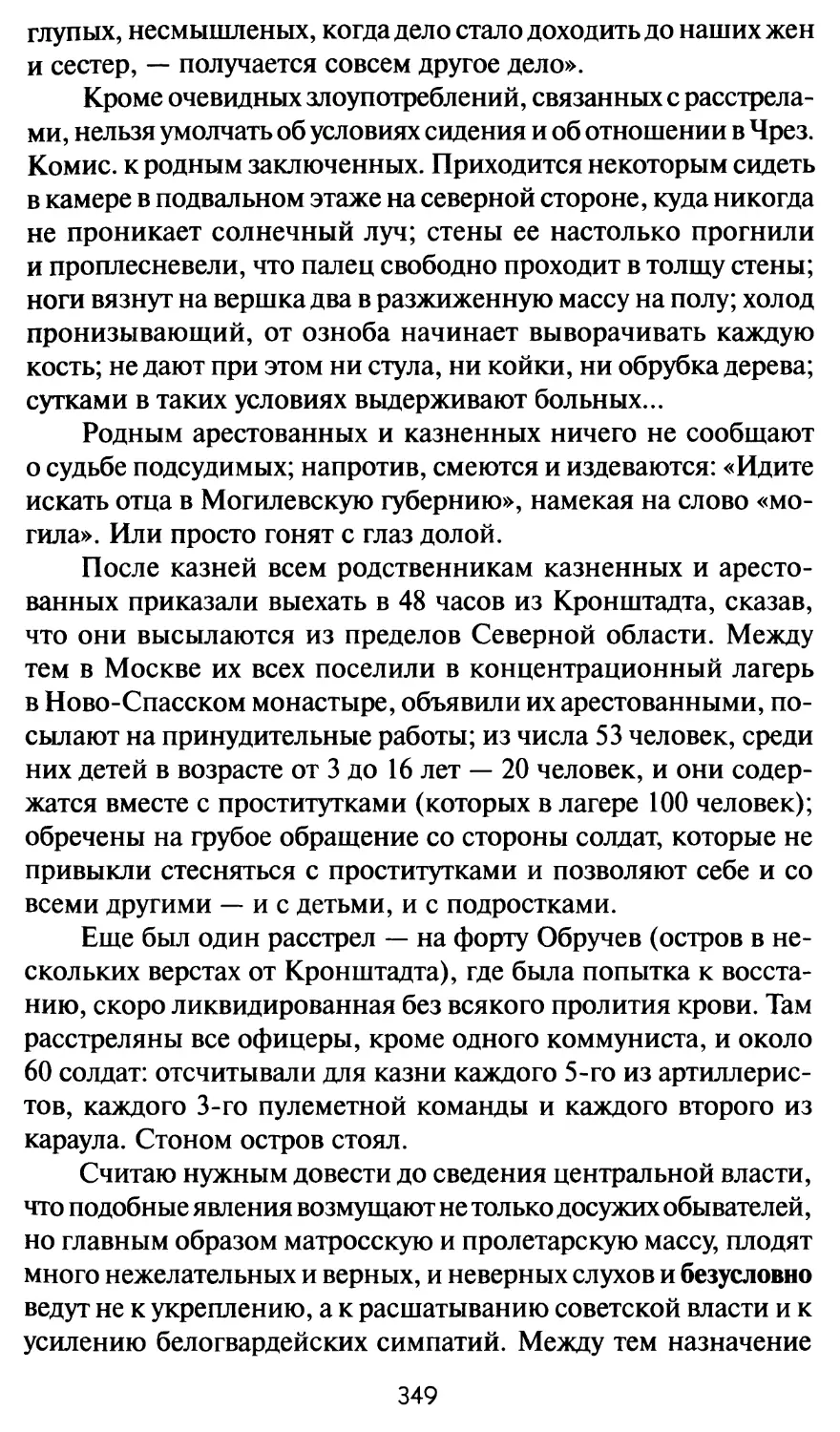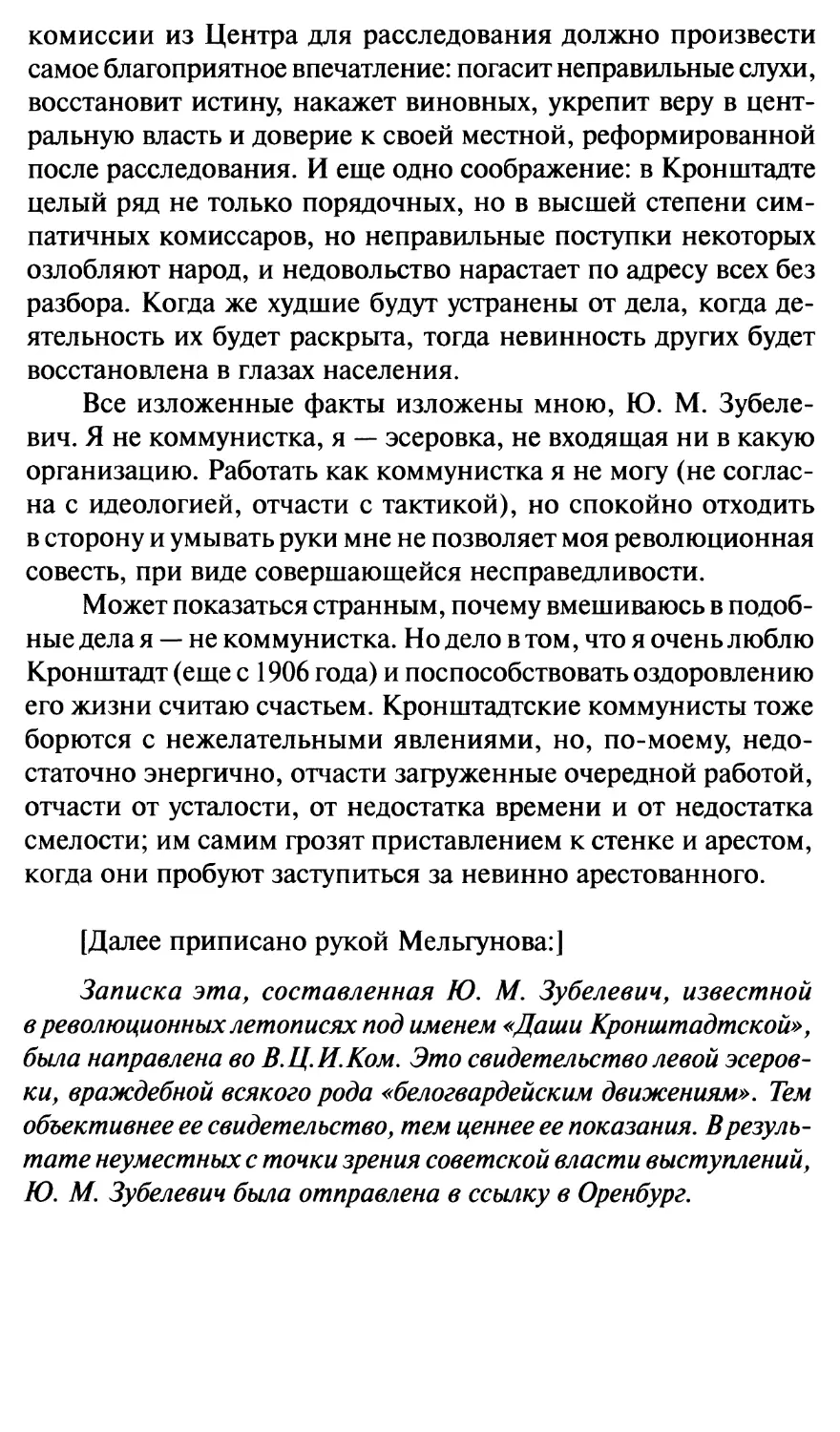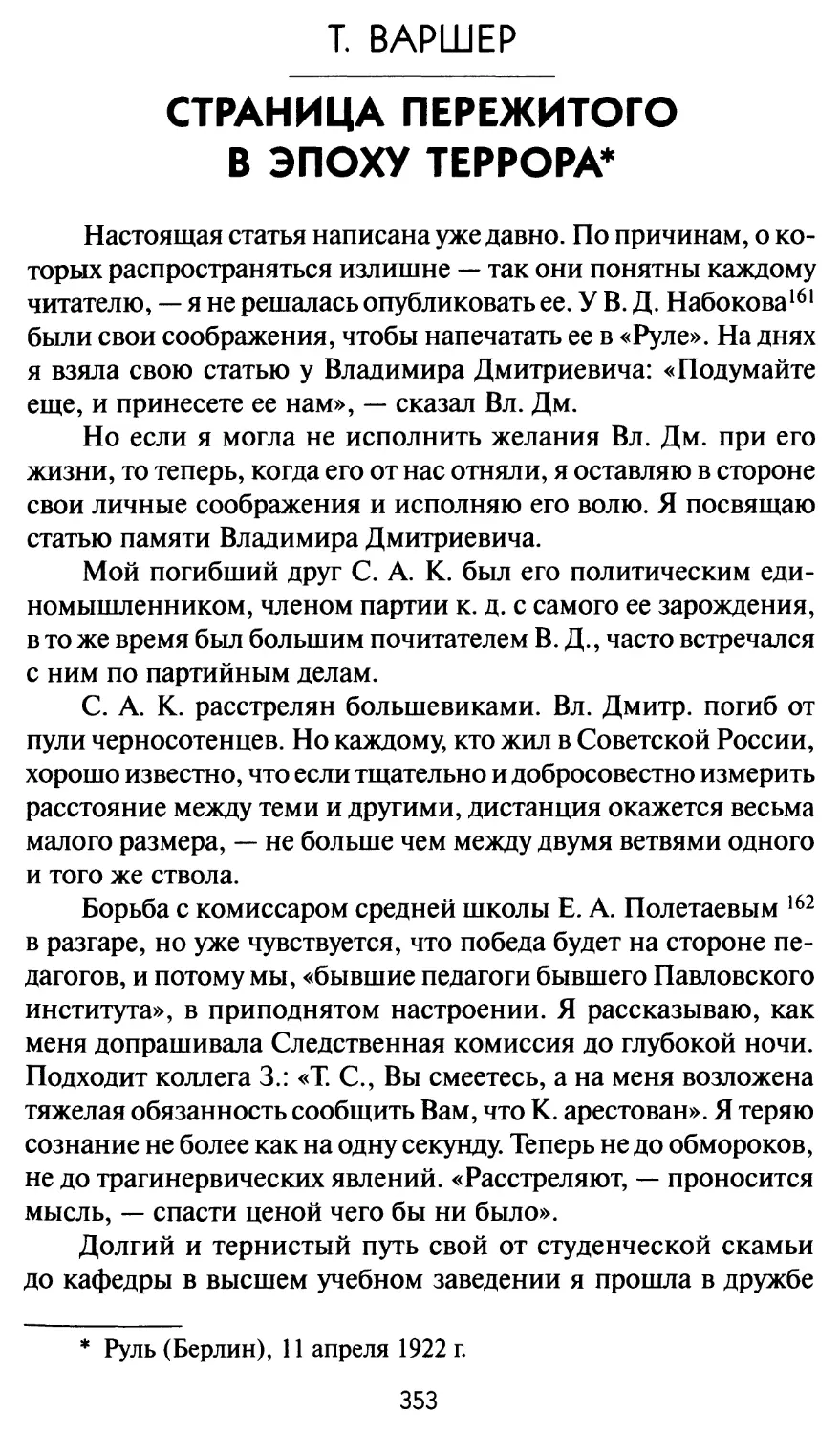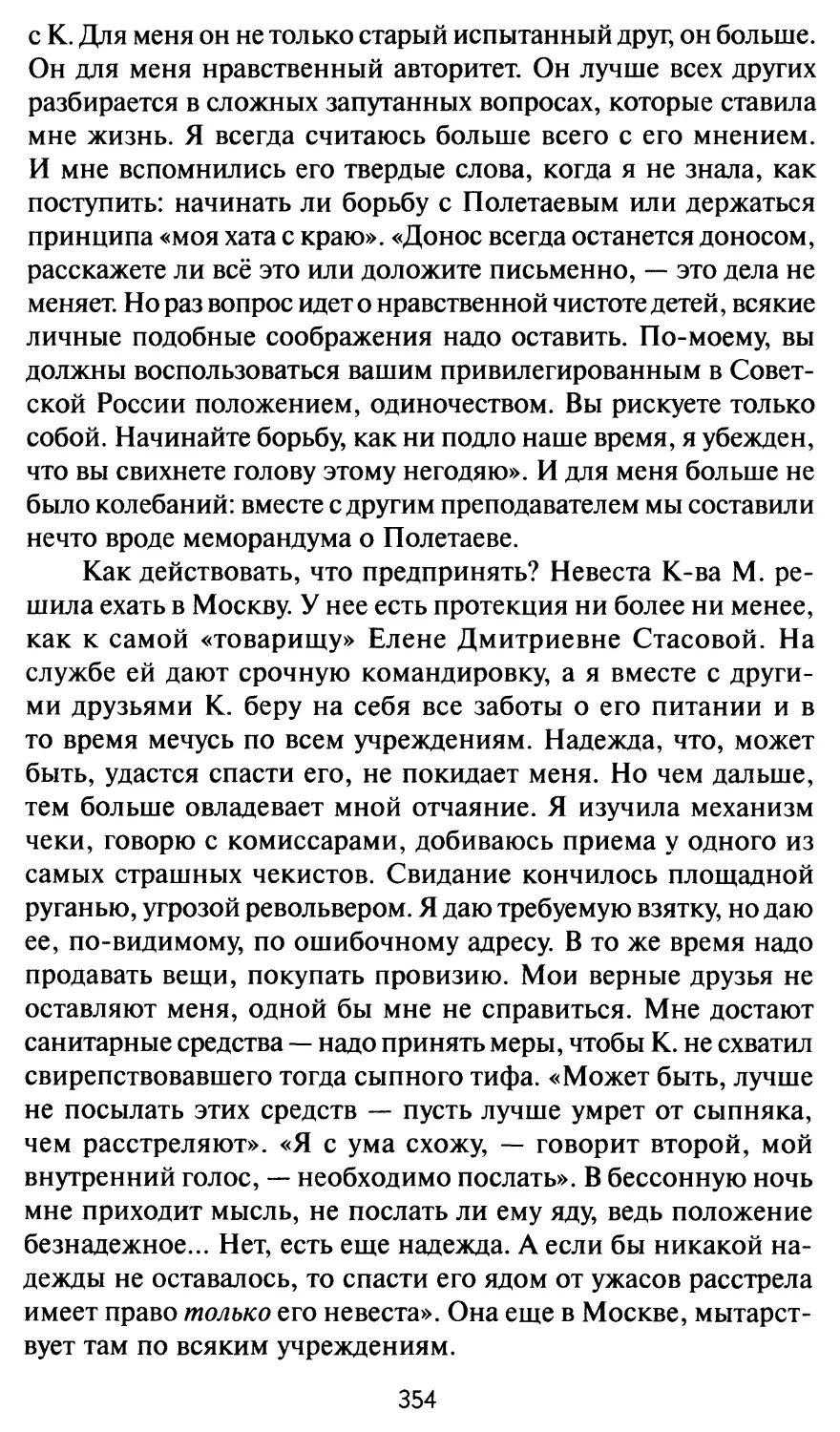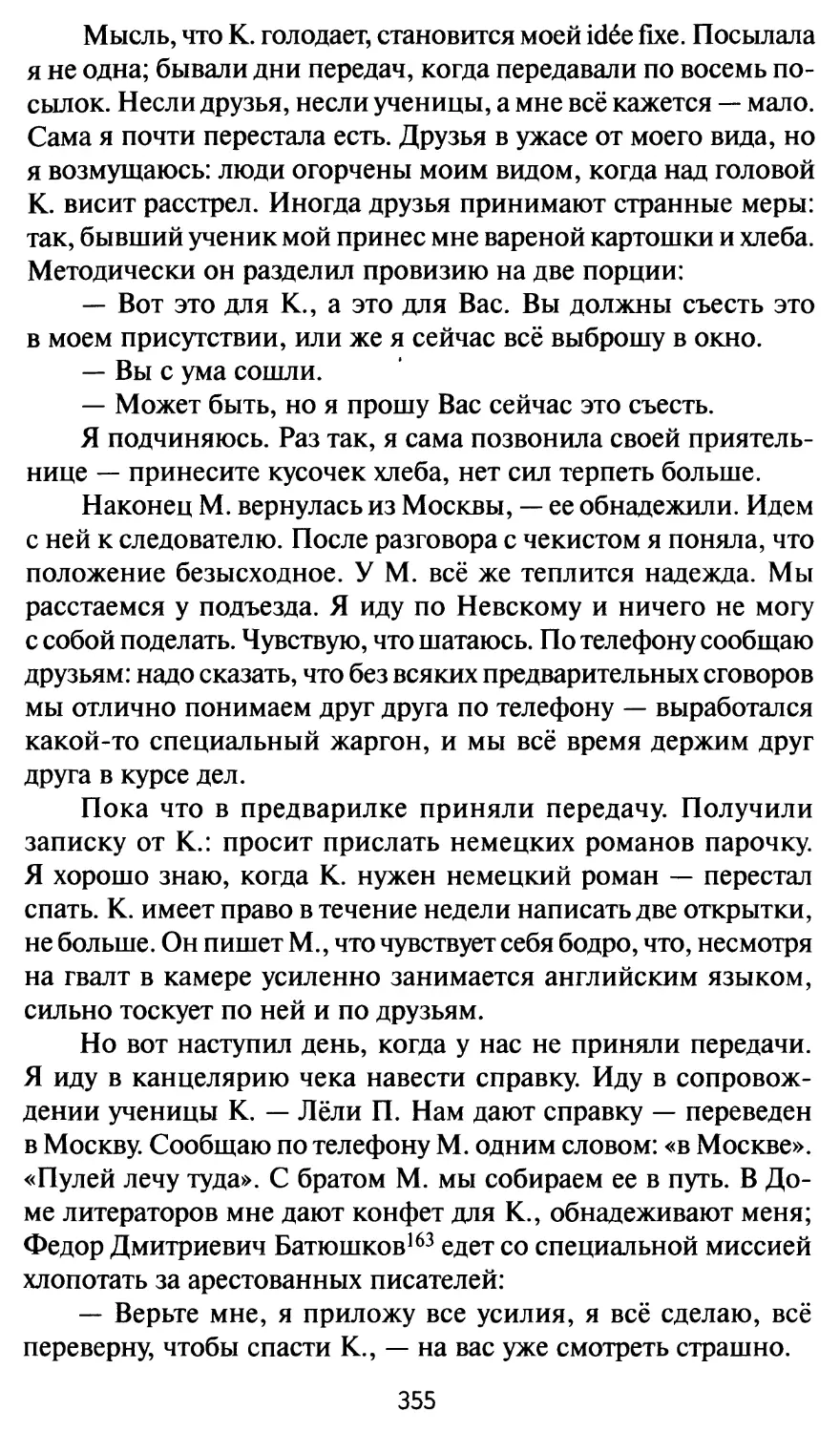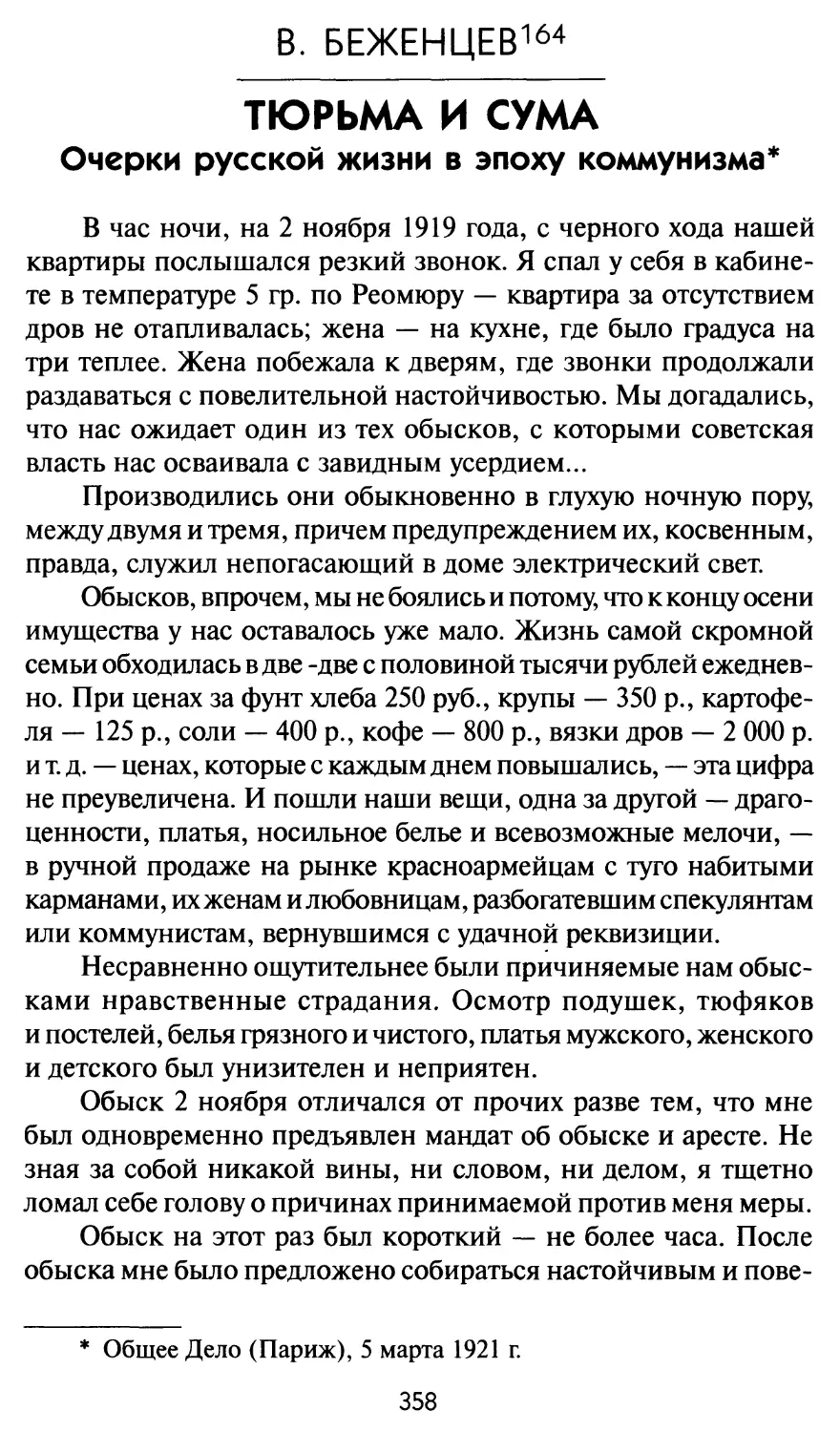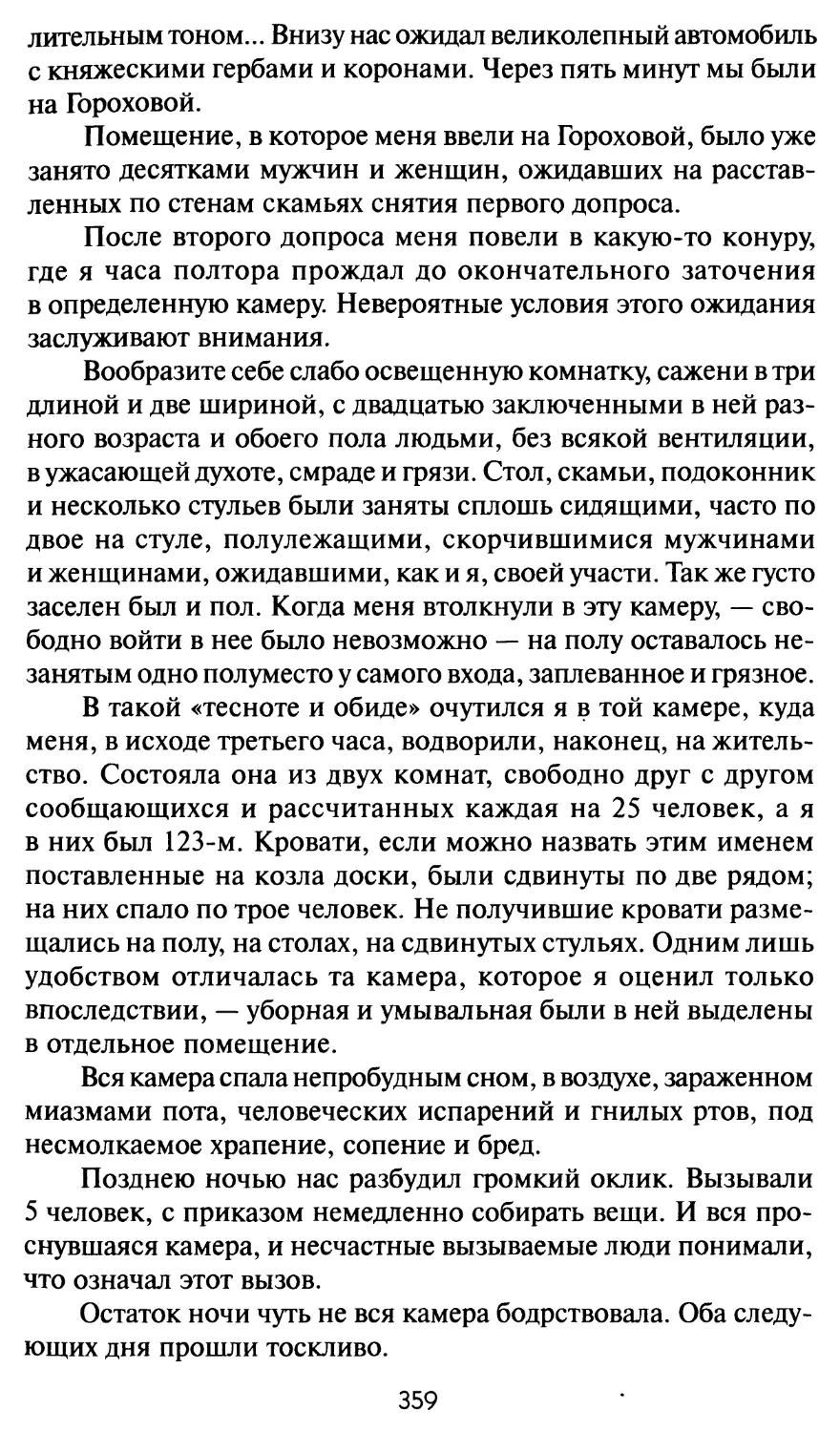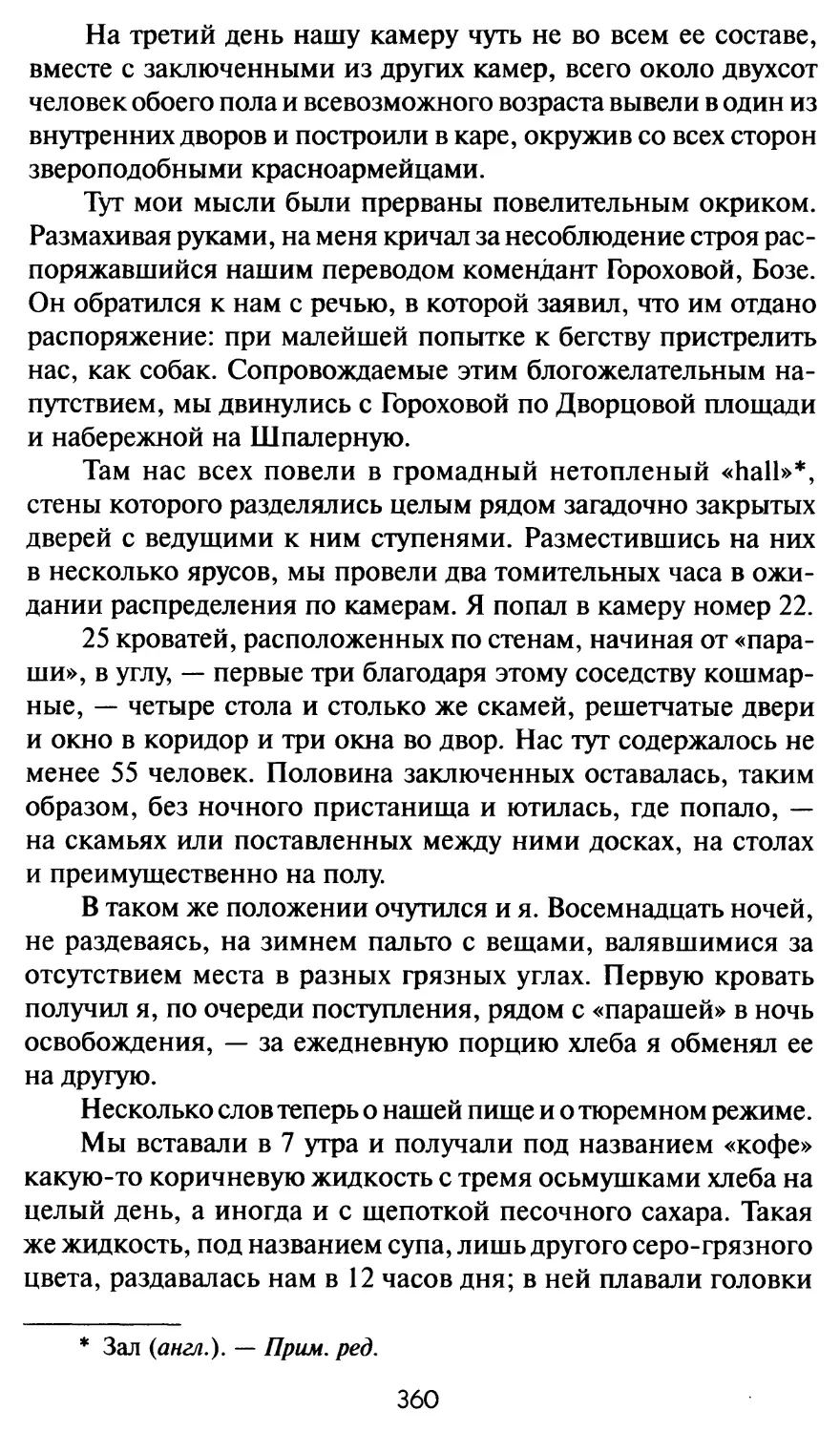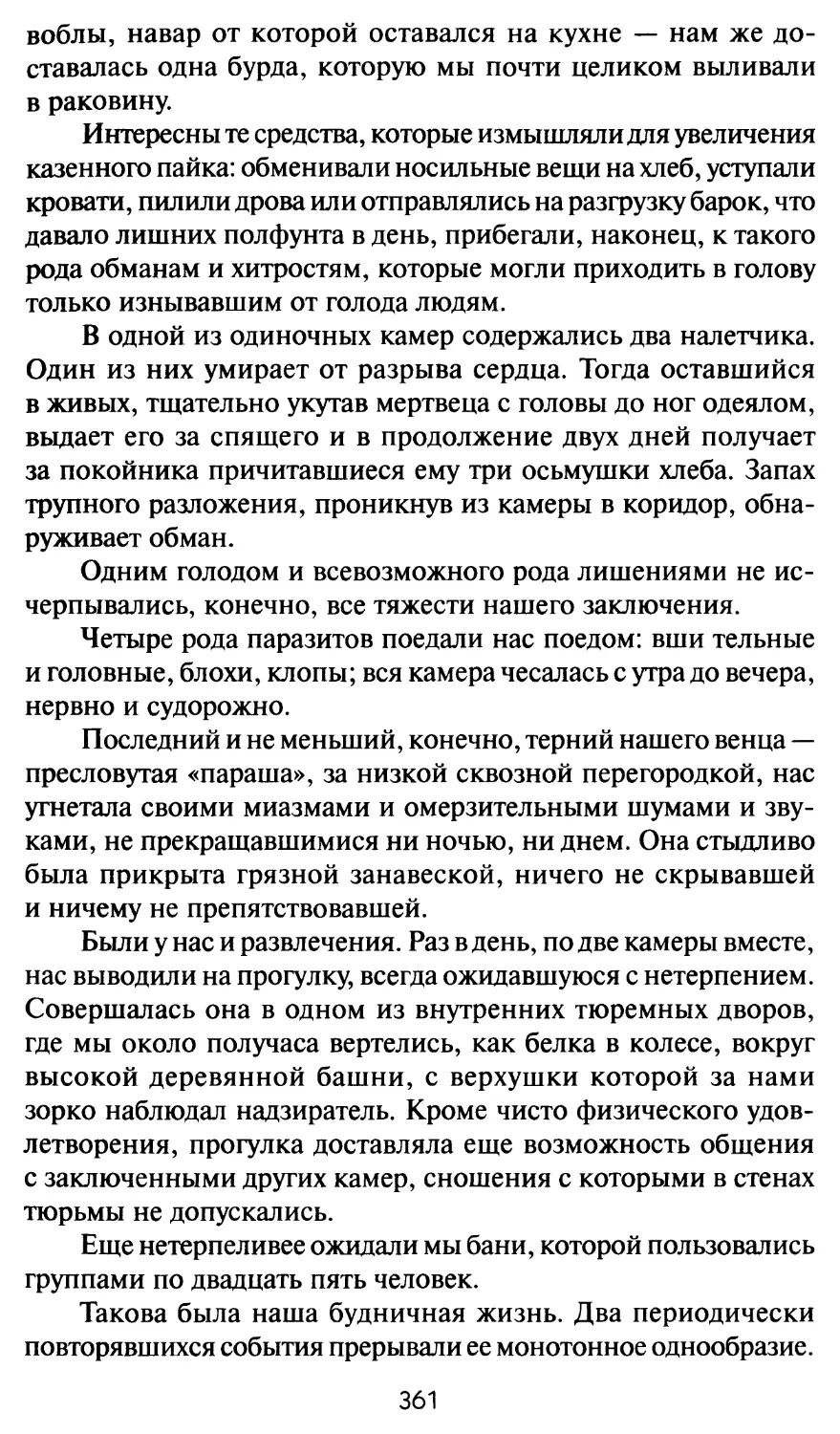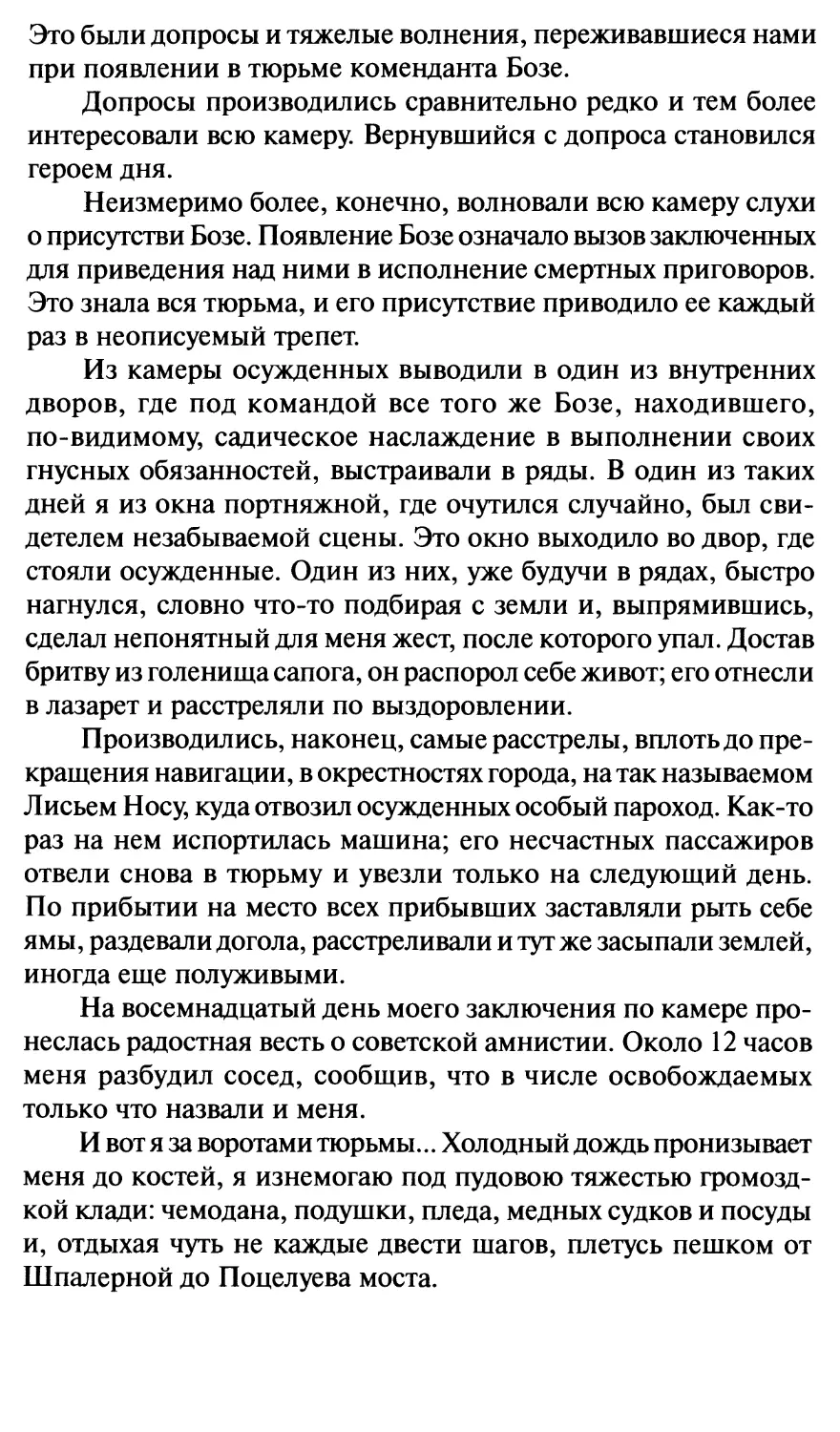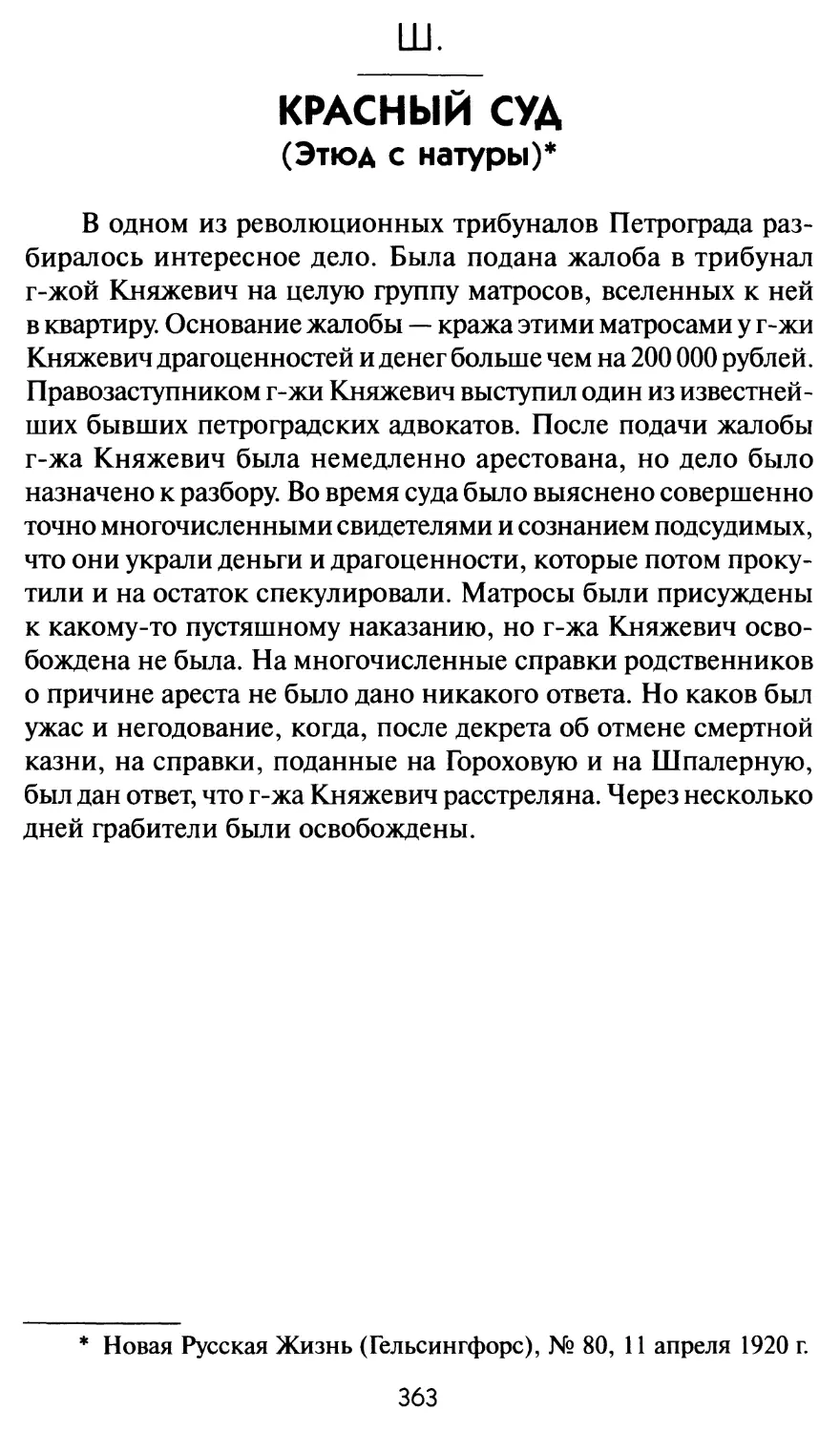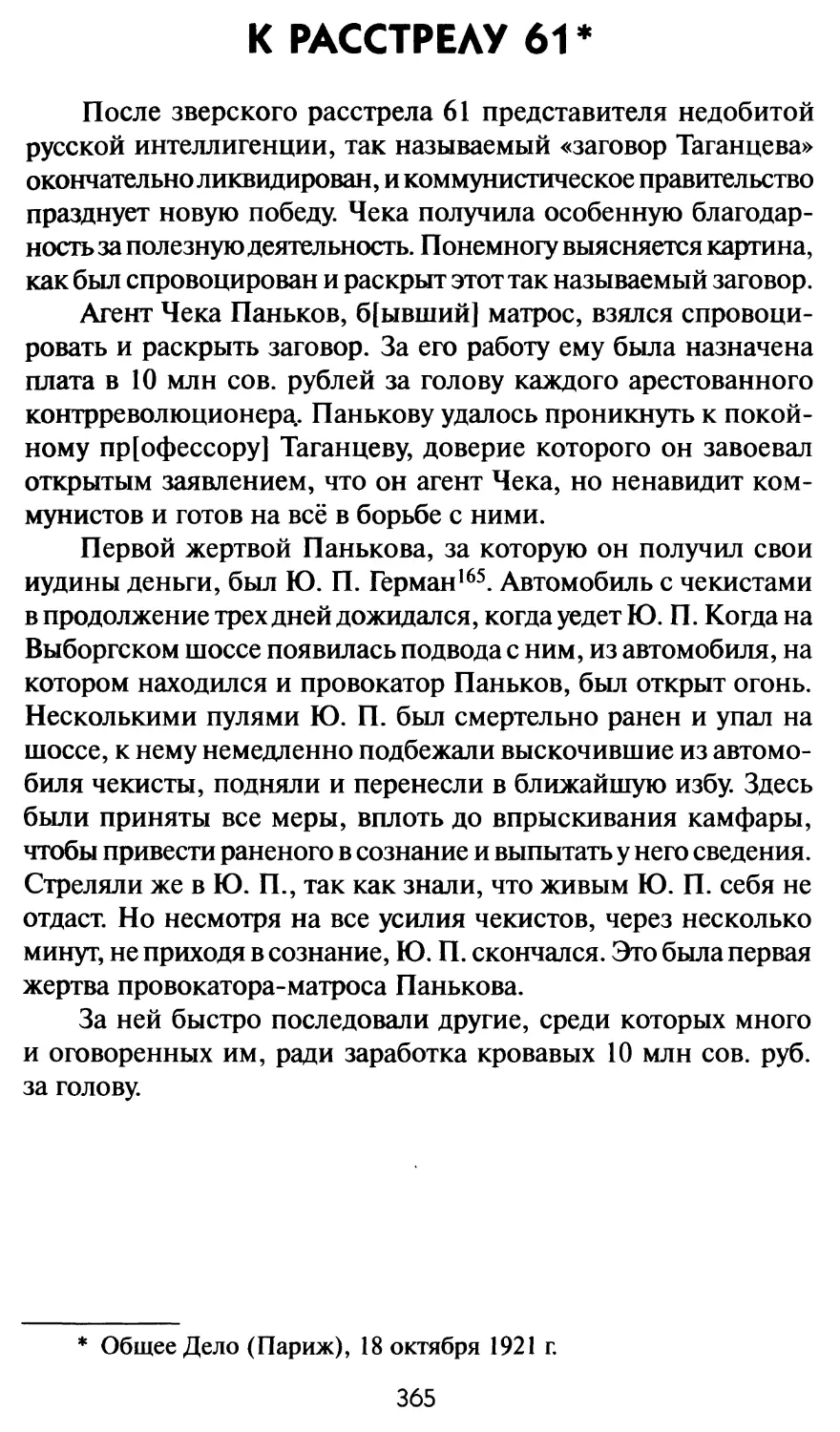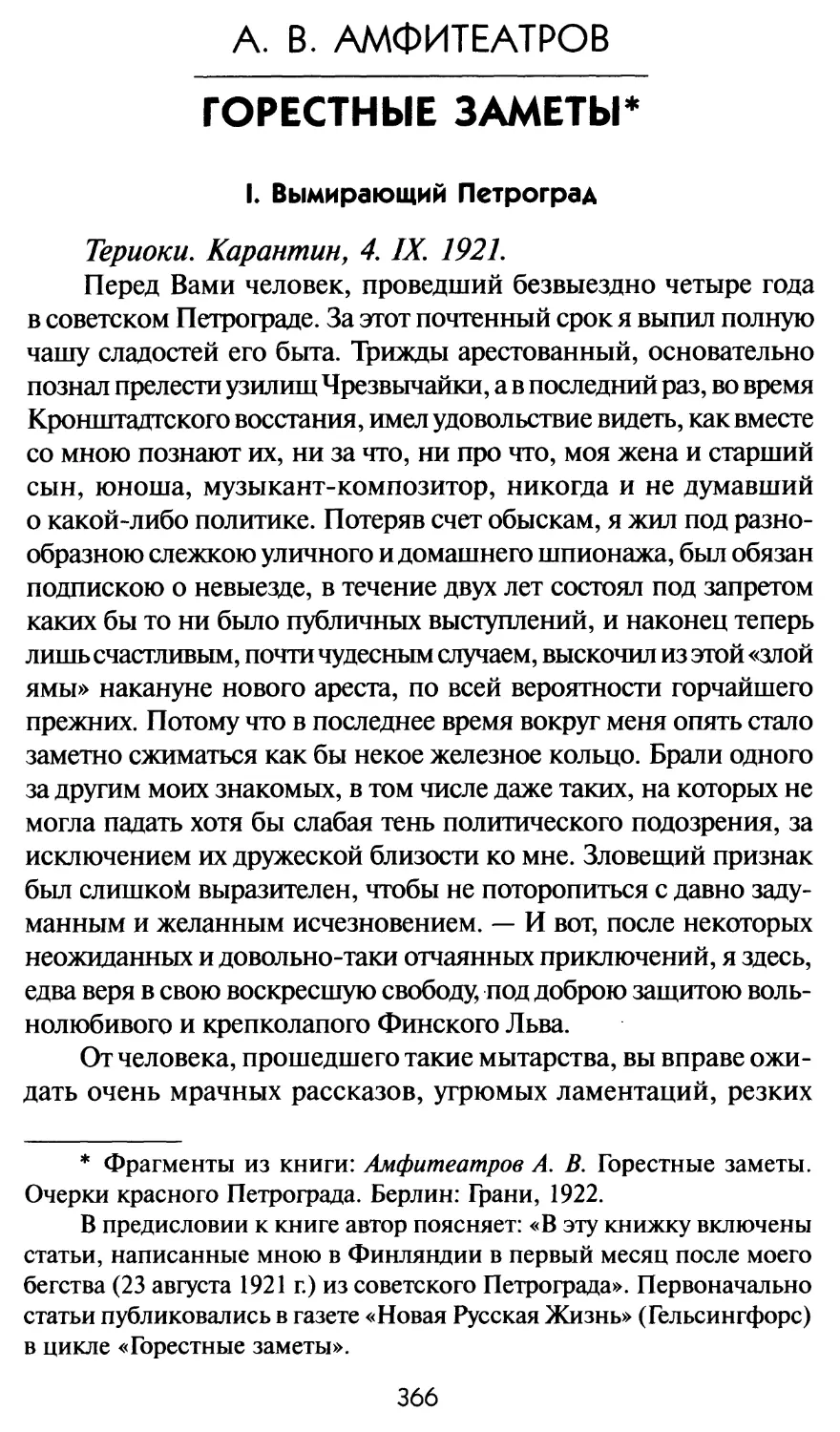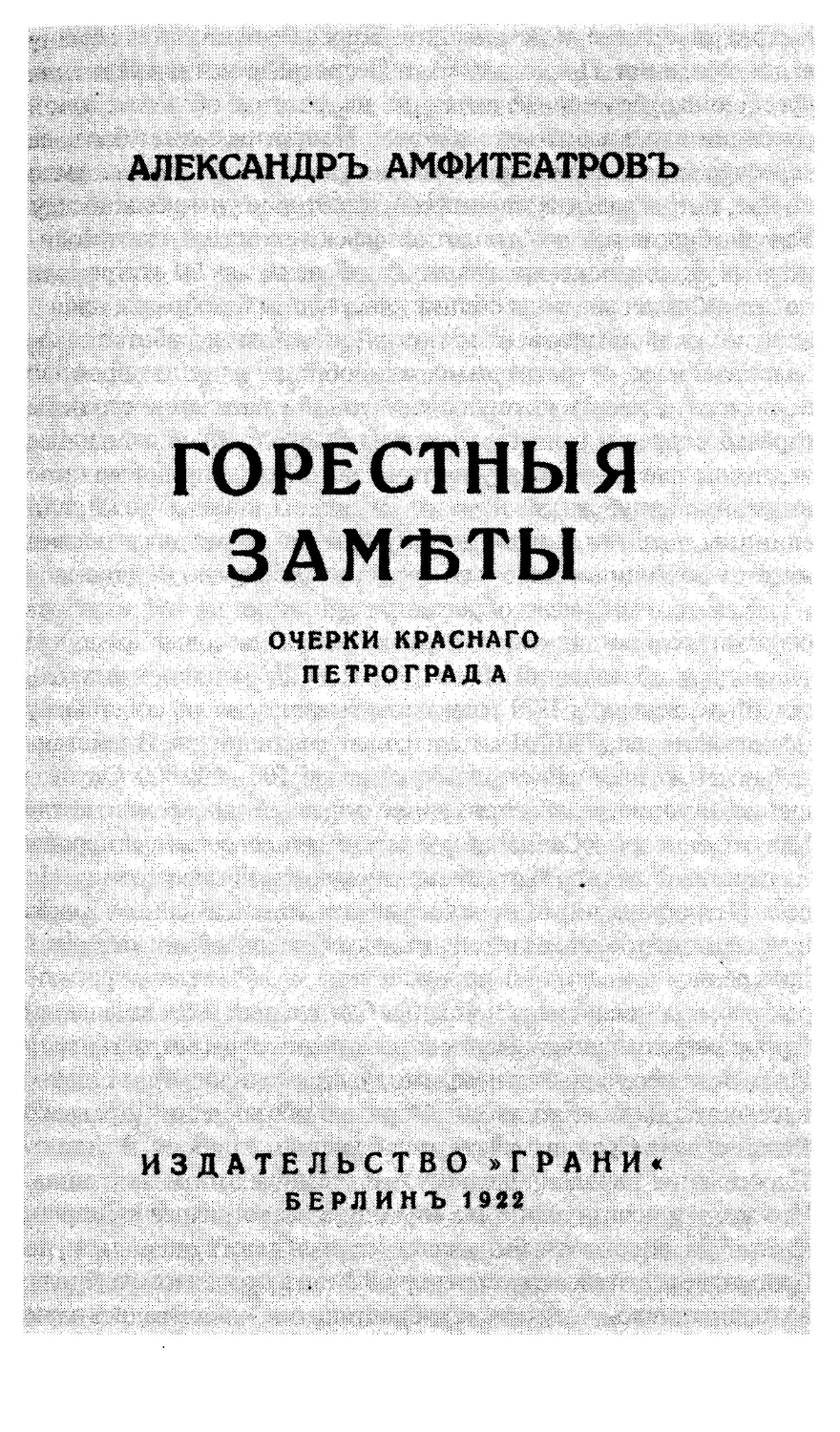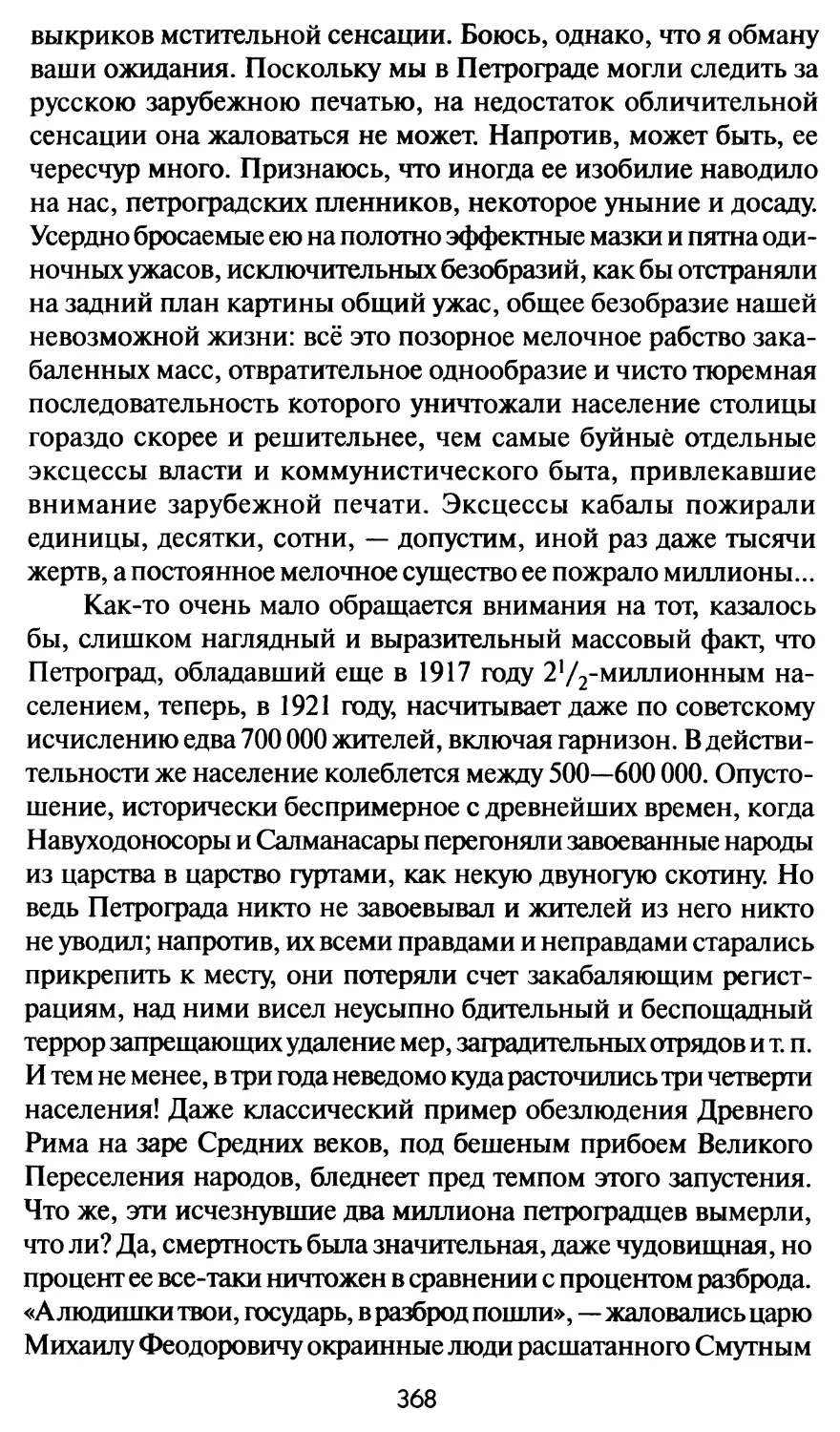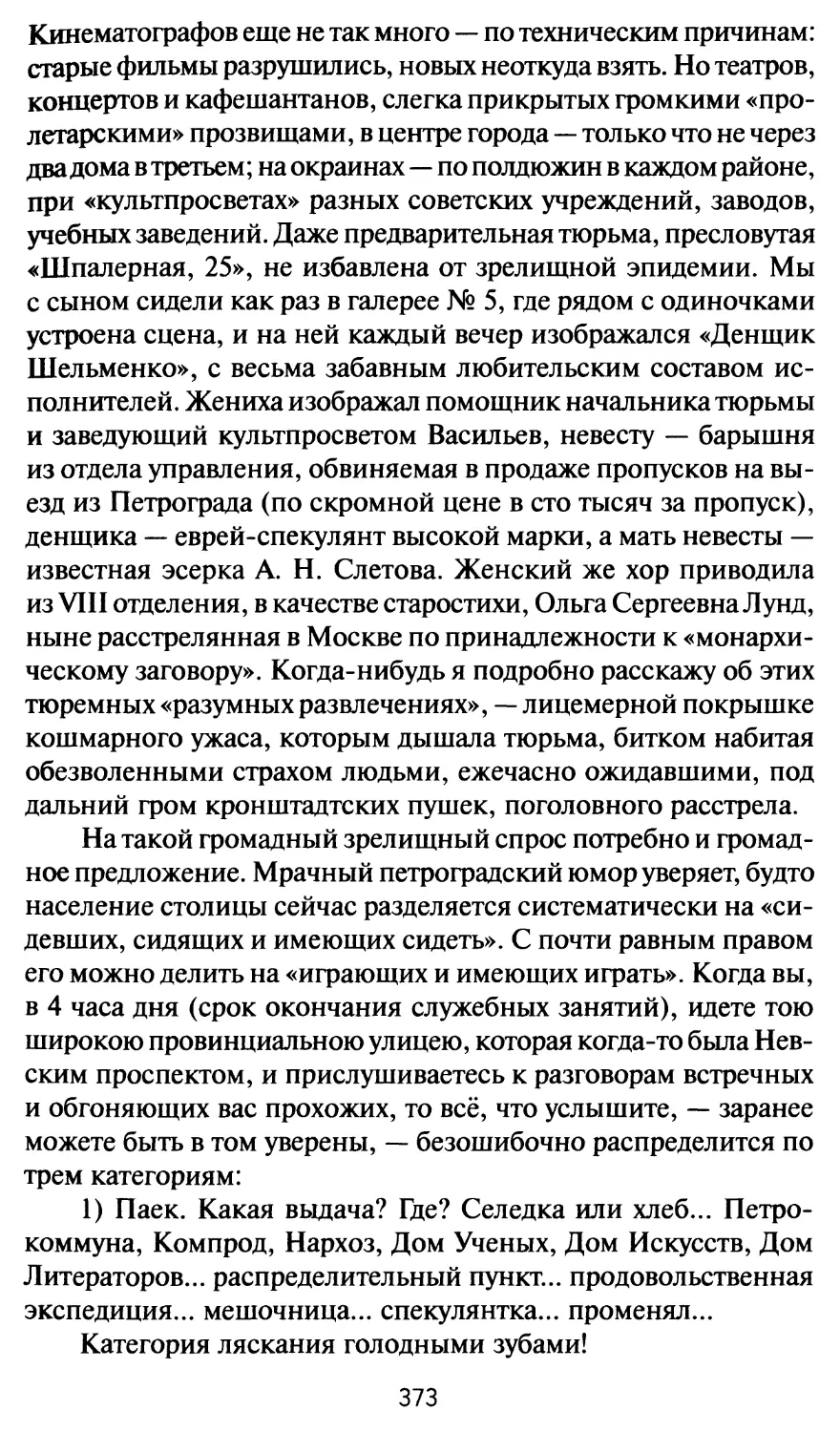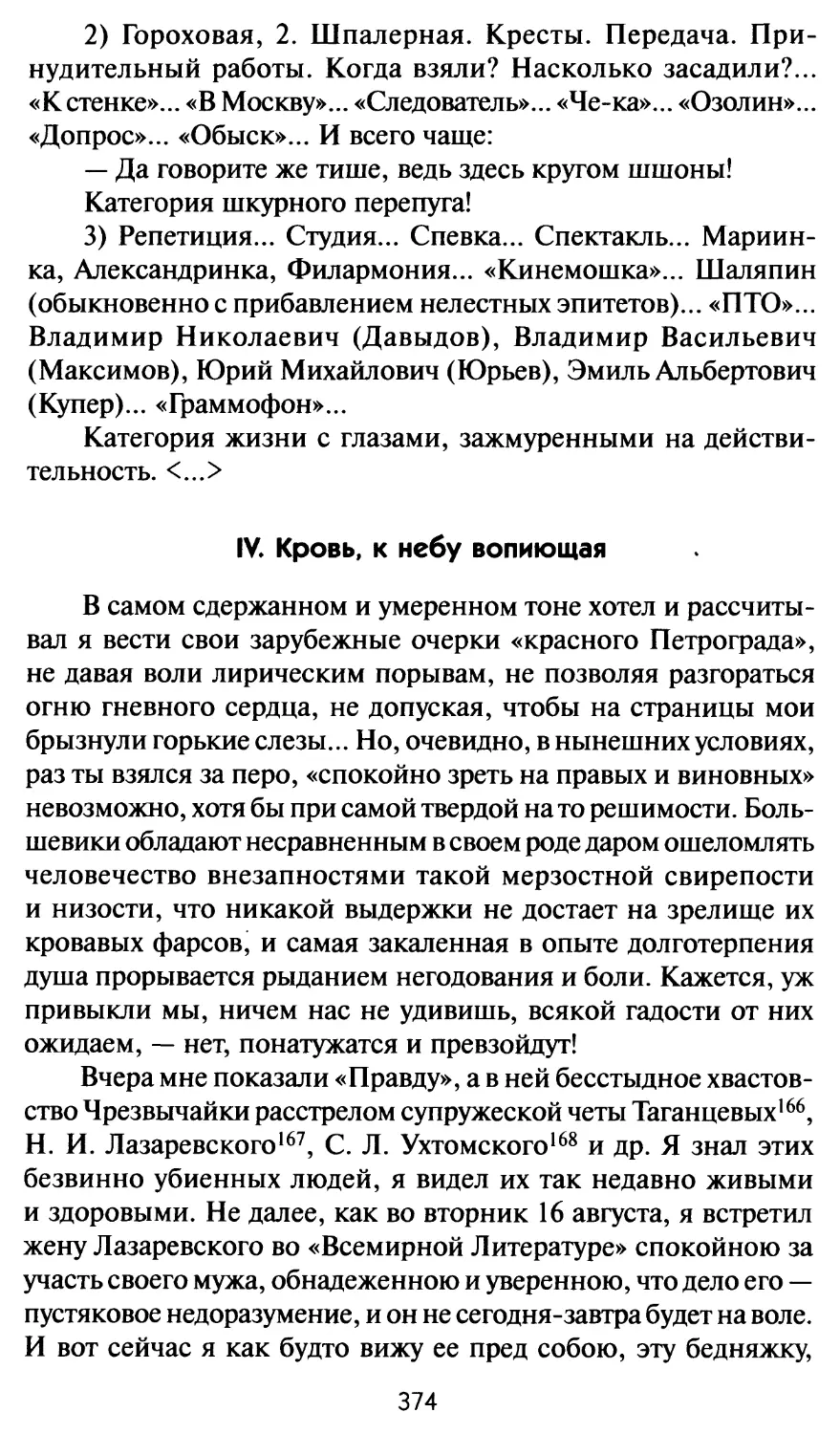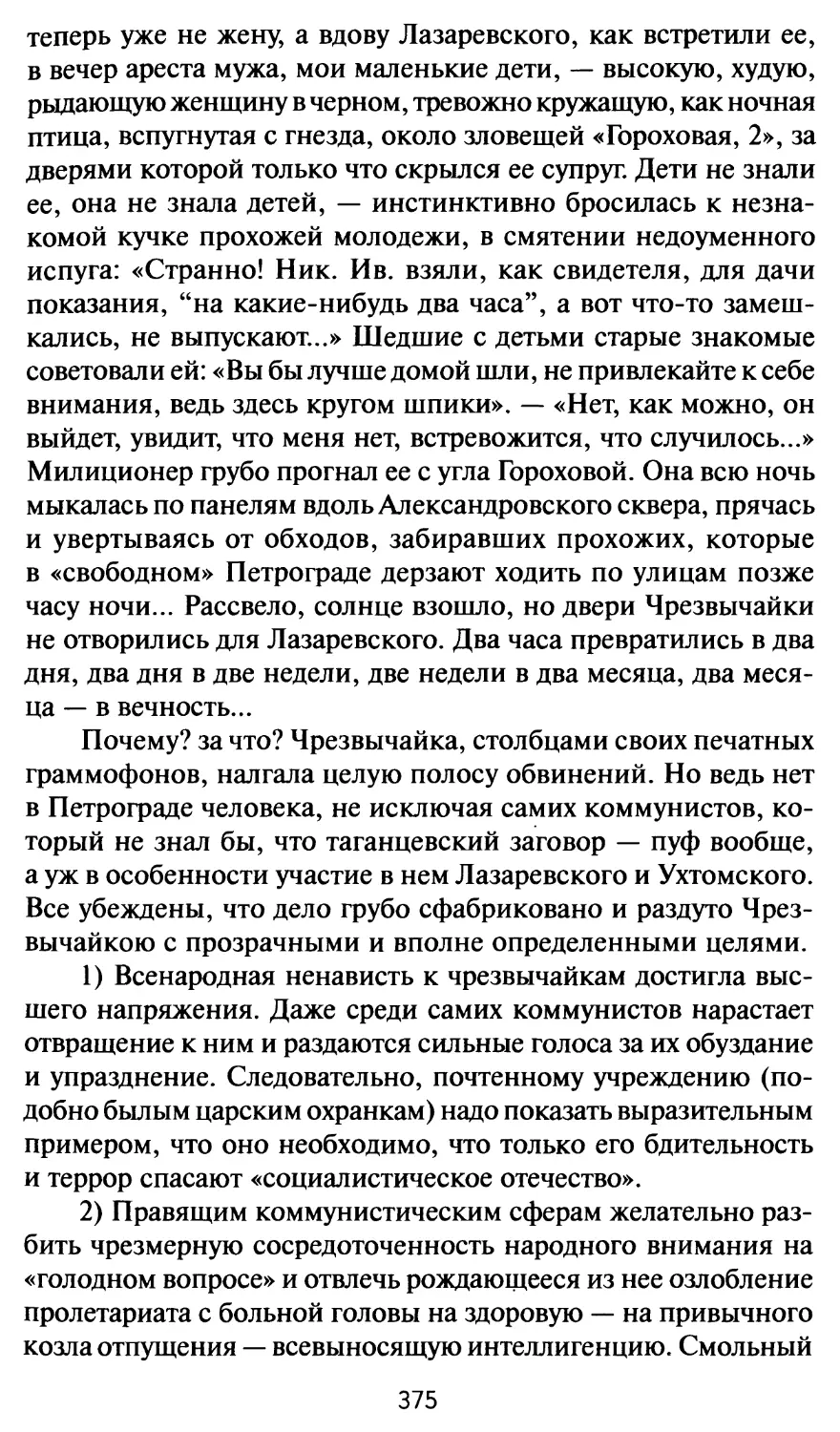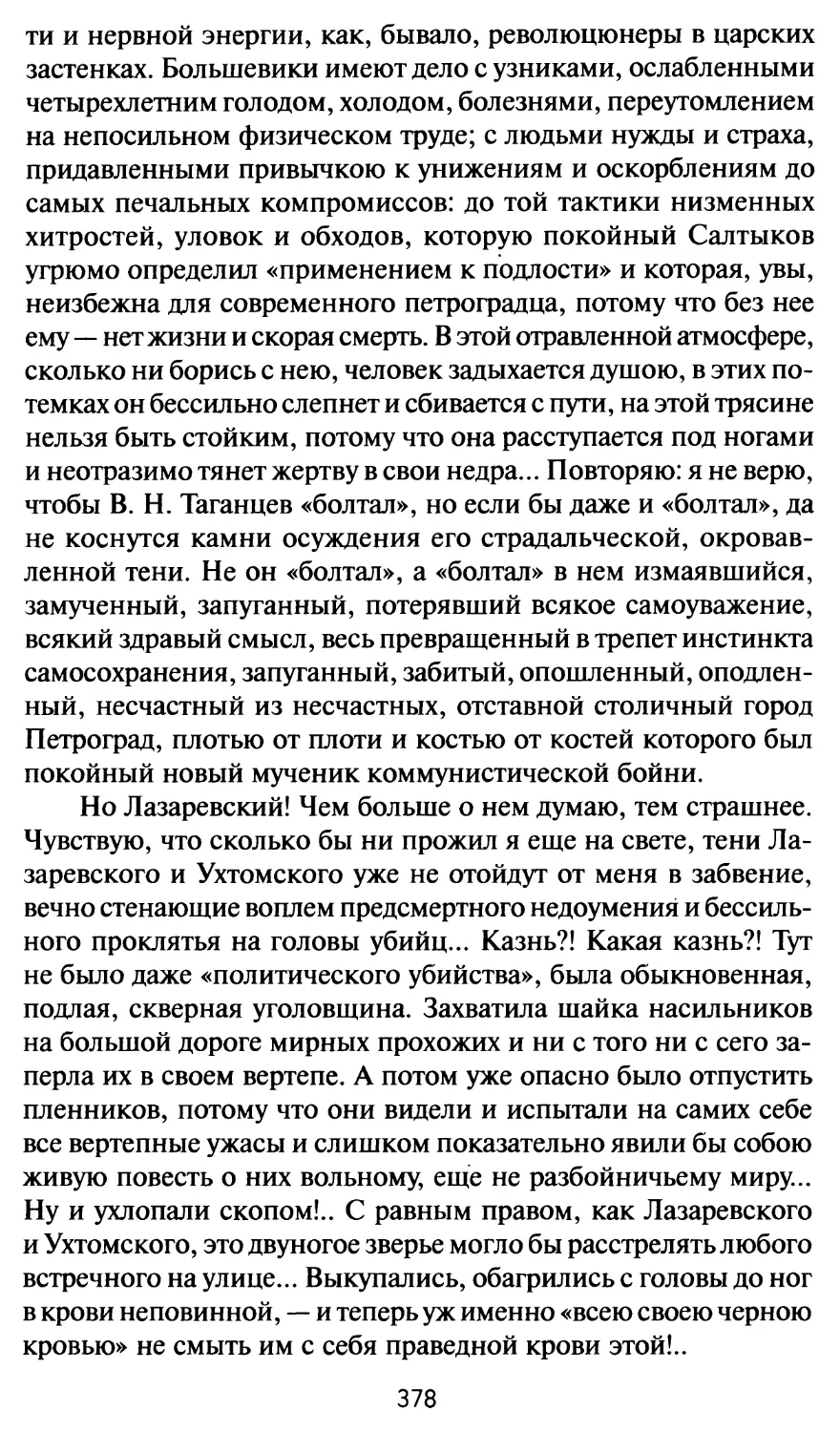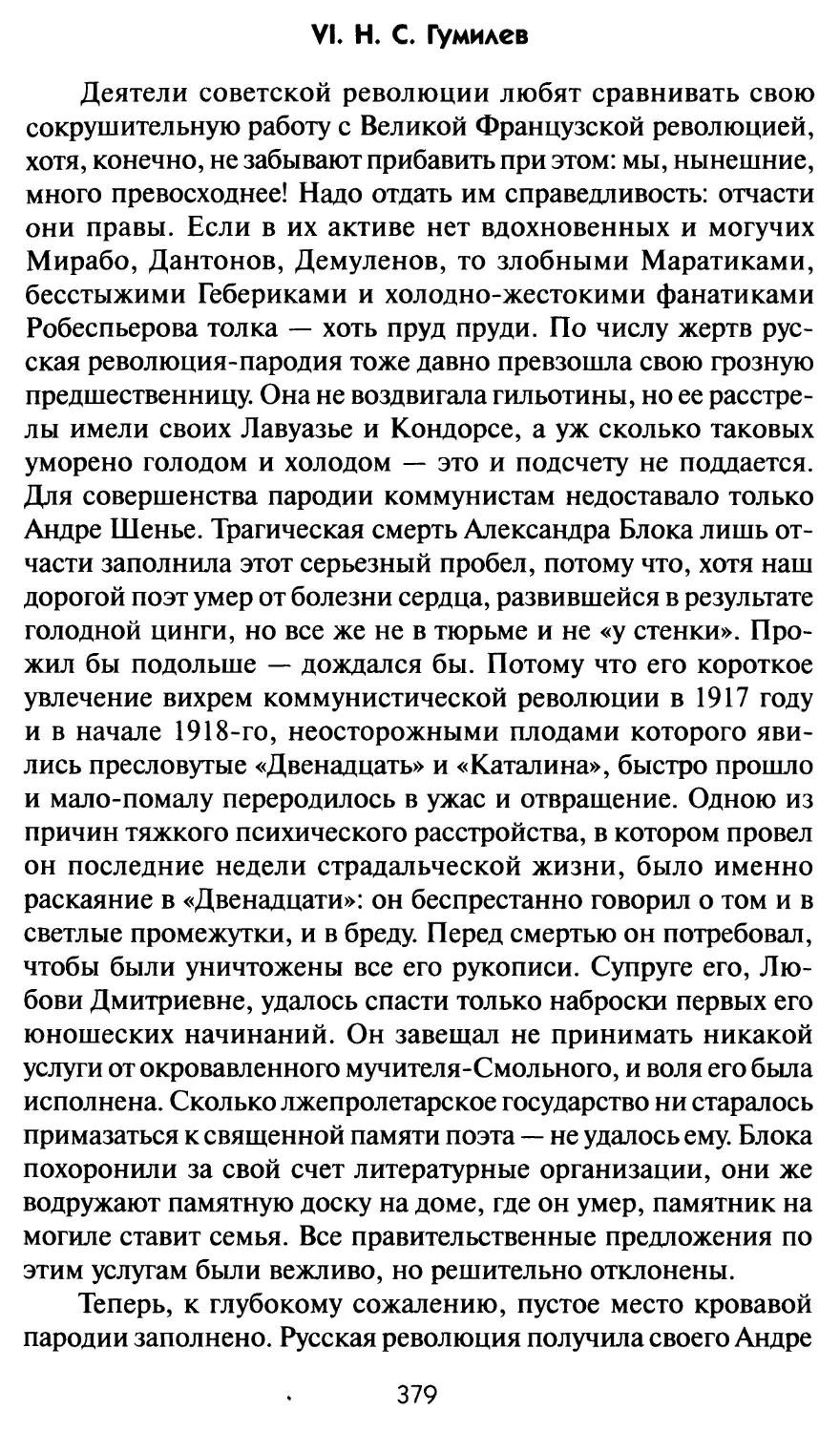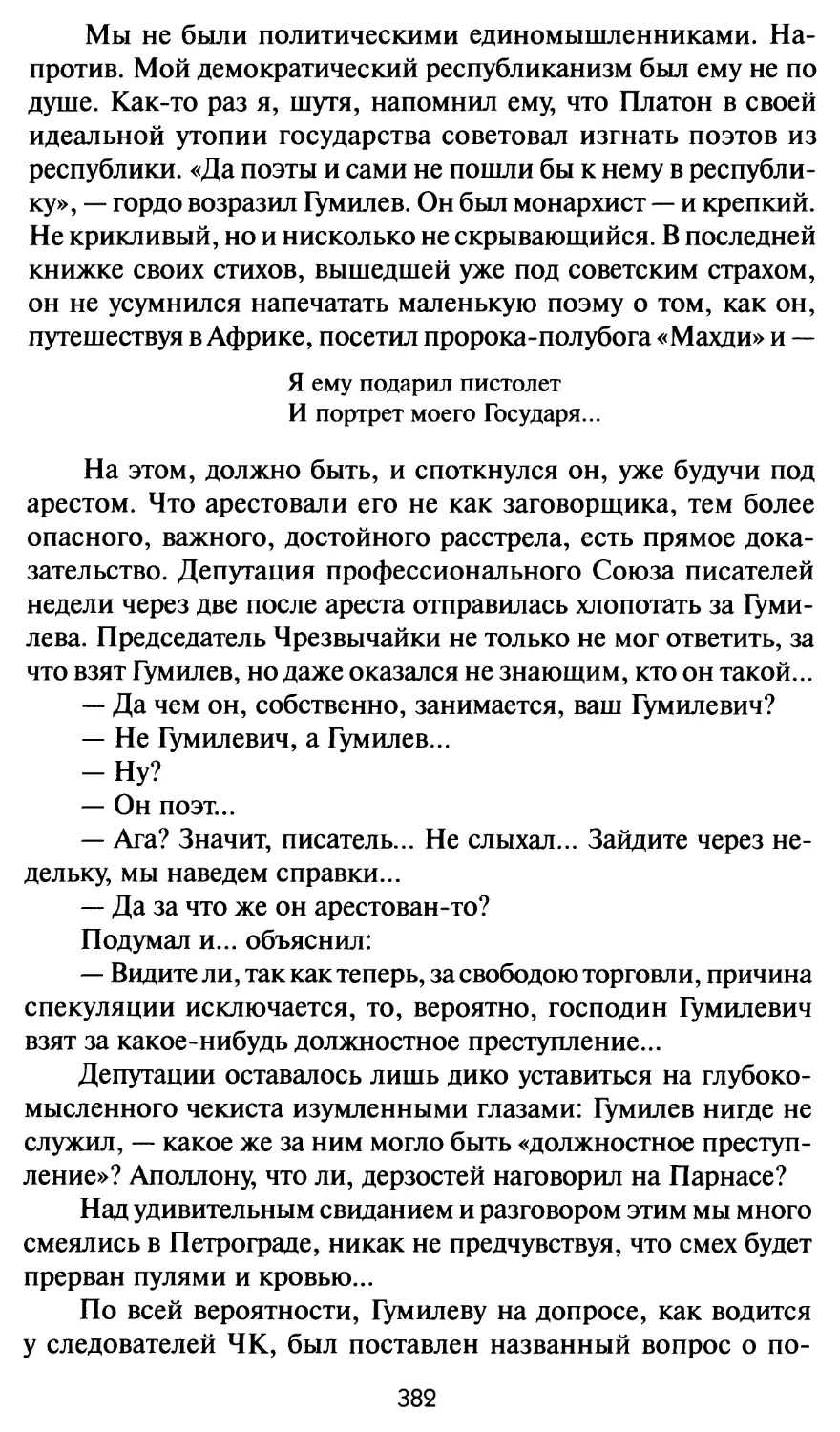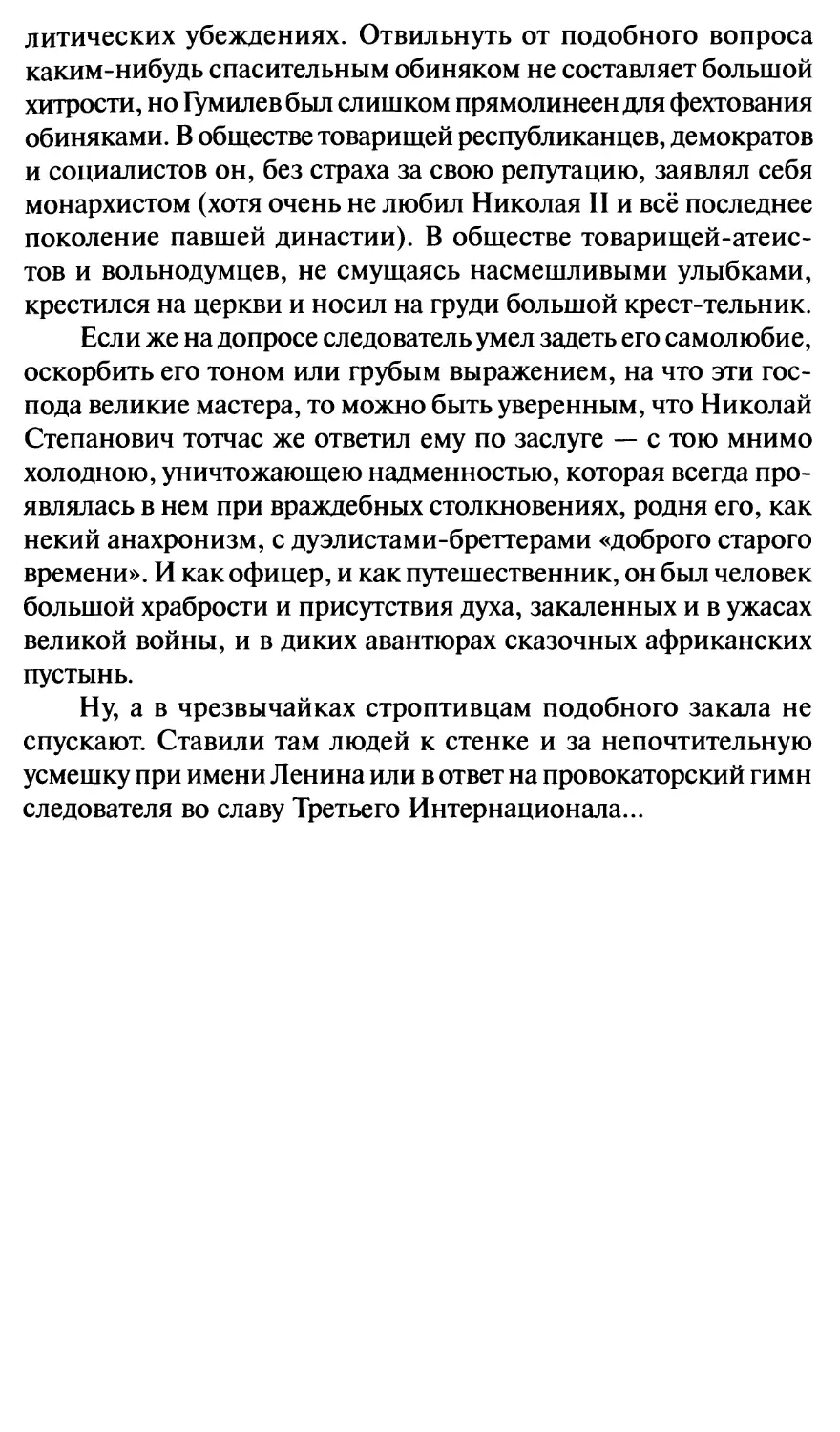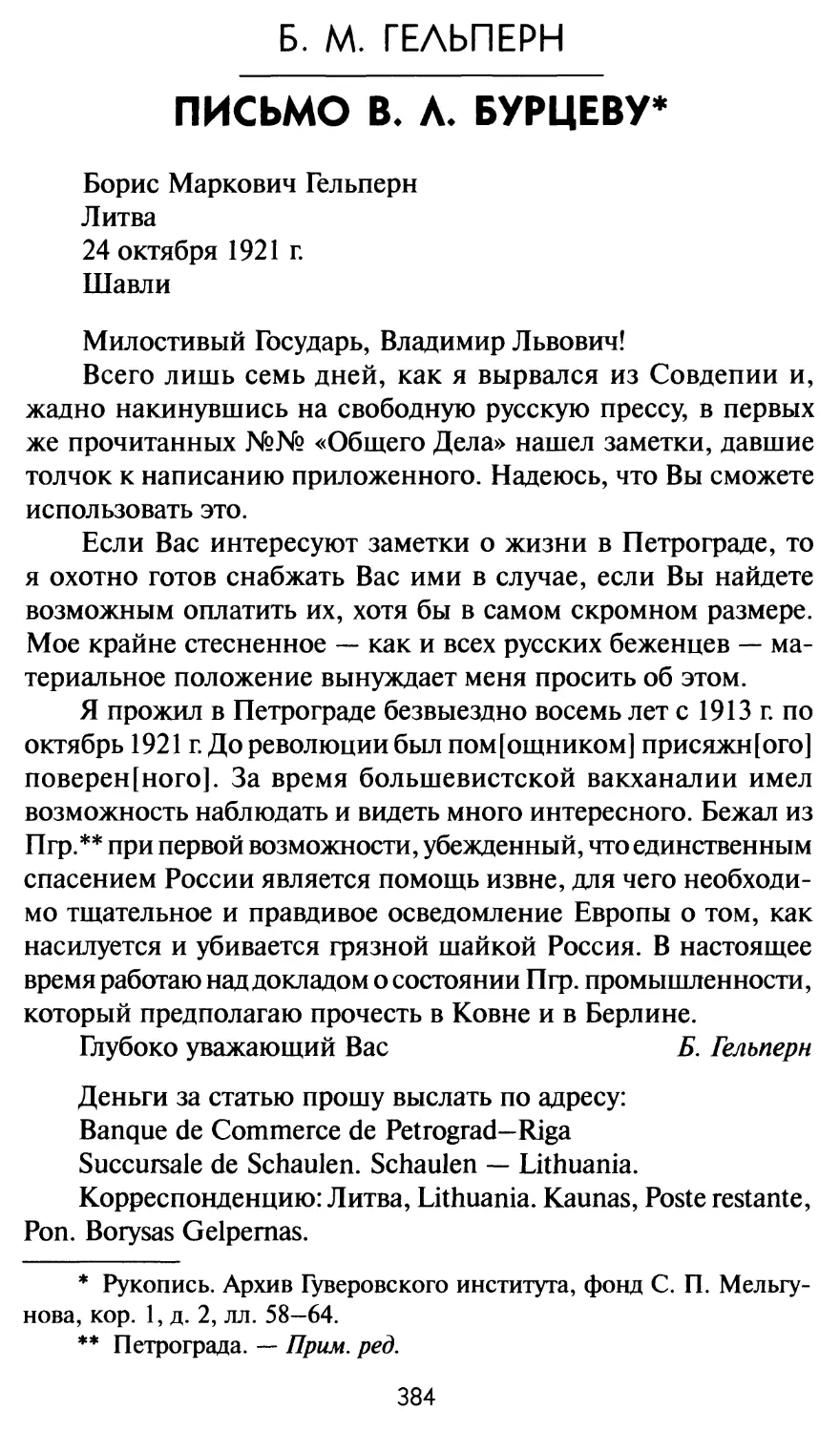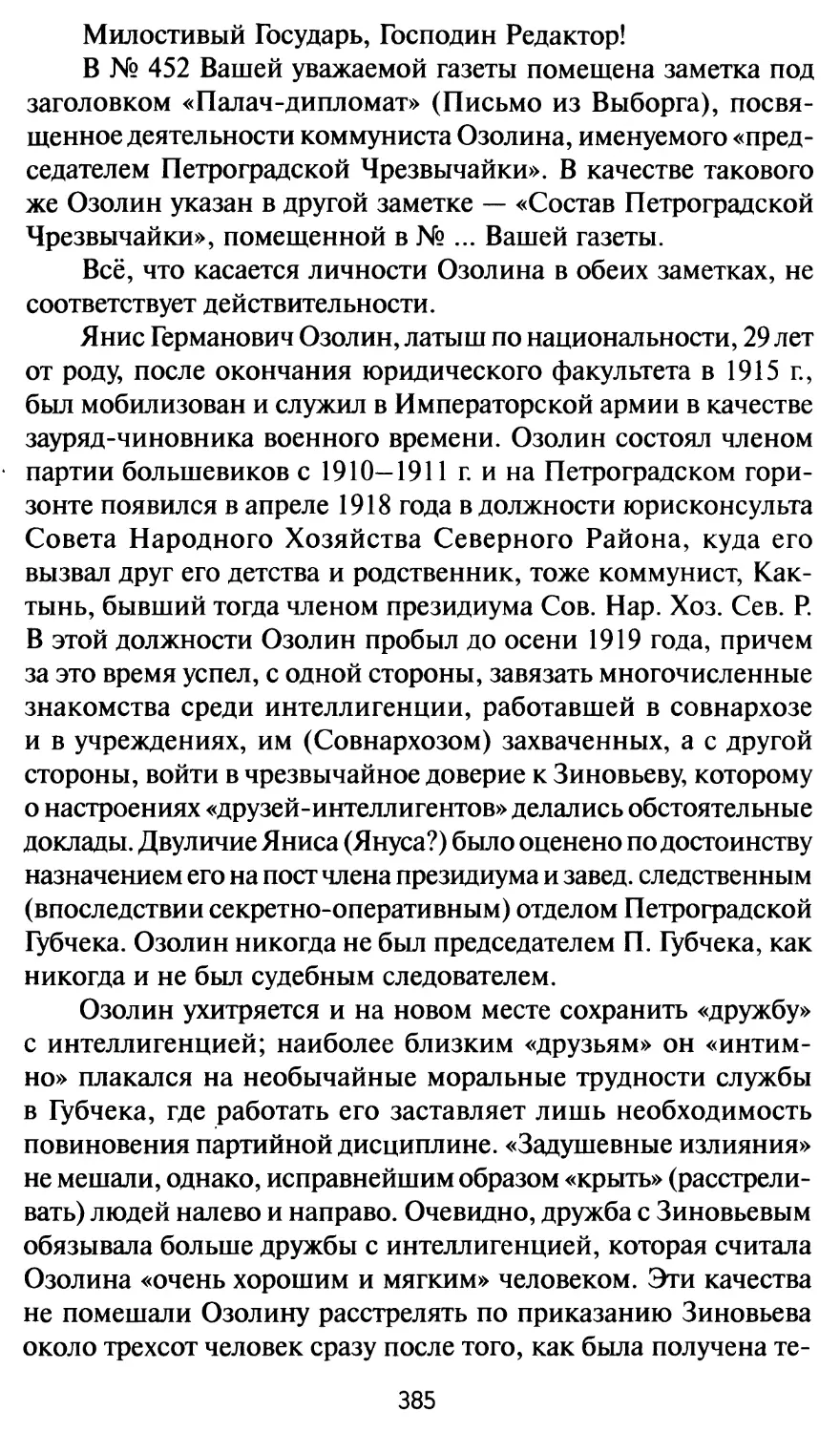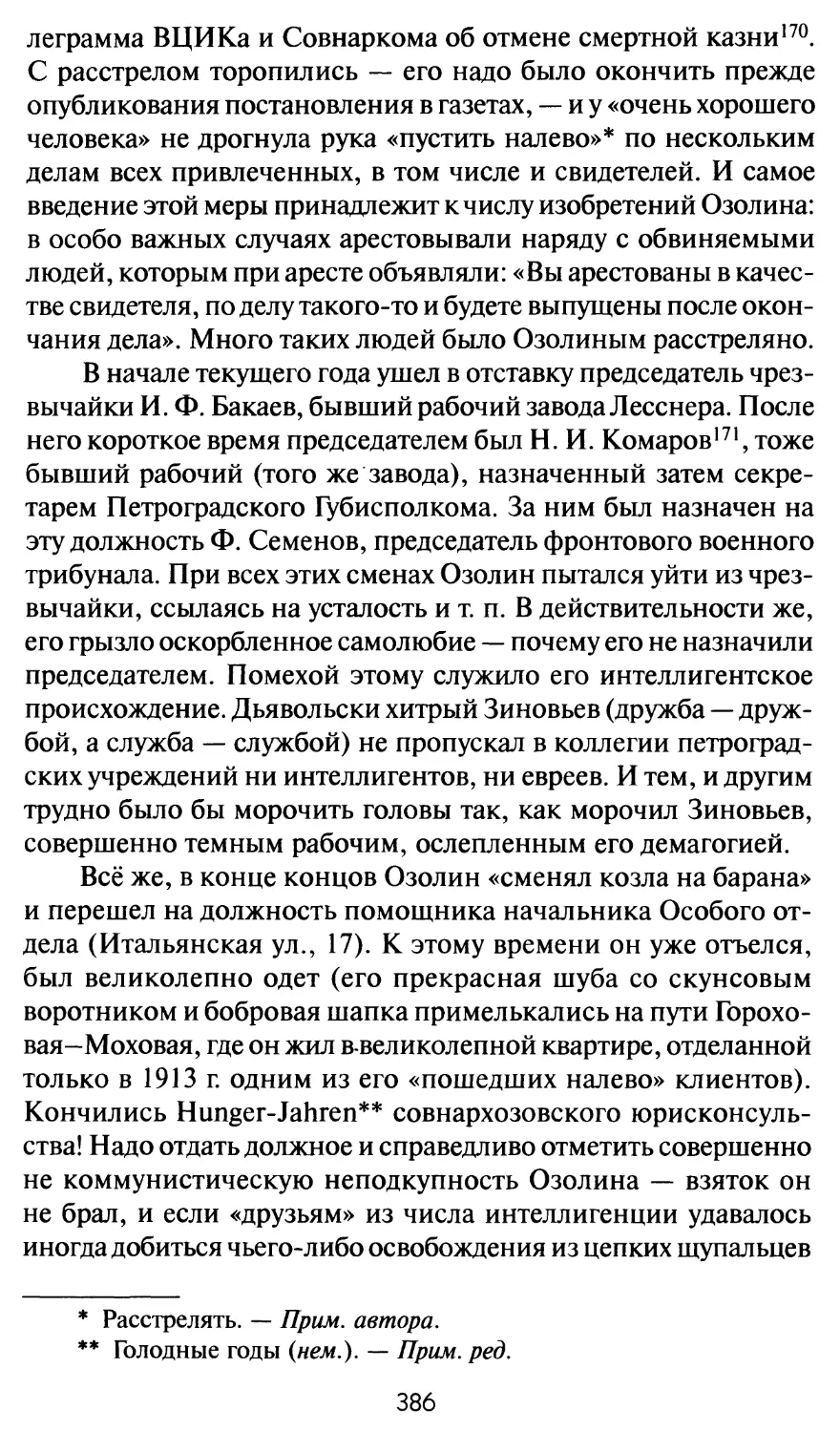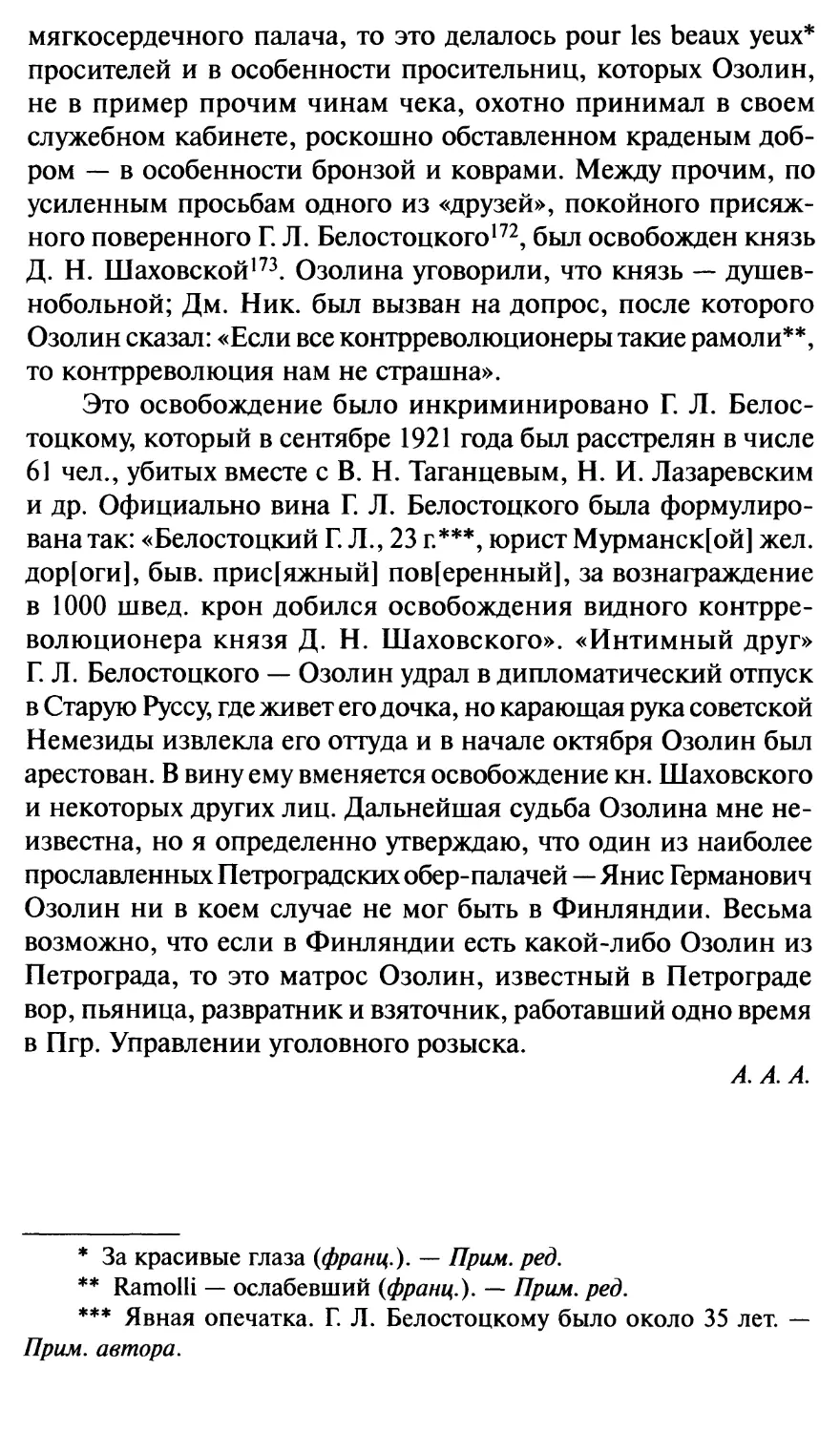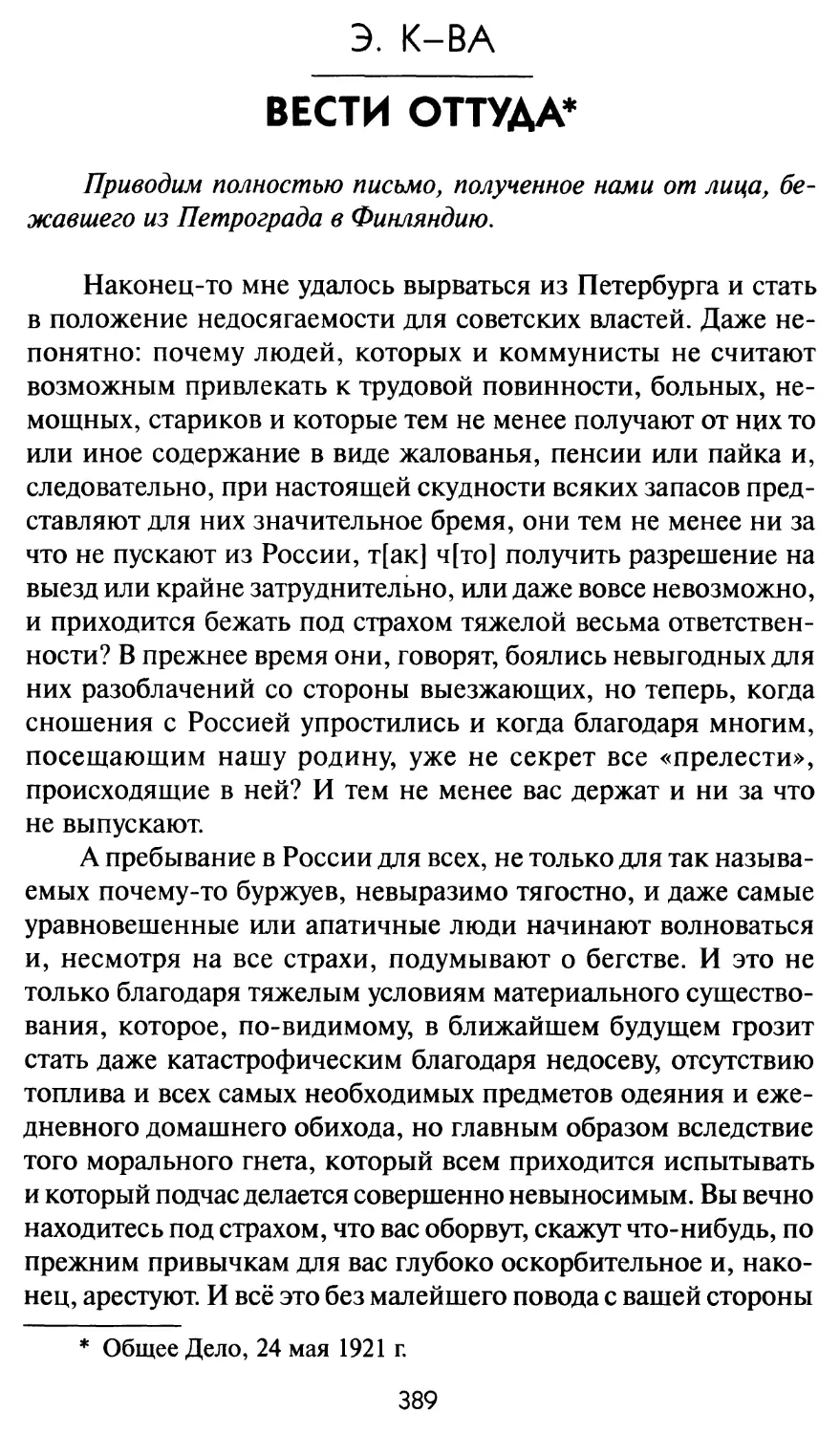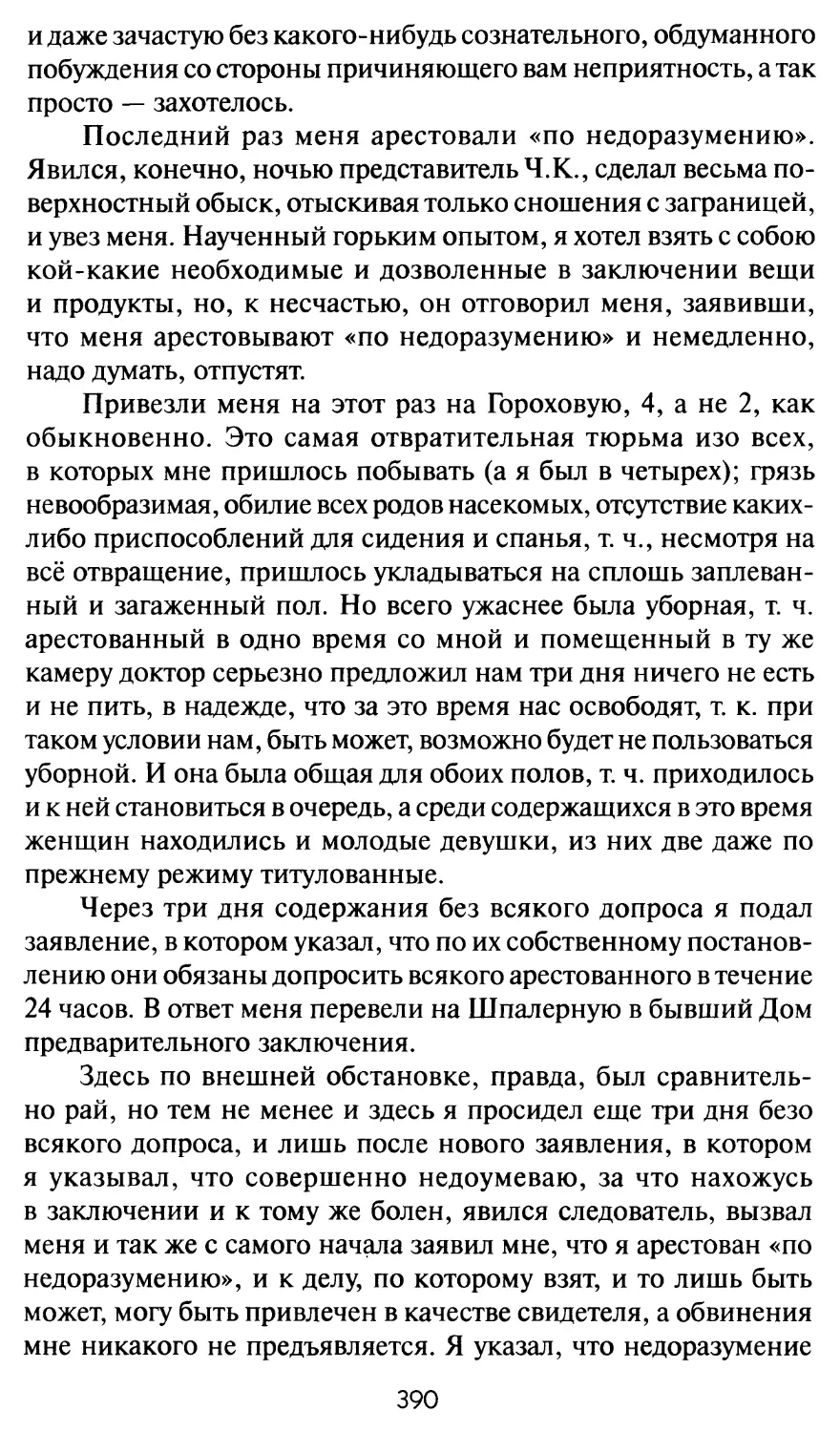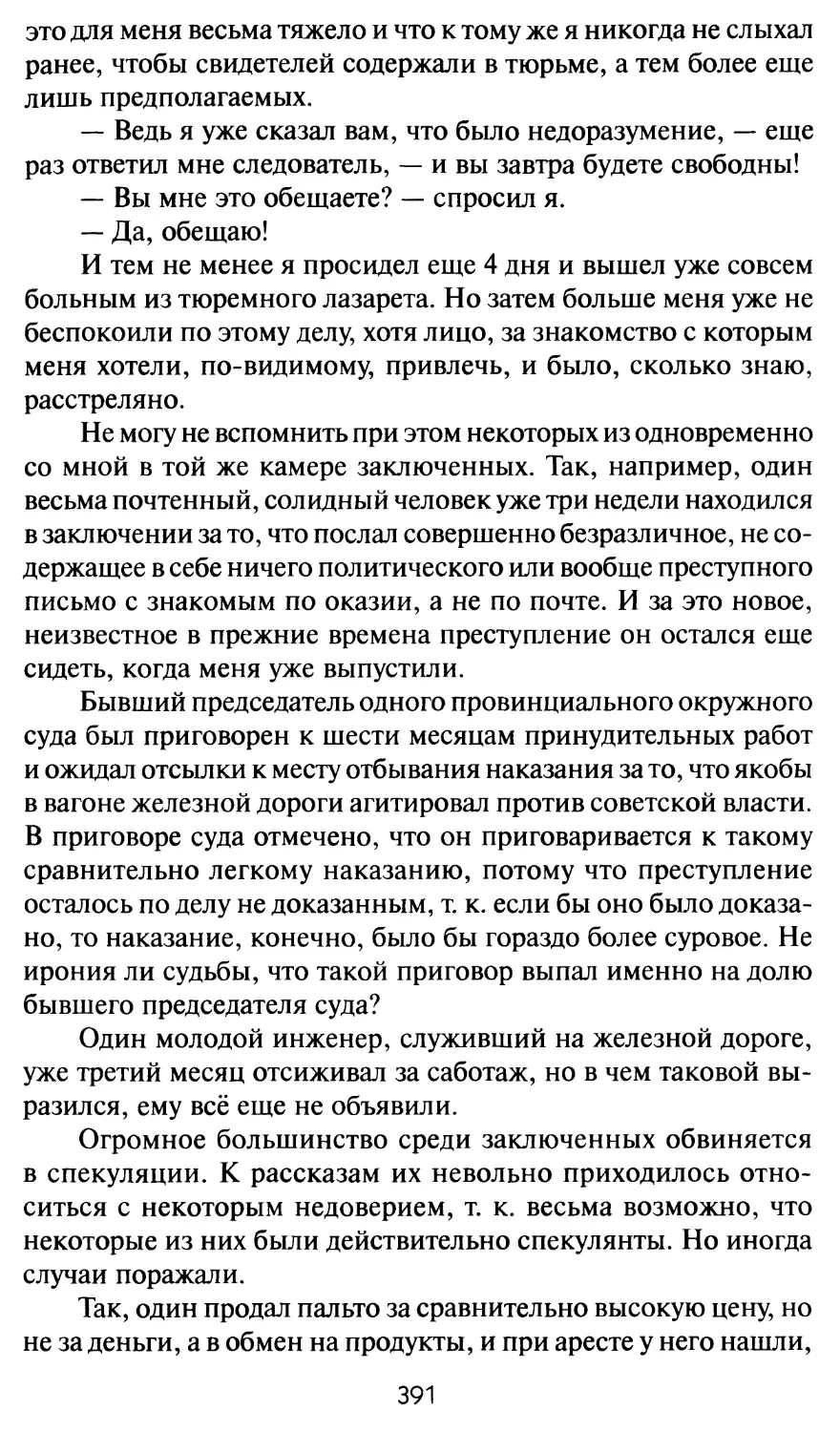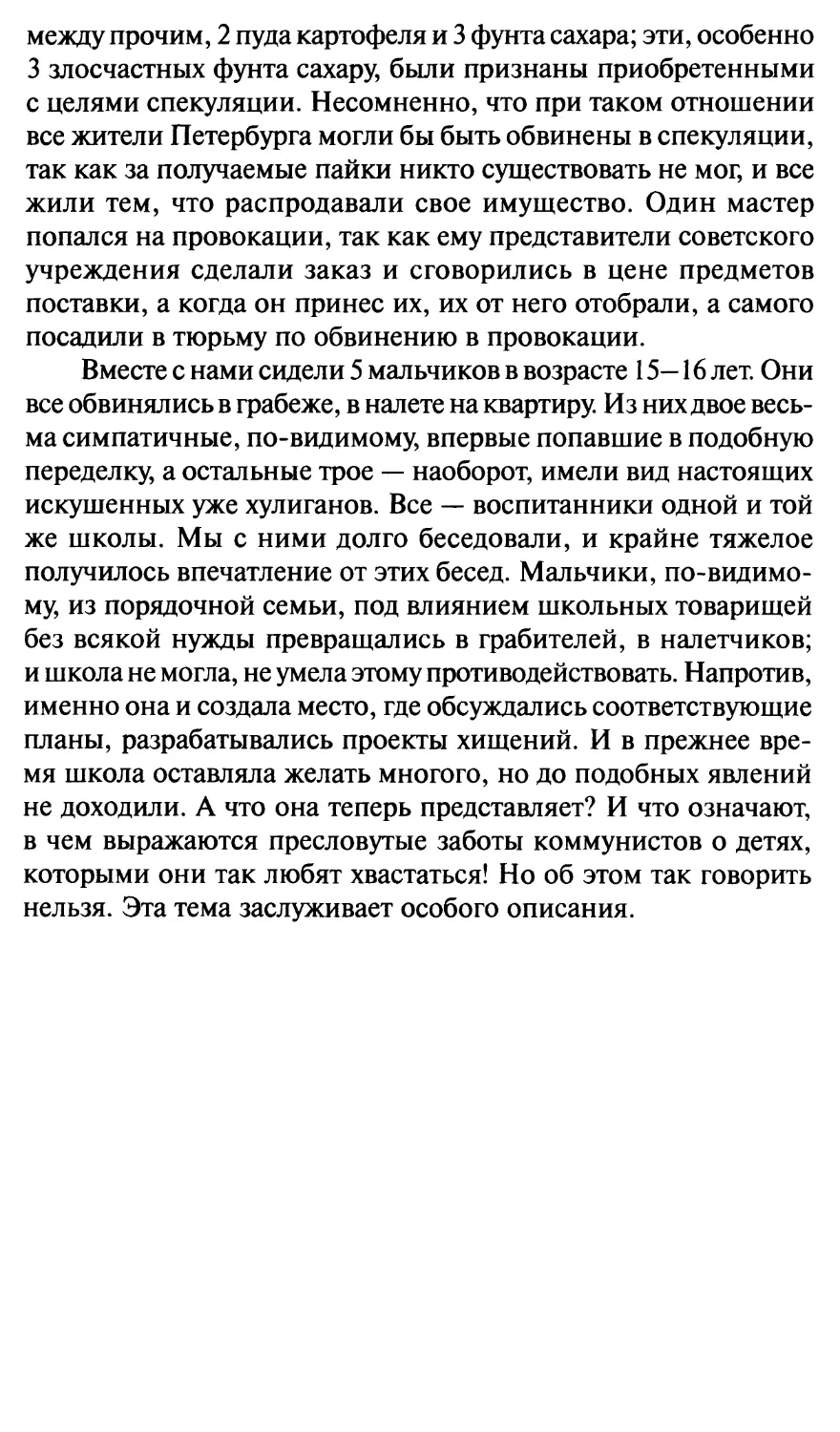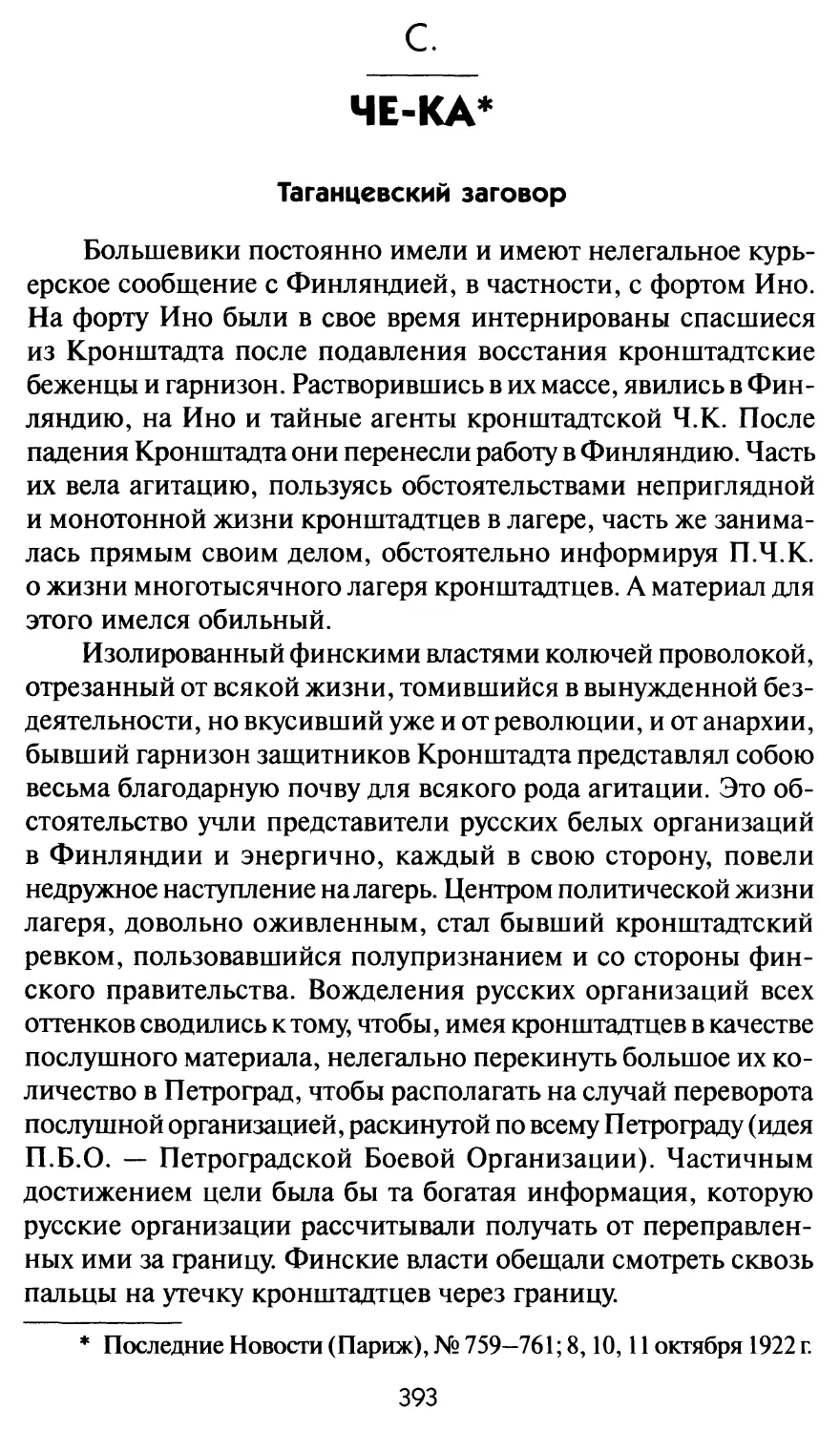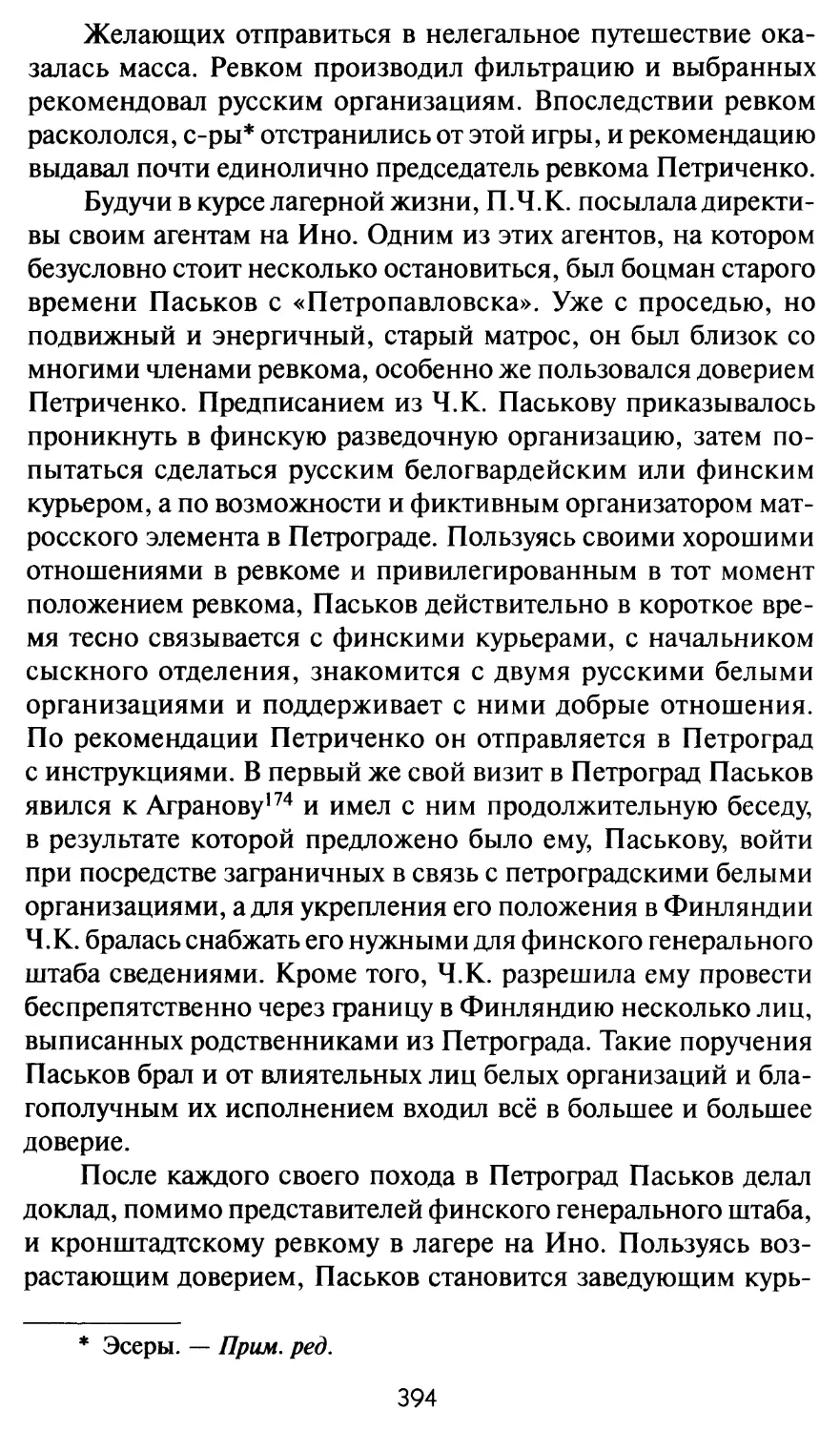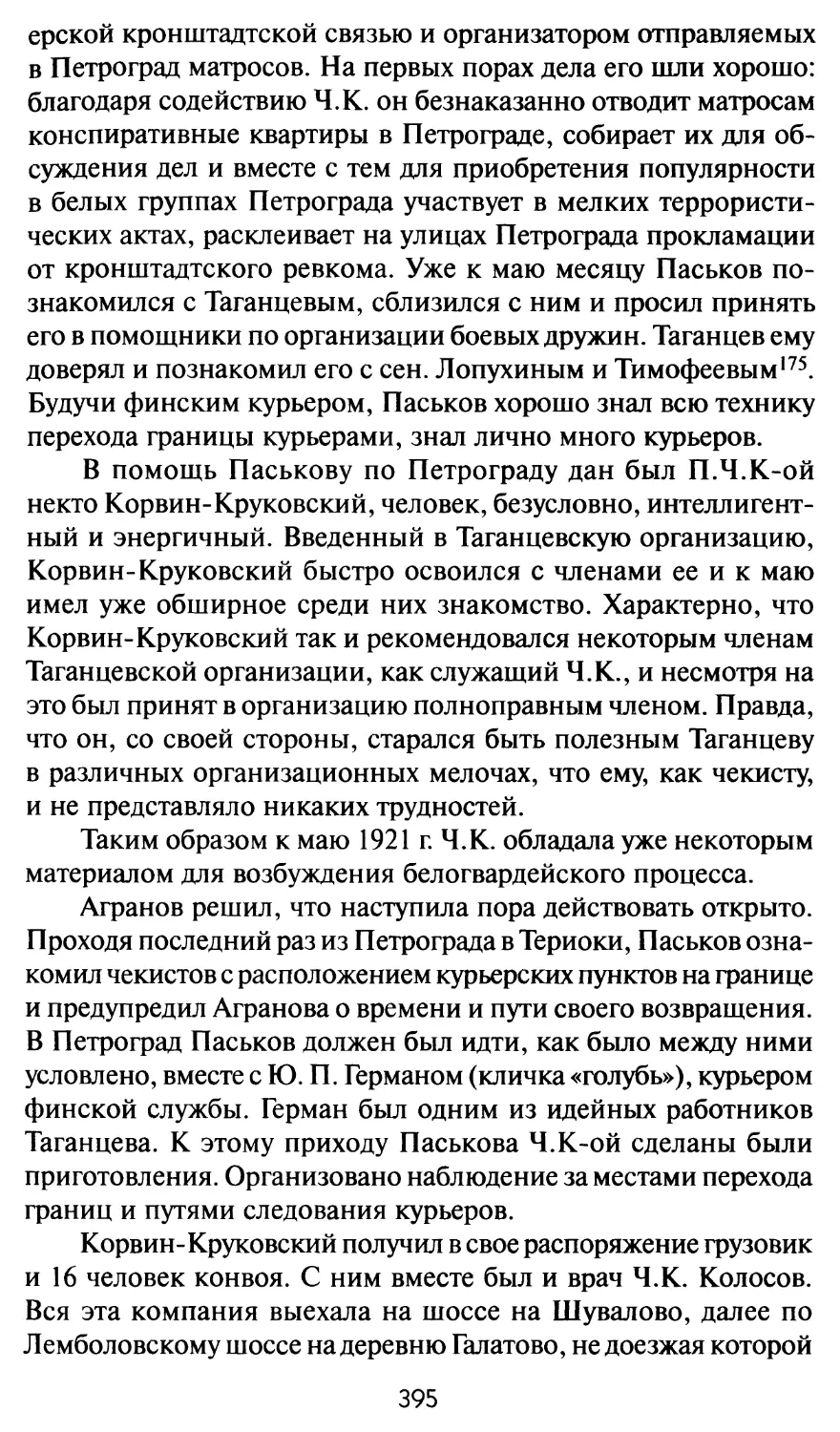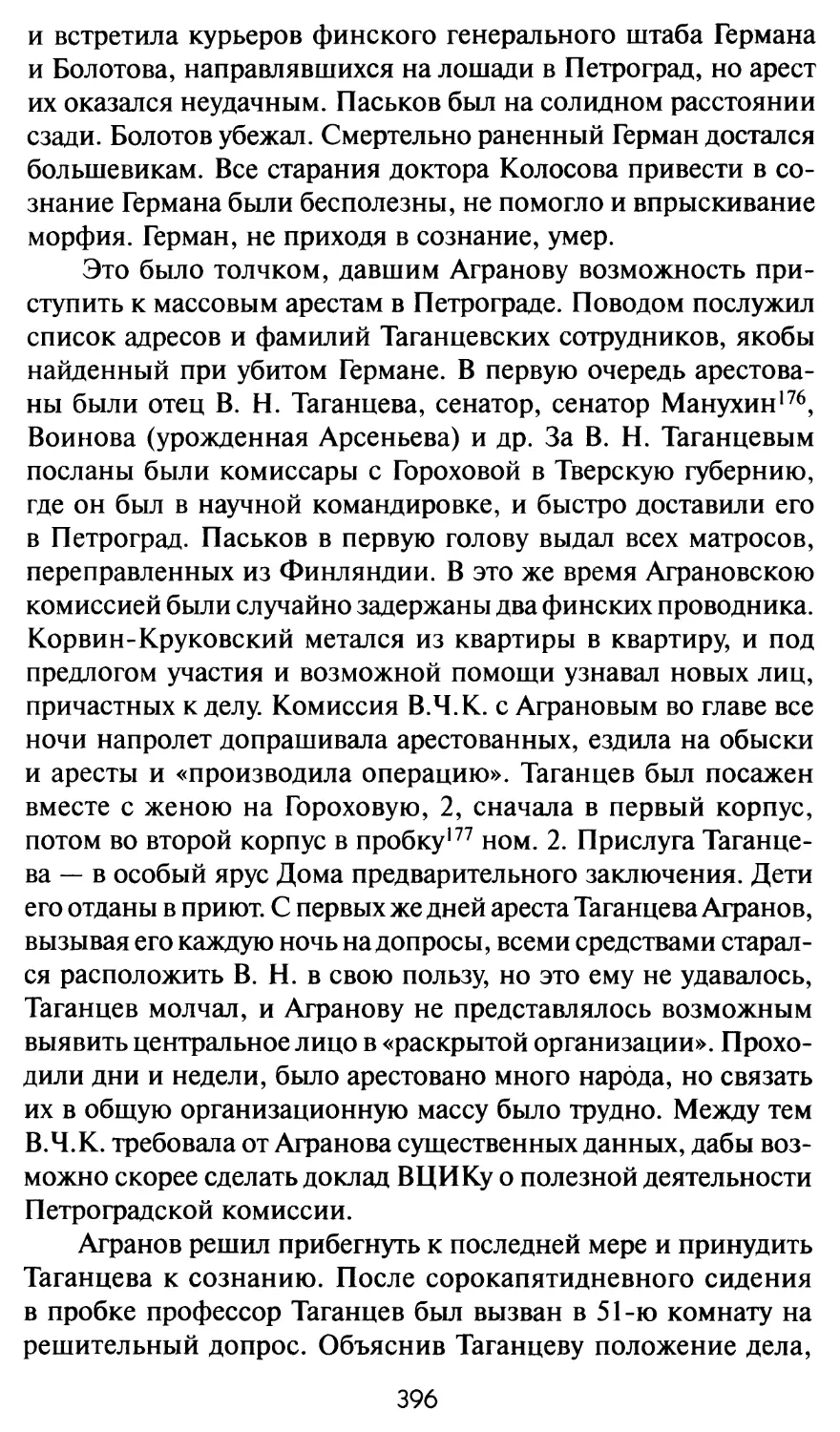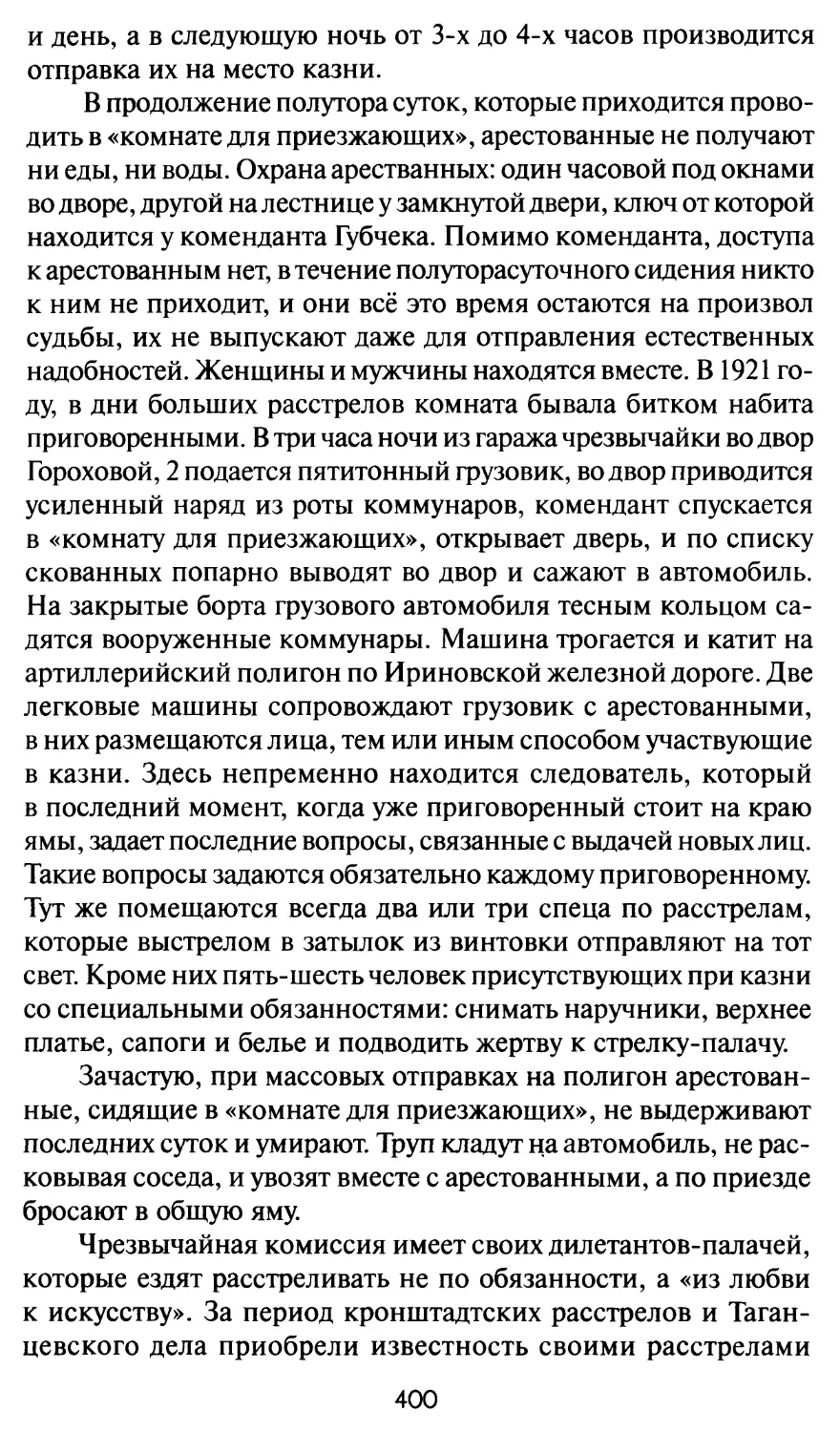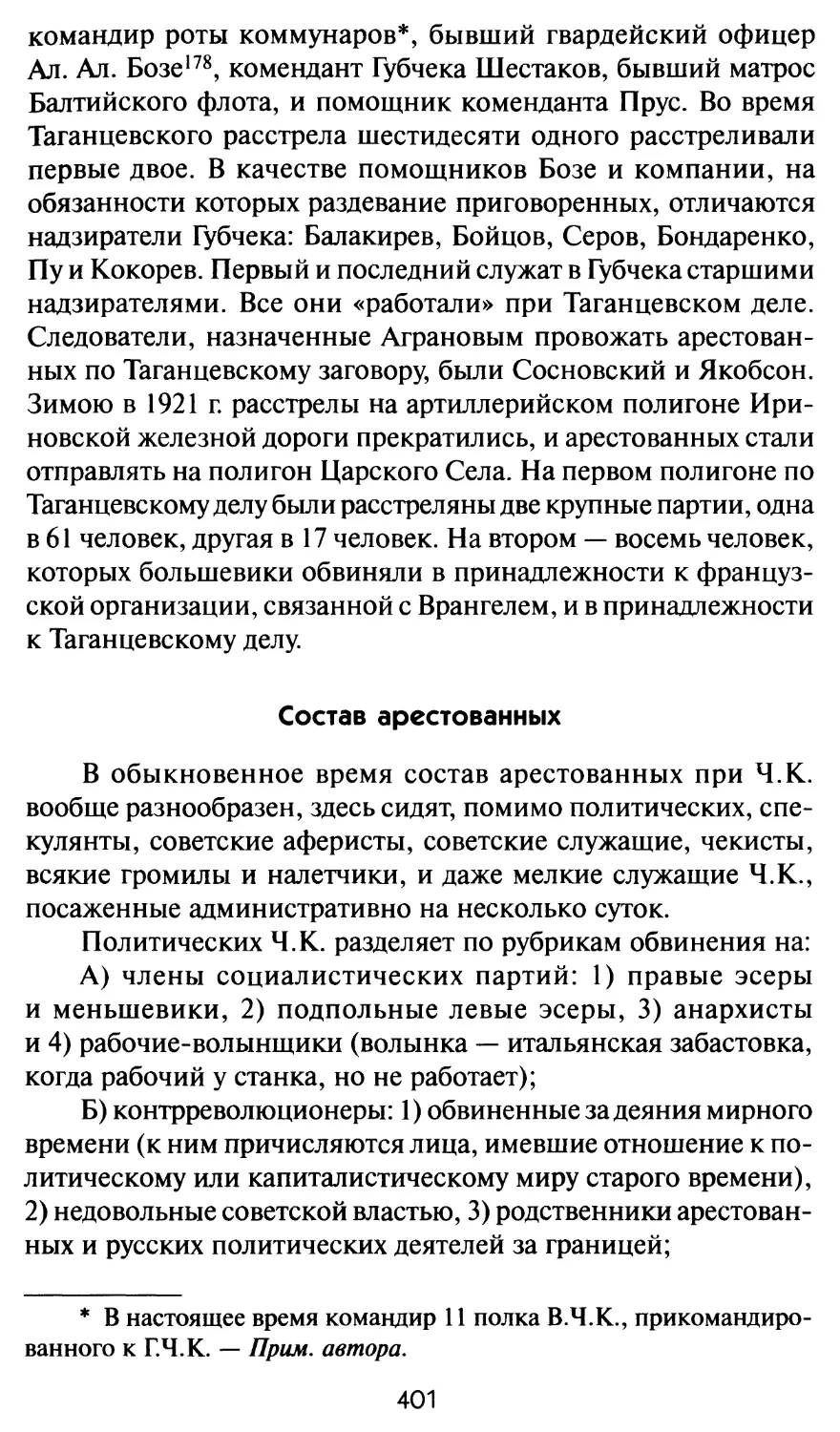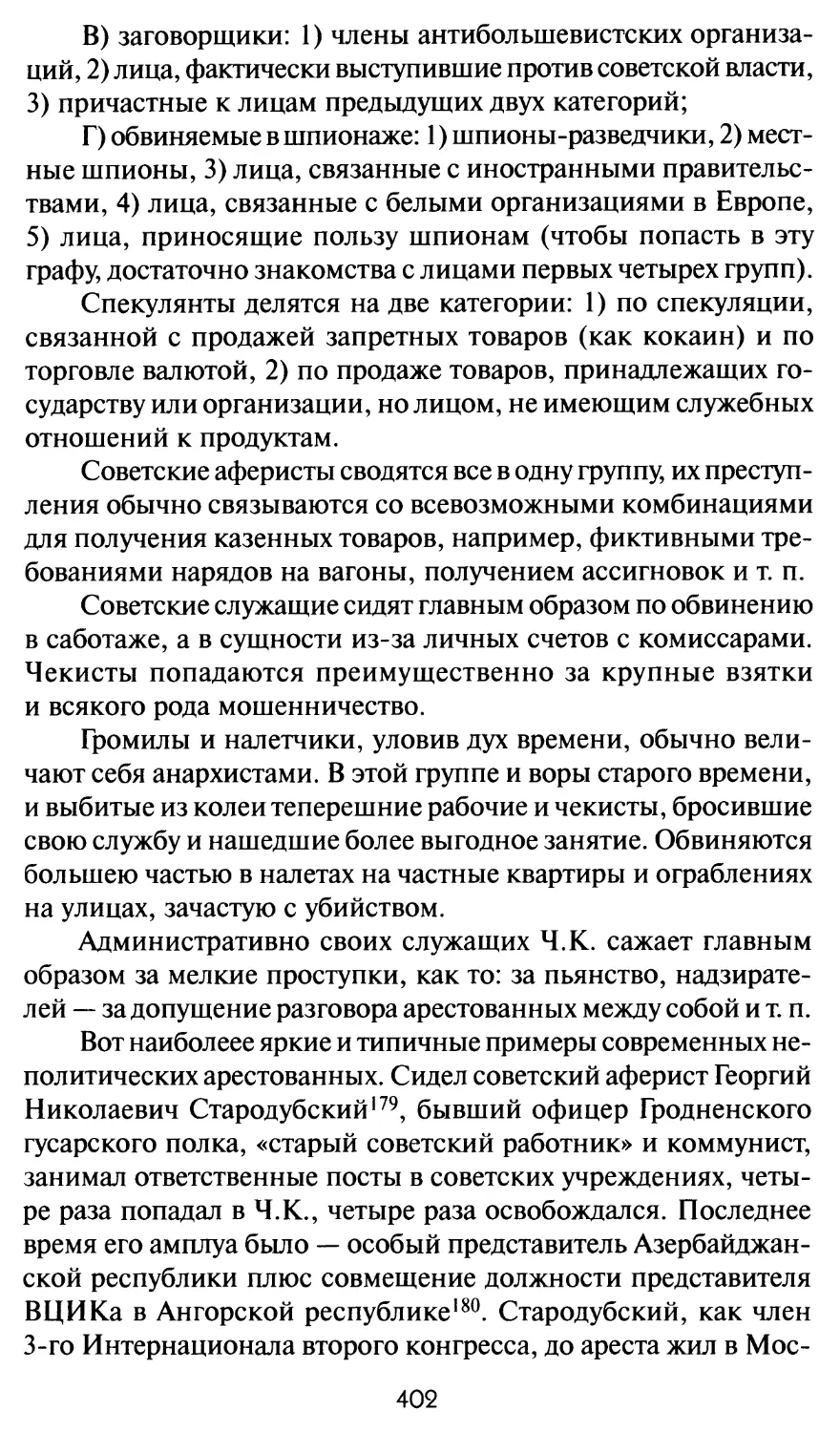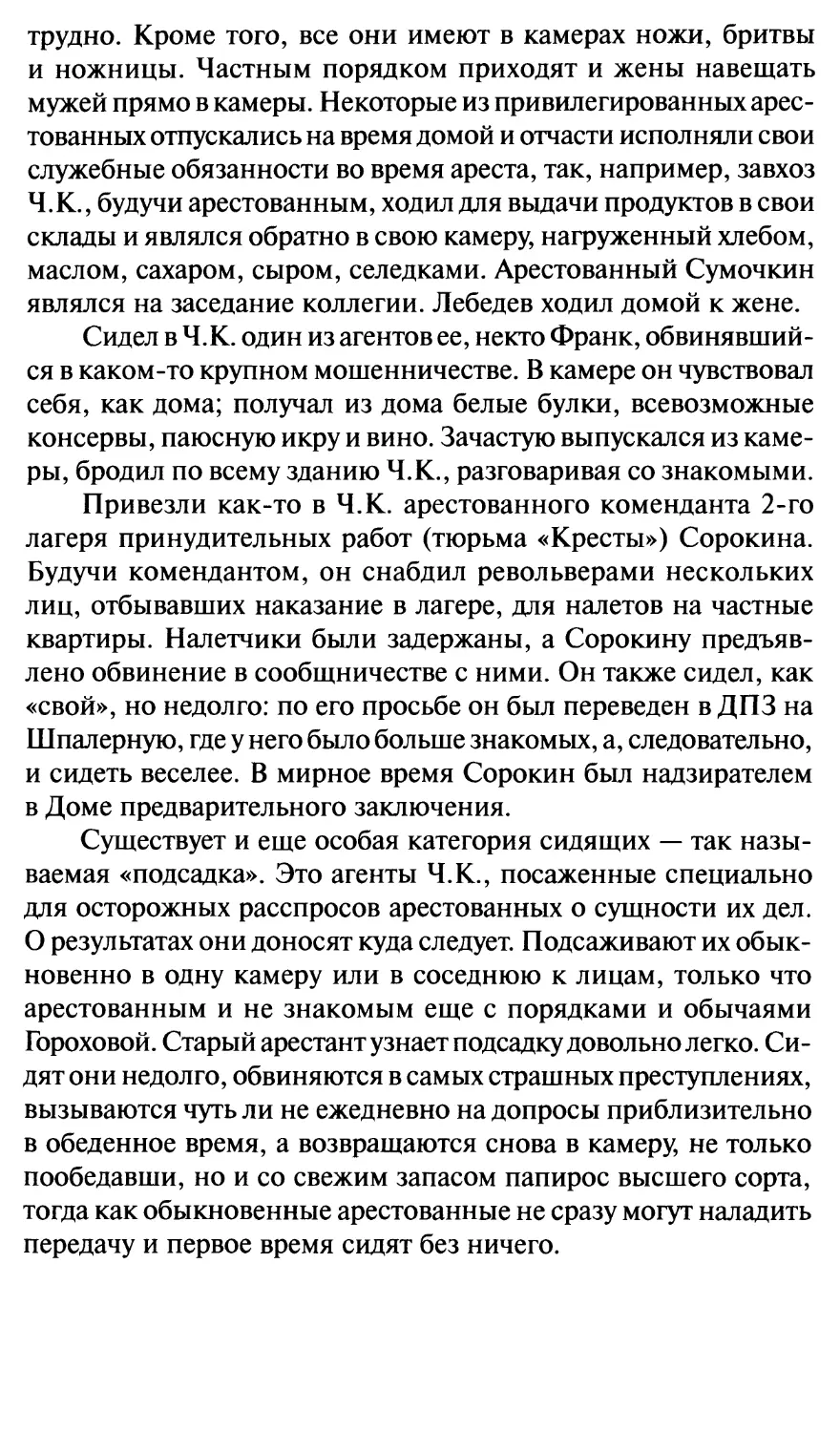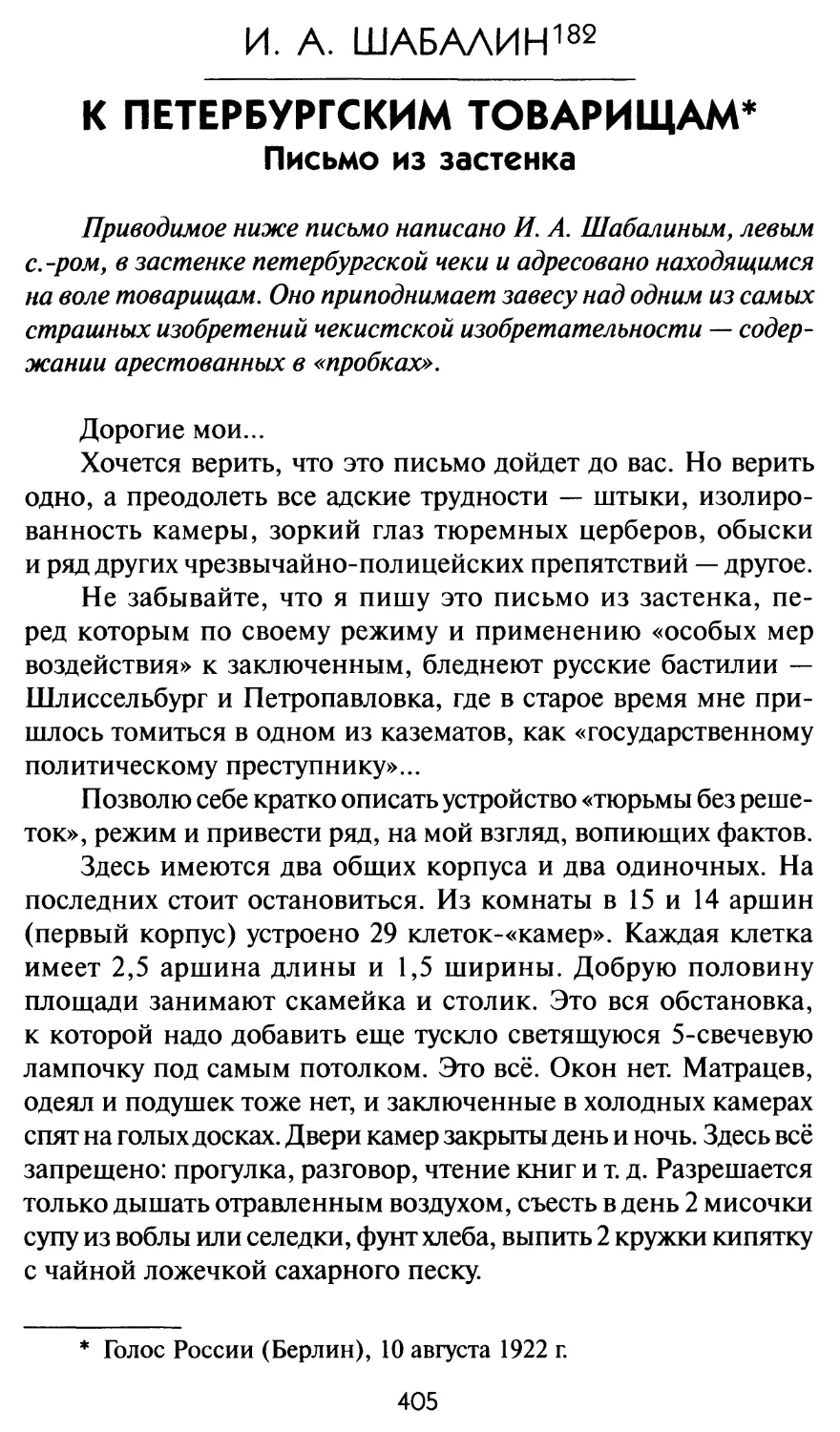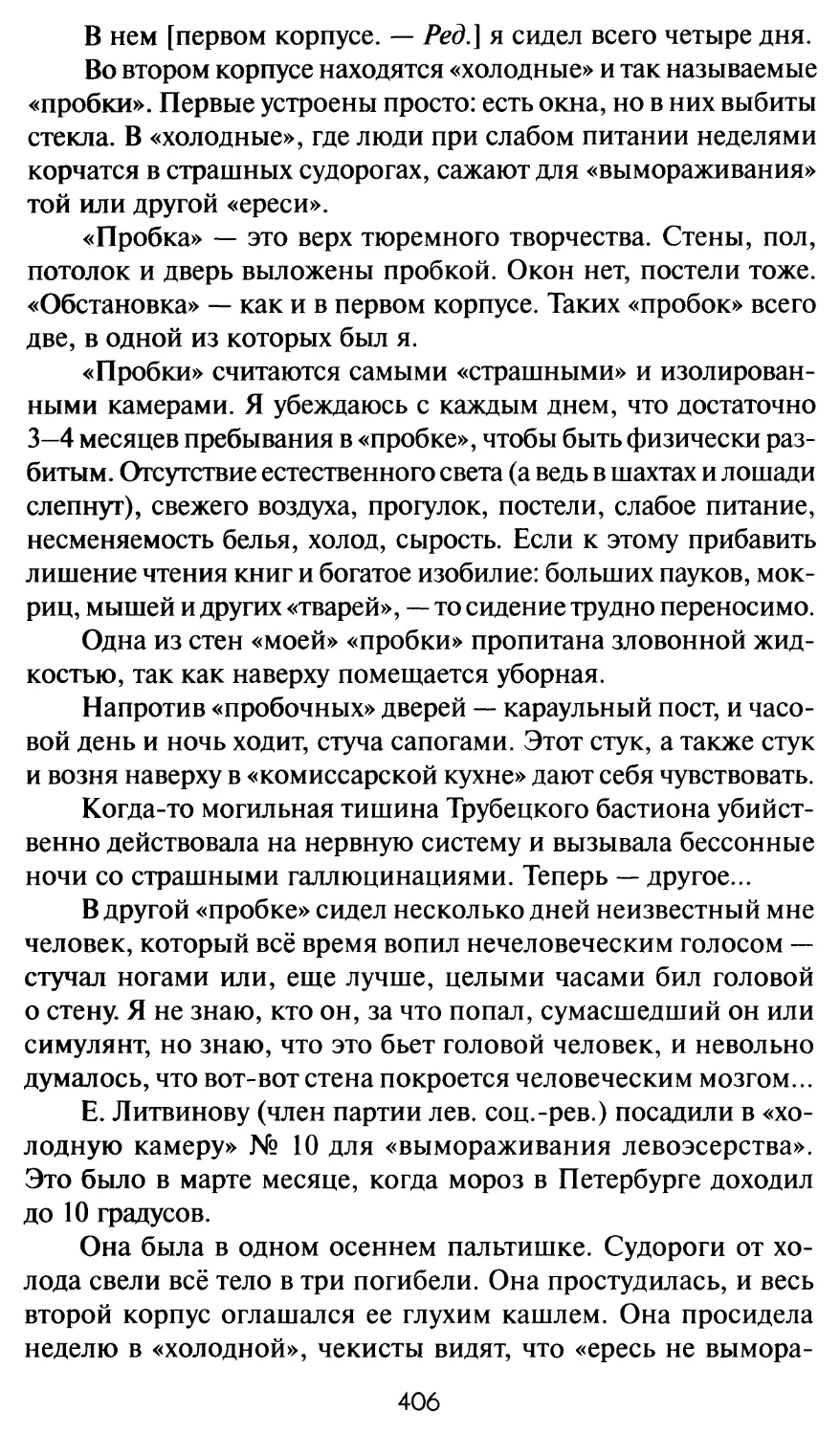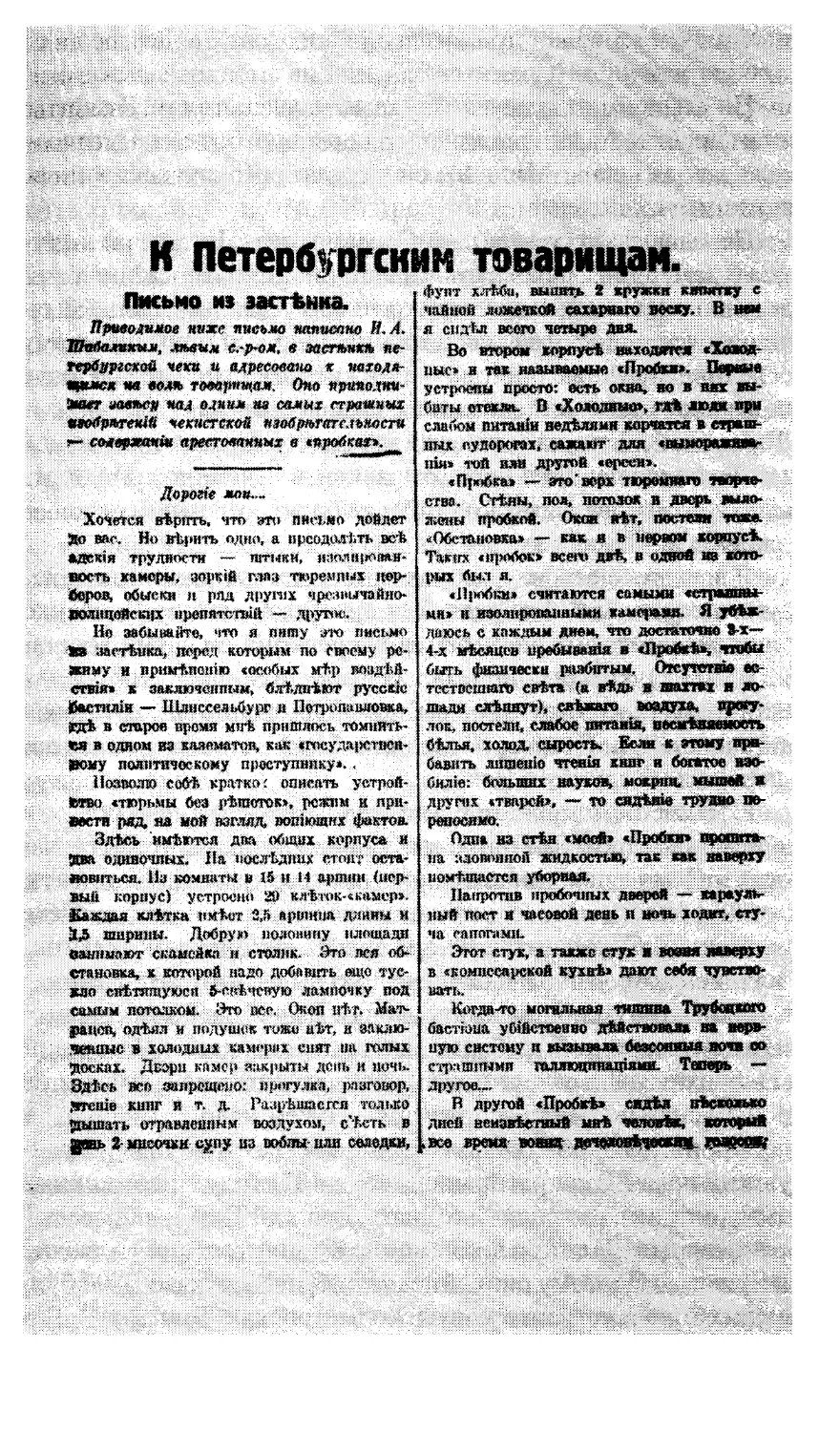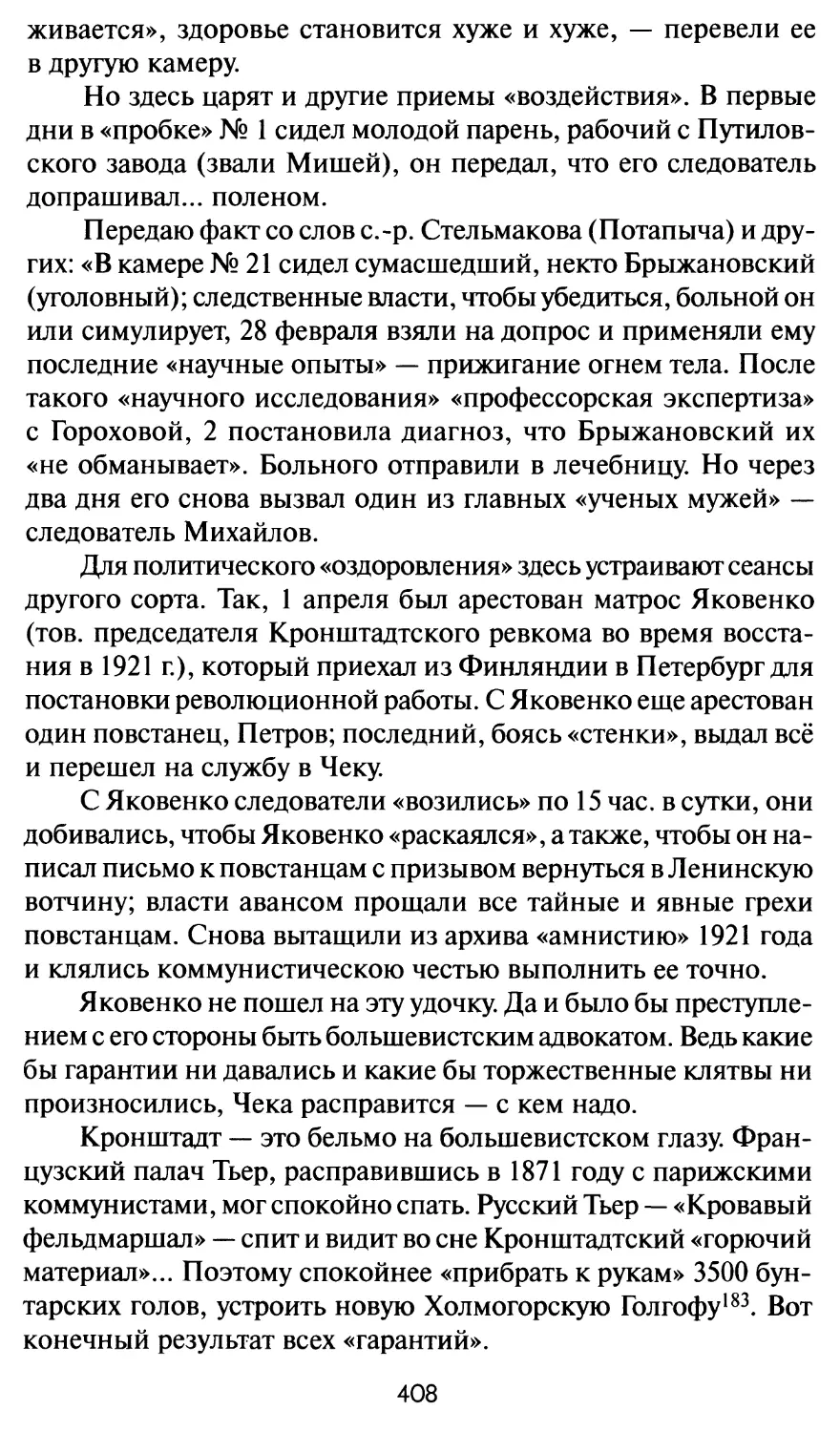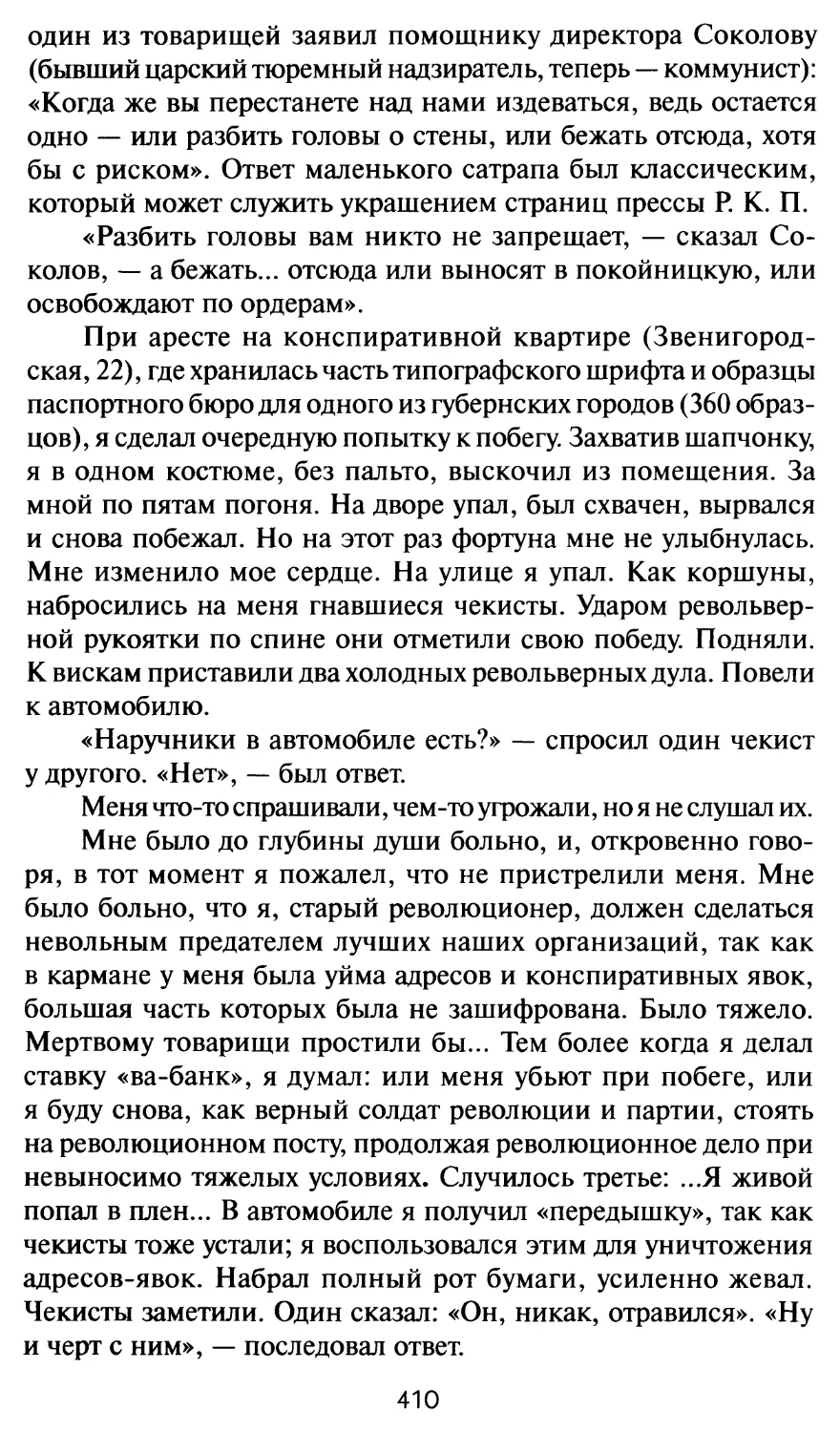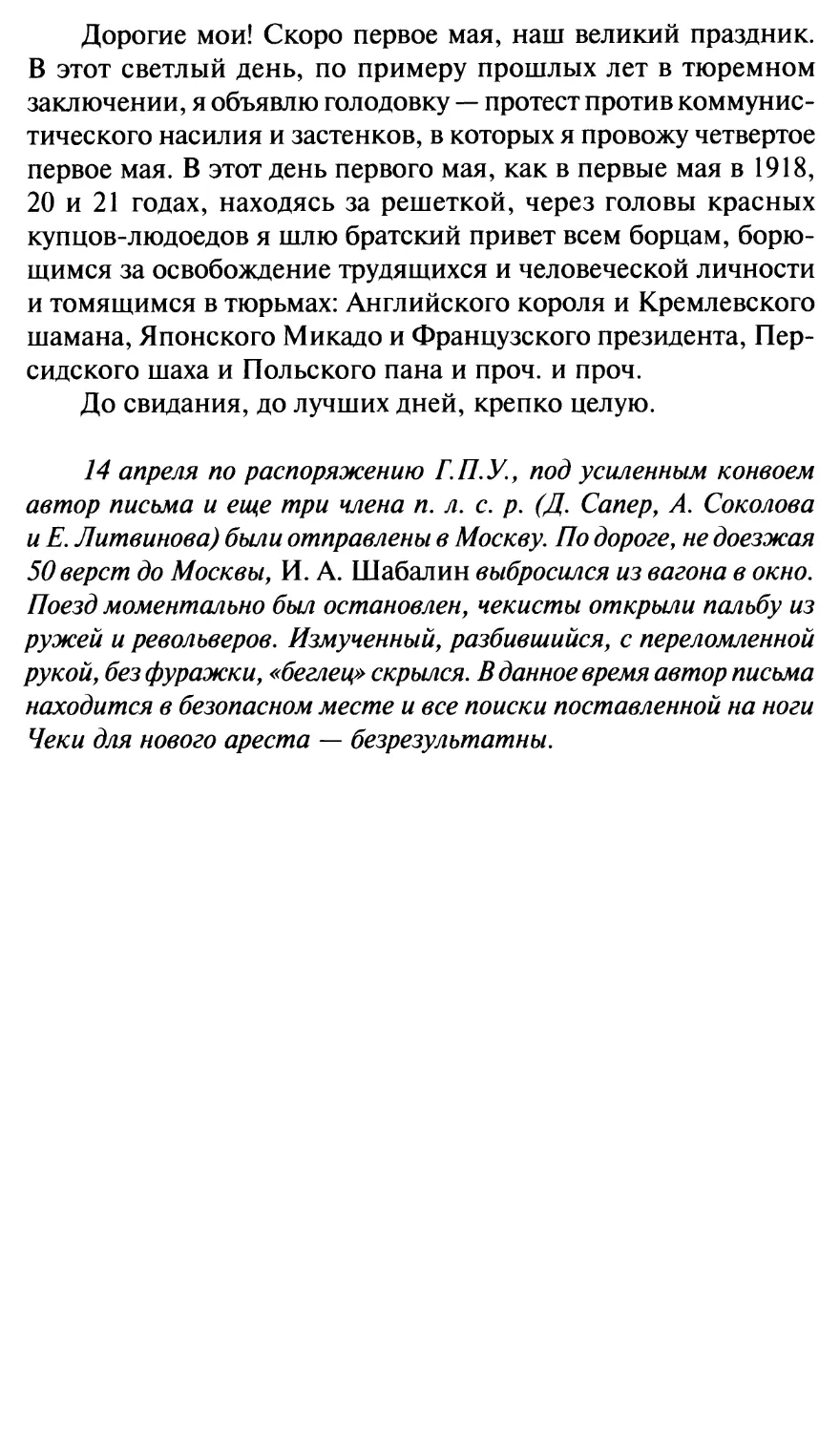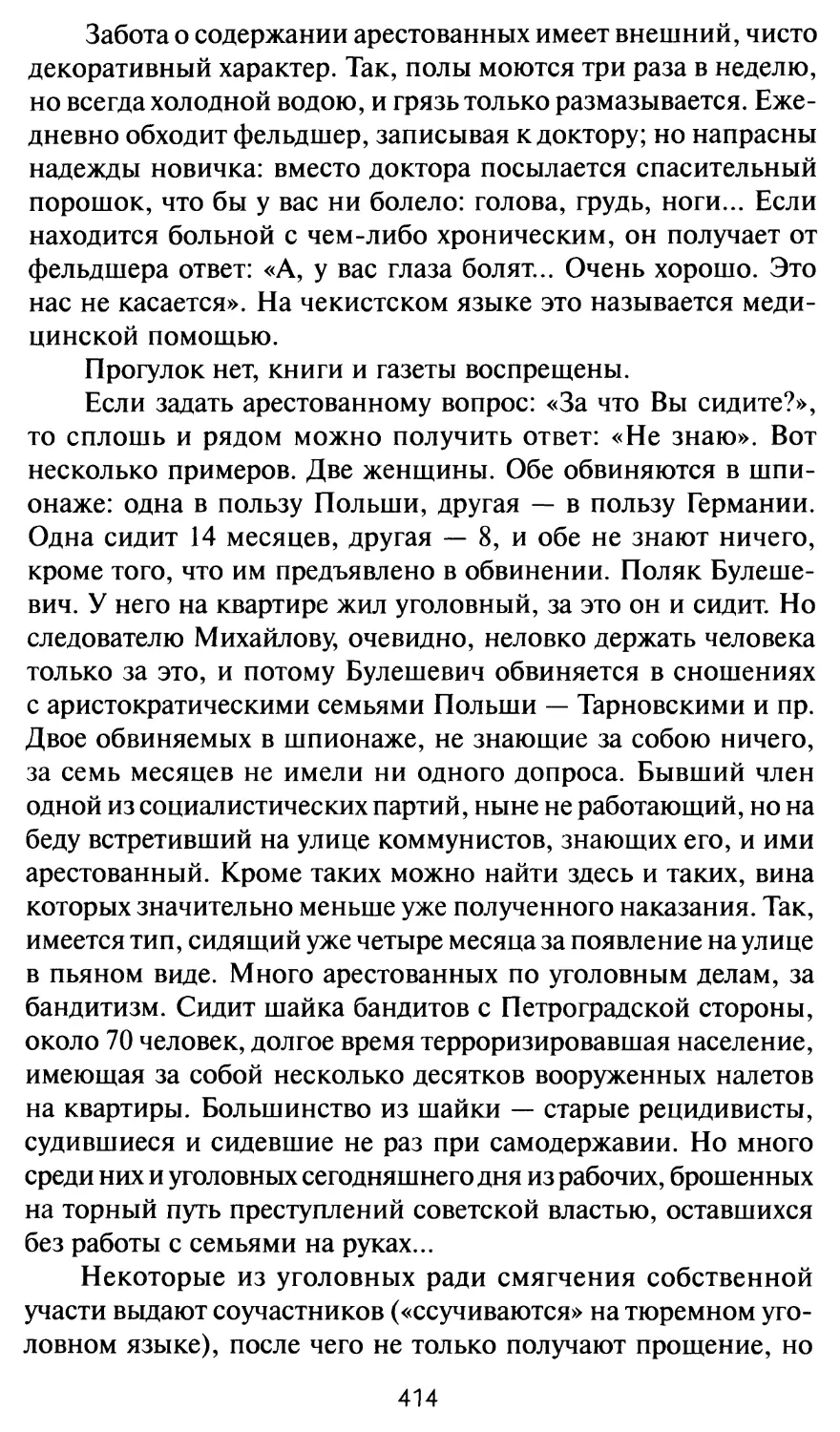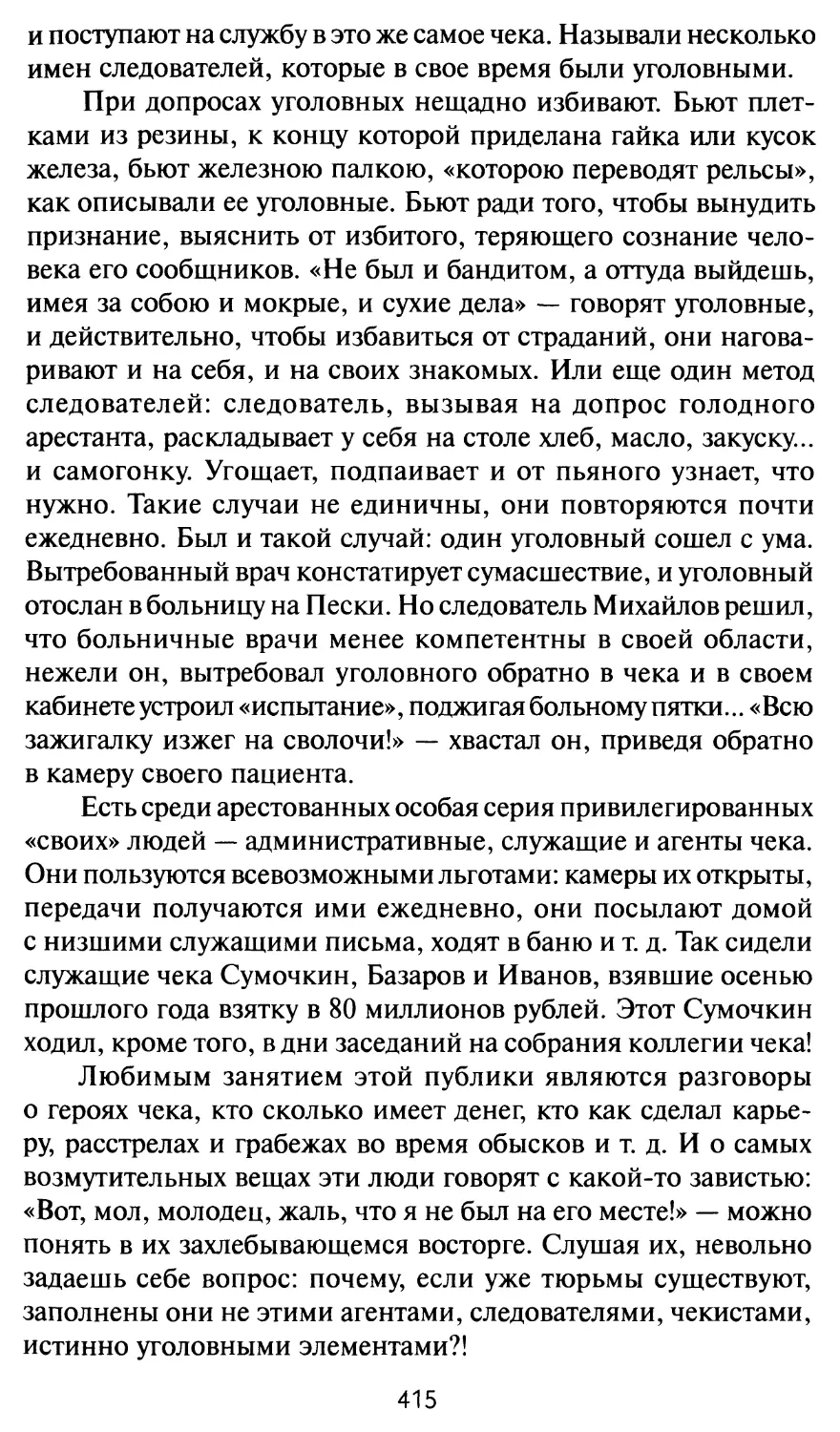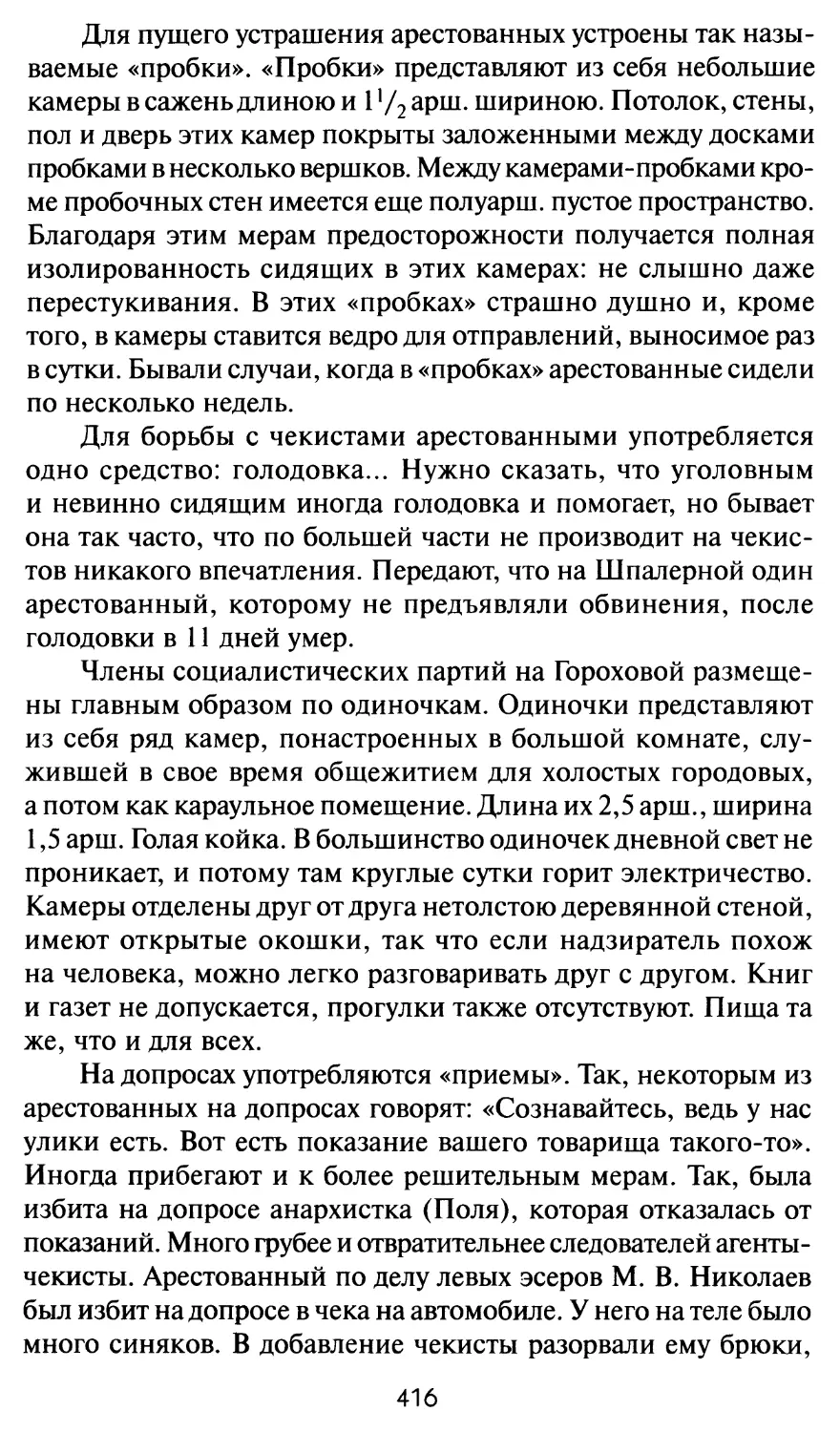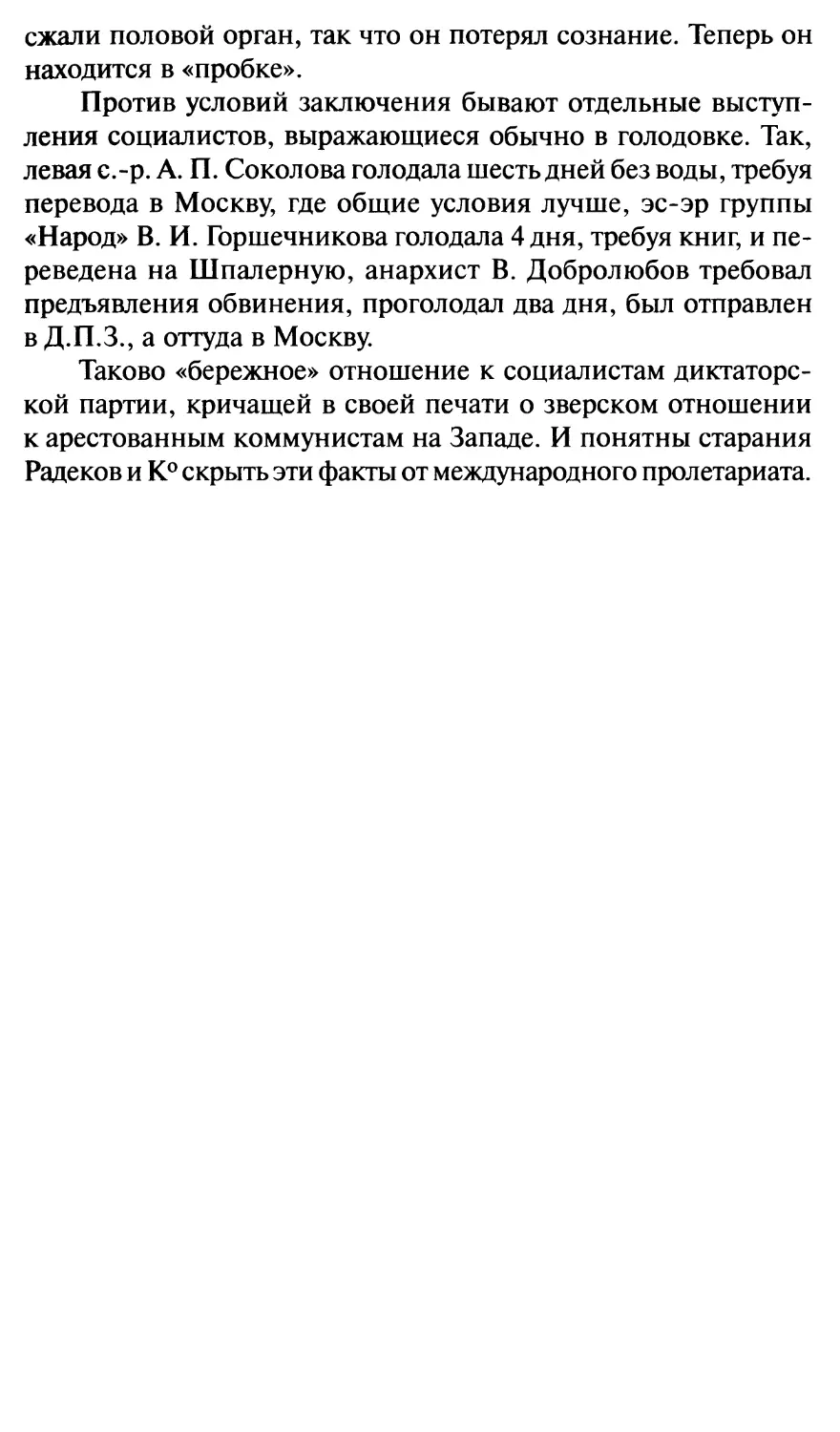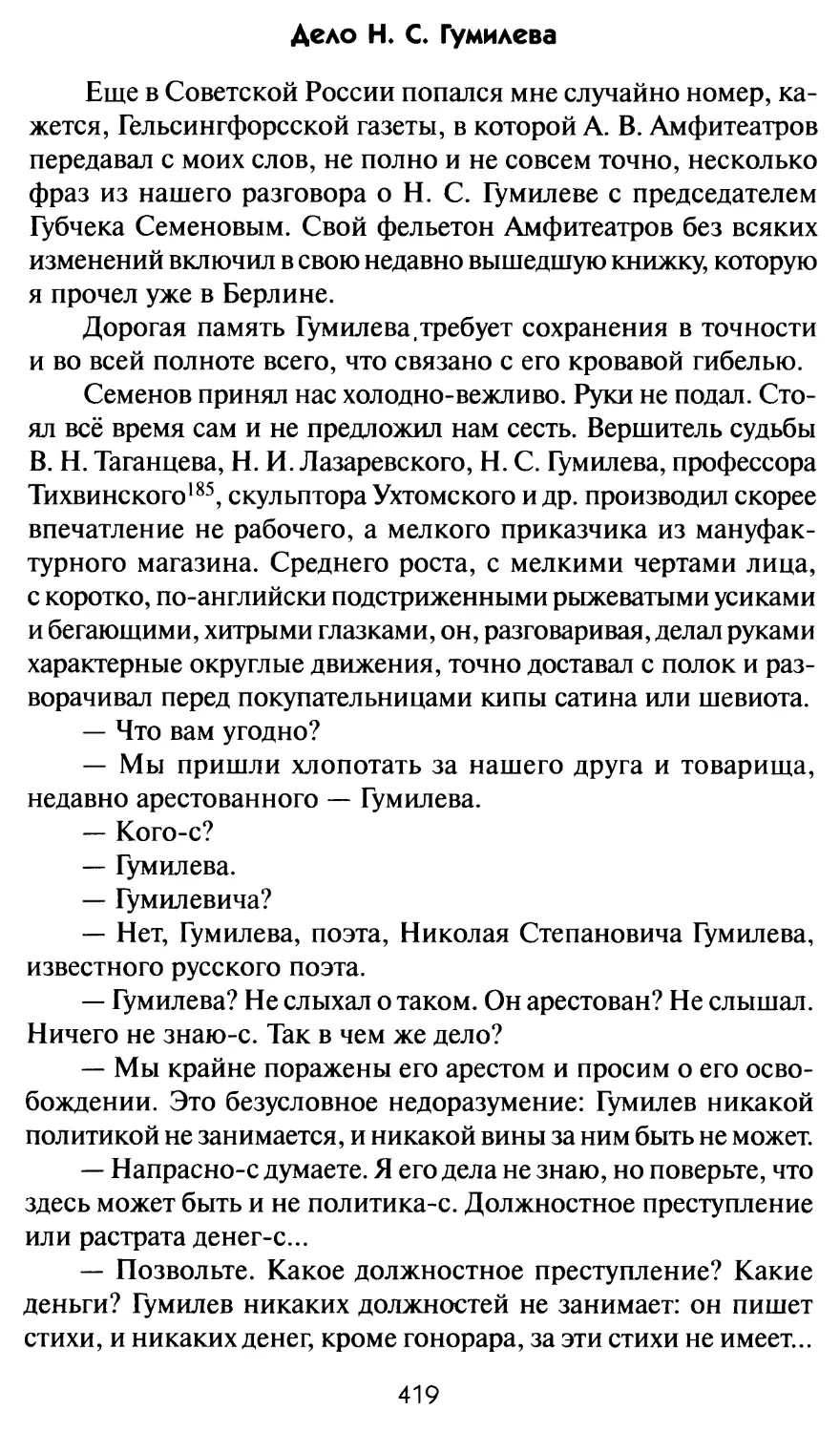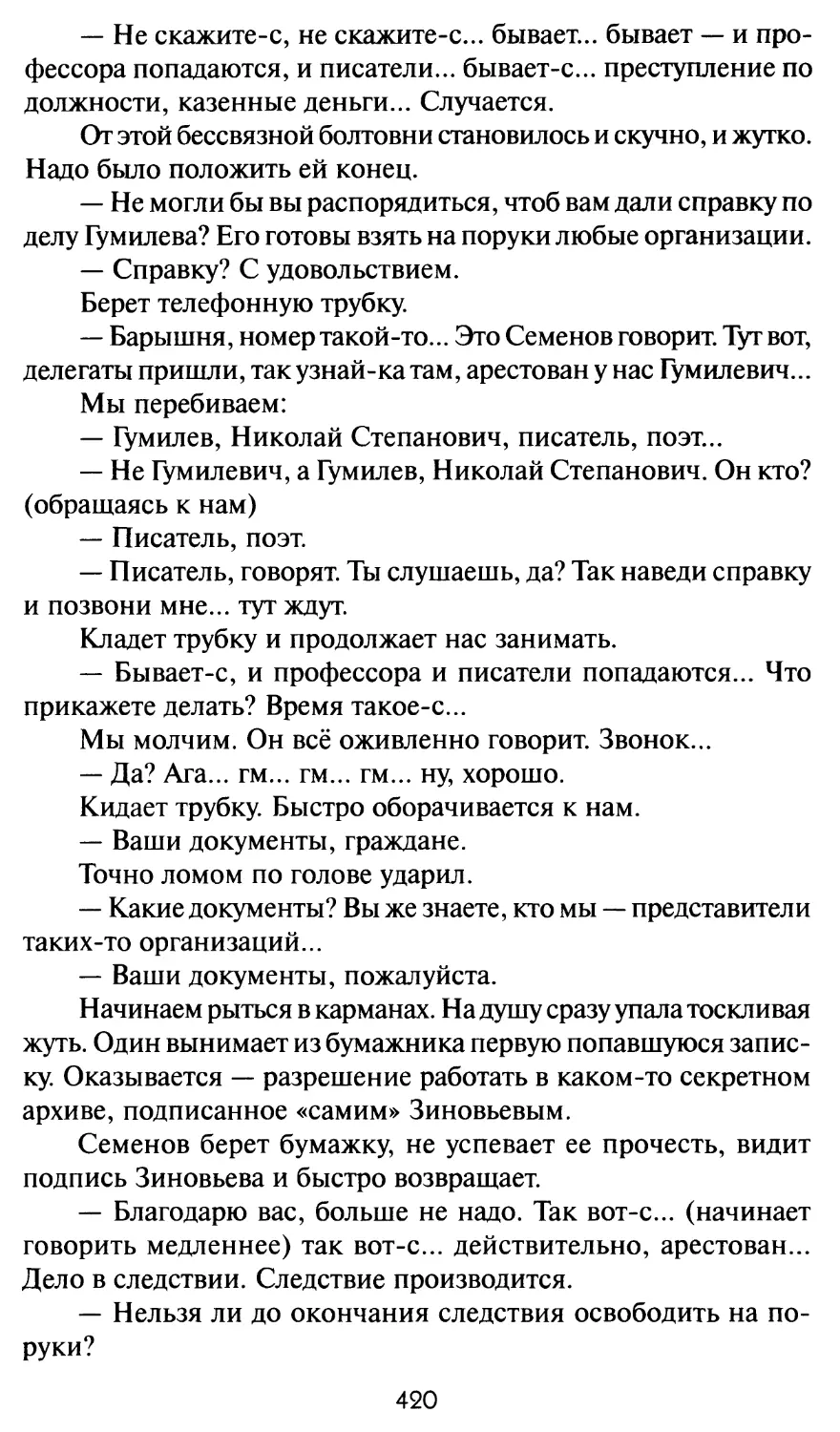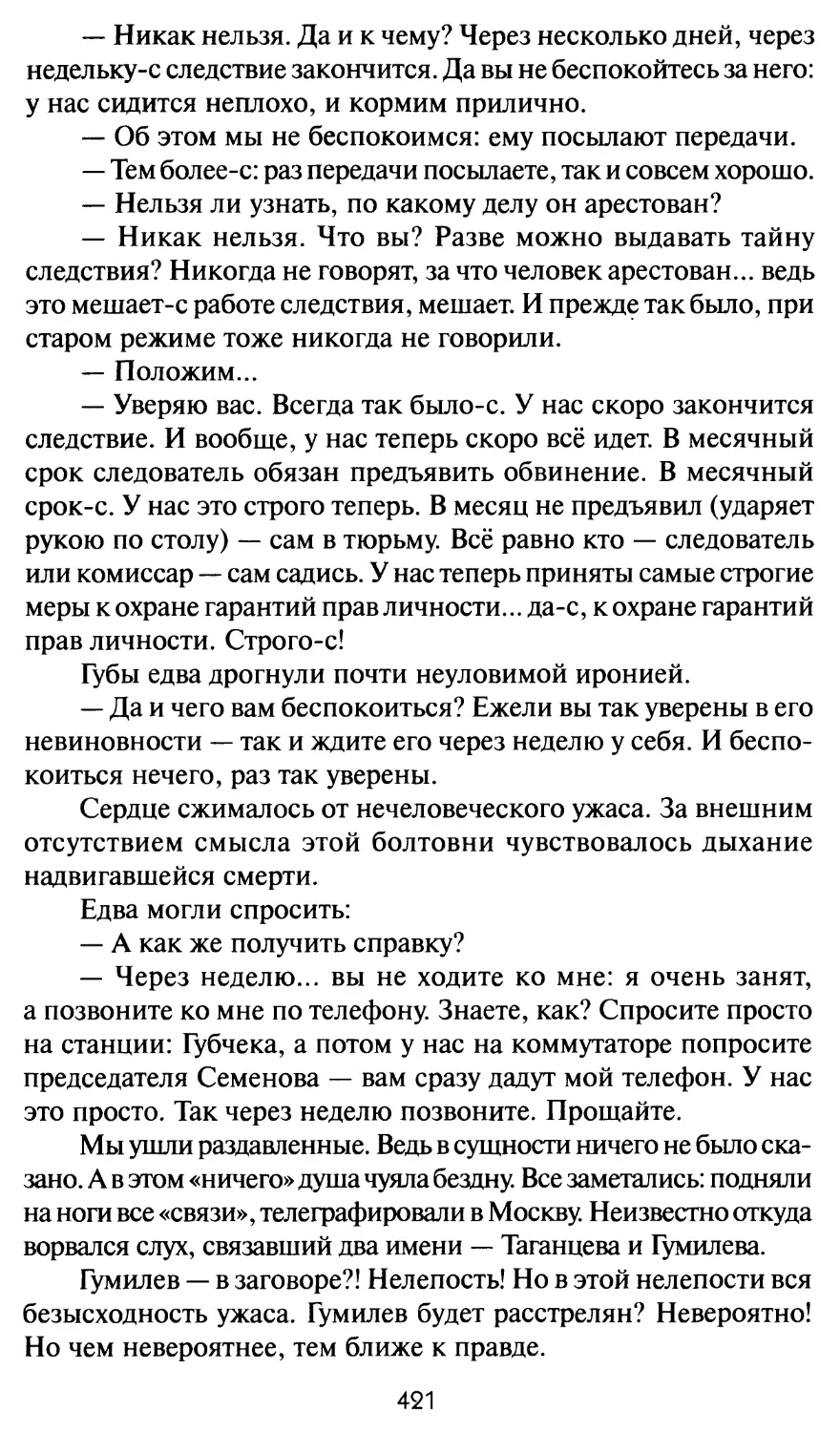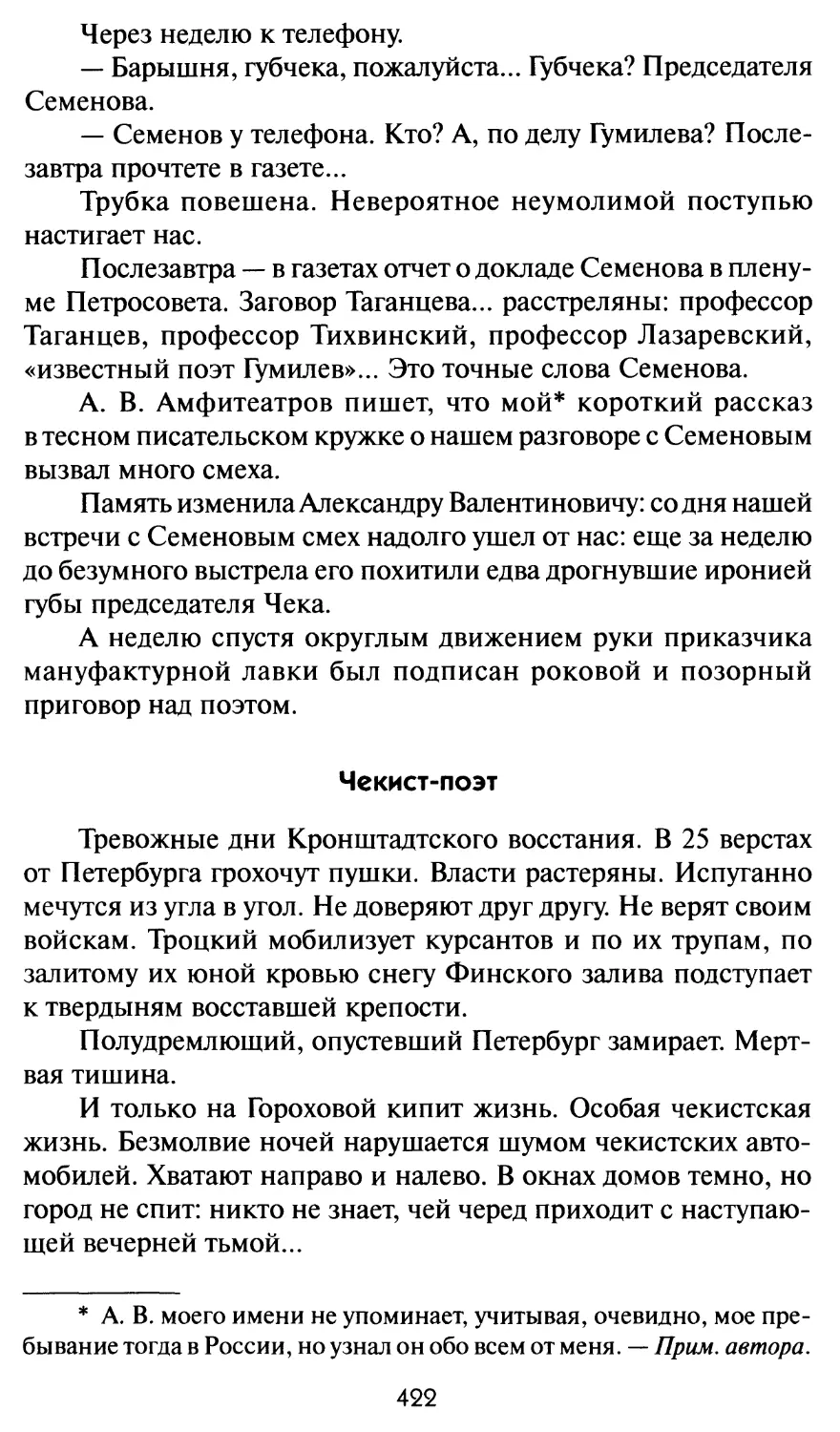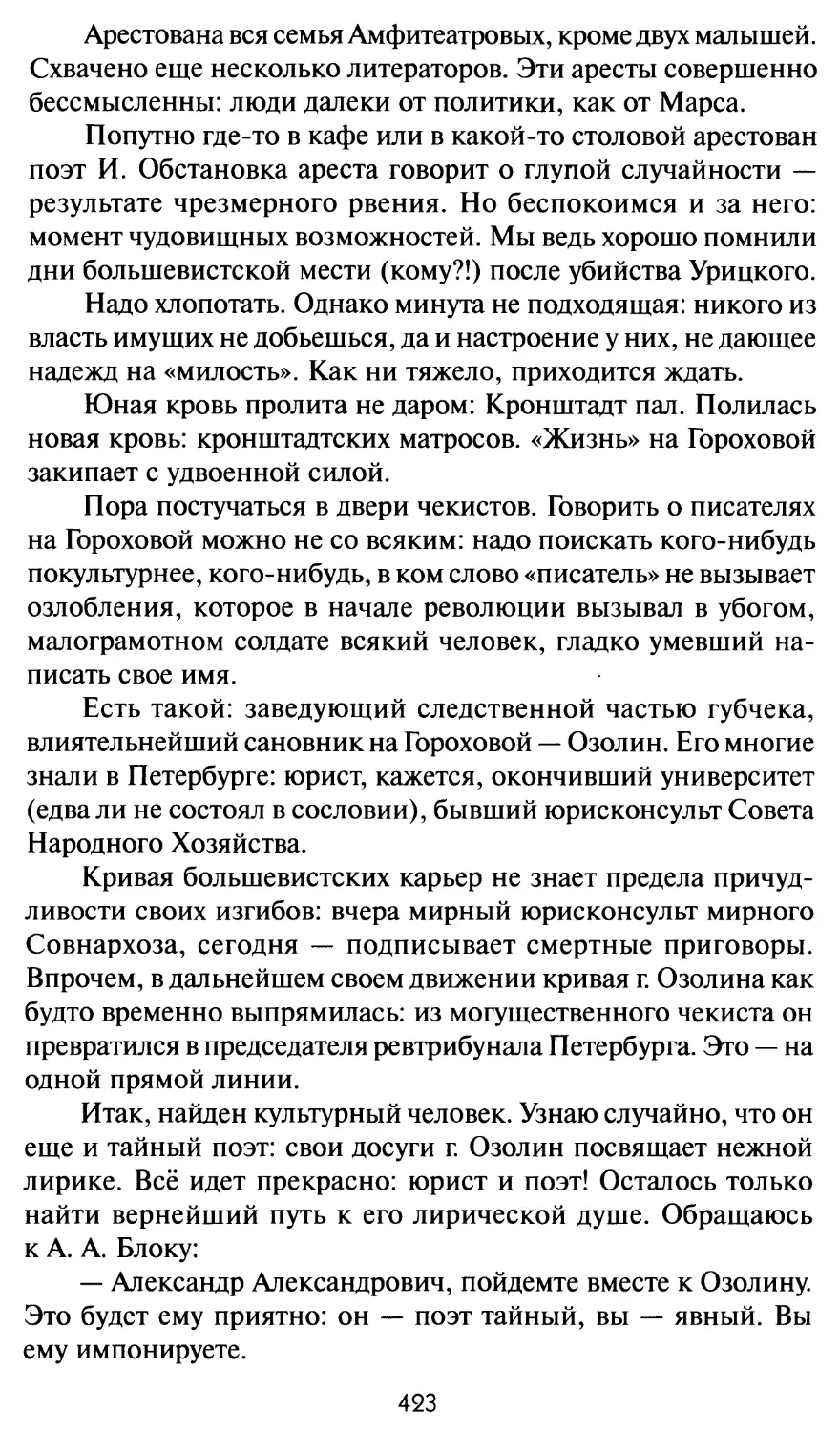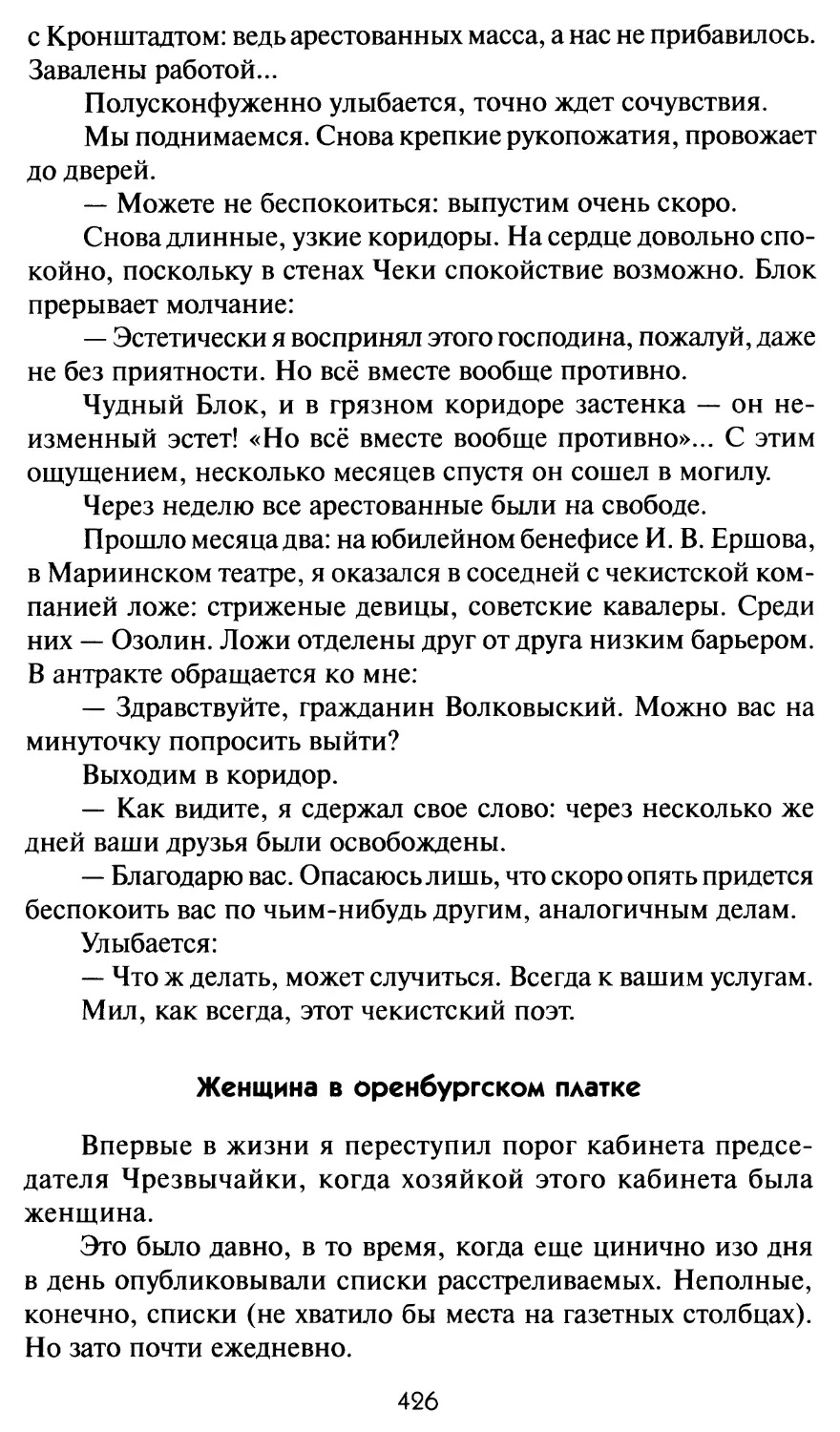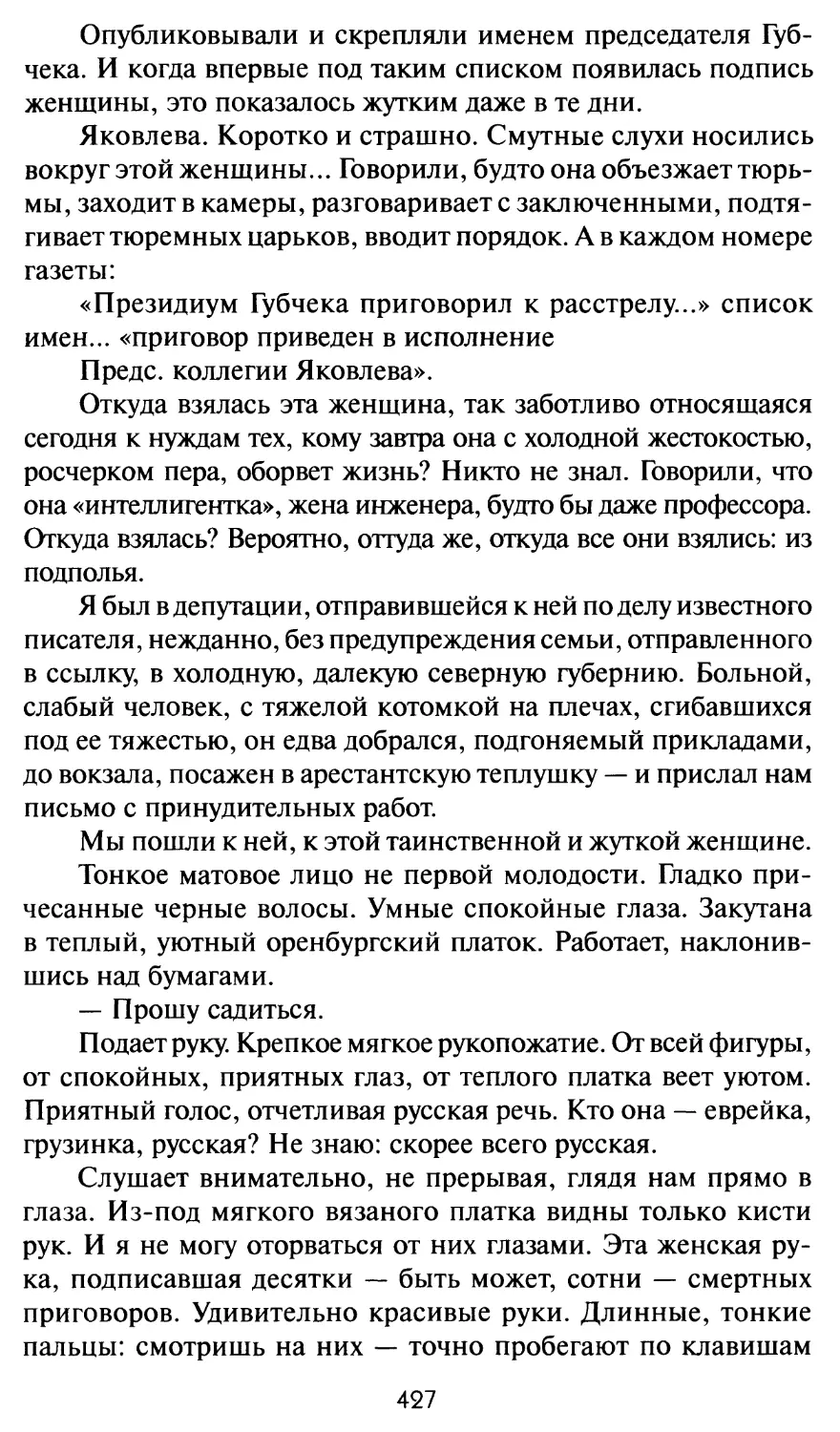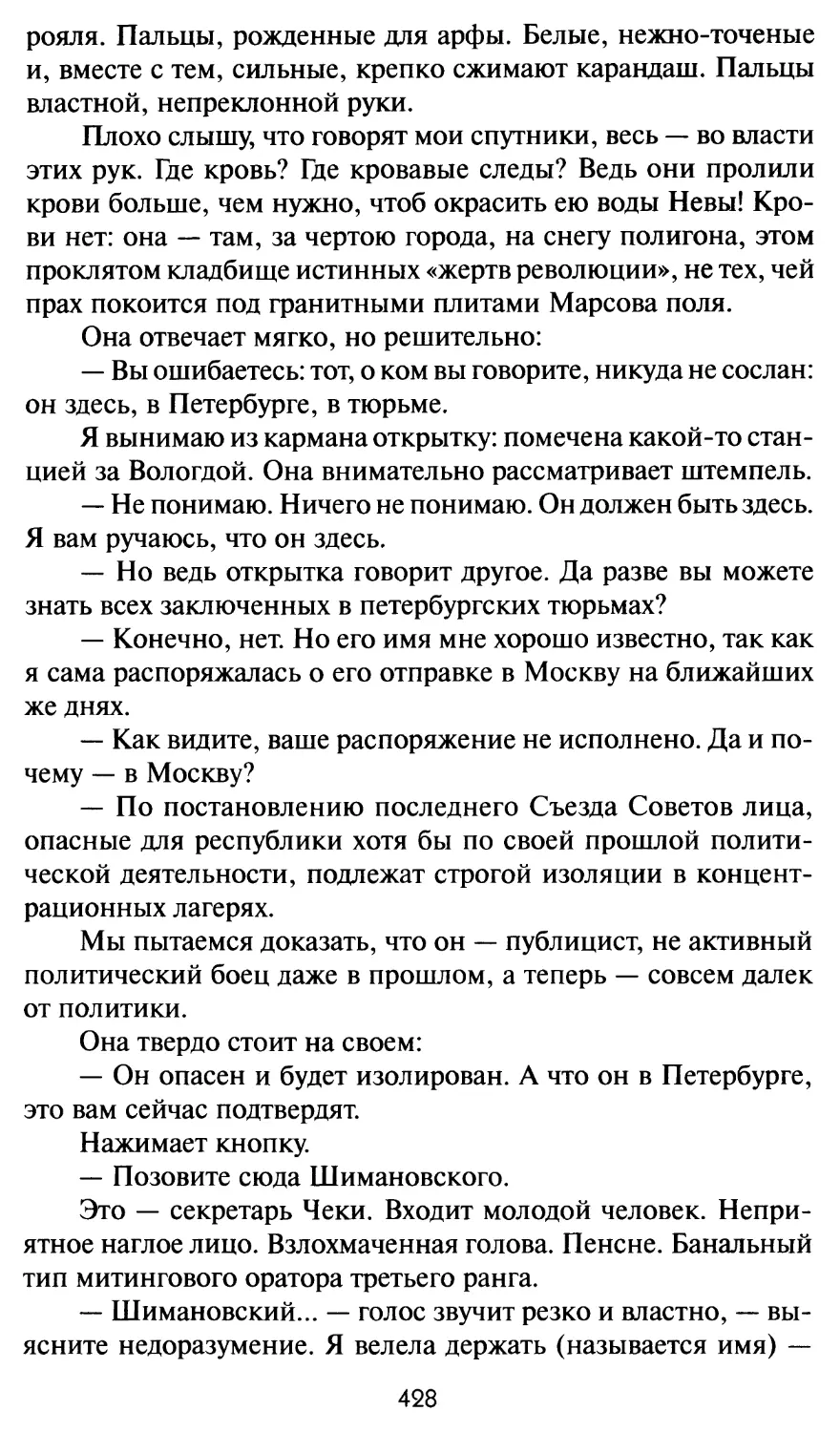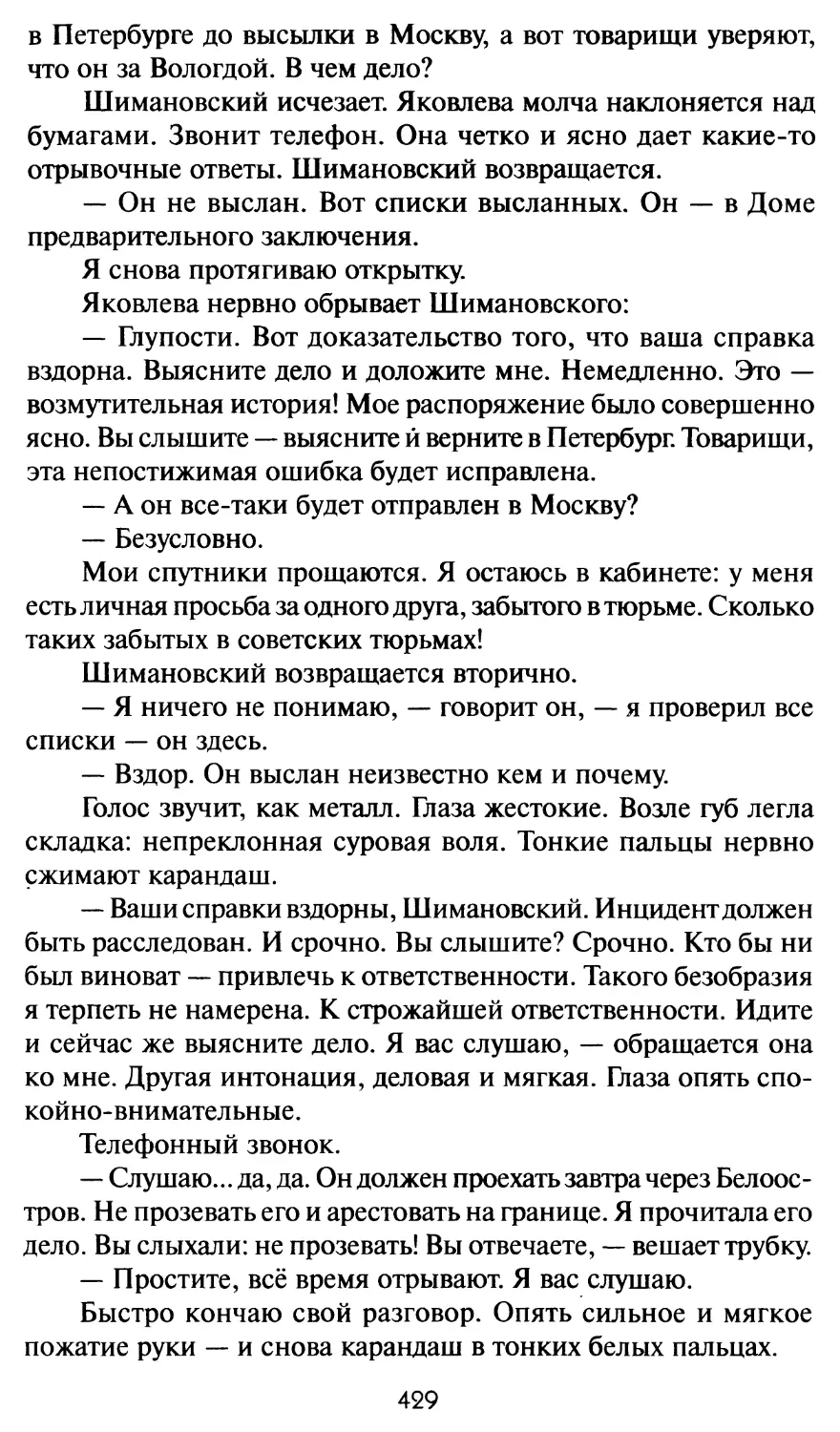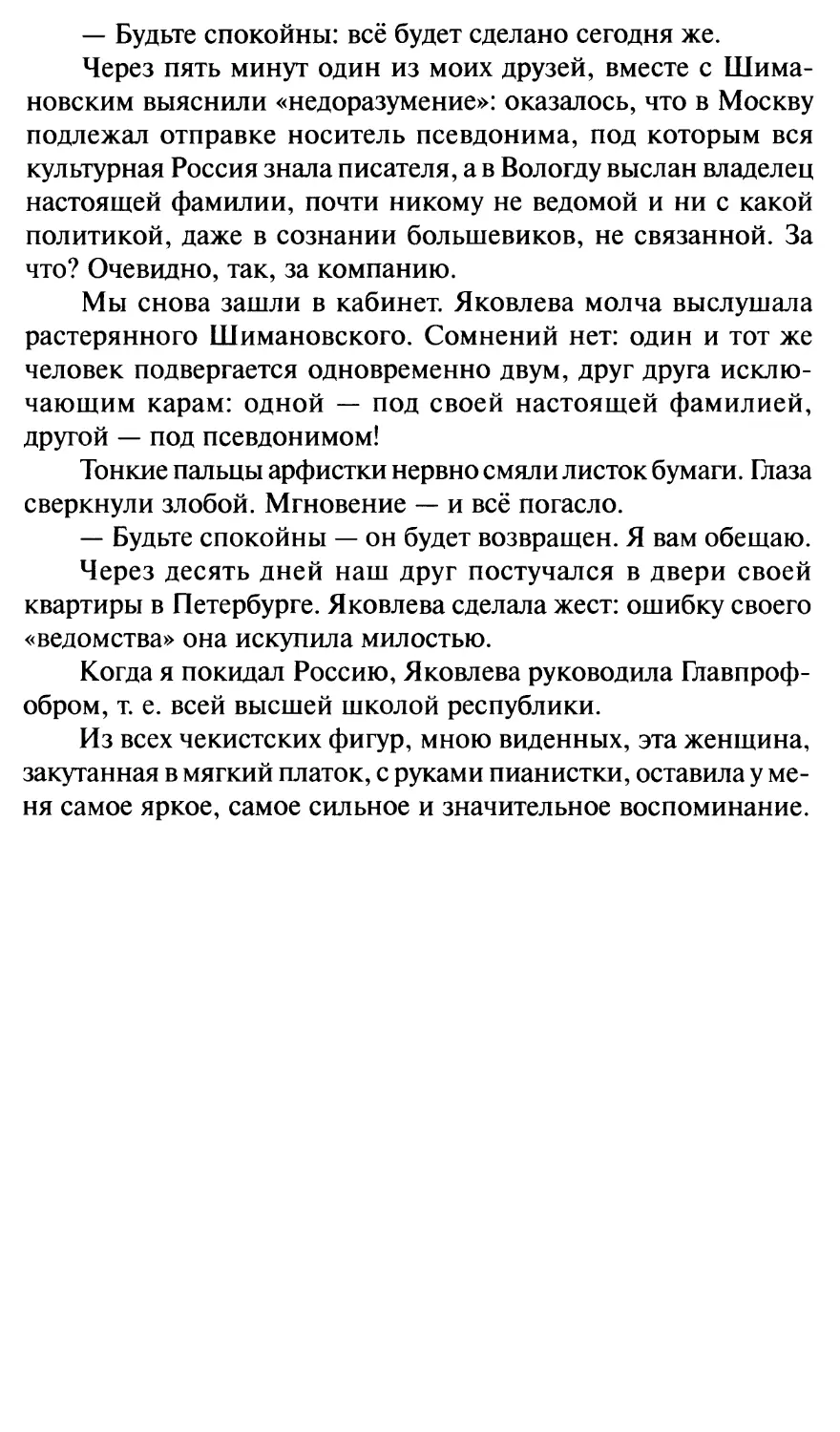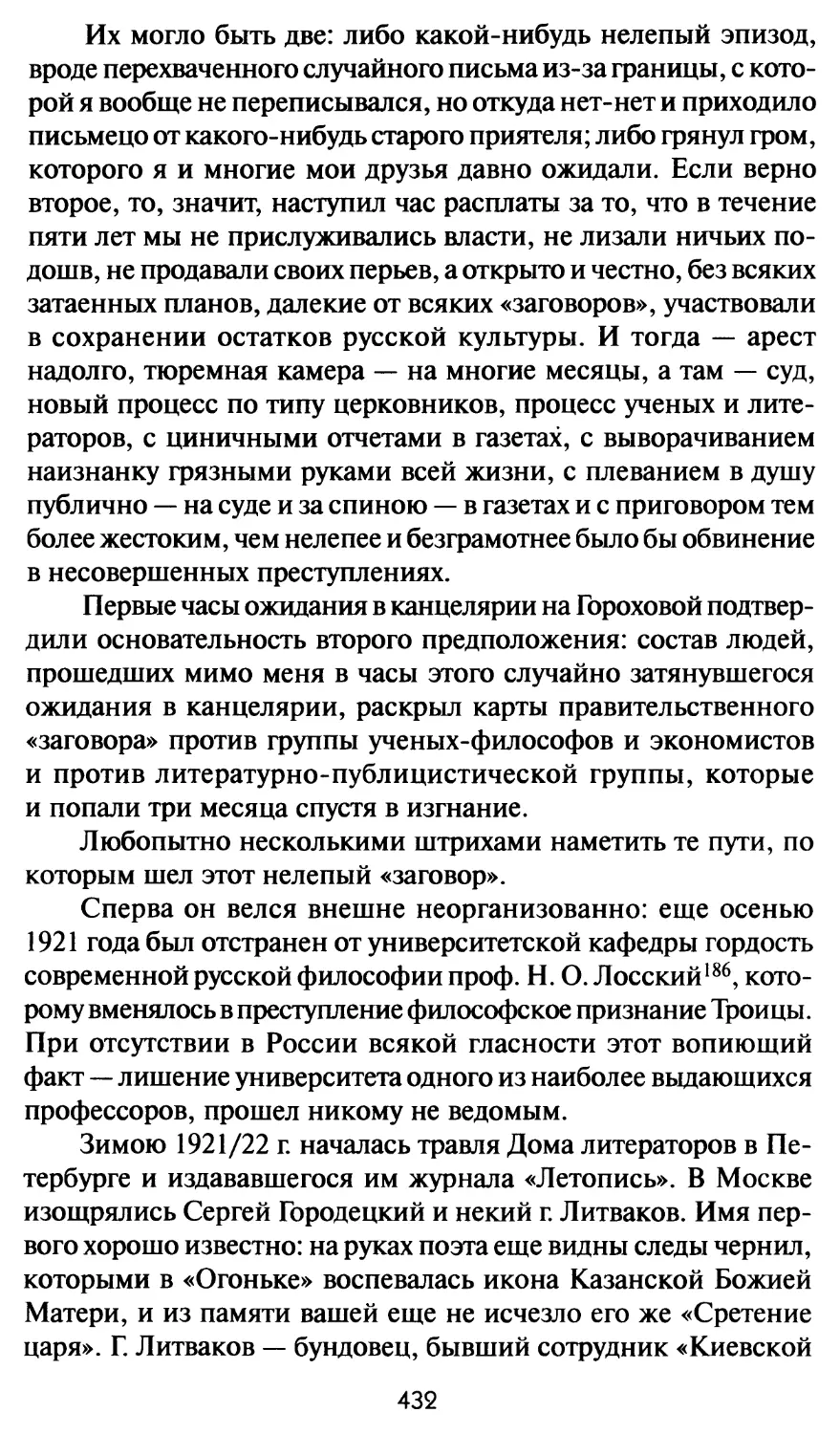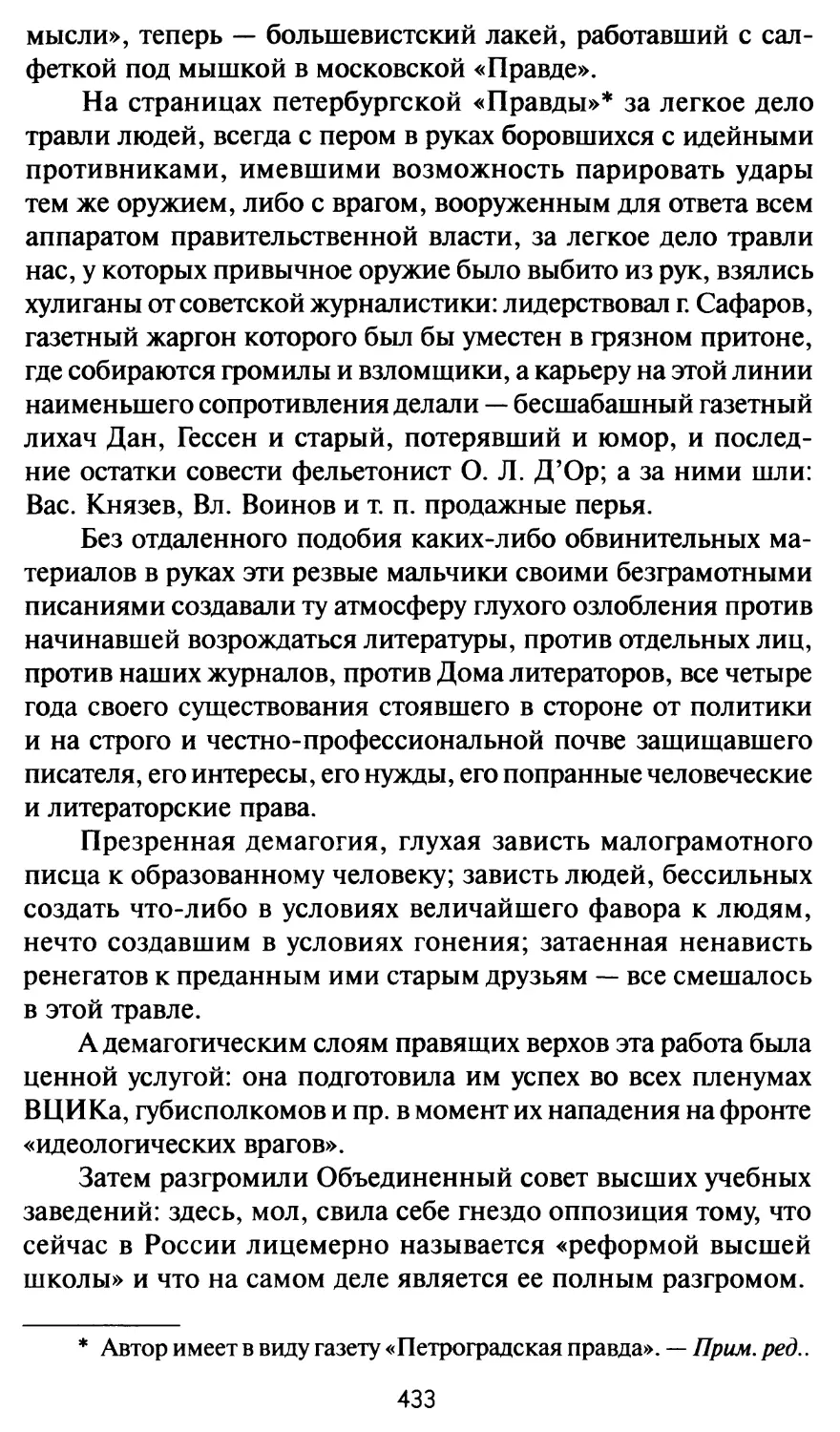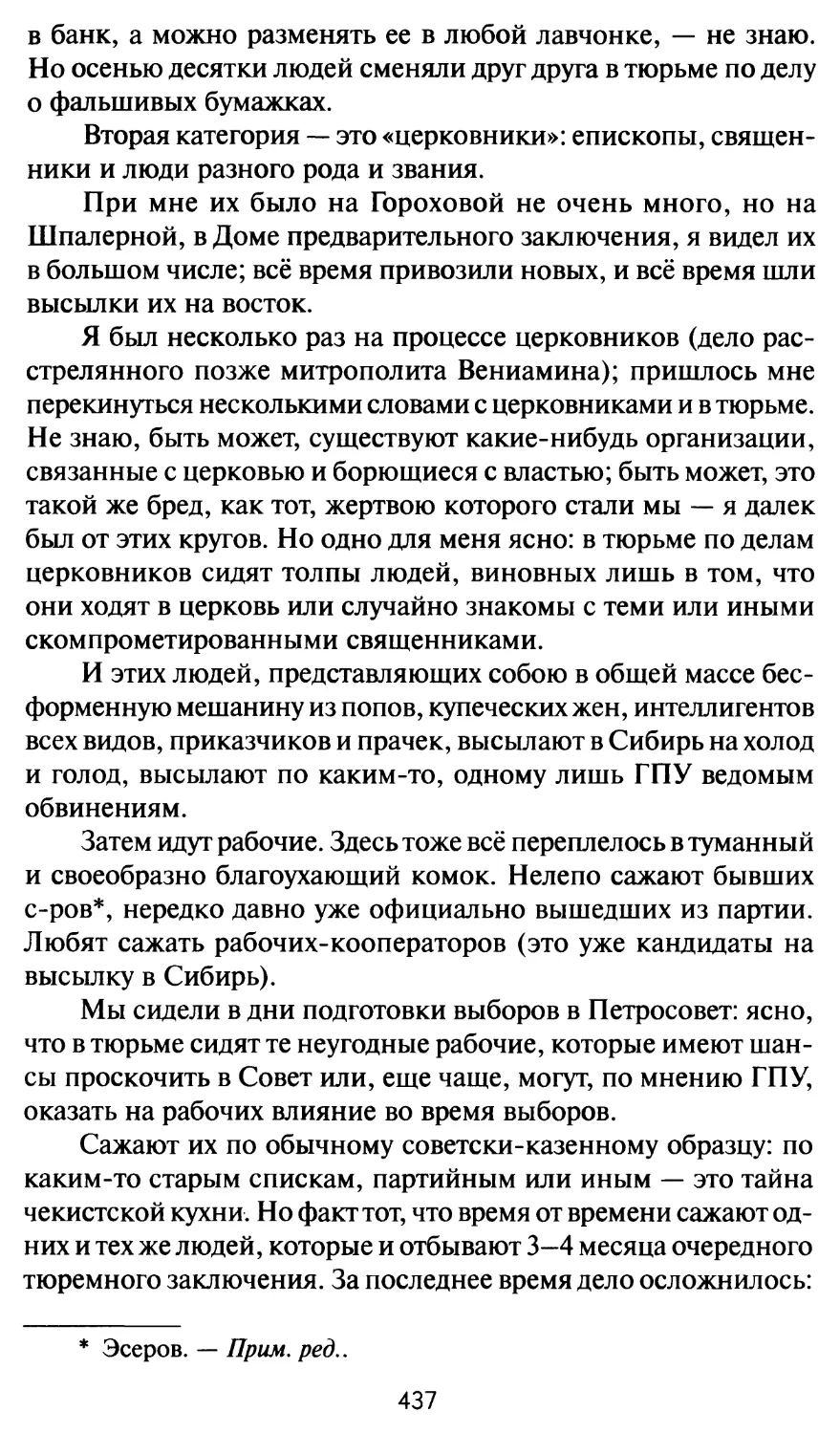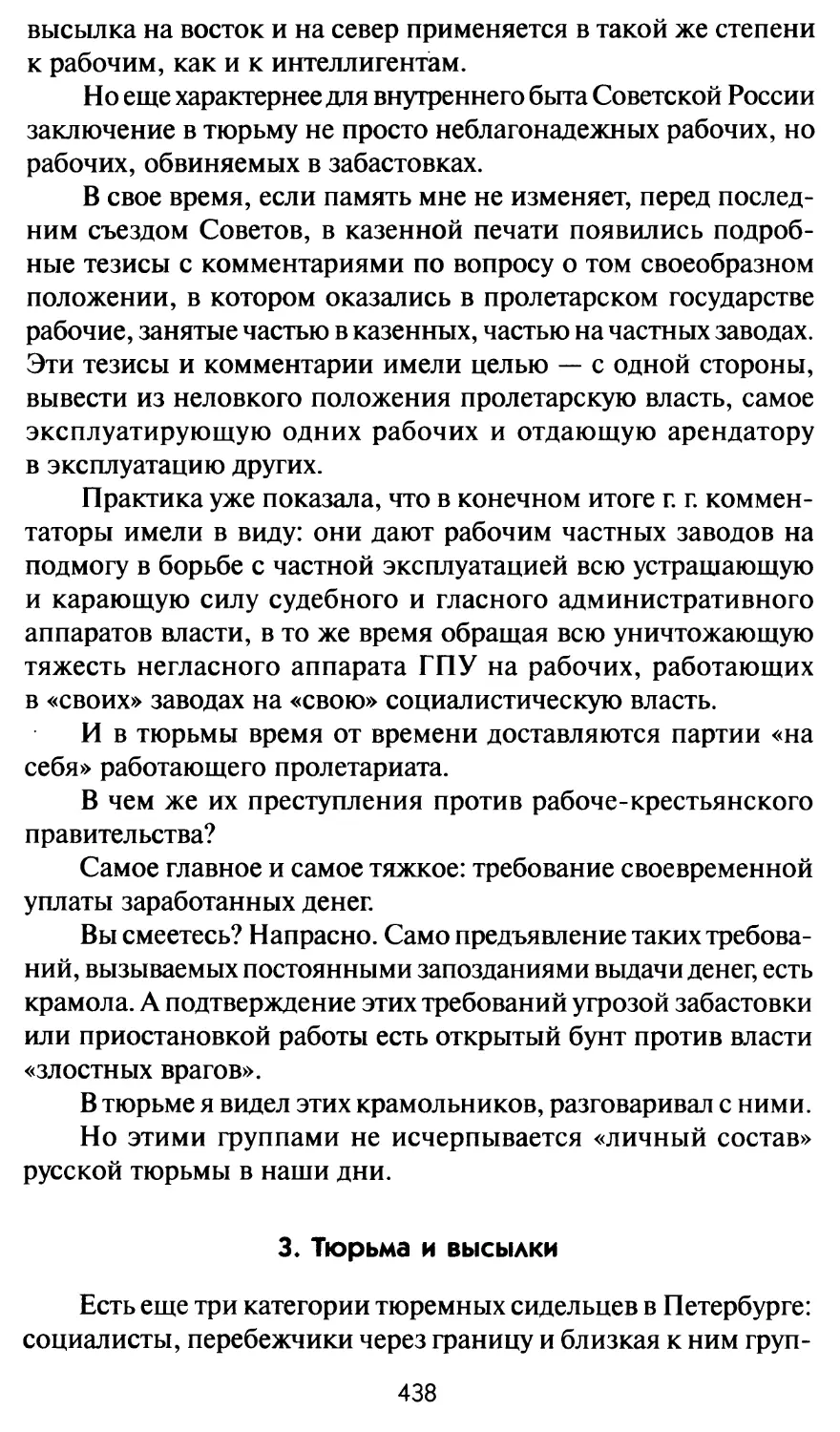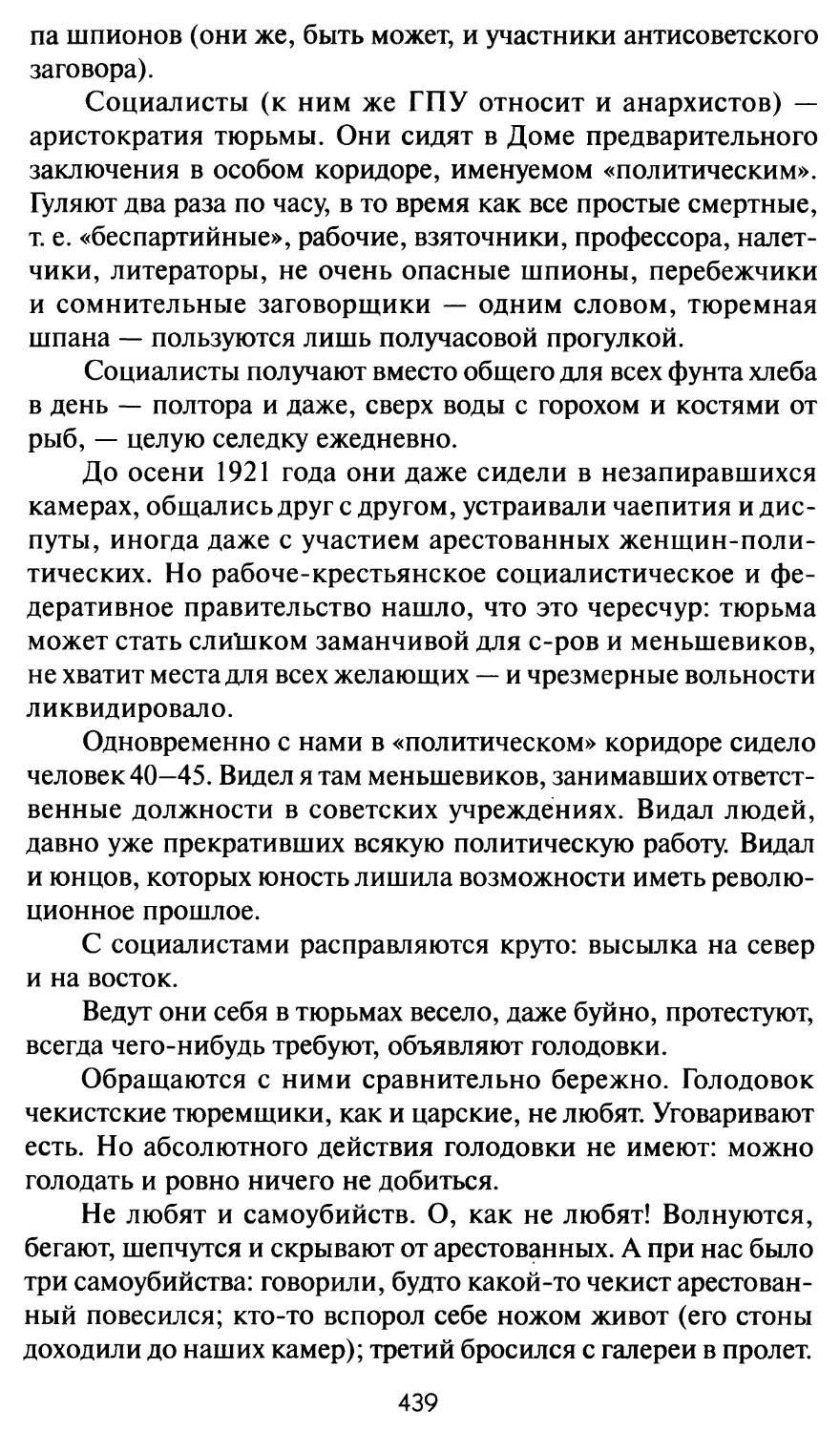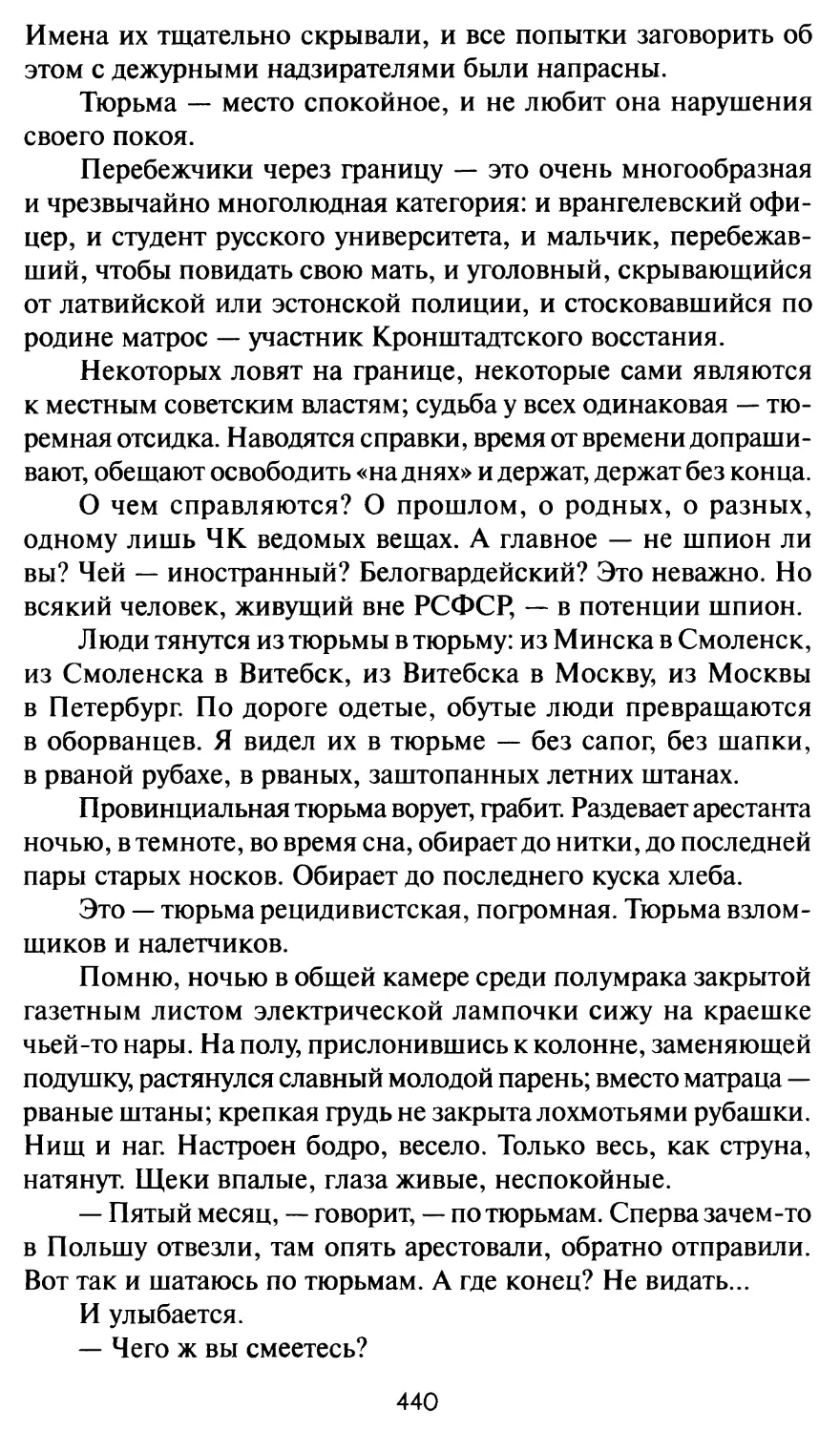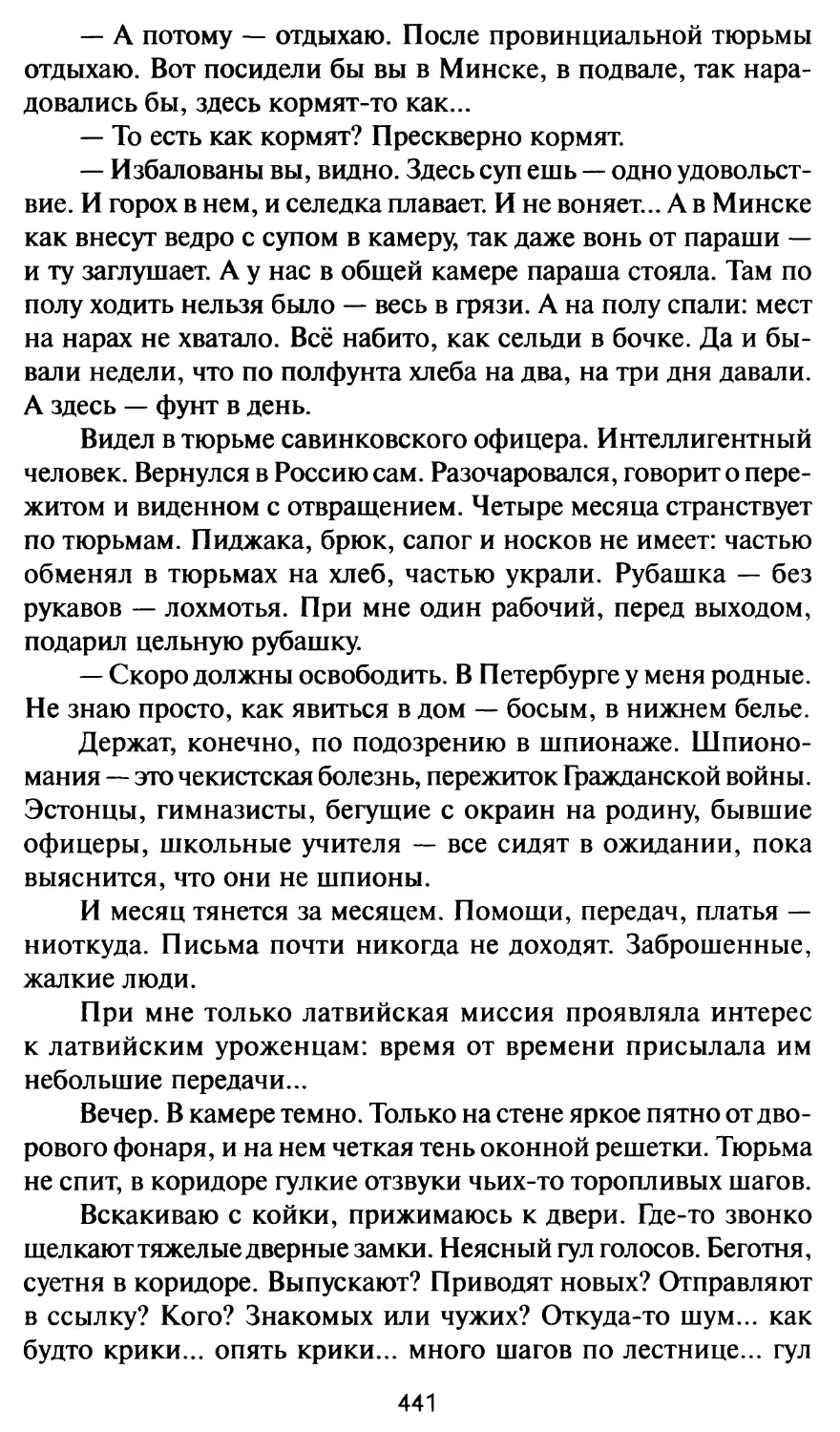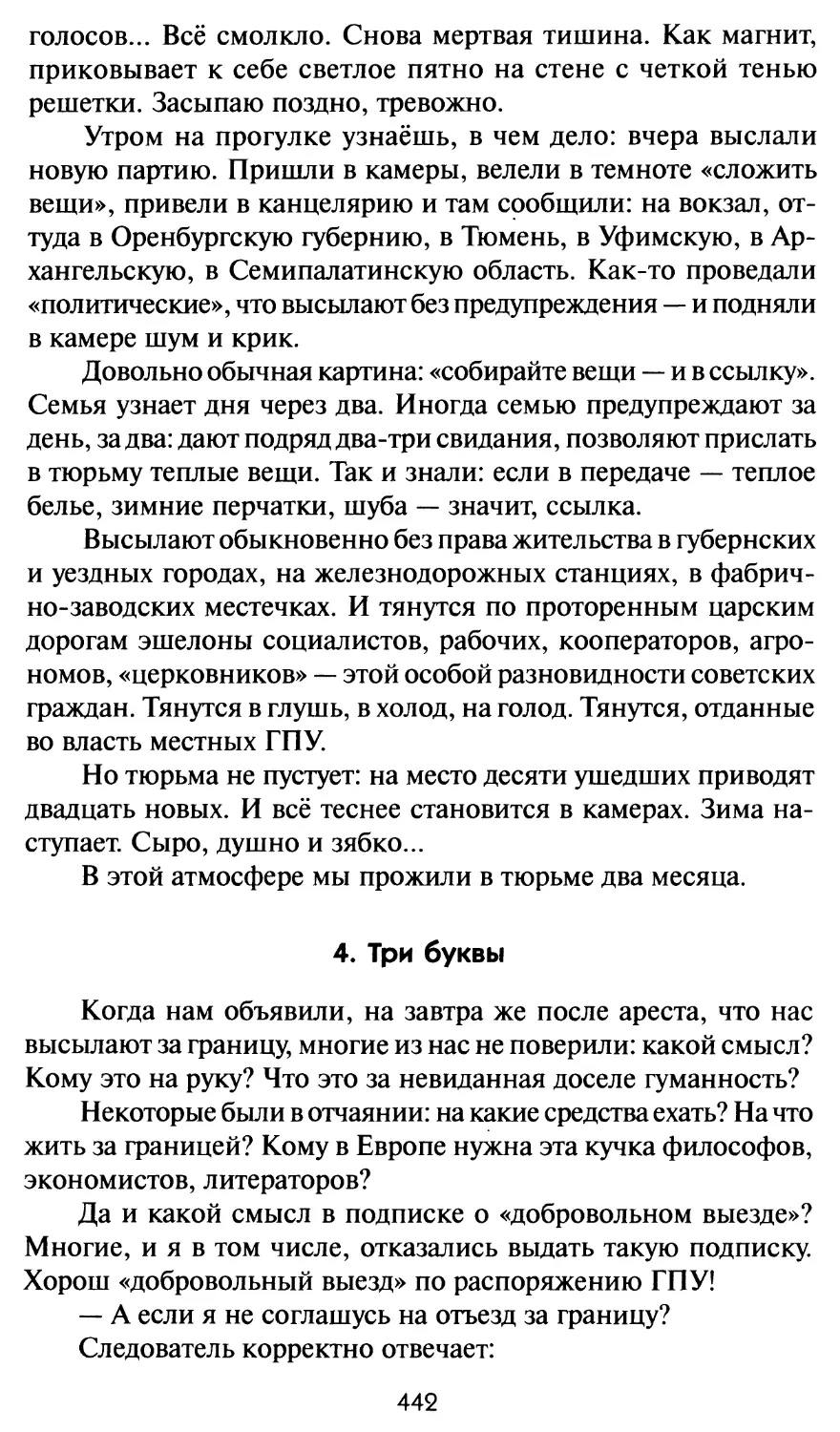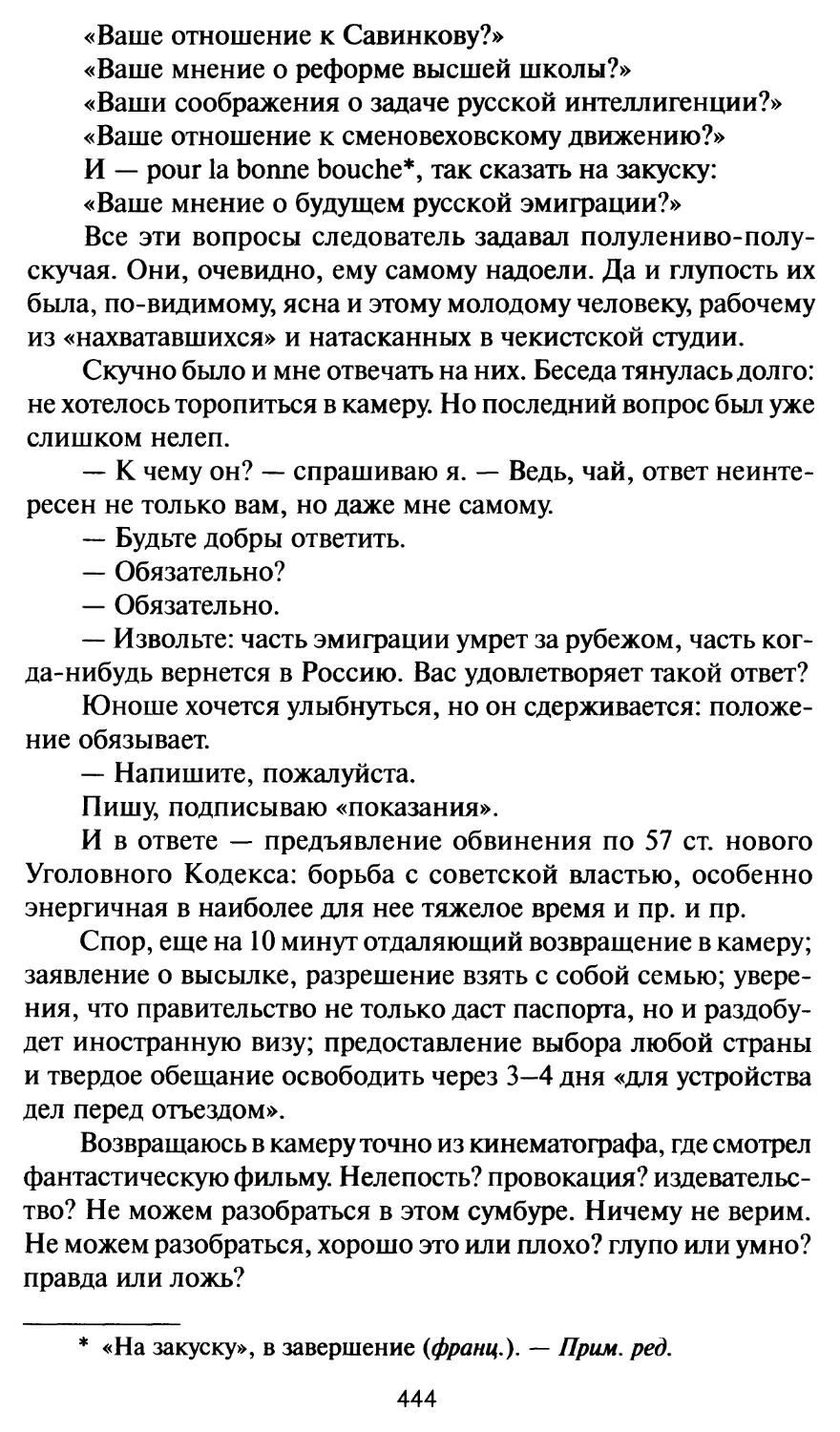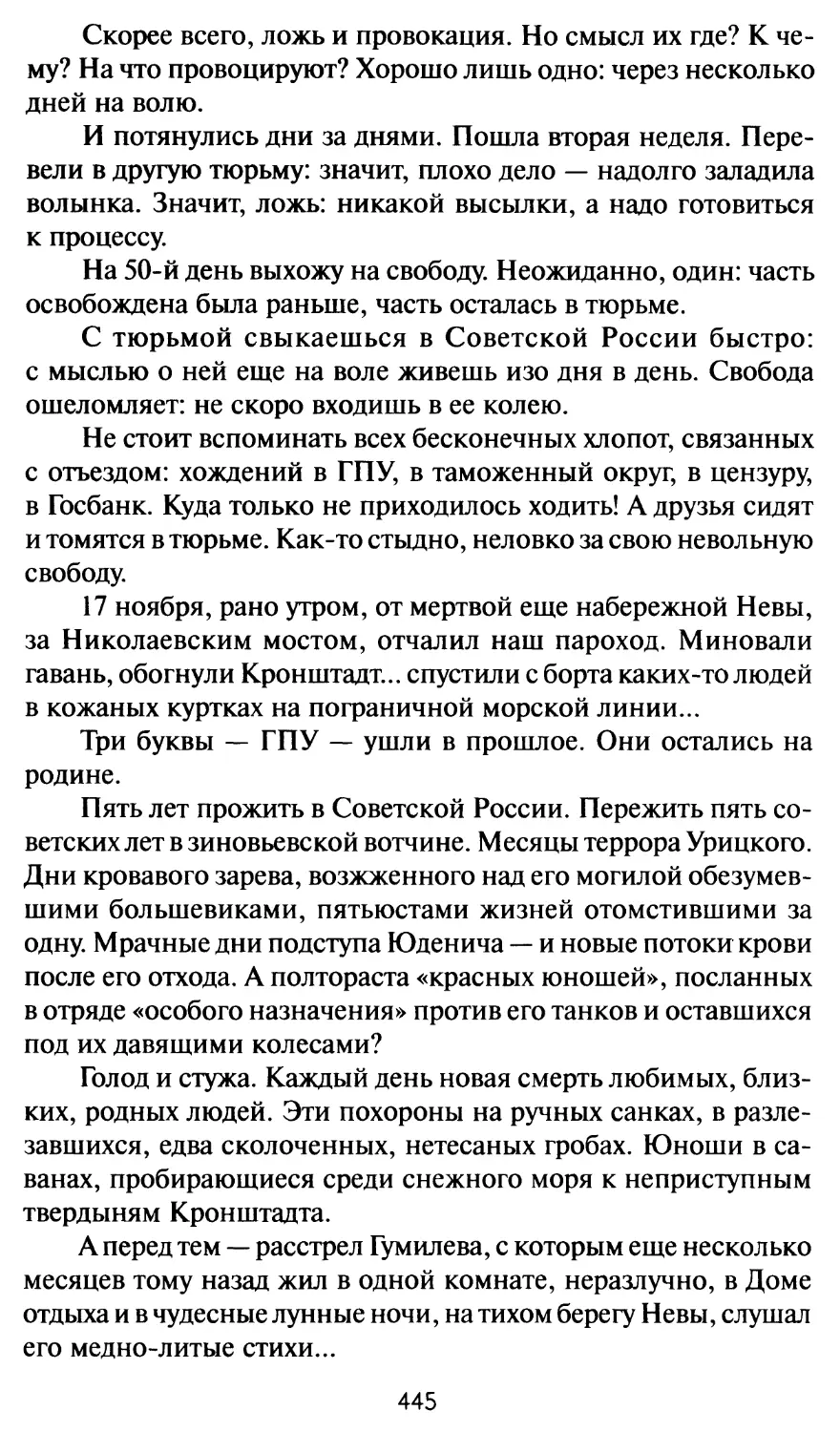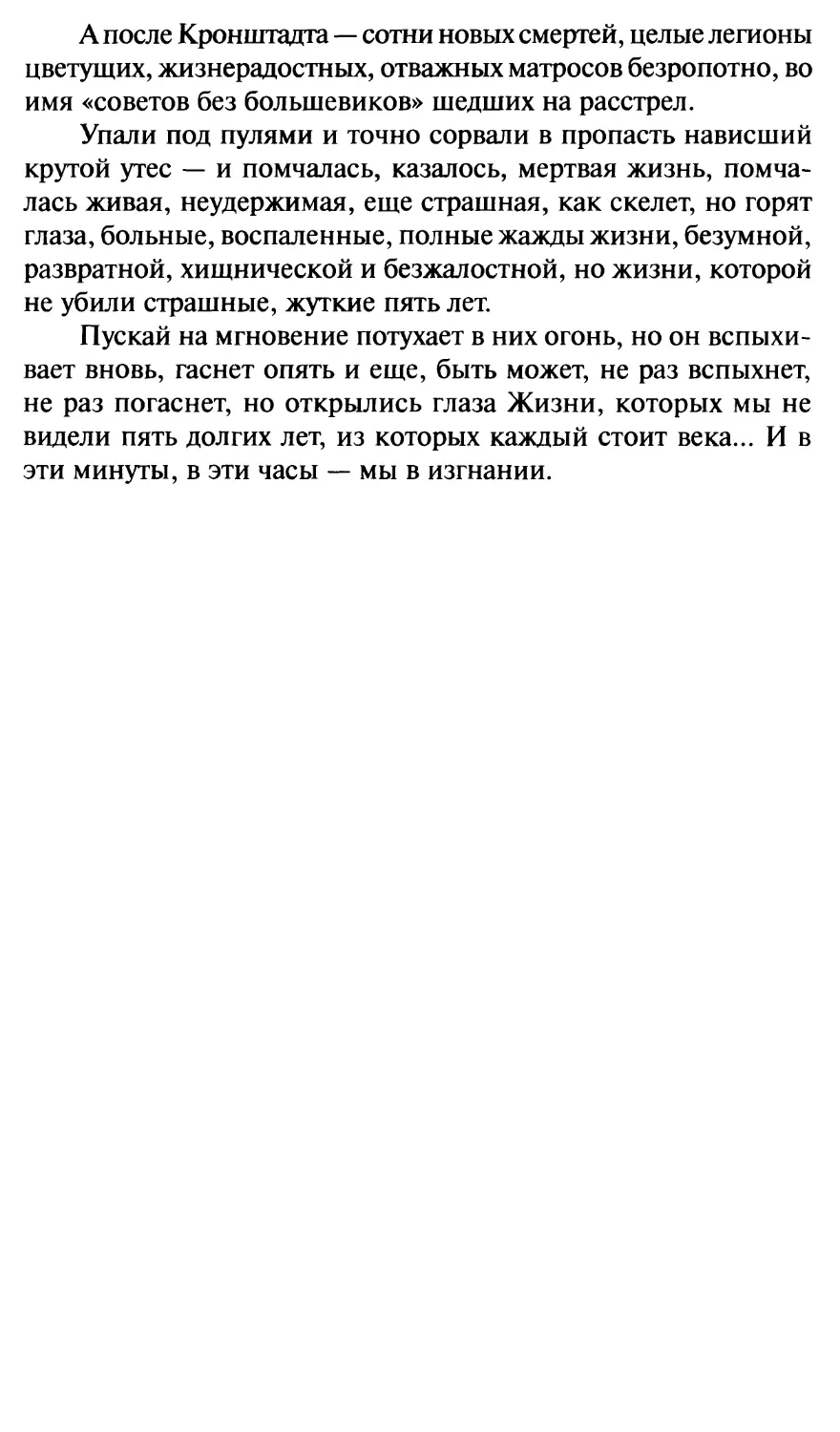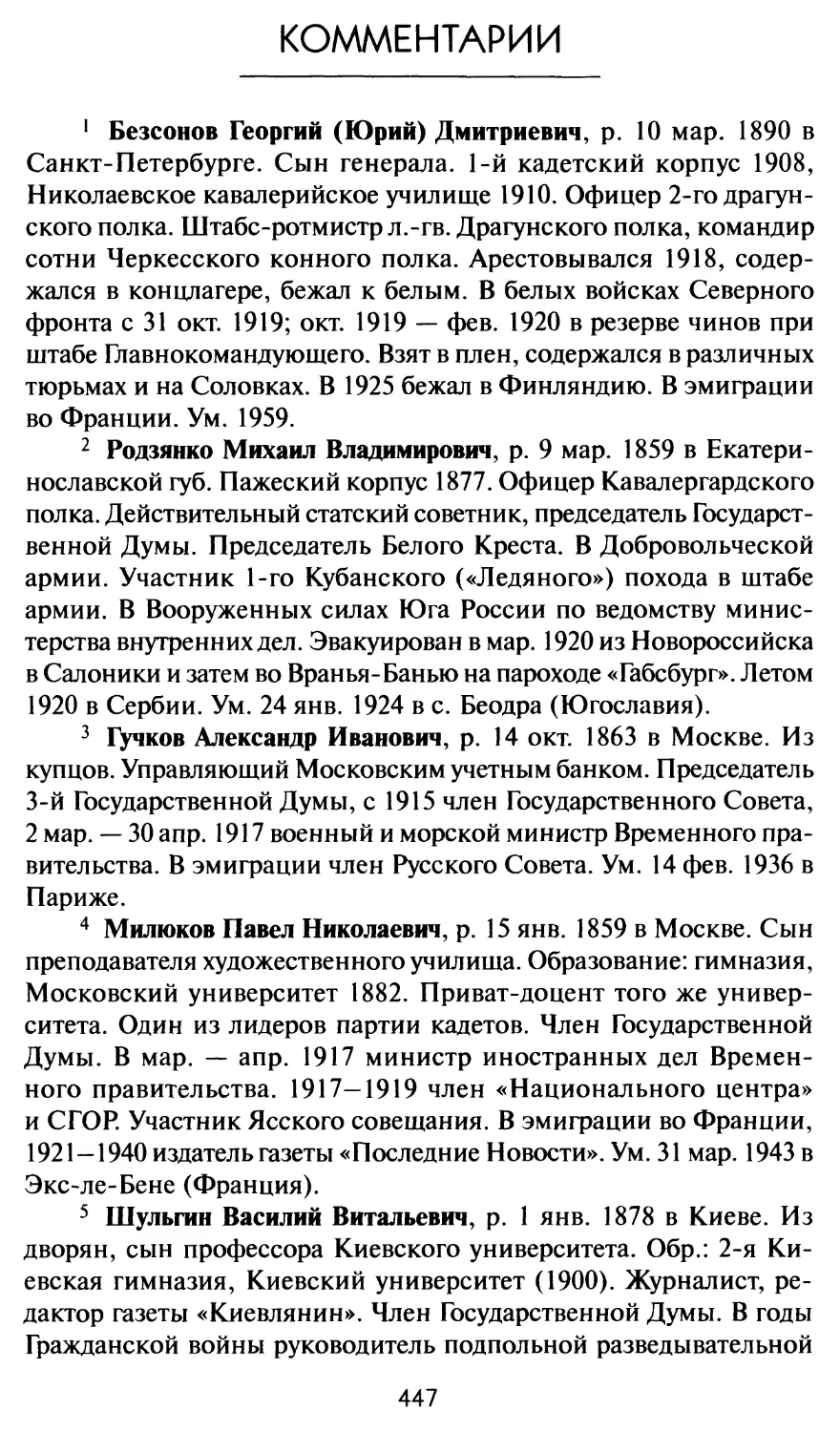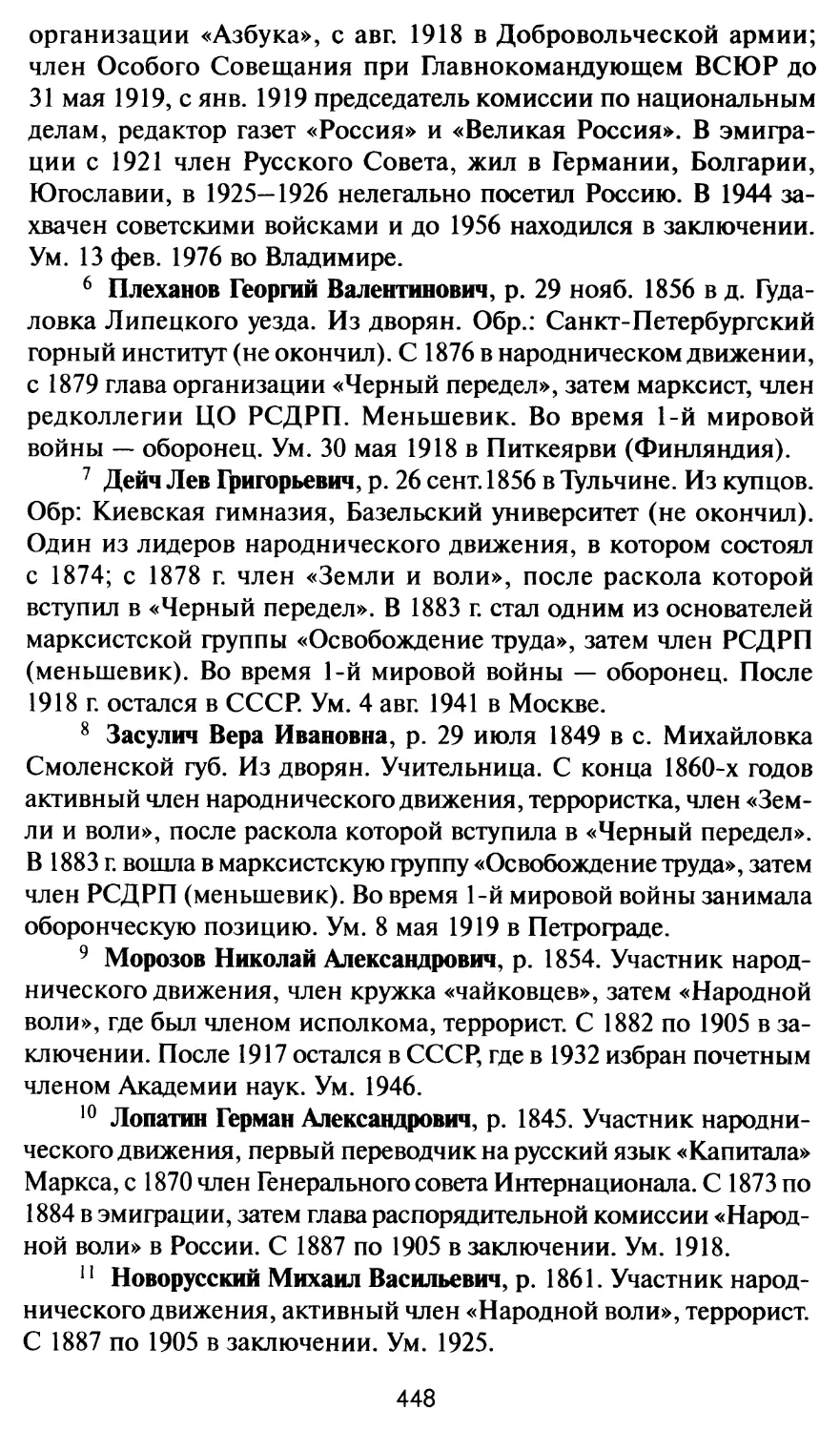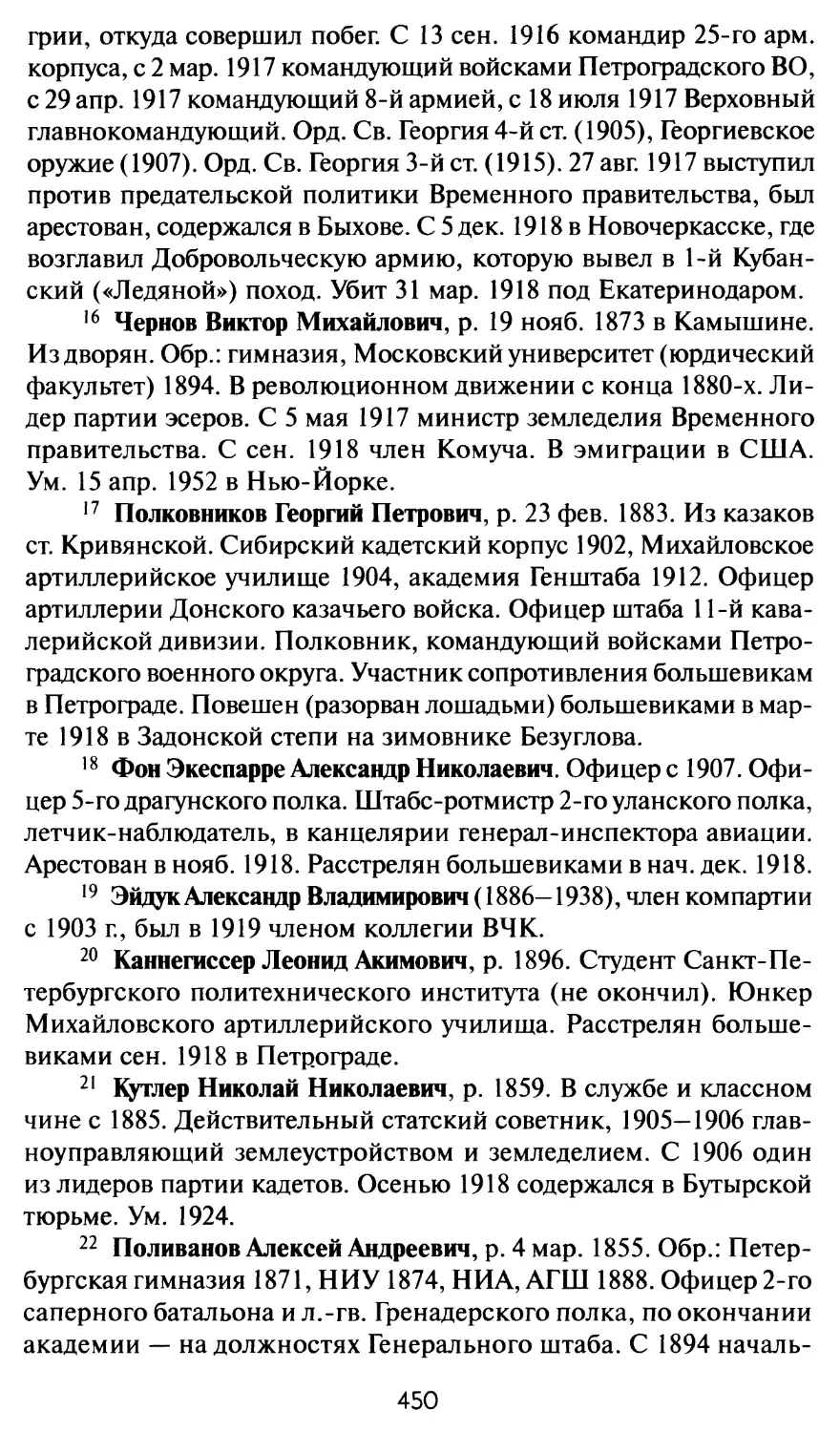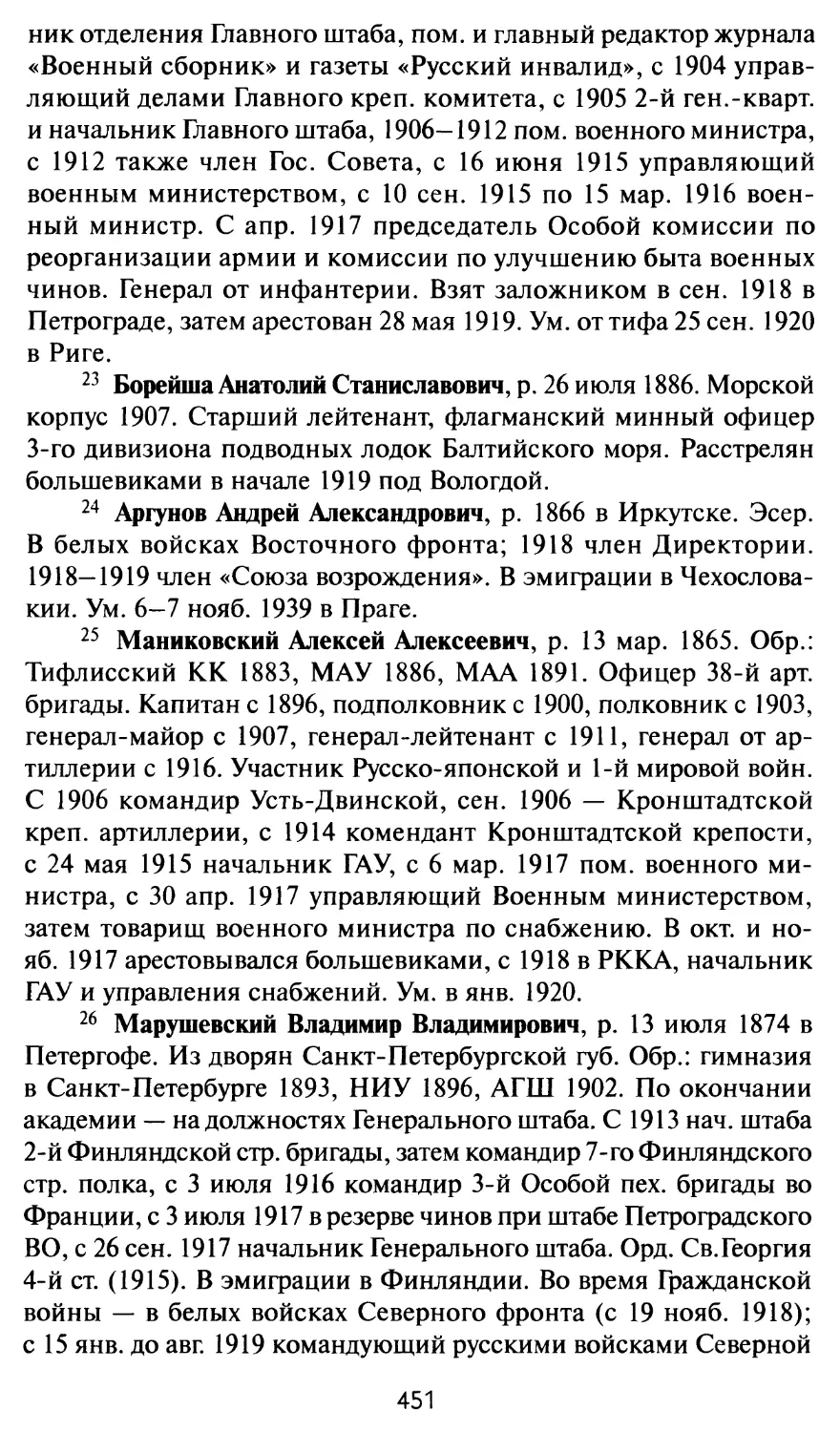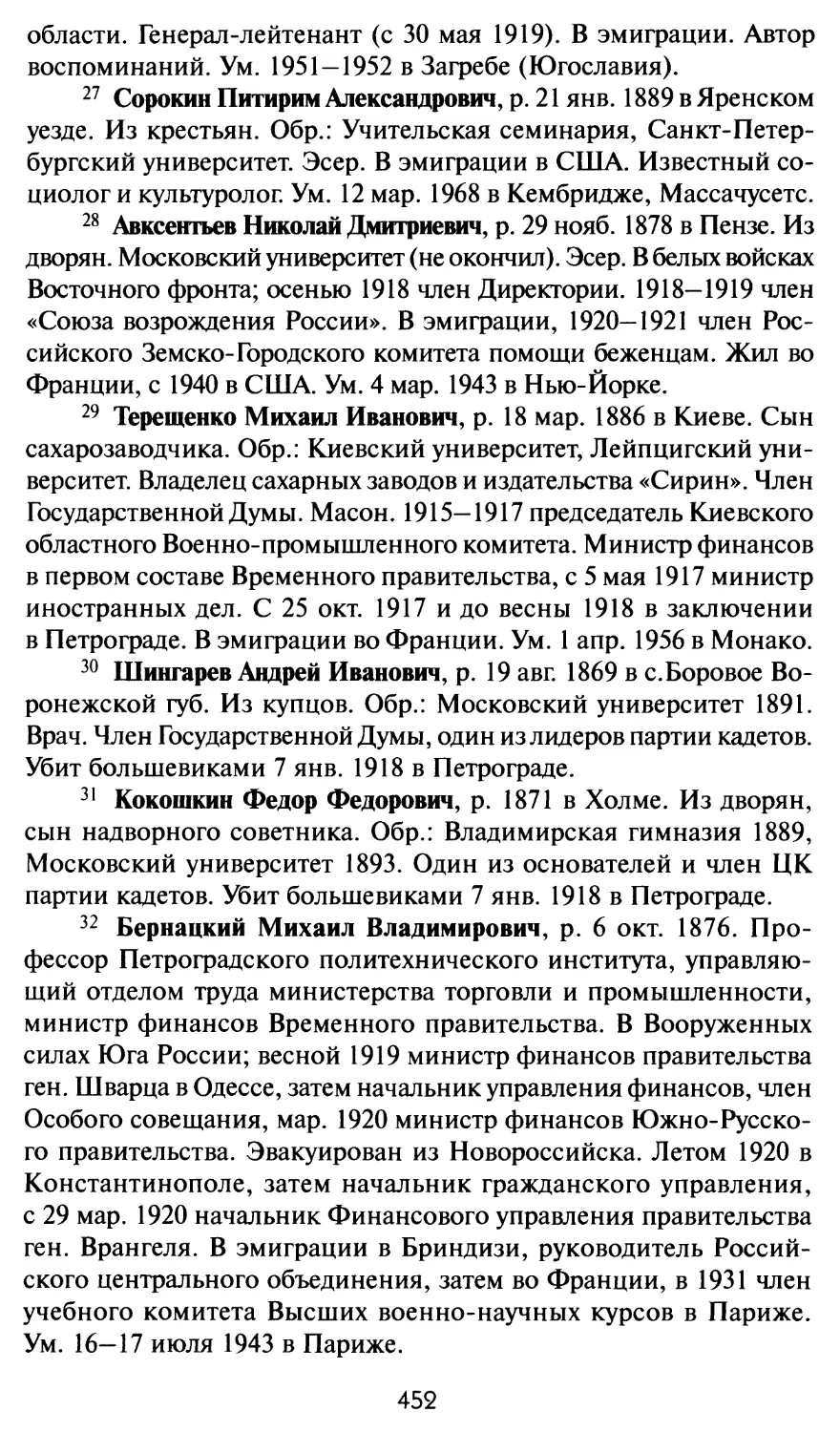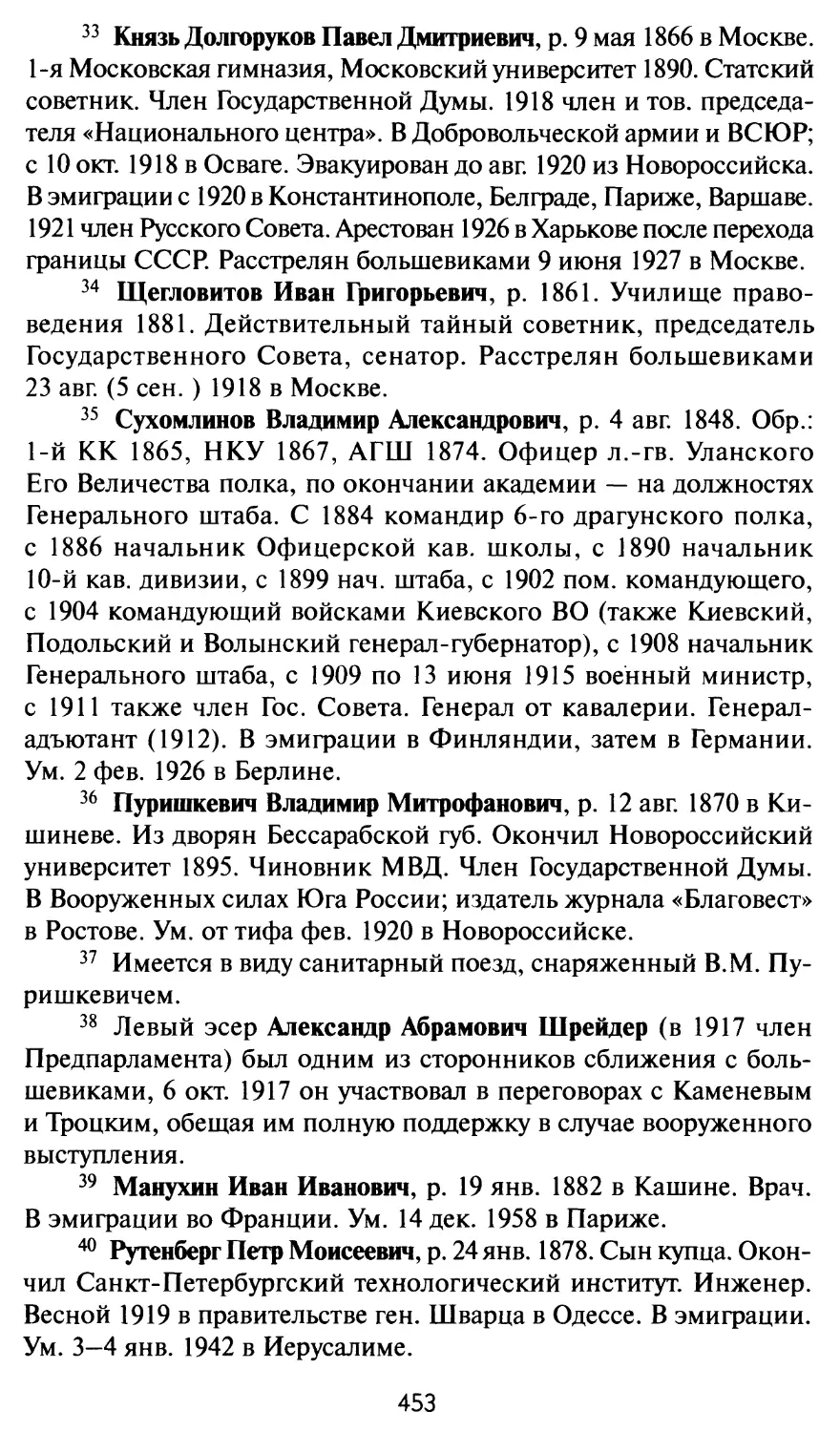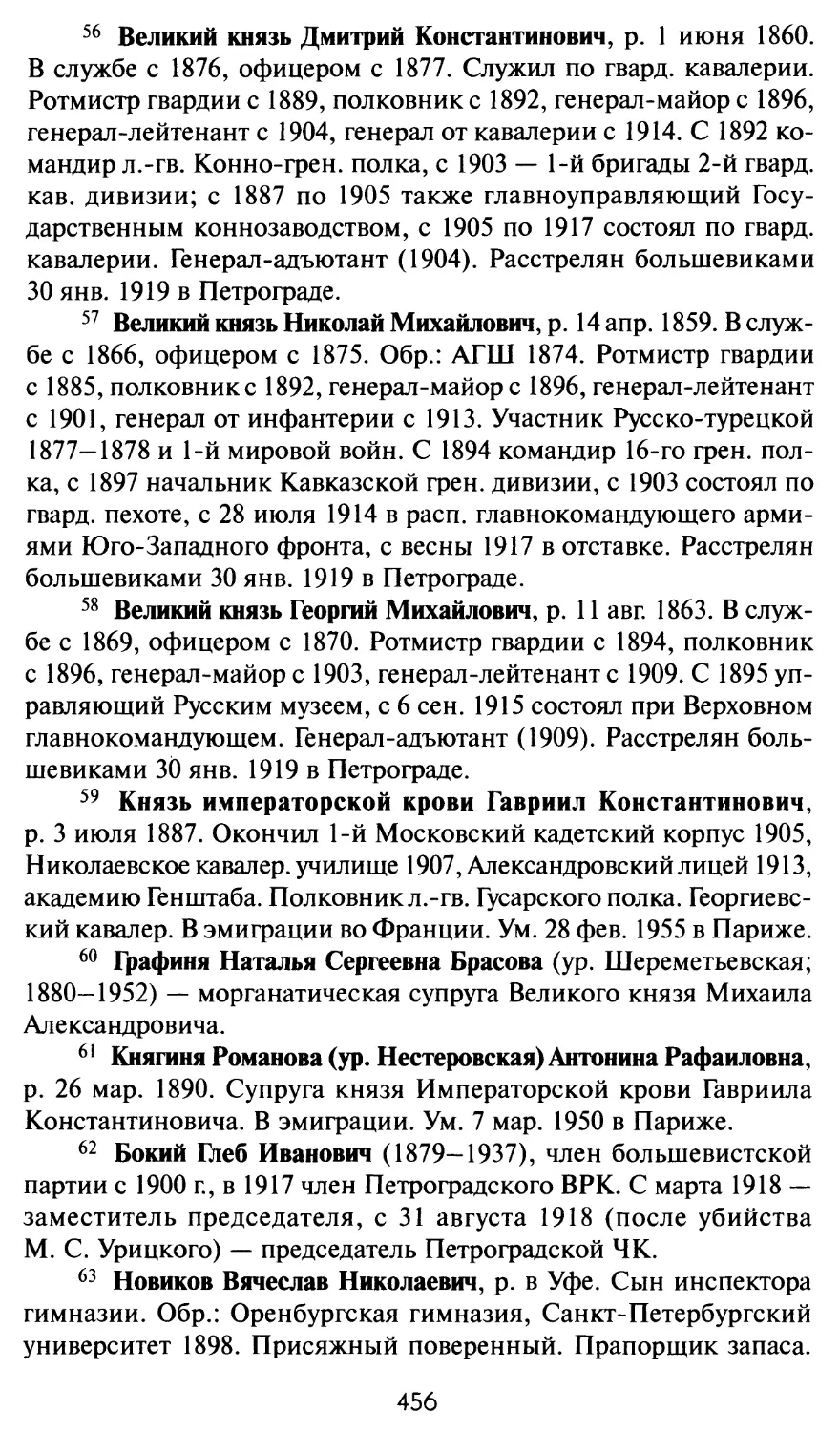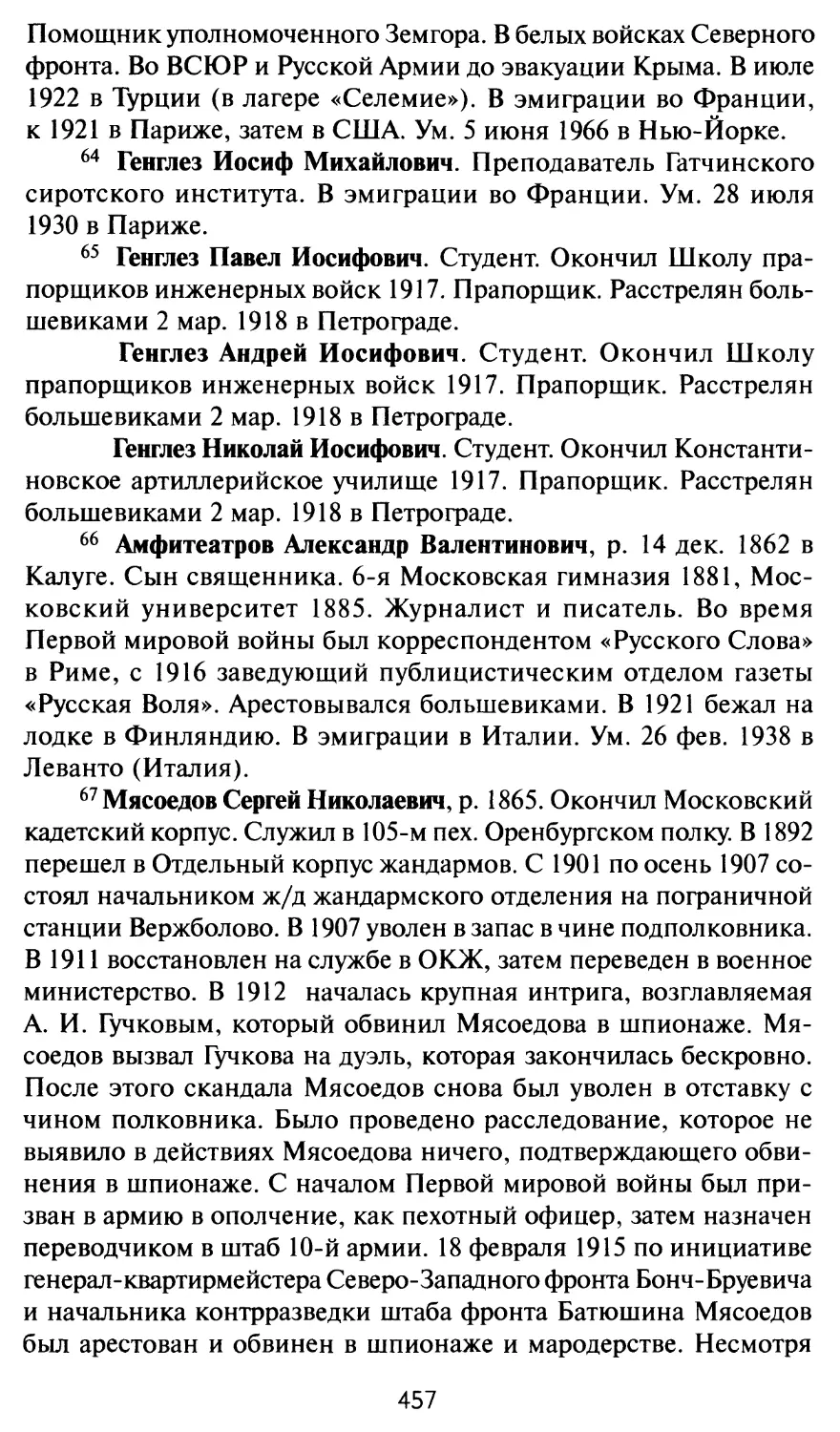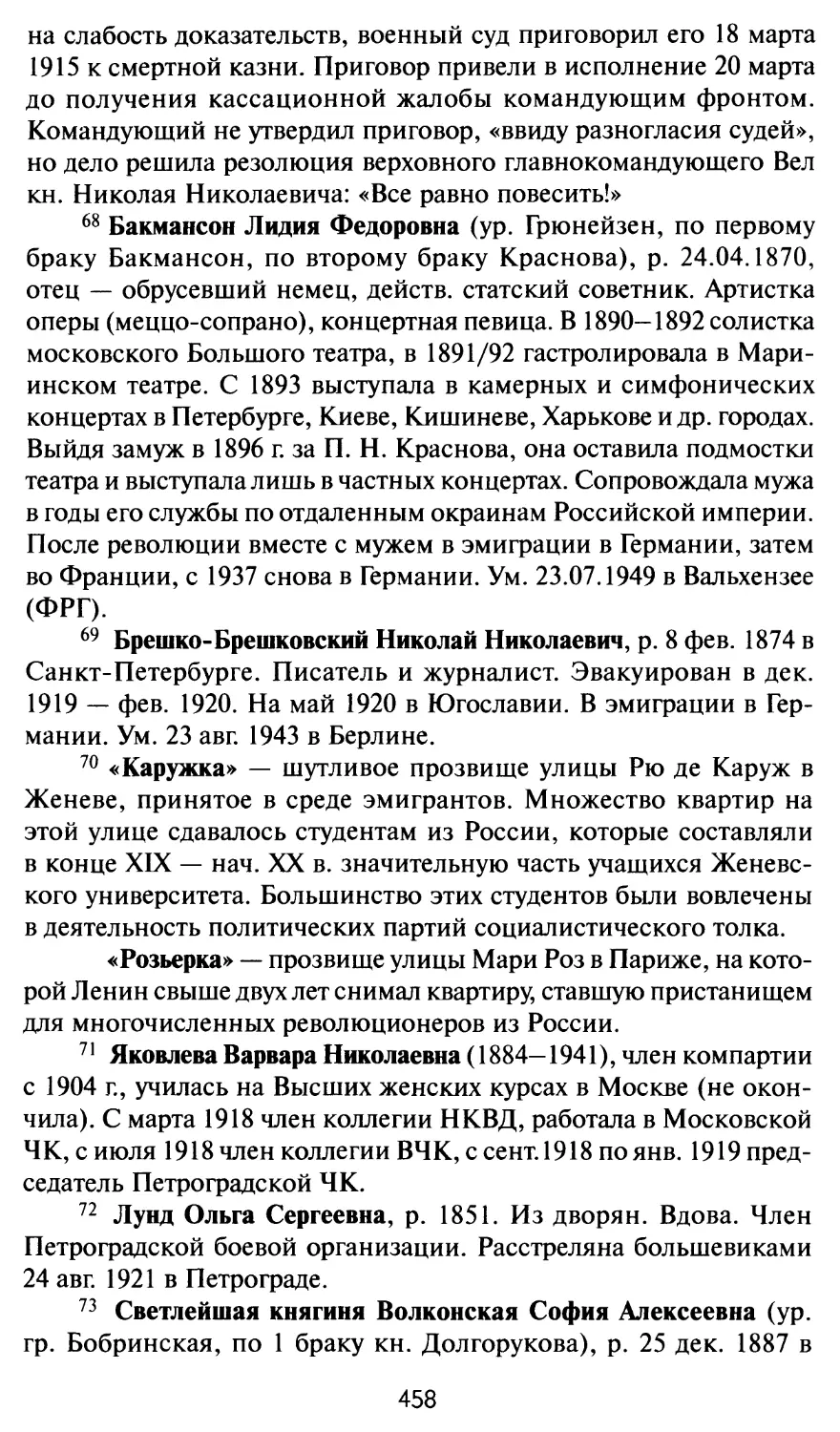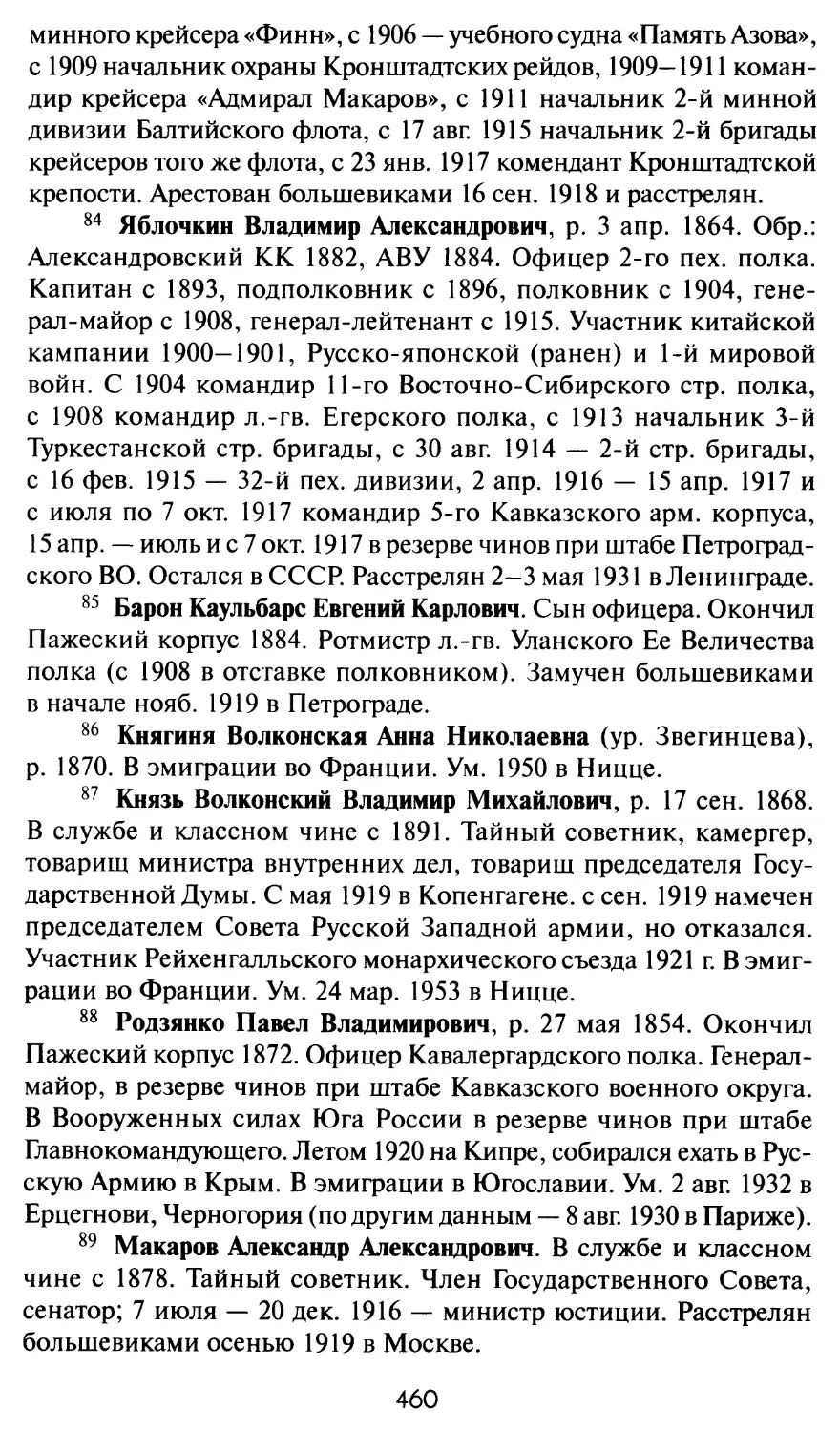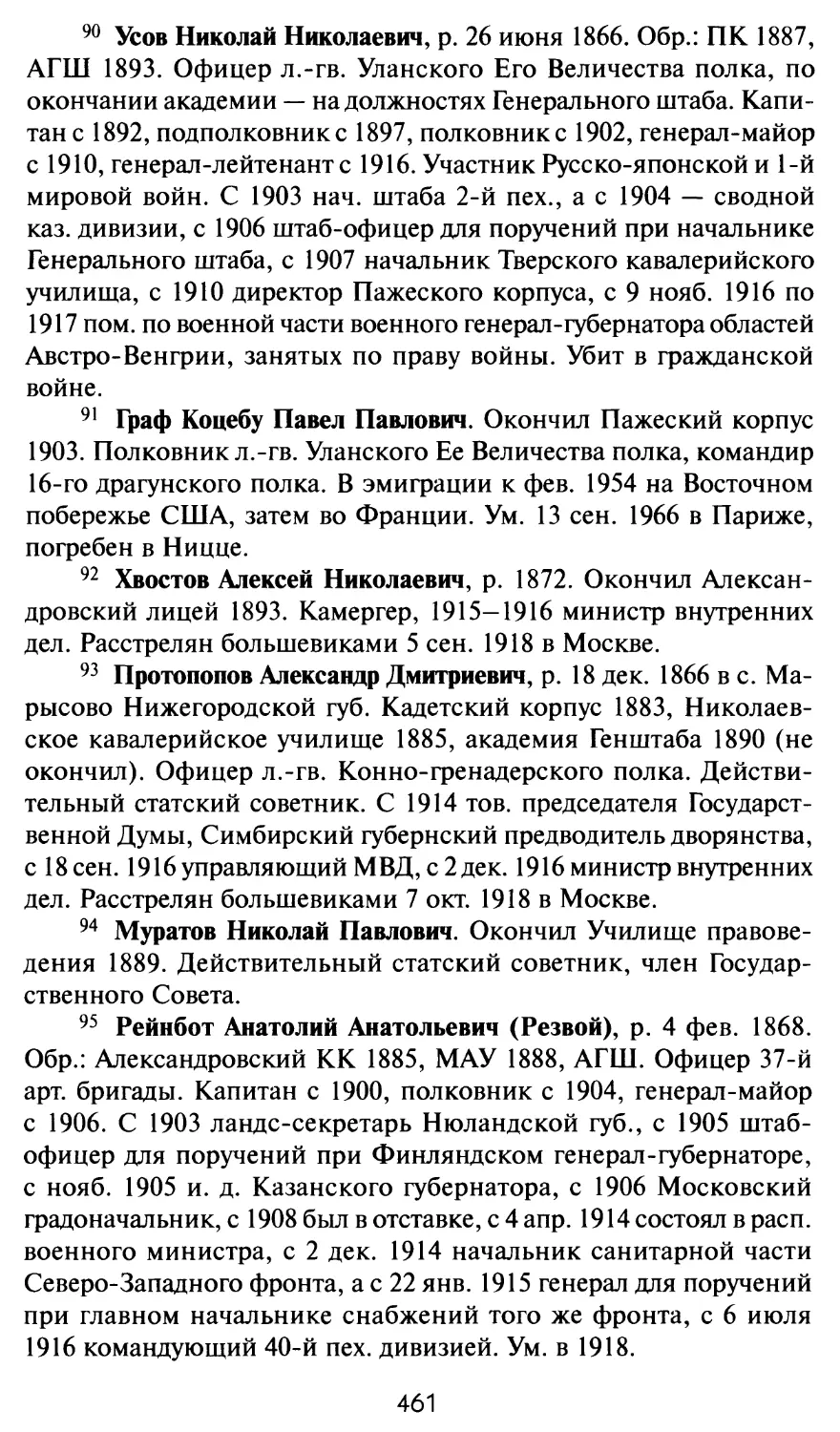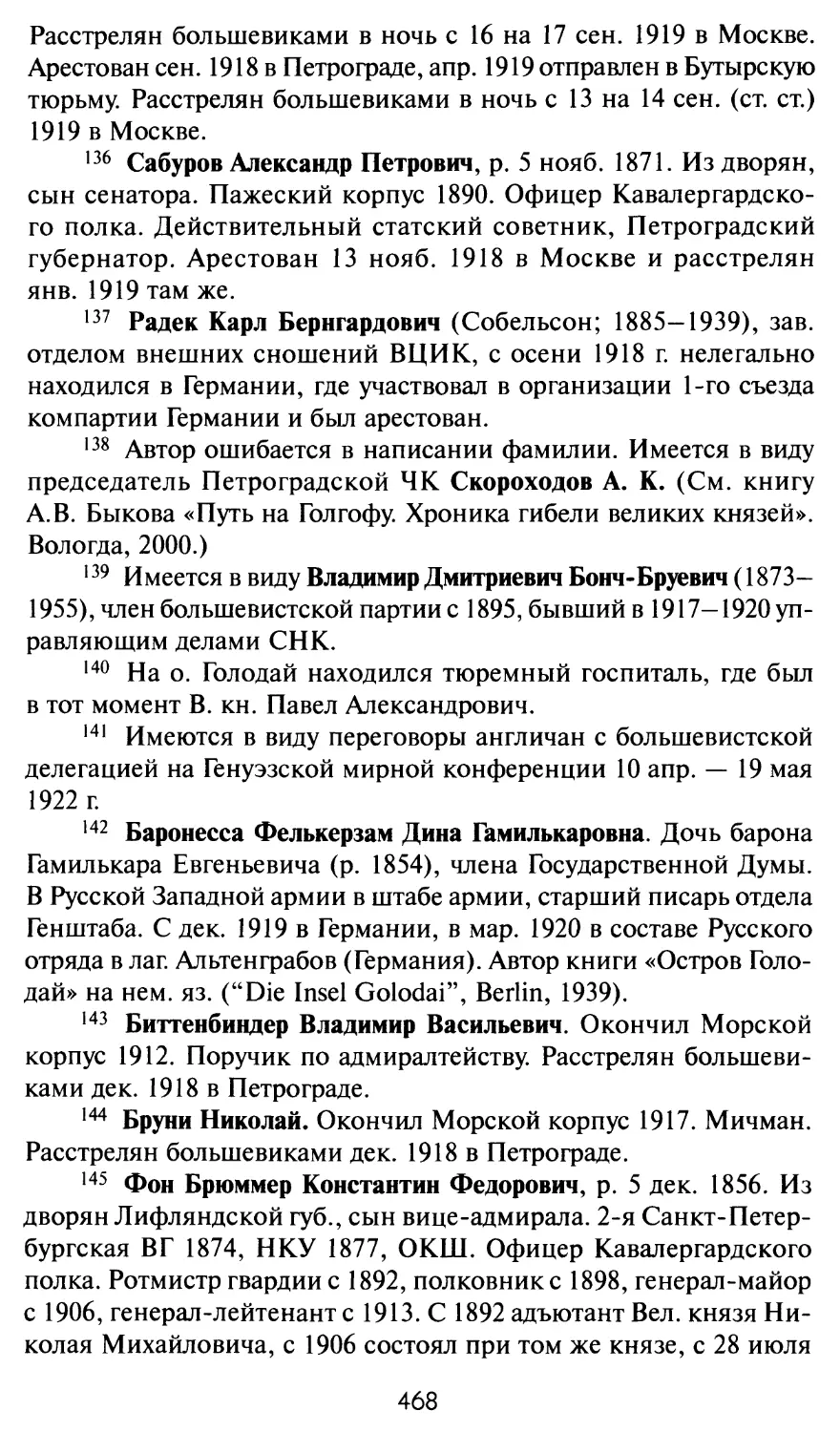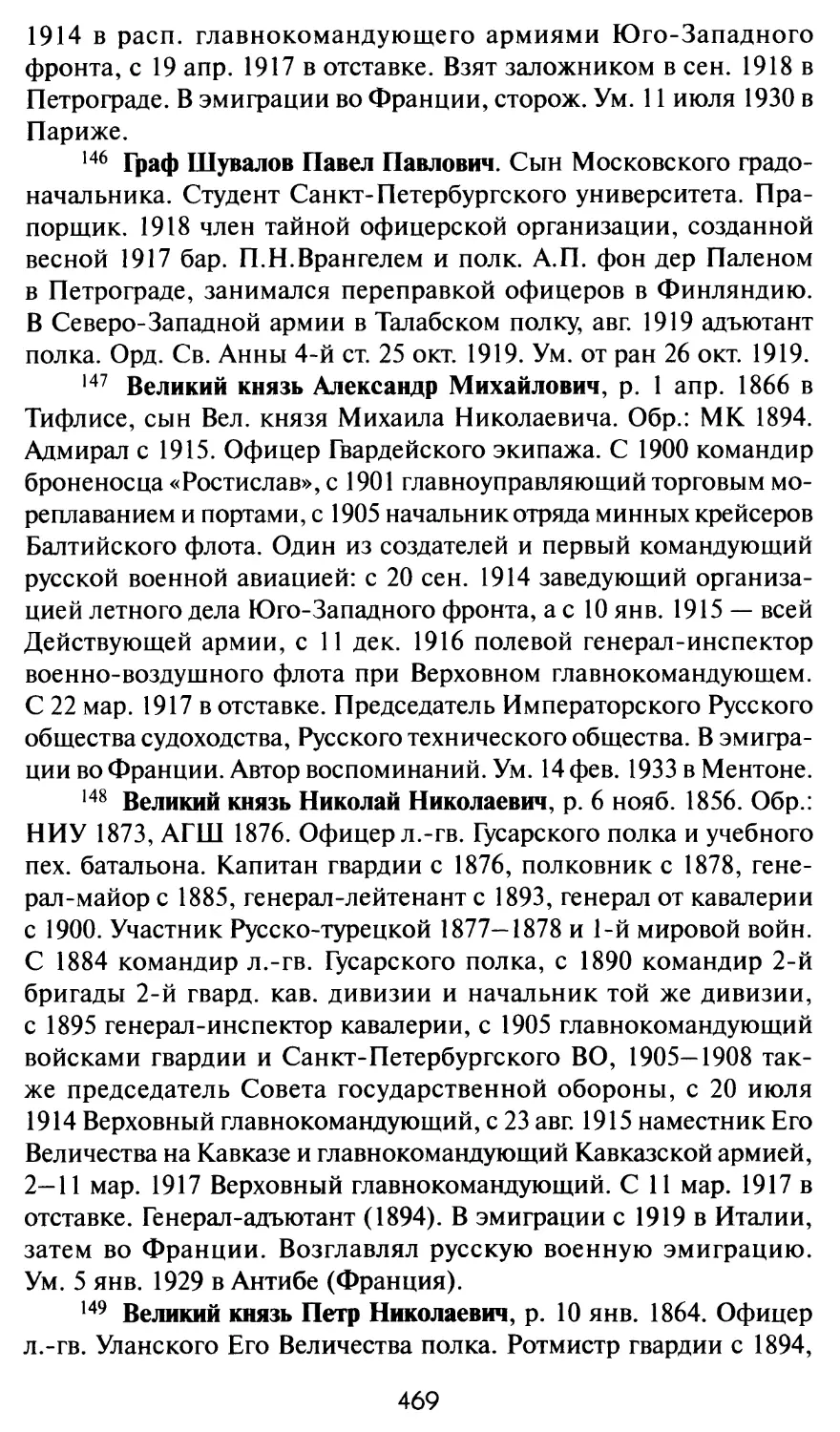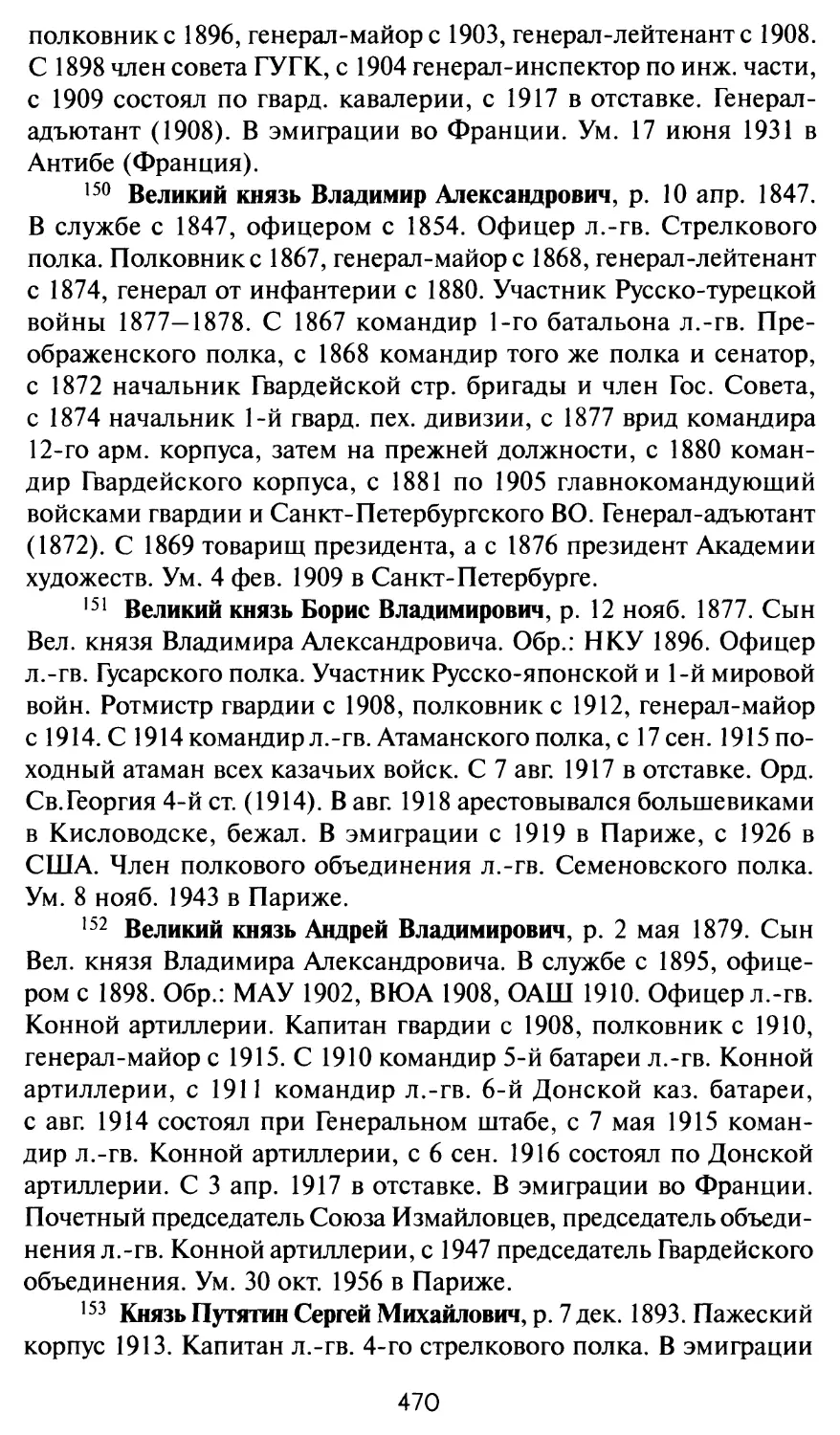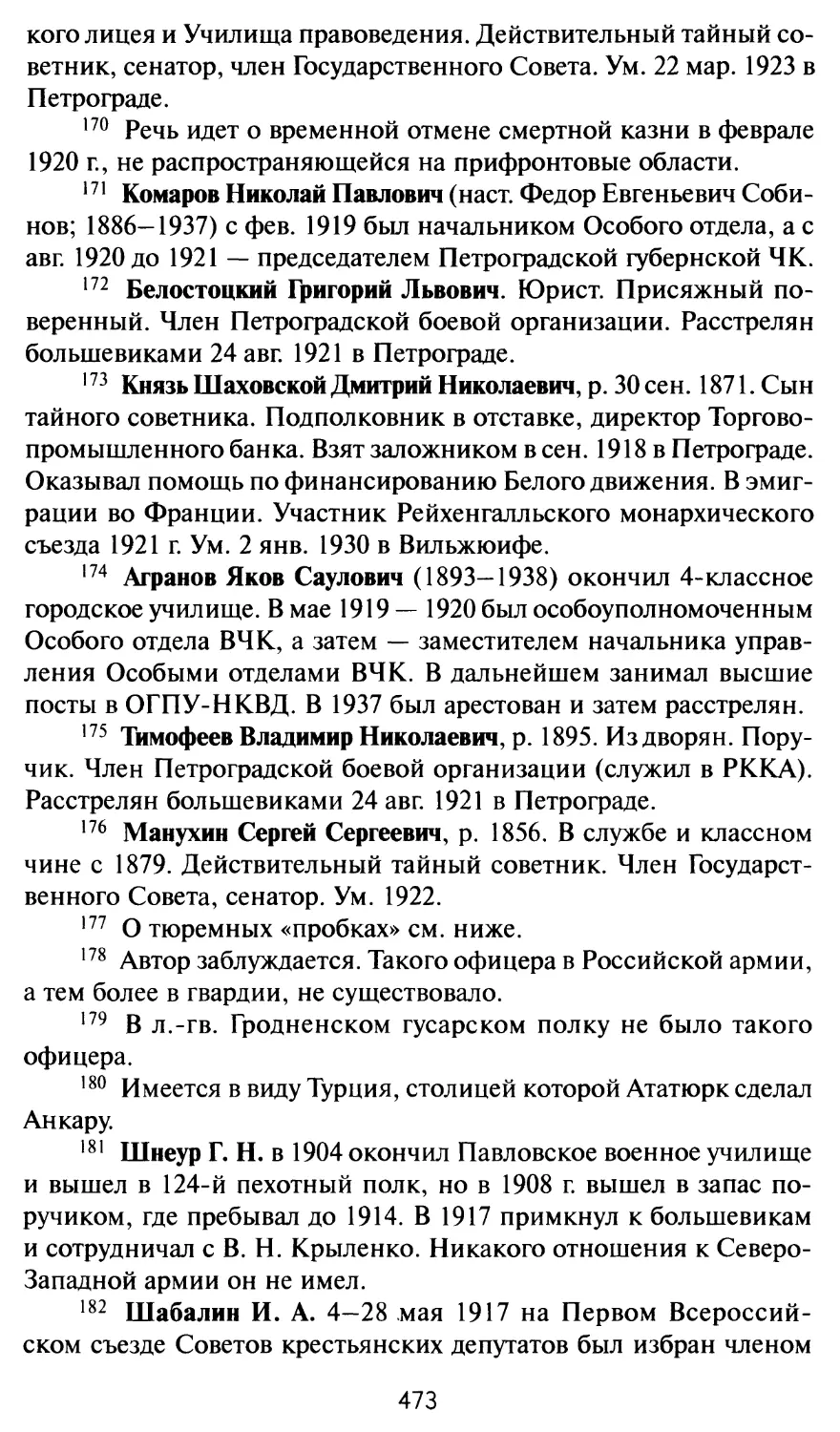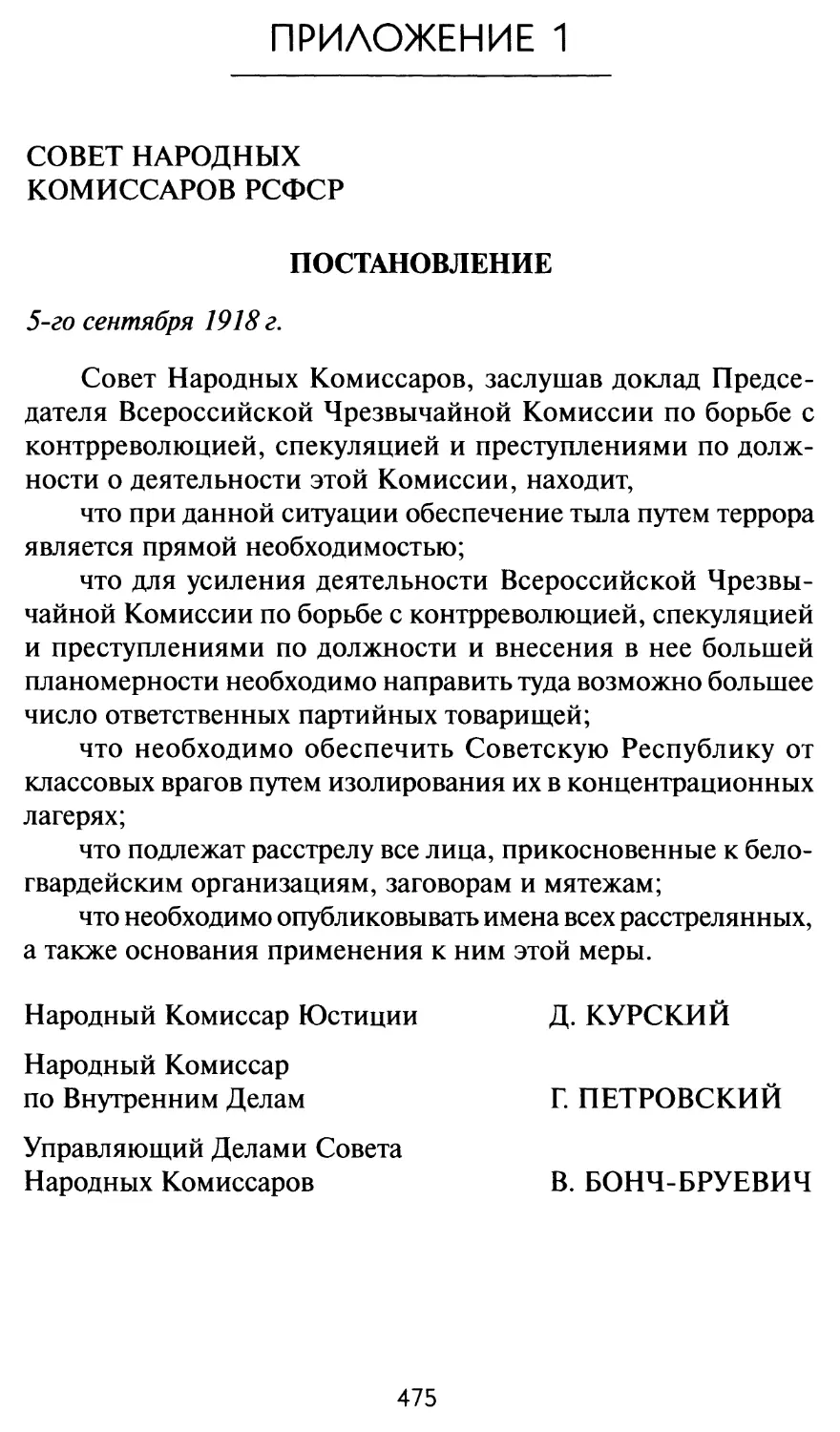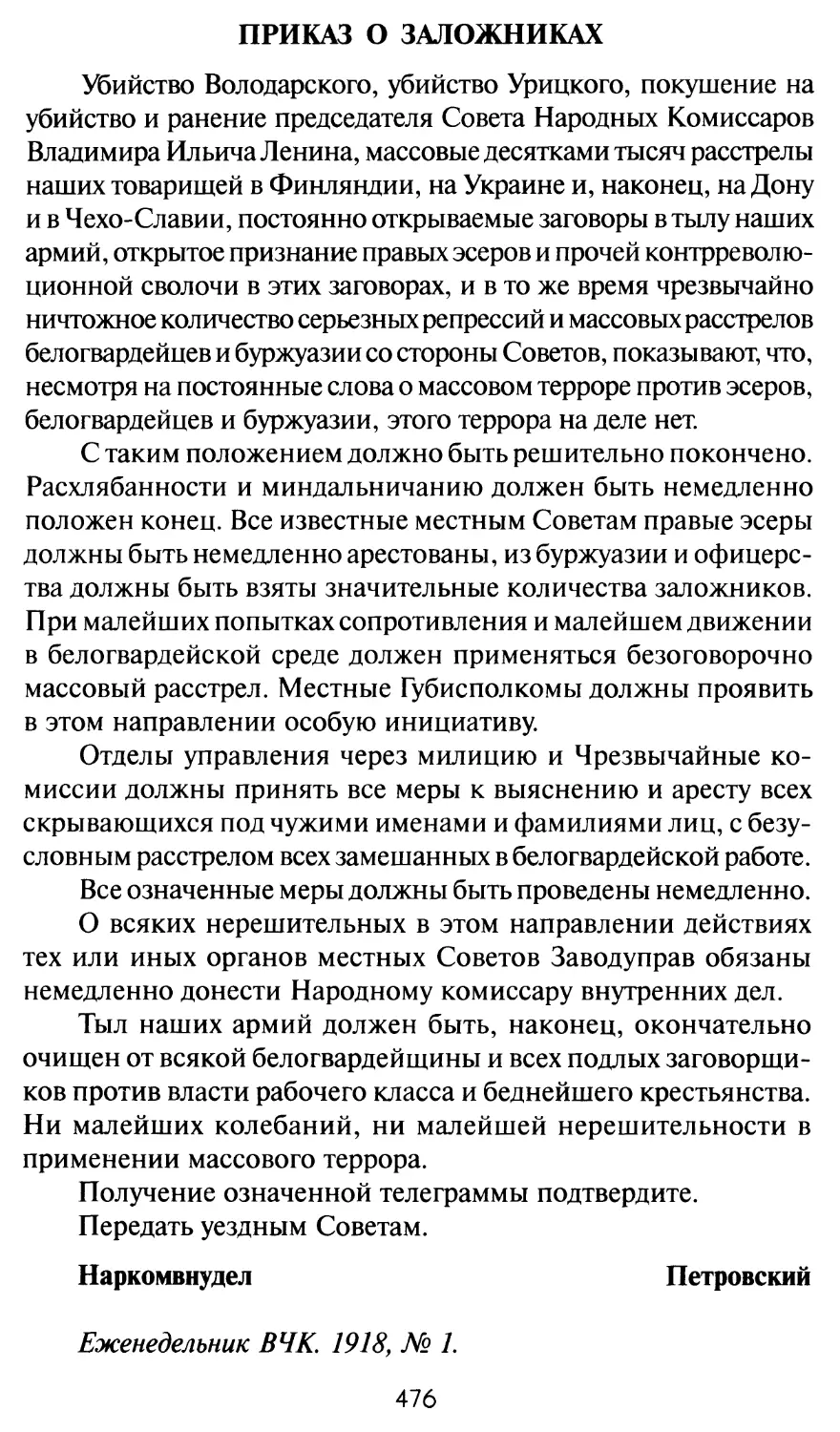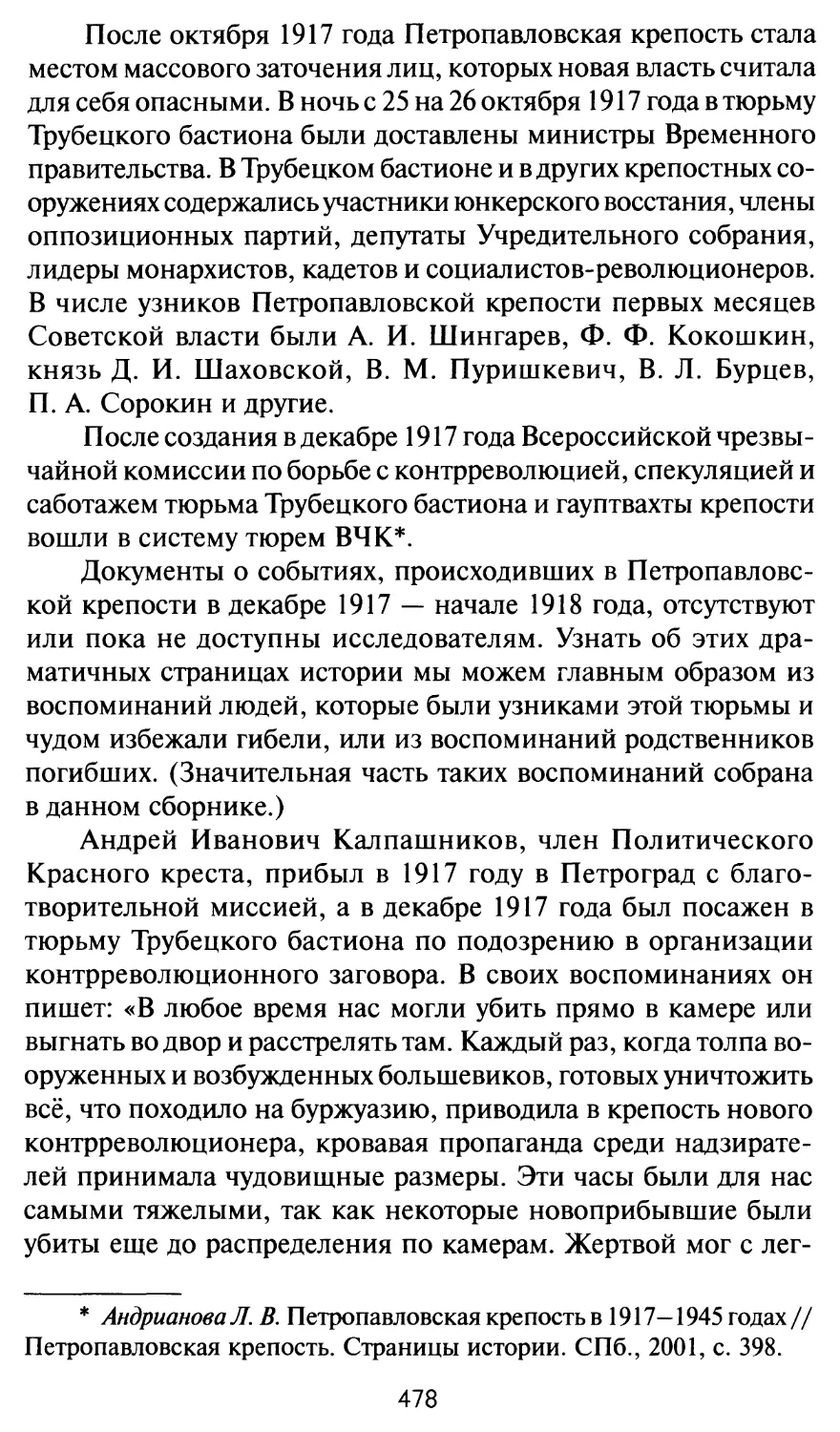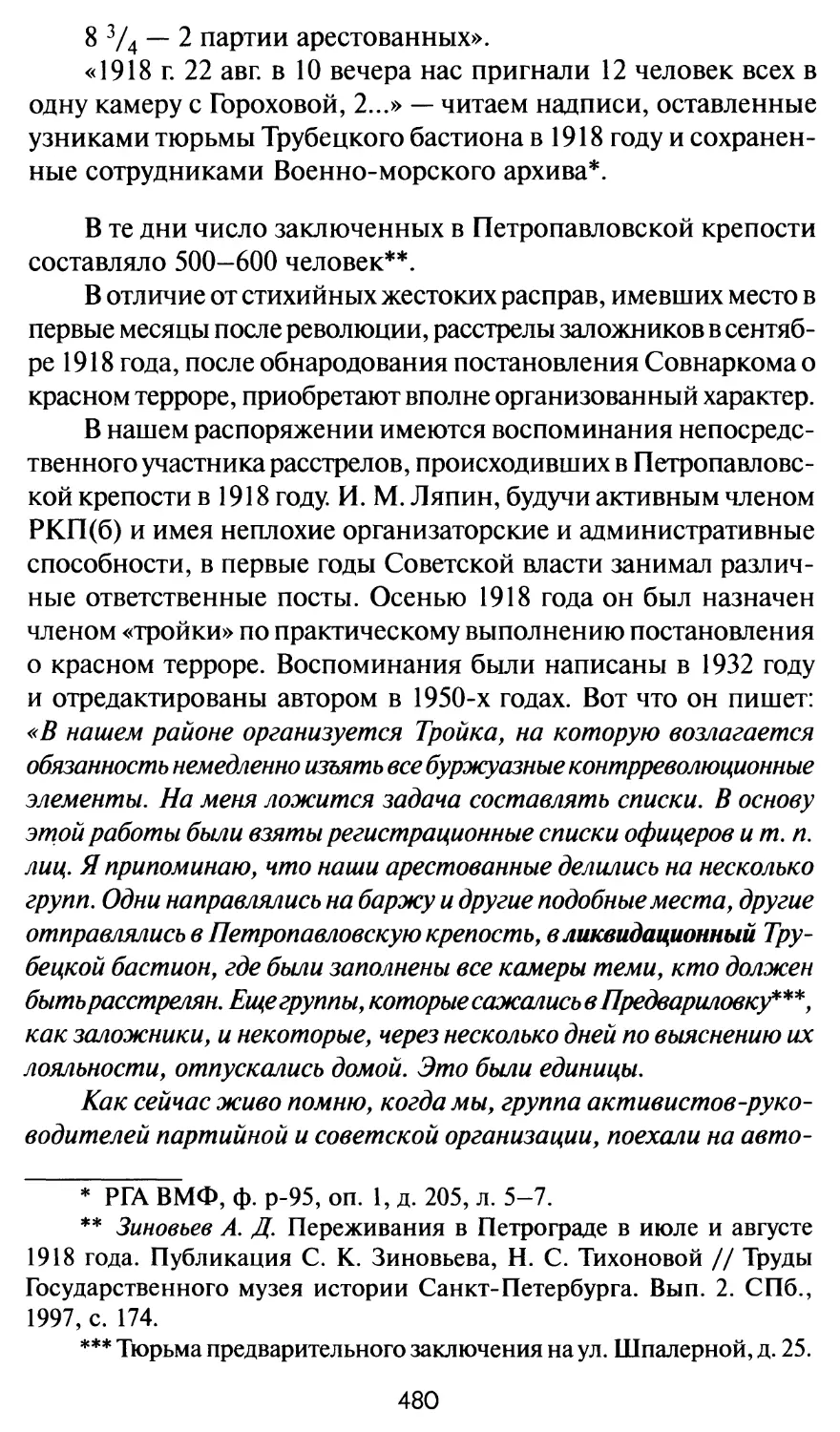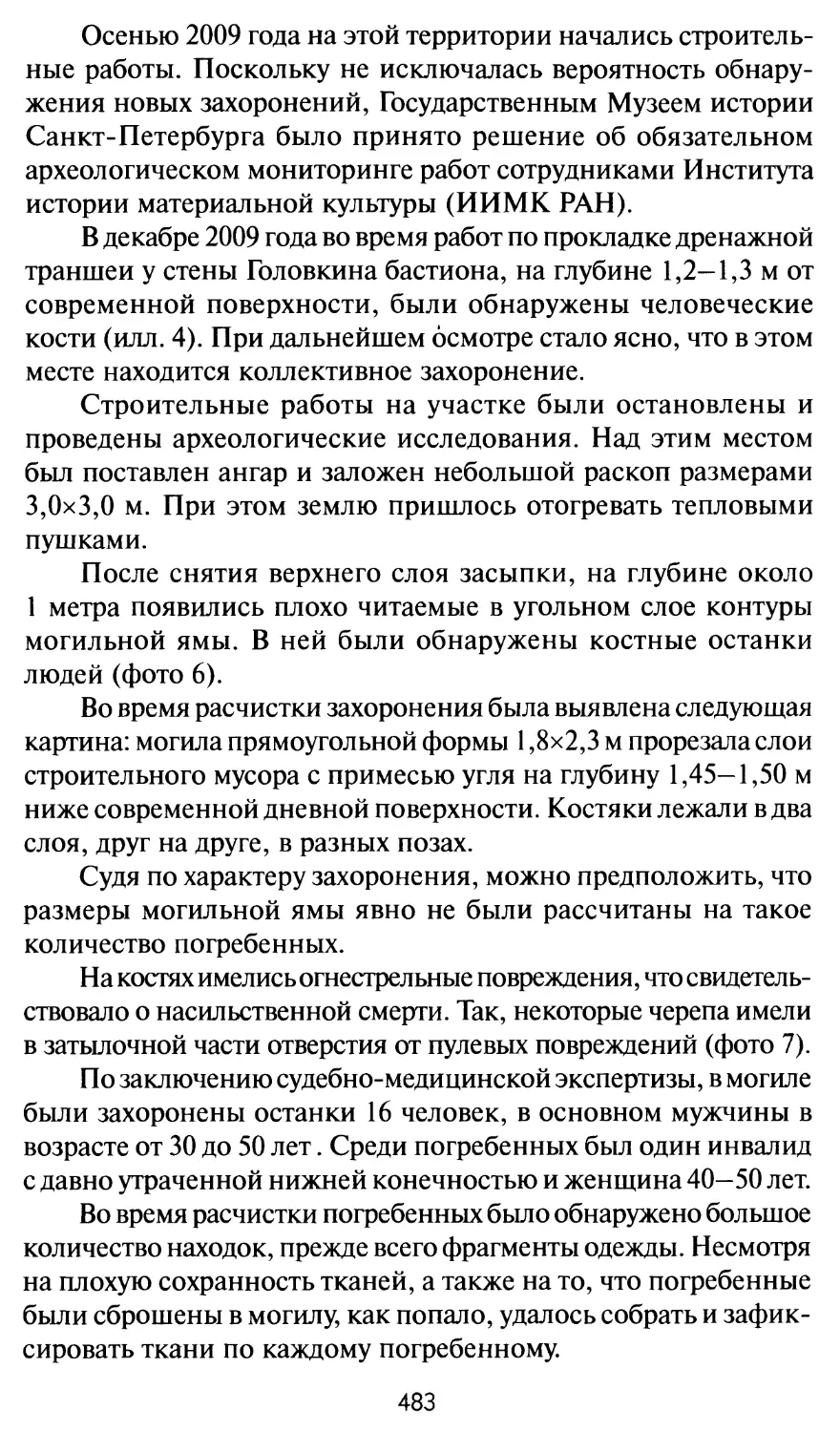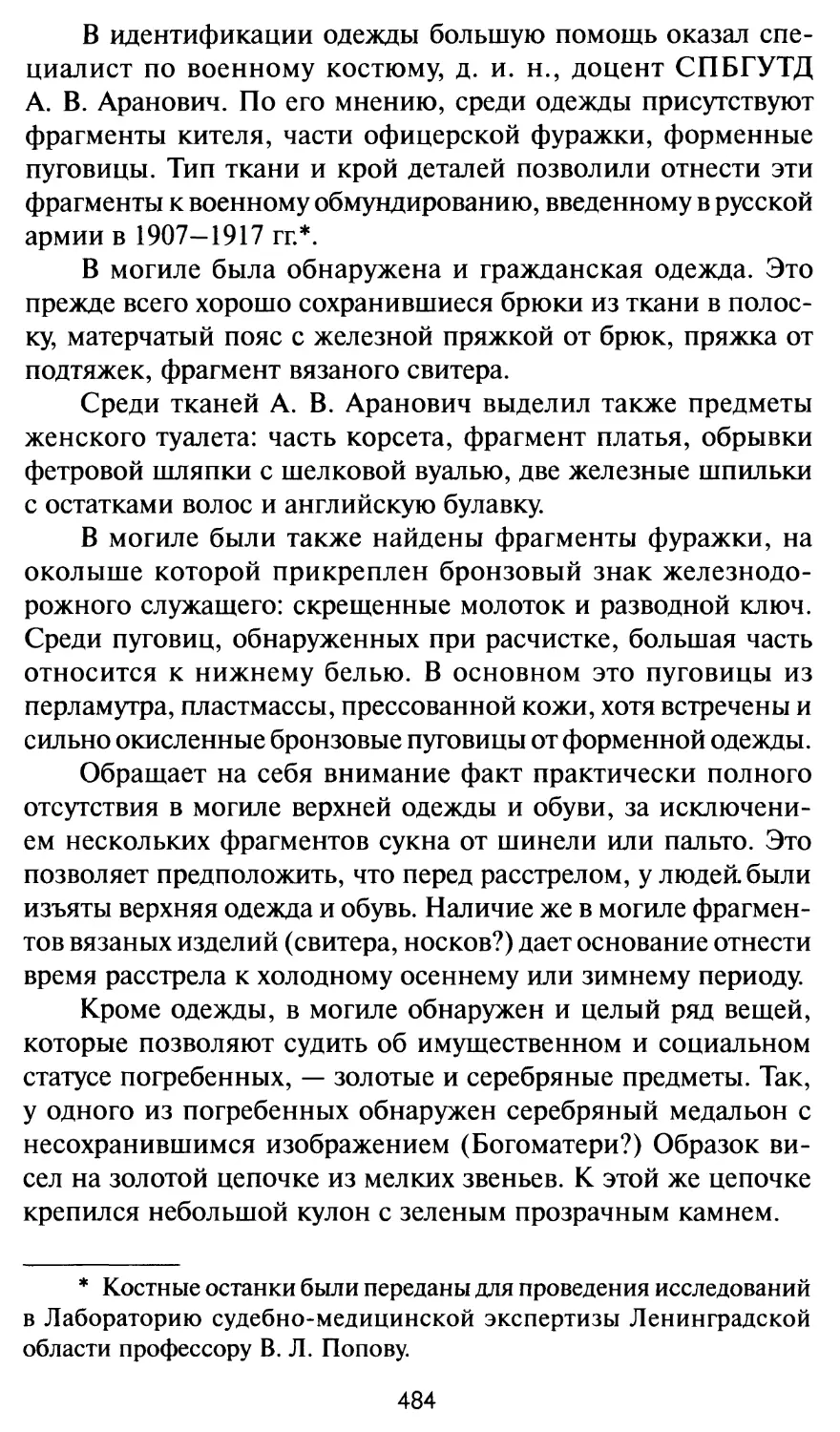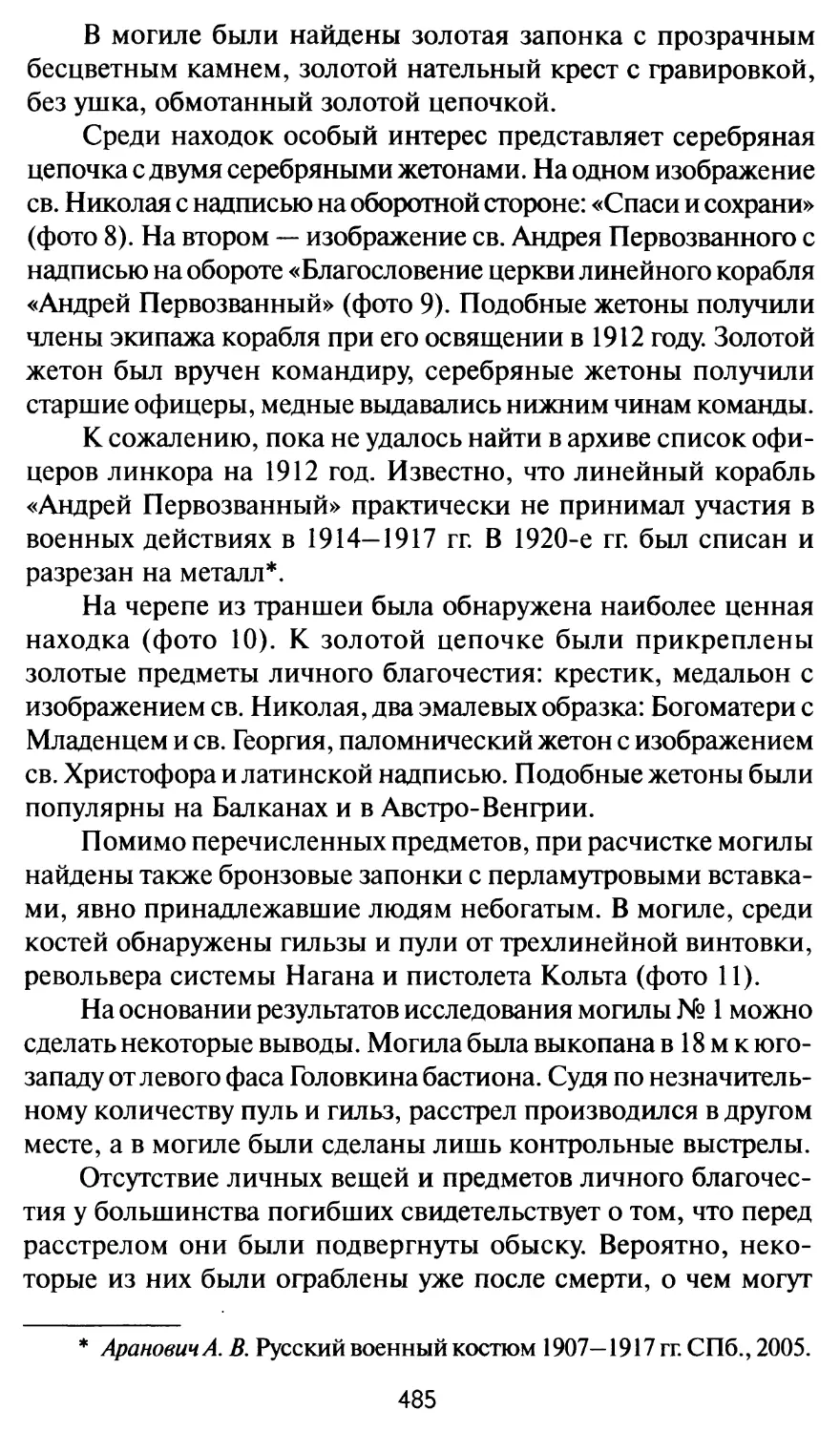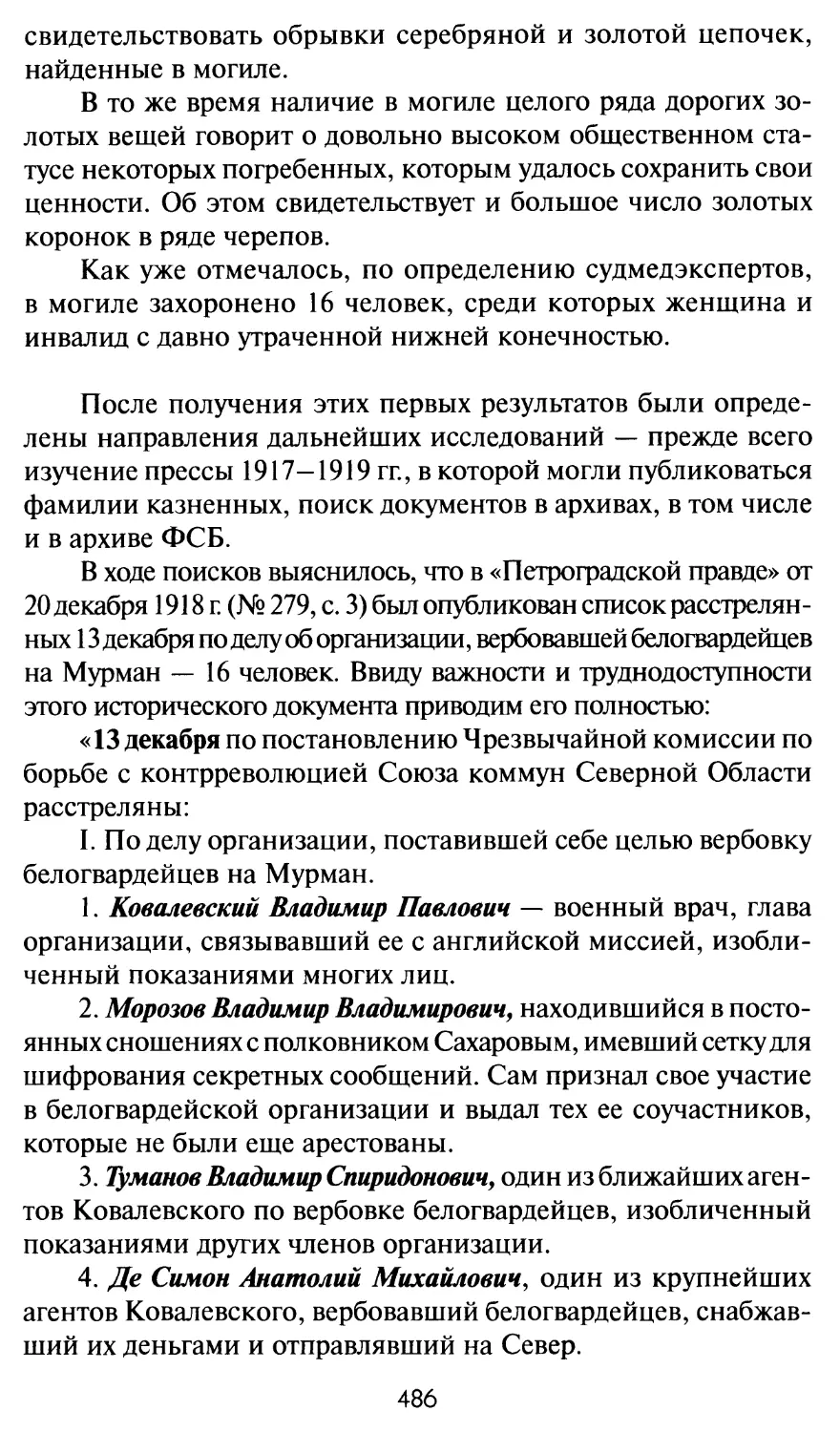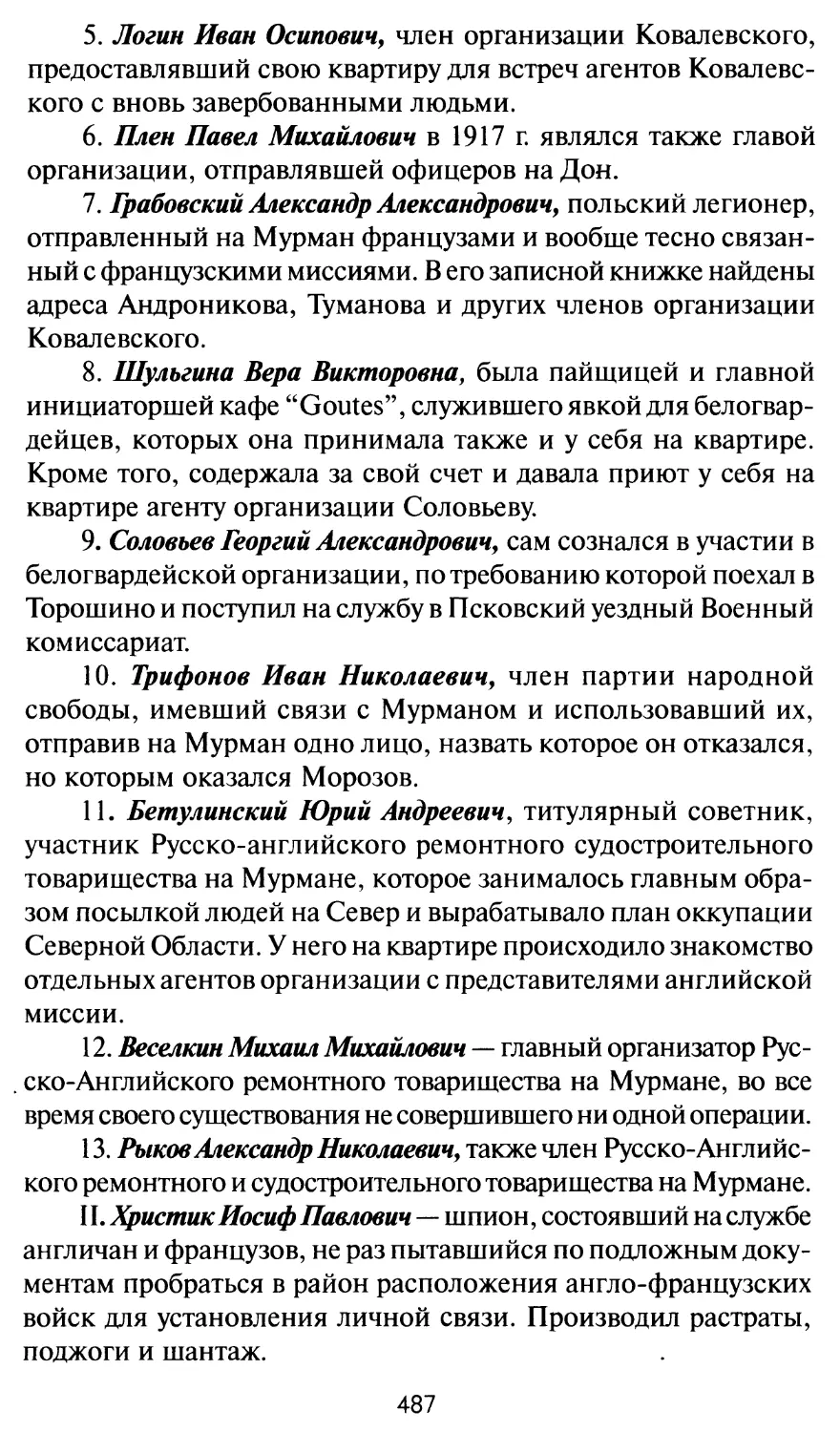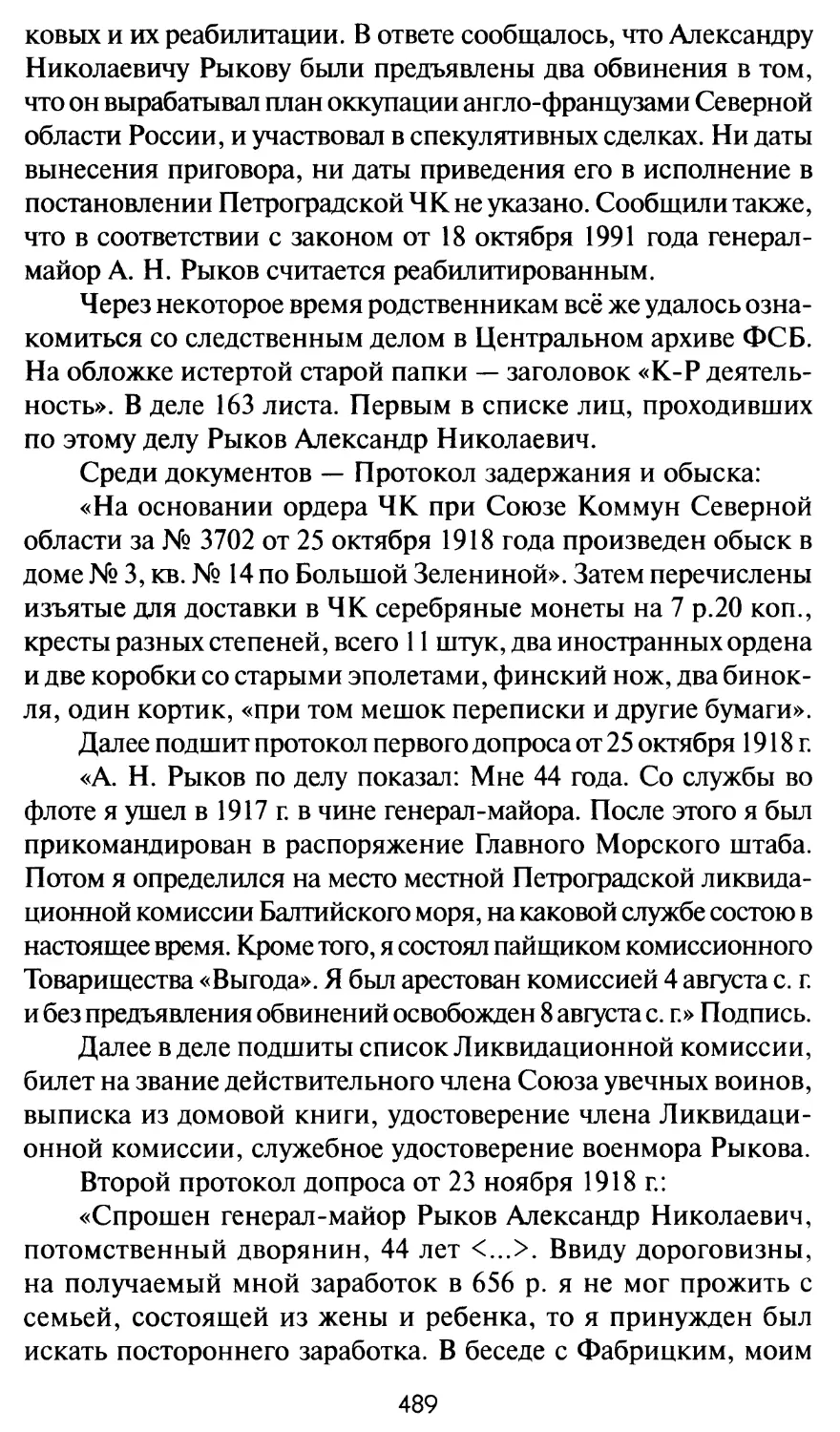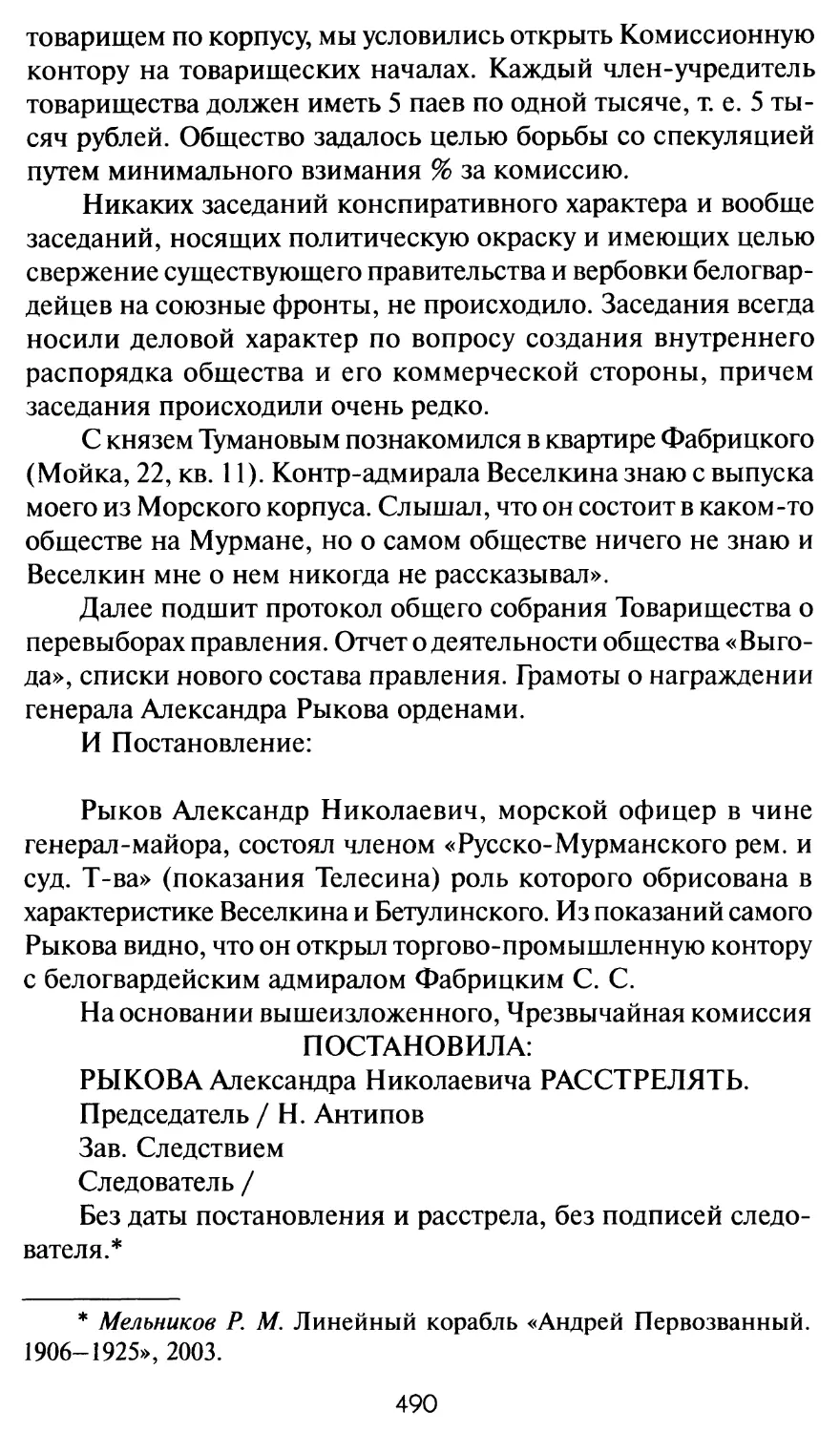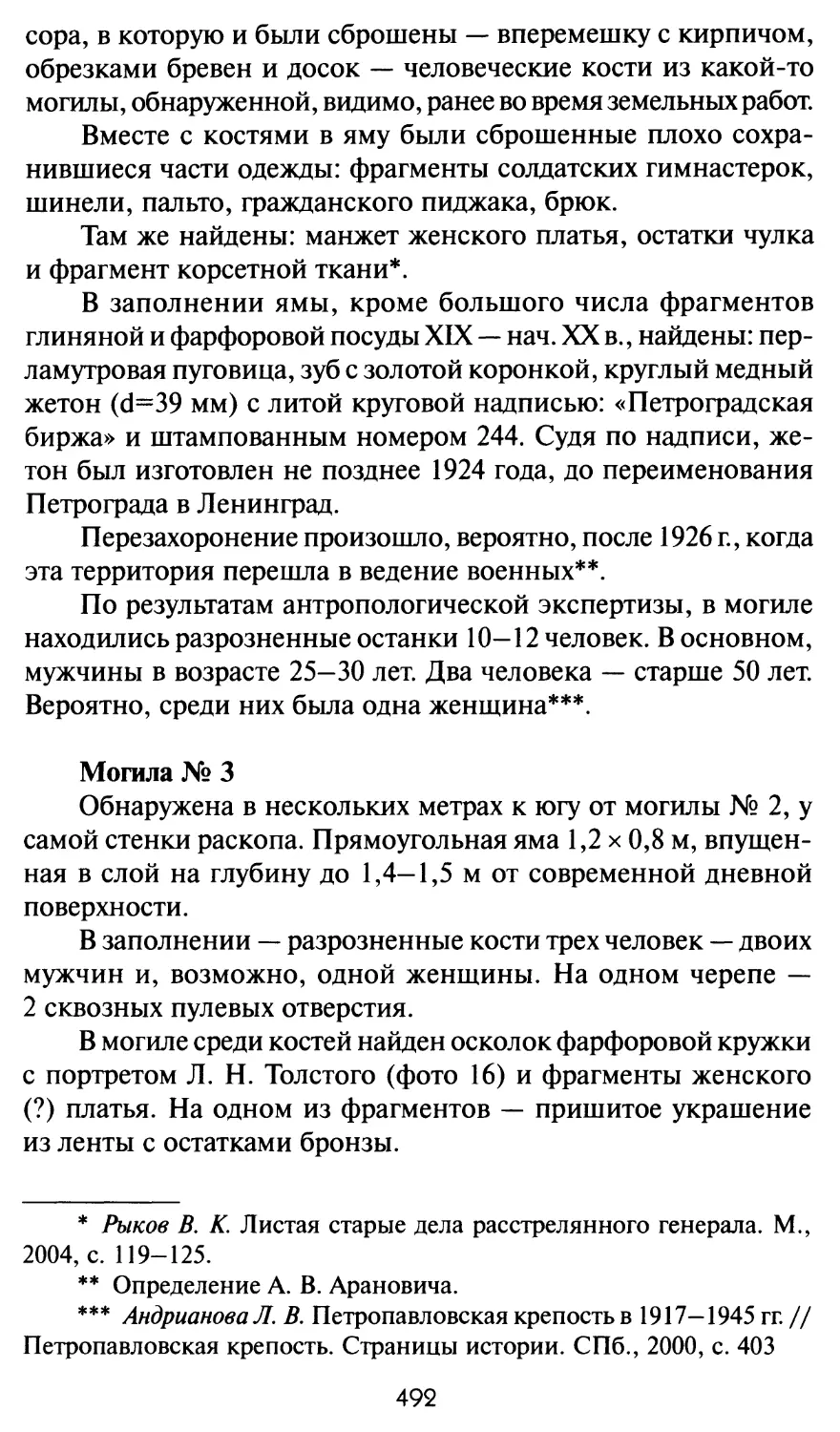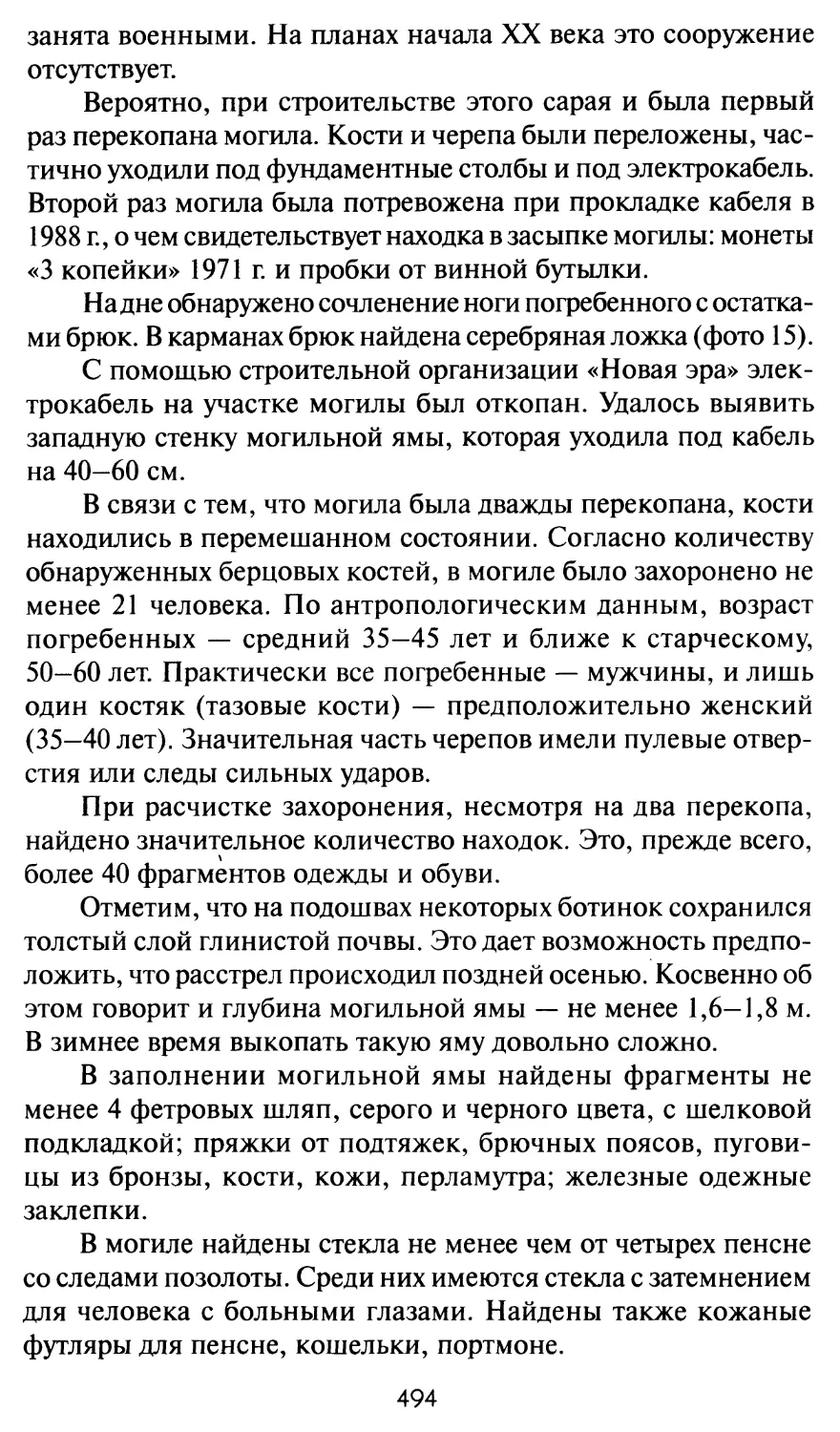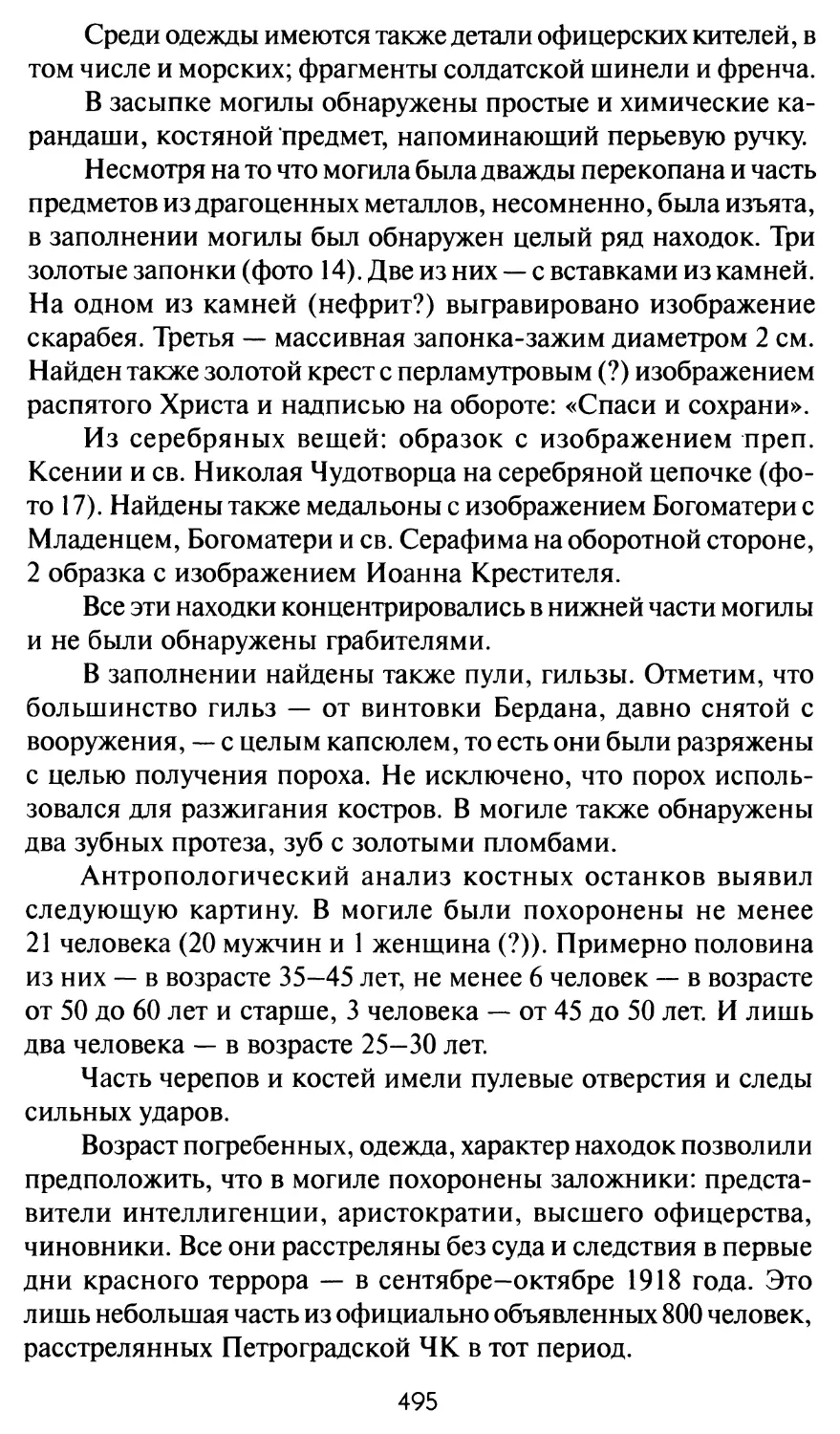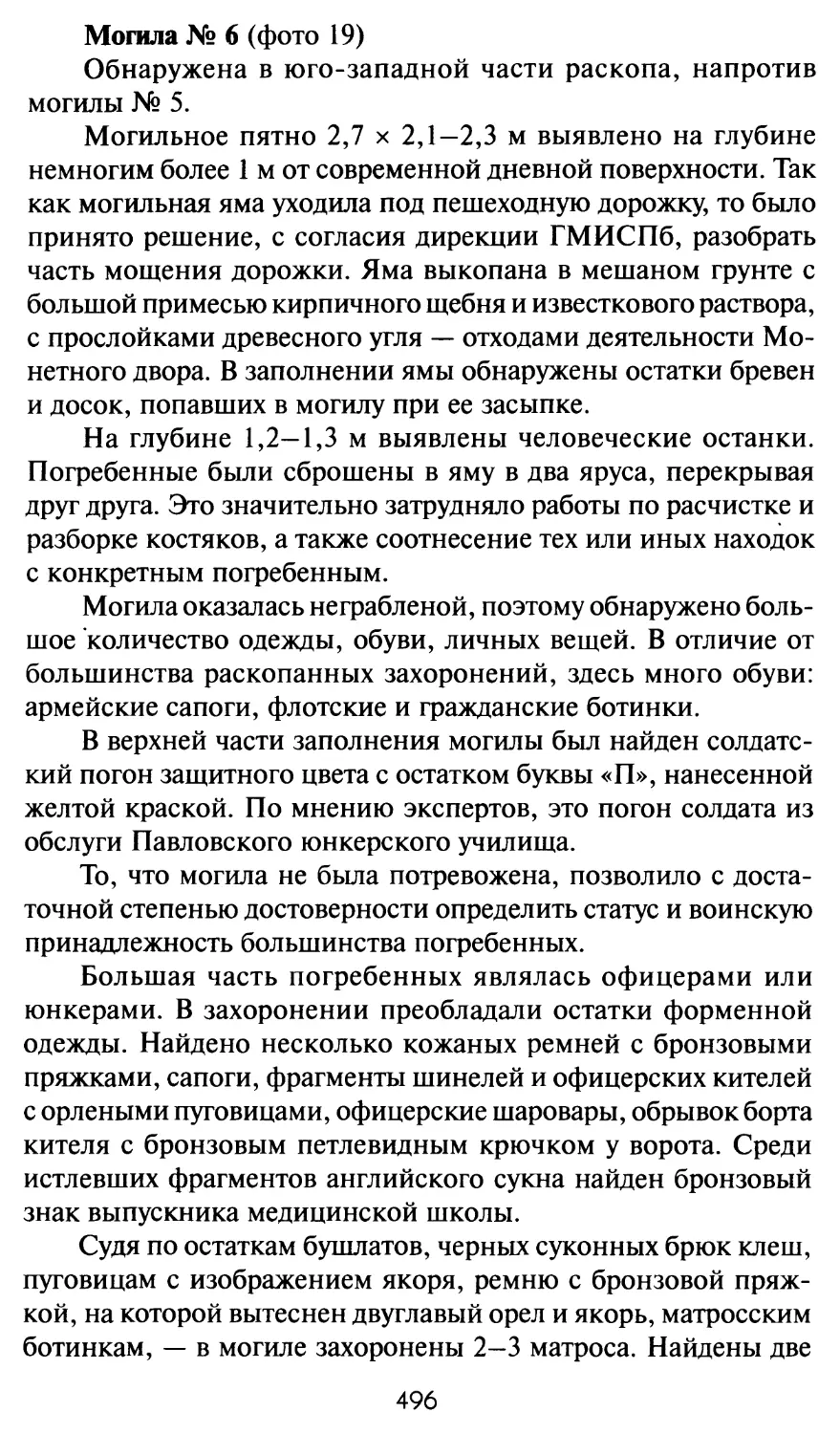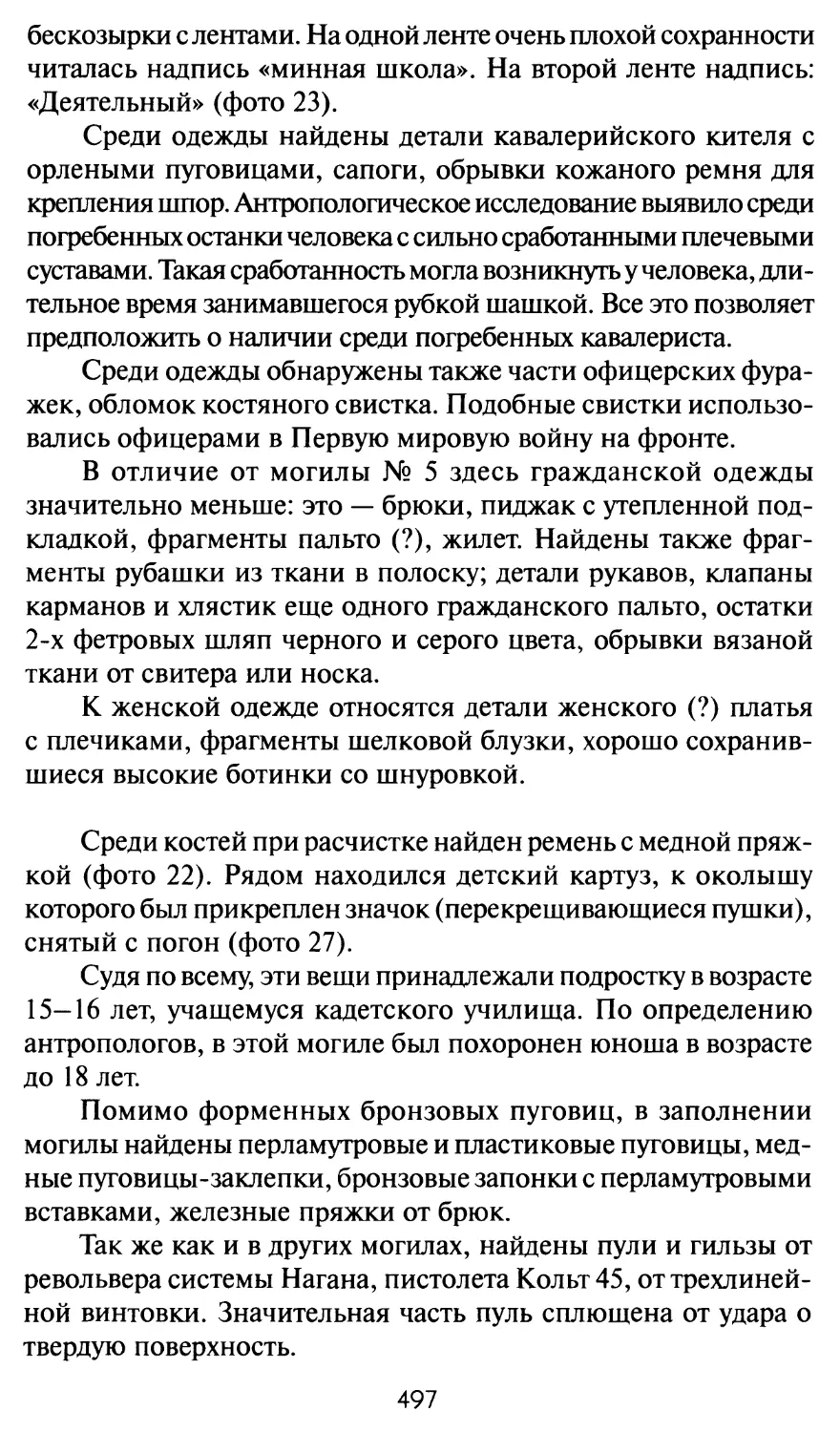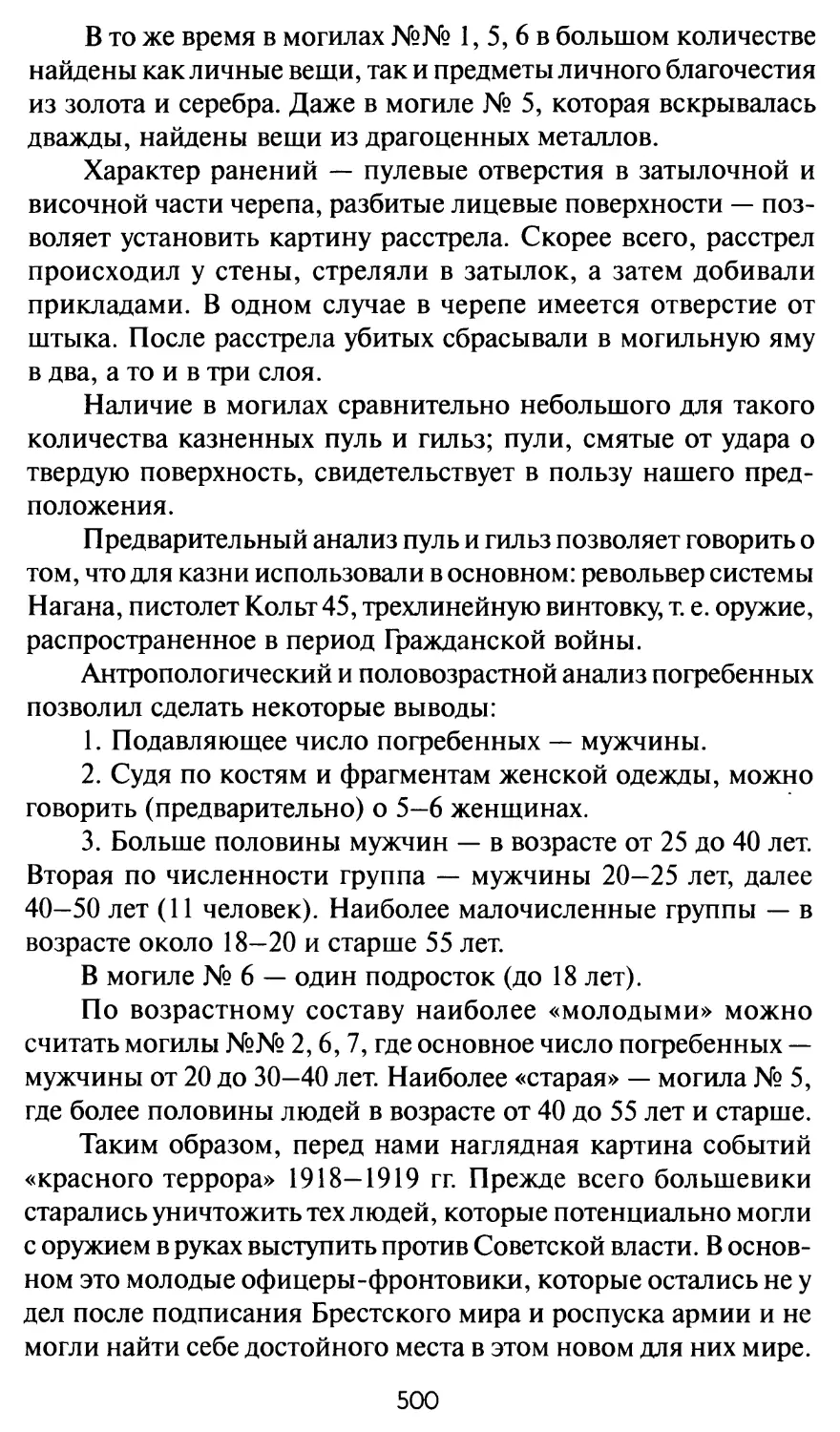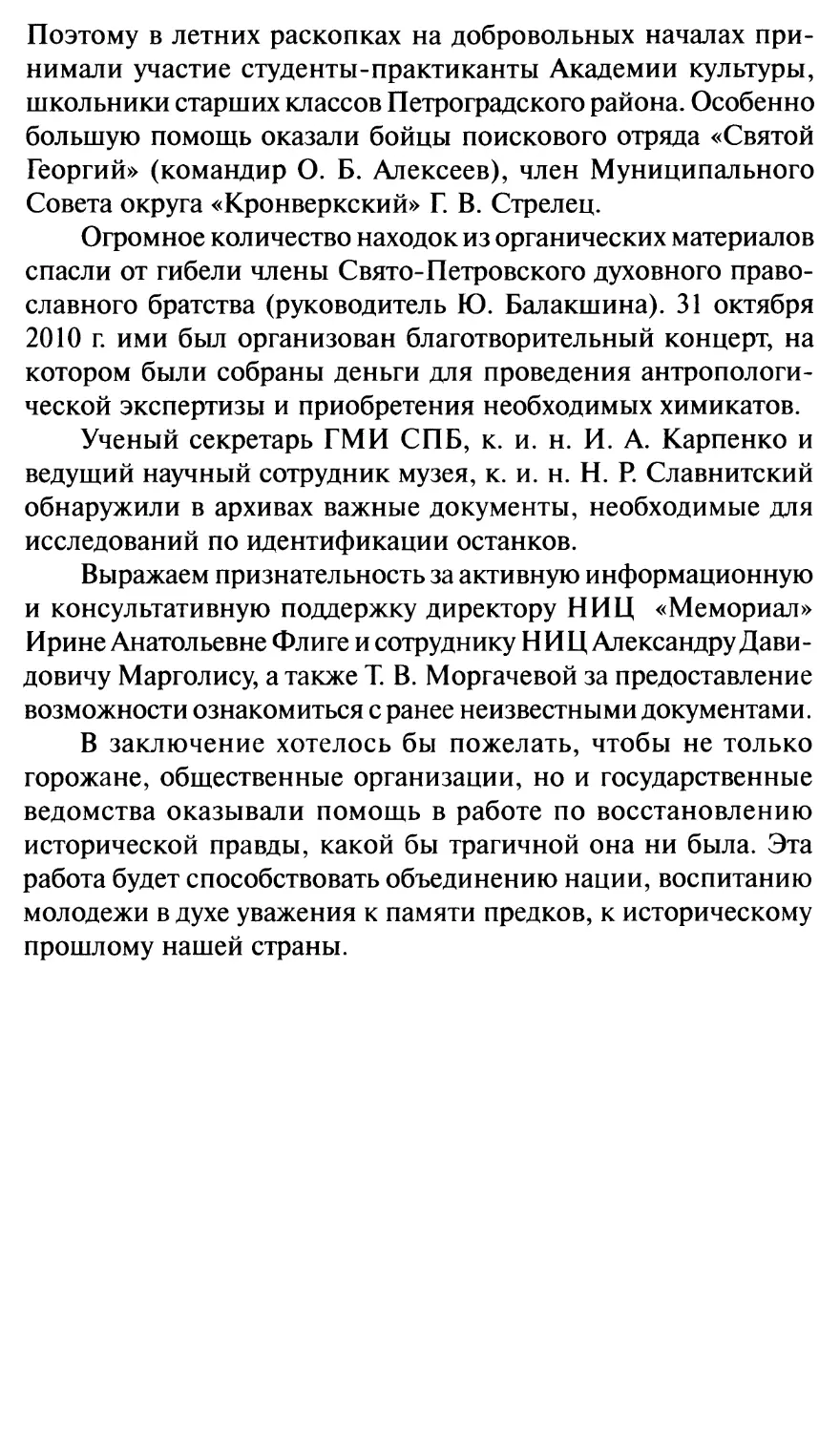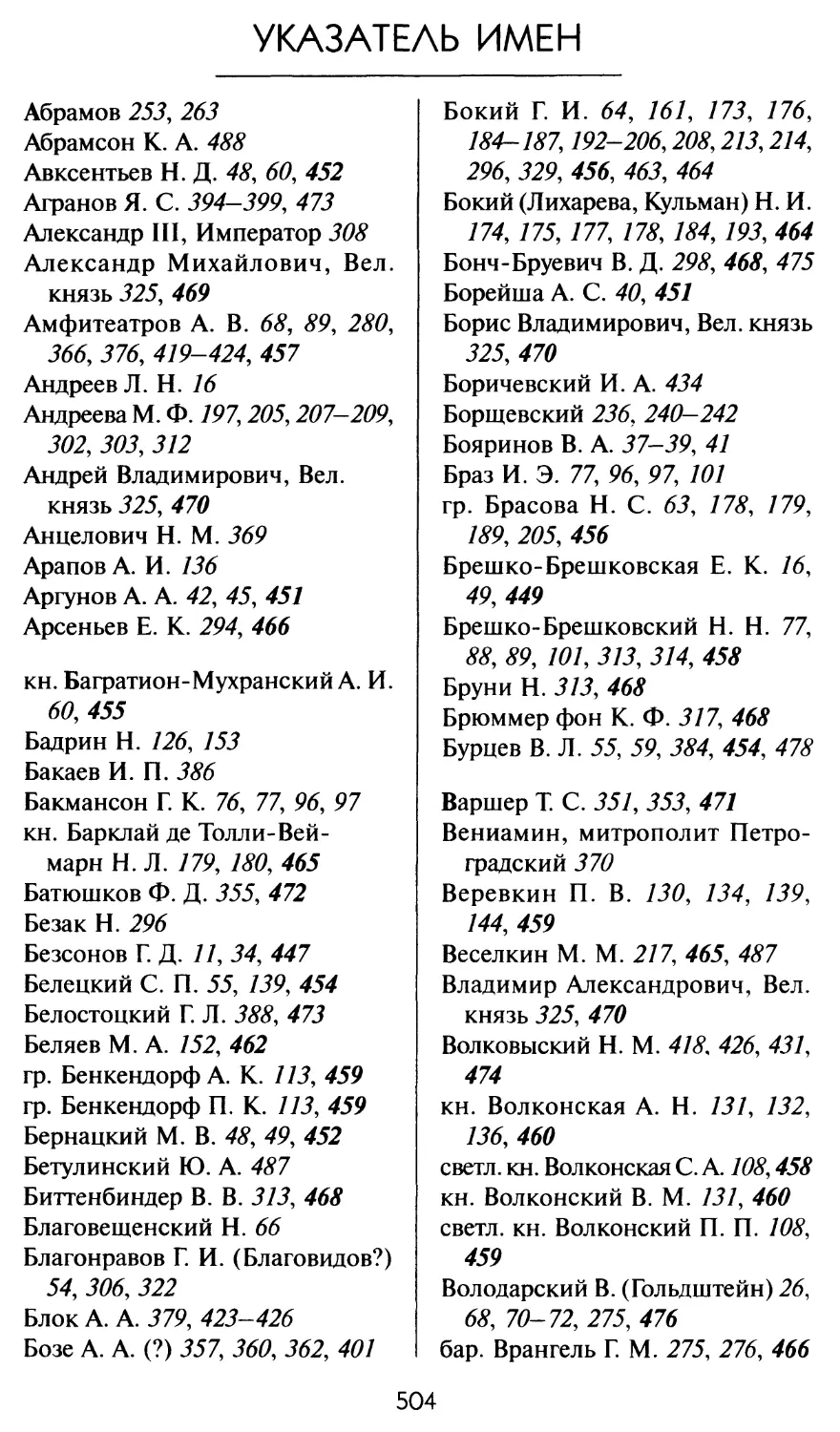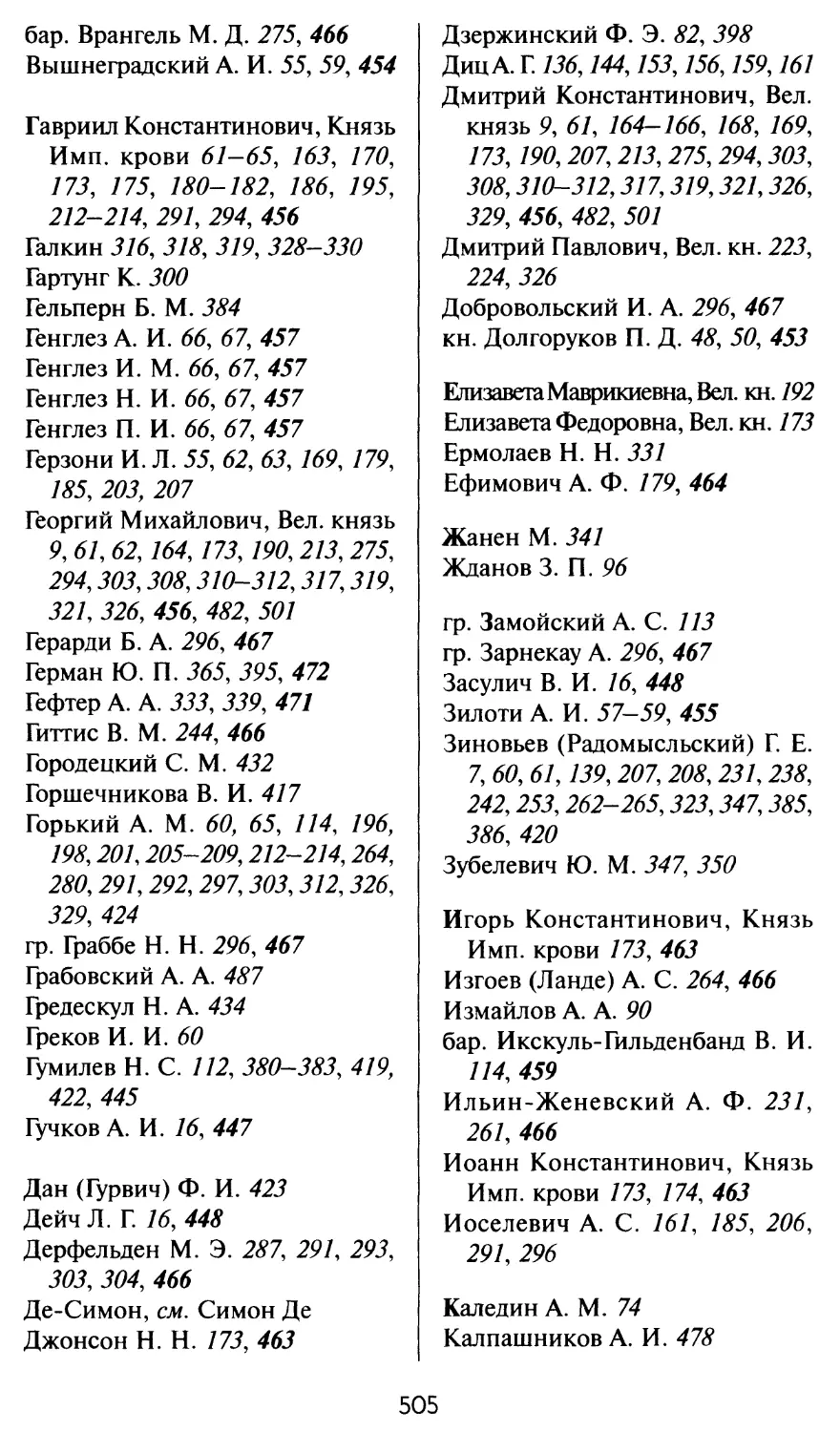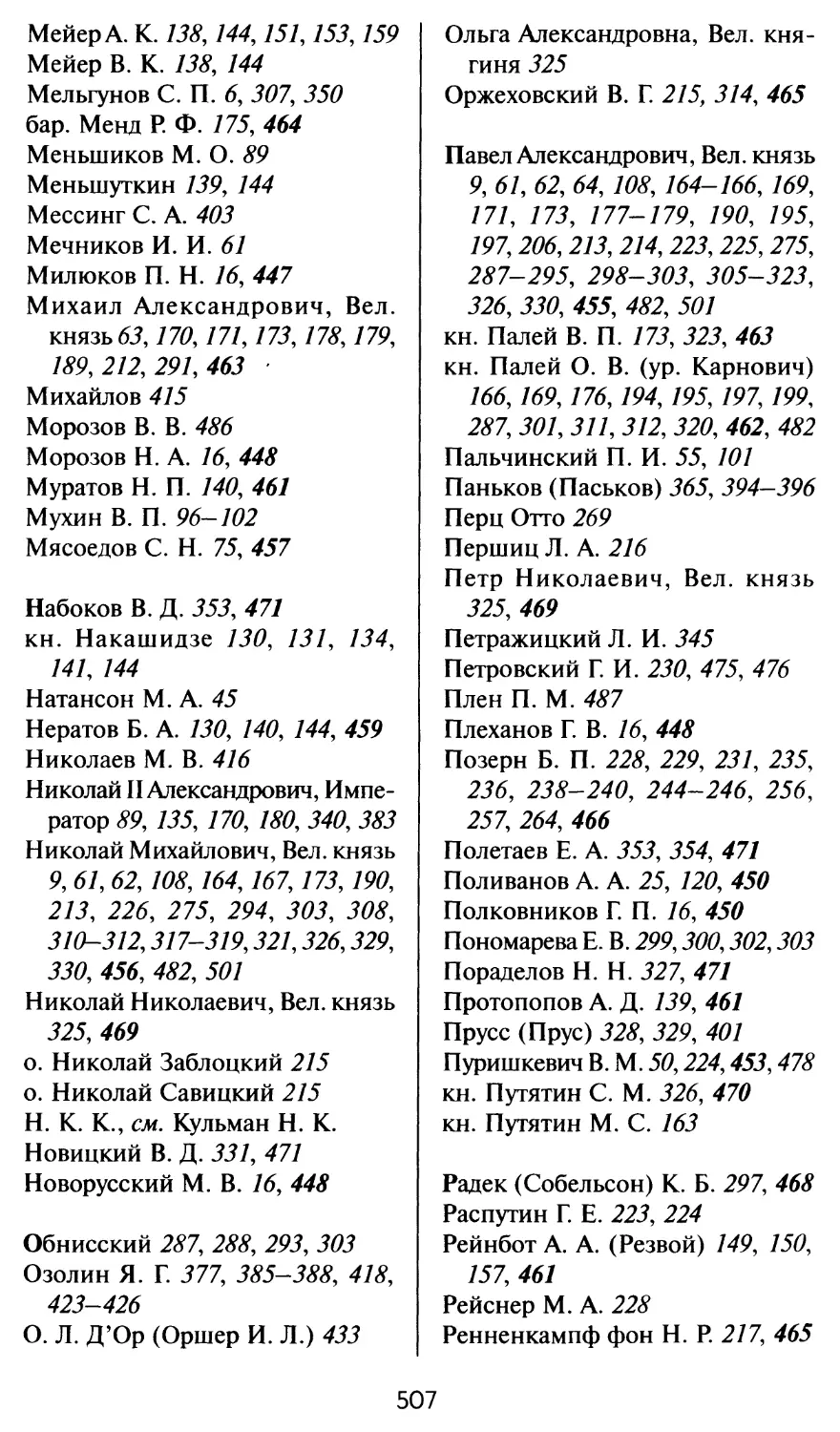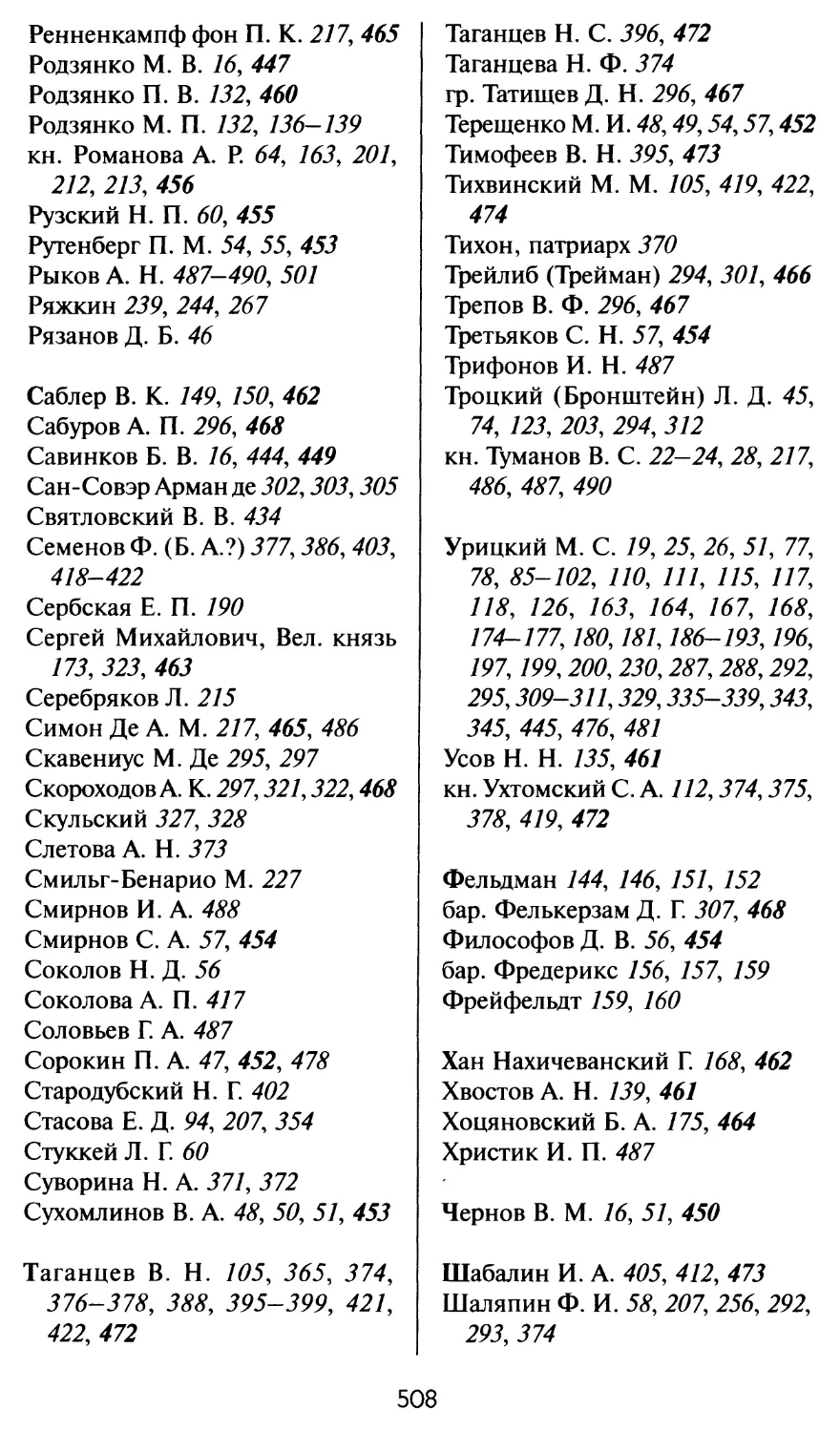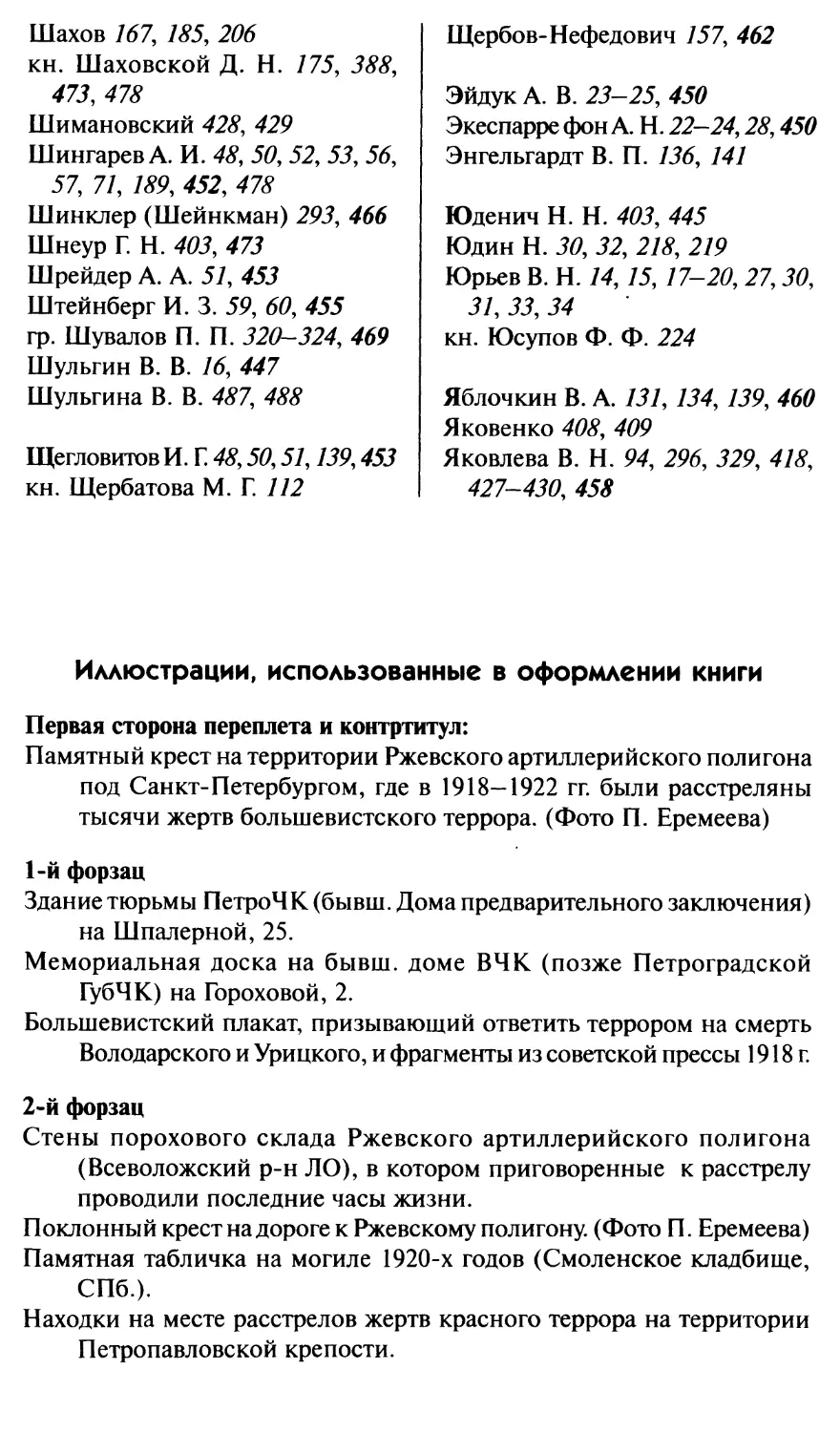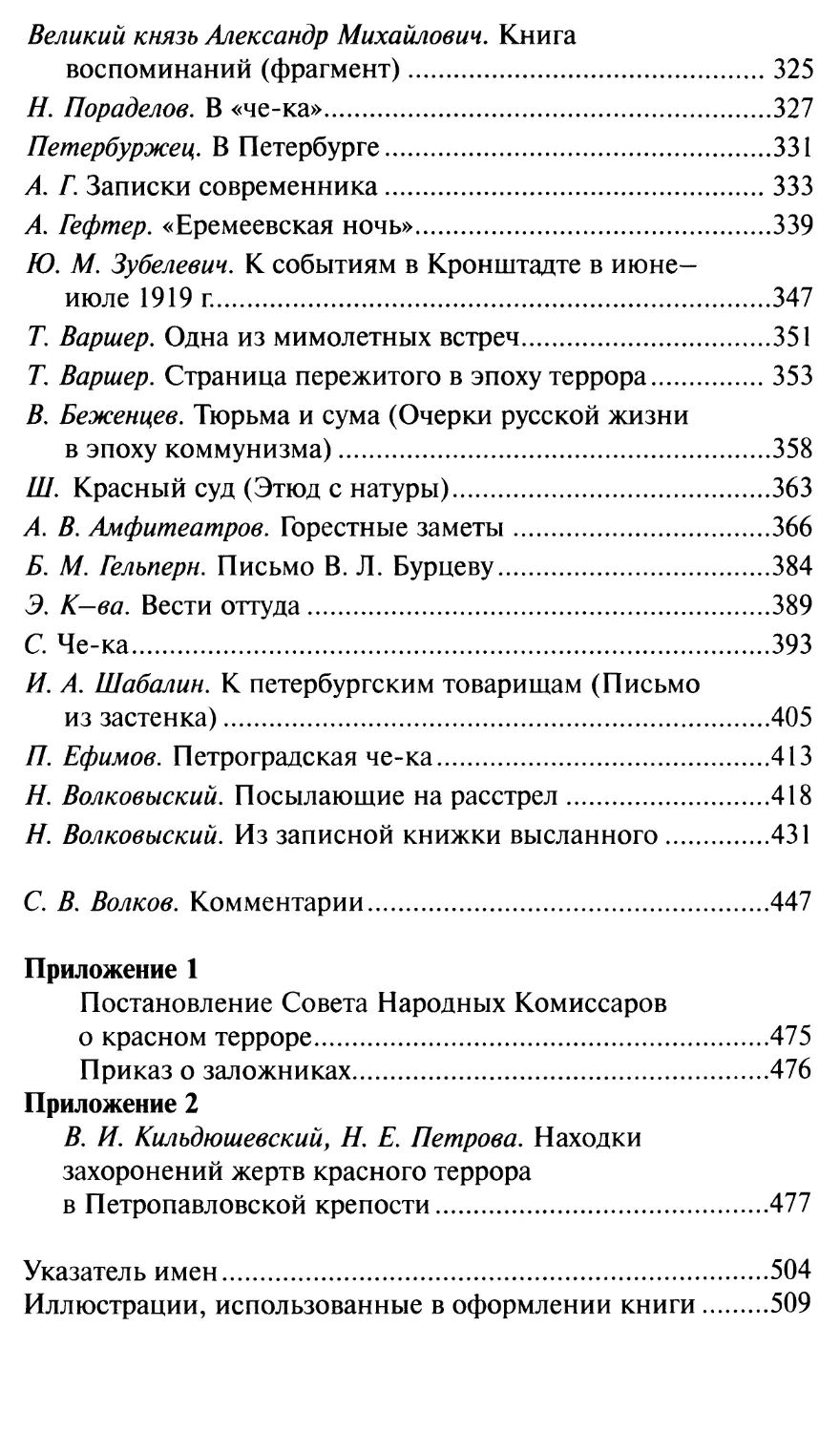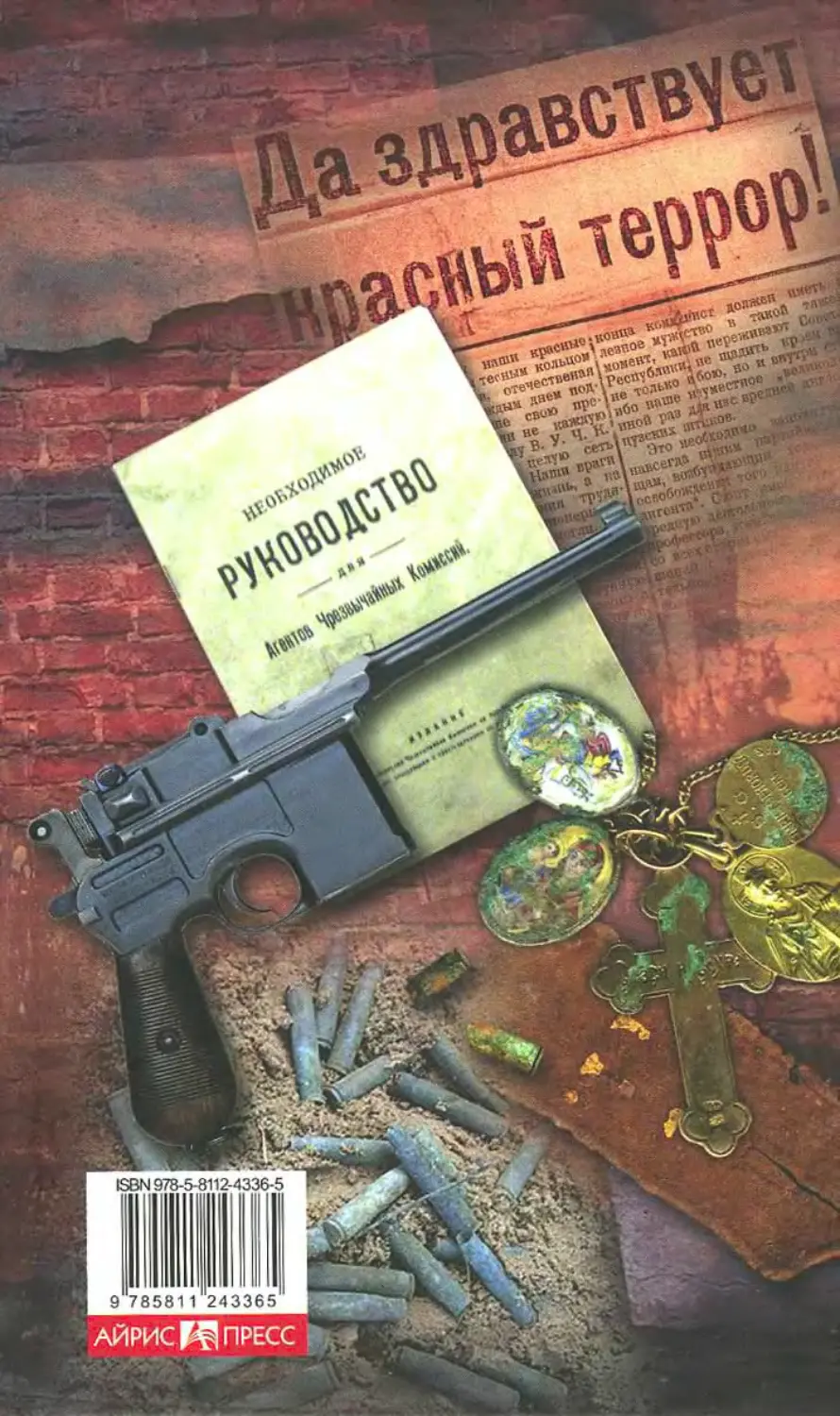Автор: Волков С.В.
Теги: всеобщая история построение социализма в ссср (1917-1938 гг) — снг политические репрессии культ личности победа пролетарской революции 1917 история
ISBN: 978-5-8112-4336-5
Год: 2011
Текст
Памятный крест на территории Ржевского артиллерийского
полигона под Санкт-Петербургом —месте массовых расстрелов
во время красного террора
КРАСНЫЙ
ТЕРРОР
В ПЕТРОГРАДЕ
МОСКВА
АЙРИС £§ ПРЕСС
2011
УДК 94(47)
ББК 63.3(2)61
К78
Книги серии «Белая Россия» удостоены
премии РГБ «Лучшие книги и издательства года — 2008»
(в номинации «Возвращенные книги»)
и диплома 3-й степени V открытого конкурса изданий
«Просвещение через книгу — 2010»
(в номинации «Лучшая историческая книга»)
Составление, предисловие и комментарии
д. и. н. СВ. Волкова
Оформление А. М. Драгового
Красный террор в Петрограде / составл., предисл.,
К78 комментарии д. и. н. С. В. Волкова. — М: Айрис-пресс,
2011. —512 с: ил. + вклейка 16 с. — (Белая Россия).
ISBN 978-5-8112-4336-5
В сборник включены свидетельства очевидцев красного террора
1918—1922 гг. в Петрограде и родственников тех, кто погибли в
результате репрессий большевиков против классово чуждых им лиц.
Эти воспоминания выходили в разные годы в эмигрантской печати,
некоторые сохранились в фонде историка С. П. Мельгунова в Архиве
Гуверовского института войны, революции и мира (Пало-Алто, США).
Значительная часть воспоминаний посвящена трагической судьбе
четверых Великих князей Романовых (Павла Александровича, Николая и
Георгия Михайловичей и Дмитрия Константиновича), расстрелянных
в Петропавловской крепости в январе 1919 г. Большинство материалов
публикуется в России впервые.
Сборник воспоминаний дополняет статья современных
исследователей о результатах поисковых работ и обнаружении останков
жертв красного террора на территории Петропавловской крепости в
Санкт-Петербурге.
ББК 63.3(2)61
УДК 94(47)
© Оформление, составление,
предисловие, комментарии. ООО «Издательство
«АЙРИС-пресс»,2011
© Кильдюшевский В. И., Петрова Н. Е.,
ISBN 978-5-8112-4336-5 статья, фотографии, 2011
Издательство выражает искреннюю признательность:
сотрудникам архива и библиотеки
Гуверовского института войны, революции и мира
при Стэндфордском университете (США)
и лично К. Леденхэм;
членам Правления Музея русской культуры в Сан-Франциско
и лично к. и. н. М. К. Меняйленко —
за помощь в работе с архивными материалами
и периодическими изданиями Русского Зарубежья;
Л. Ю. Тремсиной —
за помощь в подборе материалов для книги;
Е. Г. Колосович —
за осуществление перевода с французского языка
фрагментов воспоминаний кн. О. В. Палей;
научному сотруднику Института истории материальной
культуры РАН В. И. Кильдюшевскому
и научному сотруднику Государственного Музея истории
Санкт-Петербурга Н. Е. Петровой —
за предоставление для публикации статьи и фотоматериалов
о раскопках останков жертв красного террора
в Петропавловской крепости;
авторам фотографий О. Б. Алексееву, С. Н. Цупикову,
Н. А. Боковенко, С. В. Александрову, Д. Р. Маслякову;
П. А. Еремееву —
за предоставление фотографий мемориальных объектов
Ржевского полигона,
а также
О. Г. Новиковой, к. и. н. К. М. Александрову,
Н. В. Родину, О. А. Шевцову —
за информационную поддержку и помощь
в подготовке фотоматериалов
для настоящего издания
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание служит продолжением ранее
выпущенных издательством сборников «Красный террор глазами
очевидцев» и «Красный террор в Москве». В этой книге
собраны свидетельства и воспоминания о том, как осуществлялся
«красный террор» в Петрограде. Большая часть материалов
была опубликована в периодике Русского зарубежья, некоторые
свидетельства сохранились в фонде историка С. П. Мелыунова
в архиве Гуверовского института войны, революции и мира при
Стенфордском университете (США).
Воспоминания, помещенные в сборнике, принадлежат
перу лиц, которым довелось прочувствовать на собственном
опыте карательные методы большевиков, либо тех, чьих близких
постигла эта участь. В основном они описывают обстановку
в местах заключения, практику арестов, некоторым авторам
приходилось наблюдать приготовления к расстрелам или
слышать о них непосредственно из уст палачей.
Петрограду и расположенному рядом Кронштадту
суждено было вписать в историю «красного террора» особенные
страницы. Именно здесь еще в ходе Февральской революции
прежде всего начались массовые убийства представителей власти
и офицеров (в первые дни марта 1917 г. здесь было убито более
100 офицеров), а после большевистского переворота в октябре
последовали новые сотни жертв. В первое время после захвата
власти большевиками террор осуществлялся довольно
хаотично: отдельных представителей «буржуазии» арестовывали и по
распоряжениям органов власти, и самочинно — по подозрению
в «контрреволюции», и часто убивали еще по пути в места
заключения. Первое время основным местом сосредоточения
арестованных была Петропавловская крепость. Здесь же, за
стеной, обращенной к Кронверку, производились и расстрелы
(первые месяцы за город осужденных обычно не возили).
Со времени официального объявления «красного террора»
в начале сентября 1918 г. *(фактически начавшегося еще в конце
августа) Петроград и Кронштадт заметно выделяются по числу
* Тексты Постановления Совета народных комиссаров о красном
терроре и Приказа о заложниках приводятся в приложении к этой книге.
6
его жертв. Конечно, отдельные города и местности и раньше
(например, Крым и особенно Севастополь в начале 1918 г., Киев
в январе 1918 г. и летом 1919 г., Дон и Кубань весной 1918 г.)
и позже давали единовременно и большее число расстрелянных,
но это в основном были места, где непосредственно или рядом
велись военные действия, и террор здесь был обычно
следствием захвата этих мест большевистскими войсками. Среди же
крупных городов, которые изначально находились под властью
большевиков, Петроград по размаху репрессий, по-видимому,
стоит на первом месте.
Показательна в этом отношении позиция Ленина, который
еще за два месяца до официального объявления красного
террора писал (в письме Зиновьеву от 26 июня 1918 г.), что «надо
поощрять энергию и массовидность террора против
контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример которого решает»*.
Масштабы репрессий в Петрограде не в последнюю очередь
объясняются тем, что именно здесь было сосредоточено больше
всего «подрасстрельного» контингента. Столица империи и ее
окрестности в значительной мере были населены чиновниками
государственного аппарата, представителями придворных
кругов, офицерами. Здесь находились все центральные
правительственные учреждения, многочисленные высшие и средние
учебные заведения, стояли полки гвардии и 37-й пехотной дивизии,
располагался Штаб войск гвардии и Петроградского военного
округа, находились иные военные учреждения, было
сосредоточено больше всего военно-учебных заведений (4 кадетских
корпуса, 8 военных училищ, 7 академий, а также 7 созданных
в годы Первой мировой войны школ прапорщиков); Кронштадт
был одной из главных баз Флота, здесь жило множество семей
морских офицеров и чиновников. В Петрограде же оседало
и много отставных офицеров и чиновников с семьями, так что
численность населения того круга, из которого большевики
имели обыкновение в первую очередь брать «заложников»,
составляла здесь более 100 тыс. человек. Даже полтора десятилетия
спустя (накануне выселения из Ленинграда «социально опасных
элементов» после убийства Кирова) — в результате всех потерь
от террора, эмиграции, голода и болезней — лиц этой категории
насчитывалось 10,5 тыс. человек (в том числе 941 член семей
* Ленин В. И. ПСС. Т. 50, с. 106.
7
расстрелянных, 2360 дворян, 1545 офицеров и чиновников,
5044 бывших купцов, домовладельцев и предпринимателей,
620 бывших чинов полиции).
Неудивительно, что как только в начале сентября 1918 г.
началась кампания террора на «официальной» основе, то, если
в большинстве губернских и уездных городов было в первые
дни единовременно расстреляно по нескольку десятков
человек, в Петрограде и окрестностях — сразу несколько сотен.
Число уничтоженных в эти дни по отдельным источникам
разнится, но составляет около тысячи человек (в официальном
сообщении говорилось о расстреле в Петрограде 2 сентября
512 человек, по другим данным их было 813 или 900), кроме
того, около 400 было убито в Кронштадте, известно также,
что в последние дни августа несколько сот офицеров было
потоплено на барже в Финском заливе. Имена этих жертв не
публиковались, но 6—7 сентября были опубликованы еще два
списка «заложников» по нескольку сот человек (в первом, из
476 человек, — 434 были офицерами, во втором также в
основном присутствовали офицеры). В последующие несколько
месяцев и этих, и вновь взятых «заложников» продолжали
расстреливать (часть имен, но не большинство, публиковалась
в печати). В материалах сборника упоминания об этих
расстрелах встречаются постоянно. Летом 1919 г. число единовременно
содержавшихся в местах заключения в Петрограде составляло
несколько тысяч человек. Основными местами заключения
в Петрограде — помимо Петропавловской крепости, «Крестов»
и пересыльной тюрьмы (Дома предварительного заключения)
на Шпалерной 25, — стали арестные помещения на
Гороховой, 2 (где находилась Петроградская губернская ЧК),
превращенные в тюрьму Дерябинские казармы на Васильевском
острове, а также тюремный госпиталь на острове Голодай. Для
содержания арестованных использовались также подвальные
помещения Смольного института и подвалы некоторых других
зданий. В 1919 г. в Петрограде были также открыты 4
концентрационных лагеря: в Чесменской богадельне, на Арсенальной
и Сампсониевской набережных и на станции Разлив.
В течение 1919г., помимо «рутинных», неоднократно
предпринимались массовые аресты по различным поводам — по
случаю раскрытия (или фабрикации) какого-либо «заговора»
(например, 5 июня 1919 г. было арестовано 159 чиновников,
8
6 сентября — около 200 профессоров и преподавателей по
спискам от кадетской партии на выборах в городскую думу
летом 1917 г., более 300 человек было арестовано 25 ноября
и т. д.), причем арестованных в этих случаях обычно отправляли
в Москву. Внезапные аресты больших групп производились
и позже (так, 22 августа 1921 г. было арестовано 300—350 лиц
комсостава Балтфлота, часть которых разослана по
провинциальным тюрьмам). В первой половине 1920-х годов в
Петрограде-Ленинграде был инициирован ряд дел, по каждому из
которых расстреливались десятки людей. Таковы, в частности,
дело «Петроградской боевой организации», или «Таганцевское
дело» 1921 г. (которому посвящены некоторые материалы
настоящего сборника), дело «Контрреволюционной монархической
организации» ноября 1923 — марта 1924 г., «Дело лицеистов»
апреля 1925 г. и т. д.
Заметное место в сборнике занимают материалы,
посвященные участи четырех Великих князей, смерть которых
привлекла большое внимание в эмиграции. Следом за Алапаевеком
и Екатеринбургом Петроград стал местом расправы с членами
Императорского Дома. Здесь в начале 1919 г. были расстреляны
брат императора Александра III генерал от кавалерии Павел
Александрович и внуки императора Николая I — генерал от
кавалерии Дмитрий Константинович, генерал от инфантерии,
выдающийся историк Николай Михайлович и
генерал-лейтенант, известный нумизмат Георгий Михайлович. В марте 1918 г.
трое из них (кроме Павла Александровича) были высланы в
Вологду, но уже в июле возвращены в Петроград и в январе 1919 г.
все четверо расстреляны в Петропавловской крепости (их судьба
подробно исследована в книге А. В. Быкова «Путь на Голгофу.
Хроника гибели великих князей Романовых». Вологда, 2000).
Авторы представленных в сборнике материалов
принадлежали к разным кругам российского общества. Среди них есть
и представители аристократии, и рядовые офицеры,
интеллигенты, журналисты. Некоторые из них — люди весьма левых
взглядов, социалисты или причастные в прошлом к
революционной или антиправительственной деятельности. Поскольку
большинство их свидетельств публиковалось в эмигрантской
прессе «по горячим следам» событий, имена ряда авторов,
имевших родственников на советской территории, скрыты под
псевдонимами.
9
Трагические события в Петрограде, описанные в мемуарах,
нашли неожиданное подтверждение в наши дни. В 2007 г. при
проведении строительных работ у северной стены
Петропавловской крепости было обнаружено массовое захоронение.
На этом месте сотрудниками Государственного музея истории
Санкт-Петербурга были проведены раскопки и
обнаружены материальные свидетельства, позволившие датировать
захоронение послереволюционными годами. В приложение
к сборнику включена статья о первых результатах проведенной
работы, написанная научным сотрудником Института истории
материальной культуры РАН В. И. Кильдюшевским и научным
сотрудником Государственного музея истории
Санкт-Петербурга Н. Е. Петровой. На вклейке представлен фотоотчет о ходе
раскопок и некоторых важных находках.
Свидетельства, вошедшие в настоящую книгу, ограничены
периодом 1918—1921 гг. В России они ранее не издавались,
поэтому их публикация представляет несомненный интерес для
самого широкого круга читателей.
Доктор исторических наук С. В. Волков
От редакции: тексты воспоминаний печатаются в соответствии
с правилами современной орфографии; авторский стиль полностью
сохранен.
Ю. БЕЗСОНОВ1
В ПЕТРОГРАДЕ В 1917-1918 гг.*
Последние дни на свободе
Зимний Дворец близится к сдаче. Снаружи — банды
большевиков и обстрел с «Авроры». Внутри — паника. И добровольцы,
и большевики... И женский батальон, и провокаторы. Митинги
и уговоры тысячи и одного начальника.
Дядя с бородой — не то А-в, не то новый «диктатор» и
комендант дворца М. — на трибуне. Просит, уговаривает, убеждает
защищать. Кого? Для чего? «Правительство»? Его убежавшаго
главу? Или самого диктатора-оратора?
Переговоры парламентеров... Казаки уходят с оружием
в руках, и я с тремя наганами в карманах на улице.
Человек найден... Поднят... Большевик улюлюкнул и
погнал. Зверь пошел на человека... Человек стал зверем.
Дворцовая набережная. Прожектор с «Авроры»... Вдоль
Невы большевицкие броневики. Людей не видно, — только их
пулеметы медленно двигаются вслед нашему пути, — жуткое,
напряженное состояние. Один какой-нибудь выстрел, искра —
и взрыв неизбежен. Паника, и мы перебиты.
Но вот Зимняя канавка... Литейный мост. Напряжение
спало.
Куда? Жизнь бродяги началась. Казаки предложили
переночевать у них. Пошел с ними. Прожил три дня и три ночи.
Прибежал вестовой и сообщил, что три сотни, сторонники
большевиков, арестовали весь офицерский состав
защитников Зимнего дворца. Забрал свои револьверы и пошел к себе
в «Асторию».
* * *
Подъезд... Входить? Возьмут... Эх, всё равно!
Знаменитая «Астория». Гнездо контрреволюции,
теперешняя цитадель большевиков. Вошел в свой номер и сразу
убедился, что с обыском у меня еще не были.
* Фрагмент из книги: Безсонов Ю. Двадцать шесть тюрем и побег
с Соловков. Париж: Imprimerie de Navarre, 1928. С. 7—39.
11
В тумане рисуется мне моя жизнь там в этот период. С утра
звонок — призываются комиссионеры, — закупается вино из
разграбленных погребов... Вино... Опять вино... И целый день
полупьяное состояние. Всё равно нехорошо. Конец... Конец
чего? Всё равно чего. Всему конец. Конец чувствуется... он
реален, он виден, он ясен, но необъясним. Надо забыться.
Чем, как? Всё равно... но забыться во что бы то ни стало, хоть
на сегодня, на сейчас... Не думать, не сознавать, не понимать,
загулять.
И шли загулы, смелые, последние, вызывающие. Вроде
ночных прогулок по болыиевицкому Петрограду с хором
трубачей Гвардейского Экипажа. Последние судороги — агония —
непонятного, необъяснимого, но все-таки ясно выраженного
конца чего-то.
И тут же, в те же ночи — первые, корявые гримасы
большевика, первый крик торжества победившего зверя и его укусы.
Чекисты, матросы и обыски — еще неопытные, ученические.
Грабеж. Забирали все ценное, уносили вино... За обысками —
аресты. За арестами — выстрелы. Отдельные, глухие, какие-то,
казалось, неопасные. В «Астории» появился большевицкий
комендант, в холле потухло электричество. Сняли ковры. Прислуга
переменилась. «Астория» нужна большевикам!
Посыпались предложения, предписания, угрозы,
требования покинуть гостиницу. Но я продолжал жить, — и продолжал
потому, что было всё равно. Лишь бы не проявлять инициативы,
не думать и как-нибудь прожить сегодняшний день.
Затем переехал к приятелю. Чека уже обыскивала целыми
кварталами.
Мы играли в страуса и по неопытности баррикадами у дверей
думали защититься. Не ночевали дома. Ели воблу.
* * *
В январе 1918 года я бежал от арестов в гор. Сольцы
Псковской губернии. Хорошая была жизнь. Тихая, спокойная,
уютная. Русская зима. Комната в мезонине. Тепло. Русская печка
с лежанкой, маленькие окна, на окнах цветочки и занавесочки
треугольниками, чинная мебель. По вечерам самовар и лампа
под синим абажуром. В углу лампадка. Совсем келия... только
иногда... на двоих... И как хорошо бывало, когда она была «на
двоих» и как жалко, что это бывало только «иногда»...
12
•• ; •. -:.~:?-:4iv ■:^4-: Y'*"•"-
• ■<■:■ " •'•' '• ' ':•'• •' ^-; - ? <'ч.';ь '^к.
шшзсопъшъ^^
•*.-.. ^ v=\- -~;-..Y> ;--V;-Y
- .^ny^s:-})"'--
-,т^^щ::У
л^\:%;*%к-%ч:
У ТЮРБМЪ и ПОБ^ВШ
Y СЪ СОЛОВКбВЪ
ИЗДАНIE
ШРШМЕКШ Й NAVAR&E
3, me des Gobelins
Помнится Пасха. Страстная неделя... Извозчику подъезда,
стук в дверь и знакомый голос — «второй в келий». Я не ждал
и захлебнулся от радости... Спички, свечка, защелки у дверей,
всё ходило у меня в руках.
Потом заутреня... Разговенье...
Бывало, у меня не хватало на махорку, а тут явилось всё, —
и пасха, и кулич, и окорок, и водка, и какая-то сливянка, и
пьяный, славный хозяин, который утверждал на рассвете, что на
Пасху солнышко, вставая, танцует... Хорошо было...
* * *
Надо было есть, и я зарабатывал себе хлеб пилкой дров.
Взял подряд и работал с 6 утра до 6 вечера. Труд этот казался
даже приятным. Выматываясь физически, я не замечал
окружающего.
В городе жил генерал, признавший власть советов. Он узнал
о моем пребывании здесь и вызвал к себе. Я пришел и получил
предложение вступить в формировавшуюся тогда красную армию
на командную должность. Отказался. Он настаивал, уговаривая.
Я категорически отказался и продолжал жить работой,
оторванный от жизни, почти ни с кем не видясь.
Летом мой заработок совсем упал, и я решил попробовать
заняться торговлей или, вернее, спекуляцией.
В это время ко мне приехал мой приятель, ротмистр
Владимир Николаевич Юрьев. Он был мой друг. Мы вместе
росли, знали друг друга и наша жизнь складывалась так, что
в исключительные моменты судьба сталкивала и связывала
нас.
Высокий, худой, черный, с сухим упрямым лицом. Большой
силы воли, часто переходящей границу и впадающей в
упрямство, очень выдержанный, всегда наружно спокойный, он
был, вместе с тем, чрезвычайно чуткий человек и порядочный,
с большим размахом, товарищ. Как к себе, так и к людям в то
время он относился очень строго, и последнее обстоятельство
ему много портило в жизни. Я его высоко ценил.
В августе я съездил в Петроград, где мне удалось достать
сахарину. В Сольцах я его удачно обменял на хлеб. Казалось,
дело наладилось, и я вскоре вновь отправился в Петроград, не
подозревая, что этим путешествием заканчиваются мои
последние дни на свободе.
14
Первые тюрьмы
Дело было так. Я возвращался в наш городок с новой партией
сахарина. Было раннее утро. Я вышел на станцию и направился
к извозчичьей бирже. Народу было мало. Передо мной вертелся
какой-то маленький человек, на которого я обратил внимание
только потому, что он был горбатенький.
Я сел на извозчика, сказал ему свой адрес и поехал. На
нашей окраине извозчики были редкостью, и меня удивило,
что за мной всё время слышался стук разбитой извозчичьей
пролетки. Оглянувшись, я увидел горбача.
Всё еще ничего не подозревая, я вошел в свою комнату
и застал в ней хаос... Всё было перерыто. Прибежала хозяйка
и сообщила мне об аресте Юрьева.
«Горбач — сыщик, — я попался, как маленький, — мелькнуло
у меня в голове. — Нужно не медля идти пешком на ближайшую
станцию, сесть на поезд и ехать обратно в Петроград».
«Но Юрьев без денег, у меня сахарин», — и мне захотелось
передать его моим знакомым.
Я вышел в сад, перелез через забор, вышел на реку и
окружным путем пошел к нашим общим друзьям. Вошел,
поздоровался... И сейчас же стук в дверь. На пороге чекисты, с горбачом
во главе... Ордер Чека на мой арест и обыск у меня на квартире.
Досадно... Пришлось подчиниться, и я, окруженный тремя
чекистами, снова пошел к себе. Впервые я шел по улице как
арестант. Было неприятно и как-то обидно, что не сумел уйти
от чекистов.
В уме я перебирал, какое серьезное обвинение мне может
быть предъявлено. У меня было три вины перед советской
властью. Первая моя вина состояла в том, что в начале революции
я был в числе организаторов одного из военных союзов.
Революция и последовавший за ней развал армии пошли
из Петрограда. Оттуда же пошла волна развала на фронт. Тогда,
казалось, нужно было соединить фронт с общественными
деятелями и в том же Петрограде поднять другую волну — волну
оздоровления, которая могла бы докатиться до фронта.
На одном листе бумаги, под доверенностью, которая
давала мне право выпускать воззвания для продолжения войны
с немцами, мною лично были собраны подписи политических
и общественных деятелей, начиная от председателя Гос. Ду-
15
мы М. В. Родзянко2, первого военного министра революции
А. И. Гучкова3, П. Н. Милюкова4, В. В. Шульгина5,
писателя Леонида Андреева, включая старых социал-демократов
Г. В. Плеханова6, Л. Г. Дейча7, Веры Ив. Засулич8, политических
каторжан Н. А. Морозова9, Германа Лопатина10, Новорусского11
и кончая социалистами-революционерами Б. Савинковым12,
Брешко-Брешковской13 и анархистом П. Кропоткиным14.
Мы имели на своей стороне приблизительно 20 %
гарнизона. В нашей подготовке мы уже дошли до того, что нам
оставалось только сообщить день выступления в воинские части,
но тут-то и произошла та заминка, которая обрекла весь наш
план на полную неудачу. В последнюю минуту Волынский полк
заколебался и попросил отложить день выступления. Это так
подействовало на участников союза, на воинские части, что вся
наша организация рухнула, как карточный домик.
Вторая моя вина заключалась в том, что я, находясь
в Черкесском полку Туземной дивизии, участвовал в походе
ген. Корнилова15 на Петроград в августе 1917 года.
В Петрограде было неорганизованное офицерство. Нужна
была точка опоры, вокруг которой оно могло объединиться.
Таковой являлась наша Туземная дивизия. Моя уверенность
в пользе и в успехе выступления была настолько велика, что я,
будучи ночью дежурным на телеграфе, изменил одну из
телеграмм ген. Корнилова, чтобы сильнее подействовать на наше
командование в сторону выступления.
Мы дошли до Петрограда и, несмотря на то что от наших
разъездов в 10 коней бежали целые полки, возглавляемые
Черновым16 и К0, повернули на Кавказ.
Наконец, третья моя вина перед советской властью состояла
в том, что я, будучи в хороших отношениях с Командующим
войсками Петроградского Военного округа полк. Полковниковым17,
зашел к нему в штаб накануне болыыевицкого переворота и был
назначен помощником коменданта Зимнего Дворца и, таким
образом, участвовал в его защите при взятии его большевиками.
Однако ни одно из перечисленных преступлений ни разу
не было причиной моего заключения, ни разу не
инкриминировалось мне, и не об одном из них Советская власть не знала.
На деле оказалось, что единственной причиной, которая
повлекла за собой такие большие для меня последствия, была
моя вина в том, что я в свое время кончил кадетский корпус,
16
кавалерийское училище, был офицером и честно всю Великую
войну пробыл в строю.
Наша комната была уже перерыта, и я не понимаю, для чего
нужно было делать этот вторичный обыск. Очень скоро я понял,
что не во всех действиях большевиков можно найти смысл.
Как потом оказалось, Юрьев ловко руководил обыском,
останавливая внимание чекистов на неважных вещах и
талантливо оперировал с кой-какими компрометирующими нас
документами, засунув их в газеты, лежавшие тут же. У меня
были отобраны кинжал и какие-то письма, и на них была
выдана расписка, которые так щедро раздают чекисты, причем
получать потом вещи по этим распискам никогда не удается.
Наконец, в 11 часов утра обыск был кончен, и в 12 часов
дня я в первый раз вошел в тюрьму.
Это была моя первая тюрьма, и тогда мне и в голову не
приходило, что она — только начало моего долгого скитания
по тюрьмам. Мне всё казалось, что это только недоразумение,
которое быстро рассеется. Как часто потом видел я в своих
тюрьмах таких «новичков», которые так же думали, и как часто
мне приходилось наблюдать их разочарование.
Тюрьма была низенькая, маленькая, старенькая. Над зданием
возвышался купол и крест тюремной церкви. Кругом шла
маленькая стена. За ней снаружи стоял домик начальника тюрьмы,
окруженный толстыми липами.
Камера, куда меня ввели, была большая комната с
обыкновенными окнами за решеткой, с истертым полом, совершенно
голая и какая-то пустая, необитаемая.
Посреди нее стоял массивный стол и две скамейки.
Войдя туда, я увидел, что здесь весь наш город. Бывшие
офицеры, судьи, два нотариуса, торговцы, два доктора с
сыновьями-студентами и Юрьев. Странно было видеть этих людей
с интеллигентными лицами, в прежней одежде, лежащими
и сидящими в разных позах на полу...
Я поцеловался с Юрьевым, и он мне рассказал все, что
произошло в мое отсутствие. Оказывается, что в одни сутки
арестовали всех офицеров, буржуазию и «аристократию». Обвинения
всем были предъявлены разные: с буржуазии просто требовали
денег. Одного из судей обвиняли в том, что он, срывая колосья на
полях, воровал у крестьян хлеб. Нотариусов прижимали, требуя
от них, чтобы они рассказали о коммерческих делах буржуазии...
17
Наше дело, а в частности Юрьева, было чрезвычайно глупо, но
вместе с тем серьезно. У него якобы был найден «манифест» Ленина,
в котором высмеивалась болыневицкая идеология. Ему предъявили
обвинение в агитации и пропаганде против Советской власти.
Манифест был у него найден, переписанный на
машинке в трех экземплярах. Искали машинку, на которой он был
размножен, и тем хотели открыть его сообщников. Очевидно,
и я попал как сообщник этого преступления. Обвинение было
глупо, но не так смотрели надело наши следователи. Юрьеву на
допросе прямо заявили, что его преступление настолько важно,
что местные власти не могут взять на себя решение его участи
и должны отправить его в Петроград. Это была какая-то
странная, сумбурная и перепуганная психология людей, совершенно
неуверенных ни в своей силе, ни в своей власти.
Уклад тюремной жизни, как мне потом в том пришлось
убедиться, здесь был сравнительно мягкий. Начальник
тюрьмы относился к арестованным неплохо. Спали мы на полу, но
с одеялами и подушками из дому. В маленьком городишке у всех
сохранились еще запасы продуктов, и поэтому мы могли жить
«передачами с воли». Казенный паек был очень плох.
В то время в России начинался голод, и на воле уже выдавали
одну восьмушку фунта хлеба. Как же могли кормить в тюрьме?
В 6 часов утра нам давали кипяток и маленький ломтик
хлеба, в 12 часов приносили большие тазы, деревянные ложки,
а затем приходили кошевары с котлом, и тазы наполнялись
мутной водой, которая пахла воблой. Единственное качество
этого «супа» — то, что он был горячий. После обеда опять поили
кипятком. В 5 часов дня та же картина, что и за обедом, только
вода становилась еще светлее. Затем опять кипяток.
Я видел мелких уголовников, сидевших на этом казенном
пайке в продолжении двух месяцев. Они уже начинали пухнуть
от голода.
В это время нас еще водили в маленькую тюремную церковь.
Вся обстановка, страдающие, молящиеся люди и сама молитва
успокаивали и поднимали хорошее в человеке. Кроме того, хотя
и издали, но мы соприкасались с внешним миром. В церковь
допускались посторонние.
Непривычно было поначалу положение арестанта. Часто
являлось желание встать, пойти куда-то, что-то сделать, вообще
проявить инициативу... и тут стукало в голову — ты в тюрьме.
18
Время проводили в разговорах, играли в самодельные
шахматы и шашки. В нашей камере не чувствовалось
подавленности. Большинство обвиняемых никакой особой вины за
собой не имело, и в этой маленькой захолустной тюрьме красоты
болыпевицкого террора еще не казались нам такими ужасными.
Кое-кого иногда допрашивали, но с разбором дел чекисты
не торопились. Раза два Юрьева водили на допрос. Допытывали
у него, где он достал манифест и как он его распространял,
считая факт распространения манифеста доказанным.
Откровенно говоря, я до сих пор не понимаю, как попал
к нам этот дурацкий «манифест». Наверное, кто-нибудь дал его
Юрьеву прочитать, и тот забыл его уничтожить. Наконец, на
третьем допросе Юрьеву заявили, что дело его разберут в
Петрограде и его переведут туда.
К этому времени Юрьев заболел. На скачках у него
была сломана нога и она неправильно срослась, причиняя ему
время от времени большие боли. Как раз в это время он очень
страдал. Не желая с ним расставаться и в таком его положении
отпустить его одного в Петроград, я предложил ему заявить, что
знаменитый манифест передал ему я.
Юрьев такое заявление подал, и через два дня меня
потянули в Чека. Это был мой первый допрос. Допрашивали вяло,
скучно и неумело. Имя, отчество, фамилию, где родился и т. д.
Это всегдашний их прием, и в дальнейшем он мне страшно
надоел. Спросили относительно «манифеста», я ответил, что
дал его Юрьеву. На это чекисты объявили, что меня отправят
в Петроград. Это решение как раз совпадало с моими планами.
Неопытность чекистов тогда была удивительна. Почему-то
попробовали обвинить меня в сношениях с иностранцами, чего
на самом деле никогда не было.
Откуда выплыли эти «сношения с иностранцами», так
и осталось для меня тайной. Но это обвинение, поднятое в
уездном захолустном городишке, где никаких иностранцев и быть
не могло, потянулось через всю мою жизнь до самого моего
бегства из Соловецкой каторги. Тогда, конечно, я не обратил
на это глупое обвинение никакого внимания.
В середине сентября нам объявили, что нас отправляют
в Петроград. К этому времени в тюрьме узнали об усилившемся
терроре в связи с убийством Урицкого, и наша поездка казалась
нам уже не такой привлекательной. Но было поздно. Участь наша
19
могла быть решена только в Петрограде. Через три дня в 10
часов утра во двор тюрьмы пришел конвой, который должен был
нас сопровождать.
Меня неприятно поразило, что на двух человек дают 10
человек конвоиров. Это означало, что мы важные преступники.
Конвоиры эти были из существовавшей еще тогда красной, не
армии, а гвардии, — в штатских шляпах, в штатских пиджаках,
с красными бантами на груди. Поверх пиджаков — подсумки
с патронами. Вооружены они были винтовками. Только у
комиссара был револьвер. Не сомневаюсь, что большинство из
них стрелять не умело.
Нас поставили в середину, и мы двинулись на вокзал. Там
нам были готовы два сюрприза. Во-первых, оказалось, что мы
едем в отдельном классном вагоне и, во вторых, что мы поедем
не одни... Нас провожали...
Присутствие интересной женщины подействовало на
сопровождавшего нас комиссара. Это был тот самый чекист,
который допрашивал меня и Юрьева. Вначале его отношение
к нам было сухо и официально. Исполняя его приказания, мы
разговаривали только между собой и как бы не замечали его
присутствия. Он сам первый подошел и заговорил с нами, и тем
невольно встал в положение ищущего нашего общества человека.
Разговор завязался, и в результате он разрешил нам всем ехать
вместе. Нас посадили в вагон, прицепили к поезду, он тронулся,
и через четверть часа мы были в одном вагоне. Комиссар подсел
к нам, начался разговор совсем другого характера.
Казалось, что едут не конвоиры и арестованные, а
обыкновенные пассажиры, дружески разговаривающие между собой. По
прошествии двух часов он уже бегал нам за папиросами, а еще
часа через два, он обещал хлопотать за нас в Петроградской
Чека, и я думаю, что он действительно хлопотал, — но имел
там слишком мало весу и поэтому хлопоты его не повлияли на
нашу судьбу.
Но вот Петроград... Царскосельский вокзал... Вышли,
простились и пошли.
* * *
Знакомые места.. Пересекли Фонтанку, Садовую,
Морскую... Движение невелико... Как арестанты, идем посередине
улицы... Извозчики, пешеходы, трамваи уступают дорогу.
20
Наконец, знаменитая «Гороховая, 2». Вошли в вестибюль,
поднялись по лестнице, нас провели в канцелярию. Несколько
«сотрудников». Некоторые похожи на рабочих, несколько
интеллигентных лиц, но большей частью типичные чекистские
физиономии.
Трудно определить этот тип. Тут отбросы всего: наций —
еврейской, латышской, русской; рабочего класса — неспособные
подняться, но хвастливые и завистливые ученики и подмастерья;
интеллигенции — неудачные адвокаты, чиновники. Уголовные
преступники и т. д.
По внешнему виду они приближаются к одному типу:
маленькая голова, очень скошенный и без выпуклостей лоб,
маленькие, острые, углубленные и близко друг к другу
поставленные, немного косящие во внутрь глаза. Вид кретина.
Никогда нельзя сказать, чем чекист был до революции. Сами
они об этом не говорят, а если и говорят, то врут, а догадаться
трудно. И кажется, что он так и родился чекистом.
В течение получаса на нас никто не обращал внимания.
Дело обычное — привели арестованных. На столах были
разбросаны трофеи последних дел: груды денег, кучи писем,
фотографические карточки, бутылки с вином и оружие — главным
образом шашки...
Около них вертелось несколько вычурно одетых, развязных
«сотрудников» и две-три «сотрудницы» из типа, часто
встречавшегося на скэтингах и в кабаках. Не тех милых гуляк-товарищей,
которые от души пользовались жизнью, а таких, единственная
цель которых была положить себе в чулок.
Наконец двое чекистов подошли к нам и начали
обыскивать. На этот раз от нас ничего не отобрали... Затем один из
обыскивающих предложил нам идти за ним, и нас повели по
коридорам. «Совсем как гостиница», — подумал я, когда мы
остановились перед № 96.
* * *
Камера, в которую нас ввели, была общая. Сажени три
в ширину и столько же в длину. Одно окно во двор. Помещалось
в ней около 50 человек. Теснота, духота и вонь.
На койках, которыми она была сплошь заставлена, сидело
по два, по три человека. Большая часть людей, чтобы дышать
воздухом, стояла около открытого окна.
21
Элемент был самый разнообразный — присяжный
поверенный, офицеры, директор банка, доктор, партия клубных
игроков и т. п.
Нельзя было не обратить внимания на двух арестованных
калек, военных инвалидов. На двоих у них было две ноги
и четыре костыля. Работать они, конечно, не могли и занялись
«мешочничеством», т. е. возили муку из деревни в Петроград.
Их арестовали за спекуляцию и уже несколько месяцев этих
несчастных калек мотали по тюрьмам.
Среди арестованных я встретил двух знакомых офицеров:
Экеспарэ18 и князя Туманова. Они, объяснили нам, что нужно
записаться у старосты камеры, и подвели нас к отдельной койке
со столиком.
На койке сидел высокий красивый старик, который очень
ласково и любезно обратился к нам, спросил наши фамилии,
записал их, предложил нам посидеть у него и начал
расспрашивать, за что мы арестованы. Мы рассказали.
К нам подсели Экеспарэ и Туманов, и мне сразу показалось
странным, что они, состоя в какой-то организации, слишком
откровенно рассказывали про нее в присутствии этого старика.
Они даже советовались с ним, как им отвечать на допросе.
Почему-то мне этот старик не понравился, и я держался
с ним очень сдержанно. Поговорив с нами, наш староста указал
нам койку, которую нам можно занять. Мы расположились на
ней, подошли другие арестованные, и начался обычный
тюремный разговор.
Когда? За что? Какое обвинение? И вместе с тем рассказы
о себе...
Впоследствии я привык к этим рассказам. Почти всегда
повторяется одно и то же. Взяли неизвестно за что, держат уже
несколько месяцев без допроса и т. д.
День прошел спокойно. Днем «Гороховая» спит, живет
ночью. Арестованные по очереди спали на койках. Кое-кого, не
более двух-трех вызвали на допрос. К вечеру настроение
изменилось. Начались допросы. Арестованных вызывали одного за
другим. Возвращались бледные, с испуганными лицами. Угроза
смерти стояла перед ними.
Экеспарэ и Туманова допрашивали чуть ли не в десятый
раз. Они вернулись и опять рассказали старосте подробности
допроса. Оказалось, что их организация раскрыта и от них
22
требуют, чтобы они сообщили все подробности. Мне опять
стала непонятна такая откровенность. Старик скоро вышел
в канцелярию со списком заключенных. Я не мог удержаться,
чтобы не высказать Экеспарэ моих опасений.
«Что вы! — ответил он мне, — это милейший человек,
профессор, его нельзя подозревать ни в чем. Он сидит здесь уже
три месяца, и так как его дело разбирается и он привлечен по
какому-то пустяку, то он пользуется привилегиями».
Допросы шли всю ночь. Всё время гремел замок. Люди
соскакивали с коек, ждали своей фамилии и опять томились
в ожидании. Только к утру камера успокоилась, и можно было
задремать.
За ночь привели еще человек двадцать новых арестованных.
В камере совершенно не хватало места. Через того же старосту
мы узнали, что к вечеру будет разгрузка: допрошенных
арестованных переведут в другие тюрьмы.
Действительно, часов в 6 вечера дверь в камеру
растворилась шире обыкновенного, и вошел комендант Гороховой,
знаменитый палач Эйдук19. Одет он был в офицерский китель,
красные штаны и почему-то сапоги со шпорами. Начался вызов
арестованных для отправки. Он прочитал список отправляемых
на Шпалерную, затем в Петропавловскую крепость, Дерябин-
скую тюрьму и прибавил, что все отправляемые должны быть
через пять минут готовы со своими вещами. Пришел конвой,
принял арестованных, и в камере стало свободнее.
С вечера камеру опять охватило беспокойство и жуткое
чувство. К ночи привели арестованных. Я ждал допроса, но
нас не вызывали. Долго я сидел в этот вечер с Экеспарэ и
Тумановым. Экеспарэ был спортсмен. Мы говорили о скачках, об
общих знакомых, но чаще всего разговор переходил к их делу.
Он мне рассказал о том, что состоит в организации, которая
поддерживается иностранцами — англичанами и что он верит
в успех. «Если мы не свалим большевиков изнутри, — говорил
он, — англичане придут на помощь извне».
«Наша организация расшифрована, но есть другие, и мы
все-таки победим», — утверждал он. Допрашивали его, по его
словам, чрезвычайно любезно: папиросы, мягкое кресло,
завтрак, ужин, — всё было к его услугам.
Осведомленность у них большая. Сам он ничего не выдал,
но подтверждал то, что они уже знали. Им в глаза он ругал
23
большевиков и коммунизм, заявляя, что будет с ними бороться.
Несмотря на это, ему всё время гарантировали жизнь. Не знаю,
сознавал ли он опасность или верил чекистским обещаниям,
но, во всяком случае, держал он себя молодцом.
С князем Тумановым была несколько иная картина. Ему
навалили кучу обвинений — сношения с иностранцами,
организация вооруженного восстания и т. п. Допрашивали его грубо,
всё время угрожали расстрелом, предлагая сознаться в
действиях, которых он не совершал. Его совершенно запутали, и он
нервничал. Большей частью свою виновность он отрицал. Не
знаю, был ли он вообще виновен в чем-нибудь серьезном. Он
был совсем мальчик.
Часа в два ночи я лег на койку. Не успел я заснуть, как
вновь раздался грохот открываемой двери, и в камере появился
Эйдук. На этот раз вызывали на расстрел.
Это был первый вызов на смерть, при котором мне
пришлось присутствовать. Сердце у меня заледенело.
В камере стояла тишина. При грохоте замка люди, как
всегда, приподнялись и, увидев Эйдука, замерли в напряженных
позах. Большинство были бледные и дрожали мелкой дрожью.
Некоторые, чтобы отвлечь мысль и не поддаться панике, нервно
перебирали свои вещи.
Сам Эйдук был настроен торжественно. Громко,
растягивая слова, он назвал фамилию Экеспарэ, Туманова, еще троих
и прибавил, чтобы выходили с вещами.
Сомнения не могло быть... Экеспарэ был спокоен. Туманов
волновался, но сдерживался. Мне кажется, что в них все-таки
теплилась надежда. Слегка дрожащими руками увязывали они
свои вещи. Я им помогал. Затем мы простились за руку, и они
вышли...
В доме повешенного не говорят про веревку. В камере стояла
гробовая тишина, люди опустились на койки и затихли. Вдруг
внизу на дворе раздался крик, но сейчас же зашумел мотор
автомобиля... Он работал, но со двора не вышел. Вероятно,
казнь совершилась здесь же, в подвале, новым в истории мира
способом, — выстрелом в затылок впереди идущему смертнику.
Заснуть в эту ночь никто из арестованных не мог...
Так прошло еще пять тяжелых дней в ожидании... Днем было
сравнительно легко, но эти вечерние часы ожидания, вызовы,
после которых люди возвращались разбитыми нравственно и фи-
24
зически или вовсе не возвращались, — эти ночи, прерываемые
шумом заведенного мотора, визиты самодовольного палача Эй-
дука, — всё это действовало тяжело и не оставляло много надежд.
Ровно через неделю после нашего поступления на
Гороховую, часов в 5 вечера, Эйдук прочел наши фамилии и объявил,
что нас переводят в Дерябинскую тюрьму.
Нагруженные вещами, окруженные конвоем, мы потянулись
на край города. Дерябинская тюрьма, когда-то казармы морского
дисциплинарного батальона, потом морская тюрьма, — одно
время долго пустовала, но с начала террора она была
переполнена арестованными.
Стоит эта тюрьма на самом краю Васильевского острова,
в Гавани, на самом взморье. Конец был изрядный и, после
долгого сидения в душном помещении, при отсутствии моциона,
прогулка эта была не из приятных.
Условия жизни были здесь значительно лучше. Камеры
были громадные, — человек на двести, было много коек, и даже
попадались ночные столики. Люди, побывавшие в
Петропавловской крепости, утверждали, что режим нашей тюрьмы нельзя
было сравнить с «Петропавловкой».
Камеры запирались только на ночь. Днем мы могли ходить
из одной камеры в другую. Надзирателей и охраны мы почти не
видали. Нас выводили на работы, но они были легкие, во дворе
самой тюрьмы. Не было здесь таких жутких вечеров и ночей,
и мы с Юрьевым могли хотя бы выспаться.
Тюремный паек был тот же, что в Сольцах и на Гороховой.
Не то суп, не то грязная вода от мытой посуды... Я сам видел,
как люди, сидевшие на одном только пайке, рылись в
помойных ямах, вытаскивали оттуда селедочные головки и тут же
съедали их.
Всех арестованных было, вероятно, тысяч около двух. В той
камере, где я сидел, преобладающим элементом были морские
офицеры, обвиняемые в контрреволюционном заговоре. Затем
было много арестованных самого разнообразного состава,
привлеченных по делу Каннегиссера20, убившего Урицкого.
По этому делу хватали кого попало. Был арестован доктор Гру-
зенберг за то, что у него нашли адрес знакомого Каннегиссера,
член английского клуба за то, что после убийства на лестницу
клуба вбежал Каннегиссер. Среди арестованных здесь были
Н. Н. Кутлер21, Каменка, доктор Ковалевский, ген. Поливанов22.
25
Хотя режим был не тяжелый, но угнетала неизвестность
положения. Расстрелов в самой тюрьме не было —
приговоренных увозили на Гороховую. Случалось это здесь не так часто.
Впрочем, был случай, когда по ошибке расстреляли невинного
вместо виновного однофамильца, которого выпустили на волю.
Но что значила одна ошибка в страшном сведении счетов больше-
вицкой бухгалтерии. Кровь Урицкого взывала к мести, и было ли
убито один или два десятка лишних офицеров или буржуев, — это
уже не имело никакого значения для господ положения.
Тяжелое, угнетающее впечатление произвело на всех нас
известие об офицерах, которых посадили на барку и утопили
между Кронштадтом и Петроградом.
Мы все считались «заложниками», и наши фамилии были
напечатаны в газетах. Заложниками кого? — хотелось спросить.
Просто мы были тем пушечным мясом, тем стадом беззащитных
людей, смерть которых могла бы подействовать на всякого, кто
бы хотел пойти по стопам Каннегиссера и убийцы Володарского.
Мы думали о бегстве и, как я себе представляю, побег
можно было устроить, но я все-таки немного верил в какую-то
законность и мне казалось, что настанет время, когда наше дело
разберут и отпустят. Как тогда я был еще наивен!
В тюрьмах всегда жили, живут и будуть жить разными
несбыточными надеждами на освобождение. Такова тюремная
психология. Мне недавно пришлось говорить с дореволюционным
политическим заключенным, и он мне сказал, что и в прежнее
время заключенные поддерживали себя в тюрьмах надеждами
на амнистию и на досрочные освобождения. Он мне рассказал
о своем товарище, твердо надеявшемся на какую-то амнистию.
За день до возможного ее объявления его товарищ заявил, что
завтра он будет свободен или умрет. На другой день, не получив
амнистии, он удушил себя.
Надеждами на амнистию живут и теперь. Вначале Сов.
власть их щедро давала. Для заключенных требовались конвой,
помещение и хотя бы немного пищи. Всего этого не хватало.
Хотя всё внимание большевиков было обращено на
организацию Ч.К. и ее учреждений, хотя и были открыты все уцелевшие
тюрьмы, все-таки разруха, царствовавшая тогда под их неумелым
руководством, не давала им возможности содержать столько
арестованных, сколько бы им хотелось. Поэтому решали вопрос
проще — расстрел или свобода.
26
В тот год очень надеялись на октябрьскую амнистию.
Я держал пари, что по ней выпустят не более 10 % Дерябинской
тюрьмы, мой противник надеялся на 50 процентов. Из нашей
камеры, в которой было свыше 200 человек, в этот день
выпустили троих. Да и то, вероятнее всего, что это освобождение
состоялось не в силу амнистии, а произошло обычным порядком.
Легче всего было освободиться за деньги. Брали нелегально,
брали и легально. Ч.К. брала официально. Следователи брали
неофициально. Брали — и выпускали. Брали — и не выпускали.
Грабеж шел страшный.
Кроме этих несбыточных надежд на амнистию, были
надежды и другие. Нам казалось, что не может быть, чтобы англичане,
видя, как изнывают под гнетом большевизма люди, бывшие их
верными союзниками и составлявшие лучшую часть России, не
пришли бы им на помощь.
Но, очевидно, у англичан была другая точка зрения, и я не
дошел до понимания ее. Мне кажется, что покойный Леонид
Андреев не дал ничего реальнее и сильнее своего бессмертного
сигнала тонувшего корабля «SOS.».
Так как делать было почти совершенно нечего, то весь
день проходил в разговорах и хождении из одной камеры
в другую. Вставая утром, ждали обеда, после обеда — ужина,
потом поверка и спать. Обыкновенно вечером перед поверкой
один из сидевших с нами священников, а их было довольно
много, читал молитвы. Все пели хором. По субботам служили
всенощную. Моряки говорят: «Кто в море не бывал, тот Богу
не молился». Я думаю, что многие, посидевшие в тюрьмах, то
же скажут о молитве в заключении. Недаром церковь вместе
с «плавающими» поминает и «плененных».
Как-то на молитве некий Крутиков, арестованный за
бандитизм (просто за грабительство), начал говорить о «глупости
молитвы». Я приказал ему замолчать. Юрьев поддержал меня.
На другой день Крутиков отправился к коменданту. Что он
говорил там, я не знаю, но явился комендант, вызвал Юрьева
и приказал ему отправиться в карцер. Юрьев начал возражать,
я хотел заступиться за него и тоже ввязался в разговор. Видимо,
интересы бандита были ближе коменданту, и он отправил нас
обоих в карцер... Это было маленькое, совершенно темное,
сырое и холодное помещение, и сутки, которые мы там провели,
были действительно очень тяжелы.
27
За то время, которое я провел в Дерябинской тюрьме,
через тюрьму прошло множество народу. Раза два в неделю
приводились новые партии арестованных. В октябре к нам
привели партию из Петропавловской крепости. Крепость
была совершенно очищена от арестованных. Они
рассказывали о тамошних ужасных условиях жизни! Спали они на
голом полу, в такой тесноте, что лежали друг на друге. Все
они были во вшах. Пища им выдавалась два раза в неделю.
Обращение конвоя было самое грубое. Эти арестованные
резко выделялись среди сравнительно чистых дерябинских
обывателей. Иногда, очень редко, появлялся комендант со
списком отпускаемых на свободу, и все жадно слушали в
надежде услышать свое имя...
Чаще вызывали на допрос — на Гороховую... Мы уже больше
трех месяцев сидели без допроса. В ноябре мы услышали наши
фамилии. Вновь потянулись мы по линиям Васильевского
острова, по Набережной, через Николаевский мост мимо памятника
Петра Великого и Исаакиевского собора на Гороховую, и снова
знакомая камера № 96.
Там ничего не изменилось, только вместо любезного
старика провокатора-старосты, сидел очень приветливый молодой
человек. Мы познакомились. Молодой человек оказался эсером
Д-м. Он зарегистрировал нас и стал любезно интересоваться
нашим делом. Вспомнив о ненужной откровенности Экеспарэ
и кн. Туманова, мы на этот раз были еще сдержаннее, чем с
любезным стариком, и оказались совершенно правы.
Очень скоро, во время его отсутствия другие арестованные
предупредили нас, что и этот староста — провокатор. В
дальнейшем держали мы себя с ним корректно и даже предупредительно,
но ни в какие разговоры не пускались.
Среди заключенных совершенно неожиданно мы увидели
наше начальство — коменданта Дерябинской тюрьмы Неведом -
ского. Еще только две недели тому назад он ходил по тюрьме
и грозно кричал на выглядывающих в окна арестованных: «От
окон!.. Стрелять буду»!.. Он проворовался и сидел здесь,
голодный и жалкий. Увидав у нас еду, он с улыбками и ужимками
подошел к нам и попросил есть. Мы не отказали. Разговаривать
и сводить с ним счеты мне было просто противно.
За эти дни, которые мне пришлось просидеть на Гороховой,
я был свидетелем наивной веры в советскую законность.
28
Для того чтобы войти в нашу камеру, нужно было пройти
маленький коридорчик, ведущий в уборную и на лестницу, по
которой приводят арестованных. Как-то вечером мы стояли
в коридоре и разговаривали. Дверь открылась, и к нам ввели
чисто одетого, средних лет мужчину. Войдя, он поклонился нам
и, не снимая котелка, встал у стенки. Мы продолжали
разговаривать. Так прошло минут двадцать. Видя, что это совсем еще
не стрелянный воробей, я подошел к нему и предложил ему
пройти в камеру и зарегистрироваться у старосты.
«Нет, благодарствуйте, — ответил он, — я сейчас был у
следователя, и он сказал, что я здесь по недоразумению, он обещал,
что мое дело сейчас разберут и я сейчас же буду отпущен».
Я его спросил, в чем его дело. Он ответил, что его фамилия
Схефальс и что он, владелец торгового дома Эсдерс и Схефальс, часа
два тому назад направляясь к своей дочери, живущей на Гороховой,
поднимался по лестнице ее дома. В это время из одной квартиры
спускалась засада, которая его схватила и привела сюда. Схефальс
был совершенно уверен, что будет немедленно освобожден.
За три месяца я уже наслышался много таких рассказов и,
зная, что такое на языке Чека — «присядьте, ваше дело сейчас
разберут», я рассмеялся и посоветовал ему все-таки
зарегистрироваться и озаботиться получением кусочка койки. Он опять
поблагодарил, но предпочел стоять.
Я ушел в камеру, пробыл там часа полтора и вернулся
в коридор. Схефальс всё еще стоял. Мы разговорились, и я
предложил ему пари на одну селедку, что пока его дело будут
разбирать, он «присядет» не меньше, как на месяц и, кроме
того, за освобождение ему придется заплатить большую сумму.
На самом деле он, ни в чем не повинный, «присел» на четыре
месяца и Чека буквально вывернула ему карманы.
Старожилы Гороховой рассказали мне еще более
трагикомический случай. Арестовали купца. Пришли к нему на квартиру,
обыскали, предъявили ордер на арест, окружили конвоем и
повели. У него жил племянник, парень лет 20. Увидев, что дядюшку
арестовывают, он решил не оставлять его, узнать, куда поведут,
и отправился за ними. Они идут по городу, выходят на Гороховую,
он идет следом. Входят в ворота, — входит и он. Поднимаются
по лестнице, — он идет. Открывают дверь в камеру, вводят
дядюшку, — и он. Камера запирается и проскальзывает этот;
дядюшка с племянником остаются вместе. Провели первую ночь,
29
думают — дело разберут и племянника выпустят. Просидели так
день и ночь. Еще сутки — никакого движения. Тогда начали
советоваться, как быть. Рассказали арестантам, — было много
смеху, но надо было как-нибудь выкручиваться. Через старосту
доложили коменданту. Через несколько суток комендант
пожаловал в камеру. Племянник просит его выслушать. Комендант
снизошел, и племянник рассказал ему такую историю: шел он
по Гороховой, захотелось ему оправиться... — видит открытые
ворота, он и зашел... заблудился и попал в камеру...
Говорят, что, выслушав этот рассказ, комендант заревел от
оскорбленного самолюбия:
— Как? Весь Петроград, вся Россия, весь мир знает
Гороховую, 2! А ты, сукин сын, зашел сюда оправиться!..
Не знаю, чем руководствовался в данном случае комендант,
но племянника, как рассказывают, выпустили.
Первый допрос
Мы с Юрьевым ждали допроса. Днем спали на одной, грязной,
вшивой, с клопами койке. Ночью бодрствовали. Было душно,
воняло немытыми телами, ватер-клозетом. Разница с Дерябинской
тюрьмой была громадная. Там не было этой напряженности нервов,
которая создавалась здесь под влиянием постоянной близкой
угрозы смерти, не было этого беспокойства за завтрашний день.
Приблизительно через неделю, часа в 4 утра, вызвали на
допрос Юрьева. Приготовился и я. Его допрашивали около
полутора часов. Наконец он вернулся и наскоро, боясь, что
меня сейчас же вызовут, передал мне суть допроса.
Допрашивал его следователь Юдин. По отзывам опытных
арестантов, это был один из милостивых следователей.
Сперва — общий допрос, затем — глупейшие обвинения в сношении
с иностранцами. Он долго допытывался, на какие средства
Юрьев жил, и, наконец, перешел на тему о коммунистическом
юмористическом «манифесте» Ленина. Откуда он у него, что
он с ним делал, где его распространял, где он его напечатал?
Вообще манифест этот дал основание Юдину состряпать
обвинение Юрьева в контрреволюционной пропаганде.
Не прошло и десяти минут, как вызвали меня. Большой
ошибкой следователя было дать нам десять минут свидания
между допросами. Я узнал сущность ответов Юрьева и смог
30
приготовиться сам. В то время все тонкости приемов судебного
следствия были еще неизвестны совершенно неопытным
«следователям». Впрочем, сейчас в большинстве случаев следствие
ведется теми же грубыми, первобытными приемами. Играют
человеческой жизнью и получают какие им нужно показания.
Первое, что чувствует арестованный человек, — это
обостренное состояние неизвестности. Все мы ходим под Богом, но
особенно остро это чувствуется в советской России вообще,
а в тюрьмах в особенности. При каждом аресте перед вами два
выхода: или выпуск на свободу, или смертная казнь. Чем дольше
продолжается это состояние, тем острее, тем резче отзывается
оно на психике человека. Это большевики учли и пользуются
этим способом для наблюдения над сознанием человека в первую
очередь. Они затягивают судебное следствие, всё время держа
человека под угрозой смерти, расшатывая его нервы и заставляя
его давать такия показания, каких они сами хотят.
Действовать на психологию преступника рекомендовалось
всеми юридическими авторитетами, но бесконечно угнетать
душу человека угрозой смерти — это прием новый,
отвратительный, но характерный для большевиков.
Однако люди привыкают и сживаются даже с мыслью
о близкой смерти, а потому большевики не ограничиваются
только этим могучим способом воздействия, а пользуются
и другими, быть может даже более ужасными. Они медленно
приближают к своей жертве смерть, якобы ненасильственную
и непредвиденную, и ставят арестованного в такие условия, что
он постепенно, но неминуемо идет к могиле.
Постоянное голодание, холод, отсутствие самой
необходимой одежды, белья, мыла, непосильная борьба со вшами — тоже
неплохие инструменты для подавления и угнетения
человеческой психологии и порабощения последних остатков его воли.
Но все эти способы бледнеют перед самым любимым
болыиевицким приемом, перед ударом по самому дорогому для
человека, — чувству любви к семье. Они разлучают человека
с семьей, лишают семью работника и кормильца, и еще семью
же заставляют изыскивать способы для прокормления
арестованного, а если и этого покажется мало, то арестовывают жен, детей
и стариков. Этот последний прием выдерживают уже немногие...
Итак, через десять минут после возвращения Юрьева за
мной пришел красноармеец с винтовкой и маленькой бумаж-
31
кой, ордером на вызов к следователю. В то время вся П.Ч.К.
размещалась на Гороховой только в одном здании бывшего
Петроградского Градоначальства, теперь же оно занимает
целый квартал — дома №№ 2, 4, 6 и еще другие дома. Всякое
дело при хорошей постановке в результате всегда расширяется
и развивается... Шли мы с конвоиром какими-то коридорами,
спускались и поднимались по лестницам, прошли мимо кухни.
Помню, как там, несмотря на ранний, собственно, ночной
час, кипела жизнь, сновали кухарки типа проституток и
готовились котлеты с морковкой. Наконец красноармеец привел
меня в камеру следователя.
Это была маленькая комната со стенами, завешанными
какими-то картами. Посередине стоял стол. На столе кабинетная
лампа с рефлектором, направленным на стул, стоящий у стола.
Развалившись в кресле, вытянув ноги, засунув руки в карманы,
сидел следователь.
На допросе у Юдина я в первый раз имел возможность
наблюдать обычный прием советских следователей: при начале
допроса нахамит и смутит допрашиваемого. Не меняя позы,
он как бы гипнотизировал меня своим пристальным, глупым
взором. Вначале я действительно почувствовал какую-то
неловкость, но потом мне сделалось сразу смешно от его идиотского
взгляда и глупой физиономии. Я понял, что стул предназначен
для меня, подошел и сел на него.
Юдин сразу переменил позу, резким движением открыл
ящик стола, выхватил оттуда наган, направил его на меня и,
продолжая смотреть на меня, спросил:
— Вы понимаете, что вам угрожает?
— Нет.
— Вы знаете, в чем вы обвиняетесь?
— Нет.
— Ах, он не знает?! — обратился он к стоявшему тут же
моему конвоиру.
Всё это вступление дало мне понять, что меня берут на
«хомут», т. е. на испуг, и что он не знает, в чем меня обвинят.
— Так вы не хотите сознаться? Тем хуже для вас. Расстрел
вам обеспечен.
Мне делалось смешно от этого приема, но вместе с тем
я совершенно не был уверен в том, что, не имея никаких
доказательств моей виновности, он меня все-таки не расстреляет.
32
В то время дело было поставлено так: следователь
допрашивал, делал свое заключение, сам предлагал ту или иную меру
наказания и посылал результаты своей «работы» на утверждение
президиума Ч.К. Само собой разумеется, что вторая инстанция
была только формальностью. Президиум, заваленный массой
дел, не рассматривая, утверждал заключение следователя, и
людей выводили в расход.
Я сразу же начал отвечать односложно и наружно никак
не реагировал на его выходки. Видя, что этот прием на меня
не действует, он положил наган на стол и, продолжая делать
злобные гримасы, взял бумагу и начал допрос.
Имя, отчество, фамилия, год рождения, отец, мать, место
рождения, образование, полк, война... Покуда шло гладко, и я
ему отвечал правду, но когда дошло до моей службы в Туземной
(«дикой») дивизии, то я начал отделываться общими фразами
о том, что я, числясь по Гвардейской кавалерии, был адъютантом
у X, и это прошло. Тут я понял, что он ничего не знает, и уже
совершенно твердо начал давать ему те показания, которые
хотел. Во время этого допроса и во время всех моих
последующих допросов я всегда придерживался правды, чтобы самому
не запутаться. Не думая о том, что мне предстоит еще много
допросов, я сразу тогда уловил верный тон разговора с этими
господами—держаться правды и останавливать внимание своего
противника на мелочах, не сознаваться в них и «выматывать»
самого следователя. В первом же случае это мне удалось. Не было
сказано ни слова о моем участии в «союзе», в Корниловском
выступлении и защите Зимнего Дворца.
Не имея возможности из моих показаний склеить какое-
нибудь конкретное обвинение, он начал играть на удачу и
обвинять меня в сношениях с иностранцами. Затем в сношениях
с заграницей и т. д., но скоро он оставил и это и перешел, как
и в допросе Юрьева, к юмористическому «манифесту» Ленина.
Он громко негодовал, ерошил волосы, кричал, что он, как
коммунист, не потерпит издевательства над великим вождем и т. д.
В результате нашего словопрения я вышел победителем. Ему
не удалось сделать из меня опасного преступника, и я оказался
только рядовым контрреволюционным офицером.
Целых три дня после нашего допроса просидели мы с
Юрьевым на Гороховой, пребывая в неизвестности относительно
окончательного решения нашего дела. Расстреляют или выпустят?
33
По здравой логике, по всему ходу дела должны были
выпустить. После допроса долго не сидели. Тюрьмы были
переполнены подследственными. Ссылка, концентрационные
лагеря и принудительные работы только что начали входить
в моду. В тюрьмах всё время приходилось освобождать места
для новых партий, а потому для старых сидельцев было только
два выхода — на волю или на тот свет.
Но нас почему-то опять перевели в Дерябинскую тюрьму.
Шансы на расстрел как будто бы и уменьшились, но новая
неизвестность и неопределенность нашей будущей судьбы
продолжала давить. К тому же голод начал давать себя
чувствовать, и передачи наши уменьшились. Уже остро хотелось
хлеба и сахару.
Приближалась зима, в камерах становилось холодно, но
тюрьма не отапливалась, и заключенным предстояли еще новые
мучения от холода. Но и с этой мучительной жизнью мы начали
свыкаться, призрак смерти как бы отдалился от нас, и казалось,
что нам уже не грозят опасные перемены.
Однако путешествия мои по тюрьмам тогда только что
начинались, и в середине ноября комендант тюрьмы, в числе
других фамилий, вызвал по списку и мою: «Безсонов... С
вещами выходи».
Фамилии Юрьева в списке не было. Воть опять случай,
когда Советская власть еще раз показала отсутствие какой-
либо системы, смысла, логики и последовательности в своих
поступках и действиях.
В тот же день вечером, как я потом узнал, Юрьева
выпустили на свободу... Почему? Отчего? Чем это объяснить?.. Я до
сих пор не знаю.
Юрьев помог мне уложить вещи, донес их до ворот, и мы
простились. Потом, много времени спустя, когда мы вновь
встретились, то признались друг другу, что одна и та же мысль
была у нас обоих, когда мы прощались: «Меня ведут на
расстрел». Но ни тот, ни другой ничем, ни одним словом, ни одним
намеком не показали этого...
Собралось нас тогда во дворе человек 20. Конвой окружил
нас, и мы вышли на улицу за ворота тюрьмы. От конвоиров
удалось узнать, что нас ведут в бывшую военную тюрьму на
Нижегородской улице на Песках. Пришлось идти с одного края
города на другой. С Гавани на Пески.
34
Новая тюрьма мне понравилась. Она состояла из ряда
отдельных камер. Было особенно приятно, после
четырехмесячного пребывания на людях, в толпе — очутиться одному.
Кругом не было ставшего уже привычным галдежа и шума.
Но полное одиночество — вообще тяжелое наказание.
Одно из самых важных условий «хорошей», если так можно
выразиться, жизни в тюрьме, — это возможность общения
с другими заключенными. Поэтому первой мыслью опытного
арестанта является вопрос: где уборная? Если уборная тут же
в камере — тюрьма строгая, и общение с другими арестованными
в такой тюрьме значительно затруднено, если же уборная общая,
в коридоре — при умении можно было видеться с кем угодно.
В военной тюрьме на Нижегородской улице условия
оказались исключительно благоприятными. Уборные были в камерах,
но двери в камеры были открыты весь день. Не запрещалось
видеться с товарищами по заключению, говорить с ними,
ходить к соседям. Такое положение дел, конечно, казалось нам
идеальным. Перед нашим приходом эту новую для нас тюрьму
только что очистили, т. е. часть ее обитателей отпустили на волю,
а часть, кажется человек 120, расстреляли.
Компания у нас подобралась симпатичная: моряки,
несколько крупных коммерсантов, несколько агентов уголовного
розыска царского времени, «саботировавших» Советскую власть,
и группа анархистов, удивлявших всех своей эксцентричной
наружностью, дикими выходками и... полным непониманием
исповедуемой ими же идеологии.
В военной тюрьме мы зажили хорошо. Пока расстрелами
не пахло, и потому нервы наши поуспокоились.
Жить было бы совсем хорошо, если бы не постоянные,
днем и ночью, мучения голода и холода. Тюрьму, конечно,
не топили. Впиться в краюху хлеба зубами, чувствовать ее на
своих губах, — для многих из нас сделалось предметом самой
упорной мечты.
Но нам предстоял новый этап.
В неизвестном направлении
Часов около 6 вечера 13 декабря 1918 года нам объявили,
чтобы мы «были готовы», так как будем отправлены в
«неизвестном направлении».
35
В чем должна была выразиться наша готовность — не только
нам, но и нашим тюремщикам было неизвестно. Ведь мы все
были в летних, в лучшем случае осенних пальто, и, конечно,
не были подготовлены к путешествию по декабрьскому морозу.
Как приготовиться?.. Как можно из тюрьмы дать знать
домой?.. На мне было осеннее пальто и старые легкие сапоги
с тонкими поношенными подошвами.
Уже совсем в темноту, в 9 часов вечера нас, как всегда
предварительно обыскав, вывели на тюремный двор и сдали
конвою. Конвойные построили и повели. От них на ходу нам
удалось узнать, что ведут нас на Николаевский вокзал, чтобы
отправить на работу в Вологду
У нас не было никаких данных предполагать, что жизнь
наша там улучшится, — но все-таки каждый из нас в отдельности
почему-то проникся надеждами на улучшение. Надеялись, что
хуже не будет.
Два часа продержали нас в наших легких пальтишках на
лютом морозе. Наконец вагоны были поданы, и нас погрузили.
«Свисти, машина, я пошел...» — как говорят уголовники.
Это была моя первая поездка в арестантском вагоне. Вагон,
в который нас погрузили, был в прежнее время приспособлен
для настоящих преступников. Внешний его вид мало отличался
от вагона третьего класса. Разница была только в том, что на нем
была надпись «арестантский» и на окнах были толстые решетки.
Внутри был коридор и клетки с решетками — купе. Пять камер,
рассчитанных на восемь человек каждая. Нас отправили 90
человек в двух вагонах. Режим в вагонах, сравнительно с другими
моими поездками, был сносный. Доходило до того, что нам
разрешалось на станциях выходить по два-три человека с одним
конвоиром и обменивать на имеющиеся у нас вещи кое-какие
продукты, которые крестьяне выносили к поезду.
Это послабление отчасти объяснялось тем, что конвоиры
наши были тоже голодны, и мы делились с ними продуктами,
но я думаю, что была и другая причина. Эта причина — чувство
сострадания ко всем обиженным, особенно сильно развитое
в русском человеке. А конвоиры наши были самыми простыми
русскими людьми, и никакая пропаганда коммунистических
идей не могла заглушить в них этого чувства. Недаром русский
народ называл арестантов не преступниками, а «несчастными».
36
Недаром в Сибири долго сохранялся обычай в деревнях: у входа
в избу оставлять хлеб и молоко и открывать на ночь какое-нибудь
помещение — баню, сарай или гумно — для бездомного бродяги,
чаще всего беглого каторжанина или скрывающегося от властей
человека. Может быть, в другой обстановке у этих солдат было
бы к нам и другое отношение. Но здесь мы были для них уже не
враги, а просто люди, которых грешно было не пожалеть.
Ехали мы до Вологды четверо суток. Здесь началось мое
арестантское образование и тот внешний перелом, который
помог мне преодолеть все те материальные лишения, которые
казались мне тогда непреодолимыми и как бы первенствующими
в жизни человека. Из более или менее изнеженного
интеллигента, не привыкшего и не приспособленного к подобной жизни,
я постепенно начал превращаться в загнанного, но постоянно
готового к борьбе за существование зверя, смело смотрящего
в глаза опасности.
В Вологде для нас была отведена не тюрьма, а какое-то
помещение, кажется, гимназия, — точно я не мог выяснить,что
это было за учреждение, помню только его отратительные
особенности. Здание было громадное, но нас почему-то поместили
в маленькой клетушке с нарами в 2 яруса. На войне и в тюрьмах
мне пришлось видеть разные уборные, но я никогда не мог себе
представить, что таким местом может быть ряд больших комнат
с лепными потолками и паркетными полами.
Здесь это было так. Отводилась комната, затем, когда она
была окончательно загажена, ее запирали и переходили в
следующую. Таким образом, к нашему приходу были «использованы»
уже три комнаты, и мы «пользовали» четвертую. Кому, зачем
это было нужно?
Здесь я познакомился с человеком, которому я отчасти
обязан своим арестантским образованием. Встретился я с ним
при выходе из Нижегородской тюрьмы, и мы вместе ехали до
Вологды. Это было то, что часто называют «темным типом». Для
кого — Васька, а для кого и Василий Александрович Бояринов.
Кем он был раньше, я, несмотря на самые хорошие с ним
отношения, так толком и не узнал. Ему было лет около 30.
Профессий у него было множество. Он был и портным, и поваром,
и биллиардным маркером, и чернорабочим. Мне особенно
нравилось в нем его отношение к Советской власти. Имея все
основания, по своему социальному положению, перекинуться
37
к большевикам, он не только не сделал этого, но к каждому из
коммунистов относился с каким-то снобизмом.
Вот что он рассказывал про свой арест. Шел он в
Петрограде, по Николаевской улице, сильно пьяный, часа в 4 утра.
На улице почти никого не было, и ему стало скучно. Увидев, что
навстречу ему идет автомобиль, он решил объединиться с
пассажирами. Вышел на середину улицы и замахал руками.
Автомобиль остановился, Бояринов открыл дверцу и, для того чтобы
начать разговор, попросил дать ему закурить. Чекисты, ехавшие
с «работы», пригласили его сесть в автомобиль, и он очутился
на Гороховой. Потом в Нижегородской тюрьме, и теперь здесь,
где он был очень недоволен отведенным для нас помещением.
Вышел он из Нижегородской тюрьмы почти голым, так как
всё, что у него было из одежды, он променял на хлеб еще на
Гороховой. Но теперь у него была снова теплая куртка, шапка
и валенки, которых ни у кого из нас не было. Чувствовал себя
здесь Бояринов как дома, быстро сходился с конвоирами и
входил к ним в доверие.
Пробыли мы в Вологде около недели. Затем нас снова
погрузили в вагон и отправили на север. Тяжело было ходить
с постелью на плечах, в тонком пальто, таких же сапогах в
декабрьский мороз. Организм к этому был совершенно не
подготовлен. Да и пять месяцев сидения по тюрьмам, конечно, не
могли не отозваться на нас. Глаза щурились от света, лица у всех
были бледные, отекшие, опухшие, — специфически тюремные.
Перемещения, однако, были некоторым развлечением. Нас
привезли на станцию Плясецкую на железнодорожном пути
в Архангельск. Поселок был небольшой. В центре находились
железнодорожные здания, вокруг них было расположено
несколько купеческих и крестьянских домов. Невдалеке — церковь.
Здесь стоял штаб, насколько мне помнится, 11 -й пехотной
дивизии красной армии. Все дома сплошь были заняты разными
учреждениями штаба. Штабы и тыловые учреждения красной
армии на севере были колоссальны. Помещения для них никогда
не хватало. На всех запасных путях Плясецкой стояли вагоны,
начиная с салон-вагона и кончая теплушками, которые были
заняты разными штабными организациями и начальством.
Невдалеке было и наше помещение. Это был ряд больших
землянок, человек на сто каждая, окруженных колючей
проволокой, с часовыми у входа. Построены они были неумело
38
и протекали. Окон не было. Они не отапливались. Люди спали
на голой земле. Но все-таки и здесь были свои преимущества.
Царил полный беспорядок, и благодаря этому мы имели
возможность питаться. К нам в землянки напихивали крестьян,
которых мобилизовали для различных повинностей, и от них
мы добывали еду.
Тут Бояринов оказался на высоте. Вместо летнего пальто
от Анри на мне уже была ватная куртка, вместо шевровых
сапог — какие-то старые, но толстые башмаки. При его умении
и смелости мы всегда имели кое-какие продукты. Помню даже,
что он как-то раз променял у крестьян рябчика и зажарил его
в коробке от монпансье. Главной нашей пищей была селедка,
после которой выпивалось громадное количество кипятку.
Благодаря полному отсутствию порядка я здесь ни разу не
выходил на работу.
Провели мы тут Рождество и встретили новый 1919 год.
В середине января нас перевезли еще дальше на север — на
так называемый «Разъезд 21-й версты». Здесь мы находились
ближе к фронту, между ним и штабом дивизии. Этот разъезд
был предназначен для «поднадзорных», как официально нас
называла Советская власть.
Вообще Советская власть очень любит смягчать названия,
касающиеся наказания ее граждан. Ее гуманное ухо не
выдерживает грубых названий. Так, например, каторжан она называет
поднадзорными, каторгу — принудительными работами,
тюрьмы — исправдомами, что в переводе означает исправительные
дома, одиночные тюрьмы — изоляторами и т. п.
За недостатком места в старых тюрьмах во многих местах
ею построены или заняты деревянные бараки, рассчитанные
на большое количество арестантов. Советская власть мягко
называет их «концентрационными лагерями». Даже
знаменитая, выделяющаяся своим режимом и в советской России,
Соловецкая каторга большевицкой властью ласково называется
«Соловецким лагерем особого назначения».
Я человек не сентиментальный и поэтому позволю себе
придерживаться старых названий. Итак, нас, каторжан, перевели
на новые работы. Жилось здесь так плохо, что и вспоминать
об этом тяжело. I
Нашими новыми тюрьмами были несколько деревянных
бараков-изб, окруженных проволочными заграждениями. Сто-
39
яли они невдалеке от железнодорожной платформы. Больше
никаких строений, кроме избы, занимаемой конвоем, и дома
начальника полустанка здесь не было. Ближайшая деревня
находилась верстах в двадцати. В этом оазисе, среди леса и снега
мне пришлось прожить около двух месяцев. Срок небольшой,
но вполне достаточный для того, чтобы понять и прочувствовать
всю гамму советской тюремной гармонии.
Эта каторга могла конкурировать даже с Соловецкой. Здесь
были удачно соединены и постоянная угроза смертной казни,
и совершенная неизвестность за будущее, и оторванность от
мира, близких, и ужасный холод и голод.
Малейший намек на неисполнение приказания любого
конвоира, не говоря о попытке к бегству, карался расстрелом.
Однажды, во время работы от усталости, истощения и холода
свалился лейтенант флота Борейша23. Конвоир потребовал,
чтобы он встал. Он этого сделать не мог. Этого обессиленного
человека обвинили в попытке бежать и расстреляли.
Письма и посылки до нас не доходили. Связаться с кем-
нибудь, попросить кого-нибудь или освободиться по протекции
не было никакой возможности. Неизвестность за будущее
давила тем более, что почти все, в том числе и я, были осуждены
без срока. Это было в то время рядовым явлением в советской
России. Но самое ужасное в нашем тяжелом, безнадежном
положении были голод и холод. Последствием такого режима
могла быть только смерть — медленная, но верная смерть.
Я повторяю, что мы были совершенно оторваны от мира.
Везде, даже в тюрьмах, есть возможность достать со стороны
кусок хлеба или какие-нибудь продукты. Нет у тебя — поддержат
товарищи. Здесь это было невозможно. Мы — каторжане, и на
20 верст кругом никакого жилья.
Условия жизни были таковы: в пять часов утра нас будили
и нам полагалось получить 1 фунт хлеба, 4 золотника сахару
и суп. Я говорю «полагалось», т. к. нам всегда выдавалось гораздо
меньше. За наш счет питалась и администрация, и конвой. Эта
выдача и составляла наш паек на весь день. Вечером давали
кипяток. Утром, в 8 часов нас выводили на двор, строили, считали,
грузили в совершенно холодный товарный вагон и везли верст
за 10 на работы. Морозы в этой полосе России стоят в это время
в среднем около 12—15 градусов по Реомюру. Доходят они и до
25—30 градусов. Эти прогулки были, пожалуй, еще хуже самих
40
работ. Нельзя было двигаться в вагонах, и люди замерзали.
Работали мы до темноты, затем около часу ехали с работы и часов
в 8 вечера возвращались в тюрьму. Итого от 12 до 14 часов на
морозе без теплой одежды.
Я не знаю, какова была смертность в этом проклятом,
забытом всеми, среди лесов и снега, местечке, искусственно
созданном больной большевицкой фантазией. И это меня не
интересовало. Зачем было вычислять этот процент смертности,
зачем было выяснять вероятность смерти, когда она ежечасно
грозила каждому из нас? Зачем было лишний раз думать о ней!
Знаю только, что за короткое время моего заключения там
несколько человек сошли с ума. Мои товарищи по несчастью почти
поголовно потеряли человеческий облик, обросли, покрылись
грязью и были сплошь во вшах.
За всё время пребывания там я не слышал смеха и не видал
улыбки. Люди были апатичны, безразличны ко всему
окружающему, во всех жила только одна постоянная, ужасная мысль
о хлебе и отдыхе.
Все собаки и кошки, находившиеся на разъезде, были
съедены. Каторжане крали их и варили. Только благодаря Бояринову,
умудрившемуся иметь запас сухой воблы, променянной где-то,
мне не пришлось попробовать этой гастрономии.
А. АРГУНОВ24
В БОЛЬШЕВИЦКОМ ПЛЕНУ*
I. В Смольном
Холодная питерская зима 1917 г. Переворот октябрьский
уже завершается. Облетают цветы, догорают огни
революции. Ликвидированы остатки Временного правительства,
ликвидированы попытки сопротивления; еще где-то кого-то
разоружают. Добивают. Аресты, обыски, аресты... И всё
явственнее проступает из тумана фигура Смольного — гнезда
разбойничьего.
Жутковато возвращаться в предутренние часы из редакции
домой. Редки прохожие. Проедет автомобиль, встретится
патруль. Где-то постреливают...
Скверно работается и в газете. Уже нависла угроза расправы.
Появляются на типографском дворе подозрительные фигуры
в матросском одеянии. Один пробрался в самое помещение
и продал дешево наборщикам бутылку царского вина — из
погребов Зимнего Дворца. Работают наборщики, однако,
с прежним настроением, только плату постоянно набавляют.
Даже большевиков поругивают: «Ишь, разбойники». Газету
конфискуют на улице ежедневно; придумывает Смольный
и более радикальное средство: сторожат час выхода газеты и
налагают запрет. Приходится на хитрости пускаться. Заготовляется
в машинном отделении стереотип и, в запас, заглавие новое
для газеты делается. Как уйдет большевицкая полиция, опять
машину в ход — и новая газета готова. Но одолевала хитрость
вражеская. Приедут, раскидают шрифт, а потом и машину
попортят. Делали порчу сначала неумело, — машинист только
посмеивался; цо потом научились; опытного человека с собой
привозили, и машину ранили уже надолго.
Поздно ночью заканчивался выпуск газеты. Скрипят
перья хроникеров, суетится метранпаж, быстро шьет наборная
машина...
* Фрагмент статьи: Аргунов А. Без свободы // На чужой стороне
(Прага), № 13, 1925. С. 100-109.
42
Шум шагов, разговоры. Ближе, ближе... «Где тут редактор?»
Подхожу, заявляю. Тип в матросском одеянии, другой в
штатском. Наганы у пояса и всё прочее, как полагалось. Остановилась
вся работа, полна комната народу. Старый наборщик шепчет:
«Возьмите мой паспорт, объявитесь моей фамилией. Не тронут».
Отклоняю дружескую услугу. Будь, что будет.
— Поедете с нами, — объявляет тип.
— Куда?
— Там увидите.
Пристал хроникер, протестует против ареста и заявляет:
— Желаю и я ехать.
Соглашаются. Грузовик с вооруженными ждет во дворе.
Трогаемся. Молчу. Унимаю неугомонного хроникера, с азартом
доказывающего типам незаконность ареста и язвящего
аналогиями с царским режимом.
Смольный. На пустынном дворе торчит орудие; кучки
штатских с винтовками на плече — «красная гвардия». Вводят
в большую, без мебели, комнату. Полно народу. Не разберешь,
где тут арестованные, где начальство. Никто не «принимает»,
никто вообще не интересуется тобой. Только одна фигура
заметно выдается: рыжий, прыщеватый, огромного роста детина;
ходит, посматривает. Видно, «комендант» какой-нибудь. Да за
шкафом в углу собрались какие-то, шепчутся. Не то обсуждают
вопрос партийный, не то план ночного налета.
Настроение непривычное. В тюрьме ты или в гнезде каком-
либо? Томит жажда, а испить не дадут. Клонит ко сну. Прилечь не
на что. Ходи, гуляй! Пробуем выяснить положение, предъявить
требование. Безрезультатно.
Тянутся часы за часами. Наконец, какое-то движение.
Позвали, повели. Коридором, лестницами. Остановились перед
комнатой; около торчит товарищ с ружьем, а на двери бумажка
с надписью: «Бюро меньшевиков-интернационалистов»
(позднее бумажку эту сняли и кто-то начертал на двери: «здесь сидят
изменники народа»). «Бюро» свое интернационалисты уступили
под камеру для арестованных.
Входим. «Здравствуй, тюрьма большевицкая... Какова-то ты?»
Большая светлая комната с рядами кроватей; по соседству
другая с несколькими загаженными умывальниками (бывший
дортуар пансионерок Смольного). Население довольно разнооб-
43
разное с преобладанием военных мундиров. Сотрудники газет,
почтовые чиновники, инженеры, юристы, профессора, купцы
и просто люди без профессий. Молодые, старые. На лицах
растерянность, недоумение. Разговор вполголоса, оглядка на дверь.
Днем комнаты оживают. Приходят жены, родственники
с кульками, коробками. Беседа на кроватях; озабоченные лица,
вздохи: «Что-то будет?»
Потянулись дни, скучные от безделья. Перезнакомилась
между собой «контрреволюция», развязались языки, слышатся
уверенные фразы: «Недолго всё это протянется».
Мы с генералом Маниковским25 сошлись в выводе: коли
ты в камере, то надо чистоту поддерживать. Человек он
здоровый, руки просят работы, а у меня старая тюремная привычка.
Разделили труд. Генерал возится с печками, я мету пол.
Молодежь офицерская с хроникером в центре бесконечно
спорит. Ген. Марушевский26 не сползает с кровати. Кое-кто
жарится в шашки, шахматы.
Только один среди нас неприкаянный. Сидит одиноко,
молчит, смотря вперед себя. Черная, окладистая борода,
поддевка, сапоги бутылкой. Звания, очевидно, купеческого. Пробую
познакомиться, вызвать на разговор. Предлагаю в шашки,
в поддавки. Соглашается, но «в крепкую». Оживляется лицо,
сходит с него мрачность. С каждым ходом — прибаутки, а как
запер мою дамку, так заулыбался, развеселился: «За что сидите?»
Рассказывает простую историю: «Продал ему по его просьбе
десять фунтов чаю, а он деньги заплатил и донес, подлец.
Отобрали и чай, и деньги».
«Спекулянт», значит. Уже излавливалась Смольным эта
категория людей, подкармливала новую власть.
Тут же в камере часовой с ружьем. Из «красной гвардии».
Вглядываешься в лицо, ищешь выражения преданности идее,
искры злобы, ненависти, сочувствия. Ничего не говорят глаза.
Часовой как часовой. Служит... Ген. Маниковский даже доволен:
«дисциплина въелась; что ни говори, а солдат русский выправку
сохранит при всех условиях».
Попался один часовой особенный. Сам в разговор вступил,
назвал по фамилии. Оказались мы знакомыми — по одному
процессу когда-то привлекались. Стал он левым эсером и в
красную гвардию пошел, а теперь вот сторожит арестованных.
Да, игра судьбы: вчера вместе в тюрьме сидели, а сегодня он
44
меня сторожит... «Товарищу Аргунову, — поясняет он
окружающим, — это нипочем, сколько в тюрьмах высидел».
За дверью, в коридоре вечный шум, движение. Тут же
недалеко от нашей камеры и высшая власть российская заседает —
Совнарком. Бегают взад-вперед «товарищи», хлопают двери.
Много среди них знакомых лиц. Все они из Парижа, Женевы
и других насиженных эмигрантских мест. Когда, помнится,
пришлось заглянуть на заседание Совета рабочих депутатов
в Таврическом дворце, — то оторопь взяла. И президиум, и
ораторы, и публика — сплошной эмигрант.
Неприятно показываться в коридоре. А надо. «Параши»
в камерах не полагается, изволь путешествовать под конвоем
куда-то по лестнице вниз. В первый раз столкнулся с
Натансоном. Были мы более десятка лет вместе, работали рука об
руку в центральном комитете П.С.Р.*. А теперь вот он с
большевиками и идет по своим делам, а я, под конвоем, по своим.
Смотрю на него: не вынес старик, шарахнулся, скосил глаза.
В другой раз — с Троцким встреча. Идет под охраной матроса,
а я — красногвардейца. Смотрит гордо-презрительно. Злоба
душит: «Погоди, авось роли переменятся».
Неприятна эта прогулка коридорами для всех арестованных;
«товарищи» по пути останавливаются, глазеют на «изменников
народа», отпускают «выражения». Ген. Маниковскому выйти
в коридор каждый раз мучение. Неловко ему, генералу, под
конвоем парадировать, да еще в такое место. Общую беду
разрешили самопомощью. Старались выходить группой, «повзводно».
Делали клич желающим и отправлялись в путь одновременно.
Тянутся однообразно дни. С воли всё те же безотрадные
вести: громят, убивают. Массовые бессудные расстрелы,
убиение офицерства в Кронштадте и других местах. У нас в камере
пока спокойно. Изредка кое-кого куда-то уводят; появляются
новые соседи.
Но тучи уже нависают. Позднею ночью вваливается кучка
матросов. Смотрят молча, сурово. Один, который поближе,
цедит: «К нам бы, в Кронштадт, сволочей». Уходят. Тихо в
камере, чуется невзгода.
Утром десяток конвоиров, команда: «Одевайся, собирай
вещи». Выводят в коридор, ведут всё вниз, вниз. Сзади и с
* Партии социалистов-революционеров. — Прим. ред.
45
боков недружелюбные окрики: «Пошевеливай, чего
остановились!» Спускают в подвальный этаж, втискивают в
маленькую комнату, где всюду грязь, масса тараканов и не на чем
сидеть. Толпимся, ждем, что будет дальше. Через несколько
часов снова: «Выходи». Приводят в прежнюю камеру. Зачем
эти маневры?
Уже много раз переменился состав камеры, а я всё еще сижу,
ожидая судьбы. Ни допроса, никакого юридического действия.
Заглянул в камеру с.-д. Рязанов, — он в стане начальствующих,
но ведет себя независимым сановником. Увидав, изумляется:
«Как, вы всё еще здесь, товарищ?» Наконец ведут на допрос.
Ба, знакомые лица: Красиков, Козловский, еще кто-то. Не
допрос, а спор, полемика:
— Мы — народная власть социалистическая.
— Нет, вы — насильники, победители на час.
Допрос недолгий. Обратно в камеру. Наутро снова в
следовательскую. Картина другая. За столом скромная фигура
в штатском. Бесцветные глаза, бесцветное лицо, странная
с акцентом речь.
— Будьте любезны написать вот тут.
Сует опросный лист. «Что за чёрт, всё как при старом
режиме. Уж не из прежних ли ты сам, голубчик?» Заявляю твердо:
— Ничего писать не буду, а потрудитесь сказать, почему
меня держат арестованным и кто вы?
Рекомендуется:
— Петере. Я тоже был редактором газеты, и мы можем
с вами беседовать, как коллеги.
— Нет, — говорю, — не привык я к таким беседам в такой
обстановке.
— В таком случае ответьте по пунктам опросного листа.
— Нет, не буду этого делать.
— Значит, отказываетесь от показаний?
— Да., отказываюсь.
На этом и расстались «редакторы». Придется, видно,
посидеть и не мало времени.
Однако вскоре освобождают. Захватываю чемоданчик, и вот
поздно ночью на свободе. Пустынно вокруг Смольного. Беру,
не торгуясь, извозчика, чтобы скорее от этих мест. Не утерпел,
завертываю на Невский, в типографию. Разгар работы в
машинном отделении. Обрадованные лица, расспросы...
46
II. В Петропавловке
Наконец-то после долгих собраний, совещаний и
колебаний решено открыть 5 января Всероссийское] Учредительное]
Собрание. Кончились фракционные работы, намечен кое-какой
план действий.
Возвращаемся с П. А. Сорокиным27 с последнего заседания,
еще не остывшие от впечатлений. Надо забежать в редакцию,
которая тут недалеко, на Бассейной, чтоб распорядиться насчет
завтрашнего номера...
Дверь отворяется без звонка, и мы сразу окружены
неизвестными личностями. В комнатах беспорядок, все служащие
сбились в кучу. Обыск? Нет, хуже. Распоряжается какой-то в
полувоенной форме. Созванивается по телефону и объявляет чей-
то приказ: всех без исключения арестовать, а газету прикрыть.
Выводят под конвоем; на улице грузовик, в который и набивают
до отказу. Пыхтя и переваливаясь в снежных сугробах, тащится
грузовик, и скоро мы на Гороховой.
Комнаты со шкафами и кучами бумаг, папок. Скоро нас
двоих, членов У. С, отделяют от остальной компании сослуживцев
по конторе и редакции. Подходит испитая, худощавая фигура
и привычной рукой лезет в карманы. Отстраняюсь. Принимаю
возможно боевую позу и, твердо скандируя слова, заявляю: «Как
член Всероссийского Учредительного Собрания протестую
против нарушения моей неприкосновенности и обыскивать себя не
позволю». Фигура в нерешительности топчется и затем исчезает.
Входит товарищ начальник. Резким тоном распоряжается:
— Никаких разговоров, обыскать!
— Не позволю, — почти кричу ему. — Кто вы такой, как
ваша фамилия?
— Не ваше дело, — бросает он на ходу.
— А, трусите, — шлю ему вдогонку.
Остаемся вдвоем с фигурой.
— Как вам не стыдно, — говорю, — заниматься такими
делами?
— Что ж, наше дело подневольное, как прикажут. Да вы
успокойтесь, господин; только покажите свой портфельчик.
Иду на компромисс: вынимаю портмоне, показываю.
— А оружия при себе не имеете?
— Нет, не имею.
47
— Ну вот и всё. Счастливо оставаться.
На улице карета с парной упряжкой. Садимся. Визави
усаживаются две военные фигуры. Лица каменные, не русские.
Руки в карманах и чувствуешь, что в этих карманах
заготовленное оружие.
Едем молча. Куда? В окна каретные ничего не видно.
Может быть, в Неву сбросят, а, может быть, иначе как-нибудь
прикончат...
Двор Петропавловской крепости. В комендантской
комнате, совершенно пустой и холодной, чего-то ждем. Ждем долго,
переминаясь с ноги на ногу, ибо присесть негде. Наконец
повели. Низкая калитка, дворик и ворота Трубецкого бастиона.
Длинный коридор с дверями камер.
Так вот она, Петропавловка! Не пришлось познакомиться
с тобой в царское время, познакомимся в революционное.
Камера — гроб. Кровать и столик железные, привинченные
к стене — вот и вся мебель. Окно под самым потолком. В тюрьме
тихо. Уже ночь. Принесли два соломенных тюфяка, положили
на пол. Не совсем подобающее ложе для членов Высокого
собрания. Но ничего не поделаешь. Надо спать.
С утра знакомство. Прежде всего постучал в стенку к соседу.
Отозвался. «Кто?..» «Авксентьев28». Оказывается, заключенных
порядочное количество, в том числе министры Временного
правительства.
После утреннего кипятку матрос — начальник стражи
заявляет, что в соборе богослужение и мы можем пойти, если
желаем. «О да, конечно».
В коридоре заключенные в сборе, ждут. Авксентьев,
Терещенко29, Шингарев30, Кокошкин31, Бернацкий32, Долгоруков33.
Рукопожатия, знакомство.
Тут же еще две фигуры стоят. Знакомимся: Щегловитов34,
Сухомлинов35. Так-с... Довольно неожиданная встреча и в
необычном месте.
Скучно тянет службу причт. Пусто в храме. Кроме нас,
заключенных, да каких-то старушек и калек, нет никого. Рядом
с Сухомлиновым появилась женская фигура.
Импровизированное свидание с женой.
Пользуюсь благоприятным случаем и знакомлюсь с
внешним видом коридоров и камер. Интервьюирую старика-над-
48
зирателя, который служит в этой должности с незапамятных
времен; служит теперь при большевиках. Ему всё равно.
Раньше — куда строже было. Никаких разговоров с заключенными
и никаких сношений между ними. Вспоминает фигуры старых
революционеров, но фамилий не знает (не полагалось знать).
«А вот в этой камере сидела старушка (Е. К. Брешковская).
Удивительная старуха. Языки все иностранные знала. И всё
пишет, пишет. Говорят, на тысячу рублей написывала».
Как-то позднее попалась мне страница чьей-то рукописи;
завернуто в ней было съестное, принесенное из тюремной
конторы. Подумалось: ведь уничтожат товарищи таким образом архивы
бастиона... Подал заявление: желаю, мол, использовать свободное
время на разработку архива; прошу допустить. Получил отказ...
Режим в тюрьме какой-то переходный. Взято кое-что от
прежнего, но привнесено много нового. Чувствуется желание
наладить порядок. Незадолго перед этим бастион был
общедоступен. Ходили матросы, солдаты смотреть на арестованных,
особенно на министров-капиталистов. Смотрели, как на зверей,
в глазок дверной, и слышны были их угрозы за дверью. Теперь
всё это прекратилось. Стража, во главе которой матрос, не
пускает никого из посторонних и всячески поддерживает
порядок. Свободно допускаются все газеты. Можно их покупать
у надзирателя утром. Хотя содержание одиночное, но не очень
строгое; смотря по надзирателям. А они, в особенности из
новеньких, еще не вошли в роль. Выпускают попарно заключенных
топить печи в коридоре. Это большое развлечение. Лучше всего
справляется с печкой здоровый, молодой министр Терещенко.
Хуже всех дается истопническое ремесло Бернацкому.
С вечера тишина в тюрьме. Только слышится из коридора
монотонное чтение, словно по складам: это дежурный солдат
читает газету. Потом зевает. Попадаются дежурные совсем
недисциплинированные. Свистят, напевают. Один, не стесняясь,
начинает контрреволюционное:
Болыие-вики, вики,
Шпион-чики, чики,
Вильгельмовы
Трепачи.
Прогулка общая во дворе, где сугробы снега и можно
поработать лопатой, а иногда и баталию снежную устроить. Но
49
большей частью прогулки в чинном порядке, с оживленной
беседой на злобы дня. Шингарев и Кокошкин всегда
неразлучны. Один высокий, худощавый, другой коренастый. Шингарев
говорит много и плавно, Кокошкин больше слушает. И так все,
кто в одиночку, кто попарно, кружатся по дорожке небольшого
двора. По углам часовые с ружьями и смотрят неприветливо.
Познакомились с Пуришкевичем36. Осужден «на
общественные работы» и по сему случаю заведует топкой печей.
Зашел в камеру; поздоровались через порог. Говорю:
— Примета плохая; поссоримся.
— О нет. Здесь мы в тюрьме, не враги. А вот будем на
свободе — будем драться.
Вид у него бодрый, держится смело. Когда идет на
свидания в контору, нацепляет старый орден в петлицу пиджака.
Стража ему симпатизирует. Это видно из обращений, из тона
разговоров. Спрашиваю у одного солдатика о нем. Улыбаясь,
говорит: «Что ж, что монархист. Зато смелый, не скрывается».
И серьезно добавляет: «Спросите солдат, которые на фронте
были, всякий помнит про поезд Пуришкевича37». Частенько
слышишь тихий разговор в коридоре, вперемежку с чтением
газеты. Это Пуришкевич толкует дежурному политические
события, напирая на «жида».
Вышло льготное распоряжение. С восьми до десяти часов
вечера отворяются камеры и можно свободно ходить в коридорах
и друг к другу. Устраиваются общие чаепития, беседы. Иногда
хоровое пение. Пуришкевич выступал со стихами собственного
творчества. Он постоянно бывает в нашем коридоре и держится
со всеми непринужденно. Другое положение у Щегловитова.
Он в камере, которая по соседству. Но из нее не выходит, хотя
дверь и отворена. Вход к нам ему заказан, и сделалось это как-
то само собой.
Захожу в гости к соседу, кн. Долгорукову. Трудновато ему
в камере с его тучностью. Ухитрился, однако, завести себе ванну.
Большой таз, и в нем он устраивает омовения. Часовой охотно
приносит ему воды.
Щегловитов и Сухомлинов становятся частыми моими
гостями. Если дверь в камеру не закрыта, они, идя на прогулку,
заходят и заводят беседу, пока часовой не окликнет. А окликает
их он резко, не так, как Пуришкевича. Вид у всемогущих царских
министров пришибленный. Щегловитов в своем поношенном
50
пальто с потертым бобром держится еще не без осанки; в нем
видна породистость. Но Сухомлинов, с вечной полуулыбкой
на лице, совсем жалок и выглядит паралитиком. Разговаривает
обычно один Щегловитов. Разговор не прямой, издалека.
— Вот что непонятно, г. Аргунов, каким образом вы,
редактор социалистической газеты и член Учр. Собрания, тоже
находитесь при нынешнем правительстве в одиночном заключении
и притом без предъявления какого-либо обвинения или статьи.
И дальше сравнение с прежним режимом, когда
господствовал закон. Видимо, хочется человеку разобраться в положении
вещей и, главное, заглянуть в будущее, которое его ждет. Но
делает он это не просто. Сильно раздражает манера его ссылаться
на прошлое, на закон. Знали ведь хорошо этот щегловитов-
ский закон! Пришлось напомнить о его «законе», о произволе,
о бессудных расправах. Беседы временно оборвались, а вскоре
и совсем прекратились. Стало не до них.
Щелк дверных засовов, и в камеру вваливается необычайное
число стражи. В чем дело? На пороге штатская фигура. Высокий
брюнет. Ба... товарищ министра юстиции Ал. Шрейдер38!
Бывали знакомы по Парижу. Там он был молодым,
скромным человеком и постоянно состоял при В. Чернове, работая
в его газете.
Был циммервальдцем и пораженцем. Потом с революцией
прибыл в Россию, оказался в числе лидеров партии левых
эсеров, получил от большевиков портфель юстиции и стал править
Россией. Переработал в несколько дней «Свод законов», потом
еще что-то учинил.
Тов. министра решил посетить места заключения, выслушать
жалобы от заключенных, соблюсти закон. Подходит,
здоровается, товарищески протягивая руку. Отвожу свою руку за спину,
невежливо заставляя высочайшую особу пробыть несколько
секунд в неловком состоянии.
Право, прежде высокие гости, посещавшие тюрьмы, были
хотя буржуазными, но не столь наглыми! Повертелся г. министр
по камере и удалился.
Ежедневное чтение газет только растравляет и убивает
надежды на будущее. Разогнано в обидной обстановке
Учредительное Собрание; а тут еще Урицкий прислал в тюрьму
в день его открытия входные билеты — посмеяться захотелось
попросту. Об арестованных никто не думает; никаких допросов,
51
никакого движения. И в чем обвиняют — неизвестно и будешь
ли ты когда-нибудь на свободе — неизвестно. Сиди и жди.
А между тем на воле чувствуется усиление нервности в рядах
правящей клики и нарастает жестокость ее. Сказывается это и на
ближайшем тюремном начальстве. Лица конвоиров сумрачны,
исчезла обычная доза добродушия в обращении. А тут еще
стрекотание пулемета. То и дело слышится это стрекотанье по
вечерам, словно какой-то враг осаждает бастион. И чудится во
всем какая-то тревога, и воображение рисует невеселые картины.
Загадка немного разъясняется из разговора с
надзирателями. Комендант тов. Павлов созвал собрание всей команды
Петропавловской крепости, и было суждение о том, что делать
с заключенными. Было внесено предложение, которое собрало
большинство голосов: устроить варфоломеевскую ночь, в ответ
на покушение на тов. Ленина и других со стороны
контрреволюционеров. Но это решение встретило энергичный отпор от
лица коллектива стражи, которая ведала Трубецким бастионом.
«Это будет бесчестно, товарищи, — заявил коллектив, — потому
что наши заключенные есть военнопленные, и мы не имеем
права с ними так поступить». Произошли бурные дебаты, но
коллектив устоял и «ночь» нас миновала. Надолго ли?
Поздно ночью в камеру входит один из стражи, наиболее
симпатичный. Лицо его бледное. Взволнованно сообщает:
— Убили.
— Как, кого, где убили?
— Сегодня убили г.г. Шингарева и Кокошкина там, куда
их перевели.
Страшное известие, даже не верится. Оказывается, увы,
правда.
Позавчера мы гуляли вместе на дворике, и Шингарев
сообщил о возможном переводе в больницу, так как он, и в
особенности Кокошкин, чувствуют себя очень слабыми.
Перевод в больницу действительно состоялся. Потом явились
туда какие-то личности и обоих убили. Почему убили, почему
именно их убили? Загадочная, зверская расправа.
Власти решили повести следствие, конечно, только для
виду. Даже арестовали кого-то из «участников». Привезли одного
молодца и посадили его в бастион, как раз в том коридоре, где
была камера покойного Шингарева. Удалось заглянуть в глазок
дверной и посмотреть молодца. Скуластое, оспенное лицо с вы-
52
ражением тупости. Такой молодец может быть только орудием
в руках других. Может зарезать, задушить, но по указанию. Где
же указчики?
Убийство Шингарева и Кокошкина неотступно владеет
настроением, и тихо, мрачно в бастионе. Снова усиливаются
слухи о варфоломеевской ночи; симпатизирующие нам
дежурные передают известия о враждебных настроениях среди чинов
команды. Встает вопрос о самоспасении в случае обнаружения
явных признаков расправы; поговаривают о каком-то
подземном ходе из бастиона на Неву. С воли родственники утешают:
скоро начнется ликвидация дел и многих освободят. Тягостная
неизвестность.
Вечером неожиданная новость. Вызывают в контору и дают
подписать какую-то бумагу, которая кончается постановлением
об освобождении.
Отворяется калитка бастиона, потом — крепостным
двориком. У выходных ворот костер и вокруг фигуры, вооруженные
до зубов. Поскорее бы миновать их...
И. МАНУХИН39
ВОСПОМИНАНИЯ О 1917-1918 гп
(фрагмент)*
«Октябрь»
Октябрьский переворот... В первую же ночь, когда
Временное правительство было арестовано и водворено в Трубецкой
бастион Петропавловской крепости, — раздался в моей квартире
телефонный звонок:
— Вы врач Трубецкого бастиона? Приезжайте немедленно.
— Как я приеду? У меня нет никакой возможности
добраться до крепости.
— Мы сейчас за вами приедем.
И приехали... Новый начальник крепости, — какого-то
военного чина Благонравов и другой — солдат Павлов, который
тут же мне объявил: «Я первый выпалил из пушки
Петропавловской крепости, но куда стрелял — не знаю»...
Меня посадили в автомобиль, в котором на пути ко мне
были пробиты пулями стекла и кузов, — и мы поехали.
Слышалась стрельба. «Неизвестно, кто стреляет...» — с тревогой
сказал один из моих спутников.
Перед Троицким мостом мы натолкнулись на заставу:
солдаты Павловского полка нас задержали для выяснения
личностей и повезли в свои казармы тут же, на Марсовом поле.
Когда выяснилось, кто везет, куда и для чего, — нас отпустили.
Трубецкой бастион снова наполнен, но теперь сидят уже
не монархисты, а члены Временного правительства... В ту ночь
я посетил только М. И. Терещенко, у которого оказался острый
бронхит с повышенной температурой, и П. М. Рутенберга40, во
время стрельбы слегка контуженного в голову осколком камня,
когда арестованных вели по Троицкому мосту из Зимнего Дворца
в крепость. Укрываясь от пуль, они полегли наземь, благодаря
чему никто другой и не пострадал.
Тем же порядком меня доставили домой, а на следующий
день я вновь посетил Трубецкой бастион и обошел всех моих
новых пациентов.
* Новый журнал (Нью-Йорк), 1958, кн. LIV С. 97-116.
54
С тех пор я посещал их, но нерегулярно: либо я сам
справлялся о них по телефону, либо меня в крепость
вызывали. Врачом Трубецкого бастиона я больше не состоял, потому
что Чрезвычайная Следственная комиссия была упразднена
вместе со всеми организациями Временного правительства.
Поступить же на службу тюремным врачом, когда я никогда им
не был и никогда им не значился, — я не хотел. Теперь у меня
оставалась лишь одна возможность сочетать свою врачебную
деятельность с посещением заключенных, — сделаться членом
Политического Красного Креста.
Политический Красный Крест был при царизме
полулегальной организацией, заботливо опекавшей всех «политических»,
где бы они ни находились и какое бы наказание ни отбывали.
После «Февраля», когда все «политические» вышли на свободу,
деятельность его сошла на нет. Теперь же, когда среди
преследуемых оказались либералы, демократы и даже старые испытанные
революционеры, как В. Л. Бурцев41 или П. М. Рутенберг, —
Политический Красный Крест возобновил свою деятельность.
Мои новые пациенты в крепости были настроены
спокойнее, нежели монархисты, и это было понятно: солдаты
охраны ненавистью к ним не пылали, пищевой режим новая
власть допускала сносный, встречи с родственниками были
чаще и свободней, а прогулки длительней. Вследствие этого
и времяпрепровождение в бастионе было иное: например,
Пальчинский (Петроградский генерал-губернатор) коротал
вынужденные досуги — плел корзины; А. И. Вышнеградский42
(директор Международного банка), посаженный в Трубецкой
бастион в декабре, писал там свою 4-ю симфонию в до-минор
для большого оркестра; В. Л. Бурцев упросил меня выхлопотать
ему камеру рядом с камерой С. П. Белецкого43 и теперь с
увлечением перестукивался с ним, дабы выведать всё ему интересное.
И вот вновь мне приходилось обдумывать, как бы
освободить заключенных из Трубецкого бастиона. Большинство
удалось по болезни перевезти в больницу тюрьмы «Кресты».
Кое-кого отпустили просто на свободу или в частные
лечебницы, обычно в лечебницу д-ра Герзони; в этом случае при
лечебнице оставался солдат охраны. Отмечу, что В. Л. Бурцев,
увлеченный беседами с С. П. Белецким, не пожелал
воспользоваться свободой, которую новая власть ему предоставила, и,
когда Белецкого перевели в больницу «Крестов», он просил
55
перевести его туда же. Там они содержались в одной палате
и даже лежали на смежных койках.
Выводить заключенных из крепости приходилось очень
осторожно. Неосмотрительность стоила жизни А. И. Шинга-
реву и Ф. Ф. Кокошкину. Это были дни вслед за покушением
на Ленина. Настроение солдат Петрофадского гарнизона сразу
накалилось до кровомщения. Теперь заключенных перевозила
новая инстанция — красная милиция Литейного района; во
главе ее стоял решительный и жестокий милиционер Михайлов.
Никаких препятствий районная власть поначалу не чинила,
но когда, вслед за покушением, я пришел говорить об
очередном перевозе кого-то из заключенных в «Кресты», Михайлов
встретил меня с такой явной враждебностью, что мне стало ясно:
никоим образом и никого перевозить сейчас нельзя. Между тем
на следующий же день после разговора с Михайловым утром
пришел ко мне Д. В. Философов44 с сестрой А. И. Шингарева
и настойчиво просил сегодня же перевезти А. И. Шингарева
и Ф. Ф. Кокошкина в больницу. Я сообщил о настроении
милиционеров Литейного района, но Философов и Шингарева
упрямо стояли на своем. Тогда я отказался наотрез: нельзя брать
на себя ответственность, предвидя, что ничего хорошего не
будет, а жизнь этих заключенных мы подводим под удар. Мои
посетители заявили, что, если я отказываюсь, они обратятся
к моему соседу на Сергиевской улице Н. Д. Соколову45
(составитель Приказа № 1). Каково было мое удивление час-полтора
спустя, когда я вышел на улицу и увидал Н. Д. Соколова,
садившегося на извозчика... «Я узнал, что Вы не беретесь вывозить
Шингарева и Кокошкина, — а я их вывезу!» — крикнул он мне.
С неодолимой тревогой смотрел я на удалявшиеся сани... В тот
же день к вечеру пришел Д. Ф. Философов и рассказал, что всё
обошлось благополучно: обоих заключенных уже перевезли,
и даже не в больницу «Крестов», а в городскую Мариинскую
больницу. Вести я удивился: неужели мои опасения оказались
преувеличенными? Больница находилась в Литейном районе,
т. е. они теперь попали в ведение тех самых милиционеров,
настроение которых было столь уфожающим, и очутились под
их охраною, потому что их оставили караулом при больнице.
Увы, на утро ко мне снова пришел Д. В. Философов, но уже
в слезах... Весь город уже облетела ужасная весть: Шингарева
и Кокошкина убили... Ошибкой была не только неосмотритель-
56
ная спешность, но и убеждение, что в городской больнице
заключенным будет лучше, нежели в больнице «Крестов». А между
тем, наоборот, пребывание в «Крестах» было тогда надежнее:
охрана Литейного района довозила заключенных из крепости
лишь до ворот «Крестов» и сдавала их тюремному караулу. Ужас
дикой расправы с А. И. Шингаревым и Ф. Ф. Кокошкиным
заставил тогда спешно перевезти некоторых заключенных из
частных лечебниц в «Кресты».
В итоге всех переводов и перевозов в «Крестах»
одновременно очутилась среди других группа министров Временного
правительства (А. В. Карташев46, А. И. Коновалов47, С. А.
Смирнов48, М. И. Терещенко и С. Н. Третьяков49).
Здесь была уже полусвобода: свидания с близкими почти
без ограничений, передачи с воли любых продуктов и одежды,
возможность взаимообщения заключенных благодаря открытым
дверям камер и больничных палат.
Кроме узников из Петропавловской крепости, «Кресты»
быстро стали наполняться самыми разнообразными
заключенными: высшие чины бывших гвардейских частей, представители
старых общественных организаций, банковские деятели, видные
чиновники разных ведомств и министерств... некоторые из них
были так называемые «саботажники», т. е. лица всевозможных
профессий и государственных и общественных должностей,
которые своим упрямым протестом против «Октября»
мешали новой власти хоть кое-как наладить общественную жизнь
в стране и в столице.
Одним из «саботажников» был мой добрый друг, пианист
и дирижер А. И. Зилоти50. При Временном правительстве он
был назначен директором Мариинского театра. После «Октября»
театр забастовал: директор, артисты, хор и оркестр.
Луначарский — комиссар народного просвещения, в ведении которого
находились театры, своими пламенными речами-увещеваниями
ничего не добился. Театр оказывал упорное сопротивление.
Луначарскому удалось выяснить, что вся сила сопротивления
исходит от Зилоти, и, не долго думая, он посадил А. И. в «Кресты».
Узнав об аресте, я бросился в Зимний дворец к
Луначарскому. Он принял меня в большой полупустой комнате (никакого
секретариата, по-видимому, у него еще не было).
Взволнованный, расстроенный, какой-то растерянный, он шагал из угла
в угол комнаты, стал жаловаться на невероятные трудности,
57
которые встречает новая власть, на саботаж. Об освобождении
Зилоти не хотел и слышать: он держит всю оперу под своим
влиянием, он виновник, что театр бастует. «И вы увидите, —
решительно заявил Луначарский, — без него опера откроется».
После долгих переговоров и настойчивых увещаний и
упрашиваний Луначарский в конце концов пошел на компромисс: из
«Крестов» он Зилоти выпустит, но при условии, что я перевезу
его к себе на квартиру, а у меня он должен сидеть, не выходя на
улицу и не пользуясь телефоном. Ответственность за исполнение
этих условий возлагается на меня. С какою радостью помчался
я в «Кресты» с документом об освобождении в руках!
А. И. Зилоти я застал в маленькой тесной камере с грязными
обшарпанными стенами и тусклым от грязи оконцем. Трудно
было вообразить большего несоответствия своеобразно-изящного
облика А. И., его тонкой музыкальной души с окружавшей его
обстановкой! Со свойственной ему непринужденной веселостью
встретил он весть о свободе и, прежде чем я успел опомниться,
со смехом повлек меня куда-то в конец галереи... в уборную.
«Полюбуйтесь, нет, вы полюбуйтесь на эту архитектуру! Это же
черт знает что!.. — восклицал он. — Следующий свой концерт
я дам в пользу переустройства этого "учреждения" в "Крестах"...»
А затем, когда мы вернулись в камеру, указал на надпись на
грязной стене. Там значилось: «Здесь сидел вор Яшка Куликов».
— А вот я сейчас и продолжу, — сказал А. И. и четко выписал
карандашом: «и ученик Листа Александр Зилоти».
Узнав о предстоящей поднадзорности на моей
квартире, А. И. только расхохотался, — и мы оба весело покинули
«Кресты».
Через 2—3 дня добежала до нас весть, показавшаяся в
первую минуту невероятной: Шаляпин, Федор Иванович, Федор,
давний приятель А. И., с которым он был на «ты»... уже поет
в опере и увлек за собою всех саботажников Мариинского театра!
Зилоти был ошеломлен...
При таком внезапном и крутом повороте Шаляпина
«налево» ничего не было удивительного, когда позже на мое резко
высказанное ему суждение о его поведении по отношению
к Зилоти, он ответил: «Что поделать? Мне нужна мука»... С тех
пор мое знакомство с Шаляпиным оборвалось.
Прекращение забастовки Мариинского театра лишь
подтвердило, что вся сила сопротивления новой власти исходила
58
от Зилота. Это могло угрожать ему вторичным арестом. Надо
было создавшееся положение как-то выяснить; не мог и А. И.
Зилота, оторванный от своей музыкальной деятельности, сидеть
без дела у меня на квартире, не зная, когда же это кончится.
Я опять поехал к Луначарскому. К приятному удивлению, без
долгих уговоров добился полного освобождения моего узника.
По-видимому, Луначарскому, обремененному комиссарскими
делами, было не до преследования оперного «саботажника»,
казавшегося ему уже не вредным.
После освобождения А. И. Зилоти я стал хлопотать об
освобождении других моих пациентов. Своеобразны были условия,
при которых мне удавалось этого добиваться!
Комиссаром юстиции был тогда левый с.-р. И. 3. Штейн-
берг51. Мягкий, отзывчивый человек, он, как представитель
новой власти, был связан постановлением большевистского
большинства и, согласно этому постановлению, требовал, чтобы
каждый заключенный за свое освобождение на поруки уплачивал
известную сумму. Размеры взноса колебались в зависимости от
представления комиссара о степени «буржуйности» данного
лица. Приходилось торговаться. Родственники очередного
заключенного находились обычно в приемной и тут же
выплачивали сумму, которую удавалось для них выторговать. Дешевле
всех И. 3. Штейнберг оценил Н. М. Кишкина52 — 3000 рублей,
но и этих денег не оказалось, и выкупать его пришлось
Политическому Красному Кресту. Высшая сумма — 100 000 рублей
была наложена на А. И. Вышнеградского. Вероятно, суммы
были бы больше, если бы национализация банков уже не была
проведена, т. е. «буржуи» еще располагали бы своими текущими
счетами и сейфами.
Получив от Штейнберга документ об освобождении, обычно
я сам выводил очередного заключенного из «Крестов». Была
зима... В некотором расстоянии от тюрьмы мы направлялись
к спуску на лед Невы и, по протоптанной дорожке перейдя на
другую сторону, расставались на тротуаре, причем я каждому
говорил одно и то же: «Немедленно уезжайте из Петрограда».
Из моих пациентов в «Крестах» один В. Л. Бурцев наотрез
отказался выйти из тюрьмы на мои поруки. Его мужество
старого революционера, которого тюрьма не страшит нисколько,
и его преданность революционной деятельности, которой он
отдал всю жизнь, — по-видимому, устыдили новых властителей,
59
и мне удалось добиться того, что его отпустили на все четыре
стороны без порук.
Совместная работа с левыми с.-р. кончалась. Они
покинули большевиков и должны были оставить свои
государственно-административные должности, предварительно сдав дела
большевистским преемникам.
Комиссар юстиции И. 3. Штейнберг вызвал меня и заявил:
«За вами числится около двадцати поручительств. Вот я их
разрываю, иначе вы попадете в ужасное положение, но прежде чем
с вами проститься, — прошу вас об одном личном одолжении:
освободите из больницы "Крестов" моего товарища по партии
Н. Д. Авксентьева. Вот бумага на его освобождение. Я не знаю,
как это делается, но сделать это надо сегодня же»... Вечером
я сообщил Штейнбергу, что Авксентьев на свободе.
К тому времени у меня уже установились хорошие
отношения с начальством тюрьмы, и никаких сложных или
придирчивых формальностей при освобождении не требовалось.
Я просто вручал бумагу — и выводил заключенного из тюрьмы.
Был даже случай, когда по просьбе М. Горького я навестил
в «Крестах» генерала Багратиона-Мухранского53 и помог ему
выйти без всякой бумаги.
Вообще освобождения арестованных приходилось иногда
добиваться весьма своеобразным образом.
Была арестована целая семья Рузских (пять человек: мать,
сын и три дочери). Главе семьи Н. П. Рузскому54 удалось
перебраться в Финляндию. О благополучном переходе границы он
дал знать семье через человека, которому доверял, но который
оказался шпионом. Семья приняла его, как «своего», радушно
и гостеприимно. В те дни положение этой арестованной семьи
было не только опасно, но грозно. К счастью,, обстоятельства
для Рузских сложились неожиданно благоприятно.
Заболел аппендицитом председатель Петроградского
Совета рабочих депутатов Зиновьев. Окружение больного решило
созвать консилиум. Из хирургов пригласили Грекова и Стуккея,
из терапевтов — меня. М. Горький, которому я рассказал о беде,
постигшей Рузских, посоветовал мне использовать предстоящую
встречу с Зиновьевым и походатайствовать за несчастную семью.
«Я буду на консилиуме тоже, — сказал он, — и сам подниму этот
вопрос». Действительно, после консультации Горький обратился
к Зиновьеву: «Ну, а теперь платите Ваш гонорар Манухину, —
60
освободите ему кого-нибудь». Зиновьев спросил: «Кого хотите?»
Я сказал: «Семью Рузских». — «Хорошо». И Зиновьев вскоре
же семью Рузских освободил...
Тут я хочу сказать несколько слов о М. Горьком.
С ним у меня завязалось знакомство еще осенью 1913 года
в Италии, когда я вылечил его в Неаполе моим методом от
туберкулеза. Нашему знакомству содействовал И. И. Мечников.
Я работал в лаборатории Пастеровского Института в Париже, когда
до Мечникова дошла весть, что М. Горький очень тяжко болен
туберкулезом; после успешных лабораторных результатов лечения
туберкулеза, которые к тому времени я получил, можно было
ожидать их и у людей, — и Мечников, узнав, что я поеду в
Италию, посоветовал мне применить мой метод лечения к Горькому.
С этой осени 1913 г. у меня с Горьким (А. М. Пешковым)
установились живые, дружеские отношения, а во время
революции, до перехода Горького к большевикам, они еще упрочились,
благодаря его сочувствию моей тюремно-врачебной работе.
М. Горький сам тогда в меру своих сил и влияния старался
помогать несчастным жертвам революции.
В самый лютый, самый кровавый период первых лет
большевистского террора арестовали и засадили в бывшую Пересыльную
тюрьму на Шпалерной улице Великих князей Павла
Александровича55, Дмитрия Константиновича56, Николая Михайловича57,
Георгия Михайловича58 и князя Гавриила Константиновича59.
Я неоднократно обращался к Горькому с просьбой похлопотать
об их освобождении, потому что только Горький, он один, мог
тогда это сделать через Ленина.
Отношение Горького к октябрьской власти поначалу было
резко отрицательное; оно стало меняться приблизительно к
весне вследствие приходивших вестей о событиях на юге и опасений,
что большевики, оставшись вне влияния социал-демократов,
погубят революцию. «Довольно отсиживаться в своем углу! Надо
войти в ряды большевиков и постараться на них влиять, иначе
они черт знает что еще натворят...» — волновался он. Перемена
позиции Горького сказалась сразу — большевики учли
популярность его в пролетарских «массах» и всячески теперь старались
пойти ему навстречу. Ленин, с которым Горький был давно
знаком, был теперь особенно склонен на его просьбы отзываться.
К сожалению, когда следовало начать хлопоты об
освобождении Великих князей, Горький, занятый в это время хлопотами
61
через Москву о каких-то других, по его словам, ему близких
людях, с Великими князьями медлил. Наконец решительно
сказал мне: «Положение для князей сейчас очень серьезно. Вы
просите заняться ими, — я согласен. Как это сделать? Вам надо
дать свидетельство о болезни кого-нибудь из них, чтобы с него
начать хлопоты у Ленина». Горькому хотелось начать с Николая
Михайловича, историка, труды которого он ценил и с которым
еще до революции встречался. Но я возразил, что в Шпалерной
тюрьме я никого из администрации не знаю и уйдет некоторое
время до врачебного освидетельствования арестованных. Если
же начать с Гавриила Константиновича, то это просто: он был
моим пациентом до самого «Октября», приезжал на сеансы
лечения моим методом, у меня имеется его история болезни
и на основании ее я могу выдать соответствующее
свидетельство, которое Горький сейчас же может в Москве использовать.
В ожидании решения в Москве судьбы Гавриила
Константиновича, я добился в Чека нужного документа для посещения
Великих князей в тюрьме на Шпалерной.
Первое мое свидание было с одним Гавриилом
Константиновичем, следующее — со всеми Великими князьями. Встречи
были без охраны.
Великие князья вошли все вместе. Они держались с
приятным спокойным достоинством: ни нервности, ни тревожной
озабоченности своей судьбою. Я рассказал им, зачем приехал,
и спросил, в каком порядке хотят они, чтобы велись хлопоты об
их освобождении? Они указали мне следующий порядок: Павел
Александрович, Дмитрий Константинович, Николай
Михайлович, Георгий Михайлович. Что касается Гавриила
Константиновича, то он должен бы быть последним, но, если уже приняты
меры, чтобы добиться его освобождения, пусть он будет первым.
Я осмотрел Павла Александровича, а в следующее
посещение Дмитрия Константиновича. Недуги в их возрасте были
у каждого из них. Я написал обоим по свидетельству и отвез
эти свидетельства Горькому. Однако впредь до окончания дела
с Гавриилом Константиновичем использовать их он не мог.
Благодаря настоятельной просьбе Горького, Ленин
согласился на освобождение Гавриила Константиновича, и князя
перевезли в частную лечебницу д-ра Герзони. Вскоре же Горький
сказал: «Освободить-то его освободили, а что же дальше? Если
оставить его у Герзони, — его там убьют. Нет другого выхода,
62
надо взять его ко мне. У меня в квартире его не посмеют
тронуть». И Горький взял Г. К. и его жену к себе...
Чтобы оценить великодушие Горького, вообразим обратное
соотношение сторон: не Гавриилу Константиновичу, а М.
Горькому грозила бы гибель — пригласили ли бы его и жену
проживать в Мраморный дворец только из соображений, что там
«его не посмеют тронуть»?
Во время пребывания у Горького отношение к Г. К. и его
жене было заботливое и гостеприимное. Доброта Горького была
действительно редкая. Свидетельством этому может служить
и следующий эпизод.
Как-то раз, когда я пришел к нему во время пребывания
у него Гавриила Константиновича, Горький сказал мне:
«Положение Н. С. Брасовой60 (жены Великого князя Михаила
Александровича) очень серьезно. Она находится в лечебнице
Герзони, ее хотят арестовать, может быть, даже сегодня же.
К ней ходить опасно...»
Через два дня при свидании он мне заявил: «Как я вам
и сказал, за Брасовой пришли в ту же ночь, но ее у Герзони не
оказалось»... и прибавил с улыбкой: «Кто-то ее предупредил...»
Несмотря на попечительное отношение к Гавриилу
Константиновичу и его жене, опекаемые были Горькому в тягость. Люди
разных мировоззрений, и вероятно, и разного мироощущения,
совершенно других интересов, стремлений и горизонтов.
Горькому было с ними трудно и скучновато, но изменить он ничего
не мог. В конце концов он не выдержал и со свойственной ему
откровенностью как-то раз мне признался: «Ну и надоели же
они мне, а положение безвыходное. Впрочем, выход есть, —
отправить их за границу, но сделать это может только Ленин».
И Горький был прав. В то время ни один русский человек не
мог выехать легально. А в данном случае надо было выпустить за
границу одного из Романовых. Можно ли было этого ожидать?
Но Ленин и на эту настоятельную просьбу Горького отозвался,
разрешив Гавриилу Константиновичу выехать за границу.
В своих воспоминаниях, напечатанных в 1934 году в
«Иллюстрированной России»*, первая жена Гавриила Константа -
* Княгиня Антонина Романова. Как был спасен князь
Гавриил Константинович. // Иллюстрированная Россия (Париж), 1934,
№ 35-40. — Прим. сост.
63
новича — Антонина Рафаил овна61 (рожденная Нестеровская)
рассказывает, как она «спасла» своего мужа, что для этого ей
пришлось неоднократно посещать председателя Петроградской
Чека Бокия62 и его жену, неутомимо и неотступно добиваясь
освобождения мужа, и как, наконец, она его добилась.
По-видимому, она не отдавала себе отчета ни тогда, ни когда писала свои
воспоминания, что получение бумаг, которые Чека должна была
выдать, согласно распоряжению из Москвы, было лишь
бумажной процедурой и освобождение было постановлено в Кремле
исключительно благодаря участию Горького, дав возможность
Г. К. и его жене в ноябре 1918 г. покинуть пределы России.
В мемуарах А. Р. имеются не только такого рода неточности,
но встречаются даже просто «вольности пера». Например, она
говорит, что я был «домашним врачом» Гавриила
Константиновича и якобы поэтому хлопотал за него. Домашним врачом
ни Г. К., ни его жены я никогда не состоял, достаточно сказать,
что один только раз я был «на дому» у Г. К. и А. Р., когда заехал,
чтобы свезти А. Р. к Горькому, познакомиться с ним, что было
необходимо для хлопот об освобождении ее мужа. Такая же
«вольность пера» — описанная ею сцена моего якобы
столкновения с комиссаром Шпалерной тюрьмы, тогда как я даже
никогда этого комиссара не видел, имея дело с начальником
тюрьмы, с которым осложнений не было, и проч. В свое время
я заявил в «Иллюстрированной России» и в «Последних
Новостях» об этих отклонениях от действительности в мемуарах
А. Р.; поэтому я был крайне удивлен, когда воспоминания
своей покойной жены Гавриил Константинович счел для себя
возможным включить в свою книгу «Мраморный дворец»*, не
упомянув о факте нашего разногласия, о чем я считаю нужным
повторно заявить.
Судьба остальных Великих князей — трагедия. Горький
поехал в Москву со специальной целью уговорить Ленина
освободить не только Павла Александровича, но всех четырех.
Ленин и в этот раз его просьбу исполнить согласился.
Но произошло непредвиденное, невероятное... Московская
Чека телефонировала Петроградской Чека, что Ленин только
* Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном
дворце: из хроники нашей семьи. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова,
1955. — Прим. сост.
64
что дал согласие на освобождение князей, а Петроградская Чека,
прежде чем пришло официальное постановление, в ту же ночь
расстреляла их всех...
Вот как Горький рассказал об этом: «Я примчался на
вокзал с бумагой, подписанной Лениным. Очень торопился,
чтобы успеть на петербургский вечерний поезд. Случайно на
платформе мне попалась в руки вечерняя газета. Я развернул
ее... — расстрел Романовых!.. Я обомлел... Вскочил в вагон...
Дальше ничего не помню. Очнулся глубокой ночью в Клину,
один в пустом вагоне на запасном пути...»
Горький вернулся домой совсем больной и сейчас же
вызвал меня. Застал его в постели с высокой температурой.
Мы оба были потрясены... Горький казался душевно совсем
измученным, подавленным. Он понимал, что все старания его
освободить великих князей только ускорили их гибель. «Вы
свидетель, что я хотел, но мне не удалось спасти этих
несчастных людей...» — сказал он.
Этими строками я об этом и свидетельствую.
Трагедия эта вскрыла страшную действительность: Чека
в Петрограде и в Москве к этому времени стали всесильными
органами власти, распоряжавшимися жизнью и смертью
граждан. По их убеждению, освобождение Гавриила Константиновича
было недопустимой ошибкой и повторять ее не следовало, —
поэтому и решили спешно покончить с великими князьями,
прежде чем была получена официальная бумага Ленина об их
освобождении.
Для Политического Красного Креста, стоявшего на позиции
аполитичности и преследовавшего только гуманные цели, настал
конец, работать при этих условиях сделалось невозможно.
Ничего удивительного не было, что и сама большевистская власть
постановила старую организацию Политического Красного
Креста раскассировать.
Так закончилась моя деятельность помощи заключенным
во время революции.
В. НОВИКОВ63
РАССТРЕЛ БРАТЬЕВ ГЕНГЛЕЗ*
Недавняя смерть И. М. Генглеза64 невольно обращает
мысли к прошлому, к тому страшному злодеянию большевиков,
жертвами которого пали три сына покойного: Павел, Андрей
и Николай65 Генглез.
Событие это произошло 2 марта 1918 г., четыре месяца
спустя после захвата власти большевиками.
Гибель братьев Генглез и трех их товарищей-студентов
А. Штробиндера, Н. Благовещенского и К. Ильина, захваченных
и расстрелянных одновременно, знаменовала собой начало того
дикого террора, цель которого — искоренение всей русской
интеллигенции, носительницы русской культуры и русской
государственности.
Вот краткая история этого преступления.
Война застала братьев Генглез в Петербурге студентами
высших технических заведений. Оставив учение, они вступили
в ряды Русской армии, где честно выполнили свой долг перед
новой родиной. После захвата власти большевиками братья
Генглез решили отправиться во Францию, чтобы в рядах
французской армии продолжать военную службу.
Принятые во французские войска, они 1 марта 1918 г.
собрались на вечеринке, чтобы проститься со своими товарищами
перед отъездом во Францию. На этом собрании они были
захвачены вместе с тремя другими студентами отрядом красной
гвардии «рабочих и крестьян» под предводительством матроса
Панюшкина, обвинены в контрреволюционном заговоре и
отведены в Смольный монастырь.
На следующий день по настоянию матроса Панюшкина,
с разрешения Ленина братья Генглез и их товарищи были
выданы отряду матроса Черкашина, который на грузовике
отвез шестерых молодых людей в Александро-Невскую часть,
где около хлебных амбаров братья Генглез и их три товарища
и были расстреляны.
Пролитие этой невинной крови вызвало всеобщее
возмущение среди русских и иностранцев, взрыв общественного
* Возрождение (Париж), № 1888, 3 августа 1930 г.
66
негодования смутил самих большевиков; чтобы снять с себя
ответственность за неслыханное злодеяние и свалить ее на
самоуправство низших начальников, ими была даже назначена
комиссия, которая должна была расследовать дело, но которая,
конечно, «не могла закончить своих работ». Тем не менее из
актов допроса комиссии видно, что арест братьев Генглез был
произведен без всякого повода с их стороны и что расстрел их
последовал с одобрения самого Ленина.
Тела братьев Генглез были отвезены в мертвецкую
Боткинской больницы; после долгих хлопот выданы родителям и
похоронены на Успенском кладбище в 12-ти верстах от Петербурга.
Так погибли братья Генглез.
Теперь сошел в могилу отец невинно убиенных И. М.
Генглез. С чувством глубокого горя мы проводили прах его на
место последнего упокоения. Да будет легка ему земля после
всех пережитых страданий и да будет наше искреннее уважение
и глубокое сочувствие источником утешения для вдовы
покойного В. П. Генглез, столь мужественно помогавшей покойному
нести жизненное бремя.
А. В. АМФИТЕАТРОВ66
СОВЕТСКИЕ УЗЫ
Очерки и воспоминания 1918-1921 гг.*
Летом 1918 года мучительно и бесславно умирала
петроградская «буржуазная» печать. Советским правительством было
уже совершенно определенно решено, что ее не должно быть на
свете. Но, по тогдашней еще новости своей в практике
административных безобразий, Смольный несколько стеснялся так
вот просто взять да и покончить с принципом свободы слова
в порядке открытом и официальном. Предпочитали поставить
ее в такие условия, чтобы она погасла сама собой... Поэтому
сдали печать под надзор одному из самых рьяных и
прямолинейных фанатиков большевизма, Володарскому, с поручением
удушить ее во что бы то ни стало. Володарский, молодой
малый без тени каких бы то ни было «предрассудков буржуазной
морали», выполнял свою задачу неукоснительно и, надо ему
отдать справедливость, мастерски. Русские цензоры старого
режима заслужили всесветно признанную репутацию свирепости,
и разве только австрийские в славянских землях могли с ними
состязаться. Однако никакой русский, никакой австрийский
цензор даже в самые мрачные реакционные эпохи не позволял
себе такого наглого, вызывающего издевательства над печатным
словом, как этот тупой и злобный жандарм Северной Коммуны.
Под его беспощадным гнетом все сколько-нибудь серьезные
и ярко окрашенные органы политической мысли были быстро
приведены к молчанию и прекратили свое существование.
Журналисты и литераторы, утратив речь и заработок, либо бежали
за границу или на юг России к «белым», либо, подобно армии,
разбитой, но еще не потерявшей надежду спастись и собраться
с силами, отступали шаг за шагом за последние окопы, — в малую
прессу. К ней большевики покуда относились с высокомерным
безразличием и почти не обращали на нее внимания. Если
не говорить, то шептать здесь кое-что еще было возможно.
И вот — органы улицы, бульварные листки внезапно украсились
* Руль (Берлин), 1921 г. № 317,324,325,328,339, 341; 1922 г. № 362,
365, 379, 380, 390, 391, 401, 402, 410, 411 (везде с. 2-3).
68
такими громкими именами, которые, бывало, и в большой-то
прессе приберегались на праздничный день. Но мы отступали,
а неумолимый враг наступал по пятам, всё наседал. К тому же
и окопы наши — последние окопы! — были слабые, жалкие,
часто двусмысленные. Строили их безыдейные
издатели-промышленники, равнодушные ко всему в издании, кроме
процента, который оно приносит, и пуще всего на свете трепещущие,
не потерпел бы хотя малого ущерба вложенный ими в газету
капитал. Главенствовали в них редакторы-ремесленники,
приказчики, кругом зависимые от хозяев, готовые на какой угодно
компромисс, лишь бы уберечь газету, дающую им кусок хлеба,
от столкновения с властью. Если эти издания еще сохранили,
как Пушкин иронически рекомендовал, «и в самой подлости
оттенок благородства», то причиною тому была отнюдь не
смелость владельцев и руководителей малой прессы. Их трусливая
домашняя цензура была еще придирчивее правительственной.
Но ненависть читающей публики к победителям-большевикам
была тоже цензурою своего рода — с другой стороны. Газета,
вступившая на путь угодничества пред захватного властью, сразу
потеряла бы розничную продажу. Это выразительно показал на
своем плачевном опыте самый старый, самый
распространенный, любимый и богатый орган малой прессы: так погибла, едва
начала кланяться в ноги и льстить большевикам,
«Петроградская газета». Таким образом, материальный расчет заставлял
издателей-промышленников и редакторов-ремесленников хотя
и скрепя сердце, но держаться все-таки тона оппозиционного.
Но, как вспомнишь его, право, иной раз кажется, что лучше
бы этой оппозиции вовсе не было, чем быть ей такою, как она
была, вся сплетенная из осторожных недомолвок, бледных
полуслов и — уж верх смелости — легкого поддразнивания власти
«кукишем в кармане». Если писатель в это плачевное время
хотел рисковать собою и сказать громко смелое слово, то, право,
ему уж лучше было вязаться с маленькими органами газетного
авантюризма — эфемеридами, плодившимися на трупах и
развалинах большой прессы. Они тоже издавались и редактировались
обыкновенно людьми, которым, по русской пословице, «что ни
поп, то батька» и «хоть ты меня Ванькой зови, только хлебом
корми». Но, понимая оппозиционное настроение общества,
газетчики-авантюристы вели на него игру не осторожненькими
ставочками, но азартную — va banque. Газетки их возникали из
69
ничего, без всякого основного капитала, часто даже лишь под
случайный типографский и бумажный кредиты всего на два, на
три номера. Весь расчет был на то, чтобы, наполнив эти два-три
номера резко сенсационным материалом, получить огромную
розничную продажу в 100, 200, 300 тысяч экземпляров, что
наполняло кассу, покрывало расходы производства и
оставляло в карманах предпринимателей несколько тысяч рублей. На
том они обыкновенно и кончали дело, так как по третьему или
четвертому номеру большевики секвестровали газету.
Однако и эти круги компромиссов и авантюры, более
достойные то жалости, то презрения, чем опасений, всё
сокращались. Еще месяц-другой работы Володарского, и последний
след буржуазной печати в Петрограде исчез бы действительно
сам собою, без необходимости советской власти всемирно
компрометировать себя ее принципиальным прекращением,
к которому она таки вынуждена была прибегнуть потом, под
осень, в первых числах августа месяца. Но Володарский, на
беду свою, почитался среди коммунистов хорошим оратором,
мастером пропаганды и искусным диалектиком, руководителем
дискуссий. Поэтому Смольный отправлял его на все митинги
и собрания, настроения которых были сомнительны для
слагавшейся коммунистической олигархии. И вот однажды, когда
Володарский возвращался с бурных митинговых дебатов на
всегда недовольном и плохо послушном Путиловском заводе,
странно зашалил в пути его автомобиль. А покуда шофер
приводил машину в порядок, к Володарскому подошли неизвестные
люди и застрелили его.
Большевики вопияли, что это убийство — дело эсеров,
меньшевиков, кадетов, белогвардейцев, интеллигенции,
«буржуев», банкиров, Антанты... только что не жителей планеты Марс!
Грозили, как водится, что за голову Володарского падут тысячи
буржуйских голов. Слово они сдержали. Кое-где в провинции,
по тюрьмам, смерть Володарского была отомщена свирепою
бойнею арестованных интеллигентов и зажиточных
обывателей. А в Петрограде и в пригородах ночи проходили в обысках
и арестах, а тюрьмы переполнились узниками.
Любопытно, что убийцы Володарского скрылись
бесследно и никогда не были разысканы — по крайней мере, гласно.
Однако коммунистический сыск знал их с первого же дня,
а следовательно, и взять их было совсем не трудно. Причина,
70
как утверждала прочная и неразрушенная молва, была та, что
застрелил Володарского вовсе не «буржуй» и не противник-
фракционер другого социалистического толка, а свой же брат,
большевик из «квалифицированных рабочих», с
соучастниками из рабочей же среды. Называли даже фамилии убийцы
и ближайшего сообщника: сколько помню, Орлов и Абрамов.
Коммунистическая партия не хотела компрометировать
своего престижа очевидностью, что один из лидеров коммуны
убит коммунистами же на арене политического разногласия:
обстоятельства убийства безусловно исключали причины
личные. Предпочли, чтобы эти Орлов с Абрамовым (если только
действительно таковы их имена) пропали без вести. Это было
как бы роковою отплатою большевикам за безнаказанность
участников в гнуснейшем убийстве бывших членов
Государственной Думы, а потом министров Временного правительства,
А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина. Их убийц, сперва было
арестованных, под впечатлением уж слишком ярко
вспыхнувшего всеобщего негодования, вскоре выпустили на поруки и тоже
дали им исчезнуть в неведомом пространстве. Спасли убийц
своих политических врагов — теперь, по силе отмщения за то,
не посмели преследовать убийц своего вождя и друга.
Сутки спустя по убиении Володарского я напечатал в
одной из уцелевших еще вечерних газеток фельетон, в котором
доказывал бесполезность подобных террористических актов.
Эта статья вопреки моему доказательству, что
Володарского убивать не следовало, обозлила коммунистическую печать.
Раздался вопль: «Если Володарского убивать не следовало, если
Володарский, по его мнению, слишком мелок для того, чтобы
быть жертвою террора, то спрашивается, чье же убийство
удовлетворяет это кровожадное чудовище (кажется, именно таким
лестным титулом кроткий большевик аттестовал меня?), чьей
из нас головы оно алчет?» Такого случая, чтобы человек мог не
желать ничьей головы и быть вообще противником убийства,
полемист коммуны, по-видимому, себе не представлял и не
допускал: было выше его понимания и привычек.
Перепуганная редакция усердно телефонировала мне, чтобы
я «принял меры против вероятных последствий»... Было смешно
и досадно... Мне оставалось только объяснить, что большевики
напрасно бьют тревогу. Осуждая террор, примененный к
Володарскому, я тем самым осуждаю его также и в применении ко
71
всем коммунистическим нотаблям, так как не вижу в среде их
решительно никого, кто стоил бы больше Володарского и,
следовательно, заслуживал бы террористического акта, как я таковые
понимаю, — то есть был бы крупною величиною, достойною
того, чтобы идейный террорист отдавал свою жизнь за его жизнь.
Написал статью, отослал и — лег спать. Но, увы, этому
произведению моему уже не суждено было выйти в свет. Ночью,
часов около трех, подняли меня и жену мою с постелей
сердитые, неурочные звонки. То пожаловали агенты Чрезвычайки,
с достаточною командою красноармейцев. Предъявили ордер
об аресте и производстве обыска. Перерыли всю квартиру,
перепугали сонных детей и очень рассердили их француженку-
гувернантку. Эта молодая особа, лежа в постели и натягивая
одеяло на подбородок, тщетно доказывала ломаным русским
языком, что входить мужчинам ночью в спальню девушки
в высшей cfeneHH непристойный поступок, а сверх того, она
не русская, но свободная гражданка Швейцарской республики
и, следовательно, ее жилище неприкосновенно. Надо отдать
справедливость чекисту, заведовавшему обыском: он выслушал
бунтующую швейцарку мрачно, но с вниманием. Однако затем
все-таки положил горделивую резолюцию:
— Находясь на территории Российской Советской
Республики и при надлежащем ордере, это всё нам — наплевать!
Тем не менее комнату m-lle Bourquin лишь поверхностно
оглядели, тогда как внизу, по остальной квартире ощупали,
обнюхали, только что не полизали каждый уголок. Все мои
бумаги, без разбора, забрали и увязали бечевками в газетные
пакеты — вышел громадный тюк. Впрочем, справедливость
опять-таки требует отметить, что столовая и буфетная
заинтересовали обыскивающих гораздо больше, чем мой кабинет. Нашли
шесть бутылок белого вина. Долго смотрел на них заведующий
обыском, как бы колеблясь в нерешимости, посягнуть ли ему
на открытый клад. Наконец угрюмо изрек:
— Это мы заберем... то есть конфискуем. На территории
Российской Советской Республики вина не пьют.
— Уж будто? — возразил я, чувствуя его дыхание,
доказывавшее как раз обратное.
Он сурово усмехнулся, покачал головой, как будто сказал без
слов: «Пить-то пьют, и даже здорово, только об этом излишне
распространяться».
72
И — четыре бутылки спрятал в мешок, а две поставил
обратно в буфет на полку.
— Детям... на случай болезни, — великодушно объяснил он.
Решительно это был добрый малый. Я с удовольствием
подписал ему удостоверение, что он и команда его при обыске
«вели себя корректно».
Тем временем жена моя, опытная по старой привычке
к обыскам и арестам моим при царском режиме, наскоро,
спокойными руками вязала в узел подушку, одеяло, белье,
кое-какую провизию, бумагу для письма, две-три книжки —
всё, что требуется узнику для тюремного комфорта на первых
порах заключения...
Ну, а затем — быстрое прощанье с женой и сонными
детьми, и свели меня, раба Божьего, вниз по лестнице, усадили
в автомобиль и — трогай!..
«Тихо туманное утро в столице»... Занимался чудесный
голубой день...
Дорога была недолгая, но отвратительно избитая. Трясло,
швыряло. Автомобиль стонал и ухал. У Адмиралтейства
прыжки машины по колдобинам сделались нестерпимы. Советский
страж мой громко ругался:
— Черти паршивые! К собственной охранке не могут дорогу
починить!..
— То есть как же это к «охранке»? — усмехнулся я на его
неожиданную «контрреволюционную» обмолвку.
— Ну, всё равно... — смутился он несколько... И вдруг
внезапно громким болезненным стоном взвыл: «ой!», жестоко
встряхнутый автомобилем.
— Ничего, — утешил я, — до свадьбы заживет...
Но он морщился и злился:
— Да, вам хорошо, как вы в первый раз... А я вот седьмую
ночь этак трясусь да мыкаюсь по обыскам... За последние трое
суток трех часов не спал... Голова как пустой котел, кишки
в животе перепутались, ноги еле ходят, поясницы не
чувствую — отбита.
Посмотрел я на него и только плечами пожал:
действительно, на малом лица нет! — зелен как лист, глаза красные,
дикие... Боже мой! ну, не глупо ли? не нелепо ли? — до чего
измаял и умучил самого себя здоровый молодой человек на
подлой и бессмысленной обязанности других мучить!..
73
Последний толчок, последний прыжок на сиденье,
последний хрип мотора... Стоп!.. Советский спутник открыл дверцу,
выскочил на тротуар...
— Пожалуйте... Выходите и проходите прямо в двери...
И — вот она, пресловутая "Гороховая, 2", вековечный центр
петроградского полицейского сыска и шпионажа, — чуть не
вчера царская «охранка», а ныне страшная и таинственная
Чрезвычайка — застенок Троцкого, которого петроградская молва
считает самым свирепым и беспощадным из всех заплечных
мастеров коммуны... Не очень-то хочется двигаться вперед...
— Входите же, — торопит спутник. — Что вы стоите?
Внимание привлекаете...
Что же? Он прав: «назвался груздем, полезай в кузов», — не
отстоишься, входить так входить!..
Ну, ну... что-то будет? — посмотрим!..
* * *
Полусонные, зевающие чекисты, поднятые моим приводом
от сна на кожаных диванах, лениво совещались, куда теперь меня
отвести и где временно меня поместить. Потом принялись еще
ленивее писать ордер. Видно было, что всё это им «осточертело»
в достаточной мере и что каждому из них в данный момент пять
минут сна были бы дороже поимки не то что моей, но даже хоть
самого Корнилова или Каледина...
Многие арестованные жаловались мне потом, что чекисты, их
арестовавшие, обращались с ними грубо, кричали на них, пугали
их револьверами и т. п. О себе, по совести, не могу рассказать
ничего такого — насколько умели, были вежливы. Вот револьвером
действительно напугали — было. Но не потому, чтобы грозили
мне им, а потому, что один из моих чекистов вздумал разряжать
свой маузер и при этом столь выразительно обнаружил свое
неумение обращаться с этою смертельною штукою, что было
совершенно очевидно, — она попалась ему в руки в первый раз.
И я того и ждал, что, растерянно тормоша револьвер, так и этак
наудачу, по методу крыловской обезьяны с очками, разгильдяй
вот-вот выпалит невзначай в чей-либо близ находящийся лоб.
Наконец бумажные формальности регистрации окончены.
Пожалуйте, милости просим в узилище! Ведут в верхний этаж,
под крышу. Здесь бывать мне еще не приходилось. Комиссара
тюрьмы тоже надо было долго будить сперва звонками, потом
74
криком, и, наконец, когда он отворил свою дверку, но ничего
не понимал спросонья и, бессмысленно глядя, продолжал
спать с открытыми глазами, то сопровождавший меня чекист
принялся трясти его за плечи.
Опять началось писанье. Отобрали золотые часы.
Спрашиваю:
— Нельзя оставить? Трудно мне без часов, привык следить
за временем.
Комиссар пожал плечами:
— Оставьте, пожалуй только, во-первых, это не по правилу,
а во-вторых, я отбираю в ваших же интересах. В общих камерах
публика смешанная. Их у вас непременно украдут. А мы, когда
Вы выйдете на волю, возвратим их Вам в целости.
Считаю долгом справедливости отметить: действительно
возвратили. Но приводом моим он был крайне недоволен.
— Скоро ли эти ваши черти там внизу перестанут присылать
ко мне новеньких? — грыз он моего чекиста. —
По-вчерашнему, что ли, намереваются, чтобы в камере на тридцать человек
перевалило за сто?.. У меня в шестой сейчас уже шестьдесят
пять... ну, спрашивается, куда я хотя бы вот «их» дену? — указал
он на меня и вежливо извинился:
— Делать нечего, уж не взыщите, придется Вам очень
потесниться.
Тон его показался мне необычайным для «товарища».
Я спросил:
— Давно Вы здесь служите?
Он посмотрел с недоумением, помолчал, потом сказал
отрывисто:
— С 1909 года... Пожалуйте в камеру.
— Как? Десятый год? Значит, и при старом режиме?!
— И при старом, и при новом, — нетерпеливо заторопился
он: должно быть, уже не в первый раз встречался с удивлением
такому странному преемству. — Пожалуйте, пожалуйте.
О, тень жандармского полковника Мясоедова67! Как же ты
на том свете должна торжествовать, слыша такое блистательное
оправдание твоего пророческого цинизма!
Перешли площадку лестницы. Что-то вроде прихожей.
Справа, из-за перегородки пахнуло удушающей вонью:
уборная! На кончике у окна сидят красноармейцы с винтовками,
все ребята лет по 20, толстолицые и тупо-добродушного вида,
75
с оловянными, ничего не говорящими глазами, под низко
начесанными на лоб челками, — живые автоматы, безразлично
способные и на подвиг, и на преступление, — как очередное
начальство прикажет. Дверь в «общую № 6» не закрыта, и
навстречу нам несутся храп и удушливый пар камеры,
переполненной спящими людьми. Комиссар с порога окликает:
— Староста!
Выскочил, — с всклокоченной бородкой, с запухшим от сна
лицом, но уже улыбающийся чрезвычайно белогубым ртом и в
очках, — когда только он успел их надеть? — господин в жилете,
еврей. Узнаю знакомого присяжного поверенного. Расставил
руки и вопиет:
— Александр Валентинович?! Вы?! Какими судьбами?!
— Да, должно быть, такими же, как и Вы.
Комиссар сдал меня ему на попечение, послал мне довольно
неисполнимое пожелание «счастливо оставаться» и ушел.
Камера походила на поле после сражения: куда ни глянь —
кругом тела недвижимые. Спят по двое, по трое на
койках-одиночках, спят на столах, на полу, спят, сидя на табуретках, даже на
подоконниках растворенного, по теплому времени, окна. Яблоку
некуда упасть. Не знаю, куда деваться, где положить вещи...
Поднялась с подушки чья-то желтолицая голова, дико
хлопнула на меня сонными глазами и опять упала на подушку...
— Кипяток, товарищ староста! Кипяток! Кто заваривает
чай? Кипяток!
Рабочие с грохотом внесли бак, одетый седыми клубами
пара. Камера зашевелилась. Слышу: желтолицая голова беседует
с соседом по ложу.
— Ты, Бакмансон, что во сне видел?
— Ничего не видал, я никогда ничего не вижу.
— А мне, представь себе, почему-то приснился писатель
Амфитеатров... Странная штука сон! Ну, с чего бы мне его
видеть? Ведь я даже незнаком с ним...
Длинный белокурый Бакмансон, завязывая шнурки на
штиблетах, оглядывает камеру и, заметив меня, флегматически
возражает:
— С того, что вон он сидит... здравствуйте! И Вы сюда
угодили?
— Так это Вы не во сне, а наяву прошли мимо меня с
вещами? — ахает голова.
76
Она оказалась принадлежащею известному
художнику-портретисту, профессору Академии художеств Бразу, автору лучшего
портрета Антона П. Чехова, хранимого московской Третьяковской
галереей. Бакмансон, тоже художник, обруселый швед из
Финляндии, был арестован не то в качестве заложника: не помню,
каких враждебных действий ожидала тогда советская власть со
стороны Финляндии, но финнов забирали во множестве; не то — за
фамилию: он родственник или однофамилец супруги известного
"белого" генерала Краснова, урожденной Бакмансон68. Сам он
о причинах своего ареста отзывался с равнодушным безразличием:
— А черт же их знает за что!
Не он один так отвечал. Это было почти поголовное. На
десять человек едва ли один знал, в чем его обвиняют. За
исключением двух-трех лиц все-таки с некоторым, хоть и маленьким,
политическим значением, банкиров, двух генералов и «белого»
журналиста-монархиста Брешко-Брешковского69 (сын
знаменитой эсерки «Бабушки»), остальная масса арестованной
интеллигенции состояла из людей совершенно случайных, далеких от
всякой «классовой» политики, взятых Чрезвычайкою — именно
черт знает за что.
— Вот ужо вызовет Урицкий на допрос — узнаем...
— Да, хорошо, если скоро вызовет. А то ведь тут есть люди,
которые живут в неведении своего «преступления», напрасно
ожидая допроса, по две, по три недели. А одного держат так уже
третий месяц. От беспокойства неизвестности все они стали
как помешанные в уме. Сами посудите: кто не знает, в чем его
обвиняют, тот не знает и — что его ожидает. А тут, под окном,
во дворе, то и дело залпы горохом сыпят — расстреливают...
— Как?! Здесь? Под окном? Во дворе?!
— Последние три ночи не слышно... Говорят, женская
тюрьма не то умолила, не то голодовкой пригрозила, да и улица,
слыша, уж очень волновалась, — так стали увозить куда-то за
город... Но перед тем — ужас, что было!.. Всю ночь! Всю ночь!..
Нечего сказать, приятно слышать!.. Я искренно благодарю
судьбу свою, что она привела меня в тюрьму Чрезвычайки, когда
ужас и безобразие ее убийств по крайней мере переместились
отсюда в какую-то отдаленность, что не придется воспринимать
их в круге собственного своего зрения, слуха,
непосредственного чувствования...
А места у меня всё еще нет.
77
— Погодите, — отвечает староста, — вот ужо, когда все
проснутся, я устрою вас в «генеральскую». Она маленькая, но
зато там всего девять человек, вы будете десятый. Там вам будет
хорошо. А здесь, помилуйте, какая же возможность? Сегодня
еще — куда ни шло: всего лишь двойной комплект. А вчера, когда
три комплекта и пошло на четвертый? Ни лечь, ни сесть. Стояли
целый день, словно солдаты в строю, чувствуя товарища локтем.
Устанешь, перестают ноги держать, опуститься на корточки —
только тебе и отдыха. Ругань, злоба, проклятия. Духота, вонища.
Во что уборную обратили — вспомнить страшно, сказать стыдно...
— Хороша она и сейчас, — желчно откликается один из
заключенных, — к умывальникам на три шага подойти нельзя
из-за нечистот...
— Все-таки уже успели немножко почистить, а вчера вы
и вовсе не вошли бы за перегородку, — возражает другой.
А староста продолжает:
— Спасибо, что к полночи немножко разгрузили тюрьму
Сорок человек увезли, просторнее стало. Все-таки, видите, лежат...
Любопытствую:
— А куда увезли сорок?
Окружающие удивлены моей наивностью.
— Как куда? В другие тюрьмы. Ведь наша «Гороховая, 2» —
только первая арестная инстанция, тюрьма полицейского
дознания. А дальше, если вы подследственный по долгому,
затяжному делу, вас отправят в Предварилку на Шпалерную.
Если следствие проходит без затяжки, в обычном
коммунистическом порядке "eins, zwei, drei"*, и Урицкий успел испечь
вас уже в этих стенах, то — прямо в Кресты.
— А освобождают часто?
— Бывает... Вчера десять человек освободили.
— В числе сорока?
— Нет, как можно? — удивился мой собеседник. — Ведь
я же вам говорил, что за теми приехали только в полночь...
— Так что же?
— То, что не пожелал бы я ни себе, ни вам быть
освобожденным ночью... Вы знаете, что это «ночное освобождение»
обозначает на нынешнем тюремном языке?
— Нет, еще не знаю...
* Один, два, три (нем.). — Прим. ред.
78
— А то: «Выходи в шапке, без вещей...»
— Все-таки не понимаю?
— Значит: пойдем, любезный, а куда — не спрашивай;
сюда ты больше не вернешься и вещи твои тебе больше не
понадобятся. А шапку захвати, надо же тебе в чем-нибудь дойти
до «стенки»-то... Что такое «поставить к стенке» — это вы,
надеюсь, понимаете?
Кто-то вмешался:
— Теперь начинают по-новому говорить: «отправить
налево», «послали налево», «пошел налево»... Потому что у стенки
был расстрел из винтовок, залпом. Эту моду большевики
бросают: долго, сложно, хлопотно, неэкономично тратить столько
патронов на одного человека; солдатики иной раз вдруг зажа-
леют и не хотят стрелять; наконец, на расстрелянном платье
дырявится и пропадает от массы крови, — убыток палачам...
Теперь проще... Приговоренного приводят куда назначено,
палач-латыш становится рядом с револьвером и командует:
«Поверни голову налево» либо «смотри налево», «глаза налево»...
Приговоренный машинально повинуется, а латыш стреляет ему
в ухо в упор — всё кончено!
«К стенке»... «налево»... «в шапке и без вещей»... «ночное
освобождение»... Нечего сказать, обогащается русский язык
милостью товарищей большевиков! Жаргон человекоуничтоже-
ния, — словно говорят между собою нелюди, а черти и бешеные,
саркастические мертвецы-вампиры, танцующие скелеты из
«Плясок смерти». И это в стране, где еще так недавно прокляли
смертную казнь Достоевский, Толстой и Короленко, где
протесты против нее покрывали десятками тысяч подписей! И в числе
других подписывались ведь и многие из тех, кто теперь ужас
убийства политических узников, возведенный в
государственную систему, поддерживает, если не кровавя своих рук лично,
то спокойным участием в правительстве застенка и расстрела
и тесною дружбою с шефами его заплечных мастеров!..
* * *
Комиссар был совершенно прав, когда предупреждал меня
о «смешанной публике» в общей камере. Я думаю, что подобной
«смеси одежд и лиц, племен, наречий, состояний» не было даже
в шайке пушкинских «Братьев-разбойников». Пленной
интеллигенции было очень много, то и дело встречались знакомые
79
лица, однако она не составляла большинства. Его давала улица,
в то время еще не обессиленная голодом, еще топорщившаяся
и шебаршившая. И красноармейщина, которая, не позабыв
пресловутого «Приказа № 1», покончившего в марте 1917 года
с дисциплиною в войсках старого режима, наивно воображала,
будто его действие распространяется и на красное воинство.
А потому, постоянно впадая в грехи своевольства и ослушания,
к великому своему изумлению неожиданно оказывалась в лапах
Чрезвычайки по обвинению в «контрреволюции», как раз за те
поступки и слова, в которых, как она сама-то полагала, она вела
себя и выражалась чего уж нельзя революционнее. Громадный
процент спекулянтов всякого рода — продовольственных
(больше всего), товарных, вещевых, валютных, по драгоценностям —
и просто торговцев, еще не успевших приноровиться к дикому
насилию закрытия свободных рынков. И наконец, черное дно
столичного ада: анархия «удалых, добрых молодцов», —
налетчики, организованный разбой.
Когда нашу омерзительную уборную немножко
подчистили, пошел я помыться. У соседнего крана — тип: смывает
кровь с сильно побитого лица. Окинул меня недоумевающим
взглядом — и добродушный вопрос:
— Товарищ, вы на чем «засыпались»?
— Политический...
— А я... — и не договорив начатого, перебил сам себя и,
в негодующем недоумении пожав плечами, продолжал с
сердитой экспансивностью: — И черт его знает, право! И всех-то
денег на «ем» была одна «косая» (1000 рублей)... Угораздит же
так глупо влопаться!
Я понял, что «товарищ» мой — уличный грабитель,
застигнутый и взятый на «теплом», т. е. на бесчувственном полутрупе,
а может быть уже и трупе, который он обирал в каком-нибудь
глухом закоулке Петроградской или Выборгской стороны.
Избитое лицо свидетельствовало, что сдался он не без борьбы,
побарахтался-таки с патрулем. Еще удивительно, как его на
месте не пристрелили! Тогда с этим было просто. Тип этот у нас
не загостился. Уже часа через два его увезли куда-то. Может
быть, на расстрел, а может быть, наоборот, на какой-нибудь
ответственный служебный пост по той же Чрезвычайке...
Такие метаморфозы получались тогда зауряд. Комиссар-
ствовал же на Петроградской стороне недавний каторжник
80
Далматов, дегенеративный представитель бывшей столичной
«золотой молодежи», настолько нашумевший, незадолго до
Февральской революции, зверским корыстным убийством некой
г-жи Тиме, что сенсация его процесса волновала петроградское
общество наравне с телеграммами с театра войны. Отбывая свой
каторжный срок в одной из сибирских тюрем, Далматов
покинул заключение, при неразборчивом освобождении арестантов
в первые победные дни Октябрьской революции. Заявил о
своей восторженной готовности служить большевикам, получил
возможность возвратиться в Петроград и здесь всплыл со дна
на поверхность уже крупным полицейским чином советской
республики. Впоследствии, однако, он исчез без вести. Говорят,
был расстрелян за взятки и хищения. В краткий же период своего
властвования он, по словам обывателей района, отличался такою
зверскою свирепостью, таким бесстыдным вымогательством
и в качестве новоиспеченного пролетария так гнусно издевался
над беззащитными «буржуями», что настоящие пролетарии его
одергивали. Другой пример — Прилуков, получивший когда-то
всеевропейскую известность по знаменитому венецианскому
процессу Марии Тарновской как сообщник и орудие этой
госпожи в корыстном убийстве графа Комаровского. Он
также возложен советскою властью на ее восприемлющее лоно
и состоит на службе коммуны и по сей день.
Трудно поверить, до какой степени процветал тогда
«налет», то есть, попросту сказать, разбой. Наличность признанной
большевиками в первое время партии анархистов, с ее поистине
чудовищною прессою, давала возможность темным элементам
столичного дна безопасно укрываться под черное знамя «войны
всех против всех» и обыкновеннейшему грабежу придавать вид
и смысл принципиальной партийной экспроприации. Тщетно
против «эксов» возвышал свой авторитетный голос патриарх-
идеолог анархизма, престарелый князь П. А. Кропоткин.
Тщетно, если не открещивались, то отплевывались от них идейные
анархисты. Позиция принципиального грабежа была слишком
удобна и выгодна для любителей чужой собственности, и
специалисты этой профессии вскоре переполнили анархическую
группу в таком количестве, что идейные анархисты оказались
в ней меньшинством правого крыла и сам Кропоткин за
протесты свои едва-едва не был исключен из партии, а какая-то
саратовская фракция его даже и исключила. Большевики на
81
борьбу с анархистами-экспроприаторами решились только
тогда, когда увидали, что «партийный» грабеж этих отчаянных
конкурентов опережает их собственный грабеж «в
государственном порядке» и анархисты вырывают у них из-под носа
лакомые куски вроде великолепной дачи Дурново, некоторых
великокняжеских дворцов, барских особняков и т. п. Надо,
однако, отдать справедливость большевикам: однажды взявшись
за партию анархистов, они покончили с ее засильем в
Петрограде одним ударом. Жителям Невской столицы еще памятен
штурм последнего оплота анархистов, Купеческого клуба, когда
впервые отличился и заставил говорить о себе пресловутый
впоследствии Дзержинский.
* * *
— На допрос!
Когда в камере звучало это начальственное приглашение
с предпосланием чьей-либо фамилии, разно оно принималось
заключенными — в зависимости от того, кто, по какому делу и к
какому следователю требовался. В настоящее время советские
следователи пообтесались и приобрели известную
самостоятельность. В большинстве это скверные личности, но все-таки
личности. Выучились рассуждать, вести логическую нить, не
лишены смелости иметь собственное мнение и даже иногда
проявлять некоторую личную инициативу, давая заключения,
оппонирующие давлению с коммунистического верха. Имев
удовольствие сталкиваться с этими полупочтенными
деятелями в 1918, 1919 и 1921 гг., я могу засвидетельствовать, из года
в год, большой прогресс в их диалектической ловкости, хотя
и от первобытно грубых допросных приемов они, конечно, не
отказались, а напротив, по словам заключенных с темных низов,
значительно их приумножили. Но сам я на себе грубого
обращения не испытал, а потому могу говорить о нем лишь с рассказов
соузников, — из них многие возвращались с допросов бледнее
смерти и с лицами, залитыми слезами.
Пытанных, в первый свой арест, я видел двух, но они
подверглись пытке не на Гороховой, 2, а в комиссариате
Измайловского полка, куда были взяты с улицы из толпы демонстрантов,
протестовавших против упразднения свободной рыночной
торговли. К нам привезли их после того, как вымучили у них
«признание». Один, пожилой еврей, попал в толпу (на Знаменской
82
площади, помнится) совершенно случайно, а выхвачен был из
нее красноармейцами по старому рецепту — брать и объявлять
зачинщиком наудачу первого, в чей шиворот вцепится засунутая
в народную гущу полицейская лапа. Этот еврей, как только вошел
к нам в камеру, повалился на первую же свободную постель
лицом к стене и больше уже не вставал, покуда его опять не увезли
куда-то. Он был страшно избит прикладами по телу и кулаками
по лицу, не владел вывихнутою левою рукою и не мог без
стона ступить на правую ногу: оттоптали в комиссариате пальцы
каблуками, вымогая, чтобы согласился подписать протокол.
Другой пытанный, мальчишка лет 15-16, лоточник, продавец
папирос, опух избитым лицом, словно его осы изъели.
Особенно ужасный вид имели глаза, одновременно и выпученные
из орбит, и заплывшие опухолью, — соединение, казалось бы,
несоединимого, — чего я никак не мог бы вообразить, если бы не
видал сам. Попробуйте представить себе лицо-маску — плоский,
слегка бугристый сине-багровый блин: нос едва намечается,
слившись со щеками, а по сторонам его выперли два кожные
столбика, как у рыбки-телескопа, и на поверхности их мигают
два глаза, но не огромные, как у той рыбки, а крохотные, еле
мерцающие и сквозь слезы и слизь, густо кровавого, краснее
кроличьих глаз, цвета. Смотрю — и понять не могу: что с этим
парнем делали, каким инструментом обрабатывали его, чтобы
привести в такой невообразимый вид? Оказывается — очень
просто. Два красноармейца держали его за руки, а комиссар,
стоя перед ним, тыкал ему в глаза указательными перстами.
— Боль, — говорит мальчишка, — ужасная, нестерпимая,
будто огненная стрела пронизывает голову и все в ней
сотрясается...
— За что же он тебя мучил? Ведь ты же, говоришь, сознался?
— Да от меня и сознания не требовалось, потому что я на
деле взят. Только два раза мы с Прошкой и крикнули: «Долой
советы!» — по третьему нас обоих сзади, цап-царап
антихристолюбивое воинство... Прошка вывернулся из пиджака, убег, а мой
архангел оказался ловкий: поддернул меня за штаны и на вес
взял, — самая преподлая манера, человек делается как кукла,
недвижим ни к какому сопротивлению... Тут рядом дровяной
двор... Привели, приказывают: «Становись к дровам!» Я — на
колени: «Товарищи! Дяденьки! Что вы? Помилосердуйте! Мне
шестнадцатый год!» Отделенный поглядел, плюнул: «Ладно, черт
83
с тобой, пойдем в комиссариат...» Вели, вели, — нигде меня не
принимают, говорят: «У нас своей районной скотины нагнано, —
не знаем, в какую яму валить, а вы нам еще чужаков ведете...
проваливайте дальше!» В двух комиссариатах красноармейцы
сдавали меня с рук на руки, а я иду — уж и не знаю, к добру это
или к худу? Надоест им таскаться со мною по городу — что тогда,
пристрелят или дадут раз-другой по шее и отпустят, — гуляй,
Миша, покуда цел!.. Но в Измайловского полку комиссариате
у них сидят словно не люди, а черти рогатые... Комиссар, едва
завидел меня на пороге, заорал:
— А, привели сукина сына? Давно он у меня на замечании!
Подайте мне его сюда!
— Помилуйте, — говорю, — товарищ комиссар? Как я могу
быть у вас на замечании? Я вас впервые вижу...
— Ах, — говорит, — ты меня впервые видишь? Ты меня
раньше не видал? Так вот увидишь, вот увидишь!..
Да как ткнет... я свету невзвидел!.. А он выждал, чтобы
я опамятовался от первого раза, — да опять, да опять!.. У самого
глаза кровью налились, зубы стиснул и шипит:
— В третий раз ловлю тебя, подлеца! Покою мне не даешь,
мерзавец! Вся контрреволюция в красном Петрограде идет от
тебя, сукина сына!
А вот вам крест святой, да и с чего бы я стал врать? — мне
даже и во сне его скверная рожа никогда не снилась, не то что
видеть наяву... Другой ли, какой-нибудь похожий, мальчишка
его разобидел или просто уж такой уродился зверь-человек, что
бросается, как бешеная собака, — кто ж его знает?.. И ответить
не дает: чуть рот разину, хлоп в рожу! тык в глаз!.. Я память
потерял, только реву не своим голосом, а кругом — ха-ха-ха!
го-го-го! — грохочут... Наконец уж последний красноармеец,
который меня привел, заступился:
— Бросьте, — говорит, — товарищ комиссар! Ведь этак
возможно и ослепить парня. Ежели он подлежит расстрелу, то
прикажите — расстреляем, а ежели нет, то зачем же его
увечить, — только одним слепым нищим в городе больше станет,
а пользы никакой!..
Ну, он послушал... Схватил меня напоследок за волосы,
ударил три раза головой об стенку и оставил...
— Подписывай, что признание дал добровольно,
обращением доволен и претензий не имеешь...
84
А я уже и бумагу-то еле вижу, по которой пером вожу...
Подписал.
— Ведите его, вот ордер — гайда на Гороховую!..
Не могу понять, зачем приводили к нам этих искалеченных
людей. При старом режиме полиция била и истязала
заключенных, но избитыми не хвастала, а, напротив, старалась спрятать
их подальше от человеческих глаз — в госпиталь, в одиночку,
в карцер. Расстрелять пытанного, чтобы он унес гнусную тайну
пытки с собою в могилу, тут еще была бы какая-нибудь, хоть
разбойничья логика. Но поместить таких наглядных и
озлобленных в общую камеру, откуда не все же 65 заключенных уйдут «в
расход», многие выберутся на вольный белый свет и оповестят
мир о виденном и слышанном живодерстве?!. Положим, что
большевики доказали и фактами, и словами, что им на
общественное мнение «в высокой степени наплевать», однако в то утро
своего торжества они все-таки еще несколько стеснялись: «Что
скажет Европа (хотя бы не вся, но лишь социалистическая)?»
И в особенности старательно скрывали и отрицали пытки, битье,
истязания и прочие жестокости в обращении с политическими
арестованными, напоминавшие угрюмую практику бывшего
охранного отделения... Нас, что ли, они хотели запугать? Ведь,
мол, смотрите, как мы умеем расправляться с непокорными,
и соображайте, что, значит, с вами мы обходимся еще
по-хорошему: ваша тюрьма — вздор, цветочки; а вздумаете раздражать
нас, упорствовать, спорить — отведаете и ягодок...
При Урицком следовательская часть молодой Чрезвычайки
еще, что называется, не обстрелялась. Властная личность шефа
господствовала над нею подавляюще. Следователи,
неопытные, без юридического, да по большей части и без всякого
образования, вооруженные вместо законодательства «волею
революционного народа» и «интересами пролетариата», были
в игре Урицкого либо пешками, либо живыми зеркалами,
рабски отражавшими его зловещую фигуру. Собственно говоря,
Урицкий был единственным следователем своего ведомства.
Остальные пели под его дудочку, как дрессированные
дрозды, — «шли по суфлеру», как актеры, плохо знающие свою
роль. Большинство из них конфузно терялось, как скоро допрос
неожиданно вырывался из рамок, намеченных и внушенных
предвидением шефа. «Надо спросить товарища Урицкого...»,
«Я посоветуюсь с Урицким...», «А вот как скажет Урицкий...» —
85
подобными фразами то и дело проговаривались следователи
пред допрашиваемыми, наивно обнаруживая свою
беспомощность разбираться в делах без указки. Один из моих созаклю-
ченных, присяжный поверенный, горько жаловался на своего
следователя, что тот на допросе не позволил ему дать толком
даже первого ответа, но, перебив на полуслове, принялся на
него орать, стучать по столу кулаком, страшно таращить глаза
и вообще всячески приводить его в ужас. Что и достиг, так как
присяжный поверенный серьезно вообразил, что судьба его
предана во власть буйно помешанному... В 1920 году я случайно
встретился и познакомится с этим грозным следователем, уже
покинувшим свою должность (к слову сказать, вспоминал он
о своем в ней пребывании с отвращением) и занявшим
скромное, но теплое местечко в Петрокоммунё или Совнархозе, не
помню точно. К моему удивлению, двуногий тигр, едва не
пожравший бедного присяжного поверенного, оказался очень
смирным и даже застенчивым малым. Я напомнил ему, как он
запутал моего соузника.
— Да, — смутился он, краснея, — уж это у меня была взята
такая манера с ихним братом, господами из адвокатуры...
Потому что — сами посудите: как же иначе-то? Я человек
простой, рабочий, неученый, а его специальность в том и состоит,
чтобы вести дискуссию... Ежели я предоставлю ему слово, так
он меня всеконечно заговорит, загоняет и запрет в тупик. А вот
как ошарашишь его сразу криком да стуком, отнимешь у него
длинный язык-то, — ну, тут уже я чувствую себя хозяином, тогда
я говорю, а он — молчи!.. Молчание же, как известно, есть знак
согласия... Даже удивительно, как крик действует на человека.
У меня Б—ъ (он назвал очень громкую в юридическом мире
фамилию) допросные пункты, не глядя, подписал...
— Неужели не бывало таких, на которых крик не действовал?
— Как не бывать... бывали...
— Ну, и что же тогда?
— А что? Дам ему выболтаться, подожду, покуда он сам
захлебнется своим красноречием, да и отправлю его назад,
в камеру, без единого моего слова... Да еще из общей-то в
одиночку переведу... Пусть сидит схимником и гадает о себе —
в неизвестности, что я о нем тем временем удумываю и какое
дам заключение... Недельку-другую помается, так обломается...
А потом уже не я вызову его на допрос, но сам Урицкий, потому
86
что я в подобных случаях сейчас же просил его, чтобы такого-то
арестованного он от меня отчислил, — не под силу, мол, мне...
Ну, а Урицкого никакой краснобай не заговорит — не-е-ет!..
Не человек был — топор!
Урицкий славился как неутомимый работник и
действительно весь день кипел в труде, как в котле. Непостижимо, когда он
спал, потому что по ночам-то он обыкновенно и допрашивал,
между часом и четырьмя пополуночи; а перед тем и после того
выслушивал доклады следователей и давал им новые
инструкции. Днем же заседал и в своей комиссии, и в дюжине других,
сам скакал с очередным докладом в Смольный, выступал на
митингах. В Чрезвычайке он был воистину «дух вездесущий
и единый»: знал решительно всё, что сделано и делается, и
вдохновлял всё, что должно было делаться. Всеохватный российский
взаимошпионаж, сделавшийся ныне главною опорою
большевистской власти, — его идея, его инициатива, его создание, его
совещание. И начиналась сеть шпионажа уже с ближайших
к нему кругов. Все его товарищи-служащие следили друг за
другом, и о каждом он всегда знал всю подноготную. Всех держал
в руках. Согрешившим по должности потворствовал, сколько
то находит нужным, а потом, дав человеку обнаглеть в
безнаказанности и хорошенько обнаружиться, вдруг неожиданно хватал
его за горло и упрятывал в одиночку, откуда для должностного
преступника по большей части была одна дорога — «к стенке».
Прошедшие искус допроса у самого Урицкого заключенные
отзывались о главе Чрезвычайки очень пестро. По-видимому,
он быстро угадывал людей, с которыми имел дело, и ловко
приспособлялся к их слабым сторонам, — кого можно взять
страхом, кого сухою официальностью, кого любезностью.
Свою личную с ним встречу я расскажу после, а покуда только
отмечу, что, допрашивая меня, он был вежлив и «корректен».
Конечно, насколько умел, потому что отсутствие воспитания
сквозило из каждой поры этого чада северо-западного
местечка плюс женевской «Каружки» или парижской «Розьерки»70,
и он, заметно, знал это о себе и в душе тем сердито и обидно
смущался. Но видал я и то, как возвратившийся от Урицкого
с допроса узник-интеллигент безмолвно падал на постель ничком
и, схватившись за голову, лежал так часами... Когда опомнится
человек, спросишь его осторожно:
— Что? Как выясняется ваше дело?
87
И слышишь в ответ зубовный скрежет:
— Убить его, подлеца, надо... мало убить!.. Нельзя так
издеваться... Чертом ему быть, чертом в аду, а не человеком...
Если бы такие отзывы исходили только от тех, кого Урицкий
губил, направляя к расстрелу или к долгим принудительным
работам, они еще не были бы так показательны. Но в том-то
и дело, что случалось слышать эти голоса отчаяния и проклятия
от людей, которым часа через полтора, через два после допроса
Урицкий присылал ордер «на волю»: значит, находил обвинение
ложным или незначащим, а их признавал невиновными; значит,
допрос их был уже не более как формальностью... И все-таки
зачем-то издевался, дразнил и мучил! На всякий случай, что
ли, чтобы напредки в памяти осталось? Или по врожденному
садизму, в котором обвиняла его петроградская молва?
А, например, сидевший одновременно со мною писатель
Н. Н. Брешко-Брешковский (сын знаменитой «бабушки
русской революции»), полувоенный человек большой личной
храбрости и очень хорошего ровного характера, умел стать
с Урицким в довольно приличные отношения. Допросы его
превращались в очень забавные принципиальные дискуссии,
иногда не без остроумия, в которых большевик Урицкий
обнаруживал большую терпимость к резким мнениям своего
собеседника-монархиста.
Боюсь, однако, что интерес Урицкого к этим
собеседованиям продлил заключение Брешко-Брешковского на несколько
лишних дней. Потому что обвинение, на нем тяготевшее, —
в сочувствии монархической реставрации и пропаганде ее
или даже в принадлежности к какой-то двойственной
монархической группе, — принадлежало к числу опаснейших.
В подобных случаях Урицкий обычно распоряжался быстро:
либо, при малейшем признаке доказательной улики,
отправлял под расстрел, либо, при отсутствии улик, немедленно же
отпускал, чтобы не загромождать понапрасну тюрьму, жадно
ожидавшую в непрерывной смене новых и новых узников.
Между тем Брешко-Брешковского он продержал на Гороховой
что-то долго, кажется, несколько недель. Как журналист яркой
монархической окраски, Брешко-Брешковский, конечно, был
уже безнадежно компрометирован в глазах такого фанатика,
как Урицкий. Но призрак печати еще существовал, принцип
«свободы печати» еще не решались затоптать в бесследное
88
забвение, поэтому и журналистов за печатные провинности
еще не направляли «в расход». Настолько, что даже несколько
сконфузились было позорного расстрела в Валдае известного
публициста «Нового времени» Меньшикова и сваливали вину
этого грязного дела на «частный произвол» и «личную месть»
группы каких-то провинциальных большевиков, якобы не
имевших на то партийного мандата. Вообще же журналистов
покуда не казнили, но уже очень пробовали запугать. Ставкою
на устрашение, по-видимому, был и мой арест. В одну из своих
допросных бесед с Урицким Брешко-Брешковский спросил его:
— Скажите, пожалуйста, зачем вы арестовали
Амфитеатрова? Ведь за ним, кроме статей его, не может быть никаких
«деяний»...
Урицкий сделал лукавое лицо и ответил лаконически:
— Для стажа.
— Так... Его или вашего?
— Обоих.
Остроумие довольно каторжного характера, но не могу не
согласиться профессионально: все-таки остроумие!..
Что касается успехов запугивания, то могу характеризовать
их тем последствием, что, по выходе моем из тюрьмы, уже ни
одна моя статья с мало-мало противобольшевистским оттенком
не принималась еще уцелевшими органами на ладан дышавшей
печати. Особенно прискорбно сказалось это на моей попытке
откликнуться на отвратительный факт убийства Николая II.
Двадцать лет боролся я пером с державою и именем этого
человека, и если бы он был жив и продолжал царствовать, я боролся
бы против него и теперь, и всю остальную жизнь мою, как буду
бороться против всякого, кто устремился бы занять его место
с прежними царскими прерогативами, с поворотом России
опять в разрушенное русло победоносцево-романовского
самодержавия, — всё равно, без маски или в лжеконституционной
маске. Национальный суд над преступным царем, чем бы он
ни кончился, я горячо приветствовал бы. По крайней мере,
в период от Февральской революции до Октябрьской, пожалуй,
даже до Брестского мира, официально изменническим
преступлением которого большевики уже окончательно обнаружились
и однажды навсегда лишили себя нравственного права судить
кого бы то ни было из русских по обвинению в противонаци-
ональных деяниях. Но мерзостный, бессудный, произволом
89
дикой захолустной шайки продиктованный и осуществленный
разбойничий способ истребления бывших царя и царицы с их
уже вовсе ни в чем не повинными дочерями наполнил мою
душу ужасом и отвращением. Право, даже потеря близких сердцу
друзей далеко не всегда оставляла меня под таким тяжелым
впечатлением, как трагическое исчезновение этой чуждой и,
в конце концов, даже и в падении своем все-таки враждебной
семьи. Ибо трагизм ее гибели облекся в стыд и гнусность,
которые теперь совсем не от нее уже зависели, и положил на наш
народ, через суд совести и мнение других народов, новую печать
презрения к нашему бесправию, к рабской бесхарактерности,
к азиатски-дикой бессознательности... Хотелось высказать всё
это — и не мог. Сам понимал, что трудно оно — в такой момент,
под занесенным топором коммунистического блюстительства, —
сам себя поэтому цензуровал, обглаживал, урезывал, говорил
шепотом и четвертьсловами там, где следовало бы вопить
анафемой с амвона во всё горло, и все-таки в трех редакциях
встретил широкие изумленные глаза:
— Да вы, извините, в своем ли уме?!
А милый А. А. Измайлов, — хотя ему статья моя должна
была быть очень по сердцу, потому что он погибшую династию
любил и слово сожаления, вышедшее из-под враждебного пера,
приносило некоторое удовлетворение его огорченному сердцу, —
прежалобно спросил меня по телефону:
— Александр Валентинович, неужели на Гороховой так
весело, что вы, едва оттуда вышли, стремитесь опять туда
возвратиться?
Я должен был признать, что на Гороховой совсем не весело,
а, напротив, весьма тоскливо. А он мне в ответ:
— Ах, так вот почему вы не хотите теперь сидеть один, а
соблазняете к себе в компанию меня и редакцию? Нет уж, знаете,
давайте лучше развлечемся как-нибудь на свободе у себя дома...
* * *
Всех крупноденежных арестованных Урицкий обыкновенно
оставлял за собою и, в надежде вытянуть из них скрываемые
капиталы, канителил их месяцами в мучительном томлении
тюрьмы и допросной пытки. Чаще всего жертва, доведенная
до отчаяния, не выдерживала характера и указывала свои
тайники: берите всё, только отпустите душу на покаяние!.. Тогда
90
«всё» брали, но души на покаяние не отпускали, а без всякого
покаяния выпускали ее в вечность пулею палача-латыша...
Куда поступали эти огромные суммы, выманенные
лукавством и облитые кровью жертв?.. Большевики из идейных
отзывались об Урицком двояко. Одни восторгались им как
цельным типом коммуниста-революционера, каким должен
быть всякий большевик, sans peur ni reproche*, и уверяли, будто
он по существу человек не только не жестокий, но даже мягкий
и чувствительный. К числу таких восторженных хвалителей
принадлежал, например, г. Каплун, племянник покойного шефа
коммунистической жандармерии, сам занимавший в Петрограде
чрезвычайно ответственный пост по отделу управления и
успевший сыскать на нем в публике очень приличную репутацию
чиновника рассудительного и, насколько позволяло
революционное напряжение, мягкого в поступках при большой
твердости в убеждениях. Написанный им некролог Урицкого дышал
искренним горем. Другие признавали в Урицком чрезмерную
жестокость и страстишку издеваться над своими пленниками,
но извиняли ему эти скверные качества за незаменимость его
как вождя и организатора коммунистического террора. Но те
и другие утверждали, что Урицкий — фанатик своего служебного
долга и лично честен, бескорыстен и неподкупен.
Заключенные были другого мнения и после полугодовой
деятельности ЧК считали Урицкого уже в семи миллионах
капитала, — сумма по 1918 году еще колоссальная! — нажитого путем
вымогательства за освобождение разных коммерческих тузов.
Указывались случаи, назывались фамилии. Я не расследовал
этого дела и не берусь быть в нем судьей. Что денежная ловля
производилась Урицким непрестанно, упорно и искусно, — это
было, как говорится, и слепому заметно. Он наполнил тюрьмы
[людьми], за которыми не числилось и не могло числиться
никакой другой вины, кроме той, что они сохранили где-то малую
толику золота, бриллиантов, иностранной валюты, ценных
процентных бумаг. Но в чью пользу он грабил — в свою или
государственную, — не знаю. Несмотря даже на то, что двое из
освобожденных Урицким — я не решаюсь назвать их по именам,
потому что они остаются еще в России, — прямо говорили мне,
что заплатили Урицкому один 125 000 р., другой 75 000, и я не
* Без страха и упрека (франц.). — Прим. ред.
91
имею причины сомневаться в их правдивости. Однако в обоих
случаях вслед за освобождением произведены были чекистами
новые обыски, обнаружившие у освобожденных новые
ценности, и тогда грабеж был доведен уже до конца: выпустошили
дочиста!.. Так что очень возможно допустить, что Урицкий
лично-то действительно не брал, но иной раз прикидывался
взяточником — затем, чтобы, торгуясь с жертвой о выкупной
сумме, обнаружить степень ее состоятельности и заставить ее
проговориться, где и под каким спудом таит она свои ценности.
Агенты Чрезвычайки прибегали к этому предательскому способу
уловления постоянно. Но уж из них-то подавляющее
большинство было, в полном смысле слова, бессовестными торговцами
жизнью и свободой людей и откровенными грабителями в свой
собственный карман всякого имущества, о котором проведовали
их уши и на которое разгорались их глаза.
Чтобы заинтересовать агентов в сыске, Урицкий ввел
процентную премию с арестованных капиталов. То есть благословил
и поощрил, так сказать, «охоту за черепами». Мера,
достаточно безнравственная уже сама по себе, на почве Чрезвычайки,
составленной из худших элементов, вернее даже отбросов
и присосков коммунистической партии плюс нескольких
принесших покаяние и примкнувших к большевизму жандармов
и шпиков старой царской полиции, разрослась ветвистым древом
чудовищных злоупотреблений. Казалось бы, при громадных
цифрах тогдашних конфискаций процентная премия должна
была удовлетворить самые алчные разбойничьи аппетиты.
На самом же деле она их только разожгла. Взяточничество
и шантаж получили развитие неслыханное. Урицкий знал это,
и нельзя сказать, чтобы он вовсе не боролся с хищничеством
своей агентуры. Но боролся как-то двусмысленно и дико. От
того, что он время от времени расстреливал
взяточника-шантажиста, жертве вымогательства не делалось легче: грабеж-то,
ею учиненный, все-таки сохранял свою силу и, следовательно,
санкционировался. Вот факт 1918 года.
К крупному петроградскому фабриканту является
шикарный советский офицер, рекомендуется одним из главарей
ЧК, показывает свои полномочия и заготовленный, но еще не
подписанный ордер об аресте фабриканта. Угодно сему
последнему, чтобы ордер так и остался неподписанным? Двести
тысяч «на бочку!»...
92
Фабрикант был человек сметливый и не робкого десятка.
Изъявил согласие, но попросил несколько часов отсрочки,
чтобы приготовить деньги. А по уходе неприятного гостя, он —
прямо к телефону и сообщил в Чрезвычайную комиссию, что
вот был у меня такой-то, предлагал то-то, требовал столько-
то, — как прикажете к этому факту отнестись?.. Фабриканта
внимательно выслушали, поблагодарили за доверие и
просили обождать: сейчас к нему приедет уполномоченный агент.
Действительно, не прошло и часу, как пожаловал офицер, еще
шикарнейший: френч с иголочки, галифе умопомрачительные.
Повторил благодарности, показал мандат и... вручает
фабриканту 200 000 р., именно которыми, этими самыми бумажками,
он и просит фабриканта заплатить шантажисту, так как ЧК
желает настигнуть преступного агента с неоспоримым
поличным. Фабрикант повинуется и, в обмен 200 000, полученных
от чекиста, выдает равную сумму из собственной кассы. Затем
комедия разыгрывается как по писаному сценарию. Шантажист
взятку получил — и немедленно был тут же, с нею в кармане,
арестован и деньги у него отобраны. А фабрикант приглашен
следовать в ЧК для дачи свидетельского показания. Здесь он
имел удовольствие быть очевидцем грозной расправы
Урицкого с «преступным элементом», осрамившим непорочную
репутацию неподкупной Чрезвычайки. Но заплатил он за этот
интересный спектакль дорого, ибо тех 200 000, которые он дал
в обмен на привезенные ему из ЧК, он назад уже не получил.
А вместо того поставлен был на допрос, откуда у него имеются
средства давать столь крупные взятки и известен ли ему декрет,
воспрещающий частным гражданам обладать денежным
имуществом свыше 10 000 р.?.. Словом, шантажист-то поехал на
Шпалерную, а потом, может быть, и за город на расстрел, но
и фабрикант покинул «Гороховую, 2» гол как сокол, да еще и с
обязательством к той благодарности, как в басне Крылова волк
требовал от журавля:
А это ничего, что ты свой долгий нос
И с глупой головой из горла цел унес?
Поди ж, приятель, убирайся,
Да берегись: вперед ты мне не попадайся!
Слухи о жестоких телесных пытках и битье, которым
Урицкий подвергал заключенных, особенно упорных в отрицании
93
своих вин, я не имел возможности проверить личным
свидетельством людей, достаточно надежных, чтобы твердо основываться
на их показаниях. Может быть, правду говорили, а может быть,
и подвирали немножко или даже множко. Битый русский человек
имеет странную мазохистскую слабость смаковать претерпенное
бойло, — бывает, что не без преувеличений, а иной раз даже
и до небывальщины. В то раннее время ЧК еще так спешило
разделаться с своими действительными и предполагаемыми
врагами — «буржуями» и интеллигентами — массовым
террором, что ей не до того было, чтобы тратить время на пыточный
садизм, во вкус которого вошла она впоследствии — особенно
со времени женской в ней диктатуры, пресловутых Яковлевой71
и Стасовой. Урицкий истреблял, но ему было некогда работать
заплечным мастером в застенке, да, по-видимому, и не имел он
того аппетита к истязанию человеческого тела, как его
преемницы и преемники. Но на моральную пытку он был великий
виртуоз. Людей попроще он брал театральным запугиванием.
Так, одного сидевшего со мною педагога, заподозренного (без
всякого дельного к тому основания — кажется, его смешали
с кем-то другим, однофамильцем) в сношениях с эсерами,
Урицкий из допроса в допрос донимал каким-то таинственным
свиданием в Румянцевском сквере.
— Кто с вами был?
— Никого со мною не было, потому что я и не был вовсе
в Румянцевском сквере.
— Нет, вы были... Значит, отказываетесь назвать?
— Да кого же я вам назову? Что вы, право? И зачем бы
мне понадобился ваш Румянцевский сквер, если я живу на
Гончарной?
— Вот это-то мы и хотим знать, зачем. Скажите, и кончим
дело.
— Да не был же я... Господи!
— Господа вы оставьте в покое; в нашем приятном разговоре
третье лицо лишнее... Ну-с?
Допрашиваемый пожимает плечами, молчит. Желтое лицо
Урицкого темнеет.
— Жаль, что вы упорствуете, — произносит он с
расстановкой, — напрасно это... очень, очень жаль...
Нажим на звонок. В дверях появляются два красноармейца
с винтовками. Вид тупой и зловещий. Душа допрашиваемого
94
уходит в пятки: ясное же дело, — сейчас «к стенке»... Урицкий
выдерживает его минуту-другую в молчании, под впечатлением;
сам на него не глядит, что-то пишет на бланковой бумаге, — не
смертный ли ордер?.. Наконец, видя, что допрашиваемый
доведен до паники, задумывается, кладет перо и, будто про себя,
роняет слова «в сторону»:
— Впрочем... это всегда успеется... обождем...
И по его знаку красноармейцы скрываются обратно за
двери, а он любезно обращается к ни живой, ни мертвой жертве:
— Так молчите? Не хотите сказать?.. Ну, хорошо... Завтра
мы с вами еще раз поговорим... Подумайте ночку, — может
быть, ваша память освежится: говорят, утро вечера мудренее...
А чтобы вам не мешали думать, может быть, хотите — я вас
в одиночку переведу? а? в одиночку?..
Педагог против одиночки — и руками, и ногами...
— Так назовите...
Снова заводится машина и тянет, тянет канитель...
В конце концов Урицкий отпускает несчастного — и не
в одиночку, а по-прежнему, в общую, но с совершенно
измочаленными нервами и в полном упадке духа...
— Я боюсь, — плакался мне педагог, — если он еще раз
вызовет этих верзил с винтовками и начнет строчить пером,
я не выдержу: я ему такое про этот окаянный Румянцевский
сквер наплету... родного брата могу оговорить... лучшего друга
не пожалею... И какого дьявола он ищет? Кого там угораздила
нелегкая будто бы со мною быть?
Однажды Урицкий сказал ему:
— Ну, слушайте, зачем вы запираетесь? Ведь мы же
осведомлены как нельзя лучше и все знаем. Хотите, я вам опишу все
приметы вашего собеседника? Средний рост, широкие плечи,
ноги короткие, немного кривые, голова большая не по росту,
волосы курчавые, русые с сильной проседью, лицо полное,
русский тип, русская бородка, глаза серо-голубые, быстрые,
левый глаз прищурен, а правый всё как бы стреляет в сторону...
Педагог возвратился в камеру в полном недоумении.
— Нет у меня такого знакомого, хоть убейте, нету, —
бормотал он. С тех пор кошмарное видение неведомого человека
с прищуренным и стреляющим в сторону глазом неотступно
преследовало его и днем и ночью.
— Не знаю такого... Хоть на части разнимите, не знаю...
95
Это было незадолго до моего прихода в камеру. Выслушав от
педагога рассказ о внушенном ему привидении, я сразу догадался,
в чьем знакомстве и содружестве подозревает его Урицкий. Но
остерегся сказать ему, потому что и без того уже изнервленный
и ослабевший узник, пожалуй, того гляди, повалился бы в обморок
от ужаса, что его, маленького смирного обывателя, мешают, чрез
насмешку случая, в большую политическую игру. Мне было очень
жаль этого горемыку — тем более что я случайно знал, что лицо,
свидание с которым ему приписывали, в то время не было, никак
не могло быть в Петрограде. Должно быть, убедились наконец
в том и сыщики ЧК, и сам Урицкий, потому что назавтра утром
педагог, без нового допроса и без всяких объяснений, неожиданно
получил ордер «на волю» и покинул тюрьму так же внезапно и с
таким же недоумением, как в нее попал.
Особенно жутким глумлением терзал Урицкий созаключен-
ного нам миллионера-домовладельца и видного коммерческого
деятеля Василия Петровича Мухина. Это был человек пожилой,
лет под шестьдесят, очень грузный, но из числа тех деятельных
толстяков, для которых недвижность — злейший яд и тюрьма —
убийство. К нам на Гороховую он попал случайно и на короткое
время, проездом на Шпалерную или в Кресты. Раньше Урицкий
томил его в каком-то крепостном цейхгаузе, где со стен текла
вода, а караульная солдатчина, науськиваемая чекистами, по
целым дням дразнила и ругала пленного «буржуя» и застращала
его, в ежеминутном ожидании шального расстрела, до
психопатического состояния. В нашей камере нашлись люди, хорошо
знавшие Мухина на воле, — например, известный банкир За-
харий Жданов и другие. Они едва глазам верили, видя, с какою
быстротою тюрьма обработала этого богатыря, страстного
охотника-медвежатника, вживую развалину, в цинге, с сердечными
припадками, с больными опухшими ногами, которые он едва
передвигал. Беспомощный, согбенный, обросший щетинистой
бородой, сидел он среди камеры на табуретке, гневно плакал
и говорил художникам Бразу и Бакмансону:
— В своем родном городе я выстроил гимназию и содержу
ее на свой счет. В актовом зале висит мой портрет во всем
параде и при орденах. А теперь напишите меня такого, как видите:
небритого, грязного, оборванного, больного, — когда выйду
отсюда, прикажу повесить рядом с тем: пусть видят русские
люди, каков я был и во что меня, за мое же добро, обратили...
96
Не знаю, успели ли художники исполнить его желание. В то
утро Бакмансон был занят моим портретом, очень удачным,
который потом, к сожалению, погиб при разгроме редакции
«Биржевых ведомостей», его приобретшей, — а к вечеру
финляндское посольство настояло на его освобождении. А назавтра
вышел «на волю» и я, оставив Браза и Мухина в тюрьме. Браз
был освобожден скоро, но в Мухина Урицкий вцепился крепко.
Старик обвинялся в посылке денег на юг белогвардейским
организациям. Уличали его по дрянному доносу или
вымученному показанию какого-то мелкого полушпиона-полужулика, —
фамилия, к сожалению, ускользнула из моей памяти, что-то
вроде Золотова, Золотилова, Золотарского, Золотаренка; заранее
прошу извинения у однофамильцев, если это не так. Тогда многие
подобные спекулировали на мнимой организации небывалых
противоболыиевицких союзов, собирая под этим предлогом
деньги у коммерсантов и аристократии — обыкновенно
небольшие, «детишкам на молочишко». Когда Золотаренко попался на
этом деле или велено было ему попасться, он оговорил целый
ряд состоятельных людей, якобы дававших ему пожертвования.
В том числе и Мухина — на сумму... в 300 рублей! Больше
фантазии не хватило!.. Мухин даже обиделся.
— Помилуйте, — говорил он Урицкому, — кто же этому
поверит, чтобы Мухин, жертвуя на организацию>, подписал бы
300 рублей?! По стольку я обыкновенным зауряд-просителям
даю... может быть, и Золотаренке вашему дал, — мало ли их ко
мне ходит, бог его знает, всех не упомнишь... А в общественных
делах — всякому известно: я могу вовсе ничего не дать, но если
даю, то уж отсыплю прилично своему капиталу... Вы хоть не
рассказывайте никому, какую улику против меня выставляет,
а то ведь и меня, и вас засмеют!..
Другою уликою выставляли исчезновение неведомо куда
одного из мухинских приказчиков, о котором тот же полушпион-
полужулик доносил, что он уехал по какому-то хозяйскому
поручению с крупною суммою в несколько десятков тысяч
рублей. Этого Мухин не отрицал, но определенно указывал цель
посыла — отвезти деньги в родной его город (Витебской или
Могилевской, помнится, губернии) как очередную субсидию
содержимой им гимназии. Но приказчик в пути пропал. Был
ли он ограблен и безвестно убит красноармейцами, как сотни
других «буржуев», решавшихся в это дикое время на путешествие,
97
имея при себе большие деньги и драгоценности; сам ли сбежал
куда глаза глядят, присвоив себе хозяйский посыл; спрятался ли
где, не имея возможности снестись с Петроградом, — но в город
своего назначения он не явился. Урицкий на этом основании
настаивал, что деньги посланы на белый фронт.
— Укажите, где ваш приказчик, и я вас отпущу, — убеждал
он Мухина.
— Как же я вам укажу, когда сам не знаю? — вопиял узник.
— Нет, вы знаете... Сознайтесь: он у белых?
— Откуда же мне знать, если он пропал без вести? Может
быть, у белых, может быть, у красных, может быть, ни у каких,
а давно где-нибудь за границею...
— Следовательно, он с вашими деньгами сбежал? Украл их?
— Не смею обвинять, потому что не знаю, жив ли он.
— Нет, вы знаете...
Пауза.
— Так ничего и не скажете?
— Нечего мне сказать.
— Жаль... Ну, отправляйтесь обратно в камеру... А ведь
могли бы выйти на волю... До приятного свидания!
Супруга Мухина просила свидания с мужем, Урицкий
любезно разрешил, но местом свидания назначил свой
следственный кабинет. Отправился Мухин на свидание радостный,
а возвратился как в воду опущенный. Урицкий не дал супругам
даже поздороваться, рассадил их как можно дальше друг от
дружки, между ними посадил красноармейцев с винтовками
и принялся при жене допрашивать мужа опять, в десятый
раз, об исчезнувшем приказчике. Время от времени бросал по
адресу г-жи Мухиной сожалительные фразы, что муж, должно
быть, мало ее любит, потому что упрям, сам себя задерживает
в тюрьме: ведь стоит ему лишь дать требуемые показания, и он
будет немедленно отпущен, хотя бы даже деньги действительно
попали в руки белых... и т. д.! Но так как Мухин «упорствовал»,
то Урицкий с обычным сожалением опять отправил его в камеру.
— Но вы же нам обещали свидание? — вскричала г-жа
Мухина.
— Ах, да, свидание...
Урицкий посмотрел на часы.
— К сожалению, мы так заговорились, что время вашего
свидания уже прошло... Извиняюсь, но... до следующей недели!
98
Мухина увели. Жена бросилась было к нему, но
красноармейцы грубо и больно ее оттолкнули. Бедная женщина ушла
домой в слезах, не успев обменяться с мужем хотя бы словом.
Мухин в камере всю ночь проплакал, как ребенок.
Назавтра я после короткого и чрезвычайно странного
допроса был отпущен на свободу и, как водится, получил от
созаключенных множество поручений к их семьям и друзьям.
Мухин особенно жарко молил меня найти его жену, рассказать
ей, как он сидит, ободрить ее и по возможности помочь ей
в хлопотах об его освобождении.
Я застал госпожу Мухину в самой трагической
нерешительности. ЧК повторяла в ее доме на Московской свирепые
обыски и держала в ее квартире постоянного наблюдателя-
красноармейца. А с заднего крыльца то и дело шныряли к ней
чекисты-шантажисты, запугивая ее серьезностью положения
Василия Петровича и предлагая освободить его, если она не
пожалеет 30 000 рублей. Орудовал этим делом какой-то
Малиновский, который, по словам чекистов, всё у них может —
и спасти, и погубить. Денежные дела Мухиных в это время
стояли не блестяще, но, конечно, г-жа Мухина не пожалела
бы не то что тридцати, а и трехсот тысяч, лишь бы возвратить
мужа домой, если бы имела хоть какую-нибудь уверенность,
что этот Малиновский с компанией не подосланы Урицким,
чтобы поймать и ее, и Василия Петровича в ловушку. Взятка
ведь одинаковое преступление, как для получающего, так и для
дающего, да еще может быть истолкована как новая косвенная
улика: ага! — мол, откупается Мухин тайным путем и за большие
деньги, значит, чувствует, что дело плохо... Я тоже не знал, что
посоветовать бедной растерявшейся женщине. Не дать — бог
весть, сколько времени еще будет Урицкий томить больного
старика в тюрьме. Дать — того гляди, угодят Мухина в вырытую
шпиками волчью яму. Попросил знакомых «добрых»
большевиков навести справки по делу. Принесли успокоительные вести,
что серьезного ничего нет, требуется только терпение, так как
Мухин еще нужен Урицкому для дополнительного доследования,
а недели через три он, несомненно, будет свободен. Любопытно,
что Малиновский обещал г-же Мухиной освободить ее мужа
в трехнедельный срок. Сопоставляя эти числа, можно было
думать, что ему, как лицу, осведомленному в секретах ЧК, хорошо
было известно, что дело Мухина идет к ликвидации, и он лишь
99
рассчитывал сорвать деньги, приписав ее себе. Приятель по
старой эмиграции, примкнувший к большевикам, к которому
я имел достаточно доверия, чтобы рассказать ему о вымогаемой
взятке и спросить совета, давать или не давать, пришел в ужас
и рекомендовал не только не давать, но ехать к председателю
народного суда и заявить о творимом шантаже. Тогда во главе
Петроградского суда стоял человек порядочный и идейный, —
к сожалению, не вспомню сейчас его фамилию, а справиться
негде. Он очень недоброжелательно смотрел на возрастающее
могущество Чрезвычайки и стоял в прямой оппозиции ее
произволу, на чем, конечно, вскоре и сломал себе если не голову, то
коммунистическую карьеру. Тот же самый смелый обличительный
шаг рекомендовал г-же Мухиной ее постоянный поверенный
в делах. Однако она и на это не решилась, — и, правду сказать,
как было решиться? Ну, заявит она, обличит шантажную ка-
морру, а каморра, прежде чем власть за нее примется (если еще
примется!), поспешит спустить концы в воду самым простым
способом: отправив Мухина на тот свет спешным расстрелом, на
что обозленный Урицкий, не терпя постороннего вмешательства
в свое ведомство, конечно, не задумается дать согласие. Мало
ли таких же, бездоказательно подозреваемых и упорствующих,
«буржуев» уже расстрелял он безвинно со спокойною совестью!
Париж 1793 года кричал: «Этот человек достоин смерти уже за
то, что он был королем!» Петроград 1918 года вопил: «Эти люди
достойны смерти уже за то, что они буржуи!»
Так и шло время в мучительных колебаниях. Дать — не
дать — жаловаться — молчать... Мухин из тюрьмы через
секретную почту еще увеличивал эту нерешительность собственными
противоречивыми планами — сегодня одно, завтра другое...
Свидания с женою Урицкий ему давал, но по-прежнему
издевался, обращая свидания в допросы.
Семейные обстоятельства Мухиных были ужасны. Дети
тяжело болели дизентерией. Один ребенок был при смерти.
Осведомленный о том Урицкий на допросах никогда не забывал
спросить:
— Ну, как ваш мальчик?
— Хуже, всё хуже...
— Жаль, очень жаль... Вам, Василий Петрович, следовало
бы теперь дома быть, при больном ребенке... А вы упорствуете!
Плохой вы отец!
100
Когда мальчику стало совсем худо, Мухин умолил
Урицкого — под каким угодно конвоем отпустить его на один лишь
час домой, чтобы проститься с умирающим. Если бы Урицкий
отказал, это еще было бы понятно: порядок и форма! Но он
обещал и обманул, оттягивал день за днем...
— Да зачем вам, Василий Петрович, домой — только на
один час? Можете совсем уйти: скажите, где ваш приказчик?
Ребенок умер — опять же к «глубочайшему сожалению»
Урицкого.
— Пустите хоть на одну панихиду... хоть в гробике бы на
ребенка взглянуть!..
— Скажите, где ваш приказчик.
Если бы Урицкий вывертывал Мухину руки, забивал спицы
под ногти, капал холодную воду на обритое темя и т. д., не знаю,
было ли бы это заплечное мастерство хуже пытки, которою он
истязал сердце своего узника...
Недели на две или на три я как-то потерял г-жу Мухину
из виду и мало о том беспокоился, будучи вполне уверен, что
«пустое дело» Василия Петровича близко к благополучному
разрешению и не сегодня-завтра я встречу его на улице, как
встречаю уже Браза, Брешко-Брешковского, Пальчинского
и других созаключенников по «генеральской» камере...
Одним утром — ранний телефон. В трубке — рыдающий
женский голос:
— Александр Валентинович! Всё кончено... его
расстреляли...
— Что такое? Кого расстреляли? Кто говорит?
— Мухина говорит... Василия Петровича расстреляли...
— Быть не может! Это глупый слух какой-нибудь... опять
вас запугивает кто-то...
— Нет, нет... уже официально... расстреляли... три дня тому
назад...
Трубка выпала у меня из рук... За что погиб этот человек?
Ну, за что?! Ведь это даже не жертва кровавого
революционного экстаза и разгула взбесившейся ненависти. Тут холодное,
рассудочное убийство безвинного пленника в разбойничьем
вертепе... зачем?
— А затем, — пояснил мне, в третий мой арест, сидевший
с нами за должностное преступление коммунист, важный чин
по городской милиции, — что ежели пленник пробыл в вертепе,
101
как вы изволите выражаться, слишком долго, то отпустить его на
волю уже нельзя, ибо он чересчур много видел, слышал и знает,
стал не в меру выразителен и показателен... Ясно? Понимаете?
— Как не понять, когда хорошо растолкуют!
Так оно было или не так — знаю одно: даже очень
фанатические, но не бесчестные коммунисты, с которыми случалось
мне говорить об убийстве Мухина, не находили извинения этому
злому делу и совершенно правильно определяли его — подлым.
•к -к -к
В этаж Урицкого меня провели через столовую чекистов
с примыкавшей к ней импровизированной кухней. Вкусно
пахло горячим мясным варевом, непохожим на гнусную воб-
ляную баланду, какою дважды в день угощали нас, арестантов,
наверху, в тюрьме. В последний мой арест, мартовский 1921 года,
«Гороховая, 2» кормила заключенных очень сносно — особенно
принимая во внимание чудовищно голодную весну. Ведь и на
воле в городе девять десятых населения не было в состоянии
питаться лучше, а две трети из этих девяти десятых едва
осиливало средствами и много лучшие харчи. Но в 1918 году народ
еще не настолько обголодал, чтобы без разбора глотать всякую
отбросную мерзость, лишь бы она содержала хоть бледный
и отдаленный призрак каких-нибудь «калориев». И пакостной
бурды, которую вливала в нас Чрезвычайка, решительно «душа
не принимала» — ни буржуйская, ни пролетарская. Похлебает
иной голодный смельчак из артельного котла и, глядишь, уже
устремляется, бледный, с блуждающими глазами и потным
лбом, в уборную, откуда незамедлительно начинают доноситься
горестные стоны души, расстающейся с Богом. Без «передач»
было бы скверно, — хоть пропасть голодом. Но передач
большевики не стесняли, и было их много. А так как из них слагалась
арестантская «коммуна», то я должен сказать по
справедливости, что в своих советских узах я ел и пил превосходно. На
свободе о подобном питании мы с семьею давным-давно уже
забыли и думать! Главными вкладчиками в «коммуну» были
Мухин и Жданов. Им присылали из дому горы изысканной
еды. Себе они отделяли немного, часть брало тюремное
начальство, а остальное крупно распределялось по камере. Черт
знает, до чего глупо выходило! На воле за обедом жуешь овес,
как лошадь, и радуешься чечевице, как Исав, а тут, валяясь
102
на жестких тюремных досках, вдруг закусываешь страсбургский
пирог ананасным консервом... Белый хлеб, масло, ветчина,
редиска... просто конфузно: того гляди, осрамишь свое звание
узника и — каково это для политического мученика? —
превратишься из скелетообразного петроградского интеллигента
в упитанного толстяка.
В 1921 году я пережил точно такое же неожиданное
благополучие в тюрьме на Шпалерной, как скоро был переведен из
общей камеры в открытую одиночку по библиотечному коридору.
Кругом, почти по всей галерее, сидели спекулянты. Ну, знаете,
с позволения сказать, и жрали же эти милостивые государи!..
Как-то раз мы с сыном, делившим мое заключение, и еще один
наш соузник, третий в камере, архитектор 3., подсчитали
передачу, полученную нашим соседом-спекулянтом, по тогдашним
рыночным ценам. Вышло — 500 000 р. А таких передач он имел
две в неделю. Между тем был далеко не из самых крупных
дельцов: попался, еще будучи в пуху, не оперившись, и другие
созаключенные отлично помнили, как это удачливое детище
северо-западного местечка прибыло в Петроград в 1915 году
беженцем-голодранцем, обобранным до нитки, и, подобно
троянцам в «Энеиде» Котляревского, «тилко слава що в штанах».
Староста этой великолепной коммуны заявил нам, что
вносить в нее мы вольны, что можем, соответственно присы-
лам, однако с обязательством отделять в пользу надзирателей
из каждой передачи не менее четверти фунта масла, столько-то
мяса на бутерброды, табаку, сахару, кофе и т. д. Мы с сыном
переглянулись и рассмеялись: масла, мяса, сахару и кофе мы
уже несколько месяцев и не нюхивали, а перед тем года два
угощались такою роскошью лишь по великим праздникам
да семейным высокоторжественным дням. Табаку, пожалуй,
могли давать, так как оба не курим и накоплялась махорка из
общего пайка. Коммуна была чрезвычайно удивлена: «Как же
это вы ухитрялись существовать?!..» Кое-как мы сторговались
на кашах, которые нам в достаточном количестве присылали
мои милые ученицы из Д. гимназии, и на хлебе, — им снабжали
нас рабочие из Стройсвири и с Балтийского завода.
Откровенно говоря, коммуна была нам малосимпатична, да, вероятно,
и мы ей тоже, но иметь с нею дело было необходимо. Казенное
питание на Шпалерной в марте 1921 года представляло собою
нечто ужасное, невообразимое. Человек я бывалый, всякие
103
лишения знавал, да и переживал уже четвертый год — самый
страшный год — советской голодовки, однако раньше, чем
попробовал это варево, даже представить себе не могу, чтобы
мыслимо было подобное пустопорожнее, но вонючее
издевательство над человеческим аппетитом и желудком!.. А между
тем из 350 заключенных нашего отделения ровно треть сидела
без передач — только на этой возмутительной бурде, на
которую и глядеть-то тошнило, не то что ее есть. Бывало, идешь по
коридору, а из глазков стонут-ревут голоса:
— Отец, нет ли хлебушка?
— Товарищ, не осталось ли корочки?
— Старик, поделись хлебцем!
Хлеба нам приносили много, да и казенного мы
получали по 5/8 фунта в день (и обыкновенно довольно сносного),
но зачастую и сами не замечали, как оставались без хлеба,
потому что невозможно было пройти с отказом мимо этих
плачущих голосов, протянутых рук, жадных глаз, желтых лиц
в стеклянных отеках голодной опухоли... А в другом конце
коридора, глядишь, любезно поджидает тебя созаключенник
другого сорта и при твоем приближении, умильно улыбаясь,
протягивает плитку:
— Не угодно ли шоколаду?
— Советского изготовления? Из подсолнухов?
— Помилуйте, стал ли бы я подобную дрянь кушать и еще
хороших людей угощать! Настоящий Кайе!
А «настоящий Кайе» уже в 1917 году почитался в Питере
величайшею редкостью и стоил огромных денег!
Так-то вот и делилась галерея. Одесную — благоухание
«настоящего Кайе», а ошую — зажми нос и уткнись в
подушку, покуда пронесут мимо камеры зловонный ушат советской
бурды...
На женском отделении, где в общей содержалась моя жена,
заключенные выудили из тюремного супа крысиную голову.
Подняли шум. Пришел смотритель Селицкий (из рабочих и,
к слову отметить, как будто не худой человек). Начал орать:
— Врете вы все! Это не крысиная голова, а... а... кобылье
ухо! (Суп предполагался варенным на конине.)
— С зубами-то?!.. Нет, товарищ смотритель, мы требуем
врача, пусть он определит, что это такое.
Селицкий уступил, но с угрозою:
104
— Хорошо, но помните: если врач не подтвердит, что это
крысиная голова, я за напрасную жалобу всех вас запру по
камерам!
(Содержавшиеся в общих женщины за переполнением
помещений — 41 душа на 10 кроватей! — пользовались свободой
бродить по прилегающему коридору)
Однако обещанного врача смотритель не привел: все-таки
опасно, — хоть и подначальный, а интеллигент, черт его знает,
что он скажет. Вместо врача дождались фельдшера-коммуниста.
Осмотрел глубокомысленно corpus delicti* и установил:
— Это... разварилось... копыто!
Возмущенные наглою ложью прямо в глаза, заключенные —
между ними было тогда несколько медичек — тычут пальцами:
— Копыто?! А это что? Видите: глаз болтается? Откуда же
на копыте взялся глаз?
Посмотрел, подумал и изрек с достоинством:
— Это не глаз... Это... это жилка от копыта!
И ушел победителем. Исполнить свою угрозу, что запрет
в камеры, Селицкий, однако, не посмел. В бунтовавшем
отделении была старостихою очень энергичная дама, с которою
тюремное начальство считалось: Ольга Сергеевна Лунд72,
впоследствии отправленная в Москву и там расстрелянная в
числе жертв, безвинно убиенных по мнимой прикосновенности
к пресловутому «Таганцевскому заговору».
О «заговоре Таганцева» я писал в свое время в «Новой
русской жизни», что не верю в реальность этого дела,
сфабрикованного и раздутого сперва ПЧК, потом ВЧК. Теперь могу лишь
повторить то же самое — и притом с большим сожалением, что
не нахожу в себе веры. Потому что отрадно было бы думать,
будто измученный, обескровленный, бессильный, порабощенный
голодухою, запуганно вымиравший Петроград летних месяцев
1921 года оказался способным на героический подъем такого
серьезного предприятия. Тогда, по крайней мере, хоть не вовсе
понапрасну пролилась бы кровь хороших людей — Таганцева,
Лазаревского, Тихвинского и др., — тогда они погибли бы, как
активные жертвы несчастно проигранного боя, а не пассивно —
в случайной дикой бойне первых встречных интеллигентов по
произволу безразличных палачей, — «в устрашительный пример
* Вещественное доказательство (лат.). — Прим. ред.
105
прочим»... Мне потом доказывали — и не одни большевики-
возражатели, но и некоторые из их противников, охочие до
«нас возвышающего обмана» романтических легенд, — что
я ошибаюсь, заговор был... Хорошо, допустим, что был. Тем
лучше. Повторяю: с моей точки зрения, тем лучше, если был...
Но в таком случае — почему же за участие в заговоре Таган-
цева расстреливали людей, которые определенно и доказанно
не могли принимать в нем участия? Не только потому, что не
знали Таганцева и никого из сообвинявшихся ему, но и просто
потому, что... сидели в одиночках Чрезвычайки уже задолго до
того, как вдея изобрести таганцевский заговор осенила голову
Озолина и получила благословение Дзержинского.
Вот хотя бы эта несчастная О. С. Лунд. Ведь я же нашел ее
на Шпалерной уже 5 марта 1921 года — и не новою, а давнею
узницею. К ней предъявлялись обвинения очень серьезные
и опасные, но к будущему таганцевскому делу, которое до июля
никому и во сне не снилось, они не имели никакого отношения
и касательства. Я знал Ольгу Сергеевну на свободе в обществе
и дружески встретился с нею в тюрьме. Тому, что большевики
ее расстреляли, я не удивляюсь. По многим ее самой о себе
рассказам трудно было ожидать, чтобы они ее пощадили. Она
была контрреволюционерка смелая и не очень-то осторожная.
Ставили тогда к стенке и по подозрениям, вдесятеро менее
опасным, с уликами, вдесятеро менее прозрачными. Она сама
говорила и жене моей, и мне... да, к сожалению, и не нам
одним, а иной раз, по слишком живой экспансивности, также и в
присутствии лиц, которым, пожалуй, лучше было бы о том не
знать, — что считает свое дело почти безнадежным.
— Единственный мой шанс — разыгрывать на допросах
круглую дуру: знать ничего не знаю, ведать не ведаю... Что вы
ко мне пристали?.. Я женщина пожилая, смолоду балованная,
в делах житейских неопытна, в политике ничего не смыслю...
Суди Бог неведомых людей, которые сделали из меня игрушку
своих планов и довели меня до тюрьмы, а я в их делах не
участвовала, разговоров их не слыхала, а что слышала, не понимала,
бумаг их не читала, да и кто они такие — не знаю... Удается мне
роль, поверят — выскочу; не поверят — значит...
И она выразительно умолкала, каждый раз с
легкомысленным жестом, в котором живо сказывался ее бодрый,
бесстрастный дух — темперамент «неунывающей россиянки»...
106
Но играть «круглую дуру» на допросах женщине, так ярко
умной, образованной, энергичной и ловкой вне допросов, было
трудненько... Следователи Чрезвычайки очень плохи, но не
идиоты же они, а кроме того, и в общих камерах, и в одиночках
у них имеются свои глаза и уши... Не поверили! И, не поверив,
расстреляли.
Но расстреляли совсем не по тому делу, которое привело ее
в тюрьму, а по тому, к которому она не была причастна ни сном,
ни духом — ни в лицах, ни в фактах, ни в словах, ни в месте,
ни во времени. Расстреляли только потому, что лживую драму
«Таганцевского заговора» надо было заключить эффектным
кровавым финалом, щегольнув перед напуганной интеллигенцией
и озадаченной Европой возможно большим количеством жертв.
Всякая смертная казнь гнусна. Но быть казненным за свое
дело — тут есть хоть утешение героического миража. Но
умереть по прихоти кровавых клеветников за какую-то сплетенную
ими, совсем постороннюю и неведомую тебе небылицу в лицах,
быть оболганною даже перед лицом смерти и под пулею палача
знать, что ложь всползет змеей и на твою могилу... Какой
беспредельный ужас унижения для сознательной жертвы! Какой
беспредельный, из отвратительнейшей адской грязи и помоев
составленный позор для изобретательных палачей.
КН. С. А. ВОЛКОНСКАЯ73
ГОРЕ ПОБЕЖДЕННЫМ
(фрагменты)*
История первого ареста П. П. Волконского74**
В конце июля 1918 г. я начал хлопотать о получении
заграничного паспорта, мотивируя это необходимостью
упорядочить имущественный вопрос в Вене, где был до самой войны
первым секретарем посольства и где оставил квартиру со всей
обстановкой. Результатом моего заявления, поданного мною
в Комиссариат Внутренних Дел Северной Коммуны, было то,
что на следующий день ко мне явились с обыском из Чека.
Меня в то время не было дома. Вернувшись и убедившись, что
при обыске у меня забрали большое количество писем и бумаг,
я тотчас протелефонировал в Чека, спрашивая у них объяснения
случившемуся и прося их дать мне ответ относительно паспорта.
Мне сказали зайти в Чека. Я немедленно, как был, отправился на
Гороховую. Меня попросили к следователю, который в
корректной форме допросил меня относительно моей предполагаемой
поездки. По окончании разговора он мне заявил, что я арестован.
Меня отвели в большую комнату, где находилось уже человек
семьдесят арестованных. Никаких коек не было, спали на чем
попало, я ночевал на столе. На следующий день меня перевели
в соседнюю, меньшую размером камеру, где я нашел несколько
знакомых. Здесь меня продержали три дня. Состав арестованных
постоянно менялся. В последнее утро привели Великого князя
Павла Александровича; я давно его не видел и был поражен
его больным, усталым видом. Он и в этой обстановке держался
с обычным спокойствием, с обычной любезностью; вспоминал
со мною старые времена, прежние встречи за границею. В тот
же вечер меня перевели в одиночную тюрьму на Шпалерной,
куда вскоре затем перевели и Великого князя. Там же я
встретил и Вел. князя Николая Михайловича. До сих пор храню его
* Фрагменты из книги: Кн. С. А Волконская. Горе
побежденным. Vae Victis. Воспоминания. Париж: Oreste Zeluk, 1933. С. 130—140.
** В данном фрагменте автор приводит воспоминания своего мужа
П. П. Волконского. — Прим. сост.
108
Кн. С А. ВОЛКОНСКАЯ
[IШШШ
VAE'VICTIS"
воспошталшя
ORESTE 2EiVK,EDITEUR
3>ЛЯМ*
109
записку, в которой он рекомендует мне имеющиеся в тюремной
библиотеке французские книги и подписывает: "Гип des avant-
derniers Romanoff"*.
Десять дней я провел в одиночке. На одиннадцатый, поздно
вечером повезли меня опять на Гороховую. Заставили ждать
часа полтора. Около полуночи меня, вместе с десятью другими
заключенными, повели на допрос к Урицкому, председателю
Петроградской Чеки. Меня он допрашивал последним. Начал
с вопроса:
— Вы эстляндец?
— Не в большей мере, чем лифляндец, — курляндец,
саратовец, бессарабец... — перечислял я губернии, где семья моя
приписана к местным дворянствам. Урицкий объявил мне, что
за меня, как за эстляндца, хлопотало германское консульство
(такое неожиданное заступничество явилось результатом
обращения барона А. Ф. Мейендорфа75 в Балтийский комитет
в Петрограде).
— Ничего об этом не знал, — совершенно искренно ответил
я Урицкому.
После короткой паузы он, пытливо глядя на меня, спросил:
— Вы, конечно, монархист?
— Я интегралист теократического начала, — ответил я
заранее обдуманною формулой.
— Объясните вашу мысль подробнее.
— Покойный Торквемада, покойный Победоносцев, те
старались. А я не стараюсь.
— Ну, положим, Победоносцев насаждал не теократию,
а грубое русское самодержавие.
Неожиданно для меня всевластный председатель Чеки
оказывался недюжинным полемистом. Разговор коснулся
позиции, занятой буржуазией) по отношению к советской власти.
— Ведь вы сами принадлежите к буржуазии, — заметил
я Урицкому.
— Да, я, пожалуй, более буржуй, чем некоторые из
этих офицеров, — ответил он, жестом показывая на группу
арестованных, сидевших в углу и терпеливо дожидавшихся
конца моего допроса, — но мы солидаризировались с
пролетариатом.
* Один из предпоследних Романовых (франц.). — Прим. ред.
110
— Вы Дон Кихот, но не Сервантеской платформы.
— Нет, Дон Кихот сражался с мельницами, а мы реальные
политики, — и в виде примера Урицкий заговорил о
пополнении военных кадров офицерами новой формации. В ответ на
это я привел ему слова, сказанные мне когда-то моим бывшим
коллегою, впоследствии немецким министром иностранных дел
Рихардом Кюльманом:
— "Glauben Sie mir, Furst Wolkonsky, Kriege und Siege werden
am griinen Tisch entschieden".
— Nein, nein, nicht am griinen, am rothen Tisch*, — возразил
Урицкий и пальцем постучал о красное сукно стоявшего перед
ним стола...
Во всей этой оригинальной беседе курьезно было и то, что
представитель отменившей титулы советской власти, обращаясь
ко мне, называл меня «князь».
— Разговор наш очень интересен, но другие арестованные
ждут, — сказал я Урицкому, видя усталые лица моих товарищей
по заключению.
Часы показывали второй час. Допрос был кончен.
— А как мне быть насчет паспорта? — спросил я.
— Это вам скажут наверху.
— Кому же мне себя вручить?
— Пойдите наверх, там скажут.
Час спустя я был свободен.
Ровно через неделю я пошел в бывшее Министерство
иностранных дел за паспортом. Войдя с маленького подъезда
со стороны Мойки, я направился по хорошо мне знакомым
служебным коридорам к паспортному отделу, помещавшемуся
во втором этаже. Подойдя к двери, я увидел, что отдел закрыт.
В то же время я увидел кучки людей, толпившихся в коридоре,
увидел взволнованные лица, услыхал обрывки фраз: «убит...
умирает...» — спросил, в чем дело. Оказывается, только что на
служебном подъезде стреляли в Урицкого. Он еще лежит внизу
умирающий. Здание оцепляют, при выходе требуют пропуска.
На мое счастье подвернулся старый служащий.
— Голубчик, каким бы путем мне отсюда лучше
выбраться? — обратился я к нему.
* Игра слов с использованием выражений «зеленый стол» и
«красный стол». — Прим. ред.
111
— Через Мойку лучше будет, Ваша Светлость, — и
старик совершенно мне незнакомыми закоулками провел меня
к незнакомому выходу. По улице уже носились чекисты на
велосипедах в погоне за Каннегиссером. Начиналась первая
страшная полоса террора.
Глава III
<... > От времени до времени в Доме Искусства устраивались
вечеринки. Своего рода скромненький «пир во время чумы».
Народу собиралось довольно много. На одной из этих вечеринок
познакомилась я с Гумилевым, расстрелянным год спустя; там
же познакомилась и с князем Ухтомским, тоже расстрелянным
«за то, что сообщал за границу сведения о русских музеях». Так
и было официально напечатано в советских газетах. Какой-то
совершенно особый холодок пробегает по спине, когда
вспоминаешь друзей своих и знакомых, погибших насильственной
смертью. Не тех, конечно, что рыцарски пали на поле брани
с пулею во лбу, а тех, кого в темных подвалах чрезвычайки
коснулась холодная рука палача. Точно тень от этих последних
минут отбрасывается далеко назад, ложится на всю прожитую
ими жизнь. Почему никогда, подчеркиваю — никогда, не могу
подумать об Иване О., веселом, забавном толстяке Иване,
чтобы не встала перед глазами сцена того, как после целой
ночи пыток в руках озверелой черни, он с презрением говорил
наводившим на него ружья солдатам: «Мерзавцами были,
мерзавцами и остались». Почему княгиню М. Г. Щербатову, которую
я знала с детства, я не вспоминаю иначе, как выходящей из
своего дома в Немирове с Евангелием в руках и падающей тут
же у подъезда под ударами толпы, отовсюду, как на праздник,
сбежавшейся на расправу с помещицею: с нею, которая всю
жизнь посвятила заботам о своем именье и своих крестьянах.
И тут же рядом Сандра, красавица Сандра, погибшая несколько
минут после матери, и брат ее Дима, которого зарубил топором
лесник, укрывший его в своем доме от преследований толпы.
Разве вся предыдущая их жизнь не важнее этих нескольких
предсмертных мгновений? Или действительно, на всё наше
земное существование следует смотреть лишь как на
подготовление к таинству смерти, и правы были древние со своим
нашумевшим изречением memento mori, что, как известно всем
112
окончившим классическую гимназию, в переводе на русский
язык означает «не забудь умереть».
Иногда навещали мы старую княгиню Салтыкову, тихо
угасавшую в двух маленьких комнатках, единственных изо всего
дома уцелевших от реквизиции. Кто из петербуржцев не помнит
большого красного дома между Марсовым полем и Дворцовой
набережной? Красный дом, куда в детстве возили нас смотреть
с балкона на первомайские парады. Красный дом, в котором
позднее бывала я на приемах английского посольства. Красный
дом, где... но здесь не место предаваться сентиментальным
воспоминаниям. Забудем лучше о красном доме над Невою, — его
к тому же, наверное, давно уже перекрасили.
Видались мы и с пожилою четой, графом и графиней
Бенкендорф76. Брат нашего посла в Лондоне77, обер-гофмаршал
Высочайшего Двора, он был одним из немногих, оставшихся
после революции при Государе. Общеизвестный факт, что изо
всех флигель-адъютантов один только — поляк граф Адам
Замойский явился в первые дни революции в Царское Село,
чтобы предоставить себя в распоряжение Императрицы (не надо,
однако, забывать, что большинство других находилось в те дни
со своими полками на фронте). Во всей России едва нашлось
несколько человек, готовых ради старых порядков принести себя
в жертву. Причина этому кроется, главным образом, в простом
невежестве: если бы мы знали о существовании на свете некоего
Владимира Ильича Ленина и могли себе отдать отчет в том, чем
это грозит миру, мы бы все, как один человек, отдали жизнь
хотя бы даже за царя Иоанна Грозного. Беда в том, что никто
из нас этого не знал.
Дядя Павлин Бенкендорф был высокий, красивый,
худощавый старик, до конца сохранивший и изысканную прелесть
манер, и как внешнюю, так и внутреннюю свою
безукоризненность. А она... но что можно сказать о матери, только что
трагически потерявшей обоих своих сыновей? Младший был
расстрелян в Екатеринбурге, куда отправился вместе с
Государем, старший, после долгих месяцев заключения в московских
тюрьмах, внезапно исчез. «Его у нас больше нет», — заявили
матери в тюрьме. Его нет — и больше никаких объяснений.
Целый год добивалась старая графиня: «Скажите, где он — жив
или расстрелян? Скажите только правду, больше ни о чем не
113
прошу». Хлопотала через Горького, писала Ленину. Ничего не
добилась. Целый год лелеяла надежду. Целый кошмарный
двадцатый год, со всеми его физическими лишениями, с регулярно
повторявшимися у них обысками, с неоднократными арестами.
Весною, к довершению всего, их выселили из квартиры. Когда
графиня убедилась, что нет никакой надежды на то, что сын
еще в живых, когда очевидной стала бесполезность дальнейшего
выжидания, — Бенкендорфы начали хлопотать о разрешении
на выезд за границу. Два замученных старика. Казалось бы, что
даже у большевиков не подымется на них рука.
Вы думаете? Вы плохо знаете большевиков. Месяцами
и месяцами длились переговоры: вечная история — беготня из
одного учреждения в другое, бумаги, хлопоты... В начале февраля
1921 года их, наконец, выпустили. Переехав эстонскую границу,
старый граф заболел и тут же в карантинной больнице в три дня
скончался. В тот самый момент, когда после всех вынесенных
мук открывалась пред ним долгожданная свобода. Похоронили
его на семейном кладбище в Фалле.
Те, кто делают революции, не могут позволить себе роскошь
иметь простое человеческое сердце.
А баронесса В. И. Икскуль78 говорила нам в то время, что
«празднует свою серебряную свадьбу с Чрезвычайкой». Это
значило, что у нее в доме накануне произведен был двадцать
пятый обыск.
с. вл-в
В БОЛЬШЕВИСТСКОМ ЗАСТЕНКЕ*
Тюрьма должна быть самым
священным из всех убежищ.
Moore
Я был арестован в августе 1918 года — после убийства
Урицкого — и привезен на Гороховую, в «Чрезвычайку».
Было после полуночи, когда я вошел в предназначенную
мне камеру. Вошел и растерялся! Комната среднего размера
с низким потолком тускло освещалась одной лампой у двери.
Вся она была почти сплошь заставлена кроватями, на
которых лежали спящие люди — по двое, даже по трое на одной
кровати. Спали и на скамьях, на полу, на столе. Всё это имело
вид какого-то бивуака, далеко не живописного. Воздух в столь
переполненной людьми комнате был такой, что, по русскому
выражению, хоть топор вешай. Истомленный, я присел на стол
и стал осматриваться. Какая смесь племен, наречий, состояний!
Солдаты, офицеры, матросы, мелкие спекулянты, налетчики,
китайцы. На другой день я присмотрелся ближе к этой публике
и свел знакомство с ближайшими соседями. Усталость сваливала
меня с ног. Воспользовавшись вызовом одного из арестованных
на допрос, я пренебрег брезгливостью, лег на его место — на
грязную постель, рядом с каким-то нечистоплотным субъектом
и крепко заснул, невзирая на оглушительный храп и объятия
моего сонного соседа.
Через несколько часов я очнулся. Брезжил рассвет.
Увидев вокруг себя груды спящих тел, ощутив зловонный воздух,
я вспомнил, где я нахожусь, и кровь бросилась мне в лицо! Я
испытал чувство нестерпимого возмущения против лишения меня
свободы без всякого законного повода. Люди, именующие себя
защитниками завоеваний революции, бросили меня в тюрьму
наряду с последними мошенниками и воришками! Сердце мое
готово было выскочить из груди, и я лишь с большим трудом
справился с собой. Обитатели Гороховой начали просыпаться.
* Рукопись, б/д. Архив Гуверовского института, фонд С. П. Мель-
гунова, кор. 1, д. 2, лл. 42—57.
115
В тюрьме никто не спешит начинать дня, который мало сулит
хорошего. Впрочем, на Гороховой впечатления разнообразней,
чем во всякой другой тюрьме, т. к. состав сидящих каждый
день пополняется новыми арестованными. И чего-чего я не
наслышался от них! К сожалению, теперь многое изгладилось
из памяти, но кое-что я запомнил. Прежде всего, общее
впечатление от этих рассказов было таково, что весь Петербург
опутан грязной паутиной провокации. Были крупные дела, как,
например, арест группы деятелей одного кооператива, которые
намеревались купить какой-то необходимый, но запрещенный
к вольной продаже товар и попались на этом. Урицкий на
допросе торжествующе заявил, что это он через своего провокатора
уловил и скомпрометировал их за то, что они не хотели работать
с советской властью. Но большинство дел было такою мелочью!
Маленькие люди, ведущие полуголодное существование, хотели
заработать на мелкой спекуляции несколько тысяч руб. и их
уловляли в свои сети агенты Гороховой. Многим из них и в
голову не приходило заниматься спекуляцией, но какой-нибудь
случайный знакомый в кафе (кафе в то время были открыты),
оказывавшийся потом провокатором, соблазнял их легким
способом наживы, а затем торжественно влек по начальству.
Сидят они месяц-два, потом их выпускают. Два месяца в то
время были нормой заключения для всякого, за кем не
числилось никакого преступления, а просто под руку подвернулся!
А ведь двухмесячное сидение в тюрьме в условиях того времени
стоило иных лет нормального!
Помню, тут же сидел какой-то простолюдин, торговавший
папиросами на улице и взятый при этом в плен. Он стонал
о том, как бы известить жену и детей, где он находится. Частая
история!.. Тут же маленький комиссар, неосторожно взявший
маленькую взятку; тут же несколько молодых офицеров полка,
командир которого безуспешно пытался поднять восстание. Про
них говорили втихомолку, что им живыми отсюда не выйти...
Тут же отвратительный азиатский инородец на костылях —
содержатель притона и торговец кокаином; тут же несколько
грязнейших китайцев. Затем полковник N — высокий,
согбенный, седой, как лунь, старик с окладистой белой бородой. Он
еле передвигался, плохо слушались ноги, плохо видели глаза.
Арестован он был с женой и двумя дочерьми за то, что сын
его, офицер, ушел к белым. В определенный час, с трудом под-
116
ЙИ A-©
Щ|';1': ,3t'" й'*'mt''<я—**^ 4../'"—*. ^иъ'»^*: !эклс* nee** ж' ,•,.-*t u/a<**« ш
$$1
''Hi^< v <\.t ,:*<-■ M /Z$-W4i*A-&£ i.i.t.i^/jx^u, -h'S.^K-ic i.\i«7'.
•,'.-..:'•. H' /Jii*^i'L'n(J &iiJhzЛиМ-*-е>, 'ижб >n&t?^-4> eU;t,.<*.4s /.\'t-'i//
:Ш.
««♦**.
нявшись с постели, он медленно продвигался к окну, которое
выходило на двор, и старался увидеть жену и дочерей, сидевших
в камере для женщин напротив. Часто случалось, что злобный
часовой пинал его в спину прикладом и отгонял от окна. Вынес
ли старик тюремное заключение или окончил там дни свои?
Не знаю, т. к. через три дня я был переведен в другую тюрьму.
Кстати, по поводу часовых. Они ничем не отличались по
виду от обыкновенных красноармейцев, охотно вступали в
беседу с арестованными и жаловались на свою судьбу: ни за что,
дескать, не стали бы служить в столь ужасном учреждении, да
жена, дети... Но вот появлялся комендант со зверскими
криками и руганью, и наш часовой преображался из друга во врага
и начинал тоже ругаться и толкать прикладом. Комендант (по
слухам — бывший почтальон) казался по виду добродушным
типом, и чувствовалась какая-то не лишенная, вероятно,
корыстного основания снисходительность его к некоторым из
заключенных. Через него и старосту проникали к нам разйые
сенсации из внешнего мира. Однажды он грубо, с криками
втолкнул в камеру краснорожего парня, в синем картузе и лихих
высоких сапогах. «Ах ты, такой-сякой, — гремел он, — убежать
вздумал! Ну, больше ты у меня не убежишь! Часовой! Запомни
его рожу: ты головой за него отвечаешь; он раз уже бегал». Это
оказался какой-то знаменитый налетчик; и действительно, он
уже больше не убежал: в следующую ночь, часов около четырех,
пришли за ним, вызвали с ним вместе еще одного налетчика
и вышеупомянутого продавца кокаином и всех троих увели.
Допросы заключенных происходили больше ночью, но
допрашивали и днем. Запугивание было излюбленным
приемом. Вернется, бывало, с допроса какой-нибудь маленький
спекулянт, — зуб на зуб у него не попадает: «Пропал,
братцы, — говорит, — расстреляют! Следователь так и сказал».
Через десяток минут вновь вызывают его фамилию: «Собирай
вещи». Он совсем почти без чувств от ужаса, а оказывается —
его выпускают на свободу.
Все арестованные в день убийства Урицкого на улицах, в
ресторанах и других местах Петербурга назывались обвиняемыми
в убийстве Урицкого, хотя бы они не имели никакого отношения
к убийству и вообще к какому бы то ни было преступлению.
Так, арестованы были разные лица, обедавшие в Английском
клубе, единственно потому, что дом на Миллионной улице,
118
куда забежал убийца, спасаясь от преследования, выходит и на
набережную, а с набережной в нем помещается Английский
клуб. Вместо обеда в Английском клубе им пришлось хлебать
грязную похлебку из общей деревянной миски, а затем просидеть
неведомо за что несколько месяцев. Арестовано было несколько
армян — владельцев кавказского ресторана, зашедших в тот же
дом покупать мебель по объявлению.
В этот день в Петербурге было арестовано масса народу и,
как известно, расстреляно свыше 550 человек. Рассказывали
мне, например, такой случай: доверенный одной из крупных
гостинодворских фирм завтракал в каком-то ресторане. В этом
ресторане начался обыск и проверка документов.
Администрация ресторана предложила гостям уйти через другой выход, но
упомянутый доверенный ответил, что документы у него в
порядке и бояться ему нечего. Он был арестован и пропал без вести.
Постоянное прибытие новых арестованных и их рассказы,
кровожадные статьи газет, зловещие слухи о событиях,
происходивших в городе, — всё это создало на Гороховой
чрезвычайно напряженную атмосферу. На следующий день часть
арестованных стали приготовлять к отправке в другие тюрьмы.
Я попал в «Дерябинскую», находившуюся в Гавани. К вечеру
нас выстроили в шеренги, окружили конвойными и погнали.
Настроение было жуткое, пугали возможностью эксцессов толпы
над нами во время пути. Но на улицах города было спокойно
и тихо. Когда мы проходили мимо какого-то матросского клуба
на набережной, там происходила обычная в то время танцулька.
Несколько матросов со своими дамами находились на балконе
и что-то прошлись по адресу наших конвойных. Эти последние
стали махать револьверами и ругаться и заставили очистить
балкон. Такого же характера инцидент имел место на Николаевском
мосту, где из трамвая раздалась ругань по адресу конвойных.
Тяжело было шагать в Гавань с поклажей за плечами...
Добрались мы туда уже в полной темноте. На дворе
произошла перекличка, после чего нас, как стадо, ввергли в какую-то
темную камеру. Все бросились на железные кровати и старались
устраиваться рядом с более или менее знакомыми людьми, т. к.
в темноте было жутко. Спать пришлось на железной кровати
без тюфяка. Ночью произошла кража, а утром — тяжкая сцена
изобличения виновного путем поголовного обыска и расправа
с ним самосудом. Слава Богу, всё кончилось сравнительно бла-
119
гополучно. Затем тюремная администрация распределила нас по
камерам. При всех этих распределениях и перераспределениях
особо опасным почетом пользовались бывшие офицеры. В
тюрьме в то время было три специальных «офицерских» камеры. Так
как офицеры составляли элемент наиболее интеллигентный
среди арестованных, то, естественно, наибольшее число
знакомств я свел среди них. Большинство офицеров было, конечно,
арестовано только за то, что они офицеры. Многих арестовали
в провинции — в Вологде, Старой Руссе и др. местах, привезли
в Петроград и держали по нескольку месяцев в тюрьме. Ужасно
было положение этих провинциалов, т. к. никто не приносил
им пищи, и они голодали. Какой бы силой воли ни обладали
эти люди, но невольно при виде того, как ели другие, голодный
блеск выступал на их глазах. Они сознавали это и страдали
невыносимо от такого унижения. У одного офицера как-то
вырвалось в разговоре со мной: «Придет время — будет расплата:
сам своими руками живыми буду в землю закапывать...» Было
среди сидевших немало людей, пострадавших на войне. Я
познакомился с одним пожилым полковником, который много
раз бывал в бою, 7 раз был ранен и один раз контужен. И он
также сидел несколько месяцев, не зная, за что арестован, а дома
у него осталась жена с детьми! Один знакомый юноша-офицер
арестован был во время облавы в кафе. Он сидел без
предъявления какого-либо обвинения свыше полугода, причем часть
этого времени провел в ужасных условиях в Петропавловской
крепости: там люди принуждены были спать на сыром холодном
полу; там комендант нагло воровал передачу и тем заставлял
голодать арестованных.
Атмосфера в тюрьме продолжала быть столь же нервной, как
и на Гороховой. «Красная газета» кровожадно требовала каждый
день крови буржуев. «К стенке!» — так называлась одна ее статья.
Свирепствовал красный террор. В офицерских камерах было
самое подавленное настроение. В них сидело, между прочим,
несколько священников; сидел и покойный генерал Поливанов.
Священники организовали общие молитвы, на которых пел
импровизированный хор из офицеров. В те дни молились каждый
день, утром и вечером, молились горячо. Молитва происходила
в длинном большом зале тюрьмы, которым разрешалось
пользоваться для прогулок. Окна этого зала выходили на взморье,
а между окон помещалась большая икона Николая Чудотвор-
120
ца, которая служила, по-видимому, одно время мишенью для
стрельбы матросов, помещавшихся в Дерябинских казармах
(ранее здесь были казармы), т. к. вся была изрешечена пулями.
Перед этой иконой и происходили молитвы. Пение хора гулко
раздавалось под сводами. Голос священника звучал искренне
и проникновенно. Проповеди в этой необычайной обстановке
производили особенно сильное впечатление. «Братие! Грозные
дни мы переживаем, — говорил священник, — и не знаем, что
принесет нам ближайшая ночь. Может быть, для некоторых из
нас она будет последней». В этих словах чувствовалась реальная
правда, они волновали до глубины души. Но дух поднимали!..
Этих богослужений не забыть никогда...
Меня поместили в камере среди самой разнообразной
публики. Рядом со мной спал здоровенный, оборванный матрос,
и ночью я должен был опасаться по крайней мере за целость
своих вещей и карманов, если не большего. Одно время я стал
проситься в офицерскую камеру, но меня отговорили: не ровен
час, начнут выбирать всякого десятого! Ведь был такой случай:
подошла к тюрьме баржа, приняла в трюм тридцать офицеров
и отплыла по направлению к Кронштадту. А потом жены и
сестры увезенных никак не могли доискаться их...
С внешней стороны жизнь наша в тюрьме была сносной —
особенно потому, что то не была собственно тюрьма, а
казарма, и походила скорей на большой корабль, чем на тюрьму.
Дозволялось днем переходить из камеры в камеру и гулять
по большому залу. Окна его выходили на взморье, и мы часто
любовались красивыми закатами. Но кошмар тюремной жизни
заключался в том, что многие из тюремных сидельцев голодали
в самой крайней степени, и это создавало порой ужасные
впечатления! Ужасно было видеть в глазах людей волчьи огоньки,
когда они смотрели на чужую пищу. Бывали случаи, что когда
я бросал в сорный угол отбросы моей еды: кожуру, кости и пр.,
то несколько людей бросались подбирать эти объедки с
жадностью! Было время, когда в тюрьмах люди объявляли голодовку
в виде протеста! Как мы далеко ушли при большевиках от такого
сентиментального предрассудка.
Я чувствовал себя сравнительно очень бодрым и спокойным;
после пережитых настроений ничто уж не казалось страшным.
Сравнительно свободные порядки в тюрьме и возможность
общения с другими камерами сильно поддерживали дух. На миру
121
и смерть красна! Можно сказать без преувеличений, что в те
дни мысль о близкой смерти была у всех почти арестованных.
Следующая тюрьма, куда меня перевели через некоторое
время, — были знаменитые «Кресты». «Кресты» — это уж
настоящая, «усовершенствованная» тюрьма, и я всю мою жизнь буду
вспоминать ее со страхом и проклятиями. Помню, как меня вел
тюремщик с большой связкой ключей в руках через
бесконечное количество дверей, по длинным, низким коридорам, как
затем мы стали спускаться в подземелье, и у меня появилось
даже жуткое чувство. Вот мы очутились внизу в небольшом
коридоре, по обеим сторонам которого виднелись не камеры,
нет! — клетки! Настоящие клетки для диких зверей. Вместо
дверей — железные, сквозные решетки, так что вся камера
видна из коридора, как на ладони. Самая же камера — шага
два ширины и три-четыре шага длины.
Пока я проходил этим коридором, я видел у каждой
решетки-двери человеческое существо, которое с жадными глазами
что-нибудь выпрашивало у меня: товарищ, дай хлебца! Дай
папироску! Нет ли чего поесть! Всё это создавало кошмарное
впечатление не то сумасшедшего дома, не то подлинного
зверинца. Но вот и меня ввергли в одну из таких клеток, и около
меня засуетился надзиратель, ведающий этим коридором с так
называемыми распределительными камерами. Нельзя
представить себе ничего более гнусного, чем это существо! Как я узнал
впоследствии, это был мелкий воришка, который сумел угодить
начальству и из арестантов был произведен в надзиратели. Своего
рода карьера! Он начал с того, что обшарил мои вещи и выудил
оттуда всё съестное. Насилу вымолил я у него кусок хлеба для
себя, да сумел припрятать коробку сардин. В моей камере не
только не было кровати, но вообще ни одного предмета, даже
стула: голые стены и асфальтовый холодный пол. Я спросил,
будет ли мне постель? Заключив из моего вида, что у меня
должны быть деньги, тюремщик тотчас начал меня
шантажировать. Он ответил, что кровати не полагается, но если кому-то
там «дать», то можно это устроить. Вместе с тем он любезно
пригласил меня в свою камеру пить мой чай с моим сахаром.
Пришлось пойти на приглашение и на все условия. На ночь мой
тюремщик достал мне скамейку, на которой я и примостился.
За ночь я сильно продрог в сырой камере и, открыв глаза,
не мог не испытать снова отвращения и ужаса перед своей клет-
122
кой. Вскоре перед нею стали появляться мои соседи-арестанты,
направлявшиеся в уборную. Они подходили к моей прозрачной
двери и оглядывали меня с ног до головы, подлинно как какое-
нибудь заморское животное. В результате какая-нибудь просьба:
еды или денег. Никто не верил, что еды у меня нет. По всем этим
просьбам и разговорам я понял, что ни одного интеллигентного
человека среди моих соседей нет, все они — «уголовные», и это
накладывало особый, непереносимый оттенок и на обращение
их и надзирателей со мной. Все они были, конечно, в ужасном
положении в смысле питания, и некоторые из них по своему
состоянию были близки к состоянию диких зверей. Рядом
в камере какой-то полусумасшедший субъект непрерывно
оглашал воздух ужасающими ругательствами. Тут доставалось
и Ленину, и Троцкому, и надзирателю. Запомнился еще один
грузин, арестованный некоторое время тому назад на вокзале:
голодный, грязный, оборванный, с лихорадочно горящими
чахоточными глазами, высокий и черный — он производил
совершенное впечатление обезьяны. Впоследствии этот тип
всячески старался попасть в одну камеру со мной!
Самый ужасный момент наступил, когда надзиратель
притащил лоханки с вонючей бурдой в качестве тюремного обеда.
Я ушам своим не хотел верить: я услыхал подлинное рычание
и вой животных! Потом поднялась невероятная, несмолкаемая
ругань: каждый из арестантов ругал надзирателя за то, что он
плеснул ему слишком мало и слишком жидкую похлебку, а
надзиратель, в свою очередь, визгливо ругал их самыми скверными
ругательствами, толкал и захлопывал дверцу перед самым носом.
Вспомнился рев зверей в Зоологическом саду, когда им дают
пищу сторожа. Буквально то же самое!
Потом пришел фельдшер или врач в белом халате и стал
прививать прививку против холеры. Позвали и меня. Не
доверяя вообще этой прививке, я особенно не желал подвергнуться
ей в тот момент потому, что был голоден, во-первых (я ничего
не ел уже почти сутки), и грязен, во-вторых. Я заявил это
решительно, но ответом мне был тот же недоумевающий взгляд,
каким смотрят на ребенка или сумасшедшего, и я понял, что
если я буду настаивать, на меня закричат или ударят.
Днем нас снова выстроили в ряды, пересчитали; потом
повели наверх и стали распределять по камерам. Тут около
нас вертелся уже новый надзиратель, тоже из уголовных, от
123
которого я узнал, что нас будут рассаживать по маленьким
камерам — по два-три человека. Так как состав арестованных
не внушал мне ни малейшего доверия, я стал просить
поместить меня в одиночку, чего и достиг — за мзду, конечно. Вот
тут только, в Крестах, я особенно ясно понял ужас тюремного
заключения при советском режиме. Заключенный в одиночную
камеру, я попал в полную зависимость от шантажирующего меня
тюремщика. И никакой защиты ни у кого не найти! Никакого
тюремного регламента, никаких правил не существует.
Никаких прав у заключенных! Ужасно быть бесправным на воле,
в своей квартире; но несравненно ужаснее в тюрьме! Общая
разруха и анархия здесь отражаются в сильнейшей степени.
Полагаясь на мой внешний вид, тюремщик в кредит исполнил
мое желание — попасть в одиночную камеру. Это оказалась
типичная тюремная камера: крохотная, полутемная комната
с маленьким окном наверху. Чтобы заглянуть в это окно, надо
было становиться на стол! Кровать, привинченная к стене,
вонючее ведро — вместо «параши», стол и табуретка. Чтобы дать
представление о размерах этой комнаты, достаточно знать, что
до моего переселения в нее посреди нее стоял простой
деревянный стол, на котором лежал соломенный тюфяк и который
заменял кровать для второго заключенного: в комнате до меня их
помещалось двое. Так вот, когда стоял этот стол, комната была
совершенно наполнена и не было даже возможности пройти
к окну. Поместив меня в эту комнату, мне разрешили пройти
в уборную. Когда за все эти любезности я заплатил некоторую
сумму моему благодетелю, физиономия его вытянулась и он
возразил мне, что это слишком мало! По тем временам
требования его были столь значительными, что я с моим скромным
запасом никак не мог выдержать тягости местного обложения.
Он понял это, и режим мой сейчас же сделался более суровым.
Камера моя, бывшая дотоле незапертой, немедленно подверглась
запору. Я протестовал, мне было как-то жутко остаться одному
под запором в такой каморке, но на этой мой мучитель
заметил, что «не полагается» и что это можно устроить только в том
случае, если хорошо заплатить какому-то еще тюремщику. Этот
последний не замедлил дать знать о себе: он явился взглянуть
на меня, отодвинул тяжелый засов, вошел, посмотрел зверски
(особо зверский вид придавало ему кровоизлияние на одном
глазу), крикнул мне что-то вроде: «Убрать комнату!» Я попро-
124
сил разрешения пойти в уборную. Он опять заорал: «Здесь не
гостиница, чтобы в уборную ходить!» Я понял, что мои акции
пали совсем низко.
Я заявил надзирателю, что желаю подать заявление
начальнику тюрьмы, но он, по-видимому, первый раз слышал о таких
вольностях и только с сомнением покачал головой и вышел.
Я уж начинал сомневаться в том, хватится ли кто-нибудь меня
в этой тюрьме, если этому типу заблагорассудится задушить
меня ближайшей ночью. Сумерки сгущались. В комнате было
холодно, затхло. Делать было нечего. Ходить — не разойдешься:
два шага в одну сторону и три — в другую. Читать темно, да и не
до того было! Смотреть в окно — высоко лезть и неудобно...
На душе начали кошки скрести. Возможно, что голод
в течение вторых суток начинал свое действие на меня; может
быть, меня лихорадило от сделанной холерной прививки, но
я вдруг впал в мучительнейшее состояние! Мое одиночество,
полутемная камера с ее толстыми каменными стенами, крепким
засовом на двери и проделанным в ней «глазком» для
подсматривания — сделались для меня невыносимыми. Я снова ощутил
тот припадок возмущения, протеста, что охватил меня в первую
ночь ареста, но в еще сильнейшей степени. Я почувствовал себя
беспредельно униженным, оскорбленным арестом, всем
обращением со мной. Я начал терять самообладание. Я близок был
к какому-то безумию; у меня явилось желание дико кричать,
биться о стены, о дверь. Я хотел свободы, свободы сейчас — во
что бы то ни стало!..
Мучительные минуты... Я весь дрожал. Я уговаривал себя
тем, что протест бесплоден, что другие сидят месяцы, годы...
быть не может! Как же годы? Как же люди выживают? Не
сходят с ума? Не кончают с собой? Неужели же я такой слабый,
нетерпеливый?..
Я лег в постель, укрылся с головой. Согрелся. Наконец,
забылся... благодарение Богу!..
Через день меня перевели в общую камеру. Там я
благополучно высидел «законный» срок — до освобождения.
Н. БАДРИН79
В КОГТЯХ У БОЛЬШЕВИКОВ
(фрагмент)*
В тюрьме
29 августа 1918 г. комиссар по внутренним делам Урицкий
был убит на месте своего служения. Весть об этом мгновенно
облетела город. Мстя за убитого, советская власть предприняла
ряд арестов. Никто, однако, не предполагал, что они примут
характер террора, что в слепой ненависти к так называемым
«буржуям» не станут разбирать правого от виноватого. Ведь
как-никак, а убийца принадлежал к партийным деятелям.
При этих условиях наступила для меня приснопамятная
ночь с 31 августа на 1 сентября...
Мы легли спать довольно поздно. Моя жена и belle mere**
на следующее утро собирались ехать в деревню «отъедаться».
Нужно заметить, что всё это время меня волновали тяжелые
предчувствия. Как никогда хотелось куда-нибудь уехать. Над
красным Петроградом всё более сгущалась атмосфера голода
и нужды. Человеку, не красноармейцу или большевику, нужно
было зарабатывать свыше трех тысяч рублей в месяц, чтобы
семье в три человека каждый день обедать.
Около шести часов утра звонок. Я сквозь сон слышу голос
тещи (из другой комнаты): «Звонят. Вероятно, швейцар
предупреждает, что пора вставать». (Поезд отходит в 9 час утра.)
Однако звонок повторяется и звучит долго. Я говорю жене:
— Пришли меня арестовать!
Жена:
— Какой вздор! С какой стати тебя брать?
Я наскоро одеваюсь и иду в переднюю. За дверью голоса.
Спрашиваю:
— Кто звонит?
Ответ:
— Уполномоченный домового комитета.
* Фрагмент из книги: Бадрин И. В когтях у большевиков: в тюрьме
и на воле. Гельсингфорс: Фундамент, 1919. С. 1—64.
** Теща (франц.). — Прим. ред.
126
ff.'.V
ft БАДРИНЪ.
ВЪ КОГТЯХЪ У БОЛЫШЙКОВЪ
въ тюрьи i ш вот
КНйГОИаДАТЕНЬСТВО .ФУНММЖЪ*
ГОШШНРФОРСЬ
Ну, так и есть — пришли. Через минуту я впускаю в
переднюю толпу вооруженных людей, человек 10-12. Впереди
всех блондин, молодой человек приятной наружности. Рядом
с ним уполномоченный дома. Молодой человек садится к столу,
развертывает бумаги и спрашивает:
— Вы такой-то?
-Я.
— Проведите меня к вашему письменному столу.
— Пожалуйста.
Направляемся в кабинет. На столе в беспорядке лежит
рукопись моей новой исторической работы. Молодой человек
углубляется в чтение. По-видимому, мало что понимает. Я
объясняю, в чем дело. Затем он складывает несколько исписанных
листов и хочет спрятать. Я протестую:
— Пожалуйста, не берите перебеленные листы. Лучше
возьмите черновики.
Молодой человек думает с минуту и откладывает листы
в сторону:
— Не стоит!
Затем, обращаясь ко мне:
— Вам придется прогуляться на Гончарную.
— Другими словами, вы меня арестуете?
— Да. Вот ордер чрезвычайной следственной комиссии.
Смотрю: действительно, на форменной бумажке одна фраза:
«Обыскать и арестовать».
Должен сознаться: вся процедура происходит очень
корректно. Обыск, например, только тем и ограничивается, о чем
я рассказал выше. А сначала я предполагал худшее. Дело в том,
что накануне к нам приехал офицер с Украины и остался
ночевать. Приди комиссару в голову произвести более тщательный
обыск, моему офицеру пришлось бы плохо. Его бы наверняка
арестовали. Кроме того, на столе рядом с бумагами предательски
очутился мой дневник. Он местами не щадил большевиков и мог
послужить уликой против меня. Иду одеваться. Жена в испуге.
Прислуга плачет. Что-то будет?
На душе, конечно, жутко. Тем не менее, как только я
возвращаюсь в кабинет одетым, мое настроение быстро меняется
к лучшему. Оказывается, в нашем доме я арестован не один.
Моим товарищем по несчастью является еще некто Н. Б.,
старик лет 65, отставной педагог, только что вернувшийся с дачи.
128
— Ну, если и он попал в контрреволюционеры, то мне не
страшно!
С этими чувствами я прощаюсь со своими. Жена удивлена:
— Что ты такой веселый?
— Да вот потому-то...
Тем временем мне собирают корзинку с провизией (она
предназначалась для путешественников), а прислуга выбирает
осеннее пальто. Несколько минут мы еще стоим в передней.
Конвойные зевают.
— Черт их возьми совсем, — ворчат некоторые, — всю
ночь маемся!
Тон их такой добродушный, что мелькает мысль: не дать
ли им на чай за беспокойство?
Во время моего пребывания в спальне разыгрывается
маленький инцидент в столовой. К столу, еще не убранному
с вечера, подбирается один из солдат. Его интересует
серебряная ложка. Этот маневр замечает жена и предупреждает кражу.
На парадной лестнице встречает нас Б. и еще третий
арестованный (также жилец нашего дома) М.
На дворе свежо и пустынно. Едва брезжит утро. Я живу
на ул. Достоевского, так что идем по Кузнечному,
Пушкинской и Лиговке. На Кузнечном нам попадаются какие-то дамы
с солдатами.
— Неужели тоже арестованы?
— Нет, нет! — кричат они весело. — Это так!
По пути я разговариваю с конвойным. Говорим об аресте
и об обыске. Я припоминаю, что при старом режиме обыски
происходили главным образом днем, и рассказываю случай,
бывший у меня на квартире. Обыскивали горничную,
подругу «политического», ничего не нашли и оставили ее в покое.
Конвойный возражает. Тон его дружелюбный: «Не всегда так
делалось. Вот его брата арестовали, обыскали, ничего не нашли
и тем не менее взяли».
У ворот Александро-Невской части попадаются несколько
красноармейцев. Гогочут: «Новеньких привели». Поднимаемся
по лестнице во второй этаж. Здесь первый контроль.
Записывают имя, фамилию, звание и пр. Затем в канцелярии второй.
На этот раз попадается словоохотливый парень. Утверждает,
что уже в 10 ч утра нас будут допрашивать. На душе как-то
безразлично. Скорее даже любопытно: что будет дальше? Ведь
129
обвинений никаких не предъявлено, и обыск не дал никаких
результатов. За что, спрашивается, держать?
Наконец нас водворяют в полутемной камере. Там уже
человека четыре или пять. Здороваемся. Оказывается, все знакомые:
кн. Накашидзе, бар. П. Ф. Мейендорф80, Коцебу, Б. А. Нератов81.
Мало-помалу приводят новых. Среди них П. В. Веревкин82,
адмирал А. П. Курош83, В. И. Комарницкий, генерал Яблочкин84
с сыном. Попадаются два еврея: один — купец, другой —
золотых дел мастер. Тема беседы: подробности ареста. У некоторых
обыск произведен самый тщательный: забрана переписка, вещи,
даже продукты. Многие очень скептически смотрят на быстрый
допрос и освобождение. Особенно пессимистичен в этом
отношении В. И. Комарницкий. Он философски рассматривает
вопрос, а пока что... развертывает книжку по высшей математике
и углубляется в чтение. Мало-помалу мы осваиваемся с нашим
новым положением. Камера, в которой нас поместили,
представляет неправильный шестиугольник, занимающий в наиболее
длинной своей части 10 арш., а в наиболее короткой 8. Против
двери — окно, разумеется, с решеткой. Всюду деревянные нары,
довольно грязные и населенные, в память прежних жильцов,
разными насекомыми. Воздух спертый, пропитан сыростью.
От нечего делать люди курят, делятся впечатлениями. Центром
внимания скоро становится К. Почти накануне революции
он принял высокий административный пост и, арестованный
тотчас после переворота, испытал пять месяцев неволи. От
многих его рассказов веет холодом могилы. Немного портит
старику хвастливый тон повествования. Нет, кажется,
доблестнее человека на свете!
Между прочим выясняется, что, арестовывая нас,
большевики каждому обещали то* же самое: после немедленного
допроса освободить. По-видимому, на это нельзя надеяться.
Прежде всего количество арестованных, очевидно, огромно.
Они приходят пачками: каждые полчаса человек 10—15. Но тогда
зачем обман? Готовясь к более длительному заключению, мы
бы запаслись подушкой, одеялом, словом, тем, что несколько
скрашивает тюрьму.
Курьезно, что в числе арестованных Э. Ю. Коцебу. Он
служит в Балтийском комитете, учреждении, пользующемся
правами экстерриториальности, и, следовательно, менее
подлежит задержанию. Или большевики больше не считаются
130
с немцами? Впрочем, Коцебу рассчитывает на комитет и на
одного из главных его руководителей, бар. Е. К. Каульбарса85.
Одна беда: Каульбарс только что уехал с поездом беженцев
в Псков, но он должен каждую минуту вернуться. Днем нам
приносят свежие новости: привели княгиню Волконскую86,
жену кн. Вл[адимира] Михайловича]87, бывшего товарища
председателя Государственной Думы. Она за что? Говорят, по
недоразумению. Ее дочь ходила в Совдеп выбирать паспорт на
Украину, и на этом основании арестовали... мать.
День проходит незаметно. На миру и смерть красна.
Неясность положения каждого мирит человека с его
собственным положением. Если арестовали Икса, Игрека, Зета,
столь же невинных, как я, то почему не арестовать меня?
Столько же оснований. К вечеру кое-кому приносят
съестное. Мне домашние положили в корзинку немножко хлеба,
яблок, картофель, и я сыт. Укладываемся спать в следующем
порядке: совсем у окна Мейендорф, рядом с ним Накашидзе,
потом генерал Яблочкин с сыном, затем Курош, я, рядом со
мной еврей Холен и т. д. Народу много, около 27 человек на
камеру, и тесно. Лежишь словно в люльке, плотно прижавшись
друг к другу. А тут еще Холен во сне дерется. Он, конечно, не
виноват, но мне от него попадает. На душе неопределенно.
Что-то делается дома? Поди, волнуются. Лучше не думать.
Лежать жестко. Подушек еще нет ни у кого. Под голову под-
кладываешь сложенный вчетверо пиджак и таким манером
спишь. Так кончаются первые сутки.
2 сентября
Просыпаемся рано. В камеру вносят ведро с кипятком,
слегка подкрашенным чаем. Закусываем. Коцебу выходит в
коридор и возвращается с сенсационной новостью: ночью привели
Е. К. Каульбарса. Очевидно, большевики ошалели. Берут кого
попало. Позднее узнаю от него самого, что он не менее других
удивлен арестом. Он всё время освобождал других и вдруг... Мы
мало-помалу организуемся. Избираем старших. Во главе камеры
ставится А. П. Курош, его помощником — Комарницкий. Они
должны выработать устав общежития. На день назначаются
двое дежурных. Их обязанность — трижды в день чистить
камеру, заботиться о кипятке, вообще наблюдать за порядком. По
моему предложению, несколько обуздывают курильщиков. Им
131
предоставлено курить до утренней уборки, а затем только с часа
и до четырех. В остальное время курить запрещено.
Происходит поверка. Любопытно, что ею занимаются дней пять, шесть
в начале ареста, а потом бросают. Вместо переклички старшие
в камерах представляют тюремной администрации ежедневные
рапортички с точным наименованием количества заключенных.
В коридоре знакомлюсь с княгиней Волконской. К ней
сегодня присоединили дочь. Издам еще арестована М. П. Родзян-
ко, супруга Павл[а] Вл[адимировича]88, belle soeur* председателя
Государственной Думы. Забавно. Дам сначала сунули в камеру
с проститутками, но затем оставили одних. Тюремный режим
вообще сносный. Камеры запирают, но редко, обыкновенно
когда в тюрьму заглядывает начальство. В другое время мы
свободно разгуливаем по коридору, навещаем другие
камеры и пр. Администрация с нами достаточно любезна. У кого
есть титул — титулуют, а если «политический» генерал или
адмирал, то обязательно при перекличке упомянут его звание.
Днем посылаем за провизией. Этим занимается некто Бобков,
совмещающий должность провиантмейстера с обязанностями
заведующего тюрьмой. Странная комбинация! Впрочем, она
выгодна обеим сторонам. Около двух часов дня кто-то называет
мою фамилию. Зовут к окну. На дворе наша прислуга Марфа.
Она пришла сообщить мне, что обо мне хлопочут. Я в этом не
сомневался. К вечеру Каульбарса освобождают. Пока допроса
никакого, и настроение повышенное. В. И. Комарницкий
философски советует вооружиться терпением. Слава Богу,
если отпустят через неделю. Раньше нечего и думать. С воли
доносятся звуки музыки, а изредка выстрелы. Заходит
комендант. Это типичный «товарищ», в пиджаке поверх суконной
рубашки. Говорят, по специальности он хороший модельщик
и зарабатывал большие деньги в Москве. Интересно, что
привело его на административную должность? Он отделывается
общими фразами, а некоторым предлагает написать прошения
в чрезвычайную комиссию. Без комиссии он не вправе ничего
сделать для заключенных.
Наш тюремный режим скрашивается обедом: он
заключается в супе и какой-то похлебке. Довольно вкусно. К концу дня
приносят и мне посылку.
* Невестка (франц.). — Прим. ред.
132
3 сентября
Третий день заключения. Мы должны сознаться: оно
вполне терпимо. Отношение к нам не только не ухудшается,
но даже улучшается. Есть, конечно, минусы. Первый
минус — отхожее место. Оно отвратительно. На асфальтовом
полу проделано несколько лунок. Они постоянно засоряются.
Кроме того, требуется умение, чтобы к ним приспособляться.
Бедные дамы! Для них эти «места» должны быть всего
чувствительнее. Второй минус — присутствие в соседних камерах
уголовных. Сравнительно с нами они размещены еще теснее.
В большинстве случаев это мелкое жулье, карманные
воришки, но встречаются и более редкие экземпляры — ослушники
советской власти и «спекулянты». Внешний вид их ужасный.
Бледные, истощенные, в чем только душа держится? В камерах
у них постоянное волнение. Бунтуют из-за недостатка в пище.
Укротителем является один из надзирателей, некто Пяткевич,
совсем юноша, почти мальчик, но наглый и развязный. С
уголовными он не стесняется, ругает их последними словами, а,
может быть, даже бьет, во всяком случае постоянно грозит
револьвером. Соседство уголовных потому еще неприятно, что
оно небезопасно в материальном отношении. Были случаи,
что у нас пропадали вещи и деньги. К нашему, по-видимому,
привилегированному положению они питают явно враждебные
чувства. Часто слышится:
— Ишь, аристократов набрали. Им всё, а нам ничего.
Однако, когда могут, они нас эксплуатируют: выпрашивают
папиросы, остатки провизии, газету. На пищу набрасываются
с жадностью. Готовы растерзать друг друга.
Днем меня опять вызывают. На дворе жена. Кое-как,
просунув голову в решетку, мы переговариваемся. Она
сообщает мне то же, что и Марфа, но с большими подробностями.
Волнует меня отсутствие сына. Он уехал в деревню, и мы не
имеем от него никаких известий. Нашу беседу обрывает какой-
то красноармеец. Переговоры запрещены. Предупреждая нас
об этом, он для острастки грозит револьвером. Дамы, так же,
как жена, караулящие своих близких, разбегаются, как стая
воробьев. На ночь мой беспокойный сосед слева уступает мне
половину своей подушки. Благодаря ему я сплю спокойнее.
Тревожат только клопы и вши. Я ловлю их и тут же предаю
публичной казни.
133
4 сентября
Время проходит довольно быстро. Вчера первым
допрашивался Холен. Он, как и многие другие, попал в тюрьму
случайно. Собрался в Вильну, пошел засвидетельствовать паспорт
в Совдепе и был препровожден на Гончарную. С допроса он
возвращается удрученный. Ему кажется, что сказал лишнее и что
естественный исход его дела — расстрел. Нынче освободили
Коцебу. Это наша первая ласточка. Все про себя гадают, кто
будет следующий. К ночи вызывают П. В. Веревкина, Яблоч-
кина-отца, Мейендорфа, Мезенцева и еще нескольких других.
Спится тревожно. До позднего вечера по камере гуляют,
разговаривают, обмениваются впечатлениями. Уходящих на допрос
провожают с таким видом, словно их освобождают. Но это пока
преждевременно. Веревкин и Мезенцев скоро возвращаются. Их
допрашивали поодиночке, но совершенно в одинаковой форме.
Прямых обвинений никаких. Больше по поводу политических
убеждений каждого. Впрочем, Веревкина таскали по прежней
его службе в качестве губернатора.
Тюремный наш режим не ухудшается. Напротив, после
обеда нам выдают четвертушку хлеба. По нынешним временам
это даже роскошь. О чем мы беседуем? Да обо всем понемножку.
Вот что курьезно: на воле, когда мужчины соберутся, —
непременно заговорят о женщинах. Сейчас об этом даже не заикаются.
Всё плотское, греховное отошло на второй план. В тюрьме, по
крайней мере, я не слышал ни одного скабрезного анекдота.
Вечером Мейендорф из папиросных коробок сооружает колоду
карт. Мы играем в винт. Все-таки развлечение.
5 сентября
Сквозняки вызывают у нас болезни. Хворают по очереди:
Яблочкин 2-й, Накашидзе, Мейендорф. В этих случаях меняют
помещение для ночлега: от окна больных переселяют в глубь
камеры. Наша автономия несколько расширяет свои права.
Выборные ходят за обедом, кипятком и пр. Администрации это,
по-видимому, на руку. Число надзирателей не пропорционально
количеству заключенных. Каждый день их прибавляется десятка
по два, по три. Скоро не станет больше места в камерах.
Сегодня сенсационный арест: привели А. А. Макарова89, бывшего
министра внутренних дел. Я едва узнаю старика: борода совсем
побелела, лицо осунулось. Мы его немедленно устраиваем
134
в своей камере и поим чаем. А. А. я не видел с лишком два года.
Как изменились обстоятельства.
В нашем обиходе новость. Мы на собственный счет
покупаем ведро и сооружаем третий чай; его пьют в 9 ч вечера. Для
таких мелочей у нас образуется коммунальная касса. Я —
казначей. Слава Богу, сын нашелся. Я его видел издали во дворе,
где он успел крикнуть: «Скоро освободят».
Когда? В сущности, мы здесь en villagiature*, отдыхаем. Вот
каково близким? Жизнь и без того очень осложнилась, а здесь
еще бегай, хлопочи, корми несчастных узников. Допросы идут
своим чередом. Обыкновенно они назначаются ночью. Неужели
мало времени днем? Или, может быть, это вызывает подъем
нервов у допрашиваемых, и это только на руку следователям?
Сегодня совсем уже поздно позвали А. П. Куроша и вместе
с ним бывшего директора Пажеского корпуса Н. Н. Усова90.
Усов помещался внизу, и я с ним часто виделся. Он
производил впечатление совсем растерявшегося человека. Опять видел
жену. Новостей никаких. Бедняжка измучилась в хлопотах.
Что-то будет?
Жизнь продолжается обычным порядком. Встаем около
восьми, одеваемся, пьем чай. Потом идет уборка камеры
(сегодня дежурный я), потом каждый делает, что хочет. Мне кто-то
дает роман Локка: «У голубого озера». Действие происходит
в Швейцарии. Воскресают картины давно минувшего. Где все
эти милые места: Монтре, Веве, Кларанс? Увижу ли я их когда-
нибудь? Воспоминания так мучительны, что книгу бросаешь
на половине. По-видимому, ничего нельзя читать такого, что
напоминает о воле. А день между тем тянется томительнее
прежнего. Это понятно: всё более или менее переговорено, новых
впечатлений никаких. Даже в карты более не играем. Опасно.
6 сентября
Курош и Усов не вернулись. Где они? Курош во всяком случае
не дома. Ему в назначенное время принесли обед. А. А. Макаров
лежит рядом со мной, и мы много беседуем. Он рассказывает
кое-что весьма интересное о царской семье, о Николае II, об
Александре Федоровне и пр. Голос у него тихий, и приходится
напрягать внимание, чтобы услышать каждое слово. Мне как-
* На даче (франц.). — Прим. ред.
135
то странно себя чувствовать рядом с ним. Давно ли, кажется,
я являлся к нему на прием? Генералы в парадной форме, при
лентах. Всё честь честью. Нужно правду сказать: на зените своего
могущества Макаров отличался необыкновенной
корректностью. Помню, поразила меня его аккуратность.Мне прием был
назначен в 2 ч 20 м, и ровно в это время я был принят.
— Как вы так устраивались, А. А., — спрашиваю я бывшего
министра. А. А. улыбается через усы.
— Дело весьма просто, — отвечает он, — мои подчиненные
хорошо знали мои требования. Будучи осведомлены о характере
посещения каждого, они соответственным образом
комбинировали положенный ему срок и никогда не ошибались.
Наша камера обогащается новыми постояльцами. Приходят
А. И. Арапов, В. П. Энгельгардт, член Государственного Совета
по выборам от Смоленской губернии. Вообще наша камера
самая чиновная. Все министры, губернаторы, генералы и пр.
Нынче еще доставили в тюрьму К. Д. Кудрявцева, бессменного
секретаря городской думы, и аптекаря А. Г. Дица. Оба мои старые
знакомые. В данном случае судьба их одинакова. Как тот, так
и другой явились в Совдеп для регистрации своих паспортов
и одновременно были задержаны. Вид у бедного Дица совсем
растерянный. Он всех спрашивает, за что он арестован.
— Ведь я не буржуй, — говорит он, словно оправдываясь, —
мою аптеку давно реквизировали. За что меня сажать в тюрьму?
За что? Какой чудак. Как будто у большевиков существуют
такие вопросы. Взамен новых арестов имеются
освобождения. Правда, немного. Отпускают на волю обеих Волконских,
М. П. Родзянко, из нашей камеры Вахрамеева. Их провожают
завистливые взгляды. Любопытно, что Вахрамеев, полубольной,
получив свободу вечером, остается в тюрьме до следующего
утра. Это возмущает некоторых.
— Я не остался бы здесь ночевать, говорит кто-то
убежденно, — хоть в три часа ночи, хотя бы ползком, но добрался
бы до дому.
Вечером уводят на допрос Макарова. В его отсутствие
пытают судьбу Кому теперь она улыбнется? Для разнообразия
немножко ссорятся. Реформы К. в смысле контроля над
отпуском обедов и ежедневной порцией хлеба не нравятся
тюремной администрации. Она имеет меньше случая утаить лишние
порции. Кроме того, с увеличением количества родственных
136
посылок уменьшается ежедневная доза покупок на стороне.
А это уже затрагивает интересы товарища Бобкова. Мы
узнаем, например, что цены, которые он нам ставит, значительно
выше рыночных. Таким образом, попечение о нас близких
явно невыгодно попечительному начальству. Понятно, что
оно принимает свои меры. Под влиянием Бобкова комендант
сначала ограничивает время приема посылок (2 ч дня), а затем
сокращает их объем. Многие, например, отмечают отсутствие
в посылках мяса и хлеба, а я вовсе не получаю посылки. Выручает
меня кто-то из соседей. Все эти вопросы, естественно,
волнуют тюрьму и вызывают споры. Точка зрения у многих вполне
рациональная. Очевидно, без взяток обойтись нельзя. Господа
вроде Бобкова на них определенно напрашиваются. Если мы
станем добиваться каких-либо прав, то ничего не выиграем.
Нет сомнения, Бобков с другими в соглашении. Да наконец,
кому жаловаться? При большевистском режиме существуют
одни только жандармы, а заступников не полагается. Но другие
сентиментальничают. Т., например, заявляет, что лучше будет
сидеть голодным, но Бобкову не даст двугривенного. Нечего
спорить. Поживем — увидим.
7 сентября
Некоторые подробности нашего обихода. Типичен обед.
Едят из общего котла. Это, в общем, довольно неопрятно. Стол,
на котором стоят миски, залит супом и остатками похлебки.
Едят спешно, боясь пропустить очередь. Я смотрю на
обедающих, и в голове роятся грустные думы. По-видимому, голод
всех уравнивает. Вчерашний министр или командир корпуса
сегодня стоит рядом со скромным фармацевтом и так же,, как
и он, старается захватить побольше порции. Иногда подобные
картины вызывают чувства определенной жалости. Одному из
наших сановников не принесли почему-то посылки. Он чуть ли
не плачет с досады. Кто-то из его соседей, наиболее
сердобольный, предлагает ему остатки своего ужина: несколько картошек
и ломтик хлеба. Нужно видеть, как у бедного сановника блестят
глаза. Кажется, вся жизнь поставлена на карту. Неожиданно
вернулся Мейендорф. Вид у него расстроенный. Вторичный
обыск на квартире скомпрометировал его и жену. В свою
очередь, и она арестована. По рассказам Мейендорфа, допрос его
отличался грубостью. Вместе с ним вернулись М. П. Родзянко
137
и А. А. Макаров. Обоих держали на Б. Московской (ныне
ул. Красной армии) до 3 ч дня и по пустому. М. П. Родзянко
взволнована.
Выпытывая у нее какие-то признания, грозили расстрелять
ее сыновей...
Наши по-прежнему ходят за обедом в кухмистерскую. Завтра
и я пойду с ними. Все-таки прогулка.
8 сентября
Ровно неделя, как я в тюрьме. Странное существо человек.
Ко всему привыкает. Теперь и спится недурно (принесли все
необходимые постельные принадлежности), и самочувствие
хорошее. Вот только никак не могут изгладиться подробности
ареста. Всё чудятся: звонок, толпа вооруженных людей в
передней, обыск. В мозгу шевелится мысль: а нельзя ли было как-
нибудь удрать? По этому поводу припоминается аналогичный
случай в давно прошедшем. Студенческие годы. После какого-то
митинга в университете полиция окружила здание и арестовала
студентов. Человек сто или полтораста повели в
градоначальство. Среди арестованных некто Рудановский, ныне покойный.
Недалеко от Александровского сада ему пришла в голову мысль
бежать. Воспользовавшись отсутствием вблизи
конвоира-полицейского, он быстро выделился из группы товарищей и бросился
к саду. Однако, в ту минуту, когда он перелезал через садовую
решетку, его схватили. В тюрьме его всё время преследовала
одна и та же картина. Освобождение близко. Вот он у решетки
сада. Еще минута, и он будет свободен. Но чья-то рука грубо
хватает его за пальто и стягивает вниз. Эта картина повторяется
много раз, с теми же подробностями и с тем же заключением.
Мучительное видение. Рудановский обыкновенно прибавлял:
«Если бы меня скоро не отпустили, я бы, наверное, помешался».
Много бодрости вносит в нашу жизнь К. Д. Кудрявцев.
Он смотрит оптимистически на будущее, уверен, что скоро всё
разрешится благополучно. Вместе с ним мы обсуждаем план
путешествия на Украину. Он там надеется найти службу, а
летом проектирует большие прогулки пешком. Сегодня привели
новую партию. Среди других: П. П. Коцебу91, двоюродный брат
освобожденного, и братья Мейер, А. К. и В. К. Да, чуть не забыл:
к Мейендорфу присоединилась его жена. Для него это большое
утешение. Она артистка-любительница и намерена устроить
138
в тюрьме литературно-вокальные вечера. Интересные новости
сообщает Коцебу. Он говорит, что многочисленные аресты
(арестованных свыше 5 тысяч) обратили внимание
иностранных консулов. Зиновьев будто бы получил реприманд*. Но всё
это слухи, а в действительности наша тюрьма всё пополняется.
Нынче была моя очередь идти за обедом к Александро-Невской
лавре. Мы берем ведра и в сопровождении конвойного без
ружья идем пешком. Обратный путь с наполненными ведрами
совершается в трамвае. Погода чудесная, и прогулка освежает.
Я пользуюсь случаем и иду на могилу моих родных. Всё тихо на
кладбище. Городской шум почти не проникает... Конвойный,
задобренный соответствующим образом, предоставляет нам
полную свободу Мы обедаем в столовой, пишем письма и т. д.
На следующий день я назначаю здесь свидание жене. Вечером
допроса нет. Воскресенье.
9 сентября
Если бы над нами не тяготело сознание, что мы лишены
свободы, то сидение в тюрьме можно было бы уподобить
санитарному лечению. Шутки в сторону: в сущности, чего нам
не достает? У нас покой, тишина, сравнительно недурной стол
(главным образом из дому). Во всяком случае, я отдыхаю, и не
один. Другие говорят то же самое. Атмосфера накаляется лишь
к вечеру. Начиная с 4—5 час. п. п.** начинают гадать о допросах
и, конечно, об освобождении. Сегодня, наконец, освободили
М. П. Родзянко. Зато отправили в качестве заложников в
Петропавловку целых шесть человек, из них Елизарова, Менынуткина
и Яблочкина-сына (Яблочкин-отец и Мезенцев так и не
вернулись). А около 8-ми час. вечера произвела сенсацию отправка на
Гороховую А. А. Макарова и П. В. Веревкина. Вид всех пятерых
удрученный. Особенно жалко Макарова. Неужели старику
уготовлены новые страдания? Как раз сегодня вместо ответа
принесли номер «Красной газеты». Официально сообщается,
что вслед за Щегловитовым, Хвостовым92 и Белецким в Москве
расстрелян Протопопов93. У нас, впрочем, все такие известия
встречают резкий отпор. В числе пунктов нашей конституции
один из наиболее строгих — не допускать паники. Поэтому вся-
* Выговор (фр.). — Прим. ред.
** Пополудни. — Прим. ред.
139
кие разговоры о расстрелах и т. п. ужасах определенно
запрещены. Но день этим не заканчивается. Мы уже укладываемся спать,
когда неожиданно приходят за Б. А. Нератовым. Под конвоем
одного матроса его отсылают в крепость. Бедный Б. А. совсем
опешил. Он забывает даже с нами проститься. А еще накануне
он вернулся в самом веселом настроении духа. По его словам,
следователь обещал ему освобождение через два дня, не больше*.
Кроме этих неожиданностей, расстраивающих воображение
и лишающих сна, наша тюрьма по-прежнему реагирует на
мелочи ежедневного обихода. Сегодня комендант почему-то
запретил приносить вместе с посылками мясо и молоко.
Защитники политики компромиссов указывают на новые происки
Бобкова. Не унывают только евреи. У них всё есть. Например,
Г. получает к утреннему чаю бутылку молока и свежий хлеб. На
вопрос, как он устраивается, Г. только улыбается:
— Нужно уметь кое с кем ладить. Очень просто.
10—11 сентября
По скверной погоде (льет ливмя дождь) я иду к
Александре-Невской лавре за обедом. Издали вижу наших: жену, сына,
Марфу. Условлено, что они не узнают меня сразу, а встретят
только в столовой. Слезы душат меня, но я не даю им воли
и разговариваю, как ни в чем не бывало. Мои, вероятно,
смотрят на меня, как на выходца с того света. Я около двух недель
не брился, оброс бородой, от моей одежды, по выражению
жены, «пахнет тюрьмой». Мне принесли горшочек с кашей,
хлеб, яблоки. Часть я съедаю тут же, остальное беру с собой.
Хочешь расспросить о многом, но ограничиваешься пустяками.
В сущности, новостей никаких. Мое освобождение всё в том же
положении. Хлопочут и обещают. Полчаса проходят, как одна
минута. Я рад видеть своих и не рад. Особенно гнетет меня
количество принесенных мне продуктов. Я знаю, какой ценой
они сейчас достаются. Но жена успокаивает: «Лишь бы скорей
освободили, а остальное приложится».
Вернувшись в тюрьму, застаю там начальника следственной
комиссии. Он опрашивает заключенных и меня включает в спи-
* Есть слухи, что Б. А. Нератов расстрелян. Будто бы его
смешали с Н. П. Муратовым94, бывшим Тамбовским губернатором. —
Прим. автора.
140
сок лиц, назначенных сегодня к допросу Собираемся к 9 час.
вечера. Из нашей камеры, кроме меня, идут бар. Винекен, На-
кашидзе и Энгельгардт. Еще светло, когда мы трогаемся в путь.
Жутко. Словно ведут партию мелких воришек и проституток.
В одном месте, на углу Кузнечного и Лиговки стоит пожилая
дама. Она смотрит на нас и плачет. Особенно свирепым кажется
наш колоновожатый — матрос. Потрясая револьвером, он
терроризирует окружающую публику. На Кузнечном пер., у рынка
попадается лоток с яблоками. Мы идем по середине улицы и не
мешаем лотку. Но матросу нужно проявить свою власть, и он
загоняет лоток на улицу Достоевского. Но вот и Б.
Московская, бывшее помещение Ремесленной управы. В двух шагах от
нее наш дом.. Догадываются ли мои, что я от них поблизости?
Я тщательно рассматриваю публику, но никого не вижу
знакомых. Нас приводят в маленькую комнату, 7 арш. длины и 5 арш.
ширины, и здесь запирают. Возмутительно ведут себя караульные.
Всё время слышна их перебранка между собой и всё скверными
словами. Однажды к такому ругательству примешивается имя
Божье. В 12 ч ночи нас по очереди вызывают к допросу. Меня
«пытают» два типичных «товарища», нечто вроде товарных
конторщиков на железной дороге. Вопросы обычные, всё больше
политического характера. Вот они и мои ответы на них:
Вопрос 1. — Признаете ли вы советскую власть?
Мой ответ. — Как вы хотите, чтобы я ее не признавал?
Я не был бы иначе здесь.
В. 2. — Как вы относитесь к мероприятиям советской власти?
М. о. — Я не всегда их понимаю. Зачем меня, например,
арестовали? С какой стороны я вам опасен? Я не капиталист,
не белогвардеец, не контрреволюционер и не спекулянт.
Один из товарищей. — У нас на это высшие соображения.
М. о. — Очень может быть. Но я их не знаю.
В. 3. — Как вы относитесь к расстрелу рабочих?
М. о. — Почему это меня может интересовать? Я никогда
не занимал административного поста, значит, не имел случая
разрешать подобные вопросы.
В. — Вы, однако, читали газеты?
М. о. — Читал. Впрочем, если вам желательно знать мнение
обывателя, то оно, конечно, отрицательного свойства. Я
считаю всякое насилие недопустимым, с какой бы стороны оно
ни исходило.
141
В. 4. — Как вы относитесь к движению союзников?
М.о.—Я считаю, что Россия для русских. А поэтому, кто бы
ни захватил русскую территорию, я этому отнюдь не сочувствую.
Один из товарищей. — Так. (Пишет.) Относится к движению
англо-французов несочувственно.
Я (перебивая). — Виноват. Вы извращаете мою мысль. Я
говорил не только об англо-французах, но и о всех чужеземцах
вообще, в том числе и о немцах.
Один из товарищей. — Это всё равно.
Я. — Для меня не всё равно. Если вы желаете, чтобы я
подписал протокол, вы должны прибавить: и немцев.
Один из товарищей. — Ладно. (Пишет.) И немцев.
В. 5. — Наконец, как вы относитесь к Брестскому миру?
М. о. — Конечно, отрицательно. Он унижает Россию и
экономически разоряет ее.
Вопросы предлагаются беспорядочно, иногда с явной целью
сбить меня с толку. Но я не поддаюсь. Моя позиция всё время
одна и та же: я никогда не занимался политикой, интересовался
только искусством. Удивляет меня одно обстоятельство.
Рассказывая следователям мою жизнь, я не скрываю и того, что был
цензором. Но или они не понимают, что такое цензура, или мысль
их направлена всё в одну сторону: как бы среди мелкой плотвы
поймать крупную рыбешку. Допрос всей группы заканчивается
к 4 ч утра. Мы ждем еше около часу, пока не является тот же
начальник следственной комиссии и не объявляет нам решение:
освобождены 7 человек, всё больше инвалиды, остальные должны
вернуться в тюрьму. Мы просим сделать это поскорее.
Маленькая комната совсем не приспособлена для ночлега. Начальство
обещает, но, по-видимому, это не входит в его компетенцию. На
наше заявление разводящему, что начальство приказало отвести
нас немедленно на Гончарную, он грубо отвечает:
— Какое начальство? Нет у нас никакого начальства. Сидите
смирно и не разговаривайте. Не то стрелять буду.
Вообще грубы они до чрезвычайности, до какого-то экстаза
и упоения. Примером бесчеловечного отношения к узникам
может служить следующий факт: многие из нашей партии
больны и постоянно нуждаются в уборной. Пройти туда можно
только под конвоем. Когда с подобной просьбой обращаются
к караульному, он зовет старшего, и тот разражается следующей
классической фразой:
142
— Идти всем разом. Поодиночке пускать не буду.
Всё это очень тягостно отзывается на заключенных. Мой
сосед, генерал, удостоенный сегодня вторичного допроса,
рассказывает случай с одним из наших соузников. На грубость
караульного он побоялся ответить грубостью, но только долго
посмотрел на него.
— Что глаза выпучил? — огрызнулся караульный.
— Хочу запомнить твое лицо, — спокойно отвечал
арестованный.
Вероятно, взгляд был достаточно внушительный; солдат
повел плечами и молча отошел в сторону.
Покоряясь судьбе, мы стараемся как-нибудь устроиться.
Я предусмотрительно захватил с собой портплед и, расстелив
пальто, укладываюсь. Другие менее счастливы. Спят, уткнувши
голову в спинку стула или прямо растянувшись на полу. Между
прочим, я делаю маленькое наблюдение. Комнату от коридора
отделяет перегородка; в одном из звеньев ее стекло разбито,
и отверстие заставлено картоном. Последний прикреплен очень
слабо и постоянно отваливается. Каждый сменяющийся
караульный считает своей непременной обязанностью вновь прикрепить
картон, но делает это очень небрежно, и кусок падает. Не в том
ли духе вся русская революция? Разразившаяся буря сломила
все общественные перегородки; с треском разлетались все
соединявшие их звенья. Строители новой жизни силятся заткнуть
прорехи, но потому ли, что они технически не подготовлены
или попросту не желают ничего делать, работа их не ладится.
Девять часов утра, и какой-то сердобольный матрос принес
чайник с чаем. Я захватил из тюрьмы два куска хлеба с сыром
и могу с грехом пополам утолить голод. Между нами бродит
и клянчит папиросы бывший военный прокурор Крейцер.
Это — некогда гроза всех военных. Он сам сознается, что за
свою долголетнюю деятельность подписал много смертных
приговоров. Может быть, поэтому его сейчас захватили и, по-
видимому, держат крепко. Внешне он производит впечатление
душевнобольного человека. Он всё время просится в госпиталь,
но никто на него не обращает никакого внимания. Наконец,
в 12 ч дня, т. е. после 15-часового сидения в штабе, заметно
какое-то оживление. Сменяется караул, отпускают освобожденных,
а нас ведут обратно на Гончарную. На этот раз конвой — латыши;
несмотря на репутацию жестокосердых, они держат себя вполне
143
прилично. Не слышно ни ругани, ни грубых понуканий.
Возвращаемся домой к обеду. Из новостей: Веревкин и Меныыуткин
не успели прийти в крепость, как их освободили. А где Курош,
Макаров, Нератов? Носится слух, что Макарова расстреляли.
Вечером Накашидзе и Винекена вновь требуют к допросу. Кто-
то уверяет, что их ожидает участь Веревкина. Дай Бог. Я устал от
пережитых волнений и долго не могу сомкнуть глаз.
12 сентября
Заключенных так много, что не хватает камер. За
недостатком места вновь прибывшие спят на полу, кто где попало.
Чтобы водворить хоть какой-нибудь порядок, начальство
распорядилось очистить одну камеру от уголовных, а для другой
приспособить бывшую прачечную. Последняя, между прочим,
помещалась по другую сторону канцелярии и таким образом
была от нас изолирована. Теперь мы приобрели еще лишний
участок для прогулок. В эту камеру перевели бр. Мейер, Дица
и др. Ночью, когда тюрьма спит, масса разбросанных там и сям
тел производит впечатление какого-то кошмара. В маленьком
коридоре, ведущем в нижний этаж, приткнулось нечто вроде
католического алтаря. К нему ведут две ступени. В потускневшей
раме можно различить потускневший лик Спасителя. Несколько
благочестивых мирян уже давно хлопотали отслужить перед этим
образом всенощную или обедню. Им отказали. Сейчас у алтаря
и на ступеньках раскинулись какие-то две богатырские фигуры.
Храпят. На окне стоит маленькая керосиновая лампа и сквозь
закоптелое стекло бросает зловещие тени...
Среди начальства предстоят перемены. Комендант А. И.
Коробов уходит, и на его место прочат Фельдмана. Это изящный
молодой человек, из евреев, студент Рижского политехникума,
ушедший со второго курса. Он часто заходит к нам и старается
проявить свою интеллигентность. Тюрьма относится к нему
с доверием. Сегодня товарищ Бобков почтил меня
откровенным признанием. Он рассказал, при каких условиях ему
удалось получить высокий пост смотрителя арестного дома.
Для любителей всяких детективов эта история не лишена
занимательности. Бобков, до сих пор скромный красноармеец (он
по профессии меховщик, служил в Гостином дворе), случайно
узнал от приятеля, что в Петроград прибыл давно разыскиваемый
следственной властью член провинциального совдепа, украв-
144
ший 400 тысяч казенных денег. Бобков, во-первых, вызвался
арестовать его, а во-вторых, предложил найти искомые деньги.
Начальство отнеслось к такому предложению благосклонно.
Член следственной комиссии прямо сказал: «Найдешь — место
смотрителя твое». Арест вора не представлял больших
затруднений. Это было сделано в течение двух дней. Значительно
сложнее оказался розыск денег. Для этого Бобков прежде всего
втерся в доверие вора. Он начал с того, что выпытал у него, что
деньги целы и зарыты на кладбище, а затем предложил, ценою
уступки некоторой суммы, устроить побег. Всё пошло как по
маслу. Ничтоже сумняшеся, вор окончательно разболтался.
Хитрый ищейка узнал от него не только название кладбища,
но и местонахождение зарытого клада (около могилы родных).
Остальное он предполагал сделать через жену арестованного.
Она действительно повела его, куда следует, но Бобков, как
ни перерыл окружающий участок, а больше одной бутылки со
100 тыс. рублей не нашел. Между тем вор болтал о другой
бутылке, более ценной, чем первая. Пришлось продолжать поиски
и вернуться к первоначальному плану. А последний заключался
в том, что вор и Бобков выйдут вместе, наймут лихача и,
совместно побывав на кладбище, затем сбегут. Так и сделали. Но,
конечно, Бобков подготовил засаду. Едва приятели стали рыть
землю, как с разных сторон их окружили красноармейцы, и вор
был схвачен. В общем итоге нашли при нем около 250 тысяч.
Нужно было видеть, с каким олимпийским спокойствием
рассказывал мой герой свои подвиги. Слова: «друг-приятель»,
«войти в доверие», «полюбил», «обласкал», в другое время такие
святые и хорошие, сейчас служили только орудием сыска и вели
к одной цели — получить тепленькое местечко. Очень понятно,
что с таким человеком наше сентиментальничанье было просто
смешно. Не для того он пожертвовал половиной воровской
добычи, чтобы, очутившись хозяином положения, не воспользоваться
его преимуществами. Такие случаи, как наш массовый арест, не
встречаются ежедневно. В его руках были настоящие буржуи,
если в значительной степени уже ограбленные большевиками,
то в материальном отношении еще не потерявшие известный
интерес. По крайней мере ближайший сподвижник Бобкова,
Пяткевич, не стеснялся утверждать, что его патрон с 1 сентября
спокойно клал в карман 100—150 рублей в сутки. Пример
заразителен. Следом за Бобковым смело шагал Пяткевич и трусила
145
мелкой рысцой остальная шпана. Пяткевич раз прямо заявил,
что у него уголовные украли 125 р. и что он «прямо не знает,
как завтра прокормить старуху-мать». Это означало: «Господа,
позаботьтесь немедленно собрать указанную сумму, иначе...» Но
ему не дали договорить и мигом собрали деньги. Прошло дня
два и — «можете себе представить, 125 р. я потерял в трамвае».
Опять собрали. Несколько совестливее были мелкие
надзиратели. Я уже говорил, что сопровождавший партию в столовую
получал известную мзду. Она колебалась между 8 и 10 рублями
каждый раз. Затем много платилось за передачу писем,
доставку провизии и т. д. Впрочем, были и исключения. Я счастлив
назвать одно. Это был солдат К., родом литовец, малый
удивительно симпатичный и интеллигентный. Служил он по неволе,
очевидно, тяготился своими обязанностями. Я помню, как он
поразил меня категорическим отказом взять деньги во время
нашей прогулки к Александро-Невской лавре.
— Вы меня обижаете, — сказал он, когда я настаивал.
Так же точно вел он себя во всех других случаях. В дни его
дежурств мы были обеспечены всякими «передачами» и
совершенно даром.
Возвращаюсь к Пяткевичу. Мы узнавали о его присутствии
по оглушительному крику в коридоре. Когда он не бегал,
бряцая шпорами (?), или не ругал уголовных скверными словами,
он лежал, развалясь, на диване и хвастался своими победами.
Поверить ему — нет храбрее человека на свете. Он участвовал во
множестве сражений, получил одиннадцать ран и проч. и проч.
На поверку же оказывалось (так аттестовал его Фельдман), что
мальчик в минуты опасности нервничал хуже любой женщины.
Однажды арестовали двух налетчиков-матросов и повели к
расстрелу. Пяткевича назначили конвоиром. С ним сделалась чуть
ли не истерика. Глубоко испорченный от природы (я как сейчас
вижу его красивые, но наглые глаза), он хорошо знал себе цену.
— Ишь, как вы быстро научились называть меня по
имени, — сказал он одному из политических, — будете знать, когда
придет время меня вешать!
Из административных лиц нашей тюрьмы еще памятен мне
фельдшер. Так как хворых среди нас было достаточно, то его
всегда можно было видеть нагруженным всякими склянками
и порошками. Кажется, судьба ему не благоприятствовала.
Он служил при старом режиме, чуть было не был расстрелян
146
во время революции и только из сострадания взят обратно на
службу. Нам он, несомненно, сочувствовал, но боялся высказать
это открыто.
Вчера на допросе некто Кэн слышал мою фамилию. Кто-то
из следователей сказал: «Пора покончить с ним» и назвал меня.
Что это значит? Освободить или к стенке? О том же, впрочем,
говорила сегодня жена при свидании. Как она волнуется, бедная,
и как я спокойно смотрю на свою судьбу!
13 сентября
По примеру нашей камеры сорганизовались остальные.
Везде выборные лица: они ведут список заключенным, назначают
дежурства, следят за очередью к обеду и т. д. Все эти нити стянул
в своих руках К. Если в чем можно его упрекнуть, то в излишке
деспотизма. Часто то, что не могут другие, позволяют себе К. и
его компания. Это, разумеется, раздражает многих, и они
высказывают громко свое неудовольствие. Как и следует в русской
коммуне, завелись партии, люди разбились на кружки и друг
друга ненавидят. Часто я завидую одиночному заключению.
По крайней мере оно дает возможность не быть вечно на миру,
углубиться и сосредоточиться. Милый К. Д. Кудрявцев ссужает
меня интересной книгой. Она называется «Русские светские
богословы», сочинение свящ. Антонова. Труд специальный, на
религиозно-философские темы, но заставляет мозг работать.
Это хорошо. Беллетристику по-прежнему читать немыслимо.
Вообще нельзя думать о воле. Почему-то вдруг становятся
милыми петроградские улицы. Нынче солнечный день. С какой
бы радостью я прошелся по Караванной, завернул у цирка
в каштановую аллею и дошел до Летнего сада. Совсем исчез из
сознания давно не мытый и не причесанный город.
Вот уже две ночи, как я сплю комфортабельно. В отсутствие
В. (он всё еще на допросе) мне дали его мягкий тюфячок.
Отравляют только придирки нашей администрации. Сегодня Бобков,
с ведома коменданта, сократил вдруг число идущих за обедом.
По-видимому, он пронюхал, что с прогулками неладно и что мы
ими пользуемся для своих целей. Вместо четырех «политических»
идут только два, а остальные «уголовные». Но голенький «ох»,
а за голеньким Бог. Нас выручает случай. В первую же очередь,
пользуясь недосмотром конвоира, уголовный дает тягу. Бобков
в конфузе, а К. торжествует. Он может сказать коменданту:
147
— Вот вы нам не доверяете. Посмотрите, что сделал
уголовный. Ничего подобного не случилось бы с политическим.
Кстати, не найдя беглеца, тюремное начальство
поступает по методу, давно усвоенному большевиками. Вместо мужа
в качестве заложника берут жену. Тем не менее мы ломаем себе
голову насчет Бобкова. Что ему еще нужно? Партия
компромисса одержала верх, и вся компания удовлетворена надлежащим
образом. Пли, быть может, l'appetit vient en mangeant*, и наши
тюремщики разохотились?
14 сентября
Когда я учился в гимназии, мы в ожидании праздников
добросовестно отсчитывали протекшие дни. Так, говорят, быстрее
идет время. Нынче я тоже зачеркнул две недели со дня ареста.
Только когда наступят наши праздники?
Я получил разрешение сидеть рядом с канцелярией и там
читать. Здесь светлее и удобнее. Окно комнаты выходит на
небольшой дворик, граничащий с Гончарной. Мимо ворот проходит
всегда много народу. Улица довольно бойкая. На дворике, рядом
с развесистой липой, каким-то чудом уцелевшей среди каменных
громад, наиболее смелые дамы переговариваются с
заключенными. Вот пришла Т. П. Коцебу, сестра П. П. С нею моя дочка.
Я обеих давно не видел. Странное чувство — переговариваться
на расстоянии. Есть что-то унизительное в этом маневре. Дочь
успевает мне крикнуть, что в понедельник, самое позднее во
вторник, нас отпустят. Зачем так обнадеживать? А вдруг это не
случится? Неужели не жаль наших бессонных ночей?
X. возвращается в камеру и хохочет, как сумасшедший. Он
только что был в нашей ужасной уборной. Едва «примостился»,
как шумно распахивается дверь и влетает... особа женского
пола. Впрочем, женщина она только по имени. Бледная,
чахлая, с впалой грудью, она производит гнетущее впечатление.
Разумеется, из уголовных. Она усаживается рядом с X. и только
тогда замечает его (в уборной полутемно). Но это ее не смущает.
— Мужчина? — произносит она равнодушным тоном. —
Наплевать! Здесь все равны!
Вечером в нашей камере большой «парламентский день».
В числе других обиходных вопросов обсуждается один вопрос
* Аппетит приходит во время еды (франц.). — Прим. ред.
148
личного характера. Дело в том, что некто У., наш товарищ по
заключению, с первого дня тюрьмы на замечании. Заключенным
несколько подозрительна его постоянная близость к тюремной
администрации. Он запанибрата с Бобковым, вечно торчит
в канцелярии, что-то там пишет и т. д. Является вопрос, не
посажен ли он в нашу камеру с целью выведать наши тайны
и затем донести кому следует. Положим, тайн у нас никаких,
да и сама слежка, если допустить таковую, ведется слишком
открыто, но «береженого Бог бережет». Наиболее осторожные
советуют в присутствии У. не разговаривать о политике и в то
же время предупредить его, что нам «не нравятся» его частые
визиты начальству. На этом и решаем.
15 сентября
Вчера, близко к вечеру, объявили шестерым узникам, в том
числе А. А. Резвому (Рейнботу)95, что их требуют «куда-то».
Бобков стоит со мной рядом и шепчет конфиденциально:
— В Петропавловку!
Затем, спустя час — отмена. Все остаются на прежних
местах. А сегодня новость: с 12 ч дня начался допрос по камерам.
Арестованного больше не водят на Б. Московскую, а
допрашивают в комендантской. Тюрьма в волнении. Не значит ли
это, что наступает поворот в нашей судьбе? Большевики
выбрали «заложников», а остальных выпустят на свободу. Наши
«экономисты» допускают это очень охотно. Нужно подумать,
сколько мы стоим советскому правительству ежедневно. Одних
обедов отпускается около 200, эта статья обходится около 500 р.
А ежедневный хлебный паек, соответствующий 2-й
категории, а увеличенный штат надзирателей и т. д. и т. д.? Словом,
с финансовой точки зрения мы едва ли приятные гости. По-
прежнему допросы имеют политическую подкладку. Иногда
они поражают своим цинизмом. М., например, спрашивают,
намерен ли он совершить террористический акт (?), и когда
тот с недоумением это отрицает (М. — бывший жандармский
офицер), простодушно записывают: «не намерен».
После обеда я прилежно читаю «Русских богословов».
Ученый поп поражает неожиданным угодничеством. Он чрезмерно
либерален, пока говорит о светских писателях, и тотчас же
вытягивается во фронт, когда добирается до начальства. В момент
издания книги В. К. Саблер96 — обер-прокурор Св. Синода.
149
Говоря о сочинениях Саблера, св. Антонов титулует его
высокопревосходительством и вообще обнаруживает почтительную
осторожность. А жаль! Это капля дегтя в бочке меда. Книга
написана толково, а глава о мирной борьбе с социализмом
читается с захватывающим интересом.
Клопы больше не кусают. Мы наконец достали две банки
порошка и усердно засыпали им все щели наших нар. Теперь
спим спокойно.
16 сентября
Я забыл сказать, что на этих днях в тюрьме оглашали
список заложников, официально опубликованный большевиками.
Нужно было видеть, с каким напряженным вниманием слушала
тюрьма чтеца. Затаив дыхание, заключенные тесным кольцом
окружили его. На лице каждого был написан один вопрос: не
попал ли он в число этих morituri *? Все прекрасно понимали, что
такие заложники первыми пойдут на Голгофу в том случае, если
какому-нибудь новому Каннегиссеру вздумается убить нового
Урицкого. Мы так отвыкли от логических обоснований
большевистской мысли, что больше ничему не удивляемся. Но одно нас
поражает. Сегодня привели в тюрьму маленького толстенького
человека, совершенно лысого, с дикими блуждающими
глазами. Его подобрали на улице. Собрав толпу зевак, он им молол
какую-то чушь. Налицо был несомненно душевнобольной. Но
недоверчивые люди, или хулиганы вроде Пяткевича, окрестили
его почему-то симулянтом. Пяткевич кричал на него, грозил
револьвером, но в ответ получал гордое заявление, что перед
ним член следственной комиссии и бывший генерал-губернатор
Тургайской области. Как и Крейцера, ни одна камера не
пожелала принять его в свое лоно, и он вынужден был ютиться где-то
в коридоре. Ужасное зрелище! Маленький человечек всё время
бегал взад и вперед по комнате, что-то бормотал, потом вдруг
круто останавливался и огорашивал кого-нибудь близ стоящего
нелепым вопросом. Наконец, после двух дней беспрерывного
плача, крика, смеха, пения его от нас убрали.
Надежды А. А. Резвого-Рейнбота не оправдались. Он думал,
что после отмены распоряжения об отправке его в крепость
о нем забудут, но ошибся. Сегодня ту же группу опять вызвали
* Обреченные на смерть (лат.). — Прим. ред.
150
и отправили по назначению. У некоторых из наших нынче
блеснул луч надежды. А. К. Мейер из окна видел двух немецких
офицеров, из которых один оказался его знакомым. Сейчас
же распространилась весть, что они приехали справиться о
некоторых арестантах; по ассоциации идей эту справку связали
с нами. Однако вечером пришел Фельдман и опроверг этот слух.
Действительно, офицеры были, но лиц, которых они искали, не
оказалось в нашей тюрьме. Я делаю любопытное наблюдение.
Что в сущности может быть общего между недоучившимся
студентом, променявшим науку на полицейскую службу, и
представителями интеллигенции вроде К., занимавшим высокий пост
по учебному ведомству, М., мнящим себя большим артистом,
Р., когда-то крупным администратором, и т. д. и т. д.? Вероятно,
дороги бы их никогда не встретились, наконец, общественное
положение, лета, национальность были слишком разные. Но
Фельдман в данном случае являлся «начальством», т. е. мог
обнаружить известное влияние, а при наличии царящего бесправия
даже устранить какие-либо эксцессы. И вот на сцену выплывает
целая гамма ласковых тонов, искательных улыбок, участливых
расспросов, а ловкий К. ухитряется даже найти общих
знакомых: авось с помощью каких-то «милых» X. и «симпатичных» У.
установится связь с могущественным комендантом.
17 сентября
С сегодняшним днем почему-то связаны какие-то
надежды. Может быть, это объясняется тем, что вчера закончился
генеральный допрос. Следователи спешили. Допрашиваемого
задерживали не больше 15—20 минут. Возвращавшиеся с допроса
различали характер следователей. Совсем как у гимназистов на
экзамене: «Ты у кого был, у рыжего математика?» — «А ты? Тебя
экзаменовал кривой немец?» Из числа следователей выделялся
своей интеллигентностью хромой господин с длинными волосами.
Он ограничивался двумя-тремя вопросами, но ставил их
чрезвычайно толково. Впрочем, направление их одно и то же: како
веруеши? К. Д. Кудрявцев немножко нервничает. Он недоумевает,
что делается в украинском консульстве. Жену его там уверяют,
что к освобождению К. Д. приняты меры, но в германском
посольстве, через которое такого рода ходатайства обыкновенно
проходят, о таких мерах что-то не слышно. День протекает без
всяких сюрпризов, но вечер приносит крупные новости. Является
151
Фельдман и читает длинный список новых кандидатов в
Петропавловку. Их 19 человек, среди них и К. Д. Кудрявцев. Каждый
день кого-нибудь отправляют, но нынешняя отправка
производит особенно тяжелое впечатление. Сборы короткие. Торопят.
Провожают, словно идут на смерть. Последние минуты, как
никогда, тягостны. Вводят стражу. Это всё матросы, некоторые
с разбойничьими физиономиями. Один из таких молодцов
толкает быв. военного министра М. А. Беляева97 (совсем разбитый
физически и больной) и произносит сквозь зубы:
— Ишь ты! Целая шайка!
К. Д. Кудрявцев эпически спокоен, он даже подбадривает
остальных. Под конец, когда партия уже на выходе, слышны
раздирающие душу крики. Это жена одного из ушедших, Влаз-
нева, бьется в истерике*.
18 сентября
Наша камера мало-помалу пустеет. Впрочем, я не совсем
точно выражаюсь. Комплект ее более или менее постоянен, но от
основного кадра «постояльцев», вошедших чуть ли не первыми
в камеру, осталась маленькая горсточка. Сегодня она растаяла
почти наполовину. Ушли в камеру № 12, по другую сторону
канцелярии, К. и М. Так как они всё время держались немного
в стороне, то уход их не произвел никакого впечатления.
Напротив, молодежь даже радовалась. «Поменьше гувернеров», —
острили некоторые. Мне пришло в голову разнообразить досуг
лекциями. Это предложение вызвало большое сочувствие. У нас
есть всякие специалисты: Б. — знаток по истории и географии,
у Н. большой военный опыт, у юного П. много интересных
воспоминаний о жизни в Туркестанском крае и т. д. Решено
начать эти лекции сегодня после вечернего чая...
19 сентября
Вот и дождались! Когда я пишу эти строки, мы находимся
в Петропавловской крепости. Вот как это случилось. Еще вчера
днем никто не знал о предстоящей нам участи. Бобков, боль-
* Конец этой партии, по-видимому, трагический. Они не дошли
до крепости и были расстреляны самосудом конвоиров. Самое ужасное
в этой истории то, что большинство из партии было предназначено
к освобождению. — Прим. автора.
152
ше других посвященный в служебные тайны, хранил упорное
молчание. Он даже предлагал А. К. Мейеру освободить его под
залог. Приблизительно около 2-х часов дня я слышу в коридоре,
рядом с нашей камерой, маленькое волнение, а затем
оживленные толки. Оказывается, тот же Бобков огласил новый список
кандидатов в Петропавловку. Так как многие из заключенных,
в том числе и я, не слыхали списка, то он его повторил.
Вторым или третьим номером стояла моя фамилия. Вот тебе раз!
А Т. П. Коцебу обещала нам освобождение.
— Господин Бадрин, — обращается ко мне Бобков, и
нотка участия звучит в его голосе, — вам придется прогуляться
в Петропавловку!
Дались им эти «прогулки». При аресте — «прогуляться»
на Гончарную, теперь — в Петропавловку. Откровенно говоря,
я предпочел бы другую прогулку: домой. Вместе со мной названы:
Мейендорф, Коцебу, А. К. Мейер (другого его брата освободили
накануне), Комарницкий, Диц и другие. Всего 23 человека. Со
сборами спешат. Я живо укладываю свои вещи и прощаюсь
с камерой. Очень меня трогает отношение ко мне товарищей.
Многие меня целуют и крестят. Позже я узнаю причину.
Оказывается, что одновременно с нашей отправкой до тюрьмы
дошла весть, что с партией Кудрявцева, Щербо-Нефедовича98,
Крутикова и др. случилось что-то неладное. О ней упомянуто
даже в газетах. Жена одного из участников партии, адмирала
Альбреховича, подстерегала мужа у Николаевского вокзала и
хотела к нему приблизиться. Но в нее выстрелил красногвардеец
и убил наповал. Из простой деликатности никто на дорогу не
хотел сообщать мне эту ужасную весть. Мы выступаем в 3 ч дня.
Во главе отряда, конечно, матрос, но более человеческого вида,
а рядом с ним типичный красногвардеец. Фуражка на затылке,
ворот отстегнут, лицо самое наглое, вызывающее. Знаменская
плошадь, Невский довольно оживлены. День хмурый, но нас
освежает. На улицах никого знакомых. С затаенной грустью
рассматриваешь некоторые дома. Вот здесь бывал тогда-то и по
такому-то поводу, а здесь жил тот-то. Придется ли скоро всё это
опять увидеть? Идем довольно быстро, так что слышим позади
окрики отставших:
— Ради Бога потише!
На душе спокойно, даже я бы сказал — величественно.
Нам нечего опускать голову. Мы не преступники, никто из нас
153
не чувствует за собой вины, достойной «прогулки» в крепость.
Вот только тревожно за своих. Сегодня мы должны были
свидеться по-прежнему в столовой, и мое отсутствие, вероятно,
поселит недоумение и ужас. С крепостью всегда связаны
зловещие слухи. Марсово поле мы перерезываем поперек. Когда мы
проходим мимо братской могилы «жертв революции», у меня
в голове мелькает смешная мысль: а вдруг красногвардейцы
заставят нас встать на колени? Но не только ничего подобного
не случается, но ни один из конвоиров не снимает даже шапки.
Я иногда внимательно рассматриваю их лица. Молодые,
здоровые, многие даже симпатичны. Неужели большевизм их так
развратил, что вытравил самые лучшие чувства? Как не похож
на «богоносца» или «христолюбивого воина» вот этот парень,
который при виде К., набожно снимающего шапку перед
Петропавловским собором, пускает ему в спину:
— Еще молишься, сукин сын!
До крепости мы добираемся в полчаса. У комендантского
дома нам делают перекличку. Из дому выходит нечто вроде
офицера, молодой человек лет 30, по акценту латыш.
— Сколько голов? — спрашивает. При нем какой-то рыжий
красногвардеец, по-видимому, помощник коменданта.
— Двадцать три, — отвечает матрос, — из них двое на
извозчике, больные.
— Еще хворают! —- презрительно замечает рыжий.
Затем нас строят в ряды и ведут дальше. Здесь случается
маленький инцидент. Комендант передает команду, но я,
правофланговый, не понимаю его и, вероятно, не делаю то, что
следует. Тогда подходит ко мне красногвардеец с отстегнутым
воротом и, грубо взяв меня за плечи, ставит на место. Я ему
говорю:
— Зачем толкать? Вы мне объясните толком, и я сделаю,
что нужно.
— Поговори еще! — огрызается тот.
До нового нашего места заключения с полсотни шагов. Это
длинное двухэтажное здание, похожее на казарму.
— Трубецкой бастион! — объясняет кто-то.
Неужели? Сподобились исторической тюрьмы. Во втором
этаже длинный коридор и по одной его стороне камеры. Это всё
одиночки, т. е. комнаты пространством в 9 аршин на 4, в
данном случае предоставленные двадцати трем узникам. Говорят,
154
нет больше места в тюрьмах. Всё переполнено. От этого нам,
конечно, не легче. Об удобствах, разумеется, нечего и думать.
Единственную кровать без матраца (железные прутья) мы
предоставляем нашим больным, ген. Иванову и полк. Коцурику".
Остальные размещаются, где попало. Я смотрю на К. и М.
Бедные! Они предвкушали уют камеры № 12 на Гончарной
и очутились здесь. Заметно темнеет. Из единственного окна,
устроенного на высоте полторы сажени от пола, льется тусклый
свет в камеру. У стола, привинченного к кровати, в стене вделано
нечто вроде корабельного иллюминатора. Хотя в коридоре уже
горит электричество, наша лампочка не действует. Мы зовем
караульного. Ключа к иллюминатору не находится. Тогда он
достает какой-то тяжелый предмет (брусок или кирпич) и им
разбивает стекло. Очень просто. Довольно трудно разместиться,
не мешая соседу и vis к vis. Наши ноги постоянно встречаются.
Я расстилаю свой портплед, на него кладу пальто, под голову
провизионную корзинку и таким образом ухитряюсь устроиться.
Раздается голос Н.
— Господа, необходимо во что бы то ни стало оповестить
родных о нашем прибытии!
Н. вообще человек беспокойный. Он имеет способность,
вроде Манилова, быстро наскучивать своей болтовней. Но
в данном случае совет принят сочувственно. Кстати, сквозь
маленькое окошечко, проделанное в двери, просовывается
усатое лицо караульного, который предлагает свои «услуги». Мы
быстро собираем 40 р. денег и вместе с маленькими записочками
передаем солдату. Увы, из этой операции ничего не выходит.
Солдат деньги берет, но, как выясняется позже, записки не
доставляет по назначению. Приблизительно около 11 час. вечера
приносят «обед». В сравнении с ним «столовое довольствие»
на Гончарной — непозволительная роскошь. Это что-то вроде
супа, вернее, вскипяченная невская вода, где плавают кусочки
воблы. Впрочем, и на том спасибо. Все-таки что-то горячее.
Однако как же с продовольствием? Вскоре после нашего
прибытия в крепость, тот же Н. вступает в разговор с караульным
и узнает следующее: посылки доставляются сюда только дважды
в неделю — по пятницам и понедельникам. Сегодня четверг.
Очевидно, мало кто из родных своевременно узнает о перемене
местожительства и успеет организовать доставку. Ну, а покупка
через солдат? Неужели здесь нет дубликата господина Бобкова?
155
Конечно, есть и еще более алчный. За фунт воблы он берет
4 р., за хлебную лепешку — 5 и всё в таком роде. Доставляют
нам провизию тоже каким-то воровским образом, чуть ли не
в 3 часа утра...
20 сентября
Первая ночь в крепости. Спится плохо. Тесно и душно.
Чтобы пробраться к клозетному стульчаку (он стоит тут же,
рядом с умывальником и дверью), приходится шагать через ноги
и колени соседей. Они просыпаются и ворчат. Перед тем, чтобы
лечь спать, я горячо молюсь Богу. Дух мой бодр и закаляется от
испытаний. Я прошу только Бога об одном: чтобы он успокоил
моих родных. Им тяжелее, чем мне. От своей судьбы не уйдешь.
Если суждено мне сгнить в этом каземате или погибнуть от
большевистской пули, то никакие средства не помогут. В этом
отношении тюрьма вырабатывает фаталистов.
Мы просыпаемся в 8 ч утра. Кое-как убираемся. Против
меня еще спит П. П. Коцебу. Фигура у него молодой барышни.
Холеные руки, кокетливая курточка. Ему совсем не привычны
такие условия жизни; не по себе и бедному Дицу. От тесноты
в камере и неумеренного курения, он постоянно задыхается.
Как проводим мы время? Сравнительно недурно. Для
разнообразия мы осуществляем то, что не успели сорганизовать на
Гончарной, т. е. лекции. Для начала бар. Фредерике прочтет
доклад о финансовом положении России (он много работал
по экономическим вопросам), затем Комарницкий
предлагает сделать сообщение о теории вероятности, применительно
к азартным играм. Наконец, я, если угодно, расскажу кое-что
о новых течениях в искусстве. Кроме того, А. В. Коцурик
читает вслух некоторые из рассказов Джека Лондона. Всё было
бы хорошо, если бы не приходилось всё время лежать. Да вот
еще читать затруднительно. День сегодня пасмурный. Клочок
неба, видный через окно, затянут серой пеленой, а верхушка
дерева с пожелтевшими листьями на стеблях постоянно
качается. Очевидно, ветрено. Чтобы немножко промять ноги,
упрашиваем нынешнего караульного начальника (в крепости
дежурят семеновцы) дозволить нам прогуляться по коридору.
Офицер любезно разрешает. Как школьники, вырвавшиеся на
волю, мы покидаем нашу клетку и с жадностью вдыхаем свежий
воздух. Но этому блаженству один только миг. Едва проходят
156
10 минут, как в коридоре раздается чей-то грозный окрик. Тот
же рыжий, который считал нас за голов скота, резко
выговаривает караульному офицеру оказанное им снисхождение.
Нас быстро загоняют опять в конуру. Кстати, за время нашей
мимолетной прогулки мы стараемся узнать, нет ли кого из
знакомых в бастионе. Сегодня, очевидно, по случаю прибытия
посылок, выкликали имена Кудрявцева, Крейтона и др. Но
никого из них мы в действительности не видим. У милейшего
А. В. Коцурика есть кое-какие связи с Семеновским полком.
Благодаря этому ему предлагают нынче совместно с другими
разносить по камерам обед. Он берет с собой Фредерикса,
и они исчезают на добрых часа два. Возвращаются измученные,
особенно Фредерике. Он еле дышит. У Коцурика грустные
новости. С Гончарной в крепости почти никого нет. Но в
таком случае куда делись Резвой, Макаров, Щербов-Нефедович
с сыновьями и др.? Неужели?... И сердце больно сжимается от
тяжелых предчувствий. Попутно Коцурик, кажется, наладил
продовольственный вопрос. Некий матросик, мастер по этой
части, предлагает свои услуги.
21 сентября
Сегодня большой праздник: Рождество Богородицы. Кто-то
еще вчера заикнулся о всенощной. Не разрешат ли нам
пойти в церковь? Куда там! Караульный махнул даже рукой. Это
означало: вот еще что вздумали! На дворе солнышко, а
потому в камере светлее и уютнее. Я где-то читал, что в крепость
проникают только два звука: звон курантов и бряцание оружия
сменяющихся часовых. Но ничего подобного мы не слышим.
Если что до нас доходит, то это пушечный выстрел в 12 ч. Мы
говорим о вчерашнем инциденте с прогулкой по коридору.
Очевидно, кто-то донес в комендатуру. Шпионство у большевиков
в большом фаворе. Они недаром выученики немцев. Всякий
следит друг за другом, не доверяет и доносит. От нечего делать
читаем вслух, дремлем, поем песни. Вечером от соседнего
узника узнаем, что «немцев» (балтийцев) в «Крестах» выпустили.
Отсюда высказывается надежда, что выпустят и нас. Сегодня
голодно. Многим доставляются посылки, но я не получаю.
Очевидно, дома порядок еще не наладился. Придется ждать
до понедельника. А пока что кое-кто ссужает мне картошку,
кусочек хлеба, огурец. Ничего, сыт и слава Богу.
157
22 сентября
Жуткое чувство голода. Я делаю сегодня следующее
наблюдение: Б. получил из дома щедрую порцию. Он разложил
на столе все свои запасы: миску с картофелем, другую с мясом,
бутылку молока, краюшку хлеба и пр. Тыкая в ту или другую
тарелку вилкой, он методически уничтожает еду, не подозревая,
что за ним следят десятка два завистливых глаз. Я сам ловлю
себя на нехорошем чувстве: мне противна вся фигура Б., его
рот, поглощенный едой, немного отвисшие губы, трясущиеся
руки. И всё потому, что он делает то, что делал бы каждый из
нас на его месте, т. е. удовлетворяет естественной потребности
голода. Но он мог бы поделиться частью своего запаса! Ведь
только ничтожная горсточка в камере получила посылки. И мне
представляется, что если бы среди нас было меньше
интеллигентных и уравновешенных людей, то участь добра,
полученного Б., была бы, вероятно, иная. Перед голодным желудком
все немного анархисты.
Нынче ровно три недели, как я взят из дома. Многие
утверждают, что это время можно вычеркнуть из жизни. Неправда.
Так или иначе, но наши страдания принесут нам пользу Уже
теперь они несколько растворяют наши души. Разве не
знаменательное явление, что девять десятых нашей камеры потребовали
чтения Св. Евангелия вслух. Это было сделано вчера, а сегодня
утром уже исполнено. Я прочел моим товарищам XVIII главу от
Луки. Предложил также им притчу о том, что «должно всегда
молиться и не унывать...» и следующую главу. Камера слушала
божественное слово с неослабевающим вниманием. После того
немножко говорили о богословии. Я рассказал мои впечатления
о мистерии в Обераммергау.
На дворе переменчивая погода. То ворвется в камеру луч
солнца, то опять небо заволокнет. Никак не сладить с
курильщиками. Они не хотят понять, что при таком ограниченном
содержании воздуха, как в нашем каземате, мы буквально
отравляемся наркотином. Особенно тяжко под вечер. Атмосфера
сгущается (табачный дым, испарения от множества человеческих
тел, запах еды, соседство клозета), иногда прямо овладевает
отчаяние. В такие минуты единственное средство — прильнуть
ртом к дверному оконцу. Воздух хотя сырой, но все-таки свежий.
Я припоминаю дома на окне, в комнате сына, банку с золотой
рыбкой. Когда прислуга забудет переменить воду, рыбка появ-
158
ляется часто на поверхности и жадно глотает воздух. Бедные
мы рыбки! Лучше об этом не думать.
Около 7 час. вечера в коридоре какое-то движение.
Говорят, привели новую партию арестованных. Затаив дыхание, мы
прислушиваемся к перекличке фамилий. Ни одного знакомого
имени. Затем вновь тишина. Вдруг голос караульного:
— Барон Мейендорф!
— Здесь! — быстро отвечает П. Ф.
— Одеваться! — вторит тот же голос.
— Бадрин!
— Здесь! — кричу я.
— Одеваться!
Коцебу, Мейер, Манштейн, Диц и т. д. Из нашей камеры
8 человек. Что это? Неужели освобождение? Может ли быть,
что мое предчувствие оправдывается? Я был так спокоен за
сегодняшний день. Суматоха начинается невероятная. В несколько
минут все пожитки собраны. Одновременно мы прощаемся
с остающимися и берем от них записочки для родственников.
Куда нас ведут? Очевидно, на Гороховую. Но вот что странно.
Среди так называемых «немцев» числятся Фредерике и некто
Каппинг. Последний даже когда-то служил в германском
консульстве. Однако ни тот, ни другой не попали в наш список.
Зато идет Фрейфельдт, эсер, меньшевик; по собственным его
словам, не особенно рассчитывавший на освобождение.
Минут через 20 всю нашу компанию выводят в коридор.
Здесь нас поджидают еще человек 5, большинство незнакомых.
Последнее прости остающимся! Когда-то наступит их очередь?
Ведь за каждым узником его семья, жена, дети! Боже мой!
Сколько страданий на земле! И за что? Но в душе человек эгоист, и его
маленькое счастье дороже ему счастья остальных. Едва ли кто
из уходящих поменялся бы с остающимися. Слишком тяжелы
условия заключения.
Уже темно, когда мы выходим на воздух. Сначала нас опять
ведут к комендантской. Здесь, в ожидании какого-то лишнего
арестованного, мы проводим приблизительно час. Я чувствую,
как слабеют мои силы. Почти за целый день я съел только одну
селедку, а накануне воблу и настойку из «скандии» (суррогат
бульона). В. С. Манштейн приходит мне на помощь. У него на
мою долю находится большая картофелина, половина огурца
и кусок хлеба. С этим «запасом» я, даст Бог, доберусь до Горохо-
159
вой. Небо чисто. Кое-где блестят звезды. Ведут нас семеновцы.
Правда, они очень торопятся отбыть повинность и сдать нас по
принадлежности, но понуканий нет и ругани тоже. Мы идем
по Троицкому мосту и затем по Миллионной. Город словно
вымер. Ни в одном доме нет освещения. Идти немного
тяжело, особенно на голодный желудок. П. П. Коцебу, видя мои
усилия, помогает нести мой портплед. Но вот и Гороховая, 2.
С большевистского режима она приобрела репутацию,
аналогичную репутации знаменитого дома у Цепного моста. После
небольшой проверки у коменданта нас водворяют в камере № 97.
Боже мой, какой восторг! В былое время она, говорят, служила
казармой для городовых, но нам кажется волшебным замком.
Есть кровати, матрацы. А главное, тепло и уютно! Постояльцев
довольно много, они принимают нас радушно. Мы пьем чай,
закусываем (и всё из запаса Манштейна). Кстати, та партия
арестантов, которая сменила нас в крепости, непосредственно
пришла отсюда. Это случилось совершенно неожиданно для
заключенных. Они сидели на Гороховой, дожидались допроса,
по-видимому, наскучили коменданту, который и отправил их
в крепость. Avis au lecteur!* Нам нужно быть осторожными и не
сердить начальство. Вскоре вызывают на допрос Фрейфельдта.
Через четверть часа он возвращается. У него приятные вести.
Во-первых, он освобожден, во-вторых, по словам секретаря
чрезвычайной следственной комиссии, будем освобождены и мы.
Власть это делает неохотно, но должна считаться с германским
консульством, которое на этом настаивает. Примерно дня через
два, il faut faire contenance**, а то подумают, что немцев боятся.
Значит, в такой обстановке нам суждено прожить еще некоторое
время. Ничего. Вполне терпимо. На всякий случай мы просим
Фрейфельдта известить наших родных. Они пришлют сюда
нам провизию. Фрейфельдт уходит, а через полчаса вызывают
Мейендорфа. Допрос его короток. Он освобожден. Затем моя
очередь. Вместе с конвойным я спускаюсь этажом ниже (бывшая
квартира градоначальника) и сразу попадаю в комнаты,
освещенные к giorno***. В небольшом кабинете, потонув в удобном
кресле, сидит юноша лет 27, по внешнему облику еврей. Это
* Предупреждение читателю (франц.). — Прим. ред.
** Ему нужно было сохранять хладнокровие (франц.). —Прим. ред.
*** Ярко освещенный (франц.). — Прим. ред.
160
помощник всесильного Бокио*, преемника Урицкого, товарищ
Иосилевич**. Вид у него утомленный, болезненный. Рядом с ним
по левую руку разговаривает по телефону мальчик лет 15—16.
Беседа ведется в корректных тонах. Иосилевич спрашивает мое
имя, отношение к советской власти (всё это нехотя, словно для
виду) и вдруг:
— Я вас давно вызывал на допрос. Ваш арест —
прискорбное недоразумение.
— Недоразумение? — переспрашиваю я. — Но вы знаете,
что оно мне стоило? Двадцать три дня тюрьмы, из них три дня
в Петропавловской крепости. А это, наверное, три года жизни!
Иосилевич не возражает. По-видимому, такие разговоры
он ведет десятками в день.
— Очень жаль! — с маленьким вздохом произносит он. —
Наш технический аппарат так несовершенен. Всегда возможны
ошибки...
Затем беседа переходит на мои занятия. Оказывается,
«товарищ председателя» знает мою прошедшую деятельность,
интересовался моими работами.
— Вы свободны, — говорит он в заключение, — желаю вам
всего лучшего!
Свобода! Как странно звучит это слово! Сейчас оно не
находит отзвука в моей душе, уже свыкшейся со страданиями.
Мы выходим с конвойным. Он славный малый. Предлагая мне
папиросу, он как бы про себя произносит:
— Когда только всё это кончится? Много несправедливостей
творится на белом свете!
В камере меня встречают поздравления. С Манштейном мы
обнимаемся. Пока я собираю свои вещи, освобождают Коцебу
и Дица. Я говорю Дицу:
— Вот вы сомневались в милосердии Божьем. Оно пришло,
когда вы меньше всего на него рассчитывали. Бог правду видит,
да не скоро скажет!
Вместе с Коцебу мы выправляем свои пропуски. Я забыл
сказать, что, прощаясь с Иосилевичем, я спросил его, что мне
может гарантировать, что недоразумение с арестом не
повторится другой раз. Он отвечает:
* Имеется в виду Г. И. Бокий. — Прим. ред.
** А. С. Иоселевич. — Прим. ред.
161
— Я вам дам особое удостоверение.
На следующий день я действительно получаю бумажку. Она
обнаруживает казуистичность большевистской мысли.
Удостоверение гласит, что такой-то (имярек) был арестован тогда-то
и освобожден тогда-то. Спрашивается, от каких «недоразумений»
могут меня обеспечить подобные бумажки?
Но я забегаю вперед. Скоро 12 ч ночи. Хотелось бы по
телефону предупредить наших. Однако мальчик в канцелярии не
дозволяет. При выходе маленькая помеха. На наших пропусках
нет печати. Коцебу возвращается в канцелярию. В ожидании
его я сижу на лестнице, напротив пулемета, «ограждающего
входы». Наконец мы на улице. Как странно не видеть за собой
конвойного! На Невском безлюдно. Застанем ли еще трамвай?
Какая-то барышня на углу Морской утверждает, что застанем.
Но Коцебу нервничает и хочет взять извозчика. Впрочем, пути
наши разные. Но вот показались огненные глаза трамвая. Та же
барышня говорит мне:
— Вот видите, я была права. Трамвай нашелся!
Милая барышня! Она первая, с которой я говорю «на воле».
Может быть, поэтому я чувствую потребность рассказать ей
вкратце мои злоключения. У барышни на глазах слезы.
— Сколько вы пережили, — замечает она, — и за что?
За что? Разве в этом сейчас вопрос? Слава Богу, свободен.
Вот и Владимирский проспект. Скоро церковь и наша улица.
Я вспоминаю Николая Ростова в «Войне и мире» и его
возвращение с похода. Так же, как он, я готов дать что угодно, лишь
бы поскорее быть дома. Зловеще смотрят на меня окна штаба
красной армии. Всего 10—12 дней тому назад я шел сюда на
допрос. Как всё это было недавно и вместе с тем давным-давно...
Швейцар спит. Полусонный, он отворяет мне дверь. Еще две
лестницы, и я у своей квартиры. Звоню. За дверью маленькая
суматоха. Отворяет сын.
— Папа! — кричит он что есть мочи.
— Папа! — вторит ему из другой комнаты голос жены.
Только не плакать! Я чувствую, что спазма сдавила мне
горло, и еще минута, и я разревусь, как теленок. Дома! Дома!
Как-то по-новому, совершенно особенно звучит теперь это слово.
КНЯЗЬ ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
МЕСЯЦ В ТЮРЬМЕ
(из дневника)*
15 августа н. с. 1918 года меня арестовали по
приказанию Чека и, продержав там в полном неведении несколько
часов, отвезли в Дом предварительного заключения. Везли
меня в гоночном автомобиле, и я сидел рядом с шофером.
Сзади поместился «товарищ коммунист» с винтовкой. Когда
мы выезжали из ворот, то прбехали мимо бедной моей жены,
которая стояла взволнованная и убитая горем. Выехав на
Адмиралтейский проспект, шофер вдруг остановился и
начал поправлять что-то в моторе. Моя жена успела подбежать
ко мне, и мы еще раз расцеловались. Она была в отчаянии
и ужасно плакала.
Проезжая по Дворцовой набережной, мы встретили князя
М. С. Путятина**. Я ему поклонился совершенно машинально
и только потом вспомнил, что своим поклоном мог подвести его.
Мы остановились у тюрьмы, «товарищ коммунист» вошел
в ворота. Шофер, везший меня, был в военной форме, и я
спросил его, где он служил.
— В санитарном отряде Императрицы Марии Федоровны.
Меня поразило, что этот служащий Чека сказал:
«Императрица Мария Федоровна».
* Иллюстрированная Россия (Париж), 1934, № 35, с. 8—9. Выпуск
целиком посвящен убийству Великих князей в 1918-1919 гг. В
редакционном предисловии к нему, в частности, написано: «Обречен был
и князь Гавриил Константинович. Он также должен был последовать
в ссылку. Но супруга его Княгиня Антонина Р., с чуткостью
преданной, любящей жены, поняла грозящую опасность. Она решила
разделить с мужем неизбежную гибель, если придется уехать на Урал,
но без борьбы не сдаваться. Некоторые женщины в минуту опасности
дорогих близких приобретают особенную силу воли, часто мужскую
смелость, героизм, настойчивость и предприимчивость. И Княгиня
пошла на борьбу с всесильными комиссарами, с грозным Урицким.
Она спасла мужа и себя. Ее воспоминания, приводимые у нас ниже,
полны интереса».
** Б[ывшего] начальника Царскосельского дворцового
управления. — Прим. автора.
163
В этот момент пришел «товарищ коммунист» и повел
меня в тюремную канцелярию. Мы проходили через двор мимо
большой иконы. Я снял шапку и перекрестился.
Тюрьма на меня произвела удручающее впечатление.
Особенно теперь, в такое тяжелое время и в полном неведении
будущего. Мои нервы сдали. Пришел начальник тюрьмы, господин
с седой бородой и очень симпатичной наружности. Я попросил
меня поместить в лазарет, как обещал сделать Урицкий. Но
постоянного лазарета в Доме предварительного заключения не
оказалось, и начальник тюрьмы посоветовал мне поместиться
в отдельной камере.
Меня отвели на самый верхний этаж, в камеру с одним
маленьким окном за решеткой. Камера была длиной в шесть
шагов и шириной в два с половиной. Железная кровать, стол,
табуретка — всё было привинчено к стене. Начальник тюрьмы
приказал мне положить на койку второй матрац.
В этой же тюрьме сидели: мой родной дядя Великий князь
Дмитрий Константинович и мои двоюродные дяди — Великие
князья Павел Александрович и Николай и Георгий Михайловичи.
Вскоре мне из дому прислали самые необходимые вещи,
и я начал понемногу устраиваться на новой «квартире». В этот
же день зашел ко мне в камеру дядя Николай Михайлович. Он
не был удивлен моим присутствием здесь, т. к. был убежден,
что меня тоже привезут сюда. Дядя Дмитрий Константинович
помещался на одном этаже со мной, но его камера выходила на
север, а моя на восток. Дяди Павел Александрович, Николай
и Георгий Михайловичи помещались этажом ниже, каждый
в отдельной камере.
Первую ночь спал плохо, было неудобно лежать, болела
голова. Нервы шалили вовсю. Заснул под утро.
На следующий день меня вывели погулять во двор, и, выйдя
из камеры, я встретился с дядей Георгием, возвращающимся со
своей прогулки. Мы успели обменяться только несколькими
словами. Кончая прогулку, я встретился с дядей Павлом
Александровичем, который был страшно обрадован нашей встрече.
В этот же день мне удалось пробраться к дяде Дмитрию
Константиновичу. Стража смотрела на это сквозь пальцы, прекрасно
сознавая, что мы не виноваты. Я подошел к камере дяди, и мы
поговорили в отверстие двери... Я нежно любил дядю Дмитрия;
он был прекрасным и очень добрым человеком и являлся для
164
нас как бы вторым отцом. Разговаривать пришлось недолго,
потому что разговоры были запрещены.
Так началась моя жизнь в тюрьме. К режиму я стал
постепенно привыкать. Вставали в 7 час. утра. Слышался шум шагов,
хлопанье дверьми, лязг ключей. До завтрака, т. е. до 12 часов нас
выводили на прогулку. Других арестованных выводили партиями,
нас же — меня и дядей — в одиночку и позволяли гулять только
вдоль восточной стены тюремного двора. В12 часов давали обед,
состоявший из супа и куска хлеба. В первые дни я ел этот суп
и хлеб, но потом жена мне и дяде Дмитрию присылала столько
провизии, что я не дотрагивался до тюремной пищи. В 6 часов
разносили ужин, а между обедом и ужином можно было пить чай.
В 7 часов тюрьма переходила на ночное положение и начиналась
ходьба, лязганье ключей и щелканье замков. Затем становилось
тихо, гасили большинство огней, и наступала жуткая тишина.
Мне прислали из дому книги, и я читал, полулежа на
кровати, подложив под спину пальто и подушки. Ложе получалось
очень удобное и давало мне возможность много читать. Я читал
книги религиозного содержания, а также с увлечением
перечитывал «В лесах и на горах» Печерского.
Камеру мою за плату убирали арестованные рядом со мной
шофер и какой-то солдат, социалист-революционер. Это были
премилые люди и очень услужливые, и я подолгу разговаривал
с ними.
Тюремная стража относилась к нам очень хорошо. Я и мой
дядя Дмитрий Константинович часто беседовали с ними, и они
выпускали меня в коридор, позволяли разговаривать, а иногда даже
разрешали бывать в камере дяди. Особенно приятны были эти
беседы по вечерам, когда больше всего чувствовалось одиночество.
С разрешения большевиков ко мне приходил наш
домашний врач. Мы встречались с ним в медицинском покое, куда
меня вызывали. Однажды при нашем свидании был дядя Павел
Александрович, которого освидетельствовал его доктор. Меня
поразила худоба дяди. Я редко встречал таких истощенных и
худых людей. Эти свидания с врачом были, разумеется, большим
развлечением в моей тюремной жизни. К таким же
развлечениям я должен отнести и разговоры с тюремными сторожами.
Больше всего я беседовал со сторожем, уроженцем балтийских
провинций. Он останавливался у моей двери и в окошечко долго
беседовал со мной. Был также другой сторож, очень симпатич-
165
ный, бывший солдат Лейб-Гвардии Гренадерского полка. Он мне
много рассказывал про свою жизнь и про полк. Относился ко
мне прекрасно и даже иногда помогал мне одеваться. Нередко
навещал меня также начальник тюрьмы. Он приносил мне
открытки от моей жены, присланные по почте. Начальник тюрьмы
просил меня ни в коем случае не пользоваться нелегальными
способами переписки. Я ему это слово дал, но до того послал
два письма. Одно передал надзирателю, в котором писал, что
сторожа хорошо относятся ко мне, но это письмо не достигло
адресата — моей жены. Второе письмо я послал в первые дни
моего заключения. Один арестованный офицер, которому
разрешено было заниматься в библиотеке, предложил мне послать
письмо через свою жену, навещавшую его довольно часто. Но,
слава богу, я не прибегал больше к этому способу переписки,
а меня скоро предупредила моя жена, чтобы я был осторожен,
так как в тюрьме находится много большевицких провокаторов.
Самым большим удовольствием, которого я ждал всегда
с большим нетерпением, были свидания с моей женой. В первый
раз она пришла на второй день после моего ареста. Настал уже
час свидания, а меня еще не вызывали. Я сильно волновался.
Наконец пришел служитель и повел меня по бесконечным
галереям и коридорам в кабинет начальника тюрьмы. Трудно
передать, как мы с женой были счастливы увидеться после
стольких переживаний. Но говорить свободно нельзя было:
тут же сидел комиссар тюрьмы, отвратительный тип, всегда
невероятно грязный. Он хотел всё слушать и требовал, чтобы
мы говорили громко. Свидание продолжалось четверть часа,
но обстановка была тягостной.
Жена меня навещала два раза в неделю. Через некоторое
время я начал ходить на свидание вместе с дядей Павлом
Александровичем. Понятно, в сопровождении сторожей, которых мы
в шутку называли «няньками». В кабинете начальника тюрьмы нас
ждали: княгиня Палей100 (супруга дяди), моя жена и тюремный
комиссар. Дядя с женой сидел у одной стены, а мы у
противоположной. Дядя Дмитрий Константинович часто давал мне деньги
для передачи моей жене, с просьбой купить свечей и поставить
пред иконой Спасителя или у гроба о. Иоанна Кронштадтского.
Мне удавалось незаметным образом исполнять эти поручения.
Однажды, в одно из таких свиданий комиссар тюрьмы ушел,
и мы остались под наблюдением тюремного начальника. Он был
166
так любезен, что продлил нам свидание почти на час. Это был
последний день, когда мы видели нашего комиссара. При
нападении на английское посольство он был тяжело ранен и больше
не вернулся в тюрьму. Когда я узнал, что его больше не будет, то
танцевал даже у себя в камере. Был назначен новый комиссар
Богданов, тот самый, который арестовал меня и вез в Чека. Он
был вежлив и вел себя на свиданиях прекрасно.
Ввиду моей болезни меня навещала часто и тюремная сестра
милосердия. Этим визитам я был очень рад, а иногда вызывал
ее, когда у меня начинались боли или было тяжело на душе.
Встречи с моими дядями продолжались. Мы обычно
встречались на прогулках и обменивались несколькими фразами.
Странно мне было на них смотреть в штатском платье. Всегда
носившие военную форму, они изменились до неузнаваемости.
Я не могу сказать, что тюрьма сильно угнетала их дух. Они были
иногда веселы и шутили со сторожами. Дядя Николай
Михайлович (историк) часто выходил из своей камеры во время уборки,
а иногда вечером во время ужина стоял у громадного подоконника
в коридоре и ел, неизменно разговаривая и шутя со сторожами.
Он был в защитной офицерской фуражке без кокарды и в
чесучовом пиджаке. Таким я его помню в последнее наше свидание
в коридоре. Другие дяди почти не выходили из своих камер.
Помню, как дядя Николай Михайлович прислал мне в
камеру свою книгу об утиной охоте. Он был большой охотник
и когда узнал, что я не охочусь, то даже обругал меня. Но так
как я терпеть не могу убивать зверей, то эту книгу я даже не
читал, а только просматривал иллюстрации.
Однажды вечером после ужина в тюрьме поднялась суматоха
и большой шум. Оказалось, что приехал гроза Петрограда —
сам Урицкий. Меня спросили, хочу ли я, чтобы он зашел ко
мне. Я ответил утвердительно. Вскоре Урицкий вошел ко мне
в камеру в сопровождении нескольких лиц, среди коих были:
болыиевицкий градоначальник Шахов и наш старый
симпатичный начальник тюрьмы. Когда вошел Урицкий, я остался
в кровати в полулежачем положении и спросил его:
— Нельзя ли разрешить моей жене чаще навещать меня?
— В наше время нам этого не разрешали, — заметил Шахов.
«Наше время», по-видимому, нужно было понимать как
время, когда товарищ Шахов сидел по тюрьмам. Урицкий
ничего не ответил, и моя просьба осталась неисполненной. После
167
меня он посетил всех дядей. Дядя Дмитрий Константинович так
удачно переговорил с ним, что нам были разрешены совместные
прогулки и увеличена их продолжительность. Началась новая
эра в нашей тюремной жизни. Мы гуляли в большой компании
и вместо четверти часа — час, что было для всех большой
радостью. Вместе с нами гуляли: генерал-адъютант Хан-Нахиче-
ванский101, под начальством которого я был на войне, князь Д.,
два брата А. и многие другие. Многие незнакомые арестованные
нас приветствовали, а сторожа иногда даже титуловали. Они
нам соорудили из длинной доски большую скамейку во дворе
тюрьмы, и мы часто сидели, греясь на солнце.
Однажды на прогулке один из тюремных сторожей сообщил
нам, что убили комиссара Урицкого. Офицер, который предлагал
свои услуги по пересылке писем, обрадовался. Я был другого
мнения и оказался прав. Скоро начались массовые расстрелы,
а на одной из прогулок до нас дошло известие, что мы все
объявлены заложниками. Это было ужасно. Я сильно волновался.
Дядя Дмитрий Константинович меня утешал:
— «Не будь на то Господня воля!.. — говорил он, цитируя
«Бородино», — не отдали б Москвы», а что наша жизнь в
сравнении с Россией — нашей Родиной?
Он был религиозным и верующим человеком, и мне
впоследствии рассказывали, что умер он с молитвой на устах.
Тюремные сторожа говорили, что, когда он шел на расстрел,
то повторял слова Христа: «Прости им, Господи, не ведают,
что творят»...
Я не мог успокоиться, и мои нервы сильно пошаливали.
Я вызывал к себе начальника тюрьмы, сестру милосердия и даже
у них спрашивал, не грозит ли мне, как заложнику, опасность?
Наивный вопрос! Но он становится понятен, когда подумаешь,
что я мог тогда переживать? Они успокаивали меня, как могли.
Это было в первые дни. Затем, так как человек ко всему на свете
привыкает, я свыкся со своим положением заложника.
Дядя Дмитрий Константинович утешал и ободрял меня
и как-то написал для меня на клочке бумаги псалом «Живый
в помощи Всевышняго» — и я его выучил наизусть. Заботы обо
мне дяди Дмитрия Константиновича трогали меня, он никогда не
забывал передать слова бодрости и утешения даже через сторожа.
Вскоре после убийства Урицкого шофер — мой сосед по
камере, вошел ко мне и сообщил, что солдата социалиста-ре-
168
волюционера увели на расстрел. Жуткие были моменты, когда
ранним утром в тюрьме поднимался шум, ходьба, а затем всё
опять стихало. Это выводили на расстрел — может быть, тех,
с которыми только вчера еще гулял и говорил на тюремном
дворе. Но к тюрьме люди быстро привыкают, как и к своему
неопределенному положению. Утром вставали под впечатлением
шума, вызванного уводом на расстрел, а в полдень на прогулке
начинались шутки и смех. Кто-то из арестованных постоянно
кричал и звал «Лёля, Лёля», причем его голос был какой-то
надтреснутый, хриплый. Дядя Павел Александрович хотел
однажды изобразить зов этого несчастного и тоже крикнул:
«Лёля, Лёля», но это вышло не трагически, а смешно. Вообще
дядя Павел был бодр и не поддавался унынию. Он всегда очень
радовался свиданию с женой — княгиней Палей. Других дядей
никто не навещал, и это мне больно было сознавать. Мне и дяде
Павлу было все-таки легче: к нам приходили, к ним же — никто.
В одно из свиданий жена моя сообщила мне, что меня скоро
должны выпустить, и указала даже приблизительный срок, но
просила это держать в строгой тайне.
С большим волнением ждал я этого срока, даже несколько
приободрился и перестал унывать. Наконец, обещанный день
наступил, а меня никто не вызывал. Я сразу почувствовал
невероятный упадок сил и сильные боли. Вызвал сестру милосердия, и,
когда она собралась мне поставить компресс, меня вдруг вызвали
вниз. Так как я был предупрежден и ждал этого вызова, то пришел
в такой восторг, что расцеловал сестру милосердия. Начальник
тюрьмы сообщил мне, что меня зовут на допрос. Он правды
тоже не знал. Когда вместе с начальником тюрьмы я спустился
в канцелярию, то застал там комиссара Богданова. Улучив момент,
когда начальник тюрьмы вышел, комиссар показал мне бумагу,
в которой значилось, что меня из тюрьмы переводят в клинику
Герзони. Радости моей не было границ. Я отправился опять
в свою камеру, чтобы приготовиться к отъезду. Шофер, сосед
мой по камере, страшно испугался за мой вызов, думая, что
меня вызывают на расстрел. Я его успокоил, отдал ему всю свою
провизию и просил его передать остальные мои вещи тому, кто
за ними приедет. На прощанье мы с ним расцеловались. Я также
зашел в камеру к дяде Дмитрию Константиновичу проститься. Он
благословил меня, обнял и был растроган до слез. Слезы потекли
и из моих глаз. Это было последнее наше свидание в этой жизни...
169
КНЯГИНЯ А. РОАААНОВА
КАК БЫЛ СПАСЕН КНЯЗЬ
ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Воспоминания*
Свершилось! Памятный день 26 февраля 1917 года.
Наступил день, который мы ждали с таким трепетом
и ужасом. Но, к нашему несчастью, было ясно, что революция
будет и что она неизбежна. Улицы черны от народа, слышится
стрельба...
Весь вечер мы были сильно взволнованы. Наш телефон
работал, не переставая. Звонили, утешали, говорили, что это
не революция, а «голодный бунт». Всё скоро кончится. Я не
верила и предчувствовала страшную грозу...
Слышу дикие крики радости во дворе: ликует толпа, увозя
чужой автомобиль. Вбегает прислуга и сообщает, что увозят
и наш. Шофер Зайцев старается уговорить толпу:
— Оставьте. Это мотор князей Константиновичей. Они
всегда были близки народу.
Толпа ревет... Нам сообщают, что сейчас придут с обыском
в нашу квартиру. Советуют нам уйти. Я собираю свои
бриллианты, деньги, беру собаку, и мы с мужем поднимаемся на
шестой этаж в комнату прачки. На лестнице встречаем какую-то
женщину, которая при виде нас зло заметила:
— Спасаетесь? Не беспокойтесь вас всюду найдут!
Царь прислал отречение за себя и за своего сына. Великий
князь Михаил Александрович102 последовал примеру Царя.
Никогда не забуду этого дня. Мы все, и наша прислуга, плакали,
как будто кто-то дорогой умер. Говорили шепотом, ходили на
цыпочках.
Состоялось назначение Временного правительства, которое
приступило к управлению страной. Сразу прекратили выдачу
денег из Уделов, и мы остались со своими скромными средствами.
В апреле месяце мы с мужем решили куда-нибудь уехать.
Я отправилась к премьер-министру князю Львову посоветовать-
* Иллюстрированная Россия (Париж), 1934, № 35, с. 10—12; № 36,
с. 6-7; № 37, с. 14-15,19; № 38, с. 6-7; № 39, с. 14-15; № 40, с. 18-20.
170
ся, не найдет ли он возможным отпустить нас за границу. Князь
принял меня в высшей степени любезно, но на мой вопрос
о выезде за границу ответил, что ни в коем случае не советует
этого делать, так как наш выезд может навредить
родственникам моего мужа, оставшимся в Петрограде. Предложил уехать
в Финляндию и приказал выдать соответствующие документы
и разрешение на право вывоза автомобиля, который мы
получили обратно в исковерканном виде, залитым кровью.
Пребывание в Финляндии по многим условиям для нас
было тягостным и неприятным. В середине лета мы с мужем
вернулись в Петроград. По приезде в «Асторию», где мы
решили остановиться на один день, мы узнали об аресте Великих
Князей Михаила Александровича и Павла Александровича.
Все наши друзья советовали нам уехать немедленно обратно
в Финляндию. Вернуться сразу мы не могли: у нас не было
разрешения на проезд через Белоостров, а потому пришлось
остаться, и не в «Астории», где мы были слишком на виду, а в
квартире моей сестры.
Не знаю почему, но мне пришла мысль побывать у
Керенского. Эту мысль я высказала своему мужу. Но как к нему
попасть? Однажды, проезжая по набережной Зимнего дворца,
мой муж остановил извозчика у подъезда детей Царя, вызвал
швейцара, старого дворцового служащего и сказал ему:
— Голубчик, не в службу, а в дружбу, нельзя ли устроить,
чтобы Керенский принял мою жену?
Зная моего мужа, швейцар немедленно исчез и скоро
вернулся, доложив, что премьер-министр меня ждет. Мы подъехали
к личному подъезду Государя. Войдя в дверь, я увидела двух
солдат на часах и бежавшего навстречу мне швейцара:
— Министр Керенский вас ожидают, Ваше Величество.
Солдаты взяли на караул.
Я совершенно растерялась как от дарованного мне
швейцаром титула, так и от этой помпы со стороны солдат. Когда
швейцар меня уговаривал сесть в кресло в лифте, на которое
садился Государь, то я отказалась это сделать, так как мне было
тяжело пользоваться креслом, которое служило Царю. «Какая
русская революция странная!» — подумала я. Наверху меня
встретил матрос, который меня так же приветливо титуловал,
а за матросом — лейтенант Кованько, адъютант Керенского.
Все это было весьма помпезно. Кованько провел меня по ан-
171
филаде комнат. Войдя в какую-то большую гостиную, я увидела
несколько офицеров. При моем появлении они все встали
и поклонились. Вдруг слышу тихий голос: «Здравствуйте!» Возле
меня стоит Керенский — среднего роста человек, с бегающими
глазами и желтым цветом лица. Он провел меня в соседнюю
комнату. По моим рассказам муж предполагает, что это были
апартаменты Александра III. Керенский любезно предложил
мне кресло.
— Чем могу служить? — задал он мне вопрос.
— Я хотела бы посоветоваться с вами. Как нам быть
дальше? Говорят о наступлении немцев, о голоде и о большевиках.
Куда нам уехать?
Керенский сделал серьезное лицо и сказал, что всё не
так страшно. Немцы сейчас не пойдут, голод всюду одинаков,
а большевики — сплошная ерунда; их немного, они не имеют
поддержки в народе. На мой вопрос о возможности отъезда за
границу он, подумав, сказал:
— Куда же вам ехать? Франция, Англия, Япония вас к себе
не примут, в Швеции под королем уже давно колеблется трон,
так же как и в Дании. Вам остается только Норвегия, куда вы
можете поехать совершенно свободно, тем более что вы живете
в Финляндии и ваш выезд может пройти незамеченным.
— Но для этого нужно иметь ваше разрешение на выезд, —
сказала я, — и деньги, которых у нас нет.
— По поводу разрешения вы пришлите кого-нибудь к моему
адъютанту, а что касается денег, то сегодня вечером состоится
заседание, на котором будет обсуждаться вопрос о всей семье
Романовых, и если все министры согласятся, то через два-три
дня вы получите официальную бумагу о ваших деньгах.
Разговор был закончен. Керенский проводил меня до
порога, передал своему адъютанту и с той же помпой, с солдатами
на караул, я вышла из дворца...
25 октября 1917 года... Большевики произвели новый
переворот, и на этот раз успешно.
Не могу передать того гнетущего, кошмарного состояния,
которое овладело нами...
Ленин стал во главе России. Мы были под властью
большевиков. Скажу по правде, что в первые дни наша жизнь совсем
не изменилась: всё шло так же скверно, как и прежде. Еды было
мало, безумная дороговизна и полное отсутствие денег.
172
Солдаты прежде всего занялись соседними винными
погребами. Они напивались до бесчувствия, их расстреливали
и бросали в Неву. Вообще пальба по ночам стала обычным
явлением, и не раз мы засыпали под грохот выстрелов.
Но вот и весть о действиях большевиков: арестован в Гатчине
Великий Князь Михаил Александрович и увезен в Смольный
институт. За что был арестован Великий Князь и его секретарь
Джонсон103 — было неизвестно. Их продержали несколько
дней в Смольном, под конвоем солдат выслали в Пермь,
причем говорили, что на Николаевском вокзале Великого Князя
и Джонсона втолкнули в вагон III класса и заставили ехать стоя...
Некоторое время прошло совершенно спокойно, но скоро
в газетах появился декрет: всем Романовым явиться в комиссию по
борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. Мой муж отправился
туда. Со всех Романовых была взята подписка о невыезде, и их
отпустили по домам. Нас всех это страшно встревожило, и мы
терялись в догадках. Но скоро все разъяснилось, появился новый
декрет: в течение трех дней, 13, 14 и 15, все Романовы должны
были явиться в комиссию для получения инструкции по поводу
высылки их из Петрограда. Порядок высылки был установлен
следующий: Великие Князья Николай Михайлович, Дмитрий
Константинович и Павел Александрович—должны были выехать
в Вологду, Иоанн104, Константин105, Гавриил и Игорь106
Константиновичи, Сергей Михайлович107 и князь Палей108 — в Вятку или
в Пермь. Из Москвы Великая Княгиня Елизавета Федоровна и из
Финляндии Великий Князь Георгий Михайлович, арестованный
там же, должны были присоединиться ко всем высылаемым.
Я не могу передать моего ужасного состояния. Это было
11 марта. Телефон звонил, не переставая. Все предлагали свои
услуги, кто в Петрограде, кто в Сибири. Днем приехали все
три брата моего мужа (у мужа была легкая инфлуэнца). Стали
совещаться, как быть, когда идти на регистрацию и т. д. Между
прочим, князь Константин Константинович сообщил мне, что
сегодня он видел Н. К. К., который сказал, что хорошо знает
одного члена комиссии, большевика Б.109, и если нужно будет,
то Н. К. К. в комиссии может похлопотать (Н. К. К.109а был
преподавателем русской литературы у моего мужа и его братьев).
Как я впоследствии узнала, Н. К. К. много помог, благодаря
своим связям с Константиновичами, большевику Б. в его
скитаниях и сидении по тюрьмам до революции.
173
Константин Константинович дал нам телефон Н. К. К., и мы
стали его повсюду искать. Звоня по всем данным нам номерам
телефонов, мы его нигде не находили, и, наконец, какой-то
симпатичный женский голос ответил, что его найдут, и он сам придет
к нам. Так и было. Вечером того же дня пришел Н. К. К., и мы
стали его просить нам помочь. После долгих уговоров и
размышлений Н. К. К. решил познакомить меня с сестрой большевика
Б., и на утро перед поездкой на Гороховую я должна была с нею
встретиться на улице. Затем мы пришли к заключению, что будет
лучше, если на Гороховую вместо мужа поеду я, а Н. К. К. меня
там встретит и во всем, где можно, поможет.
Я не помню, как проспала эту ночь. От волнения
переходила к спокойствию, от спокойствия к крайнему возбуждению
и заснула лишь под утро. Утром в 11 часов была в назначенном
мне месте для встречи с Н. И. Л-вой109Ь, сестрой большевика Б.
Н. И. Л-ва оказалась милой, доброй женщиной с прекрасными,
вдумчивыми и ласковыми глазами. Она дала мне несколько
добрых советов, как держать себя с Урицким. Убедила меня,
чтобы я была решительной и отнюдь не имела
плаксиво-подобострастного вида. Распрощавшись с ней, я решила заехать
в Зимний дворец к Луначарскому, с которым говорила по
телефону, прося меня принять. Мне все советовали раньше
обратиться к нему, так как его считали одним из немногих
приличных большевиков. Приехав в Зимний дворец, я никого
не могла добиться и, дабы не опоздать, уехала на Гороховую,
решив потом вернуться во дворец.
Подъезжая к Гороховой, вижу на углу улицы жену Князя
Иоанна Константиновича, взволнованно, быстро ходившую
по панели. Вхожу в подъезд, и первое, что бросается в глаза:
пулемет в окне и страшная грязь. Спрашиваю, где выдают
пропуски для приема у Урицкого. Мне показывают дверь налево.
Вхожу в маленькую комнату, битком набитую разношерстной
публикой. Крик, гам, какой-то длинноволосый господин
ругает порядки. Вкрадчивым голосом я прошу пропустить меня
к Урицкому. Грубо спрашивают мою фамилию и по какому
делу. Понизив голос так, чтобы не слышали окружающие, как
преступница, я отвечаю:
— По делу Романовых.
Мне немедленно выдают пропуск, и я, по грязной лестнице,
мимо вооруженных солдат, поднимаюсь на третий этаж. Там
174
выхожу на широкую мраморную белую площадку с такой же
лестницей вниз (бывший парадный подъезд градоначальника).
Минуя лестницу, иду прямо и вхожу в большую комнату —
столовую, всю обтянутую коричневыми обоями с панелью из темного
дуба и буфетами, посередине — громадный стол, покрытый
грязной скатертью. На окнах темные от грязи, изорванные тюлевые
занавески, по стенам продырявленные стулья. В этой столовой
я нахожу много своих: трех братьев мужа, князя Палея,
полковника барона Менда110, кн. Шаховского и ген. Хоцяновского111,
раньше состоявшего при муже и прибывшего сюда, чтобы быть
с нами. Вдали я вижу Н. К. К., который сейчас же подошел ко
мне. Через несколько секунд сюда же вошел мужчина, с которым
Н. К. К. меня познакомил. Это был большевик Б.
Удивительно симпатичное, болезненное лицо, с прекрасными добрыми
глазами. Он был высокого роста и страшно худой. Одет он был
в русскую рубаху черного цвета и мягкие, широкие большие
сапоги. Ни он, ни я ничего не сказали друг другу. Он немедленно
вышел в одну из многих дверей в этой комнате и вернулся через
несколько секунд, сказав, что Урицкий меня вызывает. Сильно
волнуясь, я пошла за ним. Урицкий встретил меня на пороге.
Это был очень прилично одетый мужчина в крахмальном белье,
большого роста с противным лицом и гнусавым, сдавленным
голосом. Б. сейчас же вышел из комнаты. Урицкий подвинул
мне мягкое кресло и стал возле меня.
— Чем могу служить Вам, сударыня? — задал он мне вопрос.
Я вспомнила совет Н. И. Л-вой и, собрав всё свое
спокойствие, сказала:
— Мой муж, Гавриил Константинович, в данное время лежит
больной инфлуэнцей. Он страдает туберкулезом, и я пришла
заявить, что мой муж ни в коем случае никуда не может ехать,
так как всякое передвижение грозит для него открытием
туберкулезного процесса, что подтверждают доктора и принесенные
мною свидетельства.
Он слушал молча, стоя передо мной, и пытливо смотрел
мне в глаза.
— Сколько лет Вашему мужу?
— Тридцать, — ответила я.
— В таком случае его туберкулез не опасен, —- услышала
я скрипучий голос Урицкого, — во всяком случае я пришлю
своих врачей и буду базироваться на их диагнозе. Больного
175
я не вышлю, в этом Вы можете быть спокойны, — сказал он,
взял докторские свидетельства и записал наш адрес.
Я вышла от него, окрыленная надеждой. В той же столовой
меня ждали братья мужа. Рассказав им, как все произошло,
я увидела на их лицах радость за брата. Оказывается, Урицкий
приказал им через неделю выехать. Мне хотелось подождать
результатов ходатайства княгини Палей, которая тоже привезла
Урицкому свидетельства о болезни ее мужа.
Я хотела закурить, но не было спичек. Увидев у окна
стоящего и курящего юношу лет 18-ти, я подошла к нему и сказала:
— Ну-ка, молодой человек, дайте прикурить!
Улыбнувшись, он дал мне свою папиросу и спросил:
— Почему Вы по поводу Министерства Двора не
обращаетесь к Луначарскому?
— Это меня не касается, — ответила я немного резко
и отошла.
Тут же узнала, что фамилия этого молодого человека была
Иоселевич. Он был помощником моего знакомого Б.,
впоследствии, по занятии Б. должности Урицкого, игравшим большую
роль и, как говорили, «со смехом» подписывавшим смертные
приговоры.
Через несколько минут вышла княгиня Палей. На наш
вопрос она ответила, что Урицкий ей сказал то же самое, что
и мне, но только сыну ее велел выехать через неделю. Поговорив
еще некоторое время, мы вышли из этого застенка.
Я поехала к Н. К. К., чтобы рассказать ему результаты
моего визита к Урицкому и просить его дальнейшей помощи
у Б. Возвратясь домой, я рассказала всё мужу, который ждал
меня с большим волнением.
Мы вызвали нашего домашнего врача Иванова и просили
его провести у нас несколько дней, так как каждый час можно
было ожидать приезда большевицкого доктора. Волновались
мы ужасно, зная, что всё зависит от того диагноза, который
поставит последний. Прошло несколько дней. Муж, конечно,
никуда не выходил, а доктора всё не было. Многие думали, что
никакой доктор не придет, что это только уловка со стороны
Урицкого, и наш домашний врач ушел, не имея возможности
оставаться дольше.
В это время братья мужа уехали по месту своей ссылки.
Когда они пришли к нам прощаться, им взгрустнулось, осо-
176
бенно был печален Константин Константинович. В Петрограде
из семьи Романовых остались только Великий князь Павел
Александрович и мой муж.
25 марта, как сейчас помню, была дивная, солнечная
погода. Муж не выходил более десяти дней, ожидая большевицкого
врача, а потому вышел погулять. Возвратясь с прогулки, мы сели
пить чай в библиотеке и были далеки от мысли о приезде врача.
Раздался сильный звонок с парадного хода. Библиотека, в
которой мы пили чай, была первой комнатой от передней. Я слышу,
что горничная ведет с кем-то через цепочку разговор. Подойдя
к ней, слышу чей-то мужской голос, требующий открыть дверь,
так как он доктор чрезвычайной следственной комиссии.
Не позволив, мимикой руки, открыть ему дверь, я вбежала
в библиотеку, сказала мужу, в чем было дело, и потащила его
в спальню. Затем я начала буквально срывать с него платье
и белье, чтобы успеть, пока доктор войдет, уложить его в постель
и придать ему вид серьезно больного. Взволнованная, я вернулась
в гостиную, где уже сидели доктор и моя сестра, занимавшая его
разговором. Доктор был самого ужасного вида: грязный, в
высоких смазных сапогах и был меньше всего похож на доктора.
— Проводите меня к больному, — сказал он и немедленно
встал.
Мы направились в спальню, где лежал в кровати мой муж.
Учтиво поздоровавшись, доктор начал расспрашивать о болезни:
«Потеет ли он, кашляет ли?» Затем он пожелал выслушать мужа.
Взял полотенце и, приложив к спине мужа, стал слушать. В это
время я заметила, как грязные сапоги доктора касаются чистого
постельного белья. Едва выслушав мужа, без всяких
инструментов, он заявил, что совершенно согласен со свидетельствами
докторов Манухина и Иванова и, кроме того, считает, что у
мужа плохо работает сердце. Мы были в восторге от заключения
доктора, который, уезжая, заметил, что подпишется даже под
свидетельством наших домашних врачей, которое я отвезла
Урицкому. По уходе врача я немедленно телефонировала
сестре большевика Б. — Н. И. Л-вой — и рассказала ей подробно
о визите врача и назвала его фамилию — Изачек. Она, в свою
очередь, обещала сейчас же позвонить брату, чтобы узнать,
какое заключение дал врач Урицкому. Через несколько дней она
мне сообщила, что доктор Изачек доложил Урицкому так, как
сказал мне, но добавил, что нужно будет переосвидетельствовать
177
больного через две недели. Меня и мужа это страшно
расстроило, так как нужно было сидеть дома и ждать приятного визита.
Опять началось наше томление и полная неизвестность. Каждый
раз, когда к дому подъезжал автомобиль, мы прислушивались
и волновались, думая, что это непременно кто-нибудь к нам.
В это время мы узнали, что Великий князь Михаил
Александрович бежал из Перми и что его будто бы выкрали.
Последствием этого был арест его жены графини Н. С. Брасовой;
ее посадили на Гороховую.
Н. И. Л-ва позвонила мне и сказала, чтобы мы были
готовы ко всему, так как репрессии могут коснуться и моего мужа.
Кроме того, она мне сообщила, что Н. К. К. вместе с ней уезжает
на Украину. Зная, однако, мое положение, она просила брата
Б. разрешить мне, в случае какого-либо несчастья, обратиться
лично к нему, на что он дал свое согласие.
Не могу передать того тяжелого чувства, которое овладело
нами по их отъезде. Мы остались беспомощны, совершенно
одни. За нас некому было даже заступиться. Я была в полном
отчаянии, не спала ночей, ожидая сюрпризов. В один из таких
дней, когда мы мирно сидели дома, раздался звонок.
Горничная, после долгих переговоров с кем-то через дверь, пришла
сообщить, что снова приехал доктор для освидетельствования
мужа, но не первый, а новый, по фамилии Бунин. Придя
в страшное волнение, особенно при известии, что это новое
лицо, я приказала его просить. Вошел совершенно молодой
человек красивой наружности. Поздоровавшись вежливо, он
начал с того, что пришел сообщить неприятную весть: ему
приказано освидетельствовать мужа и во что бы то ни стало
отправить его в Вологду. На все мои вопросы: может быть,
существует какая-либо возможность оставить мужа в Петрограде,
он категорически заявил, что это совершенно невозможно и об
этом нечего говорить. Тут же он рассказал, что только что был
у Великого князя Павла Александровича в Царском Селе и
показал нам составленную им бумагу по поводу болезни Князя,
в которой было указано, что князь должен через 10 дней выехать
в Вологду. У меня на сердце что-то оборвалось, и я расплакалась.
Мои слезы как будто подействовали. Он начал успокаивать меня
и обещал устроить поездку мужу в Вологду с комфортом. Нас
это, конечно, не утешало, и я стала просить Бунина устроить
всё возможное, чтобы отсрочить отъезд хотя бы на месяц. При
178
этом я заметила, что у нас уже был доктор Изачек, который дал
свое заключение о невозможности выезда для мужа.
— Изачка уже выгнали, и ко мне перешли все его
функции, — сказал доктор Бунин.
Тогда я стала доказывать весь ужас нашего положения:
болезнь мужа, безденежье и постоянные преследования, которым мы
подвергались. В разговоре Бунин всё время предупреждал, чтобы
я была с ним откровенна, так как он только доктор-облегчитель
страданий больных, и стоит вне политики. После долгих уговоров,
просьб и молений он дал слово, что сделает всё возможное, чтобы
хоть на месяц задержать мужа в Петрограде, причем просил мужа
никуда не выходить. Он уехал, сообщив, что на другой день заедет,
чтобы рассказать результаты его доклада Урицкому.
В большом волнении мы едва дождались следующего дня,
когда приехал Бунин и сказал, что почти всё улажено и что муж
отдан под его наблюдение; тут же он сообщил, что графиня
Н. С. Брасова, супруга Великого князя Михаила
Александровича, переведена с Гороховой в клинику Герзони, но что это
большая тайна.
Так потянулись довольно спокойные дни. Бунин иногда
заходил и утешал нас, а однажды, зайдя, сообщил, что
собирается уехать в Москву. Нас это известие очень удручило, но
он дал свой адрес в Москве и обещал в случае необходимости
немедленно приехать.
Наше спокойствие длилось недолго. Мужа призвали рыть
могилы для холерных. Холера сильно свирепствовала и косила
всех без разбора. Призыв рыть могилы сильно взволновал меня,
я бросилась по докторам получать свидетельства о болезни мужа
и невозможности для него физического труда. В списке
призванных он стоял на первом месте, но нам всё же этого удалось
избегнуть так же, как и работ по очистке улиц.
Как гром поразило нас известие об аресте Великого князя
Павла Александровича. К нам позвонил по телефону из Царского
Села состоящий при князе полковник Ефимович112 и сообщил
эту потрясающую новость. Немедленно в голове пронеслась
мысль, что неизбежен арест моего мужа. Состояние наше
было, конечно, крайне тяжелое. Пугались всякого звонка, шума
автомобиля. Длилось это состояние в течение нескольких дней.
В это время арестовали товарища мужа по полку кн. Барклая-
де-Толли113 и увезли в Кронштадт. Его жена, убитая горем,
179
часто заходила к нам. Через пять дней кн. Барклая выпустили,
и он рассказывал много ужасных случаев. Особенно характерен
один случай, который передаю со слов Барклая. Вместе с
арестованными офицерами везли в Кронштадт на баржах в трюмах
несколько священников. Во время пути матросы издевались над
всеми, особенно над священниками. Срывали с них кресты,
вырывали из рук молитвенники и выбрасывали за борт.
Особенно приставали они к одному старому священнику: сорвали
крест, били его и глумились. Когда приехали в Кронштадт, то
на пристани натравили на этого старика злую собаку, и Барклай
сам видел, как свирепый пес рвал на части бедного священника.
Чем окончилась эта кошмарная сцена — неизвестно...
Муж всё время лежал в постели. Настроение было
подавленное, и мы буквально каждую минуту ждали приезда солдат
из Чрезвычайки. По ночам, услышав шум автомобиля, мы
вскакивали и с замиранием сердца прислушивались. К нам или
не к нам? Не только звонок, но и всякий шорох действовал на
наши нервы. Я не могла ни есть, ни спать и была убеждена,
что мужа арестуют. Как раз в это время в газетах появились
известия о бегстве братьев мужа. Это еще больше убедило меня
в неизбежности его ареста. И этот день настал.
Я не помню почему-то, была на кухне, куда с улицы вбежала
нервная и взволнованная моя горничная. Я спросила, что с ней?
Она ничего не ответила, но сделала знак моей сестре и ушла
с ней. Я, ничего не подозревая, осталась говорить с кухаркой.
Через минуту входит сестра и обращается ко мне:
— Ради Бога, не волнуйся. Сейчас идут к нам с обыском.
Марта (моя горничная) была только что у старшего дворника
и видела там солдат, предъявивших ордер на обыск в нашей
квартире. Я кинулась немедленно в комнату к мужу, чтобы
уложить его в кровать. Затем побежала в кабинет, схватила
золотые портсигары и портрет Государя Николая II и дала всё
это горничной. В этот момент с лестницы раздался звонок.
Я сама вышла навстречу.
— Кого вам надо? — задала вопрос.
— Гавриила Романова, — ответил один из солдат и
предъявил мне бумагу.
Когда я начала читать эту бумагу, у меня помутилось
в глазах. Это был ордер на обыск и арест Гавриила Романова,
подписанный Урицким.
180
— Обыск сделать вы можете, но арестовать мужа
невозможно. Он тяжело болен и лежит в постели, — взяв сразу себя
в руки, совершенно спокойно ответила я.
— Тогда проводите нас к больному, — услышала я ответ,
и вся компания направилась за мной в спальню.
Подойдя к кровати мужа, старший — комиссар Богданов
протянул ему ордер. К счастью, муж не заметил слова
«арестовать» и был спокоен.
— Мы приступаем к обыску, — заявили «власти» и начали
немедленно рыться в шкафах спальни.
— Вы намерены делать обыск во всей квартире или только
у мужа? — спросила я.
— Нет, только у Гавриила Романова, — ответил старший.
— Тогда оставьте в покое мои шкафы и идемте в библиотеку.
В библиотеке они перерыли буквально все книжные
шкафы и откладывали в сторону всё, что решили взять с собой.
Взяли всю переписку мужа за 25 лет, не представляющую ни
политического, ни общественного интереса. Прошли затем
в кабинет и там вывернули все ящики. Набрали всякой
ерунды и конфисковали книги и целый ящик писем. Взяли также
бинокль и сказали, что нам он не нужен, а у большевиков «в
биноклях громадная нужда». Надо отдать справедливость, что
во всё время обыска они были вежливы. Я же не помню, как
держалась на ногах. Мысль, что они арестуют и уведут моего
мужа, не покидала меня ни на минуту.
Обыск по всей квартире длился два с половиной часа и не
дал никаких результатов. Когда кончили обыск, то начали
совещаться и, по-видимому, не придя ни к какому решению,
направились к телефону. Я стала мысленно молиться и просить
помощи Господа.
Они вызвали Гороховую — Чрезвычайную комиссию.
К телефону подошел секретарь Урицкого. Всё время разговора
я стояла тут же.
— Товарищ,— сказал наш комиссар, — я говорю из квартиры
Гавриила Романова, где произвели только что обыск и сделали
выемку документов. Как быть с арестом Романова? Он болен
и лежит в кровати.
Ответа я не слышу.
— Хорошо.
Опять какой-то вопрос, на который комиссар отвечает:
181
— Комнаты 10—12. — И вешает трубку.
Решения я не знаю и стою ни жива ни мертва.
— Идите за мной, — сказал комиссар и пошел в библиотеку.
Здесь все уселись за стол, и комиссар заявил:
— Сейчас я составлю протокол, и ваш муж должен его
подписать. Возьму с него подписку в том, что по
выздоровлении он немедленно обязан явиться на Гороховую, а пока мы
его оставим дома.
Меня охватила громадная волна счастья. Никогда не забуду
этого момента — после трех часов томления я, наконец, узнала,
что мой муж остается дома. Я с радостью согласилась на всякие
подписки, и они начали составлять протокол. Как одну
характерную черту наших «властей» отмечу: наш комиссар слово подписка
писал — «под писка». Протокол был составлен в высшей степени
безграмотно и заключал в себе следующеее: «По ордеру номер
такой-то, в квартире Гавриила Романова был произведен обыск
с выемкой документов. Конфискован бинокль».
Затем они все направились к мужу и велели ему
написать следующее: «Я, нижеподписавшийся, Гавриил Романов,
обязуюсь по выздоровлении явиться на Гороховую, 2 в
Чрезвычайную комиссию».
Завершив эти формальности, они вежливо простились и,
водрузив на автомобиле целый яшик с письмами мужа,
уехали. На прощанье я их спросила, не собираются ли они вновь
беспокоить нас, на что получила ответ:
— Не знаем, может быть, придется вернуться за вашим
мужем.
Мы по этому поводу говорили без конца и решили
уговориться с нашей швейцарихой, которая нам была очень предана,
что в случае появления таких гостей она снизу будет звонить
нам три раза. Тогда мы будем знать, что это обыск.
Так нервно и взволнованно прошел весь день. Заходили
знакомые и друзья, и все были рады видеть мужа дома.
Мы улеглись спать довольно поздно, а пережитые за день
события и нервы не давали нам возможности уснуть. В спальню
к нам пришла сестра с мужем. Около 2-х часов ночи в спальне
раздались три отрывистых, сильных звонка. Это был условный
сигнал швейцарихи. Накинув халат, я вместе с сестрой и ее
мужем выбежали в переднюю, оставив мужа в спальне. На наш
вопрос: «Кто здесь? — раздался повелительный голос: «Откройте
182
немедленно, обход». Открыв дверь, мы едва не были сшиблены
с ног ворвавшимися вооруженными людьми, впереди которых
был офицер.
— Где черный ход? — завопил офицер и, не ожидая ответа,
бросился через всю квартиру вместе с солдатом к черному
ходу. Второй солдат остался в прихожей. Он запер дверь и ключ
положил себе в карман. Два же других солдата с винтовками
бросились прямо в спальню мужа, и мы все поспешили за ними.
В спальне в кровати лежал муж, а по бокам стояли два
вооруженных солдата. По команде офицера: «Обыскать», солдаты
бросились на кровать, стали выдергивать из-под головы подушки
и рыться под матрацами. Затем бросились к шкафам и начали
рыться там. Я не выдержала, подошла к офицеру и сказала:
— Во-первых, муж мой болен и прошу быть с ним
осторожнее. Во-вторых, сегодня у нас был обыск, всё перерыто и все
документы увезены.
— Какие у вас имеются на это доказательства? — спросил
офицер.
— Дворник свидетель, присутствовавший при первом
обыске. И, кроме того, в домовом комитете хранится копия
составленного протокола.
— Немедленно принести протокол, — распорядился
офицер. Дворник ушел.
Офицер уселся тут же в спальне в кресло под образами
с теплящимися лампадами и закурил. Солдаты и офицер все
были в фуражках. Не могу забыть чувства глубокого
возмущения, овладевшего мною, когда я увидела русского офицера
в фуражке, развалившегося в кресле, под образами.
Сев сама, я чувствовала, как меня буквально трясет от
волнения. У меня, однако, хватило силы попросить показать
мне ордер. Это был ордер местного района на обыск в нашем
доме и арест, причем на первом месте была поставлена фамилия
моего мужа.
Вид офицера был так вызывающе груб и дерзок, что
было жутко, но лицо его было страшно знакомо. У нас с мужем
мелькнула одна и та же мысль: мы его видели в жандармской
форме. Очевидно, это был жандармский офицер одной из
пограничных станций.
Возвратясь, дворник передал протокол офицеру. Тот начал
его читать и в конце чтения расхохотался. Подозвал одного
183
из своих солдат и начал вместе с ним издеваться над
орфографией комиссара и словом «под писка».
Офицер, по-видимому, остался доволен протоколом и,
прочтя его, подошел к мужу с подлой, насмешливой улыбкой:
— Раз Вас не арестовали сегодня агенты Чрезвычайной
комиссии, то и я Вас не арестую, но вы мне должны дать
подписку в том, что Вы по выздоровлении немедленно явитесь
к нам в комиссариат на Монетную улицу.
Муж тут же написал требуемую подписку, и вся ватага грубо,
шумно ушла производить обыски и аресты в других квартирах.
Пережить дважды в день такой кошмар было тяжело.
Если бы эта ватага арестовала моего мужа, последствия
могли быть очень плохие, так как подобные аресты обычно
кончались вывозом в Кронштадт, а по дороге пьяные матросы
могли бы его расстрелять или выбросить в воду...
Ночь прошла в страшном волнении и без сна. Наутро я
встала совершенно разбитая и больная. Долго думала: не поехать ли
мне к Б., воспользовавшись разрешением посетить его в случае
крайней нужды, о чем меня предупредила его сестра, Н. И. Л-ва,
при отъезде на Украину. Я решила отправиться к Б., позвонив
ему предварительно по телефону и просив выслать мне пропуск.
Приехав на Гороховую, я спросила у вооруженного солдата,
есть ли пропуск от Б. для Нестеровской (я всегда называлась
там своей девичьей фамилией). Переспросив несколько раз
мою фамилию, солдат долго искал пропуск и, наконец, выдал.
Пока происходили поиски моего пропуска, мне пришлось
пробыть довольно долго в этой отвратительной, грязной трущобе,
среди солдат, среди которых находился старый священник,
умоляющим голосом просивший солдат: «Не знают ли они, где
находится его сын-офицер?» Он, взволнованный, подбежал ко
мне и спросил:
— Вы ищете Вашего сына-офицера?
Этот вопрос меня ошеломил. Но я сообразила, что от
всего пережитого, в мои 28 лет священник меня принял за мать
офицера.
— Нет, батюшка, не сына...
— Тогда мужа? — прервал он меня.
Будучи сама в страшном волнении и едва держась на
ногах, я не могла вступать в длительные разговоры с несчастным
священником и ответила ему:
184
— Никого я не ищу.
Тогда бедный старик, со слезами на глазах, начал
рассказывать мне, что вчера ночью увезли его сына в Кронштадт, и он
пропал бесследно. Пока он мне это рассказывал, окружающие
нас солдаты ругались и острили: «Рыбку кормит в Неве твой
сын»... «Напрасно лапти бьешь, старина, — не сыскать тебе
твоего сына»...
Опять по знакомой лестнице, среди солдат и пулеметов,
прошла я в бывшую столовую градоначальника. Б. принял
меня скоро. В кабинете Б. находились: его помощник Иоселевич
и болыиевицкий градоначальник Шахов. Рассказав ему
подробно о всех переживаниях в связи с двумя обысками, я просила
защитить нас, так как мой муж больной человек, и волнения
отражаются на его здоровье.
— Ничего не могу для вас сделать, — сухо ответил Б., —
я сам себя не могу защитить от подобных обысков. В любой
момент могут прийти и ко мне и сделать обыск. Разве вы можете
гарантировать, — продолжал он, — что через час после обыска
к вам могут прийти и принести оружие?
Его сухой, холодный тон окончательно подорвал мои силы.
Я не вьщержала и расплакалась, за что мысленно стала бранить
себя, затем, взяв себя в руки, я спросила:
— Как с бумагами мужа, которые были забраны вчера при
обыске?
Он обратился к своему помощнику:
— Выдайте все документы. Я уже говорил, что там — ерунда.
— Собираетесь ли вы арестовать моего мужа? — задала
я вопрос.
— Пока нет, — сухо ответил он, и я вышла.
Внизу двое мальчишек вынесли наш ящик с письмами
и документами мужа, который я на извозчике повезла домой.
Муж был очень обрадован, получив обратно свои бумаги.
Мы сейчас же начали совещаться о дальнейших шагах. Нужно
было во что бы то ни стало избежать ареста, а потому мы решили
нанять комнату в клинике Герзони и переехать туда, как только
эта страшная минута будет приближаться. На следующее утро
я поехала к Герзони, наняла комнату и предупредила, что время
приезда еще не решено, но чтобы нас ждали каждый день.
Так прошло несколько дней, во время которых усиленно
циркулировали слухи о приходе немцев.
185
В один из таких дней, встав из-за стола после завтрака,
я подошла к окну и увидела у нашего подъезда автомобиль.
Почему-то я сразу почувствовала, что это к нам, и бросилась
к мужу в столовую, прося его немедленно раздеться и лечь
в постель. Не успела я уложить мужа, как на лестнице раздались
три резких звонка. Я бросилась сама открывать дверь. Вошли
два солдата и штатский в костюме шофера.
— Романов дома? — был их вопрос.
— Дома. Он лежит больной, — ответила я, — что вам угодно?
— Арестовать Гавриила Романова, — ответил мне один из
вошедших и протянул бумагу — ордер на арест мужа,
подписанный Урицким. В этот момент у меня всё помутилось в глазах.
Я до сих пор дрожу при этом воспоминании.
— Проведите нас к Романову, — вывел меня из оцепенения
голос одного из солдат.
Муж сидел в кровати, когда мы все вошли в спальню.
Комиссар, в костюме шофера, объявил мужу, что он должен встать
и ехать на Гороховую.
Я начала умолять их, чтобы моего больного мужа не
поднимали с постели и протелефонировали в Чеку. Комиссар
был человек приличный и согласился позвонить. Комиссар
соединился с Б. и стал его спрашивать, нельзя ли больного
мужа оставить дома. Видимо, оттуда последовал вопрос: «Какая
температура?», потому что комиссар повторил мне этот
вопрос. Получив ответ: «Тридцать семь и пять десятых», комиссар
сообщил это по телефону и вскоре положил трубку. Затем он
повернулся ко мне и сказал:
— Вашего мужа мы бы не тронули, если бы его температура
была не менее сорока.
В это время один из солдат начал грубо и резко настаивать
на том, чтобы мой муж немедленно был арестован. Он кричал,
что Романовы были варварами и с ними, с солдатами, не
стеснялись, арестовывали их, ссылали в ссылки и даже убивали.
Он вел себя настолько возмутительно, что комиссар на него
прикрикнул.
С дрожащими руками и сердцем, готовым разорваться,
вошла я в спальню мужа, чтобы объявить ему о его участи: он
должен одеваться и ехать. Муж принял эту весть спокойно. Мы
все, наша прислуга, были убиты. Солдаты в это время начали
обыскивать квартиру, но я немедленно их остановила, заявив,
186
что у нас на днях был обыск, все забранные документы
возвращены и находятся в ящике, еще с печатями Чрезвычайной
комиссии.
Никогда не забуду момента отъезда мужа. Я не могла
остаться одна, а потому упросила комиссара взять и меня
в Чека. Мы сели во внутрь автомобиля с комиссаром и
солдатом, настаивавшим на аресте. Рядом с шофером сел другой
солдат с винтовкой. Вся наша прислуга, швейцар и некоторые
из жильцов вышли нас проводить, и было такое впечатление,
как будто оплакивали дорогого покойника. Мы ехали молча.
Приехав на Гороховую, наш комиссар объявил солдатам, что
ведет арестованного Романова, и нас немедленно пропустили.
Мы поднялись наверх и вошли в приемную, куда ежеминутно
приводили вновь арестованных. Сели. На муже не было лица.
Он был бледен как полотно, но не показал вида, как ему тяжело.
Просидели так мы более часа. Вдруг какой-то писарь вызывает
меня, спрашивает фамилию, звание, адрес и записывает всё
в книгу. На мой вопрос «Зачем всё это?» он удивленно отвечает:
«Да вы ведь арестованная?» — «Я сопровождаю арестованного
мужа», — объясняю ему, и он меня отпускает.
Время идет. Мы сидим более двух часов. Никто нас не
вызывает. Вдруг я вижу — выходит Б. Чтобы не подвести его,
осторожно подхожу к нему, делая вид, как бы вижу его в первый
раз, и спрашиваю:
— Моего мужа посадят в тюрьму, или есть возможность
положить его в частную лечебницу?
— Я думаю, что Урицкий на это согласится, — сказал он
спокойным тоном.
Тогда, не будучи в силах дальше ждать, я пошла в кабинет
к Урицкому просить дальше нас не мучить и допросить мужа.
Урицкий ответил через секретаря, что он нас не примет, что
муж арестован и пока посидит у них на Гороховой, а потом
будет отправлен в тюрьму.
Зная, как кошмарно быть заключенным на Гороховой,
я побежала в приемную за мужем, и мы вместе влетели в
кабинет Урицкого.
Увидав нас, он даже оторопел.
— Зачем Вы здесь? Нам не о чем говорить. Вы арестованы,
должны сидеть и ждать, пока Вас отправят в тюрьму, —
волновался Урицкий.
187
— Прошу и требую, — взяв себя в руки, заговорила я громко
и смело, — не издеваться над больным человеком. Больных не
сажают в тюрьму, а посылают в больницу.
Кроме нас в кабинете Урицкого было еще трое мужчин.
— Что вы желаете от меня, сударыня? — задал мне вопрос
Урицкий. — Ваш муж арестован и должен быть препровожден
в тюрьму.
Я вытащила докторские свидетельства и показала ему.
— Мне не нужны свидетельства. Я по лицу вашего мужа
вижу, что он болен.
— Какой ужас! — вскрикнула я. — Вы видите по лицу, что
он болен, и, несмотря на это, сажаете его в тюрьму? За что?
Ответьте мне?
— За то, что он Романов. За то, что Романовы в
течение 300 лет грабили, убивали и насиловали народ, за то, что
я ненавижу всех Романовых, ненавижу всю буржуазию и
вычеркиваю их одним росчерком моего пера. Когда-то я был
близок к буржуазии и, будучи студентом, жил на всем готовом
и получал на свои прихоти 300 рублей в месяц. Но я вовремя
сумел возненавидеть буржуазию, отойти от нее и объявить
ей вечную войну. Я презираю эту белую кость, как только
можно презирать. Теперь наступил наш час, и мы вам мстим,
и жестоко...
— Позвольте, — перебила я его, — моему мужу всего
тридцать лет. Он не мог ни грабить, ни убивать, как Вы говорите.
За что же он страдает?
Урицкий посмотрел на меня с усмешкой.
— А разве дети не ответственны за грехи своих родителей,
дедов и прадедов? Вот, ваш муж, неповинный ни в чем, — я
абсолютно ничего не могу сказать против него, — будет страдать
только за свою фамилию. Да, сударыня, недальновидно было
во время большевиков выходить замуж за Романова! Но вы его
любите? — протянул саркастически Урицкий.
— Да, я люблю его и не откажусь от своего мужа ни в какие
времена! — воскликнула я. — Я умею ценить любовь. А вы,
господин Урицкий, любите ли Вы кого-нибудь?
— Я?! — переспросил он удивленно. — Я?! Что за смелый
вопрос? Да, люблю...
— Ну, а что бы Вы сказали, господин Урицкий, если бы
того, кого Вы любите, невинно арестовали?
188
— Странно! — опять удивился он. — Если бы арестовали так,
как я арестовал вашего мужа, то я ответил бы, что так и надо.
— Неправда, — закричала я, — неправда! Не верю! Нет закона
мучить невинных людей! Вы только что сказали, что когда-то
жили буржуем. Ответьте мне: за что я страдаю? Я всю жизнь
трудилась и в поте лица зарабатывала свой хлеб. В то время когда
Вы, на всем готовом, получали 300 рублей в месяц, я получала
50 и не на готовом, а на эти деньги должна была жить, есть,
пить и одеваться. Ответьте мне, кто я: буржуйка или нет? За что
я, страдавшая всю свою молодость, должна страдать и теперь?
Урицкий замялся. Я опять заговорила:
— Вы не можете ответить на мой вопрос?..
— Мадам, мы слишком много теряем времени, — перебил он
меня. — Вы желаете, чтобы я освободил вашего мужа? Хорошо,
я его освобожу. Но мы сейчас же вместе выйдем на площадь,
и я объявлю народу, что я, Урицкий, освободил Романова, и Вы
увидите, что получится. Толпа на месте растерзает Вашего мужа.
Вы этого хотите?..
Урицкий говорил, чтобы понравиться присутствовавшим
в кабинете товарищам, те хохотали, с восторгом ловя каждое
его слово.
— Чего Вы хотите? — повторил он. — Чтобы я положил
в больницу Вашего мужа и чтобы караульные солдаты убили
его так, как это сделали с Шингаревым и Кокошкиным? Вы
этого хотите?.. — продолжал злорадствовать Урицкий. —
Хорошо, я на это согласен. Вот вам бумага и перо, и Вы, сейчас же
здесь, напишите мне, что принимаете все последствия на свою
ответственность. — Он протянул мне бумагу и перо.
— Перестаньте глумиться, господин Урицкий. Я пришла,
чтобы спасти моего мужа, а Вы предлагаете мне подписать ему
смертный приговор. Я отлично понимаю, что стоит мне
только подписать такую бумагу, как мой муж будет убит. Я прошу
и умоляю Вас положить, как Вы сделали с Брасовой, моего
мужа в лечебницу, но без стражи.
— Нет, я этого не сделаю, — ответил он мне. — Брасова, как
я убедился, неповинна в бегстве Михаила Романова, потому я ее
держу в больнице на свободе. Ваш же муж арестован и должен
отправиться в тюрьму.
Когда он произнес слово «тюрьма», я почувствовала, как
холод пробежал по моей спине. Муж мой во время этого диа-
189
лога сидел молча — я просила его не говорить. Видя, что все
мои попытки спасти мужа не дают положительных результатов,
я застыла в ужасе. Наступившее молчание вдруг прервал
скрипучий голос Урицкого:
— Да, между прочим, — обратился он ко мне, — Вы
засвидетельствовали свой брак по-большевицки? Ваш церковный
брак для нас недействителен... Я вам советую пойти к моему
нотариусу и там это сделать, а затем я пошлю к вам
конфисковать всё ваше имущество и забрать романовские деньги... Наш
народ еще обогатится!..
— Как Вам не стыдно смеяться! — воскликнула я. — Что
Вы можете еще взять?.. Брать с меня нечего. Сегодня вы берете
самое последнее и дорогое для меня — моего мужа...
Слезы брызнули из моих глаз.
— Скажите, где мои братья, сосланные в Вятку? — спросил
Урицкого мой муж.
— Все понесли должное наказание и, очевидно,
расстреляны, — ответил спокойно Урицкий.
— А моя свояченица, Елена Петровна Сербская?
— Тоже не избежала своей участи, — прогнусавил этот изверг.
Воспользовавшись начатым разговором, я еще раз
попыталась просить Урицкого сжалиться над моим больным мужем
и поместить его в клинику, но получила категорический отказ.
— Я вам только могу предложить выбрать тюрьму: Кресты
или Предварительное заключение на Шпалерной.
Муж мой сам должен был выбрать себе тюрьму! При этой
мысли мозг холодел, замирало сердце.
Мы с мужем начинаем выбирать тюрьму. Сначала мы
узнаем, что в Крестах хорошая больница, но потом нам
сообщают, что в Предварительном заключении находятся все дяди
моего мужа, Великие князья: Дмитрий Константинович, Павел
Александрович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович.
Тогда мы решаем, что мой муж поедет в Дом предварительного
заключения на Шпалерную.
Урицкий вызвал комиссара этой тюрьмы.
— По каким дням и сколько раз я могу бывать у мужа? —
спросила я Урицкого.
— Хоть каждый день, — ответил он.
Вошел комиссар тюрьмы — противный, грязный тип —
и начал писать какую-то бумагу.
190
— В какие часы я могу бывать у мужа? — задала я вопрос
комиссару
— Раз в неделю, — гаркнул он на меня.
— Что?! — заволновалась я. — Урицкий разрешил каждый
день.
— Ничего подобного, — опять завопил комиссар. —
Получайте разрешение бывать два раза в неделю.
Урицкий, стоявший тут же, прогнусавил:
— Хватит с вас два раза в неделю.
Дальнейшие разговоры ни к чему не привели. Нужно было
примириться.
Пока они писали, мы с мужем сидели, смотря друг на
друга глазами, полными слез, не будучи в силах примириться
с предстоящей разлукой и тем несчастьем, которое выпало на
нашу долю. Никогда не забуду этих минут! В мыслях вихрем
пронеслись все пять лет нашей тихой, беззаботной жизни,
полной любви и согласия. И теперь этот леденящий кровь
ужас — тюрьма, может быть, ссылка, а может быть, и расстрел!
Мы сидели, держа друг друга за руки... Безысходное горе
томило нас. Как тяжело было сознавать эту убийственную
действительность и беспомощность... В это время кто-то
вошел в комнату.
— Романов, идите! — услышали мы голос Урицкого.
— А его довезут? — спросила я.
— Раз я вам сказал, что я его везу в тюрьму, так, значит,
не на расстрел.
Сперва я не могла сообразить, что мне ответил Урицкий,
но потом поняла.
— Я вас спрашивала, пойдет ли он в тюрьму пешком или
его повезут?
— Ах так!.. Он поедет на автомобиле, — ответил Урицкий.
В это время подошел к мужу какой-то тип с винтовкой
и повел его в другую комнату. Я пошла за ним и стала просить,
чтобы мне разрешили доехать до тюрьмы. Мне отказали. В
следующей комнате нас окружило человек пятнадцать вооруженных
матросов. Я думала, что они начнут над нами издеваться. Но
они вели себя прилично. Нас буквально оторвали друг от друга.
Мужа увели. Я бросилась за ним и, вся в слезах, в последний раз
обняла его и благословила. Постояв минуту на месте, ничего не
видя из-за слез, я бессознательно пошла к выходу.
191
При выходе из Чека мы спросили у солдат, откуда вывозят
арестованных. Нам указали на соседние ворота. Мы направились
туда, и я увидела, как с двумя вооруженными солдатами проезжал
мой муж. Автомобиль едва не задел меня. Я стала бежать за
автомобилем, что-то шепча, крича и спотыкаясь. Вдруг увидела, что
автомобиль остановился. Бросилась и обняла еще раз своего мужа...
Остановилась ли машина сама, или же у шофера заговорили
человеческие чувства и он остановился умышленно, чтобы дать
нам возможность еще раз проститься, я не знаю, но этот момент
почему-то сильно врезался у меня в памяти.
Я едва добрела до извозчика. Оказалось, что мы с мужем
провели на Гороховой четыре часа...
Как я могу передать словами всё то, что я чувствовала
и переживала. Да есть ли слова, которые могли передать эту
ужасную действительность? Слов таких нет! У меня отняли всё
самое дорогое, самое близкое, отняли то, чем я жила...
Ужас щемил мне сердце. Жуткое отчаяние овладело мною.
Бросившись на кровать, я зарыдала... Но мысль о муже не
оставляла меня ни на минуту. Вскочив, я начала собирать ему
нужные вещи: белье, подушки, еду и т. д. Всё это отправила
с горничной на Шпалерную, в тюрьму. Затем, собрав последние
силы, я отправилась к Великой княгине Елизавете Маврикиевне,
матери моего мужа, чтобы рассказать ей о нашем общем горе...
Мы долго, молча плакали... Никто друг друга лучше не
понимает в таких случаях, как жена и мать...
Я вернулась домой поздно вечером, усталая, разбитая
физически н нравственно, со страшной головной болью. Меня
уложили в постель. Как сквозь сон, слышала, что у нас дома
было много людей: родственники и знакомые пришли выразить
свое сочувствие, но я никого не видела и ничего не сознавала.
Одна мысль, что мужа нет, — он в тюрьме, не давала мне покоя.
Всю ночь я не спала, иногда забывалась на минуту, но что-то
тяжелое начинало давить мне на сердце, и я открывала глаза...
Наутро, вскочив чуть свет, я начала обдумывать, что мне
нужно делать и к кому бежать. Я решила ехать на Гороховую
к Б. Позвонив по телефону и получив разрешение приехать,
я немедленно отправилась туда. Опять прошла по лестнице,
уставленной пулеметами и солдатами, и вошла в столовую-
приемную. Здесь у меня явилась мысль — во что бы то ни стало
повидать Урицкого. Послав ему листок бумаги с моей фамили-
192
ей, я ждала, но скоро получила отказ в приеме. Тогда я сама без
доклада вошла в кабинет Урицкого. Он очень грубо велел мне
уйти, сказав, что нам не о чем разговаривать. Не теряя надежды
с ним переговорить, я узнала, что у него в кабинете имеется
вторая входная дверь и, не долго думая, вошла вторично без доклада
к этому извергу в кабинет. Он был ошеломлен моей
назойливостью, но и вторично не пожелал со мной разговаривать. Третьей
двери, к сожалению, не было, а в две предыдущие меня уже не
пускала стража. Тогда я решила направиться к Б. Написав свою
фамилию, я послала через сторожа записку с просьбой принять
меня. Каково же было мое удивление, когда сторож вернулся
и сообщил, что Б. не знает меня и спрашивает, по какому делу?
Вспомнив, что меня большевики знают только по девичьей
фамилии, а не в качестве Романовой, я немедленно исправила свою
ошибку и, вручив сторожу 40 рублей, просила его устроить мне
прием. Вскоре сторож вернулся и сообщил, что Б. меня примет.
Прождав около часа, я, наконец, попала в кабинет к Б. Рассказав
ему о муже (он, конечно, уже всё знал), я начала просить его
помочь мне перевести мужа в больницу. Б. был строг и холоден,
но в глазах его порой светились лучи доброты и сердечности.
— К сожалению, помочь вам ничем не могу: все Романовы
находятся в ведении Урицкого...
Разбитая, униженная, я вернулась домой из Чеки. В этот
же день ко мне явилась какая-то дама с запиской мужа из
тюрьмы. Он просил прислать матрац. Мы отнеслись к этой
даме с недоверием, но, увидев почерк мужа, немедленно ему
выслали матрац. Дама предлагала мне дальнейшие услуги по
переписке с мужем, объясняя, что ее муж-офицер тоже сидит
в тюрьме на Шпалерной и она при частых свиданиях может
передавать записки. Но она показалась мне подозрительной,
и я ее услугами не пользовалась.
Мысль о необходимости помочь моему мужу меня не
оставляла ни на минуту. Я продолжала обдумывать каждую
мелочь. У меня мелькнула мысль позвонить жене Б., телефон
которой мне оставила на всякий случай сестра Б. — Н. И. Л-ва.
Телефонные мои поиски оказались неудачными: жена Б. уехала
в Гатчино и должна была возвратиться только через несколько
дней. Тогда я решила написать ей письмо и изложить свое
безысходное горе и молить ее, как женщину и жену, войти в мое
положение одинокой женщины.
193
Ночь прошла опять без сна. Утром я немедленно
направилась на Гороховую. Ночью у меня явилась мысль просить
Б. разрешить нашему домашнему врачу, доброму и милому
И. И. Манухину, посещать моего мужа в тюрьме. На это Б. сейчас
же согласился и просил, чтобы доктор Манухин приехал к нему
для переговоров. Я с Гороховой поехала к доктору Манухину
и передала ему весь разговор с Б. Доктор немедленно отправился
в Чеку и, как я потом узнала, вел продолжительную беседу там
по поводу болезни моего мужа.
Я была бесконечно счастлива: мой муж очень любил доктора
И. И. Манухина, и его визиты, несомненно, могли облегчить
положение моего мужа и дать ему большую моральную поддержку.
Следующий день был днем свидания в тюрьме. Не могу
передать того чувства скорби и тревоги, которое овладело мною
при виде тюрьмы и окон с решетками. Грубо потребовав
пропуск, солдаты провели меня по вонючим коридорам в кабинет
начальника тюрьмы, где должно было состояться свидание.
Кабинетом начальника тюрьмы была небольшая комната,
с одним окном с решеткой, письменным столом, кушеткой
и двумя стульями, между которыми стоял маленький столик.
Начальник тюрьмы был симпатичный, маленький старичок.
В этой комнате я застала княгиню Палей, разговаривавшую
с тюремной сестрой милосердия. В это время вошел наш доктор
И. И. Манухин и показал начальнику тюрьмы бумагу, согласно
которой ему разрешались свидания с моим мужем. Начальник
очень любезно ответил, что он, к сожалению, бессилен что-либо
сделать, так как всеми свиданиями заведует комиссар тюрьмы,
который должен скоро явиться. Разговаривая, мы прождали
комиссара ровно полтора часа. Наконец с шумом отворилась
дверь, и вошел какой-то тип. На нем был смокинг с галстуком из
грязной красной тряпки. На ногах сбитые, потрепанные туфли
с белыми, необыкновенно грязными носками. На голове —
котелок с проломанным боком и ярко-рыжее непромокаемое
пальто. Всё на нем было так грязно, что могло вызвать только
отвращение.
— Что это здесь за собрание? — заорал комиссар неистовым
голосом. — Убирайтесь все отсюда вон!
Находящиеся тут же тюремный врач и сестра милосердия
сейчас же тихо вышли. Наш доктор подошел к комиссару
и протянул ему бумагу.
194
— Комиссар Б. сказал, что на основании этой бумаги я могу
навещать больного Г. К. Романова, — заявил доктор.
Тюремный комиссар швырнул бумагу и закричал на доктора:
— Убирайтесь вон! Ни в коем случае не допущу никаких
докторов к Романовым.
Он истерически кричал, ругался, как извозчик, не
стесняясь присутствием женщин, и, наконец, вытолкал за двери
нашего доктора.
Мне было больно сознавать, что доктор из-за нас подвергся
таким оскорблениям, но я была бессильна.
Комиссар сел разбирать свои бумаги, а мы с княгиней Палей
ожидали стоя. Наконец комиссар куда-то вышел в канцелярию,
возвратясь, велел мне уйти. Меня отвели в канцелярию, где я
прождала ровно 15 минут, т. е. положенное время свидания Великого
Князя Павла Александровича с его женой княгиней Палей. Когда
я опять вошла в кабинет начальника тюрьмы, то застала моего
мужа, стоящего посредине комнаты с двумя тюремными
служителями по бокам. Со слезами на глазах я бросилась ему на шею.
Мы сели. Нас разделял столик, сесть рядом нам не разрешили. Так
много хотелось сказать, но слов не было. Наконец, собрав силы,
я начала что-то говорить и в это время услышала рев комиссара:
— Говорите громко, я тоже желаю слушать, что вы говорите.
Его неправильная русская речь и истерический крик
действовали на мои истерзанные нервы. Он подвинул свое кресло и сел
поближе к нам. Начальник тюрьмы в это время отошел подальше.
Боже, какая это была мука! Мы стали болтать всякую
ерунду, но муж успел шепнуть мне, чтобы я обратилась в
немецкое консульство. 15 минут прошли, как одно мгновение!
Нам приказали прощаться.
Как во сне, я вышла на улицу. Остаться бездеятельной я не
могла, а потому немедленно отправилась на Гороховую, в Чека
к Б., чтобы рассказать ему весь инцидент. Б. выслушал меня, и,
по-видимому, весь мой рассказ произвел на него впечатление.
— Попросите доктора Манухина заехать ко мне завтра, —
сказал он мне.
Я немедленно поехала к доктору И. Манухину и передала
ему мою беседу с Б.
На следующий день Манухин мне рассказал, что, когда он
явился в Чеку в кабинет Б., то застал там вчерашнего комиссара
тюрьмы. Б. в резкой форме обратился к комиссару:
195
— Известно ли вам, товарищ комиссар, что мой приказ
должен исполняться по всей России? Потрудитесь немедленно
извиниться перед доктором, выдать ему новый пропуск на
свидания с Романовым ежедневно без комиссара и в любой час...
Сами потрудитесь сдать должность другому лицу...
Доктор Манухин был удовлетворен. Я была счастлива, что
мой муж будет ежедневно видеть своего доктора, а я через него
могу передавать слова утешения и бодрости.
Мысль об освобождении мужа из цепких лап Чеки не
покидала меня, но в этом направлении дело совершенно не
подвигалось; бездействовать же я не могла. «Урицкий меня
не принимал, у Б. нечего просить. К кому обратиться? Что
делать?» — думала я. Наконец, я вспомнила свою попытку
познакомиться с женой Б. Я позвонила ей по телефону и узнала,
что ее опять нет в Петрограде. Эта неудача меня так взволновала,
что я не находила себе места. Не зная, что мне делать, я
поехала посоветоваться с нашим милым доктором Манухиным. Он
предложил мне начать хлопоты у Горького, так как последний
знаком со всеми видными большевиками и пользуется у них
большой популярностью. Доктор Манухин был любезен и, не
откладывая, сейчас же поехал к Горькому, меня же просил не
волноваться и ждать от него известий.
В тот же вечер Манухин позвонил мне по телефону
и сказал, что Горький обещал свое полное содействие. Доктор
Манухин лечил Горького от туберкулеза, и только благодаря
принятым Манухиным своевременно мерам жизнь Горького
была спасена. Зная, как мучителен туберкулез, Горький
заинтересовался ходом болезни моего мужа и сейчас же дал Ману-
хину письмо к Ленину, которое кто-нибудь из нас должен был
доставить в Москву сыну Горького, а тот должен был лично
вручить его самому Ленину.
В это время ко мне позвонила жена Б. и просила приехать
для переговоров к ней на службу, на Аптекарскую набережную
в бывшее здание Министерства торговли и промышленности.
Придя туда и не зная совершенно госпожи Б., я начала бегать
по всем коридорам и комнатам, чтобы разыскать ее. Вдруг ко
мне подошла маленькая женщина в чем-то красном, жгучая
брюнетка, армянского типа, и назвала меня по фамилии.
Оказалось, что это была жена Б. Мы стали ходить по коридору, и я
рассказала ей свое положение и просила ее помочь. Сначала она
196
мне показалась женщиной с большим самомнением и апломбом,
но потом я заметила, что она не чужда добрых человеческих
чувств, и наше свидание закончилось ее обещанием помочь
мне в моих хлопотах по освобождению моего больного мужа.
В тюрьме, на свидании я успела шепнуть мужу, что жду
возвращения моей горничной, которая уехала в Москву с письмом
к Ленину, и что жена Б. обещала свое содействие, и я верю в его
скорое освобождение.
С разрешения Урицкого свидания эти происходили теперь
совместно со всеми Романовыми. В кабинете у начальника
тюрьмы, кроме меня и мужа, находились также княгиня Палей
и Великий князь Павел Александрович. Меня это обстоятельство
страшно радовало, так как я видела, как это было приятно мужу.
Каждый день я с большим волнением и нетерпением ждала
возвращения моей горничной из Москвы. Ко мне заходило много
знакомых, и каждый предлагал свои услуги. Заехал однажды
доктор Манухин и предложил отправиться с ним к Горькому.
Я немедленно согласилась.
Большая, чудная квартира в богатом доме. В квартире
с утра до ночи много народа. Меня просили подождать и,
видимо, забыли обо мне. Наконец вышла жена Горького,
артистка М. Ф. Андреева, красивая, видная женщина лет сорока
пяти. Я стала ее умолять помочь освободить моего мужа. Она
сказала, что не имеет ничего общего с большевиками, но как
раз ей теперь предлагают занять пост комиссара театров, и если
она согласится, то думает, что по ее просьбе будут освобождать
заключенных. Во время этого разговора вошел Горький. Я
обратила внимание на его добрые глаза. Он поздоровался со мной
молча. Ушла я от них окрыленная надеждой. Меня приглашали
заходить и обещали уведомить о дальнейшем.
Время идет, я ослабеваю с каждым днем, не ем, не сплю и,
просыпаясь каждое утро, с ужасом думаю: «Жив ли мой муж?..»
Утешительных известий — никаких. Наконец приезжает из
Москвы горничная, но без результатов, так как сын Горького
сказал, что ответ на письмо последует официальный. Бегаю
к жене Б. — она ласково обещает мне помочь. Бегаю к Чека,
на Гороховую, провожу там по 6—7 часов в день, но без всякого
результата. Звоню и захожу к Горькому, всё справляюсь об
официальном ответе Ленина. Ответа нет. М. Ф. Андреева сообщила
мне, что Урицкий обещал освободить моего мужа.
197
Идут дни за днями. Описывать свое состояние и все мои
переживания я не могу; они понятны без слов. Наконец, в один
из таких тяжелых дней я узнала от Горького, через Манухина, что
Ленин дал свое согласие на освобождение мужа и официальную
бумагу по этому поводу везет из Москвы сам Луначарский.
Моей радости не было предела. Я кинулась к жене Б., и она
мне тоже подтвердила, сказав, что Урицкий дал свое согласие
на освобождение мужа, но нужно подождать несколько дней.
Боже, что это была за радость! Я хотела обязательно передать
об этом мужу, но, к сожалению, наш доктор был очень занят
и не мог ходить в тюрьму. Однако ему удалось улучить минуту,
и он сообщил обо всем мужу и подбодрил его. Я же с
нетерпением ждала приезда Луначарского. Прошло четыре, пять дней,
а Луначарского с бумагой всё не было. Стали говорить о том,
что Луначарский вернулся, но никакой бумаги не привез.
Какой ужас! Какой обман?! Я бросилась к Горькому. Там
мне ответили так неопределенно, что я ничего не могла понять.
Поехала к жене Б. Она меня утешала, просила не волноваться,
иметь терпение и еще несколько дней подождать...
Воскресшая на некоторое время радость была убита
безграничным отчаянием. Вся в слезах, обессиленная, ничего не
понимающая, я вернулась домой. Боже, что это было за
состояние. Я молилась Богу, прося Его помочь мне и дать силы,
которые я теряла с каждым часом.
Как прошли день и ночь, не помню. Утром меня разбудил
телефонный звонок. Звонила жена Б. Она была сильно взволнована
и сообщила мне, что убит комиссар Урицкий, что заместителем
убитого назначен ее муж, и просила меня не волноваться, так как
это назначение может только улучшить положение моего мужа.
Кроме того, она сообщила мне, что комиссар тюрьмы ранен
при перестрелке у Английского посольства. Я была потрясена
этими известиями, не зная, что предпринять. Вслед за этим
начальник тюрьмы предупредил меня по телефону, что ввиду
ранения комиссара отменено сегодня свидание в тюрьме.
Несмотря на это, я решила сделать всё возможное, чтобы добиться
свидания с мужем. Смело подошла к телефону и позвонила Б.
— Почему отменены свидания? — спросила я его.
— Ранен комиссар, а на свидании он должен
присутствовать, — ответил Б.
— Неужели вы не доверяете начальнику тюрьмы?
198
— Это не полагается. Свидания должны быть в присутствии
комиссара, а я не могу сделать для вас исключение, — холодно
отвечает Б.
— Зачем делать исключение мне, разрешите всем.
Вспомните, — продолжала я, — годы вашего заключения и ваше
состояние, когда у вас отнимали свидания с женой?
Он молчал, затем медленно произнес:
— Попросите начальника тюрьмы позвонить ко мне.
Я немедленно телефонировала начальнику тюрьмы, и через
пять минут он сообщил мне, что свидание разрешено. Я
поехала в тюрьму. Княгиня Палей уже была там. Ликование наше
было полное: вместо 15 минут начальник тюрьмы разрешил нам
свидание на целый час. Мы, грешные, радовались отсутствию
грубого комиссара. Мужу я всё подробно рассказала и
подбодрила надеждой скорого освобождения, так как с назначением
Б. на место Урицкого мои хлопоты должны увенчаться успехом.
В газетах появился портрет Урицкого и некролог. В одном
из некрологов было сказано, что Урицкий страдал туберкулезом
и царское правительство, ввиду его болезни, заменило ссылку
и тюрьму высылкой за границу. Я обвела это сообщение красным
карандашом и вырезала.
Жена Б. позвала меня к себе. Я была поражена
бедностью, в которой они жили. Три маленькие, темные комнаты на
грязном, вонючем дворе с помойными ямами. Жена Б. была
чрезвычайно мила, просила меня не горевать и верить в скорое
освобождение мужа. Она посоветовала мне написать прошение
в Президиум, приложить докторские свидетельства и просить
об освобождении мужа по болезни. Прошение я должна была
передать на Гороховую.
Все слухи о разрешении Ленина замерли, и никто уже не
говорил о них. Все были заняты убийством Урицкого и его
похоронами. Весь город украсился черными флагами, даже на
тюрьме; где сидел мой муж, висел большой черный флаг.
Я написала прошение, собрала четыре докторских
свидетельства, из которых одно было тюремного врача, и всё отнесла
на Гороховую.
Жена Б. принимала во всем самое горячее участие, и я
каждый день или бывала у нее, или звонила к ней. Ее утешения
и обнадеживания поддерживали мою бодрость. Я искренне
полюбила эту отзывчивую и добрую женщину. Она утешала
199
и уверяла меня, что вопрос об освобождении моего мужа решен
в положительном смысле и мне нечего волноваться.
Никогда не забуду одного дня. У меня на душе особенно
было тяжело: два дня тому назад был у нас обыск — опять искали
моего мужа. Вместо него арестовали мужа моей сестры. Только
благодаря моим неустанным хлопотам у Б. он был освобожден
на следующий день. Вообще в эту ночь было произведено масса
арестов, и многие погибли в подвалах Чеки. Всё это происходило
в связи с убийством Урицкого. Весь город был объят ужасом,
улицы были пусты, и только красные солдаты ходили повсюду.
Не было буквально ни одной семьи, где бы не было
арестованных. Всё это сильно волновало и тревожило меня.
С таким настроением я отправилась к жене Б. Она меня
начала утешать, но я видела, что она чем-то сильно
взволнована. Она долго говорила по телефону со своим мужем. Из их
разговора я не могла уловить чего-либо угрожающего нам, но
поняла, вернее, почувствовала своим наболевшим сердцем что-
то неладное. Слезы неудержимым потоком полились из моих
глаз. Не было слов, которыми я не заклинала ее сказать мне
правду. Она умоляла меня успокоиться и уверяла, что разговор
ее с мужем касался исключительно их личных дел.
Я уехала от жены Б. еще с большим волнением и
предчувствием чего-то страшного. Успокоить себя ничем не могла.
Наутро, машинально взяв газету, я вскрикнула. Ужас овладел
мною. На первой странице крупным шрифтом было
напечатано, что, ввиду убийства Урицкого и других комиссаров и дабы
такие насилия не повторялись, большевики объявляют всех
заключенных в тюрьмах заложниками и если будет убит хоть
один комиссар, то за одного большевика будут расстреляны
несколько заложников. Ниже был приведен список
содержащихся в тюрьме, причем в группе первой были все Великие
князья и мой муж. Затем следовали списки заложников:
генералов, офицеров и политических деятелей различных партий.
Все эти списки были подписаны комиссаром Чека Б. Когда
я это увидела, поняла весь ужас моего положения. С одной
стороны, обещают освободить моего мужа, а с другой — его
зачисляют в списки заложников и он может быть расстрелян
каждую минуту.
Первой мыслью было телефонировать начальнику тюрьмы
и просить его принять меры, чтобы эти списки не попали в ру-
200
ки наших заключенных. Оказывается, я опоздала — служащие
тюрьмы уже успели все рассказать. Тогда я бросилась к Горькому
искать у него защиты. Придя туда и рассказав, в чем дело
(Горький еще не успел прочитать газеты), я от слабости и волнения
упала в обморок, а затем у меня началась истерика. Горький
и его жена были буквально ошеломлены этим известием и
ничего не понимали. Видя, что они мне помочь не могут, я от них
позвонила по телефону Б. и просила его принять меня сейчас
же. Он разрешил, и я поехала на Гороховую в Чека.
Пропуск мне выдали немедленно, и, как лунатик, я вошла
в кабинет Б. и там потеряла сознание. Очнулась в объятиях
жены Б. Она случайно пришла к мужу. Я, как во сне, повторяла:
«Что это такое? Что это такое?» Вероятно, у меня был такой
измученный и страшный вид, что они оба начали меня утешать
и успокаивать. Дали стакан чаю, папиросу.
— Зачем вы обманываете меня? — плакала я. — Со дня
на день обещаете освободить моего мужа, а затем за вашей
подписью печатаются списки заложников, где в первой группе
помещена фамилия моего мужа.
— Успокойтесь, — ответил Б., смотря мне прямо в глаза, —
список заложников не так страшен, как кажется, а подписал
я его по приказанию из Москвы.
— Значит, все мои надежды рухнули? — вскричала я. —- Вы
не освободите моего мужа?
— Антонина Рафаиловна, — заговорила вдруг жена Б., —
я нарочно пришла сюда, так как была уверена, что вы будете
здесь, прочтя этот список. Глеб, — обратилась она к мужу, —
довольно издеваться над бедной женщиной, ты обещал спасти
ее мужа, и мы должны это сделать.
Б. улыбнулся и своими добрыми глазами посмотрел на
меня и жену.
— От меня одного ничего не зависит, — сегодня вечером
я соберу президиум и разберем ваше дело. Прошение и
докторские свидетельства у вас имеются?
— Все нужные бумаги давно находятся у вас...
— А теперь идем, — схватила меня жена Б., — муж
согласился и всё, что может, сделает, теперь не мешайте ему...
Я пробовала еще раз умолять Б., но его жена меня вытащила
из кабинета, просила не волноваться и обещала позвонить по
телефону.
201
Целый день я томилась в ожидании звонка жены Б., наконец
решила поехать к ней. Каково было мое разочарование, когда
я узнала, что заседания президиума сегодня не было и отложено
на неопределенное время. Я упала на колени и начала умолять
жену Б. уговорить своего мужа созвать заседание на завтра.
(Медлить было нельзя, убьют одного из большевиков, и мой муж
может быть расстрелян.) Увидев мои нечеловеческие страдания,
она предложила мне сейчас же ехать к ее мужу. Позвонив по
телефону на Гороховую, мы узнали, что ее муж занят и ехать
к нему нельзя. Тогда она решила написать мужу письмо. Что
она писала, я не знаю, но, когда мы прощались, она сказала:
— Я забыла вас предупредить: вместо раненого комиссара
тюрьмы назначен новый, и Вы этого комиссара знаете. Он
арестовал Вашего мужа. Это очень хороший человек и большой
наш друг. Ему поручено увезти Вашего мужа из тюрьмы, а Вы
должны предупредить мужа, чтобы он не боялся, когда его
вызовут на допрос...
Простившись с милой женой Б., я поздно вечером приехала
домой. Ночь провела в тревоге и без сна. Наутро мне позвонила
жена Б. и сказала, что заседание назначено на завтра. Я
отправилась на свидание в тюрьму. Там застала знакомого нам
комиссара, который вел себя весьма прилично. В разговоре
с мужем я старалась его подбодрить, как могла, и уверила, что
день освобождения близок. Сказать всего я не решалась, боясь,
что опять могут появиться непредвиденные обстоятельства и мои
надежды рухнут. Однако предупредила его, что если придут за
ним и поведут на допрос, то чтобы он этого не боялся.
Когда свидание окончилось, я подошла к комиссару
и спросила:
— Не говорил ли Вам что-нибудь Б. относительно моего
мужа?
— Товарищ Б. предупредил меня, — ответил приветливо
комиссар, — ваш муж будет на днях освобожден, но об этом
никто не должен знать. Мы его увезем потихоньку.
— Товарищ, — обратилась я к комиссару, — возьмите от
меня записочку для мужа. Вы ее передадите ему тогда, когда
повезете из тюрьмы.
— Хорошо.
Я написала: «Не бойся, иди смело за этим комиссаром. Это
твое освобождение».
202
День прошел, как сон. Одна мысль не покидала меня: завтра
в 6 часов вечера будет решена судьба мужа.
Вечером позвонила ко мне жена Б. и спросила, куда мы
предполагаем поместить мужа.
— В лечебницу Герзони, — ответила я и вместо того, чтобы
успокоиться, начала еще больше волноваться. Ночь провела
кошмарную. Мне казалось, что моего мужа освободили и толпа,
узнав его, растерзала; что убили Троцкого и он, как заложник,
накануне своего освобождения расстрелян. Вообще не было
той ужасной мысли, которая не терзала меня в эту кошмарную
ночь. Я встала совершенно больной. За месяц пребывания
мужа в тюрьме я потеряла полтора пуда, двигаться буквально не
могла, но энергия во мне развилась чудовищная.
В день освобождения мужа я отправилась в церковь и горячо
помолилась. Из церкви поехала на Смоленское кладбище на
могилу Блаженной Ксении, которую всегда поминала в своих
скорбях. Вернулась домой с облегченной душой, взяла книгу
чудес Блаженной Ксении, заперлась одна в комнате и стала
читать. Никогда не забуду этого момента. Мне стало вдруг так
легко на душе, как будто я поднялась куда-то ввысь, какой-то
экстаз овладел мною, я упала перед образом на колени,
разрыдалась и долго не могла унять слез радости и восторга. Что было
со мною? Не знаю. Никогда до этого и после я не испытывала
такого чувства...
Итак, мне нужно было ждать до 6 часов вечера. Время
ползло, и в этом медленном ожидании я чувствовала, как силы
покидали меня.
Наконец, наступил желанный 7-й час. Я позвонила по
телефону Б. Мне ответили, что он на заседании. Бегая по квартире,
я молилась, плакала, злилась и в 8 часов опять позвонила. Ответ
всё тот же: на заседании. То же самое повторилось в 9 и 10 часов.
Когда, изнемогая от волнения, я позвонила в 11 часов, то мне
ответили, что товарищ Б. уехал на другое заседание в
Смольный и вернется не раньше 2—3-х часов ночи. Отчаянию моему
не было границ. Придумывала разные способы, чтобы узнать
решение судьбы моего мужа. Хотела ехать ночью к Смольному
и у подъезда ждать выхода Б. Мои домашние убедили меня этого
не делать и советовали лечь отдохнуть.
Измученная, я скоро заснула. Вдруг сквозь сон слышу
какие-то крики, кто-то силится меня поднять. Наконец
203
соображаю, что меня зовут к телефону. Сонная, шатаясь, беру
трубку и слышу: «Антонина Рафаиловна, ура!.. Освобожден...
Свобода...» Сразу не могла сообразить, но слово «освобожден»
прояснило мое сознание. Я начала кричать в телефон слова
благодарности, радовалась, как ребенок, разбудила всех
домашних, и после этого неожиданного подъема наступил
необыкновенный упадок сил. Я опять легла в постель и в первый
раз уснула крепким сном.
Проснулась радостная и бодрая, но как только начала
обдумывать освобождение мужа, тревога опять овладела мною.
«Когда и как освободят его?» Позвонила к Б. и, делая вид, что
ничего не знаю, спросила о судьбе мужа.
— Заседание состоялось. Судьба Вашего мужа решена, —
слышу официальный, сухой голос Б., и мне даже стало жутко,
но Б. продолжал: — куда вы хотели, в клинику Герзони?
— Да, к Герзони. Но когда вы его выпустите?
— Да когда хотите, хоть сегодня.
— Да, да, сегодня, сейчас, — закричала я в телефон.
— Хорошо, ваш муж в 3 часа дня будет у Герзони, —
ответил мне Б.
Это было в 11 утра, я едва дождалась часу дня и пошла
к мадам Герзони, где просила ее приготовить нам отдельную
комнату, сохранить инкогнито и записать нас под фамилией
Нестеровские.
Наконец долгожданные три часа. Я выбежала на
улицу, ходила взад и вперед более часу — мужа нет. Позвонила
по телефону жене Б. — ее не оказалось дома. Прождала до
пяти — мужа нет. В 6 часов уже мадам Герзони начала сама
сомневаться, не обманули ли меня. Волнение и тревога опять
овладели мною. Я хотела бежать на Гороховую и, когда вышла
за угол, чтобы направиться туда, увидела автомобиль с моим
мужем, комиссаром и большим тюком вещей. Я бросилась на
шею мужа, и затем мы оба расцеловали комиссара. Комиссар
вызвал заведующую и толково объяснил, что муж арестован
и из тюрьмы по болезни переводится в лечебницу и никто,
кроме служебного персонала и жены, не имеет права видеть
и разговаривать с мужем.
Когда процедура передачи мужа в лечебницу была
закончена, я спросила комиссара:
— Чем я могу вас отблагодарить?
204
— Вы, кажется, хотите меня отблагодарить деньгами, —
сказал комиссар, — так знайте, я служу идее и взяток не беру.
Признаюсь, я была сконфужена таким ответом. Комиссар
вежливо простился и уехал.
Мы были помещены в комнату с восемью кроватями,
другой свободной комнаты не оказалось. Едва мы вошли, как
явилась фельдшерица записать прибывших. Я еще не успела
предупредить моего мужа и на вопрос фельдшерицы: «Как ваша
фамилия?» Мой муж ответил: «Романов».
— Романов?! — переспросила она, — Какая у вас
неприличная фамилия!..
— Ну, что ты болтаешь вздор, — вмешалась я, — какой ты
Романов. Наша фамилия Нестеровские, а имя и отчество моего
мужа Григорий Константинович.
Мы снова были вместе. Так много накопилось за целый
месяц разлуки, переживаний, мытарств и опасностей, что мы
говорили без умолку, и я не верила своим глазам, что мой муж
со мной. Чувство радости смешивалось с сознанием гордости:
я вырвала своего мужа из когтей смерти.
На третий день пребывания нашего у Герзони я поехала на
Гороховую к Б. поблагодарить его и купила по дороге цветы.
Жена его мне сказала, что цветы он обожает, и это единственный
подарок, который он примет.
Я, сияющая, вошла в кабинет Б. и первый раз увидела на
его лице улыбку.
— Какое великое счастье сиять радостью, — сказала я ему.
Он мило со мной поговорил, но потом заявил:
— Я отпустил Вашего мужа к Герзони, но только под одним
условием, которое, если Вы нарушите, то муж Ваш и Вы будете
арестованы. У Герзони живет освобожденная мною Брасова. Ни
Вы, ни Ваш муж ни под каким видом не имеете права
встречаться и разговаривать с ней.
Дав ему слово, я уехала сейчас же в лечебницу и там
узнала, что Н. С. Брасова хотела видеть моего мужа. Через Герзони
я просила передать Н. С. Брасовой мой разговор с Б.
Однажды М. Ф. Андреева сказала мне, что наше
сожительство по соседству с Брасовой, в клинике Герзони, может грозить
нам арестом, и предложила мне переехать с мужем на квартиру
к Горькому. Без разрешения Б. я этого не могла сделать. В это время
позвонила ко мне жена Б. и сказала, что ее муж хочет меня видеть.
205
На Гороховой я не была уже две недели и была счастлива,
что не приходится отсиживаться в этом застенке часами и днями,
как делала это в течение месяца.
В кабинете Б. я застала Шахова, болыпевицкого
градоначальника и помощника Б. — Иосилевича.
— У меня имеется на вас донос, — заявил мне Б.
— На меня донос? — изумилась я.
— Донос о том, что вы видитесь с Брасовой и служите
связью между ею и внешним миром.
— Какая чушь, — вскрикнула я, — Брасова пользуется
полной свободой, выходит, когда хочет, и я ни разу не видела ее.
— Я этому доносу не верю, — ответил мне Б., — но думаю,
что оставаться у Герзони вам опасно.
— А что нам угрожает?
— Арест местного совета, заодно с Брасовой.
— Что нам делать? — заволновалась я и вспомнила
приглашение Горького. — А если к Горькому переехать?
— О, это самое безопасное и верное место. Спросите
у Горького — согласится ли он принять вас с мужем, и затем
приезжайте ко мне.
— Я предпочитаю всё сделать сегодня, — и просила
протелефонировать Горькому.
Начав разговор с Горьким, я передала трубку Б. Он
переспросил Горького и, получив его согласие, хотел кончить разговор,
но Горький, по-видимому, его что-то спросил, и я услышала:
— Нет, Павла Александровича я не выпущу. Он себя не умеет
вести. Ходит в театры, а ему там устраивают овации.
Получив разрешение на право выезда мужа из лечебницы
Герзони, я сообщила всё мужу, и на следующий день переехали
к Горькому.
Утром были счастливы уехать из лечебницы еще и потому, что
муж не предъявлял больнице своего паспорта. Во время нашего
разговора сиделка сказала мадам Герзони, что ее требует солдат.
Она вышла, и я услышала голос Герзони: «Не кричите, вы не
в конюшне. Здесь больница, в каждой комнате лежат больные».
— Потрудитесь обвести меня по всем комнатам. Я должен
проверить паспорта.
Надвигалась новая опасность. Я приоткрыла дверь, увидела,
что солдат стоит спиной ко мне, и сделала знак Герзони, чтобы
она увела солдата от наших дверей.
206
— Идемте, я вам сначала покажу наши книги, где записаны
все больные, — сказала Герзони, и они ушли.
Оставив наши вещи, мы схватили пальто и выбежали из
лечебницы по направлению к Николаевскому вокзалу, нашли
извозчика и поехали к Горькому.
Нас встретил Горький и предоставил нам большую комнату
в четыре окна, сплошь заставленную мебелью, множеством
картин, гравюр, статуэтками и проч. Комната эта скорей походила
на склад мебели, которая, как мы потом узнали, вся продавалась
и в ней часто бывали люди, осматривающие и покупающие
мебель, картины, гравюры и пр. Устроились мы за занавеской.
Здесь началась наша новая жизнь. Выходили из дому редко.
Обедали мы за общим столом с Горьким и другими
приглашенными. Бывали часто заведомые спекулянты, болыдевицкие
знаменитости и другие знакомые. Я видела у Горького Луначарского,
Стасову, хаживал и Шаляпин. Чаще всего собиралось общество,
которое радовалось нашему горю и печалилось нашими
радостями. Нам было в этом обществе тяжело.
В это время М. Ф. Андреева была назначена управляющей
всеми театрами, и я, пользуясь ее положением, продолжала
хлопотать о получении разрешения на выезд в Финляндию.
Подала также через Финляндское Бюро прошение в Сенат
о позволении нам въехать в Финляндию.
Дни тянулись, и мы томились. Я изредка ходила на нашу
квартиру и выносила на себе некоторые вещи, платье и белье.
Выносить легально что-либо уже было запрещено, а потому
я надевала на себя по несколько комплектов белья мужа и других
вещей, и только таким образом могла спасти самое необходимое.
В один из таких визитов на квартиру я узнала, что ее
реквизируют, а обстановку конфискуют. На квартире происходит что-то
невероятное, прислуга уносит и ворует всё, что только можно.
В это время муж заболел. Я одна мечусь и спасаю, что могу. Но
это продолжается недолго. Заразившись испанкой, слегла и я.
Как только я немного оправилась, то продолжала
письменно хлопотать о разрешении на выезд и об освобождении также
Вел. князя Дмитрия Константиновича из тюрьмы. Я добилась,
что наш доктор Манухин осмотрел его в тюрьме и нашел его
здоровье сильно пошатнувшимся.
Горький обещал нам содействовать и действительно
хлопотал за нас и получил разрешение от Зиновьева. В это время
207
большевики уволили со службы Б. и на его место назначили
некую Яковлеву, которая решила не выпускать Романовых.
Одновременно была получена телеграмма из Москвы от Ленина:
«В болезнь Романова не верю, выезд запрещаю». К какому
Романову относилась эта телеграмма, выяснить было невозможно,
во всяком случае Чека отнесла ее к нам и запретила нам выезд
в Финляндию. Всё было против нас. В это время мы получили
отказ Финляндского Сената на право въезда в Финляндию.
Казалось, что всё потеряно. Положение становилось критическим.
Как только здоровье позволило мне, я немедленно
отправилась к нашему доктору Манухину. Здоровье моего мужа сильно
ухудшилось: после испанки у него началось воспаление легких.
Объяснив доктору Манухину наше тяжелое и безвыходное
положение, я просила его написать письмо Горькому, что он
и сделал. Горький снова начал свои хлопоты. Мы опять подали
прошение в Финляндский Сенат.
М. Ф. Андреева рекомендовала нам бросить все хлопоты об
отъезде и лучше начать работать в России. Мне она предлагала
начать танцевать, а мужу заняться переводами.
В эти мучительные дни, полные огорчения и отчаяния, мой
муж получил повестку из Чека с приказанием явиться по делу
номер 6.06. Что за дело? Мы не знали и не понимали. Муж был
так слаб, что о выходе его не было и речи. Вместо него хотела
идти я. Я спросила совета у М. Ф. Андреевой.
— Я справлюсь у Зиновьева, в чем дело, — ответила она, —
едемте со мной.
У гостиницы «Астория», где жил Зиновьев, я в автомобиле
ждала М. Ф. Андрееву более часа. Когда она вернулась, я
боялась спросить о результате. Наконец после продолжительного
молчания, когда мы отъехали довольно далеко, она заговорила:
— Ну, можете ехать в Финляндию. Сегодня получено
разрешение: ввиду тяжелого состояния здоровья вашего мужа выезд
разрешен. Дано уже распоряжение о выдаче всех необходимых
для вас документов. В Чрезвычайную можете не являться,
Зиновьев туда сам позвонил.
Радости tioeft не было конца; я поспешила обрадовать
мужа. Затем поехала в Финляндское Бюро, и там на наше счастье
было получено разрешение на въезд в Финляндию.
Я начала доставать необходимые для выезда документы.
Чтобы попасть в Министерство иностранных дел, я должна
208
была получить пропуск в здание Зимнего дворца. Когда я вошла
туда, то меня поразило необыкновенное количество мужиков,
запрудивших лестницы и залы. Дворец представлял собою
картину полного разрушения. Дорогая мебель вся почти поломана,
обивка порвана, картины лучших мастеров продырявлены,
статуи, вазы разбиты. Весь этот наполнивший дворец люд
приехал со всей России на какие-то лекции. Добившись пропуска
в Министерство иностранных дел, я пошла туда и наткнулась
на грубый прием. Когда спросила, как скоро мы можем
рассчитывать получить документы, то принимавший меня какой-то
болыпевицкий чин ответил :
— Прошу вопросов, не относящихся к делу, не задавать!
Этот тип предупредил меня, что вывозить за границу
можно: 6 смен белья, одну пару сапог, одно пальто и т. д. Наконец
через два дня я получила все нужные документы и облегченно
вздохнула. Всё пережитое, тяжелое останется позади, луч света
и надежды впереди, а главное, возможность поместить моего
больного мужа в санаторий в Финляндии.
Собирали вещи, прощались с родными и знакомыми.
Приходила милая, симпатичная жена Б., которую я искренно
полюбила. Со стороны четы Горького мы видели полное
внимание и желание нам помочь. Как мы им благодарны!
Накануне отъезда, когда я получила в долг деньги, расплатилась со
своей прислугой, и была в редком для того момента радостном
настроении, услышала, как М. Ф. Андреева с кем-то
разговаривала по телефону. Мне послышалось, что речь идет о нас,
и я инстинктивно начала прислушиваться. Увы! Я не
ошиблась. О, ужас!.. Получив для выезда в Финляндию все нужные
бумаги официальным путем, мы еще не имели разрешения
Чеки, и этот застенок наложил на нас свой запрет. Опять всё
рухнуло. Отчаяние мое было безгранично. Я всю ночь почти не
спала и в 8 часов утра все-таки поехала с сундуком, на ломовом
извозчике, на Финлядский вокзал попытать счастья. Ехали мы
шагом около двух часов. На каждом мосту нас останавливали
и спрашивали разрешение на провоз вещей.
Муж мой пока остался дома, он был еще очень слаб.
Я сдала сундук на хранение и отправилась в кассу попытать
счастья.
— Два билета в Белоостров.
— Разрешение Чрезвычайной комиссии имеете?
209
Билетов я не получила и должна была идти домой с своими
грустными мыслями.
Что делать? Мы всех спрашивали, советовались и решили
еще раз попытать счастье.
11 ноября 1918 года в 5 часов утра я с больным мужем, его
друг и воспитатель князь В., моя горничная и бульдог, с которым
мы никогда не расставались, поехали на вокзал. От волнения
ехали молча. На вокзале я смело подошла к кассе и спросила
билеты в Белоостров. К моему изумлению мне выдали их
беспрепятственно. Радоваться я еще боялась — впереди граница.
Что нас ждет там?..
Муж был очень слаб, пришлось долго ожидать разрешения
сесть в поезд. Наконец мы заняли места. За десять минут до
отхода поезда вагон наполнился солдатами. Я начала
невероятно волноваться. Мой мозг рисовал мрачные картины одну за
другой. Мне казалось, что солдаты подосланы, чтобы арестовать
нас, что они, узнав мужа, могут убить его. Трудно всё передать,
но, пожалуй, эти моменты были самые тяжелые из всех,
пережитых нами. Спасение было так близко, нас разделяло только
несколько часов, а в то же время, в любой момент мы могли
очутиться в тюрьме или быть убитыми.
Приехали в Белоостров. Солдаты тоже вышли, и я узнала,
что они командированы осматривать багаж и документы
отъезжающих за границу.
Более часу мы ожидали в буфете и затем прошли в соседнюю
комнату, где предъявили наши документы.
— Ваш паспорт?
— Наши паспорта остались в Чека, — ответила я комиссару.
— В таком случае я вас не выпущу за границу, — швырнув
наши бумаги, ответил комиссар.
У меня подкосились ноги. На мою робкую просьбу
выслушать меня, он грубо крикнул: «Молчать!» В эту минуту не
трудно было сойти с ума. Я стала возле мужа, в сторонке, и мне
казалось, что я потеряла способность сообразить и взвесить
создавшееся положение. Всё рушилось. Нас могут обратно
послать и арестовать...
Взяв себя в руки, я снова подошла к комиссару и стала его
просить пропустить нас.
— Я сейчас позвоню в Чека и спрошу, что с вами делать, —
ответил он.
210
Это был ужасный момент. Я не успела собраться с мыслями,
что делать. Комиссар вышел из комнаты.
Наступили тяжелые минуты ожидания, не поддающиеся
описанию. Когда комиссар вернулся, я ловила каждое движение
его лица. Я услышала свою фамилию.
— Ваши документы, — сказал комиссар.
Я подала. Нас сейчас же попросили в разные комнаты,
где раздели, обыскали. Затем просмотрели наш багаж, и мы
получили разрешение отправиться в Финляндию.
Лошадей не было; больного мужа усадили в ручную тележку.
Дошли к мосту, на котором с одной стороны стояли солдаты-
финны, а с другой — большевики. После небольших переговоров
финны взяли наш багаж...
Спасены! Спасены!
Истомленная, напуганная, я боялась даже радоваться. В это
время подошел ко мне комиссар, который только что глумился
над нами, и я услышала его шепот:
— Очень рад был быть вам полезным.
Я растерялась. Комиссар скрылся... Я убеждена, что он не
звонил в Чека. Без разрешения этого учреждения мы выехали,
и вся его грубость была напускная...
В Финляндии мы скоро устроились в санатории близ
Гельсингфорса, где восстановили здоровье, но мысли наши были
всегда на нашей дорогой родине, на долю которой выпало
столько страданий...
И. МАНУХИН
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ*
Милостивый государь господин редактор!
В номерах 35—40 «Иллюстрированной России» напечатаны
воспоминания княгини А. Романовой о том, «Как был спасен
князь Гавриил Константинович». В них упоминается мое имя,
как лица, причастного к хлопотам по освобождению князя
Гавриила Константиновича.
Так как автор воспоминаний одних обстоятельств не
коснулся вовсе, о других же упомянул лишь вскользь, я счел
необходимым внести некоторые поправки. «Иллюстрированная
Россия» мое письмо в редакцию напечатать отказалась, равно
как отклонила и добавление к воспоминаниям кн. А. Романовой,
пожелавшей внести те же поправки.
Моя осведомленность в деле освобождения князя Гавриила
Константиновича объясняется тем материалом, которым я
располагаю как бывший член комитета Политического Красного
Креста. Известно, что Политический Красный Крест —
организация давняя, возникшая задолго до революции. Цель
его — многообразная помощь политическим заключенным
и ссыльным. При большевиках деятельность его по заданию
и методам оставалась той же; изменилась лишь политическая
окраска подопечных: раньше были «левые», теперь — «правые».
Когда великие князья оказались в доме предварительного
заключения, на Шпалерной в Петрограде, комитет
Политического Красного Креста на первом же очередном заседании
поставил вопрос: через кого и как хлопотать? Уже из прошлых
наших переговоров с властью по поводу вел. князя Михаила
Александровича было известно, что великих князей арестуют из
«центра», и исключительно от «центра» зависит распоряжение
об их освобождении. Попытаться воздействовать на «центр» мы
могли только через М. Горького. Он до революции с большой
щедростью помогал из своих личных средств Политическому
Красному Кресту и сейчас разделял идею красно-крестной
помощи заключенным. Благодаря его содействию Политическому
Красному Кресту удалось освободить уже несколько человек.
* Последние Новости (Париж), № 4952, 14 октября 1934 г.
212
Мне поручено было переговорить с ним. Это непосредственно
относилось к моей деятельности: я занимался не посещением
заключенных в тюрьмах, что делали другие члены, а хлопотами
об их освобождении. Я переговорил с М. Горьким, и он
согласился ходатайствовать перед «центром» о великих князьях. При
этом он поставил мне вопрос: с кого же начать?
Я знал достоверно, что князь Гавриил Константинович
болен. «Домашним» врачом его я никогда не состоял: это явствует
уже из того, что я ни у него, ни у автора воспоминаний никогда
на дому не бывал. Кн. Гавриил Константинович приезжал ко
мне на врачебные приемы, в числе прочих больных, для лечения
моим методом.
Я рассказал М. Горькому о состоянии здоровья кн.
Гавриила Константиновича, и было решено прежде всего хлопотать
о его освобождении.
В качестве члена Политического Красного Креста я имел
пропуск во все петроградские тюрьмы, за исключением
Гороховой, где мне приходилось сноситься с местным врачом, и мог
без специального разрешения посещать князя Гавриила
Константиновича. Так что мне не требовалось для этого протекции
большевика Б., как полагал автор воспоминаний. Инцидент
с комиссаром Дома предварительного заключения произошел
иначе (с этим согласен сейчас и автор воспоминаний), а
именно: комиссар ограничился одними криками по адресу княгини
Палей, кн. А. Романовой и моему, и мы все трое покинули его
кабинет.
Когда я освидетельствовал кн. Гавриила Константиновича
в тюрьме, великие князья, осведомленные о предпринятых о нем
хлопотах, довели до моего сведения, что, если в дальнейшем
предстояла бы возможность хлопотать об их освобождении, они
просят руководиться порядком старшинства. Я так и сделал:
вслед за кн. Гавриилом Константиновичем я освидетельствовал
вел. князя Павла Александровича, а потом вел. кн. Дмитрия
Константиновича, инициатива освидетельствования которого
прежде вел. князей Николая и Георгия Михайловичей исходила,
стало быть, от самих Великих князей.
Таким образом, кн. Гавриил Константинович был
освобожден первым лишь по той счастливой случайности, что он
был болен до ареста, и за достоверность этого утверждения
можно было ручаться. Не будь этой случайности, Политический
213
Красный Крест начал бы хлопоты об освобождении вел. князя
Павла Александровича, заболевшего уже в тюрьме. Ввиду же
того, что все хлопоты перед «центром» исходили от М. Горького,
несомненно, что если бы большевик Б. и собранный им совет
получили бы распоряжение из «центра», т. е. от Ленина,
освободить первым, например, Вел. князя Павла Александровича,
то был бы освобожден он, а не князь Гавриил Константинович.
Как бы отрицательно ни относиться к последующей
коммунистической деятельности М. Горького, надо признать
освобождение кн. Гавриила Константиновича его «добрым делом».
Роль Политического Красного Креста сводилась к воздействию
на его волю доводами сердца. Таково заключение, которого
требуют справедливость и историческая правда.
В. ОРЖЕХОВСКИЙ114
СТРАНИЧКА «КРАСНОГО ТЕРРОРА»*
(Петроград 1918-1919 nv)
В начале сентября 1918 г., вскоре после убийства
бывшего председателя Петроградской Чрезвычайной Комиссии
Урицкого, я был арестован на станции Витебск, Витебской
железнодорожной чрезвычайкой (ЖЧК) по доносу коммуниста
Л. Серебрякова, знавшего меня еще до революции, когда я,
служа в петроградской столичной полиции, занимал должность
пристава 2-го участка Литейной части.
Серебряков и его близкий товарищ — матрос, оба
служившие агентами ЖЧК, указали на меня, как на ярого
контрреволюционера и белогвардейца, который во время февральской
революции на Знаменской площади расстреливал восставший
народ из пулемета. Вторым пунктом обвинения указывалось
на мое присутствие в г. Витебске с целью перебежать границу
у г. Орши в сторону белых.
Заключили меня в Витебскую тюрьму и поместили в камеру
«смертников», где находилось восемь человек священников, среди
них о. Николай Савицкий и о. Николай Заблоцкий. О. Заблоц-
кий был приговорен витебским трибуналом к смертной казни
по обвинению в контрреволюции, выразившейся в проповеди,
сказанной им у себя в церкви по поводу отобрания
большевиками из этой церкви всех ценностей и утвари. Слова священника
возымели действие на слушателей, и они, после обедни, всем
приходом направились к дому Чрезв. Комиссии требовать
возврата разграбленного. Там их встретили огнем ружей и пулеметов,
и многие погибли, а о. Николая арестовали, судили и постановили
расстрелять. Расстрелян он был через два дня после объявления
приговора, около 2-х часов ночи, во рву, близ самой тюрьмы.
От. Н. Савицкий был арестован тоже на ст. Витебск только за
то, что переезжал с детьми в другой приход и ехал с большим
количеством вещей. В тюрьме он просидел три месяца.
Встретившись с от. Н. Савицким в 1920 году в Ковно, я узнал,
что все те священники, которые с нами содержались в тюрьме,
* На чужой стороне (Берлин-Прага), № 8, 1925, с. 99-108.
215
были расстреляны по распоряжению председателя Витебской
Чрезвычайной комиссии мальчишки Петрова, бывшего
сельского учителя той же губернии.
Петрову хотелось и меня расстрелять, но меня, благодаря
хлопотам моей жены, перевели в распоряжение Петроградской
Чрезвычайной Комиссии. Здесь, в приемной комнате на
Гороховой, я случайно встретился с довольно богатым петроградским
обывателем Л. А. Першиц, арестованным Чекой за хранение
в одном из банков денег в крупной сумме.
В соседней от меня комнате Першица допрашивал
следователь Чрезвычайки, бывший помощник присяжного
поверенного Геллер, известный взяточник и вымогатель, впоследствии
расстрелянный своей же Чекой за ряд мошенничеств и разных
служебных преступлений. Допрашивал Геллер всегда и всякого
при помощи револьвера-маузера, который лежал перед ним
на письменном столе. Если допрашиваемый давал ответ в
нежелаемом для Геллера духе, то он этим же револьвером, после
нескольких угроз, выбивал ему зубы. Никто из следователей
Чрезвычайки не избивал так допрашиваемых, как этот
тщедушный Геллер.
Допроса П., в сущности, не было, а имелось налицо одно
чистое вымогательство. Геллер требовал от П. выдать ему чек
на один миллион руб. за освобождение. Арестованный
требованию этому не подчинился. Выйдя ко мне в приемную, Першиц
сказал: «Слышали? Какая сволочь! Так я им и дам миллион».
Геллер же в это время по телефону с комендантом дома
Чрезвычайки отдавал приказание: «Сейчас к тебе пришлю одного
жирного гуся, ты его хорошенько пощипи. Его сегодня же
отправь в Петропавловку!» Вечером Першица отправили под
усиленным конвоем в Петропавловскую крепость, где через
два дня его расстреляли.
На Гороховой мне пришлось пробыть в самых
антисанитарных условиях три дня. В маленькой комнатушке, сырой
и темной, содержалось до 120 человек арестованных, кормили,
вместо пищи, горячей водицей. Хлеба давали по восьмушке
в день. На прогулку не выводили. Арестованные, за неимением
места, лежать не могли, а сидели на полу скорчившись. Вши
на полу ходили табунами... В воздухе висела комиссарская
матерная брань. Кошмарнее обстановки не найти. На громадном
дворе без умолку трещали моторы автомобилей. В подвалах
216
Чрезвычайки производили расстрелы налетчиков и опаснейших
контрреволюционеров. Трупы расстрелянных ночью со двора
увозили грузовые автомобили.
На четвертый день меня с партией в 300 человек отправили
для дальнейшего содержания под стражей в Д ерябинскую
тюрьму, помещающуюся в громадной каменной трехэтажной казарме,
построенной ранее для судовых рабочих на Гутуевском острове.
С Гороховой ежедневно отправлялись указанные партии
по тюрьмам г. Петрограда. Отсюда можно заключить, сколь
велика была цифра арестовываемых Чрезвычайкой в сутки.
Дерябинская тюрьма расположена в нескольких шагах от берега
Финского залива. С трех сторон тюрьму окружает каменный
высокий забор, с внутренней стороны которого поставлен ряд
пулеметов Ч.К., а с четвертой стороны ее обхватывает залив, по
берегу которого расставлены красноармейские часовые.
В тюрьме имелось одиннадцать огромнейших камер, и в
момент моего в нее прибытия там имелось до 3000 человек
арестованных. Камеры имели подразделения, так, например,
№ 3 считалась «офицерская», № 4 — «буржуйская», № 6 —
«дворянская», № 7 — для налетчиков, № 10 — для воров и
убийц и т. д.
Я попал в камеру № 3, где помещалось 168 арестованных
офицеров, штаб-офицеров и генералов. Камера эта имела один
выход и размерами доходила до 30 саж. в длину и 5 саж. в ширину.
По правую сторону от входа, вдоль стены имелись нары в два
этажа. Посередине стояло 10—12 железных кроватей, а левая
стена имела множество окон, выходящих на взморье; причем
стекла во всех рамах отсутствовали, отчего по тюрьме гуляли
невозможные сквозняки с дождем или снегом. Кровати, конечно
без матрацев и подушек, уступались нами старшим по возрасту
или чину. Помню, на совершенно голых досках кровати
помещался бывший свиты Е. В. вице-адмирал М. М. Веселкин115,
арестованный в одном из кафе г. Петрограда за контрреволюцию
и оттуда прямо доставленный в тюрьму. Веселкин был холост
и позаботиться о нем могла только его квартирная хозяйка, но
и та была тоже арестована. Вскоре М. М. Веселкин, капитан 1-го
ранга Де-Симон116 и юноша кн. Туманов, задержанные в том
же самом кафе, были расстреляны. Со мной вместе на нарах
верхнего этажа помещался капитан 1-го ранга Рененкампф117,
арестованный за фамилию, хотя с генералом Рененкампфом118
217
в родстве не состоял, а все же в тюрьме томился более 3 месяцев.
Был еще курьезный случай: в той же камере сидел инженер
П.; просидел он больше трех месяцев без допроса. Наконец,
его вызывает следователь Юдин (бывший рабочий фабрики
Печаткина на Васильевском острове) и предъявляет обвинение
в службе его у белогвардейцев, доказательством чего
является погон прапорщика, найденный на квартире при обыске.
П. клянется, что никогда военным не был и даже не отбывал
учебного сбора, а служил по окончании института на фабрике
инженером. Оказалось, что погон нашли при обыске у П., да
не у того, к делу которого он был пришит и который сидит
в тюрьме, а у другого — действительно прапорщика, давно уже
бежавшего к белым. Юдин, видите ли, ошибся делами, а
арестованному грозила казнь.
А вот другой случай. В камеру входит пьяный комиссар
и кричит: «Василий Петров». Отзывается 60-летний старик
и называет себя Василием Петровым. Старика уводят, и на утро
он расстрелян. Утром же выясняется, что нужно расстрелять
Василия Александровича Петрова 22 лет, а комиссар
расстрелял Василия Васильевича Петрова 60 лет. Ну, «это не беда»: на
другой день расстреляли настоящего Петрова.
А случай, происшедший лично со мной и грозивший мне
вторичным расстрелом, тоже заслуживает внимания. Дело мое
по обвинению меня в контрреволюции вел тот же следователь
Юдин; допрашивал он меня за 6 месяцев заключения 9 раз
и никак не мог, прибегая даже к провокаторству, доказать вину
по сношению с генералами, в приводе в Северный Ледовитый
океан подводной английской флотилии и в убийстве тюремного
комиссара, который в это время сидел за стеной в соседней
комнате. Оставался налицо расстрел восставшего народа на
Знаменской площади в гор. Петрограде и белогвардейство, что
удостоверялось двумя агентами. Это обвинение было самое
главное, и я не ждал благополучного конца.
Вдруг однажды меня комиссар вызывает из камеры для
нового допроса. Являюсь в канцелярию тюрьмы и вижу
совершенно незнакомого, прилично одетого молодого человека,
брюнета с золотым передним зубом. Оказался следователь
Чрезвычайки; попросил сесть и заявил, что я хотя уже и сознался
в своем преступлении и показание свое подтвердил подписью,
но он все же хочет облегчить мою участь и приехал еще раз со
218
мной побеседовать. На столе у него лежало очень объемистое
дело, на обложке которого я увидел свою фамилию. Меня очень
удивило все сообщенное следователем-мальчиком, и я стал
предлагать ему вопросы о том, когда и в каком преступлении
я ему сознавался и мог ли я вообще сознаваться, не совершив
вины. Следователь изменил тон и вежливость обращения
и спросил, ведь ты такой-то (назвал мою фамилию). Я ответил
утвердительно; он стал рыться в деле и вновь спросил о
фамилии, я опять ее подтвердил.
«Ты обвиняешься в налете на квартиру в д. № 3 по Садовой
ул. и брось валять дурака; сознался и баста!»
Больших трудов стоило мне убедить следователя, что
я налетами пока не занимался, а о доме № 3 по Садовой ул.
не имею никакого понятия. Сижу за следователем Юдиным
по обвинению в контрреволюции и допрашивался 9 раз.
Следователь опять начал рыть дело и говорит: «Да ведь ты Роман
Оржеховский?». — «Да, совершенно верно я такой-то, только
не Роман, а Виктор». Следователь был удивлен и заявил, что
в таком случае произошла ошибка.
Когда я попал из тюрьмы в госпиталь, о чем буду говорить
ниже, то в один из вечеров об этом неприятном случае рассказал
палатной сестре милосердия Ф. Оба мы посмеялись и как будто
бы забыли происшедшее. После описанного разговора, спустя
два с лишком месяца, сестра приходит в палату и рассказывает,
как ее только что в канцелярии госпиталя отозвал в сторону
смотритель и сообщил, что я вовсе не контрреволюционер,
а грабитель, и что он, смотритель, только что получил
предписание из Чрезвычайки немедленно перевести меня в тюрьму
Кресты для расстрела. Сестра Ф., зная всю эту запутанную
историю с моих слов, успокоила смотрителя (бывшего кадрового
офицера) и рассказала подробности. Смотритель по телефону
тут же сообщил в Чеку о нахождении у него такого-то, но не
заподозренного в налете. В предписании не было даже указано
имя налетчика, а имелась одна фамилия, схожая с моей.
На второй или третий день моего заключения в Деря-
бинскую тюрьму, около 4 ч. утра в камеру № 3 вошли четверо
каких-то неизвестных мужчин с тюремным комиссаром; все
были заметно пьяны. Двое из пришедших ясно напоминали
по костюмам матросов, а двое других выглядели типичными
фабричными рабочими. Подойдя к нарам, эти управители
219
начали будить каждого пятого из числа спавших офицеров.
Разбуженным приказывали быстро одеваться и забирать вещи;
на вопросы никаких объяснений не давали. От шума,
производимого вошедшими управителями и укладывающими свои
вещи арестованными, начали просыпаться и другие офицеры.
Просыпавшимся комиссар объявлял: «А, ты проснулся, так
кстати тоже одевайся».
Более предусмотрительные и находчивые офицеры хотя
и просыпались, но делали вид, что спят, и лежали спокойно,
в надежде, что судьба «пятого» не упадет на него, а пронесется
мимо.
Проснулись все и лежали с закрытыми глазами, а
комиссары всё считали. Из камеры взяли 65 человек и повели за
собой. По уходе их стало известно, что ушедших арестованных
требует Гороховая (Чека) для опроса и освобождения. Эту ложь
сообщил оставшимся постоянно пьяный комиссар тюрьмы,
бывший матрос.
Арестованных вывели на пристань, у которой уже стояла
приготовленная баржа и буксирный пароход. Погрузили всех
на баржу, и буксир потащил ее не назад в Неву, а взял
направление на Кронштадт.
Оставшиеся в камере наблюдали за всем происходящим из
окон, поняли обман и, предугадывая судьбу несчастных, стали
их крестить.
Баржа вскоре скрылась в тумане, и тут же послышался треск
пулемета. Оказалось, что всех, бывших на барже и спрятанных
в трюме ее, а всего около 500 человек, набранных по разным
тюрьмам г. Петрограда, расстреляли, а баржу с расстрелянными
потопили между Кронштадтом и Дерябинской тюрьмой. Так
большевики отомстили за смерть своего товарища Урицкого,
о чем нам давал пояснения в тот же день тюремный комиссар.
Надо ли описывать подробно тюремный режим
Дерябинской тюрьмы, указывать на многочисленные случаи самого
бесчеловечного обращения комиссаров с арестованными
и особенно с офицерами? Достаточно сказать, что их били
по лицу не только голыми руками, но, преимущественно,
револьверами. Били без вины и придирались к пустякам. Сажали
на 2—3 дня в темный и сырой карцер, пол которого заливался
подпочвенной водой, так как он находился в подвале, и не
имел ни кровати, ни табурета. Арестованный должен был в нем
220
стоять, причем с него снимали сапоги. Офицеров и только
офицеров назначали на самые черные работы по тюрьме. Всех
содержащихся в офицерской камере ежедневно назначали на
разные общественные работы, как то: нагружать и выгружать
дрова из вагонов, грузить бревна, сено, рыть картофель,
украшать площади и строить арки ко дню болыыевицких торжеств
и праздников. В эти дни, когда арестованные находились на
работах, вне тюрьмы — их не кормили. Самая тяжелая работа
была в порту Александра III, где мы выгружали из английских
пароходов мелкий уголь.
Многие не выдерживали и совершали побеги, что было
очень удобно проделывать, находясь на работах. Тогда Чека
придумала способ пресечь побеги и приказала из арестованных
составлять «четверки», которые по фамилиям заносили в списки
перед отправлением на работу. Если кто-либо бежал из такой
четверки, то оставшихся расстреливали.
Арестованные тоже додумались, и в четверки попадали
желающие совершить побег, таким образом уходила вся четверка
и виновных не было.
Помню, в октябре месяце на море бурей была разбита барка
с дровами; ветром их прибило к тюремному берегу. Комиссар
сейчас же нарядил всех арестованных третьей камеры, офицеров,
на срочную работу для вылавливания дров из воды. Никаких
приспособлений для такой работы в тюрьме не оказалось, и дрова
пришлось из воды вылавливать руками, и для этого необходимо
было войти в воду по самую грудь. Результатом такой работы
было лично для комиссара около 300 саж. (куб.) дров, а для
арестованных — 50 % заболеваемости. Одиннадцать человек из
заболевших отправились на тот свет. Комиссар же выловленные
дрова показал за купленные им и получил из Чрезвычайки
несколько тысяч руб. Этот же комиссар совершенно не выдавал
арестованным сахар и чай, а продавал их в частные руки; на
этом он попался и был арестован и отправлен на Гороховую, но
дело там ничем не кончилось, и его вскоре освободили и дали
другое назначение.
К декабрю 1918 г. тюрьма вмещала до 7000 человек
арестантов; появилась сильная эпидемия тифа. Вши буквально ели
арестованных, и спасения от них найти было невозможно, так
как бани не давали, тщательной уборки помещения с
выколачиванием постельных принадлежностей производить не разре-
221
шалось. Никакой дезинфекции не имелось. Страдали во всех
камерах от тифа. Смертность дошла до того, что Чрезвычайка
решила тюрьму ликвидировать. Часть арестованных перевели
в Нижегородскую тюрьму, на Выборгской стороне, а больных
отослали в тюремный госпиталь, открытый Чрезвычайкой на
острове Голодае.
Госпиталь этот помещался в пятиэтажном громадном доме,
служившем раньше для содержания в нем пленных австрийцев,
и рассчитан был на 3500 человек. В течение двух недель в
госпитале не было свободных мест, так как туда свозились больные
из всех тюрем г. Петрограда. В этом госпитале оказался и я.
Было 2 врача, несколько сестер милосердия, но ни одного
санитара и ни одной сиделки.
Не могу отметить того самопожертвования, с которым
служили нам сестры милосердия. Состоя на службе, они
носили нам продовольствие, белье, переправляли нашим
семейным письма. Навещали наших жен, отцов, матерей, утешали
детей, а все ведь сопряжено было с опасностью для их жизни
со стороны всесильной Чеки. Врачи кое-когда появлялись
в палатах, но больных не осматривали и не лечили, так как
никаких медикаментов и инструментов не было. Бани и ванн
в госпитале не имелось. Прибывающие вшивые больные еще
больше распложали насекомых. В госпитале заражались тифом
и умирали массами. Прибывающих больных осмотру никогда не
подвергали и не сортировали по отделениям, а ими заполняли
свободные кровати в любой палате, вот почему во всех этажах
и во всех палатах болели тифом. За отсутствием младшего
медицинского персонала, тифозных больных, находившихся
в горячке, отдавали под надзор караульных солдат. Кончилось
это тем, что солдаты застрелили такого больного, который
с кровати бросился к окну.
Из палат больным разрешалось выходить в определенные
часы: утром за кипятком, среди дня — за обедом и вечером
для своих надобностей. Если больному нужно было пройти
в уборную в неуказанное время, то его возвращали в палату
либо часовой, либо надзиратель, сопровождая это возвращение
ударами в спину кулаком или прикладом ружья. В темных
коридорах до уборной дойти было невозможно, а потому нечистоты
оставлялись тут же в проходах. На утро их никто не убирал;
больных убирать не заставляли.
222
Вскоре после моего прибытия в госпиталь, около начала
декабря 1918 г., туда же был доставлен Великий князь Павел
Александрович. До госпиталя Вел. князь Павел Александрович
содержался в одиночном заключении тюрьмы на Шпалерной
ул. гор. Петрограда. Доставлен он был в госпиталь на
автомобиле с флагом или Датского, или Шведского посольства.
Весь автомобиль внутри и сверху был нагружен чемоданами,
чехлами и проч. вещами. Доставила его в госпиталь супруга
и без конвойных. Поместили Вел. князя в отдельную
маленькую палату, где у него имелось все необходимое для жилья из
привезенного с собою имущества. Собственная роскошная
походная кровать, такой же стул, стол, вся столовая посуда,
масса белья, множество различной статской одежды разных
сезонов и даже походное судно. Мне все это хорошо известно,
так как я был старостой того этажа, где поместился Вел. князь;
я должен был его внести в список арестованных, а потому
навестил его в палате.
На письменном столе Вел. князя были поставлены
маленькие иконочки в золотых ризах и находились портреты детей
и жены. Особенное мое внимание привлекла коллекция
курительных мундштуков; каких только там не было экземпляров!
Из всех этих мундштуков В. кн. курил по очереди, но своими
папиросами никого никогда не угощал.
Мне же, при более частых к нему визитах, разрешал
курить в его присутствии. При расспросах моих о царской семье
Вел. князь с большой озлобленностью отзывался о Распутине.
Много раз указывал он царю на непристойность нахождения
Распутина при дворе, но каждый раз вызывал этим к себе
нерасположение государя и еще более императрицы, которую
в чем-либо предосудительном по отношению к Распутину не
подозревал; признавал, что она фанатичка, истеричка, а
Распутин этим пользовался для собственных выгод всегда денежного
характера. Говоря об участии Дмитрия Павловича в убийстве
Распутина, Вел. кн. рассказывал мне, что происшествие с
сыном не давало ему ни минуты покоя. Его убивала мысль, что
сын его — убийца. По прибытии с фронта в г. Петроград он
безотлагательно потребовал от него чистосердечного
признания, и для того, чтобы не оставалось ни малейшего признака
сомнения в искренности сына, он открыл Евангелие и рядом
с ним положил портрет матери Дмитрия Павловича и потре-
223
бовал клятвы Д. П. в том, что он Распутина не убивал. Сын,
поцеловав Евангелие и портрет матери, сказал отцу, что он не
убийца, активного участия в убийстве не принимал*.
Смотритель госпиталя своею властью разрешил супруге Вел.
кн. ежедневно иметь с ним свидания в течение часа, поэтому Вел.
кн. доставлялось продовольствие из дому; когда же смотрителя,
обвиненного в белогвардействе, заменил коммунист Глухов, то
свидания с Вел. кн. были воспрещены и ему приказано было
переселиться в общую палату. Распоряжение это отдал Глухов
почти в середине февраля за несколько дней до убийства в
Германии Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Через два или три
дня после их убийства, в 5-м часу вечера к госпиталю подъехал
черный автомобиль Чрезвычайной Комиссии, который почти
ежедневно в одно и то же время прибывал к госпиталю за
осужденными больными для расстрела, забирал по несколько
человек и увозил.
* В письме, напечатанном в " Matin" по поводу убийства Распутина
(перепечатано было в «Последних Новостях» 3 ноября 1923 г.) в связи
со статьей В. А. Маклакова о дневнике Пуришкевича в "Revue de Paris"
кн. Юсупов, между прочим, говорил о том, что по поводу убийства
Распутина «написано было много правды и лжи». В
действительности самое простое было кн. Юсупову рассказать то, что было. После
убийства в письме на имя императрицы 17 декабря 1916 г. (письмо
напечатано теперь в № 4 «Красного Архива») он называл «дикими»
обвинения, которые на него возводились. Между прочим, кн. Юсупов
писал царице, что, услышав выстрел после разъезда гостей, он «сам
протелефонировал Димитрию Павловичу, спрося, не стрелял ли он.
Он мне ответил, смеясь, что, выходя из дома, он встретил несколько
раз дворовую собаку и что с одной дамою сделался обморок»... «На
другой день, — продолжает Юсупов, — т. е. сегодня утром я узнал об
исчезновении Григория Ефимовича, которое ставят в связь с моим
вечером. Это сущая ложь». Совсем другое уже писал кн. Юсупов Вел.
княгине Ксении Александровне 2 янв. (письмо напечатано в той же
книге «Кр. Архива»): «Меня ужасно мучает мысль, что императрица
М. Ф. и вы будете считать того человека, который это сделал, за убийцу
и преступника, и что это чувство у вас возьмет верх над всеми другими».
В письме в "Matin" он, конечно, не только отвергает версии об его
участии в убийстве, но возводит самый акт на степень патриотического
подвига: Мы, т. е. «ответственные за смерть Распутина» — «только
открыли ответственным лицам путь к спасению России. Почему они
этим не воспользовались?». — Прим. автора.
224
Каждый из больных при появлении этого автомобиля,
крестясь, выговаривал: «Не я ли, Господи, пронеси, Господи».
Автомобиль остановился у главного подъезда, в первом
этаже которого от входа помещалась госпитальная канцелярия,
а над ней, во втором этаже, та палата, в которой находился
я. Из автомобиля вышли два типа, одетые по-матросски,
и быстро вошли в подъезд. Спустя минуту в коридор нашего
этажа вбежал комиссар Глухов и, сразу от входа, во все горло
стал кричать: «Романов! Романов!» Крик его взбудоражил всех
больных, а я, как староста этажа, вышел в коридор и увидел
проходивших мимо меня двух приехавших и весь наличный
состав надзирателей, спешивших к палате, занимаемой П. А.,
я последовал за ними и, дойдя до нее, услышал голос Вел. кн.,
который почти кричал: «Как ты смеешь, мерзавец, называть
меня на ты». В ответ послышалась отборная площадная брань
из уст всех пришедших. Дверь в палату не закрыли, и вся ватага
вошла в палату, где стоял невероятный шум. Кричал Вел. кн.,
и кричали на него комиссары и надзиратели, разделяя между
собою имущество князя. «Тащи с него пиджак и бери себе,
снимай с него сапоги, бери подушку, сними с вешалки меховую
поддевку, тащи стул; берите, ребята, каждый, кто хочет. Все
наше, на наши деньги оно куплено, одевай его шапку, подними
с пола кепку, примерь на себя» и т. п. Словом, все имущество
П. А. было поделено и растащено из палаты под описанные
крики. Наконец, П. А. вывели в коридор. Был он без шапки,
без жилета и пиджака; с крахмальной рубахи был снят галстук
и воротничок, на ногах не было никакой обуви. В таком виде,
под гром улюлюканий, насмешек и пошлых острот, повели
в госпитальную канцелярию. Я отправился в палату, откуда
все мы там находившиеся слышали страшный крик П. А.,
доносившийся снизу. Там, в канцелярии продолжался грабеж.
С пальцев рук П. А. срывали драгоценные кольца, часы и
опустошали карманы брюк.
К автомобилю П. А. был выведен в таком же костюме, и с
ним вместе вышли два субъекта, также одетые в одни только
рубахи. Всех их вместе посадили на заднее сиденье, а напротив
уселись два чрезвычайщика, и автомобиль тронулся.
На другой день наш госпитальный врач сообщил нам, что
В. кн. Павел Александрович и с ним вместе все другие Великие
князья (Дмитрий Александрович, Николай и Сергей Михай-
225
ловичи и Максимилиановичи)* были ночью расстреляны во
дворе Петропавловской крепости. Врач этот командировался
присутствовать при расстреле, и он был, таким образом,
очевидцем происшедшего. Он же рассказал, между прочим, что Вел.
кн. Николай Михайлович был расстрелян вместе с любимой
своей кошкой, которую не хотел оставить после себя. Рассказал
также, что Вел. князей заставили рыть себе могилы. Тот же врач
сообщил нам, что Вел. князья были расстреляны как заложники
за убийство в Германии К. Либкнехта и Р. Люксембург, о чем он
узнал от членов Петроградской Чрезвычайки, присутствовавших
при расстреле.
* Автор неверно указывает имена Великих князей, убитых вместе
с Вел. кн. Павлом Александровичем. Правилньно: Дмитрий
Константинович, Георгий Михайлович, Николай Михайлович. — Прим. ред.
М. СМИЛЬГ-БЕНАРИО
НА СОВЕТСКОЙ СЛУЖБЕ*
— Ты должен, наконец, понять, — сказал мой брат, — что
большевики загубили Россию. Неужели тебе не ясно, что всё
то, что теперь у нас происходит, ничего общего с социализмом
не имеет. Ведь большевики довели нашу страну до полного
культурного одичания и систематически разгромили ее
хозяйственную жизнь. Фабрики остановилась, города почти вымерли,
а голодающие пролетарии или разбежались по деревням, или
превратились в красноармейцев, которые с помощью
винтовки должны насадить в России социализм. Как же ты можешь
работать совместно с теми преступными элементами, которые
сидят ныне в большинстве советов? И вообще, как ты можешь
оказывать помощь тому преступлению, которое совершается
сейчас над Россией?
— Я хорошо знаю, — ответил я, — что большевистская
власть принесла с собою много горя. Я знаю, что хозяйственная
жизнь страны разрушается, знаю, что большевизм понемногу
превращается во владычество отдельных комиссаров, знаю
также, что многие из этих комиссаров — люди с темным прошлым.
Я, конечно, вижу, что всюду царит ужас, горе и несчастье, но
именно поэтому я глубоко убежден, что мы, интеллигенты и
социалисты, должны работать вместе с большевиками. Ибо только
таким образом мы сможем очистить революцию от той мрази,
которая к ней присосалась. Кроме того, ты как будто совершенно
не принимаешь во внимание сущность большевизма, который
стремится к осуществлению идеала социальной
справедливости. Большевики были первыми, которые провозгласили лозунг
всемирной социальной революции, — лозунг, давно забытый
социалистическим движением. В каждой революции течет
кровь, и если для уничтожения капитализма и империализма,
сущность которых с такой ясностью обнаружилась в этой
войне, вместе с виновными должны пасть и невинные, то это не
должно нас отшатнуть от осуществления нашей конечной цели.
Из-за какой-то особой интеллигентской чувствительности мы
* Архив Русской революции. Берлин: Слово, т. III, 1921, с. 147—189.
227
не должны останавливаться на полдороги, а должны продолжать
борьбу во имя освобождения порабощенного человечества.
— Всё это очень красивые слова, дорогой мой, но ты, по-
видимому, совсем не отдаешь себе отчета в том, что тот путь,
по которому идут большевики, совсем не ведет к социализму,
а тем более к коммунизму. Если ты будешь продолжать работать
с этими людьми, которые скомпрометировали социализм, то
и на тебя падет доля вины за то, что сейчас совершается над
Россией и социализмом.
— Ты меня всё равно не убедишь. Я пойду своей дорогой,
а ты иди своей. Я во многом не согласен с большевиками, но
сейчас мне приходится выбирать между большевизмом и русской
реакцией. И так как третьего выхода я не вижу, то мне ничего
другого не остается делать, как присоединиться к
большевистскому движению.
Но брат мой упорно стоял на своем:
— А я тебе еще раз говорю, что тот, кто работает с
преступниками, сам становится преступником.
Разговор этот я вел со своим братом в середине августа
1918 г. в Петрограде. Я как раз тогда вернулся из Москвы, где
я 6 месяцев работал в народном комиссариате юстиции в отделе
государственного права, под руководством профессора Рейснера.
Возвратившись по семейным обстоятельствам в Петроград,
я, несмотря на предостережение моего брата, вновь решил
поступить на государственную службу. Я пошел к петроградскому
военному комиссару тов. Позерну119. На основании
рекомендаций, полученных мною из Москвы, тов. Позерн принял меня
на службу в качестве состоящего для особых поручений при
петроградском военном комиссариате. Таким образом, я очутился
в центре жизни красной армии Петроградского военного
округа. Несмотря на те разногласия, которые я впоследствии с ним
имел, я всё же сохранил наилучшие воспоминания о Позерне.
Он внешне имеет большое сходство с бывшим императором: те
же формы лица, та же бородка и та же любезная улыбка. Иной
раз, когда Позерн в полной военной форме принимал парад, мне
казалось, точно передо мной стоит двойник убитого государя.
Позерн является вне всяких сомнений одной из симпатичных
личностей среди большевистских вождей. Человек железной
силы воли, он беззаветно отдался работе по организации красной
армии Северной области. С утра до поздней ночи он без отдыха
228
работал в военном комиссариате. Своей сердечностью и
любезностью он крайне выгодно отличается от других большевиков.
Я ему был от души предан. И я признаюсь, что с того времени,
как я начал сомневаться в большевизме, на меня большое влияние
оказывало то обстоятельство, что Позерн является большевиком.
Ибо я говорил себе, что дело, за которое борется такой человек,
не может быть делом преступным и несправедливым.
Но чем больше я работал в военном комиссариате, тем
все более и более на меня стали находить сомнения. Всё чаще
я стал чувствовать, что брат мой, предостерегая меня от
большевизма, был прав. И если эти сомнения не слишком глубоко
грызли сердце мое, то только потому, что у меня попросту не
было времени отдаваться своим мыслям. Заседания, парады,
допросы, ревизии и служебные поездки отнимали у меня целый
день, так что вечером, возвращаясь поздно усталым домой, мне
было не до того, чтобы думать о правильности большевистских
методов. Иной раз, правда, мне казалось, точно судьба нарочно
желает мне доказать, что в том огромном преступлении, которое
совершалось над Россией, лежит и доля моей вины. Я
вынужден был силой обстоятельств быть свидетелем дикого разгула
большевистской власти.
Террор
В одно печальное туманное августовское утро сидел я в
своем рабочем кабинете. Окна мои выходили на Дворцовую
площадь. Направо находился Зимний дворец, а налево
помещалось огромное здание бывшего Генерального штаба.
Я беседовал с начальником личного отдела, как вдруг
неожиданно на площади раздались выстрелы. Мы подбежали
к окну и увидели, как за кем-то началась на велосипедах погоня.
Я быстро сбежал вниз.
— Что тут случилось? — спросил я стоявших на площади
нескольких военных.
— Урицкого, председателя чрезвычайки, только что
убили, — взволнованно ответил один солдат.
И действительно, через несколько минут подъехал
санитарный автомобиль и увез с собой тело убитого, еще недавно
грозного, председателя петроградской чрезвычайки. Смерть
наступила моментально от пули, попавшей в голову.
229
Как известно, убийцей Урицкого оказался студент
Петроградского Политехнического института Каннегиссер. Кан-
негиссера я хорошо знал по институту, где мы работали на
одном отделении. Покушение, а особенно личность убийцы
меня крайне потрясли. Тяжело было у меня на сердце, когда
через час взволнованно прибежал к нам в комиссариат
тогдашний комиссар военного контроля, молодой коммунист
Духвинский, с которым я был в весьма дружеских отношениях,
и, захлебываясь от восторга, стал рассказывать, как под его
руководством был пойман Каннегиссер. Как известно, после
убийства Урицкого начался страшнейший террор. Всякий, кто
был в те страшные дни в Петрограде, знает, какая дикая
разнузданность, какое своеволие тогда царили в столице. Никто,
за исключением коммунистов и ответственных служащих, не
чувствовал себя в безопасности. Вооруженные красноармейцы
и матросы врывались в дома и арестовывали лиц по
собственному усмотрению. Не было и речи о том, что арестованные
имели хотя бы отдаленное отношение к убийству или самому
убийце. Достаточно было, чтобы данное лицо получало
хлебную карточку по четвертой категории, и его уже арестовывали.
Арестованных отправляли без всякого предварительного допроса
в тюрьму, хотя вся их вина состояла только в том, что они были
«буржуями» или интеллигентами. И эти ни в чем не повинные
люди считались заложниками.
Волна красного террора, как известно, раскатилась затем
по всей России. Комиссар внутренних дел Петровский издал
приказ, по которому все местные советы обязаны были забирать
определенное количество граждан и рассматривать эту
«буржуазную сволочь», как дословно было сказано в том приказе, как
заложников. В случае же если «контрреволюционеры, буржуи
и кулаки» осмелились бы в данной местности поднять
восстание, то местным советам предлагалось заложников безжалостно
расстреливать. Вся Россия стонала от большевистского террора.
Никто не знал, что принесет ему ближайший час.
«Мы убиваем целые классы»
Жизнь в Петрограде становилась всё более невыносимой.
Тяжелая рука террора давила многострадальный город.
Ежедневно происходили аресты и расстрелы, а власть не только не
230
стремилась приостановить массовое убийство, а наоборот, она
лишь разжигала дикие инстинкты солдатских масс. Председатель
петроградской коммуны Зиновьев не испугался бросить в массы
лозунг: «Вы, буржуазия, убиваете отдельных личностей, а мы
убиваем целые классы». И эти слова не остались пустой фразой.
Послушная казенная пресса подхватила эти слова и сделала всё
от себя зависящее, чтоб разжечь в массах жажду крови. Зиновьев
и присные с ним могли торжествовать победу.
Через несколько дней после убийства Каннегиссера, я,
придя рано утром в комиссариат, не встретил Позерна,
который всегда уже с самого раннего утра сидел за своим столом.
Я обратился к управляющему делами военного комиссариата
тов. Ильину-Женевскому120 с вопросом, где Позерн и когда он
придет. Женевский взглянул на меня вопросительно и спросил:
— А вы что, разве ничего не знаете?
— Нет, а что такое случилось? — спросил я.
Ильин тогда нагнулся ко мне и тихо, вполголоса сказал мне:
— Позерна вызвали в Кронштадт, там ночью матросы
ворвались в тюрьму и без суда расстреляли арестованных заложников.
Говорят, что расстреляли чуть ли не 500 человек.
Вскоре пришлось мне почувствовать тяжесть террора и в
нашей собственной семье. И как это почти что всегда бывает,
весь ужас событий начинаешь более сильно ощущать лишь
тогда, когда под их ударами падают близкие нам люди, если
им даже удается избегнуть смерти.
Однажды вечером мне по телефону позвонила моя невестка,
и взволнованным голосом сообщила мне, что ее двоюродный
брат, приятель моего брата, арестован. На ее просьбу я
ответил, что сделаю всё зависящее, чтобы спасти его от смерти.
И действительно, просьба моя и некоторых влиятельных лиц
в чрезвычайке была небезуспешной: родственник моей невестки
был через неделю уже освобожден.
Через несколько дней после его освобождения мы с
братом посетили нашего родственника. Он сильно изменился,
раньше это был человек с всегда сияющей улыбкой, и имел,
несмотря на свои пожилые годы, всегда бодрый и здоровый
вид. Теперь же передо мной стоял совсем другой человек,
с седыми волосами и сгорбившейся под тяжестью лишений
последних дней спиной. После первых приветствий он, рыдая,
рассказал нам следующее:
231
«Ночью, в два часа, я вдруг услышал звонок с черного хода.
Меня сразу же охватило дурное предчувствие. Вы ведь знаете,
до чего у нас в эти дни истаскались нервы. Прислуга встала,
но дверь не открыла, а побежала ко мне в спальню и сказала
взволнованным голосом:
— Там какие-то люди требуют, чтоб я отперла дверь, но
я боюсь.
Я быстро оделся и сам открыл дверь. В квартиру вошло
несколько вооруженных людей.
— Вы гражданин Т.? — спросил один из военных, — мы
должны у вас произвести обыск.
— Да, это я, — ответил я.
Обыск был произведен крайне поверхностно, причем ничего
предосудительного не было найдено. Затем комиссар,
руководивший обыском, стал меня допрашивать и, между прочим, спросил
меня, к какой партии я принадлежу. Несмотря на то, что я заявил,
что я беспартийный, и несмотря также на то, что никакого оружия
и ничего другого запрещенного у меня не было найдено,
комиссар объявил меня арестованным. На мой протест он заявил, что
моя принадлежность к буржуазному классу служит достаточным
поводом для моего ареста. Как я впоследствии выяснил, в ту ночь
комиссар, придя в наш дом вместе с вооруженными
красноармейцами, потребовал от дворника список лиц, получающих хлебные
карточки по четвертой категории. И на основании этого списка
были произведены в нашем доме обыски у "буржуев". Аресты
он производил также по собственному усмотрению.
Меня отвели в местный совдеп и посадили в комнату,
наполненную всякими "контрреволюционерами". В этой комнате мы
просидели целый день без еды, и, казалось, о нашем
существовании уже забыли. Но вот к одиннадцати часам вечера появилась
стража, и нам приказали быть готовыми. В сопровождении стражи
нас отправили в Дерябинские казармы. Прибыв в казармы, наша
партия была размещена в отдельных камерах, которые были уже до
того битком набиты. Мы все расположились на сыром холодном
полу. Несмотря на страшную усталость, никто из нас не думал
о сне. Мы собирались разговорами рассеять мрачные мысли, но
ободрить друг друга нам не удавалось. Ибо мы все знали, в каком
положении мы находимся и что нам угрожало. На другое утро
нас вывели во двор, где уже выстроилась партия приблизительно
в сто человек. Через некоторое время явился комиссар тюрьмы,
232
молодой человек, приблизительно 25 лет, с лицом типичного
преступника. Шапка у него была одета набекрень, за спиной
находилась винтовка, сбоку висел наган, а в руке он держал нагайку,
так что, глядя на него, казалось, что мы возвратились во времена
старой царской России. Комиссар сделал выкличку, а затем он
обратился к нам со следующими словами: "Послушайте-ка вы,
буржуи, вас теперь отправят в тюрьму. Ежели кто-либо из вас
вздумает бежать, то его ждет пуля".
И, видно, для того, чтобы придать своим словам больше
весу, комиссар выстрелил из нагана в воздух.
Под сильным конвоем нас повели по улицам. Вскоре мы
стали приближаться к Петропавловской крепости. Когда мы
ближе подходили к ней, всякий спрашивал себя: "Неужели нас
поведут сюда?" И действительно, конвой повел нас к
деревянному мосту, который отделяет крепость от города. Когда мы прошли
через мост и за нами закрылись ворота, сердце мое сжалось от
внутренней боли. "Заживо погребенные" — эту мысль можно
было прочесть на бледных лицах моих спутников...
Меня вместе с некоторыми другими посадили в одну из
камер знаменитого Трубецкого бастиона. В камере было холодно,
сыро и душно. Пребывание в ней было для нас всех сплошным
страданием. Мы всё наше время проводили в постоянном
страхе за нашу жизнь. Редко мы засыпали, ибо мы все ждали, что
придут как-нибудь ночью за нами и нас выведут на расстрел.
Каждую ночь, приблизительно к трем часам утра, раздавались
выстрелы в крепости. Для нас не было никакого сомнения, что
эти выстрелы обозначали: то расстреливались жертвы кровавого
террора. И каждый из нас с ужасом думал, что вот скоро придет
и его черед, не в эту, так в следующую ночь. До чего нервы мои
в эти дни пребывания в Трубецком бастионе были напряжены,
об этом может судить лишь тот, кто сам находился в таком же
положении, как и я. Сырость, недоедание, ежеминутная боязнь
расстрела, и вообще вся та мрачная обстановка, которая меня
окружала, сделали свое дело — как вы видите, в эти несколько
дней я поседел и постарел. И всегда я спрашиваю себя, почему
я должен был страдать, за что? Неужели потому только, что я
владелец магазина? Ведь только в этом и состоит моя единственная
"вина". Да, мои друзья, — кончил свой печальный рассказ наш
родственник. — Так выглядит та свобода, к которой годами
стремился наш народ», — и он грустно при этом улыбнулся...
233
В последующие дни я был настолько занят службой, что
у меня совершенно не было времени отдаваться мыслям о
происходящих событиях.
Но через несколько дней мне вновь пришлось услышать о
происходящих в Петрограде ужасах. Однажды утром я встретил по
дороге в комиссариат сослуживицу, которая состояла издавна членом
партии большевиков. По ее заплаканным глазам можно было сразу
заметить, что ее постигло какое-то горе. Я спросил ее о причине.
«Что за мрачные и печальные времена мы сейчас
переживаем, — сказала она, — представьте себе, пять дней тому
назад были арестованы четыре инженера с Путиловской верфи.
Один из них женат на моей двоюродной сестре. Сестра моя
справлялась в чрезвычайке о судьбе своего мужа, но ведь туда
простой смертный не может пробраться. По ее просьбе я пошла
на Гороховую, и что ж вы думаете, мне там заявили, что этих
четырех инженеров "по недоразумению" расстреляли».
Если я порою от знакомых или посторонних слышал
о всяких большевистских ужасах, то я ко всем этим рассказам
относился довольно скептически, ибо я уже со времени своего
пребывания в Москве привык к тому, что как оппозиционная
пресса, так и обыватель любили преувеличивать те ужасы,
которые происходили с момента октябрьского переворота в нашей
стране. Но в данном случае я должен был верить, ибо передо
мной стояла настоящая большевичка.
В тот же день к обеду пришел к моей матушке мой брат.
Я заметил, что он при себе имел свой револьвер. Я его попросил
отдать мне на время револьвер, ибо ношение оружия
запрещено, а разрешение, полученное им раньше на ношение оружия,
было уже недействительным. Но брат мой ни за что не хотел
отдать револьвера.
«Сейчас времена не такие, чтобы можно было спокойно
расставаться с оружием».
Через несколько дней поздно вечером меня вызвали по
телефону.
У телефона находился мой добрый приятель, бывший
член 1-го Исполкома.
— Я сегодня был на Гороховой, — сказал он, — и там встретил
вашего брата. Он арестован и просил меня сообщить об этом.
— Что такое? Мой брат арестован, — воскликнул я, — да
вы что, шутите?
234
— Нет, я не шучу. Вы только не волнуйтесь, а подумайте,
что сделать, чтоб его освободить.
Несмотря на поздний час, я немедленно поехал в военный
комиссариат. «Тов. Позерн не оставит меня в беде, — подумал
я. — Может быть, он еще в комиссариате». По дороге я встретил
партию в 30 человек, которых вели под конвоем. Я подбежал
к арестованным, почему-то думая, что среди них может быть
и мой брат. Я сквозь темноту внимательно всматривался в
лица арестованных, но брата моего среди них не было. Один из
конвойных крикнул на меня: «Проходи, ну, чего, людей не
видел? Проходи».
Через несколько минут я был уже в нашем комиссариате.
Я направился в свой кабинет и составил прошение на имя
Президиума Петроградской Чрезвычайной Комиссии по борьбе
с контрреволюцией. Указав на мое положение в военном
комиссариате, я просил освободить брата моего под мое поручительство.
Затем я пошел в кабинет к Позерну. Позерн, действительно,
еще сидел за столом в своем кабинете и совещался как раз с
военным руководителем Петроградского гарнизона. Он на меня
несколько удивленно посмотрел, а потом, улыбаясь, сказал:
— В такой поздний час вы ко мне. Случилось что-нибудь
особенное?
— Нет, товарищ, по службе ничего особенного не
произошло, но нашу семью постигло большое горе. Моего брата сегодня
вдруг арестовали. Я совершенно не могу себе представить, какое
вообще обвинение ему могут предъявить.
— Да, это неприятная история, — сказал Позерн, — ну, что
ж, надо будет кое-что для вашего брата сделать.
Я попросил его тогда поддержать мою просьбу в
Чрезвычайную Комиссию об освобождении моего брата. Позерн
внимательно прочел мое прошение, а затем сбоку написал:
«Прошу Чрезвычайную Комиссию освободить из-под ареста
брата нашего близкого сотрудника, в случае если не имеется
конкретных обвинений».
Я его от души поблагодарил и с радостным сердцем побежал
на телефонную станцию нашего комиссариата, вызвал оттуда по
прямому проводу одного из членов Ч.К. и попросил его
немедленно вынести вниз для меня пропуск, ибо, как известно, без
специального пропуска в Комиссию нельзя было попасть.
Явившись в Ч.К., я попросил доложить о себе кому-нибудь из членов
235
президиума. Через несколько минут ко мне вышел член президиума
тов. Борщевский, которому я передал прошение, с просьбой по
возможности немедленно освободить моего брата. Тов.
Борщевский обещал мне немедленно навести справку, по какому поводу
произведен арест моего брата. Я его поблагодарил и, несколько
успокоившись, пошел домой. Придя приблизительно уже к трем
часам ночи домой, я, физически и нравственно совершенно
разбитый, бросился в постель. Но, несмотря на страшную усталость,
я не мог заснуть, ибо мысли мои всё время были направлены в одну
сторону: я думал о своем брате, сидевшем на Гороховой.
Вдруг дрожь пробежала по телу моему. «Боже мой, ведь он
при себе, наверное, имел револьвер, а ношение оружия простым
смертным ныне под страхом расстрела запрещено. Его, значит,
могут за это расстрелять».
И целую ночь я провел без сна, в страхе за судьбу своего
брата. Рано утром меня разбудил звонок по телефону. Моему
удивлению и радости моей не было границ, когда я услышал
голос брата. Он сообщил мне, что еще ночью его вызвали на
допрос, а затем освободили из-под ареста.
Таким образом, мое прошение и заступничество Позерна
сделали свое дело. Через несколько часов после ареста брат мой
был уже на свободе. В те дни такое быстрое освобождение было
большой редкостью в анналах петроградской чрезвычайки.
Все эти переживания личного характера вызвали во мне
сильное сомнение в правильности тех методов, с которыми
большевики хотели осуществить социализм и углубить
завоевания революции. Как убежденный демократ и социалист,
я никогда всецело не был согласен с методами большевистской
партии. Эпоха террора сделала большевизм для меня еще более
чуждым. Я стал более и более критически относиться к
большевистскому движению, причем я стал сталкиваться почти
на каждом шагу со случаями, которые мне ясно доказывали,
что наша революция под властью большевиков вырождается
в движение бунтовщическое и анархическое.
Принудительные выселения
Чтобы облегчить квартирную нужду бедного населения,
большевики, как известно, стали принудительно вселять семьи
рабочего населения в квартиры буржуазии. С точки зрения
236
социальной справедливости против такого вселения, в конце
концов, ничего нельзя возразить, но для большевиков, по-
видимому, не столько имело значение облегчить положение
бедного населения, как притеснить так называемую буржуазию.
Бывали часто случаи, что квартиры со всем имуществом просто
реквизировались, а владельцы должны были очистить квартиры
в 24 часа. В Москве, например, как раз перед моим отъездом,
было в течение 3-х дней выселено население целого квартала,
находившегося вблизи В.Ч.К. Что. при этом выселялись не
только буржуи, об этом особенно упоминать не приходится.
В Питере реквизиции и вселения производились также не
только в «буржуазных» кварталах. К буржуазии принадлежала ведь
также и наша интеллигенция. Учителя, врачи, адвокаты должны
были часто очищать вместе с семьями свои квартиры, причем
часто выселяемым разрешалось брать лишь часть своего белья.
Таким образом, петербургская власть систематически
потворствовала тому, чтобы подорвать материальное благосостояние
нашей интеллигенции. И это в такой стране, как Россия, где
сравнительно так мало интеллигентных сил!
На мне, между прочим, лежала обязанность просматривать
и удостоверять правильность жалоб на реквизиции квартир
и помещений, совершавшихся военными властями в Петрограде.
При этом я довольно часто наталкивался на поистине
возмутительные случаи. Вот характерный пример. На Охте стояло со
времен Екатерины Великой большое старинное здание, бывшее
когда-то не то дворцом, не то помещичьей усадьбой. В этом
здании находился дом для умалишенных.
Председатель местного совета, который был
одновременно и местным военным комиссаром, решил, что здание
это великолепно подходит под казарму для мобилизованных
красноармейцев, и отдал распоряжение очистить в течение
4-х дней здание для нужд красной армии. Как потом
выяснилось, председатель местного совета был в лично враждебных
отношениях с управляющим больницы. По жалобе комитета
больницы я отправился выяснить на месте положение вещей.
Я установил, что в той местности был ряд других подходящих
зданий, которые могли быть реквизированы. Несмотря на то
что на основании моего доклада наш комиссариат отдал приказ
реквизицию больницы не производить, председатель местного
совдепа все же решил показать свою власть. Уже были посланы
237
милиционеры, которые должны были просто выкинуть на улицу
несчастных больных. В последний момент, благодаря моей угрозе
привлечь председателя совета, как лицо военное, находящееся
в подчинении нашему комиссариату, к ответственности и
предать военно-революционному суду, удалось снять реквизицию.
Впоследствии я потребовал от подлежащих властей, чтобы
Охтенский военный комиссар, он же председатель местного
совдепа, был смещен со своей должности. Но так как он был
старым коммунистом, то его не могли из-за таких «мелочей»,
как мне об этом дословно заявили, сместить. Этот ответ был
характерным для выяснения сущности большевистской
власти. Диктатура партии силою вещей должна была превратиться
в безответственное владычество отдельных лиц.
Трудовая повинность для буржуазии
Чтобы совершенно уничтожить буржуазию как класс,
петроградская власть ежедневно придумывала новые меры,
направленные против нее. Одним из таких мероприятий
была трудовая повинность. К работам по трудовой повинности
стали в Петрограде, насколько я знаю, привлекать со времен
холерной эпидемии. После этого первого «опыта»
Петроградский Исполком, главным образом в лице своего председателя
Зиновьева, стал обращаться в районные советы с просьбой
о присылке «буржуев» на работы, причем, как я потом узнал,
сам Зиновьев давал районным советам следующий добрый
совет — в случае недостатка «рабочих сил» просто ловить на
улицах первых попайшихся «буржуев». Таким образом, в начале
трудовая повинность имела совершенно неорганизованный
и случайный характер. Но понемногу «дело» стало развиваться.
Вскоре я получил «удовольствие» ближе познакомиться с
постановкою дела привлечения буржуазии к трудовой повинности.
В середине октября 1918 года командующий 6-й армией,
стоявшей на Северном фронте, потребовал от нашего
комиссариата выслать для нужд армии 800 рабочих, которые должны
были строить дороги и рыть траншеи. Наш комиссариат решил
для этой цели использовать лиц, привлеченных к трудовой
повинности. Позерн отдал мне распоряжение, чтобы я взялся за
проведение в жизнь этого дела, но я категорически отказался
от этого поручения.
238
«Вы знаете, товарищ, мои политические убеждения, —
сказал я ему, — и вы поэтому поймете, почему я отказываюсь
произвести так называемую мобилизацию буржуазии». Позерн
сразу же согласился с моими доводами и попросил меня тогда
вызвать члена совета 1-го гор. района тов. Ряжкина, который
руководил трудовой повинностью в названном районе. Я
переговорил с Ряжкиным, а затем мы вместе с ним пошли к Позерну
и обсудили все возможности дела мобилизации буржуазии.
Ряжкин согласился произвести мобилизацию буржуазии, причем
уверил нас с Позерном, что он в течение 8 дней сможет доставить
к Николаевскому вокзалу 800 «буржуев». Я, со своей стороны,
вошел в сношение с железнодорожным отделом военного
комиссариата, дабы последний к указанному сроку приготовил
вагоны для отправки рабочих.
Как потом выяснилось, «мобилизация» была произведена
Ряжкиным следующим способом: в совет были приглашены
различные граждане, главным образом из купеческого сословия,
якобы для регистрации, в случае привлечения их в будущем
к трудовой повинности. Когда же граждане приходили в совет
для регистрации, их арестовывали и отправляли в Семеновские
казармы, где они должны были ждать отправки. Но
несмотря на такой весьма «умный» способ привлечения к трудовой
повинности, все же 800 человек собрать не удалось. Тогда
Ряжкин с другими членами местного совета, руководствуясь
директивами, данными им в свое время Зиновьевым, решились
на следующий «замечательный» шаг. За три дня до отправки
на Северный фронт, был по приказу Ряжкина поздно вечером
оцеплен Невский проспект. И всех, кто случайно находился
на этой улице и которые не могли предъявить партийный
билет или удостоверение от какого-нибудь государственного
учреждения, были арестованы и препровождены в
Семеновские казармы. Среди «мобилизованных» находились также
и женщины. На следующее утро женщины были освобождены,
а мужчин оставили в казармах. На третий день вся эта партия
была отправлена в Вологду, где ее, по соглашению, должен был
принять представитель 6-й армии.
Никто из мобилизованных таким несколько странным,
чтобы не сказать более, путем не получил разрешения привести
в порядок свои домашние дела, попрощаться со своими родными
или хотя бы только приобрести соответственную одежду и обувь.
239
Ни Позерн, ни я не имели никакого понятия о том, как
производилась первая мобилизация рабочих для Северного фронта.
Через несколько дней после отправки первой партии
в Вологду мне пришлось с одной комиссией поехать в Ямбург.
Комиссия эта должна была ликвидировать конфликт, который
произошел там между местным советом и военным контролем.
Комиссия состояла из 3-х лиц: из представителя Ч.К., тов. Бор-
щевского, представителя военного контроля и меня, в качестве
представителя Петроградского военного комиссариата.
Во время поездки я разговорился с Борщевским и спросил
его о Каннегиссере, судьба которого меня интересовала.
— Правда ли это, — спросил я его, — что Каннегиссер
еще жив?
— Да, это правда, — ответил Борщевский.
— Но чем же это можно объяснить, ведь его, по-моему,
должны были давно расстрелять.
— Видите ли, — сказал мне Борщевский, — мы его
нарочно не расстреливаем. На кой черт мы его сейчас расстреляем.
Пусть еще помучается некоторое время. Расстрелять мы его
всегда еще успеем.
Мне вспомнился одновременно другой разговор, который
я несколько времени до того вел с членом коллегии народного
комиссариата юстиции Козловским. Мы говорили с ним о тех
порядках, которые царили во Всероссийской Чрезвычайной
Комиссии по борьбе с контрреволюцией. Я спросил его тогда,
почему комиссариат юстиции не принимает никаких мер
против тех преступных и жестоких элементов, которые проникли
в чрезвычайку.
— Ведь нужно же произвести чистку чрезвычайки, —
сказал я, — ведь все эти элементы прямо компрометируют нашу
революцию.
— Да, товарищ, это легко сказать, — возразил мне
Козловский, — но думаете ли вы, что такие люди, как вы или я, годятся
для чрезвычайки? Конечно, нет! Мы сейчас ведем беспощадную
борьбу, борьбу не на жизнь, а на смерть, с контрреволюцией,
и на такую борьбу мы, интеллигенты, не способны. На такую
борьбу годятся лишь толстокожие. Само собой разумеется, что
среди тех жестоких элементов, которые находятся в чрезвычайке,
имеются многие с довольно темным прошлым. Против этого
нельзя ничего сделать. Мы должны с этим примириться.
240
— Сделать против этого кое-что можно, — сказал я себе, —
но просто против этого ничего не хотят сделать.
Лишь впоследствии мне стало совершенно ясно, что вся
система большевистского государственного правления основана
на том, что жестоким и преступным элементам дается
возможность развить свою «деятельность».
В Ямбурге мы остались два дня. В свободное время мы
посещали семью одного старого ямбургского еврея, знакомого
Борщевского. Мы при разговоре касались главным образом
политических событий. Старик часто ставил нам различные
вопросы. Большей частью отвечал Борщевский, который
почти всё время употреблял слова, как «беспощадный», «смерть»,
«расстрел» и т. д. При этом Борщевский также говорил о
необходимости в борьбе со своими врагами прибегать иной раз
к жестоким средствам. Он рассказал при этом несколько случаев
из своей «практики».
Старик внимательно его слушал и под конец сказал:
— Я уж стар и сед, может быть, поэтому я и не могу
понять так хорошо стремления молодого поколения. Я знаю,
что в прошлом было много несправедливого и плохого. Но
я вам говорю: зло вы вашими способами не искорените. Надо
в первую очередь ценить человеческую жизнь. Наша старая
священная религия, наши пророки и ученые всегда говорили,
что человеческая жизнь есть высшее благо. Человек должен быть
самоцелью, а не средством. Да, молодой человек, — сказал он
Борщевскому, — вы улыбаетесь, а я вам говорю: действия ваши
и ваших партийных товарищей к добру не приведут. Придет,
может быть, время, когда и вы вспомните мои слова. Царь
и его слуги также безнаказанно действовали, как и вы сегодня
это делаете. И при самодержавии человеческая жизнь не имела
ценности, и вы знаете сами, к чему это привело. И я вам всем
говорю: ваши взгляды и ваши действия, которые ведут лишь
к кровопролитию и одичанию, добрых плодов не принесут.
После того как наша комиссия ликвидировала конфликт
между Ямбургским советом и военным контролем, мы
отправились на поезд. Перед отъездом у представителя военного
контроля появилась «блестящая» мысль.
— Знаете что, товарищи, — сказал он, — надо-ка
поговорить с заведующим продовольственным отделом, может, он
нам даст картошки.
241
Мы с Борщевским сразу же согласились на это
предложение, пошли в продовольственный отдел, и, действительно,
каждый из нас получил оттуда полтора пуда картошки. С этой
драгоценной ношей мы сели в поезд и отправились в Питер.
На Балтийском вокзале стоял, как на всех российских
вокзалах, заградительный отряд. Солдаты этого отряда тщательно
осматривали вещи всех выходивших пассажиров. При виде
того усердия, которое проявлялось солдатами по отношению
к чужому багажу, я несколько обеспокоился за судьбу нашей
картошки. На мой вопрос, не отнимут ли у нас эту ношу, Бор-
щевский уверенно заявил:
— Бросьте глупости говорить. Кто же посмеет отнять у нас
нашу картошку?
И действительно, несмотря на то что каждый из нас открыто
нес на плечах своих полтора пуда, нас сразу же, как мы только
предъявили наши удостоверения, пропустили без всяких
препятствий. Как раз в тот момент, как я протаскивал свой мешок
с картофелем, солдаты заградительного отряда набросились
на какую-то женщину и отняли у нее муку, которую она несла
с собою. Женщина, как водится, подняла страшный крик, но
ни слезы, ни просьбы ее не помогли.
Мы подошли к ожидавшему нас автомобилю и бросили
в него наши три мешка, но радостно на душе у меня не было.
Мне вдруг стало ясно, насколько несправедлив тот
государственный порядок, при котором мы трое в силу нашего
служебного положения имеем возможность провезти необходимые
жизненные продукты, в то время как у простого смертного эти
же самые продукты отнимались. Но дома меня встретили при
виде моей драгоценной ноши с такой искренней и великой
радостью, что у меня сразу прошло то тяжелое чувство, которое
я всё время ощущал.
На следующий день был парад Петроградского гарнизона
на Марсовом поле. Я, если так можно выразиться, находился
в свите военного комиссара. Войска прошли мимо нас
церемониальным маршем, они имели бодрый и хороший вид
и казались дисциплинированными. На параде присутствовал
председатель петроградской коммуны, который после парада
обратился к солдатам с речью. Как всегда, речь его была
сплошной и низкой демагогией. Я смотрел то на Зиновьева, то на эту
солдатскую массу и спрашивал себя, кто в общем заслуживает
242
больше презрения — этот демагог, который возбуждает толпу,
или сама толпа, которая бурно приветствует этого демагога.
По окончании парада я отправился в военный комиссариат
Рождественского района, чтобы переговорить там с местным
комиссаром по одному служебному делу. Комиссара я там не
застал. Из ответственных служащих был только комендант
налицо. Я решил пойти к коменданту и передать ему то
поручение, которое я должен был выполнить. Патруль повел меня
через темный грязный коридор. Потом мы прошли по узкой
деревянной лестнице и остановились около одной двери.
— Здесь комендант, — сказал мне солдат.
Я постучал. Вначале я ответа не получил. Я постучал тогда
еще раз. Заспанный голос донесся из комнаты: «Войдите».
Я открыл дверь и вошел в комнату. Прямо передо мной
у окна стоял стол, на котором находились сабля и два револьвера.
Налево в углу стояли несколько винтовок. Направо находилась
кровать, на которой лежал мужчина в военной форме; он остался
лежать и при моем появлении.
— Вы комендант? — спросил я.
— Да, я, — ответил он мне, всё еще продолжая лежать.
Я назвал себя. Он моментально вскочил с постели и с
глубоким поклоном и сладчайшей улыбкой попросил меня сесть.
— Простите меня, пожалуйста, если я только что тут
лежал, — сказал он. — Но знаете, я все эти ночи так много работал,
что я могу от трудов отдыхать только днем. Я, видите ли, — и тут
его голос понизился, — каждую ночь совершаю обыски в нашем
районе и арестовываю офицеров и других контрреволюционеров.
Знаете, я уж тут напустил страху. Они меня здесь во! как боятся.
Как только наступает ночь, я сразу же иду на охоту.
И это слово, по-видимому, ему самому очень понравилось,
ибо он ехидно улыбнулся.
— Я, знаете, товарищ, не то что другие, которые берут от
государства деньги и ничего не делают. Я, действительно,
работаю, стараюсь не за страх, а за совесть. И ежели я при этом
и устаю, то всё же у меня осознание, что я служу верой и правдой
советскому правительству.
Я внимательно всматривался в лицо коменданта. Это был
типичный околоточный надзиратель или унтер-офицер старого
режима. По его жестокому и грубому лицу можно было сразу
видеть, что его профессия состоит в том, чтобы мучить людей,
243
попавших в его лапы. По всей его рабской манере можно было
в нем сразу увидеть бывшего «бравого» солдата. Как он, может
быть, в свое время арестовывал революционную молодежь, так
он и теперь с тем же равнодушием арестовывал
«контрреволюционеров». Это был тип, которого можно было тогда, а наверно
и теперь еще, часто встретить в советских учреждениях.
Бывшие полицейские, офицеры, унтер-офицеры и старые царские
чиновники быстро освоились с требованиями нового времени
и перекрасились в красный цвет.
Посылка на принудительные работы в Вологду
Через некоторое время командующий 6-й армией Гиттис121
потребовал для нужд Северного фронта еще 500 человек. Наш
комиссариат вновь поручил дело мобилизации этих рабочих
отделу по трудовой повинности при первом городском районе.
Тов. Ряжкин обещал нам доставить требуемое количество людей
в течение 7 дней. Как впоследствии выяснилось, и эта партия
была таким же «простым» способом мобилизована, как и первая.
В день отправки второй партии в Вологду тов. Позерн
попросил меня лично справиться в первом городском районе о ходе
дела. Приехав в первый городской район, находившийся на
Большой Московской, я навел там справки о положении вещей,
причем Ряжкин мне с торжеством заявил, что удалось собрать
500 человек. Так как я хотел удостовериться, получили ли
мобилизованные отпущенные им из военно-хозяйственного
управления съестные припасы, то я решил отправиться в Семеновские
казармы. Лишь прибыв в казармы, я впервые узнал о том, каким
способом произошла мобилизация. Когда мой автомобиль въехал
во двор казармы, первое, что я увидел, это было
приблизительно 10 монахов, стоявших у ворот. Я спросил сопровождавшего
меня уполномоченного первого гор. района, принадлежат ли
эти монахи также к числу мобилизованных, и получил
утвердительный ответ. Вначале я пошел к так называемому секретарю,
у которого находился список «мобилизованных». Я проверил этот
список, и меня поразило наличие в нем большого количества
лиц старше 45 лет. После того как я пробыл в здании около часа
и удостоверился в том, что съестные припасы, отпущенные по
приказу нашего комиссариата, действительно были получены
мобилизованными, я вышел во двор и намеревался доложить
244
о виденном тов. Позерну. Во дворе стояла уже громадная толпа.
То были мобилизованные «буржуи», которые должны были быть
отправлены на Северный фронт. Толпа инстинктивно поняла, что
я являюсь представителем высшей власти. Меня моментально
окружили и стали обращаться с просьбой об освобождении. Я был
поражен и удивлен тем, что я услышал. Из слов отдельных лиц
мне стало ясно, что никакой мобилизации не было произведено,
а что все эти люди были незаконным способом пойманы на улице
и отправлены в казарму.
Я, конечно, не имел возможности пойти навстречу
просьбам мобилизованных. Поезд, с которым они должны были
отправиться на фронт, стоял уже наготове. Но я всё же решил
выслушать просьбы хотя бы нескольких лиц наудачу. Один
из просителей — пожилой мужчина, заявил мне, что сын его
сражается в рядах красной армии на чехословацком фронте,
и предъявил мне соответствующий документ. Между тем
верховное командование красной армии еще летом издало приказ
о том, что ближайшие родственники лиц, находящихся на
фронте, освобождаются от трудовой повинности. Я спросил
уполномоченного первого гор. района, каким образом могло
произойти, чтобы этого человека мобилизовали.
«Да, помилуй Бог, — ответил он мне, — где же у нас было
время в такой короткий срок заниматься такими делами».
Тогда я заявил, что в качестве представителя военной
власти я под своей ответственностью объявляю просителя
освобожденным. Случайно находившегося тут же студента
я так же, на основании существовавшего декрета от народного
комиссариата просвещения, освободил. Я велел обоим сесть
в автомобиль и хотел покинуть это место людского
страдания. Но как только другие увидели, что я двоих освободил,
все бросились к автомобилю и вновь окружили его. Поднялся
страшный шум, всякий стал просить о своем освобождении.
Один заявлял, что он совсем не «буржуй», другой заявлял, что
он болен, и т. д. С простертыми руками, с умоляющим взором
стояли эти несчастные вокруг меня.
Но что ж я мог сделать? Ведь не мог же я своей властью
освободить всю эту толпу! Я дал знак шоферу, и машина
медленно покатилась.
В этот момент на подножку вскочил пожилой мужчина
и крикнул с раздирающим душу голосом:
245
— Дорогой товарищ, помилуйте меня, шестеро детей
оставил я дома.
Не успел я еще ответить, как сопровождавший меня член
совета ударом в грудь столкнул просившего с подножки
автомобиля. При этом он громко крикнул:
— Да, оставите ли вы, наконец, нас в покое, — и прибавил
затем крепкое русское ругательство.
— Шестеро детей, — воскликнул еще раз упавший.
Но машина уже быстро покатилась вперед, и я оставил эту
шумную несчастную толпу позади себя.
В этот день я окончательно порвал в душе с большевизмом.
Для меня стало ясно, что я никогда, ни при каких условиях не
смогу принять в качестве догмата то издевательство над
человеческой личностью, которое вошло в систему существующей
власти...
Через несколько недель была образована центральная
комиссия по трудовой повинности. В эту комиссию должен был
войти также и представитель от военного комиссариата. Тов.
Позерн спросил меня, не соглашусь ли я в качестве такового
войти в эту комиссию. Несмотря на то что я ясно сознавал, что
должность эта совершенно не соответствует ни моим
политическим, ни моим нравственным убеждениям, я всё же дал свое
согласие. Я надеялся, что в качестве члена центральной
комиссии по трудовой повинности мне удастся облегчить положение
сосланных на Северный фронт.
Когда я впервые, в качестве официального представителя
военного комиссариата, пришел в центральную комиссию,
я сразу же мог убедиться в том, какого сорта «социалисты»
проявляют там свою власть. Чтобы пройти в комнату, где заседал
президиум центральной комиссии, надо было миновать зал,
в котором находилось большое количество людей, в большинстве
женщин, которые наводили справки об участи сосланных или
же хотели подать соответствующие прошения. В тот момент,
когда я вошел в зал, из комнаты президиума выскочил секретарь
комиссии с револьвером в руках и грозно крикнул:
— Уйдете или нет?
Когда он меня увидел (он знал меня в лицо по предыдущим
моим посещениям), он несколько смутился и, как наказанный
школьник, прошептал:
— Простите, товарищ, я вас и не заметил.
246
— Помилуй Бог, — ответил я иронически, — не смущайтесь,
продолжайте только вашу работу.
— Да, ведь, знаете, товарищ, совершенно невозможно
работать, когда вокруг стоят все эти ревущие женщины. У нас
решено на их прошения ответа не давать. Я уж это им сотни раз
заявлял. А они всё стоят на своем и не уходят; так что же мне
остается делать? Я решил тогда прибегнуть к этой игрушке, —
сказал этот «коммунист», указывая на свой револьвер.
Мне удалось с самого начала уговорить своих товарищей
по комиссии запретить ту охоту за людьми, которая в те дни
совершалась чуть ли не ежедневно на улицах бывшей столицы.
Кроме того, по моему настоянию решено было принимать все
прошения, а также устные жалобы в центральную комиссию.
Затем я стал собирать материал о тех, которых отправили на
Северный фронт. При этом я натолкнулся на прямо
невероятные случаи. Так, например, выяснилось, что всех тех, которых
поймали на улице, не подвергли медицинскому осмотру. Таким
образом были отправлены на Северный фронт много больных,
которые к физическим работам совершенно не были способны.
Среди тех, которых потом удалось с большим трудом
освободить, были многие, страдавшие пороком сердца, было много
чахоточных и других тяжкобольных.
Что это значит, если власть находится в руках грубых и
полудиких людей, это показывают некоторые «глубоко
продуманные решения», которые постановляли члены совета первого
гор. района. Так, например, был вытребован в совет, якобы для
регистрации, владелец одного ларька. Но он в это время был
как раз в деревне. Его брат, который был по профессии
банщиком, пошел в совет, чтобы там навести справку, по какому
поводу вытребовали его брата. В совете ему заявили: «Ах так,
твоего брата, значит, нет; ну, что ж? тогда ты можешь за него
поработать». И этот ничего не предполагавший банщик был
тут же схвачен и отправлен через несколько дней в качестве
«буржуя» на Северный фронт.
Другой пример: в совет пришел какой-то крестьянин,
который хотел получить разрешение на выезд из Петрограда. Он
не знал, в какой комнате выдают эти разрешения. Он случайно
вошел в комнату, в которой находилась местная комиссия по
трудовой повинности. На его вопрос, где можно получить
разрешение на выезд, ему сказали, чтобы он подождал в соседней
247
комнате. Между тем в этой комнате сидели вызванные якобы
для регистрации, которые должны были быть отправлены на
Северный фронт. Через некоторое время пришли несколько
красноармейцев и отвели всех находившихся в этой комнате,
а также и того, кто хотел получить пропуск для выезда, в
Семеновские казармы. Таким образом, несчастный действительно
совершил путешествие, но только не туда, куда он хотел, а на
тяжелые работы на Северный фонт.
На случаи такого рода я наталкивался на каждом шагу.
И что меня больше всего возмутило при собирании материалов
о посылке мобилизованной буржуазии на Северный фронт,
это то, что действительные капиталисты и спекулянты среди
сосланных совершенно не были привлечены к трудовой
повинности. Действительные капиталисты, по всей вероятности,
вовремя откупились.
Когда стало известно среди населения, что в центральной
комиссии принимают просителей, ко мне ежедневно стали
являться десятки людей с прошениями и жалобами. И почти всегда
мне приходилось наталкиваться на возмутительные случаи. Так,
я помню, как однажды ко мне явилась одна бедная прачка, муж
которой раньше служил курьером у Сименса и Гальске и который
также, в качестве «буржуя», был отправлен на работу. В ее
прошении, полном орфографических ошибок, находились, между
прочим, следующие фразы: «Как раньше, так и теперь должен
страдать простой рабочий. Буржуи же сидят у себя дома и спят
в теплой постели. Рабочий же должен мучиться. Если мой муж
не вернется, то я с моими детьми скоро умру с голоду».
В одном из других прошений сестра одного ремесленника
писала: «Брат мой однажды вечером сидел в трактире. Вдруг туда
вошли красноармейцы и арестовали всех, находившихся там;
между ними и моего брата. У брата не было как раз
соответствующего удостоверения. Когда я на другой день узнала об аресте
моего брата, я пошла в совет, чтобы выяснить недоразумение.
Но господин комиссар меня не принял, а велел прогнать вон.
Через три дня мой брат, который к тому же болен суставным
ревматизмом, был послан на работы в Архангельскую
губернию. Таким образом, я и мой тяжкобольной отец лишились
единственного кормильца».
Однажды я натолкнулся даже и на такой возмутительный
случай: ко мне явилась жена одного безработного, бывшего
248
раньше на Путиловском заводе. Она заявила, что она осталась
с четырьмя маленькими детьми и не имеет никаких средств
к дальнейшему существованию. Так как я, несмотря на
соответствующие удостоверения, имел основание не всегда верить всему
тому, что мне сообщают просители, то я довольно часто поручал
местным районным комиссиям удостовериться в правильности
тех данных, которые мне сообщались. Я поступил таким же
способом и в данном случае. Районная комиссия Нарвского района,
в котором жила эта женщина, выяснила, что вся семья живет
в одной комнате, в сыром и полутемном подвальном
помещении. И единственного кормильца этих бедных людей отправили
в качестве «буржуя» на работы в Архангельскую губернию!
Когда, наконец, с полной очевидностью выяснилось, что
многие из сосланных были отправлены на работу совершенно
неправомерным способом, я сделал командующему 6-й армии
соответствующее заявление. На основании этого заявления
командующий армией согласился немедленно освобождать
всякого, кто по моему мнению был неправомерным способом
сослан на работы. Таким образом, мне удалось понемногу
вернуть многих сосланных. По их словам, можно было установить
приблизительно следующую картину их крестного пути.
Вечером дня отправки из Петрограда всех ссылаемых
расставили в ряды на дворе Семеновских казарм. Они были
окружены сильным конвоем. Перед тем, как двинуться в путь
к Николаевскому вокзалу, начальник конвоя громким голосом
заявил: «Кто посмеет выйти из рядов, тот будет немедленно
расстрелян». Когда партия стала выходить из ворот казарм,
на улице уже стояли жены и дети ссылаемых. Раздались душу
раздирающие крики. Жены бросились, было, к своим дорогим
родным, но солдаты их оттолкнули прочь. Один молодой студент
увидел среди отправляемых своего старика-отца. Со слезами на
глазах он бросился на колени перед начальником отряда и стал
его просить разрешить ему заместить отца. Начальник, тронутый
самопожертвованием юноши, великодушно согласился на эту
просьбу. И сын отправился на работы вместо своего больного
отца. Точно стадо вьючных животных, их повели к
Николаевскому вокзалу. Ссылаемые не знали, зачем и куда их ведут.
Ибо для того, чтобы кто-нибудь всё же не вздумал бежать, от
отправляемых скрыли место их назначения. Они даже не знали,
хотят ли их оставить в Питере или нет.
249
При отправке транспорта на вокзале произошла сцена,
которая показывает, до какой низости может дойти порой
человек. Один из отправляемых, большой крепкий мужчина, по
внешнему виду купец, попросил начальника конвоя разрешить
ему проститься со своими близкими, которые ожидали его на
другом, не оцепленном стражей перроне. Но начальник конвоя
в просьбе отказал, ибо боялся, что проситель не вернется. Тогда
проситель заявил, что в то время, пока он пойдет прощаться
со своими родными, у поезда в качестве заложника останется
его 16-летний приказчик. Начальник конвоя согласился на эту
комбинацию. Купец, обещав вернуться через несколько минут,
покинул перрон. Но прошел час-другой, а он всё не
возвращался. Мальчик стал горько плакать, прося начальника конвоя его
отпустить. Но начальник был неумолим.
— У меня нет времени искать теперь твоего хозяина, —
сказал он, — теперь ты поедешь вместо него с нами. Я тут ни
при чем, я должен доставить столько людей, сколько у меня
находится в списках.
Поездка продолжалась два дня и одну ночь. По прибытии
транспорта в Вологду между начальником конвоя и местным
комендантом вокзала произошел в присутствии сосланных
приблизительно следующий разговор:
— Кого же это вы нам тут привели?
— А это питерские буржуи, которые присланы для работ
на фронте.
— Что, буржуев, белогвардейцев к нам привели? Да, что мы
тут в Вологде с ними будем делать? Нам тут самим есть нечего.
Начальник конвоя стыдливо улыбнулся.
— Да, вам смешно, — крикнул комендант. — А нам для всей
этой сволочи надо найти помещения. Вы бы уж лучше их сразу
в Питере прикончили. Нас только лишней работой заваливаете.
Партию прибывших расставили в ряд и повели затем по
улицам Вологды. Прохожие останавливались; одни глядели со
злобной насмешкой, другие с сожалением. Уличные мальчишки
бежали за арестованными и кричали: «Питерских буржуев ведут.
Питерских белогвардейцев!»
Вскоре партия достигла того места, где сосланные должны
были быть размещены. То была знаменитая Вологодская тюрьма.
Холодные и сырые камеры этой тюрьмы были первым приютом
этих физически и морально разбитых людей.
250
С ними обращались, как с самыми тяжкими преступниками,
а по прибытии в Вологду бросили в тюрьму. При этих
обстоятельствах неудивительно, что уже в первую ночь несколько
человек сошло с ума, а некоторые покончили с собой...
Пребывание в Вологодской тюрьме продолжалось недолго.
Через несколько дней сосланных распределили по различным
линиям фронта, где они под огнем англичан должны были
совершать тяжелые земляные работы. Их разделили на отдельные
партии по 10 человек в каждой. Причем была введена круговая
порука. Отдельные начальники, которые руководили работами,
заявили, что если один убежит, то остальные 9 будут расстреляны.
Одни должны были рыть траншеи, другие прокладывать
дороги и строить бараки для солдат. Работа эта была большей
частью сопряжена с опасностью для жизни. Часто сосланных
на работы красноармейцы заставляли выносить под огнем
англичан пулеметы, оставленные во время боя. На сосланных
смотрели, как на ополченцев. И они должны были до конца
похода оставаться в армии. Между тем, руководители 6-й
армии, согласно декрету, не имели права удерживать этих людей
более трех месяцев.
Но разве в период диктатуры существует право. «Какое
нам дело до законов, существующих в Петрограде. У нас свои
законы! Вся власть на местах!»
Работа и сопряженные с нею опасности не были главным
злом сосланных. Они куда больше страдали от холода и голода.
В легкой одежде и в тонкой обуви приходилось этим людям
работать при страшных морозах. Между тем они от армии не
получали никакой соответствующей одежды. Их мольбы
оставались без ответа. Близкие их и родные отправлялись в
Вологду и привозили им с собой необходимую теплую одежду. Но
военные власти отказывали в дальнейшей отправке вещей на
линию фронта, под предлогом, что для буржуазии фронтовая
почта работать не может. Солдатам же, находившимся в
Вологде и отправлявшимся на фронт, вещи доверять также нельзя
было. Ибо наши красноармейские «коммунисты» понимали
коммунизм по-своему. «Всё твоё — моё, а всё моё — только
моё». Недаром уже тогда стали говорить в народе про коммуну:
«Кому — "на", а кому — нет».
От голода приходилось сосланным много страдать. Ибо
им отпускалось весьма малое количество хлеба, несмотря на то
251
что они должны были исполнять тяжелую физическую работу.
У местных крестьян им почти ничего не удавалось купить, так
как тех натравили на несчастных «буржуев», которые в своем
огромном большинстве в действительности таковыми совсем
и не были. Комитеты бедноты, видно, уже и на далеком Севере
начали проявлять свою «благотворную» деятельность по части
натравливания одного класса населения на другой.
Из каких элементов, между прочим, эти комитеты бедноты
состояли, видно хотя бы из следующего весьма характерного
факта, свидетелем которого я был. Как известно, в конце 1918
года в Петрограде состоялся съезд комбедов. На съезд собралось
более 20 тысяч человек. Это громадное количество пришлось
распределить по всем свободным частным и общественным
помещениям Петрограда. Часть этой бедноты была распределена
в гостинице «Франция», где я, в качестве служащего военного
комиссариата, имел комнату. Когда окончился съезд и «беднота»
разъехалась по домам, управляющий гостиницы выяснил, что
делегаты взяли с собой ножи, вилки, ложки и даже портьеры.
На память! Как потом выяснилось, и в других гостиницах
делегаты комбедов проводили свои коммунистические идеи тем
же своеобразным способом.
Трудовая повинность в Петрограде
Мне пришлось в центральной комиссии по трудовой
повинности не только заниматься вопросами, связанными со
ссылкою обеих партий «рабочих» в Вологду, но и
организацией трудовой повинности в самом Петрограде. Когда была
образована центральная комиссия по трудовой повинности,
то уже почти во всех районах существовали местные комиссии.
Комиссии эти были различным образом организованы, и
каждая по-своему привлекала буржуазию к трудовой повинности.
Чтобы ввести хотя бы некоторый порядок в дело привлечения
к трудовой повинности, необходимо было выработать единый
план и единый способ привлечения к работам. Работа по
организации трудовой повинности дала мне возможность лично
всмотреться в работу, совершавшуюся районными комиссиями.
Удручающее впечатление производили на меня председатели
районных комиссий. Это были в большинстве грубые, жестокие
и невежественные люди, которые не умели как следует хотя бы
252
подписать свое имя и которые, конечно, не имели никакого
понятия, как организовать всё дело. В особенности вспоминается
мне личность председателя Выборгской районной комиссии тов.
Абрамова. Этот тов. Абрамов имел лицо типичного алкоголика
и преступника. Люди, которым я имел полное основание верить,
уверяли меня, что он при исполнении своих обязанностей вечно
в пьяном состоянии. Кстати, этот самый Абрамов был
впоследствии, после моего ухода, вместо меня назначен председателем
центральной комиссии. По-видимому, и Зиновьев был того
же мнения, как и Козловский, что на такого сорта должности
годятся лишь преступники.
Ежедневно являлись к нам в центральную комиссию с
жалобами на неправомерные действия в районных комиссиях.
Особенно много было жалоб на то, что районы привлекали
к трудовой повинности лиц старше 50 лет. Насколько местные
власти терроризировали население, видно хотя бы из следующего
случая. Ко мне однажды явился полуслепой и полуглухой
старичок. Он был настолько слаб, что его должна была провожать его
внучка. Каково было мое удивление, когда я от него узнал, что
его привлекают к трудовой повинности. Он просил меня дать
ему удостоверение, по которому он не должен быть привлечен
к трудовой повинности. В этой просьбе я ему отказал, ибо считал
выдачу такого удостоверения совершенно излишней. Но через
день он вновь явился и предъявил мне бумагу, на основании
которой он должен был явиться на работы. После этого я ему,
конечно, выдал надлежащее удостоверение.
Однажды Василеостровская районная комиссия послала на
работы по выгрузке дров партию в 25 человек. Из них 12 было
старше 50, а 8 старше 55 лет. Я был возмущен, что
Василеостровская комиссия привлекает на работы только стариков. Я их
немедленно силою своей власти от работ освободил, несмотря
на то что это вызвало нарекание со стороны других членов
центральной комиссии.
Однажды к нам в комиссию была доставлена партия
в 35 человек, которую мы должны были распределить по
районам. Среди этой партии находился один старый татарин,
который предъявил удостоверение, из которого было видно,
что он уже отбыл трудовую повинность в Спасском районе.
Комиссия Спасского района отпустила его на несколько дней
для отдыха. Несмотря на это удостоверение, его вместе с осталь-
253
ными схватили на улице и продержали ночь в тюрьме. На его
протесты член Петроградской районной комиссии, в пределах
района которого он был пойман, заявил ему: «Какое нам дело
до Спасского района. Ты пойман в нашем районе, и здесь твое
удостоверение недействительно».
Татарин был крайне удивлен, когда я ему по выяснении этого
дела заявил, что он может идти домой. От радости он заплакал.
«Суд над буржуями»
Однажды вечером к нам в комиссию были приведены десять
человек из Вологды. Они были обвинены в том, что они хотели
подкупить начальника конвоя, отправлявшего первую партию
на Северный фронт. После того как они в Вологде сидели
целый месяц в предварительном заключении, вологодские власти
решили их отправить в распоряжение нашей комиссии. Мои
товарищи по комиссии решили в свою очередь отправить этих
10 человек в распоряжение чрезвычайной комиссии. Я самым
решительным образом стал возражать против этого решения,
ибо я хорошо знал, что в чрезвычайной комиссии их ждет либо
расстрел, либо, в лучшем случае, долгосрочное тюремное
заключение. Я потребовал, чтобы предварительно мы выслушали
этих 10 человек, а затем бы решили, что с ними сделать. Мои
товарищи вначале не соглашались с моим мнением. Они ко мне
стали уже тогда относиться с некоторым недоверием, ибо я был
для них всегда слишком мягок. Благодаря происходившим часто
пререканиям, мои отношения к остальным членам комиссии
становились всё более натянутыми. Но всё же мне удалось их
убедить произвести нам самим допрос присланных в наше
распоряжение. Допрос выяснил следующие обстоятельства.
Эти 10 человек, как и многие другие, были в свое время
вызваны в комиссию по трудовой повинности 1 -го гор. района якобы
для регистрации. Но их, конечно, и не думали регистрировать,
а тут же, несмотря на протесты, арестовали и отправили в
Семеновские казармы. Их близкие узнали об их печальной участи лишь
тогда, когда они уже находились в Вологодской тюрьме. Так как
обвиняемые по дороге получали весьма мало продовольствия, а с
собой они ничего взять не успели, то они собрали между собой
деньги, чтобы, как они заявили, по прибытии в Вологду иметь
возможность как следует поесть. Деньги эти они отдали начальнику
254
конвоя с просьбой позаботиться об их пропитании. Когда
транспорт прибыл в Вологду, все 10 человек пошли в сопровождении
начальника конвоя на вокзал, где был заказан ими обед. Во время
еды начальника конвоя вызвали к поезду, где конвойные бросили
ему обвинение, что он подкуплен этими 10 лицами. Начальник
конвоя понял, что дело принимает для него неприятный оборот.
Он заявил, что «буржуи» действительно его хотели подкупить, но
он на это не согласился. А для того, чтобы конвойных успокоить,
он велел немедленно арестовать этих 10 человек. В сопровождении
нескольких солдат он пошел в зал вокзала, где обедали обвиняемые,
и арестовал их. По дороге в тюрьму один из солдат заявил
обвиняемым, что их ведут на расстрел, ибо они пытались подкупить
начальника конвоя. Но всё же их повели не на расстрел, а заперли
в тюрьму. На следующий день в тюрьме их посетил начальник
конвоя и заявил, что он ходатайствовал за них и что они будут
в скором времени освобождены. Один из несчастных
заключенных из благодарности даже поцеловал у начальника конвоя руку
Но, несмотря на обещание, им пришлось целый месяц пробыть
в Вологодской тюрьме.
В объяснительной записке к этому делу начальник конвоя
заявлял, что эти 10 буржуев действительно хотели его подкупить
и что он от них деньги принял, но сделал это только для того,
чтобы иметь доказательство против обвиняемых. Меня крайне
удивило то обстоятельство, что начальник конвоя лишь тогда
решил вернуть деньги, когда его товарищи по конвою стали
обвинять его во взяточничестве. Кроме того, ясно было, что
если бы у него совесть была чиста, он бы не посетил обвиняемых
в тюрьме и не ходатайствовал бы за них. Также было ясно для
меня и то, что обвиняемые действительно хотели подкупить
начальника конвоя, ибо сумма в 2 тысячи рублей, переданная
ими начальнику конвоя, казалась мне слишком большой для
одного обеда, даже для 10 человек. Но с другой стороны, мне
казалось, что нельзя рассматривать как преступление попытку
этих людей вернуться в Петроград, принимая во внимание те
обстоятельства, при которых они были взяты на работы. Я
решил поэтому во что бы то ни стало добиться освобождения этих
людей, тем более что месяц пребывания в Вологодской тюрьме
можно было считать достаточным наказанием. К сожалению,
мне не удалось убедить своих товарищей по комиссии в правоте
моих доводов и мне не удалось добиться немедленного осво-
255
бождения этих людей, из которых никто в действительности
к буржуазному классу не принадлежал. Один из них к тому же
был семнадцатилетним мальчиком, другой чахоточным.
Наконец, после долгих споров мы постановили следующее:
передать их дело не в распоряжение чрезвычайной комиссии,
а в районный суд. При этом мы с обвиняемых взяли расписку,
что они каждые три дня до разбора их дела в суде будут являться
для регистрации в комиссию. Одновременно мы им заявили, что
если кто-либо из них сбежит, то все остальные несут
ответственность по законам военного времени. Как ни суров был этот
«приговор», я всё же дал под него свою подпись, ибо это была
единственная возможность облегчить несчастным их страдания.
Но для того, чтобы дело этих десяти приняло на суде по
возможности благоприятный для них оборот, я лично зашел
к председателю суда, передал ему акты по этому делу и
соответственно его обработал. При прощании он мне обещал дело
этих десяти прекратить.
В одно воскресенье на Марсовом поле состоялся парад.
В этот день состоялся 1-й выпуск пролетарских офицеров.
Погода была мрачной. Шел дождь, но парад всё же удался. Как
в старые времена, колонны прошли церемониальным маршем.
По окончании парада Позерн обратился с речью к пролетарским
офицерам. В ней он, между прочим, указал, что основная задача
этих новых офицеров, вышедших из радов пролетариата, — это
держать высоко знамя социализма. Им суждено будет красное
знамя революции водрузить и в других странах.
Я стоял радом с Позерном и мог поэтому хорошо слышать
всю его речь. «О каком это социализме говорит Позерн, —
думал я, — о том социализме, за который боролись тысячи
лучших людей? Или, может, он думает, что эти офицеры должны
с помощью своих штыков насадить тот "социализм", который
царит у нас в центральной комиссии по трудовой повинности?»
Вечером в честь красных офицеров был дан спектакль
в Мариинском театре. Должен был быть представлен «Борис
Годунов» с Шаляпиным в главной роли. Так как мне нужно
было оставаться в военном комиссариате, то я оттуда вместе
с Позерном прямо поехал в театр. По дороге мы
разговорились о наших служащих. Мы оба согласились на том, что у нас
в комиссариате, как и всюду в России, плохо работают и что
понемногу начинает развиваться страшнейший бюрократизм.
256
— В этом бюрократизме, по-моему, главным образом
виновата сложная и плохо организованная система нынешнего
государственного управления, — сказал я.
— Нет, не система виновата, — возразил Позерн, — а
главным образом саботаж интеллигенции. Кроме того, всё же
нельзя забыть, что народ еще не привык к самостоятельной
деятельности.
— Да, товарищ, — ответил я, горько улыбнувшись, — в том
то и дело, что народ наш еще не столько развит, чтобы взять
всецело бразды правления в свои собственные руки.
— Против этого можно еще спорить, но, конечно, многое
могло бы быть у нас лучше. В государственном механизме
многого не хватает.
— Мне кажется, что нельзя с такою резкостью проводить
свои идеи. Мы этой резкостью приобретаем лишь излишних
врагов. Многое, что сейчас совершается, может быть делаемо
в более мягких и менее грубых формах.
— Ну, конечно, — сказал Позерн, иронически улыбаясь, —
в более мягких формах. Сразу же видно, что вы принадлежите
к соглашателям.
В этот момент машина подъехала к театру, и мы должны
были оборвать наш разговор.
В зале Мариинского театра, где в прежние времена можно
было встретить лишь гвардейских офицеров, представителей
дворянства, деятелей финансового мира, надушенных,
элегантных дам, сидели теперь солдаты, рабочие и советские служащие
в их простых одеждах.
Перед представлением к присутствующим обратился с
речью народный комиссар просвещения тов. Луначарский. Он
напоминал о тех тяжелых временах, который некогда переживала
Россия в царствование Бориса Годунова. Тогда было время, когда
русский народ боролся за свою национальную свободу. Теперь
же он борется за свое социальное освобождение. И как тогда,
так и теперь народ достигнет своего, и на развалинах старого
капиталистического мира, полного социальных
несправедливостей, он построит новый мир в соответствии с идеалами
социализма. Он указал затем на то, как много уже сделано для
социального блага народа и что уже достигнуто с октябрьской
революции во внешней и внутренней жизни России.
Необходимо еще многое совершить, для того чтобы укрепить завоевания
257
нашей социальной революции. Но с другой стороны, можно уже
и теперь с уверенностью сказать, что революция у нас в
России победила. «А вы, красные офицеры, — окончил свою речь
Луначарский, — вы покажите врагам советской республики,
что русский народ сумеет защищать свою революцию и свою
независимость».
После речи Луначарского начался спектакль. Как и всегда,
«Борис Годунов» произвел на меня и в этот раз глубокое
впечатление. Я уже раньше слышал эту оперу, но никогда содержание
ее меня так не затрагивало, как в тот вечер.
И мне вдруг пришла мысль, что и я виновен в одном
большом преступлении. Разве это не я, на основании приказа
военного комиссариата, поручил совету 1-го гор. района доставить
на Северный фронт необходимое количество человеческого
материала? И в то время, как там на сцене перед глазами царя
проходила картина его преступления, я увидел пред собою
другую картину: Суровый холодный север... В траншеях стояли по
колено в воде, в разорванных одеждах, с измученными лицами
сотни несчастных и совершали свою тяжелую работу. Вдали от
своих близких и друзей погибали там эти мученики и жертвы
человеческого озверения... Я содрогнулся при этих мыслях.
Однажды вечером ко мне на квартиру явилась одна знакомая
дама и рассказала следующее:
— Четыре месяца тому назад мой шурин, который служил
в Красном Кресте, был арестован якобы за спекуляцию. Теперь
уже он 4 месяца сидит в Кронштадтской тюрьме. Его до сих пор ни
разу не допросили. Несколько дней тому назад его жена получила
от него письмо. В нем он пишет, что тело у него покрылось
язвами, полученными им во время пребывания в тюрьме. Из письма
видно, что он в отчаянии. Если он еще пробудет некоторое время
в тюрьме, то я уверена, что он не выдержит, ибо у него к тому
же тяжелый порок сердца. Прошу вас, помогите мне. Может, вы
могли бы переговорить с кем нужно об этом деле на Гороховой.
Я ей обещал сделать всё от меня зависящее.
На следующий день я пошел в чрезвычайную комиссию и
велел о себе доложить члену президиума, тов. Чурину, у которого
находилось дело, о котором я хотел хлопотать. Он меня принял
крайне любезно и затребовал немедленно акты по этому делу.
Но прошло не менее часа, пока наконец акты были найдены.
258
Когда тов. Чурин прочел документы, он заявил:
— Да, послушайте, ведь этот же господин бывший офицер.
— Да, во время войны он был офицером, — ответил я.
— Так что ж вы хотите? Этим всё сказано.
— Но, помилуйте, товарищ, — возразил я, — я думаю, что
принадлежность к офицерскому сословию не является еще
достаточной причиной, чтобы держать человека четыре месяца
без допроса.
— Я не понимаю, что Вы от меня хотите? Вы же слышали,
что этот человек бывший офицер.
— По-моему, это еще не есть преступление.
— Как Вы можете мне говорить такие вещи? — сказал он,
возвысив голос. — Если Вы революционер, то Вы не должны
так говорить.
Потом вдруг неожиданно он спросил меня:
— Скажите, товарищ, а Вы коммунист?
Разговор, по-видимому, стал принимать для меня
неприятный оборот. После некоторого раздумья я спокойно ответил:
— Нет, я не член коммунистической партии.
— Вы не коммунист, — произнес Чурин, и он посмотрел
на меня удивленными глазами. — Так каким образом, скажите
мне, пожалуйста, Вы являетесь председателем центральной
комиссии по трудовой повинности?
При этом вопросе я, откровенно говоря, почувствовал себя
довольно неважно. В холодном тоне я ответил:
— По всей вероятности, имелись основания, почему меня
районные комиссии избрали председателем. Но я вижу, что нам
с Вами больше не о чем говорить. До свидания.
И с этими словами я покинул чрезвычайку.
Я пошел пешком домой. Мне захотелось вдруг курить, но
папирос у меня не было. По карточкам уже целый месяц ни
одной штуки нельзя было получить. На Невском я заметил на
различных углах женщин, мужчин и детей, продававших по
безбожным ценам хлеб, шоколад, сахар, папиросы и тому
подобные вещи. Я подошел к одной пожилой женщине, которая
продавала папиросы, и спросил ее, сколько они стоят.
— За деньги я не продаю, — получил я в ответ. — Я меняю
папиросы лишь на хлеб.
Я содрогнулся от этого ответа. Вот до чего дошла наша
хлебородная Россия!
259
На углу Литейного и Невского продавцов было так много,
что они образовали целую толпу. Так как я никогда не имел
возможности внимательно всмотреться в уличную жизнь
Петрограда, то я решил использовать свободное время, которое
я случайно тогда имел, и немножко потолкаться среди этой
разношерстной толпы.
— Не хотите ли шоколаду, молодой человек? — спросила
меня хорошо одетая девушка.
Одновременно ко мне подбежало еще несколько человек
и предложили мне какую-то, с позволения сказать, дрянь.
В толпе я заметил двух юных гимназистов, в возрасте от 13 до
14 лет. Они громко предлагали прохожим свой товар — горячие
пирожки. В этот момент подошли к мальчуганам несколько
кокоток; одна из них спросила:
— Сколько же стоит пирог?
— Пять рублей штука, — заявил один из гимназистов.
— Ишь ты, маленький спекулянт, какую цену загнул.
Может быть, ты дешевле продашь, — сказала она сладким голосом
и нежно прижалась к мальчику. В этот момент проходило как
раз трое матросов.
— Ишь ты, какие хорошенькие девочки, — крикнул один
из них, а затем, подмигивая глазом, он сказал: — Пойдемте-ка
с нами, нечего вам тут без дела шататься.
Кокотки немедленно оставили гимназистов вместе с их
пирожками и ушли с матросами.
— Да, конечно, — крикнул один из мальчуганов вдогонку
уходившим кокоткам. — Как только увидите ваших кавалеров,
так вы уж готовы всё забыть, — и при этом он выругался
крепким русским словом.
Эта сценка лучше всяких слов показывала, что заботы
большевиков о подрастающем поколении, благодаря общему
тяжелому положению, в котором находилась страна, фактически
сводится к нулю.
Вначале октября 1918 года матушка и брат мой покинули
Петроград. Матушка моя уехала в Германию к своим
родственникам, а брат мой решил переехать в Вильну. Там можно было
еще кое-как прокормиться, ибо в Петрограде становилось
невозможным жить с женой и ребенком. Когда я встречал своего
маленького племянника, то сердце мое всегда надрывалось от
260
боли. Мальчик был бледен и худ. Несмотря на свои пять лет,
голод заставлял его вдумываться в то, что происходило. «Знаешь
что, дядя, — сказал он мне однажды, — теперь нужно меньше
есть, ибо у нас в стране голод». Но не только голод заставил
моего брата покинуть Петроград. Он был членом центрального
комитета Плехановской группы «Единства», и в качестве
такового ему вновь мог грозить арест. И так как никаких дальнейших
видов на будущее в Питере не было, то ему ничего другого не
оставалось, как покинуть родной город. Вообще к этому
времени началось повальное бегство из Питера. Кто только мог,
покидал голодную столицу. Из круга моих знакомых и близких
я почти остался один в Петрограде. Улицы опустели. Бывшего
мирового города нельзя было узнать...
Вечером 10 ноября пришли первые известия о германской
революции. Вечером того же дня я должен был переговорить по
одному делу с начальником политического управления военного
комиссариата Ильиным-Женевским. Когда я вошел в кабинет
к Ильину, его там еще не было. Я решил подождать. Через
несколько минут в комнату вошел один из служащих комиссариата
и спросил начальника Политического Управления. Секретарь
сказал, что он сейчас придет, но если проситель желает, то он
может обратиться и ко мне. Тогда служащий подошел ко мне
и спросил меня, не могу ли я ему помочь в том горе, которое
его постигло. На мой вопрос, в чем дело, он рассказал мне
следующее.
Из-за событий последнего времени жена его лишилась
рассудка. Ее помешательство произошло на религиозной почве.
Вначале он поместил ее в одной лечебнице для умалишенных.
Но ввиду того что условия пребывания в больнице были ужасно
тяжелыми, он решил взять ее обратно к себе домой. Так как
дома призор за ней был довольно слабый, то ей удалось
однажды бежать из дому. Как потом оказалось, она села в поезд
по направлению в Новгород. В Новгороде на вокзале она была
арестована агентами Новгородской чрезвычайки. При допросе
она, как потом было занесено в протокол, заявила, что она
ниспослана Богом на землю проповедовать слово Божие, для
того чтобы люди вновь стали думать о спасении души своей
и ходить в церковь. Вместо того, чтобы на основании этого
несвязного бреда передать ее на излечение в лечебницу для
умалишенных, члены Новгородской чрезвычайной комиссии
261
не сочли даже нужным подвергнуть ее медицинскому осмотру,
а прибегли к более радикальному средству. Они постановили
несчастную расстрелять.
— Я прошу Вас, — закончил наш служащий свой печальный
рассказ, — помогите мне, чтобы мне выдали тело жены и чтобы
я мог ее похоронить. Вот это всё, о чем я прошу.
После того как он мне предъявил соответствующие
документы, по которым я мог проверить правдивость его рассказа,
я обещал переговорить об этом деле с начальником
политического отдела.
Мне вспомнился при этом другой случай, где также
виновные не понесли должного наказания. Несколько дней до
того в кабинет того же начальника управления взволнованно
вбежал один из комиссаров Военного Контроля. На мой вопрос
о причине его волнения, он мне ответил:
— Черт знает что такое! Произошла довольно неприятная
история. Представьте себе, из Пскова мне переслали бумаги
по делу одного белогвардейского шпиона на мое
окончательное рассмотрение. Я дело внимательно прочел и написал
резолюцию: расстрелять. И вот теперь получаю из Пскова
сообщение, что псковской отдел по недоразумению расстрелял
другого. На мой вопрос, будут ли те, которые виновны в этом
«недоразумении», привлечены к ответственности, комиссар
мне сказал: «Где же там их привлекать к ответственности.
Ведь не можем же мы в самом деле ежедневно менять наших
уполномоченных и служащих».
У Зиновьева и Максима Горького
Между тем начались уже сильные холода. Большинство
сосланных должны были погибнуть в своих легких одеждах.
Я поэтому решил обратиться к председателю Петроградской
коммуны Зиновьеву и попросить его, чтобы он своей властью
приказал вернуть сосланных в Питер. Я пошел в Смольный
и велел доложить о себе Зиновьеву. Меня принял Копяткевич,
управляющий делами совета комиссаров Северной области.
Копяткевич заявил мне, что Зиновьев должен как раз поехать
на собрание коммунистической партии и поэтому не может
262
меня принять. Мне ничего другого не оставалось, как передать
Копяткевичу материал по моему делу.
Через несколько дней я получил от Зиновьева ответ, в
котором было сказано, что я должен вновь обратиться в военный
комиссариат по этому делу.
Я уже начинал сомневаться в том, что сосланные смогут
вернуться. Всё же я рассчитывал на предстоящую
мобилизацию буржуазии. Но уже через несколько недель начальник
мобилизационного отдела мне сообщил, что мобилизованные
18 возрастов буржуазии должны будут быть отправлены на
Западный фронт и поэтому о замене сосланных в Вологду не
может быть и речи. Когда я получил это сообщение, я понял,
что спасти сосланных невозможно. Большинство из них были
обречены на смерть.
Деятельность моя в центральной комиссии по трудовой
повинности отныне больше не имела смысла. Оставаться
в этом учреждении и сознавать одновременно, что никакой
пользы никому я принести больше не смогу, было для меня
невыносимо. Мои товарищи по комиссии становились всё
более подозрительными по отношению ко мне. Они стали
открыто выражать недовольство по поводу моего отношения
к делу. С другой стороны, и личные недруги мои из 1-го гор.
района создали вокруг меня атмосферу, при которой работать
становилось совершенно невозможно. Я поэтому решил подать
в отставку. Отставка была принята, и вместо меня был назначен
председатель Выборгской комиссии Абрамов, тот самый
господин, характеристику которого я уже выше дал.
Я вновь возвратился к своим обычным занятиям в
военный комиссариат. Но всё же то обстоятельство, что все мои
попытки изменить постановку дела по трудовой повинности
и возвратить сосланных окончились неудачей, не давало мне
покоя. Я поэтому решил каким-нибудь способом двинуть дело.
Независимой прессы не существовало, а поэтому публиковать
данные о тех порядках, которые существовали в комиссиях по
трудовой повинности, конечно, нельзя было. Рассчитывать на
соответствующую кампанию прессы я, таким образом, не мог.
Однажды я прочел в «Северной Коммуне», что Максим
Горький выбран в президиум Петроградского Исполнительного
Комитета. Мне тотчас же пришла мысль обратиться к нему, ибо
я был уверен, что Горький использует свое официальное поло-
263
жение, дабы помочь тем несчастным, которые были сосланы
в Вологду. При помощи одного из своих бывших сослуживцев
я собрал необходимый материал, по которому можно было
судить об обстоятельствах, сопровождавших так называемую
мобилизацию. С этим материалом я пошел к Горькому. На
этот раз я не ошибся в своих ожиданиях. Я рассказал обо всех
подробностях дела, о моих безуспешных переговорах с
Зиновьевым и Позерном и, передав Горькому материал, попросил его
предпринять соответствующие шаги. Горький отнесся крайне
отзывчиво к моим словам. Он, между прочим, сказал, что он уже
раньше знал о тех неслыханных сценах, которые происходили
в связи с привлечением буржуазии к трудовой повинности.
Среди сосланных на работу находился, по словам Горького,
также известный писатель Изгоев122.
— Вообще, сейчас у нас в Питере ужасные порядки. Вот
вчера пришла ко мне одна моя знакомая, жена присяжного
поверенного, — продолжал Горький, — и попросила меня
вступиться за ее мужа. Его обвиняют в том, что он принял участие
в каком-то революционном заговоре. В чрезвычайке, куда
повели моего знакомого, его стали бить прикладами, и так как он
человек уже пожилой, то он от побоев потерял сознание. Что
касается вашего дела, то я передам его лично Ленину. Я через
несколько дней еду в Москву и возьму ваш материал.
— А разве не целесообразнее будет предпринять что-либо
в Петрограде? — спросил я его.
— Вы же сами видели, — ответил Горький, — что здесь
ничего достигнуть нельзя. В Петрограде ныне произвол возведен
в принцип.
Я поблагодарил Горького за его участие в моей просьбе
и заявил при прощании, что я готов показания свои при
необходимости лично подтвердить и разъяснить. После этого
разговора я начал опять надеяться, что, может быть, удастся
вернуть сосланных в Вологду
Ужасы большевистской России
До моего поступления в центральную комиссию по трудовой
повинности я организовал Бюро печати при нашем комиссариате
и заведовал им. С моим назначением в центральную комиссию я,
конечно, был вынужден оставить мою работу там. После того как
264
я вернулся обратно в военный комиссариат, я по старой памяти
часто захаживал в свой бывший отдел. Однажды, как-то придя
в Бюро печати, я застал там нескольких бывших сослуживцев,
из которых один обратился ко мне: «Хотите ли, товарищ, знать,
что происходит у нас на Руси? Вот, почитайте-ка!» И с этими
словами он передал мне бюллетень бюро военных комиссаров.
Эти бюллетени издавались в Москве под редакцией
председателя бюро, тов. Юренева. В них помещались сведения не для
«печати». Когда-нибудь историк, который захочет получить
полную картину о тех ужасах, которые творились в нашей
стране в дни большевистского режима, должен будет непременно
использовать эти бюллетени.
Я начал читать переданный мне моим сослуживцем
очередной бюллетень. В нем помещались сведения о событиях
последней недели.
«В Н-ской волости такой-то губернии произошло восстание
кулаков, которые натравили население на советскую власть.
С помощью военных мер восстание удалось быстро подавить.
Вожди восстания расстреляны».
«Н-ский пехотный полк взбунтовался и перешел на сторону
белогвардейцев».
«Пехотный полк В... взбунтовался в гор. Н. Солдаты
убили командира полка, а затем рассеялись с оружием в руках по
городу. В городе начались грабежи и поджоги. Посланы войска
для усмирения».
«Солдаты одного петербургского пехотного полка
разграбили при отправке на фронт на станции Н. поезд с съестными
припасами. Этому открытому грабежу нельзя было
воспрепятствовать».
«В Н-ском уезде, такой-то губернии, крестьяне под
влиянием агитации местных кулаков разогнали комитет бедноты.
В уезд посланы войска и контрреволюционеры понесут должное
наказание».
«В такой-то волости Н-ской губернии крестьяне отказались
выдать урожай. При этом произошли кровавые столкновения
между местными крестьянами и продовольственным отрядом.
Крестьяне должны были сдаться. До сих пор по постановлению
уездной чрезвычайной комиссии расстреляны 10 зачинщиков».
«Во многих деревнях такой-то губернии крестьяне
отказались поставлять лошадей для красной армии. Крестьяне
265
оказали пришедшим войскам карательного отряда упорное
сопротивление, которое всё же удалось быстро сломить.
Особая комиссия, делегированная губернской чрезвычайкой, уже
прибыла на место и начала действовать».
«В селе таком-то Н-ской губернии местные крестьяне
отказались следовать приказу о мобилизации. Село было
подвергнуто артиллерийскому обстрелу. После этого крестьяне
сдались. Следствие ведется ускоренным темпом».
И так далее без конца!
Здесь подавлено восстание, там расстреляли нескольких
людей, в другом месте разрушены села и деревни, в третьем
грабят и убивают — море огня и крови. Такова была картина
России в начале 1919 года!
При чтении этого бюллетеня мне невольно вновь пришли
мысли о бегстве. Ведь оставаться дальше в России при том
положении, при каком я находился, означало — работать на укрепление
той самой власти, которая виновна во всех этих ужасах!
Через несколько дней я случайно имел возможность
посетить балет в Мариинском театре. Балет был еще единственным
местом в Петрограде, где я порою мог забыть все те ужасы,
которые меня окружали. По окончании спектакля я при выходе
из театра случайно встретил одного из тех граждан, которых
мне удалось освободить из Вологды. Он подобострастно мне
поклонился. Я его сразу же узнал и спросил, как он поживает.
— Спасибо, очень хорошо, — ответил он с сладчайшей
улыбкой на лице, — я теперь работаю в Смольном.
— Что такое? — спросил я его с удивлением. — Вы
работаете в Смольном?
— Так точно, — ответил он, продолжая сладко
улыбаться, — мне удалось устроиться там в санитарном отделе. Я теперь
занимаюсь тем, что реквизирую в магазинах и частных квартирах
мебель для санитарных целей.
Итак, человек, который только что страдал под гнетом
большевистской власти, из нужды идет на службу в Петроградский
Совет, реквизирует у других мебель, мучает своих сограждан и,
может быть, станет в скором времени даже коммунистом «по
убеждению».
Через несколько дней меня посетил один товарищ,
приехавший из Вологды. Во время разговора я, между прочим, спросил
266
его, не знает ли он что-либо о судьбе сосланных из Петрограда
на военные работы. Он мне рассказал кое-что о них, а затем
вдруг сказал: «Ах, да, между прочим, знаете, вы в Вологде
среди отбывающих трудовую повинность сделались своего рода
знаменитостью. Все сосланные знают вас по фамилии. Вас там
вместе с тов. Ряжкиным ежедневно проклинают. Сосланные
считают вас обоих главными виновниками их несчастий. Так
что смотрите, — прибавил он смеясь, — в Вологду ни ногой».
Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы помочь
сосланным, чтобы вернуть их женам и детям. Благодаря моим
стараниям большая часть этих людей была освобождена. И вот
теперь, вдруг те же самые люди проклинают и ненавидят меня.
Разве это не ирония судьбы? Меня ненавидят и проклинают.
И почему это? почему? Только потому, что все эти люди знают,
что я стою во главе ненавистной центральной комиссии.
«А я говорю тебе, — вспомнил я вдруг слова своего брата, —
что если ты работаешь совместно с теми, которые совершают
великое преступление над нашей родиной, то ты сам
становишься преступником».
Довольно, я больше не выдержу. Вон из этого города, где
я родился, который я когда-то любил, а теперь ненавижу. Лучше
быть расстрелянным, лучше подвергнуть себя невозможным
страданиям, чем продолжать работать в Петрограде.
Было одно обстоятельство, которое заставляло меня
искать выход из того положения, в котором я находился, именно
в бегстве. Я находился на военной службе и не мог поэтому
покинуть службу. Передо мной стояла альтернатива: бежать
или продолжать работать с большевиками. Я предпочел первое.
Приготовления к бегству
На следующее утро я отправился в иностранный отдел
комиссариата внутренних дел к своему товарищу, который
мне как-то предложил оказать помощь в случае, если я захочу
уехать из России.
«Я пришел к вам, — сказал я своему товарищу, — чтобы
напомнить вам о вашем обещании. Помогите мне покинуть
Питер и советскую Россию».
Товарищ мой сразу же согласился сделать всё обещанное
и дал мне следующий совет. Я должен подать прошение на его
267
имя, в котором я под чужим именем, в качестве германского
подданного, прошу его выдать мне мои германские бумаги,
которые я в свое время передал иностранному отделу, когда
я хлопотал о принятии моем в русское подданство. Когда он
получит мое прошение, он немедленно даст распоряжение
вернуть мне требуемые бумаги. При очередном докладе заведующий
паспортным отделением заявит ему, что таких бумаг не удалось
найти и что они, вероятно, затеряны. Он тогда распорядится
выдать мне соответствующее удостоверение, в котором будет
сказано, что мои немецкие бумаги, которые я в свое время
подал в иностранный отдел, потеряны.
— На основании этого удостоверения вам германский совет
рабочих и солдатских депутатов выдаст бумагу, в которой будет
сказано, что вы в качестве германского подданного находитесь
под защитой германской республики. Затем уже вы, в качестве
немца, сможете потребовать, чтобы вас отправили на родину.
Предложение мне очень понравилось. Я сразу же на него
пошел. Тут же, в присутствии моего товарища, я написал
прошение на имя иностранного отдела, а товарищ сейчас же написал
резолюцию о том, чтобы мне выдали требуемые бумаги.
На третий день я явился в иностранный отдел и попросил
доложить обо мне заведующему паспортным отделом. Так как я с
изменением моей фамилии превратился в простого смертного,
то мне пришлось весьма долго ждать, пока наконец
заведующий соизволил меня принять. Я назвал свою новую фамилию
и спросил его с немецким произношением, не может ли он мне
вернуть просимые документы.
— Ах, это вы, господин... — произнес он, — видите, к
сожалению, я вам должен сообщить, что ваши бумаги не найдены,
они, по всей вероятности, затеряны у нас.
— Так что же мне делать, — спросил я его опечаленным
голосом. — Я хочу поехать к себе на родину.
— Вам абсолютно не о чем беспокоится. Мы выдадим вам
удостоверение, в котором мы подтвердим, что ваши немецкие
бумаги затеряны. Еще раз прошу вас: не беспокойтесь. Мы
считаем нашей обязанностью помочь вам в вашем тяжелом
положении.
Вечером того же дня я вновь пошел в иностранный отдел, на
этот раз к моему товарищу. Как раз в это время к нему пришел
представитель германского совета рабочих и солдатских депу-
268
татов. Товарищ мой принял его в моем присутствии и рассказал
ему, в чем дело.
— Случай этот принципиальный, — говорил он. — Мы
должны с вами прийти к соглашению по поводу таких
удостоверений, выданных нашим комиссариатом. В данном же
случае, я думаю, вы выдадите просителю немецкий паспорт.
Из-за потери его документов он фактически находится между
небом и землей.
Представитель германского совета поставил мне несколько
вопросов, на которые я ответил на немецком языке, и затем мне
сказал, чтобы я зашел в консульство.
На следующий день я в назначенный час зашел в бывшее
германское консульство. Представитель германского совдепа встретил
меня крайне любезно. Он повел меня к секретарю германского
совета рабочих и солдатских депутатов Отто Перцу. На основании
объяснений сопровождавшего меня представителя германского
совета господин Перц велел выдать мне германский паспорт. Потом
я пошел в канцелярию консульства, где один из служащих записал
мою фамилию, а также данные о моем рождении и постоянном
местопребывании. Служащий сказал мне, что я могу зайти через
два дня, и мне будет выдан паспорт. И действительно, через два дня
я в кармане своем уже имел паспорт. Я немедленно отправился на
Мойку, где во дворце бывших князей Юсуповых находился отдел
германского консульства, отправлявший германских подданных из
России в Германию. Предъявив свой документ о принадлежности
своем к Германской империи, я попросил служащего отдела
записать меня на следующий поезд, с которым отправляют германских
подданных в Германию.
Последние переживания в Петрограде
Через несколько дней меня вызвал по телефону мой бывший
ученик, которому я когда-то давал частные уроки:
— Простите меня, пожалуйста, что я вам помешал, но
дело в том, что позавчера арестовали моего отца. Может, вы
будете так любезны и предпримете какие-нибудь шаги для его
освобождения?
Я за последнее время настолько привык ко всяким
просьбам, что я даже не выразил своего сожаления по поводу ареста
отца моего ученика, и довольно сухо спросил:
269
— За что же вашего отца арестовали?
— Его обвиняют в спекуляции, но я вас уверяю, что это
ложь, — ответил он мне.
Так как я знал, что отец моего бывшего ученика — довольно
крупный мануфактурный торговец, то я, конечно, не поверил
уверениям моего ученика. Но ввиду его настойчивых просьб
сделать что-нибудь в пользу отца я попросил его рассказать
мне, при каких обстоятельствах и по поводу чего произошел
арест. И я узнал следующее: за день до ареста к ним на
квартиру явились два мешочника и предложили купить 10 фунтов
масла по 70 рублей за фунт. Отец моего ученика хотел купить
лишь 5 фунтов, но мешочники на это не согласились. Они
хотели продать или всё, или ничего. Но так как покупатель от
такой, по-видимому, для него невыгодной сделки отказался, то
мешочники ушли ни с чем. Казалось бы, на этом история и
кончилась. Но вот через два часа мешочники вновь явились, и на
этот раз в сопровождении представителя местной комендатуры.
Представитель этот заявил отцу моего ученика, что он обязан
купив предложенный ему товар, иначе его ждут
неприятности. Отец ученика, зная существующие порядки, решил в спор
с представителем власти не входить и согласился немедленно
купить весь товар. Он заплатил за товар, а «продавцы»,
получив деньги, удалились. Но как только они ушли, в квартиру
вошли трое солдат в сопровождении того самого представителя
местной комендатуры, которые только что был вместе с двумя
мешочниками. Вошедшие заявили, что хозяина квартиры
подозревают в закупке съестных припасов для перепродажи со
спекулятивными целями. Чтобы проверить правильность этих
подозрений, пришедшие должны произвести обыск. Обыск дал
«благоприятные» результаты. У отца ученика нашли 10 фунтов
только что купленного масла. Масло «реквизировали», а отца
моего ученика арестовали и отправили по обвинению в
спекуляции в местную комендатуру.
Несмотря на то что я за последнее время всякие виды
видал, и поэтому меня уже больше почти ничего не удивляло,
мне всё же казалось, что даже и при нынешних обстоятельствах
такого рода случай является невероятным. Я обещал моему
ученику снестись с местной комендатурой и тут же поставил
его в известность, что я просить об освобождении отца не
буду, а лишь спрошу, так ли обстоит дело, как он мне рассказал.
270
Я немедленно вызвал по телефону коменданта данного района
и рассказал ему обстоятельства ареста отца моего бывшего
ученика и потребовал, чтобы он сейчас же проверил, соответствует
ли рассказ действительности.
Приблизительно через час комендант сообщил мне по
телефону, что, к сожалению, всё то, что мной передано,
соответствует действительности.
«Тот человек, который сопровождал двух мешочников,
оказался одним из моих помощников. Я ему сделал строгий
выговор, а арестованного немедленно велел отпустить. Я крайне
сожалею, что подобный случай мог произойти. Я позабочусь уже
о том, чтобы такие случаи больше не повторялись».
Через несколько дней явился ко мне один из бывших моих
сослуживцев по центральной комиссии. Взволнованным
голосом он сообщил мне, что по желанию комиссии по трудовой
повинности 1-го гор. района решено потребовать, чтобы я дал
отчет о своей деятельности чрезвычайной комиссии по борьбе
с контрреволюцией. Узнав об этом, я понял, что мне недолго
осталось быть на свободе, ибо, если меня захотят загубить, а это,
видно, хотят, то нетрудно найти соответствующее обвинение.
Если я еще до этого сообщения, которое сделал мне один
из моих бывших сослуживцев, думал оставить Россию, потому
что я не мог более продолжать работать на государственной
службе, то теперь я должен был думать о бегстве для того,
чтобы избежать серьезной опасности. Поэтому я решил в тот
же день явиться в германское консульство, чтобы там вновь
переговорить об отъезде. Я велел о себе доложить члену
германского совета, господину В. О нем мне как-то упомянул один
германский военнопленный, сражавшийся на чехословацком
фронте. Я сказал члену совета, что меня якобы направил к нему
тов. X. Когда я ему рассказал, что я желаю поскорее вернуться
в Германию, он мне сказал: «К сожалению, я не могу вам
помочь. Транспорт с германскими пленными отправляется лишь
через месяц». Однако мне удалось убедить его отправить меня
с военнопленными, отправляемыми послезавтра.
В день отъезда, когда последние приготовления к нему уже
были окончены, я в последний раз пошел в военный
комиссариат. Я долго оставался в нем. Мне не хотелось уходить из этих
огромных помещений, где я в короткое время так много пере-
271
жил. В последний раз я взглянул из большого приемного зала на
Дворцовую площадь, на Александровскую колонну, на мрачное
огромное здание Зимнего дворца и затем отправился домой.
Вечером я поехал на Финляндский вокзал. Извозчик взял
с меня за проезд от Таврической улицы на Финляндский вокзал
80 рублей. Два года тому назад эта сумма казалась какой-то
дикой. Ныне же, когда в Совдепии привыкли считать только
десятками тысяч, нас эта сумма уже больше не удивляет. На
вокзале собрались уже германские пленные, отправлявшиеся
в Германию. Тут же находились и бежавшие из германского плена
русские солдаты, большею частью белорусы, которые с нашим
поездом отправлялись к себе на родину. Я обратился к
представителю германского совета, находившемуся на вокзале, и он
мне подтвердил, что имя мое значится в списке. Отправлялся
я в качестве пехотинца какого-то баденского полка. При этом
сообщении я не мог удержаться от улыбки.
Вещи мои были проверены представителями военного
контроля, причем у меня отняли несколько кусков мыла и фунт
чая. После просмотра моих вещей служащий военного контроля
спросил меня, не имею ли я при себе денег. Я ему предъявил
1000-й билет. Остальные деньги в количестве 5000 рублей были
частью спрятаны, частью зашиты в моей шинели.
Нас поместили в хорошо отопленный санитарный вагон.
До Орши поездка длилась 4 дня. Чем более мы отдалялись от
Питера, тем менее мы испытывали голод. В Витебске,
например, несмотря на хлебную монополию, на рынке продавали
открыто хлеб по 6 рублей за фунт. По сравнению с
петербургскими ценами, где за хлеб уже платили 20 руб. за фунт, хлеб
в Витебске казался крайне дешевым. Кроме того, и это было
самое главное, в Витебске хлеба можно было достать сколько
угодно, в то время как в Питере можно было добыть хлеб лишь
со страшными трудностями. Неудивительно поэтому, что из
Питера понаехало много народу для закупки продуктов. Люди
сидели со своими мешками на крышах, на подножках и даже
между вагонами. Сцены, имевшие место на железной дороге,
напоминали времена демобилизации. На вокзале в Витебске
стояла громадная толпа, которая вместе со своими мешками
стремилась вернуться в Петроград. Люди в буквальном смысле
слова брали штурмом поезд, уходивший в Петроград, и дрались
из-за получения места в вагоне. Те дикие сцены на Витебском
272
вокзале, свидетелем которых я был, как бы символизировали
собой то хаотическое состояние, в котором находилась наша
несчастная родина.
До Орши транспорт наш власти в общем оставляли в покое.
Лишь в Орше члены чрезвычайной комиссии проверяли наши
паспорта. К счастью, эта проверка прошла для меня весьма
благополучно. После того как мы целый день простояли на этой
станции, мы продолжали свой путь. Поездка из Минска в Пинск
продолжалась целую неделю, несмотря на то что расстояние
между этими двумя городами сравнительно было небольшое.
Эта часть пути была для нас всех положительно физическим
мучением. Мы сидели в холодных товарных вагонах, наполненных
навозом, причем вагоны были настолько набиты людьми, что
по ночам мы совершенно не могли лежать и были настолько
стиснуты, что чувствовали себя, точно сельди в бочке. Но всё
же от этой тесноты мы не так страдали, как от холода. Вагоны
были не топлены. С обеих сторон дуло. В каких условиях мы
ездили, видно хоть бы из того, что дальнейшая езда зависела
в высокой мере от того, помогали ли мы собирать дрова для
локомотива или нет. Однажды даже ночью к нашему вагону
подошел машинист и стал кричать хриплым голосом: «Эй вы,
ребята, выходите дрова рубить. Чем больше нарубите, тем скорее
мы можем двинуться дальше».
По дороге несколько людей заболели. То были главным
образом беженцы, возвращавшиеся из восточных губерний в свои
родные белорусские и польские деревни. Больные должны были
оставаться в вагоне. Чтобы предохранить себя от заразы, я и
находившиеся со мной германские военнопленные весь день
почти без перерыва курили.
Наконец, после тяжелой недельной поездки мы достигли
Пинска. Здесь на наше счастье находился германский военный
транспорт, пришедший из Украины и направлявшийся в
Германию. Мы, «военнопленные», распрощались с беженцами
и пересели в германский вагон. Немецкие солдаты встретили
своих сородичей весьма сердечно. Нас хорошо накормили, и мы
впервые смогли немножко отдохнуть. Из Пинска германский
транспорт направился через Кобрин, Брест-Литовск, Белосток
к пограничному городку Просткен.
Городок этот, находящийся у самой границы, носил на себе
еще следы Великой войны. Но всё же среди полуразрушенных
273
зданий виднелись уже заново выстроенные и выкрашенные.
Мне казалось, что этот городок является символом нашего
времени. Великое столкновение народов разрушило и разбило
старую жизнь. На ее развалинах родится новая, более
справедливая. Крестный путь, который приходится теперь пройти
нашему народу, когда-нибудь окончится и наступят иные
времена. Много горя и несчастия мне пришлось пережить,
много подлого и ужасного мне пришлось увидеть, но всё же
я не потерял надежды, что, несмотря на всё, в стране нашей
в конце концов восторжествуют истинная свобода и социальная
справедливость...
БАРОНЕССА М. Д. ВРАНГЕЛЬ123
ЛЮДИ-ЗВЕРИ*
Если бы каждый из нас, очевидцев эпохи большевизма, хоть
бы один факт, им пережитый или ему достоверно известный об
изуверствах большевиков, — занес бы на страницы печати, какой
бы грандиозно-чудовищный памятник современным «героям»,
исчадиям ада, был бы оставлен потомству!
* * *
Бежала я из Петрограда в конце октября 1920 г., стало
быть, пережила там эпоху разгара расстрелов: после убийства
Урицкого было расстреляно несчетное число лиц,
преимущественно офицеров, хотя Урицкий был убит евреем, ничего общего
с офицерской средой не имевшим. Затем настали бесконечные
кронштадтские расстрелы, далее — уничтожение целого ряда
выдающихся деятелей кадетской партии, объявленных вне
закона. Расстрелы без всякого предъявления обвинения Великих
Князей: Павла Александровича, Николая и Георгия
Михайловичей, Дмитрия Константиновича. Расстрелы после убийства
Володарского и т. д. — несть числа.
Людей расстреливали, как воробьев. До этого томили
в тюрьмах и истязали. Всё это совершалось на почве
политического и классового изуверства.
Воздух, насыщенный кровавыми миазмами, отравил и
огрубил душу и сердце простого, полудикого русского человека,
по существу, несомненно, добродушного и, как казалось до сих
пор, богобоязненного.
Нижеследующий мой рассказ — яркая иллюстрация
чудовищного озверения человека в дни большевизма. Этот
характерный эпизод — трагический расстрел, при потрясающей
обстановке, нашего племянника, барона Г. М. Врангеля.
* * *
Барон Георгий Михайлович Врангель124, владелец большого
имения Торосово близ станции Волосово Балтийской ж. д., в двух
* Русская Летопись, Париж: издание «Русского очага» в Париже,
кн. 6, 1924, с. 161-166.
275
с половиной часах от Петрограда, — жил в деревне
безвыездно. Он был удивительно добродушный, безобидный человек.
Политикой не занимался. Образцовый семьянин, увлекался
молочным хозяйством. Был любим крестьянами.
В дни подхода красных войск к Ямбургу по пути то и дело
отделялись небольшие отрядики, расползались по деревням и,
чтобы потешиться, грабили и убивали помещиков.
Однажды в зимнюю ночь, очень морозную, один из таких
отрядиков пробрался в Торосовский парк и через террасу
ворвался в дом, выбив окна.
Перепуганная семья, состоявшая из семидесятилетней
старухи-матери, племянника, его жены и четверых детей мал-мала
меньше, бросилась, в чем были, в комнату, где уцелели стекла,
и заперлась на замок.
А буйная ватага носилась по дому и подвергала грабежу
и разрушению всё, что было под рукой: взламывала ящики,
содержимым наполняла карманы, вязала в узлы. Висевшим
по стенам изображениям предков зачем-то повыкололи глаза.
Разбивали в мелкие куски Севрский фарфор. Прекрасную мебель
XVIII столетия превращали прикладами ружей в щепы. Рояль
разбили вдребезги.
Когда уничтожать ничего не осталось, хватились хозяев.
Наткнулись на запертую дверь. Бросились разбивать уцелевшие
окна. Как ураган влетели в комнату, где, полумертвые от перепуга,
сидели, прижавшись друг к другу, несчастные родители и дети.
Красноармейцы крикнули: «А где же мерзавец этот?» — и,
увидев племянника, вытащили его, поставили к стенке,
прицелились и, несмотря на отчаянные крики жены и матери и плач детей,
выстрелили, но промахнулись, раздробив лишь руку, которая
повисла, как плеть, выстрелили вторично и убили его наповал.
Старуха-мать, бросившаяся к сыну, тут же свалилась без
чувств. Оторвали жену племянника от детей, выгнали на мороз,
объявили ей, что может идти на все четыре стороны, детей не
дадут. «А кто посмеет ее взять в хату, — крикнул главарь, —
хату спалим». Тут же стоявшая дворня и любопытствующие
безмолвствовали.
Дети, старшему — семь лет, младшему — один год, как
затравленные зверьки, забились в угол и, как рассказывала мне
мать, сами себе зажимали рот ручонками, чтобы не кричать. Их
вытащили из комнаты и, что бы за потеху придумали с ними — не
276
знаю, но только староста, старик, живший в доме 45 лет,
бросился в ноги разбойникам и стал молить отдать детей ему. «Ну что
ж, коль охота, — бери щенят к себе», — смилостивились они.
Заикнулся было старик: «Нельзя ли, мол, позвать
священника». — «Тащи, тащи, шута горохового, — крикнули они. — Здесь
деревьев много, пусть попляшет на первом суку...»
«А хоронить мы будем сами. Барону и честь баронская», —
объявили они... и швырнули покойника на балкон, совсем
обнажив его.
Несчастная жена его всю ночь провела в лесу, под деревом.
Старик-староста хоть успел ей сунуть теплый платок, чтобы на
лютом морозе укрыться немного.
Как стало светать, она поплелась в женский монастырь,
расположенный вблизи. Там монахини отогрели и накормили
ее. Прожив у них три дня, она решила пойти справиться о детях,
а также хотела узнать, где похоронен ее муж.
На заре, крадучись, она пробралась к старосте. От него
узнала, что тело до сих пор не похоронено, валяется на
террасе, но, по-видимому, сегодня что-то будет, так как с вечера
понаехала целая ватага.
Племянница моя умолила старика дать ей возможность хоть
одним глазком взглянуть, что будут творить с ей дорогим трупом.
Старик дал ей теплую кофту своей старухи, голову она закутала
в теплый платок и замешалась в толпу любопытствующих.
Долго пришлось ждать, пока это отребье рода человеческого
изволило проснуться. И вот, один за одним, повыползала
разбойничья ватага на террасу. Втащили ящик, наскоро сколоченный
из досок. С прибаутками и хохотом подняли закоченелый труп,
поставили его; двое для поддержки подхватили его под руки.
Так как, вероятно, широко застывшие глаза смущали их,
один подошел и проткнул чем-то покойнику глаза. В
полуоткрытый рот вставили окурок. Всё это сопровождалось диким
хохотом и циничными остротами.
Затем раздалась команда, все схватились за руки и в
сатанинском экстазе, распевая садистские песни, изуверы кружились
и плясали вокруг трупа, как исступленные. Были ли они пьяны
с утра или зверство опьянило их — не знаю.
Намаялись. Раздалась команда: «Вали, вали его». Так как
ящик оказался коротковат, они с гиком стали труп туда забивать
прикладами, как тушу.
277
Новый окрик: «Становись в очередь». Распорядитель
подошел и плюнул. «Барону — баронская честь», — гаркнул он.
То же проделали за ним остальные.
На этом «церемониал» был закончен. «Церемониймейстер»
обратился к глазеющим: «Эй, кто хочет, тащи эту падаль в
помойную яму», — и с грохотом и улюлюканьем, со всего размаха,
по ступеням террасы скатили ящик в сад.
Подошел старик-староста, за ним, цепляясь, детишки,
втащил ящик на приготовленные им розвальни. Усыпал ящик
еловыми ветвями... Взял годовалого на руки, других посадил
подле ящика и пошел хоронить поруганного...
Выражение лица рассказывавшей мне это жены его, без
единой слезинки, неописуемо и незабываемо...
Этот рассказ подтвердил мне и дополнил старший брат
покойного, вскоре последовавший за ним. Спустя два месяца
он был призван для регистрации. Вступить в красную армию
отказался и, как контрреволюционер, был расстрелян.
* * *
Злоключения несчастной женщины с расстрелом мужа
не кончились. Выгнанная из имения, с четырьмя детьми, она
перебралась в Петроград.
И вот, неся усиленную физическую работу, стоя в
хвостах, живя с детишками впроголодь, изнемогая от холода,
она влачила свои печальные дни. Я никогда не забуду, как
однажды она навестила меня. Зеленая, изможденная,
унизанная детьми: один на одной руке, другой на другой и два
держались за платье.
Старший, семилетний мальчик, обожал отца. От нервного
потрясения, плохого питания он таял с каждым днем и, наконец,
заболел дезинтерией.
Лечить его дома и питать — средств не было, и несчастная
мать, заручившись содействием знакомого доктора, поместила
ребенка в больницу. Положение его было очень серьезное.
Высокая температура вконец изнурила его хилое тельце. Мальчик
метался, в бреду неустанно призывал отца. Несмотря на самое
внимательное отношение врача, он, видимо, угасал.
Как-то раз, придя в сознание, мальчик, увидев плачущую
мать, сказал: «Мамочка, милая, не плачь, я к Боженьке приду,
там папочку увижу».
278
И вот однажды вечером, во время обхода доктора, в
присутствии сиделки доктор с сердечным участием сказал матери:
«Мне больно Вас огорчить. Положение ребенка безнадежно, он
едва ли доживет до утра». Молча пожала она его руку. Доктор
ушел.
Несчастная мать припала к ребенку, осыпая его поцелуями.
Как вдруг над ухом ее раздался резкий, вульгарный окрик
сиделки: «Ну, будет, будет лизаться!» — и она, схватив ребенка за
ноги, потянула его. Ребенок вздрогнул, он еще дышал, держал
мать за руку. На встревоженный вопрос потрясенной горем
матери: «Бога ради, оставьте, что вы хотите делать с ним?» —
сиделка грубо крикнула: «Да нешто не слышала, доктор сказал,
что ему крышка, сейчас ноги протянет. Что место-то занимать,
чего тут возжаться? Новой дохлятины понатащили во сколько,
местов больше нет». И, несмотря на отчаянные мольбы матери,
вырвала ребенка из ее рук и потащила в мертвецкую.
Мать бросилась за ней. Добежав, она увидела потрясающую
картину... В комнате лежали горы обнаженных трупов, которые,
за недостатком перевозочных средств и фобов, ждали очереди
быть похороненными. Среди них было много уже
разложившихся, воздух стоял смрадный.
Отыскав своего ребенка, она взяла его в свои объятия... По
счастью, через полчаса он умер.
* * *
Подобными иллюстрациями, рисующими злосчастное
существование обывателей нашей Страдалицы-Родины, можно
бы наполнить целые тома. Конечно, каждый из нас знает, что
террор — это только один из острых шипов тернового венца
нашей Отчизны.
А. АМФИТЕАТРОВ
СЛАБЫЕ ДУХОМ*
Эту барышню привели ко мне хорошие люди, добрые
знакомые в январе 1919 г. Громкая фамилия, с титулом.
Хорошенькое, изящное существо с васильковыми глазами. Остатки
приличного туалета, но в столь потертом и штопанном виде,
что дело явное: на плечах последнее и сменки нету.
— Чем могу служить?
— Не найдется ли у вас связей — похлопотать за маму?
Мама, старуха 60 лет, взята три месяца тому назад на
Гороховую, 2, а теперь лежит в больнице Женской тюрьмы,
тяжело больная воспалением почек. Опасна, едва ли выживет.
Обвиняется в контрреволюции. Улики: громкая
аристократическая фамилия, офицерство в родне и записка арестованной
к управляющему ее собственным домом, с предписанием:
«Устройте к моему приезду всё, согласно условию, как можно
старательнее».
Арестованная и управляющий объясняют, что записка
относится к 1915 г. и говорит о произведенном тогда в квартире
домовладелицы ремонте. Следователь Чрезвычайки
настаивает — «по внутреннему убеждению», — что записка прошлогодняя,
1918 года, и прикрывает своей тайной конспиративную квартиру
монархического заговора.
— И кроме этой записки ничего?
— Решительно ничего. Да и не могло быть ничего. Мама —
женщина безусловно аполитическая. Страдает за фамилию.
Когда мать арестовали, дочери в Петрограде не было, гостила
в глухой провинции. Возвращаясь в Петроград, она не
подозревала своей беды. Добралась, под тяжестью дорожного мешка,
с вокзала домой — и нашла квартиру опечатанной, а соседей,
которых она стала расспрашивать про мать — настолько
перепуганными, что с нею и говорить не хотели, и ночевать не пустили.
К счастью, она имела адрес вот этих моих добрых знакомых,
которые теперь ее ко мне привели, и они дали ей пристанище.
Они же помогли ей найти в Петрограде отца. Он был в
ссоре с женою и жил врозь с нею, под чужим именем, потому что
* Сегодня (Рига), № 265, 20 ноября 1921 г.
280
громкая фамилия угрожала опасностью и ему. Появление дочери
скорее испугало его, чем обрадовшю. К тому же она нашла его
очень измученным только что отбытой инфлюэнцей. А две
недели спустя он схватил «сыпняк», который и унес его в могилу.
Отец на кладбище, мать в тюрьме. Свидания с мамой дочь
не могла добиться. А после ряда повторных отказов получила от
одной сострадательной чекистки (бывают и такие!) совет: лучше
и не добиваться больше, а то сами сядете, и тогда кто же «с воли»
будет хлопотать за Вашу мамашу и носить ей «передачи»? А на
тюремном пайке она в неделю помрет.
Несчастие положительно гналось за девушкой. Она долго
не находила в Петрограде никого из своей когда-то
многочисленной родни. Одни расстреляны, другие эмигрировали,
третьи на Шпалерной и в Крестах, четвертые дерутся где-то
на белом фронте. Наконец нашла дядю, брата матери, но тоже
ненадолго. Он, человек уже очень старый, показался
племяннице не в своем уме. Пережитые во время революции страхи
довели его до глубокой меланхолии, с манией преследования,
и в один из припадков тоски он застрелился, наделав тем своему
«домкомбеду» больших хлопот.
— Ну, хочешь свою жизнь прекратить — удавись, утопись,
зарежься, отравись... А то — стреляться! Теперь Ч.К. замучает
розыском, почему у покойного оказался в целости револьвер,
да не было ли тут склада оружия или конспиративной квартиры
белых.
По просьбе осиротевшей девочки я отправился хлопотать.
М. Горький сказал, что знает: дело — пустое, скоро выпустят.
Однако не выпустили. Был у меня на подобные случаи нужный
человек, недавний, но влиятельный коммунист из бывших
эсеров. К нему. Он навел справки: нет, крепко сидит старуха,
ничего нельзя сделать.
— Да в чем ее обвиняют? За что она взята?
— В том-то и беда, что не знают, за что.
— ?! ?! ?!...
— Нуда, фактов никаких, но... подозрительная
белогвардейская фамилия... родня... внутреннее убеждение следователя.
— Да что же значит внутреннее убеждение следователя при
полном отсутствии улик? В таких случаях прекращают следствие
и отпускают на свободу.
— Ну, это как когда и кого... Иной раз и к стенке ставят...
281
— За то, что не знают... за что?!
— За то, что не знают, за что...
— Приятно слышать!
— Но за старуху Вы не опасайтесь: покуда она в больнице —
безопасно, таких не расстреливают... Вот когда выздоровеет —
другое дело, — кто ее знает, как повернется.
— А есть шанс на освобождение?
— Если чистосердечно сознается — может быть...
— В чем сознается?
— В том, за что арестована.
— Да ведь Вы же говорите, что в Ч.К. не знают, за что она
арестована?
— Не знают.
— Так ей откуда же знать?
— Ну как ей про себя не знать!
— Да если ей нечего про себя знать?!
— Всегда найдется что...
— Значит, попросту она должна себя оговорить?
— Не оговорить, а сознаться.
— О, Боже мой! Не всё ли равно, что в лоб, что по лбу?
— Нет, не всё равно. Оговорить — значит солгать, а от нее
ждут правильного показания.
— Да если его быть не может? Если ему неоткуда взяться?
— Ну, стало быть, и пусть сидит, покуда откуда-нибудь
возьмется.
— И тогда вы ее освободите?
— Может быть, и освободим... смотря по показанию...
— А, может быть, и расстреляете?
— Может быть, и расстреляем... смотря по показанию...
— Ну, а свидание дочери с матерью возможно?
— А вот когда сознается, тогда и свидание...
И опять закружилась сказка — только уже не про белого,
а про красного бычка! «Поди туда, не знаю куда; принеси то,
не знаю что»...
Арестованная оказалась женщиной упрямою. Так и не
доставила ни себе, ни следователю удовольствия узнать, в чем ее
обвиняли, и, не выжидая расстрела — «не знаем, за что», —
проявила непростительное своевольство — умерла самостоятельно.
Дочь же тем временем нашла себе приют, если очень
скромный, то постоянный и надежный: у одной женщины, которая
282
когда-то служила в их семье нянею, а теперь пробавляется по
малости мелочной продовольственной спекуляцией, к чему
пригласила и бывшую свою барышню. Последнюю я почти
совершенно перестал видеть у своих знакомых (причем они
и сами вскоре уехали в Латвию), но зато часто встречал ее на
улице, то в трамвае, то пешую, всегда с мешком обличительно
спекулятивного вида за плечом и с деловой заботой в напряжен-
но-вглядчивых васильковых глазах. Очень загорела, огрубела,
пожалуй, подурнела, но смотрела сытой и здоровой и одета
была чище, не в такое тряпье, как носила в последнее время.
Встречал я эту новобранку мешочничества иногда одну,
иногда с ее сожительницей и покровительницей, нянею, довольно
симпатичной пожилой толстухой, перед здоровьем которой
и накопленным за пятьдесят лет жизни жиром даже советский
голод спасовал. Нос у нее был утиный, глаза круглые, желтые,
зоркие; манеры учтивые, хорошо выдержанной старой прислуги;
очень неглупая, сдержанная, разборчивая в выражениях речь.
Говорить с ними обеими было интересно. Мешочничая, они
часто выезжали в Лугу, Званку, Вологду, Псков, Витебск, много
видели, хорошо ознакомились и с «властью на местах», и с
«деревенской мелкой буржуазией», т. е. крестьянством, переживали
опасные столкновения с заградительными отрядами — вообще,
купались в авантюре спекуляции. И очень хорошо рассказывали
свои приключения, особенно старуха. Однажды я встретил их
в трамвае возвращающимися откуда-то с Приморской дороги,
под бременем огромных мешков с картофелем. Посмотрел я и
только подивился, как у этой семнадцатилетней, хрупкой на
вид барышни спина не переломилась. А она смеется и уверяет,
будто привыкла и ей нисколько не тяжело.
— Вот такого мешка, как Миша носит — не похвалюсь, не
подниму, — указала она мне на сопровождавшего их парня лет
восемнадцати. — Сын моей няни, — пояснила она, — вместе
с нами работает.
Парень был обычного советского мелкослужилого типа —
подержанная копия со своего комиссара: многолетне
замасленная и потрескавшаяся шведская куртка, высокие сапоги,
кожаный блин на голове. Мешок при нем был действительно
чудовищный, занял чуть не треть площадки, так что
кондукторша вступила было с парнем в перепалку, но он, с энергическою
помощью своих спутниц, счастливо огрызся. Сходство его
283
с матерью было поразительно: то же пухлое, веснушчатое лицо,
тот же утиный нос, те же толстые губы, те же круглые, желто-
серые глаза, только без материнской смышлености. Напротив,
парень показался мне дураковатым. Мешок дал ему себя знать:
он был краснее вареного рака и всем лицом блестел в испарине,
как лакированный.
— Служит?
— Да, курьером или чем-то в этом роде при Совнархозе...
очень удобно, достает нам разрешения на поездки в несколько
минут...
— При матери живет?
— Да, мы все вместе.
— У вас большое помещение?
— О нет, где же! Одна комната... знаете, как теперь с
топливом... ютимся, как все, около плиты...
— Не стеснительно это вам?
— Нет, ничего, мы ширмами разгородились. Да Мишу
мы почти никогда и не видим дома. Является только поздно
вечером (весь день либо в бегах по службе, либо меняет что-
нибудь за городом).
Эта наша встреча была последней перед очень долгим
перерывом, во время которого я, признаться, совсем позабыл
о существовании барышни. В июле этого года, под вечер,
прохожу Александровским сквером.
— Александр Валентинович! — окликнул меня молодой
женский голос.
Гляжу: с одной скамьи у пребезобразного памятника
Пржевальскому с его мохнатым верблюдом поднялась и направляется
ко мне белая фигура, одетая по новой моде пролетарски-фран-
тящего Петрограда: юбка по колено, белая шляпа-повязка,
самоделка, коробком, сотрясающиеся бескорсетные перси. На
руках — пакет с младенцем.
— Вы?!
— Как видите. Не ожидали?
— Да... однако, переменились же вы!
— Да... знаете, жизнь-то летит... вот, между прочим, замуж
вышла...
Это «между прочим» прозвучало восхитительно. Да и вообще
мудрено было признать прежнюю скромную, изящную
барышню с потупленными васильковыми глазками в этой развязной
284
молодице, со смелым прямым взглядом, который говорил без
слов: «Мы, брат, всякие виды видали, и нас теперь уже ничем
не испугаешь и не смутишь».
— Поздравляю... Кого же это вы осчастливили, между
прочим?
— А вот, вы его видели однажды...
Она кивнула в сторону скамьи, ею оставленной. Я
пригляделся — там сидел, уперши руки в широко расставленные
колена, тот самый круглолицый, круглоглазый, толстогубый
Миша, с которым полтора года тому назад я встретил ее на
трамвае. Теперь он, видимо, процвел, потому что выглядел уже
совершенным пролетарским франтом; весь так и сиял в
новенькой коже. Заметив, что я смотрю на него, встал и раскланялся
в довольно комическом смешении конфуза с самодовольством.
Должно быть, на лице моем изобразилось изрядное
изумление, потому что собеседница моя нервно передернула плечами
и, отвернув глаза в сторону, произнесла с некоторою запинкою:
— Д-да, вот... что поделаешь?.. Знаете, когда живешь в такой
тесноте, одна комната...
И вдруг, видимо обозлившись на себя, зачем она как будто
оправдывается, оборвала и жестко, грубо, с вызовом заговорила:
— Ну да, и наконец, ведь жить же надо... Что же в самом деле?
Жизнь не ждет, молодость проходит... Мне уже двадцатый год.
— Будто это уж так много? — заметил я.
Она пожала плечами и возразила:
— Много не много, а... ну, словом... слушайте: для кого бы
я себя берегла? Город для меня стал как пустыня... всё одна да
одна... Не пропадать же было...
Она споткнулась на слове, но оправилась и смело
договорила:
— Какою-то сухой смоковницей...
— От этой опасности вы себя уже застраховали, — сказал я,
указав глазами на ее младенца. — Но... неужели уж так необходимо
было торопиться и нельзя было подождать... лучшего выбора?
— Чего ждать-то? — жестко перебила она. — Прекрасных
рыцарей из прежнего общества? Так вымерли они или так далеко
от нас, что, пожалуй, даже «тот свет» ближе... Впрочем, троих
знаю еще здесь. Один служит по трамваю вагоновожатым, а двое
других, уж не взыщите, поступили агентами в Чрезвычайку...
Согласитесь, что...
285
Она сухо засмеялась, пожав плечами, и продолжала:
— Чего ждать? Белого переворота, что ли? Антанты?
Вольного города Петрограда? Порто-франко с иностранным
кварталом? Немецкого принца с армейским корпусом?.. Ждали
мы, Александр Валентинович, ждали, да, как выражается моя
бывшая няня, а ныне свекровь, уже и жданки потеряли... Все
нас оставили, все нас забыли, все нас обманули, ни на кого
надежды нет, ни в кого веры... Я ли не ждала? Мечтала, страдала...
Всякому терпению бывает конец: устала страдать и перестала
мечтать... Зажмурила глаза, стиснула зубы и — взяла, что жизнь
предложила...
Простились мы...
Тихо шел я Английской небережной... и думалось мне,
много и горько, обидно думалось о них — о тех одиноких,
усталых, беспомощных и слабых духом, что сейчас в одичалом
советском Петрограде — и женщины, и мужчины, — тысячами
идут вот так-то ко дну. Потому что «ждут, ждут» — четыре года
ждут, но, ничего не дождавшись, «теряют жданки» и, именно
зажмурив глаза и стиснув зубы, «берут от жизни то, что она
предлагает»... И, пожалуй, еще сравнительно не так худо, если
предлагает она только грубый «советский брак», а не кокаин,
опиум, эфир, спирт и свальный грех в одном из бесчисленных
тайных, но всем известных кружков, в которых нынешний
Петроград ищет кошмарных забвений от своей кошмарной
действительности.
КНЯГИНЯ О. В. ПАЛЕЙ
ВОСПОМИНАНИЯ О РОССИИ
(фрагменты)*
Глава XXX
На другой день**, 1/14 августа [1918 г.], после бессонной
ночи, которую я провела в слезах в кабинете у Марианны125,
где она мне постелила, я телефонировала своим девочкам
в Царское и сказала, чтобы они в тот день не ждали меня и что
вернемся мы, скорее всего, на следующий день. Поскольку
Урицкий должен был принять меня в час дня, я вышла
заранее, с готовым обедом для Великого князя. Я свободно
прошла наверх в большой обеденный зал, к которому примыкала
Красная гостиная — приемная Урицкого, и Голубая гостиная,
где проверяли пропуска и несколько машинисток стучали на
своих пишущих машинках. Обеденный зал был полон людей.
Я вручила обед для Великого князя надзирателю, и тот вскоре
принес мне завернутую в салфетку посуду с предыдущего дня.
Он вполголоса сказал:
— Ваш муж в порядке. Он велел кланяться и просил, чтобы
Вы раздобыли пропуск для доктора Обнисского, чтобы тот мог
осмотреть его, — он всю ночь не спал.
Вскоре появился доктор Обнисский. Этот преданный
человек с чувством поцеловал мне руку, и мы сели ждать своей
очереди в углу. Я рассказала ему о вчерашних злоключениях.
Продолжали прибывать новые люди, время от времени
открывалась дверь в кабинет Урицкого, выходили мужчина или
женщина, затем надзиратель называл следующего и заводил его
внутрь. Прошел час, два, три... Я заметила, что внутрь прошли
не только те, кто пришел до меня, но и несколько человек,
прибывших после. Я подошла к надзирателю и спросила, когда
же моя очередь. Он пожал плечами:
* Главы из книги: Princesse Paley. Souvenirs de Russie. 1916—1919.
Paris: Librairie Plon, 1923, p. 229-236, 242-251, 259-260, 289-305.
Перевод с французского для настоящего издания — Е. Колосович.
** После ареста Великого князя Павла Александровича. — Прим.
ред.
287
— Не знаю, мадам. Товарищ Урицкий обычно сам вызывает
по фамилии следующего посетителя.
Я вернулась и села рядом с Обнисским, переживая, что
из-за меня он остался без обеда и потратил впустую целый
день. Четыре часа, пять... В половине шестого меня уже
охватило чувство ярости. Я поняла, что гнусный тип делал это
нарочно, чтобы помучить и унизить меня. Наконец, в четверть
седьмого, когда в зале уже никого больше не осталось,
надзиратель объявил:
— Гражданка Палей и гражданин Обнисский!
Мы вошли в Красную гостиную, где за столом сидел
Урицкий и писал. Он поднял голову и, обращаясь к доктору, сказал
жестким, уничтожающим тоном:
— Что Вам нужно? Зачем Вы сюда пришли?
Доктор ответил, держа голову гордо поднятой:
— Я пришел просить разрешения осмотреть моего пациента,
Павла Александровича. Он болен.
— Он в вас не нуждается, у Чрезвычайной комиссии
имеется свой доктор.
— Но...
— Не настаивайте, это бесполезно. Всего доброго, доктор.
Затем, повернувшись ко мне, сказал:
— А Вы, мадам, присаживайтесь. Я сейчас Вами займусь.
Он нажал на кнопку звонка. Вошел человек с подносом,
поставил его на письменный стол. Я сидела за этим столом
напротив. Урицкий стал есть суп, тарелка была налита до краев.
Он ел с жадностью, как голодный, бросал в суп большие
куски хлеба и с чавканьем их жевал. Налил себе большой стакан
красного вина и выпил его залпом. Доев суп, придвинул к себе
тарелку, полную телятины с картофелем под томатным соусом.
В полной тишине раздавалось только чавканье. Хотя меня
переполняли тоска, страдание, усталость и голод, я наблюдала за
этим гнусным типом, еле сдерживая смех. Про себя размышляла:
«Вы думаете, что своим хамским поведением можете унизить
меня? Если бы Вы только знали, как мало это меня трогает
и как глубоко я Вас презираю!»
Я ждала минут двадцать пять, пока людоед утолил свой
голод. Он заглотил еще, кажется, яблочный пирог и, вытирая
свой пухлый рот, сказал:
— А теперь, мадам, я вас слушаю.
288
8W?ENIB
DE RUSSIE
ll:V.
Шб-Ш'9
PREFACE DE PACb BOUBGET
Awe cinq portrait*
Ф*<
. PARIS
LIBRAIRIB PlftOH
УШ^МШШТ -яг «% LWEIMMM-to^IIJM
8, ШШ GAlUNClfeai-6*
— Прежде всего, я пришла спросить Вас, за что вы
арестовали моего мужа. В чем Вы его обвиняете?
— Я арестовал вашего мужа, чтобы спасти ему жизнь, —
грубо и резко ответил он, — потому что рабочие в Царском
хотели его убить.
— Рабочие в Царском! — воскликнула я. — Да ему каждый
отдавал честь, даже после революции, когда он уже ходил в
штатском! Он родился в Царском, был его сыном, был окружен там
уважением и любовью.
— Я хорошо знаю, что говорю... — и добавил: — Что Вы
еще хотели?
— Хочу, чтобы Вы вернули ему свободу!
Он едко засмеялся:
— Свободу? Нет, мадам. Сегодня вечером он будет перевезен
на Шпалерную, к своим двоюродным братьям, там он пробудет
месяца три-четыре. Потом я отправлю его на Урал.
У меня перехватило дыхание — наверное, лицо мое стало
мертвенно-бледным.
— Что с Вами? — спросил он.
— То, что Вы делаете, — гнусно! — вскричала я. — Что Вы
имеете против него?
— Против него лично — ничего, но все они должны ответить
за триста лет гнета Романовых.
— Но мой муж не виновен, — ответила я, уже выходя из
себя. — Он был на двенадцать лет изгнан из России из-за его
женитьбы на мне, поскольку я не являлась принцессой
королевской крови.
— Это для нас безразлично. Вы — аристократка, не из
народа. И к тому же три месяца пролетят быстро. На Урале
у него будет некоторая свобода, и Вы можете там к нему
присоединиться, раз Вы так его любите.
— Вы уже отправили моего сына на Урал, что Вы с ним
сделали? — воскликнула я.
Он ответил не сразу.
— Если с ним что-то и случилось, — ответил он, — то по
его собственной вине. Я ему предлагал...
— Отказаться от родного отца! — закричала я. — Скажите мне,
а Вы откажетесь от своих родителей? Вы назло говорите: «Если что-
то случилось с Вашим сьшом», чтобы с удовольствием наблюдать,
как я страдаю. Я знаю, что мой сын спасен и уже не в вашей власти.
290
Он не ответил. Возможно, на мгновение в этом чудовище
промелькнула жалость. Помолчав, он продолжил:
— С ним случилось то же, что и с бывшим Великим князем
Михаилом. Вы думаете, что он спасся? Так вот, я сообщаю Вам,
что он расстрелян в Перми.
— Послушайте! — опять перебила его я. — Довольно
мучить меня всё больше и больше. Я знаю, что мой сын спасен,
и оставим это. Дайте мне пропуск, чтобы я могла видеться
с мужем каждый день.
— Я не могу позволить Вам видеться с ним каждый день.
Будете встречаться два раза в неделю — по вторникам и
пятницам. Я дам Вам постоянный пропуск. Можете приносить ему
пищу через день, и поскольку его переведут в тюрьму сегодня
в девять вечера, я дам Вам пропуск на сегодняшний вечер.
Видите, какой я добрый!
Он попытался изобразить на своем ужасном лице улыбку.
Вызвал звонком своего секретаря, Иоселевича, и
распорядился, чтобы напечатали на машинке два пропуска. Потом опять
вызвал секретаря и сказал:
— А Гавриила арестовали?
Получив отрицательный ответ, он рассердился:
— Но я же приказал его арестовать! Чтобы завтра же сделали,
и сразу отвезите его на Шпалерную, не заезжая сюда.
Он дал мне два пропуска, и я медленно вышла, не глядя
на него и не благодаря. В коридоре стоял какой-то блондин.
— Вы их получили! — сказал он, заметив у меня бумаги. —
Я рад. Вчера он сказал мне, что заставит вас ждать весь день
и вы ничего у него не получите.
Я вернулась к Марианне, едва держась на ногах от
усталости и голода, и наспех поела. Было уже четверть восьмого,
а я должна была быть на Шпалерной до девяти. Пешком туда
идти было минут сорок, а мне нужно было нести простыни,
одеяло и подушку. <...>
Глава XXXII
По совету друзей, спустя три дня после ареста Великого
князя* я попросила и добилась приема у Максима Горького
в его роскошной квартире на Кронверкском проспекте, 23. Он
* Павла Александровича. — Прим. ред.
291
заранее извинился по телефону, что слег с бронхитом и примет
меня в спальне.
Вхожу и вижу одного из злых гениев России. Был он тем
более опасен, что был талантлив и умел душещипательно
описать нищету русского народа под «гнетом самодержавия». Он
лежал в постели: бледный, волосы слипшиеся, лицо скуластое,
вислые усы, прикрывающие толстые губы. Типичный портрет
русского рабочего-пролетария.
Около него сидел известный певец Шаляпин, со
свежевыбритым лицом, круглым и красным. Когда-то он
дебютировал в Париже на концерте в нашем доме в Булонь-сюр-Сен
с Дмитрием Смирновым — в ту пору, когда Сергей Дягилев
привез в Париж оперу «Борис Годунов» Мусоргского. Шаляпин
приветствовал меня холодно и в продолжение моей беседы
с Горьким не сказал ни слова.
Цель моего посещения была всё та же: просьба помочь
освободить Великого князя из тюрьмы. Ведь никакой вины
за ним не было — лишь его происхождение и титул. Горький
пообещал мне обсудить дело с Урицким, не скрывая от меня
трудностей и препятствий, с которыми ему придется
столкнуться. Под конец беседы он вдруг спросил:
— Не родственник ли Вам молодой поэт Палей?
— Он мой сын.
Он нервно повернулся в постели, ударил кулаком по
подушке и сказал:
— Я недавно получил от него письмо. Кажется, он
совершил побег.
— У Вас от него письмо? Умоляю Вас, покажите мне его,
я так волнуюсь, так беспокоюсь о нем!
Он побледнел еще сильнее.
— Письмо показать Вам не могу. Оно деловое, от поэта
к поэту, и Вам ничего не даст.
— Но от какого числа письмо? Уже после дня побега
5/18 июля? — не выдержала я.
— Я ничего не могу Вам сказать и ничего не могу показать.
Я поняла, что настаивать бесполезно, но надежда, что
Владимир жив, вселилась в мое страдающее сердце. Ложь, ложь,
всё это было ложью!
Я встала уходить, успокоенная обещанием Горького
помочь мне и новостью о письме сына. Шаляпин вышел за мной
292
в прижожую. Он вдруг стал разговорчивым и дружелюбным.
Взял мои руки в свои и, покрывая их поцелуями, сказал:
— Моя княгинюшка, дорогая, нам нужно поговорить.
Можно мне зайти к Вам завтра? В котором часу? Я хочу Вам
доказать, что Шаляпин — человек благодарный и помнит, чем
обязан Великому князю.
На следующий день он действительно пришел к Марианне,
выпил бутылку мадеры и обещал нам помочь. Он беспрерывно
ругал большевиков, да и сколько людей так же двулично вели
себя во время революции! Шаляпин и пальцем не пошевелил,
чтобы кого-либо спасти. Он оппортунист*, который
пресмыкался перед цареубийцами, как прежде пресмыкался перед
Императором и его семьей.
Каждый вторник и пятницу я навещала Великого князя.
Изредка злодей-комиссар отсутствовал, и тогда свидания были
радостными для нас обоих.
Доктор Обнисский, благодаря своему пациенту — адвокату
Сергееву, служившему Советам, добился разрешения лечить
моего мужа. Обнисский навещал его три раза в неделю — по
понедельникам, средам и субботам. Таким образом, узник
получал от нас известия почти ежедневно, так как доктор перед
посещением всегда справлялся, как дела у меня и детей.
Придя на очередное свидание 19 августа/1 сентября, я
застала в тюрьме оживление, суету и веселые лица. Узнаю, что
товарищ Шинклер126 тяжело ранен и чуть ли не при смерти.
Накануне, в четыре часа дня он возглавил группу, которая
явилась с обыском в английское посольство. Был встречен там
морским атташе Кроми127, который воспротивился обыску,
ссылаясь на дипломатическую неприкосновенность. Шинклер
решил войти силой. Началась драка, и капитан Кроми, защищая
честь своей страны, выстрелил из браунинга. Застрелил двух
большевиков и серьезно ранил комиссара. Однако последний
разрядил в Кроми свой револьвер и убил этого храброго
офицера наповал. Пару дней тело Кроми было выставлено напоказ
в окне посольства. Шинклер впоследствии оправился от раны.
Случись такое в царское время — можно себе представить
реакцию Англии! Сколько было бы отправлено
дипломатических депеш! Сколько объяснений, извинений потребовалось
* Так в тексте. — Прим. ред.
293
бы, а тут — полное молчание. Англия проглотила оскорбление,
а ведь могла бы наказать Советы, власть которых в то время
еще не утвердилась.
Увы! Ллойд Джорж решил не реагировать, чтобы сохранить
хорошие отношения с большевиками. Тот факт, что убийство
произошло в посольстве и за ним не последовало никаких
требований о возмещении ущерба, сильно понизило уважение
русских к Англии.
Ранение Шинклера оказалось таким серьезным, что в тюрьме
ему назначили замену — латыша по фамилии Трейлиб128.
Высокий, упитанный блондин, он не был столь легендарно жестоким,
как большинство его соотечественников. Ведь латыши и китайцы
составляли у Ленина и Троцкого самую преданную охрану.
Трейлиб был пьяницей, которого я легко подкупила
несколькими бутылками спиртного. Он любил важничать, был
смешон и неуклюж. Без какого-либо образования, без ума —
так что переубедить его было легко. Я добилась разрешения
для дочерей навещать отца дважды в неделю в сопровождении
гувернантки Жаклин. Горестная сцена их свидания разжалобила
даже Трейлиба. В общем, мне удалось наладить с ним отношения.
Более того, он признался мне, что не видит никакой вины за
Великими князьями Павлом, Георгием Михайловичем,
Дмитрием Константиновичем и князем Гавриилом. Лишь с Великим
князем Николаем Михайловичем ему было трудно: во время
прогулок тот кричал, суетился, а по вечерам, когда тушили свет,
он зажигал лампу, чтобы читать и писать, а на замечание
Трейлиба ответил: «Дурак!» Я считаю, что Великий князь Николай
Михайлович вел себя неразумно и вредил остальным узникам.
Муж с моими доводами согласился.
Однажды, придя на очередное свидание, я увидела
арестанта, сидящего на диване с молодой женщиной. Они были
мне не знакомы. Когда ввели мужа, арестант — по-видимому,
военный — встал и вытянул руки по швам (так в России
отдавали честь, если были без фуражки). Согласился он сесть
только по приглашению Великого князя. Сцена происходила
на глазах у ошеломленного комиссара, и я впоследствии часто
вспоминала о таком проявлении гражданского мужества. Это
оказался генерал Арсеньев129 с женой. Ему посчастливилось: его
освободили, и я встретила эту чету в 1919 г. в Финляндии. Они
тогда проявили искреннее сочувствие моему глубочайшему горю.
294
В другой раз госпожа Скавениус принесла передачу
арестованной француженке. С Великим князем она знакома не была,
и я ее представила. Она сделала такой глубокий реверанс, как на
приеме во дворце, а не в тюрьме. Жест этой изящной женщины
свидетельствовал о ее высоком благородстве.
Король Швеции поручил своему представителю в
Петрограде графу Коскуль (Брандстрём был в отъезде) навестить
Великого князя. Его посещение длилось долго, и я надеялась,
что оно как-то поспособствует тому, чтобы Чека освободило
мужа. Навестила и я графа Коскуля, который обещал оказать
давление на Советы. Видимо, он ничего не смог сделать — по
крайней мере, никаких вестей от него не было.
Датский король, со своей стороны, поручил послу Скаве-
ниусу навестить заключенных князей. Несколько дней спустя
графиня Клейнмихель передала мне, что Великий князь Павел
произвел на Скавениуса сильное впечатление своей осанкой,
достоинством, утонченностью.
— Вот венценосец, — заявил посланник, — с каким
достоинством переносит он свое несчастье!
Вот пишу я эти воспоминания и припомнила все эти встречи
в тюрьме, но больше к этому не вернусь...
Из дозволенных мне посещений я не пропустила ни одного.
Остальное время я и мои друзья думали, как устроить побег
Великого князя. Скоро поняли, что из тюрьмы на Шпалерной
бежать невозможно. Надо было искать другой путь.
30 августа (13 сентября) распространилось известие об
убийстве Урицкого, которого прозвали «Фукье-Тенвилем русской
революции». Он был убит, когда входил в здание Министерства
иностранных дел. Один из его единоверцев, молодой мужчина
по фамилии Каннегиссер выстрелил в него в упор. Пуля попала
в глаз, Урицкий упал и скончался на месте. В это время
молодой еврей прыгнул на велосипед и помчался от Зимнего дворца
на Миллионную. Чувствуя, что за ним гонятся, он свернул во
двор дома по соседству с Новым Клубом. Из-за этого почти
всех членов клуба вскоре обвинили в соучастии и расстреляли.
Убийство Урицкого стало сигналом к зверским
большевистским расправам. Когда еще до этого, в июле, был убит
большевик-еврей Володарский, это послужило поводом для закрытия
всей так называемой «буржуазной» прессы, разрешено было
выпускать только коммунистические газеты. А смерть Уриц-
295
кого послужила предлогом для убийства множества невинных
жертв, не имеющих ни малейшего отношения к этому делу. Те,
кто смог бежать из Петрограда (большинство через Оршу на
Украину), — спаслись. Но сотни несчастных были замучены
и зверски убиты. Из нашего окружения мы оплакивали брата
моего зятя графа Алексея Зарнекау130, женившегося за 10 дней
до этого; Владимира Трепова131, брата бывшего Председателя
Совета Министров; графа Бутурлина, Нарышкина, молодого
графа Граббе132, генералов Ломен и Добровольского133, полковника
Герарди134, графа Татищева135, бывшего петроградского
губернатора Сабурова136, Николая Безак и многих других. Кровавый
и зверский красный террор охватил город и его окрестности.
Место Урицкого в Чека занял Бокий, и в это время
приговоры подписывали Бокий и Иоселевич. В октябре Бокия
сменила женщина по фамилии Яковлева. Женщина-чудовище,
она окружила себя усиленной охраной и во время приступов
садизма лично расстреливала жертв из своего браунинга. Их
крики, мучения и конвульсии доставляли ей удовольствие. <...>
Глава XXXIV (фрагмент)
Сентябрь и октябрь 1918 года ознаменовались длинной
чередой кровавых убийств. Великий князь рассказывал мне, что
каждый вечер из тюрьмы уводили на расстрел человек десять
и более, а их скудное имущество отбирали. Требовалось
нечеловеческое терпение и мужество, чтобы выдержать такое
существование — в постоянном ожидании, мучениях, страхе услышать
свое имя в числе тех, кого вызывают на расстрел. Люди стали
подозрительными даже по отношению к своим близким друзьям.
Старые друзья, которых мы знали уже двадцать лет, уезжали без
предупреждения, не прощаясь. Люди пугались малейшего шума.
Если вечером слышали звук остановившегося у дома
автомобиля — кровь стыла в жилах, так как это предвещало ночной обыск
и ограбление. Днем по улицам разъезжали грузовики, в которые
были доверху навалены разные предметы — мебель, люстры,
книги в красивых переплетах, — всё, что отняли большевики
(чьей наглости не было границ) под дулом револьвера.
В качестве меры предосторожности, незадолго до
национализации дворца, я по совету верных друзей передала на хранение
в Австрийское посольство (находившееся под покровительством
296
Дании) остатки своих ценностей, включая самое драгоценное —
шестьсот писем от Великого князя, которые он писал мне в течение
25 лет. Все наши документы, паспорта, метрики, всё самое ценное
было помещено в это место, которое казалось таким надежным...
Когда в Германии и Австрии произошли революции,
австро-германские военнопленные, находившиеся в Петрограде, через 24 часа
объявили себя большевиками. Они подняли над посольством
красный флаг, а в это время М. де Скавениус спустил датский. Он
успел перенести часть коробок с моими драгоценностями к себе
в Датскую дипломатическую миссию на Миллионной, 11, но
позже он уехал в Копенгаген, и всё было украдено Советами. Один
из самых известных воров, а ныне широко известный политик
К. Радек137, захватил наши ценности под предлогом выплаты
жалованья австро-германским военнопленным. Теперь этот К. Радек
представляет Советы в Берлине. <...>
Глава XXXVIII
В тот день стоял сильный мороз, 27 градусов ниже нуля.
Я была не в состоянии сдерживать слёзы, которые потоком
текли по лицу и тут же примерзали, причиняя нестерпимую боль.
Всё теперь мне было безразлично: холод, голод, болезни,
нищета, я всё могла бы перенести, лишь бы достичь
единственной цели — спасти Великого князя. Уже многие годы я
привыкла жить исключительно для него и им. А теперь, чем больше
его мучили, чем больше наносили оскорблений и причиняли
страданий — ему, всегда творившему только добро, — тем он
становился мне дороже и сокровеннее.
Несмотря на все мои хлопоты о получении нового пропуска,
мне было отказано. Яковлева, которую мне не довелось видеть,
была смещена, и начальником Чека назначен какой-то
Скородумов138. Как ни противно было мне обращаться к Горькому,
который относился ко мне всё более и более холодно, я всё же
вновь пошла умолять его ускорить освобождение Великого князя.
Думаю, он тоже должен был получить свою долю из миллиона
рублей, который я согласилась предоставить за свободу мужа.
Горький сказал мне, что поедет в Москву 10—12 января
(по старому стилю)* — ходатайствовать у Ленина об осво-
* 1919г. -Прим.ред.
297
бождении четверых Великих князей. Кузены моего мужа
передали ему* формальные прошения, и он порекомендовал
мне последовать их примеру. Он также осведомился, нет ли
у меня связей в Московском Совете. Тут я вспомнила о Бонч-
Бруевиче139, которого встречала два или три раза по случаю
первого ареста в Смольном в ноябре 1917 года. Было решено,
что мое прошение будет направлено этому лицу. Должна
признаться, что писала я его от всей души, измученной тревогой
и страданиями.
Не переставая носить передачи на остров Голодай140,
я пошла на Гороховую в надежде на то, что, настойчиво подавая
прошения, смогу получить пропуск.
В один из декабрьских дней меня провели в комнату на
первом этаже с видом на Александровский сад. За письменным
столом там сидел темноволосый мужчина маленького роста и со
зверским лицом. Фамилия его была Васильев. Когда я
представилась и объяснила цель моего посещения, он злобно взглянул
на меня и заявил:
— Неужели выдумаете, что супруге какого-то Романова мы
сделаем исключение? Посещения отменены для всех, и другие
жены обходятся без них — ведите себя, как остальные.
— Но мой муж серьезно болен и нуждается в моем уходе.
— Если он болен, то его надо расстрелять, — заявил он мне
злобным голосом.
Слушать дальше я была не в состоянии. Повернулась и
вышла, удивляясь, как земля носит таких чудовищ.
В госпитале положение обострилось. Принося передачу,
я старалась через окошко хоть как-то увидеть мужа и
проклинала свою близорукость, которая не позволяла ясно его видеть.
Охранники не раз прогоняли меня, угрожая прикладами.
Несмотря на всё это, одна милейшая тюремная горничная,
сжалившись надо мной, передавала мне записки от Великого
князя. Записки, написанные простым карандашом, — вот всё,
что у меня от него осталось. В них он вкладывал всю свою
нежность и надежду, но проскальзывало и предельное душевное
утомление. Иногда сестра милосердия, девушка из светского
общества (я не могу назвать ее имени, так как ей, возможно,
* Горькому. — Прим. ред.
298
не удалось бежать из России), также передавала мне его записки,
полные нежных слов.
Первого января новый 1919 год пришел на смену ужасному
предыдущему. Несмотря на всё, мы продолжали жить надеждой,
не основанной ни на чем, — это была лишь инстинктивная
потребность уцепиться за что-нибудь. Вечера я проводила либо
в уютной атмосфере с милой мадемуазель Пономаревой и Кони,
который очаровывал нас своими рассказами, либо у себя дома
с Арманом де Сан-Совэр. Так как в моей комнате температура
не превышала 7 градусов, мы сидели в шубах у камина, и Сан-
Совэр поддерживал в нем огонь.
Беседовали о Франции и обо всех, кого мы там покинули.
Было это в ту пору, когда президент Вильсон предложил
большевикам встречу на острове Принкипо*. Зная, что представляют
собой Советы, мы не могли понять, как человеку могло прийти
в голову такое заблуждение. Но с тех пор случалось и похуже —
в Лондоне и Генуе141...
Во вторник 15/28 января к полудню я пришла в госпиталь
со своими корзинами. Великий князь вернул мне вчерашнюю
посуду с запиской, в которой жаловался на головную боль.
За несколько дней до этого его перевели из отдельной
палаты в общую с полковником К., очень расположенным к моему
мужу. Читая записку, я заметила подъехавший автомобиль, из
которого вылез солдат. Не обратив на это особого внимания,
я продолжала свой путь. Лишь позже я узнала, что именно этот
автомобиль приезжал за моим любимым, за Великим князем,
и отвез его на Гороховую, а затем на казнь.
В тот же самый день, перед ужином я получила записку от
молоденькой сестры милосердия: «Его только что отвезли на
Гороховую с вещами. Возможно, его освободят? Немедленно
примите меры».
Вечером, после ужина я помчалась к Горькому. Но он еще не
вернулся из Москвы, его ожидали утром в четверг 17/30 января.
Всё это показалось мне хорошим знаком.
В среду 16/29, несмотря на то что это был не мой день для
передач, я всё же отправилась на остров Голодай в надежде
застать одного из злобных комиссаров и узнать что-нибудь об
участи мужа. Приняли меня там очень плохо:
* Самый большой из Принцевых островов. — Прим. ред.
299
— Почему вы позволяете себе являться в неположенный вам
день? — закричал на меня комиссар. — И вообще, Вам нечего
сюда приходить, Вашего мужа здесь больше нет.
Я сделала вид, что ничего не знаю.
— Его здесь больше нет? Так где же он?
— Я не обязан давать Вам отчет. И более того, гражданка
Палей, уходите отсюда, а не то...
Я поняла, что в этот раз ничего не добьюсь. Старалась
успокоить себя, что у Великого князя есть с собой всё необходимое,
однако меня мучила мысль о его головной боли. Я успокаивала
себя, что на следующий день, в четверг я отнесу ему передачу
на Гороховую, и к обеду Горький уже вернется... Самые
приятные, розовые мечты отвлекали меня. Я уже мечтала, как устрою
Великого князя в моих двух просторных комнатах.
С этими мыслями я и отправилась в среду 16/29 января на
ужин к Пономаревой и Кони. Воспоминания об этом вечере
врезались мне в память подобно острому лезвию.
Мой старый друг Константин Гартунг замечательно играл
на рояле, но в тот вечер музыка меня не успокаивала, а,
наоборот, раздражала. Я поднялась к себе в комнаты к 11-ти часам
ночи и, закутавшись в шубу, сразу заснула. Вдруг в 3 часа ночи
внезапно просыпаюсь и ясно слышу:
— Я убит.
Задыхаясь, ищу спички (электричества больше не было). Руки
так дрожат, что не могу зажечь. В конце концов появилась слабая
искра. Смотрю — кругом никого. Всё тихо и спокойно.
«Господи, — подумала я, — до чего же расшатались мои нервы, если
я слышу голоса. Надо лечь и заснуть». В пять и затем в семь часов
я услышала тот же голос и то же слово «убит», но мне и в голову
не пришло, что оно относилось к моему горячо любимому мужу.
Глава XXXIX
После этой кошмарной тревожной ночи я отправилась
в четверг к 11 часам утра с передачей на Гороховую. Там стояла
длинная очередь. Когда очередь дошла до меня, принимающий
передачи солдат заявил:
— Павел Александрович Романов здесь больше не
числится. С утра приносили уже три передачи для Романовых, но ни
одного из них тут больше нет.
300
«Вероятно, — подумала я, — кузены Великого Князя были
переведены сюда, раз те, кто о них хлопочут, приносили им
еду. Вероятно, дело идет к их освобождению. Но где же они?
Куда мне идти со своей передачей? У моего мужа, наверное,
с последнего раза осталось мало еды».
Решила отправиться на остров Голодай — ведь там сегодня
мой день для передач. В том направлении шел набитый народом
трамвай, и я влезла в него, уцепившись за поручень. Какая-то
добрая душа освободила мне местечко для корзин, и через час
я в последний раз в жизни подъехала к госпиталю, месту моих
несчастий.
— А, вот вы и вернулись, гражданка Палей, — усмехнулся
вчерашний комиссар. — Ну, вам, видимо, нечего делать. Ведь
вам вчера было сказано, что Павла Романова тут больше нет.
Ищите его на Гороховой или в каком-нибудь другом месте, —
заявил он свирепым тоном, от которого у меня сжалось сердце.
Возвращаюсь на Гороховую и пробую чуть ли не силой войти
в здание в надежде, что молодой блондин, который вступился
за меня в августе, снова придет мне на помощь.
Правила тут строгие, беспощадные. Решаю оставаться
в прихожей Чека. Может быть, знакомое лицо пройдет мимо
и получит для меня пропуск наверх. Жду так до 2 часов, мучаясь
мыслию, что муж голоден. В конце концов, в 3 часа решаюсь
уходить и вдруг у дверей Чека наталкиваюсь на Трейлиба,
комиссара из тюрьмы на Шпалерной.
— Ах! товарищ Трейлиб, какое счастье! Умоляю вас, бегите
наверх, достаньте мне пропуск, мне крайне необходимо узнать,
где мой муж.
Вижу, как он краснеет, становится багровым и вдруг бледнеет.
— Я ничего не могу для Вас... ничем не могу помочь... —
бормочет он и исчезает за дверью, не сказав более ни слова.
Что же делать? Я решилась на крайнее средство. В
нескольких шагах отсюда, на той же улице жил наш общий парикмахер
Вольдемар. Я мчусь к нему и прошу разрешения позвонить от
него по телефону. После часового ожидания я дозвонилась до
Чека. Там отвечают:
— Слушаю.
— Я гражданка Палей, прошу сообщить мне, где находится
мой муж Павел Александрович Романов.
— Его здесь нет.
301
— Где же он?
— Не знаю, подождите.
И после продолжительного молчания слышу:
— Вашего мужа тут нет. Приходите завтра утром. При входе
вам будет выдан пропуск. Всё узнаете завтра утром.
На этом разговор был прерван.
Не находя себе места, я вернулась домой и провела остаток
дня в слезах и причитаниях о судьбе моего мужа. Безуспешно
старалась дозвониться до жены Горького. В тот вечер милейшая
мадемуазель Пономарева и Кони изо всех сил старались развлечь
меня, но я не принимала участия в их разговоре. Было ощущение,
что мне воткнули в голову гвоздь, и было страшно больно. Где
он? Куда его перевели? Его стараются спасти? Мысль, что его
убили, мне не приходила в голову, но мне не давало покоя то,
что он не ел. Всю ночь я не могла сомкнуть глаз. Утром, около
половины девятого, когда я старалась согреть на маленькой
плитке кофе, оставшийся от предыдущего дня, вошел Арман
де Сан-Совэр, весь бледный.
— Здравствуйте, Арман, — говорю я, — как рано вы пришли,
не потому ли, что вас вчера не было с нами?
Он не ответил на мой вопрос.
— Послушайте, — говорит он, — вы не знаете, где Великий
князь? Я очень беспокоюсь за его судьбу, очень беспокоюсь... —
повторил он.
У меня было такое чувство, как будто меня придавило
ледяной глыбой.
— Вы что-то знаете? Говорите, умоляю вас.
— Ничего определенного я не знаю. Думаю, их увезли
куда-то далеко. Я очень беспокоюсь. Пойдемте вниз, к инженеру
Фрезе, у него в квартире есть телефон. Вам нужно связаться
с женой Горького. Будучи народным комиссаром — правда, по
театрам, — она должна быть в курсе дела.
Бегом спускаемся на первый этаж. Прошу извинения
у госпожи Фрезе и хватаю телефон. Меня сразу же соединяют
с женой Горького.
— Мария Федоровна, я в состоянии ужасной тревоги и еле
держусь на ногах. Умоляю Вас, скажите мне, где мой муж? Во
вторник в полдень его увезли из госпиталя, и с тех пор я никак
не могу узнать, где он. Ко мне только что зашел друг, и он очень
волнуется за мужа. Умоляю Вас, скажите мне всю правду.
302
— Ваш муж вне опасности, — отвечает она, — сегодня
в 11 часов утра, то есть через два часа, Алексей Максимович
вернется из Москвы с подписанными бумагами об освобоже-
нии их всех.
— Но мне говорят, что их увезли, ходят самые зловещие
слухи.
— Что за выдумки? — говорит она. — Советское
правительство не наказывает без причин. Теперь в России есть
справедливость. Даю вам слово — ваш муж вне опасности.
Сан-Совэр выхватывает у меня из рук телефон и говорит
мне:
— Слушайте, Мария Федоровна знает, что говорит, и если
она заявляет, что ничего не случилось, то теперь я вам скажу, что
я прочел сегодня утром в газете: их всех четверых расстреляли.
Опустошенная, я опустилась на стул. Я не сомневалась, что
Сан-Совэр сказал правду. Госпожа Фрезе послала за газетой.
Я сидела совершенно оторопевшая, онемев и ничего не
соображая. Всё счастливое прошлое промчалось перед глазами. Когда
принесли газету, после длинного списка убитых 17/30 января
я прочла следующие строки:
«Расстреляны бывшие Великие Князья Павел
Александрович, Дмитрий Константинович, Николай и Георгий
Михайловичи».
О том дне я больше ничего не помню.
Глава XL
Когда я пришла в себя, я оказалась у себя в комнате. Около
меня были моя сестра, племянницы, Марианна, мадемуазель
Пономарева и доктор Обнисский, который хлопотал вокруг и
отпаивал меня какими-то лекарствами. Я почувствовала ужасную
боль в горле — как будто там был ком, мешавший дышать. Не
было ни слезинки, и сухие глаза горели. Заплаканная Марианна
сказала, что заходила к жене Горького и нашла ее удрученной
убийством. Жена Горького добилась для моей дочери пропуска
в Чека. Марианна ходила туда и тщетно умоляла выдать тело
моего мужа для христианского погребения, на что получила
категорический отказ.
Не знаю, сколько времени я неподвижно просидела на
стуле — кажется, сутки. Помню, как отворилась дверь и вошла
303
моя дочь в сопровождении светловолосой актрисы
Императорских театров, имени которой я назвать не могу, поскольку
она осталась в Петрограде. Обе стали передо мной на колени,
целовали мне руки, и актриса сказала:
— На коленях умоляю вас переехать ко мне. Я случайно
узнала, что большевики считают вас ненужным свидетелем
и хотят вас «ликвидировать», как они выражаются.
Подумайте о детях, о дочерях ваших, ведь у них во всем свете больше
никого нет. Как только я узнала о намерении большевиков,
я зашла к графине Зарнекау, и вот мы пришли к вам. Никому
не придет в голову искать княгиню Палей в доме актрисы, —
добавила она с грустной улыбкой. — Я так вас спрячу, что никто
не сможет вас найти.
В это время вернулся доктор и настоял на.моем
переезде к молодой актрисе. Марианна собрала мои вещи, и он их
туда отнес. Меня завернули в пальто, надели шляпу и повели
в квартиру актрисы, находившуюся неподалеку от моего дома.
Я шла как автомат, ничего не соображая, не зная, куда
иду и кто меня ведет. Кажется, доктор сделал всё возможное,
чтобы я заплакала, чтобы полились слезы. Всё это происходило
в субботу, примерно в 3 часа дня, а я ничего не ела с четверга.
Мысль положить себе что-нибудь в рот была мне отвратительна.
Доктор изобразил, что сердит, и сказал, что Великий князь был
бы очень расстроен моим поведением.
Через четыре дня после моего переезда к X. Марианна
заказала панихиду в Казанском соборе. Она, видимо,
рассказала епископу о трагических событиях, и после панихиды он
подошел ко мне:
— Я видел, как усердно вы молились. Будьте уверены,
Господь видит глубину ваших страданий и в один прекрасный
день соединит вас с вашим мужем-мучеником. К вам [сейчас]
больше сострадания, ведь муж ваш больше не страдает — он
счастлив. Христос исцелил его раны.
После этих слов у меня из глаз впервые полились слезы...
Меня окружили и увели...
Несмотря на все старания доктора, я не могла спать. Все
ночи Марианна проводила около меня в кресле, и ее
преданность еще больше мучила меня. Я не находила слов, чтобы ее
отблагодарить. Во мне всё умерло, и я удивлялась, что еще жива,
когда моего горячо любимого уже больше не было в живых.
304
Я провела у актрисы X. восемь дней в полном
отшельничестве. Кроме своих, доктора и Армана Сан-Совэр ни с кем
не виделась, хотя было исключение: в один прекрасный день
в комнату случайно зашел известный артист из театра, где
служила X., и, увидев меня, сказал:
— Великий князь там, где ему надлежит быть, ведь
Петропавловская крепость — место погребения Романовых.
Постараюсь изложить тут дрожащей рукой то, что я узнала
уже впоследствии в Финляндии от доктора Мальцева, который
находился в госпитале вместе с Великим князем.
Когда во вторник 15/28 января в полдень за моим мужем
приехал солдат на автомобиле, комиссары привели доктора
Мальцева и приказали ему обьявить «заключенному Павлу
Романову», чтобы тот приготовился к выезду с вещами. Доктор
Мальцев вошел в палату, где Великий князь находился вместе
с полковником К.
— Ваше Высочество, — сказал он, — извольте приготовить
ваши вещи и одеваться. Вы уезжаете отсюда.
— Значит, я наконец свободен? — радостно спросил
Великий князь.
— У меня приказ подготовить вас к отъезду. Вас отвезут
на Гороховую.
— Вероятно, вас освободят, — сказал полковник.
Великий князь грустно покачал головой.
— Нет, — промолвил он, — это конец. Я всё это
предчувствовал еще несколько дней тому назад. Доктор, обещайте передать
моей жене и детям, что я их страстно любил. Передайте также,
что перед смертью я прошу прощения у всех, кого в жизни мог
обидеть. А теперь помогите мне собрать вещи и — в путь.
В среду вечером в Чека Великий князь попросил одного
грузина, выходившего на свободу, позвонить мне и известить,
что его перевели на Гороховую. Грузин не исполнил поручения —
либо из страха, либо не смог со мной связаться.
После этого доктор Мальцев передал мне рассказ старого
тюремного служителя, присутствовавшего при исполнении
приговора. Он клялся, что сказал всю правду.
В среду Вел. князя Павла Александровича привезли
одного на Гороховую и продержали до 10 ч вечера. Ему было
сказано, что его увезут, а вещи он должен оставить. Отвезли
305
его в Петропавловскую крепость. Троих других Великих
князей привезли прямо со Шпалерной. Заключили их в темные
казематы Трубецкого бастиона. В 3 часа ночи двое солдат, по
фамилии Благовидов и Соловьев, вывели их голыми по пояс
на Монетную площадь, расположенную внутри крепости перед
собором. Они увидели огромную, глубокую общую могилу, куда
уже были свалены 13 трупов. Их выстроили на краю этой ямы
и открыли по ним стрельбу.
За несколько мгновений до этого служитель слышал слова
Великого князя Павла:
— Господи, прости им, ибо не ведают, что творят!
БАРОНЕССА Д. ФЕЛЬКЕРЗАМ142
ПИСЬМО С. П. МЕЛЬГУНОВУ*
Wunsdorf, Кг. Teltow
Villa Nagel
Baronesse Foelckersam
23. II. 24
Многоуважаемый господин Мелыунов!
Пишу Вам на основании Вашей заметки в газете «Руль».
Я работала в качестве сестры милосердия в тюремном
госпитале в Петербурге с октября 1918 по март 1919 года. Госпиталь
этот находился в ведении Чрезвычайной комиссии. Лежали
в нем преимущественно офицеры и лица, причастные к
белогвардейским заговорам. Кроме того, спекулянты, громилы,
налетчики, фальшивомонетчики и т. д. и т. д. С 6 декабря по
29 января в госпитале — в моем отделении — лежал покойный
Великий князь Павел Александрович. Я хорошо помню всё
происходившее в то время, но дело в том, что я, как
прибалтийская немка, не особенно хорошо владею русским языком,
и поэтому хотела бы лучше изложить Вам всё устно, если Вы
думаете, что я смогу Вам сообщить кое-что интересное. Если
нет, то напишу, как знаю, рассчитывая на то, что Вы всё равно
исправите написанное.
С совершенным почтением,
Баронесса Д. Фелькерзам.
Я в Митаве прожила при большевиках около месяца.
* Рукопись. Архив Гуверовского института, фонд С. П. Мельгу-
нова, кор. 4, д. 24, лл. 134-135.
307
В. Б.
О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ ПРЕБЫВАНИЯ
В ТЮРЬМЕ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, НИКОЛАЯ
И ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧЕЙ
И ДИМИТРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА*
На всю мою жизнь осталось для меня тайной, каким образом
уголовный элемент знаменитой тюрьмы «Кресты» в
Петербурге был отлично осведомлен не только относительно событий
прошедших дня и ночи, о количестве расстрелянных и их имен,
но также о планах и распоряжениях тюремного начальства на
ближайшие дни и даже недели...
Как известно, император Александр III построил тюрьму
«Кресты» для политических заключенных со всем возможным
комфортом и техникой строительства конца XIX века, причем
два огромных корпуса, из которых состояла эта тюрьма, были
в форме креста. Если мне не изменяет память, общих камер
в тюрьме не было: одни одиночные камеры.
1918 год. Самый разгар утверждения «гуманности»
советских правителей, входящих, так сказать, во вкус управления
властью, а отсюда и следствие: недостатка в «клиентах» не
чувствовалось, «освободившиеся за ночь» камеры уже на другое
утро заполнялись вновь прибывшими.
Арестованные политические сидели в корпусе № 1, а
уголовные до отказа в корпусе № 2 устраивались. Никакого общения
между жильцами этих корпусов не было. Конечно, все острые
и колющие предметы не разрешались.
На второй день моего пребывания в «Крестах» я вызвал
надзирателя.
— Что вам угодно? — спросил он.
— Откройте дверь, — я говорю, — необходимо поговорить.
Надзиратель входит в камеру и слушает меня.
— Послушайте, мне нужно побриться, я не выношу бороды.
— Вы ведь знаете... — начинает надзиратель.
* Златоцвет (Бурлингейм, США), 1962, № 2, с. 25-27.
308
— Я знаю, — перебиваю его, — но я не желаю и не могу
ходить с бородой. Может быть, я буду здесь сидеть тридцать
лет, каков же я буду с бородищей?
Старый надзиратель, видавший виды, пристально смотрит,
пожимает плечами и, уже уходя, говорит:
— Подайте рапорт товарищу комиссару, я передам.
Я сразу принялся за рапорт:
«Товарищу комиссару тюрьмы "Кресты" заключенного
(имя рек). Рапорт. Прошу разрешения мне бриться ежедневно
и для этого вызвать мне парикмахера».
Вызвал надзирателя и вручил ему свой рапорт. Жду день.
Наступил второй. На третий день вызываю надзирателя и снова
даю ему рапорт. Только после шестого рапорта в камере
появляется высокая фигура, оказавшаяся комиссаром.
— Это вы атакуете меня рапортом о стрижке?
— Да, я...
— Вы же прекрасно знаете, что я не могу разрешить вам
иметь бритвы, ведь женщин здесь нет.
— Я бреюсь не для женщин, а для себя самого, борода —
это нечистоплотная привычка.
Комиссар стоит и молчаливо меня разглядывает.
— Хорошо, — говорит начальство, — я постараюсь что-
нибудь придумать для вас, раз вы так страдаете...
И комиссар деловито уходит из камеры моей.
Вся эта история с бритьем начинает меня занимать. Что-
то будет?
На другой день, часов в 8 утра надзиратель открыл дверь
и впустил ко мне какую-то «личность», которая сразу
затараторила охающей скороговоркой, отрекомендовавшись
тюремным «фигаро» из уголовного корпуса. Существует
парикмахерский анекдот. Пришедшего клиента спрашивают:
«Как прикажете вас постричь?» Клиент: «Молча». Мой
«фигаро» был типичным парикмахером: рта своего не закрывал
и по привычке говорил-говорил, рассказывая все новости
нашего мира.
И вот однажды он принес действительно новость.
— Через две недели вас, усех политиканов, переводяту Дом
предварительного заключения, что на Бассейной, значит, у гости
до товарища Урицкого... Знаете его? Такой плюгавый волкодав,
хромая сучка. Вот, ей Богу, правда.
309
Новость была действительно потрясающей. Всё же, не
очень доверяя моему осведомителю, начал выстукивать новости
моему соседу. Этот «телеграф» быстро разнес новости по всему
корпусу. Начальство молчало.
О зверской жестокости комиссара Урицкого знал Петербург.
Тучи сгущались, и заключенные насторожились.
Не через две, а через три недели нас всех вызвали по
списку с вещами в огромный двор, пересчитали, построили,
окружили конвоем и повели, в чудесный августовский день,
через Николаевский мост в Дом предварительного заключения.
Все останавливались, прохожие смотрели на нас, некоторые
крестились, видел и слезы участия; а «кепка», стоявшая у
перил моста, крикнула в адрес конвоира: «Чего ты их мотаешь,
сволочей, покидай их усех у реку...»
Новоселье в Д. П. 3.* было не очень привлекательным.
Огромная тюрьма состояла вся из железобетона, чугунных
перил, асфальта. Но зато здесь состав заключенных был иной —
только политические. Кого здесь только не было. Я смотрел из
окна камеры на толпу выведенных на прогулку, их было много
и «проветриваться» выпускали частями.
Повторяю, что состав заключенных был высоким по своей
культуре... Здесь были заключены Великие князья — Павел
Александрович, Николай и Георгий Михайловичи, Дмитрий
Константинович. Даже не зная их в лицо, вы догадывались,
кто они, по их манере держать себя, особой выправке. Их
простота подкупала, как и их «барственность». Даже грубые
церберы Урицкого не позволили себе ни одной хамской выходки
в отношении Великих князей. Они не пользовались никакими
преимуществами, разве что Великому князю Павлу
Александровичу, на редкость красивому и благородному владетельному
князю XIX века, из уважения к его возрасту и [из-за] частого
недомогания, администрация тюрьмы разрешила поставить
большую железную кровать, вместо обычной.
Талантливый историк, Великий князь Николай
Михайлович, труды которого ценятся высоко, труды, представляющие
теперь редчайшую библиографическую ценность, — он был
всегда весел, бодр, прогуливаясь в генеральской шинели и не
снимая с нее погон с вензелями; он сыпал направо и налево
* Доме предварительного заключения. — Прим. ред.
310
шутки, бодря других и поддерживая дух у очень многих
ослабевших духовно. Таким приветливым и простым был и В. кн.
Георгий Михайлович, которого знала масса офицеров, когда он
часто посещал передовые линии фронта. Только В. кн.
Дмитрий Константинович носил на своем высоком челе какую-то
затаенную думу, и его умные, ласковые глаза, глядя на других,
отражали глубокую скорбь.
Так как свидания никому абсолютно не разрешались, то
большой и единственной радостью для всех нас была
«передача» с воли от своих близких, друзей. Их ждали нетерпеливо и с
бьющимся сердцем.
«Передачи» были самые разнообразные, атак как кормежка
мало походила и совершенно не удовлетворяла как пища, то
всякий присланный с воли пирожок, вкусная котлета доставляли
удовольствие и память, что о вас не забыли.
Большие и вкусные передачи пищи получали все Великие
князья, и особенно обильные присылались морганатической
супругой Вел. кн. Павла Александровича, княгиней Палей.
Приносились большие плетеные корзины. И надо было видеть
и прочувствовать, с каким удовольствием и ласково все Великие
князья, и особенно Павел Александрович, раздавали направо
и налево содержимое передач.
Если я не умер в тюрьме с голоду в этот период, — я обязан
только Великим князьям и их изумительной доброте.
Часто разговаривая с Великими князьями в тюрьме — я был
соседом по камере с Великим князем Николаем
Михайловичем — они все говорили мне, что их арест — это абсурд,
недоразумение и что все они скоро будут освобождены. И
чувствовалась в их словах вера в освобождение, и, кстати сказать, эта
вера поддерживалась в них самим... Урицким.
Как они глубоко ошиблись, доверяя подлой двуличности
советского сатрапа.
В декабре 1918 года я был неожиданно освобожден из
тюрьмы. Сердечно за всё благодарил Великих князей. Никогда
я не думал, что я прощался с ними навсегда...
Ворота Дома предварительного заключения открылись для
меня, и я очутился на свободе. А через день я уже сидел в поезде,
уносящем меня на юг, к моим близким и дорогим.
Я рассказал вам, читателям журнала «Златоцвет», о всем
том, чему я свидетелем был: о последних днях заключения
311
в тюрьме Дома предварительного заключения в грозный 1918 г.
Великих князей Павла Александровича, Николая и Георгия
Михайловичей и Дмитрия Константиновича.
О трагическом их конце я слышал из весьма достоверного
источника.
В поисках освобождения своего высокопоставленного
мужа — Великого князя Павла Александровича, а заодно и других
Великих князей, заключенных с ним вместе, — княгиня Палей
вошла в соприкосновение с артисткой МХТ Марией
Федоровной Андреевой, второй женой Горького, который пользовался
большим расположением Ульянова-Ленина.
Горький взялся за это дело, и для этой цели уехал в Москву,
добиться у Ленина освобождения Великих князей. Горькому
хлопоты увенчались успехом: на небольшом квадрате бумаги он
вез распоряжение диктатора об освобождении Великих князей.
Горький поспешил ехать в Петроград, никого не посетил
в Кремле, даже Бронштейна-Троцкого. Через несколько минут
Бронштейн-Троцкий уже знал, что у Ульянова-Ленина был
Пешков и причину его визита. Его обозлило, что Горький не
нашел нужным зайти по этому делу к нему и даже не сообщил
о результате визита к Ленину. Военный министр Бронштейн
закипел злобой...
На другое утро Горький, подъезжая к Петрограду и видя на
перроне Николаевского вокзала взволнованное лицо княгини
Палей, вынул из своего бумажника драгоценный документ на
освобождение ее мужа и всех Великих князей, желая порадовать
княгиню, опустил окно своего купе и начал махать документом,
радостно улыбаясь. И в этот же момент продавцы утренних
петербургских газет, размахивая газетами, кричали во всю глотку:
— Расстреляны Великие князья, заядлые враги народа —
Павел Александрович, Николай Михайлович, Дмитрий
Константинович...
По уходе из Кремля Горького, Бронштейн назло Ульянову
и Горькому позвонил по телефону в Петербург в Дом
предварительного заключения и лично приказал в эту же ночь расстрелять
всех Великих князей...
А. Г. МАЛЬЦЕВ
КАК БЫЛ РАССТРЕЛЯН
ВЕЛ. КН. ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ*
Пореволюционное время вызвало появление в свет
«мемуарной» литературы. Явление это следовало бы приветствовать,
если бы, к сожалению, действительность в них не переплеталась
с фантазией.
Вот такой фантазией являются и перепечатанные
«Возрождением» «Воспоминания немецкого контрразведчика»
о последних днях жизни Вел. кн. Павла Александровича
и подробности его расстрела.
Судьбе было угодно сделать меня единственным свидетелем
последних дней жизни покойного Великого князя, и я
утверждаю, что всё написанное «мифическим контрразведчиком» не
соответствует действительности.
Тринадцать
В последних числах декабря 1918 г. мы, роковая группа
арестантов в 13 человек, были вызваны из кронштадтских
казематов на «допрос» в Петербург. Группа наша состояла из
десяти человек молодых морских офицеров: Битенбиндера143,
Бруни144 и др., капитана Сабир де Рибас, известного писателя
Н. Н. Брешко-Брешковского и автора этих строк. Хотя слово
«допрос» и имело специфическое значение, мы были рады
выбраться из Кронштадта, где в отношении нас был применен
каторжный режим и где мы были в руках разнузданной матросни.
В зимнюю стужу, в легких пальто, а некоторые даже без
него, — все ведь были арестованы летом, — мы были под конвоем
доставлены на пристань, откуда ледоколом переправились на
другой берег, в Ораниенбаум. Здесь нас посадили в обыкновенный
пассажирский вагон, среди пассажиров, а конвоиры наши
предупредительно разместились у выходов. Пассажиры отнеслись к нам
очень сердечно — накормили и снабдили бумагой и конвертами,
что позволило нам известить родных о возвращении в Петербург.
* Возрождение (Париж), 10 марта 1934 г., № 3202.
313
Встреча с Павлом Александровичем
В Петербурге нас провели в Чеку, на Гороховую, 2, где
«допрос» для большинства кончился так, как и следовало ожидать:
десять человек были расстреляны, и только троим сохранили
жизнь: Лаврентьеву, Брешко-Брешковскому и мне.
Первые два были очень скоро освобождены, а я, как
иностранец, был перевезен в галерею смертников на Шпалерной улице
и служил «товаром» для обмена коммунистов, задержанных
в Финляндии.
Долго сидеть на Шпалерной мне не пришлось. При переезде
из Кронштадта в Петербург я простудился, схватил флегмоноз-
ную ангину, и в тяжелом состоянии был отправлен в тюремный
госпиталь на о. Голодай.
Вот там-то мне и пришлось встретиться с Вел. кн. Павлом
Александровичем. Великий князь имел отдельную небольшую
палату, в которой замкнуто проводил свое время, изредка беседуя
со старостой этажа, полк. Оржеховским.
«Тюремная свобода»
В описываемое мною время, т. е. в 1918—19 гг. в Петербурге
свирепствовали холера и сыпной тиф. Случилось так, что почти
весь медицинский персонал нашего госпиталя свалился. Тогда из
Чеки пришло распоряжение возложить на меня ординаторские
обязанности. Этому обстоятельству я несказанно обрадовался,
во-первых, потому, — как это ни странно говорить сейчас — что
я стал получать «пробную порцию», а во-вторых, и потому, что
получил возможность ходить по всем этажам и чувствовать себя
как бы «на свободе».
Для людей несведущих поясню, что «пробная порция»
доставляется дежурному врачу и только после его одобрения
раздается больным. Нужно ли говорить о том, что мне,
изголодавшемуся в Кронштадте в течение пяти месяцев, где выдавали
только У16 ф. хлеба в сутки и бутылку воды, «пробная порция»
казалась пищей богов...
В один из первых дней января месяца дежурная сестра
милосердия вызвала меня к Вел. кн. Павлу Александровичу,
и вот с этого дня у меня установились с ним самые сердечные
и доверчивые отношения.
314
Великий князь в заключении
Целые дни я проводил с ним в интересных беседах, главным
образом о его семье, и имел возможность оценить прекрасный
и рыцарский его характер. Но долгое пребывание в лапах
чекистов наложило на него известный отпечаток подавленности.
Я помог Великому князю установить письменную связь
с его супругой, жившей тогда в отеле «Карелия» в Выборге.
Какими путями, этого я сказать не смею, так как там, в
Питере, живы, вероятно, все те, кто помогал в этом. В эти же
дни я получил письмо от жены, в котором она сообщила, что
финляндское правительство заключило конвенцию с советской
властью о моем обмене. Этою своею новостью я поделился
и с Павлом Александровичем, который искренне обрадовался
моему скорому освобождению и заготовил письмо для своей
жены...
Нудно и нервно тянулись январские дни. Каждый четверг
к госпиталю подъезжал вечером «черный ворон» — так
назывался автомобиль Чеки — и выхватывал очередную жертву
Мне приходилось ежедневно относить рапорт в комендатуру
госпиталя и подавать требования. И вот, я хорошо помню, как
30 января утром я услыхал разговор чекистов о том, что «сегодня
или завтра будет расстрелян Павел Романов». Это до такой
степени ошеломило меня, что я долго не мог сойти с места. Ведь
только вчера еще Великий князь убедительно говорил, что его
скоро освободят, и вдруг...
«Чья очередь?*.»
Как помешанный, я поднялся на третий этаж и бросился на
кровать. «Арестанты» поняли, что произошло нечто ужасное...
Нужно было начать обход больных, но я был не в состоянии.
А тут, как на грех, Великий князь позвал меня к чаю. Принял
я большую дозу брома, постарался привести мысли в порядок,
но, очевидно, мне это плохо удалось, так как Павел
Александрович сразу задал вопрос:
— Чья очередь?..
Весь день после этого Великий князь был нервно настроен:
видимо, почувствовал приближение рокового конца. Он не
притронулся за весь день к еде и всё время читал Евангелие.
315
Около восьми часов вечера он вручил мне письмо для его жены,
а в десятом часу подъехал «черный ворон».
В палату Великого князя вошел в моем присутствии
комендант Чеки Галкин* — убийца Шингарева и Кокошкина —
и приказал ему одеваться. Великий князь, не торопясь, стал
одеваться и собирать свои вещи, на что Галкин грубо заметил:
— Куда тебе всё это, на «свободу» идешь.
«Немецкий разведчик» указывает, что тут был прочитан
приговор. Это фантазия.
Когда Великий князь оделся, я спустился с ним до выходной
двери. Мы расцеловались и перекрестили друг друга. Его
посадили в автомобиль, и в тот же вечер он с остальными Великими
князьями был расстрелян в Петропавловской крепости. Тело
его погребено там же за оградой.
На следующее утро стало известно, что Великий князь Павел
Александрович, будучи тяжело ранен в бедро, был так и зарыт.
Просьбу Павла Александровича передать его письмо и
предсмертные слова его супруге я исполнил пять месяцев спустя,
когда приехал в Финляндию (см. «Воспоминания» кн. О. Палей;
В. кн. Мария Павловна «Принцесса-беженка», с. 174).
Д-р А. Г. Мальцев
Нью-Йорк
* Не Егоров, как указывает «контрразведчик». — Прим. автора.
К. Ф. ФОН БРЮММЕР145
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА*
Ген. Бруммер, долгое время служивший при особе Вел. князя
Николая Михайловича, в "Revue des deux Mondes" сообщает
подробности о последних днях жизни Великого князя.
Остановившись сначала на разграблении дворца Великого
князя, на допросе в чека, ссылке в Вологду одновременно с Вел.
князьями Георгием и Дмитрием, заключении их в Вологодскую
тюрьму, переводе в Петроград в подвалы чека, затем в подвалы
на Шпалерной, вследствие приказа о применении к Вел. князю
наиболее сурового режима, ген. Бруммер рассказывает:
«Мы были более или менее в курсе всего, что происходило
в тюрьме благодаря некоторым данным, открыть которые я не
имею права. Великий князь нам присылал записки и упрекал
за то, что мы ему редко писали. Сама переписка была делом
очень опасным, и малейшая неосторожность могла иметь
роковые последствия. Время шло, и мы не теряли надежды
на освобождение. Никто не верил в возможность смертного
приговора для Вел. князя.
Говорили, что в январе 1919 г. в московском совете
Луначарский добился помилования для Вел. князя и что
московский совет телеграфировал в этом смысле петроградскому, но
Зиновьев, бывший противником всякого смягчения, скрыл эту
телеграмму и поспешил с казнью.
В ночь с 26 на 27 января я вновь был арестован и отведен
в чека.
На третий день ареста, 29 января я прочел в газете, что
в ночь с 28 на 29 января Великие князья Николай Михайлович,
Георгий Михайлович, Дмитрий Константинович и Павел
Александрович расстреляны в Петропавловской крепости.
Всё было кончено.
Ночью с 28 на 29-е в тюрьму при чека перевели со
Шпалерной одного молодого офицера. Читая его имя в списке
заключенных, я догадался, что это был компаньон Вел. князя по
* Новое Время (Белград), № 174, 20 ноября 1921 г. С. 2—3.
317
заключению, о котором он часто с признательностью упоминал
в своих записках.
Я нашел его и спросил, справедлива ли ужасная новость или
здесь возможна какая-либо ошибка. Он ответил, что, к несчастью,
всё подтверждает это сообщение. К тому же он сам видел, как трех
Великих князей под сильным эскортом выводили со Шпалерной
и притом без багажа, что очень плохой признак. Затем, будучи
в эту же ночь переведен в чека и находясь в кабинете коменданта
Галкина, на обязанности которого был обыск пленных при их
поступлении и запись их в арестантский реестр, он увидел
последнего заряжающим свои два револьвера и одевающим на себя
целый пояс с патронами: впечатление было таково, как будто бы
он готовился к большой казни, где его роль состояла в
ассистировании палачу и в добивании казненных. Офицер услыхал
приказание Галкина отвести как можно скорее в крепость «того,
кого сюда привели по ошибке». Выходя из кабинета, офицер
увидел на ступеньках, ведущих в подвал, Вел. князя Павла,
сопровождаемого двумя солдатами с револьверами в руках.
Это был он, «которого привели из госпиталя по ошибке»
и которого надо было направить в крепость.
Мы долго разговаривали: офицер рассказал мне массу
подробностей относительно заключения Вел. князя; он мне повторил, что
Вел. князь до последнего момента сохранял полное самообладание,
продолжая надеяться и тогда, когда всякая надежда была потеряна.
С 7 апреля 1919 года, после освобождения меня от
принудительных работ, на которые я попал после пребывания в трех
тюрьмах, я собрал несколько версий относительно убийства
Великих князей.
Все версии различны и противоречивы. Я не имел ни
самообладания, ни средств для того, чтобы более подробно
разобраться в этом ужасном преступлении.
Позднее, в Париже я встретил одного из близких Вел.
князю офицеров, которому удалось бежать из Петрограда вскоре
после убийства Вел. князя. Вот что он сообщил мне из вполне
достоверных источников.
В11У2 ч* ночи с 28 на 29 января 1919 г. три Великих князя
получили приказ приготовиться к выходу со Шпалерной; им позволили
взять с собой и свои вещи. Вел. князь Николай сказал с улыбкой
* 11 ч 30 мин. — Прим. ред.
318
своему брату Георгию, что, наверное, их выпустят на свободу или
же переведут в Москву. Георгий ответил ему, что возможно также,
что их ведут на расстрел, на что Вел. князь Николай ответил, что
он этого не думает, так как их смерть никому не нужна.
Вел. князь Георгий ничего не ответил и обратился к одному из
тюремных сторожей, хорошо относившемуся к ним, с просьбой,
если он встретит кого-либо из семьи Вел. князя, передать им его
привет. Вел. князь Дмитрий находился в молчаливом раздумье.
Затем их вывели из тюрьмы под вооруженным эскортом,
запретив взять с собой багаж. Вел. князь Николай вышел из
тюрьмы, держа на руках кошку, к которой привык и с которой
не захотел расстаться. В эту ночь был сильный мороз. Выйдя
на двор, Вел. князья увидели большую повозку, в которой
находились 6 матросов со связанными руками. Туда же посадили
и Великих князей. Затем сели комиссар и 4 вооруженных солдата.
Выехав из тюрьмы и проехав по набережной, повозка повернула
на Троицкий мост, ведущий в Петропавловскую крепость;
сидевшие не могли уже больше сомневаться в ожидавшей их участи.
По приезде в крепость их провели прямо к коменданту. Вел.
князь Павел Александрович был также приведен туда, там же был
и комиссар из чека, возможно, что это и был Галкин. Комиссар
прочел смертный приговор. Затем Великих князей раздели,
несмотря на 20-градусный мороз, и провели к месту убийства
около Трубецкого бастиона, где была уже вырыта общая могила.
Каждый из осужденных находился между двух солдат. Вел.
князь Николай не расставался со своей кошкой. Один из солдат
громко сказал: «Какая честь для нас! Вот когда мы гуляем под
руку с Великими князьями».
Когда проходили мимо собора с Императорской
Усыпальницей, Великие князья сняли шляпы и перекрестились; тогда
один из солдат крикнул: «Все ваши молитвы не помешают вам
быть расстрелянными! И похоронят вас не под мраморными
плитами, но под обрубками дерева».
Перед расстрелом Вел. князь Николай передал кошку
одному из палачей.
Все встретили смерть одинаково спокойно, с полным
самообладанием.
Вел. князь Дмитрий громко прочел краткую молитву, в
которой просил Спасителя простить их палачам.
Затем началось убийство под руководством Галкина».
319
А. ЛИДИН
БЕГСТВО КНЯГИНИ ПАЛЕЙ
(от парижского корреспондента «Слова»)*
Парижские газеты поместили на днях отчет о
благотворительном вечере, устроенном в Биаррице княгиней Палей. На
фоне ослепительных туалетов и сказочных драгоценностей
княгиня Палей принимала гостей, среди которых находились принц
Уэльский, принц Фуад, принц Капуртала, герцог и герцогиня
Лейхтенбергские, великие князья. Экзотическое попурри,
интернациональные декольте, красочное смешение лиц и языков.
Целая вечность отделяет сейчас княгиню Палей от того
времени, когда она у ног большевицких палачей пыталась вымолить
жизнь своего мужа, Великого князя Павла Александровича,
расстрелянного петербургской чрезвычайкой 29 января 1919 года.
Об этих мучительных, кошмарных страницах жизни княгини
Палей рассказал мне, в связи с отчетами о пышном празднике
в Биаррице, человек, принимавший непосредственное участие
в устройстве побега княгини из Петербурга после того дня, когда
было расстреляно четверо великих князей.
31 января 1919 года граф Павел Шувалов146 прибыл в
сопровождении двух человек в Териоки с твердым намерением
пробраться в Петербург, чтобы спасти княгиню Палей — ту,
которую до войны знал «весь Париж» под именем графини
Гогенфельзен (титул княгини Палей графине был пожалован
уже во время войны). В этот самый день в большевицких газетах
мелким петитом, среди хаоса декретов и обязательных
постановлений была напечатана заметка, в те дни такая же банальная,
как хроника происшествий, но такая мрачная и циничная, как
хохот правящего бал сатаны. Газетную вырезку с этой заметкой
мой собеседник тщательно пронес через все скитальческие годы
беженства. Вот ее содержание:
«24 января 1919 г. чрезвычайная комиссия по борьбе
с контрреволюцией и спекуляцией постановила расстрелять
следующих лиц: дело 6.440: Лаврентьев — за ограбление на
улице Декабристов; дело 7.354-7.385: Радченко, Тишкин,
* Слово (София), 28-29 сентября 1926 г.
320
Полянов — за грабеж; дело 6.819: Куликов и Петров — за
кражу в квартире на углу улицы Марата и Кирочной; дело 7.477:
Андреев, Дмитриев и Овсянников — за убийство и грабеж; дело
великих князей: Павел Александрович, Николай Михайлович,
Дмитрий Константинович, Георгий Михайлович.
Председатель: Скороходов.
И. о. секретаря: Лулов».
Ни следа обвинения, ни намека на какое бы то ни было
участие в «контрреволюции» или «спекуляции», чтобы
мотивировать расстрел в компании убийц, воров и грабителей. Очень
просто: «дело великих князей». Однако титула было достаточно.
В течение целой недели граф Шувалов, не зная, что
происходит в Петербурге, ищет контрабандиста, который взялся
бы провезти живую контрабанду через советско-финскую
границу. За скромную, впрочем, плату он находит человека,
хорошо знающего границу. Условия: поездка туда и обратно,
продолжительность поездки не больше трех дней, право взять
из Петербурга нескольких человек. Задаток дан, и граф Шувалов
гримируется для поездки настоящим бандитом. В 25-градусный
мороз сани, запряженные двумя финскими пони, увозят графа
и его спутников через густые леса, по неезженным тропам к
стране красного ужаса. Путь определяют по компасу, как в открытом
море. Снежная буря благоприятствует переходу границы. На
советской территории финские лошадки останавливаются как
раз вовремя, чтобы не налететь на избу, в которой отогревается
большевицкий пикет. Быстрым галопом малорослые, но
сильные и выносливые финки уносят в снежную вьюгу путников,
счастливо избавившихся от опасности. И ночью, при свете
луны, под вой ветра идет вакхический лет саней к
Петербургу. На рассвете, сквозь туманную мглу снежной завесы виден
золоченый купол Исакия — это Петербург, умирающий город,
где дети рождаются без ногтей, где скелетообразные существа
пожирают внутренности павших от голода лошадей, где спорят
из-за мяса собак, где не видно птиц, где не хватает даже
гробов... Граф Шувалов, с отмороженными руками и ногами бежит
узнавать новости. И узнает, что 29-го приговор чрезвычайной
комиссии приведен в исполнение. О расстреле Великих князей
существует много версий, уснащенных всякими трагическими
деталями и подробностями. Истинная же картина убийства,
321
как ее передавал граф Шувалов, узнавший обо всем из самых
достоверных источников, отличается зверской простотой,
более свирепой, жестокой и кошмарной, чем все те насыщенные
ужасами рассказы, которые ходили в Петербурге из уст в уста.
Граф Шувалов рассказал, что 28 января Великие князья
были переведены из Дома заключения на Шпалерной в
помещение чрезвычайной комиссии. Убежденные, что настал час их
освобождения, узники совершили этот переезд бодро и с верой
в скорый конец их мытарств. Но с приездом в «чека» начинается
крестный путь четверых мучеников.
Первый этап: циничная насмешка над правосудием —
Скороходов быстро, бормоча слова под нос, прочитывает Великим
князьям смертный приговор, подписанный четыре дня тому
назад. Скороходов гонит эту явно ненужную процедуру, и в
10 минут всё кончено.
Второй этап: Великих князей, к которым присоединяют еще
одного приговоренного к расстрелу англичанина, перевозят на
грузовике в Петропавловскую крепость. Брошенные в одиночки
Великие князья проводят свою последнюю ночь в двух шагах
от Петропавловского собора, где покоятся их предки. Завтра та
же обледенелая земля примет и их тела.
Третий этап — утро: всех осужденных переводят в одну
камеру. Несколько минут ожидания, затем резким толчком
открывается дверь, в камеру просовывается голова
караульного унтер-офицера, он называет имя. Один из Великих князей
подымается и, не говоря ни слова, не делая ни одного жеста,
выходит из камеры. Грубым движением его вталкивают в
другую камеру, где двое красноармейцев убивают его сзади двумя
выстрелами в затылок...
И снова унтер-офицер просовывает голову в камеру со
смертниками и называет другое имя. Вызванный успевает
увидеть в камере, в которую его вталкивают, распростертый на
земляном полу труп, и в тот же момент жуткую тишину взрывают
два револьверных выстрела.
Еще один труп и еще одно имя — третий, за ним четвертый,
пятый... В короткие интервалы палачи едва успевают зарядить
револьверы. Имена этих палачей: Благовидов и Соловьев. Их
не забудут будущие историки России.
Кому и для чего нужно было это бессмысленное, бесцельное
убийство? Граф Шувалов утверждает, что в Петербурге, где голод
322
был во много раз сильнее, чем в Москве, большевики
чувствовали свою слабость. Для упрочения колеблющегося престижа
власти Зиновьев знал только одно средство: усиление красного
террора, вакханалию голов. Москва, где большевизм уже начал
«прилизываться» и принимал «международную
дипломатическую форму», неоднократно призывала «к порядку» Северную
коммуну, но автодидакт Зиновьев опьянялся потоками свежей
человеческой крови и на окрики Ильича отделывался отписками.
Красноармейцы бесчинствовали. Обыски, аресты и расстрелы
без ордеров, без следствия, без видимости правосудия сделались
в зиновьевской вотчине рядовым явлением. За время
пребывания Шувалова в Петербурге, т. е. за 48 часов, было расстреляно
свыше 40 офицеров, только за то, что они были офицерами.
Шувалов увидел, что нужно как можно скорей вырвать
княгиню из этого ада, как можно скорей уехать... До последней
минуты княгиня продолжала надеяться. Неутомимая, она
обивала пороги всех советских учреждений, обращалась ко всем,
молила всех, а по вечерам рыдала, чтобы наутро снова начать свои
подвижнические хлопоты. Ко времени ареста ее мужа, Великого
князя Павла Александровича, она успела потерять любимого,
единственного сына. Князь Владимир Палей, 19-летний юноша,
счастливо сочетал в себе красоту физическую с духовными
дарами. Талантливый литератор, он успел уже выпустить 2 томика
своих стихов и тонкое критическое исследование о провалах
и экстазах славянской души. Всему Петербургу была известна
его хлесткая эпиграмма на Керенского, маленького, жалкого,
сидящего в кресле Александра Пив зеркалах Зимнего дворца
видящего пышные тени исчезнувших императоров. Но,
конечно, таланты юноши не могли изменить его судьбу: он был
арестован вместе с Великим князем Сергеем и, как передавала
молва, умер в тюрьме от голода. После сына настала очередь
отца, наиболее беззащитного по своему характеру из всех
Великих князей. Об участи мужа княгиня ничего не знала, и, еще
надеясь на какое-то чудо, она отказывалась бежать. Уже после
того, как Великие князья были расстреляны, княгиню всё еще
продолжали посылать из одного комиссариата в другой. Не
знали посылавшие ее о свершившейся казни или дьявольски
издевались над несчастной женщиной? Шувалов рассказал
княгине всё, что знал. Она приняла известие стоически. Она
согласилась бежать.
323
7 февраля вечером, на заморенной клячонке один из
немногих оставшихся в Петербурге «ванек» повез ее за город, где
уже ждал финн-контрабандист. 10 часов сумасшедшего галопа
под постоянной угрозой обстрела, бесчисленные зигзаги и
повороты, чтобы замести следы, минуты жуткой тревоги. В течение
всех этих десяти часов смертельного беспокойства княгиня
сидела каменно-спокойно в возке. И только в вагоне финляндской
железной дороги, уже в полной безопасности, вдали от советов
и палачей граф Шувалов увидел, что по горестному, скорбному
лицу этой жены и матери, оставившей позади себя две дорогие
могилы, катятся крупные слёзы...
За ресторанным столиком голосом, полным внутренней
тоски и печали, рассказал мне этот эпизод мой собеседник.
Когда он кончил свой рассказ, заиграла музыка. И, как будто
оркестрируя этот рассказ о невыплаканных слезах и неведомом
великом страдании, зарыдала скрипка русский романс, песнь
отчаяния и муки. Над невинными жертвами, над неведомыми
могилами плакала скрипка.
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ147
КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ
(фрагмент)*
Всё это происходило в расстоянии многих тысяч верст от
Парижа, где я в пятьдесят два года стал эмигрантом, человеком
без родины, «б[ывшим] Великим князем». Я не только ничего не
мог сделать для того, чтобы помочь армиям Деникина и Колчака,
но наоборот опасался, как бы какое-либо открытое выявление
моих симпатий в отношении вождей белых армий не повредило
бы достижению их целей. И без того французские социалисты
были крайне встревожены присутствием «стольких Романовых»
в столице Франции. В действительности от большевиков
удалось спастись лишь незначительной части русской
Императорской семьи. Кроме нашей «крымской группы», состоявшей из
вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, моей невестки
Великой княгини Ольги Александровны, моей жены Великой
княгини Ксении Александровны, моих двоюродных братьев
Великих князей Николая148 и Петра149 Николаевичей, моих
шести сыновей и дочери, — всего лишь четырем Великим князьям
и двум Великим княгиням удалось бежать из России за границу.
Великий князь Кирилл Владимирович, законный наследник
Русского Престола и старший сын моего двоюродного брата
Владимира Александровича150, рассказал мне захватывающую
историю своего бегства из Петербурга. Он перешел пешком
замерзший Финский залив, неся на руках свою беременную
жену Великую княгиню Викторию Федоровну, а за ними гнались
большевицкие разъезды.
Его два брата, Великие князья Борис151 и Андрей152
Владимировичи обязаны спасением своих жизней поразительному
совпадению, к которому, если бы его описал романист, читатель
отнесся бы с недоверием. Командир большевицкого отряда,
которому было приказано расстрелять этих двух Великих князей,
оказался бывшим художником, который провел несколько лет
* Фрагмент из издания: Книга воспоминаний, Париж: Издание
журнала «Иллюстрированная Россия», 1933, т. 3, с. 328—330.
325
жизни в Париже в тяжкой борьбе за существование, тщетно
надеясь найти покупателя для своих картин. За год до войны
Великий князь Борис Владимирович, прогуливаясь по Латинскому
кварталу, наткнулся на выставку художественно нарисованных
подушек. Они понравились ему своей оригинальностью, и он
приобрел их значительное количество. Вот и всё. Болыиевицкий
комиссар не мог убить человека, который оценил его искусство.
Он посадил обоих Великих князей в автомобиль со значком
коммунистической партии и повез их в район белых армий.
Мой племянник Великий князь Дмитрий Павлович не
уцелел бы, если бы не сыграл всем известной роли в деле об
убийстве Распутина. Когда он был выслан Государем в Персию,
он добрался до британского экспедиционного корпуса, который
действовал в Месопотамии, и таким образом эмигрировал из
России. Его сестра, Великая княгина Мария Павловна вышла
во время революции замуж за князя Сергея Путятина153, и так
как у нее был паспорт на имя ее мужа, то большевики при ее
бегстве за границу не распознали в «гражданке Марии
Путятиной» Великой княгини.
Все остальные члены русской Императорской семьи были
расстреляны по приказу советского правительства летом 1918
года и зимой 1918—1919 гг. Мои братья, Великие князья Николай
Михайлович и Георгий Михайлович встретили свою смерть
в Петропавловской крепости, где, начиная с Петра Великого,
были погребены все русские Государи и Великие князья. Максим
Горький просил у Ленина помилования для Николая
Михайловича, которого глубоко уважали даже на болыиевицких верхах за его
ценные исторические труды и всем известный передовой образ
мыслей. — «Революция не нуждается в историках», — ответил
глава советского правительства и подписал смертный приговор.
Великий князь Павел Александрович —- отец Великой
княгини Марии Павловны — и Великий князь Дмитрий
Константинович были расстреляны в один и тот же день, 18 января 1919г.,
с моими братьями. Тюремный надзиратель, некий Гордиенко,
получавший в свое время ценные подарки из Кабинета Его
Величества, командовал экзекуционным отрядом. Если верить
советским газетам, Великий князь Николай Михайлович держал
до последней минуты на коленях своего любимого персидского
кота. Дмитрий Константинович — глубоко религиозный
человек — молился громко о спасении души своих палачей.
326
Н. ПОРАДЕЛОВ154
В «ЧЕ-КА»*
Ниже изложено то, что происходило 27 февраля 1919 г. в
камере № 95 Петербургской чрезвычайки, по Гороховой улице,
в доме № 2. Записано со слов свидетеля, бывшего в этот день
среди арестованных.
* * *
На заплеванном, грязном полу девяносто пятой камеры
петербургской «чрезвычайки» разместились, кто лежа, кто сидя,
человек двадцать арестованных. На единственной табуретке
у двери подремывает, зажав между колен винтовку,
обыкновенный русский мужичок, рябой, бородка рыжая клином, в форме
красноармейца. Это часовой при арестованных.
Другой красноармеец, только что вошедший, молоденький,
безусый, щуплый, почти мальчик, держа в руке список, вызывает
по нему семь фамилий.
— Эти товарищи, которые вызваны, сниматься к фотографу
назначены. Пожалуйте, товарищи.
Шесть человек тяжело, равнодушно поднялись с полу
и молча столпились у двери.
— А ты что же, товарищ? — беспокойно обратился мальчик-
красноармеец к одному из сидевших. — Товарищ Скульский,
тебе я говорю, ай нет?
Скульский, высокий, тонкий, неприятно-красивый брюнет,
в чистой изящно-пригнанной солдатской форме, поднялся,
презрительно в упор посмотрел на говорившего и с чувством
безграничного превосходства ответил:
— Меня ваши приказы не касаются. Я — главный комиссар
всех военных комиссариатов Петербургской, Новгородской
и Псковской губерний. И с теми, кто меня арестовал, еще
разговоры будут особые, а не то, чтобы вас слушать.
— По мне, что же, — обращаясь ко всем арестованным,
сказал красноармеец, — я ведь не от себя. Коли не хочет, — его
дело, а мое дело доложить.
Красноармеец и шесть арестованных вышли.
* Последние Новости (Париж), 18 июня 1920 г.
327
— Плохо вам будет, Скульский, — мрачно уронил сидевший
на полу инженер Израленберг, — Галкин шутить не будет.
Скульский презрительно пожал плечами, но лицо его,
нервное и жестокое, выражало теперь беспокойство.
Галкина нельзя не знать. О подвигах его, Волкова и Прусса
(70-летнего старика), исполнявших срочные приговоры
«чрезвычайки», ходили легенды не только среди арестованных, но
и по всему Петербургу.
...Так резко и неожиданно открылась входная дверь, что
очнулся дремавший и ко всему равнодушный часовой,
привскочил и по привычке вытянулся.
Вошедший солдат, плотный, высокий, черный, весь
гладко выбритый, и был Галкин. Деланно размашистой походкой
подошел к Скульскому. Не вынимая рук из карманов,
раскланиваясь всем корпусом, усмехнулся и оглядел его, мрачного
и побледневшего, со всех сторон. Подмигнул арестованным
и насмешливо заговорил:
— Здрасьте, не признали сразу, что такая важная птица
к нам залетела. Прикажете честь отдать? Это можем. Четыре
года в гвардии ... полку науку проходили.
Продолжая издеваться, приложил руку к голове и
вытянулся — руки по швам, всматриваясь, словно бы даже ласково,
в свою жертву; только огоньки недобрые в глазах бегают...
Вдруг та же правая рука отошла от головы и, описав широко
полукруг, размашисто и звонко ударила по щеке Скульского.
— Я тебя, сукин сын, научу как слушаться, — сразу
изменив голос, резко и злобно заорал Галкин. — Пошел сейчас же
сниматься.
Удары в лицо и пинки в спину посыпались так энергично
и так умело, что никто не успел опомниться, как Скульский,
нагнув голову и закрывая руками затылок, бомбой проскочил
в двери, мимо оторопевшего часового.
— Волков, — заорал в дверь Галкин, — принимай предмет,
гони тем же манером до фотографа.
Галкин сам выглянул за дверь, а затем, повернувшись к
арестованным, улыбнулся неожиданно, добродушно и
самодовольно.
— Видали, как Галкин может. Галкин, брат ты мой, и не
таких хлюстов еще обрабатывал.
Слушатели молчат.
328
— Да вы чего? Вы не бойтесь. Нешто я зверь. — Галкину,
видимо, хочется поговорить. — А что говорят, будто мы с
Волковым да с Пруссом звери какие. Так это что ж? Мы по закону
вредные элементы уничтожаем. А вот что работаем умеючи,
это правильно. Ведь вот и из вашей же братии никак половина
смертники будете. Вам же лучше, если Галкин сликвидирует.
Галкин без ошибки действует. Промашки еще не было.
Галкин вынул парабеллум и стал раскачивать за дуло.
— Если бы я знал наверное, что меня расстрелять решили, —
сказал с полу инженер Ш., — я бы на всё пошел, чтобы сбежать.
Галкин обрадовался реплике, очень уж поболтать хотелось.
Заговорил оживленно.
— Не сбежишь, брат. От Галкина никто еще не бегал.
Волков! — крикнул он в дверь. — От нас, брат, с тобой еще никто
не бегал?
Из-за двери ответил глухой, сиплый бас:
— Пробовали как-то одни. Еще в Смольном кто-то за них
был. Горький сам на поруки брал, и то сорвалось.
Галкин улыбнулся.
— Это он великих князей вспомнил. Это была работа
интересная, не то что с вами путаться, вас и не заметишь. Мы как
прослышали, что кто-то хлопочет за них, так сейчас же, пока
в Смольном сидели, да рядили, а у нас от Яковлевой* уже
постановление готово: найти и кончить. В одну ночь председательша
обделать велела. Вот мы как.
Галкин опять оглядел аудиторию. Все молчат.
— Николая-то Михайловича мы сразу нашли, а за Констан-
тинычем всю ночь путались. К утру в 109 госпитали отыскали.
Николай Михайлович так с нами всю дорогу и ездил. В нашем
же автомобиле едет, да нас же и ругает. Совсем без страха
человек. Ну и мы с ним вежливо поступили. Могилы-то для них
заранее было приказано вырыть. Не как с прочими. По закону
каждый сам себе должен рыть.
— Волков, ты слушаешь? — закричал Галкин опять в
дверь. — Помнишь, как молодой-то князь крепко испугался?
Дрожал весь, трясся, как лист, бледный такой, всё за руки
* Председательница чрезвычайной комиссии в Петрограде после
Урицкого. — Прим. автора. (На самом деле после смерти Урицкого
Петрочека несколько месяцев возглавлял Г. И. Бокий. — Прим. ред.)
329
нас хватал. А Николай Михайлович как крикнет на него, как
начнет стыдить, чтобы, значит, умирал гордо, как следует, не
унижался...
С Павлом Александровичем тоже смешно вышло. Сам
раньше смерти, еще нестреляный, в могилу свалился. Я ему
в яму уже и пулю послал. Там и кончил его... А Волков-то мой,
слушай, Волков, Волков-то не посмел. Сам струсил, как баба.
Перед ним Николай Михайлович стоит — строгий, большой
такой, в глаза глядит смело, прямо, да нас же и ругает. Волков-то
мой, чудак-человек, и струсил. Мне же и пришлось стрелять.
Из другой комнаты Волков отозвался. Обиделся, что трусом
назвали:
— Тоже, брат, и ты храбрый, есть чем хвастать. Сам, как
жулик, сзади зашел. В затылок ведь стрелял. Что же этим хвастаешь.
Галкин задумчиво, словно вспоминая, осмотрел молчаливую
аудиторию и медленно ответил:
— Что же, это верно. Уж очень взгляд такой, особенный, не
устоишь против него никак, хоть глаза закрывай, чтобы стрелять.
Галкин еще постоял, опять задумчиво оглядел арестованных
и, повернувшись, медленно направился к двери.
— Вот он какой есть Галкин! — проговорил он, уходя, словно
сам себе удивляясь.
4 4
\ шт ** ш mm ®J™ *w\
^^- mm пй$ю* т-тщт **#*■■
mm mmm-штт ж**к
«■< «Mt» тШ: «tfw ***„ — «бридаяг*
mm*.
■ щтт %}тшшн хитшт «а. пыу
ПЕТЕРБУРЖЕЦ
В ПЕТЕРБУРГЕ*
В Москве, в столице толкуют о законности, детализациях,
амнистиях для «легализованных» партий, а у нас, в «глухой
провинции», в Петербурге царят старые «добрые нравы». Приведем
некоторые примеры последних дней.
Вот к недавно выпущенному из тюрьмы видному рабочему
с.-р. Бергу, не принимавшему никакого активного участия в
забастовках, охвативших весь рабочий Петербург, подъезжает на
улице мотоциклетка.
— Не желаете ли, товарищ, подвезу?
— Я вас не знаю...
— Ну, а я вас знаю. Вы — Берг. Садитесь. Вы арестованы.
На Гороховую!
Арест произвел сенсацию в эсеровских кругах Питера
и Москвы. Заработали телефоны. Полетели телеграммы.
Выяснилось недоразумение. Но в чрезвычайке высоко авторитетно
заявили: «Ничего, пусть посидит».
И сидит, и сколько времени сидеть будет — неизвестно.
В сентябре прошлого года в разгар «красного» террора
арестовали члена районной управы эсера Н. Н. Ермолаева.
Избежал он массового расстрела в числе 813 в сентябре, вынес
шестимесячное заключение в невероятных условиях в тюрьме,
прошла и «амнистия» по поводу годовщины октябрьского
переворота — стали выпускать и меньшевиков, и эсеров, стали вновь
их арестовывать, а он всё сидит, и всё без каких бы то ни было
обвинений. Просто, видимо, забыли или, вернее, делают вид,
что забыли, так как родные хлопочут, мечутся, и всё напрасно.
Чем не «старые» времена?
А вот и ценная эпопея в духе недоброй памяти киевского
жандарма генерала Новицкого155. Петербургский
корреспондент «Дела народа» т. Дзен направился на Путиловский завод
для собирания необходимой информации. Зашел для этого
на квартиру постоянного председателя путиловских митингов
и налетел там на «засаду». Жена и малолетний ребенок
председателя были уже арестованы. На заводе в это время шел митинг,
* Дело народа, 30 марта 1919 г. № 10.
331
дали знать об аресте семьи председателя, и митинг отправился
«выручать». Конечно, выручил — агенты разбежались кто куда.
Выяснилось, что т. Дзен — представитель «Дела народа».
«Иди, говори, что думает о текущем моменте партия
эсеров», — потребовали рабочие. Т. Дзен говорил. А потом, собрав
нужные для газеты сведения, поехал домой, но привезен был
на Гороховую.
Дома сделан был тщательный обыск, арестованы были
и сестры т. Дзена, служившие в комиссариате труда, а у них на
грех оказался список адресов служащих в комиссариате.
И вот через некоторое время на Гороховой, д. 2 стал
собираться весь комиссариат труда. Наутро комиссар не нашел
в своей канцелярии служащих: все они были в чрезвычайке.
И после долгих хлопот и мытарств удалось ему выцарапать свой
персонал; товарищ же Дзен сидит до сих пор, и носятся всякие
тревожные слухи.
Ну, как нам, «провинциалам», не завидовать столичным
законностям, легализациям, амнистиям? Впрочем, злые языки
говорят, будто и у вас, в Бутырках и Таганке пятый месяц сидят
43 эсера по саратовскому делу, давно, казалось бы,
ликвидированному хотя бы уфимским соглашением о прекращении борьбы
на Восточном фронте. Правда ли это?
От редакции [«Общего дела»]. Не только правда, но товарищи
сидят и ждут суда революционного трибунала.
А. Г.156
ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА*
I. Петербург
По-прежнему стоят на Аничковом мосту четыре прекрасных
статуи — юноши, укрощающие поднявшихся на дыбы коней,
также горит подлунным снегом зеленым пламенем гигантский
купол Исаакия, также чаруют безупречные линии дворцов, так
же стройны строгие перспективы улиц и проспектов, так же
несется в гранитной рамке голубая широкая лента Невы, так
же огромен, строг и красив единственный Петербург но... —
забудьте о том городе, который вы знали, любили, который был
для вас родным, забудьте о нем, как о существующем в данный
момент — его нет, он мертв.
Он мертв, как мертвы павшие от голода и валяющиеся на
Невском лошади, как мертвы магазины с списанным товаром,
как мертвы стоящие фабрики и заводы, товарные пристани,
университеты, лаборатории, как мертвы заколоченные музеи,
ограбленные, загаженные особняки...
Его нет, как нет в нем сейчас искусства, науки, торговли,
хлеба, врачей, строительства, безопасности, милосердия. В этом
городе нет жизни...
Продолжается противоестественная, противная
человеческой природе работа безумных вивисекторов — в лучшем [случае]
грабителей, — в худшем случае у которых в душе либо погас,
либо никогда не горел светоч человека.
На столе вивисектора распято живое тело, над которым без
хлороформа производятся ужасающие опыты, опыты над
живым сердцем, над живым мозгом, над измученными нервами...
Эти опыты — черные мессы средневековья, безумные
мессы средневековья, безумные мессы большевизма. Когда
* Мурманский вестник, 29 декабря 1918 г., 7 января 1919 г.
(Музей русской культуры в Сан-Франциско, фонд № 77 (А. А. Ге-
фтер), кор. 3, папка 1, л. 1). Статья от 29 декабря 1918 г. сопровождалась
редакционным примечанием: «Настоящий очерк представляет собой
первый из ряда других, обещанных редакции лицом, выехавшим из
Петрограда в конце октября».
333
потом, спустя много лет, беспристрастный ученый спокойно
распределит исторический материал — бесчисленные декреты
1918 года — красивые слова и одухотворяющая их высокая идея
ничего не скажут ему о том океане страдания, слез и крови,
которые отошли в вечность, не оставив равнодушной бумаге
ни пятен крови, ни слез. Но мы, видевшие, слышавшие,
пережившие, мы будем знать истинную цену красивым словам,
претворенным в злодейство, насилие и убийство. Мы читали
вновь появляющиеся декреты с таким же чувством, как
заключенные неизвестно за что, за какую вину, как слабые кролики,
предназначенные для физиолого-социалистического опыта.
Мы отданы на поток и разграбление как во времена опричнины,
и ничто не считается оправдывающим вину обстоятельством,
ничто не уменьшает наказаний — ни пол, ни возраст, ни раны,
ни кровь, пролитая в тяжелой войне. Мы отданы на
бесконтрольное распоряжение мальчишкам-хулиганам из породы тех,
кто десять лет тому назад участвовали в погромах и в родовом
гербе которых значится одесская резина, так же равнодушных
к утопии коммунизма, как и к человеческому достоинству.
С винтовкой за плечами и двумя десятками слов шаблонного
значения с затасканным, заплеванным содержанием, они
являются в данный момент вершителями судеб, богами, улыбка
которых или сдвинутые брови означают милостиво дарованную
жизнь или смерть.
Я не стану приводить подлинников декретов, но скажу,
что последние из них лишили нас того единственного, что
позволяло еще нам называться культурными людьми — крова,
правда, голодного, холодного, ограбленного, но всё же своего
крова, где можно было бы остаться наедине с собою и забыться
тяжелым сном. Это декрет о выселении буржуев из квартир и
о переселении их в подвалы, из центров города на окраины.
Если вы принадлежите к привилегированной категории,
единственное, что уделяется на вашу долю, — это знаменитые
четыре селедки на два дня. У вас отнимают отцов и детей,
расстреливают их без суда и следствия, топят, ссылают, заточают в
тюрьмы, в угоду и на потеху злорадствующей толпе хулиганов,
на которых, как на китах, держится весь большевистский мир,
ваших матерей, сестер и дочерей заставляют мыть заплеванные
полы казарм, под веселые прибаутки солдат, у вас отнимают
дорогие для вас предметы, вас лишают...
334
II. Дни Урицкого в Петербурге
Тот, кто жил в конце сентября 1918 года в Петербурге,
никогда не забудет этого времени. Несмотря на то что общество было
в достаточной степени подготовлено ко всяким ужасам, было
обезличено, потеряло веру в личную безопасность, никто всё же
не думал, что громовые статьи в «Красной газете», направленные
против буржуазии, статьи, в которых проповедовался открытый
красный террор, в пламенных строках которых народ призывался
идти на убийство всех, кто носит чрезвычайно неопределенное
название «буржуа», чтобы эти статьи были претворены в жизнь.
Однако так это случилось.
В воскресенье, в день похорон Урицкого всё как будто было
спокойно. Только часов в 12 утра была беспорядочная стрельба
патрулей на Невском.
Стреляли по испуганным кучкам случайных прохожих,
толпившихся у подворотен. Стреляли без толку, так, главным
образом потому, что это так просто — выстрелить по живому
человеку, когда это не только позволено, а даже поощряется,
считается особой доблестью. Эти выстрелы, в свою очередь,
наводили панику на соседние патрули, которые вначале в
страхе убегали и прятались за углы домов, откуда сами так же
беспорядочно стреляли. Впрочем, это продолжалось не долго,
и похороны прошли, в общем, спокойно.
Страшные вести стали ходить по городу на следующие
дни. Говорили о тысячах расстрелянных совершенно невинных
людей, томившихся до того в Крестах, в Петропавловской
крепости, а самое главное, в Кронштадте.
В день похорон Урицкого мне пришлось как раз отправиться
в Кронштадт и провести там безвыездно неделю. Вечером у нас
собралось несколько человек с соседних кораблей. Говорили об
угрозах против буржуазии, в газетах о беспорядочной стрельбе
в городе, но никто не думал, что положение гораздо грознее.
Настроение, однако, было тяжелое, некоторым казалось, что
они слышат стрельбу с фортов.
К этому времени в Кронштадте находилось две с лишним
тысячи человек — заложников, как их называли. Новое
политическое течение обнаружилось приблизительно еще с конца
июля — начала августа. Это был забор заложников, т. е.
определенного контингента людей, сидевших компактной массой
335
в определенных местах за решеткой на совершенно
неопределенном основании. Тут были главным образом офицеры всех
возрастов и родов оружия, коммерческий люд, попавший по
ложному доносу в контрреволюционности, забранные, наконец,
во время вечерних облав в трамваях, когда вагоны
останавливались, в них входили красноармейцы, отделяли овец от козлищ,
т. е. буржуев от пролетариев, имеющих более интеллигентный
вид от людей попроще. Первых отправляли в комиссариаты, а
затем и в тюрьмы. Самое страшное было — попасть в Кронштадт.
После первой отправки в Кронштадт в городе стали говорить о
потопленной барже с заложниками. В газетах, конечно, нечего
было рассчитывать на подтверждение этих слухов, но когда
через две недели под Петербургом пронесся ураган, вырвавший
в Летнем саду, на островах с корнем десятки деревьев, то этим
самым ураганом на берега залива, у Лахты, у курорта в Сестро-
рецке были выброшены гирлянды трупов.
Гирлянды, потому что эти трупы были связаны друг с
другом проволокой у кистей рук. Такие же гирлянды трупов были
найдены в камышах Ораниенбаума.
Итак, до убийства Урицкого у палачей, носящих высокое
звание коммунистов-социалистов, стремящихся к высокому
званию «человека», уже был некоторый опыт, правда, не вполне
удачный (трупы всё-таки выплывали, что не входило в
расчеты), но был всё же заложен первый камень, первое массовое,
небывалое убийство безоружных, беспомощных людей было
уже совершено.
На следующее утро, в понедельник, гуляя по верхней
палубе корабля, я увидел отряд вооруженных матросов, несших
несколько пар окровавленных сапог.
К вечеру на кораблях уже было известно, что происходило
в ночь с воскресенья на понедельник.
С нескольких кораблей — с «Андрея Первозванного», «Ган-
гута», «Полтавы», «Севастополя» и «Республики» — была собрана
команда в 45 человек, которые добровольно приняли на себя
обязанность за скромную сравнительно плату — 50 руб.
каждый — совершить убийство невинных, лишенных возможности
защищать свою жизнь людей.
Всё совершившееся в тайне было так необыкновенно
жестоко, так не вязалось с врожденными понятиями о
человеческой душе, так не походило даже на самые выдающиеся
336
случаи злодейства, с которыми приходилось до того встречаться
в жизни, что хотелось найти объяснение этому массовому, этому
каторжному хладнокровию убийц, до сих пор исполнявших
на кораблях скромные обязанности трюмных, сигнальщиков,
мотористов или канониров; хотелось видеть в убийцах людей-
фанатиков, ослепленных до потери ясного сознания идеей, но
всё рушилось от действия двух факторов. Почему эти фанатики,
эти безумные идеалисты получали деньги за расстрел
связанных людей, почему они несли с собой окровавленную одежду
мучеников, которую потом разыгрывали между собой?
Откуда эта каторжная практичность у людей, раньше не
занимавшихся убийством, почему, наконец, только у одного
из сорока пяти были признаки безумия после этой страшной
ночи, а остальные легли спать и спали безмятежно? Нет, это
не жестокие, идущие прямо к своей цели революционеры,
это убийцы с каторжной душой, не боящиеся наказания и не
видящие его в близком будущем.
Сто тридцать три человека было расстреляно в первую ночь
после похорон Урицкого. Из Кронштадтской тюрьмы на барже
они были перевезены на один из номерных фортов. Их было
больше ста тридцати трех, из особой жестокости заложникам
не говорили, сколько остается в живых. Когда баржа пристала
к острову, сняли первую партию в пятьдесят человек и повели.
В первой партии был старый генерал, измученный
предшествовавшей голодовкой и этими страшными переживаниями,
он не мог шевелить ногами. Один из палачей, как говорили,
«боцман», прекратил его мучения выстрелом из револьвера. По
личной просьбе был таким же образом расстрелян священник.
Остальные не хотели подобной милости, они надеялись на чудо
избавления, и это чудо действительно пришло в виде ружейных
залпов, навсегда прекративших и избавивших их от голода,
заточения и издевательств. Были случаи, что, несмотря на несколько
попавших пуль, люди оставались в живых и, ползая, как черви,
в собственной крови, умоляли о пощаде. Пожилой офицер
умолял оставить ему жизнь и не добивать ради его пятерых детей, у
которых умерла мать, но никто не был оставлен в живых.
Во вторую ночь было расстреляно 45 человек, в третью —
опять 130.
Как-то, случайно бродя по Меншиковскому форту, мы
обратили внимание в одном из коридоров на свежеположенные
337
плиты, на белый проведенный известью на стене крест и на кучу
окровавленных тряпок. Еще одно ужасное место.
В это время тяжело было жить на кораблях в Кронштадте.
Пока это происходило в Кронштадте, — в Петербурге, в
Петропавловской крепости, в Крестах и на дворах
комиссариатов работали латыши и китайцы. Латыши относились так же
добросовестно к процедуре расстрела, как и ко всякому делу, за
которое они брались, а китайцы, которые во время собственной
казни смеются, ничего кроме удовольствия не получили во
время своей страшной работы.
В первые три дня после похорон Урицкого по вечерам в
различных местах Петербурга слышна была работа пулеметов.
Впрочем, на дворах некоторых комиссариатов расстреливали
и одиночных заложников. Чтобы выстрелы эти не привлекали
внимания прохожих, заводили автомобили, стоявшие на дворах,
чтобы шум мотора заглушил звуки выстрелов.
В Совдепской России сейчас нет возможности пользоваться
почтой, полученное по почте письмо — необыкновенная
редкость. Поэтому жить в разных городах — это значит надолго
потерять друг друга. Но со времени красного террора потерять
друг друга из виду, даже живя в одном городе Петербурге, — это
значило потерять навсегда. В эти дни опоздание члена семьи
на 2 часа могло означать и то, что не было места в трамвае, и
то, что была облава на улице и несчастный отправлен в тюрьму
или Кронштадт, где если захочется какому-нибудь хулигану, он
будет расстрелян по личной инициативе караульного. Но если
удалось избавиться от уличной облавы, несчастный петербуржец
не мог быть спокойным и у себя дома.
В ночной час появлялись во дворах красноармейцы, и для
испуганных жильцов блеск винтовок означал новое несчастье.
У ворот ставились часовые, у старшего дворника отбиралась
домовая книга и там, в дворницкой, корявый палец убийцы-
красноармейца, упираясь в рубрике занятий или профессии
квартирантов против определенной фамилии, означал
смертный приговор — тому, кто не занимался черным трудом, но
был честным тружеником в банке или бойцом на поле битвы.
Много людей ответили своей безвинной смертью на смерть
Урицкого, но эта гекатомба жертв будет записана на страницах
истории.
338
А. ГЕФТЕР
«ЕРЕМЕЕВСКАЯ НОЧЬ»*
Кронштадт лежал в полутьме, когда пароход из Петербурга
причалил к пристани. Как и всегда, он, даже в эти ужасные
трагические дни начала большевистской власти, производил
неотразимое, жуткое и величественное впечатление. Огромный
размах творческой инициативы чувствовался на каждом шагу.
И всё как в сказочном спящем царстве! Всё замерло и, будучи не
в силах очнуться от летаргического сна, молчаливо переходило
в небытие, умирало без сопротивления.
Мне, сентиментально настроенному в этот вечер, как
Евгению в «Медном всаднике», казалось, что за мною следует
грозная фигура Петра, только не на коне, а в таком виде, как
его изобразил Серов, — на Невской пристани. — Он идет без
шляпы с развевающимися волосами, огромными шагами, так
что свита едва за ним поспевает, гневно стуча дубинкой в такт
своему шагу.
Нервы у меня сильно разыгрались. Да и не мудрено.
С «Красной Колокольни» — в стихах, и с прочих газетных
столбцов — в прозе, взывали к мщению за смерть Урицкого.
Господи, неужели опять будут в Кронштадте лить кровь и
мучить людей!
Сейчас же за сквером, где по пути к Военной Гавани
начинались склады досок и бревен, было совсем темно. Далеко
впереди, там, где стояли корабли, слабой звездочкой светился
фонарь. В этом месте было особенно жутко. Я не боялся
реальной опасности, я боялся того, что может создать воображение;
измученные всем пережитым нервы стали плохо служить. Вдруг
выйдет из-за груды бревен огромная костлявая фигура в плаще
и треуголке! Спотыкаясь о протянутые с судов на стенку тросы
и корабельные канаты, гремя порой по наваленным в беспорядке
железным листам, я вскоре был у цели. На темно-сером ночном
небе вырисовался высокий и стройный силуэт старого корабля,
крейсера «Память Азова». Раньше он ходил и под парусами,
и поэтому мачты его, по сравнению с нынешними, были необы-
* Фрагмент статьи: Гефтер АЛ. Воспоминания курьера // Архив
Русской революции, т. X. Берлин: Слово, 1923, с. 114—168.
339
чайно высоки. Когда покойный Государь был еще Наследником,
он совершал на этом корабле кругосветное плавание.
Сейчас «Память Азова» напоминал своим обликом
старого родовитого вельможу, впавшего в ужасную нищету. Он был
грязен, не крашен, исцарапан во время последнего совершенно
невероятного перехода через ледяные поля из Гельсингфорса
в Кронштадт. Свет получали с берега, чтобы не тратить угля на
освещение, и теперь, вероятно, контакт был прерван, так как на
корабле царила абсолютная темнота. Чтобы пробраться на «Азов»,
надо было спуститься на стоявшего рядом «Сибирского Стрелка»,
недавно еще блестящего представителя одного из славных
дивизионов миноносцев. Он стоял теперь с развороченным льдами
носом и снятыми по случаю долговременного ремонта трубами.
Его песня, как и «Памяти Азова», была окончательно спета.
Через стоявшую рядом баржу, по наскоро сколоченному
из неструганого дерева трапу, я поднялся на борт «Памяти
Азова», на котором был вахтенным начальником. С верхней
палубы хорошо был виден мощный и грациозный в то же
время «Андрей Первозванный», на котором было много огней,
а подальше — распластанная гигантская масса «Гангута». Пахло
сыростью моря, смолой, железом, влажный ветер порой мягко
прижимался к щеке, возбуждая сладкую грусть.
Прямо по носу видны были огни «Лесных Ворот», выхода
на свободу. — Пора бежать! Выработанный план будет приведен
в исполнение. Я подошел к борту и посмотрел вниз. Далеко внизу
стоял на воде, едва покачиваясь, огромный баркас. — Он выдержит
какой угодно поход под парусами. О том, — куда бежать, — это
не представлялось мне особенно важным. Нужно выбраться из
этого ада, передохнуть на свободе и приняться за борьбу.
Я подошел к трапу и стал спускаться в кромешную тьму.
Все каюты, выходящие в кают-компанию, были раньше
запечатаны, за исключением двух-трех, где жили еще офицеры.
Но понемногу в эти каюты стали просачиваться матросы, печати
срывались, и маленький уголок, где можно еще было отдохнуть
и забыться от матросского ада, зверских голосов, дикой ругани,
всей этой вакханалии развалившейся дисциплины, потерял свое
значение.
Барон Ф., командир корабля, предложил мне пустовавшую
адмиральскую каюту, куда я и перешел, зная, что вообще недолго
еще буду оставаться на корабле.
340
Это было огромное отделение, из большой столовой,
кабинет-салона и спальни. Лет 30 назад это помещение занимал
Наследник, и каждый предмет в нем говорил о прошлом.
Я ощупью пробрался в столовую, зажег спичку, и с ее
помощью нашел аккумуляторный фонарь, прошел с ним в
кабинет и, поставив его на стол, принялся шагать по каюте взад
и вперед. Из фонаря выходил узкий треугольник света, подобно
маленькому прожектору разделяя темноту на две половины.
В открытый иллюминатор ритмично врывался шепот воды,
происходящий от едва заметного покачивания судна.
«Да, дела были очень плохи! Кроми убит, Локкарт157
в Москве попался со всей организацией глупейшим образом,
а наводнение потопило моторы в Гаванском Яхт-Клубе. Вся
активная и положительная сторона дела сошла на нет, а
оставшаяся отрицательная, как, например, — опасность быть
арестованным и преданным мучительной смерти с
предварительными пытками, — оставалась налицо. В 1918 году война
с немцами еще продолжалась, и по инерции русское офицерство
чувствовало себя еще in statu belli*. Ожидался приход немцев
в Петербург, который был очень нежелателен для союзников,
так как Кронштадт был бы великолепной базой для немцев, не
говоря уже о единственном в мире дивизионе 26 000-тонных
кораблей — «Гангут», «Полтава», «Севастополь» и
«Петропавловск», о миноносцах типа «Новик», о подводных лодках
и прочих морских богатствах, которые попали бы в их руки.
В ту пору в Петербурге работала английская организация,
связанная с русскими морскими и армейскими офицерами,
целью которой было продолжение борьбы с немцами, против
большевистской власти. Те, кто работал там, были наивно
уверены, что, отдав свои силы, а может быть, и жизнь борьбе
союзников против немцев, — в случае победы над ними получат
из рук Антанты свою, спасенную из большевистского хаоса,
несчастную родину. Много хороших и смелых людей погибло,
работая в этих организациях Антанты, а лучший из них,
благородный, смелый и образованный Колчак, был подлым образом
выдан французом, генералом Жаненом, его убийцам.
Теперь, в момент, к которому относится рассказ, дело
обстояло так: Локкарт попался в Москве самым глупым образом.
* В состоянии войны (лат.). — Прим. ред.
341
Говорили, что в этой истории была замешана женщина (к слову
сказать, в России женщины во время борьбы с большевиками
играли особенно фатальную роль). Огромное количество лиц,
имевших отношение к Локкарту, было либо арестовано, либо
принуждено было скрываться.
По чьему-то доносу большевики узнали, что в Британском
Посольстве есть документы, представлявшие для них интерес.
Смелый англичанин, капитан Кроми, во время последнего
периода войны командовавший английскими подводными
лодками в Балтийском море, защищал вход в Посольство на
нижней площадке лестницы с маленьким карманным браунингом
в руках. В это время хранившиеся на чердаке документы были
уничтожены. Большевики ворвались с черного хода, и Кроми
был убит винтовочной пулей в затылок.
Смерть Кроми, раскрытие организации Локкарта сделали
существование морской организации по существу
невозможным, а небывалое августовское наводнение, затопившее
подведомственные мне моторы, стоявшие в Гаванском Яхт-Клубе,
сводило мою деятельность к нулю.
В самом Кронштадте было два-три верных матроса, которые
служили на моторах, и от их настроения зависела моя жизнь.
В пьяном виде или в высоком коммунистическом подъеме они
могли меня выдать, заслужив, быть может, себе награду.
Делать в Петербурге было больше нечего, нужно было
бежать.
Безусловно, кардинальной и общей всем, участвовавшим
в так называемых контрреволюционных организациях,
ошибкой была ставка на союзников и вера в их помощь в случае
их победы.
Поэтому то, что в Петербурге дело было провалено,
казалось, не должно было меня обескураживать, так как я собирался
работать за границей, где должны были концентрироваться
силы активных работников. Однако на душе у меня не было
уверенности в успехе, чувствовалась подавленность, и надежд
на будущее было немного.
Но и с другой стороны, со стороны большевиков также
не замечалось определенного руководящего плана. Пока они
только подняли железные решетки, за которыми сидели звери,
и выпустили их на свободу. И теперь, особенно в Кронштадте,
шел кровавый шабаш.
342
Насчет сегодняшней ночи ходили мрачные слухи.
Говорили о «Еремеевской» ночи для всех офицеров. Месть за смерть
Урицкого.
Перебирая матросов «Азова», я не мог найти кого-либо, кто
был особенно озлоблен против своего начальства. Был, правда,
матрос Ткаченко, которого за его необыкновенно громкий голос
и болтливость прозвали на корабле Горлопаном. Когда меня
команда выбрала председателем дисциплинарного суда на
«Памяти Азова» и я предупредил своих избирателей, что буду строг,
Горлопан заявил, что он придет на суд с дубиной. Но это был
безвредный человек. Отношения между офицерами и командой
были, в общем, хороши. Был, однако, неприятный инцидент
у командира корабля, барона Ф. с помощником комиссара
Кронштадта, неким Атласевичем из-за перископов с английских
подводных лодок. После воцарения большевиков подводная
кампания английских лодок должна была быть ликвидирована.
Лодки были выведены к Грахаре и там были взорваны бароном
Ф., который во время войны был флагманским штурманом
у англичан-подводников.
Перед взрывом с лодок были сняты ценные предметы,
а медные трубы перископов были подарены барону Ф. в
личную собственность. Эти трубы в 1918 году представляли собой
большую драгоценность, так как медь в то время ценилась уже
очень высоко.
К сожалению, продать их представлялось делом абсолютно
невозможным, так как тайком вывезти их из Кронштадта
никогда бы не удалось, а разрешения большевистские власти не
дали бы. Барон Ф. вышел из этого затруднения, подарив трубы
флоту, о чем дал знать куда следует.
Через несколько дней на корабль прибыла комиссия для
приемки труб, а с ней и Атласевич, неразвитой и грубый человек,
державший себя заносчиво и вызывающе.
Барон Ф., притворившись, что он не знает, с кем имеет
дело, в нескольких коротких и энергичных морских выражениях
указал ему его место. Завязалось дело. Предстоял суд, атмосфера
была чрезвычайно сгущена, и барону Ф. было предложено не
выезжать из Кронштадта.
Ему также нужно было бежать. В случае же бегства
командира должны были бежать все, иначе оставшиеся ответили бы за
его бегство. Поэтому было решено бежать барону Ф., лейтенанту
343
С. и мне. Остававшийся прапорщик Яковлев, бывший в
дружеских, даже товарищеских отношениях с командой, не был
посвящен в дело, а механик, милейший и добрейший человек,
некто Минненич, который всех называл «Касатиком», и за это
сам получил это прозвище,— вышел из матросской среды и был
среди команды своим и поэтому ничем не рисковал, оставаясь
на корабле после бегства командира.
Тяжело было оставлять Россию и идти навстречу
неизвестности, но, с одной стороны, другого выхода не было, а с другой,
казалось невероятным, что нынешний хаос останется надолго.
Я долго шагал по каюте. В открытый иллюминатор была
видна знакомая вечерняя картина, и понемногу
воспоминания стали вытеснять тяжелые мысли. Шум голосов за стенкой
прервал поток воспоминаний. Зайдя туда, застал у командира
несколько офицеров с соседних кораблей. Все держались
сдержанно, но чувствовалось, что есть какая-то неприятная
и большая новость. — По кораблям, как выяснилось, ходили
агенты Чека и по указанию команды выбирали офицеров,
которых уводили на расстрел. Может быть, сейчас явятся на
«Память Азова».
И в командирской каюте не горело электричество, взамен
которого стоял аккумуляторный фонарь. Его световой
треугольник упирался в большую фотографию «Памяти Азова»;
в иллюминатор с серого неба тускло смотрелась звезда.
Никто из присутствующих не выражал страха. Сухо
констатировали факты, называли цифры. Барон Ф. не терял веселого
и бодрого тона, за который его все любили.
— Сегодня опять получили вместо рыбы перья и хвост, —
сказал он. — Господи, как бы хотелось покушать хорошенько
мясца!
— Да, у вас кормежка слабая, — отозвался кто-то из угла, —
у нас на «Андрее» стол очень сытный.
В это время за комодом что-то пискнуло, и тяжелое мягкое
тело провалилось куда-то.
— Теперь она не уйдет от нас, — торжествующе заявил барон
Ф., — эта проклятая крыса не дает мне покоя!
Была организована охота по всем правилам, с загонщиками
и охотниками. Крыса была ранена палашом и искала спасения
под диваном. Туда направили свет фонаря и, о чудо, — рядом
с обезумевшей от травли крысой под диваном была обнаружена
344
большая банка с Corned beef ом*. Крысе немедленно была
дарована жизнь за оказание существенной услуги в деле добычи
провианта, всё содержимое банки с Corned beef ом было
выложено на сковородку, отнесено в камбуз, где и было изжарено на
хлопкожаре, а затем с большим вниманием съедено.
Этот инцидент немного развлек публику, но донесшиеся
издалека выстрелы опять перевели разговор на серьезные темы.
Говорили о том, что матросы с «Александра III», отправившиеся
на рыбную ловлю, вытащили из воды вместо рыбы гирлянду
трупов соловецких монахов, связанных друг с другом у кистей
рук проволокой, — о двух баржах заложников, затопленных
недалеко от Кронштадта, и — совсем потихоньку — о Колчаке,
собиравшем вокруг себя силы.
Чьи-то громкие голоса раздались за стенкой. Там
остановились какие-то люди и совещались. В каюте наступила тишина.
Казалось, что смерть тихонько остановилась у двери и ждет.
Потом голоса смолкли. Очевидно, ушли. Я вышел на
верхнюю палубу. На фоне ночной тишины отчетливо были слышны
далекие выстрелы. Каждый выстрел уносил жизнь!
Я прислонился к кормовому якорю-верпу и задумался.
Недавно, пробуя новый моторный катер, я проходил мимо
красавцев-кораблей, которых по тайному приказу организации
надо было потопить в случае прихода немцев. Об этом знало
лишь несколько человек. Как тяжело было бы это сделать,
если б пришлось — и, пожалуй, лучше, что катера потоплены
наводнением, а организации лопнули.
Чего добился несчастный студент Каннегиссер, убивший
Урицкого? Сколько тысяч жизней по всей России теперь дают
ответ за его смерть, а сам он предан утонченной казни. — Как
найти верный путь к спасению родины? И мало-помалу
тревожная мысль стала просачиваться в мое сознание. — «Anima
senilis»**, как определял Петражицкий, которого я слушал в
студенческие времена. — Класс, неспособный к сопротивлению!
Сколько раз приходилось видеть, что сотню арестованных вели
три-четыре оборванных мерзавца, не умевших даже держать
винтовок, — вели на смерть, и никто не старался уйти от этой
смерти, хотя бы из инстинкта самосохранения. Только что кры-
* Солонина (англ.). — Прим. ред.
** Рабская душа (лат.). — Прим. ред.
345
са, окруженная десятком, для нее — великанов-людей, билась
за свою жизнь, геройски бросилась на грудь мичману Н., хотя
одна нога ее была уже отрублена палашом, а там — бессильные
китайцы гонят целое стадо, как баранов на смерть! Сколько раз
арестованные отдавали свое оружие, из которого их тут же
убивали! А звери, не видя сопротивления, становятся все жесточе
и жесточе. «Да, мы не финны, создавшие единственный в мире
Schutzkar158! Среди нас есть столько сильных и смелых людей,
но нет веры друг в друга». Мне не хотелось возвращаться больше
в командирскую каюту, и я пошел к себе, где еще не скоро уснул.
Когда утром, вставши пораньше, я поднялся на мостик —
я увидел страшное зрелище. Откуда-то возвращалась толпа
матросов, несших предметы офицерской одежды и сапоги.
Некоторые из них были залиты кровью.
Одежду расстрелянных в минувшую ночь офицеров несли
на продажу.
Ю. М. ЗУБЕЛЕВИЧ
К СОБЫТИЯМ В КРОНШТАДТЕ
В ИЮНЕ-ИЮЛЕ 1919 г.*
«...Каждый красноармеец,
незаконно отобравший у бабы 5 ф. картоф.,
каждый советский, грубо
обошедшийся с кем-либо из населения,
гораздо больше вреда причинит
советской власти, чем 100
белогвардейцев...»
(из воззвания Зиновьева)
Эти золотые слова были когда-то прибиты на дверях
Кронштадтского Совета. Но теперь они забылись. Злоупотребления
совершаются в Кронштадте, и о них молчат, их покрывают.
А благодаря этим злоупотреблениям растет недовольство
и озлобление в народе, потеря веры в правду, в добро.
И не то ужасно, что находятся недобросовестные люди,
творящие беззакония, которые примазались к советской
власти, а хуже всего то, что люди кругом видят зло и молчат, и зло
разрастается. Беру на себя смелость прервать молчание.
В Кронштадте идут расстрелы. Упорно носятся слухи, что
от тов. Ленина была телеграмма: казней не производить, что
эта телеграмма была положена под сукно. Казней произведено
много, по заявлению одних ответственных лиц в Чрезв. Ком.
до 100, а по другим — до 150. Между тем опубликованы были
только 19 фамилий казненных. Об остальных умолчали.
Расстреливали лиц 3-х категорий:
1) заложников;
2) родственников офицеров, подозреваемых в том, что они
перешли к белой гвардии;
3) за военный заговор.
Относительно последней категории не буду ничего
говорить, что же касается первых двух, то сказать нужно многое.
Принимая даже во внимание перенесенное нервное потрясение
* Машинопись, б/д. Архив Гуверовского института, фонд
С. П. Мельгунова, кор. 1, д. 1, лл. 45—48.
347
от грозящей с фронта опасности, от зверств, учиненных белыми
над захваченными в плен т.т.[товарищами] коммунистами, все
же нельзя понять, объяснить многое, что творилось в
Кронштадте уже после минования опасности, в период наступившего
спокойствия.
Заложниками брались наряду с буржуями и лица вполне
идейные, стоящие на платформе советской власти. Как
заложники были казнены лишь за то, что один из них «грубо обращался
с учениками», другой за то, что «он самый популярный врач
среди рабочих» — так выражались в Чрезвычайной Комиссии.
Зараз было казнено 3 врача за то, что, как выразился член
Чрезвычайной Комиссии Пронин, «наговорил их сослуживец,
что они недостаточно преданы советской власти».
В народе и паника, и волнение: почему не довели дело до
Революционного Трибунала, почему судебным путем не
разобрано и не доказано преступление казненных, если таковое
было? Какие гарантии, что сослуживец, донесший на врачей,
или сам был введен в заблуждение, или, кто знает, может быть
поддался чувству личной мести?
Атмосфера в городе к тому времени была совершенно
спокойная, позволявшая суду разбираться в делах
беспрепятственно.
Арестовали и расстреляли двоих Серпуховых — отца
и сына — и Агеева, старика, за их сыновей — двух офицеров,
которые якобы перешли на сторону белых. В действительности
недавно оба убежали из плена, полк ручается, что сражались
оба с белыми, в плен попали против своей воли; один из них,
Агеев, к тому же коммунист. Упорно при том утверждают, что
поручительство со стороны товарищей Агеева по полку — солдат-
коммунистов — было подано в Чрезв. Комис. еще до расстрела
его отца, но отец все-таки был расстрелян. Что оба Серпухова
и Агеев-старый расстреляны — известно из сообщения Чрезв.
Комис, напечатанного в местных «Известиях».
Что касается слуха о расстреле 6 женщин — не знаю,
насколько он верен, но он упорно носится среди матросов-
красноармейцев и волнует их, так как женщины эти — жены
рабочих и матросов, они выступали на митинге, устроенном
специально для женщин, и высказывали свое недовольство
отдельными комиссарами. Матросы говорят: «Когда
расстреливали буржуев — это было одно, когда же дело дошло до женщин,
348
глупых, несмышленых, когда дело стало доходить до наших жен
и сестер, — получается совсем другое дело».
Кроме очевидных злоупотреблений, связанных с
расстрелами, нельзя умолчать об условиях сидения и об отношении в Чрез.
Комис. к родным заключенных. Приходится некоторым сидеть
в камере в подвальном этаже на северной стороне, куда никогда
не проникает солнечный луч; стены ее настолько прогнили
и проплесневели, что палец свободно проходит в толщу стены;
ноги вязнут на вершка два в разжиженную массу на полу; холод
пронизывающий, от озноба начинает выворачивать каждую
кость; не дают при этом ни стула, ни койки, ни обрубка дерева;
сутками в таких условиях выдерживают больных...
Родным арестованных и казненных ничего не сообщают
о судьбе подсудимых; напротив, смеются и издеваются: «Идите
искать отца в Могилевскую губернию», намекая на слово
«могила». Или просто гонят с глаз долой.
После казней всем родственникам казненных и
арестованных приказали выехать в 48 часов из Кронштадта, сказав,
что они высылаются из пределов Северной области. Между
тем в Москве их всех поселили в концентрационный лагерь
в Ново-Спасском монастыре, объявили их арестованными,
посылают на принудительные работы; из числа 53 человек, среди
них детей в возрасте от 3 до 16 лет — 20 человек, и они
содержатся вместе с проститутками (которых в лагере 100 человек);
обречены на грубое обращение со стороны солдат, которые не
привыкли стесняться с проститутками и позволяют себе и со
всеми другими — и с детьми, и с подростками.
Еще был один расстрел — на форту Обручев (остров в
нескольких верстах от Кронштадта), где была попытка к
восстанию, скоро ликвидированная без всякого пролития крови. Там
расстреляны все офицеры, кроме одного коммуниста, и около
60 солдат: отсчитывали для казни каждого 5-го из
артиллеристов, каждого 3-го пулеметной команды и каждого второго из
караула. Стоном остров стоял.
Считаю нужным довести до сведения центральной власти,
что подобные явления возмущают не только досужих обывателей,
но главным образом матросскую и пролетарскую массу, плодят
много нежелательных и верных, и неверных слухов и безусловно
ведут не к укреплению, а к расшатыванию советской власти и к
усилению белогвардейских симпатий. Между тем назначение
349
комиссии из Центра для расследования должно произвести
самое благоприятное впечатление: погасит неправильные слухи,
восстановит истину, накажет виновных, укрепит веру в
центральную власть и доверие к своей местной, реформированной
после расследования. И еще одно соображение: в Кронштадте
целый ряд не только порядочных, но в высшей степени
симпатичных комиссаров, но неправильные поступки некоторых
озлобляют народ, и недовольство нарастает по адресу всех без
разбора. Когда же худшие будут устранены от дела, когда
деятельность их будет раскрыта, тогда невинность других будет
восстановлена в глазах населения.
Все изложенные факты изложены мною, Ю. М. Зубеле-
вич. Я не коммунистка, я — эсеровка, не входящая ни в какую
организацию. Работать как коммунистка я не могу (не
согласна с идеологией, отчасти с тактикой), но спокойно отходить
в сторону и умывать руки мне не позволяет моя революционная
совесть, при виде совершающейся несправедливости.
Может показаться странным, почему вмешиваюсь в
подобные дела я — не коммунистка. Но дело в том, что я очень люблю
Кронштадт (еще с 1906 года) и поспособствовать оздоровлению
его жизни считаю счастьем. Кронштадтские коммунисты тоже
борются с нежелательными явлениями, но, по-моему,
недостаточно энергично, отчасти загруженные очередной работой,
отчасти от усталости, от недостатка времени и от недостатка
смелости; им самим грозят приставлением к стенке и арестом,
когда они пробуют заступиться за невинно арестованного.
[Далее приписано рукой Мелыунова:]
Записка эта, составленная Ю. М. Зубелевич, известной
в революционных летописях под именем «Даши Кронштадтской»,
была направлена во В. Ц. И. Ком. Это свидетельство левой эсеров-
ки, враждебной всякого рода «белогвардейским движениям». Тем
объективнее ее свидетельство, тем ценнее ее показания. В
результате неуместных с точки зрения советской власти выступлений,
Ю. М. Зубелевич была отправлена в ссылку в Оренбург.
Т. ВАРШЕР159
ОДНА ИЗ МИМОЛЕТНЫХ ВСТРЕЧ*
Понедельник и пятница — дни передач в «Предварилке».
Мы носили заключенному К. всё, что было нам доступно:
пшенную кашу, мурцовку160, черный хлеб, — иногда мясные
котлеты. Упаковывая всю эту провизию, я не могла
удержаться от слез. Я невольно переносилась к дням своей молодости.
И тогда мне хорошо была знакома «Предварилка». Но я носила
своим друзьям жареных рябчиков, конфекты от Benin и цветы
от Эйлерса: всё это было доступно мне — курсистке, жившей
исключительно своим трудом. А теперь я с азартом продаю
портьеры, меховые воротники и серебро, и в результате — жалкий
горшок пшенной каши!
В приемной, где раньше собиралось человек 15—20, теперь
густая толпа — соответственно количеству тюремного населения.
Ведь предварилку уплотнили: в камерах, рассчитанных на 8
человек, теперь 54. «Тюрем не будет» — уверял уличный оратор.
Немножко ошибся — теперь все соседние дома по Шпалерной
превращены в сплошную тюрьму.
Неспокойно среди посетителей: крик, слезы, истерические
вопли. Вот упала в обморок пожилая женщина, неистово кричит
девочка — через решетку они видели, как куда-то провели их
сына и брата.
У окна, проделанного в стене, я всегда вижу одно и то же
лицо: молоденькую прехорошенькую женщину; она приходит
раньше всех и уходит после всех. Она стоит на опрокинутом
ящике и никому не уступает поста. Она со всеми мила и
приветлива. Она берет в свои крошечные руки тяжелые свертки —
ведь принесли и подушки, и тюфяки — и всё это терпеливо
передает в окно.
Мы с ней уже знакомы: ее муж — полковник и уже три
месяца как арестован. Заключенные с ним в одной камере
выбрали его представителем, — он вместе со служащими в тюрьме
принимает передачи: в тюрьме много лиц, которым никто ничего
не приносит, и потому постановлено: треть приносимого с воли
идет им. В этом распределении провизии участвует и полковник.
* Руль (Берлин), 18 марта 1922 г.
351
«Вон мой муж, — шепчет она. — Знаете ли, прошлую пятницу
он так близко подошел, что я могла ему просунуть палец — и он
пожал его, ах, если бы и сегодня удалось!»
В следующую пятницу маленькой женщины не было. Мы
на другой день узнали причину: в опубликованном списке
расстрелянных на первом месте стояло имя ее мужа.
Мои молодые друзья побежали к ней на квартиру. Их
встретила седая дама.
— Зинаиды Николаевны нетуже в живых. В среду ей сказали,
что муж расстрелян. Мы — я, ее тетка, и моя дочь — не
сомневались, что она не переживет мужа. Она никогда не говорила
о самоубийстве — тем более мы были уверены, что если Сергея
Николаевича расстреляют, она добровольно пойдет за ним.
— Она оставила письмо?
— Два слова: «Не ждите меня»; где, как она покончила
с собой — мы ничего не знаем. О самоубийствах в газетах не
пишут — разве в раю самоубийства бывают?
Т. ВАРШЕР
СТРАНИЦА ПЕРЕЖИТОГО
В ЭПОХУ ТЕРРОРА*
Настоящая статья написана уже давно. По причинам, о
которых распространяться излишне — так они понятны каждому
читателю, — я не решалась опубликовать ее. У В. Д. Набокова161
были свои соображения, чтобы напечатать ее в «Руле». На днях
я взяла свою статью у Владимира Дмитриевича: «Подумайте
еще, и принесете ее нам», — сказал Вл. Дм.
Но если я могла не исполнить желания Вл. Дм. при его
жизни, то теперь, когда его от нас отняли, я оставляю в стороне
свои личные соображения и исполняю его волю. Я посвящаю
статью памяти Владимира Дмитриевича.
Мой погибший друг С. А. К. был его политическим
единомышленником, членом партии к. д. с самого ее зарождения,
в то же время был большим почитателем В. Д., часто встречался
с ним по партийным делам.
С. А. К. расстрелян большевиками. Вл. Дмитр. погиб от
пули черносотенцев. Но каждому, кто жил в Советской России,
хорошо известно, что если тщательно и добросовестно измерить
расстояние между теми и другими, дистанция окажется весьма
малого размера, — не больше чем между двумя ветвями одного
и того же ствола.
Борьба с комиссаром средней школы Е. А. Полетаевым 162
в разгаре, но уже чувствуется, что победа будет на стороне
педагогов, и потому мы, «бывшие педагоги бывшего Павловского
института», в приподнятом настроении. Я рассказываю, как
меня допрашивала Следственная комиссия до глубокой ночи.
Подходит коллега 3.: «Т. С, Вы смеетесь, а на меня возложена
тяжелая обязанность сообщить Вам, что К. арестован». Я теряю
сознание не более как на одну секунду. Теперь не до обмороков,
не до трагинервических явлений. «Расстреляют, — проносится
мысль, — спасти ценой чего бы ни было».
Долгий и тернистый путь свой от студенческой скамьи
до кафедры в высшем учебном заведении я прошла в дружбе
* Руль (Берлин), И апреля 1922 г.
353
с К. Для меня он не только старый испытанный друг, он больше.
Он для меня нравственный авторитет. Он лучше всех других
разбирается в сложных запутанных вопросах, которые ставила
мне жизнь. Я всегда считаюсь больше всего с его мнением.
И мне вспомнились его твердые слова, когда я не знала, как
поступить: начинать ли борьбу с Полетаевым или держаться
принципа «моя хата с краю». «Донос всегда останется доносом,
расскажете ли всё это или доложите письменно, — это дела не
меняет. Но раз вопрос идет о нравственной чистоте детей, всякие
личные подобные соображения надо оставить. По-моему, вы
должны воспользоваться вашим привилегированным в
Советской России положением, одиночеством. Вы рискуете только
собой. Начинайте борьбу, как ни подло наше время, я убежден,
что вы свихнете голову этому негодяю». И для меня больше не
было колебаний: вместе с другим преподавателем мы составили
нечто вроде меморандума о Полетаеве.
Как действовать, что предпринять? Невеста К-ва М.
решила ехать в Москву. У нее есть протекция ни более ни менее,
как к самой «товарищу» Елене Дмитриевне Стасовой. На
службе ей дают срочную командировку, а я вместе с
другими друзьями К. беру на себя все заботы о его питании и в
то время мечусь по всем учреждениям. Надежда, что, может
быть, удастся спасти его, не покидает меня. Но чем дальше,
тем больше овладевает мной отчаяние. Я изучила механизм
чеки, говорю с комиссарами, добиваюсь приема у одного из
самых страшных чекистов. Свидание кончилось площадной
руганью, угрозой револьвером. Я даю требуемую взятку, но даю
ее, по-видимому, по ошибочному адресу. В то же время надо
продавать вещи, покупать провизию. Мои верные друзья не
оставляют меня, одной бы мне не справиться. Мне достают
санитарные средства — надо принять меры, чтобы К. не схватил
свирепствовавшего тогда сыпного тифа. «Может быть, лучше
не посылать этих средств — пусть лучше умрет от сыпняка,
чем расстреляют». «Я с ума схожу, — говорит второй, мой
внутренний голос, — необходимо послать». В бессонную ночь
мне приходит мысль, не послать ли ему яду, ведь положение
безнадежное... Нет, есть еще надежда. А если бы никакой
надежды не оставалось, то спасти его ядом от ужасов расстрела
имеет право только его невеста». Она еще в Москве,
мытарствует там по всяким учреждениям.
354
Мысль, что К. голодает, становится моей idee fixe. Посылала
я не одна; бывали дни передач, когда передавали по восемь
посылок. Несли друзья, несли ученицы, а мне всё кажется — мало.
Сама я почти перестала есть. Друзья в ужасе от моего вида, но
я возмущаюсь: люди огорчены моим видом, когда над головой
К. висит расстрел. Иногда друзья принимают странные меры:
так, бывший ученик мой принес мне вареной картошки и хлеба.
Методически он разделил провизию на две порции:
— Вот это для К., а это для Вас. Вы должны съесть это
в моем присутствии, или же я сейчас всё выброшу в окно.
— Вы с ума сошли.
— Может быть, но я прошу Вас сейчас это съесть.
Я подчиняюсь. Раз так, я сама позвонила своей
приятельнице — принесите кусочек хлеба, нет сил терпеть больше.
Наконец М. вернулась из Москвы, — ее обнадежили. Идем
с ней к следователю. После разговора с чекистом я поняла, что
положение безысходное. У М. всё же теплится надежда. Мы
расстаемся у подъезда. Я иду по Невскому и ничего не могу
с собой поделать. Чувствую, что шатаюсь. По телефону сообщаю
друзьям: надо сказать, что без всяких предварительных сговоров
мы отлично понимаем друг друга по телефону — выработался
какой-то специальный жаргон, и мы всё время держим друг
друга в курсе дел.
Пока что в предварилке приняли передачу. Получили
записку от К.: просит прислать немецких романов парочку.
Я хорошо знаю, когда К. нужен немецкий роман — перестал
спать. К. имеет право в течение недели написать две открытки,
не больше. Он пишет М., что чувствует себя бодро, что, несмотря
на гвалт в камере усиленно занимается английским языком,
сильно тоскует по ней и по друзьям.
Но вот наступил день, когда у нас не приняли передачи.
Я иду в канцелярию чека навести справку. Иду в
сопровождении ученицы К. — Лёли П. Нам дают справку — переведен
в Москву. Сообщаю по телефону М. одним словом: «в Москве».
«Пулей лечу туда». С братом М. мы собираем ее в путь. В
Доме литераторов мне дают конфет для К., обнадеживают меня;
Федор Дмитриевич Батюшков163 едет со специальной миссией
хлопотать за арестованных писателей:
— Верьте мне, я приложу все усилия, я всё сделаю, всё
переверну, чтобы спасти К., — на вас уже смотреть страшно.
355
— Ну не смотрите, если страшно. Только я боюсь, что вряд
ли Вам удастся. К. погубил себя своей прямолинейностью, или,
вернее, прямолинейность погубила его.
У меня много накопилось дела. Уже начало сентября.
Через неделю вступительная лекция. Я наскоро переписываю
программу курса и практических занятий, составляю список
диапозитивов — необходимо пополнить коллекцию.
Нагруженная книгами, сажусь в трамвай. Там сталкиваюсь с
преподавательницей Л-ре. Мы с ней изредка встречались. Я слышала, что
только что выпустили их председателя педагогического совета
В. И. Р-ва. Спрашиваю ее, правда ли это?
— Да, вчера вечером, — выхлопотали.
— Дело не только в хлопотах, разве мало хлопотали о К.
— Да ведь К. расстреляли.
Я не падаю в обморок, нет, я при полном сознании.
— Откуда вы знаете?!
— В. И. Р. рассказал.
Я спокойна, но что-то, верно, отразилось на моем лице,
что привело в ужас Л. Впоследствии она говорила, что не знала
о том, кем был для меня К., и пришла в отчаяние от своей
неосторожности. Я же благодарю судьбу за то, что узнала горькую
истину случайно, без нелепых «дружеских подготовлений».
— Погодите, может быть, это неверно, мало ли что
говорят, — старается она исправить свою «ошибку».
— Тут ошибки нет, впрочем, я сама поговорю с Р. Он сейчас
дома?
— Нет, раньше восьми не поймаете его. Погодите, это
ошибка.
Смотрю, на часы — четыре. В пять факультетское
заседание. Больше часу я вожусь в мастерской. Даю сложный заказ,
ничего не путаю. На заседание опаздываю, все уже в сборе.
Твердым голосом читаю свою программу, принимаю активное
участие в обсуждении других программ. Мало того, когда
ректор рассказывает о каком-то анекдотическом ответе студента,
я смеюсь с другими.
— Что с Вами, — подходит ко мне мой старый учитель
проф. Гр., — Вы ужасно бледны.
— А когда же я бываю не бледной?
— Говорите скорей, что с К.
— Расстрелян.
356
Ко мне подходят другие профессора, стараются меня
убедить, что это невозможно.
Дома вызываю по телефону В. И. Р.:
— Да, это так.
— Сейчас я буду у Вас.
Звоню к близкому другу К. Тр-у. Он тоже едет к Р.
— Я в обморок не упаду, истерик со мной не бывает, говорите
всё, как было, не смейте от меня что-нибудь скрыть.
Р. рассказывает мне всё, что знает, как тащили К. по
коридору, как в обморочном состоянии увезли К. на грузовике, как
К. кричал: «изверг Бозе».
Вместе с Тр. мы идем на квартиру К., мы забираем его
рукописи, набиваем четыре портфеля. На улице кромешная
тьма, льет проливной дождь
— Т. С, когда приезжает М.?
— Послезавтра.
— Кто решится ей сказать?!
— Сейчас вызову ее брата.
Ко мне звонят несколько раз. Всем говорю одно и то же:
«с К. кончено, говорить не могу». Впрочем, исключение делаю
для Лёли П. Все страшные семь недель девочка была нашей
помощницей: ходила и в предварилку, и в чеку. Я ей подробно,
но, конечно, со всякими аллегориями рассказываю, как было
дело. Вызываю брата М. Я убеждаюсь в одном: он никогда не
решится сказать сестре. Мы об этом не говорим, но я читаю
об этом по его глазам. «Да, это сделаю я, это моя обязанность,
это мой долг, это моя последняя услуга К. Ведь двенадцать лет
тому назад К. заставил меня жить, когда личная жизнь моя тоже
была разбита. Я скажу М.».
Провожаю брата М. через кухню и ощущаю какой-то острый
и приятный запах. На столе ломоть ржаного хлеба. Соображаю —
у соседки второй ключ от черного хода, и она в мое отсутствие
принесла хлеб, чтобы послать его в Москву для К. Хлеб! Уже
глубокая ночь, я лишь утром съела две вареные картошки...
В. БЕЖЕНЦЕВ164
ТЮРЬМА И СУМА
Очерки русской жизни в эпоху коммунизма*
В час ночи, на 2 ноября 1919 года, с черного хода нашей
квартиры послышался резкий звонок. Я спал у себя в
кабинете в температуре 5 гр. по Реомюру — квартира за отсутствием
дров не отапливалась; жена — на кухне, где было градуса на
три теплее. Жена побежала к дверям, где звонки продолжали
раздаваться с повелительной настойчивостью. Мы догадались,
что нас ожидает один из тех обысков, с которыми советская
власть нас осваивала с завидным усердием...
Производились они обыкновенно в глухую ночную пору,
между двумя и тремя, причем предупреждением их, косвенным,
правда, служил непогасающий в доме электрический свет.
Обысков, впрочем, мы не боялись и потому, что к концу осени
имущества у нас оставалось уже мало. Жизнь самой скромной
семьи обходилась в две -две с половиной тысячи рублей
ежедневно. При ценах за фунт хлеба 250 руб., крупы — 350 р.,
картофеля — 125 р., соли — 400 р., кофе — 800 р., вязки дров — 2 000 р.
и т. д. — ценах, которые с каждым днем повышались, — эта цифра
не преувеличена. И пошли наши вещи, одна за другой —
драгоценности, платья, носильное белье и всевозможные мелочи, —
в ручной продаже на рынке красноармейцам с туго набитыми
карманами, ихженам и любовницам, разбогатевшим спекулянтам
или коммунистам, вернувшимся с удачной реквизиции.
Несравненно ощутительнее были причиняемые нам
обысками нравственные страдания. Осмотр подушек, тюфяков
и постелей, белья грязного и чистого, платья мужского, женского
и детского был унизителен и неприятен.
Обыск 2 ноября отличался от прочих разве тем, что мне
был одновременно предъявлен мандат об обыске и аресте. Не
зная за собой никакой вины, ни словом, ни делом, я тщетно
ломал себе голову о причинах принимаемой против меня меры.
Обыск на этот раз был короткий — не более часа. После
обыска мне было предложено собираться настойчивым и пове-
* Общее Дело (Париж), 5 марта 1921 г.
358
лительным тоном... Внизу нас ожидал великолепный автомобиль
с княжескими гербами и коронами. Через пять минут мы были
на Гороховой.
Помещение, в которое меня ввели на Гороховой, было уже
занято десятками мужчин и женщин, ожидавших на
расставленных по стенам скамьях снятия первого допроса.
После второго допроса меня повели в какую-то конуру,
где я часа полтора прождал до окончательного заточения
в определенную камеру. Невероятные условия этого ожидания
заслуживают внимания.
Вообразите себе слабо освещенную комнатку, сажени в три
длиной и две шириной, с двадцатью заключенными в ней
разного возраста и обоего пола людьми, без всякой вентиляции,
в ужасающей духоте, смраде и грязи. Стол, скамьи, подоконник
и несколько стульев были заняты сплошь сидящими, часто по
двое на стуле, полулежащими, скорчившимися мужчинами
и женщинами, ожидавшими, как и я, своей участи. Так же густо
заселен был и пол. Когда меня втолкнули в эту камеру, —
свободно войти в нее было невозможно — на полу оставалось
незанятым одно полуместо у самого входа, заплеванное и грязное.
В такой «тесноте и обиде» очутился я в той камере, куда
меня, в исходе третьего часа, водворили, наконец, на
жительство. Состояла она из двух комнат, свободно друг с другом
сообщающихся и рассчитанных каждая на 25 человек, а я
в них был 123-м. Кровати, если можно назвать этим именем
поставленные на козла доски, были сдвинуты по две рядом;
на них спало по трое человек. Не получившие кровати
размещались на полу, на столах, на сдвинутых стульях. Одним лишь
удобством отличалась та камера, которое я оценил только
впоследствии, — уборная и умывальная были в ней выделены
в отдельное помещение.
Вся камера спала непробудным сном, в воздухе, зараженном
миазмами пота, человеческих испарений и гнилых ртов, под
несмолкаемое храпение, сопение и бред.
Позднею ночью нас разбудил громкий оклик. Вызывали
5 человек, с приказом немедленно собирать вещи. И вся
проснувшаяся камера, и несчастные вызываемые люди понимали,
что означал этот вызов.
Остаток ночи чуть не вся камера бодрствовала. Оба
следующих дня прошли тоскливо.
359
На третий день нашу камеру чуть не во всем ее составе,
вместе с заключенными из других камер, всего около двухсот
человек обоего пола и всевозможного возраста вывели в один из
внутренних дворов и построили в каре, окружив со всех сторон
звероподобными красноармейцами.
Тут мои мысли были прерваны повелительным окриком.
Размахивая руками, на меня кричал за несоблюдение строя
распоряжавшийся нашим переводом комендант Гороховой, Бозе.
Он обратился к нам с речью, в которой заявил, что им отдано
распоряжение: при малейшей попытке к бегству пристрелить
нас, как собак. Сопровождаемые этим блогожелательным
напутствием, мы двинулись с Гороховой по Дворцовой площади
и набережной на Шпалерную.
Там нас всех повели в громадный нетопленый «hall»*,
стены которого разделялись целым рядом загадочно закрытых
дверей с ведущими к ним ступенями. Разместившись на них
в несколько ярусов, мы провели два томительных часа в
ожидании распределения по камерам. Я попал в камеру номер 22.
25 кроватей, расположенных по стенам, начиная от
«параши», в углу, — первые три благодаря этому соседству
кошмарные, — четыре стола и столько же скамей, решетчатые двери
и окно в коридор и три окна во двор. Нас тут содержалось не
менее 55 человек. Половина заключенных оставалась, таким
образом, без ночного пристанища и ютилась, где попало, —
на скамьях или поставленных между ними досках, на столах
и преимущественно на полу.
В таком же положении очутился и я. Восемнадцать ночей,
не раздеваясь, на зимнем пальто с вещами, валявшимися за
отсутствием места в разных грязных углах. Первую кровать
получил я, по очереди поступления, рядом с «парашей» в ночь
освобождения, — за ежедневную порцию хлеба я обменял ее
на другую.
Несколько слов теперь о нашей пище и о тюремном режиме.
Мы вставали в 7 утра и получали под названием «кофе»
какую-то коричневую жидкость с тремя осьмушками хлеба на
целый день, а иногда и с щепоткой песочного сахара. Такая
же жидкость, под названием супа, лишь другого серо-грязного
цвета, раздавалась нам в 12 часов дня; в ней плавали головки
* Зал (англ.). — Прим. ред.
360
воблы, навар от которой оставался на кухне — нам же
доставалась одна бурда, которую мы почти целиком выливали
в раковину.
Интересны те средства, которые измышляли для увеличения
казенного пайка: обменивали носильные вещи на хлеб, уступали
кровати, пилили дрова или отправлялись на разгрузку барок, что
давало лишних полфунта в день, прибегали, наконец, к такого
рода обманам и хитростям, которые могли приходить в голову
только изнывавшим от голода людям.
В одной из одиночных камер содержались два налетчика.
Один из них умирает от разрыва сердца. Тогда оставшийся
в живых, тщательно укутав мертвеца с головы до ног одеялом,
выдает его за спящего и в продолжение двух дней получает
за покойника причитавшиеся ему три осьмушки хлеба. Запах
трупного разложения, проникнув из камеры в коридор,
обнаруживает обман.
Одним голодом и всевозможного рода лишениями не
исчерпывались, конечно, все тяжести нашего заключения.
Четыре рода паразитов поедали нас поедом: вши тельные
и головные, блохи, клопы; вся камера чесалась с утра до вечера,
нервно и судорожно.
Последний и не меньший, конечно, терний нашего венца —
пресловутая «параша», за низкой сквозной перегородкой, нас
угнетала своими миазмами и омерзительными шумами и
звуками, не прекращавшимися ни ночью, ни днем. Она стыдливо
была прикрыта грязной занавеской, ничего не скрывавшей
и ничему не препятствовавшей.
Были у нас и развлечения. Раз в день, по две камеры вместе,
нас выводили на прогулку, всегда ожидавшуюся с нетерпением.
Совершалась она в одном из внутренних тюремных дворов,
где мы около получаса вертелись, как белка в колесе, вокруг
высокой деревянной башни, с верхушки которой за нами
зорко наблюдал надзиратель. Кроме чисто физического
удовлетворения, прогулка доставляла еще возможность общения
с заключенными других камер, сношения с которыми в стенах
тюрьмы не допускались.
Еще нетерпеливее ожидали мы бани, которой пользовались
группами по двадцать пять человек.
Такова была наша будничная жизнь. Два периодически
повторявшихся события прерывали ее монотонное однообразие.
361
Это были допросы и тяжелые волнения, переживавшиеся нами
при появлении в тюрьме коменданта Бозе.
Допросы производились сравнительно редко и тем более
интересовали всю камеру. Вернувшийся с допроса становился
героем дня.
Неизмеримо более, конечно, волновали всю камеру слухи
о присутстви Бозе. Появление Бозе означало вызов заключенных
для приведения над ними в исполнение смертных приговоров.
Это знала вся тюрьма, и его присутствие приводило ее каждый
раз в неописуемый трепет.
Из камеры осужденных выводили в один из внутренних
дворов, где под командой все того же Бозе, находившего,
по-видимому, садическое наслаждение в выполнении своих
гнусных обязанностей, выстраивали в ряды. В один из таких
дней я из окна портняжной, где очутился случайно, был
свидетелем незабываемой сцены. Это окно выходило во двор, где
стояли осужденные. Один из них, уже будучи в рядах, быстро
нагнулся, словно что-то подбирая с земли и, выпрямившись,
сделал непонятный для меня жест, после которого упал. Достав
бритву из голенища сапога, он распорол себе живот; его отнесли
в лазарет и расстреляли по выздоровлении.
Производились, наконец, самые расстрелы, вплоть до
прекращения навигации, в окрестностях города, на так называемом
Лисьем Носу, куда отвозил осужденных особый пароход. Как-то
раз на нем испортилась машина; его несчастных пассажиров
отвели снова в тюрьму и увезли только на следующий день.
По прибытии на место всех прибывших заставляли рыть себе
ямы, раздевали догола, расстреливали и тут же засыпали землей,
иногда еще полуживыми.
На восемнадцатый день моего заключения по камере
пронеслась радостная весть о советской амнистии. Около 12 часов
меня разбудил сосед, сообщив, что в числе освобождаемых
только что назвали и меня.
И вот я за воротами тюрьмы... Холодный дождь пронизывает
меня до костей, я изнемогаю под пудовою тяжестью
громоздкой клади: чемодана, подушки, пледа, медных судков и посуды
и, отдыхая чуть не каждые двести шагов, плетусь пешком от
Шпалерной до Поцелуева моста.
ш.
КРАСНЫЙ СУД
(Этюд с натуры)*
В одном из революционных трибуналов Петрограда
разбиралось интересное дело. Была подана жалоба в трибунал
г-жой Княжевич на целую группу матросов, вселенных к ней
в квартиру Основание жалобы — кража этими матросами у г-жи
Княжевич драгоценностей и денег больше чем на 200 000 рублей.
Правозаступником г-жи Княжевич выступил один из
известнейших бывших петроградских адвокатов. После подачи жалобы
г-жа Княжевич была немедленно арестована, но дело было
назначено к разбору Во время суда было выяснено совершенно
точно многочисленными свидетелями и сознанием подсудимых,
что они украли деньги и драгоценности, которые потом
прокутили и на остаток спекулировали. Матросы были присуждены
к какому-то пустяшному наказанию, но г-жа Княжевич
освобождена не была. На многочисленные справки родственников
о причине ареста не было дано никакого ответа. Но каков был
ужас и негодование, когда, после декрета об отмене смертной
казни, на справки, поданные на Гороховую и на Шпалерную,
был дан ответ, что г-жа Княжевич расстреляна. Через несколько
дней грабители были освобождены.
Новая Русская Жизнь (Гельсингфорс), № 80, 11 апреля 1920 г.
363
КРОНШТАДТЦЫ В ФИНЛЯНДИИ*
По сообщению "Berliner Udeblatt" из Гельсингфорса вчера
в Ораниенбаум доставлено 1000 арестованных кронштадтцев,
в Петергоф — 400. Советское правительство обещало освободить
от ответственности всех повстанцев, которые добровольно
подчинятся ему. Тем не менее из Кроштадта слышатся оружейные
залпы — это расстреливают участников восстания. Вопреки
первоначальным известиям, военные суда, находившиеся
в Кронштадтской гавани, не взорваны. Решение взорвать их
в панике, возникшей при занятии Кронштадта большевиками,
осталось невыполненным.
Постройка концентрационных лагерей для кронштадтцев
в Финляндии заканчивается. 4000 мужчин будут помещены
в Ино, 1700, находящихся в настоящий момент в Бьёрке, будут
переведены в Выборг, 600 человек, пришедших в Териоки, будут
помещены в запасных казармах у Санкт-Михеля. Лагери будут
находиться под охраной финских солдат. Среди прибывших
в Финляндию кронштадтцев наблюдалось несколько случаев
сыпного тифа.
За последние дни в Финляндию из Кронштадта прибыли
новые беженцы. Они находятся в ужасном состоянии.
* Руль (Берлин), № 106, 23 марта 1921 г.
364
К РАССТРЕЛУ 61 *
После зверского расстрела 61 представителя недобитой
русской интеллигенции, так называемый «заговор Таганцева»
окончательно ликвидирован, и коммунистическое правительство
празднует новую победу. Чека получила особенную
благодарность за полезную деятельность. Понемногу выясняется картина,
как был спровоцирован и раскрыт этот так называемый заговор.
Агент Чека Паньков, б[ывший] матрос, взялся
спровоцировать и раскрыть заговор. За его работу ему была назначена
плата в 10 млн сов. рублей за голову каждого арестованного
контрреволюционера.. Панькову удалось проникнуть к
покойному профессору] Таганцеву, доверие которого он завоевал
открытым заявлением, что он агент Чека, но ненавидит
коммунистов и готов на всё в борьбе с ними.
Первой жертвой Панькова, за которую он получил свои
иудины деньги, был Ю. П. Герман165. Автомобиль с чекистами
в продолжение трех дней дожидался, когда уедет Ю. П. Когда на
Выборгском шоссе появилась подвода с ним, из автомобиля, на
котором находился и провокатор Паньков, был открыт огонь.
Несколькими пулями Ю. П. был смертельно ранен и упал на
шоссе, к нему немедленно подбежали выскочившие из
автомобиля чекисты, подняли и перенесли в ближайшую избу. Здесь
были приняты все меры, вплоть до впрыскивания камфары,
чтобы привести раненого в сознание и выпытать у него сведения.
Стреляли же в Ю. П., так как знали, что живым Ю. П. себя не
отдаст. Но несмотря на все усилия чекистов, через несколько
минут, не приходя в сознание, Ю. П. скончался. Это была первая
жертва провокатора-матроса Панькова.
За ней быстро последовали другие, среди которых много
и оговоренных им, ради заработка кровавых 10 млн сов. руб.
за голову.
* Общее Дело (Париж), 18 октября 1921 г.
365
А. В. АМФИТЕАТРОВ
ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ
I. Вымирающий Петроград
Териоки. Карантин, 4. IX. 1921.
Перед Вами человек, проведший безвыездно четыре года
в советском Петрограде. За этот почтенный срок я выпил полную
чашу сладостей его быта. Трижды арестованный, основательно
познал прелести узилищ Чрезвычайки, а в последний раз, во время
Кронштадтского восстания, имел удовольствие видеть, как вместе
со мною познают их, ни за что, ни про что, моя жена и старший
сын, юноша, музыкант-композитор, никогда и не думавший
о какой-либо политике. Потеряв счет обыскам, я жил под
разнообразною слежкою уличного и домашнего шпионажа, был обязан
подпискою о невыезде, в течение двух лет состоял под запретом
каких бы то ни было публичных выступлений, и наконец теперь
лишь счастливым, почти чудесным случаем, выскочил из этой «злой
ямы» накануне нового ареста, по всей вероятности горчайшего
прежних. Потому что в последнее время вокруг меня опять стало
заметно сжиматься как бы некое железное кольцо. Брали одного
за другим моих знакомых, в том числе даже таких, на которых не
могла падать хотя бы слабая тень политического подозрения, за
исключением их дружеской близости ко мне. Зловещий признак
был слишком выразителен, чтобы не поторопиться с давно
задуманным и желанным исчезновением. — И вот, после некоторых
неожиданных и довольно-таки отчаянных приключений, я здесь,
едва веря в свою воскресшую свободу, под доброю защитою
вольнолюбивого и крепколапого Финского Льва.
От человека, прошедшего такие мытарства, вы вправе
ожидать очень мрачных рассказов, угрюмых ламентаций, резких
* Фрагменты из книги: Амфитеатров А. В. Горестные заметы.
Очерки красного Петрограда. Берлин: Грани, 1922.
В предисловии к книге автор поясняет: «В эту книжку включены
статьи, написанные мною в Финляндии в первый месяц после моего
бегства (23 августа 1921 г.) из советского Петрограда». Первоначально
статьи публиковались в газете «Новая Русская Жизнь» (Гельсингфорс)
в цикле «Горестные заметы».
366
АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВТ*
ГОРЕСТНЫЯ
ЗАМ-ЬТЫ
ОЧЕРКИ КРАСНАГО
ПЕТРОГРАДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГРАНИ*
БЕРЛИНЪ 19*8
выкриков мстительной сенсации. Боюсь, однако, что я обману
ваши ожидания. Поскольку мы в Петрограде могли следить за
русскою зарубежною печатью, на недостаток обличительной
сенсации она жаловаться не может. Напротив, может быть, ее
чересчур много. Признаюсь, что иногда ее изобилие наводило
на нас, петроградских пленников, некоторое уныние и досаду.
Усердно бросаемые ею на полотно эффектные мазки и пятна
одиночных ужасов, исключительных безобразий, как бы отстраняли
на задний план картины общий ужас, общее безобразие нашей
невозможной жизни: всё это позорное мелочное рабство
закабаленных масс, отвратительное однообразие и чисто тюремная
последовательность которого уничтожали население столицы
гораздо скорее и решительнее, чем самые буйные отдельные
эксцессы власти и коммунистического быта, привлекавшие
внимание зарубежной печати. Эксцессы кабалы пожирали
единицы, десятки, сотни, — допустим, иной раз даже тысячи
жертв, а постоянное мелочное существо ее пожрало миллионы...
Как-то очень мало обращается внимания на тот, казалось
бы, слишком наглядный и выразительный массовый факт, что
Петроград, обладавший еще в 1917 году 2У2-миллионным
населением, теперь, в 1921 году, насчитывает даже по советскому
исчислению едва 700 000 жителей, включая гарнизон. В
действительности же население колеблется между 500—600 000.
Опустошение, исторически беспримерное с древнейших времен, когда
Навуходоносоры и Салманасары перегоняли завоеванные народы
из царства в царство гуртами, как некую двуногую скотину. Но
ведь Петрограда никто не завоевывал и жителей из него никто
не уводил; напротив, их всеми правдами и неправдами старались
прикрепить к месту, они потеряли счет закабаляющим регист-
рациям, над ними висел неусыпно бдительный и беспощадный
террор запрещающих удаление мер, заградительных отрядов и т. п.
И тем не менее, в три года неведомо куда расточились три четверти
населения! Даже классический пример обезлюдения Древнего
Рима на заре Средних веков, под бешеным прибоем Великого
Переселения народов, бледнеет пред темпом этого запустения.
Что же, эти исчезнувшие два миллиона петроградцев вымерли,
что ли? Да, смертность была значительная, даже чудовищная, но
процент ее все-таки ничтожен в сравнении с процентом разброда.
«А людишки твои, государь, в разброд пошли», — жаловались царю
Михаилу Феодоровичу окраинные люди расшатанного Смутным
368
временем Московского царства. К невенчанному государю
Совдепии, Владимиру Ильичу Ленину-Ульянову эту жалобу могли
бы обратить уже не только окраины, где разброд сейчас, под
давлением голода, принял размеры стихийные, баснословные,
многомиллионные, но и правящие центры. Нельзя сказать, чтобы
счастливый результат четырехлетнего государствования! <...>
Мало обращают внимания и на то обстоятельство, что
в «красном Петрограде», столь часто и громогласно
прославляемом в качестве истинного центра, стержня и оплота Советской
рабоче-крестьянской республики, почти совершенно не стало
рабочих. Здесь процент обезлюдения еще разительнее, чем в общей
обывательской массе. До революции число рабочих в Петрограде
восходило до 400—450 000. Сейчас оно, по показаниям самой же
советской печати, спустилось до весьма малых десятков, между
20 и 30 тысячами. А люди, сведущие и к заводской
промышленности причастные, уверяют, будто и того не будет, и
настоящих заводских рабочих в «красном Питере» наберется вряд
ли более 10—12 тысяч. Допускаю, что эта цифра полемически
преуменьшена естественным озлоблением и отчаянием людей,
наблюдающих изо дня в день, как беспомощно разрушаются
и гибнут напрасною смертью созданные ими производства. Но, во
всяком случае, десятки остаются десятками, и факт несомненен:
если всё население Петрограда убавилось на 70—75 %, то
рабочая его часть сократилась несравненно больше всех остальных
и уменьшилась в десять, если не в двадцать раз, а может быть,
и во все сорок. Главною причиною этой убыли большевики
обыкновенно выставляют зачисление рабочих в красную армию
и массовую гибель их в боях гражданской войны. Не спорю, что
бессмысленное обращение рабочих рук в пушечное мясо имело
здесь действительно немалое значение. Однако, имея постоянные
и частые, очень дружеские сношения с рабочею средою Василеост-
ровского района, я убедился, что траур войны в рабочих семьях
Петрограда далеко не так част, как любит декламировать красная
печать, и основною причиною стремительного таяния рабочей
среды приходится обозначить опять-таки не боевую убыль, ни
даже общую, весьма значительную смертность, но неудержимую
тягу к разброду. Против нее оказываются одинаково бессильными
и заградительный террор Ч.К., и не знающая границ в
низкопоклонной демогогии лесть агентов-пропагандистов, с пресловутым
тов. Анцеловичем во главе. <...>
369
II. Сенсация и гласность
Териоки, 7. IX. 1921.
Казалось бы, полное уничтожение свободной гласности
должно было успокоить советское правительство, что отныне
под его державою народы России будут «на сорока языках
мовчать, бо благоденствуют». Ведь даже ужасный конец
царствования Николая I и цензура «Бутурлинского комитета» —
золотые эпохи свободы печати в сравнении с теми тисками,
в какие теперь заключена злополучная русская мысль — эта
немая Лавиния с урезанным языком и обрубленными руками,
отданная в безвольные и бесправные наложницы пресловутому
товарищу Ионову и ему подобным. И, однако, всё им мало,
и, что называется, бегает нечестивый, никому же гонящу.
Лихорадочно взвинченному воображению чекистов все время
чудятся в острожных стенах, которыми отделили они русское
общество от свободного слова, щели и скважины,
пропускающие «вольный дух» и опасный свет. И в обычно нервном спехе
они торопятся конопатить эти щели... чем ? Конечно,
человеческими жизнями, другого материала они не ищут. Страх пред
иностранным журналом, подпольным изданием, рукописью,
распространяемою в копиях пишущей машинки, — прямо,
какой-то детский, шутовской. Он был бы смешон, если бы не
приводил к слишком печальным последствиям.
Когда я был арестован в последний раз, следователь Ка-
русь просто жилы у меня вымотал, томя меня нелепейшим
допросом: откуда и как попала ко мне обращенная к патриарху
Тихону и петроградскому митрополиту Вениамину записка
(на машинке) некоего А. Филиппова по вопросу о церковной
реформе. Заявление, что мне, как небезызвестному писателю,
часто присылают свои труды разные лица с просьбою о
просмотре и совете, не удовлетворяло. Еще бы! «Патриарх»,
«митрополит», «церковь», — явная контрреволюция! Страшно! Был
привлечен к совещанию какой-то другой следователь, должно
быть, особо «сведущий человек» по религиозным вопросам,
с необычайно важным и зловещим видом морщивший свой
многоумный лоб.
— Я слыхал об этой записке, да, слыхал... — мрачно
повторил он и, конечно, врал, потому что если бы слыхал,
370
то о рукописи не могло бы возникнуть подозрения именно
в советском учреждении, хотя бы это и была Чрезвычайка.
Наконец, терпение мое лопнуло.
— Да вы сами-то читали этот взятый у меня документ? —
спросил я Каруся.
Он переглянулся с товарищем и честно ответил:
— Нет, не имел времени, но...
— Так потрудитесь прочитать: это не только не
контрреволюционная записка, но, напротив, сантиментальнейший
проект какого-то прекраснодушнейшего мечтателя — примирить
православную церковь с советскою властью...
Следователи, недоверчиво качая головами, перелистали
несколько страниц...
— В самом деле... Чёрт знает что такое! — пробормотал
Карусь... И рукопись была отложена в сторону, а вопрос о ней
снят с очереди.
Обладание номером иностранной газеты для обывателя —
преступление, не допускающее смягчающих вину обстоятельств.
Сейчас в Крестах сидит Наталья Алексеевна Суворина,
18-летняя девушка, внучка знаменитого основателя «Нового
Времени» и дочь редактора-издателя «Руси». Барышня эта, особа
совершенно аполитическая, немножко художница, немножко
певица, служила в «Роста» (Российском телеграфном
агентстве), получающем ex officio* все заграничные газеты. У одного
из ее знакомых при обыске нашли номер "Times"-а. Он при
допросе показал, что номер дала ему Суворина. Последовал
обыск и у нее, причем, как водится, всю квартиру перевернули,
но никакой контрреволюции не обрели, за исключением...
нескольких модных журналов. Барышня, весьма красивая собою
и охотница, если не наряжаться (что в настоящее время для
голодающей петроградской обывательницы недостижимый
идеал), то хоть помечтать о нарядах, глядя, как в приличных
странах приличные люди одеваются, — брала из «Роста» модные
картинки — притом, заметьте, не самовольно, а с разрешения
своего начальства... Удовольствие стоило бедняжке долгого
предварительного заключения и приговора к шестимесячным
принудительным работам. Отбывая эти последние в Крестах,
она не миновала почти всеобщей тюремной участи: заболела
* По должности {лат.). — Прим. ред.
371
дизентерией в тяжелой форме и долгое время висела на ниточке
между жизнью и смертью... Когда я покидал Россию, Н. А. еще
находилась в больнице при женской тюрьме, куда была временно
переведена, но, как я слышал, начала поправляться*.
III. Растленные музы
Териоки, Карантин. 18. IX. 1921.
«Халтура» — одновременно и демон-покровитель, и демон-
губитель советского государства. Покровитель потому, что вся
система внутренней политики советского правительства свелась
к старому цезаристическому девизу — «хлеба и зрелищ» плюс
тюрьма и расстрел для всех, дерзающих почитать эти блага
недостаточными. Причем надо заметить, что вторая половина
девиза оказывается на деле чуть ли не важнее первой. Без хлеба
голодный Петроград привык сидеть сравнительно спокойно
и днями, и неделями, и, бывало, набивая овсом пустое брюхо,
только добродушно острил:
— Отчего прежде люди по тротуарам ходили, а теперь
середь улицы «прут»?
— Оттого, что на конский корм перешли: нажремся
лошадиной еды, — вот нас на лошадиную дорогу и тянет.
Но отсутствием зрелищ Зиновьев и К°, даже в самые
трудные и опасные времена осадных положений, не рисковали
долее трех-четырех дней. «Париж смеется, следовательно, он
заплатит», — говорил старый политический циник. «Петроград
сидит по театрам и кинематографам, — следовательно, он не
шевельнется», — говорят молодые политические циники
Смольного. И забота о зрелищах — первая, основная. Они множатся,
как грибы после дождя сквозь солнце. И если в измученном
нуждою петроградском населении есть еще группа, которая хотя
и не сыта и обеспечена, но избавлена по крайней мере от угроз
голодной смерти и, пожалуй, даже пользуется сравнительною
безопасностью от чрезвычаек, то это, конечно, необходимая
для Смольного группа зрелищных деятелей. Имена и титулы
их опять-таки неисчислимы и ежедневно растет их количество.
* К сожалению, слух не оправдался. Несчастная девушка так
и умерла в тюремной больнице. 16. V. 1922. — Прим. автора.
372
Кинематографов еще не так много — по техническим причинам:
старые фильмы разрушились, новых неоткуда взять. Но театров,
концертов и кафешантанов, слегка прикрытых громкими
«пролетарскими» прозвищами, в центре города — только что не через
два дома в третьем; на окраинах—по полдюжин в каждом районе,
при «культпросветах» разных советских учреждений, заводов,
учебных заведений. Даже предварительная тюрьма, пресловутая
«Шпалерная, 25», не избавлена от зрелищной эпидемии. Мы
с сыном сидели как раз в галерее № 5, где рядом с одиночками
устроена сцена, и на ней каждый вечер изображался «Денщик
Шельменко», с весьма забавным любительским составом
исполнителей. Жениха изображал помощник начальника тюрьмы
и заведующий культпросветом Васильев, невесту — барышня
из отдела управления, обвиняемая в продаже пропусков на
выезд из Петрограда (по скромной цене в сто тысяч за пропуск),
денщика — еврей-спекулянт высокой марки, а мать невесты —
известная эсерка А. Н. Слетова. Женский же хор приводила
из VIII отделения, в качестве старостихи, Ольга Сергеевна Лунд,
ныне расстрелянная в Москве по принадлежности к
«монархическому заговору». Когда-нибудь я подробно расскажу об этих
тюремных «разумных развлечениях», — лицемерной покрышке
кошмарного ужаса, которым дышала тюрьма, битком набитая
обезволенными страхом людьми, ежечасно ожидавшими, под
дальний гром кронштадтских пушек, поголовного расстрела.
На такой громадный зрелищный спрос потребно и
громадное предложение. Мрачный петроградский юмор уверяет, будто
население столицы сейчас разделяется систематически на
«сидевших, сидящих и имеющих сидеть». С почти равным правом
его можно делить на «играющих и имеющих играть». Когда вы,
в 4 часа дня (срок окончания служебных занятий), идете тою
широкою провинциальною улицею, которая когда-то была
Невским проспектом, и прислушиваетесь к разговорам встречных
и обгоняющих вас прохожих, то всё, что услышите, — заранее
можете быть в том уверены, — безошибочно распределится по
трем категориям:
1) Паек. Какая выдача? Где? Селедка или хлеб... Петро-
коммуна, Компрод, Нархоз, Дом Ученых, Дом Искусств, Дом
Литераторов... распределительный пункт... продовольственная
экспедиция... мешочница... спекулянтка... променял...
Категория ляскания голодными зубами!
373
2) Гороховая, 2. Шпалерная. Кресты. Передача.
Принудительный работы. Когда взяли? Насколько засадили?...
«К стенке»... «В Москву»... «Следователь»... «Че-ка»... «Озолин»...
«Допрос»... «Обыск»... И всего чаще:
— Да говорите же тише, ведь здесь кругом шшоны!
Категория шкурного перепуга!
3) Репетиция... Студия... Спевка... Спектакль... Мариин-
ка, Александринка, Филармония... «Кинемошка»... Шаляпин
(обыкновенно с прибавлением нелестных эпитетов)... «ПТО»...
Владимир Николаевич (Давыдов), Владимир Васильевич
(Максимов), Юрий Михайлович (Юрьев), Эмиль Альбертович
(Купер)... «Граммофон»...
Категория жизни с глазами, зажмуренными на
действительность. <...>
IV. Кровь, к небу вопиющая
В самом сдержанном и умеренном тоне хотел и
рассчитывал я вести свои зарубежные очерки «красного Петрограда»,
не давая воли лирическим порывам, не позволяя разгораться
огню гневного сердца, не допуская, чтобы на страницы мои
брызнули горькие слезы... Но, очевидно, в нынешних условиях,
раз ты взялся за перо, «спокойно зреть на правых и виновных»
невозможно, хотя бы при самой твердой на то решимости.
Большевики обладают несравненным в своем роде даром ошеломлять
человечество внезапностями такой мерзостной свирепости
и низости, что никакой выдержки не достает на зрелище их
кровавых фарсов, и самая закаленная в опыте долготерпения
душа прорывается рыданием негодования и боли. Кажется, уж
привыкли мы, ничем нас не удивишь, всякой гадости от них
ожидаем, — нет, понатужатся и превзойдут!
Вчера мне показали «Правду», а в ней бесстыдное
хвастовство Чрезвычайки расстрелом супружеской четы Таганцевых166,
Н. И. Лазаревского167, С. Л. Ухтомского168 и др. Я знал этих
безвинно убиенных людей, я видел их так недавно живыми
и здоровыми. Не далее, как во вторник 16 августа, я встретил
жену Лазаревского во «Всемирной Литературе» спокойною за
участь своего мужа, обнадеженною и уверенною, что дело его —
пустяковое недоразумение, и он не сегодня-завтра будет на воле.
И вот сейчас я как будто вижу ее пред собою, эту бедняжку,
374
теперь уже не жену, а вдову Лазаревского, как встретили ее,
в вечер ареста мужа, мои маленькие дети, — высокую, худую,
рыдающую женщину в черном, тревожно кружащую, как ночная
птица, вспугнутая с гнезда, около зловещей «Гороховая, 2», за
дверями которой только что скрылся ее супруг. Дети не знали
ее, она не знала детей, — инстинктивно бросилась к
незнакомой кучке прохожей молодежи, в смятении недоуменного
испуга: «Странно! Ник. Ив. взяли, как свидетеля, для дачи
показания, "на какие-нибудь два часа", а вот что-то
замешкались, не выпускают...» Шедшие с детьми старые знакомые
советовали ей: «Вы бы лучше домой шли, не привлекайте к себе
внимания, ведь здесь кругом шпики». — «Нет, как можно, он
выйдет, увидит, что меня нет, встревожится, что случилось...»
Милиционер грубо прогнал ее с угла Гороховой. Она всю ночь
мыкалась по панелям вдоль Александровского сквера, прячась
и увертываясь от обходов, забиравших прохожих, которые
в «свободном» Петрограде дерзают ходить по улицам позже
часу ночи... Рассвело, солнце взошло, но двери Чрезвычайки
не отворились для Лазаревского. Два часа превратились в два
дня, два дня в две недели, две недели в два месяца, два
месяца—в вечность...
Почему? за что? Чрезвычайка, столбцами своих печатных
граммофонов, налгала целую полосу обвинений. Но ведь нет
в Петрограде человека, не исключая самих коммунистов,
который не знал бы, что таганцевский заговор — пуф вообще,
а уж в особенности участие в нем Лазаревского и Ухтомского.
Все убеждены, что дело грубо сфабриковано и раздуто
Чрезвычайкою с прозрачными и вполне определенными целями.
1) Всенародная ненависть к чрезвычайкам достигла
высшего напряжения. Даже среди самих коммунистов нарастает
отвращение к ним и раздаются сильные голоса за их обуздание
и упразднение. Следовательно, почтенному учреждению
(подобно былым царским охранкам) надо показать выразительным
примером, что оно необходимо, что только его бдительность
и террор спасают «социалистическое отечество».
2) Правящим коммунистическим сферам желательно
разбить чрезмерную сосредоточенность народного внимания на
«голодном вопросе» и отвлечь рождающееся из нее озлобление
пролетариата с больной головы на здоровую — на привычного
козла отпущения — всевыносящую интеллигенцию. Смольный
375
слишком обеспокоен зарождающимся примирением между
интеллигенцией и пролетариатом, который начинает смутно
понимать, что и она, и он равно исстрадались в ужасном и
глупом кошмаре четырехлетнего ленинского режима и что никак
уж не интеллигенция повинна в его муках. Это еще робкое
движение надо затормозить, — и вот поспешно выбрасывается
кость, приглашающая к новой драке: мнимый интеллигентский
заговор, который, — внемли, о, пролетариат! — чуть-чуть было
не погубил твоего обожаемого монарха... тьфу, что я! то бишь:
твоего блогодетеля — советское правительство!
К сожалению, «Таганцевский заговор» не был заговором.
Говорю: к сожалению — потому, что настоящий, хороший
заговор Петрограду очень нужен, хотя решительно не вижу я там
для него человеческого материала. Но, найдись в
обессиленном, обескровленном, обезволенном петроградском обществе
энергия для заговора, то не так бы он развивался и не такие
бы имена привлек. А то ведь даже у изобретательной
Чрезвычайки не достало клеветнической фантазии больше, чем на
милейшего В. Н. Таганцева. Мир его страдальческому праху,
освященному безвинною мукою! Но кто же может хоть на
минуту поверить, чтобы этот добродушный и остроумный
обыватель был организатором и «главою» политического заговора?
С его-то неукротимою общительностью и длинным языком?
С его-то житейскою озабоченностью и должностною беготнёю
в сверхсильной пайковой охоте? Если бы в Петрограде в самом
деле зародился серьезный заговор, то, вероятно, под большим
вопросом стояло бы, допустить ли В. Н. в его тайну, а не то что
ставить его «главою»...
Таганцева погубили какие-то большие деньги, которые
он хранил и которых, при первых весенних обысках в его
квартире, Чрезвычайка не нашла, а потом до них
докопалась*. Ведь дело его, — по весьма твердой петроградской
* Какая-то большевистская рептилия — кажется, «Путь» бывшего
публициста Иорданского, ухватившись за эту фразу мою, с
торжеством доказывала: «Ага! Вот Амфитеатров сам сознается, что у Т-ва
нашлись скрытые большие деньги, — следовательно, расстрелян он не
напрасно!..» Эта уверенность большевиков, что если человек прячет
от них чьи-либо вверенные ему деньги, то значит он заговорщик, —
поистине восхитительна! В своем роде — «самоопределение» (16. V.
1922). — Прим. автора.
376
версии, — не сразу обернулось так трагически. По первому
следствию вины супругов Таганцевых были признаны
настолько сомнительными, что, очевидно, лишь ради формы, чтобы
не сводить широковещательное обвинение к нулю, — ему
дали двухлетние принудительные работы, жене (уже вовсе
неизвестно за что привлеченной) — на один год. Но как раз
перед тем престарелый отец В. Н., знаменитый юрист,
сенатор Н. С. Таганцев169, обратился к Ленину с ходатайством за
сына. Ленин ответил любезною телеграммою с предписанием
пересмотреть дело. Телеграмма сошлась с уже готовым было
приговором и механически его остановила. Следственная
канитель возобновилась, и тут история говорит надвое. Люди,
питающие к г. Ленину влеченье, род недуга, уверяют, будто
тогда Чрезвычайка, обозленная вмешательством премьера в ее
самовластную компетенцию, особенно постаралась превратить
В. Н. Таганцева в ужасного государственного преступника.
Другие, с большим скептицизмом и с большею вероятностью,
утверждают, что вся эта история с телеграммою —
незамысловатое повторение старой комедии с расстрелянием великих
князей. Ведь и тогда М. Горький (по его словам) привез из
Москвы в Петроград письменное разрешение взять их на
поруки. Но, покуда он ехал, Москва приказала по телефону
поскорее расстрелять, — и расстреляли, прежде чем Горький
успел предъявить свой документ. Так вот и теперь циническая
телефонограмма — засудить во что бы то ни стало, — обогнала
и отменила лицемерную телеграмму — судить по совести.
Засудили Таганцева давно, но казнь оттягивали долго, ловя
на смертника новые жертвы, чтобы отправить их вместе с ним
загробными спутниками. Неловко же, в самом деле, чтобы
«заговор» состоял только из мужа и жены!.. Тут придется коснуться
щекотливого вопроса. Если верить советским
«правительственным сообщениям», Таганцев в тюрьме оговорил многих, частью
арестованных, частью скрывшихся. Не хотелось бы верить,
но если бы даже и было так, воздержимся от сурового упрека
несчастному. В. Н. Таганцева никто и никогда героем не
считал, а между тем его постигло испытание, способное истощить
и геройские силы. В распоряжении г. г. Семенова, Озолина и К°
имеется достаточно средств, чтобы вымучивать признания, им
желательные. Надо помнить, что в их застенок жертвы попадают
не с прежними запасами телесной и нравственной выносливое -
377
ти и нервной энергии, как, бывало, революцюнеры в царских
застенках. Большевики имеют дело с узниками, ослабленными
четырехлетним голодом, холодом, болезнями, переутомлением
на непосильном физическом труде; с людьми нужды и страха,
придавленными привычкою к унижениям и оскорблениям до
самых печальных компромиссов: до той тактики низменных
хитростей, уловок и обходов, которую покойный Салтыков
угрюмо определил «применением к подлости» и которая, увы,
неизбежна для современного петроградца, потому что без нее
ему — нет жизни и скорая смерть. В этой отравленной атмосфере,
сколько ни борись с нею, человек задыхается душою, в этих
потемках он бессильно слепнет и сбивается с пути, на этой трясине
нельзя быть стойким, потому что она расступается под ногами
и неотразимо тянет жертву в свои недра... Повторяю: я не верю,
чтобы В. Н. Таганцев «болтал», но если бы даже и «болтал», да
не коснутся камни осуждения его страдальческой,
окровавленной тени. Не он «болтал», а «болтал» в нем измаявшийся,
замученный, запуганный, потерявший всякое самоуважение,
всякий здравый смысл, весь превращенный в трепет инстинкта
самосохранения, запутанный, забитый, опошленный,
оподленный, несчастный из несчастных, отставной столичный город
Петроград, плотью от плоти и костью от костей которого был
покойный новый мученик коммунистической бойни.
Но Лазаревский! Чем больше о нем думаю, тем страшнее.
Чувствую, что сколько бы ни прожил я еще на свете, тени
Лазаревского и Ухтомского уже не отойдут от меня в забвение,
вечно стенающие воплем предсмертного недоумения и
бессильного проклятья на головы убийц... Казнь?! Какая казнь?! Тут
не было даже «политического убийства», была обыкновенная,
подлая, скверная уголовщина. Захватила шайка насильников
на большой дороге мирных прохожих и ни с того ни с сего
заперла их в своем вертепе. А потом уже опасно было отпустить
пленников, потому что они видели и испытали на самих себе
все вертепные ужасы и слишком показательно явили бы собою
живую повесть о них вольному, еще не разбойничьему миру...
Ну и ухлопали скопом!.. С равным правом, как Лазаревского
и Ухтомского, это двуногое зверье могло бы расстрелять любого
встречного на улице... Выкупались, обагрились с головы до ног
в крови неповинной, — и теперь уж именно «всею своею черною
кровью» не смыть им с себя праведной крови этой!..
378
VL К С. Гумилев
Деятели советской революции любят сравнивать свою
сокрушительную работу с Великой Французской революцией,
хотя, конечно, не забывают прибавить при этом: мы, нынешние,
много превосходнее! Надо отдать им справедливость: отчасти
они правы. Если в их активе нет вдохновенных и могучих
Мирабо, Дантонов, Демуленов, то злобными Маратиками,
бесстыжими Гебериками и холодно-жестокими фанатиками
Робеспьерова толка — хоть пруд пруди. По числу жертв
русская революция-пародия тоже давно превзошла свою грозную
предшественницу. Она не воздвигала гильотины, но ее
расстрелы имели своих Лавуазье и Кондорсе, а уж сколько таковых
уморено голодом и холодом — это и подсчету не поддается.
Для совершенства пародии коммунистам недоставало только
Андре Шенье. Трагическая смерть Александра Блока лишь
отчасти заполнила этот серьезный пробел, потому что, хотя наш
дорогой поэт умер от болезни сердца, развившейся в результате
голодной цинги, но все же не в тюрьме и не «у стенки».
Прожил бы подольше — дождался бы. Потому что его короткое
увлечение вихрем коммунистической революции в 1917 году
и в начале 1918-го, неосторожными плодами которого
явились пресловутые «Двенадцать» и «Каталина», быстро прошло
и мало-помалу переродилось в ужас и отвращение. Одною из
причин тяжкого психического расстройства, в котором провел
он последние недели страдальческой жизни, было именно
раскаяние в «Двенадцати»: он беспрестанно говорил о том и в
светлые промежутки, и в бреду. Перед смертью он потребовал,
чтобы были уничтожены все его рукописи. Супруге его,
Любови Дмитриевне, удалось спасти только наброски первых его
юношеских начинаний. Он завещал не принимать никакой
услуги от окровавленного мучителя-Смольного, и воля его была
исполнена. Сколько лжепролетарское государство ни старалось
примазаться к священной памяти поэта — не удалось ему. Блока
похоронили за свой счет литературные организации, они же
водружают памятную доску на доме, где он умер, памятник на
могиле ставит семья. Все правительственные предложения по
этим услугам были вежливо, но решительно отклонены.
Теперь, к глубокому сожалению, пустое место кровавой
пародии заполнено. Русская революция получила своего Андре
379
Шенье. Русская поэзия опять облеклась в траур. Расстрелян
Николай Степанович Гумилев.
Когда его, месяц тому назад, арестовали, никто в
петроградских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает.
Потому что, — казалось бы, — не было в них писателя, более
далекого от политики, чем этот цельный и самый
выразительный жрец «искусства для искусства». Гумилев и почитал себя,
и был поэтом не только по призванию, но и, так сказать, по
званию. Когда его спрашивали незнакомые люди, кто он таков,
он отвечал: «Я поэт», — с такою же простотою и уверенностью
обычности, как иной обыватель скажет: «Я потомственный
почетный гражданин», «Я присяжный поверенный», «Я офицер»
и т. п. Да он даже и в списках смертников «Правды» обозначен
как «Гумилев, поэт». Поэзия была для него не случайным
вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но
всем ее существом; поэтическая мысль и чувство переплетались
в нем, как в древнегерманском мейстерзингере, с стихотворским
ремеслом, — и недаром же одно из основанных им поэтических
товариществ носило имя-девиз «Цех поэтов». Он был именно
цеховой поэт, то есть поэт и только поэт, сознательно и умышленно
ограничивший себя рамками стихотворного ритма и рифмы. Он
даже не любил, чтобы его называли «писателем», «литератором»,
резко отделяя «поэта» от этих определений в особый, магически
очерченный круг, возвышенный над миром наподобие как бы
некоего амвона. Еще не так давно мы — я и он, — всегда очень
дружелюбные между собою, довольно резко поспорили об этом
разделении в комитете Дома литераторов, членами которого мы
оба были, по поводу непременного желания Гумилева ввести
в экспертную комиссию этого учреждения специального делегата
от Союза поэтов, что мне казалось излишним. А однажды — на
мой вопрос, читал ли он, не помню уж какой, роман, — Николай
Степанович совершенно серьезно возразил, что он никогда не
читает беллетристики, потому что если идея истинно художественна,
то она может и должна быть выражена только стихом... Он был
всегда серьезен, очень серьезен, жречески важный стихотворец-
гиерофант*. Он писал свои стихи, как будто возносил на алтарь
* Гиерофант, иерофант (греч.), высший жрец при Элевсинских
мистериях. Гиерофанты торжественно открывали мистерии и
провозглашали священные откровения. — Прим. ред.
380
дымящуюся благоуханием жертву богам, и вот уж кто истинно
то мог и имел право сказать о себе:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...
Всем своим внутренним обликом (в наружности между
ними не было решительно ничего общего) Гумилев живо
напоминал мне первого поэта, которого я, еще ребенком, встретил
на жизненном пути своем: безулыбочного священнрдейца
Ап. Ник. Майкова... Другие мотивы и формы, но то же
мастерство, та же строгая размеренность вдохновения, та же
рассудочность средств и, при совершенном изяществе, некоторый
творческий холод... Как Майков, так и Гумилев принадлежали
к типу благородных, аристократических поэтов, неохотно
спускавшихся с неба на землю, упорно стоявших за свою
привилегию говорить глаголом богов. Пушкин рассказывает о ком-то
из своих сверстников, что тот гордо хвалился: «В стихах моих
может найтись бессмыслица, но проза — никогда!» Я думаю,
что Гумилев охотно подписался бы под этою характеристикою.
Арест человека, столь исключительно замкнутого в своем
искусстве, возбудил в недоумевающем обществе самые
разнообразные толки. Тогда шла перерегистрация военных «спецов» —
думали, что Гумилев попал в беду как бывший офицер, который
скрывал свое звание. Другие полагали, что он арестован как
председатель Клуба поэтов за несоблюдение каких-то формальностей
при открытии этого довольно странного учреждения, принявшего
к тому же несколько слишком резвый характер. Принадлежности
поэта к какому-нибудь заговору никто не воображал. Не верю
я в нее и теперь, когда он расстрелян, как будто бы участник
заговора. И не верю не только потому, что быть политическим
заговорщиком было не в натуре Гумилева, но и потому, что скажу
откровенно: если бы Гумилев был в заговоре, я знал бы об этом.
Сдержанный и даже скрытный вообще, он был очень откровенен
со мною именно в политических разговорах по душам, которые
мы часто вели, шагая вдвоем по Моховой, Симеоновской,
Караванной, Невскому, сокрушаясь стыдом и горем, что умирающему
Петрограду недостает сил, энергии, героизма, чтобы разрушить
постылый «существующий строй»...
381
Мы не были политическими единомышленниками.
Напротив. Мой демократический республиканизм был ему не по
душе. Как-то раз я, шутя, напомнил ему, что Платон в своей
идеальной утопии государства советовал изгнать поэтов из
республики. «Да поэты и сами не пошли бы к нему в
республику», — гордо возразил Гумилев. Он был монархист — и крепкий.
Не крикливый, но и нисколько не скрывающийся. В последней
книжке своих стихов, вышедшей уже под советским страхом,
он не усумнился напечатать маленькую поэму о том, как он,
путешествуя в Африке, посетил пророка-полубога «Махди» и —
Я ему подарил пистолет
И портрет моего Государя...
На этом, должно быть, и споткнулся он, уже будучи под
арестом. Что арестовали его не как заговорщика, тем более
опасного, важного, достойного расстрела, есть прямое
доказательство. Депутация профессионального Союза писателей
недели через две после ареста отправилась хлопотать за
Гумилева. Председатель Чрезвычайки не только не мог ответить, за
что взят Гумилев, но даже оказался не знающим, кто он такой...
— Да чем он, собственно, занимается, ваш Гумилевич?
— Не Гумилевич, а Гумилев...
-Ну?
— Он поэт...
— Ага? Значит, писатель... Не слыхал... Зайдите через
недельку, мы наведем справки...
— Да за что же он арестован-то?
Подумал и... объяснил:
— Видите ли, так как теперь, за свободою торговли, причина
спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилевич
взят за какое-нибудь должностное преступление...
Депутации оставалось лишь дико уставиться на
глубокомысленного чекиста изумленными глазами: Гумилев нигде не
служил, — какое же за ним могло быть «должностное
преступление»? Аполлону, что ли, дерзостей наговорил на Парнасе?
Над удивительным свиданием и разговором этим мы много
смеялись в Петрограде, никак не предчувствуя, что смех будет
прерван пулями и кровью...
По всей вероятности, Гумилеву на допросе, как водится
у следователей ЧК, был поставлен названный вопрос о по-
382
литических убеждениях. Отвильнуть от подобного вопроса
каким-нибудь спасительным обиняком не составляет большой
хитрости, но Гумилев был слишком прямолинеен для фехтования
обиняками. В обществе товарищей республиканцев, демократов
и социалистов он, без страха за свою репутацию, заявлял себя
монархистом (хотя очень не любил Николая II и всё последнее
поколение павшей династии). В обществе
товарищей-атеистов и вольнодумцев, не смущаясь насмешливыми улыбками,
крестился на церкви и носил на груди большой крест-тельник.
Если же на допросе следователь умел задеть его самолюбие,
оскорбить его тоном или грубым выражением, на что эти
господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай
Степанович тотчас же ответил ему по заслуге — с тою мнимо
холодною, уничтожающею надменностью, которая всегда
проявлялась в нем при враждебных столкновениях, родня его, как
некий анахронизм, с дуэлистами-бреттерами «доброго старого
времени». И как офицер, и как путешественник, он был человек
большой храбрости и присутствия духа, закаленных и в ужасах
великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских
пустынь.
Ну, а в чрезвычайках строптивцам подобного закала не
спускают. Ставили там людей к стенке и за непочтительную
усмешку при имени Ленина или в ответ на провокаторский гимн
следователя во славу Третьего Интернационала...
Б. М. ГЕЛЬПЕРН
ПИСЬМО В. А. БУРЦЕВУ*
Борис Маркович Гельперн
Литва
24 октября 1921 г.
Шавли
Милостивый Государь, Владимир Львович!
Всего лишь семь дней, как я вырвался из Совдепии и,
жадно накинувшись на свободную русскую прессу, в первых
же прочитанных №№ «Общего Дела» нашел заметки, давшие
толчок к написанию приложенного. Надеюсь, что Вы сможете
использовать это.
Если Вас интересуют заметки о жизни в Петрограде, то
я охотно готов снабжать Вас ими в случае, если Вы найдете
возможным оплатить их, хотя бы в самом скромном размере.
Мое крайне стесненное — как и всех русских беженцев —
материальное положение вынуждает меня просить об этом.
Я прожил в Петрограде безвыездно восемь лет с 1913 г. по
октябрь 1921 г. До революции был помощником] присяжного]
поверен[ного]. За время большевистской вакханалии имел
возможность наблюдать и видеть много интересного. Бежал из
Пгр.** при первой возможности, убежденный, что единственным
спасением России является помощь извне, для чего
необходимо тщательное и правдивое осведомление Европы о том, как
насилуется и убивается грязной шайкой Россия. В настоящее
время работаю над докладом о состоянии Пгр. промышленности,
который предполагаю прочесть в Ковне и в Берлине.
Глубоко уважающий Вас Б. Гельперн
Деньги за статью прошу выслать по адресу:
Banque de Commerce de Petrograd—Riga
Succursale de Schaulen. Schaulen — Lithuania.
Корреспонденцию: Литва, Lithuania. Kaunas, Poste restante,
Pon. Borysas Gelpernas.
* Рукопись. Архив Гуверовского института, фонд СП. Мельгу-
нова, кор. 1, д. 2, лл. 58—64.
** Петрограда. — Прим. ред.
384
Милостивый Государь, Господин Редактор!
В № 452 Вашей уважаемой газеты помещена заметка под
заголовком «Палач-дипломат» (Письмо из Выборга),
посвященное деятельности коммуниста Озолина, именуемого
«председателем Петроградской Чрезвычайки». В качестве такового
же Озолин указан в другой заметке — «Состав Петроградской
Чрезвычайки», помещенной в № ... Вашей газеты.
Всё, что касается личности Озолина в обеих заметках, не
соответствует действительности.
Янис Германович Озолин, латыш по национальности, 29 лет
от роду, после окончания юридического факультета в 1915 г.,
был мобилизован и служил в Императорской армии в качестве
зауряд-чиновника военного времени. Озолин состоял членом
партии большевиков с 1910—1911 г. и на Петроградском
горизонте появился в апреле 1918 года в должности юрисконсульта
Совета Народного Хозяйства Северного Района, куда его
вызвал друг его детства и родственник, тоже коммунист, Как-
тынь, бывший тогда членом президиума Сов. Нар. Хоз. Сев. Р.
В этой должности Озолин пробыл до осени 1919 года, причем
за это время успел, с одной стороны, завязать многочисленные
знакомства среди интеллигенции, работавшей в совнархозе
и в учреждениях, им (Совнархозом) захваченных, а с другой
стороны, войти в чрезвычайное доверие к Зиновьеву, которому
о настроениях «друзей-интеллигентов» делались обстоятельные
доклады. Двуличие Яниса (Януса?) было оценено по достоинству
назначением его на пост члена президиума и завед. следственным
(впоследствии секретно-оперативным) отделом Петроградской
Губчека. Озолин никогда не был председателем П. Губчека, как
никогда и не был судебным следователем.
Озолин ухитряется и на новом месте сохранить «дружбу»
с интеллигенцией; наиболее близким «друзьям» он
«интимно» плакался на необычайные моральные трудности службы
в Губчека, где работать его заставляет лишь необходимость
повиновения партийной дисциплине. «Задушевные излияния»
не мешали, однако, исправнейшим образом «крыть»
(расстреливать) людей налево и направо. Очевидно, дружба с Зиновьевым
обязывала больше дружбы с интеллигенцией, которая считала
Озолина «очень хорошим и мягким» человеком. Эти качества
не помешали Озолину расстрелять по приказанию Зиновьева
около трехсот человек сразу после того, как была получена те-
385
леграмма ВЦИКа и Совнаркома об отмене смертной казни170.
С расстрелом торопились — его надо было окончить прежде
опубликования постановления в газетах, — и у «очень хорошего
человека» не дрогнула рука «пустить налево»* по нескольким
делам всех привлеченных, в том числе и свидетелей. И самое
введение этой меры принадлежит к числу изобретений Озолина:
в особо важных случаях арестовывали наряду с обвиняемыми
людей, которым при аресте объявляли: «Вы арестованы в
качестве свидетеля, по делу такого-то и будете выпущены после
окончания дела». Много таких людей было Озолиным расстреляно.
В начале текущего года ушел в отставку председатель
чрезвычайки И. Ф. Бакаев, бывший рабочий завода Лесснера. После
него короткое время председателем был Н. И. Комаров171, тоже
бывший рабочий (того же завода), назначенный затем
секретарем Петроградского Губисполкома. За ним был назначен на
эту должность Ф. Семенов, председатель фронтового военного
трибунала. При всех этих сменах Озолин пытался уйти из
чрезвычайки, ссылаясь на усталость и т. п. В действительности же,
его грызло оскорбленное самолюбие — почему его не назначили
председателем. Помехой этому служило его интеллигентское
происхождение. Дьявольски хитрый Зиновьев (дружба —
дружбой, а служба — службой) не пропускал в коллегии
петроградских учреждений ни интеллигентов, ни евреев. И тем, и другим
трудно было бы морочить головы так, как морочил Зиновьев,
совершенно темным рабочим, ослепленным его демагогией.
Всё же, в конце концов Озолин «сменял козла на барана»
и перешел на должность помощника начальника Особого
отдела (Итальянская ул., 17). К этому времени он уже отъелся,
был великолепно одет (его прекрасная шуба со скунсовым
воротником и бобровая шапка примелькались на пути
Гороховая—Моховая, где он жил в-великолепной квартире, отделанной
только в 1913 г. одним из его «пошедших налево» клиентов).
Кончились Hunger-Jahren** совнархозовского
юрисконсульства! Надо отдать должное и справедливо отметить совершенно
не коммунистическую неподкупность Озолина — взяток он
не брал, и если «друзьям» из числа интеллигенции удавалось
иногда добиться чьего-либо освобождения из цепких щупальцев
* Расстрелять. — Прим. автора.
** Голодные годы (нем.). — Прим. ред.
386
*&':
*'й
MxidtfYrXtlllUi I
сг от р.1г
$Л№#4п*%4&
нНтшь Au&kh&w 4Ш44н>ыл.
i 44 К*, ЙлШЩ^Ш^^^ ~
мягкосердечного палача, то это делалось pour les beaux yeux*
просителей и в особенности просительниц, которых Озолин,
не в пример прочим чинам чека, охотно принимал в своем
служебном кабинете, роскошно обставленном краденым
добром — в особенности бронзой и коврами. Между прочим, по
усиленным просьбам одного из «друзей», покойного
присяжного поверенного Г. Л. Белостоцкого172, был освобожден князь
Д. Н. Шаховской173. Озолина уговорили, что князь —
душевнобольной; Дм. Ник. был вызван на допрос, после которого
Озолин сказал: «Если все контрреволюционеры такие рамоли**,
то контрреволюция нам не страшна».
Это освобождение было инкриминировано Г. Л. Белос-
тоцкому, который в сентябре 1921 года был расстрелян в числе
61 чел., убитых вместе с В. Н. Таганцевым, Н. И. Лазаревским
и др. Официально вина Г. Л. Белостоцкого была
формулирована так: «Белостоцкий Г. Л., 23 г.***, юрист Мурманск[ой] жел.
дор[оги], быв. присяжный] поверенный], за вознаграждение
в 1000 швед, крон добился освобождения видного
контрреволюционера князя Д. Н. Шаховского». «Интимный друг»
Г. Л. Белостоцкого — Озолин удрал в дипломатический отпуск
в Старую Руссу, где живет его дочка, но карающая рука советской
Немезиды извлекла его оттуда и в начале октября Озолин был
арестован. В вину ему вменяется освобождение кн. Шаховского
и некоторых других лиц. Дальнейшая судьба Озолина мне
неизвестна, но я определенно утверждаю, что один из наиболее
прославленных Петроградских обер-палачей—Янис Германович
Озолин ни в коем случае не мог быть в Финляндии. Весьма
возможно, что если в Финляндии есть какой-либо Озолин из
Петрограда, то это матрос Озолин, известный в Петрограде
вор, пьяница, развратник и взяточник, работавший одно время
в Пгр. Управлении уголовного розыска.
А. А. А.
* За красивые глаза (франц.). — Прим. ред.
** Ramolli — ослабевший (франц.). — Прим. ред.
*** Явная опечатка. Г. Л. Белостоцкому было около 35 лет. —
Прим. автора.
Э. К-ВА
ВЕСТИ ОТТУДА*
Приводим полностью письмо, полученное нами от лица,
бежавшего из Петрограда в Финляндию.
Наконец-то мне удалось вырваться из Петербурга и стать
в положение недосягаемости для советских властей. Даже
непонятно: почему людей, которых и коммунисты не считают
возможным привлекать к трудовой повинности, больных,
немощных, стариков и которые тем не менее получают от них то
или иное содержание в виде жалованья, пенсии или пайка и,
следовательно, при настоящей скудности всяких запасов
представляют для них значительное бремя, они тем не менее ни за
что не пускают из России, т[ак] ч[то] получить разрешение на
выезд или крайне затруднительно, или даже вовсе невозможно,
и приходится бежать под страхом тяжелой весьма
ответственности? В прежнее время они, говорят, боялись невыгодных для
них разоблачений со стороны выезжающих, но теперь, когда
сношения с Россией упростились и когда благодаря многим,
посещающим нашу родину, уже не секрет все «прелести»,
происходящие в ней? И тем не менее вас держат и ни за что
не выпускают.
А пребывание в России для всех, не только для так
называемых почему-то буржуев, невыразимо тягостно, и даже самые
уравновешенные или апатичные люди начинают волноваться
и, несмотря на все страхи, подумывают о бегстве. И это не
только благодаря тяжелым условиям материального
существования, которое, по-видимому, в ближайшем будущем грозит
стать даже катастрофическим благодаря недосеву, отсутствию
топлива и всех самых необходимых предметов одеяния и
ежедневного домашнего обихода, но главным образом вследствие
того морального гнета, который всем приходится испытывать
и который подчас делается совершенно невыносимым. Вы вечно
находитесь под страхом, что вас оборвут, скажут что-нибудь, по
прежним привычкам для вас глубоко оскорбительное и,
наконец, арестуют. И всё это без малейшего повода с вашей стороны
* Общее Дело, 24 мая 1921 г.
389
и даже зачастую без какого-нибудь сознательного, обдуманного
побуждения со стороны причиняющего вам неприятность, атак
просто — захотелось.
Последний раз меня арестовали «по недоразумению».
Явился, конечно, ночью представитель Ч.К., сделал весьма
поверхностный обыск, отыскивая только сношения с заграницей,
и увез меня. Наученный горьким опытом, я хотел взять с собою
кой-какие необходимые и дозволенные в заключении вещи
и продукты, но, к несчастью, он отговорил меня, заявивши,
что меня арестовывают «по недоразумению» и немедленно,
надо думать, отпустят.
Привезли меня на этот раз на Гороховую, 4, а не 2, как
обыкновенно. Это самая отвратительная тюрьма изо всех,
в которых мне пришлось побывать (а я был в четырех); грязь
невообразимая, обилие всех родов насекомых, отсутствие каких-
либо приспособлений для сидения и спанья, т. ч., несмотря на
всё отвращение, пришлось укладываться на сплошь
заплеванный и загаженный пол. Но всего ужаснее была уборная, т. ч.
арестованный в одно время со мной и помещенный в ту же
камеру доктор серьезно предложил нам три дня ничего не есть
и не пить, в надежде, что за это время нас освободят, т. к. при
таком условии нам, быть может, возможно будет не пользоваться
уборной. И она была общая для обоих полов, т. ч. приходилось
и к ней становиться в очередь, а среди содержащихся в это время
женщин находились и молодые девушки, из них две даже по
прежнему режиму титулованные.
Через три дня содержания без всякого допроса я подал
заявление, в котором указал, что по их собственному
постановлению они обязаны допросить всякого арестованного в течение
24 часов. В ответ меня перевели на Шпалерную в бывший Дом
предварительного заключения.
Здесь по внешней обстановке, правда, был
сравнительно рай, но тем не менее и здесь я просидел еще три дня безо
всякого допроса, и лишь после нового заявления, в котором
я указывал, что совершенно недоумеваю, за что нахожусь
в заключении и к тому же болен, явился следователь, вызвал
меня и так же с самого начала заявил мне, что я арестован «по
недоразумению», и к делу, по которому взят, и то лишь быть
может, могу быть привлечен в качестве свидетеля, а обвинения
мне никакого не предъявляется. Я указал, что недоразумение
390
это для меня весьма тяжело и что к тому же я никогда не слыхал
ранее, чтобы свидетелей содержали в тюрьме, а тем более еще
лишь предполагаемых.
— Ведь я уже сказал вам, что было недоразумение, — еще
раз ответил мне следователь, — и вы завтра будете свободны!
— Вы мне это обещаете? — спросил я.
— Да, обещаю!
И тем не менее я просидел еще 4 дня и вышел уже совсем
больным из тюремного лазарета. Но затем больше меня уже не
беспокоили по этому делу, хотя лицо, за знакомство с которым
меня хотели, по-видимому, привлечь, и было, сколько знаю,
расстреляно.
Не могу не вспомнить при этом некоторых из одновременно
со мной в той же камере заключенных. Так, например, один
весьма почтенный, солидный человек уже три недели находился
в заключении за то, что послал совершенно безразличное, не
содержащее в себе ничего политического или вообще преступного
письмо с знакомым по оказии, а не по почте. И за это новое,
неизвестное в прежние времена преступление он остался еще
сидеть, когда меня уже выпустили.
Бывший председатель одного провинциального окружного
суда был приговорен к шести месяцам принудительных работ
и ожидал отсылки к месту отбывания наказания за то, что якобы
в вагоне железной дороги агитировал против советской власти.
В приговоре суда отмечено, что он приговаривается к такому
сравнительно легкому наказанию, потому что преступление
осталось по делу не доказанным, т. к. если бы оно было
доказано, то наказание, конечно, было бы гораздо более суровое. Не
ирония ли судьбы, что такой приговор выпал именно на долю
бывшего председателя суда?
Один молодой инженер, служивший на железной дороге,
уже третий месяц отсиживал за саботаж, но в чем таковой
выразился, ему всё еще не объявили.
Огромное большинство среди заключенных обвиняется
в спекуляции. К рассказам их невольно приходилось
относиться с некоторым недоверием, т. к. весьма возможно, что
некоторые из них были действительно спекулянты. Но иногда
случаи поражали.
Так, один продал пальто за сравнительно высокую цену, но
не за деньги, а в обмен на продукты, и при аресте у него нашли,
391
между прочим, 2 пуда картофеля и 3 фунта сахара; эти, особенно
3 злосчастных фунта сахару, были признаны приобретенными
с целями спекуляции. Несомненно, что при таком отношении
все жители Петербурга могли бы быть обвинены в спекуляции,
так как за получаемые пайки никто существовать не мог, и все
жили тем, что распродавали свое имущество. Один мастер
попался на провокации, так как ему представители советского
учреждения сделали заказ и сговорились в цене предметов
поставки, а когда он принес их, их от него отобрали, а самого
посадили в тюрьму по обвинению в провокации.
Вместе с нами сидели 5 мальчиков в возрасте 15—16 лет. Они
все обвинялись в грабеже, в налете на квартиру. Из них двое
весьма симпатичные, по-видимому, впервые попавшие в подобную
переделку, а остальные трое — наоборот, имели вид настоящих
искушенных уже хулиганов. Все — воспитанники одной и той
же школы. Мы с ними долго беседовали, и крайне тяжелое
получилось впечатление от этих бесед. Мальчики,
по-видимому, из порядочной семьи, под влиянием школьных товарищей
без всякой нужды превращались в грабителей, в налетчиков;
и школа не могла, не умела этому противодействовать. Напротив,
именно она и создала место, где обсуждались соответствующие
планы, разрабатывались проекты хищений. И в прежнее
время школа оставляла желать многого, но до подобных явлений
не доходили. А что она теперь представляет? И что означают,
в чем выражаются пресловутые заботы коммунистов о детях,
которыми они так любят хвастаться! Но об этом так говорить
нельзя. Эта тема заслуживает особого описания.
с.
ЧЕ-КА*
Таганцевский заговор
Большевики постоянно имели и имеют нелегальное
курьерское сообщение с Финляндией, в частности, с фортом Ино.
На форту Ино были в свое время интернированы спасшиеся
из Кронштадта после подавления восстания кронштадтские
беженцы и гарнизон. Растворившись в их массе, явились в
Финляндию, на Ино и тайные агенты кронштадтской Ч.К. После
падения Кронштадта они перенесли работу в Финляндию. Часть
их вела агитацию, пользуясь обстоятельствами неприглядной
и монотонной жизни кронштадтцев в лагере, часть же
занималась прямым своим делом, обстоятельно информируя П.Ч.К.
о жизни многотысячного лагеря кронштадтцев. А материал для
этого имелся обильный.
Изолированный финскими властями колючей проволокой,
отрезанный от всякой жизни, томившийся в вынужденной
бездеятельности, но вкусивший уже и от революции, и от анархии,
бывший гарнизон защитников Кронштадта представлял собою
весьма благодарную почву для всякого рода агитации. Это
обстоятельство учли представители русских белых организаций
в Финляндии и энергично, каждый в свою сторону, повели
недружное наступление на лагерь. Центром политической жизни
лагеря, довольно оживленным, стал бывший кронштадтский
ревком, пользовавшийся полупризнанием и со стороны
финского правительства. Вожделения русских организаций всех
оттенков сводились к тому, чтобы, имея кронштадтцев в качестве
послушного материала, нелегально перекинуть большое их
количество в Петроград, чтобы располагать на случай переворота
послушной организацией, раскинутой по всему Петрограду (идея
П.Б.О. — Петроградской Боевой Организации). Частичным
достижением цели была бы та богатая информация, которую
русские организации рассчитывали получать от
переправленных ими за границу. Финские власти обещали смотреть сквозь
пальцы на утечку кронштадтцев через границу.
* Последние Новости (Париж), № 759—761; 8,10,11 октября 1922 г.
393
Желающих отправиться в нелегальное путешествие
оказалась масса. Ревком производил фильтрацию и выбранных
рекомендовал русским организациям. Впоследствии ревком
раскололся, с-ры* отстранились от этой игры, и рекомендацию
выдавал почти единолично председатель ревкома Петриченко.
Будучи в курсе лагерной жизни, П.Ч.К. посылала
директивы своим агентам на Ино. Одним из этих агентов, на котором
безусловно стоит несколько остановиться, был боцман старого
времени Паськов с «Петропавловска». Уже с проседью, но
подвижный и энергичный, старый матрос, он был близок со
многими членами ревкома, особенно же пользовался доверием
Петриченко. Предписанием из Ч.К. Паськову приказывалось
проникнуть в финскую разведочную организацию, затем
попытаться сделаться русским белогвардейским или финским
курьером, а по возможности и фиктивным организатором
матросского элемента в Петрограде. Пользуясь своими хорошими
отношениями в ревкоме и привилегированным в тот момент
положением ревкома, Паськов действительно в короткое
время тесно связывается с финскими курьерами, с начальником
сыскного отделения, знакомится с двумя русскими белыми
организациями и поддерживает с ними добрые отношения.
По рекомендации Петриченко он отправляется в Петроград
с инструкциями. В первый же свой визит в Петроград Паськов
явился к Агранову174 и имел с ним продолжительную беседу,
в результате которой предложено было ему, Паськову, войти
при посредстве заграничных в связь с петроградскими белыми
организациями, а для укрепления его положения в Финляндии
Ч.К. бралась снабжать его нужными для финского генерального
штаба сведениями. Кроме того, Ч.К. разрешила ему провести
беспрепятственно через границу в Финляндию несколько лиц,
выписанных родственниками из Петрограда. Такие поручения
Паськов брал и от влиятельных лиц белых организаций и
благополучным их исполнением входил всё в большее и большее
доверие.
После каждого своего похода в Петроград Паськов делал
доклад, помимо представителей финского генерального штаба,
и кронштадтскому ревкому в лагере на Ино. Пользуясь
возрастающим доверием, Паськов становится заведующим курь-
* Эсеры. — Прим. ред.
394
ерской кронштадтской связью и организатором отправляемых
в Петроград матросов. На первых порах дела его шли хорошо:
благодаря содействию Ч.К. он безнаказанно отводит матросам
конспиративные квартиры в Петрограде, собирает их для
обсуждения дел и вместе с тем для приобретения популярности
в белых группах Петрограда участвует в мелких
террористических актах, расклеивает на улицах Петрограда прокламации
от кронштадтского ревкома. Уже к маю месяцу Паськов
познакомился с Таганцевым, сблизился с ним и просил принять
его в помощники по организации боевых дружин. Таганцев ему
доверял и познакомил его с сен. Лопухиным и Тимофеевым175.
Будучи финским курьером, Паськов хорошо знал всю технику
перехода границы курьерами, знал лично много курьеров.
В помощь Паськову по Петрограду дан был П.Ч.К-ой
некто Корвин-Круковский, человек, безусловно,
интеллигентный и энергичный. Введенный в Таганцевскую организацию,
Корвин-Круковский быстро освоился с членами ее и к маю
имел уже обширное среди них знакомство. Характерно, что
Корвин-Круковский так и рекомендовался некоторым членам
Таганцевской организации, как служащий Ч.К., и несмотря на
это был принят в организацию полноправным членом. Правда,
что он, со своей стороны, старался быть полезным Таганцеву
в различных организационных мелочах, что ему, как чекисту,
и не представляло никаких трудностей.
Таким образом к маю 1921 г. Ч.К. обладала уже некоторым
материалом для возбуждения белогвардейского процесса.
Агранов решил, что наступила пора действовать открыто.
Проходя последний раз из Петрограда в Териоки, Паськов
ознакомил чекистов с расположением курьерских пунктов на границе
и предупредил Агранова о времени и пути своего возвращения.
В Петроград Паськов должен был идти, как было между ними
условлено, вместе с Ю. П. Германом (кличка «голубь»), курьером
финской службы. Герман был одним из идейных работников
Таганцева. К этому приходу Паськова Ч.К-ой сделаны были
приготовления. Организовано наблюдение за местами перехода
границ и путями следования курьеров.
Корвин-Круковский получил в свое распоряжение грузовик
и 16 человек конвоя. С ним вместе был и врач Ч.К. Колосов.
Вся эта компания выехала на шоссе на Шувалово, далее по
Лемболовскому шоссе на деревню Галатово, не доезжая которой
395
и встретила курьеров финского генерального штаба Германа
и Болотова, направлявшихся на лошади в Петроград, но арест
их оказался неудачным. Паськов был на солидном расстоянии
сзади. Болотов убежал. Смертельно раненный Герман достался
большевикам. Все старания доктора Колосова привести в
сознание Германа были бесполезны, не помогло и впрыскивание
морфия. Герман, не приходя в сознание, умер.
Это было толчком, давшим Агранову возможность
приступить к массовым арестам в Петрограде. Поводом послужил
список адресов и фамилий Таганцевских сотрудников, якобы
найденный при убитом Германе. В первую очередь
арестованы были отец В. Н. Таганцева, сенатор, сенатор Манухин176,
Воинова (урожденная Арсеньева) и др. За В. Н. Таганцевым
посланы были комиссары с Гороховой в Тверскую губернию,
где он был в научной командировке, и быстро доставили его
в Петроград. Паськов в первую голову выдал всех матросов,
переправленных из Финляндии. В это же время Аграновскою
комиссией были случайно задержаны два финских проводника.
Корвин-Круковский метался из квартиры в квартиру, и под
предлогом участия и возможной помощи узнавал новых лиц,
причастных к делу. Комиссия В.Ч.К. с Аграновым во главе все
ночи напролет допрашивала арестованных, ездила на обыски
и аресты и «производила операцию». Таганцев был посажен
вместе с женою на Гороховую, 2, сначала в первый корпус,
потом во второй корпус в пробку177 ном. 2. Прислуга
Таганцева — в особый ярус Дома предварительного заключения. Дети
его отданы в приют. С первых же дней ареста Таганцева Агранов,
вызывая его каждую ночь на допросы, всеми средствами
старался расположить В. Н. в свою пользу, но это ему не удавалось,
Таганцев молчал, и Агранову не представлялось возможным
выявить центральное лицо в «раскрытой организации».
Проходили дни и недели, было арестовано много народа, но связать
их в общую организационную массу было трудно. Между тем
В.Ч.К. требовала от Агранова существенных данных, дабы
возможно скорее сделать доклад ВЦИКу о полезной деятельности
Петроградской комиссии.
Агранов решил прибегнуть к последней мере и принудить
Таганцева к сознанию. После сорокапятидневного сидения
в пробке профессор Таганцев был вызван в 51-ю комнату на
решительный допрос. Объяснив Таганцеву положение дела,
396
Агранов после долгой беседы предложил пойти на компромисс:
Таганцев дает полное сознание и выдает всех причастных к делу
лиц, Агранов гарантирует облегчение участи арестованных.
Таганцев поколебался, но определенного ответа всё же не дал,
тогда Агранов в резкой форме заявил, что он дает на
размышление три часа, и если не получит ответа в положительном
смысле, то примет «свои меры» и расстреляет всех виноватых
и невиновных без разбора. Через три часа Таганцев был вызван
снова к Агранову и после двухчасового разговора был, наконец,
подписан злосчастный договор между профессором Таганцевым
и особоуполномоченным В.Ч.К. Аграновым.
Вот этот договор:
«Подписанный по обоюдному согласию председателя
выездной комиссии В.Ч.К. Агранова и главы объединенных
организаций союза "Возрождения России" и "Молодой России":
Я, гражданин Владимир Николаевич Таганцев, признаю
себя виновным: 1) в активном выступлении против советской
власти; 2) в организации антисоветской группы; 3) в
организациях членов нового правительства, на случай переворотов
в России; 4) в объединении союза "Возрождения России"
и "Молодой России"; 5) в принятии главенства и
руководительства в П. Б. О.
Я, Таганцев, считаю себя глубоко заблуждавшимся и
теперь ясно вижу, что новая экономическая политика Советской
республики выведет Россию на новую и здоровую дорогу,
сожалею, что много людей ввел в заблуждение и благодаря мне
они должны понести тяжелую участь.
Я, Таганцев, сознательно начинаю делать показания о
нашей организации, не утаивая ничего, буду говорить о наших
задачах, целях и взглядах на будущее и не утаю ни одного лица,
причастного к нашей группе. Всё это делаю для облегчения
участи участников нашего процесса.
Я, уполномоченный В.Ч.К. Яков Соломонович Агранов,
при помощи гражданина Таганцева обязуюсь быстро закончить
следственное дело и после окончания передать в гласный суд,
где будут судить всех обвиняемых.
Я, Агранов, обязуюсь в случае исполнения договора со
стороны Таганцева, что ни к кому из обвиняемых, как к самому
Таганцеву, так и к его помощникам, даже равно как и к задер-
397
жанным курьерам из Финляндии, не будет применена высшая
мера наказания.
Заведующий секретно-оперативным отделом Республики
и уполномоченный В.Ч.К. Агранов.
[Собственной рукой Таганцева сделана на договоре
расписка:]
Договор читал и подписываюсь: В. Таганцев
Петроград, 28 июля 1921 г.»
Этот договор имел следствием расстрел трех групп
обвиняемых (61 человек, 18 чел., 8 чел.) и несколько отдельных
смертных приговоров.
После подписания договора Агранов по прямому проводу
с Гороховой, 2 разговаривал с Москвой с Дзержинским,
которому гарантировал немедленную ликвидацию Таганцевского
дела. 29 июля Таганцев был снова вызван на допрос, и от него
в первую очередь потребовали подробный список адресов
участников дела. Получив список, Чека в тот же день сделала
«установки» и заготовила ордера на обыски и аресты.
Аграновская комиссия в тот же день к массовым операциям еще
не приступала. 30 июля, после допроса Таганцева, Агранову
был подан легкий закрытый автомобиль, в котором Агранов
вместе с Таганцевым поехали по городу Таганцев должен был
указать все те дома, в которых он бывал, но не запомнил адреса.
Автомобиль выехал с Гороховой, 2 в 2 часа дня, а вернулся в
восемь. В ночь с 30-го на 31-е начались операции Ч.К. Ордеров
на аресты и обыски было заготовлено такое количество, что
своих автомобилей в Чеке не хватило. Были мобилизованы
машины автогужа, и в первые три ночи в Петрограде работало
по обыскам восемьдесят машин. В эти три ночи на Гороховую
было доставлено до трехсот арестованных. Разместить их
в обычных помещениях не представлялось возможным, тогда
в Доме предварительного заключения был отведен в личное
распоряжение Агранова «особый ярус», куда направлялись
менее серьезные арестованные.
После подписания Таганцевым договора арестованный стал
получать комиссионный обед (с кухни служащих в П.Ч.К.), во
время допросов, в комнате Агранова, где он проводил теперь
целые дни и писал лично свои показания, поили его чаем с
сахаром, выписывали отдельно хлеб и масло, подавали сыр и семгу.
398
На ночь его уводили в камеру, а утром снова приводили в комнату
к Агранову. Таганцев пользовался даже банею с душем, что для
обыкновенных арестантов недоступно. Когда Агранов или его
следователи испытывали какое-либо затруднение с
допрашиваемыми, они обращались за разъяснением к Таганцеву, и он
с готовностью сообщал, что мог. В тех случаях, когда
арестованные запирались, не хотели подтвердить показания Таганцева,
его вызывали для увещевания, и так был велик привычный его
авторитет, что обыкновенно после переговоров арестованные
шли на уступки и соглашались с Таганцевым в необходимости
и рациональности добросовестной ликвидации дел и отдаче
себя на милость победителя.
Агранов торжествовал, с каждым днем обнаруживая новый
материал и новых лиц.
«Комната для приезжающих»
В левом заднем углу по Гороховой, 2, где помещаются
знаменитая Петроградская и Губернская чрезвычайная
комиссии, в нижнем этаже рядом с пропускным пунктом существует
дверь со знаменитой вывеской «комната для приезжающих».
Комната довольно большая, квадратная, каждая стена длиною
двенадцать аршин, пол асфальтовый, три окна, выходящие во
двор, замазаны белой краской, с внутренней стороны вставлены
железные решетки. Внутренний вид жалкий и запущенный:
отчаянно грязные стены и потолок, по углам паутина,
совершенное отсутствие обстановки, нет даже печи. Назначение этой
комнаты — действительно для приезжающих из петроградских
тюрем и самой чеки людей, приговоренных к смертной казни.
Обыкновенно накануне казни выводят приговоренных
из камер чрезвычайки, а главным образом, предвариловки,
объявляя им, что они переводятся в другое помещение или
освобождаются на волю, но доставляются в «комнату для
приезжающих». В комнате читают им приговор, заставляют
расписаться под приговором и сразу же надевают наручники,
одну пару на двоих, одно кольцо наручников на правую руку
первого, другое — на правую руку второго приговоренного.
Дверь «комнаты для приезжающих» открывается от 4-х до 8-ми
вечера, и только в эти часы пополняются жильцы страшного
помещения. Жильцы долго не засиживаются, проводят ночь
399
и день, а в следующую ночь от 3-х до 4-х часов производится
отправка их на место казни.
В продолжение полутора суток, которые приходится
проводить в «комнате для приезжающих», арестованные не получают
ни еды, ни воды. Охрана арестванных: один часовой под окнами
во дворе, другой на лестнице у замкнутой двери, ключ от которой
находится у коменданта Губчека. Помимо коменданта, доступа
к арестованным нет, в течение полуторасуточного сидения никто
к ним не приходит, и они всё это время остаются на произвол
судьбы, их не выпускают даже для отправления естественных
надобностей. Женщины и мужчины находятся вместе. В 1921
году, в дни больших расстрелов комната бывала битком набита
приговоренными. В три часа ночи из гаража чрезвычайки во двор
Гороховой, 2 подается пятитонный грузовик, во двор приводится
усиленный наряд из роты коммунаров, комендант спускается
в «комнату для приезжающих», открывает дверь, и по списку
скованных попарно выводят во двор и сажают в автомобиль.
На закрытые борта грузового автомобиля тесным кольцом
садятся вооруженные коммунары. Машина трогается и катит на
артиллерийский полигон по Ириновской железной дороге. Две
легковые машины сопровождают грузовик с арестованными,
в них размещаются лица, тем или иным способом участвующие
в казни. Здесь непременно находится следователь, который
в последний момент, когда уже приговоренный стоит на краю
ямы, задает последние вопросы, связанные с выдачей новых лиц.
Такие вопросы задаются обязательно каждому приговоренному.
Тут же помещаются всегда два или три спеца по расстрелам,
которые выстрелом в затылок из винтовки отправляют на тот
свет. Кроме них пять-шесть человек присутствующих при казни
со специальными обязанностями: снимать наручники, верхнее
платье, сапоги и белье и подводить жертву к стрелку-палачу
Зачастую, при массовых отправках на полигон
арестованные, сидящие в «комнате для приезжающих», не выдерживают
последних суток и умирают. Труп кладут на автомобиль, не
расковывая соседа, и увозят вместе с арестованными, а по приезде
бросают в общую яму.
Чрезвычайная комиссия имеет своих дилетантов-палачей,
которые ездят расстреливать не по обязанности, а «из любви
к искусству». За период кронштадтских расстрелов и Таган-
цевского дела приобрели известность своими расстрелами
400
командир роты коммунаров*, бывший гвардейский офицер
Ал. Ал. Бозе178, комендант Губчека Шестаков, бывший матрос
Балтийского флота, и помощник коменданта Прус. Во время
Таганцевского расстрела шестидесяти одного расстреливали
первые двое. В качестве помощников Бозе и компании, на
обязанности которых раздевание приговоренных, отличаются
надзиратели Губчека: Балакирев, Бойцов, Серов, Бондаренко,
Пу и Кокорев. Первый и последний служат в Губчека старшими
надзирателями. Все они «работали» при Таганцевском деле.
Следователи, назначенные Аграновым провожать
арестованных по Таганцевскому заговору, были Сосновский и Якобсон.
Зимою в 1921 г. расстрелы на артиллерийском полигоне Ири-
новской железной дороги прекратились, и арестованных стали
отправлять на полигон Царского Села. На первом полигоне по
Таганцевскому делу были расстреляны две крупные партии, одна
в 61 человек, другая в 17 человек. На втором — восемь человек,
которых большевики обвиняли в принадлежности к
французской организации, связанной с Врангелем, и в принадлежности
к Таганцевскому делу.
Состав арестованных
В обыкновенное время состав арестованных при Ч.К.
вообще разнообразен, здесь сидят, помимо политических,
спекулянты, советские аферисты, советские служащие, чекисты,
всякие громилы и налетчики, и даже мелкие служащие Ч.К.,
посаженные административно на несколько суток.
Политических Ч.К. разделяет по рубрикам обвинения на:
А) члены социалистических партий: 1) правые эсеры
и меньшевики, 2) подпольные левые эсеры, 3) анархисты
и 4) рабочие-волынщики (волынка — итальянская забастовка,
когда рабочий у станка, но не работает);
Б) контрреволюционеры: 1) обвиненные за деяния мирного
времени (к ним причисляются лица, имевшие отношение к
политическому или капиталистическому миру старого времени),
2) недовольные советской властью, 3) родственники
арестованных и русских политических деятелей за границей;
* В настоящее время командир 11 полка В.Ч.К.,
прикомандированного к Г.Ч.К. — Прим. автора.
401
В) заговорщики: 1) члены антибольшевистских
организаций, 2) лица, фактически выступившие против советской власти,
3) причастные к лицам предыдущих двух категорий;
Г) обвиняемые в шпионаже: 1) шпионы-разведчики, 2)
местные шпионы, 3) лица, связанные с иностранными
правительствами, 4) лица, связанные с белыми организациями в Европе,
5) лица, приносящие пользу шпионам (чтобы попасть в эту
графу, достаточно знакомства с лицами первых четырех групп).
Спекулянты делятся на две категории: 1) по спекуляции,
связанной с продажей запретных товаров (как кокаин) и по
торговле валютой, 2) по продаже товаров, принадлежащих
государству или организации, но лицом, не имеющим служебных
отношений к продуктам.
Советские аферисты сводятся все в одну группу, их
преступления обычно связываются со всевозможными комбинациями
для получения казенных товаров, например, фиктивными
требованиями нарядов на вагоны, получением ассигновок и т. п.
Советские служащие сидят главным образом по обвинению
в саботаже, а в сущности из-за личных счетов с комиссарами.
Чекисты попадаются преимущественно за крупные взятки
и всякого рода мошенничество.
Громилы и налетчики, уловив дух времени, обычно
величают себя анархистами. В этой группе и воры старого времени,
и выбитые из колеи теперешние рабочие и чекисты, бросившие
свою службу и нашедшие более выгодное занятие. Обвиняются
большею частью в налетах на частные квартиры и ограблениях
на улицах, зачастую с убийством.
Административно своих служащих Ч.К. сажает главным
образом за мелкие проступки, как то: за пьянство,
надзирателей — за допущение разговора арестованных между собой и т. п.
Вот наиболеее яркие и типичные примеры современных
неполитических арестованных. Сидел советский аферист Георгий
Николаевич Стародубский179, бывший офицер Гродненского
гусарского полка, «старый советский работник» и коммунист,
занимал ответственные посты в советских учреждениях,
четыре раза попадал в Ч.К., четыре раза освобождался. Последнее
время его амплуа было — особый представитель
Азербайджанской республики плюс совмещение должности представителя
ВЦИКа в Ангорской республике180. Стародубский, как член
3-го Интернационала второго конгресса, до ареста жил в Мос-
402
кве. В Петроград он приехал в собственном вагоне с личным
конвоем из горцев. На станции был встречен представителем
Губчека, который предложил ему явиться для объяснений на
Гороховую. Стародубский в своем автомобиле, который всегда за
ним следовал, приехал в Ч.К. и здесь был арестован. Подлинная
причина ареста Стародубского — личные счеты с заведующим
автогужем Шнеуром181* и с председателем Щетроградской]
Ч-ой комиссии Месингом. Формальная причина —
обвинение в контрреволюции, в том, что он сознательно скрыл свое
офицерское звание, проник в члены коммунистической
партии и для достижения личных своих выгод стал членом 3-го
Интернационала 2-го конгресса и представителем Ангорской
республики. За Стародубского хлопотала Москва, но хлопоты не
увенчались успехом. Тогда в январе 1922 г. он объявил голодовку,
требуя перевода в Москву. После нескольких дней голодовки
был переведен в диагностический институт на Песочную улицу,
куда Ч.К. отправляет арестованных больных на испытание.
В 1921 же году сидели на Гороховой служащие Ч.К.: член
комиссии Сумочкин, следователь Базаров, следователь Иванов,
все трое за крупную взятку; сидел заведующий хозяйством Ч.К.,
продавший из своего склада 1200 шинелей и
продовольственных продуктов, более чем 1000 пудов. Этот завхоз просидел
три недели и был выпущен ввиду того, что делу дать ход было
невозможно. В нем были замешаны не только следователи, но
и заведующие отделами, комендант и весь президиум во главе
с Семеновым и Месингом. С месяц сидел Лебедев, заведующий
передачами с воли продовольствия, обвиняемый в хищениях.
Служащие Ч.К., сидящие за какие бы то ни было
преступления, пользуются сравнительно с обыкновенными арестантами
колоссальными привилегиями. Камеры их открыты, обед
приносится им из столовой для служащих, пайки сохраняются, из
комендатуры присылаются книги для чтения, передача с воли
делается ежедневно, разрешается свидание с родственниками,
письма и записки их передаются без всякого контроля. Все
«свои» арестованные, по их собственному пожеланию, всегда
пользуются банею, другим же добиться такой роскоши довольно
* Поручик Шнеур, подписывающий Брестский договор, он же
капитан Козлов, заведывавший корпусной контрразведкой армии
Юденича. — Прим. автора.
403
трудно. Кроме того, все они имеют в камерах ножи, бритвы
и ножницы. Частным порядком приходят и жены навещать
мужей прямо в камеры. Некоторые из привилегированных
арестованных отпускались на время домой и отчасти исполняли свои
служебные обязанности во время ареста, так, например, завхоз
Ч.К., будучи арестованным, ходил для выдачи продуктов в свои
склады и являлся обратно в свою камеру, нагруженный хлебом,
маслом, сахаром, сыром, селедками. Арестованный Сумочкин
являлся на заседание коллегии. Лебедев ходил домой к жене.
Сидел в Ч.К. один из агентов ее, некто Франк,
обвинявшийся в каком-то крупном мошенничестве. В камере он чувствовал
себя, как дома; получал из дома белые булки, всевозможные
консервы, паюсную икру и вино. Зачастую выпускался из
камеры, бродил по всему зданию Ч.К., разговаривая со знакомыми.
Привезли как-то в Ч.К. арестованного коменданта 2-го
лагеря принудительных работ (тюрьма «Кресты») Сорокина.
Будучи комендантом, он снабдил револьверами нескольких
лиц, отбывавших наказание в лагере, для налетов на частные
квартиры. Налетчики были задержаны, а Сорокину
предъявлено обвинение в сообщничестве с ними. Он также сидел, как
«свой», но недолго: по его просьбе он был переведен в ДПЗ на
Шпалерную, где у него было больше знакомых, а, следовательно,
и сидеть веселее. В мирное время Сорокин был надзирателем
в Доме предварительного заключения.
Существует и еще особая категория сидящих — так
называемая «подсадка». Это агенты Ч.К., посаженные специально
для осторожных расспросов арестованных о сущности их дел.
О результатах они доносят куда следует. Подсаживают их
обыкновенно в одну камеру или в соседнюю к лицам, только что
арестованным и не знакомым еще с порядками и обычаями
Гороховой. Старый арестант узнает подсадку довольно легко.
Сидят они недолго, обвиняются в самых страшных преступлениях,
вызываются чуть ли не ежедневно на допросы приблизительно
в обеденное время, а возвращаются снова в камеру, не только
пообедавши, но и со свежим запасом папирос высшего сорта,
тогда как обыкновенные арестованные не сразу могут наладить
передачу и первое время сидят без ничего.
И. А. ШАБАЛИН182
К ПЕТЕРБУРГСКИМ ТОВАРИЩАМ*
Письмо из застенка
Приводимое ниже письмо написано И. А. Шабалиным, левым
с.-ром, в застенке петербургской чеки и адресовано находящимся
на воле товарищам. Оно приподнимает завесу над одним из самых
страшных изобретений чекистской изобретательности —
содержании арестованных в «пробках».
Дорогие мои...
Хочется верить, что это письмо дойдет до вас. Но верить
одно, а преодолеть все адские трудности — штыки,
изолированность камеры, зоркий глаз тюремных церберов, обыски
и ряд других чрезвычайно-полицейских препятствий — другое.
Не забывайте, что я пишу это письмо из застенка,
перед которым по своему режиму и применению «особых мер
воздействия» к заключенным, бледнеют русские бастилии —
Шлиссельбург и Петропавловка, где в старое время мне
пришлось томиться в одном из казематов, как «государственному
политическому преступнику»...
Позволю себе кратко описать устройство «тюрьмы без
решеток», режим и привести ряд, на мой взгляд, вопиющих фактов.
Здесь имеются два общих корпуса и два одиночных. На
последних стоит остановиться. Из комнаты в 15 и 14 аршин
(первый корпус) устроено 29 клеток-«камер». Каждая клетка
имеет 2,5 аршина длины и 1,5 ширины. Добрую половину
площади занимают скамейка и столик. Это вся обстановка,
к которой надо добавить еще тускло светящуюся 5-свечевую
лампочку под самым потолком. Это всё. Окон нет. Матрацев,
одеял и подушек тоже нет, и заключенные в холодных камерах
спят на голых досках. Двери камер закрыты день и ночь. Здесь всё
запрещено: прогулка, разговор, чтение книг и т. д. Разрешается
только дышать отравленным воздухом, съесть в день 2 мисочки
супу из воблы или селедки, фунт хлеба, выпить 2 кружки кипятку
с чайной ложечкой сахарного песку.
* Голос России (Берлин), 10 августа 1922 г.
405
В нем [первом корпусе. — Ред.] я сидел всего четыре дня.
Во втором корпусе находятся «холодные» и так называемые
«пробки». Первые устроены просто: есть окна, но в них выбиты
стекла. В «холодные», где люди при слабом питании неделями
корчатся в страшных судорогах, сажают для «вымораживания»
той или другой «ереси».
«Пробка» — это верх тюремного творчества. Стены, пол,
потолок и дверь выложены пробкой. Окон нет, постели тоже.
«Обстановка» — как и в первом корпусе. Таких «пробок» всего
две, в одной из которых был я.
«Пробки» считаются самыми «страшными» и
изолированными камерами. Я убеждаюсь с каждым днем, что достаточно
3—4 месяцев пребывания в «пробке», чтобы быть физически
разбитым. Отсутствие естественного света (а ведь в шахтах и лошади
слепнут), свежего воздуха, прогулок, постели, слабое питание,
несменяемость белья, холод, сырость. Если к этому прибавить
лишение чтения книг и богатое изобилие: больших пауков,
мокриц, мышей и других «тварей», — то сидение трудно переносимо.
Одна из стен «моей» «пробки» пропитана зловонной
жидкостью, так как наверху помещается уборная.
Напротив «пробочных» дверей — караульный пост, и
часовой день и ночь ходит, стуча сапогами. Этот стук, а также стук
и возня наверху в «комиссарской кухне» дают себя чувствовать.
Когда-то могильная тишина Трубецкого бастиона
убийственно действовала на нервную систему и вызывала бессонные
ночи со страшными галлюцинациями. Теперь — другое...
В другой «пробке» сидел несколько дней неизвестный мне
человек, который всё время вопил нечеловеческим голосом —
стучал ногами или, еще лучше, целыми часами бил головой
о стену. Я не знаю, кто он, за что попал, сумасшедший он или
симулянт, но знаю, что это бьет головой человек, и невольно
думалось, что вот-вот стена покроется человеческим мозгом...
Е. Литвинову (член партии лев. соц.-рев.) посадили в
«холодную камеру» № 10 для «вымораживания левоэсерства».
Это было в марте месяце, когда мороз в Петербурге доходил
до 10 градусов.
Она была в одном осеннем пальтишке. Судороги от
холода свели всё тело в три погибели. Она простудилась, и весь
второй корпус оглашался ее глухим кашлем. Она просидела
неделю в «холодной», чекисты видят, что «ересь не вымора-
406
if Петербургским товарищам.
Письмо us засгЬша.
Ярюмимое ниже тсъш написано И, А,
Шткиткым, лгытм е.*р*вм, « заептт
петербургской чеки и йАресовйно * шхьдя-
щкмся m «од» г<жр»щах. Оно пртвдпи-
Чашт ттсщ пал блпим ш свмыж страшных
vsoifptbreuM ъетмг&сйй тобргы&гелъмсти
Дорте ла*.-..
Хочется вЪрпть, что smi письмо довдег
ЭЮ вас. Но верить одно, а преодолеть вс%
«уэеек»я трудности — пггыки, изолирован*
«ОСТЬ К&МОрЬГ, ЗОркШ Г.1ЛЗ ТКфеМЯМХ «вр*
i6ej*os, обыски it ряд других презаичайяо*
1КШЩ0»ек1рс «ренйтг/шй — другое.
Но забывайте, »!-го я пишу зто письмо
te ;шсг1анс&, перед котором по своему ре-
*щ*у н враагйяонш «особых jd?p воздМ-
«твиг» к зй^лю^еншам» бяйдюгЬют руссак
JdAOTHAi» — Шлиссельбург л Щтрошшюта,
iE?& в старое время м*гь лрншяоеь томинть*
t» в одной из хадаш&тов, как «государствен»
jKwy яоднтячеекому преступнику*. <
Позволю сод* кратко:: описать уетрой-
1в*во «тюрьмы без рйшоток», режим и при*
«оетн ряд, на мой шгллд, вотюеднх фактов.
Зд*съ шйнтся до* общих корпуса я
#ва одшочшх, На послЪдгшх стоит
остановиться. На комнаты « 15 ц 14 «jumm <«ojb
ВЫ» КОРПУС) УСТрОСНО 3D КЛ*ТОК>«КЮ№р».
Еаждая кд*тка нмЗют 2,& арвшна длины и
St,5 ширимы. Добрую половину нлощадя
Фшишют скамейка н столик. Это жя
обстановка» х которой надо доб&вить <эдо ?уе-
хдо «^тящуюса $-тг*>че«ук> лампочку под
еашш яотодоок. Это вес. Окой а*т.
Матраса» од^ял и подушок тшво иЪ% я вакдю-
яшшс в холодцых камерах снят на голых
фосках. Де^ри камер аахрьгш день и ночь.
Эз$е& всо тмршшк прогулка, рпшчшор,
jsroale книг я т. д. Разр&шсгся только
фршввть отршшишм воздухом, еЧМггк 8
рш> 2- mstma ору аз юб.ты или селедки,
Фунт кл-ivila, вьшйть 2 кружки квоятжу с
чайной лош*чко8 сахарааго песку. В ш
я еа&л веего четыре ав*.
Во втором корт*»* находятся
«Хоженые» s тек яазыааомыс «Пробке*. Народ
устроены просто: есть окна, як» ш нас да*
биты отекла. В «Хододшыо», гд% люд* арм
слабом пша»1и йщ&шмя корчатся * страш-
даах судорогах, «мшит дли «ввдоршан*»
ши* той ал» д|*р»^ «^жв*.
*Щювх&* — aw'se^s тюрвшлго творче>
ства. Ctimu> ноя, гаотежж в лжрь рыло-
жени пробкой, Ойш я*т, постели тоже.
чОбешиовщ» — как й * «ераоя корпус*.
Twirx «»робок> веер» д*& » одява* в» же*»-
|ШЗК б1^(Л Я.
«1!§>оби«» считаются шшж хчщяавя*-
МН» в И30Л»р01ШШЬ*Э«И *<Ш«|ОДВД. Я У«*Ж-
даюеь с каждым дш*, ^» досшто«» ^х—
4-х м&иаде» йребшвдая в «Проб***, чтобы
быть физически ^разбиты*. 0»у«»1вЬ ж-
тествешшт» «в*т» С* в*дз» в шазггах ж «к
шади сяЪяяут), св^жато воздуха, вргу*
лок, иостелн, слабое гаргая1я, несм*вявмость
б^лья, холод, сараи*» , Швж к *тшу ibj»-
бавить лишш1о чгевая кааг я бояиоо вао-
билш: больших aaysoe, «окрпц. яышой «
д|уугих «тварей», —* to «щд!даа трудао дв-
ршосимо.
Одни из етйн «хоой» «Пробки» йроовта-
иа :aoBoj3«oe жндкшп'ыо, так как наверху
«0м+>щастея убоояал.
Напротив пробочных дверей — **р*у»*»"
пни погг н часовой деаь и иочь ходит,
стуча ланогаш!»
Этот сту-к, а также отук ж вошя даверху
в «комисса^кой Kpusi» дают себя:
чувствовать.
Когда-то могалмш! тнпшаа Трубщкого
багл'Ьиа убШстоеаво д^йствоваз» т. щрв»
nfto c»cto»y i
Д|>УГ00.~,
В другой «Проб**» е*д*д
дней неизвестный ыа* чочовйс,
все вреш
живается», здоровье становится хуже и хуже, — перевели ее
в другую камеру.
Но здесь царят и другие приемы «воздействия». В первые
дни в «пробке» № 1 сидел молодой парень, рабочий с Путилов-
ского завода (звали Мишей), он передал, что его следователь
допрашивал... поленом.
Передаю факт со слов с.-р. Стельмакова (Потапыча) и
других: «В камере № 21 сидел сумасшедший, некто Брыжановский
(уголовный); следственные власти, чтобы убедиться, больной он
или симулирует, 28 февраля взяли на допрос и применяли ему
последние «научные опыты» — прижигание огнем тела. После
такого «научного исследования» «профессорская экспертиза»
с Гороховой, 2 постановила диагноз, что Брыжановский их
«не обманывает». Больного отправили в лечебницу. Но через
два дня его снова вызвал один из главных «ученых мужей» —
следователь Михайлов.
Для политического «оздоровления» здесь устраивают сеансы
другого сорта. Так, 1 апреля был арестован матрос Яковенко
(тов. председателя Кронштадтского ревкома во время
восстания в 1921 г.), который приехал из Финляндии в Петербург для
постановки революционной работы. С Яковенко еще арестован
один повстанец, Петров; последний, боясь «стенки», выдал всё
и перешел на службу в Чеку.
С Яковенко следователи «возились» по 15 час. в сутки, они
добивались, чтобы Яковенко «раскаялся», а также, чтобы он
написал письмо к повстанцам с призывом вернуться в Ленинскую
вотчину; власти авансом прощали все тайные и явные грехи
повстанцам. Снова вытащили из архива «амнистию» 1921 года
и клялись коммунистическою честью выполнить ее точно.
Яковенко не пошел на эту удочку. Да и было бы
преступлением с его стороны быть большевистским адвокатом. Ведь какие
бы гарантии ни давались и какие бы торжественные клятвы ни
произносились, Чека расправится — с кем надо.
Кронштадт — это бельмо на большевистском глазу.
Французский палач Тьер, расправившись в 1871 году с парижскими
коммунистами, мог спокойно спать. Русский Тьер — «Кровавый
фельдмаршал» — спит и видит во сне Кронштадтский «горючий
материал»... Поэтому спокойнее «прибрать к рукам» 3500
бунтарских голов, устроить новую Холмогорскую Голгофу183. Вот
конечный результат всех «гарантий».
408
Когда Яковенко категорически отказался от «послания»,
Гороховские артисты выдвинули на сцену более убедительный
аргумент. За кулисами стояло «общественное мнение»
Кронштадта. Несколько женщин (вернее всего, жены коммунистов)
стали «убеждать» Яковенко, что им и до восстания, и теперь
жить хорошо, — и что они требуют от него, как от главаря,
чтобы он вернул им их «сыновей». Яковенко стоял на своем,
тогда «бабы» стали плевать пленному революционеру в лицо.
Когда кончилась эта отвратительная комедия, чекисты
говорили ему: «Ну, вот видишь, ведь самая народная гуща, сами
низы против восстания».
Большевики забыли революционное благородство, которое
было применено восставшими к арестованным комиссарам. За
это благородство они еще выдали один вексель
признательности — Яковенко при аресте был закован в ручные кандалы.
Кроме Яковенко, сидят еще два члена ревкома — Купелов на
Гороховой, 2 и Архипов на Итальянской, в Особом отделе Чеки.
До меня в моей «пробке» сидел некто Данилов, за что —
не знаю. Но он оставил след своей душевной боли на стене.
С ним арестовано его семейство — жена и сын, последнему от
роду... 1 год 2 месяца. Свой душевный вопль несчастный отец
написал на стене: «Мальчик Коля от роду 1 год 2 мес, сидит,
мучается, за что?»
Но «мальчик Коля» не является пионером. До него сидела
целая серия таких же «заговорщиков», вина которых та, что они
дети тех или других отцов, являющихся не ко двору
Кремлевской власти.
Итак, дорогие мои! Я снова 8 марта, после почти что
полугодового пребывания на свободе, попал в плен. Вы знаете, что
полгода свободы были куплены дорогой ценой — побегом из
Орловского каторжного централа, куда я попал после
знаменитого избиения социалистов и анархистов в Бутырке в ночь
на 26 апреля.
Я знал, что Чека будет жестоко мстить за пощечину, которая
была нанесена побегом из образцовой тюрьмы Дзержинского,
в которой сохранилось всё худшее из царского режима и
добавлено всё «лучшее» — из коммунистического. На страже стоит,
как верный пес, грабя заключенных, негодяй Саат, бывший
помощник начальника Ярославской каторжной тюрьмы. Вся свора
тюремщиков — бывшая царская. За несколько дней до побега
409
один из товарищей заявил помощнику директора Соколову
(бывший царский тюремный надзиратель, теперь — коммунист):
«Когда же вы перестанете над нами издеваться, ведь остается
одно — или разбить головы о стены, или бежать отсюда, хотя
бы с риском». Ответ маленького сатрапа был классическим,
который может служить украшением страниц прессы Р. К. П.
«Разбить головы вам никто не запрещает, — сказал
Соколов, — а бежать... отсюда или выносят в покойницкую, или
освобождают по ордерам».
При аресте на конспиративной квартире
(Звенигородская, 22), где хранилась часть типографского шрифта и образцы
паспортного бюро для одного из губернских городов (360
образцов), я сделал очередную попытку к побегу. Захватив шапчонку,
я в одном костюме, без пальто, выскочил из помещения. За
мной по пятам погоня. На дворе упал, был схвачен, вырвался
и снова побежал. Но на этот раз фортуна мне не улыбнулась.
Мне изменило мое сердце. На улице я упал. Как коршуны,
набросились на меня гнавшиеся чекисты. Ударом
револьверной рукоятки по спине они отметили свою победу. Подняли.
К вискам приставили два холодных револьверных дула. Повели
к автомобилю.
«Наручники в автомобиле есть?» — спросил один чекист
у другого. «Нет», — был ответ.
Меня что-то спрашивали, чем-то угрожали, но я не слушал их.
Мне было до глубины души больно, и, откровенно
говоря, в тот момент я пожалел, что не пристрелили меня. Мне
было больно, что я, старый революционер, должен сделаться
невольным предателем лучших наших организаций, так как
в кармане у меня была уйма адресов и конспиративных явок,
большая часть которых была не зашифрована. Было тяжело.
Мертвому товарищи простили бы... Тем более когда я делал
ставку «ва-банк», я думал: или меня убьют при побеге, или
я буду снова, как верный солдат революции и партии, стоять
на революционном посту, продолжая революционное дело при
невыносимо тяжелых условиях. Случилось третье: ...Я живой
попал в плен... В автомобиле я получил «передышку», так как
чекисты тоже устали; я воспользовался этим для уничтожения
адресов-явок. Набрал полный рот бумаги, усиленно жевал.
Чекисты заметили. Один сказал: «Он, никак, отравился». «Ну
и черт с ним», — последовал ответ.
410
Часть бумаги я выплюнул, часть проглотил. Они только
тогда догадались, что я не отравился, а глотал документы.
Набросились на меня, пытались забраться в рот, но было уже
поздно. Я свободно вздохнул.
Но вот молодцы отдохнули. Автомобиль тронулся. Тогда
они принялись за «работу». Ударами сшибли шапку с головы.
Били по рукам и ногам рукояткой револьвера (у меня до сих
пор болят пальцы, а первые дни мне было трудно держать
ложку). Но этого показалось мало садистам. Началось настоящее
истязание... Тяжело вспоминать об этом... Мне мяли и давили
глаза и... половые органы... Я потерял сознание... Когда ударили
меня в первый раз, я твердо решил, что не произнесу ни
одного звука, ни одного стона. И, крепко закусив губы, я молчал.
Мое гробовое молчание было принято за «слабое давление».
Последнее было увеличено... Я снова потерял сознание. Когда
опять пришел в себя, у меня из носа и левой щеки текла кровь...
«Зачем ты достал кровь, — говорил один чекист другому, —
делай вот как я, — и больно, и без крови».
Наконец втащили меня в комендантскую, на Гороховой, 2.
Стоять и сидеть я не мог. Около стены стоял ряд стульев, я
прилег. Горлом шла кровь. Но дежурный помощник коменданта
ногой столкнул меня, заявив, что здесь не полагается лежать.
В надзирательской во время личного обыска я снова на короткое
время потерял сознание.
Меня повели к следователю, от личных показаний я
отказался, заявив, что я — член партии левых
социалистов-революционеров. От следователя — в «пробку».
Через три дня меня вызвал начальник следственной власти
Нюкенин, но последний привел галерею шпиков и
провокаторов для опознания меня и, увидя следы истязания на лице,
от допроса уклонился. Но от него я получил «милость» — из
«пробки» он перевел в первый корпус. Через четыре дня снова
на допрос, но я категорически заявил, что разговаривать с
представителями воскресшей инквизиции не желаю.
— В «пробке» научишься говорить и пожелаешь, — ответил
мне следователь.
И меня отвели в «пробку», в которой я сижу до
сегодняшнего дня. Чувствуется физическая слабость, думаю, что если
просижу в «пробке» еще 3—4 месяца без света — совершенно
ослепну.
411
Дорогие мои! Скоро первое мая, наш великий праздник.
В этот светлый день, по примеру прошлых лет в тюремном
заключении, я объявлю голодовку — протест против
коммунистического насилия и застенков, в которых я провожу четвертое
первое мая. В этот день первого мая, как в первые мая в 1918,
20 и 21 годах, находясь за решеткой, через головы красных
купцов-людоедов я шлю братский привет всем борцам,
борющимся за освобождение трудящихся и человеческой личности
и томящимся в тюрьмах: Английского короля и Кремлевского
шамана, Японского Микадо и Французского президента,
Персидского шаха и Польского пана и проч. и проч.
До свидания, до лучших дней, крепко целую.
14 апреля по распоряжению Г.П.У., под усиленным конвоем
автор письма и еще три члена п. л. с. р. (Д. Сапер, Л. Соколова
и Е. Литвинова) были отправлены в Москву. По дороге, не доезжая
50 верст до Москвы, И. А. Шабалин выбросился из вагона в окно.
Поезд моментально был остановлен, чекисты открыли пальбу из
ружей и револьверов. Измученный, разбившийся, с переломленной
рукой, без фуражки, «беглец» скрылся. В данное время автор письма
находится в безопасном месте и все поиски поставленной на ноги
Чеки для нового ареста — безрезультатны.
П. ЕФИМОВ
ПЕТРОГРАДСКАЯ ЧЕ-КА*
Тюрьма при Петроградской че-ка состоит из двух одиночных
мужских корпусов, двух общих мужских камер и одной общей
женской камеры. Общие камеры рассчитаны на 40—50 человек,
по количеству коек, но в «удачное» для чека время туда
забиваются по 80—90 и даже по 100 человек, и тогда люди ютятся по
двое на койке, спят на полу, на столах...
Заполняются эти камеры за очень редким исключением
людьми, попавшими в тюрьму, лишь благодаря стараниям
чекистских карьеристов. Бывают там и «политические», и
уголовные; «политические» потому, что человек имеет брата, отца,
сестру, арестованных за принадлежность к какой-либо
политической партии; и сидит такой несчастный в ожидании, когда
кончится «дело» его родственников или следователь его встанет
с правой ноги с кровати и вспомнит, что такой-то сидит зря
и что его пора как будто бы и выпустить. Но, вообще, заметить
какую-нибудь закономерность или признаки, по которым бы
люди распределялись, — очень трудно: всё зависит от
настроения следователя.
И общие камеры, и одиночки имеют койки, шириной в
поларшина — 9 вершков без тюфяков, с возвышением из дерева
вместо подушки; если же попадется тюфяк, то не знаешь, чего
больше в нем — соломенной трухи (не перебивались тюфяки
со дня основания этой тюрьмы, т. е. с 1919 года) или
насекомых — клопов и вшей. О гигиене говорить не приходится: есть
сидящие по несколько месяцев, ни разу не переменившие белья
за всё время сидения, не бывшие ни разу в бане.
Кормят плохо: два раза в день дают похлебку из селедки
или воблы с несколькими кусочками мерзлого картофеля или
фасолью — два-три зерна, фунт хлеба, пол-ложки сахарного
песку; на хлебе подкармливается мелкая администрация, и
потому вместо фунта выдается три четверти, а иногда и полфунта
хлеба. Отдельные лица из общих камер исполняют работы по
кухне, уборке помещения и пр. и получают за это добавочный
фунт хлеба.
* Голос России (Берлин), 27 мая 1922 г.
413
Забота о содержании арестованных имеет внешний, чисто
декоративный характер. Так, полы моются три раза в неделю,
но всегда холодной водою, и грязь только размазывается.
Ежедневно обходит фельдшер, записывая к доктору; но напрасны
надежды новичка: вместо доктора посылается спасительный
порошок, что бы у вас ни болело: голова, грудь, ноги... Если
находится больной с чем-либо хроническим, он получает от
фельдшера ответ: «А, у вас глаза болят... Очень хорошо. Это
нас не касается». На чекистском языке это называется
медицинской помощью.
Прогулок нет, книги и газеты воспрещены.
Если задать арестованному вопрос: «За что Вы сидите?»,
то сплошь и рядом можно получить ответ: «Не знаю». Вот
несколько примеров. Две женщины. Обе обвиняются в
шпионаже: одна в пользу Польши, другая — в пользу Германии.
Одна сидит 14 месяцев, другая — 8, и обе не знают ничего,
кроме того, что им предъявлено в обвинении. Поляк
Булешевич. У него на квартире жил уголовный, за это он и сидит. Но
следователю Михайлову, очевидно, неловко держать человека
только за это, и потому Булешевич обвиняется в сношениях
с аристократическими семьями Польши — Тарновскими и пр.
Двое обвиняемых в шпионаже, не знающие за собою ничего,
за семь месяцев не имели ни одного допроса. Бывший член
одной из социалистических партий, ныне не работающий, но на
беду встретивший на улице коммунистов, знающих его, и ими
арестованный. Кроме таких можно найти здесь и таких, вина
которых значительно меньше уже полученного наказания. Так,
имеется тип, сидящий уже четыре месяца за появление на улице
в пьяном виде. Много арестованных по уголовным делам, за
бандитизм. Сидит шайка бандитов с Петроградской стороны,
около 70 человек, долгое время терроризировавшая население,
имеющая за собой несколько десятков вооруженных налетов
на квартиры. Большинство из шайки — старые рецидивисты,
судившиеся и сидевшие не раз при самодержавии. Но много
среди них и уголовных сегодняшнего дня из рабочих, брошенных
на торный путь преступлений советской властью, оставшихся
без работы с семьями на руках...
Некоторые из уголовных ради смягчения собственной
участи выдают соучастников («ссучиваются» на тюремном
уголовном языке), после чего не только получают прощение, но
414
и поступают на службу в это же самое чека. Называли несколько
имен следователей, которые в свое время были уголовными.
При допросах уголовных нещадно избивают. Бьют
плетками из резины, к концу которой приделана гайка или кусок
железа, бьют железною палкою, «которою переводят рельсы»,
как описывали ее уголовные. Бьют ради того, чтобы вынудить
признание, выяснить от избитого, теряющего сознание
человека его сообщников. «Не был и бандитом, а оттуда выйдешь,
имея за собою и мокрые, и сухие дела» — говорят уголовные,
и действительно, чтобы избавиться от страданий, они
наговаривают и на себя, и на своих знакомых. Или еще один метод
следователей: следователь, вызывая на допрос голодного
арестанта, раскладывает у себя на столе хлеб, масло, закуску...
и самогонку. Угощает, подпаивает и от пьяного узнает, что
нужно. Такие случаи не единичны, они повторяются почти
ежедневно. Был и такой случай: один уголовный сошел с ума.
Вытребованный врач констатирует сумасшествие, и уголовный
отослан в больницу на Пески. Но следователь Михайлов решил,
что больничные врачи менее компетентны в своей области,
нежели он, вытребовал уголовного обратно в чека и в своем
кабинете устроил «испытание», поджигая больному пятки... «Всю
зажигалку изжег на сволочи!» — хвастал он, приведя обратно
в камеру своего пациента.
Есть среди арестованных особая серия привилегированных
«своих» людей — административные, служащие и агенты чека.
Они пользуются всевозможными льготами: камеры их открыты,
передачи получаются ими ежедневно, они посылают домой
с низшими служащими письма, ходят в баню и т. д. Так сидели
служащие чека Сумочкин, Базаров и Иванов, взявшие осенью
прошлого года взятку в 80 миллионов рублей. Этот Сумочкин
ходил, кроме того, в дни заседаний на собрания коллегии чека!
Любимым занятием этой публики являются разговоры
о героях чека, кто сколько имеет денег, кто как сделал
карьеру, расстрелах и грабежах во время обысков и т. д. И о самых
возмутительных вещах эти люди говорят с какой-то завистью:
«Вот, мол, молодец, жаль, что я не был на его месте!» — можно
понять в их захлебывающемся восторге. Слушая их, невольно
задаешь себе вопрос: почему, если уже тюрьмы существуют,
заполнены они не этими агентами, следователями, чекистами,
истинно уголовными элементами?!
415
Для пущего устрашения арестованных устроены так
называемые «пробки». «Пробки» представляют из себя небольшие
камеры в сажень длиною и 1 У2 арш. шириною. Потолок, стены,
пол и дверь этих камер покрыты заложенными между досками
пробками в несколько вершков. Между камерами-пробками
кроме пробочных стен имеется еще полуарш. пустое пространство.
Благодаря этим мерам предосторожности получается полная
изолированность сидящих в этих камерах: не слышно даже
перестукивания. В этих «пробках» страшно душно и, кроме
того, в камеры ставится ведро для отправлений, выносимое раз
в сутки. Бывали случаи, когда в «пробках» арестованные сидели
по несколько недель.
Для борьбы с чекистами арестованными употребляется
одно средство: голодовка... Нужно сказать, что уголовным
и невинно сидящим иногда голодовка и помогает, но бывает
она так часто, что по большей части не производит на
чекистов никакого впечатления. Передают, что на Шпалерной один
арестованный, которому не предъявляли обвинения, после
голодовки в 11 дней умер.
Члены социалистических партий на Гороховой
размещены главным образом по одиночкам. Одиночки представляют
из себя ряд камер, понастроенных в большой комнате,
служившей в свое время общежитием для холостых городовых,
а потом как караульное помещение. Длина их 2,5 арш., ширина
1,5 арш. Голая койка. В большинство одиночек дневной свет не
проникает, и потому там круглые сутки горит электричество.
Камеры отделены друг от друга нетолстою деревянной стеной,
имеют открытые окошки, так что если надзиратель похож
на человека, можно легко разговаривать друг с другом. Книг
и газет не допускается, прогулки также отсутствуют. Пища та
же, что и для всех.
На допросах употребляются «приемы». Так, некоторым из
арестованных на допросах говорят: «Сознавайтесь, ведь у нас
улики есть. Вот есть показание вашего товарища такого-то».
Иногда прибегают и к более решительным мерам. Так, была
избита на допросе анархистка (Поля), которая отказалась от
показаний. Много грубее и отвратительнее следователей агенты-
чекисты. Арестованный по делу левых эсеров М. В. Николаев
был избит на допросе в чека на автомобиле. У него на теле было
много синяков. В добавление чекисты разорвали ему брюки,
416
сжали половой орган, так что он потерял сознание. Теперь он
находится в «пробке».
Против условий заключения бывают отдельные
выступления социалистов, выражающиеся обычно в голодовке. Так,
левая с.-р. А. П. Соколова голодала шесть дней без воды, требуя
перевода в Москву, где общие условия лучше, эс-эр группы
«Народ» В. И. Горшечникова голодала 4 дня, требуя книг, и
переведена на Шпалерную, анархист В. Добролюбов требовал
предъявления обвинения, проголодал два дня, был отправлен
в Д.П.З., а оттуда в Москву.
Таково «бережное» отношение к социалистам
диктаторской партии, кричащей в своей печати о зверском отношении
к арестованным коммунистам на Западе. И понятны старания
Радеков и К0 скрыть эти факты от международного пролетариата.
Н. ВОЛКОВЫСКИЙ184
ПОСЫЛАЮЩИЕ НА РАССТРЕЛ*
За минувшие четыре года мне пришлось не раз переступать
окровавленный порог Петербургской** Че-ка.
Впервые — в начале 1920 года, когда я сам явился на
допрос после пятимесячных розысков меня Чрезвычайной
комиссией по пустому и вздорному кадетскому делу,
постепенно осложнившемуся другими такими же вздорными, но
в те беспощадные времена грозными делами. Подробности
этого шестичасового, необычайно яркого допроса,
ведшегося двумя наиболее жестокими следователями петербургской
чрезвычайки, я вскоре опубликую в связи с одним вопиющим
эпизодом тех дней.
В августе 1922 г., о чем я уже писал на этих столбцах***,
я переступил этот порог под охраной двух курсантов ГПУ,
подготовляющего на особых курсах «красных жандармов».
В октябре и ноябре я был 14 раз на Гороховой, 2 в качестве
уполномоченного группы высылаемых литераторов и ученых.
И эти 14 посещений дали много бытовых и психологических
наблюдений над преображенной советской охранкой.
Но сейчас мне хотелось бы остановиться на тех
соприкосновениях с Ч.К., которые были у меня между 1920 и 1922
годами, когда я был не в роли обвиняемого или подследственного,
а оказывался в положении ходатая за арестованных писателей.
Я участвовал в депутациях литературных,
литературно-общественных и литературно-научных организаций — и перед
нами любезно открывали двери своих кабинетов высшие чины
петербургской Че-ка.
Три таких «соприкосновения» оставили особенно яркий
след в памяти: это были визиты к председателю Ч.К. Семенову,
заведовавшему следственной частью Озолину и
председательнице Ч.К. Яковлевой.
* Сегодня (Рига), 3, 14, 21 февраля 1923 г., № 26, 35, 41.
** Петроградской. — Прим. ред.
*** Автор имеет в виду свою статью «Из записной книжки
высланного», опубликованную в той же газете («Сегодня», 1923, № 1,2, 15,
16). — Прим. сост.
418
Дело Н. С. Гумилева
Еще в Советской России попался мне случайно номер,
кажется, Гельсингфорсской газеты, в которой А. В. Амфитеатров
передавал с моих слов, не полно и не совсем точно, несколько
фраз из нашего разговора о Н. С. Гумилеве с председателем
Губчека Семеновым. Свой фельетон Амфитеатров без всяких
изменений включил в свою недавно вышедшую книжку, которую
я прочел уже в Берлине.
Дорогая память Гумилева,требует сохранения в точности
и во всей полноте всего, что связано с его кровавой гибелью.
Семенов принял нас холодно-вежливо. Руки не подал.
Стоял всё время сам и не предложил нам сесть. Вершитель судьбы
В. Н. Таганцева, Н. И. Лазаревского, Н. С. Гумилева, профессора
Тихвинского185, скульптора Ухтомского и др. производил скорее
впечатление не рабочего, а мелкого приказчика из
мануфактурного магазина. Среднего роста, с мелкими чертами лица,
с коротко, по-английски подстриженными рыжеватыми усиками
и бегающими, хитрыми глазками, он, разговаривая, делал руками
характерные округлые движения, точно доставал с полок и
разворачивал перед покупательницами кипы сатина или шевиота.
— Что вам угодно?
— Мы пришли хлопотать за нашего друга и товарища,
недавно арестованного — Гумилева.
— Кого-с?
— Гумилева.
— Гумилевича?
— Нет, Гумилева, поэта, Николая Степановича Гумилева,
известного русского поэта.
— Гумилева? Не слыхал о таком. Он арестован? Не слышал.
Ничего не знаю-с. Так в чем же дело?
— Мы крайне поражены его арестом и просим о его
освобождении. Это безусловное недоразумение: Гумилев никакой
политикой не занимается, и никакой вины за ним быть не может.
— Напрасно-с думаете. Я его дела не знаю, но поверьте, что
здесь может быть и не политика-с. Должностное преступление
или растрата денег-с...
— Позвольте. Какое должностное преступление? Какие
деньги? Гумилев никаких должностей не занимает: он пишет
стихи, и никаких денег, кроме гонорара, за эти стихи не имеет...
419
— Не скажите-с, не скажите-с... бывает... бывает — и
профессора попадаются, и писатели... бывает-с... преступление по
должности, казенные деньги... Случается.
От этой бессвязной болтовни становилось и скучно, и жутко.
Надо было положить ей конец.
— Не могли бы вы распорядиться, чтоб вам дали справку по
делу Гумилева? Его готовы взять на поруки любые организации.
— Справку? С удовольствием.
Берет телефонную трубку.
— Барышня, номер такой-то... Это Семенов говорит. Тут вот,
делегаты пришли, так узнай-ка там, арестован у нас Гумилевич...
Мы перебиваем:
— Гумилев, Николай Степанович, писатель, поэт...
— Не Гумилевич, а Гумилев, Николай Степанович. Он кто?
(обращаясь к нам)
— Писатель, поэт.
— Писатель, говорят. Ты слушаешь, да? Так наведи справку
и позвони мне... тут ждут.
Кладет трубку и продолжает нас занимать.
— Бывает-с, и профессора и писатели попадаются... Что
прикажете делать? Время такое-с...
Мы молчим. Он всё оживленно говорит. Звонок...
— Да? Ага... гм... гм... гм... ну, хорошо.
Кидает трубку. Быстро оборачивается к нам.
— Ваши документы, граждане.
Точно ломом по голове ударил.
— Какие документы? Вы же знаете, кто мы — представители
таких-то организаций...
— Ваши документы, пожалуйста.
Начинаем рыться в карманах. На душу сразу упала тоскливая
жуть. Один вынимает из бумажника первую попавшуюся
записку. Оказывается — разрешение работать в каком-то секретном
архиве, подписанное «самим» Зиновьевым.
Семенов берет бумажку, не успевает ее прочесть, видит
подпись Зиновьева и быстро возвращает.
— Благодарю вас, больше не надо. Так вот-с... (начинает
говорить медленнее) так вот-с... действительно, арестован...
Дело в следствии. Следствие производится.
— Нельзя ли до окончания следствия освободить на
поруки?
420
— Никак нельзя. Да и к чему? Через несколько дней, через
недельку-с следствие закончится. Да вы не беспокойтесь за него:
у нас сидится неплохо, и кормим прилично.
— Об этом мы не беспокоимся: ему посылают передачи.
— Тем более-с: раз передачи посылаете, так и совсем хорошо.
— Нельзя ли узнать, по какому делу он арестован?
— Никак нельзя. Что вы? Разве можно выдавать тайну
следствия? Никогда не говорят, за что человек арестован... ведь
это мешает-с работе следствия, мешает. И прежде так было, при
старом режиме тоже никогда не говорили.
— Положим...
— Уверяю вас. Всегда так было-с. У нас скоро закончится
следствие. И вообще, у нас теперь скоро всё идет. В месячный
срок следователь обязан предъявить обвинение. В месячный
срок-с. У нас это строго теперь. В месяц не предъявил (ударяет
рукою по столу) — сам в тюрьму. Всё равно кто — следователь
или комиссар — сам садись. У нас теперь приняты самые строгие
меры кохране гарантий прав личности... да-с, кохране гарантий
прав личности. Строго-с!
Губы едва дрогнули почти неуловимой иронией.
— Да и чего вам беспокоиться? Ежели вы так уверены в его
невиновности — так и ждите его через неделю у себя. И
беспокоиться нечего, раз так уверены.
Сердце сжималось от нечеловеческого ужаса. За внешним
отсутствием смысла этой болтовни чувствовалось дыхание
надвигавшейся смерти.
Едва могли спросить:
— А как же получить справку?
— Через неделю... вы не ходите ко мне: я очень занят,
а позвоните ко мне по телефону. Знаете, как? Спросите просто
на станции: Губчека, а потом у нас на коммутаторе попросите
председателя Семенова — вам сразу дадут мой телефон. У нас
это просто. Так через неделю позвоните. Прощайте.
Мы ушли раздавленные. Ведь в сущности ничего не было
сказано. А в этом «ничего» душа чуяла бездну. Все заметались: подняли
на ноги все «связи», телеграфировали в Москву. Неизвестно откуда
ворвался слух, связавший два имени — Таганцева и Гумилева.
Гумилев — в заговоре?! Нелепость! Но в этой нелепости вся
безысходность ужаса. Гумилев будет расстрелян? Невероятно!
Но чем невероятнее, тем ближе к правде.
421
Через неделю к телефону.
— Барышня, губчека, пожалуйста... Губчека? Председателя
Семенова.
— Семенов у телефона. Кто? А, по делу Гумилева?
Послезавтра прочтете в газете...
Трубка повешена. Невероятное неумолимой поступью
настигает нас.
Послезавтра — в газетах отчет о докладе Семенова в
пленуме Петросовета. Заговор Таганцева... расстреляны: профессор
Таганцев, профессор Тихвинский, профессор Лазаревский,
«известный поэт Гумилев»... Это точные слова Семенова.
А. В. Амфитеатров пишет, что мой* короткий рассказ
в тесном писательском кружке о нашем разговоре с Семеновым
вызвал много смеха.
Память изменила Александру Валентиновичу: со дня нашей
встречи с Семеновым смех надолго ушел от нас: еще за неделю
до безумного выстрела его похитили едва дрогнувшие иронией
губы председателя Чека.
А неделю спустя округлым движением руки приказчика
мануфактурной лавки был подписан роковой и позорный
приговор над поэтом.
Чекист-поэт
Тревожные дни Кронштадтского восстания. В 25 верстах
от Петербурга грохочут пушки. Власти растеряны. Испуганно
мечутся из угла в угол. Не доверяют друг другу. Не верят своим
войскам. Троцкий мобилизует курсантов и по их трупам, по
залитому их юной кровью снегу Финского залива подступает
к твердыням восставшей крепости.
Полудремлющий, опустевший Петербург замирает.
Мертвая тишина.
И только на Гороховой кипит жизнь. Особая чекистская
жизнь. Безмолвие ночей нарушается шумом чекистских
автомобилей. Хватают направо и налево. В окнах домов темно, но
город не спит: никто не знает, чей черед приходит с
наступающей вечерней тьмой...
* А. В. моего имени не упоминает, учитывая, очевидно, мое
пребывание тогда в России, но узнал он обо всем от меня. — Прим. автора.
422
Арестована вся семья Амфитеатровых, кроме двух малышей.
Схвачено еще несколько литераторов. Эти аресты совершенно
бессмысленны: люди далеки от политики, как от Марса.
Попутно где-то в кафе или в какой-то столовой арестован
поэт И. Обстановка ареста говорит о глупой случайности —
результате чрезмерного рвения. Но беспокоимся и за него:
момент чудовищных возможностей. Мы ведь хорошо помнили
дни большевистской мести (кому?!) после убийства Урицкого.
Надо хлопотать. Однако минута не подходящая: никого из
власть имущих не добьешься, да и настроение у них, не дающее
надежд на «милость». Как ни тяжело, приходится ждать.
Юная кровь пролита не даром: Кронштадт пал. Полилась
новая кровь: кронштадтских матросов. «Жизнь» на Гороховой
закипает с удвоенной силой.
Пора постучаться в двери чекистов. Говорить о писателях
на Гороховой можно не со всяким: надо поискать кого-нибудь
покультурнее, кого-нибудь, в ком слово «писатель» не вызывает
озлобления, которое в начале революции вызывал в убогом,
малограмотном солдате всякий человек, гладко умевший
написать свое имя.
Есть такой: заведующий следственной частью губчека,
влиятельнейший сановник на Гороховой — Озолин. Его многие
знали в Петербурге: юрист, кажется, окончивший университет
(едва ли не состоял в сословии), бывший юрисконсульт Совета
Народного Хозяйства.
Кривая большевистских карьер не знает предела
причудливости своих изгибов: вчера мирный юрисконсульт мирного
Совнархоза, сегодня — подписывает смертные приговоры.
Впрочем, в дальнейшем своем движении кривая г. Озолина как
будто временно выпрямилась: из могущественного чекиста он
превратился в председателя ревтрибунала Петербурга. Это — на
одной прямой линии.
Итак, найден культурный человек. Узнаю случайно, что он
еще и тайный поэт: свои досуги г. Озолин посвящает нежной
лирике. Всё идет прекрасно: юрист и поэт! Осталось только
найти вернейший путь к его лирической душе. Обращаюсь
к А. А. Блоку:
— Александр Александрович, пойдемте вместе к Озолину
Это будет ему приятно: он — поэт тайный, вы — явный. Вы
ему импонируете.
423
Блок брезгливо морщился:
— Противно. Вообще, противно мне видеть коммунистов.
Я, знаете, ведь стараюсь переходить на другую сторону, когда
встречаю на улице знакомого коммуниста. Да еще идти к ним
в чрезвычайку...
Но, конечно, соглашается:
— Если Вам кажется, что я действительно нужен...
Разговор по телефону с Озолиным: назначает, час приема,
заранее высылает вниз именные «пропуска». Проходим по
бесконечным узким коридорам бывшего градоначальства. С трудом
находим нужную дверь. Стучим.
— Войдите.
Светлый поместительный кабинет. Из-за письменного
стола быстро поднимается высокий, плотный человек лет 30-ти.
Приятное молодое лицо. Большой открытый лоб, над которым
беспорядочно вьются пышные волосы. Быстро выходит из-за
стола. Крепко жмет руки. Представляется:
— Озолин.
Застенчивый Блок скромно называет себя.
— Прошу садиться. Александр Александрович, пожалуйте,
сюда, в кресло.
Хозяин любезно сам пододвигает кресло именитому гостю.
Встречаемся с Озолиным глазами: он точно затянулся в корсет.
Излагаем ему цель визита.
— Могу вас порадовать. Амфитеатров с семьей уже
освобождены сегодня утром.
Слава Богу: за него мы боялись больше всего. Его статья
против Горького и влиятельных горьковских друзей была хорошо
известна Петербургу.
— А когда же вы освободите остальных?
— Совершенно о них ничего не знаю. Будьте добры назвать
мне все фамилии, сейчас же затребую справки.
Записывает все имена. Звонит по телефону, читает кому-
то список.
— Только живее давайте справку. Я жду. Позвоните... Через
несколько минут я вам скажу, в каком положении дело.
Скажите, Александр Александрович, поэт И., который, по вашим
словам, арестован, талантливый человек?
Блок на мгновение расшнуровывает корсет. На прекрасных
губах дрожит улыбка:
424
— Талантливый. Мы с ним разных направлений: я —
символист, он — акмеист. Это — мне чужое. Но человек он талантливый.
В этих стенах, вероятно, впервые прозвучали «символист»,
«акмеист»... Многое слыхали стены старого градоначальства
и не стареющей Чеки, но беседа о разных течениях в новейшей
русской поэзии прозвучала в них впервые. Поэт Озолин отдыхал
в литературной causerie* с поэтом Блоком.
— Это тот самый И., — радушно продолжает хозяин, —
который недавно выступал, кажется, в Доме Искусств?
Смотрю на Блока: в потухших глазах — скука.
— Не только в Доме Искусств, — лениво отвечает он, — но
и в Доме Литераторов. Да и вообще выступает.
Телефон молчит и дает г. Озолину возможность продолжать
приятную беседу:
— Он, вероятно, совсем молодой, из начинающих. Я слежу
за поэзией, — (улыбается), — интересуюсь, но его не
приходилось читать.
Реплики не подано. Телефон безмолвствует. Блок смотрит
на ковер. Приходится мне продолжать интимную литературную
беседу:
— Он, правда, молод, но не «совсем молод»: выпустил уже
четыре книжки стихов. Сотрудничал еще давно в «Аполлоне».
— Ах, да-да, теперь вспоминаю его подпись в «Аполлоне».
Телефонный звонок выручает. Передается справка. Озолин
приветливо обращается к нам:
— Я получил справку: все названные вами писатели
действительно арестованы. Но, кажется, ничего серьезного. Что же
до поэта И., то он будет, Александр Александрович, освобожден
сегодня-завтра.
Блок снова оживился:
— А остальные?
— Вероятно, на ближайших же днях, если подтвердится
предположение об отсутствии чего-либо серьезного.
Решаю использовать благодушное настроение поэта:
— Конечно, — говорю, — ничего серьезного быть не может.
Освободите их сейчас. Охота вам зря держать людей.
— Не могу, при всем желании — не могу. Надо разобраться.
Вы не можете себе представить, сколько у нас работы в связи
* Беседа {франц.). — Прим. ред..
425
с Кронштадтом: ведь арестованных масса, а нас не прибавилось.
Завалены работой...
Полусконфуженно улыбается, точно ждет сочувствия.
Мы поднимаемся. Снова крепкие рукопожатия, провожает
до дверей.
— Можете не беспокоиться: выпустим очень скоро.
Снова длинные, узкие коридоры. На сердце довольно
спокойно, поскольку в стенах Чеки спокойствие возможно. Блок
прерывает молчание:
— Эстетически я воспринял этого господина, пожалуй, даже
не без приятности. Но всё вместе вообще противно.
Чудный Блок, и в грязном коридоре застенка — он
неизменный эстет! «Но всё вместе вообще противно»... С этим
ощущением, несколько месяцев спустя он сошел в могилу.
Через неделю все арестованные были на свободе.
Прошло месяца два: на юбилейном бенефисе И. В. Ершова,
в Мариинском театре, я оказался в соседней с чекистской
компанией ложе: стриженые девицы, советские кавалеры. Среди
них — Озолин. Ложи отделены друг от друга низким барьером.
В антракте обращается ко мне:
— Здравствуйте, гражданин Волковыский. Можно вас на
минуточку попросить выйти?
Выходим в коридор.
— Как видите, я сдержал свое слово: через несколько же
дней ваши друзья были освобождены.
— Благодарю вас. Опасаюсь лишь, что скоро опять придется
беспокоить вас по чьим-нибудь другим, аналогичным делам.
Улыбается:
— Что ж делать, может случиться. Всегда к вашим услугам.
Мил, как всегда, этот чекистский поэт.
Женщина в оренбургском платке
Впервые в жизни я переступил порог кабинета
председателя Чрезвычайки, когда хозяйкой этого кабинета была
женщина.
Это было давно, в то время, когда еще цинично изо дня
в день опубликовывали списки расстреливаемых. Неполные,
конечно, списки (не хватило бы места на газетных столбцах).
Но зато почти ежедневно.
426
Опубликовывали и скрепляли именем председателя Губ-
чека. И когда впервые под таким списком появилась подпись
женщины, это показалось жутким даже в те дни.
Яковлева. Коротко и страшно. Смутные слухи носились
вокруг этой женщины... Говорили, будто она объезжает
тюрьмы, заходит в камеры, разговаривает с заключенными,
подтягивает тюремных царьков, вводит порядок. А в каждом номере
газеты:
«Президиум Губчека приговорил к расстрелу...» список
имен... «приговор приведен в исполнение
Преде, коллегии Яковлева».
Откуда взялась эта женщина, так заботливо относящаяся
сегодня к нуждам тех, кому завтра она с холодной жестокостью,
росчерком пера, оборвет жизнь? Никто не знал. Говорили, что
она «интеллигентка», жена инженера, будто бы даже профессора.
Откуда взялась? Вероятно, оттуда же, откуда все они взялись: из
подполья.
Я был в депутации, отправившейся к ней по делу известного
писателя, нежданно, без предупреждения семьи, отправленного
в ссылку, в холодную, далекую северную губернию. Больной,
слабый человек, с тяжелой котомкой на плечах, сгибавшихся
под ее тяжестью, он едва добрался, подгоняемый прикладами,
до вокзала, посажен в арестантскую теплушку — и прислал нам
письмо с принудительных работ.
Мы пошли к ней, к этой таинственной и жуткой женщине.
Тонкое матовое лицо не первой молодости. Гладко
причесанные черные волосы. Умные спокойные глаза. Закутана
в теплый, уютный оренбургский платок. Работает,
наклонившись над бумагами.
— Прошу садиться.
Подает руку. Крепкое мягкое рукопожатие. От всей фигуры,
от спокойных, приятных глаз, от теплого платка веет уютом.
Приятный голос, отчетливая русская речь. Кто она — еврейка,
грузинка, русская? Не знаю: скорее всего русская.
Слушает внимательно, не прерывая, глядя нам прямо в
глаза. Из-под мягкого вязаного платка видны только кисти
рук. И я не могу оторваться от них глазами. Эта женская
рука, подписавшая десятки — быть может, сотни — смертных
приговоров. Удивительно красивые руки. Длинные, тонкие
пальцы: смотришь на них — точно пробегают по клавишам
427
рояля. Пальцы, рожденные для арфы. Белые, нежно-точеные
и, вместе с тем, сильные, крепко сжимают карандаш. Пальцы
властной, непреклонной руки.
Плохо слышу, что говорят мои спутники, весь — во власти
этих рук. Где кровь? Где кровавые следы? Ведь они пролили
крови больше, чем нужно, чтоб окрасить ею воды Невы!
Крови нет: она — там, за чертою города, на снегу полигона, этом
проклятом кладбище истинных «жертв революции», не тех, чей
прах покоится под гранитными плитами Марсова поля.
Она отвечает мягко, но решительно:
— Вы ошибаетесь: тот, о ком вы говорите, никуда не сослан:
он здесь, в Петербурге, в тюрьме.
Я вынимаю из кармана открытку: помечена какой-то
станцией за Вологдой. Она внимательно рассматривает штемпель.
— Не понимаю. Ничего не понимаю. Он должен быть здесь.
Я вам ручаюсь, что он здесь.
— Но ведь открытка говорит другое. Да разве вы можете
знать всех заключенных в петербургских тюрьмах?
— Конечно, нет. Но его имя мне хорошо известно, так как
я сама распоряжалась о его отправке в Москву на ближайших
же днях.
— Как видите, ваше распоряжение не исполнено. Да и
почему — в Москву?
— По постановлению последнего Съезда Советов лица,
опасные для республики хотя бы по своей прошлой
политической деятельности, подлежат строгой изоляции в
концентрационных лагерях.
Мы пытаемся доказать, что он — публицист, не активный
политический боец даже в прошлом, а теперь — совсем далек
от политики.
Она твердо стоит на своем:
— Он опасен и будет изолирован. А что он в Петербурге,
это вам сейчас подтвердят.
Нажимает кнопку.
— Позовите сюда Шимановского.
Это — секретарь Чеки. Входит молодой человек.
Неприятное наглое лицо. Взлохмаченная голова. Пенсне. Банальный
тип митингового оратора третьего ранга.
— Шимановский... — голос звучит резко и властно, —
выясните недоразумение. Я велела держать (называется имя) —
428
в Петербурге до высылки в Москву, а вот товарищи уверяют,
что он за Вологдой. В чем дело?
Шимановский исчезает. Яковлева молча наклоняется над
бумагами. Звонит телефон. Она четко и ясно дает какие-то
отрывочные ответы. Шимановский возвращается.
— Он не выслан. Вот списки высланных. Он — в Доме
предварительного заключения.
Я снова протягиваю открытку.
Яковлева нервно обрывает Шимановского:
— Глупости. Вот доказательство того, что ваша справка
вздорна. Выясните дело и доложите мне. Немедленно. Это —
возмутительная история! Мое распоряжение было совершенно
ясно. Вы слышите — выясните й верните в Петербург. Товарищи,
эта непостижимая ошибка будет исправлена.
— А он все-таки будет отправлен в Москву?
— Безусловно.
Мои спутники прощаются. Я остаюсь в кабинете: у меня
есть личная просьба за одного друга, забытого в тюрьме. Сколько
таких забытых в советских тюрьмах!
Шимановский возвращается вторично.
— Я ничего не понимаю, — говорит он, — я проверил все
списки — он здесь.
— Вздор. Он выслан неизвестно кем и почему.
Голос звучит, как металл. Глаза жестокие. Возле губ легла
складка: непреклонная суровая воля. Тонкие пальцы нервно
сжимают карандаш.
— Ваши справки вздорны, Шимановский. Инцидент должен
быть расследован. И срочно. Вы слышите? Срочно. Кто бы ни
был виноват — привлечь к ответственности. Такого безобразия
я терпеть не намерена. К строжайшей ответственности. Идите
и сейчас же выясните дело. Я вас слушаю, — обращается она
ко мне. Другая интонация, деловая и мягкая. Глаза опять
спокойно-внимательные.
Телефонный звонок.
— Слушаю... да, да. Он должен проехать завтра через Белоос-
тров. Не прозевать его и арестовать на фанице. Я прочитала его
дело. Вы слыхали: не прозевать! Вы отвечаете, — вешает трубку.
— Простите, всё время отрывают. Я вас слушаю.
Быстро кончаю свой разговор. Опять сильное и мягкое
пожатие руки — и снова карандаш в тонких белых пальцах.
429
— Будьте спокойны: всё будет сделано сегодня же.
Через пять минут один из моих друзей, вместе с Шима-
новским выяснили «недоразумение»: оказалось, что в Москву
подлежал отправке носитель псевдонима, под которым вся
культурная Россия знала писателя, а в Вологду выслан владелец
настоящей фамилии, почти никому не ведомой и ни с какой
политикой, даже в сознании большевиков, не связанной. За
что? Очевидно, так, за компанию.
Мы снова зашли в кабинет. Яковлева молча выслушала
растерянного Шимановского. Сомнений нет: один и тот же
человек подвергается одновременно двум, друг друга
исключающим карам: одной — под своей настоящей фамилией,
другой — под псевдонимом!
Тонкие пальцы арфистки нервно смяли листок бумаги. Глаза
сверкнули злобой. Мгновение — и всё погасло.
— Будьте спокойны — он будет возвращен. Я вам обещаю.
Через десять дней наш друг постучался в двери своей
квартиры в Петербурге. Яковлева сделала жест: ошибку своего
«ведомства» она искупила милостью.
Когда я покидал Россию, Яковлева руководила Главпроф-
обром, т. е. всей высшей школой республики.
Из всех чекистских фигур, мною виденных, эта женщина,
закутанная в мягкий платок, с руками пианистки, оставила у
меня самое яркое, самое сильное и значительное воспоминание.
н. волковыский
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
ВЫСЛАННОГО*
1. Арест и что было до него
В ночь на 17 августа [1922 г. — Ред.] они пожаловали ко мне
на квартиру. Кто это «они», вы сами знаете.
Были корректны, обыскали поверхностно. Очень
соблазнительно было пересмотреть книги, но их оказалось несколько сот,
а работы им предстояло еще много. Пришлось соблазн побороть.
Внимательно перелистали книжку, лежавшую на ночном
столике. Что они рассчитывали найти в монографии Эрнста
об Александре Бенуа, санкционированной В.Ц. (Военной
цензурой), — они, вероятно, и сами не знали. Внимательно
пересмотрели корреспонденцию. Для приличия забрали какие-то
ничего не стоящие бумажки и составили короткий протокол.
На казенный вопрос: нет ли у меня каких-либо претензий,
я должен был откровенно признаться, что, кроме недовольства
самим фактом их появления ночью в моей квартире, я никаких
претензий к своим гостям не имею.
Дальнейшее — по трафарету: «одевайтесь, вам придется
ехать с нами... возьмите с собой подушку, одеяло, какую-нибудь
еду... денег и золотых вещей не берите...» и т. д. Автомобиль —
и канцелярия на Гороховой, 2.
Кто из петербуржцев не знает этого «бытового явления»
советской жизни. Не в первый раз за минувшие годы принимал
и я ночных посетителей и остановился на некоторых внешних
подробностях августовского визита лишь потому, что очень уж
отличаются нынешние манеры чекистских агентов от их же манер
в 1918—20 гг. и очень уж напоминают корректность столичных
жандармов в столыпинские дни. Охранно-чекистский технический
круг замкнулся уже давно. Замыкается теперь и психологический.
Пока автомобиль мчался на Гороховую (по дороге он стоял
минут двадцать возле Литейного сада — комиссар арестовывал
другого преступника), я обдумывал причины моего ареста.
* Сегодня (Рига), 3, 4, 20, 21 января 1923 г., № 1, 2, 15, 16.
431
Их могло быть две: либо какой-нибудь нелепый эпизод,
вроде перехваченного случайного письма из-за границы, с
которой я вообще не переписывался, но откуда нет-нет и приходило
письмецо от какого-нибудь старого приятеля; либо грянул гром,
которого я и многие мои друзья давно ожидали. Если верно
второе, то, значит, наступил час расплаты за то, что в течение
пяти лет мы не прислуживались власти, не лизали ничьих
подошв, не продавали своих перьев, а открыто и честно, без всяких
затаенных планов, далекие от всяких «заговоров», участвовали
в сохранении остатков русской культуры. И тогда — арест
надолго, тюремная камера — на многие месяцы, а там — суд,
новый процесс по типу церковников, процесс ученых и
литераторов, с циничными отчетами в газетах, с выворачиванием
наизнанку грязными руками всей жизни, с плеванием в душу
публично — на суде и за спиною — в газетах и с приговором тем
более жестоким, чем нелепее и безграмотнее было бы обвинение
в несовершенных преступлениях.
Первые часы ожидания в канцелярии на Гороховой
подтвердили основательность второго предположения: состав людей,
прошедших мимо меня в часы этого случайно затянувшегося
ожидания в канцелярии, раскрыл карты правительственного
«заговора» против группы ученых-философов и экономистов
и против литературно-публицистической группы, которые
и попали три месяца спустя в изгнание.
Любопытно несколькими штрихами наметить те пути, по
которым шел этот нелепый «заговор».
Сперва он велся внешне неорганизованно: еще осенью
1921 года был отстранен от университетской кафедры гордость
современной русской философии проф. Н. О. Лосский186,
которому вменялось в преступление философское признание Троицы.
При отсутствии в России всякой гласности этот вопиющий
факт — лишение университета одного из наиболее выдающихся
профессоров, прошел никому не ведомым.
Зимою 1921/22 г. началась травля Дома литераторов в
Петербурге и издававшегося им журнала «Летопись». В Москве
изощрялись Сергей Городецкий и некий г. Литваков. Имя
первого хорошо известно: на руках поэта еще видны следы чернил,
которыми в «Огоньке» воспевалась икона Казанской Божией
Матери, и из памяти вашей еще не исчезло его же «Сретение
царя». Г. Литваков — бундовец, бывший сотрудник «Киевской
432
мысли», теперь — большевистский лакей, работавший с
салфеткой под мышкой в московской «Правде».
На страницах петербургской «Правды»* за легкое дело
травли людей, всегда с пером в руках боровшихся с идейными
противниками, имевшими возможность парировать удары
тем же оружием, либо с врагом, вооруженным для ответа всем
аппаратом правительственной власти, за легкое дело травли
нас, у которых привычное оружие было выбито из рук, взялись
хулиганы от советской журналистики: лидерствовал г. Сафаров,
газетный жаргон которого был бы уместен в грязном притоне,
где собираются громилы и взломщики, а карьеру на этой линии
наименьшего сопротивления делали — бесшабашный газетный
лихач Дан, Гессен и старый, потерявший и юмор, и
последние остатки совести фельетонист О. Л. Д'Ор; а за ними шли:
Вас. Князев, Вл. Воинов и т. п. продажные перья.
Без отдаленного подобия каких-либо обвинительных
материалов в руках эти резвые мальчики своими безграмотными
писаниями создавали ту атмосферу глухого озлобления против
начинавшей возрождаться литературы, против отдельных лиц,
против наших журналов, против Дома литераторов, все четыре
года своего существования стоявшего в стороне от политики
и на строго и честно-профессиональной почве защищавшего
писателя, его интересы, его нужды, его попранные человеческие
и литераторские права.
Презренная демагогия, глухая зависть малограмотного
писца к образованному человеку; зависть людей, бессильных
создать что-либо в условиях величайшего фавора к людям,
нечто создавшим в условиях гонения; затаенная ненависть
ренегатов к преданным ими старым друзьям — все смешалось
в этой травле.
А демагогическим слоям правящих верхов эта работа была
ценной услугой: она подготовила им успех во всех пленумах
ВЦИКа, губисполкомов и пр. в момент их нападения на фронте
«идеологических врагов».
Затем разгромили Объединенный совет высших учебных
заведений: здесь, мол, свила себе гнездо оппозиция тому, что
сейчас в России лицемерно называется «реформой высшей
школы» и что на самом деле является ее полным разгромом.
* Автор имеет в виду газету «Петроградская правда». — Прим. ред..
433
Тем временем карьеристы из маргариновой профессуры,
при содействии г. Гредескула, бывшего доцента г. Святловского,
еще прежде хорошо сочетавшего свою левизну с управлением
делами герцога Мекленбургского, и т. п. господ, создали т. н.
«левую профессуру», где немногие честные люди уже начинают
задыхаться в атмосфере провокации и обделывания своих
делишек. Всякий неуч получает кафедру ценой вступления в эту
организацию.
И вот в этой обстановке невиданного в самые темные дни
царизма подлаживания профессуры к власти, карьеристы из
неучей ведут свою подпольную работу по выживанию заслуженных
ученых, ибо только в их отсутствие эти проходимцы от науки
могут получить кафедры. Имена г.г. Лемке, Боричевского и др.
займут почетное место на этих страницах истории вырождения
русской профессуры.
Наконец, бельмом в глазу торчали экономисты, спокойно
и с официальными цифрами в руках вскрывавшие лицемерие
власти и ее бессилие в придании разным хозяйственным блефам
вида реальной спасительной политики.
И здесь для карьеристов, провокаторов и демагогов
открывались широкие горизонты.
По этим путям, напоминавшим берлинский Untergrund*, то
скрываясь в подземелье закулисных нашептываний и доносов,
то появляясь на поверхности советских газет и журналов, шли
«заговорщики», и мы ждали грозы.
Аресты в ночь на 17 августа, предшествовавшие или
последовавшие за ними закрытия разных журналов — литературных,
философских, экономических, беззастенчивые речи г.
Зиновьева, цитировавшего даже отрывки из статей, не пропущенные
цензурой, — всё это и было тем громом, который разразился
над нами в середине августа и последним — для нас, по крайней
мере, — раскатом которого была наша высадка в Штеттине187
во второй половине ноября.
17 августа утром мы все встретились в общих камерах на
Гороховой, 2, а восемь дней спустя, в 6 ч утра, окруженные
красноармейцами, с мешками и чемоданами, нестройными
рядами шли по набережной Невы, мимо Летнего Сада, в Дом
предварительного заключения.
* Подземка, метро (нем.). — Прим. ред.
434
2. Тюрьма
— Агаша, ставь скорей самовар! Живее! Подавай барину
чаю!
Это «общая камера» встречает вновь прибывшего арестанта.
Камера развлекается. Ей скучно. Тесно. Когда мы сидели,
духоты особенной не было: на дворе стояла чудесная
петербургская ранняя осень — теплые солнечные дни, почти без дождя,
дивные звездные ночи, безветренные, задумчиво-ясные.
Но в двух комнатах, под сводами, рассчитанных человек
на 60—65, скучено 126. Так было в наши дни.
Камере скучно и тесно. Свиданий на Гороховой не дают,
а сидят месяца по 2—3. Допрашивают редко. Подчас недель по
шести сидят без допроса даже и теперь, на заре жизни
советского уголовного кодекса.
Книг не дают. Газет тоже. Каким-нибудь чудом попадает
случайный газетный лист. Откуда? Как? Непонятно. Тайны
тюрьмы.
Опытный старый арестант, советский рецидивист
приспособился, изловчился. Даже бреют на Гороховой, хотя вы не
имеете права принести с собою тупой нож для хлеба. Бритвы
не видно: бреют ножом, за фунт хлеба, за пару яиц или кусок
пирога из «передачи с воли».
Время от времени обрушивается обыск: всех загоняют
в маленькую комнатку, где вы третесь о вшивые лохмотья
каких-нибудь несчастных, заброшенных людей. В пустых камерах
роются в подушках, в чемоданах. Вылавливают при удаче один
нож, два карандаша (тоже контрабанда), пять нумеров старой
советской газеты. А впуская арестантов обратно в камеру,
обыскивают и их.
Противная, бессмысленная операция, от которой
остается мутный, тошнотворный осадок. А во время обыска всегда
смутная тревога: не столько за себя, сколько за сохранение
сложившегося быта камеры, с которым сживаешься в два дня.
Но для нетребовательной камеры и обыск — развлечение.
Она издевается: неужели начальство думает, что перехитрит
камеру?
Смешно.
Камера приняла нас удивительно радушно и тепло. Через
час все уже знали, что привели «профессоров».
435
Под профессорской кличкой жили мы все три месяца:
и само ГПУ, и обе тюрьмы, и губисполком Петросовета
объединили ученых, литераторов, педагогов, инженеров в одну
«профессорскую» группу.
Тюрьма приняла нас хорошо, приветливо, с уважением,
с готовностью помочь во всех мелочах тюремной жизни. Она
приходила слушать «умные» разговоры, приносила кипяток,
гордилась «своими профессорами».
Состав тюрьмы — величина переменная. В августе,
сентябре и октябре, когда мы сидели, он был любопытен. Доживали
свои последние дни «фальшивомонетчики». Ни у одного из
них на совести нет ни одного фальшивого советского рубля —
не только металлического, но даже и бумажного. Это просто
люди, менявшие в Государственном Банке сто- и
пятидесятимиллионные советские бумажки, оказавшиеся при экспертизе
фальшивыми. И из банка — прямой переход на Гороховую,
франко-общая камера.
Там «фальшивомонетчик» сидел две — четыре — восемь —
десять недель. Срок — дело счастья. Лотерея. Среди них при
мне были: актер с садовой открытой сцены, торговец среднего
достатка — милейший человек, лет 50, семейный; молодой
рабочий, недавно приехавший из провинции, — сделал любезность
своему квартирному хозяину, побежал в Гос. Банк менять, а жена
его, вместе с владельцем бумажки, ждала его на базаре. Ждала
она его долго: при мне он сидел четвертую неделю.
Допрашивают их по определенному трафарету и без той
жандармской куртуазное™, с которой нас всех обыскивали.
Колесико за колесиком цепляются имена таких же ни в чем
не повинных людей; эти новые люди втягиваются в орбиту
чекистского внимания, и тянется длинная, нудная канитель
допросов, обысков, попыток создать дело о шайке.
Проходят недели, подчас месяцы — и «фальшивомонетчик»,
выбитый из жизненной колеи, оторванный от семьи,
измученный недоеданием, сидением на Гороховой без прогулок,
лежанием на твердой наре, вдвоем с чужими людьми — грязными,
нередко вшивыми — выпускаются на свободу, «за отсутствием
вины».
Теперь мода на фальшивомонетчиков как будто проходит:
потому ли, что всякая мода преходяща, или потому, что для
размена такой бумажки, как 100 миллионов, незачем идти
436
в банк, а можно разменять ее в любой лавчонке, — не знаю.
Но осенью десятки людей сменяли друг друга в тюрьме по делу
о фальшивых бумажках.
Вторая категория — это «церковники»: епископы,
священники и люди разного рода и звания.
При мне их было на Гороховой не очень много, но на
Шпалерной, в Доме предварительного заключения, я видел их
в большом числе; всё время привозили новых, и всё время шли
высылки их на восток.
Я был несколько раз на процессе церковников (дело
расстрелянного позже митрополита Вениамина); пришлось мне
перекинуться несколькими словами с церковниками и в тюрьме.
Не знаю, быть может, существуют какие-нибудь организации,
связанные с церковью и борющиеся с властью; быть может, это
такой же бред, как тот, жертвою которого стали мы — я далек
был от этих кругов. Но одно для меня ясно: в тюрьме по делам
церковников сидят толпы людей, виновных лишь в том, что
они ходят в церковь или случайно знакомы с теми или иными
скомпрометированными священниками.
И этих людей, представляющих собою в общей массе
бесформенную мешанину из попов, купеческих жен, интеллигентов
всех видов, приказчиков и прачек, высылают в Сибирь на холод
и голод, высылают по каким-то, одному лишь ГПУ ведомым
обвинениям.
Затем идут рабочие. Здесь тоже всё переплелось в туманный
и своеобразно благоухающий комок. Нелепо сажают бывших
с-ров*, нередко давно уже официально вышедших из партии.
Любят сажать рабочих-кооператоров (это уже кандидаты на
высылку в Сибирь).
Мы сидели в дни подготовки выборов в Петросовет: ясно,
что в тюрьме сидят те неугодные рабочие, которые имеют
шансы проскочить в Совет или, еще чаще, могут, по мнению ГПУ,
оказать на рабочих влияние во время выборов.
Сажают их по обычному советски-казенному образцу: по
каким-то старым спискам, партийным или иным — это тайна
чекистской кухни. Но факт тот, что время от времени сажают
одних и тех же людей, которые и отбывают 3—4 месяца очередного
тюремного заключения. За последнее время дело осложнилось:
* Эсеров. — Прим. ред..
437
высылка на восток и на север применяется в такой же степени
к рабочим, как и к интеллигентам.
Но еще характернее для внутреннего быта Советской России
заключение в тюрьму не просто неблагонадежных рабочих, но
рабочих, обвиняемых в забастовках.
В свое время, если память мне не изменяет, перед
последним съездом Советов, в казенной печати появились
подробные тезисы с комментариями по вопросу о том своеобразном
положении, в котором оказались в пролетарском государстве
рабочие, занятые частью в казенных, частью на частных заводах.
Эти тезисы и комментарии имели целью — с одной стороны,
вывести из неловкого положения пролетарскую власть, самое
эксплуатирующую одних рабочих и отдающую арендатору
в эксплуатацию других.
Практика уже показала, что в конечном итоге г. г.
комментаторы имели в виду: они дают рабочим частных заводов на
подмогу в борьбе с частной эксплуатацией всю устрашающую
и карающую силу судебного и гласного административного
аппаратов власти, в то же время обращая всю уничтожающую
тяжесть негласного аппарата ГПУ на рабочих, работающих
в «своих» заводах на «свою» социалистическую власть.
И в тюрьмы время от времени доставляются партии «на
себя» работающего пролетариата.
В чем же их преступления против рабоче-крестьянского
правительства?
Самое главное и самое тяжкое: требование своевременной
уплаты заработанных денег.
Вы смеетесь? Напрасно. Само предъявление таких
требований, вызываемых постоянными запозданиями выдачи денег, есть
крамола. А подтверждение этих требований угрозой забастовки
или приостановкой работы есть открытый бунт против власти
«злостных врагов».
В тюрьме я видел этих крамольников, разговаривал с ними.
Но этими группами не исчерпывается «личный состав»
русской тюрьмы в наши дни.
3. Тюрьма и высылки
Есть еще три категории тюремных сидельцев в Петербурге:
социалисты, перебежчики через границу и близкая к ним груп-
438
па шпионов (они же, быть может, и участники антисоветского
заговора).
Социалисты (к ним же ГПУ относит и анархистов) —
аристократия тюрьмы. Они сидят в Доме предварительного
заключения в особом коридоре, именуемом «политическим».
Гуляют два раза по часу, в то время как все простые смертные,
т. е. «беспартийные», рабочие, взяточники, профессора,
налетчики, литераторы, не очень опасные шпионы, перебежчики
и сомнительные заговорщики — одним словом, тюремная
шпана — пользуются лишь получасовой прогулкой.
Социалисты получают вместо общего для всех фунта хлеба
в день — полтора и даже, сверх воды с горохом и костями от
рыб, — целую селедку ежедневно.
До осени 1921 года они даже сидели в незапиравшихся
камерах, общались друг с другом, устраивали чаепития и
диспуты, иногда даже с участием арестованных
женщин-политических. Но рабоче-крестьянское социалистическое и
федеративное правительство нашло, что это чересчур: тюрьма
может стать слишком заманчивой для с-ров и меньшевиков,
не хватит места для всех желающих — и чрезмерные вольности
ликвидировало.
Одновременно с нами в «политическом» коридоре сидело
человек 40—45. Видел я там меньшевиков, занимавших
ответственные должности в советских учреждениях. Видал людей,
давно уже прекративших всякую политическую работу. Видал
и юнцов, которых юность лишила возможности иметь
революционное прошлое.
С социалистами расправляются круто: высылка на север
и на восток.
Ведут они себя в тюрьмах весело, даже буйно, протестуют,
всегда чего-нибудь требуют, объявляют голодовки.
Обращаются с ними сравнительно бережно. Голодовок
чекистские тюремщики, как и царские, не любят. Уговаривают
есть. Но абсолютного действия голодовки не имеют: можно
голодать и ровно ничего не добиться.
Не любят и самоубийств. О, как не любят! Волнуются,
бегают, шепчутся и скрывают от арестованных. А при нас было
три самоубийства: говорили, будто какой-то чекист
арестованный повесился; кто-то вспорол себе ножом живот (его стоны
доходили до наших камер); третий бросился с галереи в пролет.
439
Имена их тщательно скрывали, и все попытки заговорить об
этом с дежурными надзирателями были напрасны.
Тюрьма — место спокойное, и не любит она нарушения
своего покоя.
Перебежчики через границу — это очень многообразная
и чрезвычайно многолюдная категория: и врангелевский
офицер, и студент русского университета, и мальчик,
перебежавший, чтобы повидать свою мать, и уголовный, скрывающийся
от латвийской или эстонской полиции, и стосковавшийся по
родине матрос — участник Кронштадтского восстания.
Некоторых ловят на границе, некоторые сами являются
к местным советским властям; судьба у всех одинаковая —
тюремная отсидка. Наводятся справки, время от времени
допрашивают, обещают освободить «на днях» и держат, держат без конца.
О чем справляются? О прошлом, о родных, о разных,
одному лишь ЧК ведомых вещах. А главное — не шпион ли
вы? Чей — иностранный? Белогвардейский? Это неважно. Но
всякий человек, живущий вне РСФСР, — в потенции шпион.
Люди тянутся из тюрьмы в тюрьму: из Минска в Смоленск,
из Смоленска в Витебск, из Витебска в Москву, из Москвы
в Петербург. По дороге одетые, обутые люди превращаются
в оборванцев. Я видел их в тюрьме — без сапог, без шапки,
в рваной рубахе, в рваных, заштопанных летних штанах.
Провинциальная тюрьма ворует, грабит. Раздевает арестанта
ночью, в темноте, во время сна, обирает до нитки, до последней
пары старых носков. Обирает до последнего куска хлеба.
Это — тюрьма рецидивистская, погромная. Тюрьма
взломщиков и налетчиков.
Помню, ночью в общей камере среди полумрака закрытой
газетным листом электрической лампочки сижу на краешке
чьей-то нары. На полу, прислонившись к колонне, заменяющей
подушку, растянулся славный молодой парень; вместо матраца —
рваные штаны; крепкая грудь не закрыта лохмотьями рубашки.
Нищ и наг. Настроен бодро, весело. Только весь, как струна,
натянут. Щеки впалые, глаза живые, неспокойные.
— Пятый месяц, — говорит, — по тюрьмам. Сперва зачем-то
в Польшу отвезли, там опять арестовали, обратно отправили.
Вот так и шатаюсь по тюрьмам. А где конец? Не видать...
И улыбается.
— Чего ж вы смеетесь?
440
— А потому — отдыхаю. После провинциальной тюрьмы
отдыхаю. Вот посидели бы вы в Минске, в подвале, так
нарадовались бы, здесь кормят-то как...
— То есть как кормят? Прескверно кормят.
— Избалованы вы, видно. Здесь суп ешь — одно
удовольствие. И горох в нем, и селедка плавает. И не воняет... А в Минске
как внесут ведро с супом в камеру, так даже вонь от параши —
и ту заглушает. А у нас в общей камере параша стояла. Там по
полу ходить нельзя было — весь в грязи. А на полу спали: мест
на нарах не хватало. Всё набито, как сельди в бочке. Да и
бывали недели, что по полфунта хлеба на два, на три дня давали.
А здесь — фунт в день.
Видел в тюрьме савинковского офицера. Интеллигентный
человек. Вернулся в Россию сам. Разочаровался, говорит о
пережитом и виденном с отвращением. Четыре месяца странствует
по тюрьмам. Пиджака, брюк, сапог и носков не имеет: частью
обменял в тюрьмах на хлеб, частью украли. Рубашка — без
рукавов — лохмотья. При мне один рабочий, перед выходом,
подарил цельную рубашку.
— Скоро должны освободить. В Петербурге у меня родные.
Не знаю просто, как явиться в дом — босым, в нижнем белье.
Держат, конечно, по подозрению в шпионаже.
Шпиономания — это чекистская болезнь, пережиток Гражданской войны.
Эстонцы, гимназисты, бегущие с окраин на родину, бывшие
офицеры, школьные учителя — все сидят в ожидании, пока
выяснится, что они не шпионы.
И месяц тянется за месяцем. Помощи, передач, платья —
ниоткуда. Письма почти никогда не доходят. Заброшенные,
жалкие люди.
При мне только латвийская миссия проявляла интерес
к латвийским уроженцам: время от времени присылала им
небольшие передачи...
Вечер. В камере темно. Только на стене яркое пятно от
дворового фонаря, и на нем четкая тень оконной решетки. Тюрьма
не спит, в коридоре гулкие отзвуки чьих-то торопливых шагов.
Вскакиваю с койки, прижимаюсь к двери. Где-то звонко
щелкают тяжелые дверные замки. Неясный гул голосов. Беготня,
суетня в коридоре. Выпускают? Приводят новых? Отправляют
в ссылку? Кого? Знакомых или чужих? Откуда-то шум... как
будто крики... опять крики... много шагов по лестнице... гул
441
голосов... Всё смолкло. Снова мертвая тишина. Как магнит,
приковывает к себе светлое пятно на стене с четкой тенью
решетки. Засыпаю поздно, тревожно.
Утром на прогулке узнаёшь, в чем дело: вчера выслали
новую партию. Пришли в камеры, велели в темноте «сложить
вещи», привели в канцелярию и там сообщили: на вокзал,
оттуда в Оренбургскую губернию, в Тюмень, в Уфимскую, в
Архангельскую, в Семипалатинскую область. Как-то проведали
«политические», что высылают без предупреждения — и подняли
в камере шум и крик.
Довольно обычная картина: «собирайте вещи — и в ссылку».
Семья узнает дня через два. Иногда семью предупреждают за
день, за два: дают подряд два-три свидания, позволяют прислать
в тюрьму теплые вещи. Так и знали: если в передаче — теплое
белье, зимние перчатки, шуба — значит, ссылка.
Высылают обыкновенно без права жительства в губернских
и уездных городах, на железнодорожных станциях, в
фабрично-заводских местечках. И тянутся по проторенным царским
дорогам эшелоны социалистов, рабочих, кооператоров,
агрономов, «церковников» — этой особой разновидности советских
граждан. Тянутся в глушь, в холод, на голод. Тянутся, отданные
во власть местных ГПУ.
Но тюрьма не пустует: на место десяти ушедших приводят
двадцать новых. И всё теснее становится в камерах. Зима
наступает. Сыро, душно и зябко...
В этой атмосфере мы прожили в тюрьме два месяца.
4. Три буквы
Когда нам объявили, на завтра же после ареста, что нас
высылают за границу, многие из нас не поверили: какой смысл?
Кому это на руку? Что это за невиданная доселе гуманность?
Некоторые были в отчаянии: на какие средства ехать? На что
жить за границей? Кому в Европе нужна эта кучка философов,
экономистов, литераторов?
Да и какой смысл в подписке о «добровольном выезде»?
Многие, и я в том числе, отказались выдать такую подписку.
Хорош «добровольный выезд» по распоряжению ГПУ!
— А если я не соглашусь на отъезд за границу?
Следователь корректно отвечает:
442
— Вам придется ехать на Восток...
Ах, так! Тогда и раздумывать нечего. Понятно, на Запад:
там тоже невесело, но там я, может быть, не умру с голода, да
и там нет этих трех букв: ГПУ. Конечно, мы свыклись с ними,
они вошли в жизнь. Вы даже порою начинаете забывать о них.
Но вы не знаете, что такое истинный покой, когда вы живете
бок о бок с ГПУ. Я встречаю за рубежом людей, которые по
два-три месяца после отъезда с родины вздрагивали при шуме
автомобиля.
Лучше на Запад, в эмиграцию, которая казалась мне такой
чужой, не понимающей нас, нашей жизни, оторванной от души
России и забывающей ее любимый родной лик.
Но подписывать фальшивую бумажку о «добровольном»
выезде я не согласен. Пишу: «В случае предъявления мне со
стороны власти требования о выезде за границу обязуюсь этому
требованию подчиниться» и т. д.
Следователь морщится: ему дана другая инструкция. Он —
этот безусый юноша с элегантным пробором до затылка — сам
ведь пешка в руках начальства. Он не доволен редакцией, но
я отказываюсь изменить ее. Приходится бедному мальчику
подчиниться.
К чему расписка? Нет ли здесь провокации? Вся эта
нелепая версия о загранице многих из нас толкнула на мысль
о провокации.
Я говорю следователю:
— Если вы отбираете эту подписку, чтоб на суде кричать,
что «русская интеллигенция, как только ей показали щель
в Европу, сразу жадно бросилась в нее», то я потребую вызова
вас в суд, и вы, если вы честный человек и честный коммунист,
должны будете заявить, что я, как и многие мои товарищи по
камере, против принудительной поездки за границу решительно
протестовали...
Молодой человек в щеголеватом френче и с прилизанным
пробором улыбается. И он был прав: что могло быть наивнее
предположения, что он — следователь ГПУ — будет вызван
в суд для нашей реабилитации?!
Нелепая и подозрительная расписка — финальный аккорд
не менее нелепого «допроса».
Меня вызвали к следователю 12-м или 13-м из нашей
группы. Я знал уже трафарет ожидавшего меня.
443
«Ваше отношение к Савинкову?»
«Ваше мнение о реформе высшей школы?»
«Ваши соображения о задаче русской интеллигенции?»
«Ваше отношение к сменовеховскому движению?»
И — pour la bonne bouche*, так сказать на закуску:
«Ваше мнение о будущем русской эмиграции?»
Все эти вопросы следователь задавал полулениво-полу-
скучая. Они, очевидно, ему самому надоели. Да и глупость их
была, по-видимому, ясна и этому молодому человеку, рабочему
из «нахватавшихся» и натасканных в чекистской студии.
Скучно было и мне отвечать на них. Беседа тянулась долго:
не хотелось торопиться в камеру. Но последний вопрос был уже
слишком нелеп.
— К чему он? — спрашиваю я. — Ведь, чай, ответ
неинтересен не только вам, но даже мне самому.
— Будьте добры ответить.
— Обязательно?
— Обязательно.
— Извольте: часть эмиграции умрет за рубежом, часть
когда-нибудь вернется в Россию. Вас удовлетворяет такой ответ?
Юноше хочется улыбнуться, но он сдерживается:
положение обязывает.
— Напишите, пожалуйста.
Пишу, подписываю «показания».
И в ответе — предъявление обвинения по 57 ст. нового
Уголовного Кодекса: борьба с советской властью, особенно
энергичная в наиболее для нее тяжелое время и пр. и пр.
Спор, еще на 10 минут отдаляющий возвращение в камеру;
заявление о высылке, разрешение взять с собой семью;
уверения, что правительство не только даст паспорта, но и
раздобудет иностранную визу; предоставление выбора любой страны
и твердое обещание освободить через 3—4 дня «для устройства
дел перед отъездом».
Возвращаюсь в камеру точно из кинематографа, где смотрел
фантастическую фильму. Нелепость? провокация?
издевательство? Не можем разобраться в этом сумбуре. Ничему не верим.
Не можем разобраться, хорошо это или плохо? глупо или умно?
правда или ложь?
* «На закуску», в завершение (франц.). — Прим. ред.
AAA
Скорее всего, ложь и провокация. Но смысл их где? К
чему? На что провоцируют? Хорошо лишь одно: через несколько
дней на волю.
И потянулись дни за днями. Пошла вторая неделя.
Перевели в другую тюрьму: значит, плохо дело — надолго заладила
волынка. Значит, ложь: никакой высылки, а надо готовиться
к процессу.
На 50-й день выхожу на свободу. Неожиданно, один: часть
освобождена была раньше, часть осталась в тюрьме.
С тюрьмой свыкаешься в Советской России быстро:
с мыслью о ней еще на воле живешь изо дня в день. Свобода
ошеломляет: не скоро входишь в ее колею.
Не стоит вспоминать всех бесконечных хлопот, связанных
с отъездом: хождений в ГПУ, в таможенный округ, в цензуру,
в Госбанк. Куда только не приходилось ходить! А друзья сидят
и томятся в тюрьме. Как-то стыдно, неловко за свою невольную
свободу.
17 ноября, рано утром, от мертвой еще набережной Невы,
за Николаевским мостом, отчалил наш пароход. Миновали
гавань, обогнули Кронштадт... спустили с борта каких-то людей
в кожаных куртках на пограничной морской линии...
Три буквы — ГПУ — ушли в прошлое. Они остались на
родине.
Пять лет прожить в Советской России. Пережить пять
советских лет в зиновьевской вотчине. Месяцы террора Урицкого.
Дни кровавого зарева, возжженного над его могилой
обезумевшими большевиками, пятьюстами жизней отомстившими за
одну. Мрачные дни подступа Юденича — и новые потоки крови
после его отхода. А полтораста «красных юношей», посланных
в отряде «особого назначения» против его танков и оставшихся
под их давящими колесами?
Голод и стужа. Каждый день новая смерть любимых,
близких, родных людей. Эти похороны на ручных санках, в
разлезавшихся, едва сколоченных, нетесаных гробах. Юноши в
саванах, пробирающиеся среди снежного моря к неприступным
твердыням Кронштадта.
А перед тем — расстрел Гумилева, с которым еще несколько
месяцев тому назад жил в одной комнате, неразлучно, в Доме
отдыха и в чудесные лунные ночи, на тихом берегу Невы, слушал
его медно-литые стихи...
445
А после Кронштадта — сотни новых смертей, целые легионы
цветущих, жизнерадостных, отважных матросов безропотно, во
имя «советов без большевиков» шедших на расстрел.
Упали под пулями и точно сорвали в пропасть нависший
крутой утес — и помчалась, казалось, мертвая жизнь,
помчалась живая, неудержимая, еще страшная, как скелет, но горят
глаза, больные, воспаленные, полные жажды жизни, безумной,
развратной, хищнической и безжалостной, но жизни, которой
не убили страшные, жуткие пять лет.
Пускай на мгновение потухает в них огонь, но он
вспыхивает вновь, гаснет опять и еще, быть может, не раз вспыхнет,
не раз погаснет, но открылись глаза Жизни, которых мы не
видели пять долгих лет, из которых каждый стоит века... И в
эти минуты, в эти часы — мы в изгнании.
КОММЕНТАРИИ
1 Безсонов Георгий (Юрий) Дмитриевич, р. 10 мар. 1890 в
Санкт-Петербурге. Сын генерала. 1-й кадетский корпус 1908,
Николаевское кавалерийское училище 1910. Офицер 2-го
драгунского полка. Штабс-ротмистр л.-гв. Драгунского полка, командир
сотни Черкесского конного полка. Арестовывался 1918,
содержался в концлагере, бежал к белым. В белых войсках Северного
фронта с 31 окт. 1919; окт. 1919 — фев. 1920 в резерве чинов при
штабе Главнокомандующего. Взят в плен, содержался в различных
тюрьмах и на Соловках. В 1925 бежал в Финляндию. В эмиграции
во Франции. Ум. 1959.
2 Родзянко Михаил Владимирович, р. 9 мар. 1859 в Екатери-
нославской губ. Пажеский корпус 1877. Офицер Кавалергардского
полка. Действительный статский советник, председатель
Государственной Думы. Председатель Белого Креста. В Добровольческой
армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в штабе
армии. В Вооруженных силах Юга России по ведомству
министерства внутренних дел. Эвакуирован в мар. 1920 из Новороссийска
в Салоники и затем во Вранья-Банью на пароходе «Габсбург». Летом
1920 в Сербии. Ум. 24 янв. 1924 в с. Беодра (Югославия).
3 Гучков Александр Иванович, р. 14 окт. 1863 в Москве. Из
купцов. Управляющий Московским учетным банком. Председатель
3-й Государственной Думы, с 1915 член Государственного Совета,
2 мар. — 30 апр. 1917 военный и морской министр Временного
правительства. В эмиграции член Русского Совета. Ум. 14 фев. 1936 в
Париже.
4 Милюков Павел Николаевич, р. 15 янв. 1859 в Москве. Сын
преподавателя художественного училища. Образование: гимназия,
Московский университет 1882. Приват-доцент того же
университета. Один из лидеров партии кадетов. Член Государственной
Думы. В мар. — апр. 1917 министр иностранных дел
Временного правительства. 1917—1919 член «Национального центра»
и СГОР. Участник Ясского совещания. В эмиграции во Франции,
1921 — 1940 издатель газеты «Последние Новости». Ум. 31 мар. 1943 в
Экс-ле-Бене (Франция).
5 Шульгин Василий Витальевич, р. 1 янв. 1878 в Киеве. Из
дворян, сын профессора Киевского университета. Обр.: 2-я
Киевская гимназия, Киевский университет (1900). Журналист,
редактор газеты «Киевлянин». Член Государственной Думы. В годы
Гражданской войны руководитель подпольной разведывательной
447
организации «Азбука», с авг. 1918 в Добровольческой армии;
член Особого Совещания при Главнокомандующем ВСЮР до
31 мая 1919, с янв. 1919 председатель комиссии по национальным
делам, редактор газет «Россия» и «Великая Россия». В
эмиграции с 1921 член Русского Совета, жил в Германии, Болгарии,
Югославии, в 1925—1926 нелегально посетил Россию. В 1944
захвачен советскими войсками и до 1956 находился в заключении.
Ум. 13 фев. 1976 во Владимире.
6 Плеханов Георгий Валентинович, р. 29 нояб. 1856 в д. Гуда-
ловка Липецкого уезда. Из дворян. Обр.: Санкт-Петербургский
горный институт (не окончил). С 1876 в народническом движении,
с 1879 глава организации «Черный передел», затем марксист, член
редколлегии ЦО РСДРП. Меньшевик. Во время 1-й мировой
войны — оборонец. Ум. 30 мая 1918 в Питкеярви (Финляндия).
7 Дейч Лев Григорьевич, р. 26 сент. 1856 в Тульчине. Из купцов.
Обр: Киевская гимназия, Базельский университет (не окончил).
Один из лидеров народнического движения, в котором состоял
с 1874; с 1878 г. член «Земли и воли», после раскола которой
вступил в «Черный передел». В 1883 г. стал одним из основателей
марксистской группы «Освобождение труда», затем член РСДРП
(меньшевик). Во время 1-й мировой войны — оборонец. После
1918 г. остался в СССР. Ум. 4 авг. 1941 в Москве.
8 Засулич Вера Ивановна, р. 29 июля 1849 в с. Михайловка
Смоленской губ. Из дворян. Учительница. С конца 1860-х годов
активный член народнического движения, террористка, член
«Земли и воли», после раскола которой вступила в «Черный передел».
В 1883 г. вошла в марксистскую группу «Освобождение труда», затем
член РСДРП (меньшевик). Во время 1-й мировой войны занимала
оборонческую позицию. Ум. 8 мая 1919 в Петрограде.
9 Морозов Николай Александрович, р. 1854. Участник
народнического движения, член кружка «чайковцев», затем «Народной
воли», где был членом исполкома, террорист. С 1882 по 1905 в
заключении. После 1917 остался в СССР, где в 1932 избран почетным
членом Академии наук. Ум. 1946.
10 Лопатин Герман Александрович, р. 1845. Участник
народнического движения, первый переводчик на русский язык «Капитала»
Маркса, с 1870 член Генерального совета Интернационала. С 1873 по
1884 в эмиграции, затем глава распорядительной комиссии
«Народной воли» в России. С 1887 по 1905 в заключении. Ум. 1918.
11 Новорусский Михаил Васильевич, р. 1861. Участник
народнического движения, активный член «Народной воли», террорист.
С 1887 по 1905 в заключении. Ум. 1925.
448
12 Савинков Борис Викторович, р. 19 янв. 1879 в Харькове.
Сын судьи. Обр.: гимназия в Варшаве, Санкт-Петербургский
университет (не окончил). В революционном движении с конца
1890-х, с 1903 эсер, один из руководителей боевой организации
партии эсеров. В 1917 комиссар 8-й армии, затем —
Юго-Западного фронта, с 19 июля 1917 товарищ военного министра и
управляющий Военным министерством Временного правительства.
1918 создатель и возглавитель Союза защиты Родины и Свободы,
затем представитель адм. Колчака в Париже, 1920 председатель
Русского политического комитета в Польше. После нелегального
прибытия в СССР в авг. 1924 арестован и осужден. Убит в тюрьме
7 мая 1925 в Москве.
13 Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (ур. Ве-
риго), р. 13 янв. 1844 в с. Иваново Невельского уезда. Из дворян.
8 революционном движении с 1861 г. В 1901 инициатор создания
Боевой организации партии эсеров. В 1917 почетный
председатель партии эсеров, член Государственного совещания от
партии и Предпарламента, член Учредительного Собрания. Летом
1918 участвовала в деятельности Комуча, а затем — Уфимского
государственного совещания. С 1919 в эмиграции в США, затем
во Франции и Чехословакии. Ум. 12 сент.1934 под Прагой.
14 Князь Кропоткин Петр Алексеевич, р. 27 ноября 1842 в
Москве. Сын генерал-майора. Окончил Пажеский корпус 1862. Офицер
Амурского казачьего войска, с 1867 чиновник МВД. В 1872 вступил
в секцию II Интернационала в Цюрихе и начал революционную
деятельность в России, войдя в кружок «чайковцев», затем стал
теоретиком анархизма. Во время 1-й мировой войны — оборонец
(эту позицию высказал и на Государственном совещании в августе
1917 в Москве). Ум. 8 фев. 1921 в Дмитрове.
15 Корнилов Лавр Георгиевич, р. 18 авг. 1870 в Семипалатинске.
Сын коллежского секретаря. Обр.: Сибирский КК 1889, МАУ 1892,
АГШ 1898. Офицер Туркестанской стр. арт. бригады, по окончании
академии — на должностях Генерального штаба в Туркестанском
военном округе. Участник Русско-японской и 1-й мировой войн.
Подполковнике 1901, полковнике 1905, генерал-майоре 1911,
генерал-лейтенант с 1915, генерал от инфантерии с 1917. С 1907
военный агент в Китае, с 1911 командир 8-го пех. полка, с июня 1911
начальник 2-го Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной
стражи, с 1913 командир 1-й бригады 9-й Сибирской стр. дивизии,
с авг. 1914 командующий 48-й пех. дивизией, с 11 сен. 1914
командир 1-й бригады 49-й пех. дивизии, с 30 дек. 1914 начальник 48-й
пех. дивизии, с мая 1915 по июнь 1916 был в плену в Австро-Вен-
449
грии, откуда совершил побег. С 13 сен. 1916 командир 25-го арм.
корпуса, с 2 мар. 1917 командующий войсками Петроградского ВО,
с 29 апр. 1917 командующий 8-й армией, с 18 июля 1917 Верховный
главнокомандующий. Орд. Св. Георгия 4-й ст. (1905), Георгиевское
оружие (1907). Орд. Св. Георгия 3-й ст. (1915). 27 авг. 1917 выступил
против предательской политики Временного правительства, был
арестован, содержался в Быхове. С 5 дек. 1918 в Новочеркасске, где
возглавил Добровольческую армию, которую вывел в 1-й
Кубанский («Ледяной») поход. Убит 31 мар. 1918 под Екатеринодаром.
16 Чернов Виктор Михайлович, р. 19 нояб. 1873 в Камышине.
Из дворян. Обр.: гимназия, Московский университет (юрдический
факультет) 1894. В революционном движении с конца 1880-х.
Лидер партии эсеров. С 5 мая 1917 министр земледелия Временного
правительства. С сен. 1918 член Комуча. В эмиграции в США.
Ум. 15 апр. 1952 в Нью-Йорке.
17 Полковников Георгий Петрович, р. 23 фев. 1883. Из казаков
ст. Кривянской. Сибирский кадетский корпус 1902, Михайловское
артиллерийское училище 1904, академия Генштаба 1912. Офицер
артиллерии Донского казачьего войска. Офицер штаба 11-й
кавалерийской дивизии. Полковник, командующий войсками
Петроградского военного округа. Участник сопротивления большевикам
в Петрограде. Повешен (разорван лошадьми) большевиками в
марте 1918 в Задонской степи на зимовнике Безуглова.
18 Фон Экеспарре Александр Николаевич. Офицер с 1907.
Офицер 5-го драгунского полка. Штабс-ротмистр 2-го уланского полка,
летчик-наблюдатель, в канцелярии генерал-инспектора авиации.
Арестован в нояб. 1918. Расстрелян большевиками в нач. дек. 1918.
19 Эйдук Александр Владимирович (1886-1938), член компартии
с 1903 г., был в 1919 членом коллегии ВЧК.
20 Каннегиссер Леонид Акимович, р. 1896. Студент
Санкт-Петербургского политехнического института (не окончил). Юнкер
Михайловского артиллерийского училища. Расстрелян
большевиками сен. 1918 в Петрограде.
21 Кутлер Николай Николаевич, р. 1859. В службе и классном
чине с 1885. Действительный статский советник, 1905—1906
главноуправляющий землеустройством и земледелием. С 1906 один
из лидеров партии кадетов. Осенью 1918 содержался в Бутырской
тюрьме. Ум. 1924.
22 Поливанов Алексей Андреевич, р. 4 мар. 1855. Обр.:
Петербургская гимназия 1871, НИУ 1874, НИА, АГШ 1888. Офицер 2-го
саперного батальона и л.-гв. Гренадерского полка, по окончании
академии — на должностях Генерального штаба. С 1894 началь-
450
ник отделения Главного штаба, пом. и главный редактор журнала
«Военный сборник» и газеты «Русский инвалид», с 1904
управляющий делами Главного креп, комитета, с 1905 2-й ген.-кварт,
и начальник Главного штаба, 1906-1912 пом. военного министра,
с 1912 также член Гос. Совета, с 16 июня 1915 управляющий
военным министерством, с 10 сен. 1915 по 15 мар. 1916
военный министр. С апр. 1917 председатель Особой комиссии по
реорганизации армии и комиссии по улучшению быта военных
чинов. Генерал от инфантерии. Взят заложником в сен. 1918 в
Петрограде, затем арестован 28 мая 1919. Ум. от тифа 25 сен. 1920
в Риге.
23 Борейша Анатолий Станиславович, р. 26 июля 1886. Морской
корпус 1907. Старший лейтенант, флагманский минный офицер
3-го дивизиона подводных лодок Балтийского моря. Расстрелян
большевиками в начале 1919 под Вологдой.
24 Аргунов Андрей Александрович, р. 1866 в Иркутске. Эсер.
В белых войсках Восточного фронта; 1918 член Директории.
1918—1919 член «Союза возрождения». В эмиграции в
Чехословакии. Ум. 6-7 нояб. 1939 в Праге.
25 Маниковский Алексей Алексеевич, р. 13 мар. 1865. Обр.:
Тифлисский КК 1883, МАУ 1886, МАА 1891. Офицер 38-й арт.
бригады. Капитан с 1896, подполковник с 1900, полковник с 1903,
генерал-майор с 1907, генерал-лейтенант с 1911, генерал от
артиллерии с 1916. Участник Русско-японской и 1-й мировой войн.
С 1906 командир Усть-Двинской, сен. 1906 — Кронштадтской
креп, артиллерии, с 1914 комендант Кронштадтской крепости,
с 24 мая 1915 начальник ГАУ, с 6 мар. 1917 пом. военного
министра, с 30 апр. 1917 управляющий Военным министерством,
затем товарищ военного министра по снабжению. В окт. и
нояб. 1917 арестовывался большевиками, с 1918 в РККА, начальник
ГАУ и управления снабжений. Ум. в янв. 1920.
26 Марушевский Владимир Владимирович, р. 13 июля 1874 в
Петергофе. Из дворян Санкт-Петербургской губ. Обр.: гимназия
в Санкт-Петербурге 1893, НИУ 1896, АГШ 1902. По окончании
академии — на должностях Генерального штаба. С 1913 нач. штаба
2-й Финляндской стр. бригады, затем командир 7-го Финляндского
стр. полка, с 3 июля 1916 командир 3-й Особой пех. бригады во
Франции, с 3 июля 1917 в резерве чинов при штабе Петроградского
ВО, с 26 сен. 1917 начальник Генерального штаба. Орд. Св.Георгия
4-й ст. (1915). В эмиграции в Финляндии. Во время Гражданской
войны — в белых войсках Северного фронта (с 19 нояб. 1918);
с 15 янв. до авг. 1919 командующий русскими войсками Северной
451
области. Генерал-лейтенант (с 30 мая 1919). В эмиграции. Автор
воспоминаний. Ум. 1951-1952 в Загребе (Югославия).
27 Сорокин Питирим Александрович, р. 21янв. 1889вЯренском
уезде. Из крестьян. Обр.: Учительская семинария,
Санкт-Петербургский университет. Эсер. В эмиграции в США. Известный
социолог и культуролог. Ум. 12 мар. 1968 в Кембридже, Массачусетс.
28 Авксентьев Николай Дмитриевич, р. 29 нояб. 1878 в Пензе. Из
дворян. Московский университет (не окончил). Эсер. В белых войсках
Восточного фронта; осенью 1918 член Директории. 1918—1919 член
«Союза возрождения России». В эмиграции, 1920-1921 член
Российского Земско-Городского комитета помощи беженцам. Жил во
Франции, с 1940 в США. Ум. 4 мар. 1943 в Нью-Йорке.
29 Терещенко Михаил Иванович, р. 18 мар. 1886 в Киеве. Сын
сахарозаводчика. Обр.: Киевский университет, Лейпцигский
университет. Владелец сахарных заводов и издательства «Сирин». Член
Государственной Думы. Масон. 1915—1917 председатель Киевского
областного Военно-промышленного комитета. Министр финансов
в первом составе Временного правительства, с 5 мая 1917 министр
иностранных дел. С 25 окт. 1917 и до весны 1918 в заключении
в Петрограде. В эмиграции во Франции. Ум. 1 апр. 1956 в Монако.
30 Шингарев Андрей Иванович, р. 19 авг. 1869 в с. Боровое
Воронежской губ. Из купцов. Обр.: Московский университет 1891.
Врач. Член Государственной Думы, один из лидеров партии кадетов.
Убит большевиками 7 янв. 1918 в Петрограде.
31 Кокошкин Федор Федорович, р. 1871 в Холме. Из дворян,
сын надворного советника. Обр.: Владимирская гимназия 1889,
Московский университет 1893. Один из основателей и член ЦК
партии кадетов. Убит большевиками 7 янв. 1918 в Петрограде.
32 Бернацкий Михаил Владимирович, р. 6 окт. 1876.
Профессор Петроградского политехнического института,
управляющий отделом труда министерства торговли и промышленности,
министр финансов Временного правительства. В Вооруженных
силах Юга России; весной 1919 министр финансов правительства
ген. Шварца в Одессе, затем начальник управления финансов, член
Особого совещания, мар. 1920 министр финансов
Южно-Русского правительства. Эвакуирован из Новороссийска. Летом 1920 в
Константинополе, затем начальник гражданского управления,
с 29 мар. 1920 начальник Финансового управления правительства
ген. Врангеля. В эмиграции в Бриндизи, руководитель
Российского центрального объединения, затем во Франции, в 1931 член
учебного комитета Высших военно-научных курсов в Париже.
Ум. 16—17 июля 1943 в Париже.
452
33 Князь Долгоруков Павел Дмитриевич, р. 9 мая 1866 в Москве.
1-я Московская гимназия, Московский университет 1890. Статский
советник. Член Государственной Думы. 1918 член и тов.
председателя «Национального центра». В Добровольческой армии и ВСЮР;
с 10 окт. 1918 в Осваге. Эвакуирован до авг. 1920 из Новороссийска.
В эмиграции с 1920 в Константинополе, Белграде, Париже, Варшаве.
1921 член Русского Совета. Арестован 1926 в Харькове после перехода
границы СССР. Расстрелян большевиками 9 июня 1927 в Москве.
34 Щегловитов Иван Григорьевич, р. 1861. Училище
правоведения 1881. Действительный тайный советник, председатель
Государственного Совета, сенатор. Расстрелян большевиками
23 авг. (5 сен.) 1918 в Москве.
35 Сухомлинов Владимир Александрович, р. 4 авг. 1848. Обр.:
1-й КК 1865, НКУ 1867, АГШ 1874. Офицер л.-гв. Уланского
Его Величества полка, по окончании академии — на должностях
Генерального штаба. С 1884 командир 6-го драгунского полка,
с 1886 начальник Офицерской кав. школы, с 1890 начальник
10-й кав. дивизии, с 1899 нач. штаба, с 1902 пом. командующего,
с 1904 командующий войсками Киевского ВО (также Киевский,
Подольский и Волынский генерал-губернатор), с 1908 начальник
Генерального штаба, с 1909 по 13 июня 1915 военный министр,
с 1911 также член Гос. Совета. Генерал от кавалерии. Генерал-
адъютант (1912). В эмиграции в Финляндии, затем в Германии.
Ум. 2 фев. 1926 в Берлине.
36 Пуришкевич Владимир Митрофанович, р. 12 авг. 1870 в
Кишиневе. Из дворян Бессарабской губ. Окончил Новороссийский
университет 1895. Чиновник МВД. Член Государственной Думы.
В Вооруженных силах Юга России; издатель журнала «Благовест»
в Ростове. Ум. от тифа фев. 1920 в Новороссийске.
37 Имеется в виду санитарный поезд, снаряженный В.М. Пу-
ришкевичем.
38 Левый эсер Александр Абрамович Шрейдер (в 1917 член
Предпарламента) был одним из сторонников сближения с
большевиками, 6 окт. 1917 он участвовал в переговорах с Каменевым
и Троцким, обещая им полную поддержку в случае вооруженного
выступления.
39 Манухин Иван Иванович, р. 19 янв. 1882 в Кашине. Врач.
В эмиграции во Франции. Ум. 14 дек. 1958 в Париже.
40 Рутенберг Петр Моисеевич, р. 24 янв. 1878. Сын купца.
Окончил Санкт-Петербургский технологический институт. Инженер.
Весной 1919 в правительстве ген. Шварца в Одессе. В эмиграции.
Ум. 3-4 янв. 1942 в Иерусалиме.
453
41 Бурцев Владимир Львович, р. 17 нояб. 1862 в форте
Петровском. Сын офицера. Обр.: гимназия в Казани, Казанский
университет (не окончил). Участник народнического движения.
После 1917 активный противник большевизма. В эмиграции во
Франции. Издатель газеты «Общее Дело». Ум. 21 авг. 1942 в Париже.
42 Вышнеградский Александр Иванович, р. 1867-1868. Сын
финансиста. Директор правления ряда акционерных обществ.
Композитор. В эмиграции во Франции, 1920-1921 член «Делового
Комитета» по помощи Русской Армии. Ум. 9 мая 1925 в Париже.
43 Белецкий Степан Петрович. В службе и классном чине с 1894.
Тайный советник, товарищ министра внутренних дел, сенатор.
Расстрелян большевиками 5 сен. 1918 в Москве.
44 Философов Дмитрий Владимирович, р. 26 мар. 1872 в Санкт-
Петербурге. Публицист. В эмиграции в Польше, редактор газеты
«За Свободу». Ум. 5 авг. 1940 в Отвоцке (Польша).
45 Речь идет о меньшевике Николае Дмитриевиче Соколове,
который с марта 1917 был членом Исполкома Петроградского
Совета.
46 Карташев Антон Владимирович, р. 11 июля 1875 в Кыштыме
Пермской губ. Обр.: Духовная семинария, Санкт-Петербургская
духовная академия. Профессор, министр исповеданий
Временного правительства. Арестовывался осенью 1917. Летом 1918 член
«Национального центра» в Москве. 1919 заместитель председателя
и министр иностранных дел Северо-Западного правительства,
1920 член Русского Совета при Главнокомандующем Русской
Армией; в эмиграции председатель РНК в Париже, с 1925 профессор
духовной академии. Ум. 10 сен. 1960 в Ментоне.
47 Коновалов Александр Иванович, р. 17 сен. 1875 в Москве.
Из купцов. Обр.: Костромская гимназия, Московский
университет 1895 (не окончил). Мануфактур-советник. Министр торговли
и промышленности Временного правительства (2 мар. — 8 мая 1917).
В эмиграции во Франции. 1920—1921 член Российского
Земско-Городского комитета помощи беженцам. Ум. 28 янв. 1949 в Париже.
48 Смирнов Сергей Алексеевич, р. 1883. Сын фабриканта.
Московская практическая академия коммерческих наук 1902,
Московский университет. Директор правления Т-ва Ликинской
мануфактуры. С 1915 зам. председателя Московского военно-промышленного
комитета. С 25 сен. 1917 государственный контролер. Арестовывался
большевиками окт. 1917—1918. В эмиграции во Франции.
49 Третьяков Сергей Николаевич, р. 1882. Председатель
экономического совета Временного правительства, 1917—1918
председатель Торгово-промышленного комитета. Во время Гражданской
454
войны — министр торговли и товарищ председателя Совета
министров адм. Колчака. В эмиграции во Франции, где в 1929
завербован советской разведкой. Участник похищения ген. Миллера.
Ум. 1943 (казнен немцами).
50 Зилоти Александр Ильич, р. 27 сен. 1863. Пианист и дирижер.
В эмиграции в США. Ум. 22 дек. 1945.
51 Штейнберг Исаак-Нахман Захарович, р. 1888. Адвокат.
Левый эсер. В 1917 член ВЦИК, Предпарламента и Учредительного
Собрания. После захвата власти большевиками вошел в СНК в
числе нескольких эсеров и в дек. 1917 занял пост министра юстиции,
который покинул в марте 1918 г. после Брестского мира. С 1922 в
эмиграции. Ум. 1957.
52 Кишкин Николай Михайлович, р. 29 нояб. 1864 в Москве.
Из дворян, сын офицера. 1-я Московская гимназия,
Московский университет. Врач, министр государственного призрения
Временного правительства, руководитель Особого совещания
по разгрузке Петрограда. 25 окт. 1917 получил полномочия по
водворению порядка в Петрограде и пытался организовать отпор
большевистскому перевороту. 1918—1919 член «Союза
возрождения». 1919 осужден по делу «Тактического центра», арестовывался
в 1921. Ум. 16 мар. 1930 в Москве.
53 Князь Багратион-Мухранский Александр Ираклиевич,
р. 20 июля 1853. Сын действительного статского советника Ираклия
Константиновича. Обр.: НКУ 1874. Офицер л.-гв. Конного полка.
Участник Русско-турецкой войны 1877-1878. Ротмистр гвардии
с 1890, полковник с 1893, генерал-майор с 1904. С 1902 командир
44-го драгунского полка, с 1904 командир л.-гв. Конного полка,
с 1906 в Свите Его Величества. С 1917 в отставке
генерал-лейтенантом. Убит большевиками 18-19 окт. 1918 в Пятигорске.
54 Рузский Николай Павлович, р. 24 июня 1865. Из дворян.
Промышленник. В эмиграции во Франции. Ум. 7 сен. 1927 под
Парижем.
55 Великий князь Павел Александрович, р. 21 сен. 1860. В
службе и офицером с 1860. Офицер л.-гв. Гусарского полка. Генерал-
майор с 1893, генерал-лейтенант с 1898, генерал от кавалерии
с 1913. С 1890 командир л.-гв. Конного полка, с 1896 начальник
1-й гвард. кав. дивизии, с 1898 командир Гвардейского корпуса.
1902-1913 был в отставке. С 29 июня 1915 шеф л.-гв.
Гродненского гусарского полка, с 27 мая 1916 командир 1-го гвардейского
корпуса, с конца 1916 инспектор войск гвардии. С 31 мар. 1917 в
отставке. Орд. Св.Георгия 4-й ст. (1916). Расстрелян большевиками
30 янв. 1919 в Петрограде.
455
56 Великий князь Дмитрий Константинович, р. 1 июня 1860.
В службе с 1876, офицером с 1877. Служил по гвард. кавалерии.
Ротмистр гвардии с 1889, полковнике 1892, генерал-майор с 1896,
генерал-лейтенант с 1904, генерал от кавалерии с 1914. С 1892
командир л.-гв. Конно-грен. полка, с 1903 — 1-й бригады 2-й гвард.
кав. дивизии; с 1887 по 1905 также главноуправляющий
Государственным коннозаводством, с 1905 по 1917 состоял по гвард.
кавалерии. Генерал-адъютант (1904). Расстрелян большевиками
30 янв. 1919 в Петрограде.
57 Великий князь Николай Михайлович, р. 14 апр. 1859. В
службе с 1866, офицером с 1875. Обр.: АГШ 1874. Ротмистр гвардии
с 1885, полковнике 1892, генерал-майоре 1896, генерал-лейтенант
с 1901, генерал от инфантерии с 1913. Участник Русско-турецкой
1877-1878 и 1-й мировой войн. С 1894 командир 16-го грен,
полка, с 1897 начальник Кавказской грен, дивизии, с 1903 состоял по
гвард. пехоте, с 28 июля 1914 в расп. главнокомандующего
армиями Юго-Западного фронта, с весны 1917 в отставке. Расстрелян
большевиками 30 янв. 1919 в Петрограде.
58 Великий князь Георгий Михайлович, р. 11 авг. 1863. В
службе с 1869, офицером с 1870. Ротмистр гвардии с 1894, полковник
с 1896, генерал-майоре 1903, генерал-лейтенанте 1909. С
1895управляющий Русским музеем, с 6 сен. 1915 состоял при Верховном
главнокомандующем. Генерал-адъютант (1909). Расстрелян
большевиками 30 янв. 1919 в Петрограде.
59 Князь императорской крови Гавриил Константинович,
р. 3 июля 1887. Окончил 1-й Московский кадетский корпус 1905,
Николаевское кавалер, училище 1907, Александровский лицей 1913,
академию Генштаба. Полковник л.-гв. Гусарского полка.
Георгиевский кавалер. В эмиграции во Франции. Ум. 28 фев. 1955 в Париже.
60 Графиня Наталья Сергеевна Брасова (ур. Шереметьевская;
1880—1952) — морганатическая супруга Великого князя Михаила
Александровича.
61 Княгиня Романова (ур. Нестеровская) Антонина Рафаиловна,
р. 26 мар. 1890. Супруга князя Императорской крови Гавриила
Константиновича. В эмиграции. Ум. 7 мар. 1950 в Париже.
62 Бокий Глеб Иванович (1879-1937), член большевистской
партии с 1900 г., в 1917 член Петроградского ВРК. С марта 1918 —
заместитель председателя, с 31 августа 1918 (после убийства
М. С. Урицкого) — председатель Петроградской ЧК.
63 Новиков Вячеслав Николаевич, р. в Уфе. Сын инспектора
гимназии. Обр.: Оренбургская гимназия, Санкт-Петербургский
университет 1898. Присяжный поверенный. Прапорщик запаса.
456
Помощник уполномоченного Земгора. В белых войсках Северного
фронта. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. В июле
1922 в Турции (в лагере «Селемие»). В эмиграции во Франции,
к 1921 в Париже, затем в США. Ум. 5 июня 1966 в Нью-Йорке.
64 Генглез Иосиф Михайлович. Преподаватель Гатчинского
сиротского института. В эмиграции во Франции. Ум. 28 июля
1930 в Париже.
65 Генглез Павел Иосифович. Студент. Окончил Школу
прапорщиков инженерных войск 1917. Прапорщик. Расстрелян
большевиками 2 мар. 1918 в Петрограде.
Генглез Андрей Иосифович. Студент. Окончил Школу
прапорщиков инженерных войск 1917. Прапорщик. Расстрелян
большевиками 2 мар. 1918 в Петрограде.
Генглез Николай Иосифович. Студент. Окончил Константи-
новское артиллерийское училище 1917. Прапорщик. Расстрелян
большевиками 2 мар. 1918 в Петрограде.
66 Амфитеатров Александр Валентинович, р. 14 дек. 1862 в
Калуге. Сын священника. 6-я Московская гимназия 1881,
Московский университет 1885. Журналист и писатель. Во время
Первой мировой войны был корреспондентом «Русского Слова»
в Риме, с 1916 заведующий публицистическим отделом газеты
«Русская Воля». Арестовывался большевиками. В 1921 бежал на
лодке в Финляндию. В эмиграции в Италии. Ум. 26 фев. 1938 в
Леванто (Италия).
67 Мясоедов Сергей Николаевич, р. 1865. Окончил Московский
кадетский корпус. Служил в 105-м пех. Оренбургском полку. В 1892
перешел в Отдельный корпус жандармов. С 1901 по осень 1907
состоял начальником ж/д жандармского отделения на пограничной
станции Вержболово. В 1907 уволен в запас в чине подполковника.
В 1911 восстановлен на службе в ОКЖ, затем переведен в военное
министерство. В 1912 началась крупная интрига, возглавляемая
А. И. Гучковым, который обвинил Мясоедова в шпионаже.
Мясоедов вызвал Гучкова на дуэль, которая закончилась бескровно.
После этого скандала Мясоедов снова был уволен в отставку с
чином полковника. Было проведено расследование, которое не
выявило в действиях Мясоедова ничего, подтверждающего
обвинения в шпионаже. С началом Первой мировой войны был
призван в армию в ополчение, как пехотный офицер, затем назначен
переводчиком в штаб 10-й армии. 18 февраля 1915 по инициативе
генерал-квартирмейстера Северо-Западного фронта Бонч-Бруевича
и начальника контрразведки штаба фронта Батюшина Мясоедов
был арестован и обвинен в шпионаже и мародерстве. Несмотря
457
на слабость доказательств, военный суд приговорил его 18 марта
1915 к смертной казни. Приговор привели в исполнение 20 марта
до получения кассационной жалобы командующим фронтом.
Командующий не утвердил приговор, «ввиду разногласия судей»,
но дело решила резолюция верховного главнокомандующего Вел
кн. Николая Николаевича: «Все равно повесить!»
68 Бакмансон Лидия Федоровна (ур. Грюнейзен, по первому
браку Бакмансон, по второму браку Краснова), р. 24.04.1870,
отец — обрусевший немец, действ, статский советник. Артистка
оперы (меццо-сопрано), концертная певица. В 1890—1892 солистка
московского Большого театра, в 1891/92 гастролировала в Мари-
инском театре. С 1893 выступала в камерных и симфонических
концертах в Петербурге, Киеве, Кишиневе, Харькове и др. городах.
Выйдя замуж в 1896 г. за П. Н. Краснова, она оставила подмостки
театра и выступала лишь в частных концертах. Сопровождала мужа
в годы его службы по отдаленным окраинам Российской империи.
После революции вместе с мужем в эмиграции в Германии, затем
во Франции, с 1937 снова в Германии. Ум. 23.07.1949 в Вальхензее
(ФРГ).
69 Брешко-Брешковский Николай Николаевич, р. 8 фев. 1874 в
Санкт-Петербурге. Писатель и журналист. Эвакуирован в дек.
1919 — фев. 1920. На май 1920 в Югославии. В эмиграции в
Германии. Ум. 23 авг. 1943 в Берлине.
70 «Каружка» — шутливое прозвище улицы Рю де Каруж в
Женеве, принятое в среде эмигрантов. Множество квартир на
этой улице сдавалось студентам из России, которые составляли
в конце XIX — нач. XX в. значительную часть учащихся
Женевского университета. Большинство этих студентов были вовлечены
в деятельность политических партий социалистического толка.
«Розьерка» — прозвище улицы Мари Роз в Париже, на
которой Ленин свыше двух лет снимал квартиру, ставшую пристанищем
для многочисленных революционеров из России.
71 Яковлева Варвара Николаевна (1884—1941), член компартии
с 1904 г., училась на Высших женских курсах в Москве (не
окончила). С марта 1918 член коллегии НКВД, работала в Московской
ЧК, с июля 1918 член коллегии ВЧК, с сент. 1918 по янв. 1919
председатель Петроградской ЧК.
72 Лунд Ольга Сергеевна, р. 1851. Из дворян. Вдова. Член
Петроградской боевой организации. Расстреляна большевиками
24 авг. 1921 в Петрограде.
73 Светлейшая княгиня Волконская София Алексеевна (ур.
гр. Бобринская, по 1 браку кн. Долгорукова), р. 25 дек. 1887 в
458
Санкт-Петербурге. Окончила Женский медицинский институт,
Гатчинскую воздухоплавательную школу. Сестра милосердия. В мае
1919 эмигрировала, по возвращении — в Северо-Западной армии.
В эмиграции с мужем во Франции. Ум. 8 дек. 1949 в Париже.
74 Светлейший князь Волконский Петр Петрович, р. 11 дек. 1872
в Риме. Чиновник МИДа. В эмиграции во Франции. Ум. 11 июля
1957 в Париже.
75 Барон Мейендорф Александр Феликсович, р. 19 апр. 1869 в
Баден-Бадене. Окончил Санкт-Петербургский университет.
Товарищ председателя III Государственной Думы (с 1892 прапорщик
16-го драгунского полка). В Вооруженных силах Юга России.
В эмиграции в Англии. Ум. 20 фев. 1964 в Лондоне.
76 Граф Бенкендорф Павел-Леопольд-Иоган-Стефан
Константинович, р. 29 мар. 1853. В службе с 1871. Офицером с 1872
(произведен из юнкеров). Офицер л.-гв. Конного полка. Ротмистр гвардии
с 1886, полковнике 1893, генерал-майоре 1896, генерал-лейтенант
с 1907, генерал от кавалерии с 1912. Участник Русско-турецкой
войны 1877-1878. С 1893 гофмаршал, а с 10 апр. 1916 обер-гоф-
маршал двора Его Величества, член Гос. Совета. Золотое оружие
(1879). Генерал-адъютант (1905).
77 Имеется в виду гофмейстер граф Бенкендорф Александр
Константинович.
78 Баронесса Икскуль-Гильденбанд Варвара Ивановна (ур.
Лутковская, по 1 браку Глинка-Маврина), р. 1851. Деятельница
Красного Креста. Вдова русского посла в Риме. В эмиграции во
Франции. Ум. 20 фев. 1928 в Париже.
79 По-видимому, псевдоним.
80 Барон Мейендорф Павел Феофилович, р. 13 мар. 1882 в
Царском Селе. Окончил Пажеский корпус 1901. Полковник л.-гв.
Конного полка. В эмиграции в Германии. Ум. 30 апр. 1944 в Гиссене
на Лане (Германия).
81 Нератов Борис Анатольевич, р. 1859. Окончил Пажеский
корпус 1881. Офицер л.-гв. Конного полка. Есаул Кубанского
казачьего войска (поступил в 1914 из отставки).
82 Веревкин Петр Владимирович. В службе с 1883. Офицер
л.-гв. Преображенского полка и л.-гв. 1-й артиллерийской бригады.
Действительный статский советник, егермейстер. В эмиграции
в 1932 в Литве.
83 Курош Александр Парфентъевич, р. 30 мар. 1862. Сын капитана
1-го ранга Парфентия Александровича. Обр.: МК 1881 (офицером
с 1882). Капитан 1-го ранга с 1907, контр-адмирал с 1912,
вице-адмирал с 1916. С 1904 командир миноносца «Заветный», 1904-1905 —
459
минного крейсера «Финн», с 1906 — учебного судна «Память Азова»,
с 1909 начальник охраны Кронштадтских рейдов, 1909-1911
командир крейсера «Адмирал Макаров», с 1911 начальник 2-й минной
дивизии Балтийского флота, с 17 авг. 1915 начальник 2-й бригады
крейсеров того же флота, с 23 янв. 1917 комендант Кронштадтской
крепости. Арестован большевиками 16 сен. 1918 и расстрелян.
84 Яблочкин Владимир Александрович, р. 3 апр. 1864. Обр.:
Александровский КК 1882, АВУ 1884. Офицер 2-го пех. полка.
Капитан с 1893, подполковник с 1896, полковник с 1904,
генерал-майор с 1908, генерал-лейтенант с 1915. Участник китайской
кампании 1900—1901, Русско-японской (ранен) и 1-й мировой
войн. С 1904 командир 11-го Восточно-Сибирского стр. полка,
с 1908 командир л.-гв. Егерского полка, с 1913 начальник 3-й
Туркестанской стр. бригады, с 30 авг. 1914 — 2-й стр. бригады,
с 16 фев. 1915 — 32-й пех. дивизии, 2 апр. 1916 — 15 апр. 1917 и
с июля по 7 окт. 1917 командир 5-го Кавказского арм. корпуса,
15 апр. — июль и с 7 окт. 1917 в резерве чинов при штабе
Петроградского ВО. Остался в СССР. Расстрелян 2-3 мая 1931 в Ленинграде.
85 Барон Каульбарс Евгений Карлович. Сын офицера. Окончил
Пажеский корпус 1884. Ротмистр л.-гв. Уланского Ее Величества
полка (с 1908 в отставке полковником). Замучен большевиками
в начале нояб. 1919 в Петрограде.
86 Княгиня Волконская Анна Николаевна (ур. Звегинцева),
р. 1870. В эмиграции во Франции. Ум. 1950 в Ницце.
87 Князь Волконский Владимир Михайлович, р. 17 сен. 1868.
В службе и классном чине с 1891. Тайный советник, камергер,
товарищ министра внутренних дел, товарищ председателя
Государственной Думы. С мая 1919 в Копенгагене, с сен. 1919 намечен
председателем Совета Русской Западной армии, но отказался.
Участник Рейхенгалльского монархического съезда 1921 г. В
эмиграции во Франции. Ум. 24 мар. 1953 в Ницце.
88 Родзянко Павел Владимирович, р. 27 мая 1854. Окончил
Пажеский корпус 1872. Офицер Кавалергардского полка. Генерал-
майор, в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа.
В Вооруженных силах Юга России в резерве чинов при штабе
Главнокомандующего. Летом 1920 на Кипре, собирался ехать в
Русскую Армию в Крым. В эмиграции в Югославии. Ум. 2 авг. 1932 в
Ерцегнови, Черногория (по другим данным — 8 авг. 1930 в Париже).
89 Макаров Александр Александрович. В службе и классном
чине с 1878. Тайный советник. Член Государственного Совета,
сенатор; 7 июля — 20 дек. 1916 — министр юстиции. Расстрелян
большевиками осенью 1919 в Москве.
460
90 Усов Николай Николаевич, р. 26 июня 1866. Обр.: ПК 1887,
АГШ 1893. Офицер л.-гв. Уланского Его Величества полка, по
окончании академии — на должностях Генерального штаба.
Капитан с 1892, подполковнике 1897, полковнике 1902, генерал-майор
с 1910, генерал-лейтенанте 1916. Участник Русско-японской и 1-й
мировой войн. С 1903 нач. штаба 2-й пех., а с 1904 — сводной
каз. дивизии, с 1906 штаб-офицер для поручений при начальнике
Генерального штаба, с 1907 начальник Тверского кавалерийского
училища, с 1910 директор Пажеского корпуса, с 9 нояб. 1916 по
1917 пом. по военной части военного генерал-губернатора областей
Австро-Венгрии, занятых по праву войны. Убит в гражданской
войне.
91 Граф Коцебу Павел Павлович. Окончил Пажеский корпус
1903. Полковник л.-гв. Уланского Ее Величества полка, командир
16-го драгунского полка. В эмиграции к фев. 1954 на Восточном
побережье США, затем во Франции. Ум. 13 сен. 1966 в Париже,
погребен в Ницце.
92 Хвостов Алексей Николаевич, р. 1872. Окончил
Александровский лицей 1893. Камергер, 1915—1916 министр внутренних
дел. Расстрелян большевиками 5 сен. 1918 в Москве.
93 Протопопов Александр Дмитриевич, р. 18 дек. 1866 в с. Ма-
рысово Нижегородской губ. Кадетский корпус 1883,
Николаевское кавалерийское училище 1885, академия Генштаба 1890 (не
окончил). Офицер л.-гв. Конно-гренадерского полка.
Действительный статский советник. С 1914 тов. председателя
Государственной Думы, Симбирский губернский предводитель дворянства,
с 18 сен. 1916 управляющий МВД, с 2 дек. 1916 министр внутренних
дел. Расстрелян большевиками 7 окт. 1918 в Москве.
94 Муратов Николай Павлович. Окончил Училище
правоведения 1889. Действительный статский советник, член
Государственного Совета.
95 Рейнбот Анатолий Анатольевич (Резвой), р. 4 фев. 1868.
Обр.: Александровский КК 1885, МАУ 1888, АГШ. Офицер 37-й
арт. бригады. Капитан с 1900, полковник с 1904, генерал-майор
с 1906. С 1903 ландс-секретарь Нюландской губ., с 1905 штаб-
офицер для поручений при Финляндском генерал-губернаторе,
с нояб. 1905 и. д. Казанского губернатора, с 1906 Московский
градоначальник, с 1908 был в отставке, с 4 апр. 1914 состоял в расп.
военного министра, с 2 дек. 1914 начальник санитарной части
Северо-Западного фронта, а с 22 янв. 1915 генерал для поручений
при главном начальнике снабжений того же фронта, с 6 июля
1916 командующий 40-й пех. дивизией. Ум. в 1918.
461
96 Саблер Владимир Карлович, р. 1847. В службе и классном
чине с 1867. Действительный тайный советник. Обер-прокурор
Св.Синода, член Государственного Совета, сенатор. Ум. 1929 в
Твери.
97 Беляев Михаил Алексеевич, р. 23 дек. 1863 в
Санкт-Петербурге. Обр.: 3-я Санкт-Петербургская гимназия 1883, МАУ 1886,
АГШ 1893. Офицер 29-й арт. бригады, затем на должностях
Генерального штаба. Капитан с 1893, подполковнике 1898, полковник
с 1902, генерал-майор с 1908, генерал-лейтенанте 1912, генерал от
инфантерии с 1914. Участник Русско-японской и 1-й мировой войн.
С 1906 начальник отделения, с 1909 ген.-кварт. Главного штаба,
с 1910 начальник отделения по устройству и службе войск ГУГШ,
с 1 авг. 1914 и. д. начальника, с 2 апр. до конца 1916 начальник
Генерального штаба, с 23 июня 1915 до конца 1916 одновременно пом.
военного министра, затем представитель русского командования
при румынской Главной квартире, с 3 янв. по 2 мар. 1917 военный
министр и член Военного Совета. В марте, с 1 июля по окт. 1917 и
с янв. 1918 находился под арестом. Расстрелян большевиками
1918 в Петрограде.
98 Один из братьев Щербовых-Нефедовичей: Владимир (штабс-
капитан л.-гв. 1-й артиллерийской бригады), Георгий (полковник
той же бригады) или Павел (коллежский советник) —
расстрелянных осенью 1918 в Петрограде.
99 Коцурик Александр Владимирович. Сын генерал-лейтенанта.
Окончил Пажеский корпус 1913. Полковник л.-гв. Измайловского
полка. Арестован сен. 1918 в Петрограде.
100 Княгиня Палей Ольга Валериановна (ур. Карнович, по 1 браку
фон Пистолькорс), р. 2 дек. 1865 в Санкт-Петербурге.
Морганатическая супруга Великого князя Павла Александровича. В 1904
получила от баварского принца-регента титул графини Гогенфельзен,
в 1915 — титул княгини Палей (по одному из имений Великого
князя). В эмиграции во Франции. Ум. 2 дек. 1929 в Париже.
101 Хан Нахичеванский Гуссейн, р. 28 июля 1863. Обр.: ПК 1883.
Офицер л.-гв. Конного полка. Ротмистр гвардии с 1898, полковник
с 1903, генерал-майор с 1907, генерал-лейтенант с 1914, генерал от
кавалерии с 1916. Участник Русско-японской и 1-й мировой войн.
С 1904 командир 2-го Дагестанского конного полка, с 1905 —
44-го драгунского полка, с 1906 — л.-гв. Конного полка, с 1911 в
расп. командующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского
ВО, с 1912 начальник 1-й отдельной кав. бригады, с 1914 — 2-й
кав. дивизии, с 19 окт. 1914 командир 2-го кавалерийского
корпуса, с 25 окт. 1915 в расп. командующего Кавказской армией,
462
с 9 апр. 1916 командир Гвардейского кавалерийского корпуса,
с 15 апр. 1917 в резерве чинов при штабе Киевского, а с 23 июня —
Петроградского ВО. Взят заложником в сен. 1918 и расстрелян
большевиками в янв. 1919 в Петрограде.
102 Великий князь Михаил Александрович, р. 22 нояб. 1878.
В службе с 1897, офицером с 1898. Офицер л.-гв. Конной
артиллерии и гвард. кавалерии. Ротмистр гвардии с 1908, полковник
с 1909, генерал-майоре 1912, генерал-лейтенанте 1916. С
1909командир 17-го гусарского полка, с 1912 — Кавалергардского полка.
1912-1914 был в отставке, с 1915 начальник Кавказской Туземной
конной дивизии, с 19 янв. 1917 генерал-инспектор кавалерии.
С 31 мар. 1917 в отставке. Орд. Св. Георгия 4-й ст. (1915). Расстрелян
большевиками 13 июня 1918 в Перми.
103 Джонсон Николай Николаевич. Секретарь Вел. князя
Михаила Александровича. Убит большевиками 12 июня 1918 в Перми.
104 Князь Императорской крови Иоанн Константинович, р. 1886.
Офицер с 1907. Ротмистр л.-гв. Конного полка. Убит 18 июля 1918 в
Алапаевске под Екатеринбургом.
105 Князь Императорской крови Константин Константинович,
р. 20 дек. 1890. Окончил Пажеский корпус 1910. Капитан л.-гв.
Измайловского полка. Расстрелян большевиками 18 июля 1918 в Алапаевске.
106 Князь Императорской крови Игорь Константинович, р. 29 мая
1894. Окончил Полтавский кадетский корпус 1911, Пажеский
корпус 1914. Офицер л.-гв. Гусарского полка. Убит большевиками
18 июля 1918 в Алапаевске.
107 Великий князь Сергей Михайлович, р. 25 сен. 1869 в
Тифлисе. Обр.: МАУ 1889. Офицер л.-гв. Конной артиллерии. Капитан
с 1898, полковнике 1899, генерал-майоре 1904, генерал-лейтенант
с 1908, генерал от артиллерии с 1914. С 1898 командир 2-й батареи,
а с 1903 — 2-го дивизиона л.-гв. Конной артиллерии, с 1904
командир л.-гв. Конной артиллерии, сен. 1904 генерал-инспектор
артиллерии, с 5 янв. 1916 полевой генерал-инспектор артиллерии
при Верховном главнокомандующем. С 22 мар. 1917 в отставке.
Убит большевиками 18 июля 1918 в Алапаевске.
108 Князь Палей Владимир Павлович, р. 9 янв. 1897 в Санкт-
Петербурге. Сын Великого князя Павла Александровича от
морганатического брака с Ольгой Валериановной фон Пистолькорс (ур.
Карнович). С 1915 — офицер л.-гв. Гусарского полка (произведен
из вольноопределяющихся). Убит большевиками 18 июля 1918 в
Алапаевске.
109 Здесь и далее под «большевиком Б.» имеется в виду
Г. И. Бокий.
463
Ю9а н. К. К. — под этой аббревиатурой автор скрыла Николая
Карловича Кульмана (1871-1940). Он был историком литературы,
филологом. Закончил С.-Пб. ун-т. Профессор Александровского
лицея, Женского Педагогического института, Высших
Бестужевских и военно-педагогических курсов. Н. К. Кульман — автор
трудов по теории русской грамматики: «Историко-теоретические
основы современной методики грамматики»; «Методика русского
языка»; «Элементарно-практическая грамматика». Эти работы не
потеряли своего научного значения до сих пор и постоянно
упоминаются в исследованиях по языкознанию. С 1919 Н. К.
Кульман в эмиграции, где он был профессором русской литературы
Белградского и Софийского университетов, а с 1928 в Париже.
Здесь он стал профессором, затем деканом русского отделения
историко-филологического факультета Сорбонны, преподавал во
Франко-русском институте. Был воспитателем короля Александра
Сербского. Сотрудничал в журнале «Русская мысль».
109Ь Под аббревиатурой Н. И. Л-ва автор скрыла Наталию
Ивановну Лихареву (урожд. Бокий; 1877-1958), старшую сестру чекиста
Г. И. Бокия, жену (во втором браке) филолога и литературоведа
Н. К. Кульмана. Она окончила Высшие женские курсы в СПб.
Преподавала в средних учебных заведениях. В 1918 вместе с мужем
эмигрировала в Париж. Работала над историей русского языка. Написала
ряд очерков о языке отдельных писателей начала XIX в. Переиздала
элементарную грамматику Н. К. Кульмана, приспособив ее к новой
орфографии. Написала капитальный труд по истории русского языка
(не издан). Была одним из организаторов кружка «Друзья русских
писателей» (конец 1930-х), созданного с целью оказания материальной
помощи русским писателям в эмиграции. Участвовала в сб. «Колос:
Русские писатели русскому юношеству» (Париж, 1928).
110 Барон Менд Рудольф Фридрихович (Федорович), р. 1867.
Окончил Николаевское кавалерийское училище 1889. Ротмистр
л.-гв. Конно-гренадерского полка (с 1906 в отставке полковником).
В эмиграции в Финляндии, к 1928 в Выборге. Ум. ок. 18 дек. 1943 в
Гельсингфорсе.
111 Хоцяновский Борис Адольфович, р. 1871. Окончил 1-й
Московский кадетский корпус 1889, Александровское военное училище
1891. Полковник л.-гв. Семеновского полка. Генерал-майор (по
отставке 1917). В Вооруженных силах Юга России. Ум. от тифа
1919-1920 в Новороссийске.
112 Ефимович Александр Федорович, р. 5 янв. 1866. Окончил
Пажеский корпус 1885. Офицер л.-гв. Конного полка. Генерал-майор,
состоял при Вел. князе Павле Александровиче (с 1917 в отставке).
464
В эмиграции во Франции, на 1934 член суда чести главного
правления Союза пажей. Ум. 24 янв. 1940 в Париже.
113 Князь Барклай де Толли-Веймарн Николай Лонгинович,
р. 1893. Окончил Пажеский корпус 1913. Офицер л.-гв.
Гусарского полка. Арестовывался осенью 1918 в Петрограде. В эмиграции
в Швеции. Ум. 30 сен. 1964 в Мальме (Швеция).
1 и Оржеховский Виктор Грацианович. Пристав Петроградской
полиции.
115 Веселкин Михаил Михайлович, р. 13 нояб. 1871. Обр.:
Александровский лицей 1893, офицерский экзамен при Морском
корпусе 1894. Капитан 1-го ранга с 1913, контр-адмирал с 1915.
С 1909 командовал кораблями «Инженер-механик Дмитриев»,
«Достойный», «Амур», с 1913 командир лин. корабля
«Бородино», с 10 нояб. 1916 комендант Севастопольской крепости.
С 20 авг. 1917 в отставке вице-адмиралом. Расстрелян
большевиками 13 дек. 1918 в Петрограде.
116 Де Симон Анатолий Михайлович, р. 1880. Окончил Морской
корпус 1900. Капитан 2-го ранга. Взят заложником в сен. 1918 в
Петрограде. Расстрелян большевиками 13 дек. 1918 в Петрограде.
117 Фон Ренненкампф Николай Романович (Рейнгольдович),
р. 4 июня 1878 в Санкт-Петербурге. Окончил Морской корпус
1898. Капитан 2-го ранга. Арестовывался сен. 1918 в Петрограде.
Участник Белого движения. Капитан 1-го ранга. В эмиграции
в Латвии, к 1928 в Риге, в 1931 возглавлял группу ВМС в Латвии,
на окт. 1929 член Кассы взаимопомощи моряков в Ревеле. С 1939 в
Германии. Ум. янв. 1945 под Гнезно.
П8 фон Ренненкампф Павел-Георг Карлович-Эдгарович,
р. 17 апр. 1854 в замке Панкуль под Ревелем. Обр.: Гельсингфорс -
ское ПЮУ 1873, АГШ 1882. Офицер 5-го уланского полка, по
окончании академии — на должностях Генерального штаба. Майор
с 1882, подполковник с 1886, полковник с 1890, генерал-майор
с 1900, генерал-лейтенант с 1904, генерал от кавалерии с 1910.
Участник китайской кампании 1900—1901, Русско-японской и 1-й
мировой войн. С 1890 нач. штаба Осовецкой крепости, с 1891 нач.
штаба 14-й кав. дивизии, с 1895 командир 36-го драгунского полка,
с 1899 нач. штаба войск Забайкальской области, с 1901 начальник
1-й отдельной кав. бригады, с 1904 начальник Забайкальской каз.
дивизии, с 1905 командир 7-го Сибирского арм. корпуса, с 1906
командир 3-го арм. корпуса, с 1913 командующий войсками Вилен-
ского ВО, с 19 июля 1914 командующий 1-й армией, с 18 нояб. 1914
в расп. военного министра, с 6 окт. 1915 в отставке. Генерал-адъютант
(1912). Расстрелян большевиками 1 апр. 1918 в Таганроге.
465
119 Позерн Борис Павлович (1882-1939), член
большевистской партии с 1902, в 1917 г. был председателем Минского Совета
и комиссаров Северного фронта, в 1922—1923 — секретарь
Северо-Западного бюро ЦК РКП(б), затем Юго-Восточного крайкома
и Ленинградского обкома.
120 Ильин-Женевский Александр Федорович (1894— 1941), член
большевистской партии с 1912, с дек. 1917 был секретарем Нар-
комвоена, в 1918 — начальником политуправления Петроградского
военного округа, а с дек. 1918 — председателем инспекционных
комиссий Высшей военной инспекции, в 1919 — комиссаром
Главного управления Всевобуча.
121 Гитгис Владимир Михайлович (1881 — 1938), полковник
в 1918 вступил в РККА и с авг. 1918 был военруком Северного участка
завесы, а затем командовал 6-й армией. В 1919—1921 командующий
Южным, Западным и Кавказским фронтами. Комкор. Расстрелян.
122 Изгоев (Ланде) Александр (Арон) Соломонович, р. 11 апр.
1872 в Вильне. Сын учителя. Окончил Минскую гимназию 1889
и Новороссийский университет 1900. Писатель и публицист.
В 1922 выслан в Германию. Ум. 11 июля 1935 в Эстонии.
123 Баронесса Врангель Мария Дмитриевна (ур. Дементьева-
Майкова), р. 18 апр. 1858. Мать главнокомандующего Русской
Армией Петра Николаевича. В 1920 бежала из Петрограда в
Финляндию и Сербию. Ум. 18 нояб. 1944 в Брюсселе.
124 Барон Георгий Михайлович Врангель (р. 1876) был убит
большевиками 21 фев. 1918 г.
125 Дочь автора от первого брака, Марианна Эриковна Дер-
фельден, урожденная Пистолькорс. В третьем браке — графиня
Зарнекау.
126 Вероятно, автор ошибается, указав фамилию Шинклер.
Имеется в виду Шейнкман. (См.: Быков А. Путь на Голгофу.
Хроника гибели Великих князей Романовых. Вологда, 2000, с. 152.)
127 Ф. А. Кроми был английским морским атташе в России.
128 Вероятно, автор ошибается. Имеется в виду не Трейлиб,
а Трейман X. Я. (См. книгу А.В. Быкова «Путь на Голгофу. Хроника
гибели великих князей». Вологда, 2000.)
129 Арсеньев Евгений Константинович, р. 3 нояб. 1873. Из
дворян Санкт-Петербургской губ. Обр.: 8-я Санкт-Петербургская
гимназия, Санкт-Петербургский университет (2 курса) 1894,
курсы восточных языков, офицерский экзамен при Николаевском
кавалерийском училище 1895, Офицерская кавалерийская школа.
Офицер л.-гв. Уланского Ее Величества полка, командир л.-гв.
Кирасирского Ее Величества полка. Генерал-лейтенант, начальник
466
1-й гвардейской кавалерийской дивизии, командир Гвардейского
кавалерийского корпуса. Георгиевский кавалер. Летом 1918 в
Петрограде, занимался отправкой офицеров в белые армии, с 1918 в
Финляндии. В Северо-Западной армии; 1919 начальник 1-й
дивизии, с 10 июля 1919 командир 2-го стрелкового корпуса, с 24 но-
яб. 1919 в резерве чинов при штабе армии. В эмиграции в Эстонии,
с мая 1920 в Берлине, на 1 янв. 1921 в списке л.-гв. Кирасирского
Ее Величества полка, к 1 окт. 1921 член Общества взаимопомощи
офицеров бывших Российских армии и флота, основатель и
председатель Союза офицеров Российской Армии и Флота; участник
Рейхенгалльского монархического съезда 1921 г. Затем во Франции,
на дек. 1924 председатель объединения л.-гв. Уланского Ее
Величества полка, 1925—1930 председатель Союза офицеров участников
Великой войны, с 12 дек. 1934 член правления Союза Георгиевских
кавалеров. Ум. 29 мая 1938 в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).
130 Граф Зарнекау Алексей. Из запаса по
Санкт-Петербургскому уезду. Произведен в офицеры из вольноопределяющихся
1915. Прапорщик Татарского конного полка и 4-го Заамурского
пограничного конного полка. Расстрелян большевиками сен. 1918 в
Петрограде.
131 Трепов Владимир Федорович, р. 6 янв. 1863. Окончил
Александровский лицей 1881. Тайный советник, член Государственного
Совета, шталмейстер. 1918 участник подпольной организации в
Петрограде. Расстрелян большевиками авг. — сен. 1918 в Кронштадте.
132 Граф Граббе Николай Николаевич. Окончил Пажеский
корпус 1914. Штабс-ротмистр л.-гв. Конного полка. Расстрелян
большевиками окт. 1918 в Кронштадте.
133 Добровольский Иван Адамович, р. 1864. Обр.: Кадетский
корпус 1882, Константинове кое военное училище 1884. Офицер
л.-гв. 2-го стрелкового полка. Генерал-майор. С 1904 смотритель,
а с 1906 полицмейстер Имп. Зимнего дворца, с 1913 по 1917 пом.
начальника Царскосельского дворцового управления. Расстрелян
большевиками осенью 1918 в Петрограде.
134 Герарди Борис Андреевич, р. 1870. В службе с 1888,
офицером с 1890. Полковник Отдельного корпуса жандармов, в резерве
чинов при штабе Петроградского военного округа. Расстрелян
большевиками сен. 1918 в Петрограде.
135 Граф Татищев Дмитрий Николаевич, р. 1867. Обр.: АВУ
1890. Офицер л.-гв. Преображенского полка. Действительный
статский советник с 1910. 1915 переименован в генерал-майоры,
генерал-лейтенант с 1917. С 20 окт. 1915 по 1917 шталмейстер
Высочайшего Двора и командир Отдельного корпуса жандармов.
467
Расстрелян большевиками в ночь с 16 на 17 сен. 1919 в Москве.
Арестован сен. 1918 в Петрограде, апр. 1919 отправлен в Бутырскую
тюрьму. Расстрелян большевиками в ночь с 13 на 14 сен. (ст. ст.)
1919 в Москве.
136 Сабуров Александр Петрович, р. 5 нояб. 1871. Из дворян,
сын сенатора. Пажеский корпус 1890. Офицер
Кавалергардского полка. Действительный статский советник, Петроградский
губернатор. Арестован 13 нояб. 1918 в Москве и расстрелян
янв. 1919 там же.
137 Радек Карл Бернгардович (Собельсон; 1885-1939), зав.
отделом внешних сношений ВЦИК, с осени 1918 г. нелегально
находился в Германии, где участвовал в организации 1-го съезда
компартии Германии и был арестован.
138 Двхор ошибается в написании фамилии. Имеется в виду
председатель Петроградской ЧК Скороходов А. К. (См. книгу
А.В. Быкова «Путь на Голгофу. Хроника гибели великих князей».
Вологда, 2000.)
139 Имеется в виду Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873—
1955), член большевистской партии с 1895, бывший в 1917-1920
управляющим делами СНК.
140 На о. Голодай находился тюремный госпиталь, где был
в тот момент В. кн. Павел Александрович.
141 Имеются в виду переговоры англичан с большевистской
делегацией на Генуэзской мирной конференции 10 апр. — 19 мая
1922 г.
142 Баронесса Фелькерзам Дина Гамилькаровна. Дочь барона
Гамилькара Евгеньевича (р. 1854), члена Государственной Думы.
В Русской Западной армии в штабе армии, старший писарь отдела
Генштаба. С дек. 1919 в Германии, в мар. 1920 в составе Русского
отряда в лаг. Альтенграбов (Германия). Автор книги «Остров
Голодай» на нем. яз. ("Die Insel Golodai", Berlin, 1939).
из Биттенбиндер Владимир Васильевич. Окончил Морской
корпус 1912. Поручик по адмиралтейству. Расстрелян
большевиками дек. 1918 в Петрограде.
144 Бруни Николай. Окончил Морской корпус 1917. Мичман.
Расстрелян большевиками дек. 1918 в Петрограде.
Н5 фон Брюммер Константин Федорович, р. 5 дек. 1856. Из
дворян Лифляндской губ., сын вице-адмирала. 2-я
Санкт-Петербургская ВГ 1874, НКУ 1877, ОКШ. Офицер Кавалергардского
полка. Ротмистр гвардии с 1892, полковнике 1898, генерал-майор
с 1906, генерал-лейтенант с 1913. С 1892 адъютант Вел. князя
Николая Михайловича, с 1906 состоял при том же князе, с 28 июля
468
1914 в расп. главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта, с 19 апр. 1917 в отставке. Взят заложником в сен. 1918 в
Петрограде. В эмиграции во Франции, сторож. Ум. 11 июля 1930 в
Париже.
146 Граф Шувалов Павел Павлович. Сын Московского
градоначальника. Студент Санкт-Петербургского университета.
Прапорщик. 1918 член тайной офицерской организации, созданной
весной 1917 бар. П.Н.Врангелем и полк. А.П. фон дер Паленом
в Петрограде, занимался переправкой офицеров в Финляндию.
В Северо-Западной армии в Талабском полку, авг. 1919 адъютант
полка. Орд. Св. Анны 4-й ст. 25 окт. 1919. Ум. от ран 26 окт. 1919.
147 Великий князь Александр Михайлович, р. 1 апр. 1866 в
Тифлисе, сын Вел. князя Михаила Николаевича. Обр.: МК 1894.
Адмирал с 1915. Офицер Гвардейского экипажа. С 1900 командир
броненосца «Ростислав», с 1901 главноуправляющий торговым
мореплаванием и портами, с 1905 начальник отряда минных крейсеров
Балтийского флота. Один из создателей и первый командующий
русской военной авиацией: с 20 сен. 1914 заведующий
организацией летного дела Юго-Западного фронта, а с 10 янв. 1915 — всей
Действующей армии, с 11 дек. 1916 полевой генерал-инспектор
военно-воздушного флота при Верховном главнокомандующем.
С 22 мар. 1917 в отставке. Председатель Императорского Русского
общества судоходства, Русского технического общества. В
эмиграции во Франции. Автор воспоминаний. Ум. 14 фев. 1933 в Ментоне.
148 Великий князь Николай Николаевич, р. 6 нояб. 1856. Обр.:
НИУ 1873, АГШ 1876. Офицер л.-гв. Гусарского полка и учебного
пех. батальона. Капитан гвардии с 1876, полковник с 1878,
генерал-майор с 1885, генерал-лейтенант с 1893, генерал от кавалерии
с 1900. Участник Русско-турецкой 1877—1878 и 1-й мировой войн.
С 1884 командир л.-гв. Гусарского полка, с 1890 командир 2-й
бригады 2-й гвард. кав. дивизии и начальник той же дивизии,
с 1895 генерал-инспектор кавалерии, с 1905 главнокомандующий
войсками гвардии и Санкт-Петербургского ВО, 1905—1908
также председатель Совета государственной обороны, с 20 июля
1914 Верховный главнокомандующий, с 23 авг. 1915 наместник Его
Величества на Кавказе и главнокомандующий Кавказской армией,
2—11 мар. 1917 Верховный главнокомандующий. С 11 мар. 1917 в
отставке. Генерал-адъютант (1894). В эмиграции с 1919 в Италии,
затем во Франции. Возглавлял русскую военную эмиграцию.
Ум. 5 янв. 1929 в Антибе (Франция).
149 Великий князь Петр Николаевич, р. 10 янв. 1864. Офицер
л.-гв. Уланского Его Величества полка. Ротмистр гвардии с 1894,
469
полковнике 1896, генерал-майоре 1903, генерал-лейтенанте 1908.
С 1898 член совета ГУГК, с 1904 генерал-инспектор по инж. части,
с 1909 состоял по гвард. кавалерии, с 1917 в отставке. Генерал-
адъютант (1908). В эмиграции во Франции. Ум. 17 июня 1931 в
Антибе (Франция).
150 Великий князь Владимир Александрович, р. 10 апр. 1847.
В службе с 1847, офицером с 1854. Офицер л.-гв. Стрелкового
полка. Полковнике 1867, генерал-майоре 1868, генерал-лейтенант
с 1874, генерал от инфантерии с 1880. Участник Русско-турецкой
войны 1877—1878. С 1867 командир 1-го батальона л.-гв.
Преображенского полка, с 1868 командир того же полка и сенатор,
с 1872 начальник Гвардейской стр. бригады и член Гос. Совета,
с 1874 начальник 1-й гвард. пех. дивизии, с 1877 врид командира
12-го арм. корпуса, затем на прежней должности, с 1880
командир Гвардейского корпуса, с 1881 по 1905 главнокомандующий
войсками гвардии и Санкт-Петербургского ВО. Генерал-адъютант
(1872). С 1869 товарищ президента, а с 1876 президент Академии
художеств. Ум. 4 фев. 1909 в Санкт-Петербурге.
151 Великий князь Борис Владимирович, р. 12 нояб. 1877. Сын
Вел. князя Владимира Александровича. Обр.: НКУ 1896. Офицер
л.-гв. Гусарского полка. Участник Русско-японской и 1-й мировой
войн. Ротмистр гвардии с 1908, полковник с 1912, генерал-майор
с 1914. С 1914 командир л.-гв. Атаманского полка, с 17 сен. 1915
походный атаман всех казачьих войск. С 7 авг. 1917 в отставке. Орд.
Св.Георгия 4-й ст. (1914). В авг. 1918 арестовывался большевиками
в Кисловодске, бежал. В эмиграции с 1919 в Париже, с 1926 в
США. Член полкового объединения л.-гв. Семеновского полка.
Ум. 8 нояб. 1943 в Париже.
152 Великий князь Андрей Владимирович, р. 2 мая 1879. Сын
Вел. князя Владимира Александровича. В службе с 1895,
офицером с 1898. Обр.: МАУ 1902, ВЮА 1908, ОАШ 1910. Офицер л.-гв.
Конной артиллерии. Капитан гвардии с 1908, полковник с 1910,
генерал-майор с 1915. С 1910 командир 5-й батареи л.-гв. Конной
артиллерии, с 1911 командир л.-гв. 6-й Донской каз. батареи,
с авг. 1914 состоял при Генеральном штабе, с 7 мая 1915
командир л.-гв. Конной артиллерии, с 6 сен. 1916 состоял по Донской
артиллерии. С 3 апр. 1917 в отставке. В эмиграции во Франции.
Почетный председатель Союза Измаиловцев, председатель
объединения л.-гв. Конной артиллерии, с 1947 председатель Гвардейского
объединения. Ум. 30 окт. 1956 в Париже.
153 Князь Путятин Сергей Михайлович, р. 7 дек. 1893. Пажеский
корпус 1913. Капитан л.-гв. 4-го стрелкового полка. В эмиграции
470
на Восточном побережье США, на нояб. 1951 представитель
полкового объединения в США. Ум. 26 фев. 1966 в Чарлстоне (США).
154 Пораделов Николай Николаевич, р. 1887. Окончил Конс-
тантиновское артиллерийское училище 1906, академию Генштаба
1914. Офицер 36-й артиллерийской бригады. Подполковник.
Арестовывался 7 нояб. 1917. В эмиграции. Полковник. Ум. 1948.
155 Новицкий Василий Дементьевич, р. 3 янв. 1839. Обр.:
Константиновский КК 1858. Офицер Новоархангельского
драгунского, с 1871 — л.-гв. Казачьего, с 1873 — л.-гв. Атаманского
полков, с 1874 — Отдельного корпуса жандармов. Ротмистр гвардии
с 1873, полковнике 1875, генерал-майор с 1887. С 1874 начальник
Тамбовского, а с 1878 по май 1903 — Киевского губернского
жандармского управления. В 1903 уволен в отставку с производством
в генерал-лейтенанты, 1907 временный Одесский
генерал-губернатор и градоначальник. Ум. 14 нояб. 1907 в Одессе.
156 Автор статьи — Гефтер Александр Александрович, р. в 1885 г.
в Одессе. Окончил Санкт-Петербургский университет (адвокат),
сдал экзамен при Морском корпусе 1917. Мичман крейсера
«Память Азова». С 1917 в подпольных организациях в Петрограде. С
дек. 1918 в белых войсках Северного фронта в Мурманске, с весны
1919 в Финляндии. В Северо-Западной армии в отряде катеров,
вахтенный начальник катера № 4, с 28 нояб. 1919 в резерве флота.
В эмиграции во Франции, 1928 член Военно-морского ист. кружка
в Париже. Писатель, художник. Ум. 16 дек. 1956.
157 Р. Локкарт в 1918 г. был главой английской миссии в
Петрограде.
158 Schutzkar — Финская организация самообороны,
возникшая во время гражданской войны в Финляндии в 1917—1918 гг.
159 Варшер Татьяна Сергеевна, р. 1880. Дочь преподавателя
литературы. Археолог и историк античности. В эмиграции в Италии.
Ум. 2 дек. 1960 в Риме.
160 Мурцовка — холодный суп, приготовляемый из муки,
ржаного хлеба, подсолнечного масла и воды.
161 Набоков Владимир Дмитриевич, р. 21 июля 1869 в Санкт-
Петербурге. Сын министра юстиции. Окончил
Санкт-Петербургский университет. Чиновник Государственной канцелярии.
Управляющий делами Временного правительства. В нояб. 1918 —
апр. 1919 министр юстиции Крымского Краевого правительства.
В эмиграции в Германии. Убит в Берлине 28 мар. 1922.
162 Полетаев Евгений Алексеевич, р. 1885. Обр.: царскосельская
Николаевская гимназия, ф-т восточных языков, затем историко-
филологический ф-т СПб. ун-та. После революции 1917 заведовал
471
Отделом средних учебных заведений Наркомпроса. В 1918
опубликовал книгу «Против цивилизации», написанную совместно
с Н. Н. Пуниным, вспоминавшим об особой роли, которую сыграл
Полетаев в его сближении с большевиками в конце 1917 В 1930-е гг.
заведовал Восточной библиотекой ЛГУ. 1 августа 1937 был арестован
по обвинению в «сборе шпионских сведений» и участии в
«контрреволюционной польской шпионско-диверсионной организации».
9 ноября 1937 приговорен к расстрелу, 15 ноября приговор был
приведен в исполнение. О своих столкновениях с комиссаром
средней школы Полетаевым Татьяна Варшер подробно
рассказала в эмигрантских воспоминаниях «Полетаев и полетаевщина»
(«Руль», 17 июня 1922).
163 Батюшков Федор Дмитриевич, р. 5 сент. 1857 в Весьегонском
уезде. Из дворян. Окончил 1-ю Казанскую гимназию 1875,
Петербургский университет. Профессор того же университета. Историк
литературы, журналист. В апр. 1917 стал управляющим театрами.
Ум. 18 мар. 1920 в Петрограде.
164 По-видимому, псевдоним.
165 Герман Юрий Павлович, р. 19 дек. 1896 в
Санкт-Петербурге. Из дворян, сын полковника. Окончил 2-й кадетский корпус
1913, Михайловское артиллерийское училище 1914.
Штабс-капитан л.-гв. 2-й артиллерийской бригады. В Северо-Западной
армии в разведывательном отделе штаба; резидент в Петрограде.
Капитан. Погиб 31 мая 1921 при переходе границы в районе
Петрограда.
166 Таганцев Владимир Николаевич, р. 1880. Из дворян.
Сын Николая Степановича. Профессор-географ. Руководитель
Петроградской боевой организации. Расстрелян большевиками
24 авг. 1921 в Петрограде. Жена Надежда Феликсовна 1895
(расстреляна с мужем), дети Кирилл и Агния пропали без вести.
167 Лазаревский Николай Иванович. Из дворян. В службе
и классном чине с 1895. Действительный статский советник,
юрисконсульт Министерства финансов. Профессор
Петроградского университета. Член Петроградской Боевой Организации.
Арестовывался 13 дек. 1919 и в июне 1921 в Петрограде. Расстрелян
авг. 1921 в Петрограде.
168 Князь Ухтомский Сергей Александрович, р. 1885. Из дворян.
Скульптор. Профессор, член Петроградской боевой организации.
Расстрелян большевиками 24 авг. 1921 в Петрограде.
169 Таганцев Николай Степанович, р. 19 фев. 1843 в Пензе. Из
купцов. Окончил Пензенскую гимназию 1859 и Петербургский
университет 1863. Профессор того же университета, Александрове -
472
кого лицея и Училища правоведения. Действительный тайный
советник, сенатор, член Государственного Совета. Ум. 22 мар. 1923 в
Петрограде.
170 Речь идет о временной отмене смертной казни в феврале
1920 г., не распространяющейся на прифронтовые области.
171 Комаров Николай Павлович (наст. Федор Евгеньевич
Собинов; 1886-1937) с фев. 1919 был начальником Особого отдела, а с
авг. 1920 до 1921 — председателем Петроградской губернской ЧК.
172 Белостоцкий Григорий Львович. Юрист. Присяжный
поверенный. Член Петроградской боевой организации. Расстрелян
большевиками 24 авг. 1921 в Петрограде.
173 Князь Шаховской Дмитрий Николаевич, р. 30 сен. 1871. Сын
тайного советника. Подполковник в отставке, директор Торгово-
промышленного банка. Взят заложником в сен. 1918 в Петрограде.
Оказывал помощь по финансированию Белого движения. В
эмиграции во Франции. Участник Рейхенгалльского монархического
съезда 1921 г. Ум. 2 янв. 1930 в Вильжюифе.
174 Агранов Яков Саулович (1893-1938) окончил 4-классное
городское училище. В мае 1919 — 1920 был особоуполномоченным
Особого отдела ВЧК, а затем — заместителем начальника
управления Особыми отделами ВЧК. В дальнейшем занимал высшие
посты в ОГПУ-НКВД. В 1937 был арестован и затем расстрелян.
175 Тимофеев Владимир Николаевич, р. 1895. Из дворян.
Поручик. Член Петроградской боевой организации (служил в РККА).
Расстрелян большевиками 24 авг. 1921 в Петрограде.
176 Манухин Сергей Сергеевич, р. 1856. В службе и классном
чине с 1879. Действительный тайный советник. Член
Государственного Совета, сенатор. Ум. 1922.
177 О тюремных «пробках» см. ниже.
178 дВТОр заблуждается. Такого офицера в Российской армии,
а тем более в гвардии, не существовало.
179 В л.-гв. Гродненском гусарском полку не было такого
офицера.
180 Имеется в виду Турция, столицей которой Ататюрк сделал
Анкару.
181 Шнеур Г. Н. в 1904 окончил Павловское военное училище
и вышел в 124-й пехотный полк, но в 1908 г. вышел в запас
поручиком, где пребывал до 1914. В 1917 примкнул к большевикам
и сотрудничал с В. Н. Крыленко. Никакого отношения к Северо-
Западной армии он не имел.
182 Шабалин И. А. 4-28 мая 1917 на Первом
Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов был избран членом
473
Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов от
Балтийского флота.
183 Под Холмогорами в 1920—1921 гг. производились массовые
расстрелы.
184 Волковыский Николай Моисеевич, р. 1881. Журналист
и общественный деятель. В эмиграции с 1922 (был выслан в
Германию вместе с группой писателей и ученых на «философском
пароходе»). Ум. 1940.
185 Тихвинский Михаил Михайлович, р. 1869. Профессор
Петроградского университета. Член Петроградской боевой
организации. Арестован 26 июня 1921 в Петрограде. Расстрелян
24авг. 1921 там же.
186 Лосский Николай Онуфриевич, р. 6 дек. 1870. Профессор.
Известный русский философ. В 1922 выслан в Германию. В
эмиграции во Франции. Ум. 24 янв. 1965.
187 Имеется в виду высылка из России (в замену смертной
казни) осенью 1922 г. группы писателей и ученых. Пароход с
высланными прибыл в Штеттин.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5-го сентября 1918 г.
Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад
Председателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по
должности о деятельности этой Комиссии, находит,
что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора
является прямой необходимостью;
что для усиления деятельности Всероссийской
Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией
и преступлениями по должности и внесения в нее большей
планомерности необходимо направить туда возможно большее
число ответственных партийных товарищей;
что необходимо обеспечить Советскую Республику от
классовых врагов путем изолирования их в концентрационных
лагерях;
что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к
белогвардейским организациям, заговорам и мятежам;
что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных,
а также основания применения к ним этой меры.
Народный Комиссар Юстиции Д. КУРСКИЙ
Народный Комиссар
по Внутренним Делам Г. ПЕТРОВСКИЙ
Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров В. БОНЧ-БРУЕВИЧ
475
ПРИКАЗ О ЗАЛОЖНИКАХ
Убийство Володарского, убийство Урицкого, покушение на
убийство и ранение председателя Совета Народных Комиссаров
Владимира Ильича Ленина, массовые десятками тысяч расстрелы
наших товарищей в Финляндии, на Украине и, наконец, на Дону
и в Чехо-Славии, постоянно открываемые заговоры в тылу наших
армий, открытое признание правых эсеров и прочей
контрреволюционной сволочи в этих заговорах, и в то же время чрезвычайно
ничтожное количество серьезных репрессий и массовых расстрелов
белогвардейцев и буржуазии со стороны Советов, показывают, что,
несмотря на постоянные слова о массовом терроре против эсеров,
белогвардейцев и буржуазии, этого террора на деле нет.
С таким положением должно быть решительно покончено.
Расхлябанности и миндальничанию должен быть немедленно
положен конец. Все известные местным Советам правые эсеры
должны быть немедленно арестованы, из буржуазии и
офицерства должны быть взяты значительные количества заложников.
При малейших попытках сопротивления и малейшем движении
в белогвардейской среде должен применяться безоговорочно
массовый расстрел. Местные Губисполкомы должны проявить
в этом направлении особую инициативу.
Отделы управления через милицию и Чрезвычайные
комиссии должны принять все меры к выяснению и аресту всех
скрывающихся под чужими именами и фамилиями лиц, с
безусловным расстрелом всех замешанных в белогвардейской работе.
Все означенные меры должны быть проведены немедленно.
О всяких нерешительных в этом направлении действиях
тех или иных органов местных Советов Заводуправ обязаны
немедленно донести Народному комиссару внутренних дел.
Тыл наших армий должен быть, наконец, окончательно
очищен от всякой белогвардейщины и всех подлых
заговорщиков против власти рабочего класса и беднейшего крестьянства.
Ни малейших колебаний, ни малейшей нерешительности в
применении массового террора.
Получение означенной телеграммы подтвердите.
Передать уездным Советам.
Наркомвнудел Петровский
Еженедельник ВЧК. 1918, № 7.
476
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
В. И. Кильдюшевский, Н. Е. Петрова
Находки захоронений жертв красного террора
в Петропавловской крепости
Петропавловская крепость. Трудно представить в
Санкт-Петербурге место, о котором было бы известно так много и так мало.
Ее история похожа на книгу, перелистанную много раз. И только
при внимательном прочтении понимаешь, что некоторые страницы
хранят в себе еще не раскрытые тайны. Одной из них, несомненно,
являются события, происходившие в Петропавловской крепости
в годы революции и Гражданской войны в 1917—1920-х годах,
отголоски которых обнаружились в наше время.
Летом 2010 года в Петропавловской крепости начались
планомерные археологические работы по поиску захоронений
жертв красного террора 1918— 1919 гг. Поводом к исследованиям
послужили найденные ранее у крепостной стены человеческие
останки с признаками насильственной смерти.
Впервые захоронения были обнаружены на Заячьем
острове в 1988 году при прокладке коммуникационной траншеи
у Головкина бастиона. Судебные эксперты пришли к выводу,
что останки пролежали в земле около 100 лет и принадлежат
четырем мужчинам в возрасте 50—60 лет.
В 2007 году при аналогичных обстоятельствах между
Кронверкской протокой и стеной Головкина бастиона было
обнаружено еще одно захоронение. По заключению судебно-
медицинской экспертизы, в нем находились останки двоих
мужчин в возрасте 20—30 лет с пулевыми повреждениями черепа
и грудной клетки. В могиле были найдены фрагменты военного
обмундирования образца 1907-1916 годов: шинели, офицерского
кителя, брюк, сапог, поясных и портупейных ремней; тонкие
белые перчатки, гильзы от винтовки.
Принимая во внимание выводы судмедэкспертов, а также
основываясь на анализе сохранившихся элементов одежды, в
2007 году было высказано предположение, что найденные в
Петропавловской крепости захоронения относятся ко времени
революционных событий 1917—1920 гг.
477
После октября 1917 года Петропавловская крепость стала
местом массового заточения лиц, которых новая власть считала
для себя опасными. В ночь с 25 на 26 октября 1917 года в тюрьму
Трубецкого бастиона были доставлены министры Временного
правительства. В Трубецком бастионе и в других крепостных
сооружениях содержались участники юнкерского восстания, члены
оппозиционных партий, депутаты Учредительного собрания,
лидеры монархистов, кадетов и социалистов-революционеров.
В числе узников Петропавловской крепости первых месяцев
Советской власти были А. И. Шингарев, Ф. Ф. Кокошкин,
князь Д. И. Шаховской, В. М. Пуришкевич, В. Л. Бурцев,
П. А. Сорокин и другие.
После создания в декабре 1917 года Всероссийской
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и
саботажем тюрьма Трубецкого бастиона и гауптвахты крепости
вошли в систему тюрем ВЧК*.
Документы о событиях, происходивших в
Петропавловской крепости в декабре 1917 — начале 1918 года, отсутствуют
или пока не доступны исследователям. Узнать об этих
драматичных страницах истории мы можем главным образом из
воспоминаний людей, которые были узниками этой тюрьмы и
чудом избежали гибели, или из воспоминаний родственников
погибших. (Значительная часть таких воспоминаний собрана
в данном сборнике.)
Андрей Иванович Калпашников, член Политического
Красного креста, прибыл в 1917 году в Петроград с
благотворительной миссией, а в декабре 1917 года был посажен в
тюрьму Трубецкого бастиона по подозрению в организации
контрреволюционного заговора. В своих воспоминаниях он
пишет: «В любое время нас могли убить прямо в камере или
выгнать во двор и расстрелять там. Каждый раз, когда толпа
вооруженных и возбужденных большевиков, готовых уничтожить
всё, что походило на буржуазию, приводила в крепость нового
контрреволюционера, кровавая пропаганда среди
надзирателей принимала чудовищные размеры. Эти часы были для нас
самыми тяжелыми, так как некоторые новоприбывшие были
убиты еще до распределения по камерам. Жертвой мог с лег-
* Андрианова Л. В. Петропавловская крепость в 1917—1945 годах//
Петропавловская крепость. Страницы истории. СПб., 2001, с. 398.
478
костью стать любой из нас, и никто из надзирателей не понес
бы ответственности за случившееся»*.
Другой современник тех событий, ссылаясь на
свидетельства очевидцев, сообщал: «В камере (тюрьмы Трубецкого
бастиона. — Авт.) было холодно, сыро и душно. Пребывание
в ней было для нас всех сплошным страданием. Мы всё наше
время проводили в постоянном страхе за нашу жизнь. Редко мы
засыпали, ибо мы все ждали, что придут как-нибудь ночью за
нами и нас выведут на расстрел»**.
8 воспоминаниях Д. С. Лихачева***, дневниках 3. Н.
Гиппиус**** есть упоминания о том, что каждую ночь, начиная с января
1918 года, со стороны Петропавловской крепости раздавались
беспорядочные выстрелы и короткие пулеметные очереди.
Летом 1918 года в ответ на серию террористических актов,
направленных против деятелей Советской власти, в Петрограде
начались массовые аресты офицеров, чиновников,
представителей духовенства и аристократии. В начале августа большинство
арестованных были объявлены заложниками. Часть
арестованных заложников содержались в «особом районе города» — в
Петропавловской крепости.
Чудом сохранились и были зафиксированы надписи
узников на стенах камер Трубецкого бастиона:
«8 августа 1918 г. ранним утром доставлены арестованные
бывшие офицеры <...>. Вины за собой никто не чувствует
никакой. Арестовали в связи с чехословацким движением. Не
кормят <...>. Дают лишь кипяток.
9 августа —11ч. утра — без перемен.
1 ч. дня — всех переписали, а потом спустя несколько
времени пересчитали. В продолжение дня три раза приводили
арестованных.
11ч. вечера — привели большую партию арестованных.
10 августа 8 ч. утра привели партию арестованных.
* KalpashnikoffA. A Prisoner of Trotsky's. New York: Doubleday, Page
and Co, 1920, p. 119.
** Смилъг-Бенарио М. На советской службе // Архив Русской
революции. Берлин. 1922. Т. 111, с. 151.
*** Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб., 2006, с. 121, 123.
**** Гиппиус 3. Живые лица. Стихи. Дневники. (Кн. 2) Тбилиси,
1991, с. 188.
479
8 3/4 — 2 партии арестованных».
«1918 г. 22 авг. в 10 вечера нас пригнали 12 человек всех в
одну камеру с Гороховой, 2...» — читаем надписи, оставленные
узниками тюрьмы Трубецкого бастиона в 1918 году и
сохраненные сотрудниками Военно-морского архива*.
В те дни число заключенных в Петропавловской крепости
составляло 500—600 человек**.
В отличие от стихийных жестоких расправ, имевших место в
первые месяцы после революции, расстрелы заложников в
сентябре 1918 года, после обнародования постановления Совнаркома о
красном терроре, приобретают вполне организованный характер.
В нашем распоряжении имеются воспоминания
непосредственного участника расстрелов, происходивших в
Петропавловской крепости в 1918 году И. М. Ляпин, будучи активным членом
РКП (б) и имея неплохие организаторские и административные
способности, в первые годы Советской власти занимал
различные ответственные посты. Осенью 1918 года он был назначен
членом «тройки» по практическому выполнению постановления
о красном терроре. Воспоминания были написаны в 1932 году
и отредактированы автором в 1950-х годах. Вот что он пишет:
«В нашем районе организуется Тройка, на которую возлагается
обязанность немедленно изъять все буржуазные контрреволюционные
элементы. На меня ложится задача составлять списки. В основу
этой работы были взяты регистрационные списки офицеров и т. п.
лиц. Я припоминаю, что наши арестованные делились на несколько
групп. Одни направлялись на баржу и другие подобные места, другие
отправлялись в Петропавловскую крепость, в ликвидационный
Трубецкой бастион, где были заполнены все камеры теми, кто должен
быть расстрелян. Ещегруппы, которые сажались в Предвариловку***,
как заложники, и некоторые, через несколько дней по выяснению их
лояльности, отпускались домой. Это были единицы.
Как сейчас живо помню, когда мы, группа
активистов-руководителей партийной и советской организации, поехали на авто-
* РГАВМФ, ф. р-95, оп. 1, д. 205, л. 5-7.
** Зиновьев А. Д. Переживания в Петрограде в июле и августе
1918 года. Публикация С. К. Зиновьева, Н. С. Тихоновой // Труды
Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 2. СПб.,
1997, с. 174.
*** Тюрьма предварительного заключения на ул. Шпалерной, д. 25.
480
мобиле в Петропавловскую крепость, захватив с собой несколько
арестованных, в числе их одного Петербургского полицмейстера
с тем, чтобы там самим непосредственно произвести расстрел.
Но, приехав в Петропавловскую крепость, Трубецкой бастион, у
охраны выяснилось, что могилы для предполагаемых к расстрелу не
подготовлены, и еще какие-то мелкие формальности нам помешали
произвести в тот момент самим расстрел»*.
Эти воспоминания, несомненно, свидетельствуют в пользу
версии о совершении на Заячьем острове расстрелов узников не
только Петропавловской крепости, но и других тюрем
Петроградской ЧК, а также о том, что убитых хоронили на месте казни.
О возможном числе погребенных на территории Заячьего
острова можно судить, принимая во внимание масштабы
красного террора, объявленного 5 сентября 1918 года после убийства
председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого и покушения
на В. И. Ленина. Известно, что только в первые дни сентября
1918 года в Петрограде было расстреляно 512 человек из числа
ранее арестованных заложников.
В течение августа—сентября 1918 года Петроградской ЧК
были арестованы 6229 человек, к октябрю 1918 года общее
количество официально объявленных жертв террора в Петрограде
достигло 800 человек**.
Вопреки тексту Постановления Совнаркома от 5 сентября
1918 г., в котором было указано о необходимости опубликования
имен всех расстрелянных, а также оснований применения к ним
этой меры, большинство жертв красного террора в Петрограде
остались неизвестными***.
Расстрелы заложников продолжались и после того, как
постановление VI Всероссийского чрезвычайного съезда Советов в
ноябре 1918 года официально положило конец красному террору.
Под особенно пристальным вниманием советской власти
находились все члены Дома Романовых. Вслед за июльскими
* ЦГАИПД СПб., ф. 400, оп. 5, д. 1876, л. 28-30.
** Смолин А. В. У истоков красного террора // Ленинградская
панорама, 1989, с. 27.
*** Авторам известен один, с запозданием опубликованный список
расстрелянных Петроградской ЧК в сентябре 1918 года из 68 фамилий
(«Красная газета». Вечерний выпуск, 1918, 18 октября). Имена
остальных более 700 жертв красного террора в Петрограде не известны.
481
расстрелами в Екатеринбурге и Алапаевске репрессиям
подверглись представители бывшей правящей династии, находившиеся
в Петрограде.
29 января 1919 года Великие князья Николай Михайлович и
Георгий Михайлович, их кузен Дмитрий Константинович были
доставлены в тюрьму Трубецкого бастиона из Дома
предварительного заключения на Шпалерной, 25. В тот же день поздно
вечером в Петропавловскую крепость с Гороховой, 2, из ЧК,
прибыла машина с еще одним узником — Великим князем
Павлом Александровичем. Супруга Павла Александровича
княгиня Ольга Палей писала в своих воспоминаниях:
«Тюремный служитель рассказывал впоследствии доктору Мальцеву,
лечившему Павла Александровича, как в три часа ночи солдаты
Благовидов и Соловьев вывели по пояс обнаженных узников на
улицу, провели их на территорию Монетного двора, где у
крепостной стены напротив собора была вырыта братская могила, в
которой уже лежали быстро остывающие на морозе тела только
что расстрелянных людей. Здесь и свершилось злодеяние»*.
Четверых великих князей расстреляли в ночь с 29 на 30
января 1919 года. Сообщение об их казни было опубликовано в
«Петроградской правде» 31 января 1919 года без указания причин
расстрела, даты и места.
С середины XIX в. территория берега Кронверкской
протоки между Головкиным и Зотовым бастионами находилась в
ведении Монетного двора (см. вклейку, илл. 3) На
огороженном со стороны Кронверкского пролива участке размещалось
множество кирпичных и деревянных строений хозяйственного
назначения (в 1960-х годах в ходе реставрационных работ все
эти сооружения были снесены). Вход посторонним лицам на
этот участок был запрещен.
Слова из воспоминаний княгини О. Палей — «на
территории Монетного двора» — позволили сделать предположение,
что расстрелы и захоронения казненных узников проходили
именно в этой части Заячьего острова, за крепостной стеной,
в пределах закрытой для посторонних глаз территории.
* Princesse Paley. Souvenirs de Russie. 1916—1919. Biarritz, 1989,
p. 194. / Цит. по кн.: Быков Л. Путь на Голгофу. Хроника гибели великих
князей Романовых. Вологда, 2000, с. 9.
482
Осенью 2009 года на этой территории начались
строительные работы. Поскольку не исключалась вероятность
обнаружения новых захоронений, Государственным Музеем истории
Санкт-Петербурга было принято решение об обязательном
археологическом мониторинге работ сотрудниками Института
истории материальной культуры (ИИМК РАН).
В декабре 2009 года во время работ по прокладке дренажной
траншеи у стены Головкина бастиона, на глубине 1,2—1,3 м от
современной поверхности, были обнаружены человеческие
кости (илл. 4). При дальнейшем осмотре стало ясно, что в этом
месте находится коллективное захоронение.
Строительные работы на участке были остановлены и
проведены археологические исследования. Над этим местом
был поставлен ангар и заложен небольшой раскоп размерами
3,0x3,0 м. При этом землю пришлось отогревать тепловыми
пушками.
После снятия верхнего слоя засыпки, на глубине около
1 метра появились плохо читаемые в угольном слое контуры
могильной ямы. В ней были обнаружены костные останки
людей (фото 6).
Во время расчистки захоронения была выявлена следующая
картина: могила прямоугольной формы 1,8x2,3 м прорезала слои
строительного мусора с примесью угля на глубину 1,45-1,50 м
ниже современной дневной поверхности. Костяки лежали в два
слоя, друг на друге, в разных позах.
Судя по характеру захоронения, можно предположить, что
размеры могильной ямы явно не были рассчитаны на такое
количество погребенных.
На костях имелись огнестрельные повреждения, что
свидетельствовало о насильственной смерти. Так, некоторые черепа имели
в затылочной части отверстия от пулевых повреждений (фото 7).
По заключению судебно-медицинской экспертизы, в могиле
были захоронены останки 16 человек, в основном мужчины в
возрасте от 30 до 50 лет. Среди погребенных был один инвалид
с давно утраченной нижней конечностью и женщина 40—50 лет.
Во время расчистки погребенных было обнаружено большое
количество находок, прежде всего фрагменты одежды. Несмотря
на плохую сохранность тканей, а также на то, что погребенные
были сброшены в могилу, как попало, удалось собрать и
зафиксировать ткани по каждому погребенному.
483
В идентификации одежды большую помощь оказал
специалист по военному костюму, д. и. н., доцент СПБГУТД
А. В. Аранович. По его мнению, среди одежды присутствуют
фрагменты кителя, части офицерской фуражки, форменные
пуговицы. Тип ткани и крой деталей позволили отнести эти
фрагменты к военному обмундированию, введенному в русской
армии в 1907-1917 гг.*.
В могиле была обнаружена и гражданская одежда. Это
прежде всего хорошо сохранившиеся брюки из ткани в
полоску, матерчатый пояс с железной пряжкой от брюк, пряжка от
подтяжек, фрагмент вязаного свитера.
Среди тканей А. В. Аранович выделил также предметы
женского туалета: часть корсета, фрагмент платья, обрывки
фетровой шляпки с шелковой вуалью, две железные шпильки
с остатками волос и английскую булавку.
В могиле были также найдены фрагменты фуражки, на
околыше которой прикреплен бронзовый знак
железнодорожного служащего: скрещенные молоток и разводной ключ.
Среди пуговиц, обнаруженных при расчистке, большая часть
относится к нижнему белью. В основном это пуговицы из
перламутра, пластмассы, прессованной кожи, хотя встречены и
сильно окисленные бронзовые пуговицы от форменной одежды.
Обращает на себя внимание факт практически полного
отсутствия в могиле верхней одежды и обуви, за
исключением нескольких фрагментов сукна от шинели или пальто. Это
позволяет предположить, что перед расстрелом, у людей, были
изъяты верхняя одежда и обувь. Наличие же в могиле
фрагментов вязаных изделий (свитера, носков?) дает основание отнести
время расстрела к холодному осеннему или зимнему периоду.
Кроме одежды, в могиле обнаружен и целый ряд вещей,
которые позволяют судить об имущественном и социальном
статусе погребенных, — золотые и серебряные предметы. Так,
у одного из погребенных обнаружен серебряный медальон с
несохранившимся изображением (Богоматери?) Образок
висел на золотой цепочке из мелких звеньев. К этой же цепочке
крепился небольшой кулон с зеленым прозрачным камнем.
* Костные останки были переданы для проведения исследований
в Лабораторию судебно-медицинской экспертизы Ленинградской
области профессору В. Л. Попову.
484
В могиле были найдены золотая запонка с прозрачным
бесцветным камнем, золотой нательный крест с гравировкой,
без ушка, обмотанный золотой цепочкой.
Среди находок особый интерес представляет серебряная
цепочка с двумя серебряными жетонами. На одном изображение
св. Николая с надписью на оборотной стороне: «Спаси и сохрани»
(фото 8). На втором — изображение св. Андрея Первозванного с
надписью на обороте «Благословение церкви линейного корабля
«Андрей Первозванный» (фото 9). Подобные жетоны получили
члены экипажа корабля при его освящении в 1912 году. Золотой
жетон был вручен командиру, серебряные жетоны получили
старшие офицеры, медные выдавались нижним чинам команды.
К сожалению, пока не удалось найти в архиве список
офицеров линкора на 1912 год. Известно, что линейный корабль
«Андрей Первозванный» практически не принимал участия в
военных действиях в 1914—1917 гг. В 1920-е гг. был списан и
разрезан на металл*.
На черепе из траншеи была обнаружена наиболее ценная
находка (фото 10). К золотой цепочке были прикреплены
золотые предметы личного благочестия: крестик, медальон с
изображением св. Николая, два эмалевых образка: Богоматери с
Младенцем и св. Георгия, паломнический жетон с изображением
св. Христофора и латинской надписью. Подобные жетоны были
популярны на Балканах и в Австро-Венгрии.
Помимо перечисленных предметов, при расчистке могилы
найдены также бронзовые запонки с перламутровыми
вставками, явно принадлежавшие людям небогатым. В могиле, среди
костей обнаружены гильзы и пули от трехлинейной винтовки,
револьвера системы Нагана и пистолета Кольта (фото 11).
На основании результатов исследования могилы № 1 можно
сделать некоторые выводы. Могила была выкопана в 18 м к юго-
западу от левого фаса Головкина бастиона. Судя по
незначительному количеству пуль и гильз, расстрел производился в другом
месте, а в могиле были сделаны лишь контрольные выстрелы.
Отсутствие личных вещей и предметов личного
благочестия у большинства погибших свидетельствует о том, что перед
расстрелом они были подвергнуты обыску. Вероятно,
некоторые из них были ограблены уже после смерти, о чем могут
* АрановичА. В. Русский военный костюм 1907—1917 гг. СПб., 2005.
485
свидетельствовать обрывки серебряной и золотой цепочек,
найденные в могиле.
В то же время наличие в могиле целого ряда дорогих
золотых вещей говорит о довольно высоком общественном
статусе некоторых погребенных, которым удалось сохранить свои
ценности. Об этом свидетельствует и большое число золотых
коронок в ряде черепов.
Как уже отмечалось, по определению судмедэкспертов,
в могиле захоронено 16 человек, среди которых женщина и
инвалид с давно утраченной нижней конечностью.
После получения этих первых результатов были
определены направления дальнейших исследований — прежде всего
изучение прессы 1917-1919 гг., в которой могли публиковаться
фамилии казненных, поиск документов в архивах, в том числе
и в архиве ФСБ.
В ходе поисков выяснилось, что в «Петроградской правде» от
20 декабря 1918 г. (№ 279, с. 3) был опубликован список
расстрелянных 13декабря по делу об организации, вербовавшей белогвардейцев
на Мурман — 16 человек. Ввиду важности и труднодоступности
этого исторического документа приводим его полностью:
«13 декабря по постановлению Чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией Союза коммун Северной Области
расстреляны:
I. По делу организации, поставившей себе целью вербовку
белогвардейцев на Мурман.
1. Ковалевский Владимир Павлович — военный врач, глава
организации, связывавший ее с английской миссией,
изобличенный показаниями многих лиц.
2. Морозов Владимир Владимирович, находившийся в
постоянных сношениях с полковником Сахаровым, имевший сетку для
шифрования секретных сообщений. Сам признал свое участие
в белогвардейской организации и выдал тех ее соучастников,
которые не были еще арестованы.
3. Туманов Владимир Спиридонович, один из ближайших
агентов Ковалевского по вербовке белогвардейцев, изобличенный
показаниями других членов организации.
4. Де Симон Анатолий Михайлович, один из крупнейших
агентов Ковалевского, вербовавший белогвардейцев,
снабжавший их деньгами и отправлявший на Север.
486
5. Логин Иван Осиповичу член организации Ковалевского,
предоставлявший свою квартиру для встреч агентов
Ковалевского с вновь завербованными людьми.
6. Плен Павел Михайлович в 1917 г. являлся также главой
организации, отправлявшей офицеров на Дон.
7. Грабовский Александр Александрович, польский легионер,
отправленный на Мурман французами и вообще тесно
связанный с французскими миссиями. В его записной книжке найдены
адреса Андроникова, Туманова и других членов организации
Ковалевского.
8. Шульгина Вера Викторовна, была пайщицей и главной
инициаторшей кафе "Goutes", служившего явкой для
белогвардейцев, которых она принимала также и у себя на квартире.
Кроме того, содержала за свой счет и давала приют у себя на
квартире агенту организации Соловьеву.
9. Соловьев Георгий Александрович, сам сознался в участии в
белогвардейской организации, по требованию которой поехал в
Торошино и поступил на службу в Псковский уездный Военный
комиссариат.
10. Трифонов Иван Николаевич, член партии народной
свободы, имевший связи с Мурманом и использовавший их,
отправив на Мурман одно лицо, назвать которое он отказался,
но которым оказался Морозов.
11. Бетулинский Юрий Андреевич, титулярный советник,
участник Русско-английского ремонтного судостроительного
товарищества на Мурмане, которое занималось главным
образом посылкой людей на Север и вырабатывало план оккупации
Северной Области. У него на квартире происходило знакомство
отдельных агентов организации с представителями английской
миссии.
12. Веселкин Михаил Михайлович — главный организатор Рус-
. ско-Английского ремонтного товарищества на Мурмане, во все
время своего существования не совершившего ни одной операции.
13. Рыков Александр Николаевич, также член
Русско-Английского ремонтного и судостроительного товарищества на Мурмане.
11. Христик Иосиф Павлович — шпион, состоявший на службе
англичан и французов, не раз пытавшийся по подложным
документам пробраться в район расположения англо-французских
войск для установления личной связи. Производил растраты,
поджоги и шантаж.
487
III. Лбрамсон Кальман Абрамович — шпион-белогвардеец,
с подложными документами систематически ездивший на
Украину в целях осведомления тамошних белогвардейских
организаций о положении дел в России и работавший как агент
этих организаций.
IV Смирнов Иван Александрович — за вооруженный грабеж».
В списке значится Вера Викторовна Шульгина, владелица
кафе "Goutes". При изучении других имен из списка неожиданно
выяснилось, что один из казненных, Рыков Александр
Николаевич, был инвалидом, потерял ногу в результате ранения во время
русско-японской войны. Характер его увечья совпадал с
патологией найденных останков. Наличие двух совпадений, а также
принадлежность к определенной социальной группе (наличие
золотых коронок) дало повод предполагать, что в исследуемой
могиле захоронены люди из вышеприведенного списка.
Удалось разыскать внука А. Н. Рыкова, в семье которого
бережно хранили память о трагически погибшем деде.
Одной из ценных реликвий, хранившихся в семье Рыковых,
являлась записка, переданная из тюрьмы Трубецкого бастиона
Петропавловской крепости осенью 1918 года. Записка без даты.
2 обрывка бумаги хранила у себя дочь Ксения Александровна,
которая завещала похоронить эти реликвии вместе с собой.
В 2000 году Ксения Александровна скончалась. С записки была
снята рукописная копия:
Юля сижу в Петроп. крепости камера № 67. Когда освободят
не известно. Поесть не дают второй день. Прошу прислать что-
нибудь поесть, если можно почаще. В какой час все равно, другим
приносят и поздно вечером. Сплю на полу. Желательно получить
и подушечку, полотенце и мыло. Кружку для питья и что-нибудь
пить (чай, кофе, сахар) бумагу и карандаш.
Петроград
Большая Зеленина
Малого проспекта
д. 3, кв. 14
Ю. С. Рыковой
В конце 1980-х гг. родственники обратились в Центральный
Архив ФСБ с просьбой сообщить о судьбе репрессированных Ры-
488
ковых и их реабилитации. В ответе сообщалось, что Александру
Николаевичу Рыкову были предъявлены два обвинения в том,
что он вырабатывал план оккупации англо-французами Северной
области России, и участвовал в спекулятивных сделках. Ни даты
вынесения приговора, ни даты приведения его в исполнение в
постановлении Петроградской ЧК не указано. Сообщили также,
что в соответствии с законом от 18 октября 1991 года генерал-
майор А. Н. Рыков считается реабилитированным.
Через некоторое время родственникам всё же удалось
ознакомиться со следственным делом в Центральном архиве ФСБ.
На обложке истертой старой папки — заголовок «К-Р
деятельность». В деле 163 листа. Первым в списке лиц, проходивших
по этому делу Рыков Александр Николаевич.
Среди документов — Протокол задержания и обыска:
«На основании ордера ЧК при Союзе Коммун Северной
области за № 3702 от 25 октября 1918 года произведен обыск в
доме № 3, кв. № 14 по Большой Зелениной». Затем перечислены
изъятые для доставки в ЧК серебряные монеты на 7 р.20 коп.,
кресты разных степеней, всего 11 штук, два иностранных ордена
и две коробки со старыми эполетами, финский нож, два
бинокля, один кортик, «при том мешок переписки и другие бумаги».
Далее подшит протокол первого допроса от 25 октября 1918г.
«А. Н. Рыков по делу показал: Мне 44 года. Со службы во
флоте я ушел в 1917 г. в чине генерал-майора. После этого я был
прикомандирован в распоряжение Главного Морского штаба.
Потом я определился на место местной Петроградской
ликвидационной комиссии Балтийского моря, на каковой службе состою в
настоящее время. Кроме того, я состоял пайщиком комиссионного
Товарищества «Выгода». Я был арестован комиссией 4 августа с. г.
и без предъявления обвинений освобожден 8 августа с. г.» Подпись.
Далее в деле подшиты список Ликвидационной комиссии,
билет на звание действительного члена Союза увечных воинов,
выписка из домовой книги, удостоверение члена
Ликвидационной комиссии, служебное удостоверение военмора Рыкова.
Второй протокол допроса от 23 ноября 1918 г.:
«Спрошен генерал-майор Рыков Александр Николаевич,
потомственный дворянин, 44 лет <...>. Ввиду дороговизны,
на получаемый мной заработок в 656 р. я не мог прожить с
семьей, состоящей из жены и ребенка, то я принужден был
искать постороннего заработка. В беседе с Фабрицким, моим
489
товарищем по корпусу, мы условились открыть Комиссионную
контору на товарищеских началах. Каждый член-учредитель
товарищества должен иметь 5 паев по одной тысяче, т. е. 5
тысяч рублей. Общество задалось целью борьбы со спекуляцией
путем минимального взимания % за комиссию.
Никаких заседаний конспиративного характера и вообще
заседаний, носящих политическую окраску и имеющих целью
свержение существующего правительства и вербовки
белогвардейцев на союзные фронты, не происходило. Заседания всегда
носили деловой характер по вопросу создания внутреннего
распорядка общества и его коммерческой стороны, причем
заседания происходили очень редко.
С князем Тумановым познакомился в квартире Фабрицкого
(Мойка, 22, кв. 11). Контр-адмирала Веселкина знаю с выпуска
моего из Морского корпуса. Слышал, что он состоит в каком-то
обществе на Мурмане, но о самом обществе ничего не знаю и
Веселкин мне о нем никогда не рассказывал».
Далее подшит протокол общего собрания Товарищества о
перевыборах правления. Отчет о деятельности общества
«Выгода», списки нового состава правления. Грамоты о награждении
генерала Александра Рыкова орденами.
И Постановление:
Рыков Александр Николаевич, морской офицер в чине
генерал-майора, состоял членом «Русско-Мурманского рем. и
суд. Т-ва» (показания Телесина) роль которого обрисована в
характеристике Веселкина и Бетулинского. Из показаний самого
Рыкова видно, что он открыл торгово-промышленную контору
с белогвардейским адмиралом Фабрицким С. С.
На основании вышеизложенного, Чрезвычайная комиссия
ПОСТАНОВИЛА:
РЫКОВА Александра Николаевича РАССТРЕЛЯТЬ.
Председатель / Н. Антипов
Зав. Следствием
Следователь /
Без даты постановления и расстрела, без подписей
следователя.*
* Мельников Р. М. Линейный корабль «Андрей Первозванный.
1906-1925», 2003.
490
* * *
Обнаружение и исследование в декабре 2009 года
массового захоронения жертв красного террора вызвало в Петербурге
большой общественный резонанс. Дирекцией Государственного
музея истории Санкт-Петербурга была организована
Межведомственная рабочая группа по археологическому изучению
Заячьего острова и проведению поисковых работ, в которую
вошли сотрудники ГМИСПб, Института истории материальной
культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Бюро
судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области, НИЦ
«Мемориал», с привлечением специалистов других учреждений. Была
составлена программа проведения поисковых работ.
С разрешения Дирекции ГМИСПб и по инициативе
Межведомственной группы было решено приступить в июне—июле
2010 года к поиску захоронений жертв красного террора на
Заячьем острове.
На этом же участке, у стены левого фаса Головкина
бастиона были проведены археологические поисковые работы на
площади свыше 1200 кв. м. (фото 5). В результате этих работ
было обнаружено ещё 6 захоронений общей численностью
свыше 90 человек (см. илл. 4).
Сначала, с помощью экскаватора на глубину 0,8—0,9 м
был снят поздний мешаный слой, состоящий из современных
подсыпок, прослоек строительного мусора с битым кирпичом
и раствором. Эти слои отложились на берегу Кронверкского
пролива в XIX—XX вв. в результате строительных, ремонтных
работ, деятельности Монетного двора, работ по благоустройству
в 1960-х гг.
После снятия балласта по площади раскопа проводилась
зачистка поверхности до 1,1-1,2 м от уровня дневной
поверхности для выявления могильных пятен. При необходимости
закладывались траншеи шириной 0,8— 1,0 м и глубиной 40-50 см.
В северо-восточной части раскопа, на расстоянии 50 м от шпица
бастиона, никаких захоронений не обнаружено.
Могила № 2
Расположена в 9 м к западу от стены бастиона (илл. 4).
Скорее всего, это не могила, а небольшая яма размером
1,1 х 1,2 м, выкопанная в слое бытового и строительного му-
491
сора, в которую и были сброшены — вперемешку с кирпичом,
обрезками бревен и досок — человеческие кости из какой-то
могилы, обнаруженной, видимо, ранее во время земельных работ.
Вместе с костями в яму были сброшенные плохо
сохранившиеся части одежды: фрагменты солдатских гимнастерок,
шинели, пальто, гражданского пиджака, брюк.
Там же найдены: манжет женского платья, остатки чулка
и фрагмент корсетной ткани*.
В заполнении ямы, кроме большого числа фрагментов
глиняной и фарфоровой посуды XIX — нач. XX в., найдены:
перламутровая пуговица, зуб с золотой коронкой, круглый медный
жетон (d=39 мм) с литой круговой надписью: «Петроградская
биржа» и штампованным номером 244. Судя по надписи,
жетон был изготовлен не позднее 1924 года, до переименования
Петрограда в Ленинград.
Перезахоронение произошло, вероятно, после 1926 г., когда
эта территория перешла в ведение военных**.
По результатам антропологической экспертизы, в могиле
находились разрозненные останки 10-12 человек. В основном,
мужчины в возрасте 25—30 лет. Два человека — старше 50 лет.
Вероятно, среди них была одна женщина***.
Могила № 3
Обнаружена в нескольких метрах к югу от могилы № 2, у
самой стенки раскопа. Прямоугольная яма 1,2 х 0,8 м,
впущенная в слой на глубину до 1,4—1,5 м от современной дневной
поверхности.
В заполнении — разрозненные кости трех человек — двоих
мужчин и, возможно, одной женщины. На одном черепе —
2 сквозных пулевых отверстия.
В могиле среди костей найден осколок фарфоровой кружки
с портретом Л. Н. Толстого (фото 16) и фрагменты женского
(?) платья. На одном из фрагментов — пришитое украшение
из ленты с остатками бронзы.
* Рыков В. К. Листая старые дела расстрелянного генерала. М.,
2004, с. 119-125.
** Определение А. В. Арановича.
*** Андрианова Л. В. Петропавловская крепость в 1917—1945 гг. //
Петропавловская крепость. Страницы истории. СПб., 2000, с. 403
492
Судя по характеру найденной одежды (8 фрагментов),
все — гражданские люди.
Так же как и могила № 2, эта могила является
перезахоронением костных останков.
Могила № 4
Могильная яма прямоугольной формы 2,5—2,6 х 1,6 м,
сверху была перекрыта помойкой с большим количеством
битой глиняной, фарфоровой, фаянсовой посуды, стеклянными
аптечными пузырьками конца 20-х — начала 30-х годов XX в.
Ниже, практически на костях, — слои навоза, рогожные
мешки, веревки. Подобные мешки привязывали под хвост
лошади извозчики, когда ездили по городу, чтобы не пачкать
улицы конским навозом.
При расчистке костей выявлено, что останки были
полностью перекопаны. Не сохранилось практически ни одного
скелета в анатомическом порядке.
Лишь в нижней части могилы, на дне, лежали отдельные
части скелетов в относительно не потревоженном виде. Находок
в самой могиле практически нет. Сохранились
немногочисленные фрагменты тканей, в том числе от мужских брюк, головка
кожаной туфли или ботинка (женского? детского?). На многих
черепах — пулевые отверстия, следы сильных ударов.
В одном из черепов — зубные протезы и протертая золотая
коронка.
По антропологическому анализу, в могиле останки 10—16
человек, в основном — мужчин от 25 до 55 лет и старше.
Могила № 5 (фото 12)
Обнаружена в 4—5 метрах от стены Головкина бастиона.
Именно в этом месте при прокладке кабеля в 1988 году были
найдены человеческие останки. По определению
судмедэкспертов, они принадлежали 4 мужчинам в возрасте 50—60 лет.
Могильная яма 2,6 х 1,6—1,7 м, прямоугольной формы,
выявлена на глубине около 1 метра. В края ямы были
впущены фундаментные столбы из известняковых плит на растворе,
размером не менее 1 х 1 м и высотой 0,5 м.
На плане 1932 г. на этом месте расположен длинный
сарай, ориентированный «запад—восток» (илл. 3). Скорее всего,
он был сооружен после 1926 г., когда эта территория была
493
занята военными. На планах начала XX века это сооружение
отсутствует.
Вероятно, при строительстве этого сарая и была первый
раз перекопана могила. Кости и черепа были переложены,
частично уходили под фундаментные столбы и под электрокабель.
Второй раз могила была потревожена при прокладке кабеля в
1988 г., о чем свидетельствует находка в засыпке могилы: монеты
«3 копейки» 1971 г. и пробки от винной бутылки.
На дне обнаружено сочленение ноги погребенного с
остатками брюк. В карманах брюк найдена серебряная ложка (фото 15).
С помощью строительной организации «Новая эра»
электрокабель на участке могилы был откопан. Удалось выявить
западную стенку могильной ямы, которая уходила под кабель
на 40-60 см.
В связи с тем, что могила была дважды перекопана, кости
находились в перемешанном состоянии. Согласно количеству
обнаруженных берцовых костей, в могиле было захоронено не
менее 21 человека. По антропологическим данным, возраст
погребенных — средний 35—45 лет и ближе к старческому,
50—60 лет. Практически все погребенные — мужчины, и лишь
один костяк (тазовые кости) — предположительно женский
(35—40 лет). Значительная часть черепов имели пулевые
отверстия или следы сильных ударов.
При расчистке захоронения, несмотря на два перекопа,
найдено значительное количество находок. Это, прежде всего,
более 40 фрагментов одежды и обуви.
Отметим, что на подошвах некоторых ботинок сохранился
толстый слой глинистой почвы. Это дает возможность
предположить, что расстрел происходил поздней осенью. Косвенно об
этом говорит и глубина могильной ямы — не менее 1,6—1,8 м.
В зимнее время выкопать такую яму довольно сложно.
В заполнении могильной ямы найдены фрагменты не
менее 4 фетровых шляп, серого и черного цвета, с шелковой
подкладкой; пряжки от подтяжек, брючных поясов,
пуговицы из бронзы, кости, кожи, перламутра; железные одежные
заклепки.
В могиле найдены стекла не менее чем от четырех пенсне
со следами позолоты. Среди них имеются стекла с затемнением
для человека с больными глазами. Найдены также кожаные
футляры для пенсне, кошельки, портмоне.
494
Среди одежды имеются также детали офицерских кителей, в
том числе и морских; фрагменты солдатской шинели и френча.
В засыпке могилы обнаружены простые и химические
карандаши, костяной предмет, напоминающий перьевую ручку.
Несмотря на то что могила была дважды перекопана и часть
предметов из драгоценных металлов, несомненно, была изъята,
в заполнении могилы был обнаружен целый ряд находок. Три
золотые запонки (фото 14). Две из них — с вставками из камней.
На одном из камней (нефрит?) выгравировано изображение
скарабея. Третья — массивная запонка-зажим диаметром 2 см.
Найден также золотой крест с перламутровым (?) изображением
распятого Христа и надписью на обороте: «Спаси и сохрани».
Из серебряных вещей: образок с изображением преп.
Ксении и св. Николая Чудотворца на серебряной цепочке
(фото 17). Найдены также медальоны с изображением Богоматери с
Младенцем, Богоматери и св. Серафима на оборотной стороне,
2 образка с изображением Иоанна Крестителя.
Все эти находки концентрировались в нижней части могилы
и не были обнаружены грабителями.
В заполнении найдены также пули, гильзы. Отметим, что
большинство гильз — от винтовки Бердана, давно снятой с
вооружения, — с целым капсюлем, то есть они были разряжены
с целью получения пороха. Не исключено, что порох
использовался для разжигания костров. В могиле также обнаружены
два зубных протеза, зуб с золотыми пломбами.
Антропологический анализ костных останков выявил
следующую картину. В могиле были похоронены не менее
21 человека (20 мужчин и 1 женщина (?)). Примерно половина
из них — в возрасте 35—45 лет, не менее 6 человек — в возрасте
от 50 до 60 лет и старше, 3 человека — от 45 до 50 лет. И лишь
два человека — в возрасте 25—30 лет.
Часть черепов и костей имели пулевые отверстия и следы
сильных ударов.
Возраст погребенных, одежда, характер находок позволили
предположить, что в могиле похоронены заложники:
представители интеллигенции, аристократии, высшего офицерства,
чиновники. Все они расстреляны без суда и следствия в первые
дни красного террора — в сентябре—октябре 1918 года. Это
лишь небольшая часть из официально объявленных 800 человек,
расстрелянных Петроградской ЧК в тот период.
495
Могила № 6 (фото 19)
Обнаружена в юго-западной части раскопа, напротив
могилы № 5.
Могильное пятно 2,7 х 2,1—2,3 м выявлено на глубине
немногим более 1 м от современной дневной поверхности. Так
как могильная яма уходила под пешеходную дорожку, то было
принято решение, с согласия дирекции ГМИСПб, разобрать
часть мощения дорожки. Яма выкопана в мешаном грунте с
большой примесью кирпичного щебня и известкового раствора,
с прослойками древесного угля — отходами деятельности
Монетного двора. В заполнении ямы обнаружены остатки бревен
и досок, попавших в могилу при ее засыпке.
На глубине 1,2—1,3 м выявлены человеческие останки.
Погребенные были сброшены в яму в два яруса, перекрывая
друг друга. Это значительно затрудняло работы по расчистке и
разборке костяков, а также соотнесение тех или иных находок
с конкретным погребенным.
Могила оказалась неграбленой, поэтому обнаружено
большое количество одежды, обуви, личных вещей. В отличие от
большинства раскопанных захоронений, здесь много обуви:
армейские сапоги, флотские и гражданские ботинки.
В верхней части заполнения могилы был найден
солдатский погон защитного цвета с остатком буквы «П», нанесенной
желтой краской. По мнению экспертов, это погон солдата из
обслуги Павловского юнкерского училища.
То, что могила не была потревожена, позволило с
достаточной степенью достоверности определить статус и воинскую
принадлежность большинства погребенных.
Большая часть погребенных являлась офицерами или
юнкерами. В захоронении преобладали остатки форменной
одежды. Найдено несколько кожаных ремней с бронзовыми
пряжками, сапоги, фрагменты шинелей и офицерских кителей
с орлеными пуговицами, офицерские шаровары, обрывок борта
кителя с бронзовым петлевидным крючком у ворота. Среди
истлевших фрагментов английского сукна найден бронзовый
знак выпускника медицинской школы.
Судя по остаткам бушлатов, черных суконных брюк клеш,
пуговицам с изображением якоря, ремню с бронзовой
пряжкой, на которой вытеснен двуглавый орел и якорь, матросским
ботинкам, — в могиле захоронены 2—3 матроса. Найдены две
496
бескозырки с лентами. На одной ленте очень плохой сохранности
читалась надпись «минная школа». На второй ленте надпись:
«Деятельный» (фото 23).
Среди одежды найдены детали кавалерийского кителя с
орлеными пуговицами, сапоги, обрывки кожаного ремня для
крепления шпор. Антропологическое исследование выявило среди
погребенных останки человека с сильно сработанными плечевыми
суставами. Такая сработанность могла возникнуть у человека,
длительное время занимавшегося рубкой шашкой. Все это позволяет
предположить о наличии среди погребенных кавалериста.
Среди одежды обнаружены также части офицерских
фуражек, обломок костяного свистка. Подобные свистки
использовались офицерами в Первую мировую войну на фронте.
В отличие от могилы № 5 здесь гражданской одежды
значительно меньше: это — брюки, пиджак с утепленной
подкладкой, фрагменты пальто (?), жилет. Найдены также
фрагменты рубашки из ткани в полоску; детали рукавов, клапаны
карманов и хлястик еще одного гражданского пальто, остатки
2-х фетровых шляп черного и серого цвета, обрывки вязаной
ткани от свитера или носка.
К женской одежде относятся детали женского (?) платья
с плечиками, фрагменты шелковой блузки, хорошо
сохранившиеся высокие ботинки со шнуровкой.
Среди костей при расчистке найден ремень с медной
пряжкой (фото 22). Рядом находился детский картуз, к околышу
которого был прикреплен значок (перекрещивающиеся пушки),
снятый с погон (фото 27).
Судя по всему, эти вещи принадлежали подростку в возрасте
15—16 лет, учащемуся кадетского училища. По определению
антропологов, в этой могиле был похоронен юноша в возрасте
до 18 лет.
Помимо форменных бронзовых пуговиц, в заполнении
могилы найдены перламутровые и пластиковые пуговицы,
медные пуговицы-заклепки, бронзовые запонки с перламутровыми
вставками, железные пряжки от брюк.
Так же как и в других могилах, найдены пули и гильзы от
револьвера системы Нагана, пистолета Кольт 45, от
трехлинейной винтовки. Значительная часть пуль сплющена от удара о
твердую поверхность.
497
В отличие от остальных могил, обнаруженных на Заячьем
острове, найдено довольно много личных вещей — более 10
кожаных кошельков, несколько расчесок, карманное зеркальце, две
небольшие щетки для одежды. Почти у каждого погребенного
обнаружены карандаши (в основном химические), перьевые
ручки.
Найден также железный портсигар, обтянутый тканью, в
котором находились бронзовая зажигалка и папиросы. В кармане
одного из погребенного найдены кости воблы —
распространенного продукта питания в годы Гражданской войны*.
Судя по набору вещей, обилию карандашей, люди,
захороненные в этой могиле, до расстрела содержались в тюрьме и
имели возможность посылать записки своим родным и близким.
Наличие в могиле верхней одежды и обуви позволяет
предположить, что расстрел был проведен очень быстро и
неожиданно, под присмотром сотрудников ЧК, которые не
позволили мародерничать.
В отличие от других захоронений (мог. №№ 1 и 5), предметов
личного благочестия в этой могиле найдено совсем немного.
Всего несколько серебряных медальонов-образков и 3 крестика.
Антропологический анализ выявил, что почти все
погребенные в могиле — молодые мужчины в возрасте от 20 до 25 лет.
Один костяк принадлежал молодому человеку около 18 лет. И
еще один — женщине.
Всего в могиле обнаружены останки 20-22 человек.
Большая часть черепов имела пулевые отверстия и следы
прижизненных ударов, что свидетельствует о насильственной
смерти погребенных.
Могила № 7
Небольшая могильная яма 1,2-1,3 х 1,0 м выкопана в слое
строительного мусора и древесного угля на глубину 1,3-1,4 м.
Характер захоронения аналогичен могилам № 2 и № 3.
Судя по всему, в яму были сброшены кости из обнаруженной
во время земляных работ могилы.
В заполнении могильной ямы найдены единичные
фрагменты тканей от гражданской и форменной одежды. Из обуви:
* Результаты антропологической экспертизы, проведенной
сотрудниками Института антропологии РАН во главе с к. и. н. В. Г. Моисеевой
498
два ботинка и армейский сапог. На одном ботинке — остатки
резиновой галоши.
В засыпке могилы найдены зуб с золотой коронкой и
фрагмент зубного протеза.
По антропологическим данным, в могиле захоронены
останки 20 человек, все мужчины. Основной возраст — 25—30 лет.
Два человека — от 18 до 20 лет, ещё два — старше 40—50 лет.
Почти все черепа имели пулевые отверстия.
Заключение
В результате археологических поисковых работ на
территории Петропавловской крепости, вдоль левого фаса Головкина
бастиона в 2009—2010 гг. было обнаружено и исследовано (на
площади свыше 1200 кв. м) 7 мест захоронений жертв красного
террора 1918—1919 гг. — не менее 110 человек. Эти захоронения
можно разделить на две группы.
Первая группа — это собственно могилы размером от
2,4x1,6 м до 2,7 х 1,8 м, вырытые в слое многочисленных под-
сыпок территории XVIII—XX вв. на глубину 1,5—1,8 м. Глубина
могильных ям зависела как от количества погребенных, так и
от климатических условий (могилы №№ 1, 4, 5, 6).
Вторая группа — это места перезахоронений костей,
обнаруженных в 1920-е — нач. 1930-х гг. во время земляных работ
на этой территории (могилы №№ 2, 3, 7).
Как правило, это небольшие, не более 1 м, ямы
неправильной формы, куда были сброшены останки людей, фрагменты
одежды и обуви.
Судя по характеру заполнения ям, это могло произойти
через 6-8 лет, когда окончательно разложились мягкие ткани
и сухожилия.
Этот участок Заячьего острова, находившийся в ведении
Монетного двора, после 1926 г. был передан военному
ведомству. Дата подтверждается и характером находок, обнаруженных
в засыпке.
Отметим, что в этих могилах полностью отсутствуют
личные вещи погребенных — в первую очередь, крестики, образки,
золотые зубные коронки, которые были найдены в остальных
могилах. Все эти предметы, вероятно, были изъяты при
перезахоронении.
499
В то же время в могилах №№ 1, 5, 6 в большом количестве
найдены как личные вещи, так и предметы личного благочестия
из золота и серебра. Даже в могиле № 5, которая вскрывалась
дважды, найдены вещи из драгоценных металлов.
Характер ранений — пулевые отверстия в затылочной и
височной части черепа, разбитые лицевые поверхности —
позволяет установить картину расстрела. Скорее всего, расстрел
происходил у стены, стреляли в затылок, а затем добивали
прикладами. В одном случае в черепе имеется отверстие от
штыка. После расстрела убитых сбрасывали в могильную яму
в два, а то и в три слоя.
Наличие в могилах сравнительно небольшого для такого
количества казненных пуль и гильз; пули, смятые от удара о
твердую поверхность, свидетельствует в пользу нашего
предположения.
Предварительный анализ пуль и гильз позволяет говорить о
том, что для казни использовали в основном: револьвер системы
Нагана, пистолет Кольт 45, трехлинейную винтовку, т. е. оружие,
распространенное в период Гражданской войны.
Антропологический и половозрастной анализ погребенных
позволил сделать некоторые выводы:
1. Подавляющее число погребенных — мужчины.
2. Судя по костям и фрагментам женской одежды, можно
говорить (предварительно) о 5—6 женщинах.
3. Больше половины мужчин — в возрасте от 25 до 40 лет.
Вторая по численности группа — мужчины 20-25 лет, далее
40—50 лет (11 человек). Наиболее малочисленные группы — в
возрасте около 18-20 и старше 55 лет.
В могиле № 6 — один подросток (до 18 лет).
По возрастному составу наиболее «молодыми» можно
считать могилы №№ 2,6, 7, где основное число погребенных —
мужчины от 20 до 30—40 лет. Наиболее «старая» — могила № 5,
где более половины людей в возрасте от 40 до 55 лет и старше.
Таким образом, перед нами наглядная картина событий
«красного террора» 1918—1919 гг. Прежде всего большевики
старались уничтожить тех людей, которые потенциально могли
с оружием в руках выступить против Советской власти. В
основном это молодые офицеры-фронтовики, которые остались не у
дел после подписания Брестского мира и роспуска армии и не
могли найти себе достойного места в этом новом для них мире.
500
Вторая группа — это представители интеллигенции,
чиновники, аристократы, члены буржуазных партий, которые имели
большое влияние в обществе, опыт в политике и управлении
государством, т. е. являлись непосредственными соперниками
в борьбе за власть. Их уничтожение должно было оказать
большое психологическое давление на русское общество. Поэтому
и были арестованы и в январе 1919 г. расстреляны в
Петропавловской крепости четыре Великих князя Романовых: Дмитрий
Константинович, Николай Михайлович, Георгий Михайлович
и Павел Александрович.
Выявленная нами картина находит полное подтверждение
той ситуации, которая царила в Петрограде в этот период и
известна по опубликованным в последнее время источникам.
Изучение списков заложников и казненных ПетроЧК,
опубликованных в петроградских газетах в 1918—1919 гг.,
проведение архивных и идентификационных исследований дают
повод надеяться на восстановление некоторых имен жертв
расстрелов в Петропавловской крепости.
Подобная попытка предпринята в отношении одного из
погребенных в могиле № 1. Не исключено, что это генерал-
майор А. Н. Рыков — георгиевский кавалер, герой обороны
Порт-Артура, потерявший ногу во время боевых действий*. Нам
удалось найти потомков А. Н. Рыкова и получить интересные
документы из их личного архива. Среди них — записки,
написанные А. Н. Рыковым в Петропавловской крепости, в камере
№ 67 тюрьмы Трубецкого бастиона осенью 1918 г. В настоящее
время проводится генетическая экспертиза с участием
родственников А. Н. Рыкова. В случае положительного результата
появляется возможность идентифицировать останки и
восстановить имена остальных погребенных в этой могиле.
Таким образом, в результате проведенной работы
определились основные направления дальнейших исследований.
* В записях на стенах камер есть интересные подробности о
содержании заключенных тюрьмы Трубецкого бастиона. «В суб(боту)
31 августа 1918 г. н. с. был арестов(ан) как б. офицер и сюда
препроводили в ночь на 3 сентября. <...> Почти не кормили, удавалось покупать
воблу, селедки и картошки. Давали один кипяток». (РГА ВМФ, ф. р-95,
оп. 1, д. 205, л. 5. об.) или: «28 сентября. В 4 ч(аса) выдали по 1 вобле
микроскопического размера» (там же, л. 2 об.).
501
1. Необходимо продолжить археологические поисковые
работы на территории предполагаемых захоронений (площадь —
не менее 3000 кв. м).
2. Проведение большого объема историко-архивных
исследований: изучение прессы 1917-1918 гг., работа в библиотеках,
поиск документов в архивах, в т. ч. в архиве ФСБ, в личных
архивах потомков расстрелянных.
3. Проведение более подробной антропологической и
судебно-медицинской экспертизы, в т. ч. анализа ДНК и т. д.
4. Выполнить большой объем работ по реставрации и
консервации находок с целью организации в дальнейшем музейной
экспозиции «Памяти жертв красного террора».
5. После проведения этих работ необходимо захоронить
найденные останки и установить памятный знак на месте их
гибели и упокоения.
Выполнение этой программы требует определенных
финансовых затрат, а также привлечения к работе более широкого круга
специалистов, помощи общественности, всех неравнодушных
людей, которым небезразлична история своей страны.
Тот колоссальный объем исследований, который удалось
выполнить в 2010 г., был бы невозможен без всемерной помощи
большой группы единомышленников, которым мы приносим
свою искреннюю благодарность.
Это, прежде всего — сотрудники Института истории
материальной культуры РАН: Н. А. Боковенко, С. В. Александров,
В. Я. Стёганцева, А. В. Агафонов, которые выполнили
основной объем работ по зачистке захоронений в тяжелых погодных
условиях зимы 2009 г. и лета 2010 г.
Администрация Государственного музея истории
Санкт-Петербурга в лице директора Александра Николаевича Колякина
оказала финансовую поддержку в проведении раскопок и
предоставила помещение для камеральных работ. Под руководством зам.
директора ГМИ СПб по научной работе Юлии Борисовны Деми-
денко была создана Межведомственная комиссия, которая
оперативно координировала поисковые и исследовательские работы.
Большую помощь в проведении механизированных
земляных работ оказала строительная организация «Новая эра».
Находка декабря 2009 г. широко освещалась в печати и
вызвала в Петербурге значительный общественный интерес.
502
Поэтому в летних раскопках на добровольных началах
принимали участие студенты-практиканты Академии культуры,
школьники старших классов Петроградского района. Особенно
большую помощь оказали бойцы поискового отряда «Святой
Георгий» (командир О. Б. Алексеев), член Муниципального
Совета округа «Кронверкский» Г. В. Стрелец.
Огромное количество находок из органических материалов
спасли от гибели члены Свято-Петровского духовного
православного братства (руководитель Ю. Балакшина). 31 октября
2010 г. ими был организован благотворительный концерт, на
котором были собраны деньги для проведения
антропологической экспертизы и приобретения необходимых химикатов.
Ученый секретарь ГМИ СПБ, к. и. н. И. А. Карпенко и
ведущий научный сотрудник музея, к. и. н. Н. Р. Славнитский
обнаружили в архивах важные документы, необходимые для
исследований по идентификации останков.
Выражаем признательность за активную информационную
и консультативную поддержку директору НИЦ «Мемориал»
Ирине Анатольевне Флиге и сотруднику НИЦ Александру
Давидовичу Марголису, а также Т. В. Моргачевой за предоставление
возможности ознакомиться с ранее неизвестными документами.
В заключение хотелось бы пожелать, чтобы не только
горожане, общественные организации, но и государственные
ведомства оказывали помощь в работе по восстановлению
исторической правды, какой бы трагичной она ни была. Эта
работа будет способствовать объединению нации, воспитанию
молодежи в духе уважения к памяти предков, к историческому
прошлому нашей страны.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абрамов 253, 263
Абрамсон К. А. 488
Авксентьев Н. Д. 48, 60, 452
Агранов Я. С. 394-399, 473
Александр III, Император 308
Александр Михайлович, Вел.
князь 325, 469
Амфитеатров А. В. 68, 89, 280,
366, 376, 419-424, 457
Андреев JI. Н. 16
Андреева М. Ф. 197,205,207-209,
302, 303, 312
Андрей Владимирович, Вел.
князь 325, 470
Анцелович Н. М. 369
Арапов А. И. 136
Аргунов А. А. 42, 45, 451
Арсеньев Е. К. 294, 466
кн. Багратион-Мухранский А. И.
60, 455
Бадрин Н. 126, 153
Бакаев И. П. 386
Бакмансон Г. К. 76, 77, 96, 97
кн. Барклай де Толли-Вей-
марн Н. Л. 179, 180, 465
Батюшков Ф. Д. 355, 472
Безак Н. 296
Безсонов Г. Д. 11, 34, 447
Белецкий С. П. 55, 139, 454
Белостоцкий Г. Л. 388, 473
Беляев М. А. 152, 462
гр. Бенкендорф А. К. 113, 459
гр. Бенкендорф П. К. 113, 459
Бернацкий М. В. 48, 49, 452
Бетулинский Ю. А. 487
Биттенбиндер В. В. 313, 468
Благовещенский Н. 66
Благонравов Г. И. (Благовидов?)
54, 306, 322
Блок А. А. 379, 423-426
Бозе А. А. (?) 357, 360, 362, 401
Бокий Г. И. 64, 161, 173, 176,
184-187,192-206,208,213,214,
296, 329, 456, 463, 464
Бокий (Лихарева, Кульман) Н. И.
174, 175, 177, 178, 184, 193, 464
Бонч-Бруевич В. Д. 298, 468, 475
Борейша А. С. 40, 451
Борис Владимирович, Вел. князь
325, 470
Боричевский И. А. 434
Борщевский 236, 240—242
Бояринов В. А. 37-39, 41
Браз И. Э. 77, 96, 97, 101
гр. Брасова Н. С. 63, 178, 179,
189, 205, 456
Брешко-Брешковская Е. К. 16,
49, 449
Брешко-Брешковский Н. Н. 77,
88, 89, 101, 313, 314, 458
Бруни Н. 313, 468
Брюммер фон К. Ф. 317, 468
Бурцев В. Л. 55, 59, 384, 454, 478
Варшер Т. С. 351, 353, 471
Вениамин, митрополит
Петроградский 370
Веревкин П. В. 130, 134, 139,
144, 459
Веселкин М. М. 217, 465, 487
Владимир Александрович, Вел.
князь 325, 470
Волковыский Н. М. 418, 426, 431,
474
кн. Волконская А. Н. 131, 132,
136, 460
светл. кн. Волконская С. А. 108,458
кн. Волконский В. М. 131, 460
светл. кн. Волконский П. П. 108,
459
Володарский В. (Гольдштейн) 26,
68, 70-72,275,476
бар. Врангель Г. М. 275, 276, 466
504
бар. Врангель М. Д. 275, 466
Вышнеградский А. И. 55, 59, 454
Гавриил Константинович, Князь
Имп. крови 61-65, 163, 170,
173, 175, 180-182, 186, 195,
212-214, 291, 294, 456
Галкин 316, 318, 319, 328-330
Гартунг К. 300
Гельперн Б. М. 384
Генглез А. И. 66, 67, 457
Генглез И. М. 66, 67, 457
Генглез Н. И. 66, 67, 457
Генглез П. И. 66, 67, 457
Герзони И. Л. 55, 62, 63, 169, 179,
185, 203, 207
Георгий Михайлович, Вел. князь
9, 61, 62,164, 173, 190, 213, 275,
294,303,308,310-312,317,319,
321, 326, 456, 482, 501
Герарди Б. А. 296, 467
Герман Ю. П. 365, 395, 472
Гефтер А. А. 333, 339, 471
Гиттис В. М. 244, 466
Городецкий С. М. 432
Горшечникова В. И. 417
Горький А. М. 60, 65, 114, 196,
198,201,205-209,212-214,264,
280,291, 292,297,303,312,326,
329, 424
гр. Граббе Н. Н. 296, 467
Грабовский А. А. 487
Гредескул Н. А. 434
Греков И. И. 60
Гумилев Н. С. 112, 380-383, 419,
422, 445
Гучков А. И. 16, 447
Дан (Гурвич) Ф. И. 423
Дейч Л. Г 16,448
Дерфельден М. Э. 287, 291, 293,
303, 304, 466
Де-Симон, см. Симон Де
Джонсон Н. Н. 173, 463
Дзержинский Ф. Э. 82, 398
Диц А. Г. 136,144,153,156,159,161
Дмитрий Константинович, Вел.
князь 9, 61, 164-166, 168, 169,
173, 190, 207,213, 275,294,303,
308,310-312,317,319,321,326,
329, 456, 482, 501
Дмитрий Павлович, Вел. кн. 223,
224, 326
Добровольский И. А. 296, 467
кн. Долгоруков П. Д. 48, 50, 453
Елизавета Маврикиевна, Вел. кн. 192
Елизавета Федоровна, Вел. кн. 173
Ермолаев Н. Н. 331
Ефимович А. Ф. 179, 464
Жанен М. 341
Жданов 3. П. 96
гр. Замойский А. С. 113
гр. Зарнекау А. 296, 467
Засулич В. И. 16, 448
ЗилотиА. И. 57-59, 455
Зиновьев (Радомысльский) Г. Е.
7, 60, 61,139,207, 208, 231,238,
242,253,262-265,323,347,385,
386, 420
Зубелевич Ю. М. 347, 350
Игорь Константинович, Князь
Имп. крови 173, 463
Изгоев (Ланде) А. С. 264, 466
Измайлов А. А. 90
бар. Икскуль-Гильденбанд В. И.
114, 459
Ильин-Женевский А. Ф. 231,
261, 466
Иоанн Константинович, Князь
Имп. крови 173, 174, 463
Иоселевич А. С. 161, 185, 206,
291, 296
Каледин А. М. 74
Калпашников А. И. 478
Каменка Б. А. 25
Каннегиссер Л. А. 25, ПО, 112,
150, 230, 231, 240, 295, 345, 450
Каплун Б. Г. 91
Карташев А. В. 57, 454
Карусь П. А. 370, 371
бар. Каульбарс Е. К. 131,132, 460
Керенский А. Ф. 171, 172, 323
Кирилл Владимирович, Вел. кн. 325
Кишкин Н. М. 59, 455
Князев В. В. 433
Ковалевский В. П. 25, 486
Козловский 46, 240, 253
Кокошкин Ф. Ф. 48, 50, 52, 53,
56, 57, 71, 189, 452, 478
Колчак А. В. 341, 345
Комарницкий В. И. 130—132,
153, 156
Комаров Н. П. 386, 473
Кони А. Ф. 299, 300, 302
Коновалов А. И. 57, 454
Константин Константинович,
Князь Имп. крови 173, 174,
177, 463
Копяткевич А. А. 262, 263
Корнилов Л. Г. 16, 74, 449
Коробов А. И. 144
Корвин-Круковский 395, 396
Котляревский И. П. 103
гр. Коцебу П. П. 138, 139, 148,
156, 159-162,461
Коцебу Э. Ю. 130, 131, 134
Коцебу Т. П. 148, 153
Коцурик А. В. 155-157, 462
Красиков П. А. 46
Краснов П. Н. 77
Краснова (Бакмансон) Л. Ф.
77, 458
Крейцер 143, 150
Кроми Ф. А. 293, 341, 342, 466
кн. Кропоткин П. А. 16, 81, 449
Крутиков А. А. 27, 153
Ксения Александровна, Вел.
княгиня 224, 325
Кудрявцев К. Д. 136, 138, 147,
151-153, 157
Кульман Н. К. (Н. К. К.) 173-176,
178, 464
Курош А. П. 130, 131, 135, 459
Кутлер Н. Н. 25, 450
Кюльман Рихард 111
Л-ва Н. И., см. Бокий Н. И.
Лазаревский Н. И. 105, 374, 375,
378, 388, 419, 422, 472
Лемке М. К. 434
Ленин В. И. 7,56, 61-67,113,123,
196,197,199, 264,294,312, 323,
326, 347, 369, 383, 476, 481
Лидин А. 320
Литваков М. И. 432
Ллойд Джордж Д. 294
Локкарт Р. 341, 342, 471
Ломен 296
Лопатин Г. А. 16, 448
Лосский Н. О. 432, 474
Луначарский А. В. 57-59, 174,
176, 198, 207, 257, 258, 317
Лунд О. С. 105, 106, 373, 458
Ляпин И. М. 480
Майков An. H. 381
Макаров А. А. 134-136, 138, 139,
144, 157, 460
Маклаков В. А. 224
Мальцев А. Г. 305, 313
Маниковский А. А. 44, 45, 451
Манухин И. И. 54, 60, 194-196,
198, 207, 208, 212, 453
Манухин С. С. 396, 473
Манштейн В. С. 159-161
Марушевский В. В. 44, 451
Мария Павловна, Вел. княгиня 326
Мария Федоровна, Вдов.
Императрица 325
бар. Мейендорф А. Ф. ПО, 459
бар. Мейендорф П. Ф. 130, 134,
137, 153, 159, 160, 459
506
МейерА. К. 138,144,151,153,159
Мейер В. К. 138, 144
Мелыунов С. П. 6, 307, 350
бар. Менд Р. Ф. 175, 464
Меньшиков М. О. 89
Меньшуткин 139, 144
Мессинг С. А. 403
Мечников И. И. 61
Милюков П. Н. 16, 447
Михаил Александрович, Вел.
князь 63,170,171,173,178,179,
189,212,291,463 •
Михайлов 415
Морозов В. В. 486
Морозов Н. А. 16, 448
Муратов Н. П. 140, 461
Мухин В. П. 96-102
Мясоедов С. Н. 75, 457
Набоков В. Д. 353, 471
кн. Накашидзе 130, 131, 134,
141, 144
Натансон М. А. 45
Нератов Б. А. 130, 140, 144, 459
Николаев М. В. 416
Николай II Александрович,
Император 89, 135, 170, 180, 340, 383
Николай Михайлович, Вел. князь
9, 61, 62, 108, 164,167,173,190,
213, 226, 275, 294, 303, 308,
310-312,317-319,321,326,329,
330, 456, 482, 501
Николай Николаевич, Вел. князь
325, 469
о. Николай Заблоцкий 215
о. Николай Савицкий 215
Н. К. К., см. Кульман Н. К.
Новицкий В. Д. 331, 471
Новорусский М. В. 16, 448
Обнисский 287, 288, 293, 303
Озолин Я. Г. 377, 385-388, 418,
423-426
О. Л. Д'Ор (Оршер И. Л.) 433
Ольга Александровна, Вел.
княгиня 325
Оржеховский В. Г. 215, 314, 465
Павел Александрович, Вел. князь
9, 61, 62, 64, 108, 164-166, 169,
171, 173, 177-179, 190, 195,
197, 206, 213, 214, 223, 225, 275,
287-295, 298-303, 305-323,
326, 330, 455, 482, 501
кн. Палей В. П. 173, 323, 463
кн. Палей О. В. (ур. Карнович)
166,169,176,194,195, 197,199,
287, 301, 311, 312, 320, 462, 482
Пальчинский П. И. 55, 101
Паньков (Паськов) 365, 394—396
Перц Отто 269
Першиц Л. А. 216
Петр Николаевич, Вел. князь
325, 469
Петражицкий Л. И. 345
Петровский Г. И. 230, 475, 476
Плен П. М. 487
Плеханов Г. В. 16, 448
Позерн Б. П. 228, 229, 231, 235,
236, 238-240, 244-246, 256,
257, 264, 466
Полетаев Е. А. 353, 354, 471
Поливанов А. А. 25, 120, 450
Полковников Г. П. 16, 450
Пономарева Е. В. 299,300,302,303
Пораделов Н. Н. 327, 471
Протопопов А. Д. 139, 461
Прусс (Прус) 328, 329, 401
Пуришкевич В. М. 50,224,453,478
кн. Путятин С. М. 326, 470
кн. Путятин М. С. 163
Радек (Собельсон) К. Б. 297, 468
Распутин Г Е. 223, 224
Рейнбот А. А. (Резвой) 149, 150,
157, 461
Рейснер М. А. 228
Ренненкампф фон Н. Р. 217, 465
Ренненкампф фон П. К. 217, 465
Родзянко М. В. 16, 447
Родзянко П. В. 132, 460
Родзянко М. П. 132, 136-139
кн. Романова А. Р. 64, 163, 201,
212, 213, 456
Рузский Н. П. 60, 455
Рутенберг П. М. 54, 55, 453
Рыков А. Н. 487-490, 501
Ряжкин 239, 244, 267
Рязанов Д. Б. 46
Саблер В. К. 149, 150, 462
Сабуров А. П. 296, 468
Савинков Б. В. 16, 444, 449
Сан-Совэр Арман де 302,303,305
Святловский В. В. 434
Семенов Ф. (Б. А.?) 377,386, 403,
418-422
Сербская Е. П. 190
Сергей Михайлович, Вел. князь
173, 323, 463
Серебряков Л. 215
Симон Де А. М. 217, 465, 486
Скавениус М. Де 295, 297
Скороходов А. К. 297,321,322,468
Скульский 327, 328
Слетова А. Н. 373
Смильг-Бенарио М. 227
Смирнов И. А. 488
Смирнов С. А. 57, 454
Соколов Н. Д. 56
Соколова А. П. 417
Соловьев Г. А. 487
Сорокин П. А. 47, 452, 478
Стародубский Н. Г. 402
Стасова Е. Д. 94, 207, 354
Стуккей Л. Г. 60
Суворина Н. А. 371, 372
Сухомлинов В. А. 48, 50, 51, 453
Таганцев В. Н. 105, 365, 374,
376-378, 388, 395-399, 421,
422, 472
Таганцев Н. С. 396, 472
Таганцева Н. Ф. 374
гр. Татищев Д. Н. 296, 467
Терещенко М. И. 48,49,54,57,452
Тимофеев В. Н. 395, 473
Тихвинский М. М. 105, 419, 422,
474
Тихон, патриарх 370
Трейлиб (Трейман) 294, 301, 466
Трепов В. Ф. 296, 467
Третьяков С. Н. 57, 454
Трифонов И. Н. 487
Троцкий (Бронштейн) Л. Д. 45,
74, 123, 203, 294, 312
кн. Туманов В. С. 22-24, 28, 217,
486, 487, 490
Урицкий М. С. 19, 25, 26, 51, 77,
78, 85-102, ПО, 111, 115, 117,
118, 126, 163, 164, 167, 168,
174-177,180,181,186-193,196,
197, 199,200, 230,287,288,292,
295,309-311,329,335-339,343,
345, 445, 476, 481
Усов Н. Н. 135, 461
кн. Ухтомский С. А. 112,374,375,
378, 419, 472
Фельдман 144, 146, 151, 152
бар. Фелькерзам Д. Г. 307, 468
Философов Д. В. 56, 454
бар. Фредерике 156, 157, 159
Фрейфельдт 159, 160
Хан Нахичеванский Г. 168, 462
Хвостов А. Н. 139, 461
Хоцяновский Б. А. 175, 464
Христик И. П. 487
Чернов В. М. 16, 51, 450
Шабалин И. А. 405, 412, 473
Шаляпин Ф. И. 58, 207, 256, 292,
293, 374
Шахов 167, 185, 206
кн. Шаховской Д. Н. 175, 388,
473, 478
Шимановский 428, 429
Шингарев А. И. 48, 50, 52, 53, 56,
57, 71, 189, 452, 478
Шинклер (Шейнкман) 293, 466
Шнеур Г. Н. 403, 473
Шрейдер А. А. 51, 453
Штейнберг И. 3. 59, 60, 455
гр. Шувалов П. П. 320-324, 469
Шульгин В. В. 16, 447
Шульгина В. В. 487, 488
Щегловитов И. Г. 48,50,51,139,453
кн. Щербатова М. Г. 112
Щербов-Нефедович 157, 462
Эйдук А. В. 23-25, 450
Экеспарре фон А. Н. 22-24,28,450
Энгельгардт В. П. 136, 141
Юденич Н. Н. 403, 445
Юдин Н. 30, 32, 218, 219
Юрьев В. Н. 14,15, 17-20, 27,30,
31, 33, 34
кн. Юсупов Ф. Ф. 224
Яблочкин В. А. 131, 134, 139, 460
Яковенко 408, 409
Яковлева В. Н. 94, 296, 329, 418,
427-430, 458
Иллюстрации, использованные в оформлении книги
Первая сторона переплета и контртитул:
Памятный крест на территории Ржевского артиллерийского полигона
под Санкт-Петербургом, где в 1918-1922 гг. были расстреляны
тысячи жертв большевистского террора. (Фото П. Еремеева)
1-й форзац
Здание тюрьмы ПетроЧК (бывш. Дома предварительного заключения)
на Шпалерной, 25.
Мемориальная доска на бывш. доме ВЧК (позже Петроградской
ГубЧК) на Гороховой, 2.
Большевистский плакат, призывающий ответить террором на смерть
Володарского и Урицкого, и фрагменты из советской прессы 1918г.
2-й форзац
Стены порохового склада Ржевского артиллерийского полигона
(Всеволожский р-н ЛО), в котором приговоренные к расстрелу
проводили последние часы жизни.
Поклонный крест на дороге к Ржевскому полигону. (Фото П. Еремеева)
Памятная табличка на могиле 1920-х годов (Смоленское кладбище,
СПб.).
Находки на месте расстрелов жертв красного террора на территории
Петропавловской крепости.
СОДЕРЖАНИЕ
С. В. Волков. Предисловие 6
Ю. Безсонов. В Петрограде в 1917-1918 гг. 11
A. Аргунов. В большевицком плену 42
И. Манухин. Воспоминания о 1917—1918 гг. (фрагмент) 54
B. Новиков. Расстрел братьев Генглез 66
A. В. Амфитеатров. Советские узы (Очерки
и воспоминания 1918—1921 гг.) 68
Кн. С. А. Волконская. Горе побежденным (фрагменты) 108
C. Вл-в. В большевистском застенке 115
Н. Бадрин. В когтях у большевиков (фрагмент) 126
Князь Гавриил Константинович. Месяц в тюрьме
(из дневника) 163
Княгиня А. Романова. Как был спасен князь Гавриил
Константинович (Воспоминания) 170
И. Манухин. Письмо в редакцию 212
B. Оржеховский. Страничка «красного террора»
(Петроград 1918-1919 гг.) 215
М. Смилъг-Бенарио. На советской службе 227
Баронесса М. Д. Врангель. Люди-звери 275
A. Амфитеатров. Слабые духом 280
Княгиня О. В. Палей. Воспоминания о России
(фрагменты) 287
Баронесса Д. Фелькерзам. Письмо С. П. Мелыунову 307
B. Б. О последних днях пребывания в тюрьме Великих
князей Павла Александровича, Николая и Георгия
Михайловичей и Димитрия Константиновича 308
А. Г. Мальцев. Как был расстрелян Вел. кн. Павел
Александрович 313
К. Ф. фон Брюммер. Последние дни Великого князя
Николая Михайловича 317
А. Лидин. Бегство княгини Палей (от парижского
корреспондента «Слова») 320
510
Великий князь Александр Михайлович. Книга
воспоминаний (фрагмент) 325
Н. Пораделов. В «че-ка» 327
Петербуржец. В Петербурге 331
А. Г. Записки современника 333
A. Гефтер. «Еремеевская ночь» 339
Ю. М. Зубелевин. К событиям в Кронштадте в июне-
июле 1919 г. 347
Т. Варшер. Одна из мимолетных встреч 351
Т. Варшер. Страница пережитого в эпоху террора 353
B. Беженцев. Тюрьма и сума (Очерки русской жизни
в эпоху коммунизма) 358
Ш. Красный суд (Этюд с натуры) 363
А. В. Амфитеатров. Горестные заметы 366
Б. М. Гелъперн. Письмо В. Л. Бурцеву 384
Э. К—ва. Вести оттуда 389
С Че-ка 393
И. А. Шабалин. К петербургским товарищам (Письмо
из застенка) 405
П. Ефимов. Петроградская че-ка 413
Н. Волковыский. Посылающие на расстрел 418
Н. Волковыский. Из записной книжки высланного 431
C. В. Волков. Комментарии 447
Приложение 1
Постановление Совета Народных Комиссаров
о красном терроре 475
Приказ о заложниках 476
Приложение 2
В. И. Килъдюшевский, Н. Е. Петрова. Находки
захоронений жертв красного террора
в Петропавловской крепости 477
Указатель имен 504
Иллюстрации, использованные в оформлении книги 509