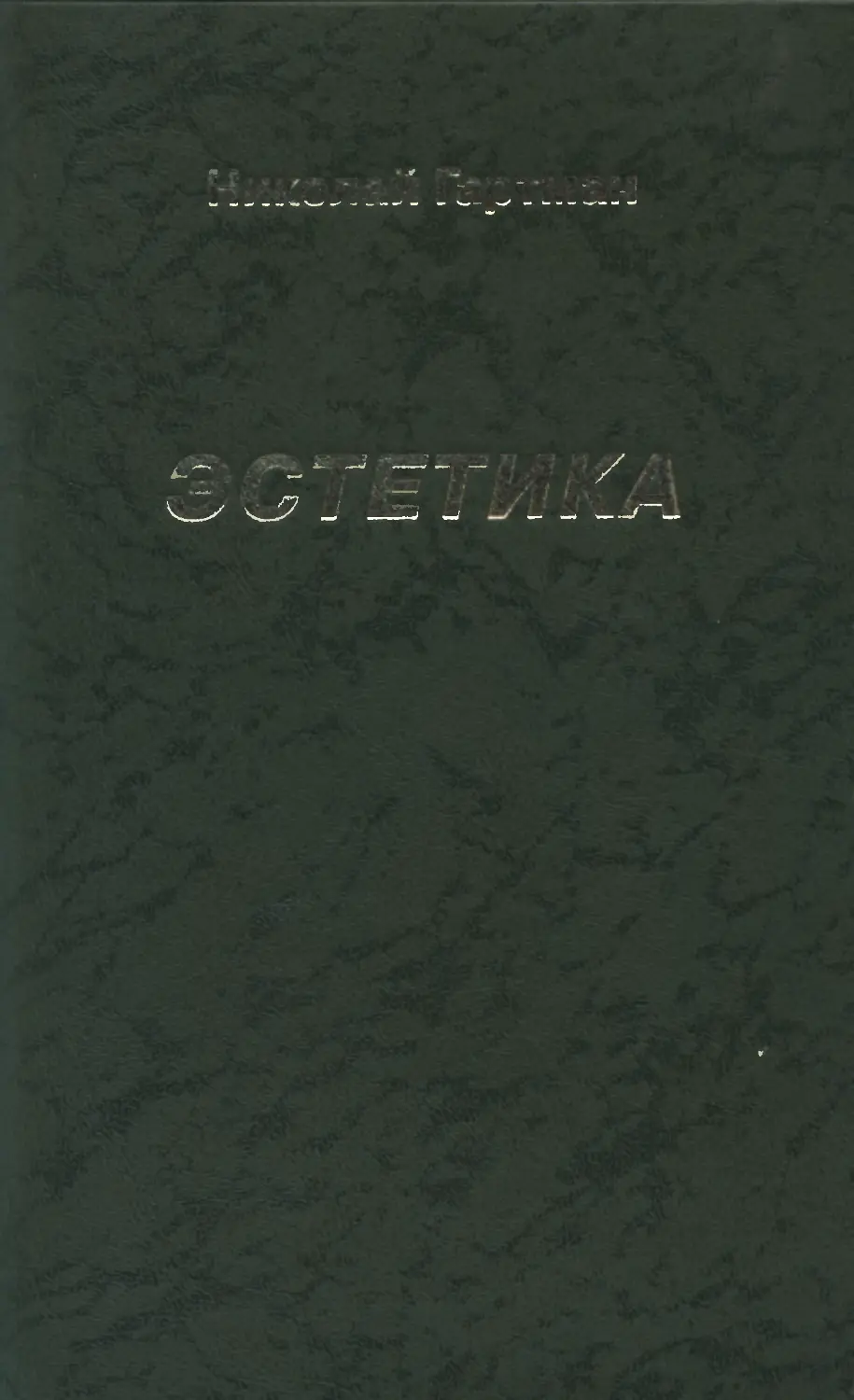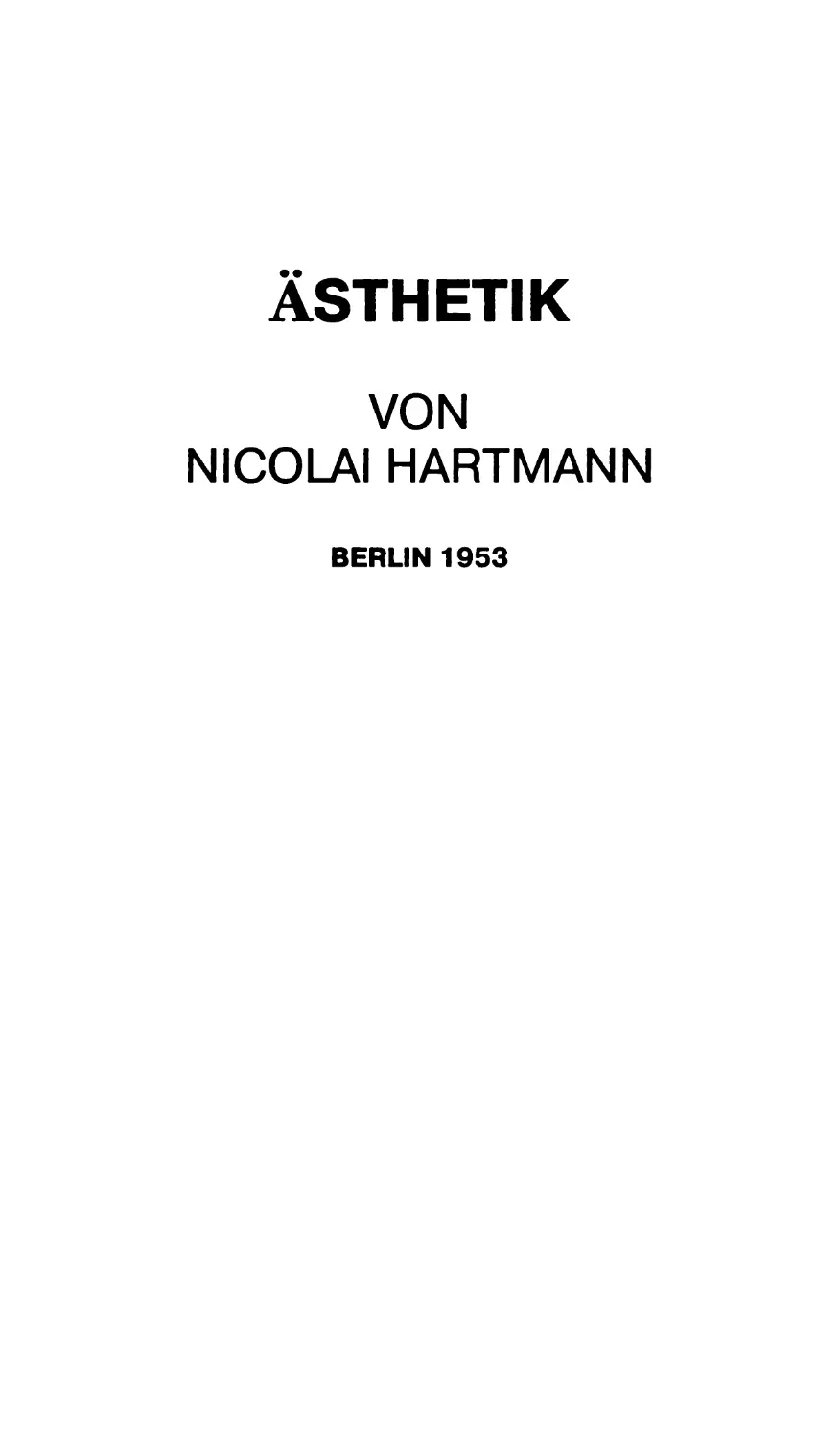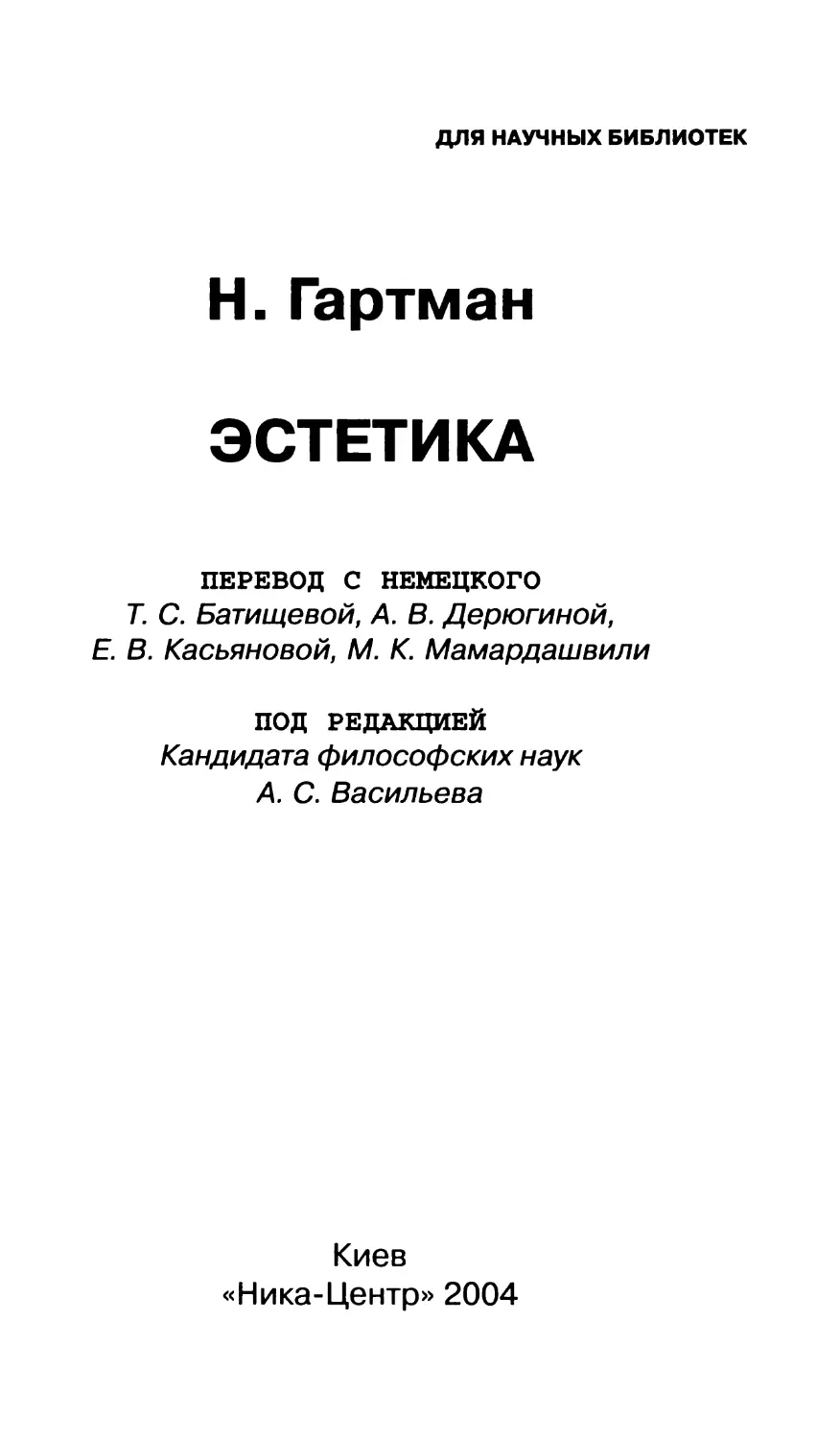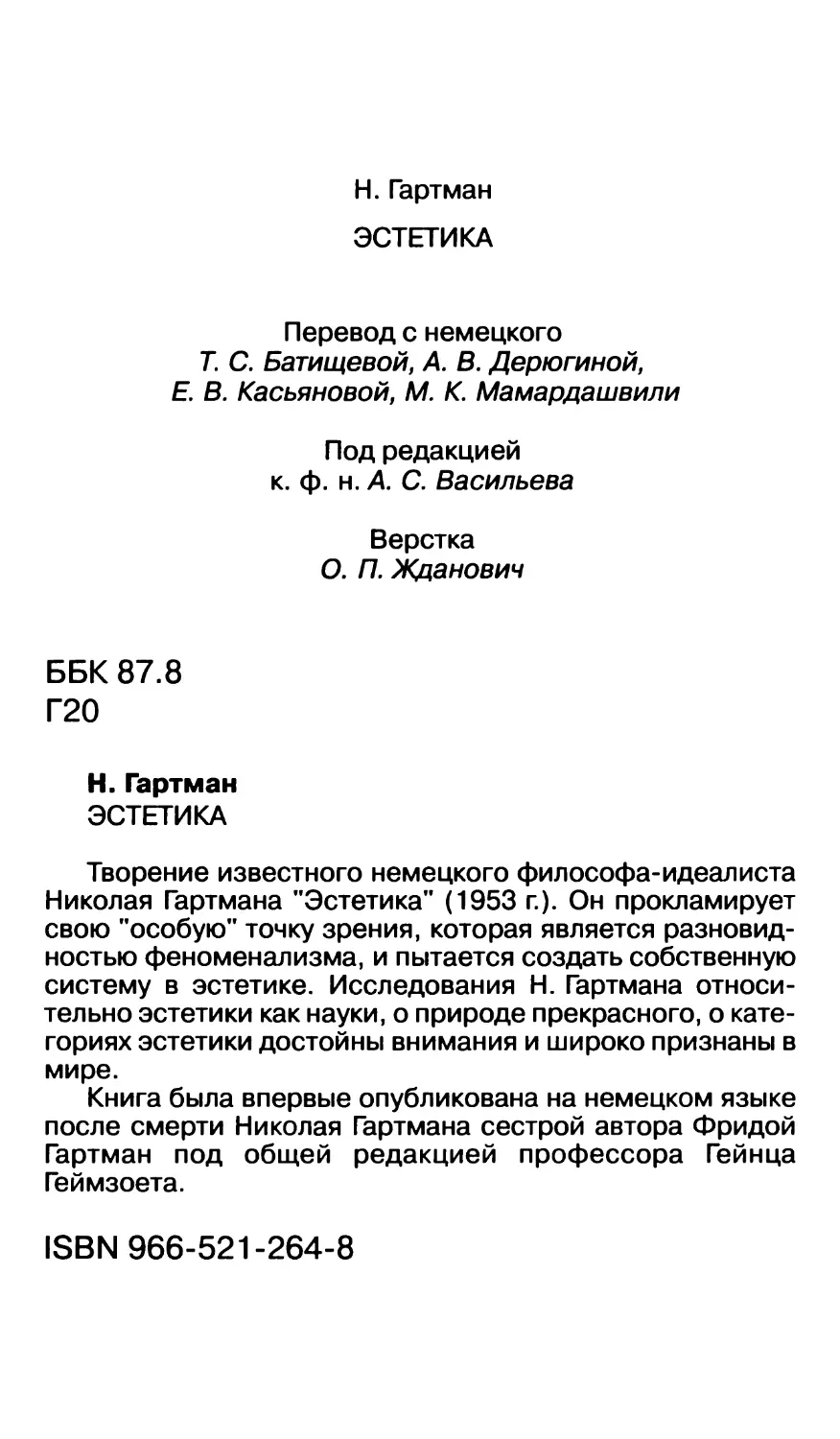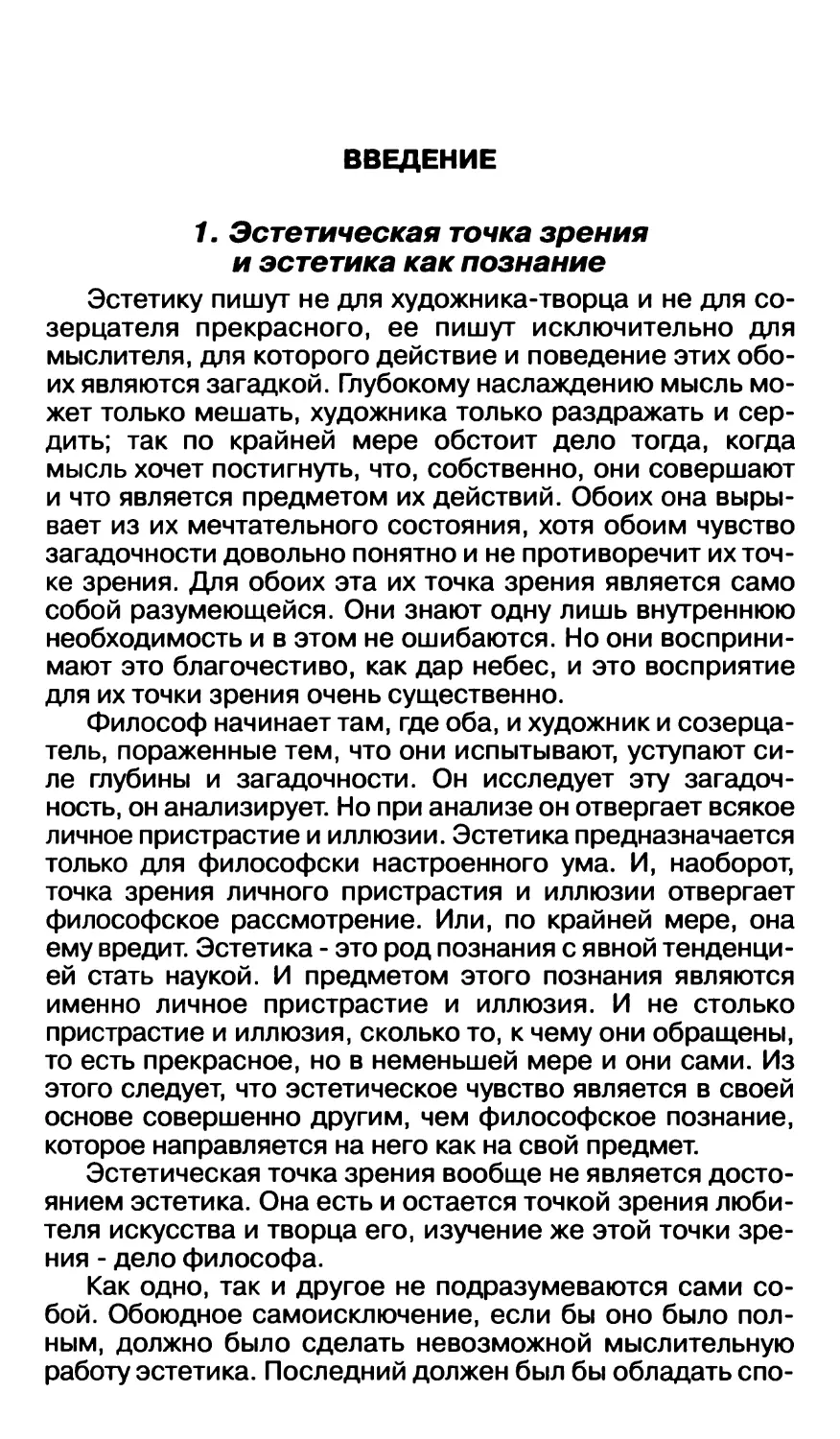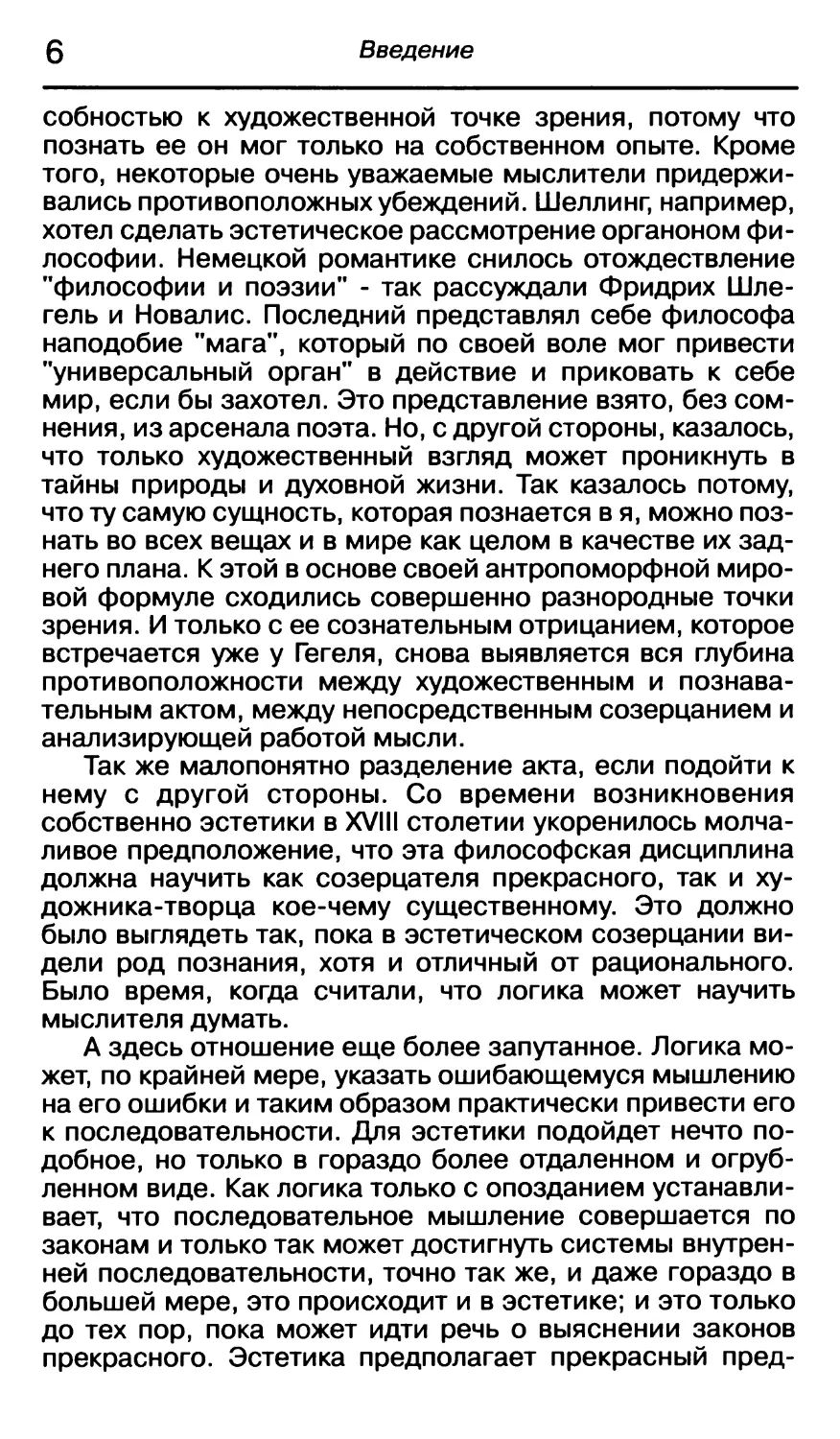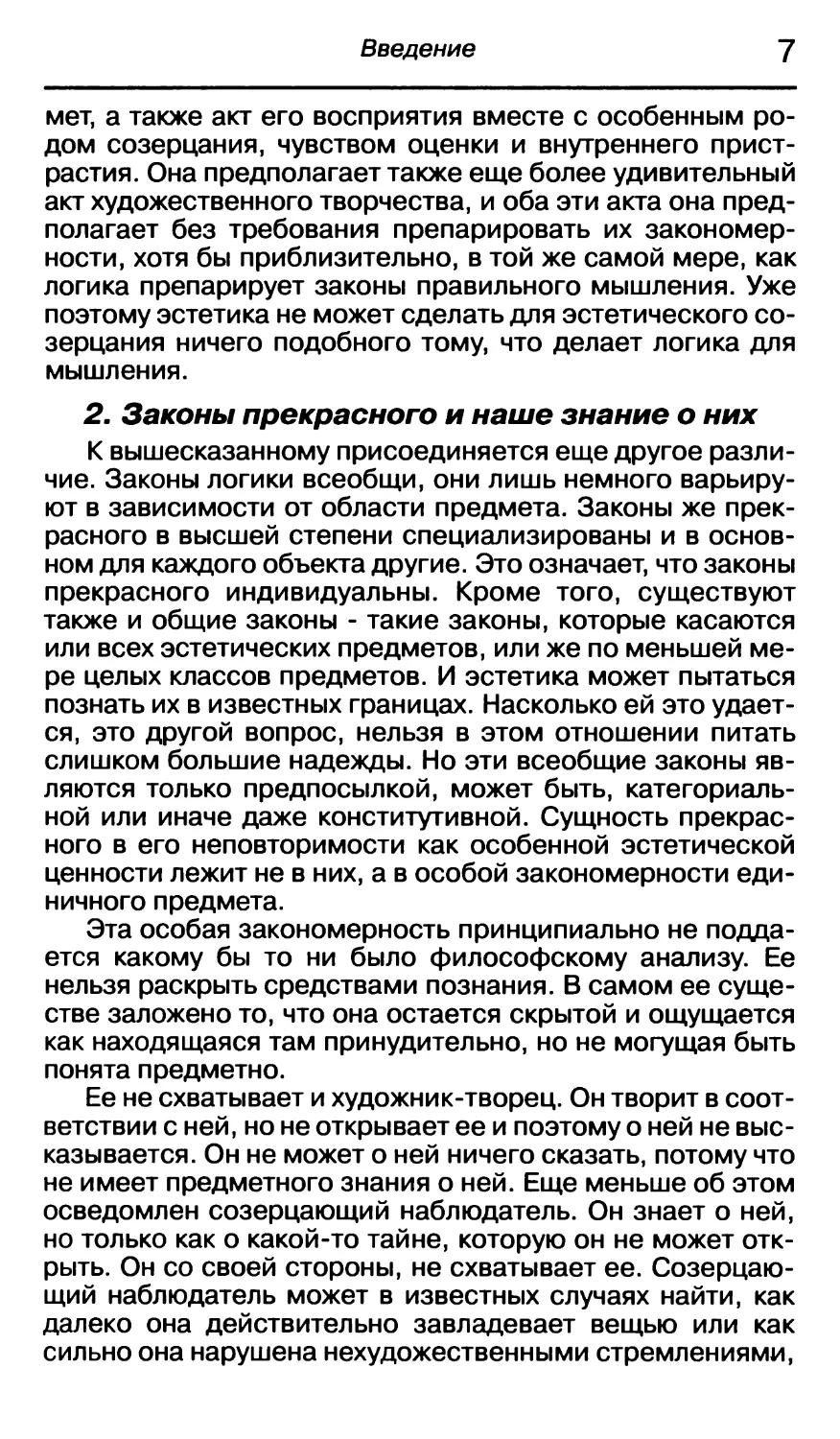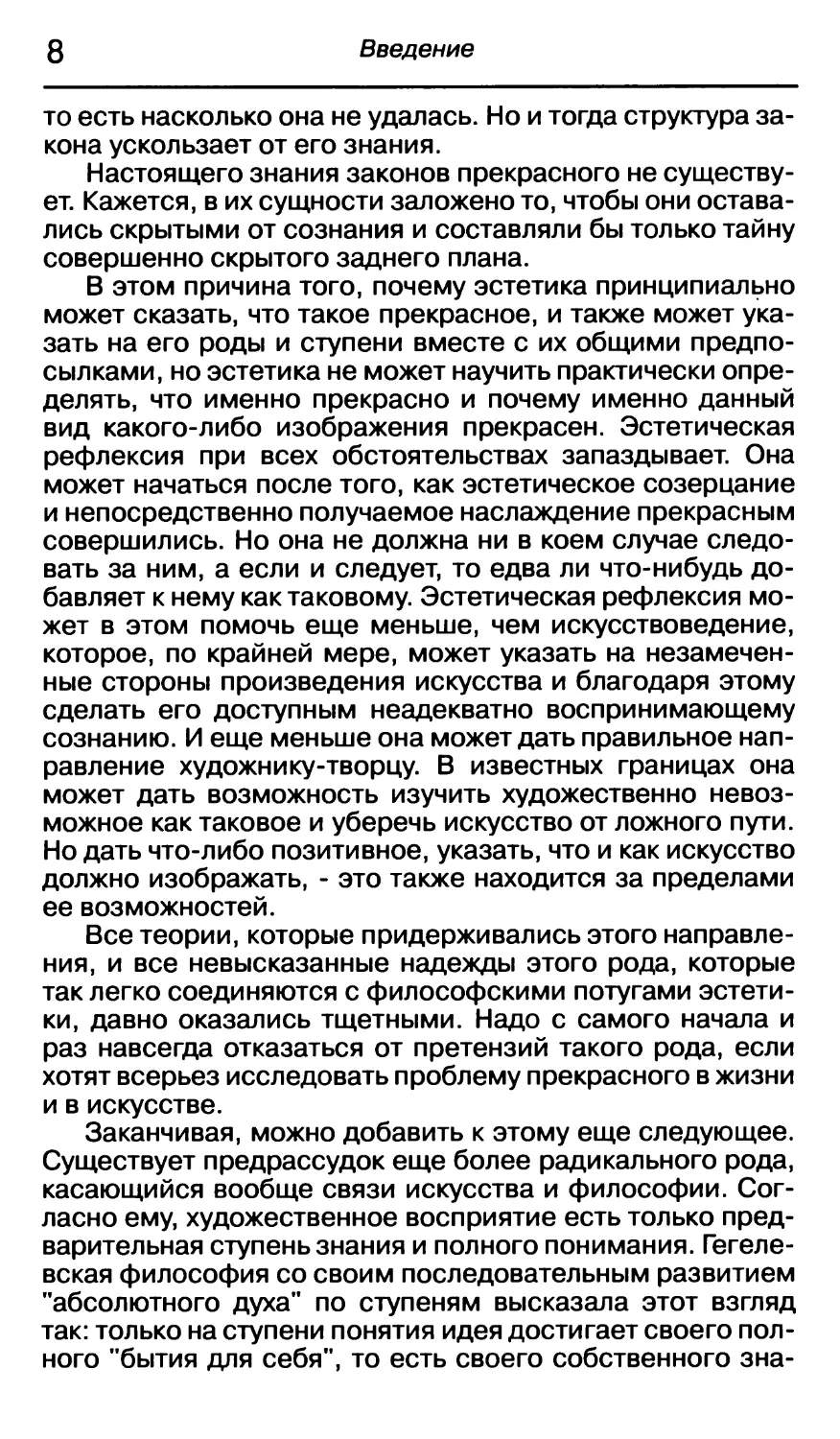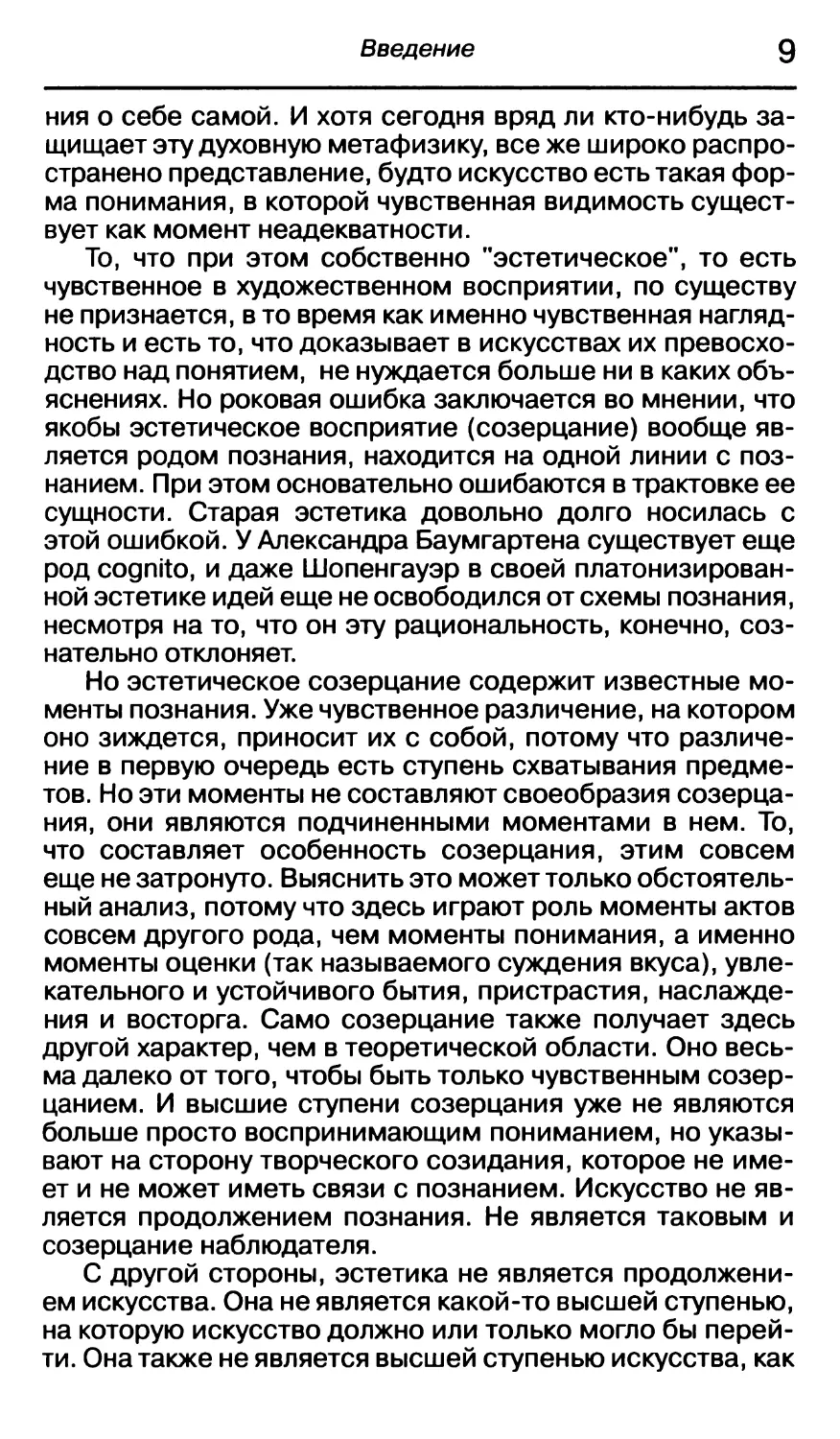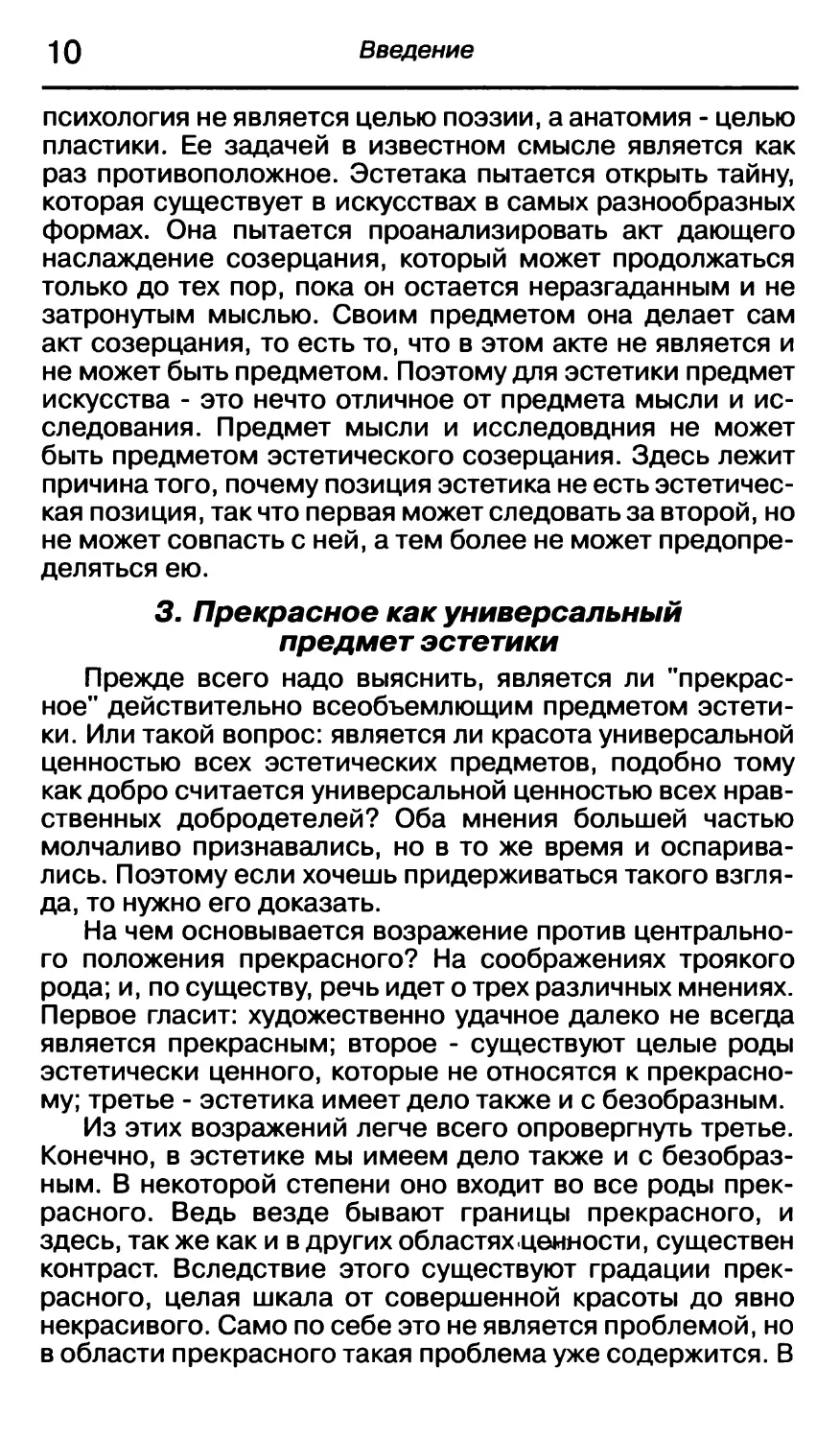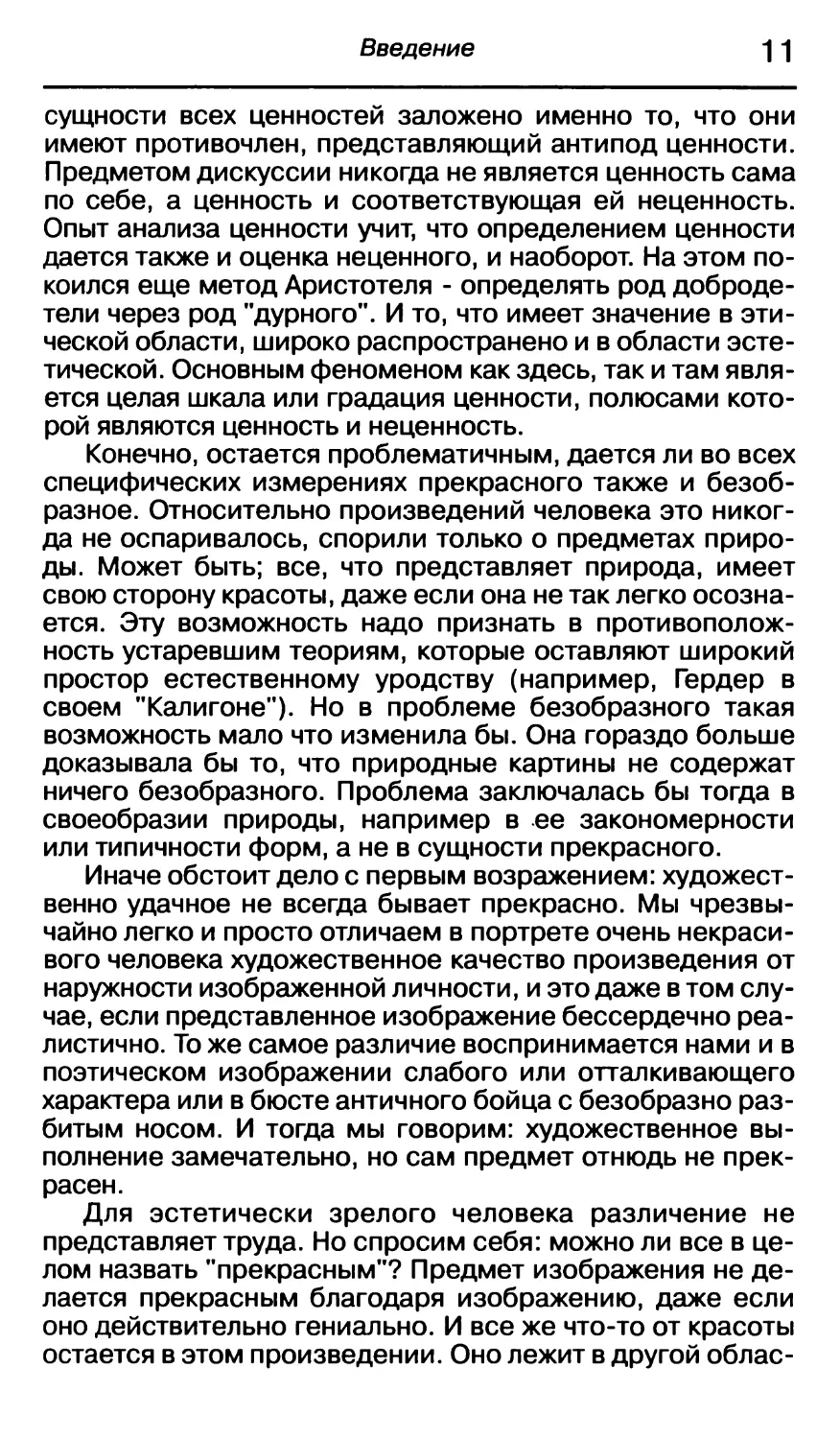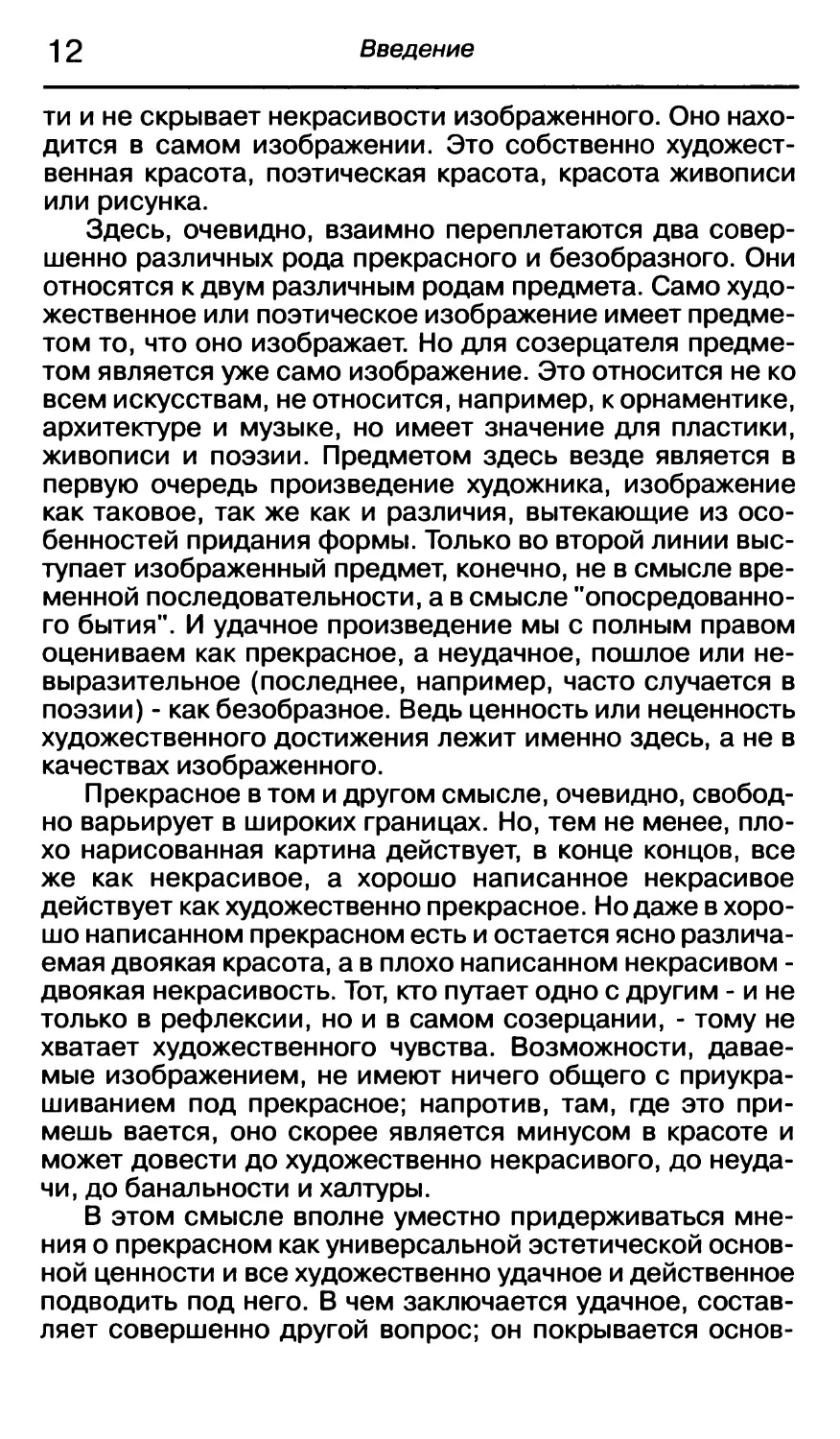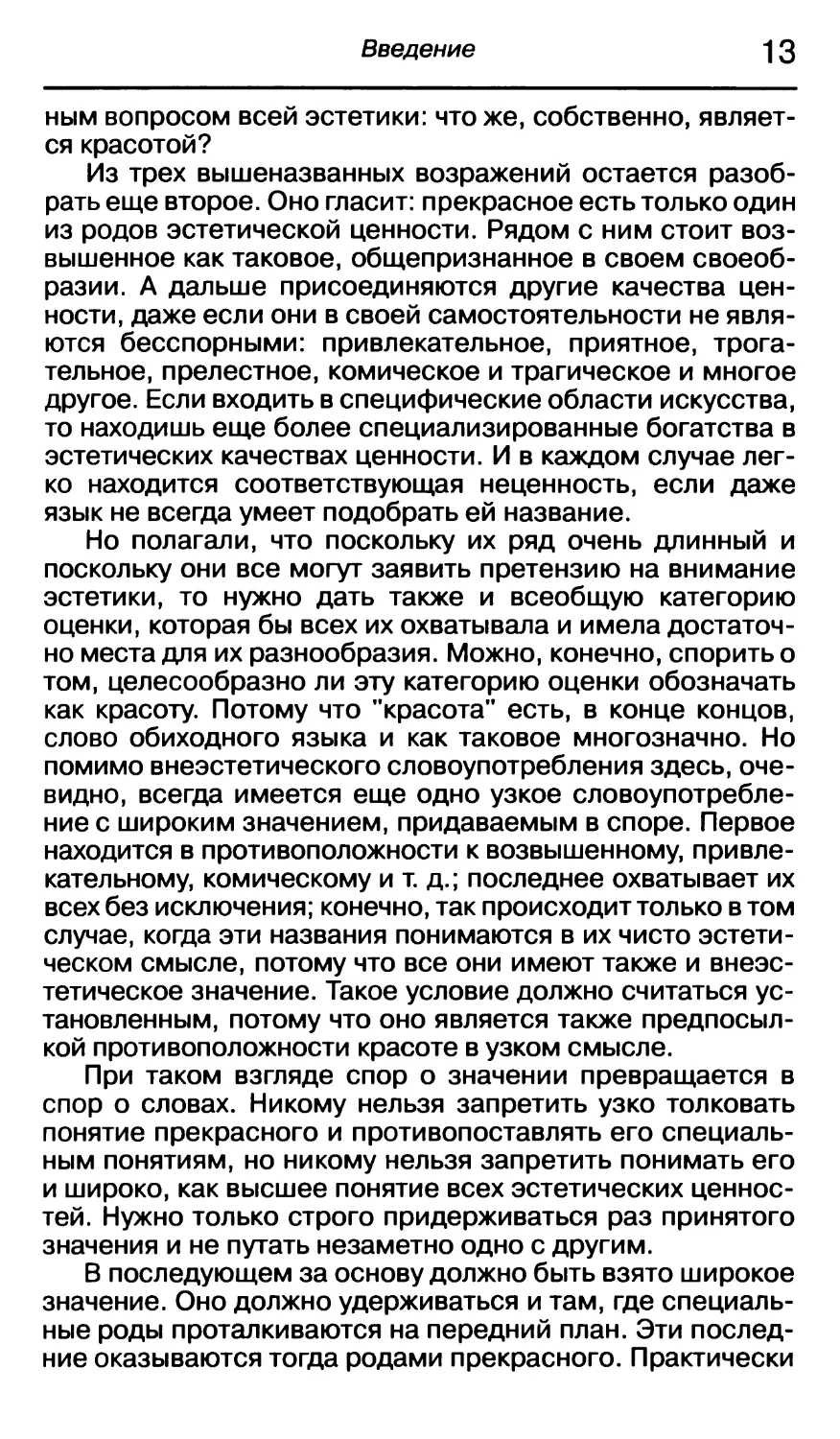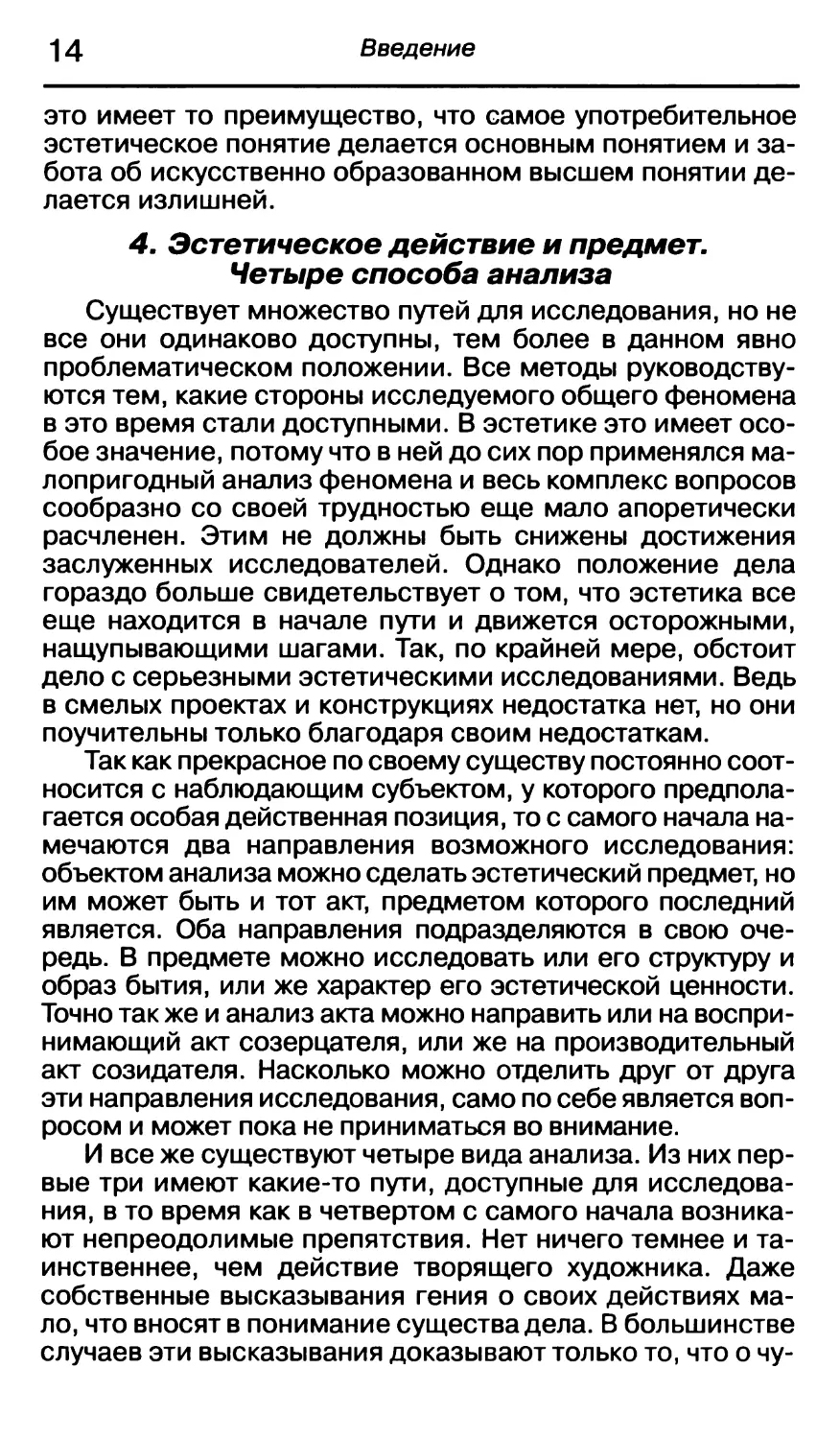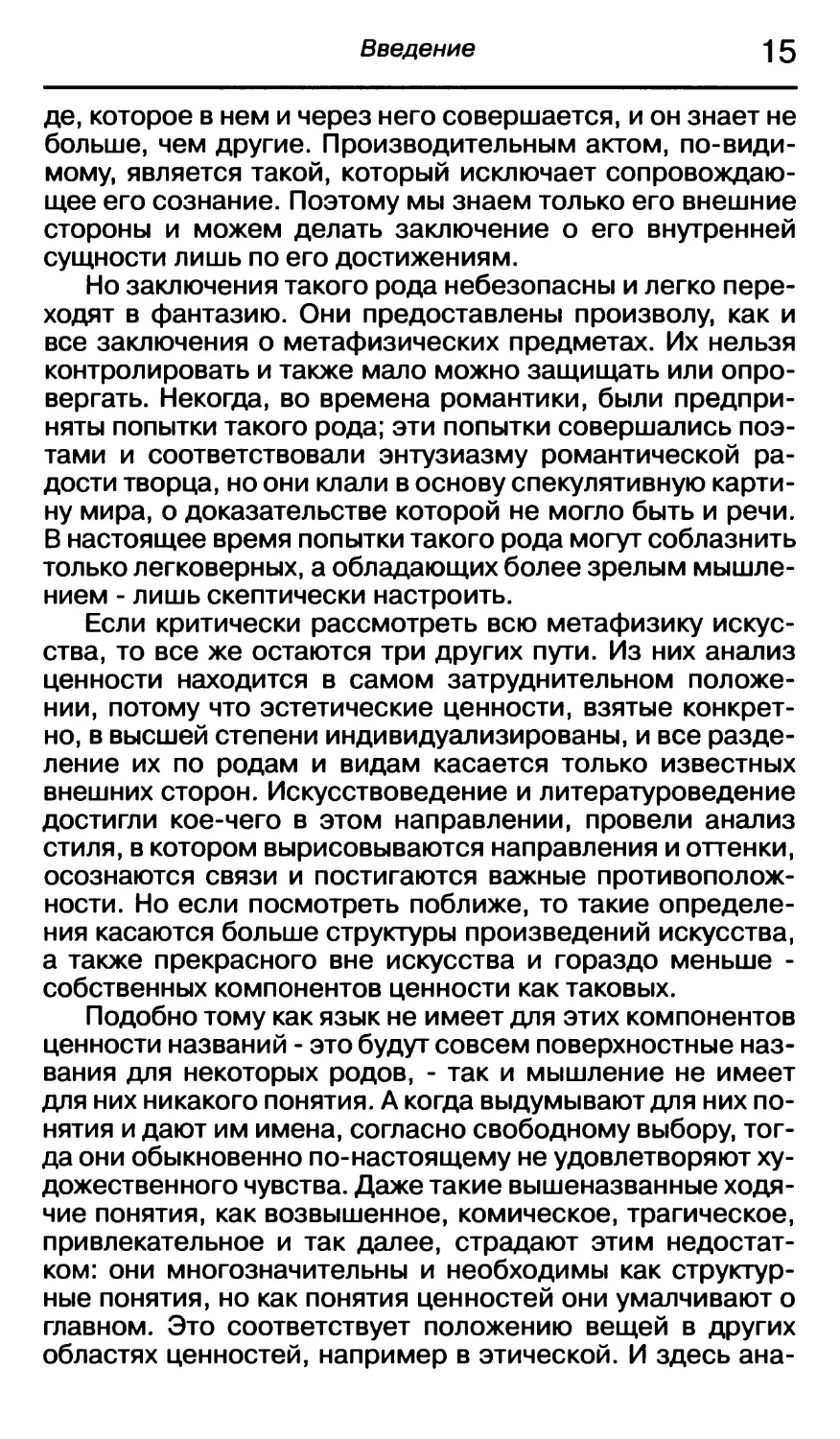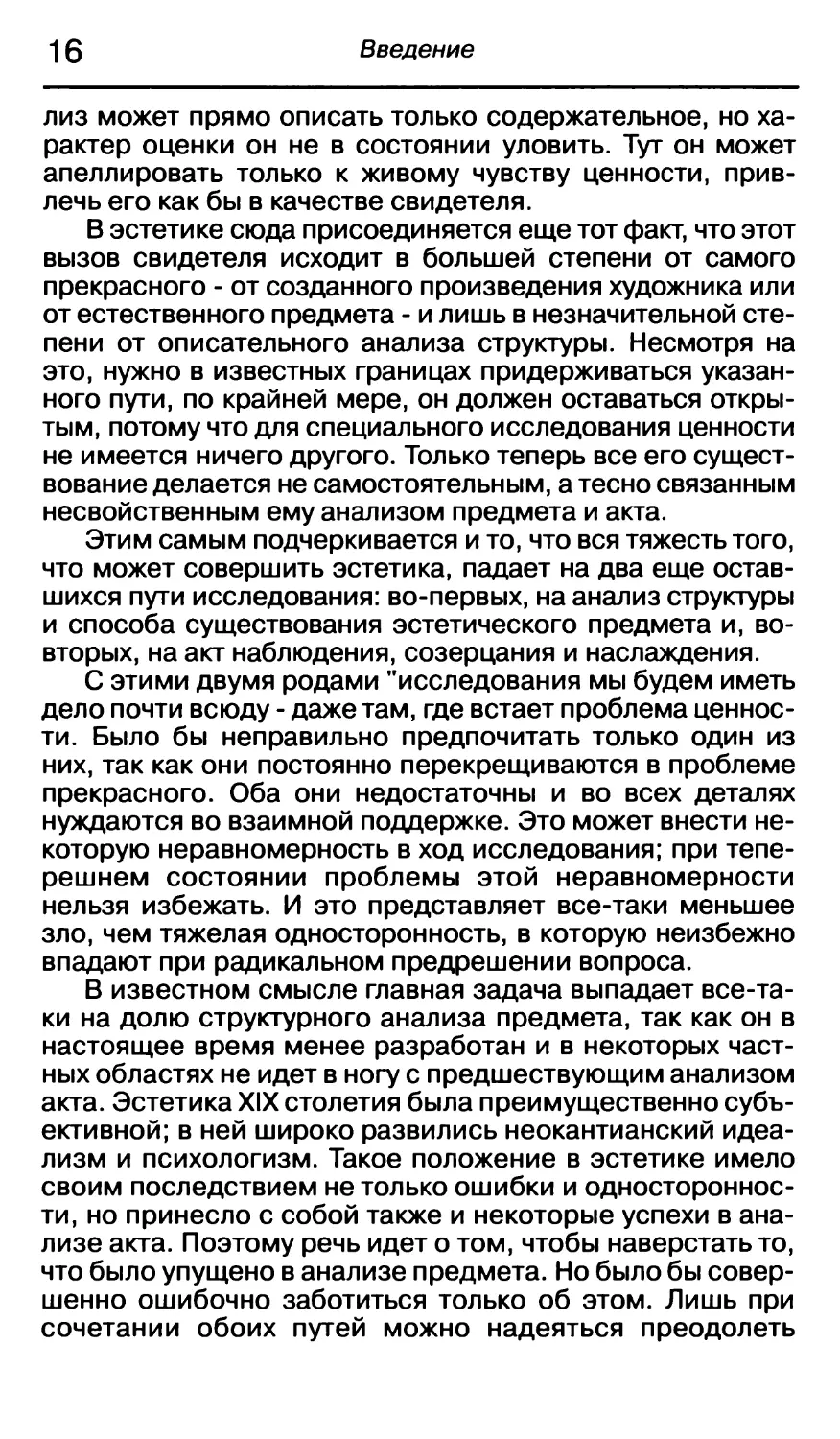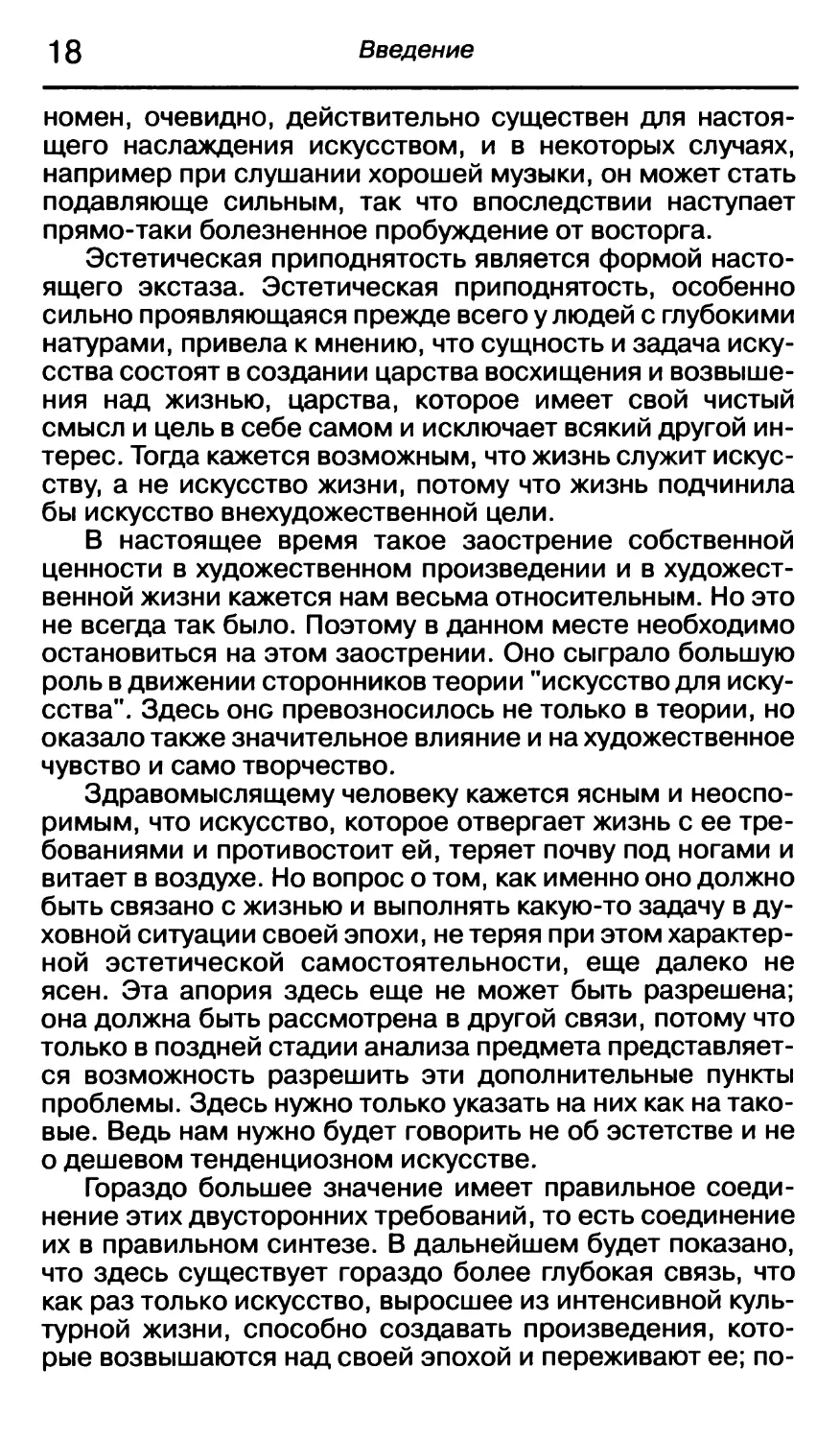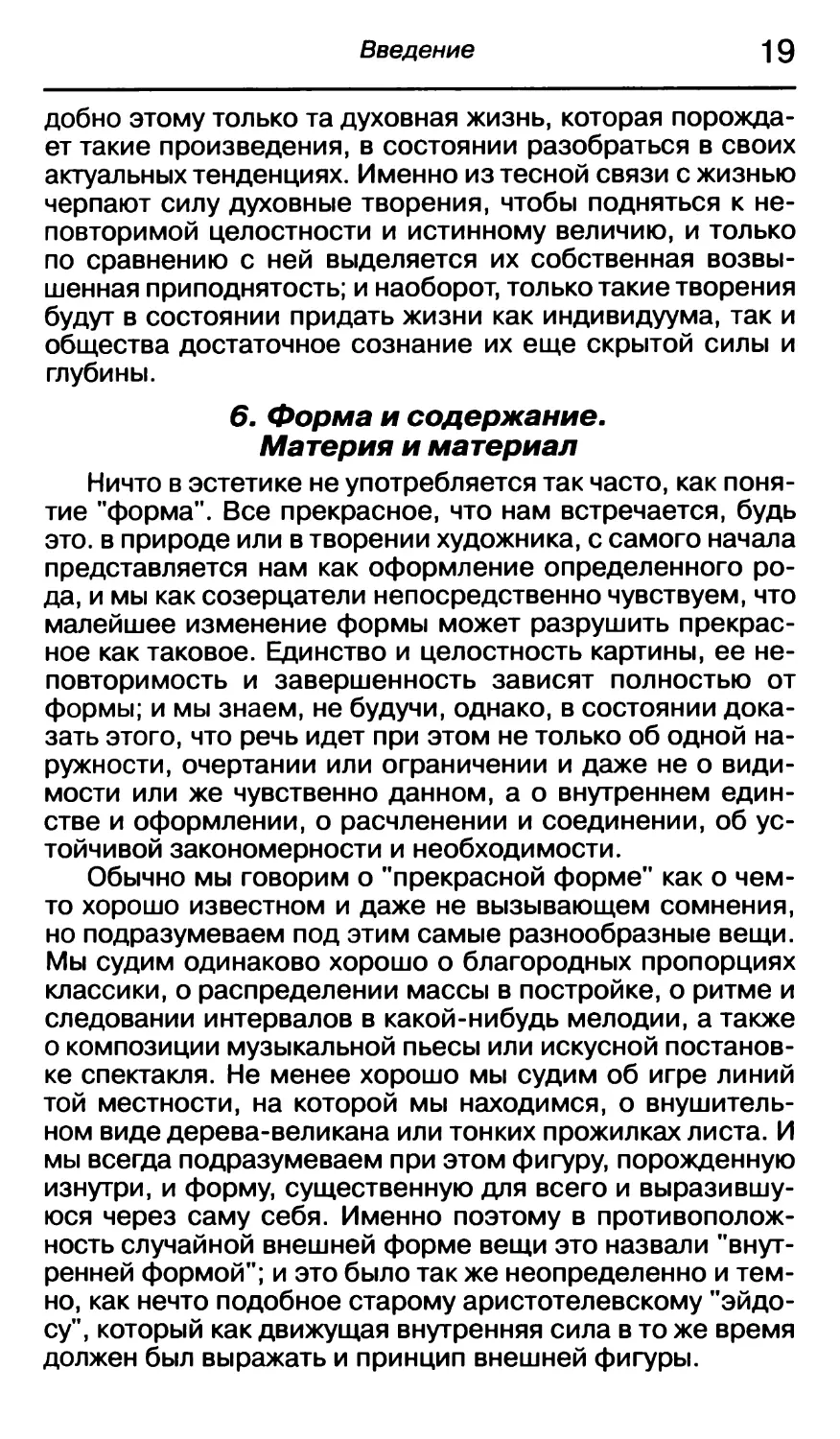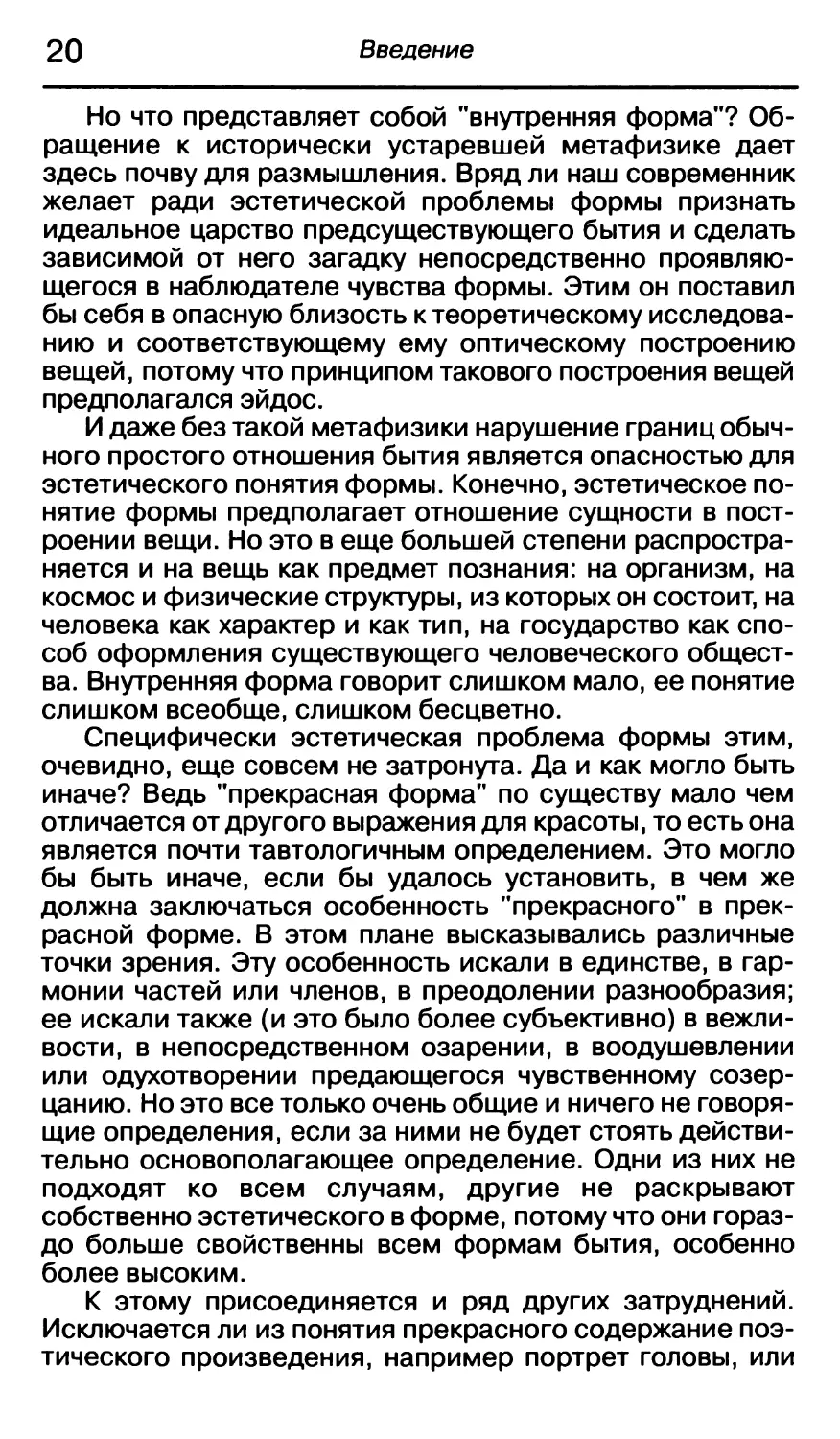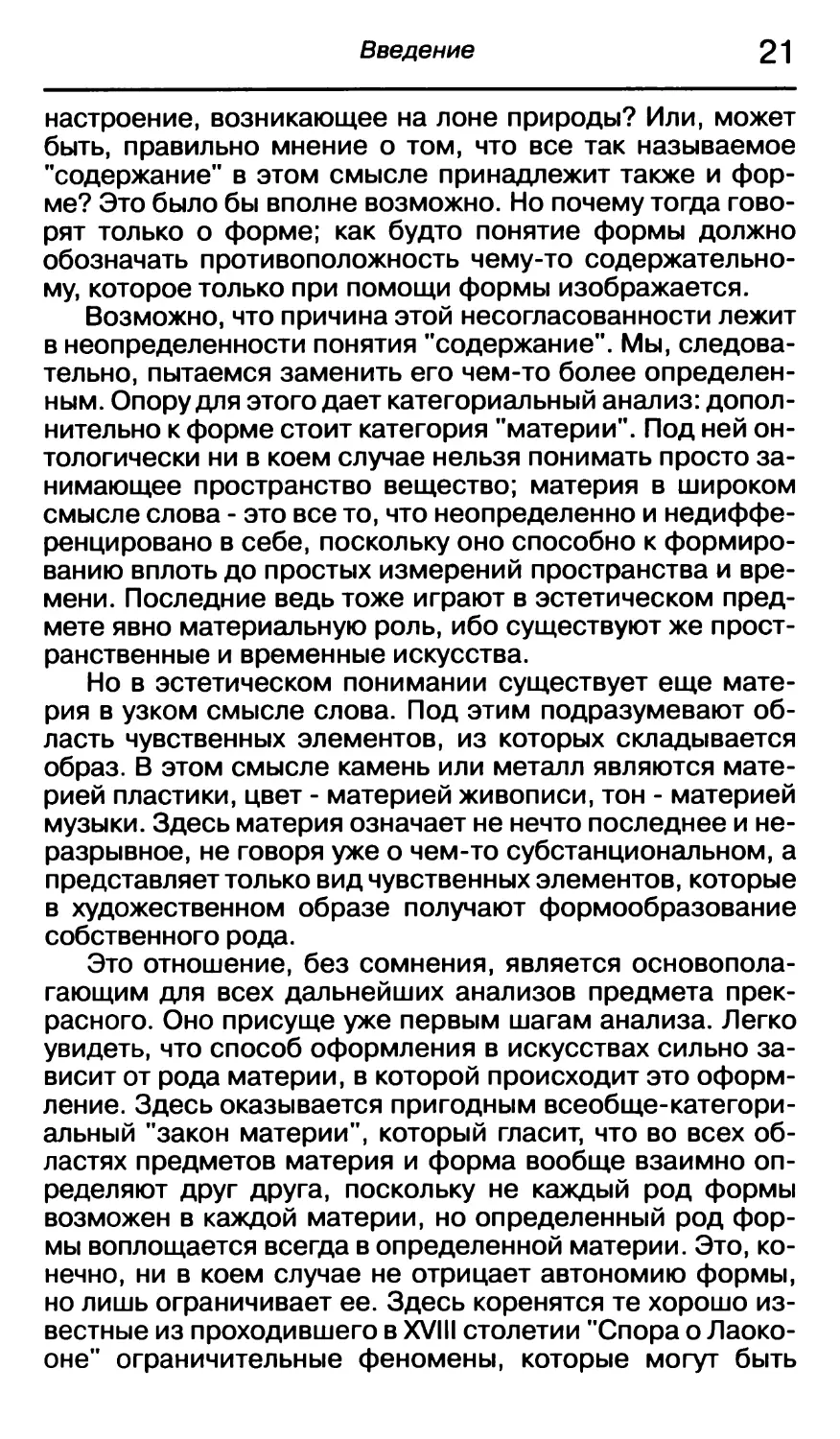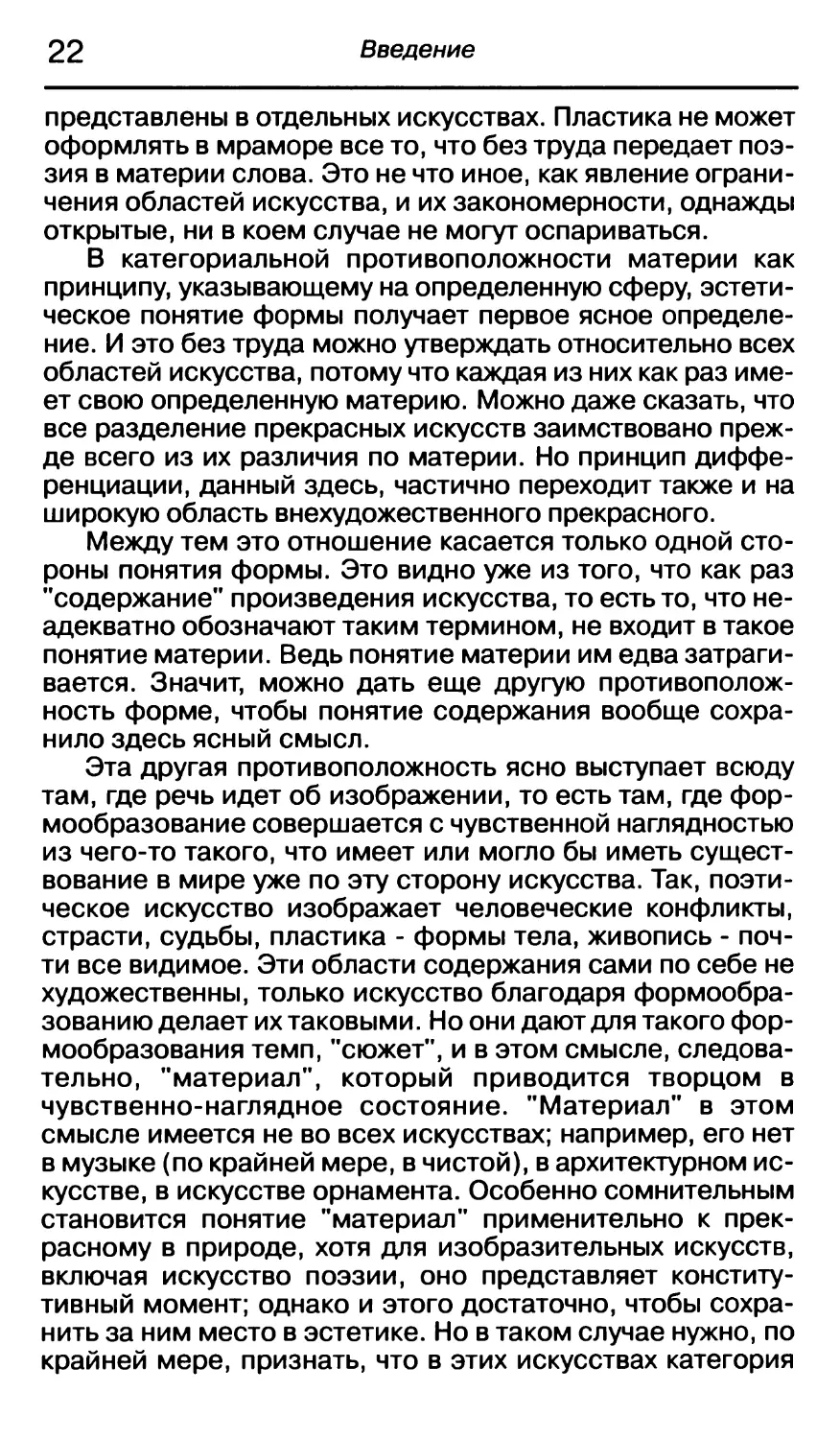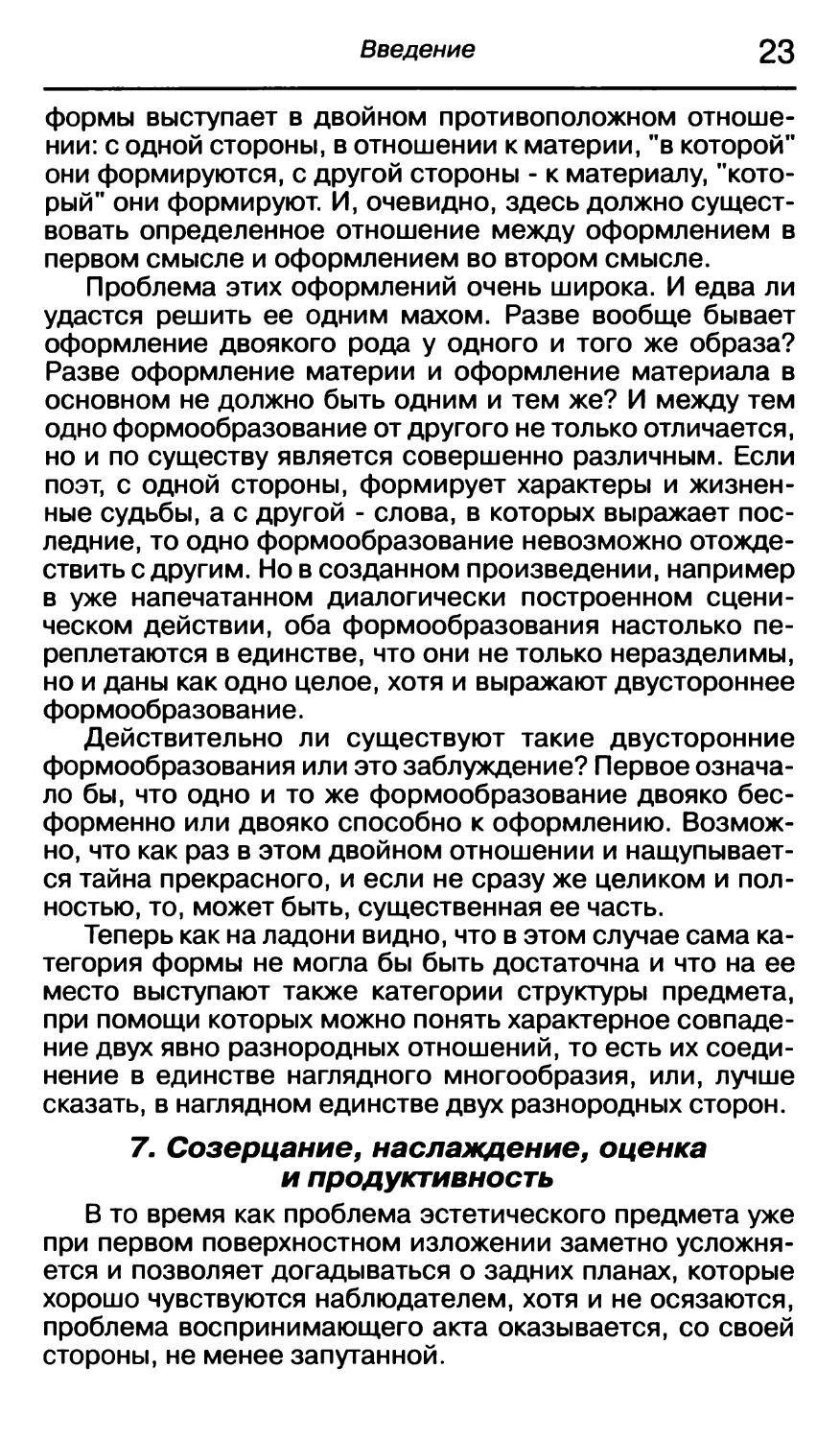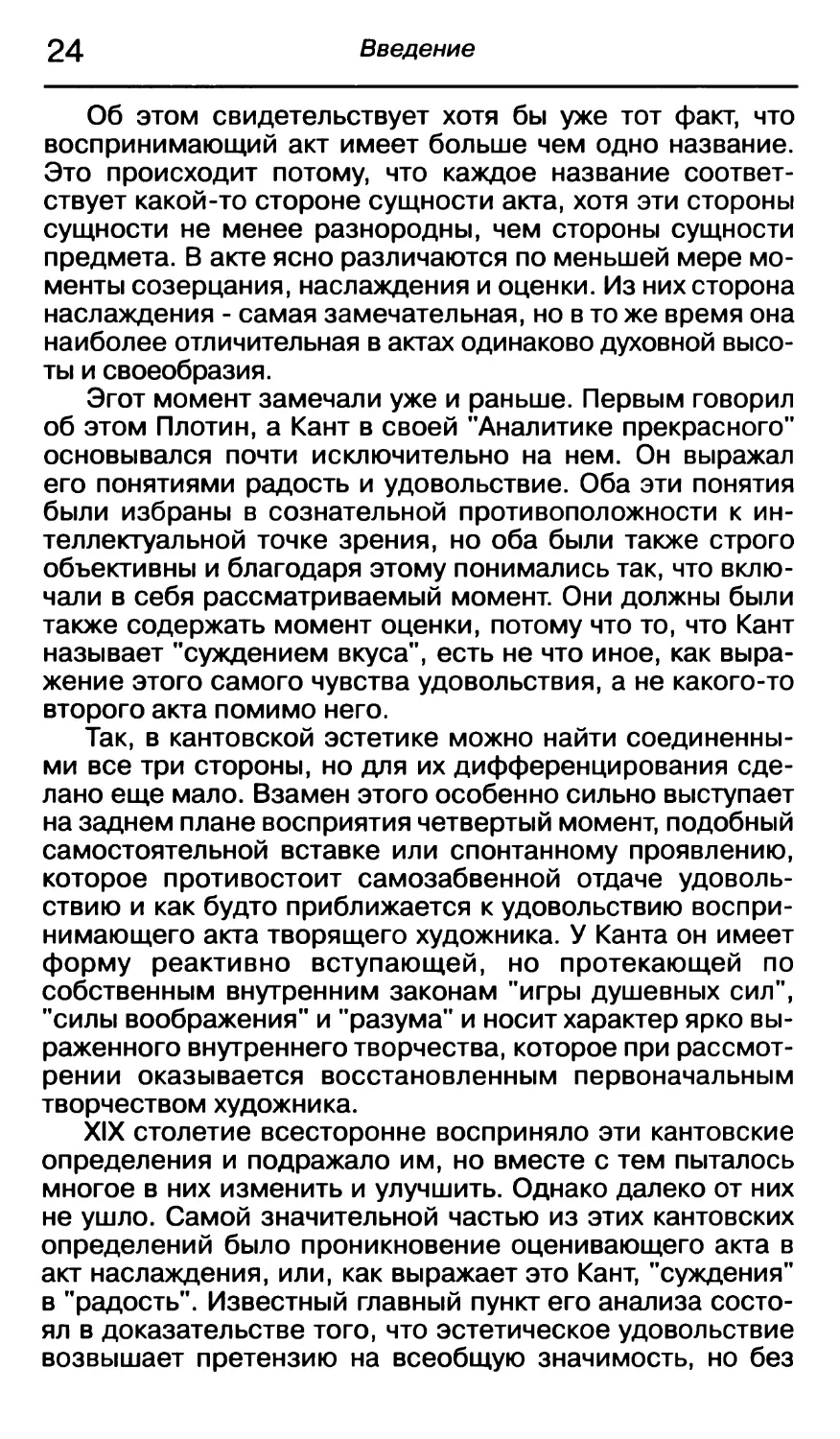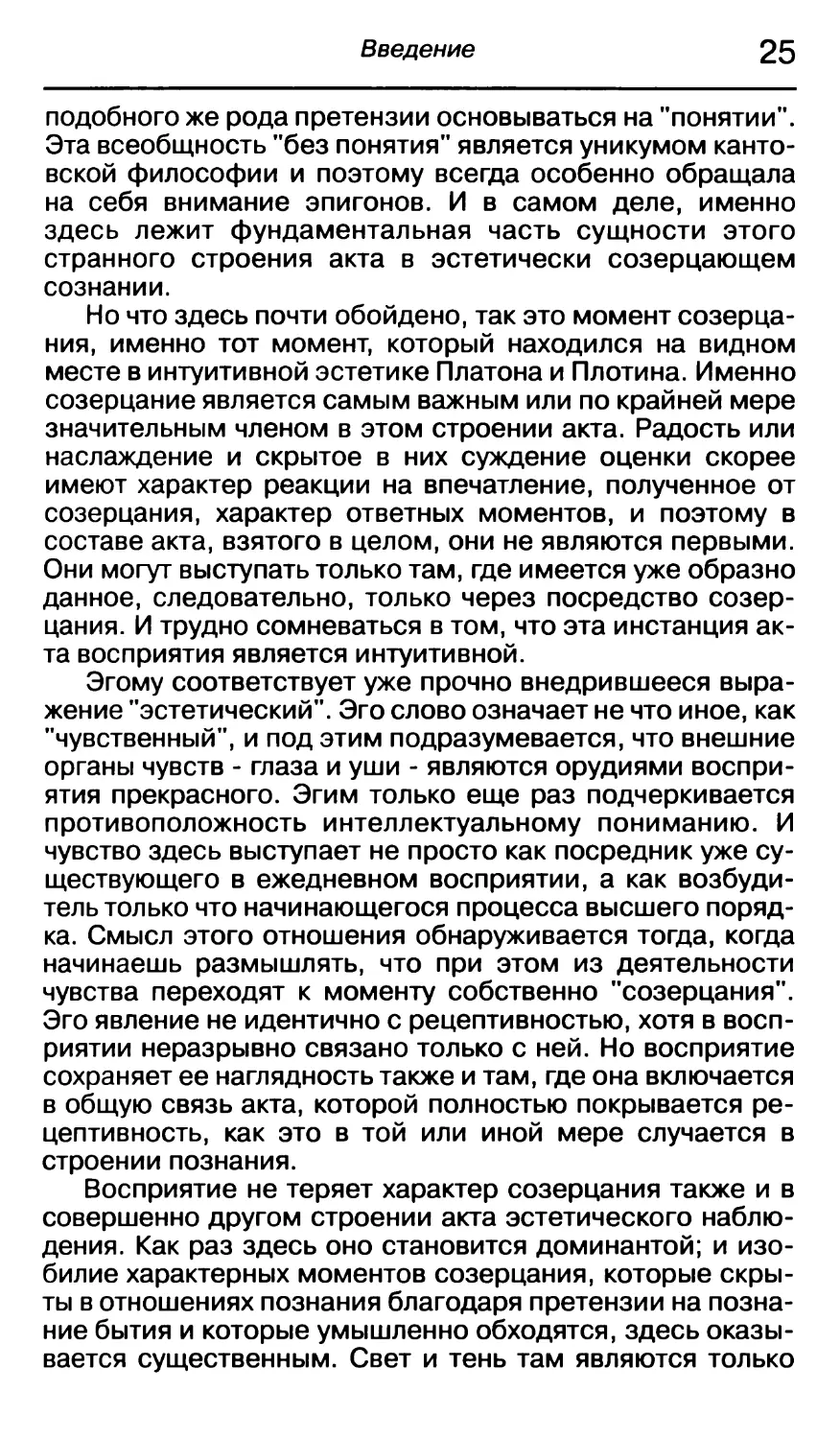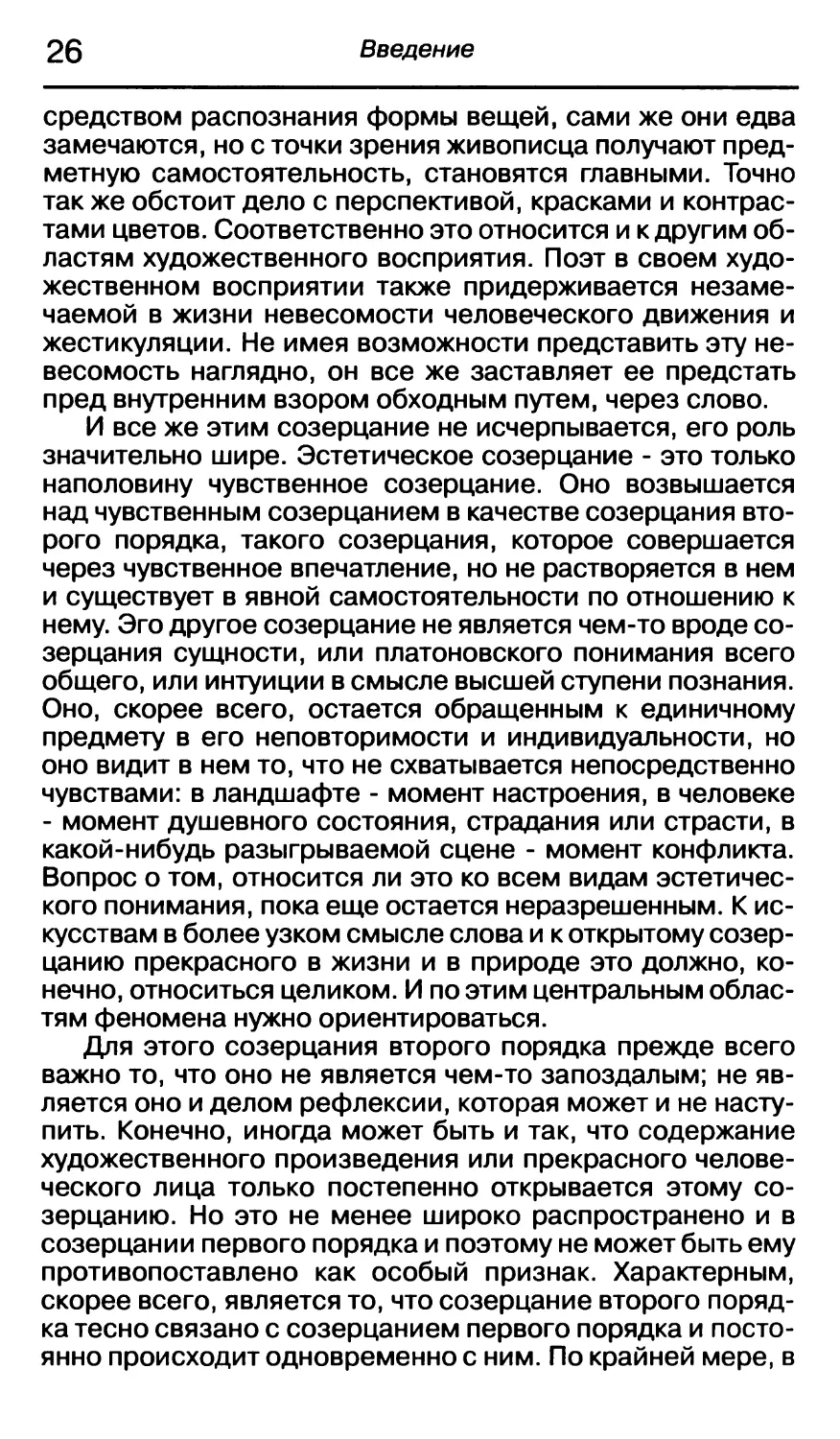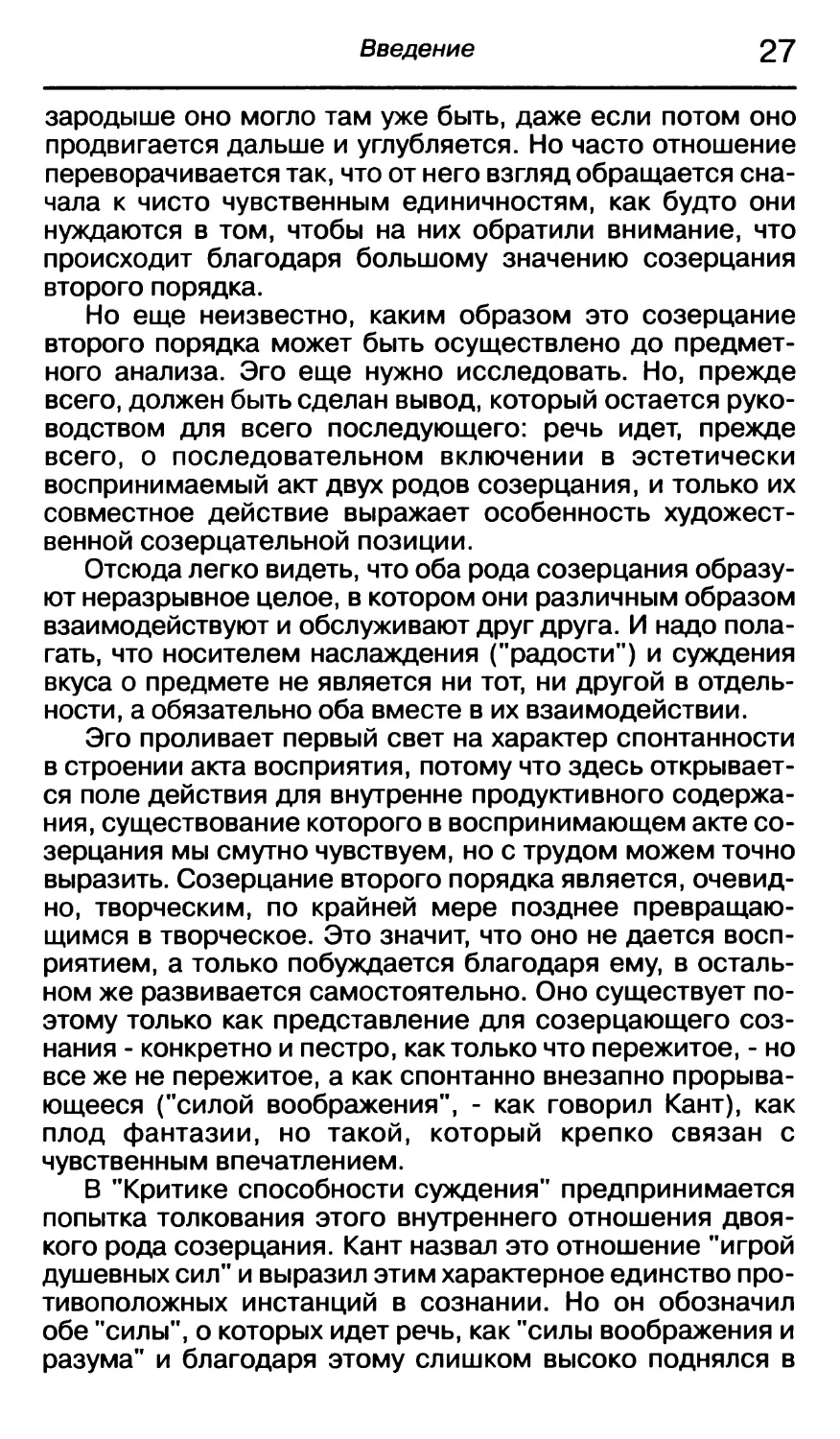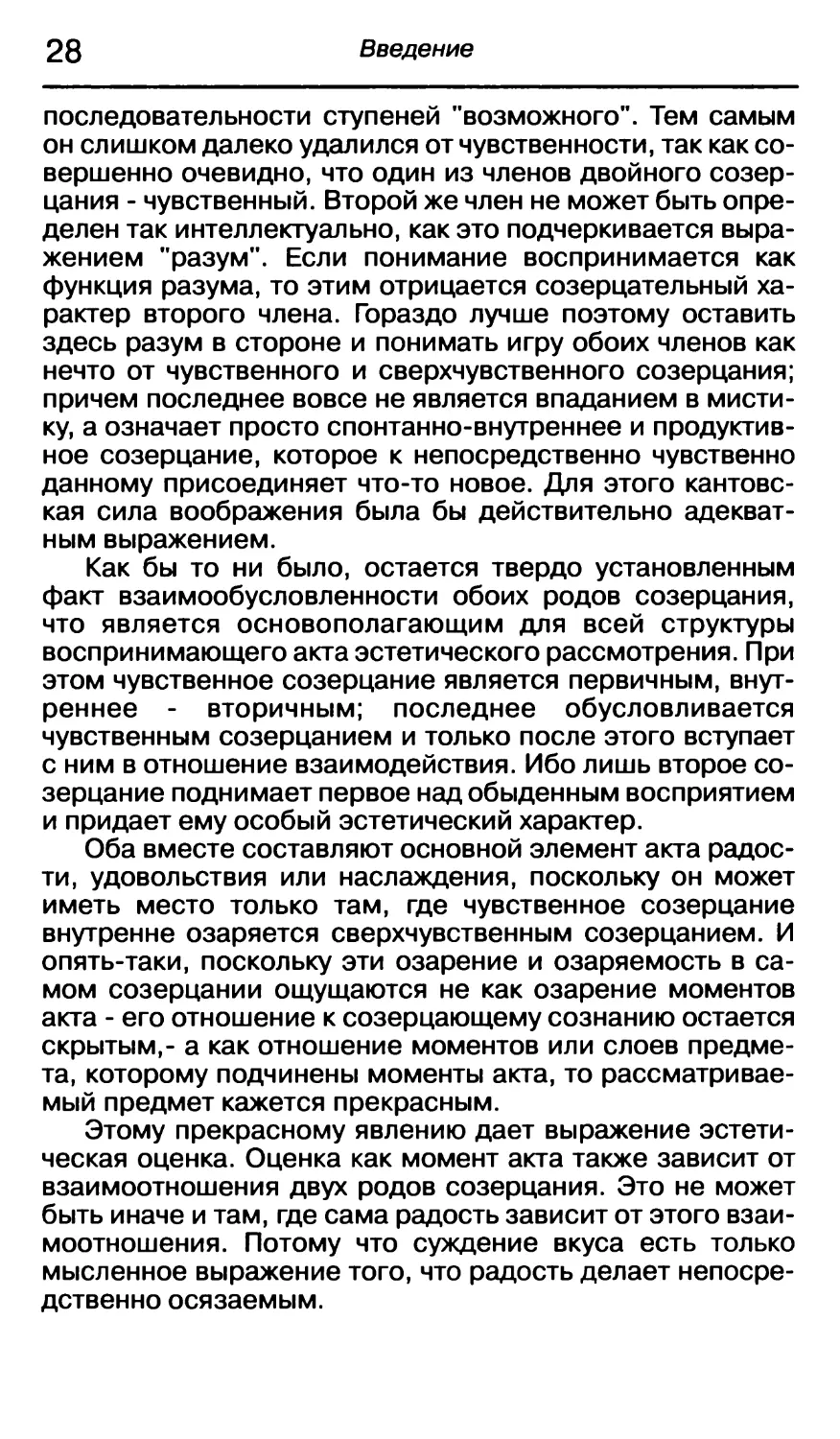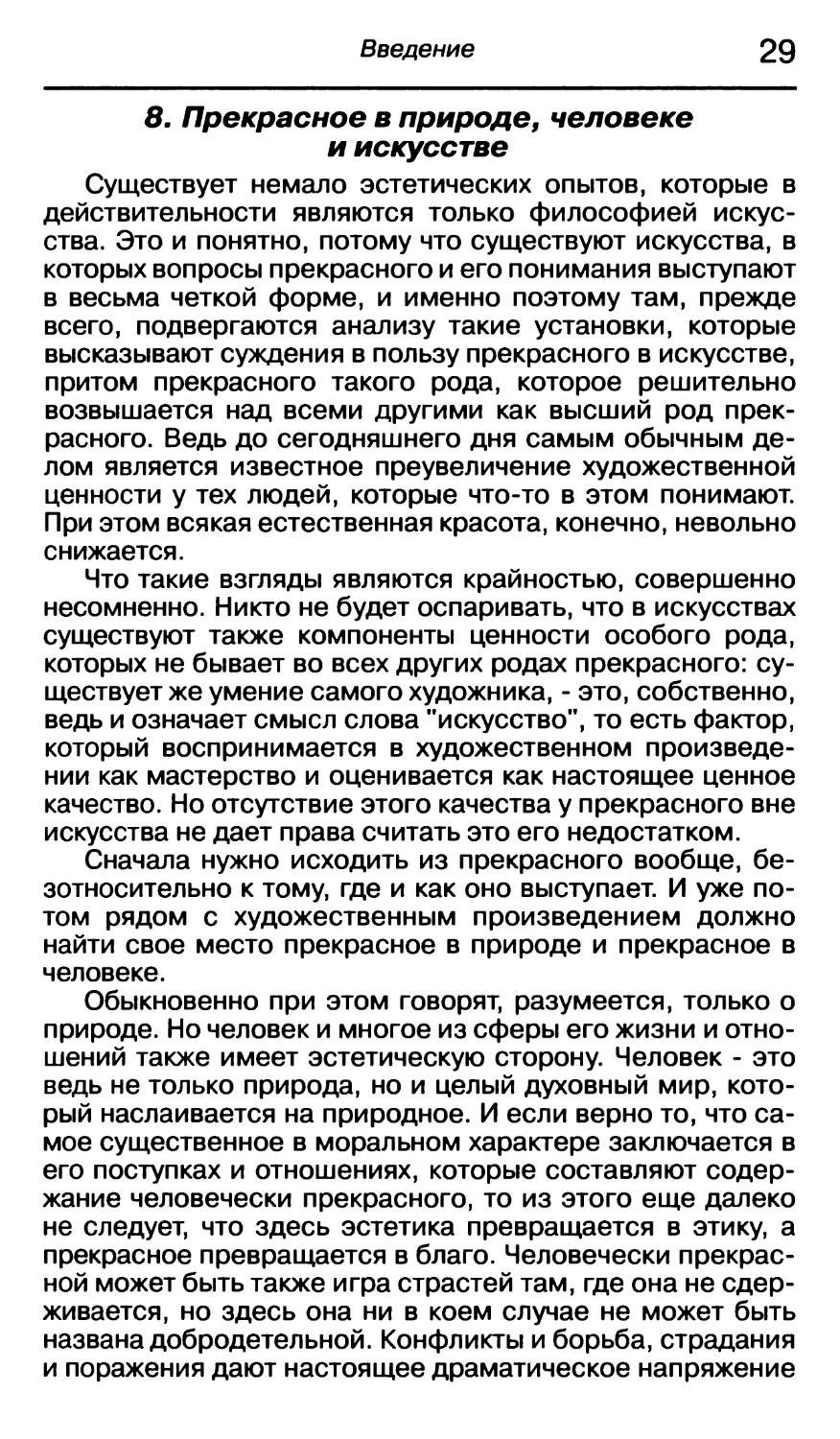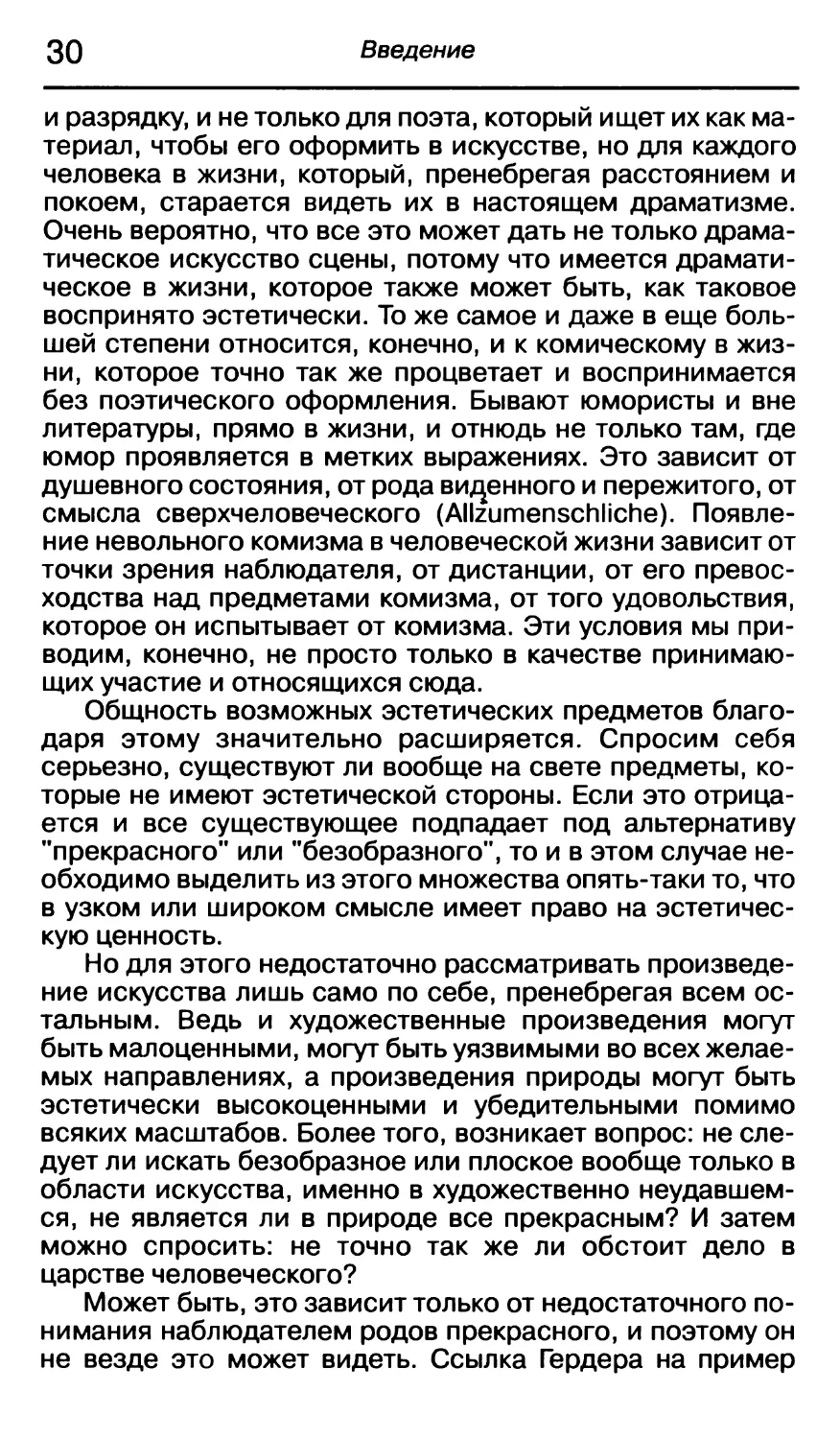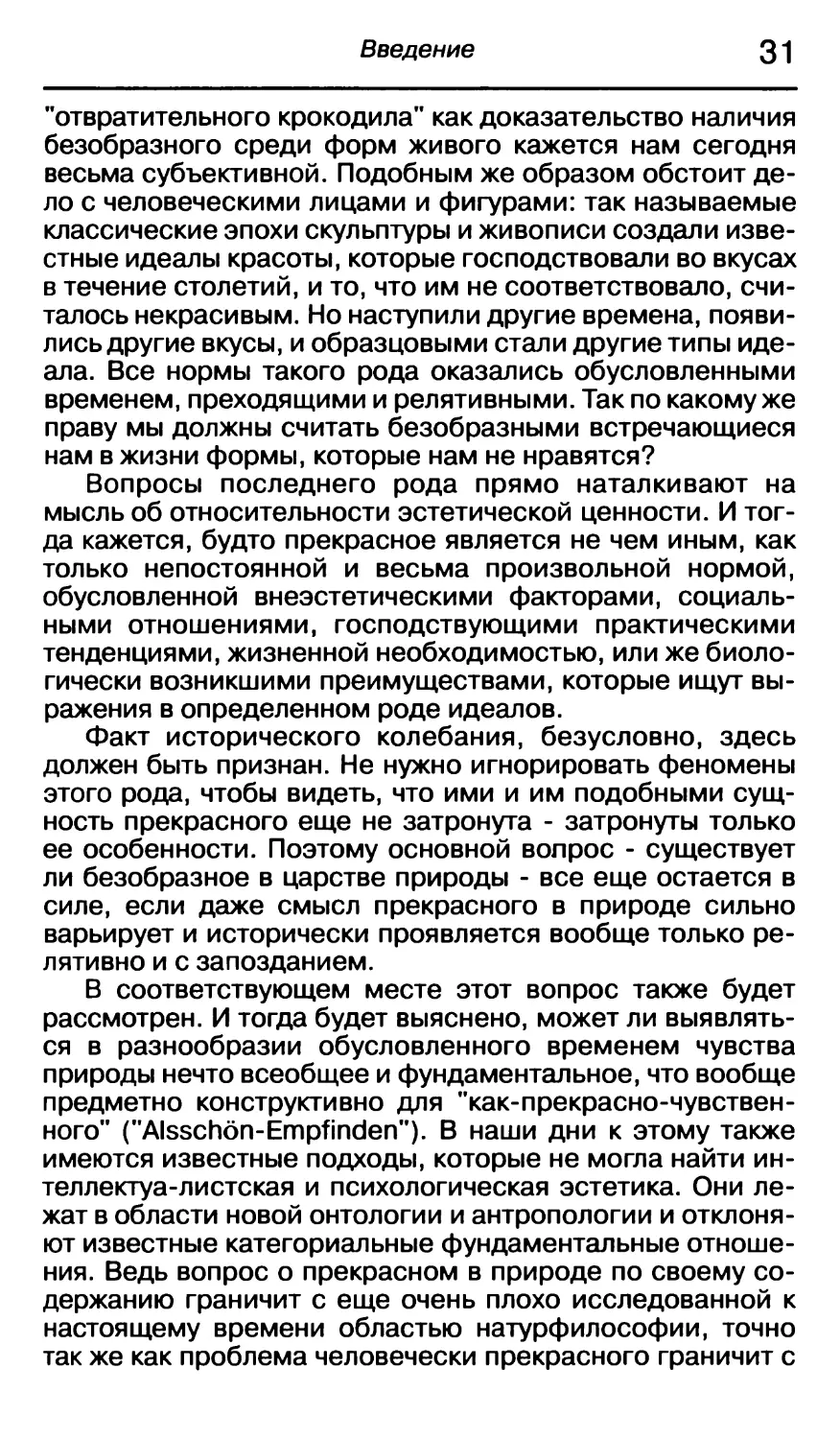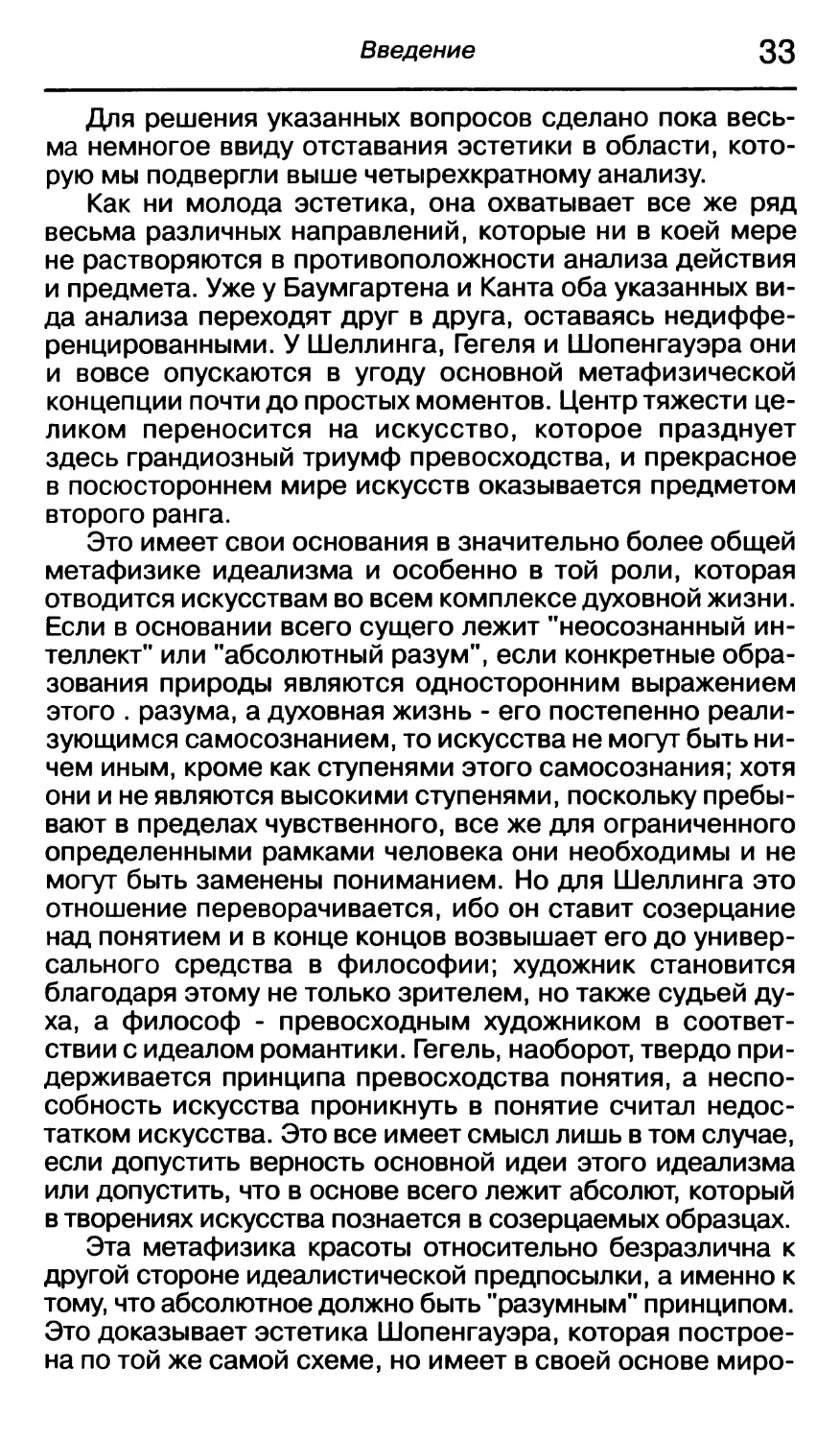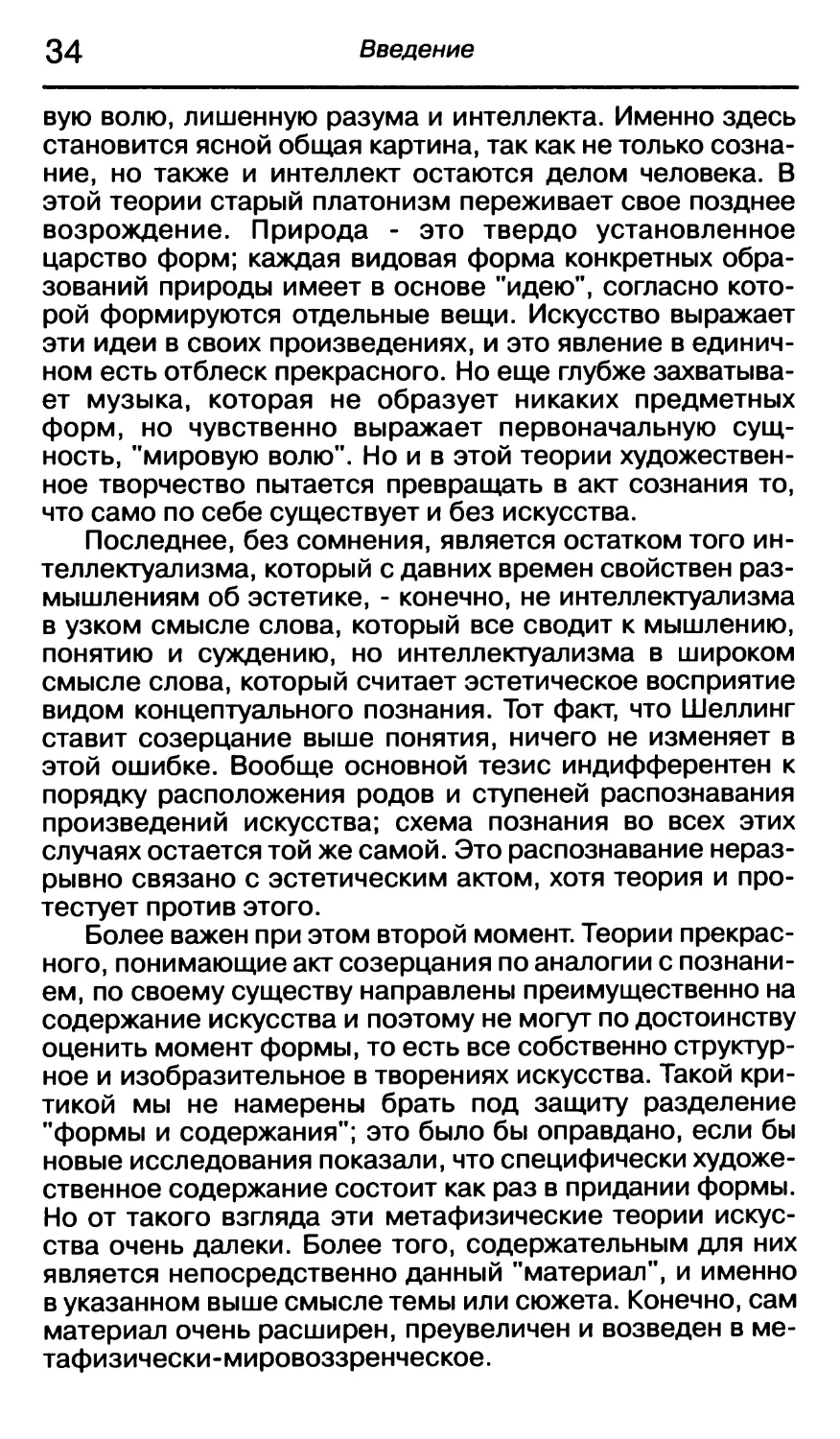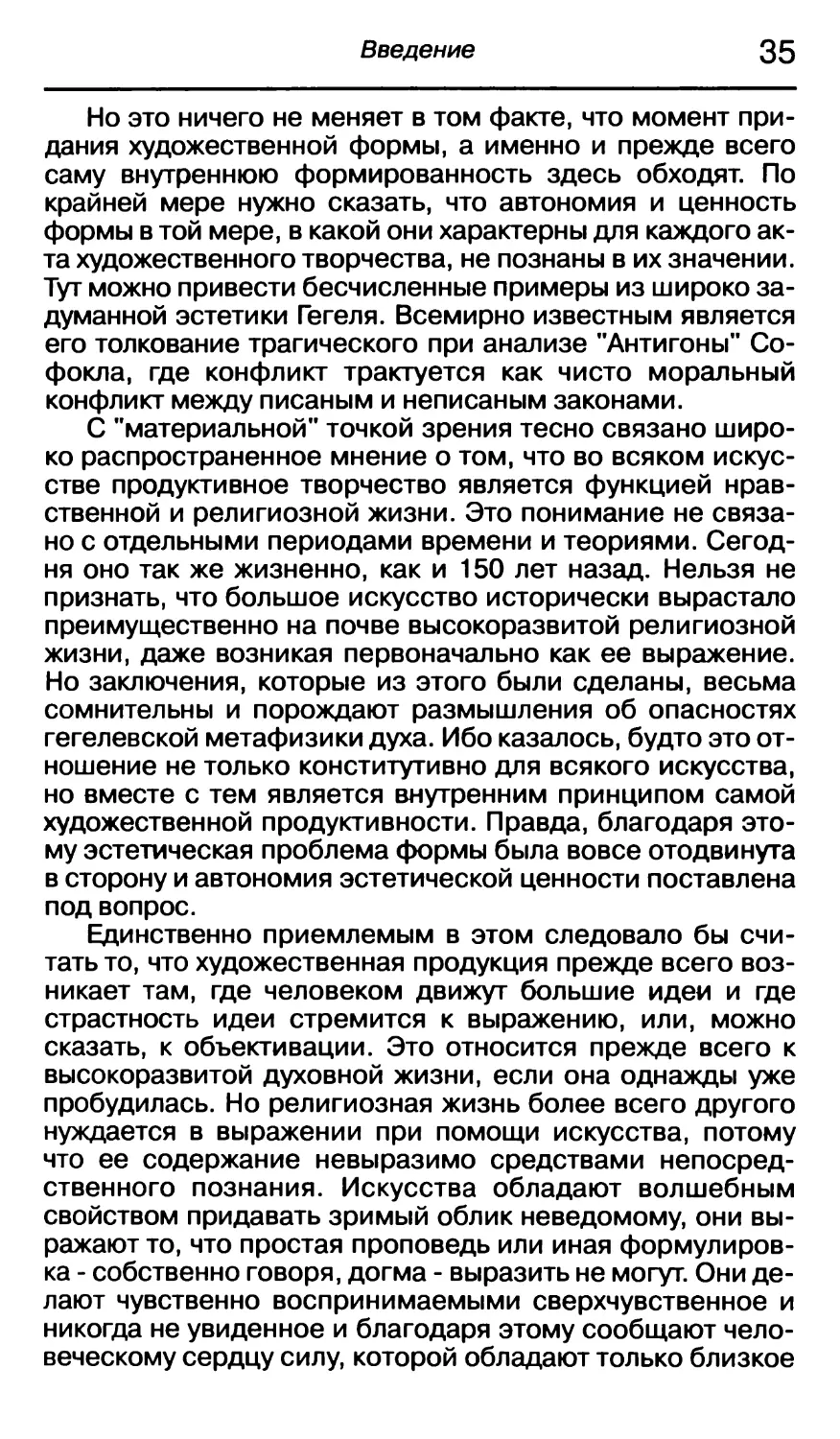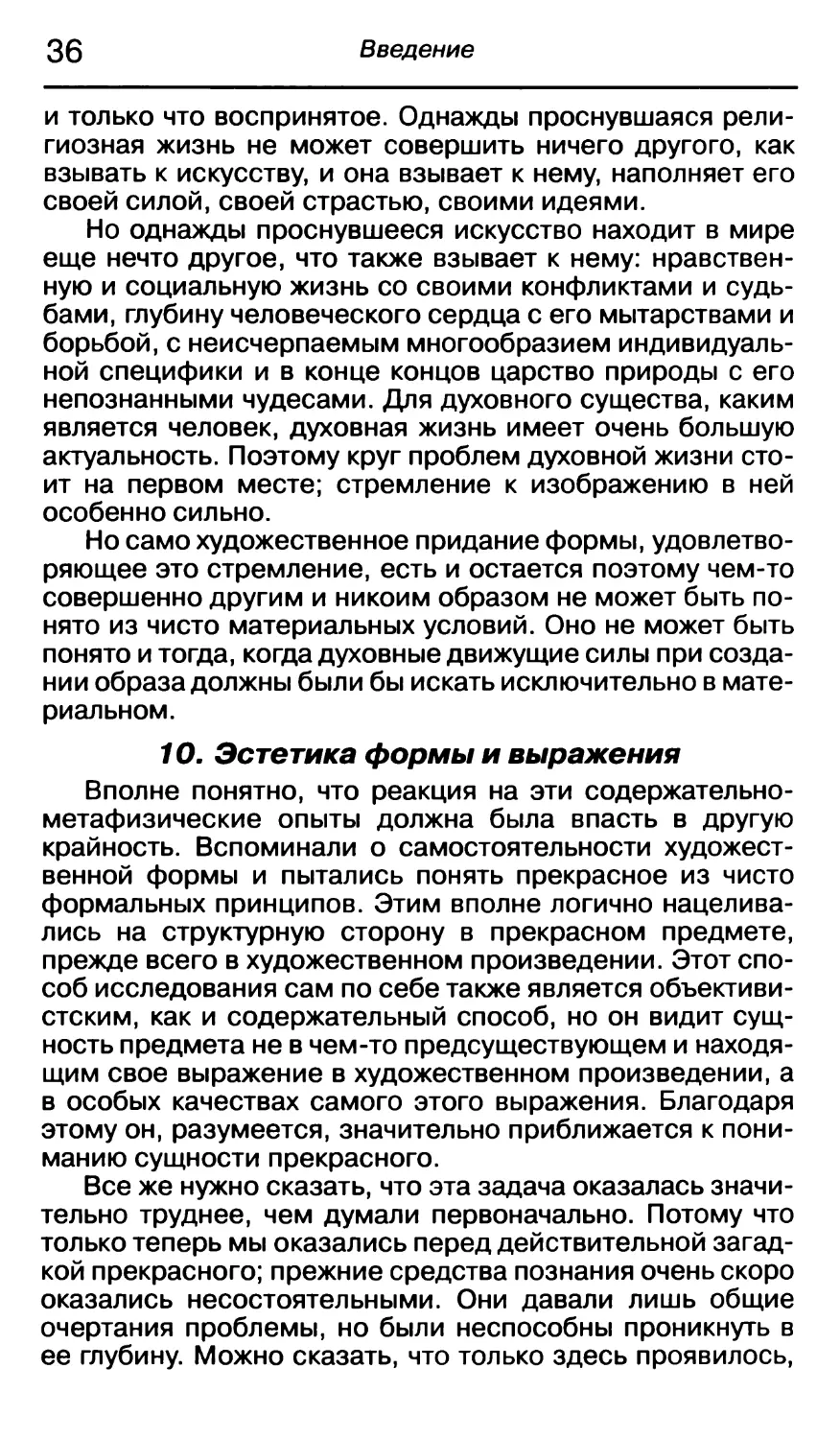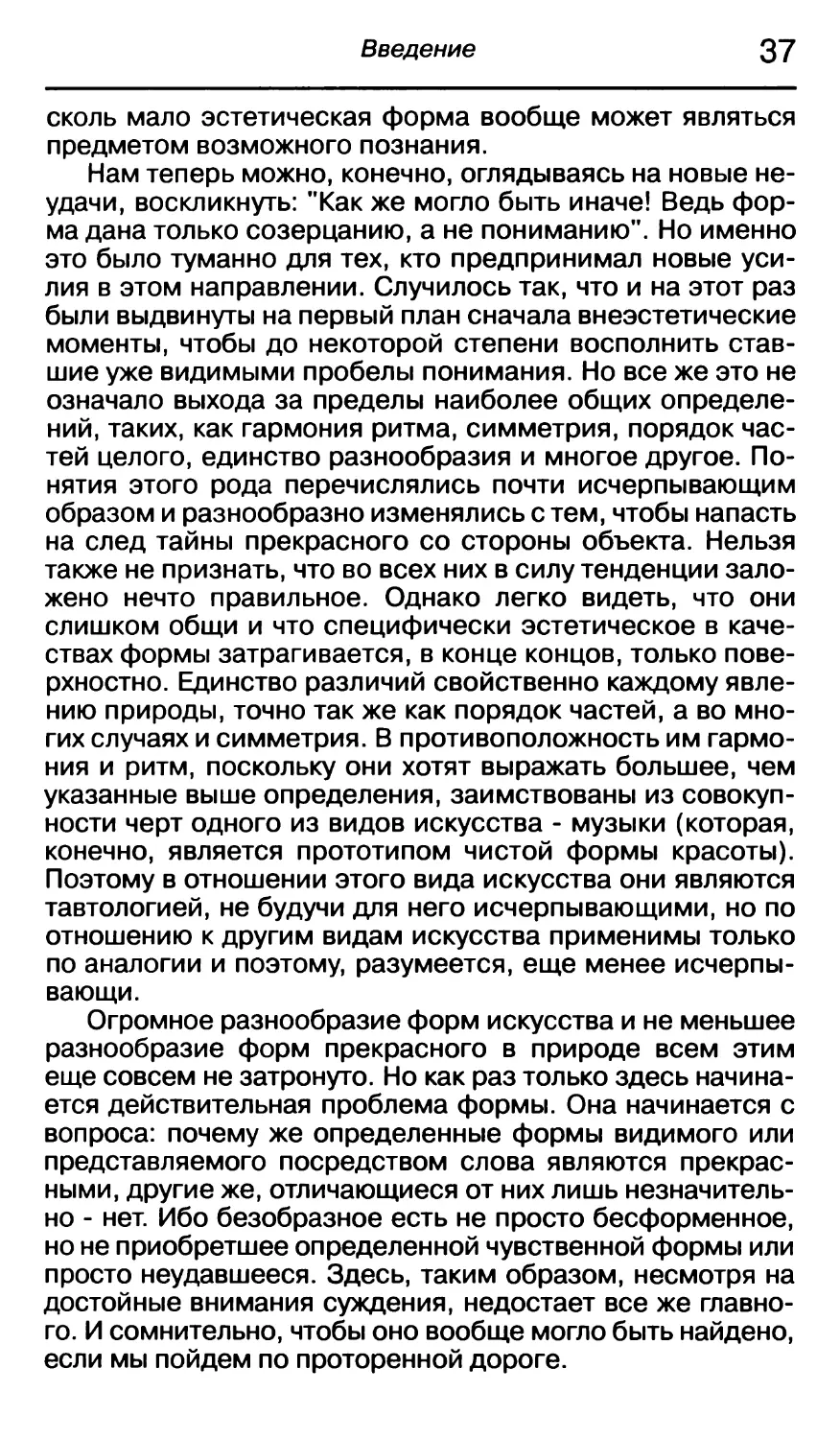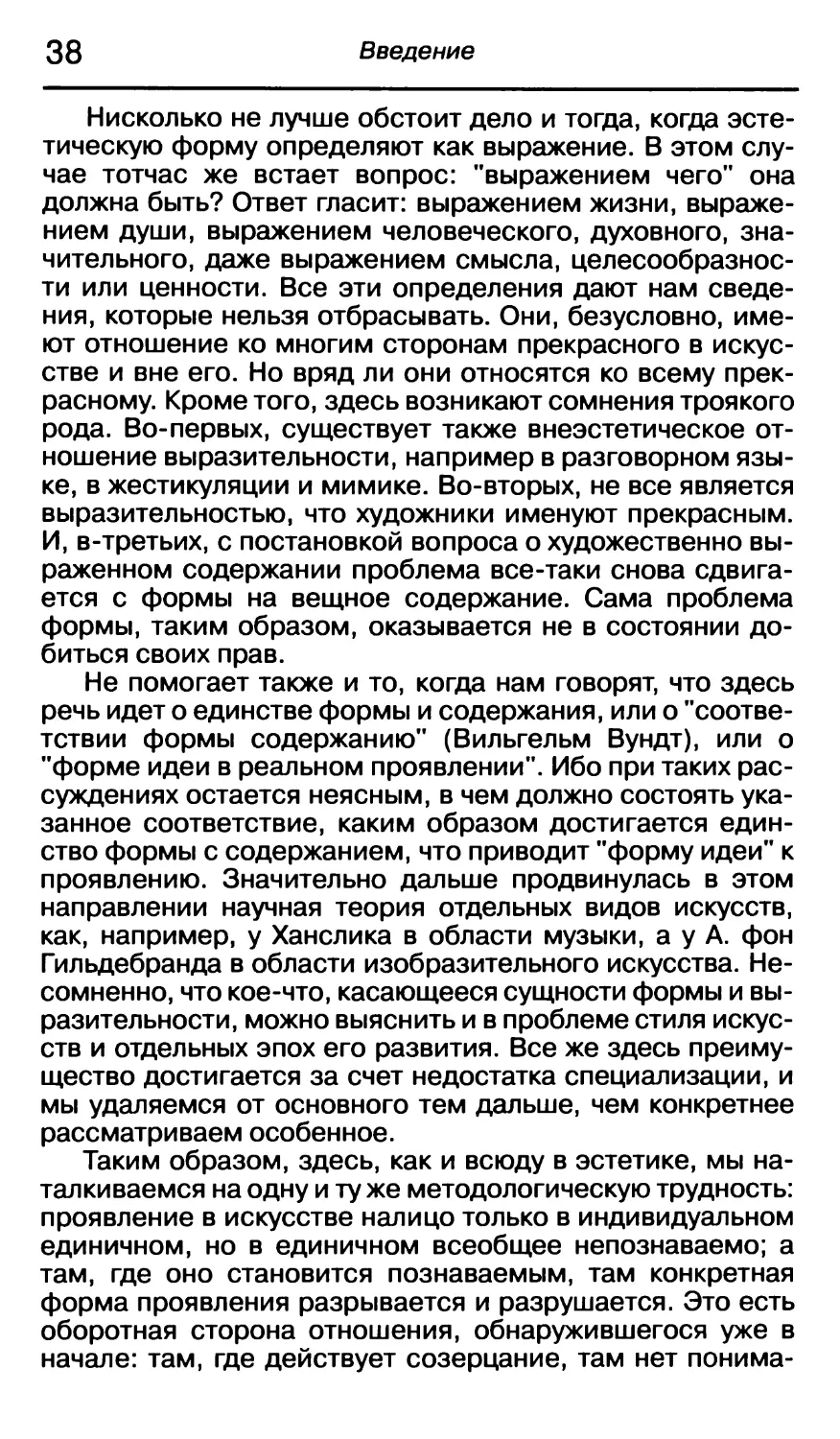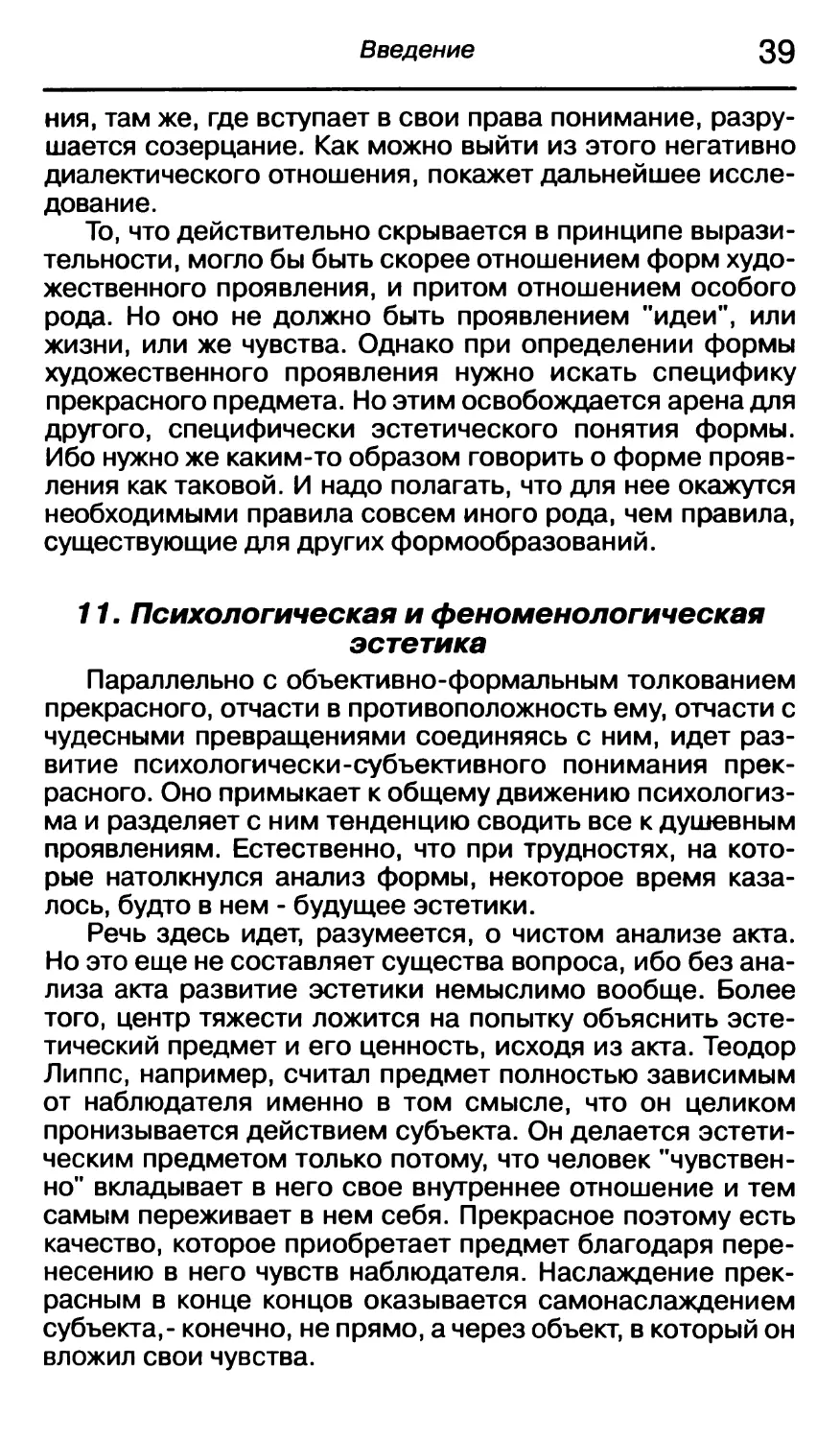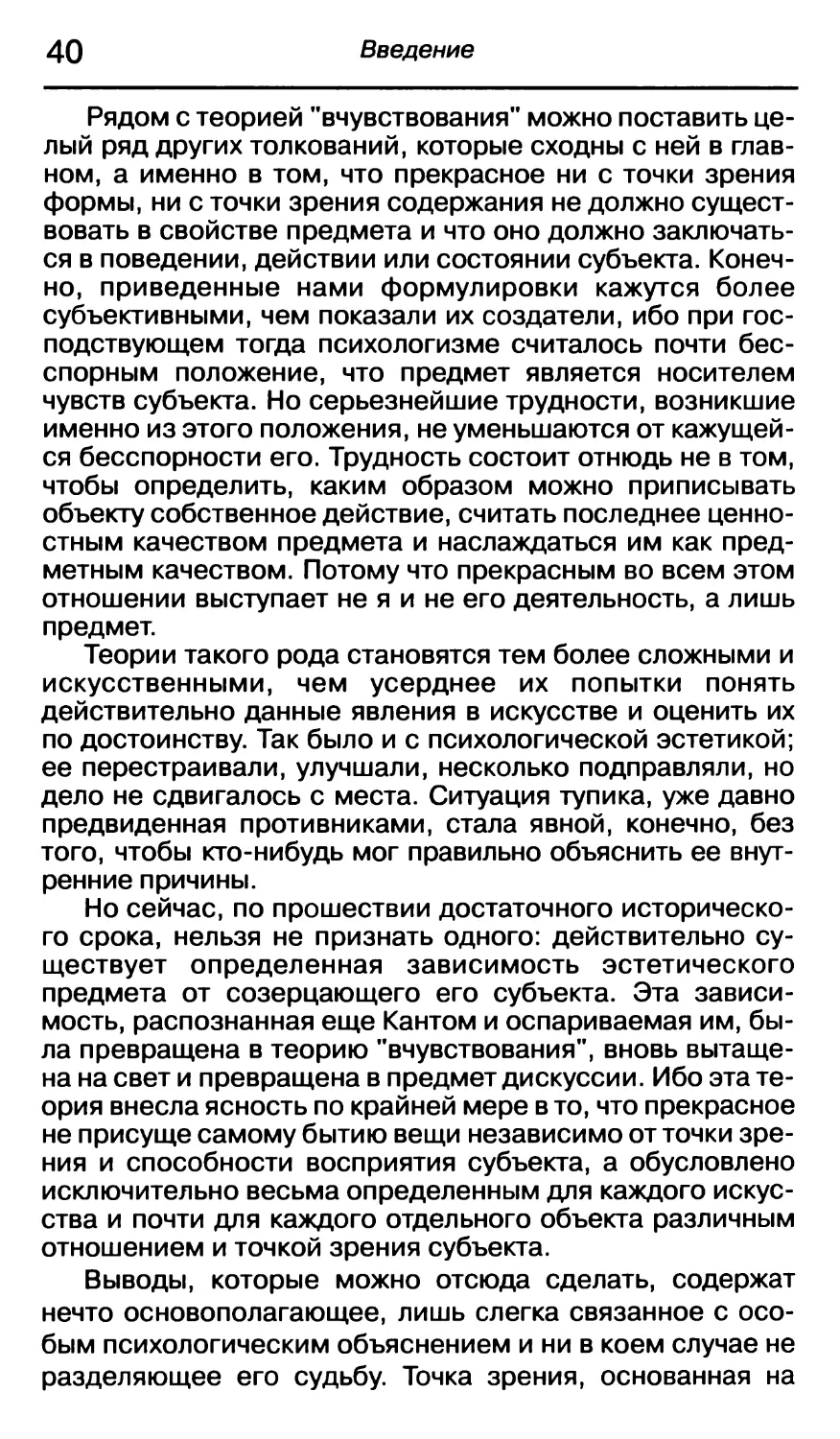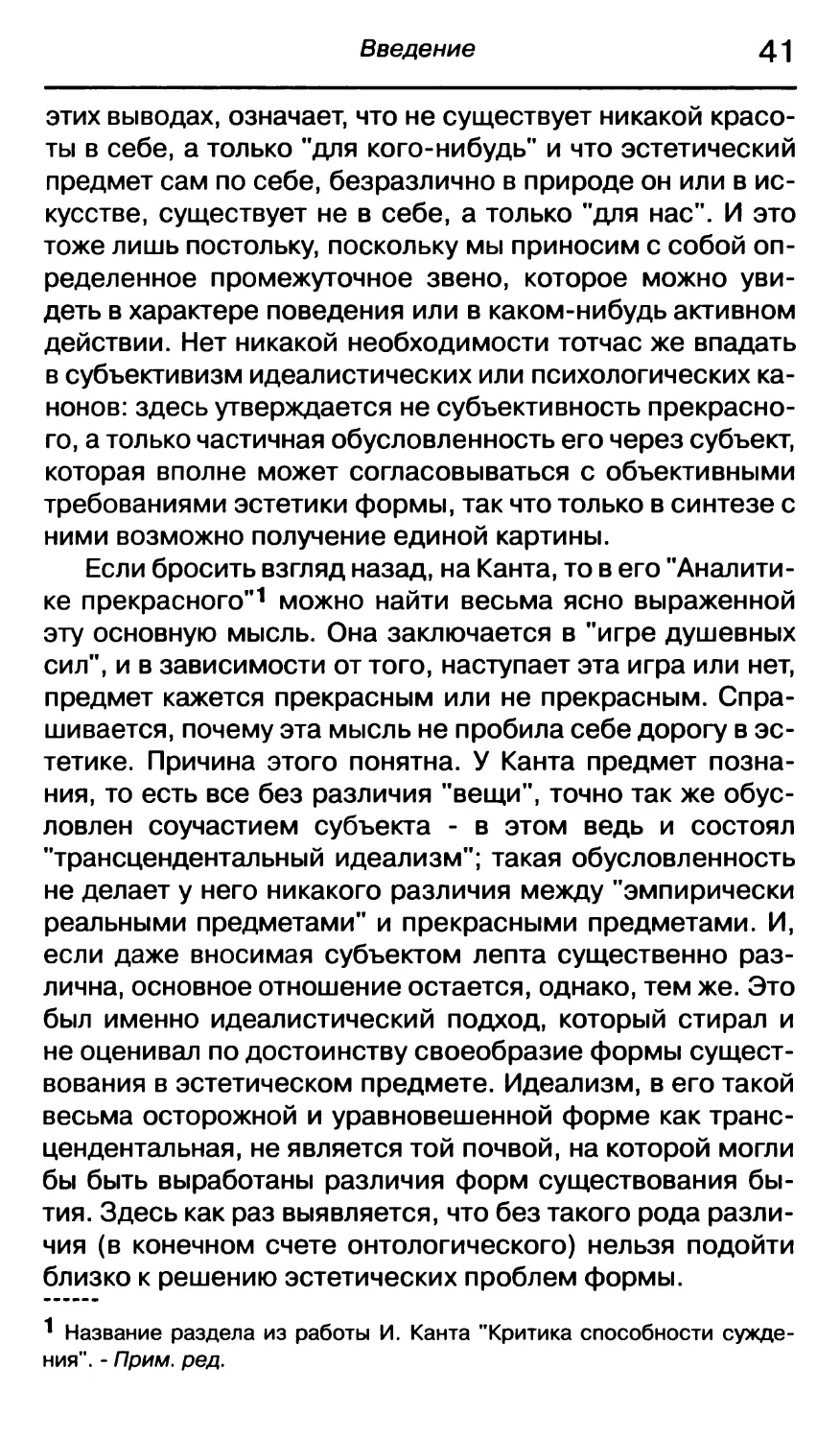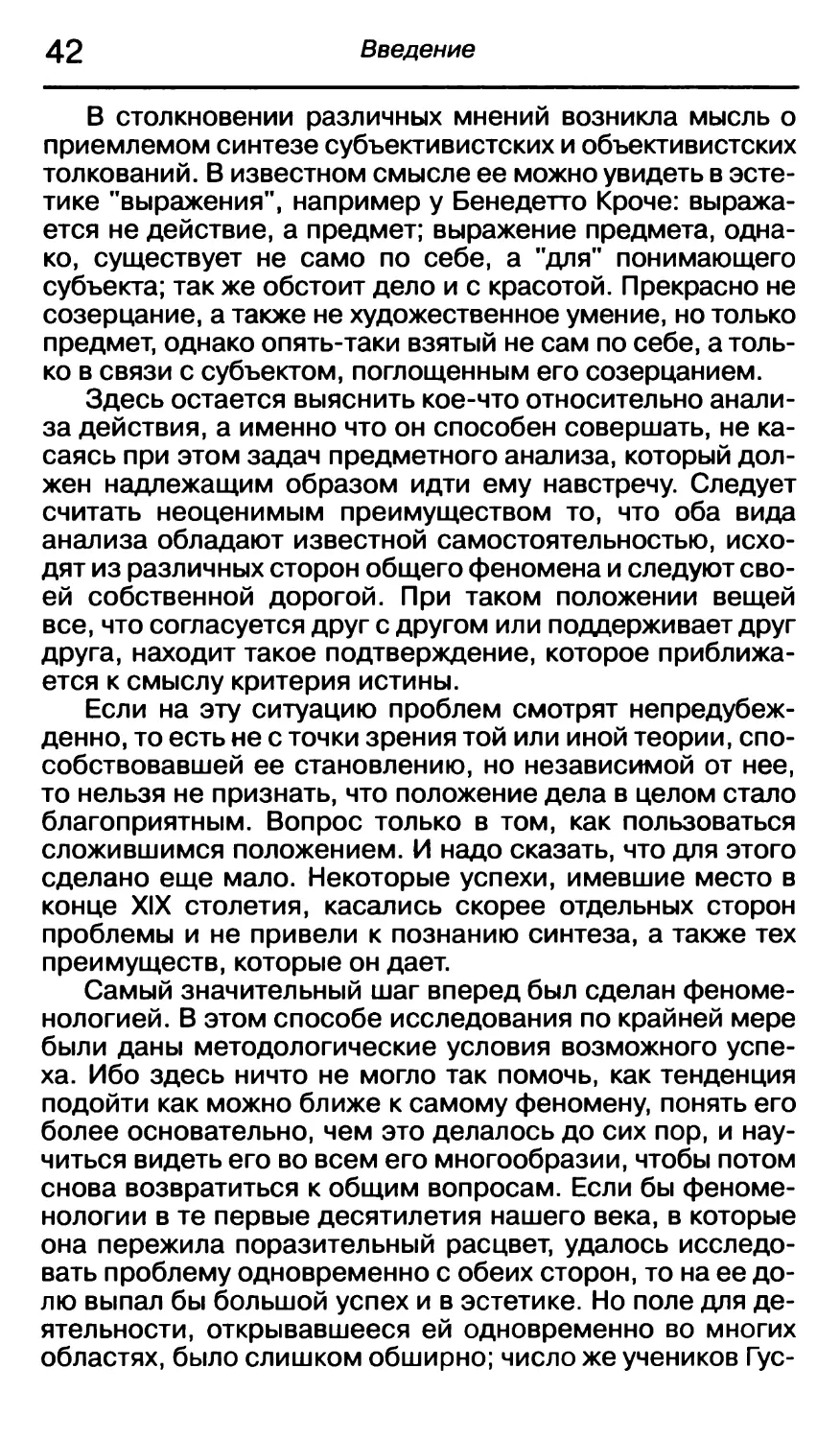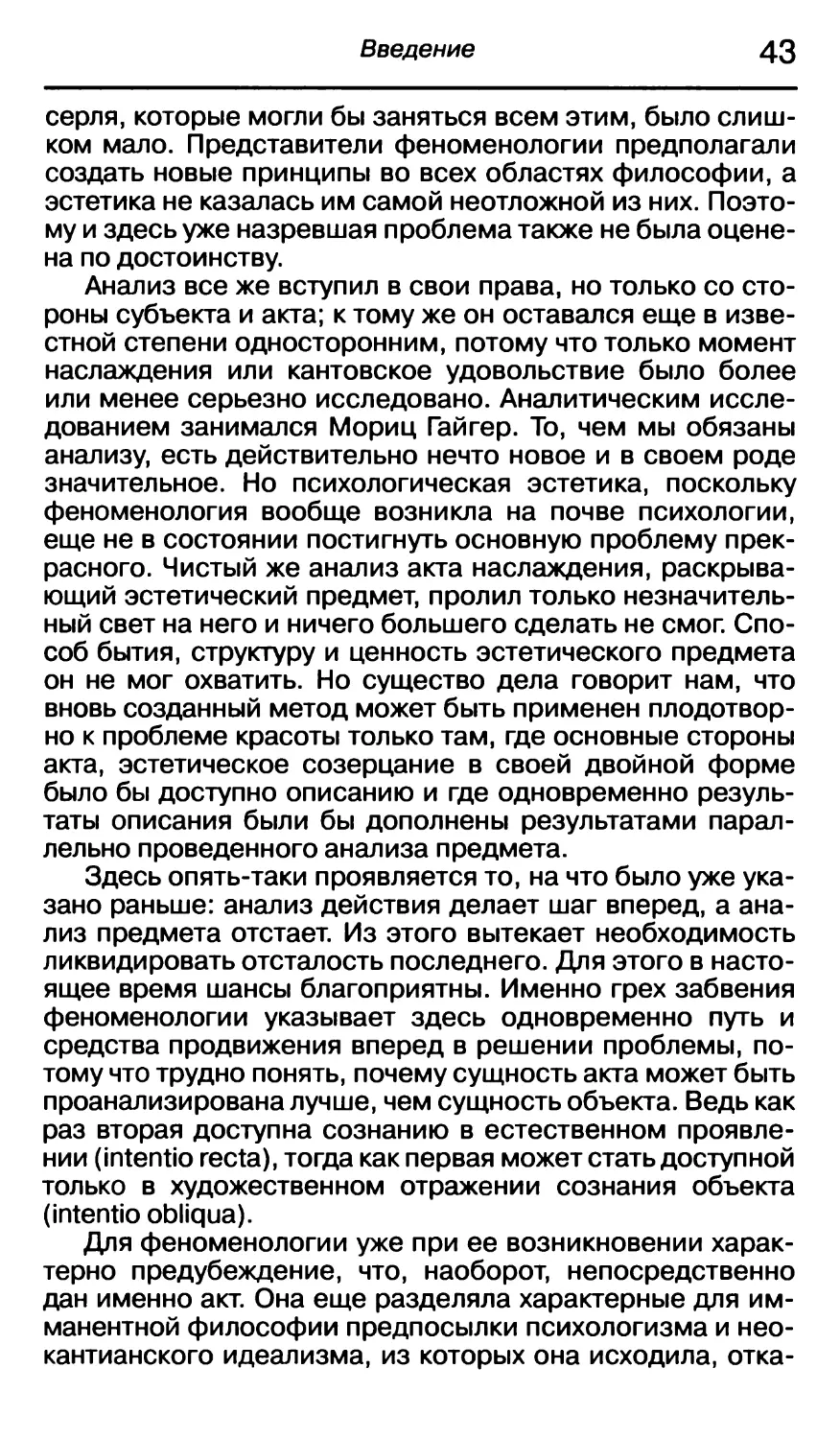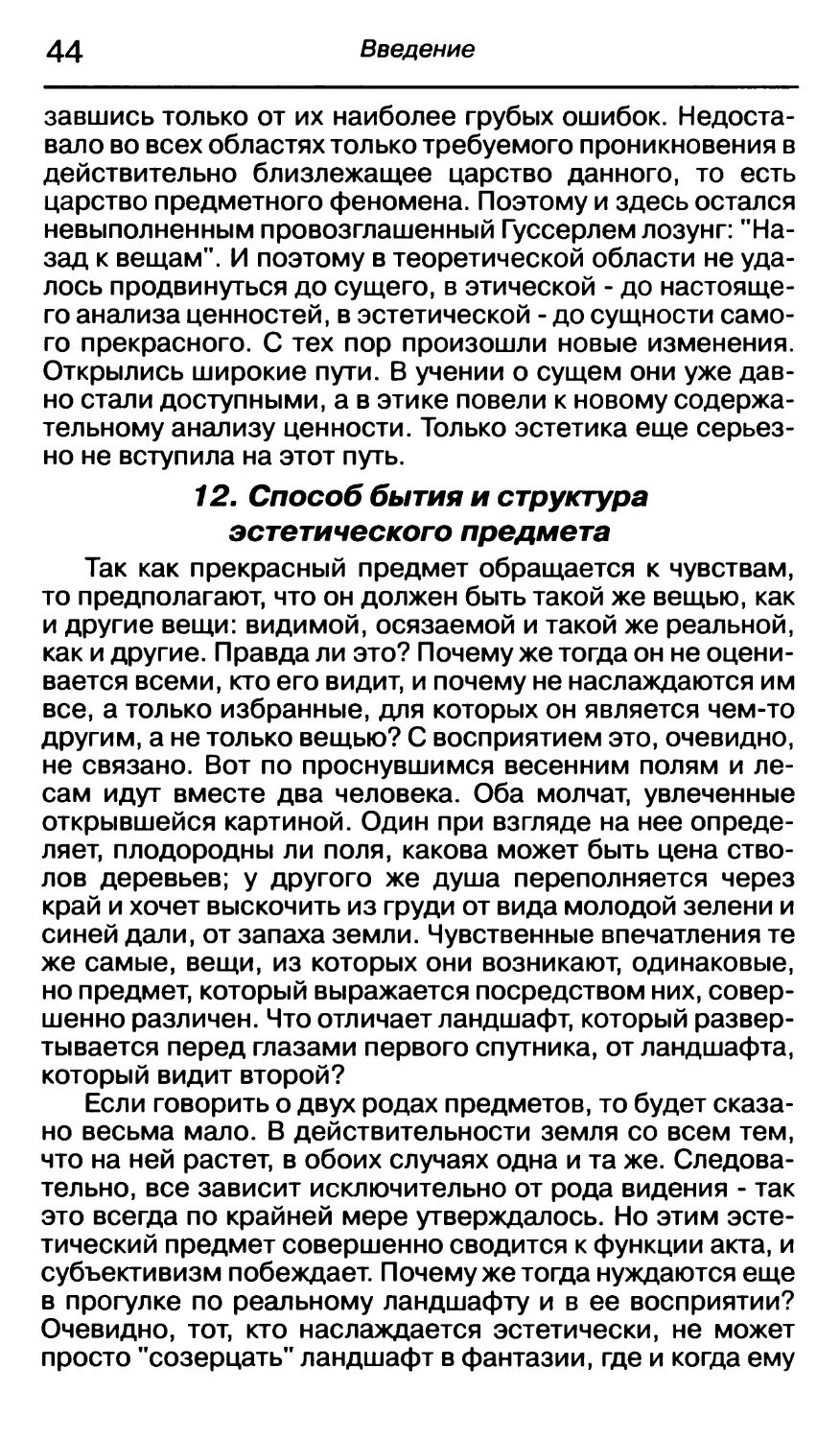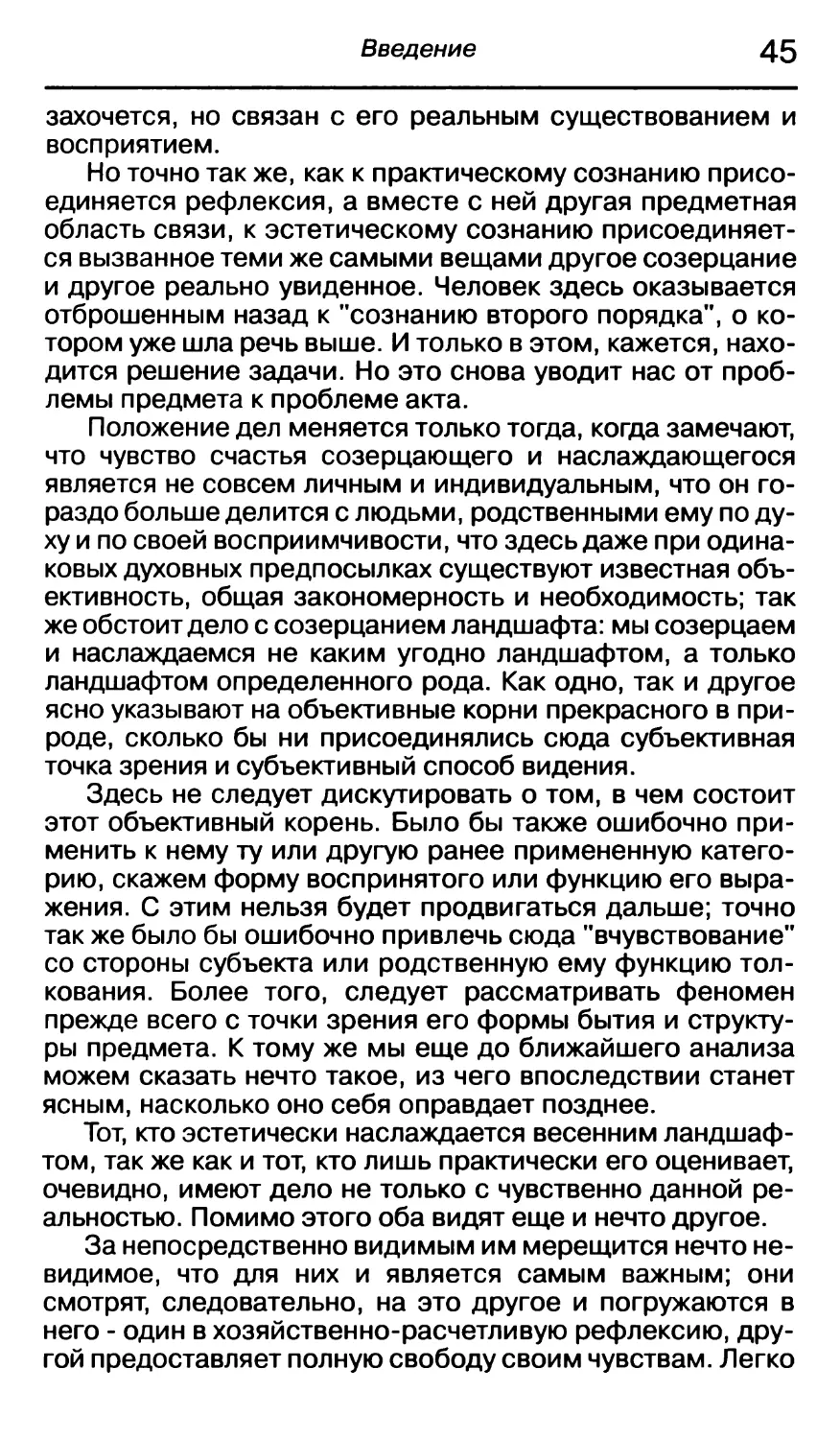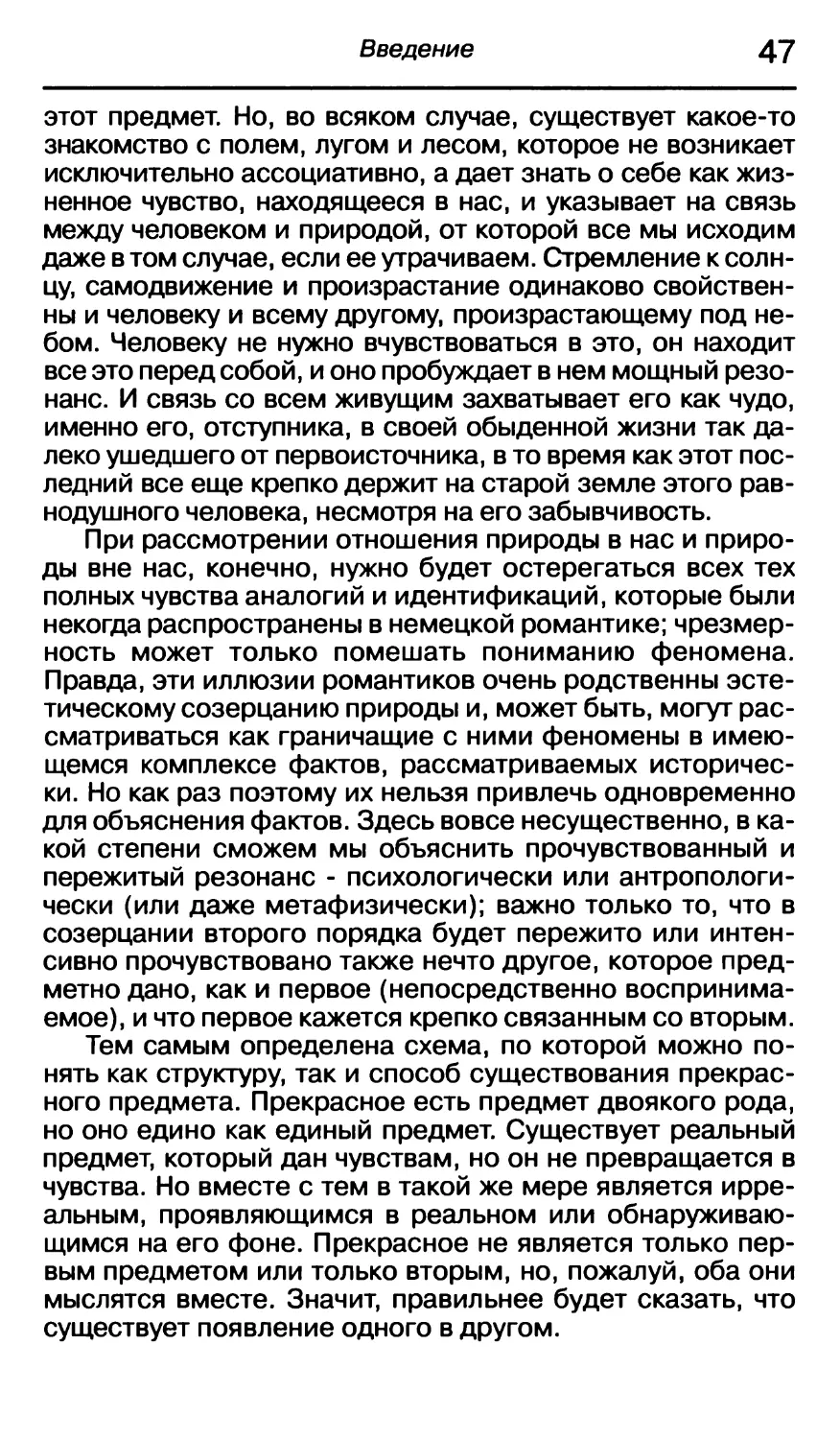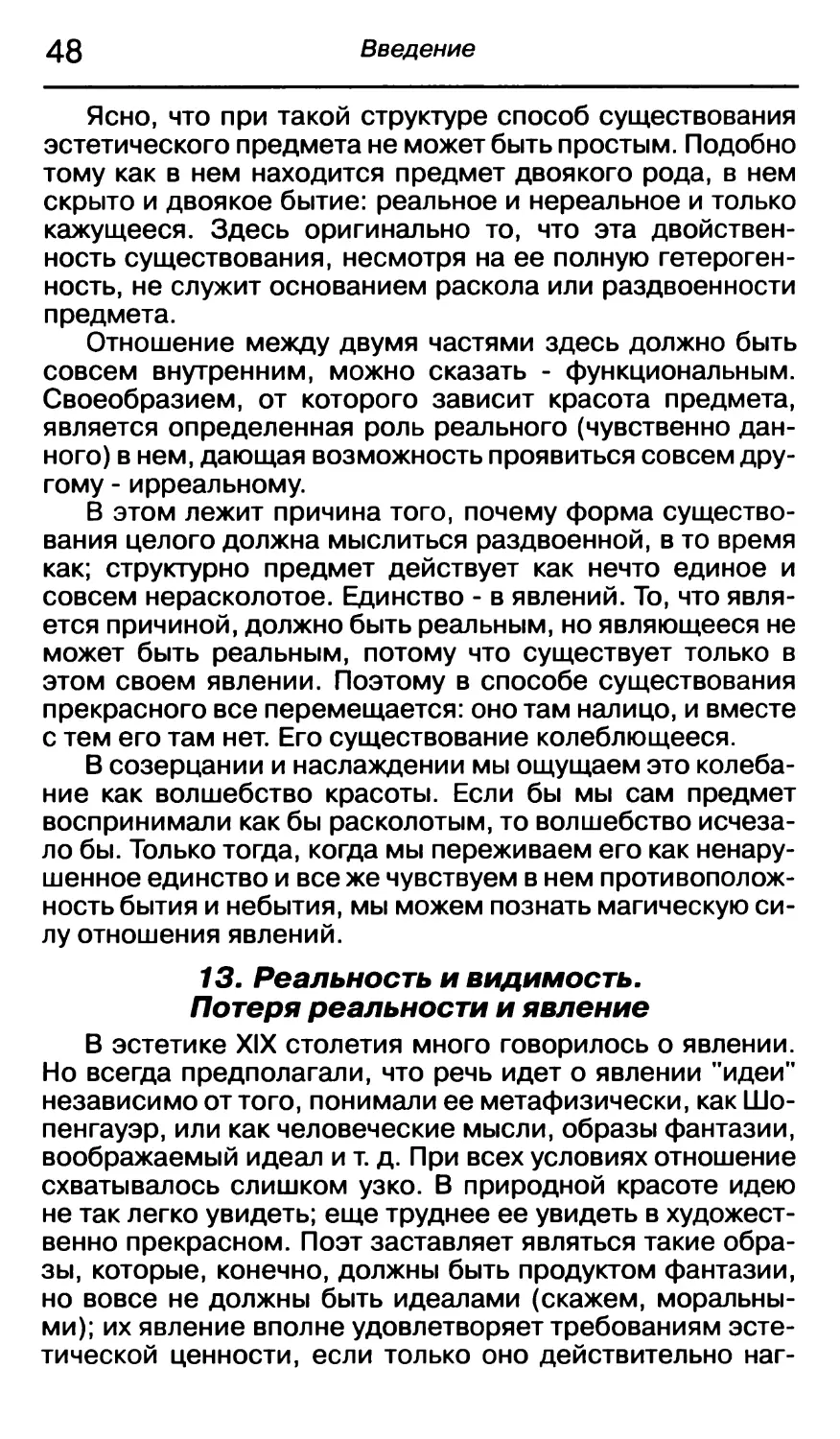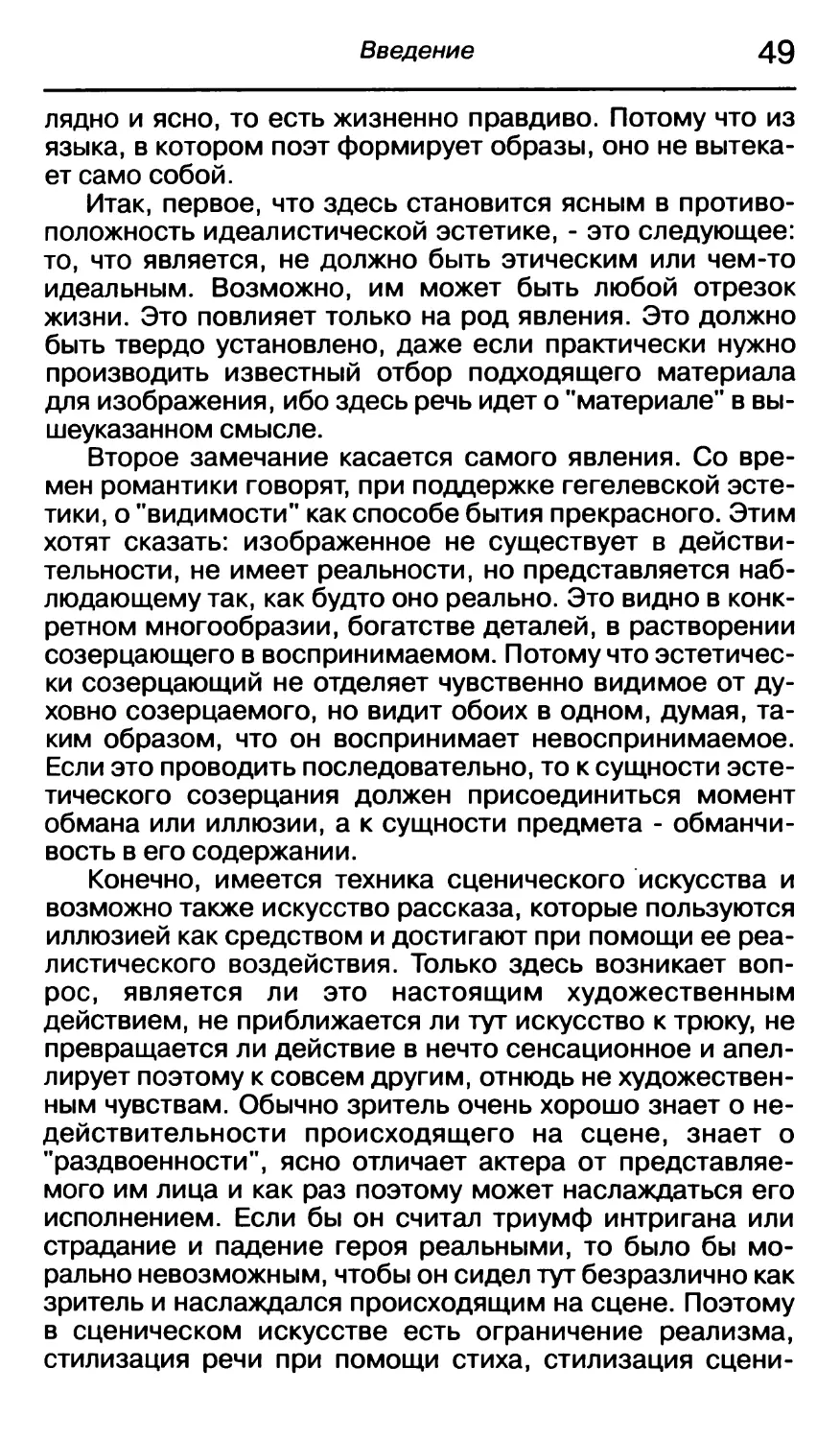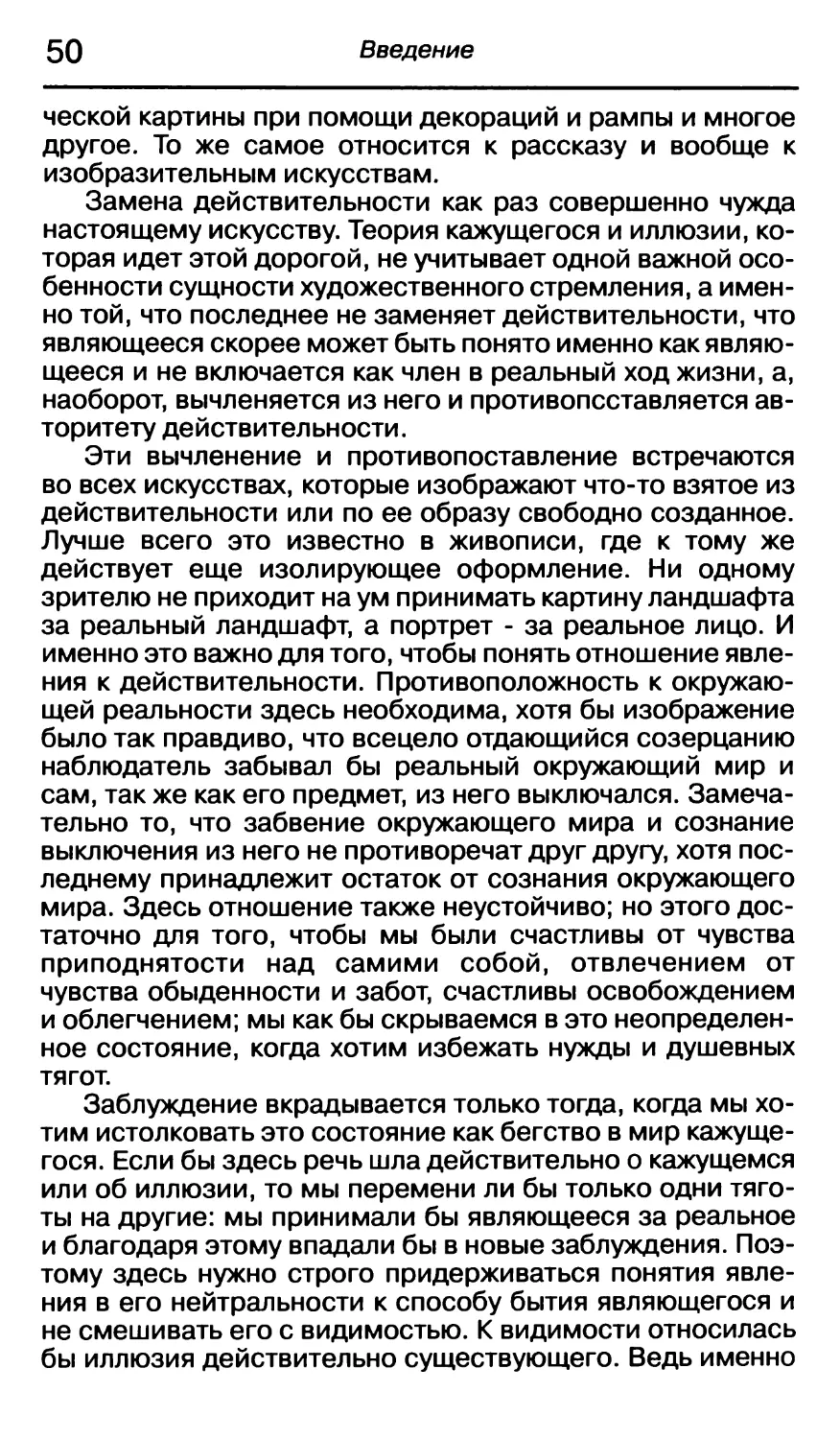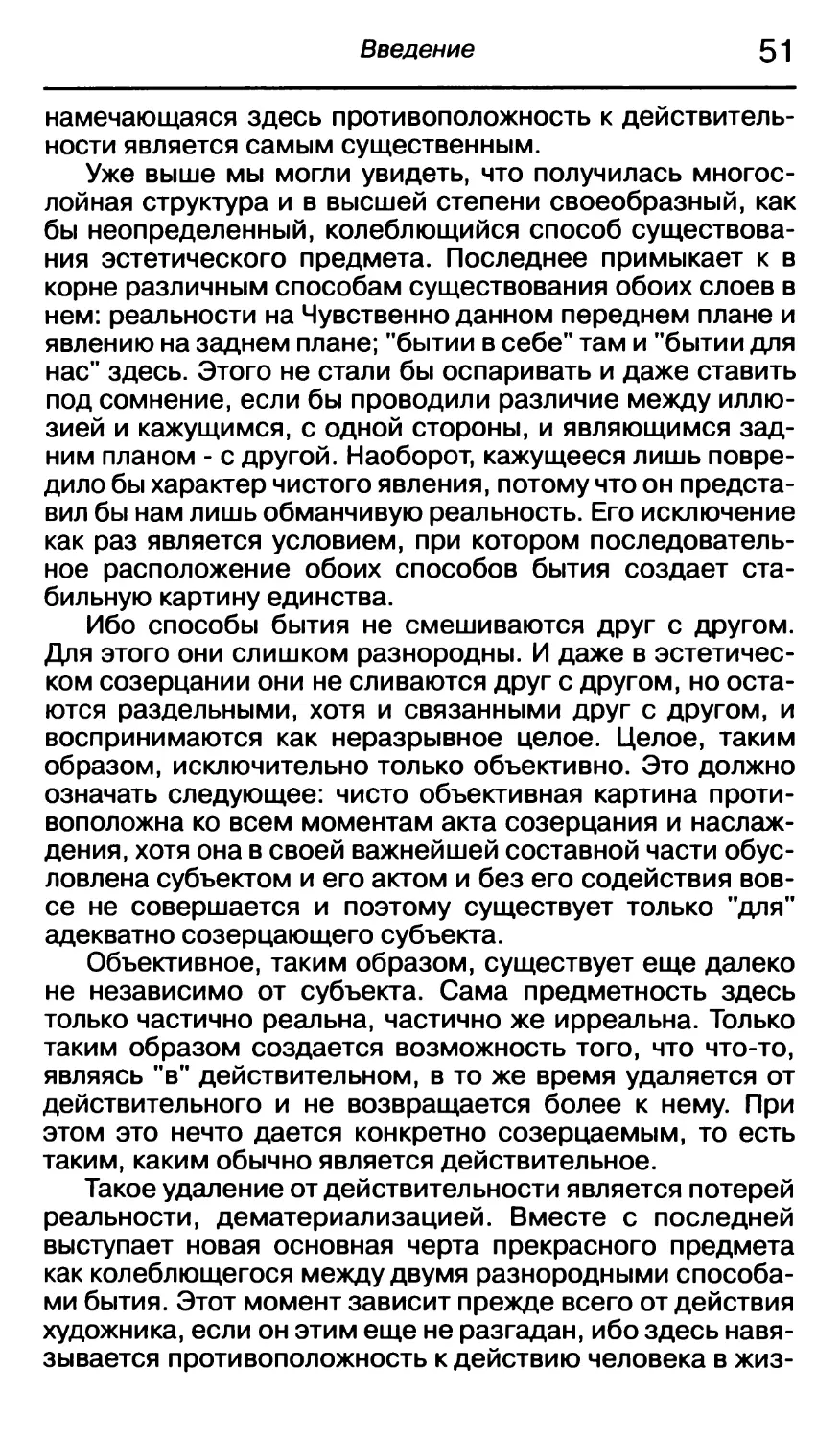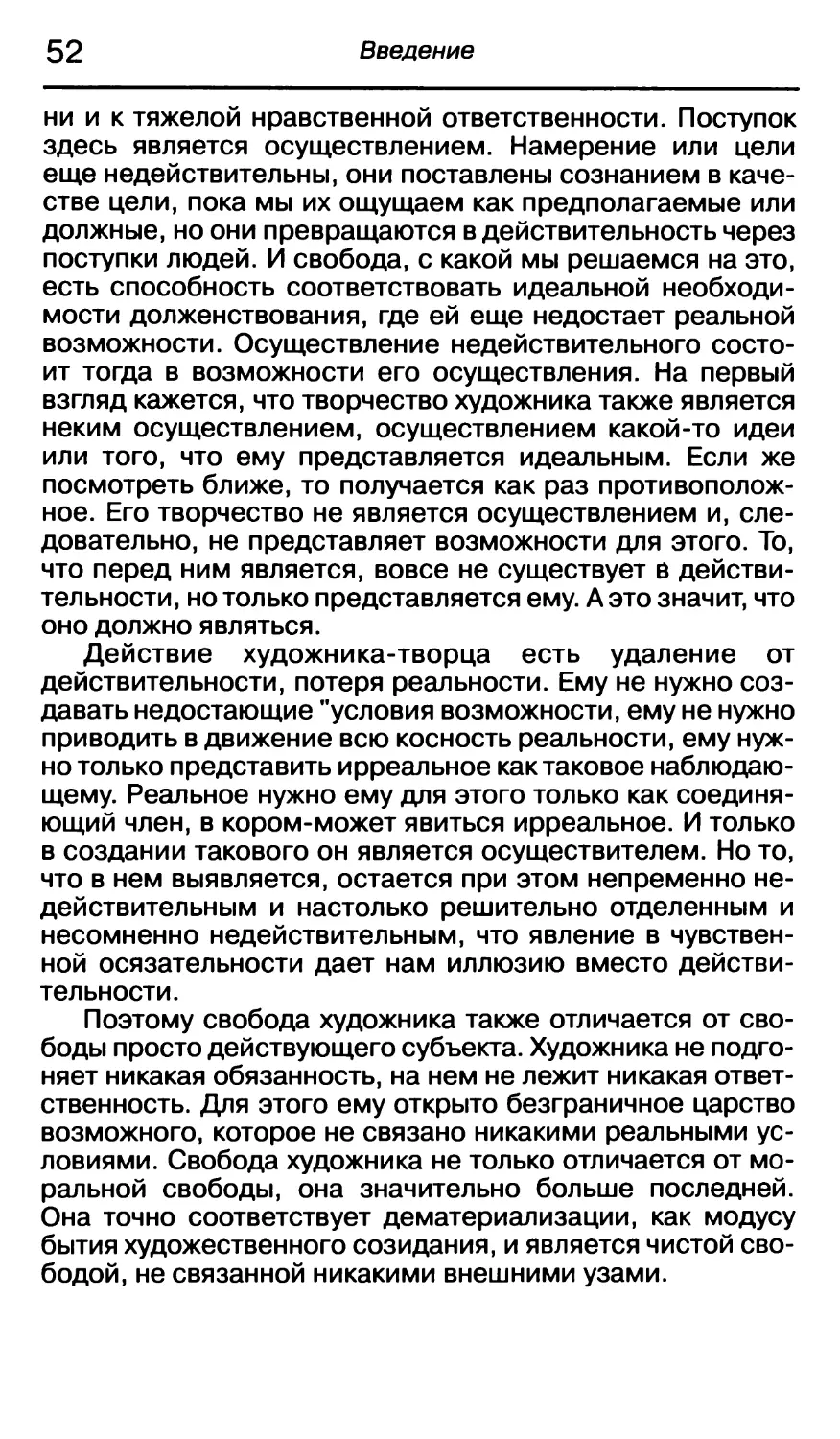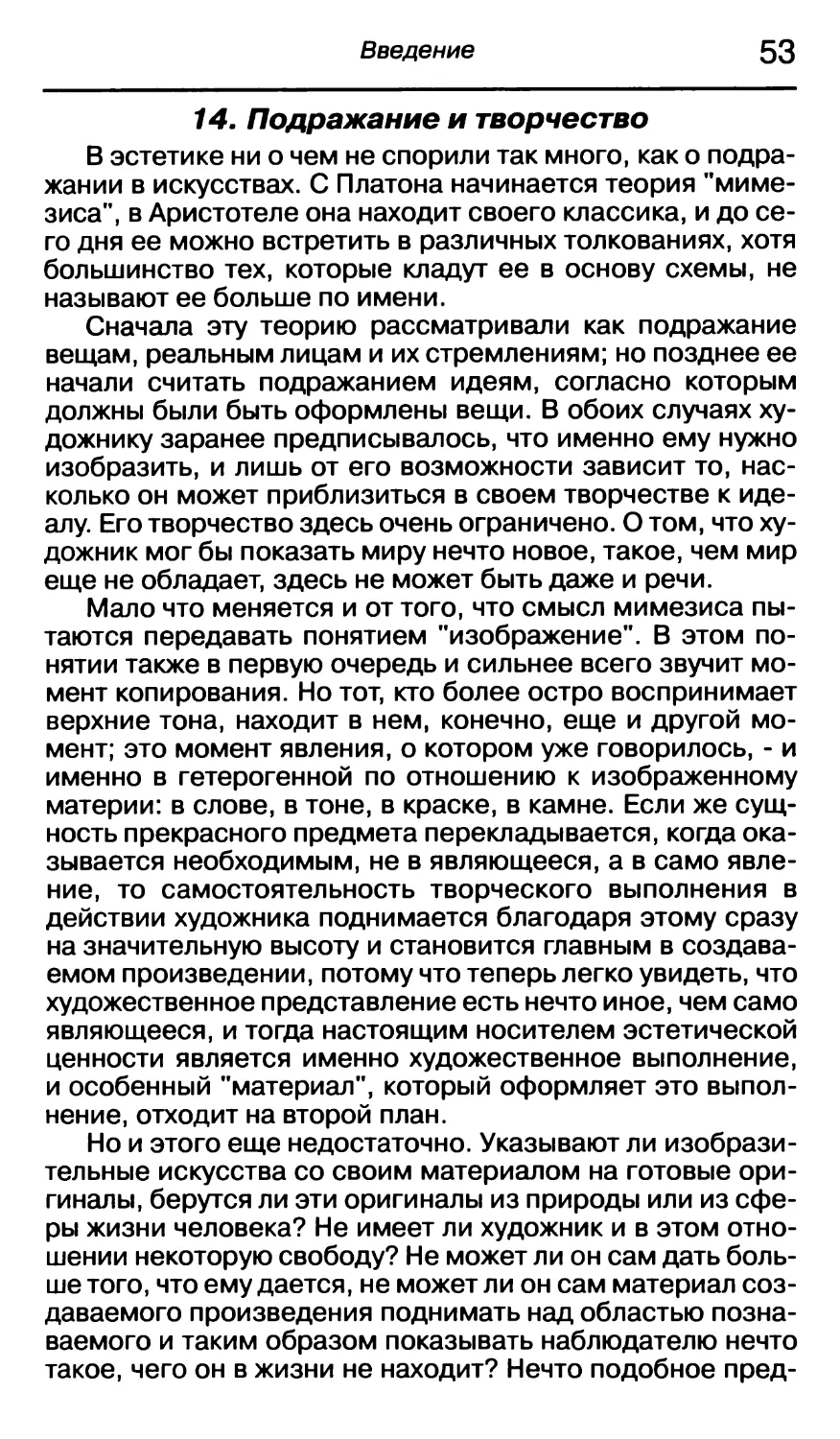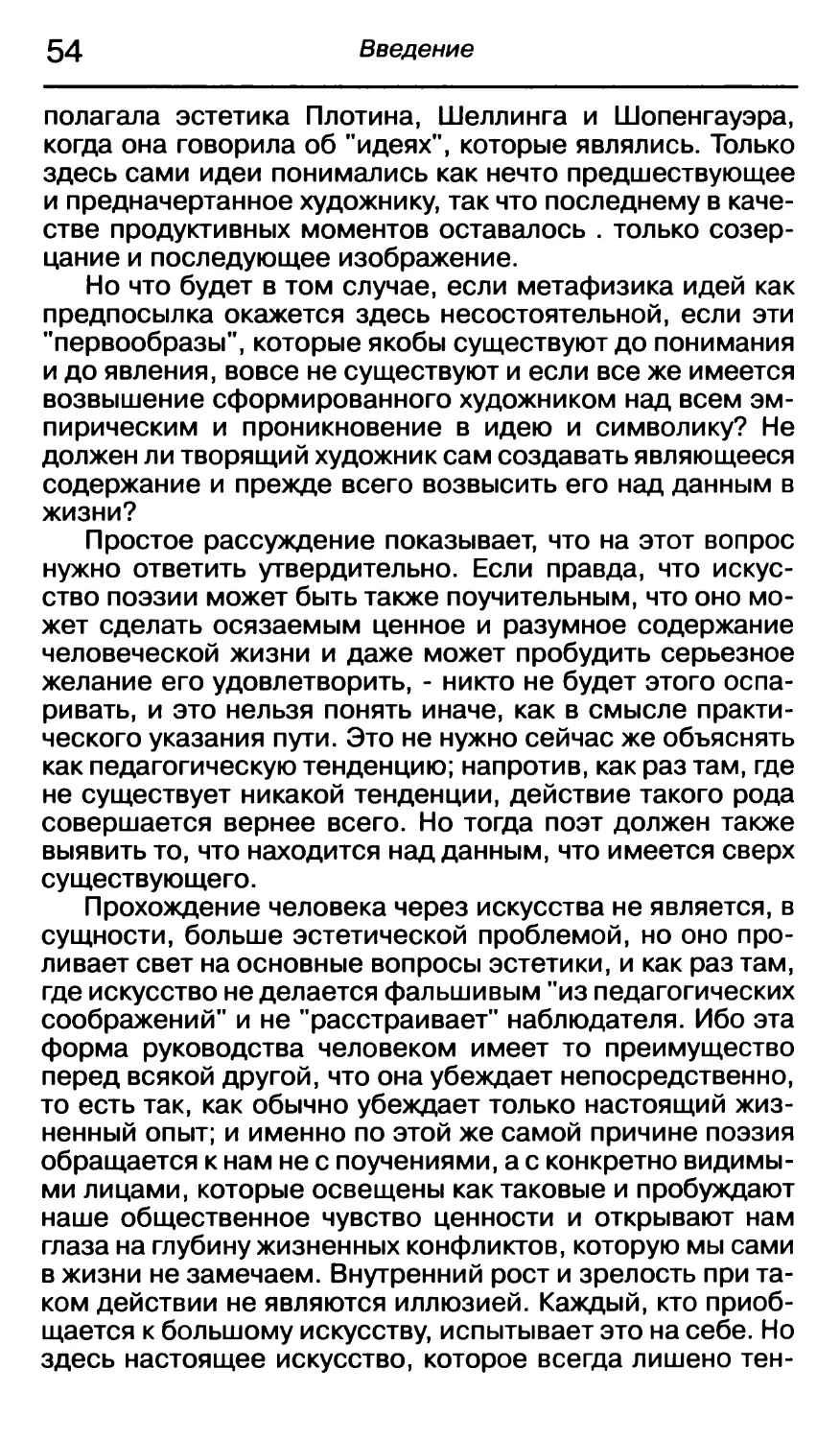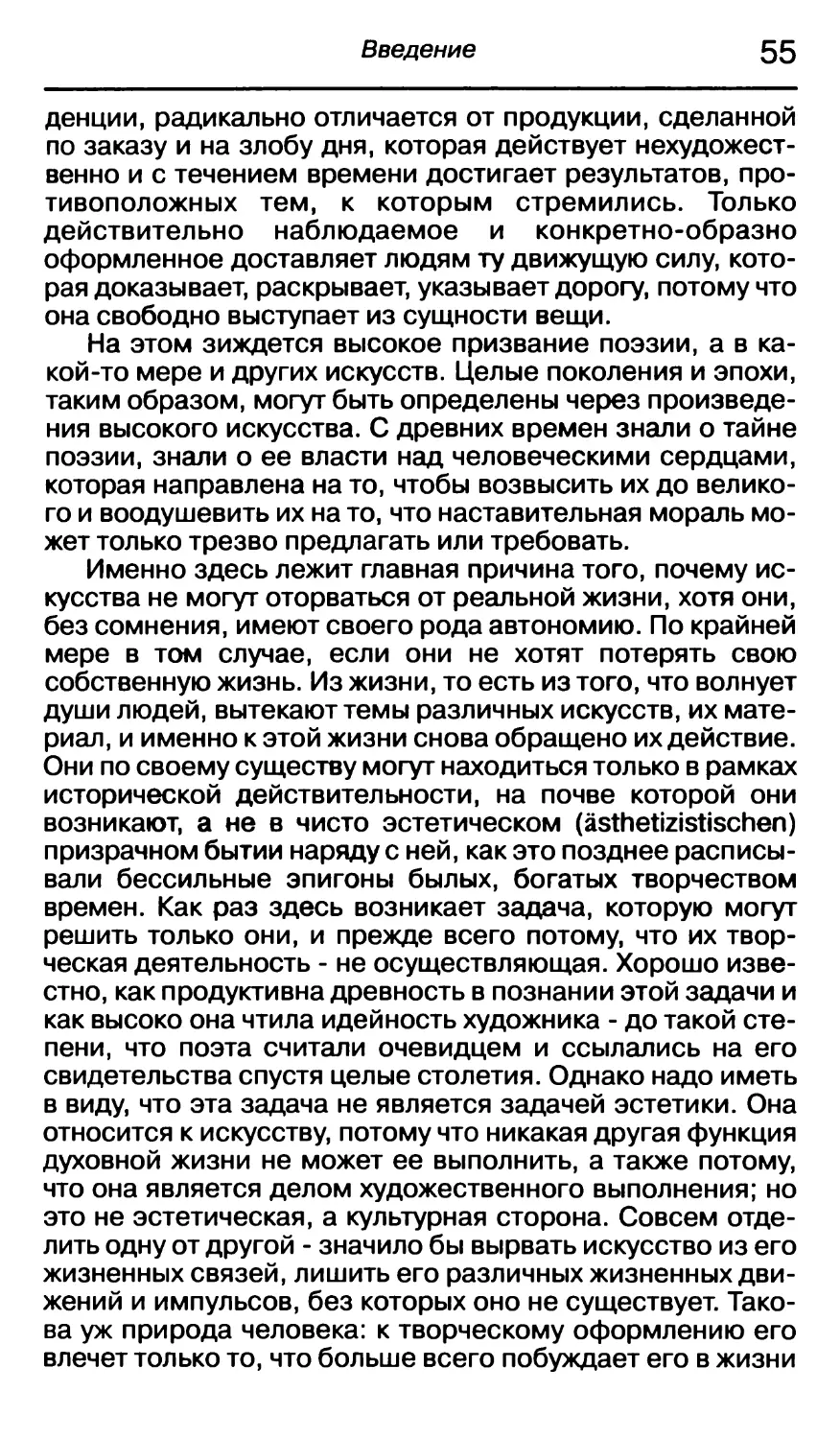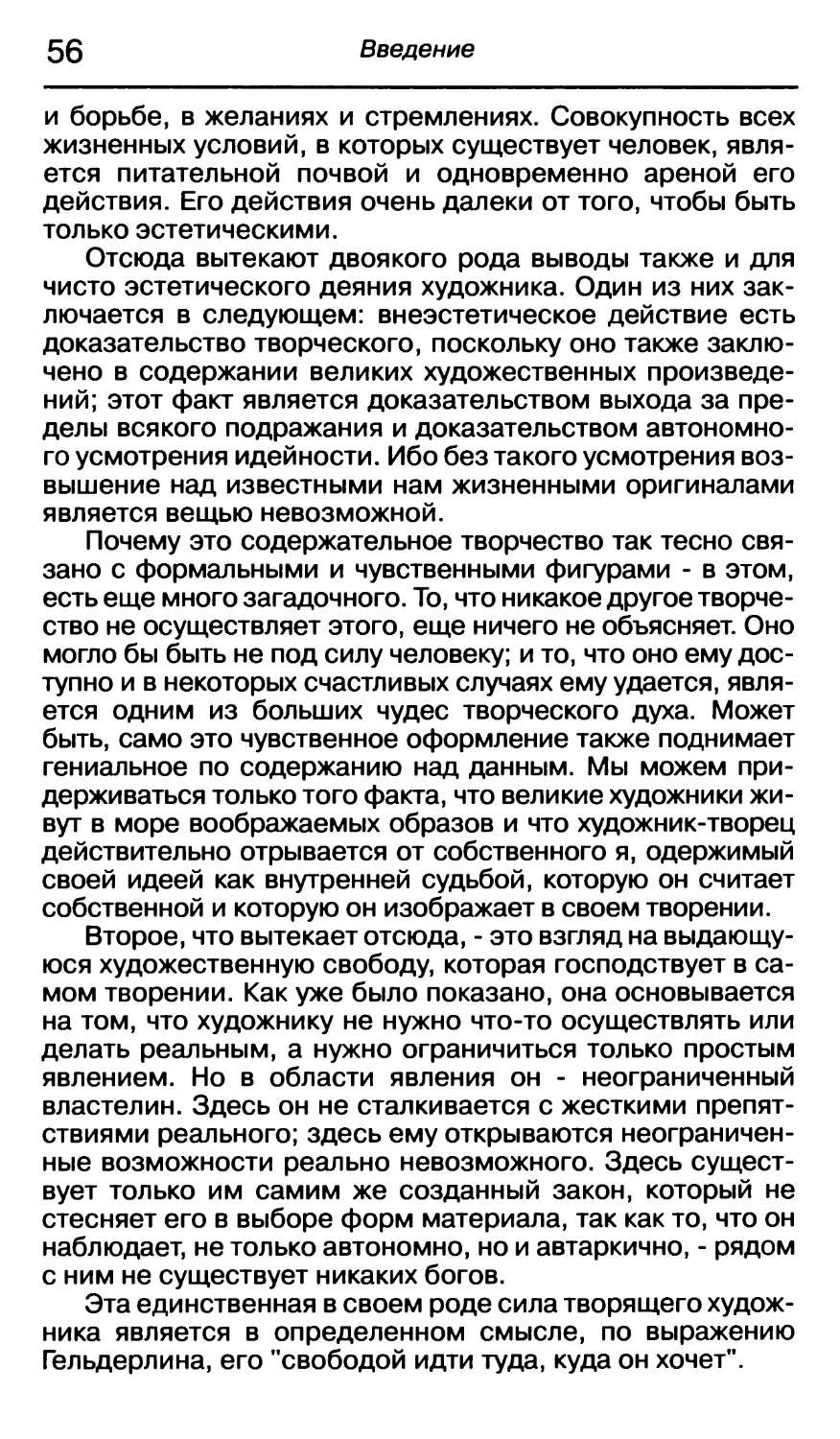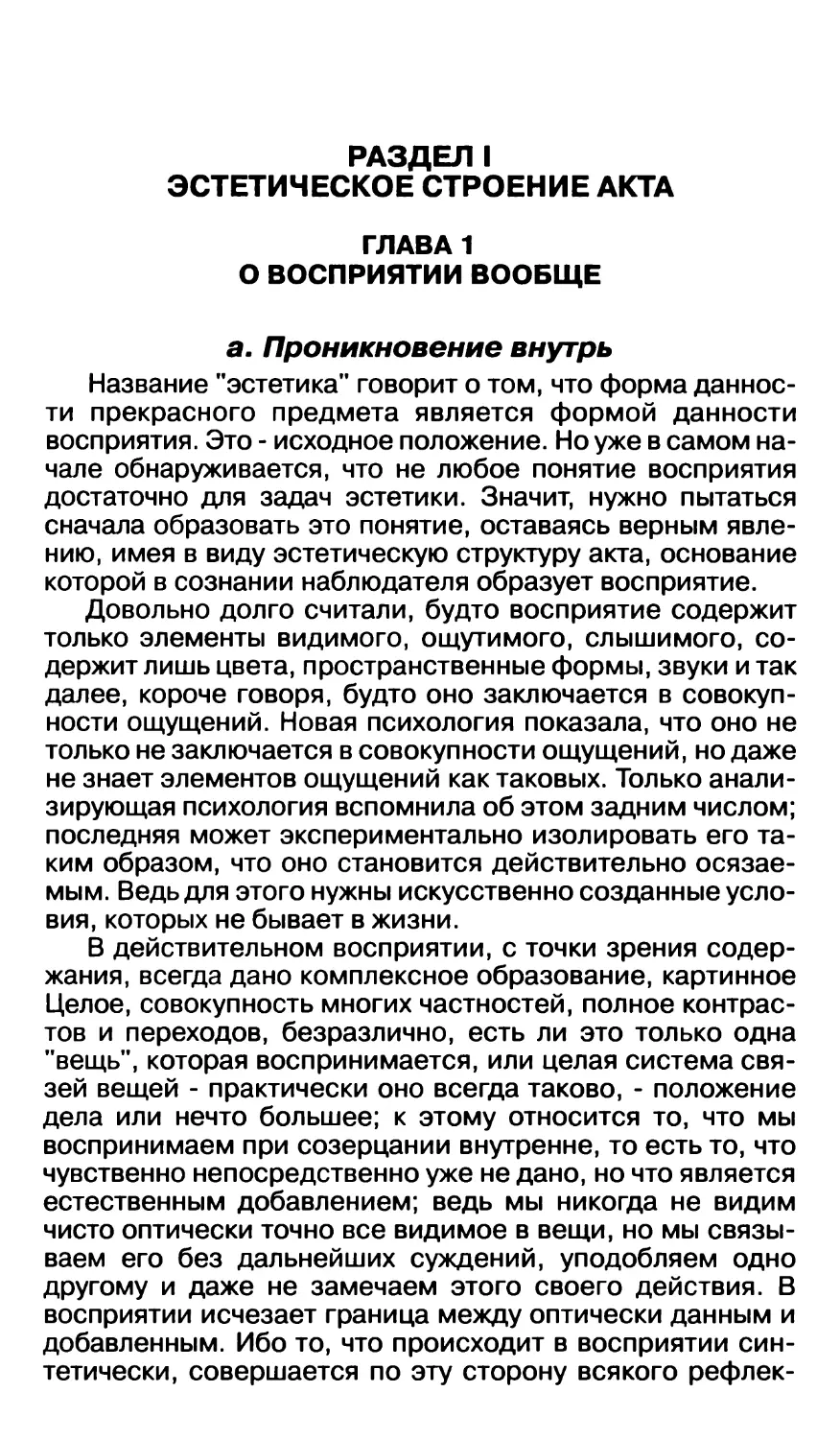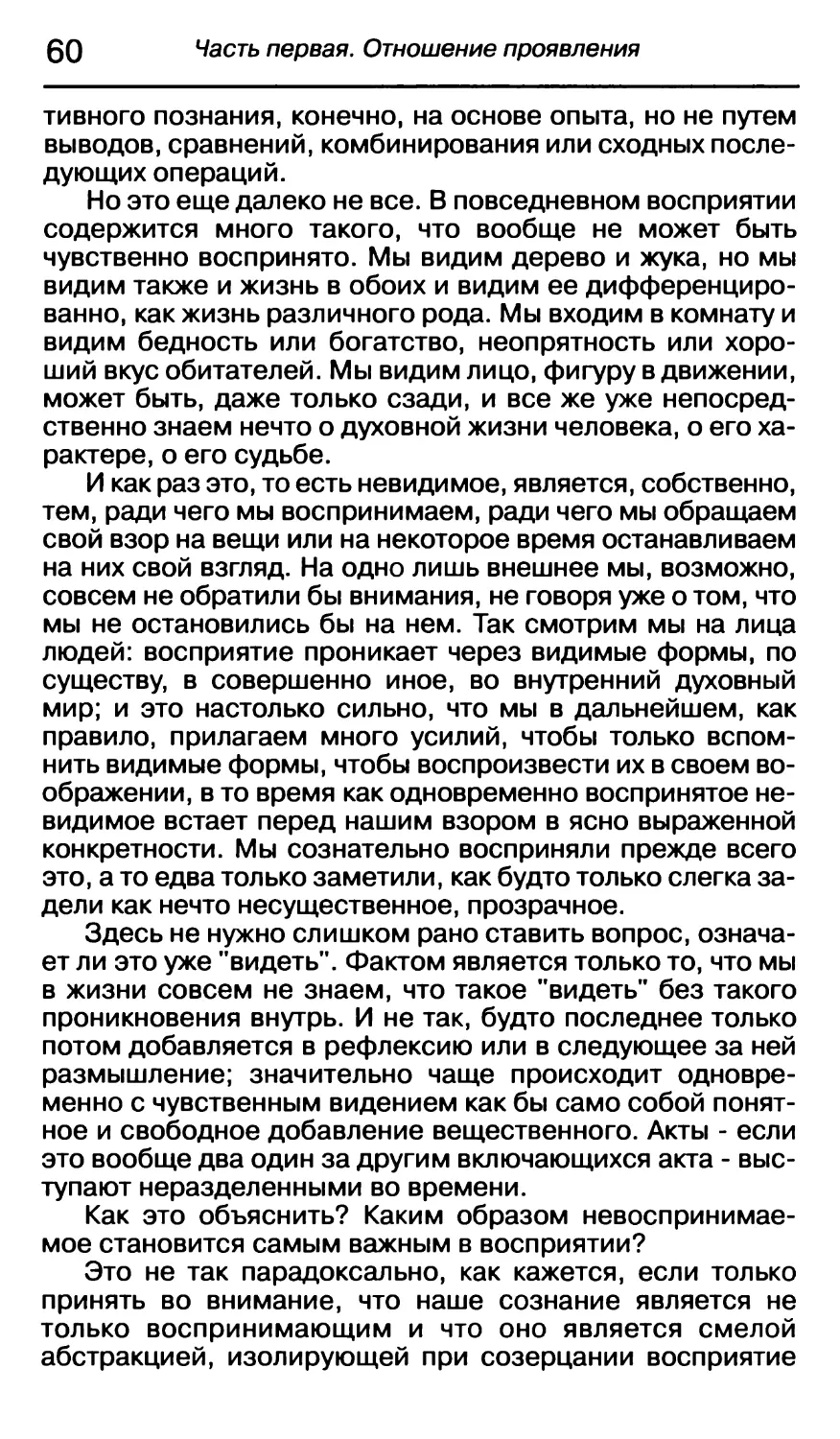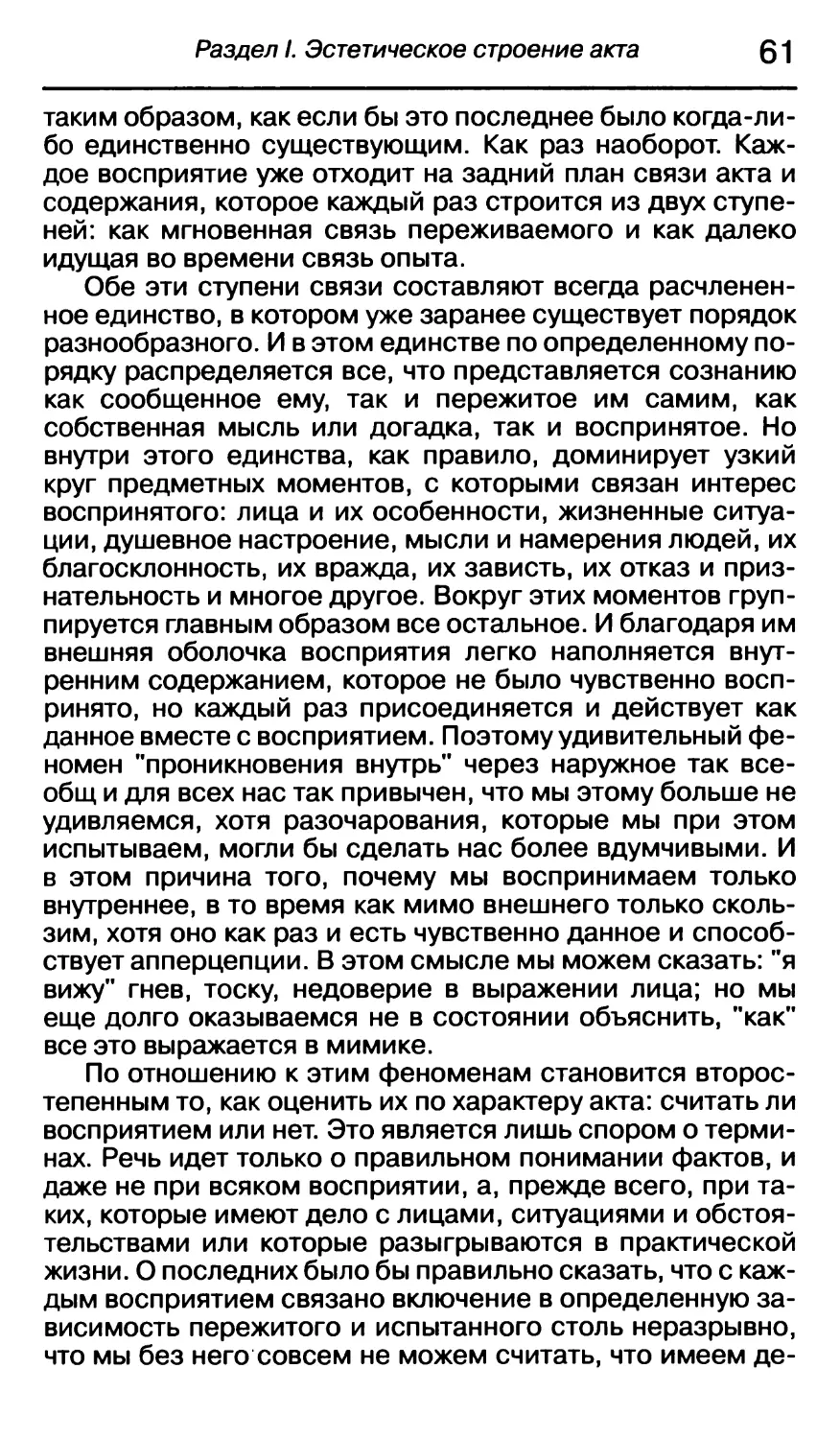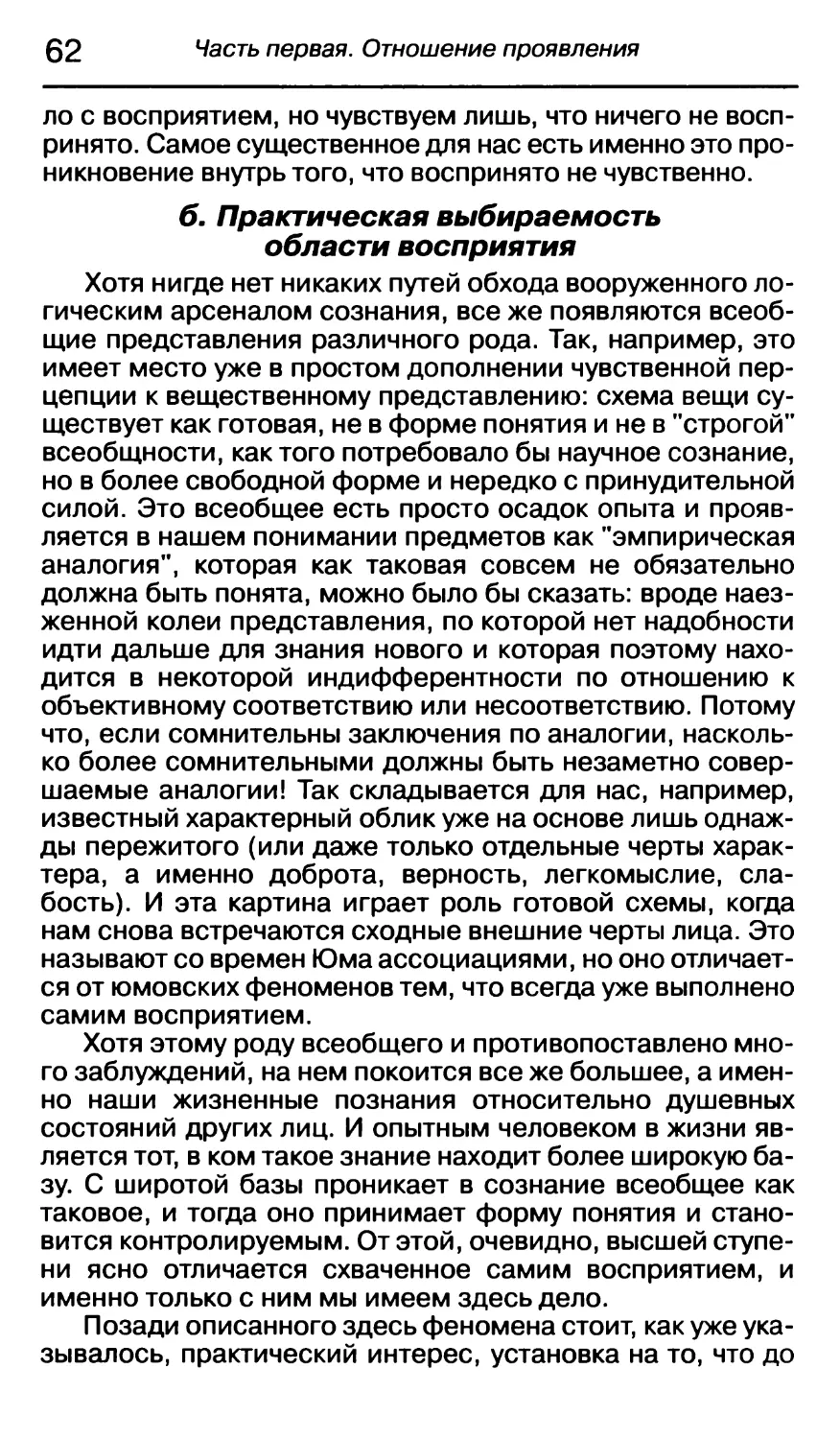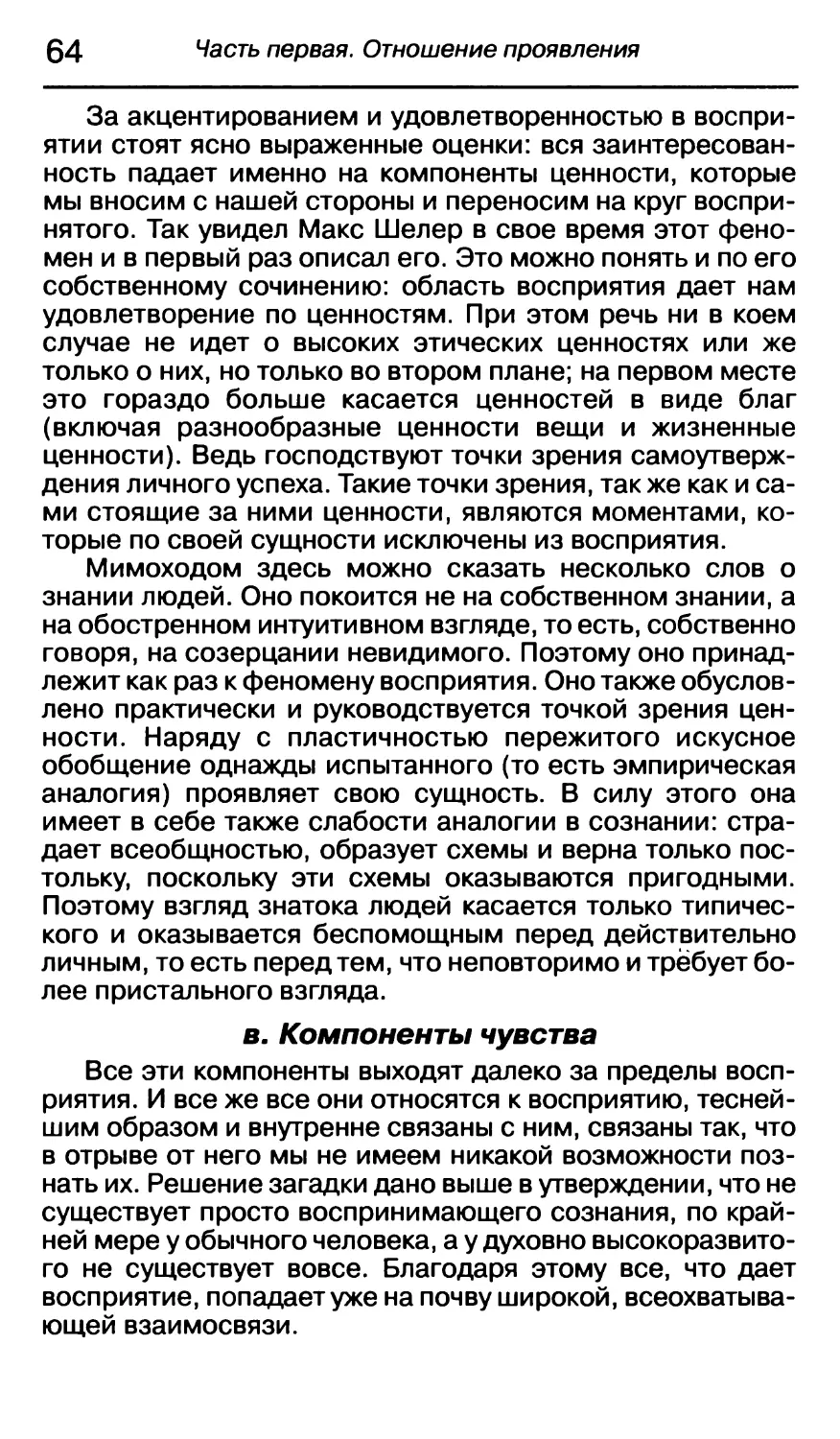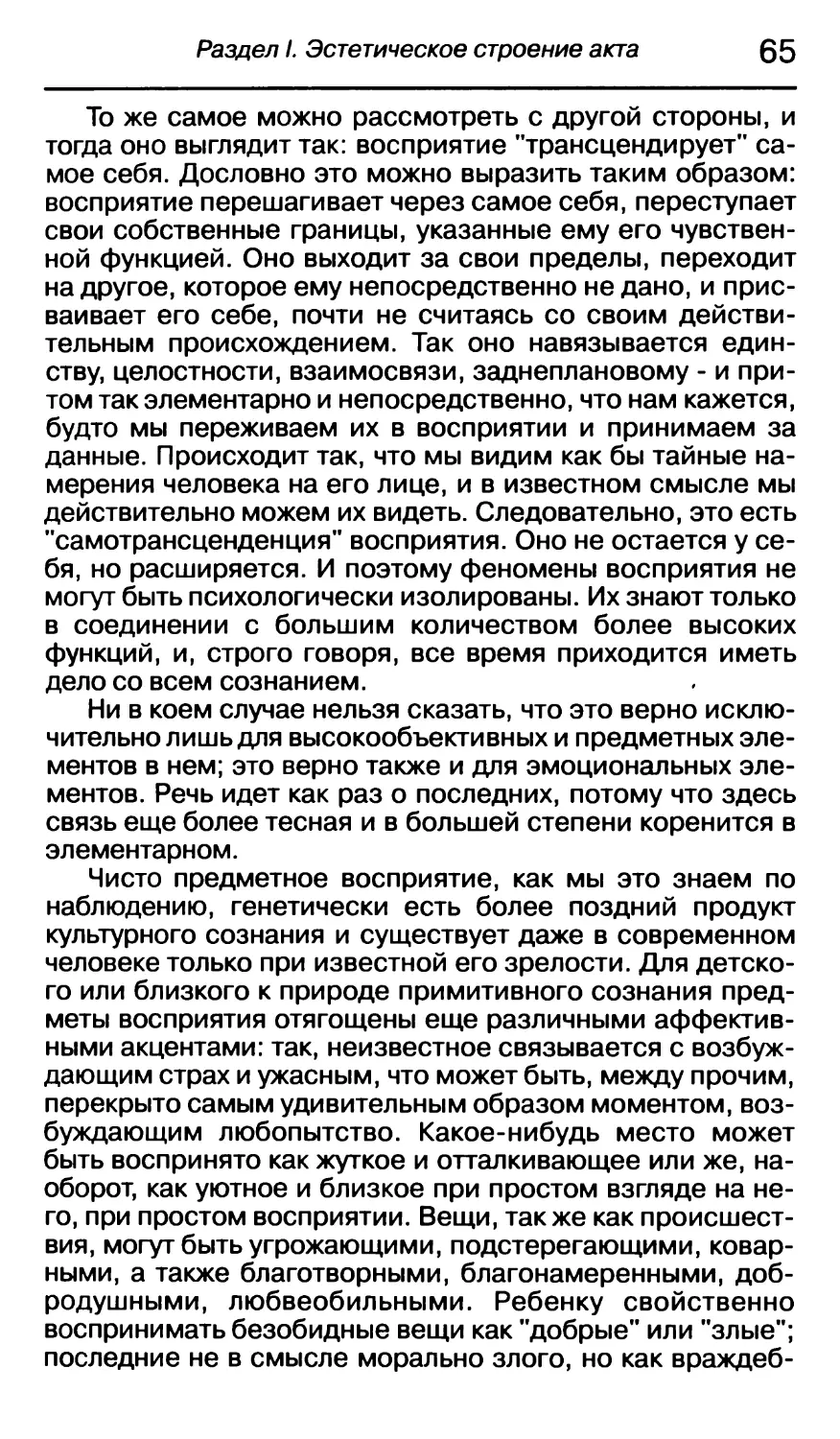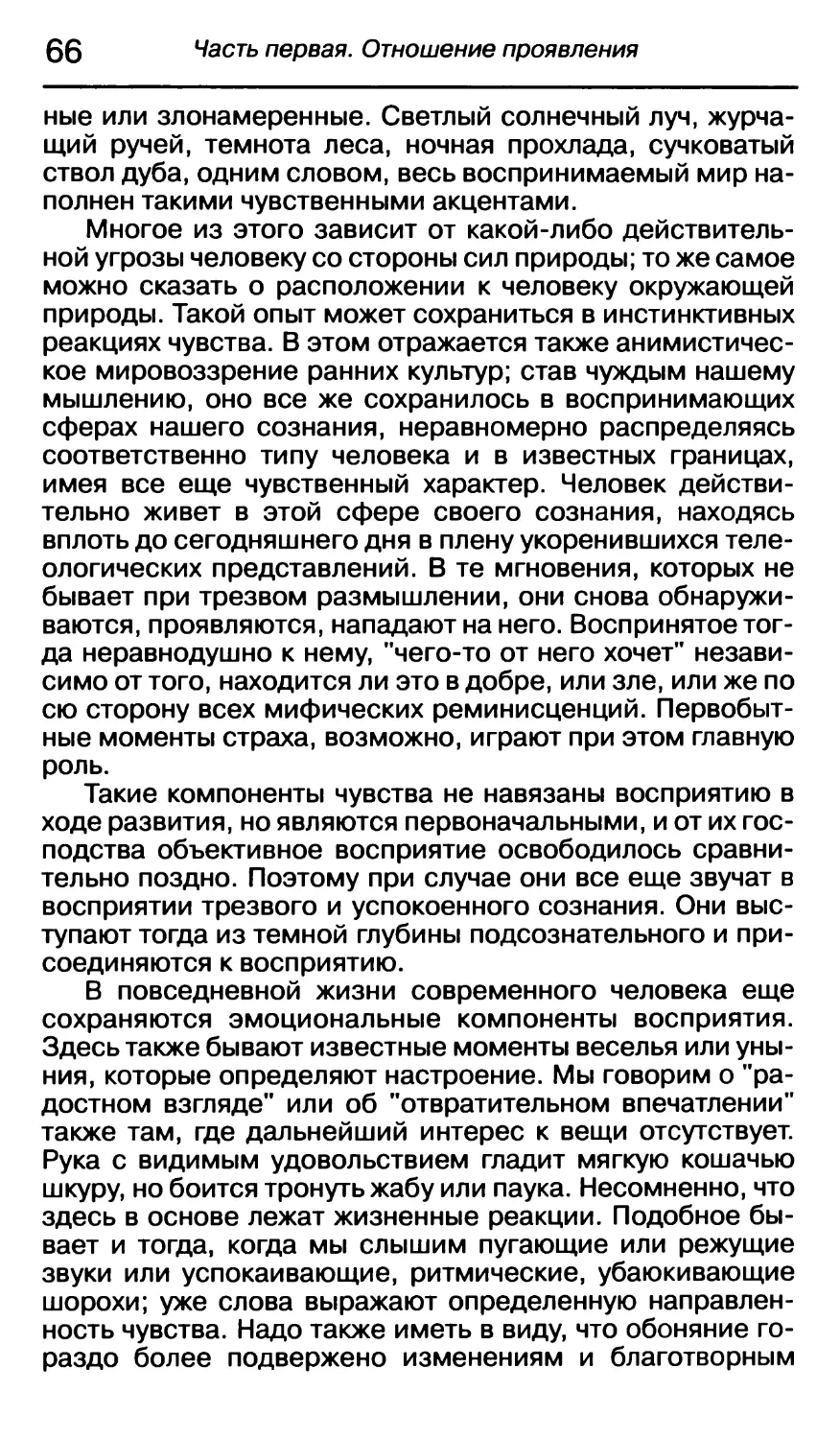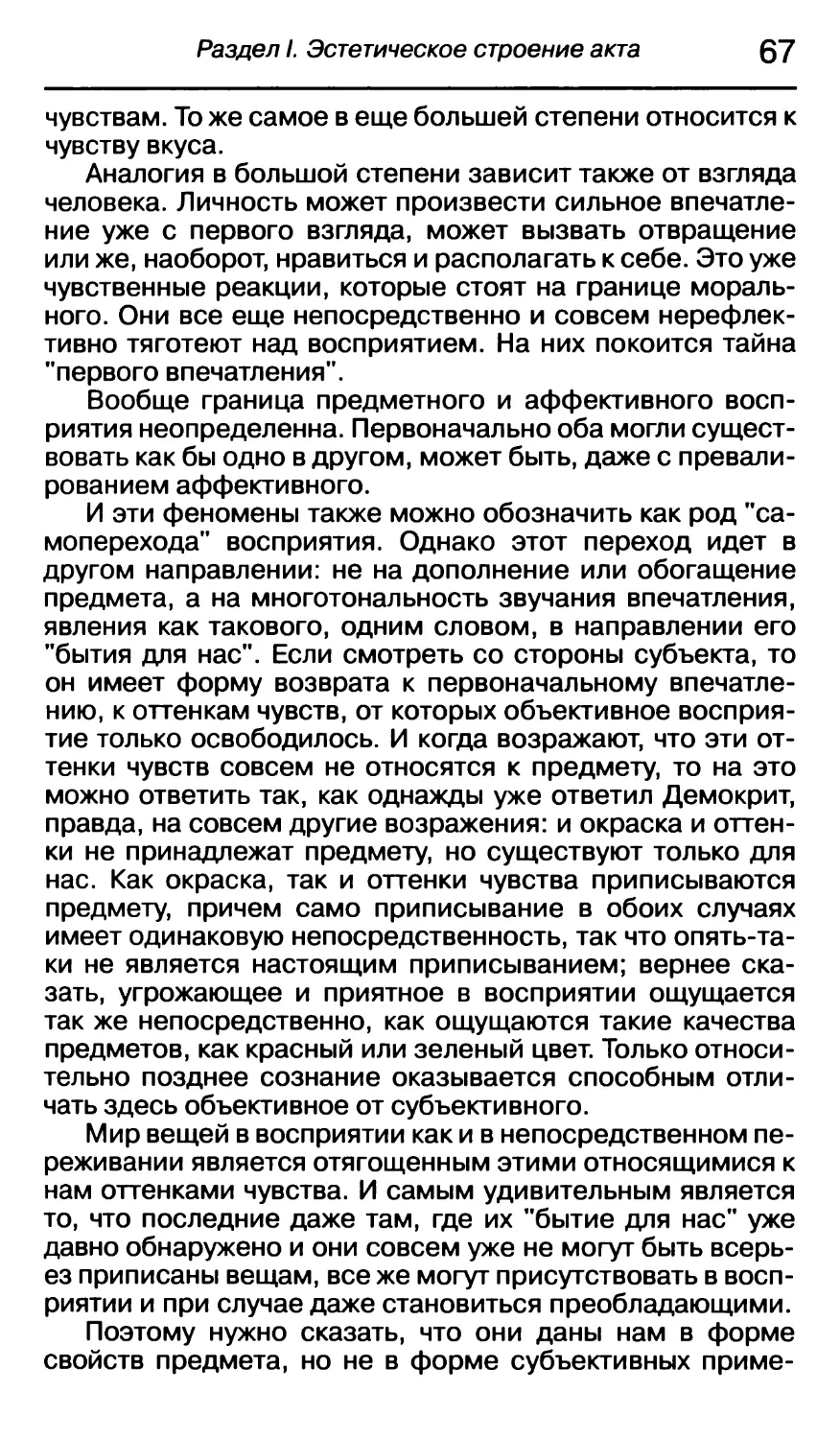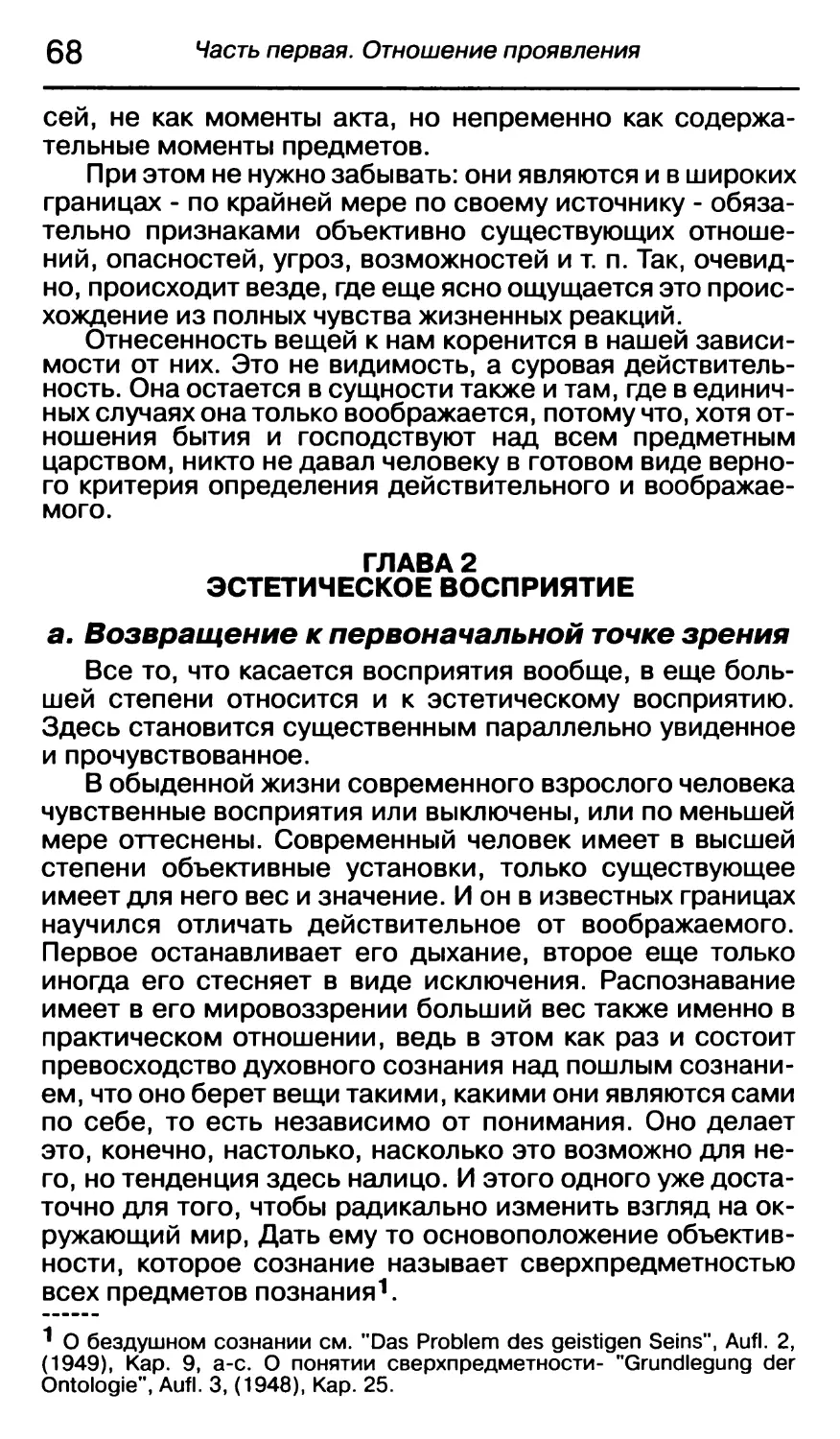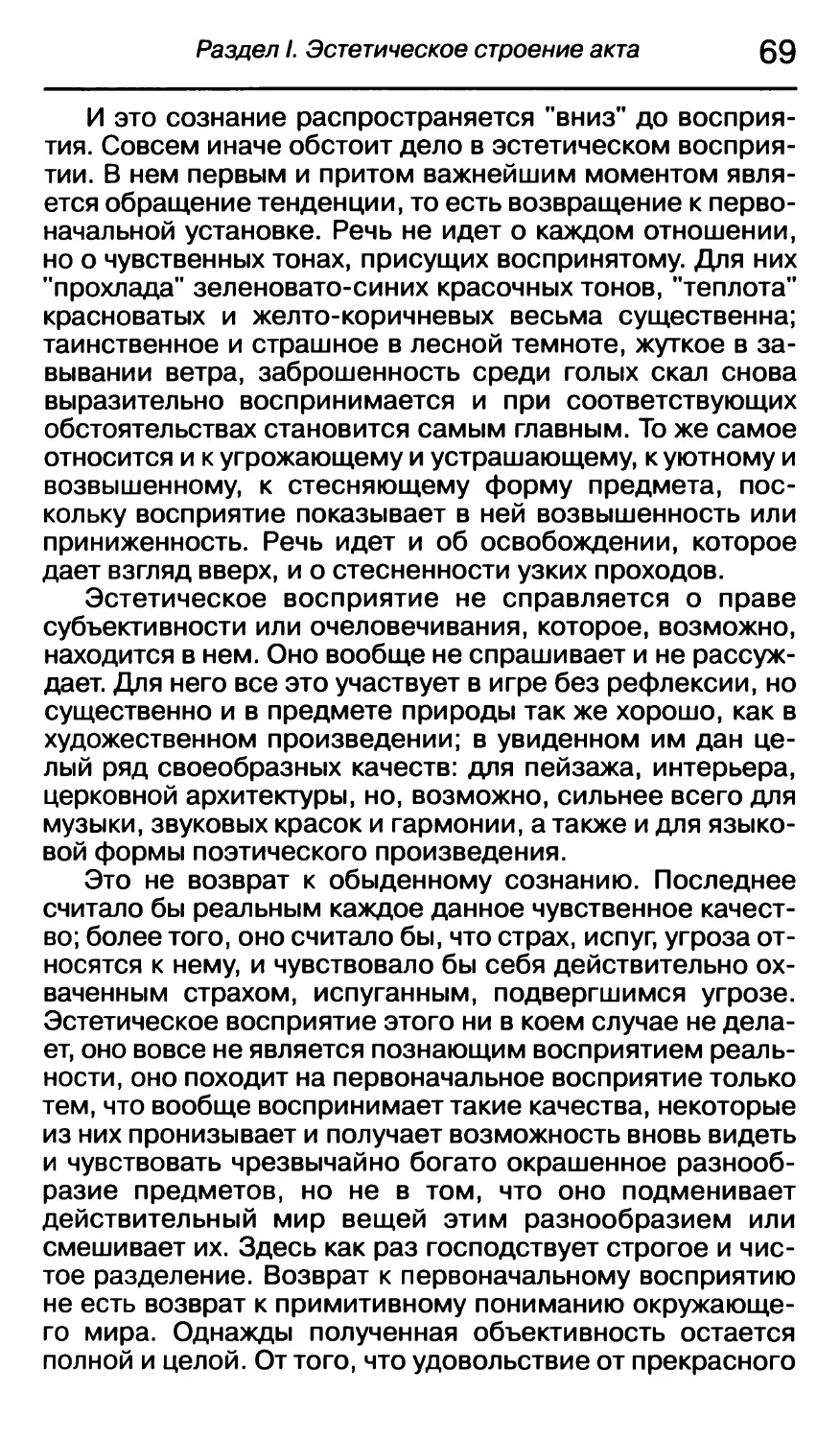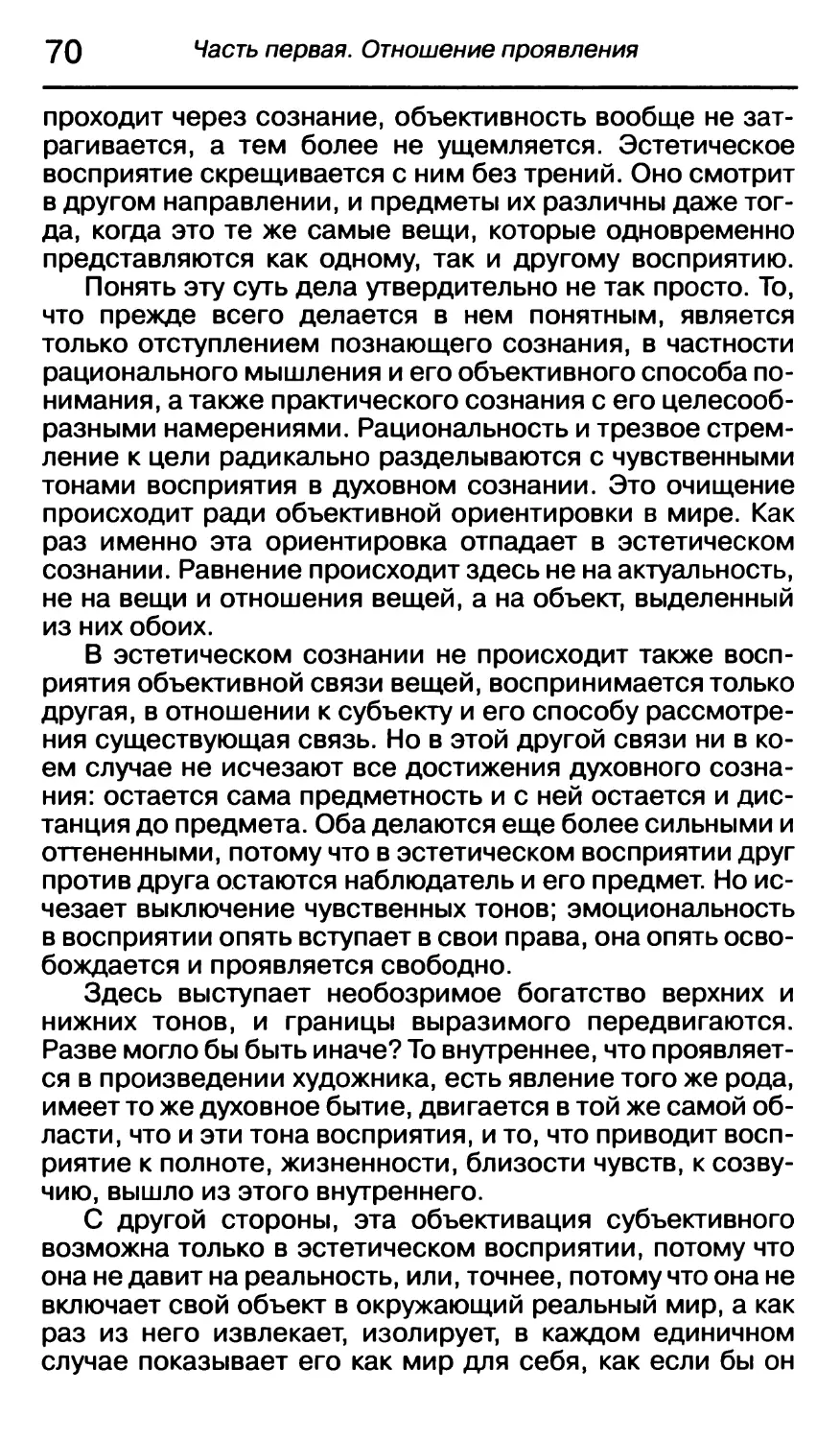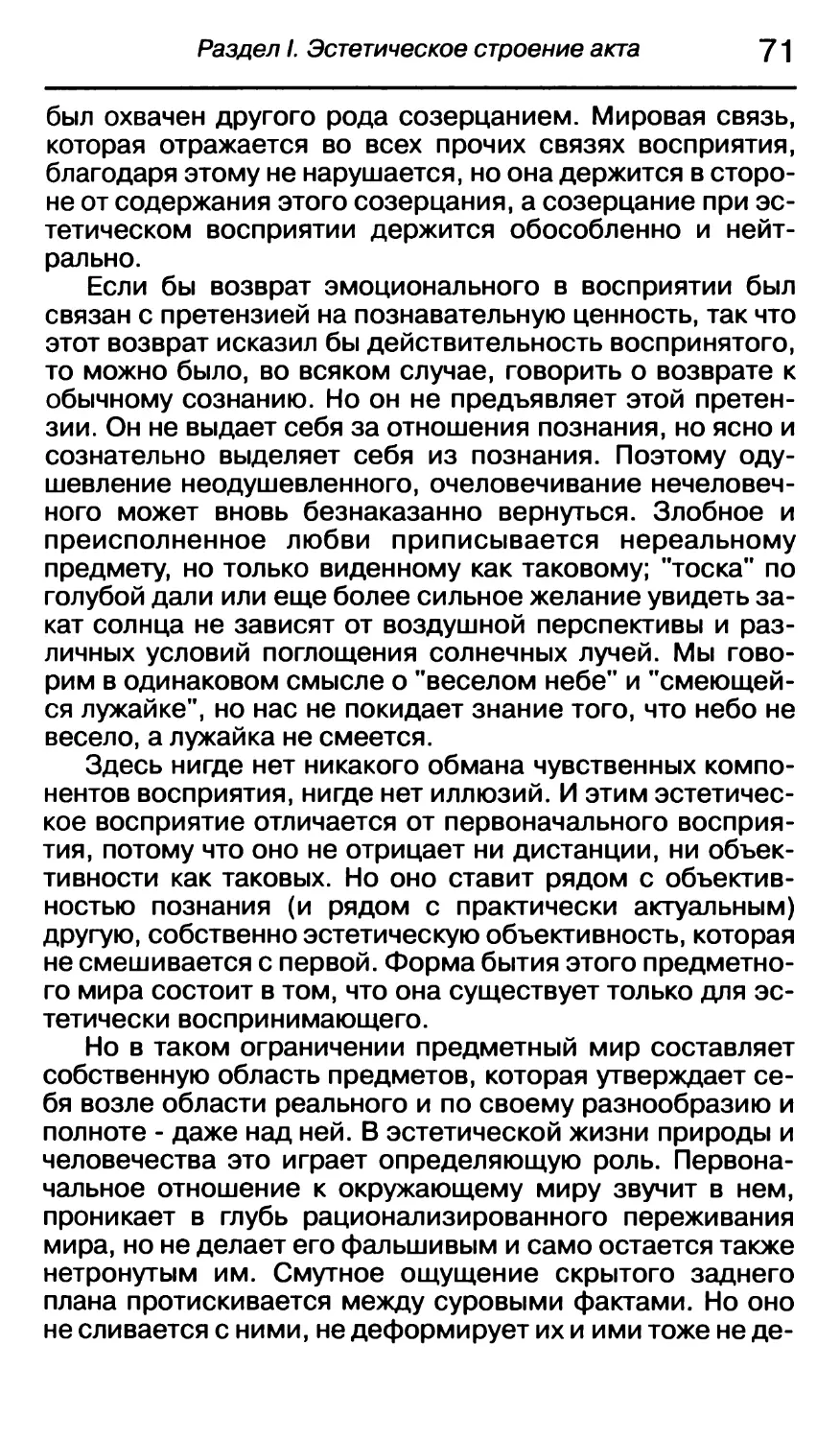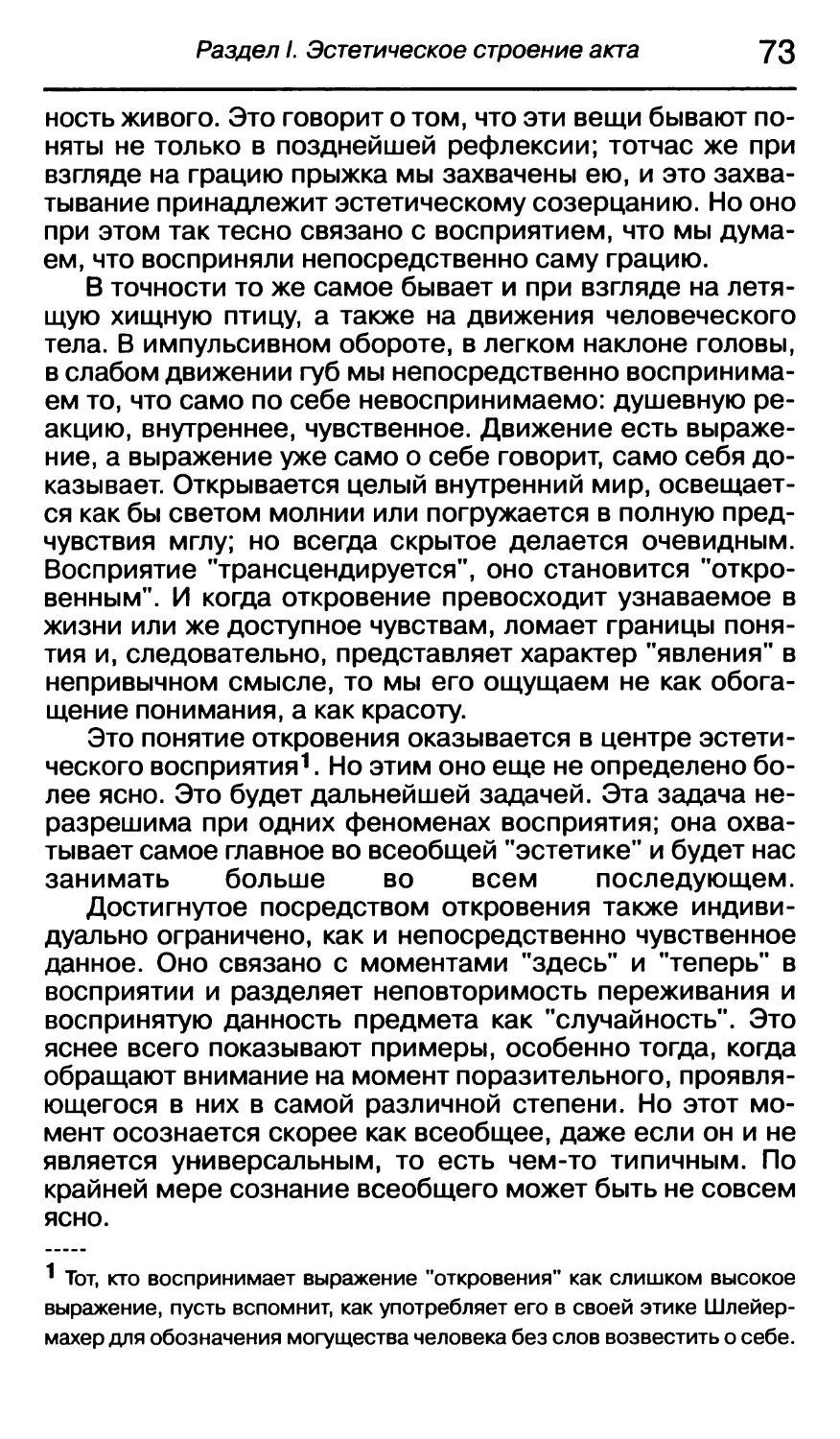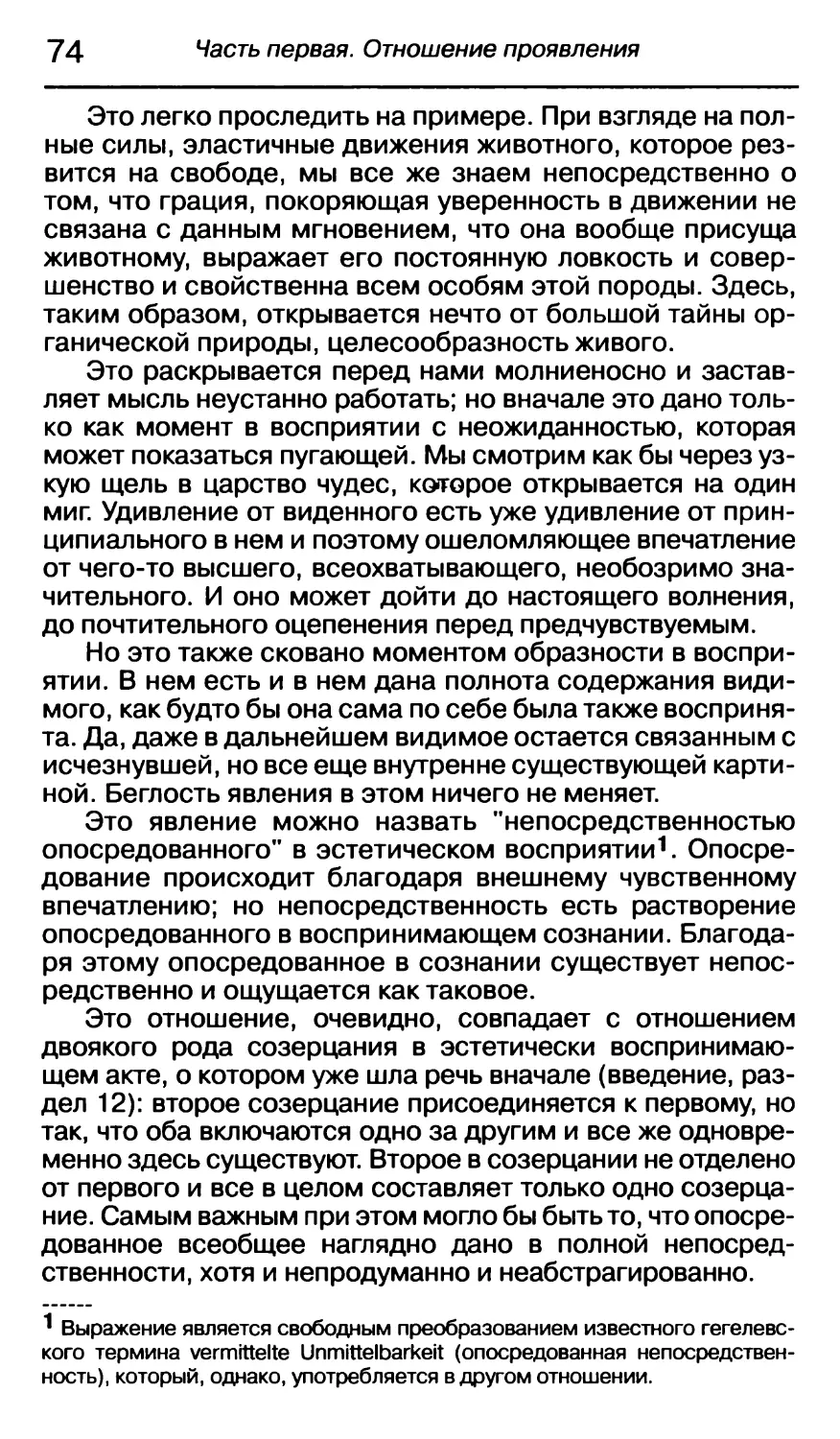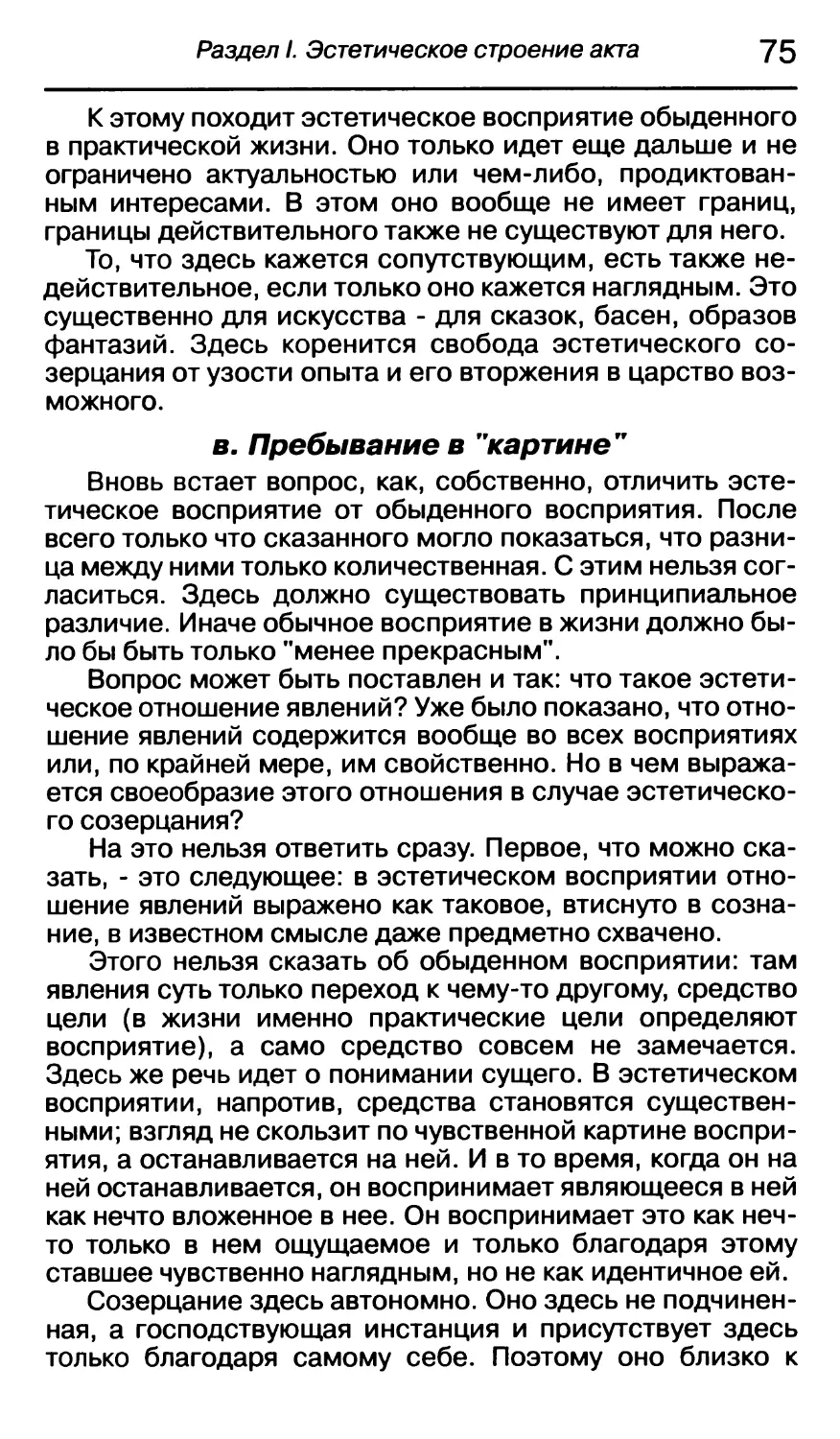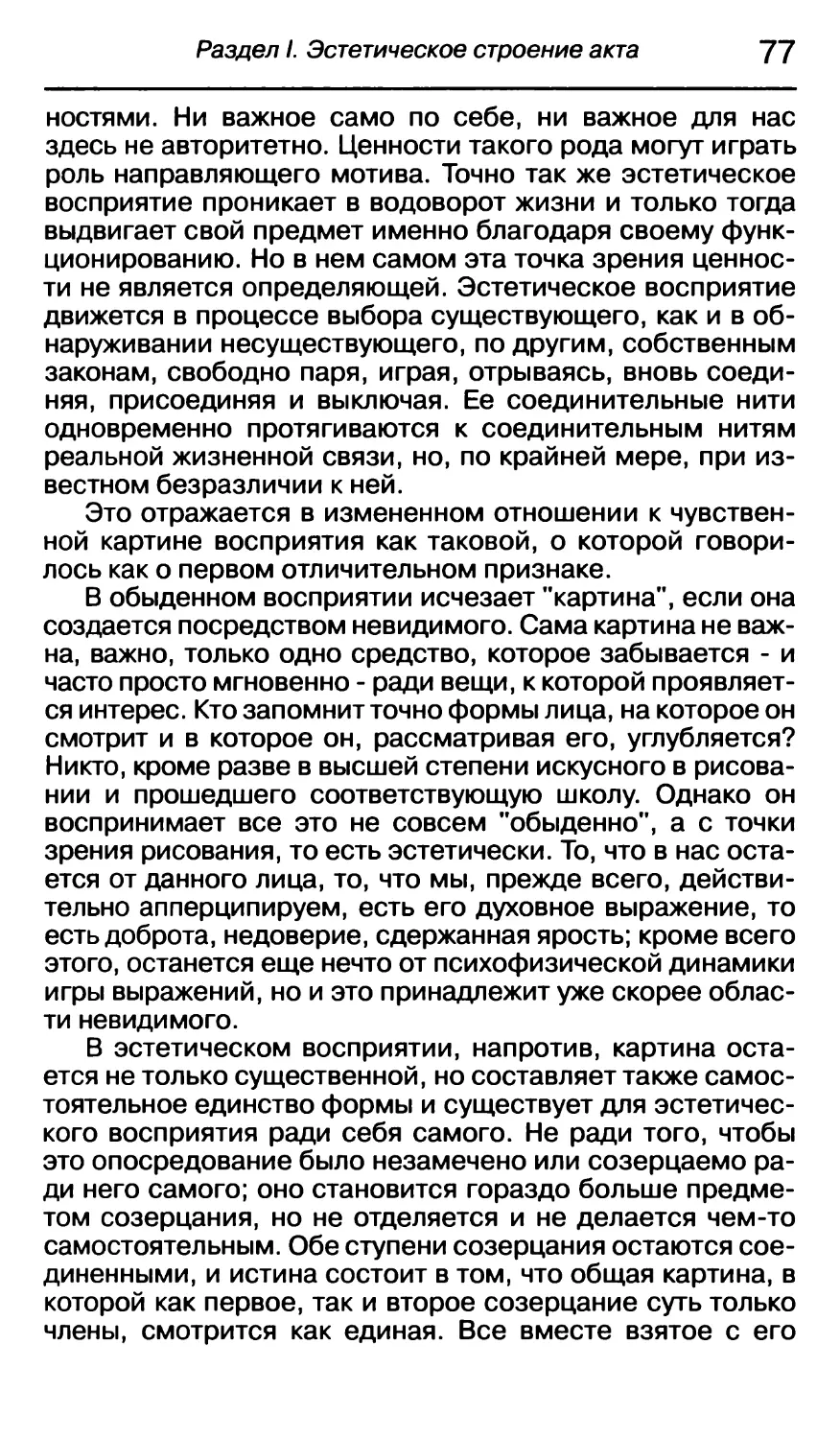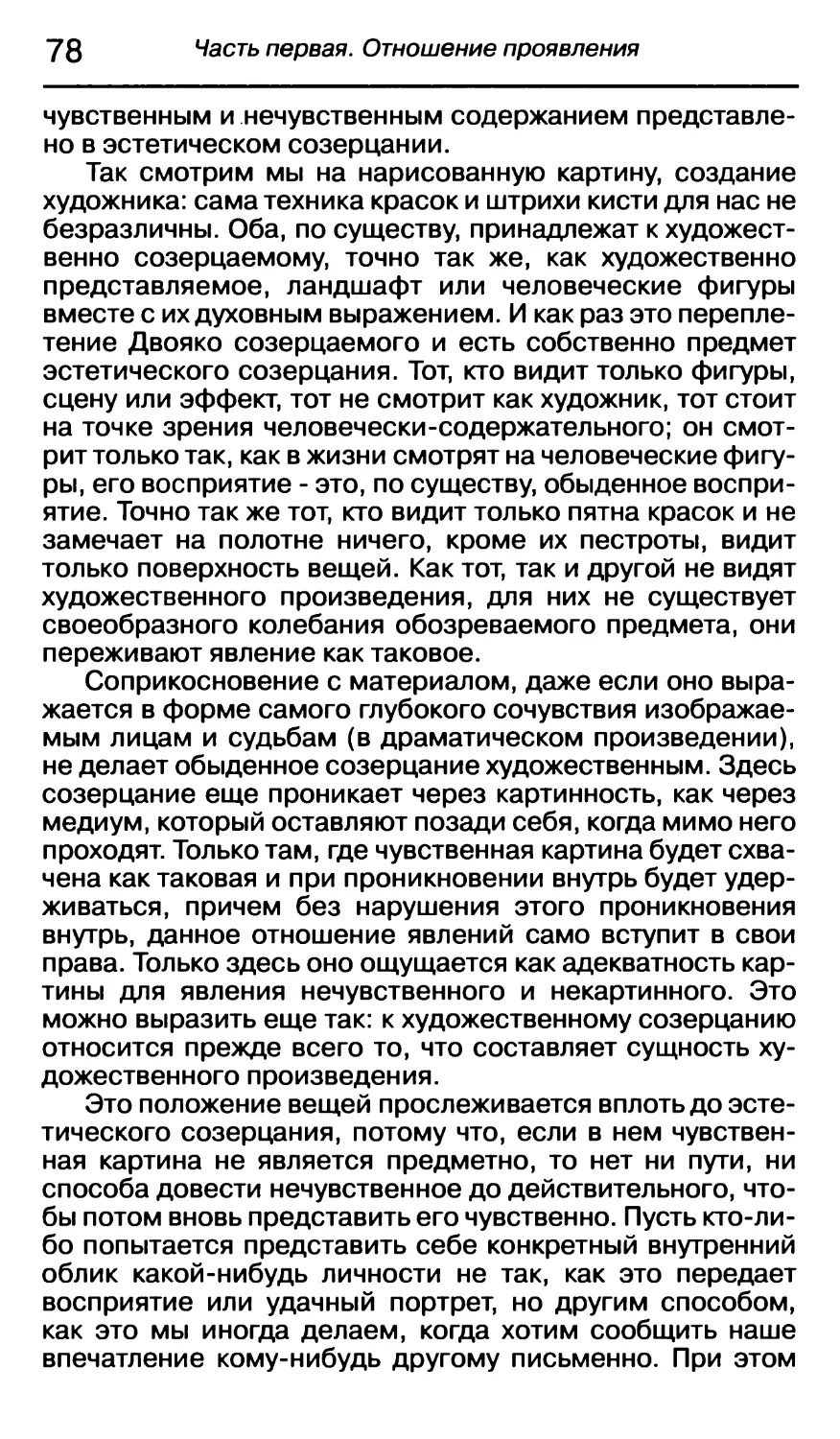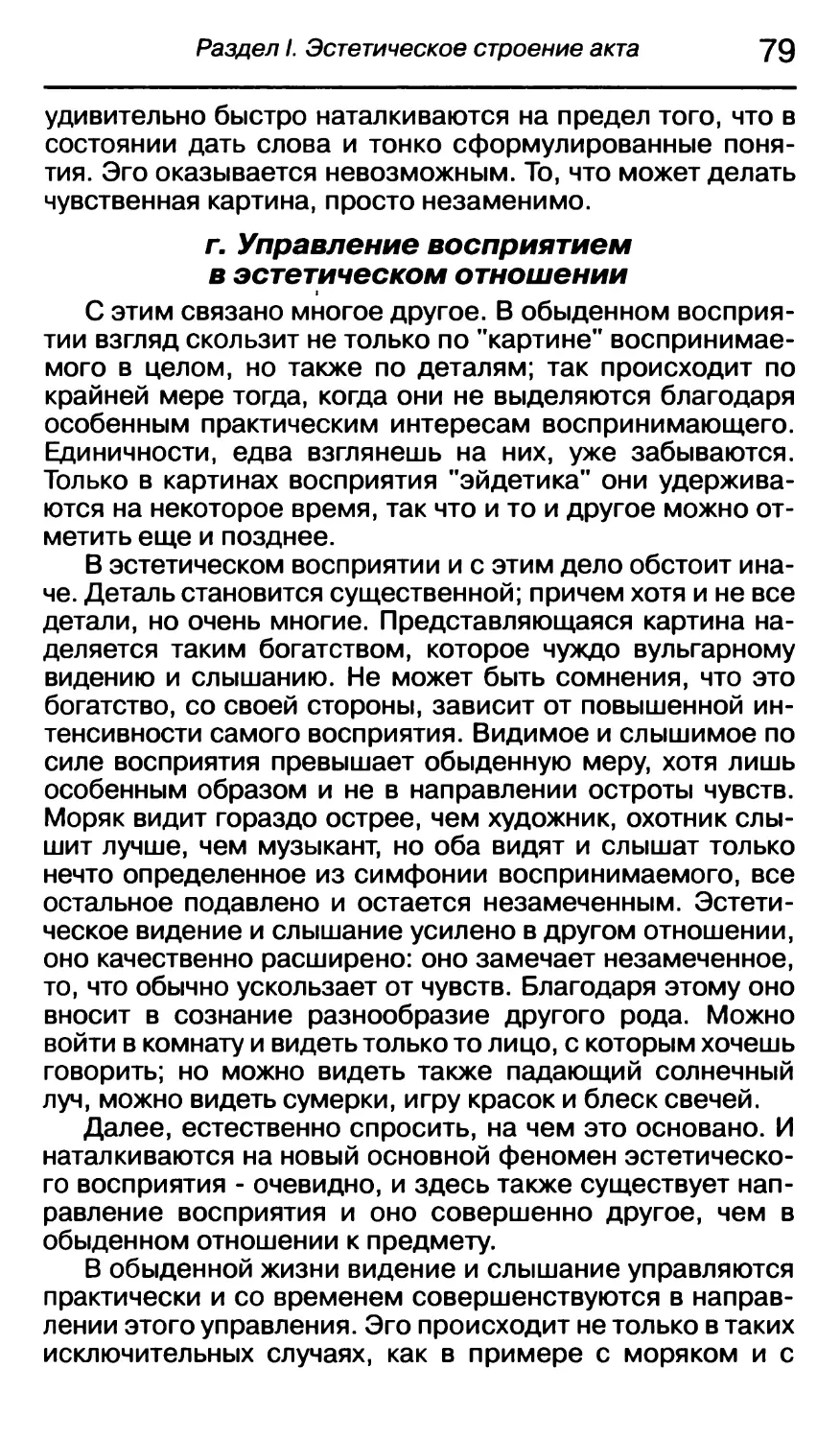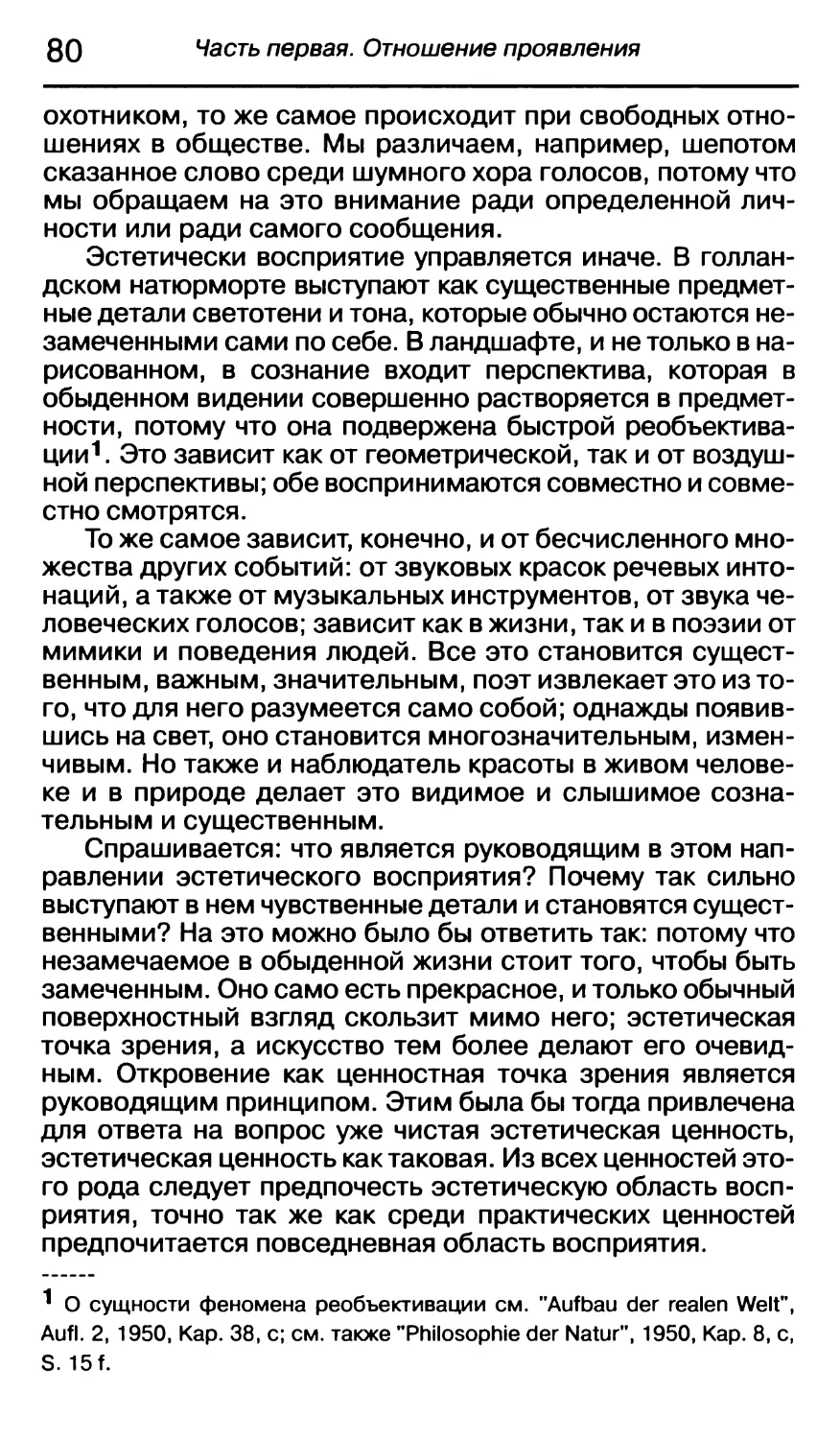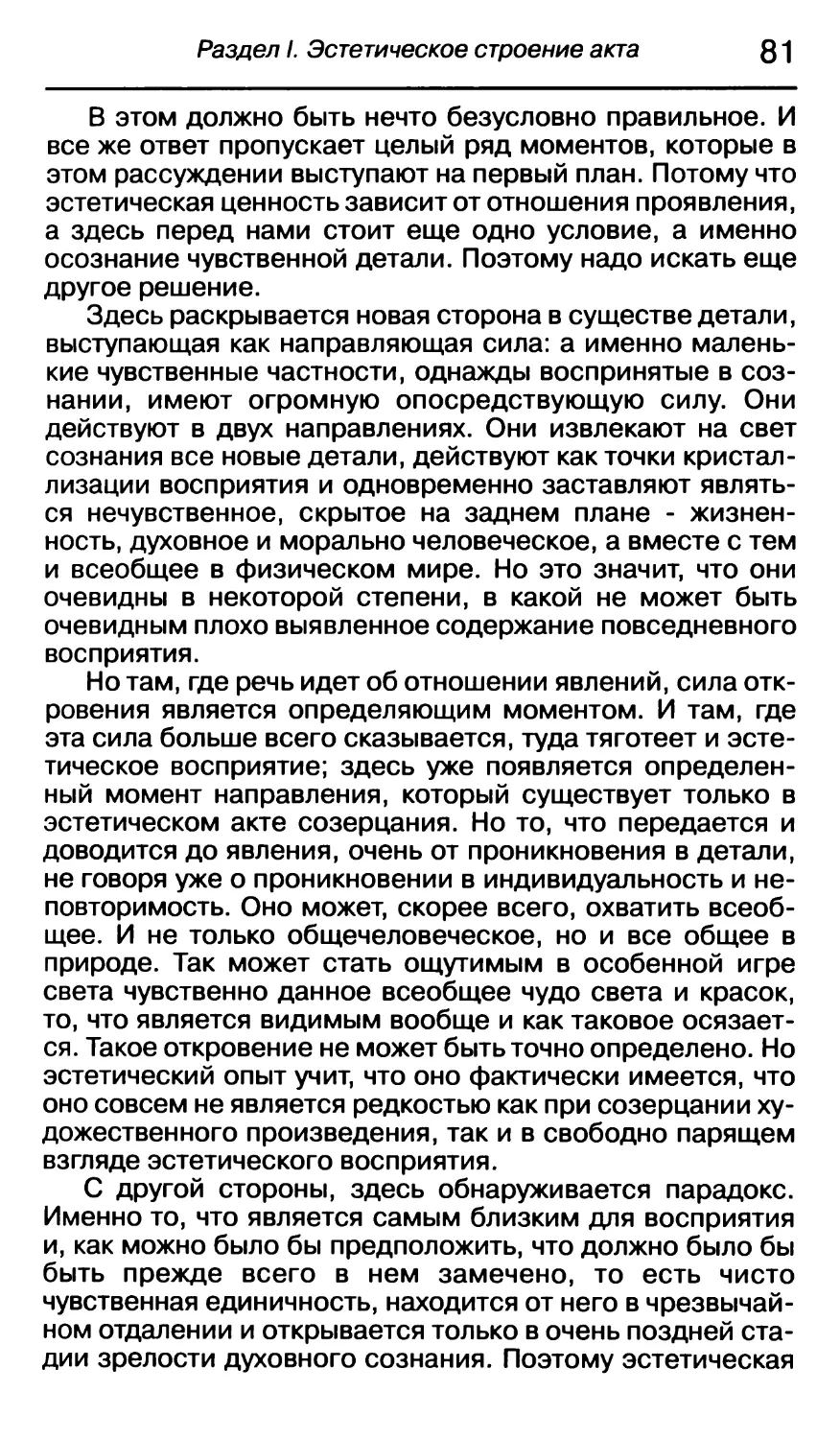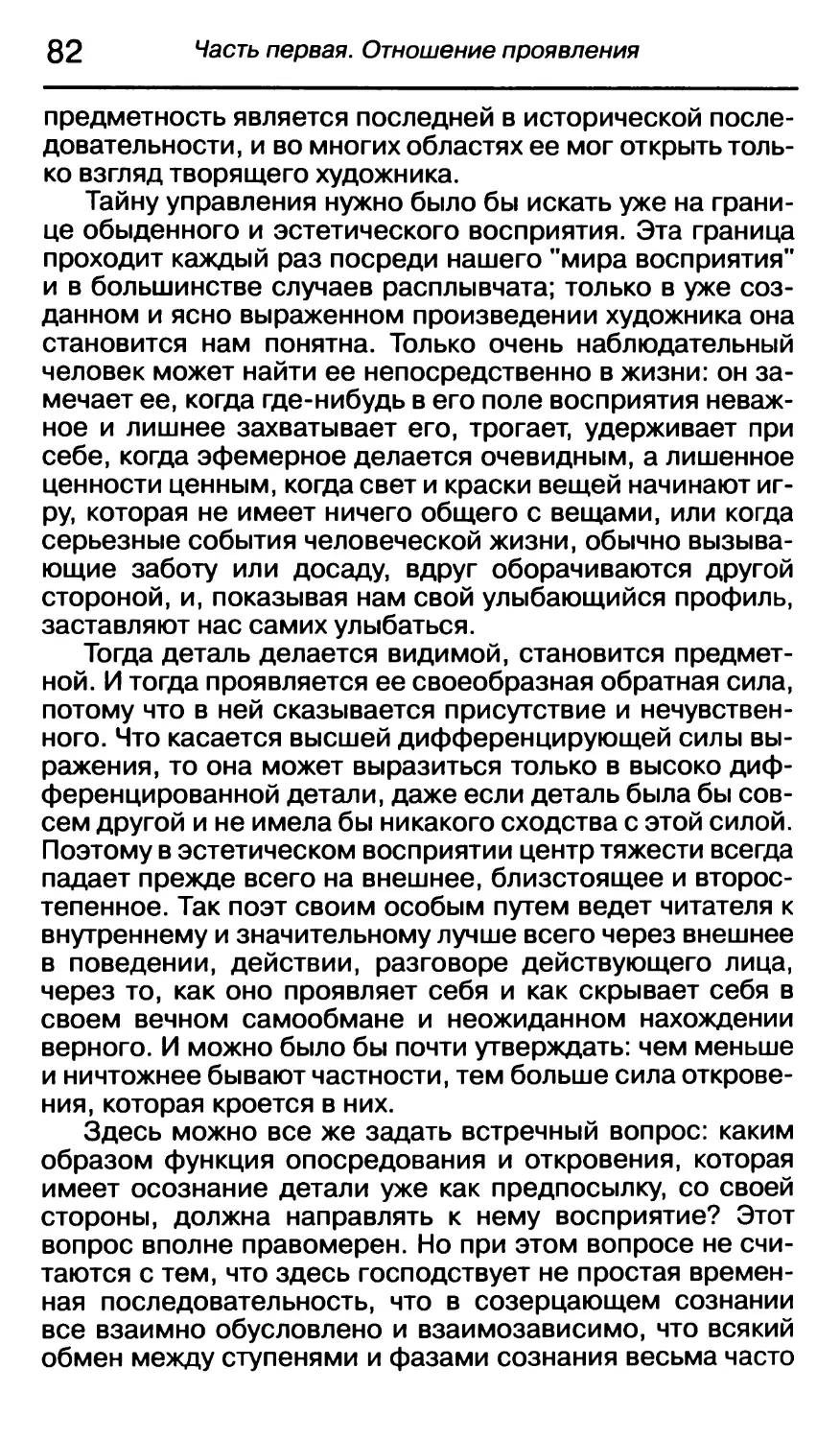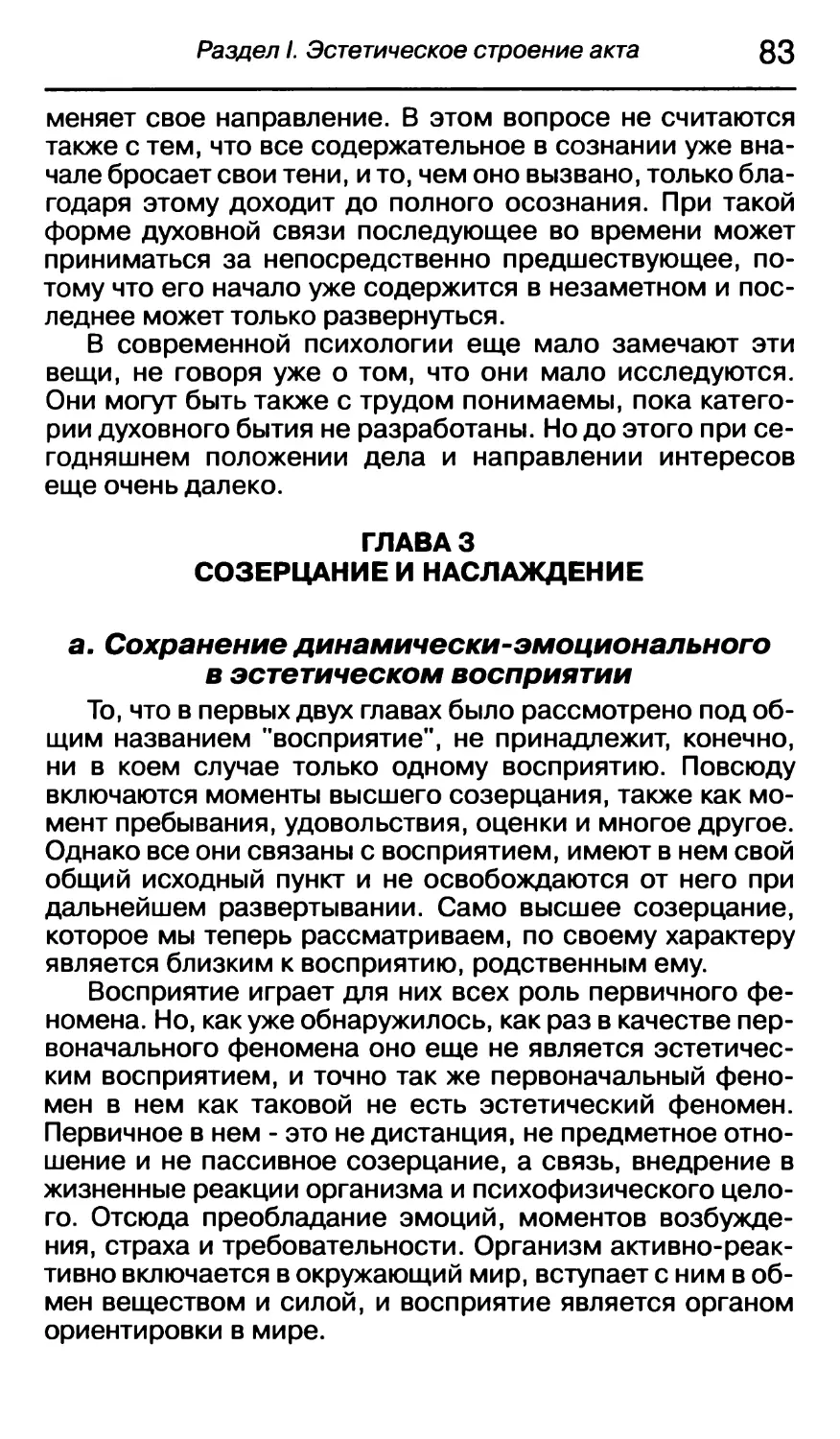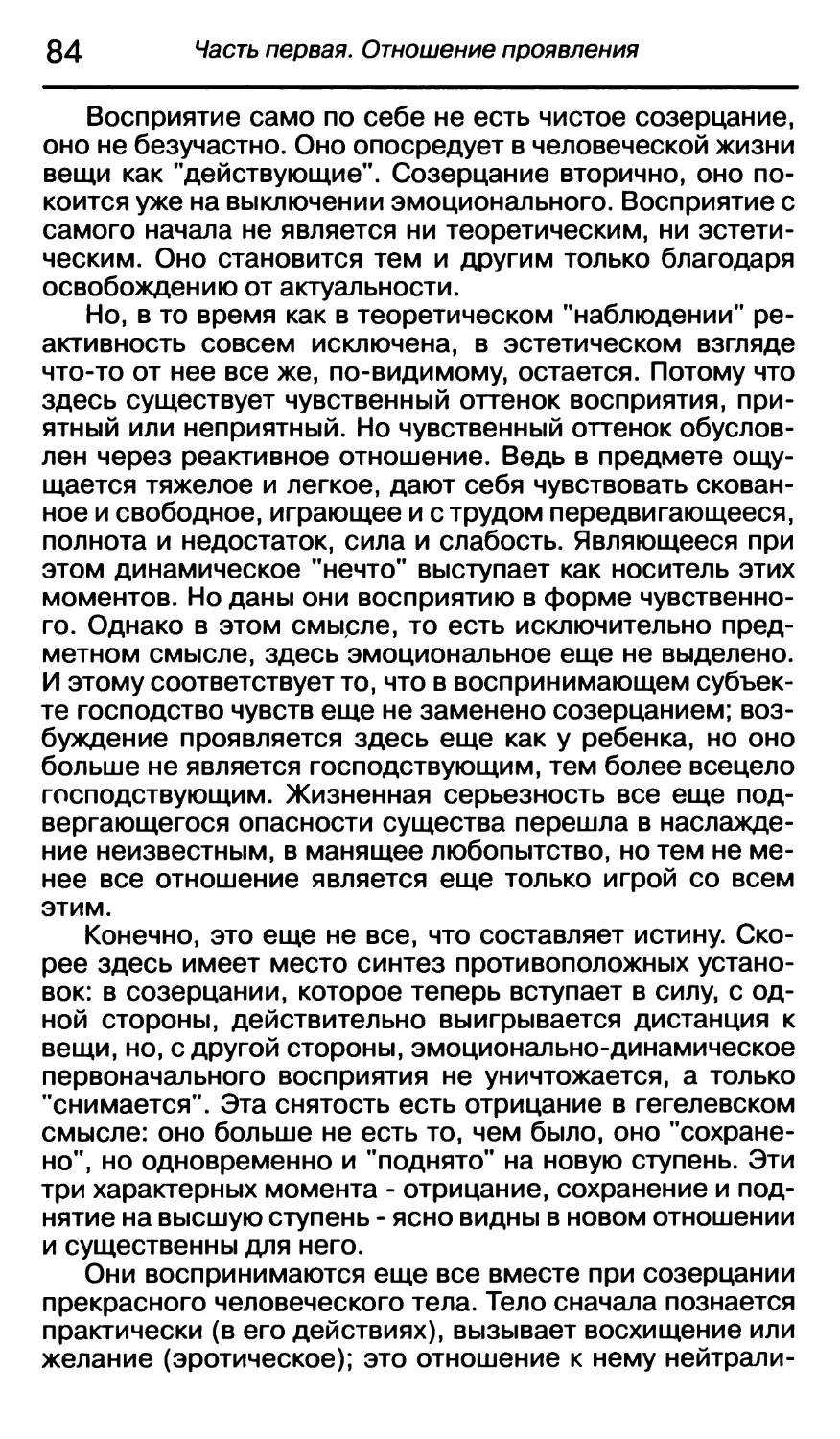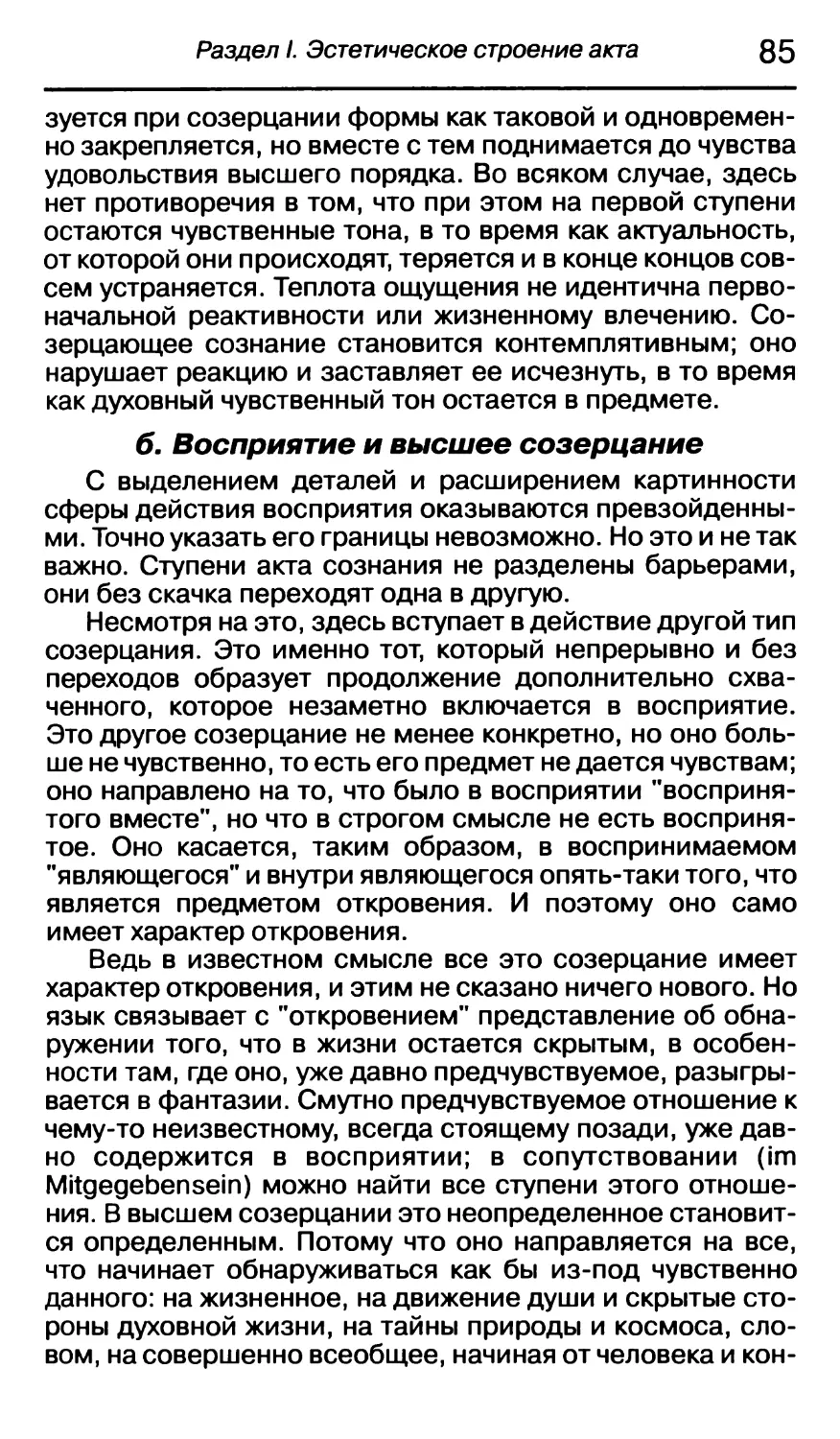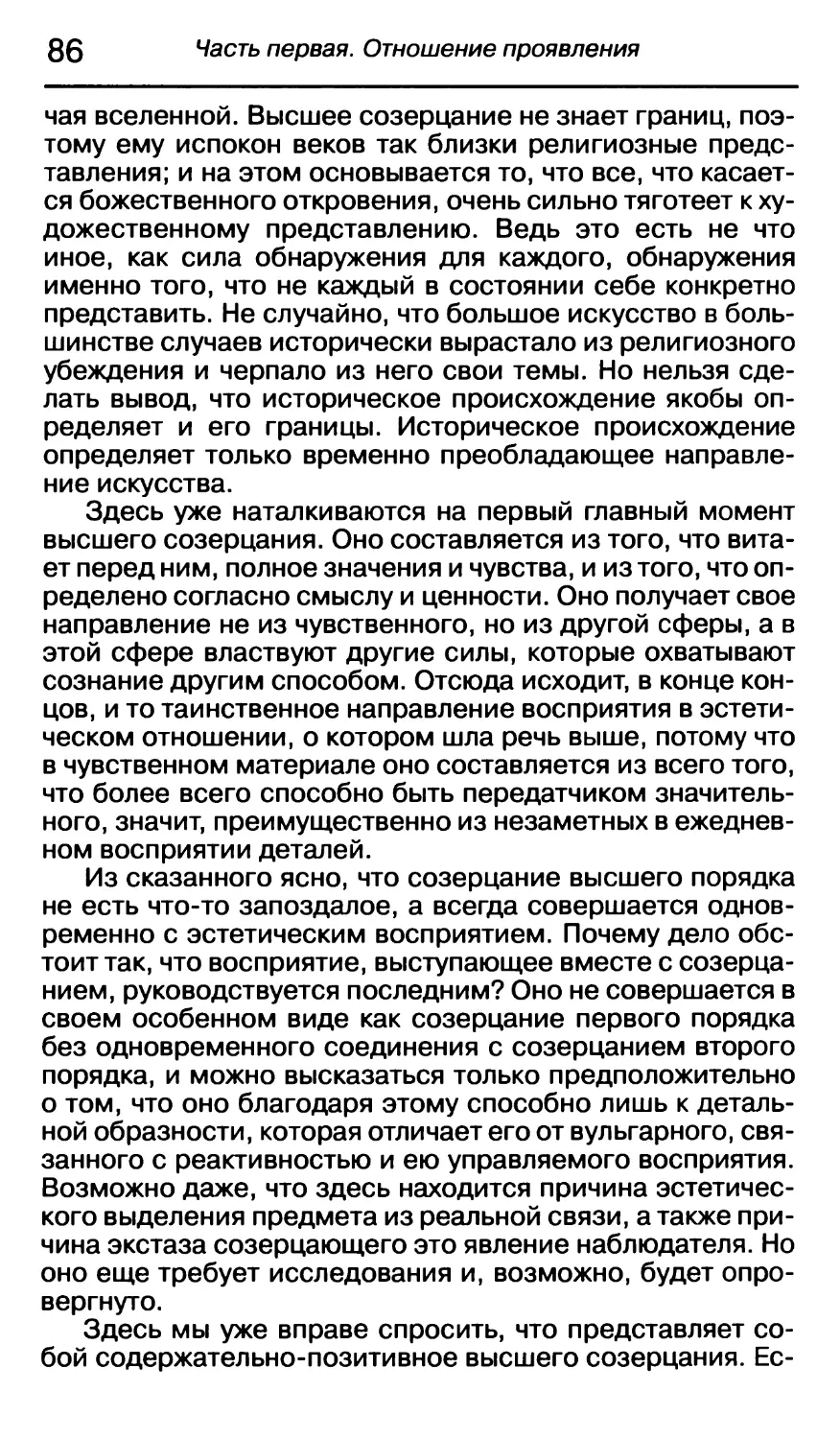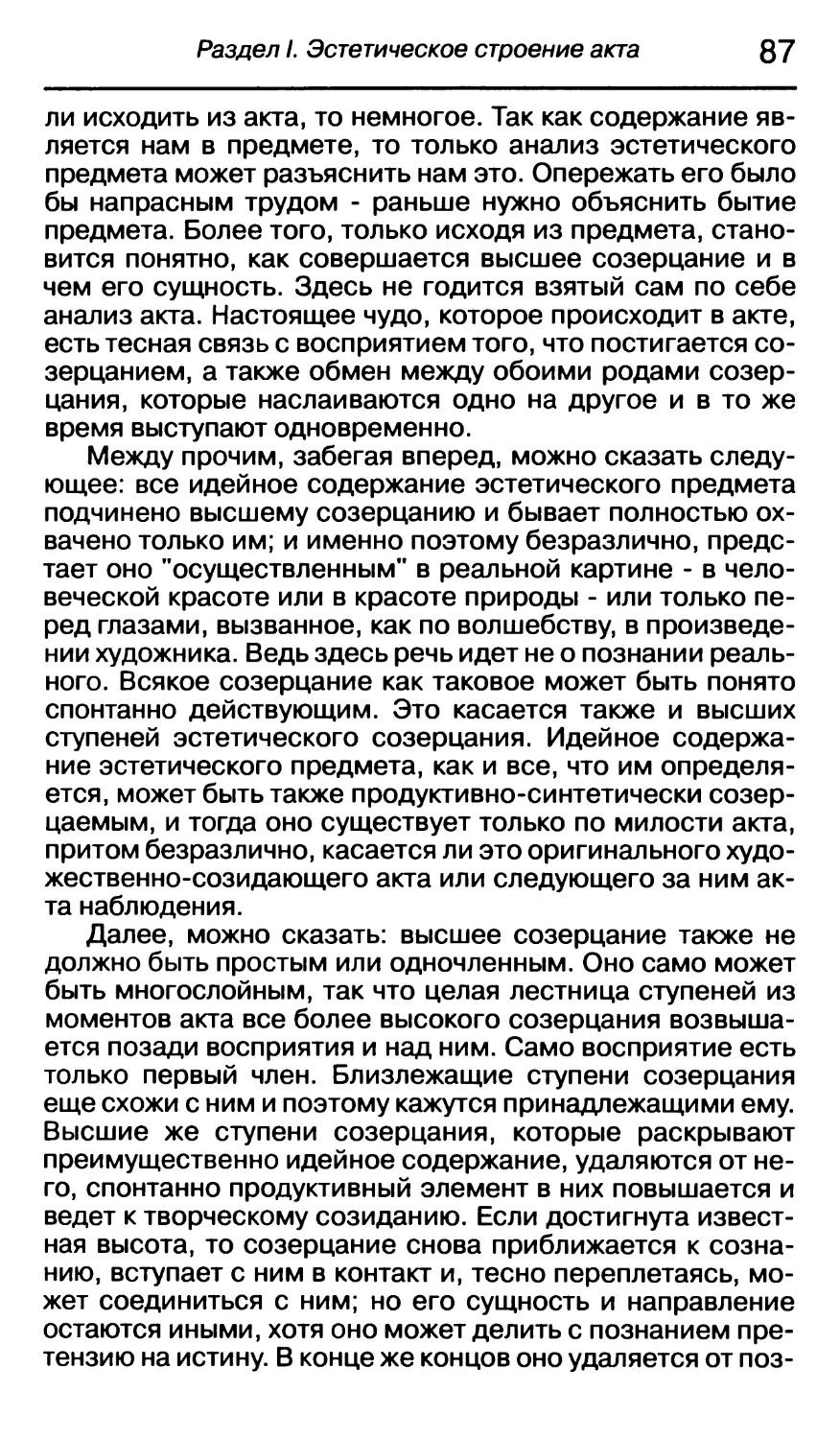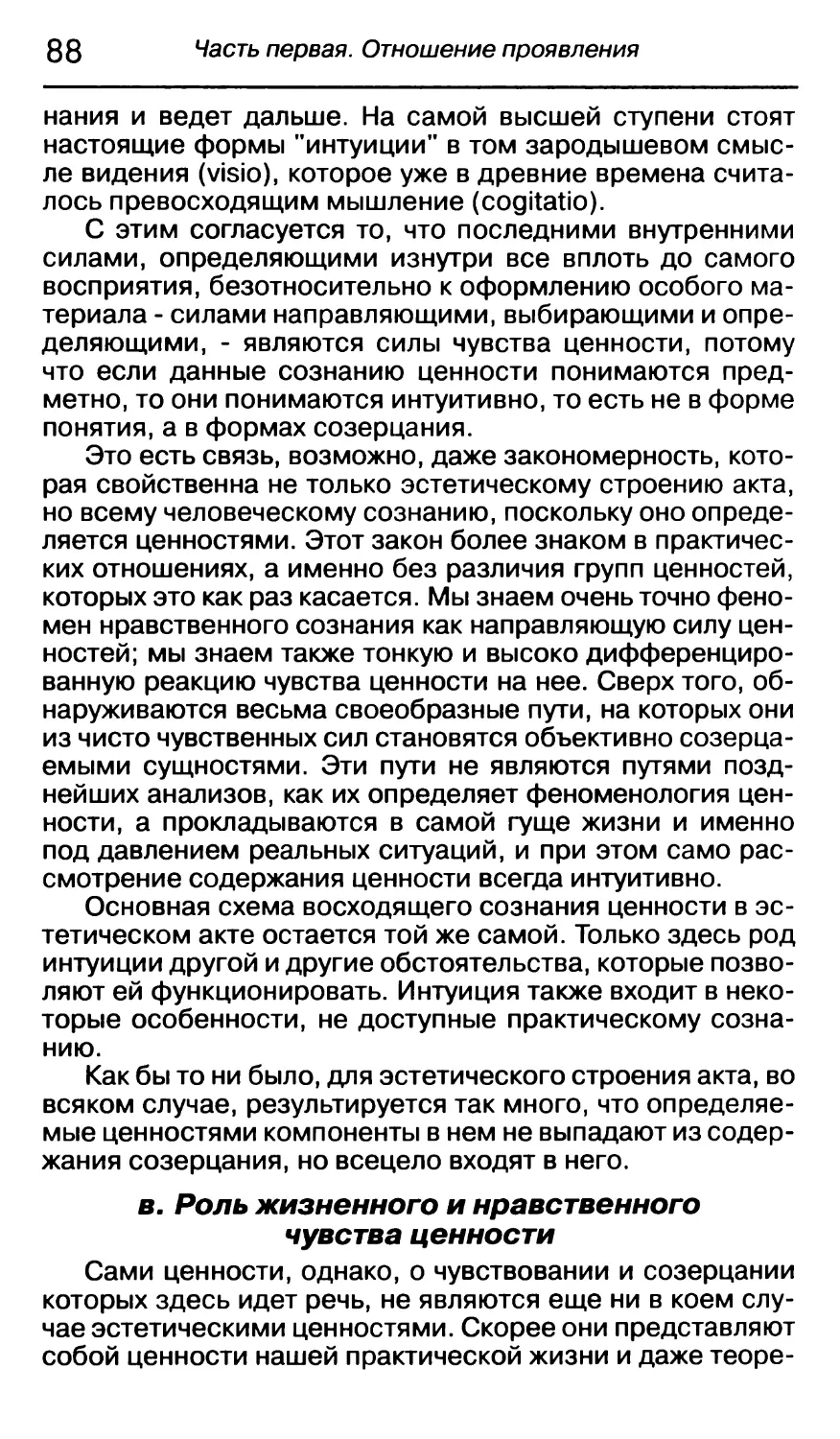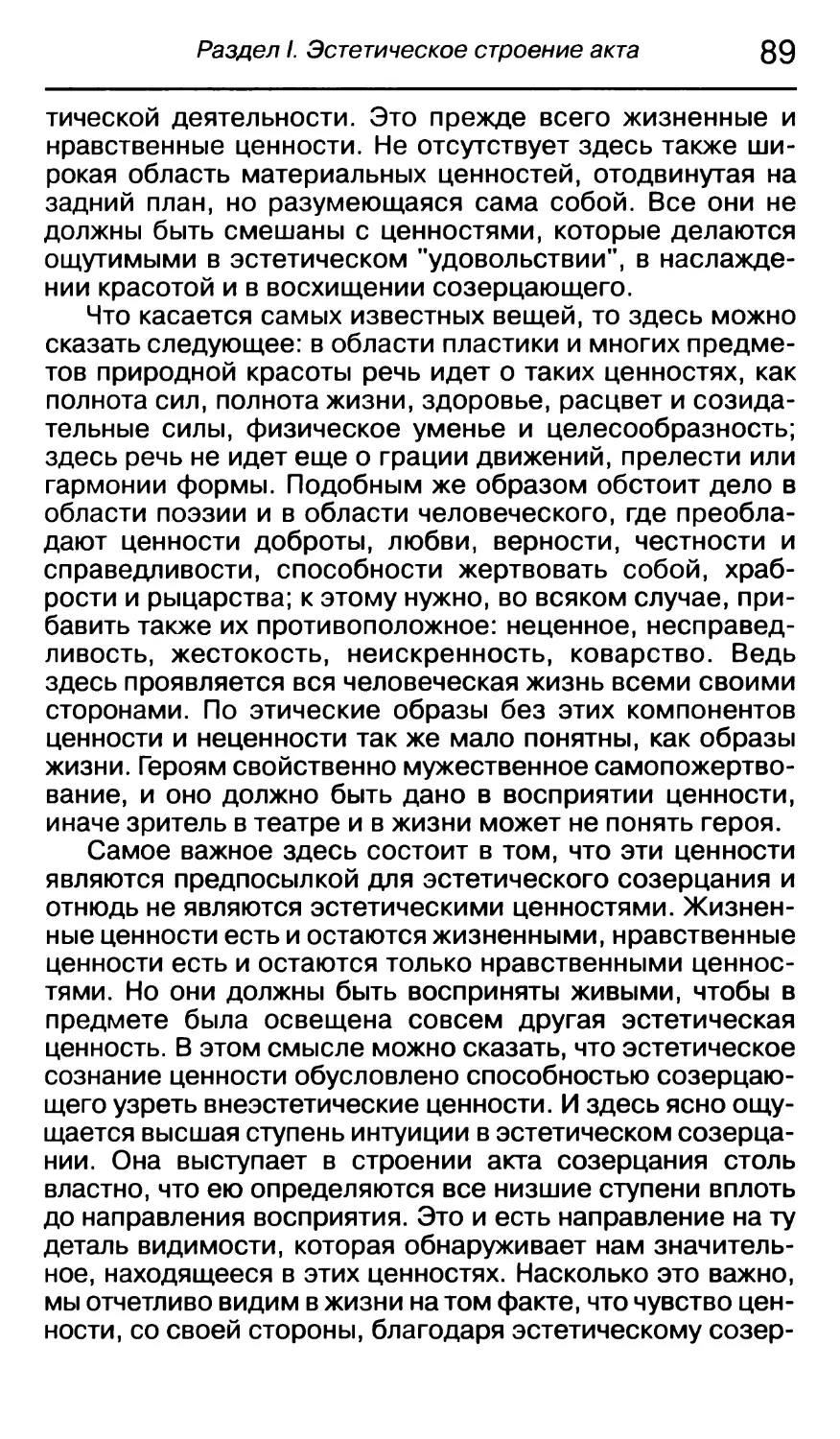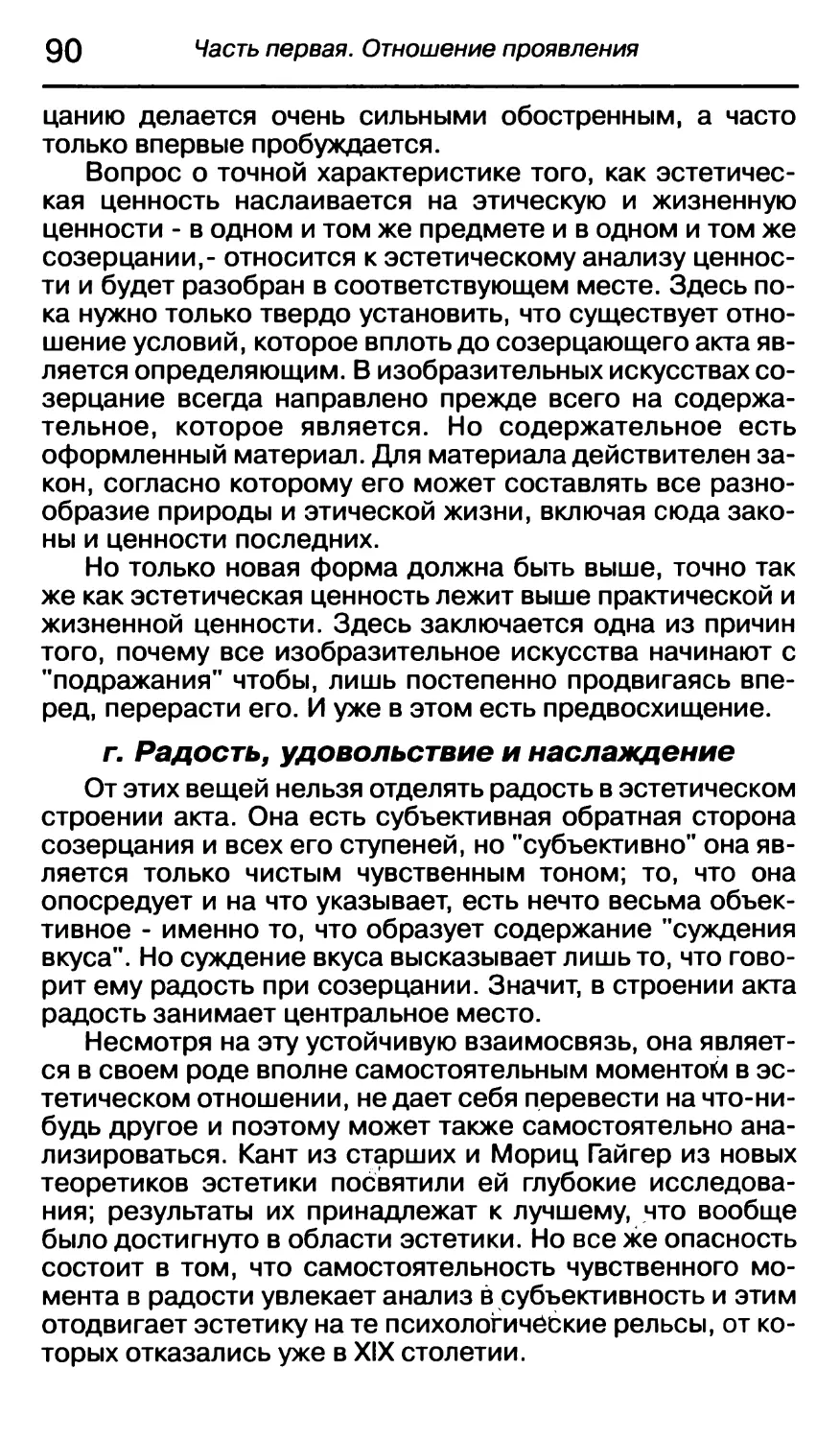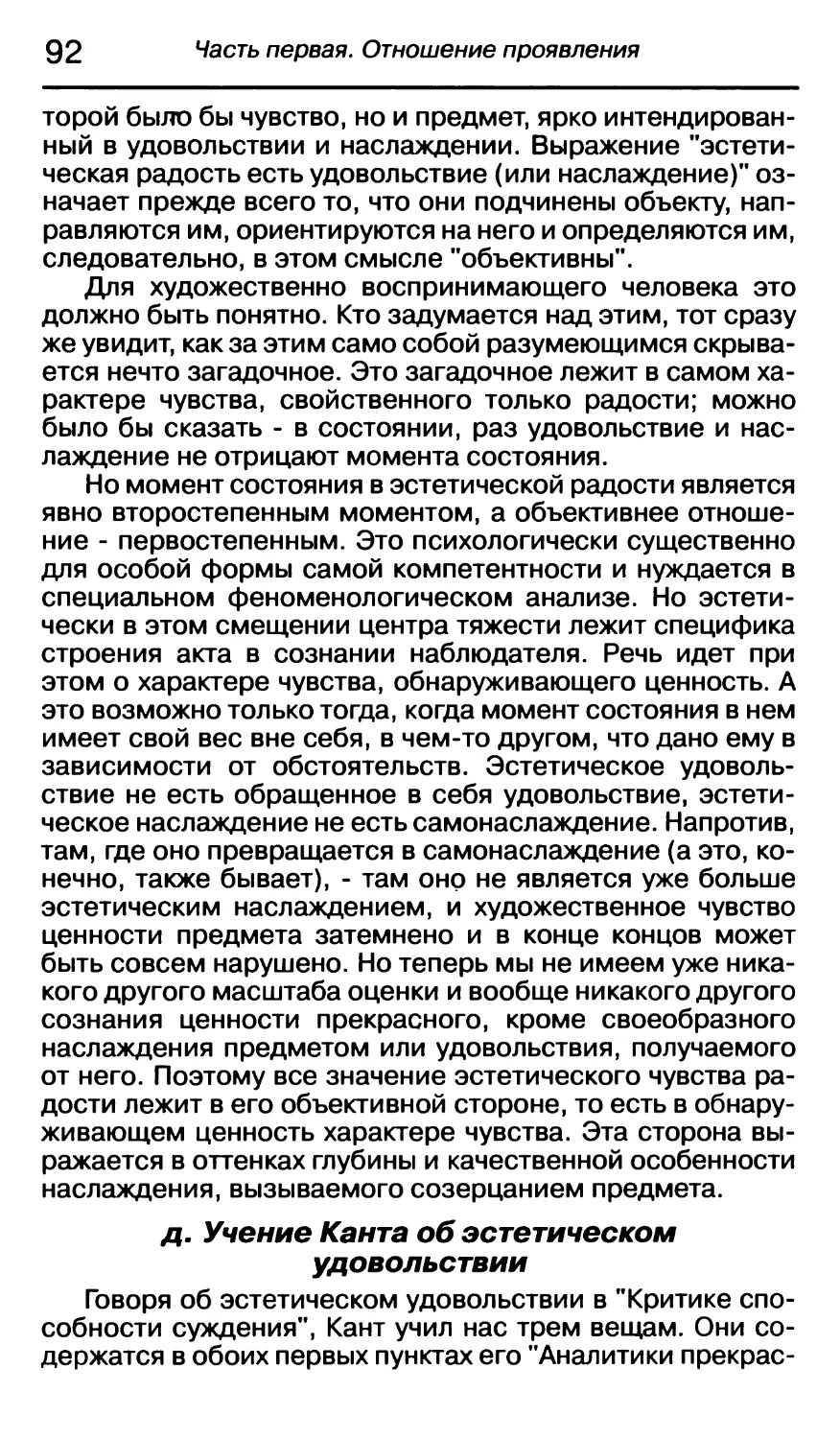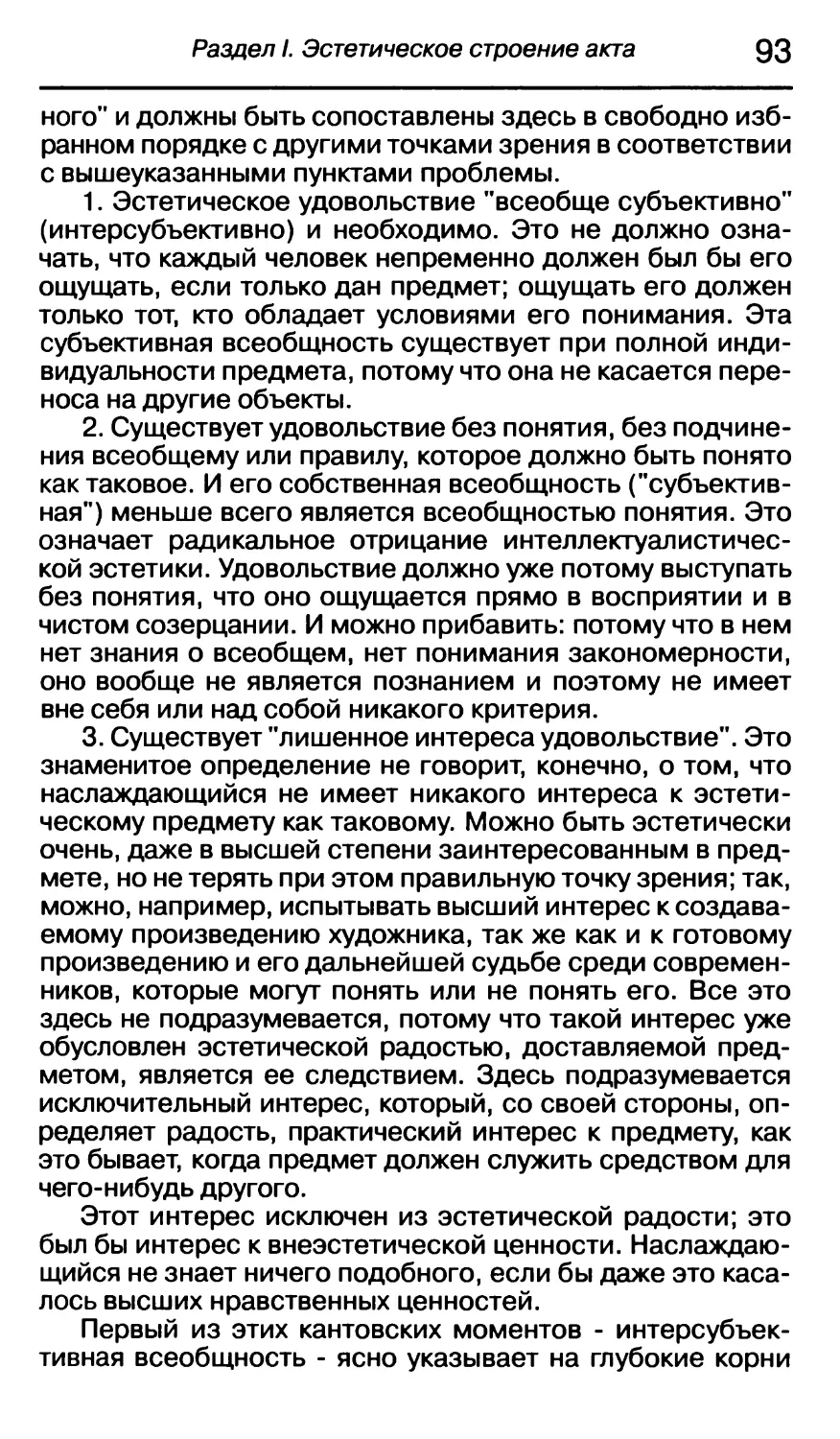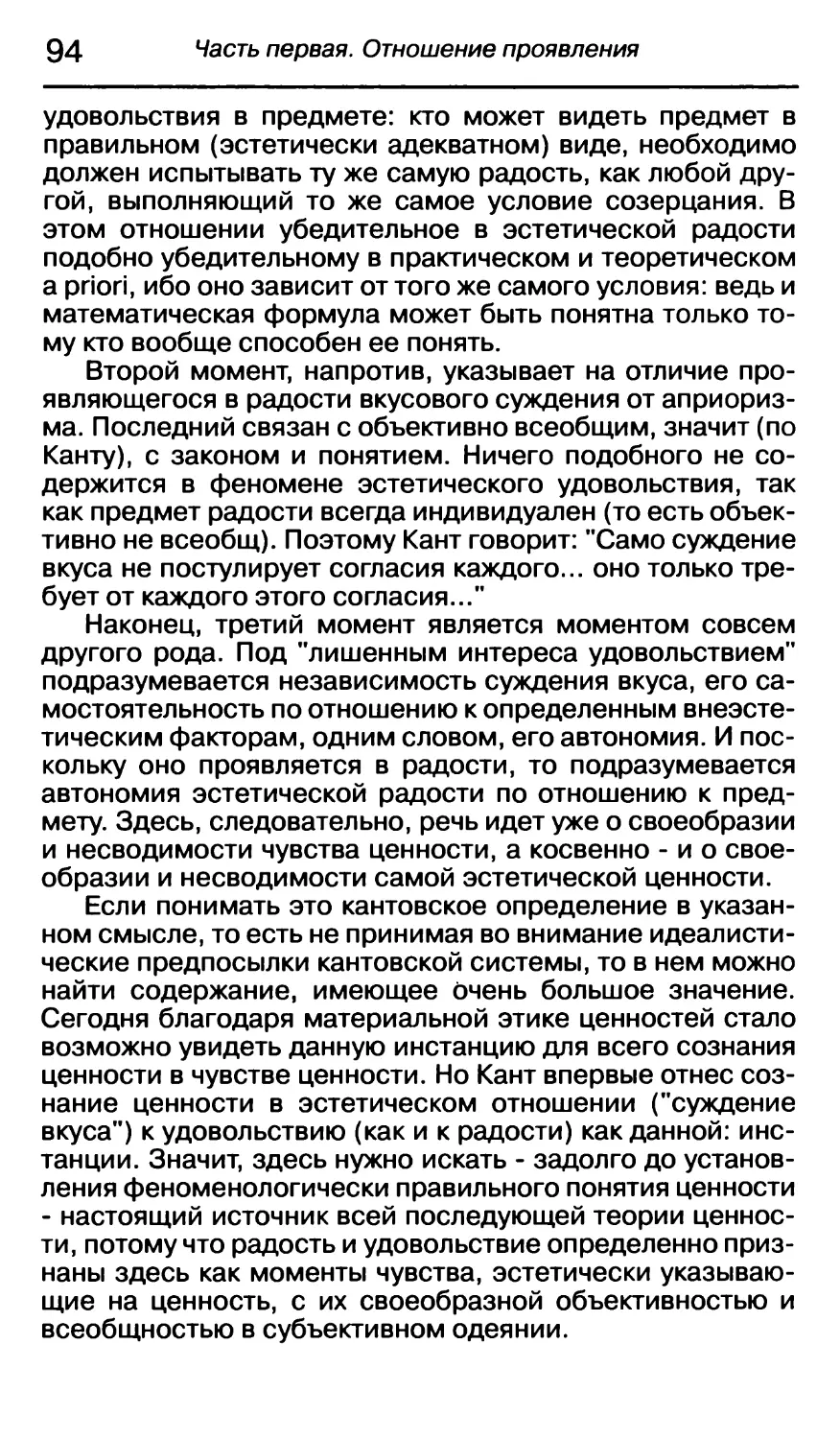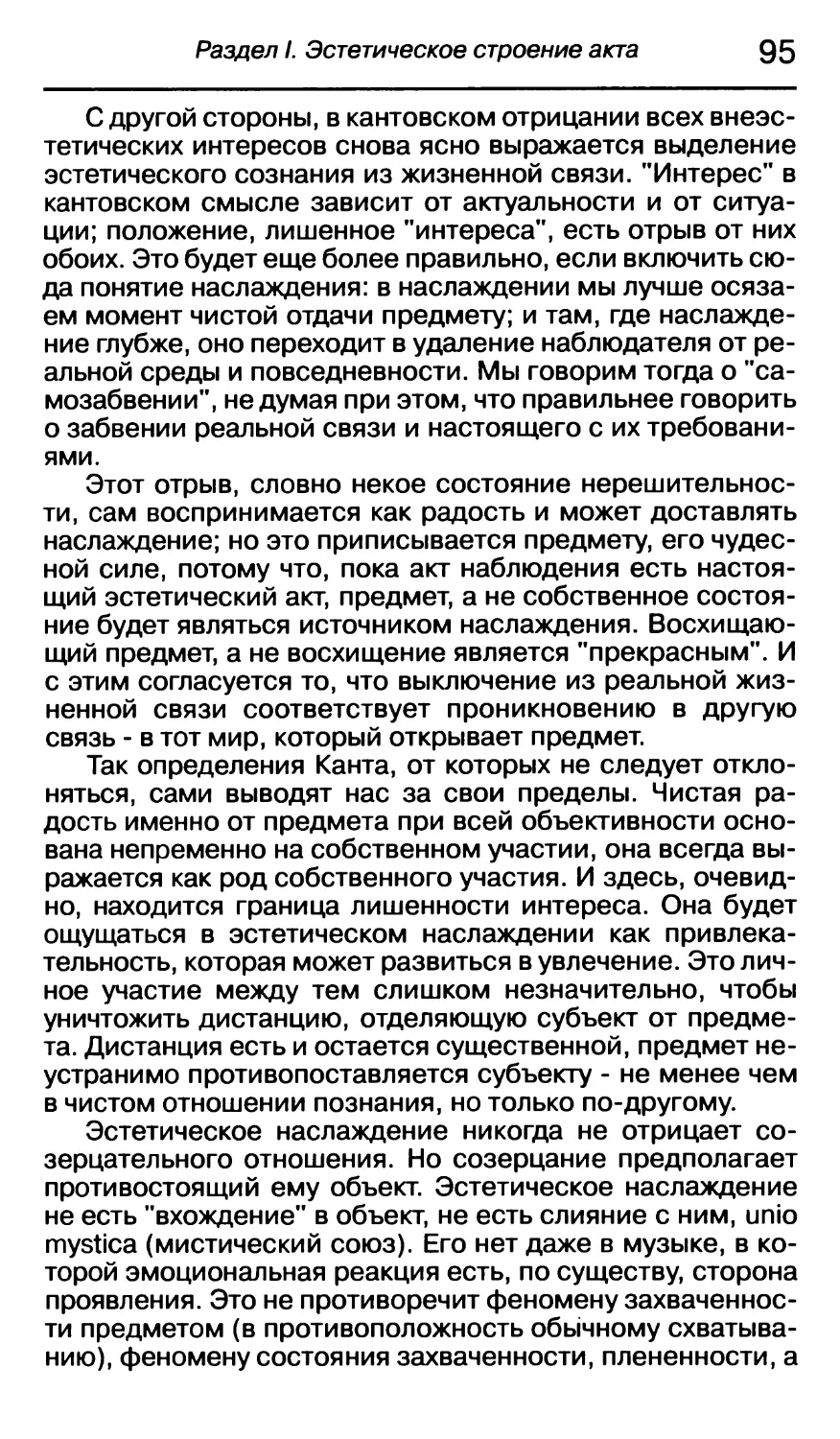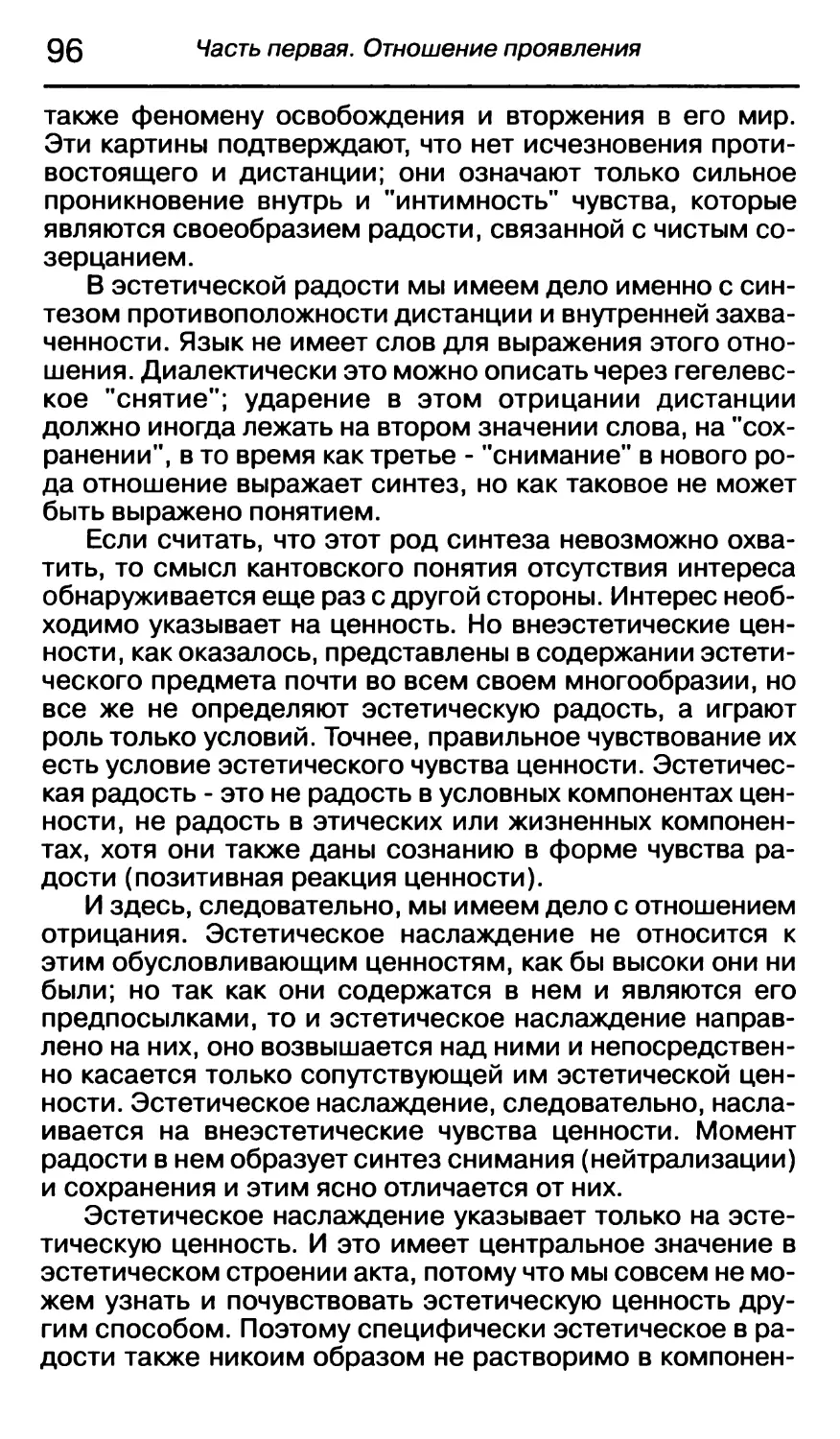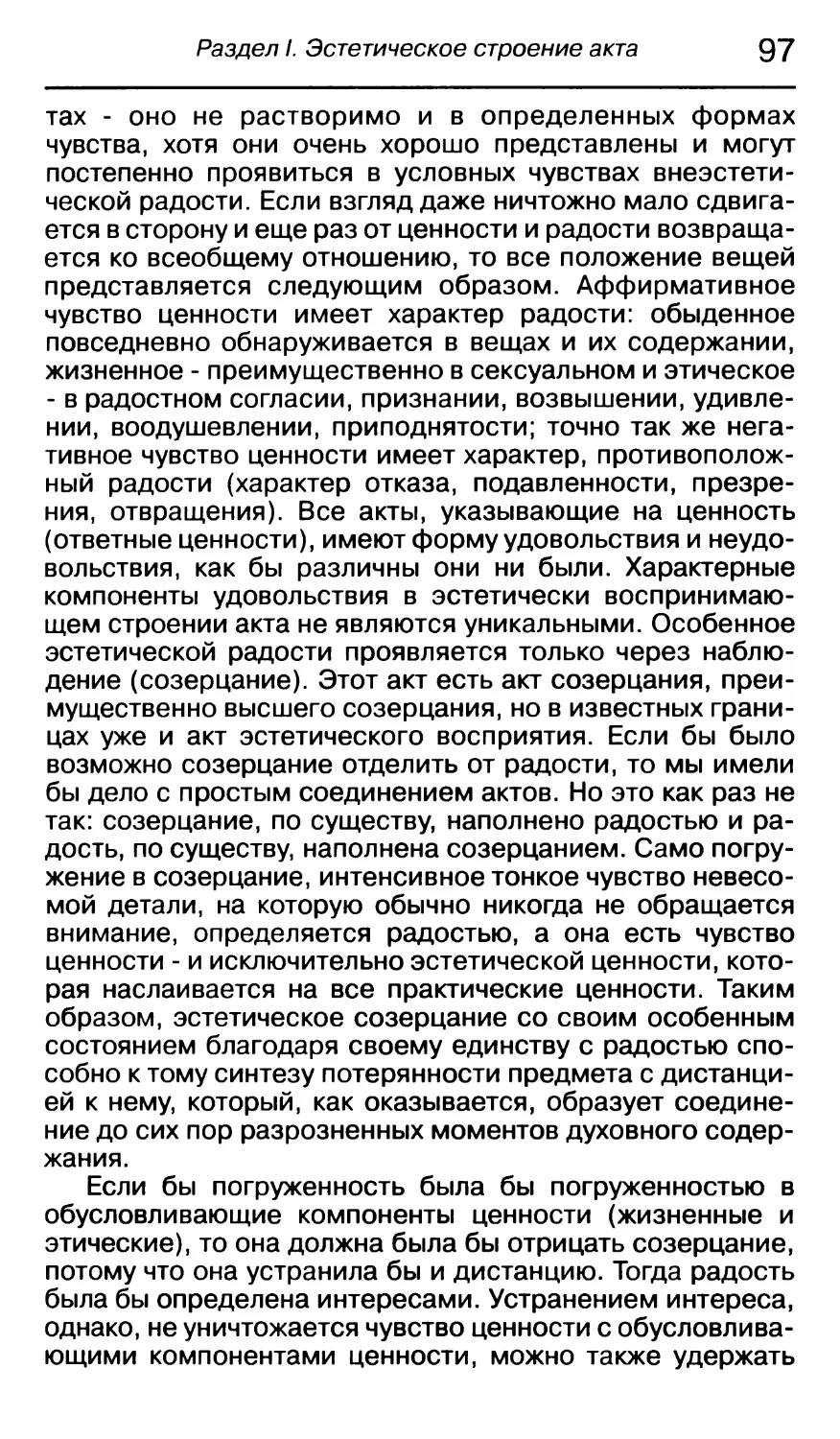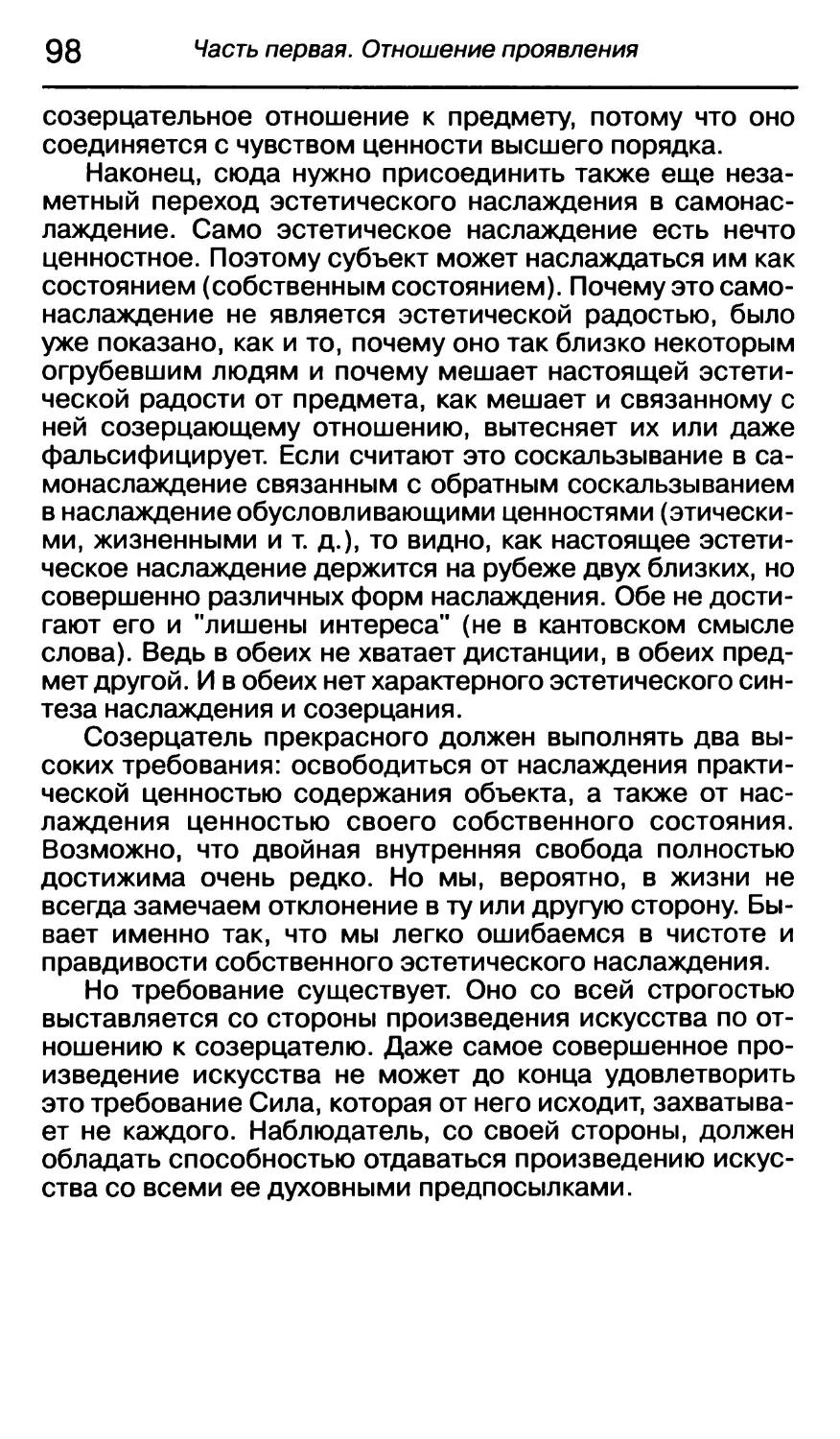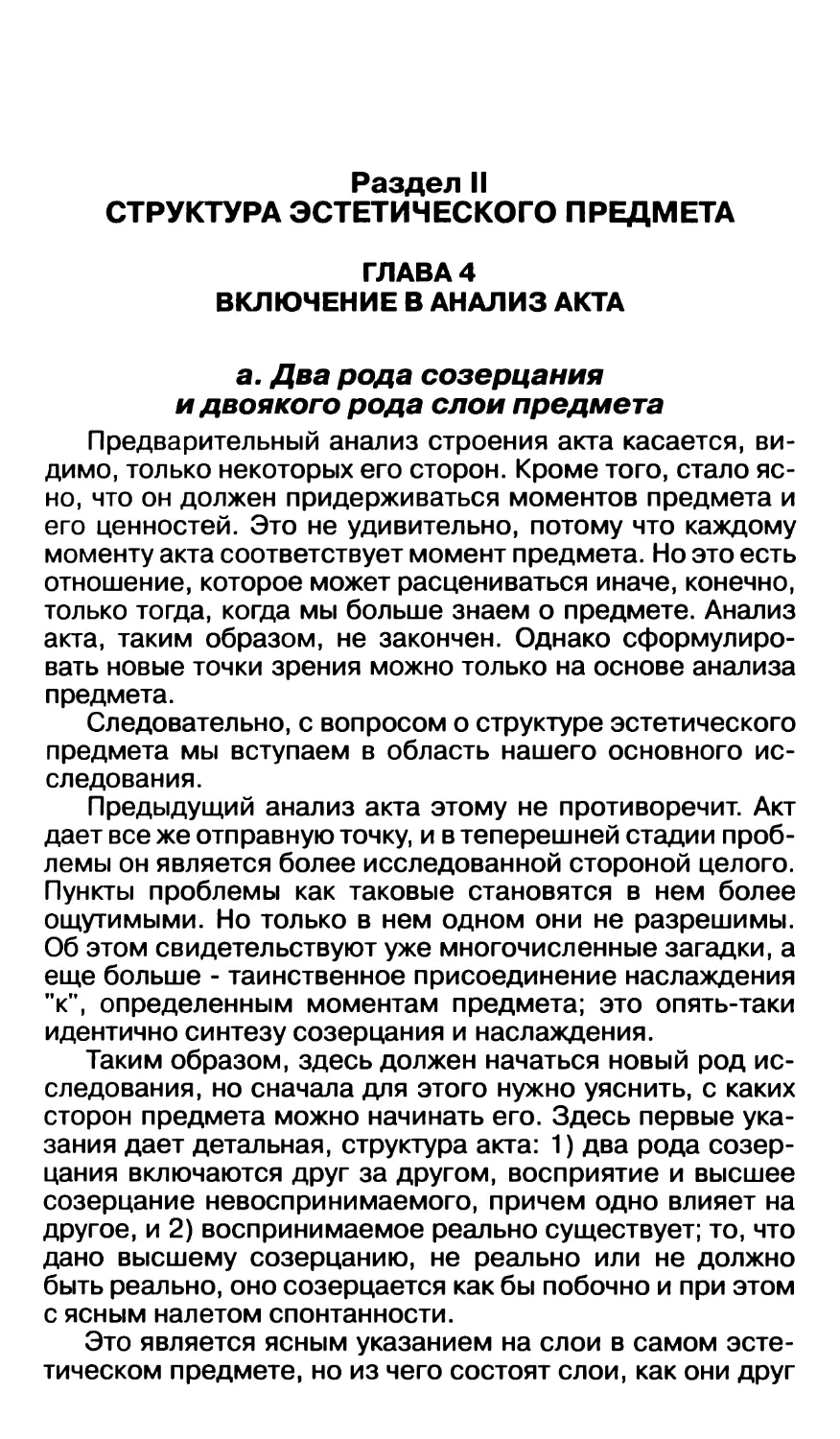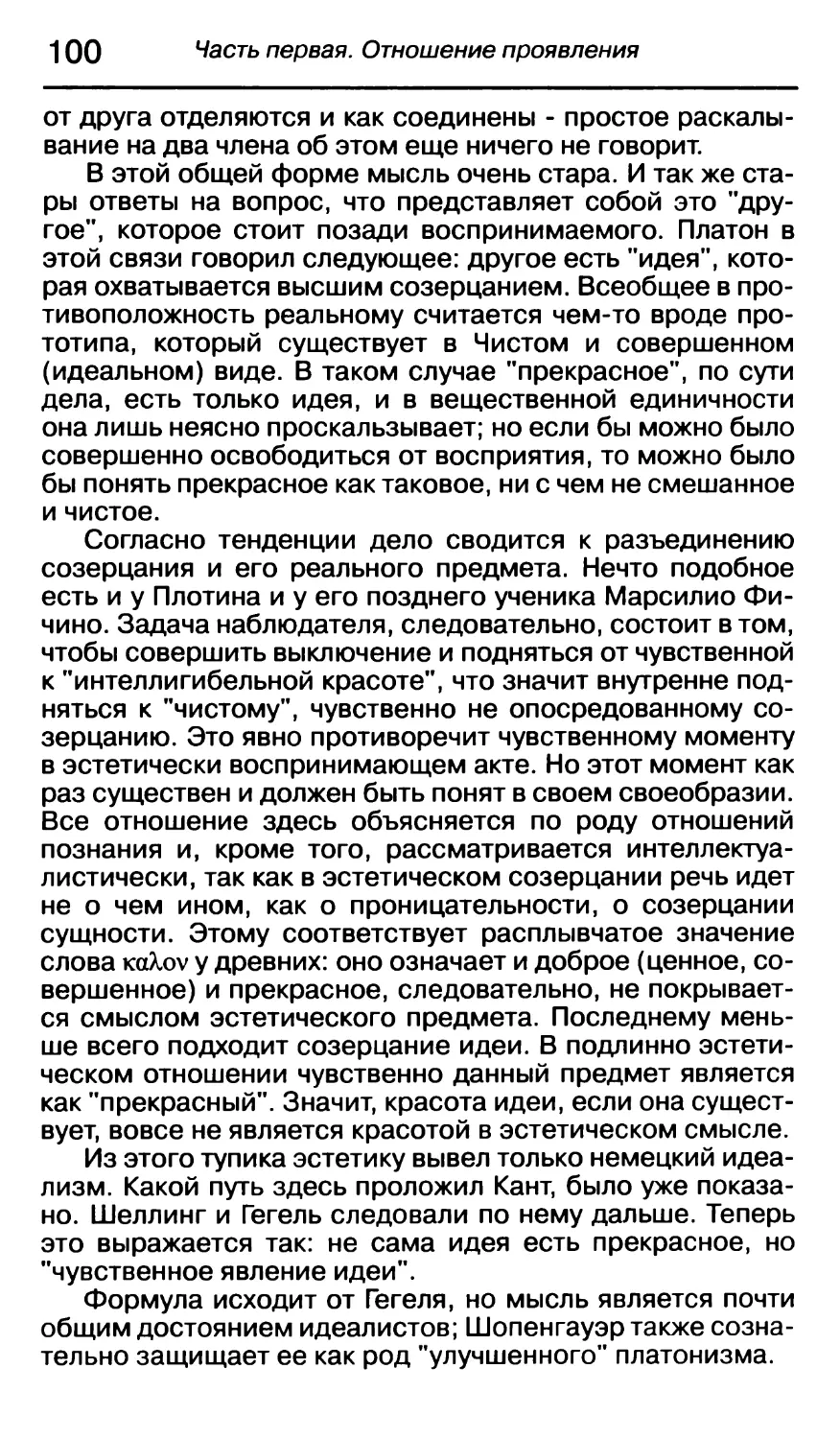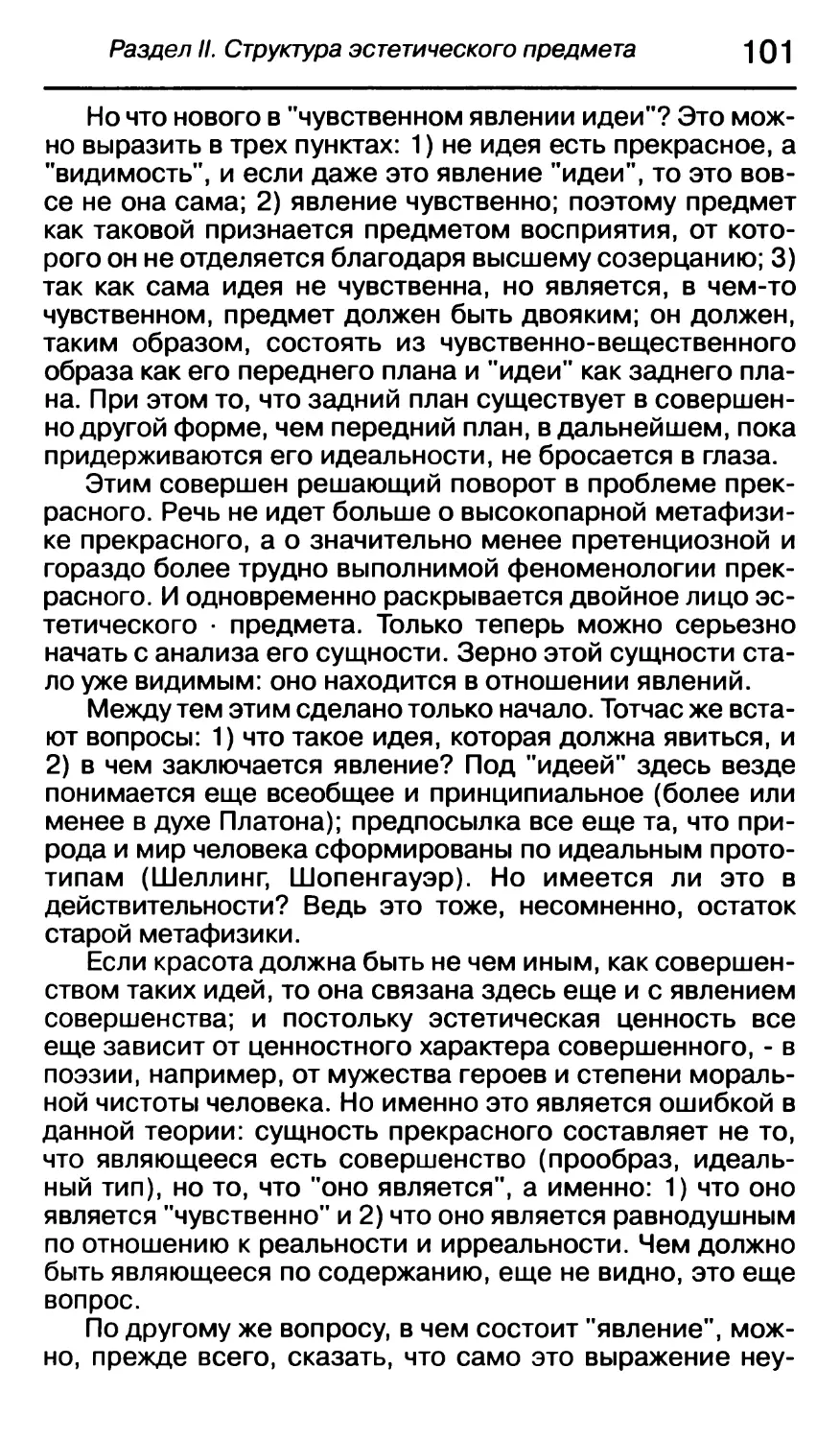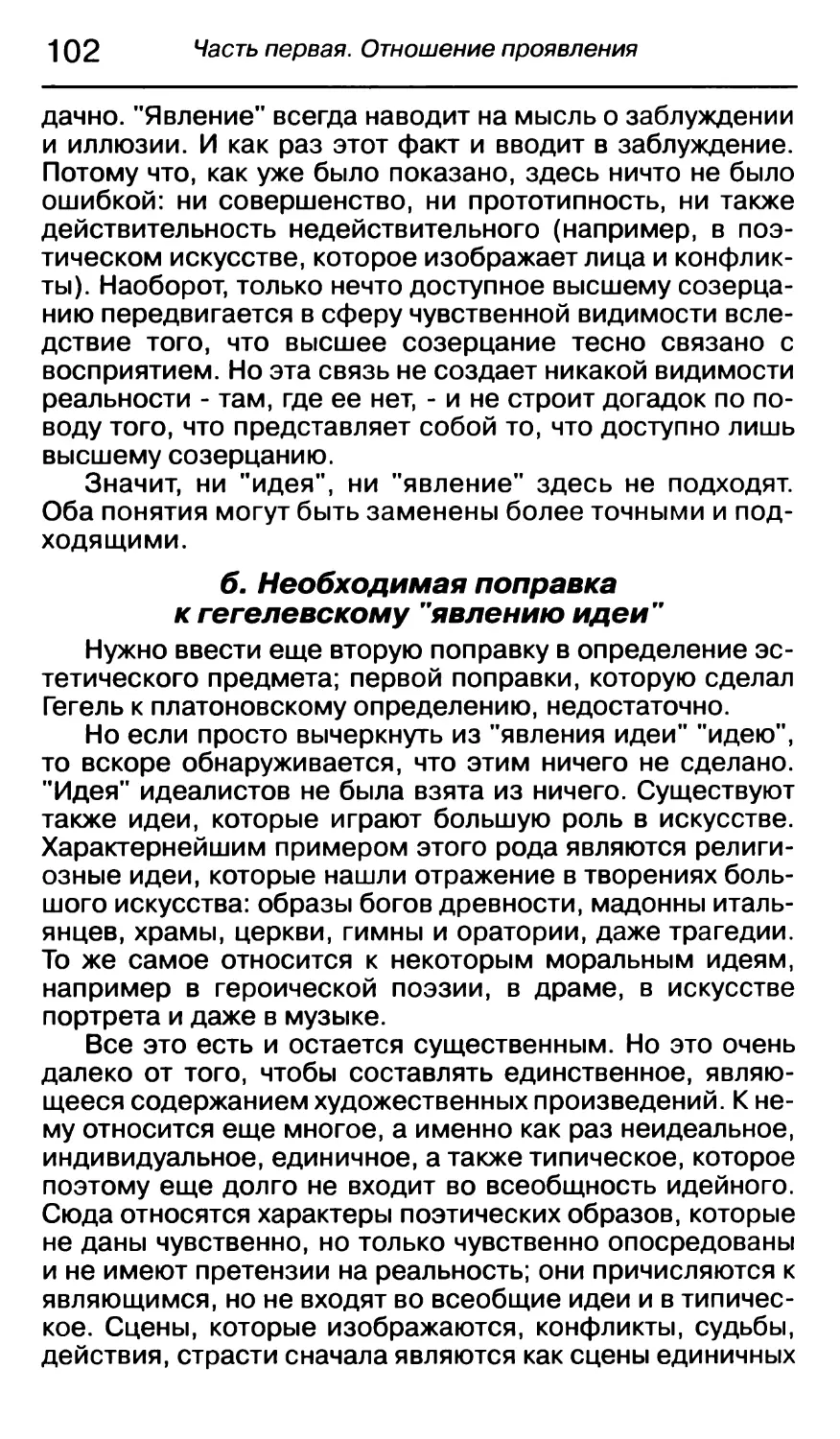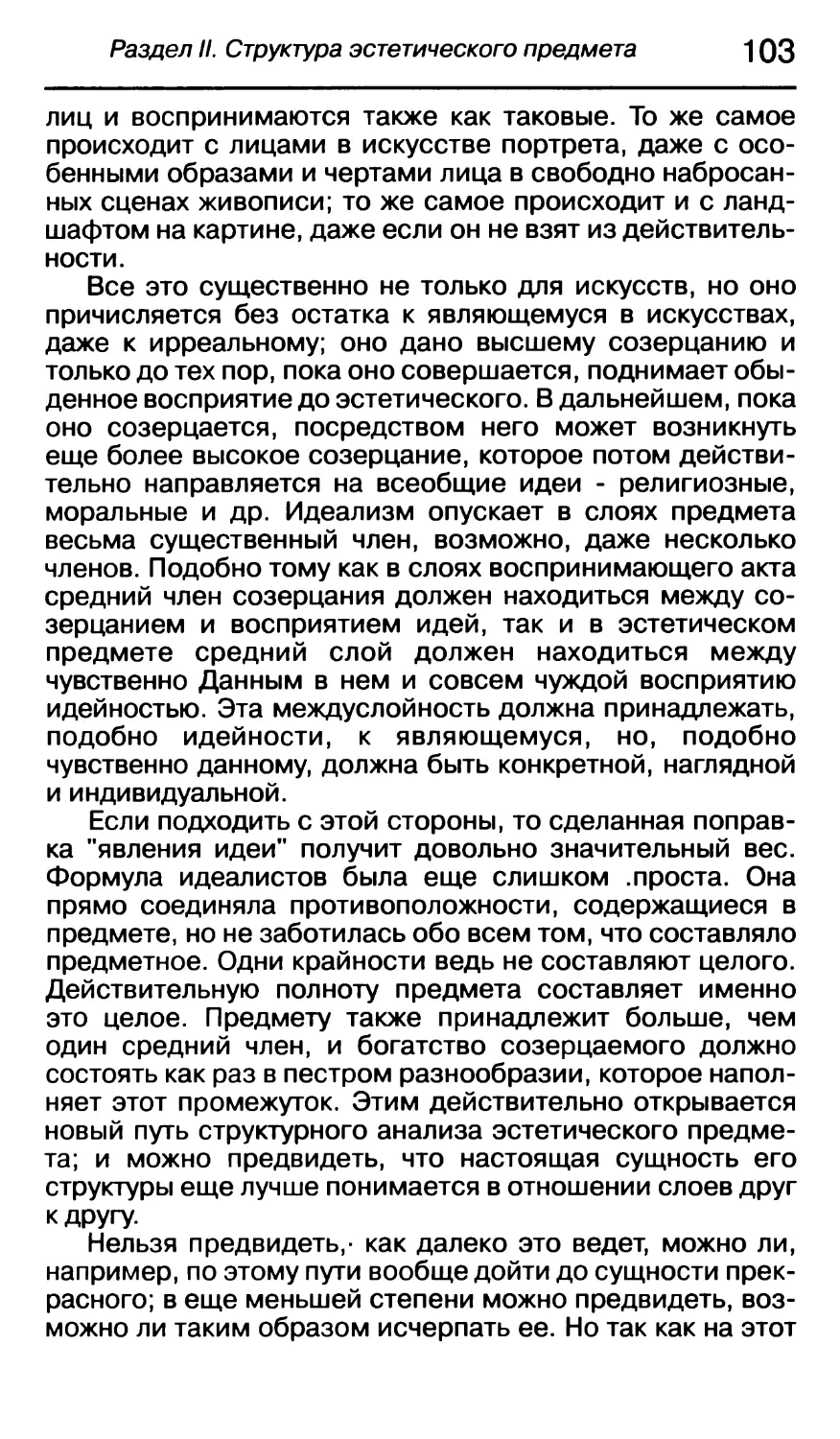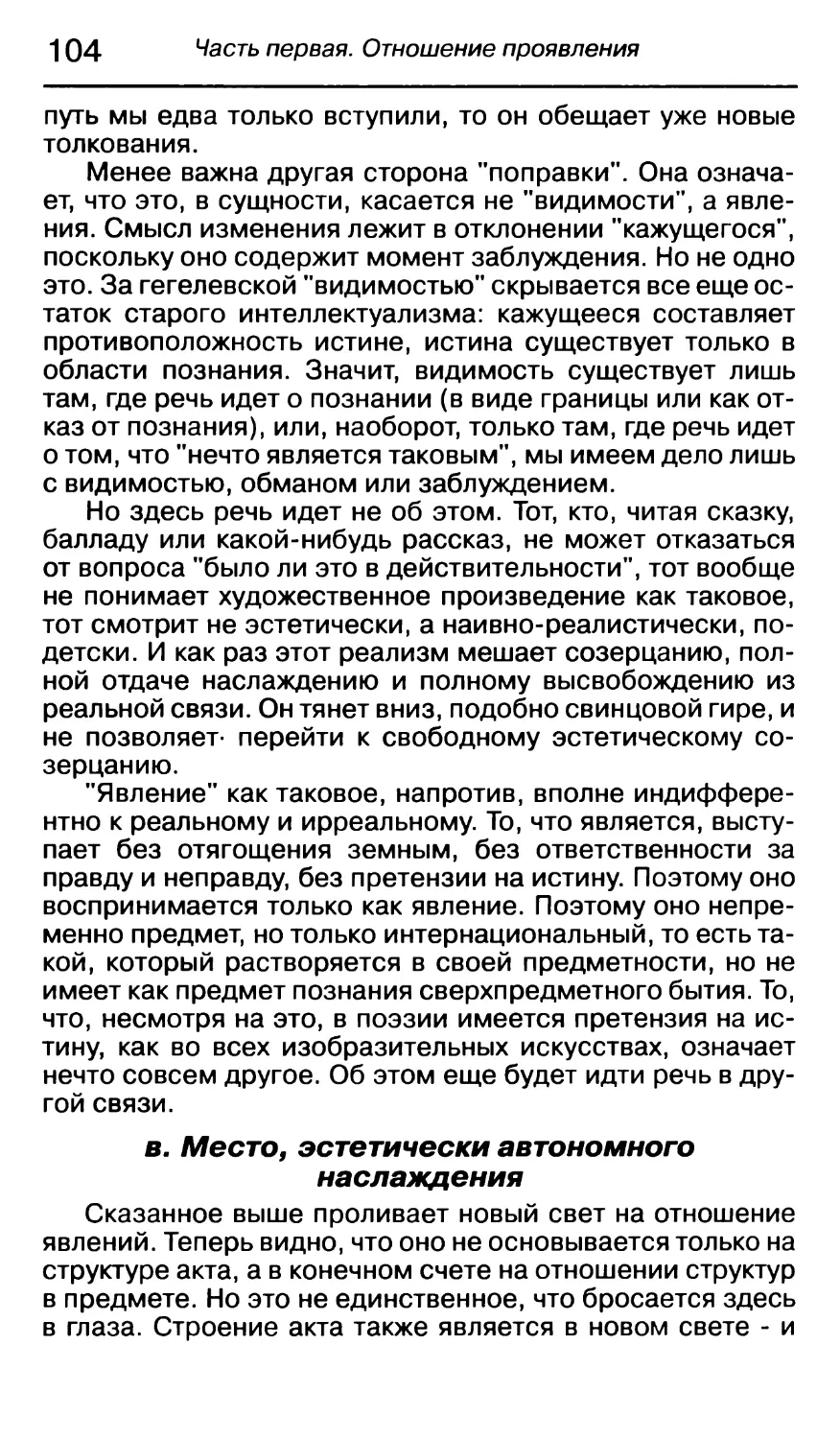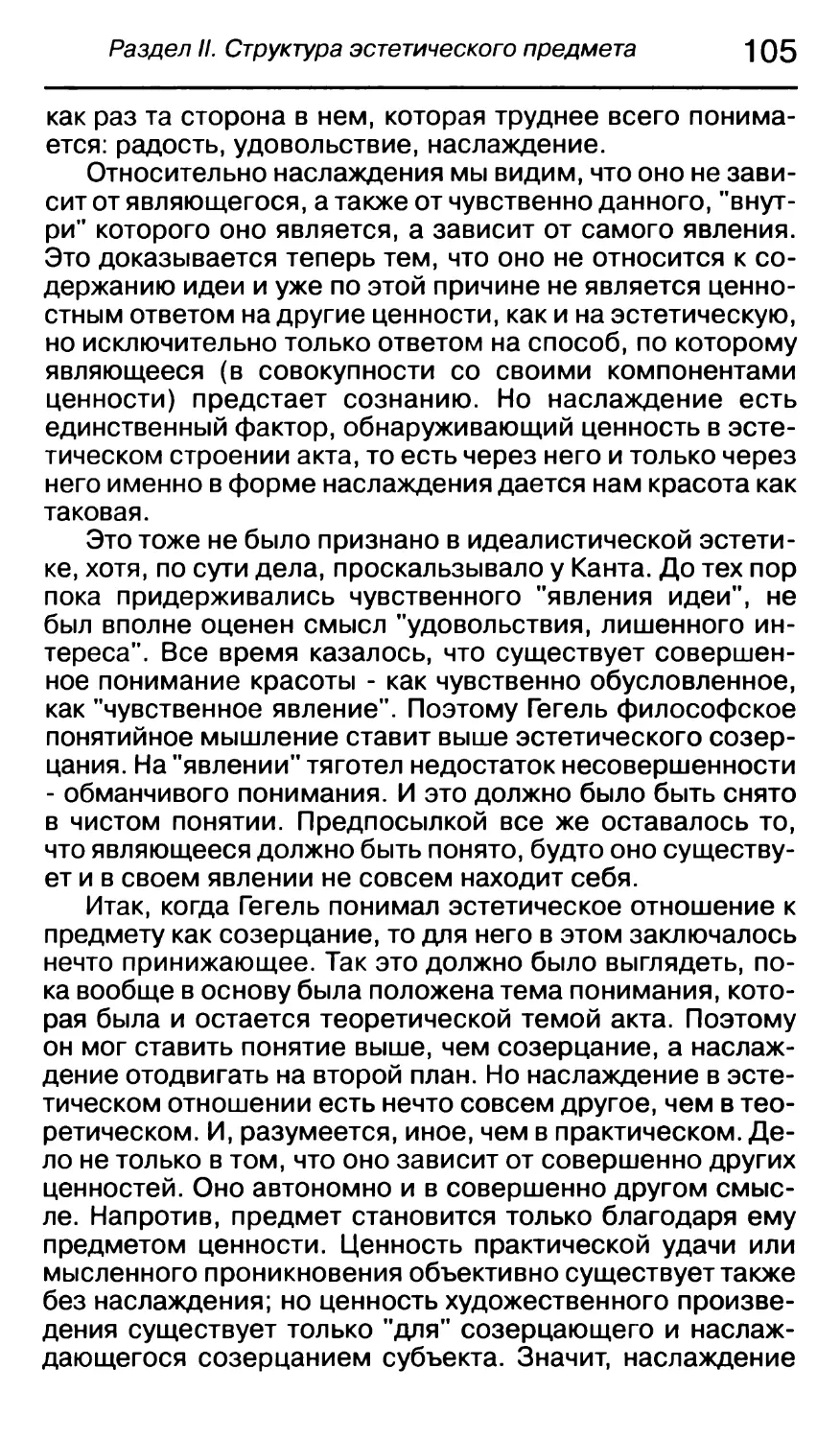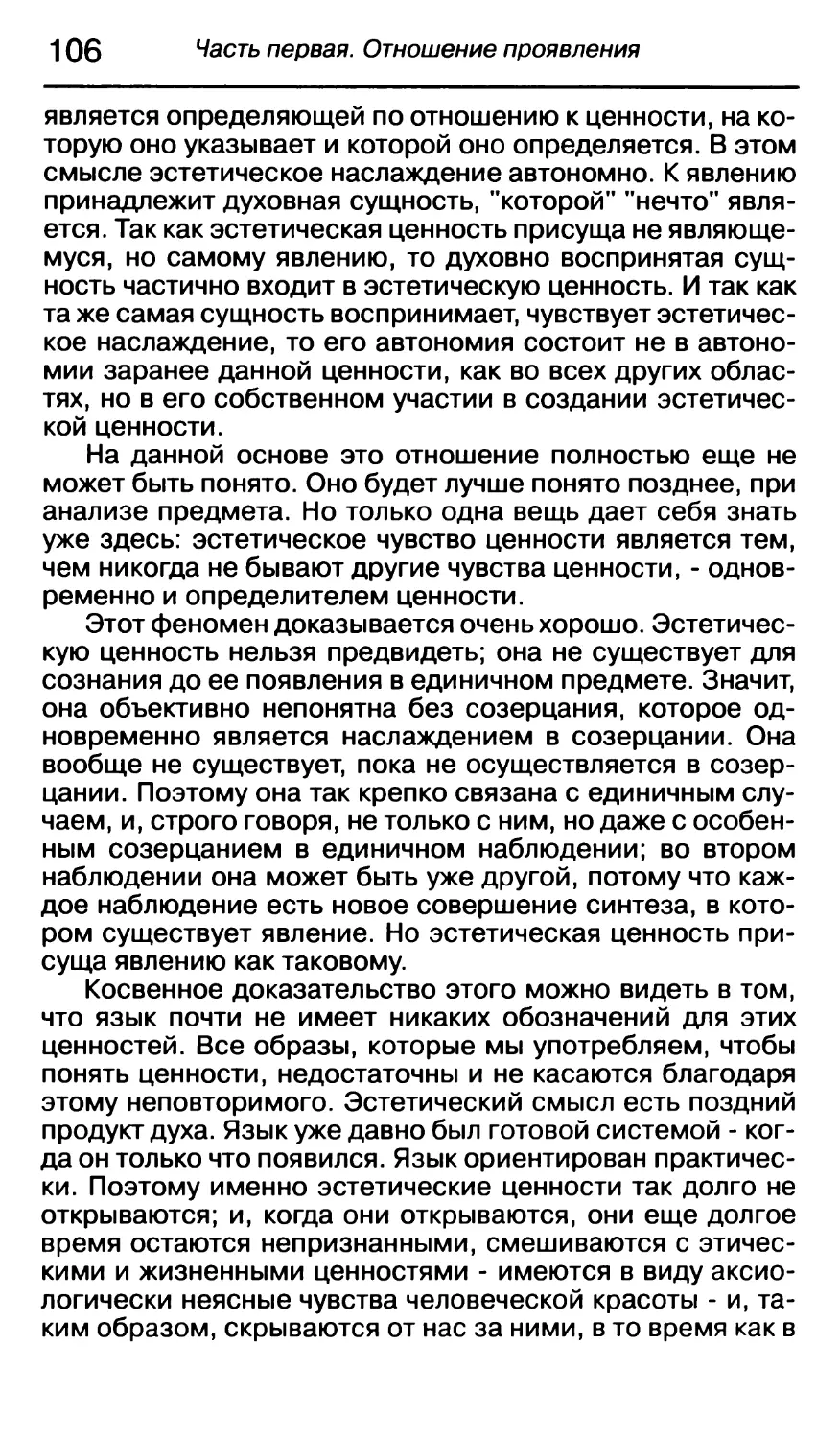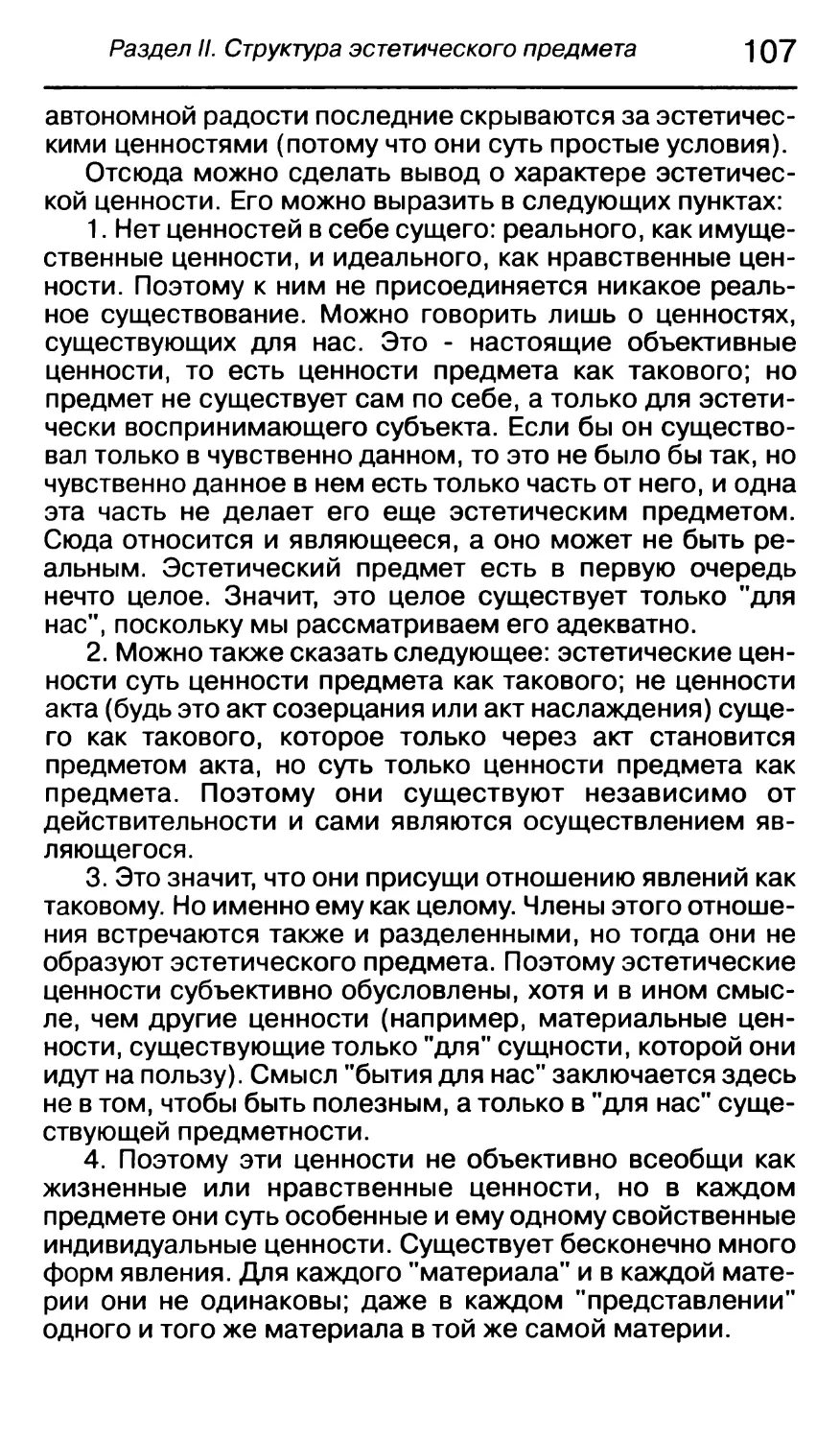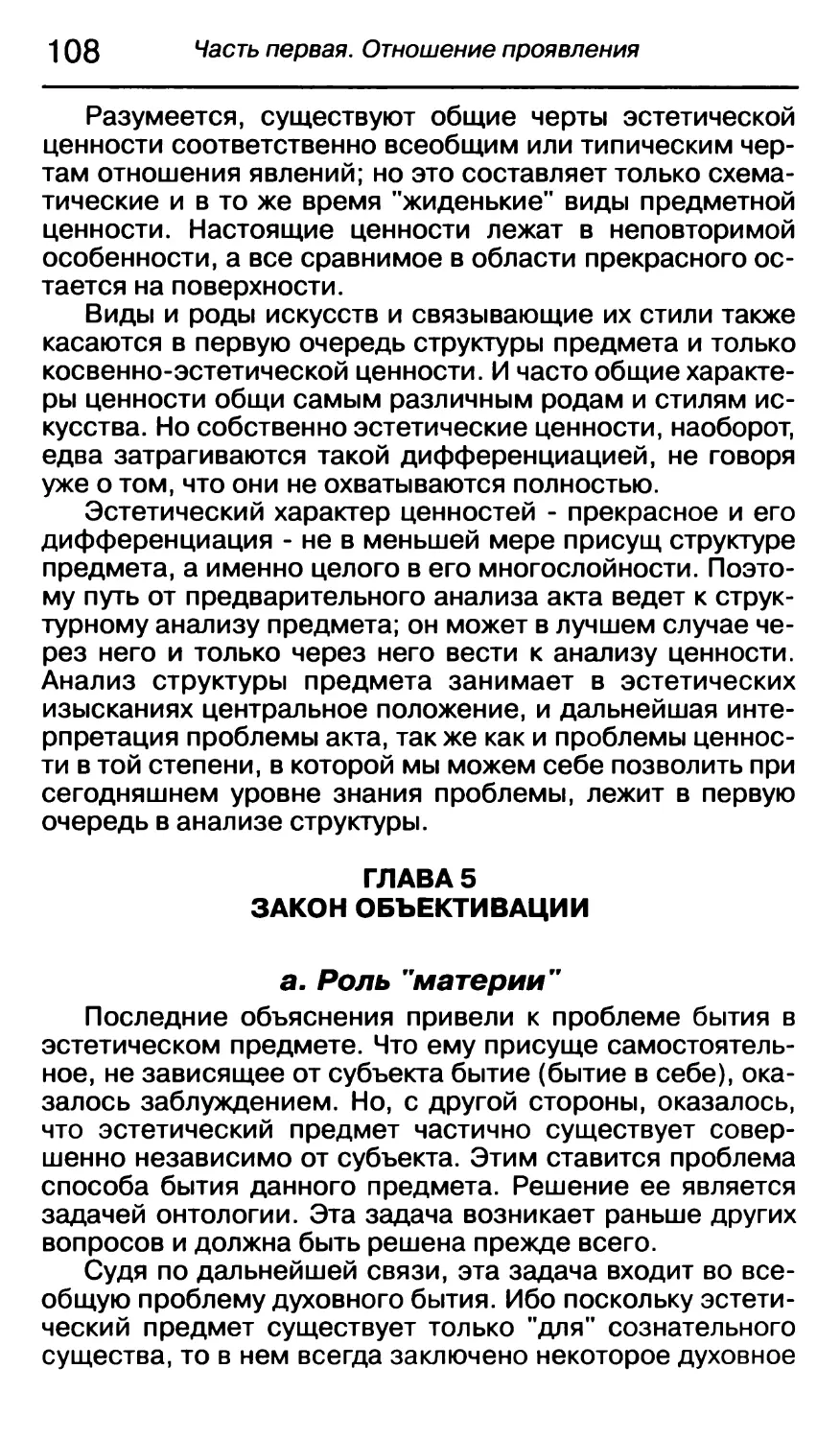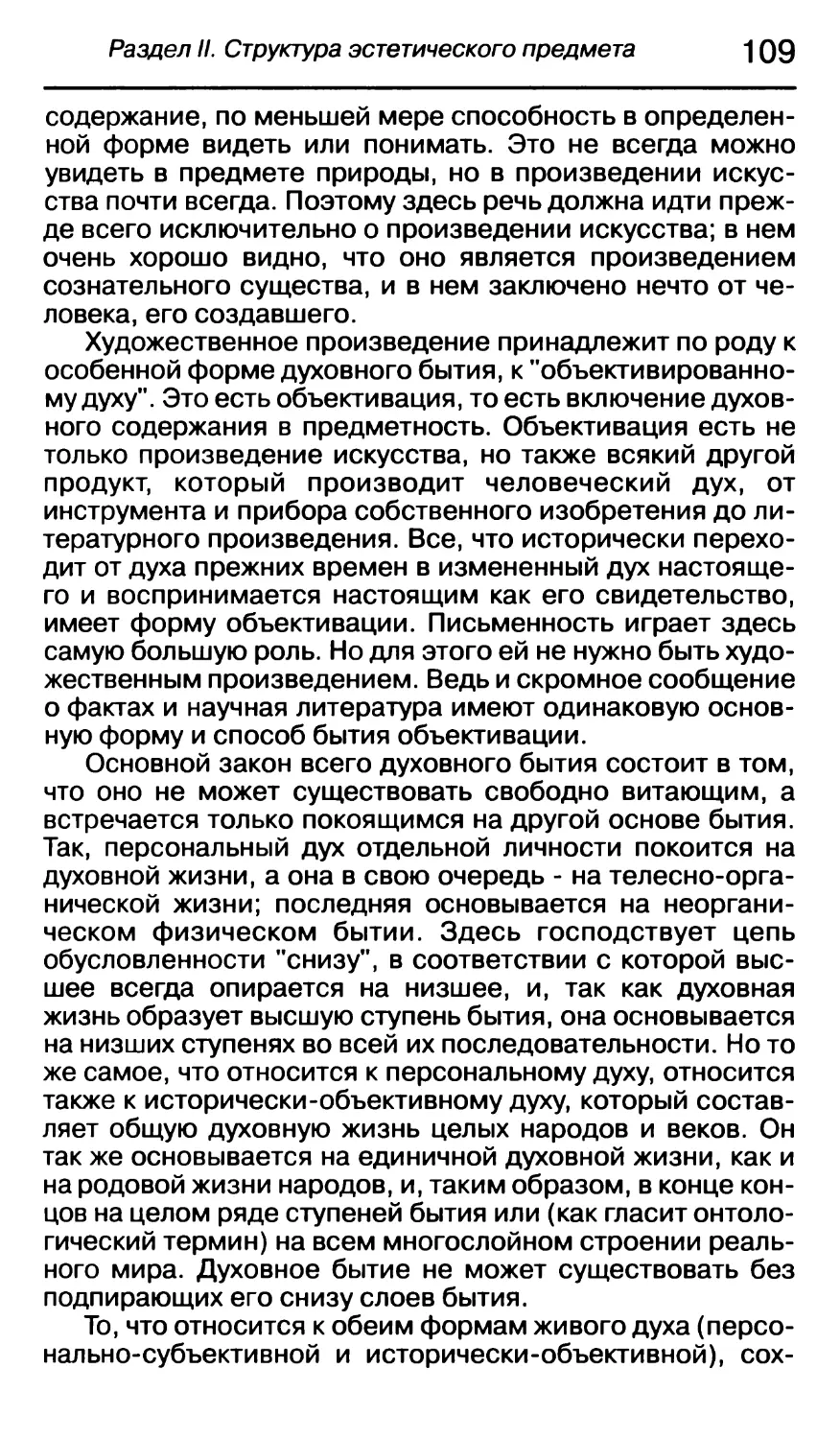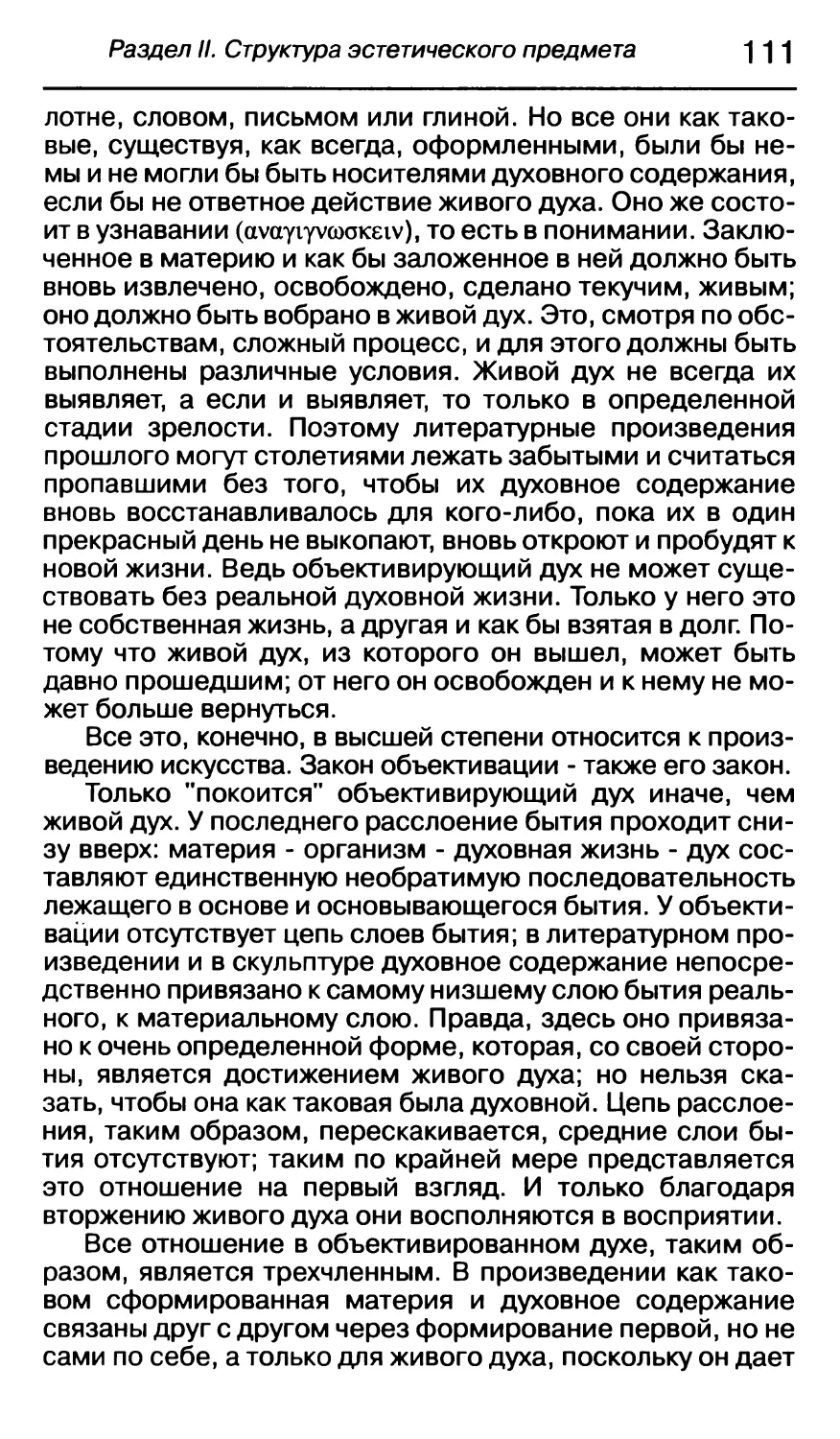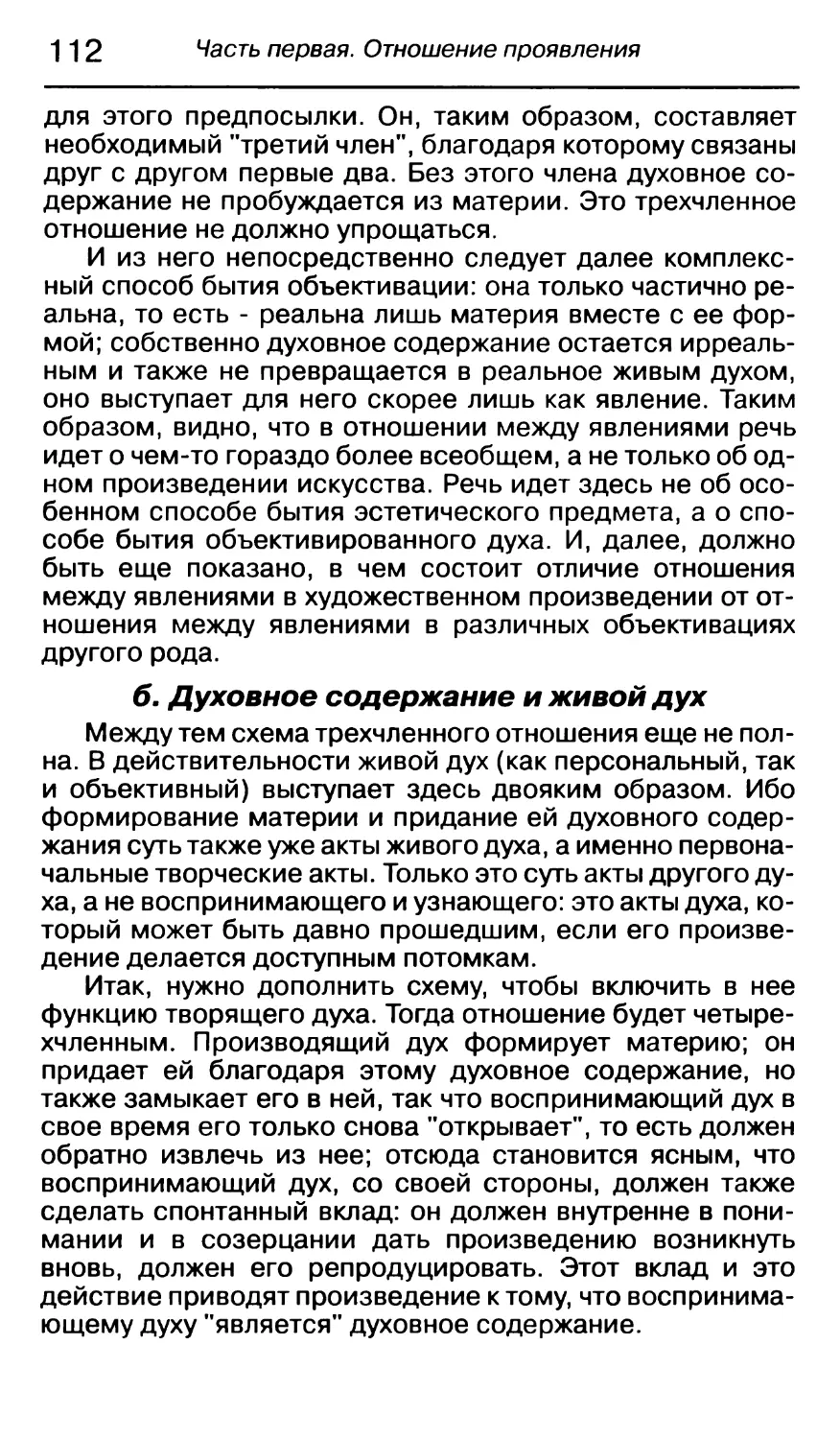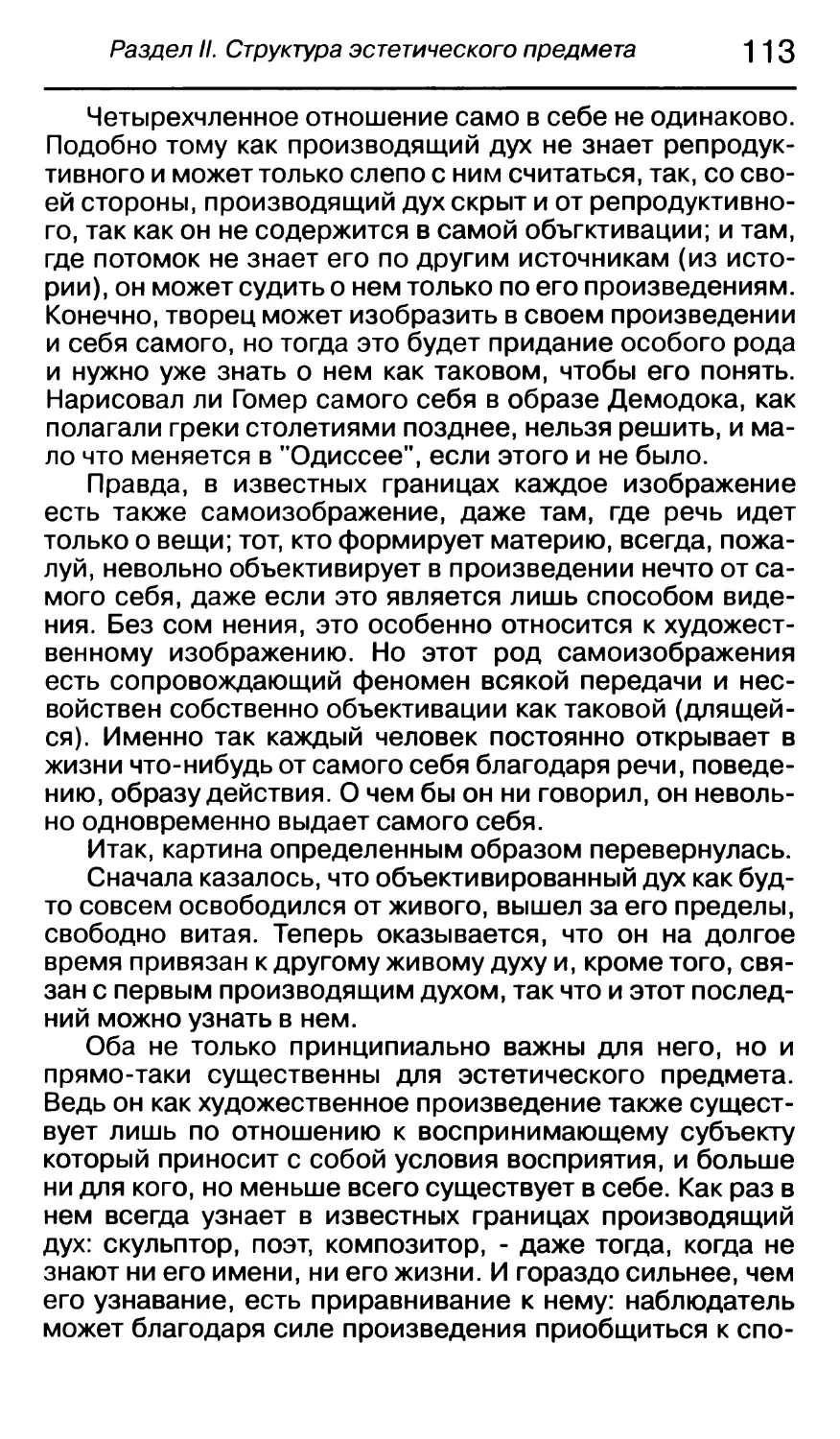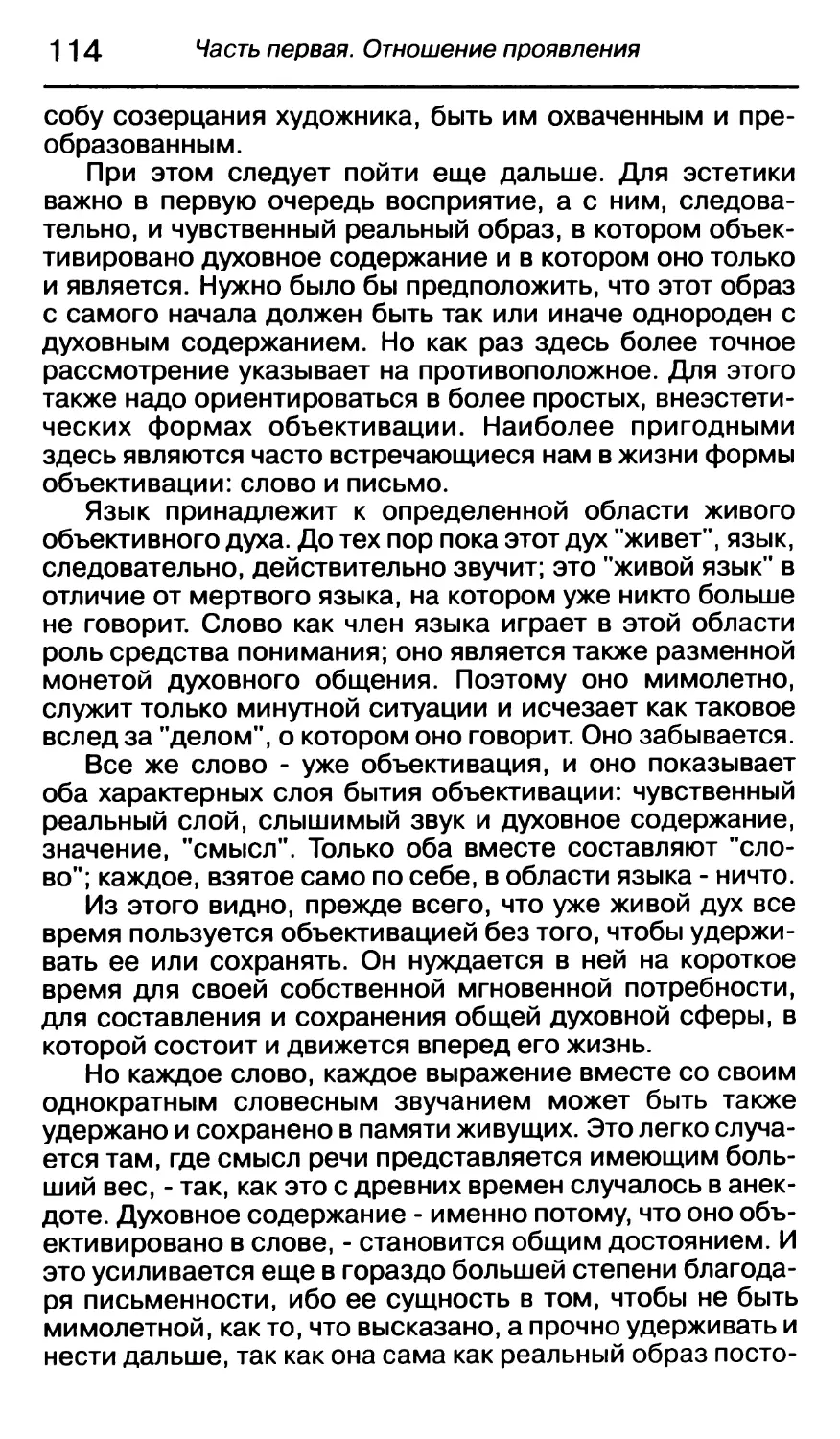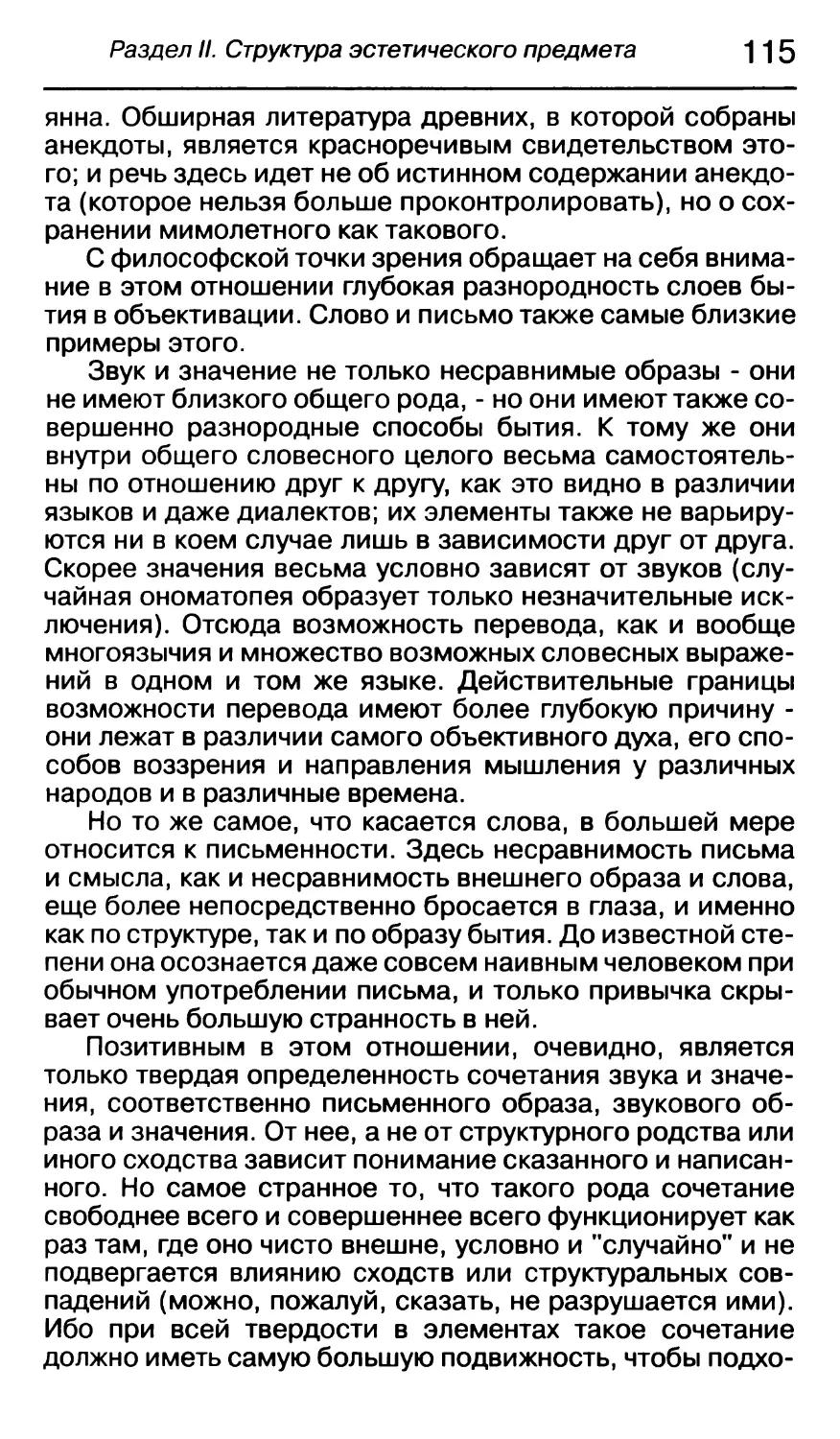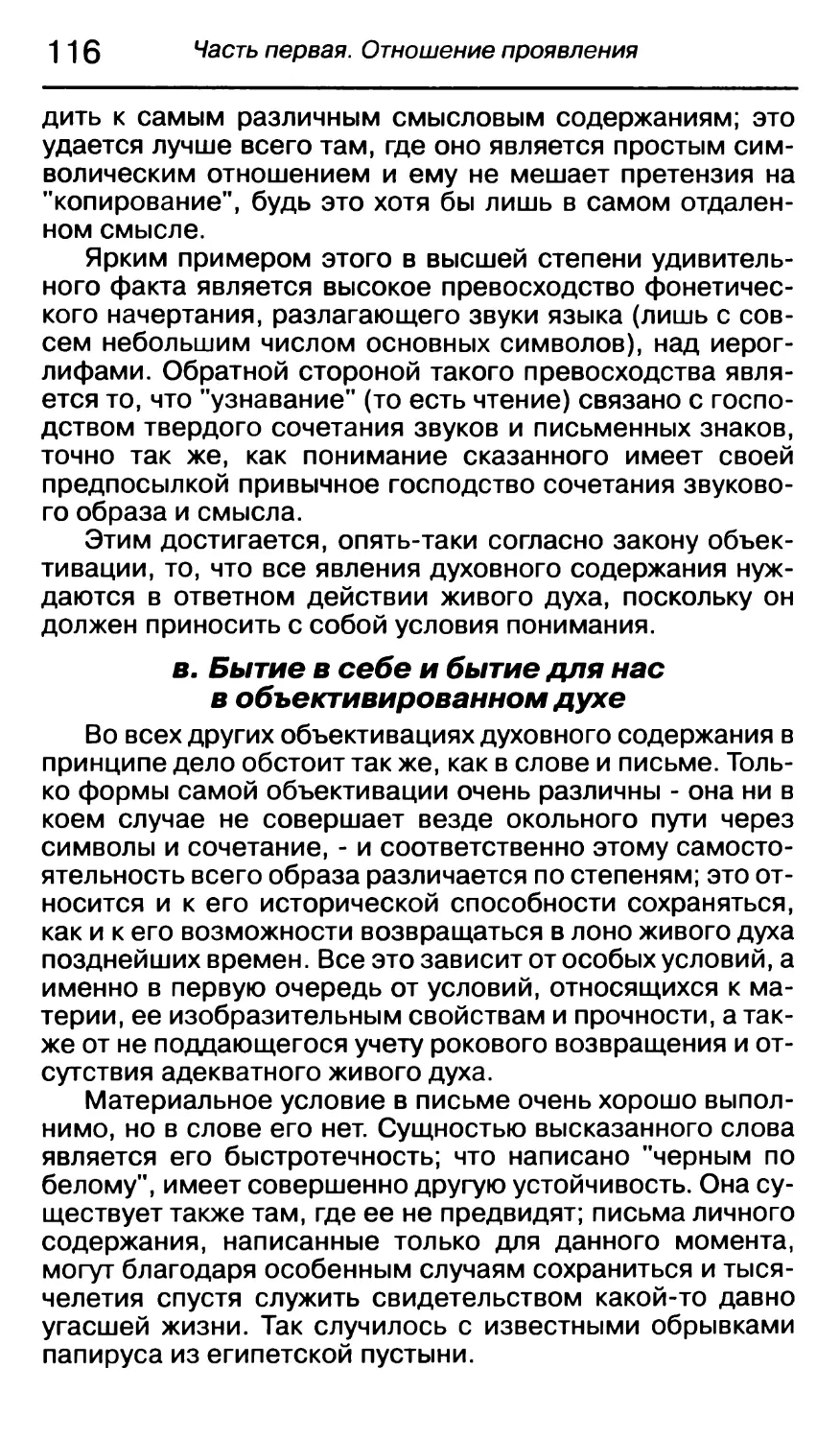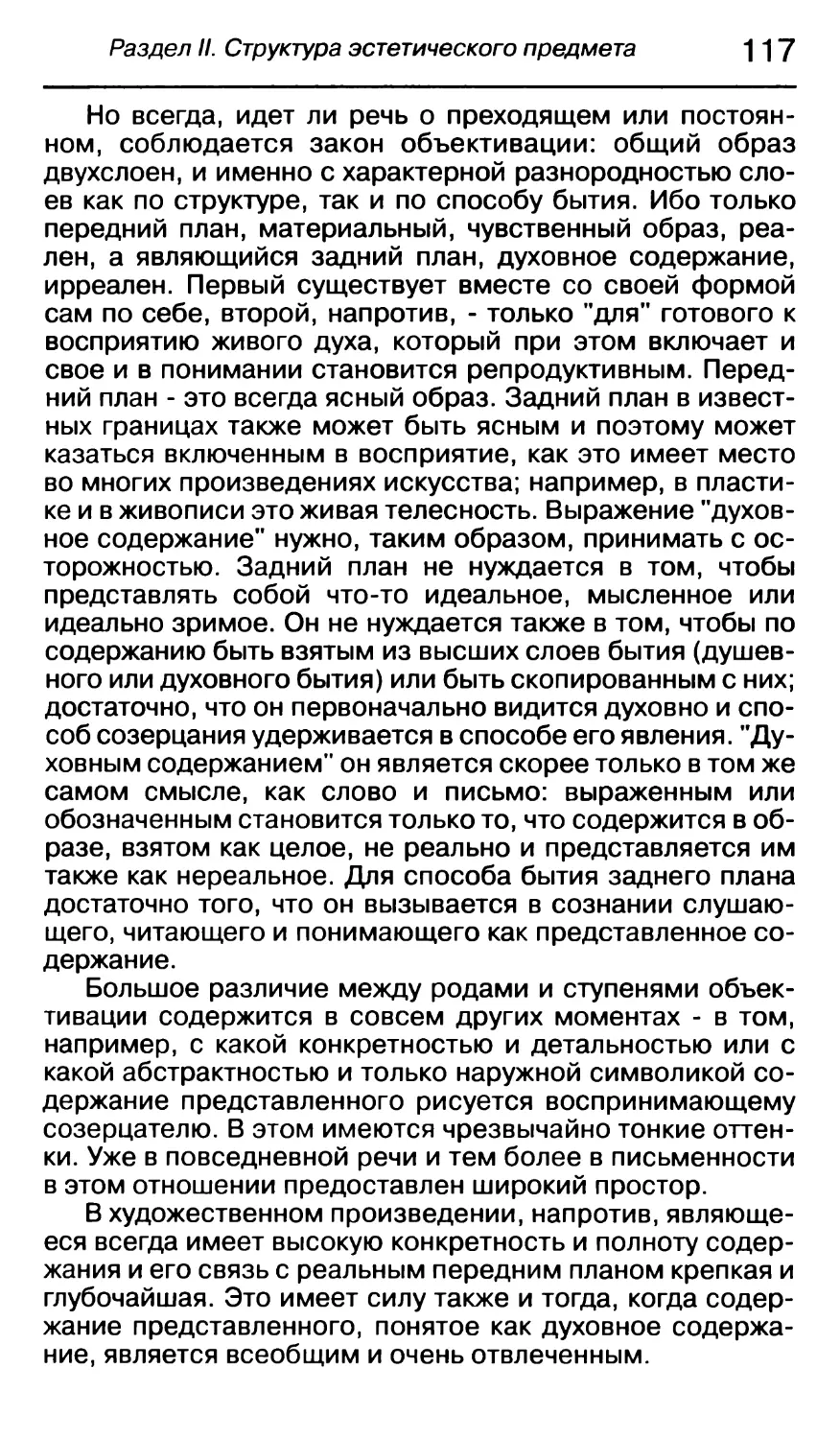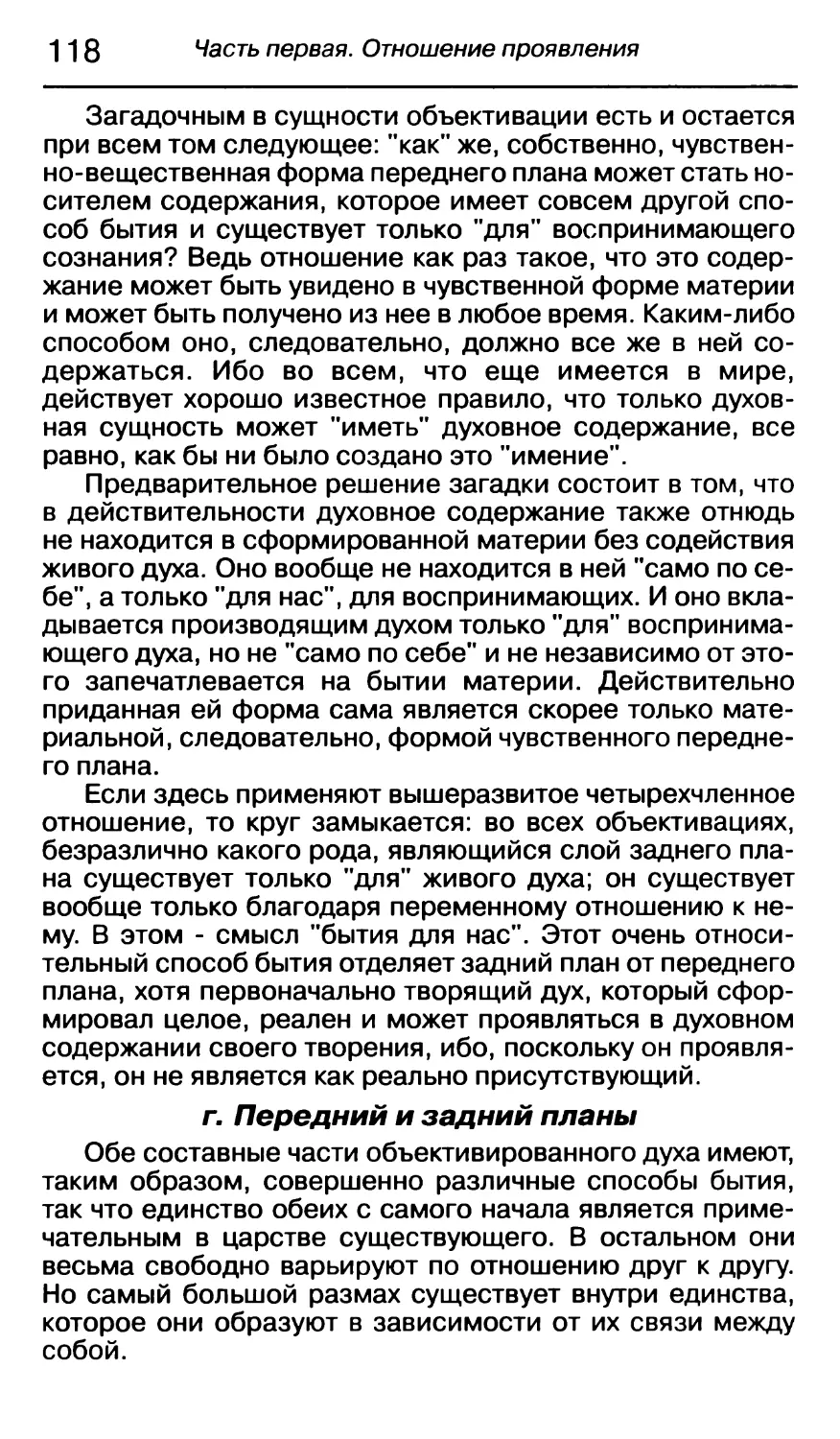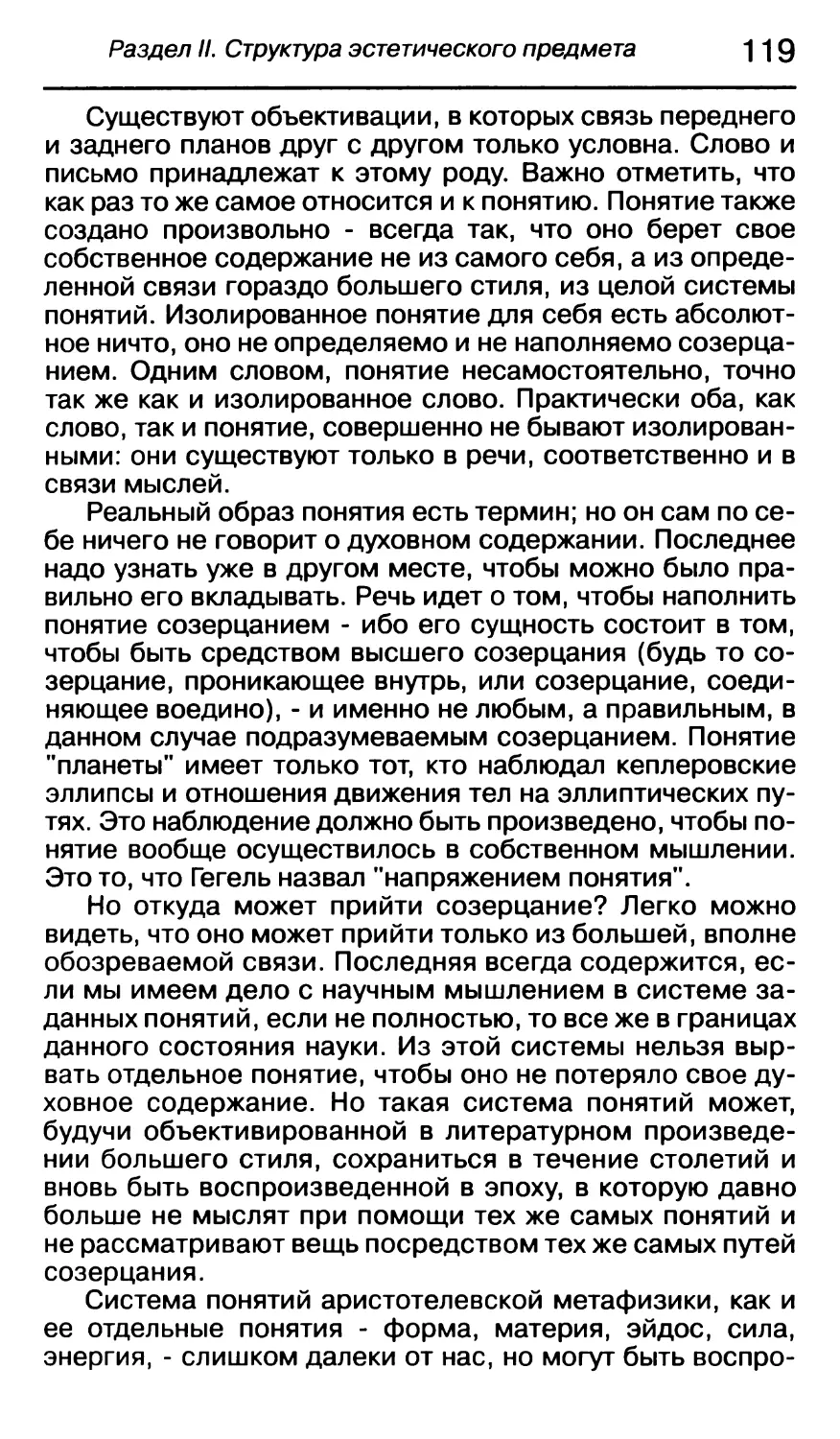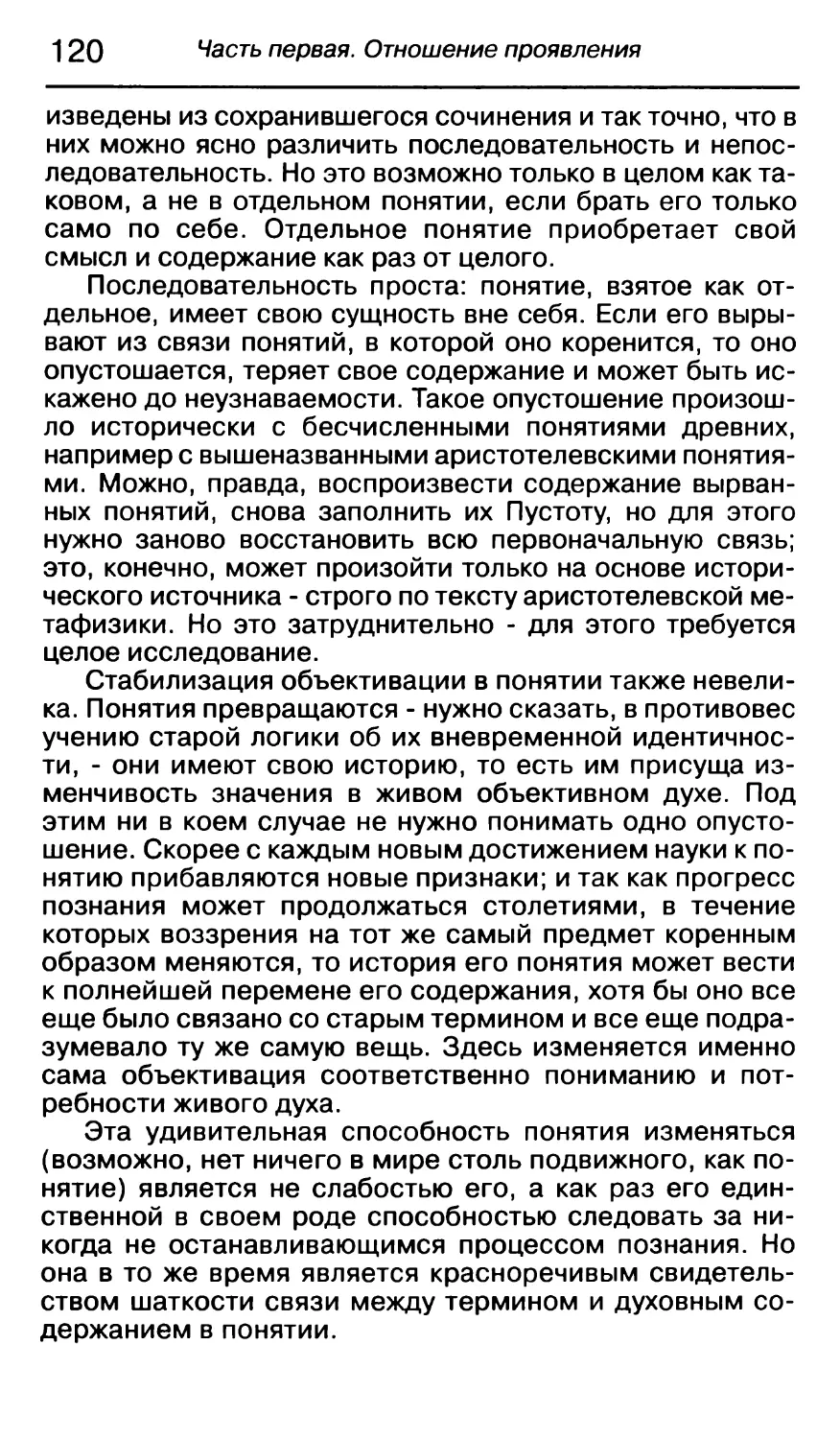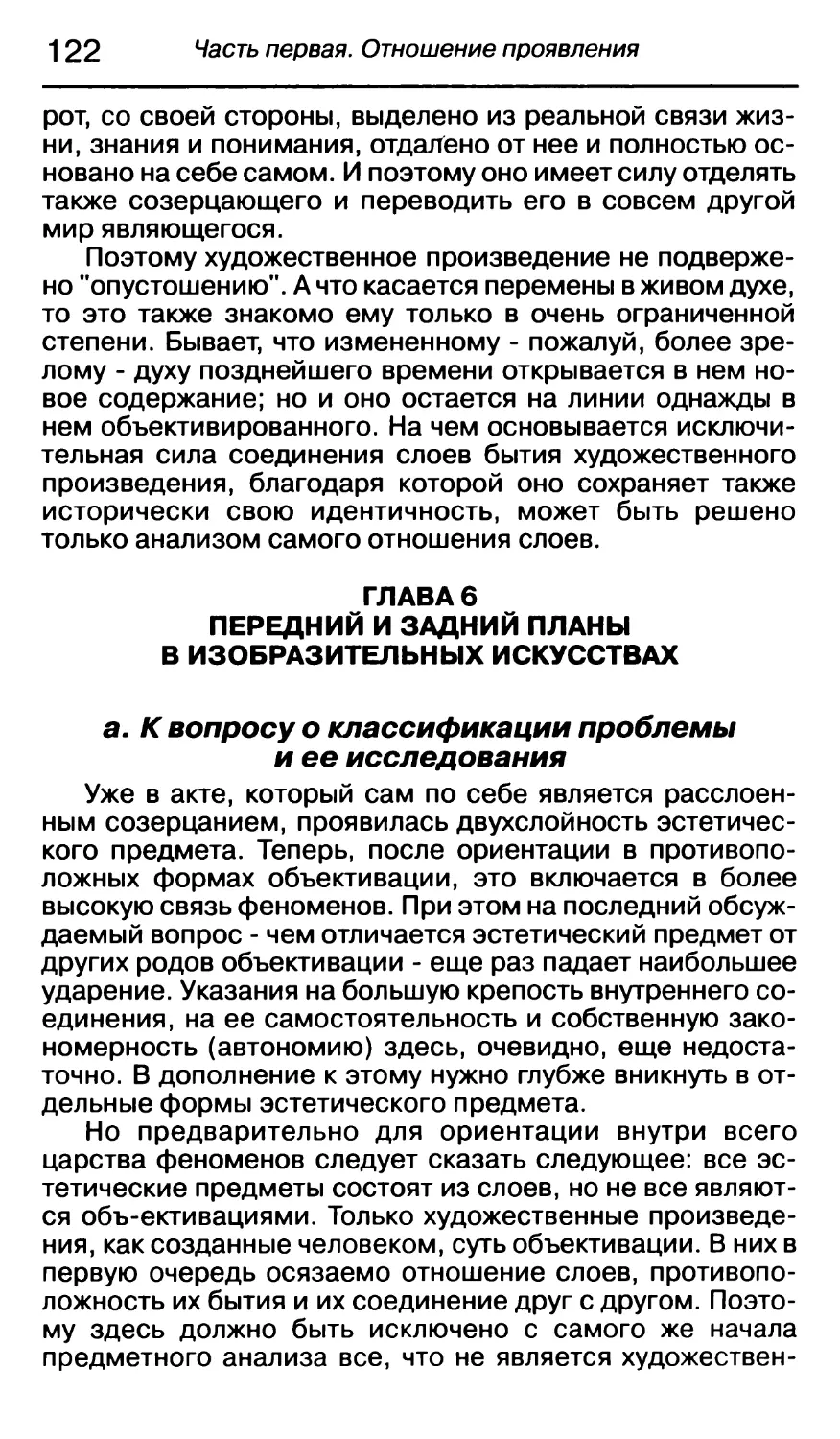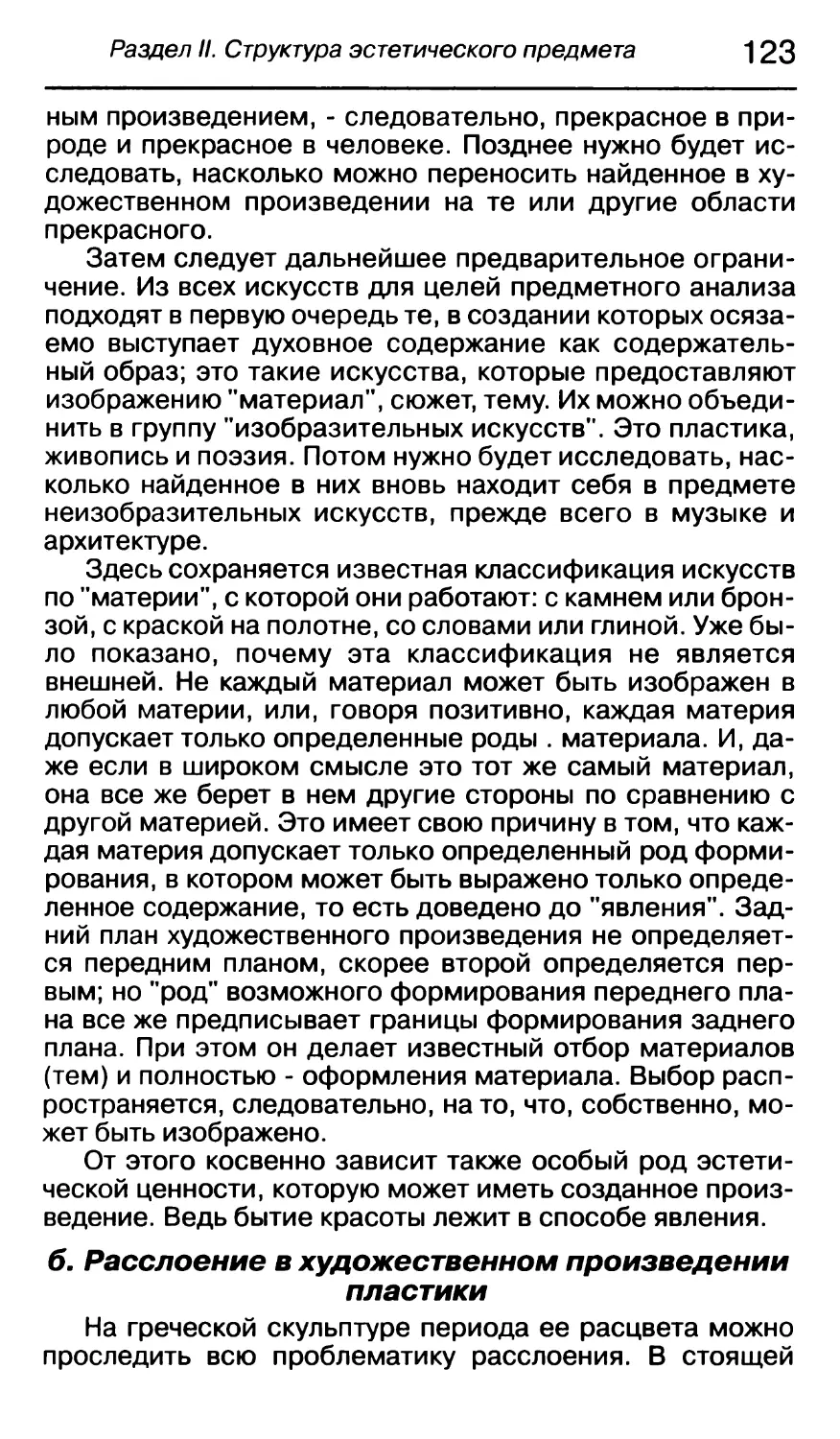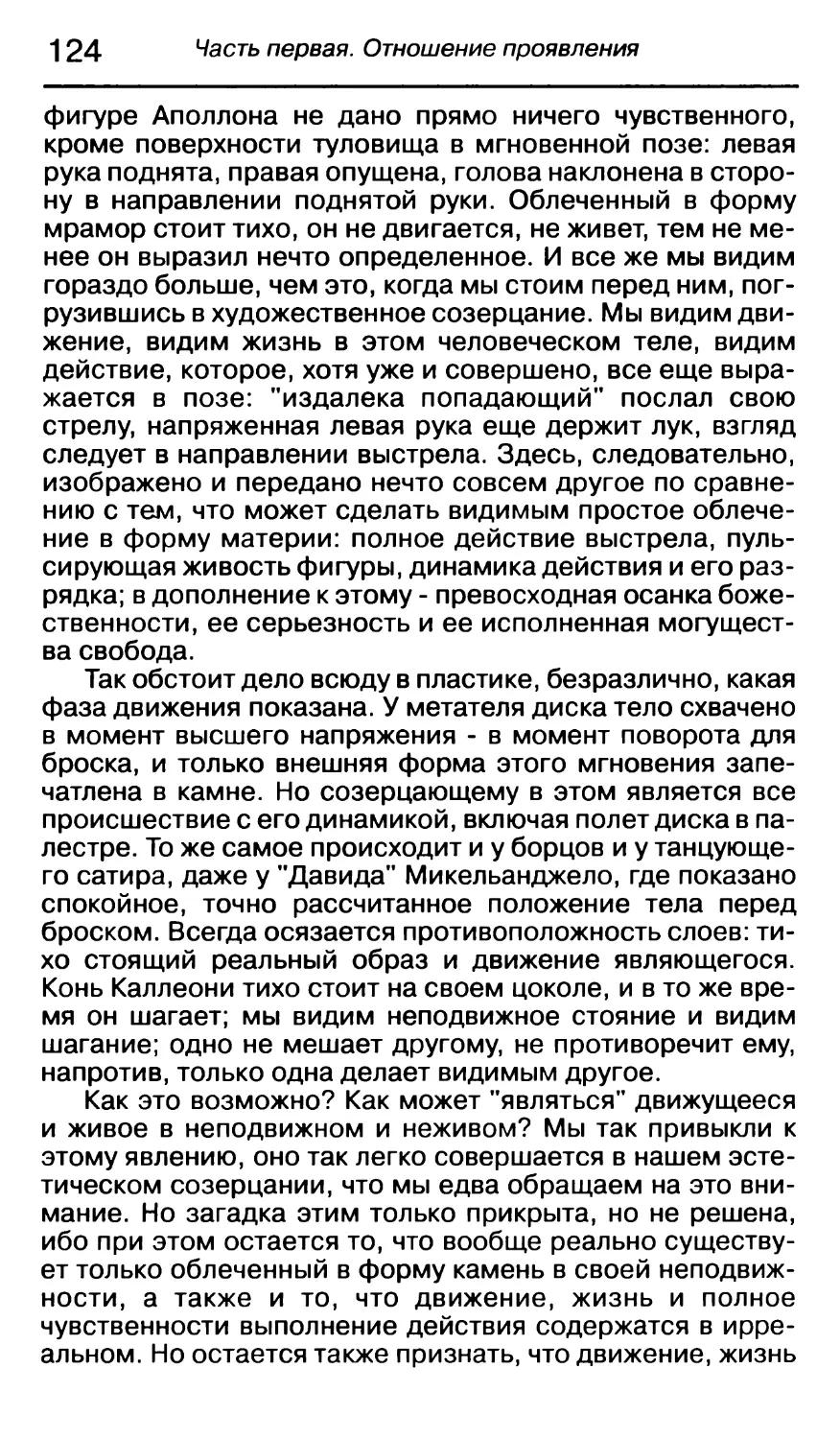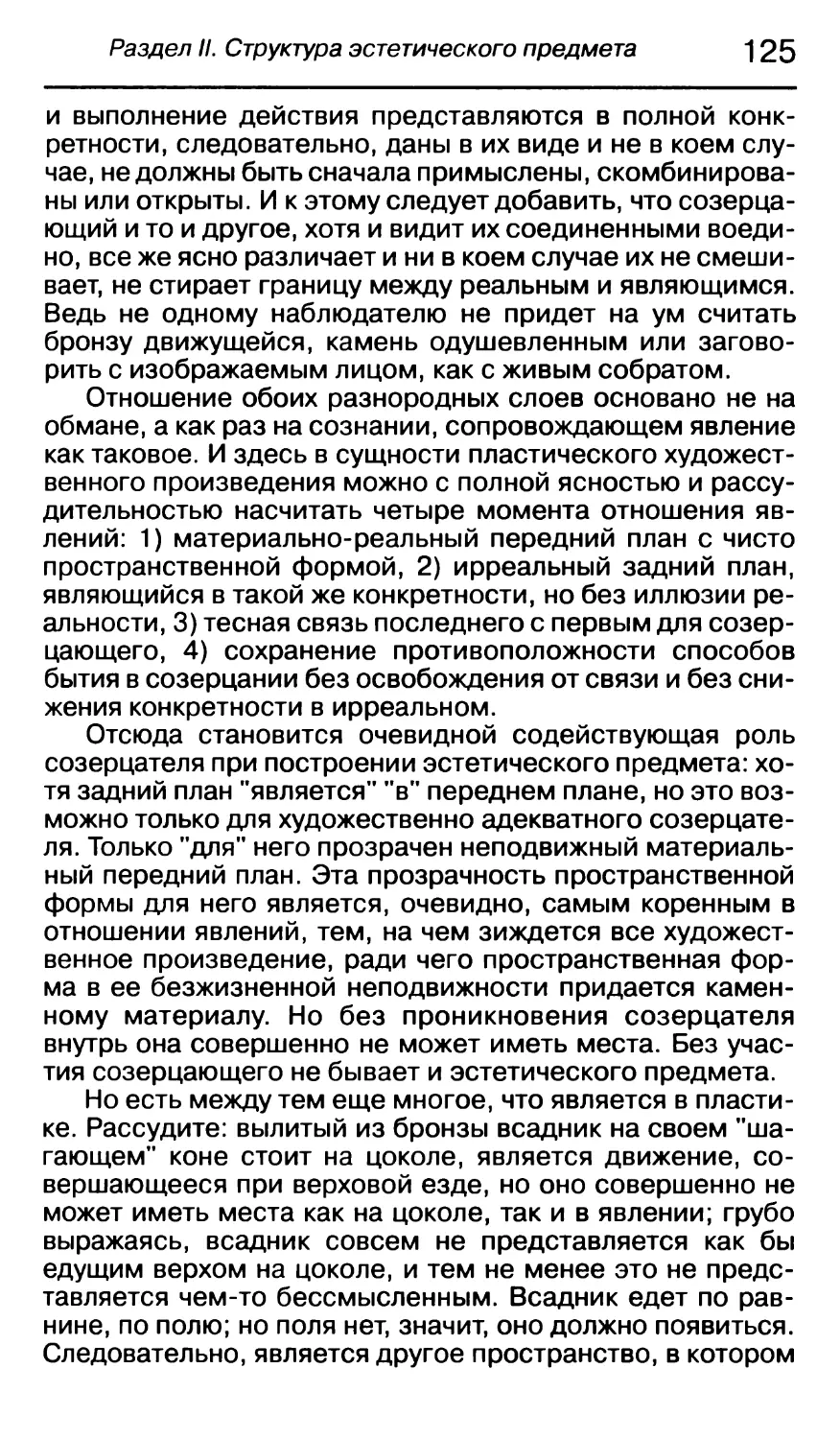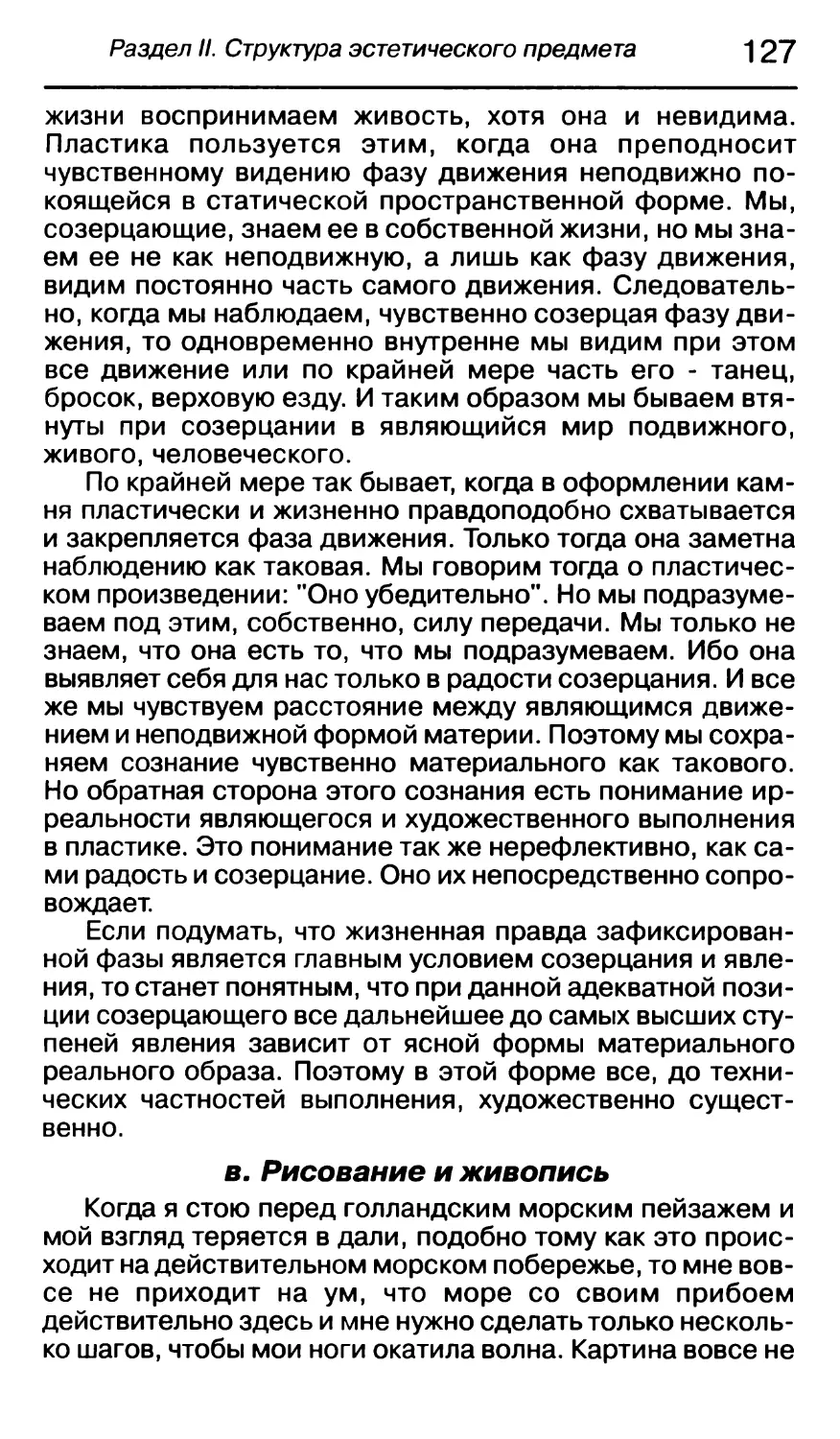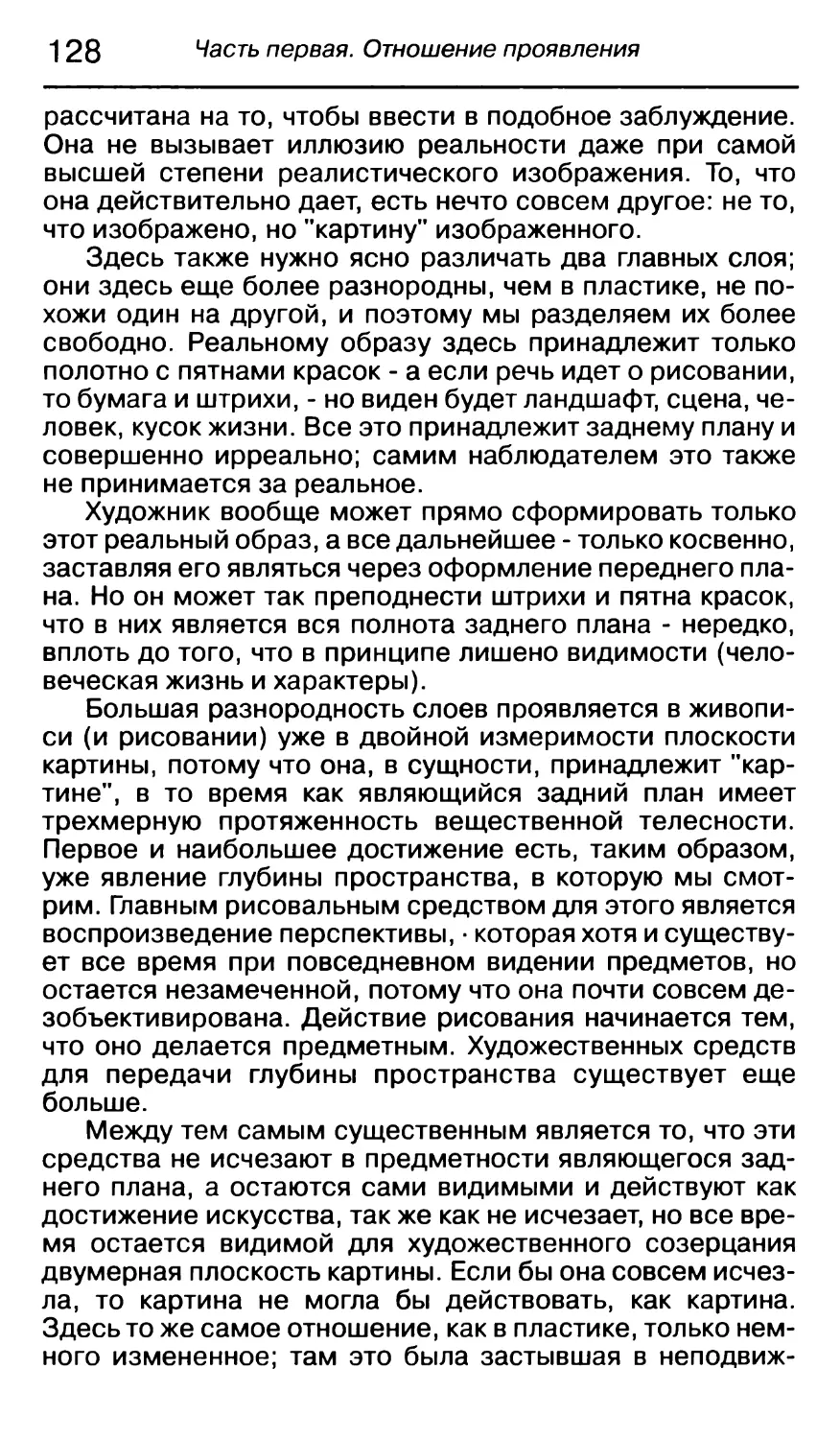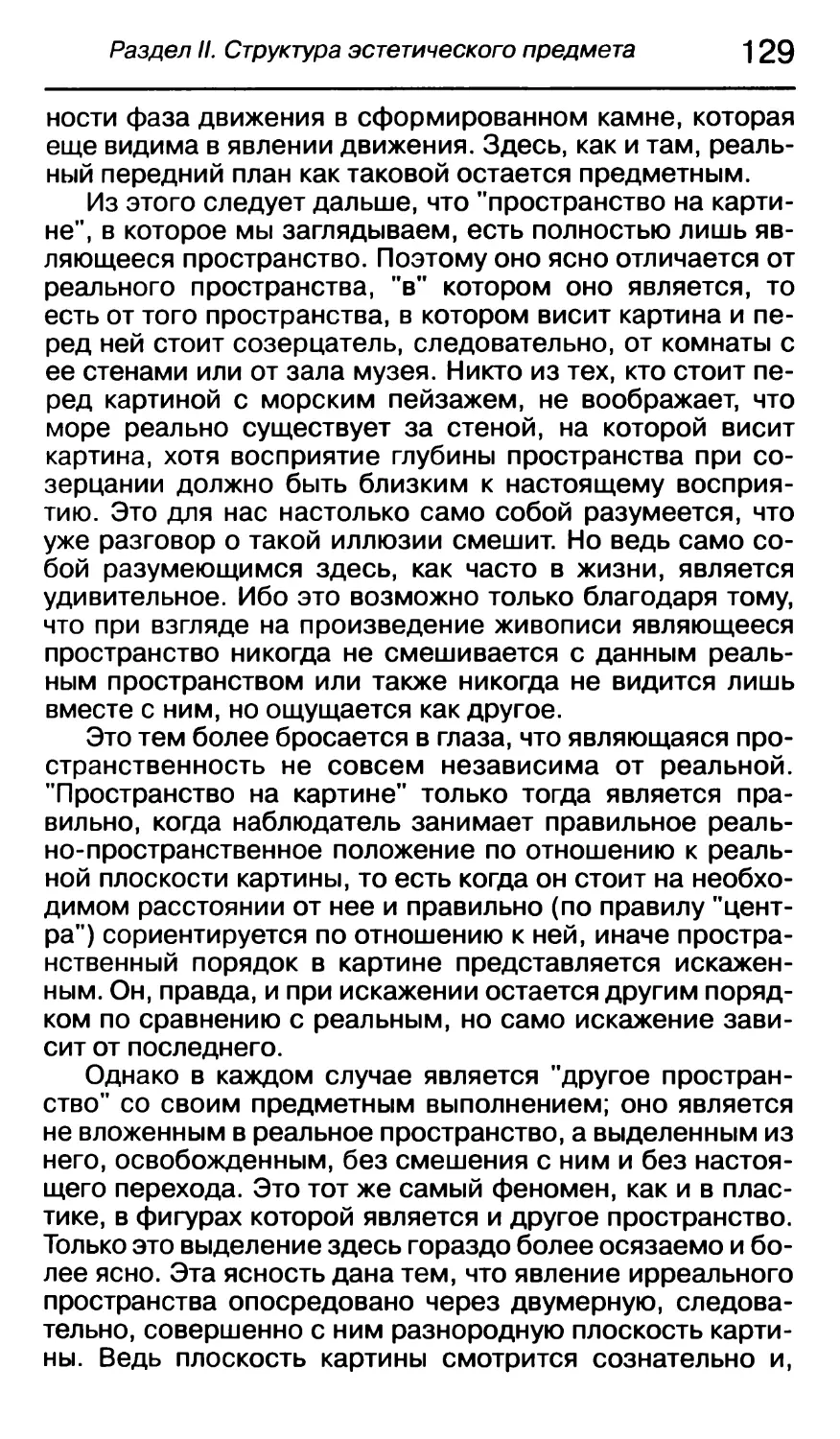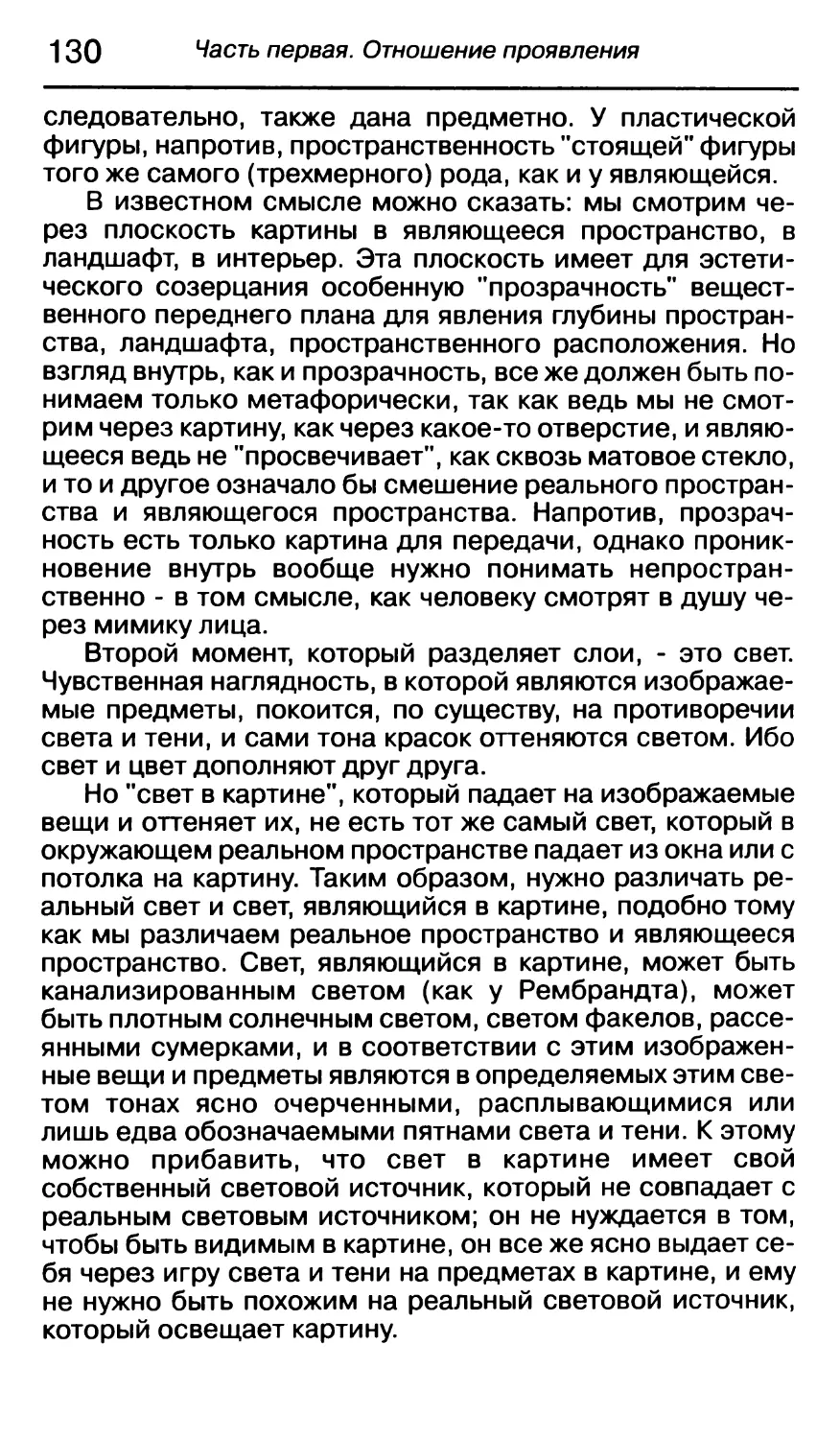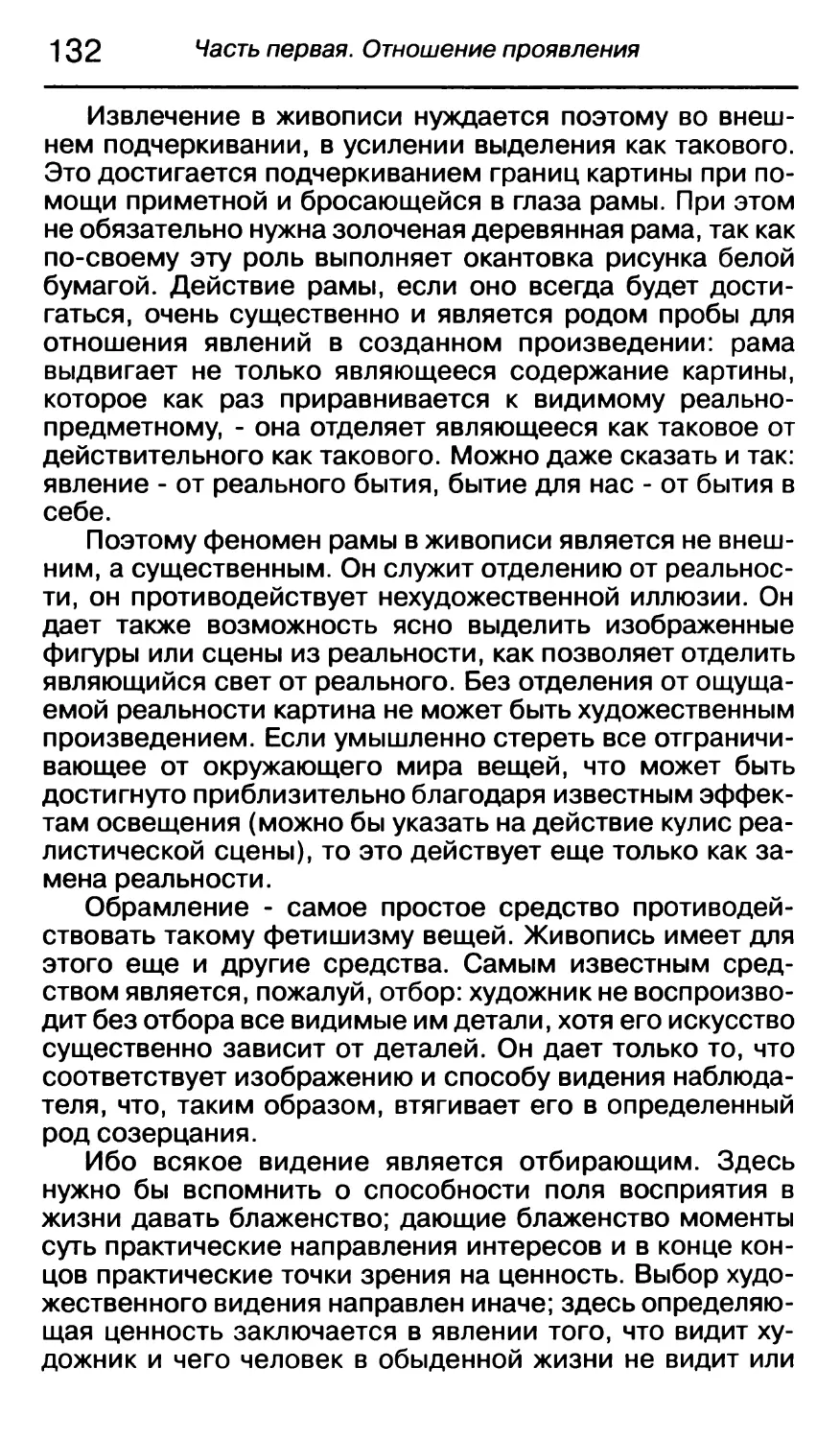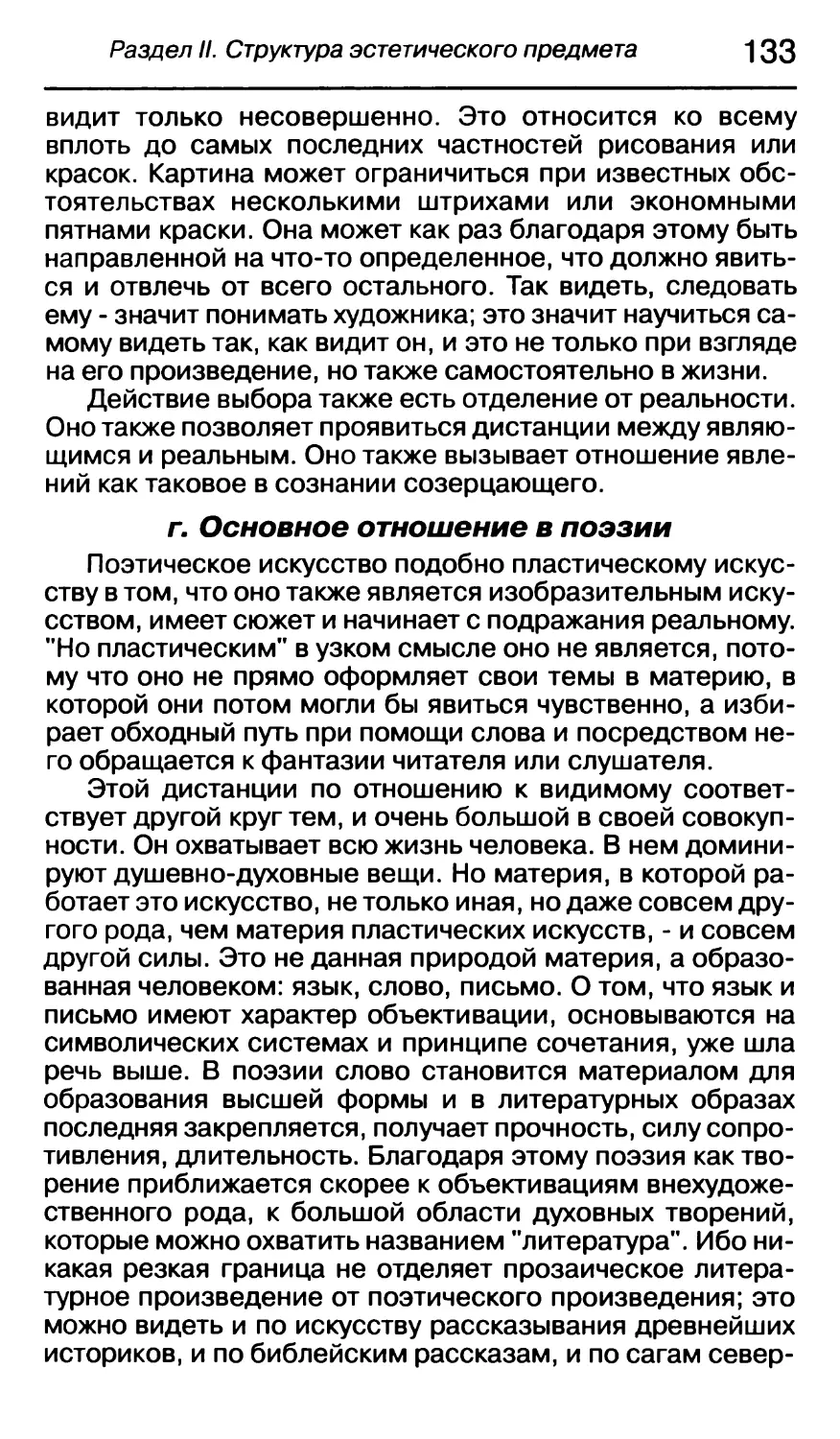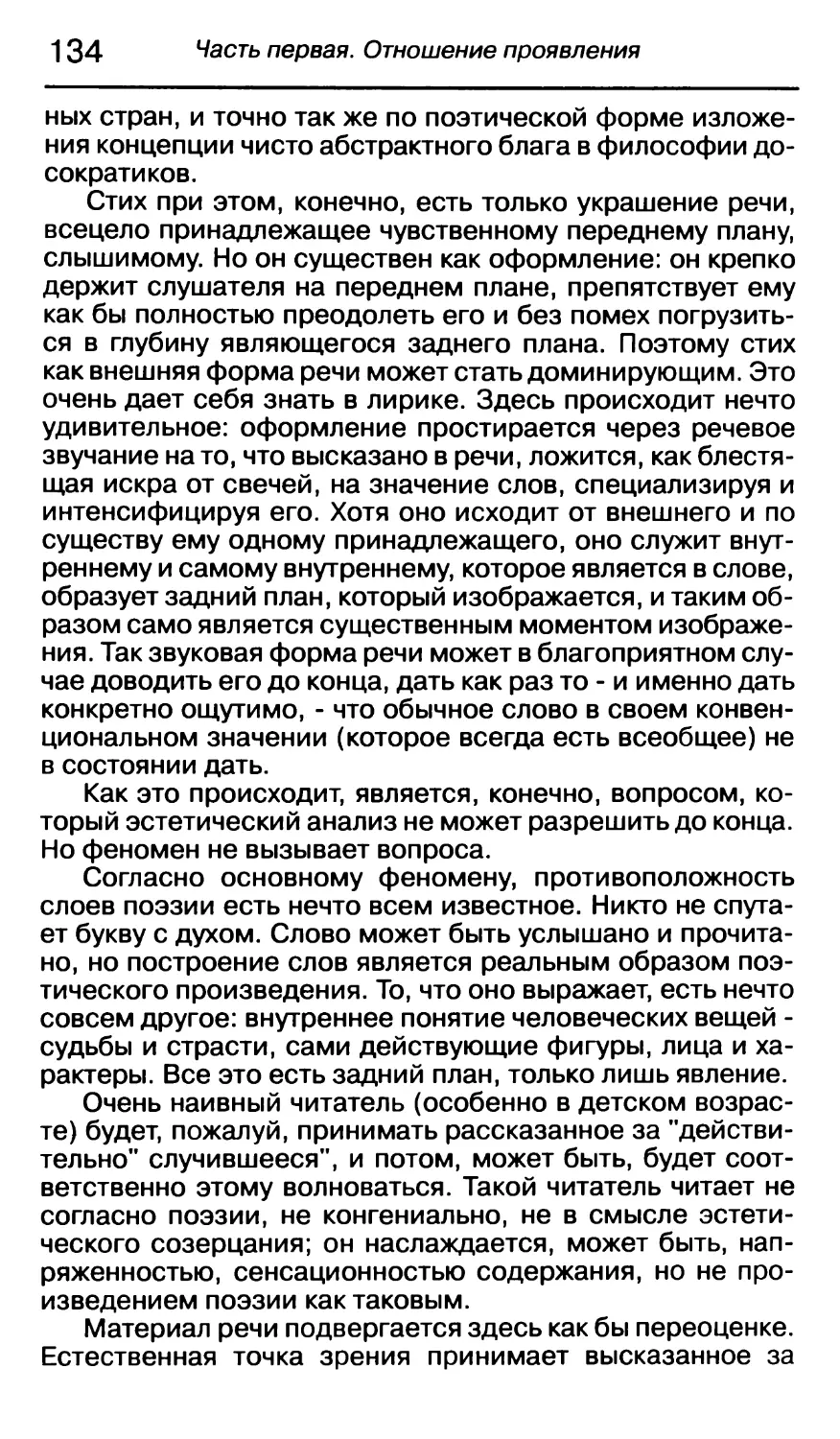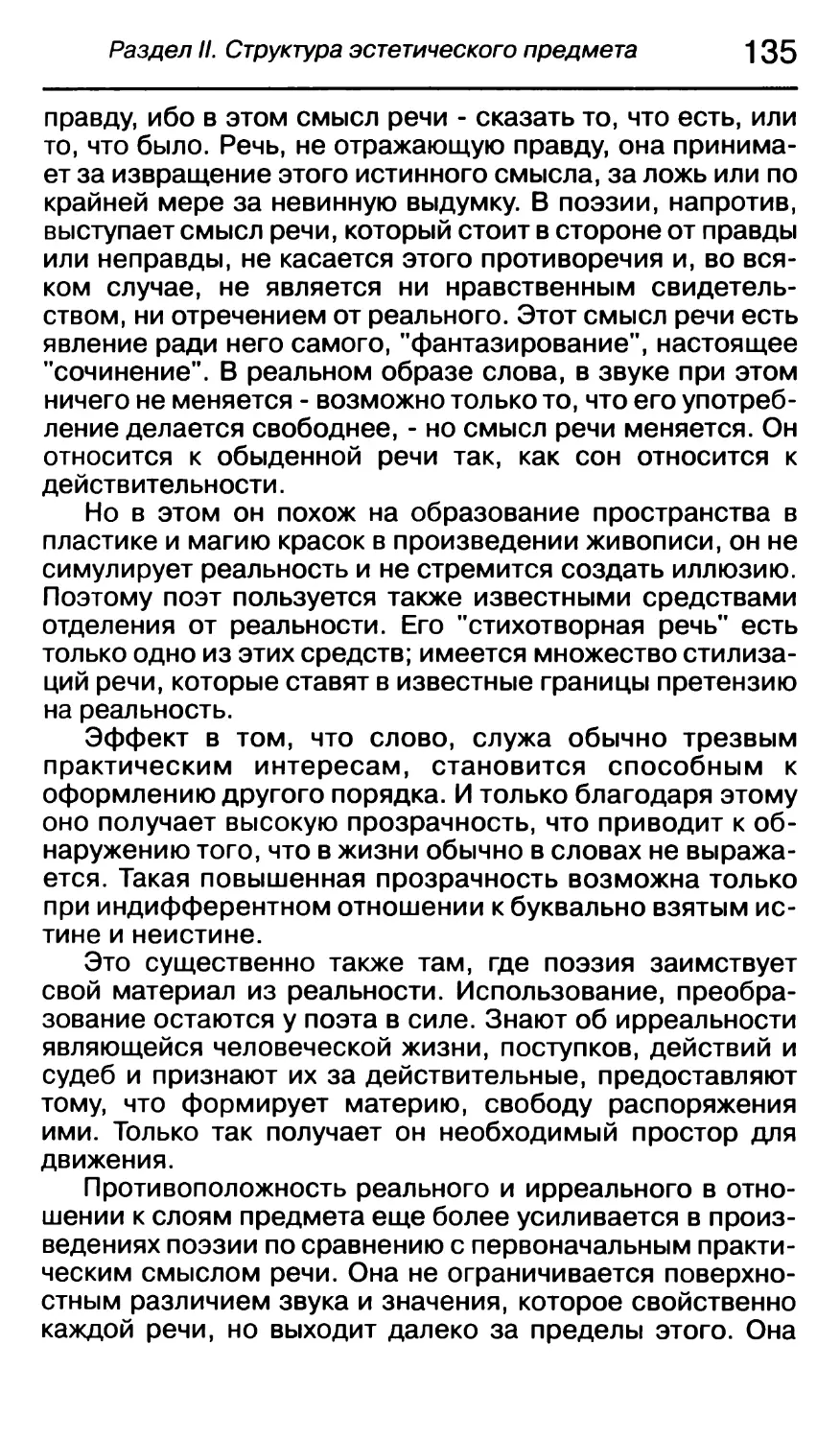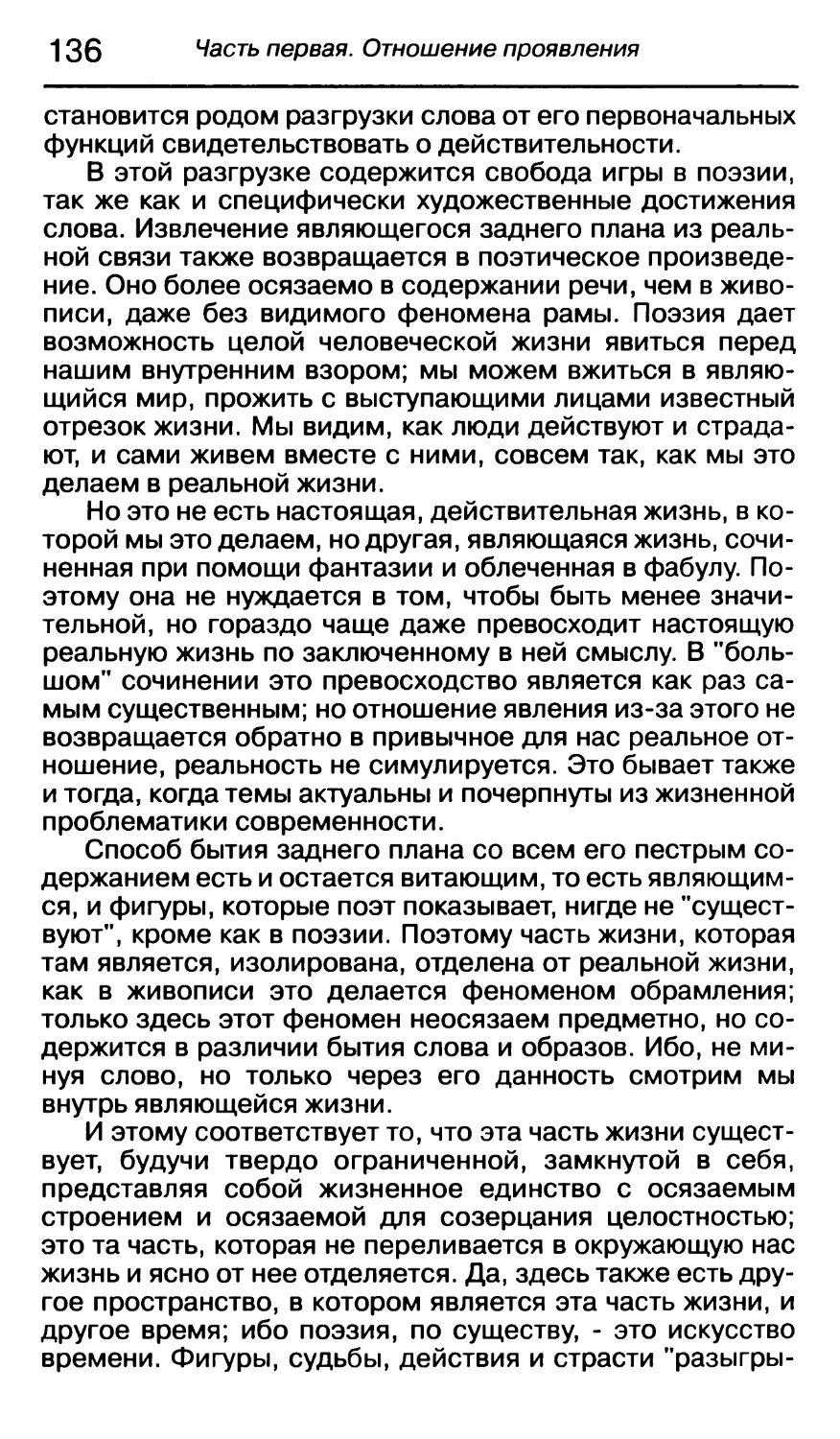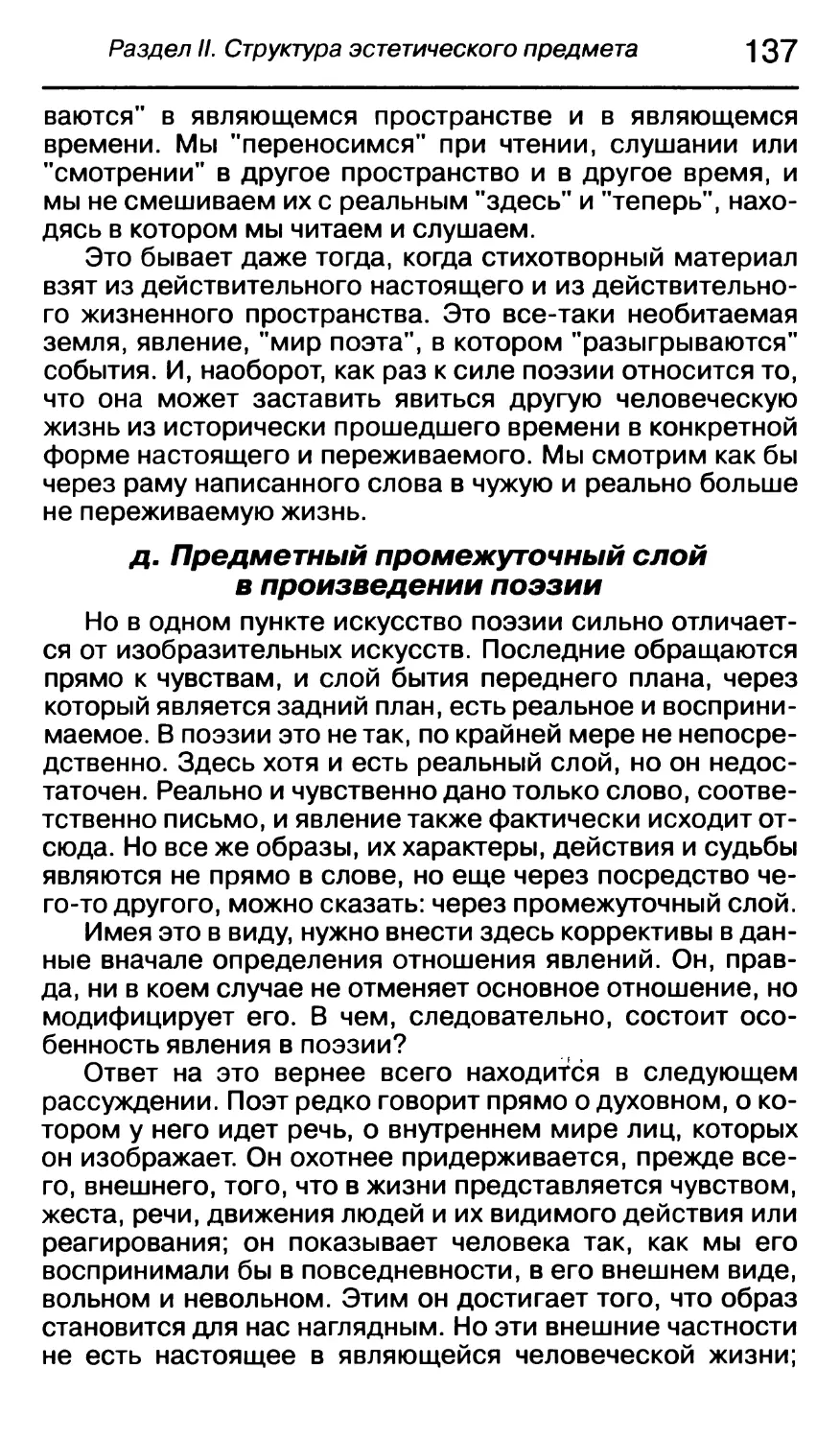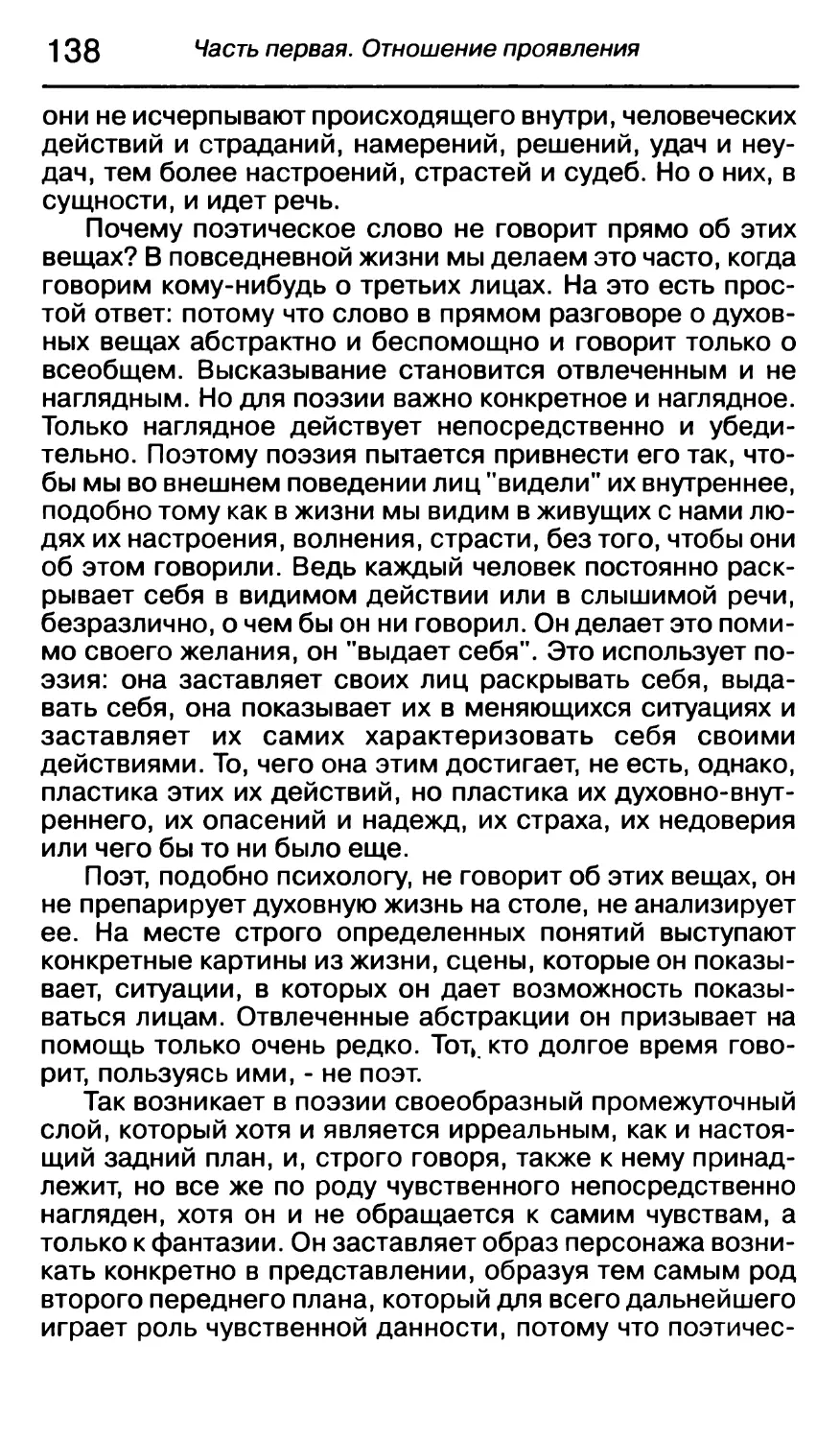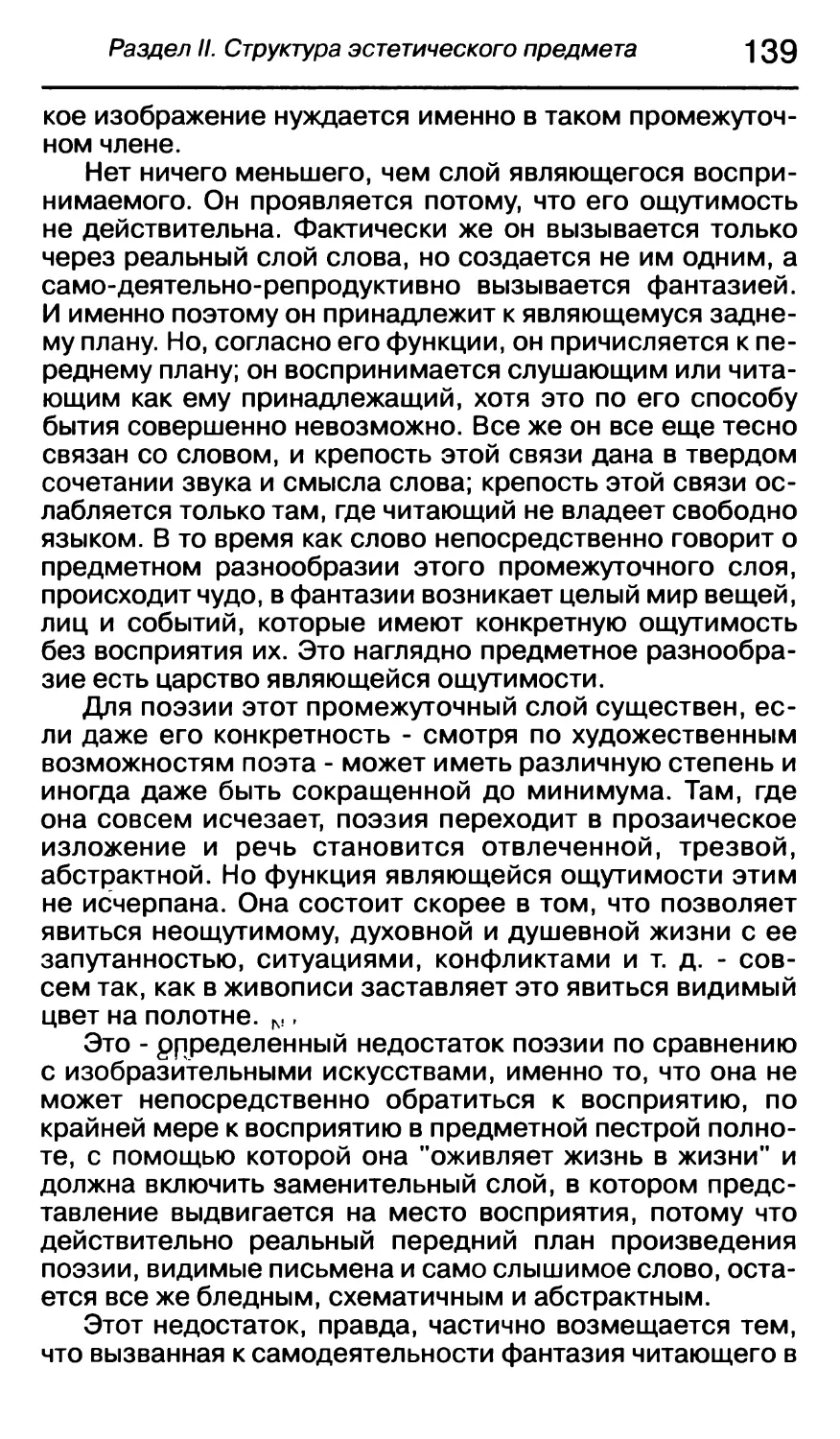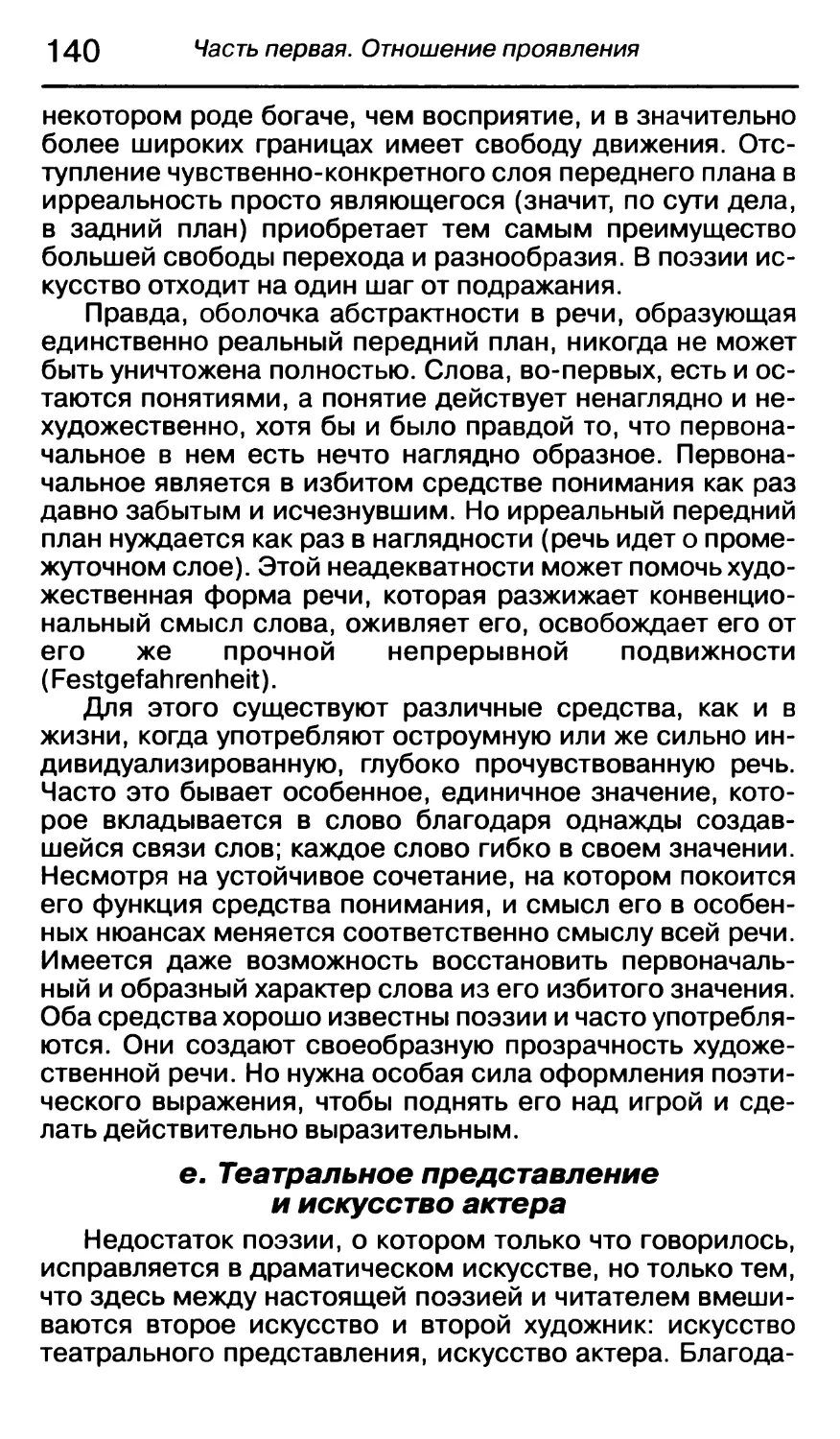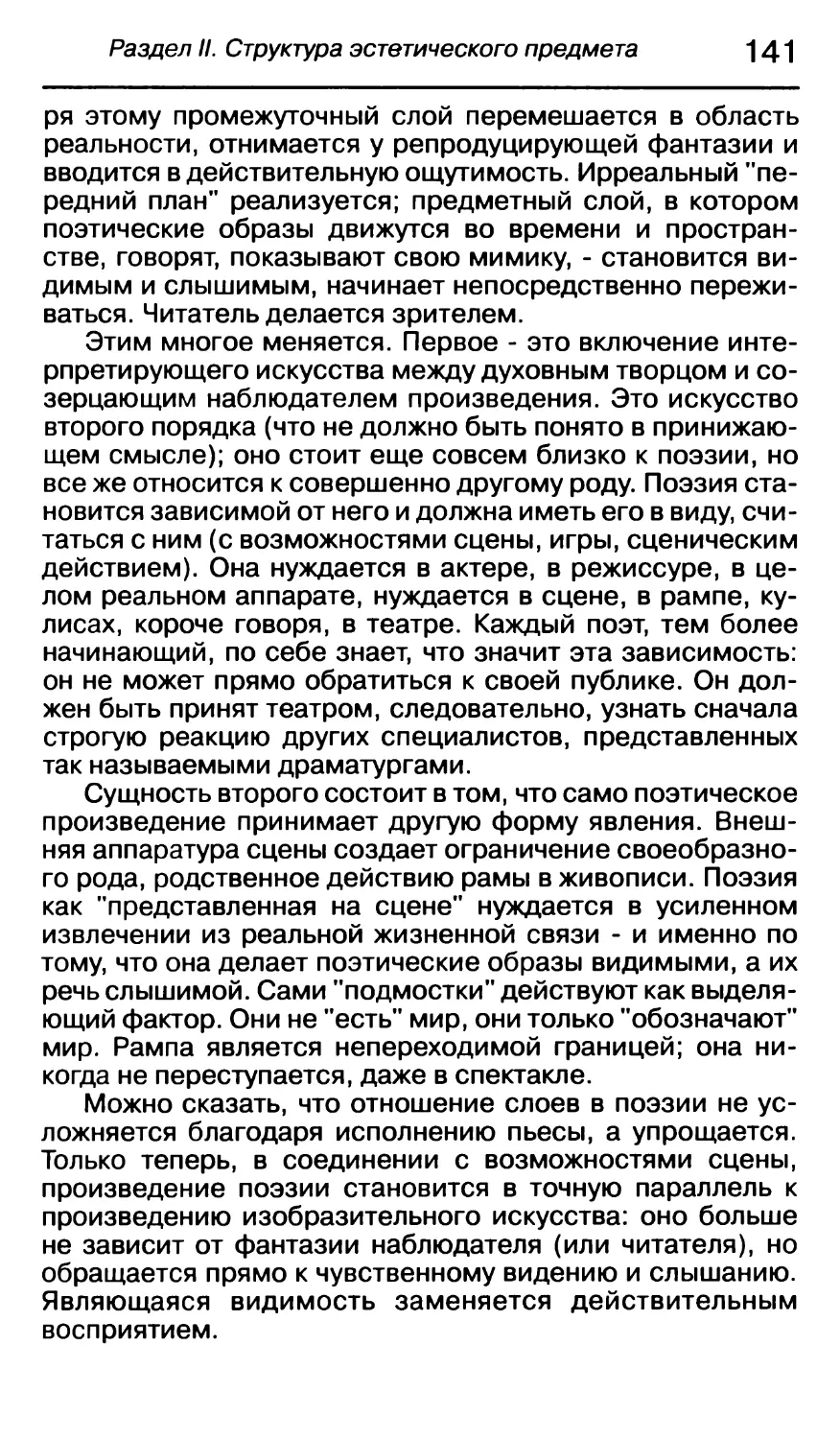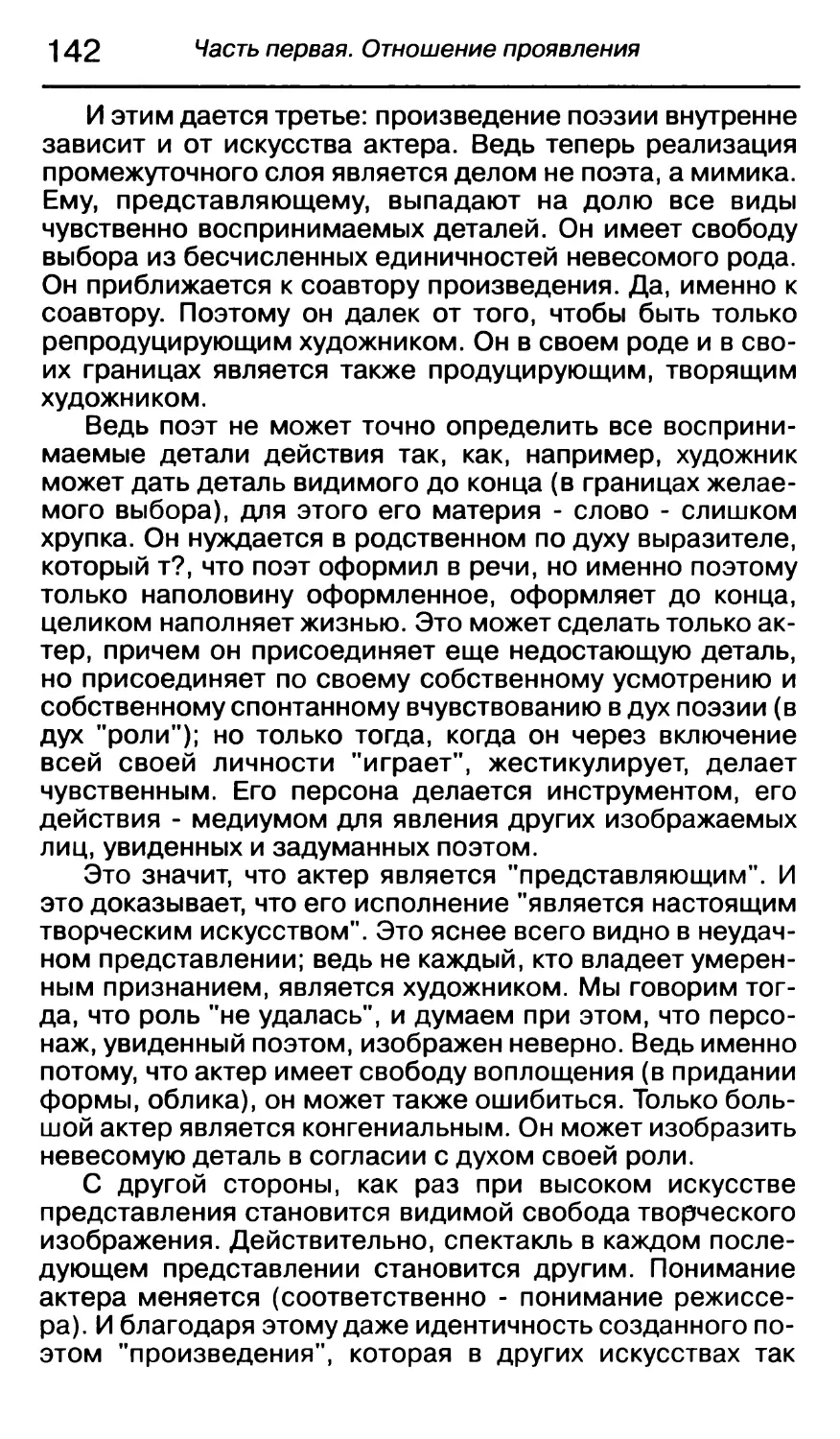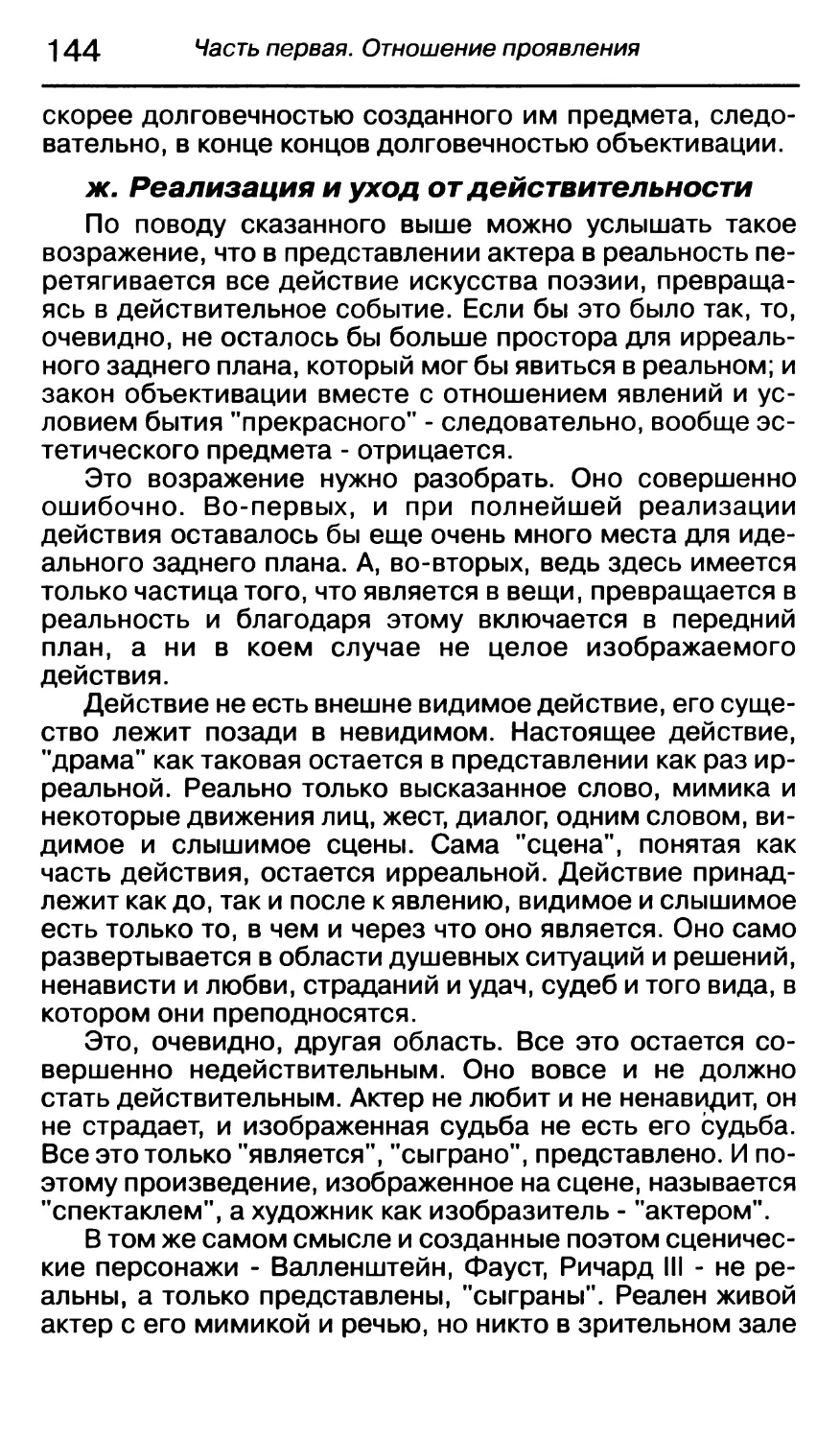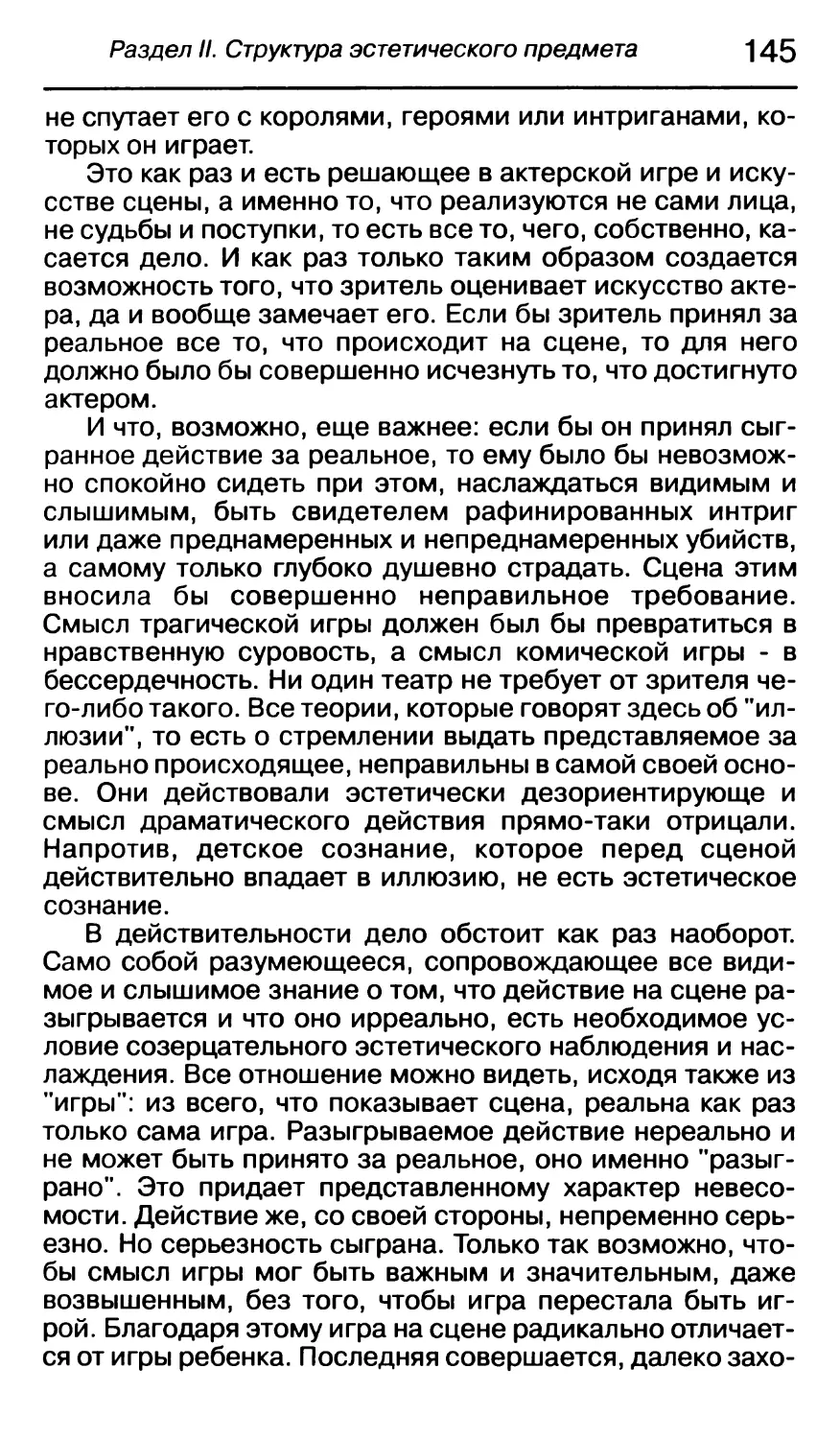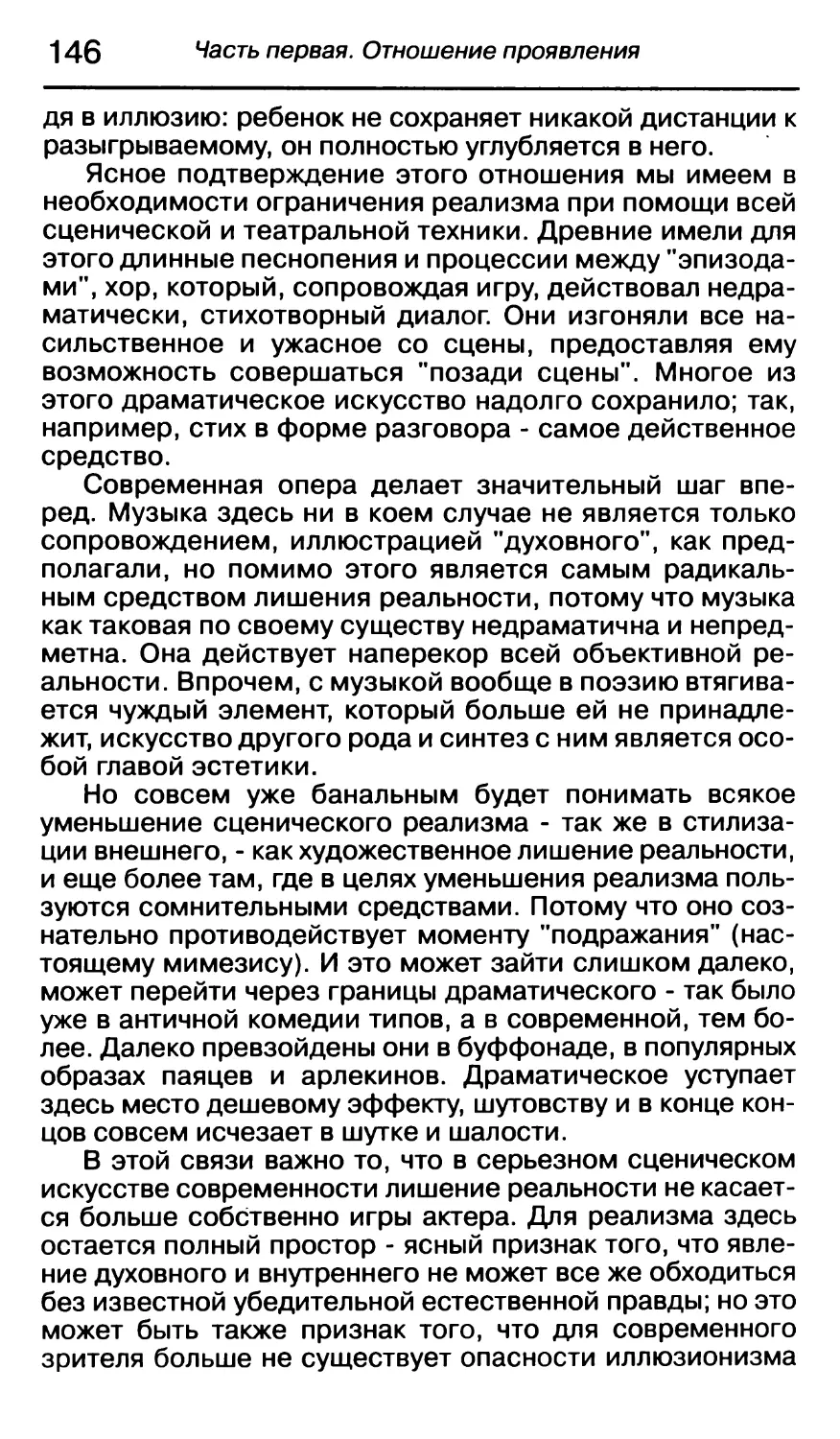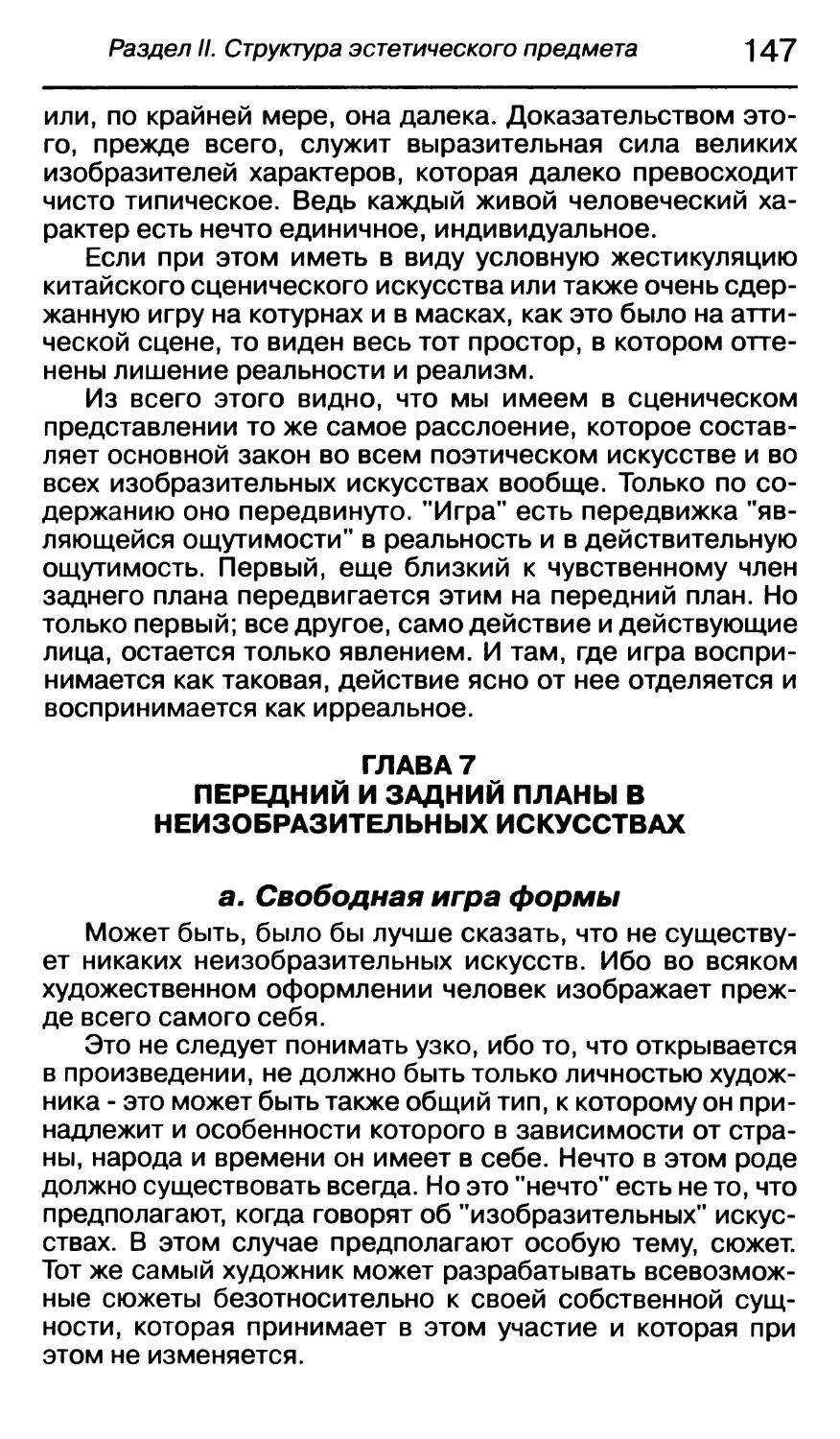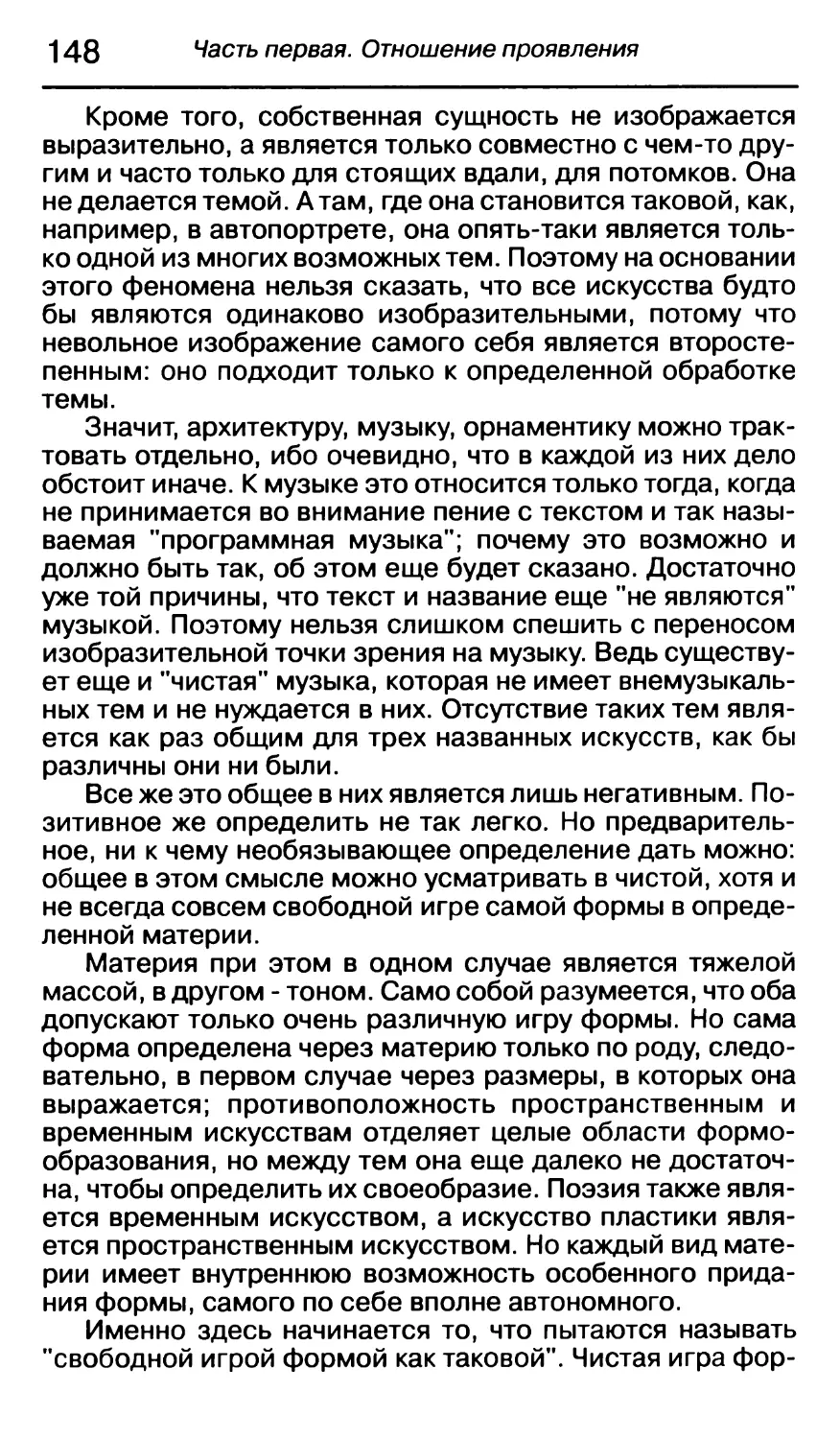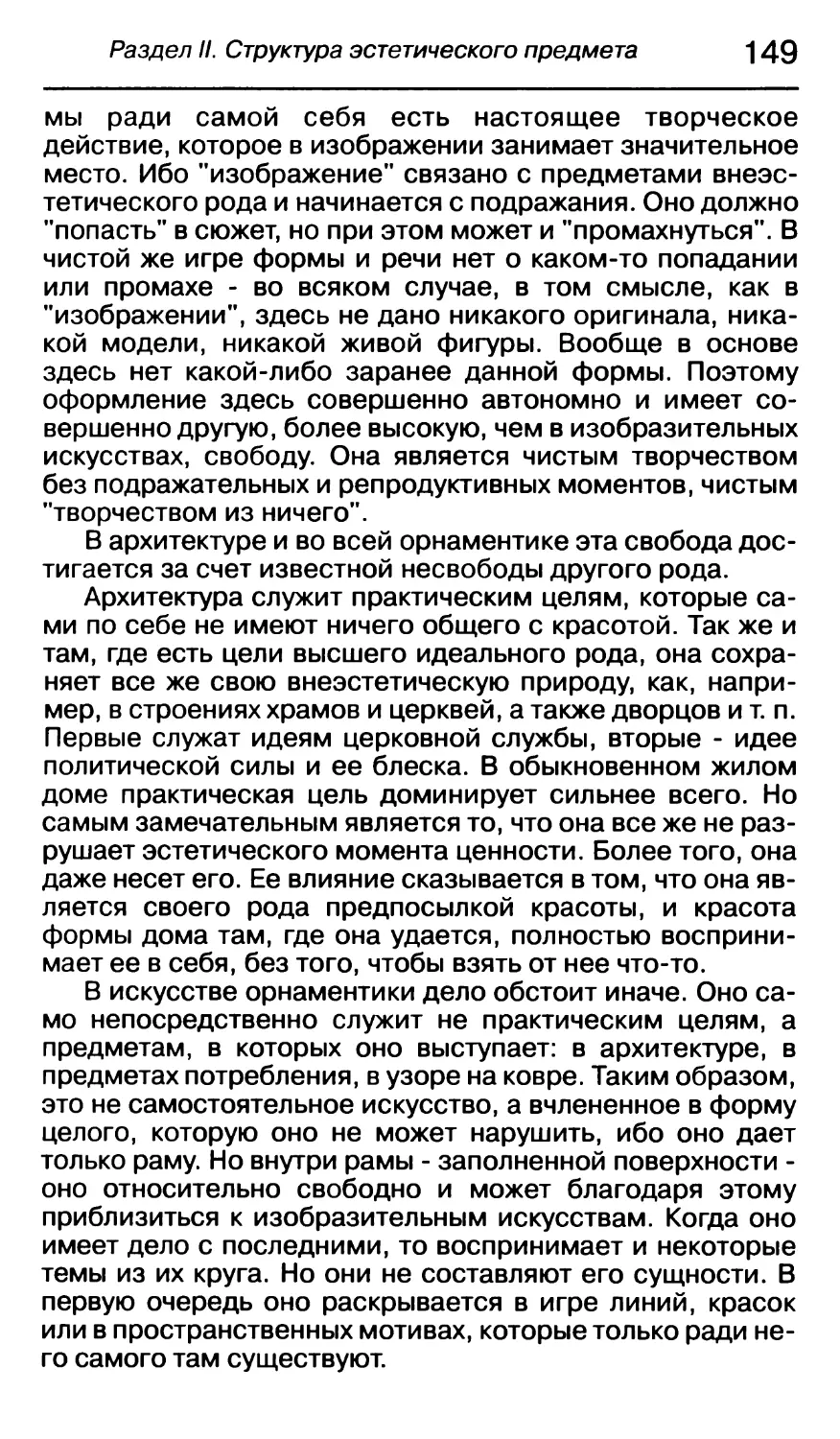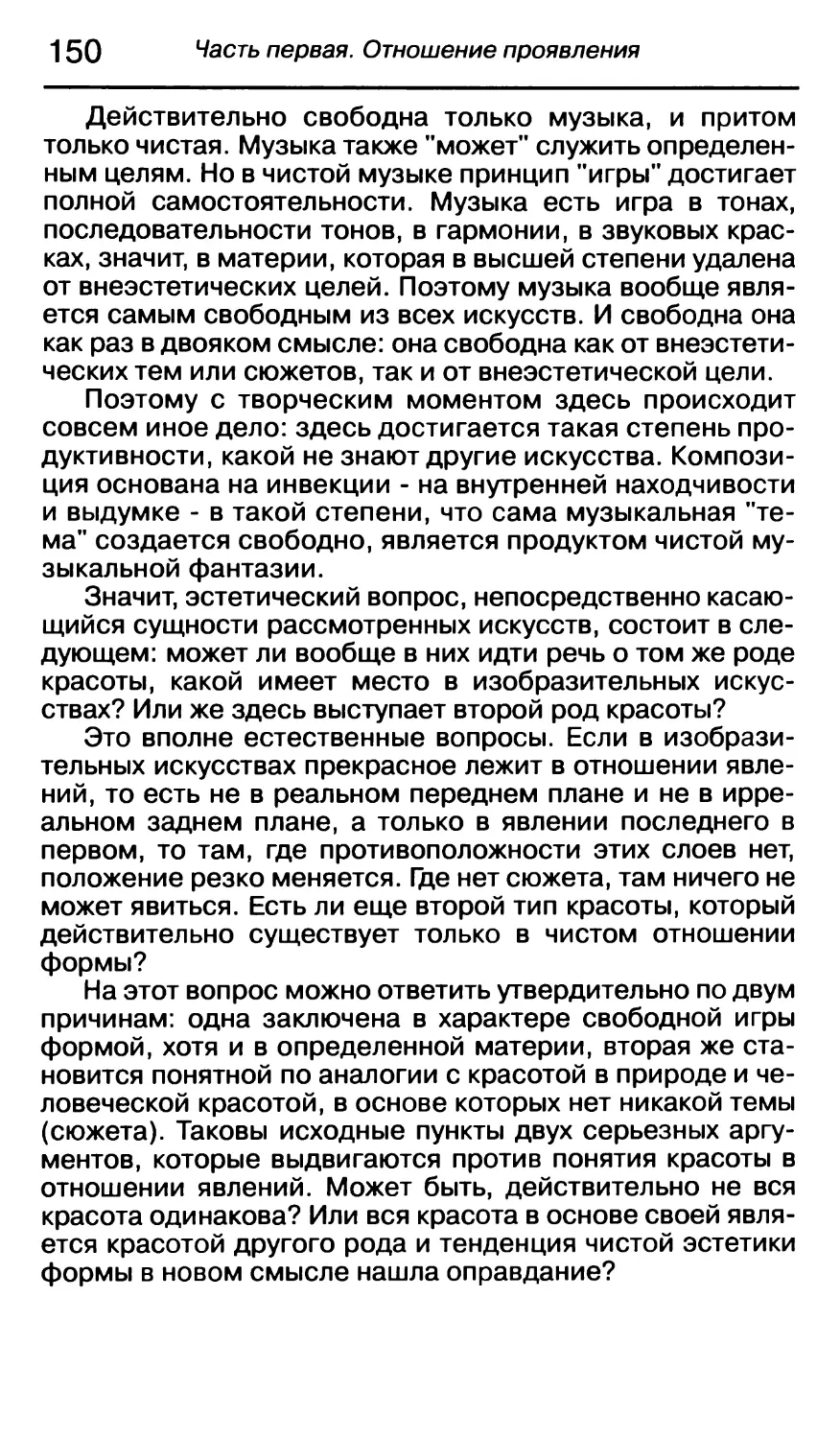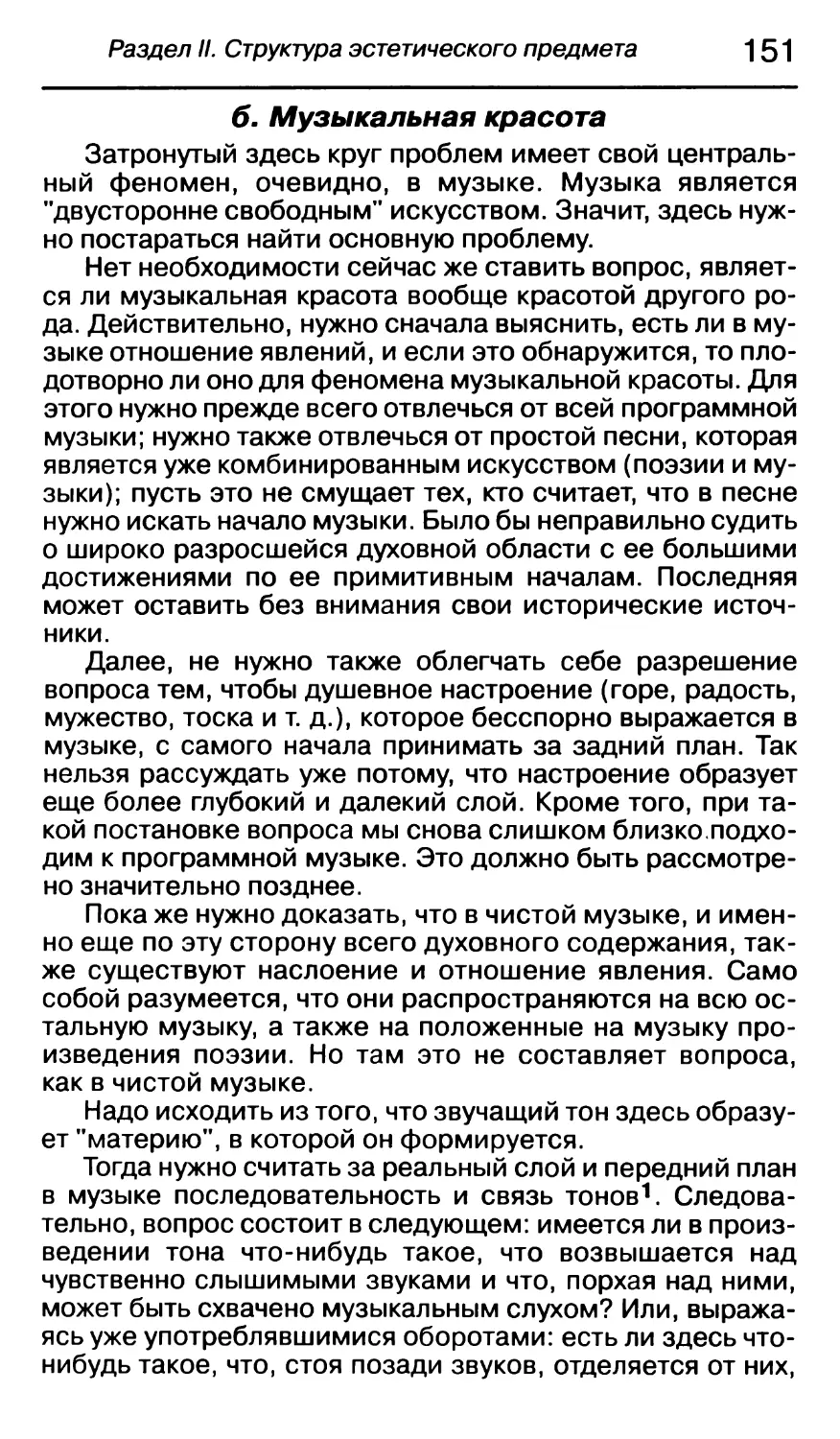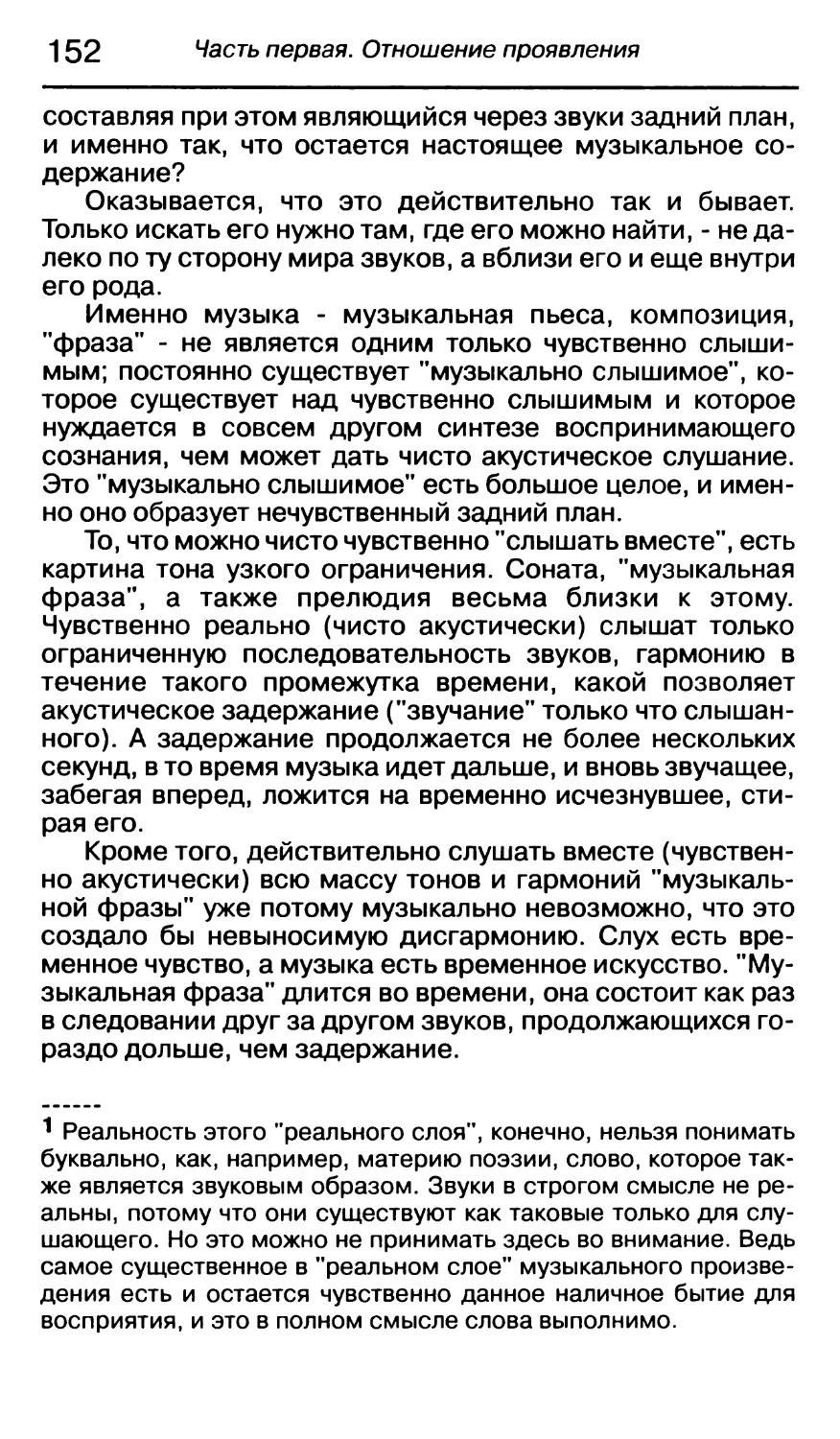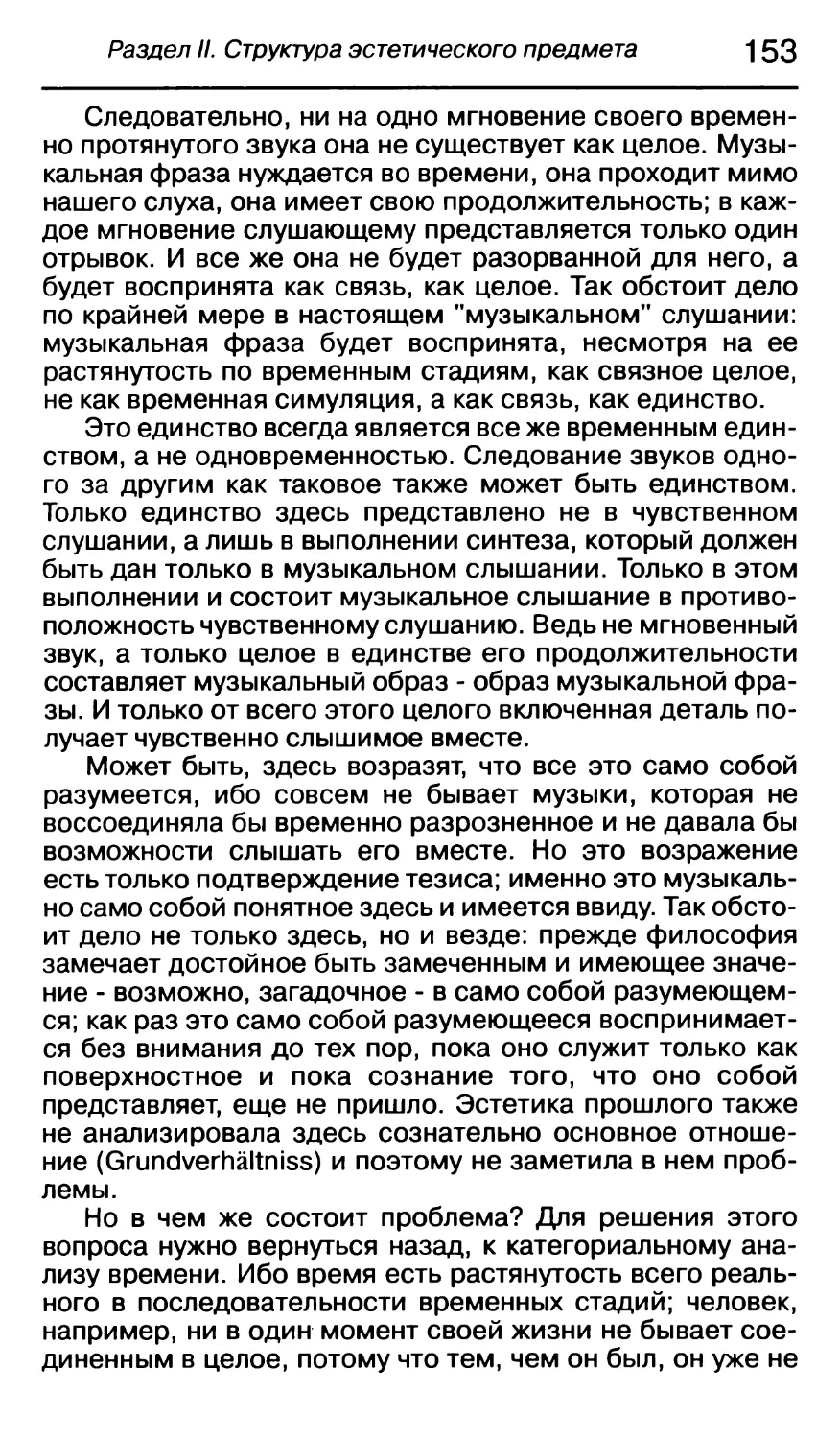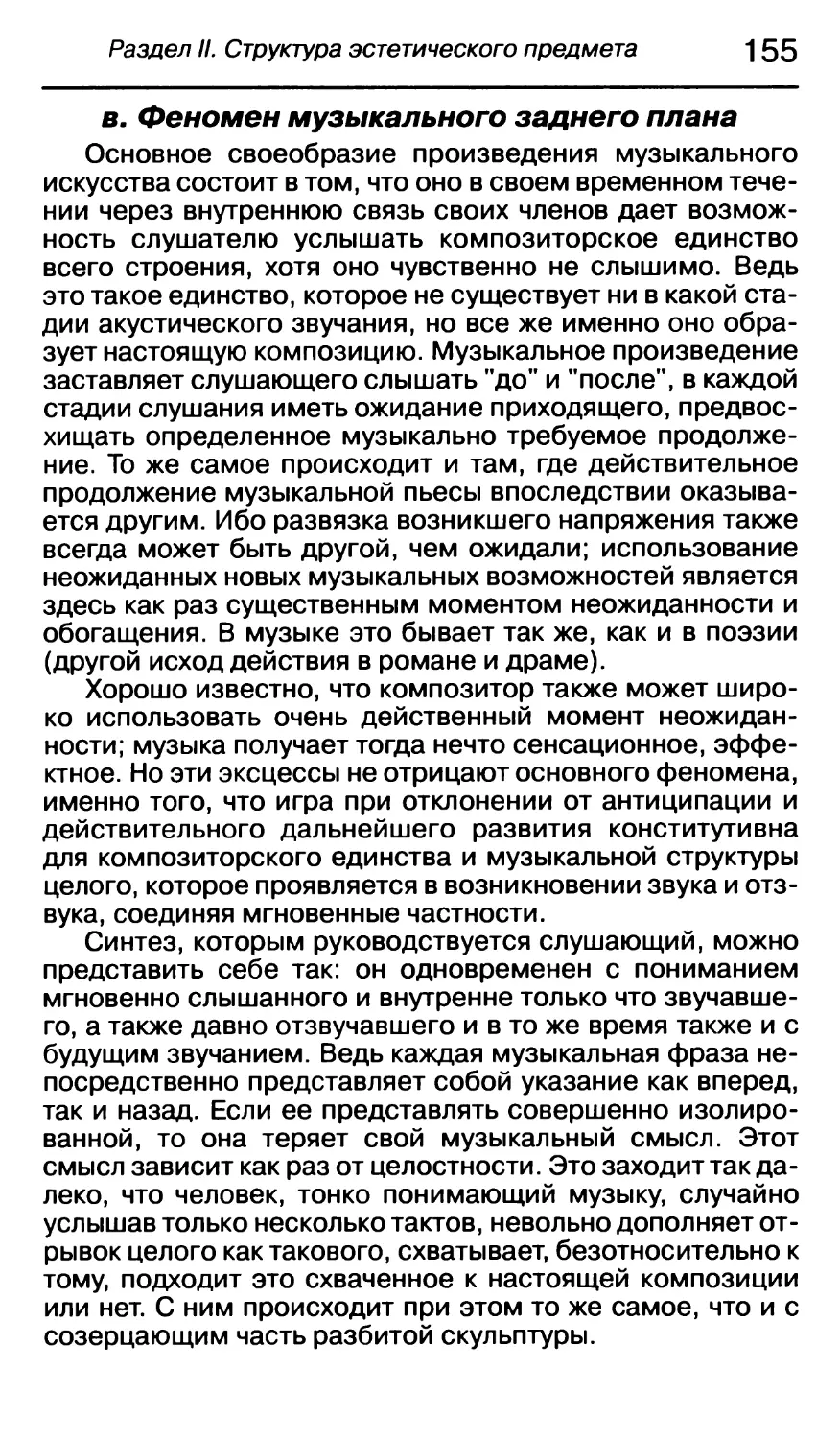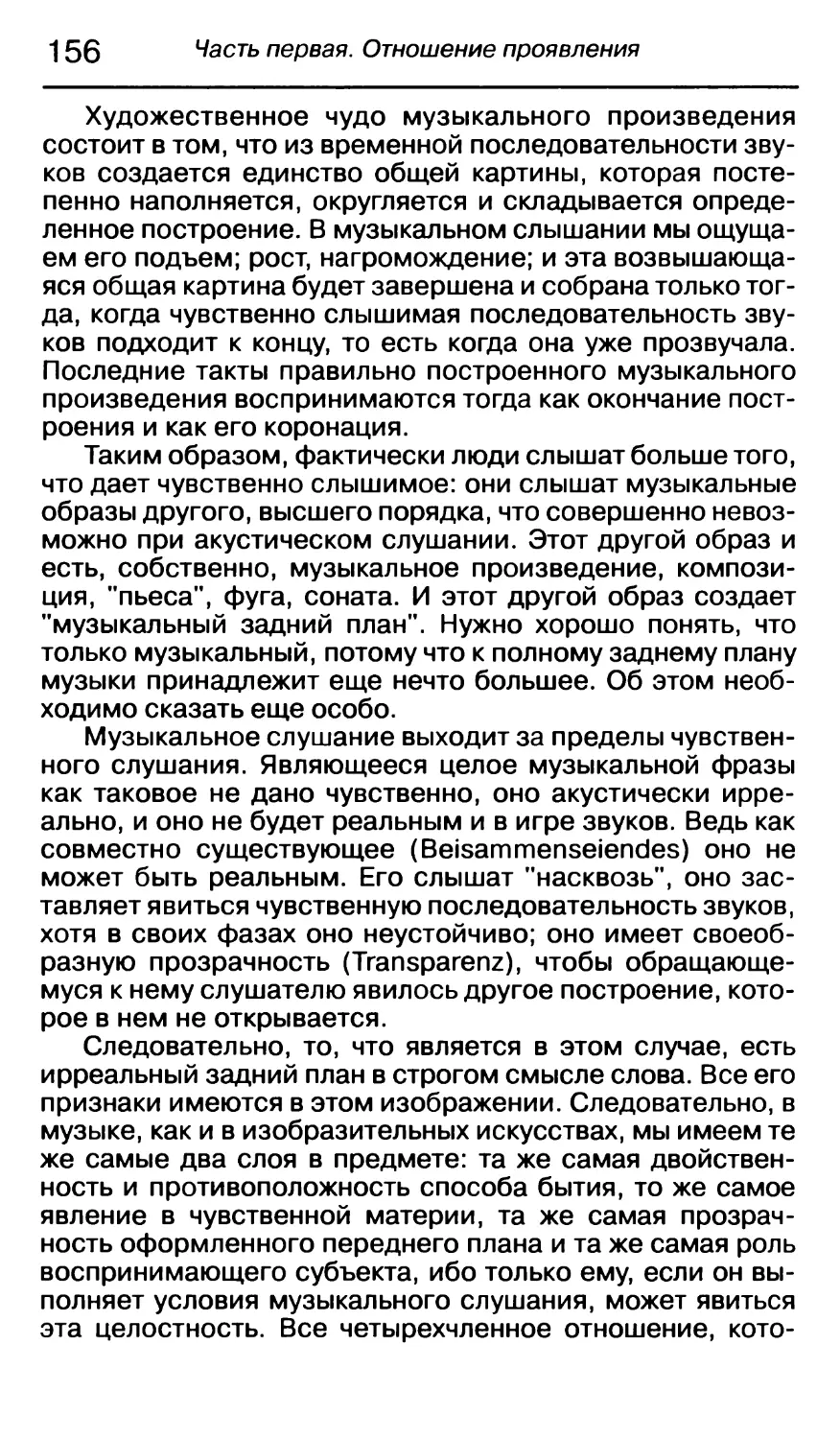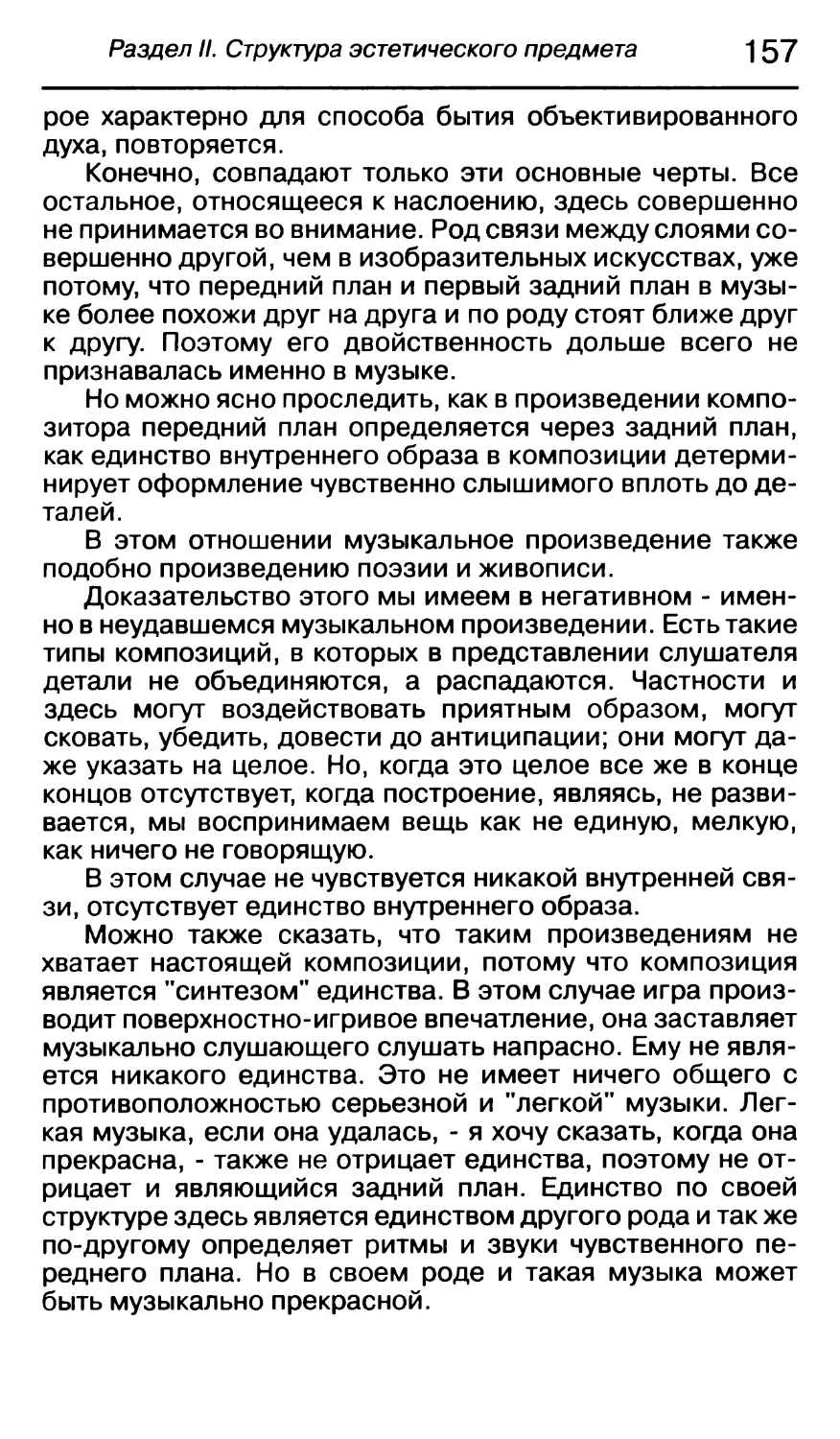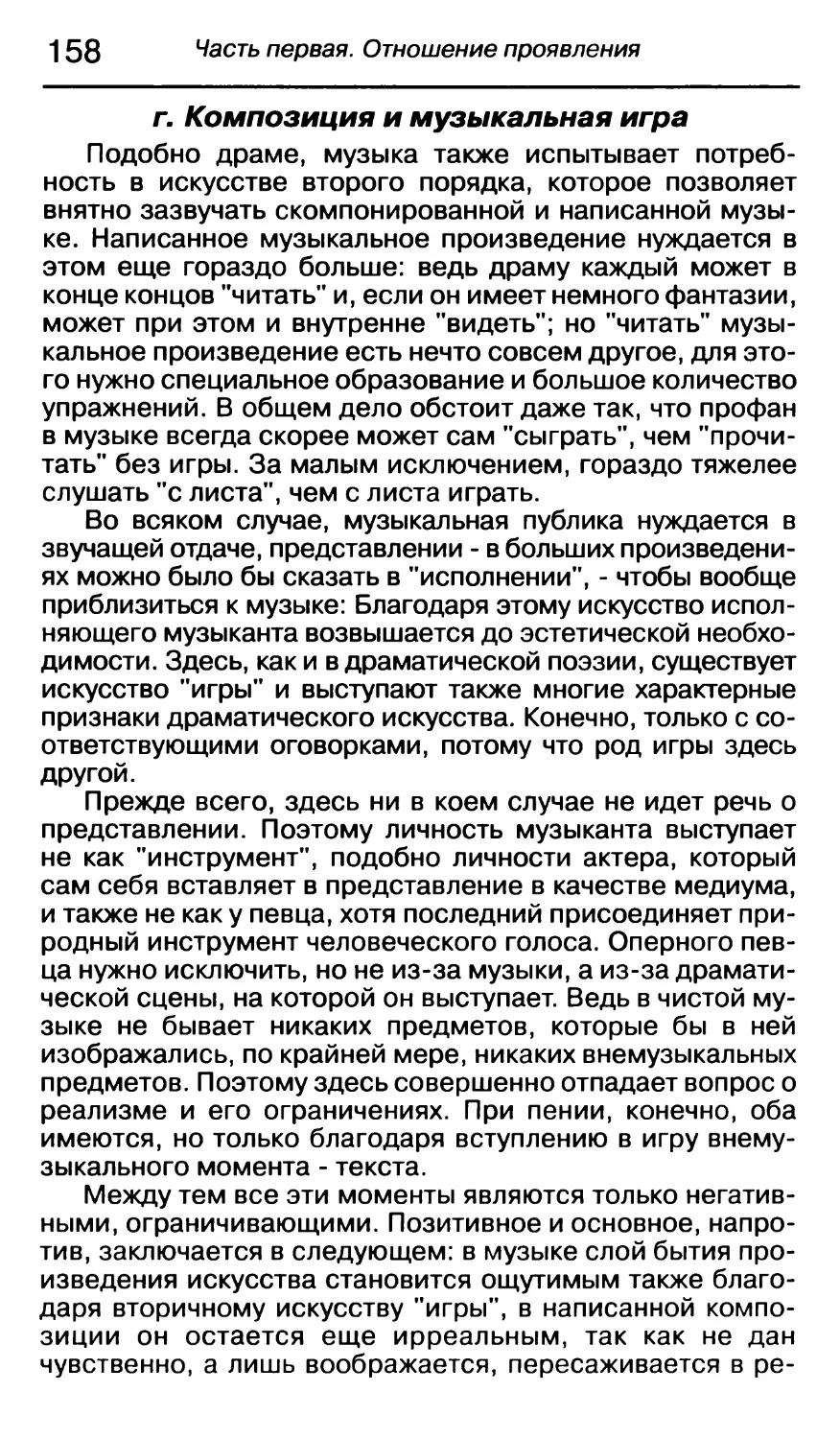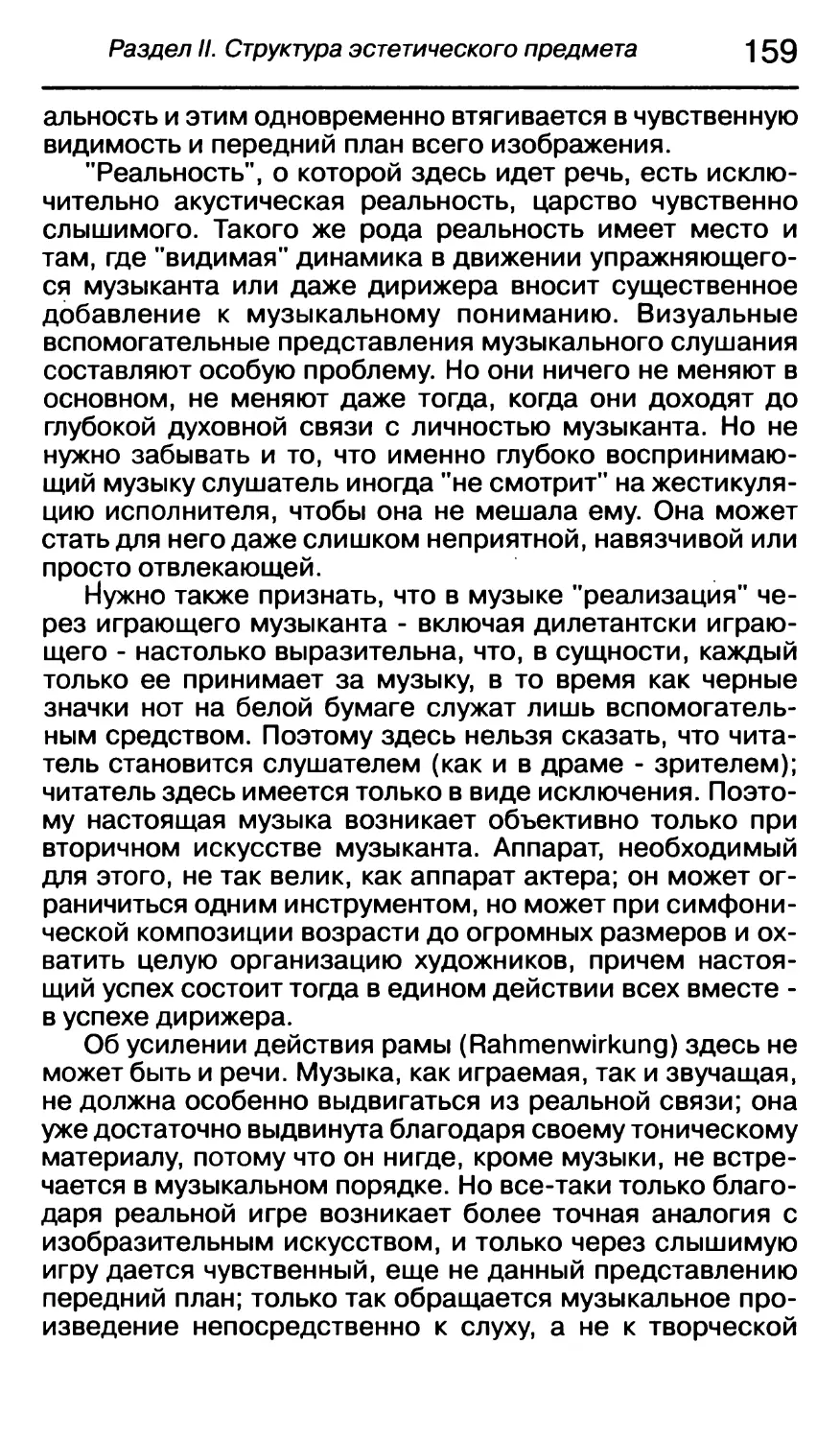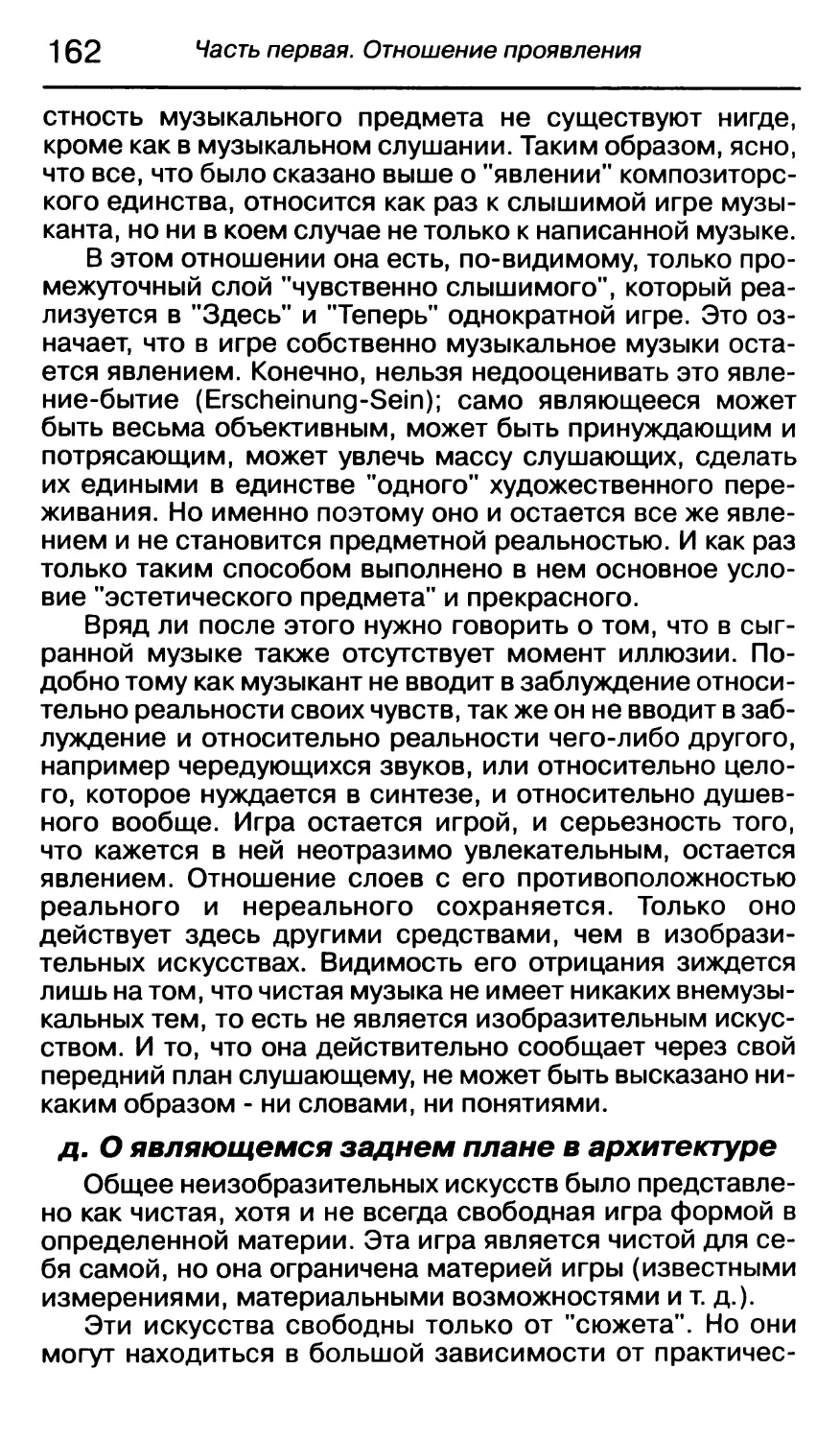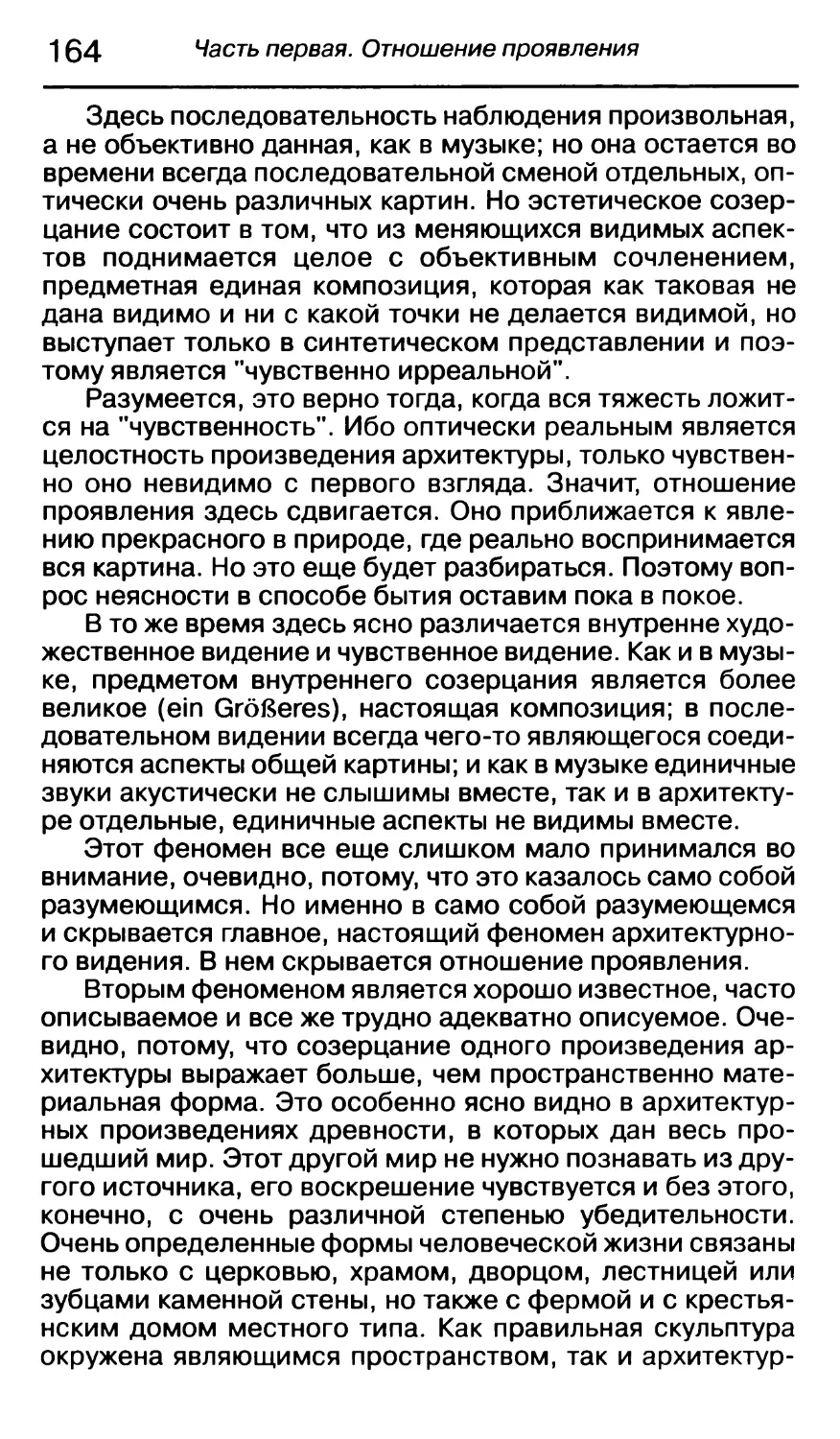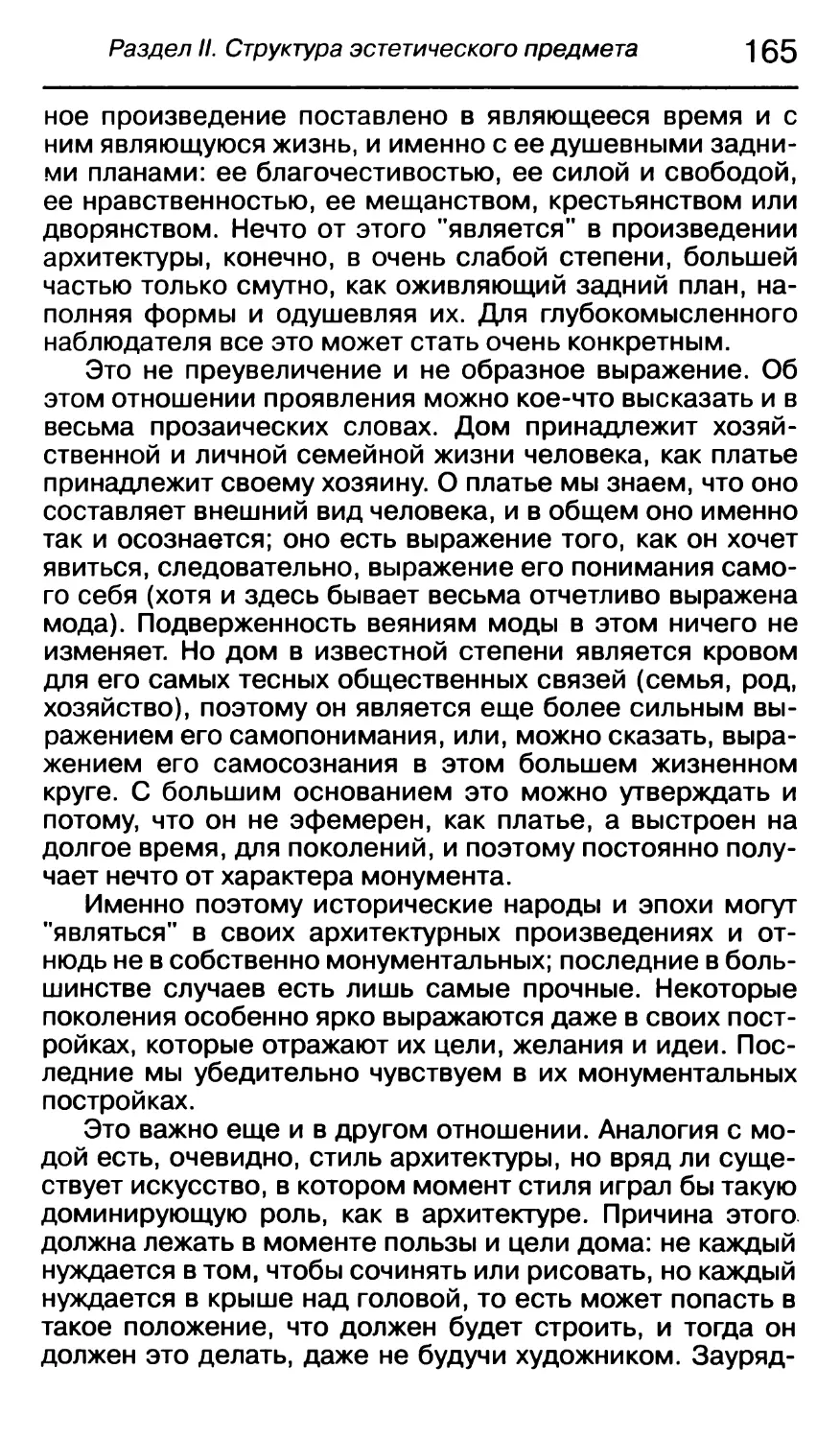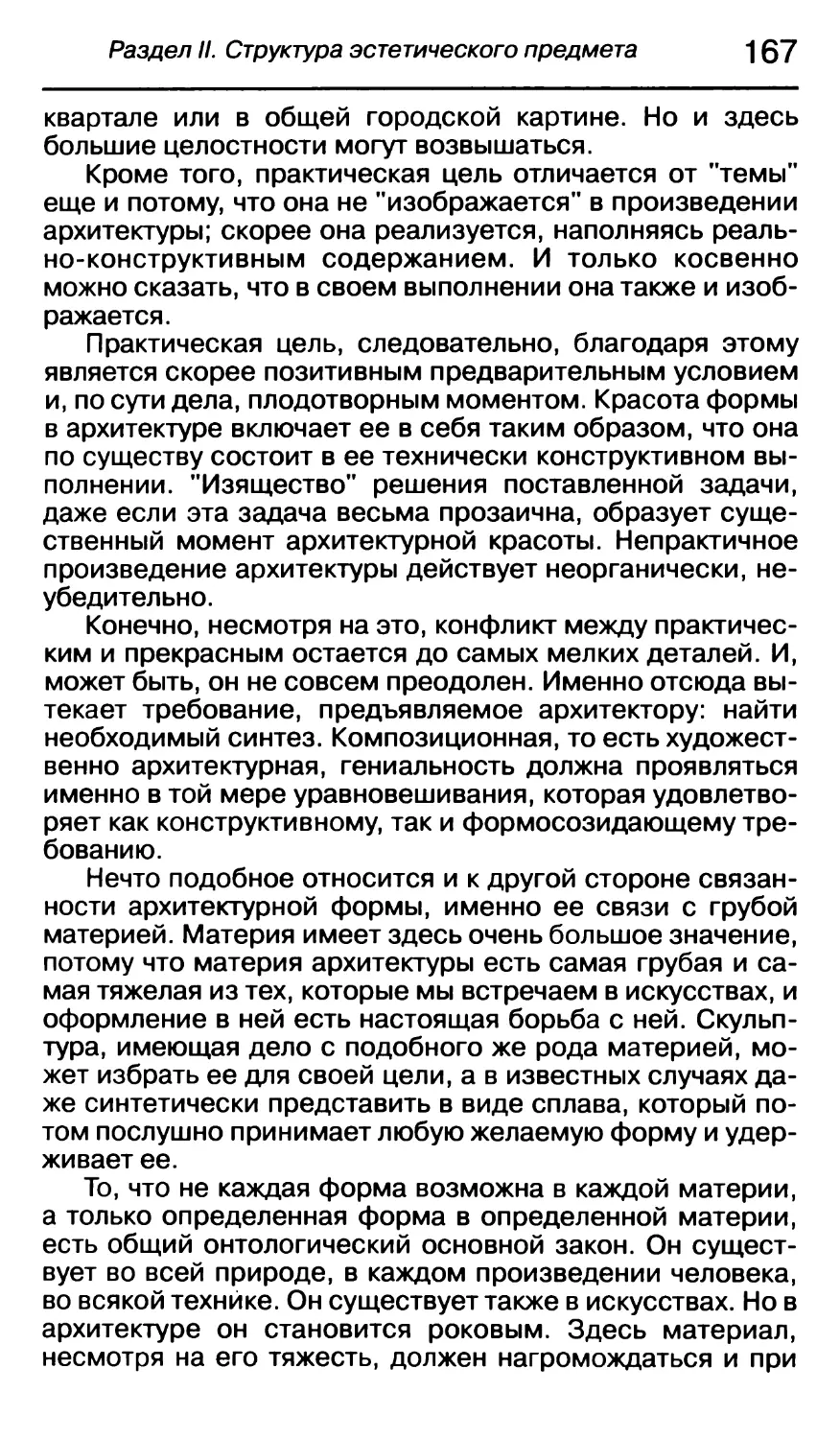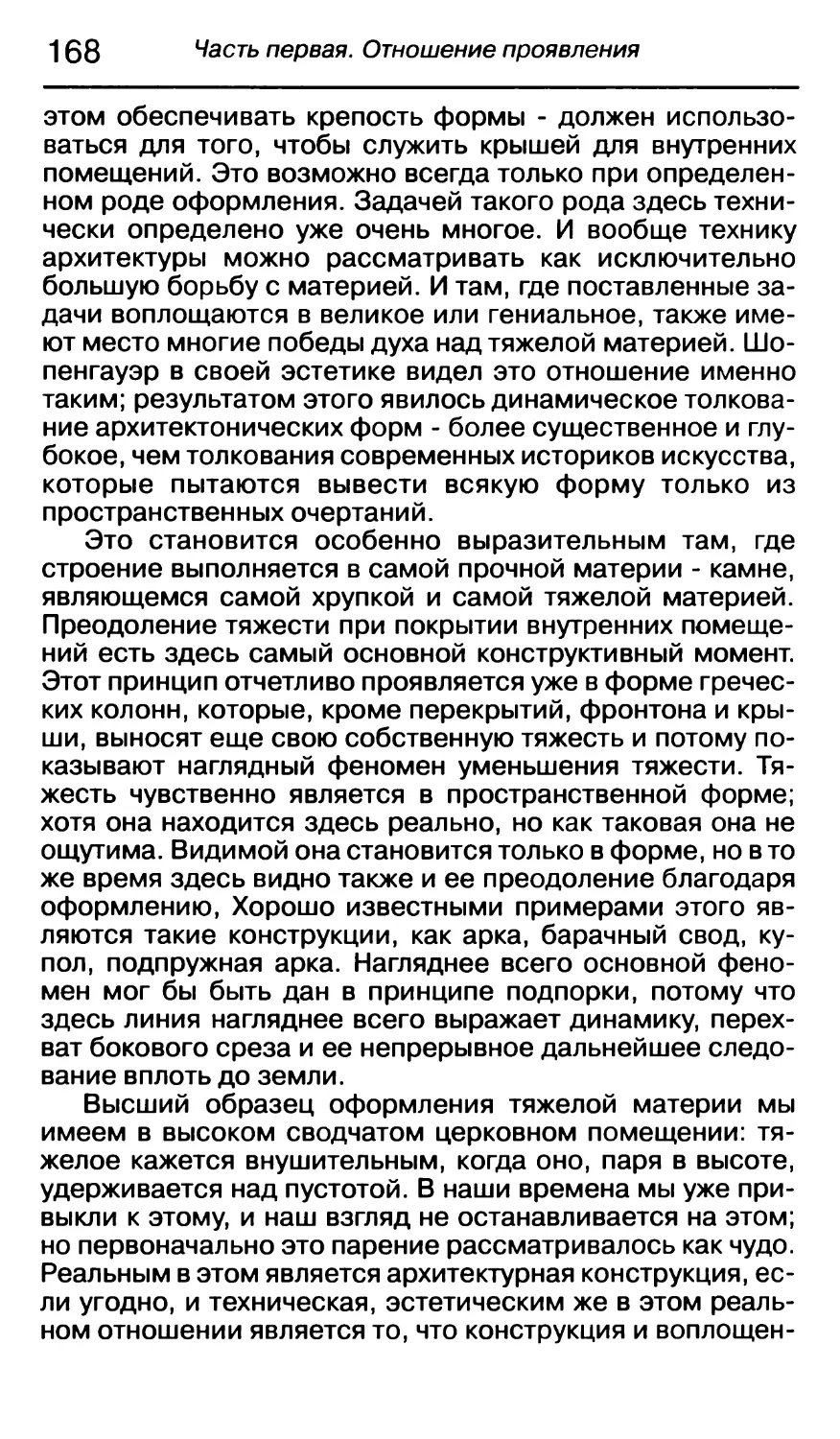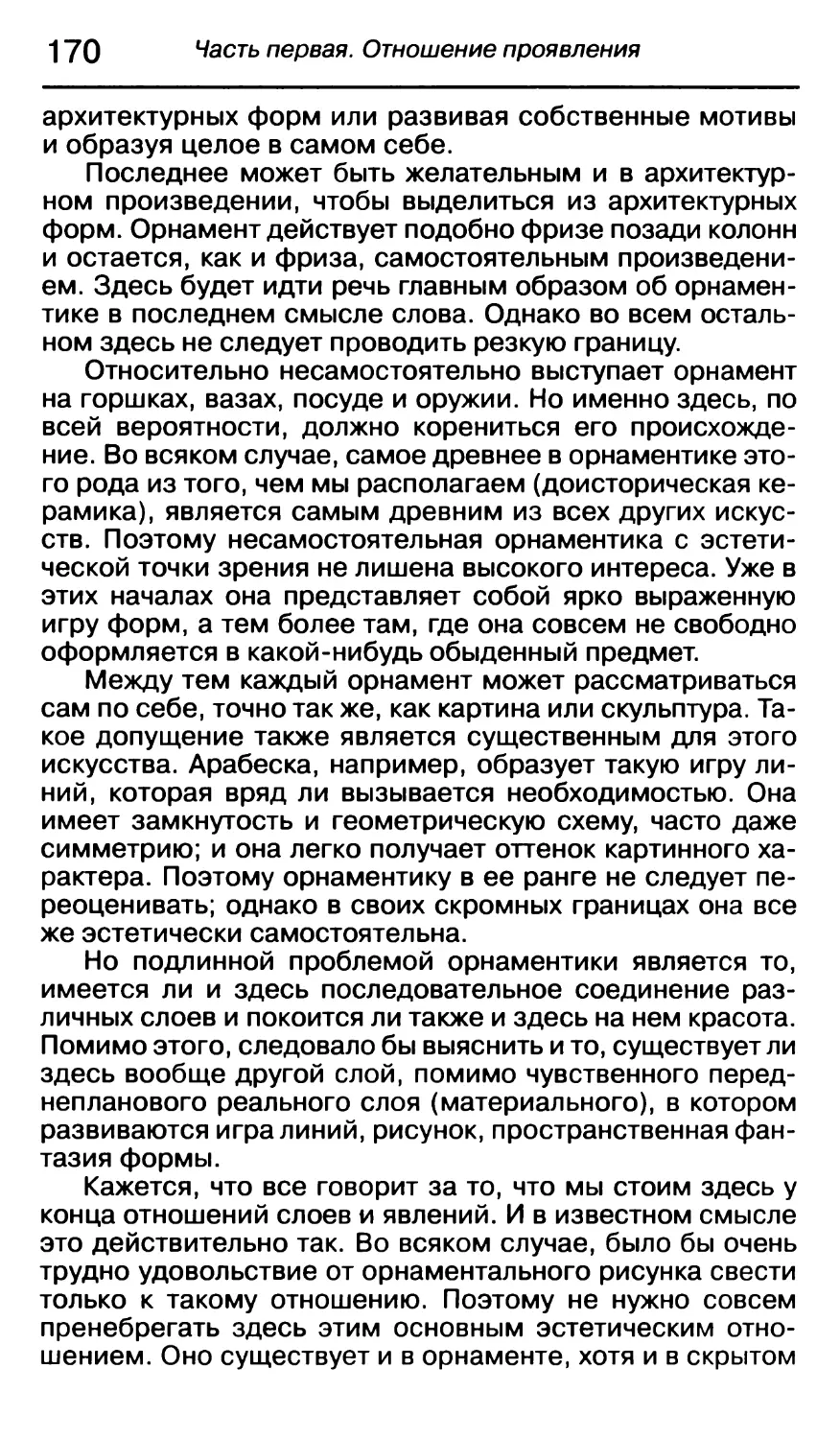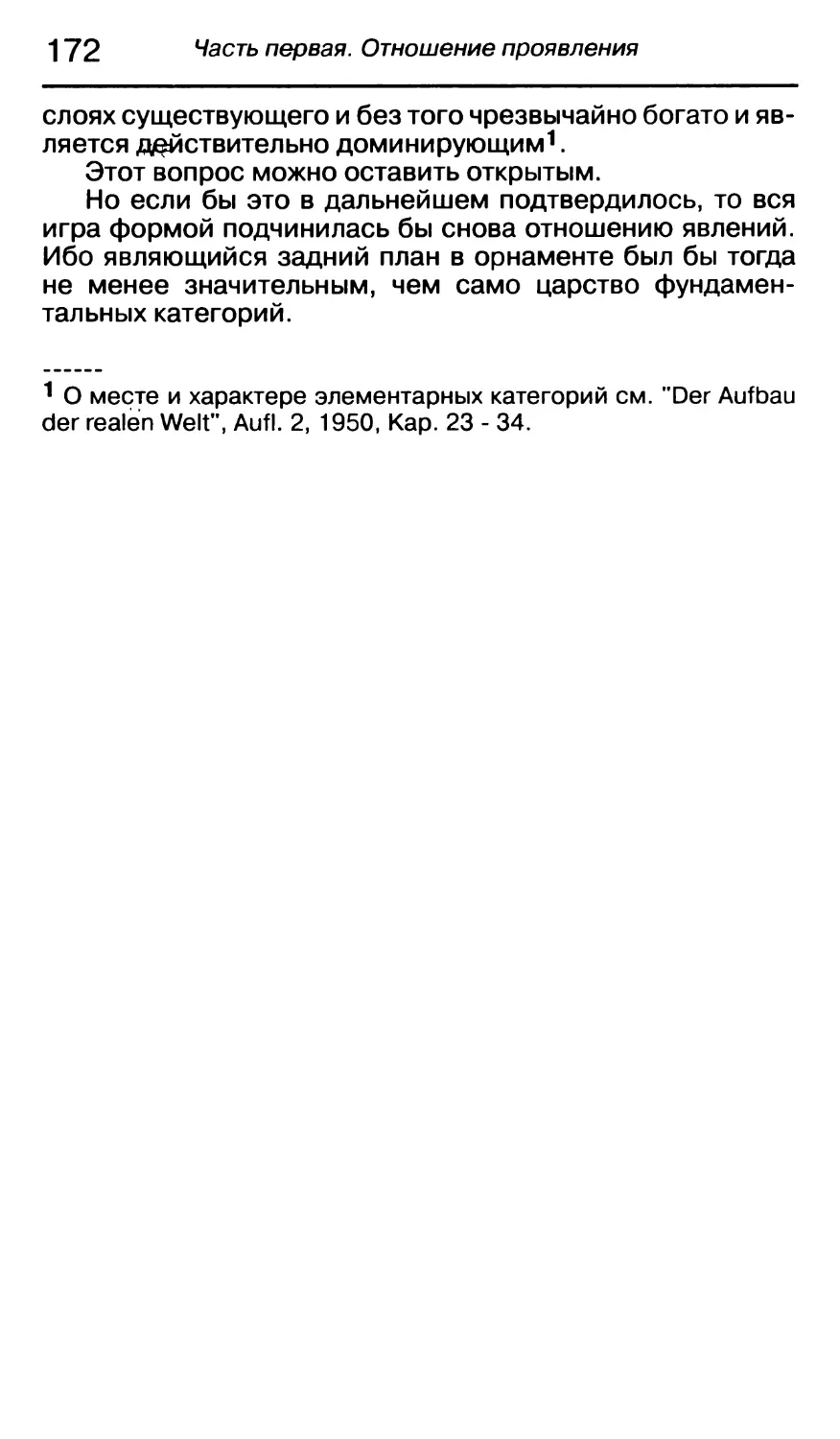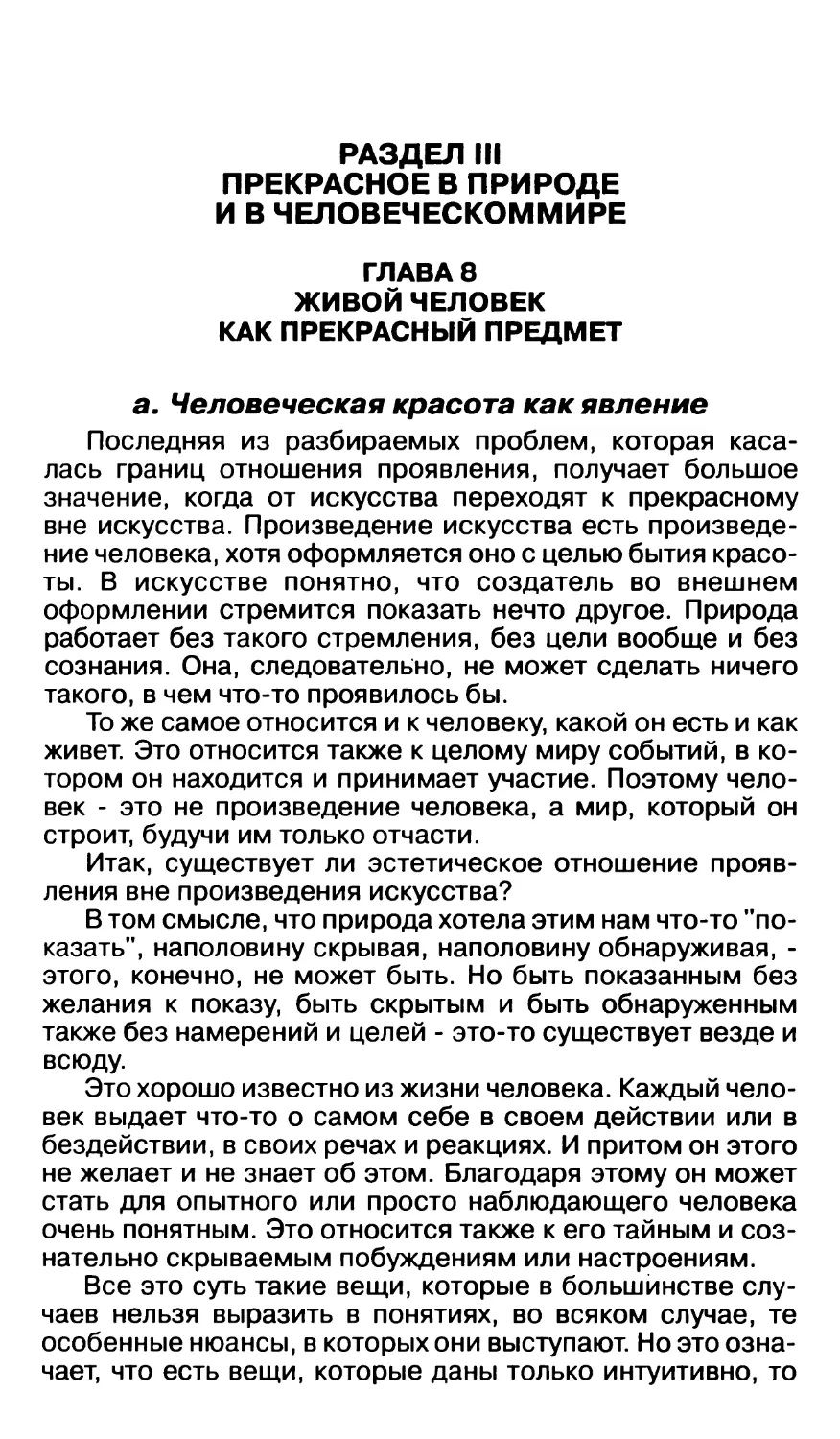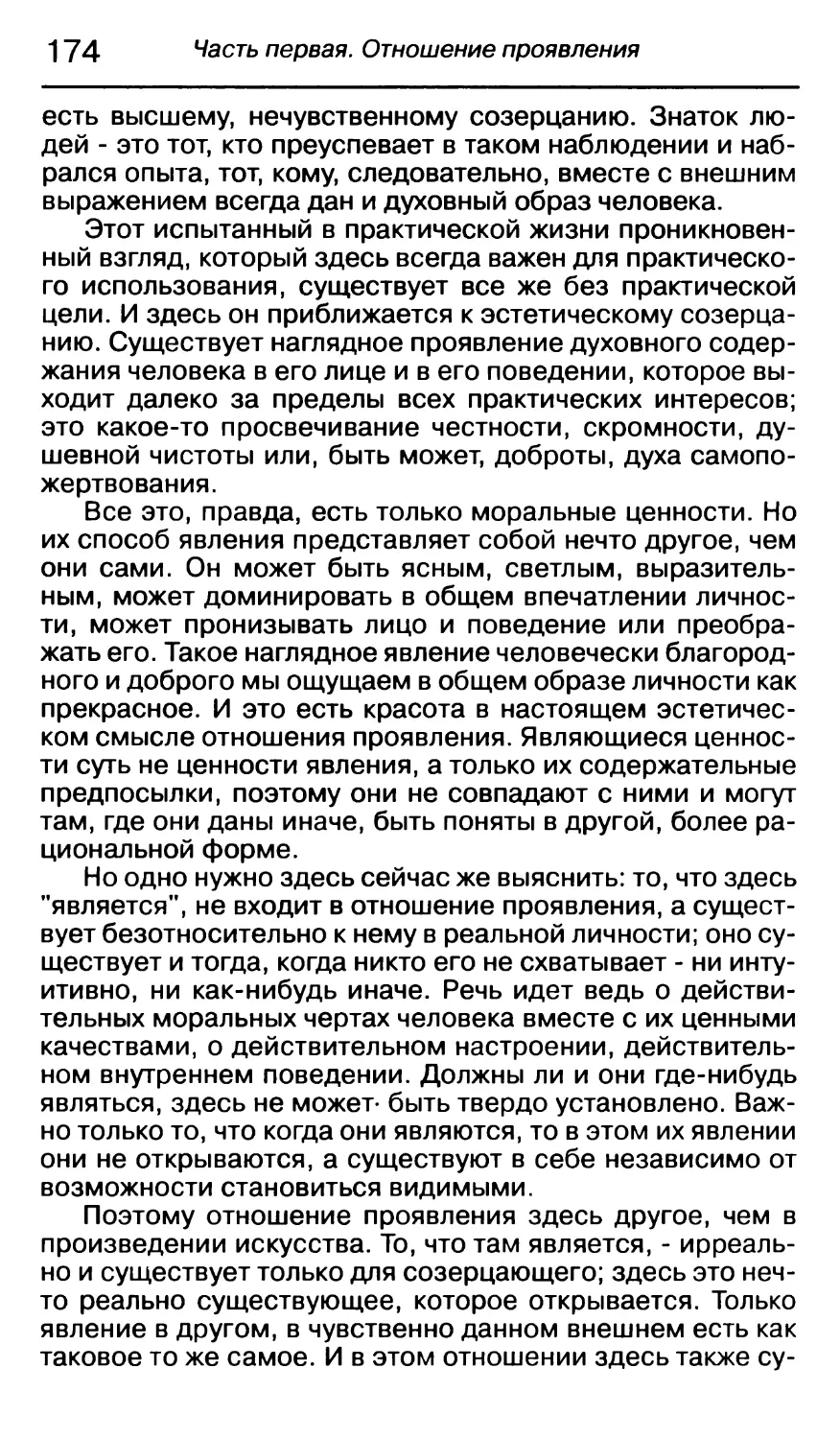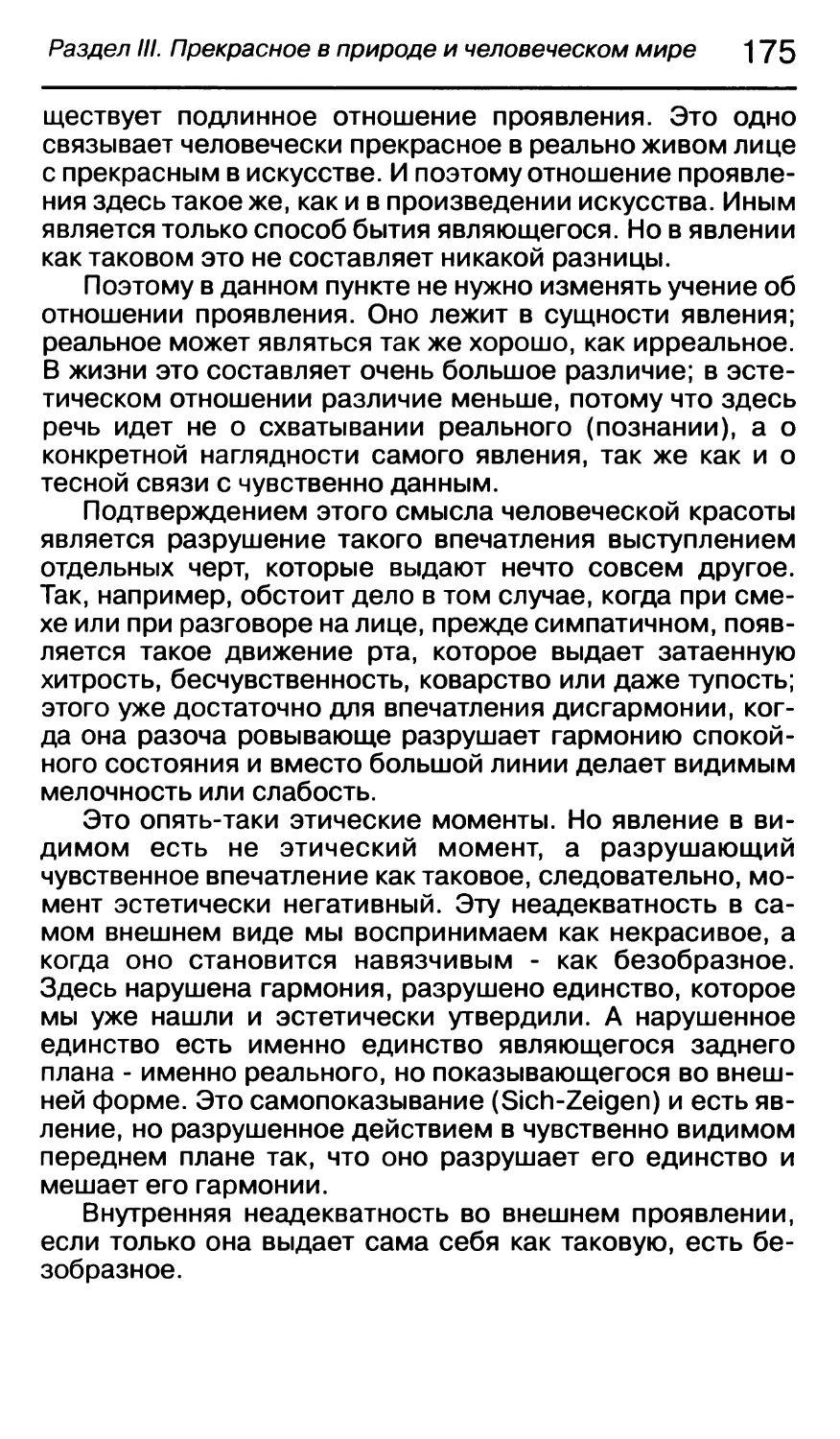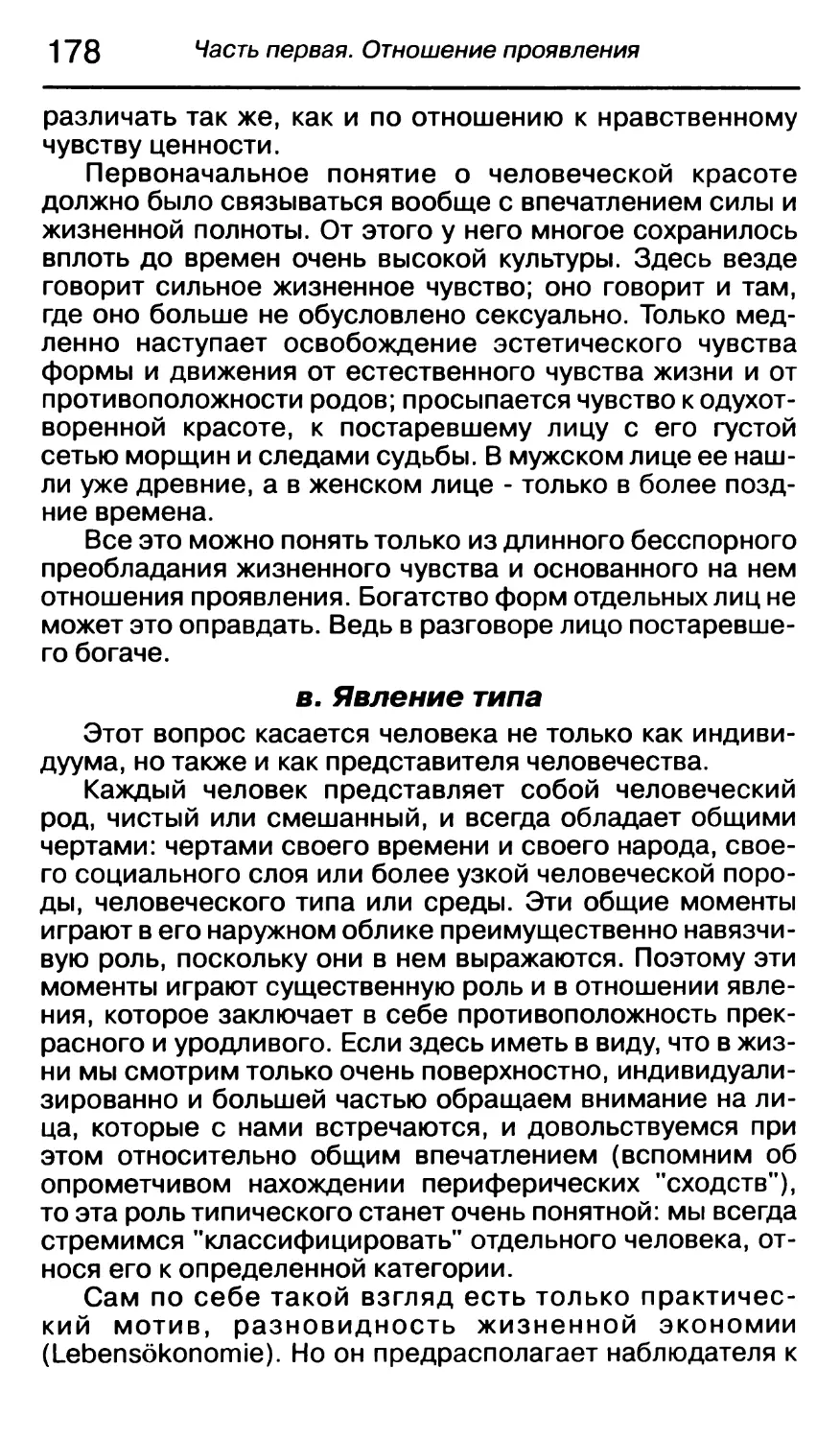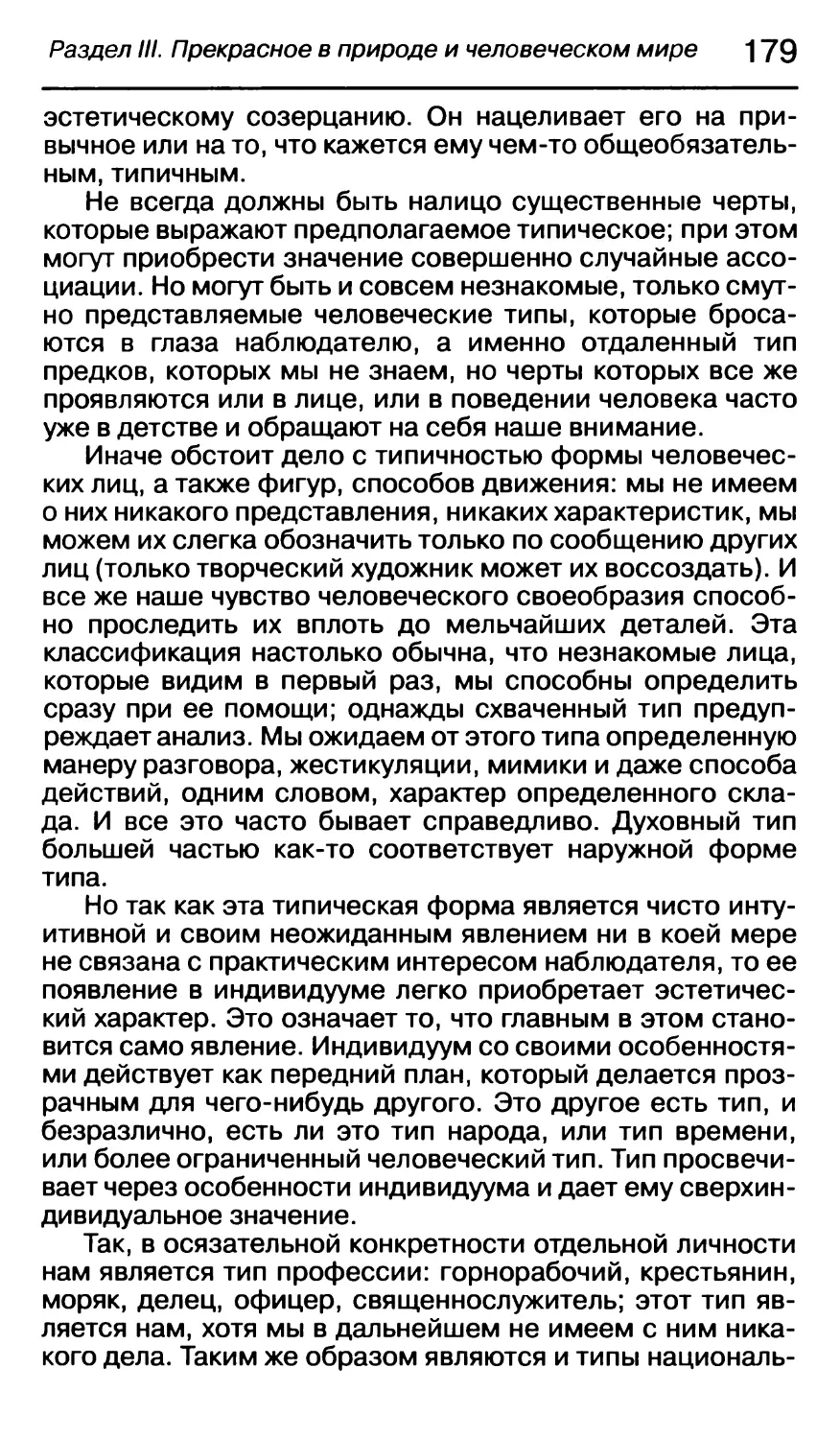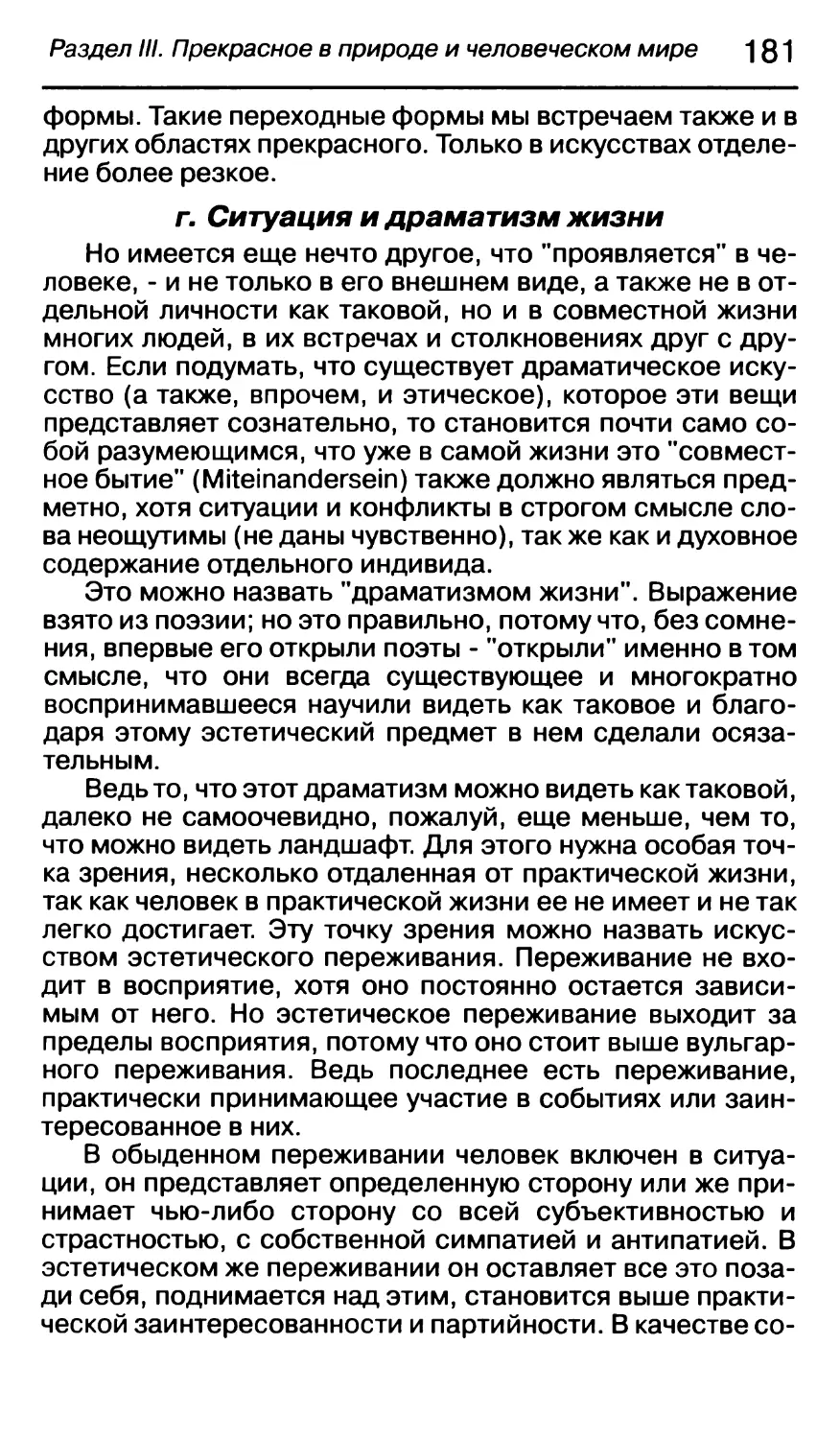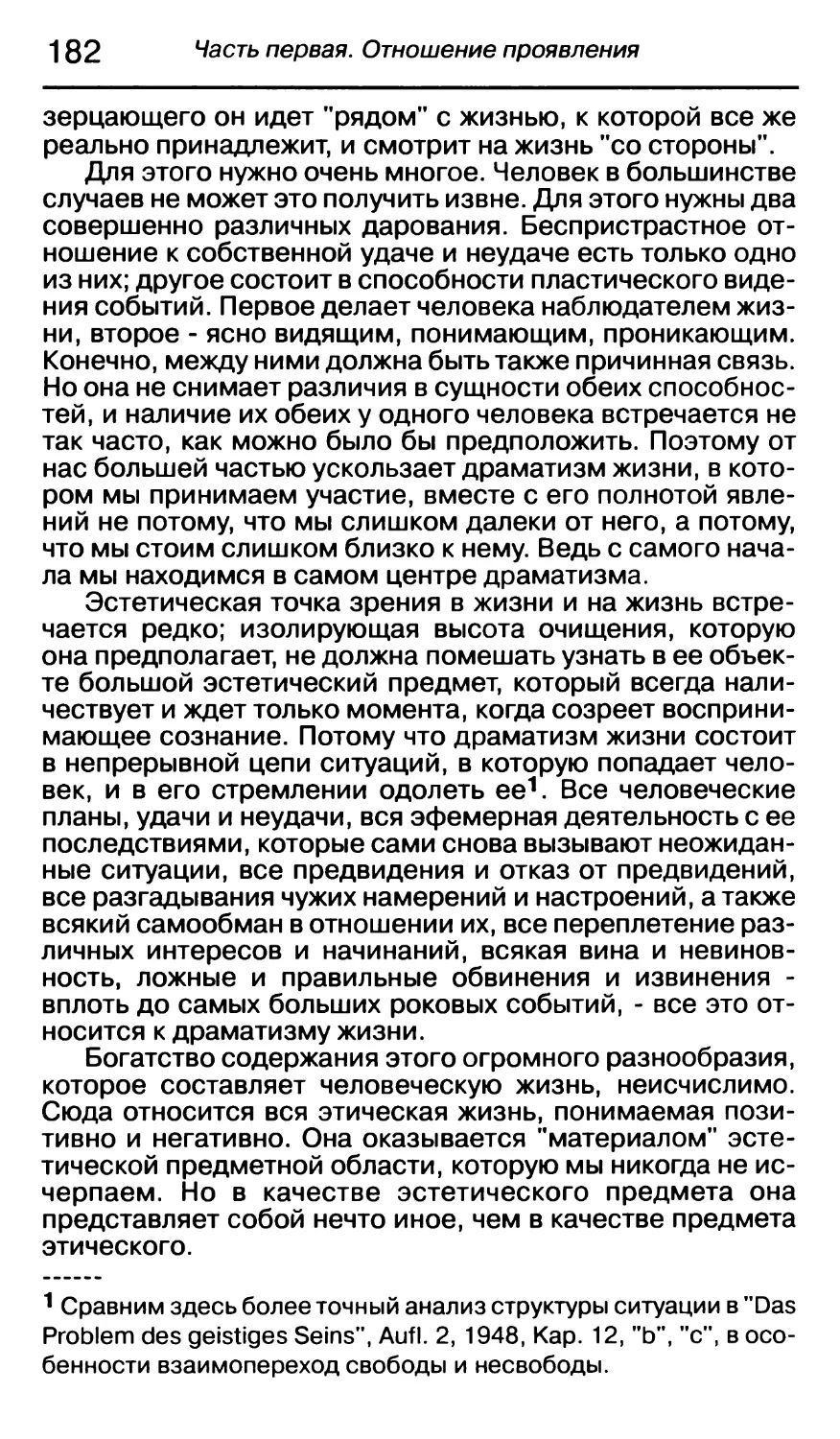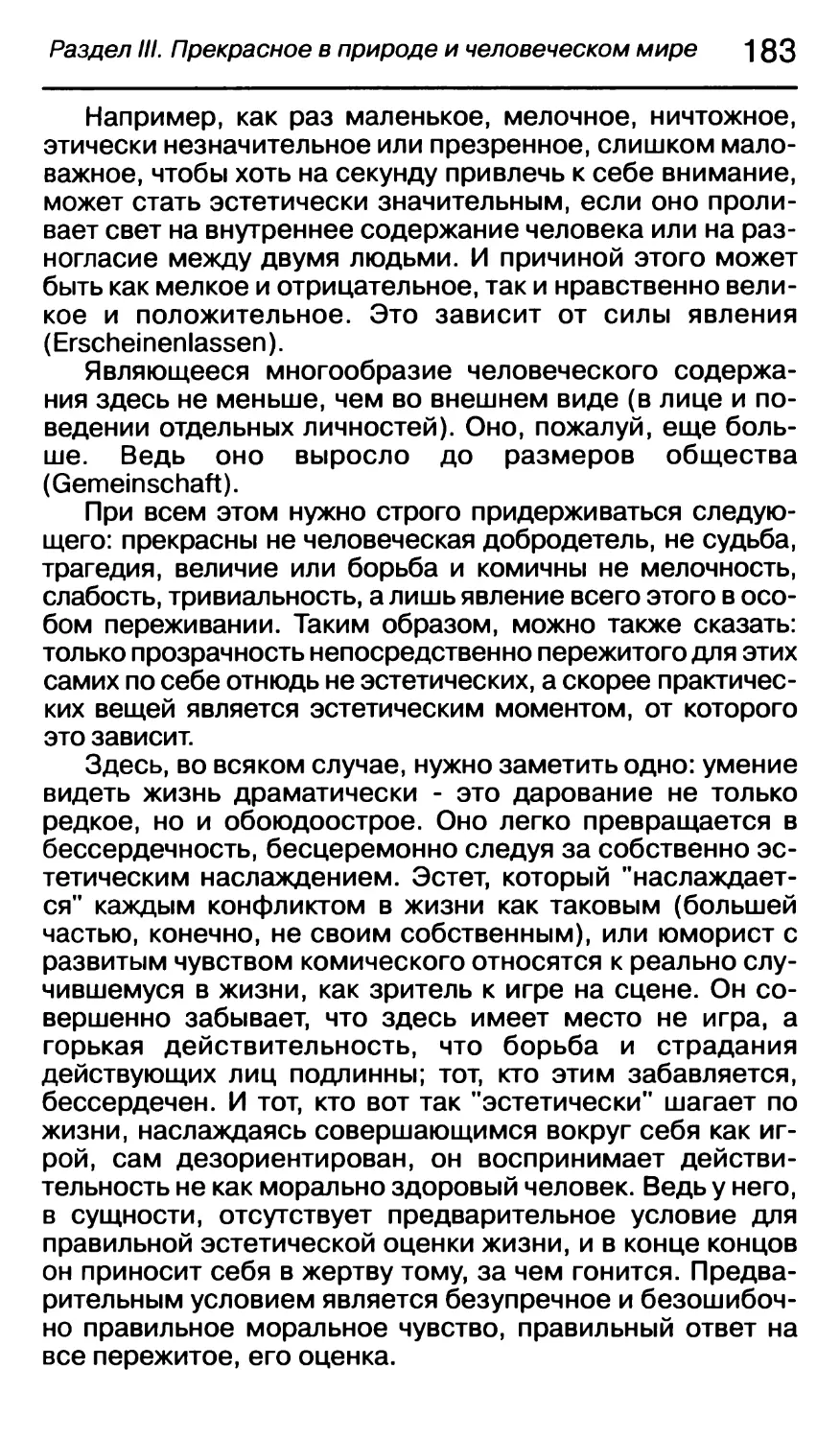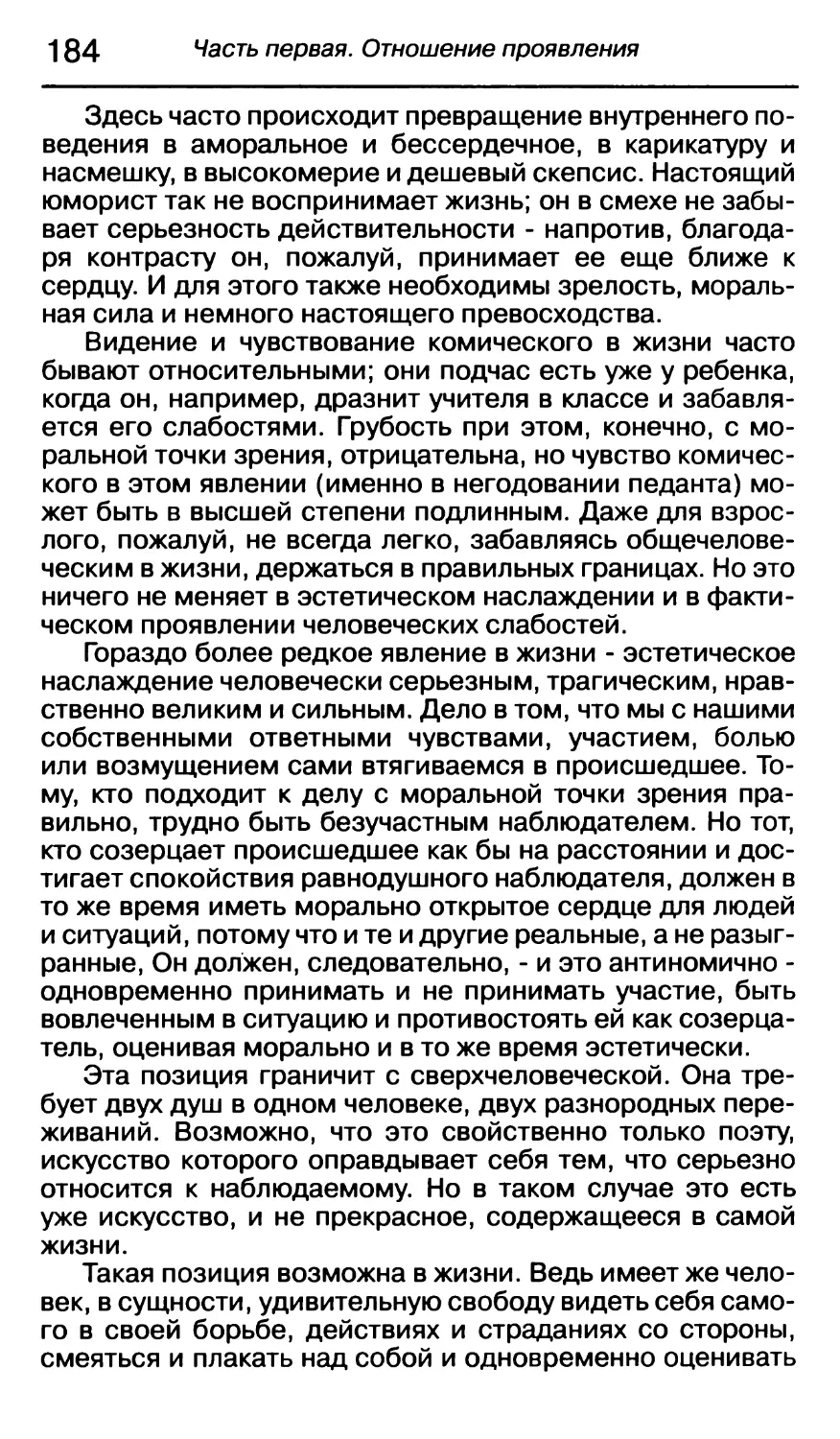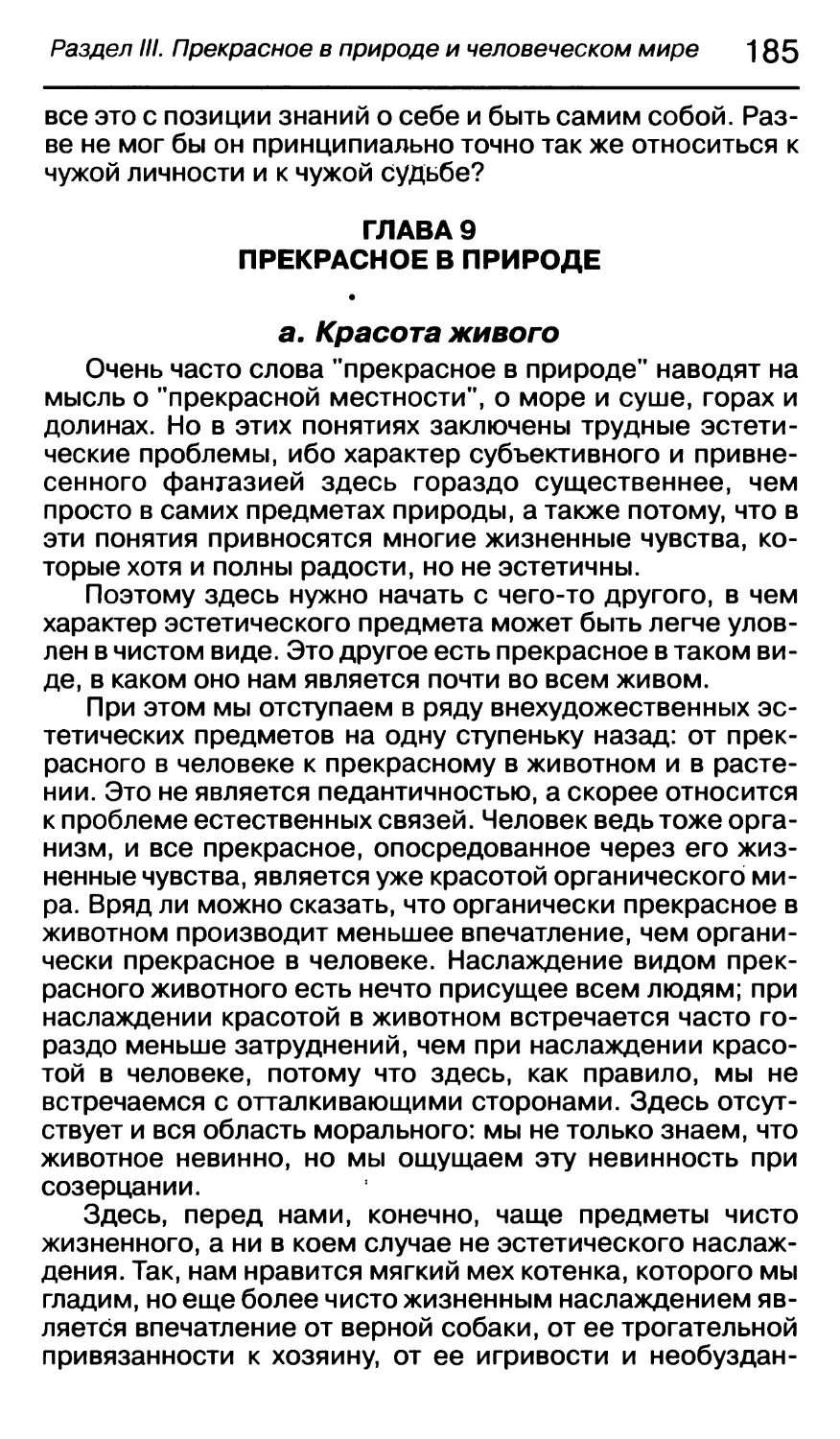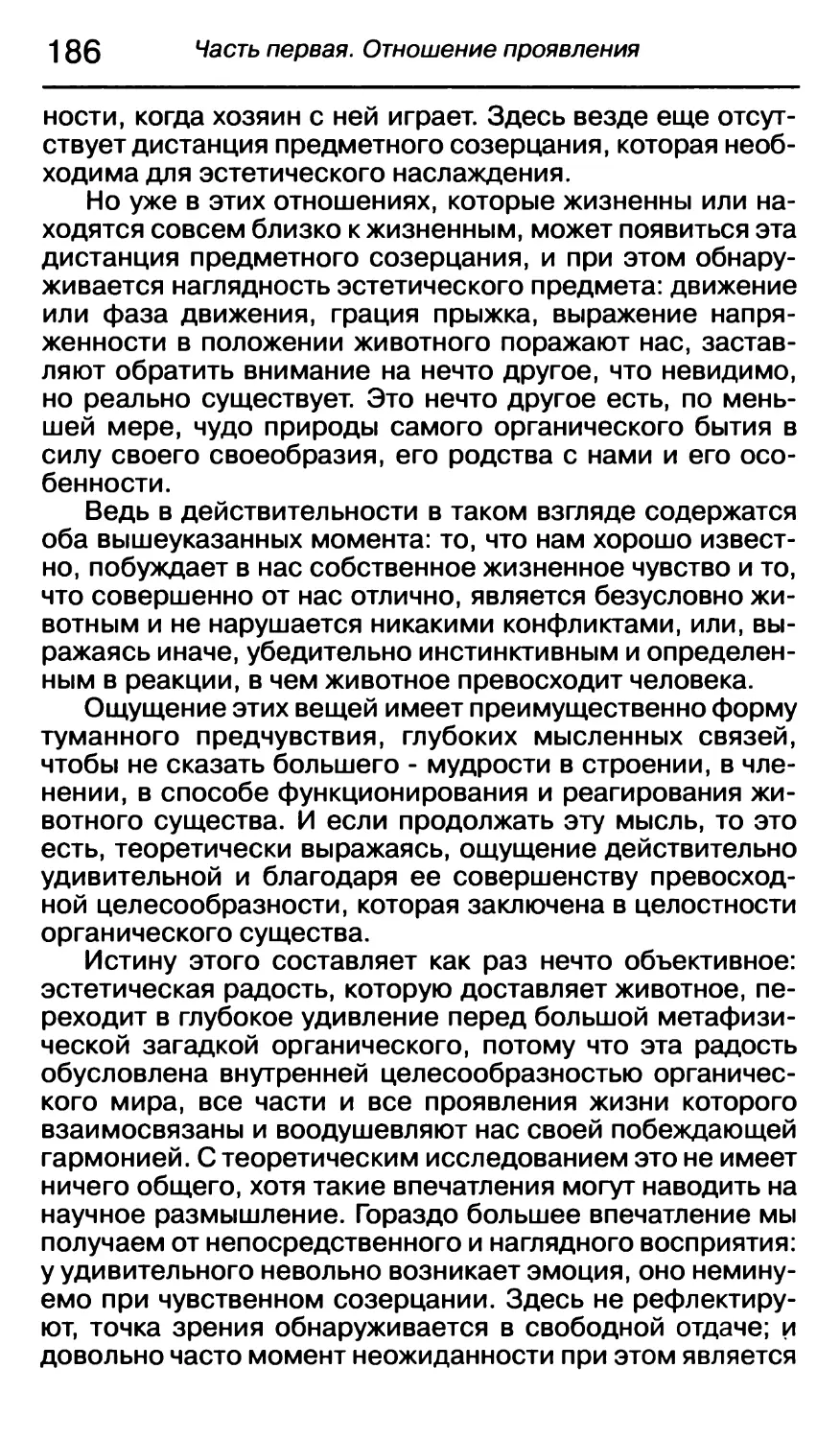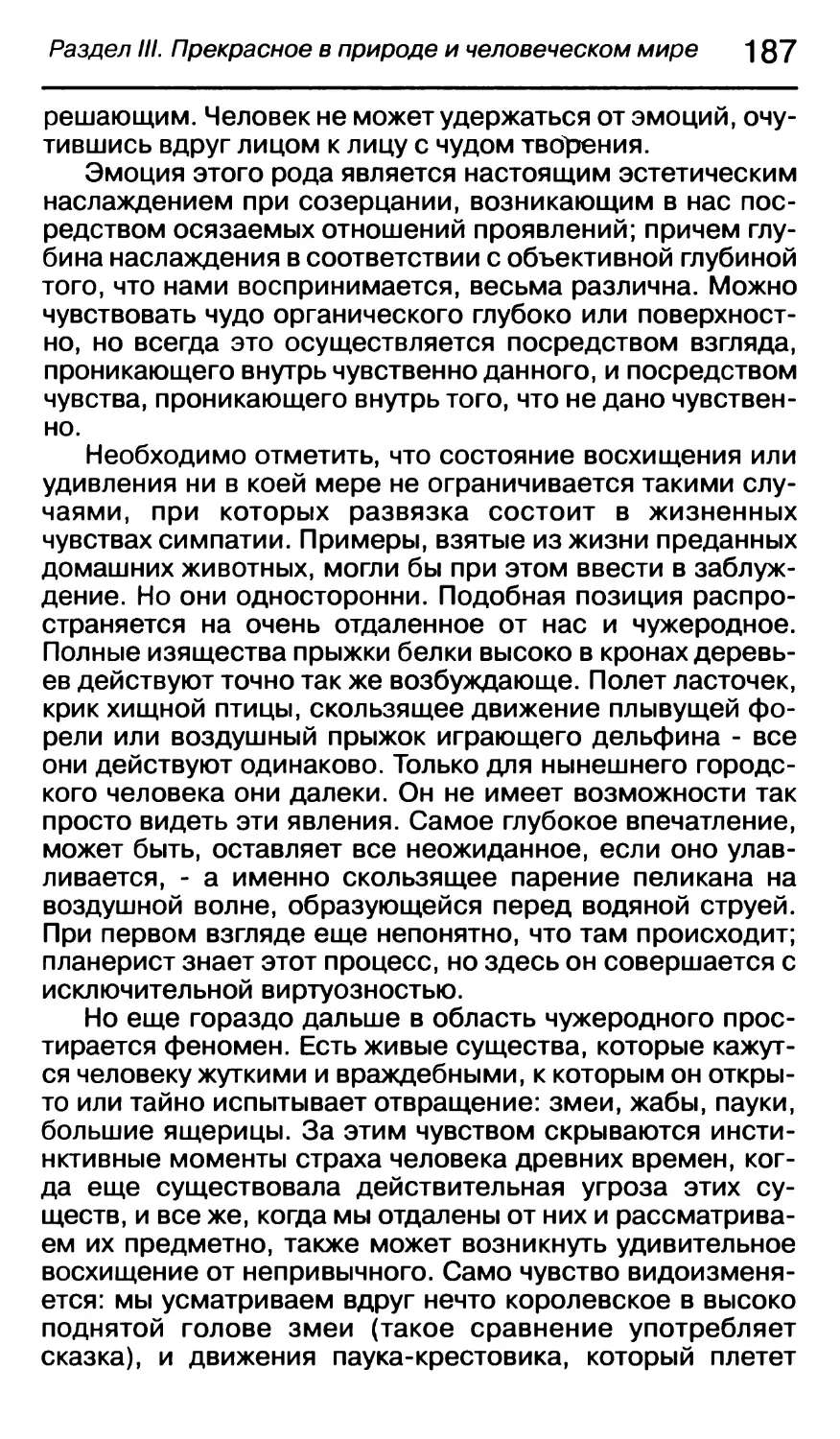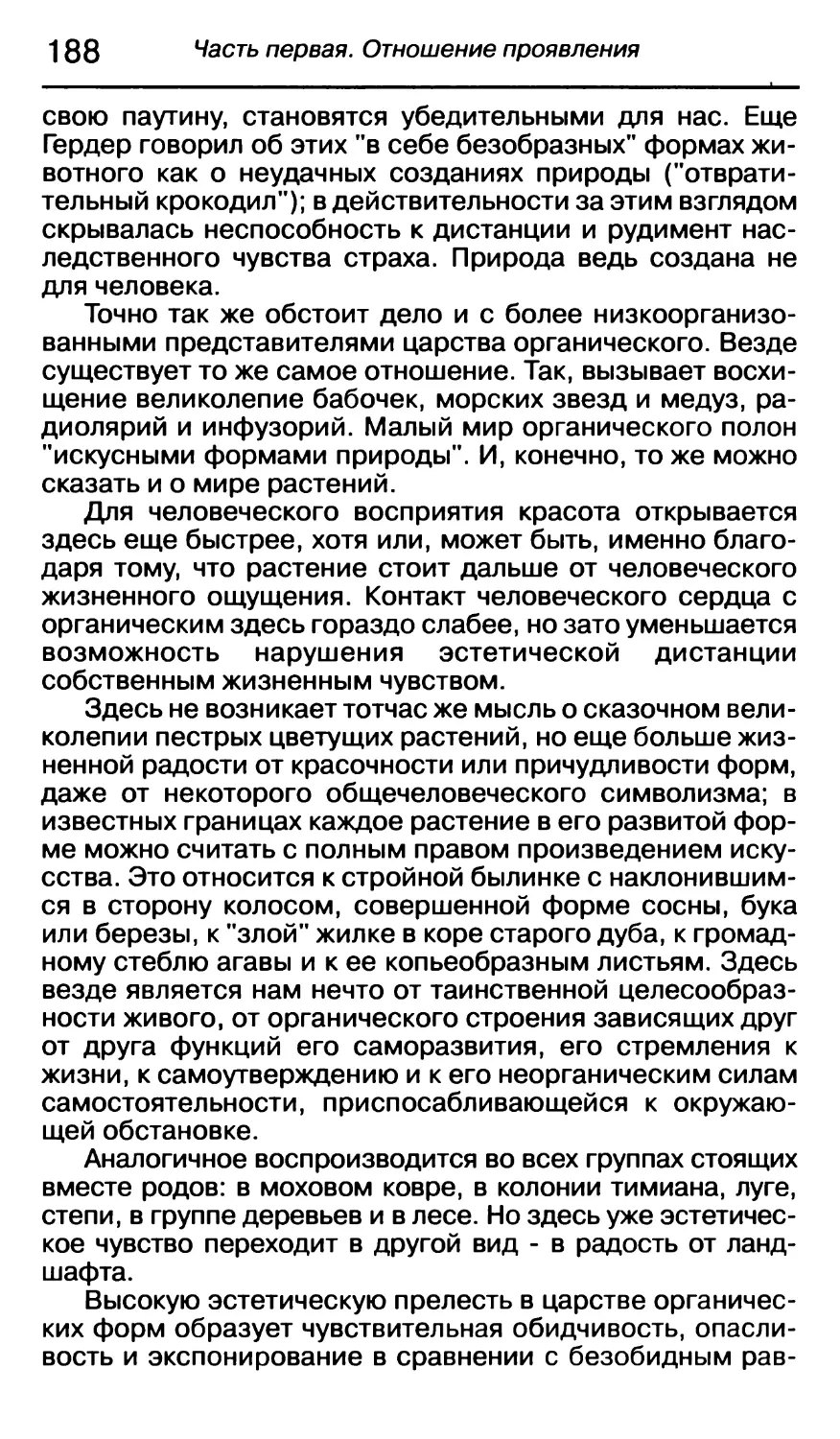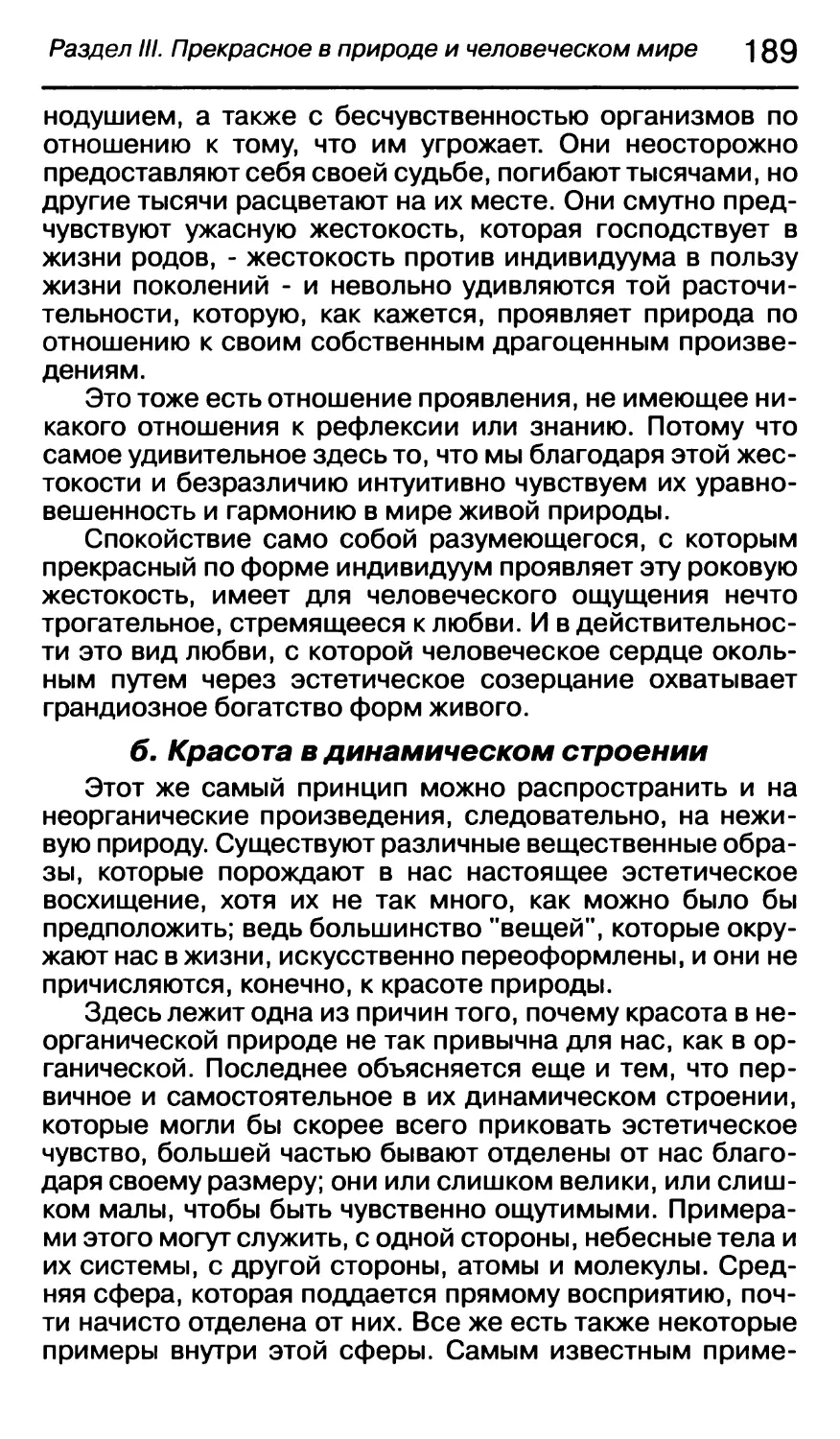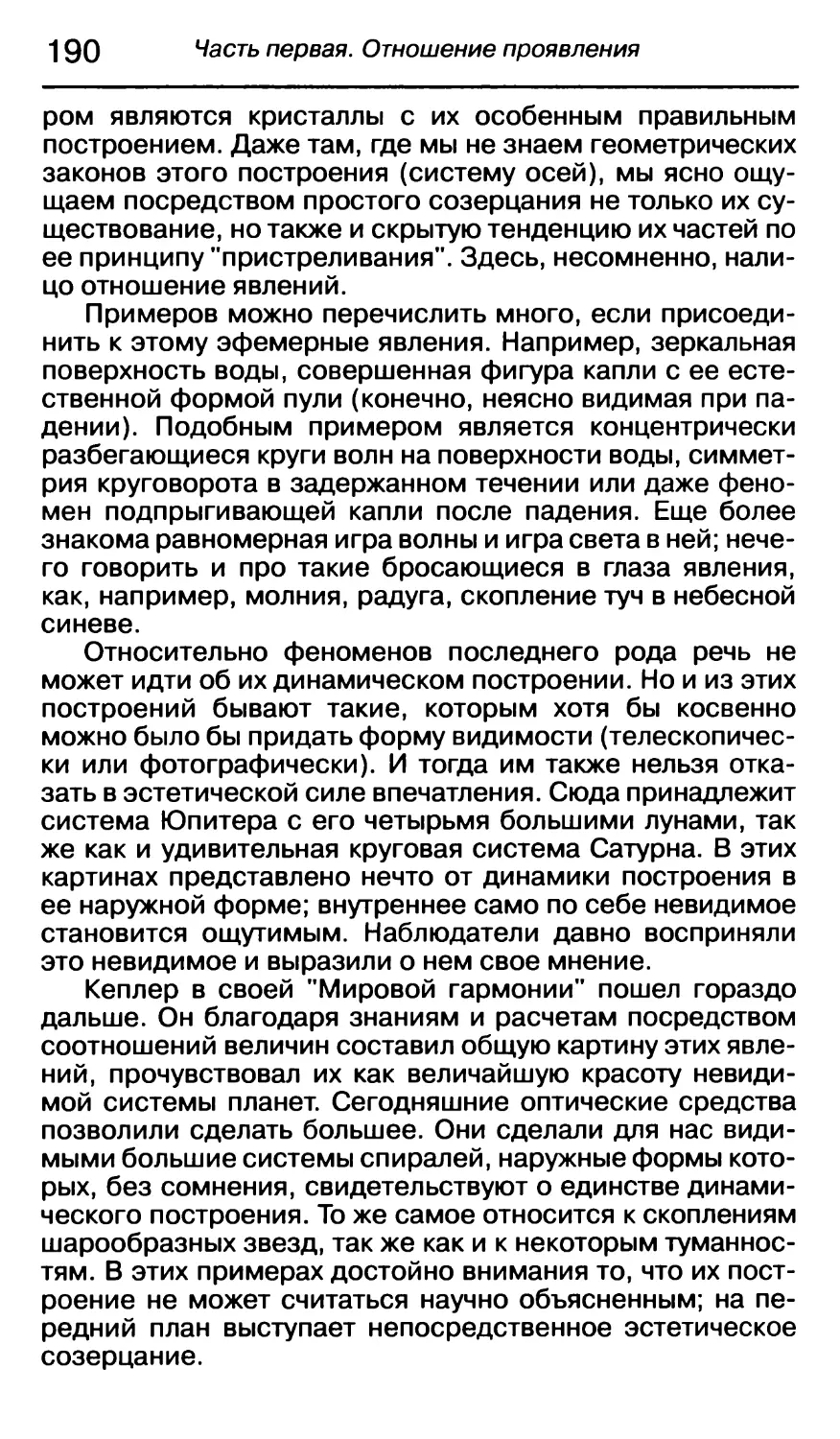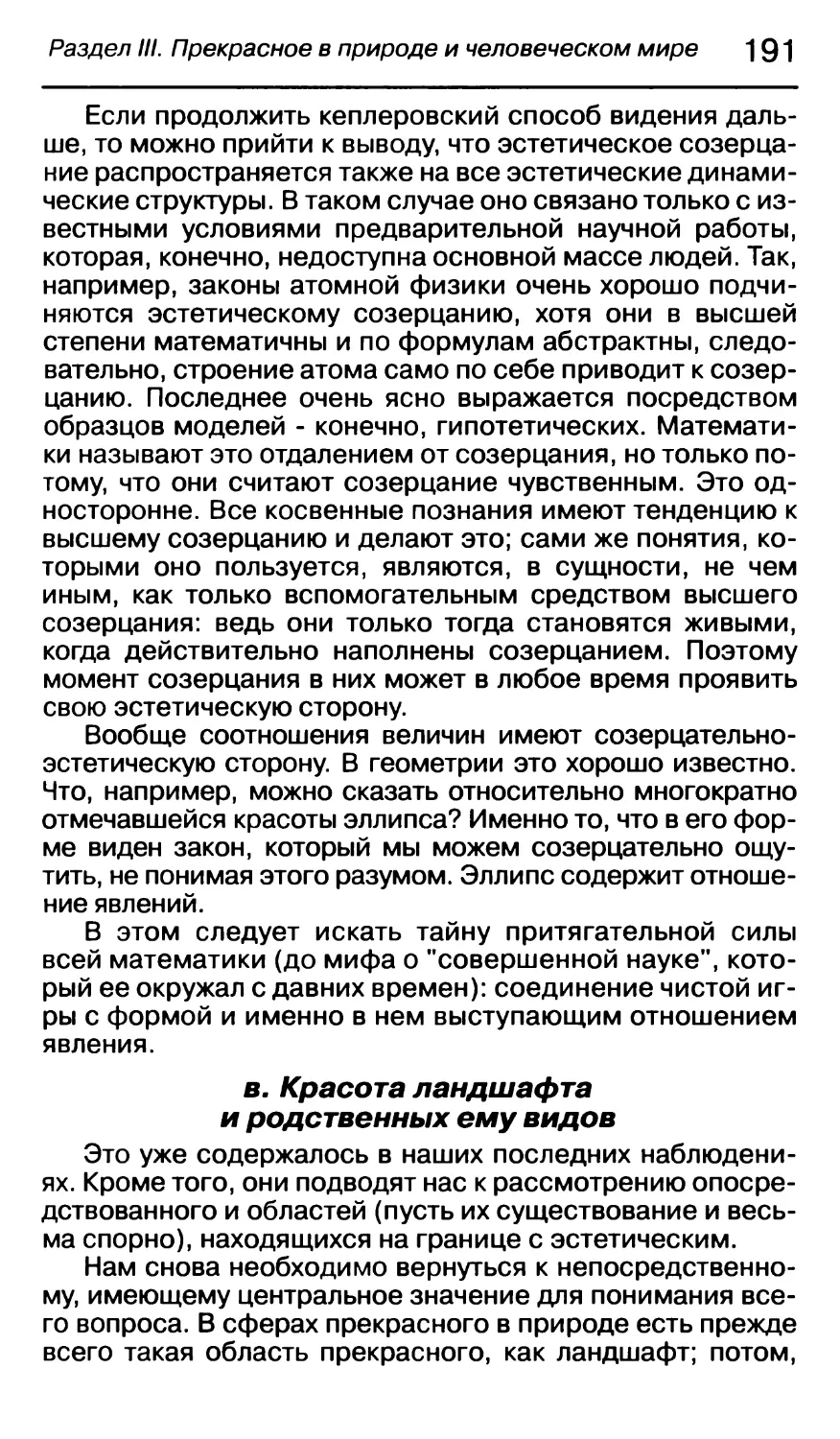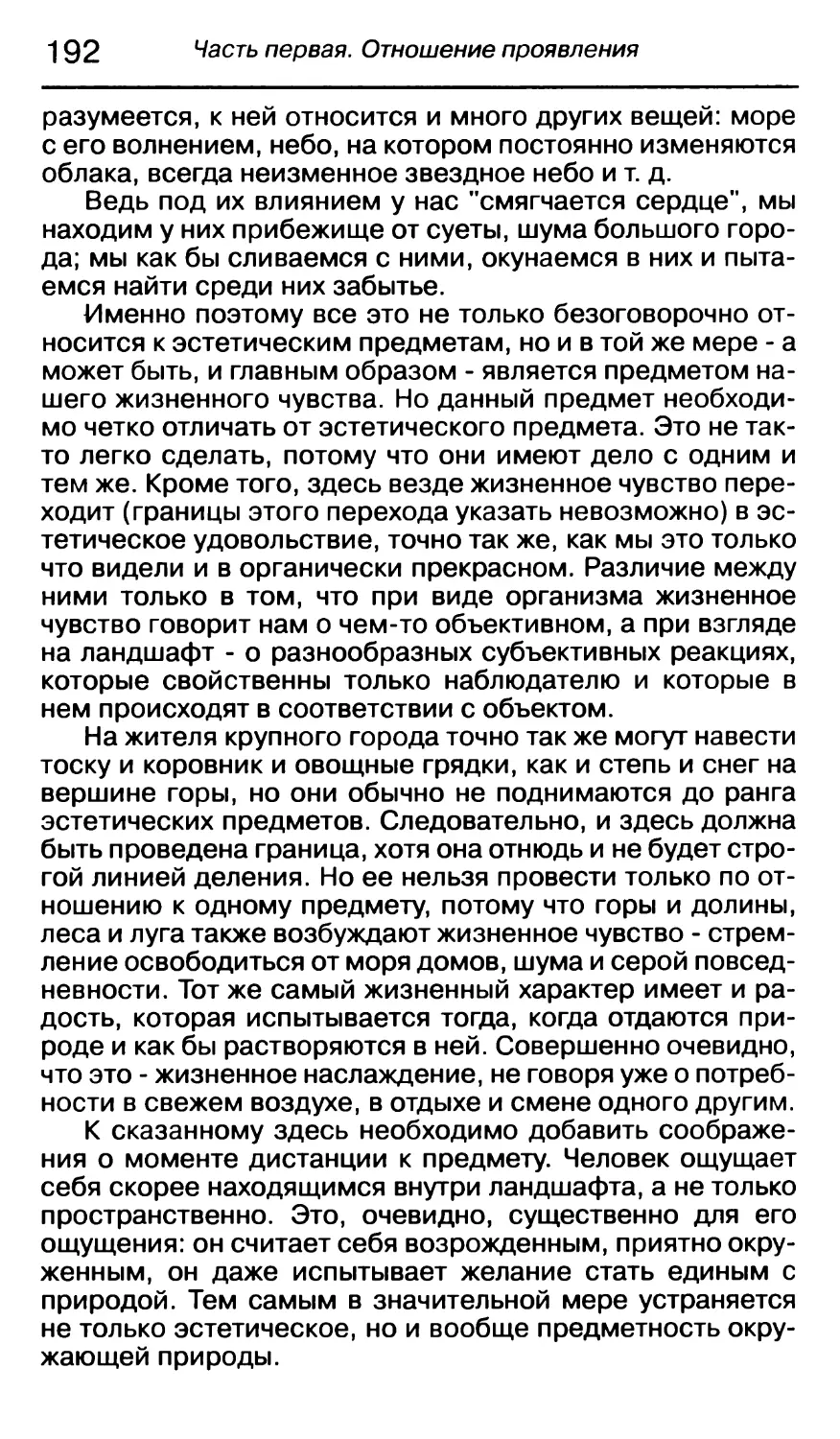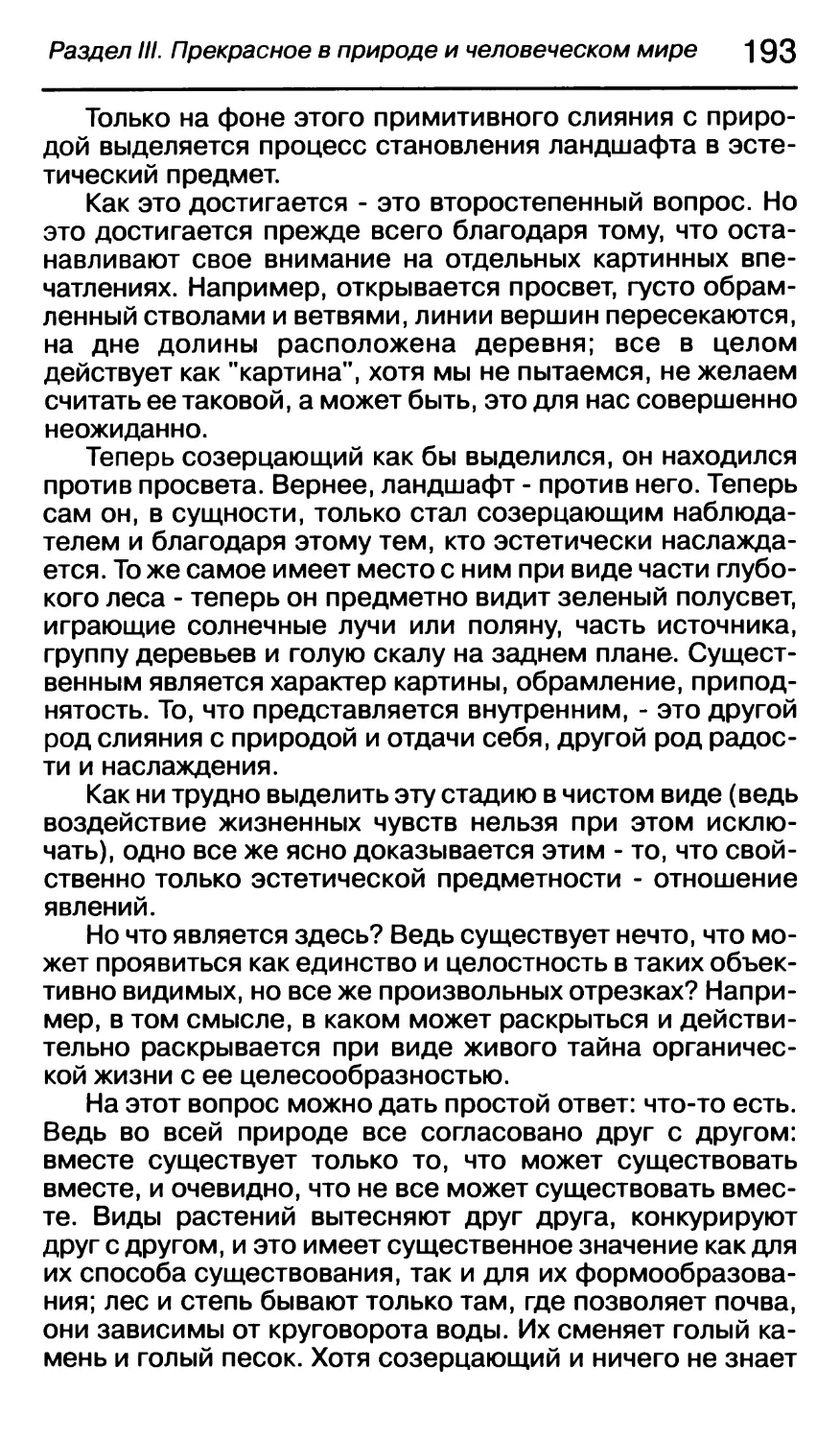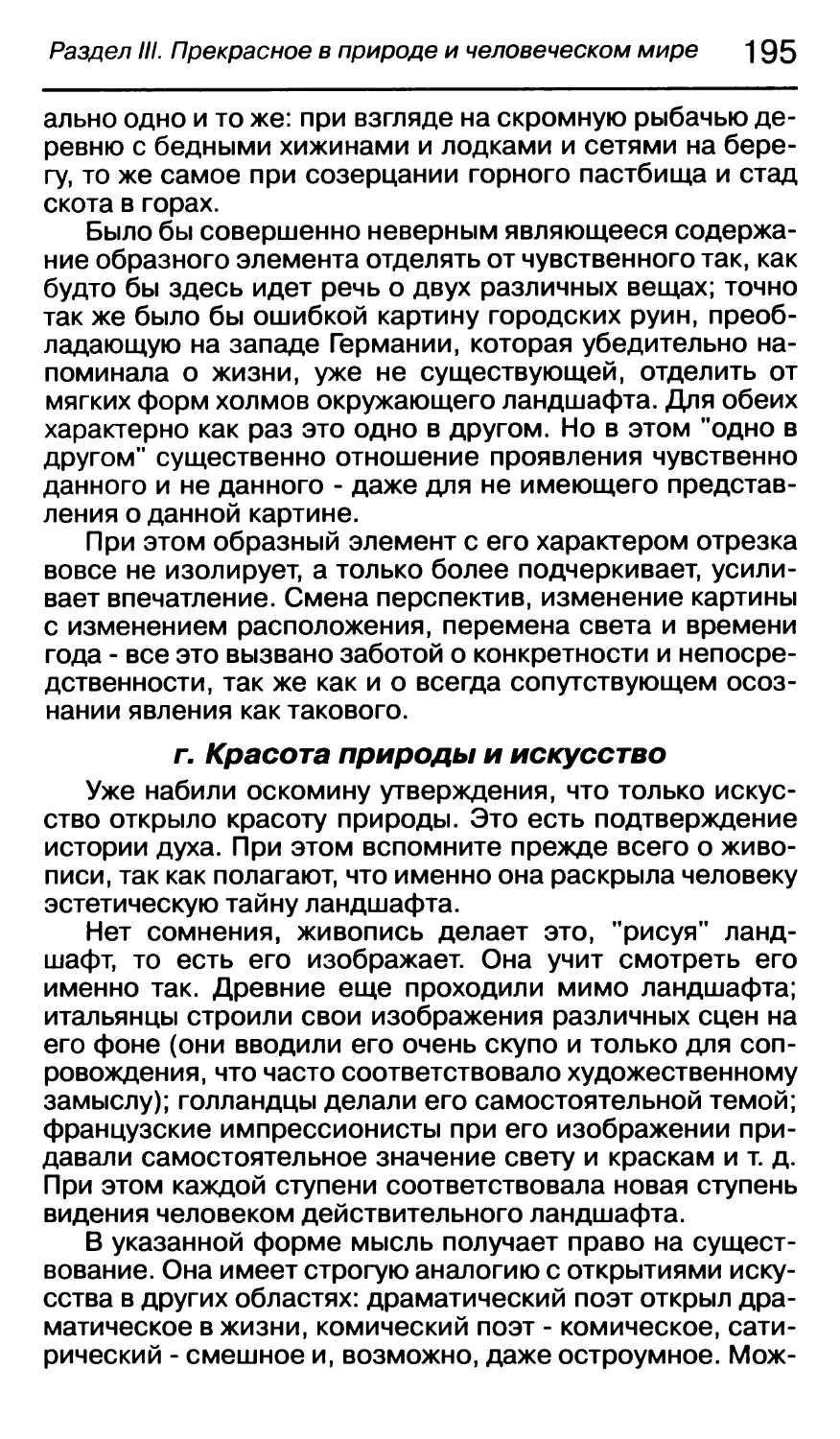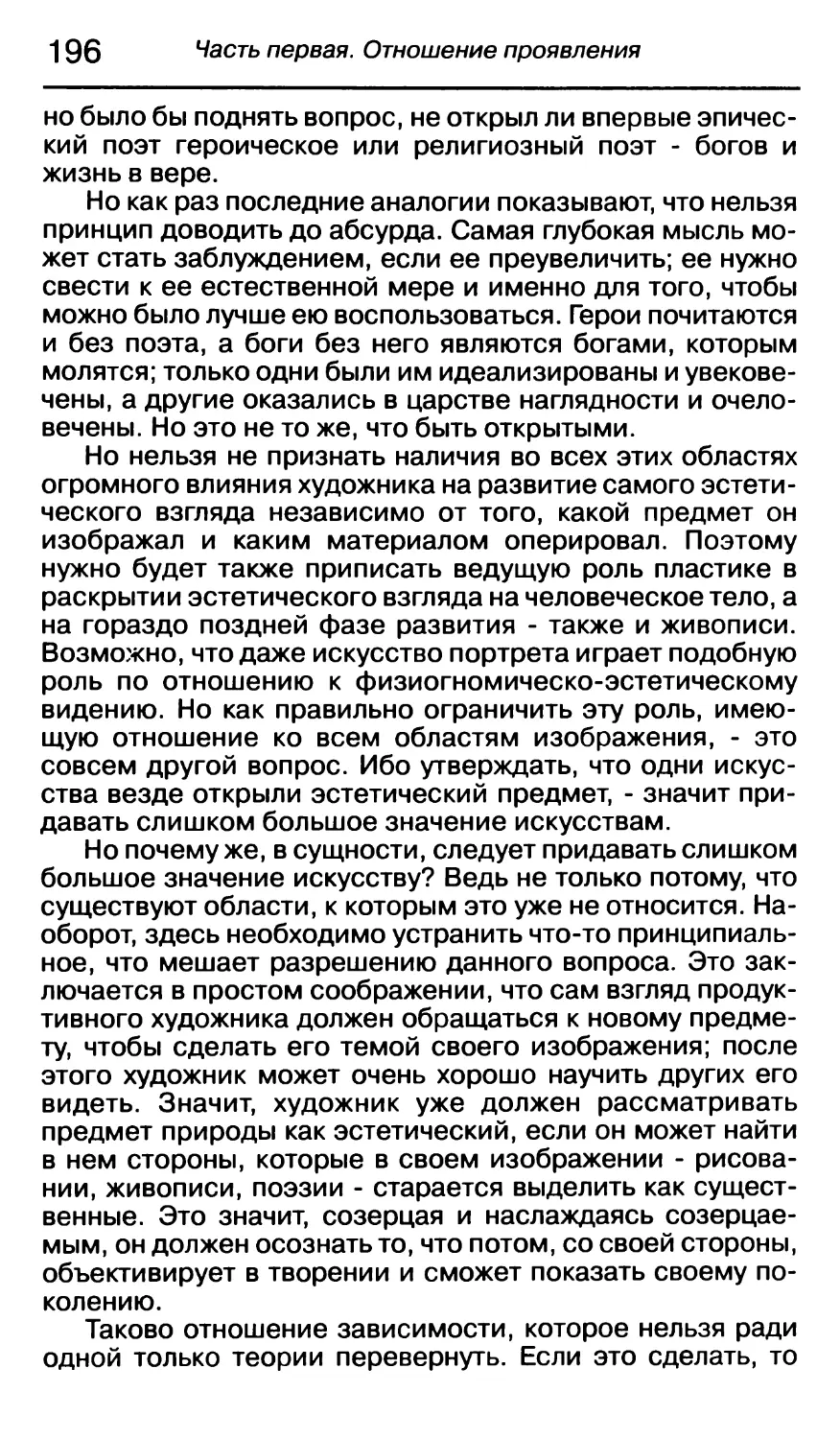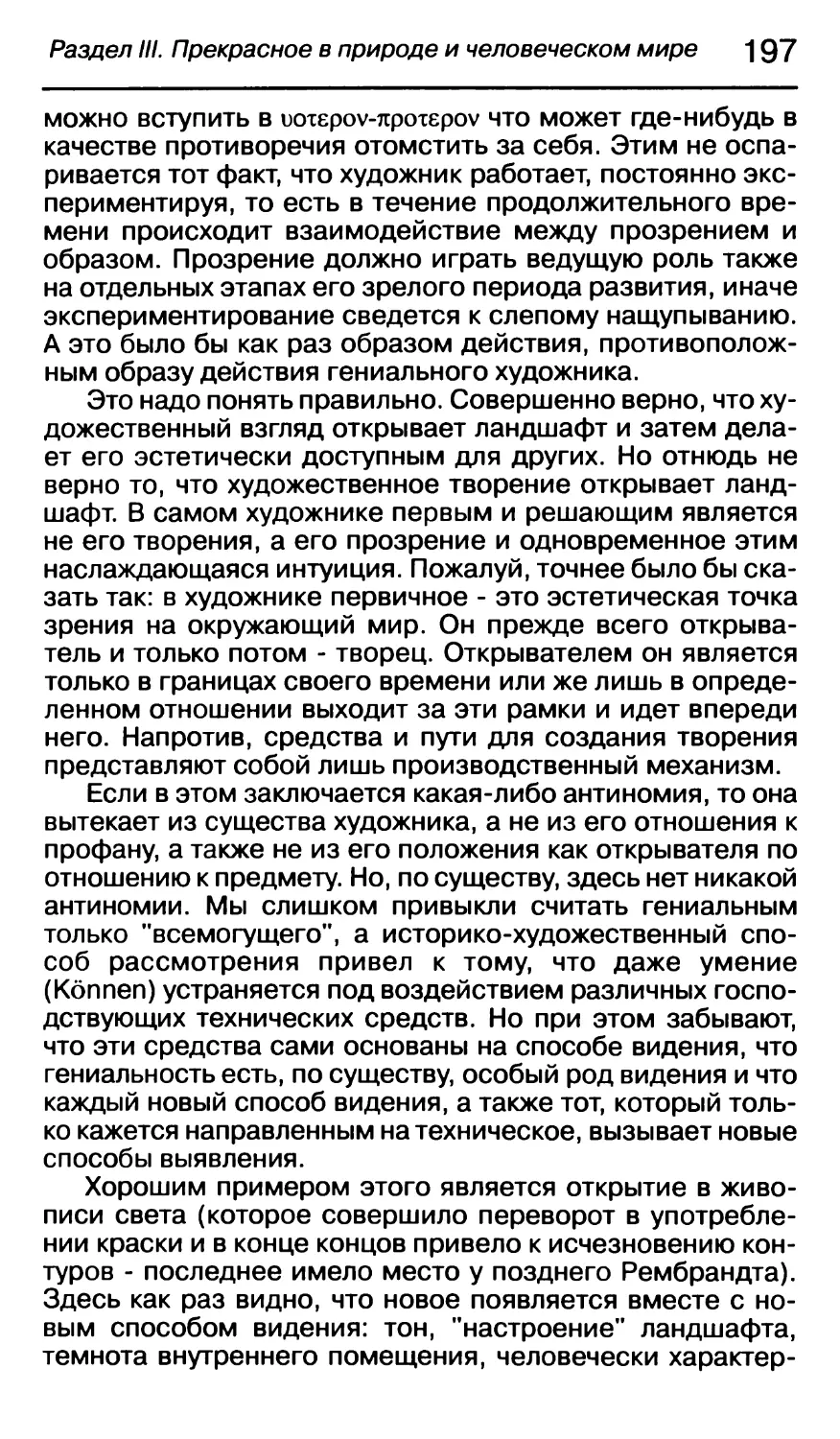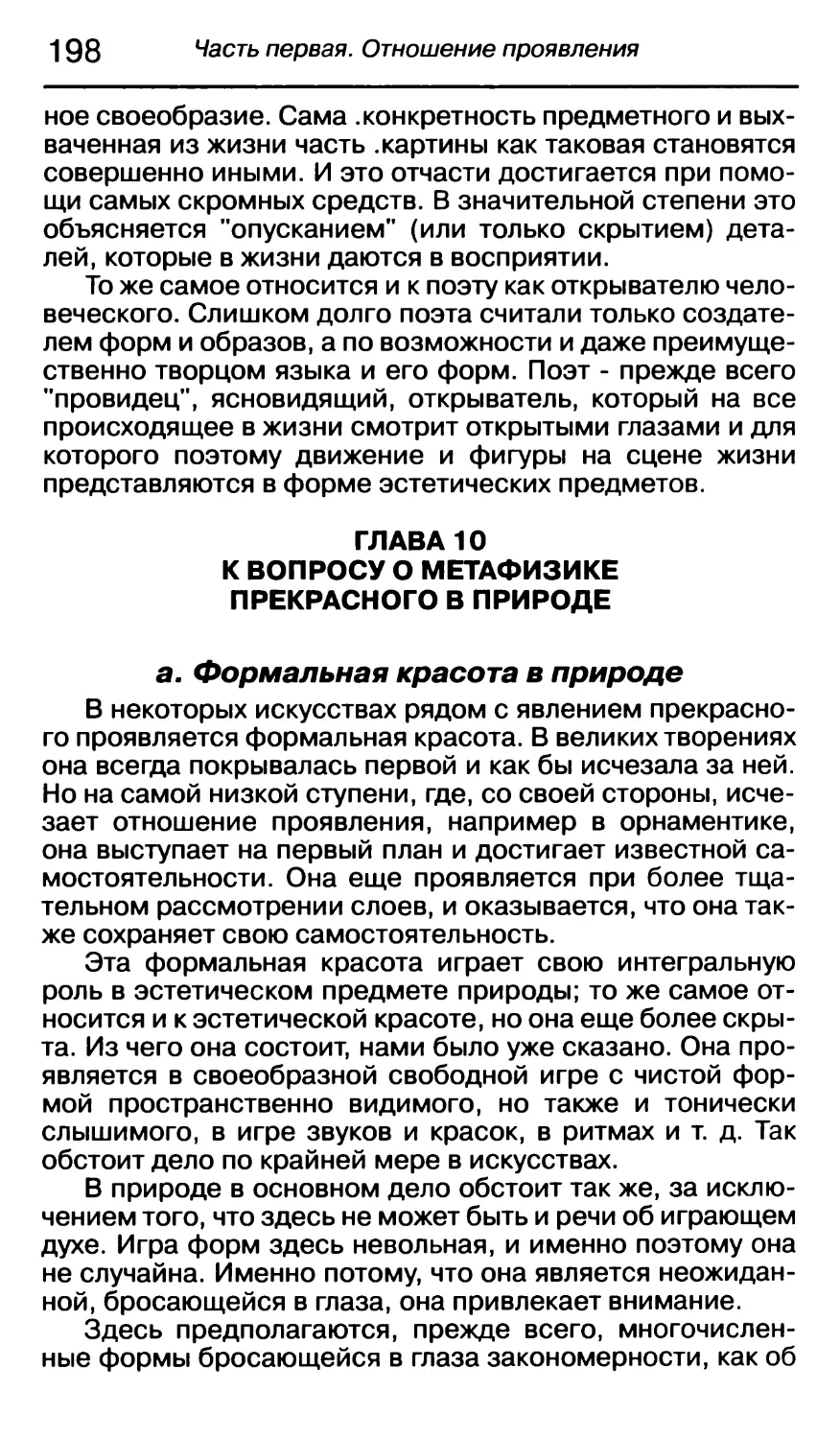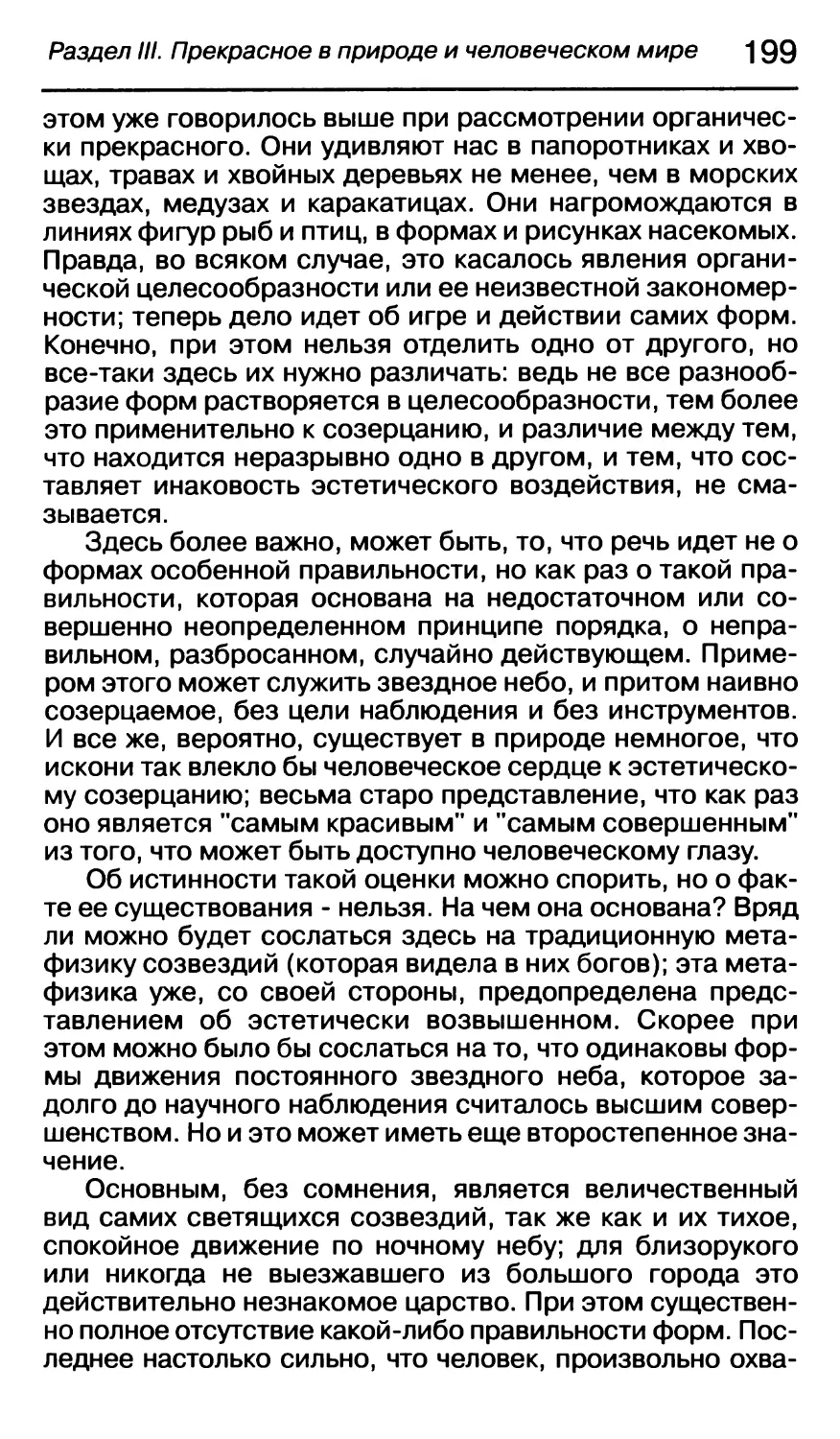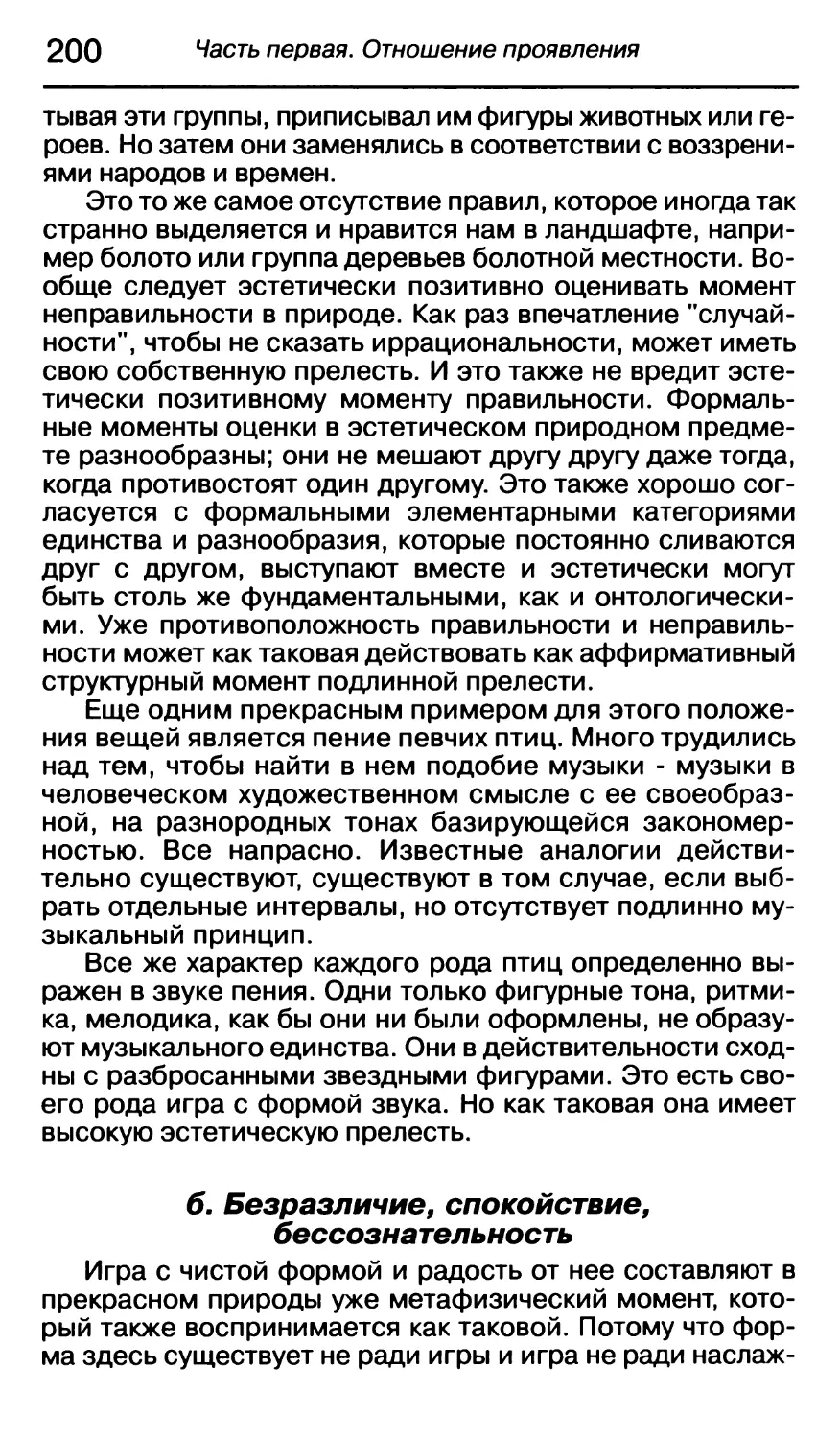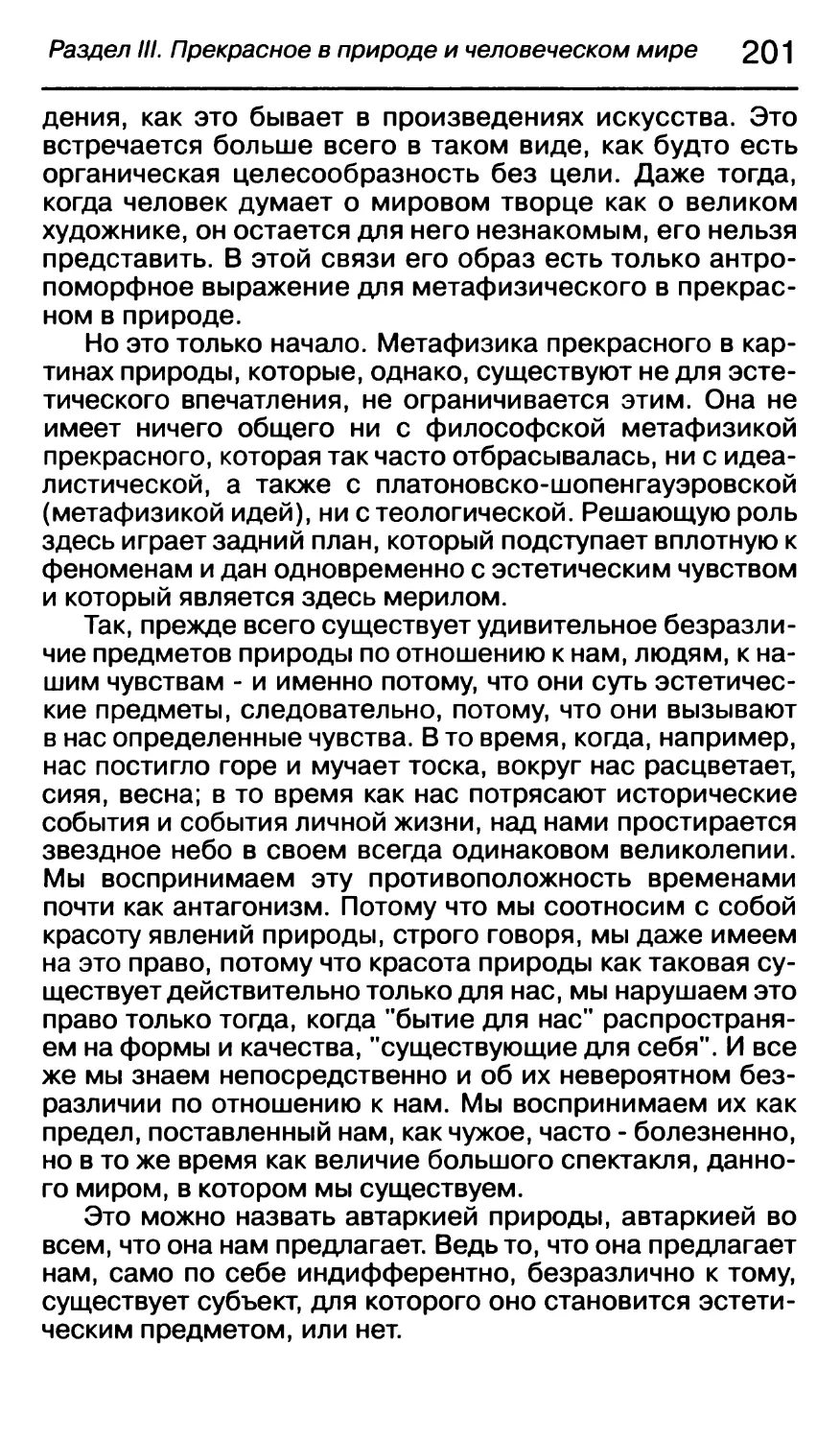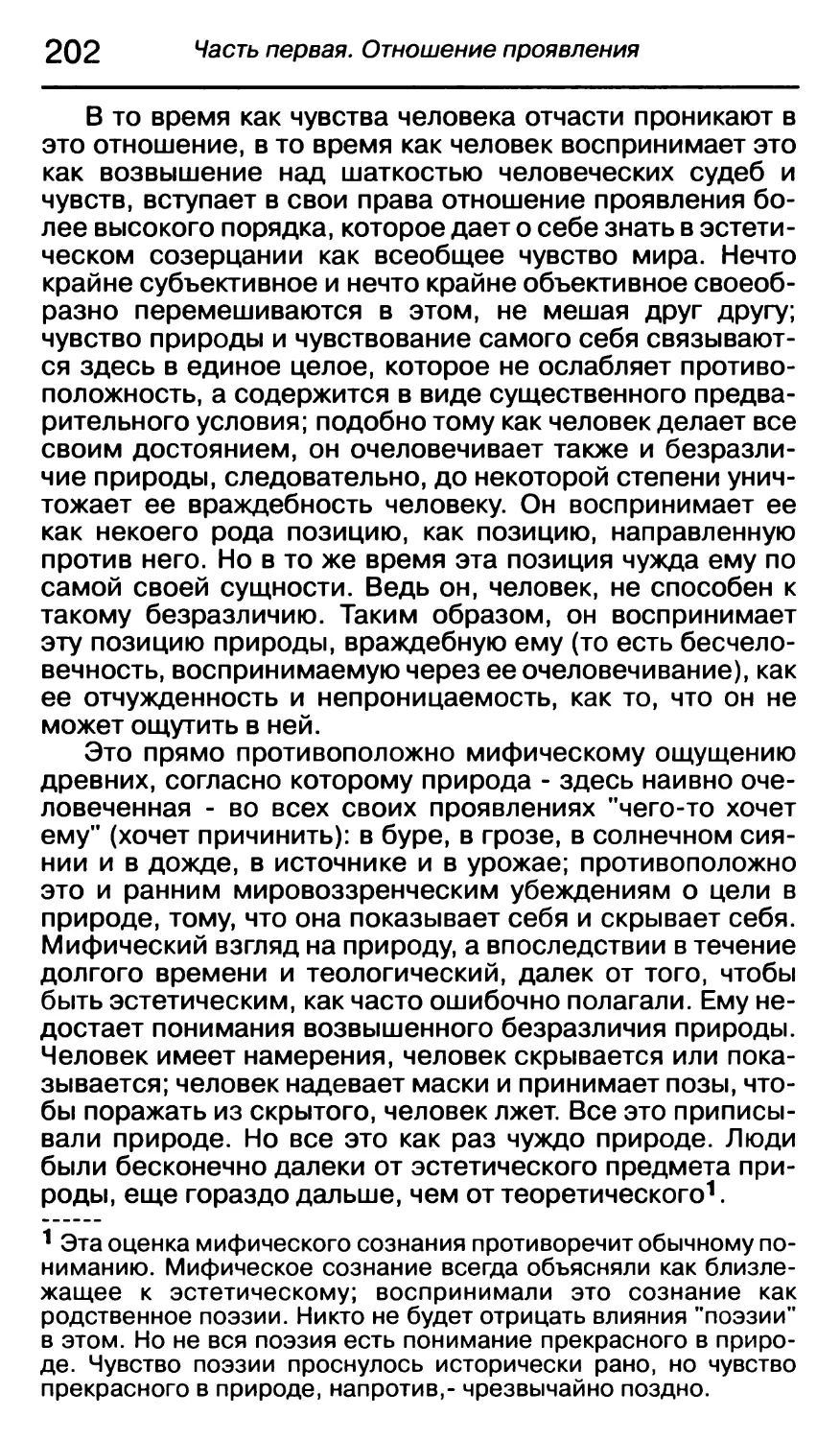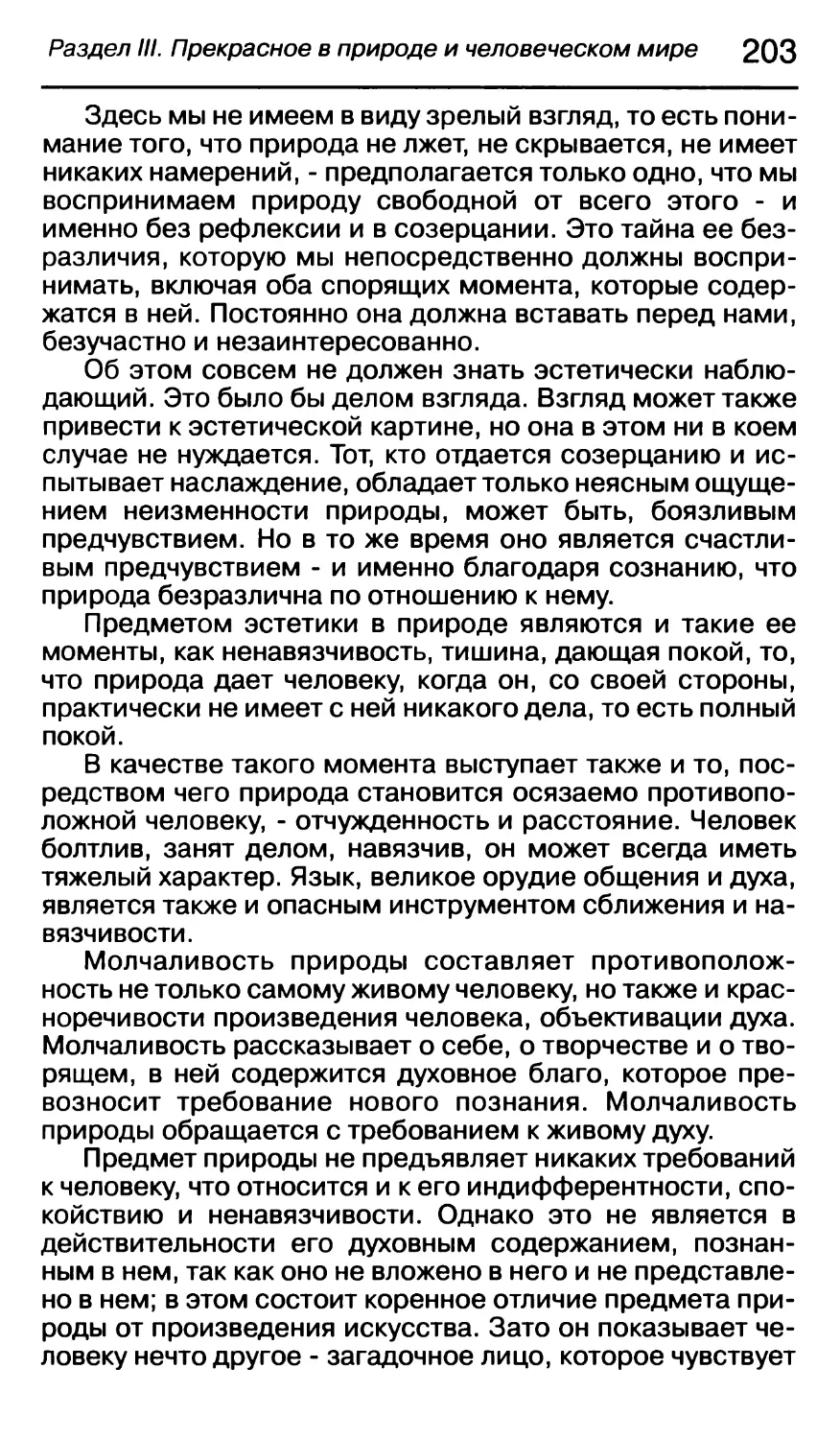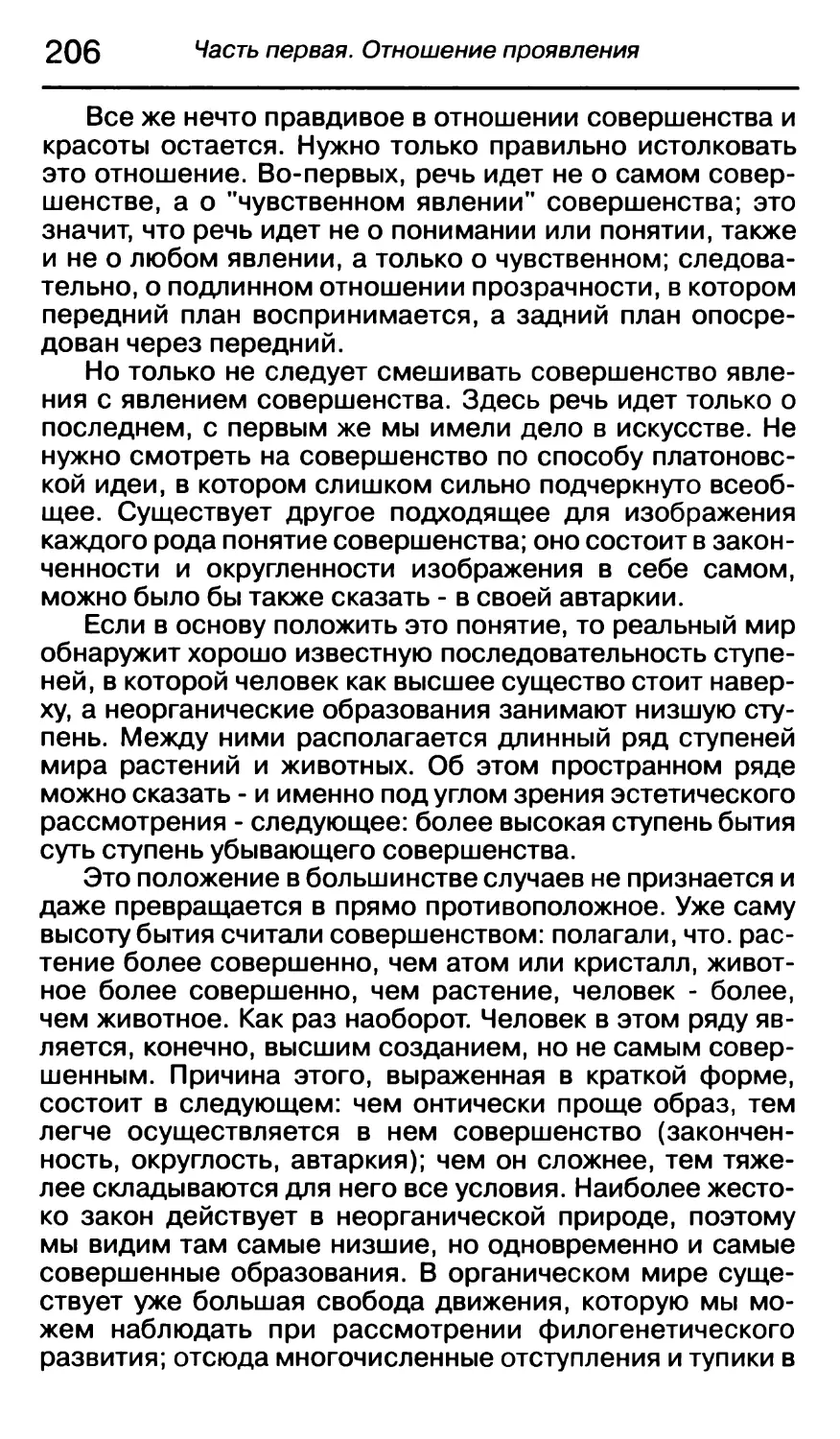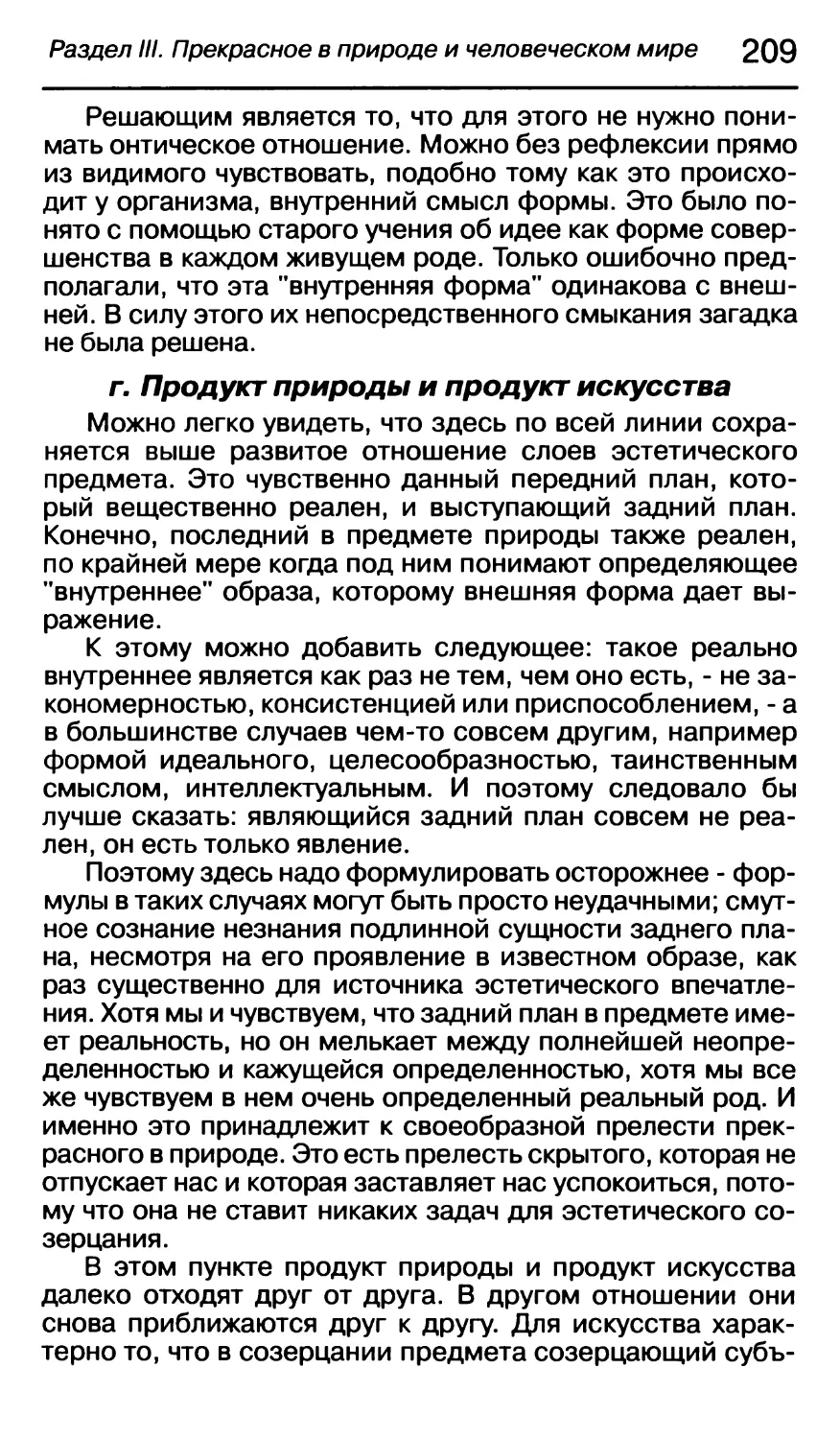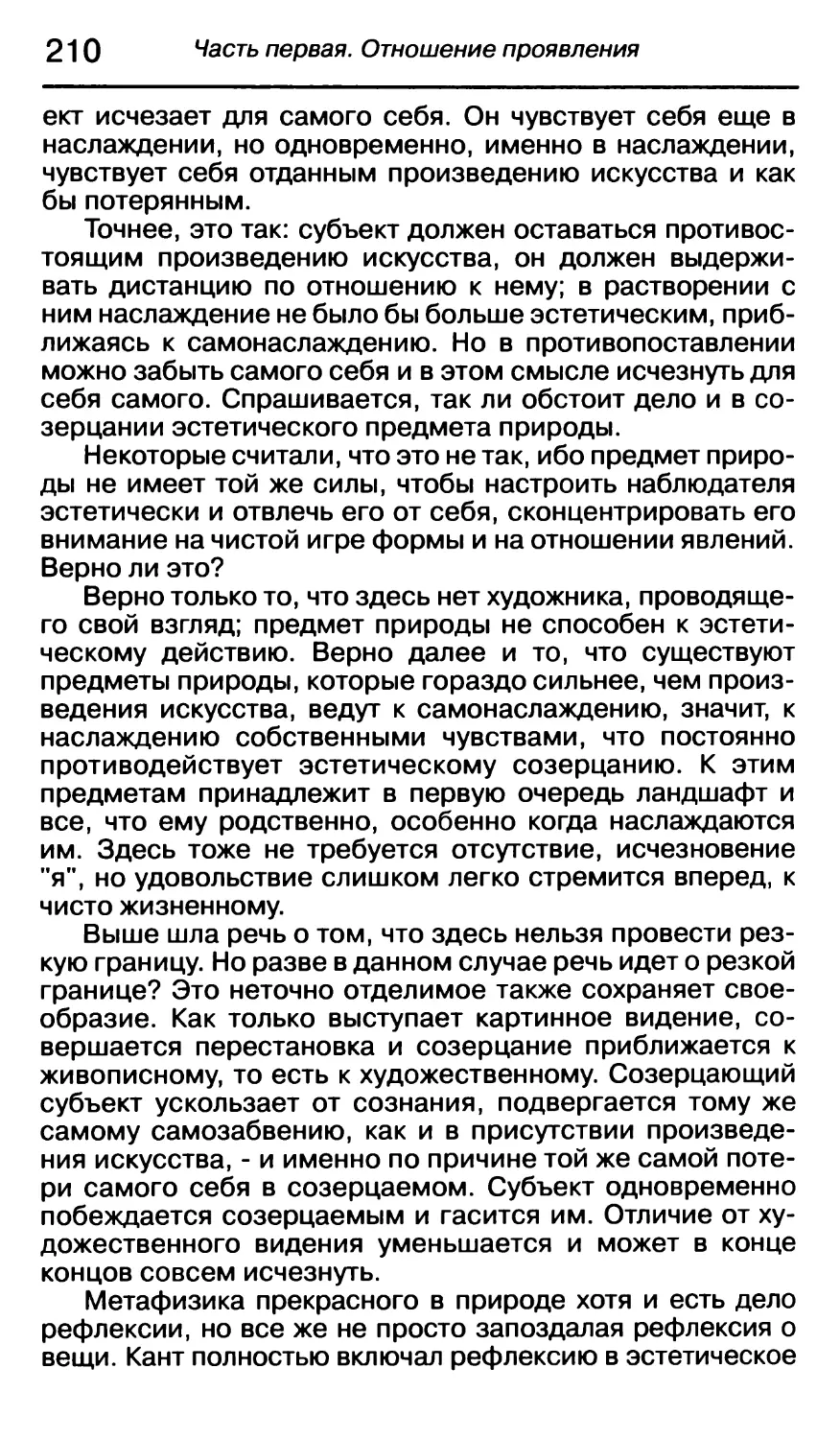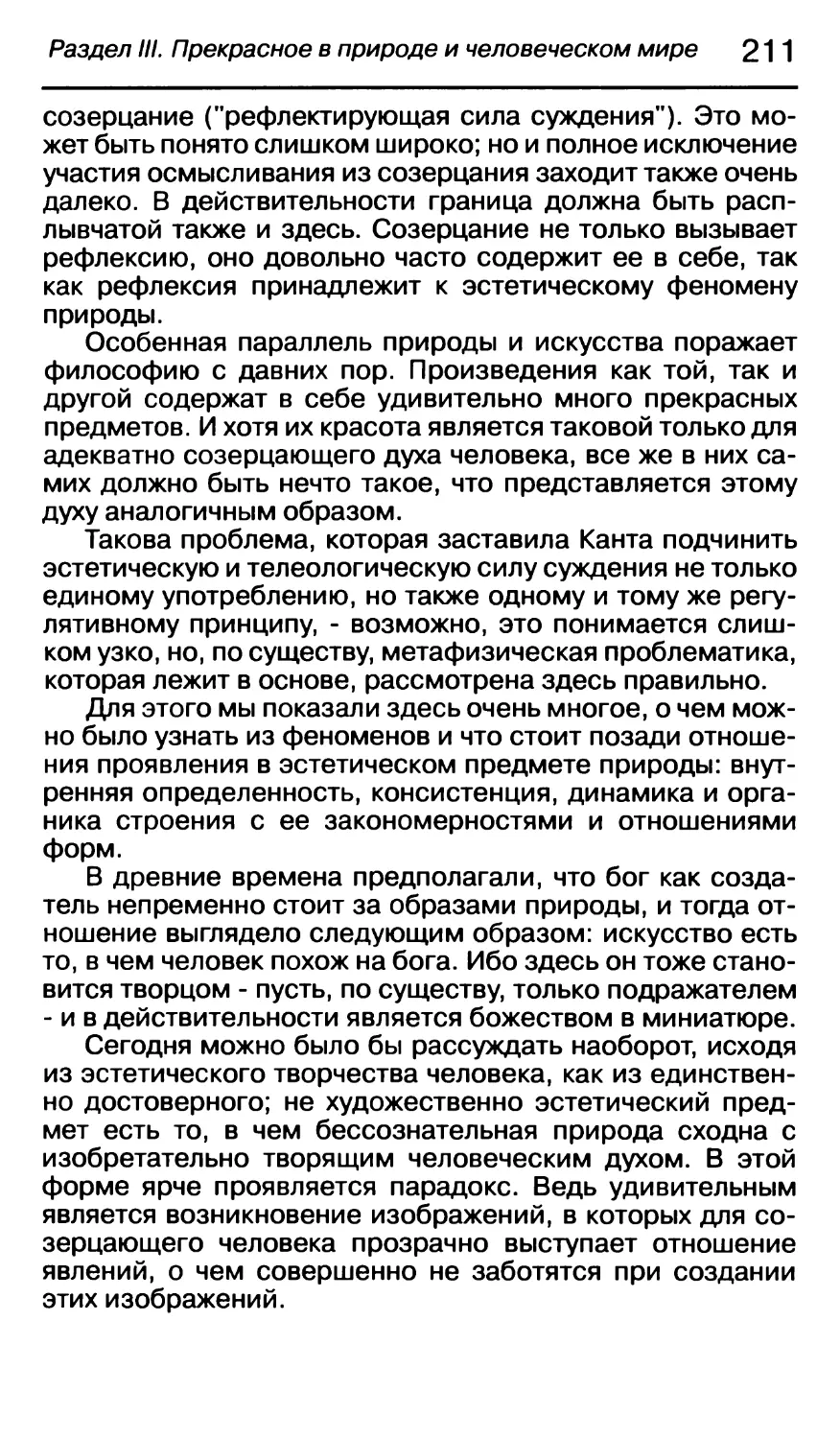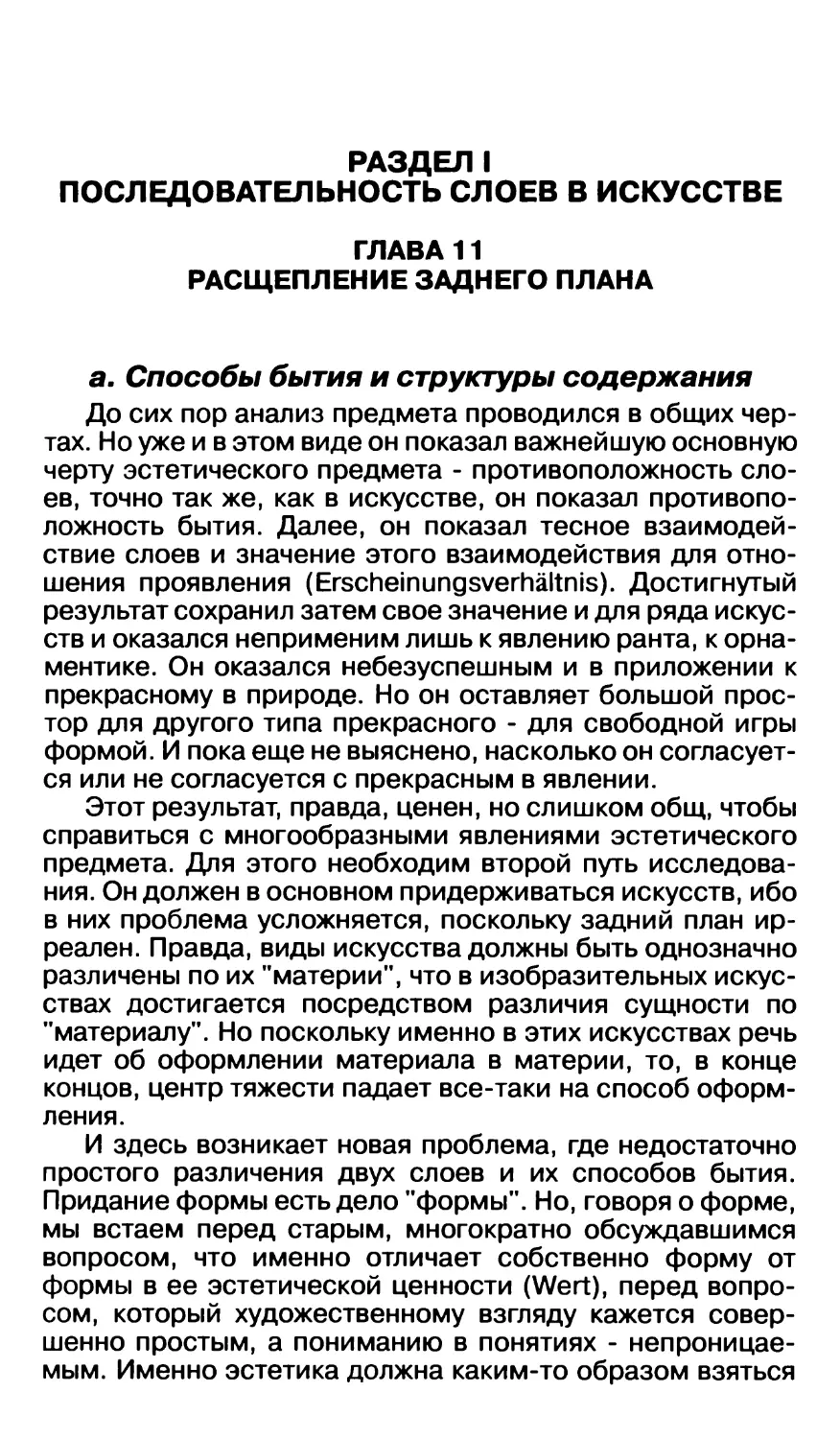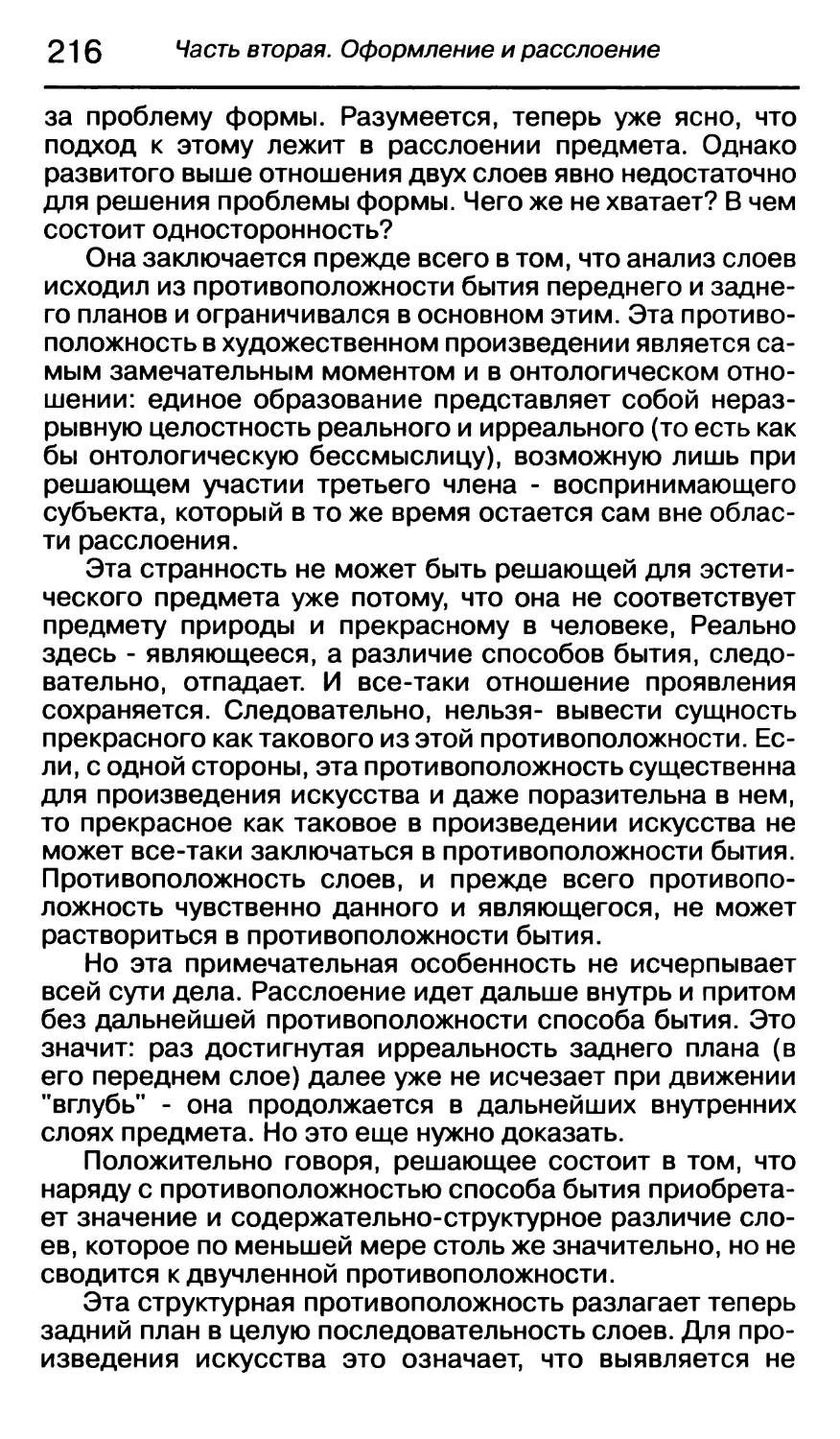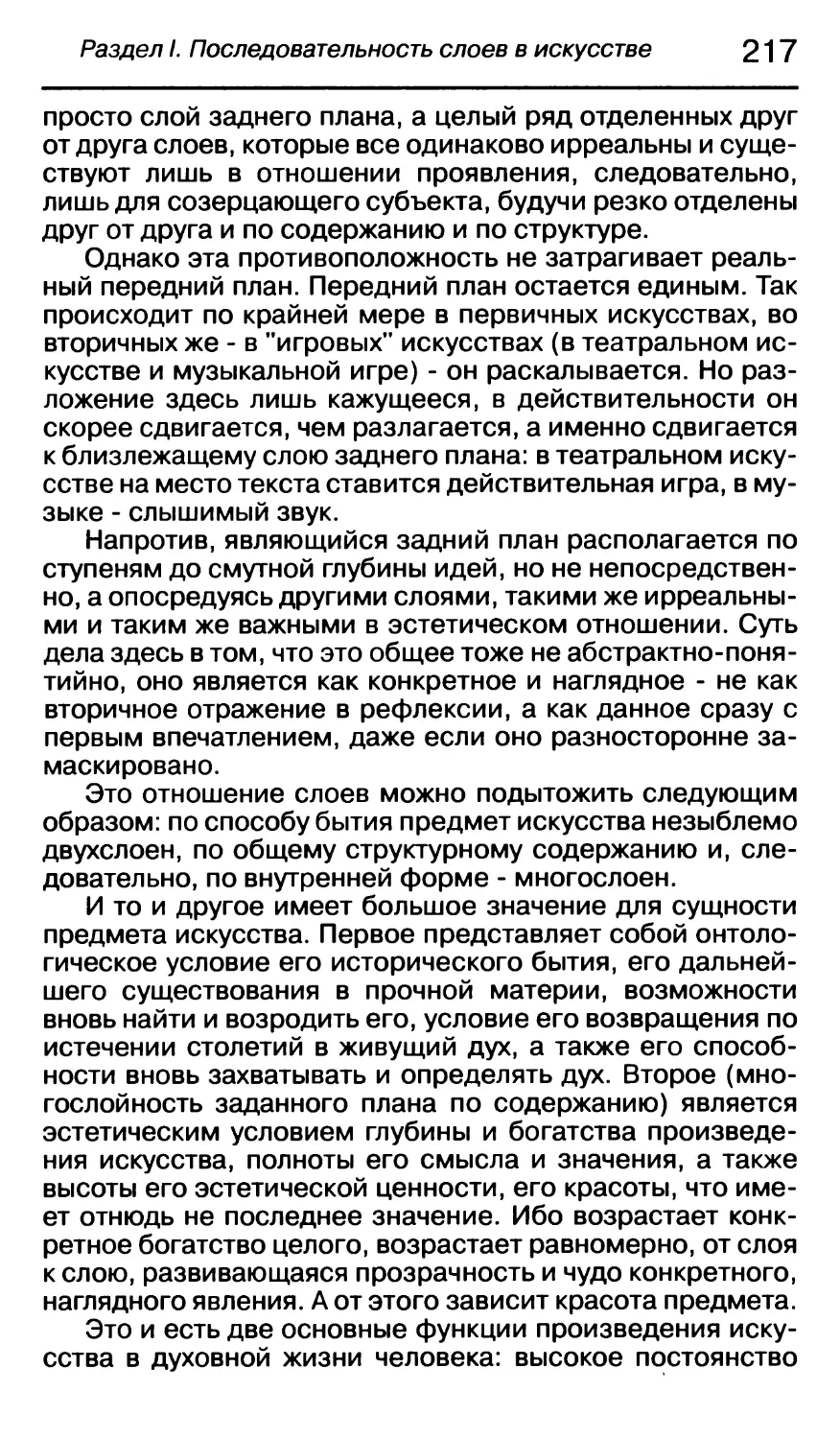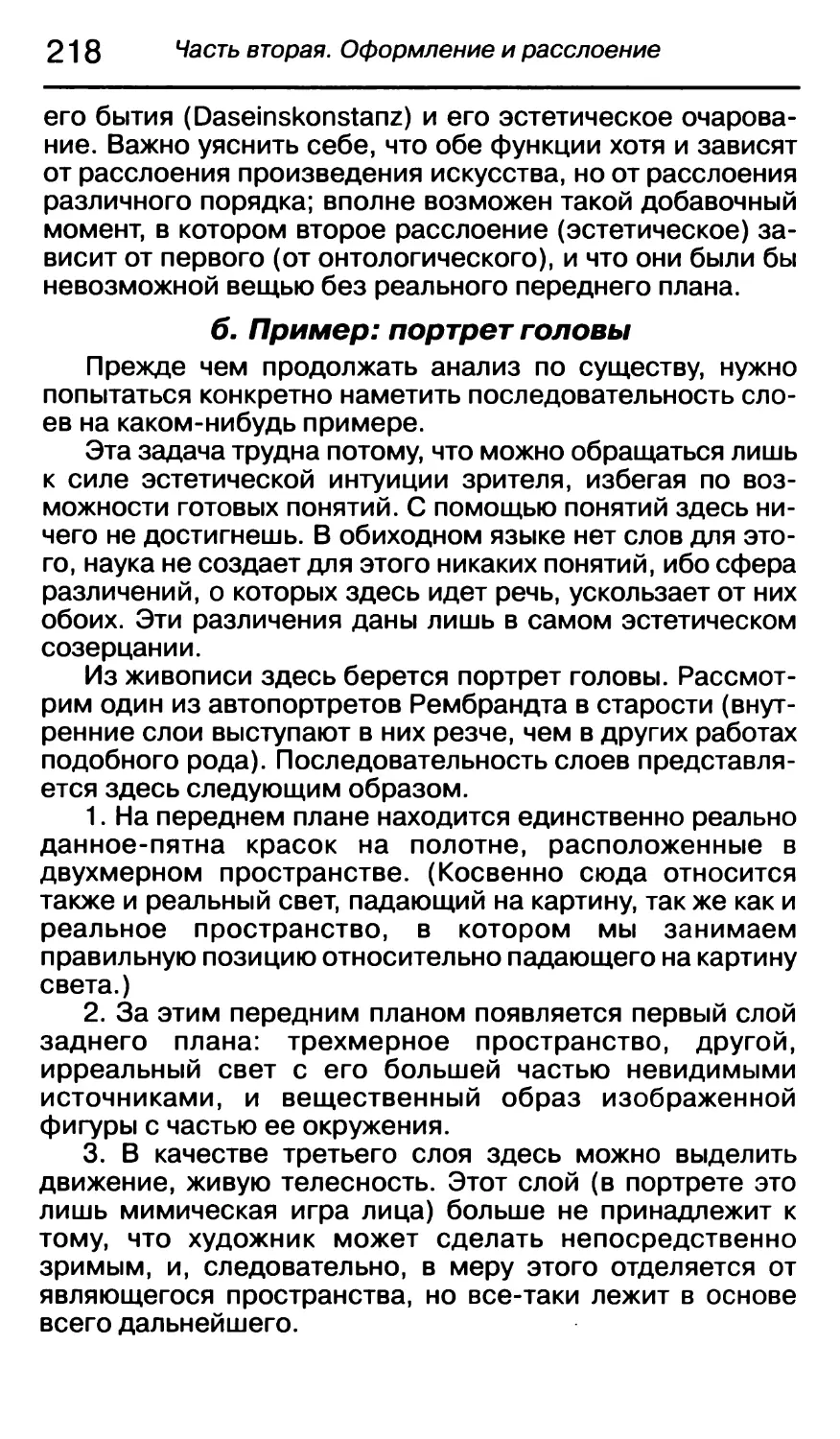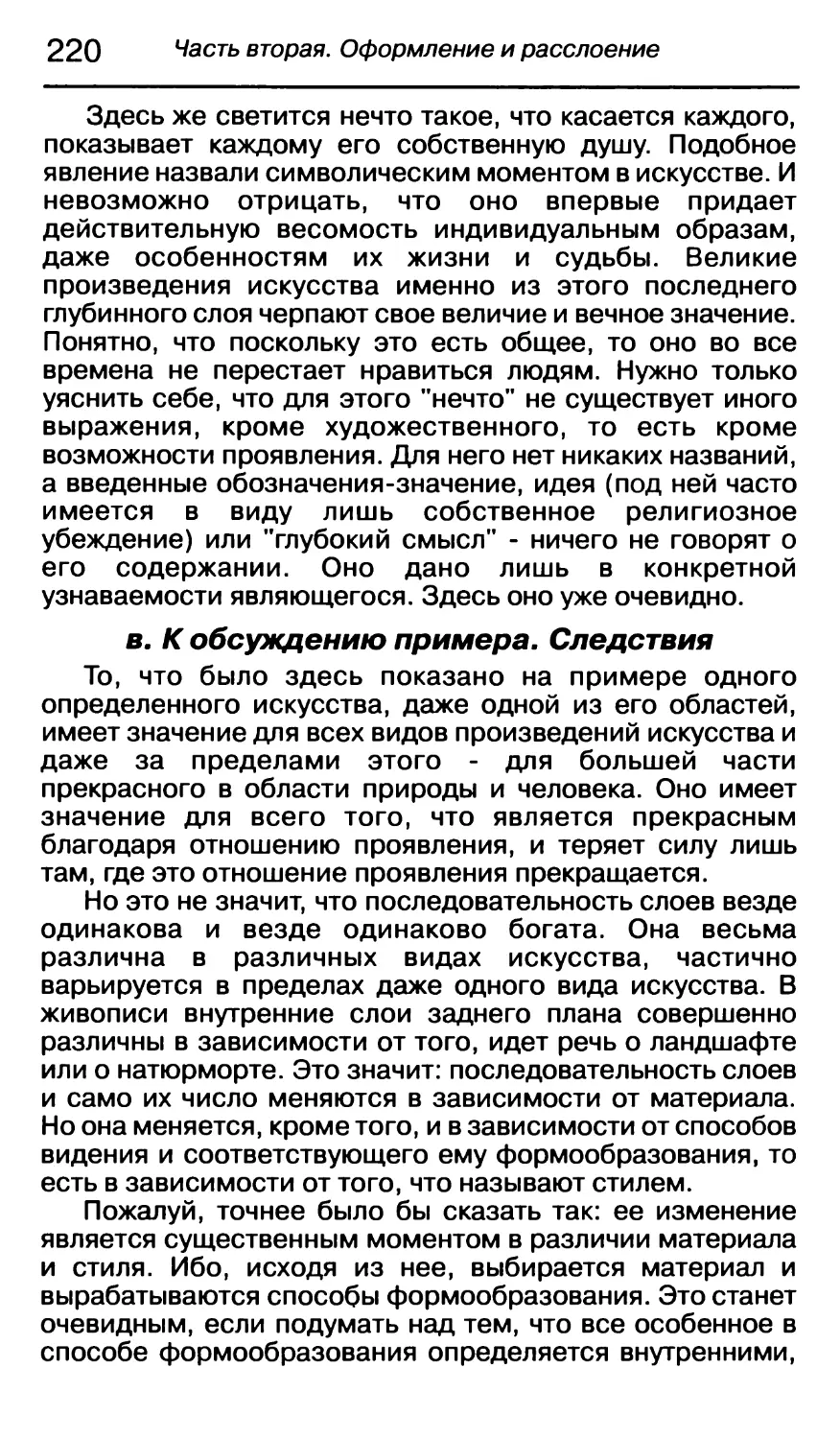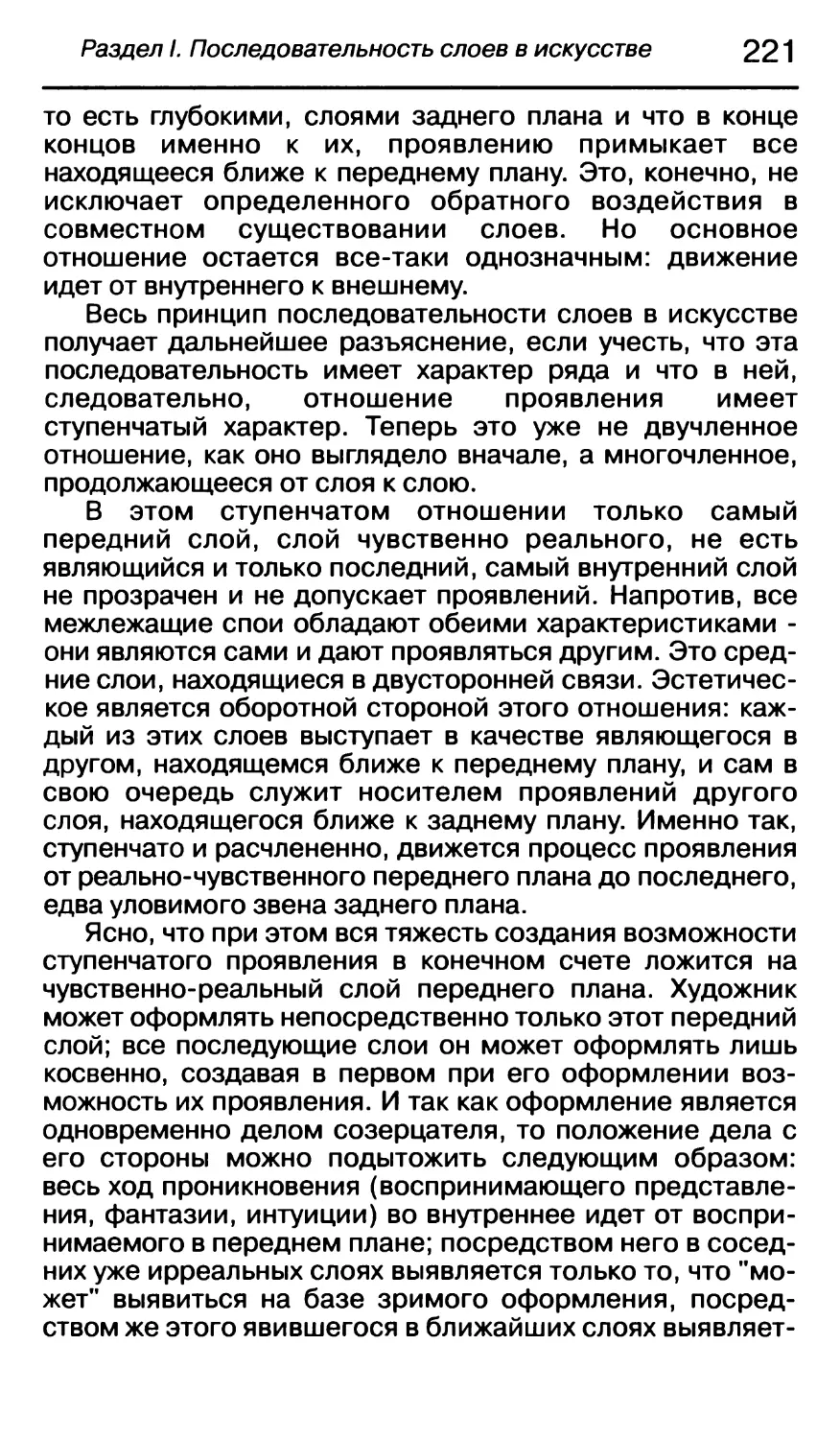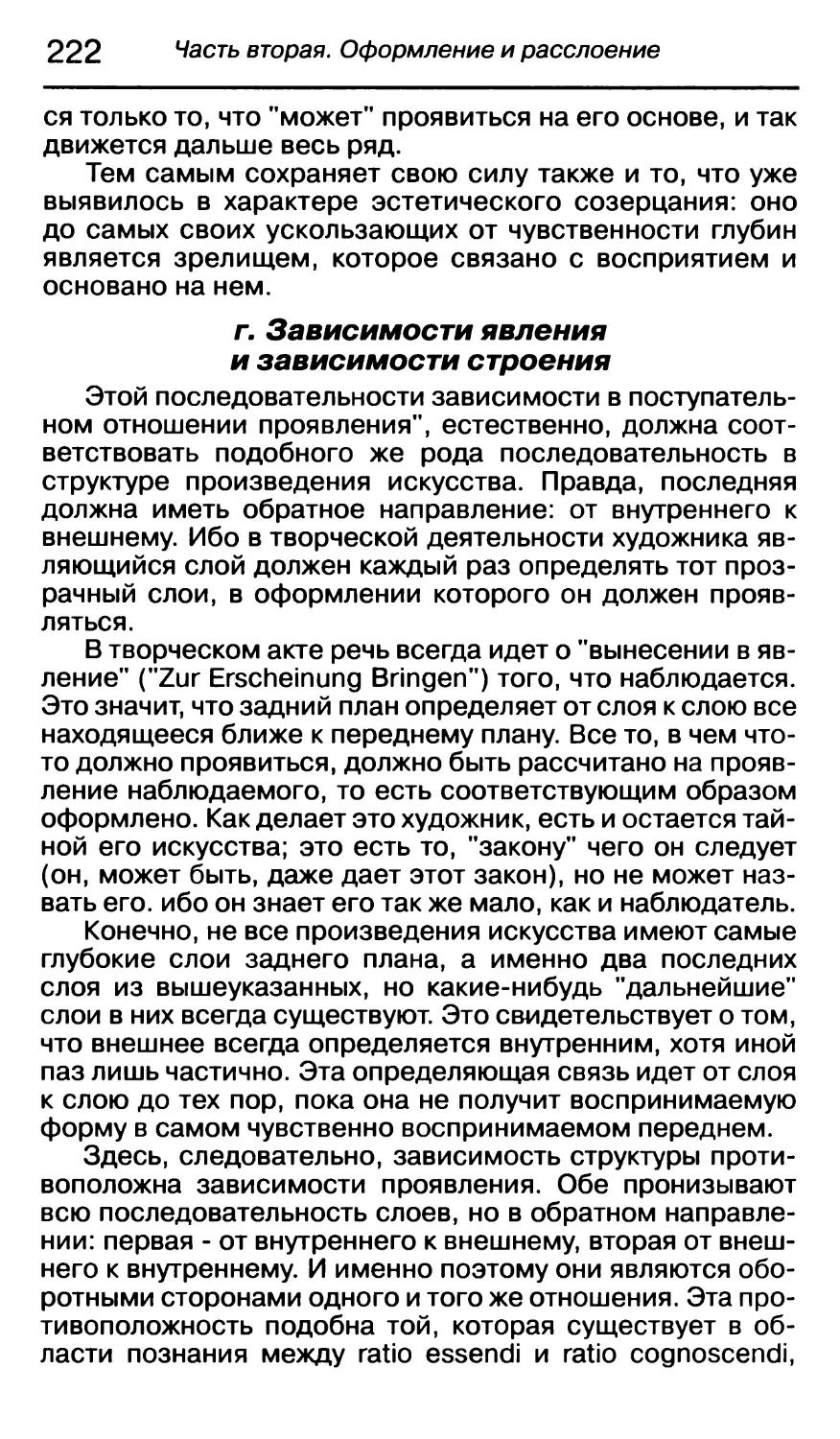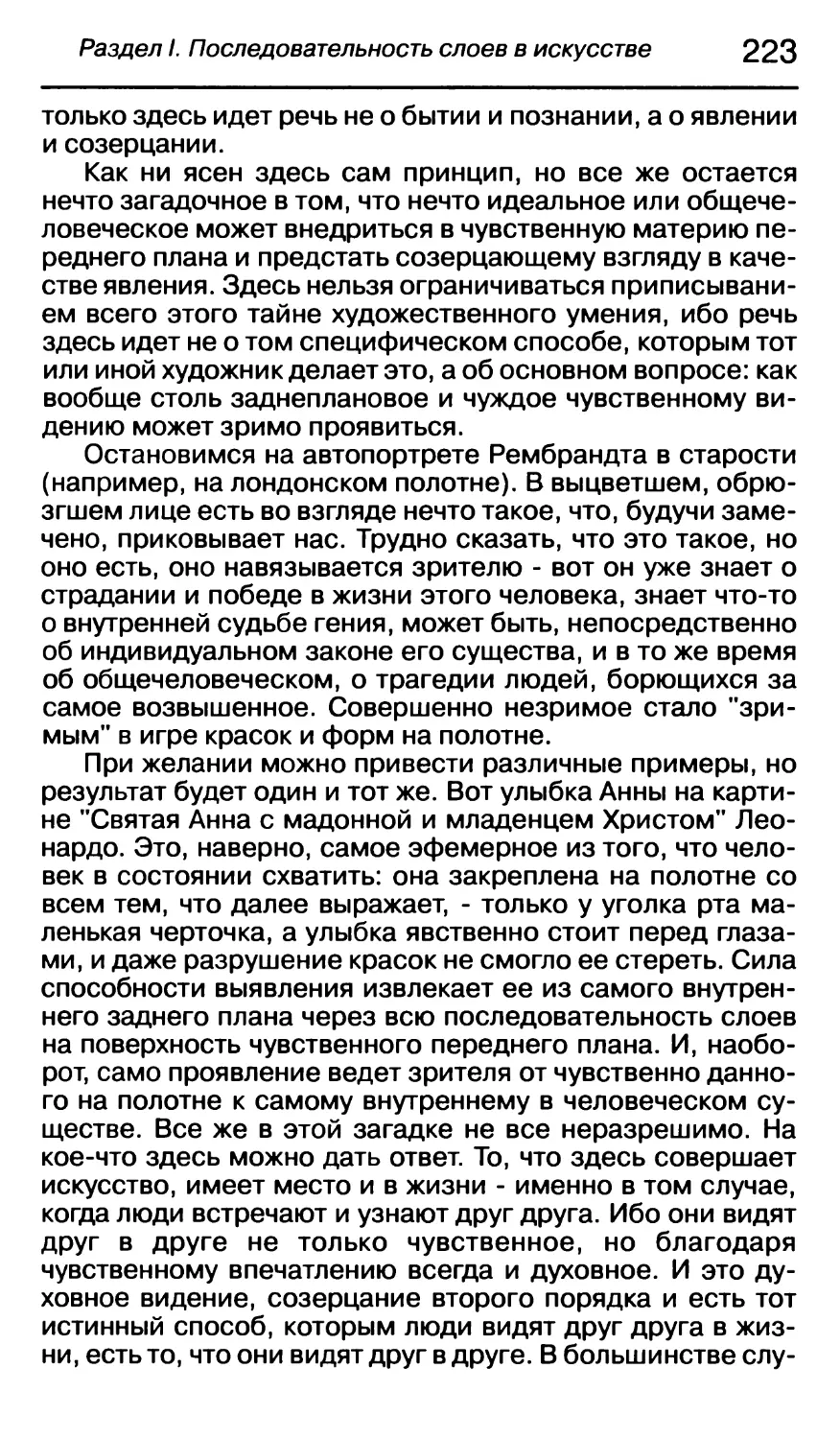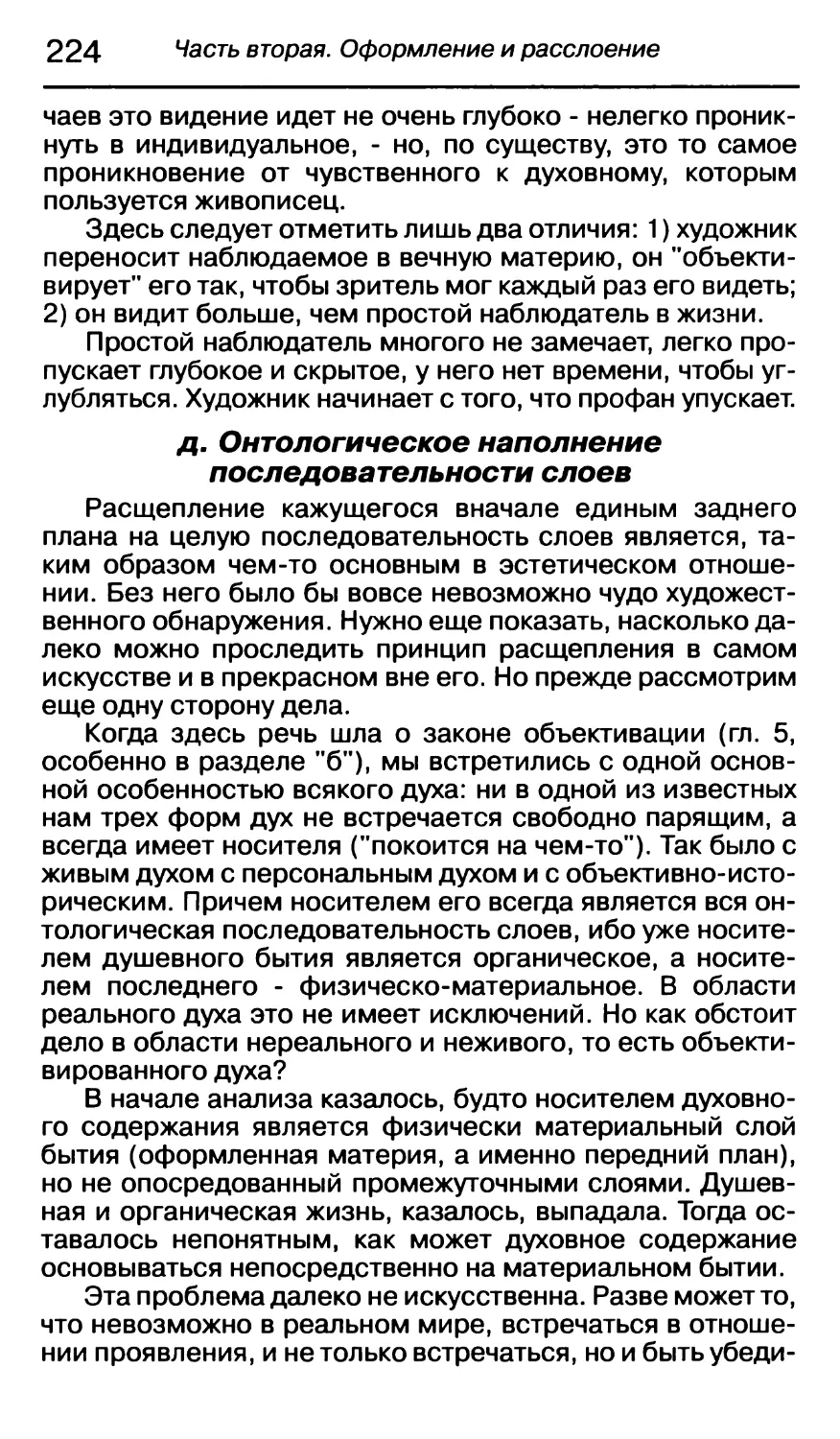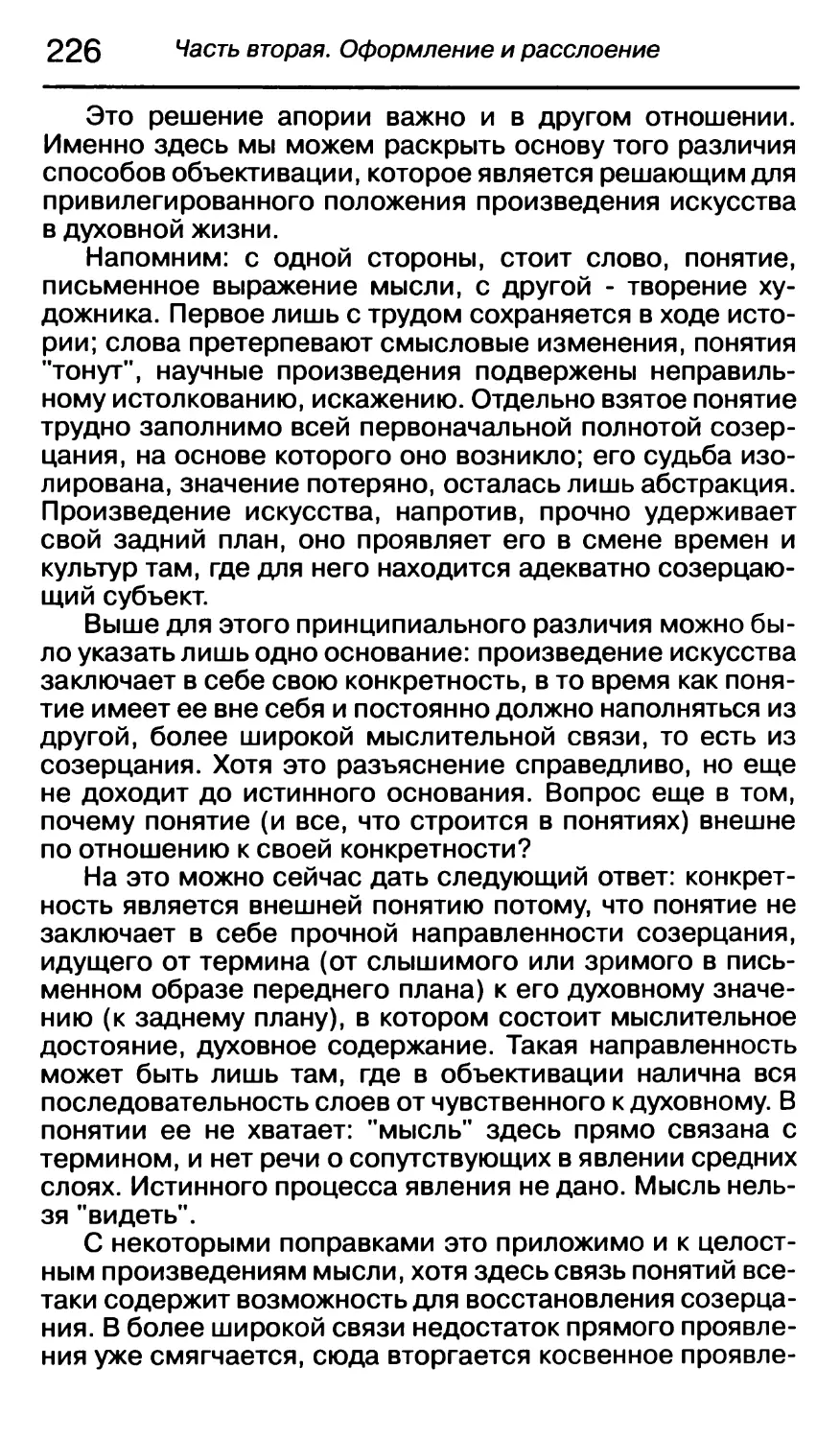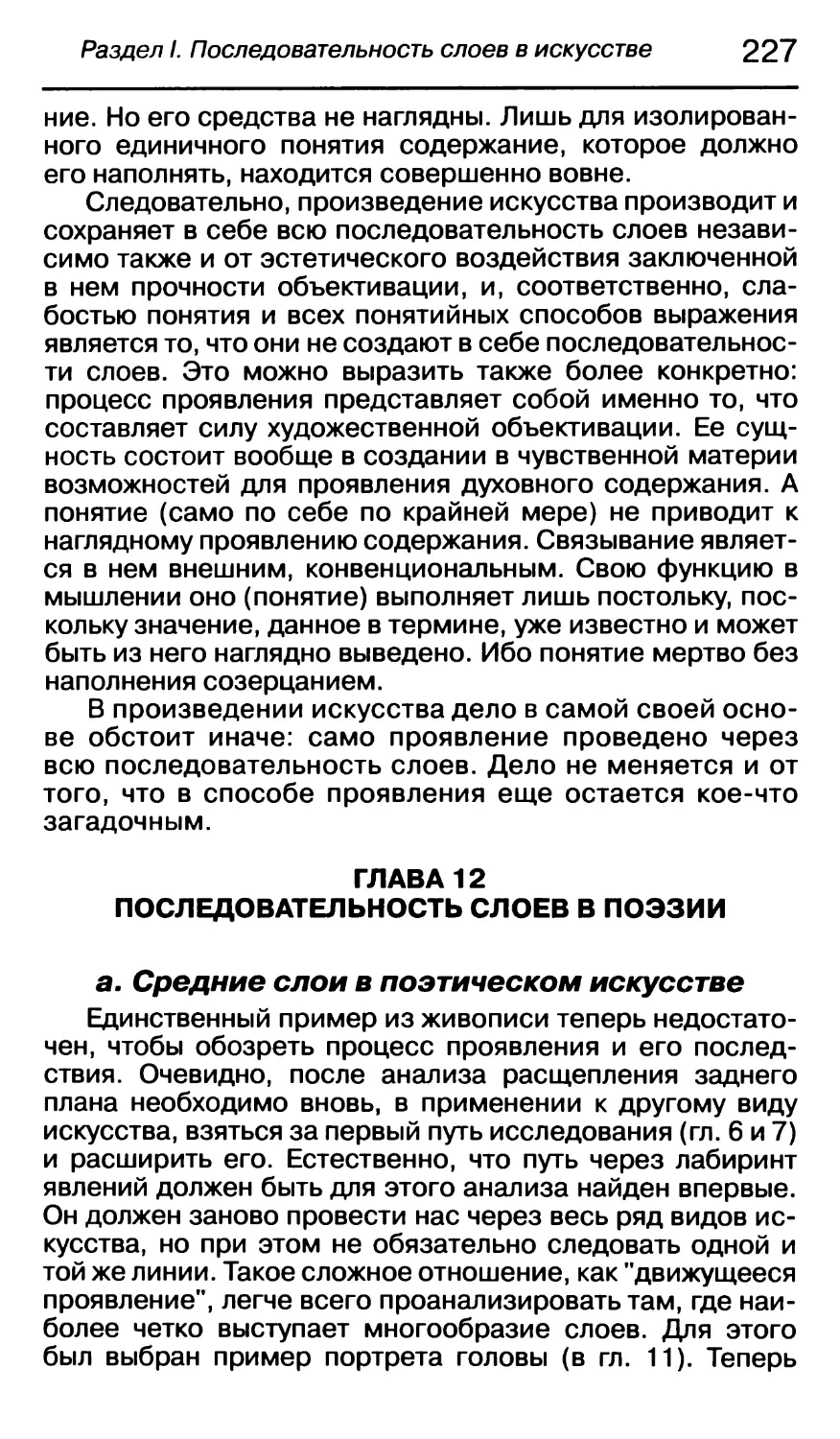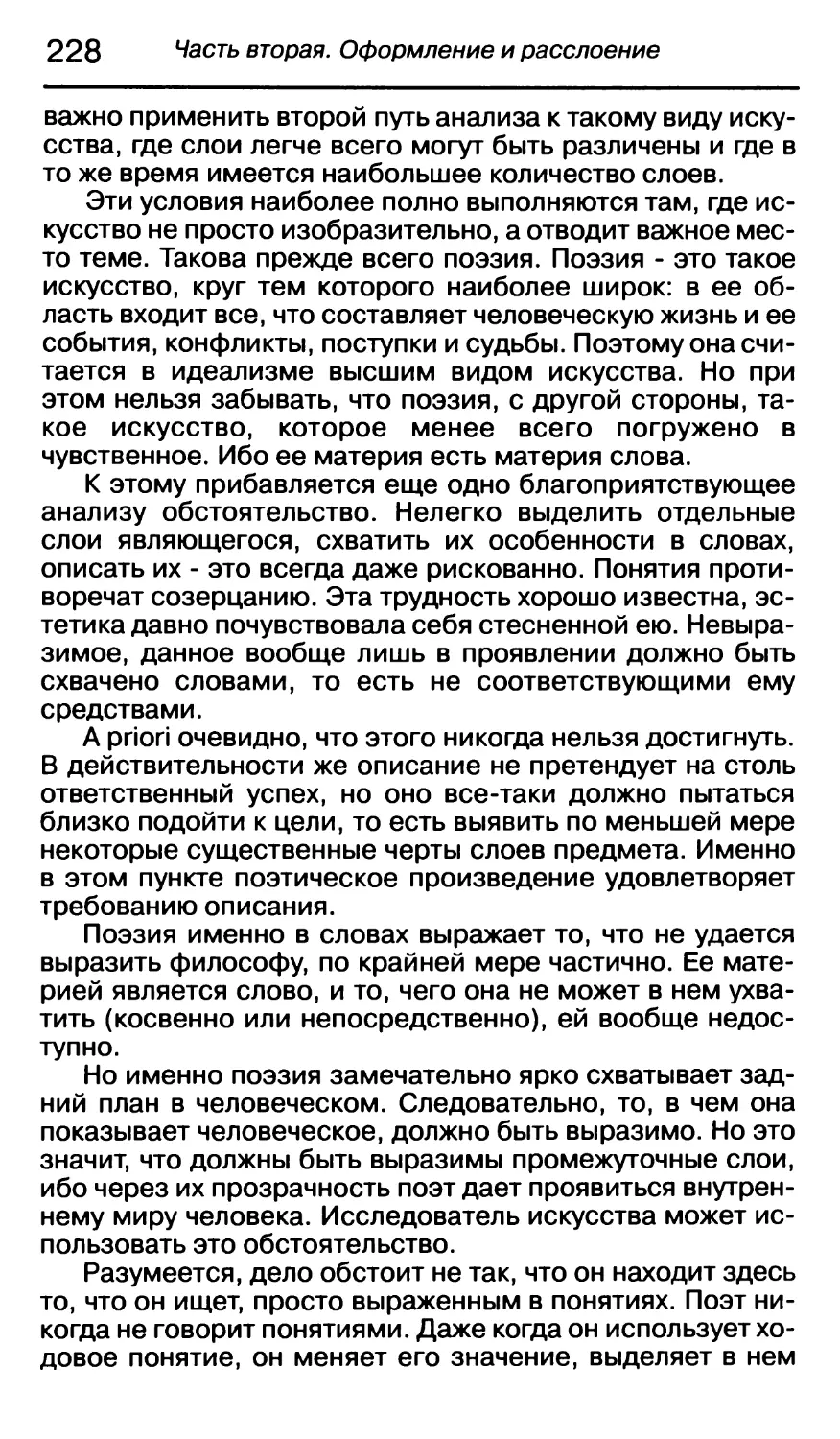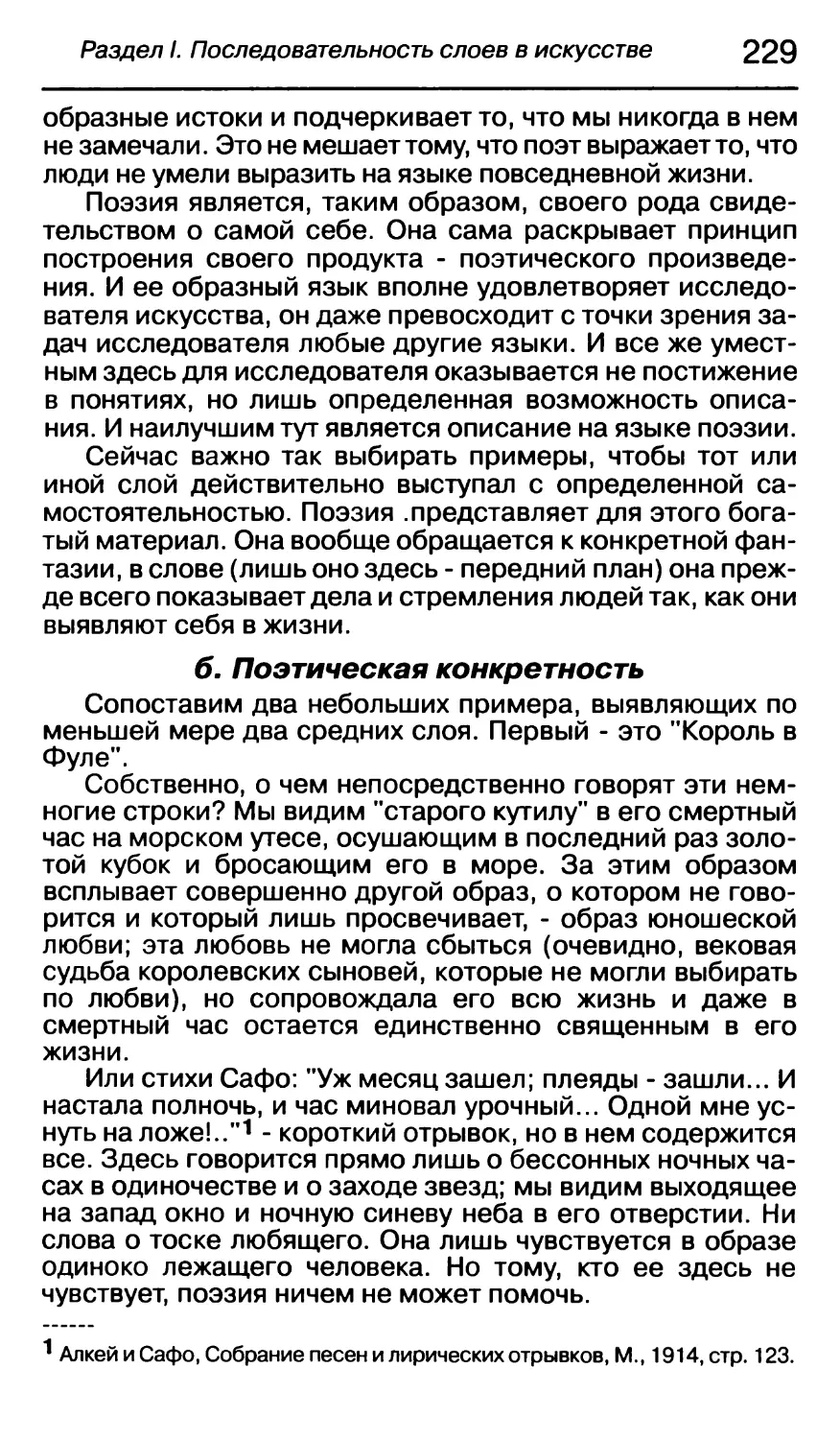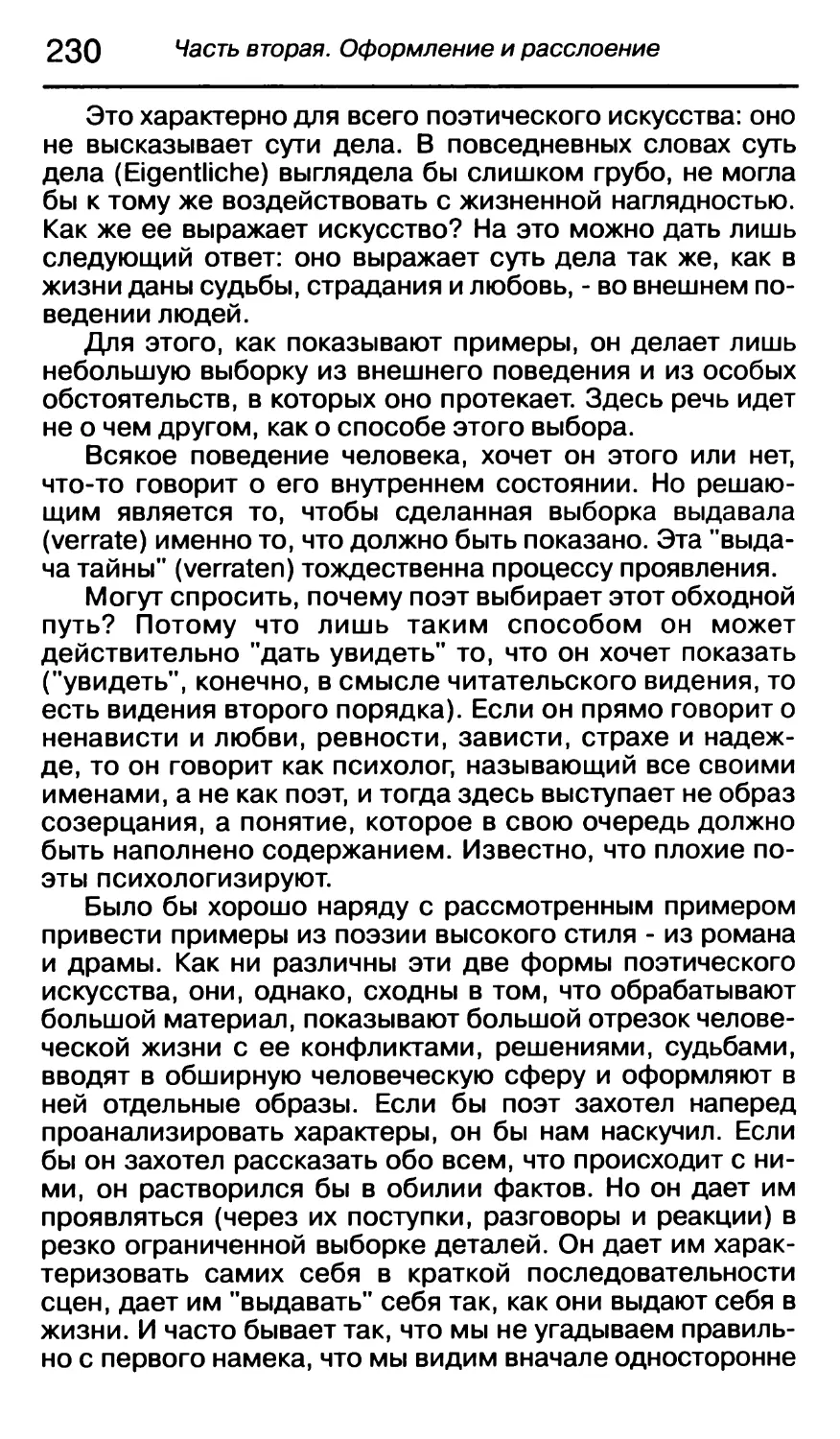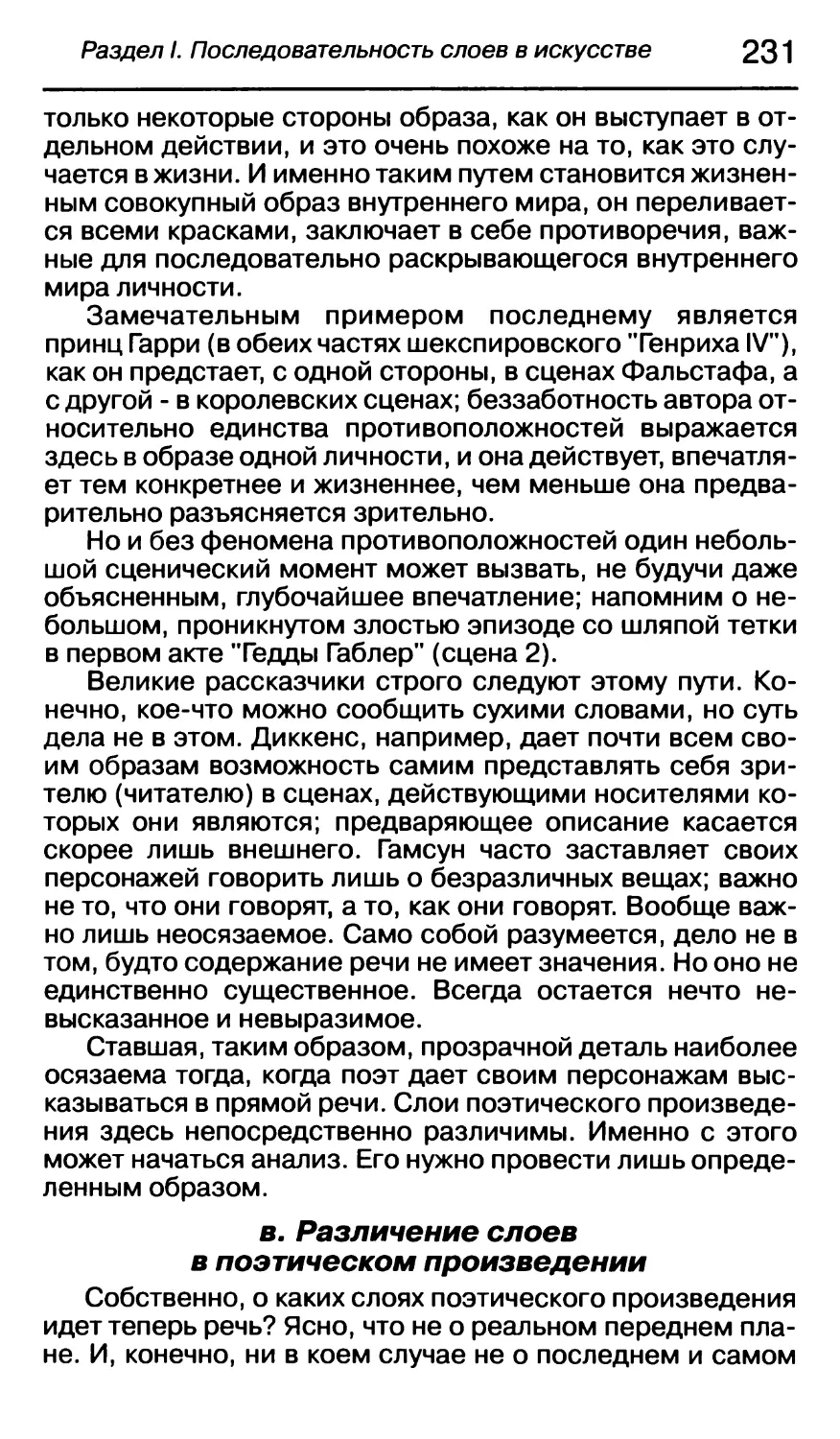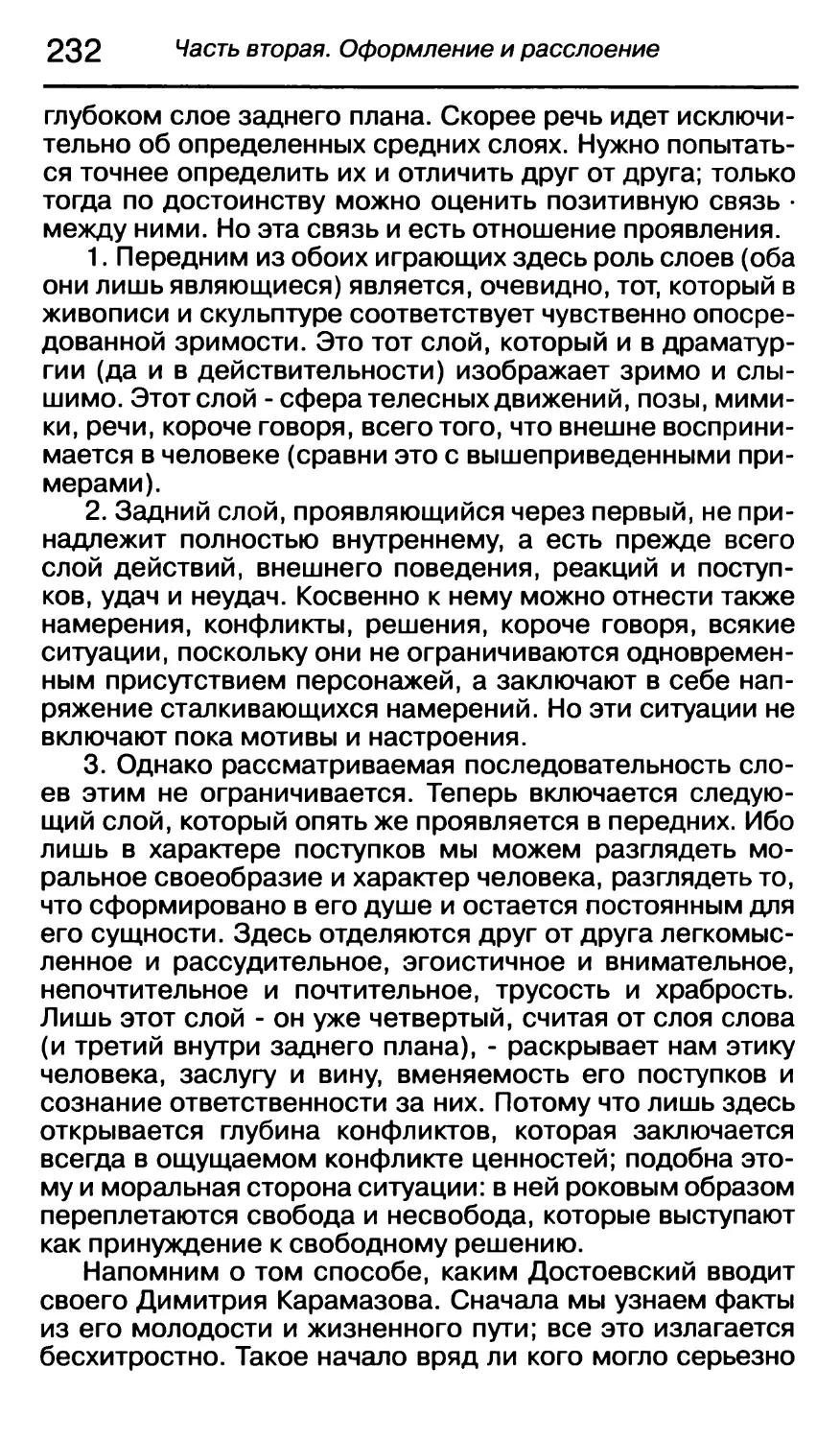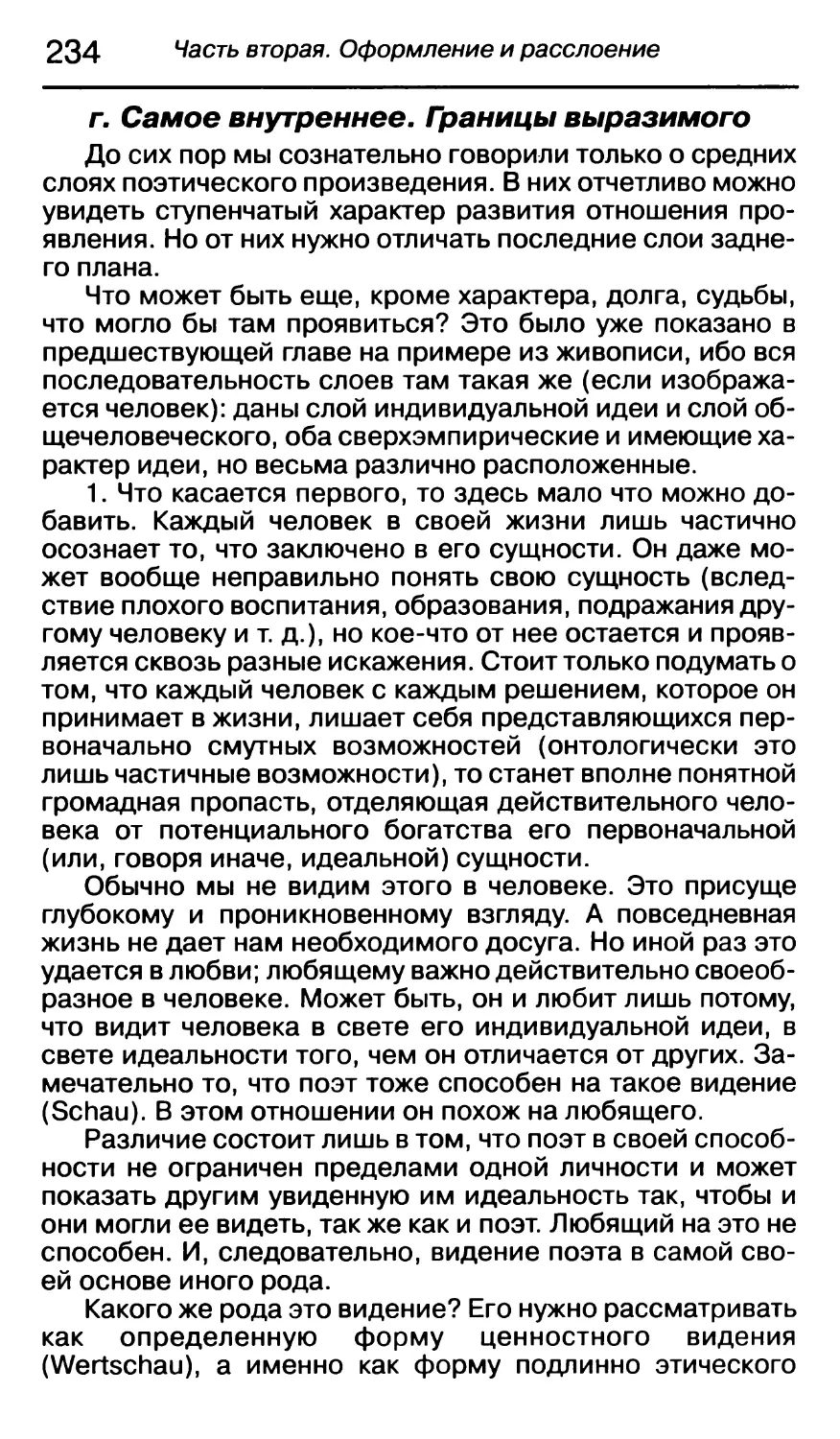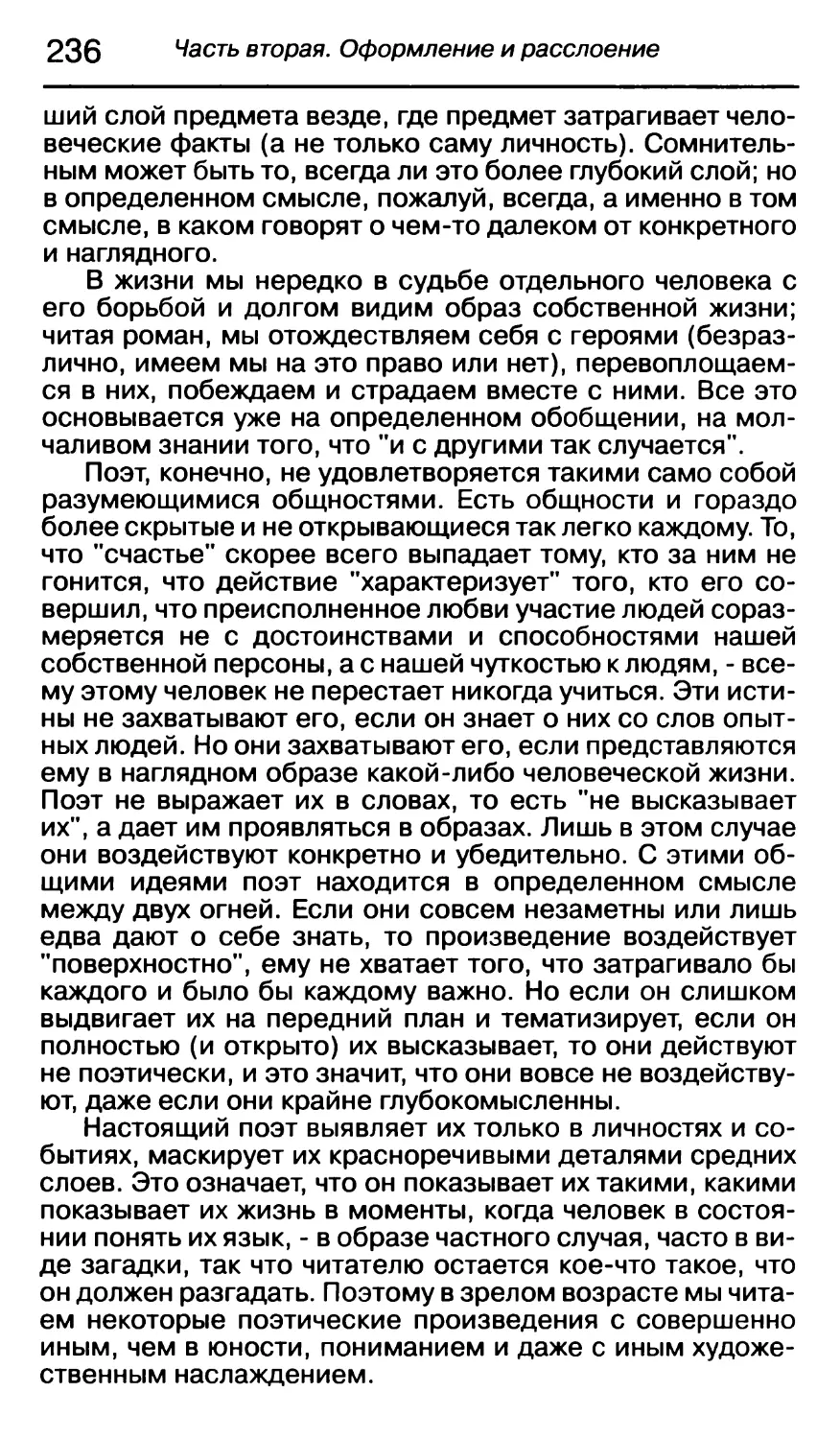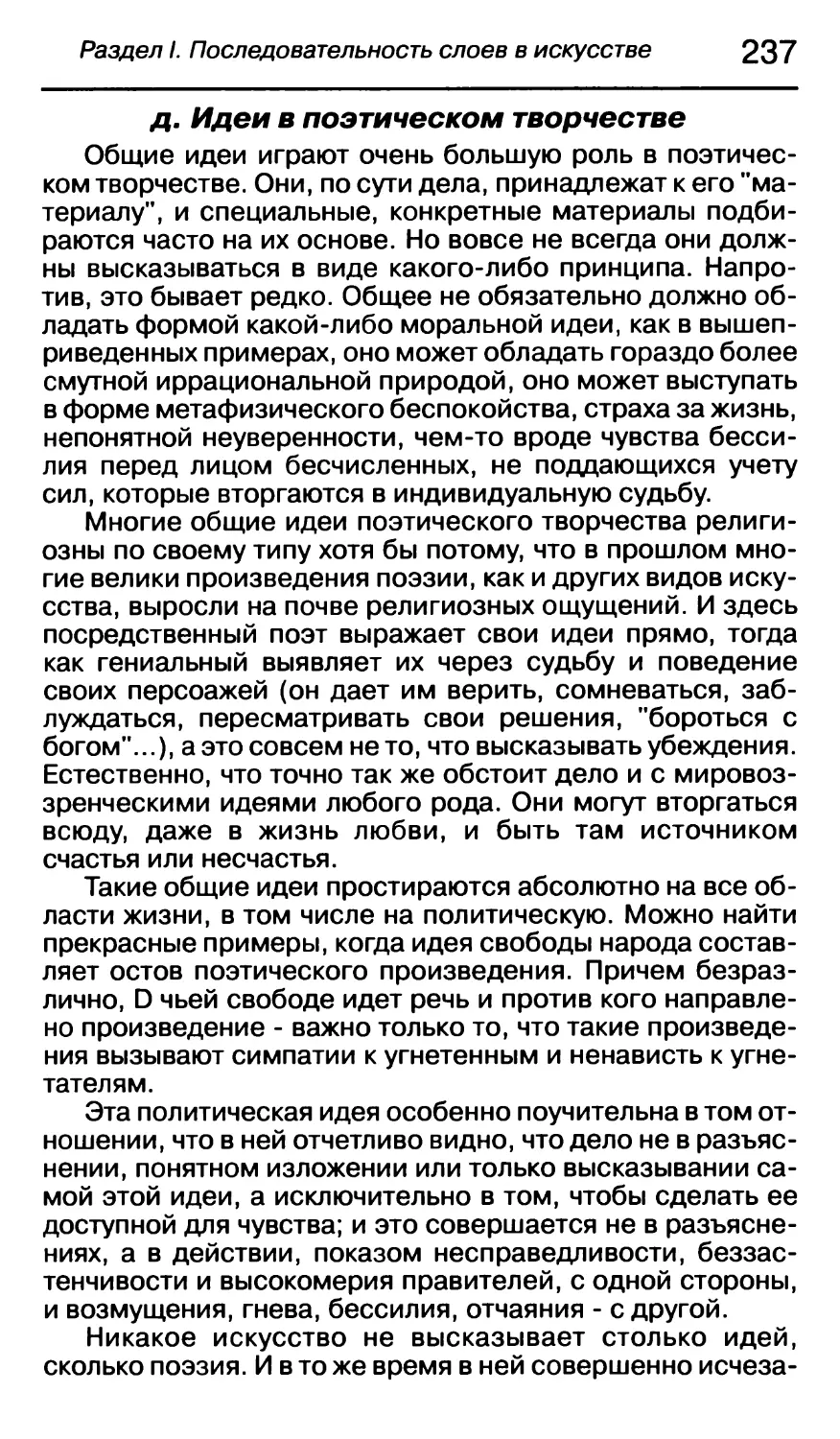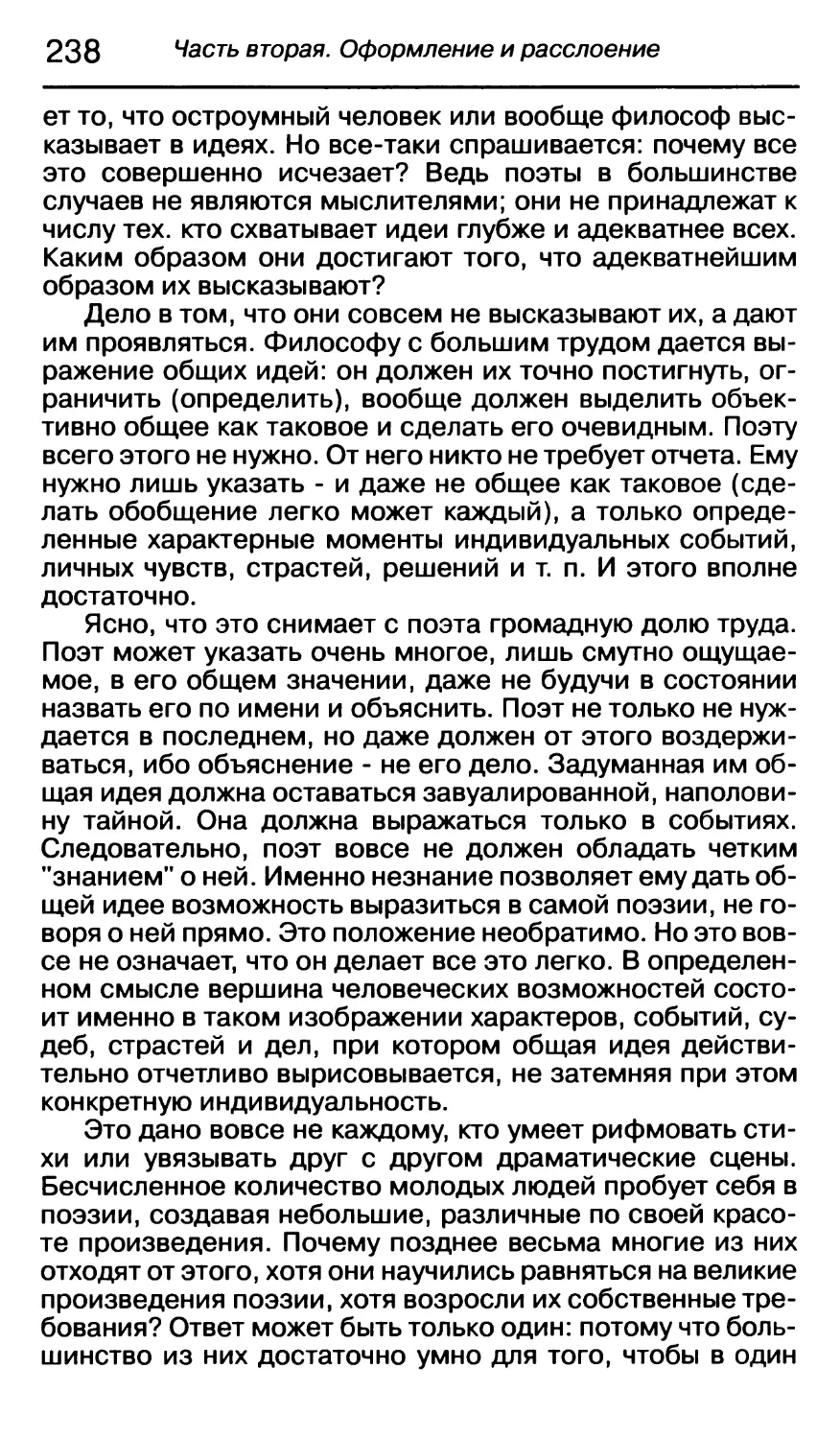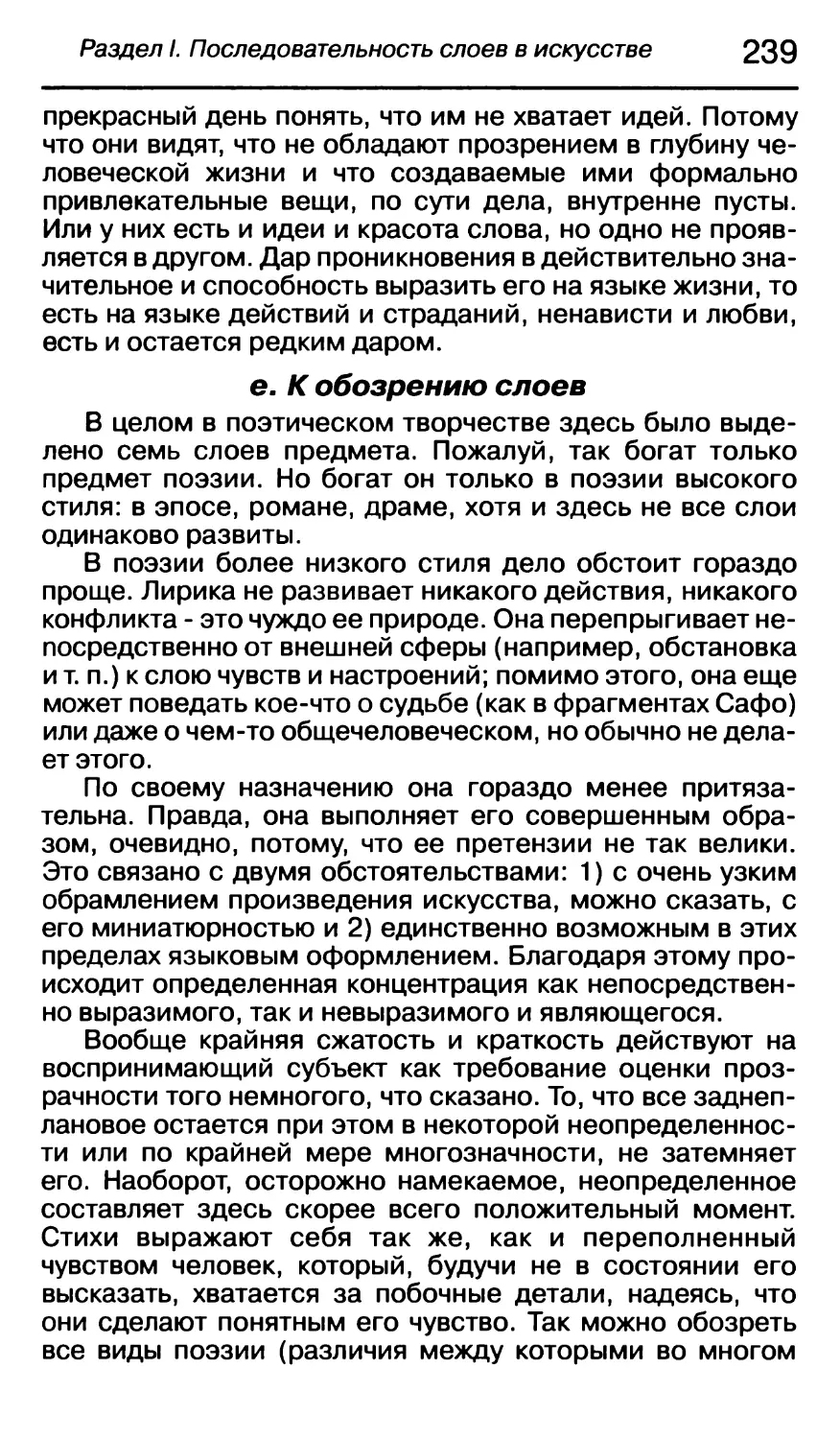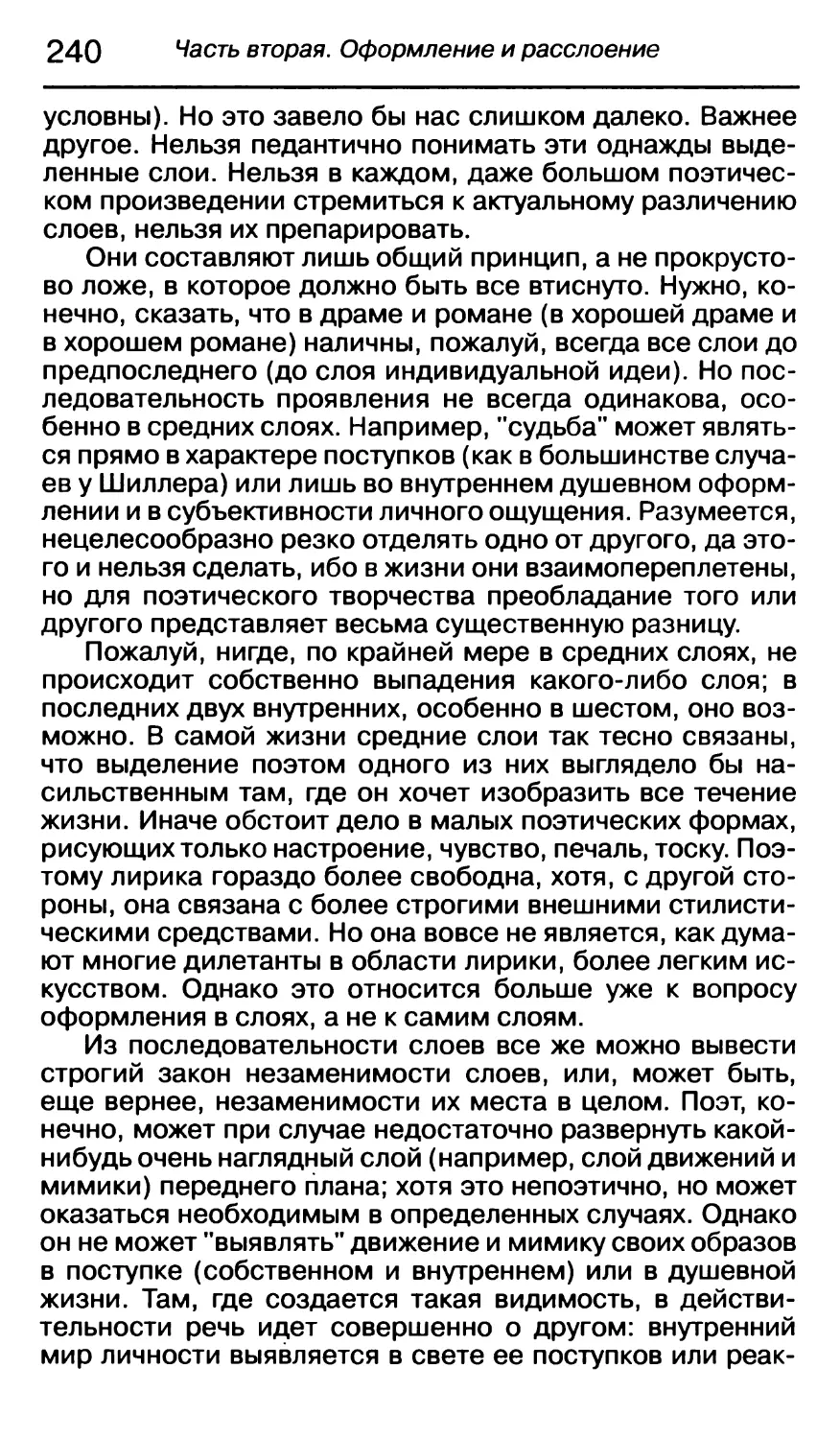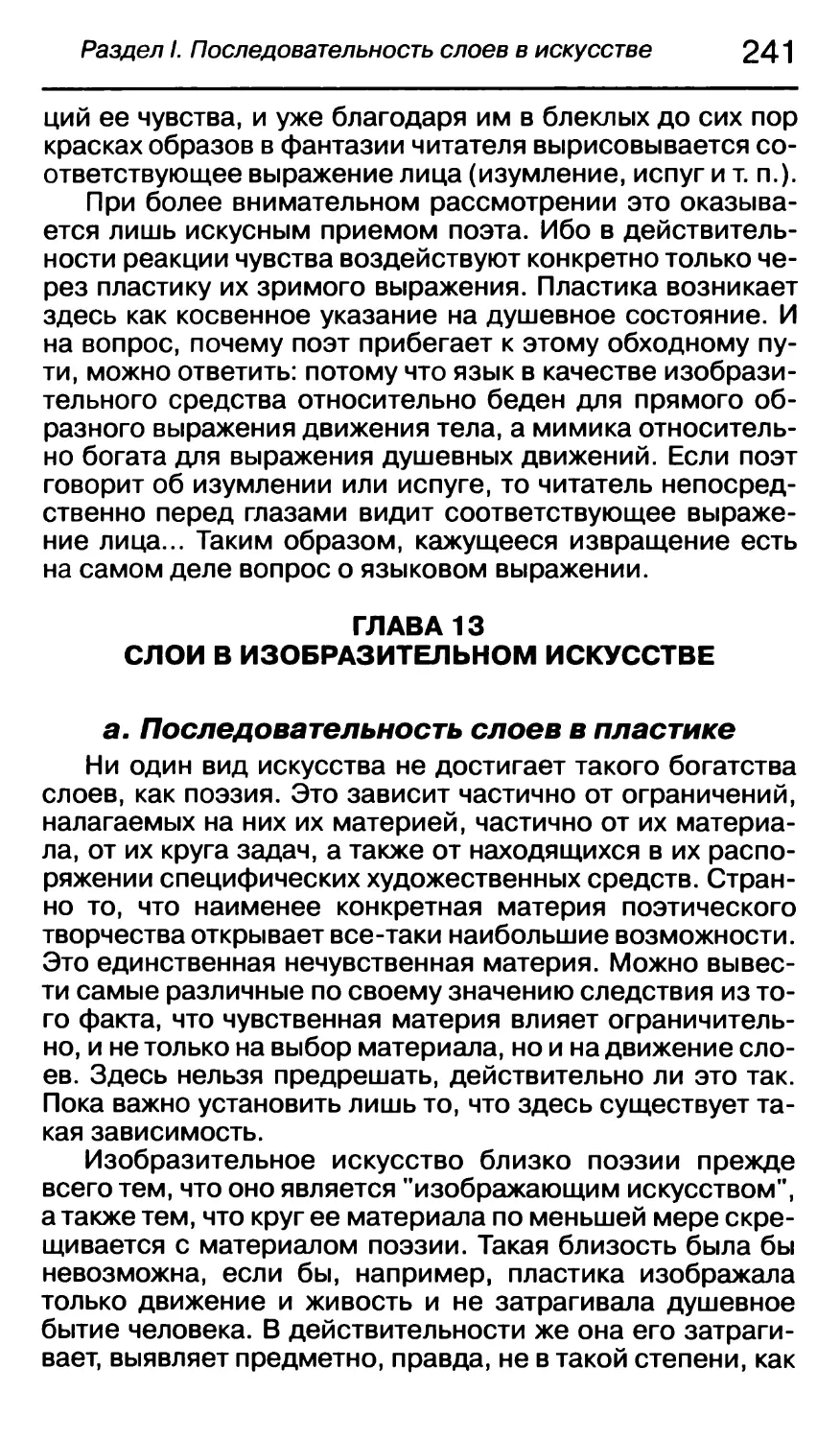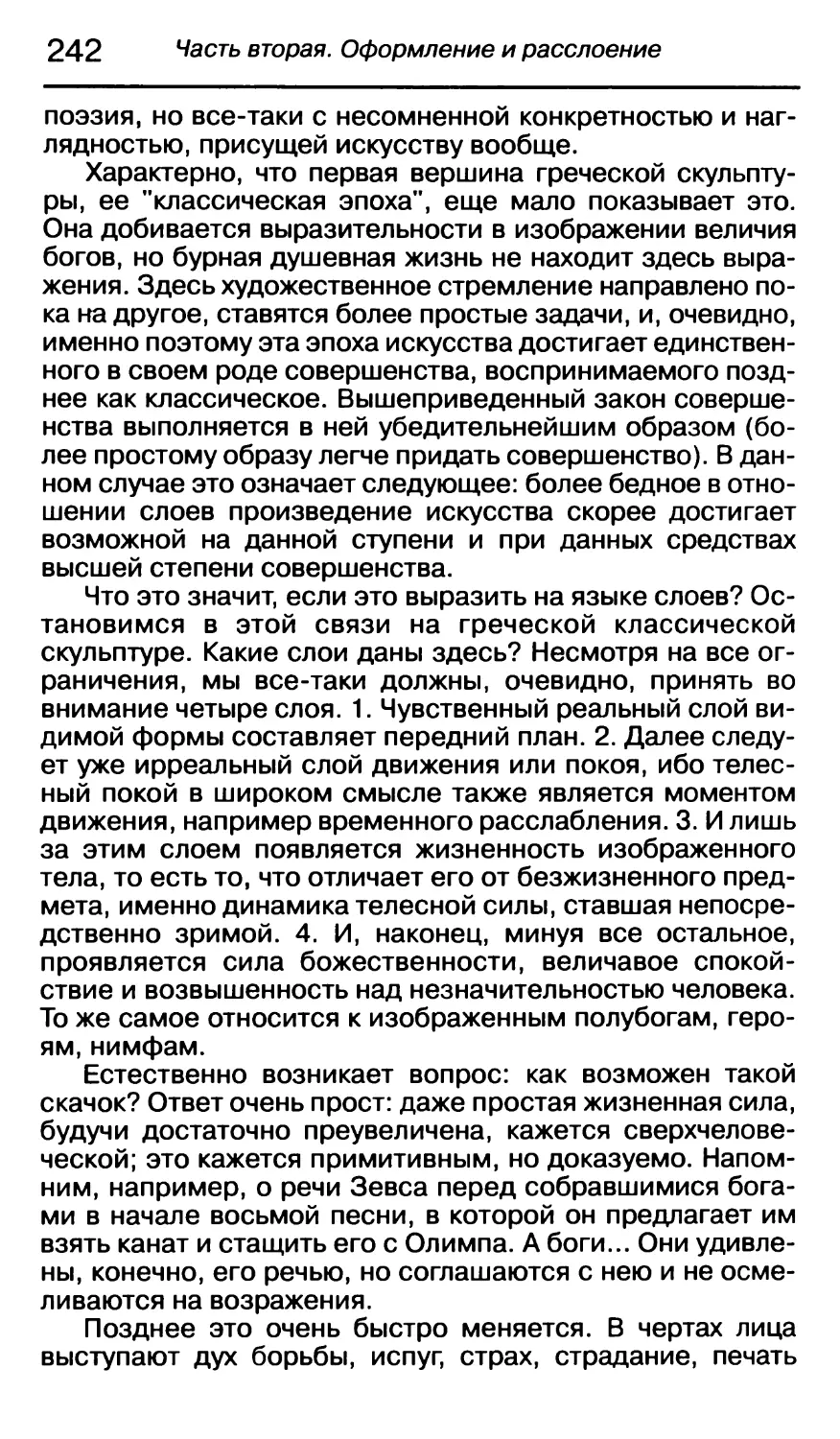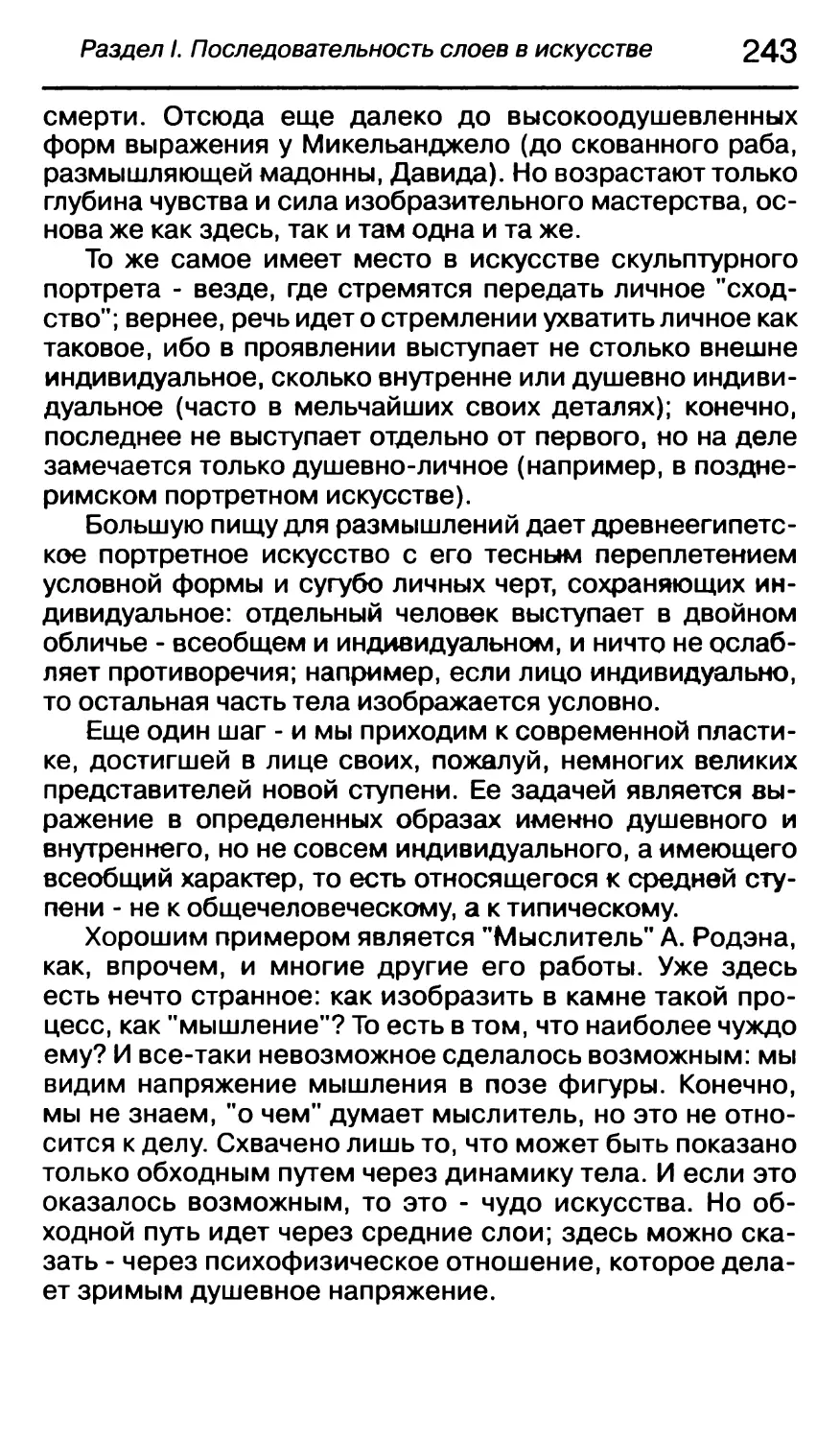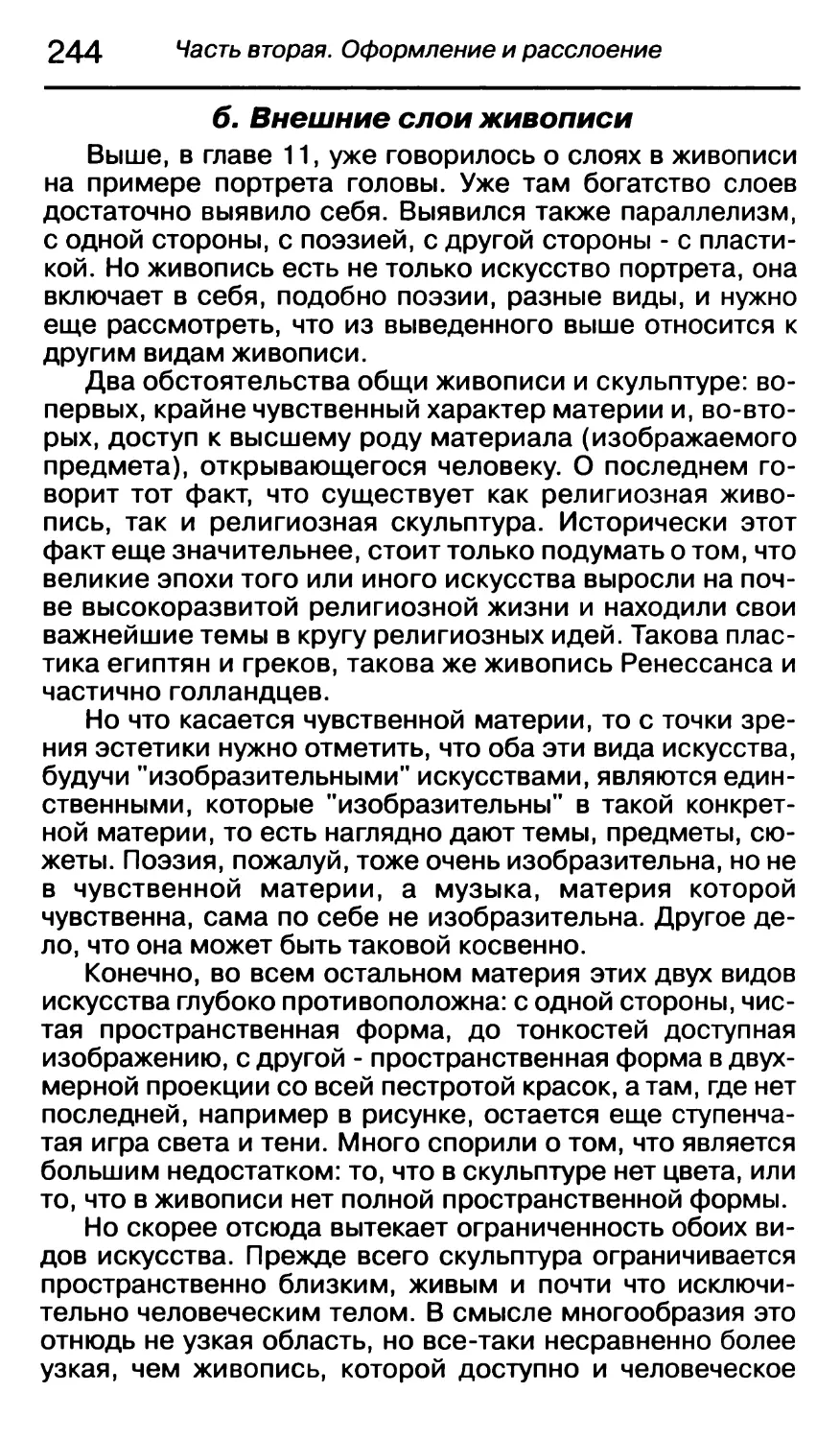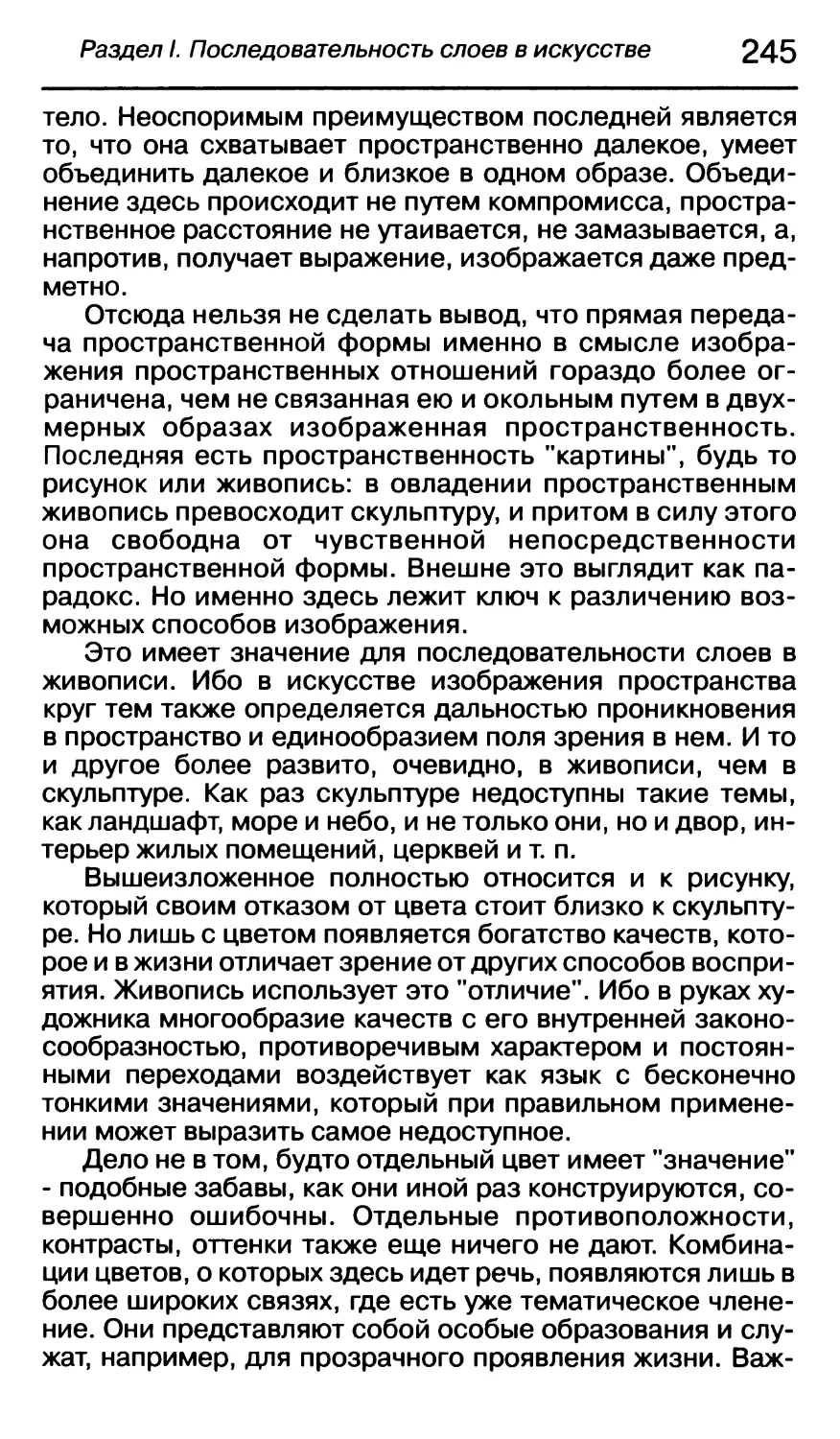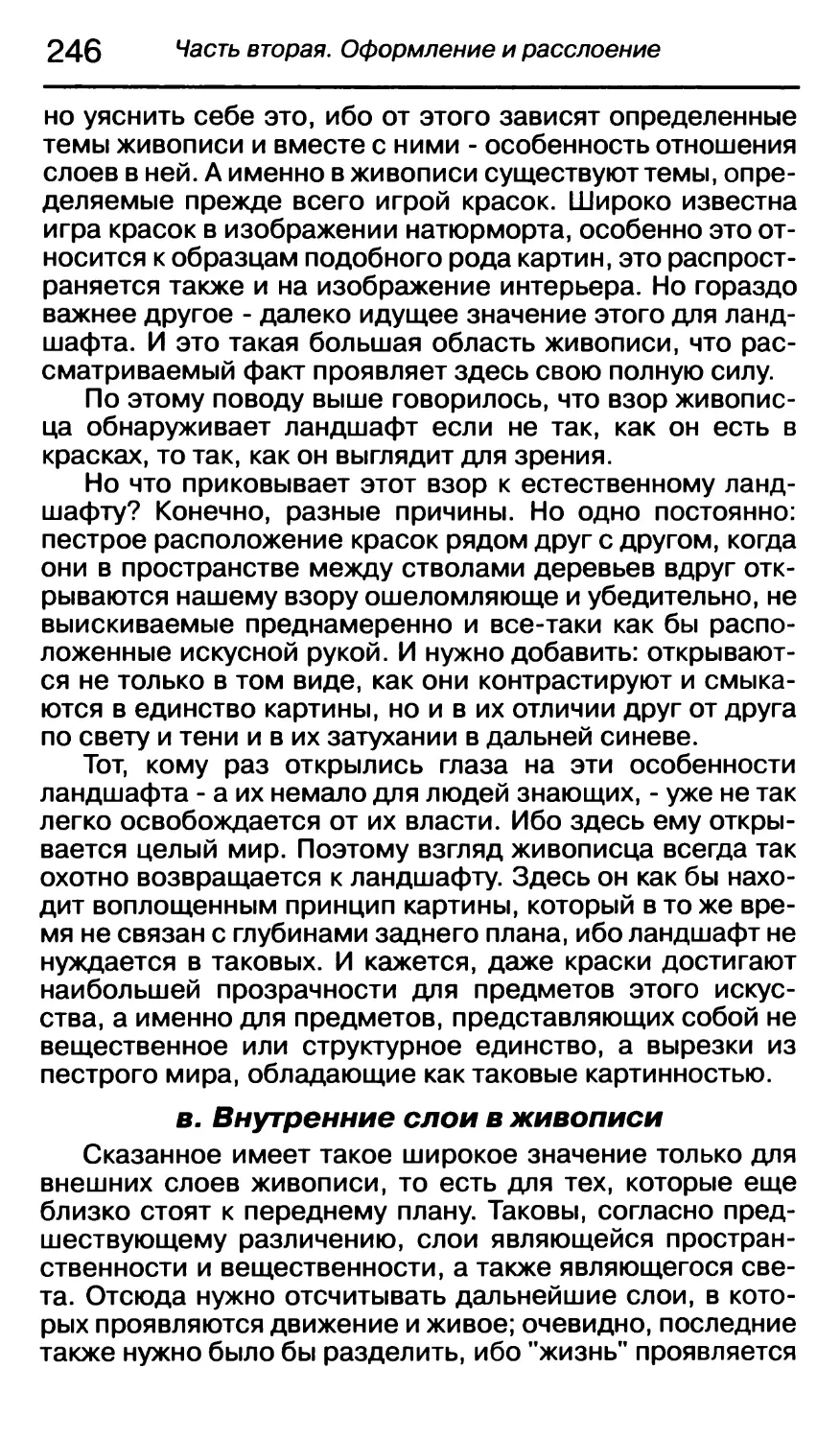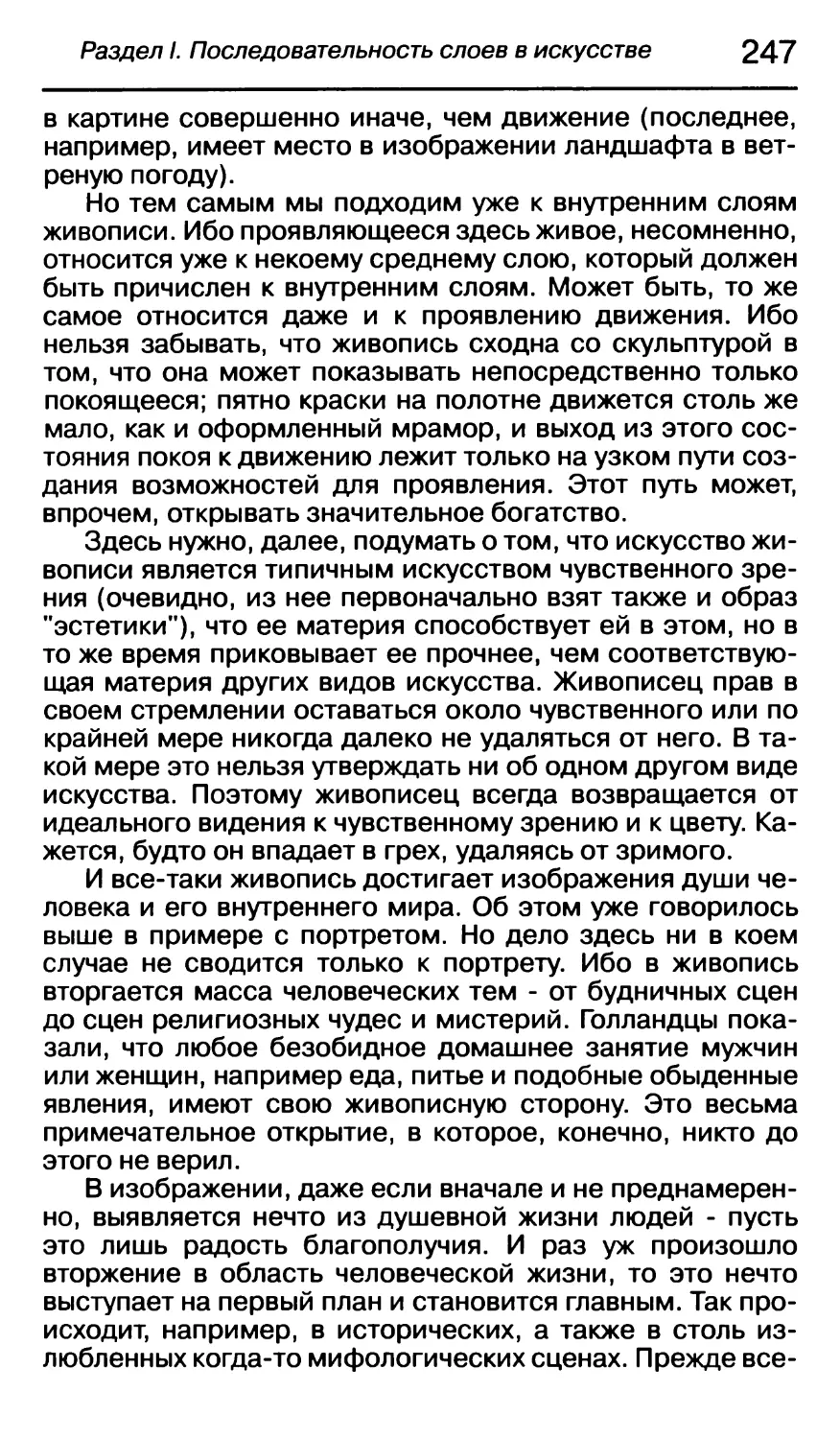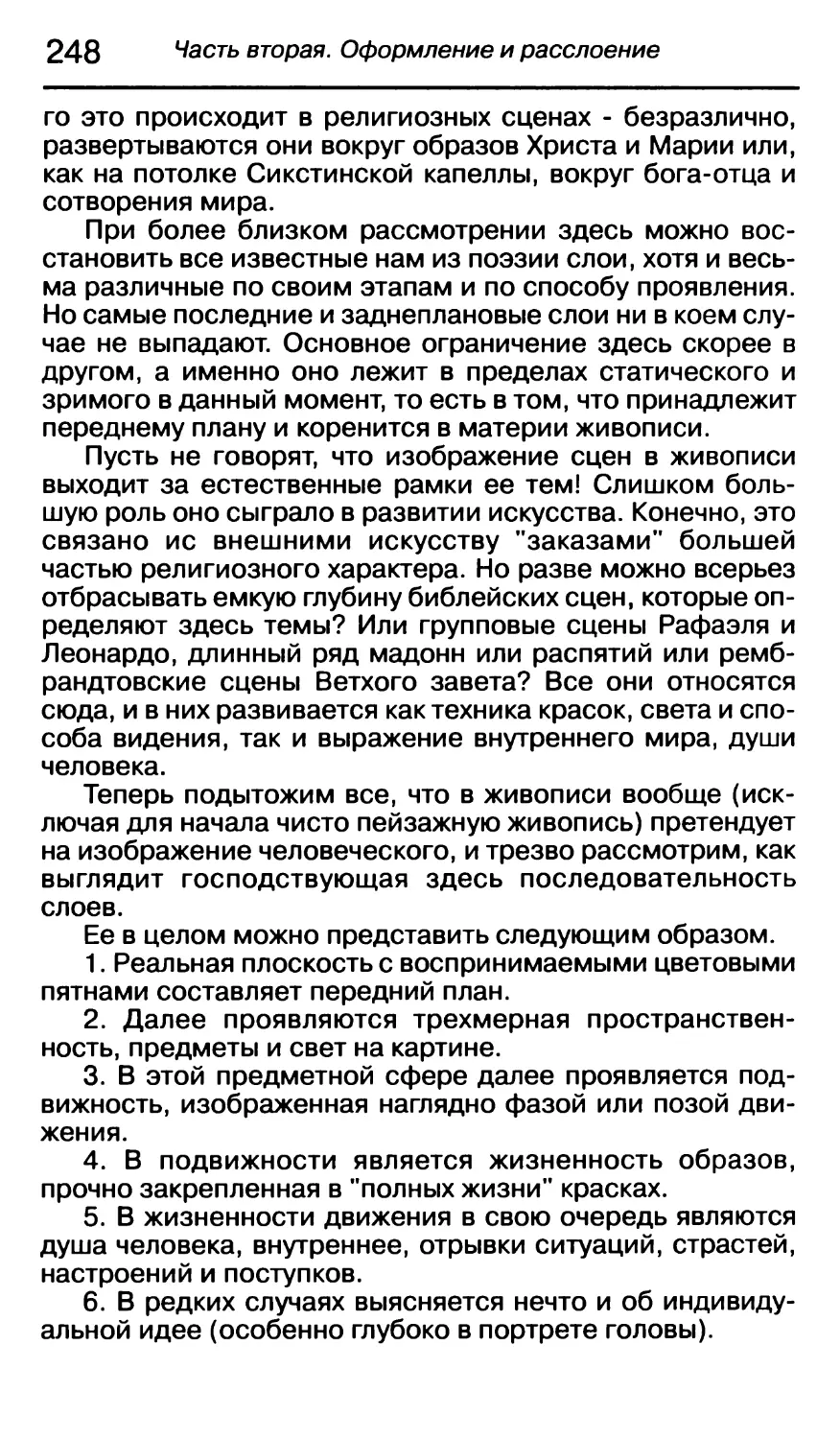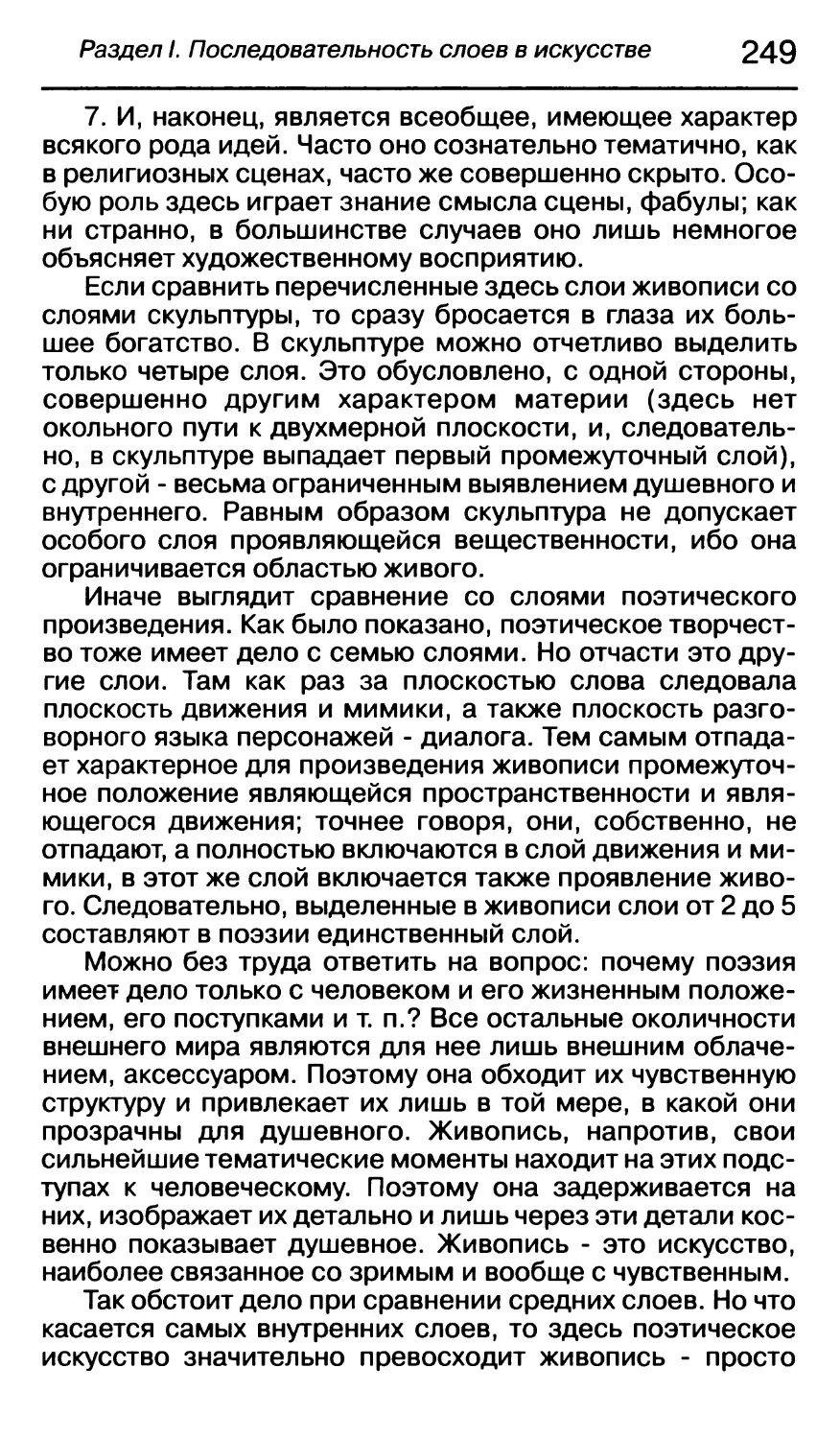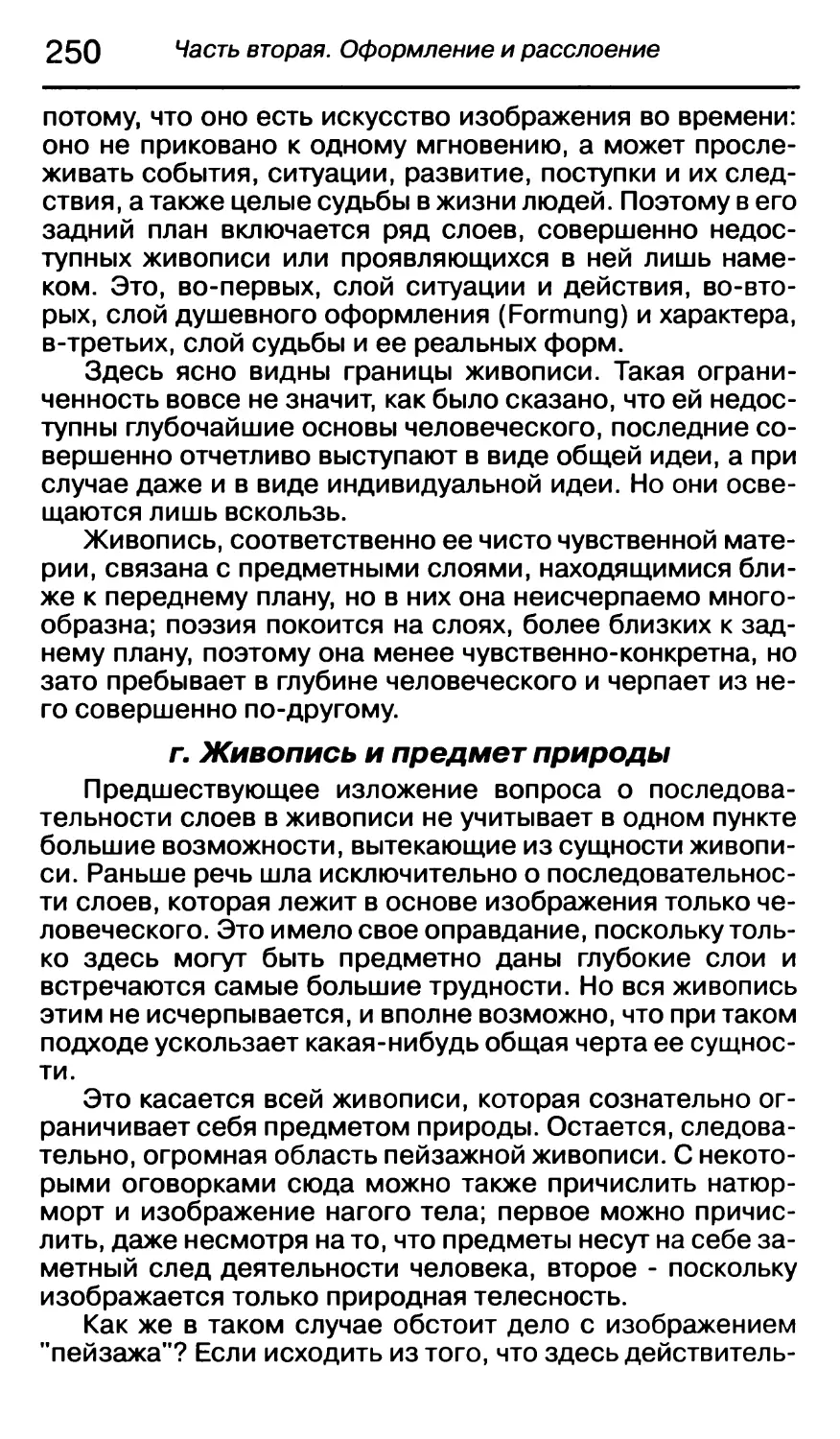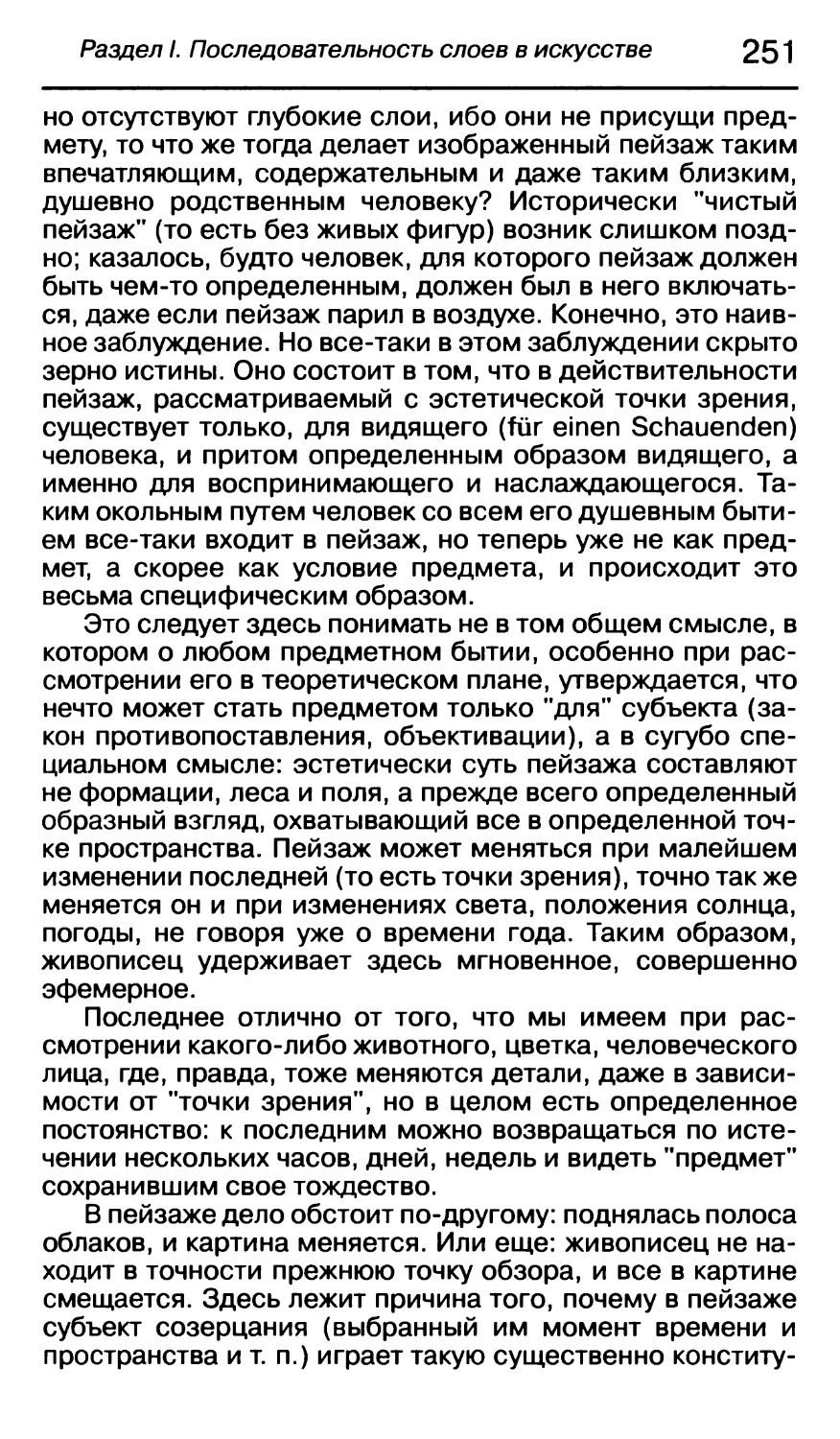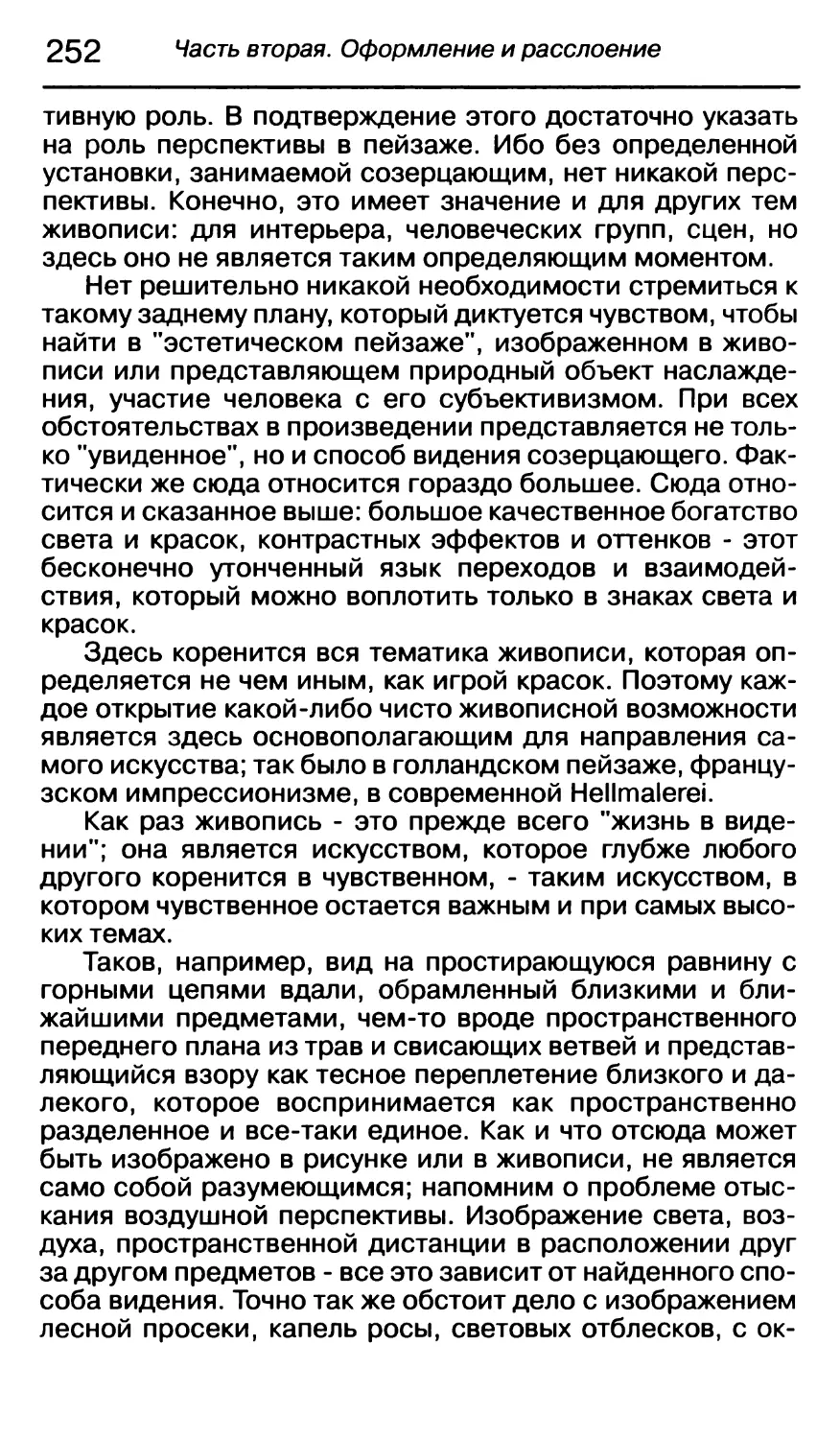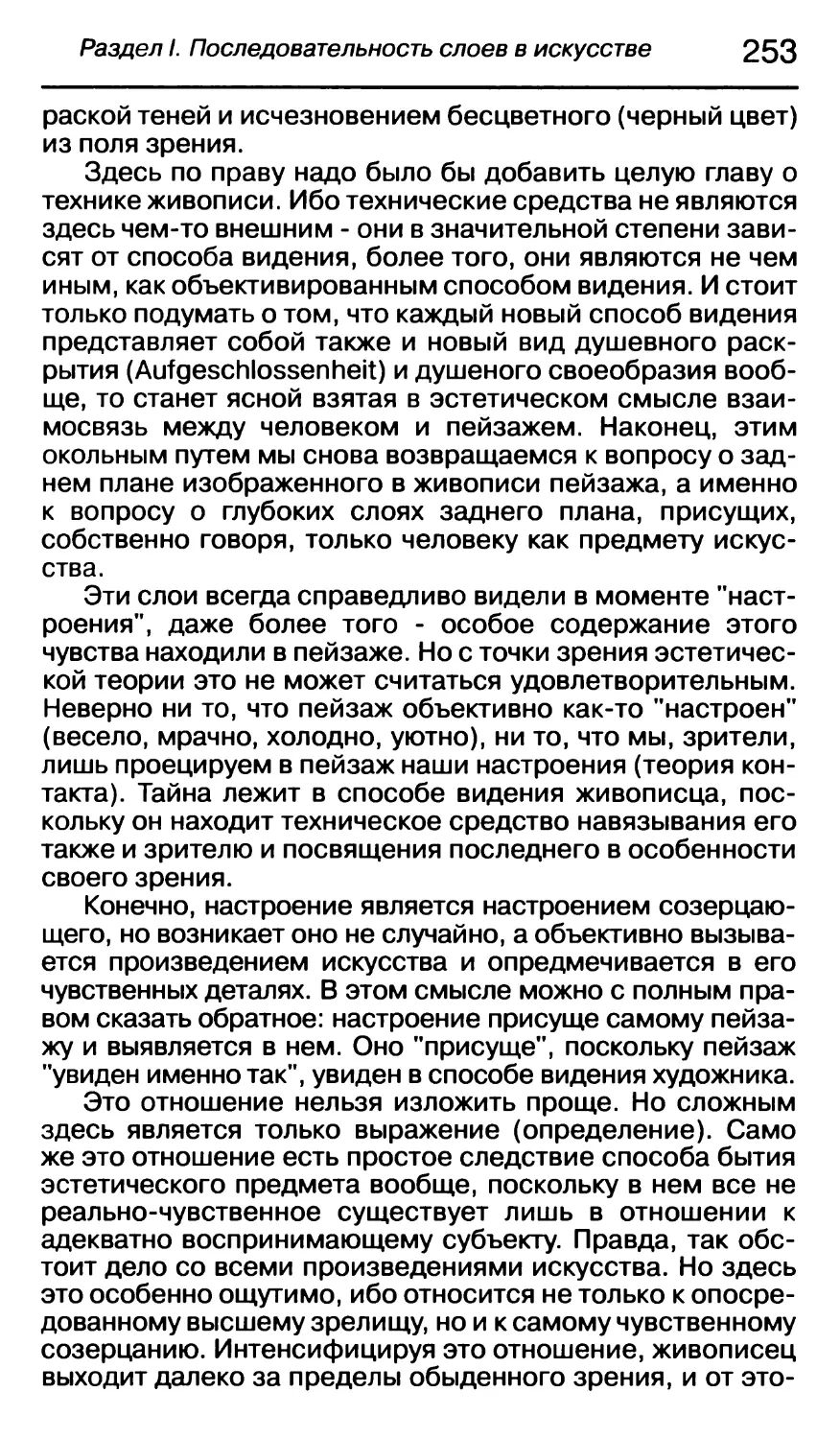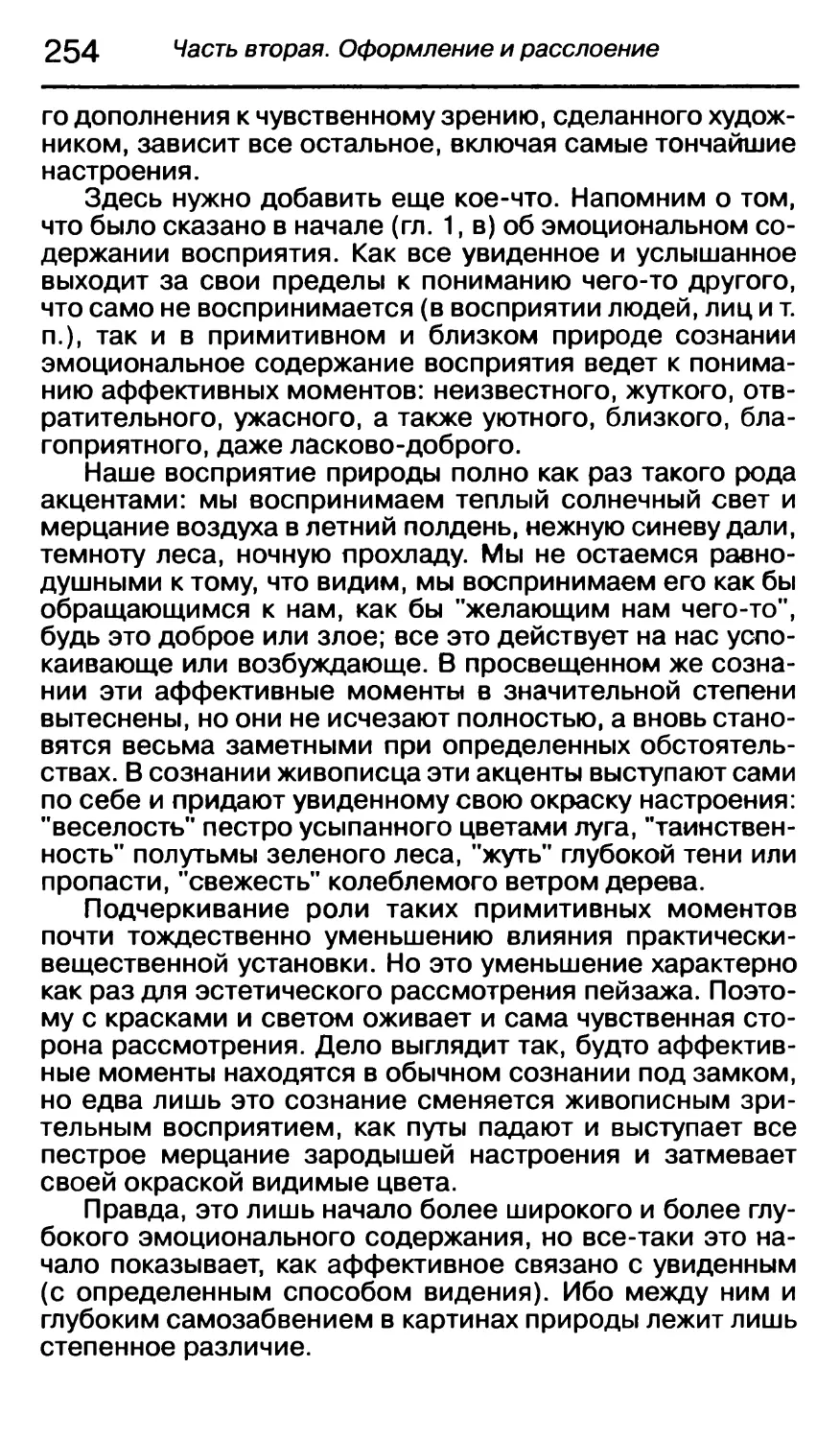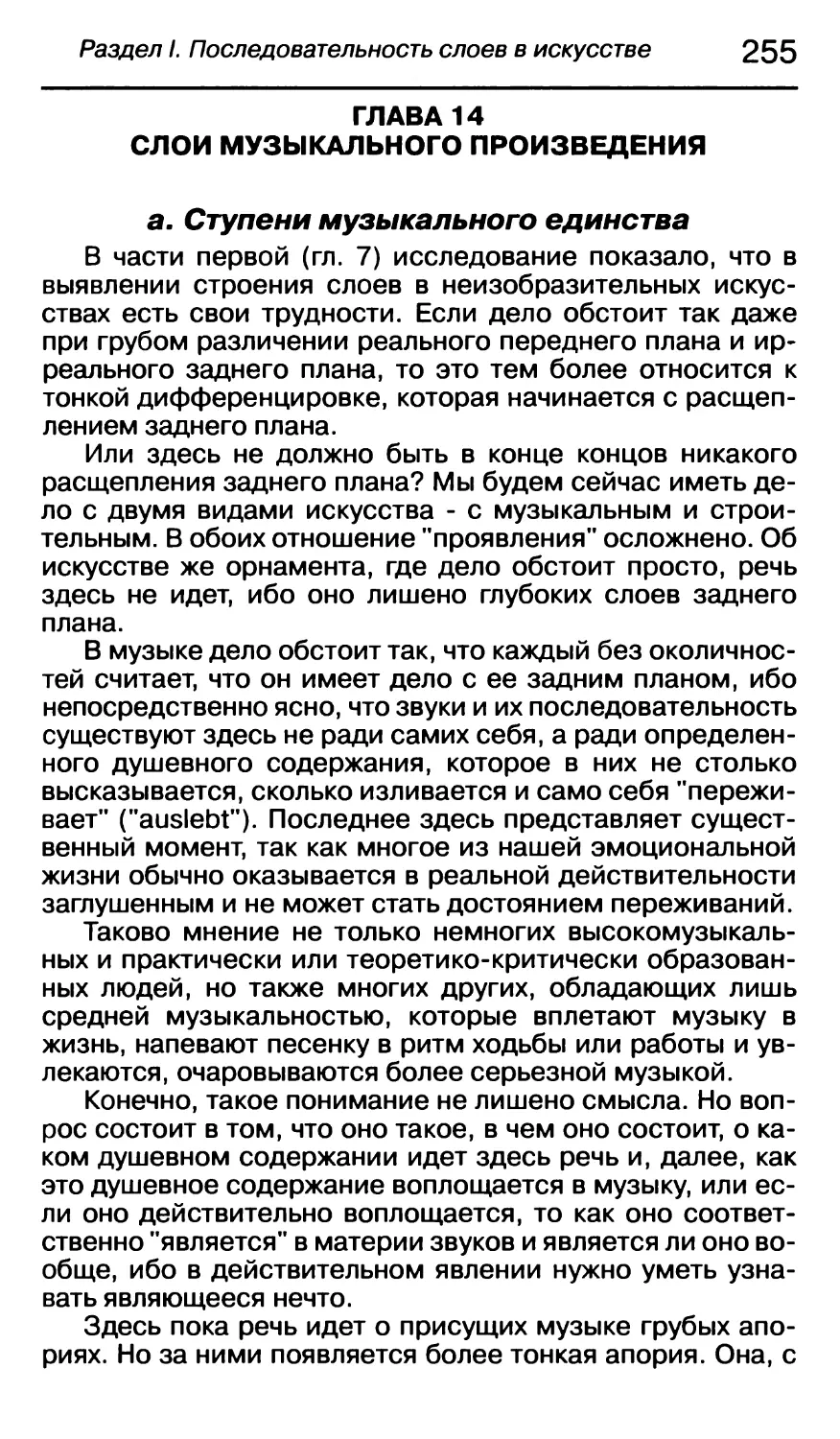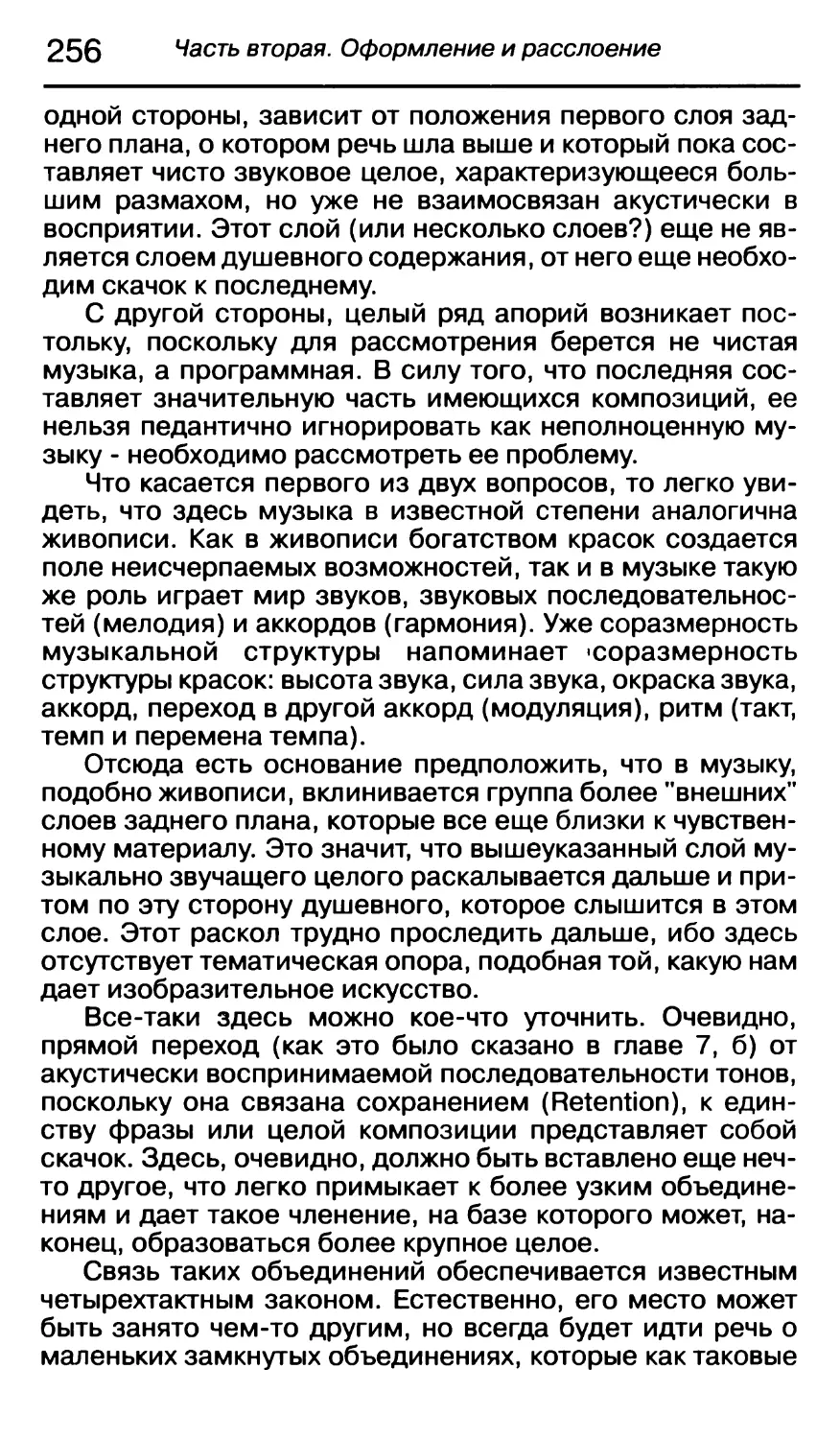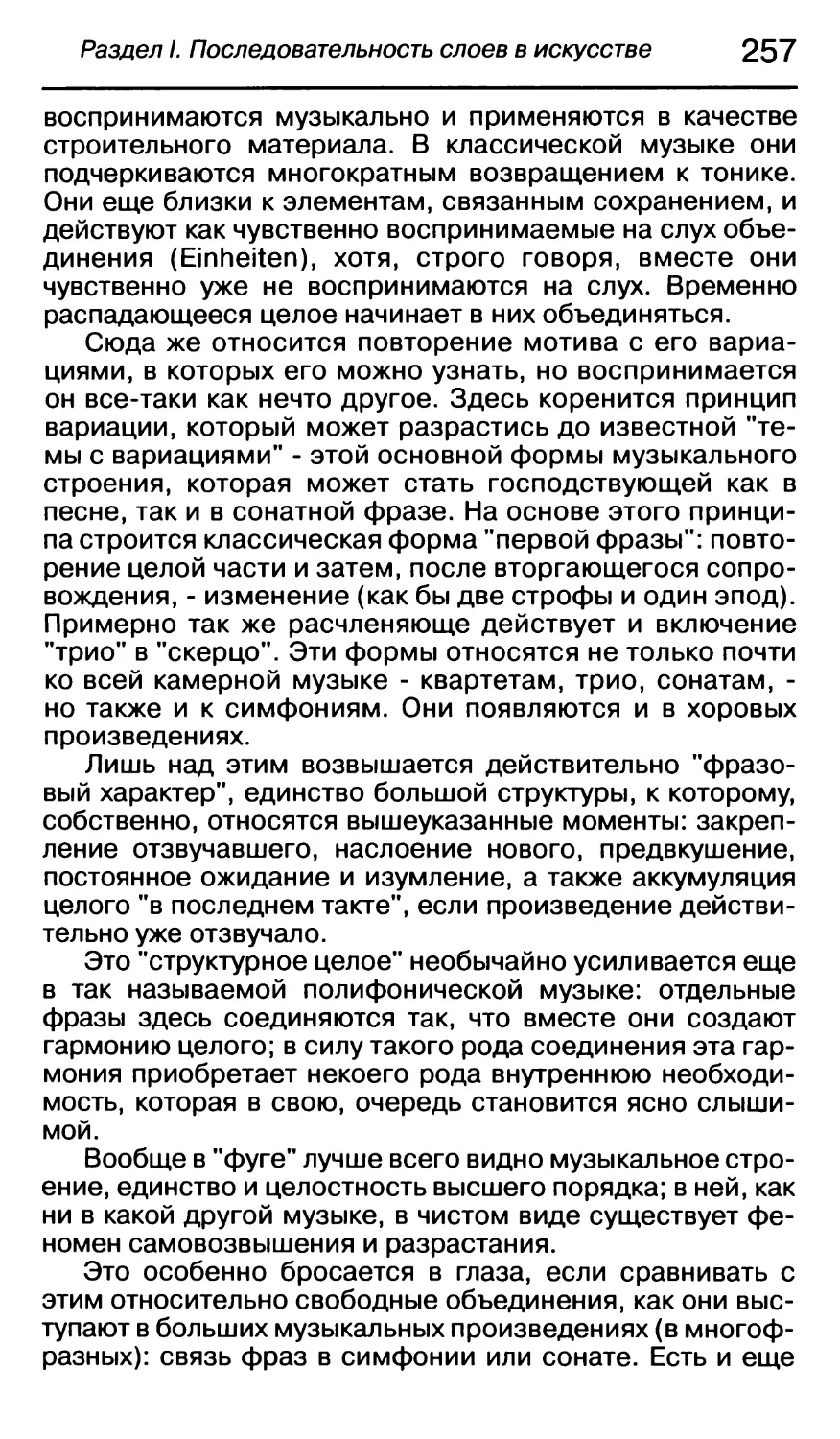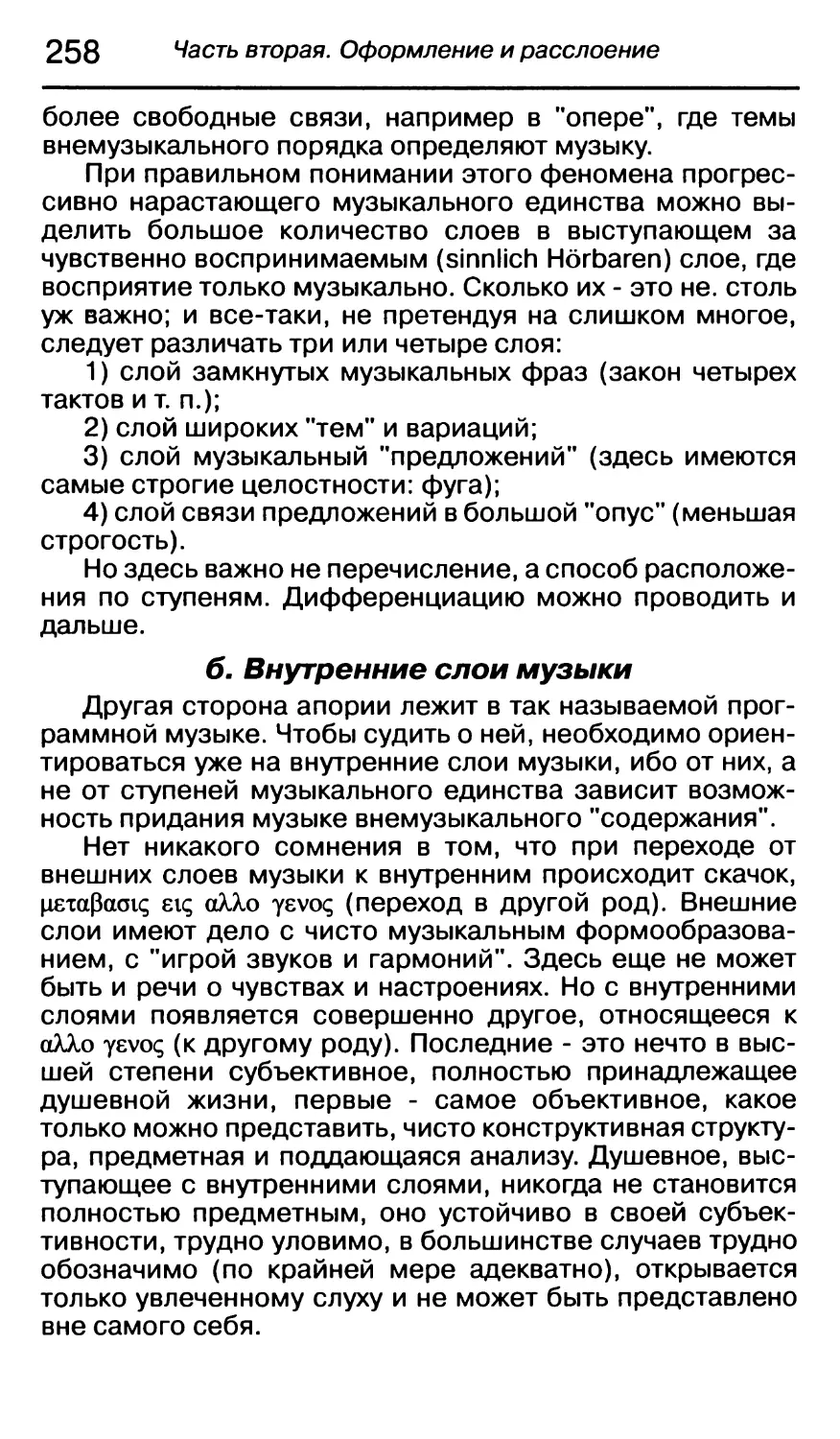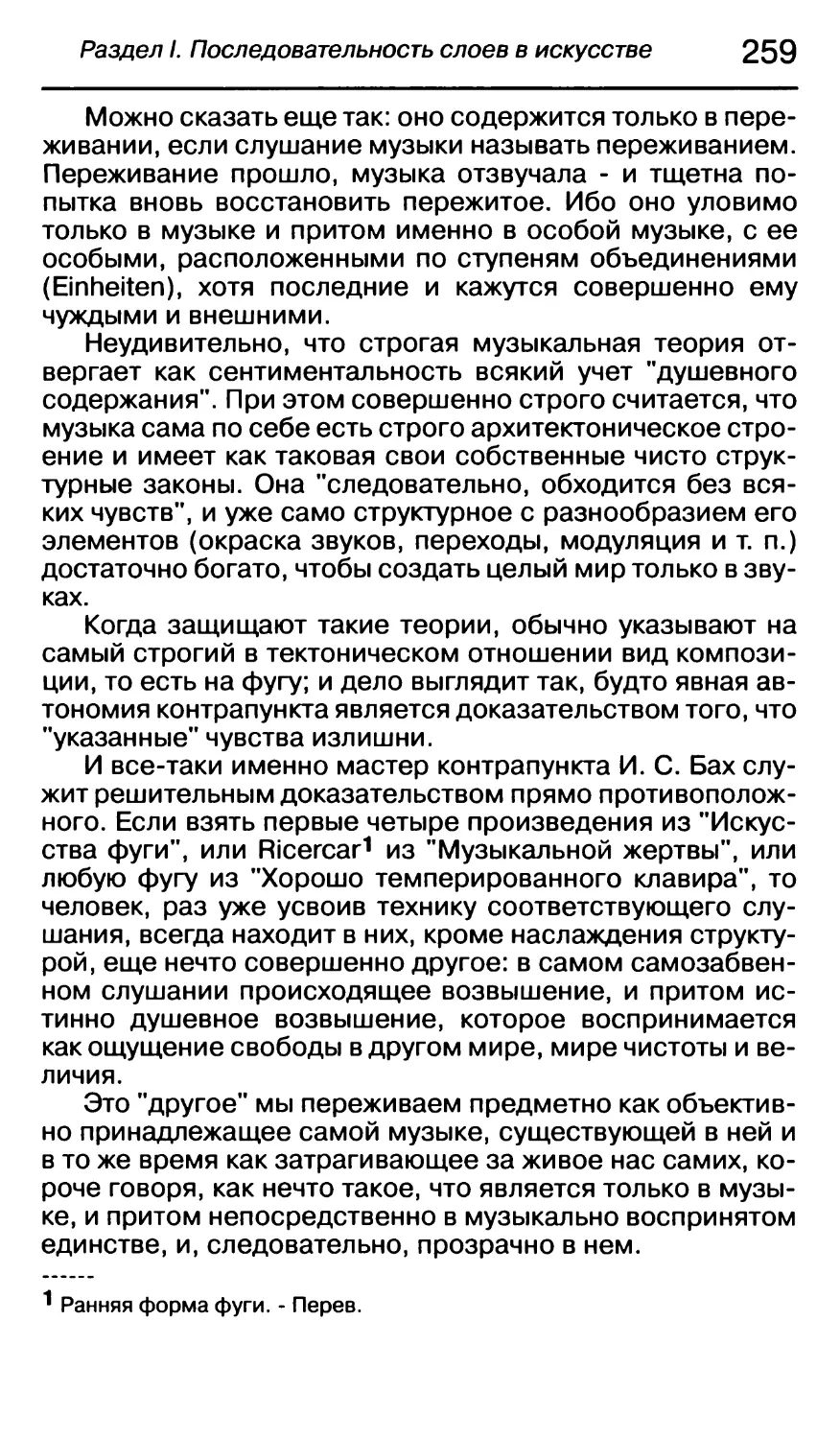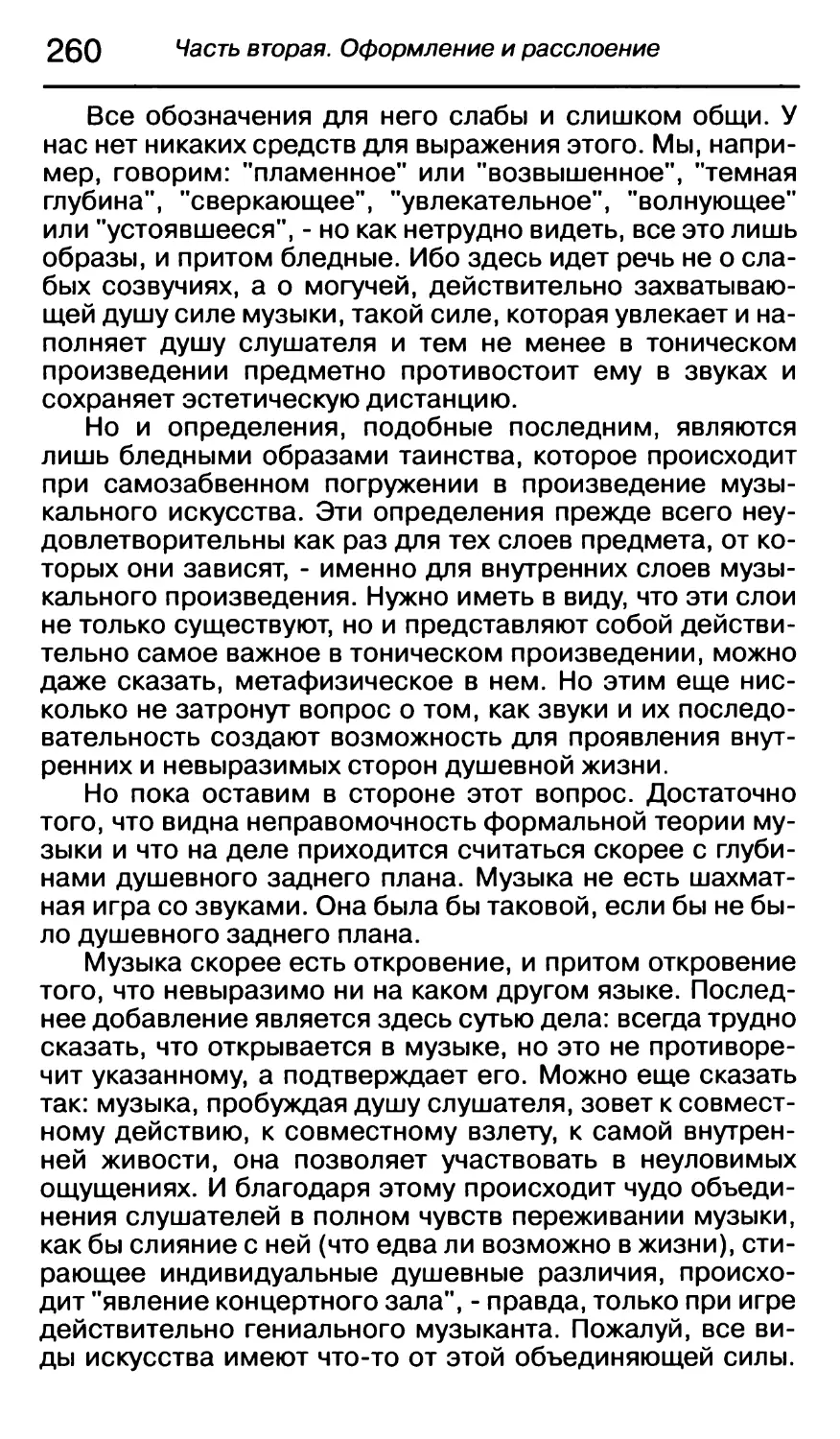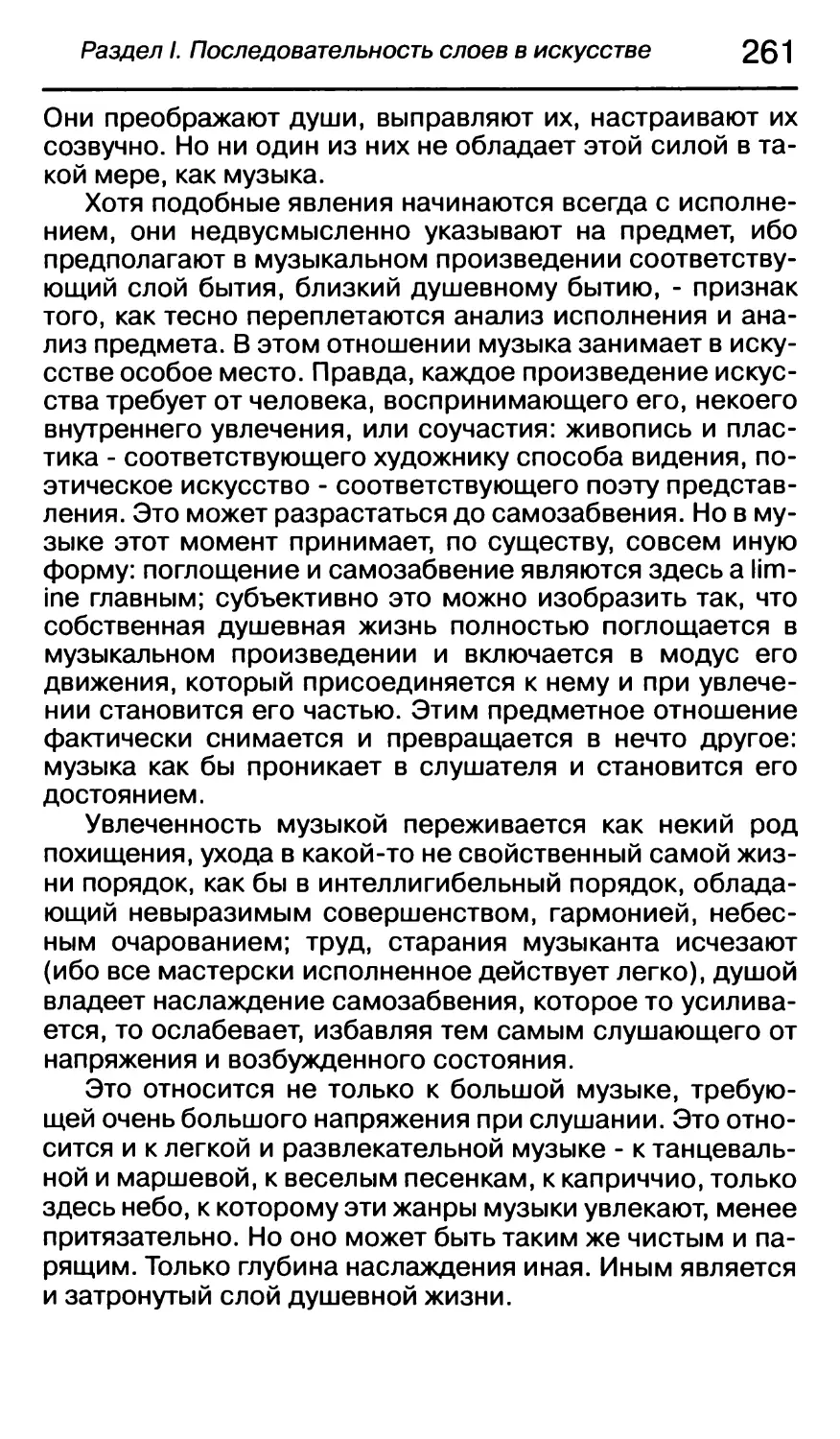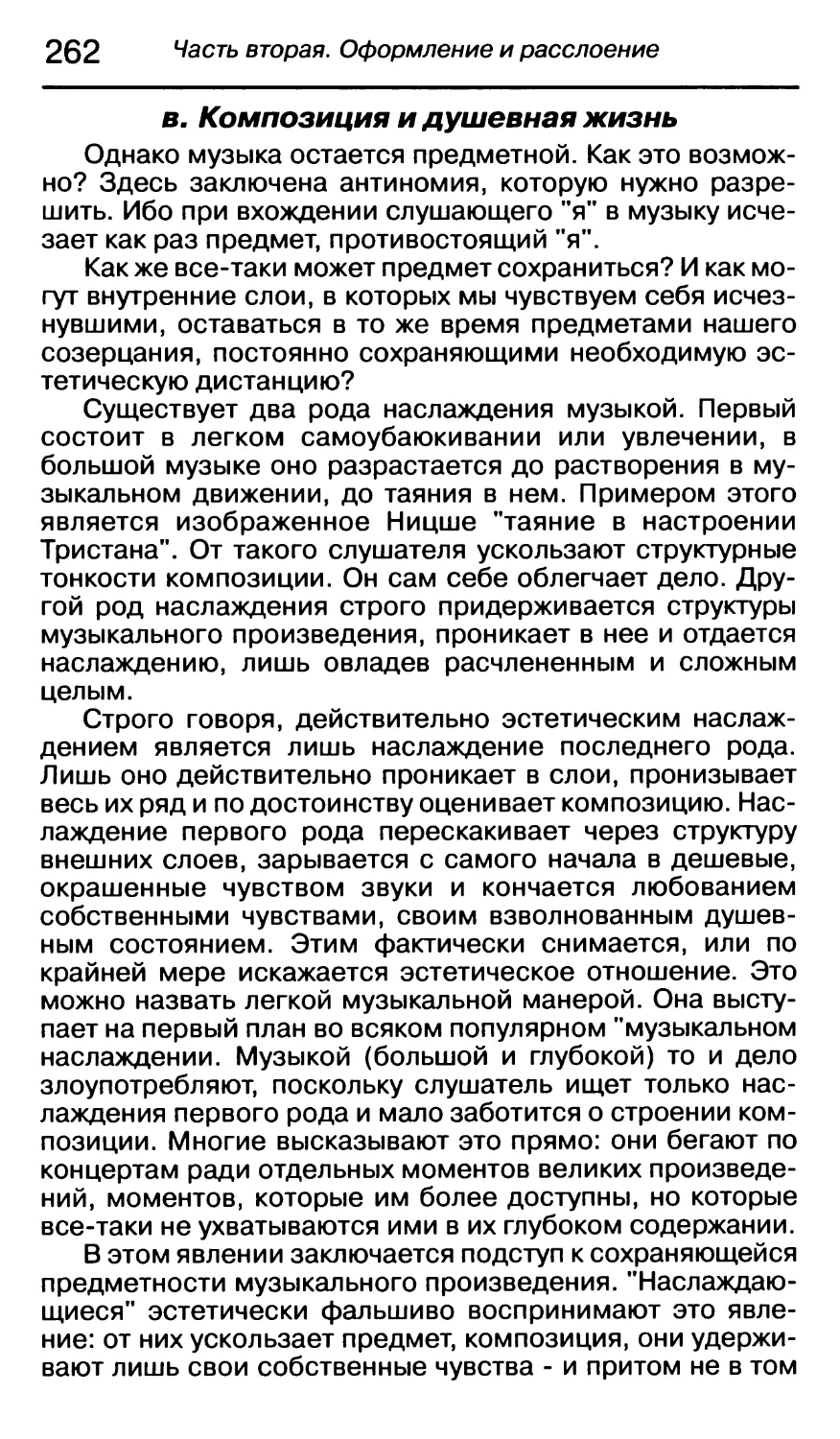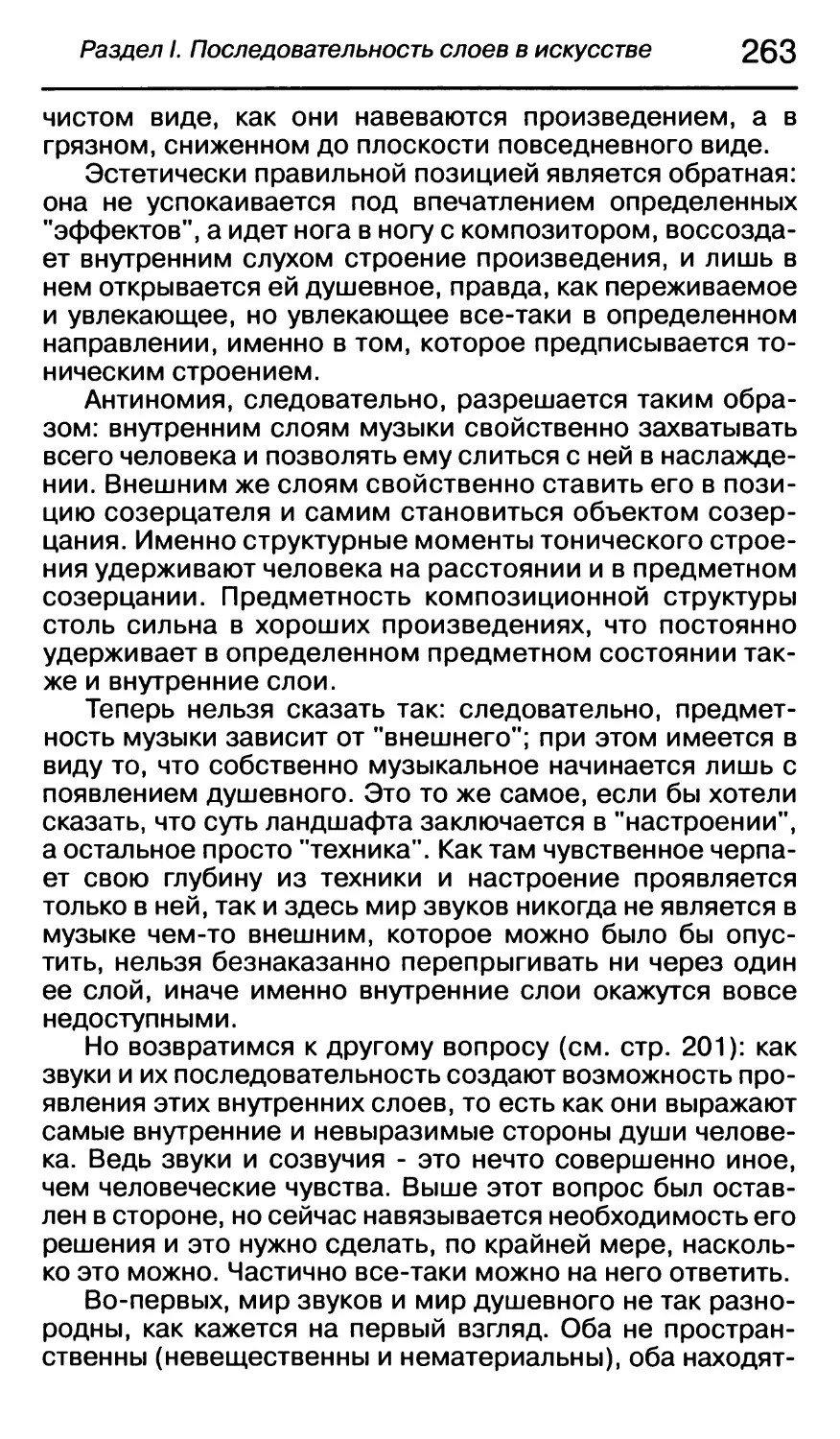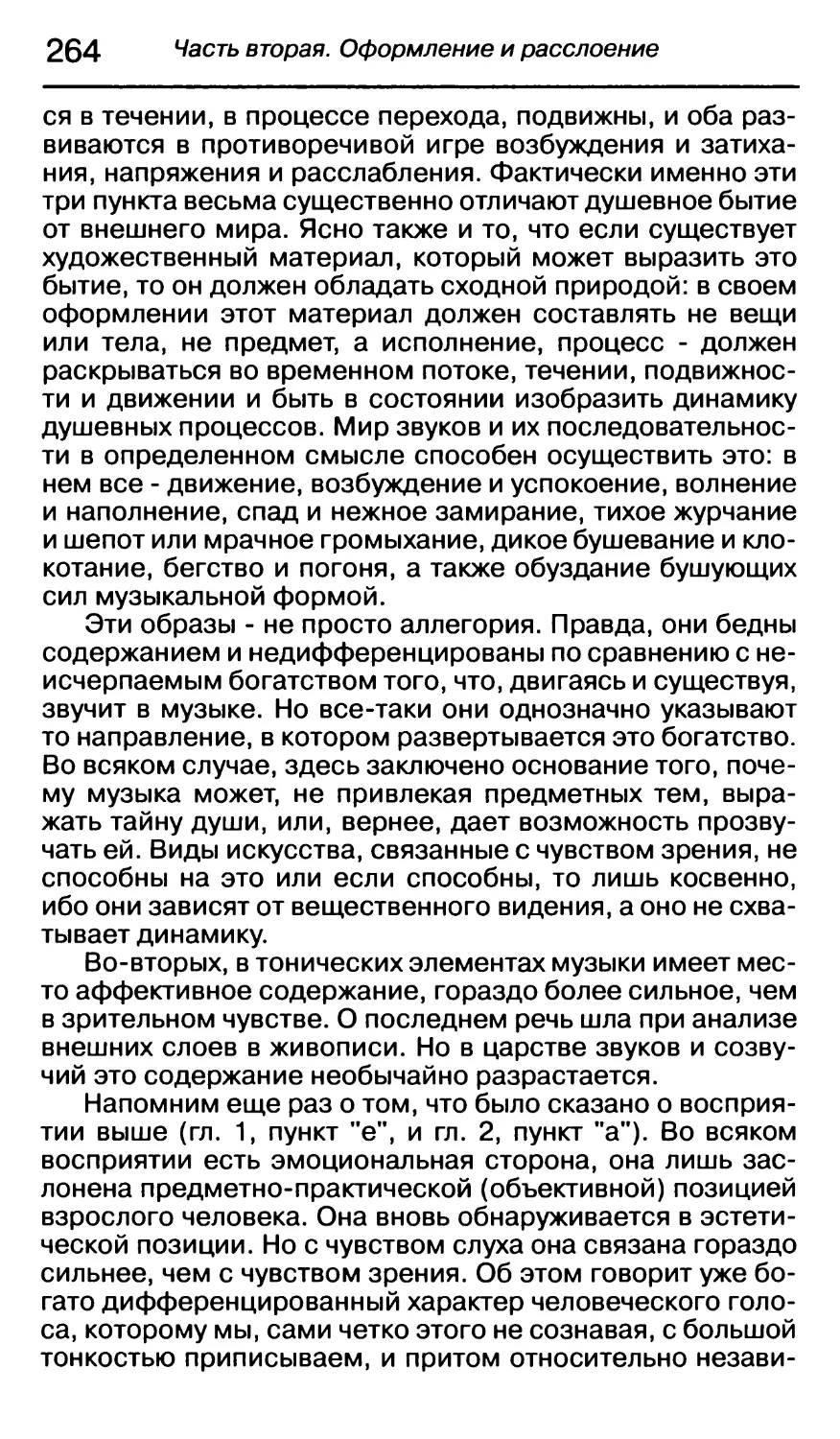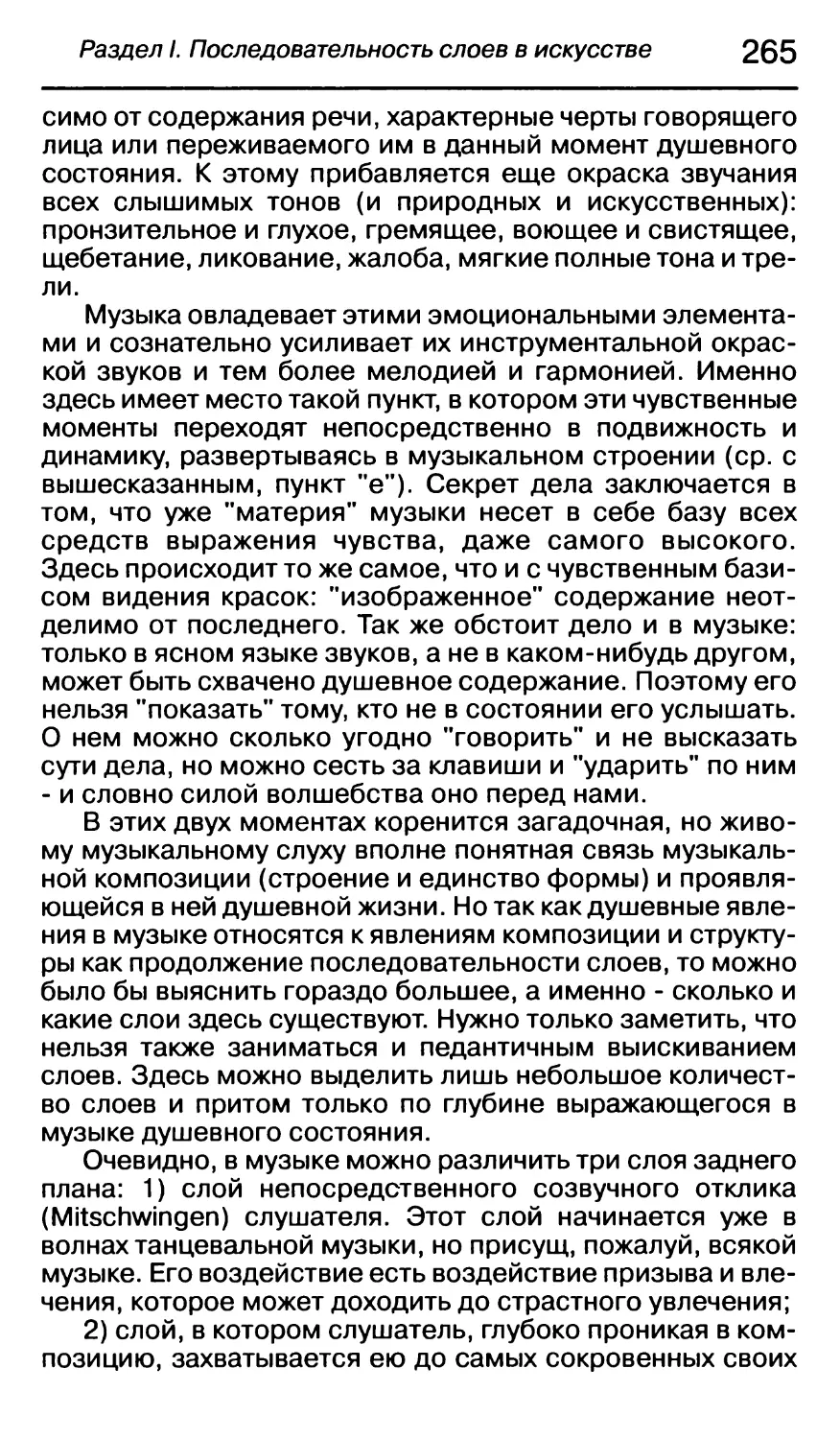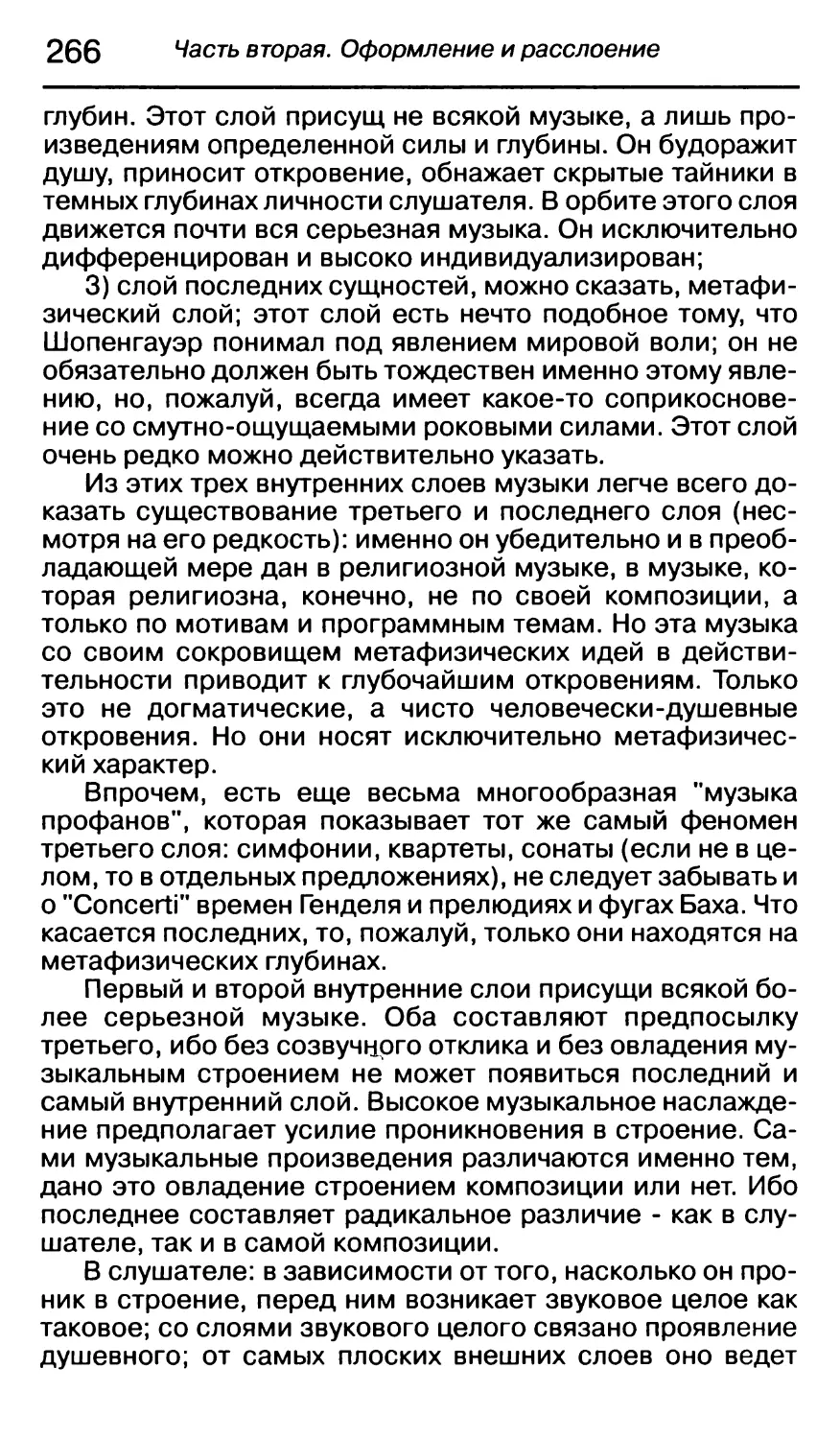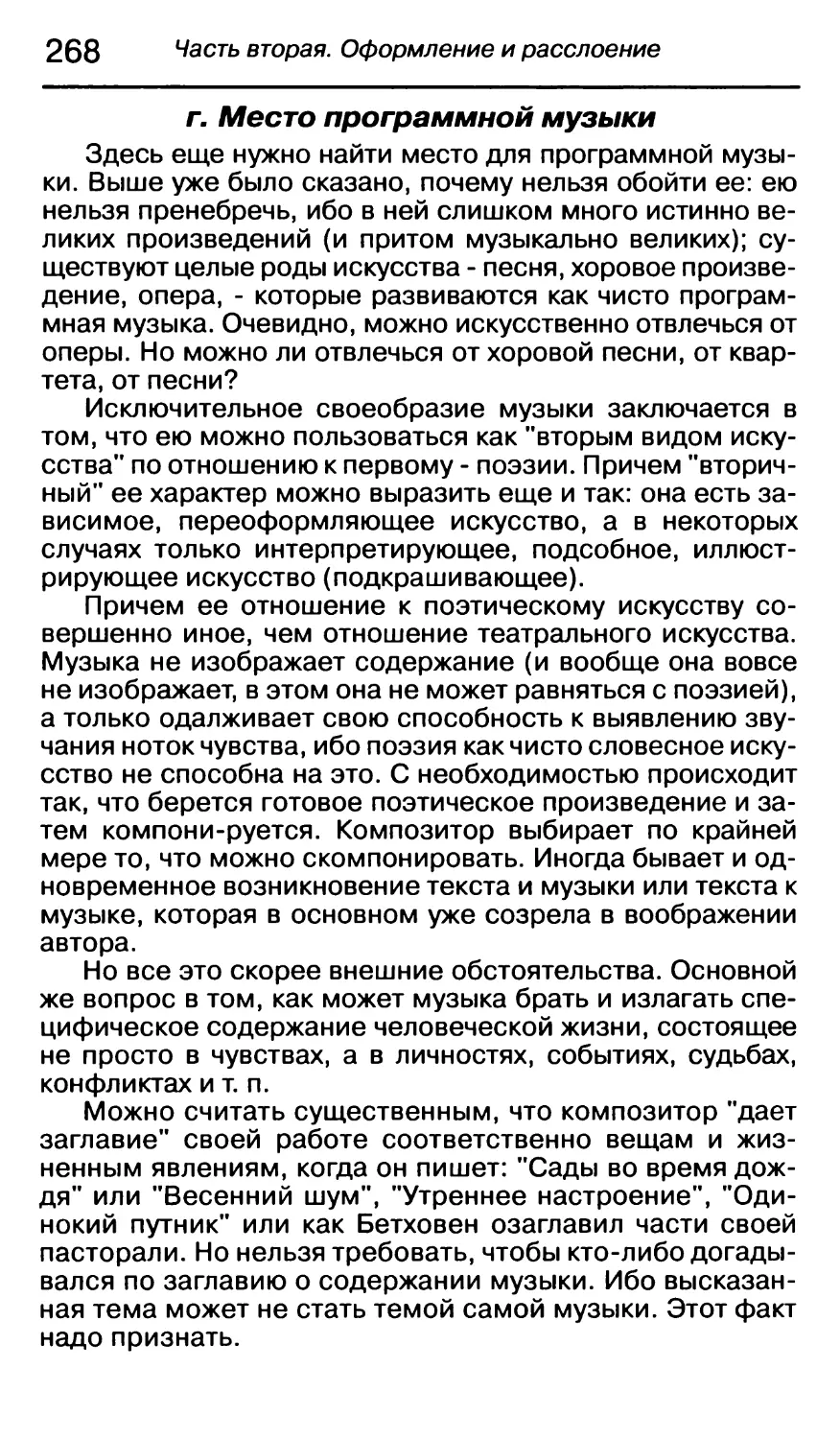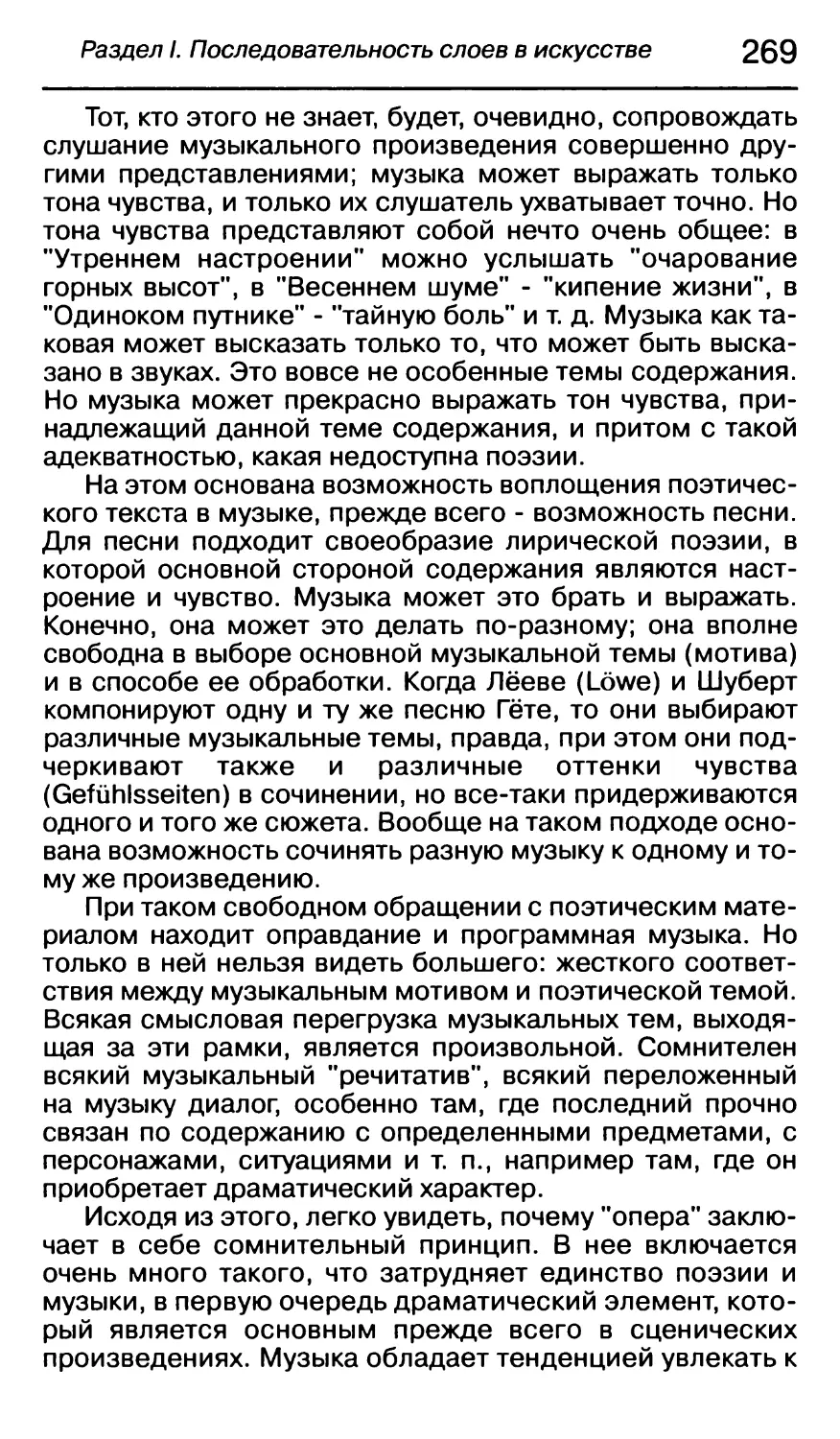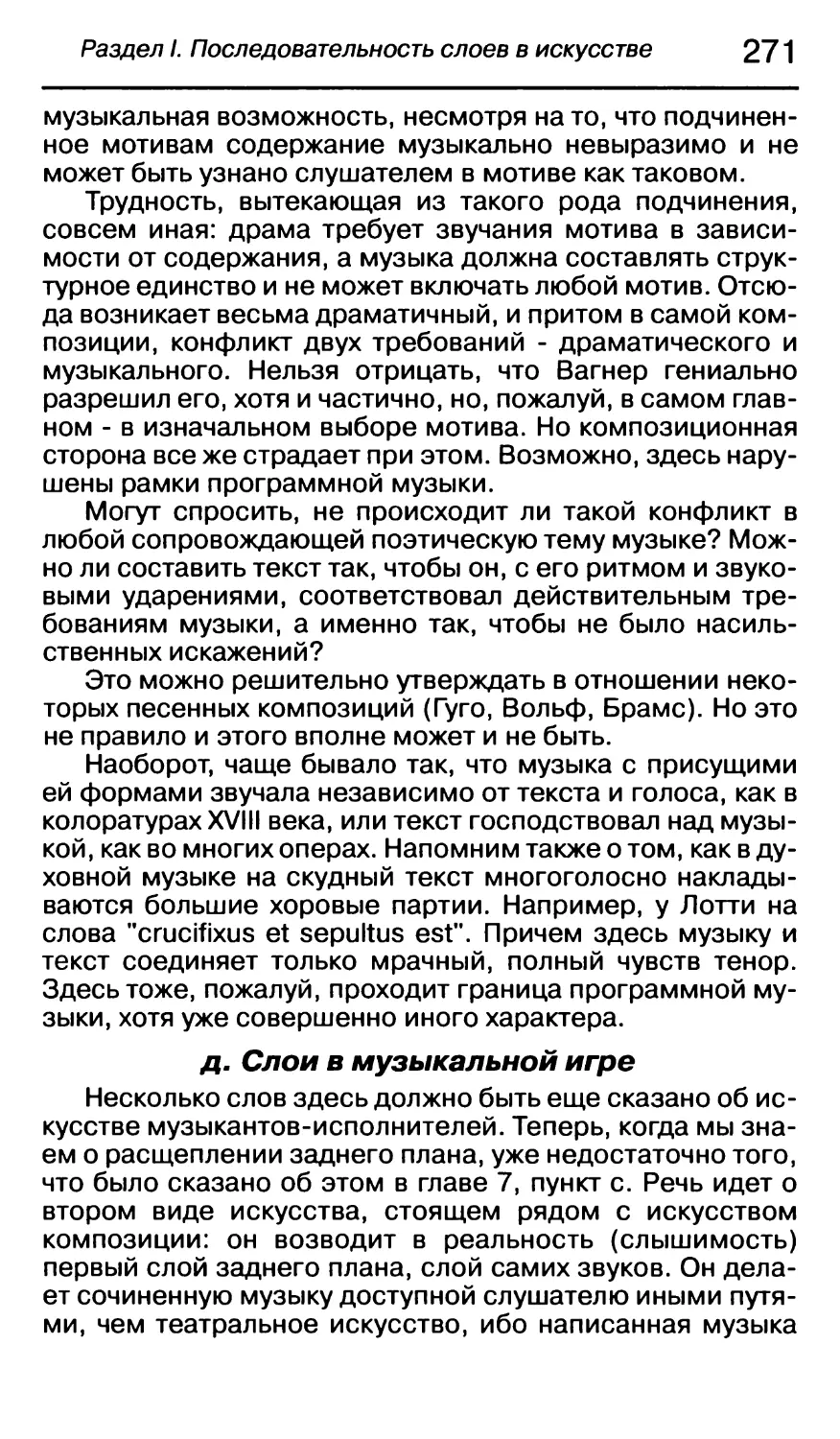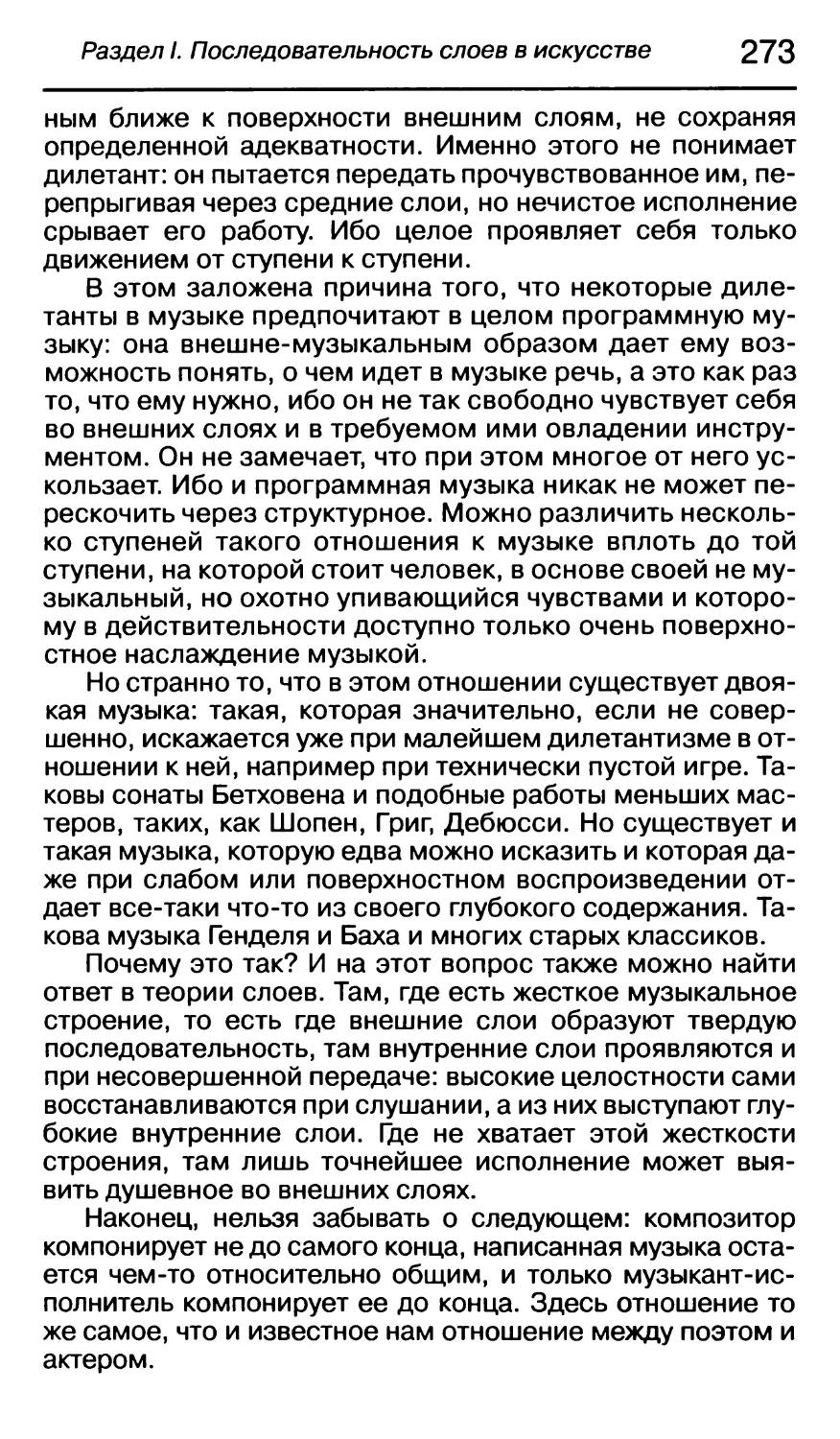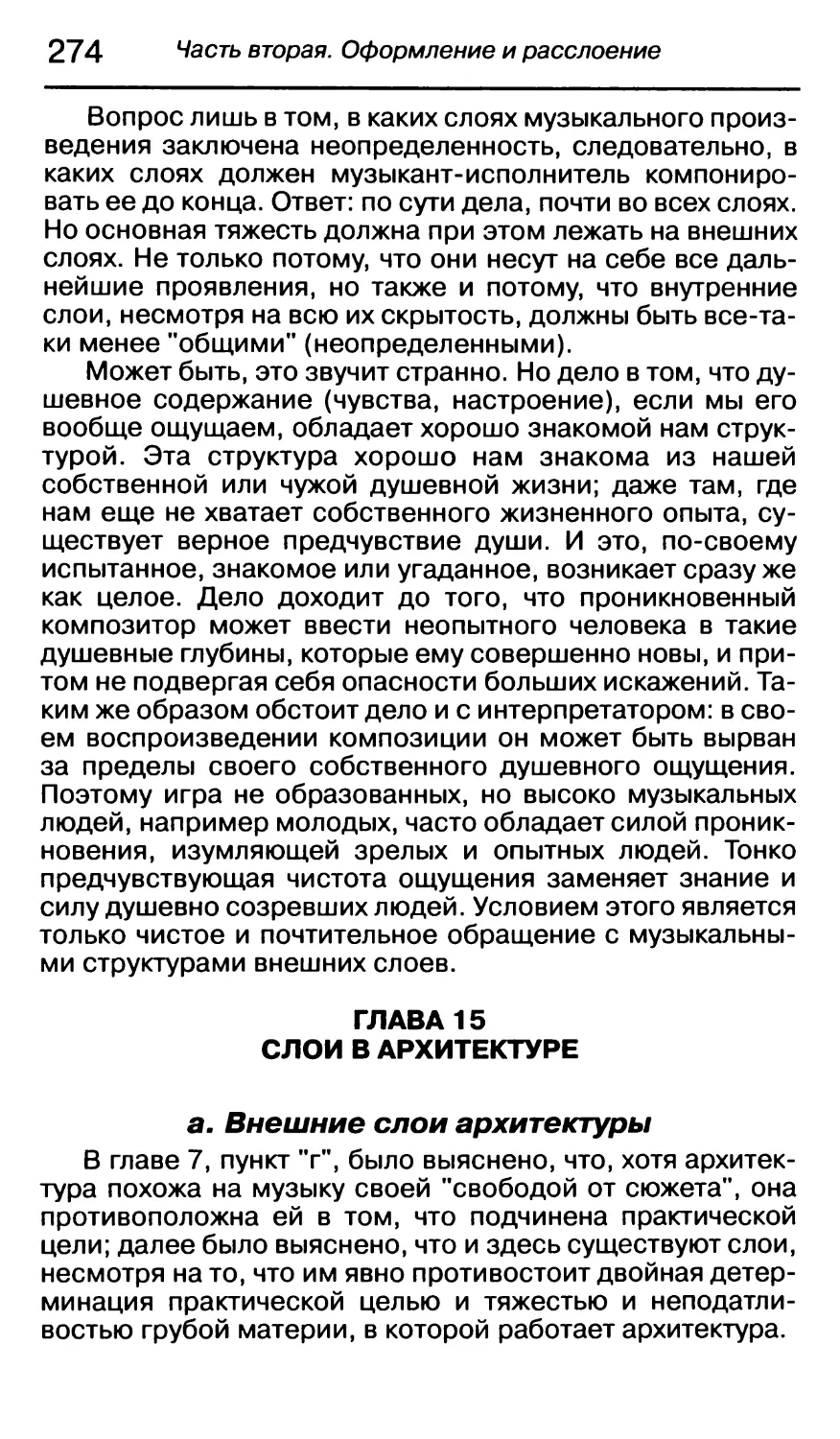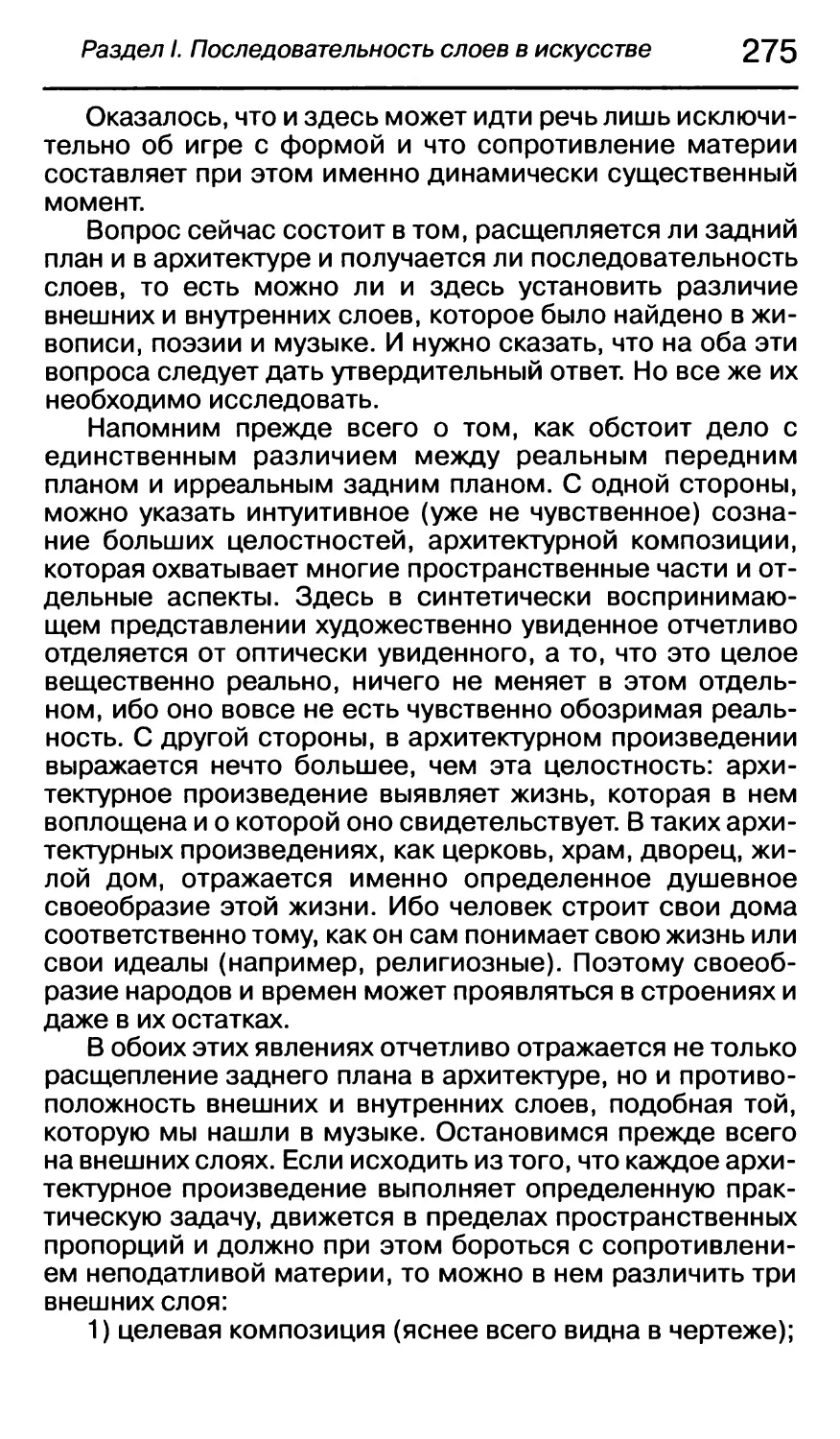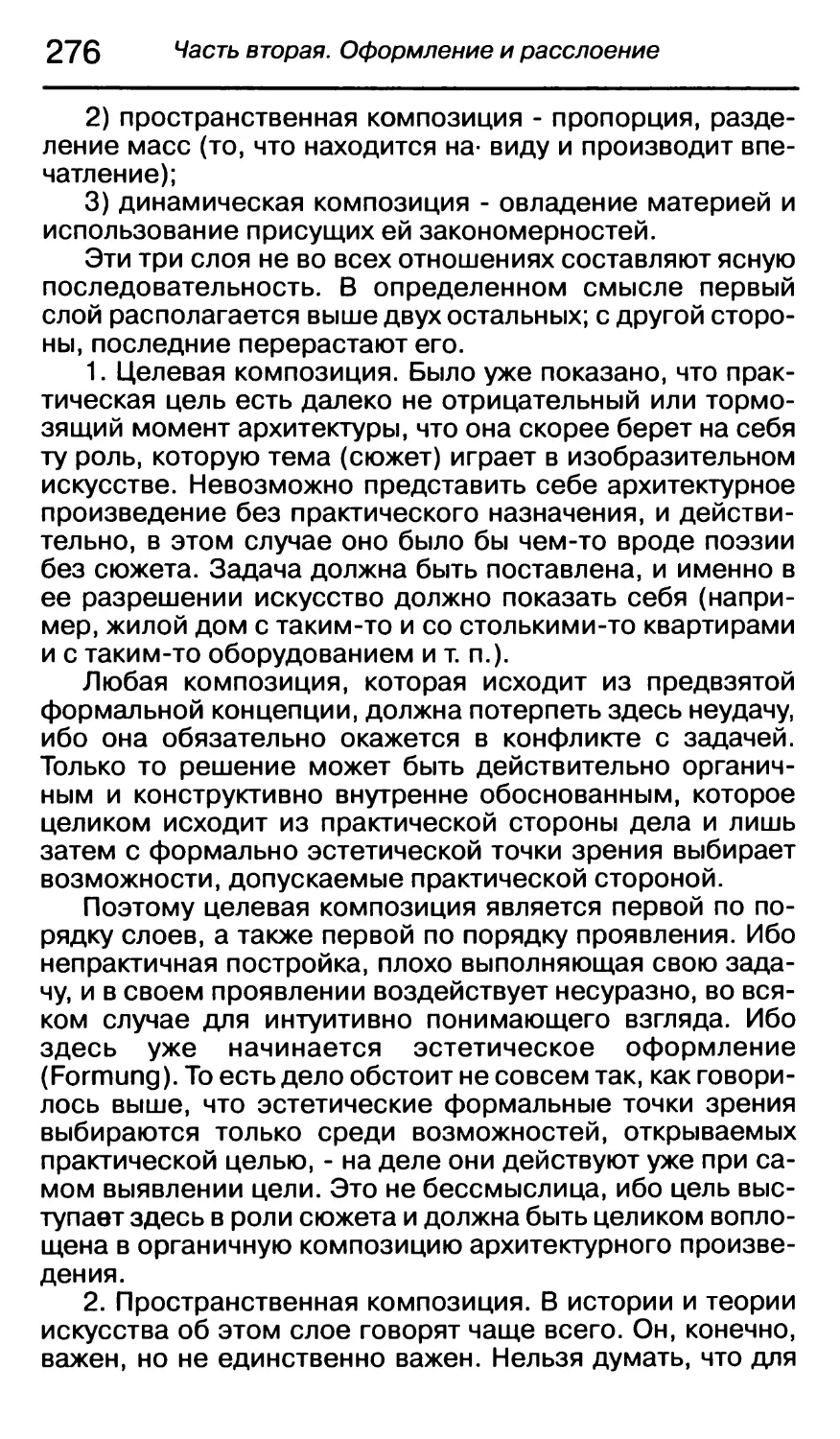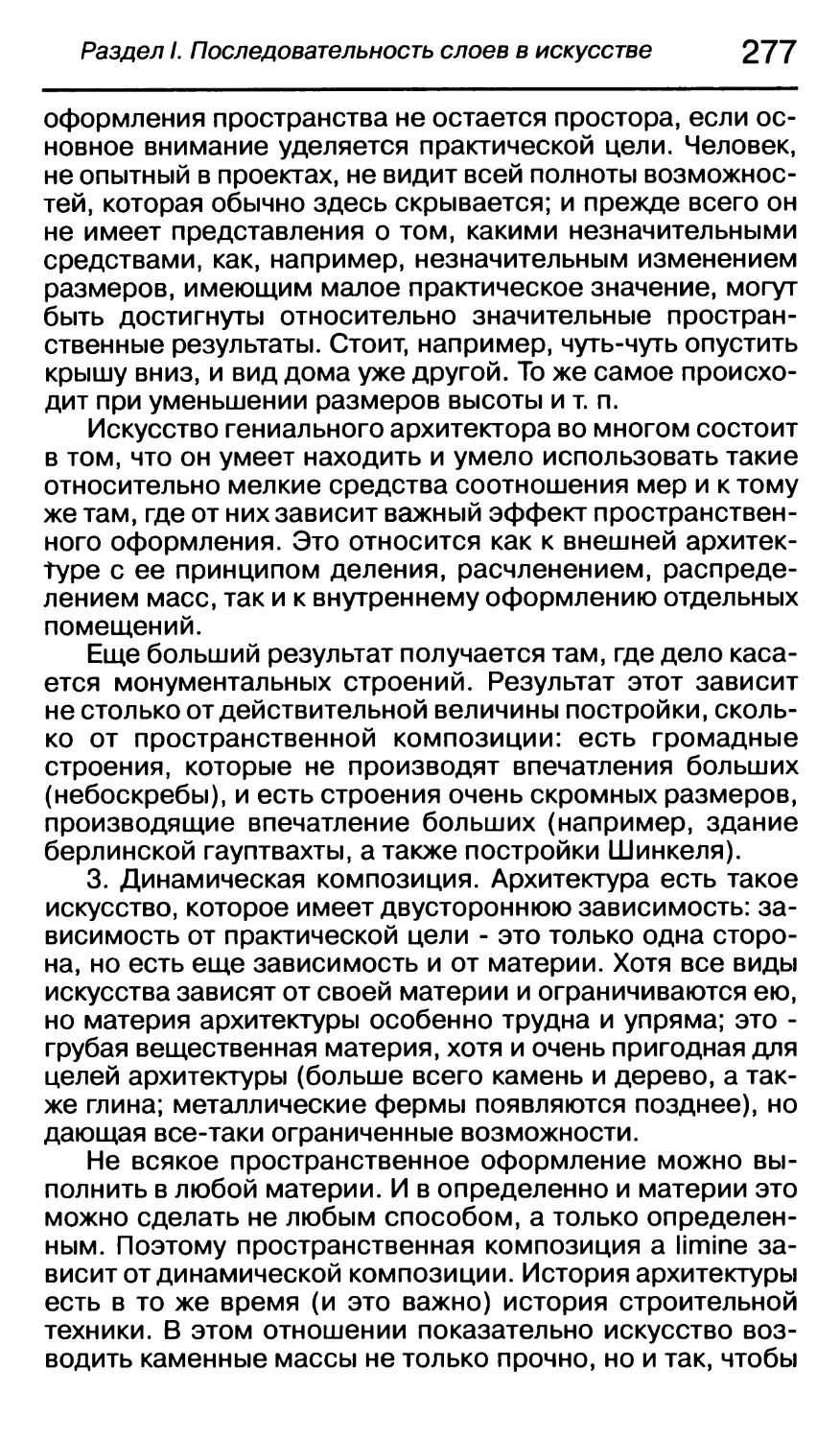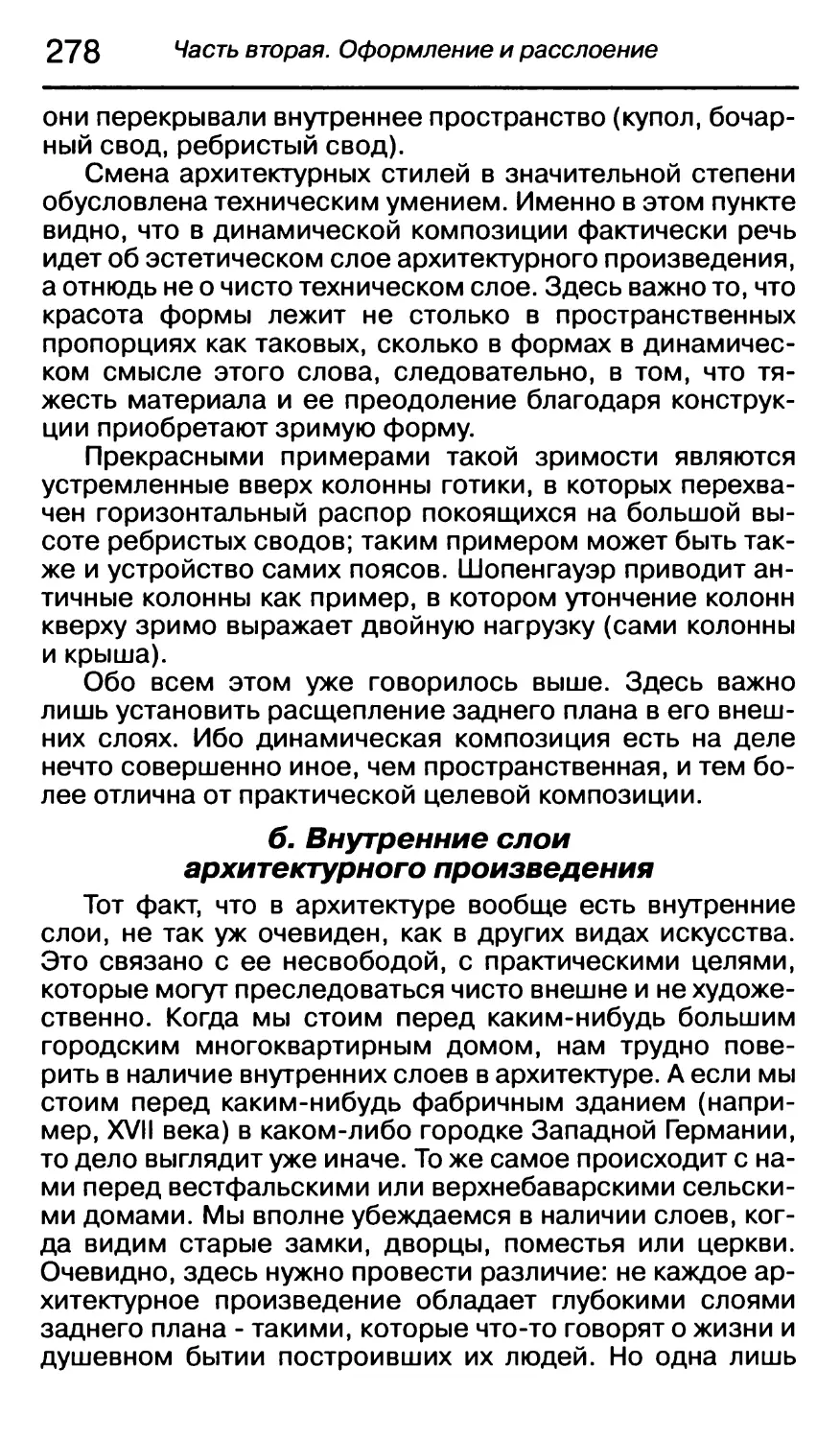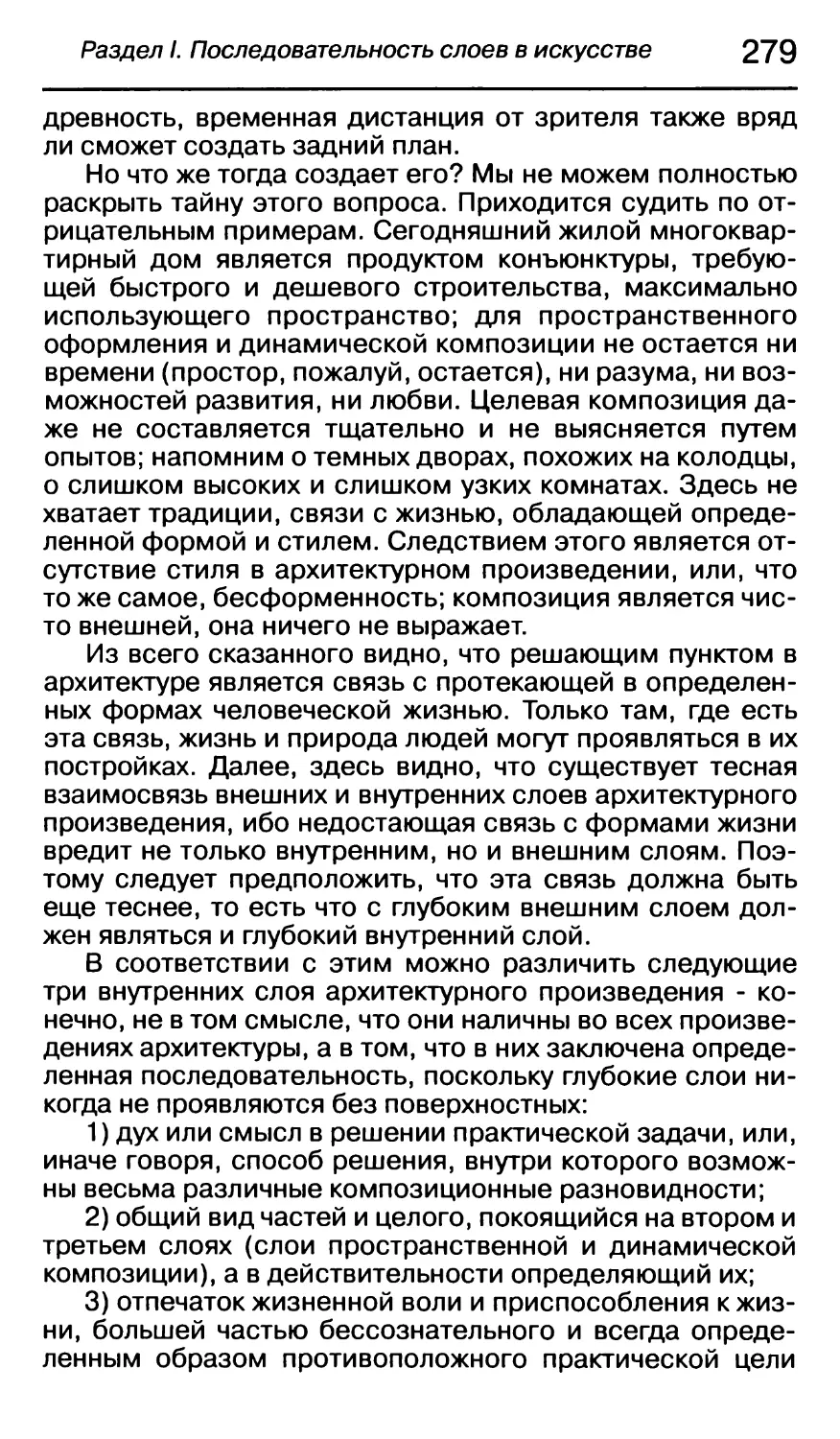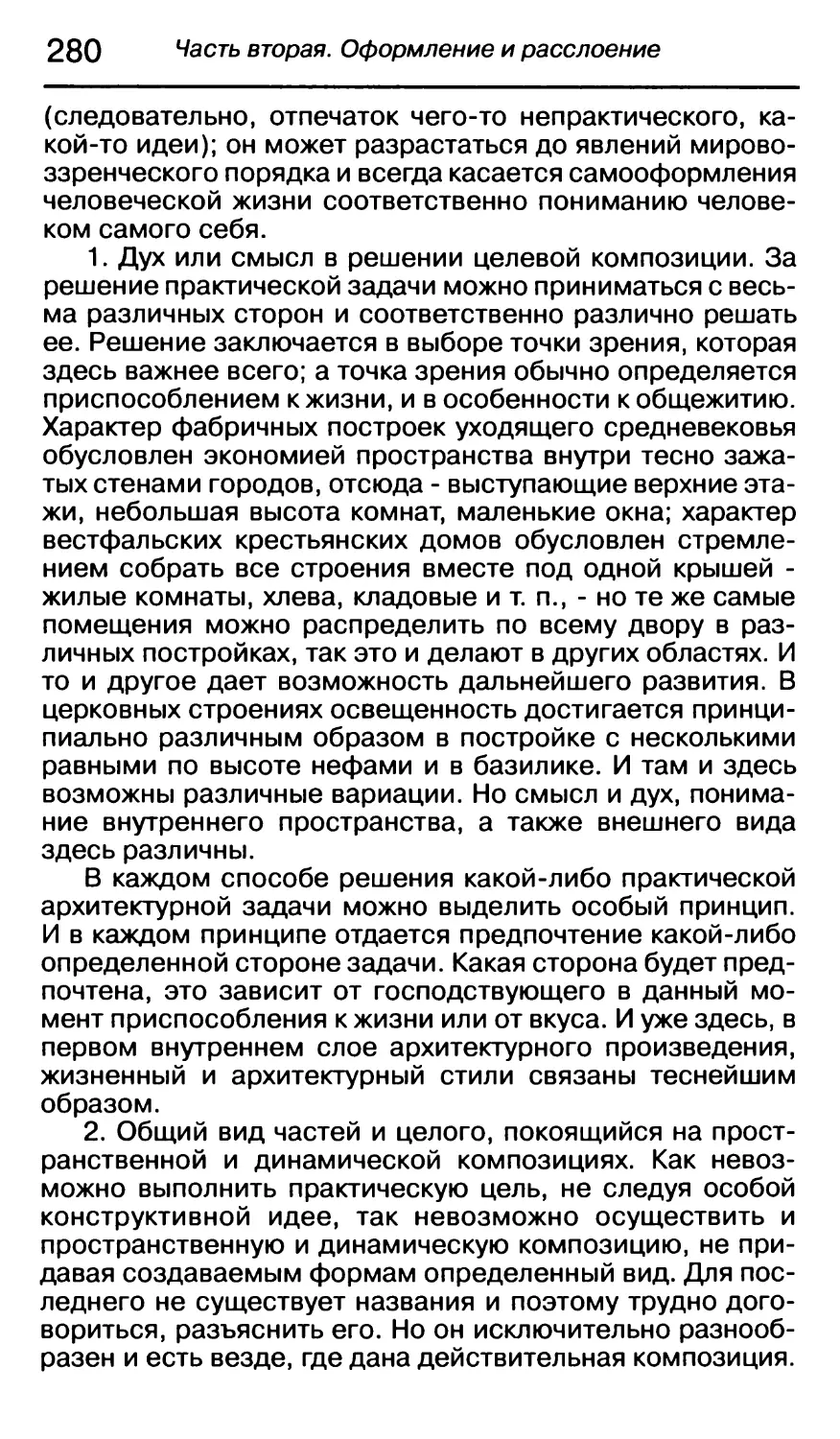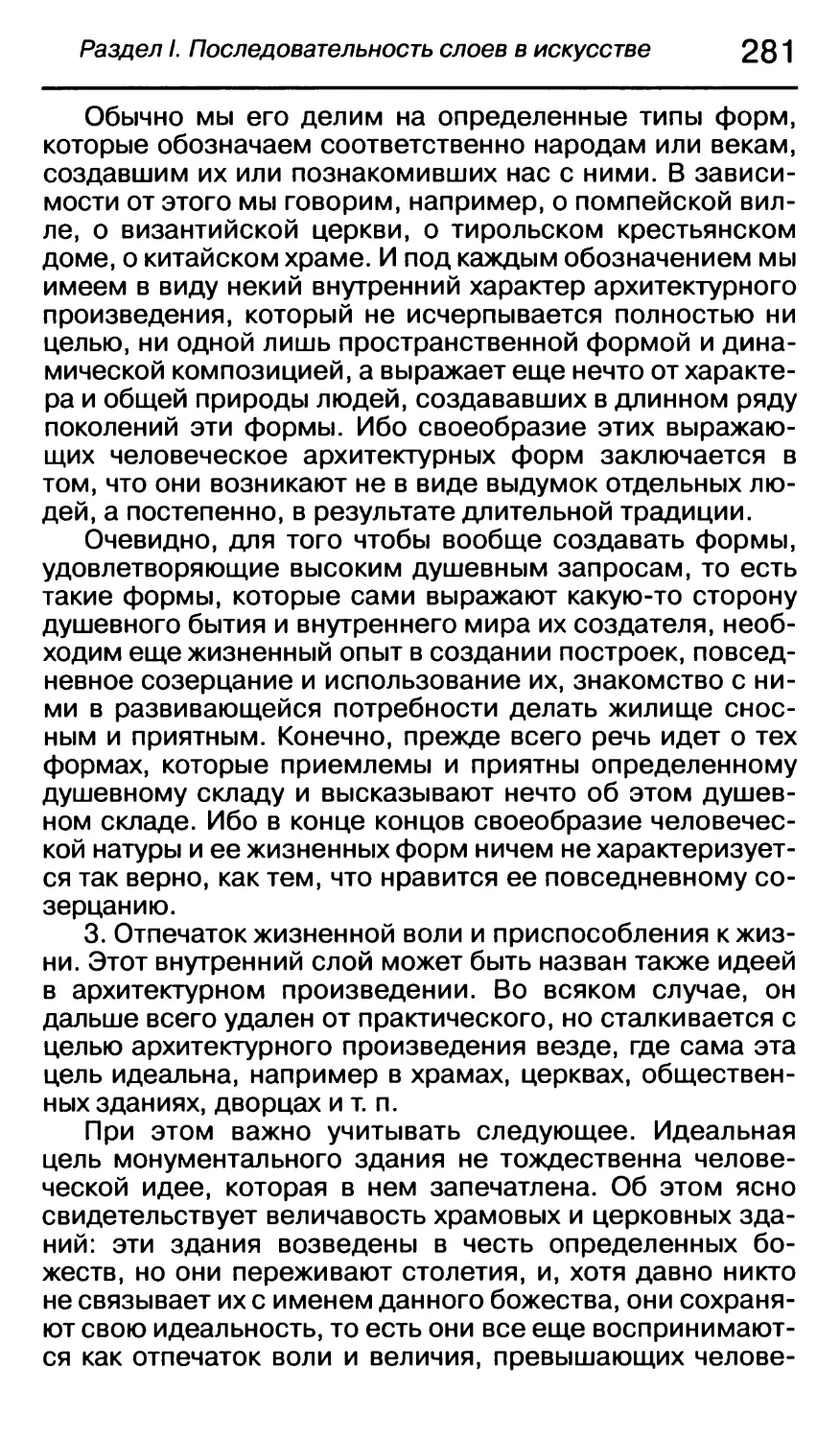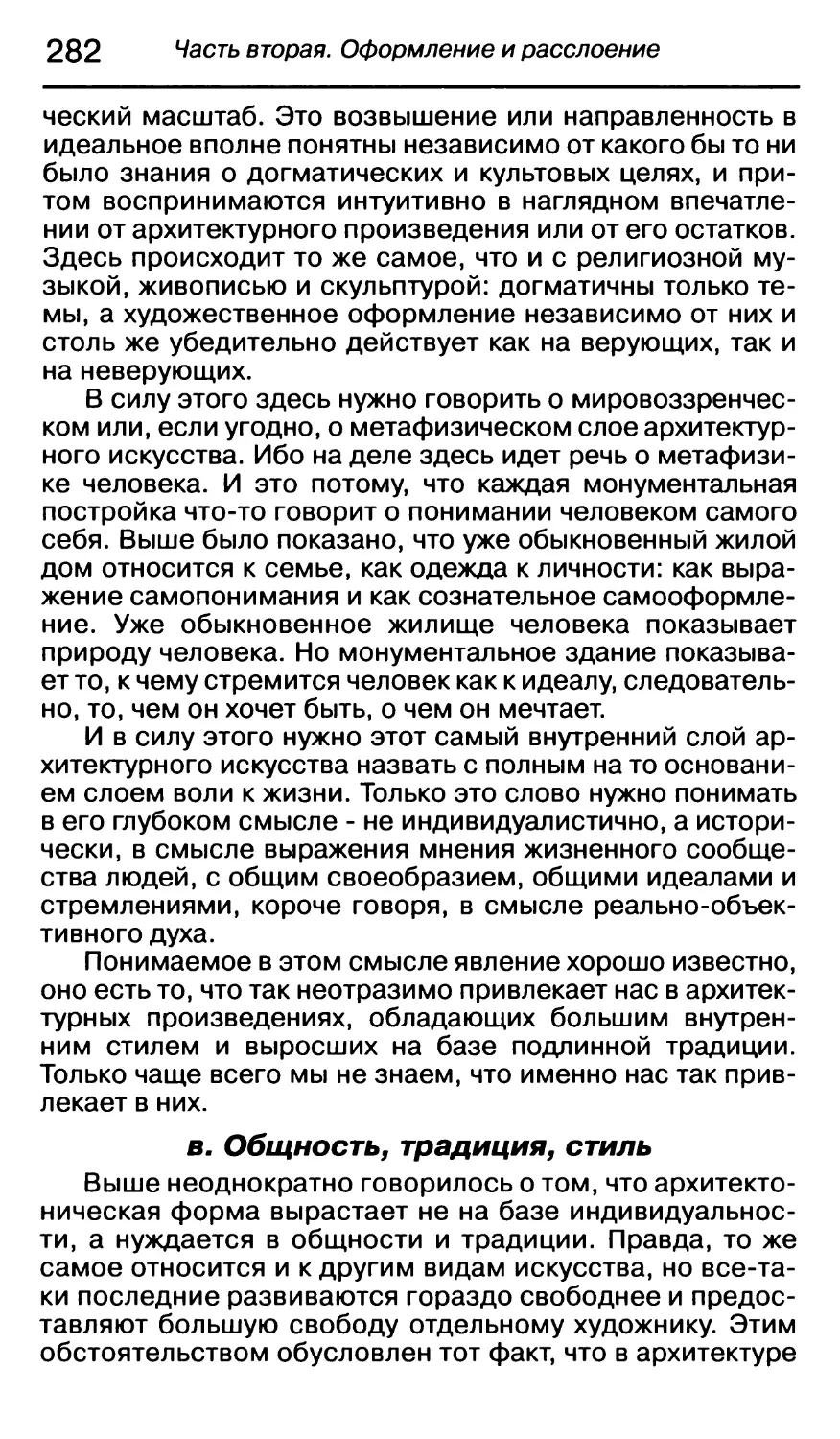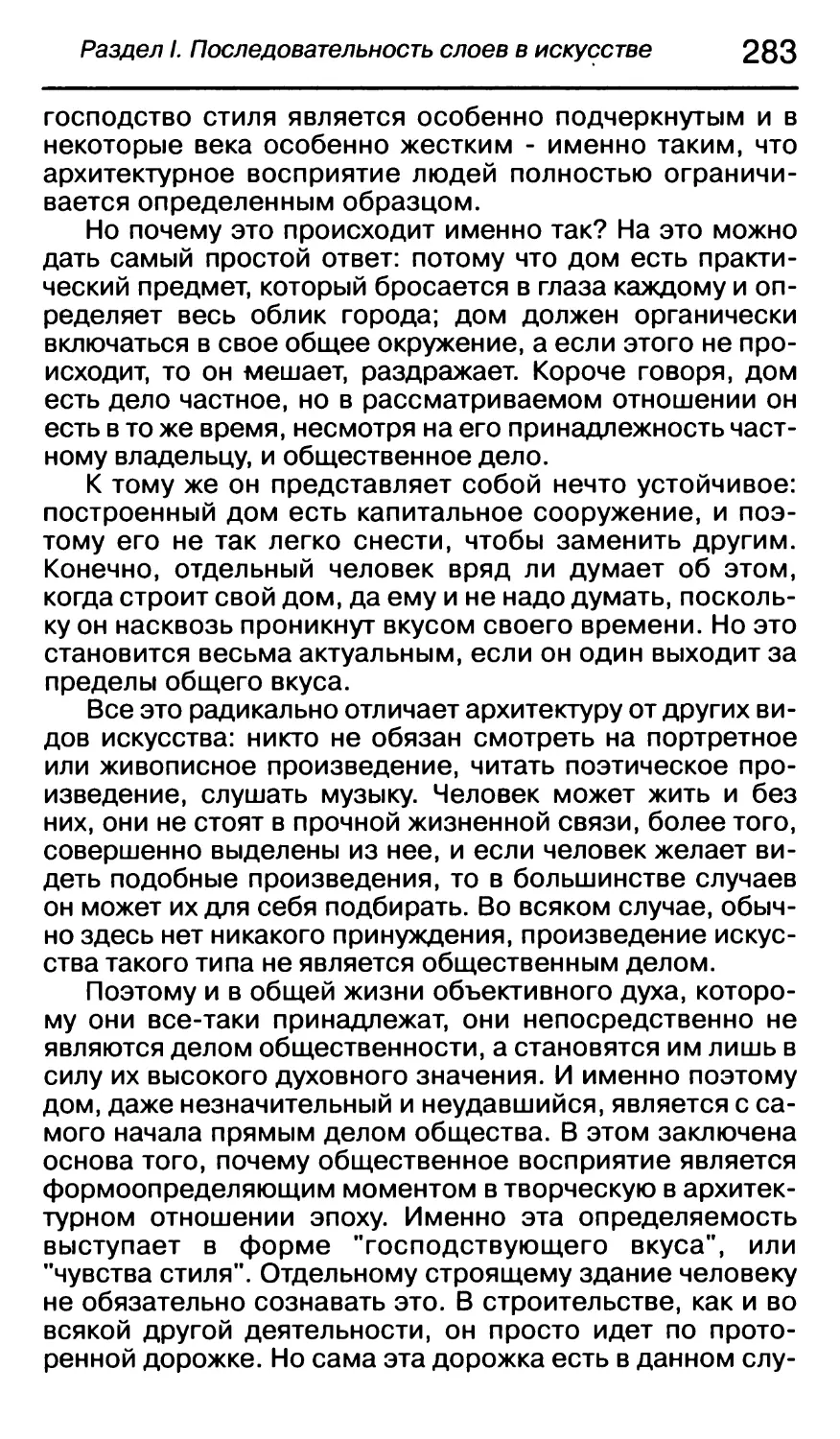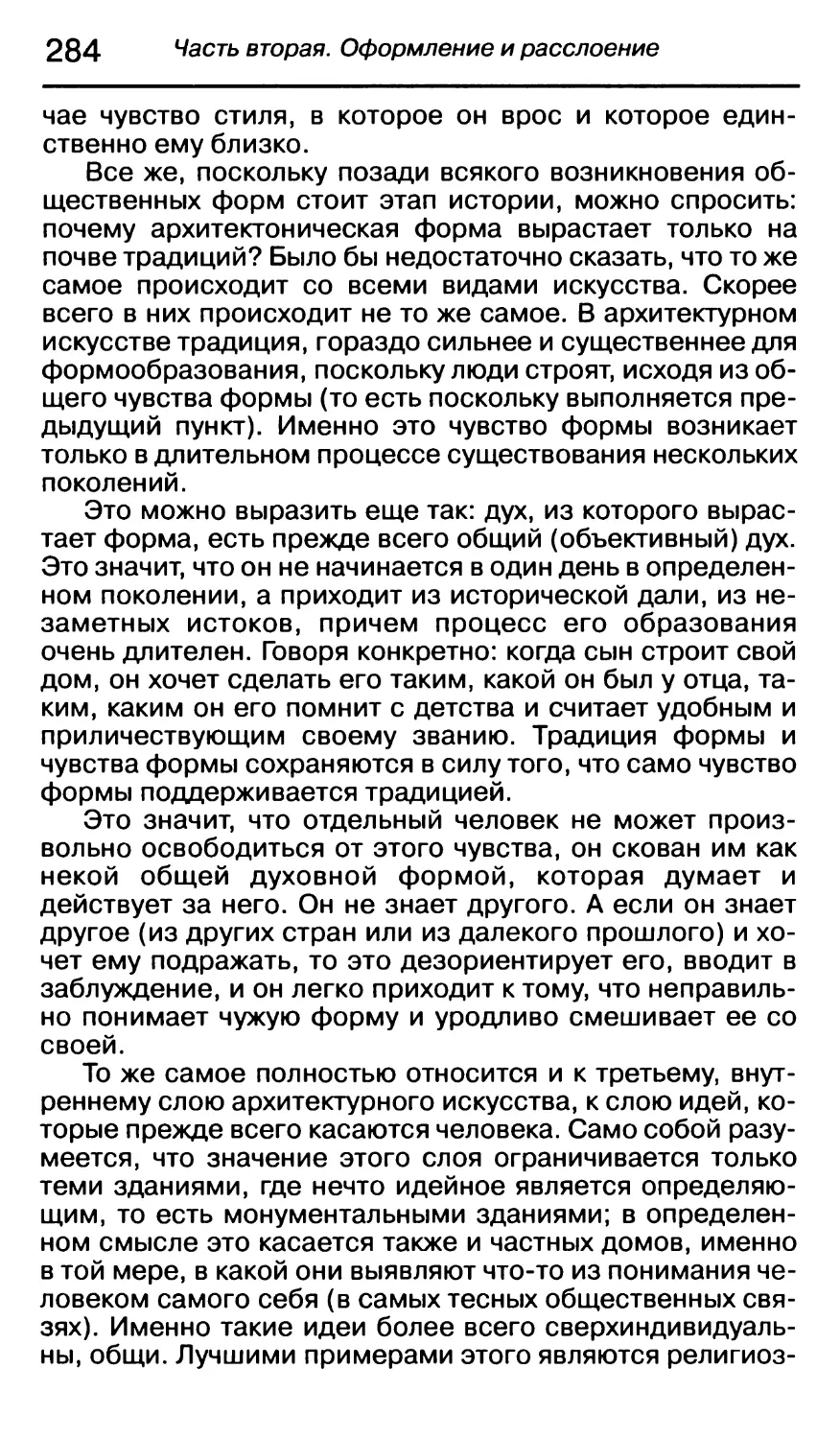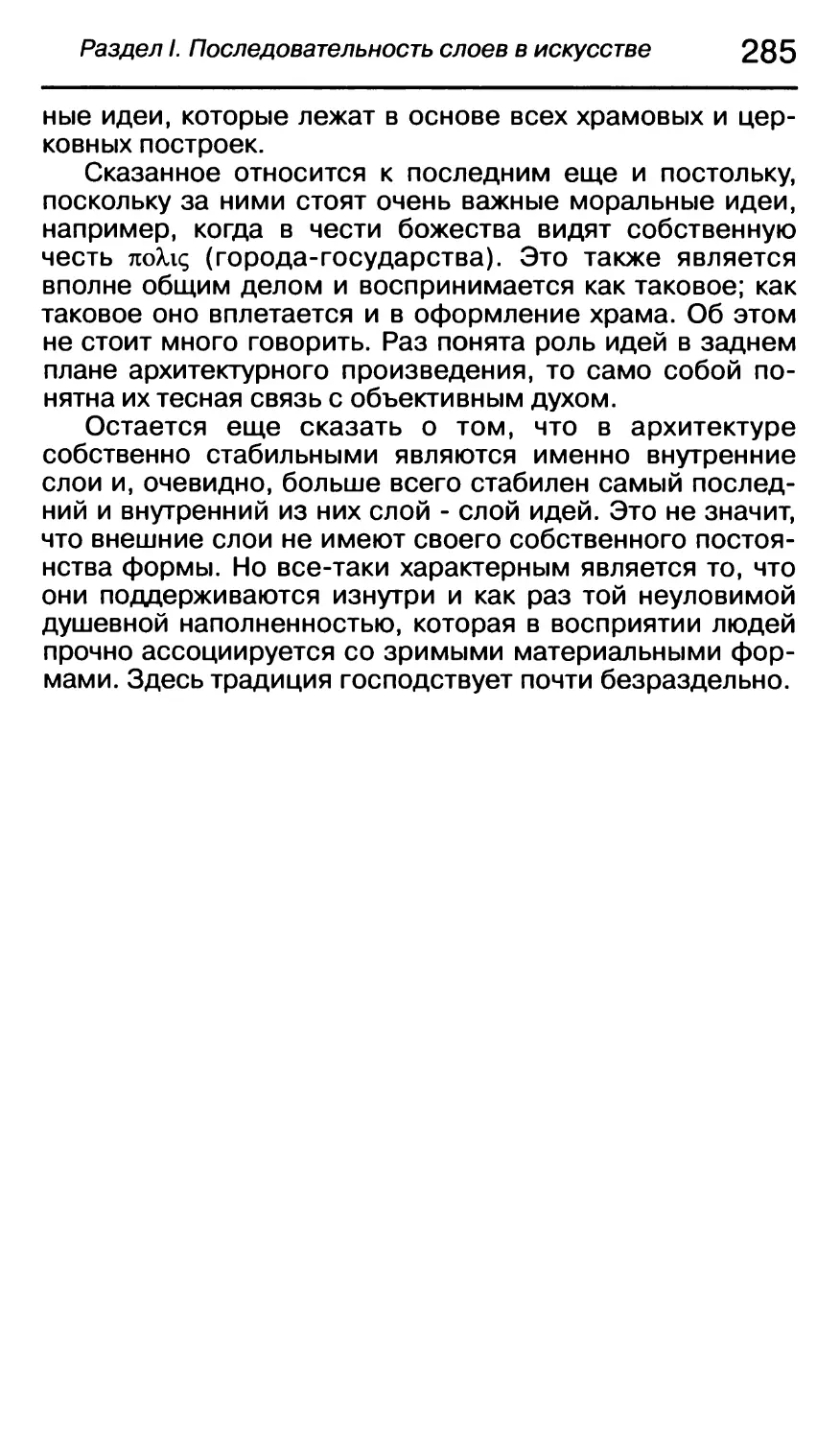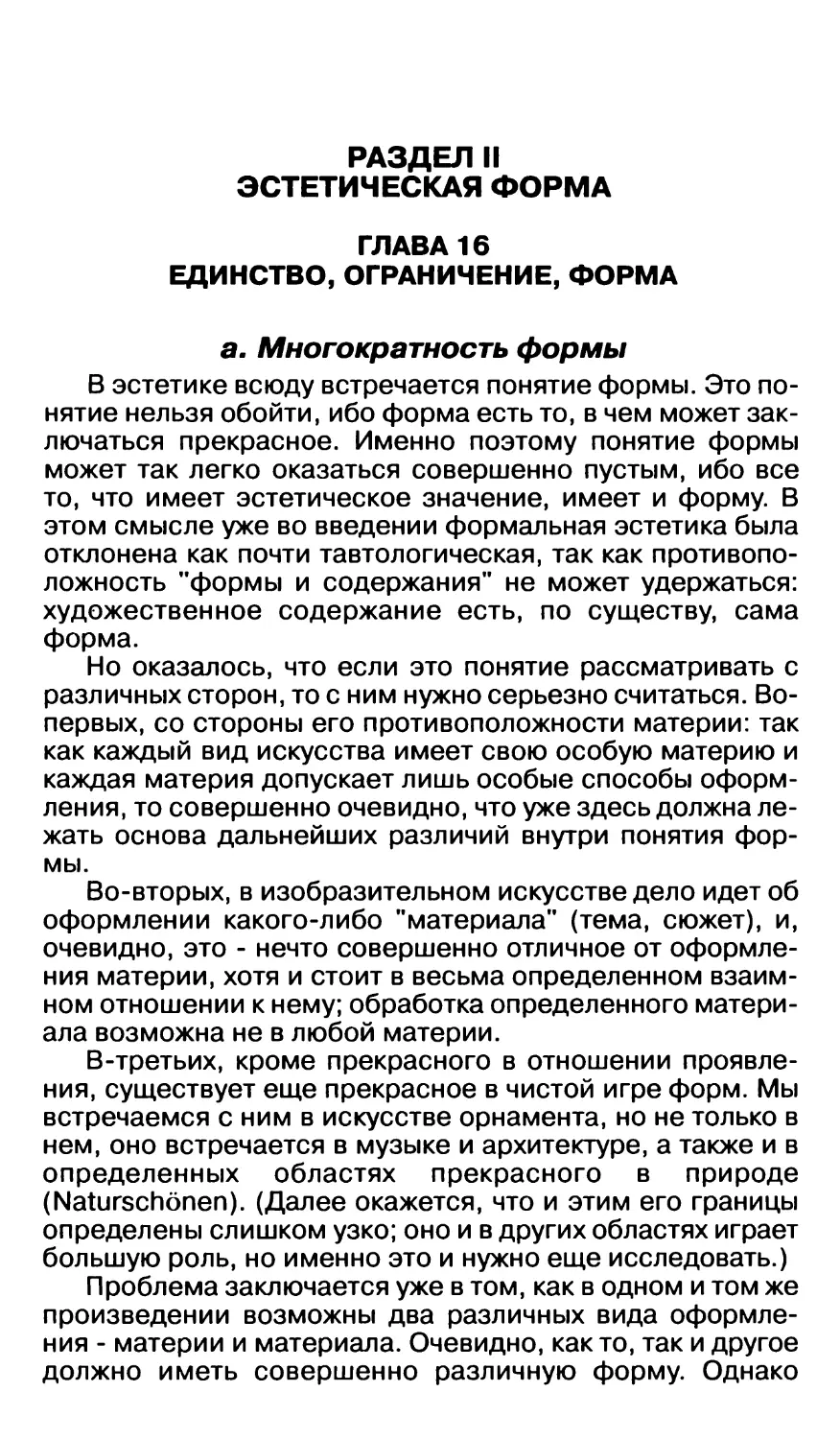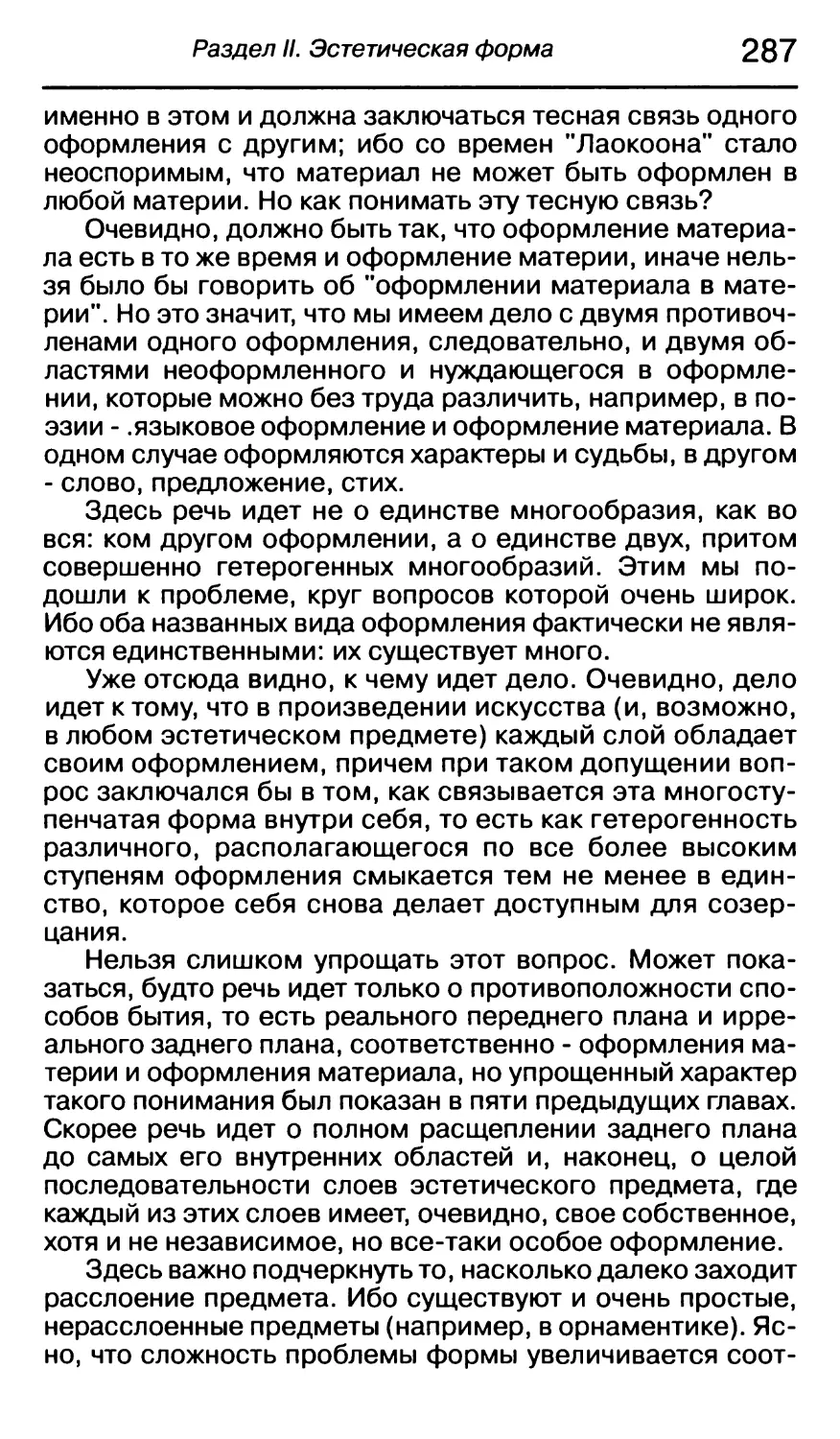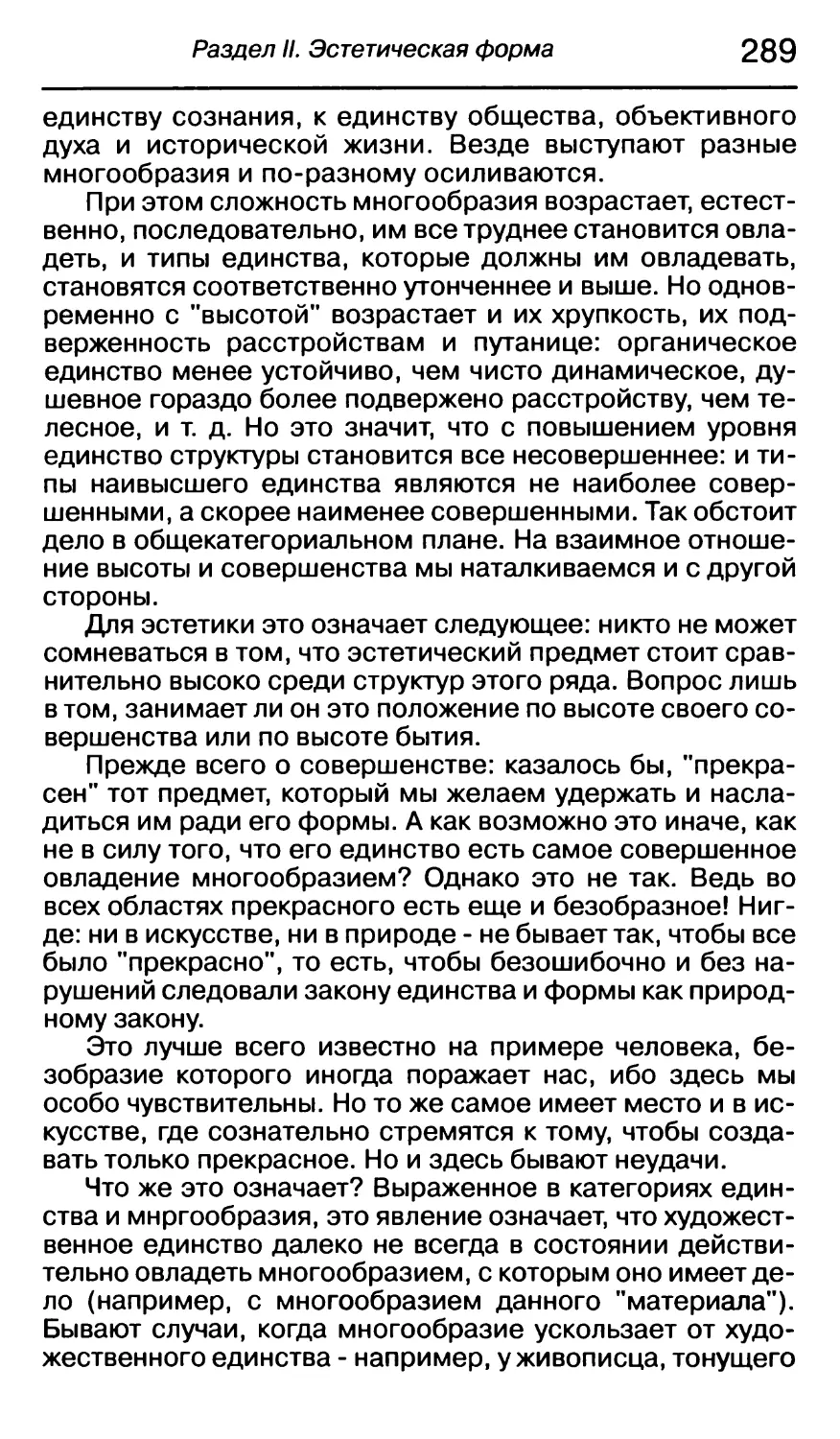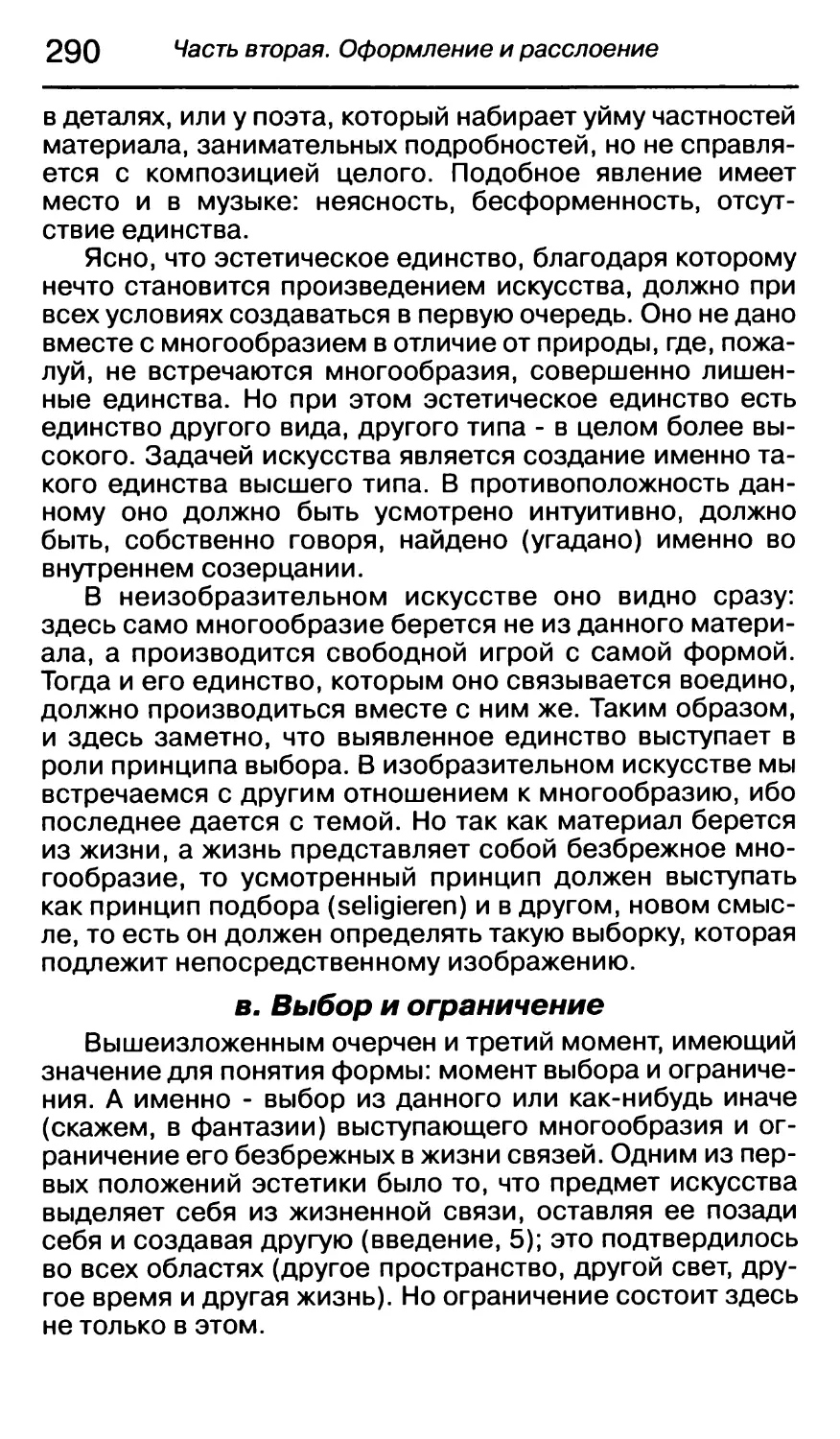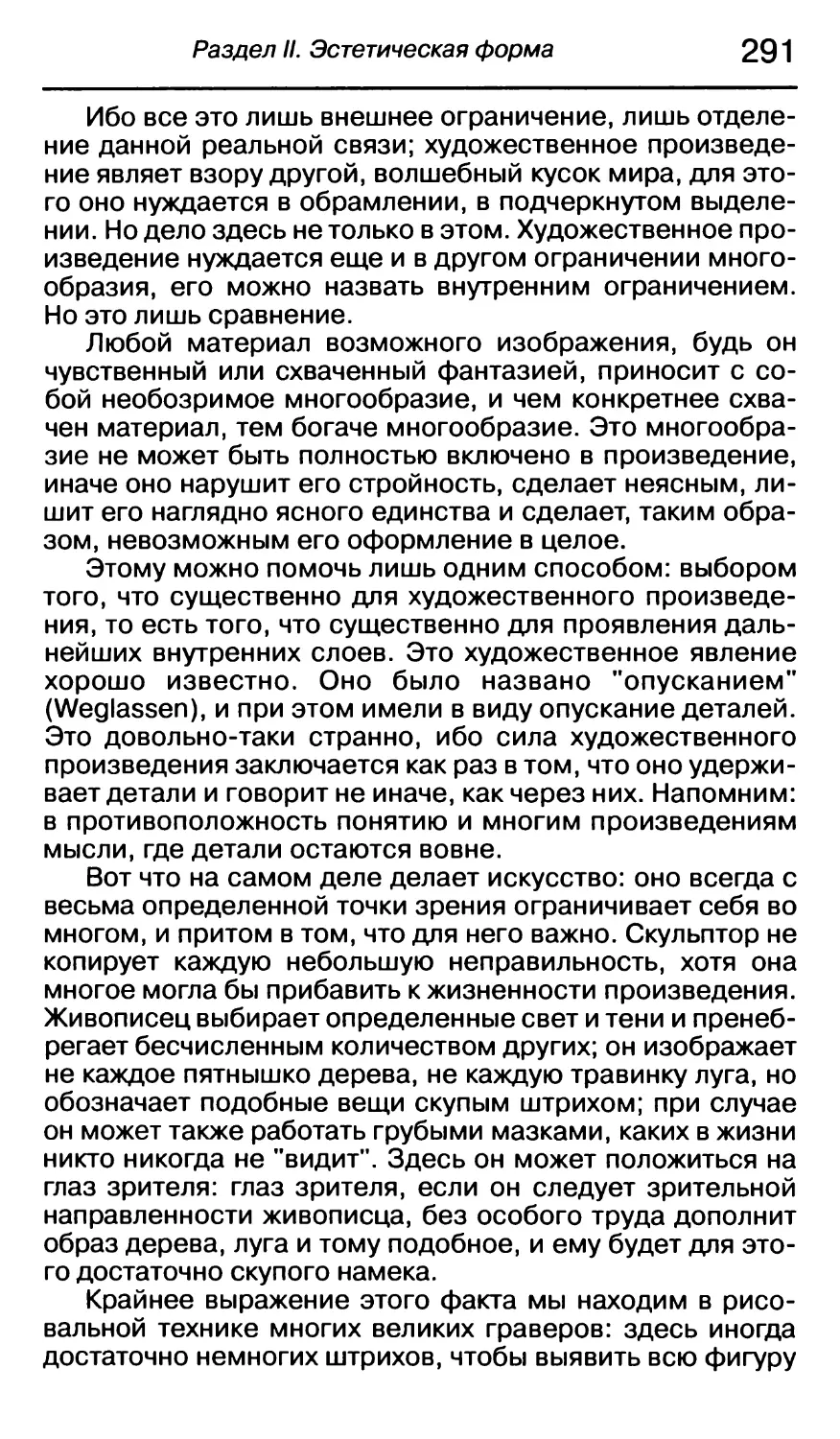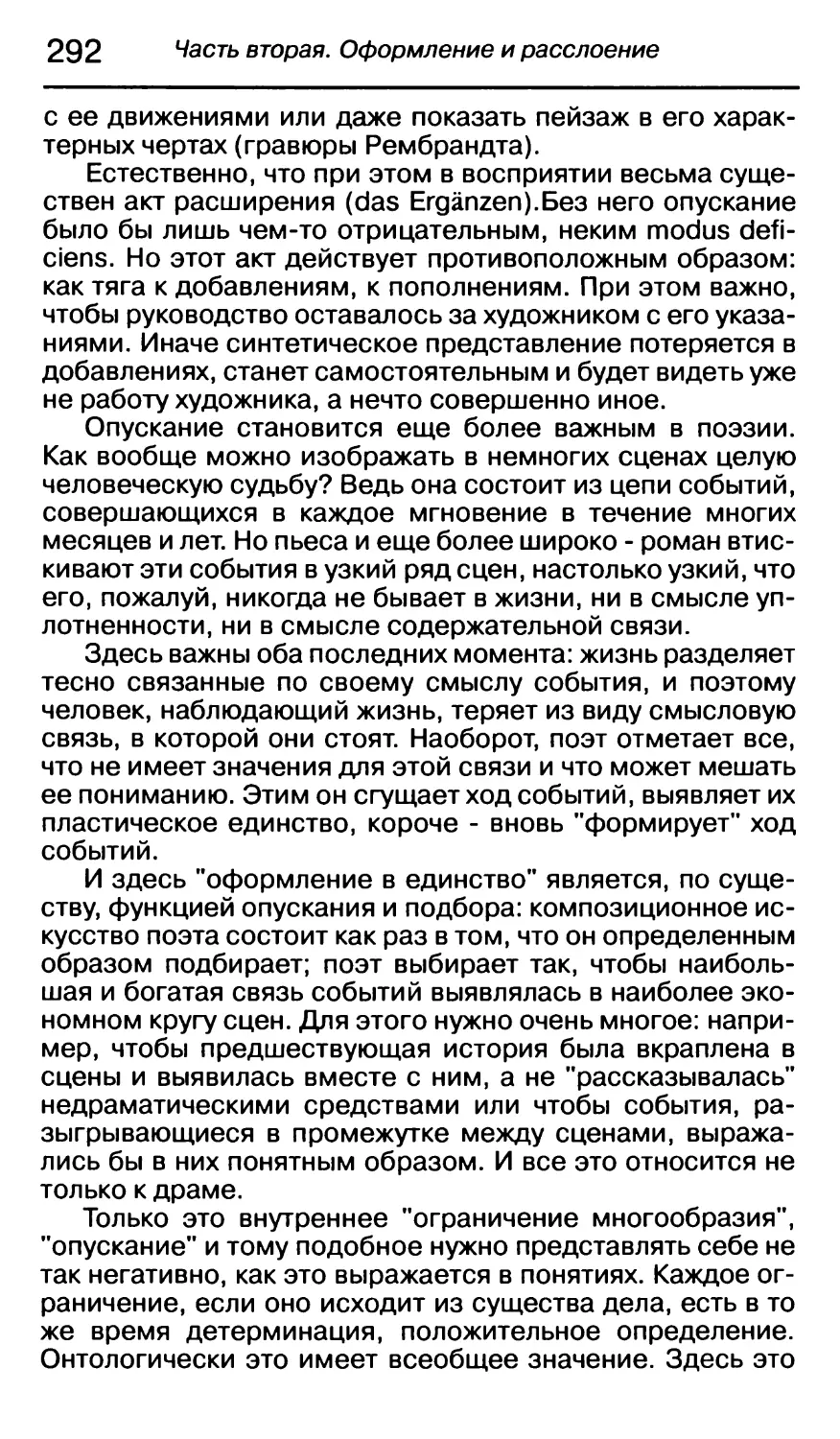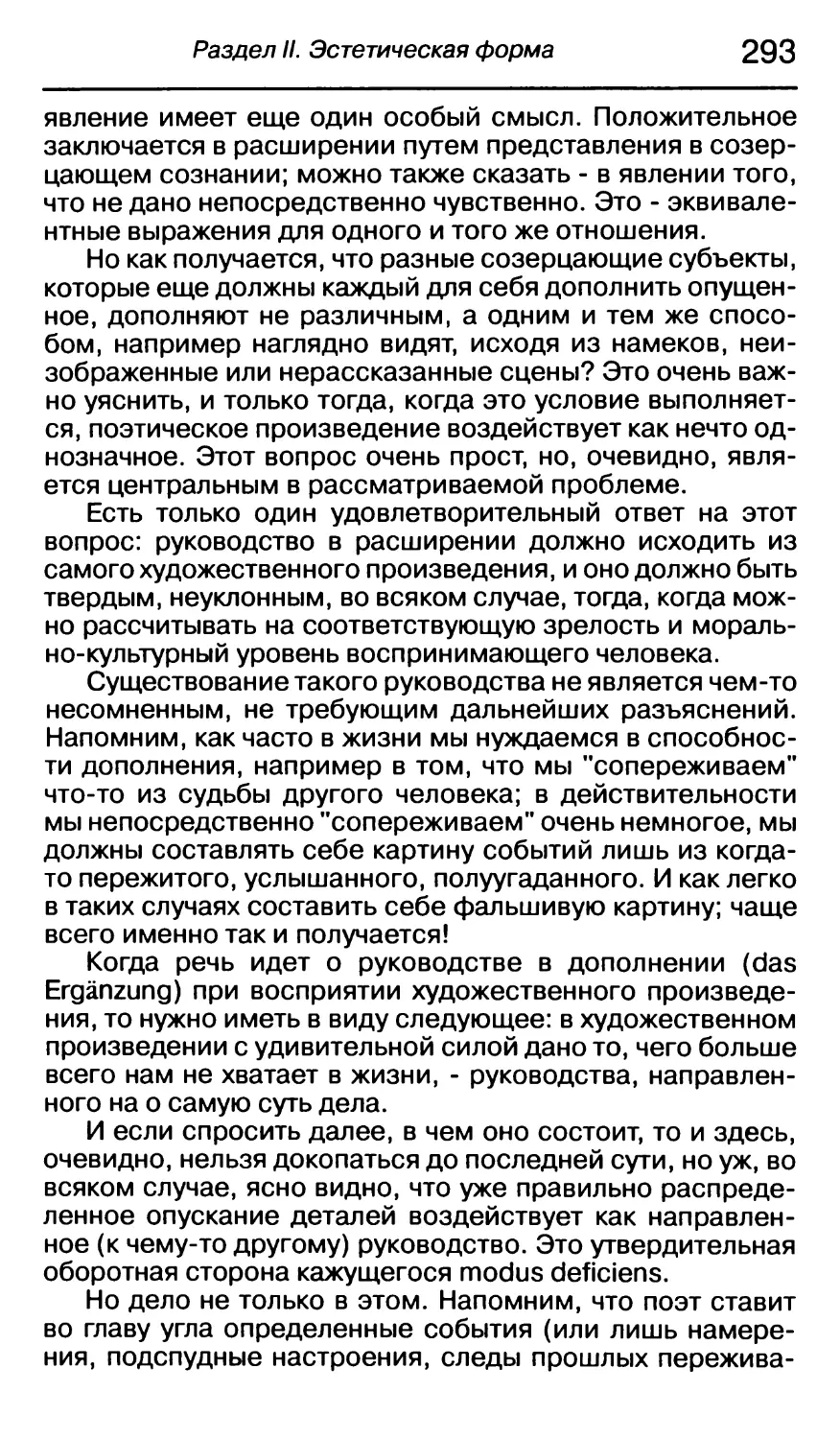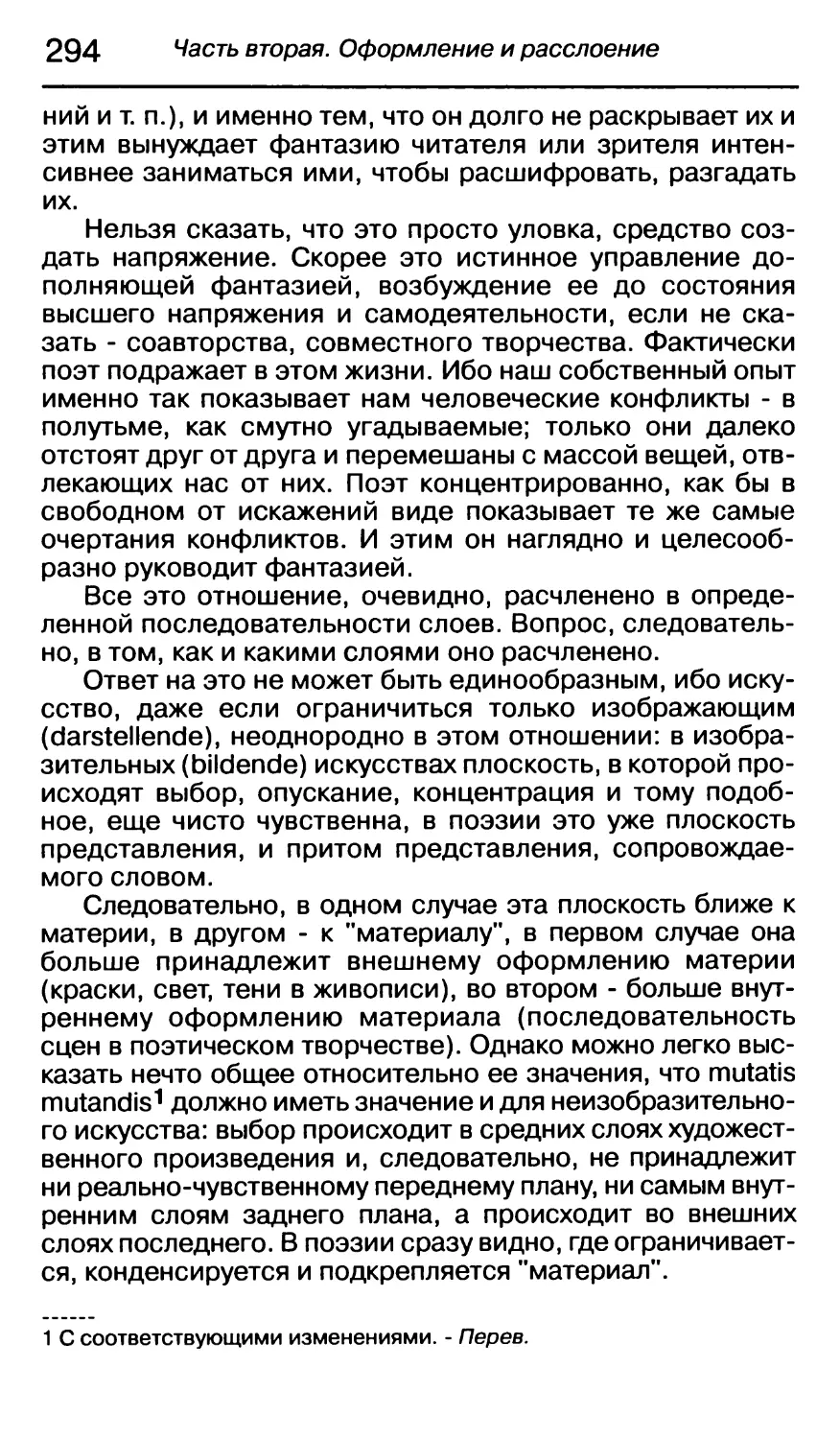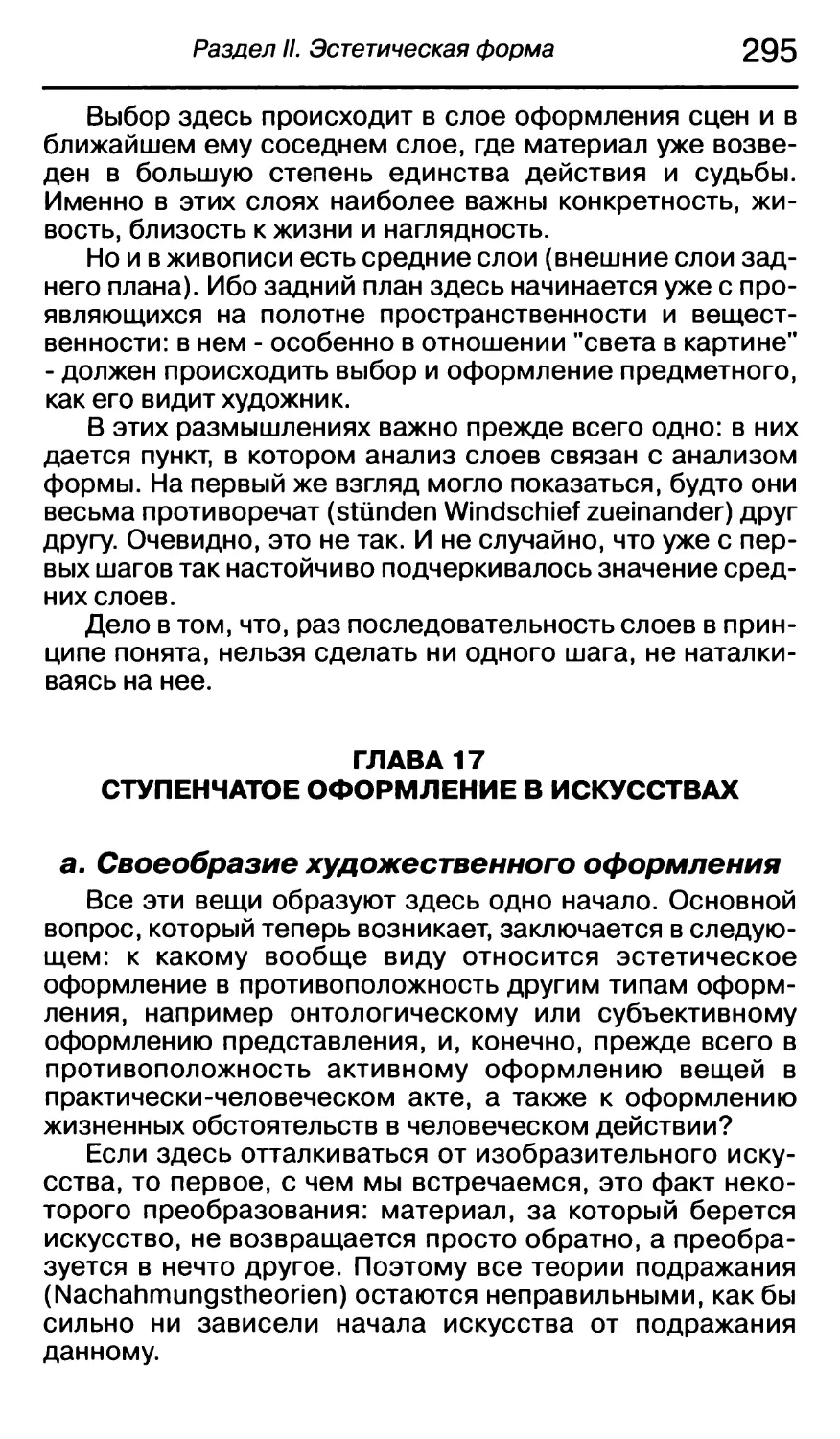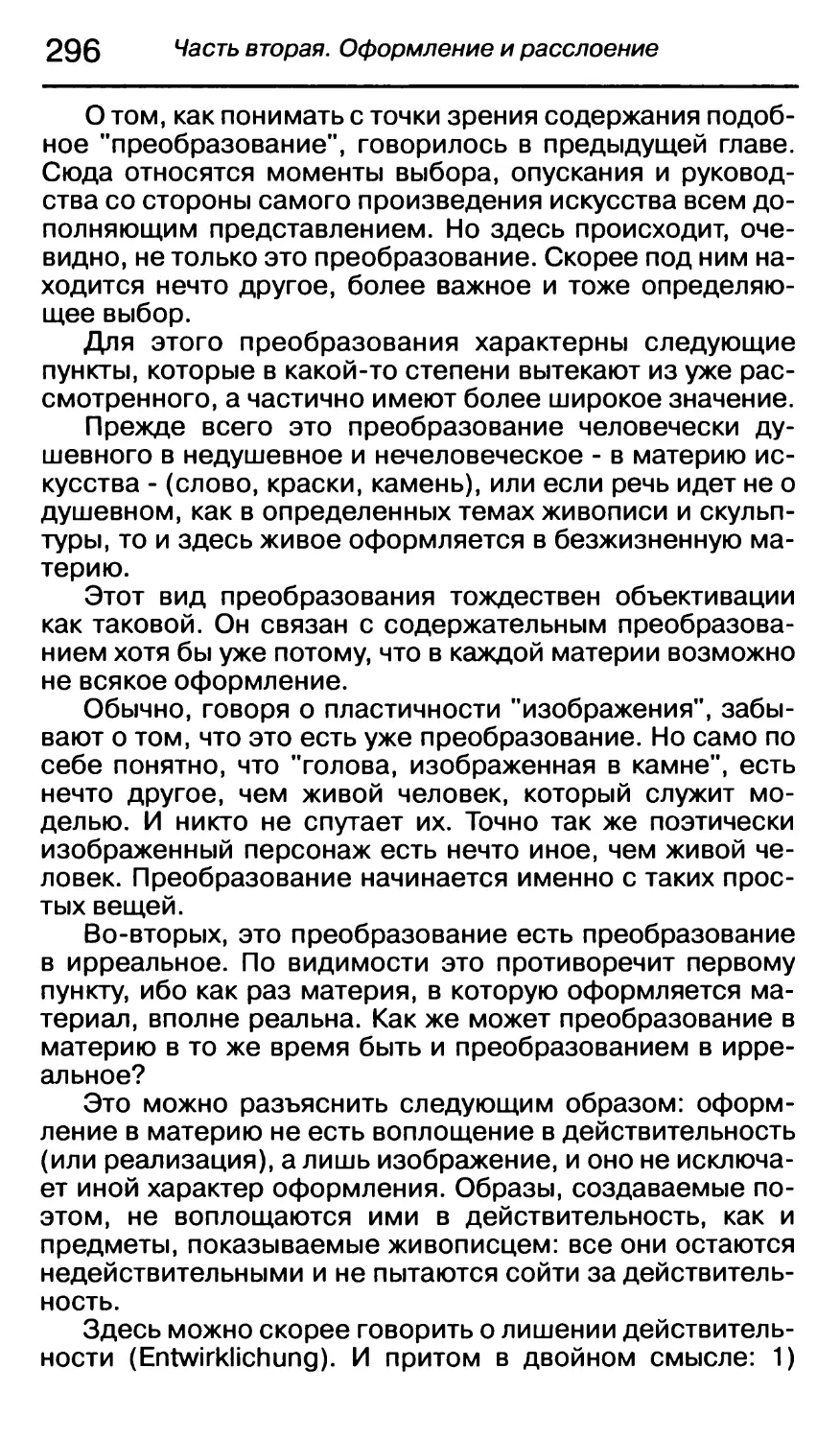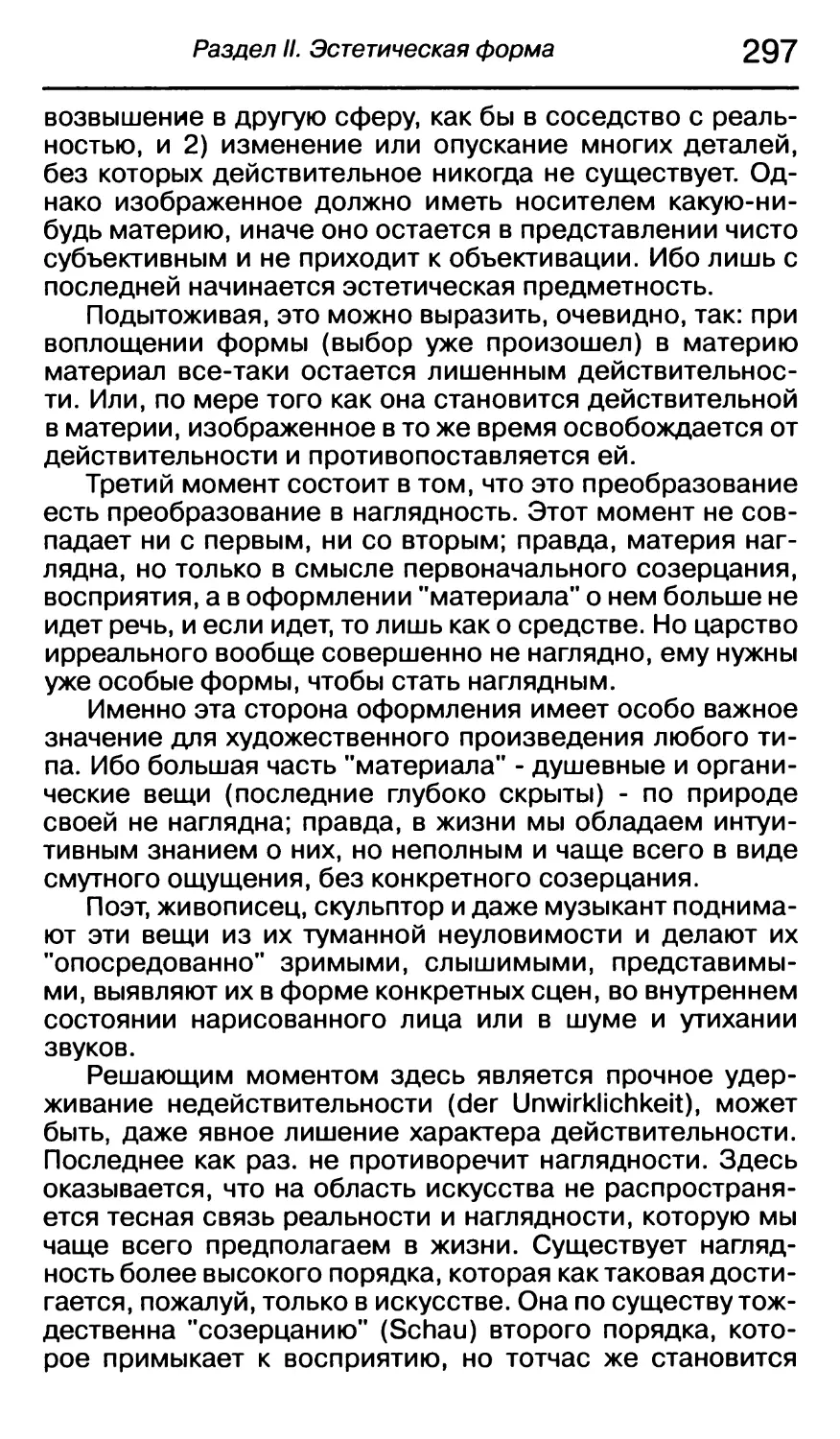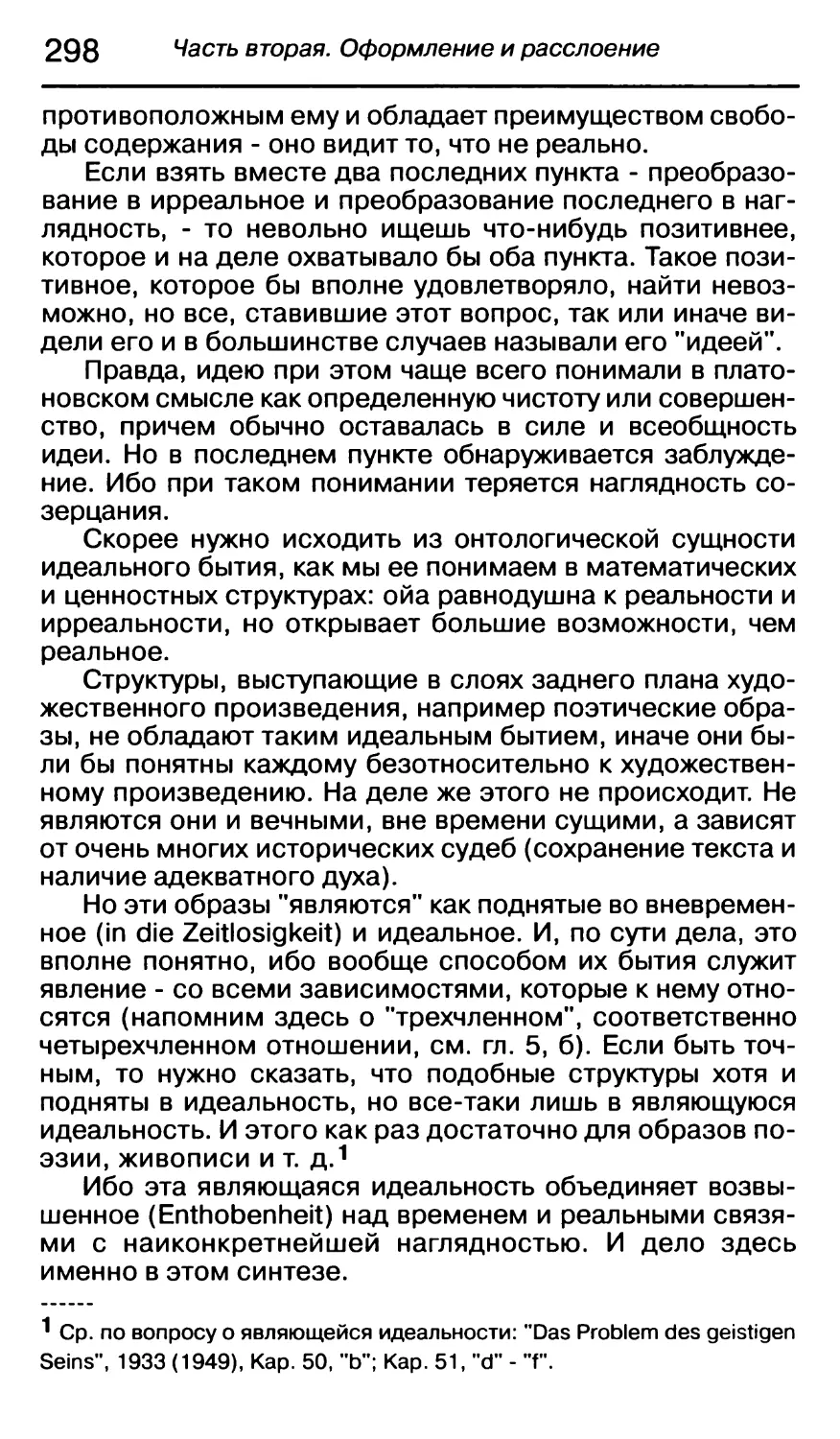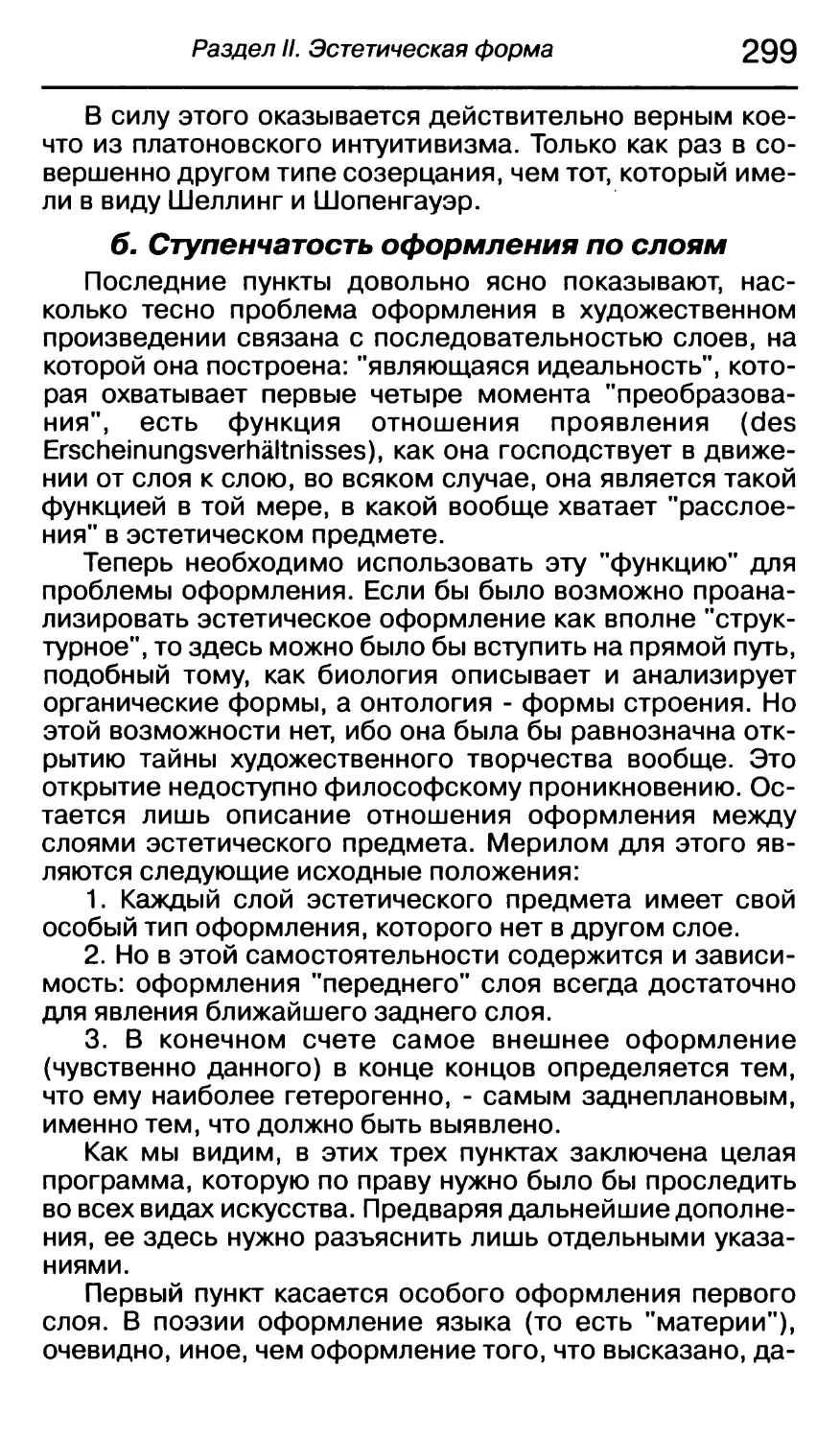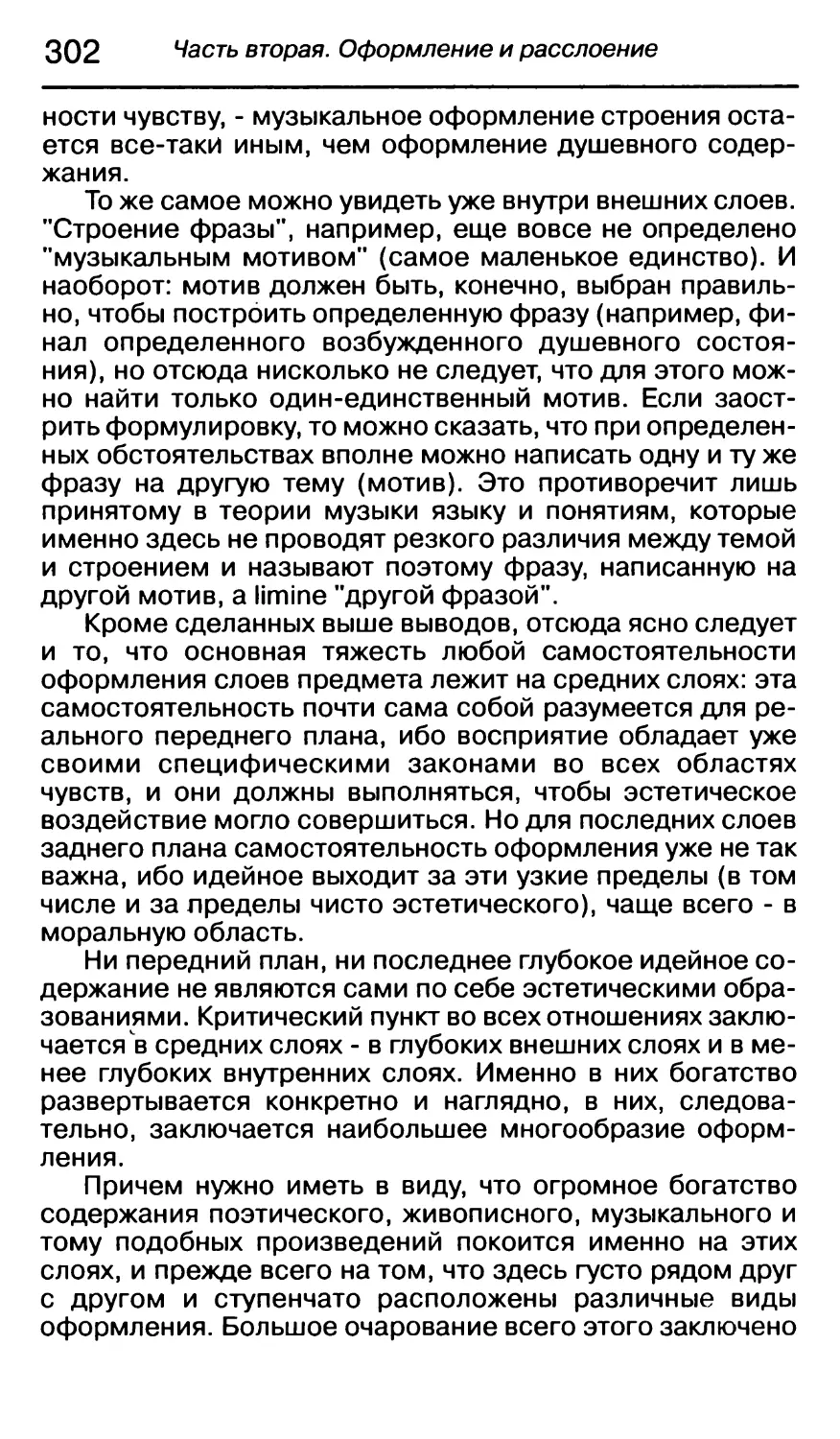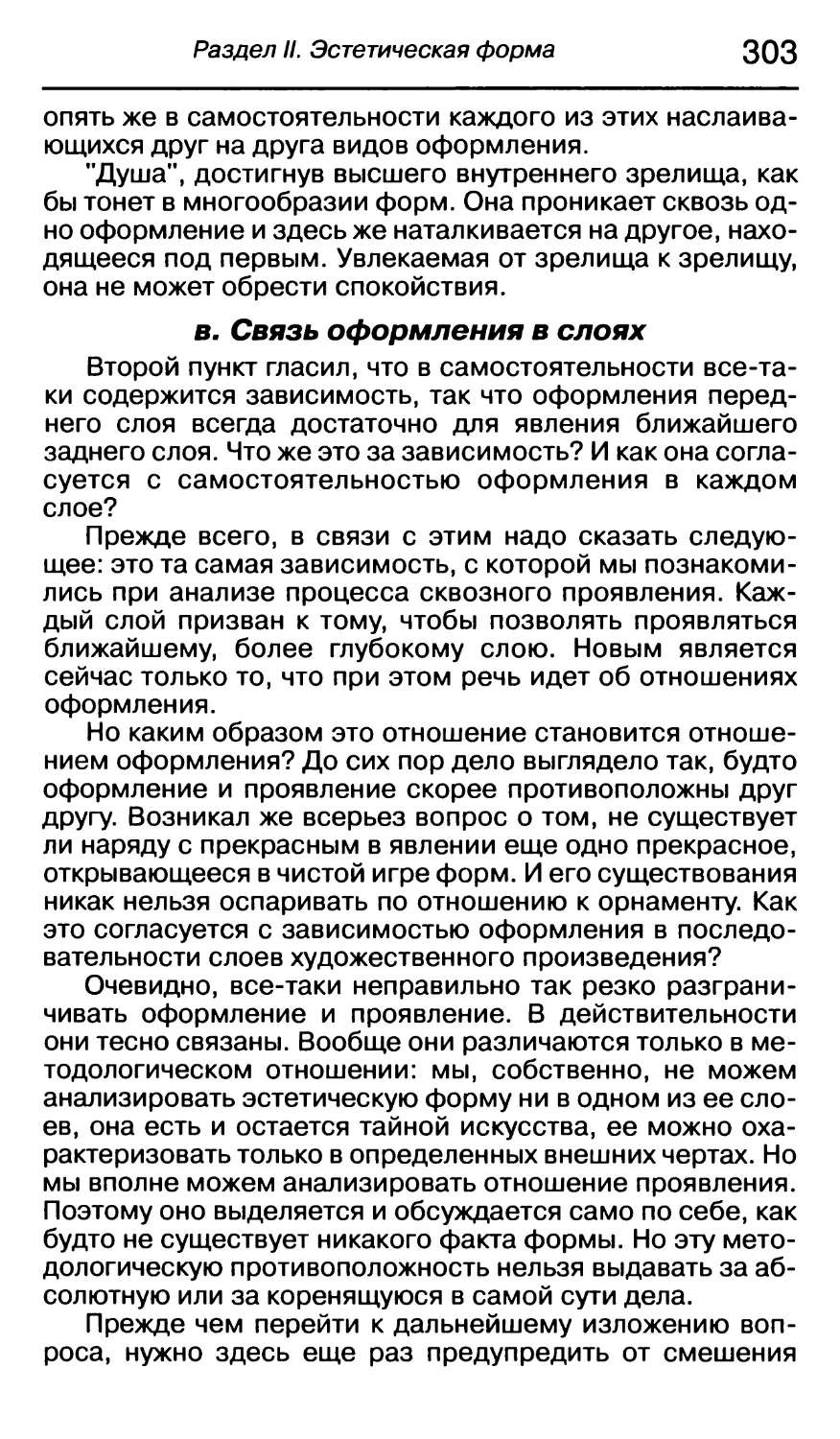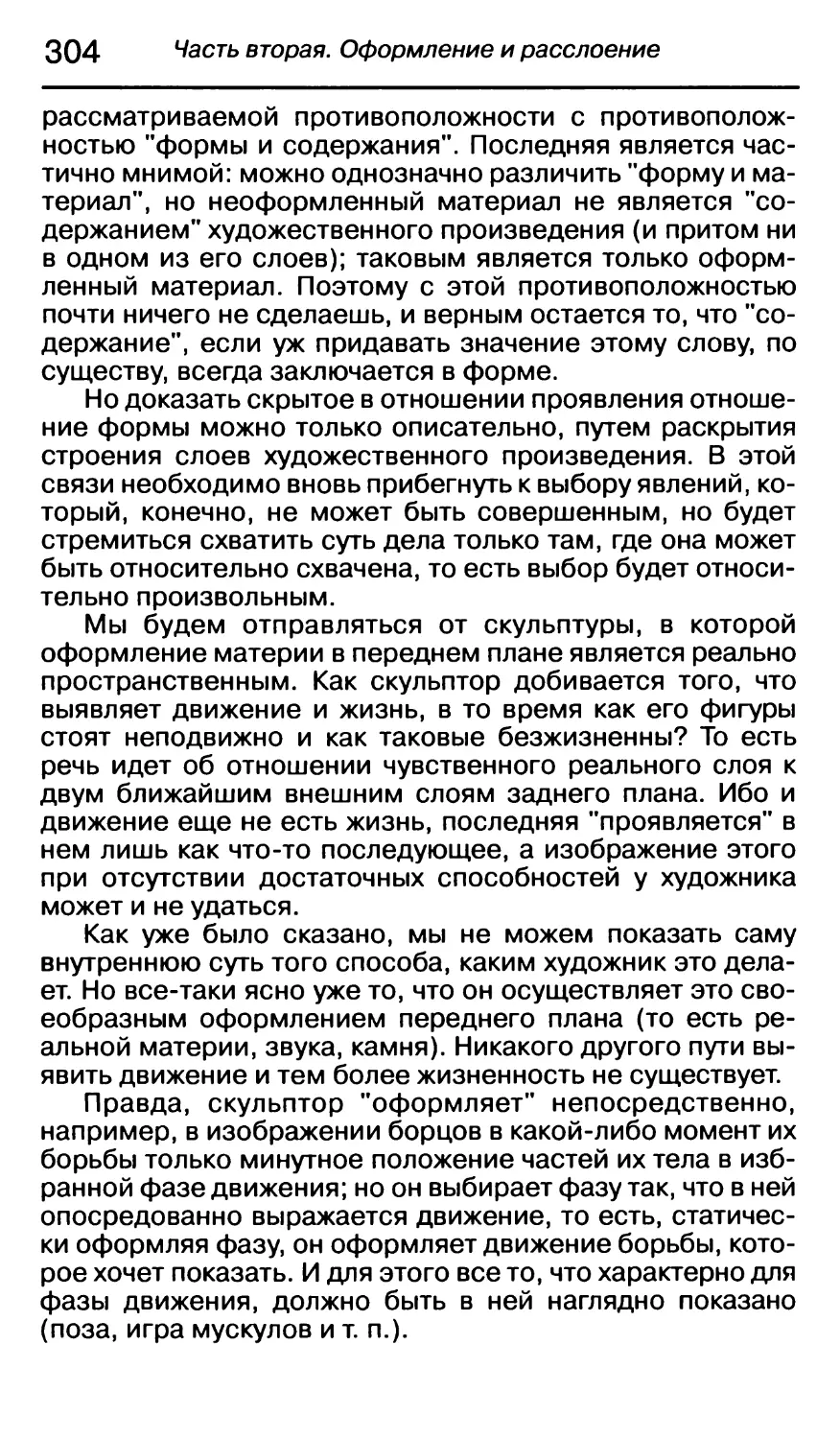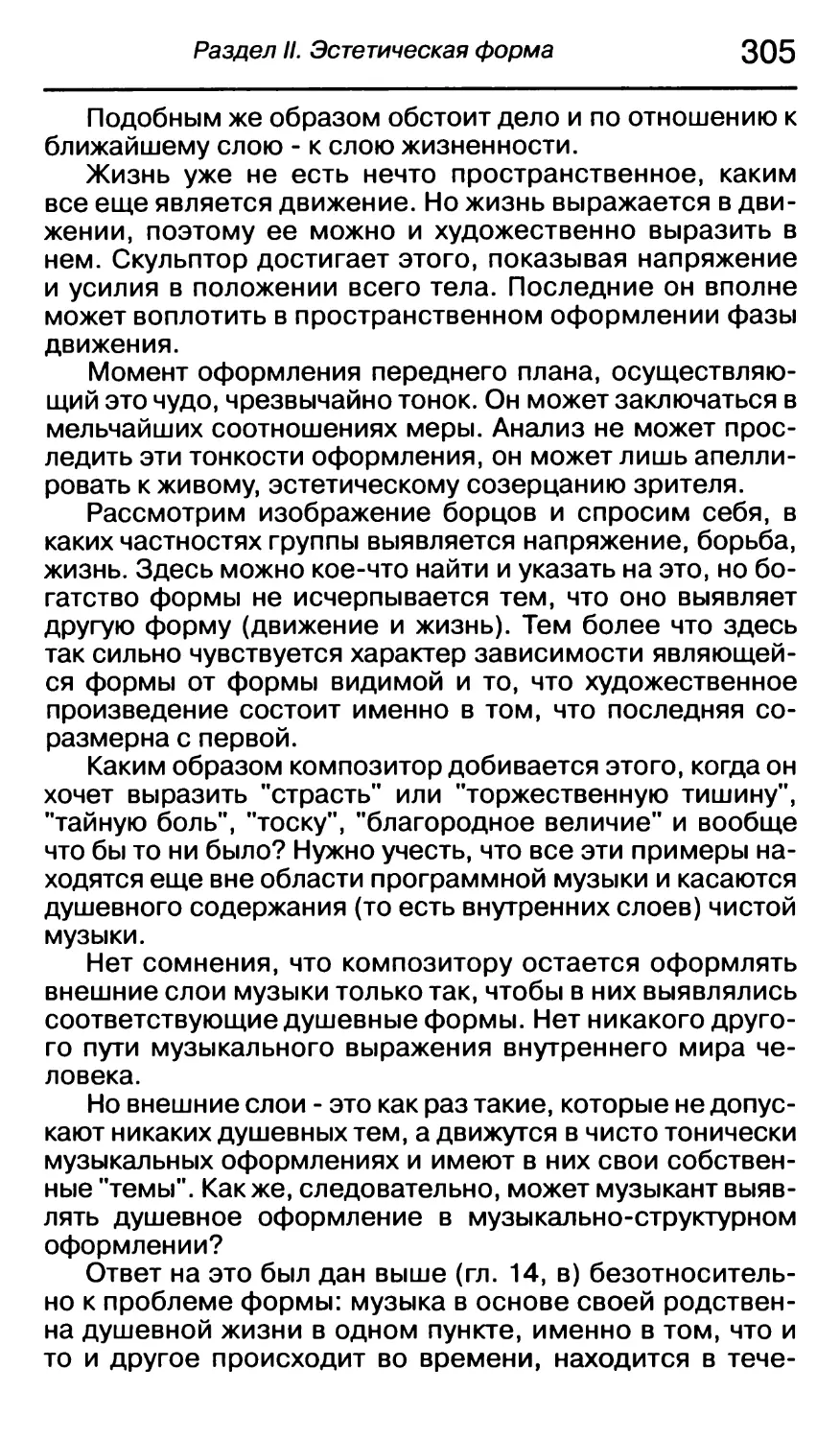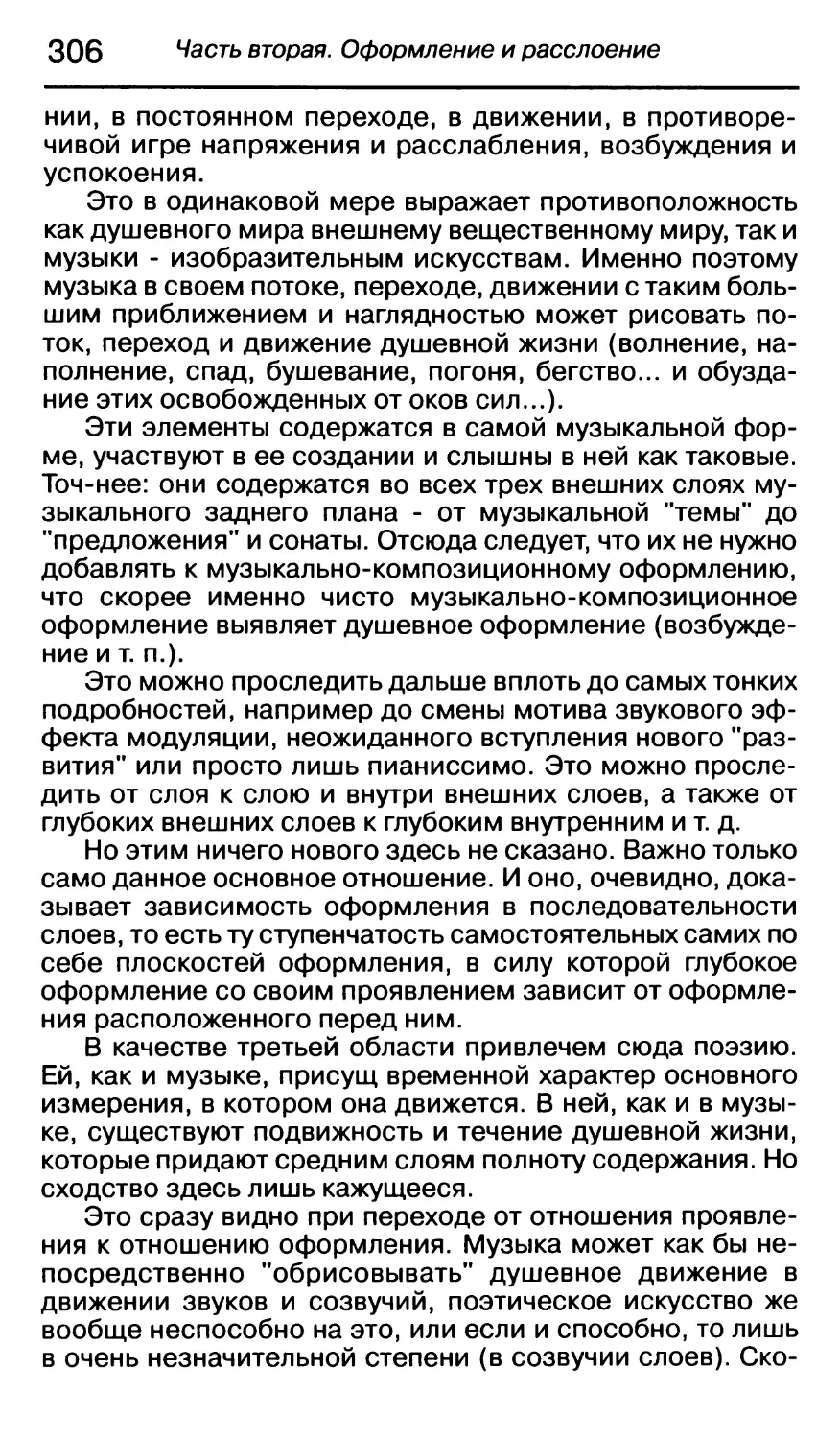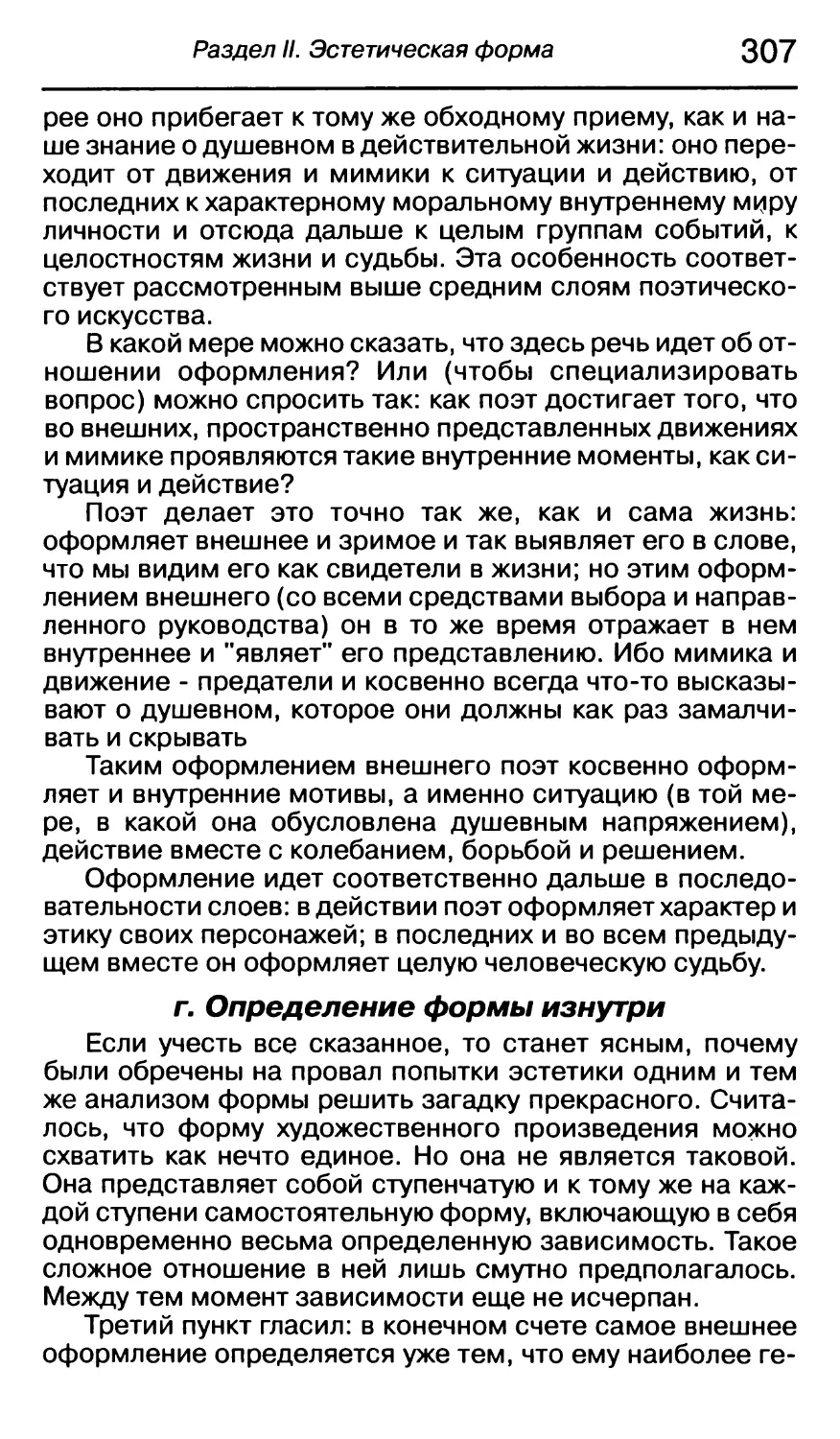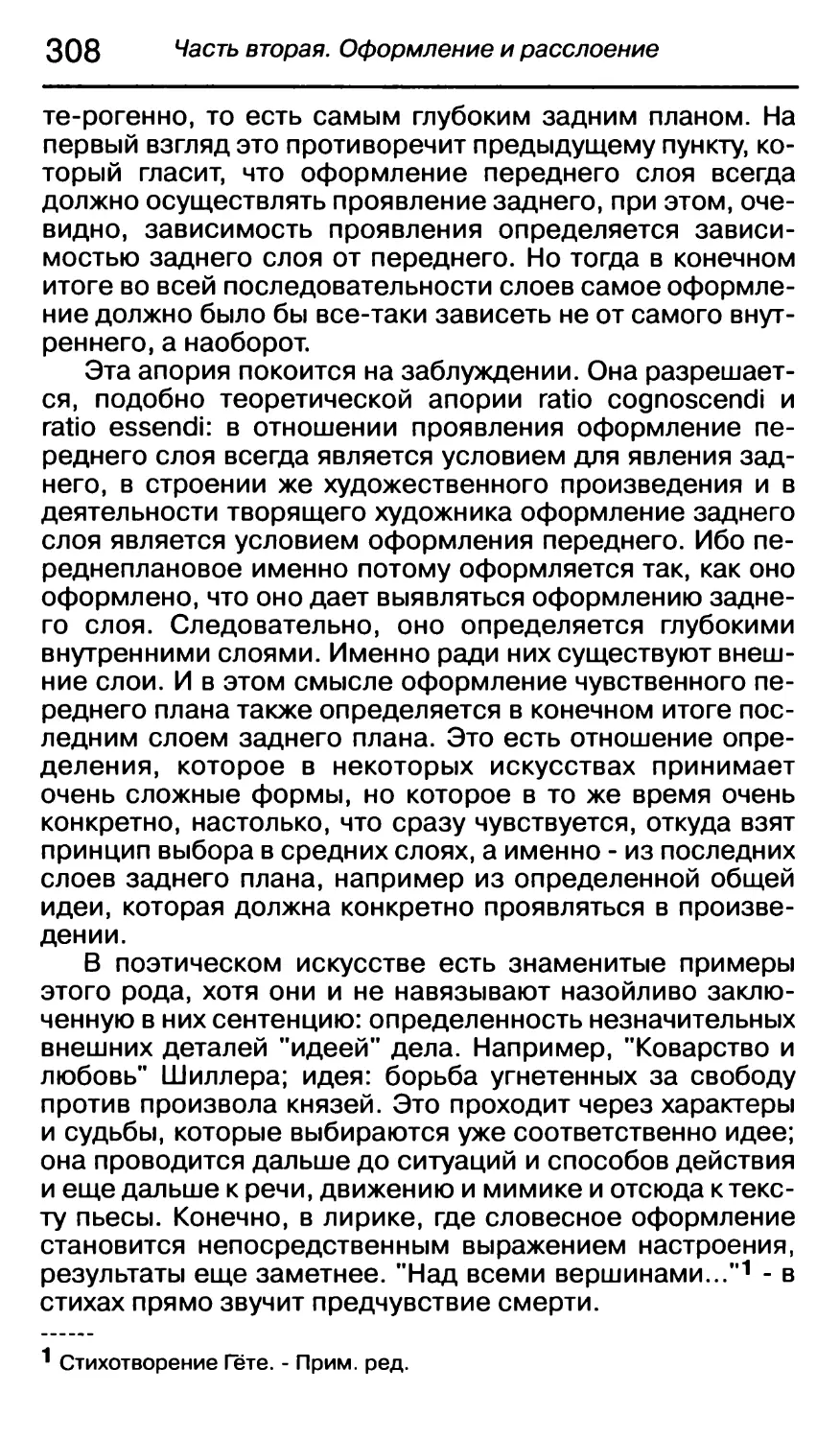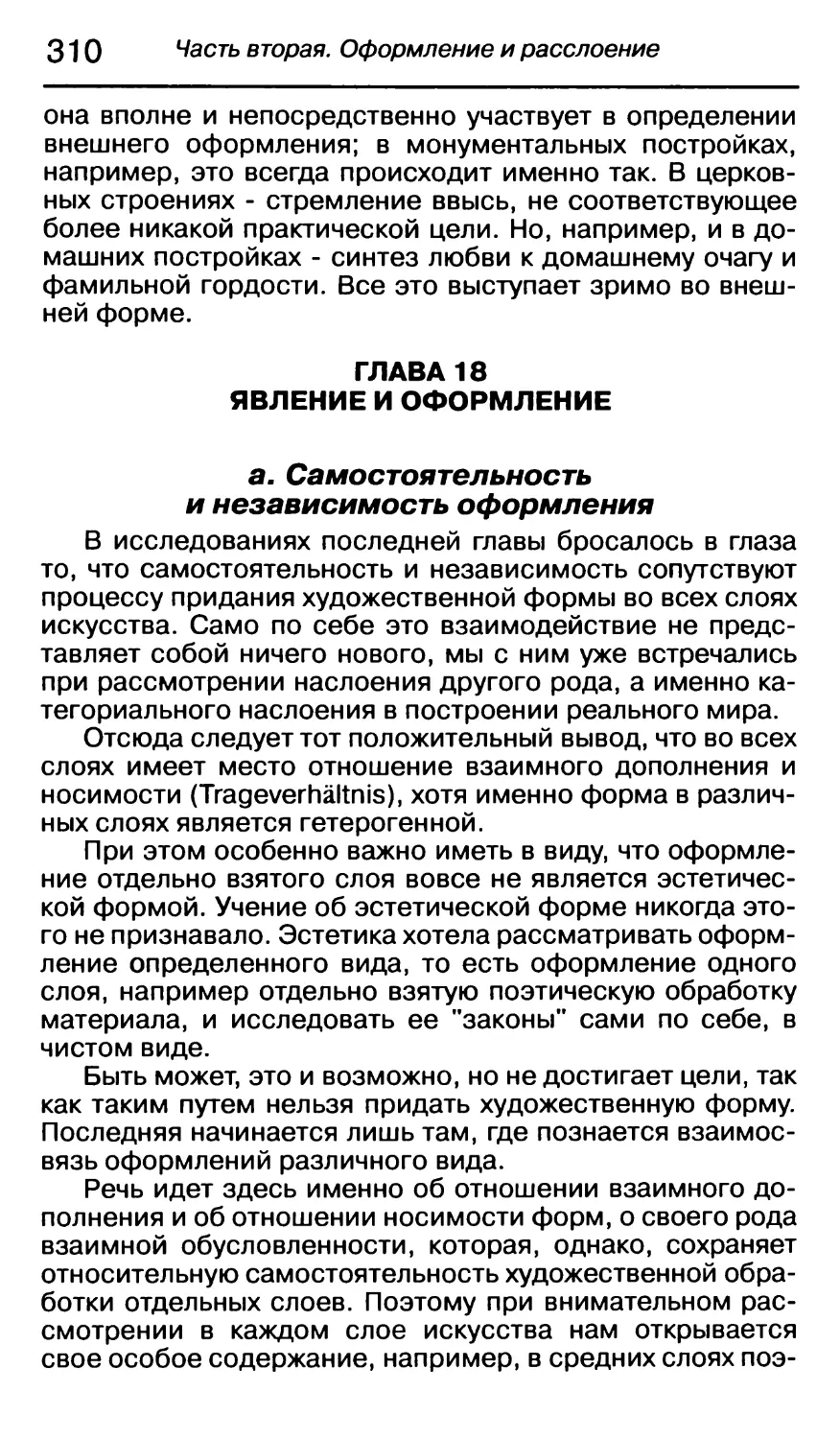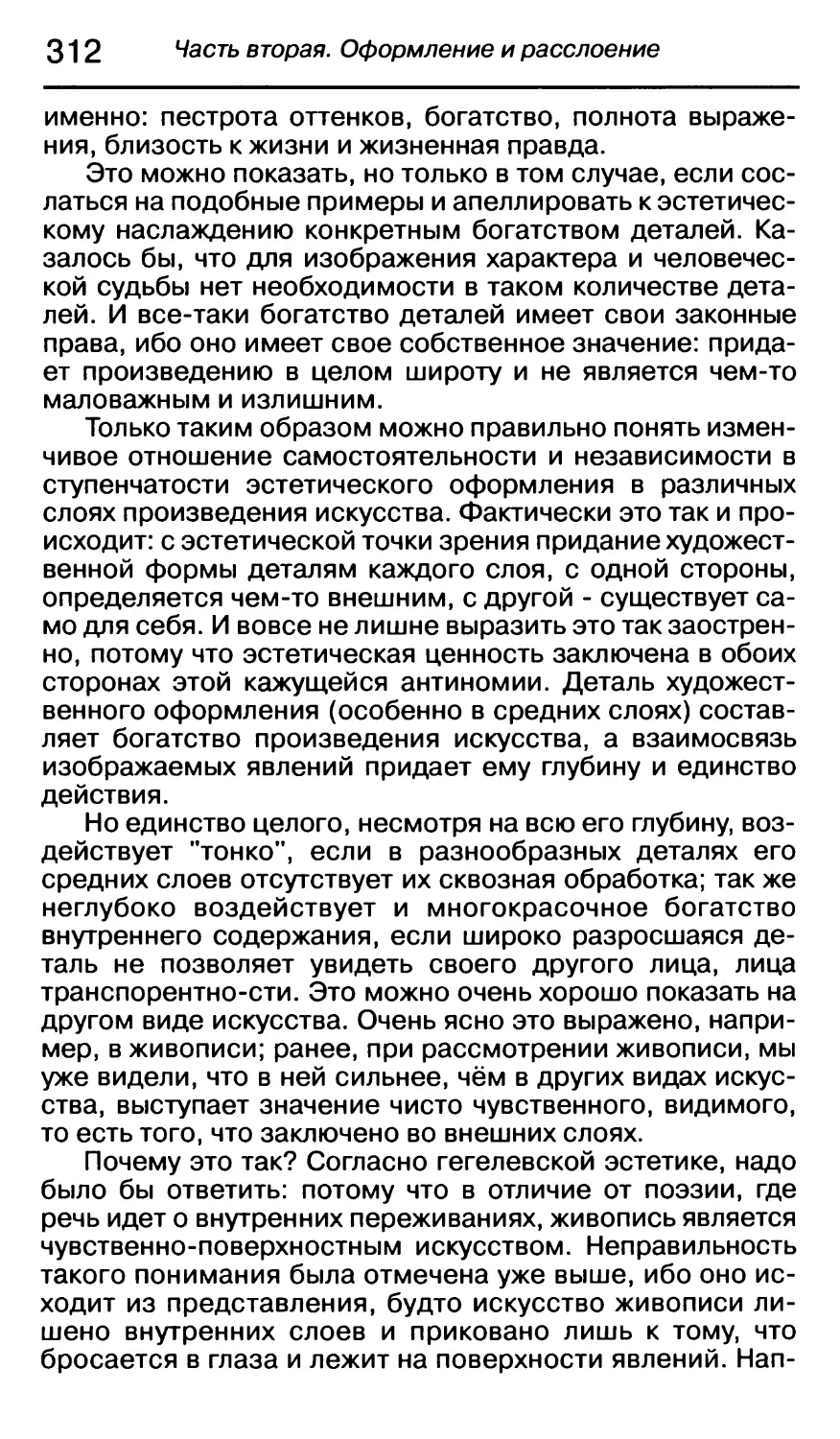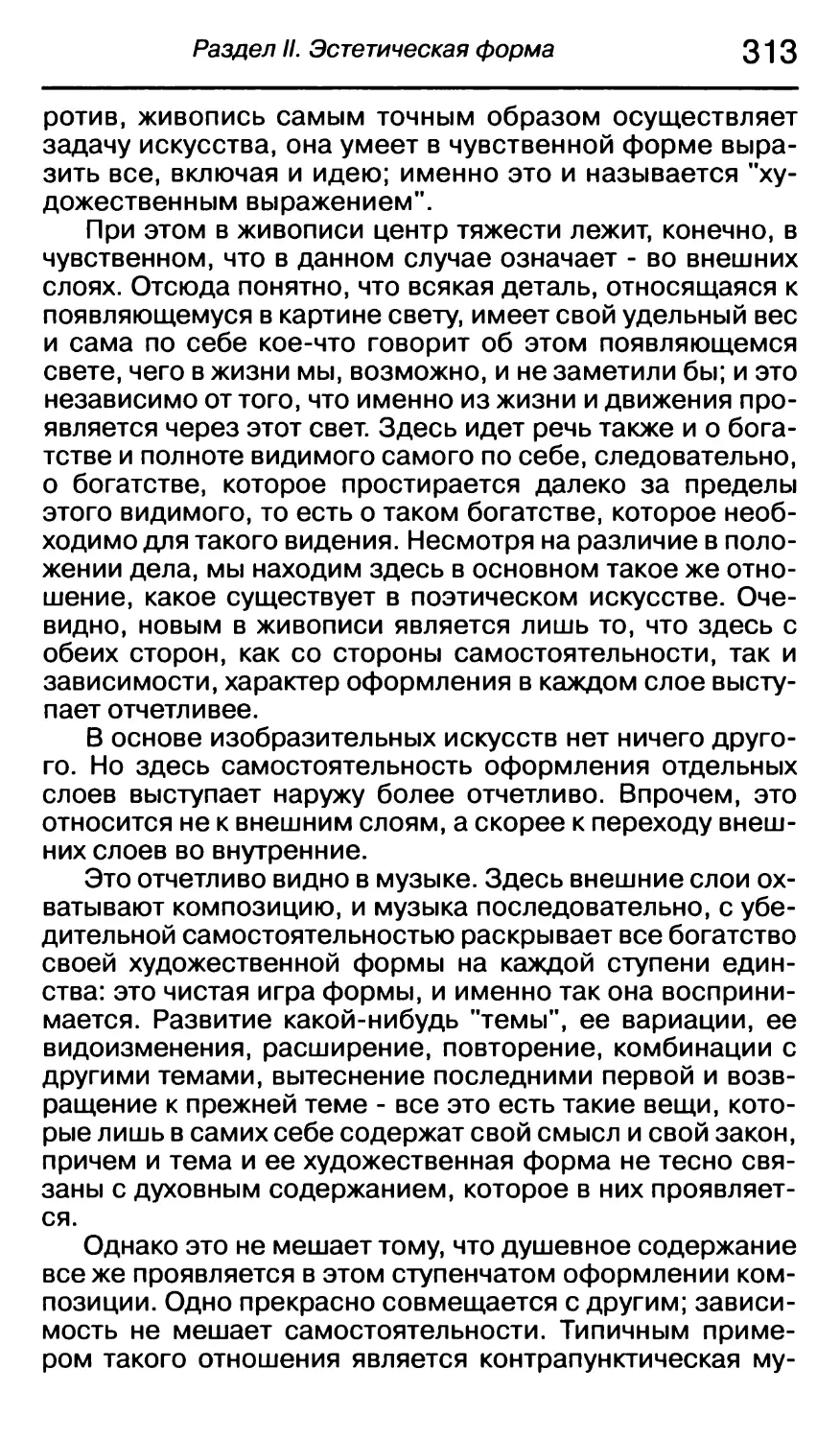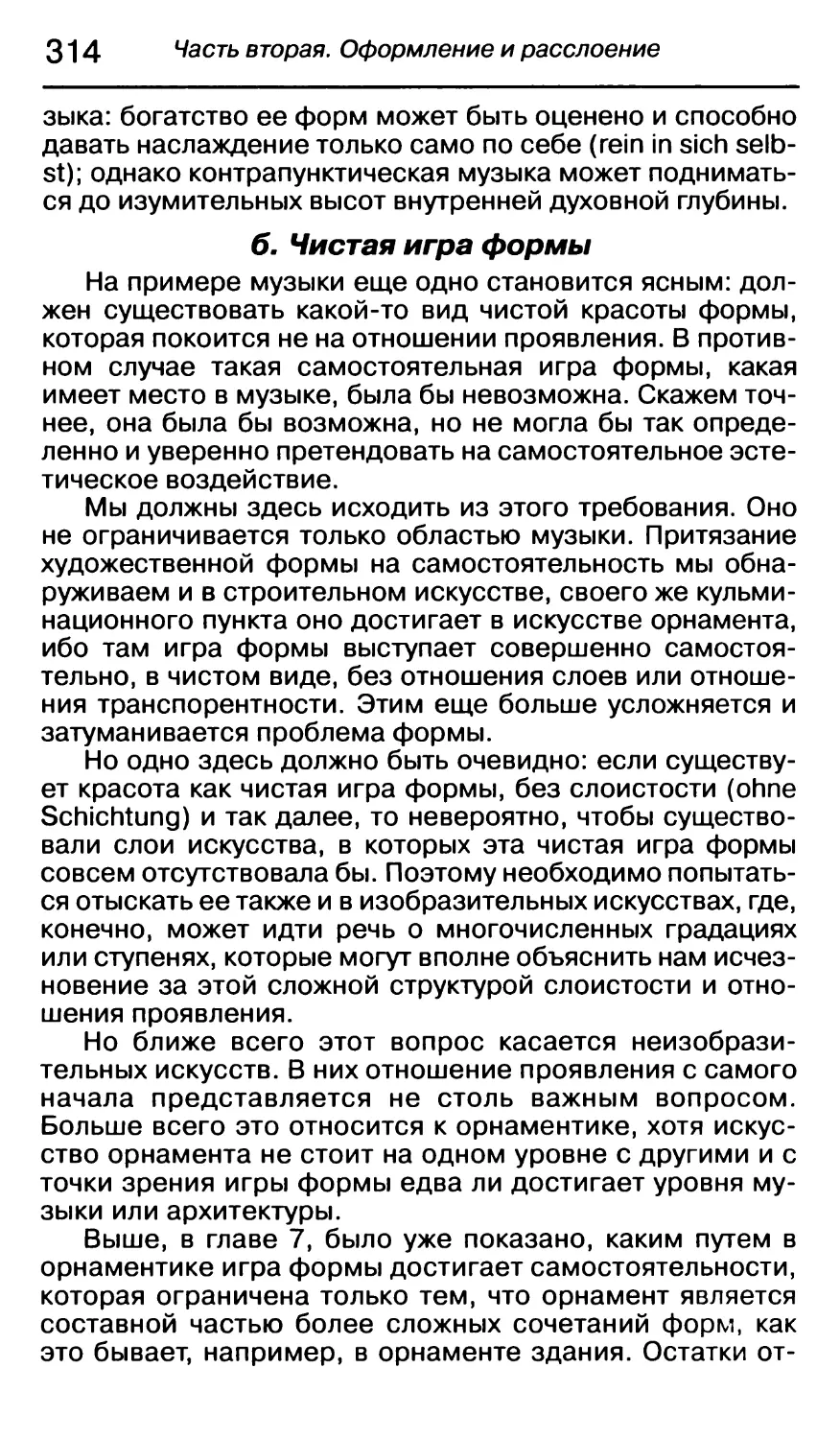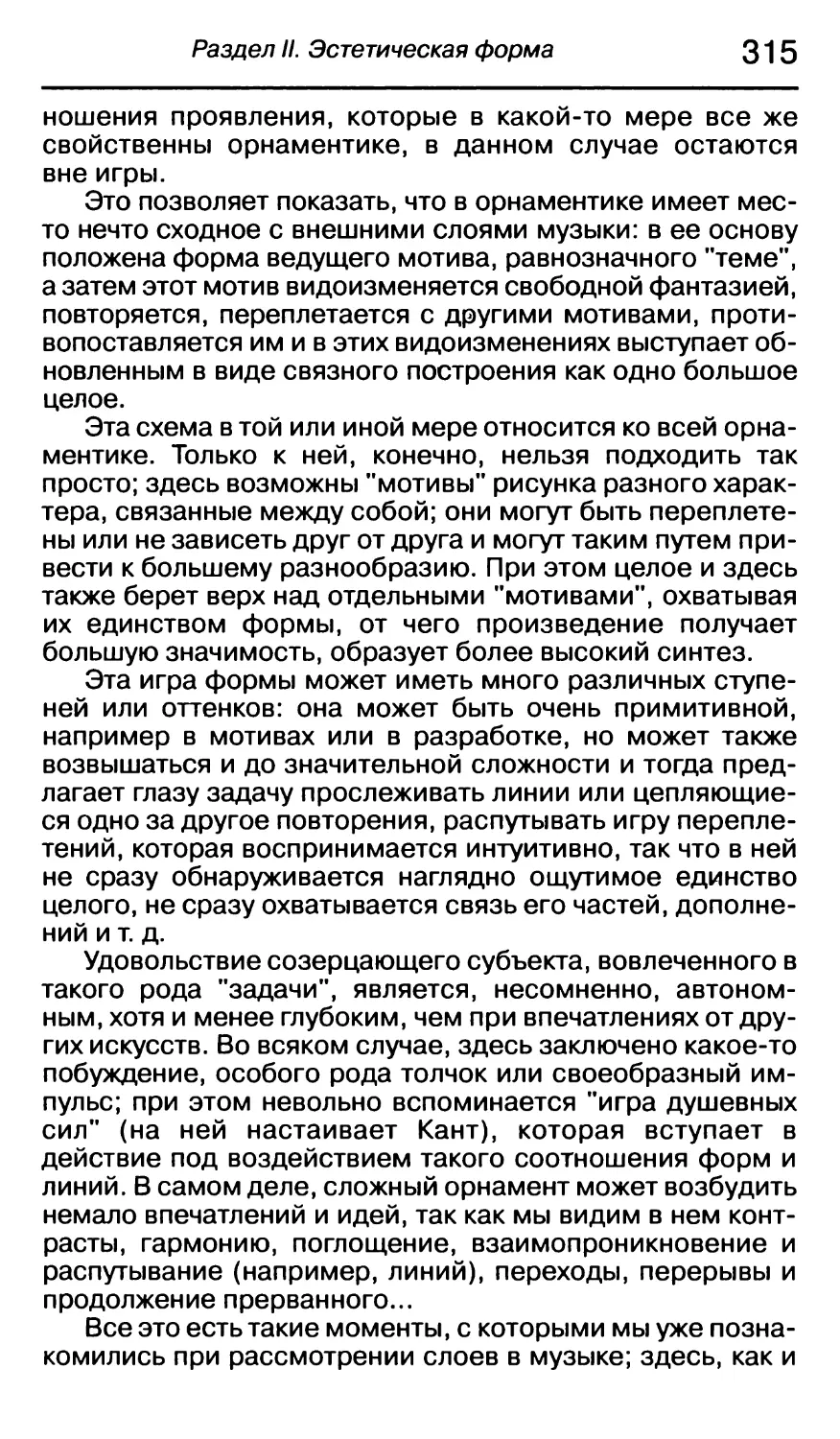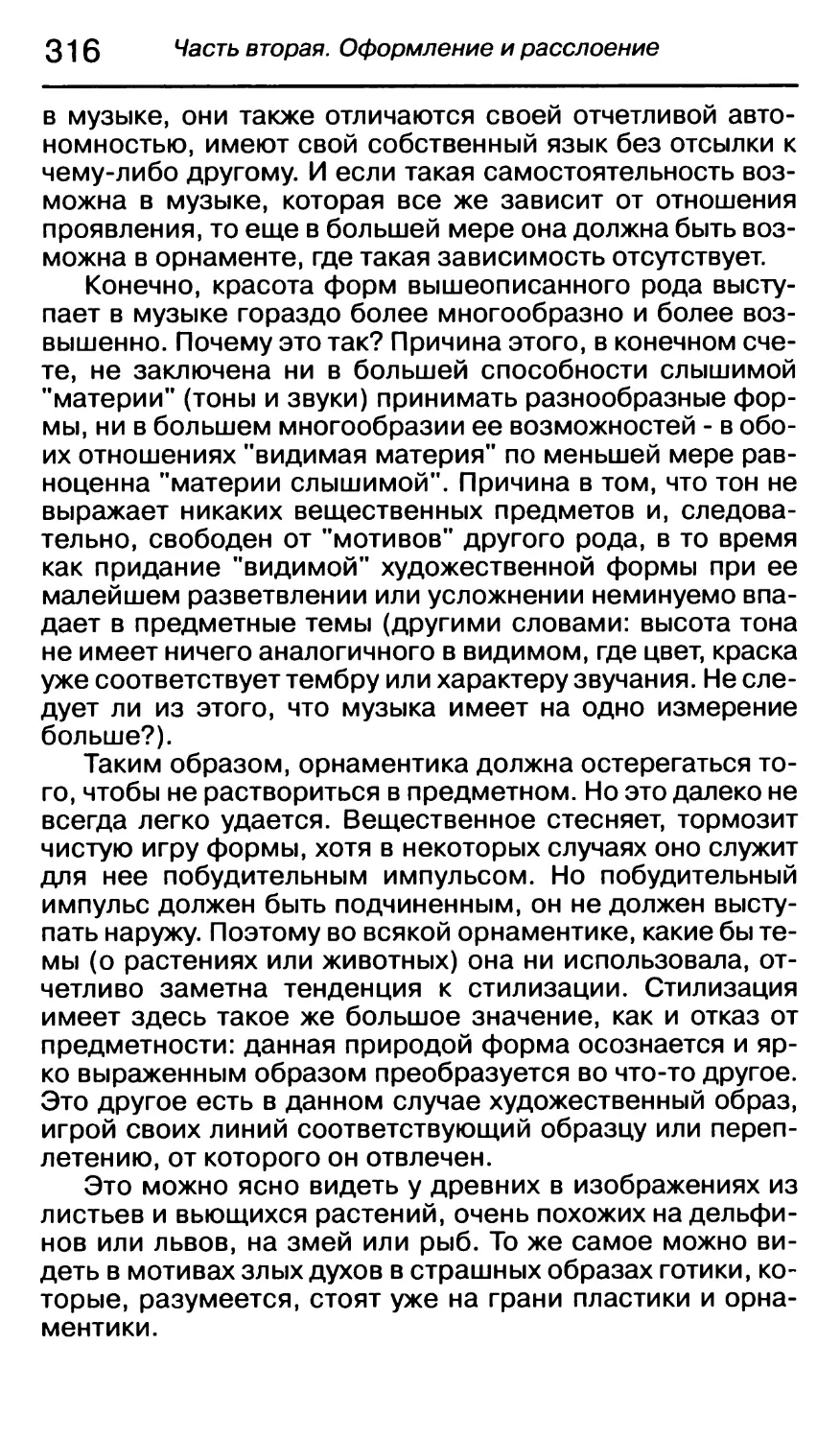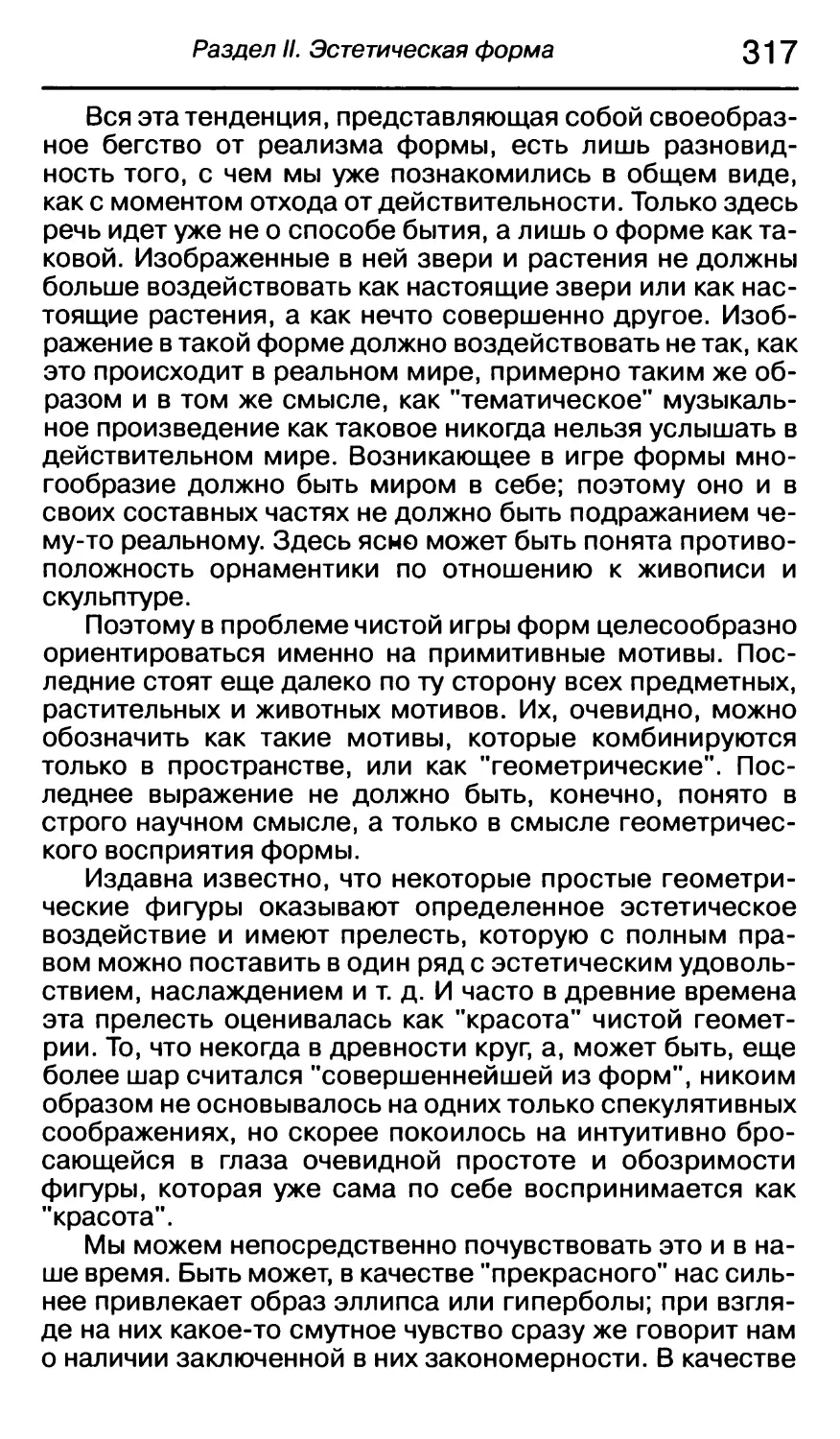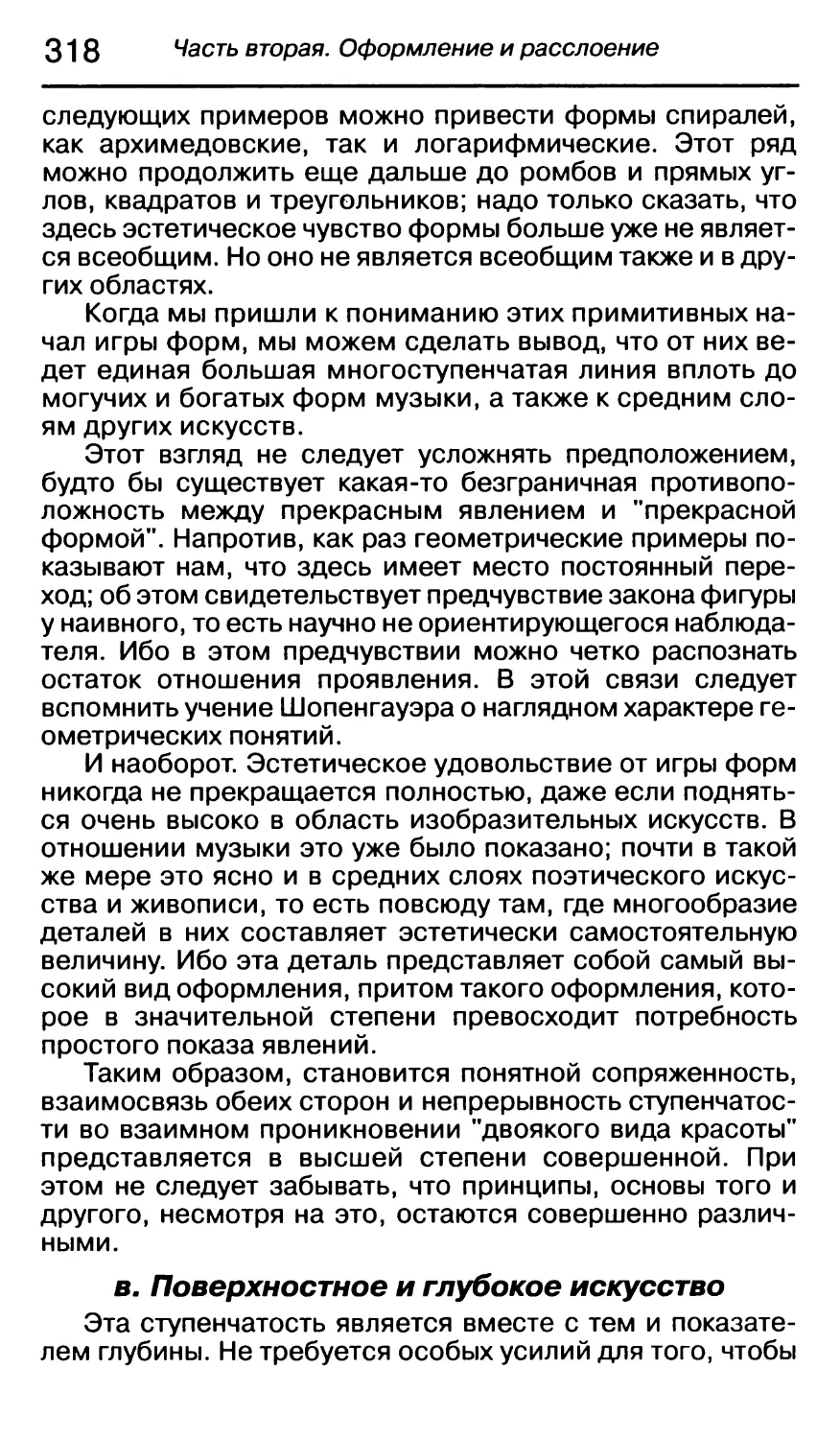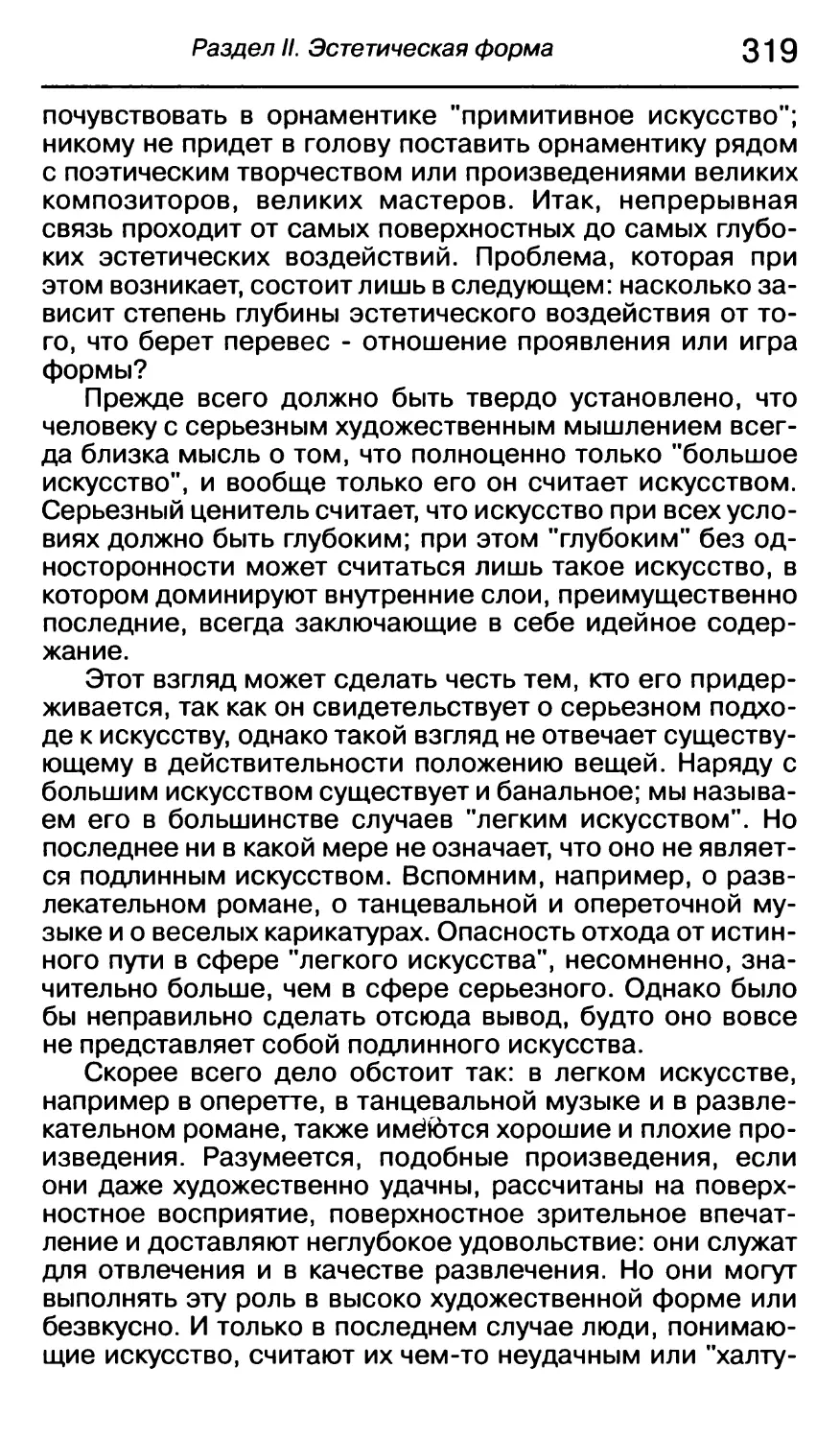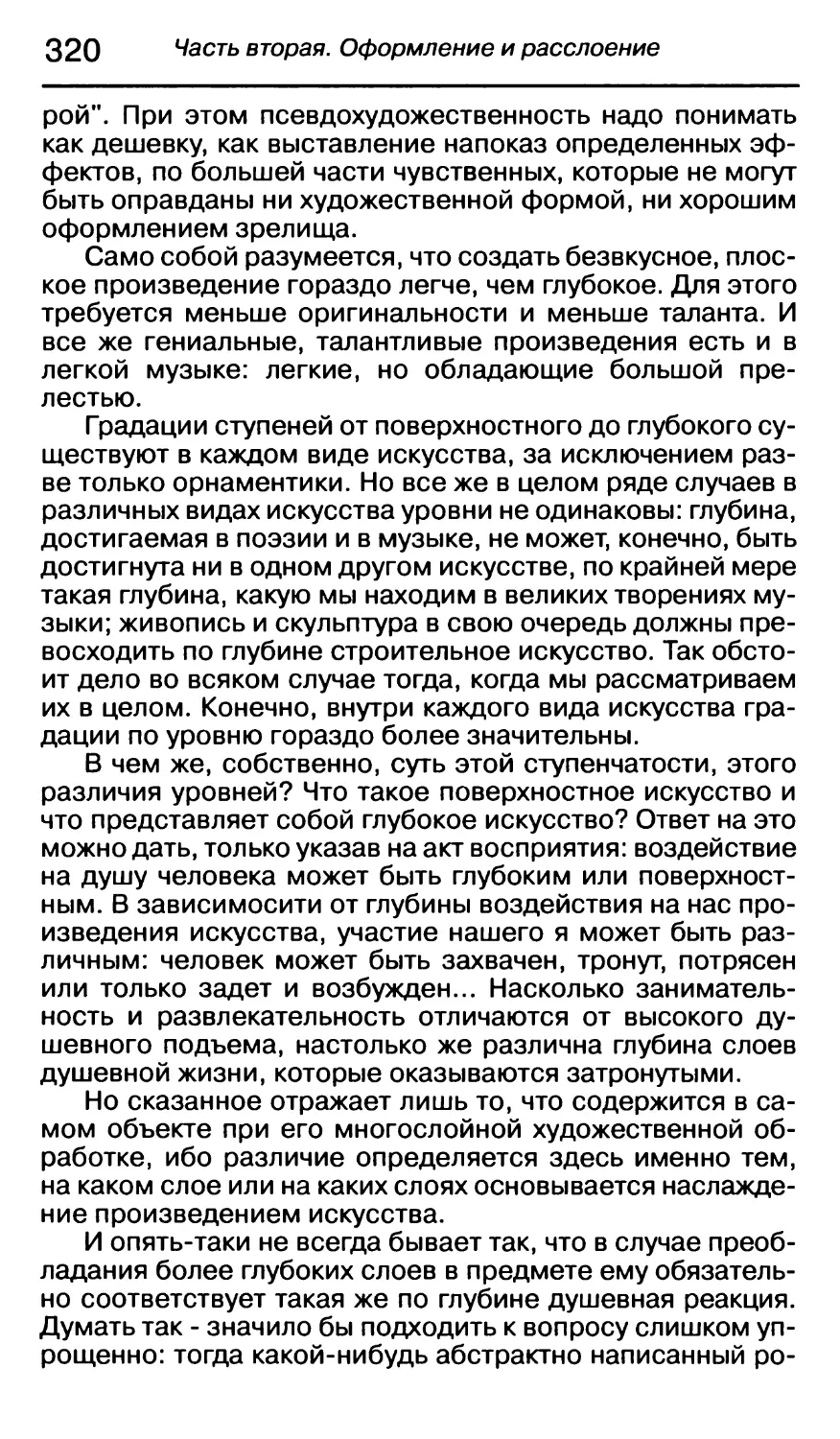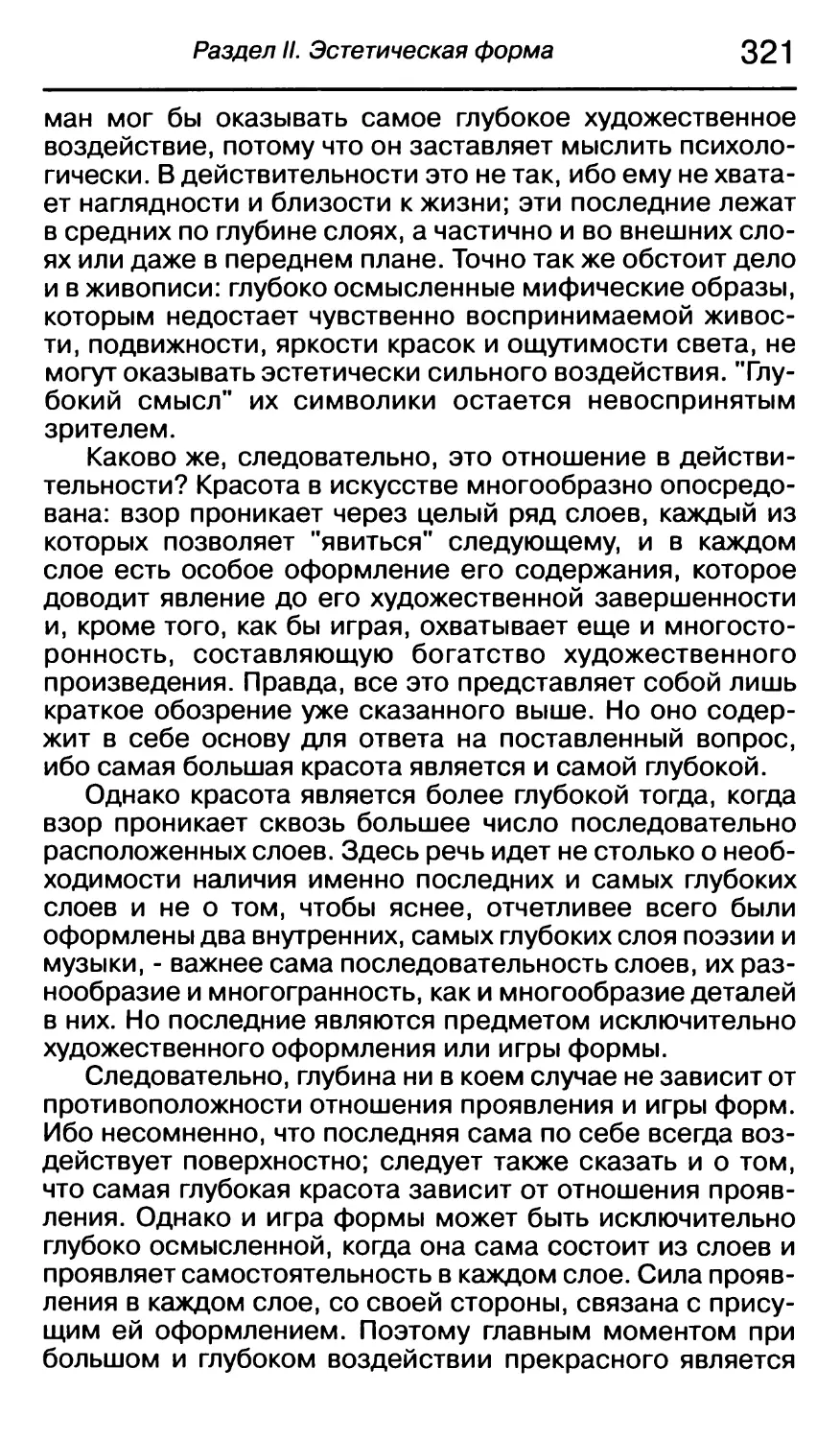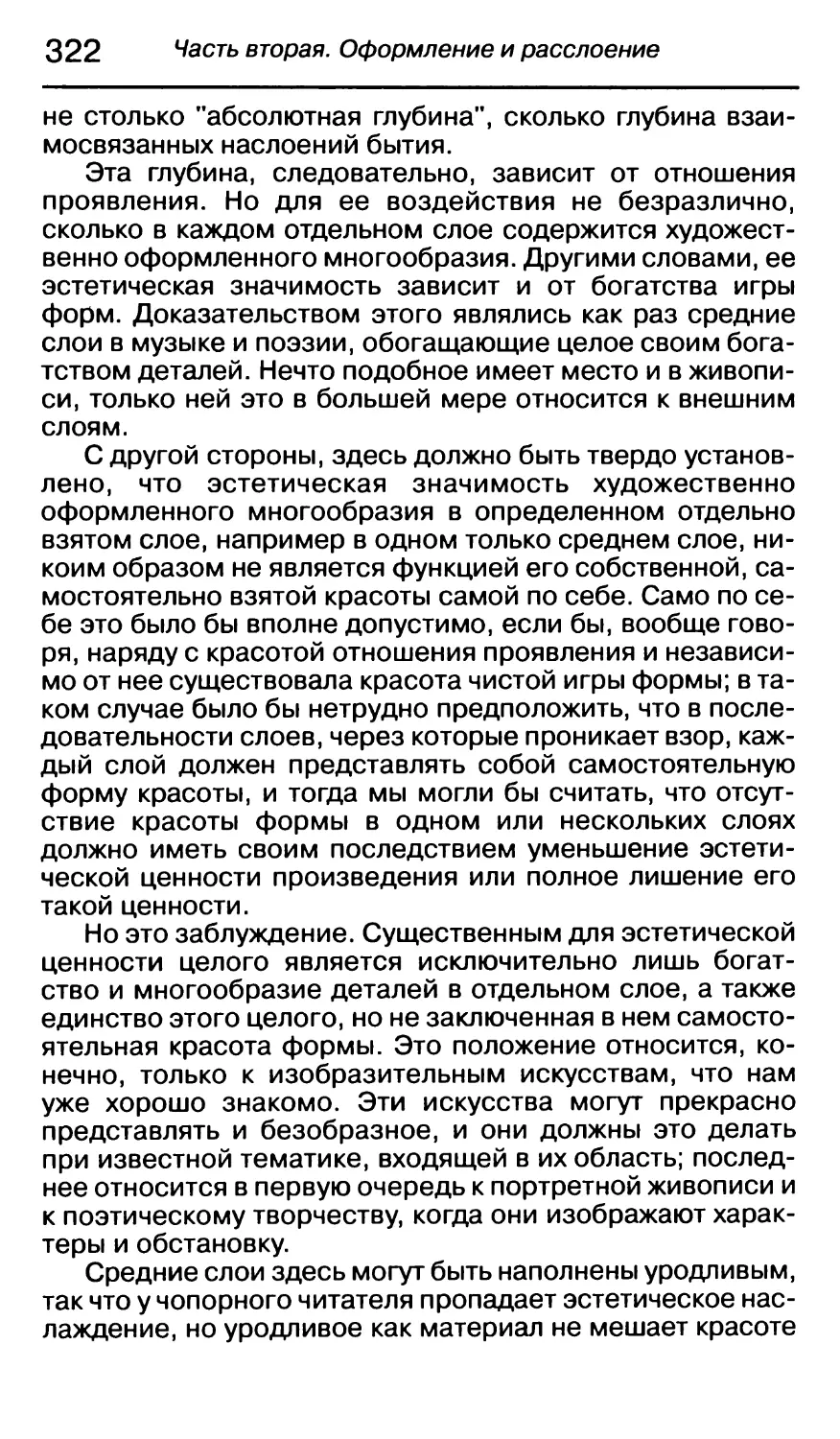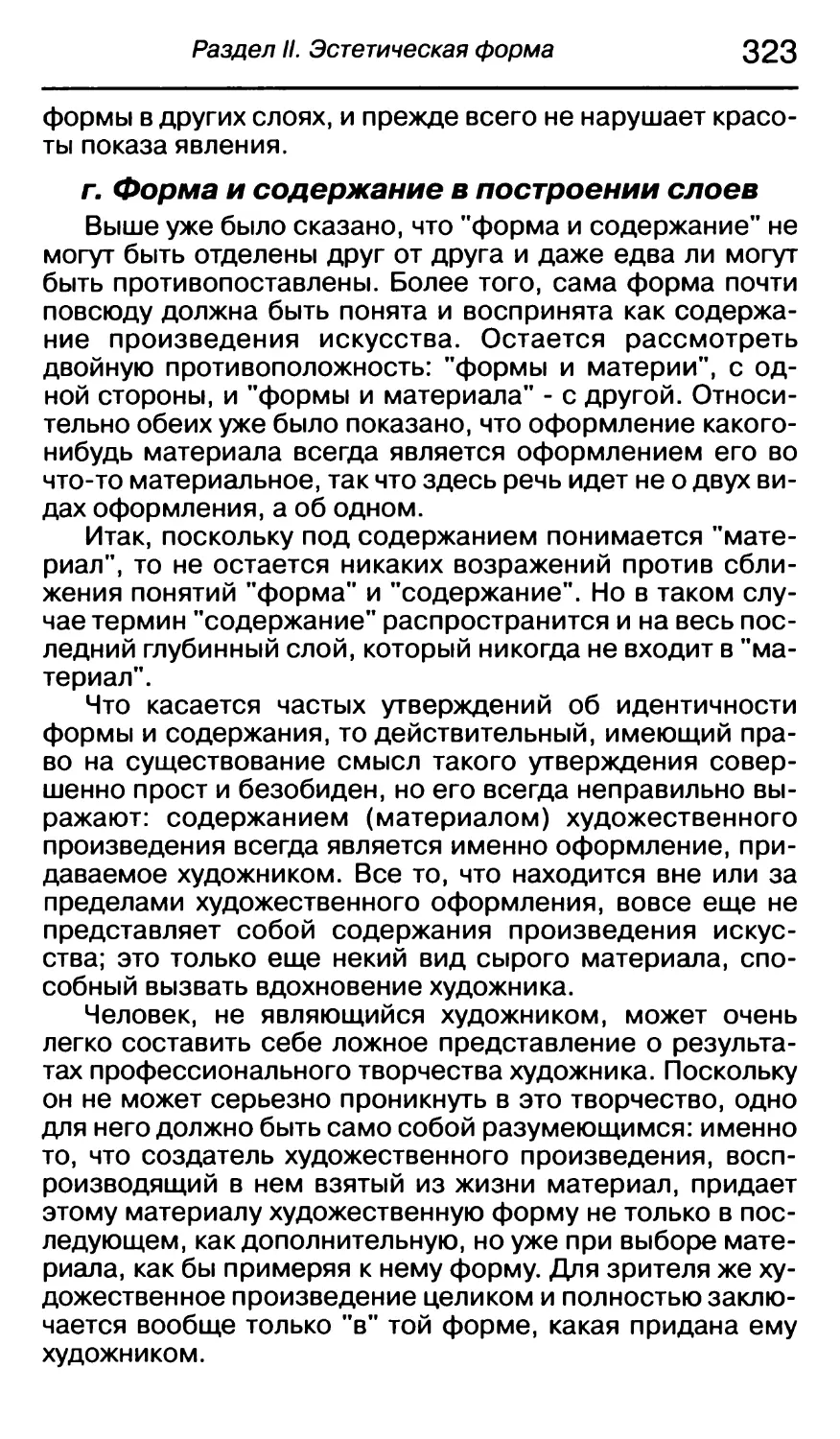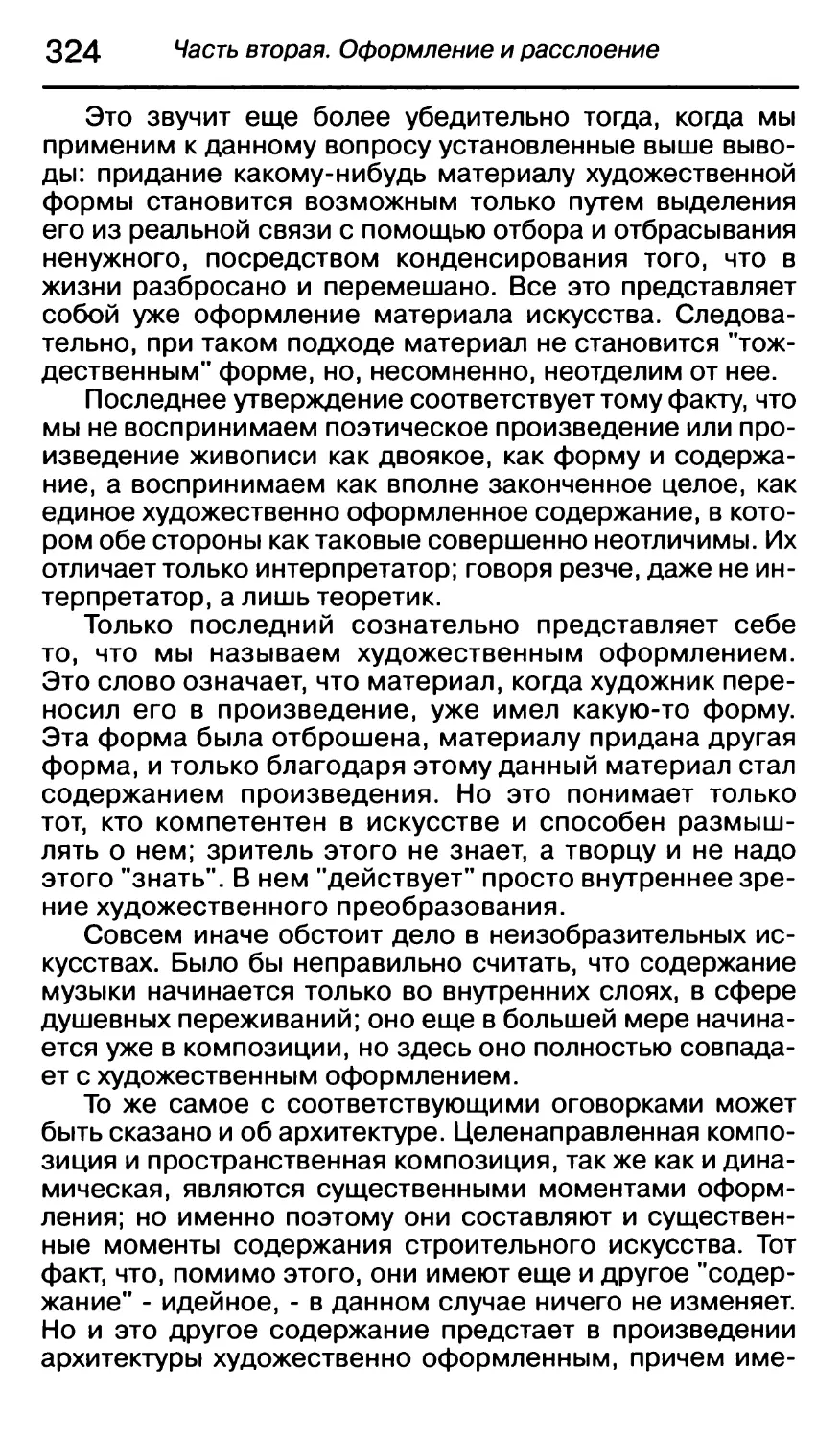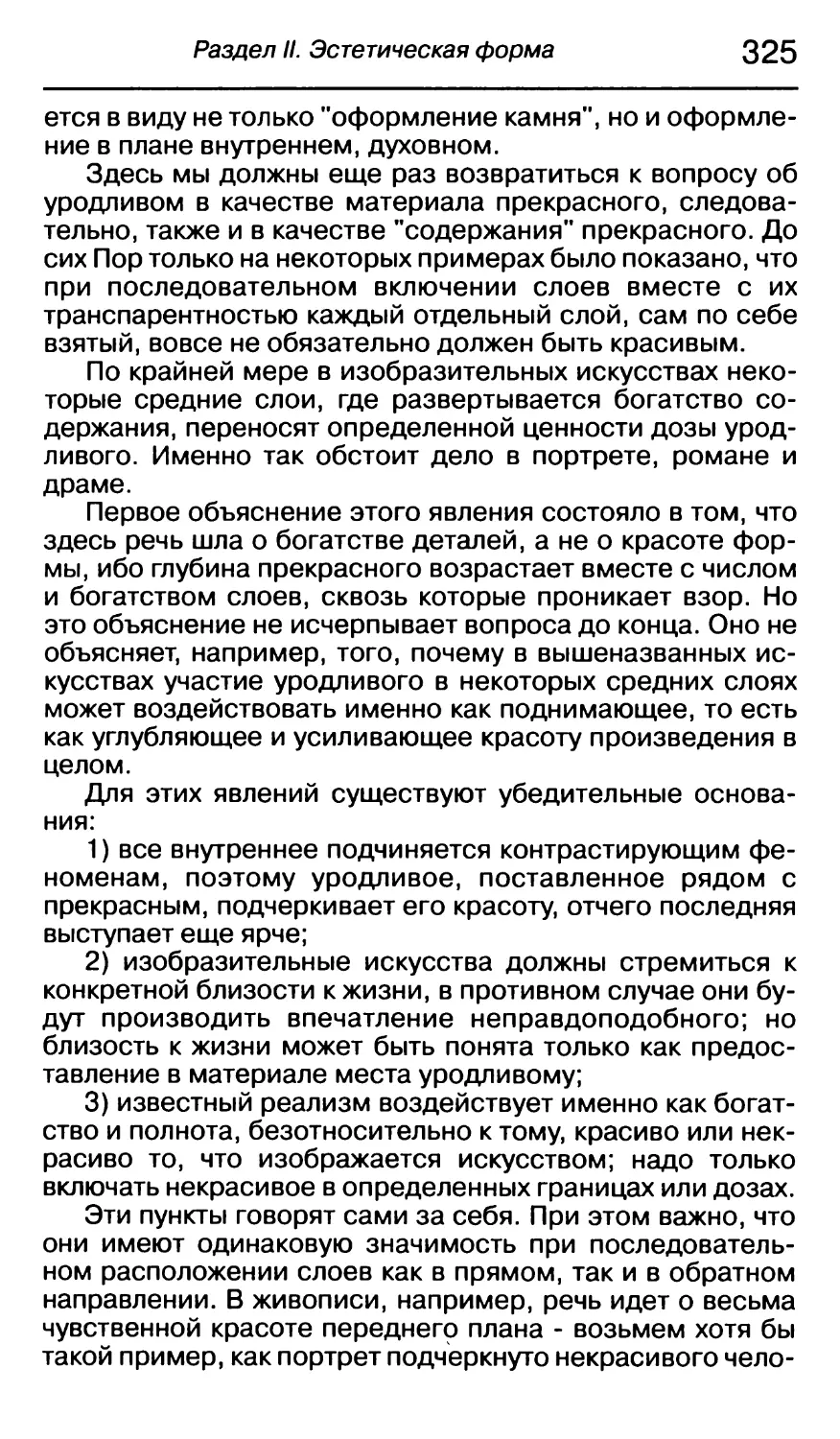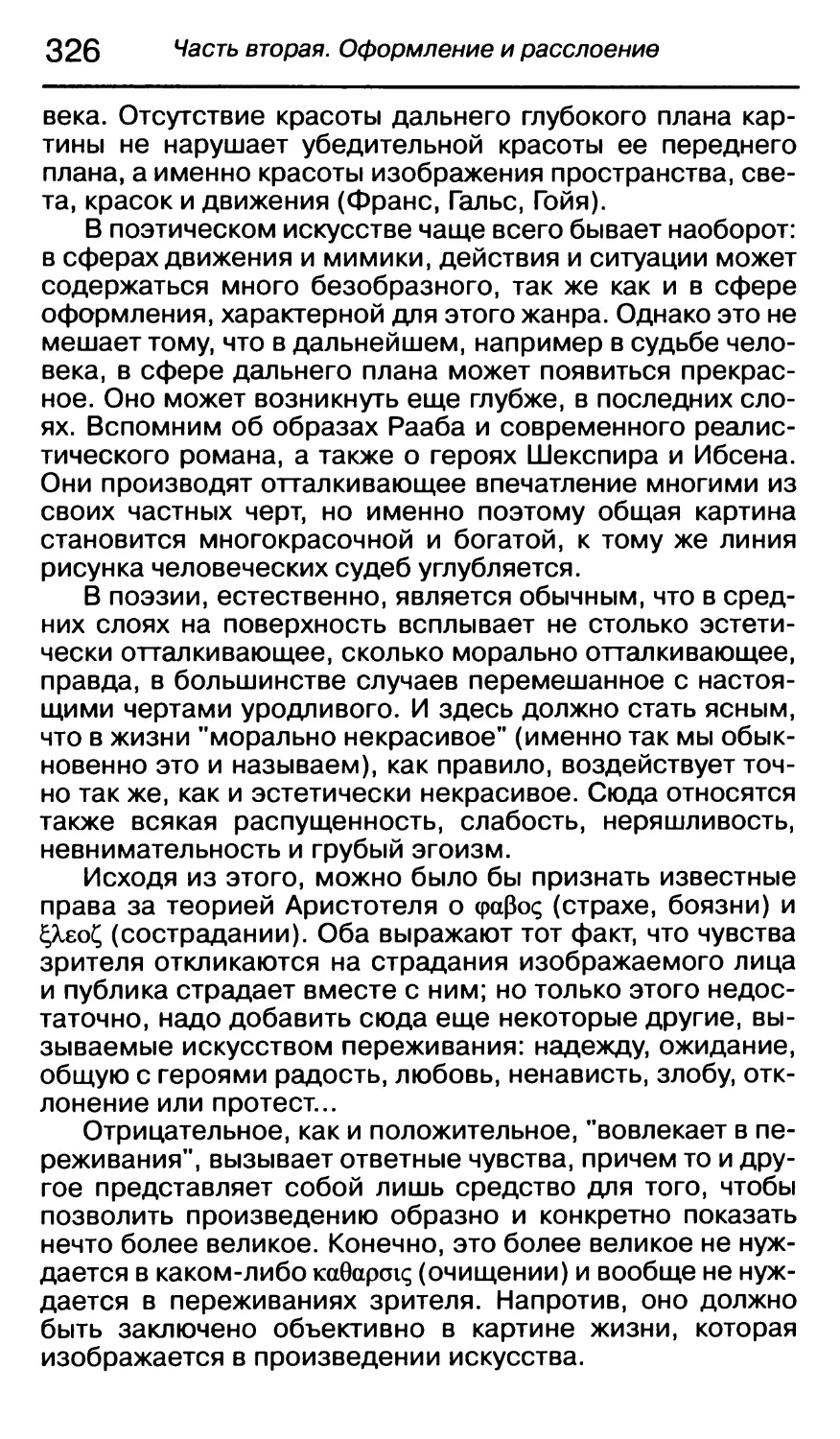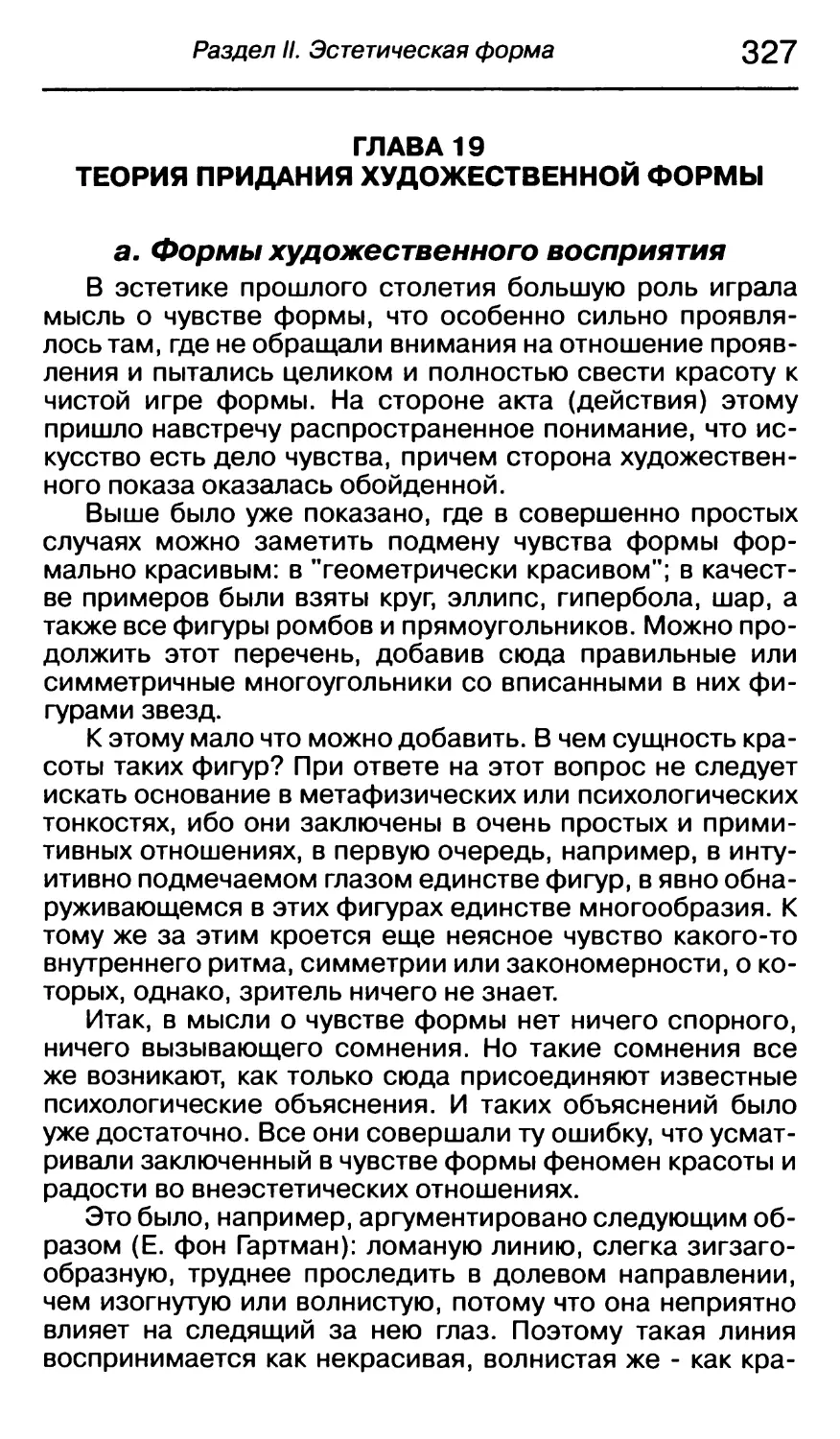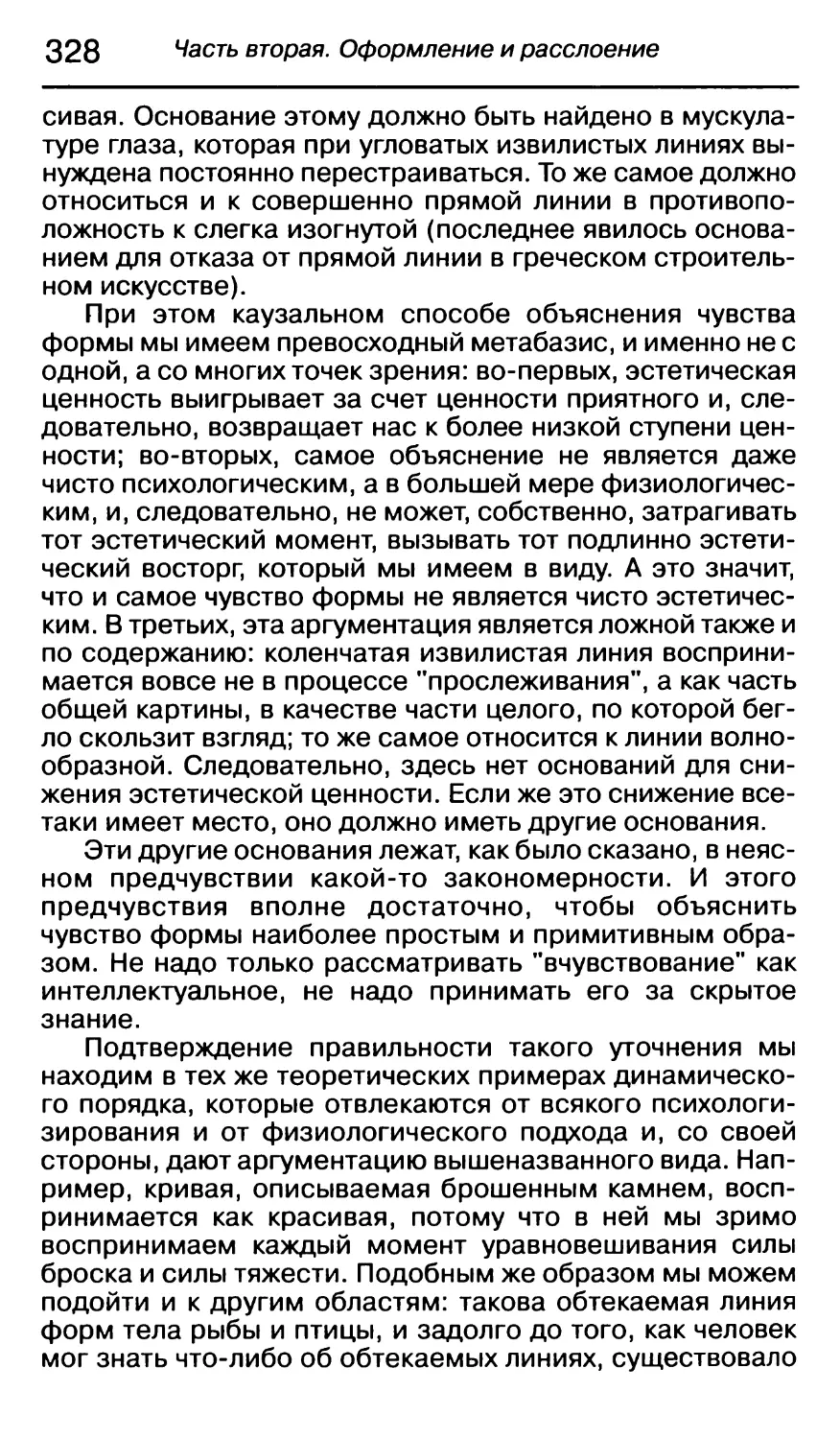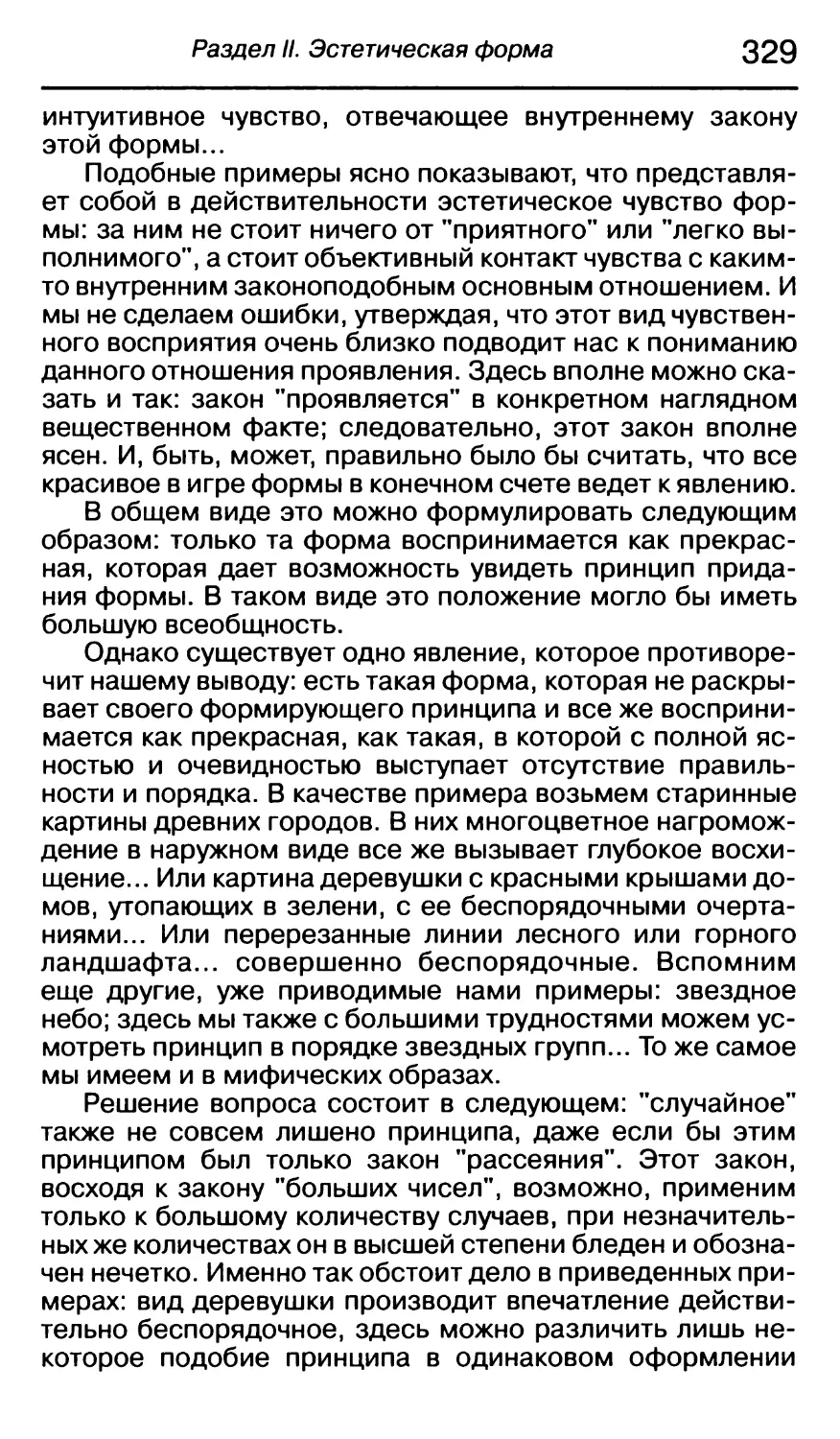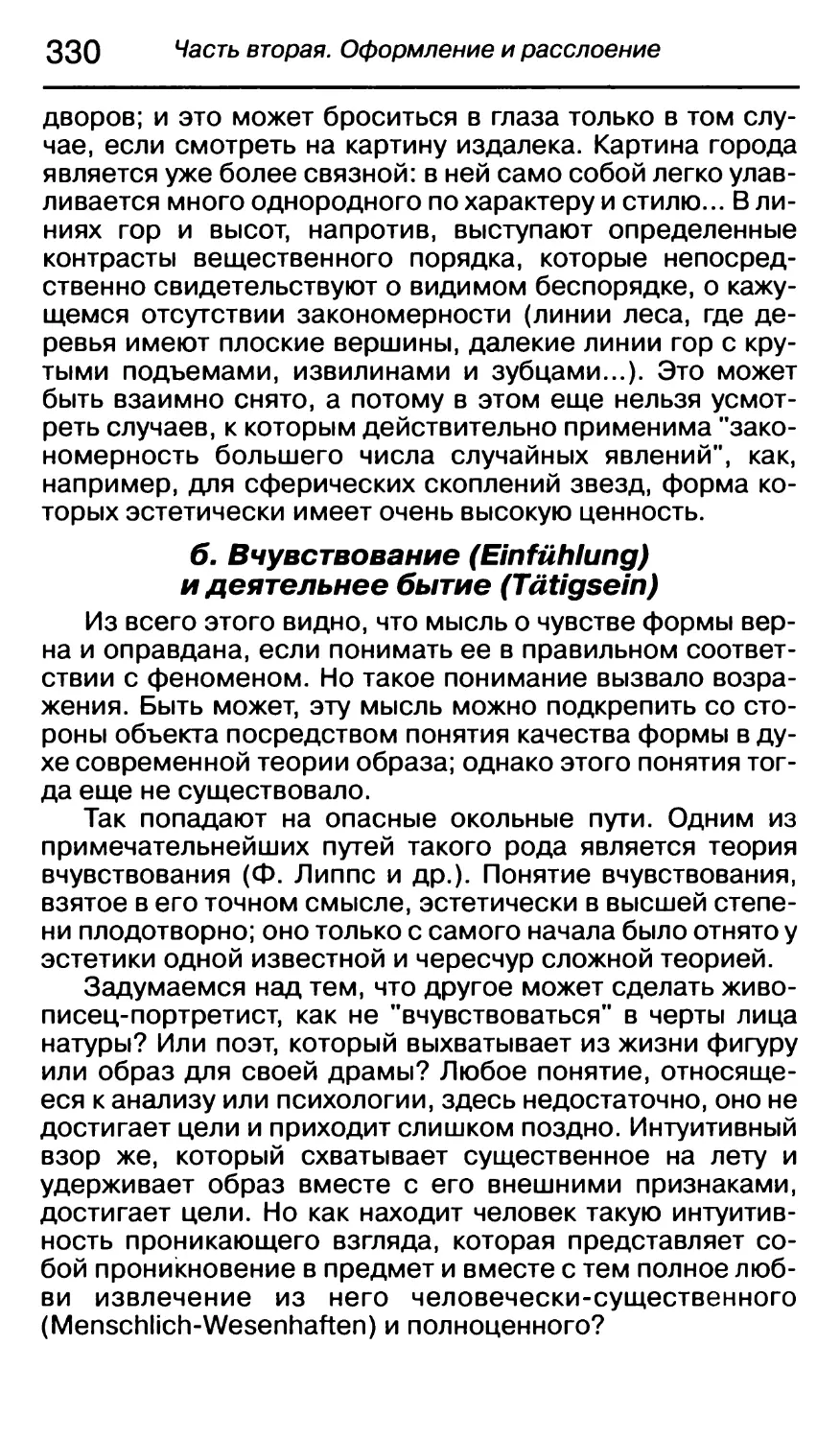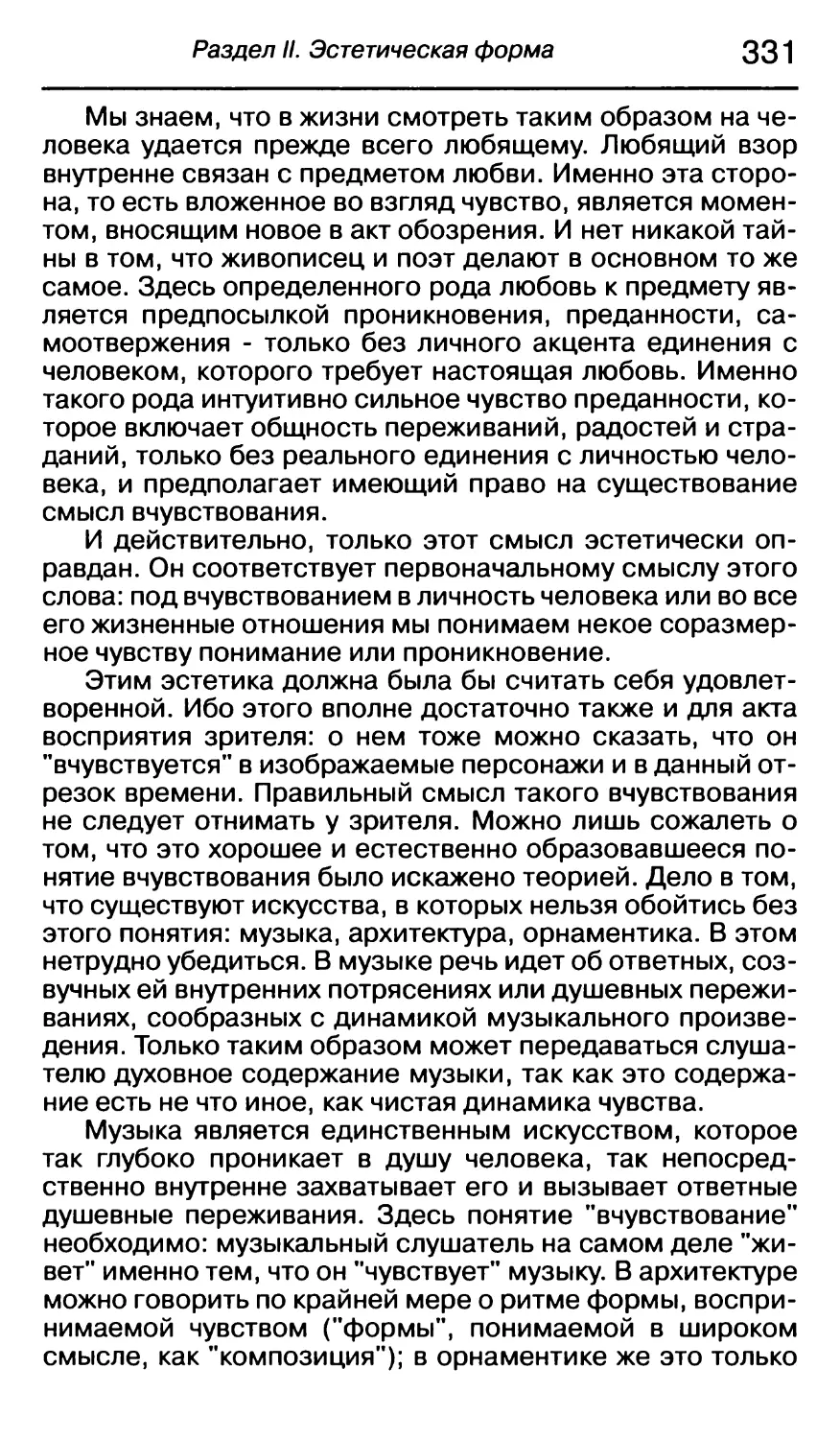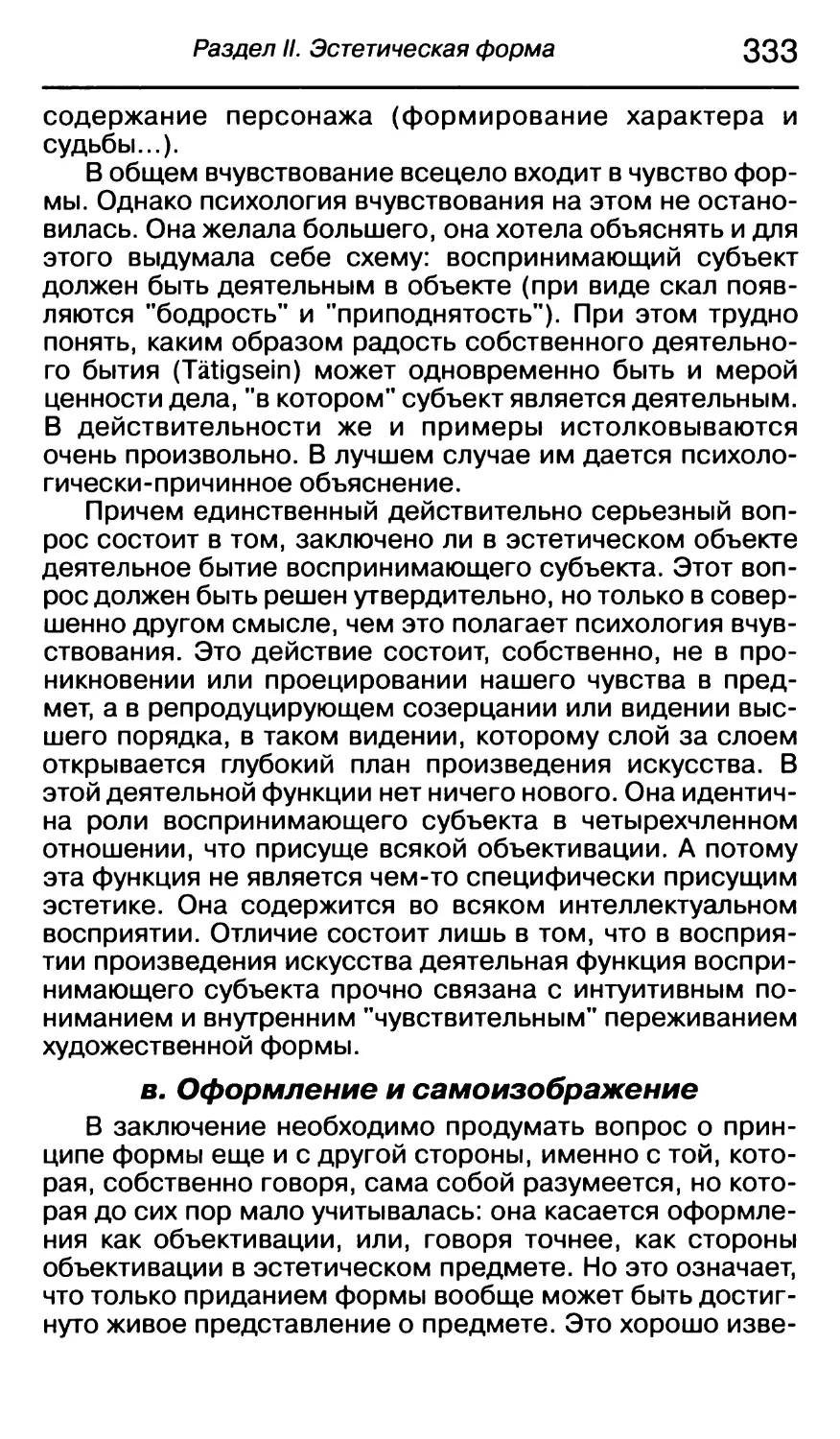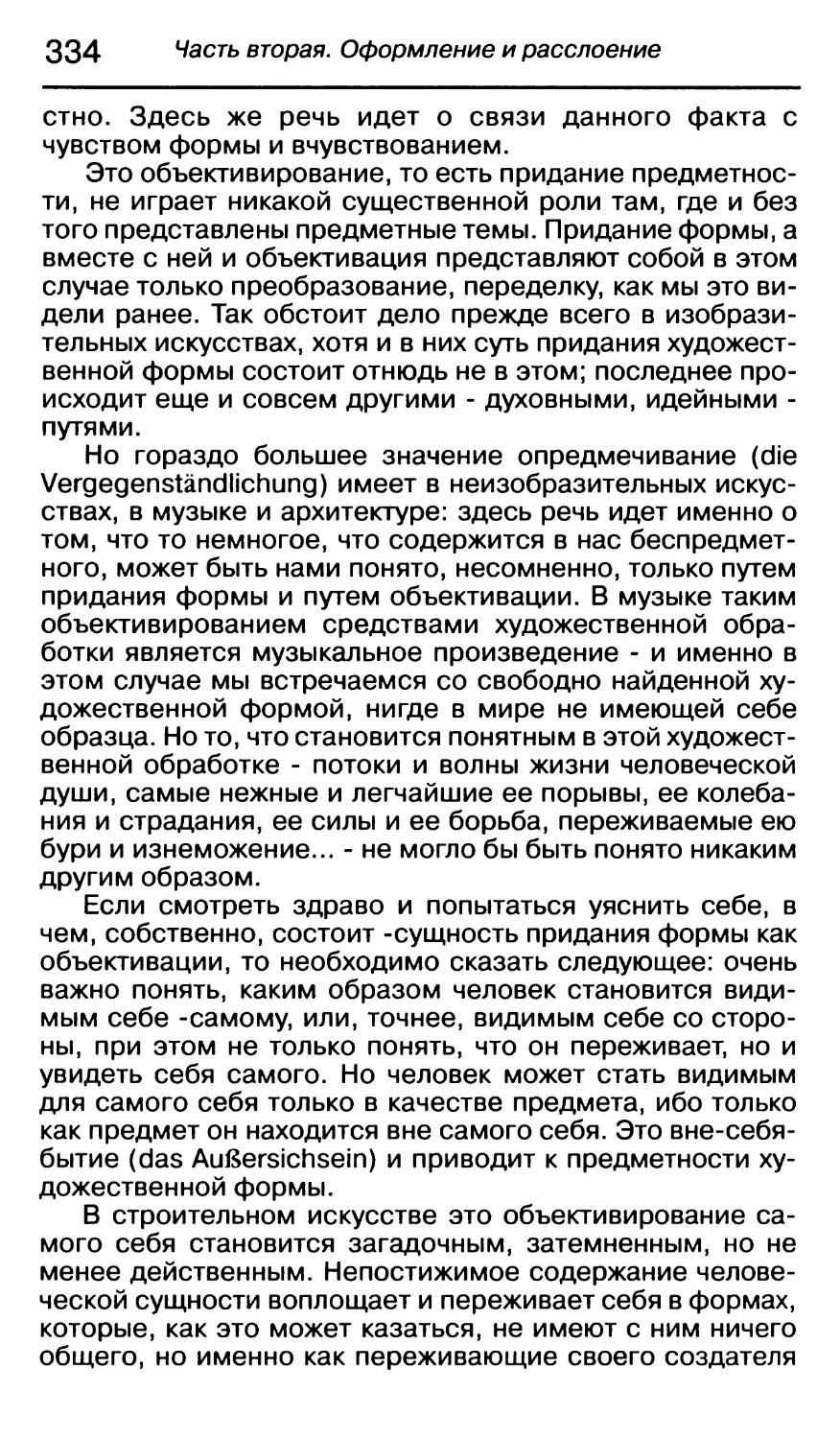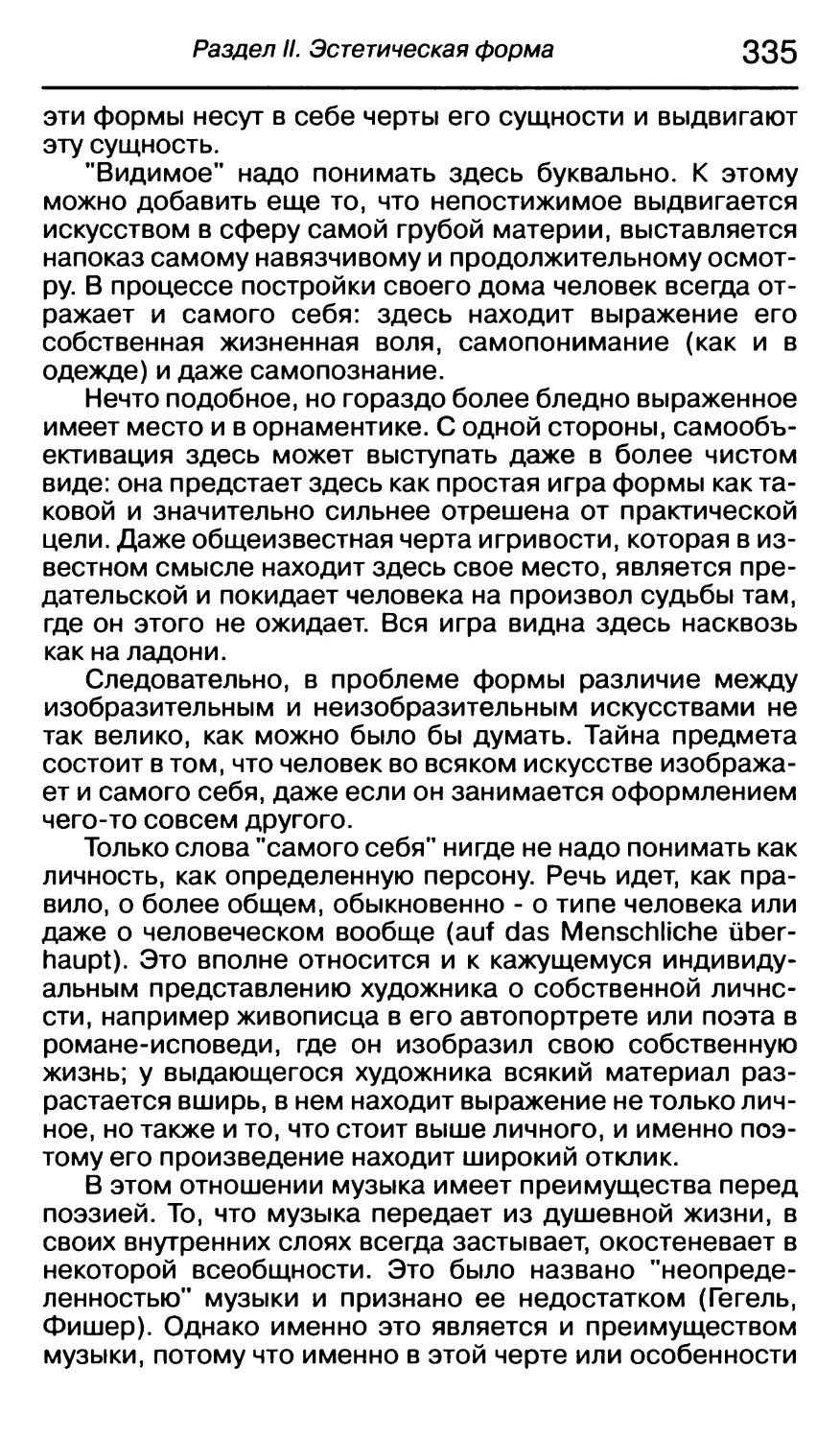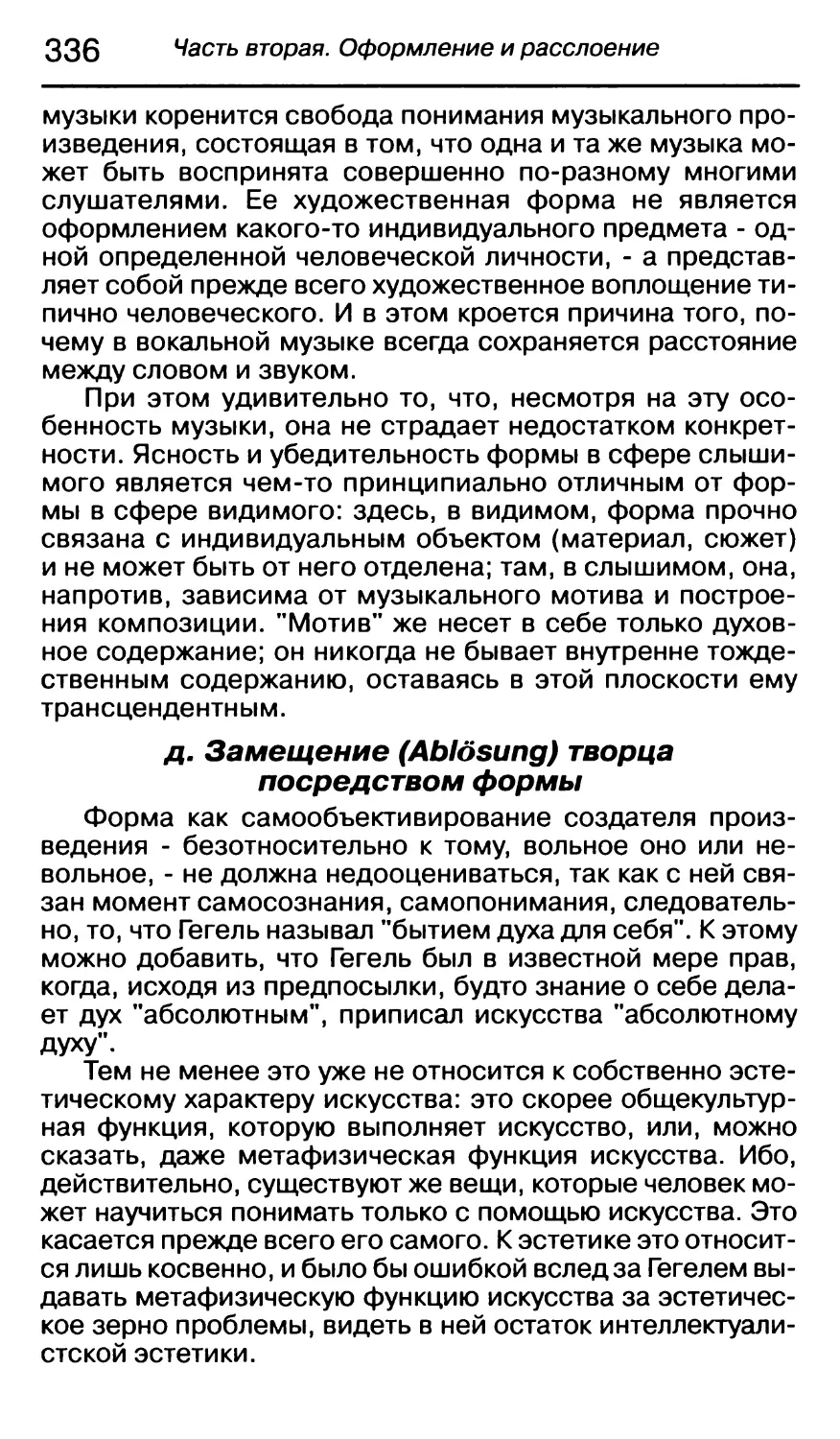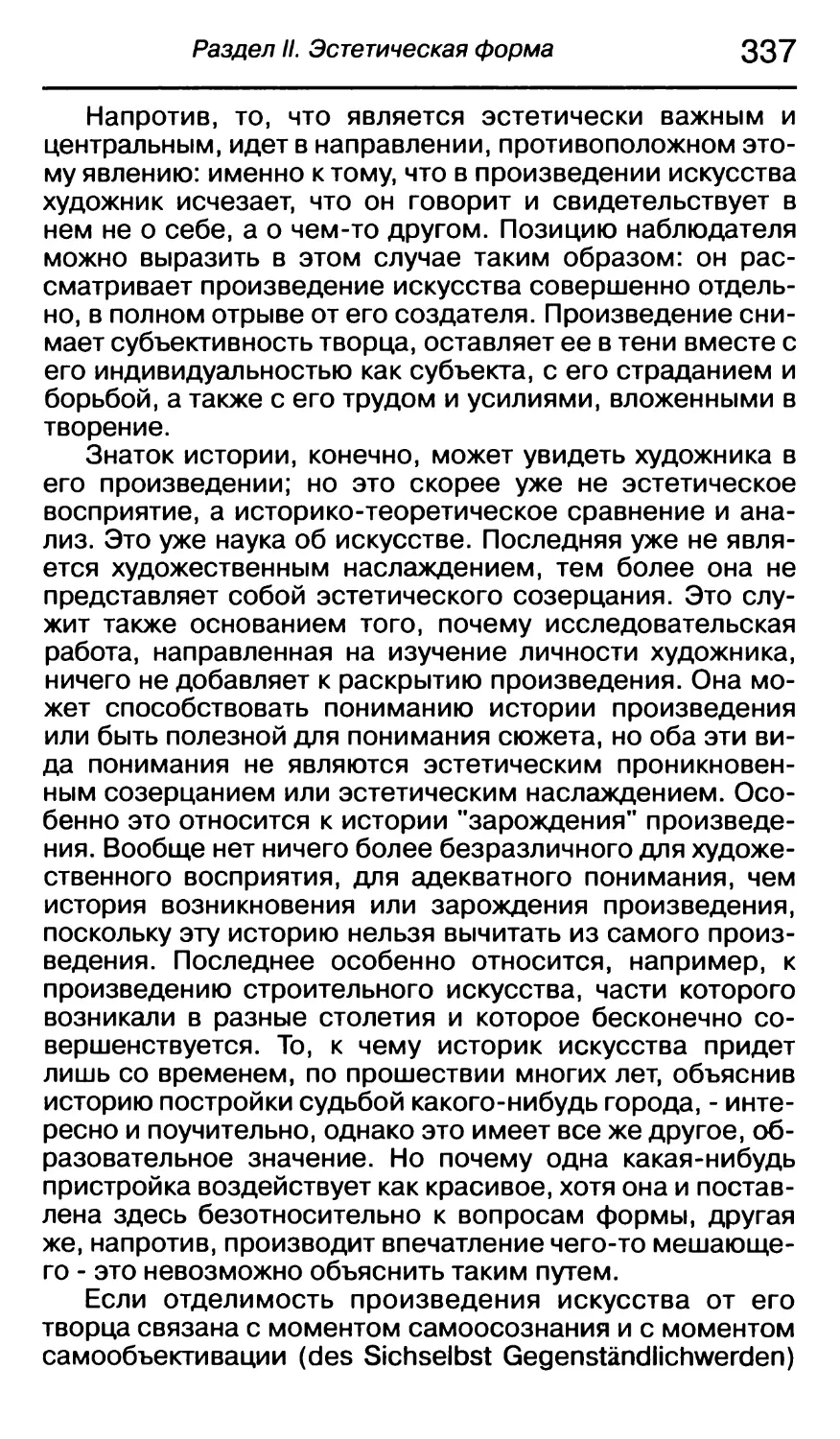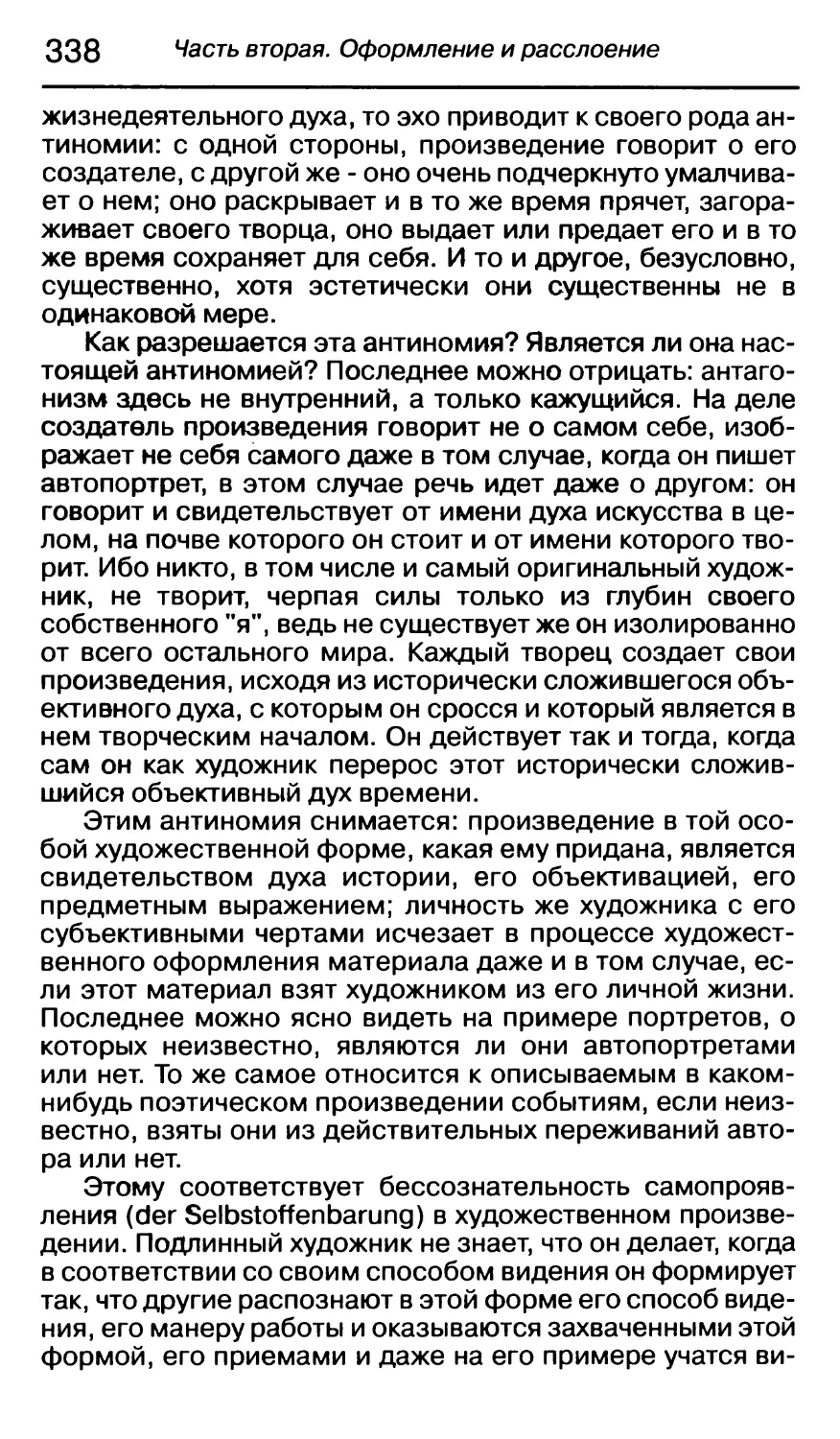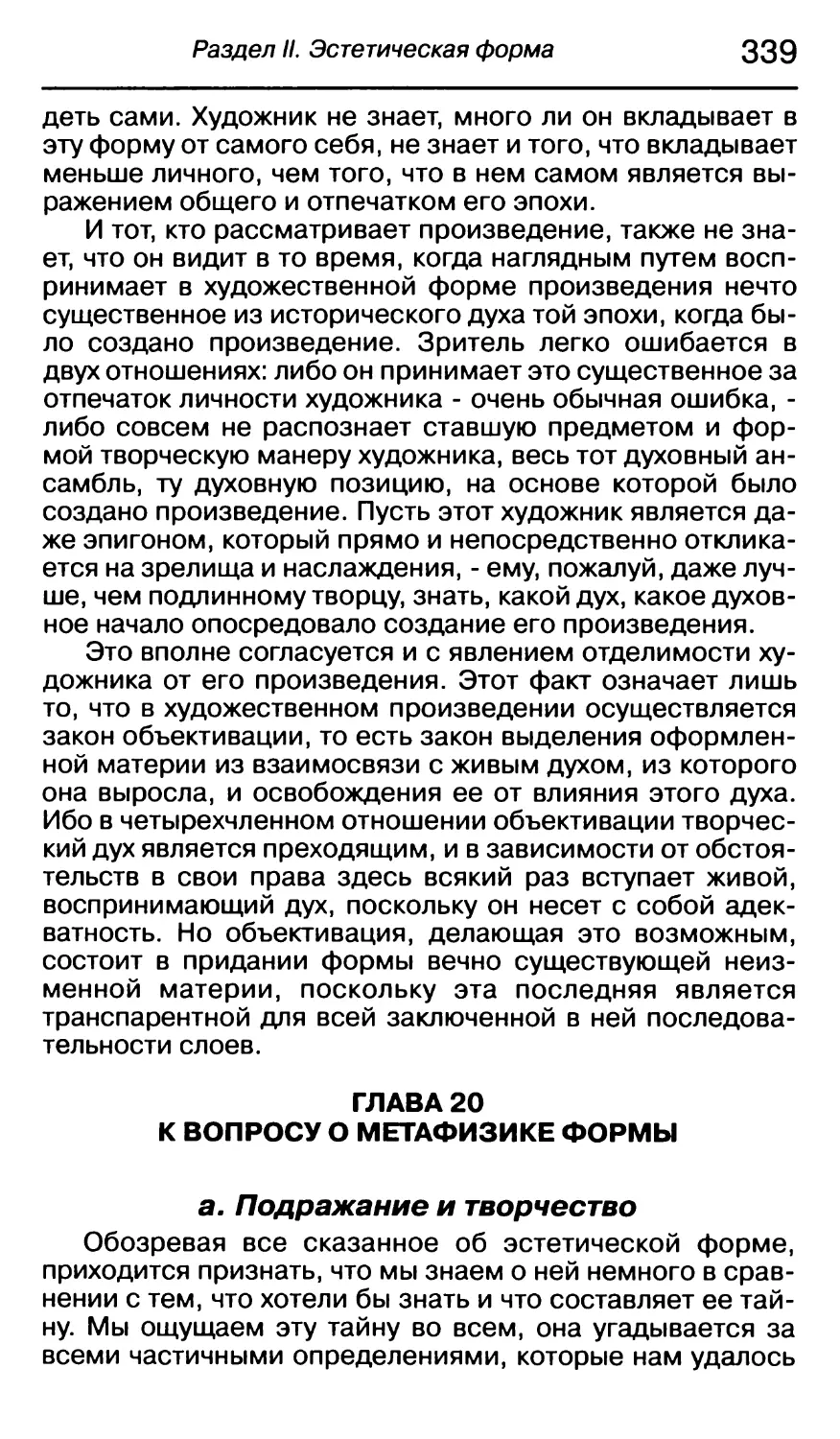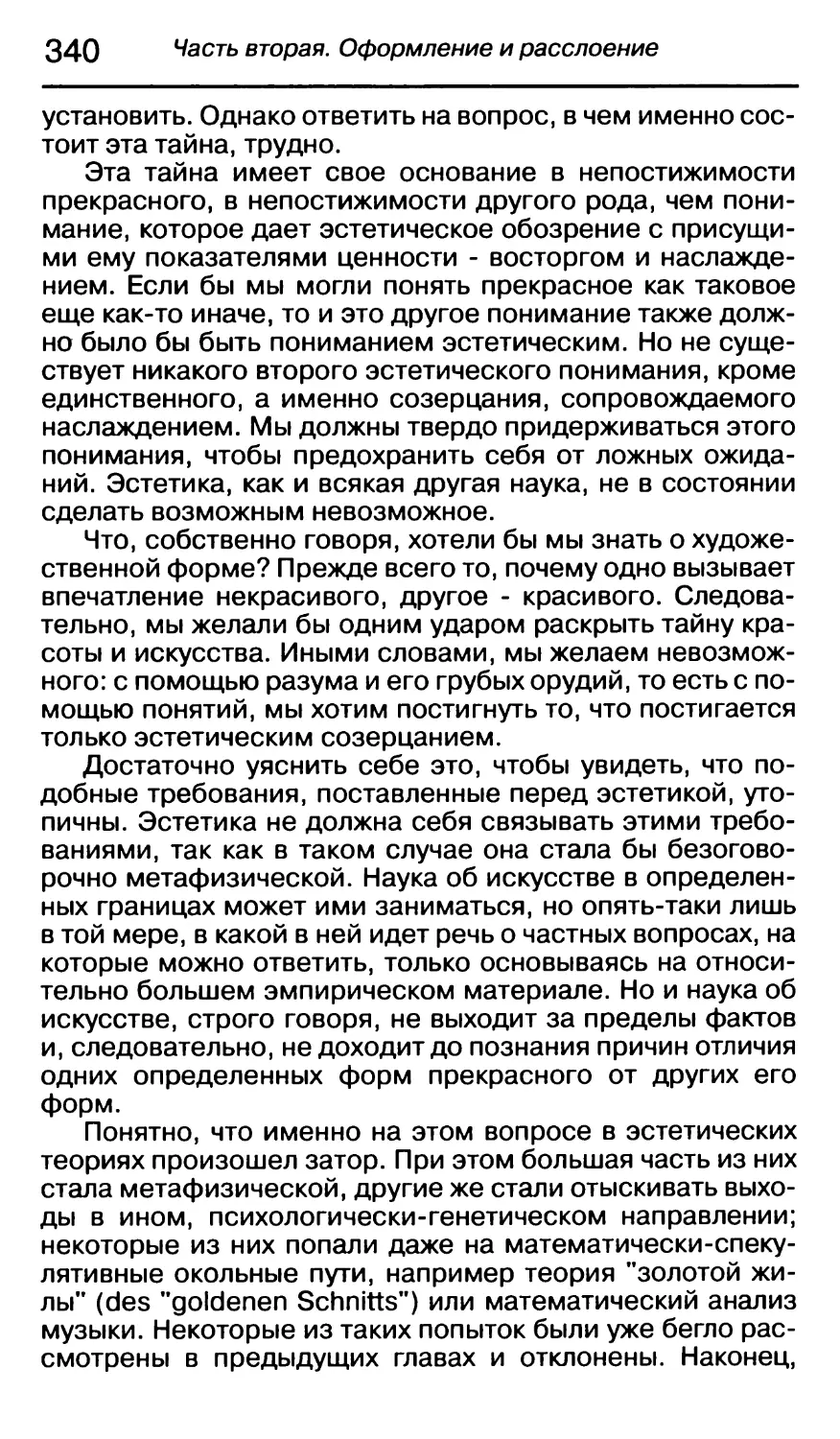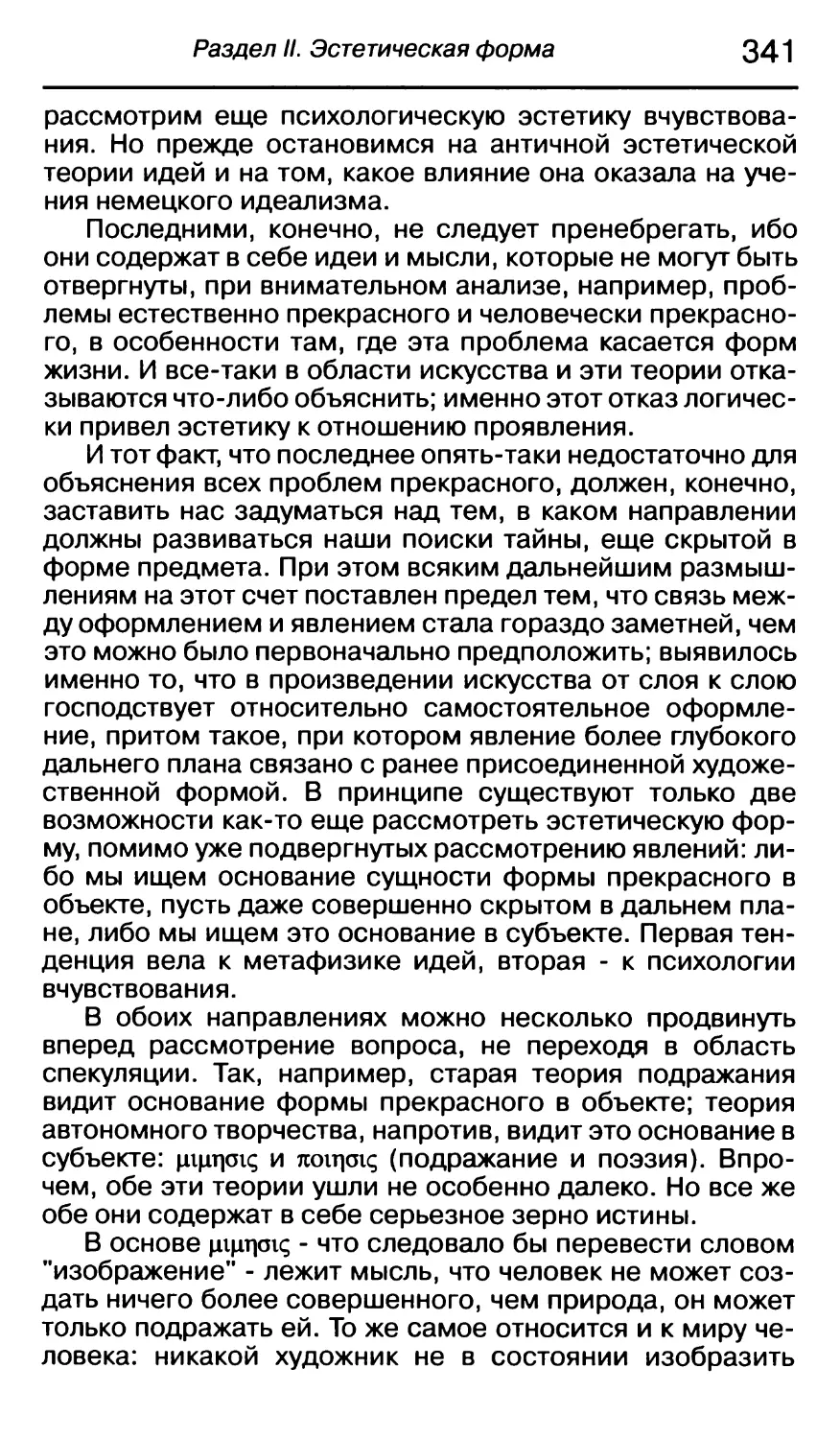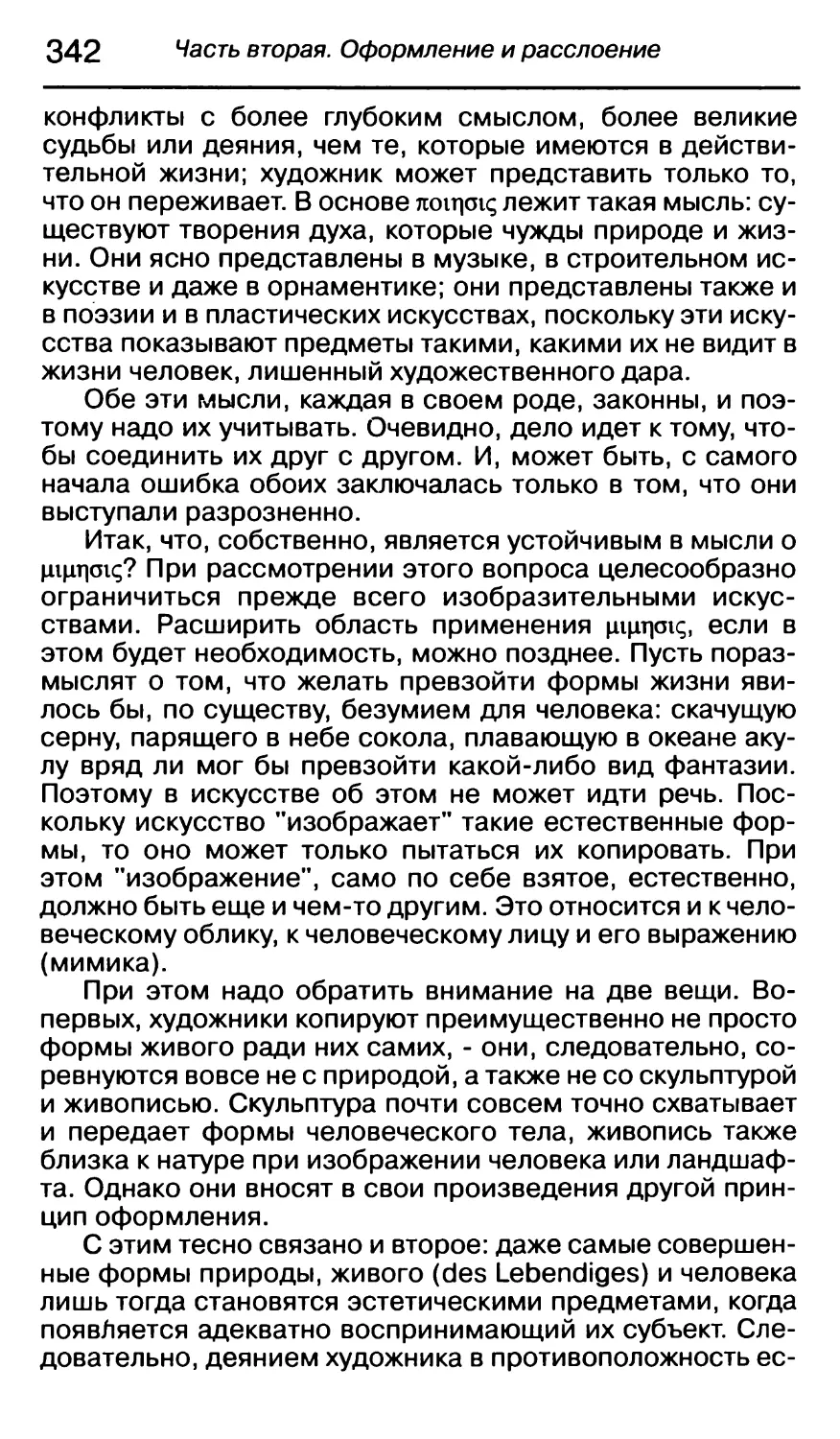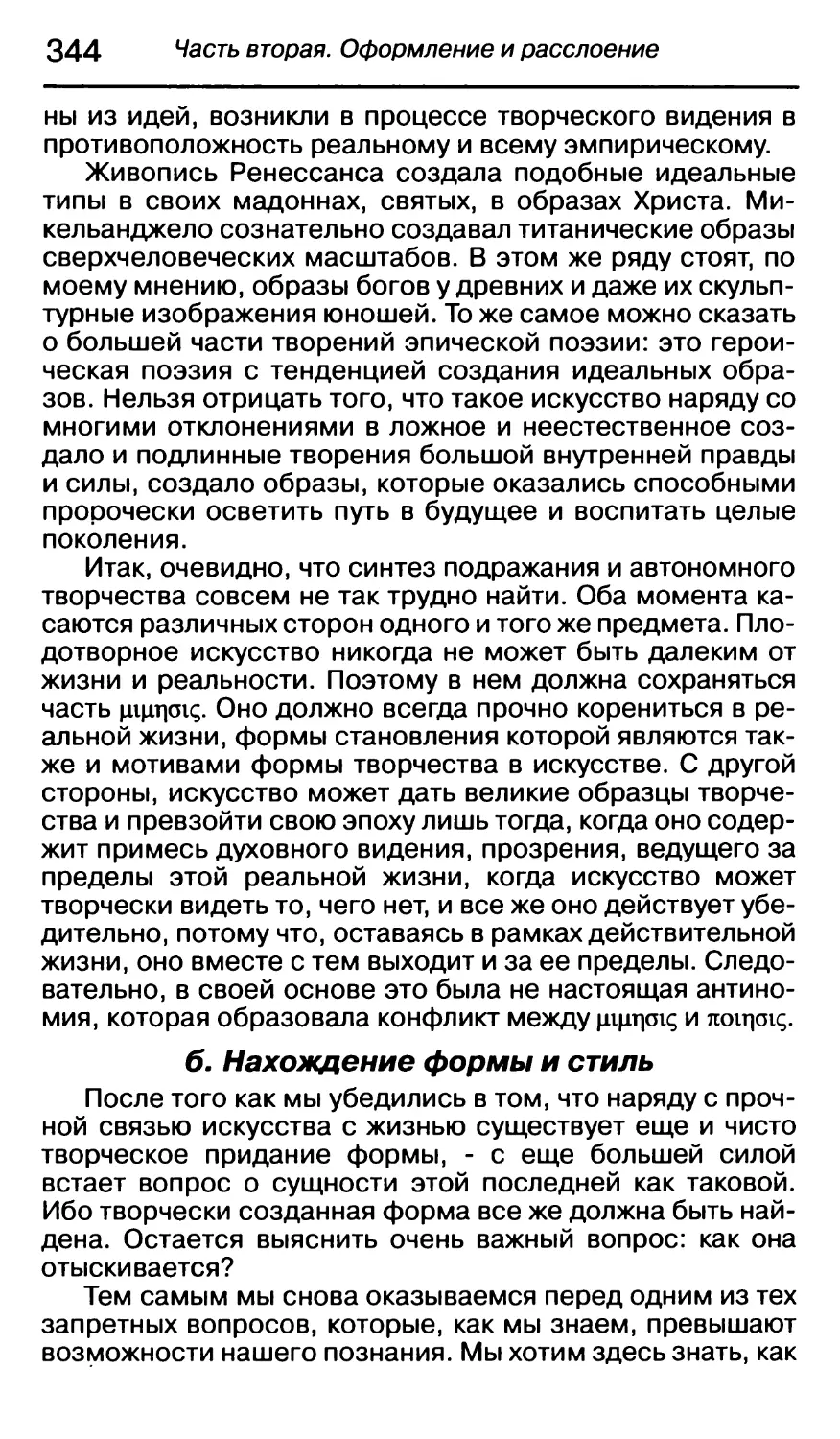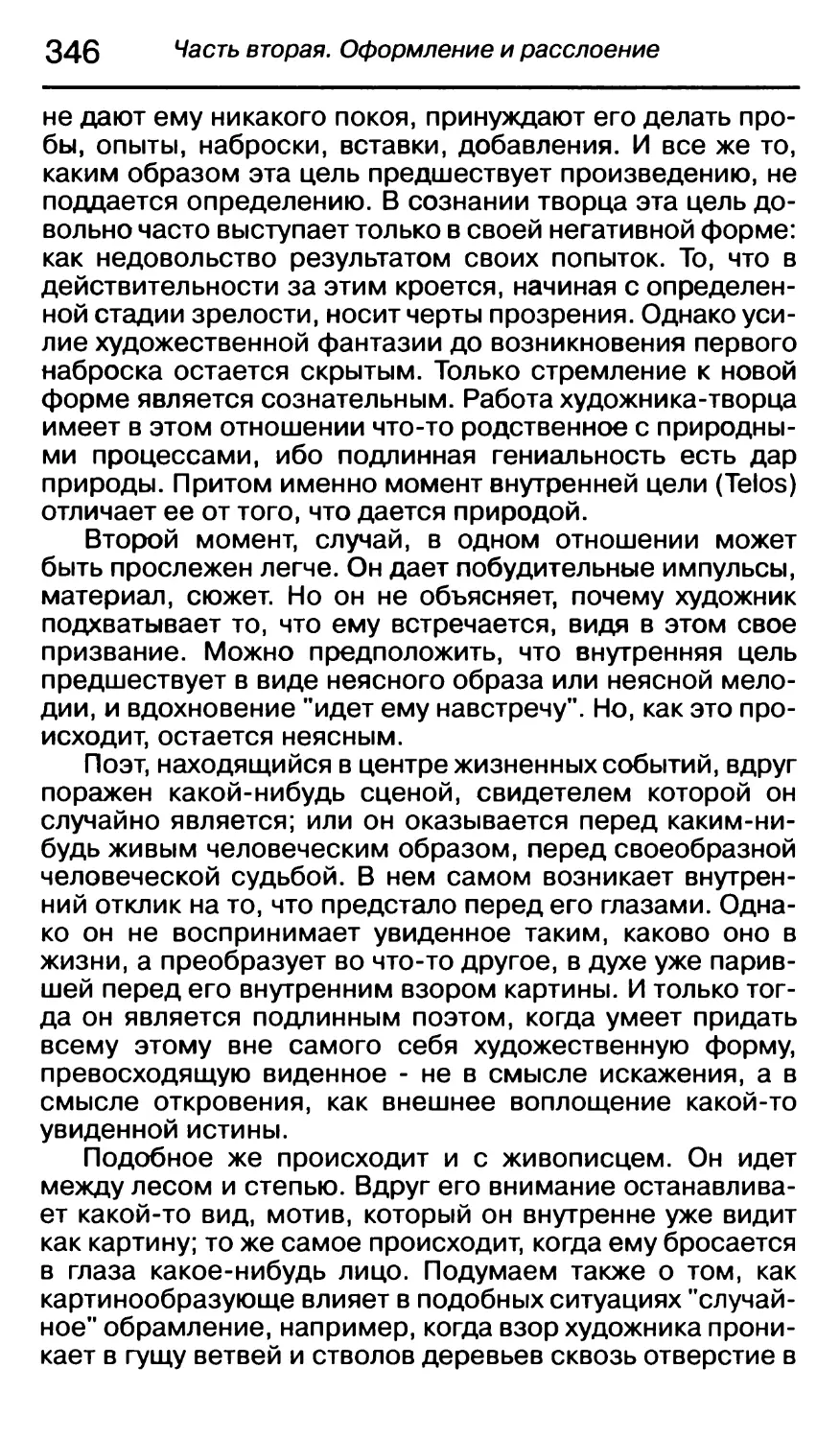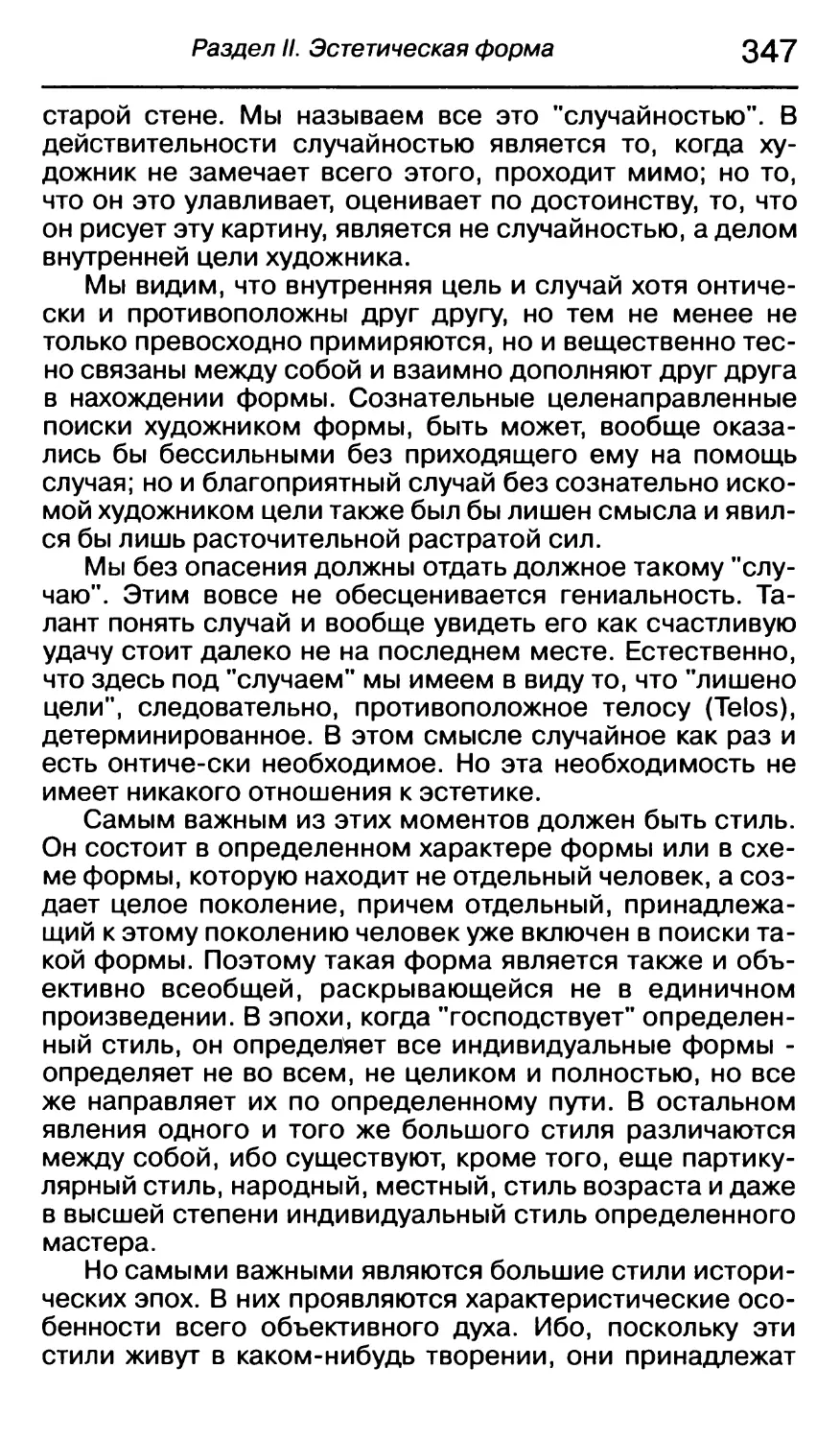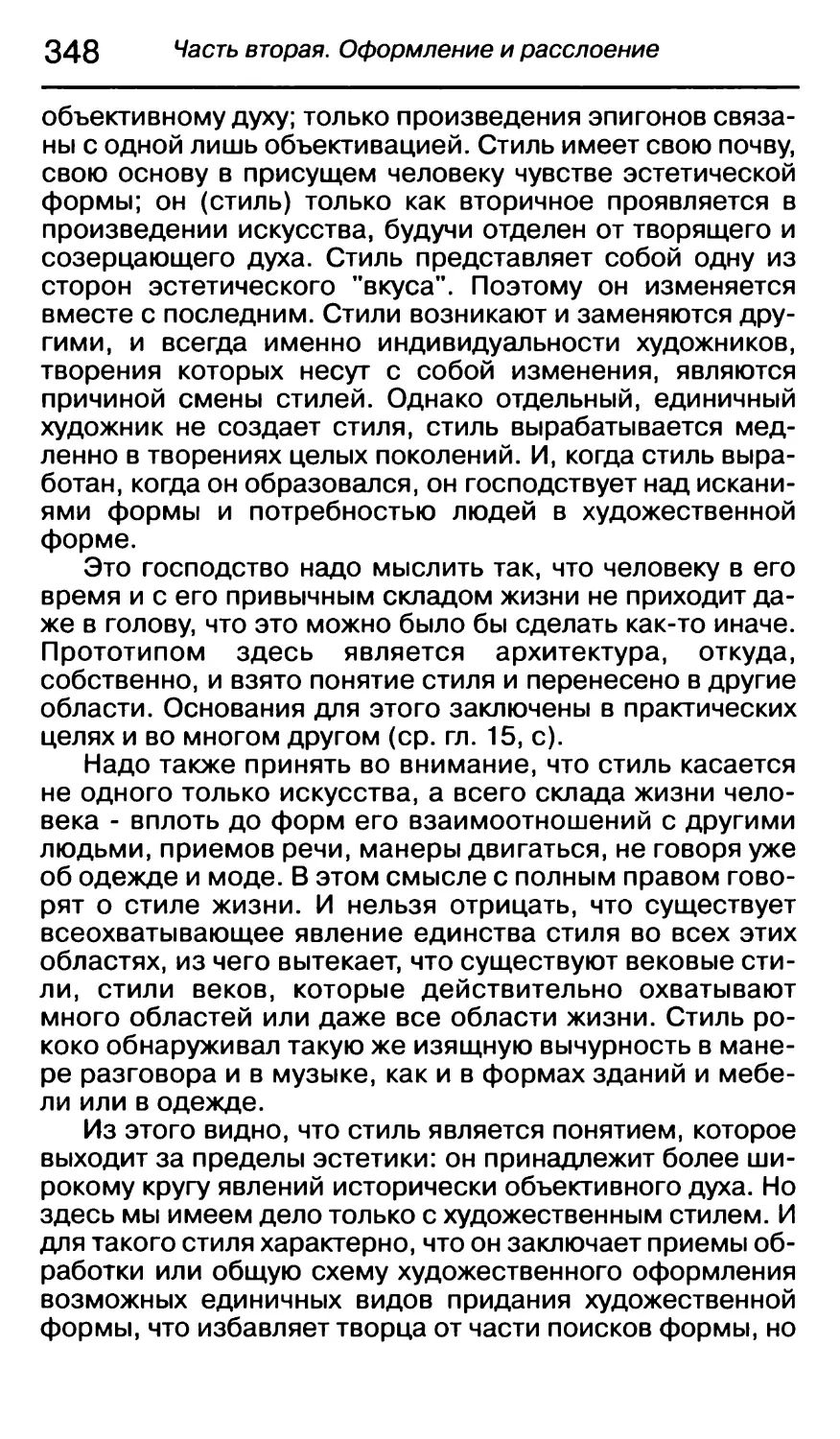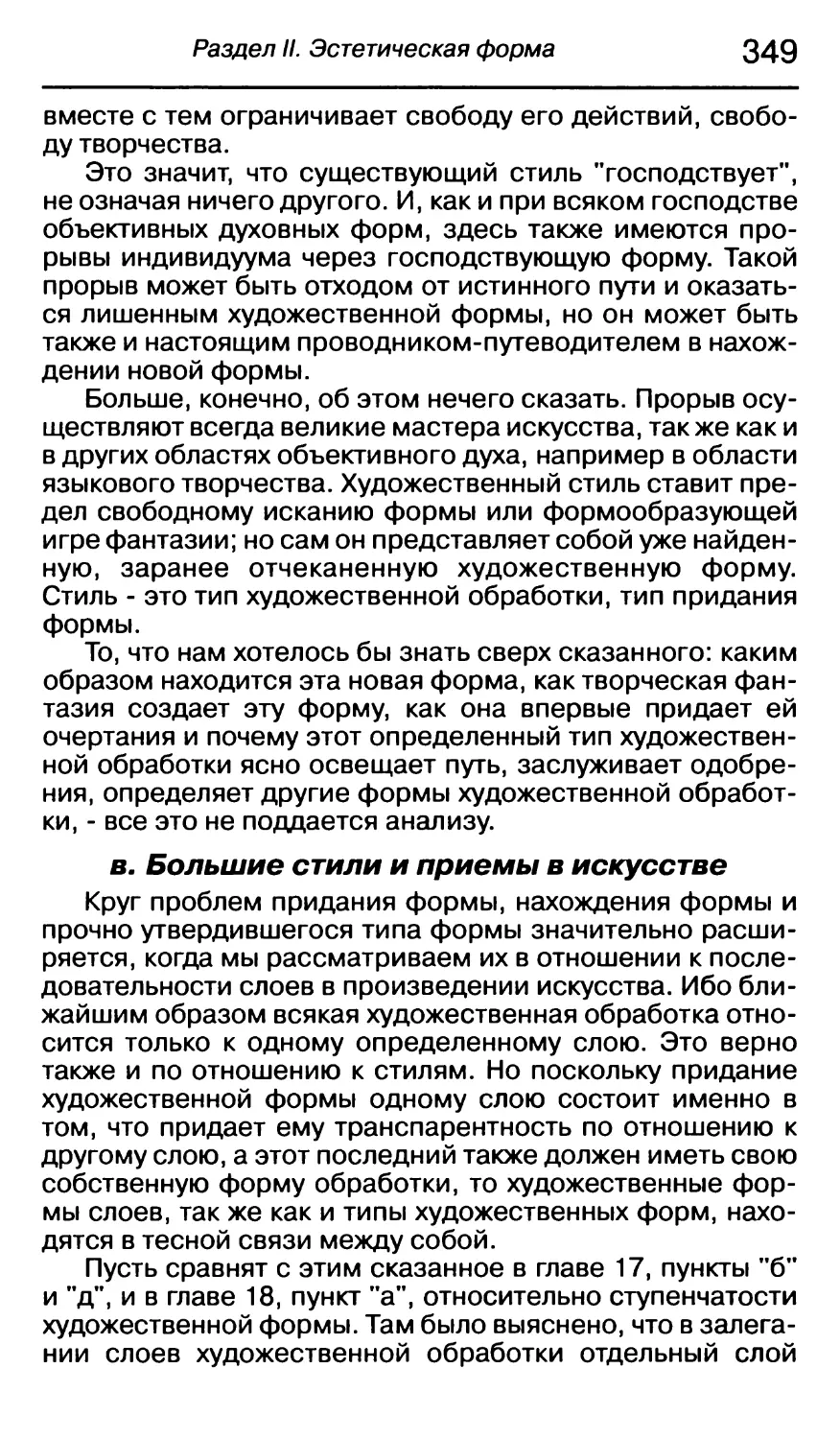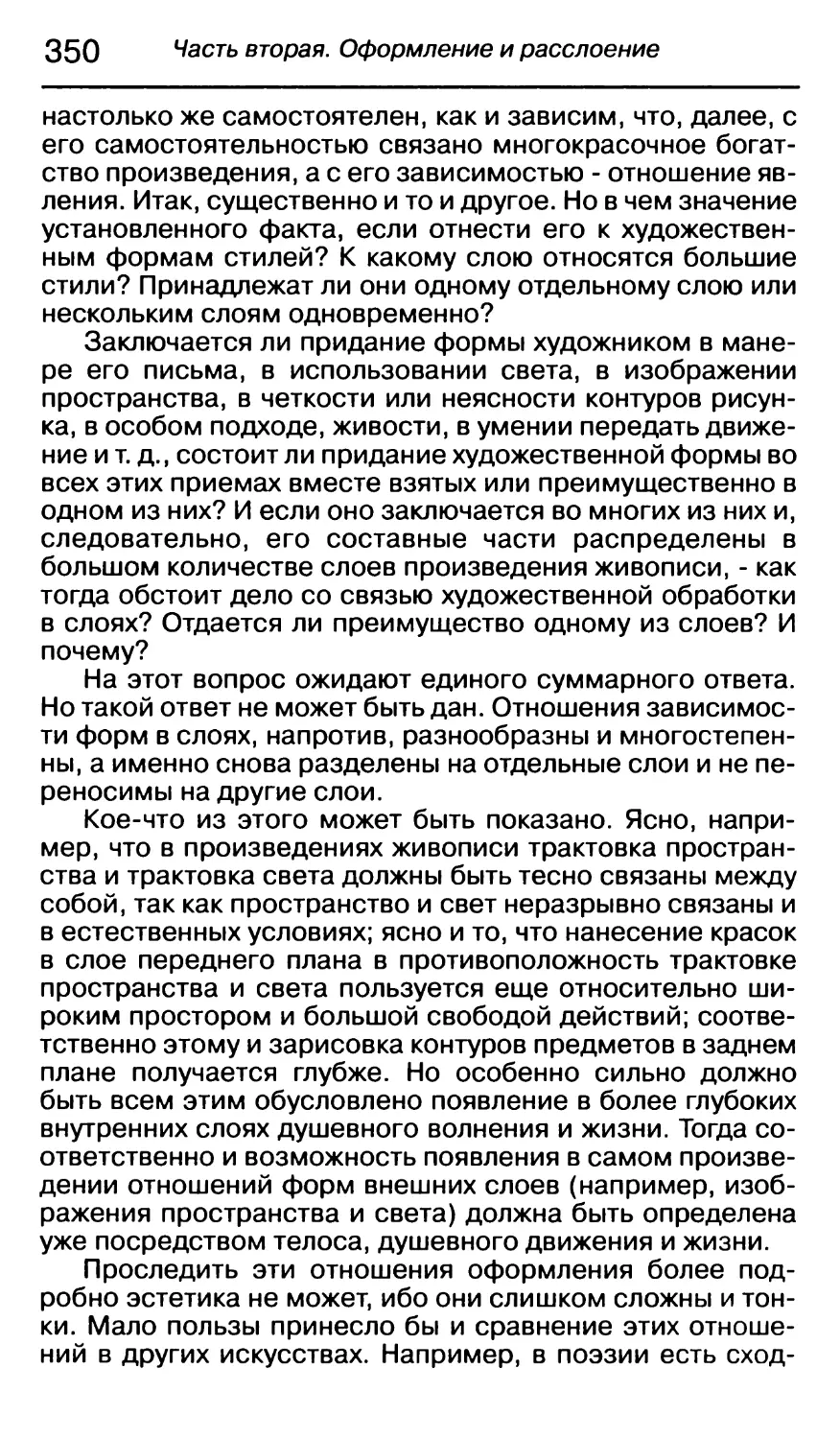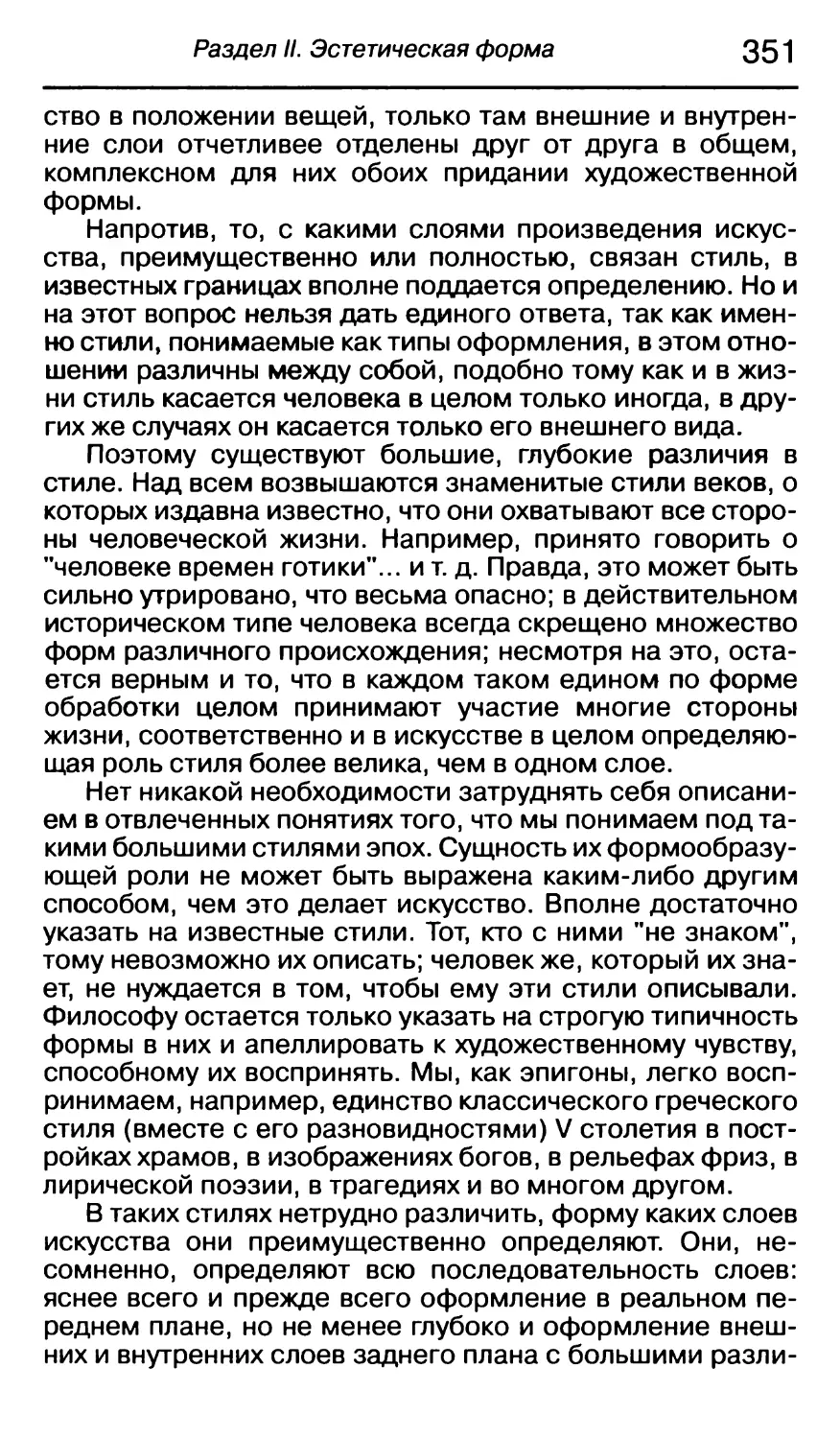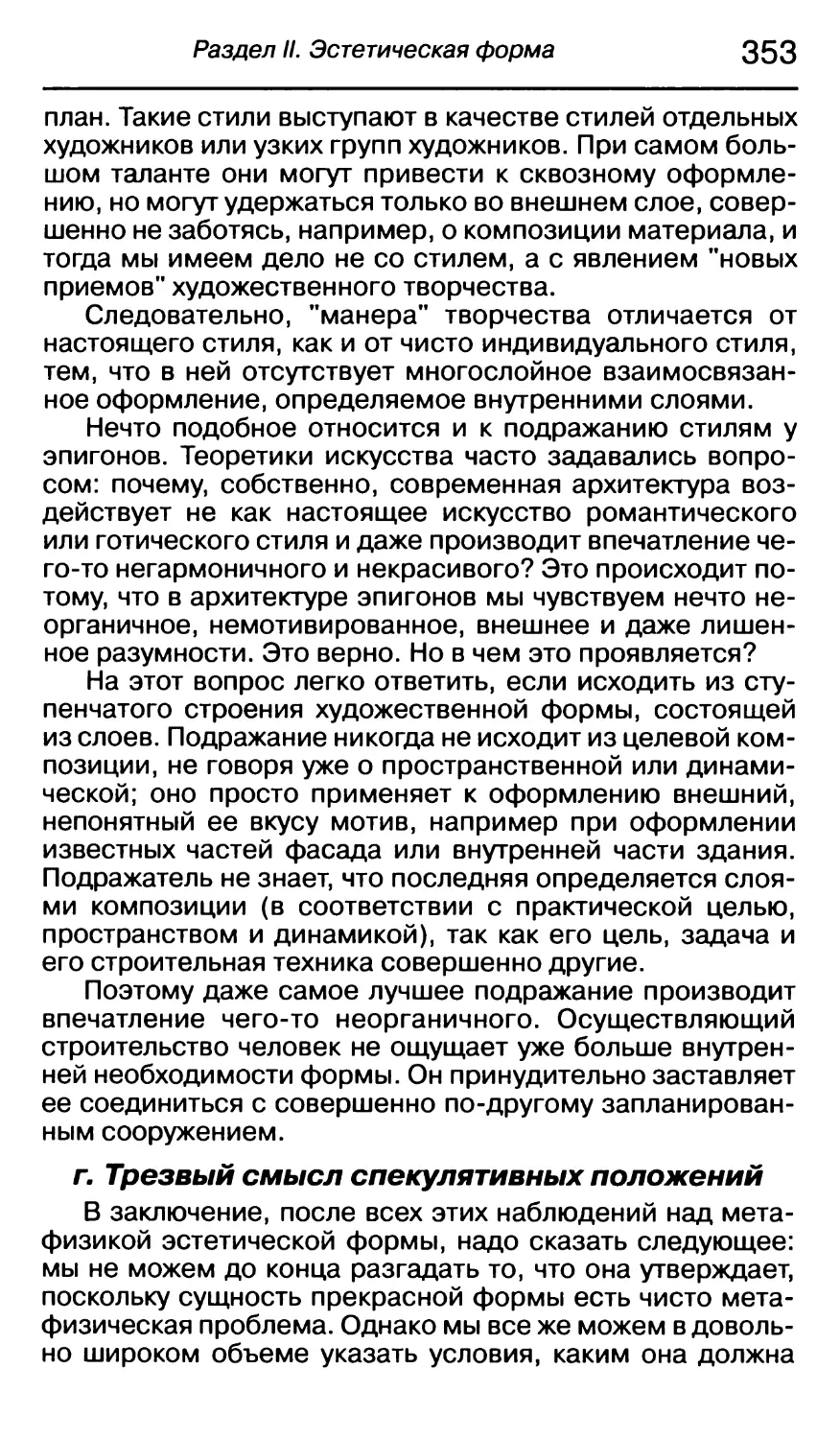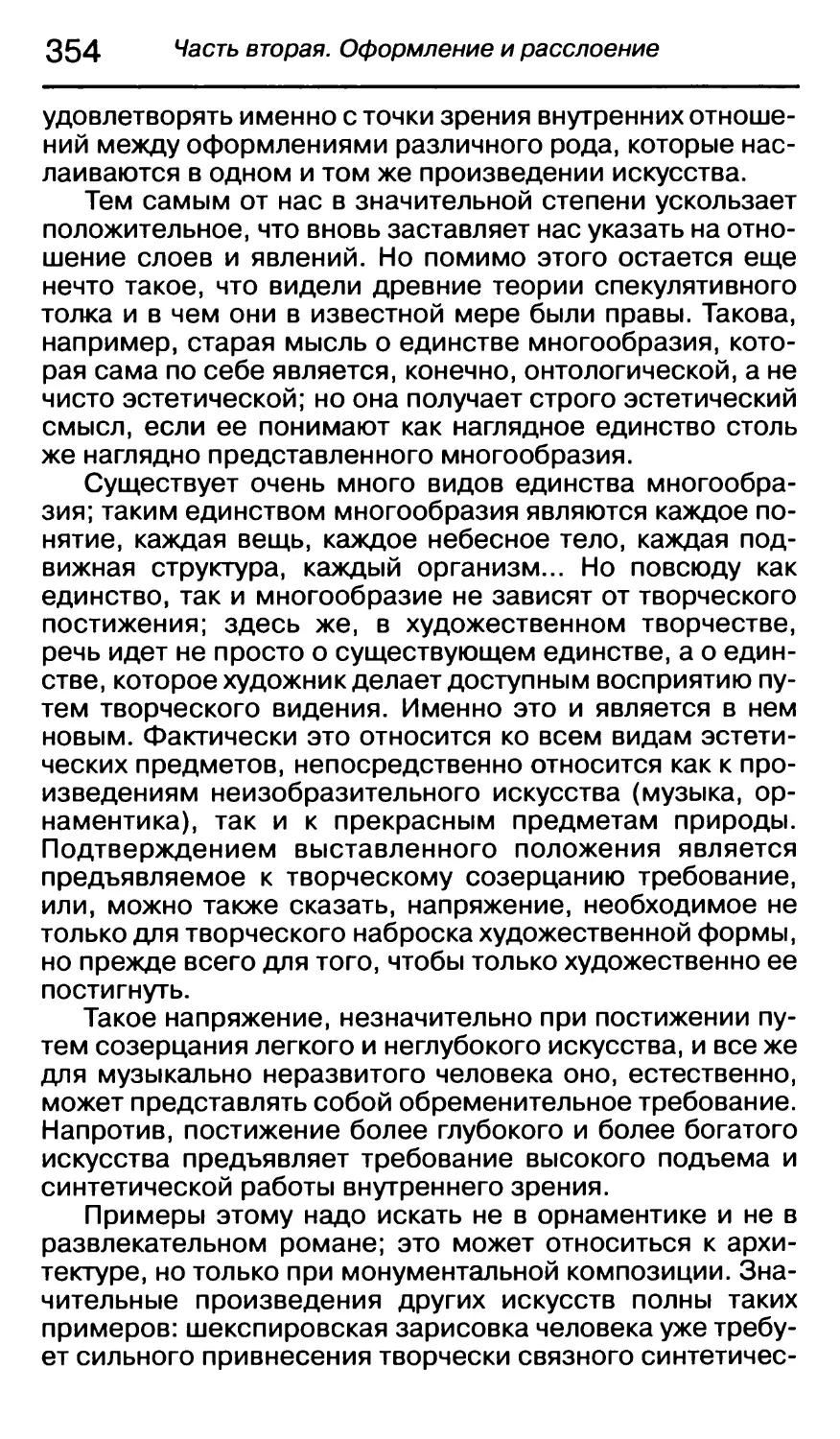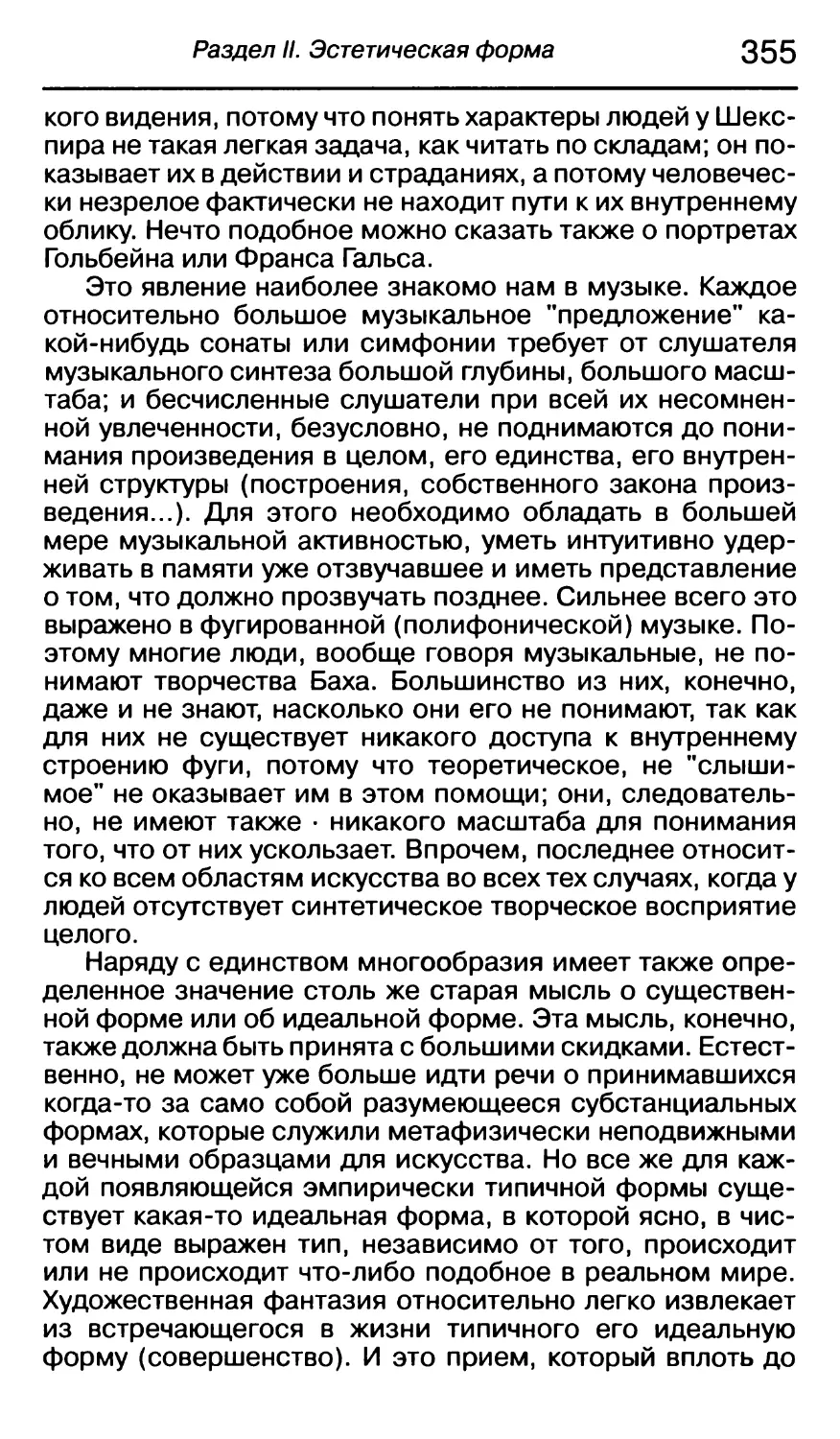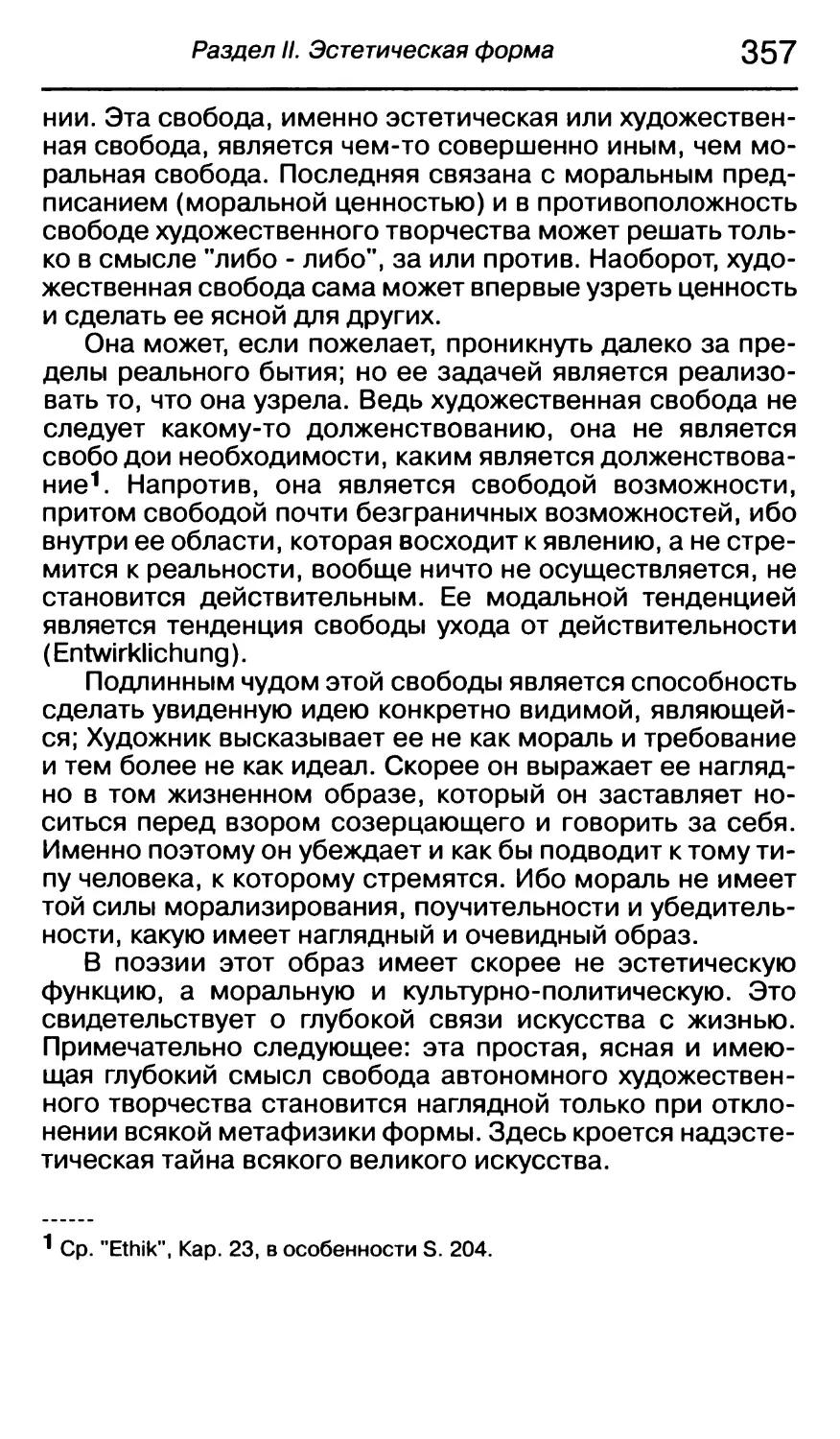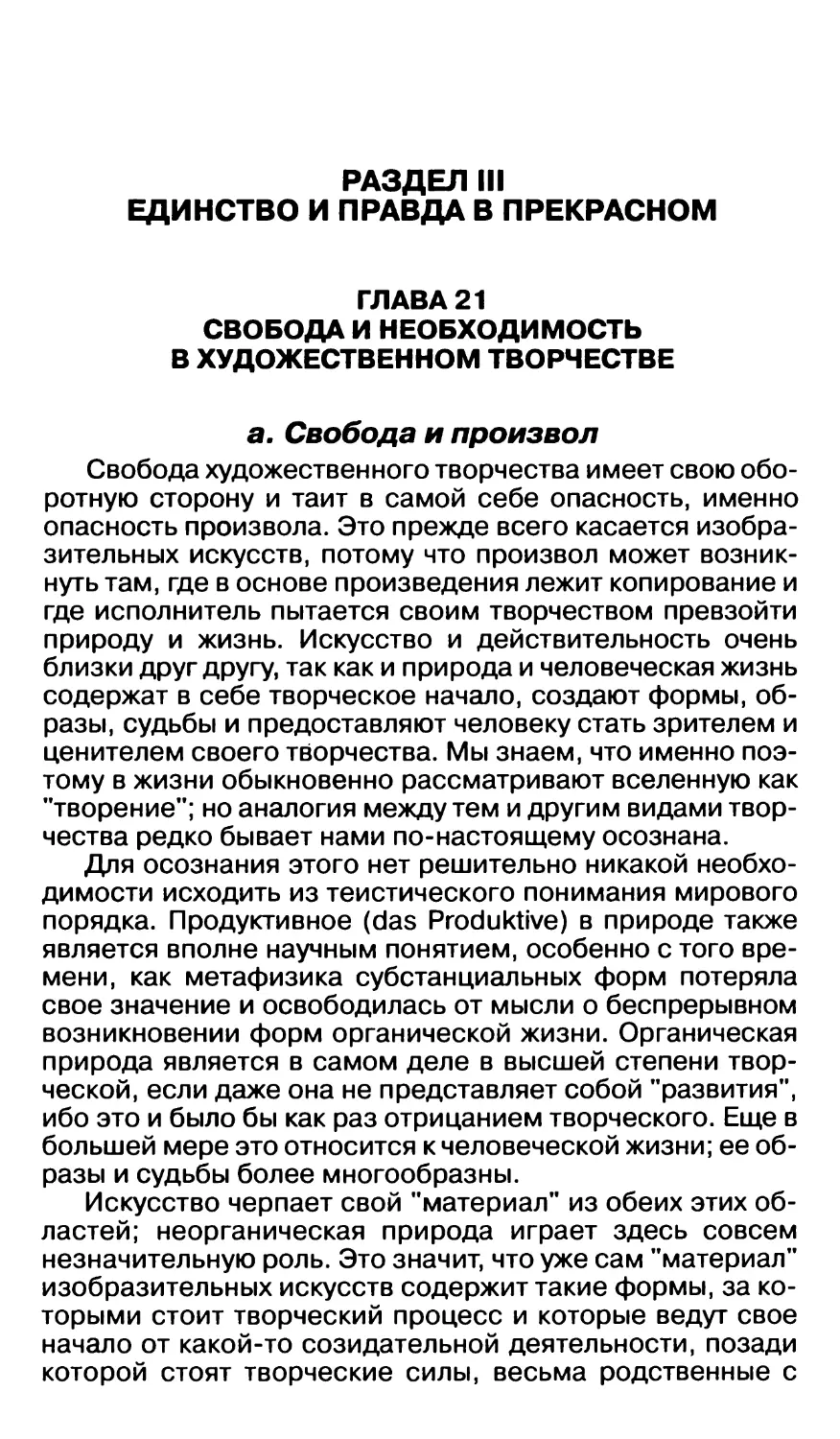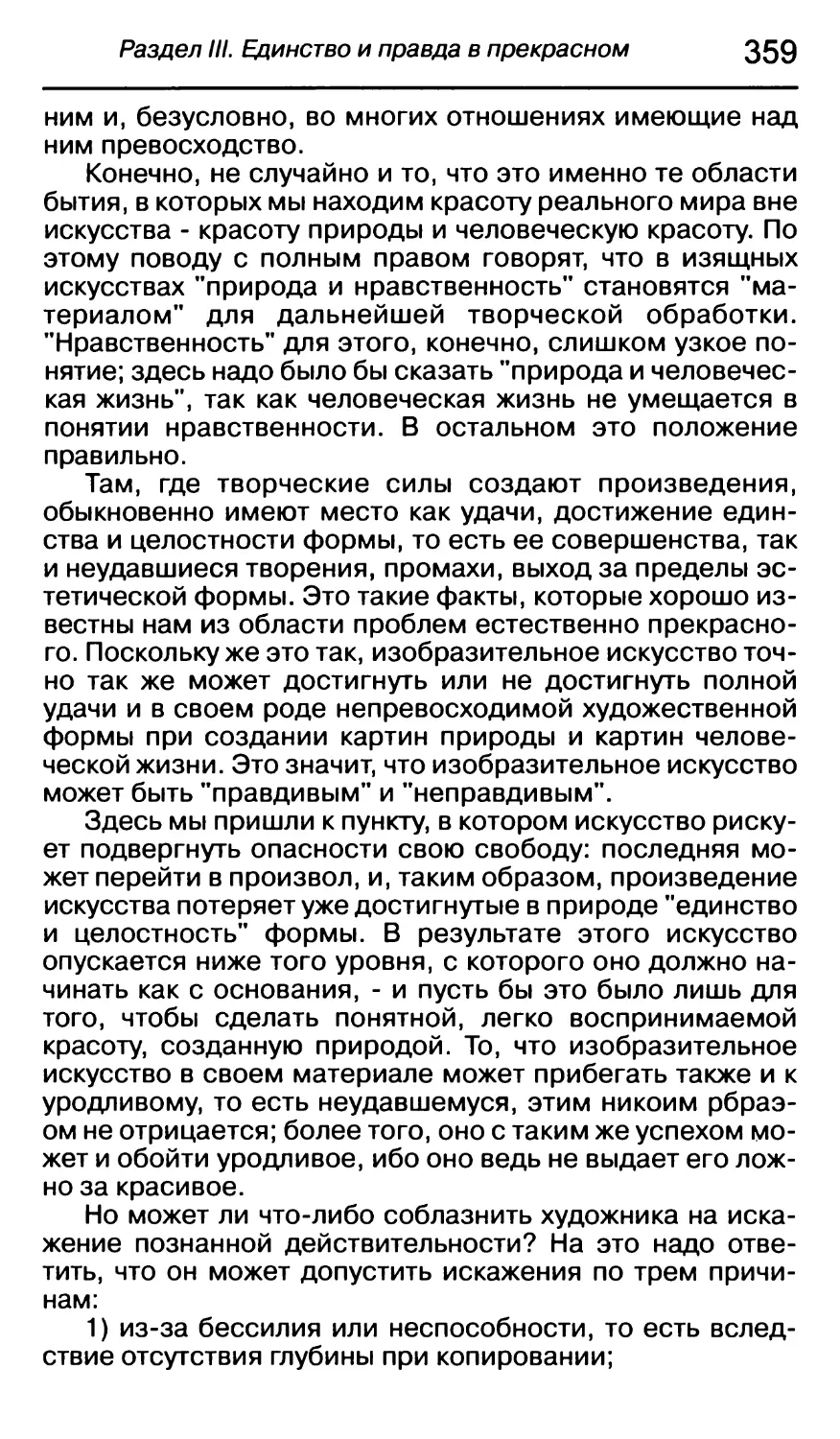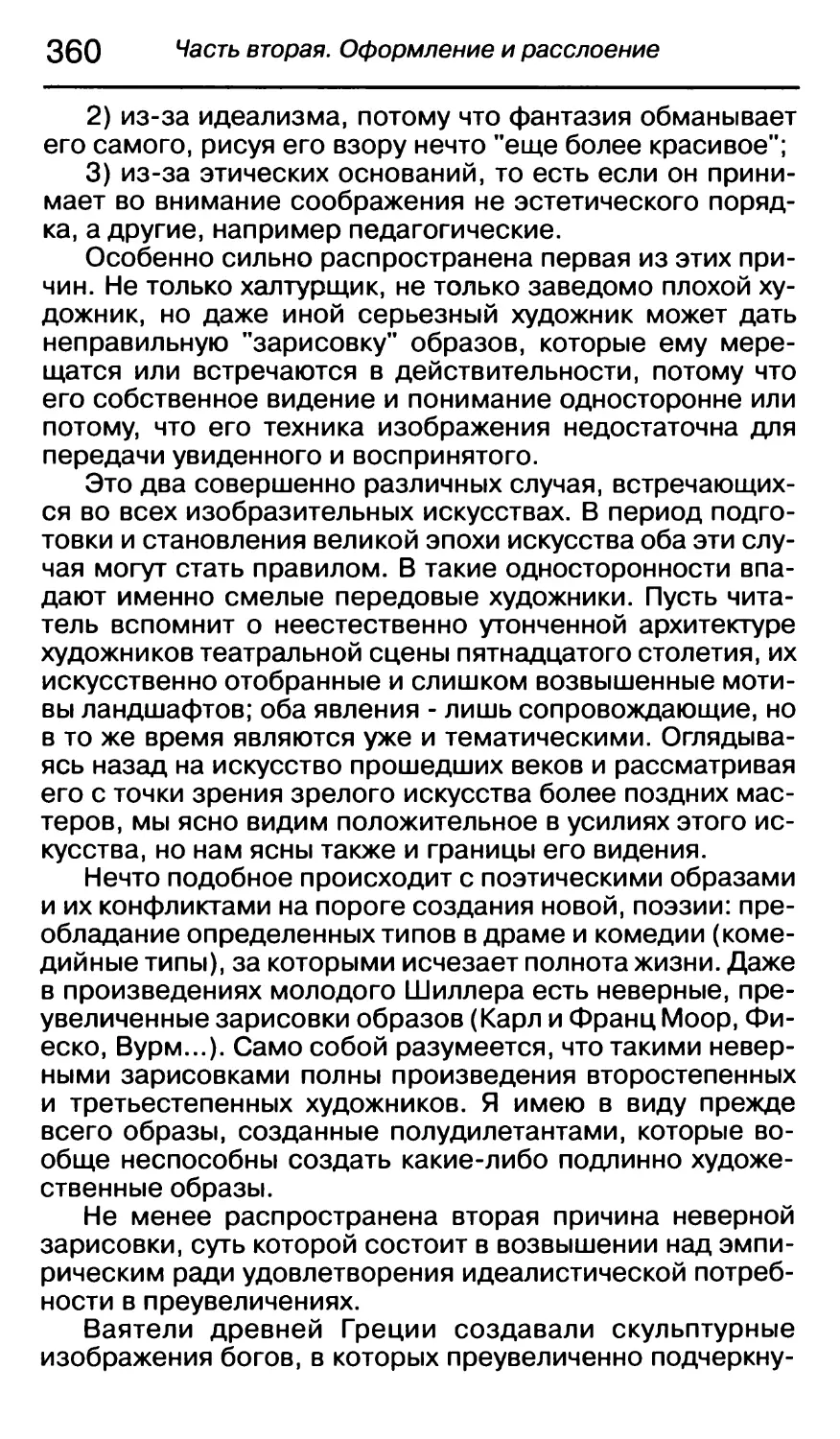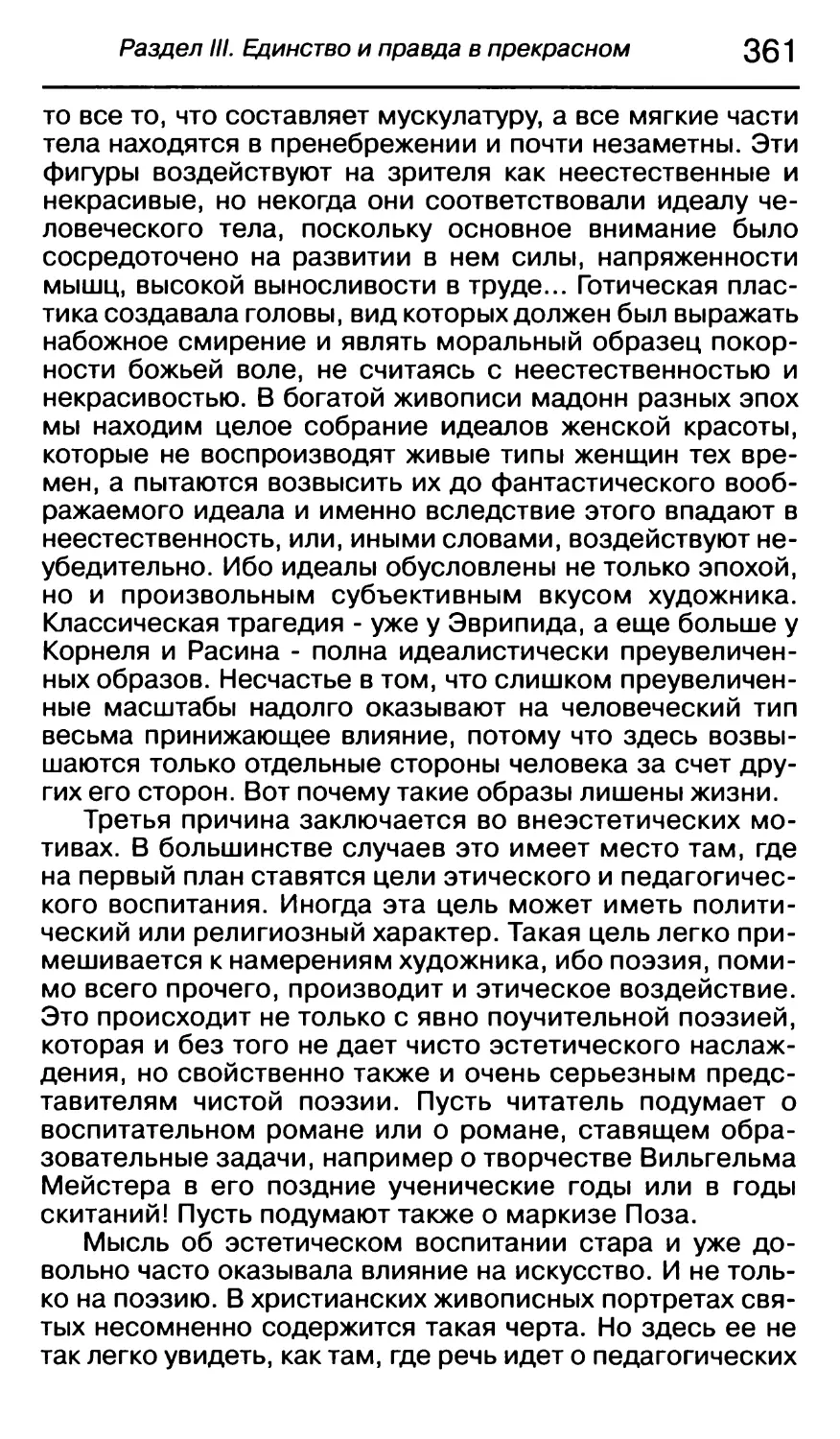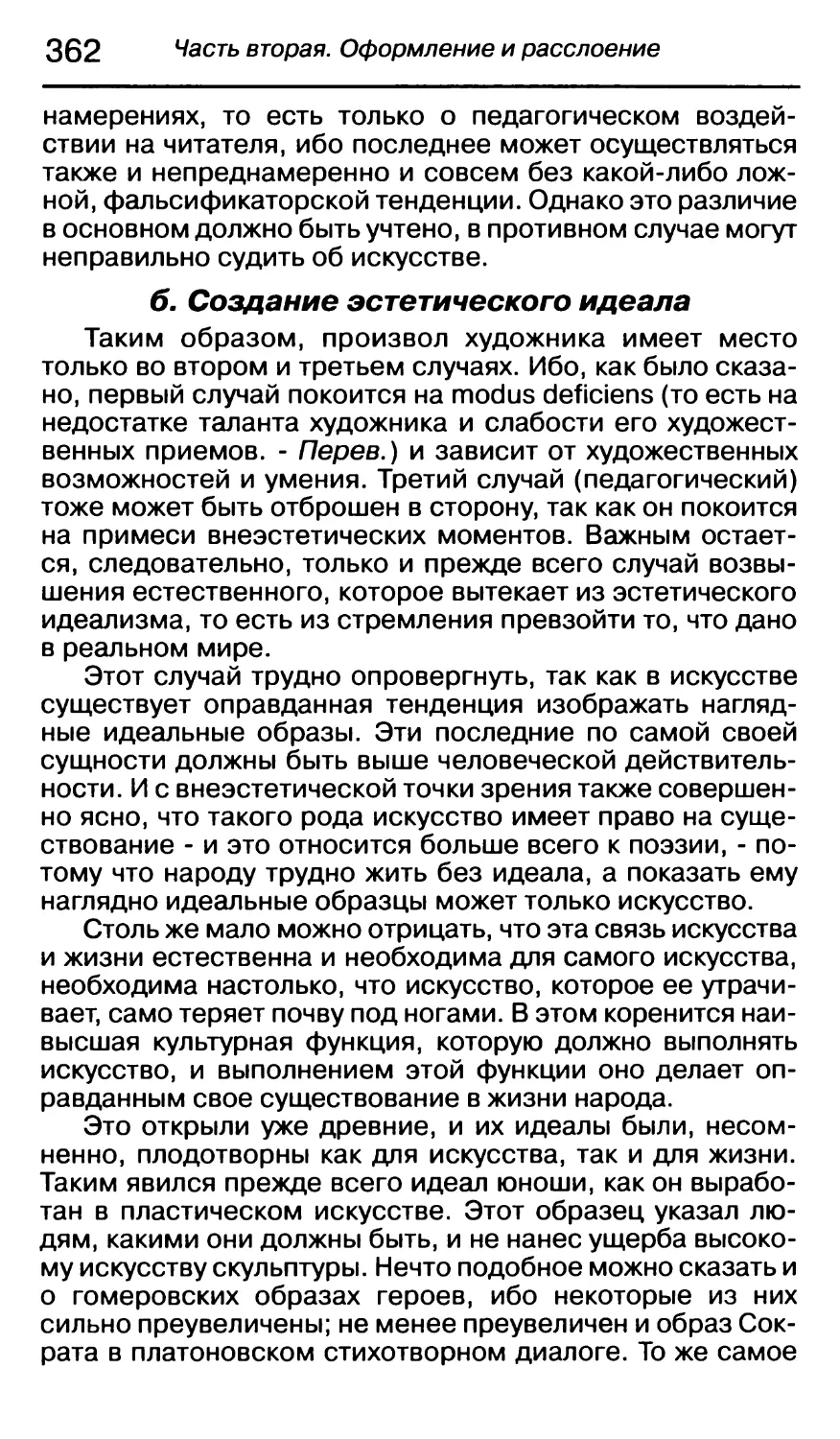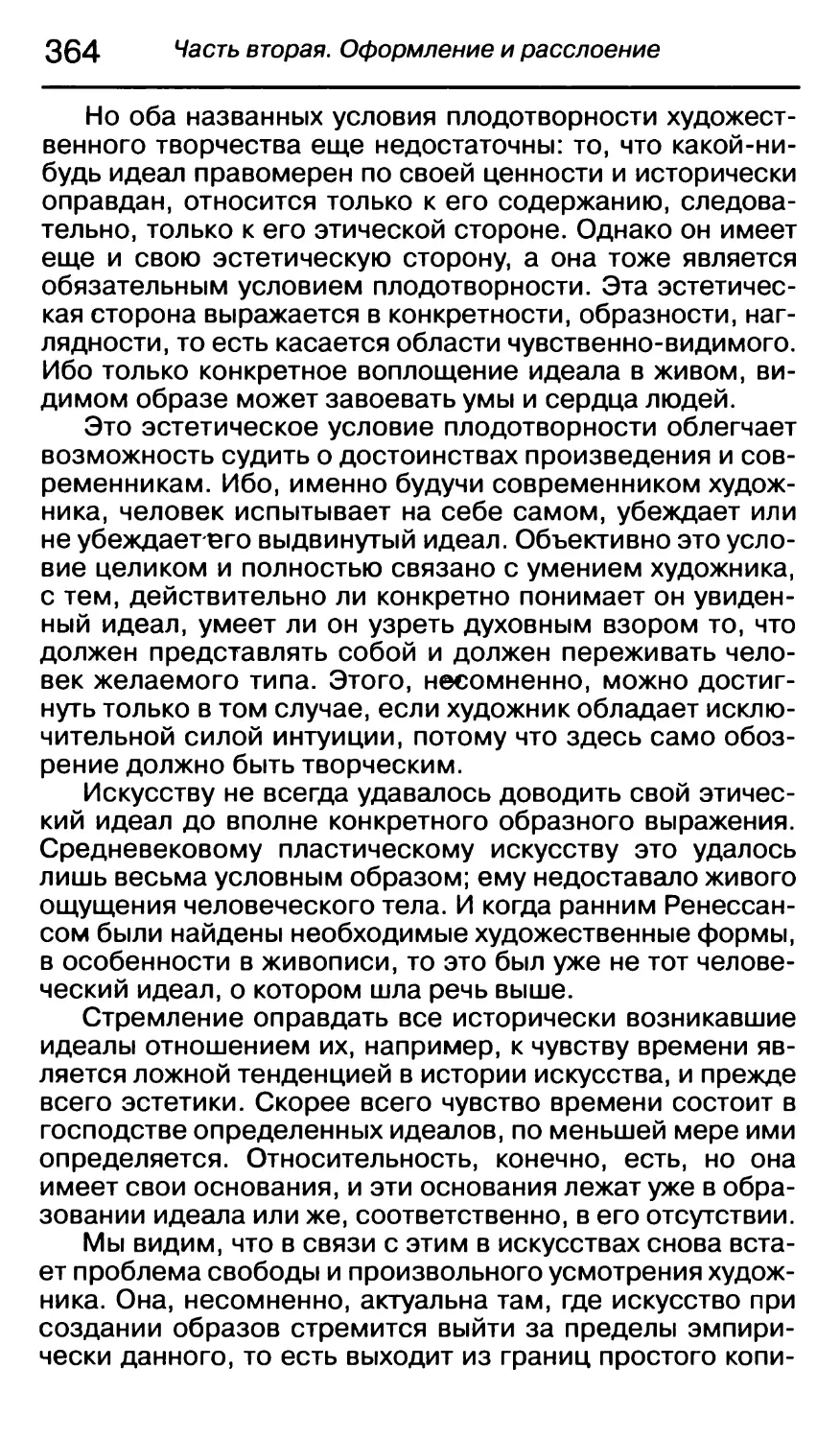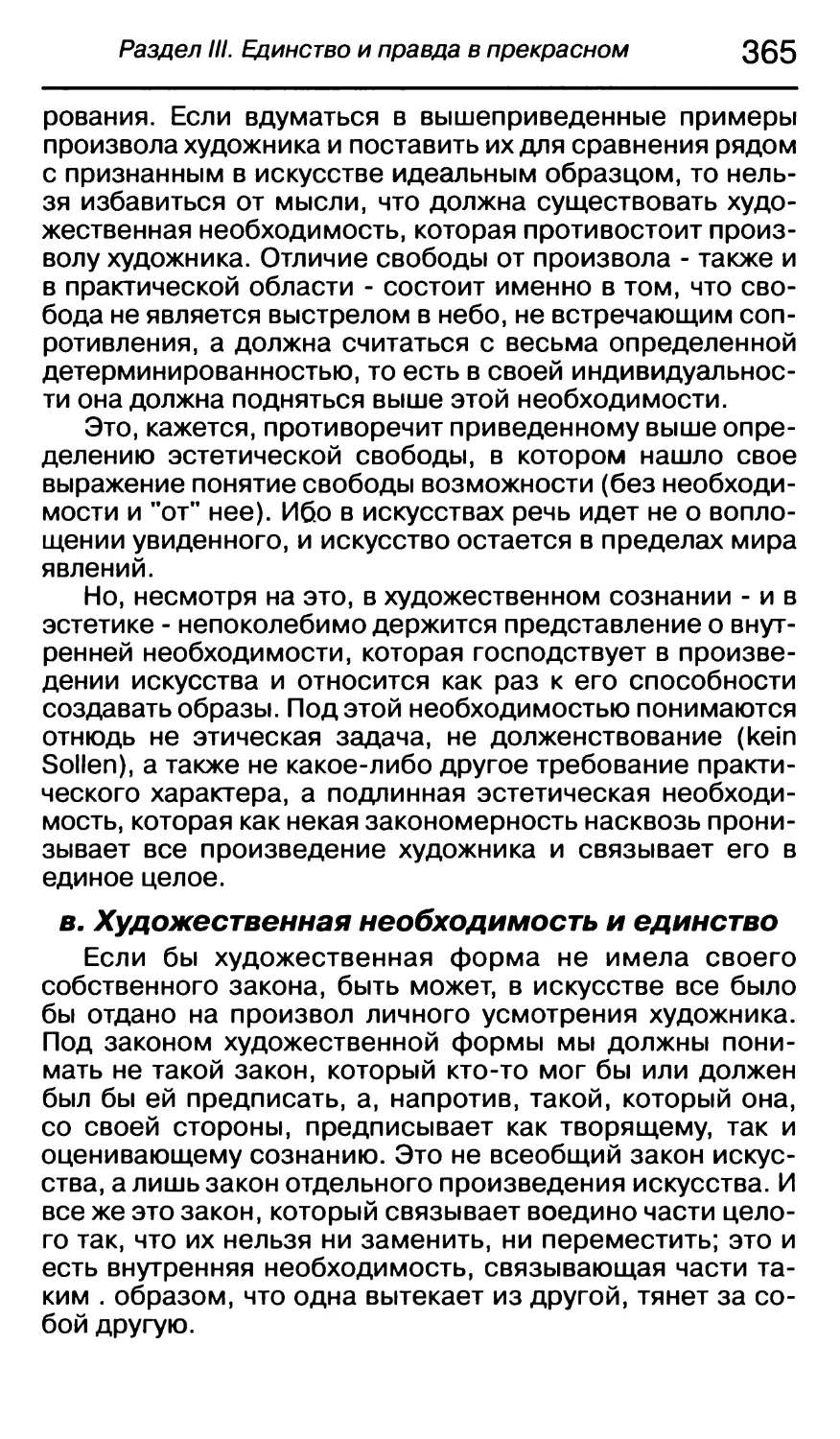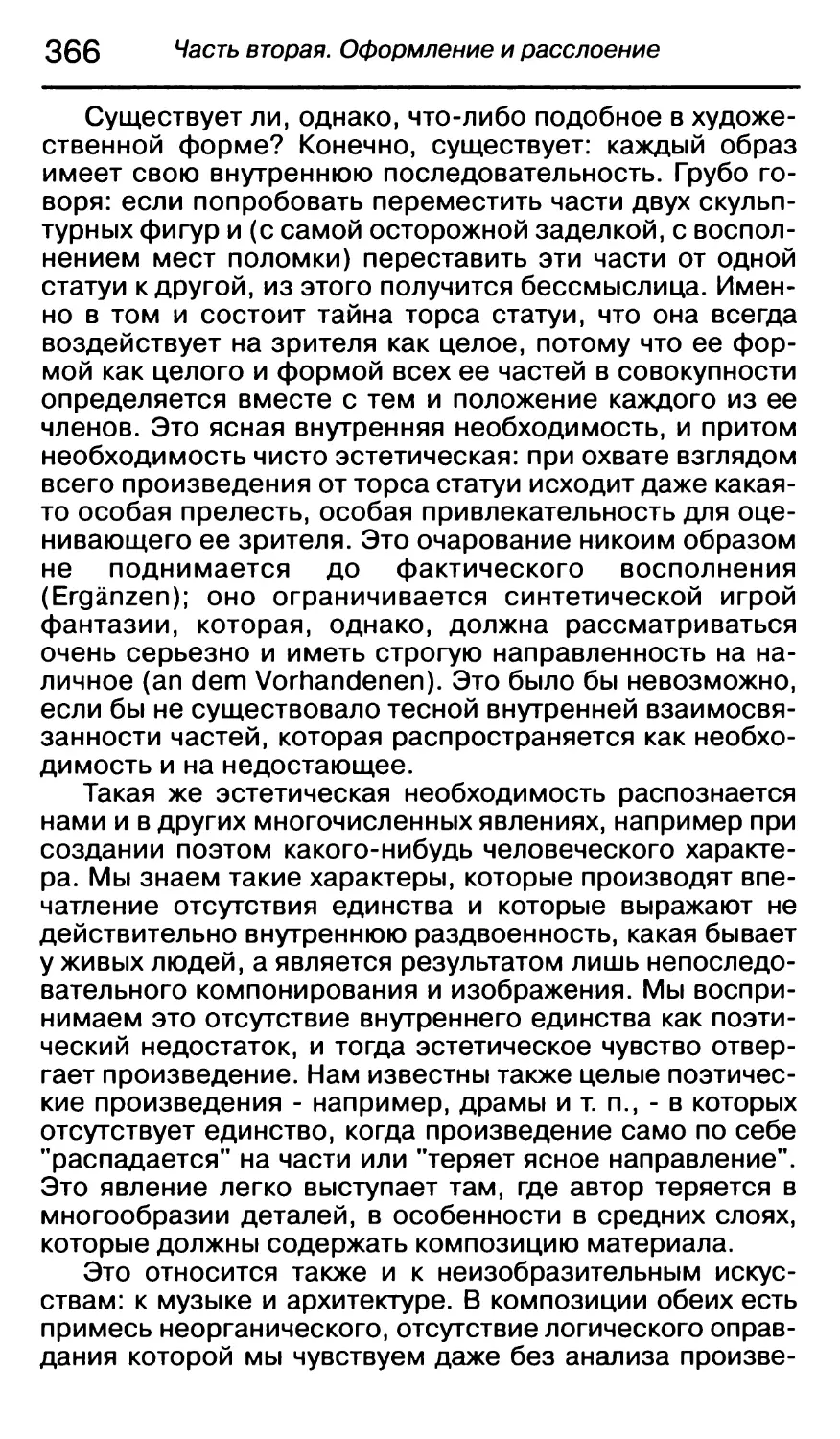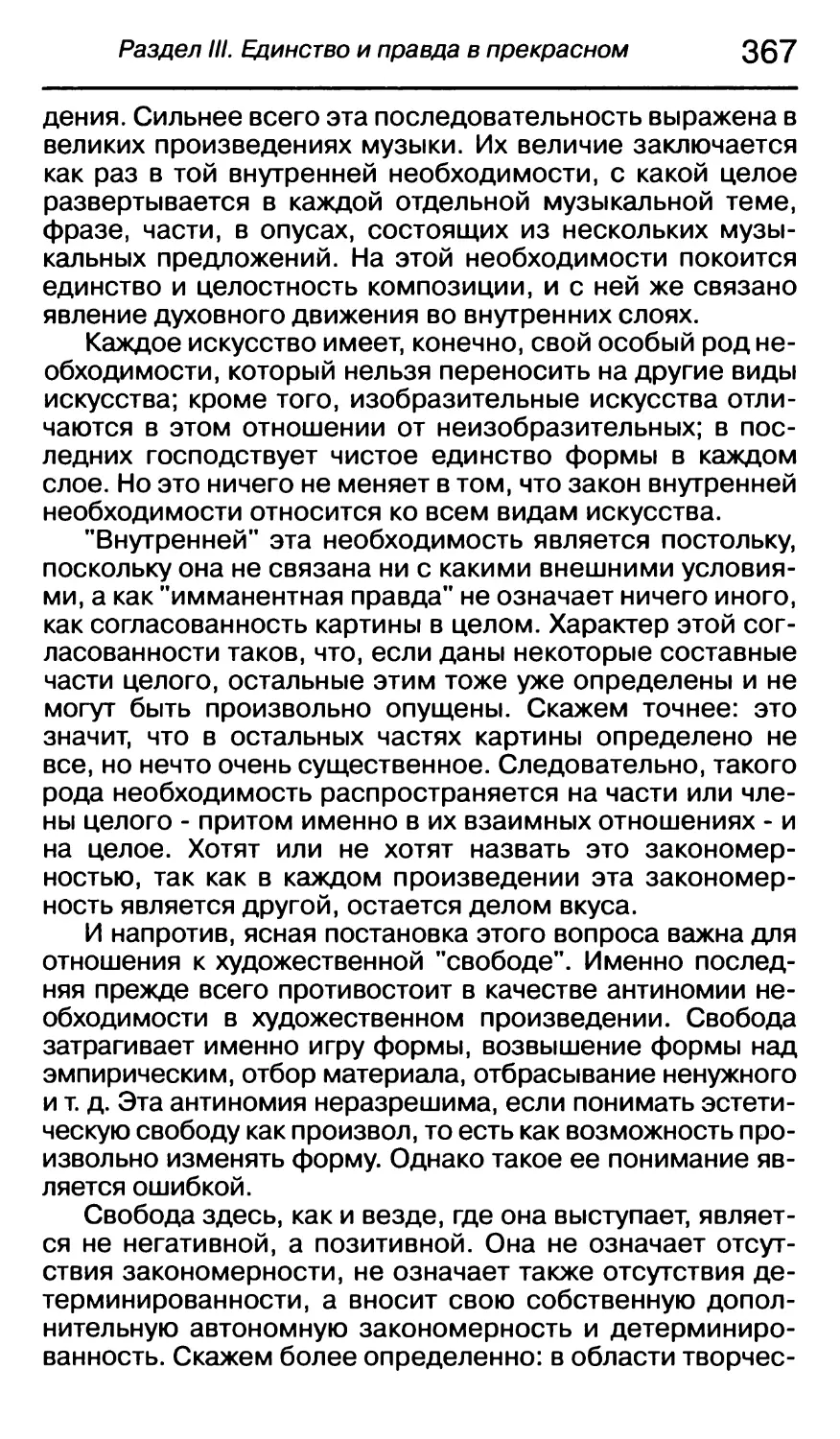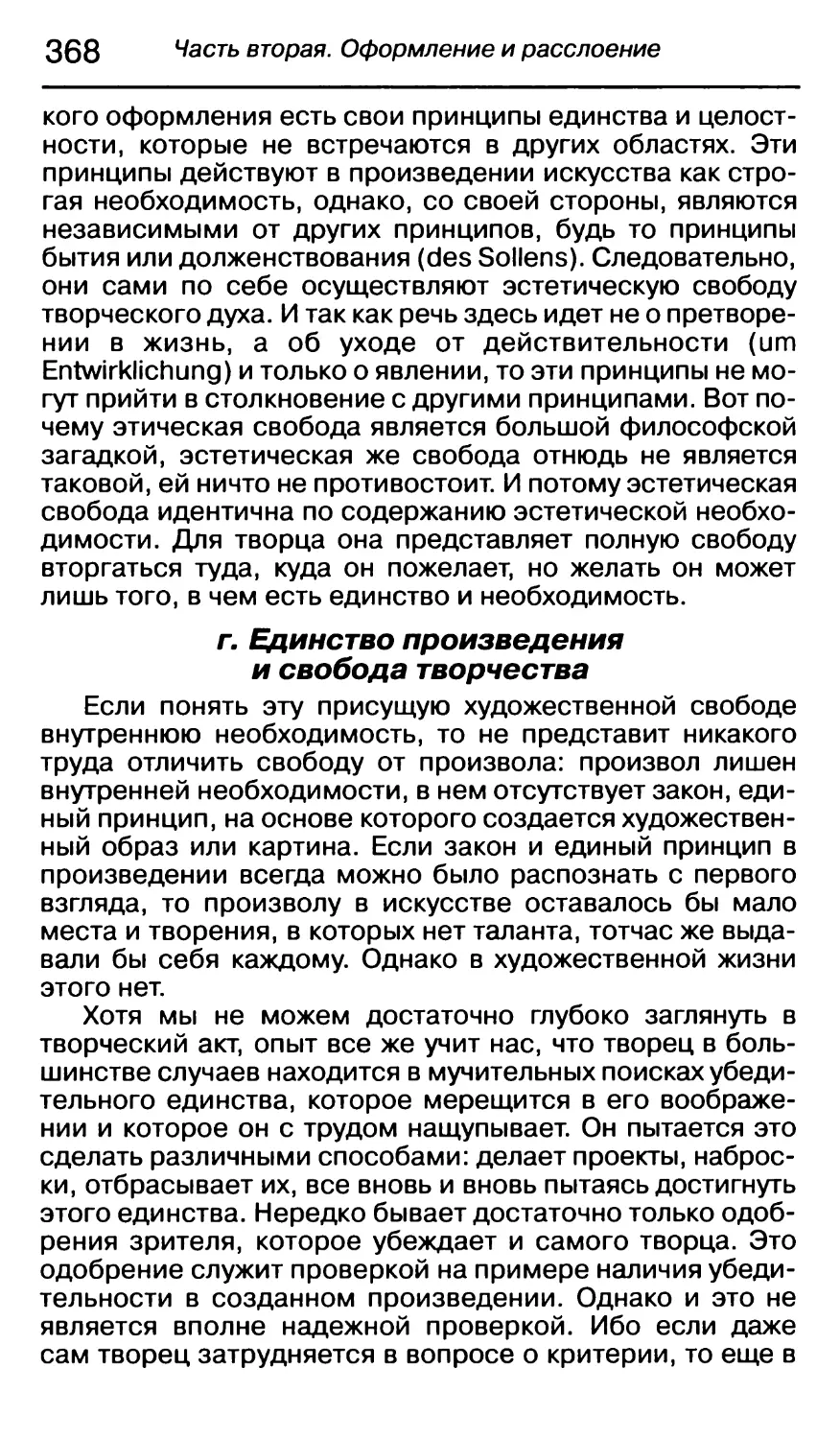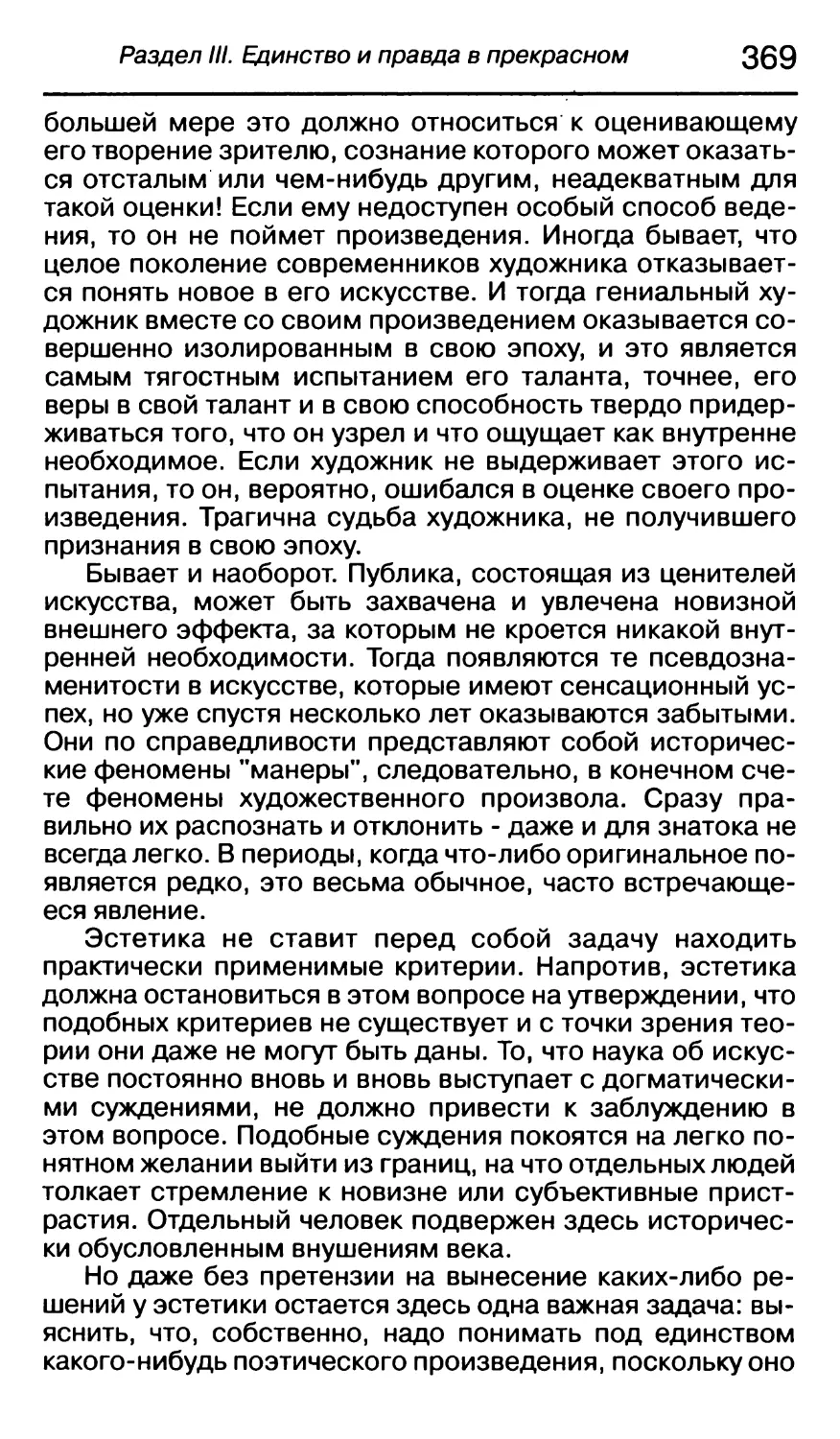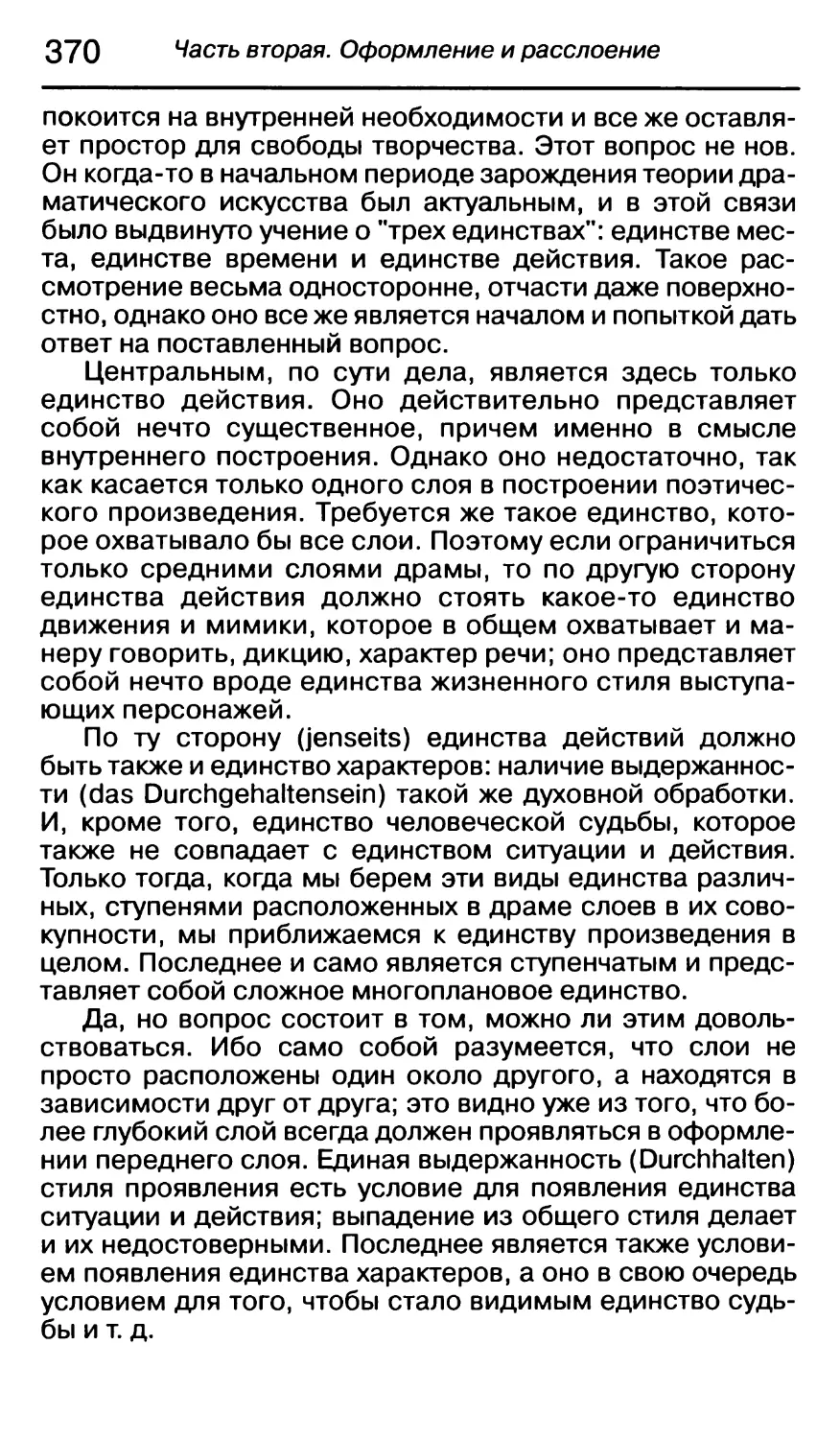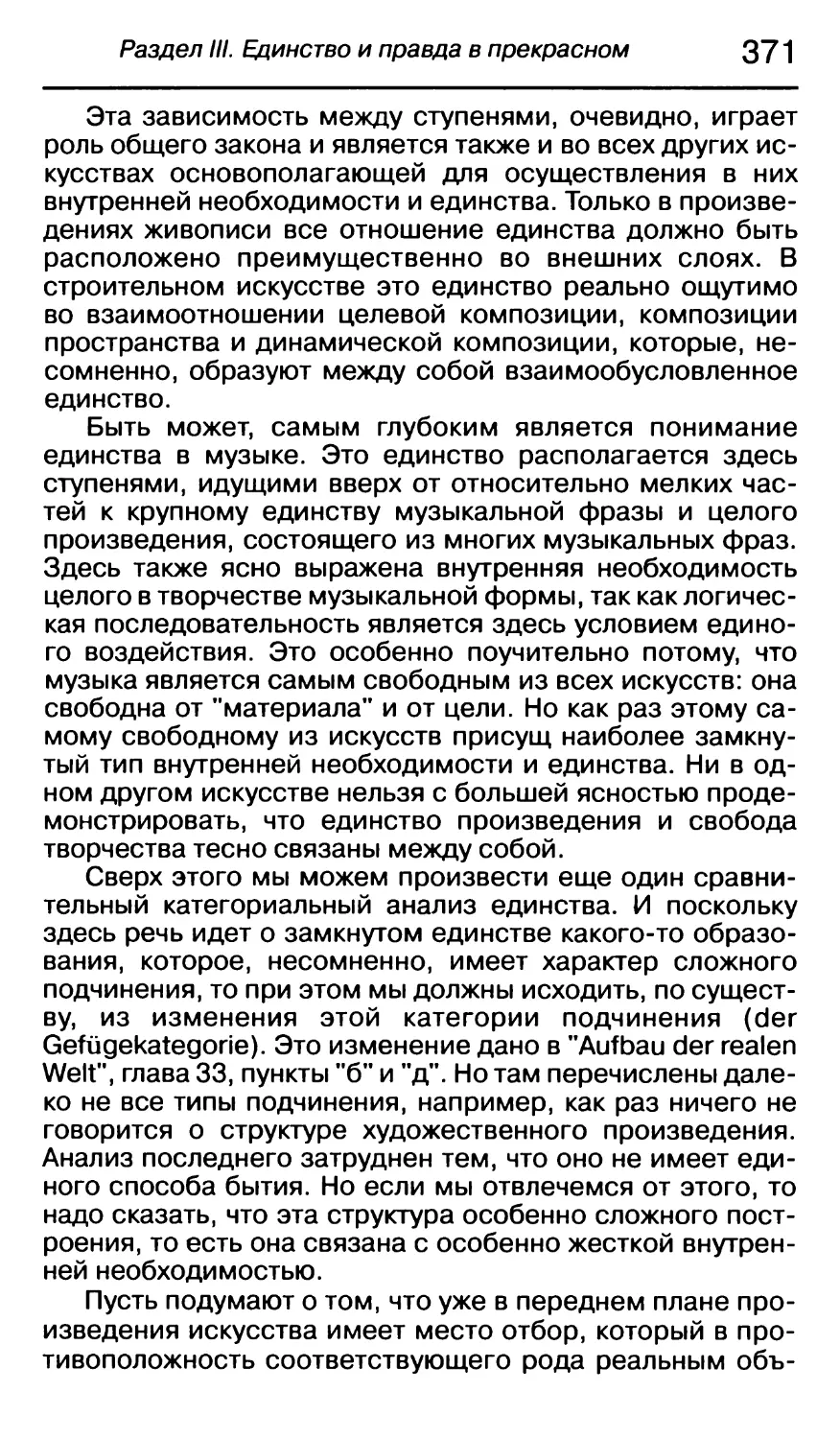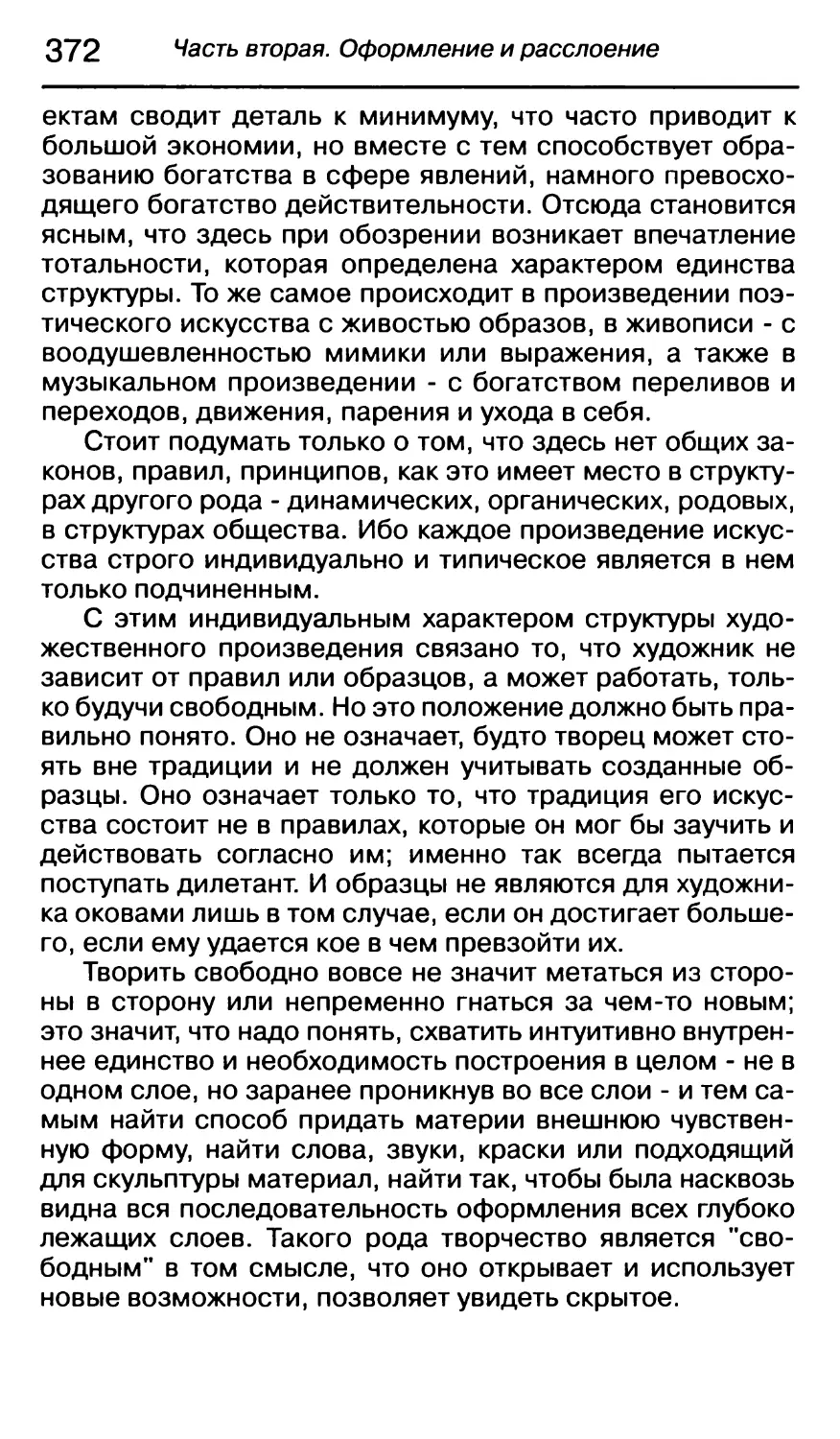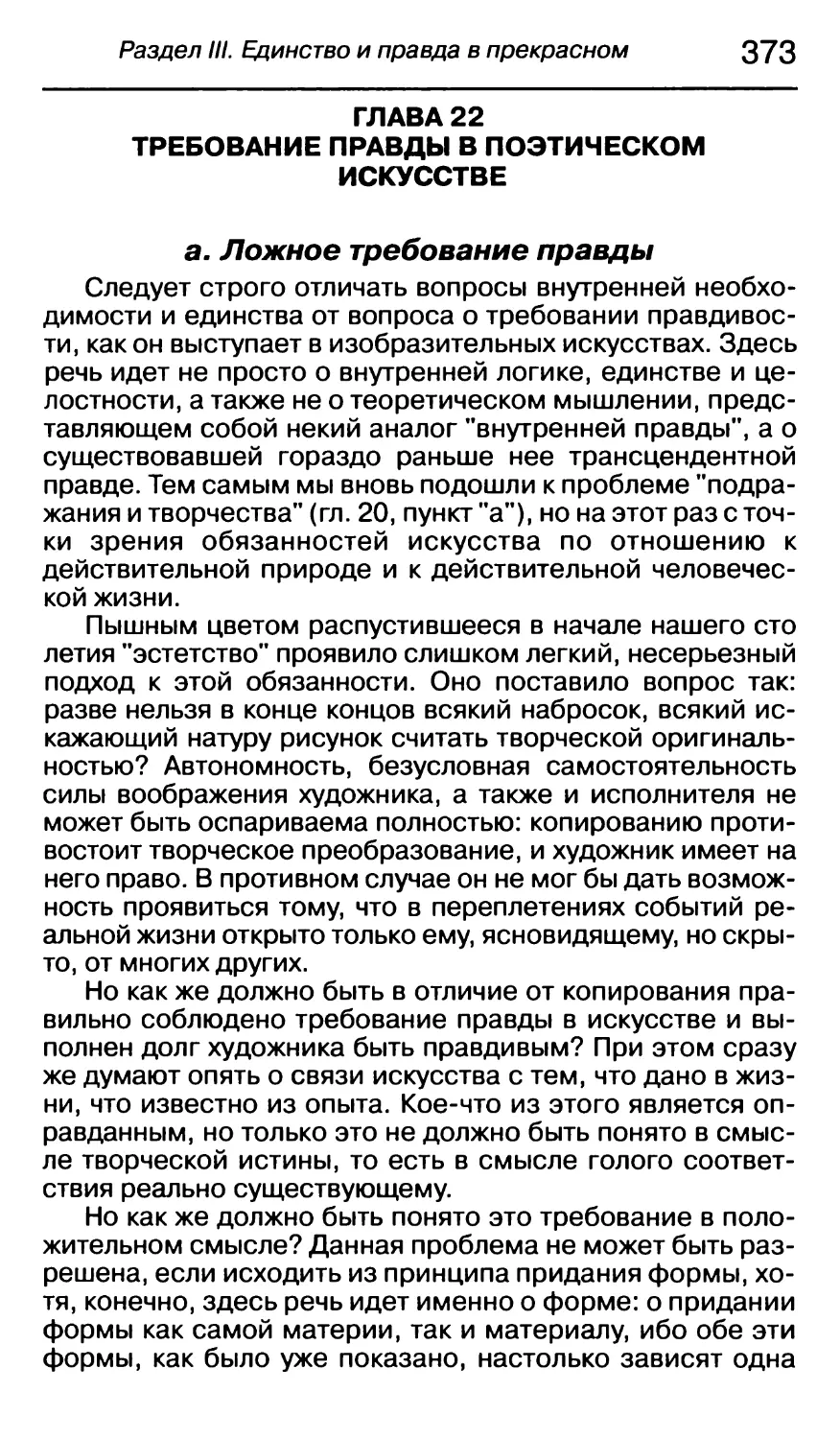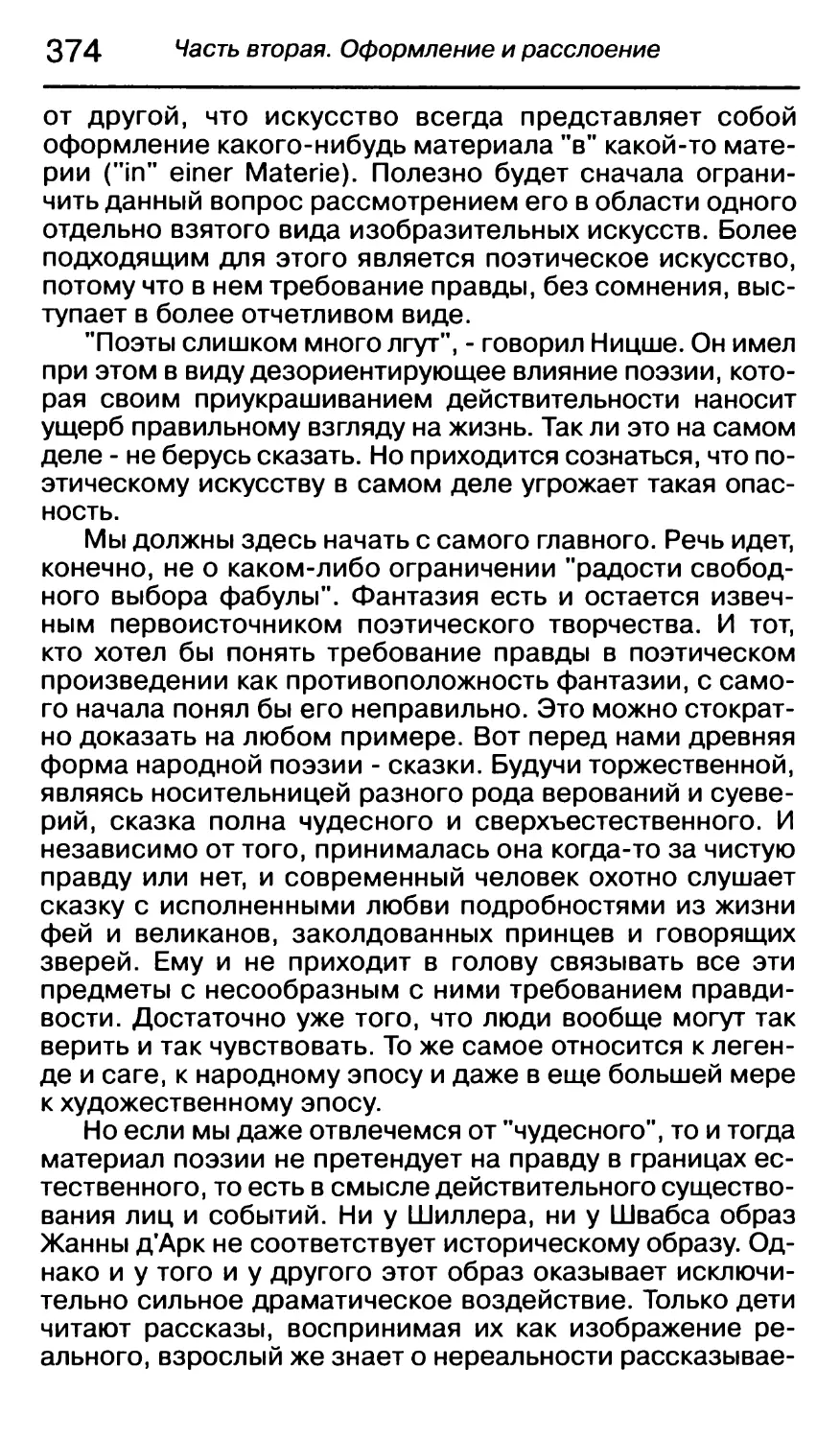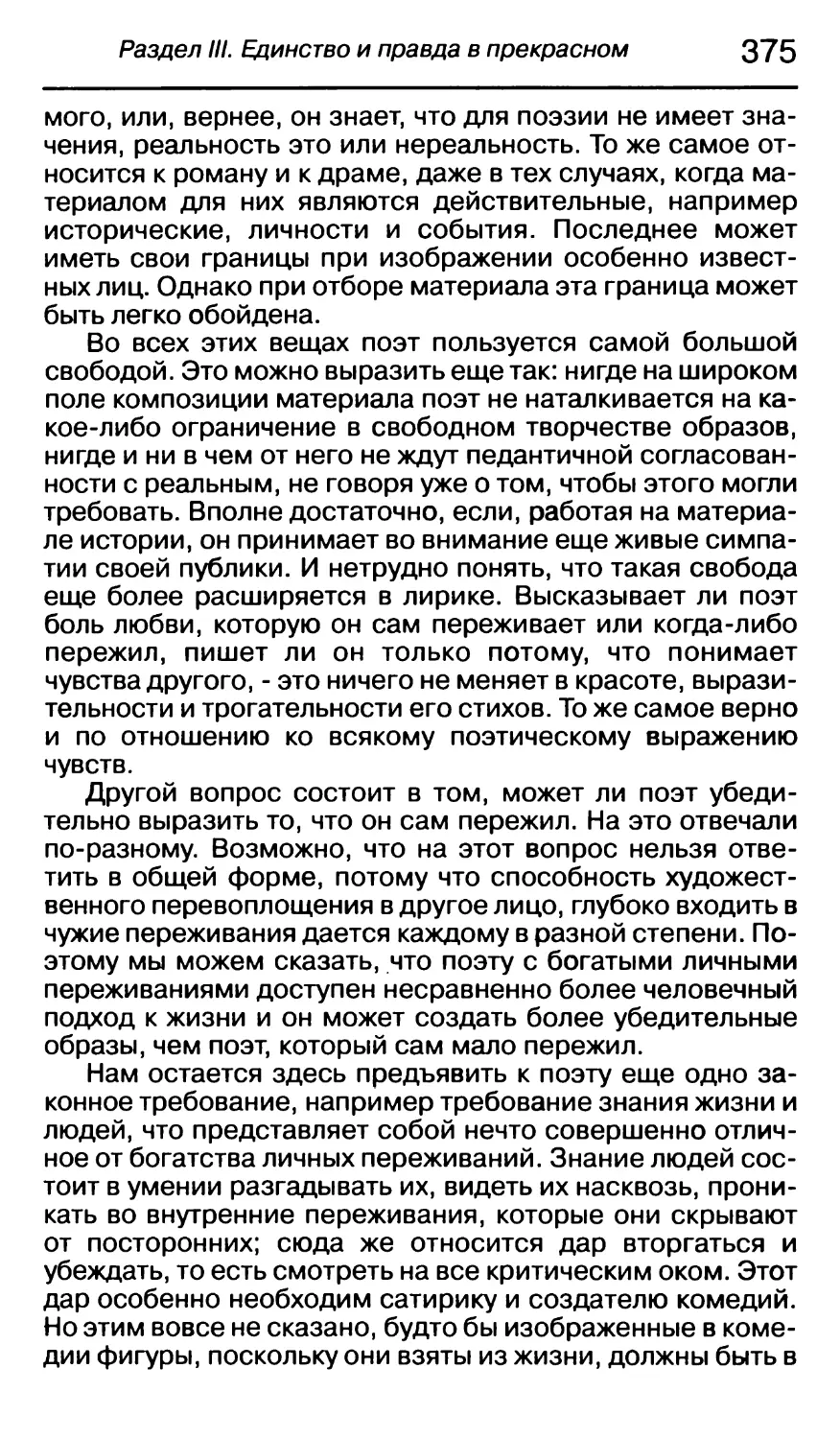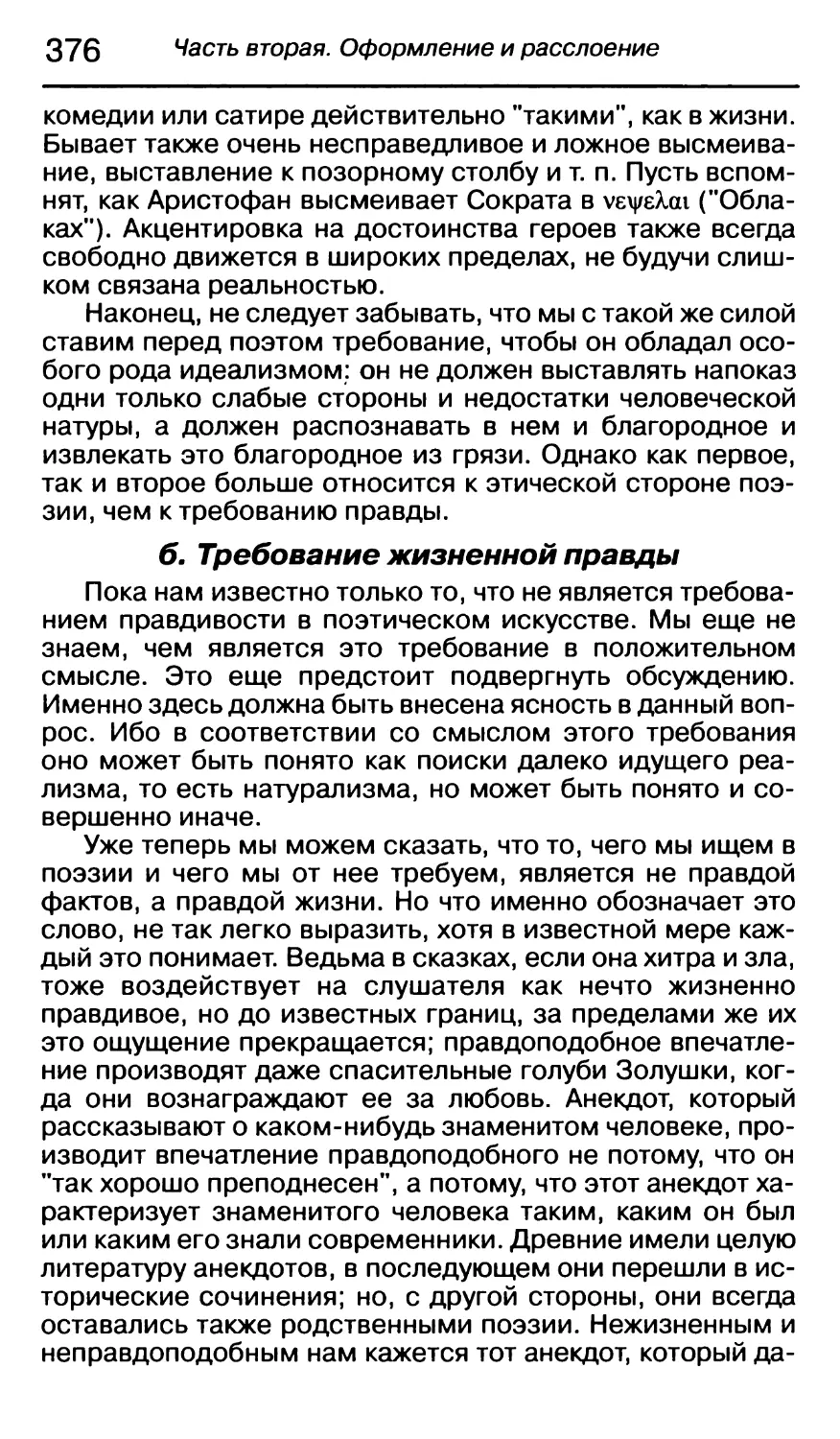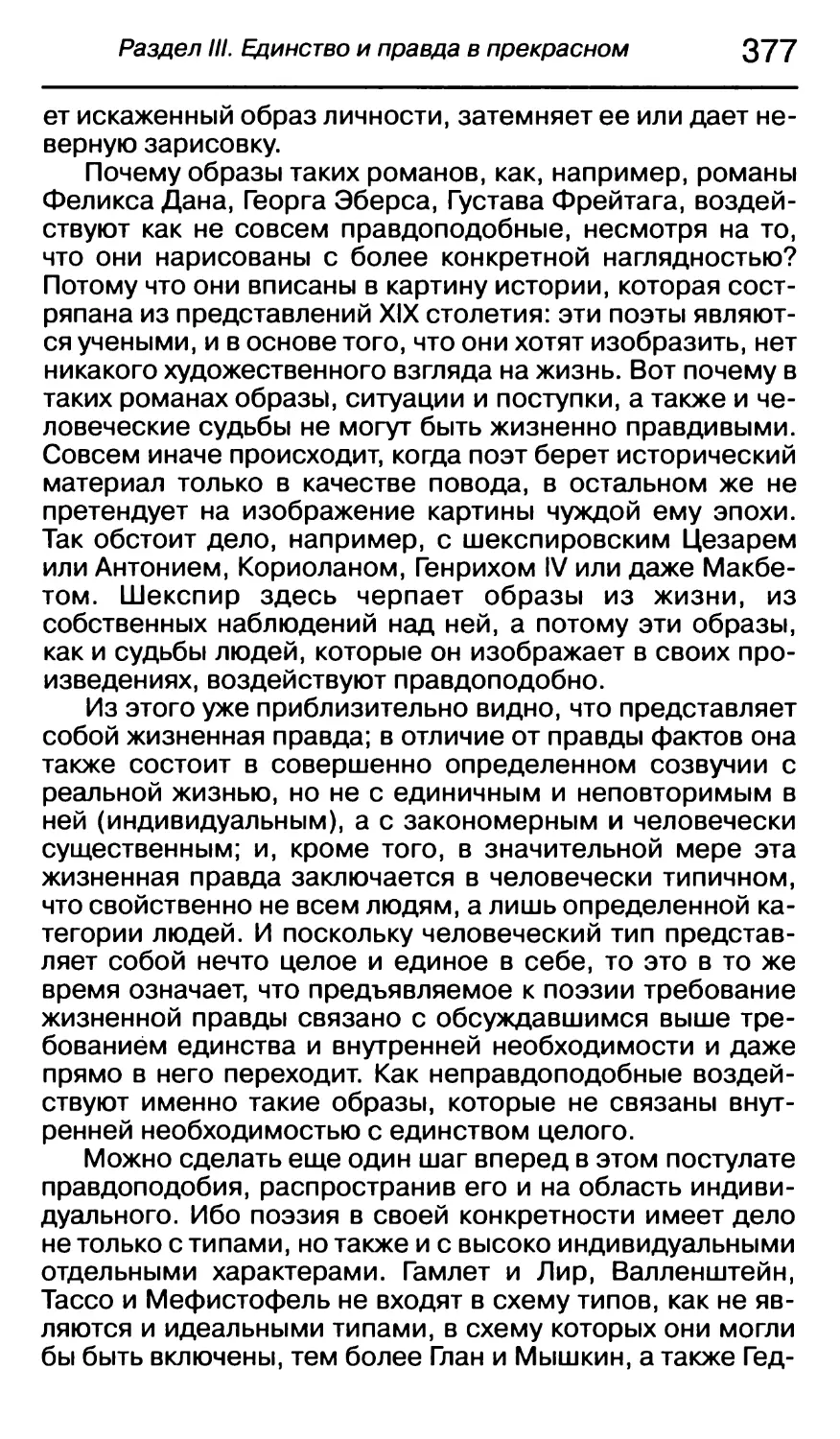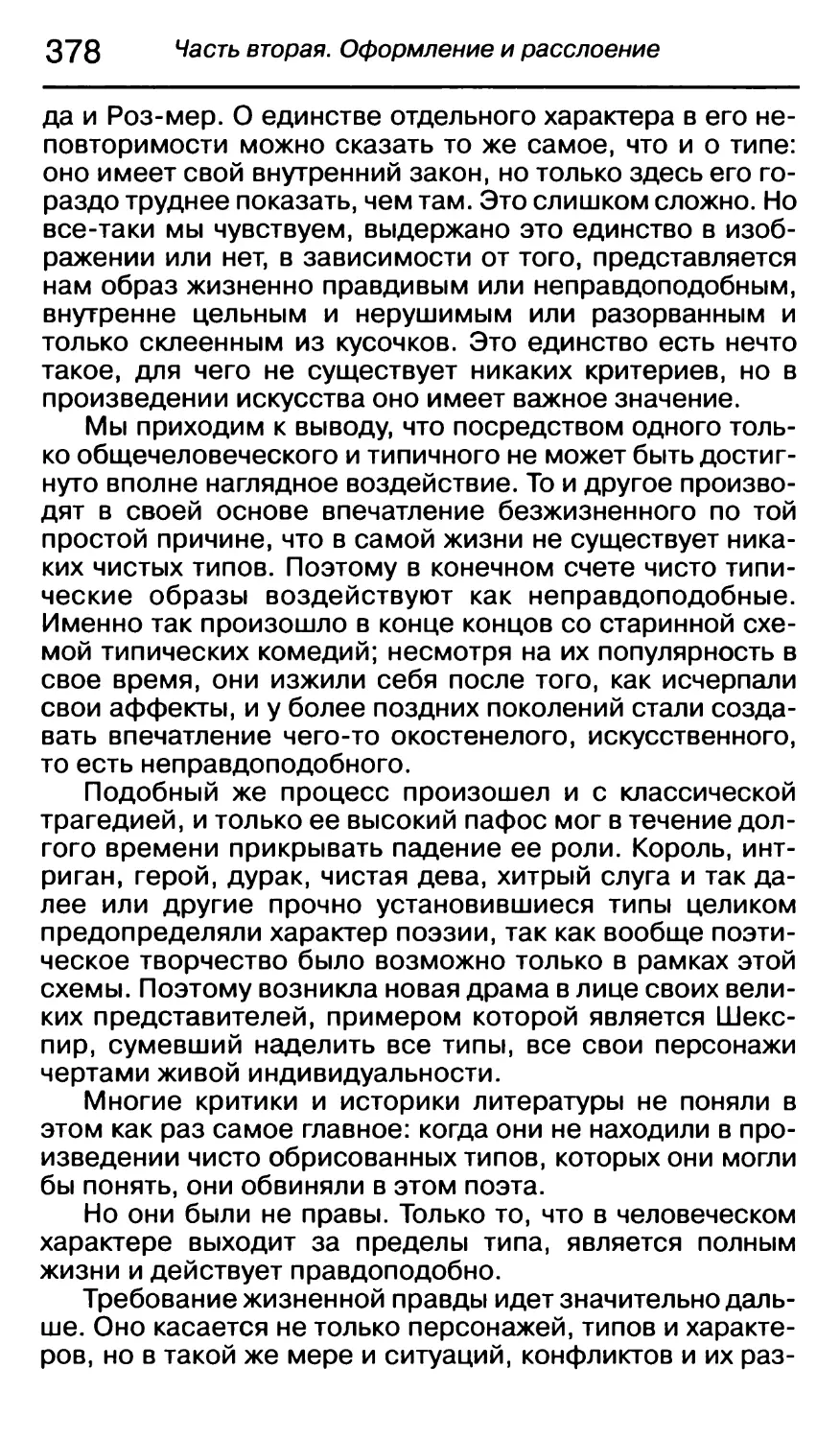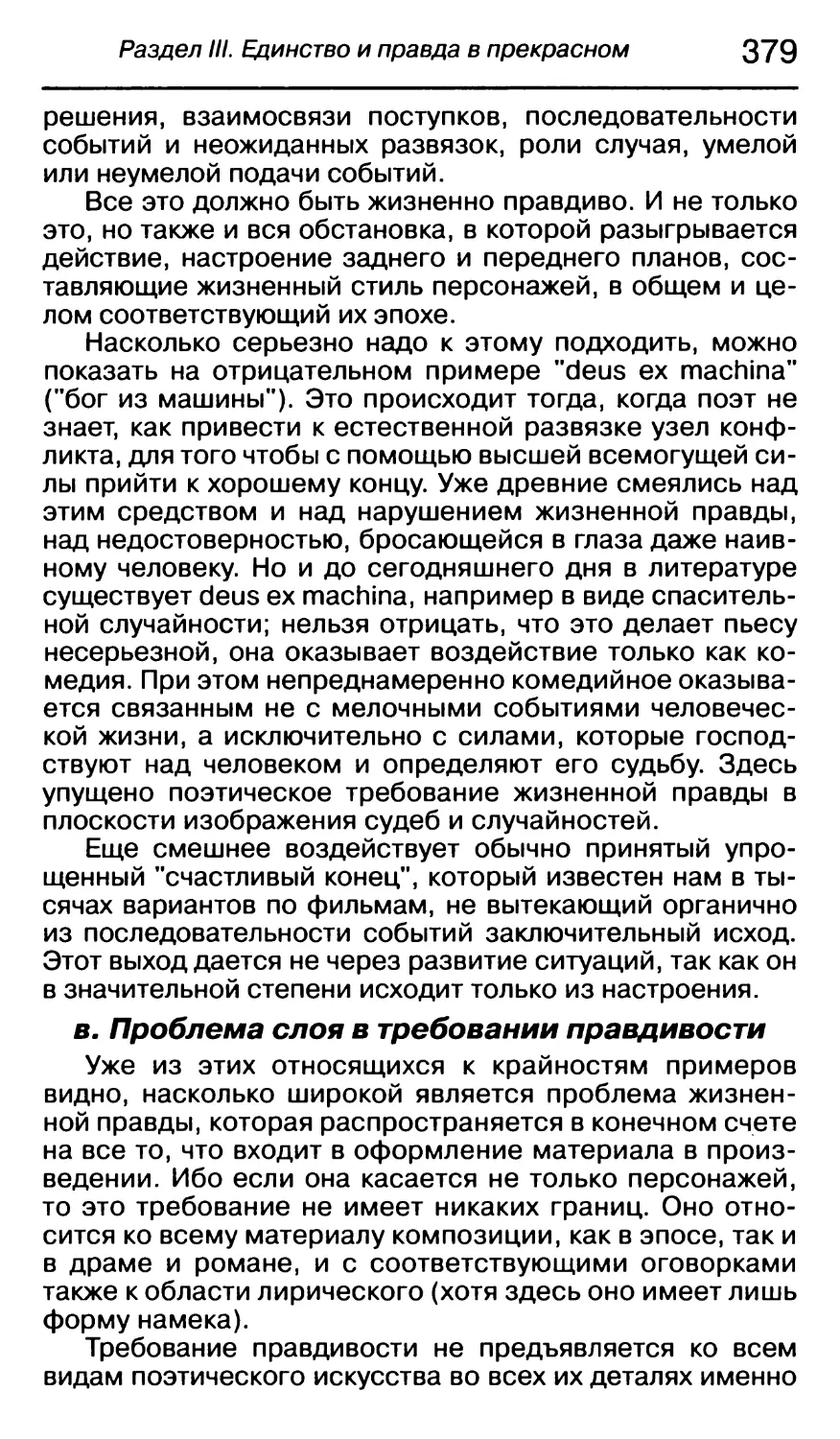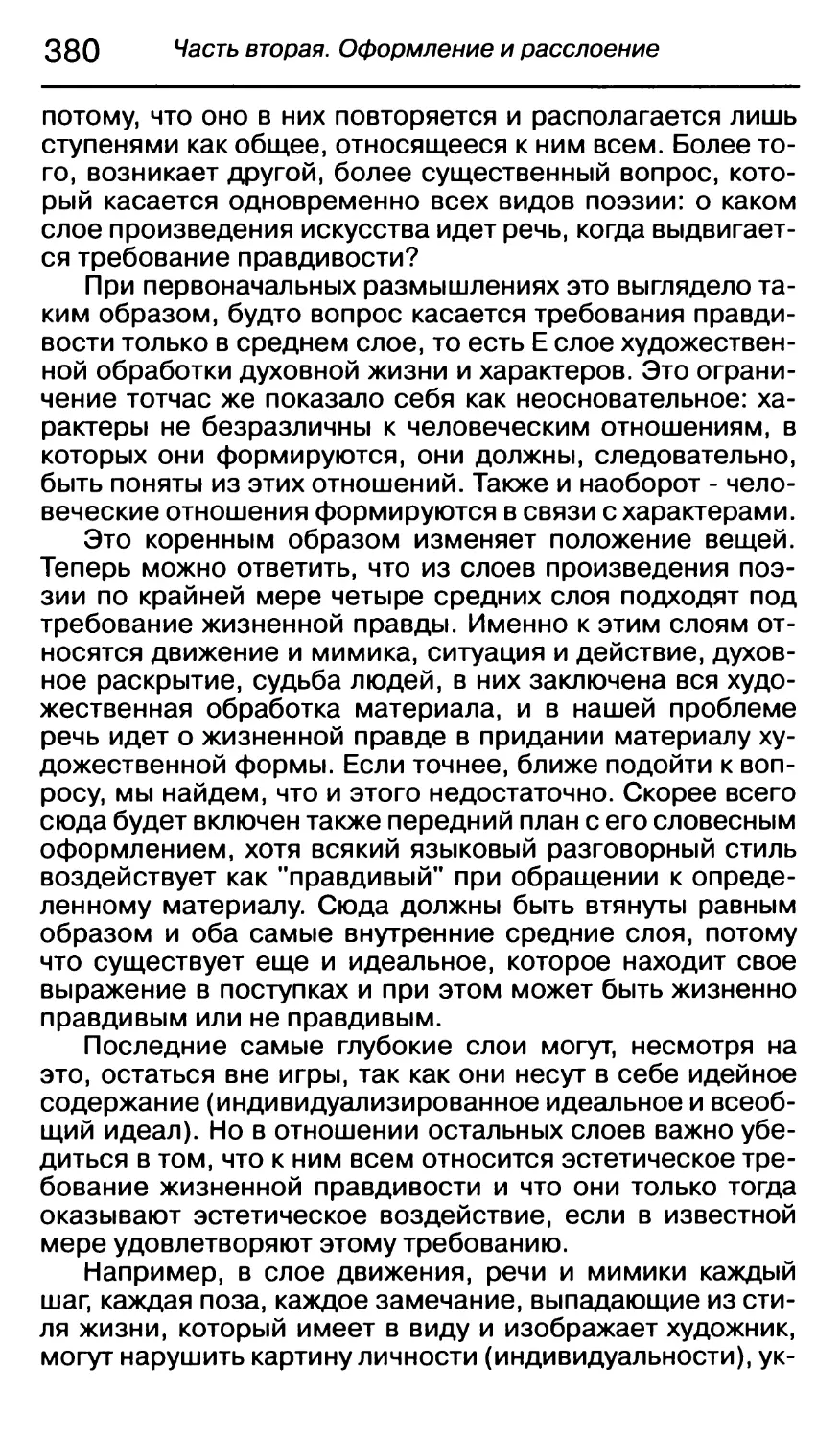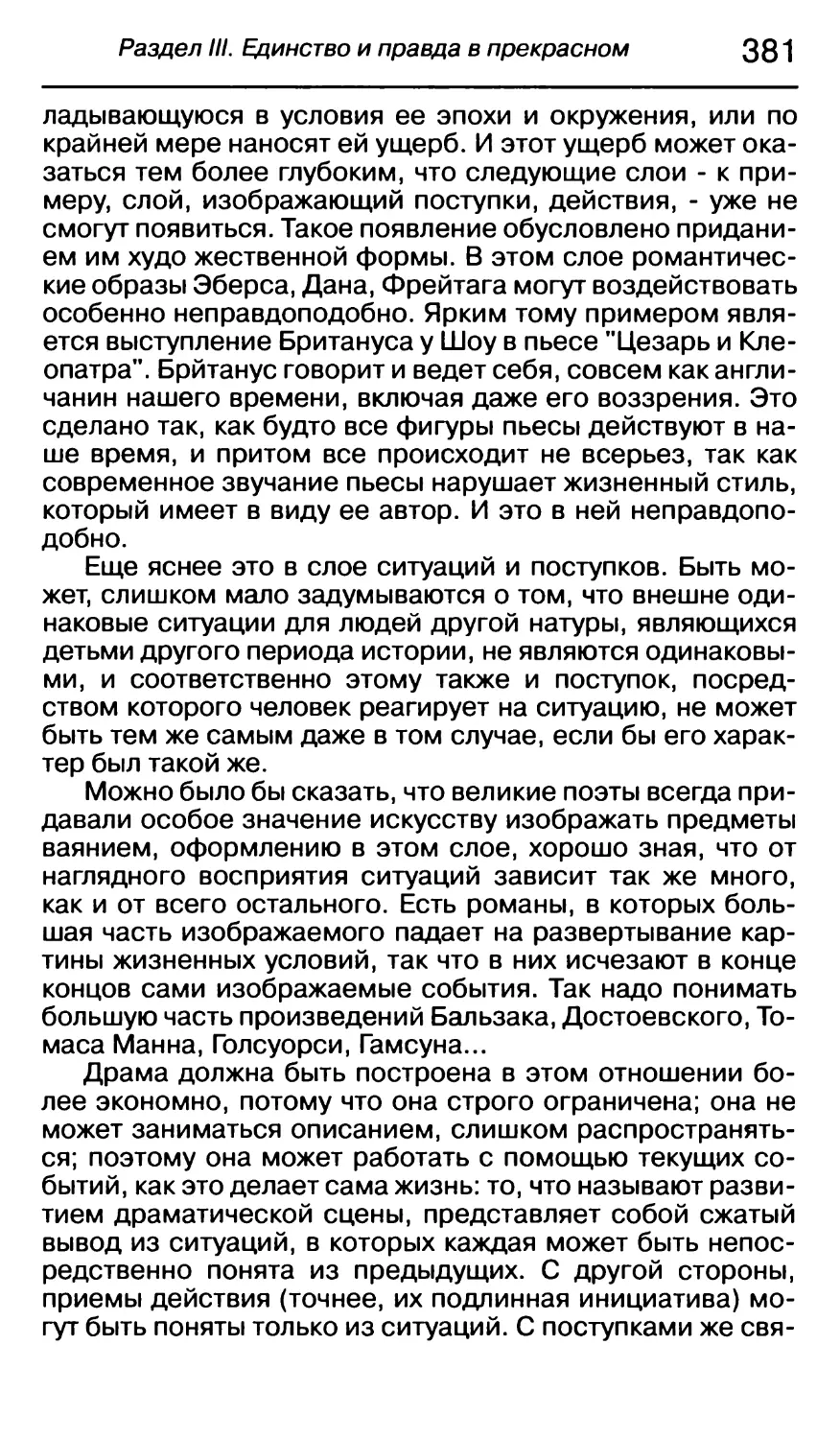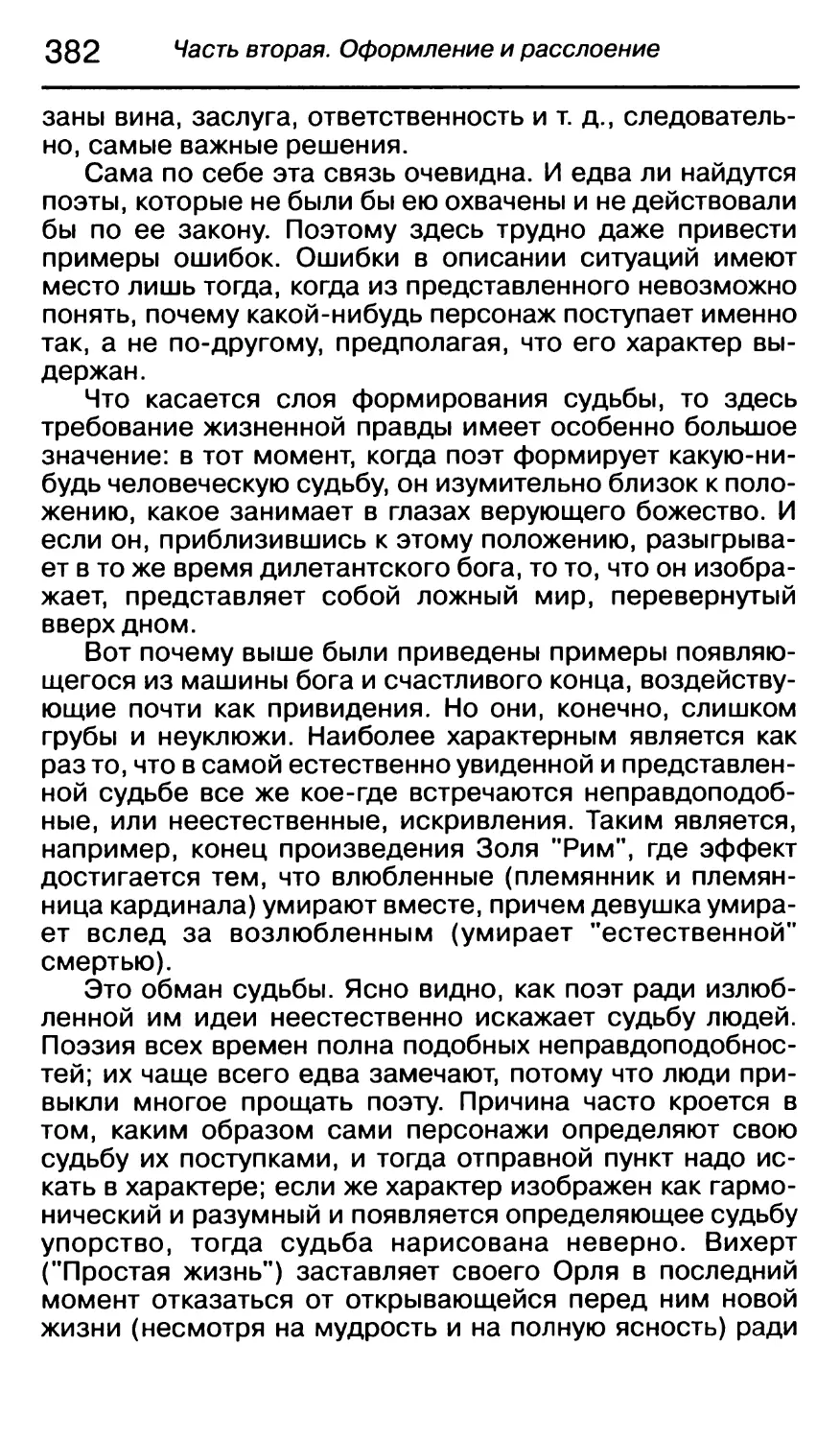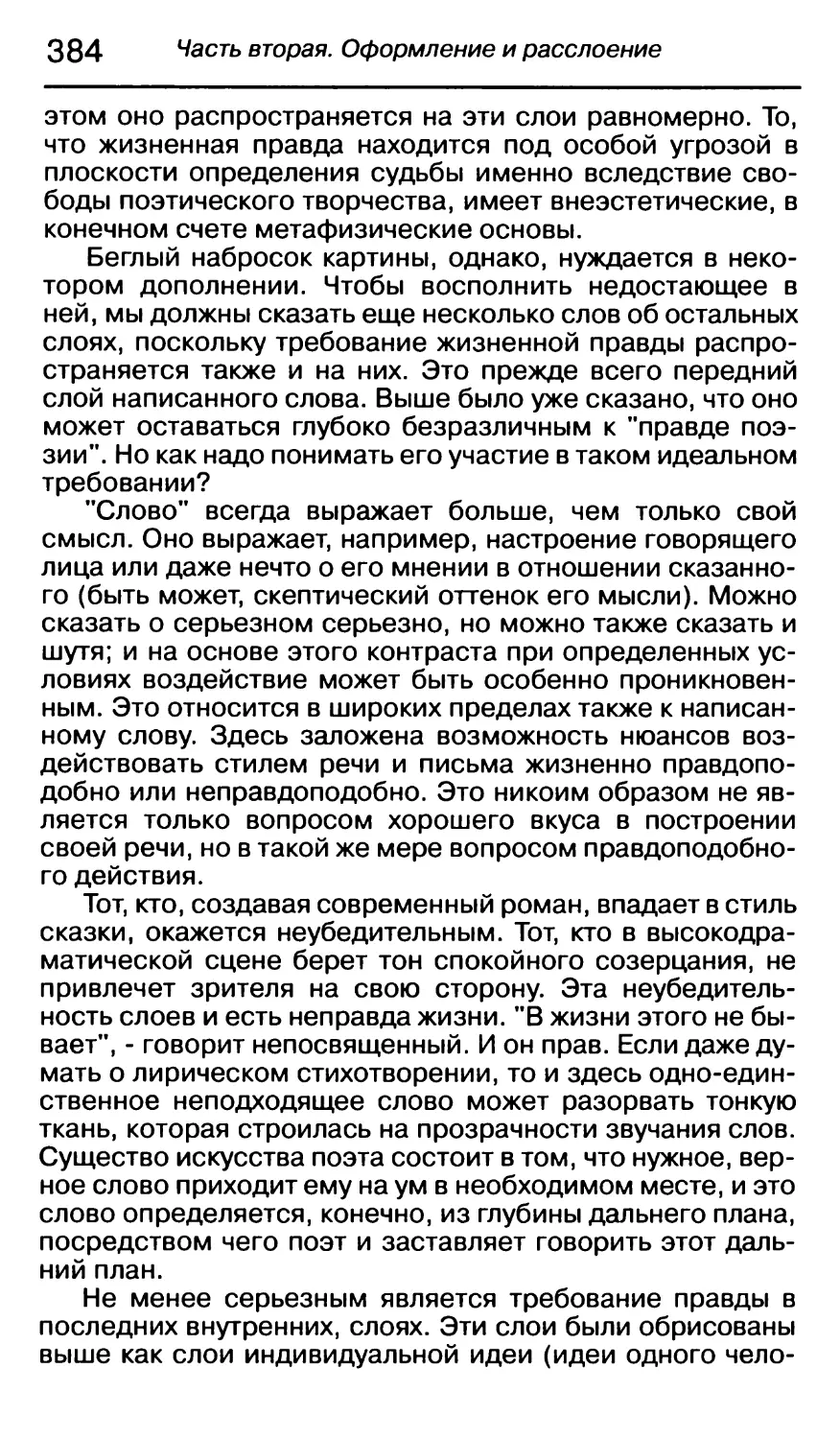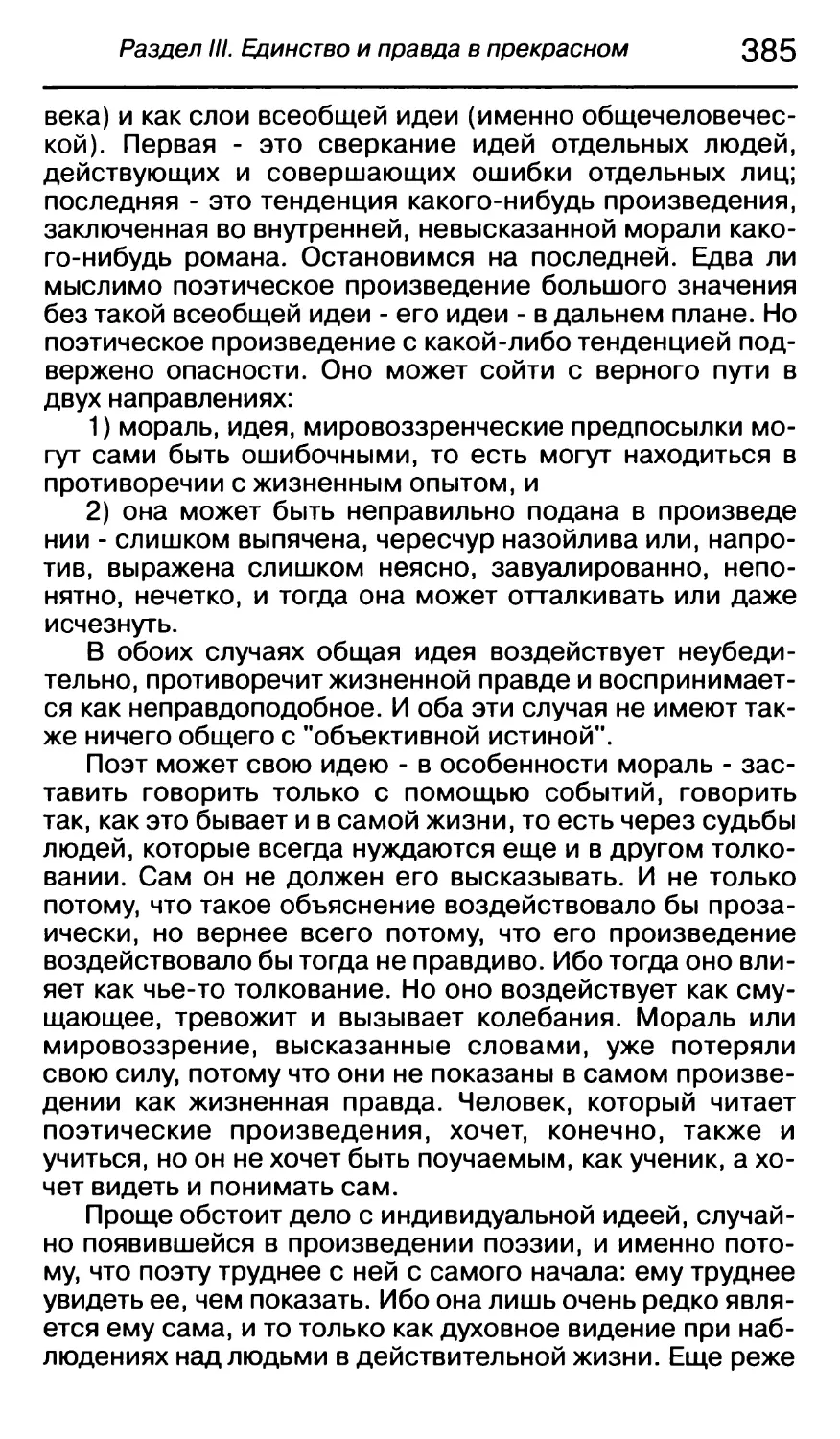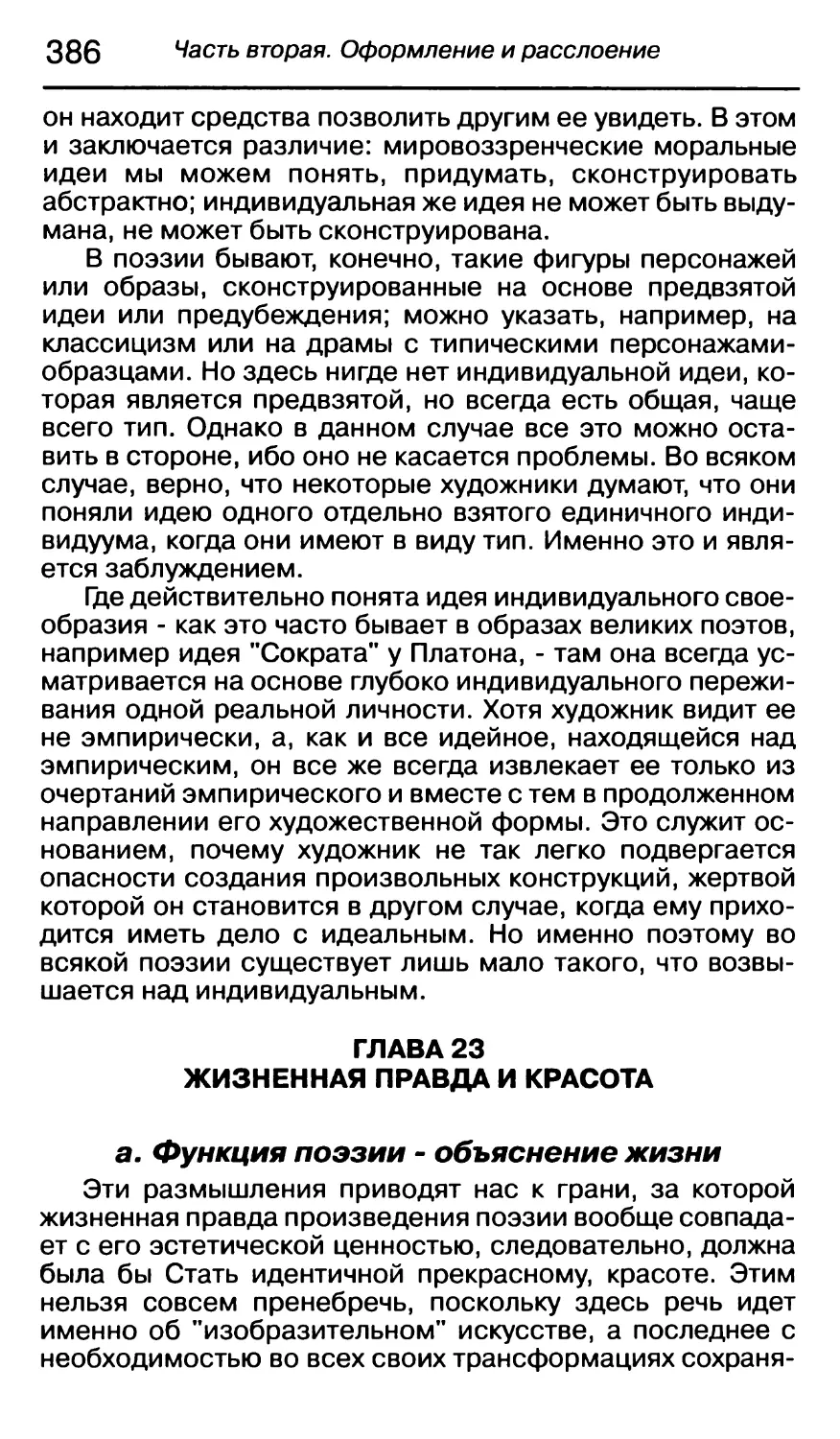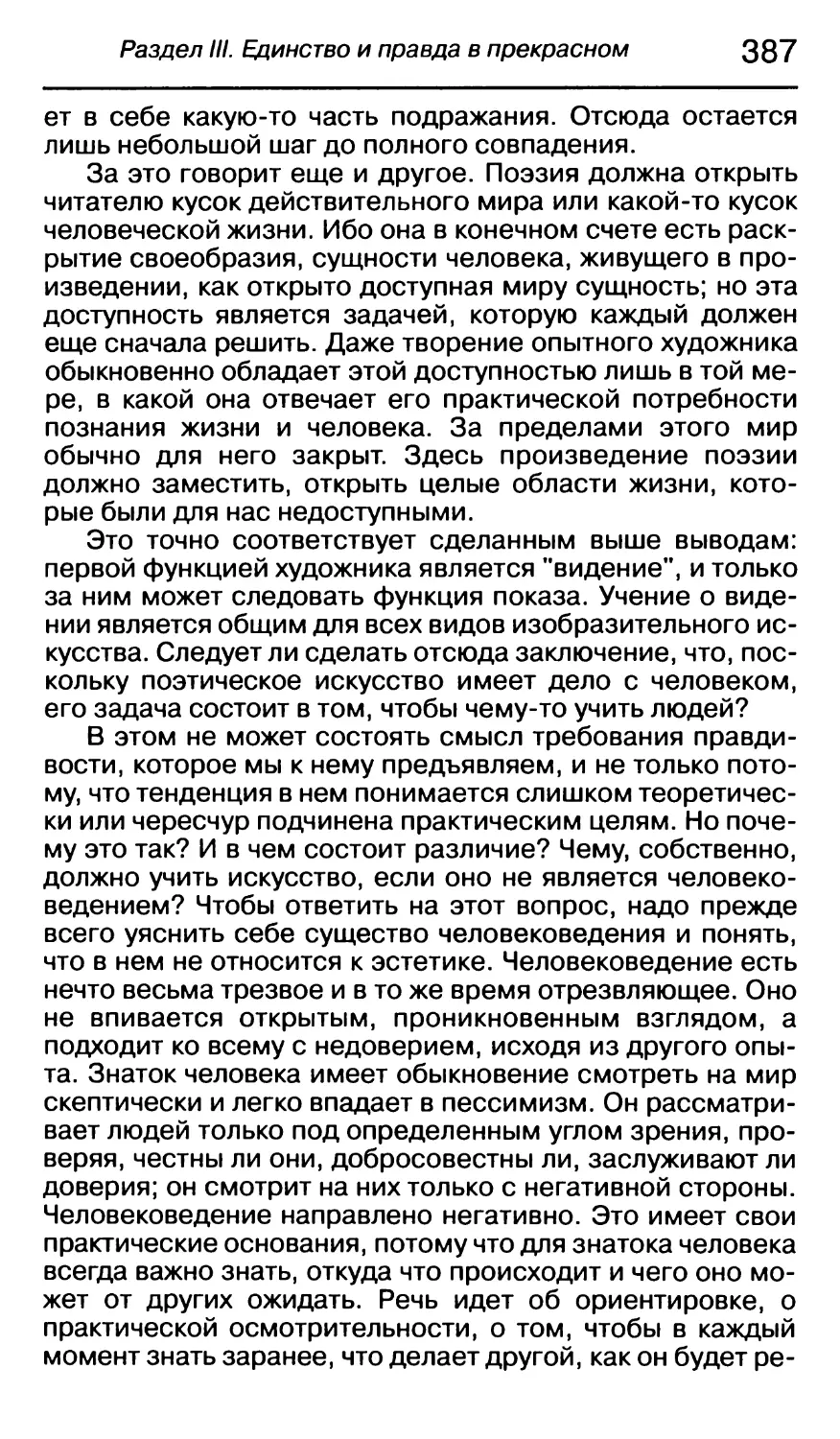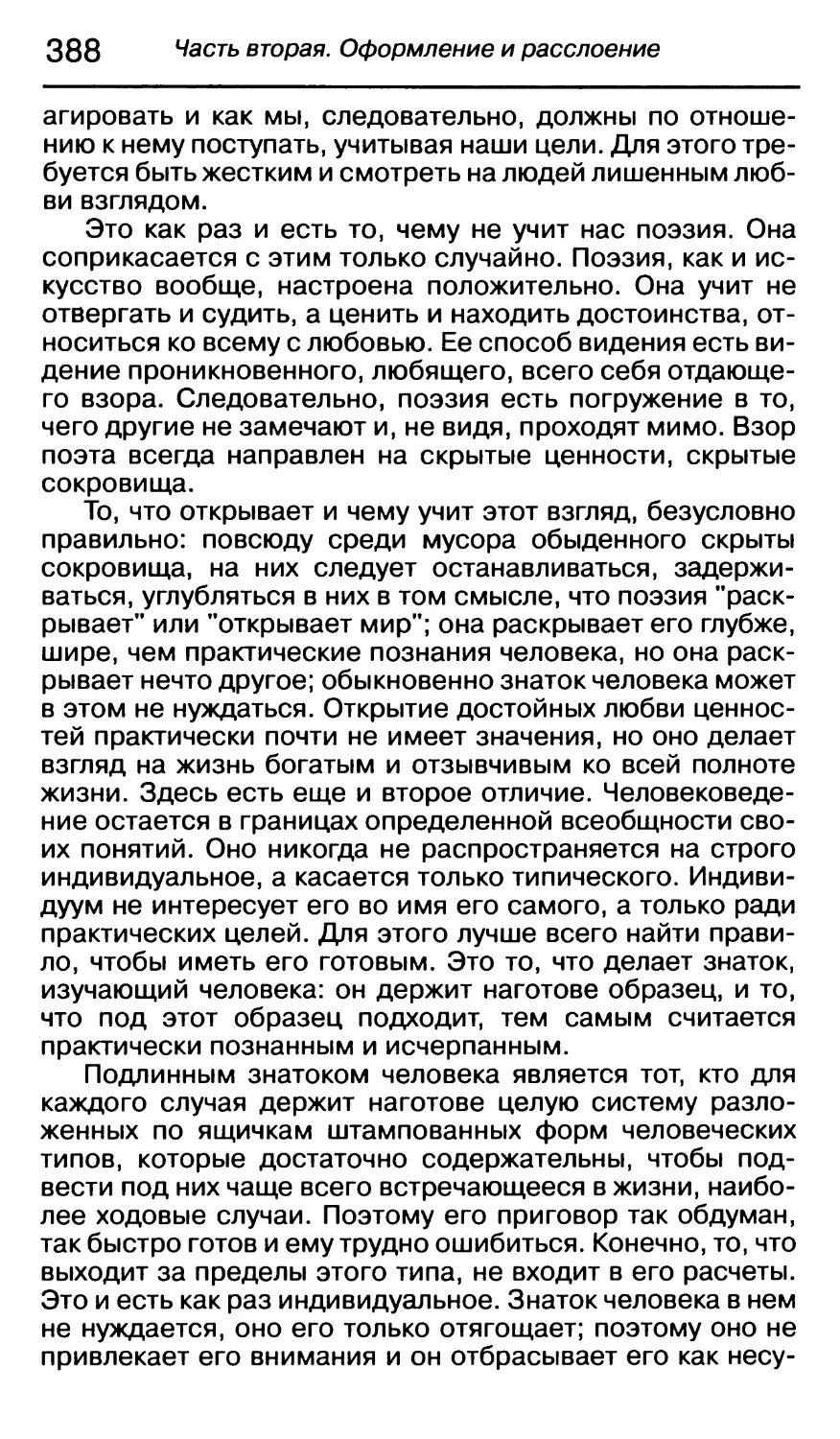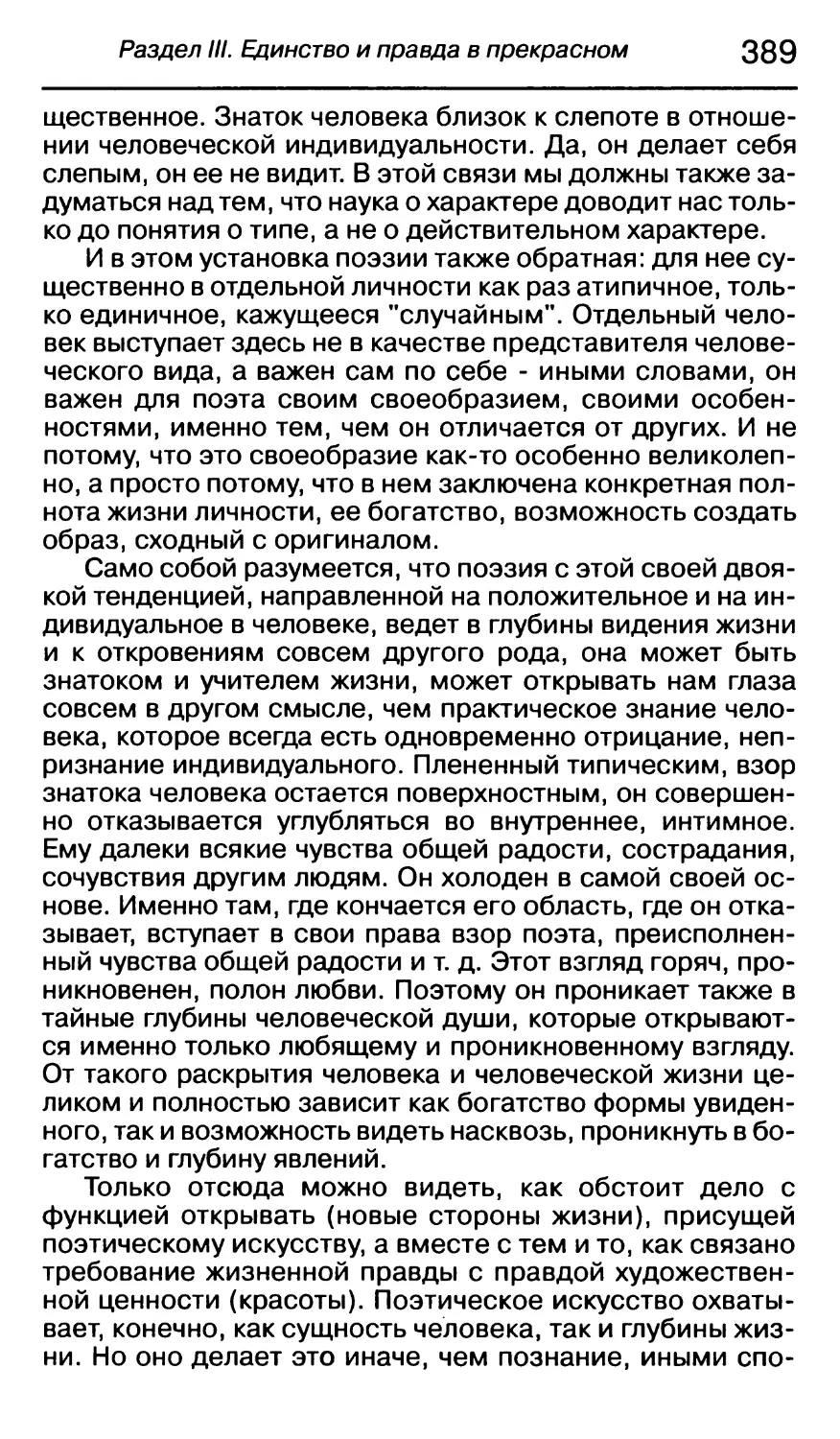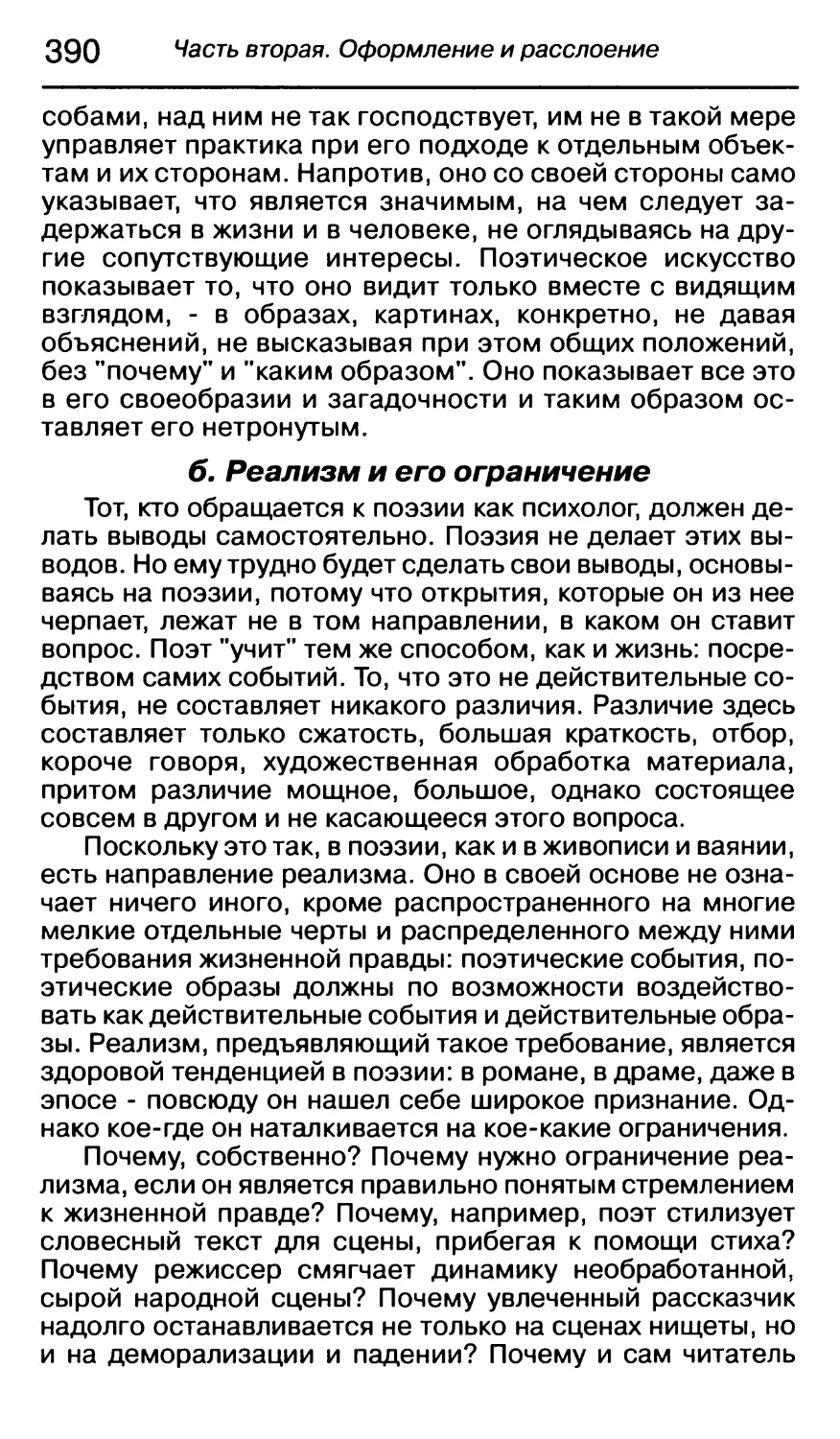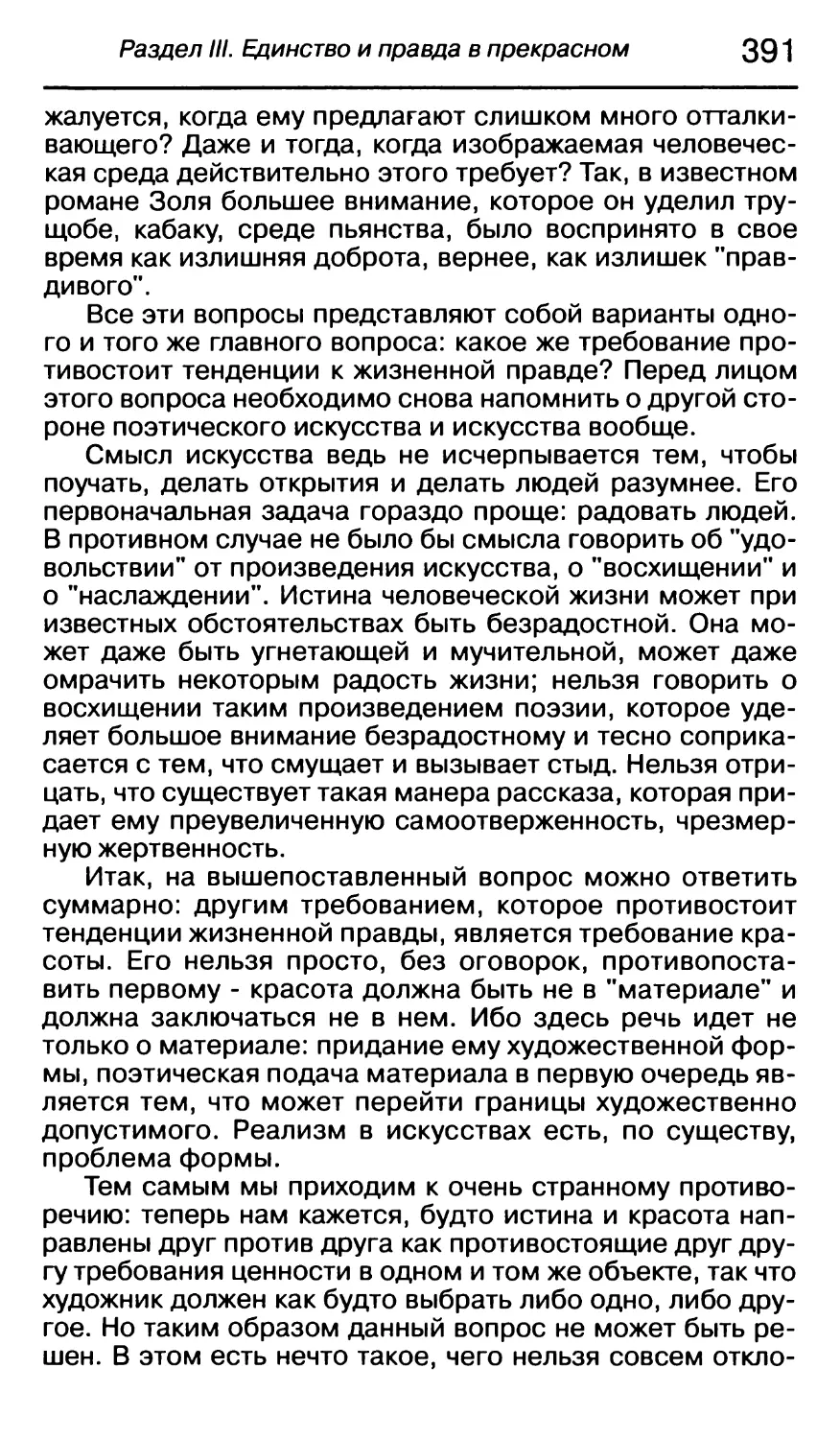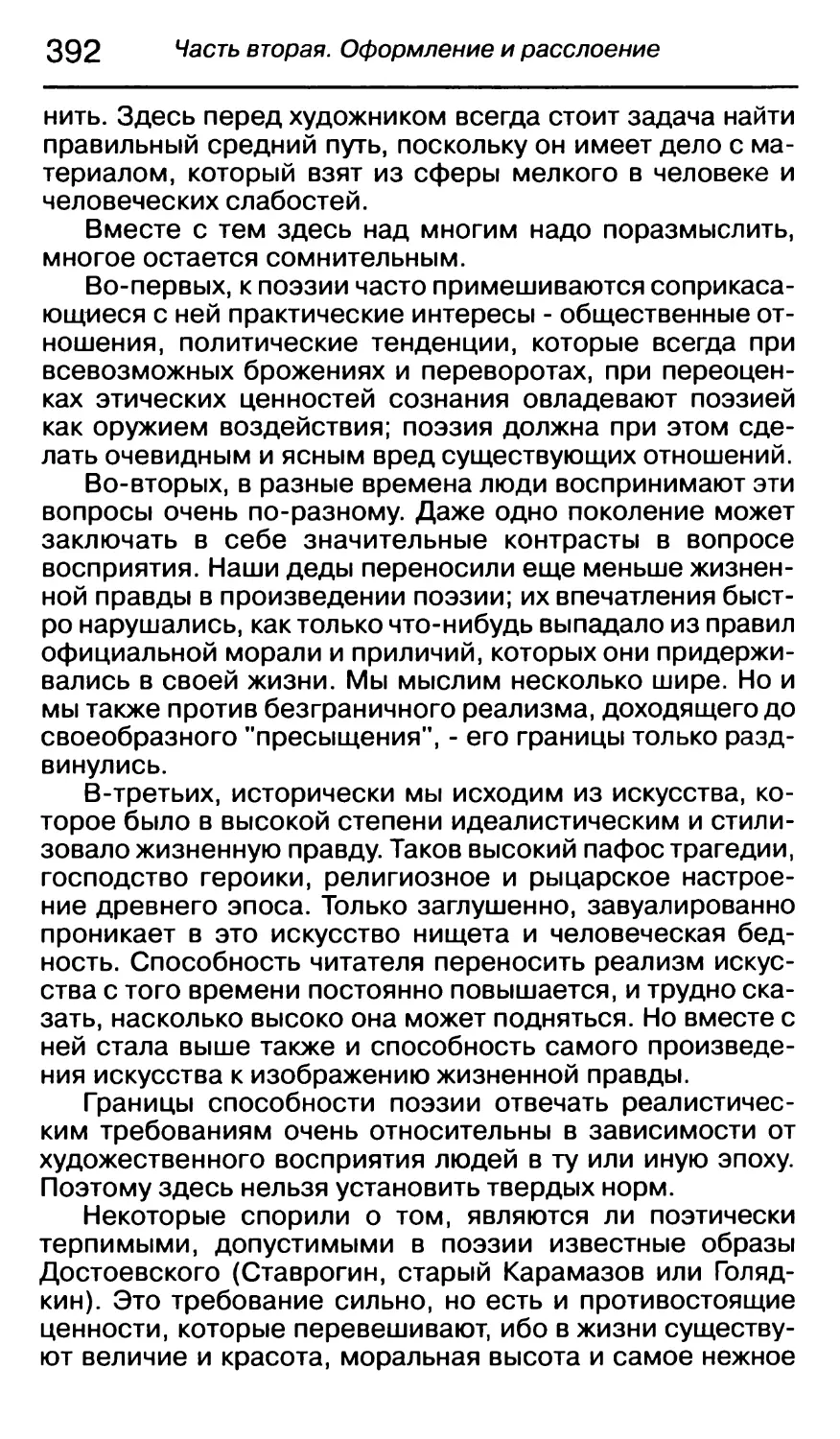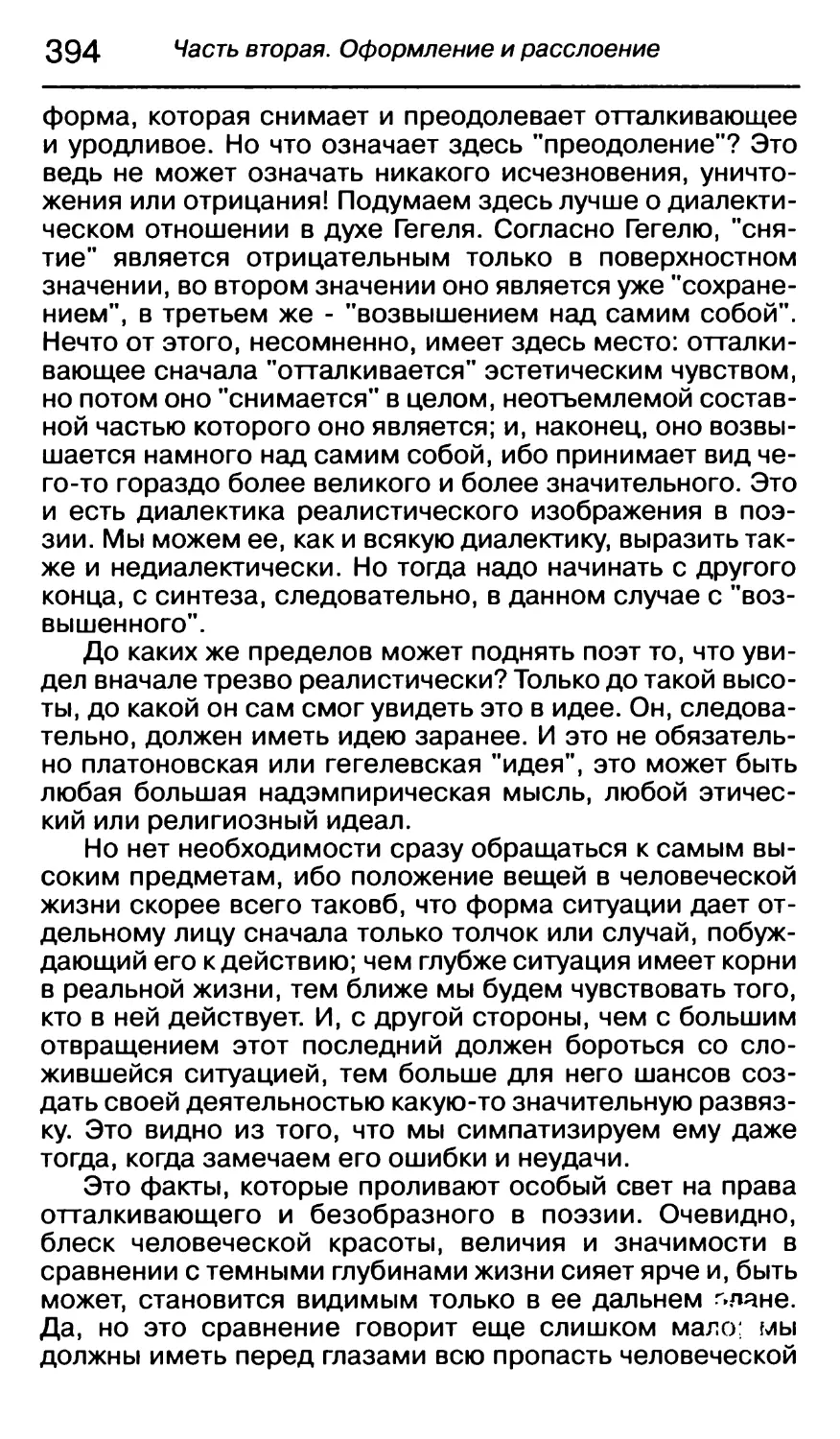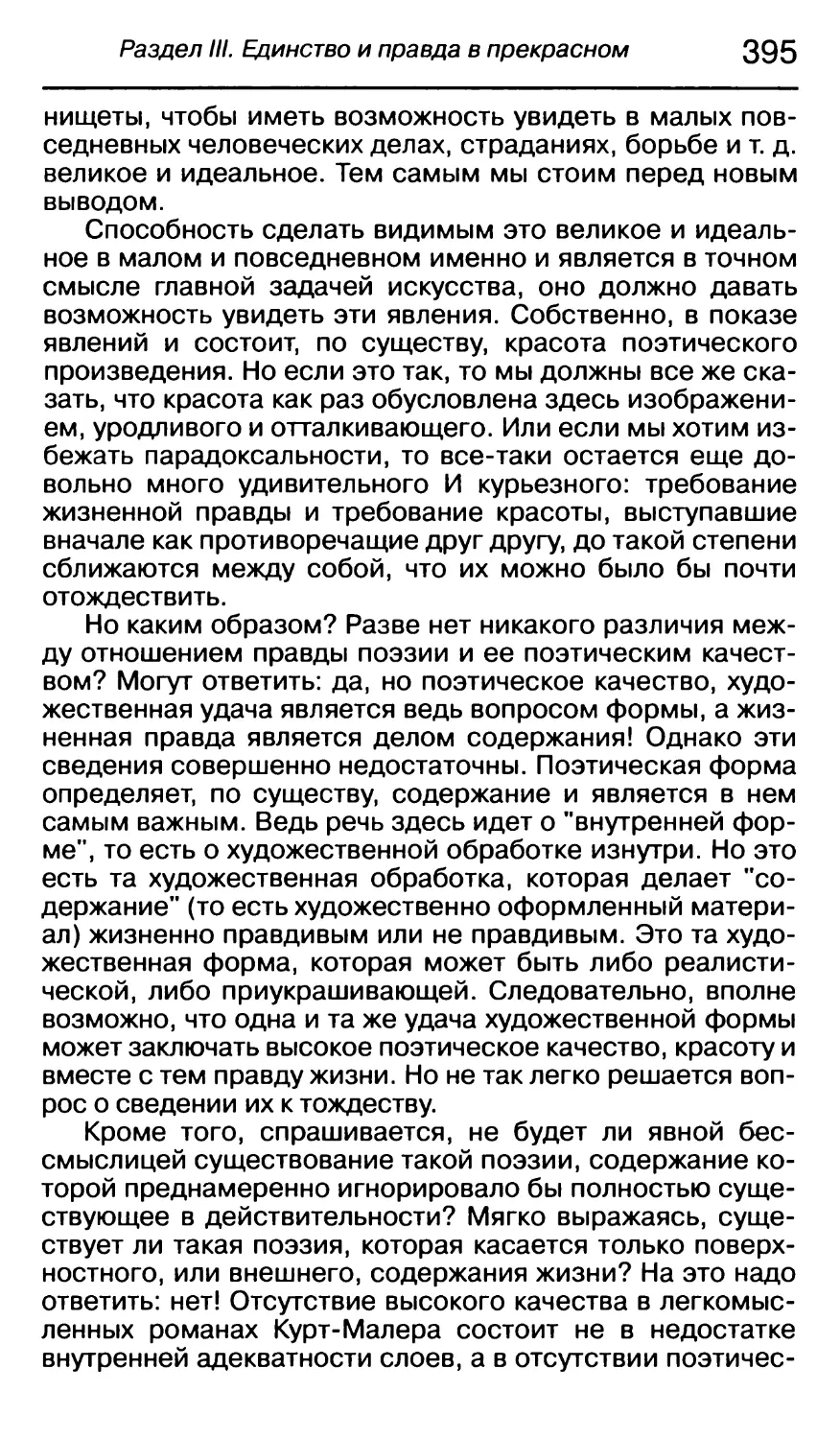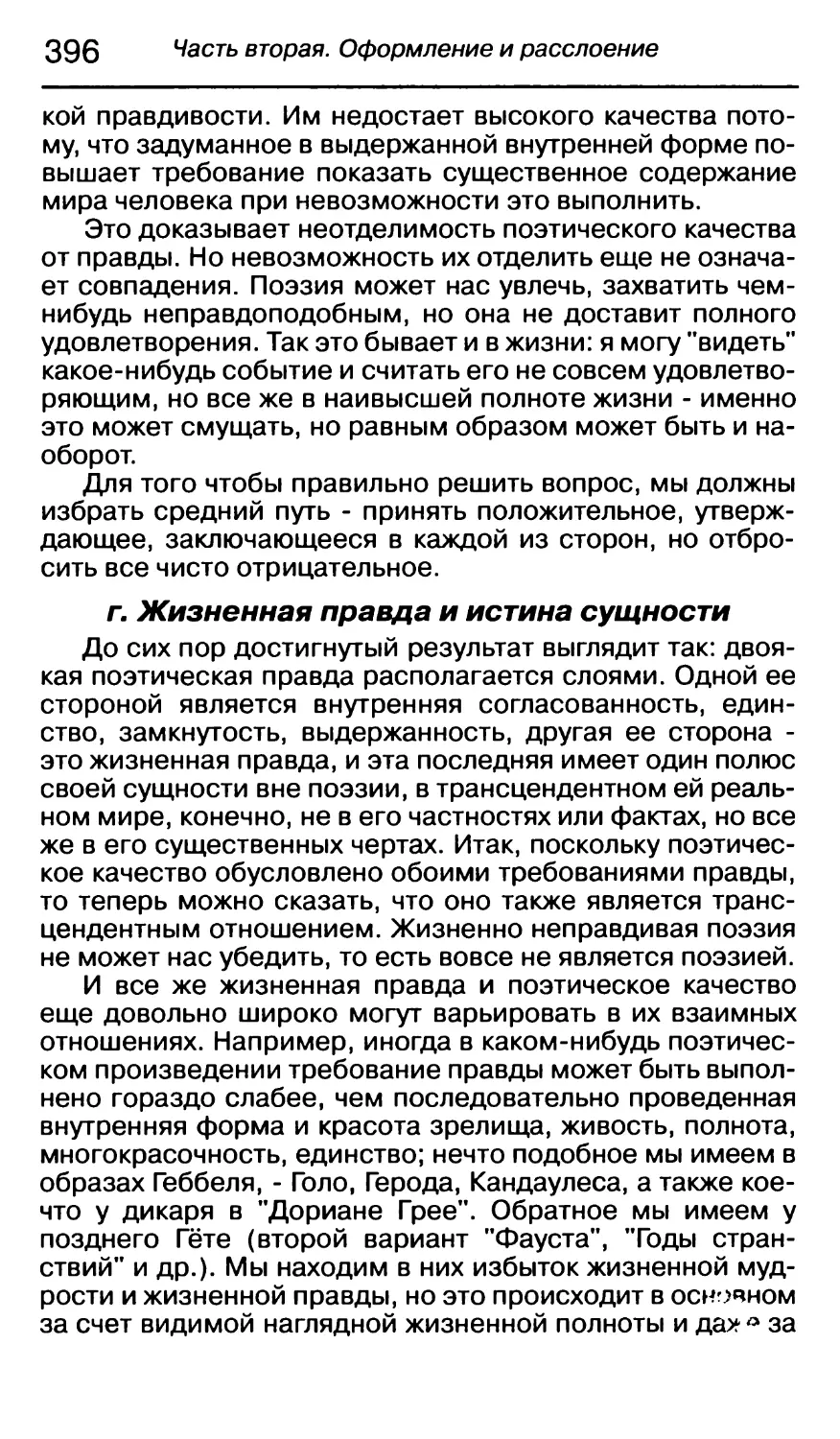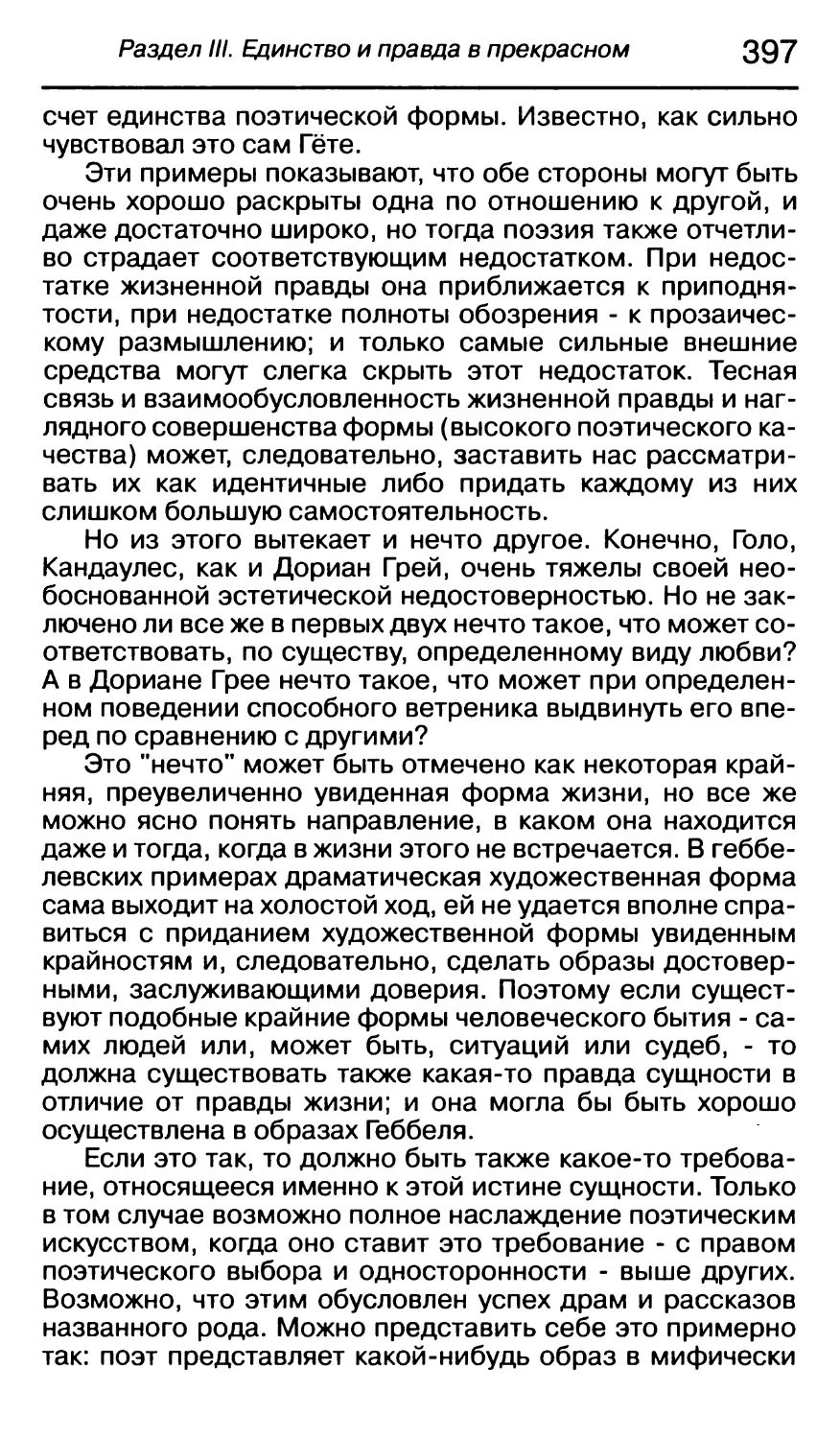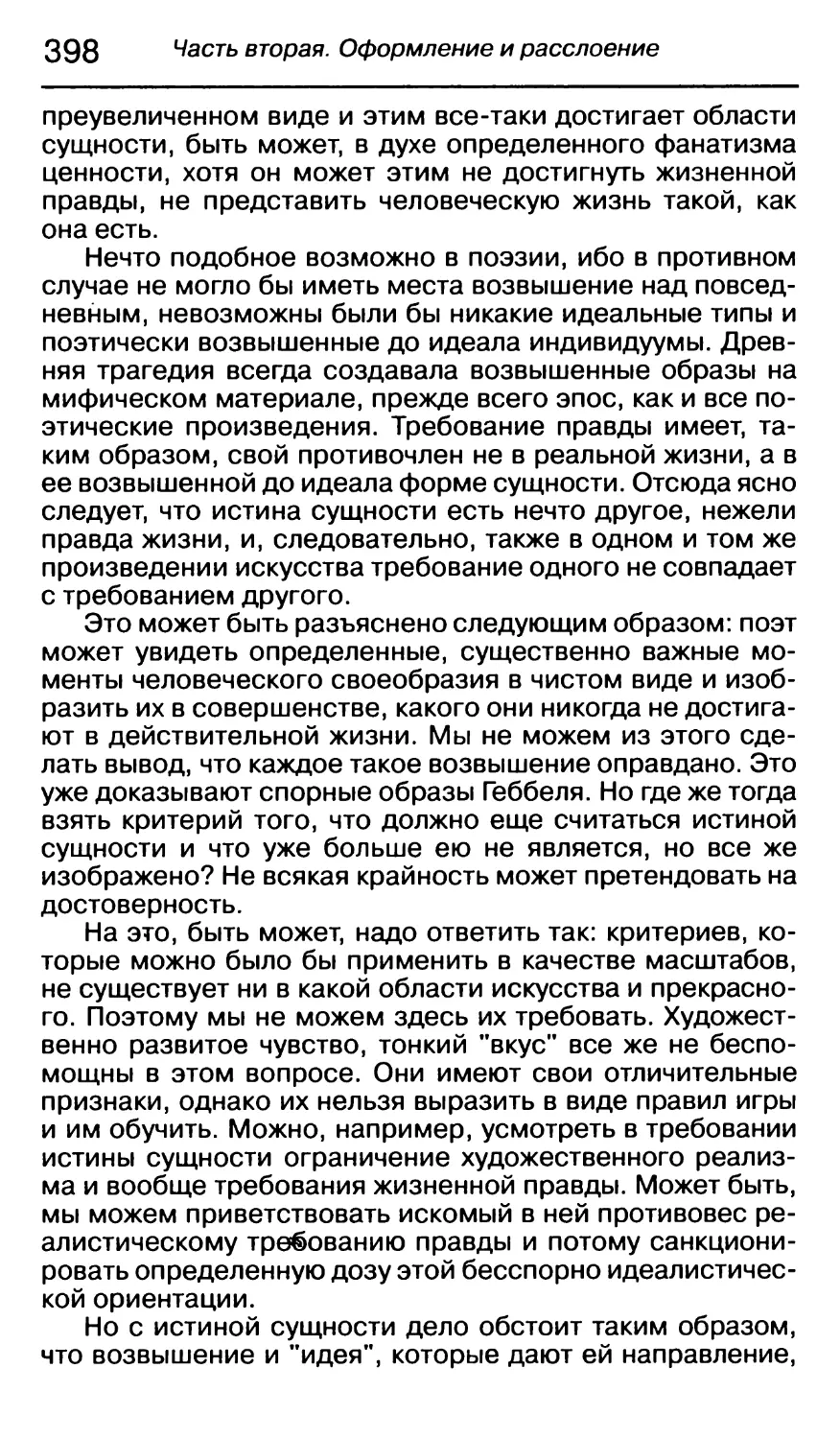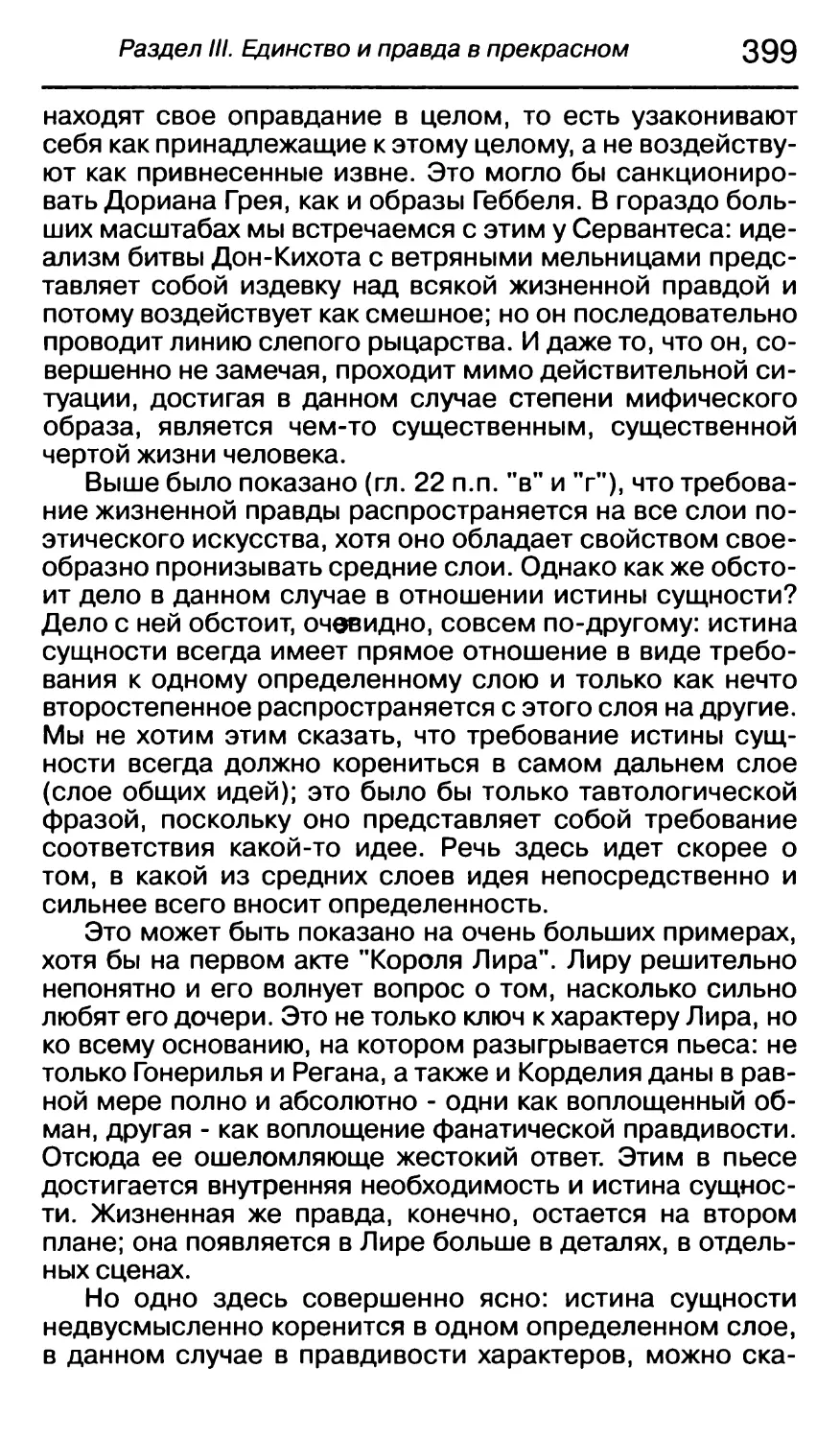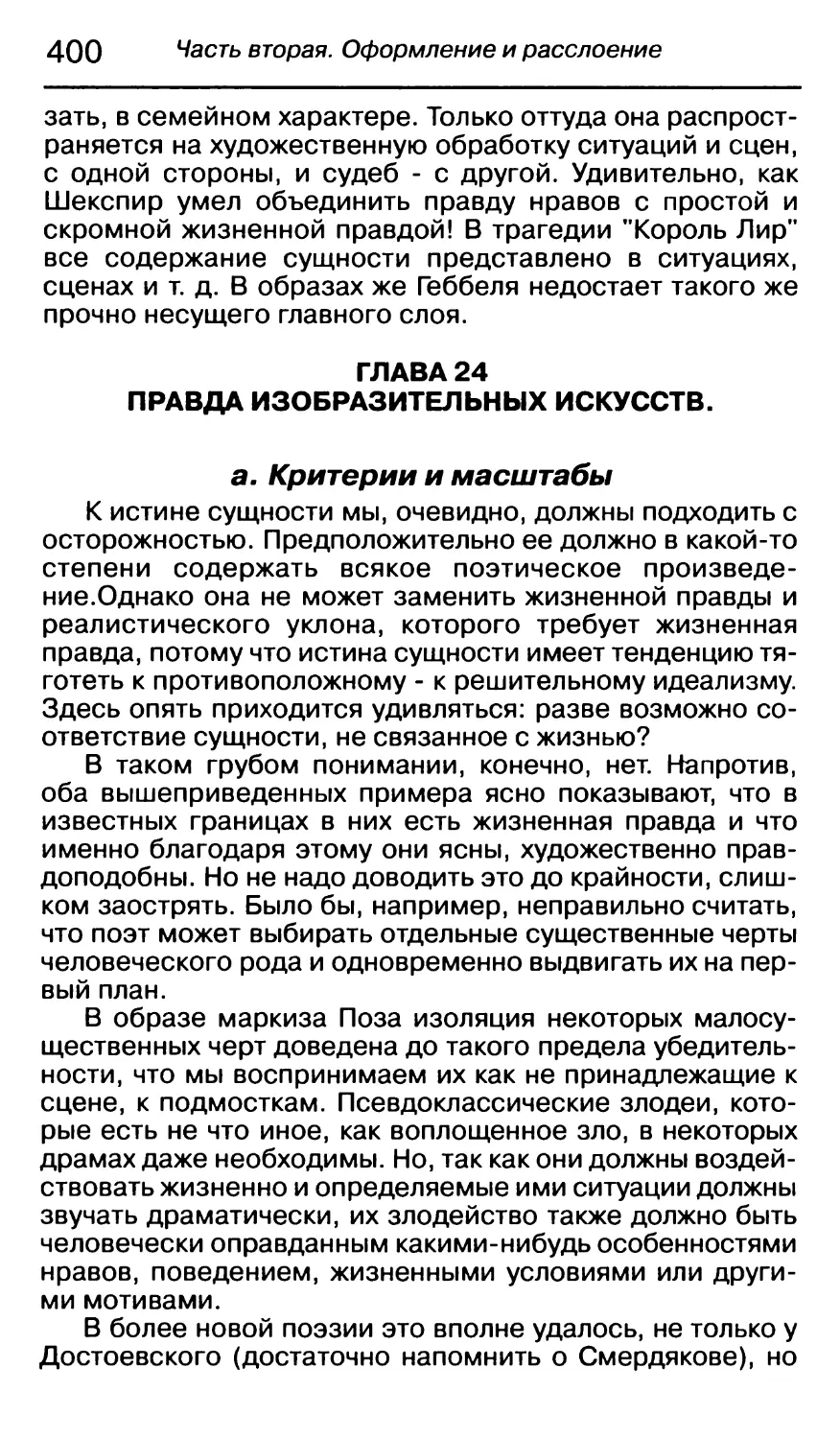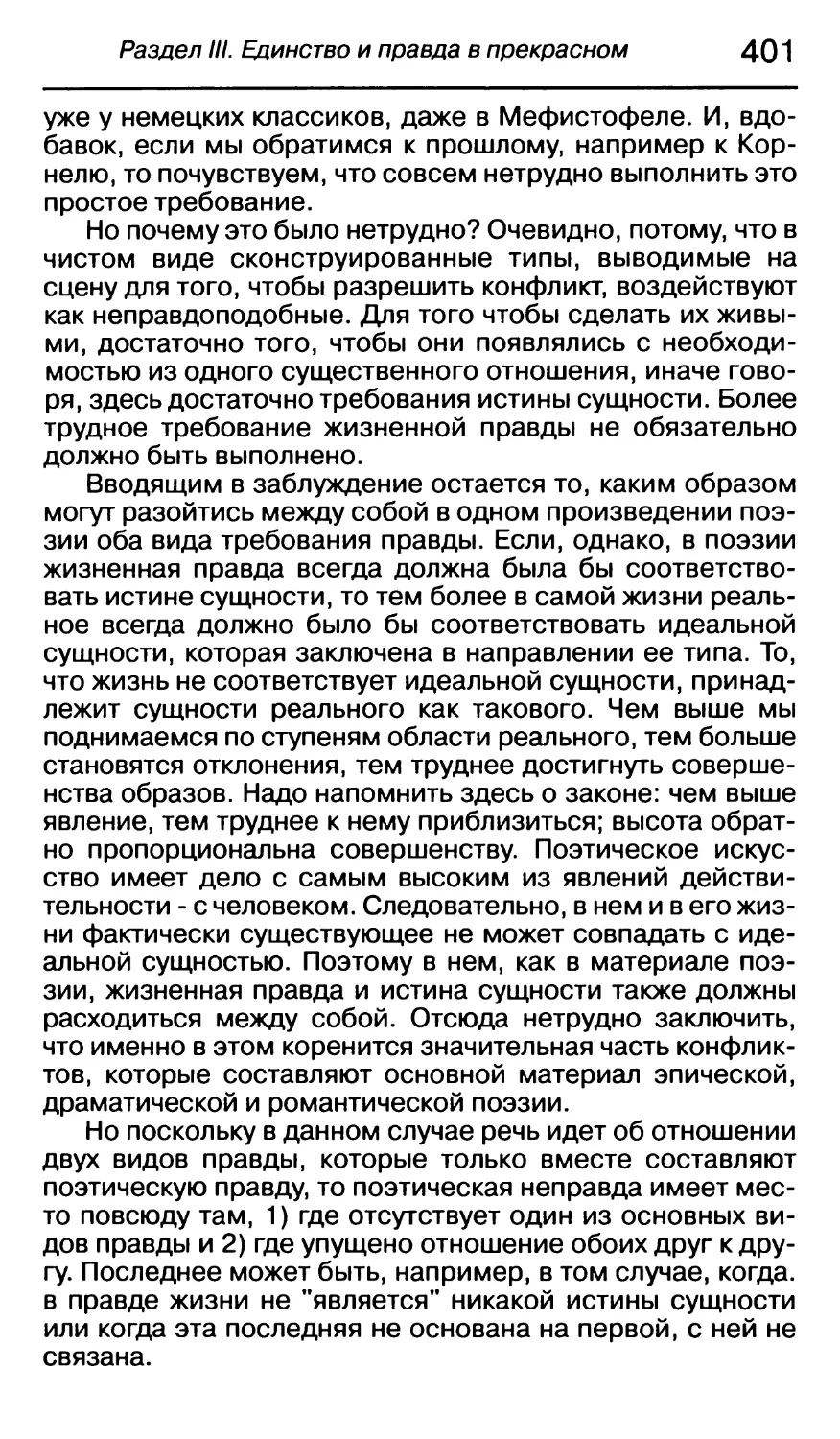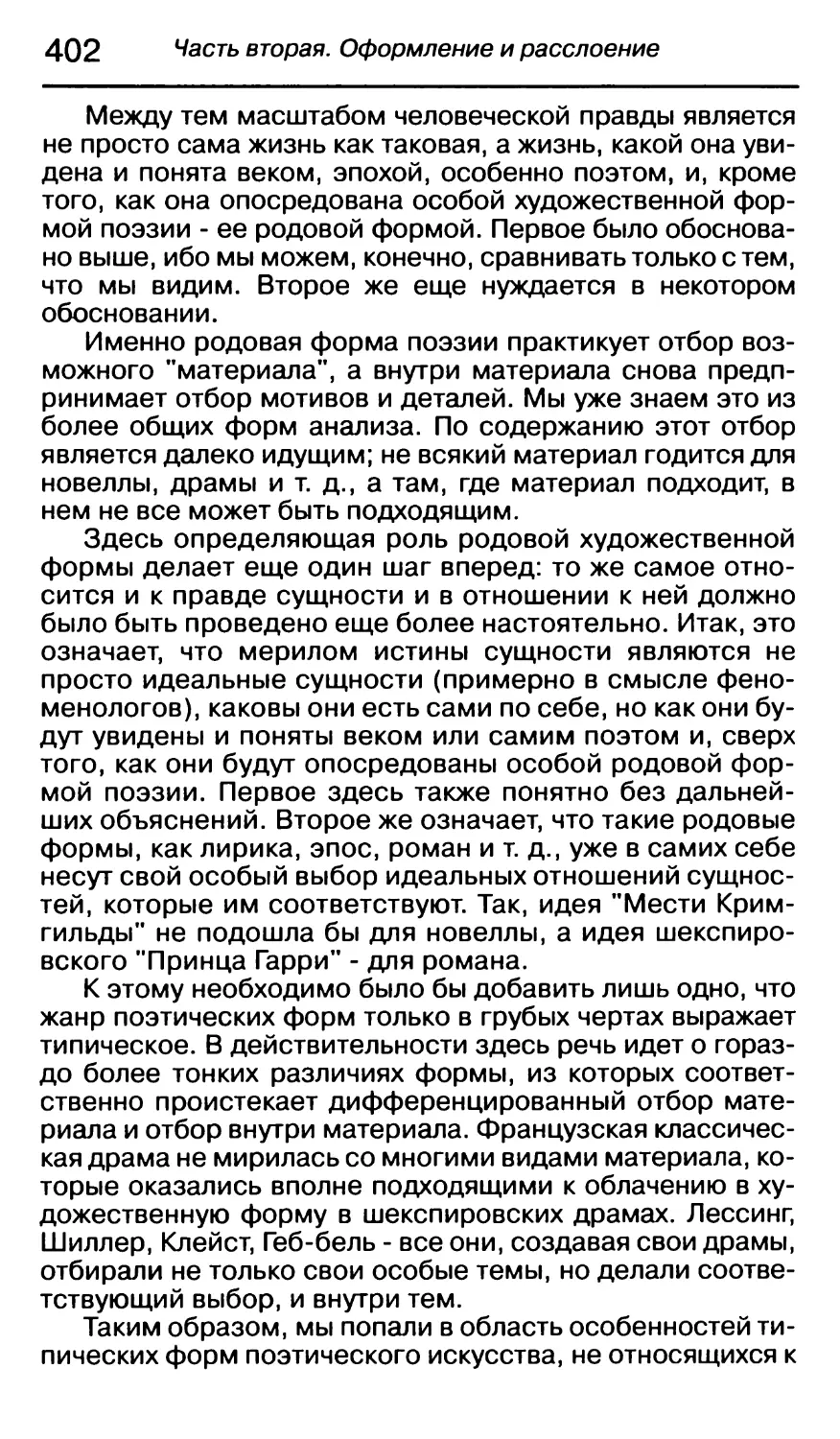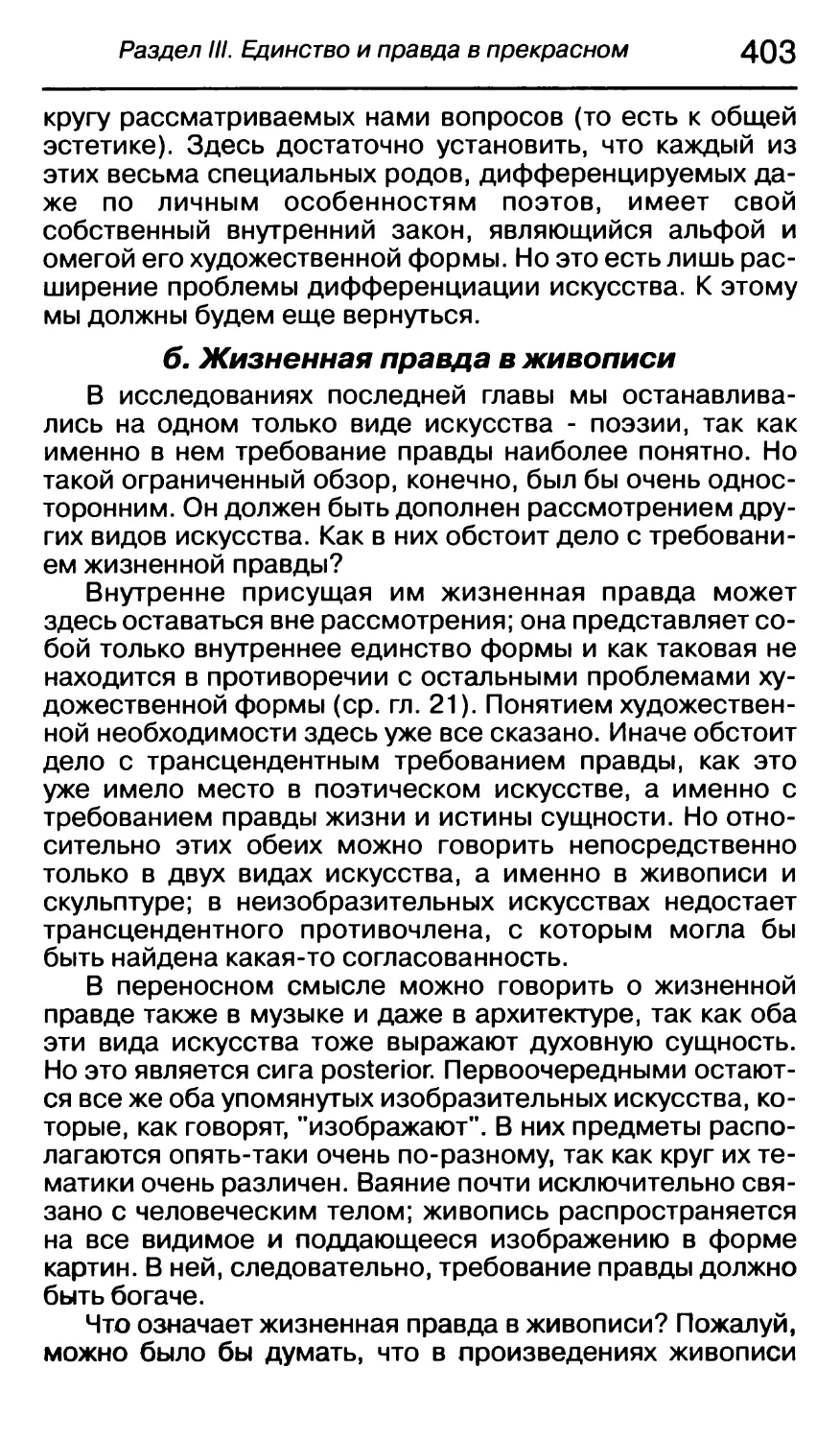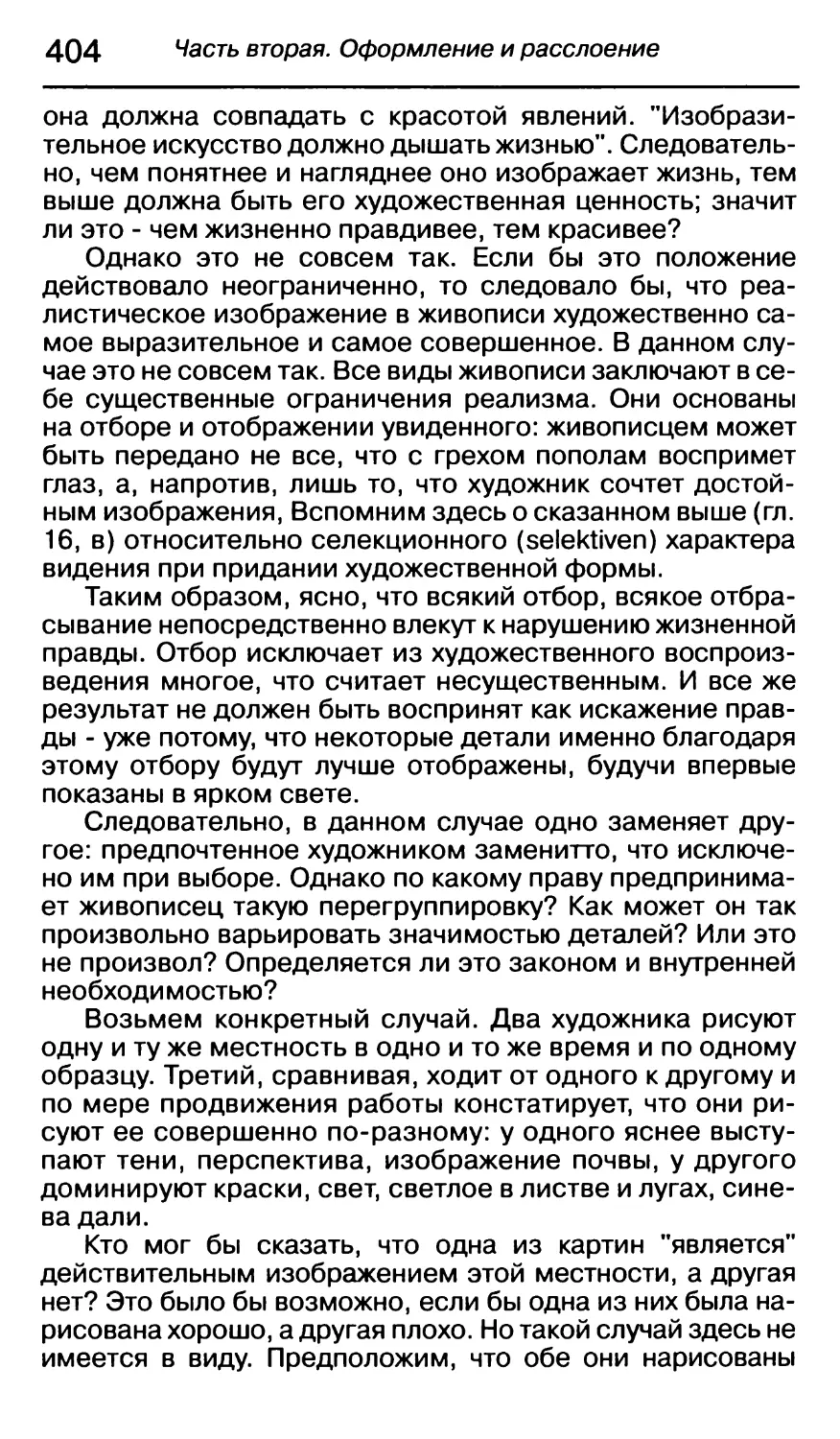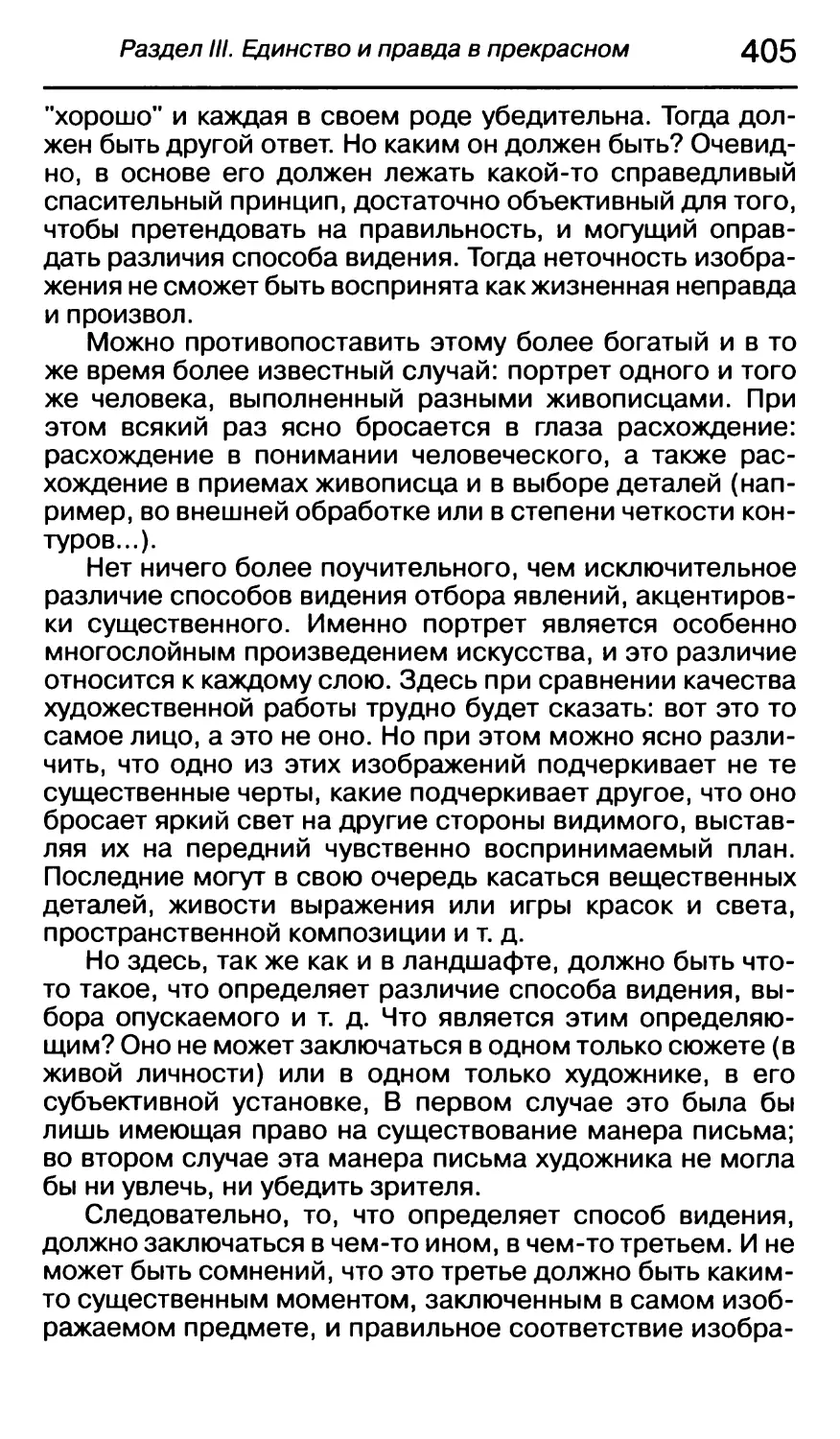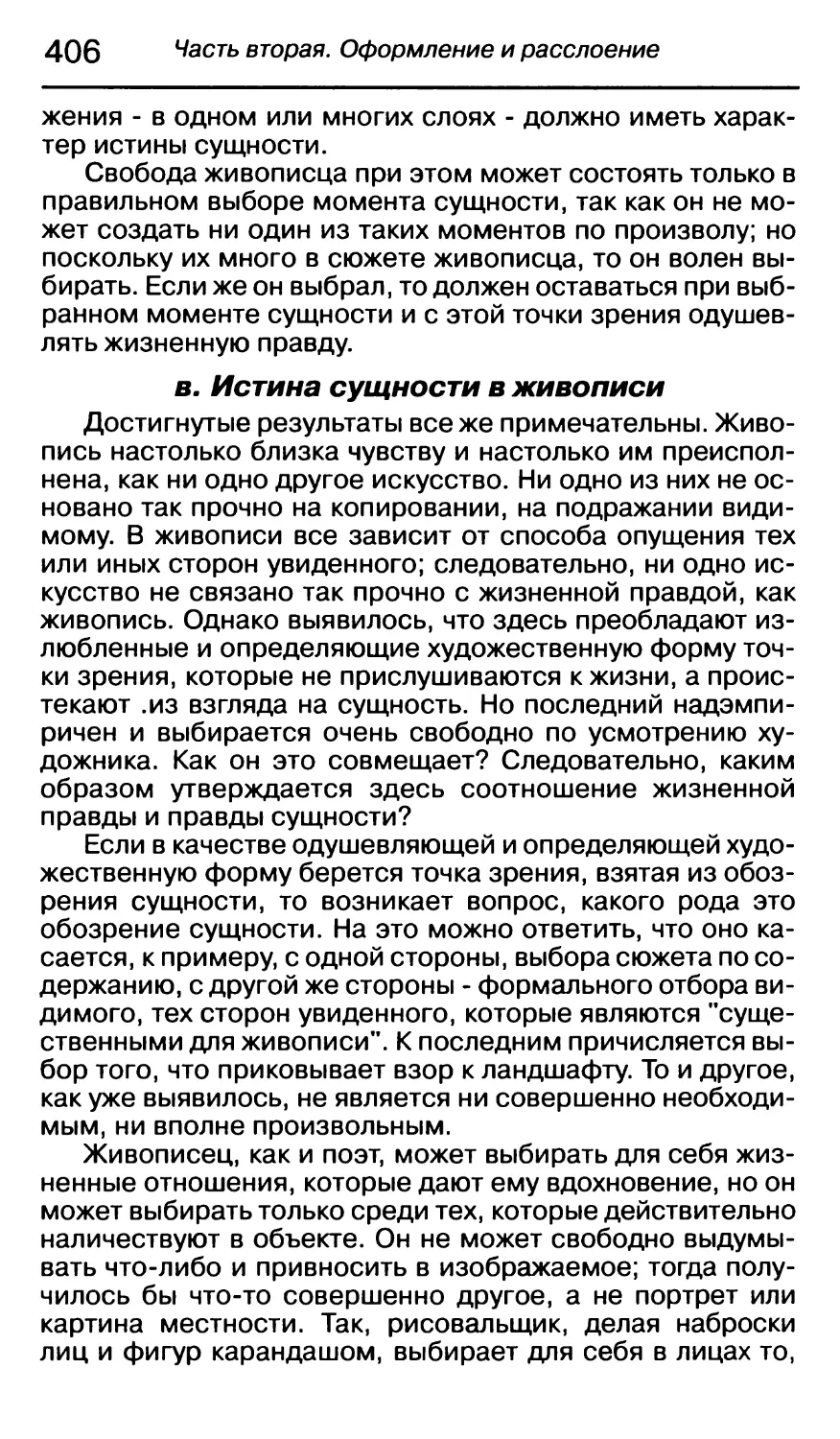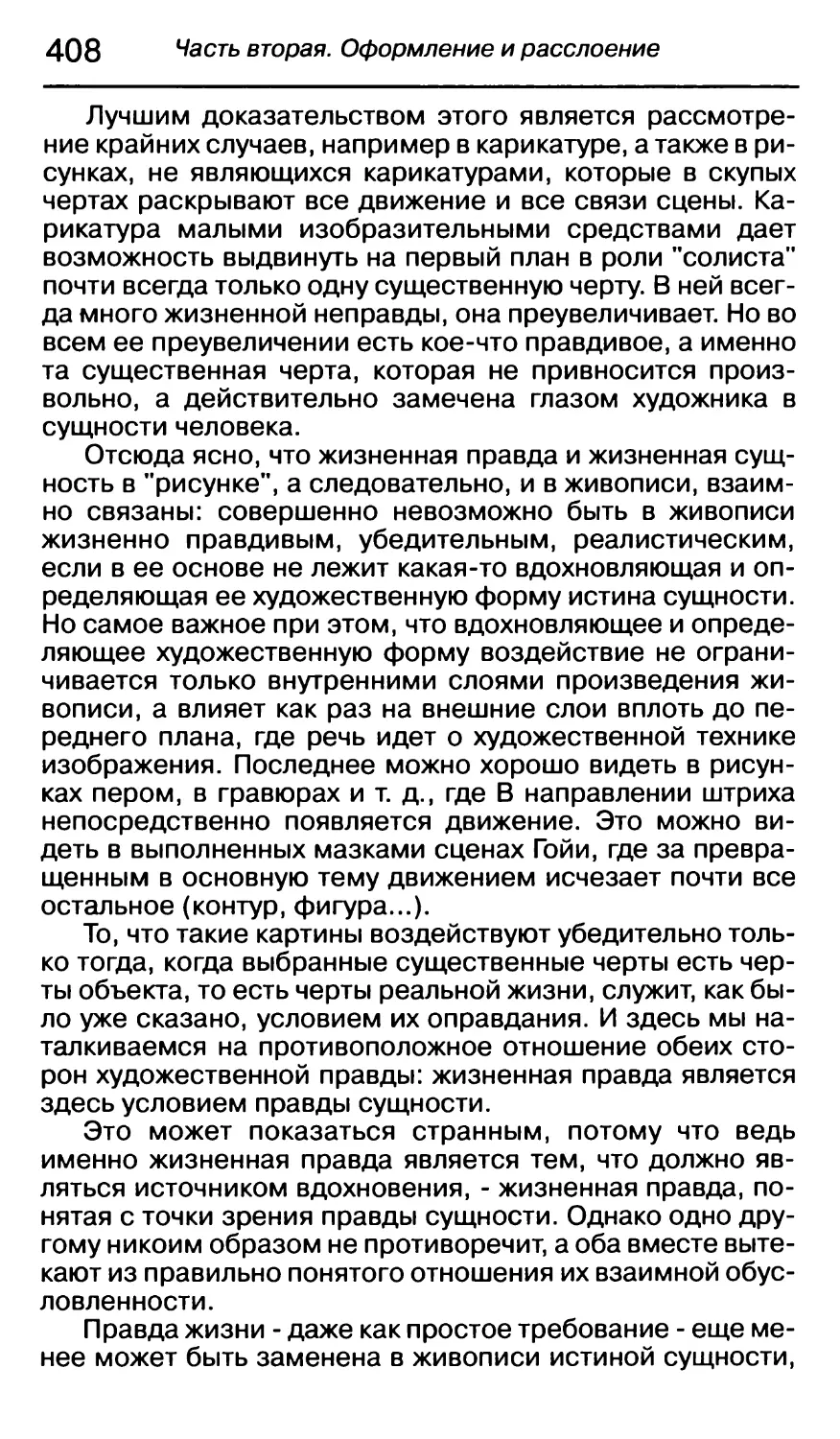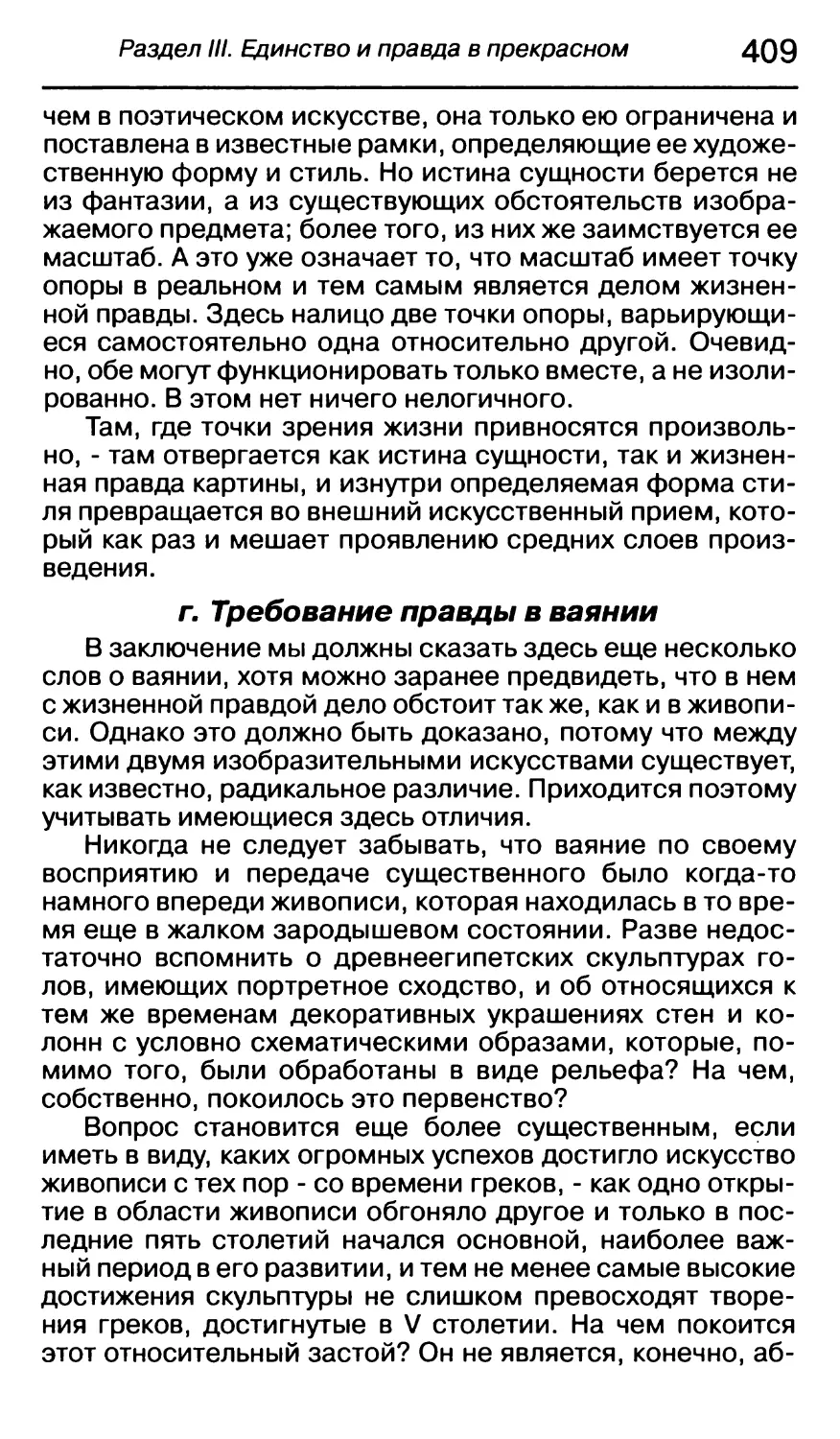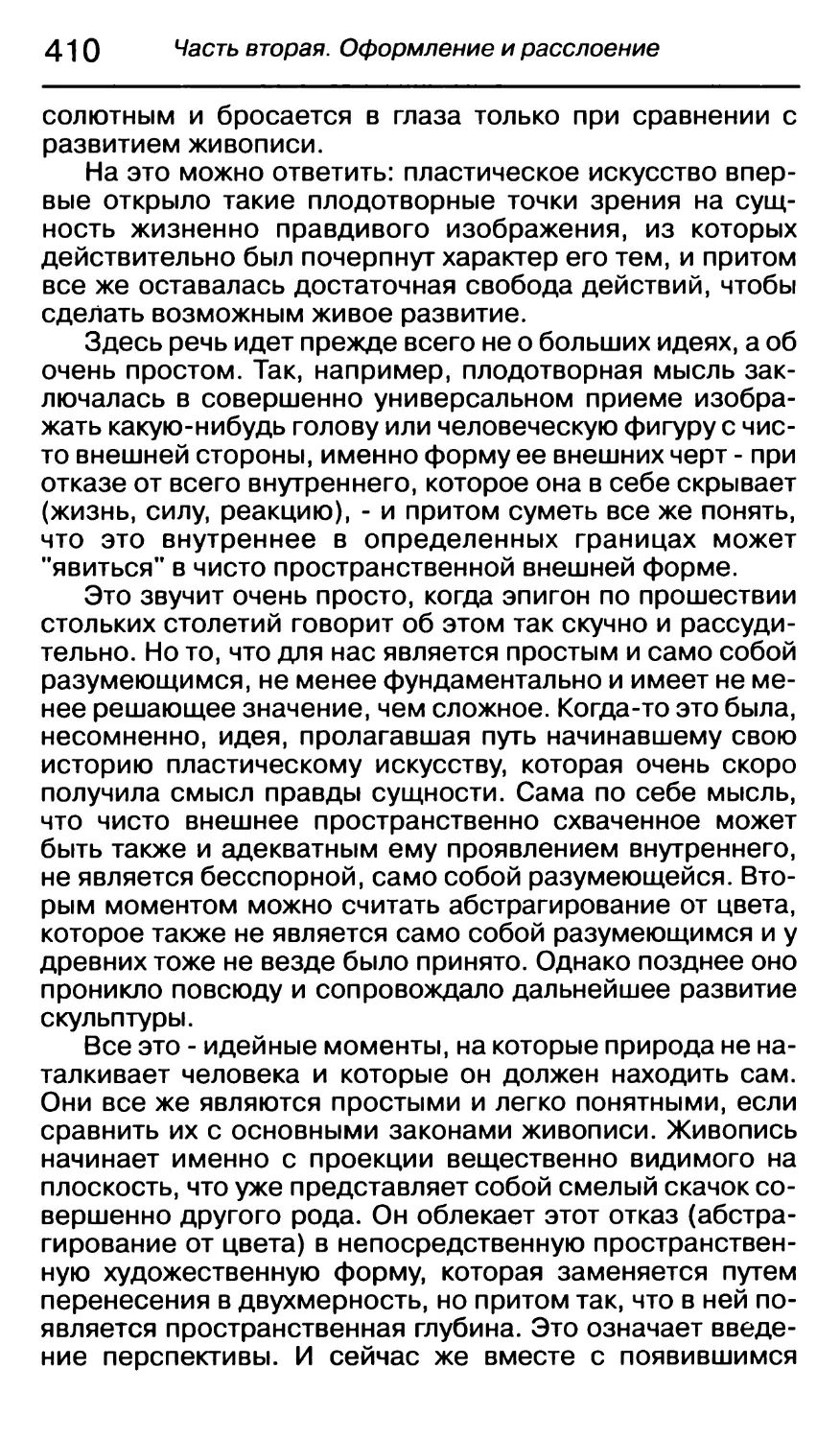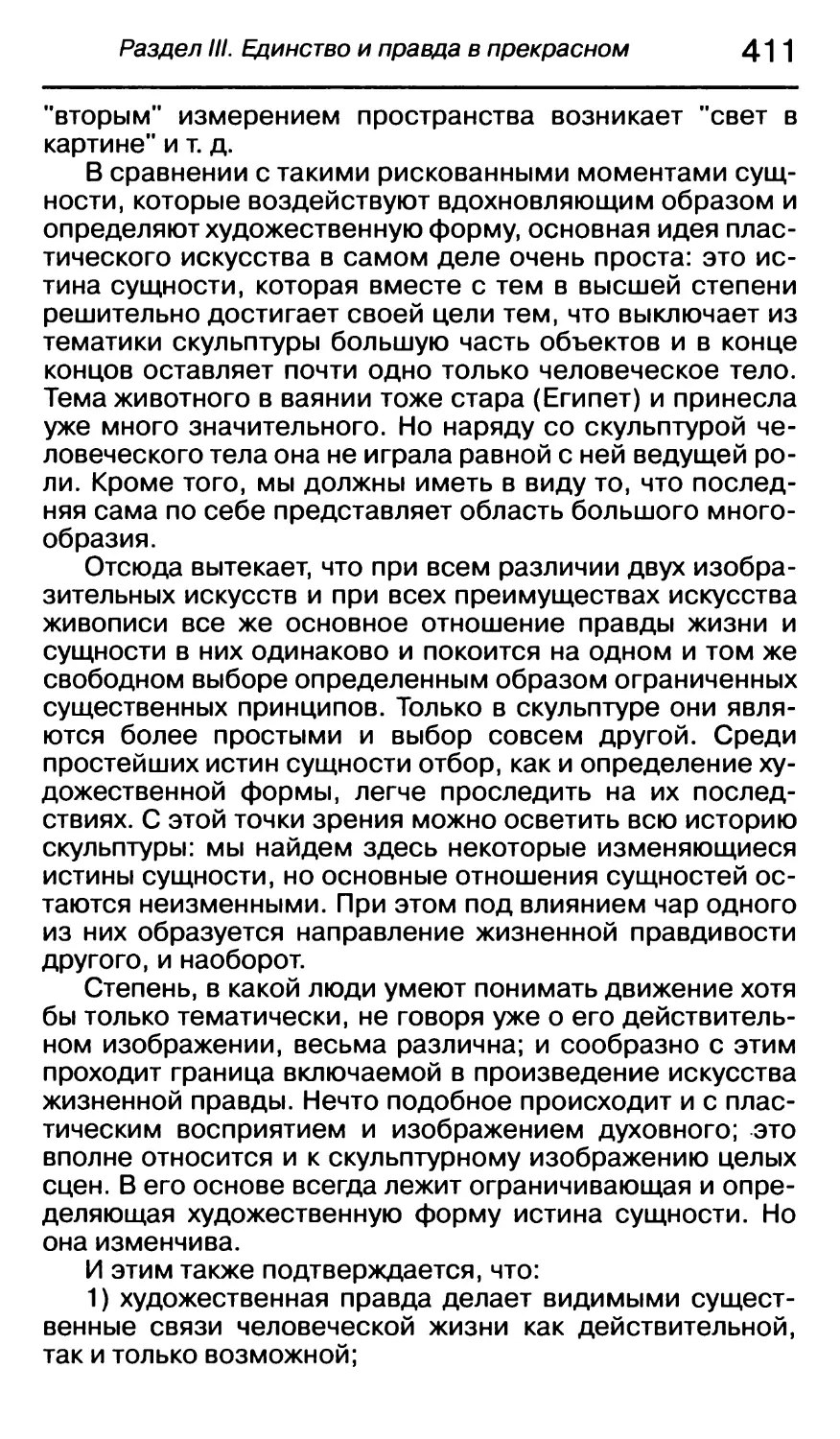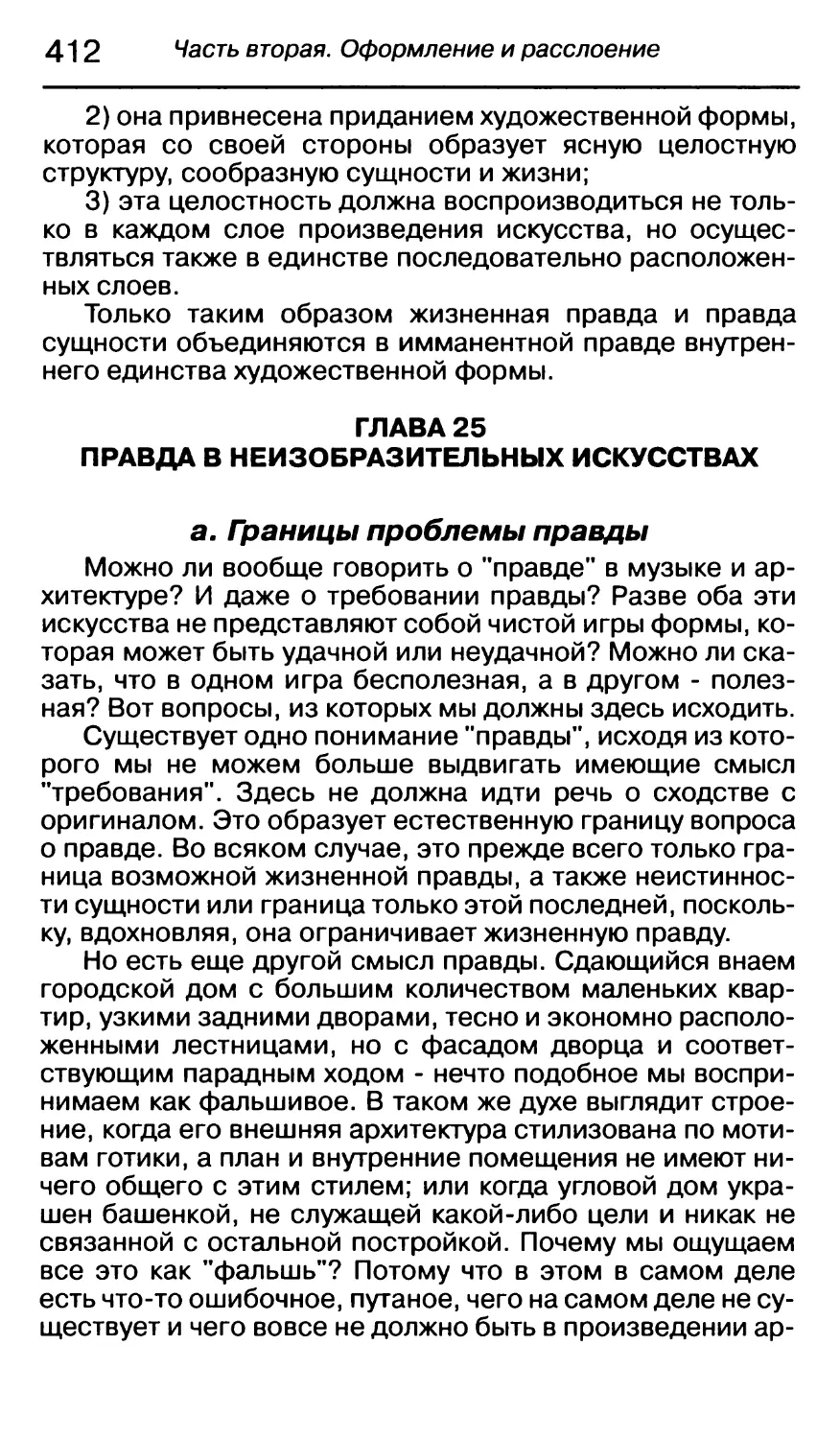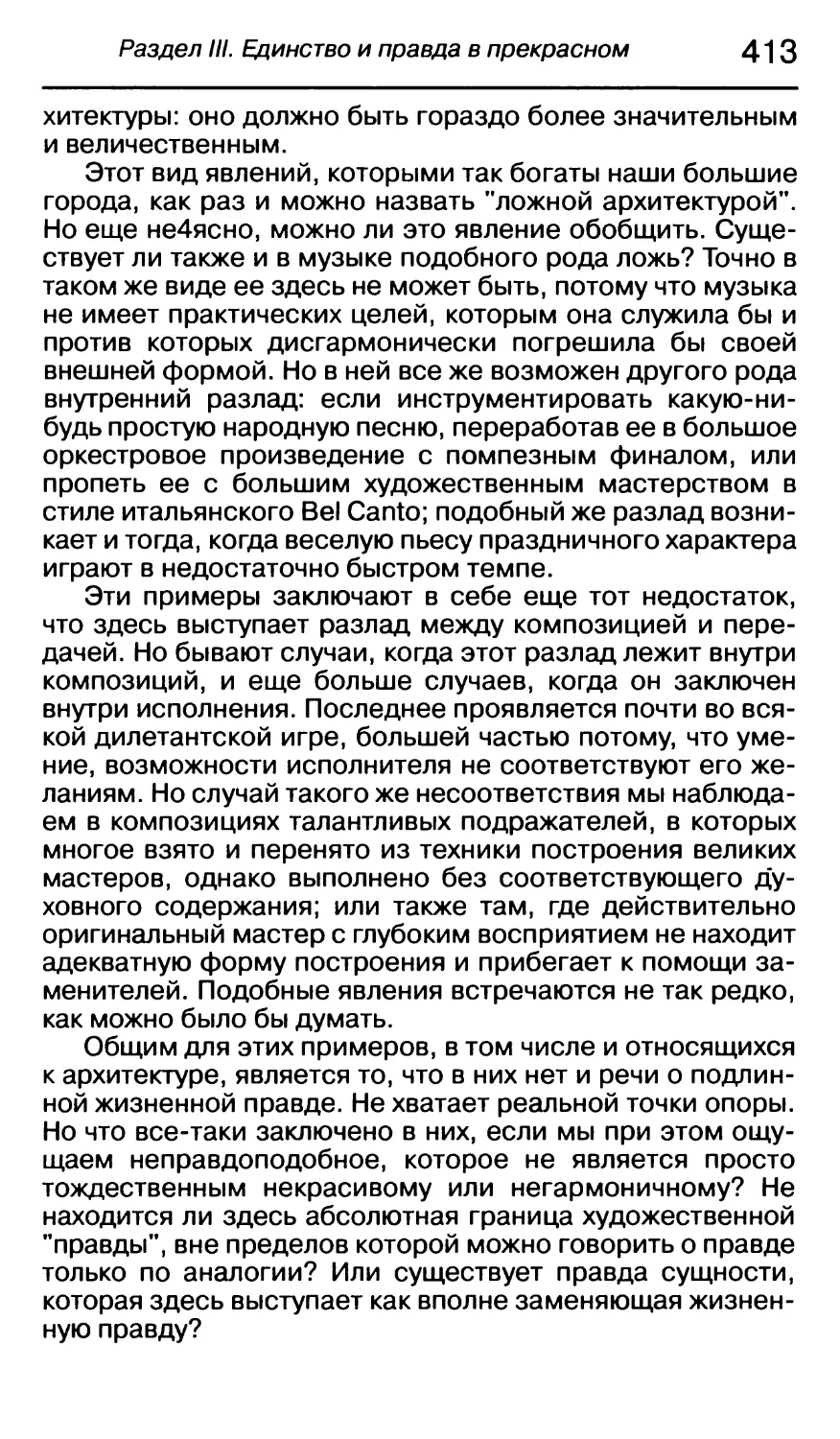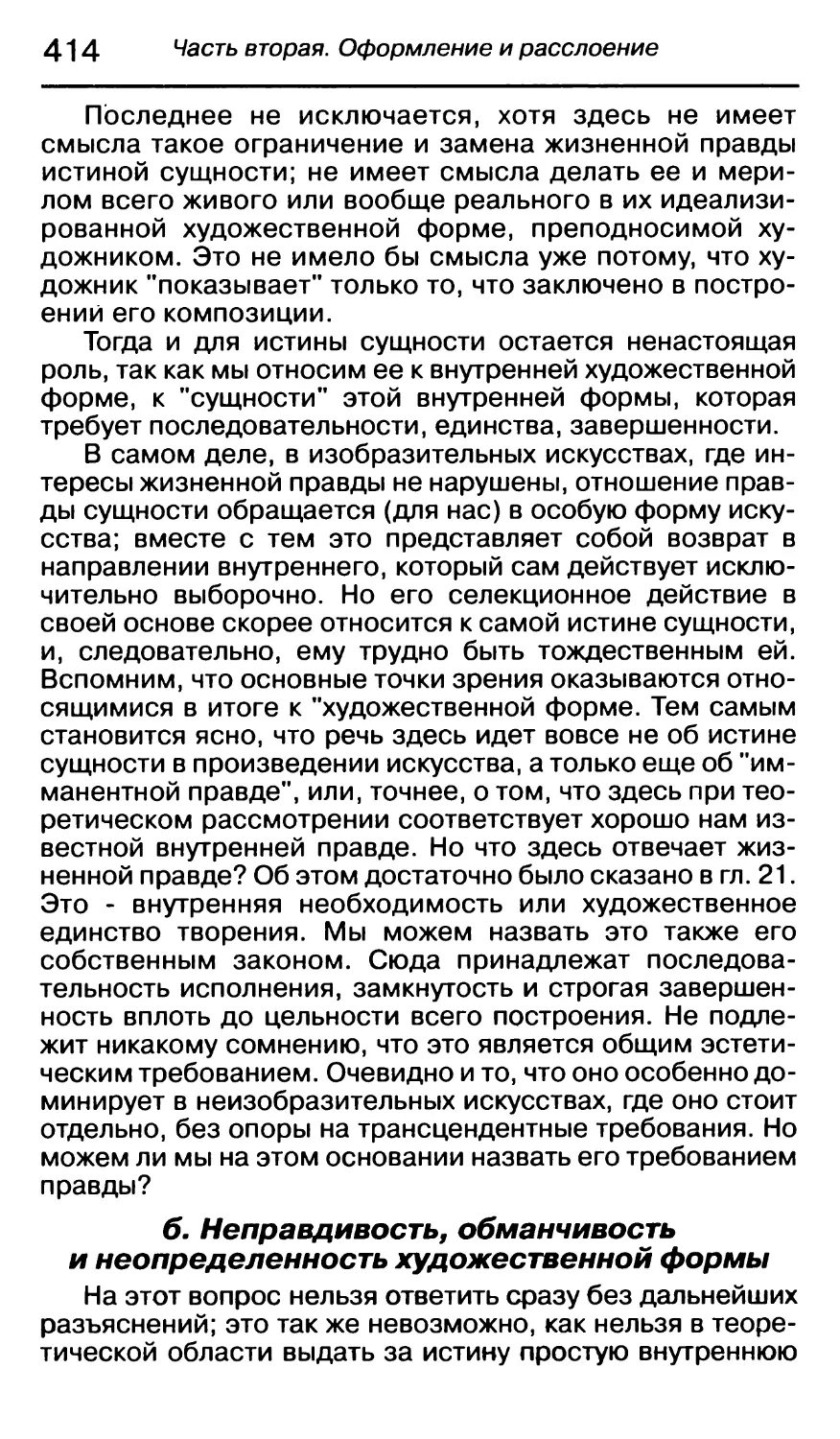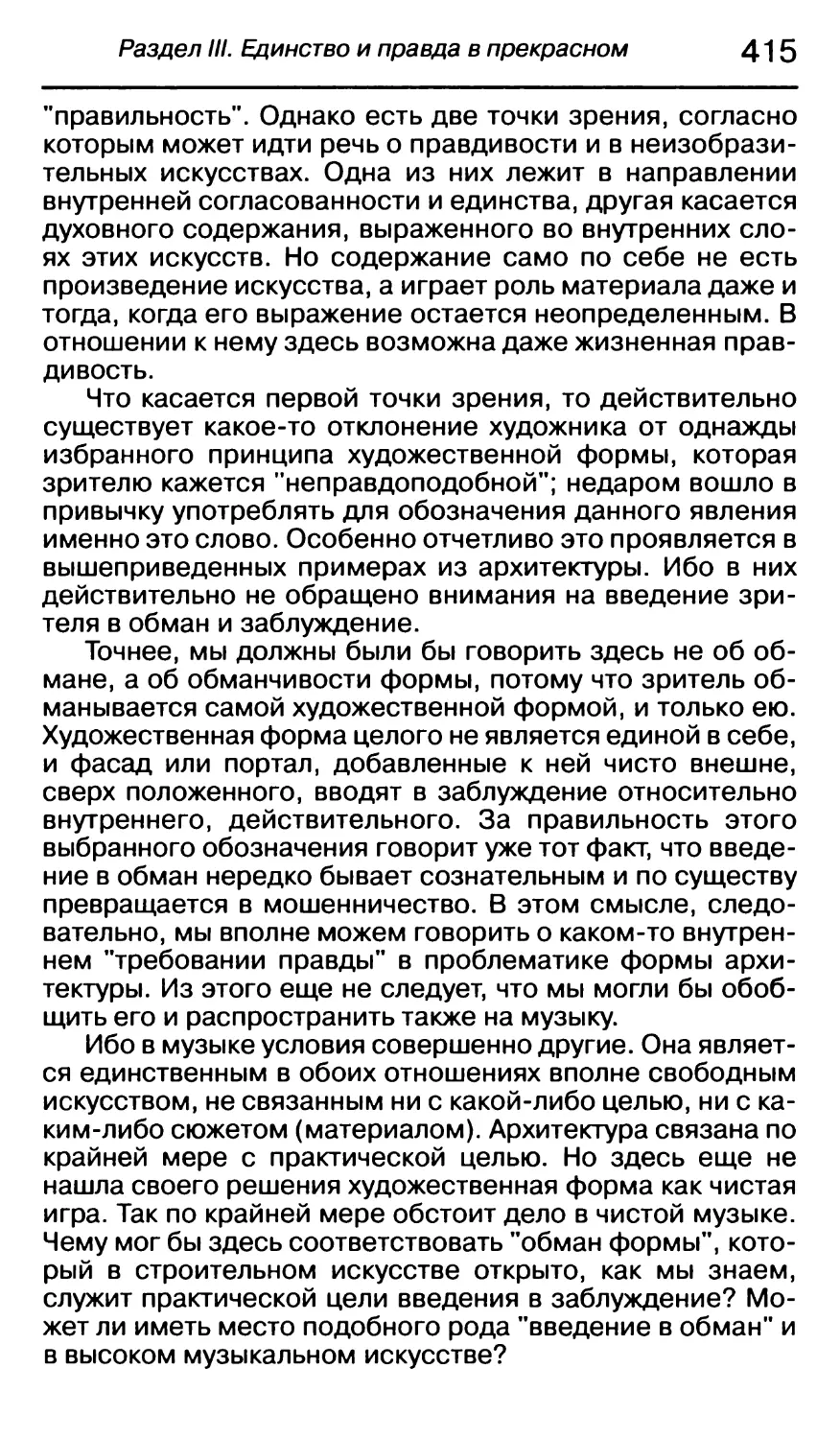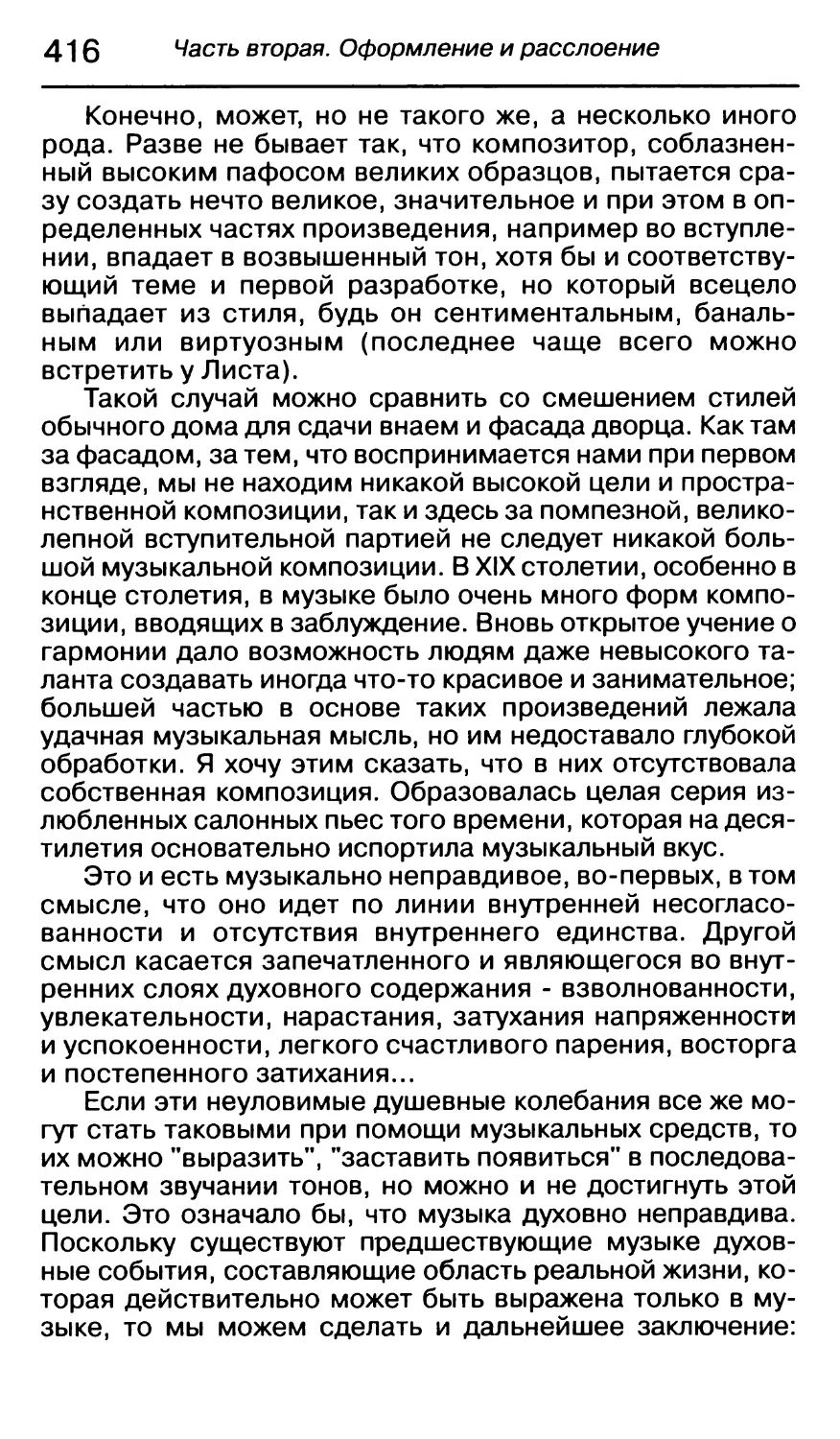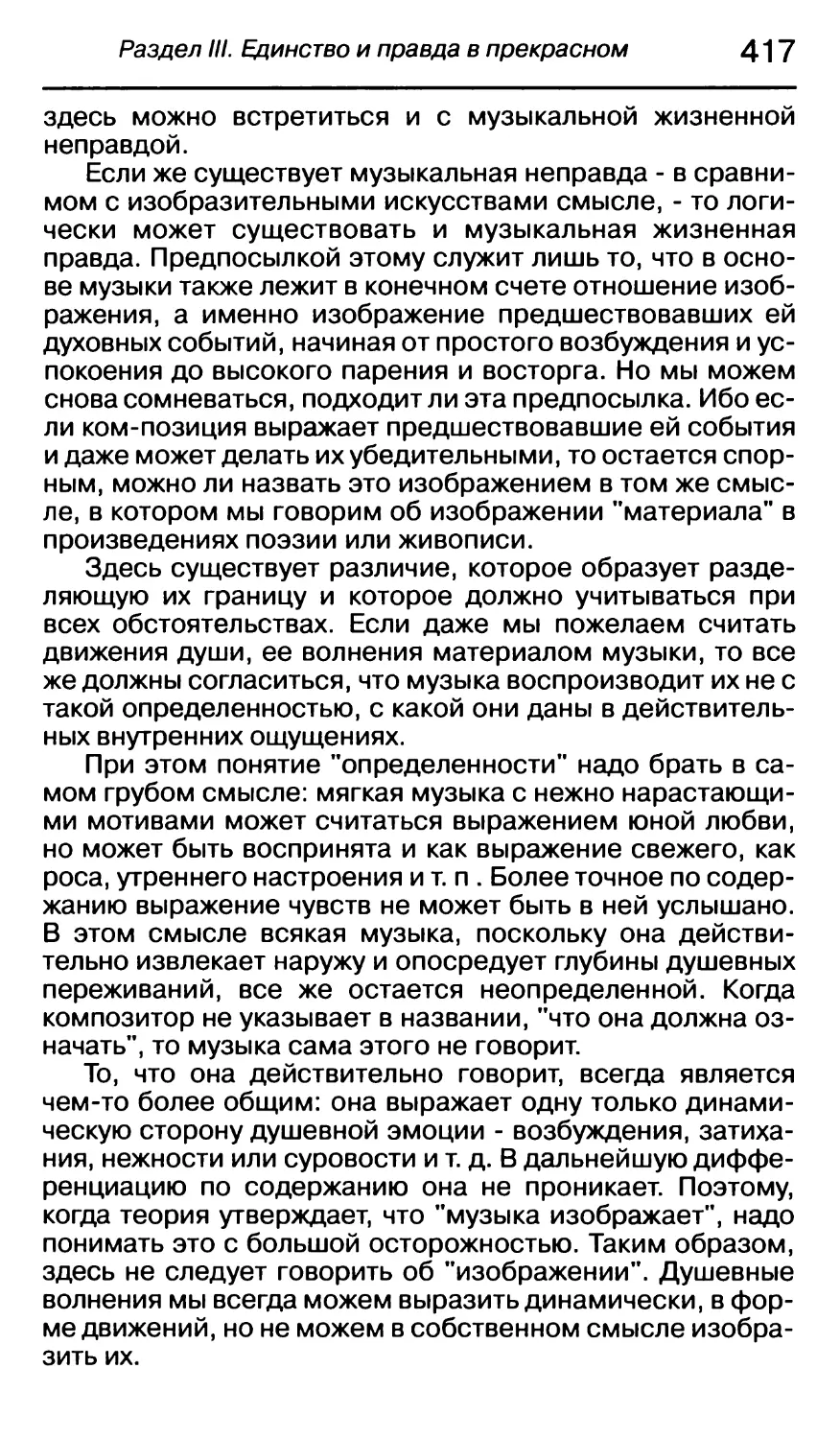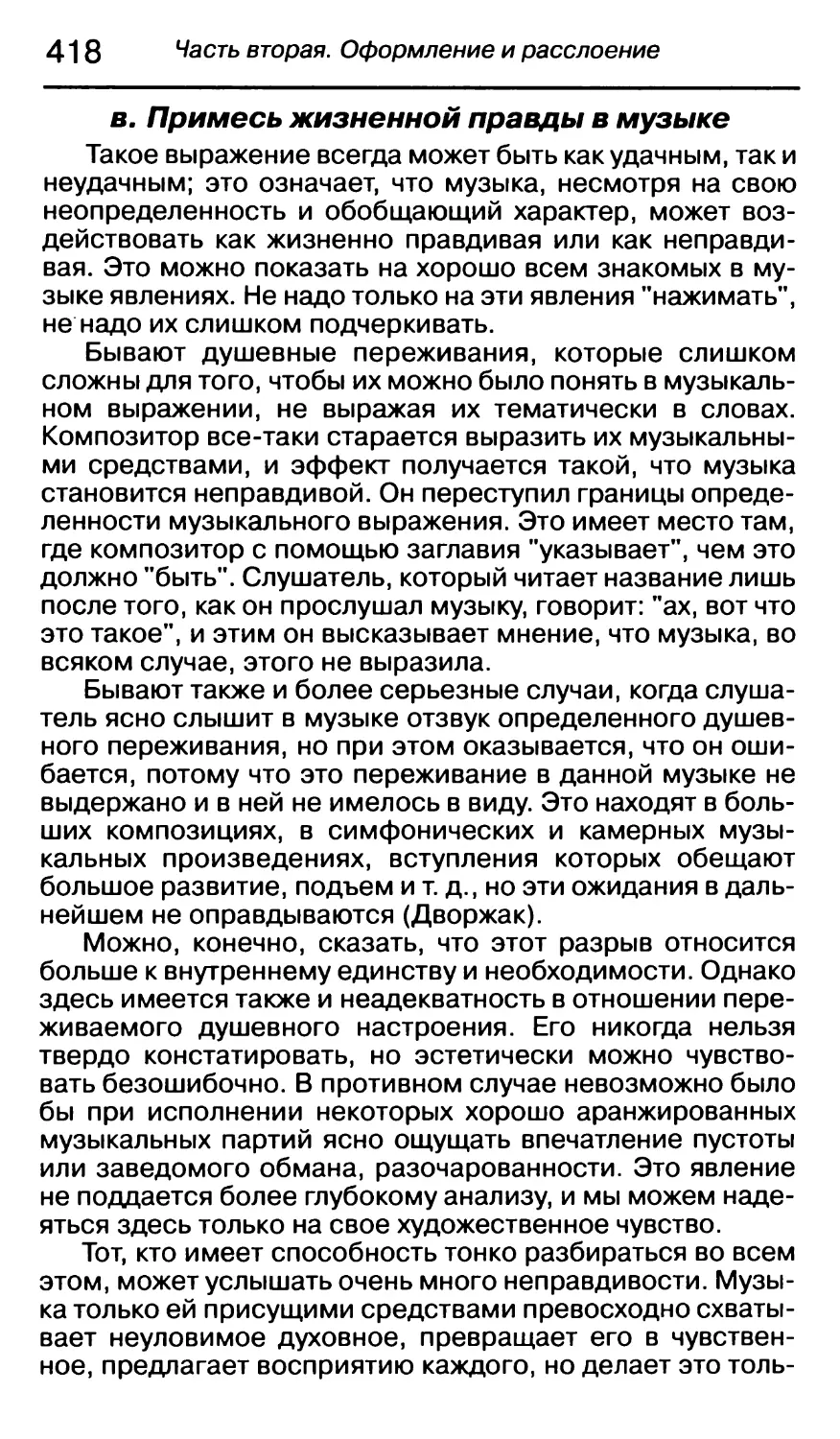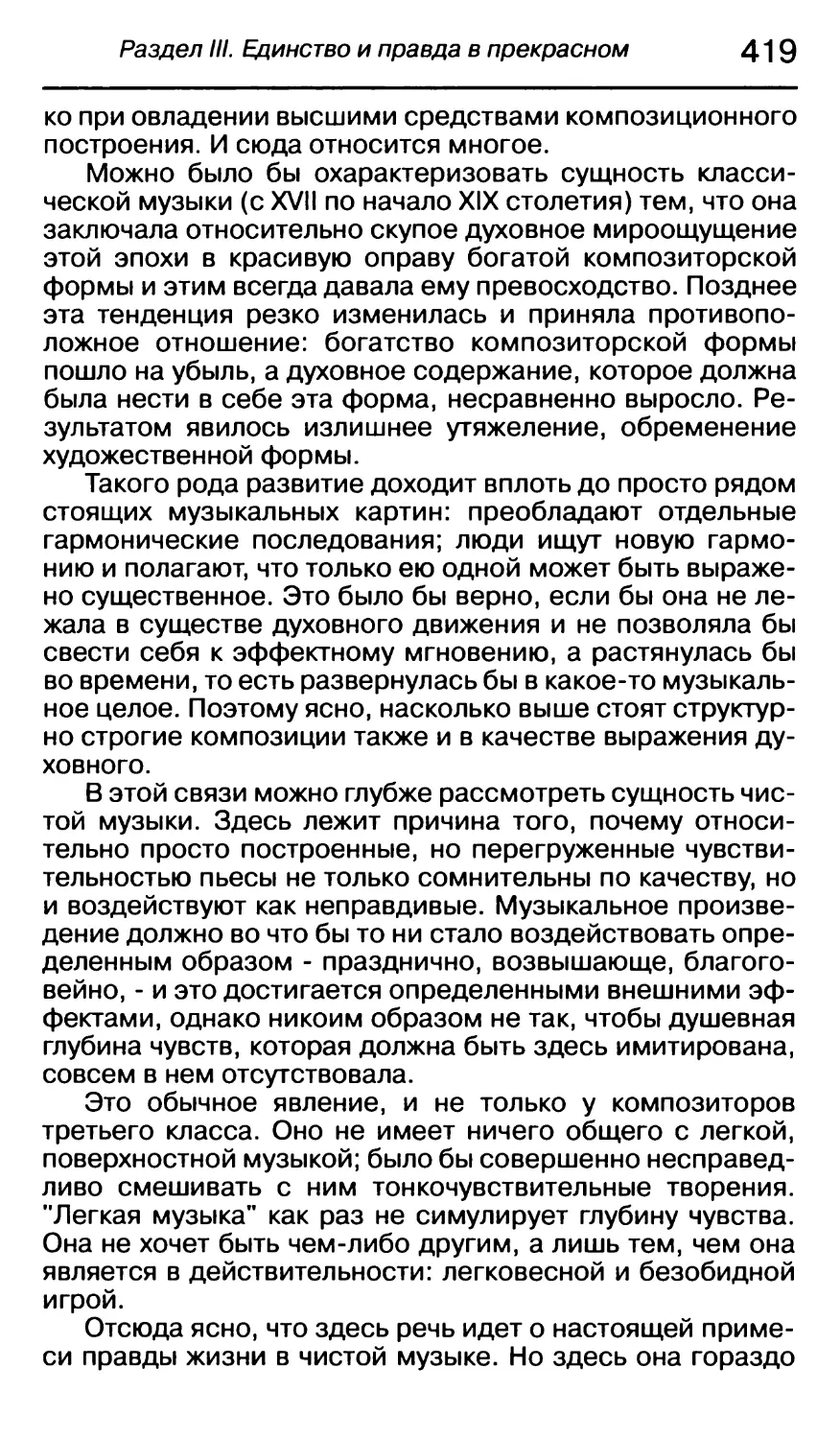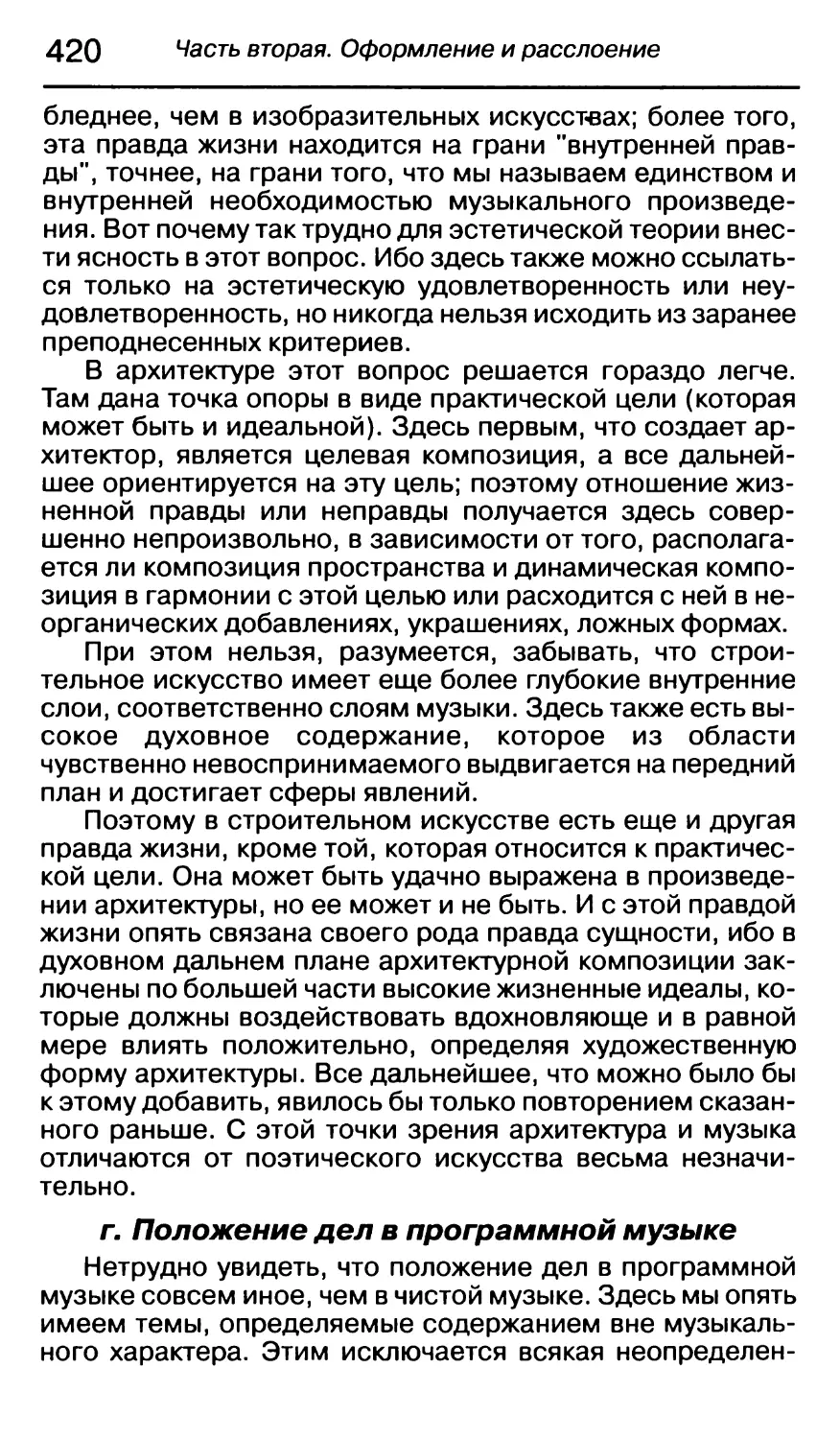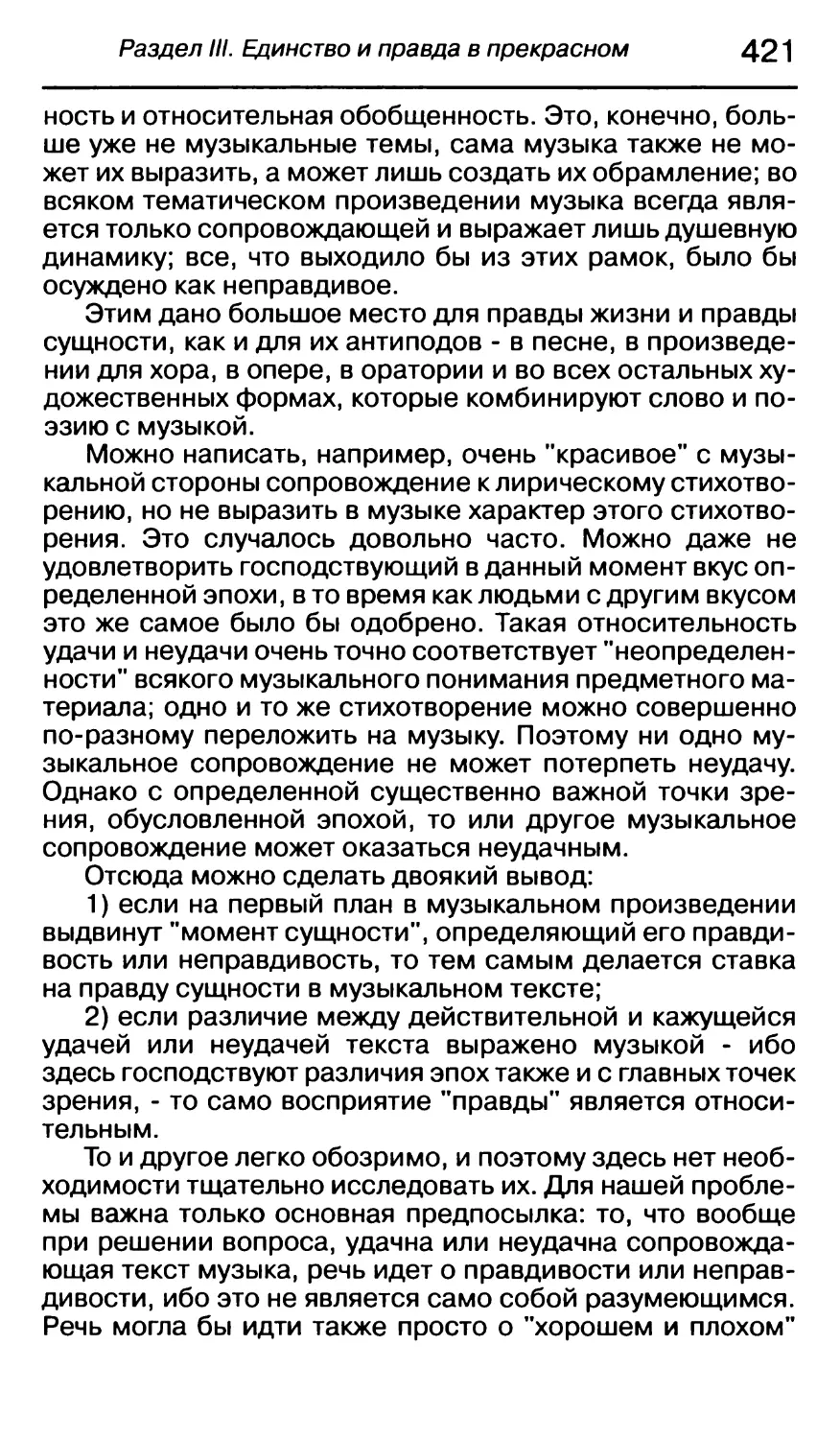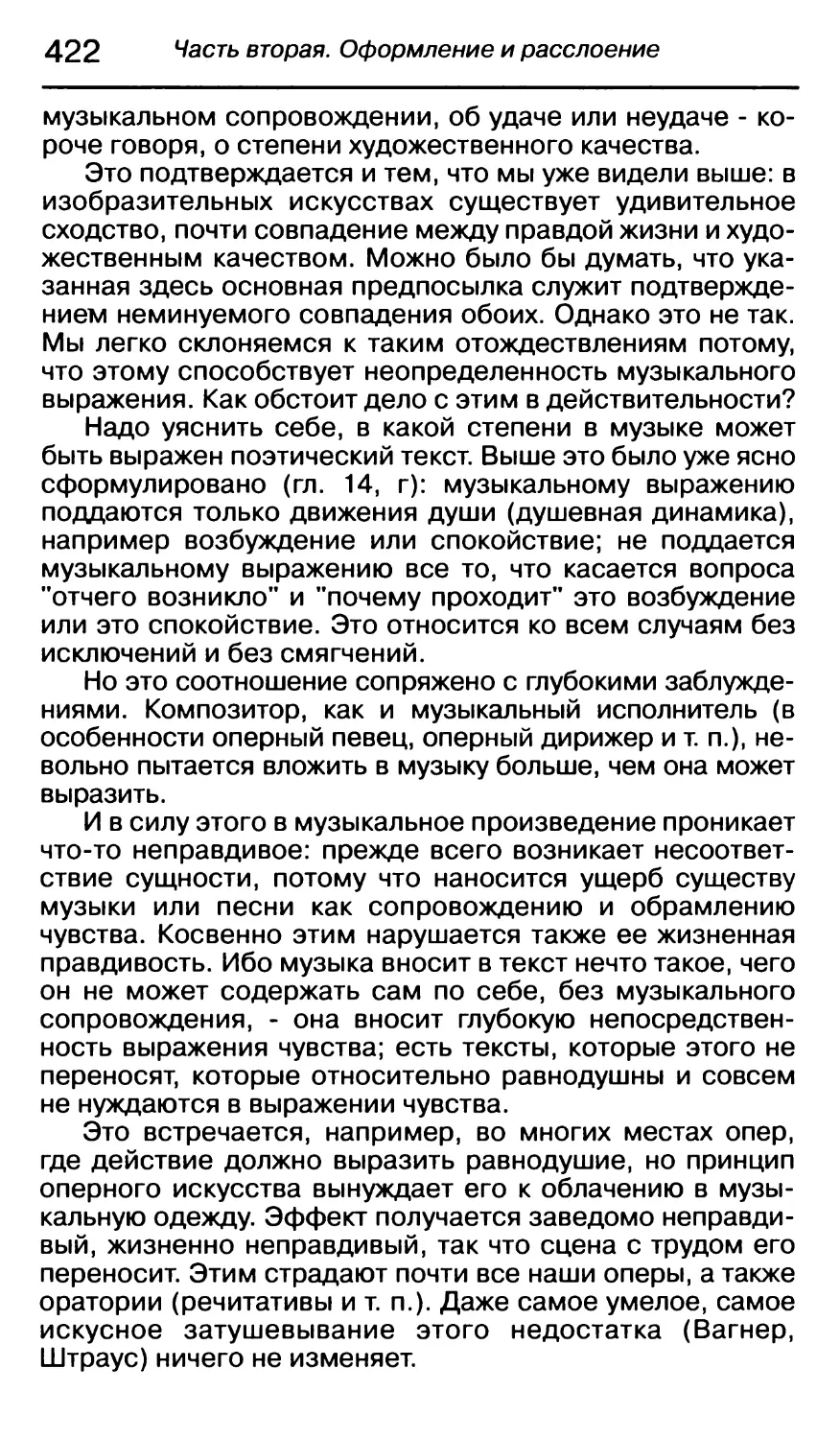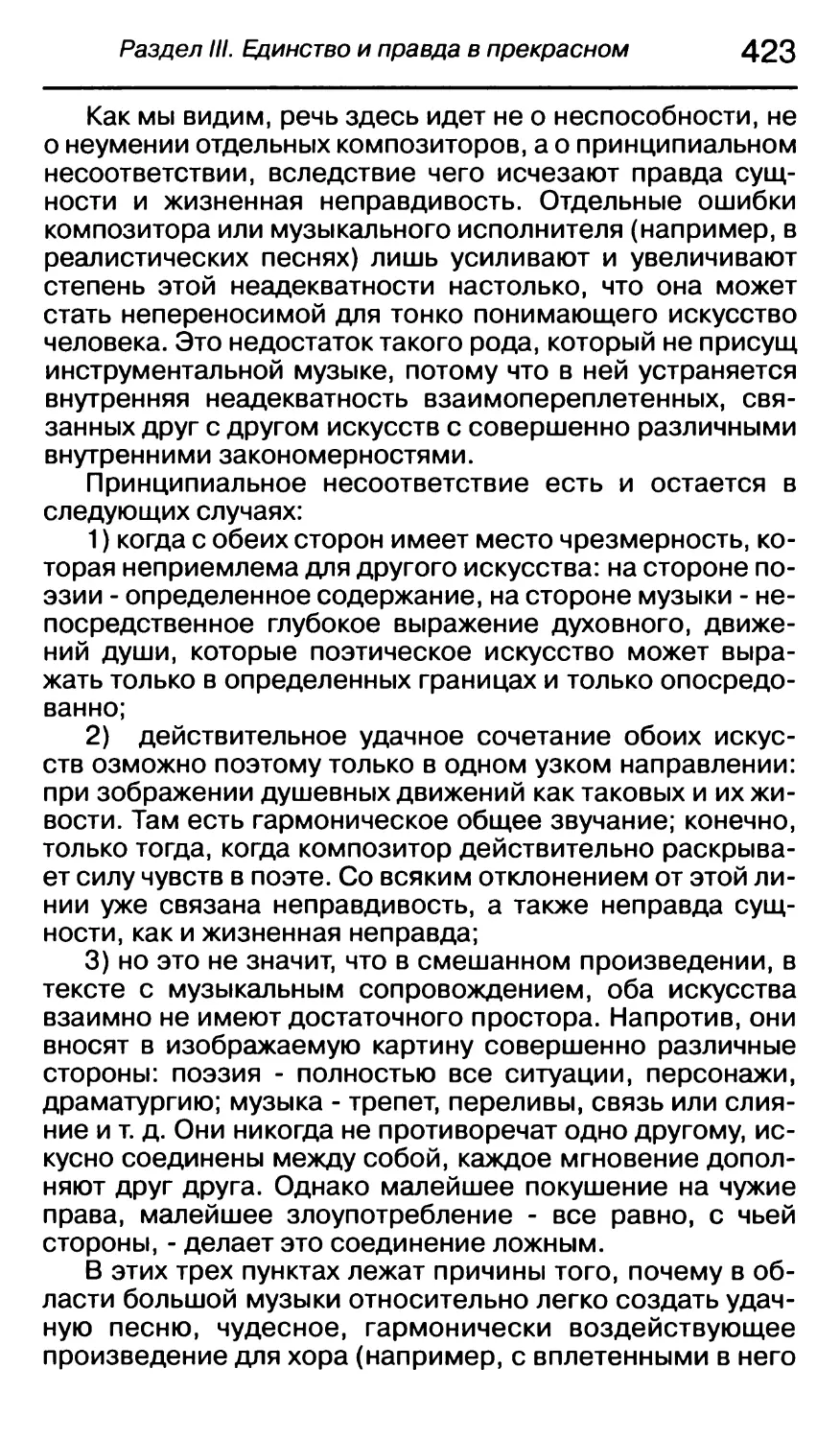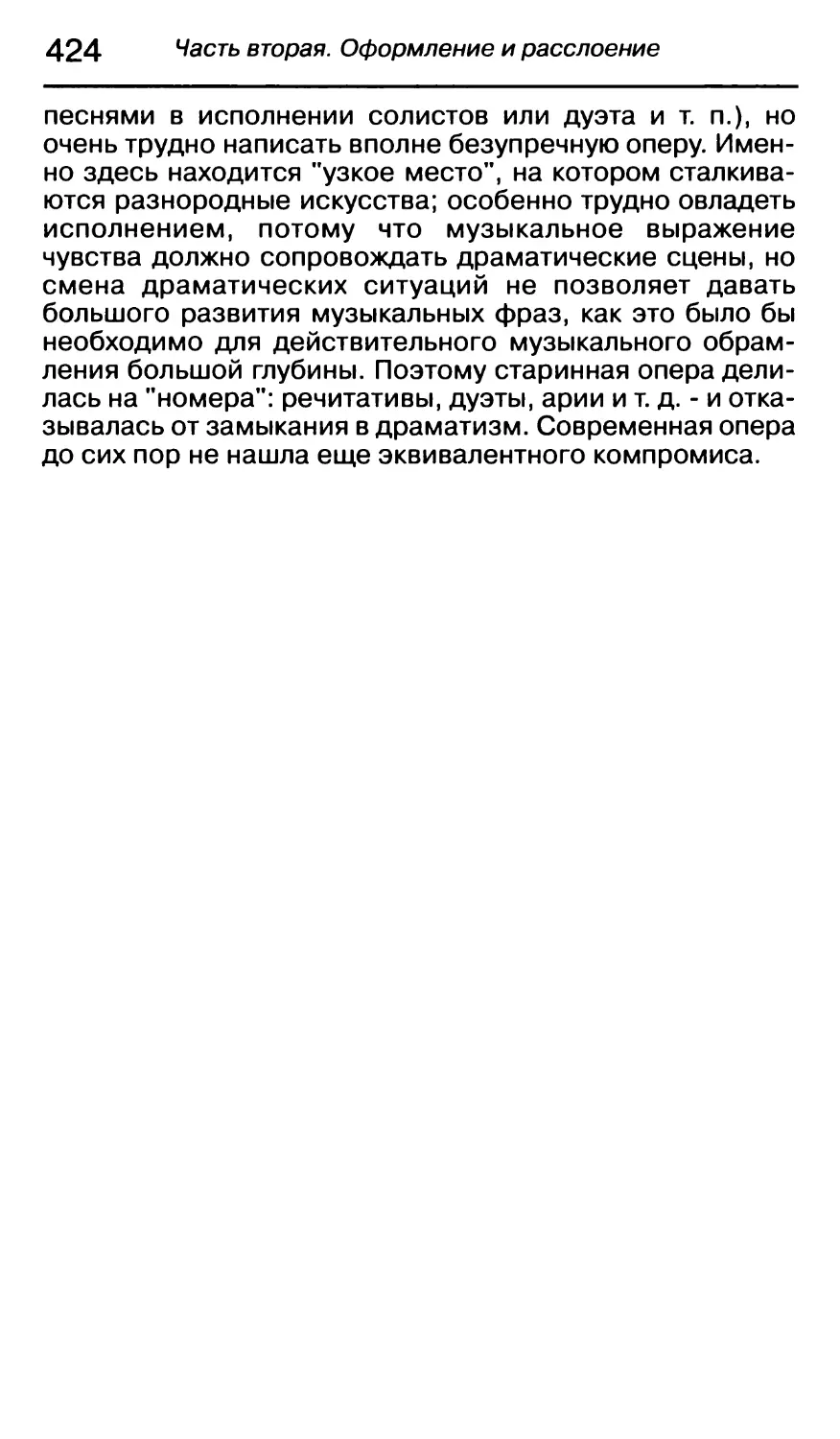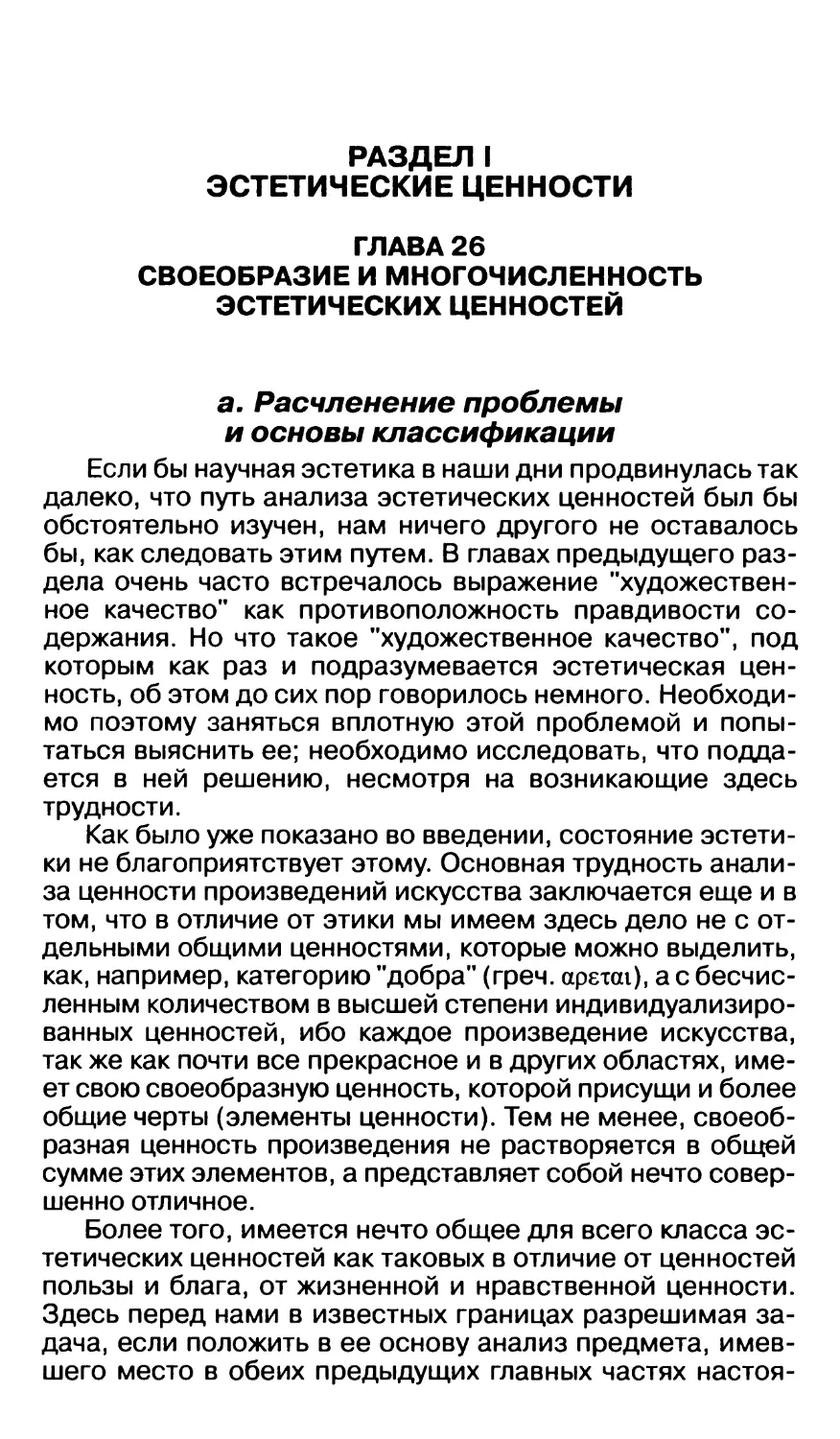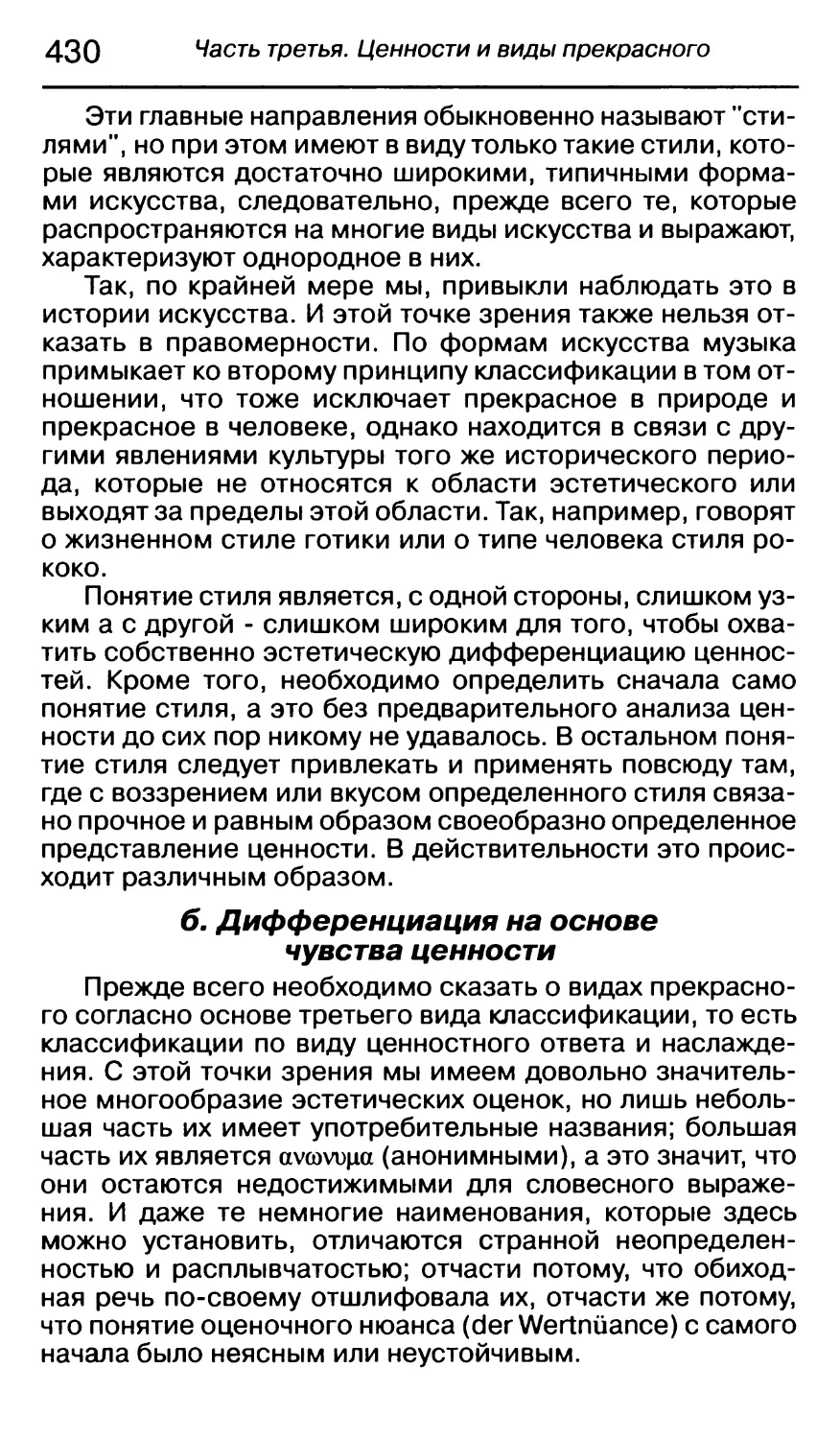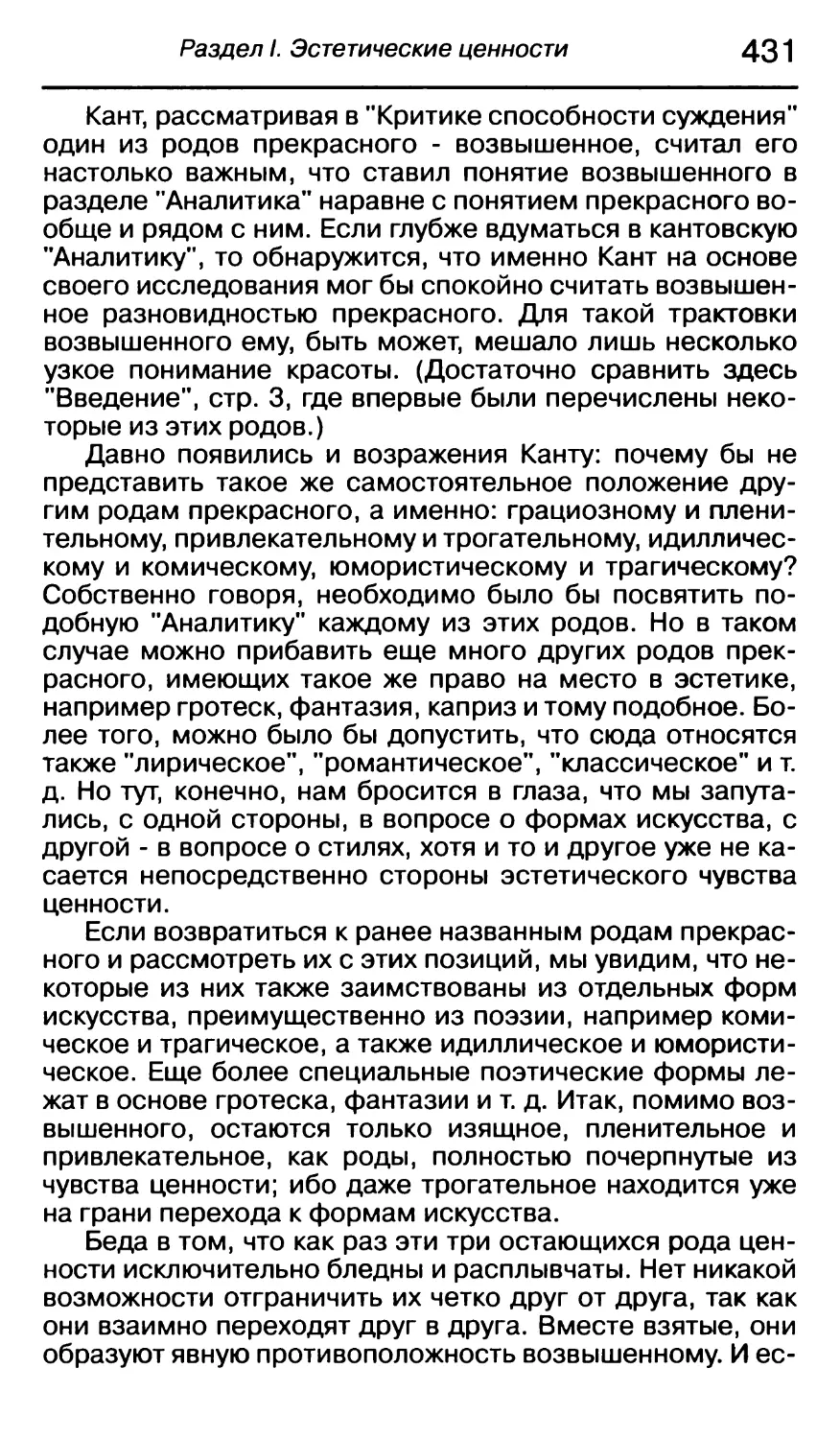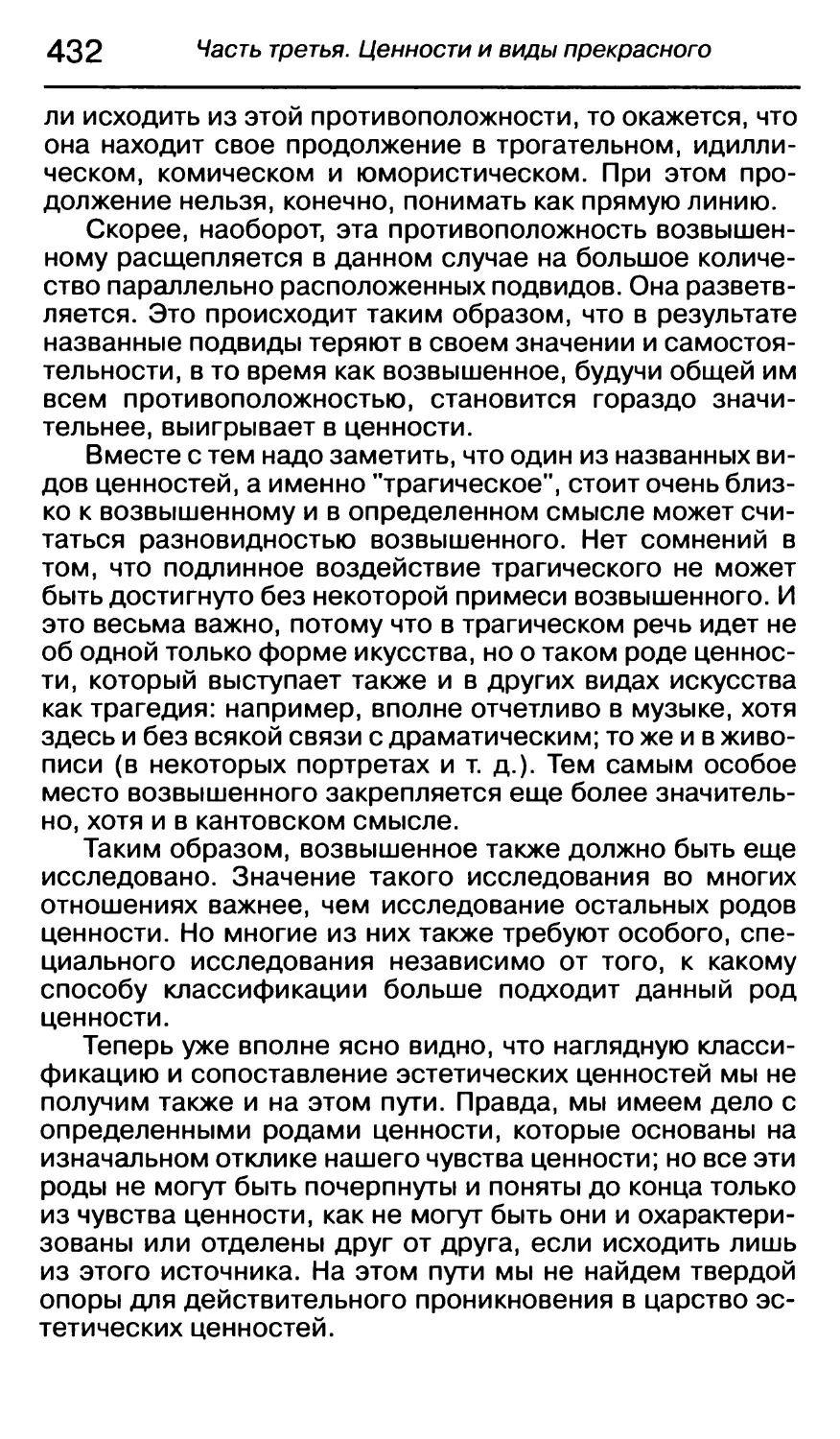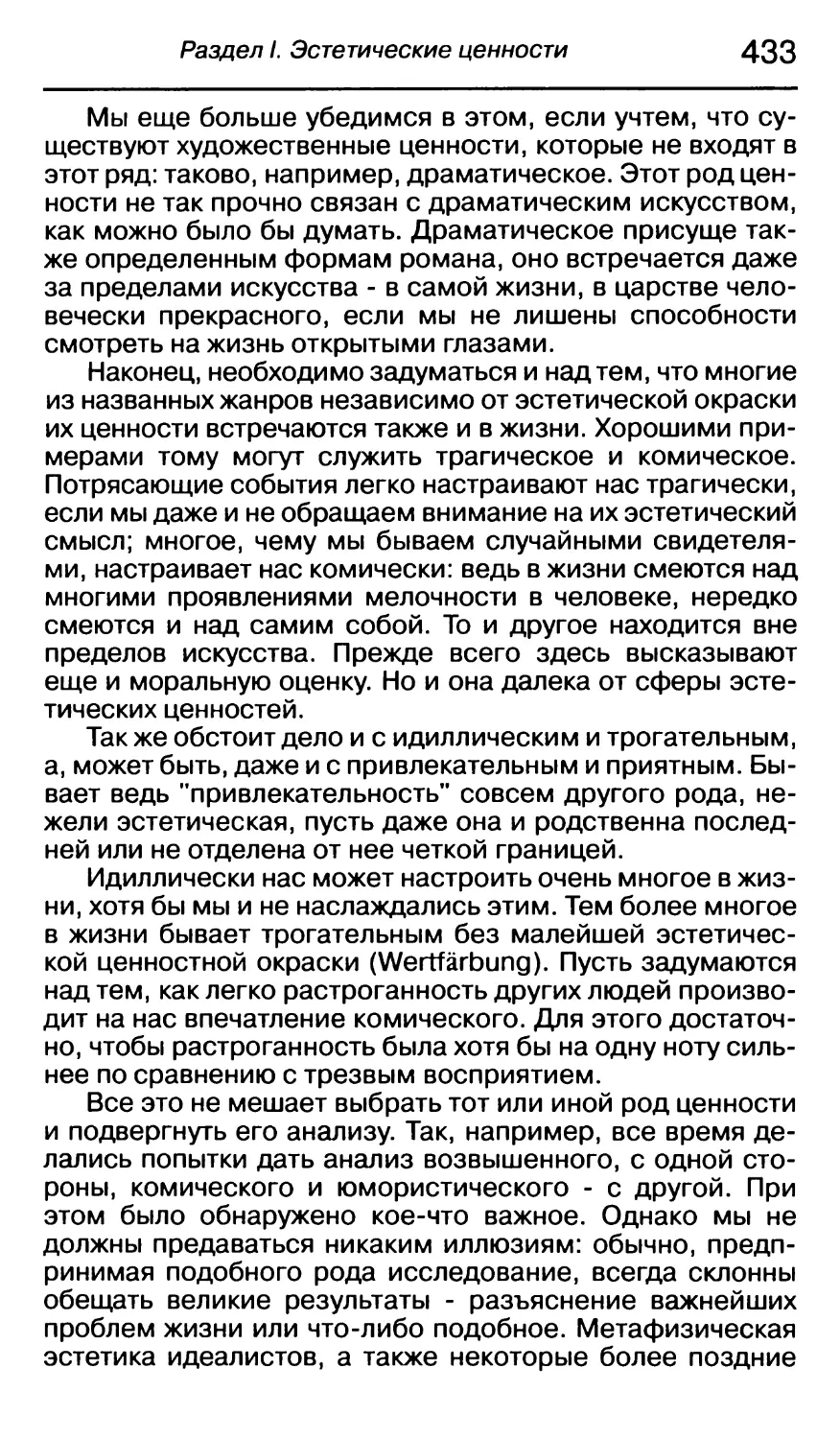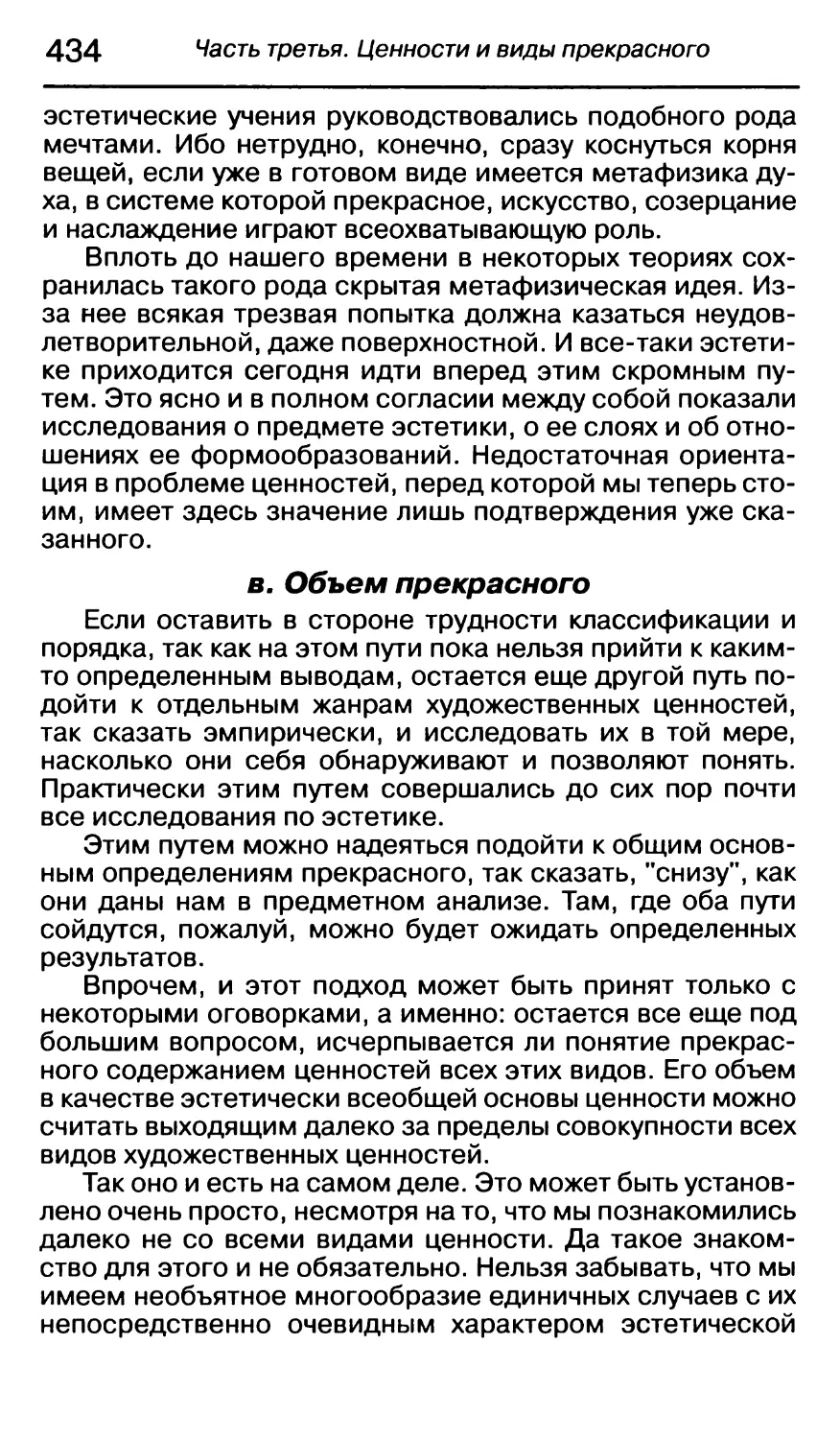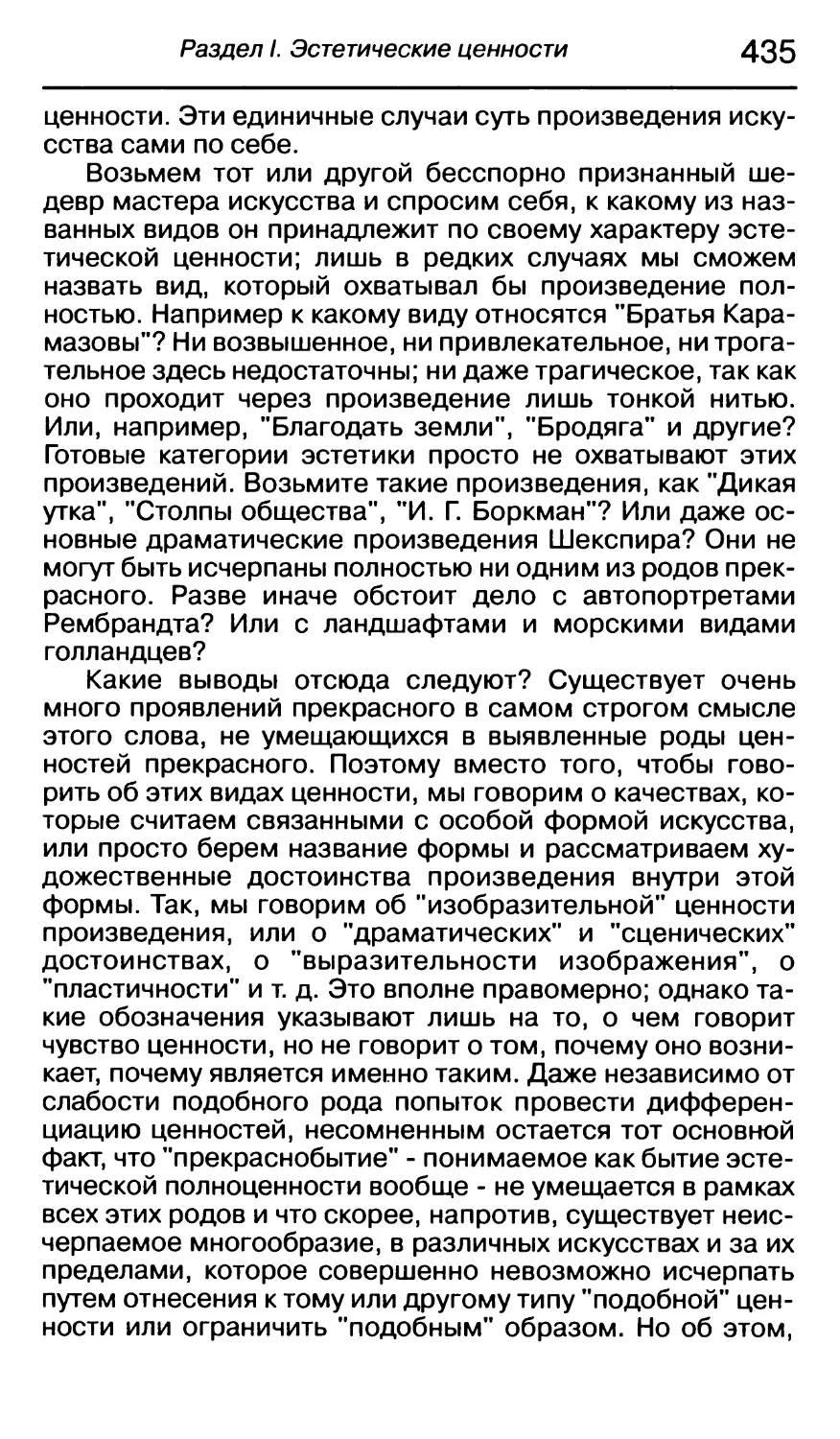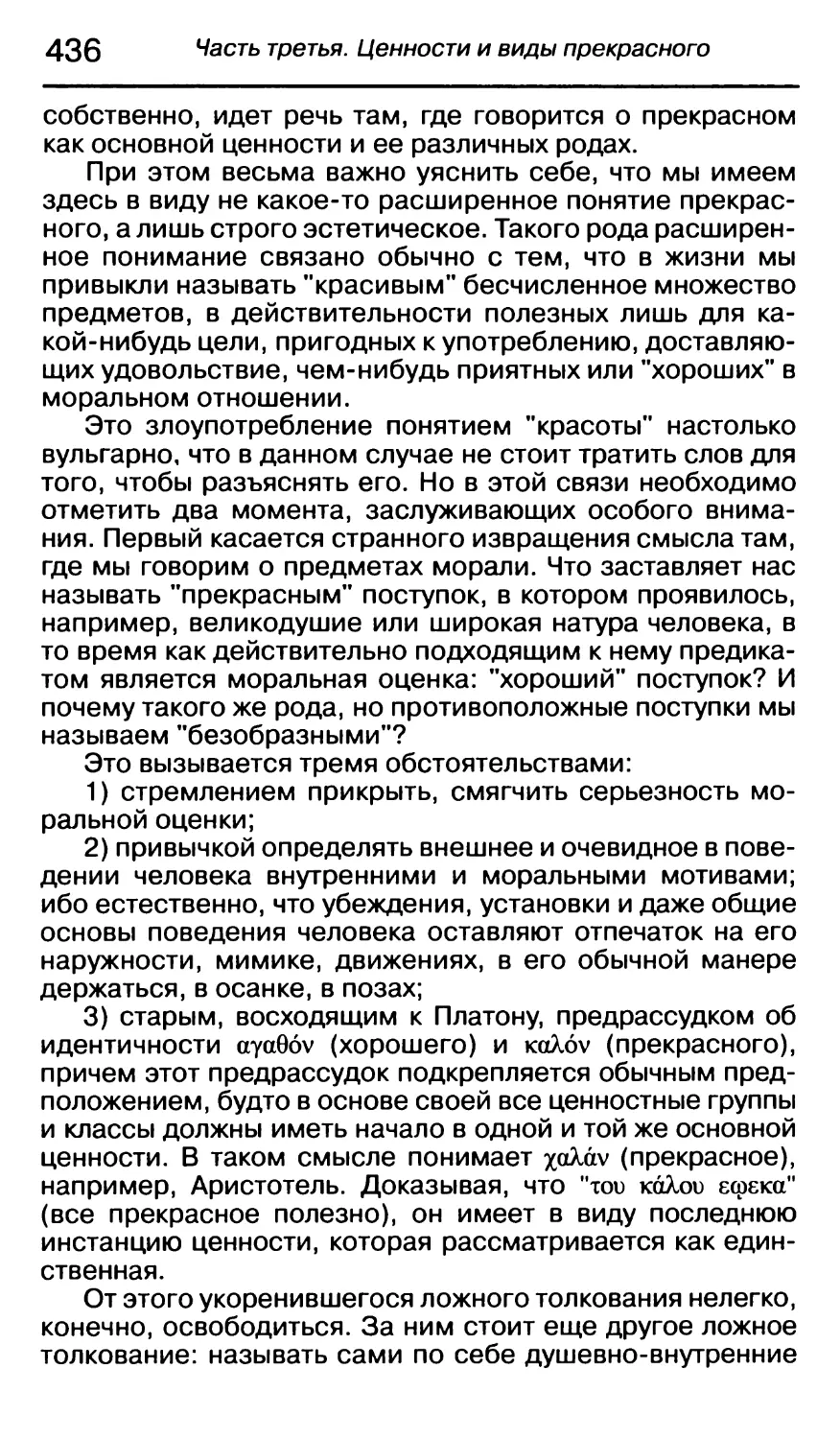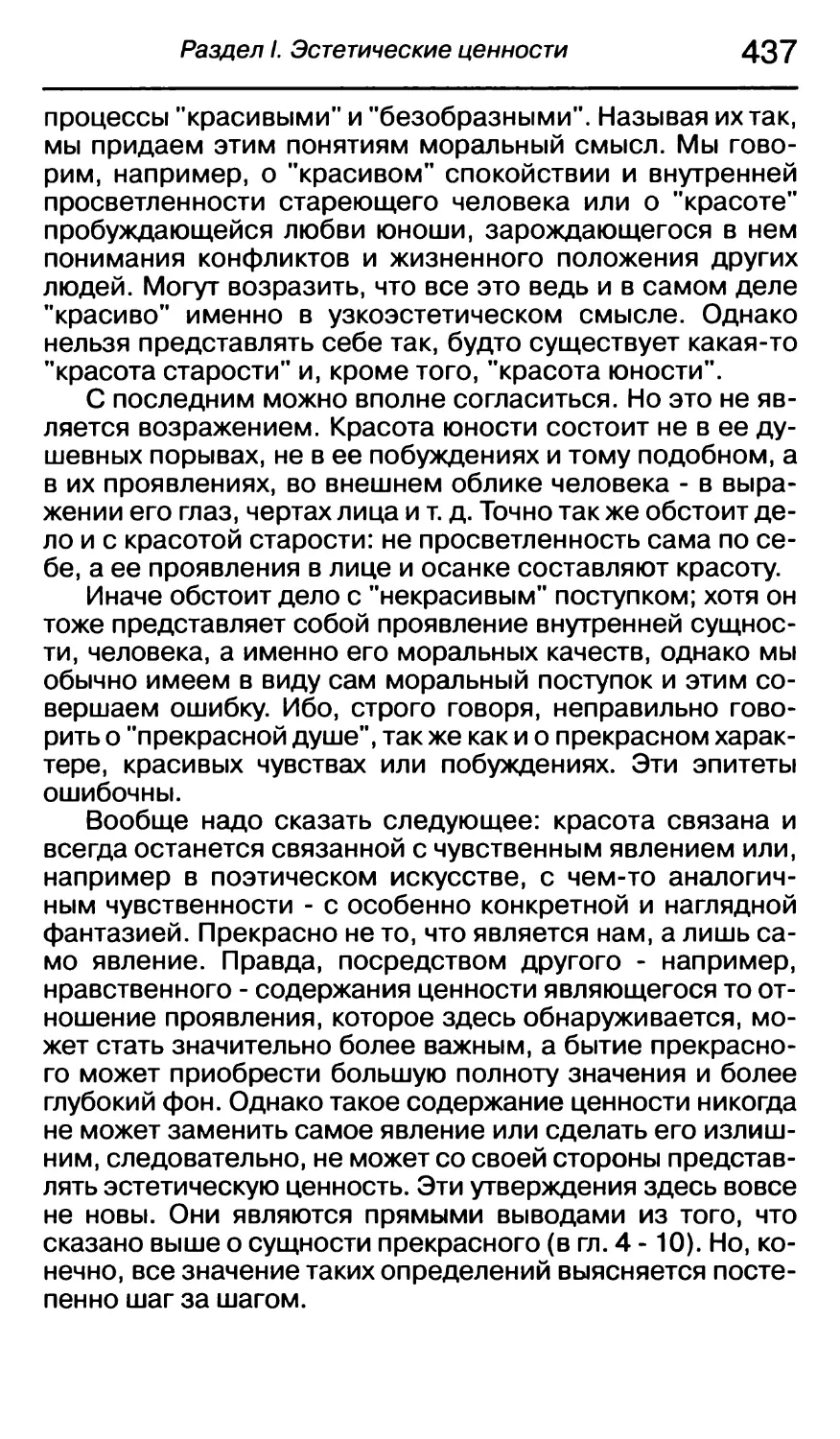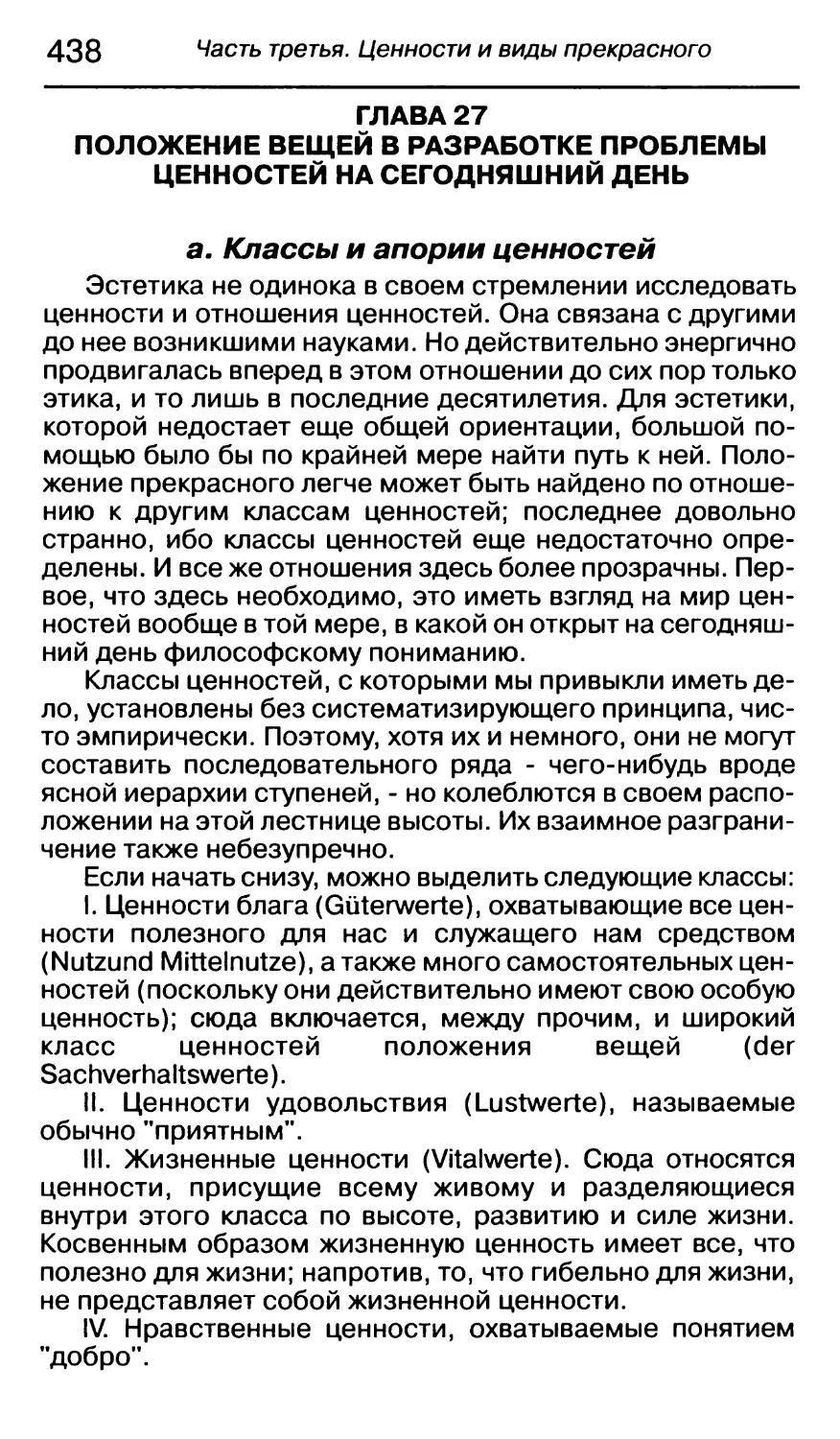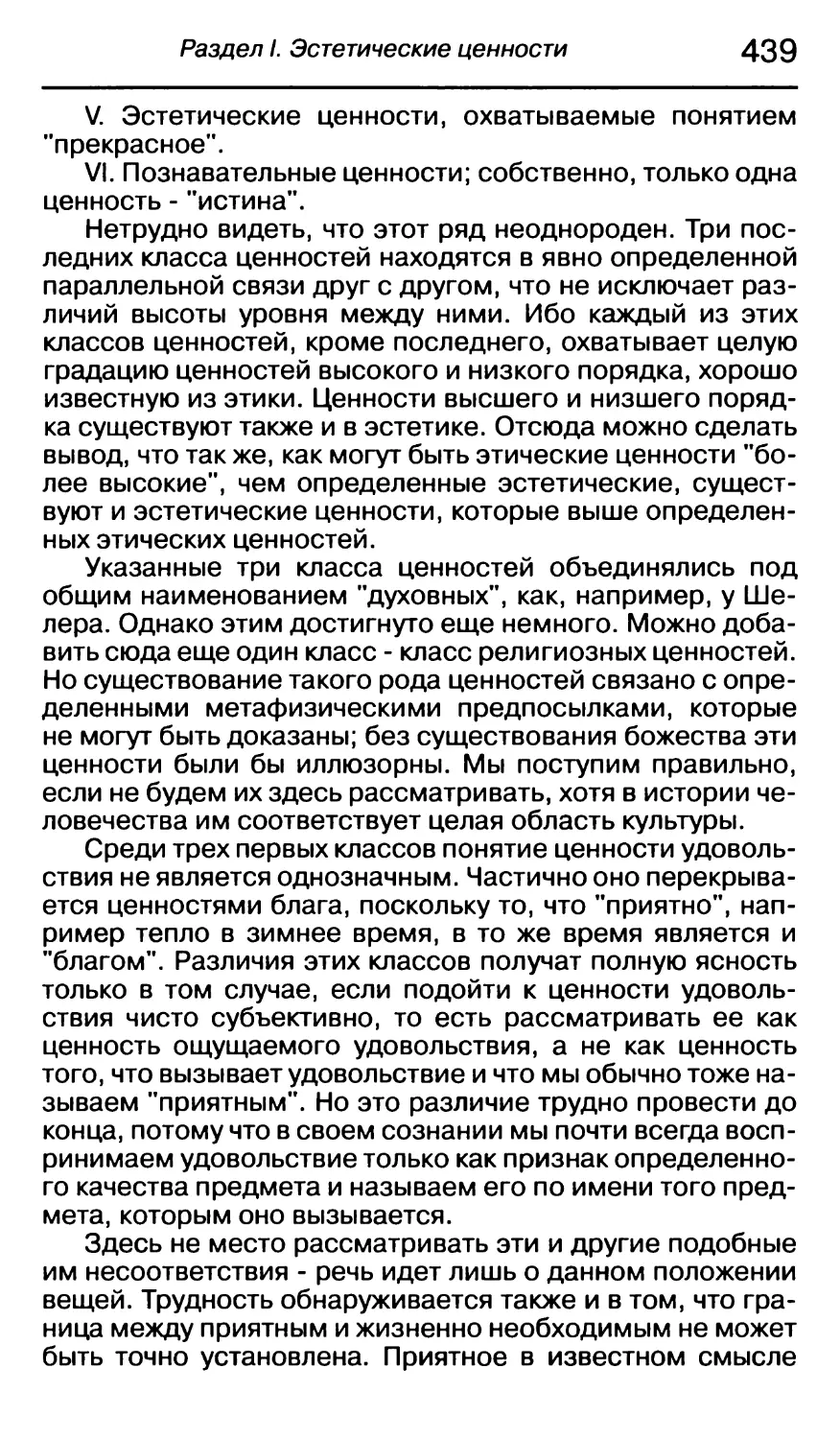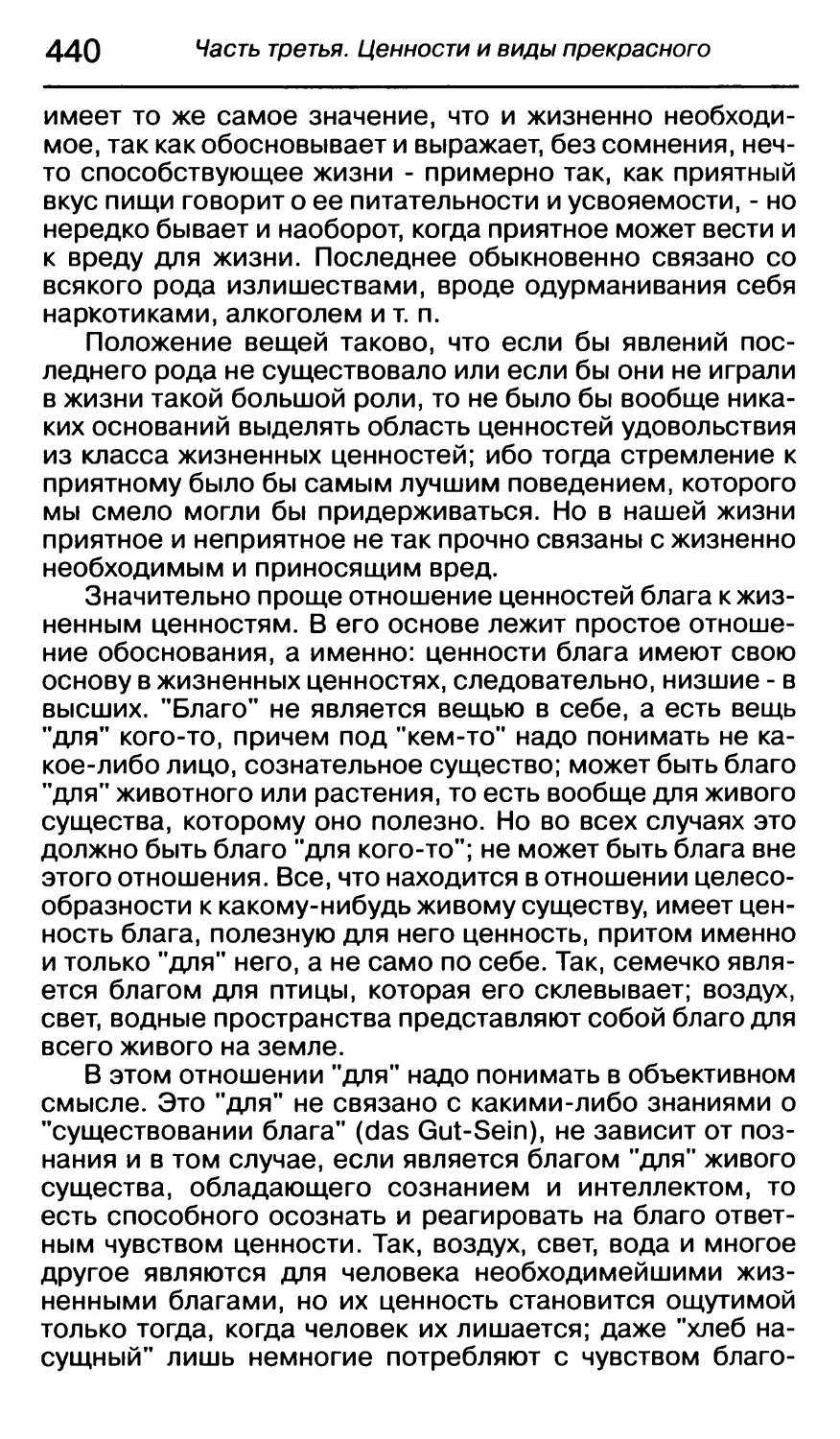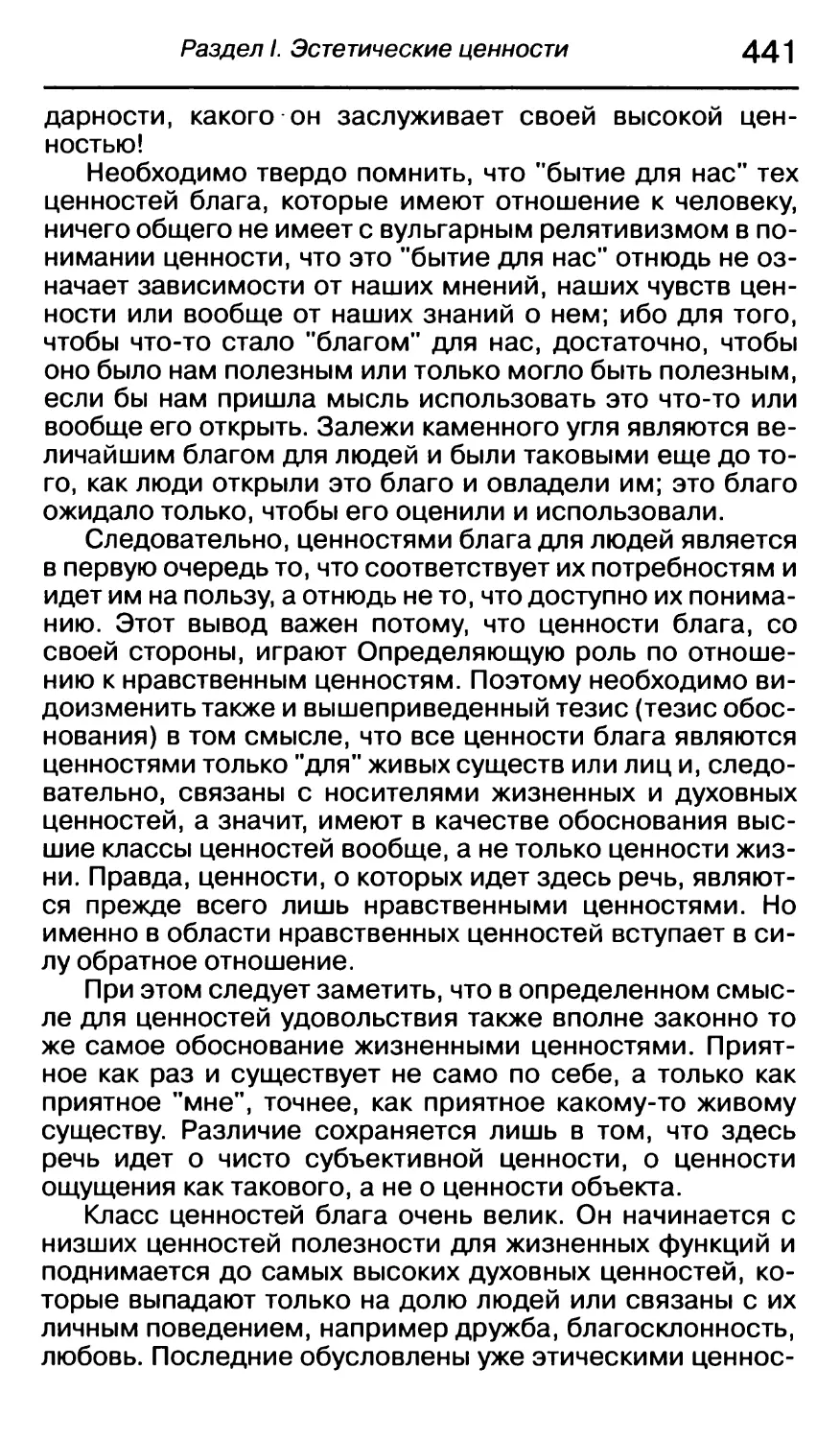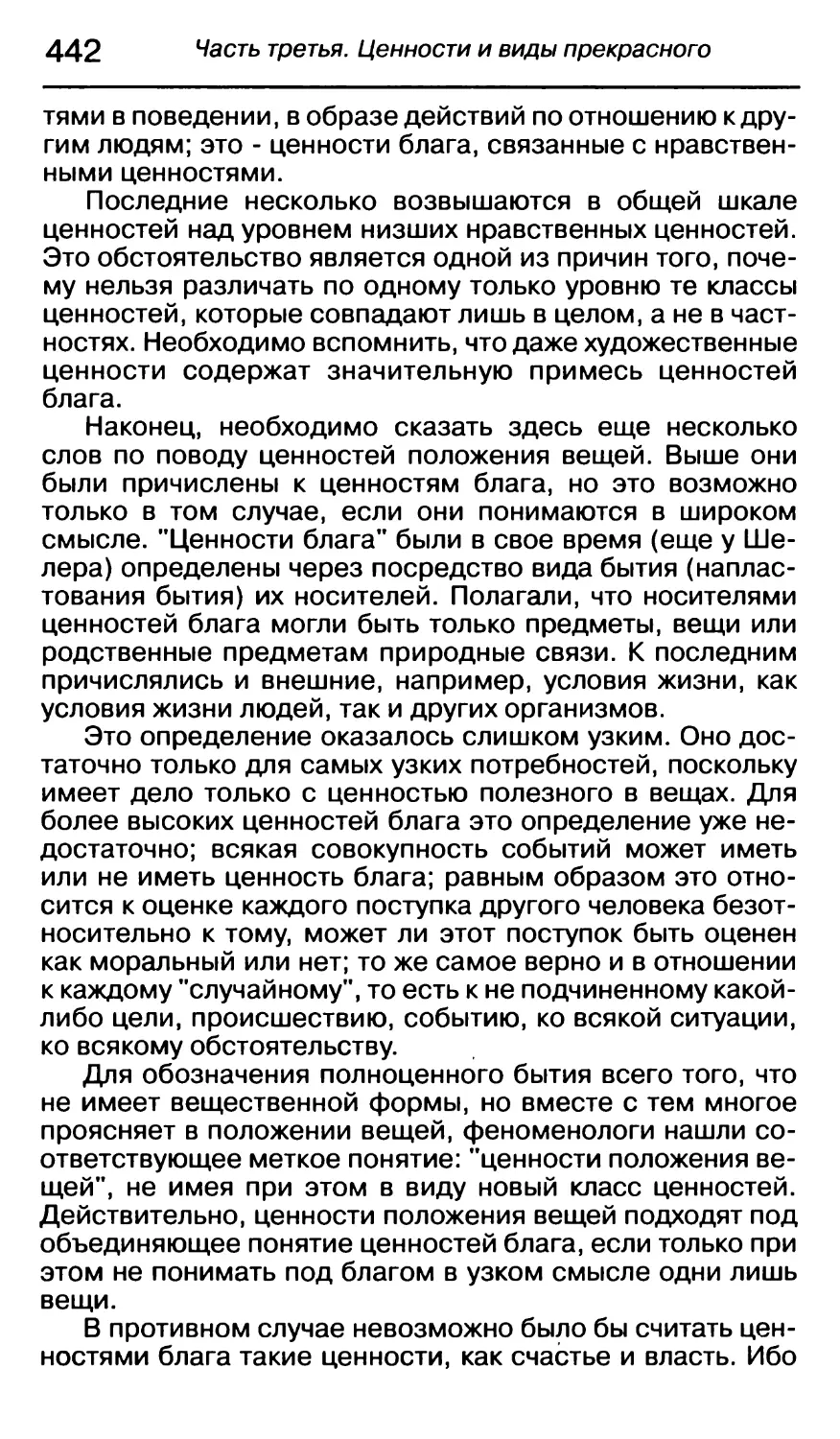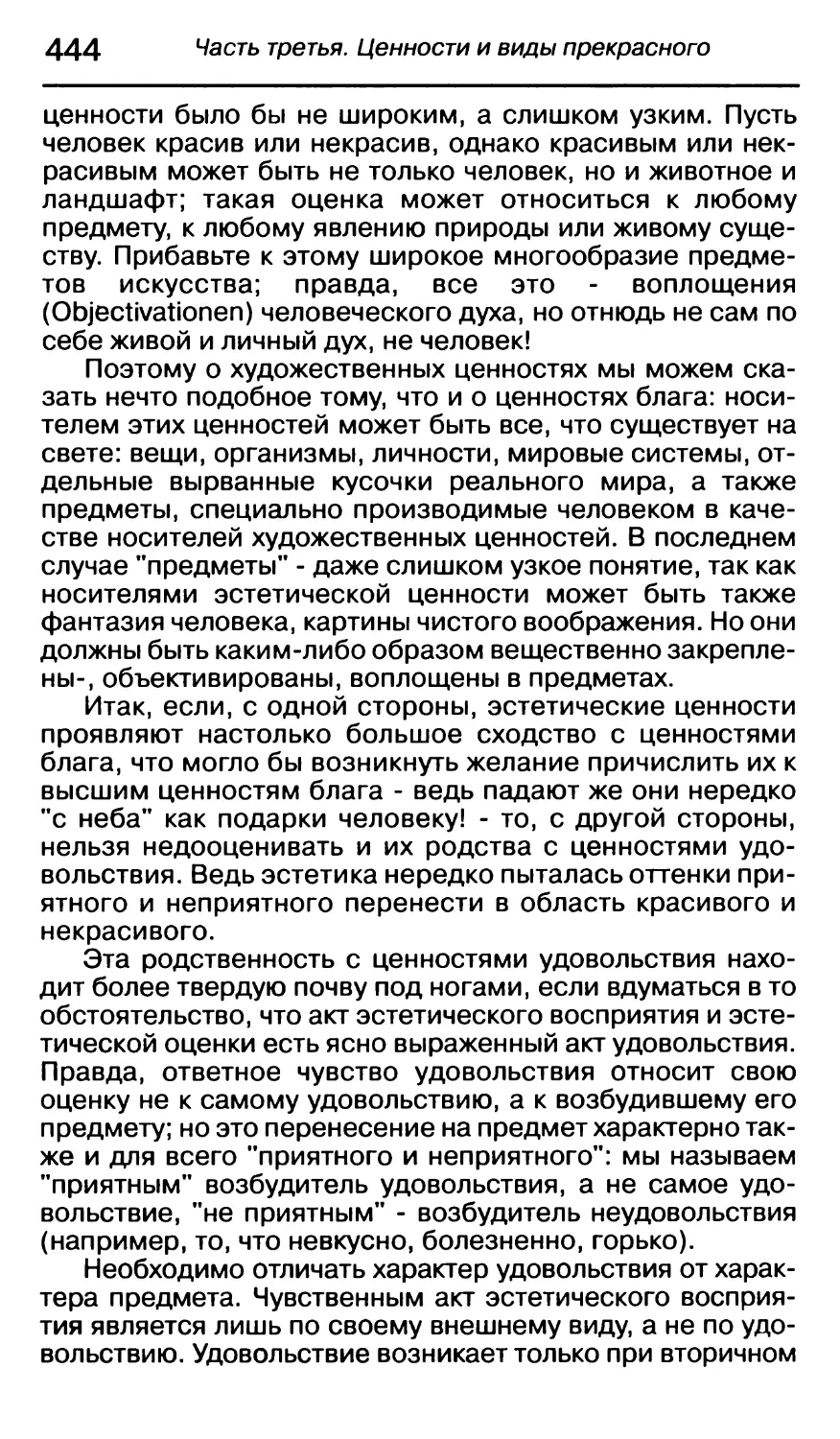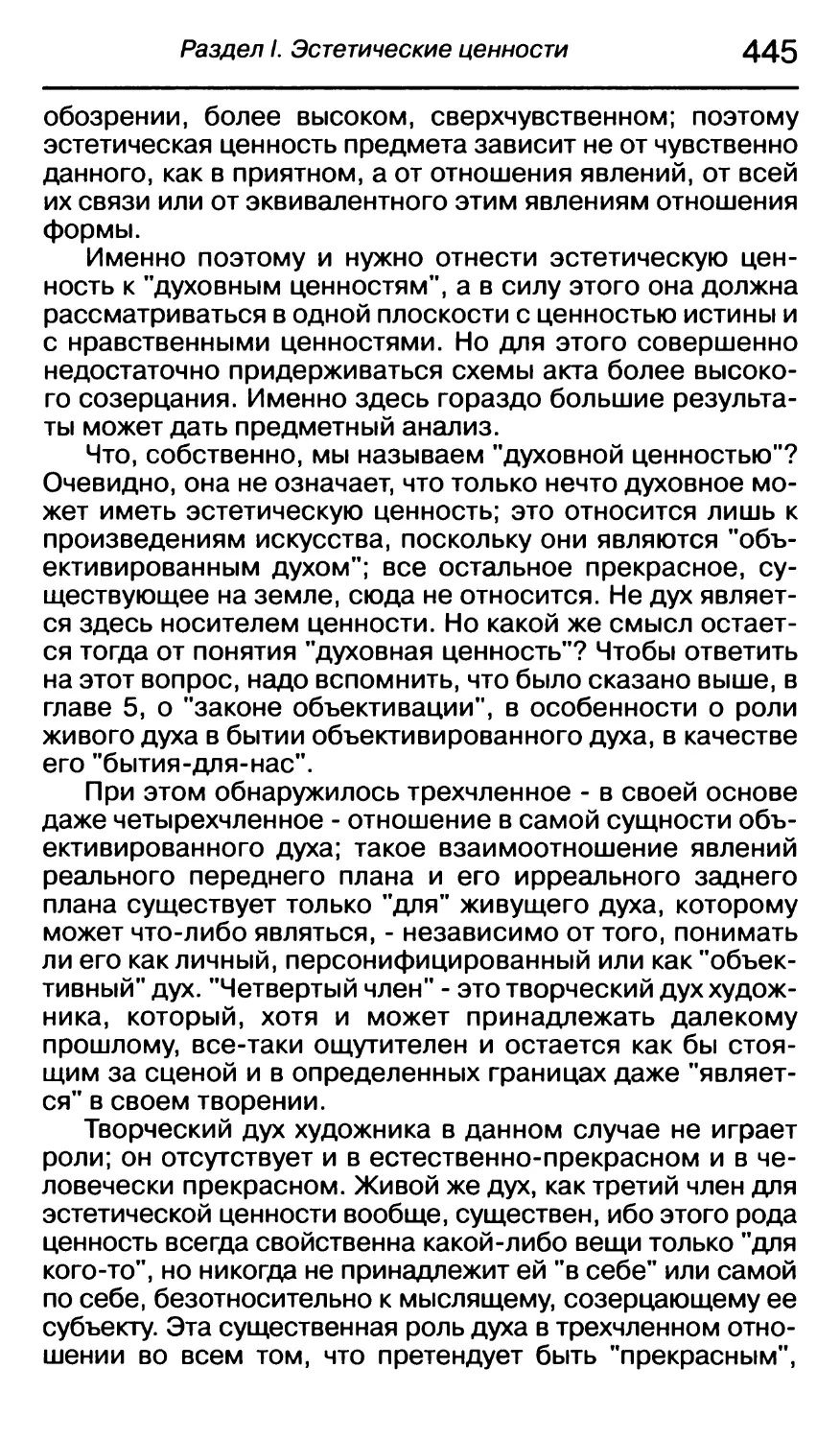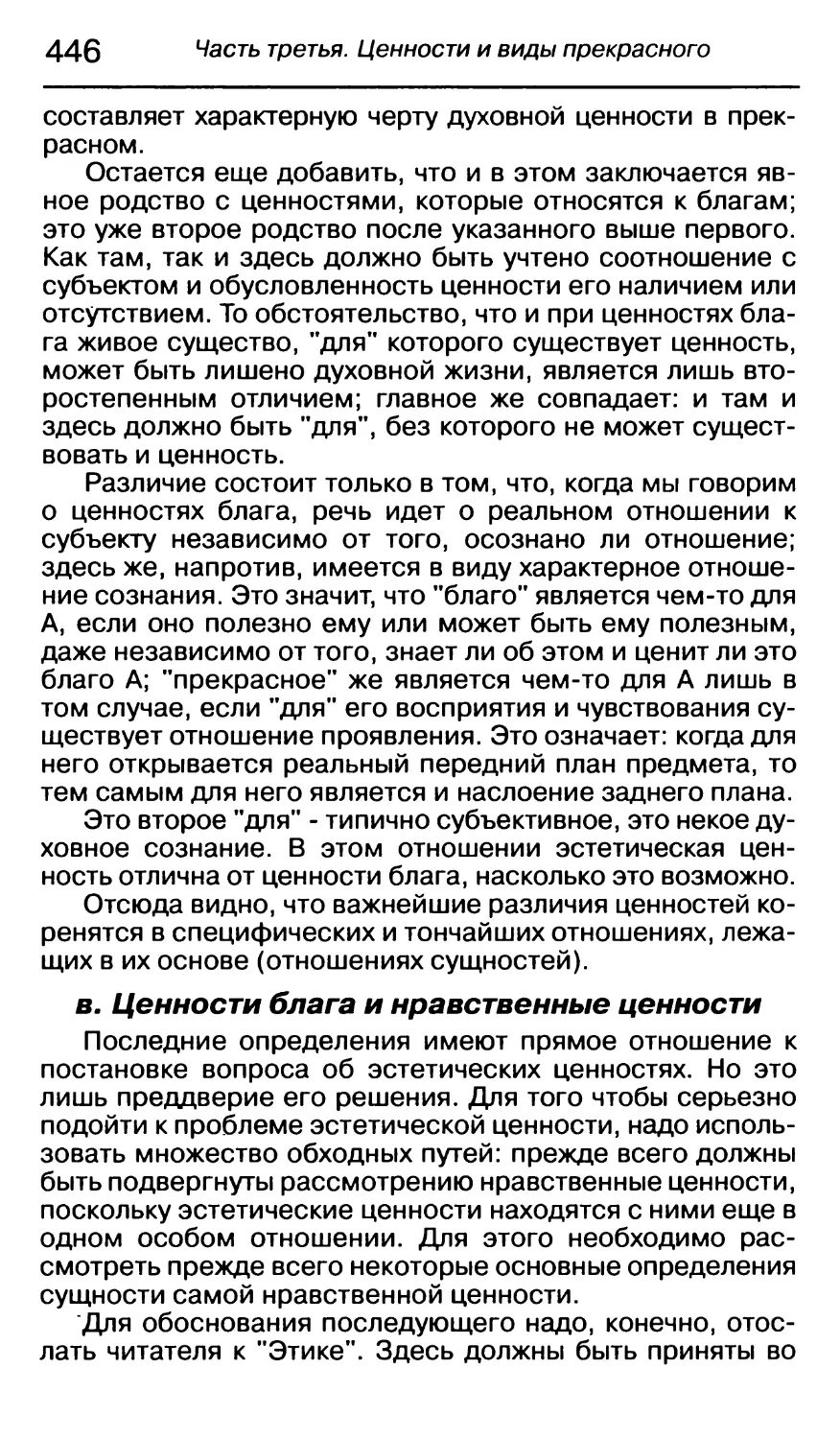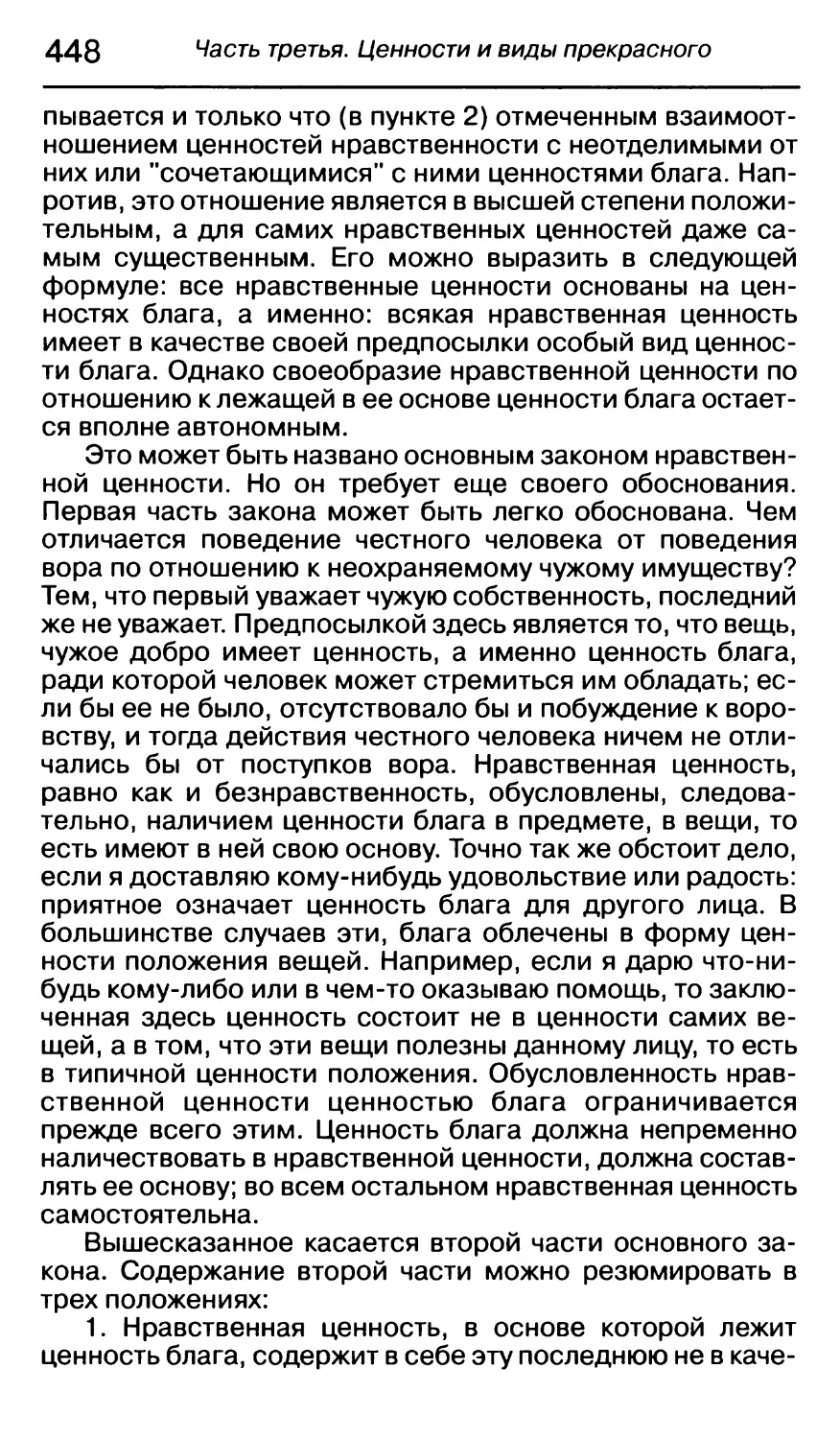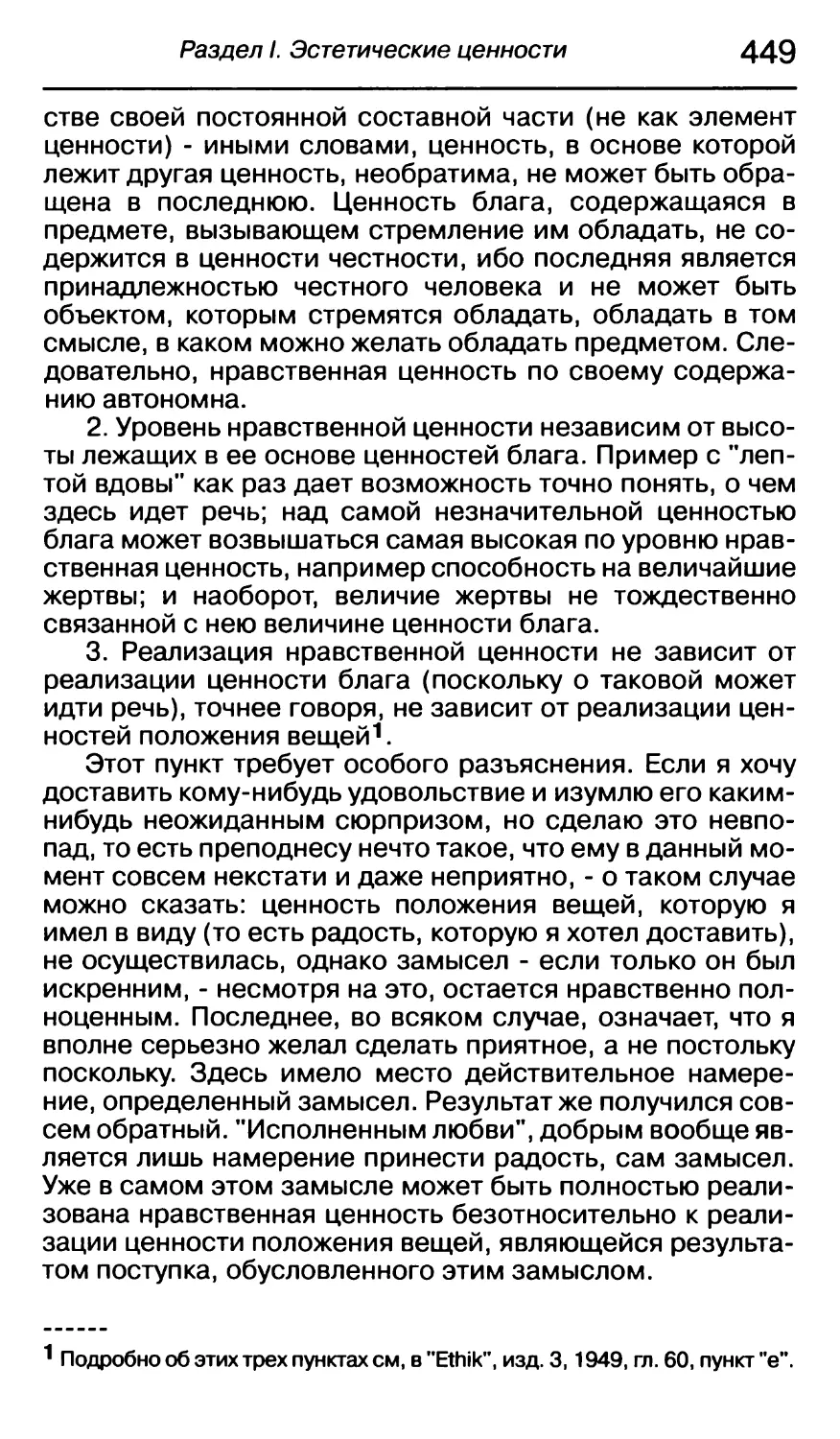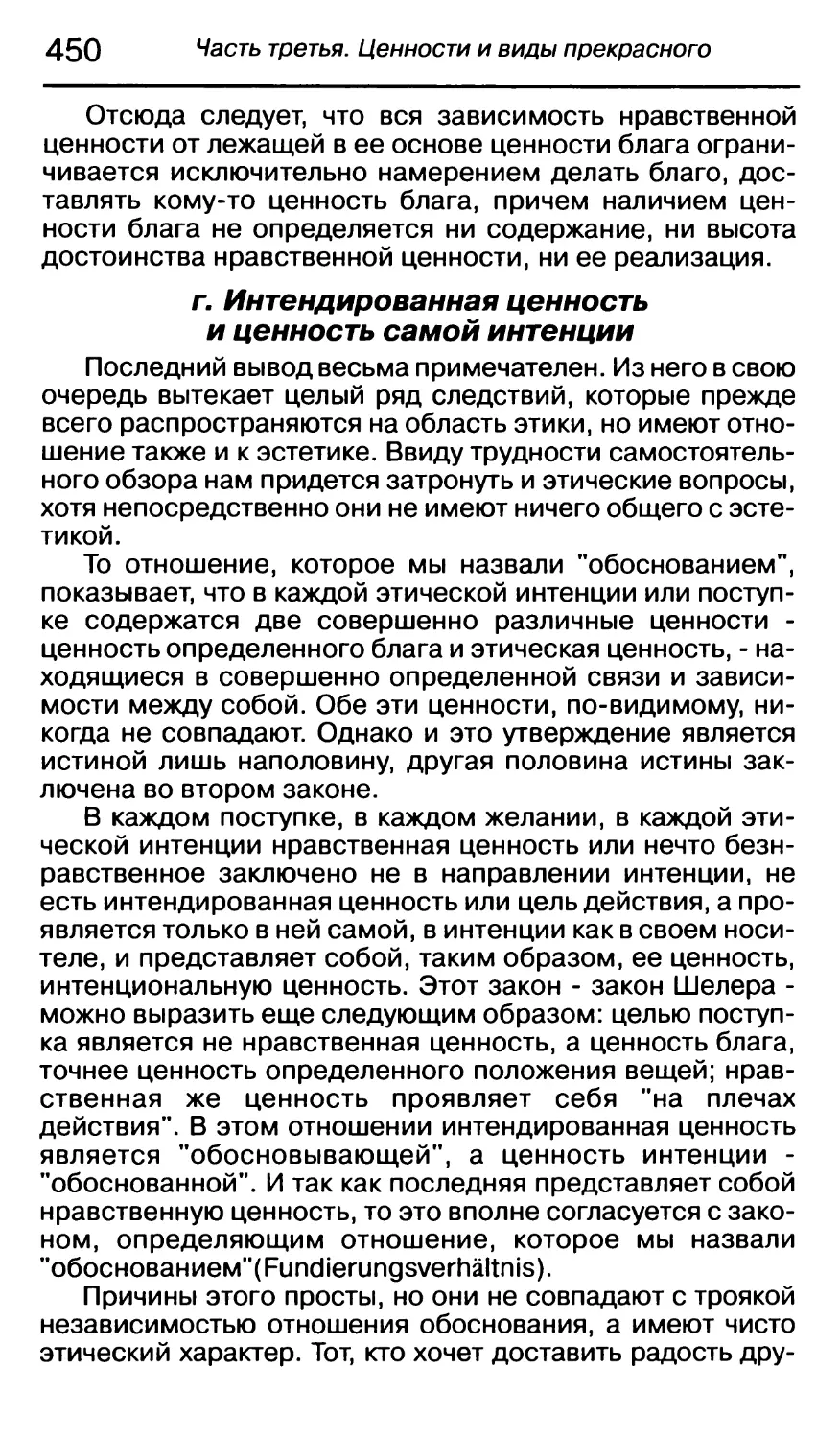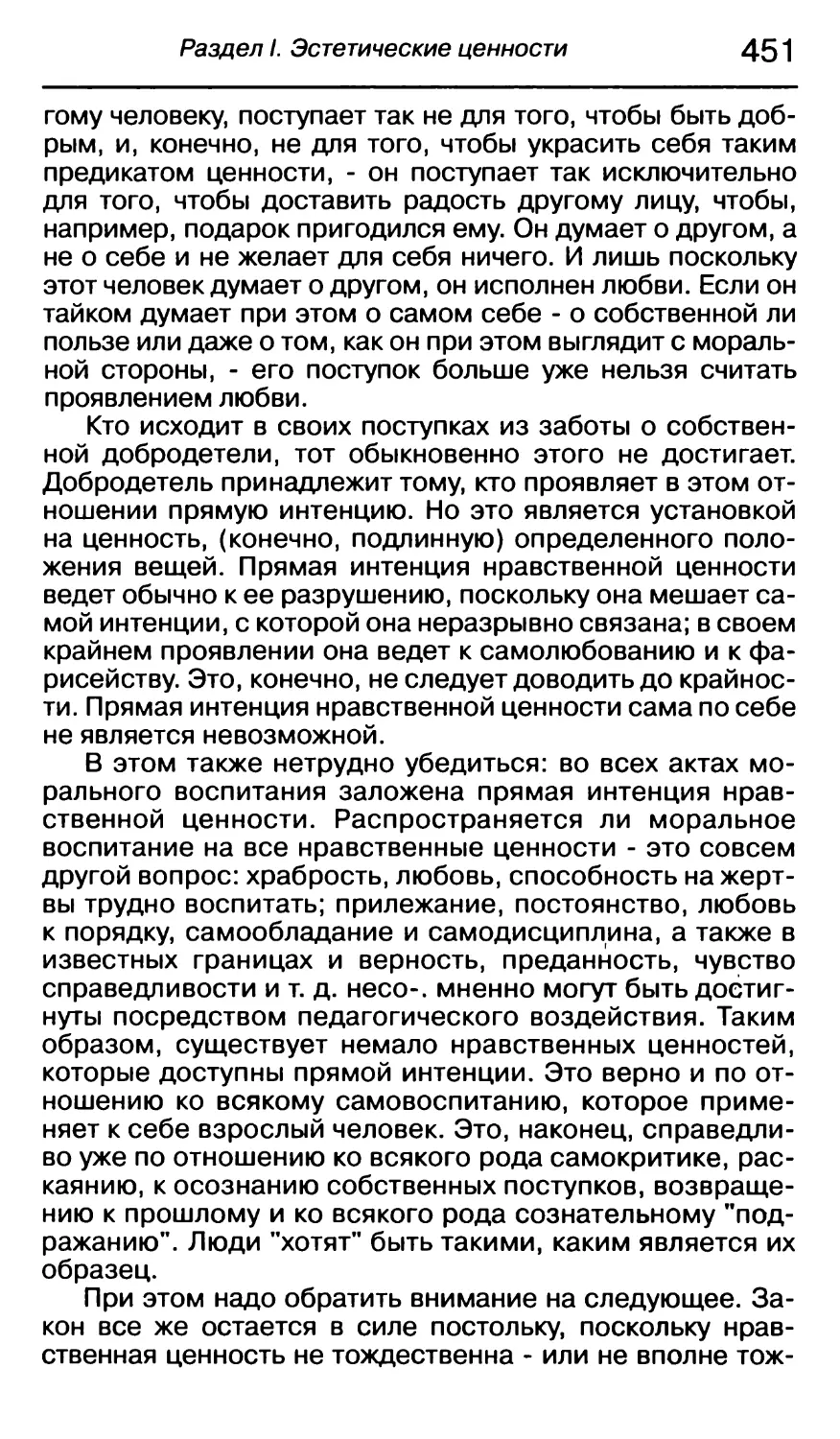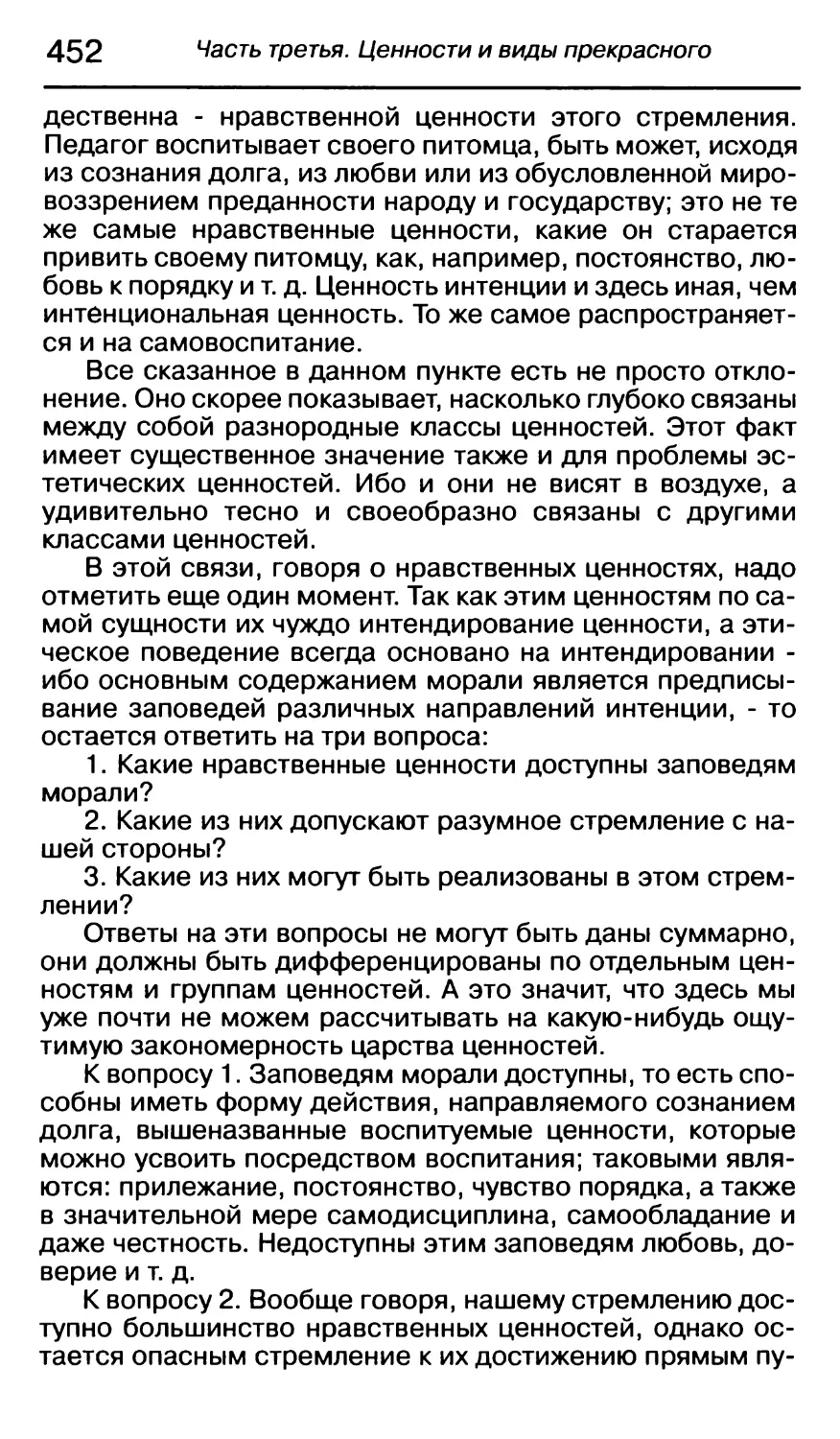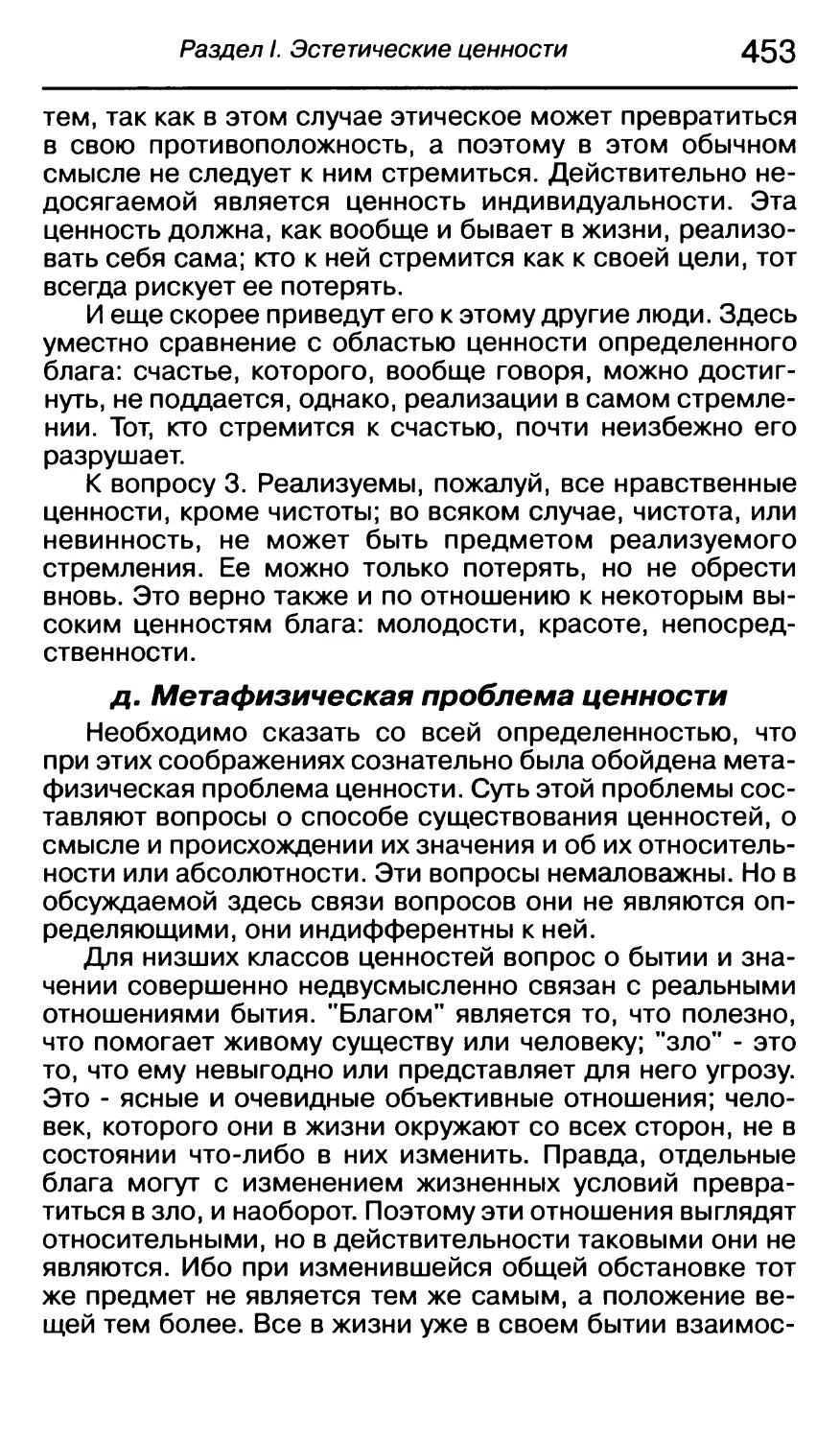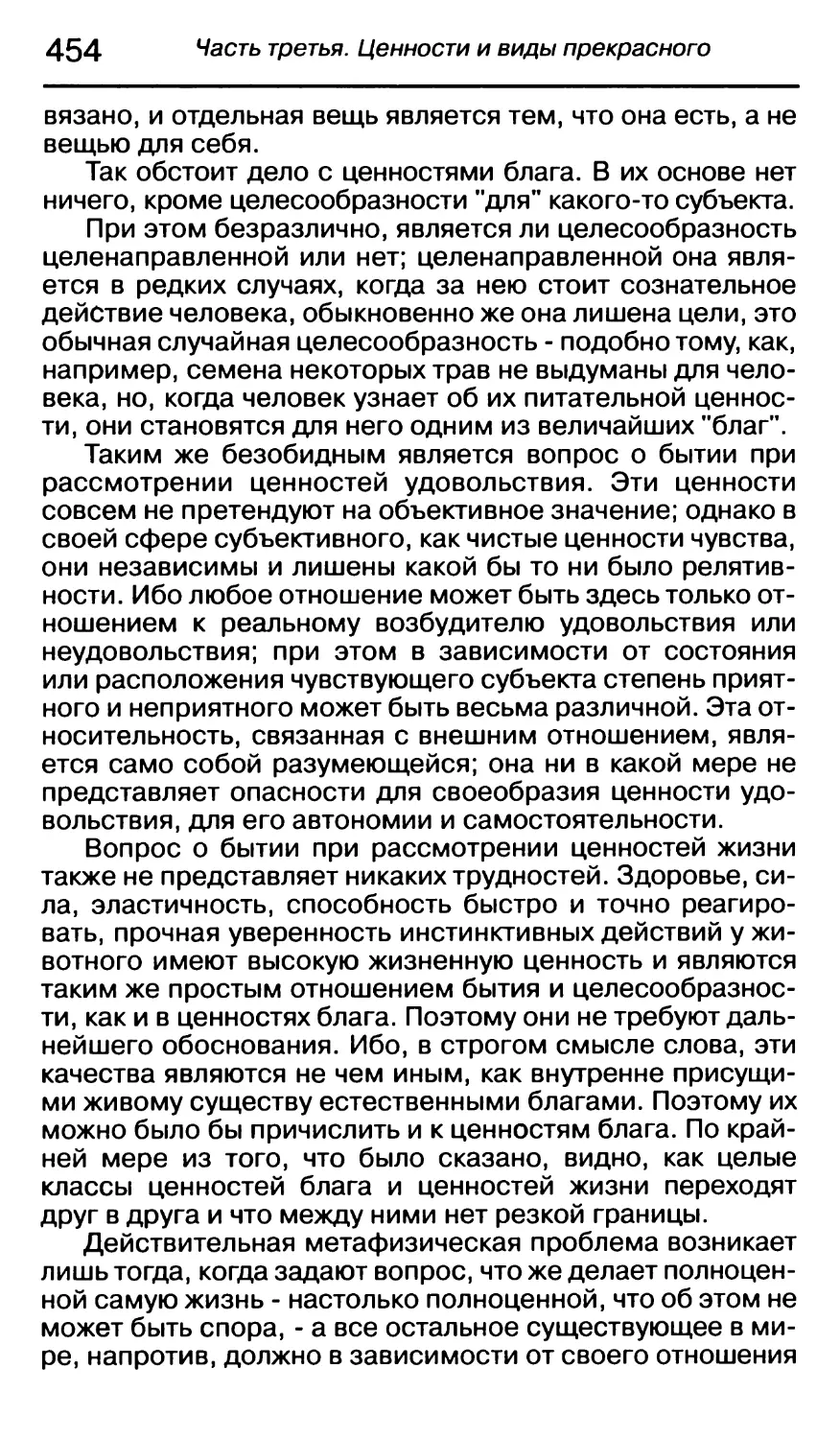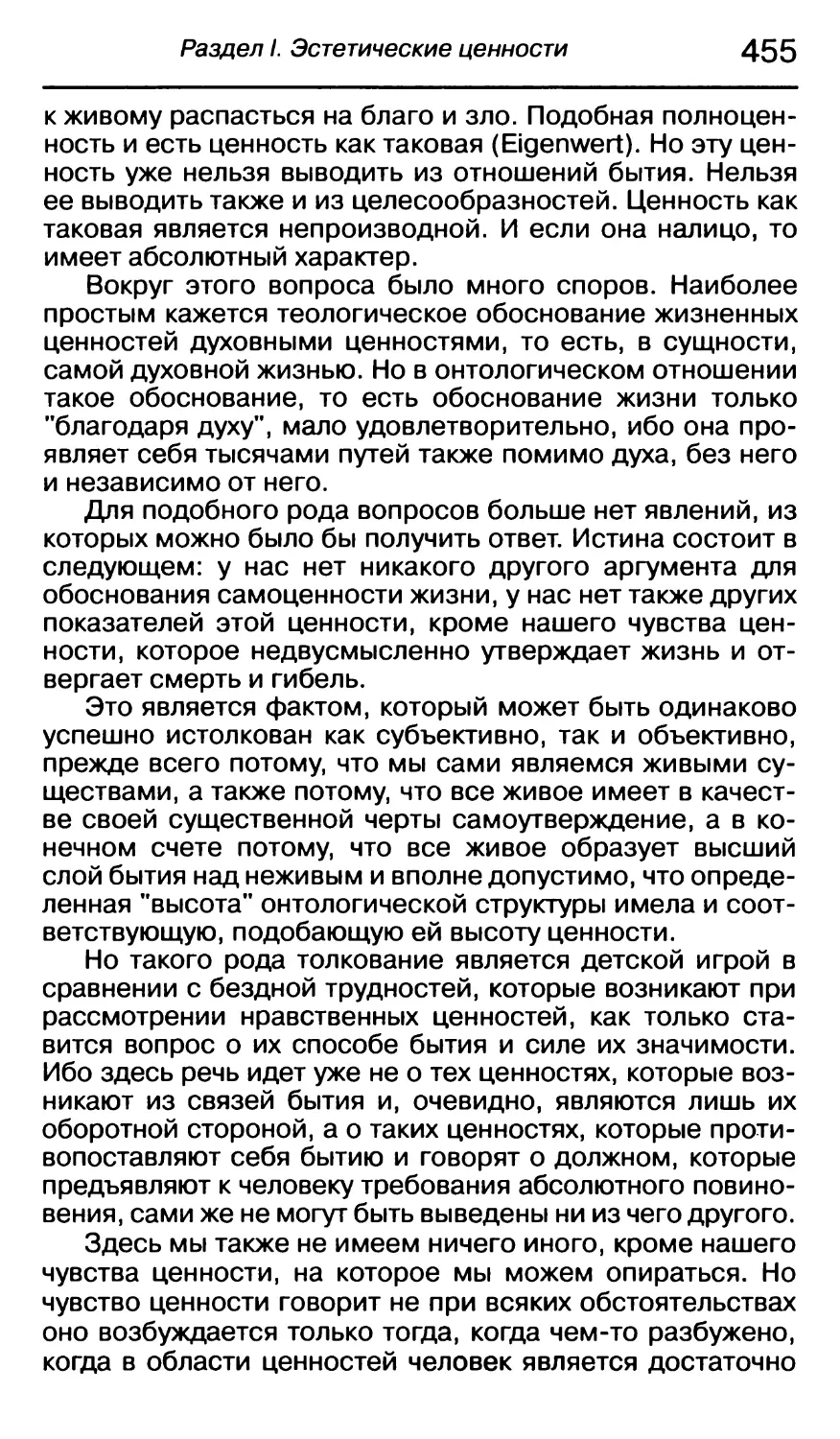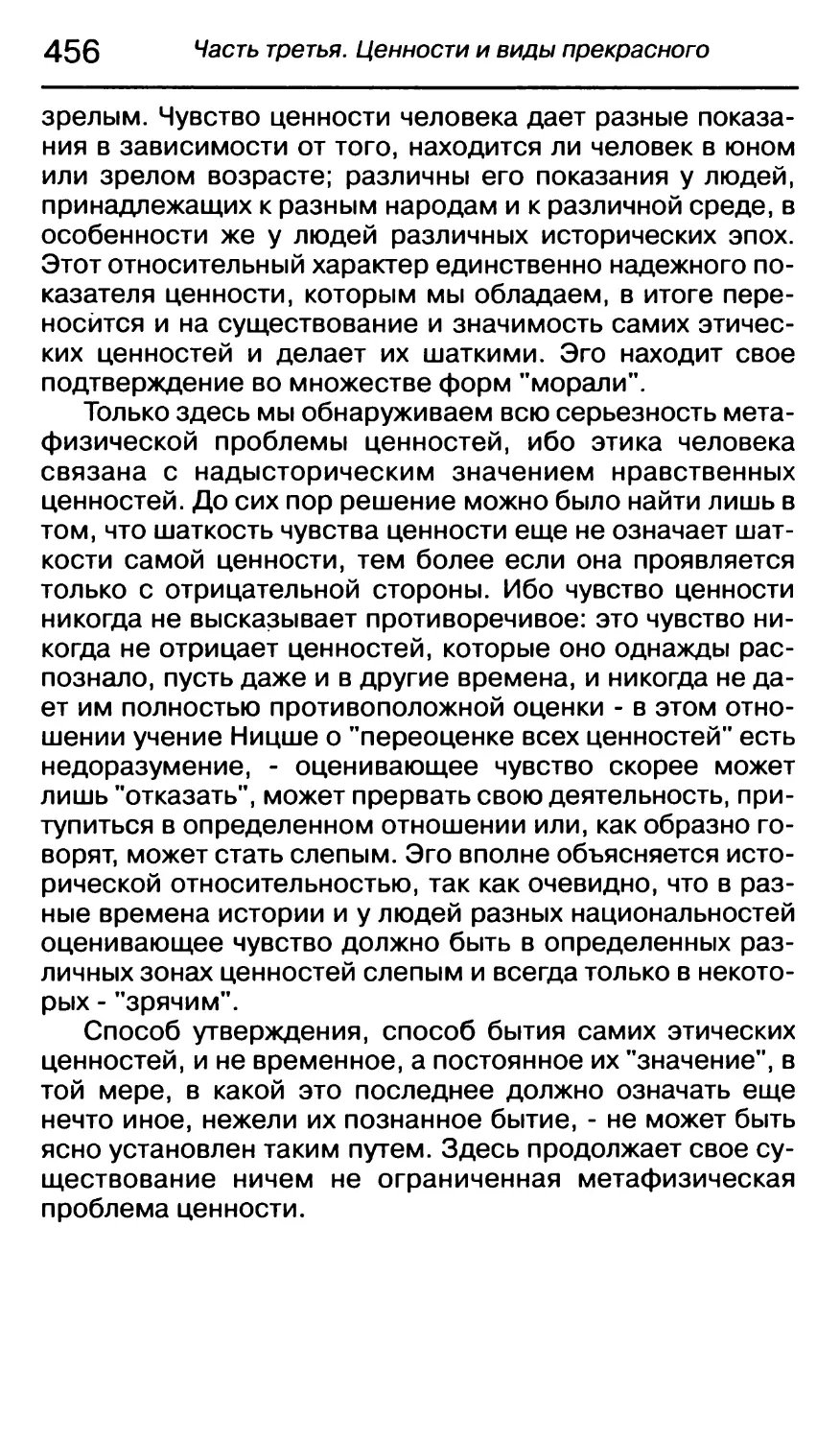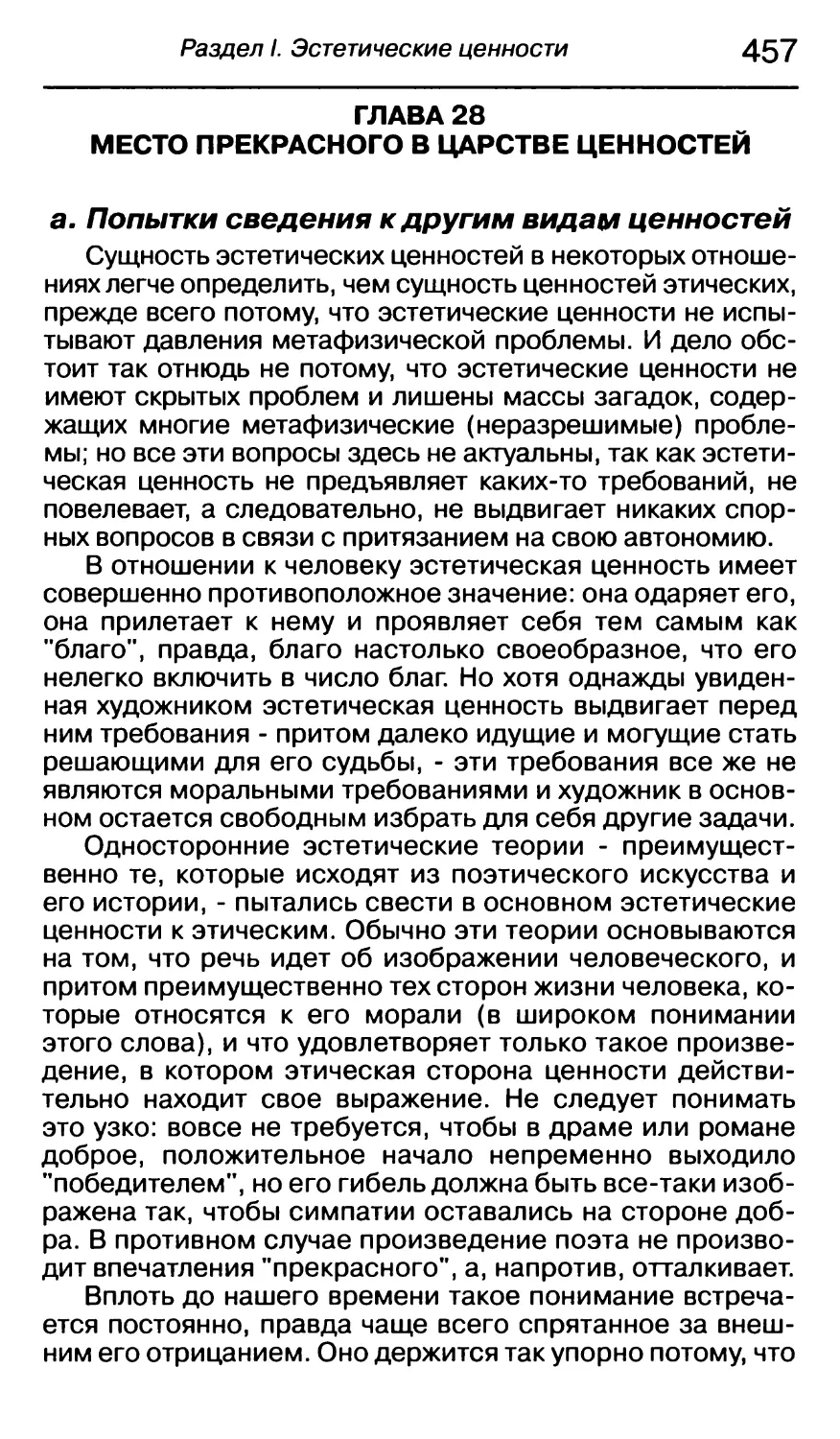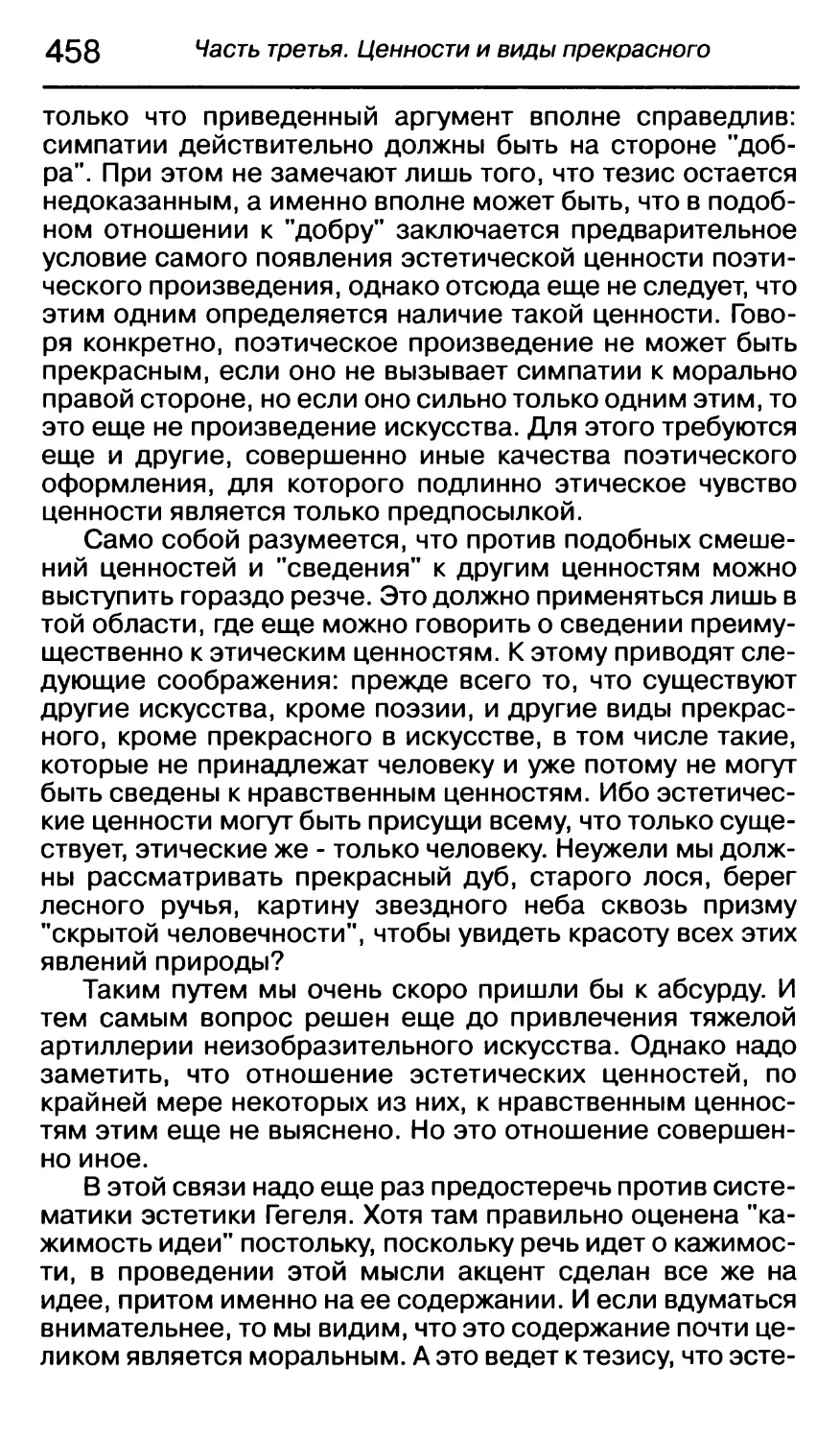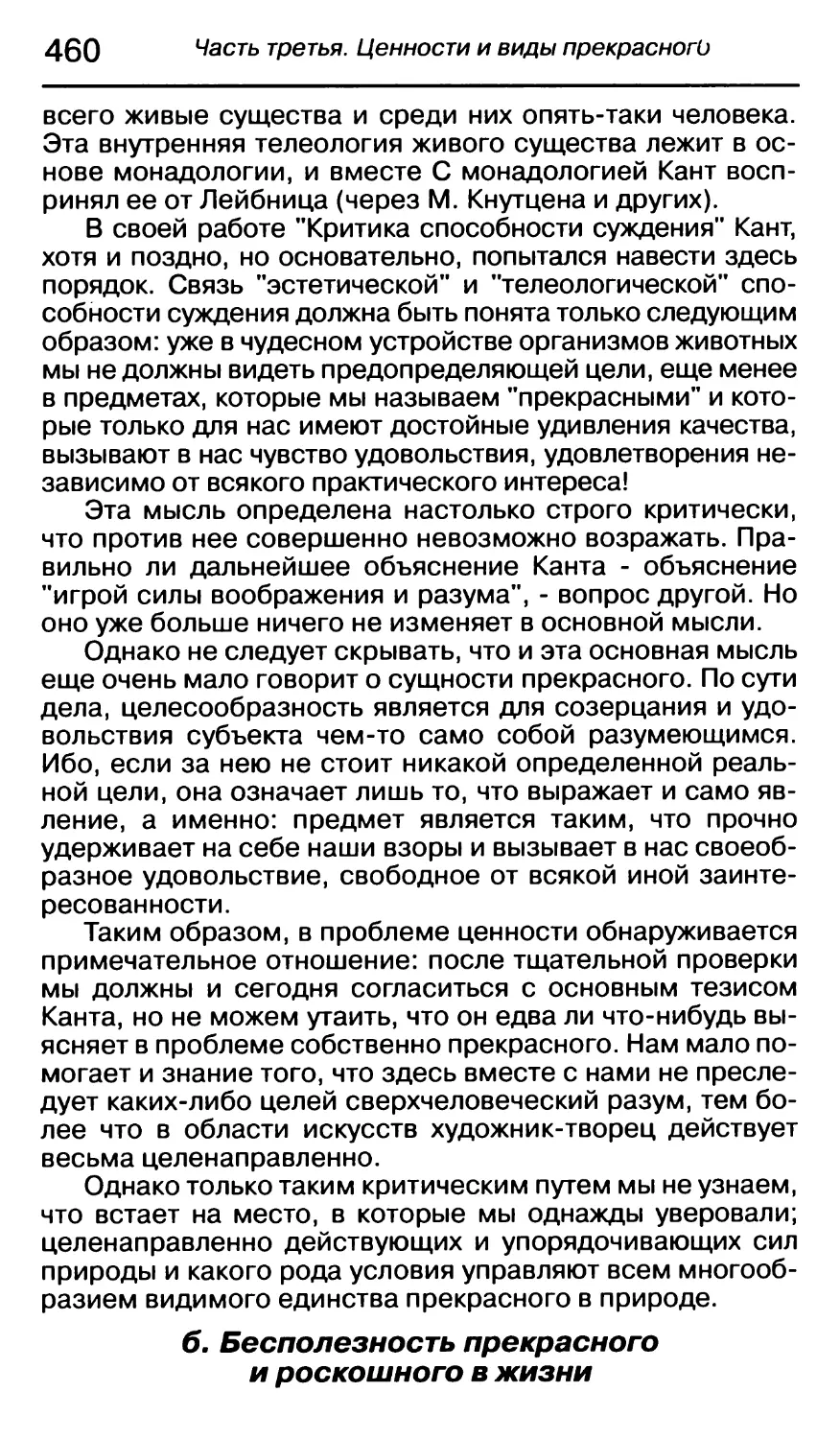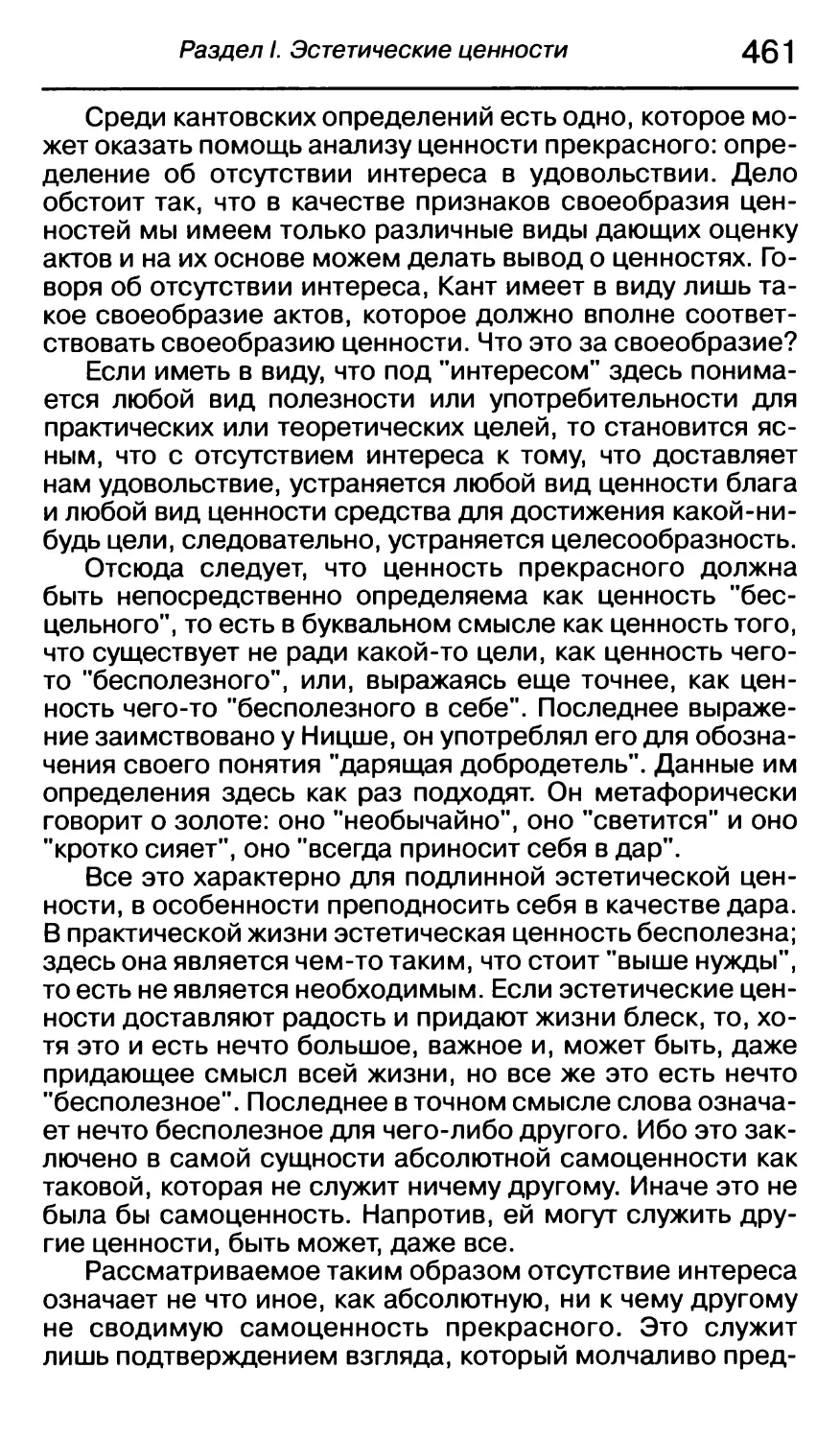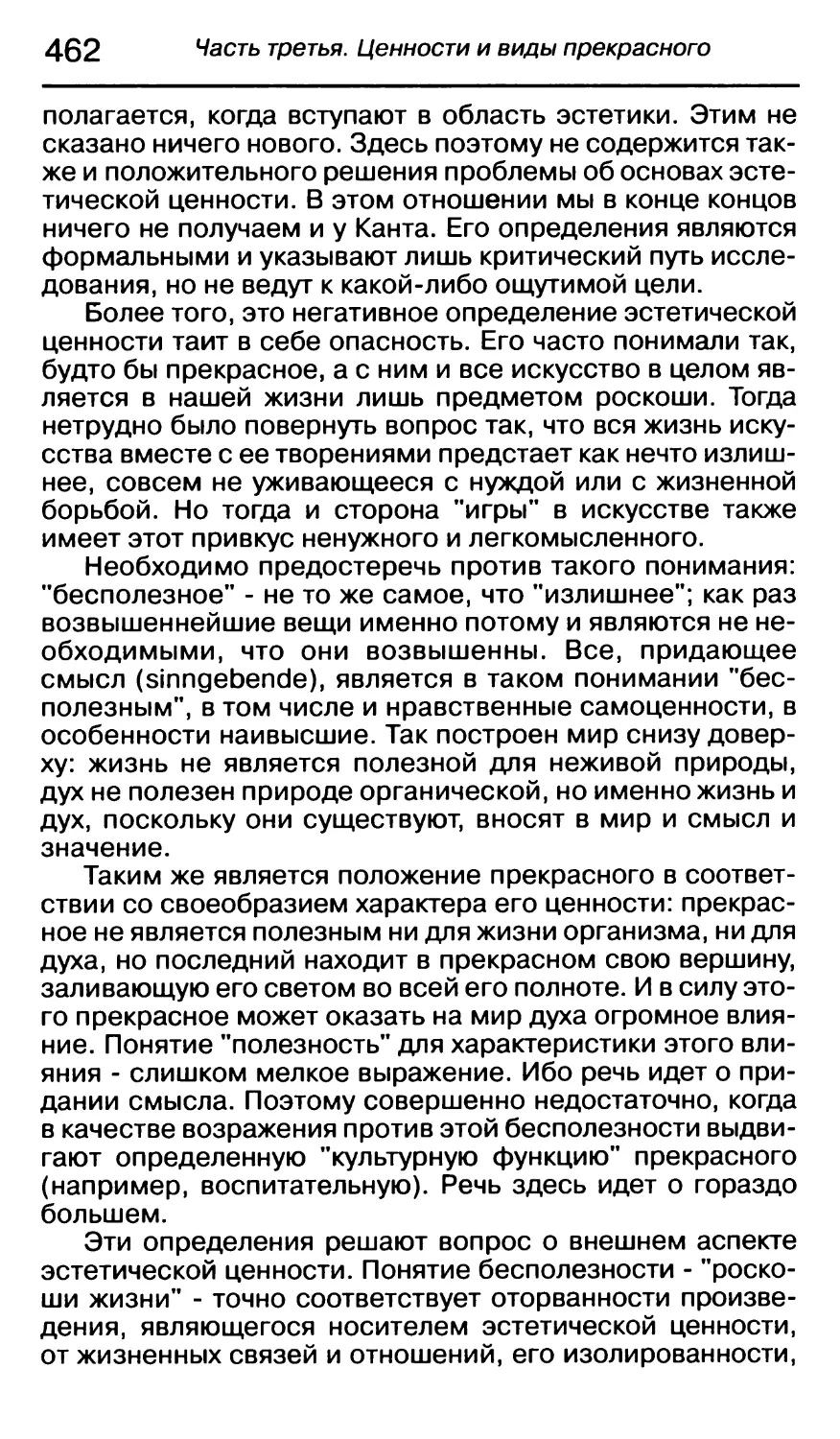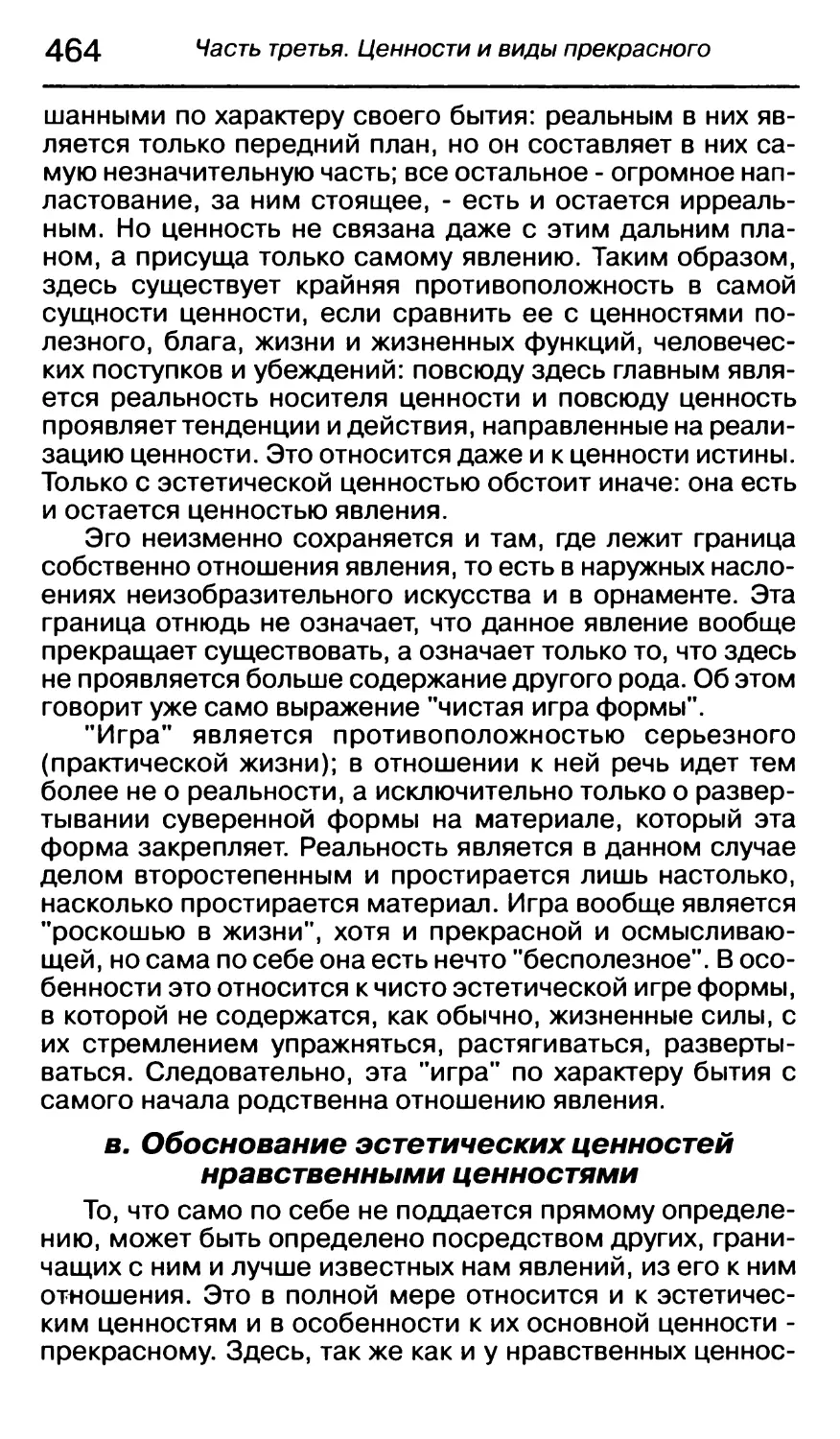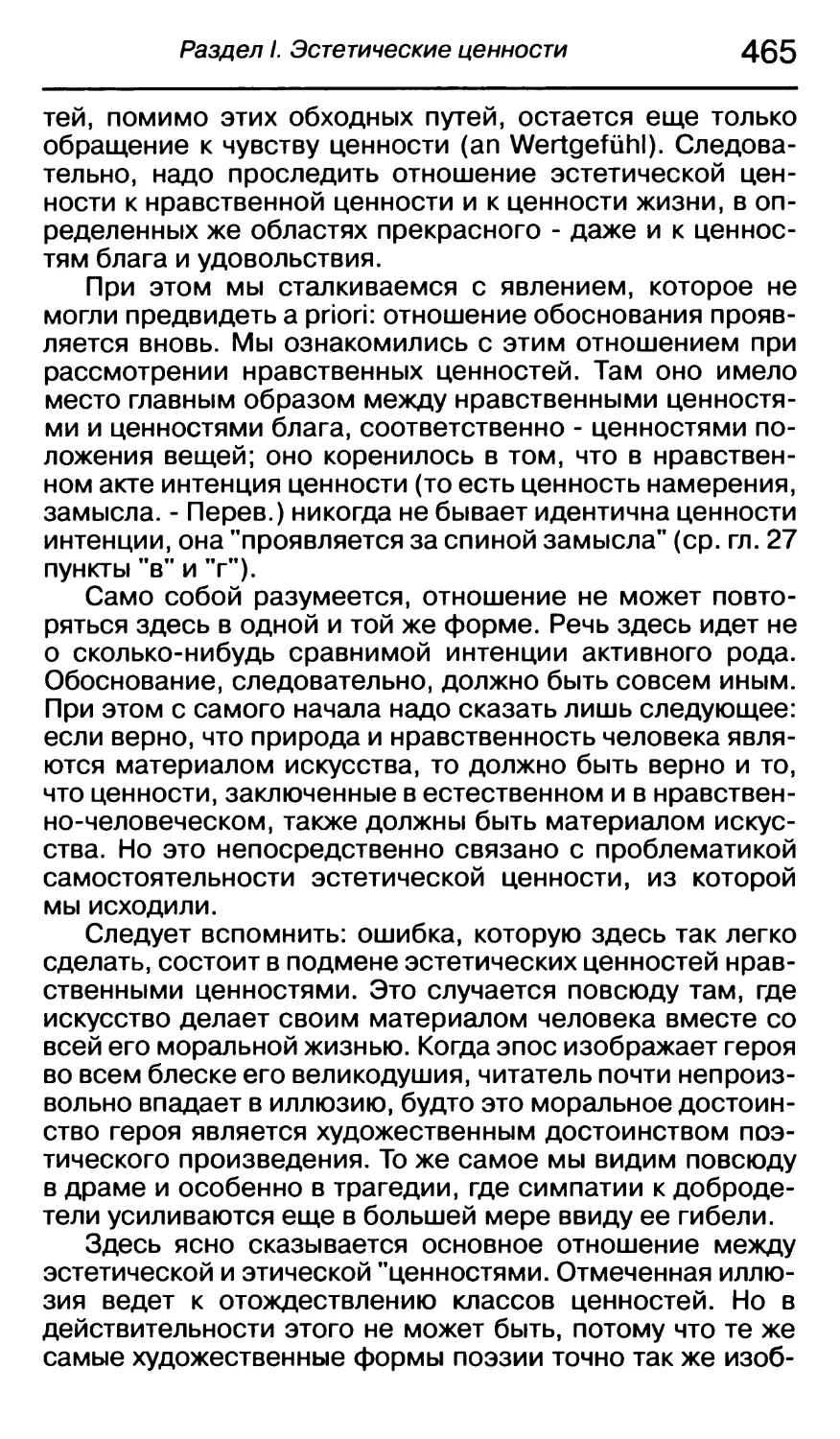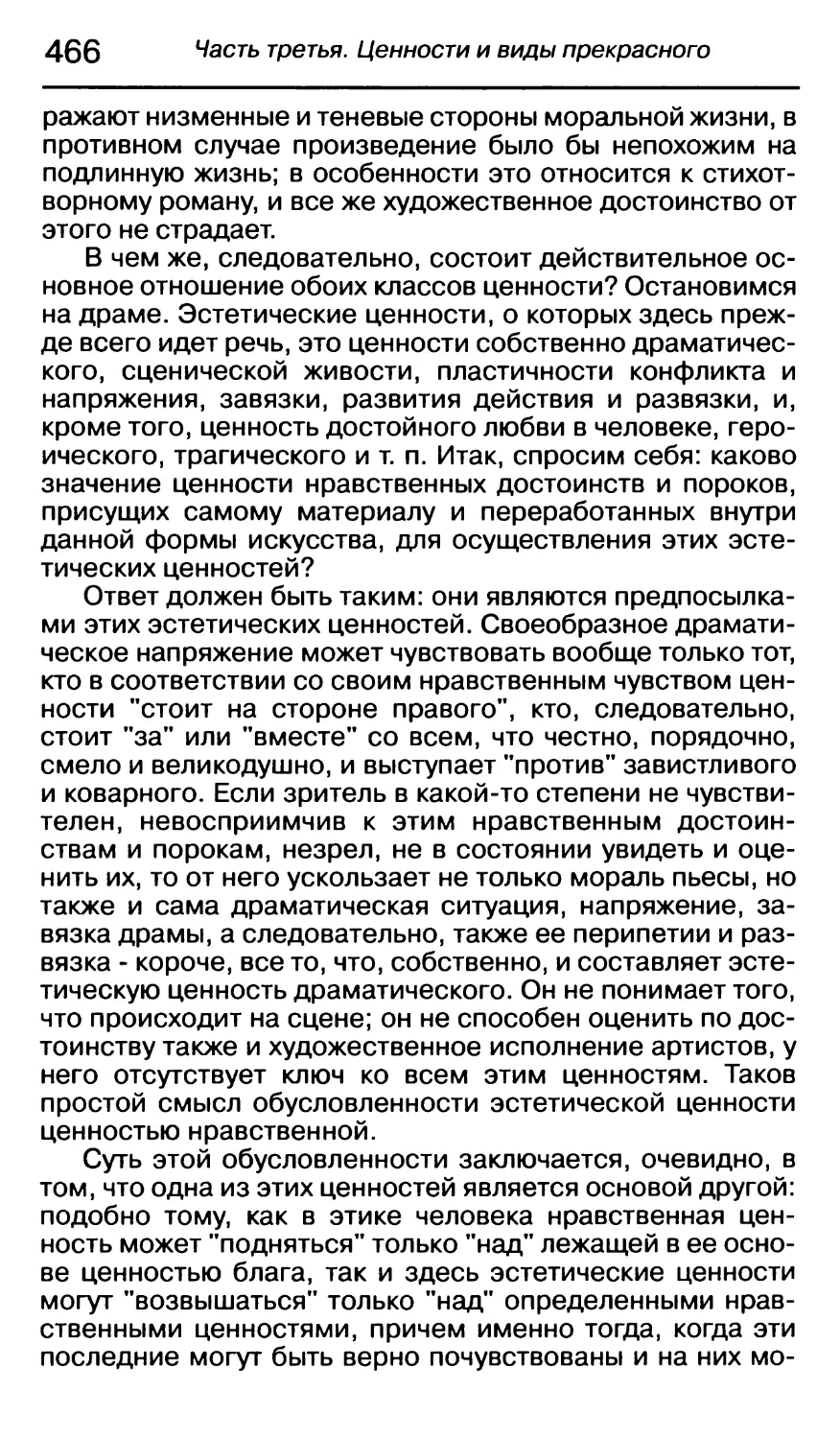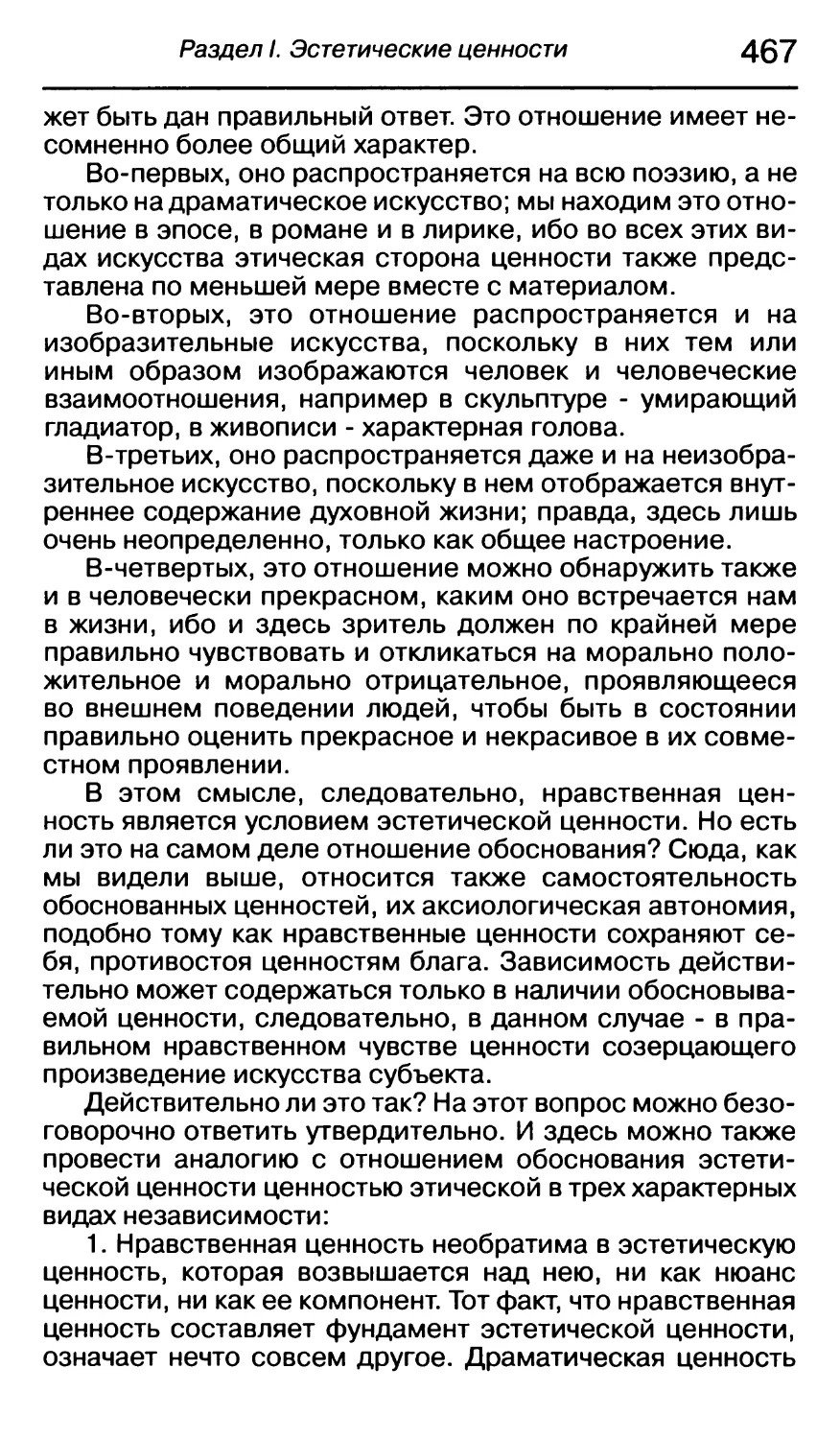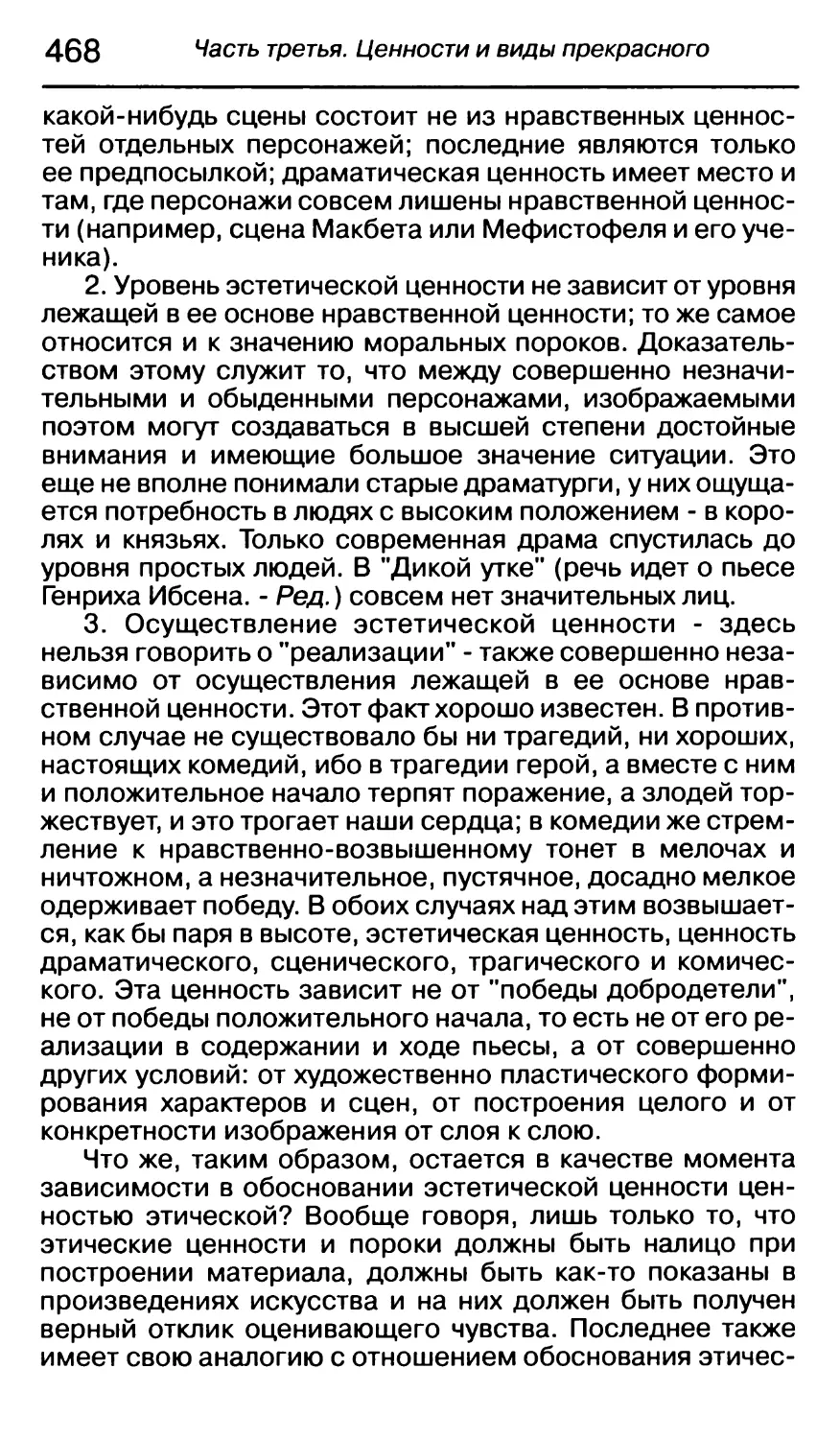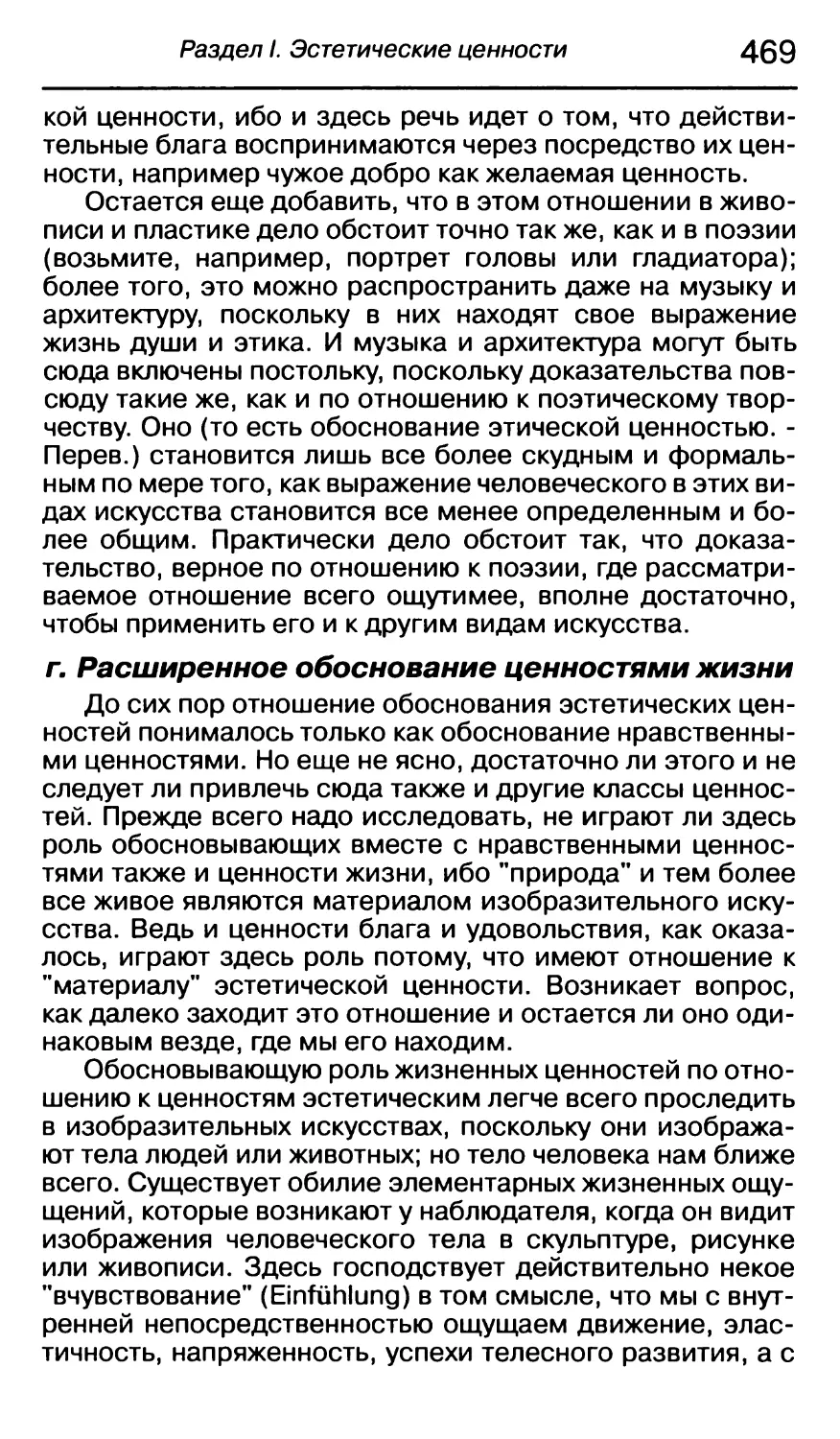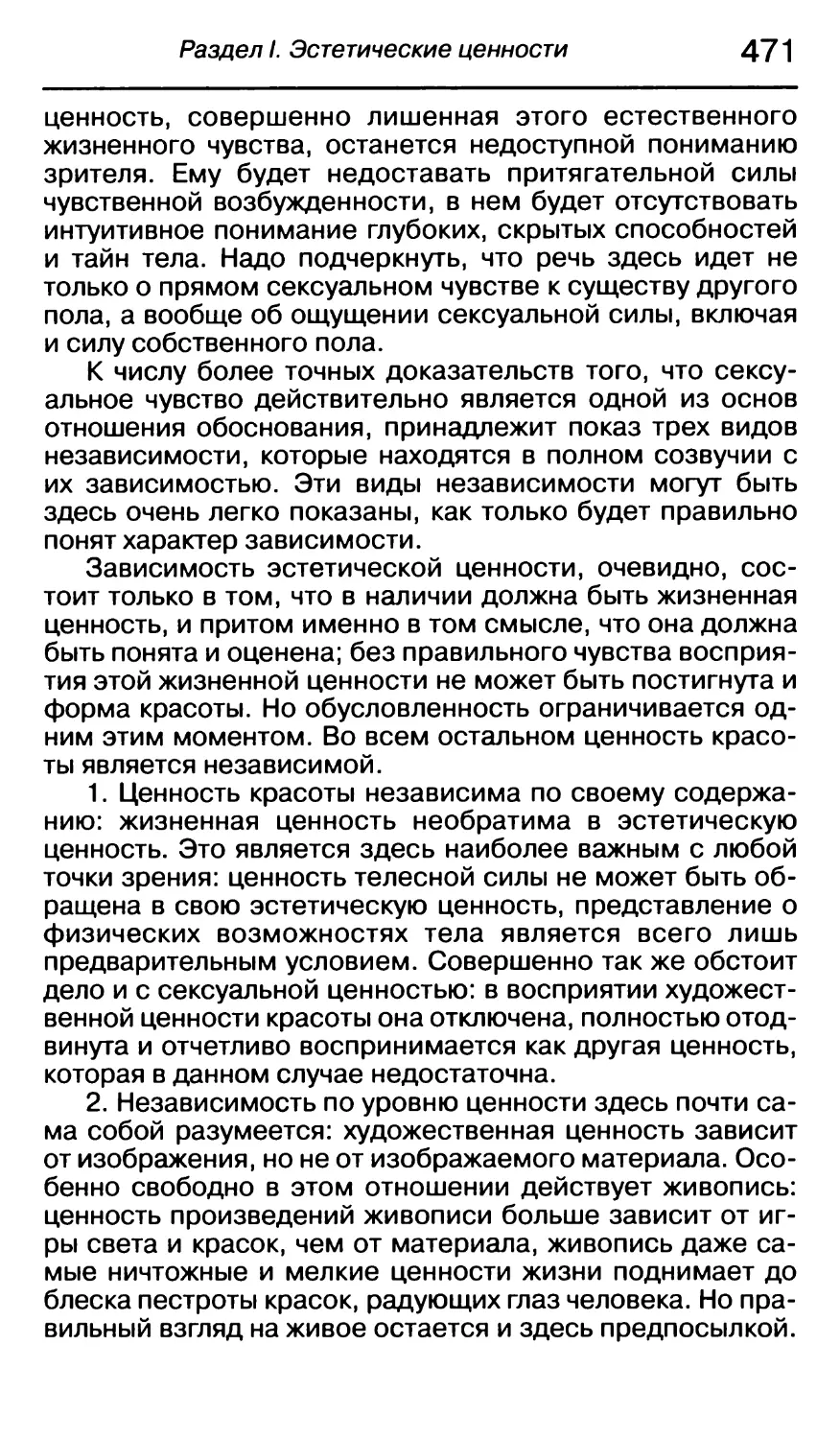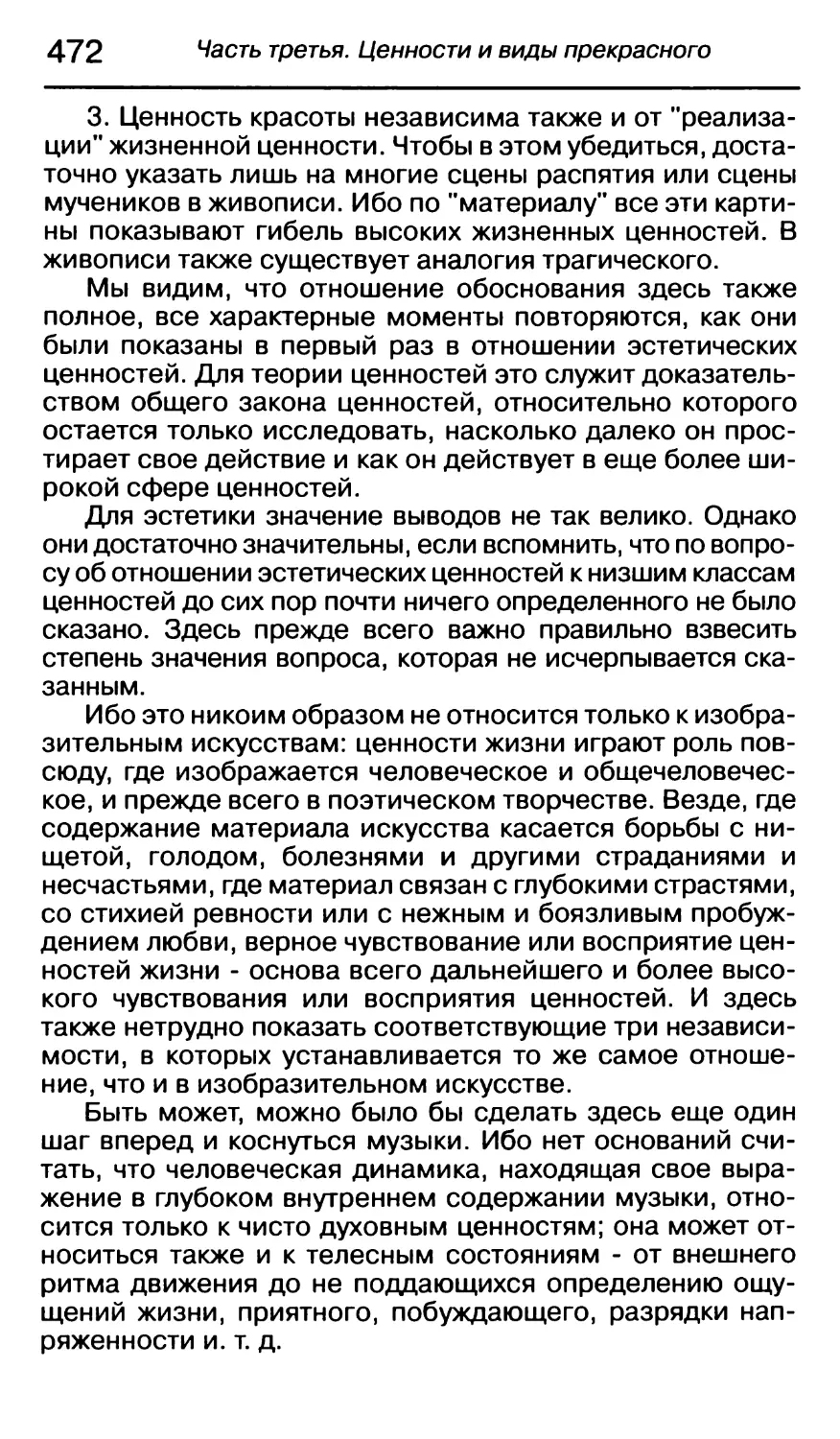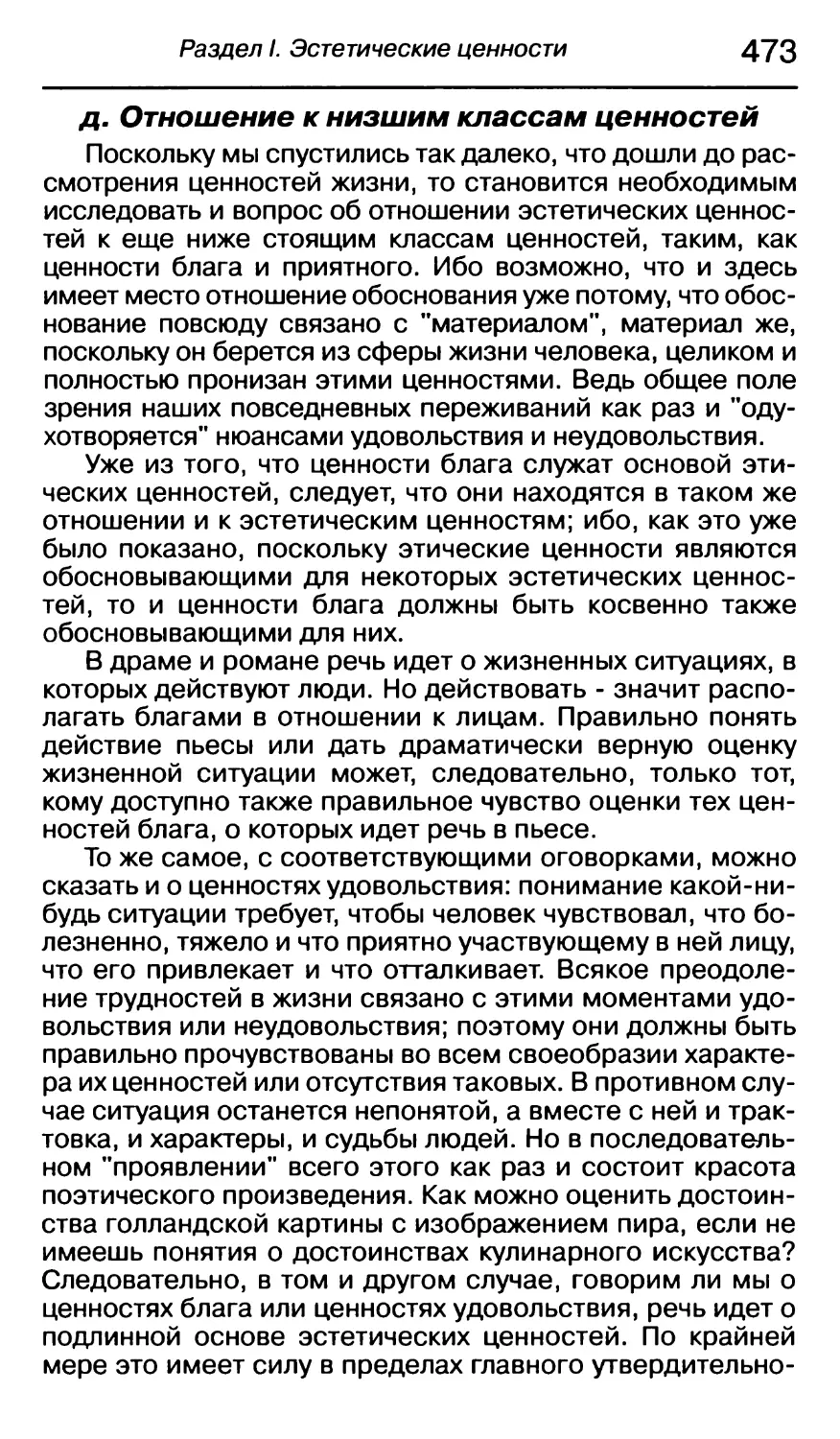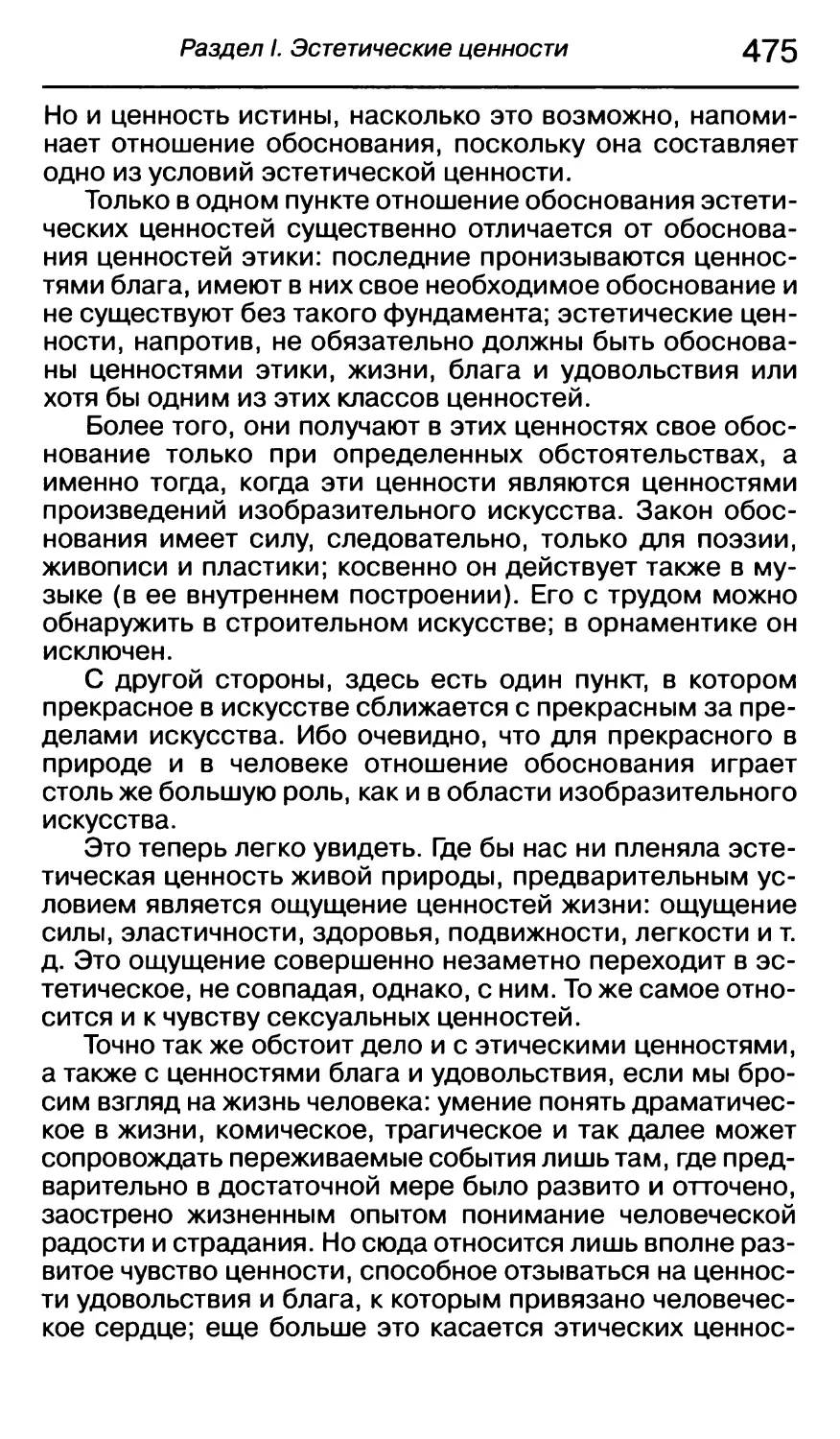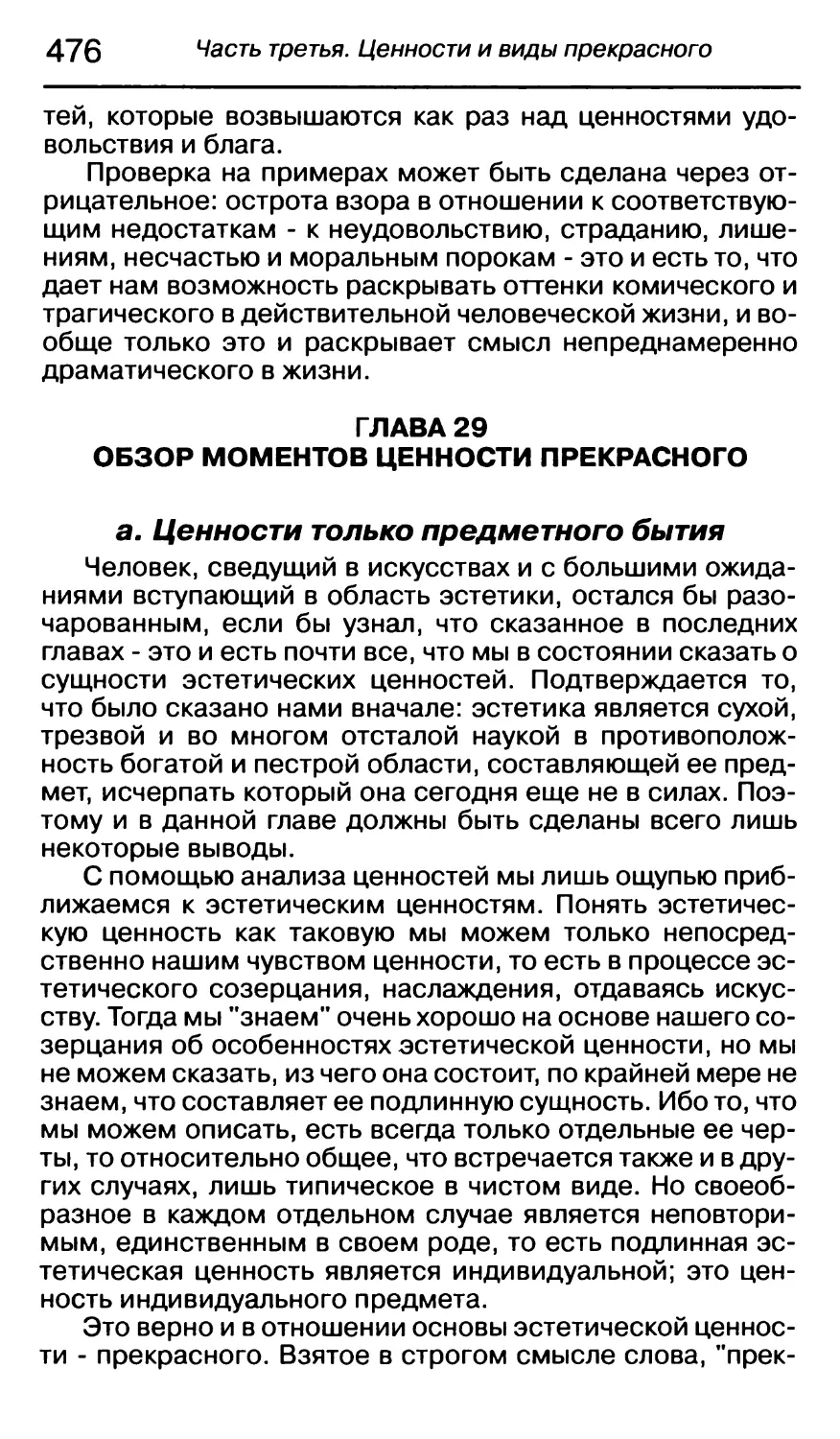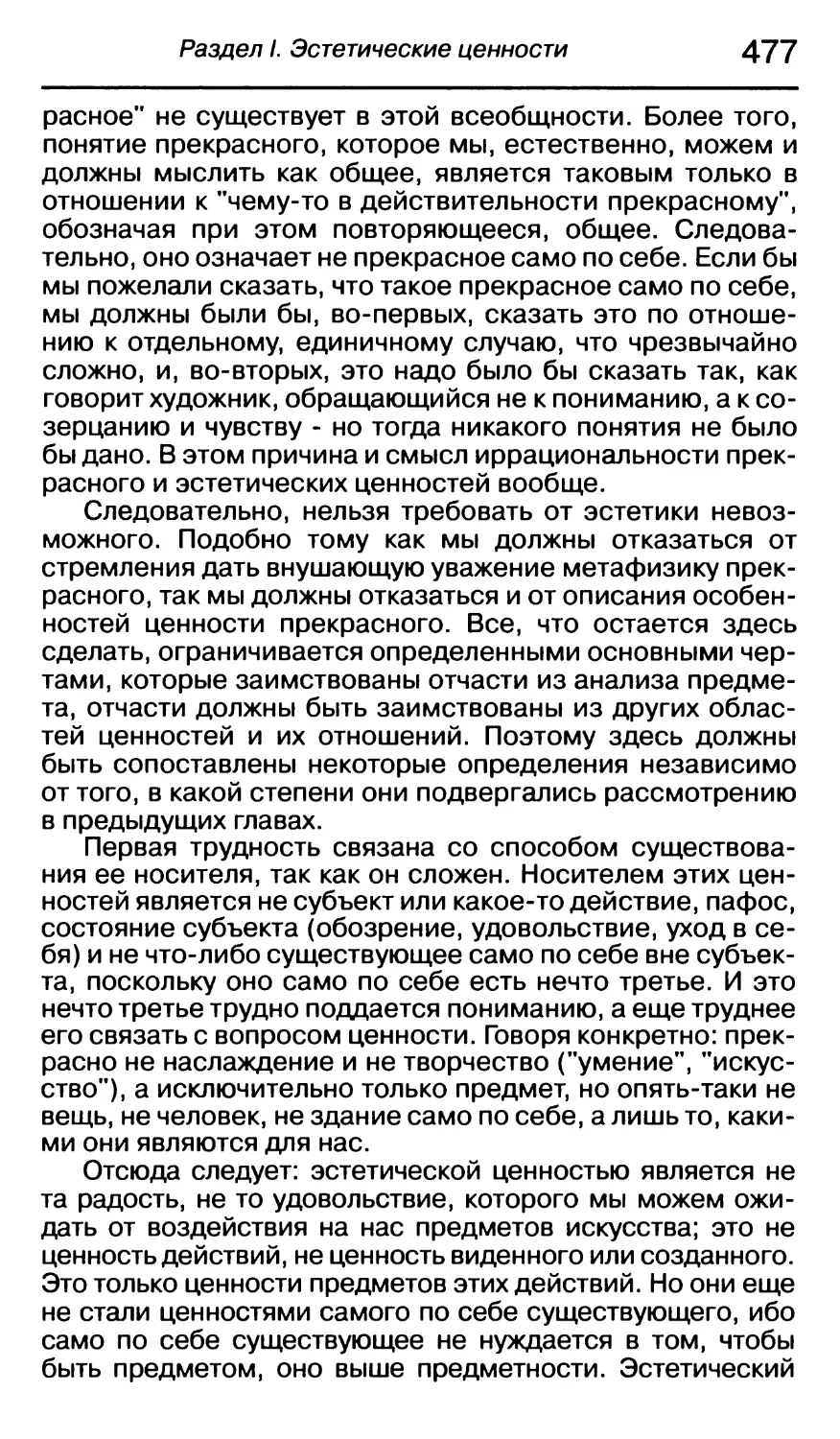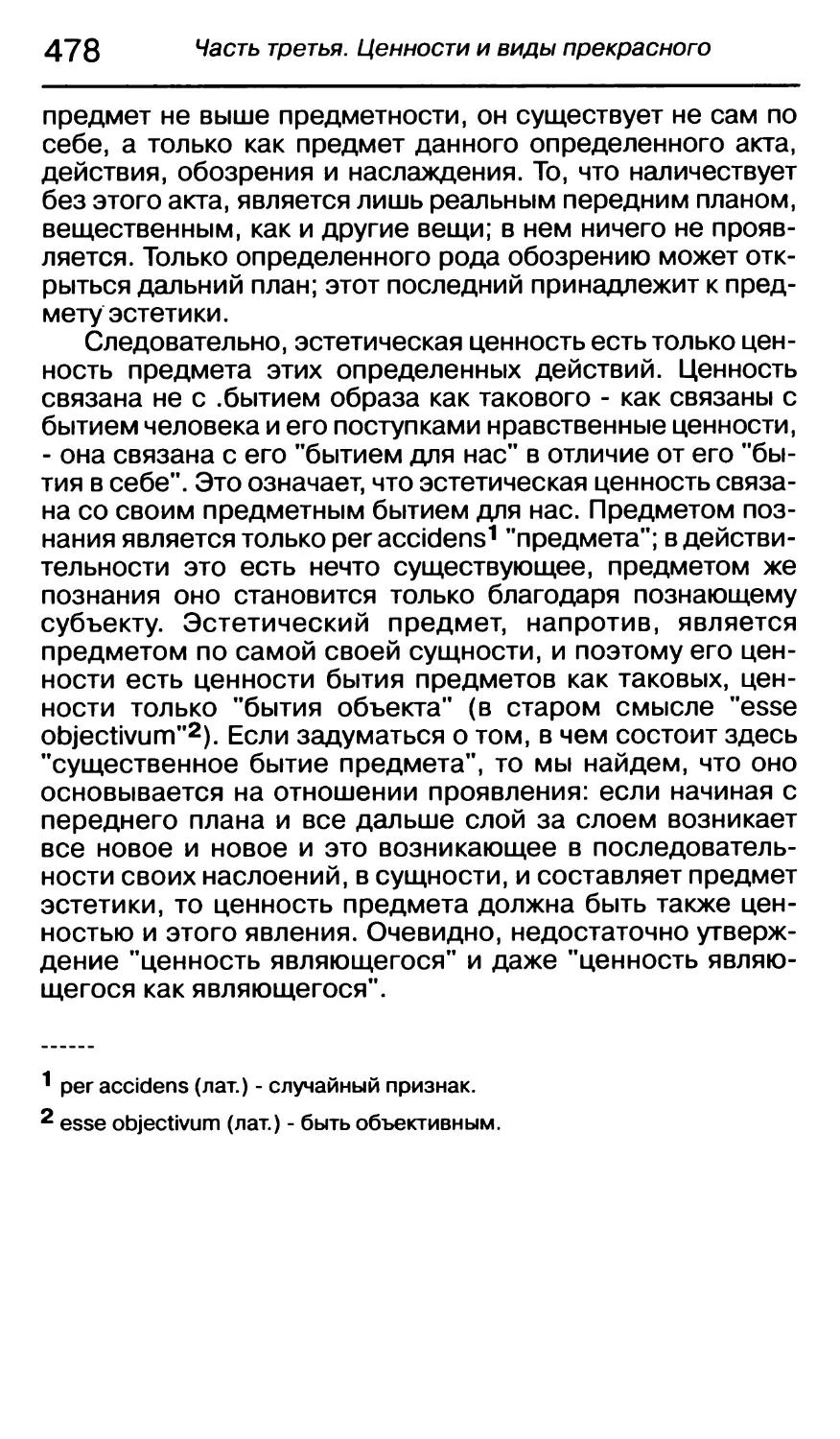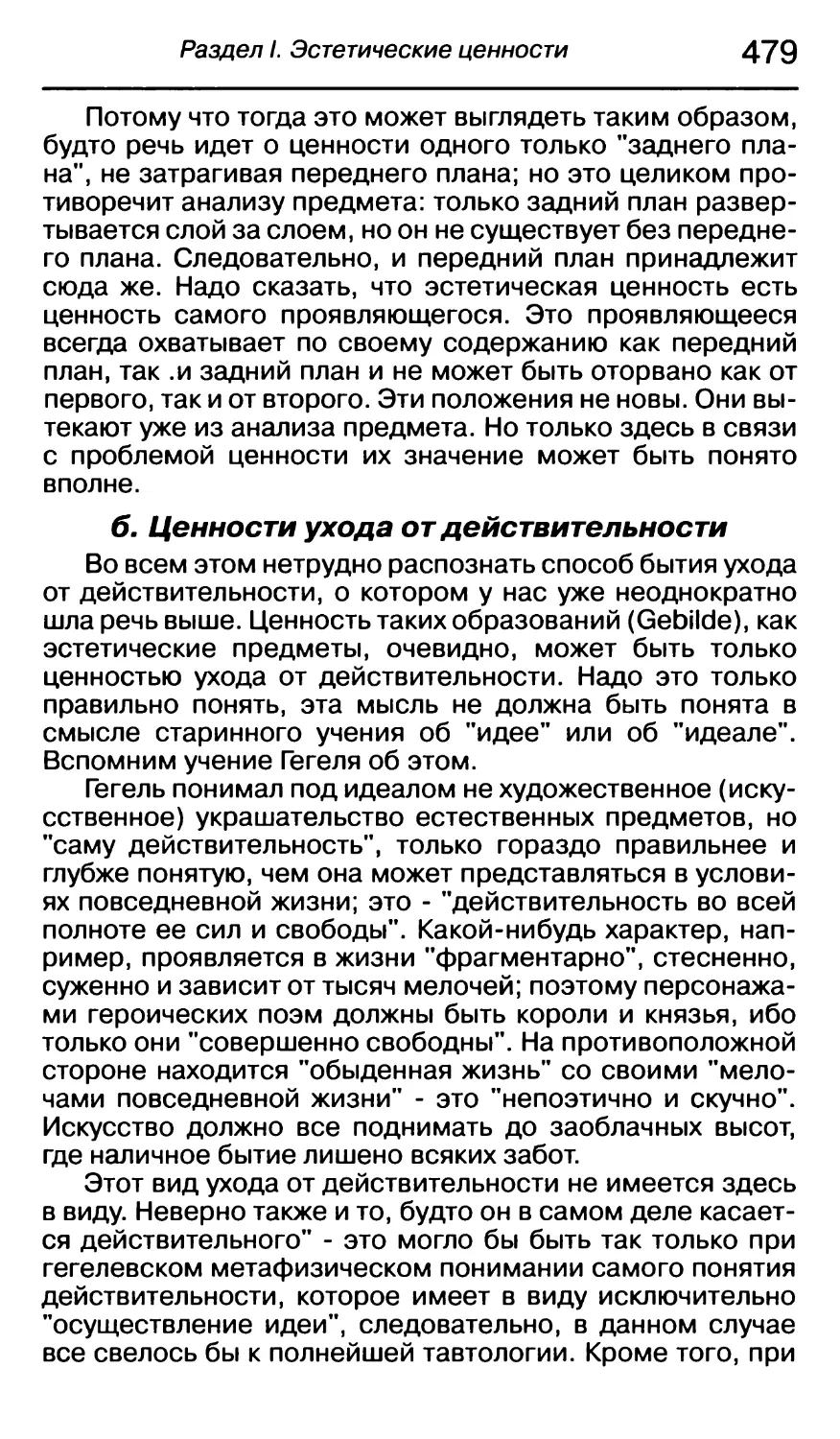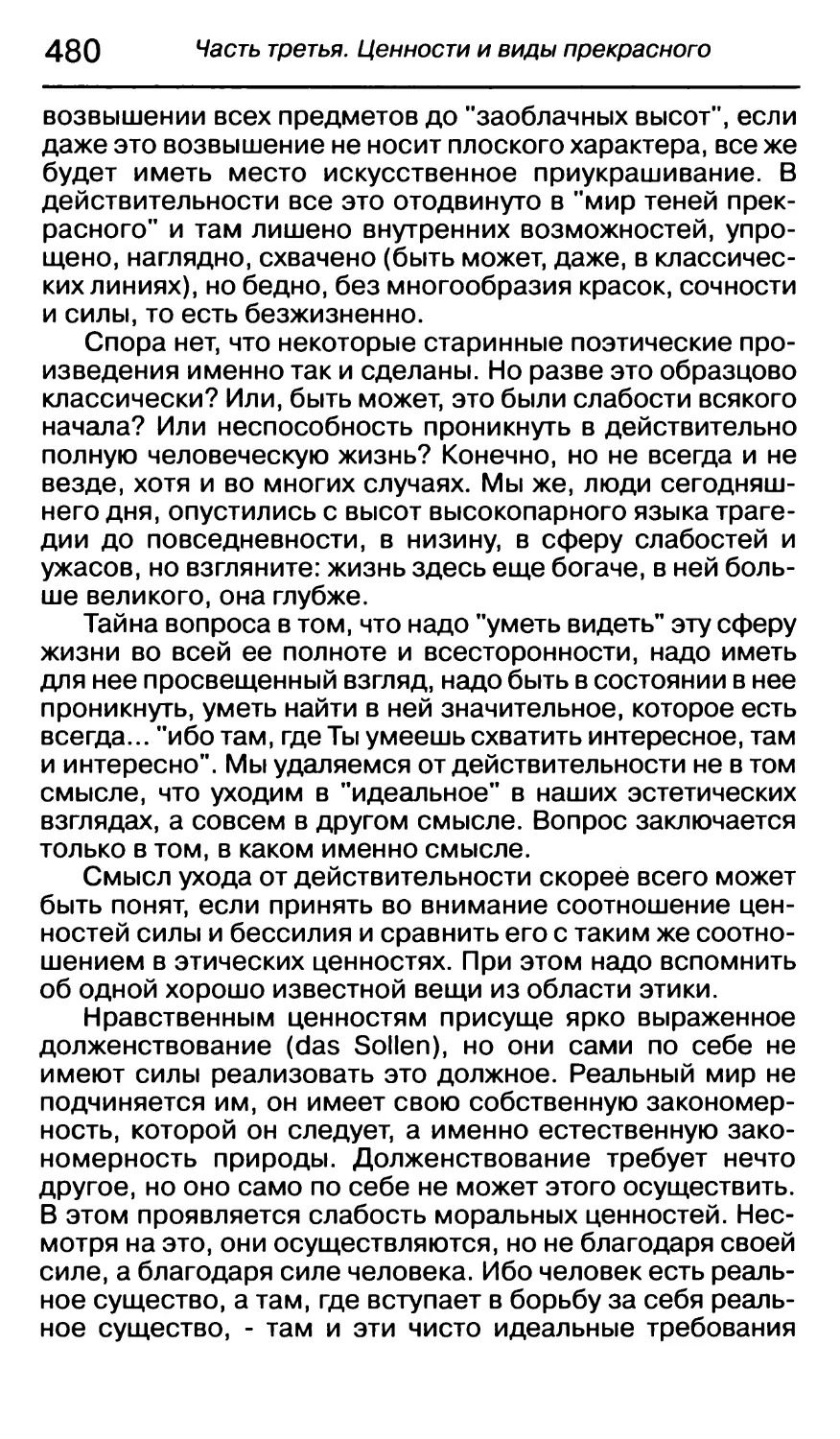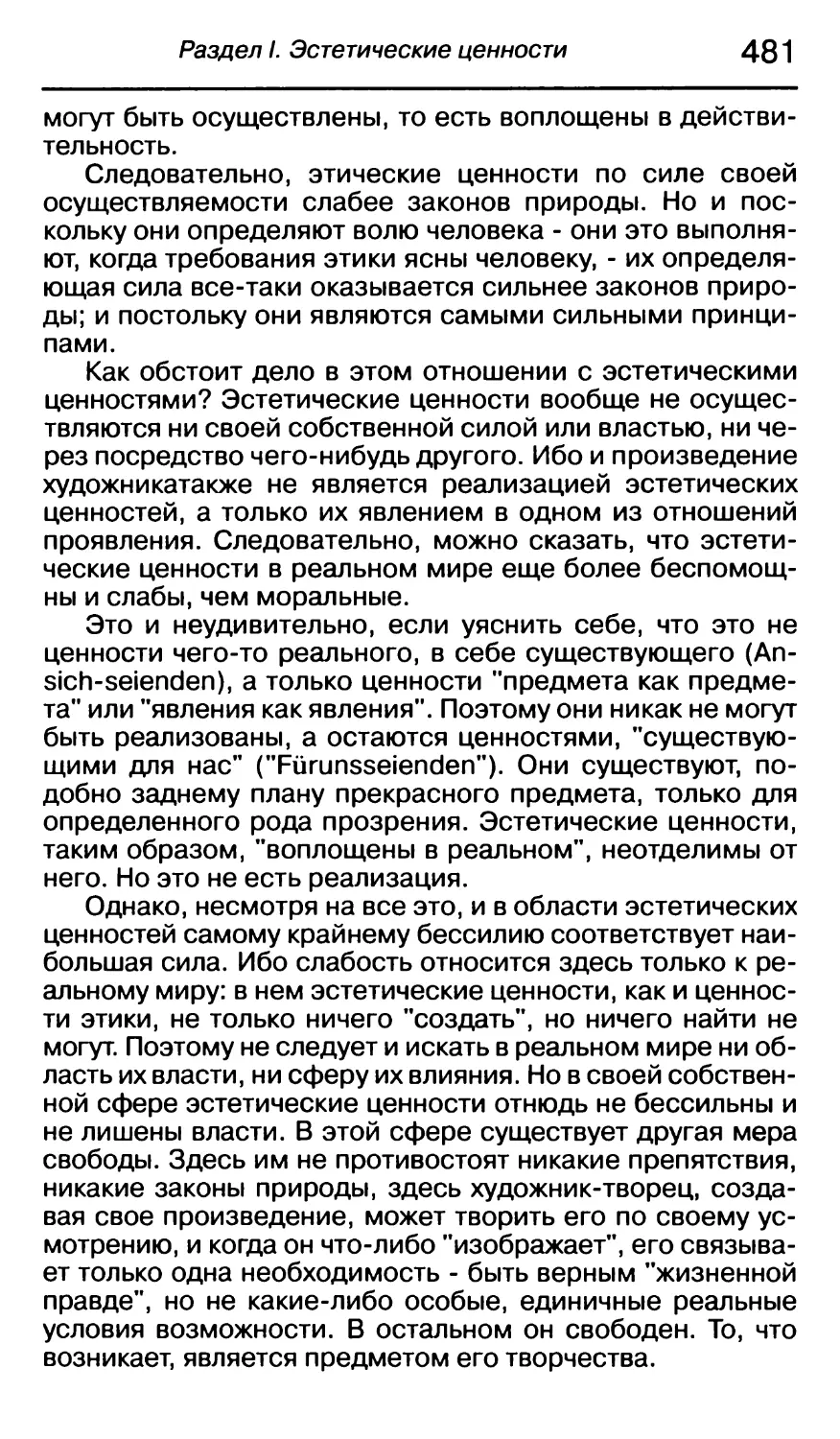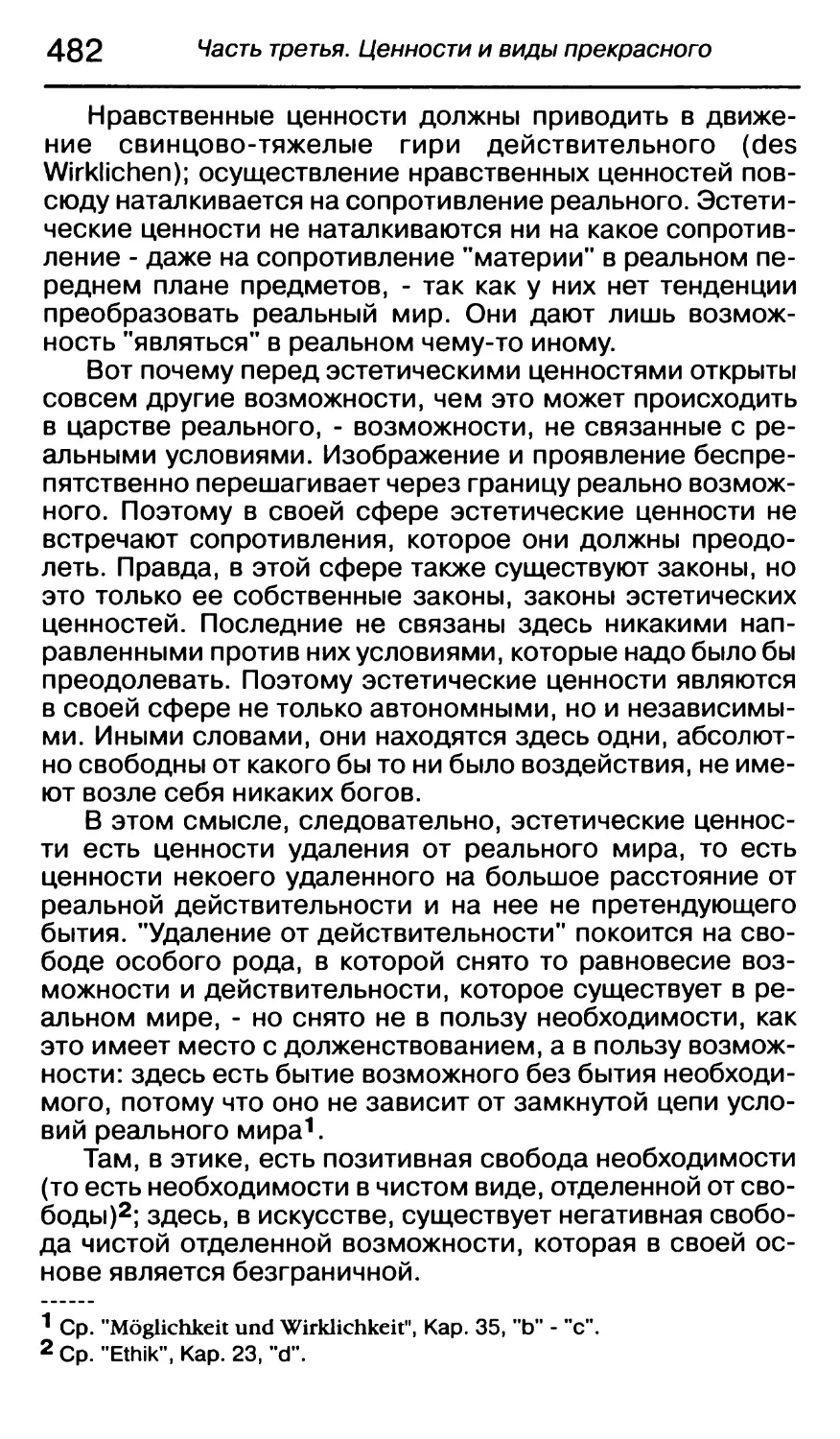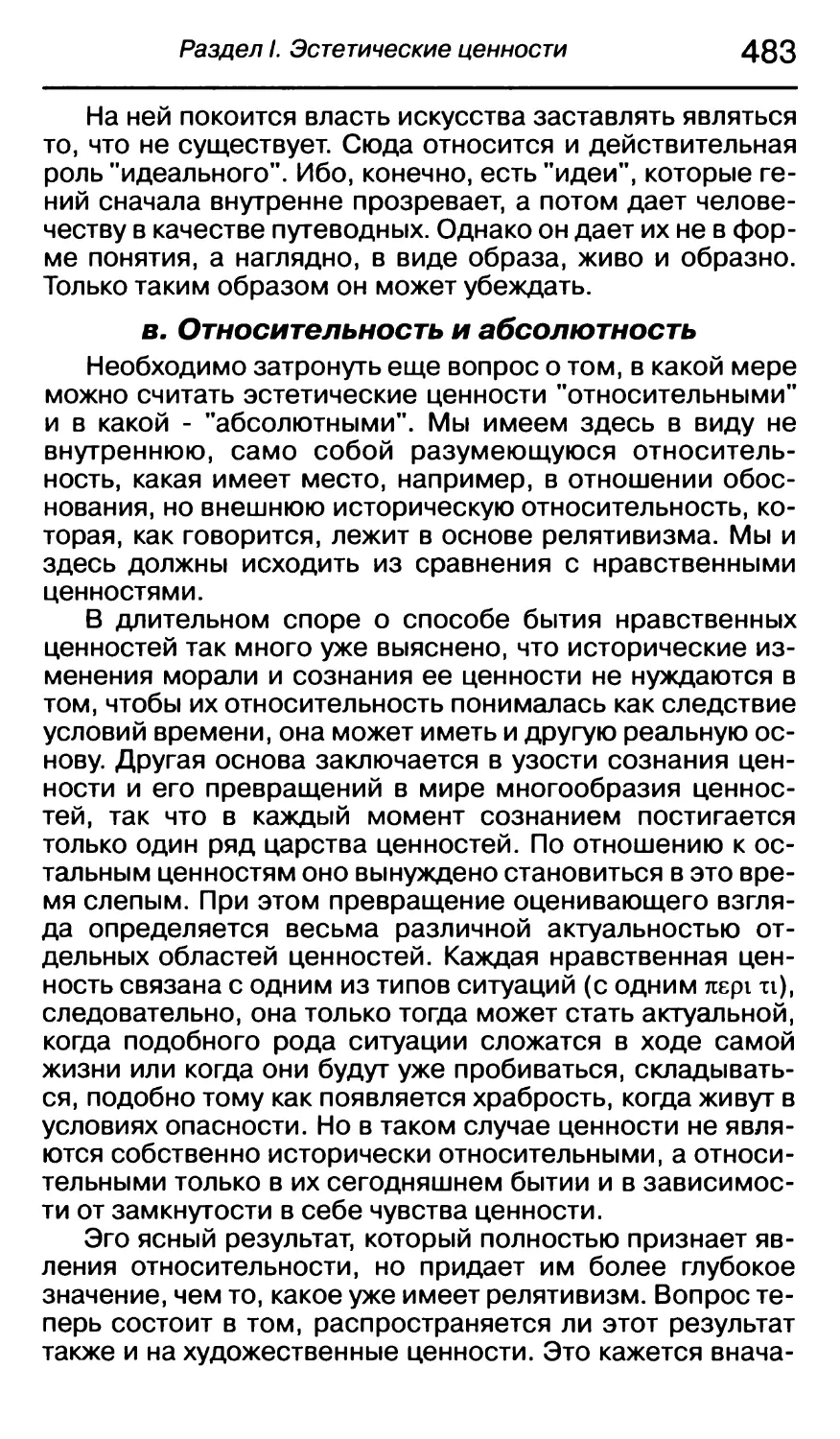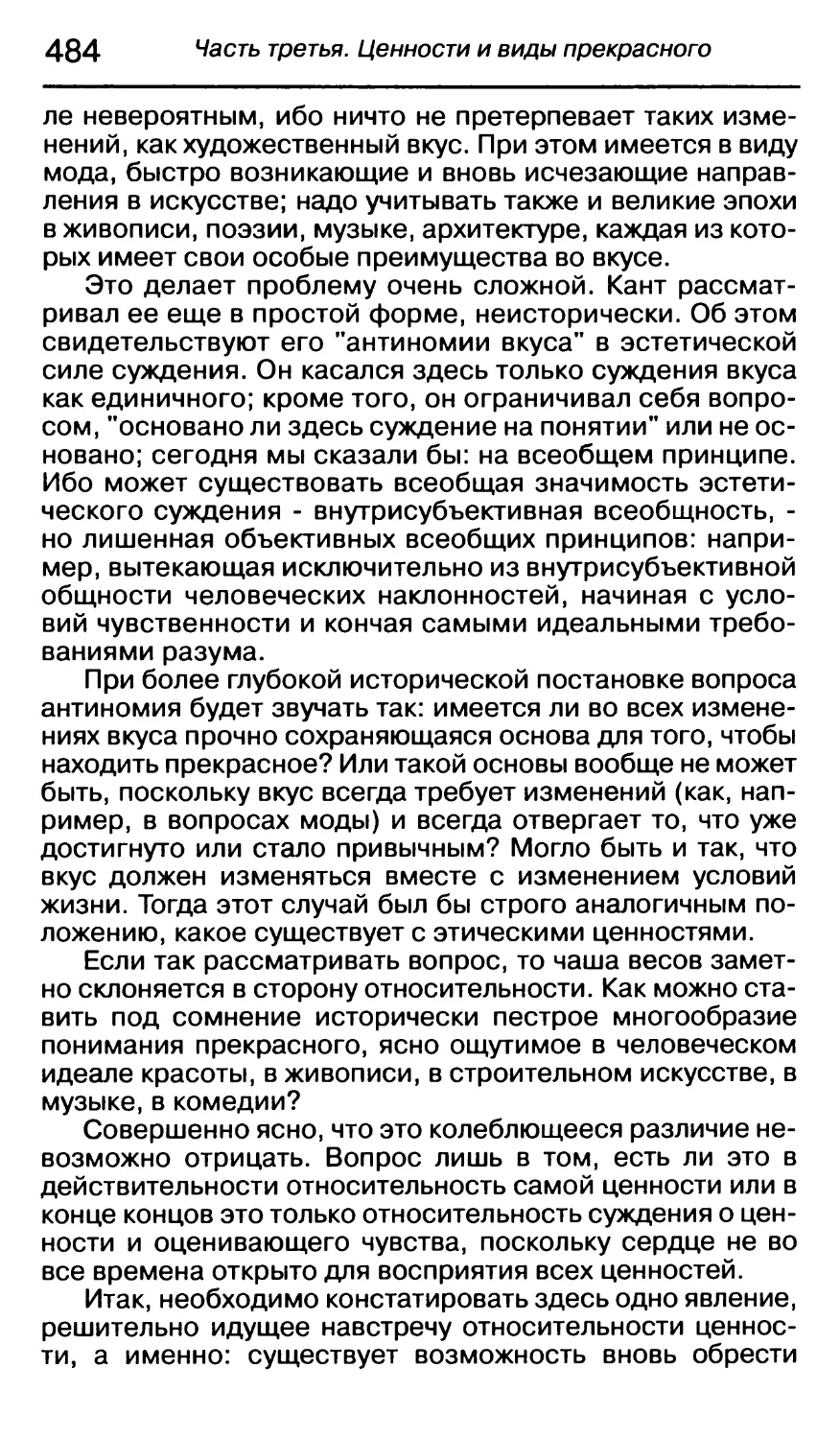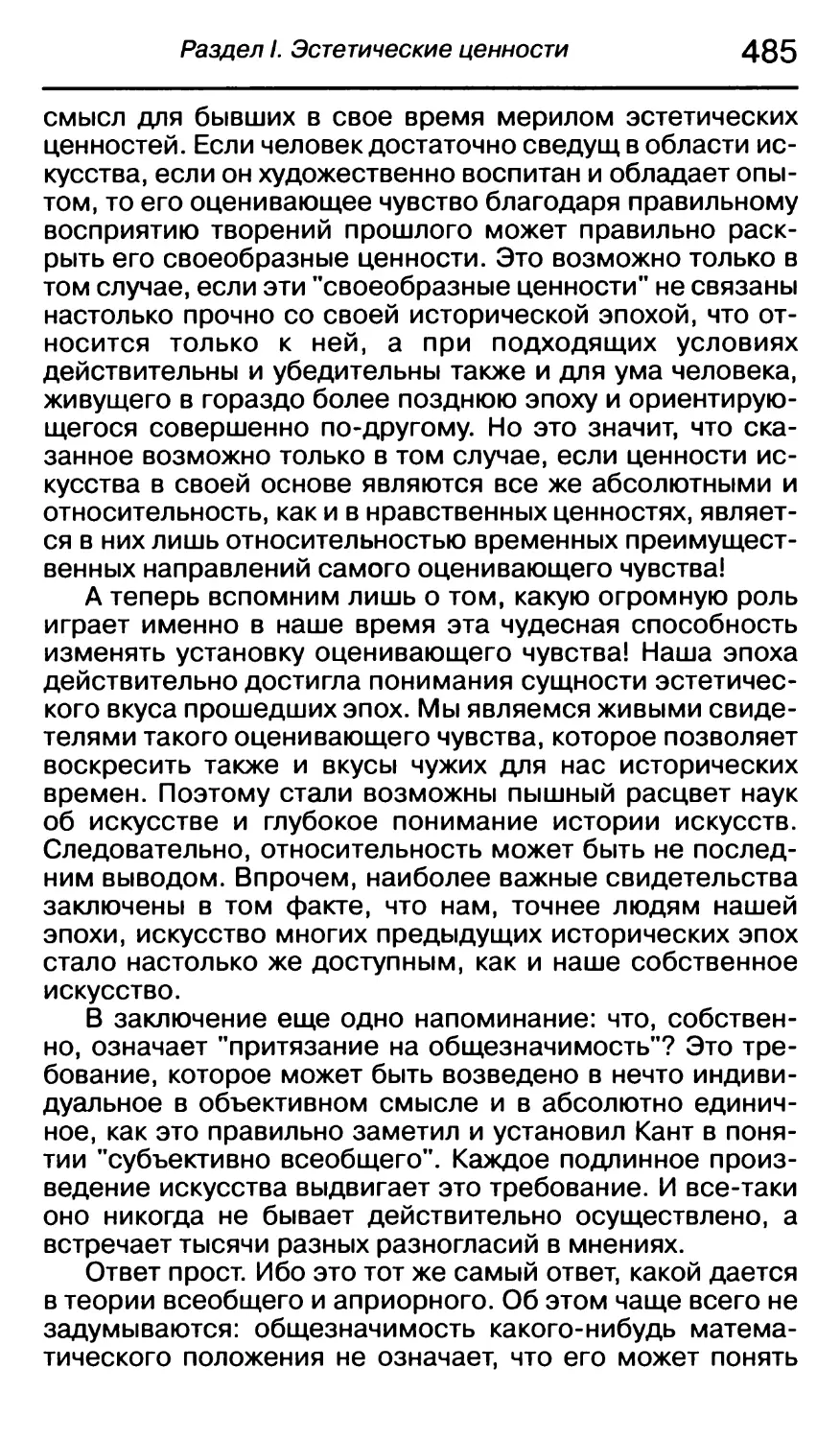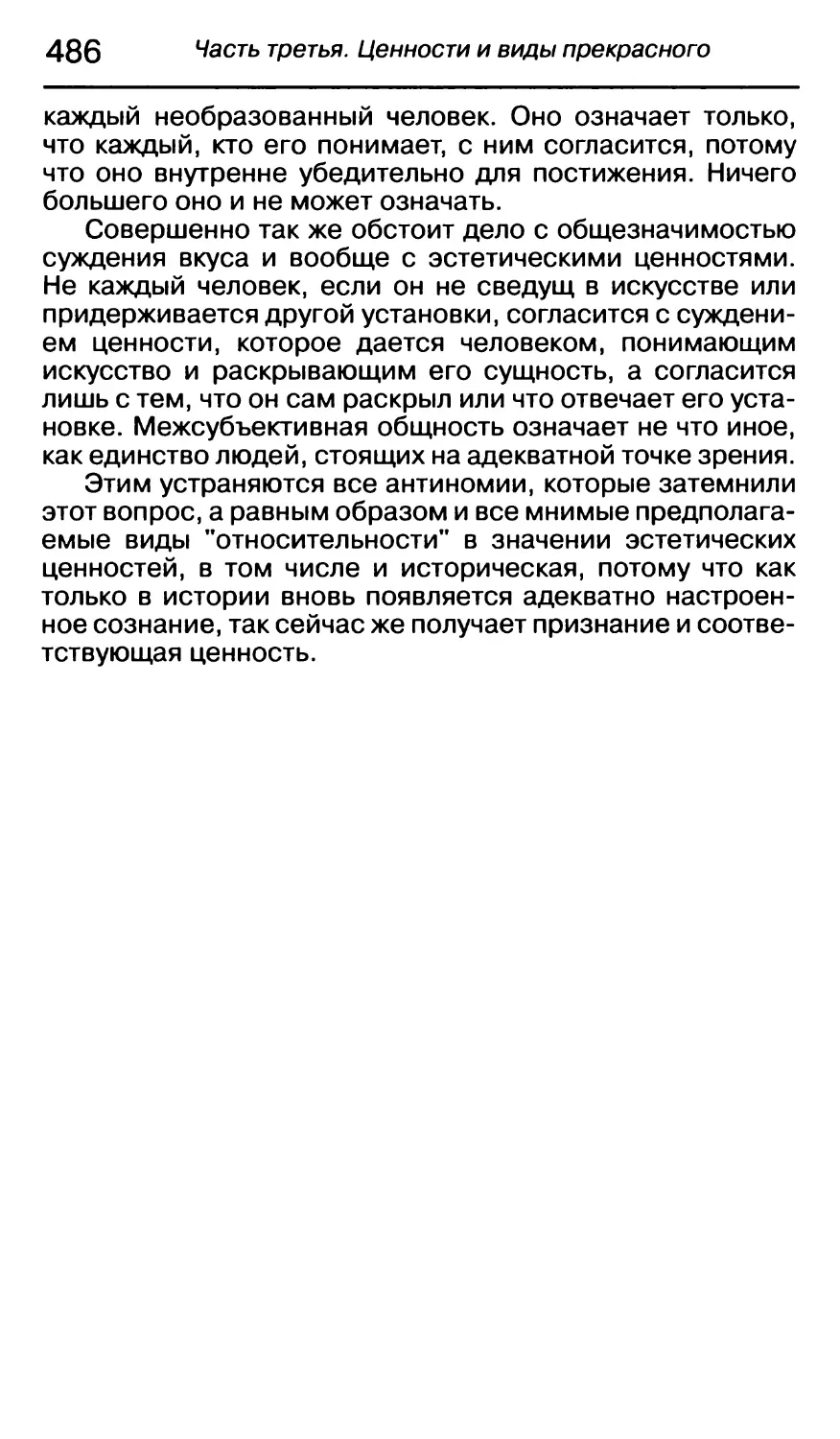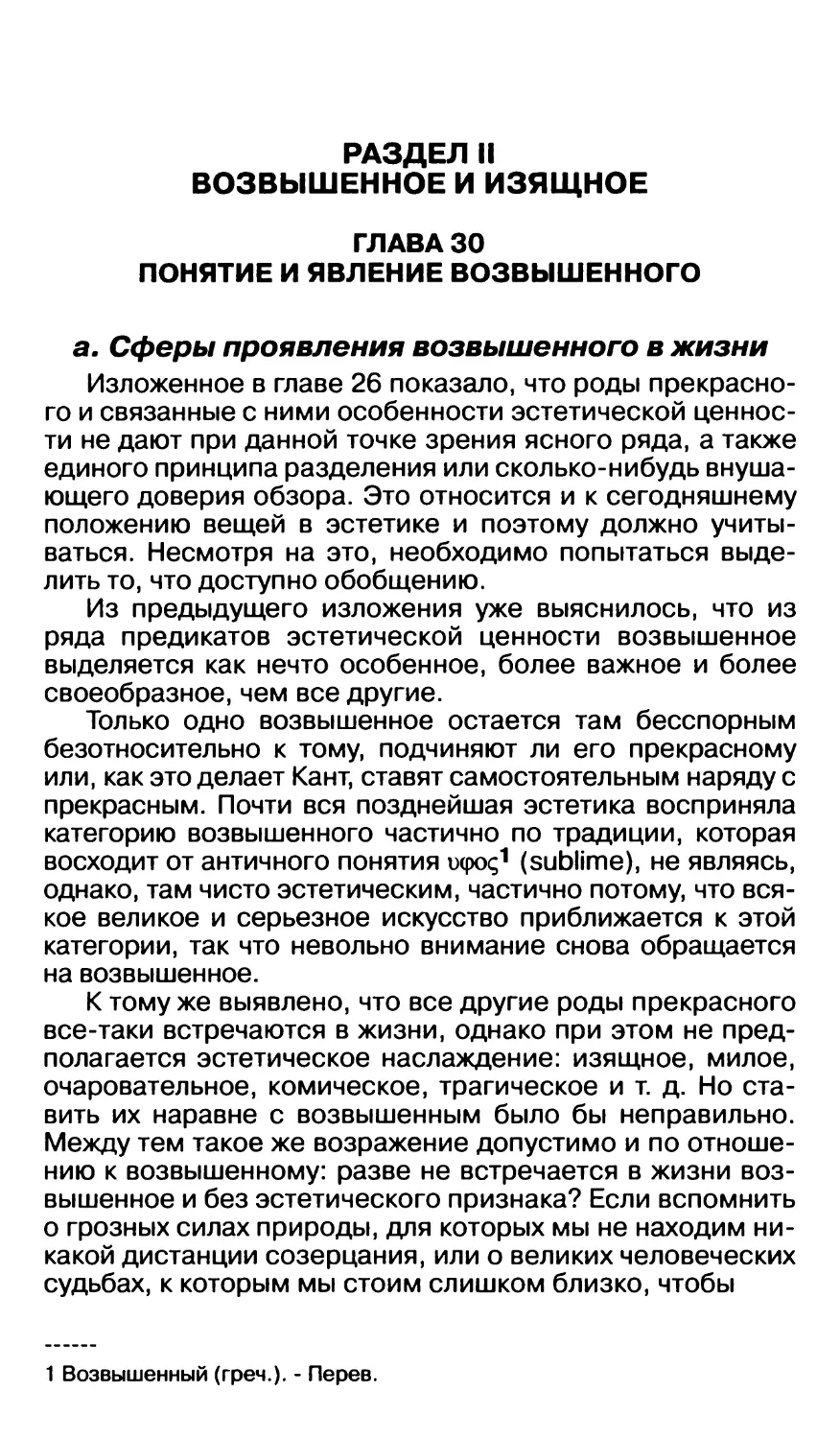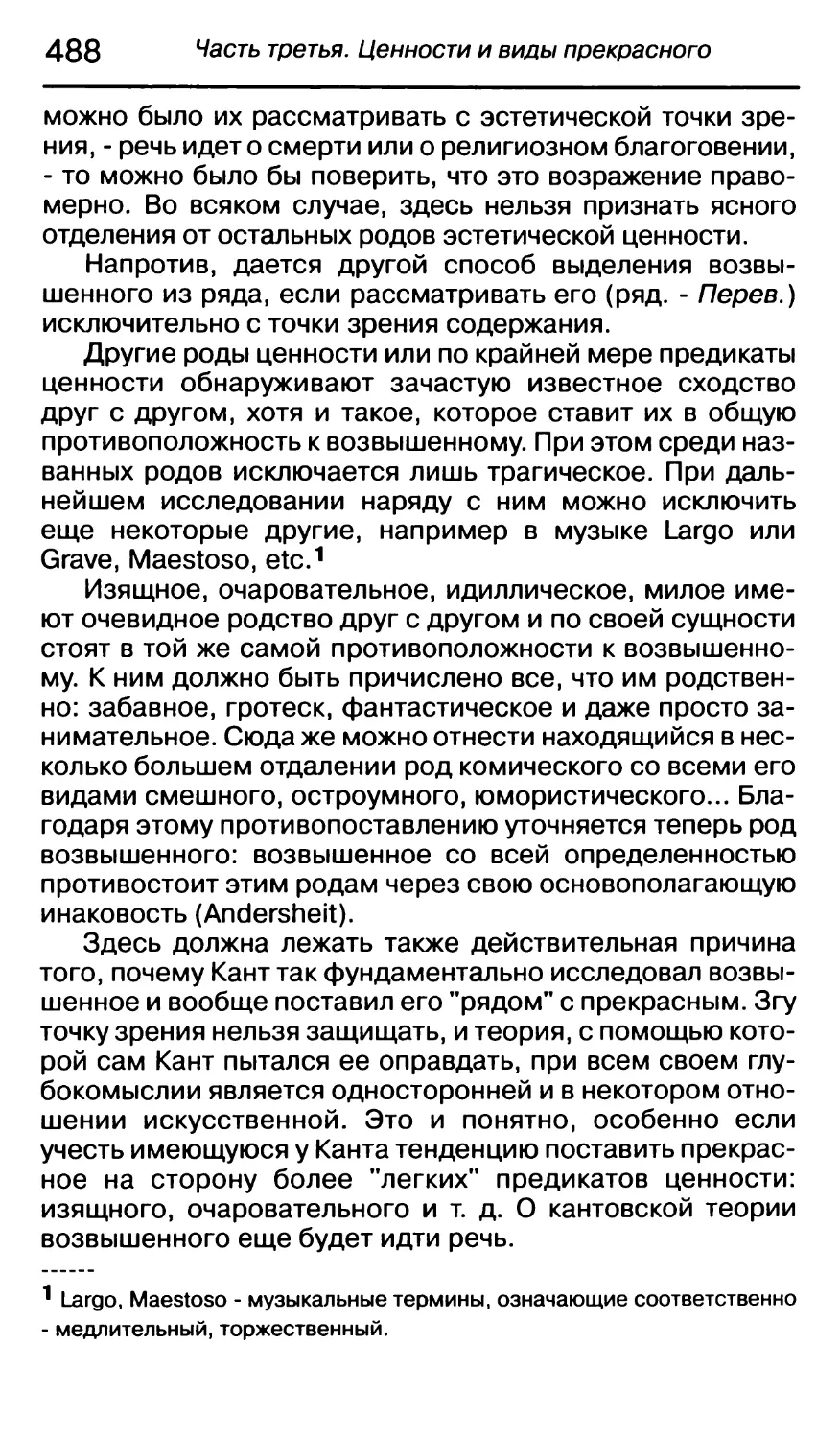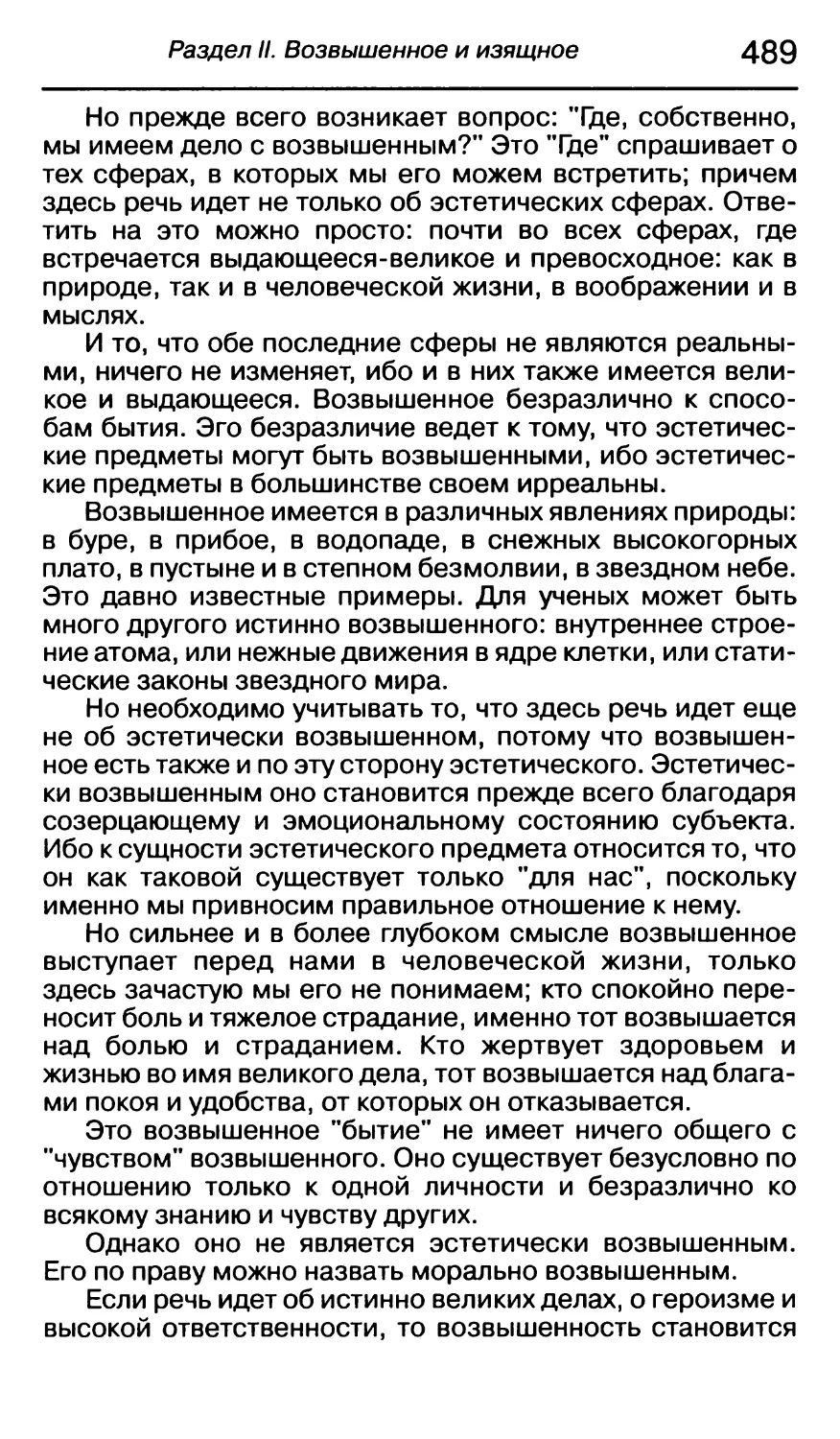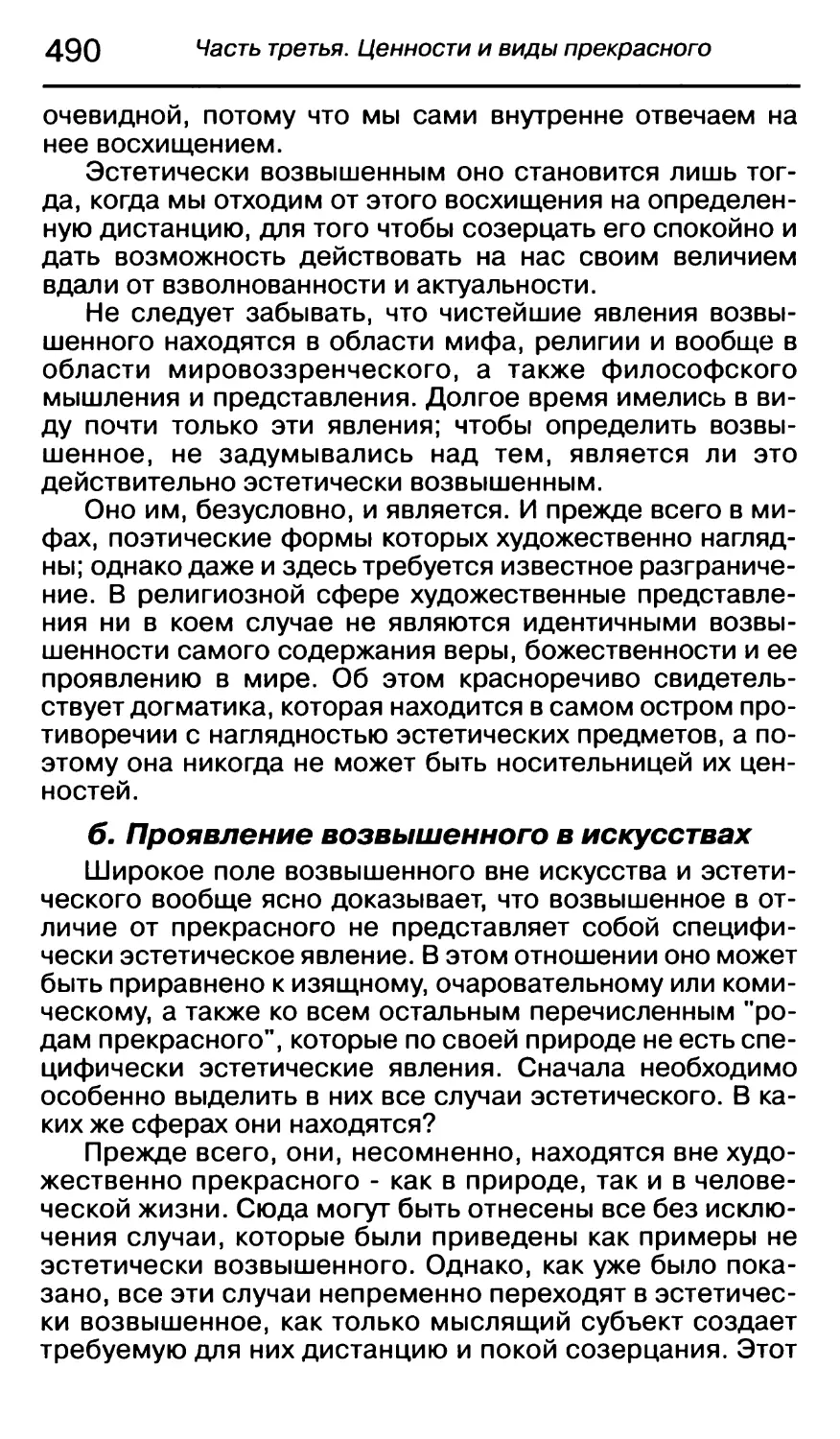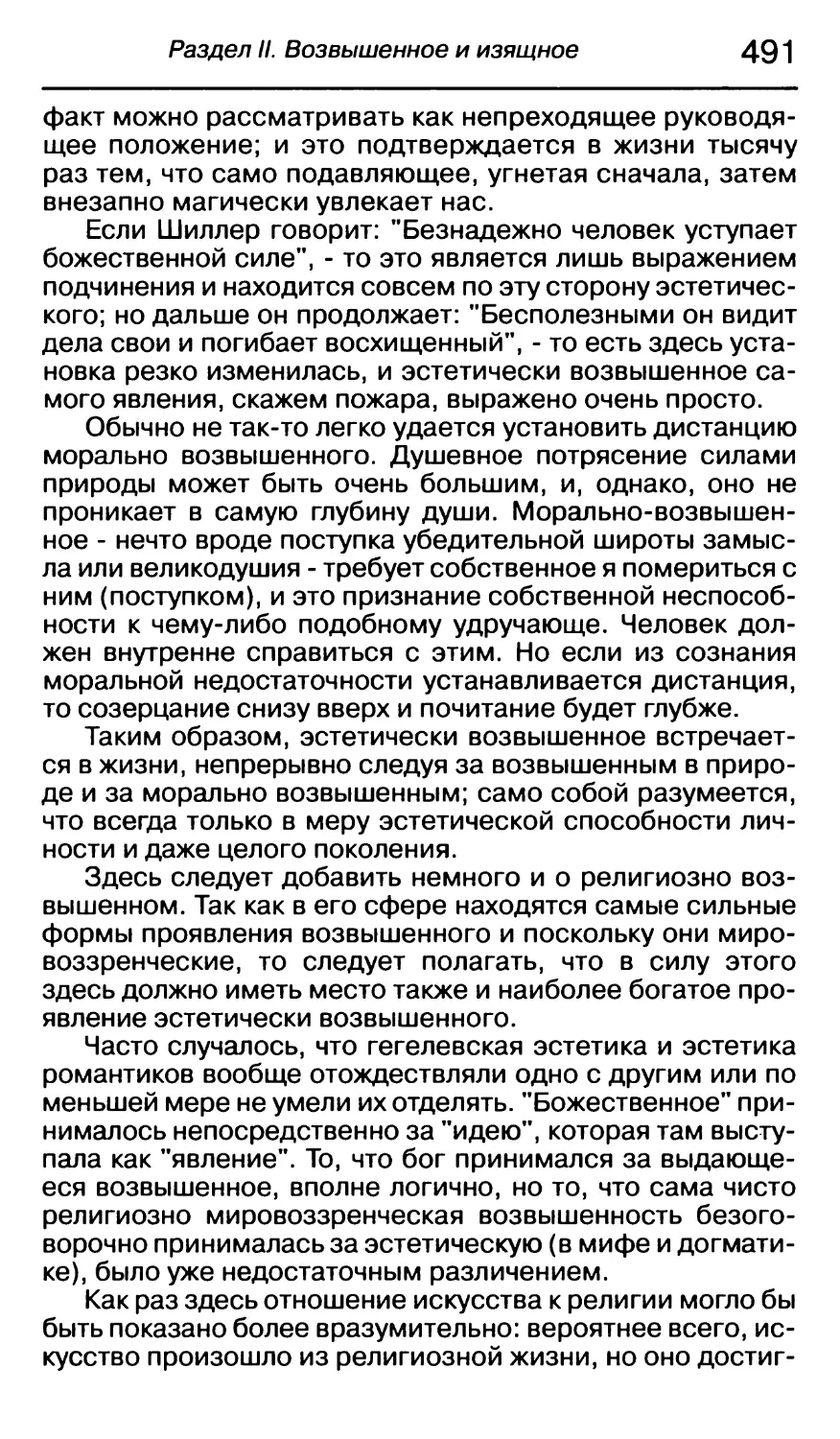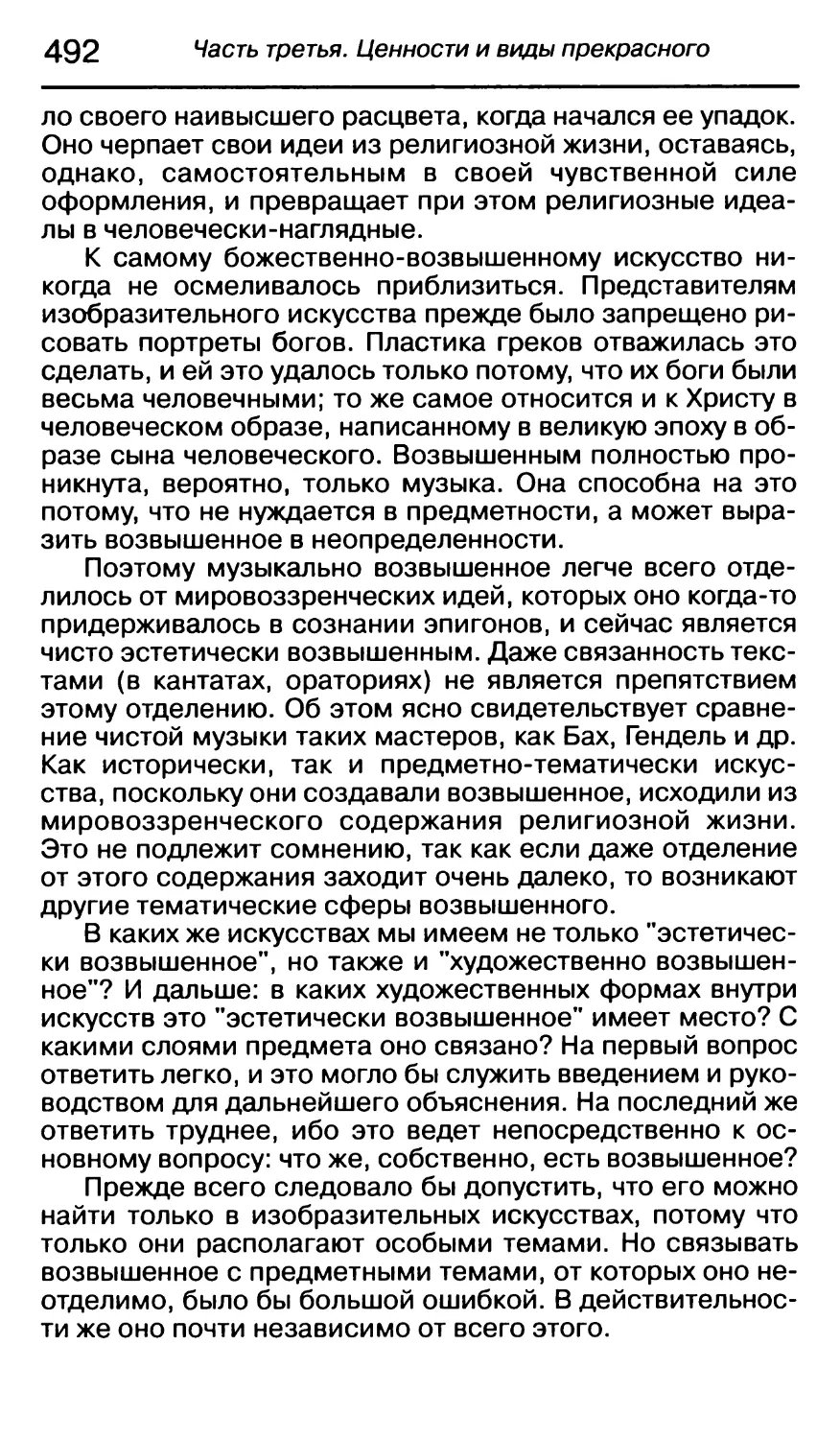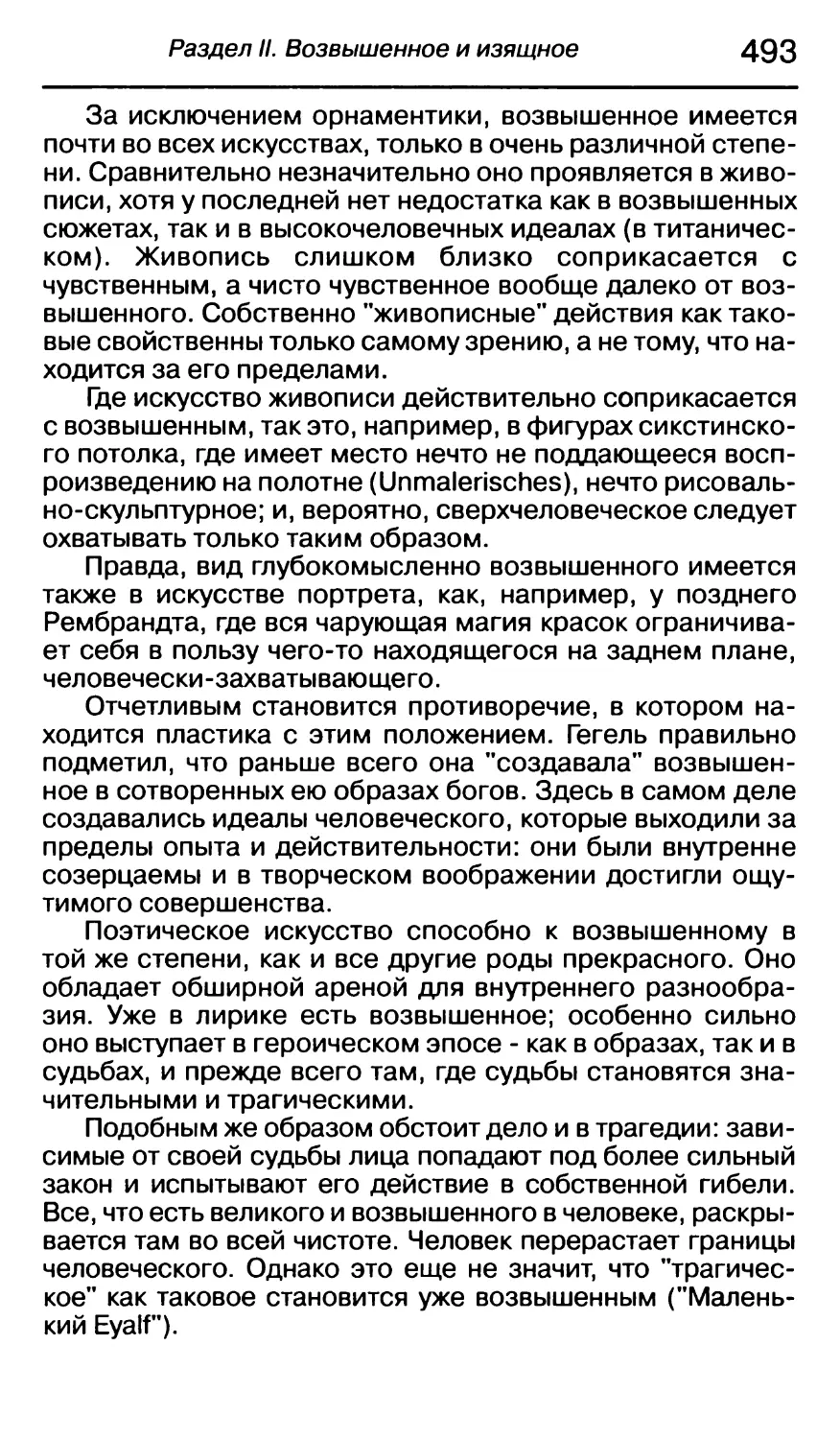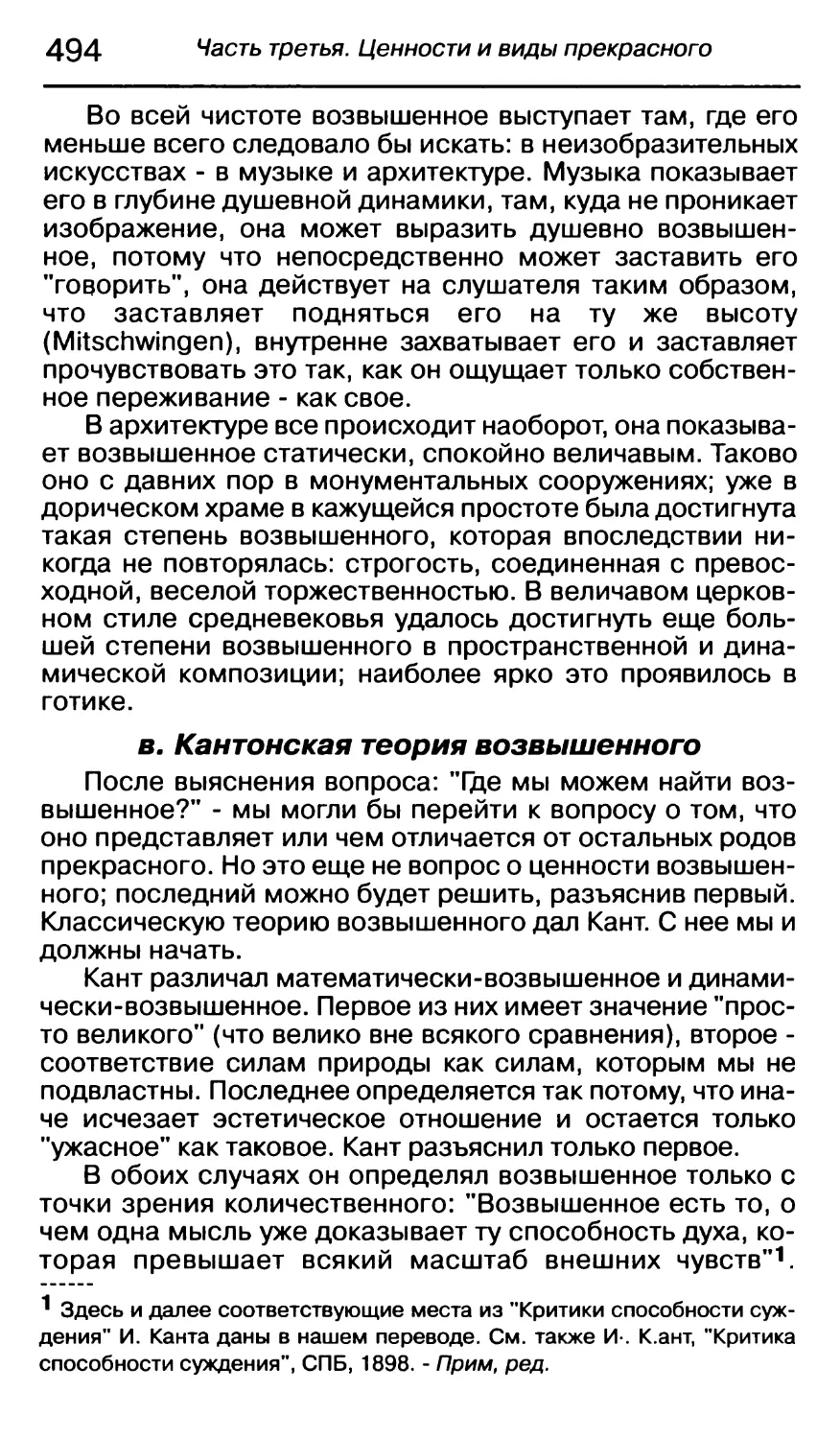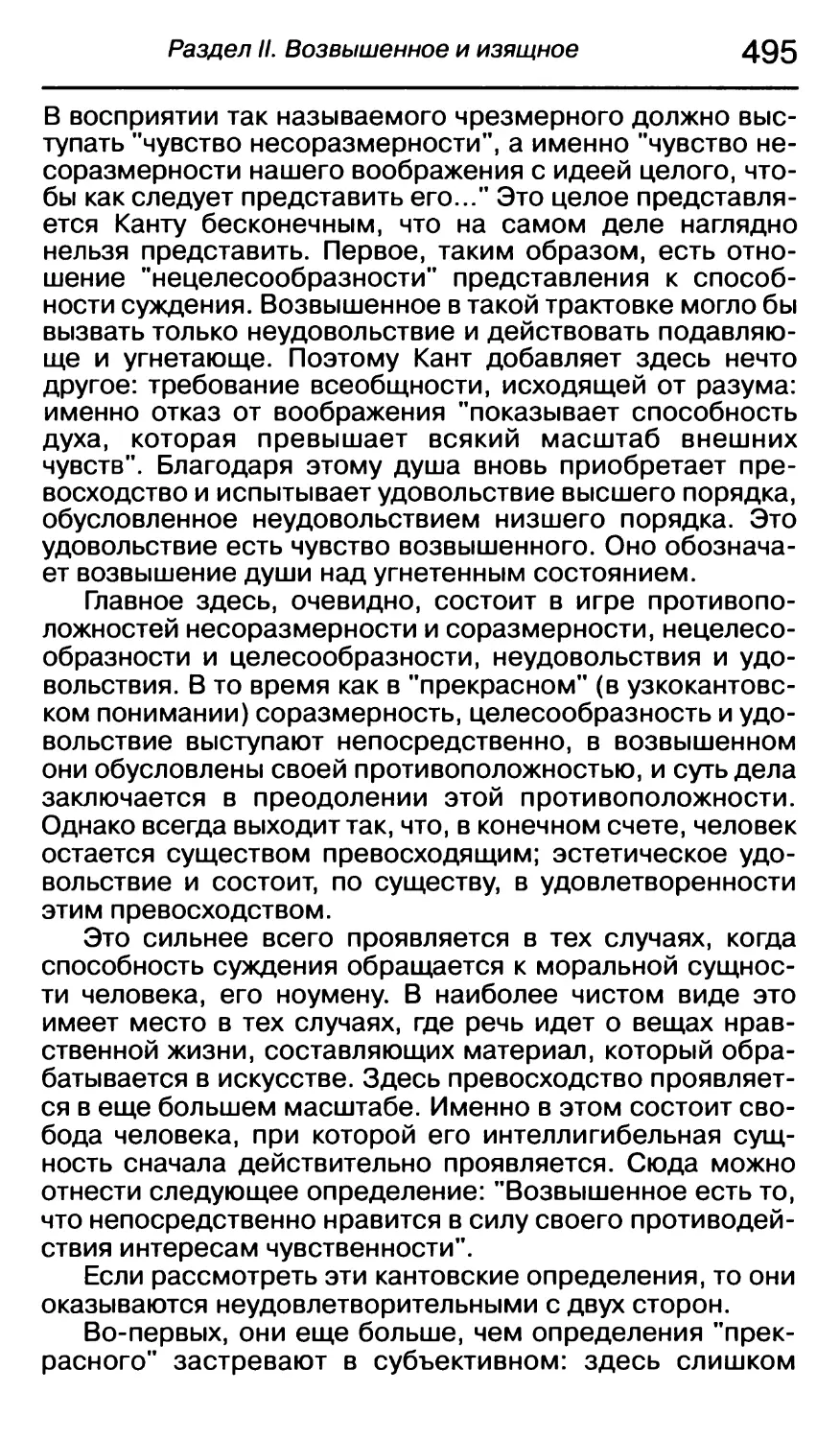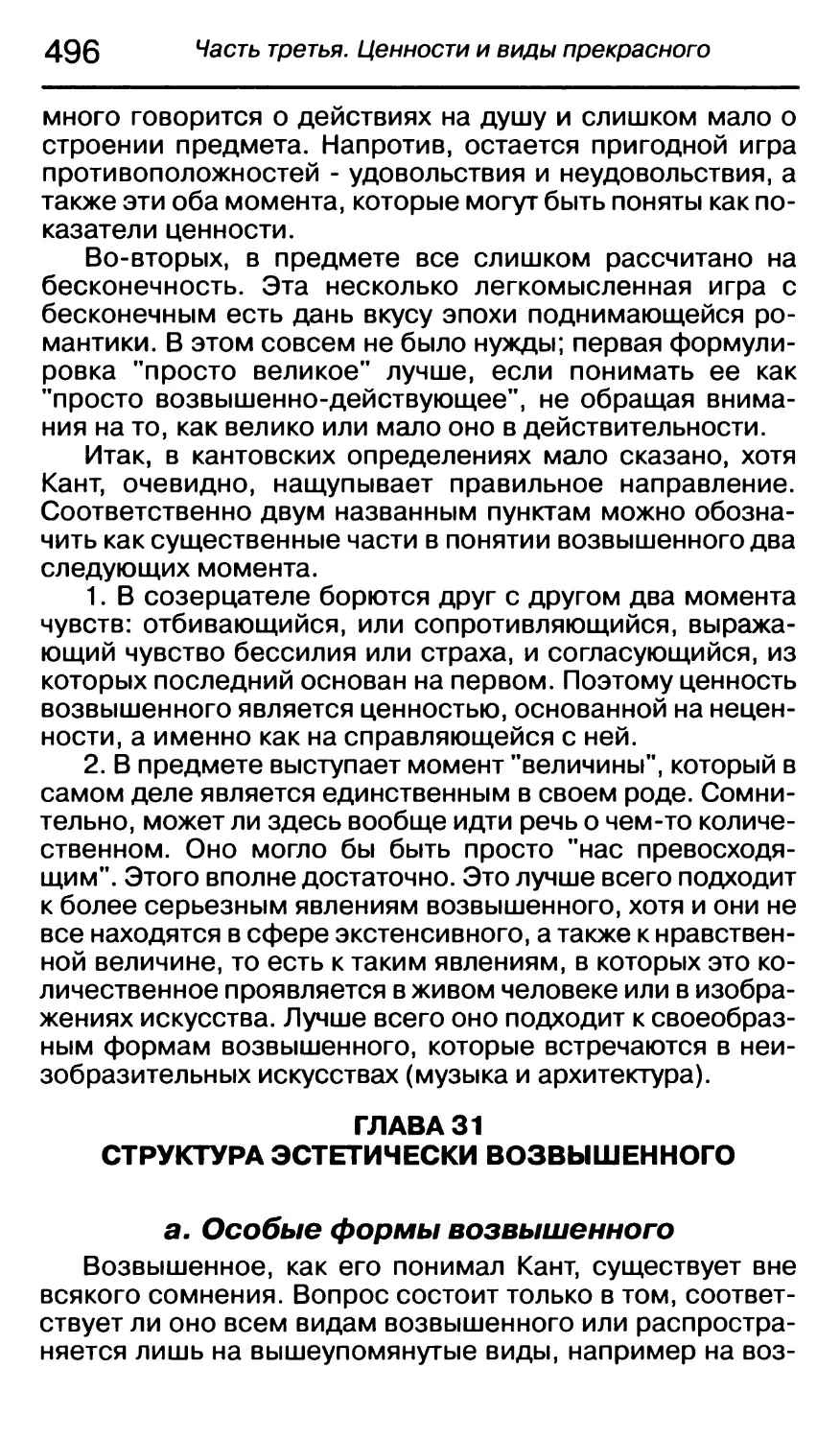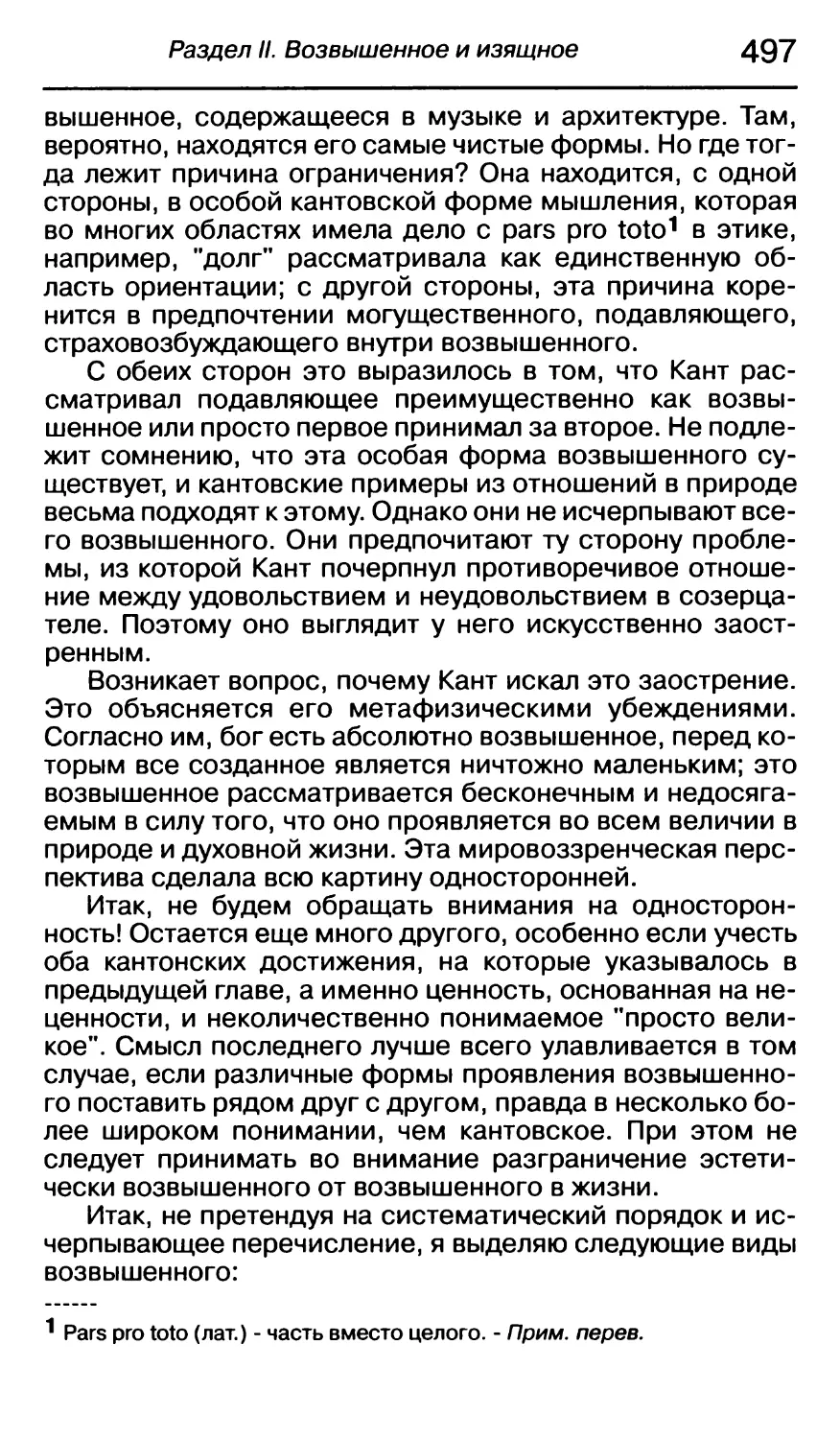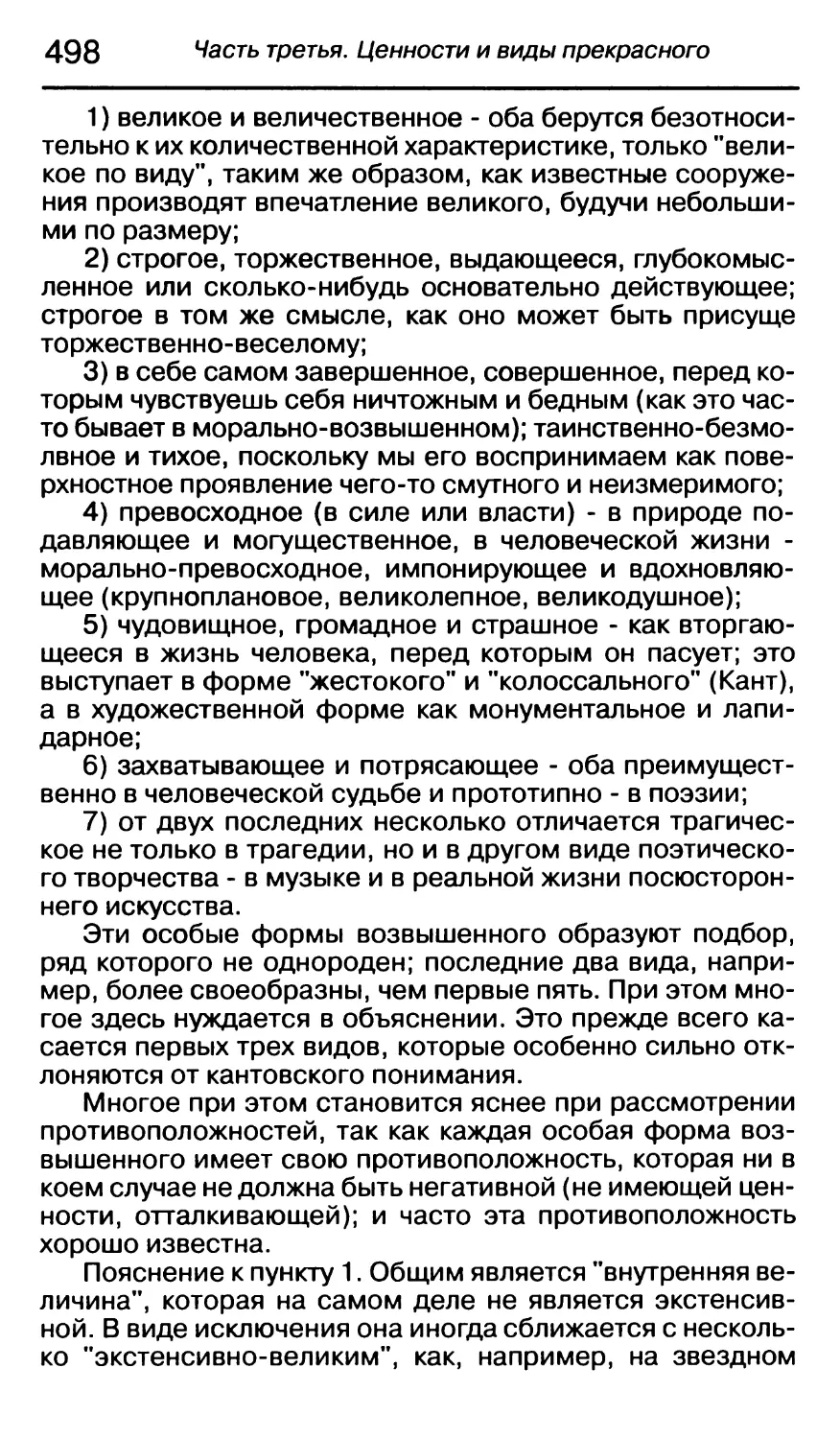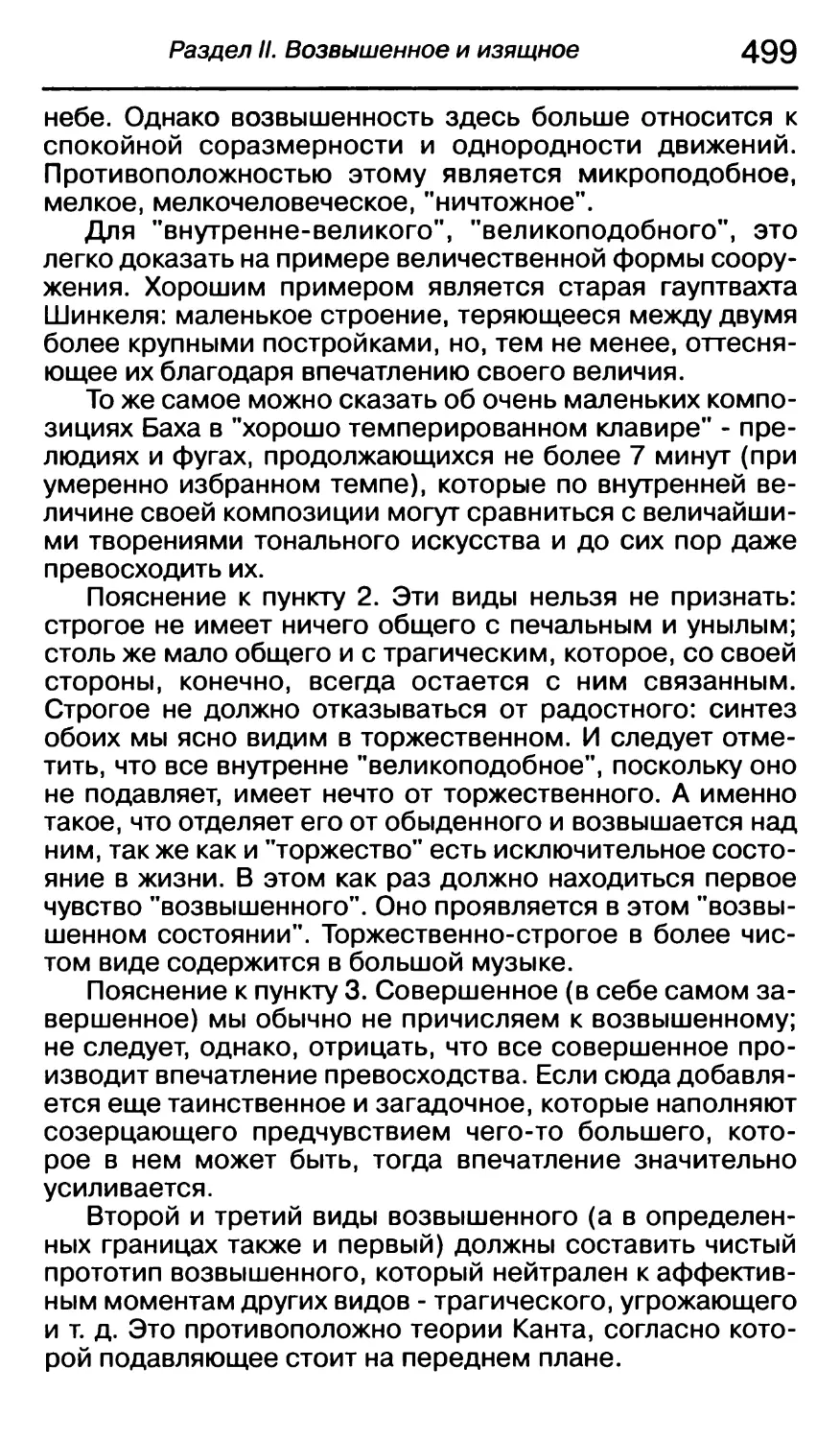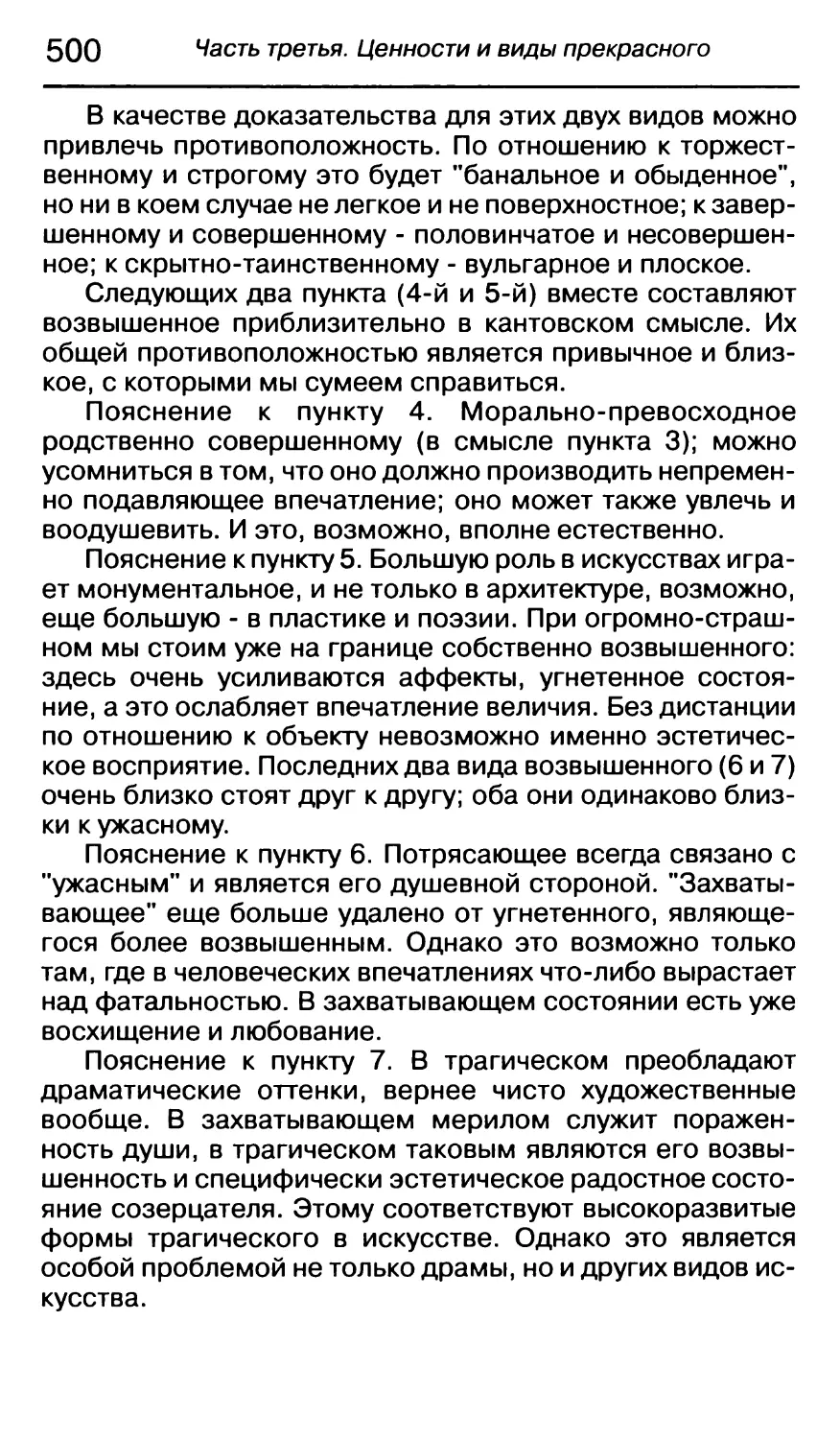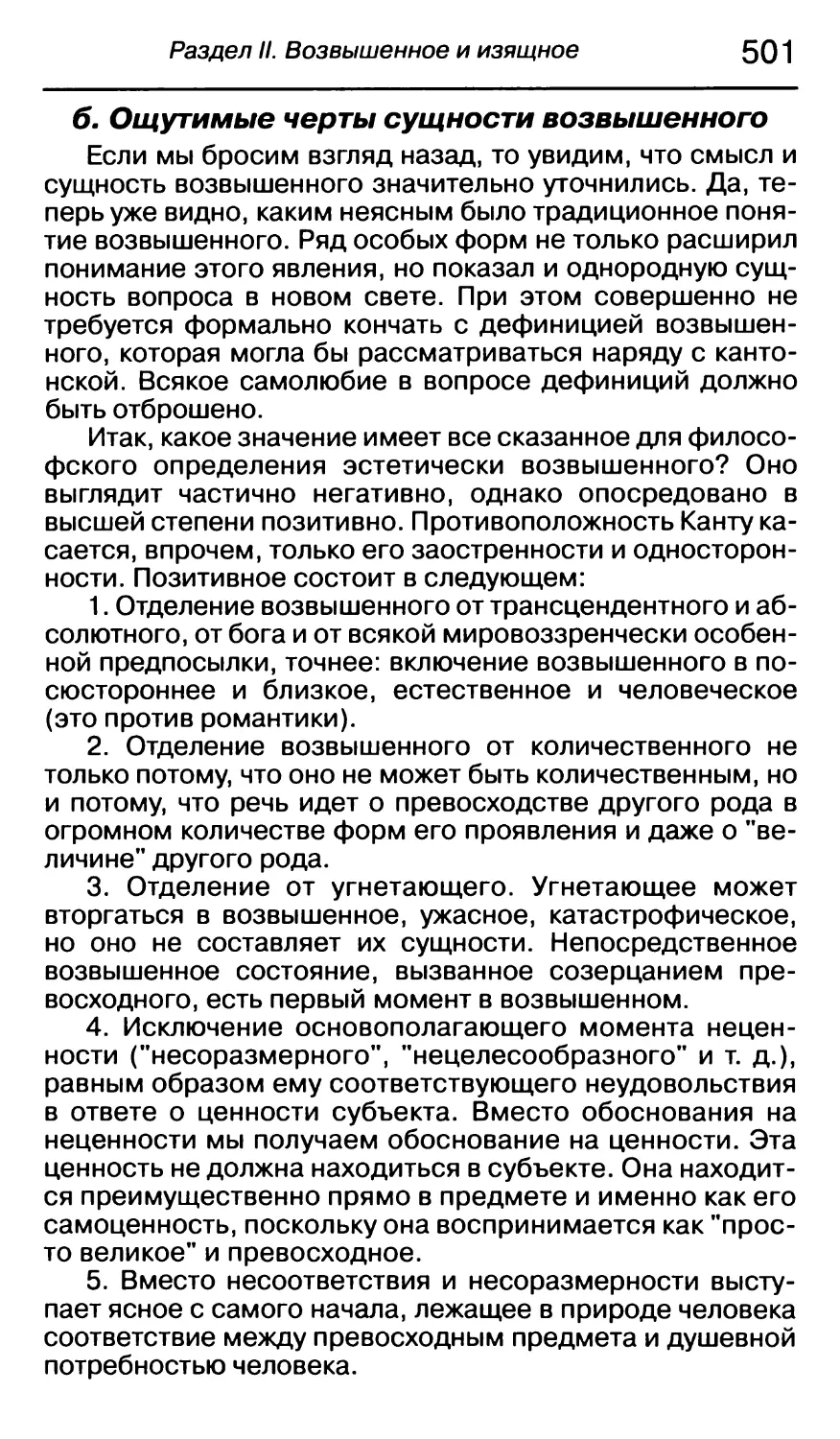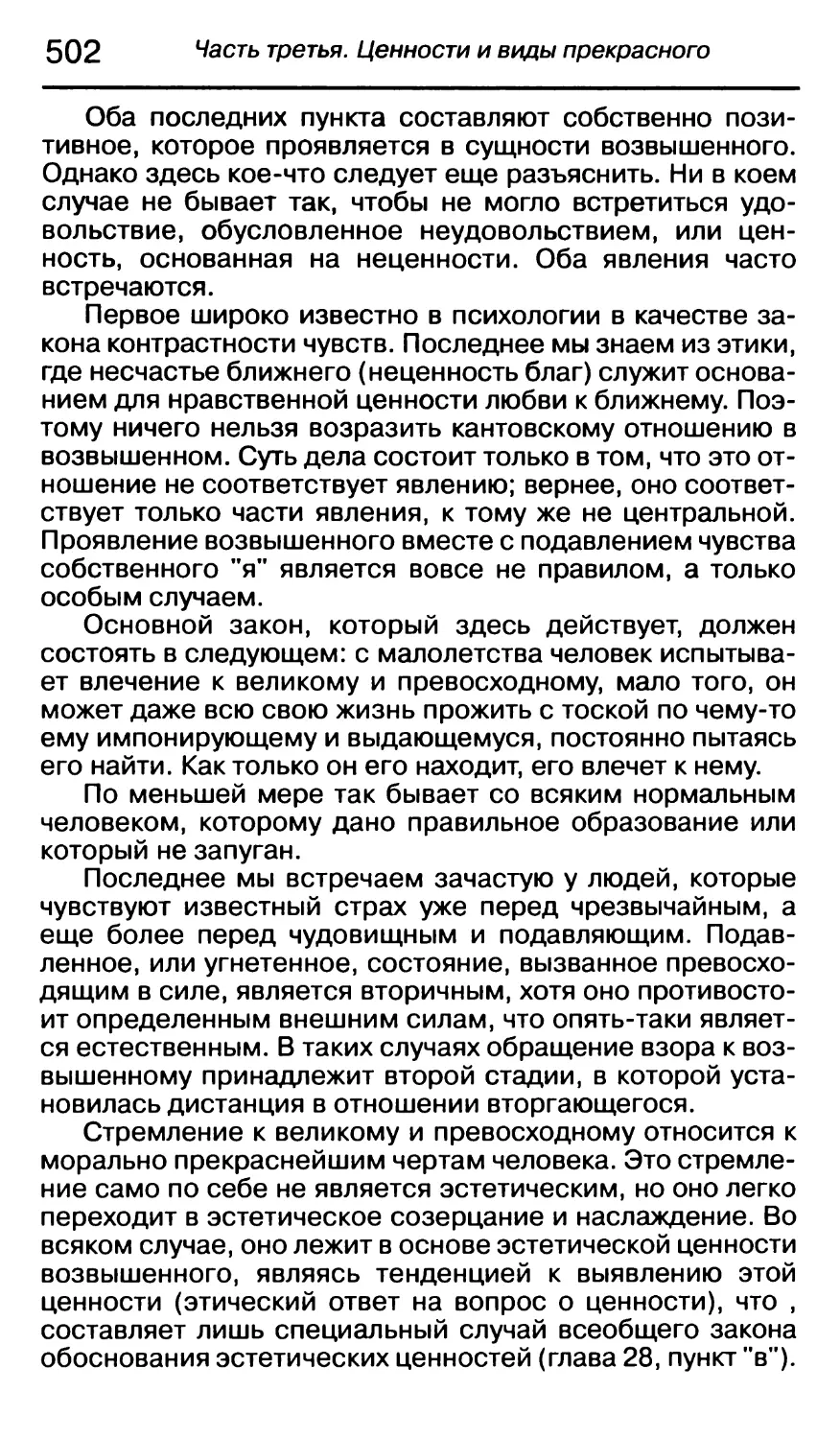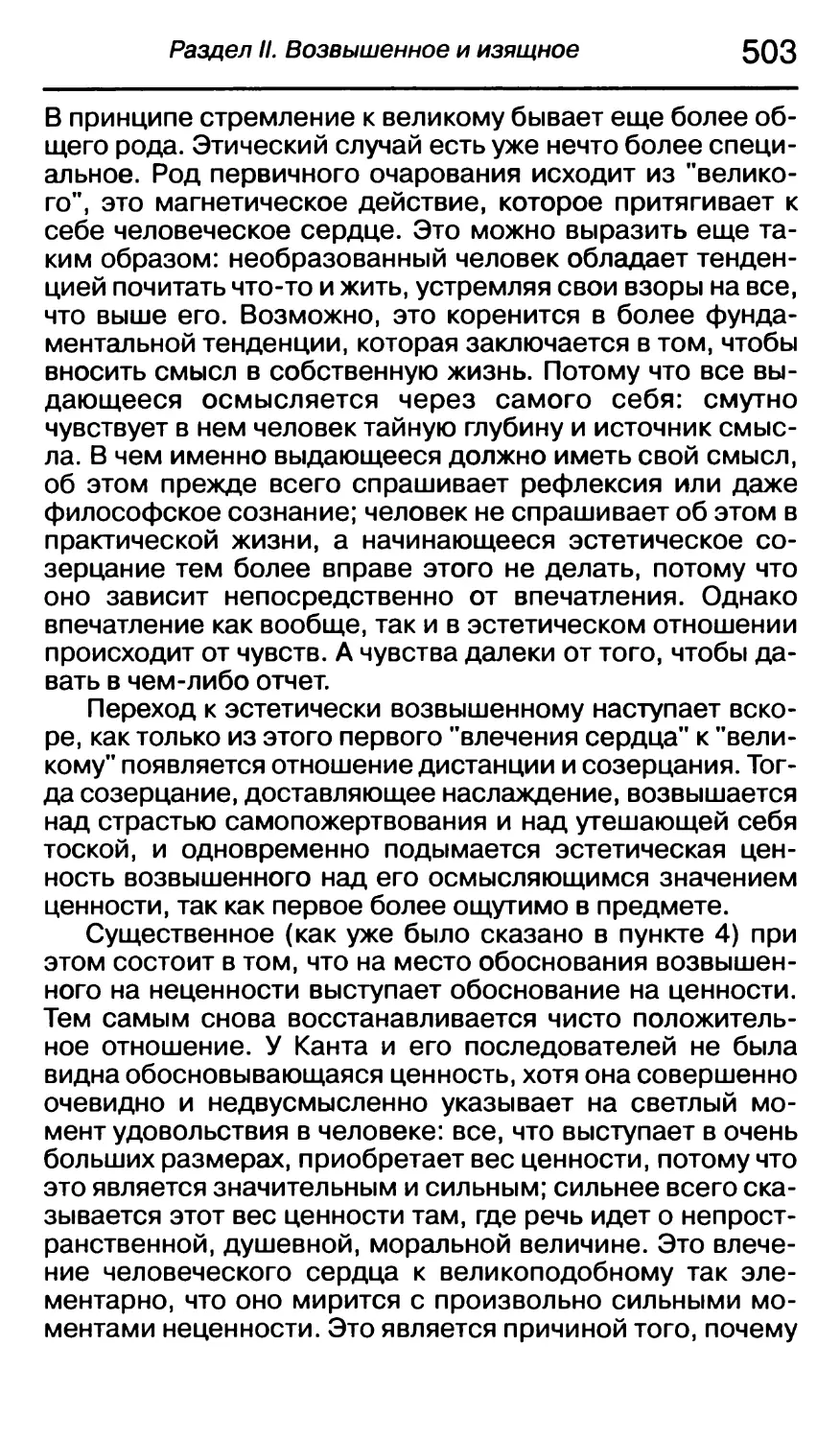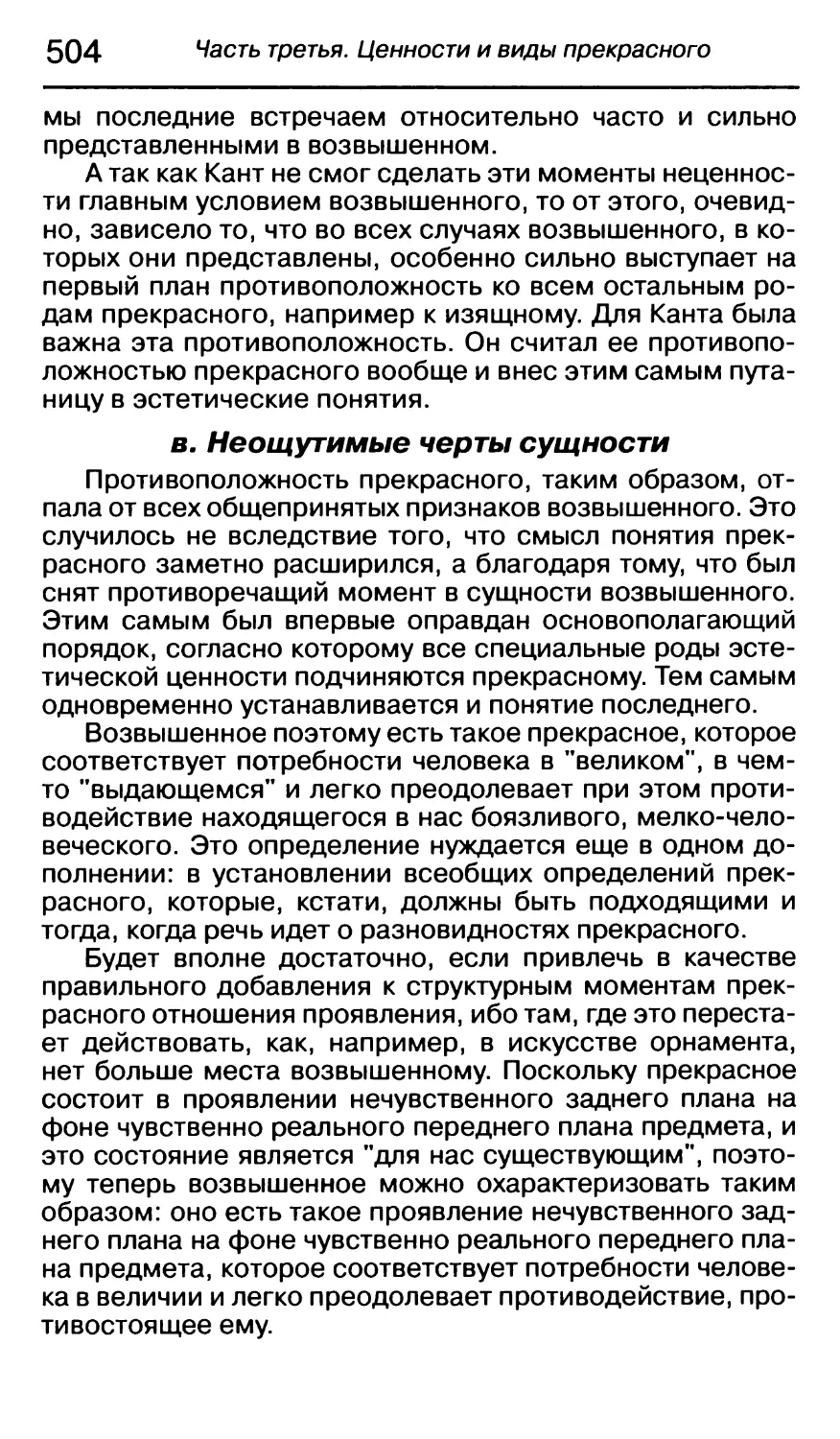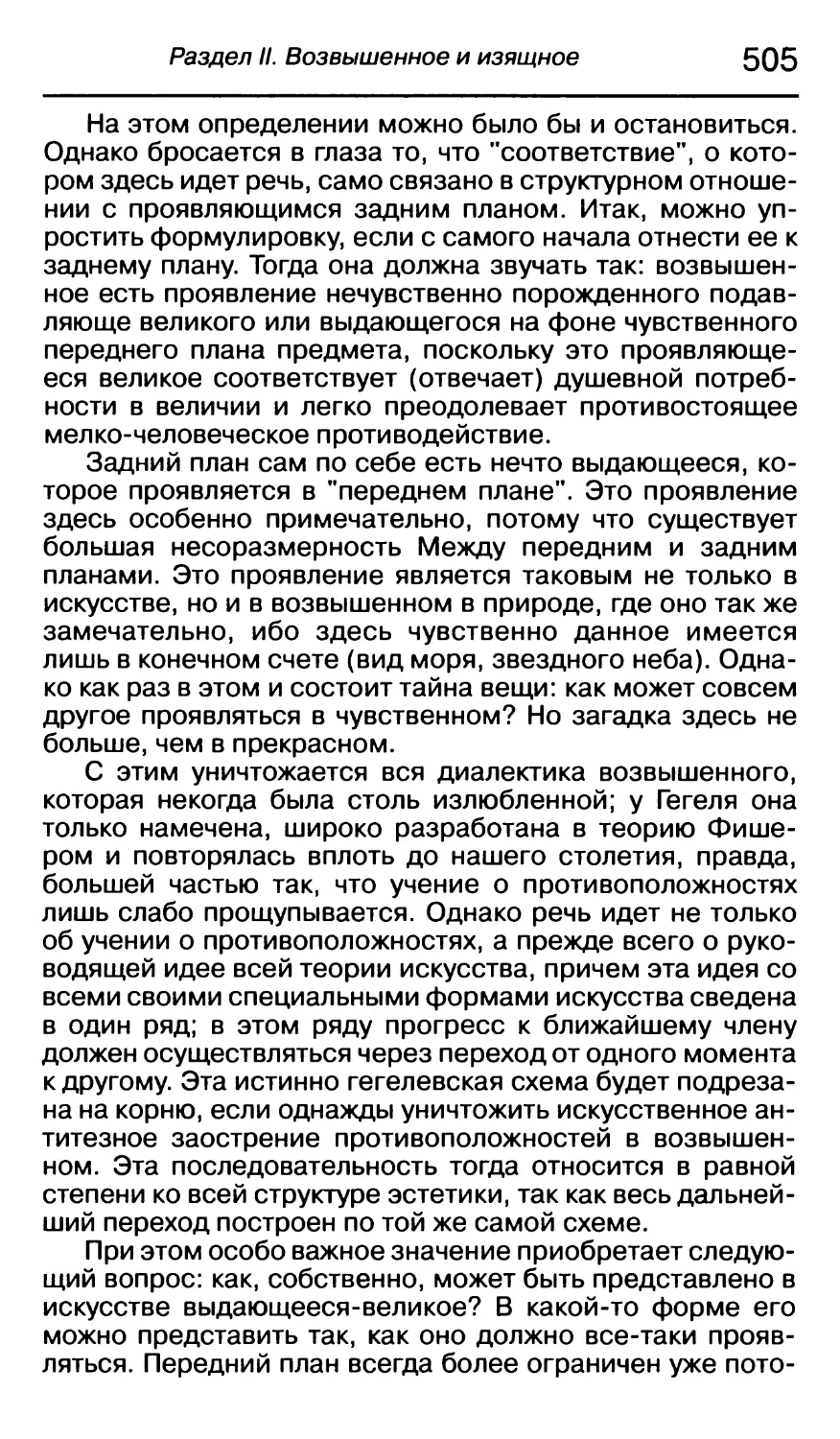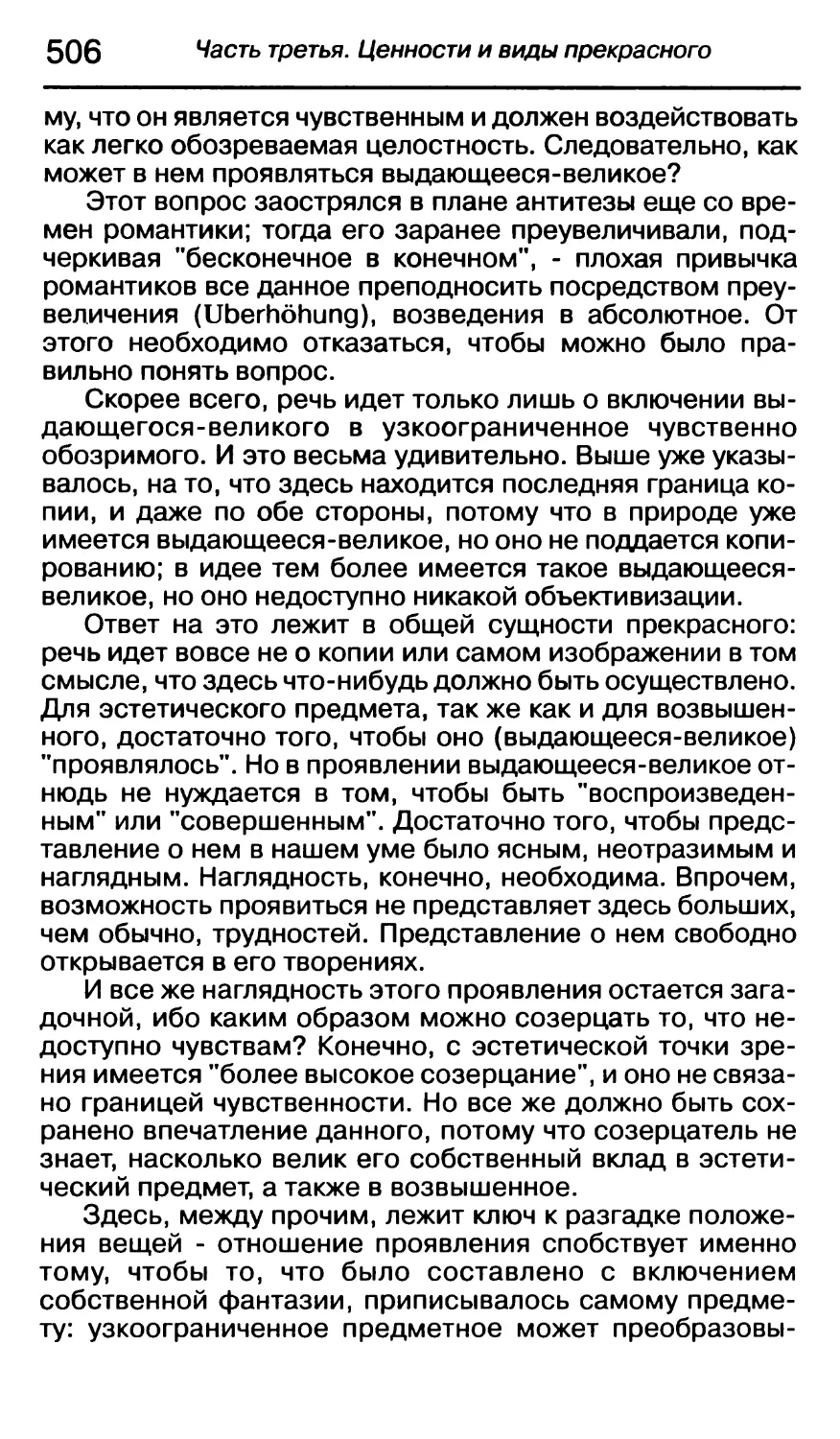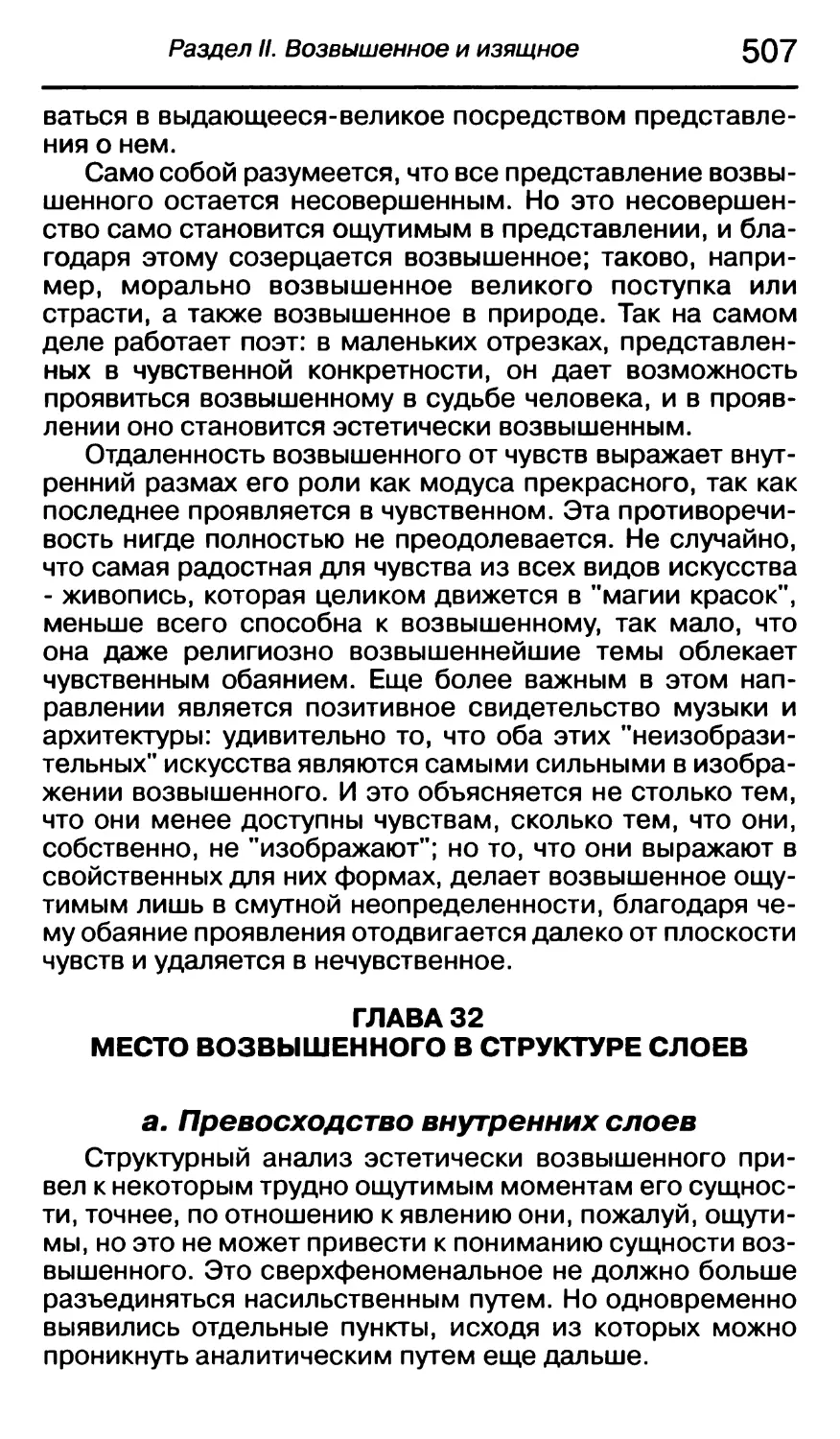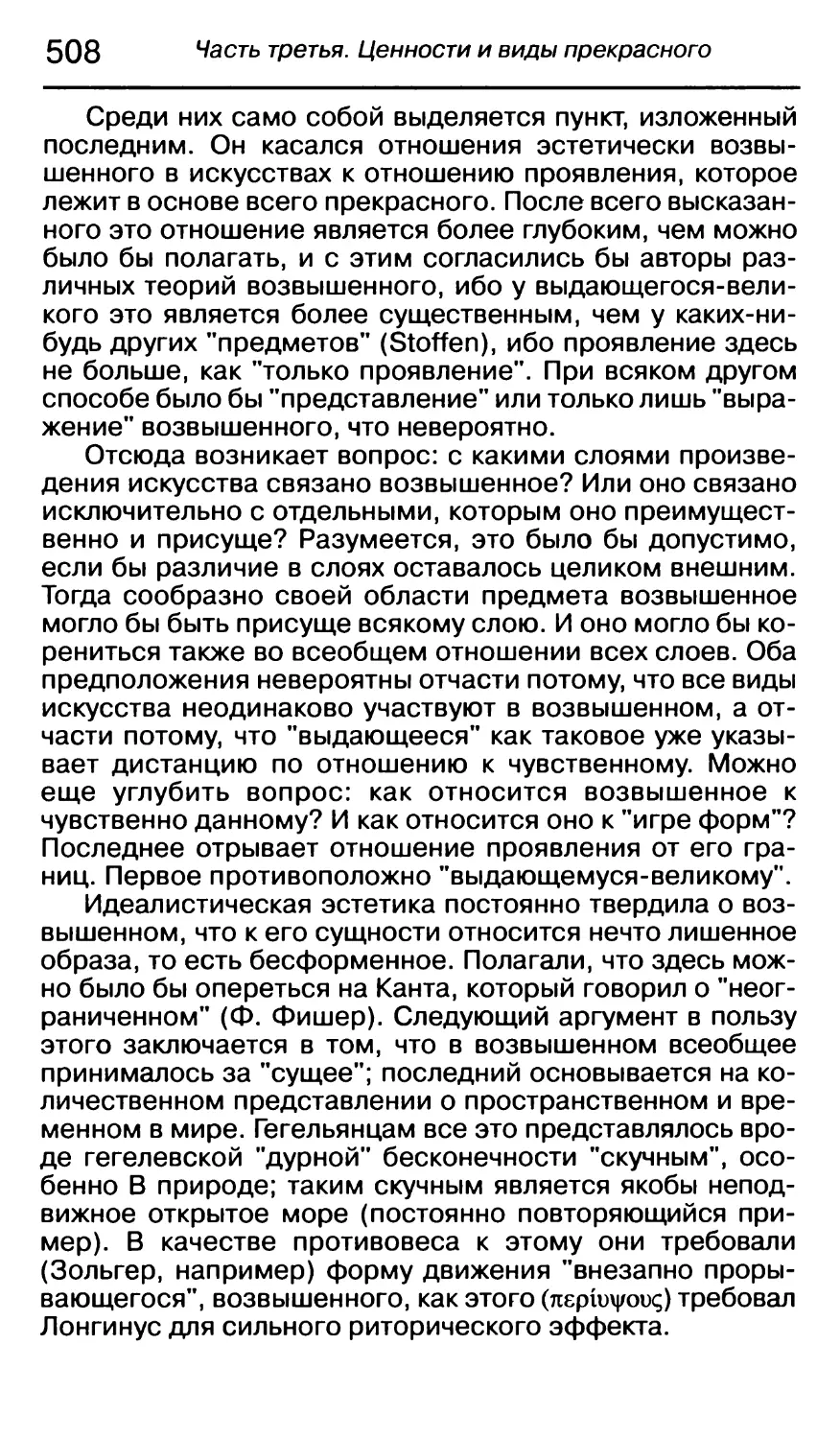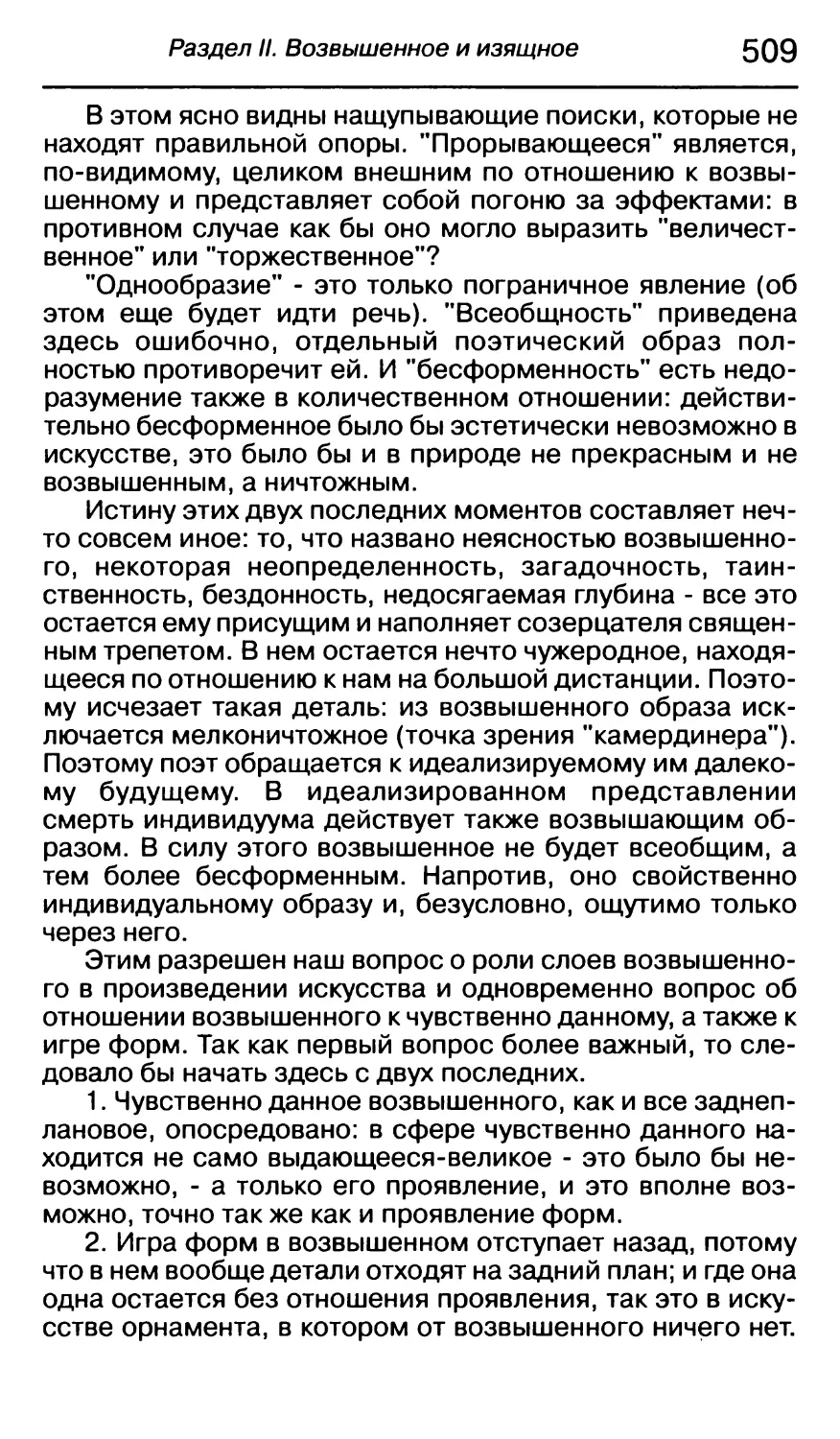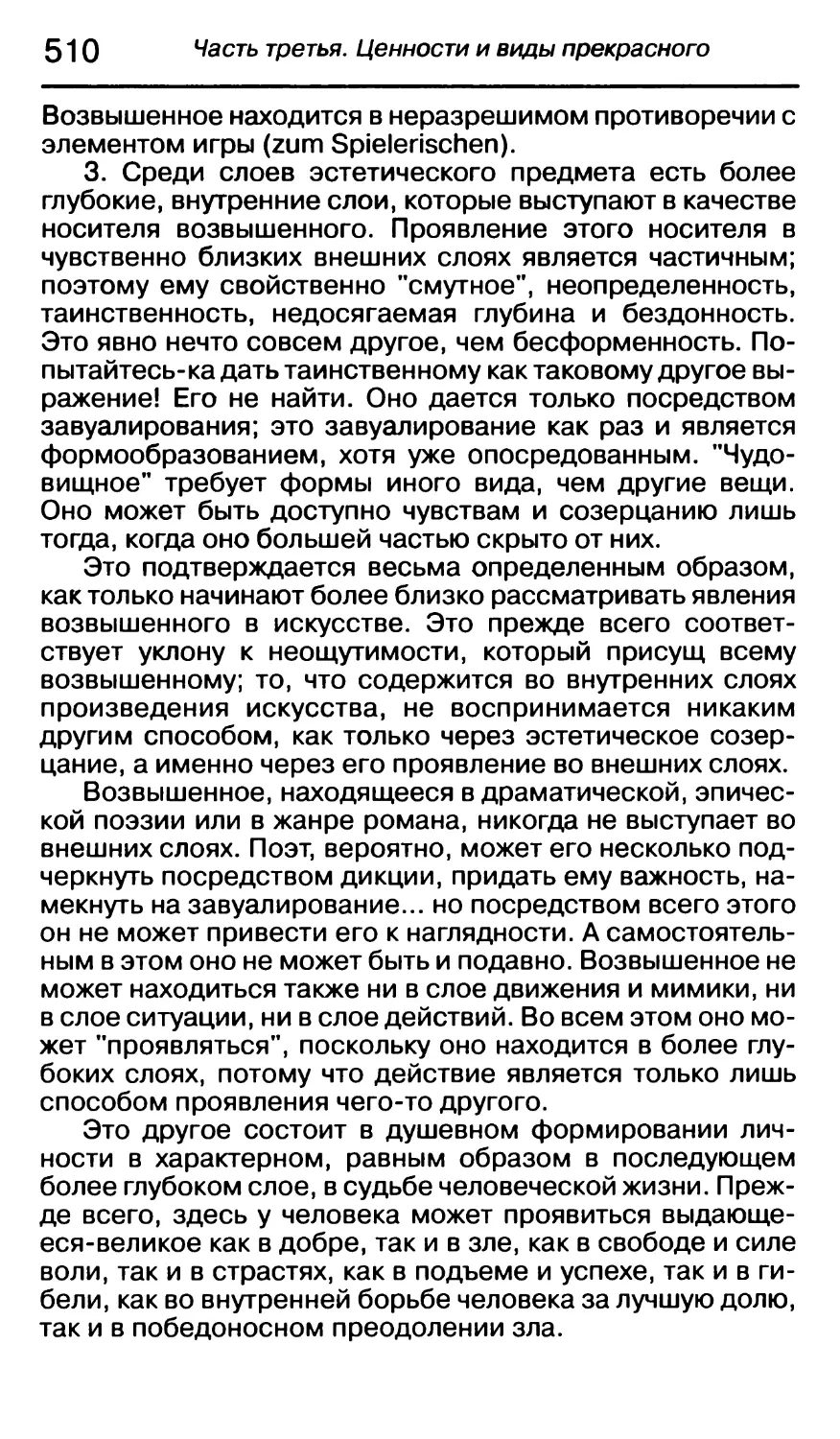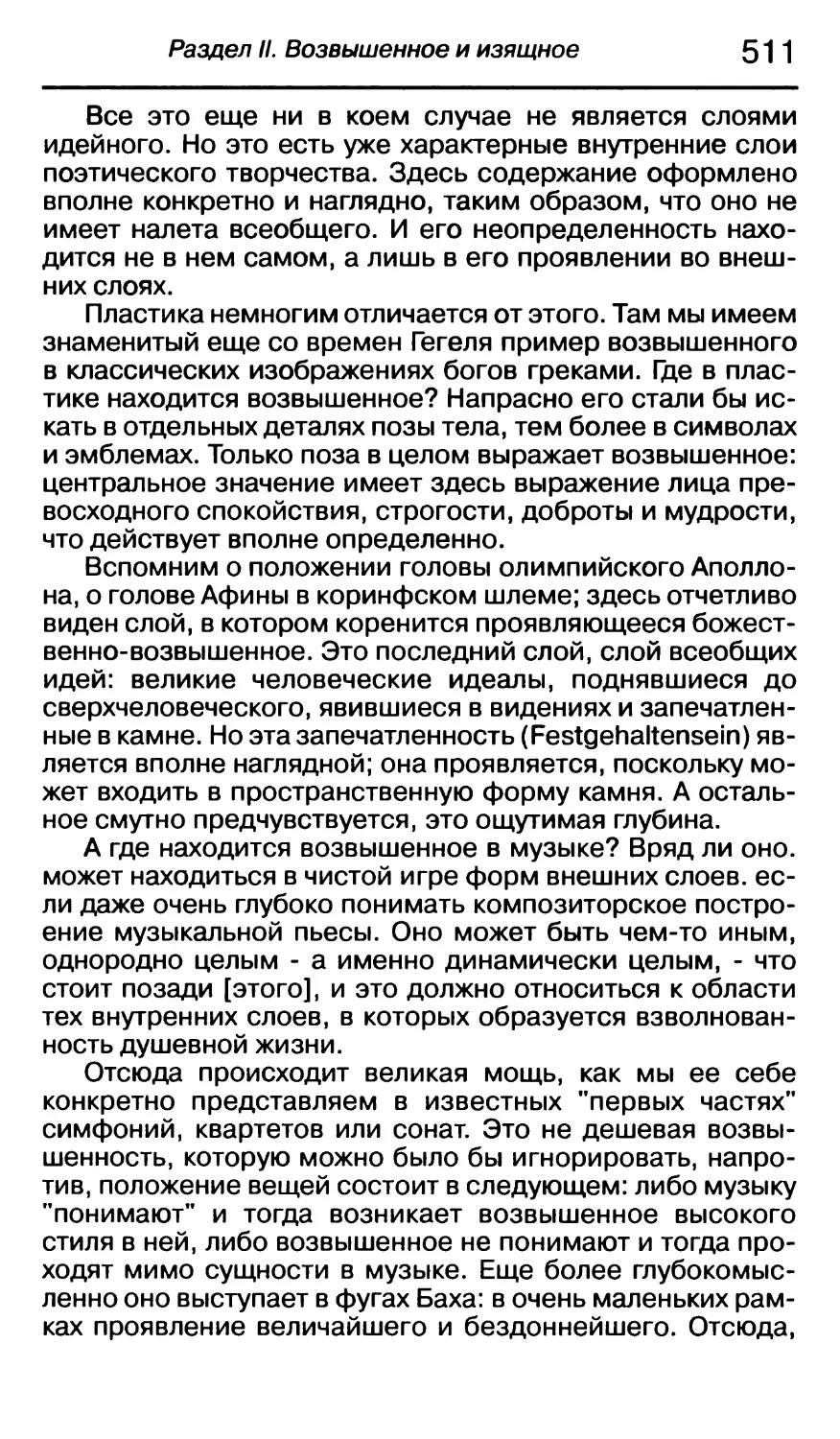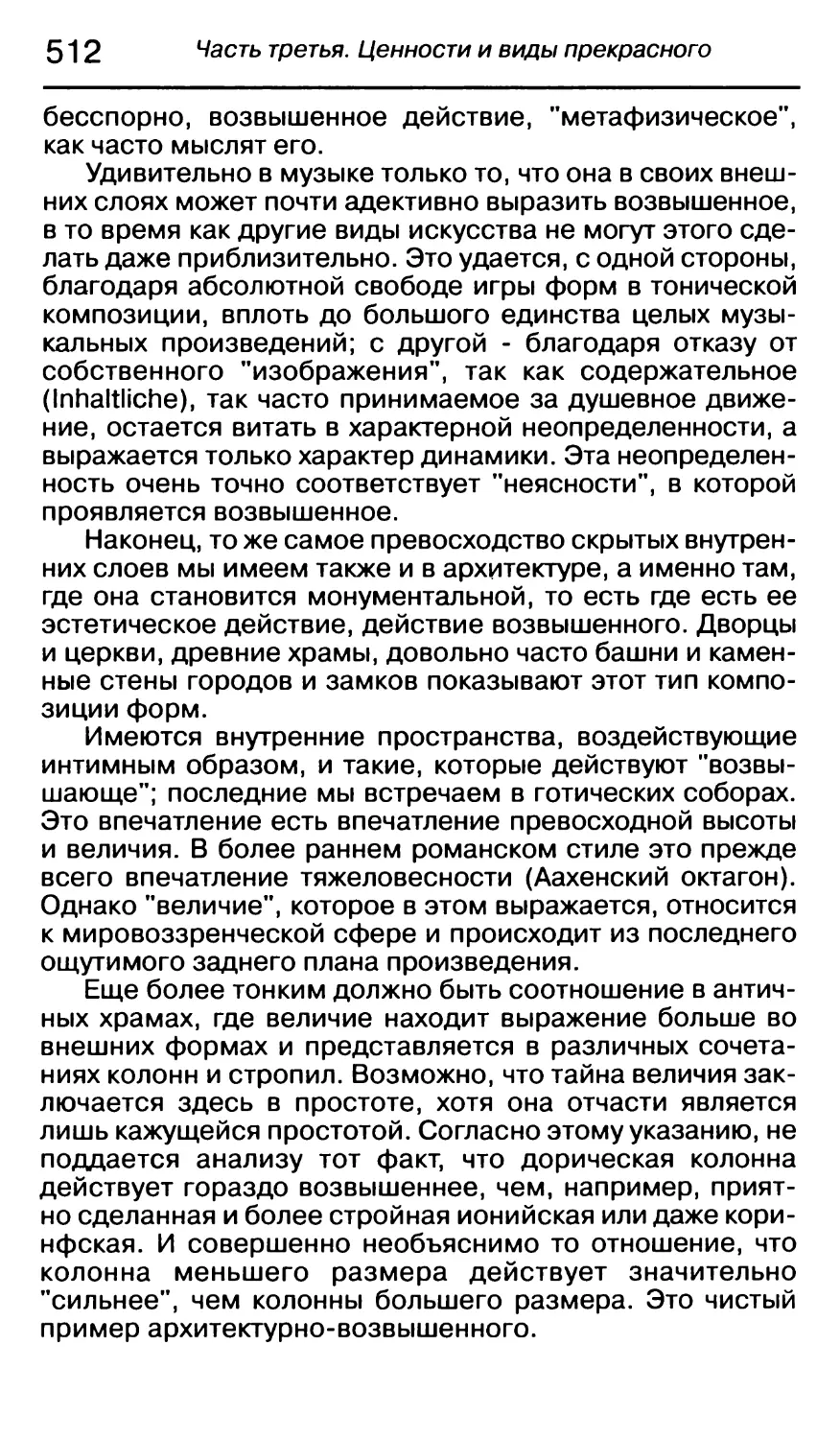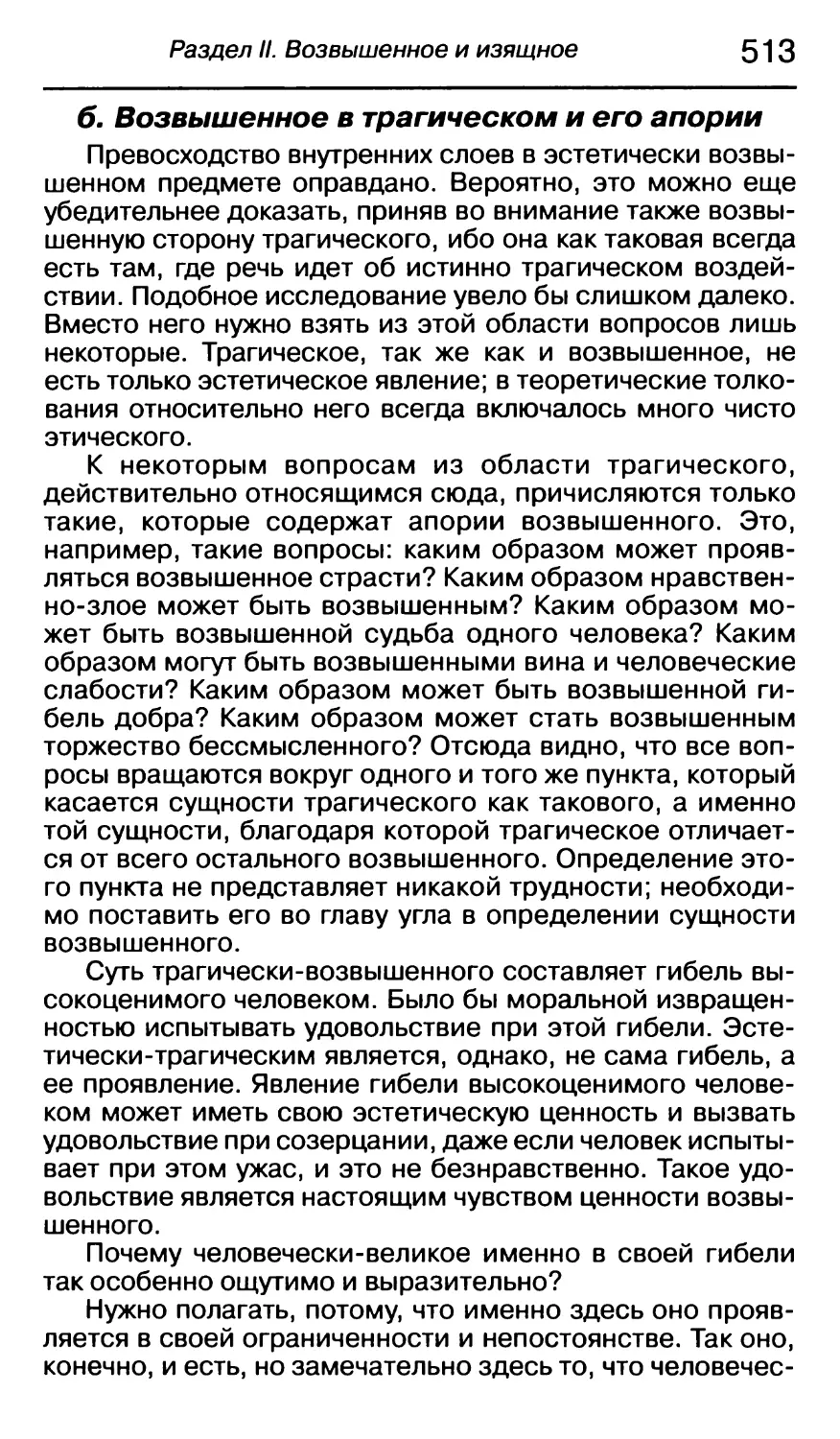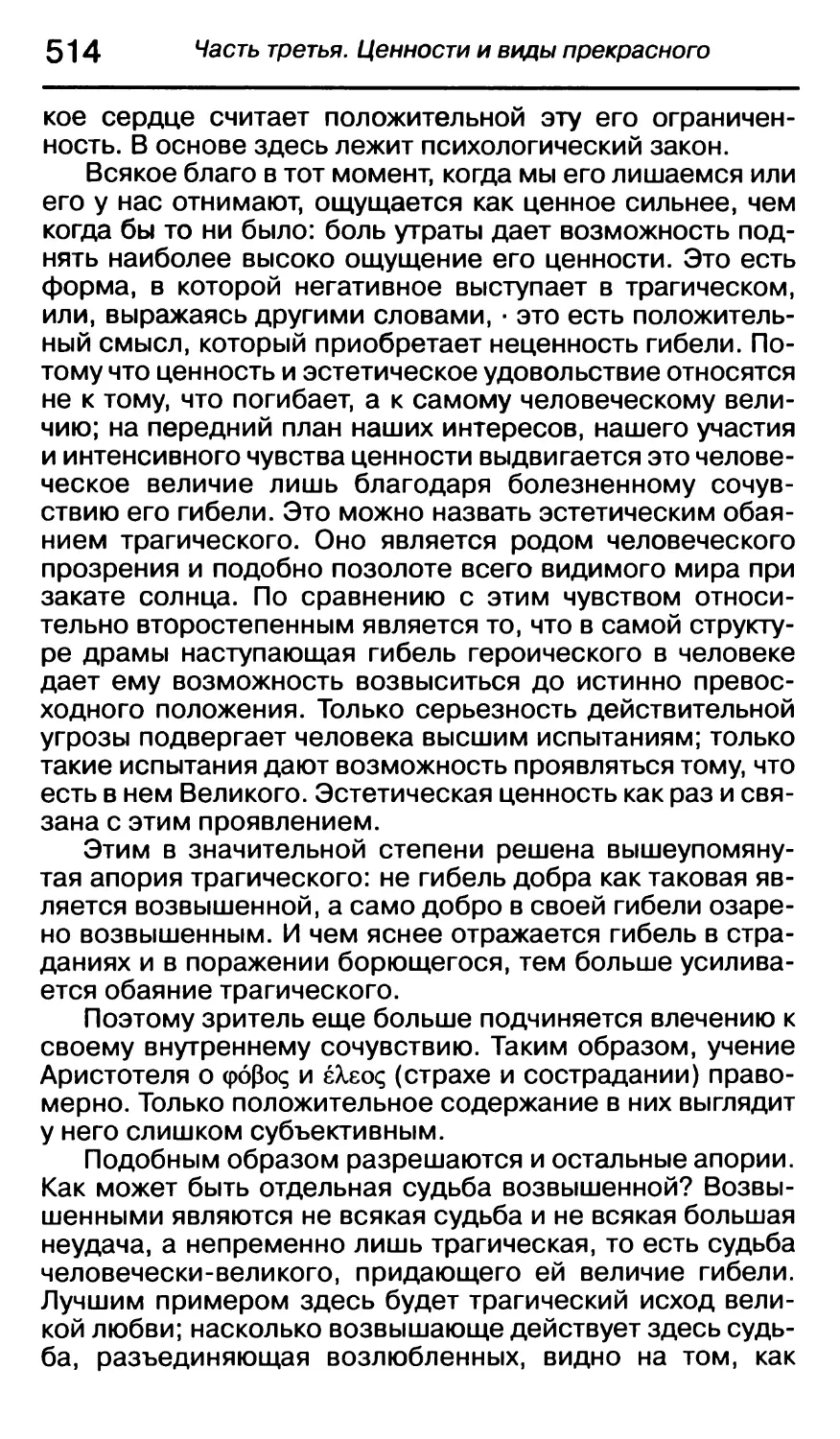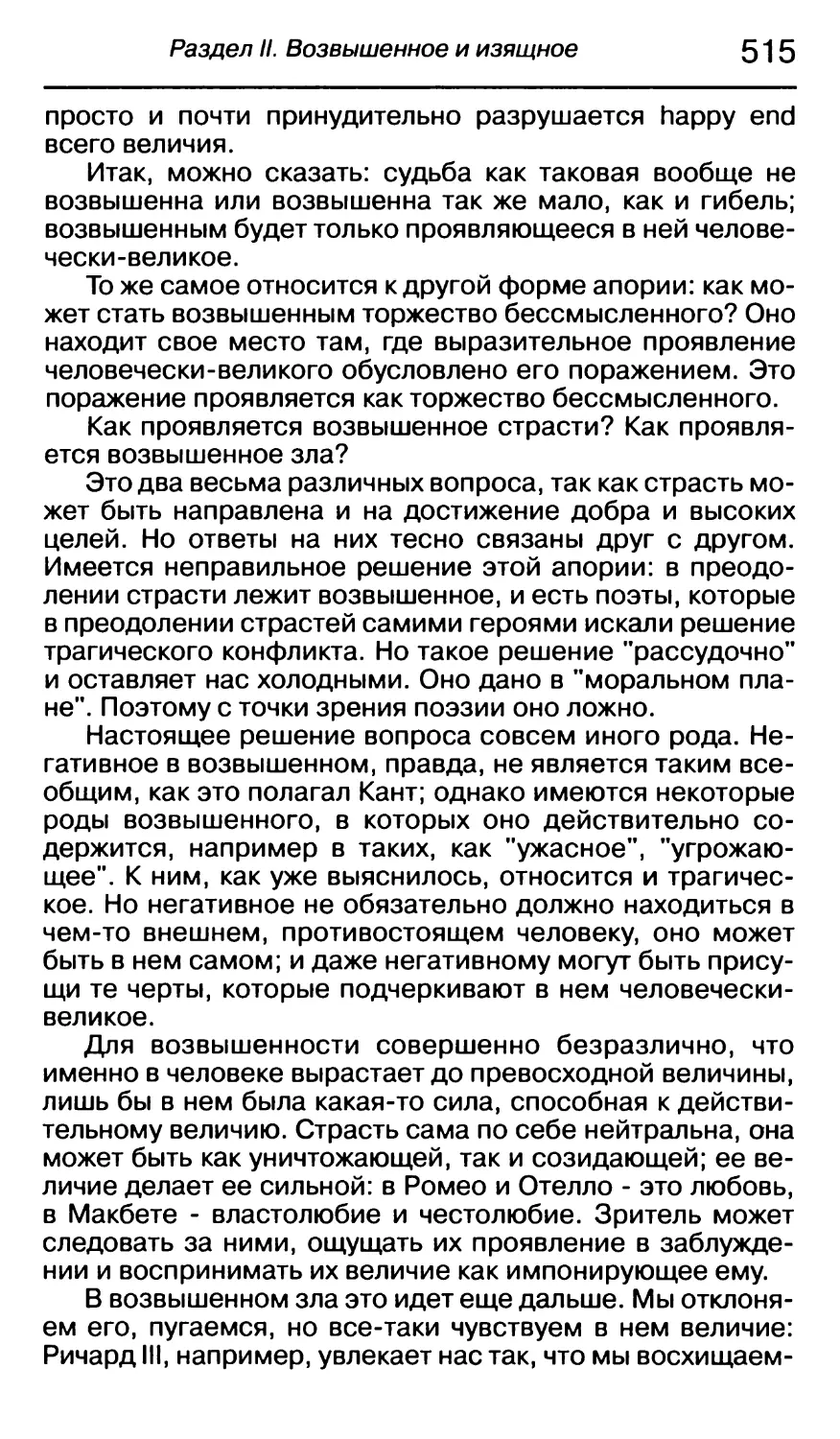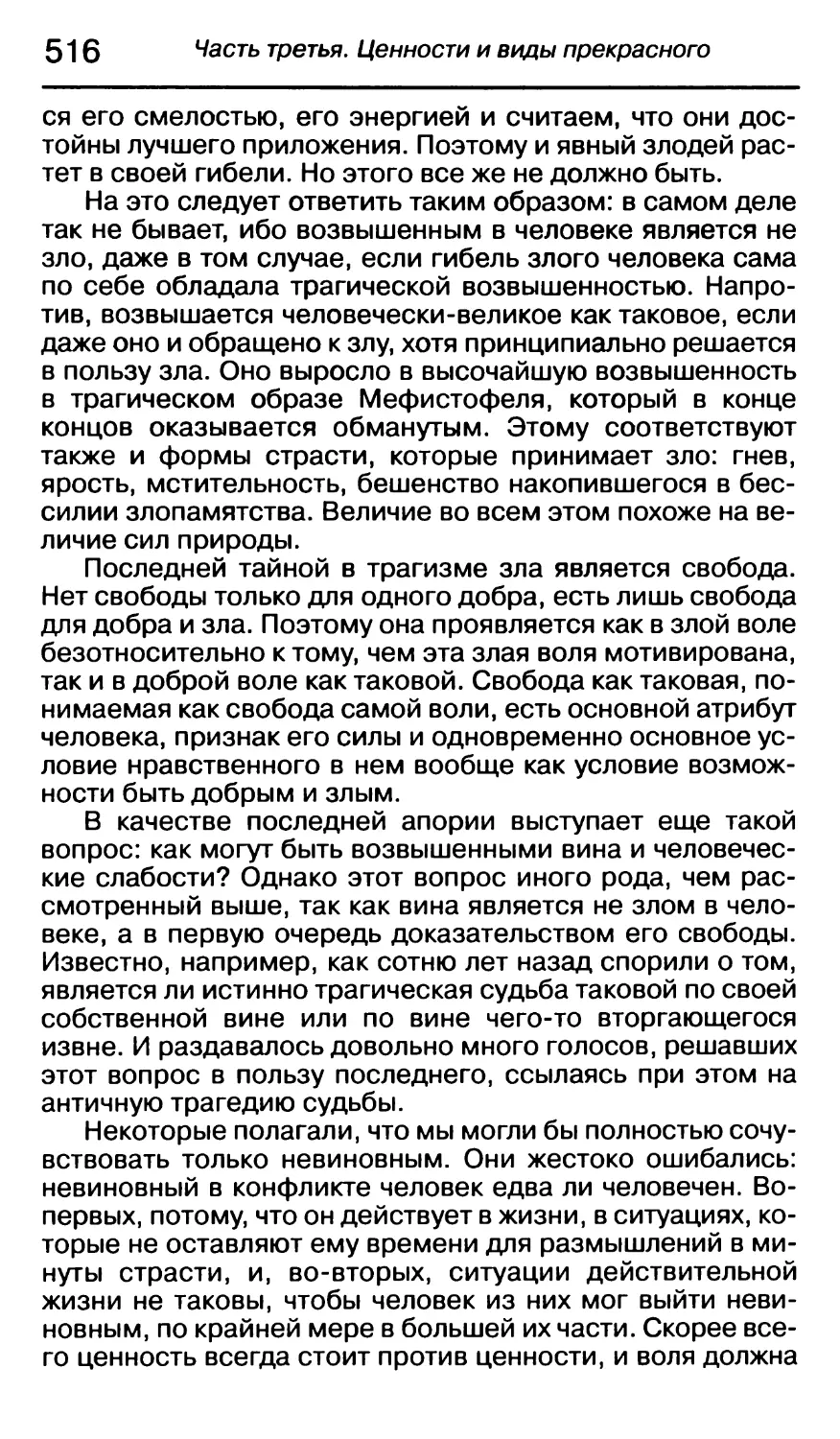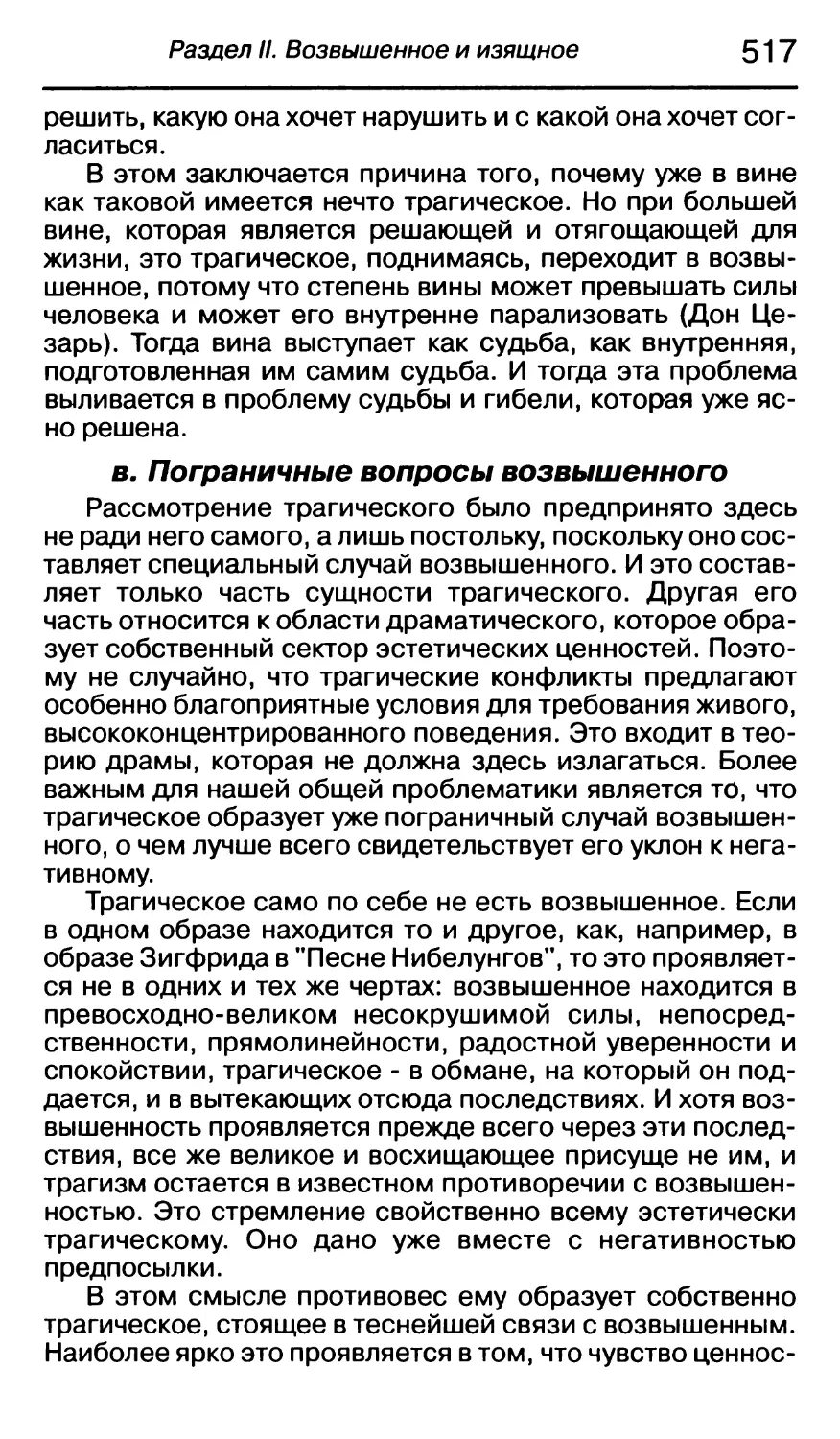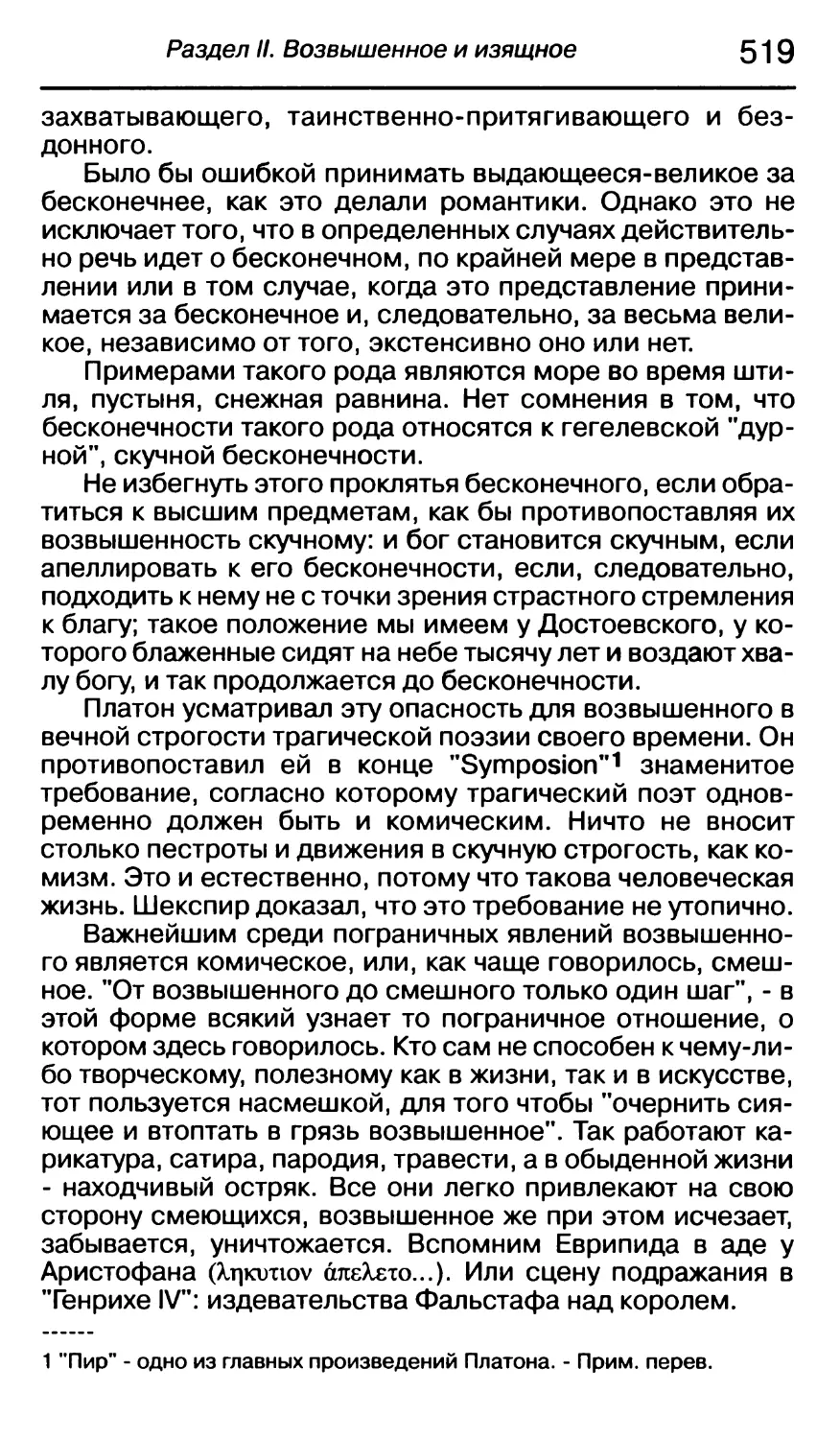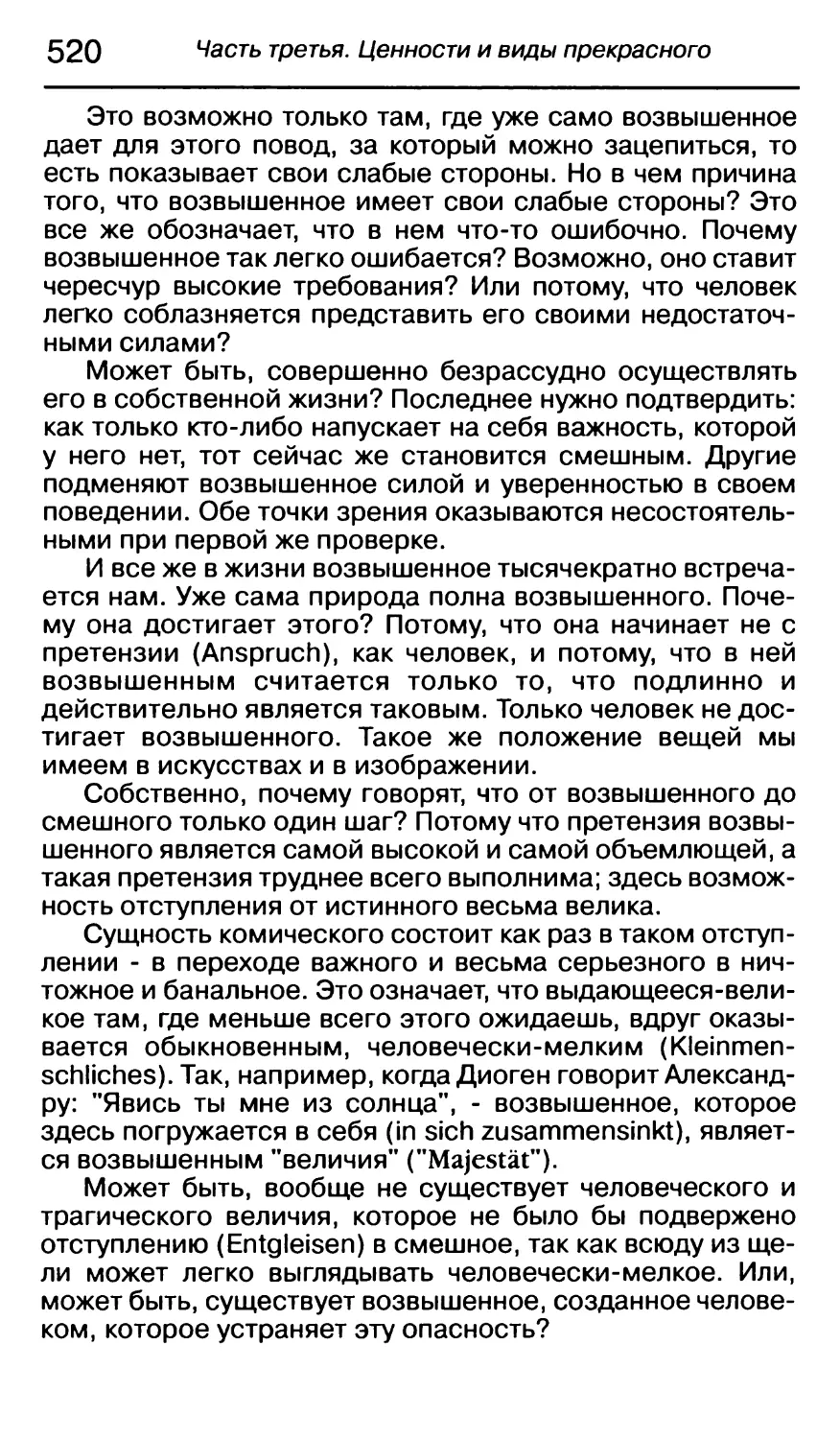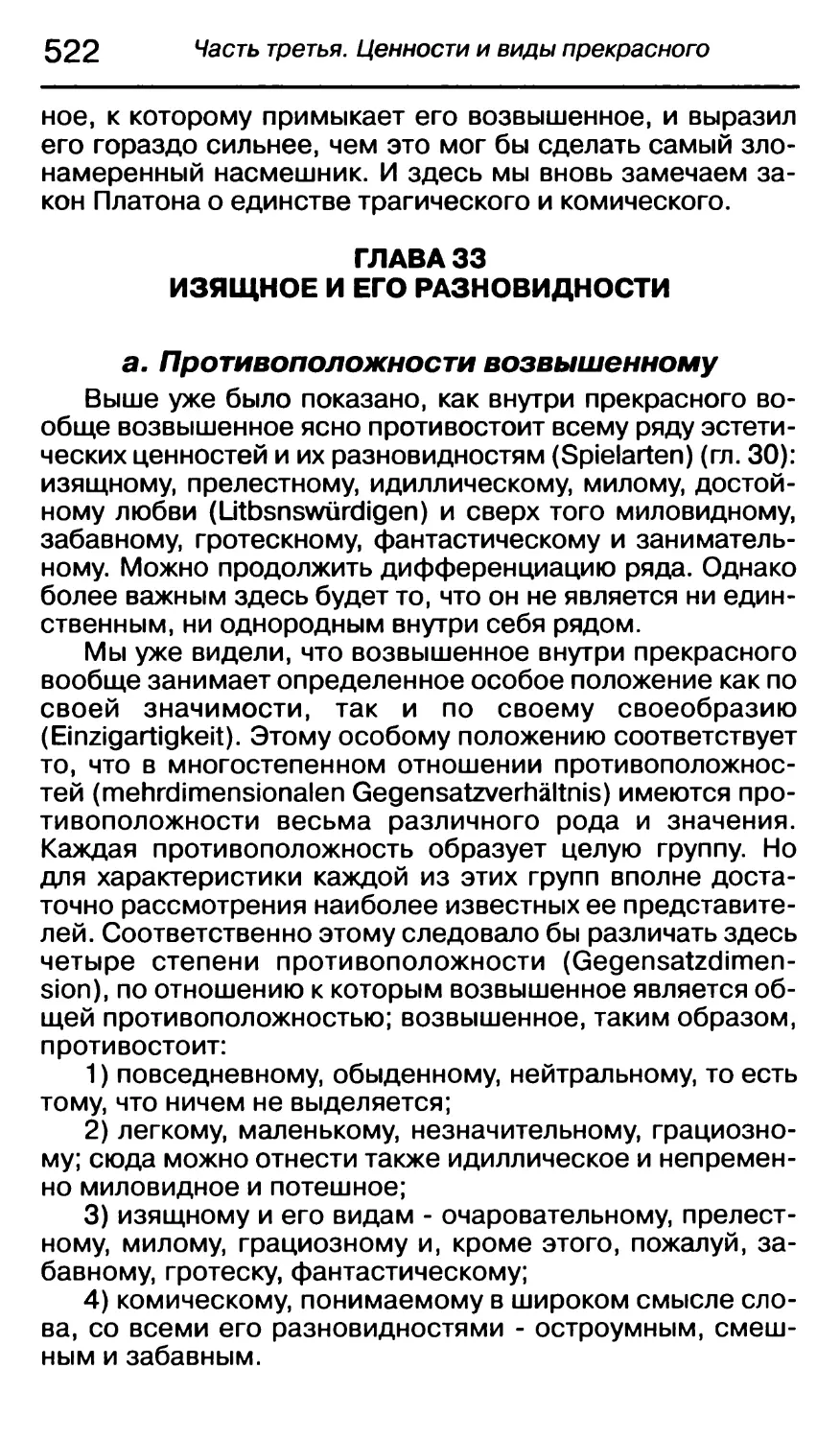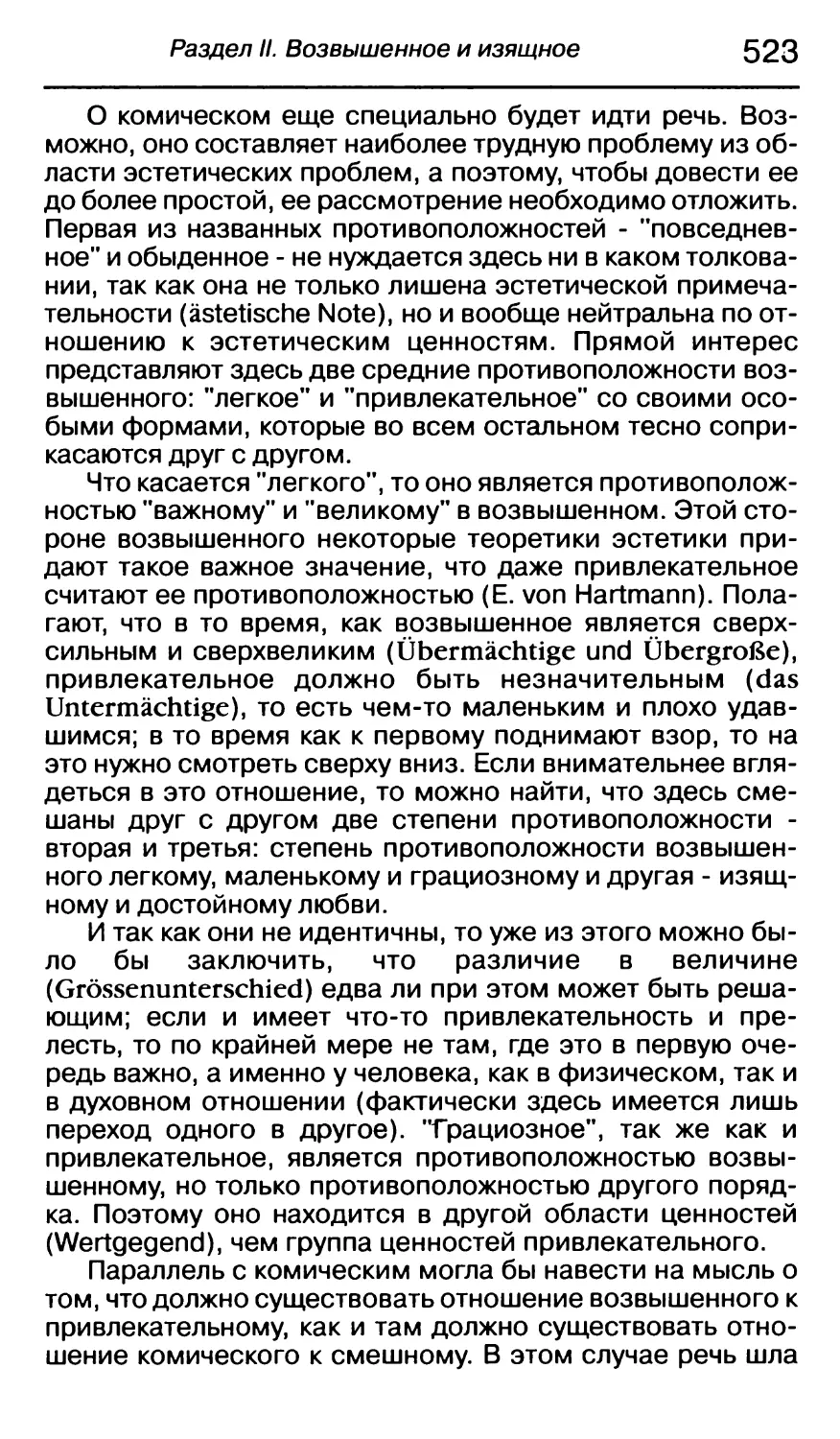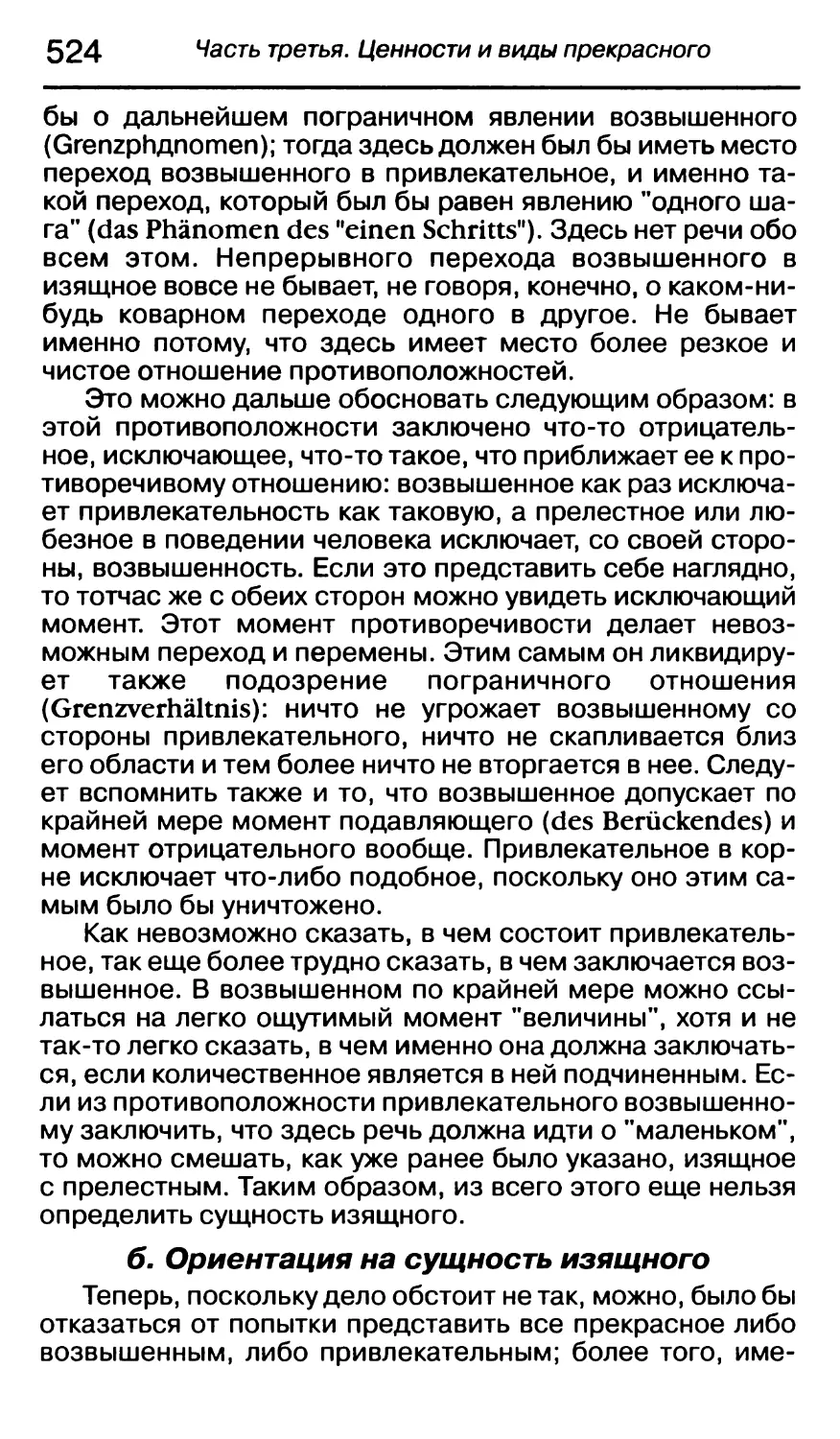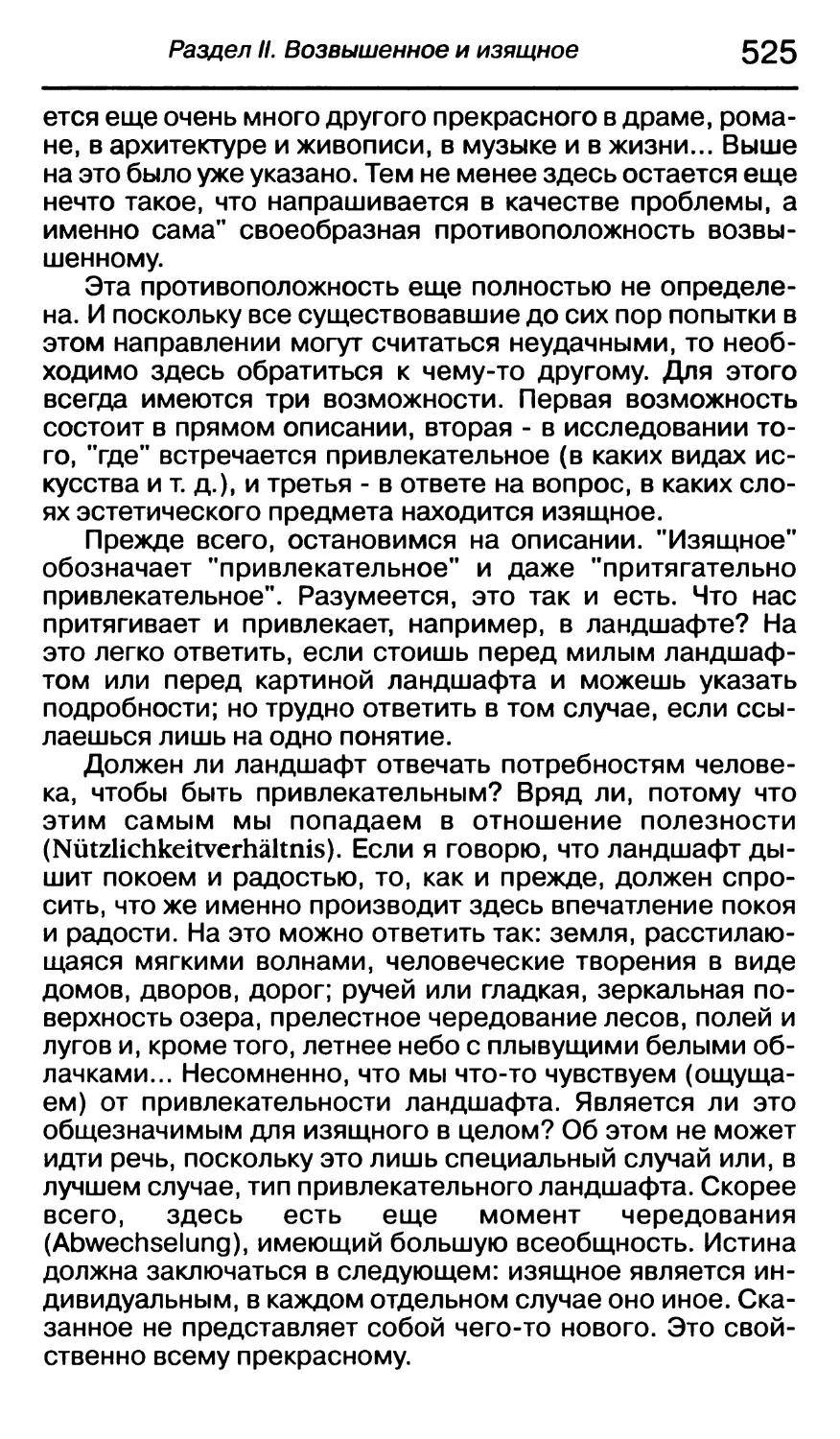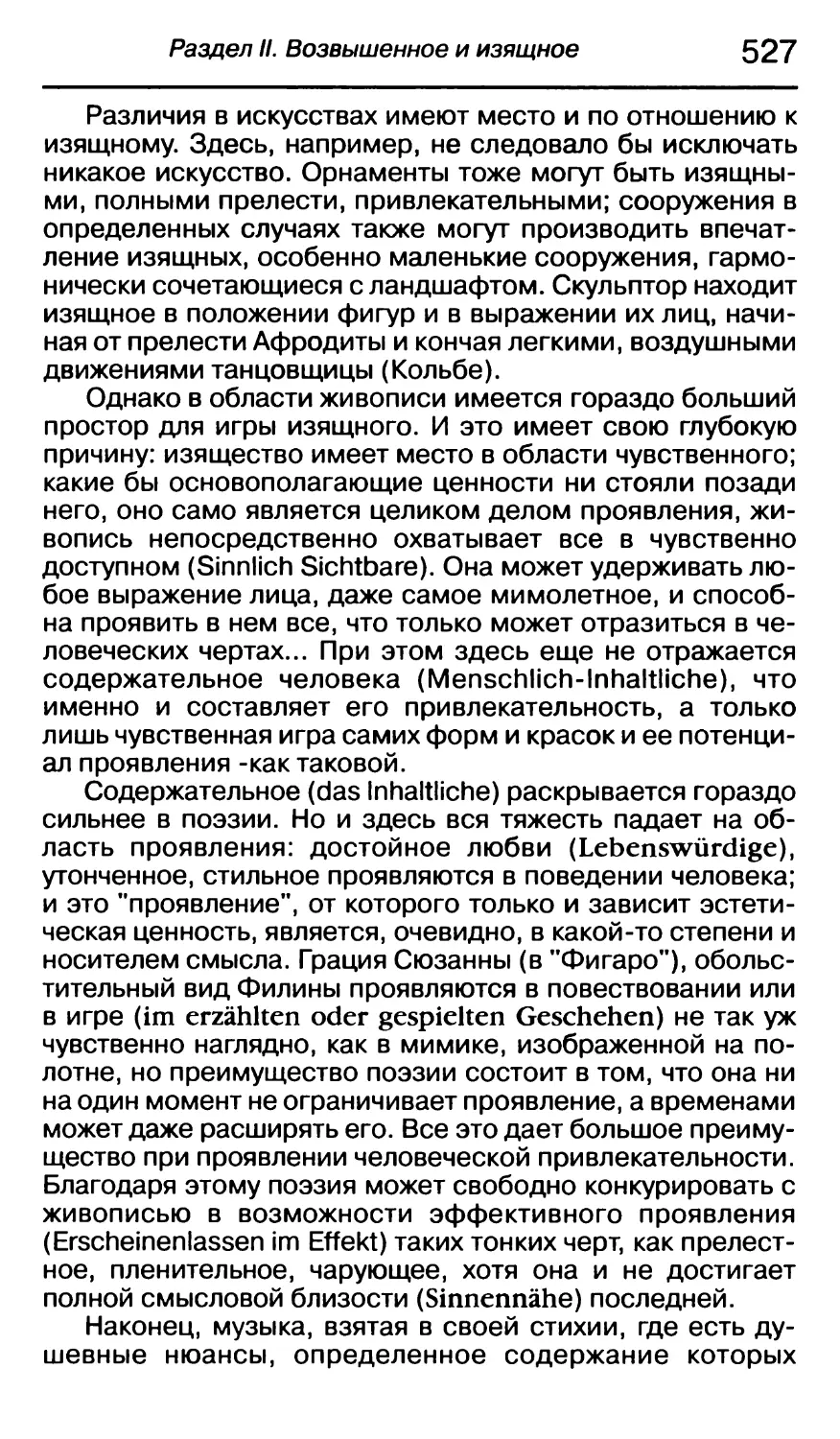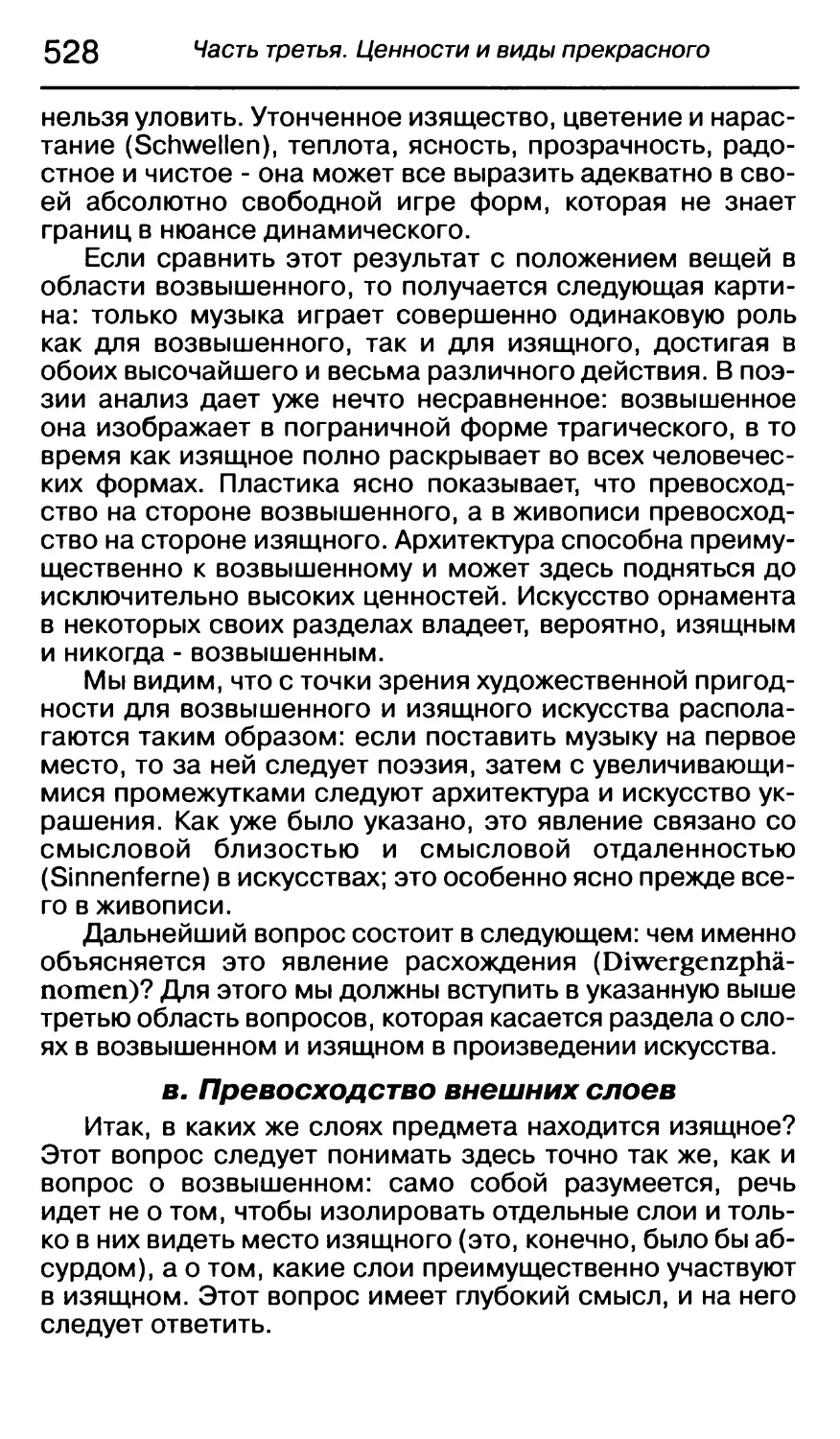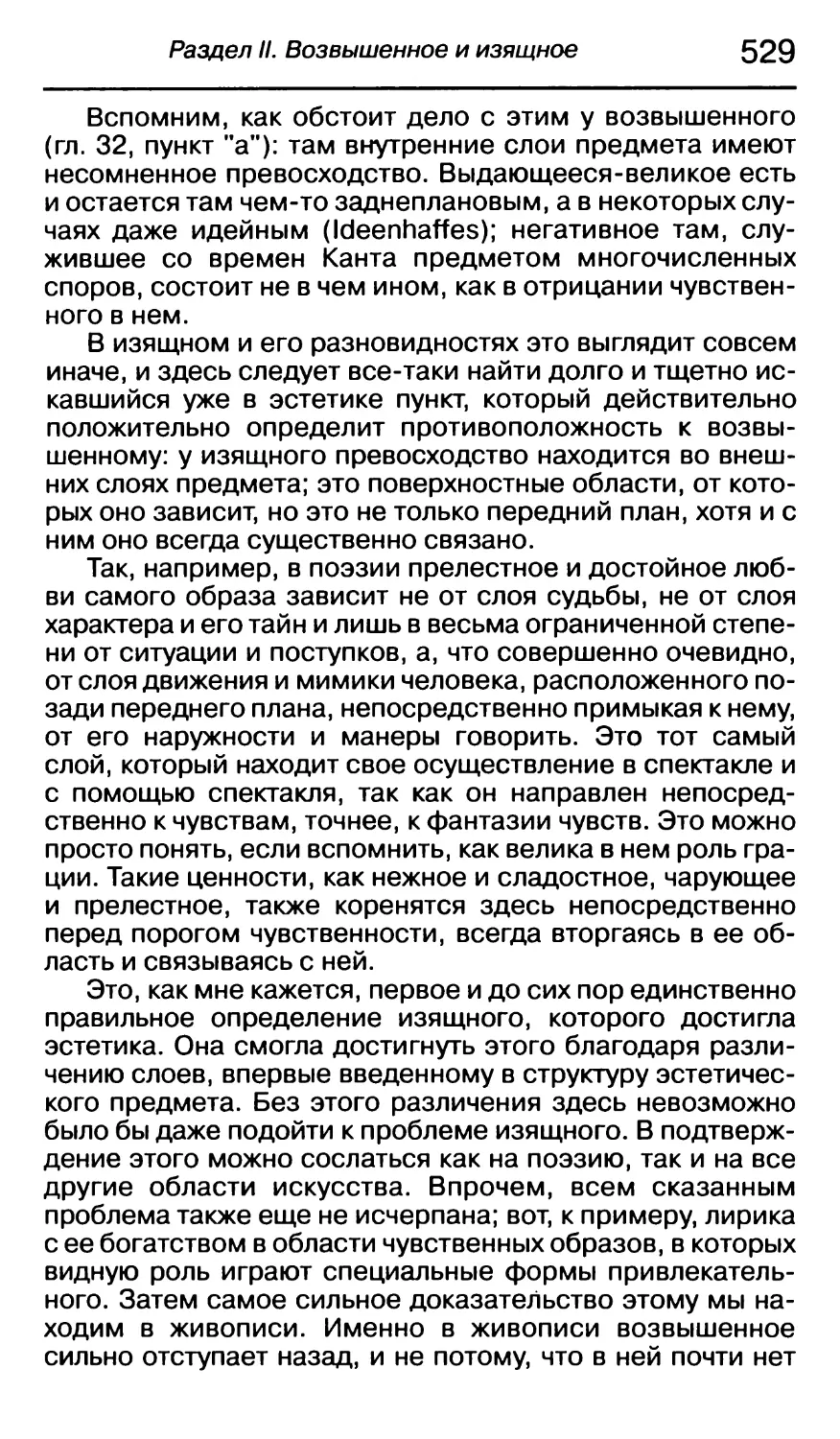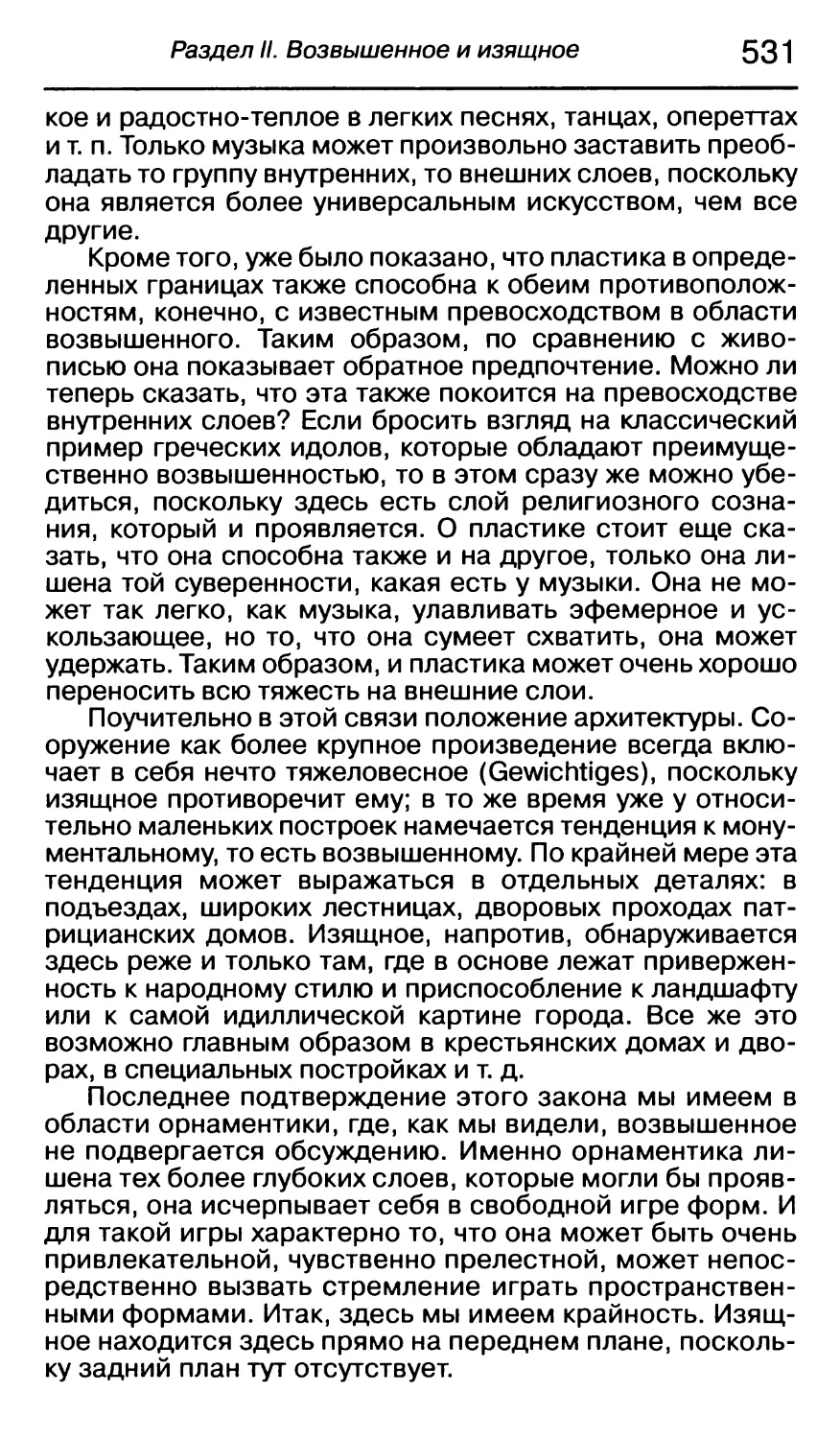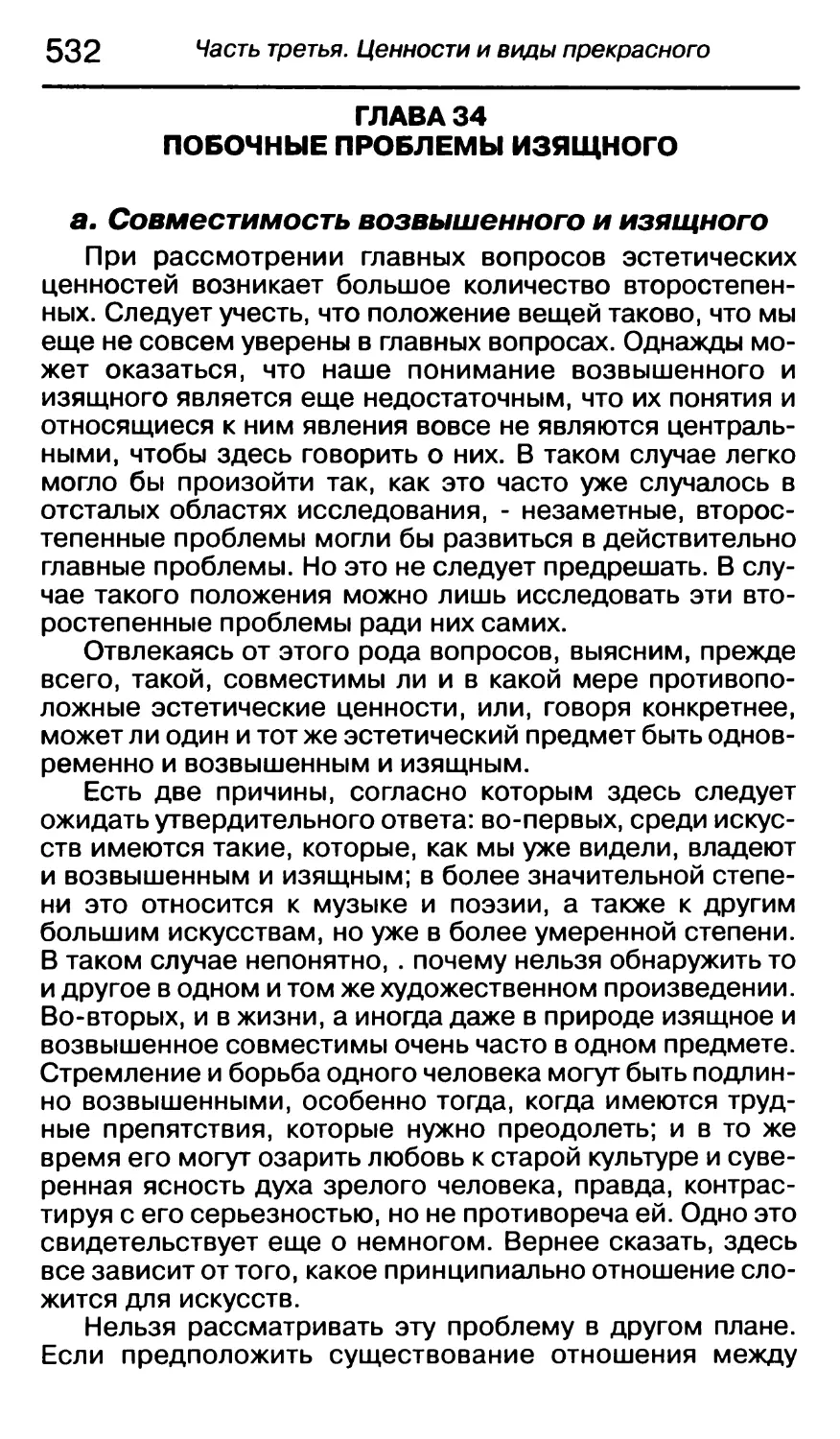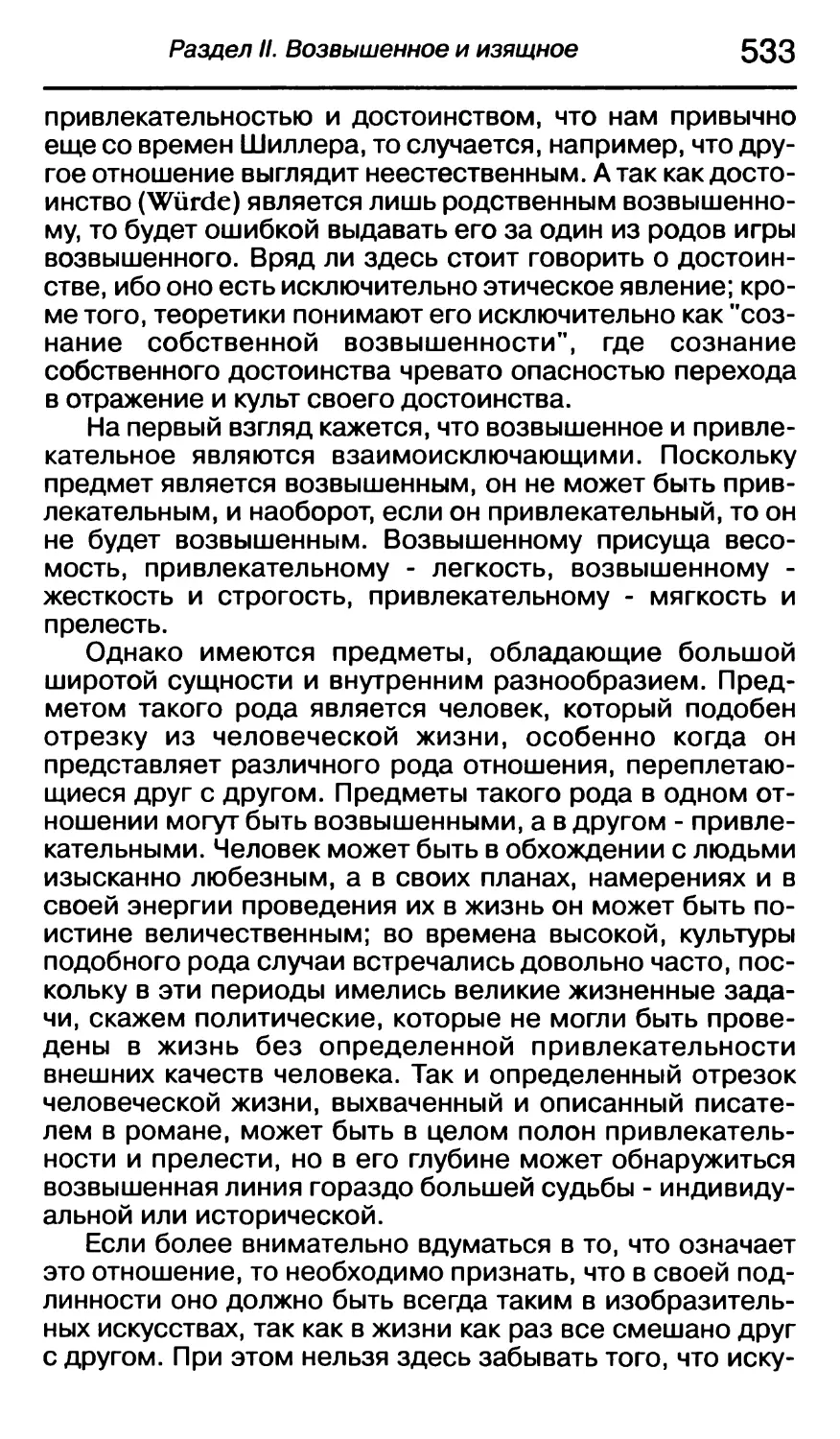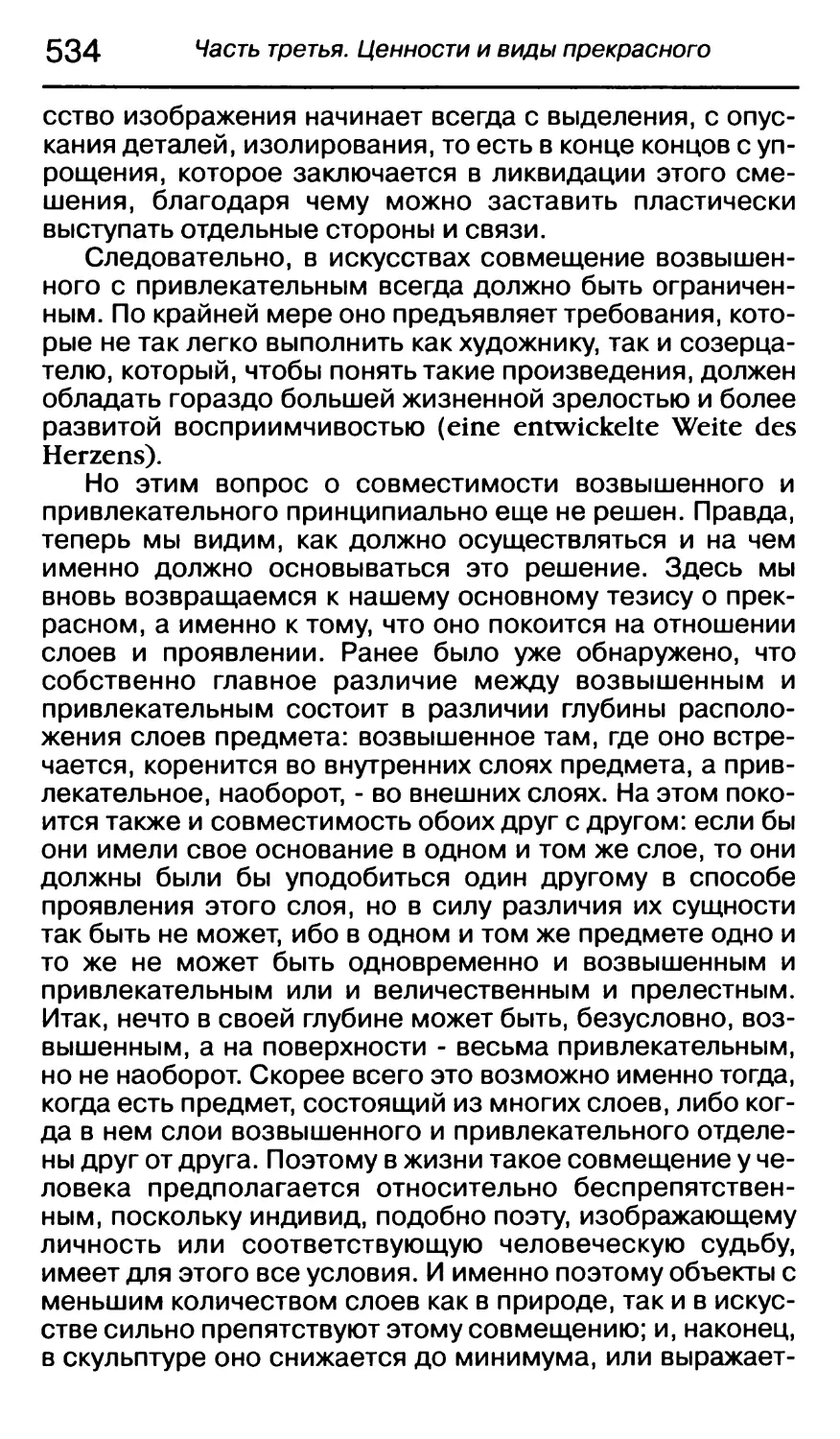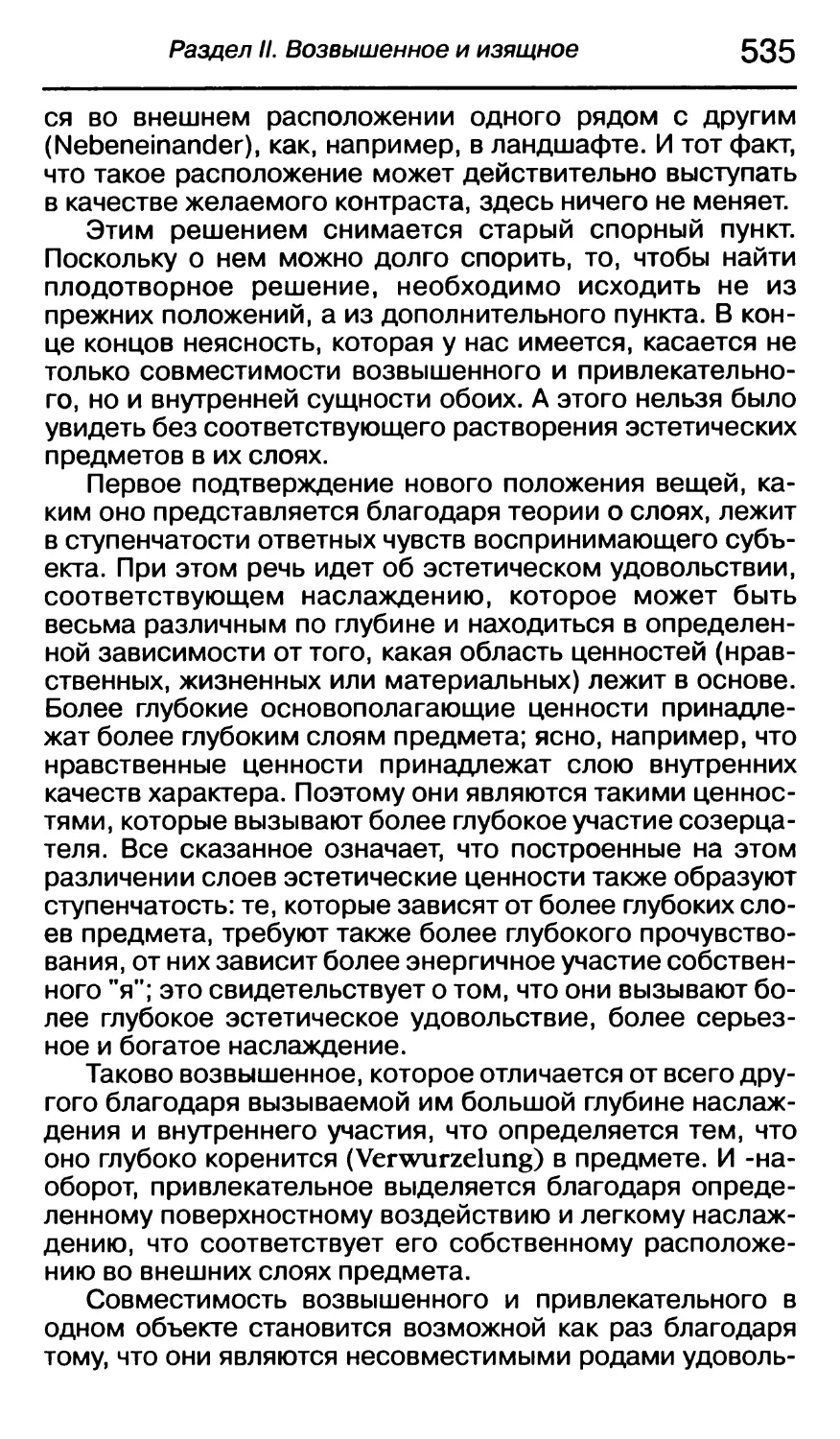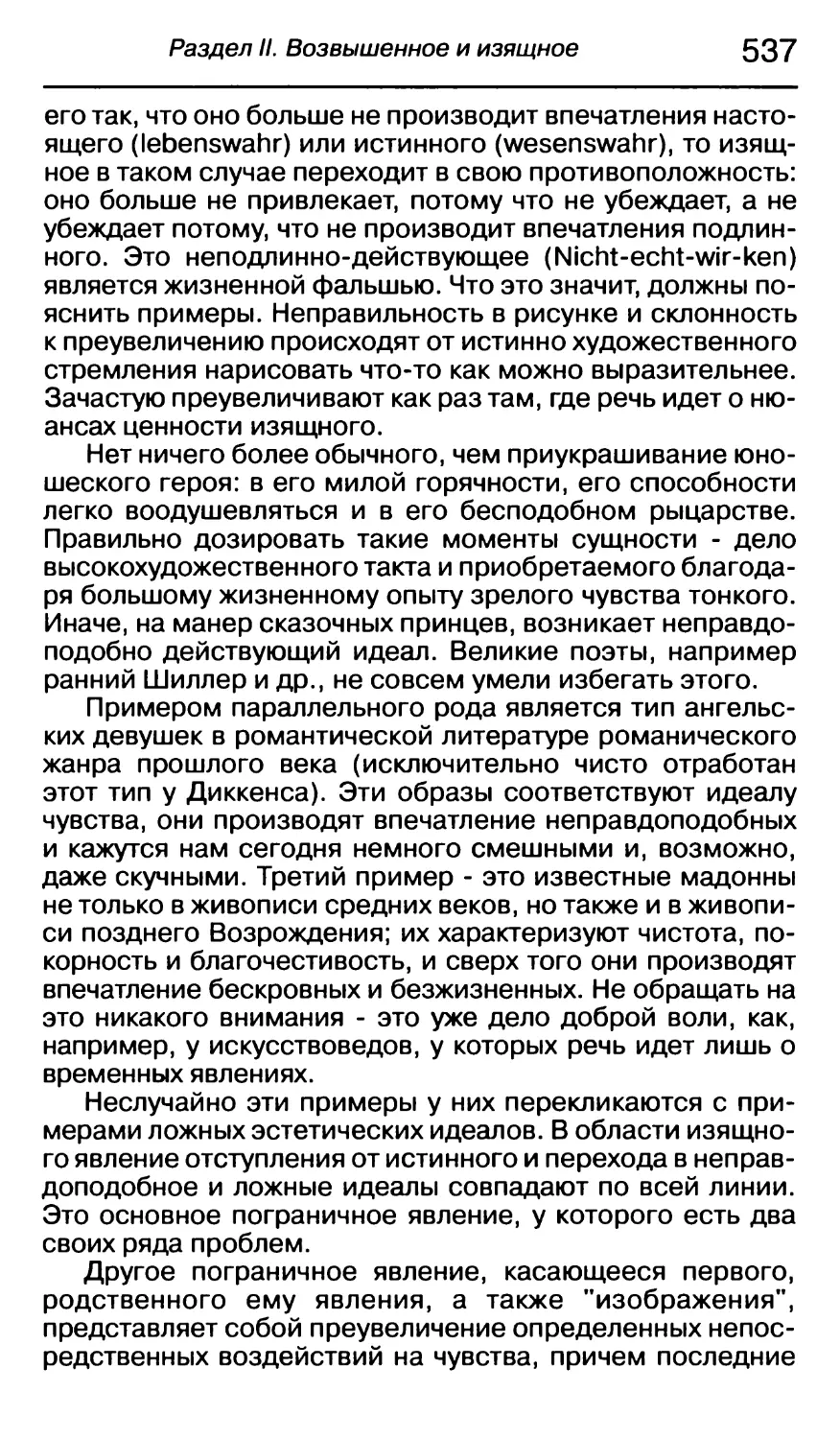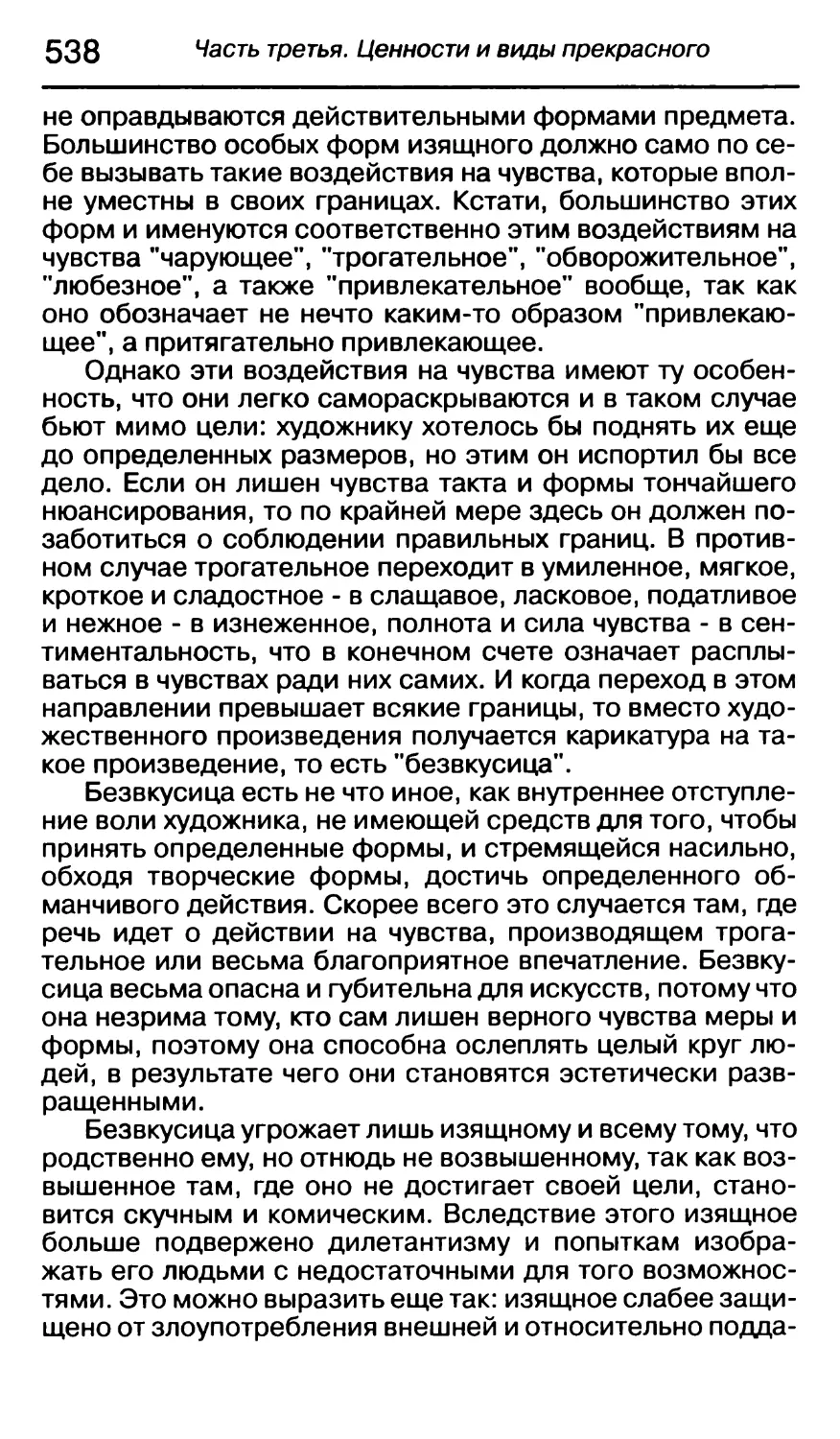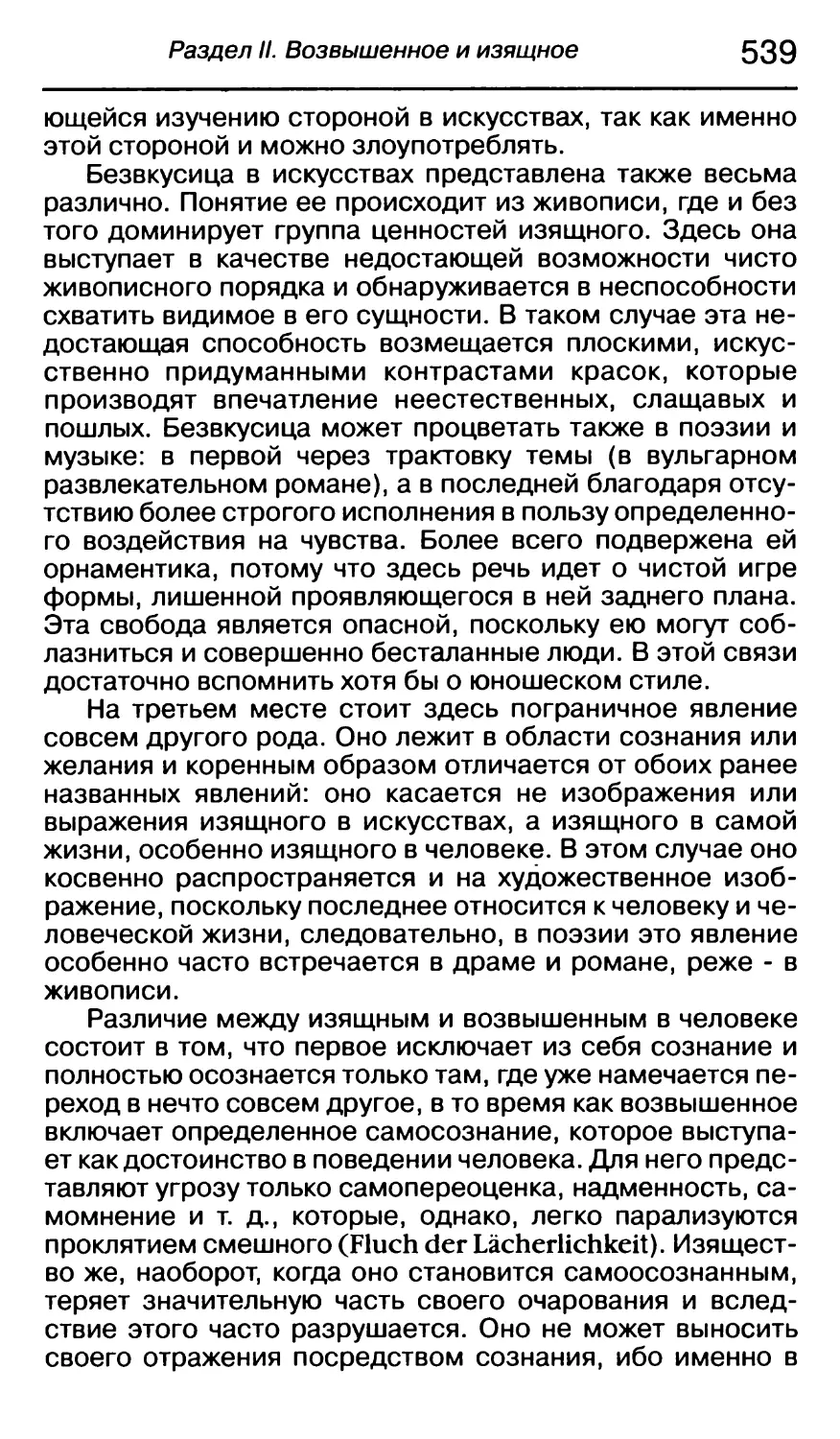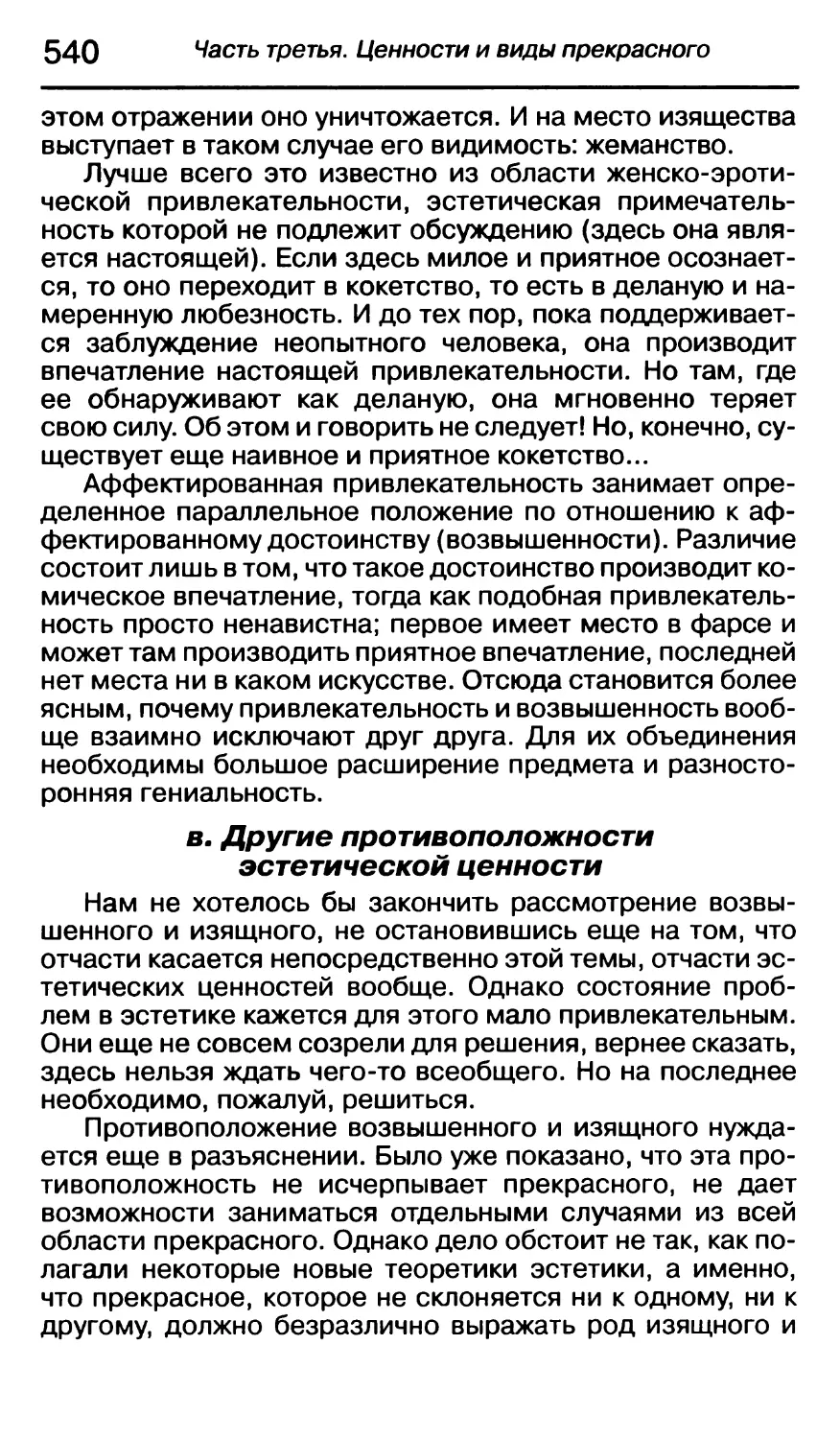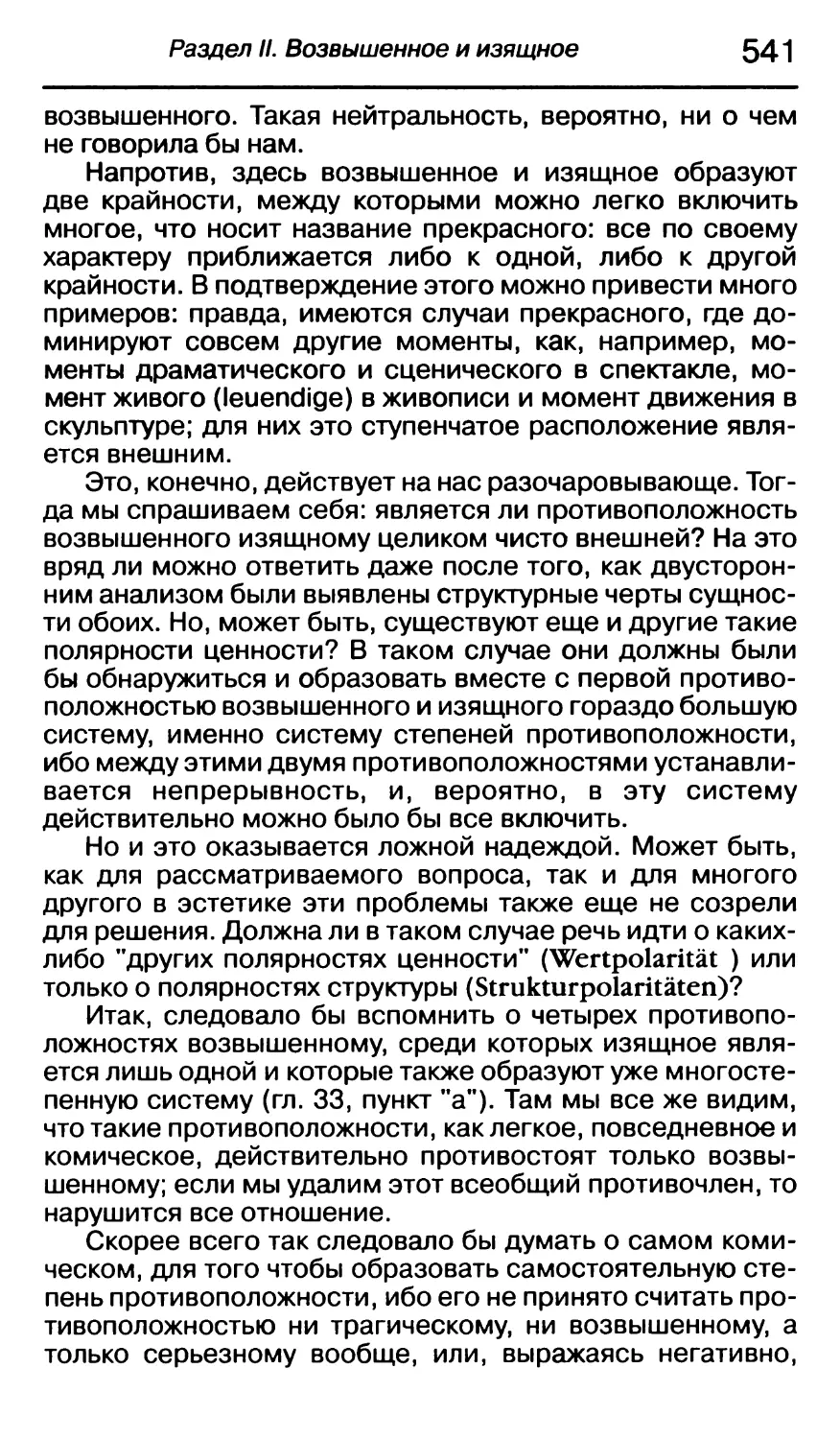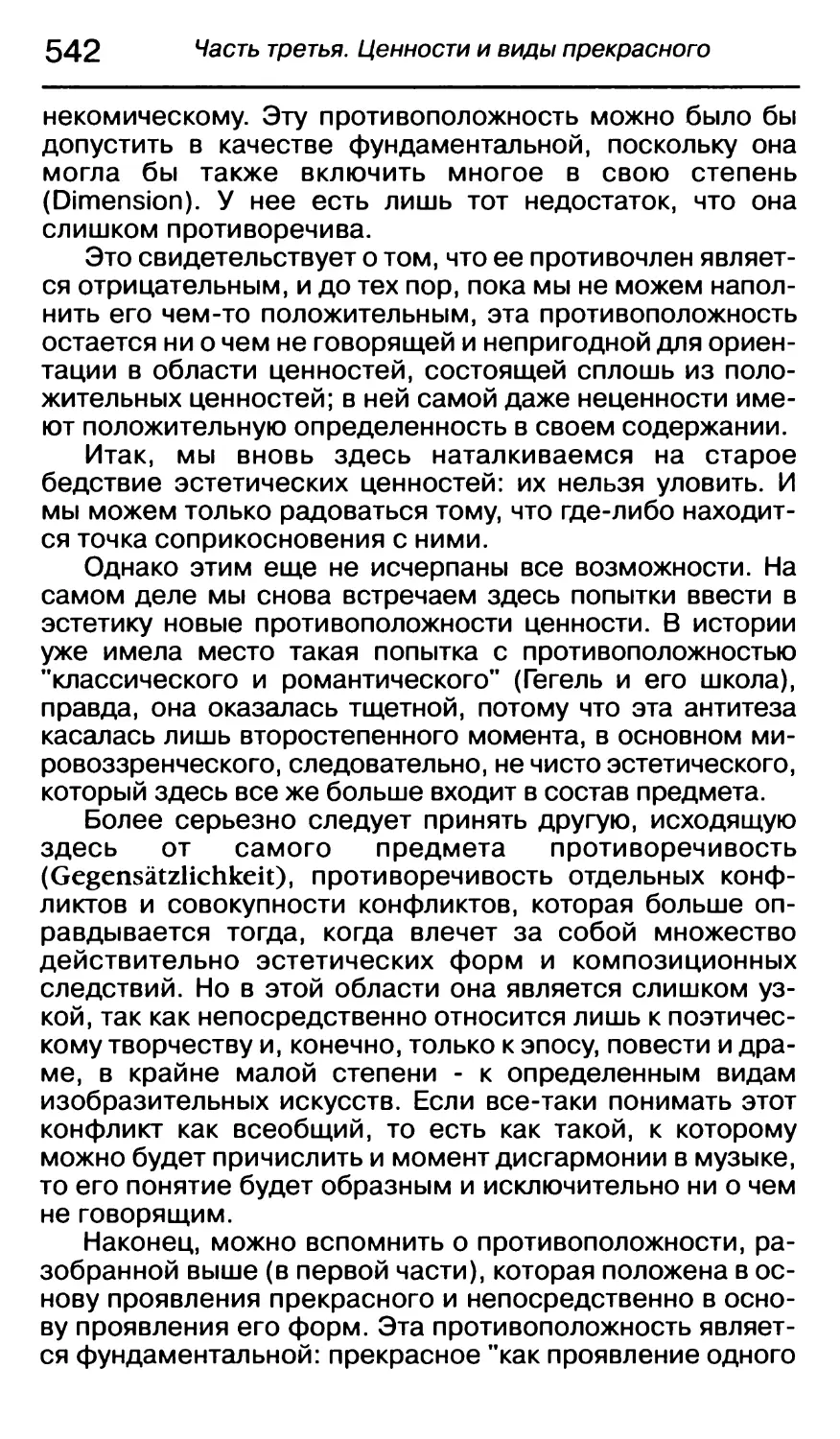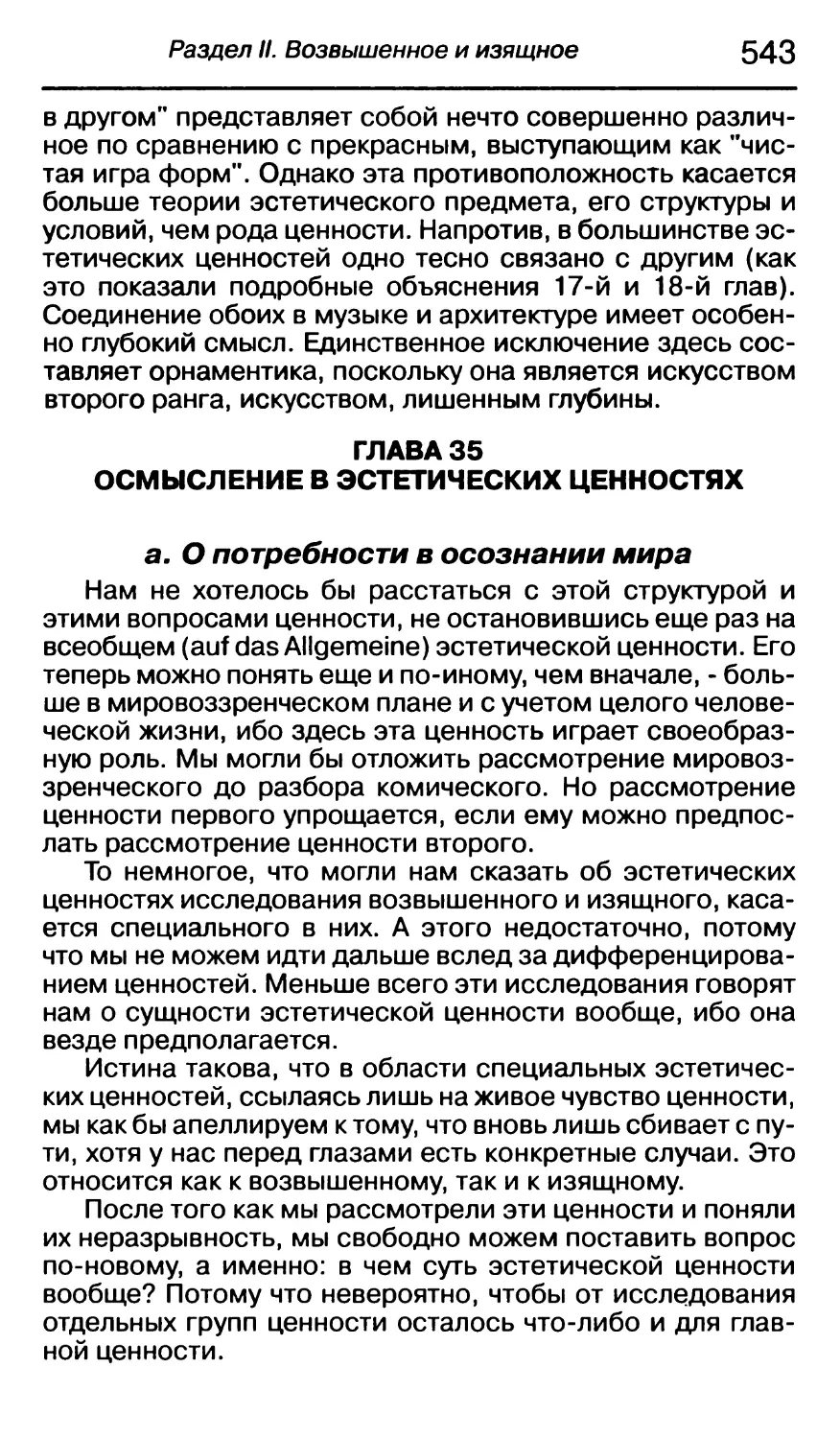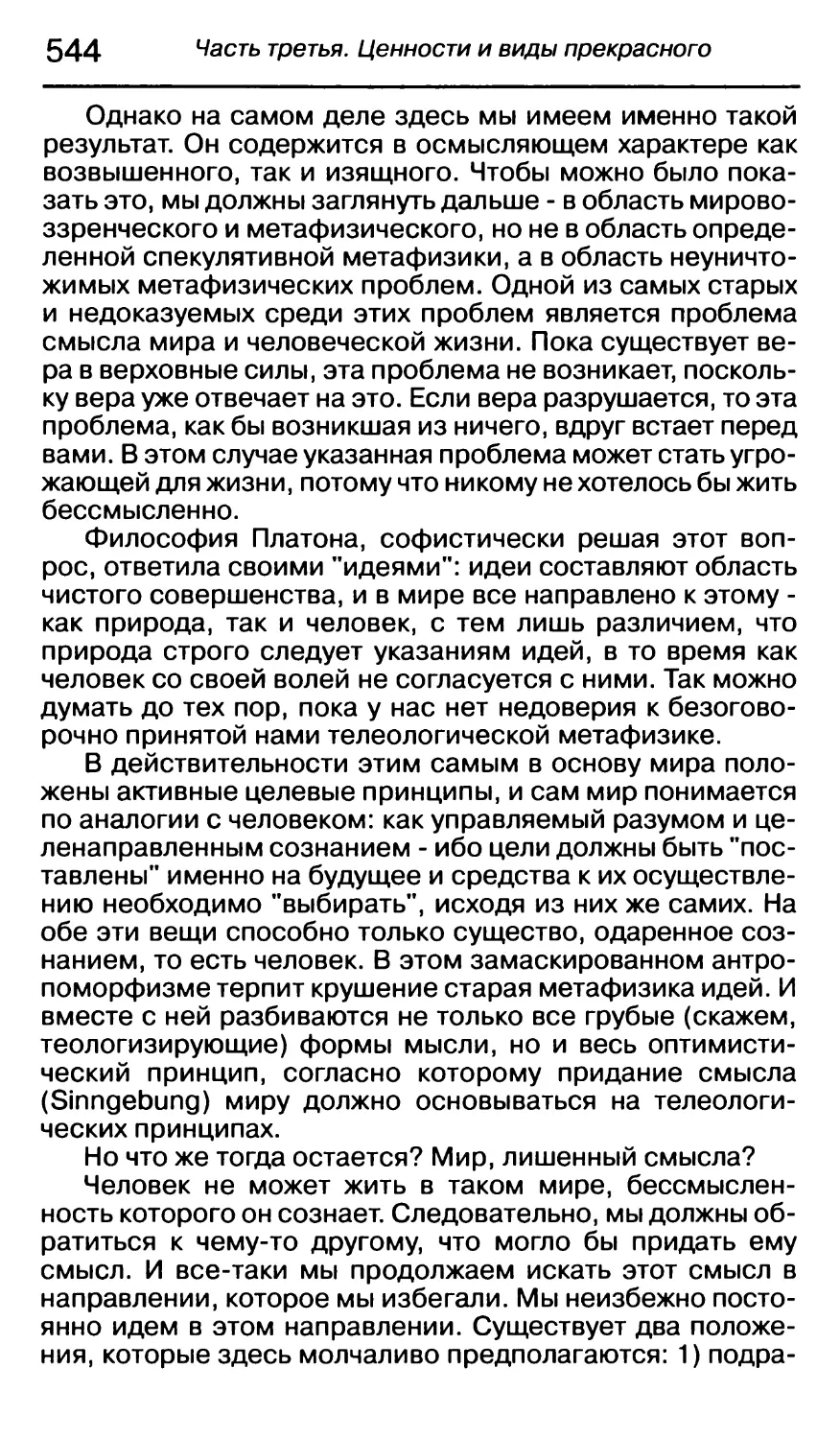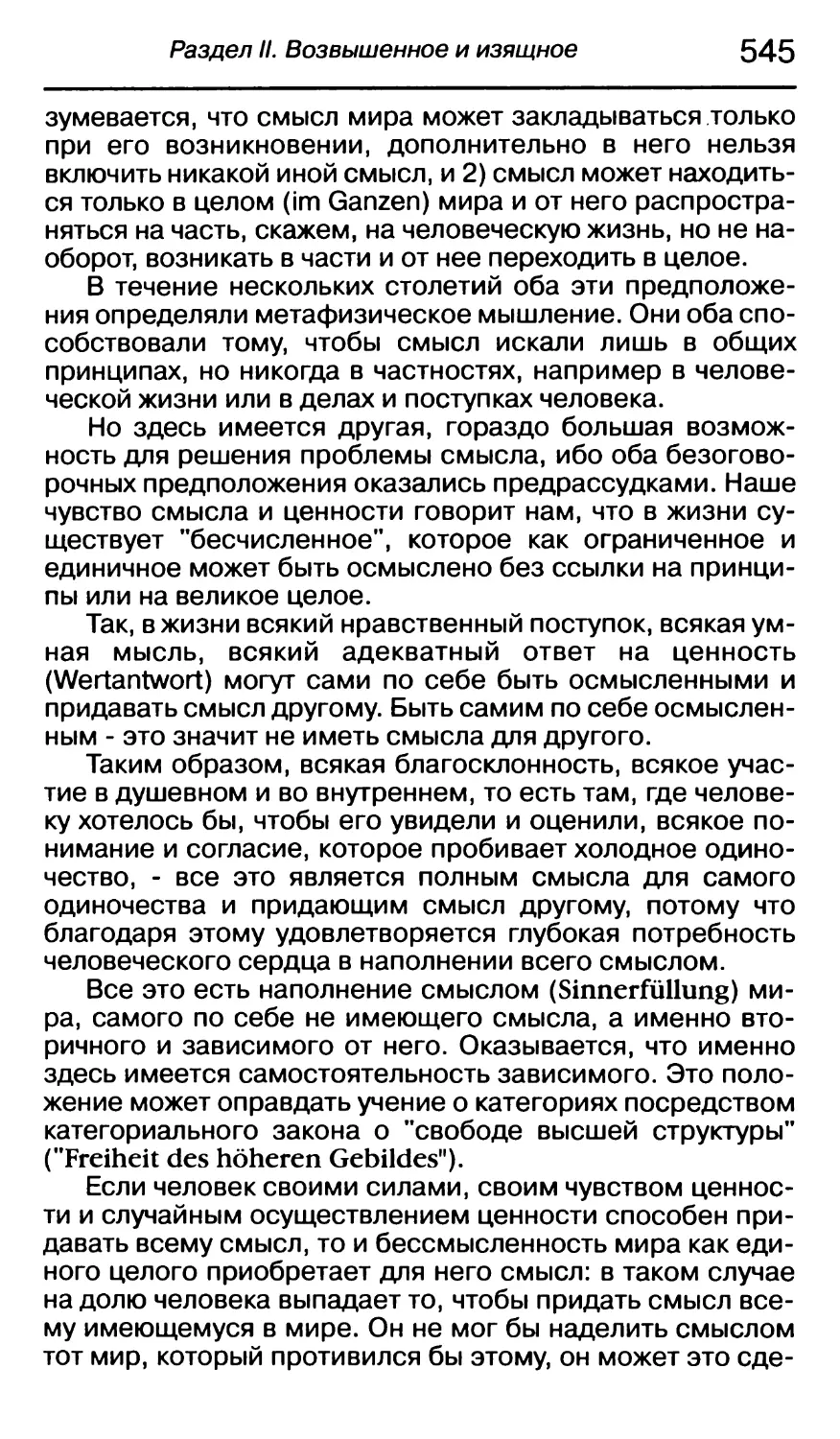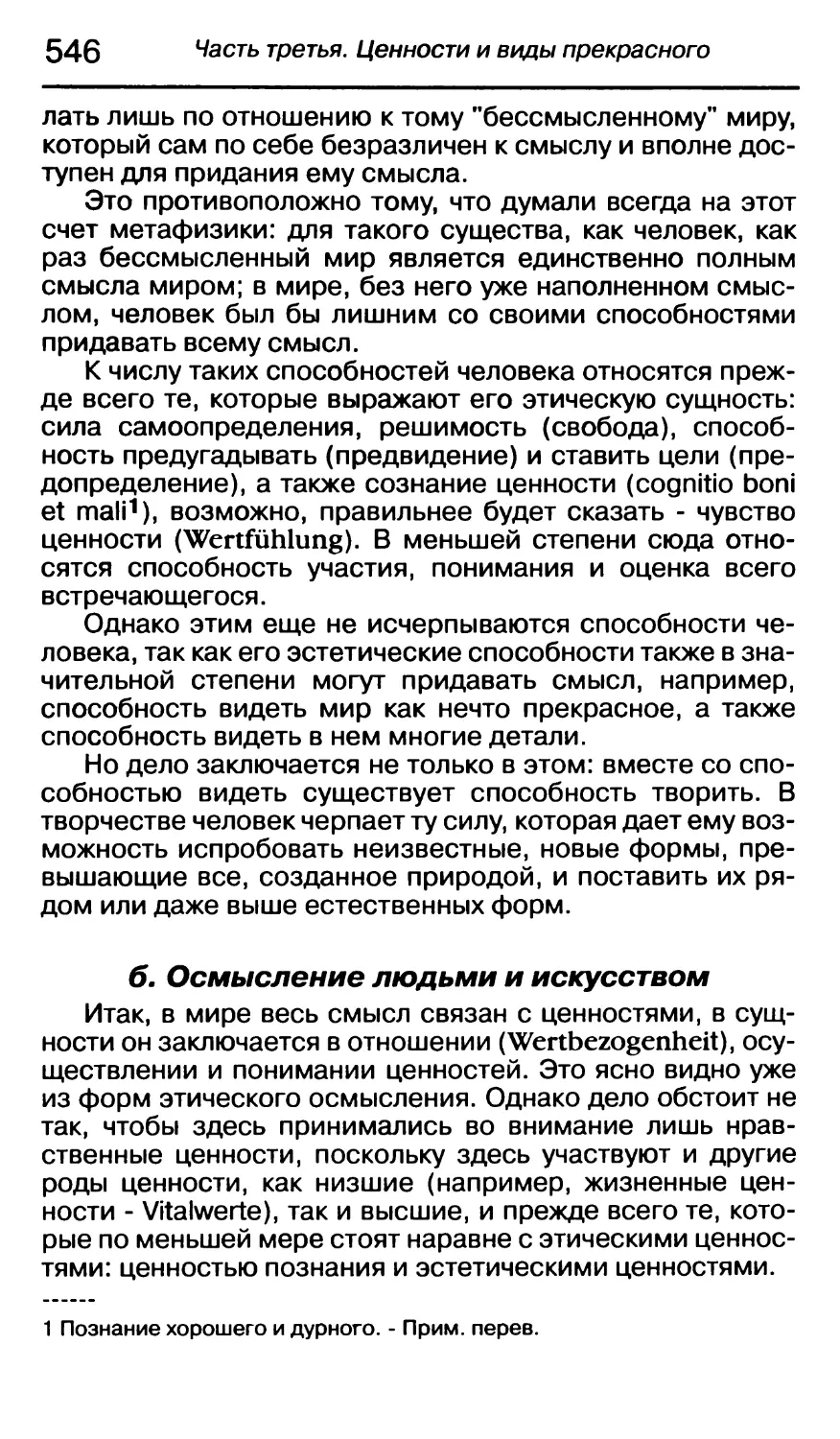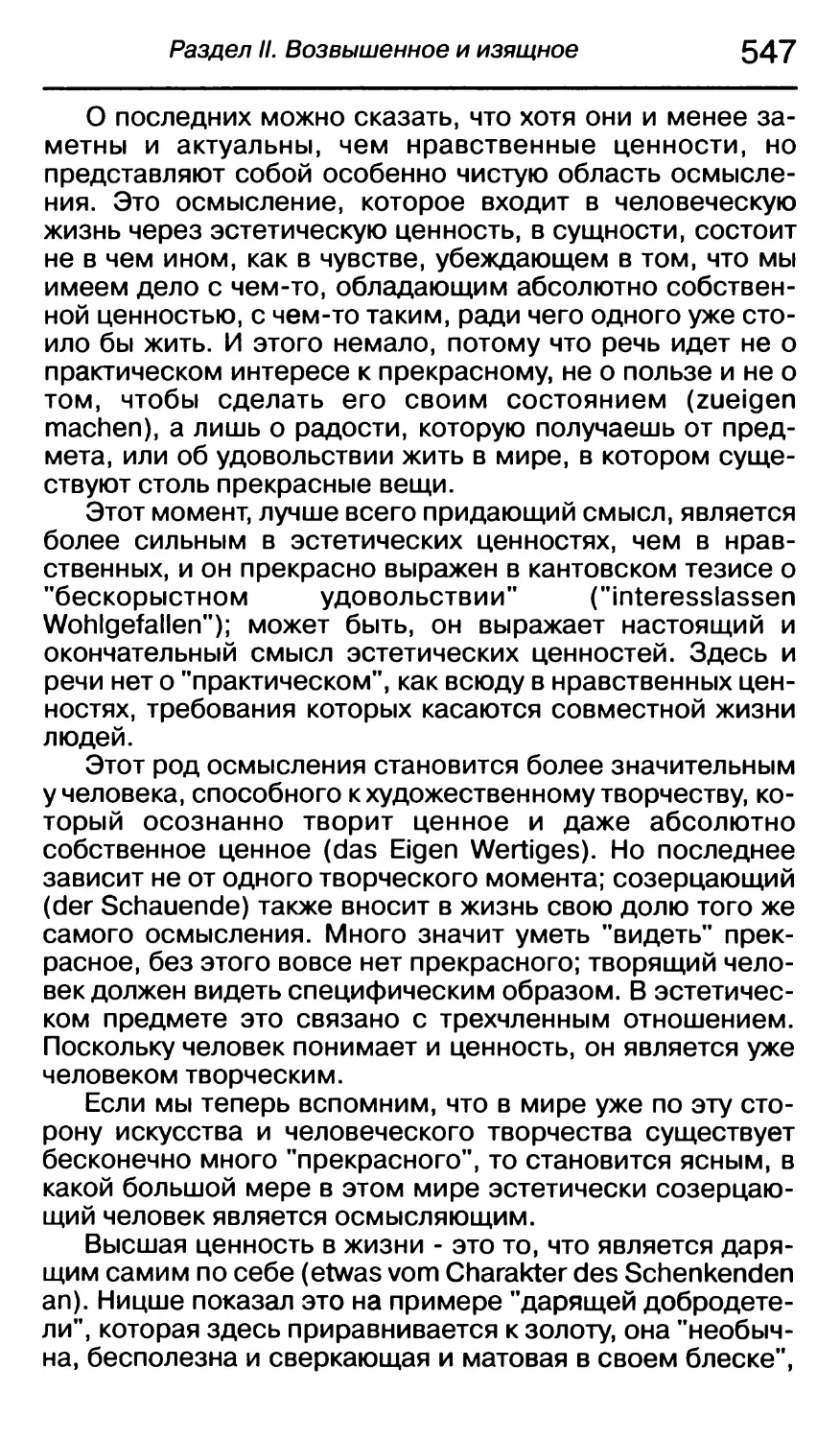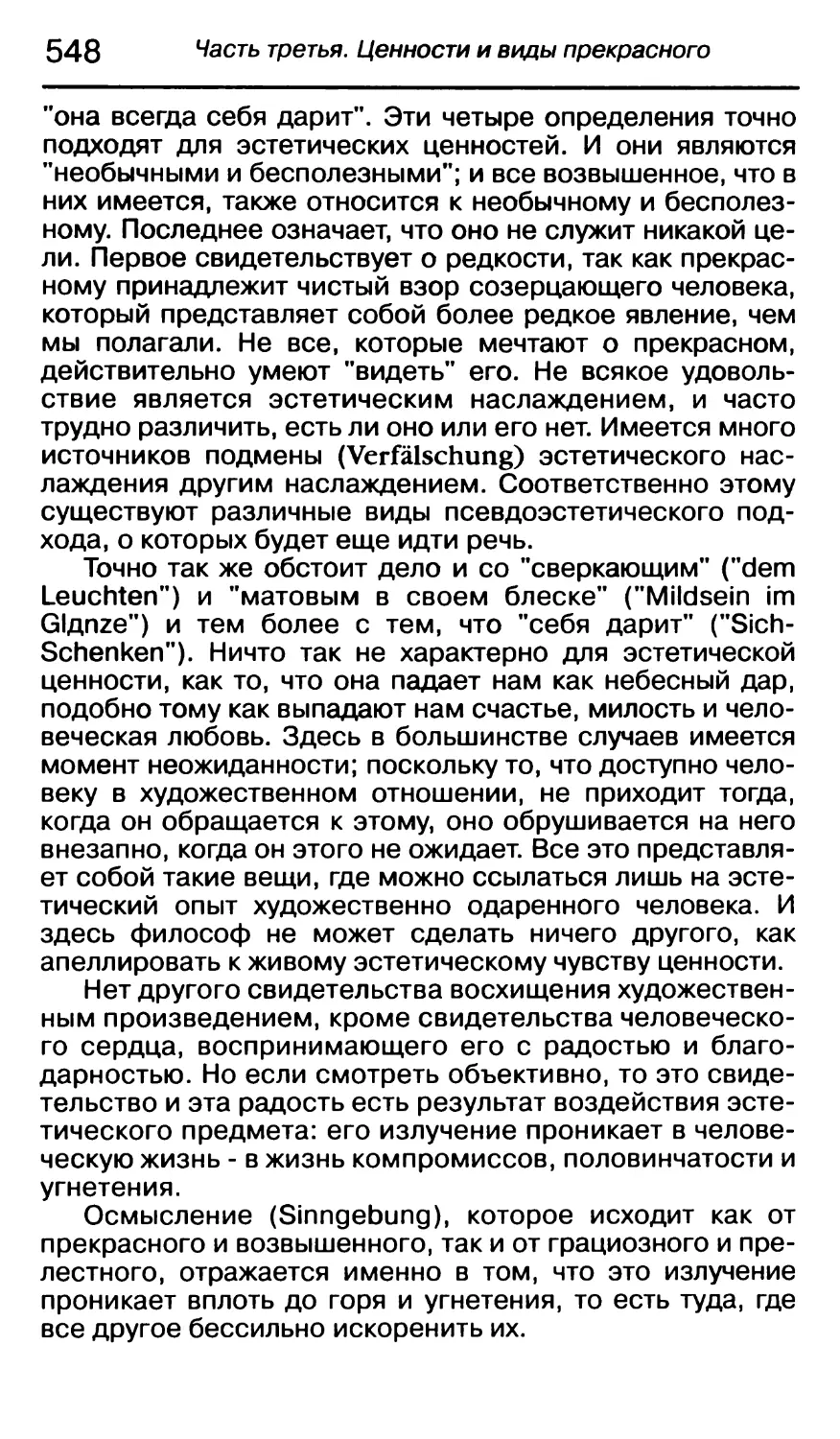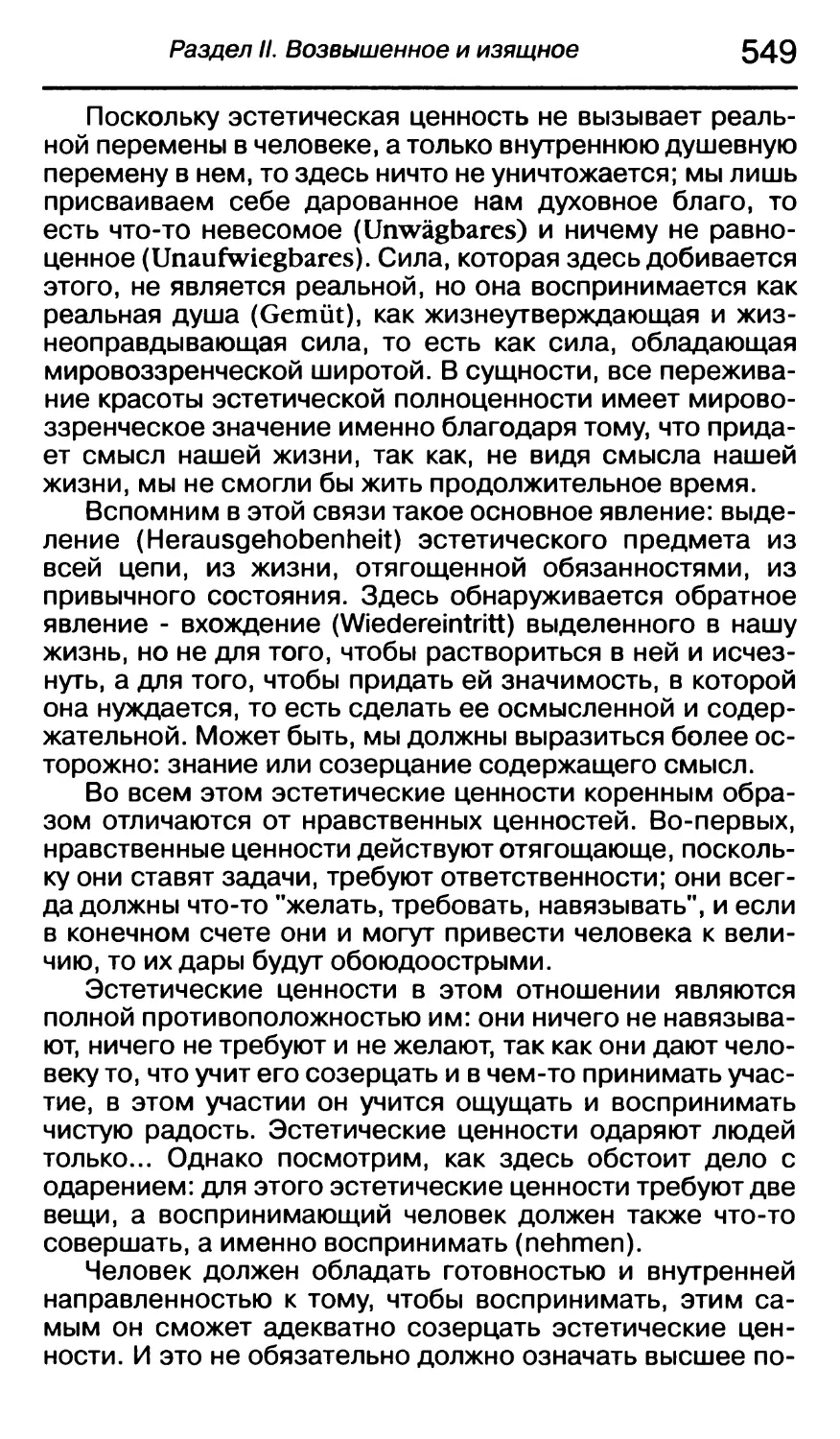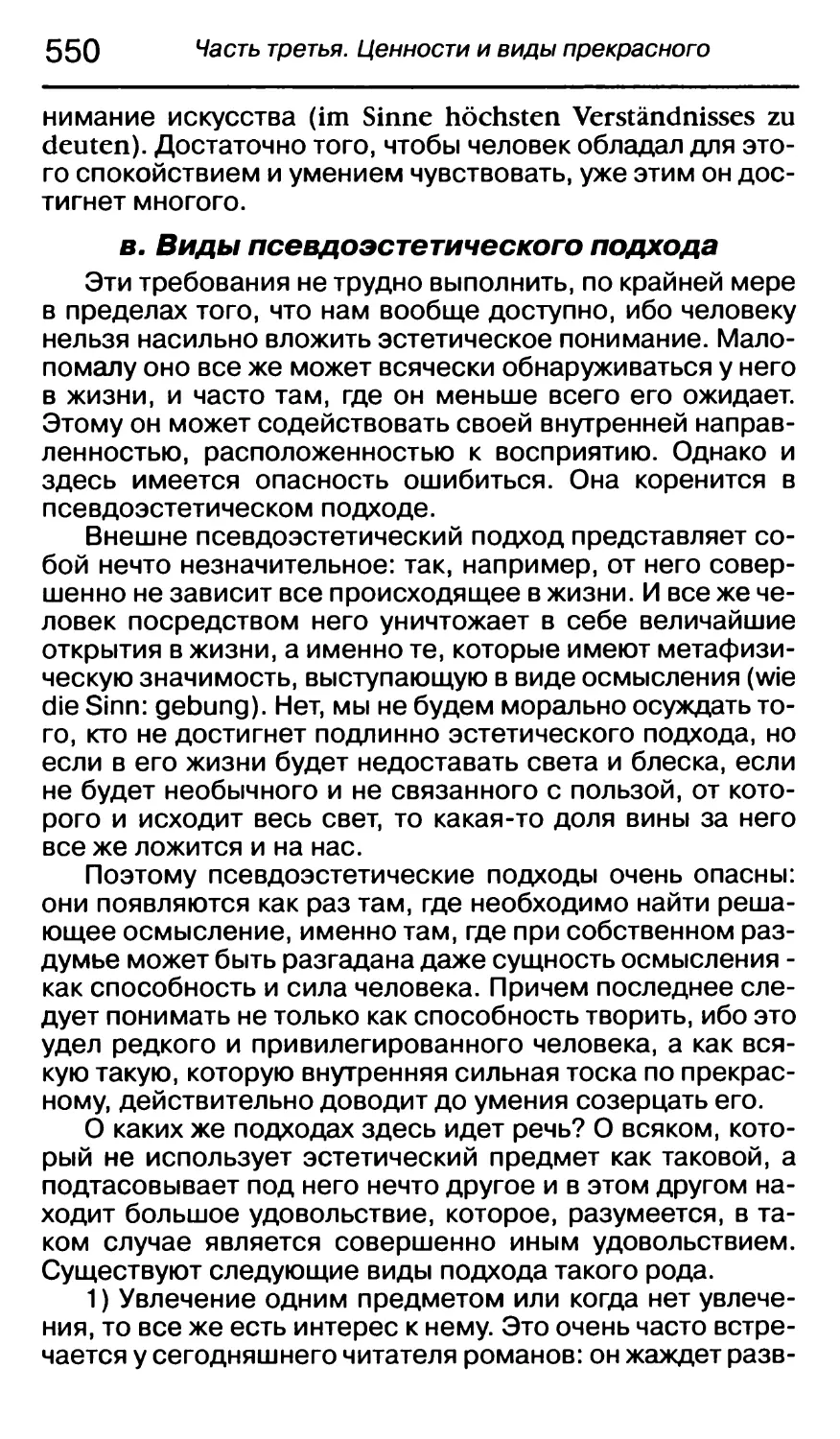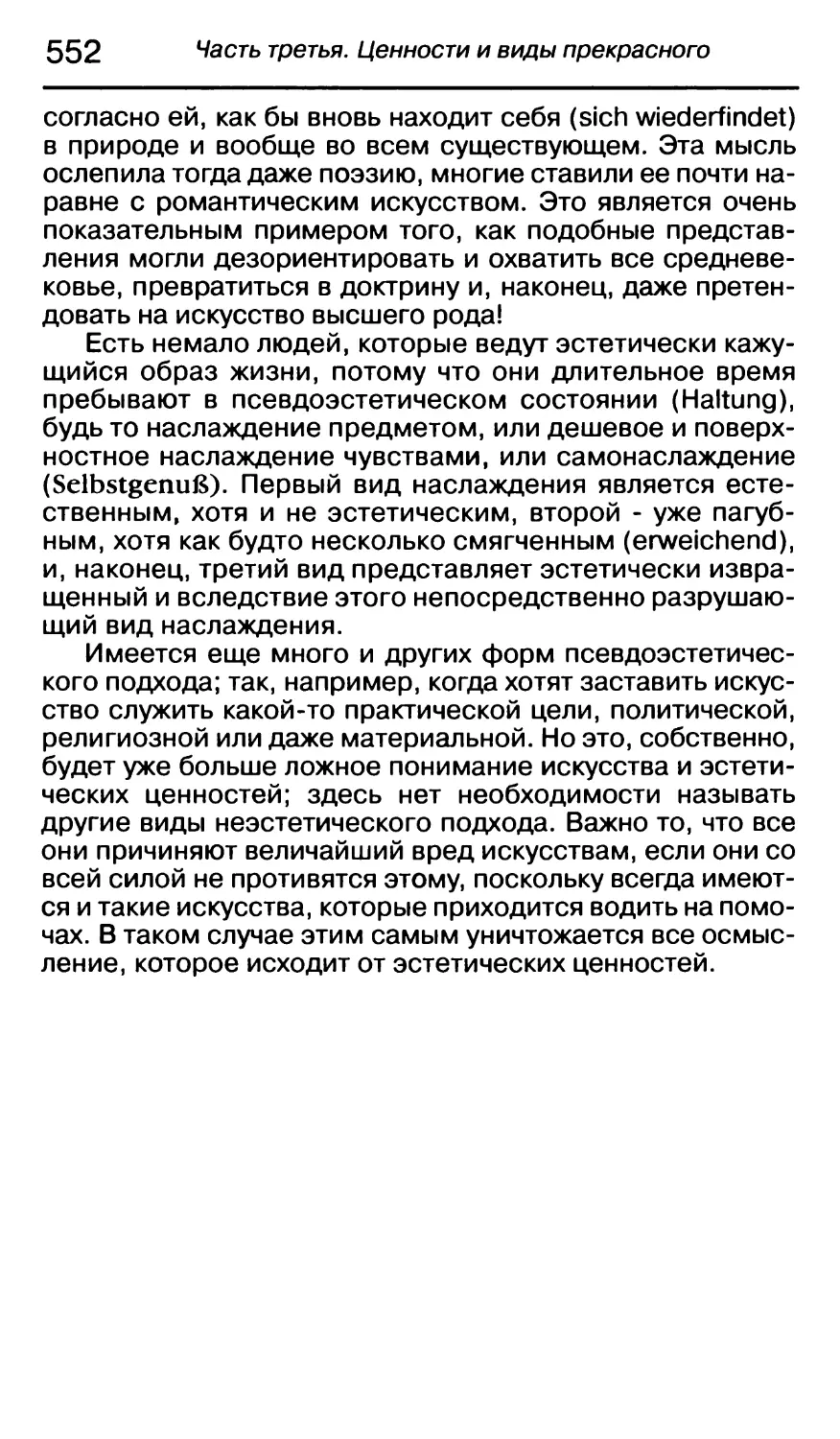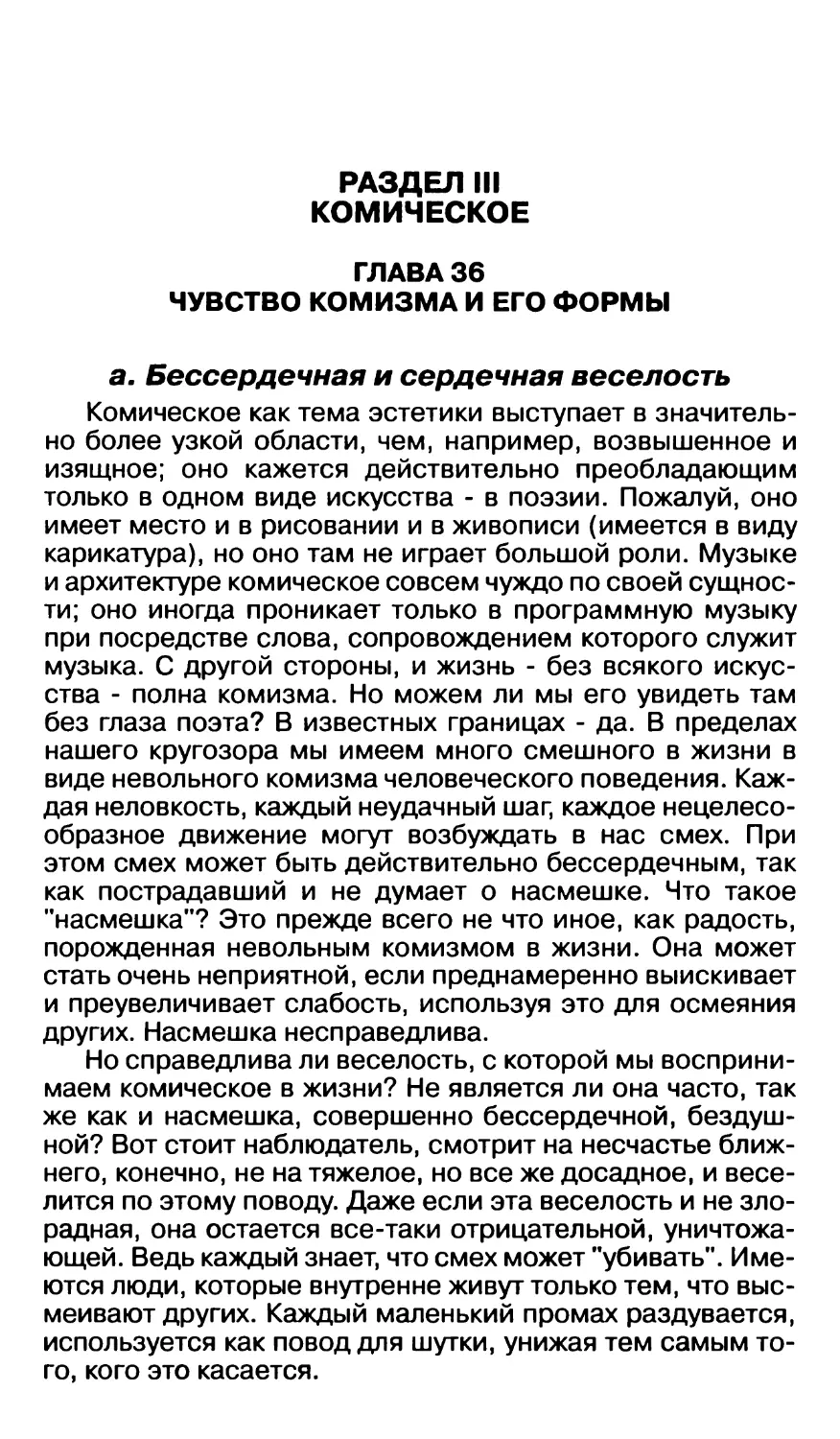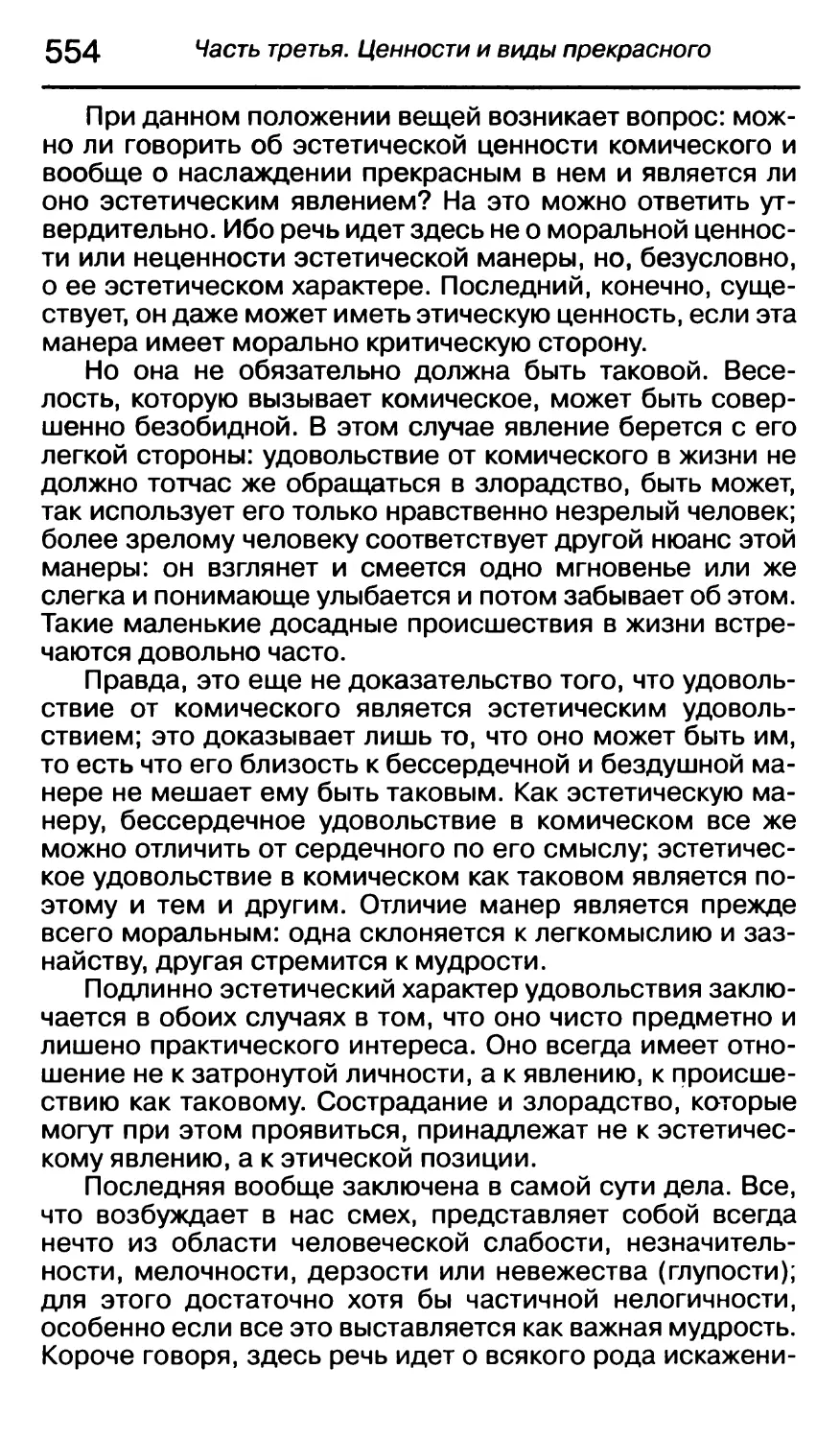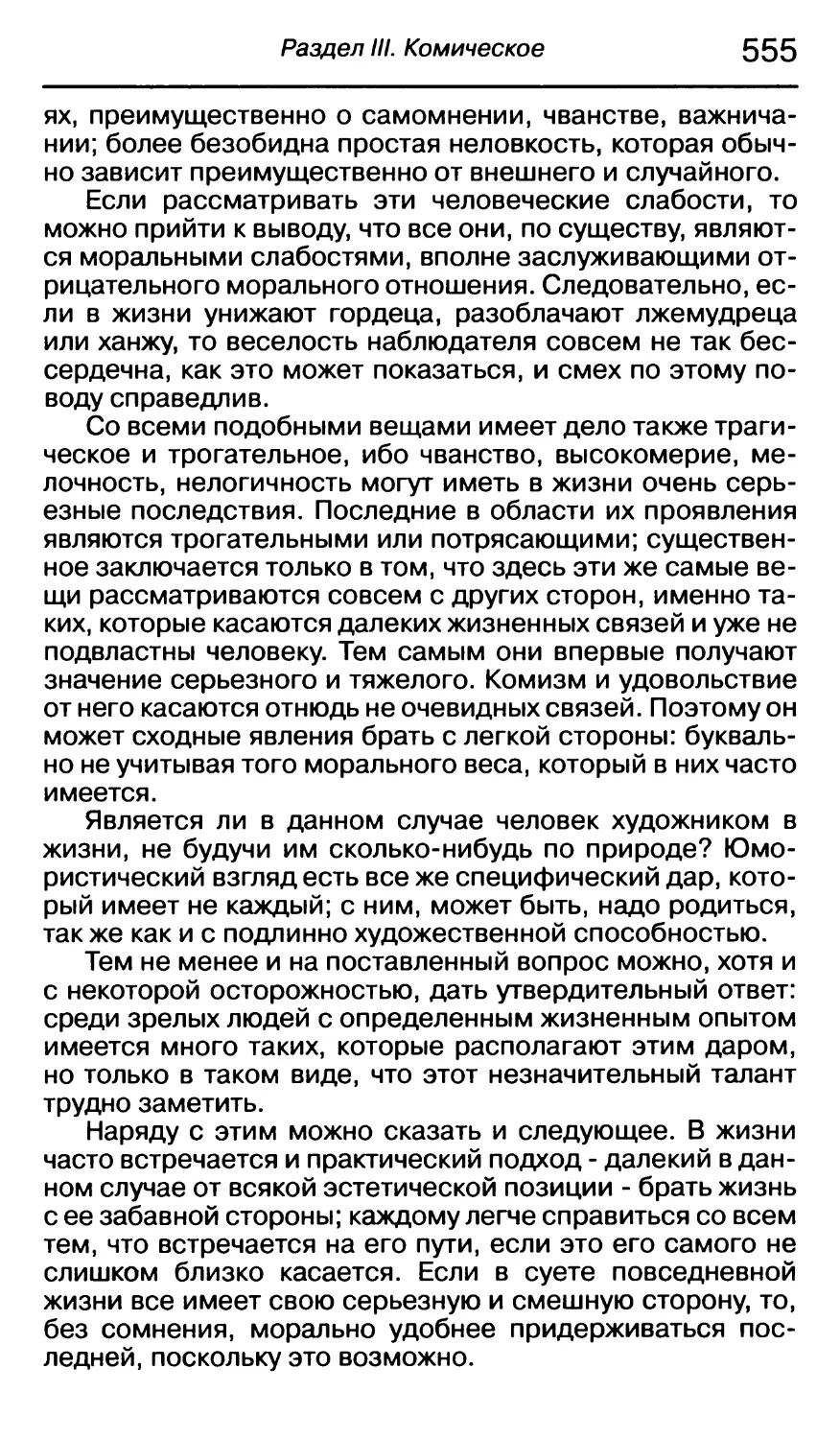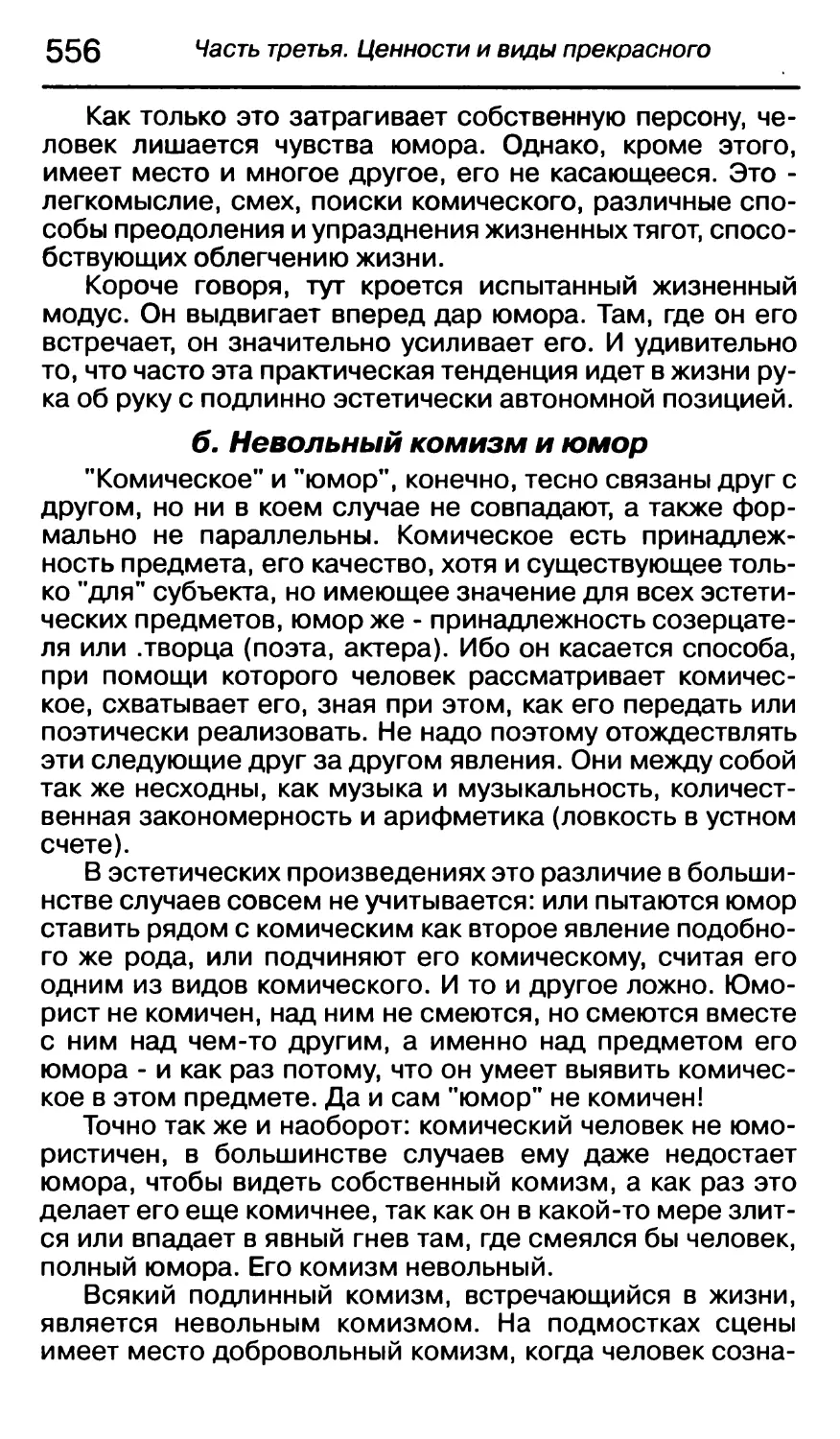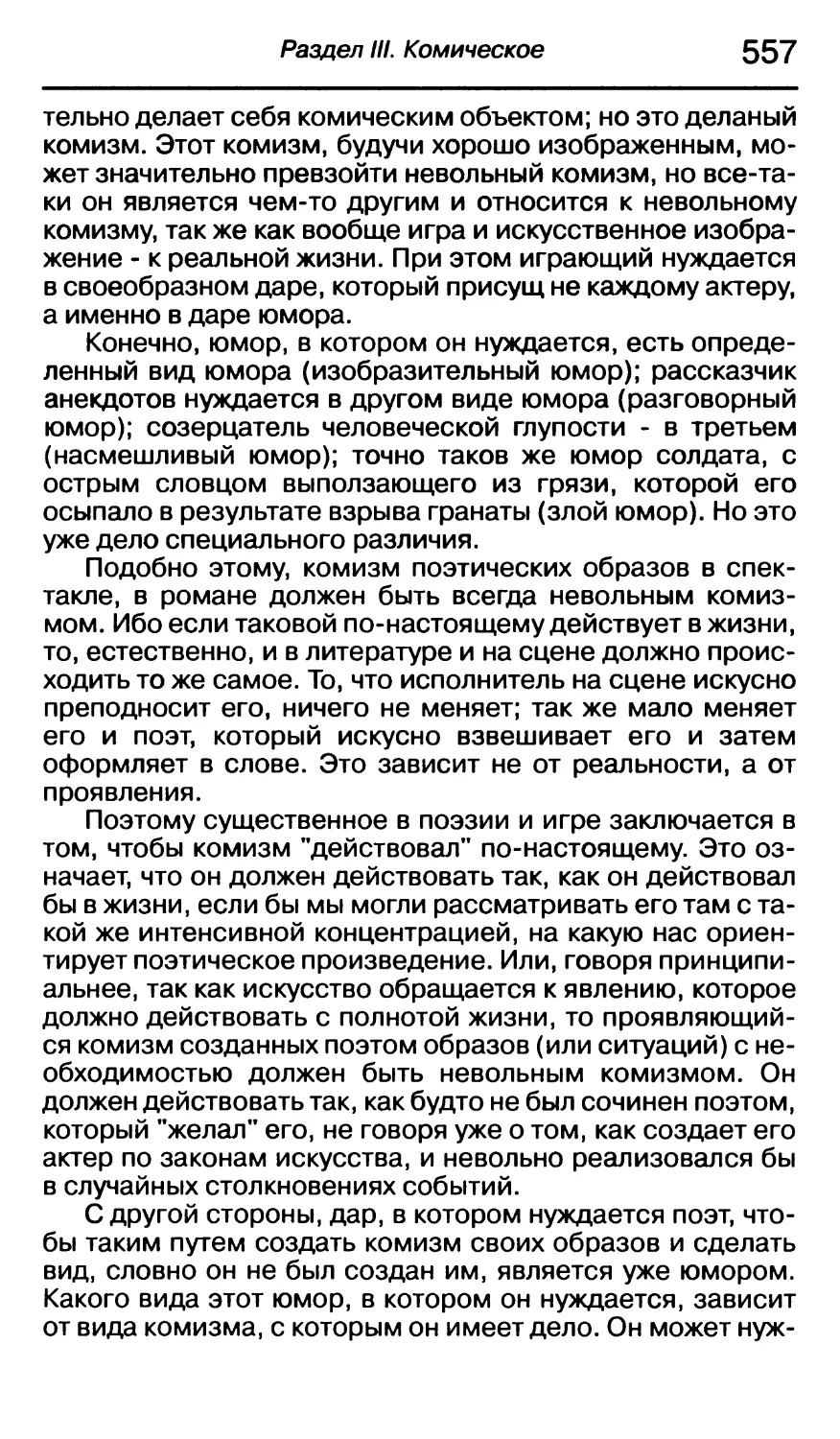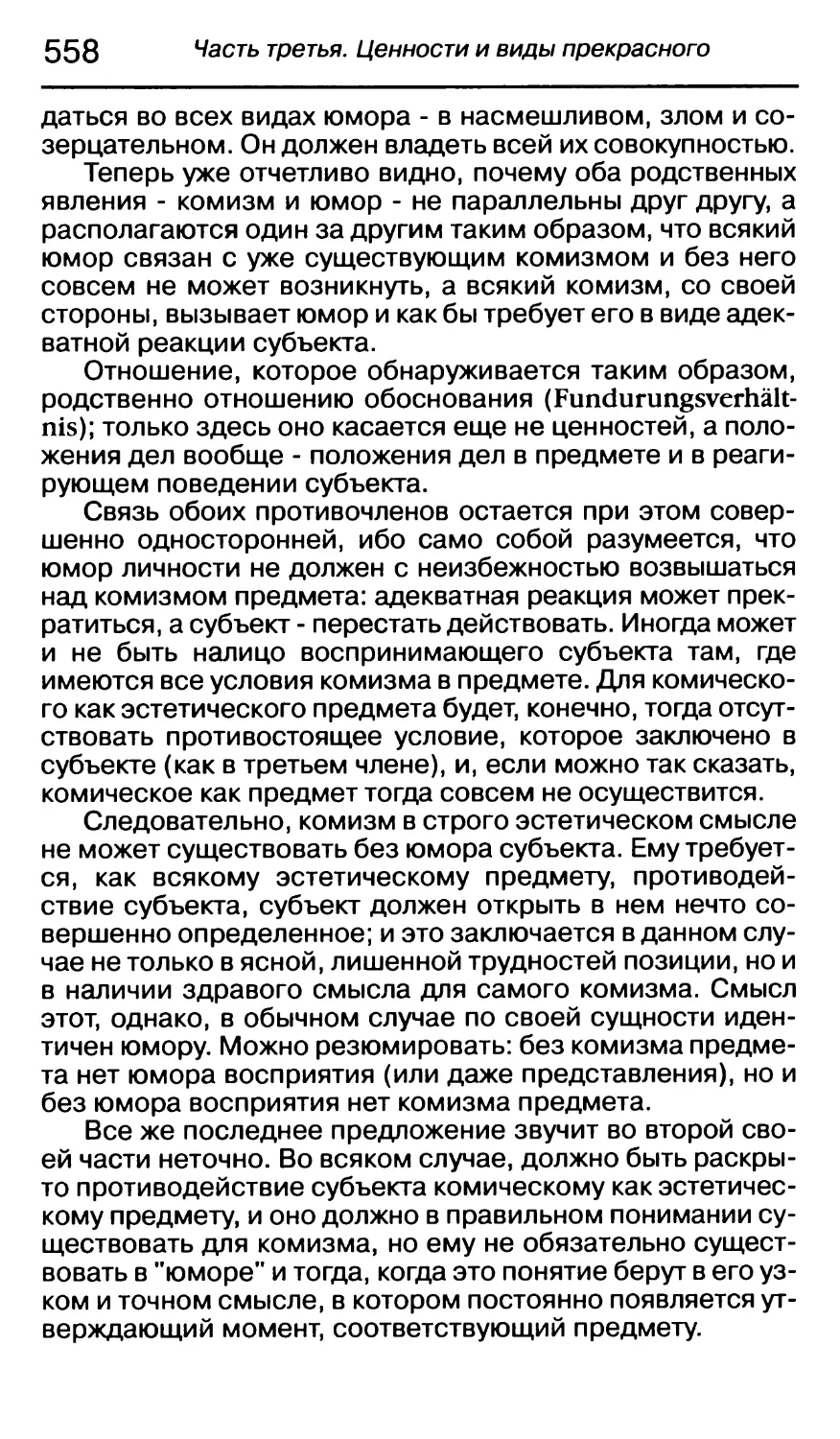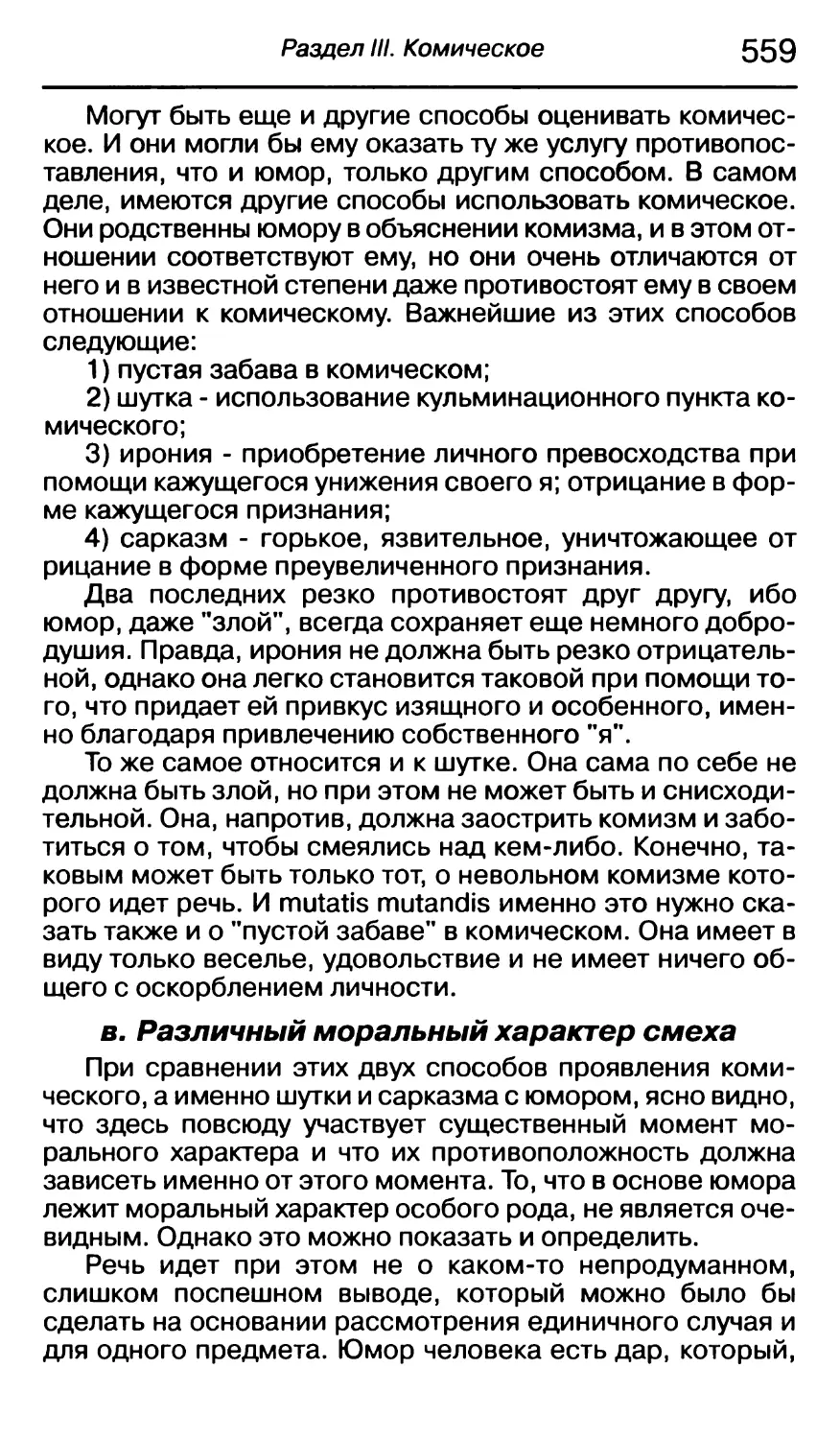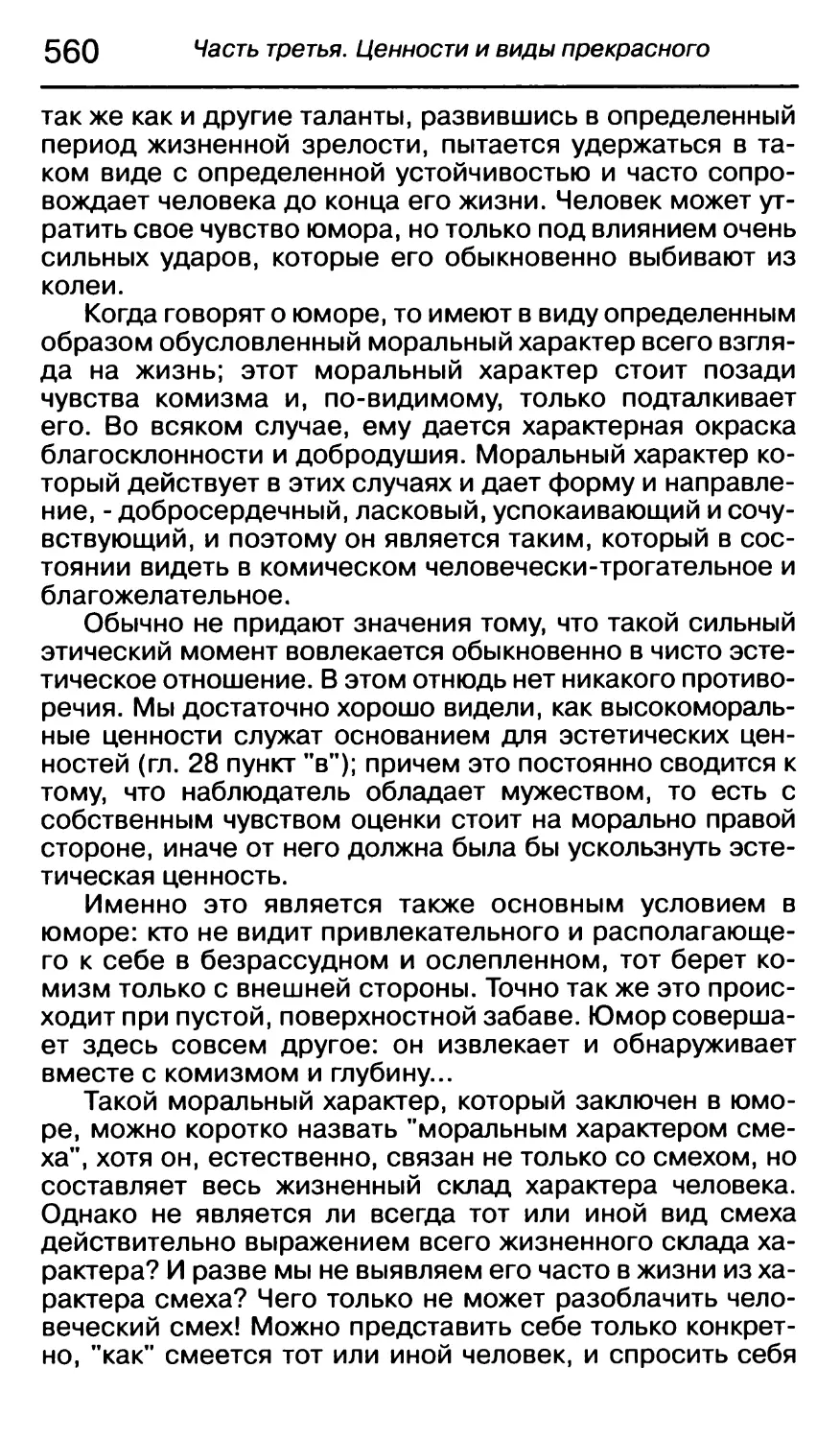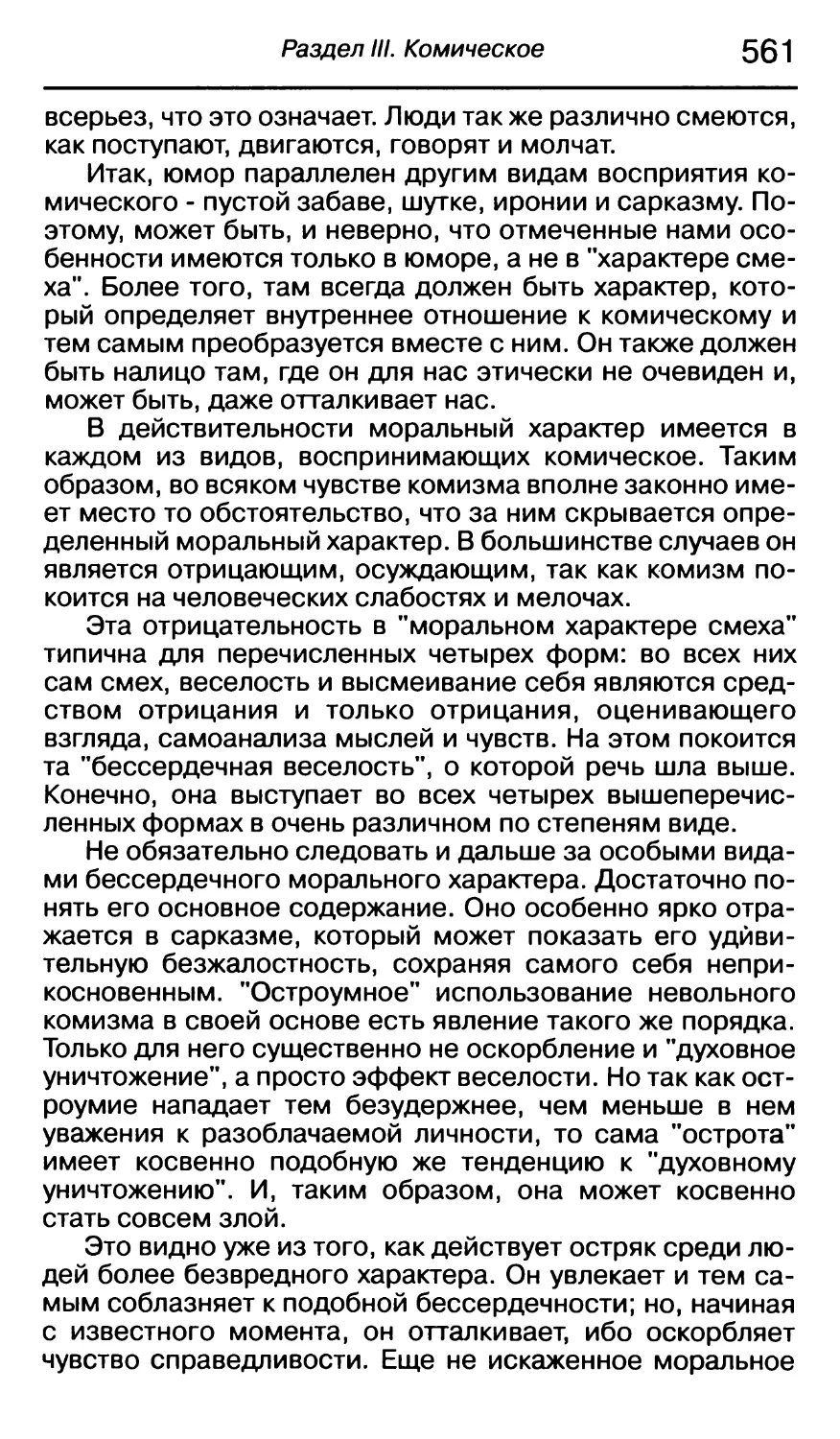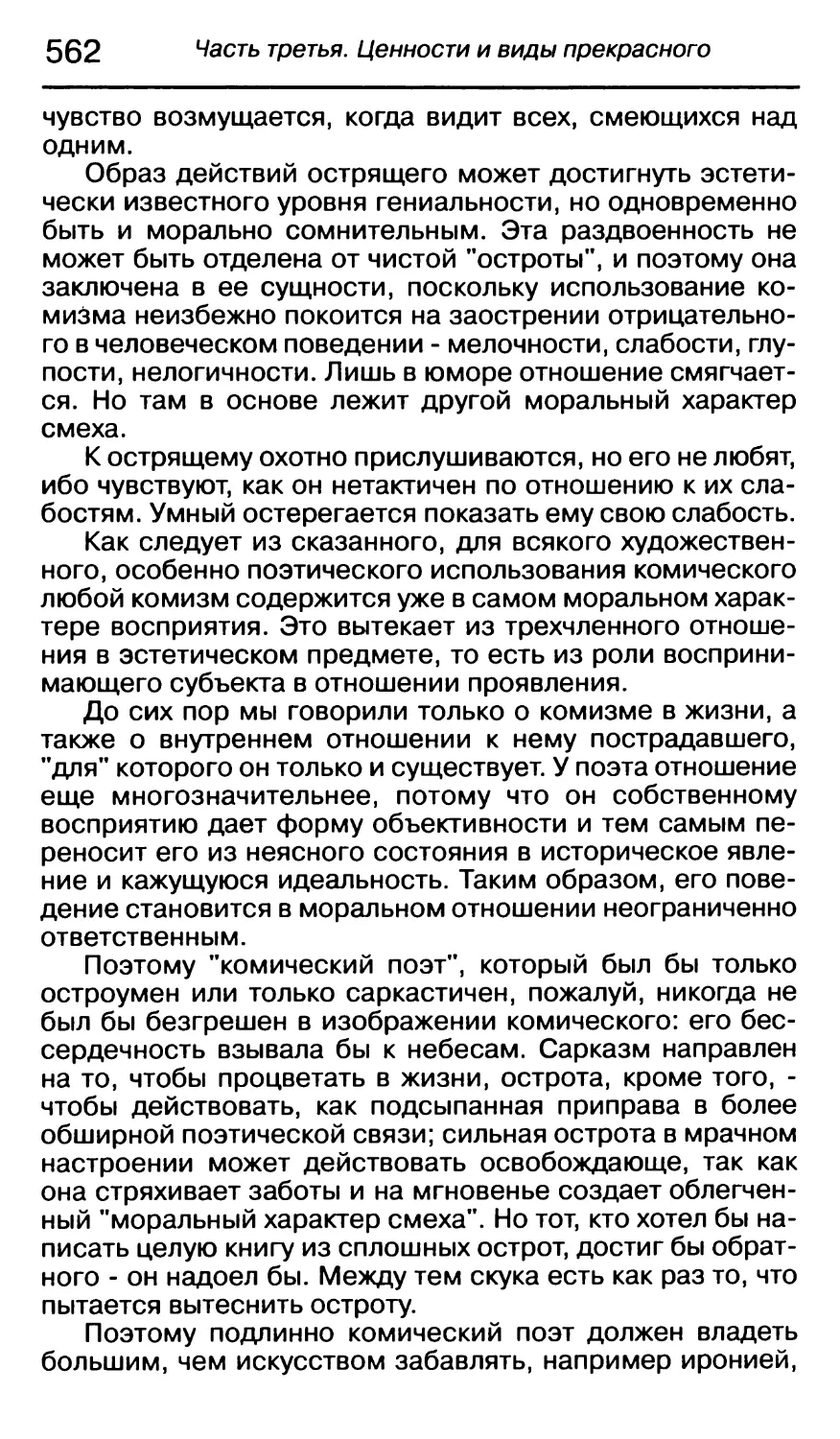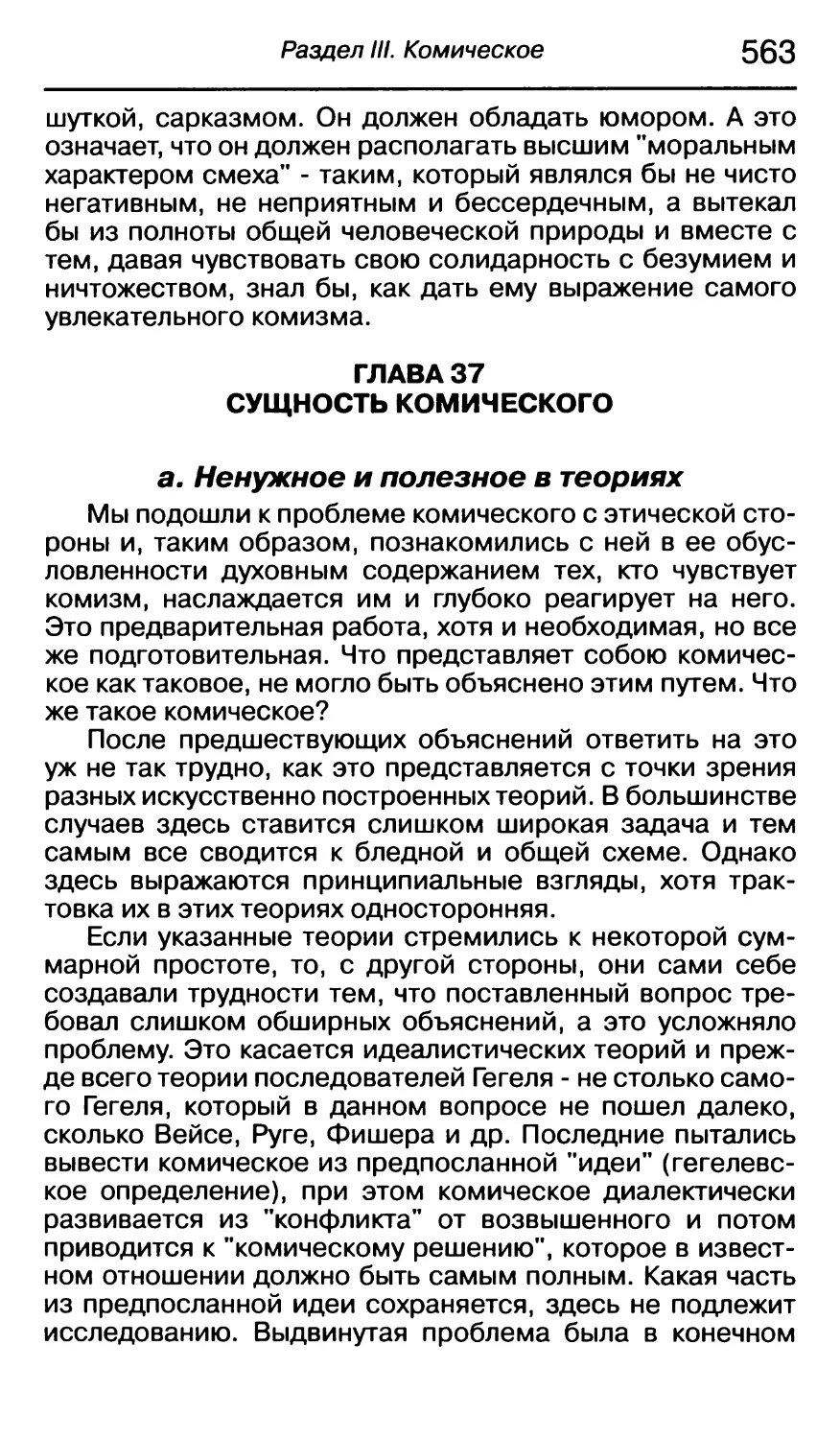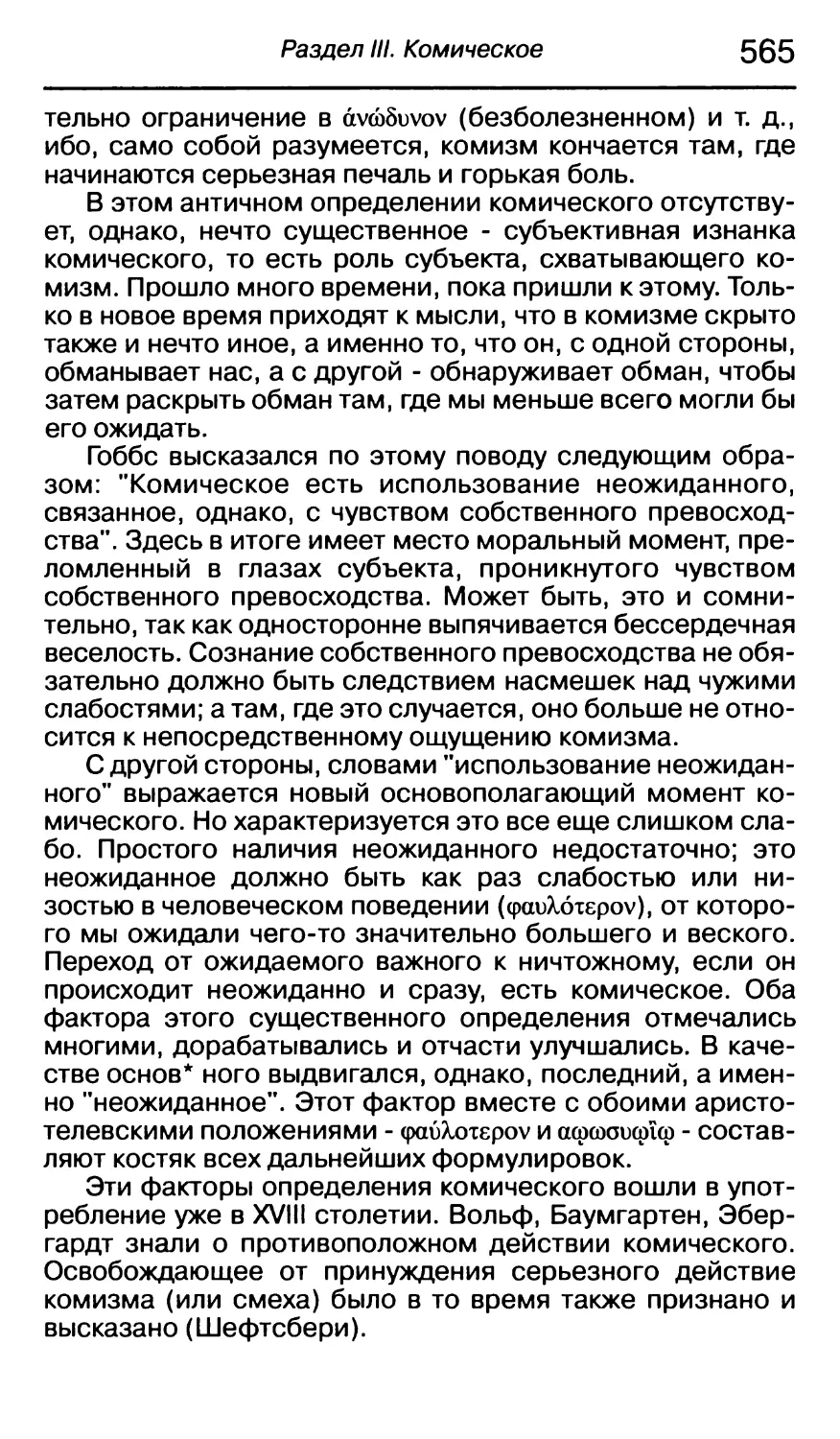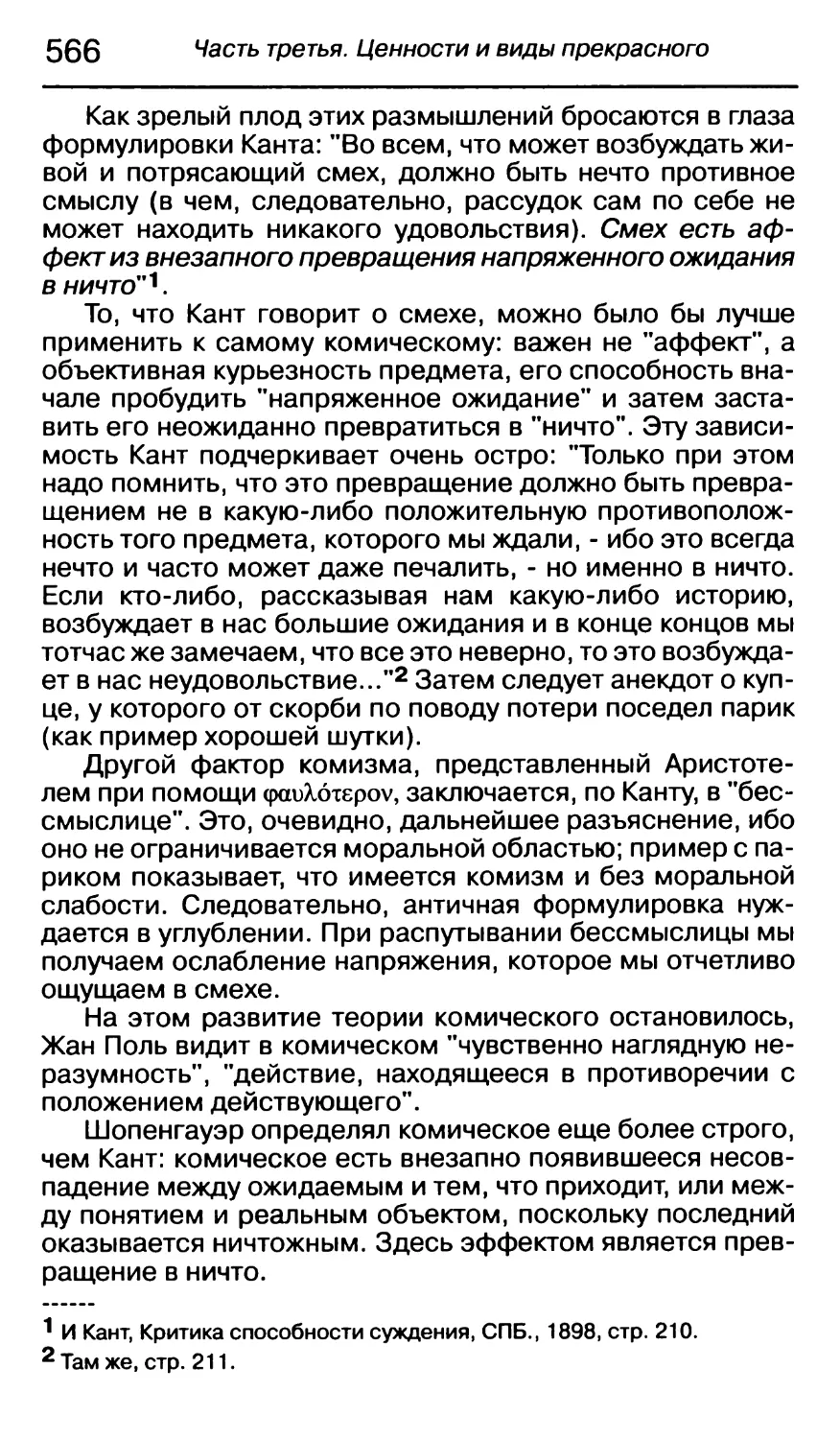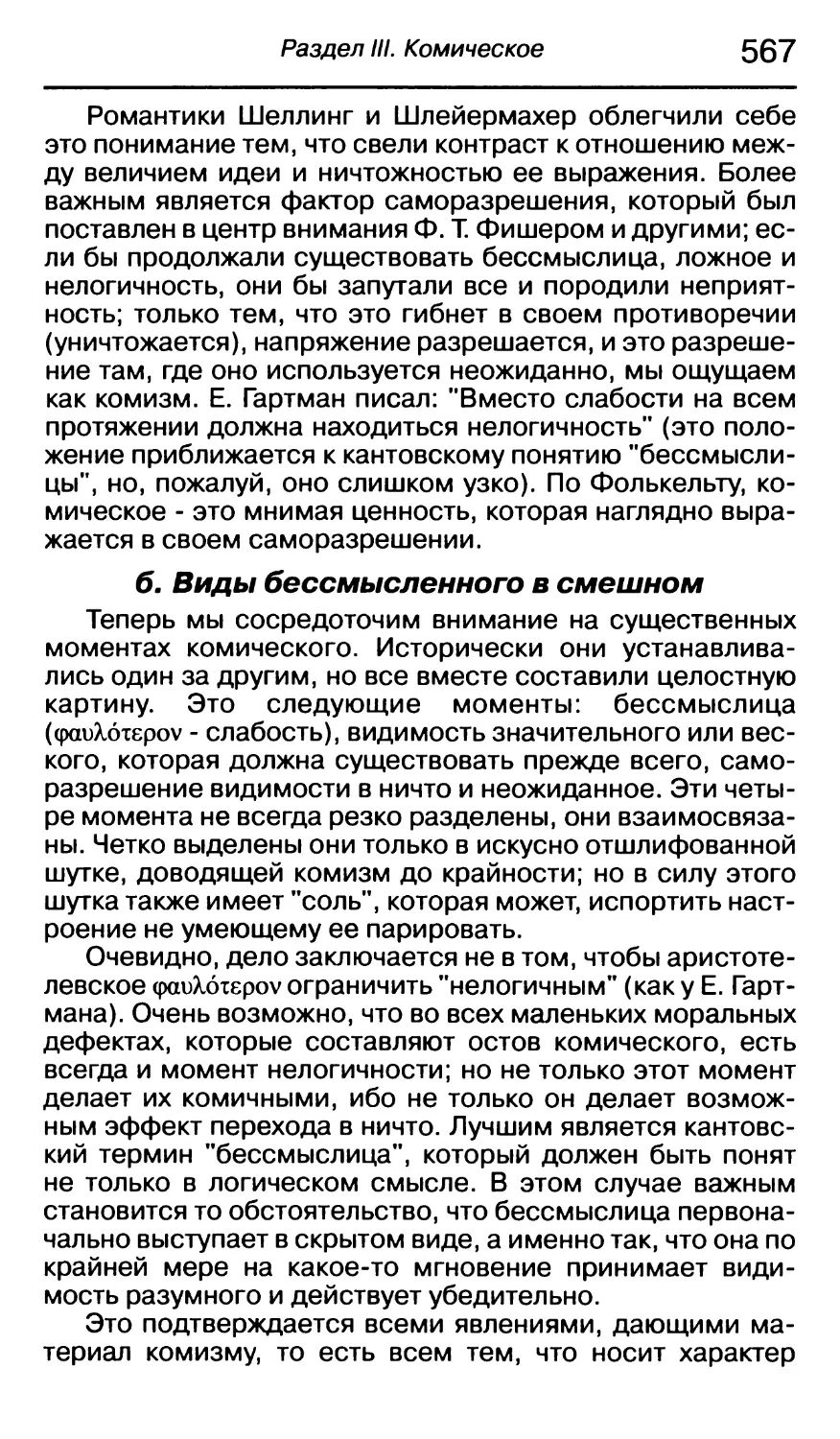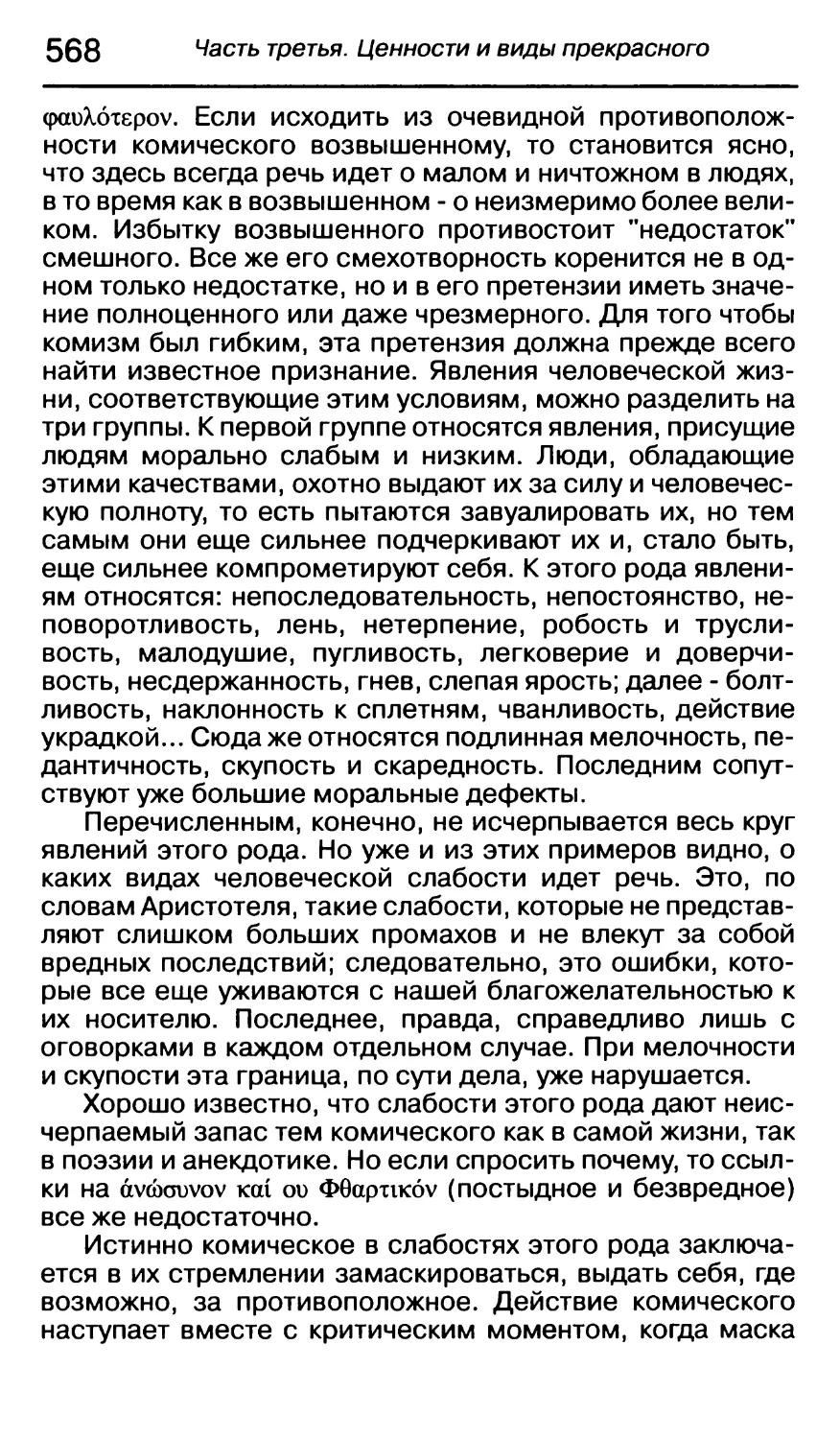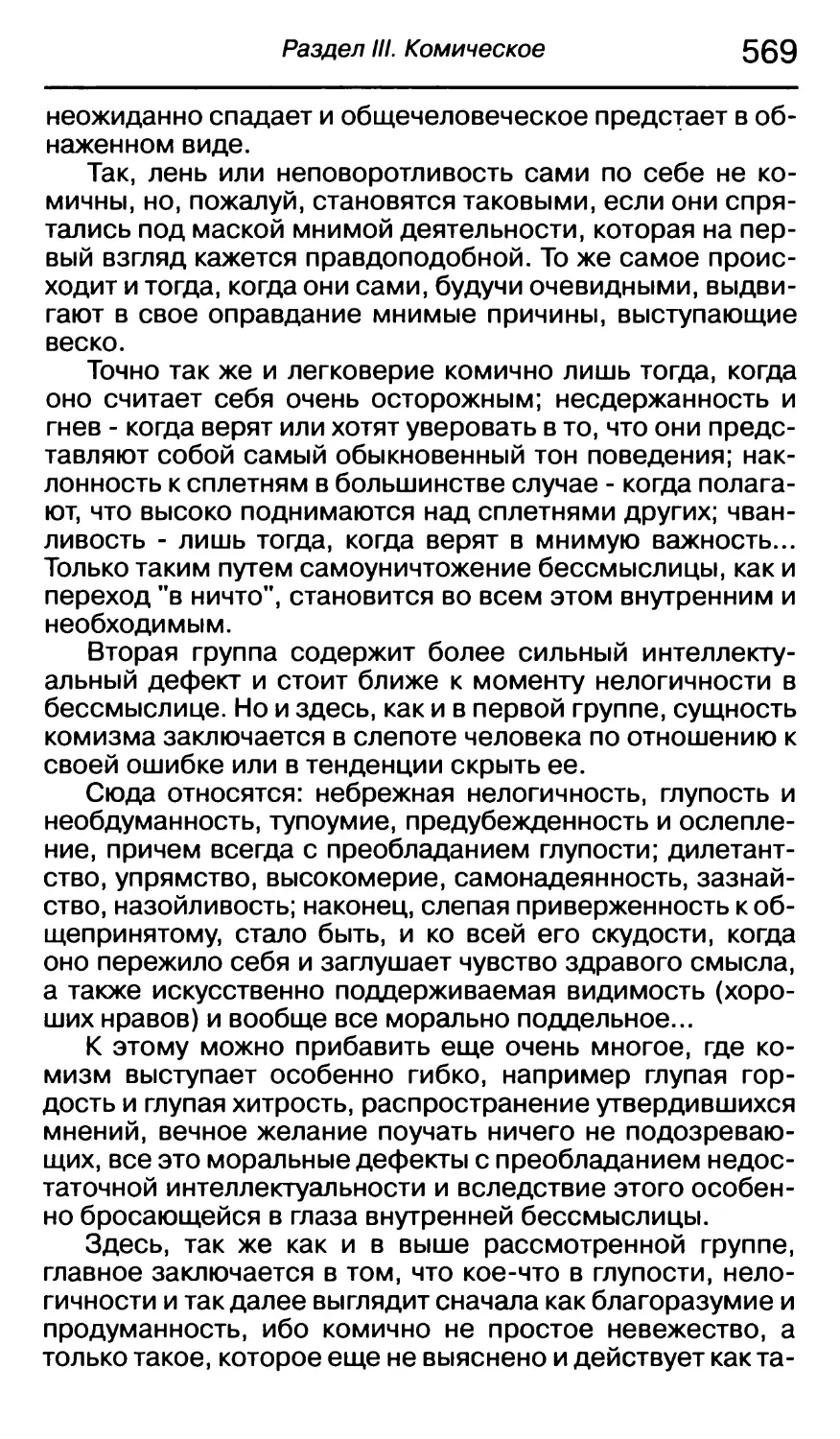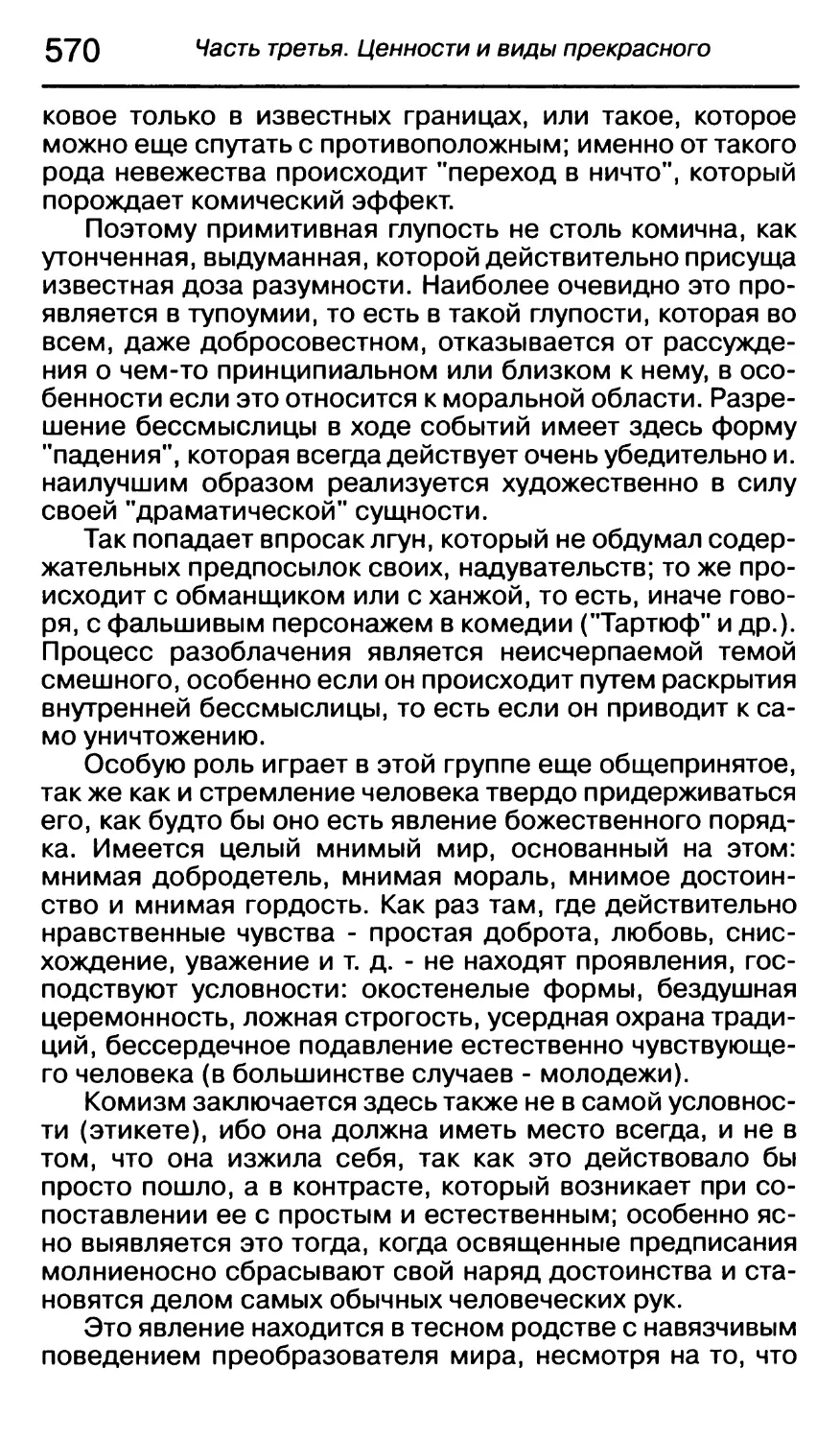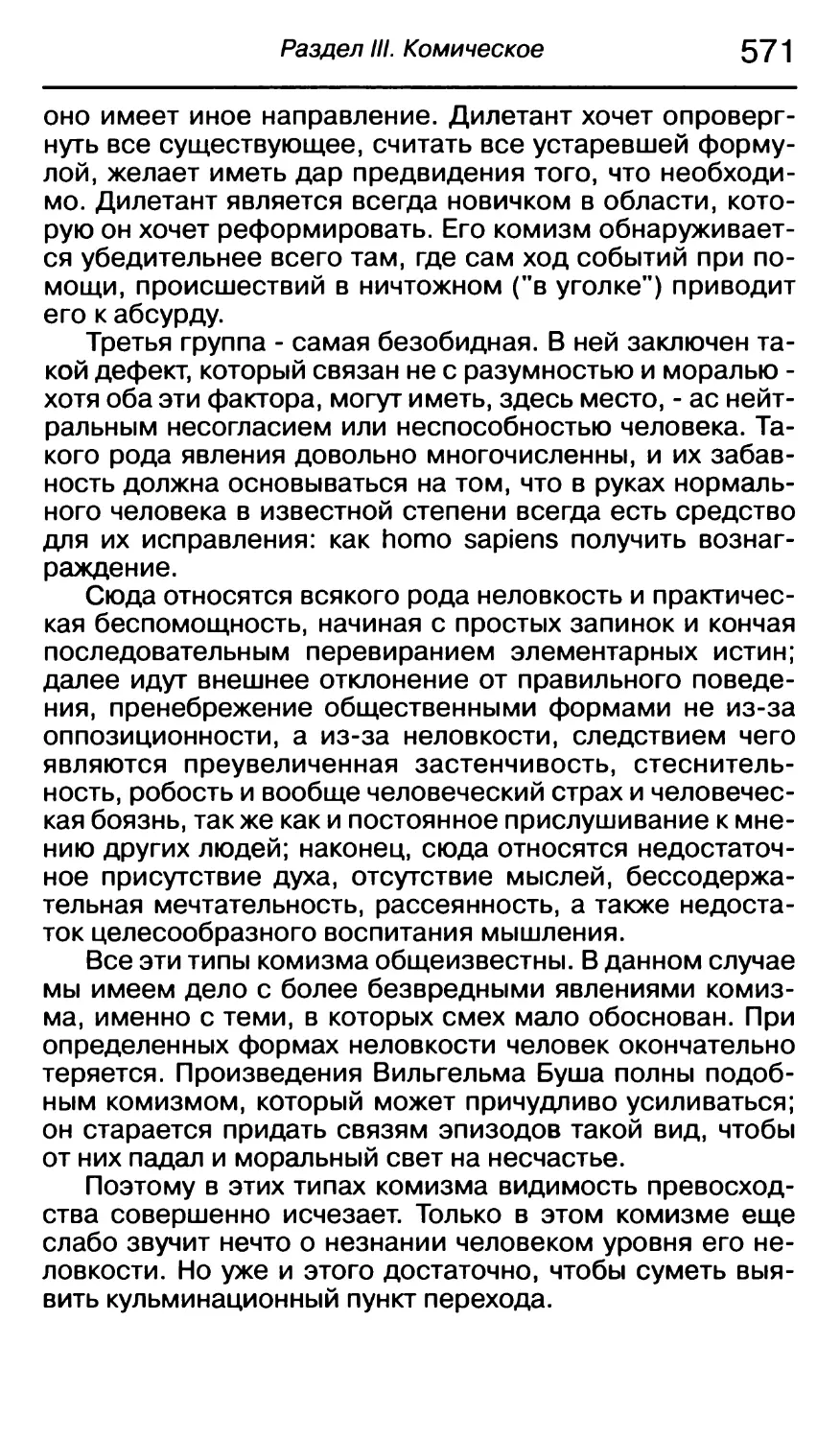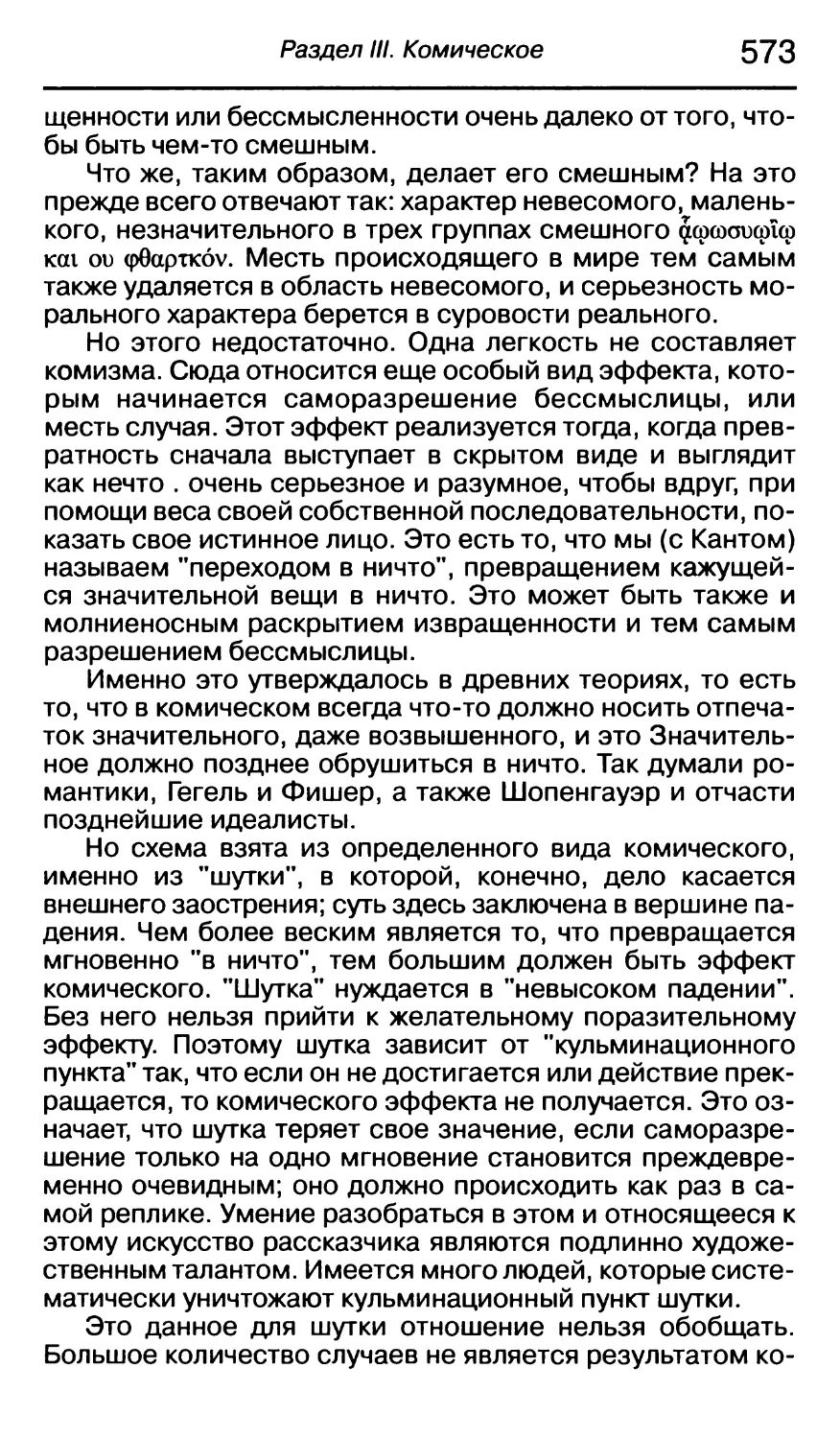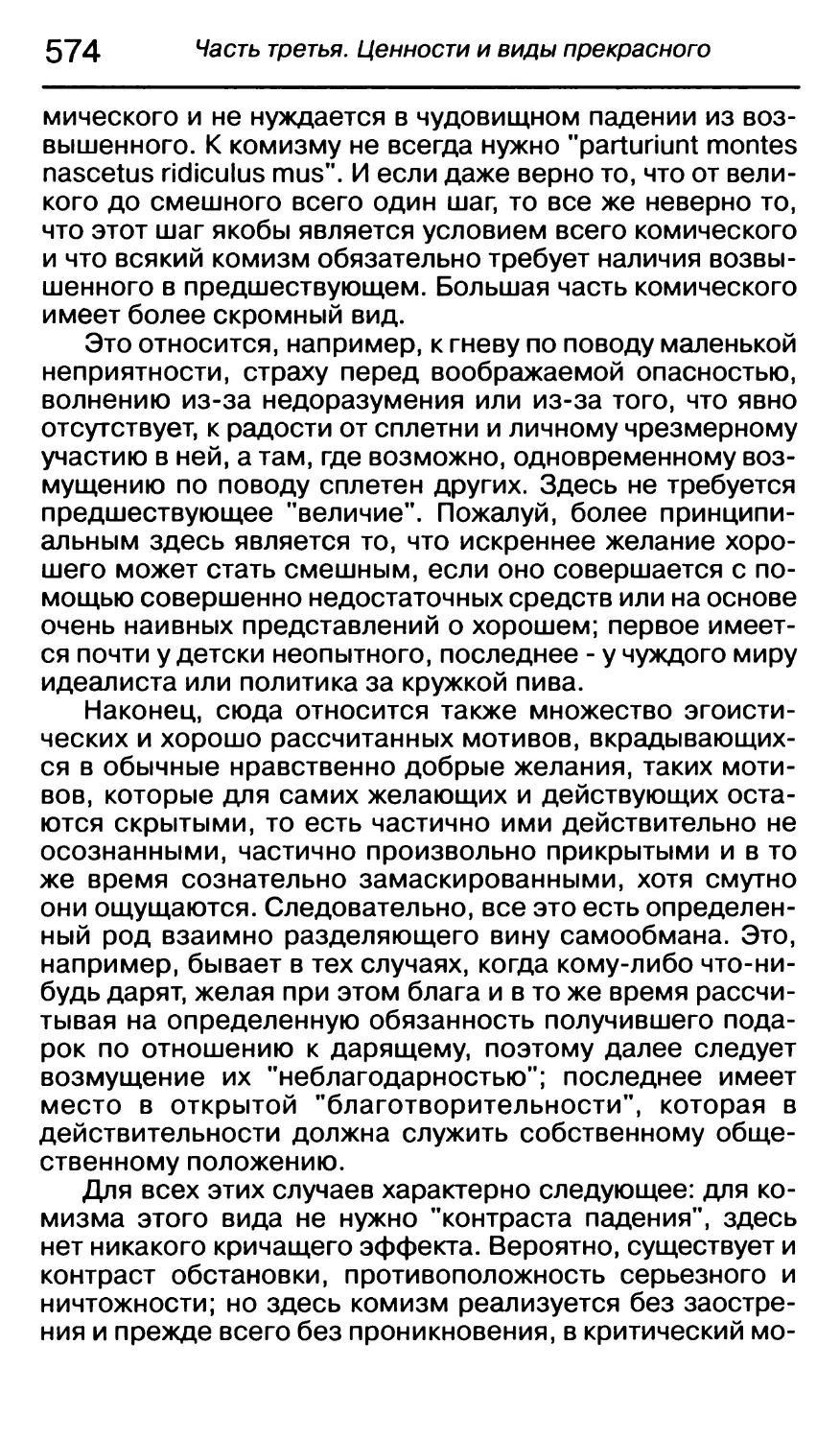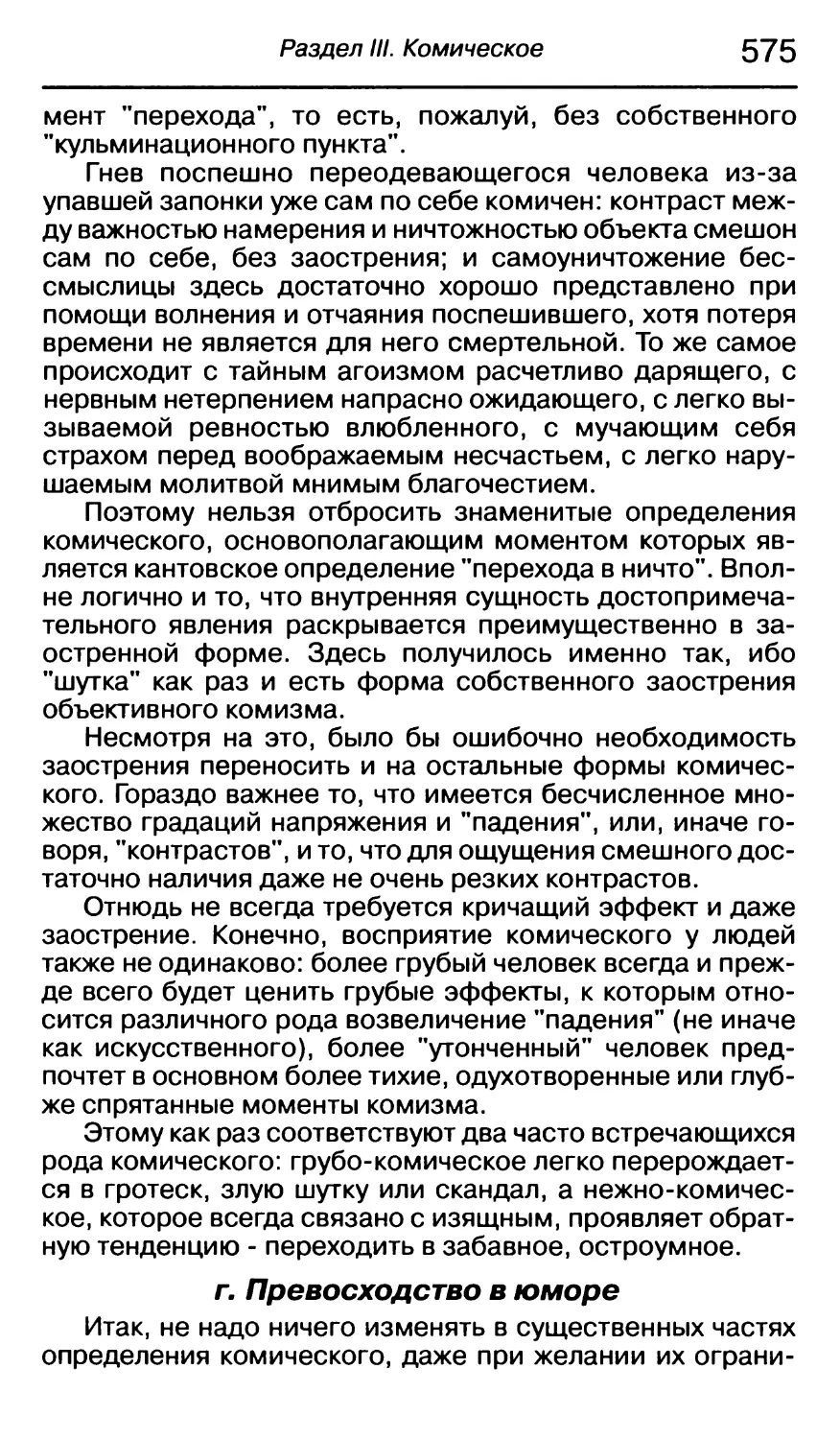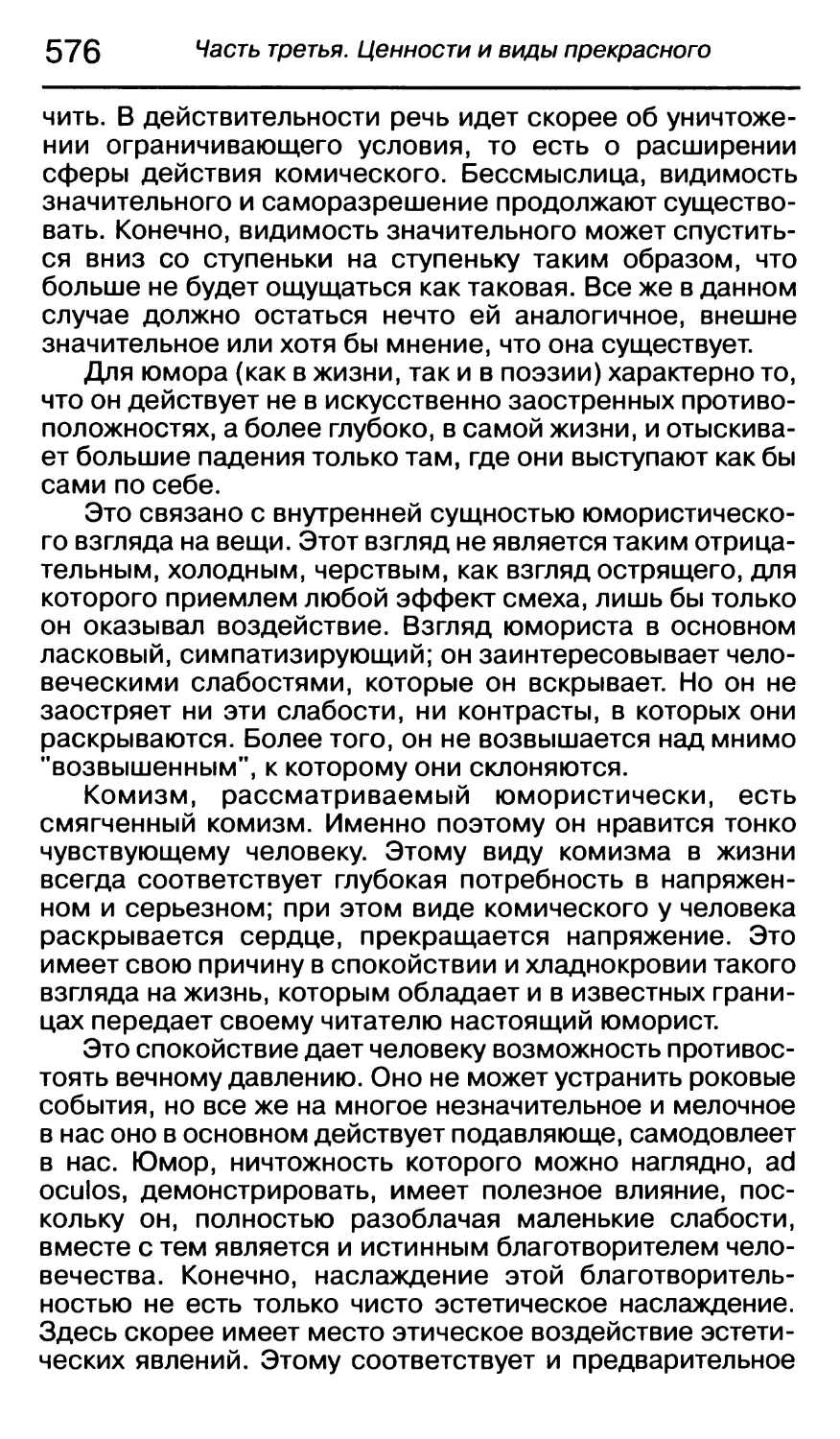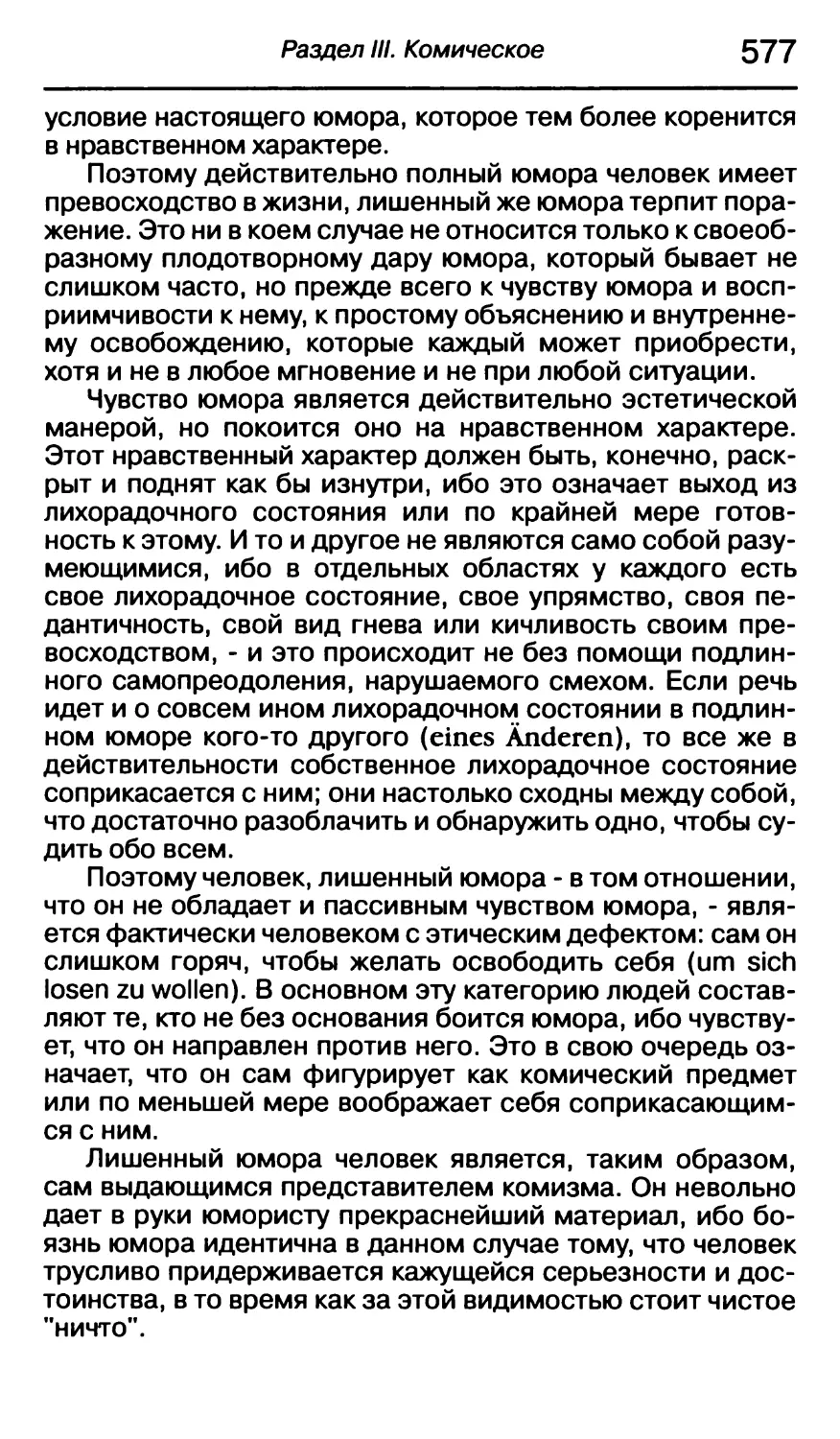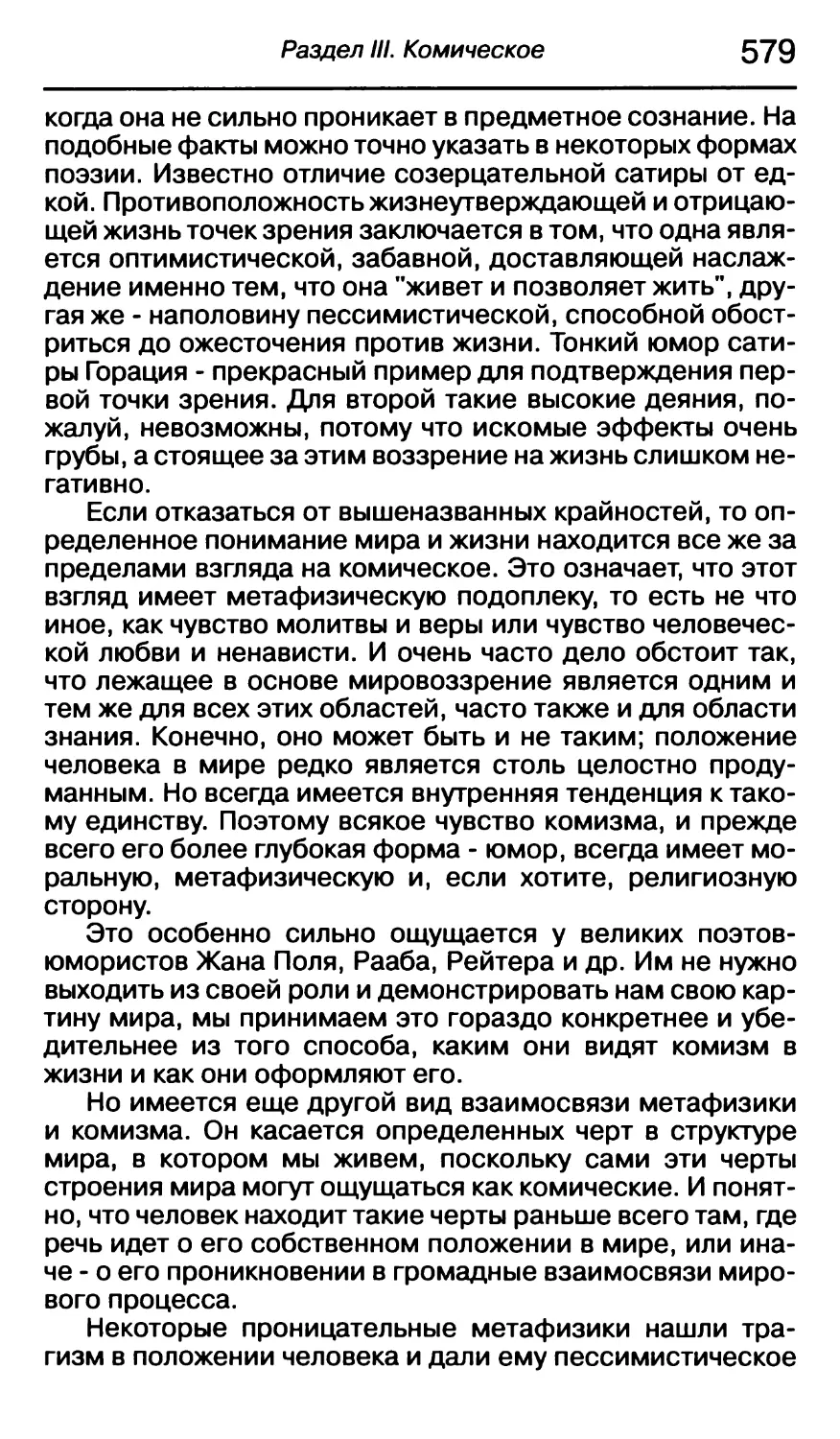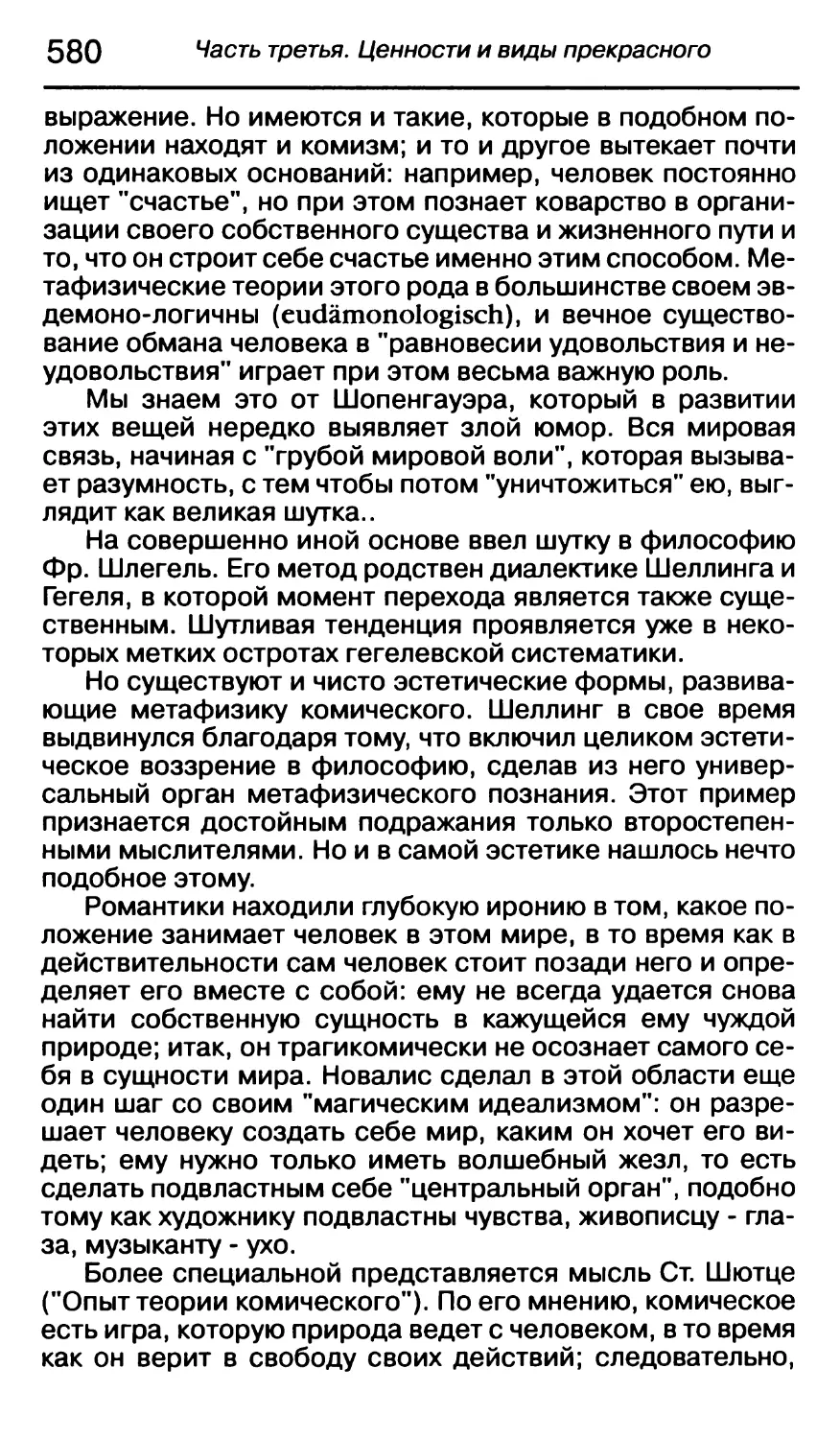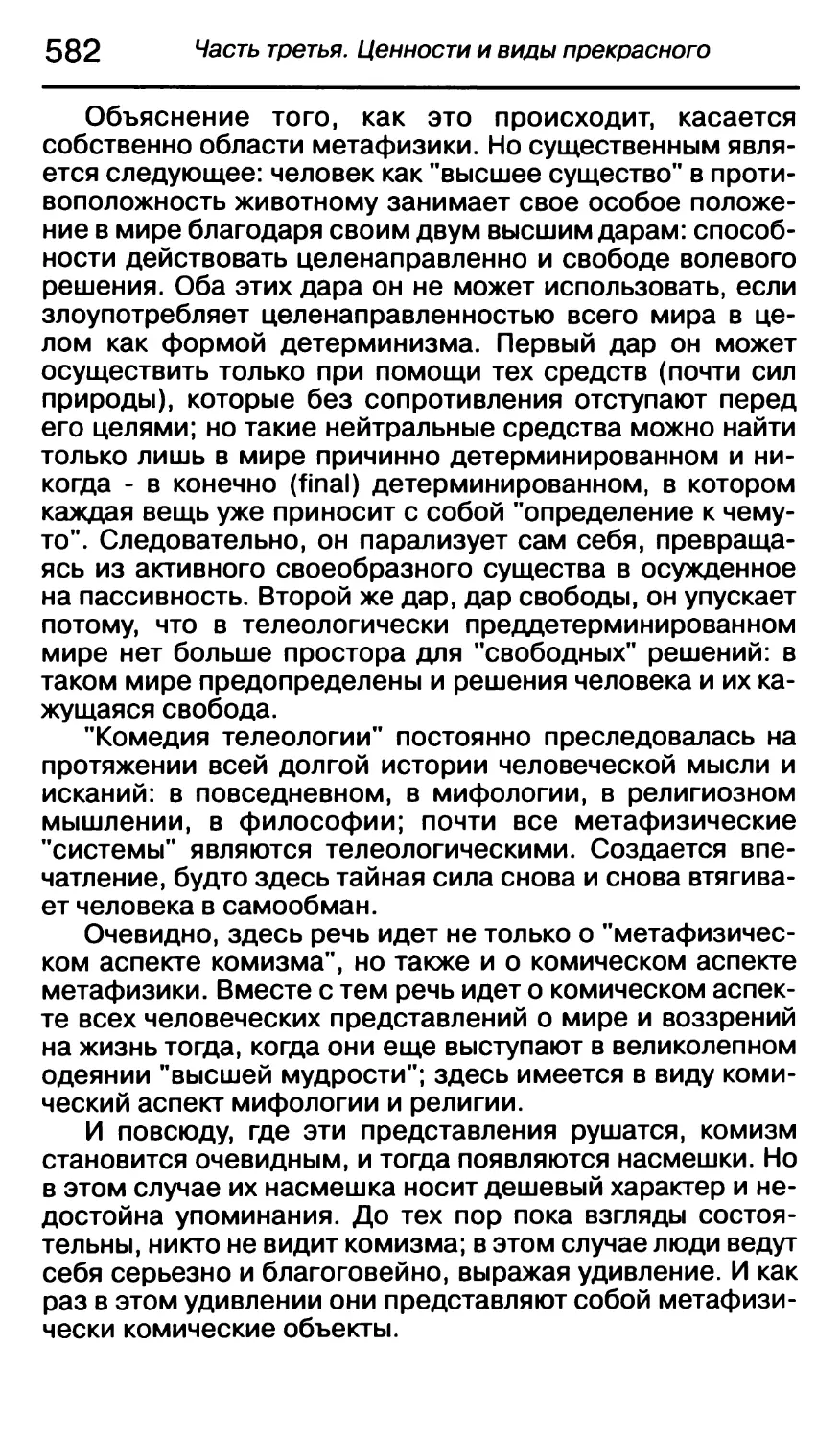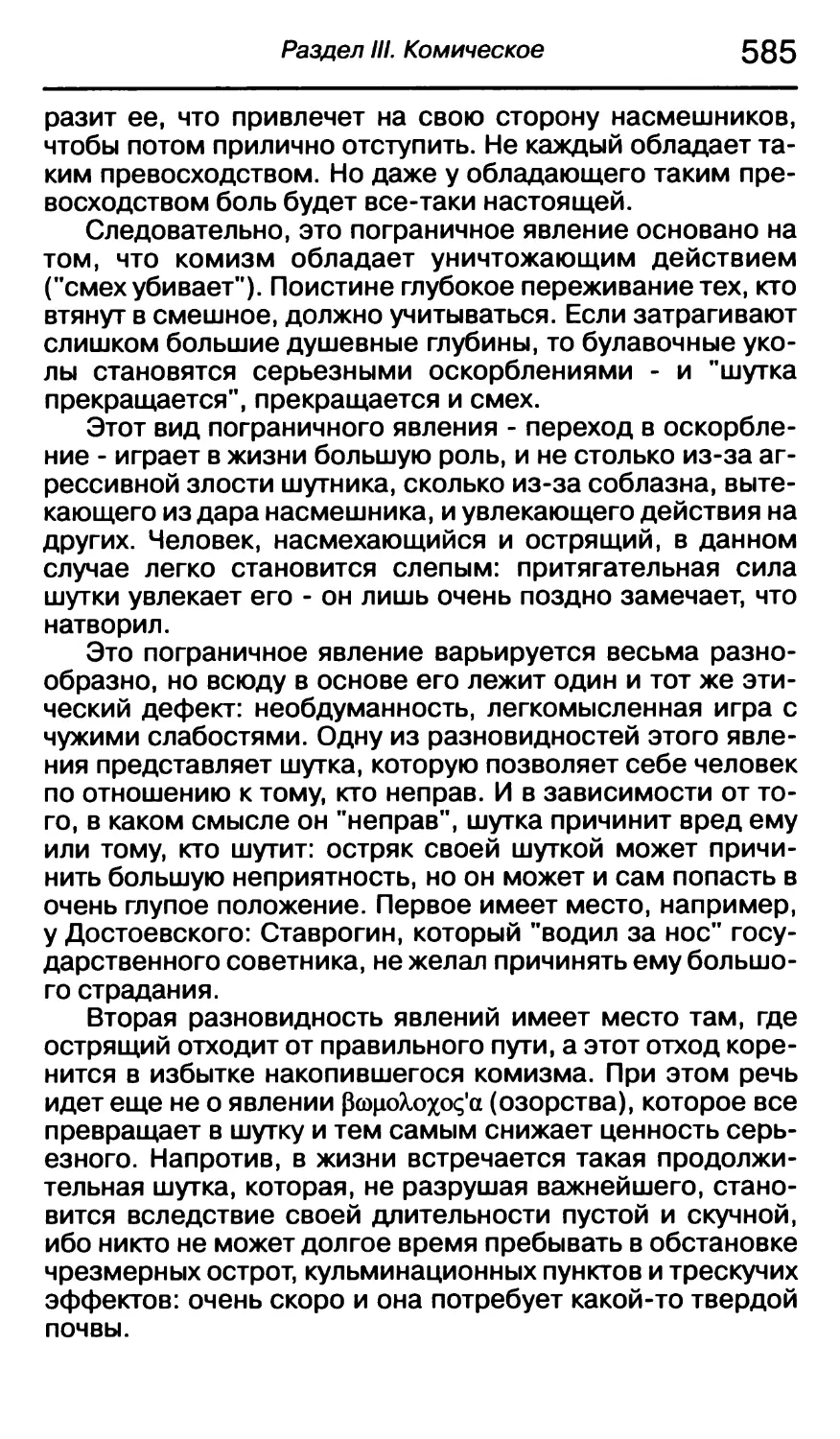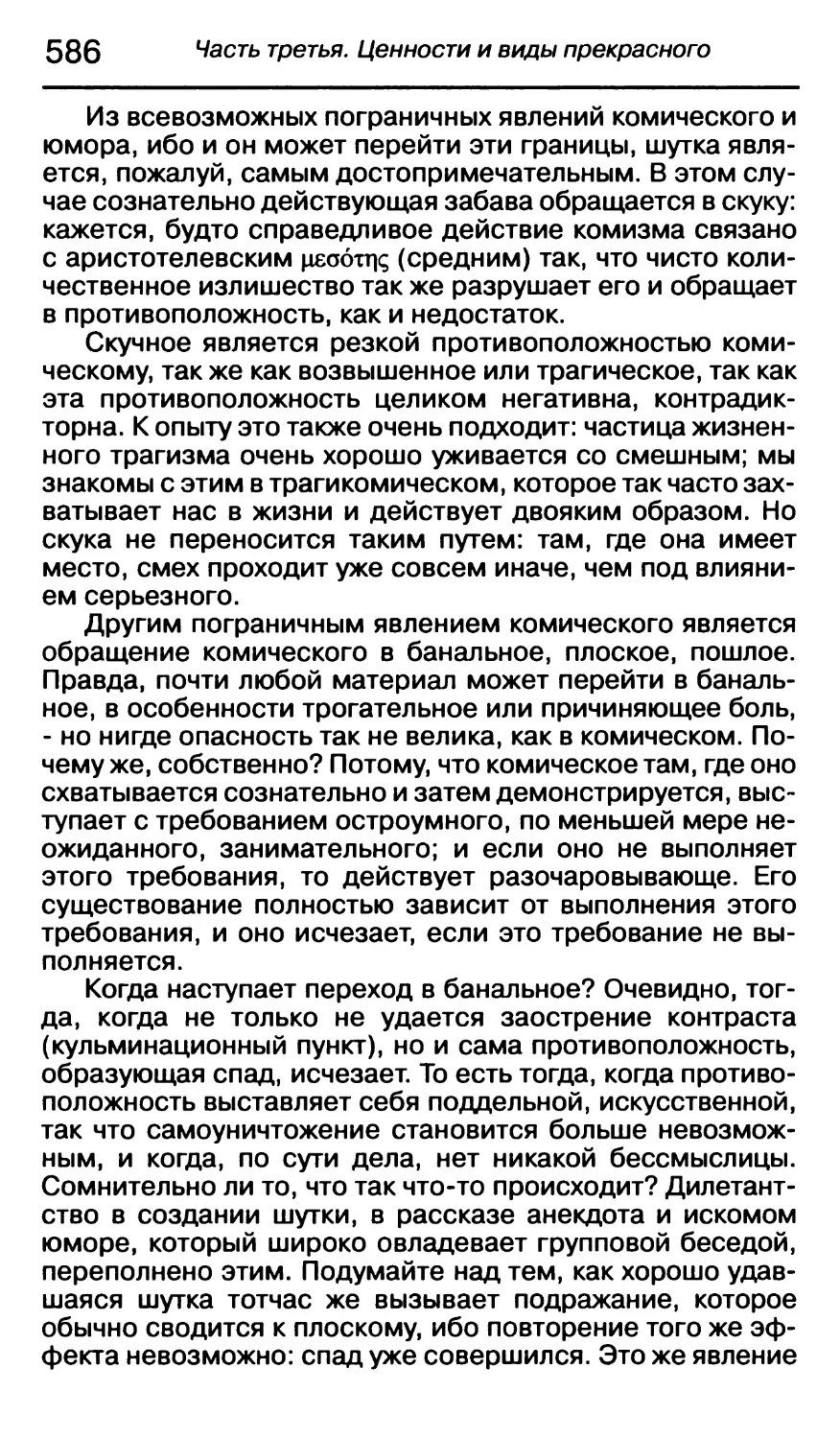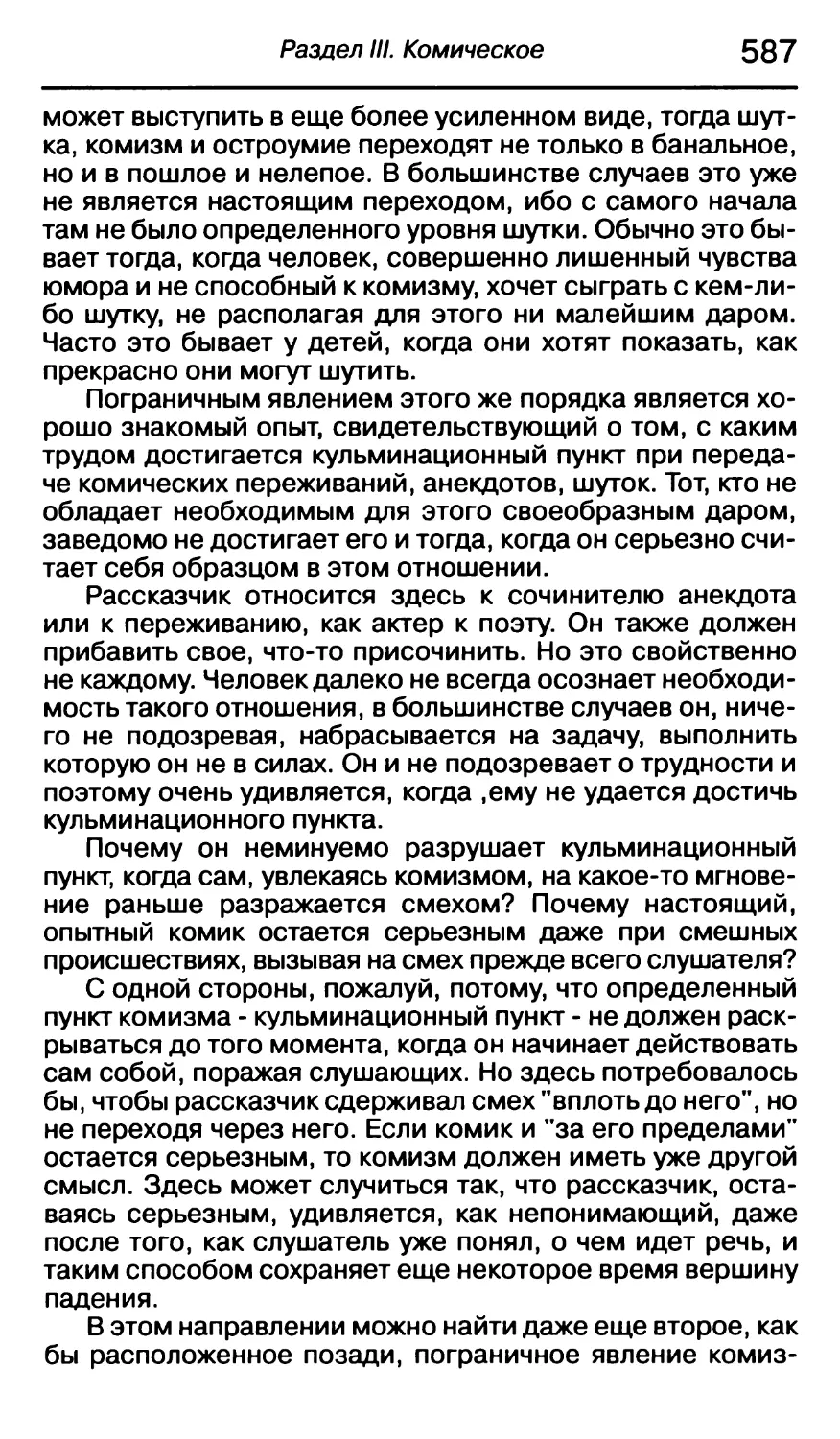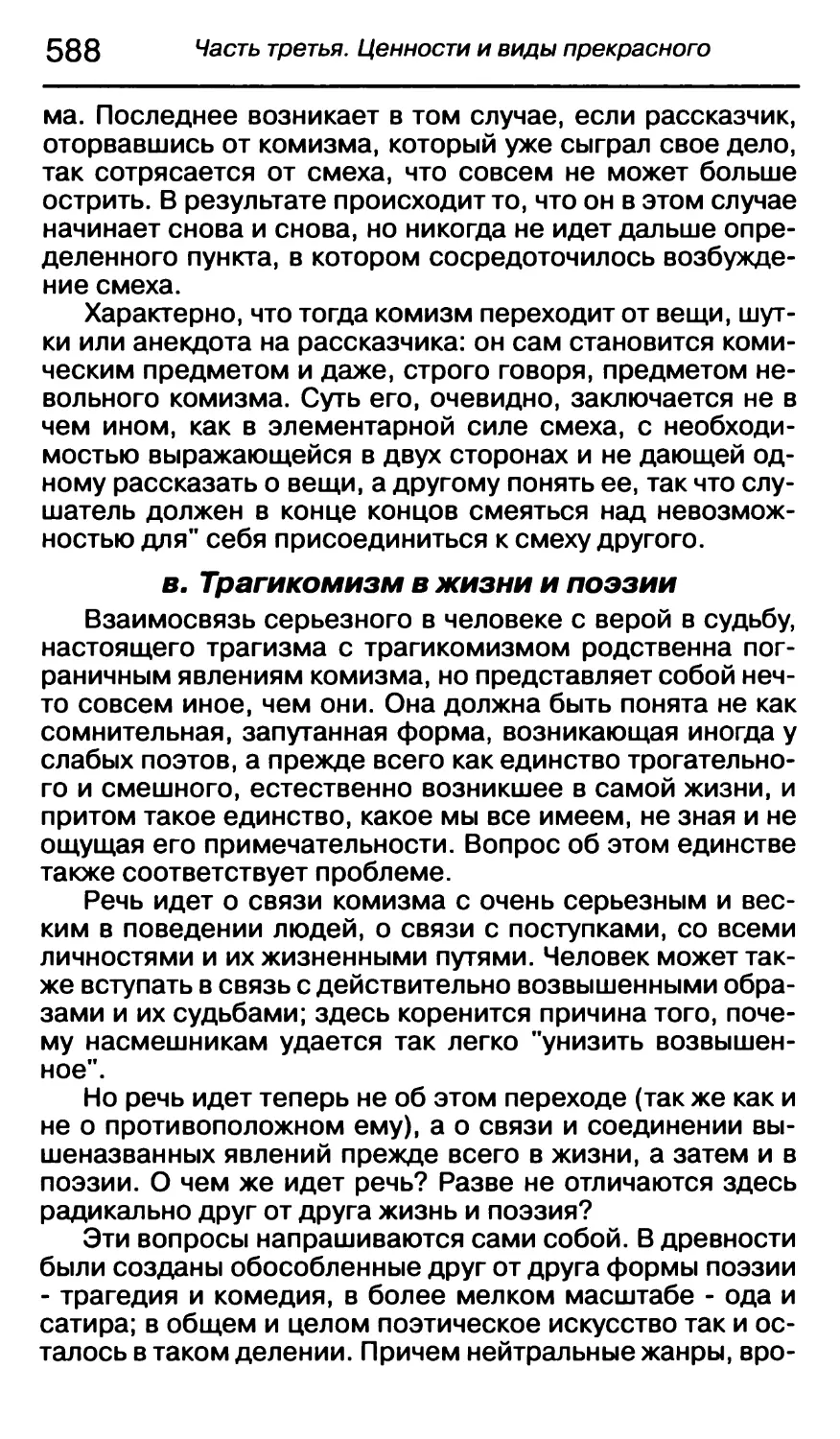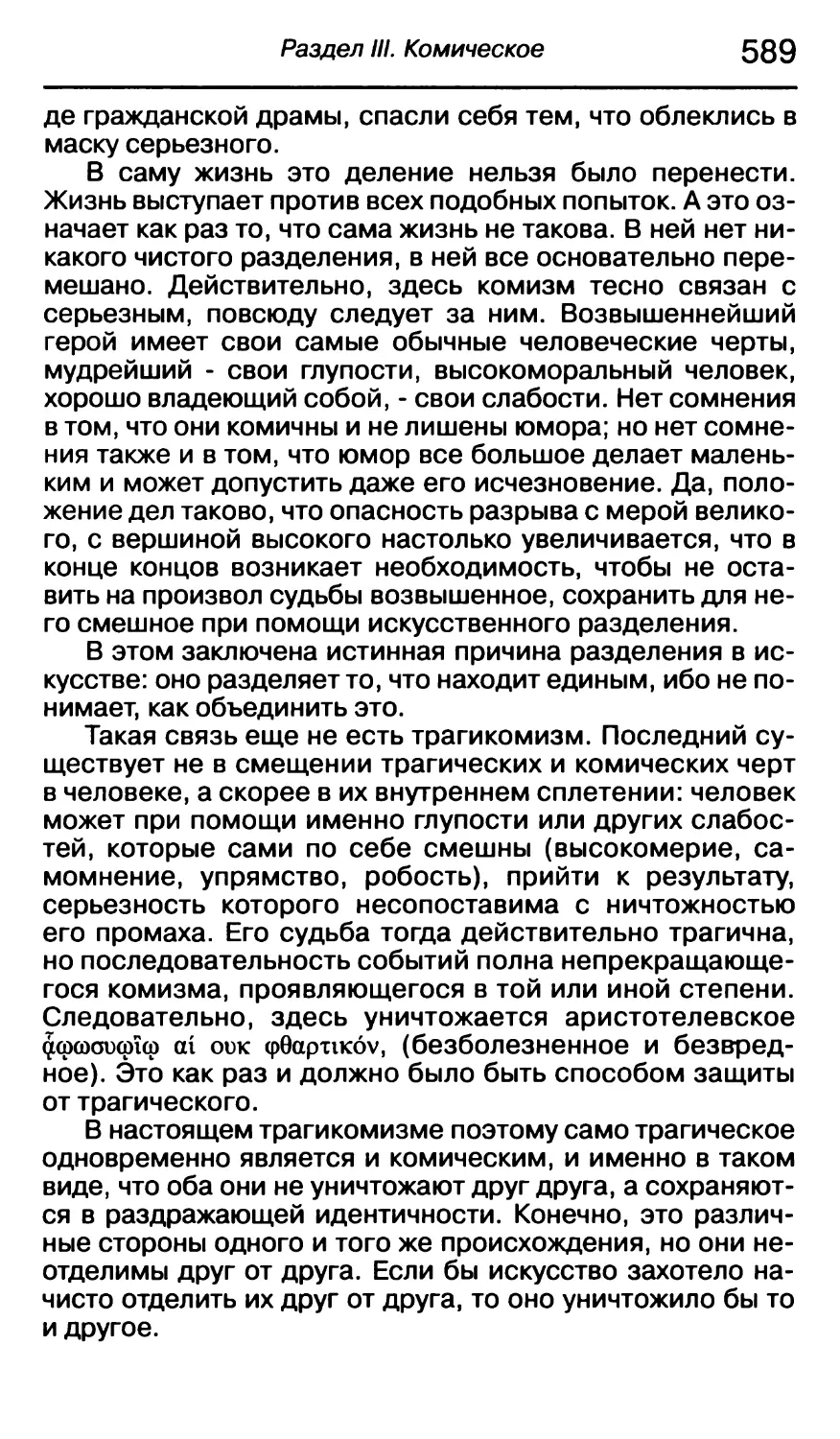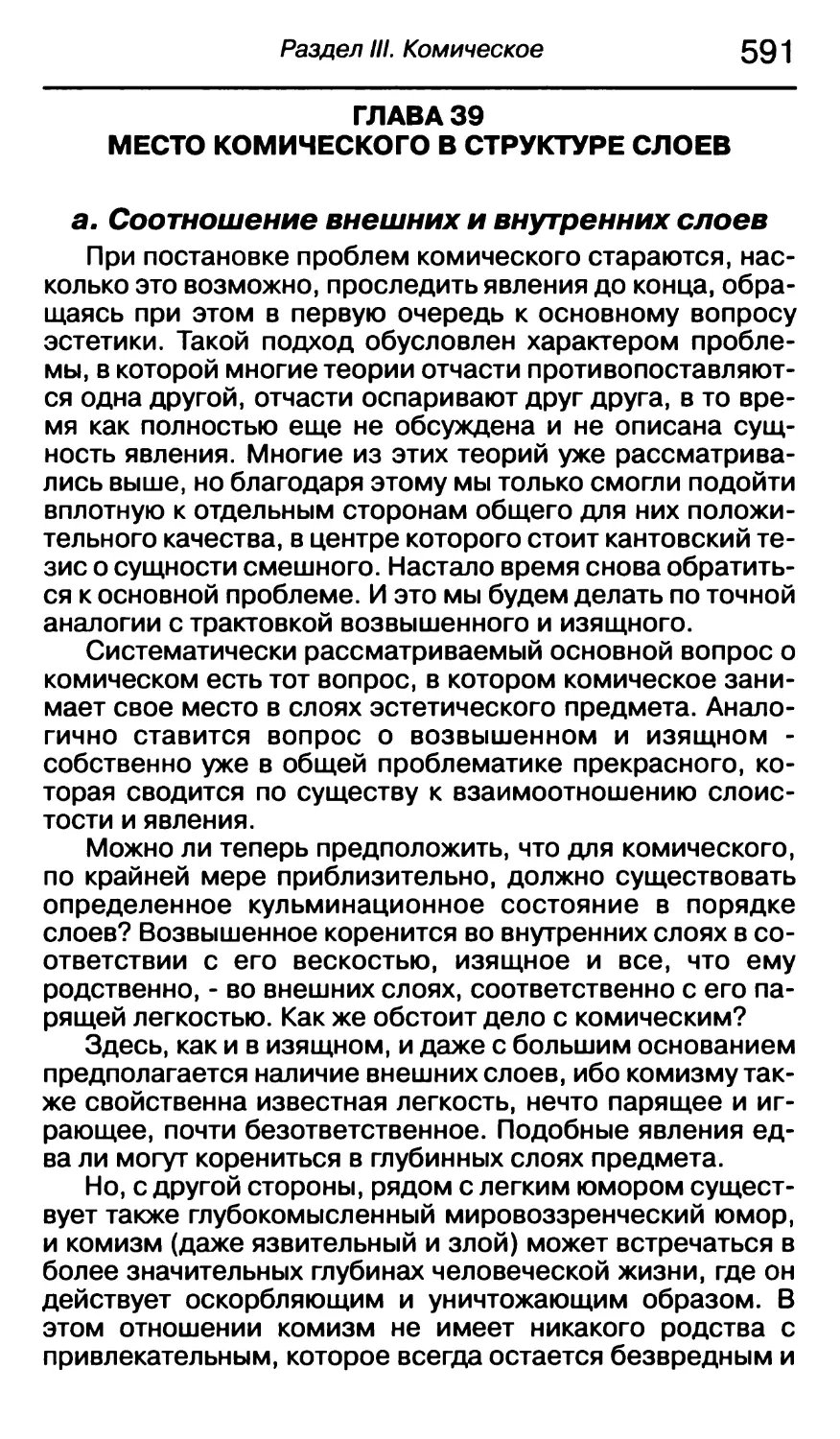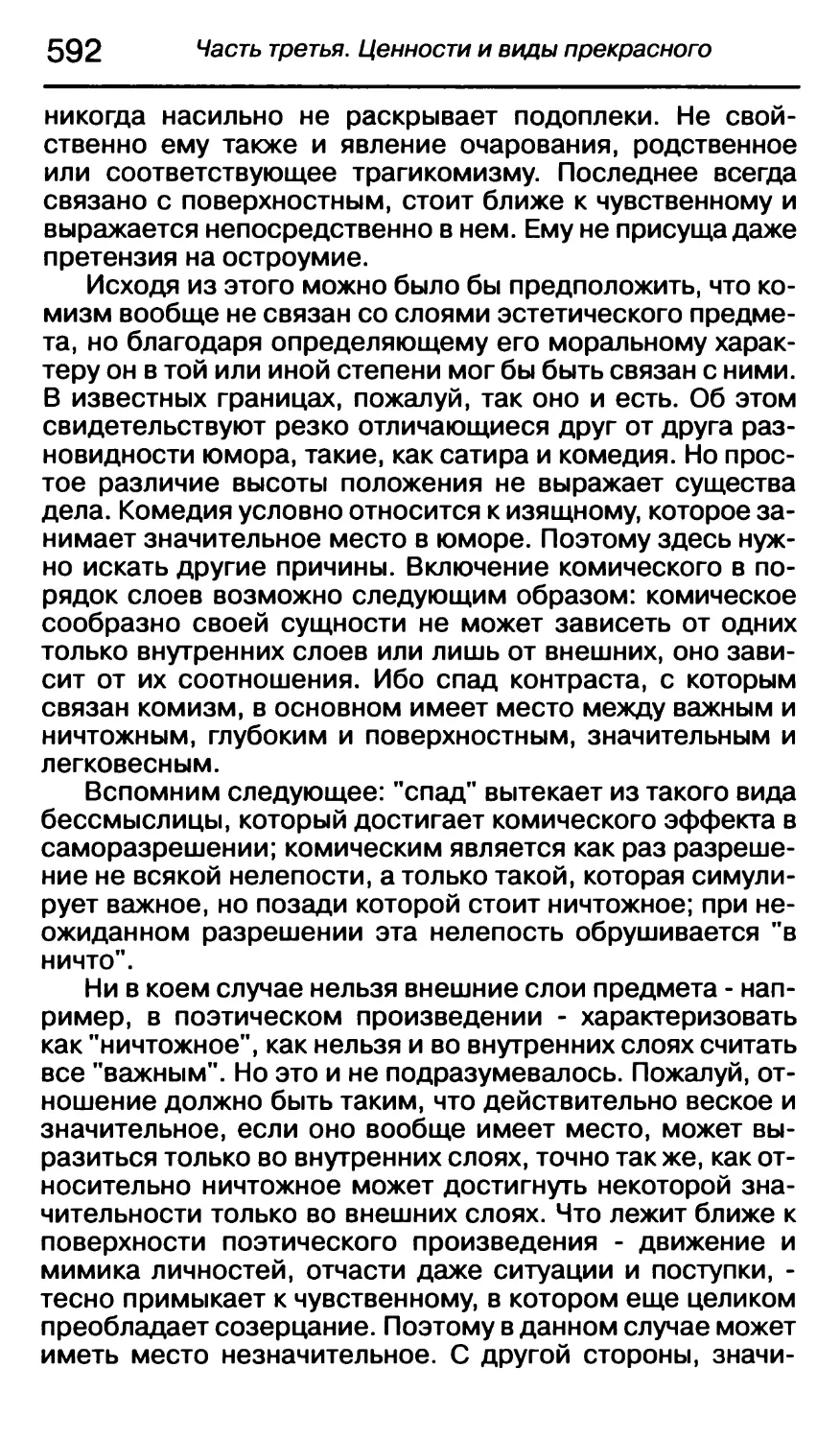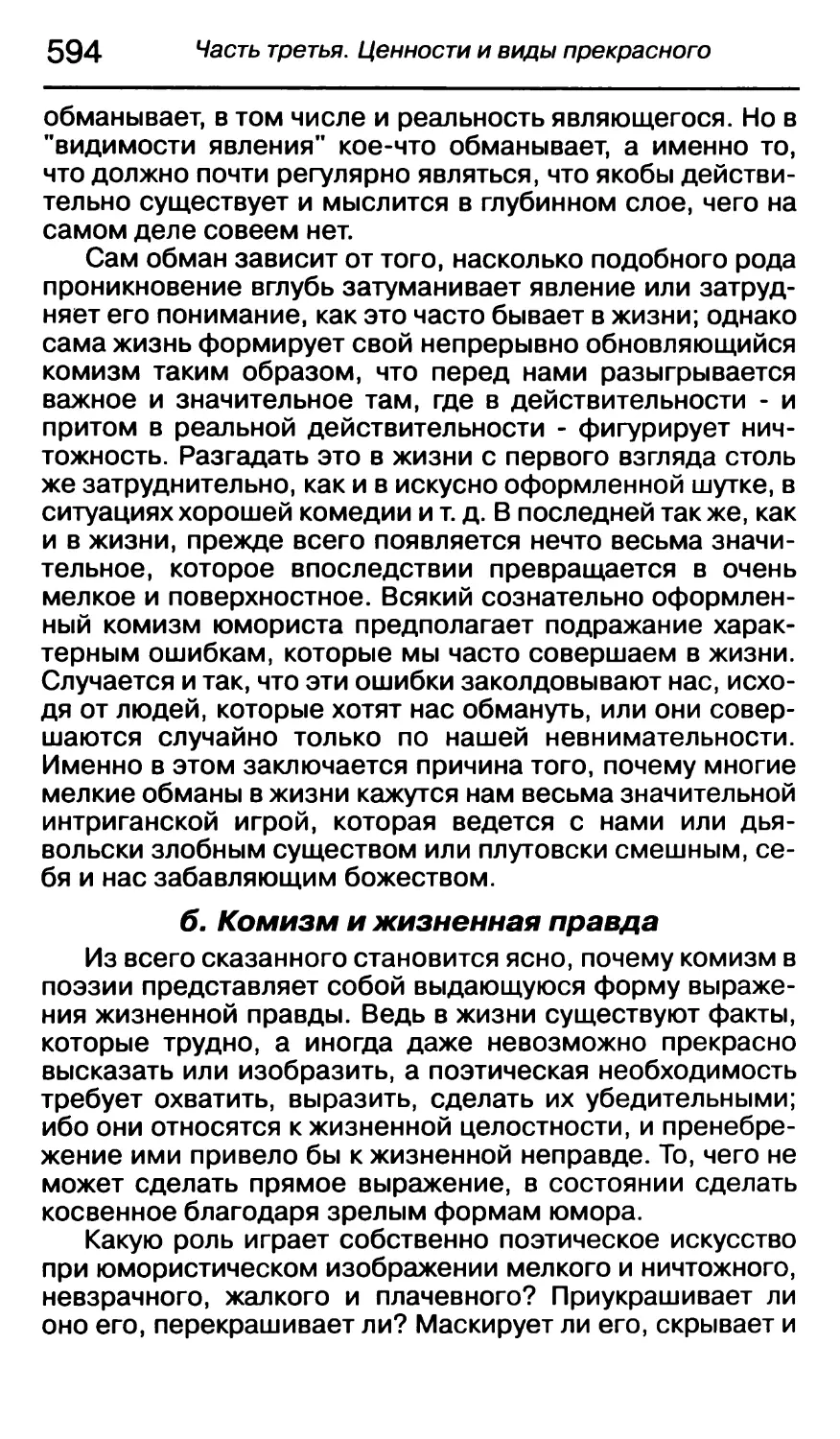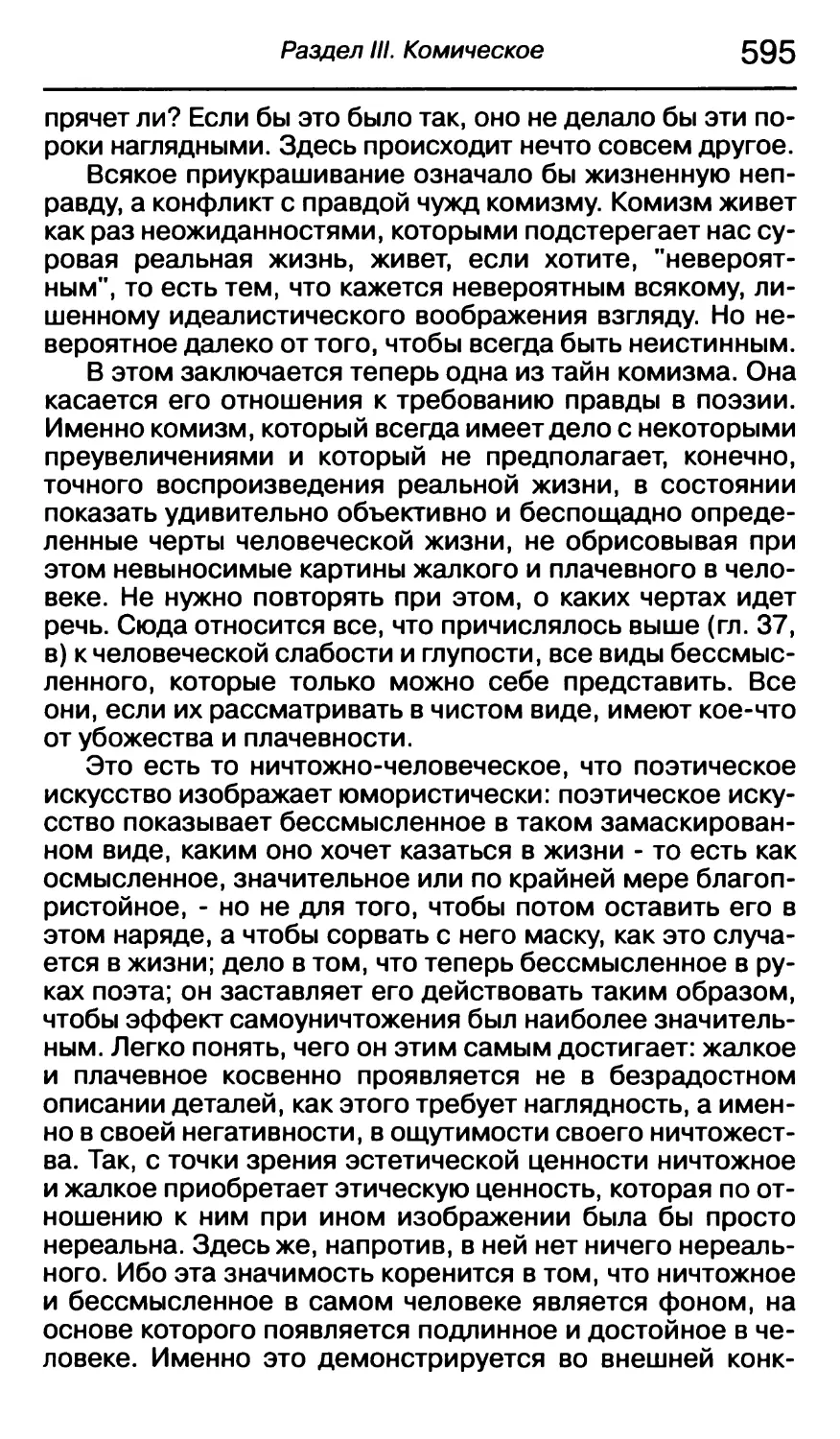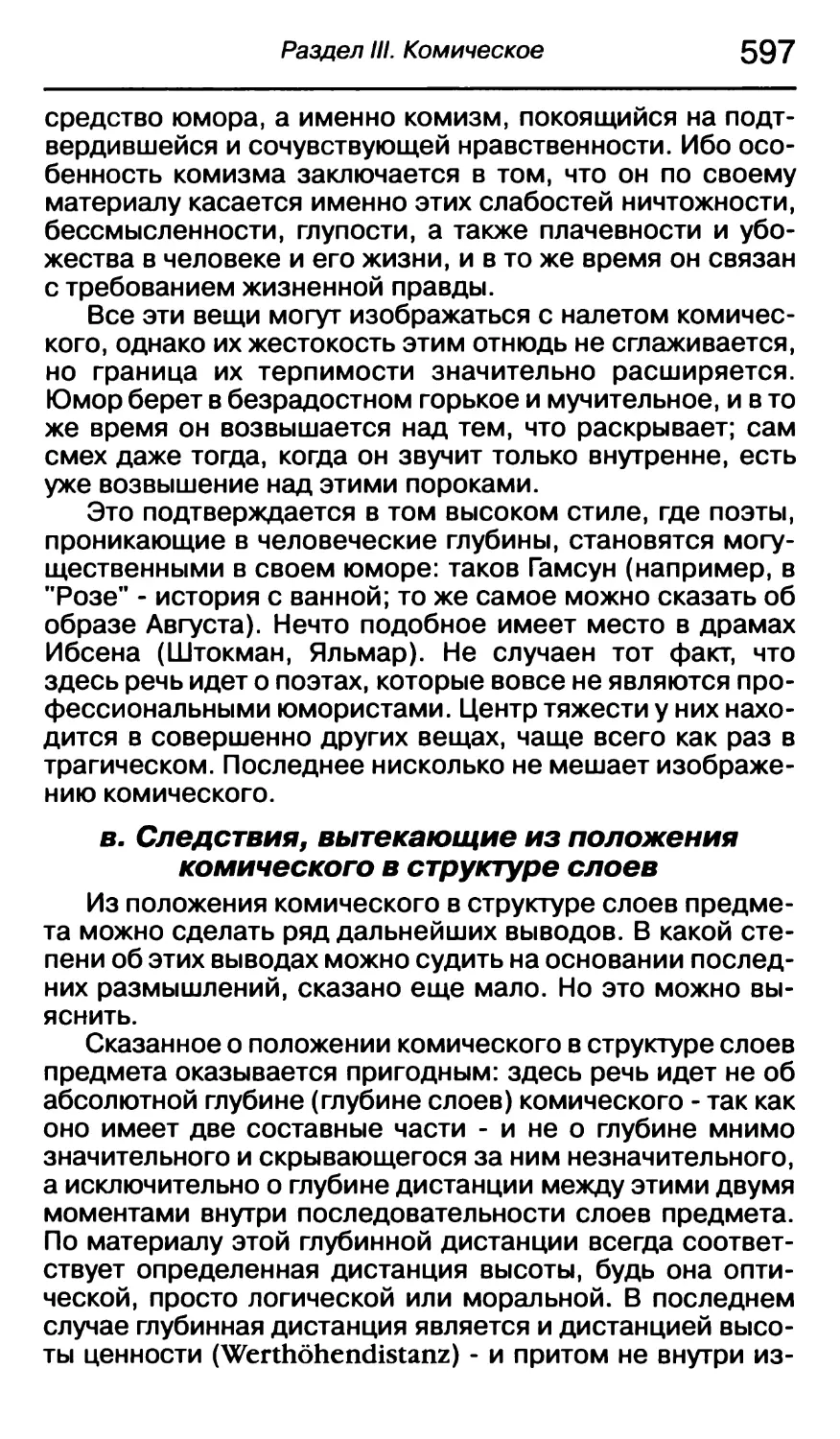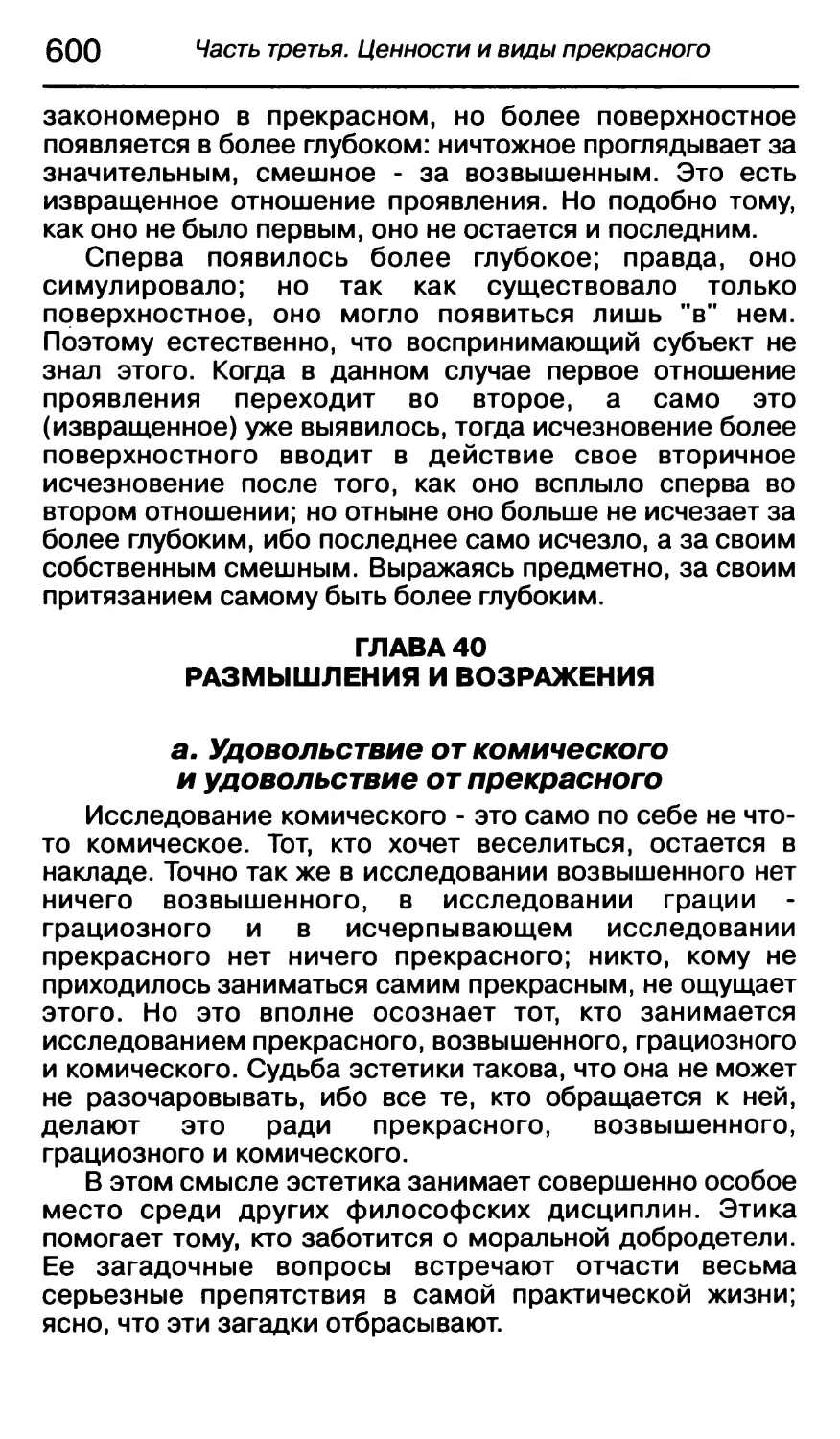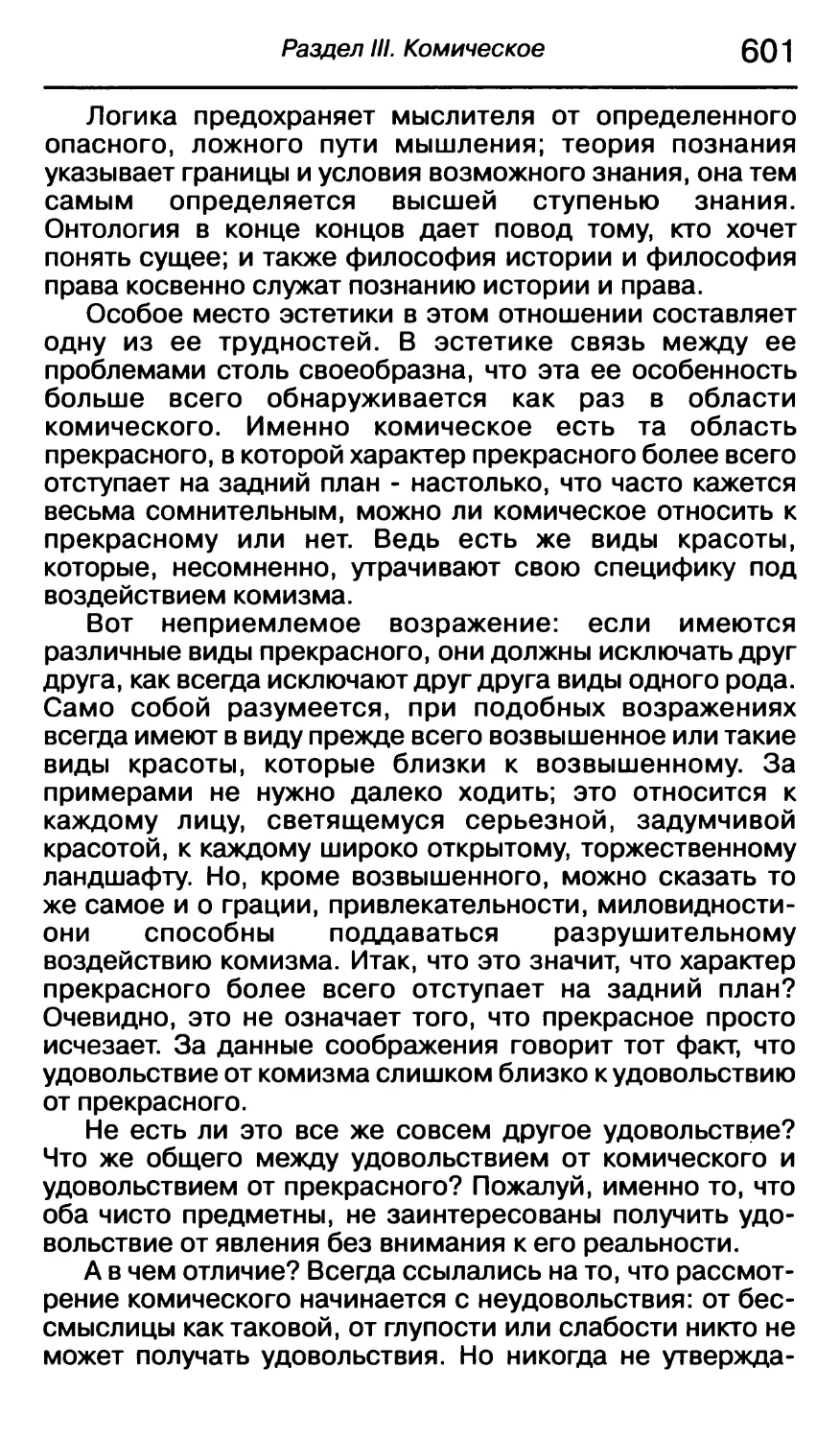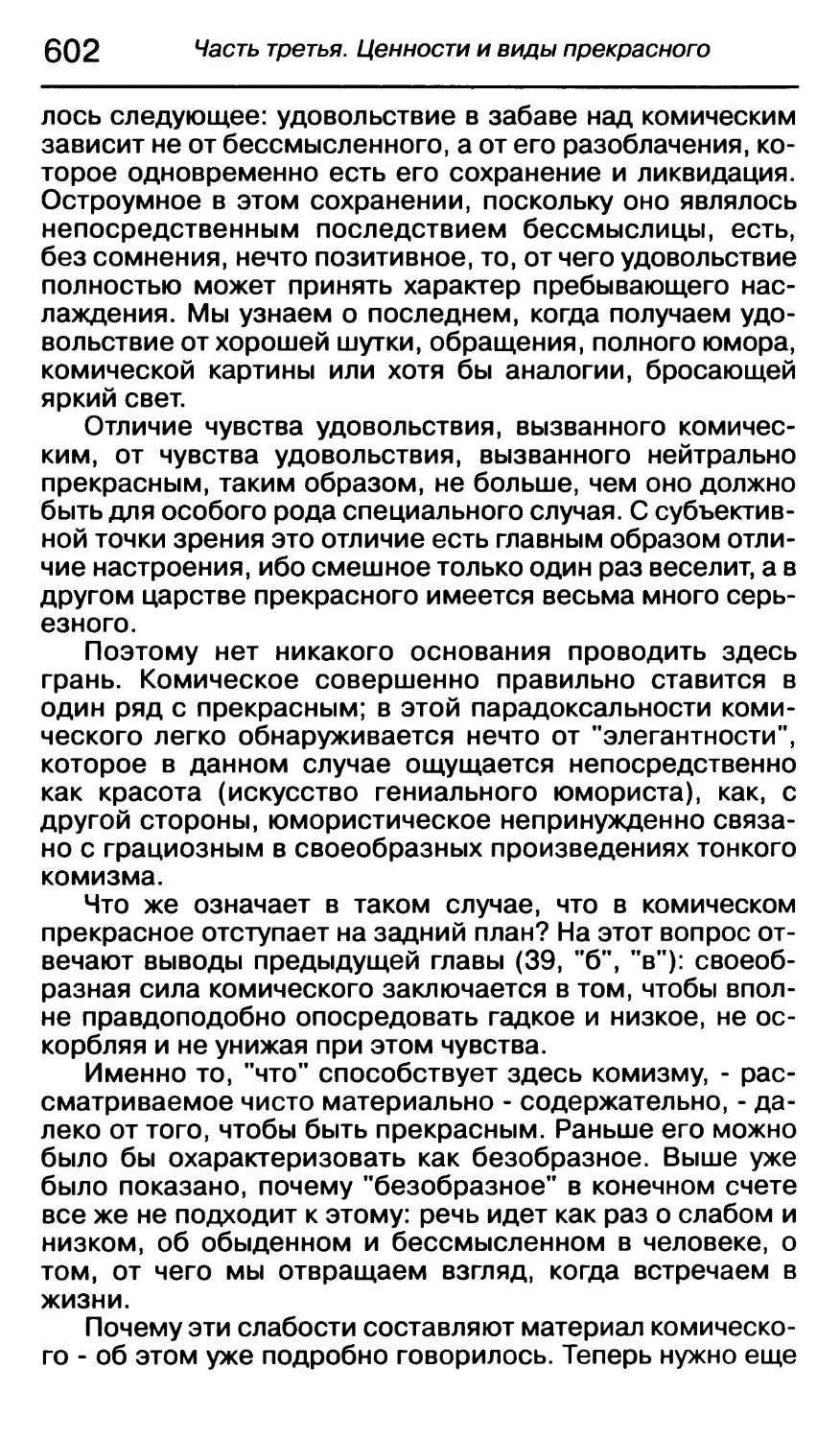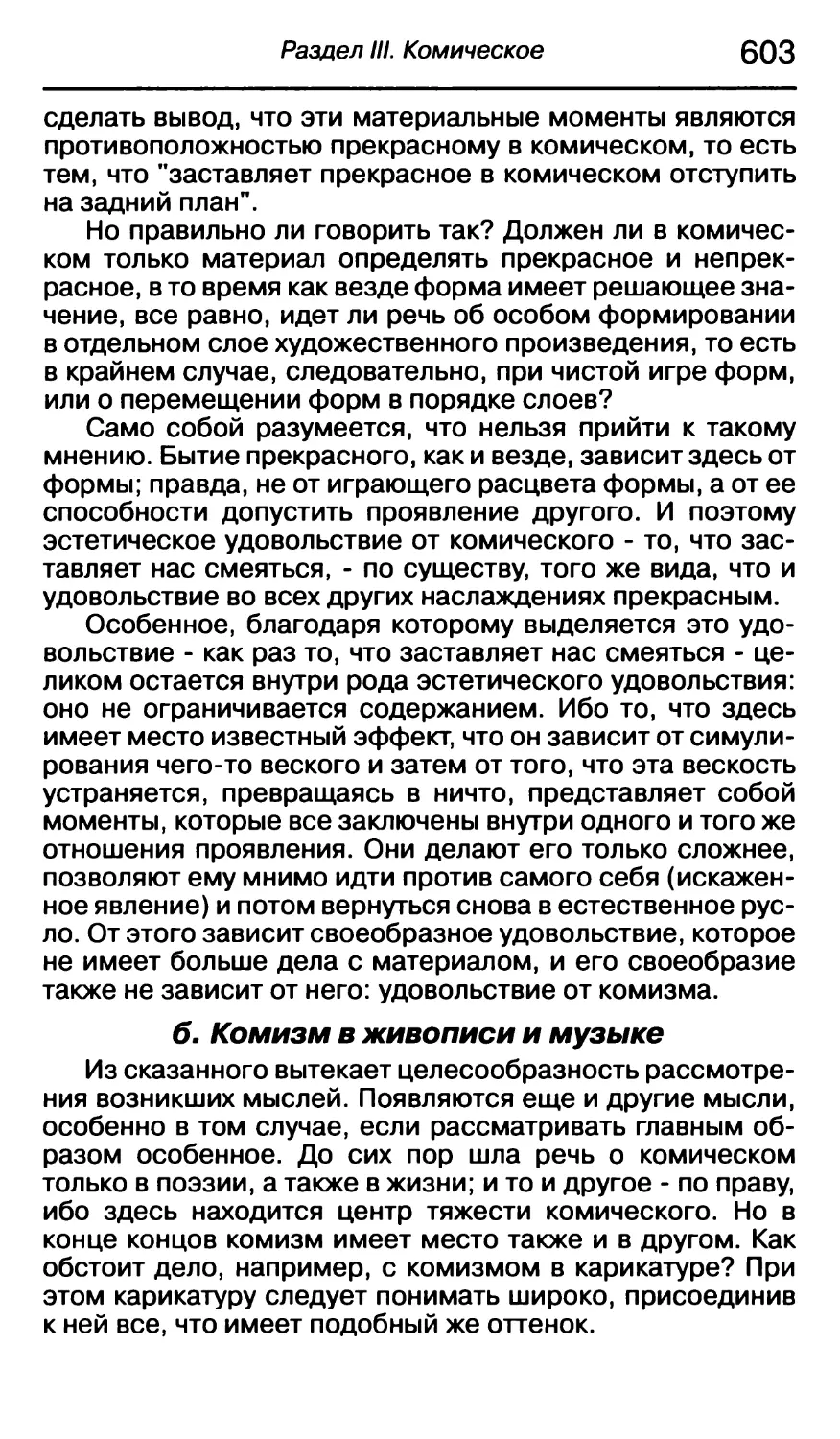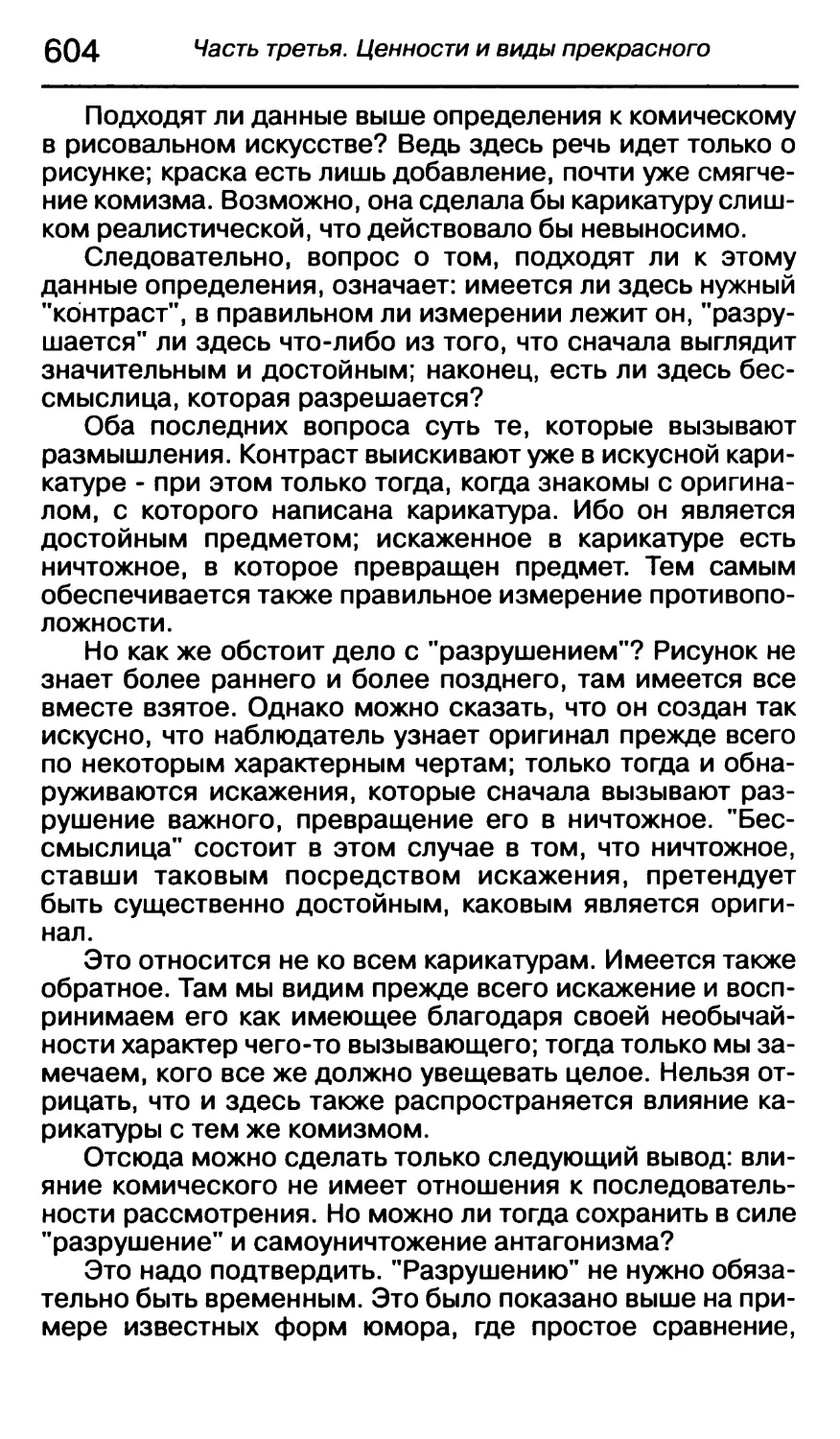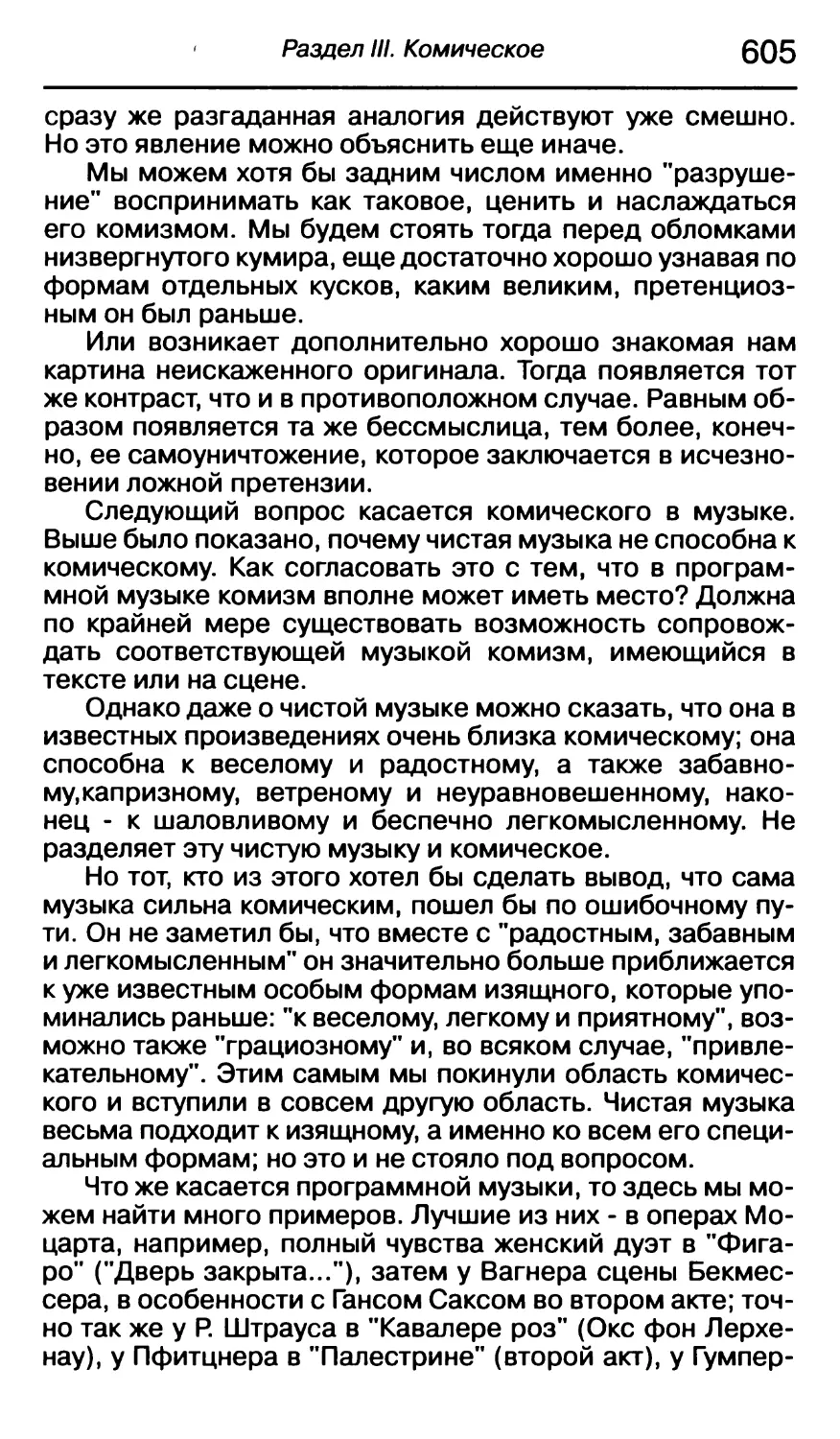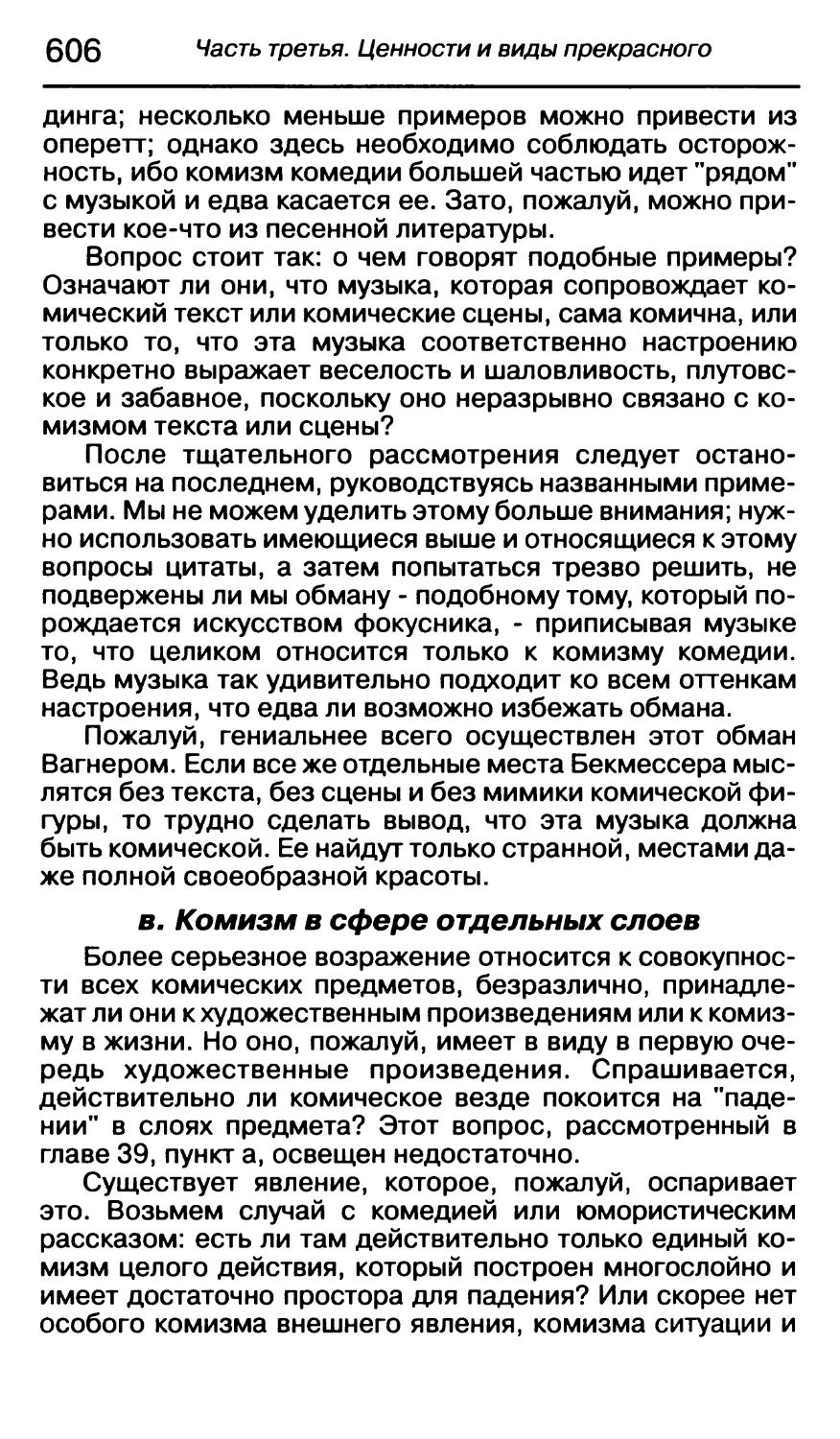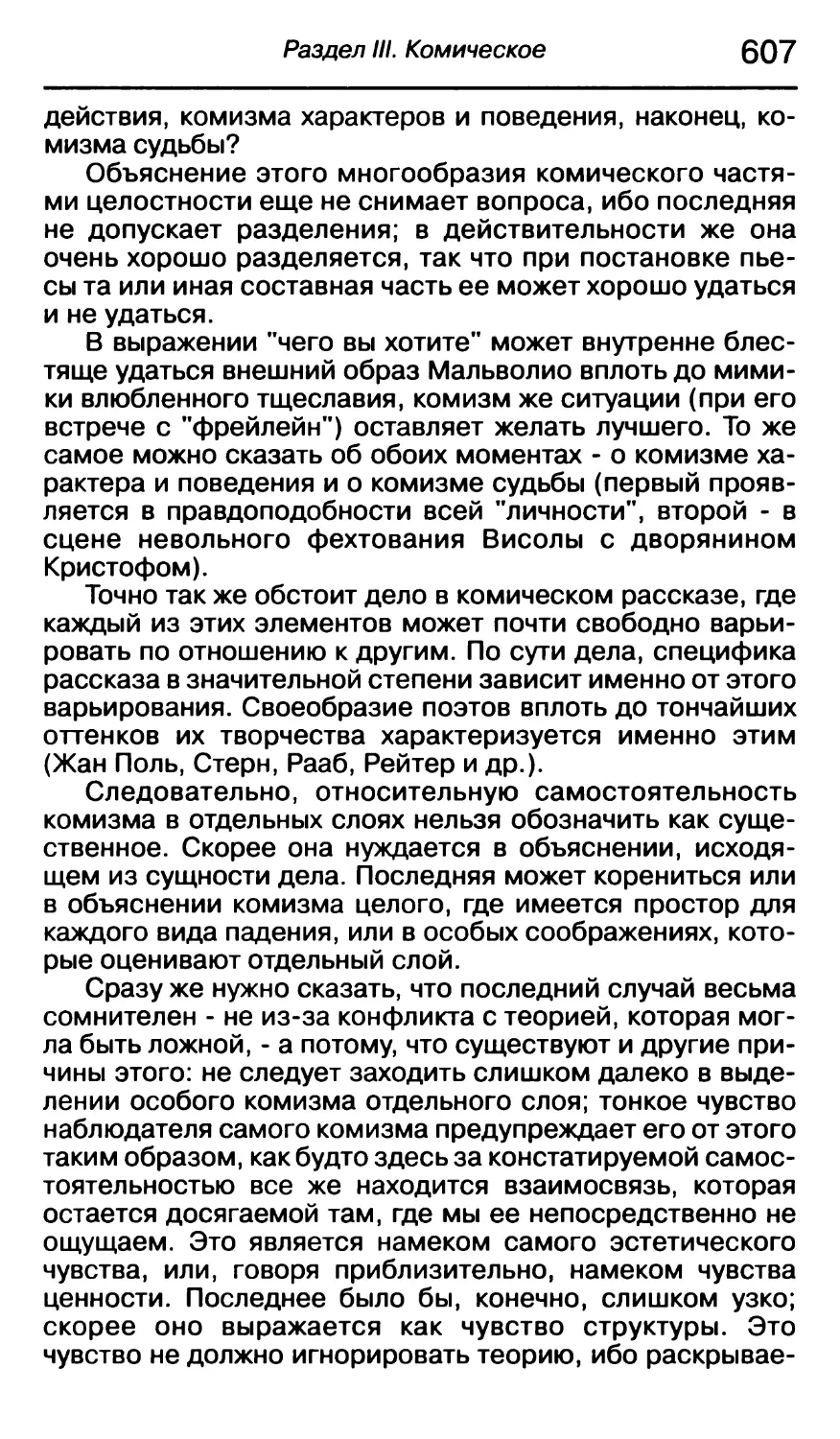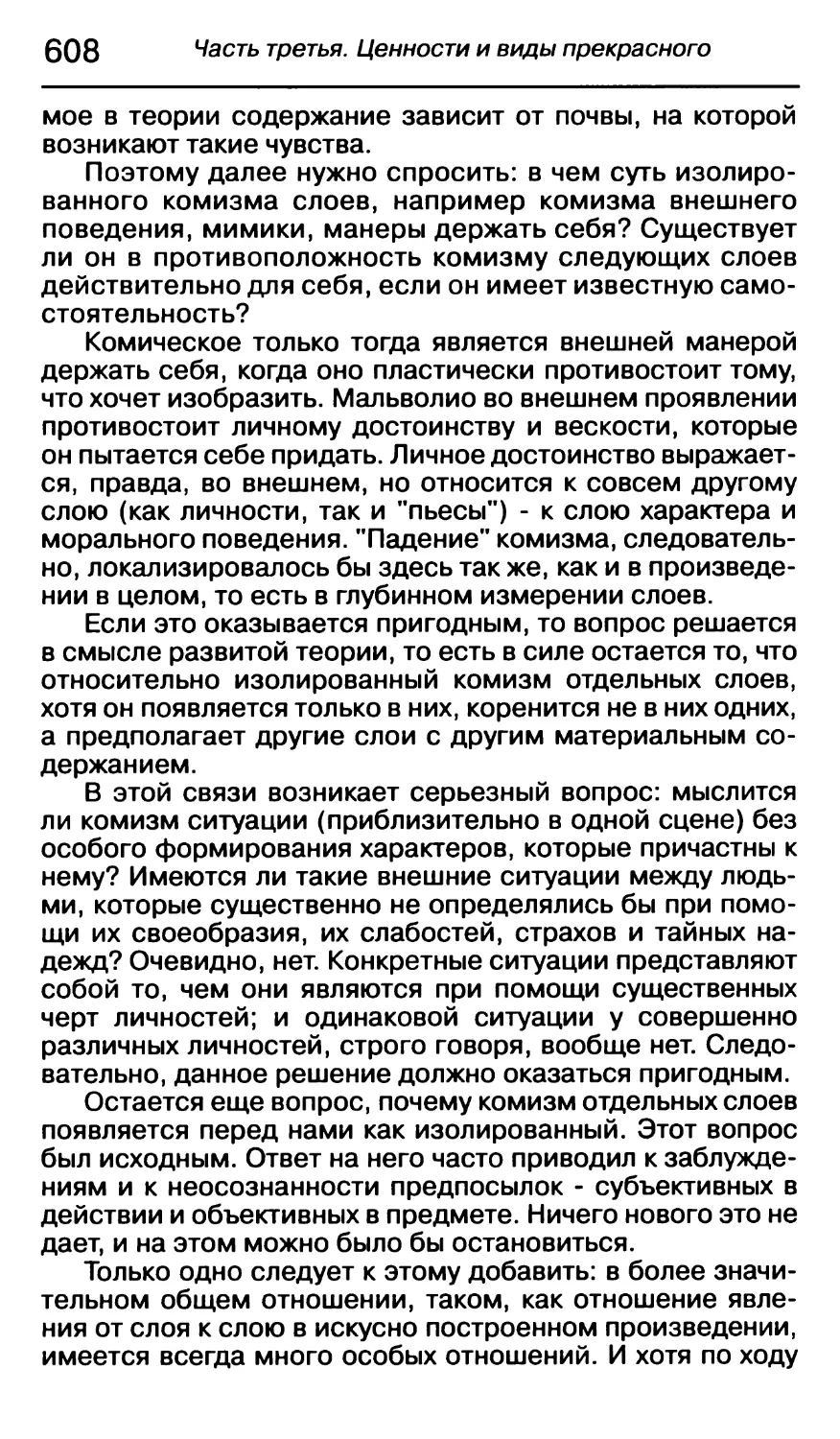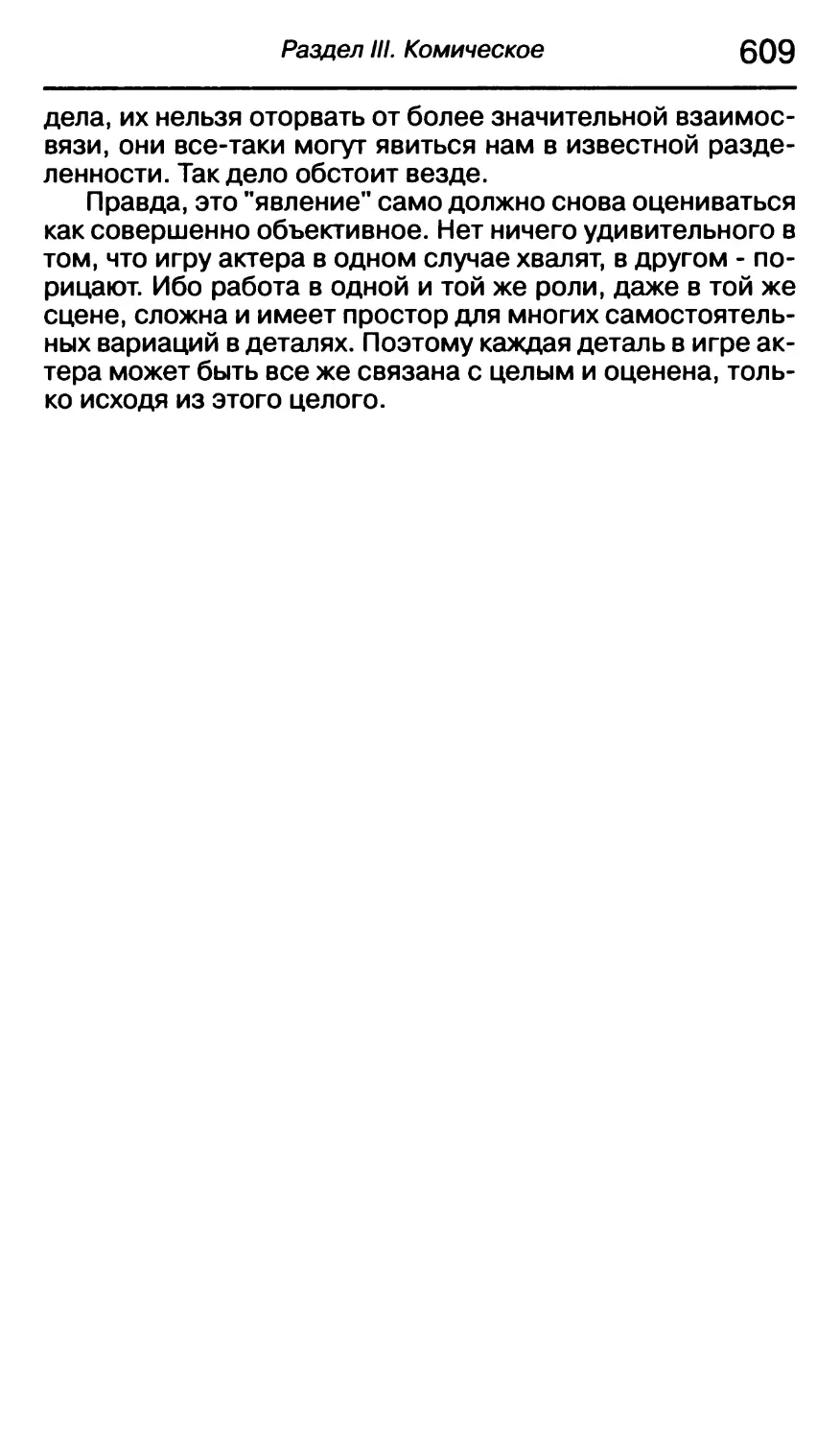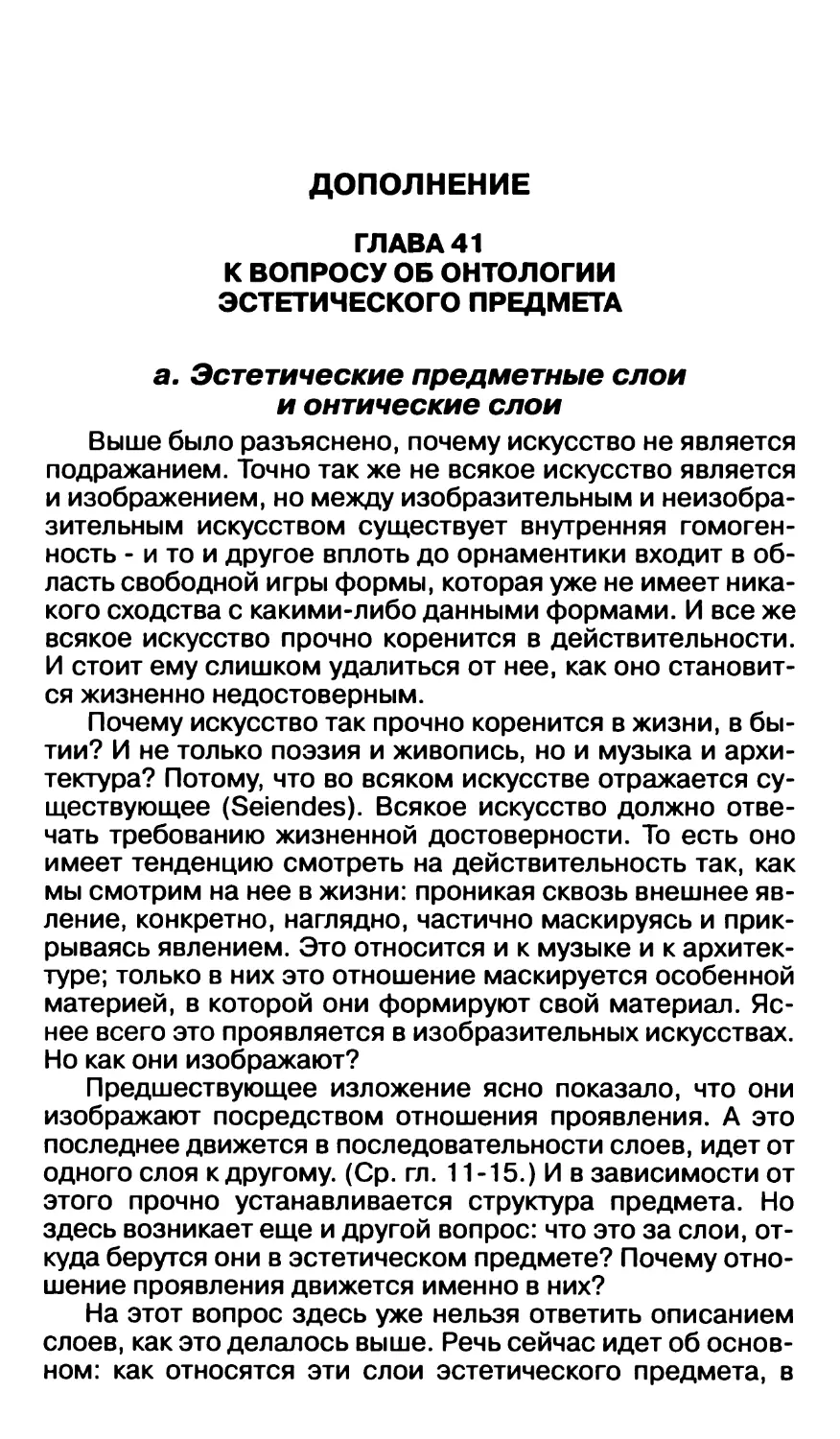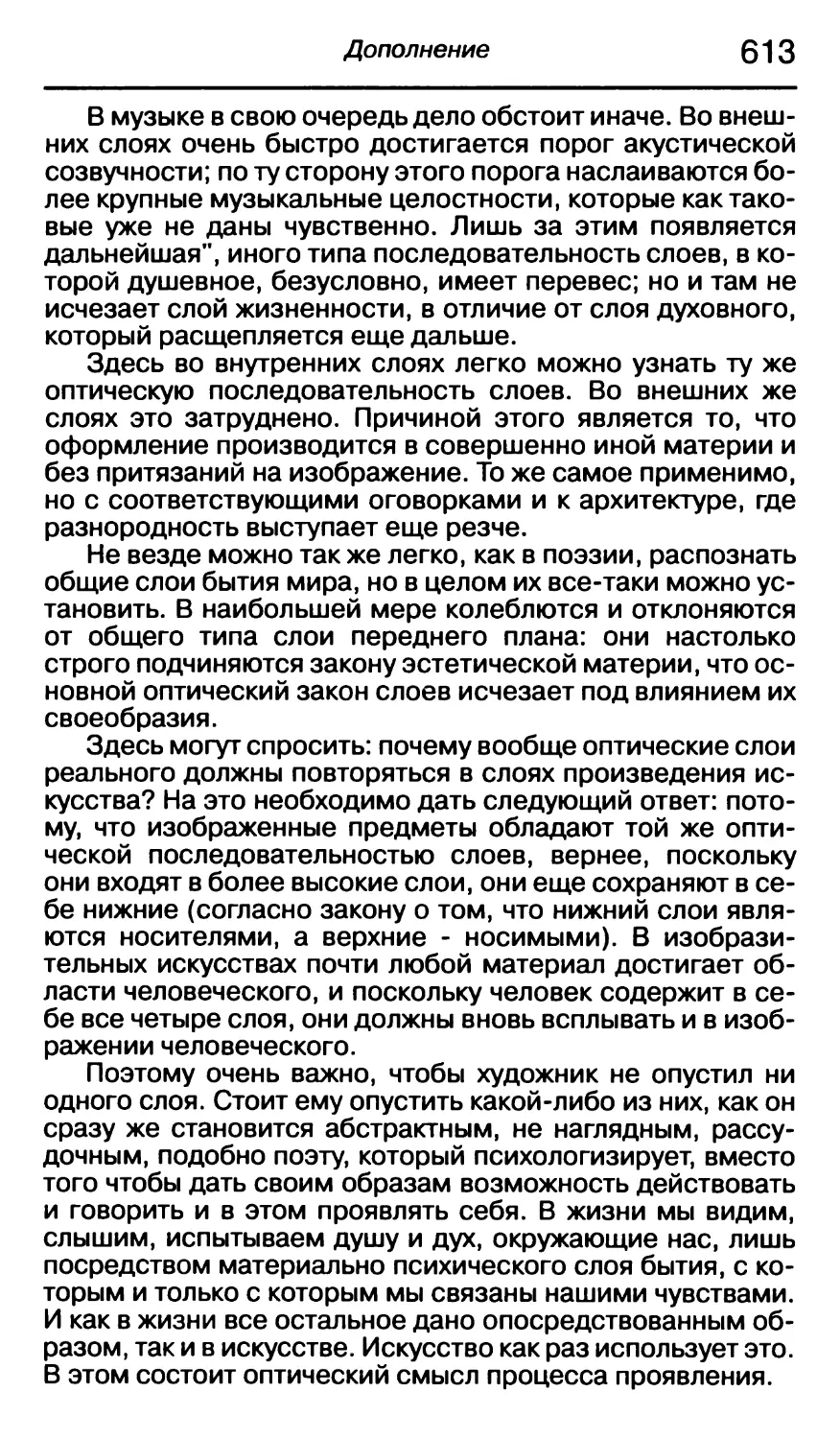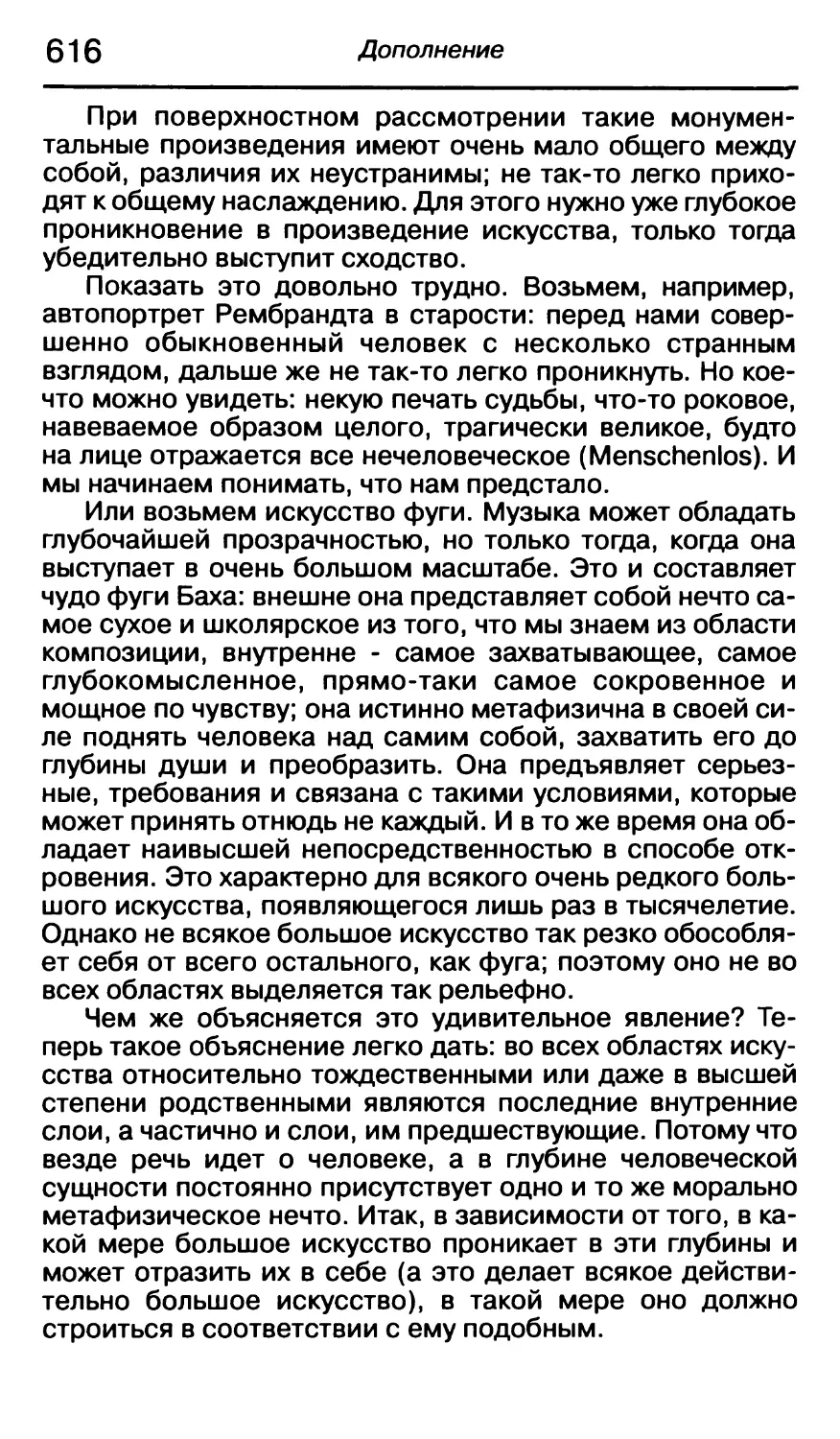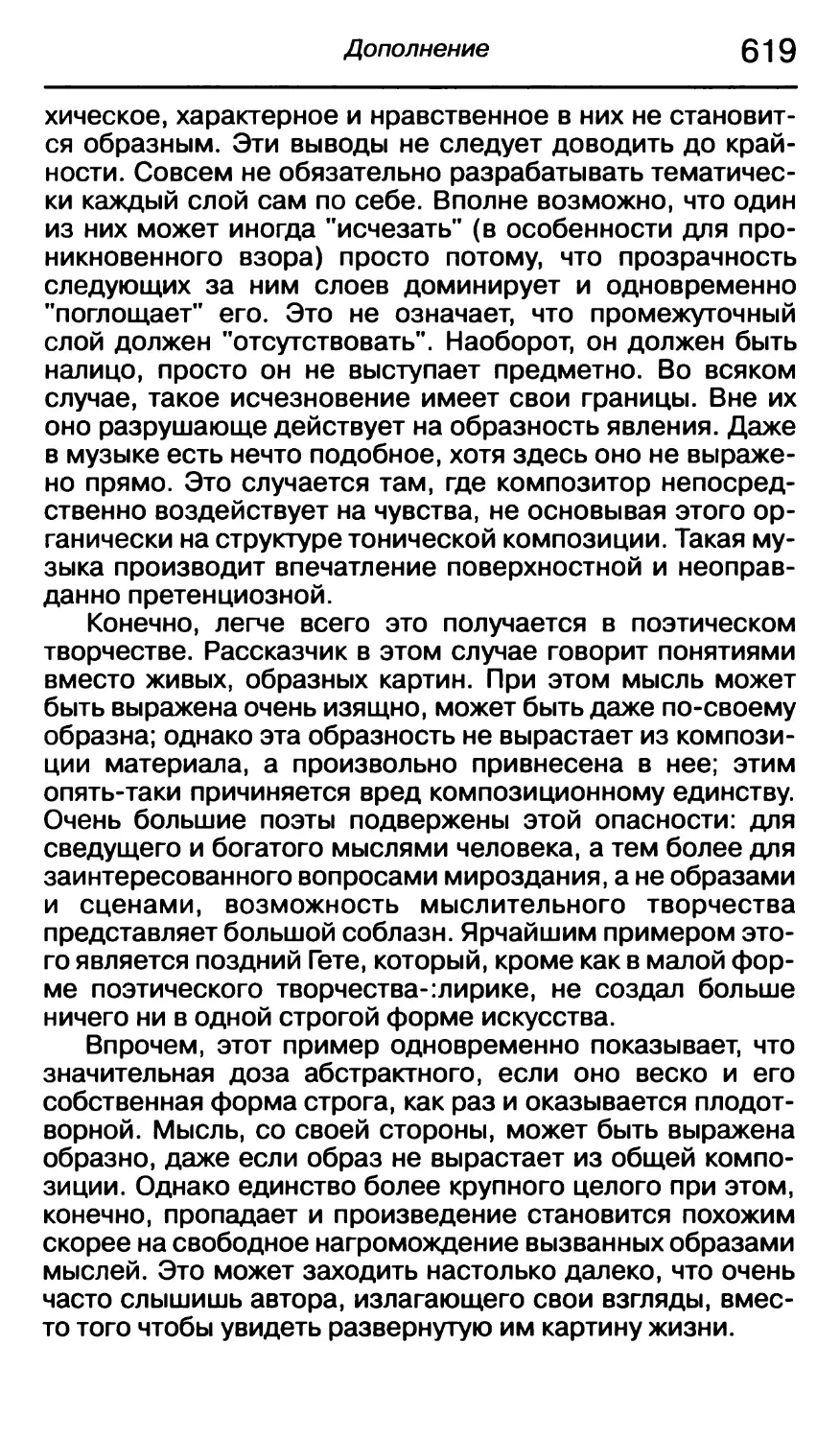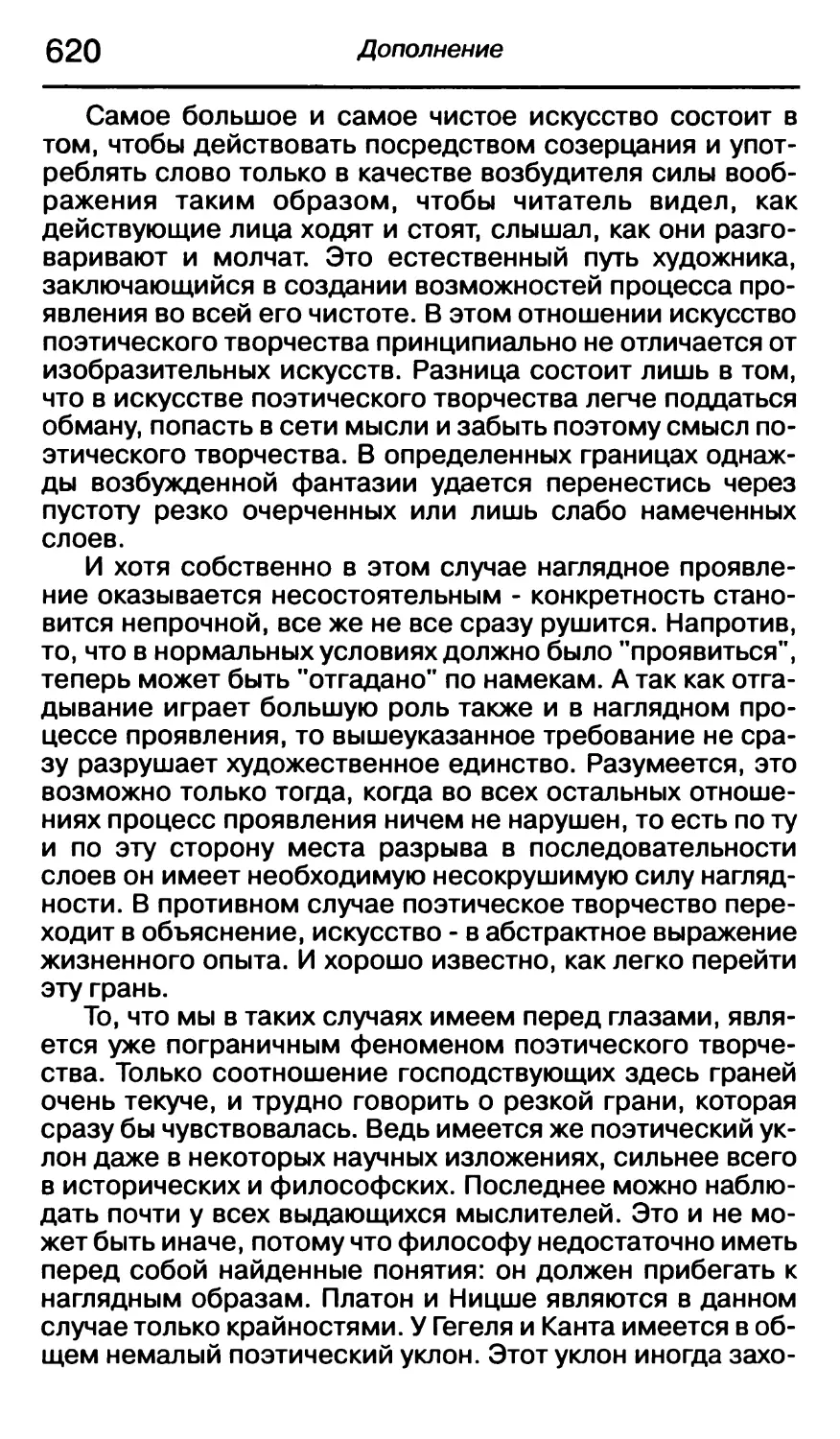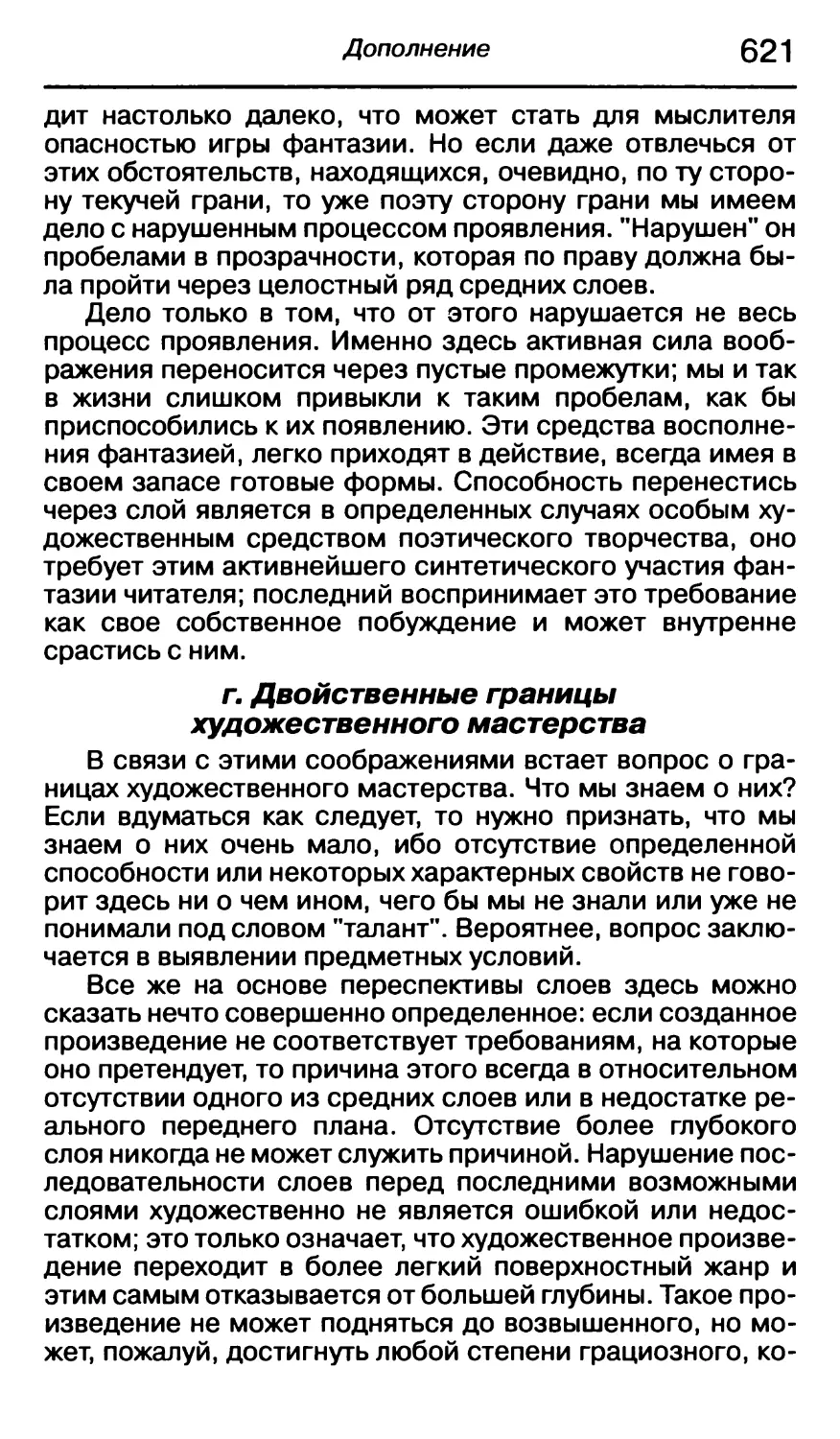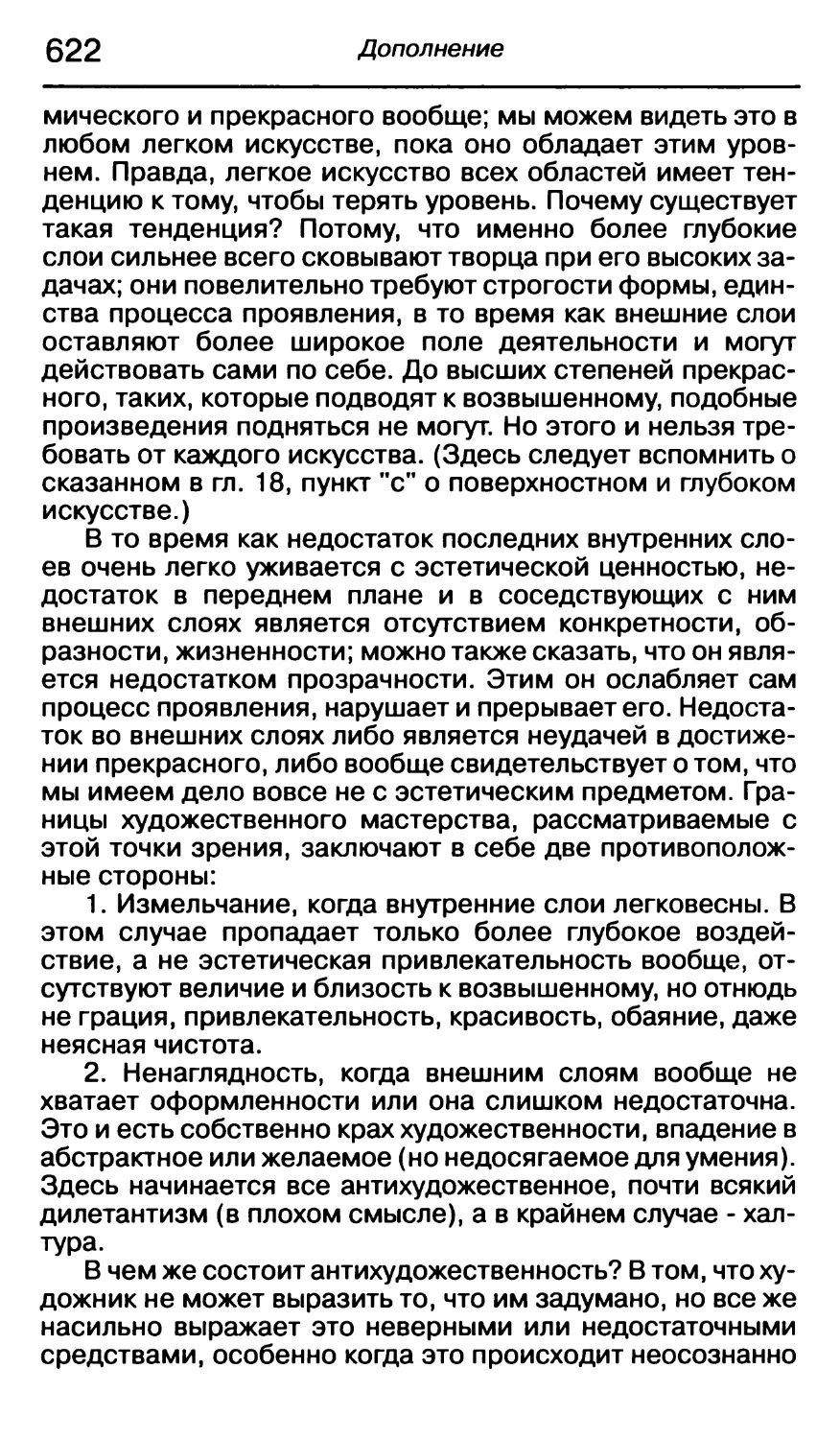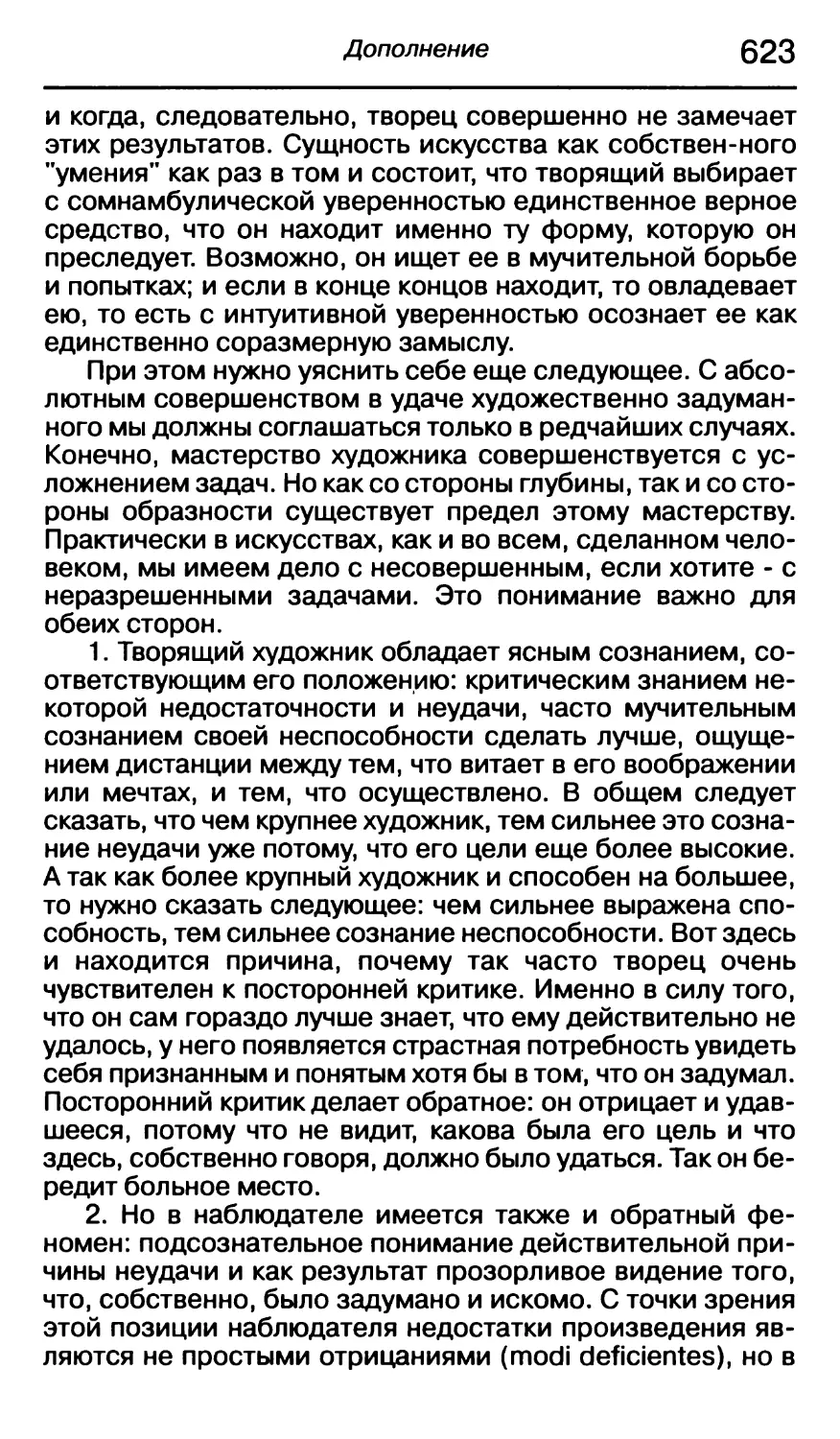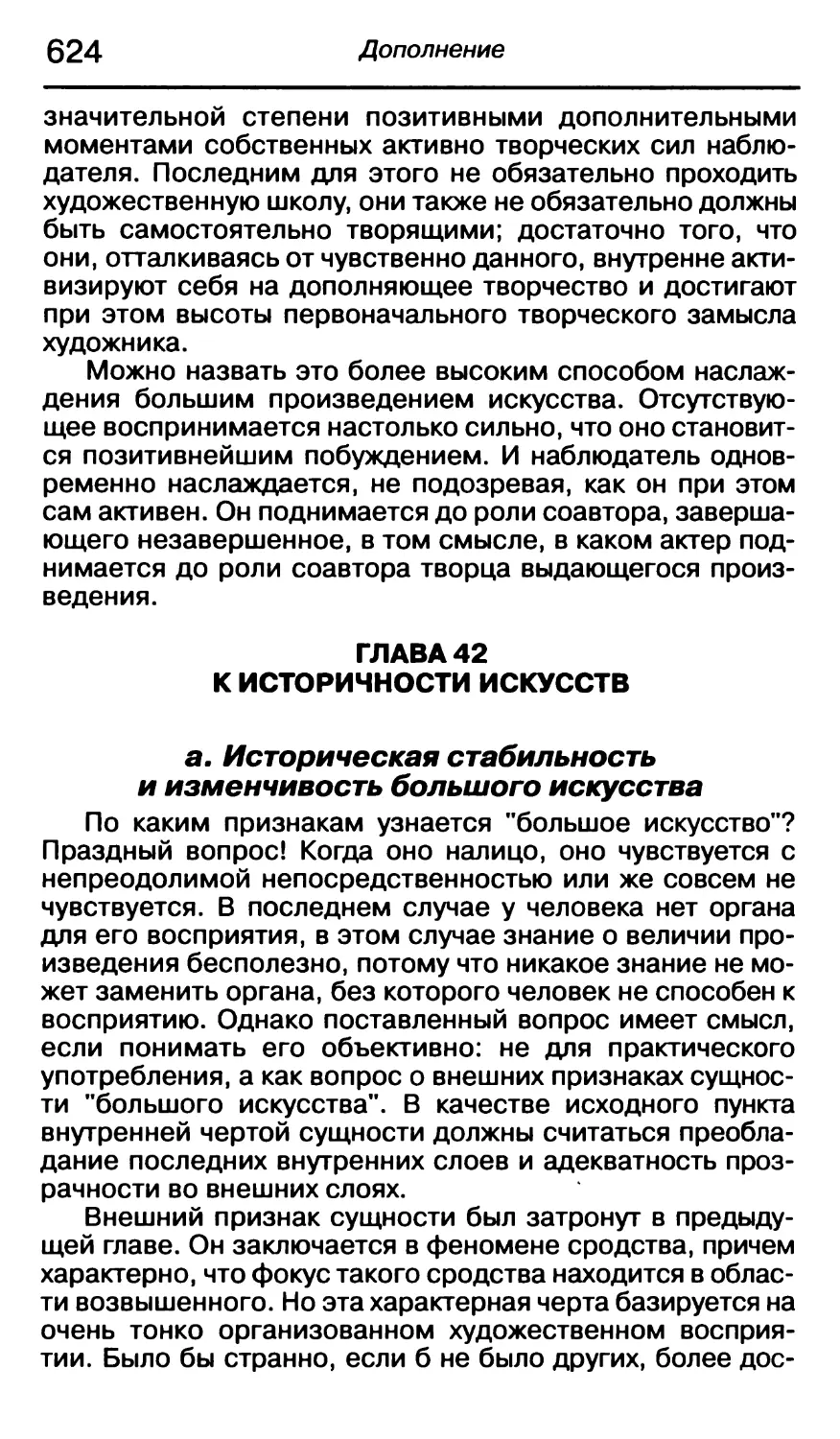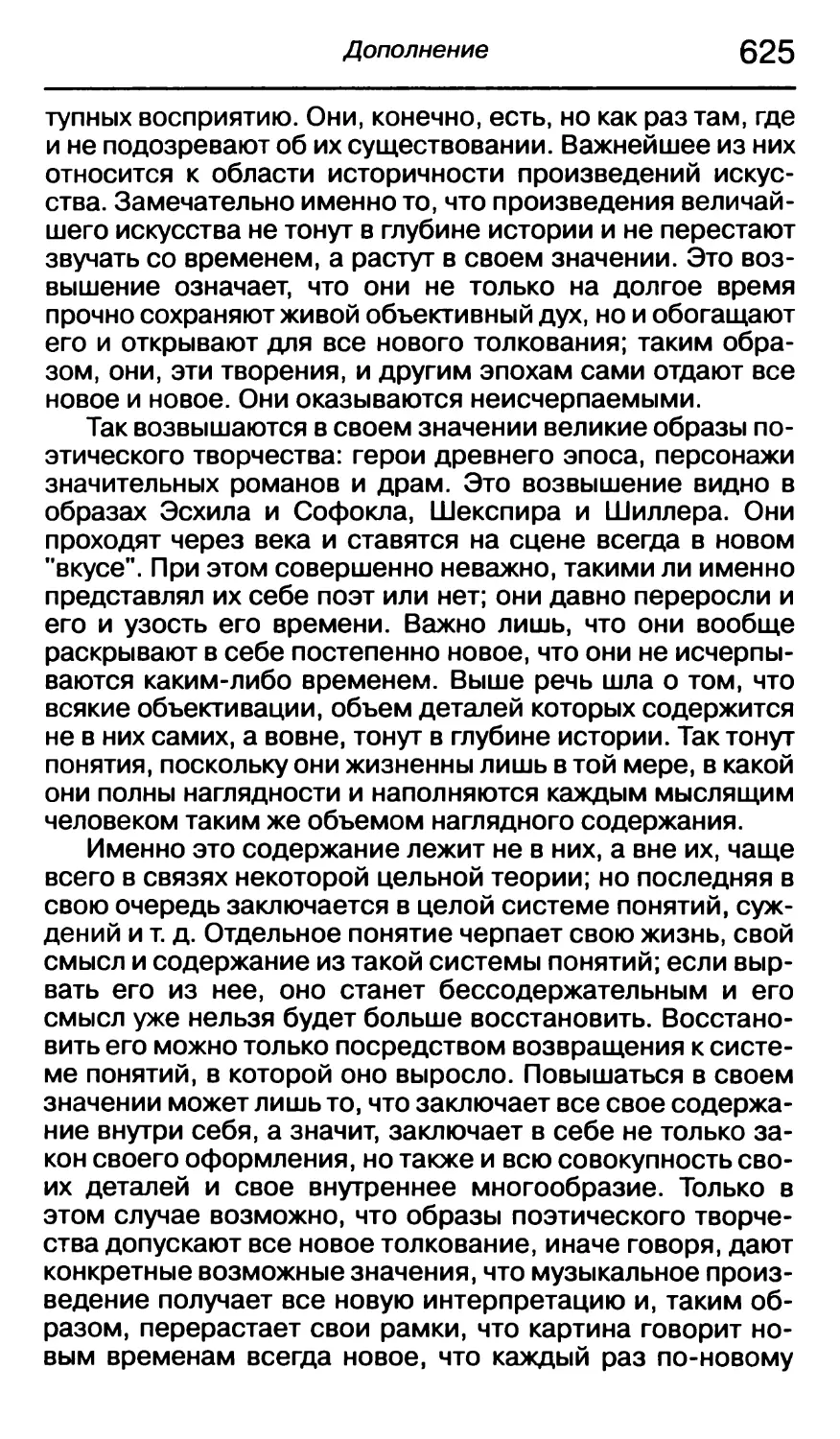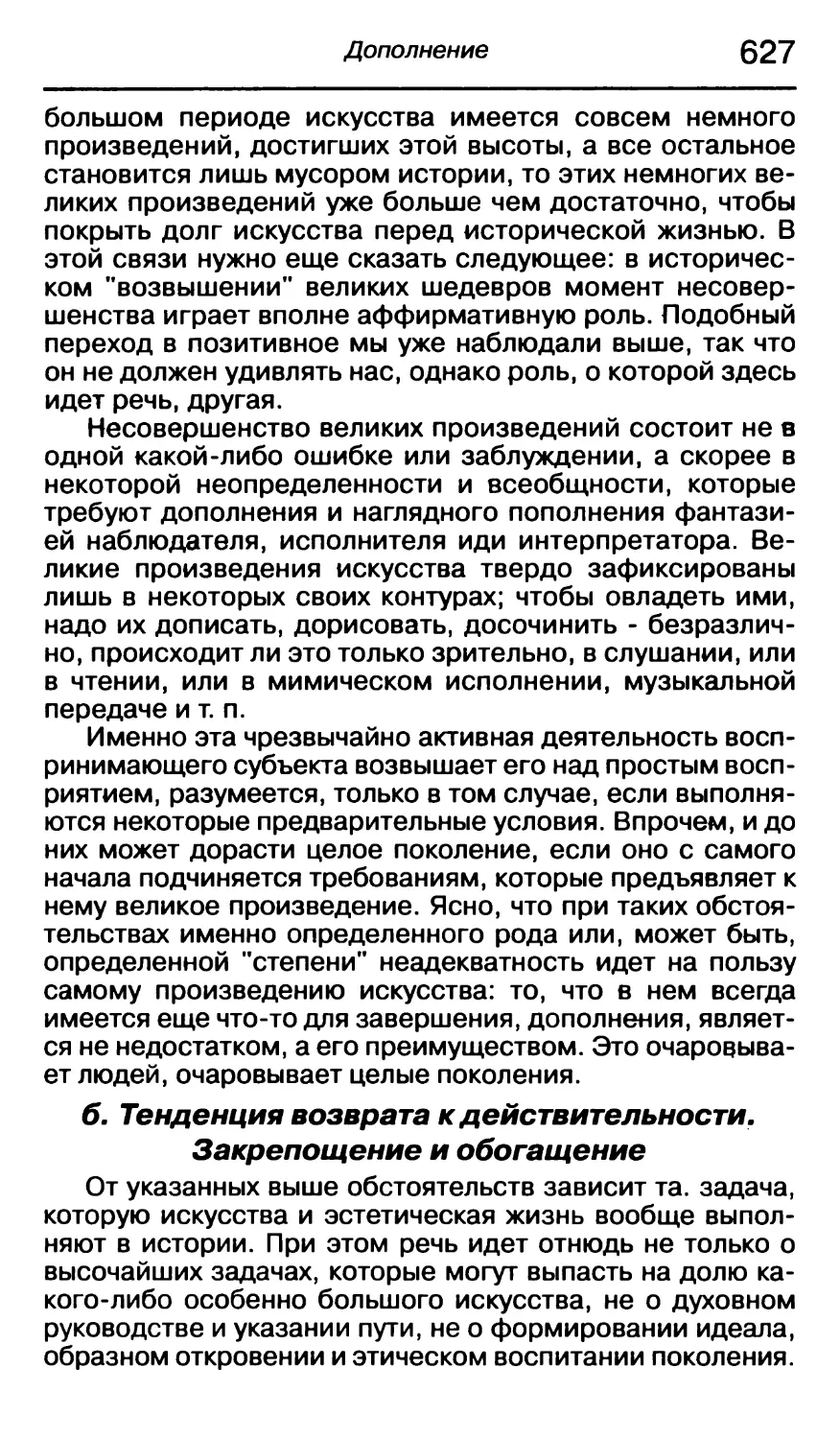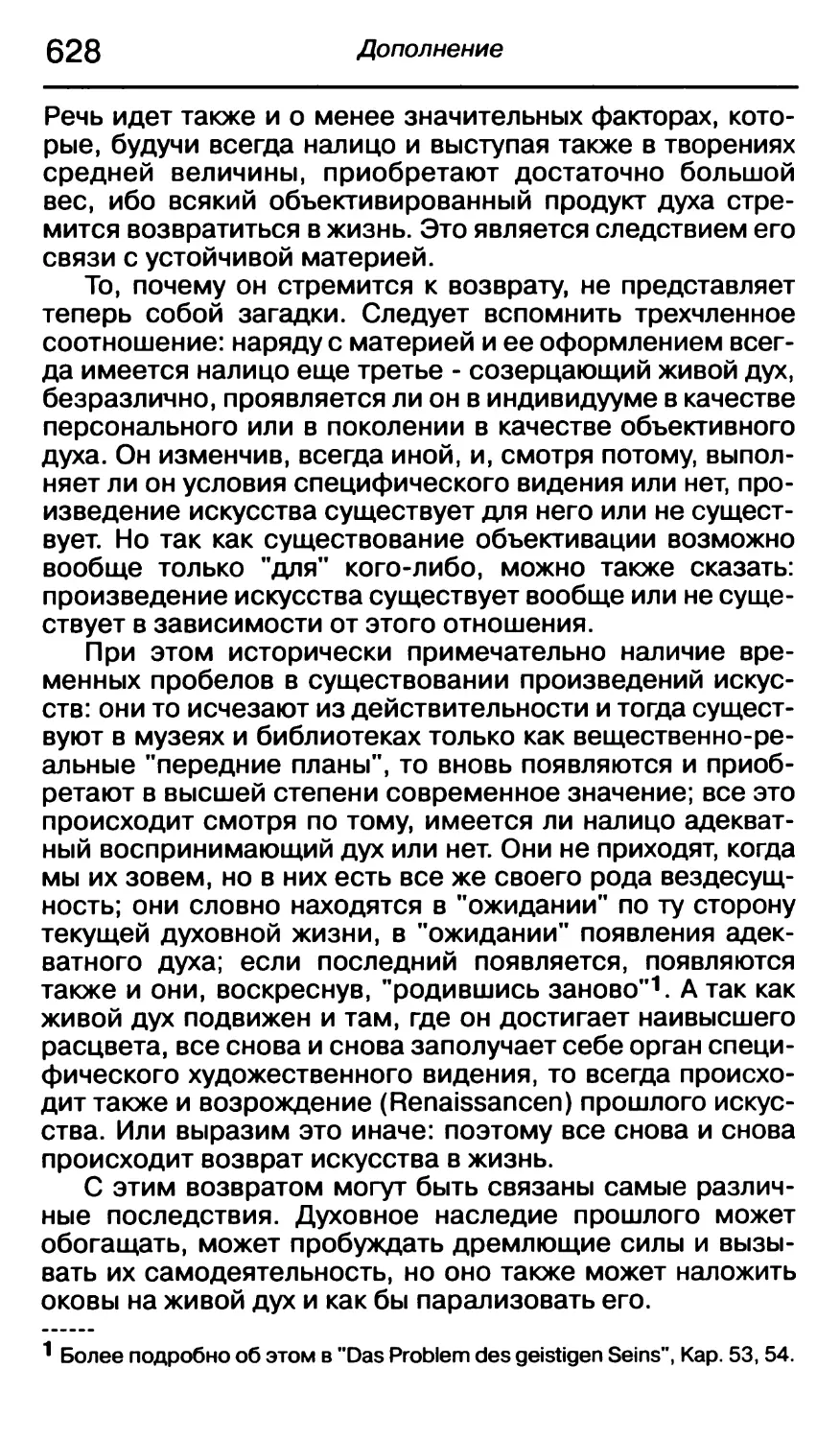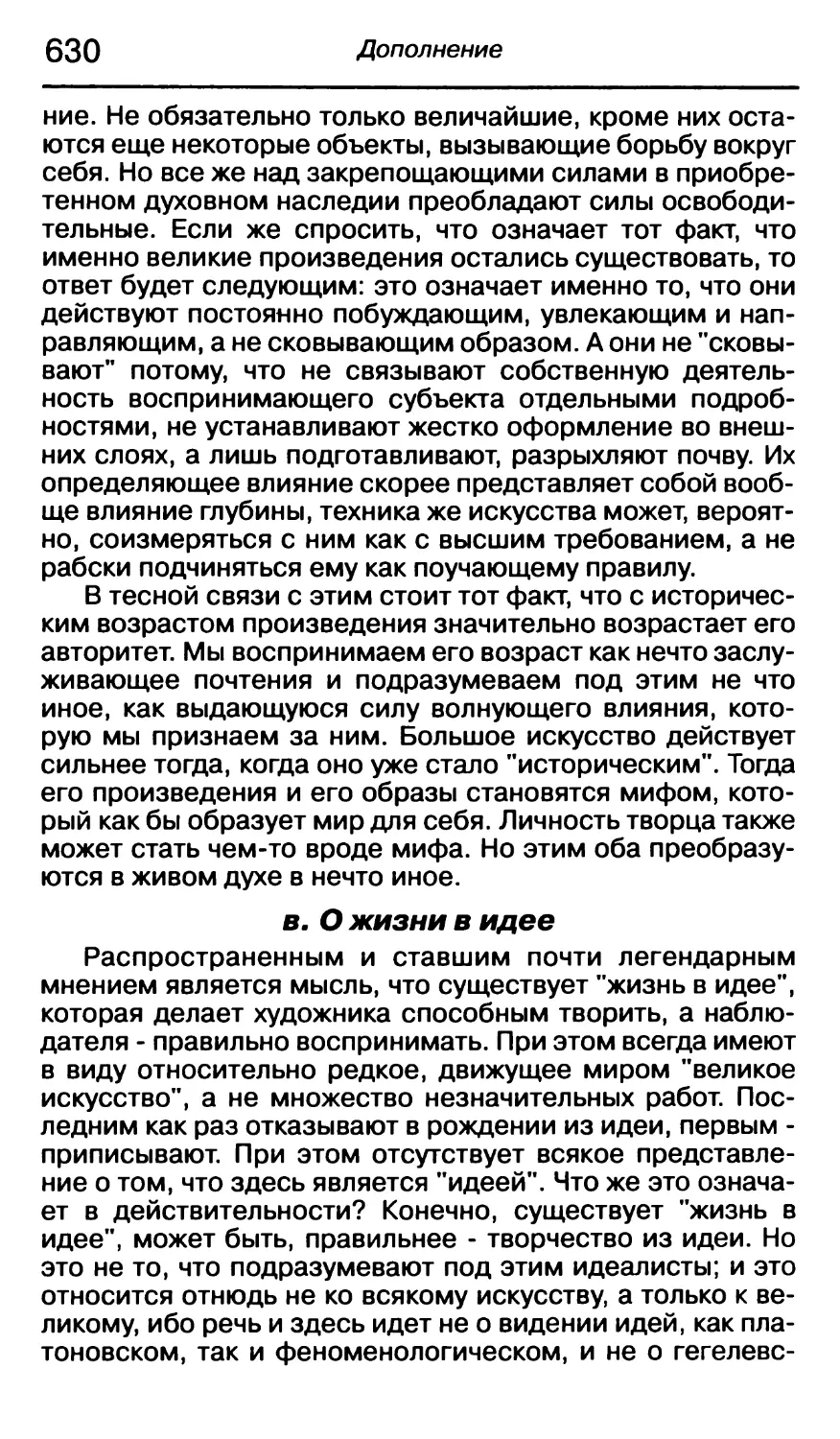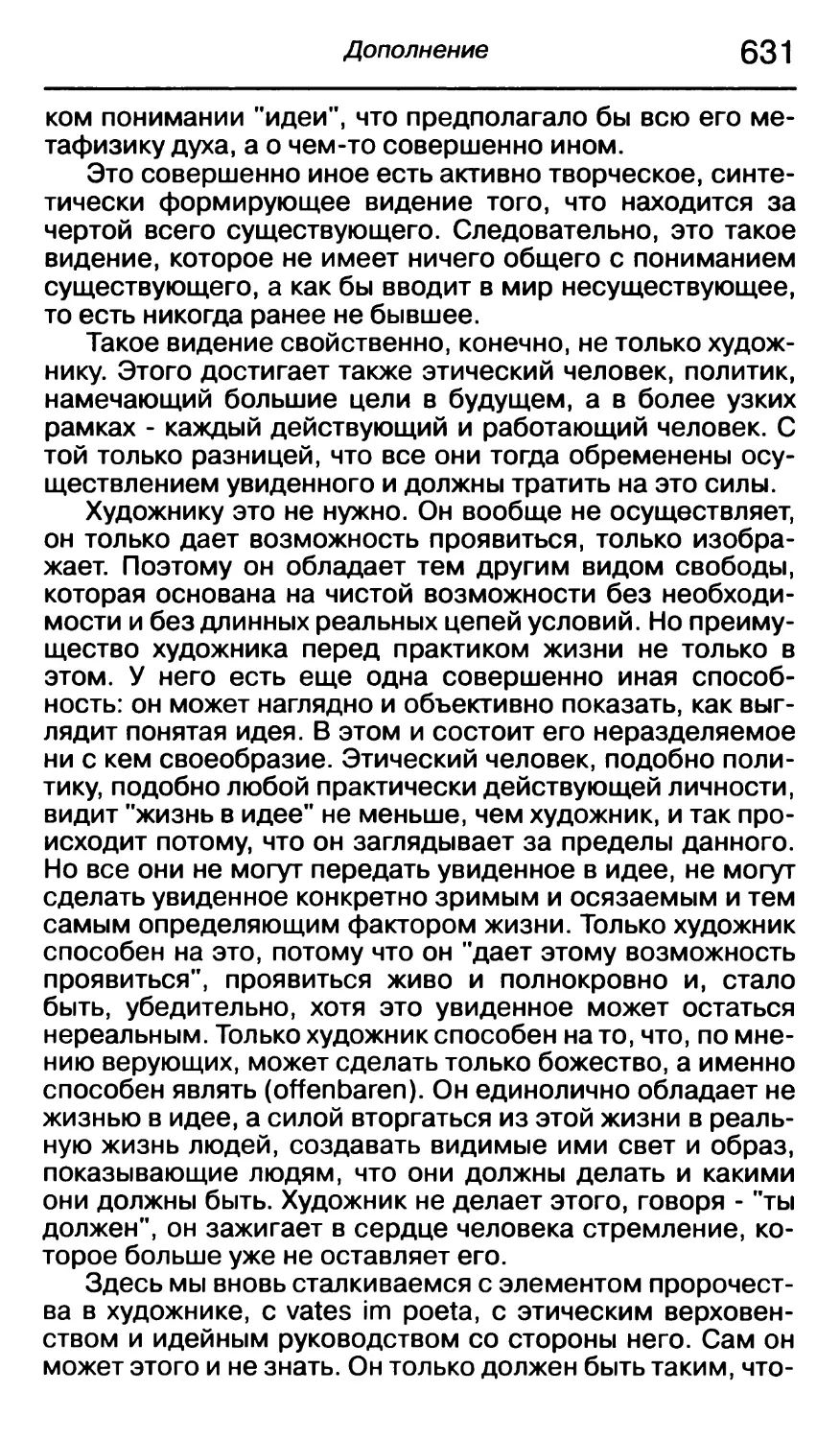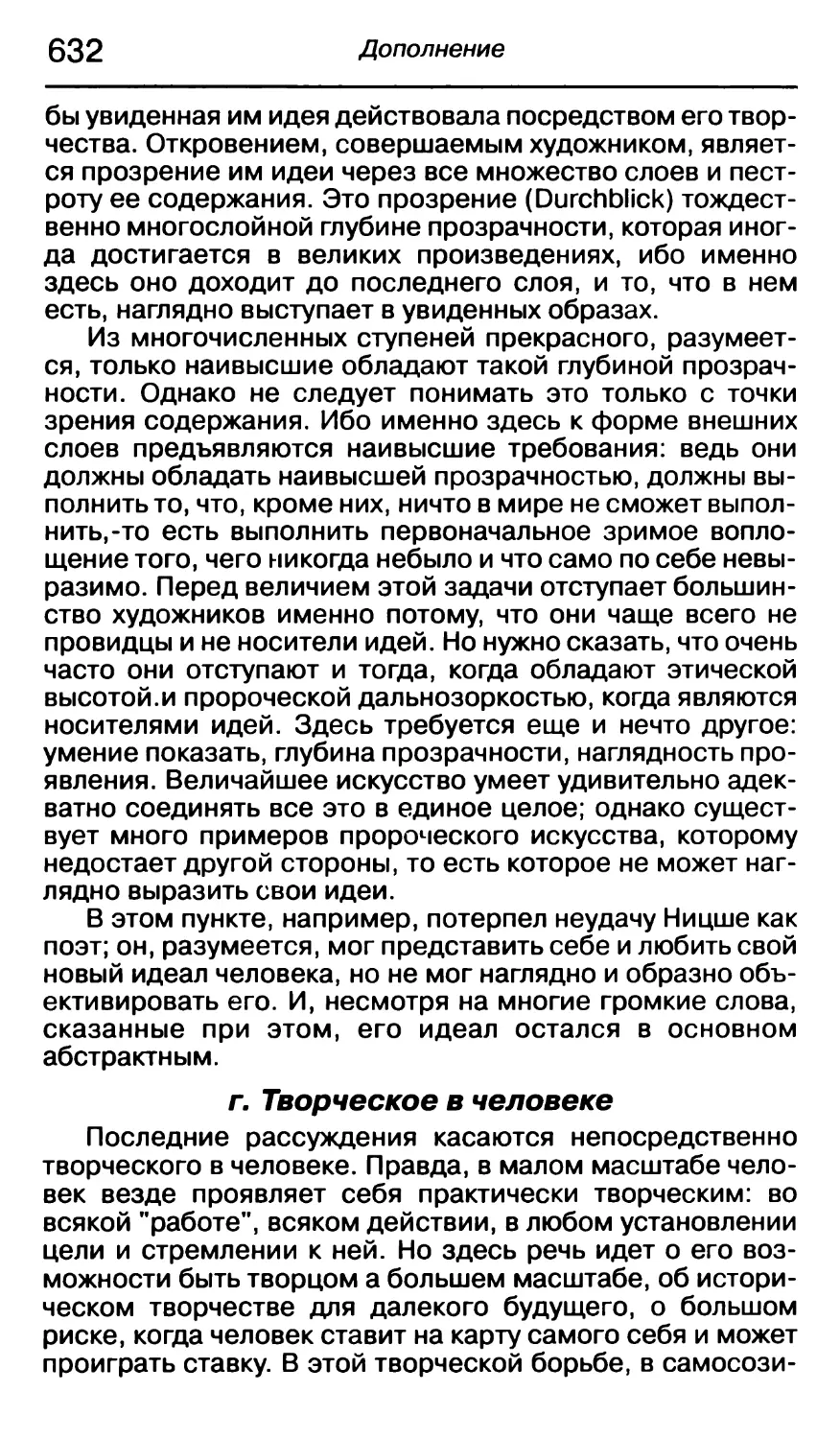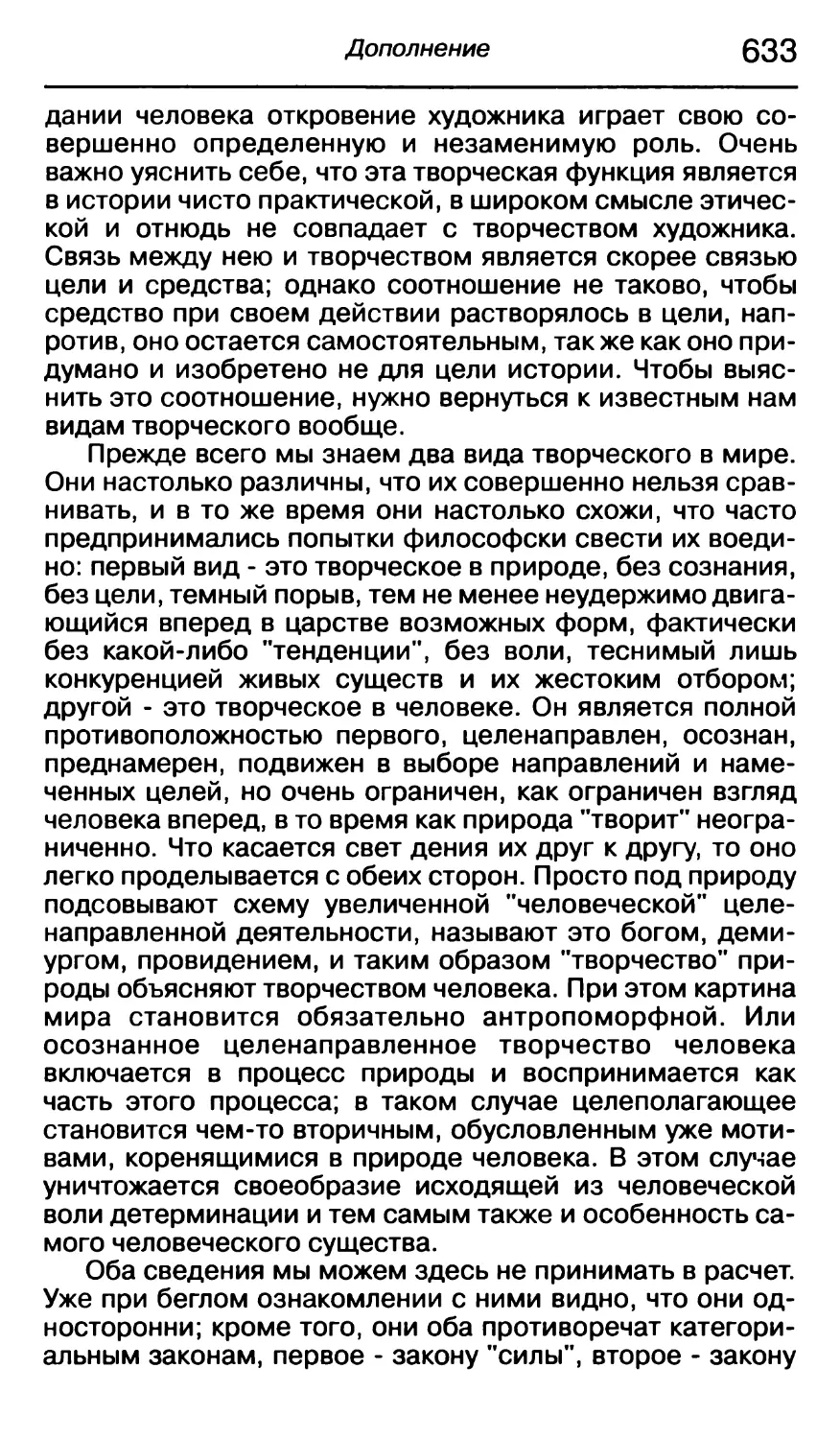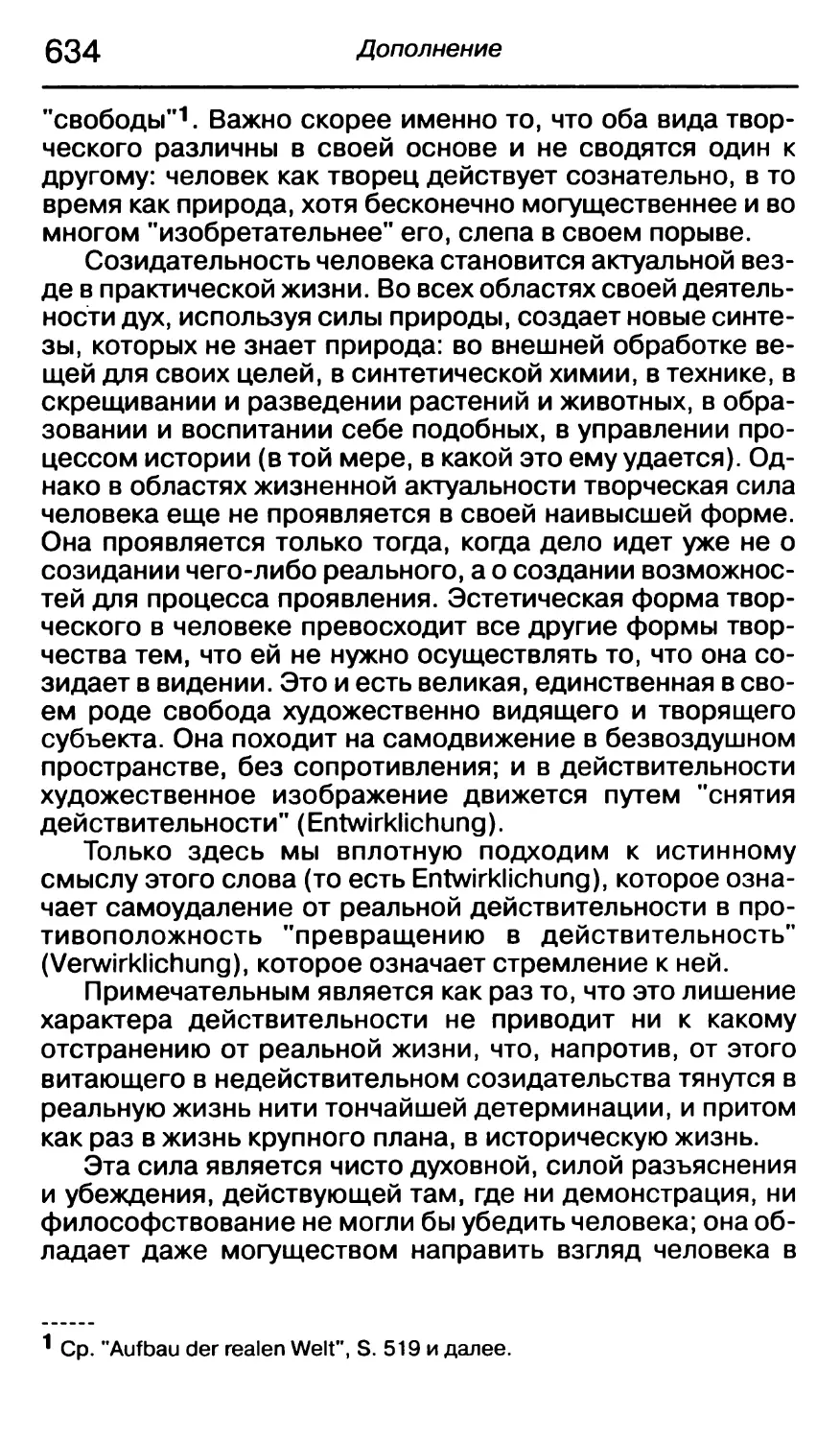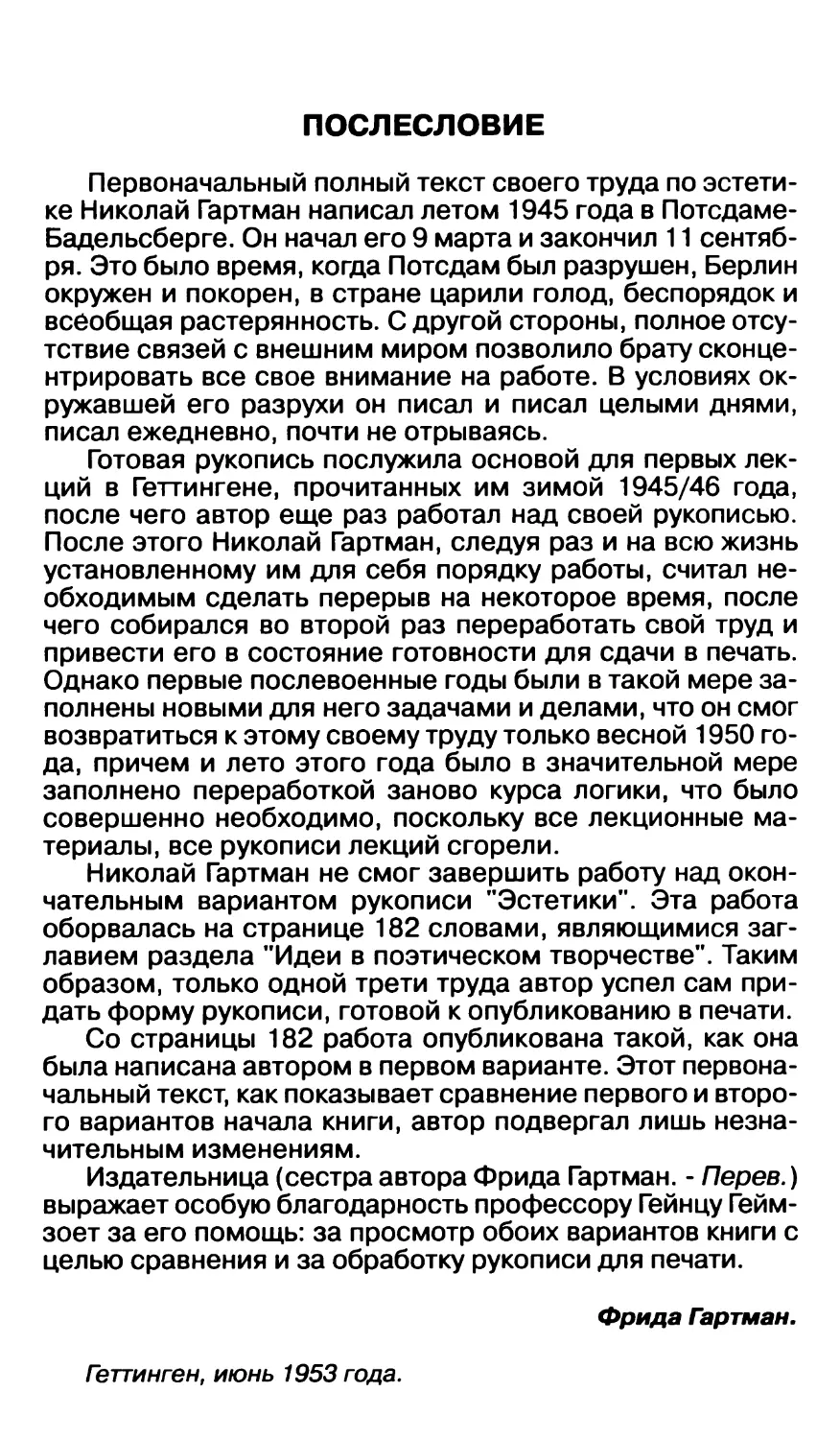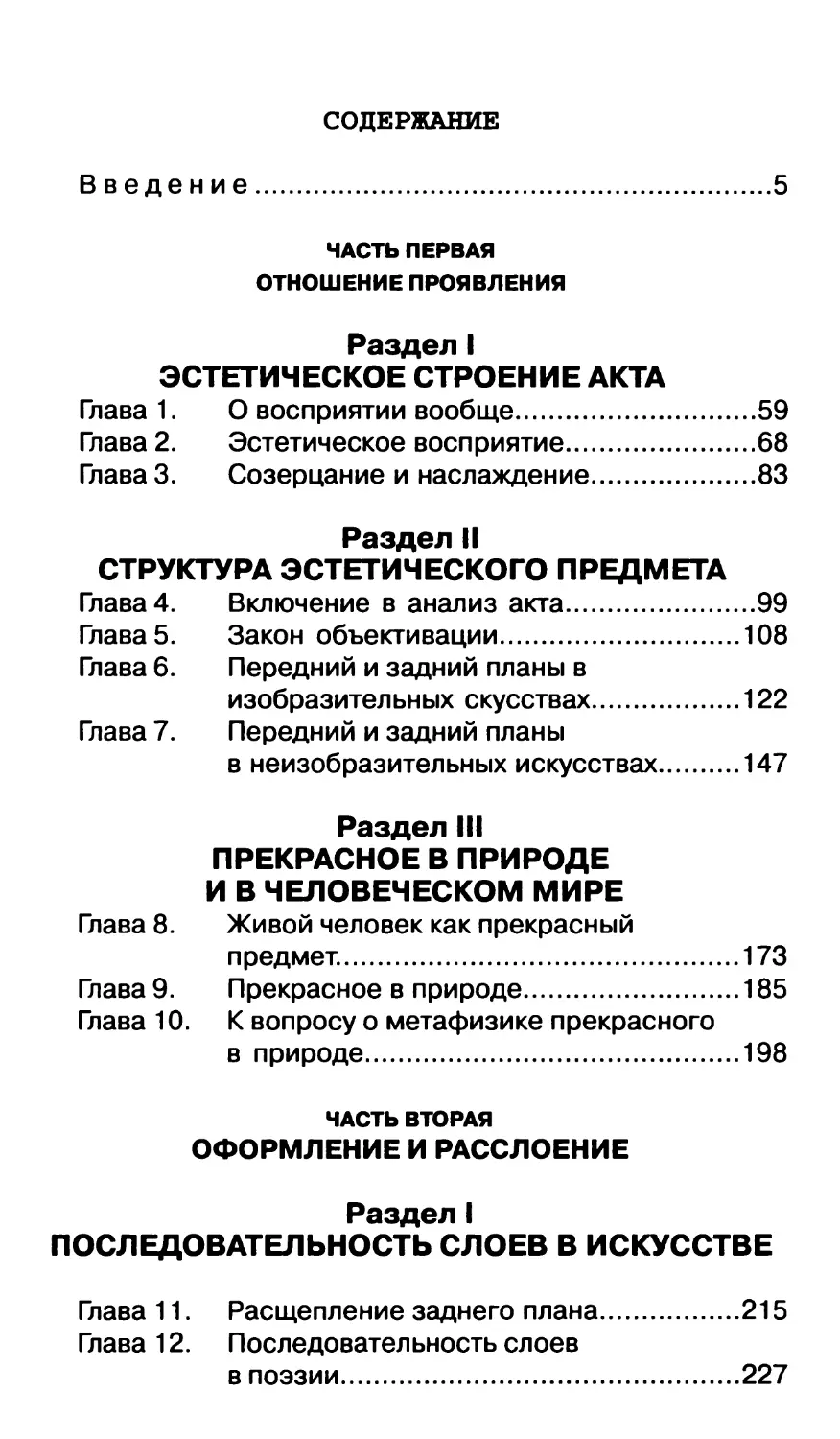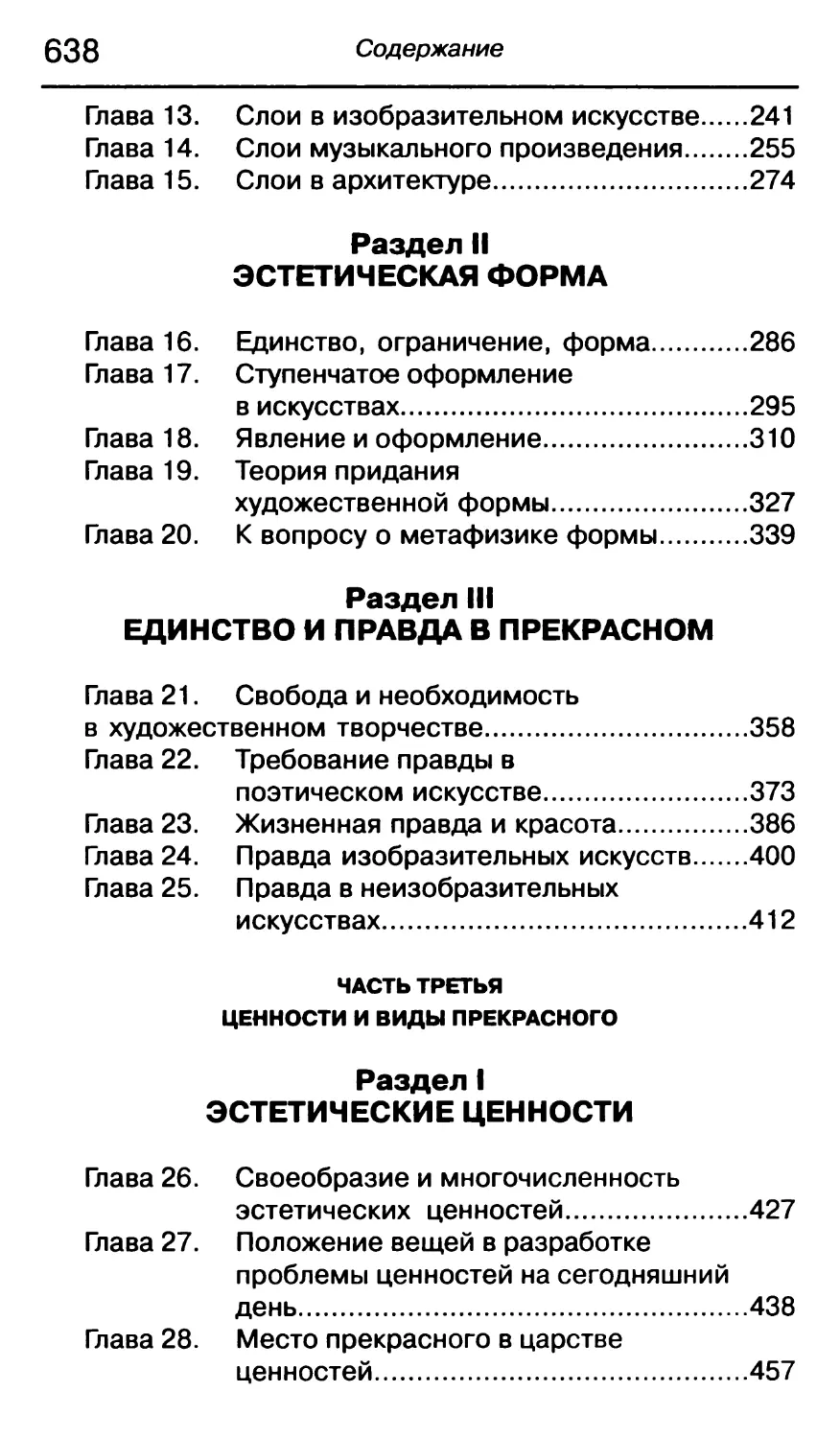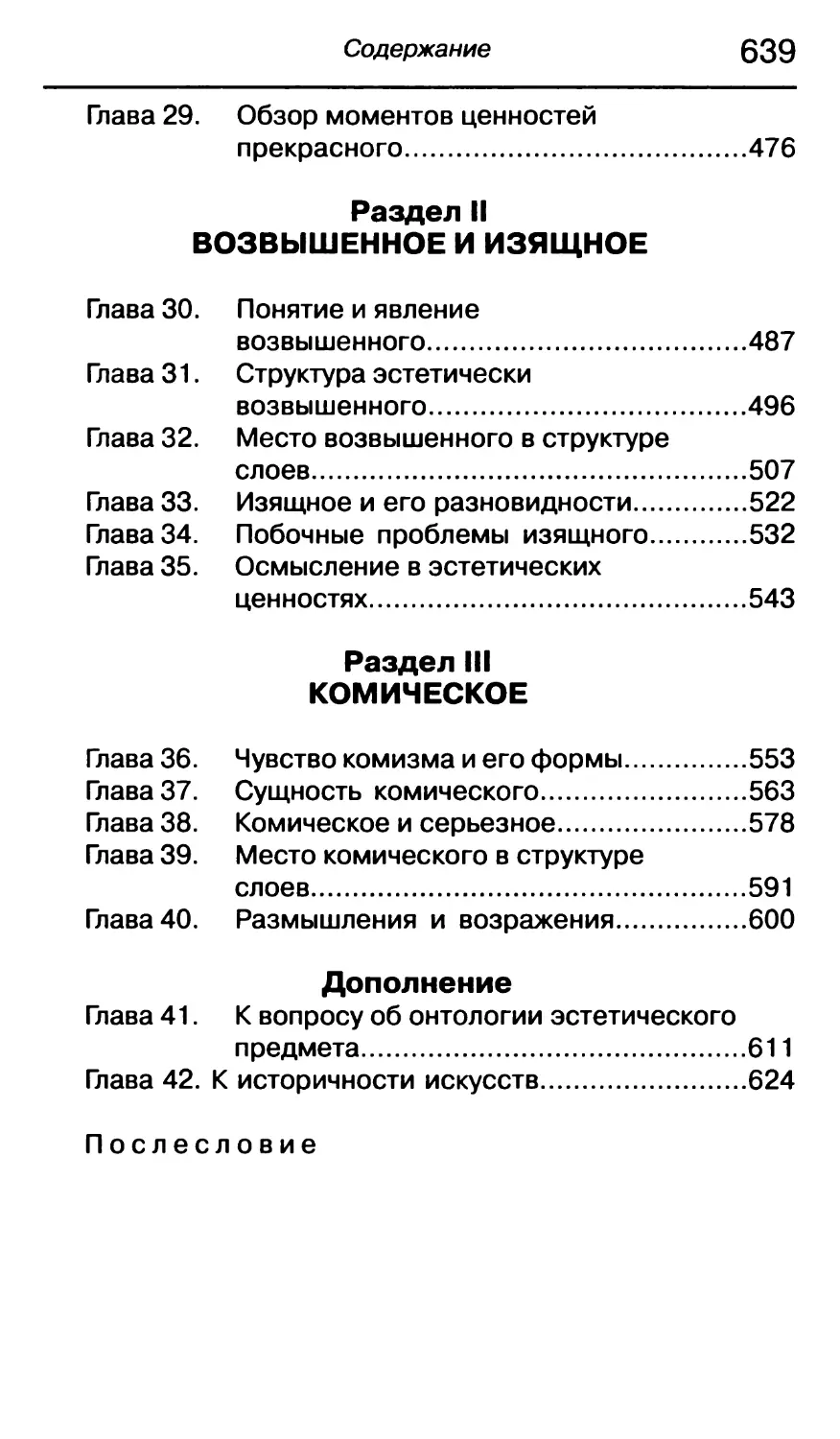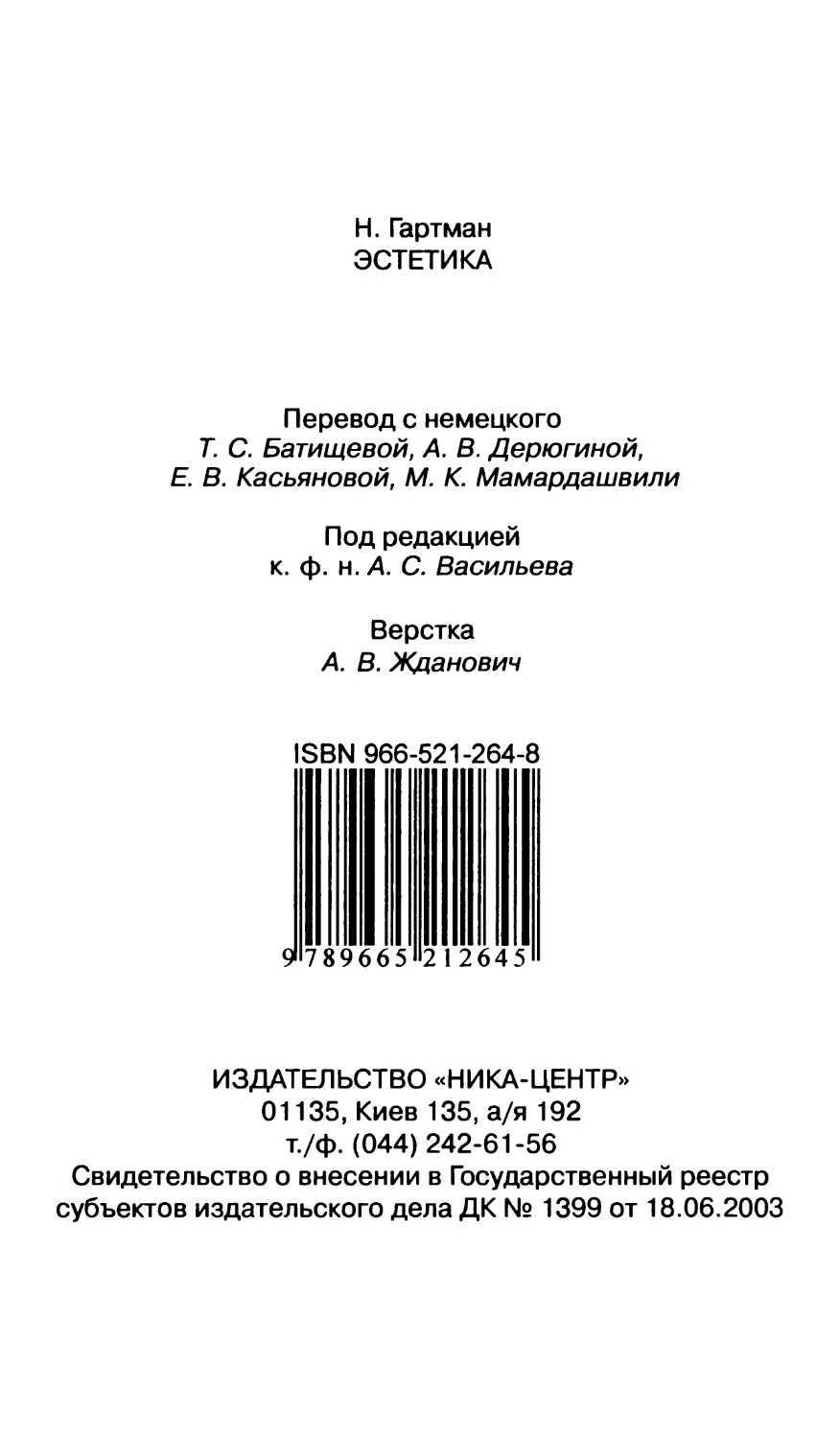Текст
Киев
Ника-Центр
ASTHETIK
VON
NICOLAI HARTMANN
BERLIN 1953
ДЛЯ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК
Н. Гартман
ЭСТЕТИКА
ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
Т. С. Батищевой, А В. Дерюгиной,
Е. В. Касьяновой, М. К. Мамардашвили
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Кандидата философских наук
А. С. Васильева
Киев
«Ника-Центр» 2004
Н. Гартман
ЭСТЕТИКА
Перевод с немецкого
Т. С. Батищевой, А. В. Дерюгиной,
Е. В. Касьяновой, М. К. Мамардашвили
Под редакцией
к. ф. н. А. С. Васильева
Верстка
О. П. Жданович
ББК87.8
Г20
Н. Гартман
ЭСТЕТИКА
Творение известного немецкого философа-идеал иста
Николая Гартмана "Эстетика" (1953 г.). Он прокламирует
свою "особую" точку зрения, которая является
разновидностью феноменализма, и пытается создать собственную
систему в эстетике. Исследования Н. Гартмана
относительно эстетики как науки, о природе прекрасного, о
категориях эстетики достойны внимания и широко признаны в
мире.
Книга была впервые опубликована на немецком языке
после смерти Николая Гартмана сестрой автора Фридой
Гартман под общей редакцией профессора Гейнца
Геймзоета.
ISBN 966-521-264-8
ВВЕДЕНИЕ
7. Эстетическая точка зрения
и эстетика как познание
Эстетику пишут не для художника-творца и не для
созерцателя прекрасного, ее пишут исключительно для
мыслителя, для которого действие и поведение этих
обоих являются загадкой. Глубокому наслаждению мысль
может только мешать, художника только раздражать и
сердить; так по крайней мере обстоит дело тогда, когда
мысль хочет постигнуть, что, собственно, они совершают
и что является предметом их действий. Обоих она
вырывает из их мечтательного состояния, хотя обоим чувство
загадочности довольно понятно и не противоречит их
точке зрения. Для обоих эта их точка зрения является само
собой разумеющейся. Они знают одну лишь внутреннюю
необходимость и в этом не ошибаются. Но они
воспринимают это благочестиво, как дар небес, и это восприятие
для их точки зрения очень существенно.
Философ начинает там, где оба, и художник и
созерцатель, пораженные тем, что они испытывают, уступают
силе глубины и загадочности. Он исследует эту
загадочность, он анализирует. Но при анализе он отвергает всякое
личное пристрастие и иллюзии. Эстетика предназначается
только для философски настроенного ума. И, наоборот,
точка зрения личного пристрастия и иллюзии отвергает
философское рассмотрение. Или, по крайней мере, она
ему вредит. Эстетика - это род познания с явной
тенденцией стать наукой. И предметом этого познания являются
именно личное пристрастие и иллюзия. И не столько
пристрастие и иллюзия, сколько то, к чему они обращены,
то есть прекрасное, но в неменьшей мере и они сами. Из
этого следует, что эстетическое чувство является в своей
основе совершенно другим, чем философское познание,
которое направляется на него как на свой предмет.
Эстетическая точка зрения вообще не является
достоянием эстетика. Она есть и остается точкой зрения
любителя искусства и творца его, изучение же этой точки
зрения - дело философа.
Как одно, так и другое не подразумеваются сами
собой. Обоюдное самоисключение, если бы оно было
полным, должно было сделать невозможной мыслительную
работу эстетика. Последний должен был бы обладать спо-
6
Введение
собностью к художественной точке зрения, потому что
познать ее он мог только на собственном опыте. Кроме
того, некоторые очень уважаемые мыслители
придерживались противоположных убеждений. Шеллинг, например,
хотел сделать эстетическое рассмотрение органоном
философии. Немецкой романтике снилось отождествление
"философии и поэзии" - так рассуждали Фридрих Шле-
гель и Новалис. Последний представлял себе философа
наподобие "мага", который по своей воле мог привести
"универсальный орган" в действие и приковать к себе
мир, если бы захотел. Это представление взято, без
сомнения, из арсенала поэта. Но, с другой стороны, казалось,
что только художественный взгляд может проникнуть в
тайны природы и духовной жизни. Так казалось потому,
что ту самую сущность, которая познается в я, можно
познать во всех вещах и в мире как целом в качестве их
заднего плана. К этой в основе своей антропоморфной
мировой формуле сходились совершенно разнородные точки
зрения. И только с ее сознательным отрицанием, которое
встречается уже у Гегеля, снова выявляется вся глубина
противоположности между художественным и
познавательным актом, между непосредственным созерцанием и
анализирующей работой мысли.
Так же малопонятно разделение акта, если подойти к
нему с другой стороны. Со времени возникновения
собственно эстетики в XVIII столетии укоренилось
молчаливое предположение, что эта философская дисциплина
должна научить как созерцателя прекрасного, так и
художника-творца кое-чему существенному. Это должно
было выглядеть так, пока в эстетическом созерцании
видели род познания, хотя и отличный от рационального.
Было время, когда считали, что логика может научить
мыслителя думать.
А здесь отношение еще более запутанное. Логика
может, по крайней мере, указать ошибающемуся мышлению
на его ошибки и таким образом практически привести его
к последовательности. Для эстетики подойдет нечто
подобное, но только в гораздо более отдаленном и
огрубленном виде. Как логика только с опозданием
устанавливает, что последовательное мышление совершается по
законам и только так может достигнуть системы
внутренней последовательности, точно так же, и даже гораздо в
большей мере, это происходит и в эстетике; и это только
до тех пор, пока может идти речь о выяснении законов
прекрасного. Эстетика предполагает прекрасный пред-
Введение
7
мет, а также акт его восприятия вместе с особенным
родом созерцания, чувством оценки и внутреннего
пристрастия. Она предполагает также еще более удивительный
акт художественного творчества, и оба эти акта она
предполагает без требования препарировать их
закономерности, хотя бы приблизительно, в той же самой мере, как
логика препарирует законы правильного мышления. Уже
поэтому эстетика не может сделать для эстетического
созерцания ничего подобного тому, что делает логика для
мышления.
2. Законы прекрасного и наше знание о них
К вышесказанному присоединяется еще другое
различие. Законы логики всеобщи, они лишь немного
варьируют в зависимости от области предмета. Законы же
прекрасного в высшей степени специализированы и в
основном для каждого объекта другие. Это означает, что законы
прекрасного индивидуальны. Кроме того, существуют
также и общие законы - такие законы, которые касаются
или всех эстетических предметов, или же по меньшей
мере целых классов предметов. И эстетика может пытаться
познать их в известных границах. Насколько ей это
удается, это другой вопрос, нельзя в этом отношении питать
слишком большие надежды. Но эти всеобщие законы
являются только предпосылкой, может быть,
категориальной или иначе даже конститутивной. Сущность
прекрасного в его неповторимости как особенной эстетической
ценности лежит не в них, а в особой закономерности
единичного предмета.
Эта особая закономерность принципиально не
поддается какому бы то ни было философскому анализу. Ее
нельзя раскрыть средствами познания. В самом ее
существе заложено то, что она остается скрытой и ощущается
как находящаяся там принудительно, но не могущая быть
понята предметно.
Ее не схватывает и художник-творец. Он творит в
соответствии с ней, но не открывает ее и поэтому о ней не
высказывается. Он не может о ней ничего сказать, потому что
не имеет предметного знания о ней. Еще меньше об этом
осведомлен созерцающий наблюдатель. Он знает о ней,
но только как о какой-то тайне, которую он не может
открыть. Он со своей стороны, не схватывает ее.
Созерцающий наблюдатель может в известных случаях найти, как
далеко она действительно завладевает вещью или как
сильно она нарушена нехудожественными стремлениями,
8
Введение
то есть насколько она не удалась. Но и тогда структура
закона ускользает от его знания.
Настоящего знания законов прекрасного не
существует. Кажется, в их сущности заложено то, чтобы они
оставались скрытыми от сознания и составляли бы только тайну
совершенно скрытого заднего плана.
В этом причина того, почему эстетика принципиально
может сказать, что такое прекрасное, и также может
указать на его роды и ступени вместе с их общими
предпосылками, но эстетика не может научить практически
определять, что именно прекрасно и почему именно данный
вид какого-либо изображения прекрасен. Эстетическая
рефлексия при всех обстоятельствах запаздывает. Она
может начаться после того, как эстетическое созерцание
и непосредственно получаемое наслаждение прекрасным
совершились. Но она не должна ни в коем случае
следовать за ним, а если и следует, то едва ли что-нибудь
добавляет к нему как таковому. Эстетическая рефлексия
может в этом помочь еще меньше, чем искусствоведение,
которое, по крайней мере, может указать на
незамеченные стороны произведения искусства и благодаря этому
сделать его доступным неадекватно воспринимающему
сознанию. И еще меньше она может дать правильное
направление художнику-творцу. В известных границах она
может дать возможность изучить художественно
невозможное как таковое и уберечь искусство от ложного пути.
Но дать что-либо позитивное, указать, что и как искусство
должно изображать, - это также находится за пределами
ее возможностей.
Все теории, которые придерживались этого
направления, и все невысказанные надежды этого рода, которые
так легко соединяются с философскими потугами
эстетики, давно оказались тщетными. Надо с самого начала и
раз навсегда отказаться от претензий такого рода, если
хотят всерьез исследовать проблему прекрасного в жизни
и в искусстве.
Заканчивая, можно добавить к этому еще следующее.
Существует предрассудок еще более радикального рода,
касающийся вообще связи искусства и философии.
Согласно ему, художественное восприятие есть только
предварительная ступень знания и полного понимания.
Гегелевская философия со своим последовательным развитием
"абсолютного духа" по ступеням высказала этот взгляд
так: только на ступени понятия идея достигает своего
полного "бытия для себя", то есть своего собственного зна-
Введение
9
ния о себе самой. И хотя сегодня вряд ли кто-нибудь
защищает эту духовную метафизику, все же широко
распространено представление, будто искусство есть такая
форма понимания, в которой чувственная видимость
существует как момент неадекватности.
То, что при этом собственно "эстетическое", то есть
чувственное в художественном восприятии, по существу
не признается, в то время как именно чувственная
наглядность и есть то, что доказывает в искусствах их
превосходство над понятием, не нуждается больше ни в каких
объяснениях. Но роковая ошибка заключается во мнении, что
якобы эстетическое восприятие (созерцание) вообще
является родом познания, находится на одной линии с
познанием. При этом основательно ошибаются в трактовке ее
сущности. Старая эстетика довольно долго носилась с
этой ошибкой. У Александра Баумгартена существует еще
род cognlto, и даже Шопенгауэр в своей платонизирован-
ной эстетике идей еще не освободился от схемы познания,
несмотря на то, что он эту рациональность, конечно,
сознательно отклоняет.
Но эстетическое созерцание содержит известные
моменты познания. Уже чувственное различение, на котором
оно зиждется, приносит их с собой, потому что
различение в первую очередь есть ступень схватывания
предметов. Но эти моменты не составляют своеобразия
созерцания, они являются подчиненными моментами в нем. То,
что составляет особенность созерцания, этим совсем
еще не затронуто. Выяснить это может только
обстоятельный анализ, потому что здесь играют роль моменты актов
совсем другого рода, чем моменты понимания, а именно
моменты оценки (так называемого суждения вкуса),
увлекательного и устойчивого бытия, пристрастия,
наслаждения и восторга. Само созерцание также получает здесь
другой характер, чем в теоретической области. Оно
весьма далеко от того, чтобы быть только чувственным
созерцанием. И высшие ступени созерцания уже не являются
больше просто воспринимающим пониманием, но
указывают на сторону творческого созидания, которое не
имеет и не может иметь связи с познанием. Искусство не
является продолжением познания. Не является таковым и
созерцание наблюдателя.
С другой стороны, эстетика не является
продолжением искусства. Она не является какой-то высшей ступенью,
на которую искусство должно или только могло бы
перейти. Она также не является высшей ступенью искусства, как
10
Введение
психология не является целью поэзии, а анатомия - целью
пластики. Ее задачей в известном смысле является как
раз противоположное. Эстетака пытается открыть тайну,
которая существует в искусствах в самых разнообразных
формах. Она пытается проанализировать акт дающего
наслаждение созерцания, который может продолжаться
только до тех пор, пока он остается неразгаданным и не
затронутым мыслью. Своим предметом она делает сам
акт созерцания, то есть то, что в этом акте не является и
не может быть предметом. Поэтому для эстетики предмет
искусства - это нечто отличное от предмета мысли и
исследования. Предмет мысли и исследовдния не может
быть предметом эстетического созерцания. Здесь лежит
причина того, почему позиция эстетика не есть
эстетическая позиция, так что первая может следовать за второй, но
не может совпасть с ней, а тем более не может
предопределяться ею.
3. Прекрасное как универсальный
предмет эстетики
Прежде всего надо выяснить, является ли
"прекрасное" действительно всеобъемлющим предметом
эстетики. Или такой вопрос: является ли красота универсальной
ценностью всех эстетических предметов, подобно тому
как добро считается универсальной ценностью всех
нравственных добродетелей? Оба мнения большей частью
молчаливо признавались, но в то же время и
оспаривались. Поэтому если хочешь придерживаться такого
взгляда, то нужно его доказать.
На чем основывается возражение против
центрального положения прекрасного? На соображениях троякого
рода; и, по существу, речь идет о трех различных мнениях.
Первое гласит: художественно удачное далеко не всегда
является прекрасным; второе - существуют целые роды
эстетически ценного, которые не относятся к
прекрасному; третье - эстетика имеет дело также и с безобразным.
Из этих возражений легче всего опровергнуть третье.
Конечно, в эстетике мы имеем дело также и с
безобразным. В некоторой степени оно входит во все роды
прекрасного. Ведь везде бывают границы прекрасного, и
здесь, так же как и в других областяхценности, существен
контраст. Вследствие этого существуют градации
прекрасного, целая шкала от совершенной красоты до явно
некрасивого. Само по себе это не является проблемой, но
в области прекрасного такая проблема уже содержится. В
Введение
11
сущности всех ценностей заложено именно то, что они
имеют противочлен, представляющий антипод ценности.
Предметом дискуссии никогда не является ценность сама
по себе, а ценность и соответствующая ей неценность.
Опыт анализа ценности учит, что определением ценности
дается также и оценка неценного, и наоборот. На этом
покоился еще метод Аристотеля - определять род
добродетели через род "дурного". И то, что имеет значение в
этической области, широко распространено и в области
эстетической. Основным феноменом как здесь, так и там
является целая шкала или градация ценности, полюсами
которой являются ценность и неценность.
Конечно, остается проблематичным, дается ли во всех
специфических измерениях прекрасного также и
безобразное. Относительно произведений человека это
никогда не оспаривалось, спорили только о предметах
природы. Может быть; все, что представляет природа, имеет
свою сторону красоты, даже если она не так легко
осознается. Эту возможность надо признать в
противоположность устаревшим теориям, которые оставляют широкий
простор естественному уродству (например, Гердер в
своем "Калигоне"). Но в проблеме безобразного такая
возможность мало что изменила бы. Она гораздо больше
доказывала бы то, что природные картины не содержат
ничего безобразного. Проблема заключалась бы тогда в
своеобразии природы, например в ее закономерности
или типичности форм, а не в сущности прекрасного.
Иначе обстоит дело с первым возражением:
художественно удачное не всегда бывает прекрасно. Мы
чрезвычайно легко и просто отличаем в портрете очень
некрасивого человека художественное качество произведения от
наружности изображенной личности, и это даже в том
случае, если представленное изображение бессердечно
реалистично. То же самое различие воспринимается нами и в
поэтическом изображении слабого или отталкивающего
характера или в бюсте античного бойца с безобразно
разбитым носом. И тогда мы говорим: художественное
выполнение замечательно, но сам предмет отнюдь не
прекрасен.
Для эстетически зрелого человека различение не
представляет труда. Но спросим себя: можно ли все в
целом назвать "прекрасным"? Предмет изображения не
делается прекрасным благодаря изображению, даже если
оно действительно гениально. И все же что-то от красоты
остается в этом произведении. Оно лежит в другой облас-
12
Введение
ти и не скрывает некрасивости изображенного. Оно
находится в самом изображении. Это собственно
художественная красота, поэтическая красота, красота живописи
или рисунка.
Здесь, очевидно, взаимно переплетаются два
совершенно различных рода прекрасного и безобразного. Они
относятся к двум различным родам предмета. Само
художественное или поэтическое изображение имеет
предметом то, что оно изображает. Но для созерцателя
предметом является уже само изображение. Это относится не ко
всем искусствам, не относится, например, к орнаментике,
архитектуре и музыке, но имеет значение для пластики,
живописи и поэзии. Предметом здесь везде является в
первую очередь произведение художника, изображение
как таковое, так же как и различия, вытекающие из
особенностей придания формы. Только во второй линии
выступает изображенный предмет, конечно, не в смысле
временной последовательности, а в смысле
"опосредованного бытия". И удачное произведение мы с полным правом
оцениваем как прекрасное, а неудачное, пошлое или
невыразительное (последнее, например, часто случается в
поэзии) - как безобразное. Ведь ценность или неценность
художественного достижения лежит именно здесь, а не в
качествах изображенного.
Прекрасное в том и другом смысле, очевидно,
свободно варьирует в широких границах. Но, тем не менее,
плохо нарисованная картина действует, в конце концов, все
же как некрасивое, а хорошо написанное некрасивое
действует как художественно прекрасное. Но даже в
хорошо написанном прекрасном есть и остается ясно
различаемая двоякая красота, а в плохо написанном некрасивом -
двоякая некрасивость. Тот, кто путает одно с другим - и не
только в рефлексии, но и в самом созерцании, - тому не
хватает художественного чувства. Возможности,
даваемые изображением, не имеют ничего общего с
приукрашиванием под прекрасное; напротив, там, где это
примешь вается, оно скорее является минусом в красоте и
может довести до художественно некрасивого, до
неудачи, до банальности и халтуры.
В этом смысле вполне уместно придерживаться
мнения о прекрасном как универсальной эстетической
основной ценности и все художественно удачное и действенное
подводить под него. В чем заключается удачное,
составляет совершенно другой вопрос; он покрывается основ-
Введение
13
ным вопросом всей эстетики: что же, собственно,
является красотой?
Из трех вышеназванных возражений остается
разобрать еще второе. Оно гласит: прекрасное есть только один
из родов эстетической ценности. Рядом с ним стоит
возвышенное как таковое, общепризнанное в своем
своеобразии. А дальше присоединяются другие качества
ценности, даже если они в своей самостоятельности не
являются бесспорными: привлекательное, приятное,
трогательное, прелестное, комическое и трагическое и многое
другое. Если входить в специфические области искусства,
то находишь еще более специализированные богатства в
эстетических качествах ценности. И в каждом случае
легко находится соответствующая неценность, если даже
язык не всегда умеет подобрать ей название.
Но полагали, что поскольку их ряд очень длинный и
поскольку они все могут заявить претензию на внимание
эстетики, то нужно дать также и всеобщую категорию
оценки, которая бы всех их охватывала и имела
достаточно места для их разнообразия. Можно, конечно, спорить о
том, целесообразно ли эту категорию оценки обозначать
как красоту. Потому что "красота" есть, в конце концов,
слово обиходного языка и как таковое многозначно. Но
помимо внеэстетического словоупотребления здесь,
очевидно, всегда имеется еще одно узкое
словоупотребление с широким значением, придаваемым в споре. Первое
находится в противоположности к возвышенному,
привлекательному, комическому и т. д.; последнее охватывает их
всех без исключения; конечно, так происходит только в том
случае, когда эти названия понимаются в их чисто
эстетическом смысле, потому что все они имеют также и внеэс-
тетическое значение. Такое условие должно считаться
установленным, потому что оно является также
предпосылкой противоположности красоте в узком смысле.
При таком взгляде спор о значении превращается в
спор о словах. Никому нельзя запретить узко толковать
понятие прекрасного и противопоставлять его
специальным понятиям, но никому нельзя запретить понимать его
и широко, как высшее понятие всех эстетических
ценностей. Нужно только строго придерживаться раз принятого
значения и не путать незаметно одно с другим.
В последующем за основу должно быть взято широкое
значение. Оно должно удерживаться и там, где
специальные роды проталкиваются на передний план. Эти
последние оказываются тогда родами прекрасного. Практически
14
Введение
это имеет то преимущество, что самое употребительное
эстетическое понятие делается основным понятием и
забота об искусственно образованном высшем понятии
делается излишней.
4. Эстетическое действие и предмет.
Четыре способа анализа
Существует множество путей для исследования, но не
все они одинаково доступны, тем более в данном явно
проблематическом положении. Все методы
руководствуются тем, какие стороны исследуемого общего феномена
в это время стали доступными. В эстетике это имеет
особое значение, потому что в ней до сих пор применялся
малопригодный анализ феномена и весь комплекс вопросов
сообразно со своей трудностью еще мало апоретически
расчленен. Этим не должны быть снижены достижения
заслуженных исследователей. Однако положение дела
гораздо больше свидетельствует о том, что эстетика все
еще находится в начале пути и движется осторожными,
нащупывающими шагами. Так, по крайней мере, обстоит
дело с серьезными эстетическими исследованиями. Ведь
в смелых проектах и конструкциях недостатка нет, но они
поучительны только благодаря своим недостаткам.
Так как прекрасное по своему существу постоянно
соотносится с наблюдающим субъектом, у которого
предполагается особая действенная позиция, то с самого начала
намечаются два направления возможного исследования:
объектом анализа можно сделать эстетический предмет, но
им может быть и тот акт, предметом которого последний
является. Оба направления подразделяются в свою
очередь. В предмете можно исследовать или его структуру и
образ бытия, или же характер его эстетической ценности.
Точно так же и анализ акта можно направить или на
воспринимающий акт созерцателя, или же на производительный
акт созидателя. Насколько можно отделить друг от друга
эти направления исследования, само по себе является
вопросом и может пока не приниматься во внимание.
И все же существуют четыре вида анализа. Из них
первые три имеют какие-то пути, доступные для
исследования, в то время как в четвертом с самого начала
возникают непреодолимые препятствия. Нет ничего темнее и
таинственнее, чем действие творящего художника. Даже
собственные высказывания гения о своих действиях
мало, что вносят в понимание существа дела. В большинстве
случаев эти высказывания доказывают только то, что о чу-
Введение
15
де, которое в нем и через него совершается, и он знает не
больше, чем другие. Производительным актом,
по-видимому, является такой, который исключает
сопровождающее его сознание. Поэтому мы знаем только его внешние
стороны и можем делать заключение о его внутренней
сущности лишь по его достижениям.
Но заключения такого рода небезопасны и легко
переходят в фантазию. Они предоставлены произволу, как и
все заключения о метафизических предметах. Их нельзя
контролировать и также мало можно защищать или
опровергать. Некогда, во времена романтики, были
предприняты попытки такого рода; эти попытки совершались
поэтами и соответствовали энтузиазму романтической
радости творца, но они клали в основу спекулятивную
картину мира, о доказательстве которой не могло быть и речи.
В настоящее время попытки такого рода могут соблазнить
только легковерных, а обладающих более зрелым
мышлением - лишь скептически настроить.
Если критически рассмотреть всю метафизику
искусства, то все же остаются три других пути. Из них анализ
ценности находится в самом затруднительном
положении, потому что эстетические ценности, взятые
конкретно, в высшей степени индивидуализированы, и все
разделение их по родам и видам касается только известных
внешних сторон. Искусствоведение и литературоведение
достигли кое-чего в этом направлении, провели анализ
стиля, в котором вырисовываются направления и оттенки,
осознаются связи и постигаются важные
противоположности. Но если посмотреть поближе, то такие
определения касаются больше структуры произведений искусства,
а также прекрасного вне искусства и гораздо меньше -
собственных компонентов ценности как таковых.
Подобно тому как язык не имеет для этих компонентов
ценности названий - это будут совсем поверхностные
названия для некоторых родов, - так и мышление не имеет
для них никакого понятия. А когда выдумывают для них
понятия и дают им имена, согласно свободному выбору,
тогда они обыкновенно по-настоящему не удовлетворяют
художественного чувства. Даже такие вышеназванные
ходячие понятия, как возвышенное, комическое, трагическое,
привлекательное и так далее, страдают этим
недостатком: они многозначительны и необходимы как
структурные понятия, но как понятия ценностей они умалчивают о
главном. Это соответствует положению вещей в других
областях ценностей, например в этической. И здесь ана-
16
Введение
лиз может прямо описать только содержательное, но
характер оценки он не в состоянии уловить. Тут он может
апеллировать только к живому чувству ценности,
привлечь его как бы в качестве свидетеля.
В эстетике сюда присоединяется еще тот факт, что этот
вызов свидетеля исходит в большей степени от самого
прекрасного - от созданного произведения художника или
от естественного предмета - и лишь в незначительной
степени от описательного анализа структуры. Несмотря на
это, нужно в известных границах придерживаться
указанного пути, по крайней мере, он должен оставаться
открытым, потому что для специального исследования ценности
не имеется ничего другого. Только теперь все его
существование делается не самостоятельным, а тесно связанным
несвойственным ему анализом предмета и акта.
Этим самым подчеркивается и то, что вся тяжесть того,
что может совершить эстетика, падает на два еще
оставшихся пути исследования: во-первых, на анализ структуры
и способа существования эстетического предмета и, во-
вторых, на акт наблюдения, созерцания и наслаждения.
С этими двумя родами "исследования мы будем иметь
дело почти всюду - даже там, где встает проблема
ценности. Было бы неправильно предпочитать только один из
них, так как они постоянно перекрещиваются в проблеме
прекрасного. Оба они недостаточны и во всех деталях
нуждаются во взаимной поддержке. Это может внести
некоторую неравномерность в ход исследования; при
теперешнем состоянии проблемы этой неравномерности
нельзя избежать. И это представляет все-таки меньшее
зло, чем тяжелая односторонность, в которую неизбежно
впадают при радикальном предрешении вопроса.
В известном смысле главная задача выпадает
все-таки на долю структурного анализа предмета, так как он в
настоящее время менее разработан и в некоторых
частных областях не идет в ногу с предшествующим анализом
акта. Эстетика XIX столетия была преимущественно
субъективной; в ней широко развились неокантианский
идеализм и психологизм. Такое положение в эстетике имело
своим последствием не только ошибки и
односторонности, но принесло с собой также и некоторые успехи в
анализе акта. Поэтому речь идет о том, чтобы наверстать то,
что было упущено в анализе предмета. Но было бы
совершенно ошибочно заботиться только об этом. Лишь при
сочетании обоих путей можно надеяться преодолеть
Введение
17
мертвую точку, к которой привели нас односторонности
прошлого.
5. Обособление и связь с жизнью
Уход от предмета является при этом само собой
разумеющимся. Уже выражение "прекрасное искусство",
которым мы, не задумываясь, пользуемся, в основе своей
вводит в заблуждение. Прекрасным ни в коем случае не
может быть искусство, а только произведения искусства.
Столь же мало оснований мы имеем для того, чтобы
называть прекрасными созерцание или наслаждение
независимо от того, являются ли эти последние продуктами
искусства или естественными картинами природы.
Прекрасным при наблюдении является только предмет,
исключая всякое участие и вмешательство наблюдающего
сознания.
Однако при рассмотрении с точки зрения акта предмет
образует естественную точку присоединения. Ведь
наблюдающий и наслаждающийся всецело обращен к
предмету созерцания и может отдаваться ему до полнейшего
самозабвения. Это состояние акта является чем-то
совершенно другим, чем познающее состояние эстетика, но
в то же время оно имеет с ним одно общее, а именно то,
что оно в одинаковой степени обращено к предмету.
Эстетический анализ, конечно, не ограничивается только
одним предметом, но распространяется и на акт. Но
впоследствии он обращается к предмету просто потому, что
находит обращенным к нему акт созерцания.
В этом обращении заключается проблема, которой
занимается эстетика с самого своего зарождения. Мы
знаем это как проблему выделения предмета из
совокупности других предметов. И в самой тесной связи с
выделением предмета находится выделение наблюдающего акта из
жизни и совокупности актов определенного лица.
Углубление в прекрасный предмет - это непосредственное
забвение своего я, забвение всего того, что ему в жизни в
высшей степени необходимо, актуально, важно или,
наоборот, действует на него угнетающе.
Предмет предстает в извлечении из жизненной связи,
и человек, который отдается своему впечатлению,
испытывает на своей собственной персоне то же самое
извлечение из повседневности, забот, беготни по мелочам и
ничтожества. Окружающий мир для него исчезает, и
кажется, что он вместе со своим предметом образует свой
собственный, далекий от действительности мир. Этот фе-
18
Введение
номен, очевидно, действительно существен для
настоящего наслаждения искусством, и в некоторых случаях,
например при слушании хорошей музыки, он может стать
подавляюще сильным, так что впоследствии наступает
прямо-таки болезненное пробуждение от восторга.
Эстетическая приподнятость является формой
настоящего экстаза. Эстетическая приподнятость, особенно
сильно проявляющаяся прежде всего у людей с глубокими
натурами, привела к мнению, что сущность и задача
искусства состоят в создании царства восхищения и
возвышения над жизнью, царства, которое имеет свой чистый
смысл и цель в себе самом и исключает всякий другой
интерес. Тогда кажется возможным, что жизнь служит
искусству, а не искусство жизни, потому что жизнь подчинила
бы искусство внехудожественной цели.
В настоящее время такое заострение собственной
ценности в художественном произведении и в
художественной жизни кажется нам весьма относительным. Но это
не всегда так было. Поэтому в данном месте необходимо
остановиться на этом заострении. Оно сыграло большую
роль в движении сторонников теории "искусство для
искусства". Здесь ohg превозносилось не только в теории, но
оказало также значительное влияние и на художественное
чувство и само творчество.
Здравомыслящему человеку кажется ясным и
неоспоримым, что искусство, которое отвергает жизнь с ее
требованиями и противостоит ей, теряет почву под ногами и
витает в воздухе. Но вопрос о том, как именно оно должно
быть связано с жизнью и выполнять какую-то задачу в
духовной ситуации своей эпохи, не теряя при этом
характерной эстетической самостоятельности, еще далеко не
ясен. Эта апория здесь еще не может быть разрешена;
она должна быть рассмотрена в другой связи, потому что
только в поздней стадии анализа предмета
представляется возможность разрешить эти дополнительные пункты
проблемы. Здесь нужно только указать на них как на
таковые. Ведь нам нужно будет говорить не об эстетстве и не
о дешевом тенденциозном искусстве.
Гораздо большее значение имеет правильное
соединение этих двусторонних требований, то есть соединение
их в правильном синтезе. В дальнейшем будет показано,
что здесь существует гораздо более глубокая связь, что
как раз только искусство, выросшее из интенсивной
культурной жизни, способно создавать произведения,
которые возвышаются над своей эпохой и переживают ее; по-
Введение
19
добно этому только та духовная жизнь, которая
порождает такие произведения, в состоянии разобраться в своих
актуальных тенденциях. Именно из тесной связи с жизнью
черпают силу духовные творения, чтобы подняться к
неповторимой целостности и истинному величию, и только
по сравнению с ней выделяется их собственная
возвышенная приподнятость; и наоборот, только такие творения
будут в состоянии придать жизни как индивидуума, так и
общества достаточное сознание их еще скрытой силы и
глубины.
6. Форма и содержание.
Материя и материал
Ничто в эстетике не употребляется так часто, как
понятие "форма". Все прекрасное, что нам встречается, будь
это. в природе или в творении художника, с самого начала
представляется нам как оформление определенного
рода, и мы как созерцатели непосредственно чувствуем, что
малейшее изменение формы может разрушить
прекрасное как таковое. Единство и целостность картины, ее
неповторимость и завершенность зависят полностью от
формы; и мы знаем, не будучи, однако, в состоянии
доказать этого, что речь идет при этом не только об одной
наружности, очертании или ограничении и даже не о
видимости или же чувственно данном, а о внутреннем
единстве и оформлении, о расчленении и соединении, об
устойчивой закономерности и необходимости.
Обычно мы говорим о "прекрасной форме" как о чем-
то хорошо известном и даже не вызывающем сомнения,
но подразумеваем под этим самые разнообразные вещи.
Мы судим одинаково хорошо о благородных пропорциях
классики, о распределении массы в постройке, о ритме и
следовании интервалов в какой-нибудь мелодии, а также
о композиции музыкальной пьесы или искусной
постановке спектакля. Не менее хорошо мы судим об игре линий
той местности, на которой мы находимся, о
внушительном виде дерева-великана или тонких прожилках листа. И
мы всегда подразумеваем при этом фигуру, порожденную
изнутри, и форму, существенную для всего и
выразившуюся через саму себя. Именно поэтому в
противоположность случайной внешней форме вещи это назвали
"внутренней формой"; и это было так же неопределенно и
темно, как нечто подобное старому аристотелевскому "эйдо-
су", который как движущая внутренняя сила в то же время
должен был выражать и принцип внешней фигуры.
20
Введение
Но что представляет собой "внутренняя форма"?
Обращение к исторически устаревшей метафизике дает
здесь почву для размышления. Вряд ли наш современник
желает ради эстетической проблемы формы признать
идеальное царство предсуществующего бытия и сделать
зависимой от него загадку непосредственно
проявляющегося в наблюдателе чувства формы. Этим он поставил
бы себя в опасную близость к теоретическому
исследованию и соответствующему ему оптическому построению
вещей, потому что принципом такового построения вещей
предполагался эйдос.
И даже без такой метафизики нарушение границ
обычного простого отношения бытия является опасностью для
эстетического понятия формы. Конечно, эстетическое
понятие формы предполагает отношение сущности в
построении вещи. Но это в еще большей степени
распространяется и на вещь как предмет познания: на организм, на
космос и физические структуры, из которых он состоит, на
человека как характер и как тип, на государство как
способ оформления существующего человеческого
общества. Внутренняя форма говорит слишком мало, ее понятие
слишком всеобще, слишком бесцветно.
Специфически эстетическая проблема формы этим,
очевидно, еще совсем не затронута. Да и как могло быть
иначе? Ведь "прекрасная форма" по существу мало чем
отличается от другого выражения для красоты, то есть она
является почти тавтологичным определением. Это могло
бы быть иначе, если бы удалось установить, в чем же
должна заключаться особенность "прекрасного" в
прекрасной форме. В этом плане высказывались различные
точки зрения. Эту особенность искали в единстве, в
гармонии частей или членов, в преодолении разнообразия;
ее искали также (и это было более субъективно) в
вежливости, в непосредственном озарении, в воодушевлении
или одухотворении предающегося чувственному
созерцанию. Но это все только очень общие и ничего не
говорящие определения, если за ними не будет стоять
действительно основополагающее определение. Одни из них не
подходят ко всем случаям, другие не раскрывают
собственно эстетического в форме, потому что они
гораздо больше свойственны всем формам бытия, особенно
более высоким.
К этому присоединяется и ряд других затруднений.
Исключается ли из понятия прекрасного содержание
поэтического произведения, например портрет головы, или
Введение
21
настроение, возникающее на лоне природы? Или, может
быть, правильно мнение о том, что все так называемое
"содержание" в этом смысле принадлежит также и
форме? Это было бы вполне возможно. Но почему тогда
говорят только о форме; как будто понятие формы должно
обозначать противоположность чему-то
содержательному, которое только при помощи формы изображается.
Возможно, что причина этой несогласованности лежит
в неопределенности понятия "содержание". Мы,
следовательно, пытаемся заменить его чем-то более
определенным. Опору для этого дает категориальный анализ:
дополнительно к форме стоит категория "материи". Под ней
онтологически ни в коем случае нельзя понимать просто
занимающее пространство вещество; материя в широком
смысле слова - это все то, что неопределенно и недиффе-
ренцировано в себе, поскольку оно способно к
формированию вплоть до простых измерений пространства и
времени. Последние ведь тоже играют в эстетическом
предмете явно материальную роль, ибо существуют же
пространственные и временные искусства.
Но в эстетическом понимании существует еще
материя в узком смысле слова. Под этим подразумевают
область чувственных элементов, из которых складывается
образ. В этом смысле камень или металл являются
материей пластики, цвет - материей живописи, тон - материей
музыки. Здесь материя означает не нечто последнее и
неразрывное, не говоря уже о чем-то субстанциональном, а
представляет только вид чувственных элементов, которые
в художественном образе получают формообразование
собственного рода.
Это отношение, без сомнения, является
основополагающим для всех дальнейших анализов предмета
прекрасного. Оно присуще уже первым шагам анализа. Легко
увидеть, что способ оформления в искусствах сильно
зависит от рода материи, в которой происходит это
оформление. Здесь оказывается пригодным
всеобще-категориальный "закон материи", который гласит, что во всех
областях предметов материя и форма вообще взаимно
определяют друг друга, поскольку не каждый род формы
возможен в каждой материи, но определенный род
формы воплощается всегда в определенной материи. Это,
конечно, ни в коем случае не отрицает автономию формы,
но лишь ограничивает ее. Здесь коренятся те хорошо
известные из проходившего в XVIII столетии "Спора о Лаоко-
оне" ограничительные феномены, которые могут быть
22
Введение
представлены в отдельных искусствах. Пластика не может
оформлять в мраморе все то, что без труда передает
поэзия в материи слова. Это не что иное, как явление
ограничения областей искусства, и их закономерности, однажды
открытые, ни в коем случае не могут оспариваться.
В категориальной противоположности материи как
принципу, указывающему на определенную сферу,
эстетическое понятие формы получает первое ясное
определение. И это без труда можно утверждать относительно всех
областей искусства, потому что каждая из них как раз
имеет свою определенную материю. Можно даже сказать, что
все разделение прекрасных искусств заимствовано
прежде всего из их различия по материи. Но принцип
дифференциации, данный здесь, частично переходит также и на
широкую область внехудожественного прекрасного.
Между тем это отношение касается только одной
стороны понятия формы. Это видно уже из того, что как раз
"содержание" произведения искусства, то есть то, что
неадекватно обозначают таким термином, не входит в такое
понятие материи. Ведь понятие материи им едва
затрагивается. Значит, можно дать еще другую
противоположность форме, чтобы понятие содержания вообще
сохранило здесь ясный смысл.
Эта другая противоположность ясно выступает всюду
там, где речь идет об изображении, то есть там, где
формообразование совершается с чувственной наглядностью
из чего-то такого, что имеет или могло бы иметь
существование в мире уже по эту сторону искусства. Так,
поэтическое искусство изображает человеческие конфликты,
страсти, судьбы, пластика - формы тела, живопись -
почти все видимое. Эти области содержания сами по себе не
художественны, только искусство благодаря
формообразованию делает их таковыми. Но они дают для такого
формообразования темп, "сюжет", и в этом смысле,
следовательно, "материал", который приводится творцом в
чувственно-наглядное состояние. "Материал" в этом
смысле имеется не во всех искусствах; например, его нет
в музыке (по крайней мере, в чистой), в архитектурном
искусстве, в искусстве орнамента. Особенно сомнительным
становится понятие "материал" применительно к
прекрасному в природе, хотя для изобразительных искусств,
включая искусство поэзии, оно представляет
конститутивный момент; однако и этого достаточно, чтобы
сохранить за ним место в эстетике. Но в таком случае нужно, по
крайней мере, признать, что в этих искусствах категория
Введение
23
формы выступает в двойном противоположном
отношении: с одной стороны, в отношении к материи, "в которой"
они формируются, с другой стороны - к материалу,
"который" они формируют. И, очевидно, здесь должно
существовать определенное отношение между оформлением в
первом смысле и оформлением во втором смысле.
Проблема этих оформлений очень широка. И едва ли
удастся решить ее одним махом. Разве вообще бывает
оформление двоякого рода у одного и того же образа?
Разве оформление материи и оформление материала в
основном не должно быть одним и тем же? И между тем
одно формообразование от другого не только отличается,
но и по существу является совершенно различным. Если
поэт, с одной стороны, формирует характеры и
жизненные судьбы, а с другой - слова, в которых выражает
последние, то одно формообразование невозможно
отождествить с другим. Но в созданном произведении, например
в уже напечатанном диалогически построенном
сценическом действии, оба формообразования настолько
переплетаются в единстве, что они не только неразделимы,
но и даны как одно целое, хотя и выражают двустороннее
формообразование.
Действительно ли существуют такие двусторонние
формообразования или это заблуждение? Первое
означало бы, что одно и то же формообразование двояко
бесформенно или двояко способно к оформлению.
Возможно, что как раз в этом двойном отношении и нащупывает-
ся тайна прекрасного, и если не сразу же целиком и
полностью, то, может быть, существенная ее часть.
Теперь как на ладони видно, что в этом случае сама
категория формы не могла бы быть достаточна и что на ее
место выступают также категории структуры предмета,
при помощи которых можно понять характерное
совпадение двух явно разнородных отношений, то есть их
соединение в единстве наглядного многообразия, или, лучше
сказать, в наглядном единстве двух разнородных сторон.
7. Созерцание, наслаждение, оценка
и продуктивность
В то время как проблема эстетического предмета уже
при первом поверхностном изложении заметно
усложняется и позволяет догадываться о задних планах, которые
хорошо чувствуются наблюдателем, хотя и не осязаются,
проблема воспринимающего акта оказывается, со своей
стороны, не менее запутанной.
24
Введение
Об этом свидетельствует хотя бы уже тот факт, что
воспринимающий акт имеет больше чем одно название.
Это происходит потому, что каждое название
соответствует какой-то стороне сущности акта, хотя эти стороны
сущности не менее разнородны, чем стороны сущности
предмета. В акте ясно различаются по меньшей мере
моменты созерцания, наслаждения и оценки. Из них сторона
наслаждения - самая замечательная, но в то же время она
наиболее отличительная в актах одинаково духовной
высоты и своеобразия.
Эгот момент замечали уже и раньше. Первым говорил
об этом Плотин, а Кант в своей "Аналитике прекрасного"
основывался почти исключительно на нем. Он выражал
его понятиями радость и удовольствие. Оба эти понятия
были избраны в сознательной противоположности к
интеллектуальной точке зрения, но оба были также строго
объективны и благодаря этому понимались так, что
включали в себя рассматриваемый момент. Они должны были
также содержать момент оценки, потому что то, что Кант
называет "суждением вкуса", есть не что иное, как
выражение этого самого чувства удовольствия, а не какого-то
второго акта помимо него.
Так, в кантовской эстетике можно найти
соединенными все три стороны, но для их дифференцирования
сделано еще мало. Взамен этого особенно сильно выступает
на заднем плане восприятия четвертый момент, подобный
самостоятельной вставке или спонтанному проявлению,
которое противостоит самозабвенной отдаче
удовольствию и как будто приближается к удовольствию
воспринимающего акта творящего художника. У Канта он имеет
форму реактивно вступающей, но протекающей по
собственным внутренним законам "игры душевных сил",
"силы воображения" и "разума" и носит характер ярко
выраженного внутреннего творчества, которое при
рассмотрении оказывается восстановленным первоначальным
творчеством художника.
XIX столетие всесторонне восприняло эти кантовские
определения и подражало им, но вместе с тем пыталось
многое в них изменить и улучшить. Однако далеко от них
не ушло. Самой значительной частью из этих кантовских
определений было проникновение оценивающего акта в
акт наслаждения, или, как выражает это Кант, "суждения"
в "радость". Известный главный пункт его анализа
состоял в доказательстве того, что эстетическое удовольствие
возвышает претензию на всеобщую значимость, но без
Введение
25
подобного же рода претензии основываться на "понятии".
Эта всеобщность "без понятия" является уникумом канто-
вской философии и поэтому всегда особенно обращала
на себя внимание эпигонов. И в самом деле, именно
здесь лежит фундаментальная часть сущности этого
странного строения акта в эстетически созерцающем
сознании.
Но что здесь почти обойдено, так это момент
созерцания, именно тот момент, который находился на видном
месте в интуитивной эстетике Платона и Плотина. Именно
созерцание является самым важным или по крайней мере
значительным членом в этом строении акта. Радость или
наслаждение и скрытое в них суждение оценки скорее
имеют характер реакции на впечатление, полученное от
созерцания, характер ответных моментов, и поэтому в
составе акта, взятого в целом, они не являются первыми.
Они могут выступать только там, где имеется уже образно
данное, следовательно, только через посредство
созерцания. И трудно сомневаться в том, что эта инстанция
акта восприятия является интуитивной.
Эгому соответствует уже прочно внедрившееся
выражение "эстетический". Эго слово означает не что иное, как
"чувственный", и под этим подразумевается, что внешние
органы чувств - глаза и уши - являются орудиями
восприятия прекрасного. Эгим только еще раз подчеркивается
противоположность интеллектуальному пониманию. И
чувство здесь выступает не просто как посредник уже
существующего в ежедневном восприятии, а как
возбудитель только что начинающегося процесса высшего
порядка. Смысл этого отношения обнаруживается тогда, когда
начинаешь размышлять, что при этом из деятельности
чувства переходят к моменту собственно "созерцания".
Эго явление не идентично с рецептивностью, хотя в
восприятии неразрывно связано только с ней. Но восприятие
сохраняет ее наглядность также и там, где она включается
в общую связь акта, которой полностью покрывается ре-
цептивность, как это в той или иной мере случается в
строении познания.
Восприятие не теряет характер созерцания также и в
совершенно другом строении акта эстетического
наблюдения. Как раз здесь оно становится доминантой; и
изобилие характерных моментов созерцания, которые
скрыты в отношениях познания благодаря претензии на
познание бытия и которые умышленно обходятся, здесь
оказывается существенным. Свет и тень там являются только
26
Введение
средством распознания формы вещей, сами же они едва
замечаются, но с точки зрения живописца получают
предметную самостоятельность, становятся главными. Точно
так же обстоит дело с перспективой, красками и
контрастами цветов. Соответственно это относится и к другим
областям художественного восприятия. Поэт в своем
художественном восприятии также придерживается
незамечаемой в жизни невесомости человеческого движения и
жестикуляции. Не имея возможности представить эту
невесомость наглядно, он все же заставляет ее предстать
пред внутренним взором обходным путем, через слово.
И все же этим созерцание не исчерпывается, его роль
значительно шире. Эстетическое созерцание - это только
наполовину чувственное созерцание. Оно возвышается
над чувственным созерцанием в качестве созерцания
второго порядка, такого созерцания, которое совершается
через чувственное впечатление, но не растворяется в нем
и существует в явной самостоятельности по отношению к
нему. Эго другое созерцание не является чем-то вроде
созерцания сущности, или платоновского понимания всего
общего, или интуиции в смысле высшей ступени познания.
Оно, скорее всего, остается обращенным к единичному
предмету в его неповторимости и индивидуальности, но
оно видит в нем то, что не схватывается непосредственно
чувствами: в ландшафте - момент настроения, в человеке
- момент душевного состояния, страдания или страсти, в
какой-нибудь разыгрываемой сцене - момент конфликта.
Вопрос о том, относится ли это ко всем видам
эстетического понимания, пока еще остается неразрешенным. К
искусствам в более узком смысле слова и к открытому
созерцанию прекрасного в жизни и в природе это должно,
конечно, относиться целиком. И по этим центральным
областям феномена нужно ориентироваться.
Для этого созерцания второго порядка прежде всего
важно то, что оно не является чем-то запоздалым; не
является оно и делом рефлексии, которая может и не
наступить. Конечно, иногда может быть и так, что содержание
художественного произведения или прекрасного
человеческого лица только постепенно открывается этому
созерцанию. Но это не менее широко распространено и в
созерцании первого порядка и поэтому не может быть ему
противопоставлено как особый признак. Характерным,
скорее всего, является то, что созерцание второго
порядка тесно связано с созерцанием первого порядка и
постоянно происходит одновременно с ним. По крайней мере, в
Введение
27
зародыше оно могло там уже быть, даже если потом оно
продвигается дальше и углубляется. Но часто отношение
переворачивается так, что от него взгляд обращается
сначала к чисто чувственным единичностям, как будто они
нуждаются в том, чтобы на них обратили внимание, что
происходит благодаря большому значению созерцания
второго порядка.
Но еще неизвестно, каким образом это созерцание
второго порядка может быть осуществлено до
предметного анализа. Эго еще нужно исследовать. Но, прежде
всего, должен быть сделан вывод, который остается
руководством для всего последующего: речь идет, прежде
всего, о последовательном включении в эстетически
воспринимаемый акт двух родов созерцания, и только их
совместное действие выражает особенность
художественной созерцательной позиции.
Отсюда легко видеть, что оба рода созерцания
образуют неразрывное целое, в котором они различным образом
взаимодействуют и обслуживают друг друга. И надо
полагать, что носителем наслаждения ("радости") и суждения
вкуса о предмете не является ни тот, ни другой в
отдельности, а обязательно оба вместе в их взаимодействии.
Эго проливает первый свет на характер спонтанности
в строении акта восприятия, потому что здесь
открывается поле действия для внутренне продуктивного
содержания, существование которого в воспринимающем акте
созерцания мы смутно чувствуем, но с трудом можем точно
выразить. Созерцание второго порядка является,
очевидно, творческим, по крайней мере позднее
превращающимся в творческое. Это значит, что оно не дается
восприятием, а только побуждается благодаря ему, в
остальном же развивается самостоятельно. Оно существует
поэтому только как представление для созерцающего
сознания - конкретно и пестро, как только что пережитое, - но
все же не пережитое, а как спонтанно внезапно
прорывающееся ("силой воображения", - как говорил Кант), как
плод фантазии, но такой, который крепко связан с
чувственным впечатлением.
В "Критике способности суждения" предпринимается
попытка толкования этого внутреннего отношения
двоякого рода созерцания. Кант назвал это отношение "игрой
душевных сил" и выразил этим характерное единство
противоположных инстанций в сознании. Но он обозначил
обе "силы", о которых идет речь, как "силы воображения и
разума" и благодаря этому слишком высоко поднялся в
28
Введение
последовательности ступеней "возможного". Тем самым
он слишком далеко удалился от чувственности, так как
совершенно очевидно, что один из членов двойного
созерцания - чувственный. Второй же член не может быть
определен так интеллектуально, как это подчеркивается
выражением "разум". Если понимание воспринимается как
функция разума, то этим отрицается созерцательный
характер второго члена. Гораздо лучше поэтому оставить
здесь разум в стороне и понимать игру обоих членов как
нечто от чувственного и сверхчувственного созерцания;
причем последнее вовсе не является впаданием в
мистику, а означает просто спонтанно-внутреннее и
продуктивное созерцание, которое к непосредственно чувственно
данному присоединяет что-то новое. Для этого кантовс-
кая сила воображения была бы действительно
адекватным выражением.
Как бы то ни было, остается твердо установленным
факт взаимообусловленности обоих родов созерцания,
что является основополагающим для всей структуры
воспринимающего акта эстетического рассмотрения. При
этом чувственное созерцание является первичным,
внутреннее - вторичным; последнее обусловливается
чувственным созерцанием и только после этого вступает
с ним в отношение взаимодействия. Ибо лишь второе
созерцание поднимает первое над обыденным восприятием
и придает ему особый эстетический характер.
Оба вместе составляют основной элемент акта
радости, удовольствия или наслаждения, поскольку он может
иметь место только там, где чувственное созерцание
внутренне озаряется сверхчувственным созерцанием. И
опять-таки, поскольку эти озарение и озаряемость в
самом созерцании ощущаются не как озарение моментов
акта - его отношение к созерцающему сознанию остается
скрытым,- а как отношение моментов или слоев
предмета, которому подчинены моменты акта, то
рассматриваемый предмет кажется прекрасным.
Этому прекрасному явлению дает выражение
эстетическая оценка. Оценка как момент акта также зависит от
взаимоотношения двух родов созерцания. Это не может
быть иначе и там, где сама радость зависит от этого
взаимоотношения. Потому что суждение вкуса есть только
мысленное выражение того, что радость делает
непосредственно осязаемым.
Введение
29
8. Прекрасное в природе, человеке
и искусстве
Существует немало эстетических опытов, которые в
действительности являются только философией
искусства. Это и понятно, потому что существуют искусства, в
которых вопросы прекрасного и его понимания выступают
в весьма четкой форме, и именно поэтому там, прежде
всего, подвергаются анализу такие установки, которые
высказывают суждения в пользу прекрасного в искусстве,
притом прекрасного такого рода, которое решительно
возвышается над всеми другими как высший род
прекрасного. Ведь до сегодняшнего дня самым обычным
делом является известное преувеличение художественной
ценности у тех людей, которые что-то в этом понимают.
При этом всякая естественная красота, конечно, невольно
снижается.
Что такие взгляды являются крайностью, совершенно
несомненно. Никто не будет оспаривать, что в искусствах
существуют также компоненты ценности особого рода,
которых не бывает во всех других родах прекрасного:
существует же умение самого художника, - это, собственно,
ведь и означает смысл слова "искусство", то есть фактор,
который воспринимается в художественном
произведении как мастерство и оценивается как настоящее ценное
качество. Но отсутствие этого качества у прекрасного вне
искусства не дает права считать это его недостатком.
Сначала нужно исходить из прекрасного вообще,
безотносительно к тому, где и как оно выступает. И уже
потом рядом с художественным произведением должно
найти свое место прекрасное в природе и прекрасное в
человеке.
Обыкновенно при этом говорят, разумеется, только о
природе. Но человек и многое из сферы его жизни и
отношений также имеет эстетическую сторону. Человек - это
ведь не только природа, но и целый духовный мир,
который наслаивается на природное. И если верно то, что
самое существенное в моральном характере заключается в
его поступках и отношениях, которые составляют
содержание человечески прекрасного, то из этого еще далеко
не следует, что здесь эстетика превращается в этику, а
прекрасное превращается в благо. Человечески
прекрасной может быть также игра страстей там, где она не
сдерживается, но здесь она ни в коем случае не может быть
названа добродетельной. Конфликты и борьба, страдания
и поражения дают настоящее драматическое напряжение
30
Введение
и разрядку, и не только для поэта, который ищет их как
материал, чтобы его оформить в искусстве, но для каждого
человека в жизни, который, пренебрегая расстоянием и
покоем, старается видеть их в настоящем драматизме.
Очень вероятно, что все это может дать не только
драматическое искусство сцены, потому что имеется
драматическое в жизни, которое также может быть, как таковое
воспринято эстетически. То же самое и даже в еще
большей степени относится, конечно, и к комическому в
жизни, которое точно так же процветает и воспринимается
без поэтического оформления. Бывают юмористы и вне
литературы, прямо в жизни, и отнюдь не только там, где
юмор проявляется в метких выражениях. Это зависит от
душевного состояния, от рода виденного и пережитого, от
смысла сверхчеловеческого (Allzumenschliche).
Появление невольного комизма в человеческой жизни зависит от
точки зрения наблюдателя, от дистанции, от его
превосходства над предметами комизма, от того удовольствия,
которое он испытывает от комизма. Эти условия мы
приводим, конечно, не просто только в качестве
принимающих участие и относящихся сюда.
Общность возможных эстетических предметов
благодаря этому значительно расширяется. Спросим себя
серьезно, существуют ли вообще на свете предметы,
которые не имеют эстетической стороны. Если это
отрицается и все существующее подпадает под альтернативу
"прекрасного" или "безобразного", то и в этом случае
необходимо выделить из этого множества опять-таки то, что
в узком или широком смысле имеет право на
эстетическую ценность.
Но для этого недостаточно рассматривать
произведение искусства лишь само по себе, пренебрегая всем
остальным. Ведь и художественные произведения могут
быть малоценными, могут быть уязвимыми во всех
желаемых направлениях, а произведения природы могут быть
эстетически высокоценными и убедительными помимо
всяких масштабов. Более того, возникает вопрос: не
следует ли искать безобразное или плоское вообще только в
области искусства, именно в художественно
неудавшемся, не является ли в природе все прекрасным? И затем
можно спросить: не точно так же ли обстоит дело в
царстве человеческого?
Может быть, это зависит только от недостаточного
понимания наблюдателем родов прекрасного, и поэтому он
не везде это может видеть. Ссылка Гердера на пример
Введение
31
"отвратительного крокодила" как доказательство наличия
безобразного среди форм живого кажется нам сегодня
весьма субъективной. Подобным же образом обстоит
дело с человеческими лицами и фигурами: так называемые
классические эпохи скульптуры и живописи создали
известные идеалы красоты, которые господствовали во вкусах
в течение столетий, и то, что им не соответствовало,
считалось некрасивым. Но наступили другие времена,
появились другие вкусы, и образцовыми стали другие типы
идеала. Все нормы такого рода оказались обусловленными
временем, преходящими и релятивными. Так по какому же
праву мы должны считать безобразными встречающиеся
нам в жизни формы, которые нам не нравятся?
Вопросы последнего рода прямо наталкивают на
мысль об относительности эстетической ценности. И
тогда кажется, будто прекрасное является не чем иным, как
только непостоянной и весьма произвольной нормой,
обусловленной внеэстетическими факторами,
социальными отношениями, господствующими практическими
тенденциями, жизненной необходимостью, или же
биологически возникшими преимуществами, которые ищут
выражения в определенном роде идеалов.
Факт исторического колебания, безусловно, здесь
должен быть признан. Не нужно игнорировать феномены
этого рода, чтобы видеть, что ими и им подобными
сущность прекрасного еще не затронута - затронуты только
ее особенности. Поэтому основной вопрос - существует
ли безобразное в царстве природы - все еще остается в
силе, если даже смысл прекрасного в природе сильно
варьирует и исторически проявляется вообще только ре-
лятивно и с запозданием.
В соответствующем месте этот вопрос также будет
рассмотрен. И тогда будет выяснено, может ли
выявляться в разнообразии обусловленного временем чувства
природы нечто всеобщее и фундаментальное, что вообще
предметно конструктивно для
"как-прекрасно-чувственного" ("Alsschon-Empfinden"). В наши дни к этому также
имеются известные подходы, которые не могла найти ин-
теллектуа-листская и психологическая эстетика. Они
лежат в области новой онтологии и антропологии и
отклоняют известные категориальные фундаментальные
отношения. Ведь вопрос о прекрасном в природе по своему
содержанию граничит с еще очень плохо исследованной к
настоящему времени областью натурфилософии, точно
так же как проблема человечески прекрасного граничит с
32
Введение
проблемой антропологии. Надо принять во внимание, что
как здесь, так и там возможно смешение границ, но
нельзя доводить это рассмотрение проблемы грани до
полного разрыва.
Придерживаться одной-единственной получившей
широкое распространение линии среди многих окольных
путей было бы на самом деле задачей большой трудности.
Старые онтологические представления о совершенстве в
том виде, как их повсюду распространяло XVIII столетие,
здесь вряд ли могут быть достаточными. Но было бы
допустимо извлечь и из них устойчивое зерно сущности,
чтобы спасти его в новом, более интересном
феноменологическом анализе. Универсальная точка зрения для этого
дана, поскольку становится ясным, что так называемая
"природа" существует не только в своей системе законов,
но также и в иерархии образцов, которая по своему
характеру строения зависит от внутреннего единства и
целостности безотносительно к тому, имеют последние
динамический или органический характер.
Ибо природные структуры есть нечто уязвимое,
нарушаемое и разрушимое, и всякое нарушение в них есть
нечто негативное и чувствуется как негативное,
объективно в вещах и субъективно в созерцании, как modus defi-
ciens. Здесь следовало бы дать место и безобразному в
царстве природных форм. Предпосылкой для этого
являлось бы, конечно, признание того, что существует
непосредственно чувственно-созерцающее сознание
цельности и совершенства, так же как и разрушение этих форм.
Это, конечно, можно было бы установить в известных
границах при соответствующем анализе феномена.
9. Идеалистическая метафизика прекрасного.
Интеллектуализм и точка зрения материала
Здесь вновь возникает вопрос о выдвижении эстетики
на передний план. Не потому, однако, что это позволило
бы нам указать общие черты некой методологии.
Наоборот, здесь нужно придерживаться мнения, что стремление
создавать метод всегда второстепенно по сравнению с
живо функционирующим и направленным только на свой
предмет методом1.
Разумеется, существуют известные вопросы, которые
могут быть разрешены на основе исторического опыта
разнообразных попыток и усилий.
Ср. здесь "Aufbau der realen Welt", 2. Aufl., 1950, Кар. 62, a,b.
Введение
33
Для решения указанных вопросов сделано пока
весьма немногое ввиду отставания эстетики в области,
которую мы подвергли выше четырехкратному анализу.
Как ни молода эстетика, она охватывает все же ряд
весьма различных направлений, которые ни в коей мере
не растворяются в противоположности анализа действия
и предмета. Уже у Баумгартена и Канта оба указанных
вида анализа переходят друг в друга, оставаясь
недифференцированными. У Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра они
и вовсе опускаются в угоду основной метафизической
концепции почти до простых моментов. Центр тяжести
целиком переносится на искусство, которое празднует
здесь грандиозный триумф превосходства, и прекрасное
в посюстороннем мире искусств оказывается предметом
второго ранга.
Это имеет свои основания в значительно более общей
метафизике идеализма и особенно в той роли, которая
отводится искусствам во всем комплексе духовной жизни.
Если в основании всего сущего лежит "неосознанный
интеллект" или "абсолютный разум", если конкретные
образования природы являются односторонним выражением
этого . разума, а духовная жизнь - его постепенно
реализующимся самосознанием, то искусства не могут быть
ничем иным, кроме как ступенями этого самосознания; хотя
они и не являются высокими ступенями, поскольку
пребывают в пределах чувственного, все же для ограниченного
определенными рамками человека они необходимы и не
могут быть заменены пониманием. Но для Шеллинга это
отношение переворачивается, ибо он ставит созерцание
над понятием и в конце концов возвышает его до
универсального средства в философии; художник становится
благодаря этому не только зрителем, но также судьей
духа, а философ - превосходным художником в
соответствии с идеалом романтики. Гегель, наоборот, твердо
придерживается принципа превосходства понятия, а
неспособность искусства проникнуть в понятие считал
недостатком искусства. Это все имеет смысл лишь в том случае,
если допустить верность основной идеи этого идеализма
или допустить, что в основе всего лежит абсолют, который
в творениях искусства познается в созерцаемых образцах.
Эта метафизика красоты относительно безразлична к
другой стороне идеалистической предпосылки, а именно к
тому, что абсолютное должно быть "разумным" принципом.
Это доказывает эстетика Шопенгауэра, которая
построена по той же самой схеме, но имеет в своей основе миро-
34
Введение
вую волю, лишенную разума и интеллекта. Именно здесь
становится ясной общая картина, так как не только
сознание, но также и интеллект остаются делом человека. В
этой теории старый платонизм переживает свое позднее
возрождение. Природа - это твердо установленное
царство форм; каждая видовая форма конкретных
образований природы имеет в основе "идею", согласно
которой формируются отдельные вещи. Искусство выражает
эти идеи в своих произведениях, и это явление в
единичном есть отблеск прекрасного. Но еще глубже
захватывает музыка, которая не образует никаких предметных
форм, но чувственно выражает первоначальную
сущность, "мировую волю". Но и в этой теории
художественное творчество пытается превращать в акт сознания то,
что само по себе существует и без искусства.
Последнее, без сомнения, является остатком того
интеллектуализма, который с давних времен свойствен
размышлениям об эстетике, - конечно, не интеллектуализма
в узком смысле слова, который все сводит к мышлению,
понятию и суждению, но интеллектуализма в широком
смысле слова, который считает эстетическое восприятие
видом концептуального познания. Тот факт, что Шеллинг
ставит созерцание выше понятия, ничего не изменяет в
этой ошибке. Вообще основной тезис индифферентен к
порядку расположения родов и ступеней распознавания
произведений искусства; схема познания во всех этих
случаях остается той же самой. Это распознавание
неразрывно связано с эстетическим актом, хотя теория и
протестует против этого.
Более важен при этом второй момент. Теории
прекрасного, понимающие акт созерцания по аналогии с
познанием, по своему существу направлены преимущественно на
содержание искусства и поэтому не могут по достоинству
оценить момент формы, то есть все собственно
структурное и изобразительное в творениях искусства. Такой
критикой мы не намерены брать под защиту разделение
"формы и содержания"; это было бы оправдано, если бы
новые исследования показали, что специфически
художественное содержание состоит как раз в придании формы.
Но от такого взгляда эти метафизические теории
искусства очень далеки. Более того, содержательным для них
является непосредственно данный "материал", и именно
в указанном выше смысле темы или сюжета. Конечно, сам
материал очень расширен, преувеличен и возведен в
метафизически-мировоззренческое.
Введение
35
Но это ничего не меняет в том факте, что момент
придания художественной формы, а именно и прежде всего
саму внутреннюю формированность здесь обходят. По
крайней мере нужно сказать, что автономия и ценность
формы в той мере, в какой они характерны для каждого
акта художественного творчества, не познаны в их значении.
Тут можно привести бесчисленные примеры из широко
задуманной эстетики Гегеля. Всемирно известным является
его толкование трагического при анализе "Антигоны"
Софокла, где конфликт трактуется как чисто моральный
конфликт между писаным и неписаным законами.
С "материальной" точкой зрения тесно связано
широко распространенное мнение о том, что во всяком
искусстве продуктивное творчество является функцией
нравственной и религиозной жизни. Это понимание не
связано с отдельными периодами времени и теориями.
Сегодня оно так же жизненно, как и 150 лет назад. Нельзя не
признать, что большое искусство исторически вырастало
преимущественно на почве высокоразвитой религиозной
жизни, даже возникая первоначально как ее выражение.
Но заключения, которые из этого были сделаны, весьма
сомнительны и порождают размышления об опасностях
гегелевской метафизики духа. Ибо казалось, будто это
отношение не только конститутивно для всякого искусства,
но вместе с тем является внутренним принципом самой
художественной продуктивности. Правда, благодаря
этому эстетическая проблема формы была вовсе отодвинута
в сторону и автономия эстетической ценности поставлена
под вопрос.
Единственно приемлемым в этом следовало бы
считать то, что художественная продукция прежде всего
возникает там, где человеком движут большие идеи и где
страстность идеи стремится к выражению, или, можно
сказать, к объективации. Это относится прежде всего к
высокоразвитой духовной жизни, если она однажды уже
пробудилась. Но религиозная жизнь более всего другого
нуждается в выражении при помощи искусства, потому
что ее содержание невыразимо средствами
непосредственного познания. Искусства обладают волшебным
свойством придавать зримый облик неведомому, они
выражают то, что простая проповедь или иная
формулировка - собственно говоря, догма - выразить не могут. Они
делают чувственно воспринимаемыми сверхчувственное и
никогда не увиденное и благодаря этому сообщают
человеческому сердцу силу, которой обладают только близкое
36
Введение
и только что воспринятое. Однажды проснувшаяся
религиозная жизнь не может совершить ничего другого, как
взывать к искусству, и она взывает к нему, наполняет его
своей силой, своей страстью, своими идеями.
Но однажды проснувшееся искусство находит в мире
еще нечто другое, что также взывает к нему:
нравственную и социальную жизнь со своими конфликтами и
судьбами, глубину человеческого сердца с его мытарствами и
борьбой, с неисчерпаемым многообразием
индивидуальной специфики и в конце концов царство природы с его
непознанными чудесами. Для духовного существа, каким
является человек, духовная жизнь имеет очень большую
актуальность. Поэтому круг проблем духовной жизни
стоит на первом месте; стремление к изображению в ней
особенно сильно.
Но само художественное придание формы,
удовлетворяющее это стремление, есть и остается поэтому чем-то
совершенно другим и никоим образом не может быть
понято из чисто материальных условий. Оно не может быть
понято и тогда, когда духовные движущие силы при
создании образа должны были бы искать исключительно в
материальном.
10. Эстетика формы и выражения
Вполне понятно, что реакция на эти содержательно-
метафизические опыты должна была впасть в другую
крайность. Вспоминали о самостоятельности
художественной формы и пытались понять прекрасное из чисто
формальных принципов. Этим вполне логично
нацеливались на структурную сторону в прекрасном предмете,
прежде всего в художественном произведении. Этот
способ исследования сам по себе также является
объективистским, как и содержательный способ, но он видит
сущность предмета не в чем-то предсуществующем и
находящим свое выражение в художественном произведении, а
в особых качествах самого этого выражения. Благодаря
этому он, разумеется, значительно приближается к
пониманию сущности прекрасного.
Все же нужно сказать, что эта задача оказалась
значительно труднее, чем думали первоначально. Потому что
только теперь мы оказались перед действительной
загадкой прекрасного; прежние средства познания очень скоро
оказались несостоятельными. Они давали лишь общие
очертания проблемы, но были неспособны проникнуть в
ее глубину. Можно сказать, что только здесь проявилось,
Введение
37
сколь мало эстетическая форма вообще может являться
предметом возможного познания.
Нам теперь можно, конечно, оглядываясь на новые
неудачи, воскликнуть: "Как же могло быть иначе! Ведь
форма дана только созерцанию, а не пониманию". Но именно
это было туманно для тех, кто предпринимал новые
усилия в этом направлении. Случилось так, что и на этот раз
были выдвинуты на первый план сначала внеэстетические
моменты, чтобы до некоторой степени восполнить
ставшие уже видимыми пробелы понимания. Но все же это не
означало выхода за пределы наиболее общих
определений, таких, как гармония ритма, симметрия, порядок
частей целого, единство разнообразия и многое другое.
Понятия этого рода перечислялись почти исчерпывающим
образом и разнообразно изменялись с тем, чтобы напасть
на след тайны прекрасного со стороны объекта. Нельзя
также не признать, что во всех них в силу тенденции
заложено нечто правильное. Однако легко видеть, что они
слишком общи и что специфически эстетическое в
качествах формы затрагивается, в конце концов, только
поверхностно. Единство различий свойственно каждому
явлению природы, точно так же как порядок частей, а во
многих случаях и симметрия. В противоположность им
гармония и ритм, поскольку они хотят выражать большее, чем
указанные выше определения, заимствованы из
совокупности черт одного из видов искусства - музыки (которая,
конечно, является прототипом чистой формы красоты).
Поэтому в отношении этого вида искусства они являются
тавтологией, не будучи для него исчерпывающими, но по
отношению к другим видам искусства применимы только
по аналогии и поэтому, разумеется, еще менее
исчерпывающи.
Огромное разнообразие форм искусства и не меньшее
разнообразие форм прекрасного в природе всем этим
еще совсем не затронуто. Но как раз только здесь
начинается действительная проблема формы. Она начинается с
вопроса: почему же определенные формы видимого или
представляемого посредством слова являются
прекрасными, другие же, отличающиеся от них лишь
незначительно - нет. Ибо безобразное есть не просто бесформенное,
но не приобретшее определенной чувственной формы или
просто неудавшееся. Здесь, таким образом, несмотря на
достойные внимания суждения, недостает все же
главного. И сомнительно, чтобы оно вообще могло быть найдено,
если мы пойдем по проторенной дороге.
38
Введение
Нисколько не лучше обстоит дело и тогда, когда
эстетическую форму определяют как выражение. В этом
случае тотчас же встает вопрос: "выражением чего" она
должна быть? Ответ гласит: выражением жизни,
выражением души, выражением человеческого, духовного,
значительного, даже выражением смысла,
целесообразности или ценности. Все эти определения дают нам
сведения, которые нельзя отбрасывать. Они, безусловно,
имеют отношение ко многим сторонам прекрасного в
искусстве и вне его. Но вряд ли они относятся ко всему
прекрасному. Кроме того, здесь возникают сомнения троякого
рода. Во-первых, существует также внеэстетическое
отношение выразительности, например в разговорном
языке, в жестикуляции и мимике. Во-вторых, не все является
выразительностью, что художники именуют прекрасным.
И, в-третьих, с постановкой вопроса о художественно
выраженном содержании проблема все-таки снова
сдвигается с формы на вещное содержание. Сама проблема
формы, таким образом, оказывается не в состоянии
добиться своих прав.
Не помогает также и то, когда нам говорят, что здесь
речь идет о единстве формы и содержания, или о
"соответствии формы содержанию" (Вильгельм Вундт), или о
"форме идеи в реальном проявлении". Ибо при таких
рассуждениях остается неясным, в чем должно состоять
указанное соответствие, каким образом достигается
единство формы с содержанием, что приводит "форму идеи" к
проявлению. Значительно дальше продвинулась в этом
направлении научная теория отдельных видов искусств,
как, например, у Ханслика в области музыки, а у А. фон
Гильдебранда в области изобразительного искусства.
Несомненно, что кое-что, касающееся сущности формы и
выразительности, можно выяснить и в проблеме стиля
искусств и отдельных эпох его развития. Все же здесь
преимущество достигается за счет недостатка специализации, и
мы удаляемся от основного тем дальше, чем конкретнее
рассматриваем особенное.
Таким образом, здесь, как и всюду в эстетике, мы
наталкиваемся на одну и ту же методологическую трудность:
проявление в искусстве налицо только в индивидуальном
единичном, но в единичном всеобщее непознаваемо; а
там, где оно становится познаваемым, там конкретная
форма проявления разрывается и разрушается. Это есть
оборотная сторона отношения, обнаружившегося уже в
начале: там, где действует созерцание, там нет понима-
Введение
39
ния, там же, где вступает в свои права понимание,
разрушается созерцание. Как можно выйти из этого негативно
диалектического отношения, покажет дальнейшее
исследование.
То, что действительно скрывается в принципе
выразительности, могло бы быть скорее отношением форм
художественного проявления, и притом отношением особого
рода. Но оно не должно быть проявлением "идеи", или
жизни, или же чувства. Однако при определении формы
художественного проявления нужно искать специфику
прекрасного предмета. Но этим освобождается арена для
другого, специфически эстетического понятия формы.
Ибо нужно же каким-то образом говорить о форме
проявления как таковой. И надо полагать, что для нее окажутся
необходимыми правила совсем иного рода, чем правила,
существующие для других формообразований.
11. Психологическая и феноменологическая
эстетика
Параллельно с объективно-формальным толкованием
прекрасного, отчасти в противоположность ему, отчасти с
чудесными превращениями соединяясь с ним, идет
развитие психологически-субъективного понимания
прекрасного. Оно примыкает к общему движению
психологизма и разделяет с ним тенденцию сводить все к душевным
проявлениям. Естественно, что при трудностях, на
которые натолкнулся анализ формы, некоторое время
казалось, будто в нем - будущее эстетики.
Речь здесь идет, разумеется, о чистом анализе акта.
Но это еще не составляет существа вопроса, ибо без
анализа акта развитие эстетики немыслимо вообще. Более
того, центр тяжести ложится на попытку объяснить
эстетический предмет и его ценность, исходя из акта. Теодор
Липпс, например, считал предмет полностью зависимым
от наблюдателя именно в том смысле, что он целиком
пронизывается действием субъекта. Он делается
эстетическим предметом только потому, что человек
"чувственно" вкладывает в него свое внутреннее отношение и тем
самым переживает в нем себя. Прекрасное поэтому есть
качество, которое приобретает предмет благодаря
перенесению в него чувств наблюдателя. Наслаждение
прекрасным в конце концов оказывается самонаслаждением
субъекта,- конечно, не прямо, а через объект, в который он
вложил свои чувства.
40
Введение
Рядом с теорией "вчувствования" можно поставить
целый ряд других толкований, которые сходны с ней в
главном, а именно в том, что прекрасное ни с точки зрения
формы, ни с точки зрения содержания не должно
существовать в свойстве предмета и что оно должно
заключаться в поведении, действии или состоянии субъекта.
Конечно, приведенные нами формулировки кажутся более
субъективными, чем показали их создатели, ибо при
господствующем тогда психологизме считалось почти
бесспорным положение, что предмет является носителем
чувств субъекта. Но серьезнейшие трудности, возникшие
именно из этого положения, не уменьшаются от
кажущейся бесспорности его. Трудность состоит отнюдь не в том,
чтобы определить, каким образом можно приписывать
объекту собственное действие, считать последнее
ценностным качеством предмета и наслаждаться им как
предметным качеством. Потому что прекрасным во всем этом
отношении выступает не я и не его деятельность, а лишь
предмет.
Теории такого рода становятся тем более сложными и
искусственными, чем усерднее их попытки понять
действительно данные явления в искусстве и оценить их
по достоинству. Так было и с психологической эстетикой;
ее перестраивали, улучшали, несколько подправляли, но
дело не сдвигалось с места. Ситуация тупика, уже давно
предвиденная противниками, стала явной, конечно, без
того, чтобы кто-нибудь мог правильно объяснить ее
внутренние причины.
Но сейчас, по прошествии достаточного
исторического срока, нельзя не признать одного: действительно
существует определенная зависимость эстетического
предмета от созерцающего его субъекта. Эта
зависимость, распознанная еще Кантом и оспариваемая им,
была превращена в теорию "вчувствования", вновь
вытащена на свет и превращена в предмет дискуссии. Ибо эта
теория внесла ясность по крайней мере в то, что прекрасное
не присуще самому бытию вещи независимо от точки
зрения и способности восприятия субъекта, а обусловлено
исключительно весьма определенным для каждого
искусства и почти для каждого отдельного объекта различным
отношением и точкой зрения субъекта.
Выводы, которые можно отсюда сделать, содержат
нечто основополагающее, лишь слегка связанное с
особым психологическим объяснением и ни в коем случае не
разделяющее его судьбу. Точка зрения, основанная на
Введение
41
этих выводах, означает, что не существует никакой
красоты в себе, а только "для кого-нибудь" и что эстетический
предмет сам по себе, безразлично в природе он или в
искусстве, существует не в себе, а только "для нас". И это
тоже лишь постольку, поскольку мы приносим с собой
определенное промежуточное звено, которое можно
увидеть в характере поведения или в каком-нибудь активном
действии. Нет никакой необходимости тотчас же впадать
в субъективизм идеалистических или психологических
канонов: здесь утверждается не субъективность
прекрасного, а только частичная обусловленность его через субъект,
которая вполне может согласовываться с объективными
требованиями эстетики формы, так что только в синтезе с
ними возможно получение единой картины.
Если бросить взгляд назад, на Канта, то в его
"Аналитике прекрасного"1 можно найти весьма ясно выраженной
эту основную мысль. Она заключается в "игре душевных
сил", и в зависимости от того, наступает эта игра или нет,
предмет кажется прекрасным или не прекрасным.
Спрашивается, почему эта мысль не пробила себе дорогу в
эстетике. Причина этого понятна. У Канта предмет
познания, то есть все без различия "вещи", точно так же
обусловлен соучастием субъекта - в этом ведь и состоял
"трансцендентальный идеализм"; такая обусловленность
не делает у него никакого различия между "эмпирически
реальными предметами" и прекрасными предметами. И,
если даже вносимая субъектом лепта существенно
различна, основное отношение остается, однако, тем же. Это
был именно идеалистический подход, который стирал и
не оценивал по достоинству своеобразие формы
существования в эстетическом предмете. Идеализм, в его такой
весьма осторожной и уравновешенной форме как
трансцендентальная, не является той почвой, на которой могли
бы быть выработаны различия форм существования
бытия. Здесь как раз выявляется, что без такого рода
различия (в конечном счете онтологического) нельзя подойти
близко к решению эстетических проблем формы.
1 Название раздела из работы И. Канта "Критика способности
суждения". - Прим. ред.
42
Введение
В столкновении различных мнений возникла мысль о
приемлемом синтезе субъективистских и объективистских
толкований. В известном смысле ее можно увидеть в
эстетике "выражения", например у Бенедетто Кроне:
выражается не действие, а предмет; выражение предмета,
однако, существует не само по себе, а "для" понимающего
субъекта; так же обстоит дело и с красотой. Прекрасно не
созерцание, а также не художественное умение, но только
предмет, однако опять-таки взятый не сам по себе, а
только в связи с субъектом, поглощенным его созерцанием.
Здесь остается выяснить кое-что относительно
анализа действия, а именно что он способен совершать, не
касаясь при этом задач предметного анализа, который
должен надлежащим образом идти ему навстречу. Следует
считать неоценимым преимуществом то, что оба вида
анализа обладают известной самостоятельностью,
исходят из различных сторон общего феномена и следуют
своей собственной дорогой. При таком положении вещей
все, что согласуется друг с другом или поддерживает друг
друга, находит такое подтверждение, которое
приближается к смыслу критерия истины.
Если на эту ситуацию проблем смотрят
непредубежденно, то есть не с точки зрения той или иной теории,
способствовавшей ее становлению, но независимой от нее,
то нельзя не признать, что положение дела в целом стало
благоприятным. Вопрос только в том, как пользоваться
сложившимся положением. И надо сказать, что для этого
сделано еще мало. Некоторые успехи, имевшие место в
конце XIX столетия, касались скорее отдельных сторон
проблемы и не привели к познанию синтеза, а также тех
преимуществ, которые он дает.
Самый значительный шаг вперед был сделан
феноменологией. В этом способе исследования по крайней мере
были даны методологические условия возможного
успеха. Ибо здесь ничто не могло так помочь, как тенденция
подойти как можно ближе к самому феномену, понять его
более основательно, чем это делалось до сих пор, и
научиться видеть его во всем его многообразии, чтобы потом
снова возвратиться к общим вопросам. Если бы
феноменологии в те первые десятилетия нашего века, в которые
она пережила поразительный расцвет, удалось
исследовать проблему одновременно с обеих сторон, то на ее
долю выпал бы большой успех и в эстетике. Но поле для
деятельности, открывавшееся ей одновременно во многих
областях, было слишком обширно; число же учеников Гус-
Введение
43
серля, которые могли бы заняться всем этим, было
слишком мало. Представители феноменологии предполагали
создать новые принципы во всех областях философии, а
эстетика не казалась им самой неотложной из них.
Поэтому и здесь уже назревшая проблема также не была
оценена по достоинству.
Анализ все же вступил в свои права, но только со
стороны субъекта и акта; к тому же он оставался еще в
известной степени односторонним, потому что только момент
наслаждения или кантовское удовольствие было более
или менее серьезно исследовано. Аналитическим
исследованием занимался Мориц Гайгер. То, чем мы обязаны
анализу, есть действительно нечто новое и в своем роде
значительное. Но психологическая эстетика, поскольку
феноменология вообще возникла на почве психологии,
еще не в состоянии постигнуть основную проблему
прекрасного. Чистый же анализ акта наслаждения,
раскрывающий эстетический предмет, пролил только
незначительный свет на него и ничего большего сделать не смог.
Способ бытия, структуру и ценность эстетического предмета
он не мог охватить. Но существо дела говорит нам, что
вновь созданный метод может быть применен
плодотворно к проблеме красоты только там, где основные стороны
акта, эстетическое созерцание в своей двойной форме
было бы доступно описанию и где одновременно
результаты описания были бы дополнены результатами
параллельно проведенного анализа предмета.
Здесь опять-таки проявляется то, на что было уже
указано раньше: анализ действия делает шаг вперед, а
анализ предмета отстает. Из этого вытекает необходимость
ликвидировать отсталость последнего. Для этого в
настоящее время шансы благоприятны. Именно грех забвения
феноменологии указывает здесь одновременно путь и
средства продвижения вперед в решении проблемы,
потому что трудно понять, почему сущность акта может быть
проанализирована лучше, чем сущность объекта. Ведь как
раз вторая доступна сознанию в естественном
проявлении (Intentio recta), тогда как первая может стать доступной
только в художественном отражении сознания объекта
(intentio obliqua).
Для феноменологии уже при ее возникновении
характерно предубеждение, что, наоборот, непосредственно
дан именно акт. Она еще разделяла характерные для
имманентной философии предпосылки психологизма и
неокантианского идеализма, из которых она исходила, отка-
44
Введение
завшись только от их наиболее грубых ошибок.
Недоставало во всех областях только требуемого проникновения в
действительно близлежащее царство данного, то есть
царство предметного феномена. Поэтому и здесь остался
невыполненным провозглашенный Гуссерлем лозунг:
"Назад к вещам". И поэтому в теоретической области не
удалось продвинуться до сущего, в этической - до
настоящего анализа ценностей, в эстетической - до сущности
самого прекрасного. С тех пор произошли новые изменения.
Открылись широкие пути. В учении о сущем они уже
давно стали доступными, а в этике повели к новому
содержательному анализу ценности. Только эстетика еще
серьезно не вступила на этот путь.
12. Способ бытия и структура
эстетического предмета
Так как прекрасный предмет обращается к чувствам,
то предполагают, что он должен быть такой же вещью, как
и другие вещи: видимой, осязаемой и такой же реальной,
как и другие. Правда ли это? Почему же тогда он не
оценивается всеми, кто его видит, и почему не наслаждаются им
все, а только избранные, для которых он является чем-то
другим, а не только вещью? С восприятием это, очевидно,
не связано. Вот по проснувшимся весенним полям и
лесам идут вместе два человека. Оба молчат, увлеченные
открывшейся картиной. Один при взгляде на нее
определяет, плодородны ли поля, какова может быть цена
стволов деревьев; у другого же душа переполняется через
край и хочет выскочить из груди от вида молодой зелени и
синей дали, от запаха земли. Чувственные впечатления те
же самые, вещи, из которых они возникают, одинаковые,
но предмет, который выражается посредством них,
совершенно различен. Что отличает ландшафт, который
развертывается перед глазами первого спутника, от ландшафта,
который видит второй?
Если говорить о двух родах предметов, то будет
сказано весьма мало. В действительности земля со всем тем,
что на ней растет, в обоих случаях одна и та же.
Следовательно, все зависит исключительно от рода видения - так
это всегда по крайней мере утверждалось. Но этим
эстетический предмет совершенно сводится к функции акта, и
субъективизм побеждает. Почему же тогда нуждаются еще
в прогулке по реальному ландшафту и в ее восприятии?
Очевидно, тот, кто наслаждается эстетически, не может
просто "созерцать" ландшафт в фантазии, где и когда ему
Введение
45
захочется, но связан с его реальным существованием и
восприятием.
Но точно так же, как к практическому сознанию
присоединяется рефлексия, а вместе с ней другая предметная
область связи, к эстетическому сознанию
присоединяется вызванное теми же самыми вещами другое созерцание
и другое реально увиденное. Человек здесь оказывается
отброшенным назад к "сознанию второго порядка", о
котором уже шла речь выше. И только в этом, кажется,
находится решение задачи. Но это снова уводит нас от
проблемы предмета к проблеме акта.
Положение дел меняется только тогда, когда замечают,
что чувство счастья созерцающего и наслаждающегося
является не совсем личным и индивидуальным, что он
гораздо больше делится с людьми, родственными ему по
духу и по своей восприимчивости, что здесь даже при
одинаковых духовных предпосылках существуют известная
объективность, общая закономерность и необходимость; так
же обстоит дело с созерцанием ландшафта: мы созерцаем
и наслаждаемся не каким угодно ландшафтом, а только
ландшафтом определенного рода. Как одно, так и другое
ясно указывают на объективные корни прекрасного в
природе, сколько бы ни присоединялись сюда субъективная
точка зрения и субъективный способ видения.
Здесь не следует дискутировать о том, в чем состоит
этот объективный корень. Было бы также ошибочно
применить к нему ту или другую ранее примененную
категорию, скажем форму воспринятого или функцию его
выражения. С этим нельзя будет продвигаться дальше; точно
так же было бы ошибочно привлечь сюда "вчувствование"
со стороны субъекта или родственную ему функцию
толкования. Более того, следует рассматривать феномен
прежде всего с точки зрения его формы бытия и
структуры предмета. К тому же мы еще до ближайшего анализа
можем сказать нечто такое, из чего впоследствии станет
ясным, насколько оно себя оправдает позднее.
Тот, кто эстетически наслаждается весенним
ландшафтом, так же как и тот, кто лишь практически его оценивает,
очевидно, имеют дело не только с чувственно данной
реальностью. Помимо этого оба видят еще и нечто другое.
За непосредственно видимым им мерещится нечто
невидимое, что для них и является самым важным; они
смотрят, следовательно, на это другое и погружаются в
него - один в хозяйственно-расчетливую рефлексию,
другой предоставляет полную свободу своим чувствам. Легко
46
Введение
догадаться, что представляет собой это нечто другое у
первого. Относительно второго это сказать гораздо
труднее. Но оно существует и существует предметно - быть
может, как великий ритм всего живого в природе, который
полностью господствует как в нас, так и вне нас, хотя мы
его так же мало видим, как и первое.
Это - предварительный результат. Остановимся на
мгновенье на нем и посмотрим, как строится
эстетический предмет природы в целом. Двоякое созерцание
наступает последовательно; первое посредством чувств
направлено на реально существующее, второе - на нечто
другое, что существует только для нас, созерцающих. Но и
это нечто другое проецируется не произвольно, а
находится в явной зависимости от чувственно созерцаемого.
Оно не может нам явиться в каждом воспринимаемом
предмете, но только в определенном предмете и,
следовательно, обусловлено этим последним. В то же время
оно означает большее, чем господствующая здесь
простая обусловленность: наблюдаемое с точки зрения его
содержания в значительной мере определено видимой
реальностью, "способность воображения" господствует
здесь не свободно, а посредством восприятия; поэтому в
предмете внутренне видимое также не является чистым
продуктом фантазии, оно есть нечто, вызванное к жизни,
именно чувственной структурой увиденного.
Эстетический предмет в природе, таким образом,
строится из двух слоев, которые, очевидно, также
следуют друг за другом, как две ступени созерцания. Взаимная
связь двух слоев при этом так тесна, что мы
воспринимаем и наслаждаемся весенним настроением, как если бы
это весеннее настроение исходило от самого ландшафта,
и приписываем настроение существованию ландшафта.
Так, эстетический предмет является нам в виде единства,
без каких-либо недостатков, хотя мы хорошо знаем, что в
действительности настроение принадлежит не ему, а нам.
Это единство вовсе не так просто; оно далеко еще не
исчерпано всем сказанным, а тем более не объяснено.
Это единство - специфически эстетическое явление и
составляет, собственно, сущность эстетического
предмета. Каким образом это совершается, остается большой
загадкой, загадкой прекрасного в природе.
Ведь с эстетическим предметом дело обстоит вовсе
не так, как это нам представляли теории перенесения
чувств в предмет; здесь мы не имеем дела с
деятельностью собственной души, которую мы проецируем на
Введение
47
этот предмет. Но, во всяком случае, существует какое-то
знакомство с полем, лугом и лесом, которое не возникает
исключительно ассоциативно, а дает знать о себе как
жизненное чувство, находящееся в нас, и указывает на связь
между человеком и природой, от которой все мы исходим
даже в том случае, если ее утрачиваем. Стремление к
солнцу, самодвижение и произрастание одинаково
свойственны и человеку и всему другому, произрастающему под
небом. Человеку не нужно вчувствоваться в это, он находит
все это перед собой, и оно пробуждает в нем мощный
резонанс. И связь со всем живущим захватывает его как чудо,
именно его, отступника, в своей обыденной жизни так
далеко ушедшего от первоисточника, в то время как этот
последний все еще крепко держит на старой земле этого
равнодушного человека, несмотря на его забывчивость.
При рассмотрении отношения природы в нас и
природы вне нас, конечно, нужно будет остерегаться всех тех
полных чувства аналогий и идентификаций, которые были
некогда распространены в немецкой романтике;
чрезмерность может только помешать пониманию феномена.
Правда, эти иллюзии романтиков очень родственны
эстетическому созерцанию природы и, может быть, могут
рассматриваться как граничащие с ними феномены в
имеющемся комплексе фактов, рассматриваемых
исторически. Но как раз поэтому их нельзя привлечь одновременно
для объяснения фактов. Здесь вовсе несущественно, в
какой степени сможем мы объяснить прочувствованный и
пережитый резонанс - психологически или
антропологически (или даже метафизически); важно только то, что в
созерцании второго порядка будет пережито или
интенсивно прочувствовано также нечто другое, которое
предметно дано, как и первое (непосредственно
воспринимаемое), и что первое кажется крепко связанным со вторым.
Тем самым определена схема, по которой можно
понять как структуру, так и способ существования
прекрасного предмета. Прекрасное есть предмет двоякого рода,
но оно едино как единый предмет. Существует реальный
предмет, который дан чувствам, но он не превращается в
чувства. Но вместе с тем в такой же мере является
ирреальным, проявляющимся в реальном или
обнаруживающимся на его фоне. Прекрасное не является только
первым предметом или только вторым, но, пожалуй, оба они
мыслятся вместе. Значит, правильнее будет сказать, что
существует появление одного в другом.
48
Введение
Ясно, что при такой структуре способ существования
эстетического предмета не может быть простым. Подобно
тому как в нем находится предмет двоякого рода, в нем
скрыто и двоякое бытие: реальное и нереальное и только
кажущееся. Здесь оригинально то, что эта
двойственность существования, несмотря на ее полную
гетерогенность, не служит основанием раскола или раздвоенности
предмета.
Отношение между двумя частями здесь должно быть
совсем внутренним, можно сказать - функциональным.
Своеобразием, от которого зависит красота предмета,
является определенная роль реального (чувственно
данного) в нем, дающая возможность проявиться совсем
другому - ирреальному.
В этом лежит причина того, почему форма
существования целого должна мыслиться раздвоенной, в то время
как; структурно предмет действует как нечто единое и
совсем нерасколотое. Единство - в явлений. То, что
является причиной, должно быть реальным, но являющееся не
может быть реальным, потому что существует только в
этом своем явлении. Поэтому в способе существования
прекрасного все перемещается: оно там налицо, и вместе
с тем его там нет. Его существование колеблющееся.
В созерцании и наслаждении мы ощущаем это
колебание как волшебство красоты. Если бы мы сам предмет
воспринимали как бы расколотым, то волшебство
исчезало бы. Только тогда, когда мы переживаем его как
ненарушенное единство и все же чувствуем в нем
противоположность бытия и небытия, мы можем познать магическую
силу отношения явлений.
13. Реальность и видимость.
Потеря реальности и явление
В эстетике XIX столетия много говорилось о явлении.
Но всегда предполагали, что речь идет о явлении "идеи"
независимо оттого, понимали ее метафизически, как
Шопенгауэр, или как человеческие мысли, образы фантазии,
воображаемый идеал и т. д. При всех условиях отношение
схватывалось слишком узко. В природной красоте идею
не так легко увидеть; еще труднее ее увидеть в
художественно прекрасном. Поэт заставляет являться такие
образы, которые, конечно, должны быть продуктом фантазии,
но вовсе не должны быть идеалами (скажем,
моральными); их явление вполне удовлетворяет требованиям
эстетической ценности, если только оно действительно наг-
Введение
49
лядно и ясно, то есть жизненно правдиво. Потому что из
языка, в котором поэт формирует образы, оно не
вытекает само собой.
Итак, первое, что здесь становится ясным в
противоположность идеалистической эстетике, - это следующее:
то, что является, не должно быть этическим или чем-то
идеальным. Возможно, им может быть любой отрезок
жизни. Это повлияет только на род явления. Это должно
быть твердо установлено, даже если практически нужно
производить известный отбор подходящего материала
для изображения, ибо здесь речь идет о "материале" в
вышеуказанном смысле.
Второе замечание касается самого явления. Со
времен романтики говорят, при поддержке гегелевской
эстетики, о "видимости" как способе бытия прекрасного. Этим
хотят сказать: изображенное не существует в
действительности, не имеет реальности, но представляется
наблюдающему так, как будто оно реально. Это видно в
конкретном многообразии, богатстве деталей, в растворении
созерцающего в воспринимаемом. Потому что
эстетически созерцающий не отделяет чувственно видимое от
духовно созерцаемого, но видит обоих в одном, думая,
таким образом, что он воспринимает невоспринимаемое.
Если это проводить последовательно, то к сущности
эстетического созерцания должен присоединиться момент
обмана или иллюзии, а к сущности предмета -
обманчивость в его содержании.
Конечно, имеется техника сценического искусства и
возможно также искусство рассказа, которые пользуются
иллюзией как средством и достигают при помощи ее
реалистического воздействия. Только здесь возникает
вопрос, является ли это настоящим художественным
действием, не приближается ли тут искусство к трюку, не
превращается ли действие в нечто сенсационное и
апеллирует поэтому к совсем другим, отнюдь не
художественным чувствам. Обычно зритель очень хорошо знает о
недействительности происходящего на сцене, знает о
"раздвоенности", ясно отличает актера от
представляемого им лица и как раз поэтому может наслаждаться его
исполнением. Если бы он считал триумф интригана или
страдание и падение героя реальными, то было бы
морально невозможным, чтобы он сидел тут безразлично как
зритель и наслаждался происходящим на сцене. Поэтому
в сценическом искусстве есть ограничение реализма,
стилизация речи при помощи стиха, стилизация сцени-
50
Введение
ческой картины при помощи декораций и рампы и многое
другое. То же самое относится к рассказу и вообще к
изобразительным искусствам.
Замена действительности как раз совершенно чужда
настоящему искусству. Теория кажущегося и иллюзии,
которая идет этой дорогой, не учитывает одной важной
особенности сущности художественного стремления, а
именно той, что последнее не заменяет действительности, что
являющееся скорее может быть понято именно как
являющееся и не включается как член в реальный ход жизни, а,
наоборот, вычленяется из него и противопсставляется
авторитету действительности.
Эти вычленение и противопоставление встречаются
во всех искусствах, которые изображают что-то взятое из
действительности или по ее образу свободно созданное.
Лучше всего это известно в живописи, где к тому же
действует еще изолирующее оформление. Ни одному
зрителю не приходит на ум принимать картину ландшафта
за реальный ландшафт, а портрет - за реальное лицо. И
именно это важно для того, чтобы понять отношение
явления к действительности. Противоположность к
окружающей реальности здесь необходима, хотя бы изображение
было так правдиво, что всецело отдающийся созерцанию
наблюдатель забывал бы реальный окружающий мир и
сам, так же как его предмет, из него выключался.
Замечательно то, что забвение окружающего мира и сознание
выключения из него не противоречат друг другу, хотя
последнему принадлежит остаток от сознания окружающего
мира. Здесь отношение также неустойчиво; но этого
достаточно для того, чтобы мы были счастливы от чувства
приподнятости над самими собой, отвлечением от
чувства обыденности и забот, счастливы освобождением
и облегчением; мы как бы скрываемся в это
неопределенное состояние, когда хотим избежать нужды и душевных
тягот.
Заблуждение вкрадывается только тогда, когда мы
хотим истолковать это состояние как бегство в мир
кажущегося. Если бы здесь речь шла действительно о кажущемся
или об иллюзии, то мы перемени ли бы только одни
тяготы на другие: мы принимали бы являющееся за реальное
и благодаря этому впадали бы в новые заблуждения.
Поэтому здесь нужно строго придерживаться понятия
явления в его нейтральности к способу бытия являющегося и
не смешивать его с видимостью. К видимости относилась
бы иллюзия действительно существующего. Ведь именно
Введение
51
намечающаяся здесь противоположность к
действительности является самым существенным.
Уже выше мы могли увидеть, что получилась
многослойная структура и в высшей степени своеобразный, как
бы неопределенный, колеблющийся способ
существования эстетического предмета. Последнее примыкает к в
корне различным способам существования обоих слоев в
нем: реальности на Чувственно данном переднем плане и
явлению на заднем плане; "бытии в себе" там и "бытии для
нас" здесь. Этого не стали бы оспаривать и даже ставить
под сомнение, если бы проводили различие между
иллюзией и кажущимся, с одной стороны, и являющимся
задним планом - с другой. Наоборот, кажущееся лишь
повредило бы характер чистого явления, потому что он
представил бы нам лишь обманчивую реальность. Его исключение
как раз является условием, при котором
последовательное расположение обоих способов бытия создает
стабильную картину единства.
Ибо способы бытия не смешиваются друг с другом.
Для этого они слишком разнородны. И даже в
эстетическом созерцании они не сливаются друг с другом, но
остаются раздельными, хотя и связанными друг с другом, и
воспринимаются как неразрывное целое. Целое, таким
образом, исключительно только объективно. Это должно
означать следующее: чисто объективная картина
противоположна ко всем моментам акта созерцания и
наслаждения, хотя она в своей важнейшей составной части
обусловлена субъектом и его актом и без его содействия
вовсе не совершается и поэтому существует только "для"
адекватно созерцающего субъекта.
Объективное, таким образом, существует еще далеко
не независимо от субъекта. Сама предметность здесь
только частично реальна, частично же ирреальна. Только
таким образом создается возможность того, что что-то,
являясь "в" действительном, в то же время удаляется от
действительного и не возвращается более к нему. При
этом это нечто дается конкретно созерцаемым, то есть
таким, каким обычно является действительное.
Такое удаление от действительности является потерей
реальности, дематериализацией. Вместе с последней
выступает новая основная черта прекрасного предмета
как колеблющегося между двумя разнородными
способами бытия. Этот момент зависит прежде всего от действия
художника, если он этим еще не разгадан, ибо здесь
навязывается противоположность к действию человека в жиз-
52
Введение
ни и к тяжелой нравственной ответственности. Поступок
здесь является осуществлением. Намерение или цели
еще недействительны, они поставлены сознанием в
качестве цели, пока мы их ощущаем как предполагаемые или
должные, но они превращаются в действительность через
поступки людей. И свобода, с какой мы решаемся на это,
есть способность соответствовать идеальной
необходимости долженствования, где ей еще недостает реальной
возможности. Осуществление недействительного
состоит тогда в возможности его осуществления. На первый
взгляд кажется, что творчество художника также является
неким осуществлением, осуществлением какой-то идеи
или того, что ему представляется идеальным. Если же
посмотреть ближе, то получается как раз
противоположное. Его творчество не является осуществлением и,
следовательно, не представляет возможности для этого. То,
что перед ним является, вовсе не существует в
действительности, но только представляется ему. А это значит, что
оно должно являться.
Действие художника-творца есть удаление от
действительности, потеря реальности. Ему не нужно
создавать недостающие "условия возможности, ему не нужно
приводить в движение всю косность реальности, ему
нужно только представить ирреальное как таковое
наблюдающему. Реальное нужно ему для этого только как
соединяющий член, в кором-может явиться ирреальное. И только
в создании такового он является осуществителем. Но то,
что в нем выявляется, остается при этом непременно
недействительным и настолько решительно отделенным и
несомненно недействительным, что явление в
чувственной осязательности дает нам иллюзию вместо
действительности.
Поэтому свобода художника также отличается от
свободы просто действующего субъекта. Художника не
подгоняет никакая обязанность, на нем не лежит никакая
ответственность. Для этого ему открыто безграничное царство
возможного, которое не связано никакими реальными
условиями. Свобода художника не только отличается от
моральной свободы, она значительно больше последней.
Она точно соответствует дематериализации, как модусу
бытия художественного созидания, и является чистой
свободой, не связанной никакими внешними узами.
Введение
53
14. Подражание и творчество
В эстетике ни о чем не спорили так много, как о
подражании в искусствах. С Платона начинается теория
"мимезиса", в Аристотеле она находит своего классика, и до
сего дня ее можно встретить в различных толкованиях, хотя
большинство тех, которые кладут ее в основу схемы, не
называют ее больше по имени.
Сначала эту теорию рассматривали как подражание
вещам, реальным лицам и их стремлениям; но позднее ее
начали считать подражанием идеям, согласно которым
должны были быть оформлены вещи. В обоих случаях
художнику заранее предписывалось, что именно ему нужно
изобразить, и лишь от его возможности зависит то,
насколько он может приблизиться в своем творчестве к
идеалу. Его творчество здесь очень ограничено. О том, что
художник мог бы показать миру нечто новое, такое, чем мир
еще не обладает, здесь не может быть даже и речи.
Мало что меняется и от того, что смысл мимезиса
пытаются передавать понятием "изображение". В этом
понятии также в первую очередь и сильнее всего звучит
момент копирования. Но тот, кто более остро воспринимает
верхние тона, находит в нем, конечно, еще и другой
момент; это момент явления, о котором уже говорилось, - и
именно в гетерогенной по отношению к изображенному
материи: в слове, в тоне, в краске, в камне. Если же
сущность прекрасного предмета перекладывается, когда
оказывается необходимым, не в являющееся, а в само
явление, то самостоятельность творческого выполнения в
действии художника поднимается благодаря этому сразу
на значительную высоту и становится главным в
создаваемом произведении, потому что теперь легко увидеть, что
художественное представление есть нечто иное, чем само
являющееся, и тогда настоящим носителем эстетической
ценности является именно художественное выполнение,
и особенный "материал", который оформляет это
выполнение, отходит на второй план.
Но и этого еще недостаточно. Указывают ли
изобразительные искусства со своим материалом на готовые
оригиналы, берутся ли эти оригиналы из природы или из
сферы жизни человека? Не имеет ли художник и в этом
отношении некоторую свободу? Не может ли он сам дать
больше того, что ему дается, не может ли он сам материал
создаваемого произведения поднимать над областью
познаваемого и таким образом показывать наблюдателю нечто
такое, чего он в жизни не находит? Нечто подобное пред-
54
Введение
полагала эстетика Плотина, Шеллинга и Шопенгауэра,
когда она говорила об "идеях", которые являлись. Только
здесь сами идеи понимались как нечто предшествующее
и предначертанное художнику, так что последнему в
качестве продуктивных моментов оставалось . только
созерцание и последующее изображение.
Но что будет в том случае, если метафизика идей как
предпосылка окажется здесь несостоятельной, если эти
"первообразы", которые якобы существуют до понимания
и до явления, вовсе не существуют и если все же имеется
возвышение сформированного художником над всем
эмпирическим и проникновение в идею и символику? Не
должен ли творящий художник сам создавать являющееся
содержание и прежде всего возвысить его над данным в
жизни?
Простое рассуждение показывает, что на этот вопрос
нужно ответить утвердительно. Если правда, что
искусство поэзии может быть также поучительным, что оно
может сделать осязаемым ценное и разумное содержание
человеческой жизни и даже может пробудить серьезное
желание его удовлетворить, - никто не будет этого
оспаривать, и это нельзя понять иначе, как в смысле
практического указания пути. Это не нужно сейчас же объяснять
как педагогическую тенденцию; напротив, как раз там, где
не существует никакой тенденции, действие такого рода
совершается вернее всего. Но тогда поэт должен также
выявить то, что находится надданным, что имеется сверх
существующего.
Прохождение человека через искусства не является, в
сущности, больше эстетической проблемой, но оно
проливает свет на основные вопросы эстетики, и как раз там,
где искусство не делается фальшивым "из педагогических
соображений" и не "расстраивает" наблюдателя. Ибо эта
форма руководства человеком имеет то преимущество
перед всякой другой, что она убеждает непосредственно,
то есть так, как обычно убеждает только настоящий
жизненный опыт; и именно по этой же самой причине поэзия
обращается к нам не с поучениями, а с конкретно
видимыми лицами, которые освещены как таковые и пробуждают
наше общественное чувство ценности и открывают нам
глаза на глубину жизненных конфликтов, которую мы сами
в жизни не замечаем. Внутренний рост и зрелость при
таком действии не являются иллюзией. Каждый, кто
приобщается к большому искусству, испытывает это на себе. Но
здесь настоящее искусство, которое всегда лишено тен-
Введение
55
денции, радикально отличается от продукции, сделанной
по заказу и на злобу дня, которая действует
нехудожественно и с течением времени достигает результатов,
противоположных тем, к которым стремились. Только
действительно наблюдаемое и конкретно-образно
оформленное доставляет людям ту движущую силу,
которая доказывает, раскрывает, указывает дорогу, потому что
она свободно выступает из сущности вещи.
На этом зиждется высокое призвание поэзии, а в
какой-то мере и других искусств. Целые поколения и эпохи,
таким образом, могут быть определены через
произведения высокого искусства. С древних времен знали о тайне
поэзии, знали о ее власти над человеческими сердцами,
которая направлена на то, чтобы возвысить их до
великого и воодушевить их на то, что наставительная мораль
может только трезво предлагать или требовать.
Именно здесь лежит главная причина того, почему
искусства не могут оторваться от реальной жизни, хотя они,
без сомнения, имеют своего рода автономию. По крайней
мере в том случае, если они не хотят потерять свою
собственную жизнь. Из жизни, то есть из того, что волнует
души людей, вытекают темы различных искусств, их
материал, и именно к этой жизни снова обращено их действие.
Они по своему существу могут находиться только в рамках
исторической действительности, на почве которой они
возникают, а не в чисто эстетическом (asthetizistischen)
призрачном бытии наряду с ней, как это позднее
расписывали бессильные эпигоны былых, богатых творчеством
времен. Как раз здесь возникает задача, которую могут
решить только они, и прежде всего потому, что их
творческая деятельность - не осуществляющая. Хорошо
известно, как продуктивна древность в познании этой задачи и
как высоко она чтила идейность художника - до такой
степени, что поэта считали очевидцем и ссылались на его
свидетельства спустя целые столетия. Однако надо иметь
в виду, что эта задача не является задачей эстетики. Она
относится к искусству, потому что никакая другая функция
духовной жизни не может ее выполнить, а также потому,
что она является делом художественного выполнения; но
это не эстетическая, а культурная сторона. Совсем
отделить одну от другой - значило бы вырвать искусство из его
жизненных связей, лишить его различных жизненных
движений и импульсов, без которых оно не существует.
Такова уж природа человека: к творческому оформлению его
влечет только то, что больше всего побуждает его в жизни
56
Введение
и борьбе, в желаниях и стремлениях. Совокупность всех
жизненных условий, в которых существует человек,
является питательной почвой и одновременно ареной его
действия. Его действия очень далеки от того, чтобы быть
только эстетическими.
Отсюда вытекают двоякого рода выводы также и для
чисто эстетического деяния художника. Один из них
заключается в следующем: внеэстетическое действие есть
доказательство творческого, поскольку оно также
заключено в содержании великих художественных
произведений; этот факт является доказательством выхода за
пределы всякого подражания и доказательством
автономного усмотрения идейности. Ибо без такого усмотрения
возвышение над известными нам жизненными оригиналами
является вещью невозможной.
Почему это содержательное творчество так тесно
связано с формальными и чувственными фигурами - в этом,
есть еще много загадочного. То, что никакое другое
творчество не осуществляет этого, еще ничего не объясняет. Оно
могло бы быть не под силу человеку; и то, что оно ему
доступно и в некоторых счастливых случаях ему удается,
является одним из больших чудес творческого духа. Может
быть, само это чувственное оформление также поднимает
гениальное по содержанию над данным. Мы можем
придерживаться только того факта, что великие художники
живут в море воображаемых образов и что художник-творец
действительно отрывается от собственного я, одержимый
своей идеей как внутренней судьбой, которую он считает
собственной и которую он изображает в своем творении.
Второе, что вытекает отсюда, - это взгляд на
выдающуюся художественную свободу, которая господствует в
самом творении. Как уже было показано, она основывается
на том, что художнику не нужно что-то осуществлять или
делать реальным, а нужно ограничиться только простым
явлением. Но в области явления он - неограниченный
властелин. Здесь он не сталкивается с жесткими
препятствиями реального; здесь ему открываются
неограниченные возможности реально невозможного. Здесь
существует только им самим же созданный закон, который не
стесняет его в выборе форм материала, так как то, что он
наблюдает, не только автономно, но и автаркично, - рядом
с ним не существует никаких богов.
Эта единственная в своем роде сила творящего
художника является в определенном смысле, по выражению
Гельдерлина, его "свободой идти туда, куда он хочет".
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОТНОШЕНИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ
РАЗДЕЛ I
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АКТА
ГЛАВА 1
О ВОСПРИЯТИИ ВООБЩЕ
а. Проникновение внутрь
Название "эстетика" говорит о том, что форма
данности прекрасного предмета является формой данности
восприятия. Это - исходное положение. Но уже в самом
начале обнаруживается, что не любое понятие восприятия
достаточно для задач эстетики. Значит, нужно пытаться
сначала образовать это понятие, оставаясь верным
явлению, имея в виду эстетическую структуру акта, основание
которой в сознании наблюдателя образует восприятие.
Довольно долго считали, будто восприятие содержит
только элементы видимого, ощутимого, слышимого,
содержит лишь цвета, пространственные формы, звуки и так
далее, короче говоря, будто оно заключается в
совокупности ощущений. Новая психология показала, что оно не
только не заключается в совокупности ощущений, но даже
не знает элементов ощущений как таковых. Только
анализирующая психология вспомнила об этом задним числом;
последняя может экспериментально изолировать его
таким образом, что оно становится действительно
осязаемым. Ведь для этого нужны искусственно созданные
условия, которых не бывает в жизни.
В действительном восприятии, с точки зрения
содержания, всегда дано комплексное образование, картинное
Целое, совокупность многих частностей, полное
контрастов и переходов, безразлично, есть ли это только одна
"вещь", которая воспринимается, или целая система
связей вещей - практически оно всегда таково, - положение
дела или нечто большее; к этому относится то, что мы
воспринимаем при созерцании внутренне, то есть то, что
чувственно непосредственно уже не дано, но что является
естественным добавлением; ведь мы никогда не видим
чисто оптически точно все видимое в вещи, но мы
связываем его без дальнейших суждений, уподобляем одно
другому и даже не замечаем этого своего действия. В
восприятии исчезает граница между оптически данным и
добавленным. Ибо то, что происходит в восприятии
синтетически, совершается по эту сторону всякого рефлек-
60 Часть первая. Отношение проявления
тивного познания, конечно, на основе опыта, но не путем
выводов, сравнений, комбинирования или сходных
последующих операций.
Но это еще далеко не все. В повседневном восприятии
содержится много такого, что вообще не может быть
чувственно воспринято. Мы видим дерево и жука, но мы
видим также и жизнь в обоих и видим ее
дифференцированно, как жизнь различного рода. Мы входим в комнату и
видим бедность или богатство, неопрятность или
хороший вкус обитателей. Мы видим лицо, фигуру в движении,
может быть, даже только сзади, и все же уже
непосредственно знаем нечто о духовной жизни человека, о его
характере, о его судьбе.
И как раз это, то есть невидимое, является, собственно,
тем, ради чего мы воспринимаем, ради чего мы обращаем
свой взор на вещи или на некоторое время останавливаем
на них свой взгляд. На одно лишь внешнее мы, возможно,
совсем не обратили бы внимания, не говоря уже о том, что
мы не остановились бы на нем. Так смотрим мы на лица
людей: восприятие проникает через видимые формы, по
существу, в совершенно иное, во внутренний духовный
мир; и это настолько сильно, что мы в дальнейшем, как
правило, прилагаем много усилий, чтобы только
вспомнить видимые формы, чтобы воспроизвести их в своем
воображении, в то время как одновременно воспринятое
невидимое встает перед нашим взором в ясно выраженной
конкретности. Мы сознательно восприняли прежде всего
это, а то едва только заметили, как будто только слегка
задели как нечто несущественное, прозрачное.
Здесь не нужно слишком рано ставить вопрос,
означает ли это уже "видеть". Фактом является только то, что мы
в жизни совсем не знаем, что такое "видеть" без такого
проникновения внутрь. И не так, будто последнее только
потом добавляется в рефлексию или в следующее за ней
размышление; значительно чаще происходит
одновременно с чувственным видением как бы само собой
понятное и свободное добавление вещественного. Акты - если
это вообще два один за другим включающихся акта -
выступают неразделенными во времени.
Как это объяснить? Каким образом невоспринимае-
мое становится самым важным в восприятии?
Это не так парадоксально, как кажется, если только
принять во внимание, что наше сознание является не
только воспринимающим и что оно является смелой
абстракцией, изолирующей при созерцании восприятие
Раздел I. Эстетическое строение акта Q *|
таким образом, как если бы это последнее было
когда-либо единственно существующим. Как раз наоборот.
Каждое восприятие уже отходит на задний план связи акта и
содержания, которое каждый раз строится из двух
ступеней: как мгновенная связь переживаемого и как далеко
идущая во времени связь опыта.
Обе эти ступени связи составляют всегда
расчлененное единство, в котором уже заранее существует порядок
разнообразного. И в этом единстве по определенному
порядку распределяется все, что представляется сознанию
как сообщенное ему, так и пережитое им самим, как
собственная мысль или догадка, так и воспринятое. Но
внутри этого единства, как правило, доминирует узкий
круг предметных моментов, с которыми связан интерес
воспринятого: лица и их особенности, жизненные
ситуации, душевное настроение, мысли и намерения людей, их
благосклонность, их вражда, их зависть, их отказ и
признательность и многое другое. Вокруг этих моментов
группируется главным образом все остальное. И благодаря им
внешняя оболочка восприятия легко наполняется
внутренним содержанием, которое не было чувственно
воспринято, но каждый раз присоединяется и действует как
данное вместе с восприятием. Поэтому удивительный
феномен "проникновения внутрь" через наружное так
всеобщ и для всех нас так привычен, что мы этому больше не
удивляемся, хотя разочарования, которые мы при этом
испытываем, могли бы сделать нас более вдумчивыми. И
в этом причина того, почему мы воспринимаем только
внутреннее, в то время как мимо внешнего только
скользим, хотя оно как раз и есть чувственно данное и
способствует апперцепции. В этом смысле мы можем сказать: "я
вижу" гнев, тоску, недоверие в выражении лица; но мы
еще долго оказываемся не в состоянии объяснить, "как"
все это выражается в мимике.
По отношению к этим феноменам становится
второстепенным то, как оценить их по характеру акта: считать ли
восприятием или нет. Это является лишь спором о
терминах. Речь идет только о правильном понимании фактов, и
даже не при всяком восприятии, а, прежде всего, при
таких, которые имеют дело с лицами, ситуациями и
обстоятельствами или которые разыгрываются в практической
жизни. О последних было бы правильно сказать, что с
каждым восприятием связано включение в определенную
зависимость пережитого и испытанного столь неразрывно,
что мы без него совсем не можем считать, что имеем де-
62 Часть первая. Отношение проявления
ло с восприятием, но чувствуем лишь, что ничего не
воспринято. Самое существенное для нас есть именно это
проникновение внутрь того, что воспринято не чувственно.
б. Практическая выбираемость
области восприятия
Хотя нигде нет никаких путей обхода вооруженного
логическим арсеналом сознания, все же появляются
всеобщие представления различного рода. Так, например, это
имеет место уже в простом дополнении чувственной
перцепции к вещественному представлению: схема вещи
существует как готовая, не в форме понятия и не в "строгой"
всеобщности, как того потребовало бы научное сознание,
но в более свободной форме и нередко с принудительной
силой. Это всеобщее есть просто осадок опыта и
проявляется в нашем понимании предметов как "эмпирическая
аналогия", которая как таковая совсем не обязательно
должна быть понята, можно было бы сказать: вроде
наезженной колеи представления, по которой нет надобности
идти дальше для знания нового и которая поэтому
находится в некоторой индифферентности по отношению к
объективному соответствию или несоответствию. Потому
что, если сомнительны заключения по аналогии,
насколько более сомнительными должны быть незаметно
совершаемые аналогии! Так складывается для нас, например,
известный характерный облик уже на основе лишь
однажды пережитого (или даже только отдельные черты
характера, а именно доброта, верность, легкомыслие,
слабость). И эта картина играет роль готовой схемы, когда
нам снова встречаются сходные внешние черты лица. Это
называют со времен Юма ассоциациями, но оно
отличается от юмовских феноменов тем, что всегда уже выполнено
самим восприятием.
Хотя этому роду всеобщего и противопоставлено
много заблуждений, на нем покоится все же большее, а
именно наши жизненные познания относительно душевных
состояний других лиц. И опытным человеком в жизни
является тот, в ком такое знание находит более широкую
базу. С широтой базы проникает в сознание всеобщее как
таковое, и тогда оно принимает форму понятия и
становится контролируемым. От этой, очевидно, высшей
ступени ясно отличается схваченное самим восприятием, и
именно только с ним мы имеем здесь дело.
Позади описанного здесь феномена стоит, как уже
указывалось, практический интерес, установка на то, что до
Раздел I. Эстетическое строение акта 63
некоторой степени необходимо. Но мы живем, испытывая
необходимость ориентироваться в окружающей жизни и в
особых ситуациях. Опять-таки понимание ситуаций
невозможно без известного понимания намерений,
стремлений и настроений окружающих. Потому что они в жизни
являются противниками и как раз их намерения и
определяют характер ситуации. Все практические ситуации
внутреннего порядка, понятые в этом смысле, являются игрой
невидимых душевных сил, и это самое существенное в
них. И как раз эти силы являются предметом широкого
восприятия через всеобщий опыт.
Восприятие невидимого теряет большую часть своей
загадочности, когда видишь, что оно и в отношении более
простых предметов играет важную роль. При этом думают
о прогрессирующей заменимости в зрелом сознании
чувства осязания через чувство лица. В каждой вещи мы
видим очень много невидимого: мы "видим" в вещах их
твердость или эластичность, их тяжесть или же косное
сопротивление импульсам движения. И то же самое
относится mutatis mutandis к чувству слуха: мы слышим шаги в
соседней комнате, но при этом внутренне "видим", как
движется человеческая фигура, подходит к известным
предметам; или же мы слышим тихий шум стула, но при
этом внутренне видим, как сидящий делает определенное
движение. И в этих случаях восприятие также направлено
безотносительно к границам чувственно данного, на то,
что нам важно с точки зрения определенного интереса.
При этом одновременно возникает мнение, что все
наше поле восприятия предопределено практическим
интересом. Само восприятие и вместе с ним пережитое
подчинено принципу отбора благодаря тем оценкам, которые
мы сами вносим нашей заинтересованностью. Из всего
пережитого, которое входит в наше поле зрения, вполне
осознается только то, что несет эти акценты. От них
зависит направление внимания. Таким образом, выделенное и
оттененное, оно является существенным не в себе, не
само по себе, но только для нас.
В высокоразвитом теоретическом сознании оно
может, конечно, приблизиться к существенному в себе; но
тогда сознание резко отделяет чувственно данное и не
данное чувственно и восприятие приобретает форму
сознательно совершаемого наблюдения. В этом случае
возникает совершенно другой взгляд, который очень далек от
восприятия обыденного.
64 Часть первая. Отношение проявления
За акцентированием и удовлетворенностью в
восприятии стоят ясно выраженные оценки: вся
заинтересованность падает именно на компоненты ценности, которые
мы вносим с нашей стороны и переносим на круг
воспринятого. Так увидел Макс Шелер в свое время этот
феномен и в первый раз описал его. Это можно понять и по его
собственному сочинению: область восприятия дает нам
удовлетворение по ценностям. При этом речь ни в коем
случае не идет о высоких этических ценностях или же
только о них, но только во втором плане; на первом месте
это гораздо больше касается ценностей в виде благ
(включая разнообразные ценности вещи и жизненные
ценности). Ведь господствуют точки зрения
самоутверждения личного успеха. Такие точки зрения, так же как и
сами стоящие за ними ценности, являются моментами,
которые по своей сущности исключены из восприятия.
Мимоходом здесь можно сказать несколько слов о
знании людей. Оно покоится не на собственном знании, а
на обостренном интуитивном взгляде, то есть, собственно
говоря, на созерцании невидимого. Поэтому оно
принадлежит как раз к феномену восприятия. Оно также
обусловлено практически и руководствуется точкой зрения
ценности. Наряду с пластичностью пережитого искусное
обобщение однажды испытанного (то есть эмпирическая
аналогия) проявляет свою сущность. В силу этого она
имеет в себе также слабости аналогии в сознании:
страдает всеобщностью, образует схемы и верна только
постольку, поскольку эти схемы оказываются пригодными.
Поэтому взгляд знатока людей касается только
типического и оказывается беспомощным перед действительно
личным, то есть перед тем, что неповторимо и требует
более пристального взгляда.
е. Компоненты чувства
Все эти компоненты выходят далеко за пределы
восприятия. И все же все они относятся к восприятию,
теснейшим образом и внутренне связаны с ним, связаны так, что
в отрыве от него мы не имеем никакой возможности
познать их. Решение загадки дано выше в утверждении, что не
существует просто воспринимающего сознания, по
крайней мере у обычного человека, а у духовно
высокоразвитого не существует вовсе. Благодаря этому все, что дает
восприятие, попадает уже на почву широкой,
всеохватывающей взаимосвязи.
Раздел I. Эстетическое строение акта 65
То же самое можно рассмотреть с другой стороны, и
тогда оно выглядит так: восприятие "трансцендирует"
самое себя. Дословно это можно выразить таким образом:
восприятие перешагивает через самое себя, переступает
свои собственные границы, указанные ему его
чувственной функцией. Оно выходит за свои пределы, переходит
на другое, которое ему непосредственно не дано, и
присваивает его себе, почти не считаясь со своим
действительным происхождением. Так оно навязывается
единству, целостности, взаимосвязи, заднеплановому - и
притом так элементарно и непосредственно, что нам кажется,
будто мы переживаем их в восприятии и принимаем за
данные. Происходит так, что мы видим как бы тайные
намерения человека на его лице, и в известном смысле мы
действительно можем их видеть. Следовательно, это есть
"самотрансценденция" восприятия. Оно не остается у
себя, но расширяется. И поэтому феномены восприятия не
могут быть психологически изолированы. Их знают только
в соединении с большим количеством более высоких
функций, и, строго говоря, все время приходится иметь
дело со всем сознанием.
Ни в коем случае нельзя сказать, что это верно
исключительно лишь для высокообъективных и предметных
элементов в нем; это верно также и для эмоциональных
элементов. Речь идет как раз о последних, потому что здесь
связь еще более тесная и в большей степени коренится в
элементарном.
Чисто предметное восприятие, как мы это знаем по
наблюдению, генетически есть более поздний продукт
культурного сознания и существует даже в современном
человеке только при известной его зрелости. Для
детского или близкого к природе примитивного сознания
предметы восприятия отягощены еще различными
аффективными акцентами: так, неизвестное связывается с
возбуждающим страх и ужасным, что может быть, между прочим,
перекрыто самым удивительным образом моментом,
возбуждающим любопытство. Какое-нибудь место может
быть воспринято как жуткое и отталкивающее или же,
наоборот, как уютное и близкое при простом взгляде на
него, при простом восприятии. Вещи, также как
происшествия, могут быть угрожающими, подстерегающими,
коварными, а также благотворными, благонамеренными,
добродушными, любвеобильными. Ребенку свойственно
воспринимать безобидные вещи как "добрые" или "злые";
последние не в смысле морально злого, но как враждеб-
66 Часть первая. Отношение проявления
ные или злонамеренные. Светлый солнечный луч,
журчащий ручей, темнота леса, ночная прохлада, сучковатый
ствол дуба, одним словом, весь воспринимаемый мир
наполнен такими чувственными акцентами.
Многое из этого зависит от какой-либо
действительной угрозы человеку со стороны сил природы; то же самое
можно сказать о расположении к человеку окружающей
природы. Такой опыт может сохраниться в инстинктивных
реакциях чувства. В этом отражается также
анимистическое мировоззрение ранних культур; став чуждым нашему
мышлению, оно все же сохранилось в воспринимающих
сферах нашего сознания, неравномерно распределяясь
соответственно типу человека и в известных границах,
имея все еще чувственный характер. Человек
действительно живет в этой сфере своего сознания, находясь
вплоть до сегодняшнего дня в плену укоренившихся
телеологических представлений. В те мгновения, которых не
бывает при трезвом размышлении, они снова
обнаруживаются, проявляются, нападают на него. Воспринятое
тогда неравнодушно к нему, "чего-то от него хочет"
независимо от того, находится ли это в добре, или зле, или же по
сю сторону всех мифических реминисценций.
Первобытные моменты страха, возможно, играют при этом главную
роль.
Такие компоненты чувства не навязаны восприятию в
ходе развития, но являются первоначальными, и от их
господства объективное восприятие освободилось
сравнительно поздно. Поэтому при случае они все еще звучат в
восприятии трезвого и успокоенного сознания. Они
выступают тогда из темной глубины подсознательного и
присоединяются к восприятию.
В повседневной жизни современного человека еще
сохраняются эмоциональные компоненты восприятия.
Здесь также бывают известные моменты веселья или
уныния, которые определяют настроение. Мы говорим о
"радостном взгляде" или об "отвратительном впечатлении"
также там, где дальнейший интерес к вещи отсутствует.
Рука с видимым удовольствием гладит мягкую кошачью
шкуру, но боится тронуть жабу или паука. Несомненно, что
здесь в основе лежат жизненные реакции. Подобное
бывает и тогда, когда мы слышим пугающие или режущие
звуки или успокаивающие, ритмические, убаюкивающие
шорохи; уже слова выражают определенную
направленность чувства. Надо также иметь в виду, что обоняние
гораздо более подвержено изменениям и благотворным
Раздел I. Эстетическое строение акта 67
чувствам. То же самое в еще большей степени относится к
чувству вкуса.
Аналогия в большой степени зависит также от взгляда
человека. Личность может произвести сильное
впечатление уже с первого взгляда, может вызвать отвращение
или же, наоборот, нравиться и располагать к себе. Это уже
чувственные реакции, которые стоят на границе
морального. Они все еще непосредственно и совсем нерефлек-
тивно тяготеют над восприятием. На них покоится тайна
"первого впечатления".
Вообще граница предметного и аффективного
восприятия неопределенна. Первоначально оба могли
существовать как бы одно в другом, может быть, даже с
превалированием аффективного.
И эти феномены также можно обозначить как род
"самоперехода" восприятия. Однако этот переход идет в
другом направлении: не на дополнение или обогащение
предмета, а на многотональность звучания впечатления,
явления как такового, одним словом, в направлении его
"бытия для нас". Если смотреть со стороны субъекта, то
он имеет форму возврата к первоначальному
впечатлению, к оттенкам чувств, от которых объективное
восприятие только освободилось. И когда возражают, что эти
оттенки чувств совсем не относятся к предмету, то на это
можно ответить так, как однажды уже ответил Демокрит,
правда, на совсем другие возражения: и окраска и
оттенки не принадлежат предмету, но существуют только для
нас. Как окраска, так и оттенки чувства приписываются
предмету, причем само приписывание в обоих случаях
имеет одинаковую непосредственность, так что
опять-таки не является настоящим приписыванием; вернее
сказать, угрожающее и приятное в восприятии ощущается
так же непосредственно, как ощущаются такие качества
предметов, как красный или зеленый цвет. Только
относительно позднее сознание оказывается способным
отличать здесь объективное от субъективного.
Мир вещей в восприятии как и в непосредственном
переживании является отягощенным этими относящимися к
нам оттенками чувства. И самым удивительным является
то, что последние даже там, где их "бытие для нас" уже
давно обнаружено и они совсем уже не могут быть
всерьез приписаны вещам, все же могут присутствовать в
восприятии и при случае даже становиться преобладающими.
Поэтому нужно сказать, что они даны нам в форме
свойств предмета, но не в форме субъективных приме-
68 Часть первая. Отношение проявления
сей, не как моменты акта, но непременно как
содержательные моменты предметов.
При этом не нужно забывать: они являются и в широких
границах - по крайней мере по своему источнику -
обязательно признаками объективно существующих
отношений, опасностей, угроз, возможностей и т. п. Так,
очевидно, происходит везде, где еще ясно ощущается это
происхождение из полных чувства жизненных реакций.
Отнесенность вещей к нам коренится в нашей
зависимости от них. Это не видимость, а суровая
действительность. Она остается в сущности также и там, где в
единичных случаях она только воображается, потому что, хотя
отношения бытия и господствуют над всем предметным
царством, никто не давал человеку в готовом виде
верного критерия определения действительного и
воображаемого.
ГЛАВА 2
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
а. Возвращение к первоначальной точке зрения
Все то, что касается восприятия вообще, в еще
большей степени относится и к эстетическому восприятию.
Здесь становится существенным параллельно увиденное
и прочувствованное.
В обыденной жизни современного взрослого человека
чувственные восприятия или выключены, или по меньшей
мере оттеснены. Современный человек имеет в высшей
степени объективные установки, только существующее
имеет для него вес и значение. И он в известных границах
научился отличать действительное от воображаемого.
Первое останавливает его дыхание, второе еще только
иногда его стесняет в виде исключения. Распознавание
имеет в его мировоззрении больший вес также именно в
практическом отношении, ведь в этом как раз и состоит
превосходство духовного сознания над пошлым
сознанием, что оно берет вещи такими, какими они являются сами
по себе, то есть независимо от понимания. Оно делает
это, конечно, настолько, насколько это возможно для
него, но тенденция здесь налицо. И этого одного уже
достаточно для того, чтобы радикально изменить взгляд на
окружающий мир, Дать ему то основоположение
объективности, которое сознание называет сверхпредметностью
всех предметов познания1.
1 О бездушном сознании см. "Das Problem des geistigen Seins", Aufl. 2,
(1949), Кар. 9, a-c. О понятии сверхпредметности- "Grundlegung der
Ontologie", Aufl. 3, (1948), Кар. 25.
Раздел I. Эстетическое строение акта 69
И это сознание распространяется "вниз" до
восприятия. Совсем иначе обстоит дело в эстетическом
восприятии. В нем первым и притом важнейшим моментом
является обращение тенденции, то есть возвращение к
первоначальной установке. Речь не идет о каждом отношении,
но о чувственных тонах, присущих воспринятому. Для них
"прохлада" зеленовато-синих красочных тонов, "теплота"
красноватых и желто-коричневых весьма существенна;
таинственное и страшное в лесной темноте, жуткое в
завывании ветра, заброшенность среди голых скал снова
выразительно воспринимается и при соответствующих
обстоятельствах становится самым главным. То же самое
относится и к угрожающему и устрашающему, к уютному и
возвышенному, к стесняющему форму предмета,
поскольку восприятие показывает в ней возвышенность или
приниженность. Речь идет и об освобождении, которое
дает взгляд вверх, и о стесненности узких проходов.
Эстетическое восприятие не справляется о праве
субъективности или очеловечивания, которое, возможно,
находится в нем. Оно вообще не спрашивает и не
рассуждает. Для него все это участвует в игре без рефлексии, но
существенно и в предмете природы так же хорошо, как в
художественном произведении; в увиденном им дан
целый ряд своеобразных качеств: для пейзажа, интерьера,
церковной архитектуры, но, возможно, сильнее всего для
музыки, звуковых красок и гармонии, а также и для
языковой формы поэтического произведения.
Это не возврат к обыденному сознанию. Последнее
считало бы реальным каждое данное чувственное
качество; более того, оно считало бы, что страх, испуг, угроза
относятся к нему, и чувствовало бы себя действительно
охваченным страхом, испуганным, подвергшимся угрозе.
Эстетическое восприятие этого ни в коем случае не
делает, оно вовсе не является познающим восприятием
реальности, оно походит на первоначальное восприятие только
тем, что вообще воспринимает такие качества, некоторые
из них пронизывает и получает возможность вновь видеть
и чувствовать чрезвычайно богато окрашенное
разнообразие предметов, но не в том, что оно подменивает
действительный мир вещей этим разнообразием или
смешивает их. Здесь как раз господствует строгое и
чистое разделение. Возврат к первоначальному восприятию
не есть возврат к примитивному пониманию
окружающего мира. Однажды полученная объективность остается
полной и целой. От того, что удовольствие от прекрасного
70 Часть первая. Отношение проявления
проходит через сознание, объективность вообще не
затрагивается, а тем более не ущемляется. Эстетическое
восприятие скрещивается с ним без трений. Оно смотрит
в другом направлении, и предметы их различны даже
тогда, когда это те же самые вещи, которые одновременно
представляются как одному, так и другому восприятию.
Понять эту суть дела утвердительно не так просто. То,
что прежде всего делается в нем понятным, является
только отступлением познающего сознания, в частности
рационального мышления и его объективного способа
понимания, а также практического сознания с его
целесообразными намерениями. Рациональность и трезвое
стремление к цели радикально разделываются с чувственными
тонами восприятия в духовном сознании. Это очищение
происходит ради объективной ориентировки в мире. Как
раз именно эта ориентировка отпадает в эстетическом
сознании. Равнение происходит здесь не на актуальность,
не на вещи и отношения вещей, а на объект, выделенный
из них обоих.
В эстетическом сознании не происходит также
восприятия объективной связи вещей, воспринимается только
другая, в отношении к субъекту и его способу
рассмотрения существующая связь. Но в этой другой связи ни в
коем случае не исчезают все достижения духовного
сознания: остается сама предметность и с ней остается и
дистанция до предмета. Оба делаются еще более сильными и
оттененными, потому что в эстетическом восприятии друг
против друга остаются наблюдатель и его предмет. Но
исчезает выключение чувственных тонов; эмоциональность
в восприятии опять вступает в свои права, она опять
освобождается и проявляется свободно.
Здесь выступает необозримое богатство верхних и
нижних тонов, и границы выразимого передвигаются.
Разве могло бы быть иначе? То внутреннее, что
проявляется в произведении художника, есть явление того же рода,
имеет то же духовное бытие, двигается в той же самой
области, что и эти тона восприятия, и то, что приводит
восприятие к полноте, жизненности, близости чувств, к
созвучию, вышло из этого внутреннего.
С другой стороны, эта объективация субъективного
возможна только в эстетическом восприятии, потому что
она не давит на реальность, или, точнее, потому что она не
включает свой объект в окружающий реальный мир, а как
раз из него извлекает, изолирует, в каждом единичном
случае показывает его как мир для себя, как если бы он
Раздел I. Эстетическое строение акта "J \
был охвачен другого рода созерцанием. Мировая связь,
которая отражается во всех прочих связях восприятия,
благодаря этому не нарушается, но она держится в
стороне от содержания этого созерцания, а созерцание при
эстетическом восприятии держится обособленно и
нейтрально.
Если бы возврат эмоционального в восприятии был
связан с претензией на познавательную ценность, так что
этот возврат исказил бы действительность воспринятого,
то можно было, во всяком случае, говорить о возврате к
обычному сознанию. Но он не предъявляет этой
претензии. Он не выдает себя за отношения познания, но ясно и
сознательно выделяет себя из познания. Поэтому
одушевление неодушевленного, очеловечивание
нечеловечного может вновь безнаказанно вернуться. Злобное и
преисполненное любви приписывается нереальному
предмету, но только виденному как таковому; "тоска" по
голубой дали или еще более сильное желание увидеть
закат солнца не зависят от воздушной перспективы и
различных условий поглощения солнечных лучей. Мы
говорим в одинаковом смысле о "веселом небе" и
"смеющейся лужайке", но нас не покидает знание того, что небо не
весело, а лужайка не смеется.
Здесь нигде нет никакого обмана чувственных
компонентов восприятия, нигде нет иллюзий. И этим
эстетическое восприятие отличается от первоначального
восприятия, потому что оно не отрицает ни дистанции, ни
объективности как таковых. Но оно ставит рядом с
объективностью познания (и рядом с практически актуальным)
другую, собственно эстетическую объективность, которая
не смешивается с первой. Форма бытия этого
предметного мира состоит в том, что она существует только для
эстетически воспринимающего.
Но в таком ограничении предметный мир составляет
собственную область предметов, которая утверждает
себя возле области реального и по своему разнообразию и
полноте - даже над ней. В эстетической жизни природы и
человечества это играет определяющую роль.
Первоначальное отношение к окружающему миру звучит в нем,
проникает в глубь рационализированного переживания
мира, но не делает его фальшивым и само остается также
нетронутым им. Смутное ощущение скрытого заднего
плана протискивается между суровыми фактами. Но оно
не сливается с ними, не деформирует их и ими тоже не де-
72 Часть первая. Отношение проявления
формируется. В этом царстве возле реального есть
простор - без границ и без препятствий.
Это подтверждается, если посмотреть на "играющих"
детей. В игре действует сознание, близко стоящее к
первобытному сознанию; это есть одновременно в высшей
степени творческое сознание, родственное
эстетическому. Вещи здесь еще наделяются чувственными тонами
восприятия, выглядят весьма антропоморфно, имеют
мнения, являются "добрыми или злыми". Поэтому кукла,
как бы примитивно она ни была сделана, может быть
человеком, то есть обладать характером и пороками,
упрямством, конфликтами, виной, наказанием; несколько
штрихов на земле составляют дом, известные правила игры
являются правилами жизни в этой сфере объектов. Но
сознание действительности, из которой возникла игра,
существует; и ребенок также без смешения сфер
возвращается назад в действительность, если она зовет его назад.
В известных границах то же самое происходит в игре
взрослого, в которую он вступает, чтобы "отдохнуть" от
жестокости и тяжести жизни. Он также придерживается
правил игры, как он их понял; поступает согласно этим
правилам, вступает в мир фантазии, выходя за пределы
реального. Разница между ним и ребенком только та, что
для него игра как таковая является сознательной и что он
не может уже благодаря игре забыть окружающий мир
реального. Для него игра остается фикцией.
б. Сопутствующее и откровение
Еще важнее в эстетическом отношении другая сторона
трансценденции восприятия: сопутствование предметных
моментов и всех сторон или слсев предмета, которые как
таковые не могут быть даны чувственно, потому что они не
доступны чувствам (невидимы, неслышимы и т. д.), но все
же ощущаются так, как будто они непосредственно
восприняты (глава 1, а, б). То, что происходит всегда при
обыденном восприятии, но в дальнейшем не замечается,
потому что оно включено в цепь переживаний и привычно
представляется нам как дополнение, нам легче понять; в
эстетическом восприятии оно становится существенным.
Потому что здесь речь идет как раз об отношении
наслоения двух или нескольких слоев предмета восприятия, так
что одно может "проявиться" в другом.
Так, например, в прыжке убегающей козули
воспринимаются одновременно грация, легкость, преодоление
пространства и несколько неясно - также целесообраз-
Раздел I. Эстетическое строение акта 73
ность живого. Это говорит о том, что эти вещи бывают
поняты не только в позднейшей рефлексии; тотчас же при
взгляде на грацию прыжка мы захвачены ею, и это
захватывание принадлежит эстетическому созерцанию. Но оно
при этом так тесно связано с восприятием, что мы
думаем, что восприняли непосредственно саму грацию.
В точности то же самое бывает и при взгляде на
летящую хищную птицу, а также на движения человеческого
тела. В импульсивном обороте, в легком наклоне головы,
в слабом движении губ мы непосредственно
воспринимаем то, что само по себе невоспринимаемо: душевную
реакцию, внутреннее, чувственное. Движение есть
выражение, а выражение уже само о себе говорит, само себя
доказывает. Открывается целый внутренний мир,
освещается как бы светом молнии или погружается в полную
предчувствия мглу; но всегда скрытое делается очевидным.
Восприятие "трансцендируется", оно становится
"откровенным". И когда откровение превосходит узнаваемое в
жизни или же доступное чувствам, ломает границы
понятия и, следовательно, представляет характер "явления" в
непривычном смысле, то мы его ощущаем не как
обогащение понимания, а как красоту.
Это понятие откровения оказывается в центре
эстетического восприятия1. Но этим оно еще не определено
более ясно. Это будет дальнейшей задачей. Эта задача
неразрешима при одних феноменах восприятия; она
охватывает самое главное во всеобщей "эстетике" и будет нас
занимать больше во всем последующем.
Достигнутое посредством откровения также
индивидуально ограничено, как и непосредственно чувственное
данное. Оно связано с моментами "здесь" и "теперь" в
восприятии и разделяет неповторимость переживания и
воспринятую данность предмета как "случайность". Это
яснее всего показывают примеры, особенно тогда, когда
обращают внимание на момент поразительного,
проявляющегося в них в самой различной степени. Но этот
момент осознается скорее как всеобщее, даже если он и не
является универсальным, то есть чем-то типичным. По
крайней мере сознание всеобщего может быть не совсем
ясно.
1 Тот, кто воспринимает выражение "откровения" как слишком высокое
выражение, пусть вспомнит, как употребляет его в своей этике Шлейер-
махер для обозначения могущества человека без слов возвестить о себе.
74 Часть первая. Отношение проявления
Это легко проследить на примере. При взгляде на
полные силы, эластичные движения животного, которое
резвится на свободе, мы все же знаем непосредственно о
том, что грация, покоряющая уверенность в движении не
связана с данным мгновением, что она вообще присуща
животному, выражает его постоянную ловкость и
совершенство и свойственна всем особям этой породы. Здесь,
таким образом, открывается нечто от большой тайны
органической природы, целесообразность живого.
Это раскрывается перед нами молниеносно и
заставляет мысль неустанно работать; но вначале это дано
только как момент в восприятии с неожиданностью, которая
может показаться пугающей. Мы смотрим как бы через
узкую щель в царство чудес, которое открывается на один
миг. Удивление от виденного есть уже удивление от
принципиального в нем и поэтому ошеломляющее впечатление
от чего-то высшего, всеохватывающего, необозримо
значительного. И оно может дойти до настоящего волнения,
до почтительного оцепенения перед предчувствуемым.
Но это также сковано моментом образности в
восприятии. В нем есть и в нем дана полнота содержания
видимого, как будто бы она сама по себе была также
воспринята. Да, даже в дальнейшем видимое остается связанным с
исчезнувшей, но все еще внутренне существующей
картиной. Беглость явления в этом ничего не меняет.
Это явление можно назвать "непосредственностью
опосредованного" в эстетическом восприятии1.
Опосредование происходит благодаря внешнему чувственному
впечатлению; но непосредственность есть растворение
опосредованного в воспринимающем сознании.
Благодаря этому опосредованное в сознании существует
непосредственно и ощущается как таковое.
Это отношение, очевидно, совпадает с отношением
двоякого рода созерцания в эстетически
воспринимающем акте, о котором уже шла речь вначале (введение,
раздел 12): второе созерцание присоединяется к первому, но
так, что оба включаются одно за другим и все же
одновременно здесь существуют. Второе в созерцании не отделено
от первого и все в целом составляет только одно
созерцание. Самым важным при этом могло бы быть то, что
опосредованное всеобщее наглядно дано в полной
непосредственности, хотя и непродуманно и неабстрагированно.
1 Выражение является свободным преобразованием известного
гегелевского термина vermittelte Unmittelbarkeit (опосредованная
непосредственность), который, однако, употребляется в другом отношении.
Раздел I. Эстетическое строение акта 75
К этому походит эстетическое восприятие обыденного
в практической жизни. Оно только идет еще дальше и не
ограничено актуальностью или чем-либо,
продиктованным интересами. В этом оно вообще не имеет границ,
границы действительного также не существуют для него.
То, что здесь кажется сопутствующим, есть также
недействительное, если только оно кажется наглядным. Это
существенно для искусства - для сказок, басен, образов
фантазий. Здесь коренится свобода эстетического
созерцания от узости опыта и его вторжения в царство
возможного.
е. Пребывание в "картине"
Вновь встает вопрос, как, собственно, отличить
эстетическое восприятие от обыденного восприятия. После
всего только что сказанного могло показаться, что
разница между ними только количественная. С этим нельзя
согласиться. Здесь должно существовать принципиальное
различие. Иначе обычное восприятие в жизни должно
было бы быть только "менее прекрасным".
Вопрос может быть поставлен и так: что такое
эстетическое отношение явлений? Уже было показано, что
отношение явлений содержится вообще во всех восприятиях
или, по крайней мере, им свойственно. Но в чем
выражается своеобразие этого отношения в случае
эстетического созерцания?
На это нельзя ответить сразу. Первое, что можно
сказать, - это следующее: в эстетическом восприятии
отношение явлений выражено как таковое, втиснуто в
сознание, в известном смысле даже предметно схвачено.
Этого нельзя сказать об обыденном восприятии: там
явления суть только переход к чему-то другому, средство
цели (в жизни именно практические цели определяют
восприятие), а само средство совсем не замечается.
Здесь же речь идет о понимании сущего. В эстетическом
восприятии, напротив, средства становятся
существенными; взгляд не скользит по чувственной картине
восприятия, а останавливается на ней. И в то время, когда он на
ней останавливается, он воспринимает являющееся в ней
как нечто вложенное в нее. Он воспринимает это как
нечто только в нем ощущаемое и только благодаря этому
ставшее чувственно наглядным, но не как идентичное ей.
Созерцание здесь автономно. Оно здесь не
подчиненная, а господствующая инстанция и присутствует здесь
только благодаря самому себе. Поэтому оно близко к
76 Часть первая. Отношение проявления
восприятию и включено в него, не отбрасывает его, а
сохраняет во всех случаях возвышения над ним при
созерцании чувственно данного. Ведь оно даже на своих высших
ступенях не развивается в понятие, так же как не
становится пониманием и суждением. И где понятие все же в
него прокрадывается, потому что в конечном счете оно
есть тоже род созерцания, там его роль в большей мере
подчинена простому средству, которое исчезает, когда
цель достигнута.
Эстетическое созерцание обретает покой в самом
созерцании. Поэтому оно как бы застывает в созерцании. И
это уже осязаемо в восприятии, потому что высшее
созерцание не отделено от восприятия, а существует
вместе с ним и включено в него. Таким образом, восприятие не
остается в стороне при духовном возвышении
созерцания; скорее можно было бы сказать, что оно вместе с ним
подтягивается вверх. Это то, что не выпадает на долю
обыденного восприятия: оно строится на опыте, но потом
покидается и забывается.
Почему это так, становится понятным опять-таки из
противоположности к отношению познания. При
эстетическом восприятии речь идет не об отношении и
понимании и еще менее о цели, будь она даже самой высокой.
Созерцание не имеет здесь тяжести долженствования и
не ставит своей задачей обнаружение истины. Оно
свободно идет туда, куда его влечет. Ему достаточно
картинности, связанности полноты многообразия, единства,
замкнутости, округления, членения в целом; и происходит
именно так, что это единство охватывает чувственно
данное и все сопутствующее ему. В такой картинности
остается также самое отдаленное и самое общее, которое
созерцается вместе как близкое и непосредственное,
относящиеся к данности. И многое, что остается непонятым
при помощи понятия, может быть дано в этой
непосредственности "картины".
То, что составляло в "Критике способности суждения"
первый пункт "Аналитики прекрасного", сохраняется
здесь в измененном виде как освобождение от всякой
заинтересованности в вещи. Практическое или
теоретическое желание, руководя и выбирая, предписывает
направление обыденному восприятию. Эстетическое
восприятие не направлено ни на желаемое, ни на действительное
(истину); оно не направлено также на человеческое
знание, что все-таки близко к нему, потому что часто им
обусловлено. Область восприятия не предопределяется цен-
Раздел I. Эстетическое строение акта 77
ностями. Ни важное само по себе, ни важное для нас
здесь не авторитетно. Ценности такого рода могут играть
роль направляющего мотива. Точно так же эстетическое
восприятие проникает в водоворот жизни и только тогда
выдвигает свой предмет именно благодаря своему
функционированию. Но в нем самом эта точка зрения
ценности не является определяющей. Эстетическое восприятие
движется в процессе выбора существующего, как и в
обнаруживании несуществующего, по другим, собственным
законам, свободно паря, играя, отрываясь, вновь
соединяя, присоединяя и выключая. Ее соединительные нити
одновременно протягиваются к соединительным нитям
реальной жизненной связи, но, по крайней мере, при
известном безразличии к ней.
Это отражается в измененном отношении к
чувственной картине восприятия как таковой, о которой
говорилось как о первом отличительном признаке.
В обыденном восприятии исчезает "картина", если она
создается посредством невидимого. Сама картина не
важна, важно, только одно средство, которое забывается - и
часто просто мгновенно - ради вещи, к которой
проявляется интерес. Кто запомнит точно формы лица, на которое он
смотрит и в которое он, рассматривая его, углубляется?
Никто, кроме разве в высшей степени искусного в
рисовании и прошедшего соответствующую школу. Однако он
воспринимает все это не совсем "обыденно", а с точки
зрения рисования, то есть эстетически. То, что в нас
остается от данного лица, то, что мы, прежде всего,
действительно апперципируем, есть его духовное выражение, то
есть доброта, недоверие, сдержанная ярость; кроме всего
этого, останется еще нечто от психофизической динамики
игры выражений, но и это принадлежит уже скорее
области невидимого.
В эстетическом восприятии, напротив, картина
остается не только существенной, но составляет также
самостоятельное единство формы и существует для
эстетического восприятия ради себя самого. Не ради того, чтобы
это опосредование было незамечено или созерцаемо
ради него самого; оно становится гораздо больше
предметом созерцания, но не отделяется и не делается чем-то
самостоятельным. Обе ступени созерцания остаются
соединенными, и истина состоит в том, что общая картина, в
которой как первое, так и второе созерцание суть только
члены, смотрится как единая. Все вместе взятое с его
78 Часть первая. Отношение проявления
чувственным и нечувственным содержанием
представлено в эстетическом созерцании.
Так смотрим мы на нарисованную картину, создание
художника: сама техника красок и штрихи кисти для нас не
безразличны. Оба, по существу, принадлежат к
художественно созерцаемому, точно так же, как художественно
представляемое, ландшафт или человеческие фигуры
вместе с их духовным выражением. И как раз это
переплетение Двояко созерцаемого и есть собственно предмет
эстетического созерцания. Тот, кто видит только фигуры,
сцену или эффект, тот не смотрит как художник, тот стоит
на точке зрения человечески-содержательного; он
смотрит только так, как в жизни смотрят на человеческие
фигуры, его восприятие - это, по существу, обыденное
восприятие. Точно так же тот, кто видит только пятна красок и не
замечает на полотне ничего, кроме их пестроты, видит
только поверхность вещей. Как тот, так и другой не видят
художественного произведения, для них не существует
своеобразного колебания обозреваемого предмета, они
переживают явление как таковое.
Соприкосновение с материалом, даже если оно
выражается в форме самого глубокого сочувствия
изображаемым лицам и судьбам (в драматическом произведении),
не делает обыденное созерцание художественным. Здесь
созерцание еще проникает через картинность, как через
медиум, который оставляют позади себя, когда мимо него
проходят. Только там, где чувственная картина будет
схвачена как таковая и при проникновении внутрь будет
удерживаться, причем без нарушения этого проникновения
внутрь, данное отношение явлений само вступит в свои
права. Только здесь оно ощущается как адекватность
картины для явления нечувственного и некартинного. Это
можно выразить еще так: к художественному созерцанию
относится прежде всего то, что составляет сущность
художественного произведения.
Это положение вещей прослеживается вплоть до
эстетического созерцания, потому что, если в нем
чувственная картина не является предметно, то нет ни пути, ни
способа довести нечувственное до действительного,
чтобы потом вновь представить его чувственно. Пусть
кто-либо попытается представить себе конкретный внутренний
облик какой-нибудь личности не так, как это передает
восприятие или удачный портрет, но другим способом,
как это мы иногда делаем, когда хотим сообщить наше
впечатление кому-нибудь другому письменно. При этом
Раздел I. Эстетическое строение акта 79
удивительно быстро наталкиваются на предел того, что в
состоянии дать слова и тонко сформулированные
понятия. Эго оказывается невозможным. То, что может делать
чувственная картина, просто незаменимо.
г. Управление восприятием
в эстетическом отношении
С этим связано многое другое. В обыденном
восприятии взгляд скользит не только по "картине"
воспринимаемого в целом, но также по деталям; так происходит по
крайней мере тогда, когда они не выделяются благодаря
особенным практическим интересам воспринимающего.
Единичности, едва взглянешь на них, уже забываются.
Только в картинах восприятия "эйдетика" они
удерживаются на некоторое время, так что и то и другое можно
отметить еще и позднее.
В эстетическом восприятии и с этим дело обстоит
иначе. Деталь становится существенной; причем хотя и не все
детали, но очень многие. Представляющаяся картина
наделяется таким богатством, которое чуждо вульгарному
видению и слышанию. Не может быть сомнения, что это
богатство, со своей стороны, зависит от повышенной
интенсивности самого восприятия. Видимое и слышимое по
силе восприятия превышает обыденную меру, хотя лишь
особенным образом и не в направлении остроты чувств.
Моряк видит гораздо острее, чем художник, охотник
слышит лучше, чем музыкант, но оба видят и слышат только
нечто определенное из симфонии воспринимаемого, все
остальное подавлено и остается незамеченным.
Эстетическое видение и слышание усилено в другом отношении,
оно качественно расширено: оно замечает незамеченное,
то, что обычно ускользает от чувств. Благодаря этому оно
вносит в сознание разнообразие другого рода. Можно
войти в комнату и видеть только то лицо, с которым хочешь
говорить; но можно видеть также падающий солнечный
луч, можно видеть сумерки, игру красок и блеск свечей.
Далее, естественно спросить, на чем это основано. И
наталкиваются на новый основной феномен
эстетического восприятия - очевидно, и здесь также существует
направление восприятия и оно совершенно другое, чем в
обыденном отношении к предмету.
В обыденной жизни видение и слышание управляются
практически и со временем совершенствуются в
направлении этого управления. Эго происходит не только в таких
исключительных случаях, как в примере с моряком и с
80 Часть первая. Отношение проявления
охотником, то же самое происходит при свободных
отношениях в обществе. Мы различаем, например, шепотом
сказанное слово среди шумного хора голосов, потому что
мы обращаем на это внимание ради определенной
личности или ради самого сообщения.
Эстетически восприятие управляется иначе. В
голландском натюрморте выступают как существенные
предметные детали светотени и тона, которые обычно остаются
незамеченными сами по себе. В ландшафте, и не только в
нарисованном, в сознание входит перспектива, которая в
обыденном видении совершенно растворяется в
предметности, потому что она подвержена быстрой реобъектива-
ции1. Это зависит как от геометрической, так и от
воздушной перспективы; обе воспринимаются совместно и
совместно смотрятся.
То же самое зависит, конечно, и от бесчисленного
множества других событий: от звуковых красок речевых
интонаций, а также от музыкальных инструментов, от звука
человеческих голосов; зависит как в жизни, так и в поэзии от
мимики и поведения людей. Все это становится
существенным, важным, значительным, поэт извлекает это из
того, что для него разумеется само собой; однажды
появившись на свет, оно становится многозначительным,
изменчивым. Но также и наблюдатель красоты в живом
человеке и в природе делает это видимое и слышимое
сознательным и существенным.
Спрашивается: что является руководящим в этом
направлении эстетического восприятия? Почему так сильно
выступают в нем чувственные детали и становятся
существенными? На это можно было бы ответить так: потому что
незамечаемое в обыденной жизни стоит того, чтобы быть
замеченным. Оно само есть прекрасное, и только обычный
поверхностный взгляд скользит мимо него; эстетическая
точка зрения, а искусство тем более делают его
очевидным. Откровение как ценностная точка зрения является
руководящим принципом. Этим была бы тогда привлечена
для ответа на вопрос уже чистая эстетическая ценность,
эстетическая ценность как таковая. Из всех ценностей
этого рода следует предпочесть эстетическую область
восприятия, точно так же как среди практических ценностей
предпочитается повседневная область восприятия.
1 О сущности феномена реобъективации см. "Aufbau der realen Welt",
Aufl. 2, 1950, Кар. 38, с; см. также "Philosophie der Natur", 1950, Кар. 8, с,
S. 15f.
Раздел I. Эстетическое строение акта Q1
В этом должно быть нечто безусловно правильное. И
все же ответ пропускает целый ряд моментов, которые в
этом рассуждении выступают на первый план. Потому что
эстетическая ценность зависит от отношения проявления,
а здесь перед нами стоит еще одно условие, а именно
осознание чувственной детали. Поэтому надо искать еще
другое решение.
Здесь раскрывается новая сторона в существе детали,
выступающая как направляющая сила: а именно
маленькие чувственные частности, однажды воспринятые в
сознании, имеют огромную опосредствующую силу. Они
действуют в двух направлениях. Они извлекают на свет
сознания все новые детали, действуют как точки
кристаллизации восприятия и одновременно заставляют
являться нечувственное, скрытое на заднем плане -
жизненность, духовное и морально человеческое, а вместе с тем
и всеобщее в физическом мире. Но это значит, что они
очевидны в некоторой степени, в какой не может быть
очевидным плохо выявленное содержание повседневного
восприятия.
Но там, где речь идет об отношении явлений, сила
откровения является определяющим моментом. И там, где
эта сила больше всего сказывается, туда тяготеет и
эстетическое восприятие; здесь уже появляется
определенный момент направления, который существует только в
эстетическом акте созерцания. Но то, что передается и
доводится до явления, очень от проникновения в детали,
не говоря уже о проникновении в индивидуальность и
неповторимость. Оно может, скорее всего, охватить
всеобщее. И не только общечеловеческое, но и все общее в
природе. Так может стать ощутимым в особенной игре
света чувственно данное всеобщее чудо света и красок,
то, что является видимым вообще и как таковое
осязается. Такое откровение не может быть точно определено. Но
эстетический опыт учит, что оно фактически имеется, что
оно совсем не является редкостью как при созерцании
художественного произведения, так и в свободно парящем
взгляде эстетического восприятия.
С другой стороны, здесь обнаруживается парадокс.
Именно то, что является самым близким для восприятия
и, как можно было бы предположить, что должно было бы
быть прежде всего в нем замечено, то есть чисто
чувственная единичность, находится от него в
чрезвычайном отдалении и открывается только в очень поздней
стадии зрелости духовного сознания. Поэтому эстетическая
82 Часть первая. Отношение проявления
предметность является последней в исторической
последовательности, и во многих областях ее мог открыть
только взгляд творящего художника.
Тайну управления нужно было бы искать уже на
границе обыденного и эстетического восприятия. Эта граница
проходит каждый раз посреди нашего "мира восприятия"
и в большинстве случаев расплывчата; только в уже
созданном и ясно выраженном произведении художника она
становится нам понятна. Только очень наблюдательный
человек может найти ее непосредственно в жизни: он
замечает ее, когда где-нибудь в его поле восприятия
неважное и лишнее захватывает его, трогает, удерживает при
себе, когда эфемерное делается очевидным, а лишенное
ценности ценным, когда свет и краски вещей начинают
игру, которая не имеет ничего общего с вещами, или когда
серьезные события человеческой жизни, обычно
вызывающие заботу или досаду, вдруг оборачиваются другой
стороной, и, показывая нам свой улыбающийся профиль,
заставляют нас самих улыбаться.
Тогда деталь делается видимой, становится
предметной. И тогда проявляется ее своеобразная обратная сила,
потому что в ней сказывается присутствие и
нечувственного. Что касается высшей дифференцирующей силы
выражения, то она может выразиться только в высоко
дифференцированной детали, даже если деталь была бы
совсем другой и не имела бы никакого сходства с этой силой.
Поэтому в эстетическом восприятии центр тяжести всегда
падает прежде всего на внешнее, близстоящее и
второстепенное. Так поэт своим особым путем ведет читателя к
внутреннему и значительному лучше всего через внешнее
в поведении, действии, разговоре действующего лица,
через то, как оно проявляет себя и как скрывает себя в
своем вечном самообмане и неожиданном нахождении
верного. И можно было бы почти утверждать: чем меньше
и ничтожнее бывают частности, тем больше сила
откровения, которая кроется в них.
Здесь можно все же задать встречный вопрос: каким
образом функция опосредования и откровения, которая
имеет осознание детали уже как предпосылку, со своей
стороны, должна направлять к нему восприятие? Этот
вопрос вполне правомерен. Но при этом вопросе не
считаются с тем, что здесь господствует не простая
временная последовательность, что в созерцающем сознании
все взаимно обусловлено и взаимозависимо, что всякий
обмен между ступенями и фазами сознания весьма часто
Раздел I. Эстетическое строение акта 83
меняет свое направление. В этом вопросе не считаются
также с тем, что все содержательное в сознании уже
вначале бросает свои тени, и то, чем оно вызвано, только
благодаря этому доходит до полного осознания. При такой
форме духовной связи последующее во времени может
приниматься за непосредственно предшествующее,
потому что его начало уже содержится в незаметном и
последнее может только развернуться.
В современной психологии еще мало замечают эти
вещи, не говоря уже о том, что они мало исследуются.
Они могут быть также с трудом понимаемы, пока
категории духовного бытия не разработаны. Но до этого при
сегодняшнем положении дела и направлении интересов
еще очень далеко.
ГЛАВА 3
СОЗЕРЦАНИЕ И НАСЛАЖДЕНИЕ
а. Сохранение динамически-эмоционального
в эстетическом восприятии
То, что в первых двух главах было рассмотрено под
общим названием "восприятие", не принадлежит, конечно,
ни в коем случае только одному восприятию. Повсюду
включаются моменты высшего созерцания, также как
момент пребывания, удовольствия, оценки и многое другое.
Однако все они связаны с восприятием, имеют в нем свой
общий исходный пункт и не освобождаются от него при
дальнейшем развертывании. Само высшее созерцание,
которое мы теперь рассматриваем, по своему характеру
является близким к восприятию, родственным ему.
Восприятие играет для них всех роль первичного
феномена. Но, как уже обнаружилось, как раз в качестве
первоначального феномена оно еще не является
эстетическим восприятием, и точно так же первоначальный
феномен в нем как таковой не есть эстетический феномен.
Первичное в нем - это не дистанция, не предметное
отношение и не пассивное созерцание, а связь, внедрение в
жизненные реакции организма и психофизического
целого. Отсюда преобладание эмоций, моментов
возбуждения, страха и требовательности. Организм
активно-реактивно включается в окружающий мир, вступает с ним в
обмен веществом и силой, и восприятие является органом
ориентировки в мире.
84 Часть первая. Отношение проявления
Восприятие само по себе не есть чистое созерцание,
оно не безучастно. Оно опосредует в человеческой жизни
вещи как "действующие". Созерцание вторично, оно
покоится уже на выключении эмоционального. Восприятие с
самого начала не является ни теоретическим, ни
эстетическим. Оно становится тем и другим только благодаря
освобождению от актуальности.
Но, в то время как в теоретическом "наблюдении"
реактивность совсем исключена, в эстетическом взгляде
что-то от нее все же, по-видимому, остается. Потому что
здесь существует чувственный оттенок восприятия,
приятный или неприятный. Но чувственный оттенок
обусловлен через реактивное отношение. Ведь в предмете
ощущается тяжелое и легкое, дают себя чувствовать
скованное и свободное, играющее и с трудом передвигающееся,
полнота и недостаток, сила и слабость. Являющееся при
этом динамическое "нечто" выступает как носитель этих
моментов. Но даны они восприятию в форме
чувственного. Однако в этом смысле, то есть исключительно
предметном смысле, здесь эмоциональное еще не выделено.
И этому соответствует то, что в воспринимающем
субъекте господство чувств еще не заменено созерцанием;
возбуждение проявляется здесь еще как у ребенка, но оно
больше не является господствующим, тем более всецело
господствующим. Жизненная серьезность все еще
подвергающегося опасности существа перешла в
наслаждение неизвестным, в манящее любопытство, но тем не
менее все отношение является еще только игрой со всем
этим.
Конечно, это еще не все, что составляет истину.
Скорее здесь имеет место синтез противоположных
установок: в созерцании, которое теперь вступает в силу, с
одной стороны, действительно выигрывается дистанция к
вещи, но, с другой стороны, эмоционально-динамическое
первоначального восприятия не уничтожается, а только
"снимается". Эта снятость есть отрицание в гегелевском
смысле: оно больше не есть то, чем было, оно
"сохранено", но одновременно и "поднято" на новую ступень. Эти
три характерных момента - отрицание, сохранение и
поднятие на высшую ступень - ясно видны в новом отношении
и существенны для него.
Они воспринимаются еще все вместе при созерцании
прекрасного человеческого тела. Тело сначала познается
практически (в его действиях), вызывает восхищение или
желание (эротическое); это отношение к нему нейтрали-
Раздел I. Эстетическое строение акта 85
зуется при созерцании формы как таковой и
одновременно закрепляется, но вместе с тем поднимается до чувства
удовольствия высшего порядка. Во всяком случае, здесь
нет противоречия в том, что при этом на первой ступени
остаются чувственные тона, в то время как актуальность,
от которой они происходят, теряется и в конце концов
совсем устраняется. Теплота ощущения не идентична
первоначальной реактивности или жизненному влечению.
Созерцающее сознание становится контемплятивным; оно
нарушает реакцию и заставляет ее исчезнуть, в то время
как духовный чувственный тон остается в предмете.
б. Восприятие и высшее созерцание
С выделением деталей и расширением картинности
сферы действия восприятия оказываются
превзойденными. Точно указать его границы невозможно. Но это и не так
важно. Ступени акта сознания не разделены барьерами,
они без скачка переходят одна в другую.
Несмотря на это, здесь вступает в действие другой тип
созерцания. Это именно тот, который непрерывно и без
переходов образует продолжение дополнительно
схваченного, которое незаметно включается в восприятие.
Это другое созерцание не менее конкретно, но оно
больше не чувственно, то есть его предмет не дается чувствам;
оно направлено на то, что было в восприятии
"воспринятого вместе", но что в строгом смысле не есть
воспринятое. Оно касается, таким образом, в воспринимаемом
"являющегося" и внутри являющегося опять-таки того, что
является предметом откровения. И поэтому оно само
имеет характер откровения.
Ведь в известном смысле все это созерцание имеет
характер откровения, и этим не сказано ничего нового. Но
язык связывает с "откровением" представление об
обнаружении того, что в жизни остается скрытым, в
особенности там, где оно, уже давно предчувствуемое,
разыгрывается в фантазии. Смутно предчувствуемое отношение к
чему-то неизвестному, всегда стоящему позади, уже
давно содержится в восприятии; в сопутствовании (im
Mitgegebensein) можно найти все ступени этого
отношения. В высшем созерцании это неопределенное
становится определенным. Потому что оно направляется на все,
что начинает обнаруживаться как бы из-под чувственно
данного: на жизненное, на движение души и скрытые
стороны духовной жизни, на тайны природы и космоса,
словом, на совершенно всеобщее, начиная от человека и кон-
86 Часть первая. Отношение проявления
чая вселенной. Высшее созерцание не знает границ,
поэтому ему испокон веков так близки религиозные
представления; и на этом основывается то, что все, что
касается божественного откровения, очень сильно тяготеет к
художественному представлению. Ведь это есть не что
иное, как сила обнаружения для каждого, обнаружения
именно того, что не каждый в состоянии себе конкретно
представить. Не случайно, что большое искусство в
большинстве случаев исторически вырастало из религиозного
убеждения и черпало из него свои темы. Но нельзя
сделать вывод, что историческое происхождение якобы
определяет и его границы. Историческое происхождение
определяет только временно преобладающее
направление искусства.
Здесь уже наталкиваются на первый главный момент
высшего созерцания. Оно составляется из того, что
витает перед ним, полное значения и чувства, и из того, что
определено согласно смыслу и ценности. Оно получает свое
направление не из чувственного, но из другой сферы, а в
этой сфере властвуют другие силы, которые охватывают
сознание другим способом. Отсюда исходит, в конце
концов, и то таинственное направление восприятия в
эстетическом отношении, о котором шла речь выше, потому что
в чувственном материале оно составляется из всего того,
что более всего способно быть передатчиком
значительного, значит, преимущественно из незаметных в
ежедневном восприятии деталей.
Из сказанного ясно, что созерцание высшего порядка
не есть что-то запоздалое, а всегда совершается
одновременно с эстетическим восприятием. Почему дело
обстоит так, что восприятие, выступающее вместе с
созерцанием, руководствуется последним? Оно не совершается в
своем особенном виде как созерцание первого порядка
без одновременного соединения с созерцанием второго
порядка, и можно высказаться только предположительно
о том, что оно благодаря этому способно лишь к
детальной образности, которая отличает его от вульгарного,
связанного с реактивностью и ею управляемого восприятия.
Возможно даже, что здесь находится причина
эстетического выделения предмета из реальной связи, а также
причина экстаза созерцающего это явление наблюдателя. Но
оно еще требует исследования и, возможно, будет
опровергнуто.
Здесь мы уже вправе спросить, что представляет
собой содержательно-позитивное высшего созерцания. Ее-
Раздел I. Эстетическое строение акта 87
ли исходить из акта, то немногое. Так как содержание
является нам в предмете, то только анализ эстетического
предмета может разъяснить нам это. Опережать его было
бы напрасным трудом - раньше нужно объяснить бытие
предмета. Более того, только исходя из предмета,
становится понятно, как совершается высшее созерцание и в
чем его сущность. Здесь не годится взятый сам по себе
анализ акта. Настоящее чудо, которое происходит в акте,
есть тесная связь с восприятием того, что постигается
созерцанием, а также обмен между обоими родами
созерцания, которые наслаиваются одно на другое и в то же
время выступают одновременно.
Между прочим, забегая вперед, можно сказать
следующее: все идейное содержание эстетического предмета
подчинено высшему созерцанию и бывает полностью
охвачено только им; и именно поэтому безразлично,
предстает оно "осуществленным" в реальной картине - в
человеческой красоте или в красоте природы - или только
перед глазами, вызванное, как по волшебству, в
произведении художника. Ведь здесь речь идет не о познании
реального. Всякое созерцание как таковое может быть понято
спонтанно действующим. Это касается также и высших
ступеней эстетического созерцания. Идейное
содержание эстетического предмета, как и все, что им
определяется, может быть также продуктивно-синтетически
созерцаемым, и тогда оно существует только по милости акта,
притом безразлично, касается ли это оригинального
художественно-созидающего акта или следующего за ним
акта наблюдения.
Далее, можно сказать: высшее созерцание также не
должно быть простым или одночленным. Оно само может
быть многослойным, так что целая лестница ступеней из
моментов акта все более высокого созерцания
возвышается позади восприятия и над ним. Само восприятие есть
только первый член. Близлежащие ступени созерцания
еще схожи с ним и поэтому кажутся принадлежащими ему.
Высшие же ступени созерцания, которые раскрывают
преимущественно идейное содержание, удаляются от
него, спонтанно продуктивный элемент в них повышается и
ведет к творческому созиданию. Если достигнута
известная высота, то созерцание снова приближается к
сознанию, вступает с ним в контакт и, тесно переплетаясь,
может соединиться с ним; но его сущность и направление
остаются иными, хотя оно может делить с познанием
претензию на истину. В конце же концов оно удаляется от поз-
88 Часть первая. Отношение проявления
нания и ведет дальше. На самой высшей ступени стоят
настоящие формы "интуиции" в том зародышевом
смысле видения (visio), которое уже в древние времена
считалось превосходящим мышление (cogitatio).
С этим согласуется то, что последними внутренними
силами, определяющими изнутри все вплоть до самого
восприятия, безотносительно к оформлению особого
материала - силами направляющими, выбирающими и
определяющими, - являются силы чувства ценности, потому
что если данные сознанию ценности понимаются
предметно, то они понимаются интуитивно, то есть не в форме
понятия, а в формах созерцания.
Это есть связь, возможно, даже закономерность,
которая свойственна не только эстетическому строению акта,
но всему человеческому сознанию, поскольку оно
определяется ценностями. Этот закон более знаком в
практических отношениях, а именно без различия групп ценностей,
которых это как раз касается. Мы знаем очень точно
феномен нравственного сознания как направляющую силу
ценностей; мы знаем также тонкую и высоко
дифференцированную реакцию чувства ценности на нее. Сверх того,
обнаруживаются весьма своеобразные пути, на которых они
из чисто чувственных сил становятся объективно
созерцаемыми сущностями. Эти пути не являются путями
позднейших анализов, как их определяет феноменология
ценности, а прокладываются в самой гуще жизни и именно
под давлением реальных ситуаций, и при этом само
рассмотрение содержания ценности всегда интуитивно.
Основная схема восходящего сознания ценности в
эстетическом акте остается той же самой. Только здесь род
интуиции другой и другие обстоятельства, которые
позволяют ей функционировать. Интуиция также входит в
некоторые особенности, не доступные практическому
сознанию.
Как бы то ни было, для эстетического строения акта, во
всяком случае, результируется так много, что
определяемые ценностями компоненты в нем не выпадают из
содержания созерцания, но всецело входят в него.
е. Роль жизненного и нравственного
чувства ценности
Сами ценности, однако, о чувствовании и созерцании
которых здесь идет речь, не являются еще ни в коем
случае эстетическими ценностями. Скорее они представляют
собой ценности нашей практической жизни и даже теоре-
Раздел I. Эстетическое строение акта 89
тической деятельности. Это прежде всего жизненные и
нравственные ценности. Не отсутствует здесь также
широкая область материальных ценностей, отодвинутая на
задний план, но разумеющаяся сама собой. Все они не
должны быть смешаны с ценностями, которые делаются
ощутимыми в эстетическом "удовольствии", в
наслаждении красотой и в восхищении созерцающего.
Что касается самых известных вещей, то здесь можно
сказать следующее: в области пластики и многих
предметов природной красоты речь идет о таких ценностях, как
полнота сил, полнота жизни, здоровье, расцвет и
созидательные силы, физическое уменье и целесообразность;
здесь речь не идет еще о грации движений, прелести или
гармонии формы. Подобным же образом обстоит дело в
области поэзии и в области человеческого, где
преобладают ценности доброты, любви, верности, честности и
справедливости, способности жертвовать собой,
храбрости и рыцарства; к этому нужно, во всяком случае,
прибавить также их противоположное: неценное,
несправедливость, жестокость, неискренность, коварство. Ведь
здесь проявляется вся человеческая жизнь всеми своими
сторонами. По этические образы без этих компонентов
ценности и неценности так же мало понятны, как образы
жизни. Героям свойственно мужественное
самопожертвование, и оно должно быть дано в восприятии ценности,
иначе зритель в театре и в жизни может не понять героя.
Самое важное здесь состоит в том, что эти ценности
являются предпосылкой для эстетического созерцания и
отнюдь не являются эстетическими ценностями.
Жизненные ценности есть и остаются жизненными, нравственные
ценности есть и остаются только нравственными
ценностями. Но они должны быть восприняты живыми, чтобы в
предмете была освещена совсем другая эстетическая
ценность. В этом смысле можно сказать, что эстетическое
сознание ценности обусловлено способностью
созерцающего узреть внеэстетические ценности. И здесь ясно
ощущается высшая ступень интуиции в эстетическом
созерцании. Она выступает в строении акта созерцания столь
властно, что ею определяются все низшие ступени вплоть
до направления восприятия. Это и есть направление на ту
деталь видимости, которая обнаруживает нам
значительное, находящееся в этих ценностях. Насколько это важно,
мы отчетливо видим в жизни на том факте, что чувство
ценности, со своей стороны, благодаря эстетическому созер-
90 Часть первая. Отношение проявления
цанию делается очень сильными обостренным, а часто
только впервые пробуждается.
Вопрос о точной характеристике того, как
эстетическая ценность наслаивается на этическую и жизненную
ценности - в одном и том же предмете и в одном и том же
созерцании,- относится к эстетическому анализу
ценности и будет разобран в соответствующем месте. Здесь
пока нужно только твердо установить, что существует
отношение условий, которое вплоть до созерцающего акта
является определяющим. В изобразительных искусствах
созерцание всегда направлено прежде всего на
содержательное, которое является. Но содержательное есть
оформленный материал. Для материала действителен
закон, согласно которому его может составлять все
разнообразие природы и этической жизни, включая сюда
законы и ценности последних.
Но только новая форма должна быть выше, точно так
же как эстетическая ценность лежит выше практической и
жизненной ценности. Здесь заключается одна из причин
того, почему все изобразительное искусства начинают с
"подражания" чтобы, лишь постепенно продвигаясь
вперед, перерасти его. И уже в этом есть предвосхищение.
г. Радость, удовольствие и наслаждение
От этих вещей нельзя отделять радость в эстетическом
строении акта. Она есть субъективная обратная сторона
созерцания и всех его ступеней, но "субъективно" она
является только чистым чувственным тоном; то, что она
опосредует и на что указывает, есть нечто весьма
объективное - именно то, что образует содержание "суждения
вкуса". Но суждение вкуса высказывает лишь то, что
говорит ему радость при созерцании. Значит, в строении акта
радость занимает центральное место.
Несмотря на эту устойчивую взаимосвязь, она
является в своем роде вполне самостоятельным моментов в
эстетическом отношении, не дает себя перевести на
что-нибудь другое и поэтому может также самостоятельно
анализироваться. Кант из старших и Мориц Гайгер из новых
теоретиков эстетики посвятили ей глубокие
исследования; результаты их принадлежат к лучшему, что вообще
было достигнуто в области эстетики. Но все же опасность
состоит в том, что самостоятельность чувственного
момента в радости увлекает анализ в субъективность и этим
отодвигает эстетику на те психологические рельсы, от
которых отказались уже в XIX столетии.
Раздел I. Эстетическое строение акта Q *|
Настоящий эстетический момент в радости наступает
только тогда, когда схватывают ее отношение к предмету.
Потому что самым важным в эстетической радости
является то, что она не менее объективна, то есть не менее
связана с предметом, чем созерцание. Ведь она указывает
ценность, и притом именно эстетическую ценность. Она,
пожалуй, является даже инстанцией, указывающей
ценность в эстетическом строении акта, потому что рядом с
ней ничего подобного нет. Поэтому можно сказать, что она
есть первая и непосредственная форма эстетического
сознания ценности.
Что это означает, можно понять сейчас же, как только
мы примем во внимание, что в этом "обнаружении" или
ощущаемости эстетической ценности речь идет не только
о всеобщем, не только о прекрасном вообще, но и об их
особенностях, о невидимых многообразных нюансах
ценности. Ведь этим последним соответствуют нюансы тонко
дифференцированных оттенков чувства и радости, а
также нюансы глубины ощущения (от легкого удовольствия
до блаженства восторга) и глубины качества.
Здесь открывается широкое поле эстетического
сознания ценности, целое царство разнообразных
ценностей, не меньшее, чем разнообразие предметов и
действий. Но при этом нужно сказать, что оно открыто
только чувству, а не мысли и что данная радости полнота
дифференциации не достигается путем анализа и не
может быть передана в понятиях теории или даже в
приблизительно адекватном словесном выражении. Именно
здесь философская эстетика наталкивается на
непреодолимые границы, о которых она должна знать и с которыми
должна считаться.
Если в наблюдении радость и ценность не могут быть
оторваны друг от друга, хотя первая принадлежит
субъекту, а вторая - объекту, то то же самое непосредственно
относится и к радости и к предмету, потому что ценность
принадлежит исключительно предмету. Поэтому
ценностная сторона в радости становится очевидной только в
своем отношении к предмету. Здесь господствует строгое
отношение соподчиненное; именно об этой стороне
эстетического чувства и идет речь.
С этим считаются более объективные понятия
"удовольствия" и "наслаждения" (первое предпочитается
Кантом, второе - Гайгером). Нравиться может только "что-то",
а наслаждаться можно только "чем-то". Как то, так и
другое выражение означает не только причину, действием ко-
92 Часть первая. Отношение проявления
торой было бы чувство, но и предмет, ярко интендирован-
ный в удовольствии и наслаждении. Выражение
"эстетическая радость есть удовольствие (или наслаждение)"
означает прежде всего то, что они подчинены объекту,
направляются им, ориентируются на него и определяются им,
следовательно, в этом смысле "объективны".
Для художественно воспринимающего человека это
должно быть понятно. Кто задумается над этим, тот сразу
же увидит, как за этим само собой разумеющимся
скрывается нечто загадочное. Это загадочное лежит в самом
характере чувства, свойственного только радости; можно
было бы сказать - в состоянии, раз удовольствие и
наслаждение не отрицают момента состояния.
Но момент состояния в эстетической радости является
явно второстепенным моментом, а объективнее
отношение - первостепенным. Это психологически существенно
для особой формы самой компетентности и нуждается в
специальном феноменологическом анализе. Но
эстетически в этом смещении центра тяжести лежит специфика
строения акта в сознании наблюдателя. Речь идет при
этом о характере чувства, обнаруживающего ценность. А
это возможно только тогда, когда момент состояния в нем
имеет свой вес вне себя, в чем-то другом, что дано ему в
зависимости от обстоятельств. Эстетическое
удовольствие не есть обращенное в себя удовольствие,
эстетическое наслаждение не есть самонаслаждение. Напротив,
там, где оно превращается в самонаслаждение (а это,
конечно, также бывает), - там оно не является уже больше
эстетическим наслаждением, и художественное чувство
ценности предмета затемнено и в конце концов может
быть совсем нарушено. Но теперь мы не имеем уже
никакого другого масштаба оценки и вообще никакого другого
сознания ценности прекрасного, кроме своеобразного
наслаждения предметом или удовольствия, получаемого
от него. Поэтому все значение эстетического чувства
радости лежит в его объективной стороне, то есть в
обнаруживающем ценность характере чувства. Эта сторона
выражается в оттенках глубины и качественной особенности
наслаждения, вызываемого созерцанием предмета.
д. Учение Канта об эстетическом
удовольствии
Говоря об эстетическом удовольствии в "Критике
способности суждения", Кант учил нас трем вещам. Они
содержатся в обоих первых пунктах его "Аналитики прекрас-
Раздел I. Эстетическое строение акта 93
ного" и должны быть сопоставлены здесь в свободно
избранном порядке с другими точками зрения в соответствии
с вышеуказанными пунктами проблемы.
1. Эстетическое удовольствие "всеобще субъективно"
(интерсубъективно) и необходимо. Это не должно
означать, что каждый человек непременно должен был бы его
ощущать, если только дан предмет; ощущать его должен
только тот, кто обладает условиями его понимания. Эта
субъективная всеобщность существует при полной
индивидуальности предмета, потому что она не касается
переноса на другие объекты.
2. Существует удовольствие без понятия, без
подчинения всеобщему или правилу, которое должно быть понято
как таковое. И его собственная всеобщность
("субъективная") меньше всего является всеобщностью понятия. Это
означает радикальное отрицание интеллектуалистичес-
кой эстетики. Удовольствие должно уже потому выступать
без понятия, что оно ощущается прямо в восприятии и в
чистом созерцании. И можно прибавить: потому что в нем
нет знания о всеобщем, нет понимания закономерности,
оно вообще не является познанием и поэтому не имеет
вне себя или над собой никакого критерия.
3. Существует "лишенное интереса удовольствие". Это
знаменитое определение не говорит, конечно, о том, что
наслаждающийся не имеет никакого интереса к
эстетическому предмету как таковому. Можно быть эстетически
очень, даже в высшей степени заинтересованным в
предмете, но не терять при этом правильную точку зрения; так,
можно, например, испытывать высший интерес к
создаваемому произведению художника, так же как и к готовому
произведению и его дальнейшей судьбе среди
современников, которые могут понять или не понять его. Все это
здесь не подразумевается, потому что такой интерес уже
обусловлен эстетической радостью, доставляемой
предметом, является ее следствием. Здесь подразумевается
исключительный интерес, который, со своей стороны,
определяет радость, практический интерес к предмету, как
это бывает, когда предмет должен служить средством для
чего-нибудь другого.
Этот интерес исключен из эстетической радости; это
был бы интерес к внеэстетической ценности.
Наслаждающийся не знает ничего подобного, если бы даже это
касалось высших нравственных ценностей.
Первый из этих кантовских моментов -
интерсубъективная всеобщность - ясно указывает на глубокие корни
94 Часть первая. Отношение проявления
удовольствия в предмете: кто может видеть предмет в
правильном (эстетически адекватном) виде, необходимо
должен испытывать ту же самую радость, как любой
другой, выполняющий то же самое условие созерцания. В
этом отношении убедительное в эстетической радости
подобно убедительному в практическом и теоретическом
a priori, ибо оно зависит от того же самого условия: ведь и
математическая формула может быть понятна только
тому кто вообще способен ее понять.
Второй момент, напротив, указывает на отличие
проявляющегося в радости вкусового суждения от
априоризма. Последний связан с объективно всеобщим, значит (по
Канту), с законом и понятием. Ничего подобного не
содержится в феномене эстетического удовольствия, так
как предмет радости всегда индивидуален (то есть
объективно не всеобщ). Поэтому Кант говорит: "Само суждение
вкуса не постулирует согласия каждого... оно только
требует от каждого этого согласия..."
Наконец, третий момент является моментом совсем
другого рода. Под "лишенным интереса удовольствием"
подразумевается независимость суждения вкуса, его
самостоятельность по отношению к определенным внеэсте-
тическим факторам, одним словом, его автономия. И
поскольку оно проявляется в радости, то подразумевается
автономия эстетической радости по отношению к
предмету. Здесь, следовательно, речь идет уже о своеобразии
и несводимости чувства ценности, а косвенно - и о
своеобразии и несводимости самой эстетической ценности.
Если понимать это кантовское определение в
указанном смысле, то есть не принимая во внимание
идеалистические предпосылки кантовской системы, то в нем можно
найти содержание, имеющее очень большое значение.
Сегодня благодаря материальной этике ценностей стало
возможно увидеть данную инстанцию для всего сознания
ценности в чувстве ценности. Но Кант впервые отнес
сознание ценности в эстетическом отношении ("суждение
вкуса") к удовольствию (как и к радости) как данной:
инстанции. Значит, здесь нужно искать - задолго до
установления феноменологически правильного понятия ценности
- настоящий источник всей последующей теории
ценности, потому что радость и удовольствие определенно
признаны здесь как моменты чувства, эстетически
указывающие на ценность, с их своеобразной объективностью и
всеобщностью в субъективном одеянии.
Раздел I. Эстетическое строение акта 95
С другой стороны, в кантовском отрицании всех внеэс-
тетических интересов снова ясно выражается выделение
эстетического сознания из жизненной связи. "Интерес" в
кантовском смысле зависит от актуальности и от
ситуации; положение, лишенное "интереса", есть отрыв от них
обоих. Это будет еще более правильно, если включить
сюда понятие наслаждения: в наслаждении мы лучше
осязаем момент чистой отдачи предмету; и там, где
наслаждение глубже, оно переходит в удаление наблюдателя от
реальной среды и повседневности. Мы говорим тогда о
"самозабвении", не думая при этом, что правильнее говорить
о забвении реальной связи и настоящего с их
требованиями.
Этот отрыв, словно некое состояние
нерешительности, сам воспринимается как радость и может доставлять
наслаждение; но это приписывается предмету, его
чудесной силе, потому что, пока акт наблюдения есть
настоящий эстетический акт, предмет, а не собственное
состояние будет являться источником наслаждения.
Восхищающий предмет, а не восхищение является "прекрасным". И
с этим согласуется то, что выключение из реальной
жизненной связи соответствует проникновению в другую
связь - в тот мир, который открывает предмет.
Так определения Канта, от которых не следует
отклоняться, сами выводят нас за свои пределы. Чистая
радость именно от предмета при всей объективности
основана непременно на собственном участии, она всегда
выражается как род собственного участия. И здесь,
очевидно, находится граница лишенности интереса. Она будет
ощущаться в эстетическом наслаждении как
привлекательность, которая может развиться в увлечение. Это
личное участие между тем слишком незначительно, чтобы
уничтожить дистанцию, отделяющую субъект от
предмета. Дистанция есть и остается существенной, предмет
неустранимо противопоставляется субъекту - не менее чем
в чистом отношении познания, но только по-другому.
Эстетическое наслаждение никогда не отрицает
созерцательного отношения. Но созерцание предполагает
противостоящий ему объект. Эстетическое наслаждение
не есть "вхождение" в объект, не есть слияние с ним, unio
mystica (мистический союз). Его нет даже в музыке, в
которой эмоциональная реакция есть, по существу, сторона
проявления. Это не противоречит феномену захваченнос-
ти предметом (в противоположность обычному
схватыванию), феномену состояния захваченности, плененности, а
96 Часть первая. Отношение проявления
также феномену освобождения и вторжения в его мир.
Эти картины подтверждают, что нет исчезновения
противостоящего и дистанции; они означают только сильное
проникновение внутрь и "интимность" чувства, которые
являются своеобразием радости, связанной с чистым
созерцанием.
В эстетической радости мы имеем дело именно с
синтезом противоположности дистанции и внутренней
захваченное™. Язык не имеет слов для выражения этого
отношения. Диалектически это можно описать через
гегелевское "снятие"; ударение в этом отрицании дистанции
должно иногда лежать на втором значении слова, на
"сохранении", в то время как третье - "снимание" в нового
рода отношение выражает синтез, но как таковое не может
быть выражено понятием.
Если считать, что этот род синтеза невозможно
охватить, то смысл кантовского понятия отсутствия интереса
обнаруживается еще раз с другой стороны. Интерес
необходимо указывает на ценность. Но внеэстетические
ценности, как оказалось, представлены в содержании
эстетического предмета почти во всем своем многообразии, но
все же не определяют эстетическую радость, а играют
роль только условий. Точнее, правильное чувствование их
есть условие эстетического чувства ценности.
Эстетическая радость - это не радость в условных компонентах
ценности, не радость в этических или жизненных
компонентах, хотя они также даны сознанию в форме чувства
радости (позитивная реакция ценности).
И здесь, следовательно, мы имеем дело с отношением
отрицания. Эстетическое наслаждение не относится к
этим обусловливающим ценностям, как бы высоки они ни
были; но так как они содержатся в нем и являются его
предпосылками, то и эстетическое наслаждение
направлено на них, оно возвышается над ними и
непосредственно касается только сопутствующей им эстетической
ценности. Эстетическое наслаждение, следовательно,
наслаивается на внеэстетические чувства ценности. Момент
радости в нем образует синтез снимания (нейтрализации)
и сохранения и этим ясно отличается от них.
Эстетическое наслаждение указывает только на
эстетическую ценность. И это имеет центральное значение в
эстетическом строении акта, потому что мы совсем не
можем узнать и почувствовать эстетическую ценность
другим способом. Поэтому специфически эстетическое в
радости также никоим образом не растворимо в компонен-
Раздел I. Эстетическое строение акта 97
тах - оно не растворимо и в определенных формах
чувства, хотя они очень хорошо представлены и могут
постепенно проявиться в условных чувствах внеэстети-
ческой радости. Если взгляд даже ничтожно мало
сдвигается в сторону и еще раз от ценности и радости
возвращается ко всеобщему отношению, то все положение вещей
представляется следующим образом. Аффирмативное
чувство ценности имеет характер радости: обыденное
повседневно обнаруживается в вещах и их содержании,
жизненное - преимущественно в сексуальном и этическое
- в радостном согласии, признании, возвышении,
удивлении, воодушевлении, приподнятости; точно так же
негативное чувство ценности имеет характер,
противоположный радости (характер отказа, подавленности,
презрения, отвращения). Все акты, указывающие на ценность
(ответные ценности), имеют форму удовольствия и
неудовольствия, как бы различны они ни были. Характерные
компоненты удовольствия в эстетически
воспринимающем строении акта не являются уникальными. Особенное
эстетической радости проявляется только через
наблюдение (созерцание). Этот акт есть акт созерцания,
преимущественно высшего созерцания, но в известных
границах уже и акт эстетического восприятия. Если бы было
возможно созерцание отделить от радости, то мы имели
бы дело с простым соединением актов. Но это как раз не
так: созерцание, по существу, наполнено радостью и
радость, по существу, наполнена созерцанием. Само
погружение в созерцание, интенсивное тонкое чувство
невесомой детали, на которую обычно никогда не обращается
внимание, определяется радостью, а она есть чувство
ценности - и исключительно эстетической ценности,
которая наслаивается на все практические ценности. Таким
образом, эстетическое созерцание со своим особенным
состоянием благодаря своему единству с радостью
способно к тому синтезу потерянности предмета с
дистанцией к нему, который, как оказывается, образует
соединение до сих пор разрозненных моментов духовного
содержания.
Если бы погруженность была бы погруженностью в
обусловливающие компоненты ценности (жизненные и
этические), то она должна была бы отрицать созерцание,
потому что она устранила бы и дистанцию. Тогда радость
была бы определена интересами. Устранением интереса,
однако, не уничтожается чувство ценности с
обусловливающими компонентами ценности, можно также удержать
98 Часть первая. Отношение проявления
созерцательное отношение к предмету, потому что оно
соединяется с чувством ценности высшего порядка.
Наконец, сюда нужно присоединить также еще
незаметный переход эстетического наслаждения в
самонаслаждение. Само эстетическое наслаждение есть нечто
ценностное. Поэтому субъект может наслаждаться им как
состоянием (собственным состоянием). Почему это
самонаслаждение не является эстетической радостью, было
уже показано, как и то, почему оно так близко некоторым
огрубевшим людям и почему мешает настоящей
эстетической радости от предмета, как мешает и связанному с
ней созерцающему отношению, вытесняет их или даже
фальсифицирует. Если считают это соскальзывание в
самонаслаждение связанным с обратным соскальзыванием
в наслаждение обусловливающими ценностями
(этическими, жизненными и т. д.), то видно, как настоящее
эстетическое наслаждение держится на рубеже двух близких, но
совершенно различных форм наслаждения. Обе не
достигают его и "лишены интереса" (не в кантовском смысле
слова). Ведь в обеих не хватает дистанции, в обеих
предмет другой. И в обеих нет характерного эстетического
синтеза наслаждения и созерцания.
Созерцатель прекрасного должен выполнять два
высоких требования: освободиться от наслаждения
практической ценностью содержания объекта, а также от
наслаждения ценностью своего собственного состояния.
Возможно, что двойная внутренняя свобода полностью
достижима очень редко. Но мы, вероятно, в жизни не
всегда замечаем отклонение в ту или другую сторону.
Бывает именно так, что мы легко ошибаемся в чистоте и
правдивости собственного эстетического наслаждения.
Но требование существует. Оно со всей строгостью
выставляется со стороны произведения искусства по
отношению к созерцателю. Даже самое совершенное
произведение искусства не может до конца удовлетворить
это требование Сила, которая от него исходит,
захватывает не каждого. Наблюдатель, со своей стороны, должен
обладать способностью отдаваться произведению
искусства со всеми ее духовными предпосылками.
Раздел II
СТРУКТУРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРЕДМЕТА
ГЛАВА 4
ВКЛЮЧЕНИЕ В АНАЛИЗ АКТА
а. Два рода созерцания
и двоякого рода слои предмета
Предварительный анализ строения акта касается,
видимо, только некоторых его сторон. Кроме того, стало
ясно, что он должен придерживаться моментов предмета и
его ценностей. Это не удивительно, потому что каждому
моменту акта соответствует момент предмета. Но это есть
отношение, которое может расцениваться иначе, конечно,
только тогда, когда мы больше знаем о предмете. Анализ
акта, таким образом, не закончен. Однако
сформулировать новые точки зрения можно только на основе анализа
предмета.
Следовательно, с вопросом о структуре эстетического
предмета мы вступаем в область нашего основного
исследования.
Предыдущий анализ акта этому не противоречит. Акт
дает все же отправную точку, и в теперешней стадии
проблемы он является более исследованной стороной целого.
Пункты проблемы как таковые становятся в нем более
ощутимыми. Но только в нем одном они не разрешимы.
Об этом свидетельствуют уже многочисленные загадки, а
еще больше - таинственное присоединение наслаждения
"к", определенным моментам предмета; это опять-таки
идентично синтезу созерцания и наслаждения.
Таким образом, здесь должен начаться новый род
исследования, но сначала для этого нужно уяснить, с каких
сторон предмета можно начинать его. Здесь первые
указания дает детальная, структура акта: 1) два рода
созерцания включаются друг за другом, восприятие и высшее
созерцание невоспринимаемого, причем одно влияет на
другое, и 2) воспринимаемое реально существует; то, что
дано высшему созерцанию, не реально или не должно
быть реально, оно созерцается как бы побочно и при этом
с ясным налетом спонтанности.
Это является ясным указанием на слои в самом
эстетическом предмете, но из чего состоят слои, как они друг
100 Часть первая. Отношение проявления
от друга отделяются и как соединены - простое
раскалывание на два члена об этом еще ничего не говорит.
В этой общей форме мысль очень стара. И так же
стары ответы на вопрос, что представляет собой это
"другое", которое стоит позади воспринимаемого. Платон в
этой связи говорил следующее: другое есть "идея",
которая охватывается высшим созерцанием. Всеобщее в
противоположность реальному считается чем-то вроде
прототипа, который существует в Чистом и совершенном
(идеальном) виде. В таком случае "прекрасное", по сути
дела, есть только идея, и в вещественной единичности
она лишь неясно проскальзывает; но если бы можно было
совершенно освободиться от восприятия, то можно было
бы понять прекрасное как таковое, ни с чем не смешанное
и чистое.
Согласно тенденции дело сводится к разъединению
созерцания и его реального предмета. Нечто подобное
есть и у Плотина и у его позднего ученика Марсилио Фи-
чино. Задача наблюдателя, следовательно, состоит в том,
чтобы совершить выключение и подняться от чувственной
к "интеллигибельной красоте", что значит внутренне
подняться к "чистому", чувственно не опосредованному
созерцанию. Это явно противоречит чувственному моменту
в эстетически воспринимающем акте. Но этот момент как
раз существен и должен быть понят в своем своеобразии.
Все отношение здесь объясняется по роду отношений
познания и, кроме того, рассматривается интеллектуа-
листически, так как в эстетическом созерцании речь идет
не о чем ином, как о проницательности, о созерцании
сущности. Этому соответствует расплывчатое значение
слова KaA,ov у древних: оно означает и доброе (ценное,
совершенное) и прекрасное, следовательно, не
покрывается смыслом эстетического предмета. Последнему
меньше всего подходит созерцание идеи. В подлинно
эстетическом отношении чувственно данный предмет является
как "прекрасный". Значит, красота идеи, если она
существует, вовсе не является красотой в эстетическом смысле.
Из этого тупика эстетику вывел только немецкий
идеализм. Какой путь здесь проложил Кант, было уже
показано. Шеллинг и Гегель следовали по нему дальше. Теперь
это выражается так: не сама идея есть прекрасное, но
"чувственное явление идеи".
Формула исходит от Гегеля, но мысль является почти
общим достоянием идеалистов; Шопенгауэр также
сознательно защищает ее как род "улучшенного" платонизма.
Раздел II. Структура эстетического предмета "| Q1
Но что нового в "чувственном явлении идеи"? Это
можно выразить в трех пунктах: 1) не идея есть прекрасное, а
"видимость", и если даже это явление "идеи", то это
вовсе не она сама; 2) явление чувственно; поэтому предмет
как таковой признается предметом восприятия, от
которого он не отделяется благодаря высшему созерцанию; 3)
так как сама идея не чувственна, но является, в чем-то
чувственном, предмет должен быть двояким; он должен,
таким образом, состоять из чувственно-вещественного
образа как его переднего плана и "идеи" как заднего
плана. При этом то, что задний план существует в
совершенно другой форме, чем передний план, в дальнейшем, пока
придерживаются его идеальности, не бросается в глаза.
Этим совершен решающий поворот в проблеме
прекрасного. Речь не идет больше о высокопарной
метафизике прекрасного, а о значительно менее претенциозной и
гораздо более трудно выполнимой феноменологии
прекрасного. И одновременно раскрывается двойное лицо
эстетического • предмета. Только теперь можно серьезно
начать с анализа его сущности. Зерно этой сущности
стало уже видимым: оно находится в отношении явлений.
Между тем этим сделано только начало. Тотчас же
встают вопросы: 1) что такое идея, которая должна явиться, и
2) в чем заключается явление? Под "идеей" здесь везде
понимается еще всеобщее и принципиальное (более или
менее в духе Платона); предпосылка все еще та, что
природа и мир человека сформированы по идеальным
прототипам (Шеллинг, Шопенгауэр). Но имеется ли это в
действительности? Ведь это тоже, несомненно, остаток
старой метафизики.
Если красота должна быть не чем иным, как
совершенством таких идей, то она связана здесь еще и с явлением
совершенства; и постольку эстетическая ценность все
еще зависит от ценностного характера совершенного, - в
поэзии, например, от мужества героев и степени
моральной чистоты человека. Но именно это является ошибкой в
данной теории: сущность прекрасного составляет не то,
что являющееся есть совершенство (прообраз,
идеальный тип), но то, что "оно является", а именно: 1) что оно
является "чувственно" и 2) что оно является равнодушным
по отношению к реальности и ирреальности. Чем должно
быть являющееся по содержанию, еще не видно, это еще
вопрос.
По другому же вопросу, в чем состоит "явление",
можно, прежде всего, сказать, что само это выражение неу-
102 Часть первая. Отношение проявления
дачно. "Явление" всегда наводит на мысль о заблуждении
и иллюзии. И как раз этот факт и вводит в заблуждение.
Потому что, как уже было показано, здесь ничто не было
ошибкой: ни совершенство, ни прототипность, ни также
действительность недействительного (например, в
поэтическом искусстве, которое изображает лица и
конфликты). Наоборот, только нечто доступное высшему
созерцанию передвигается в сферу чувственной видимости
вследствие того, что высшее созерцание тесно связано с
восприятием. Но эта связь не создает никакой видимости
реальности - там, где ее нет, - и не строит догадок по
поводу того, что представляет собой то, что доступно лишь
высшему созерцанию.
Значит, ни "идея", ни "явление" здесь не подходят.
Оба понятия могут быть заменены более точными и
подходящими.
б. Необходимая поправка
к гегелевскому "явлению идеи"
Нужно ввести еще вторую поправку в определение
эстетического предмета; первой поправки, которую сделал
Гегель к платоновскому определению, недостаточно.
Но если просто вычеркнуть из "явления идеи" "идею",
то вскоре обнаруживается, что этим ничего не сделано.
"Идея" идеалистов не была взята из ничего. Существуют
также идеи, которые играют большую роль в искусстве.
Характернейшим примером этого рода являются
религиозные идеи, которые нашли отражение в творениях
большого искусства: образы богов древности, мадонны
итальянцев, храмы, церкви, гимны и оратории, даже трагедии.
То же самое относится к некоторым моральным идеям,
например в героической поэзии, в драме, в искусстве
портрета и даже в музыке.
Все это есть и остается существенным. Но это очень
далеко от того, чтобы составлять единственное,
являющееся содержанием художественных произведений. К
нему относится еще многое, а именно как раз неидеальное,
индивидуальное, единичное, а также типическое, которое
поэтому еще долго не входит во всеобщность идейного.
Сюда относятся характеры поэтических образов, которые
не даны чувственно, но только чувственно опосредованы
и не имеют претензии на реальность; они причисляются к
являющимся, но не входят во всеобщие идеи и в
типическое. Сцены, которые изображаются, конфликты, судьбы,
действия, страсти сначала являются как сцены единичных
Раздел II. Структура эстетического предмета *|03
лиц и воспринимаются также как таковые. То же самое
происходит с лицами в искусстве портрета, даже с
особенными образами и чертами лица в свободно
набросанных сценах живописи; то же самое происходит и с
ландшафтом на картине, даже если он не взят из
действительности.
Все это существенно не только для искусств, но оно
причисляется без остатка к являющемуся в искусствах,
даже к ирреальному; оно дано высшему созерцанию и
только до тех пор, пока оно совершается, поднимает
обыденное восприятие до эстетического. В дальнейшем, пока
оно созерцается, посредством него может возникнуть
еще более высокое созерцание, которое потом
действительно направляется на всеобщие идеи - религиозные,
моральные и др. Идеализм опускает в слоях предмета
весьма существенный член, возможно, даже несколько
членов. Подобно тому как в слоях воспринимающего акта
средний член созерцания должен находиться между
созерцанием и восприятием идей, так и в эстетическом
предмете средний слой должен находиться между
чувственно Данным в нем и совсем чуждой восприятию
идейностью. Эта междуслойность должна принадлежать,
подобно идейности, к являющемуся, но, подобно
чувственно данному, должна быть конкретной, наглядной
и индивидуальной.
Если подходить с этой стороны, то сделанная
поправка "явления идеи" получит довольно значительный вес.
Формула идеалистов была еще слишком .проста. Она
прямо соединяла противоположности, содержащиеся в
предмете, но не заботилась обо всем том, что составляло
предметное. Одни крайности ведь не составляют целого.
Действительную полноту предмета составляет именно
это целое. Предмету также принадлежит больше, чем
один средний член, и богатство созерцаемого должно
состоять как раз в пестром разнообразии, которое
наполняет этот промежуток. Этим действительно открывается
новый путь структурного анализа эстетического
предмета; и можно предвидеть, что настоящая сущность его
структуры еще лучше понимается в отношении слоев друг
к другу.
Нельзя предвидеть,- как далеко это ведет, можно ли,
например, по этому пути вообще дойти до сущности
прекрасного; в еще меньшей степени можно предвидеть,
возможно ли таким образом исчерпать ее. Но так как на этот
104 Часть первая. Отношение проявления
путь мы едва только вступили, то он обещает уже новые
толкования.
Менее важна другая сторона "поправки". Она
означает, что это, в сущности, касается не "видимости", а
явления. Смысл изменения лежит в отклонении "кажущегося",
поскольку оно содержит момент заблуждения. Но не одно
это. За гегелевской "видимостью" скрывается все еще
остаток старого интеллектуализма: кажущееся составляет
противоположность истине, истина существует только в
области познания. Значит, видимость существует лишь
там, где речь идет о познании (в виде границы или как
отказ от познания), или, наоборот, только там, где речь идет
о том, что "нечто является таковым", мы имеем дело лишь
с видимостью, обманом или заблуждением.
Но здесь речь идет не об этом. Тот, кто, читая сказку,
балладу или какой-нибудь рассказ, не может отказаться
от вопроса "было ли это в действительности", тот вообще
не понимает художественное произведение как таковое,
тот смотрит не эстетически, а наивно-реалистически, по-
детски. И как раз этот реализм мешает созерцанию,
полной отдаче наслаждению и полному высвобождению из
реальной связи. Он тянет вниз, подобно свинцовой гире, и
не позволяет- перейти к свободному эстетическому
созерцанию.
"Явление" как таковое, напротив, вполне
индифферентно к реальному и ирреальному. То, что является,
выступает без отягощения земным, без ответственности за
правду и неправду, без претензии на истину. Поэтому оно
воспринимается только как явление. Поэтому оно
непременно предмет, но только интернациональный, то есть
такой, который растворяется в своей предметности, но не
имеет как предмет познания сверхпредметного бытия. То,
что, несмотря на это, в поэзии имеется претензия на
истину, как во всех изобразительных искусствах, означает
нечто совсем другое. Об этом еще будет идти речь в
другой связи.
е. Место, эстетически автономного
наслаждения
Сказанное выше проливает новый свет на отношение
явлений. Теперь видно, что оно не основывается только на
структуре акта, а в конечном счете на отношении структур
в предмете. Но это не единственное, что бросается здесь
в глаза. Строение акта также является в новом свете - и
Раздел II. Структура эстетического предмета 105
как раз та сторона в нем, которая труднее всего
понимается: радость, удовольствие, наслаждение.
Относительно наслаждения мы видим, что оно не
зависит от являющегося, а также от чувственно данного,
"внутри" которого оно является, а зависит от самого явления.
Это доказывается теперь тем, что оно не относится к
содержанию идеи и уже по этой причине не является
ценностным ответом на другие ценности, как и на эстетическую,
но исключительно только ответом на способ, по которому
являющееся (в совокупности со своими компонентами
ценности) предстает сознанию. Но наслаждение есть
единственный фактор, обнаруживающий ценность в
эстетическом строении акта, то есть через него и только через
него именно в форме наслаждения дается нам красота как
таковая.
Это тоже не было признано в идеалистической
эстетике, хотя, по сути дела, проскальзывало у Канта. До тех пор
пока придерживались чувственного "явления идеи", не
был вполне оценен смысл "удовольствия, лишенного
интереса". Все время казалось, что существует
совершенное понимание красоты - как чувственно обусловленное,
как "чувственное явление". Поэтому Гегель философское
понятийное мышление ставит выше эстетического
созерцания. На "явлении" тяготел недостаток несовершенности
- обманчивого понимания. И это должно было быть снято
в чистом понятии. Предпосылкой все же оставалось то,
что являющееся должно быть понято, будто оно
существует и в своем явлении не совсем находит себя.
Итак, когда Гегель понимал эстетическое отношение к
предмету как созерцание, то для него в этом заключалось
нечто принижающее. Так это должно было выглядеть,
пока вообще в основу была положена тема понимания,
которая была и остается теоретической темой акта. Поэтому
он мог ставить понятие выше, чем созерцание, а
наслаждение отодвигать на второй план. Но наслаждение в
эстетическом отношении есть нечто совсем другое, чем в
теоретическом. И, разумеется, иное, чем в практическом.
Дело не только в том, что оно зависит от совершенно других
ценностей. Оно автономно и в совершенно другом
смысле. Напротив, предмет становится только благодаря ему
предметом ценности. Ценность практической удачи или
мысленного проникновения объективно существует также
без наслаждения; но ценность художественного
произведения существует только "для" созерцающего и
наслаждающегося созерцанием субъекта. Значит, наслаждение
106 Часть первая. Отношение проявления
является определяющей по отношению к ценности, на
которую оно указывает и которой оно определяется. В этом
смысле эстетическое наслаждение автономно. К явлению
принадлежит духовная сущность, "которой" "нечто"
является. Так как эстетическая ценность присуща не
являющемуся, но самому явлению, то духовно воспринятая
сущность частично входит в эстетическую ценность. И так как
та же самая сущность воспринимает, чувствует
эстетическое наслаждение, то его автономия состоит не в
автономии заранее данной ценности, как во всех других
областях, но в его собственном участии в создании
эстетической ценности.
На данной основе это отношение полностью еще не
может быть понято. Оно будет лучше понято позднее, при
анализе предмета. Но только одна вещь дает себя знать
уже здесь: эстетическое чувство ценности является тем,
чем никогда не бывают другие чувства ценности, -
одновременно и определителем ценности.
Этот феномен доказывается очень хорошо.
Эстетическую ценность нельзя предвидеть; она не существует для
сознания до ее появления в единичном предмете. Значит,
она объективно непонятна без созерцания, которое
одновременно является наслаждением в созерцании. Она
вообще не существует, пока не осуществляется в
созерцании. Поэтому она так крепко связана с единичным
случаем, и, строго говоря, не только с ним, но даже с
особенным созерцанием в единичном наблюдении; во втором
наблюдении она может быть уже другой, потому что
каждое наблюдение есть новое совершение синтеза, в
котором существует явление. Но эстетическая ценность
присуща явлению как таковому.
Косвенное доказательство этого можно видеть в том,
что язык почти не имеет никаких обозначений для этих
ценностей. Все образы, которые мы употребляем, чтобы
понять ценности, недостаточны и не касаются благодаря
этому неповторимого. Эстетический смысл есть поздний
продукт духа. Язык уже давно был готовой системой -
когда он только что появился. Язык ориентирован
практически. Поэтому именно эстетические ценности так долго не
открываются; и, когда они открываются, они еще долгое
время остаются непризнанными, смешиваются с
этическими и жизненными ценностями - имеются в виду аксио-
логически неясные чувства человеческой красоты - и,
таким образом, скрываются от нас за ними, в то время как в
Раздел II. Структура эстетического предмета "|Q7
автономной радости последние скрываются за
эстетическими ценностями (потому что они суть простые условия).
Отсюда можно сделать вывод о характере
эстетической ценности. Его можно выразить в следующих пунктах:
1. Нет ценностей в себе сущего: реального, как
имущественные ценности, и идеального, как нравственные
ценности. Поэтому к ним не присоединяется никакое
реальное существование. Можно говорить лишь о ценностях,
существующих для нас. Это - настоящие объективные
ценности, то есть ценности предмета как такового; но
предмет не существует сам по себе, а только для
эстетически воспринимающего субъекта. Если бы он
существовал только в чувственно данном, то это не было бы так, но
чувственно данное в нем есть только часть от него, и одна
эта часть не делает его еще эстетическим предметом.
Сюда относится и являющееся, а оно может не быть
реальным. Эстетический предмет есть в первую очередь
нечто целое. Значит, это целое существует только "для
нас", поскольку мы рассматриваем его адекватно.
2. Можно также сказать следующее: эстетические
ценности суть ценности предмета как такового; не ценности
акта (будь это акт созерцания или акт наслаждения)
сущего как такового, которое только через акт становится
предметом акта, но суть только ценности предмета как
предмета. Поэтому они существуют независимо от
действительности и сами являются осуществлением
являющегося.
3. Это значит, что они присущи отношению явлений как
таковому. Но именно ему как целому. Члены этого
отношения встречаются также и разделенными, но тогда они не
образуют эстетического предмета. Поэтому эстетические
ценности субъективно обусловлены, хотя и в ином
смысле, чем другие ценности (например, материальные
ценности, существующие только "для" сущности, которой они
идут на пользу). Смысл "бытия для нас" заключается здесь
не в том, чтобы быть полезным, а только в "для нас"
существующей предметности.
4. Поэтому эти ценности не объективно всеобщи как
жизненные или нравственные ценности, но в каждом
предмете они суть особенные и ему одному свойственные
индивидуальные ценности. Существует бесконечно много
форм явления. Для каждого "материала" и в каждой
материи они не одинаковы; даже в каждом "представлении"
одного и того же материала в той же самой материи.
108 Часть первая. Отношение проявления
Разумеется, существуют общие черты эстетической
ценности соответственно всеобщим или типическим
чертам отношения явлений; но это составляет только
схематические и в то же время "жиденькие" виды предметной
ценности. Настоящие ценности лежат в неповторимой
особенности, а все сравнимое в области прекрасного
остается на поверхности.
Виды и роды искусств и связывающие их стили также
касаются в первую очередь структуры предмета и только
косвенно-эстетической ценности. И часто общие
характеры ценности общи самым различным родам и стилям
искусства. Но собственно эстетические ценности, наоборот,
едва затрагиваются такой дифференциацией, не говоря
уже о том, что они не охватываются полностью.
Эстетический характер ценностей - прекрасное и его
дифференциация - не в меньшей мере присущ структуре
предмета, а именно целого в его многослойности.
Поэтому путь от предварительного анализа акта ведет к
структурному анализу предмета; он может в лучшем случае
через него и только через него вести к анализу ценности.
Анализ структуры предмета занимает в эстетических
изысканиях центральное положение, и дальнейшая
интерпретация проблемы акта, так же как и проблемы
ценности в той степени, в которой мы можем себе позволить при
сегодняшнем уровне знания проблемы, лежит в первую
очередь в анализе структуры.
ГЛАВА 5
ЗАКОН ОБЪЕКТИВАЦИИ
а. Роль "материи"
Последние объяснения привели к проблеме бытия в
эстетическом предмете. Что ему присуще
самостоятельное, не зависящее от субъекта бытие (бытие в себе),
оказалось заблуждением. Но, с другой стороны, оказалось,
что эстетический предмет частично существует
совершенно независимо от субъекта. Этим ставится проблема
способа бытия данного предмета. Решение ее является
задачей онтологии. Эта задача возникает раньше других
вопросов и должна быть решена прежде всего.
Судя по дальнейшей связи, эта задача входит во
всеобщую проблему духовного бытия. Ибо поскольку
эстетический предмет существует только "для" сознательного
существа, то в нем всегда заключено некоторое духовное
Раздел II. Структура эстетического предмета 1Q9
содержание, по меньшей мере способность в
определенной форме видеть или понимать. Это не всегда можно
увидеть в предмете природы, но в произведении
искусства почти всегда. Поэтому здесь речь должна идти
прежде всего исключительно о произведении искусства; в нем
очень хорошо видно, что оно является произведением
сознательного существа, и в нем заключено нечто от
человека, его создавшего.
Художественное произведение принадлежит по роду к
особенной форме духовного бытия, к
"объективированному духу". Это есть объективация, то есть включение
духовного содержания в предметность. Объективация есть не
только произведение искусства, но также всякий другой
продукт, который производит человеческий дух, от
инструмента и прибора собственного изобретения до
литературного произведения. Все, что исторически
переходит от духа прежних времен в измененный дух
настоящего и воспринимается настоящим как его свидетельство,
имеет форму объективации. Письменность играет здесь
самую большую роль. Но для этого ей не нужно быть
художественным произведением. Ведь и скромное сообщение
о фактах и научная литература имеют одинаковую
основную форму и способ бытия объективации.
Основной закон всего духовного бытия состоит в том,
что оно не может существовать свободно витающим, а
встречается только покоящимся на другой основе бытия.
Так, персональный дух отдельной личности покоится на
духовной жизни, а она в свою очередь - на
телесно-органической жизни; последняя основывается на
неорганическом физическом бытии. Здесь господствует цепь
обусловленности "снизу", в соответствии с которой
высшее всегда опирается на низшее, и, так как духовная
жизнь образует высшую ступень бытия, она основывается
на низших ступенях во всей их последовательности. Но то
же самое, что относится к персональному духу, относится
также к исторически-объективному духу, который
составляет общую духовную жизнь целых народов и веков. Он
так же основывается на единичной духовной жизни, как и
на родовой жизни народов, и, таким образом, в конце
концов на целом ряде ступеней бытия или (как гласит
онтологический термин) на всем многослойном строении
реального мира. Духовное бытие не может существовать без
подпирающих его снизу слоев бытия.
То, что относится к обеим формам живого духа
(персонально-субъективной и исторически-объективной), сох-
110 Часть первая. Отношение проявления
раняет, однако, свое значение также для
объективирующего духа. Объективация является как раз третьей
основной формой духа. Она, правда, не является живым духом,
а представляет собой лишь духовное содержание,
продукт духа, творение духа. Но в этом своеобразии она
существует в известном отрыве от "духовной жизни", а
именно как от персональной, так и от объективной; она как
бы выделена из "духовной жизни" и этим освобождена от
ее изменения и поэтому может иметь возле нее наличное
бытие для себя.
Ибо самое замечательное в духовных творениях - это
то, что они существуют вне и над жизнью их творца -
оратора, мыслителя, писателя, поэта или скульптора, что они
могут пережить не только его, но также целое столетие и
его объективный дух. Перемена поколений и столетий
может пройти мимо них без того, чтобы вовлечь их в судьбу
всего возникающего и преходящего. Но с ними может это
произойти только в том случае, если они вылились в
форму долговечного, реального медиума, материала,
который имеет другую силу сопротивления, чем мимолетная
человеческая жизнь. И постольку это есть также дух,
подпираемый объективирующим духом, покоящийся на
реальном образе, который со своей стороны ни в коем
случае не является духом, но по темпу существования
превосходит духовную жизнь. Объективация состоит здесь,
по существу, в создании реального образа времени, в
котором может проявиться духовное содержание. Тем
самым эстетический предмет, поскольку он создан
человеком, вступает в дальнейший круг феноменов; он образует
особый род объективирующего духа. Одновременно он
полностью подпадает и под закон объективации.
Закон объективации - это двойной закон. Он гласит,
во-первых: духовное содержание может существовать
только постольку, поскольку оно заключено в реальную
чувственную материю, то есть благодаря ее особому
формированию оно приковано к ней и подпирается ею. И, во-
вторых, он гласит: духовное содержание, подпираемое
сформированной материей, всегда нуждается в ответном
действии живого духа - как персонального, так и
объективного; так как оно нуждается в созерцающем сознании,
можно также сказать в понимающем или узнающем
сознании, которому оно может явиться через посредство
реального образа.
В эстетическом предмете материя, смотря по
характеру искусства, является камнем, бронзой, краской на по-
Раздел II. Структура эстетического предмета *|"| *|
лотне, словом, письмом или глиной. Но все они как
таковые, существуя, как всегда, оформленными, были бы
немы и не могли бы быть носителями духовного содержания,
если бы не ответное действие живого духа. Оно же
состоит в узнавании (avayiyvcooKeiv), то есть в понимании.
Заключенное в материю и как бы заложенное в ней должно быть
вновь извлечено, освобождено, сделано текучим, живым;
оно должно быть вобрано в живой дух. Это, смотря по
обстоятельствам, сложный процесс, и для этого должны быть
выполнены различные условия. Живой дух не всегда их
выявляет, а если и выявляет, то только в определенной
стадии зрелости. Поэтому литературные произведения
прошлого могут столетиями лежать забытыми и считаться
пропавшими без того, чтобы их духовное содержание
вновь восстанавливалось для кого-либо, пока их в один
прекрасный день не выкопают, вновь откроют и пробудят к
новой жизни. Ведь объективирующий дух не может
существовать без реальной духовной жизни. Только у него это
не собственная жизнь, а другая и как бы взятая в долг.
Потому что живой дух, из которого он вышел, может быть
давно прошедшим; от него он освобожден и к нему не
может больше вернуться.
Все это, конечно, в высшей степени относится к
произведению искусства. Закон объективации - также его закон.
Только "покоится" объективирующий дух иначе, чем
живой дух. У последнего расслоение бытия проходит
снизу вверх: материя - организм - духовная жизнь - дух
составляют единственную необратимую последовательность
лежащего в основе и основывающегося бытия. У
объективации отсутствует цепь слоев бытия; в литературном
произведении и в скульптуре духовное содержание
непосредственно привязано к самому низшему слою бытия
реального, к материальному слою. Правда, здесь оно
привязано к очень определенной форме, которая, со своей
стороны, является достижением живого духа; но нельзя
сказать, чтобы она как таковая была духовной. Цепь
расслоения, таким образом, перескакивается, средние слои
бытия отсутствуют; таким по крайней мере представляется
это отношение на первый взгляд. И только благодаря
вторжению живого духа они восполняются в восприятии.
Все отношение в объективированном духе, таким
образом, является трехчленным. В произведении как
таковом сформированная материя и духовное содержание
связаны друг с другом через формирование первой, но не
сами по себе, а только для живого духа, поскольку он дает
1 "12 Часть первая. Отношение проявления
для этого предпосылки. Он, таким образом, составляет
необходимый "третий член", благодаря которому связаны
друг с другом первые два. Без этого члена духовное
содержание не пробуждается из материи. Это трехчленное
отношение не должно упрощаться.
И из него непосредственно следует далее
комплексный способ бытия объективации: она только частично
реальна, то есть - реальна лишь материя вместе с ее
формой; собственно духовное содержание остается
ирреальным и также не превращается в реальное живым духом,
оно выступает для него скорее лишь как явление. Таким
образом, видно, что в отношении между явлениями речь
идет о чем-то гораздо более всеобщем, а не только об
одном произведении искусства. Речь идет здесь не об
особенном способе бытия эстетического предмета, а о
способе бытия объективированного духа. И, далее, должно
быть еще показано, в чем состоит отличие отношения
между явлениями в художественном произведении от
отношения между явлениями в различных объективациях
другого рода.
б. Духовное содержание и живой дух
Между тем схема трехчленного отношения еще не
полна. В действительности живой дух (как персональный, так
и объективный) выступает здесь двояким образом. Ибо
формирование материи и придание ей духовного
содержания суть также уже акты живого духа, а именно
первоначальные творческие акты. Только это суть акты другого
духа, а не воспринимающего и узнающего: это акты духа,
который может быть давно прошедшим, если его
произведение делается доступным потомкам.
Итак, нужно дополнить схему, чтобы включить в нее
функцию творящего духа. Тогда отношение будет
четырехчленным. Производящий дух формирует материю; он
придает ей благодаря этому духовное содержание, но
также замыкает его в ней, так что воспринимающий дух в
свое время его только снова "открывает", то есть должен
обратно извлечь из нее; отсюда становится ясным, что
воспринимающий дух, со своей стороны, должен также
сделать спонтанный вклад: он должен внутренне в
понимании и в созерцании дать произведению возникнуть
вновь, должен его репродуцировать. Этот вклад и это
действие приводят произведение к тому, что
воспринимающему духу "является" духовное содержание.
Раздел II. Структура эстетического предмета 113
Четырехчленное отношение само в себе не одинаково.
Подобно тому как производящий дух не знает
репродуктивного и может только слепо с ним считаться, так, со
своей стороны, производящий дух скрыт и от
репродуктивного, так как он не содержится в самой объгктивации; и там,
где потомок не знает его по другим источникам (из
истории), он может судить о нем только по его произведениям.
Конечно, творец может изобразить в своем произведении
и себя самого, но тогда это будет придание особого рода
и нужно уже знать о нем как таковом, чтобы его понять.
Нарисовал ли Гомер самого себя в образе Демодока, как
полагали греки столетиями позднее, нельзя решить, и
мало что меняется в "Одиссее", если этого и не было.
Правда, в известных границах каждое изображение
есть также самоизображение, даже там, где речь идет
только о вещи; тот, кто формирует материю, всегда,
пожалуй, невольно объективирует в произведении нечто от
самого себя, даже если это является лишь способом
видения. Без сом нения, это особенно относится к
художественному изображению. Но этот род самоизображения
есть сопровождающий феномен всякой передачи и
несвойствен собственно объективации как таковой
(длящейся). Именно так каждый человек постоянно открывает в
жизни что-нибудь от самого себя благодаря речи,
поведению, образу действия. О чем бы он ни говорил, он
невольно одновременно выдает самого себя.
Итак, картина определенным образом перевернулась.
Сначала казалось, что объективированный дух как
будто совсем освободился от живого, вышел за его пределы,
свободно витая. Теперь оказывается, что он на долгое
время привязан к другому живому духу и, кроме того,
связан с первым производящим духом, так что и этот
последний можно узнать в нем.
Оба не только принципиально важны для него, но и
прямо-таки существенны для эстетического предмета.
Ведь он как художественное произведение также
существует лишь по отношению к воспринимающему субъекту
который приносит с собой условия восприятия, и больше
ни для кого, но меньше всего существует в себе. Как раз в
нем всегда узнает в известных границах производящий
дух: скульптор, поэт, композитор, - даже тогда, когда не
знают ни его имени, ни его жизни. И гораздо сильнее, чем
его узнавание, есть приравнивание к нему: наблюдатель
может благодаря силе произведения приобщиться к спо-
114 Часть первая. Отношение проявления
собу созерцания художника, быть им охваченным и
преобразованным.
При этом следует пойти еще дальше. Для эстетики
важно в первую очередь восприятие, а с ним,
следовательно, и чувственный реальный образ, в котором
объективировано духовное содержание и в котором оно только
и является. Нужно было бы предположить, что этот образ
с самого начала должен быть так или иначе однороден с
духовным содержанием. Но как раз здесь более точное
рассмотрение указывает на противоположное. Для этого
также надо ориентироваться в более простых, внеэстети-
ческих формах объективации. Наиболее пригодными
здесь являются часто встречающиеся нам в жизни формы
объективации: слово и письмо.
Язык принадлежит к определенной области живого
объективного духа. До тех пор пока этот дух "живет", язык,
следовательно, действительно звучит; это "живой язык" в
отличие от мертвого языка, на котором уже никто больше
не говорит. Слово как член языка играет в этой области
роль средства понимания; оно является также разменной
монетой духовного общения. Поэтому оно мимолетно,
служит только минутной ситуации и исчезает как таковое
вслед за "делом", о котором оно говорит. Оно забывается.
Все же слово - уже объективация, и оно показывает
оба характерных слоя бытия объективации: чувственный
реальный слой, слышимый звук и духовное содержание,
значение, "смысл". Только оба вместе составляют
"слово"; каждое, взятое само по себе, в области языка - ничто.
Из этого видно, прежде всего, что уже живой дух все
время пользуется объективацией без того, чтобы
удерживать ее или сохранять. Он нуждается в ней на короткое
время для своей собственной мгновенной потребности,
для составления и сохранения общей духовной сферы, в
которой состоит и движется вперед его жизнь.
Но каждое слово, каждое выражение вместе со своим
однократным словесным звучанием может быть также
удержано и сохранено в памяти живущих. Это легко
случается там, где смысл речи представляется имеющим
больший вес, - так, как это с древних времен случалось в
анекдоте. Духовное содержание - именно потому, что оно
объективировано в слове, - становится общим достоянием. И
это усиливается еще в гораздо большей степени
благодаря письменности, ибо ее сущность в том, чтобы не быть
мимолетной, как то, что высказано, а прочно удерживать и
нести дальше, так как она сама как реальный образ посто-
Раздел II. Структура эстетического предмета *| *| 5
янна. Обширная литература древних, в которой собраны
анекдоты, является красноречивым свидетельством
этого; и речь здесь идет не об истинном содержании
анекдота (которое нельзя больше проконтролировать), но о
сохранении мимолетного как такового.
С философской точки зрения обращает на себя
внимание в этом отношении глубокая разнородность слоев
бытия в объективации. Слово и письмо также самые близкие
примеры этого.
Звук и значение не только несравнимые образы - они
не имеют близкого общего рода, - но они имеют также
совершенно разнородные способы бытия. К тому же они
внутри общего словесного целого весьма
самостоятельны по отношению друг к другу, как это видно в различии
языков и даже диалектов; их элементы также не
варьируются ни в коем случае лишь в зависимости друг от друга.
Скорее значения весьма условно зависят от звуков
(случайная ономатопея образует только незначительные
исключения). Отсюда возможность перевода, как и вообще
многоязычия и множество возможных словесных
выражений в одном и том же языке. Действительные границы
возможности перевода имеют более глубокую причину -
они лежат в различии самого объективного духа, его
способов воззрения и направления мышления у различных
народов и в различные времена.
Но то же самое, что касается слова, в большей мере
относится к письменности. Здесь несравнимость письма
и смысла, как и несравнимость внешнего образа и слова,
еще более непосредственно бросается в глаза, и именно
как по структуре, так и по образу бытия. До известной
степени она осознается даже совсем наивным человеком при
обычном употреблении письма, и только привычка
скрывает очень большую странность в ней.
Позитивным в этом отношении, очевидно, является
только твердая определенность сочетания звука и
значения, соответственно письменного образа, звукового
образа и значения. От нее, а не от структурного родства или
иного сходства зависит понимание сказанного и
написанного. Но самое странное то, что такого рода сочетание
свободнее всего и совершеннее всего функционирует как
раз там, где оно чисто внешне, условно и "случайно" и не
подвергается влиянию сходств или структуральных
совпадений (можно, пожалуй, сказать, не разрушается ими).
Ибо при всей твердости в элементах такое сочетание
должно иметь самую большую подвижность, чтобы подхо-
116 Часть первая. Отношение проявления
дить к самым различным смысловым содержаниям; это
удается лучше всего там, где оно является простым
символическим отношением и ему не мешает претензия на
"копирование", будь это хотя бы лишь в самом
отдаленном смысле.
Ярким примером этого в высшей степени
удивительного факта является высокое превосходство
фонетического начертания, разлагающего звуки языка (лишь с
совсем небольшим числом основных символов), над
иероглифами. Обратной стороной такого превосходства
является то, что "узнавание" (то есть чтение) связано с
господством твердого сочетания звуков и письменных знаков,
точно так же, как понимание сказанного имеет своей
предпосылкой привычное господство сочетания
звукового образа и смысла.
Этим достигается, опять-таки согласно закону
объективации, то, что все явления духовного содержания
нуждаются в ответном действии живого духа, поскольку он
должен приносить с собой условия понимания.
е. Бытие в себе и бытие для нас
в объективированном духе
Во всех других объективациях духовного содержания в
принципе дело обстоит так же, как в слове и письме.
Только формы самой объективации очень различны - она ни в
коем случае не совершает везде окольного пути через
символы и сочетание, - и соответственно этому
самостоятельность всего образа различается по степеням; это
относится и к его исторической способности сохраняться,
как и к его возможности возвращаться в лоно живого духа
позднейших времен. Все это зависит от особых условий, а
именно в первую очередь от условий, относящихся к
материи, ее изобразительным свойствам и прочности, а
также от не поддающегося учету рокового возвращения и
отсутствия адекватного живого духа.
Материальное условие в письме очень хорошо
выполнимо, но в слове его нет. Сущностью высказанного слова
является его быстротечность; что написано "черным по
белому", имеет совершенно другую устойчивость. Она
существует также там, где ее не предвидят; письма личного
содержания, написанные только для данного момента,
могут благодаря особенным случаям сохраниться и
тысячелетия спустя служить свидетельством какой-то давно
угасшей жизни. Так случилось с известными обрывками
папируса из египетской пустыни.
Раздел II. Структура эстетического предмета 117
Но всегда, идет ли речь о преходящем или
постоянном, соблюдается закон объективации: общий образ
двухслоен, и именно с характерной разнородностью
слоев как по структуре, так и по способу бытия. Ибо только
передний план, материальный, чувственный образ,
реален, а являющийся задний план, духовное содержание,
ирреален. Первый существует вместе со своей формой
сам по себе, второй, напротив, - только "для" готового к
восприятию живого духа, который при этом включает и
свое и в понимании становится репродуктивным.
Передний план - это всегда ясный образ. Задний план в
известных границах также может быть ясным и поэтому может
казаться включенным в восприятие, как это имеет место
во многих произведениях искусства; например, в
пластике и в живописи это живая телесность. Выражение
"духовное содержание" нужно, таким образом, принимать с
осторожностью. Задний план не нуждается в том, чтобы
представлять собой что-то идеальное, мысленное или
идеально зримое. Он не нуждается также в том, чтобы по
содержанию быть взятым из высших слоев бытия
(душевного или духовного бытия) или быть скопированным с них;
достаточно, что он первоначально видится духовно и
способ созерцания удерживается в способе его явления.
"Духовным содержанием" он является скорее только в том же
самом смысле, как слово и письмо: выраженным или
обозначенным становится только то, что содержится в
образе, взятом как целое, не реально и представляется им
также как нереальное. Для способа бытия заднего плана
достаточно того, что он вызывается в сознании
слушающего, читающего и понимающего как представленное
содержание.
Большое различие между родами и ступенями
объективации содержится в совсем других моментах - в том,
например, с какой конкретностью и детальностью или с
какой абстрактностью и только наружной символикой
содержание представленного рисуется воспринимающему
созерцателю. В этом имеются чрезвычайно тонкие
оттенки. Уже в повседневной речи и тем более в письменности
в этом отношении предоставлен широкий простор.
В художественном произведении, напротив,
являющееся всегда имеет высокую конкретность и полноту
содержания и его связь с реальным передним планом крепкая и
глубочайшая. Это имеет силу также и тогда, когда
содержание представленного, понятое как духовное
содержание, является всеобщим и очень отвлеченным.
118 Часть первая. Отношение проявления
Загадочным в сущности объективации есть и остается
при всем том следующее: "как" же, собственно,
чувственно-вещественная форма переднего плана может стать
носителем содержания, которое имеет совсем другой
способ бытия и существует только "для" воспринимающего
сознания? Ведь отношение как раз такое, что это
содержание может быть увидено в чувственной форме материи
и может быть получено из нее в любое время. Каким-либо
способом оно, следовательно, должно все же в ней
содержаться. Ибо во всем, что еще имеется в мире,
действует хорошо известное правило, что только
духовная сущность может "иметь" духовное содержание, все
равно, как бы ни было создано это "имение".
Предварительное решение загадки состоит в том, что
в действительности духовное содержание также отнюдь
не находится в сформированной материи без содействия
живого духа. Оно вообще не находится в ней "само по
себе", а только "для нас", для воспринимающих. И оно
вкладывается производящим духом только "для"
воспринимающего духа, но не "само по себе" и не независимо от
этого запечатлевается на бытии материи. Действительно
приданная ей форма сама является скорее только
материальной, следовательно, формой чувственного
переднего плана.
Если здесь применяют вышеразвитое четырехчленное
отношение, то круг замыкается: во всех объективациях,
безразлично какого рода, являющийся слой заднего
плана существует только "для" живого духа; он существует
вообще только благодаря переменному отношению к
нему. В этом - смысл "бытия для нас". Этот очень
относительный способ бытия отделяет задний план от переднего
плана, хотя первоначально творящий дух, который
сформировал целое, реален и может проявляться в духовном
содержании своего творения, ибо, поскольку он
проявляется, он не является как реально присутствующий.
г. Передний и задний планы
Обе составные части объективированного духа имеют,
таким образом, совершенно различные способы бытия,
так что единство обеих с самого начала является
примечательным в царстве существующего. В остальном они
весьма свободно варьируют по отношению друг к другу.
Но самый большой размах существует внутри единства,
которое они образуют в зависимости от их связи между
собой.
Раздел II. Структура эстетического предмета 119
Существуют объективации, в которых связь переднего
и заднего планов друг с другом только условна. Слово и
письмо принадлежат к этому роду. Важно отметить, что
как раз то же самое относится и к понятию. Понятие также
создано произвольно - всегда так, что оно берет свое
собственное содержание не из самого себя, а из
определенной связи гораздо большего стиля, из целой системы
понятий. Изолированное понятие для себя есть
абсолютное ничто, оно не определяемо и не наполняемо
созерцанием. Одним словом, понятие несамостоятельно, точно
так же как и изолированное слово. Практически оба, как
слово, так и понятие, совершенно не бывают
изолированными: они существуют только в речи, соответственно и в
связи мыслей.
Реальный образ понятия есть термин; но он сам по
себе ничего не говорит о духовном содержании. Последнее
надо узнать уже в другом месте, чтобы можно было
правильно его вкладывать. Речь идет о том, чтобы наполнить
понятие созерцанием - ибо его сущность состоит в том,
чтобы быть средством высшего созерцания (будь то
созерцание, проникающее внутрь, или созерцание,
соединяющее воедино), - и именно не любым, а правильным, в
данном случае подразумеваемым созерцанием. Понятие
"планеты" имеет только тот, кто наблюдал кеплеровские
эллипсы и отношения движения тел на эллиптических
путях. Это наблюдение должно быть произведено, чтобы
понятие вообще осуществилось в собственном мышлении.
Это то, что Гегель назвал "напряжением понятия".
Но откуда может прийти созерцание? Легко можно
видеть, что оно может прийти только из большей, вполне
обозреваемой связи. Последняя всегда содержится,
если мы имеем дело с научным мышлением в системе
заданных понятий, если не полностью, то все же в границах
данного состояния науки. Из этой системы нельзя
вырвать отдельное понятие, чтобы оно не потеряло свое
духовное содержание. Но такая система понятий может,
будучи объективированной в литературном
произведении большего стиля, сохраниться в течение столетий и
вновь быть воспроизведенной в эпоху, в которую давно
больше не мыслят при помощи тех же самых понятий и
не рассматривают вещь посредством тех же самых путей
созерцания.
Система понятий аристотелевской метафизики, как и
ее отдельные понятия - форма, материя, эйдос, сила,
энергия, - слишком далеки от нас, но могут быть воспро-
120 Часть первая. Отношение проявления
изведены из сохранившегося сочинения и так точно, что в
них можно ясно различить последовательность и
непоследовательность. Но это возможно только в целом как
таковом, а не в отдельном понятии, если брать его только
само по себе. Отдельное понятие приобретает свой
смысл и содержание как раз от целого.
Последовательность проста: понятие, взятое как
отдельное, имеет свою сущность вне себя. Если его
вырывают из связи понятий, в которой оно коренится, то оно
опустошается, теряет свое содержание и может быть
искажено до неузнаваемости. Такое опустошение
произошло исторически с бесчисленными понятиями древних,
например с вышеназванными аристотелевскими
понятиями. Можно, правда, воспроизвести содержание
вырванных понятий, снова заполнить их Пустоту, но для этого
нужно заново восстановить всю первоначальную связь;
это, конечно, может произойти только на основе
исторического источника - строго по тексту аристотелевской
метафизики. Но это затруднительно - для этого требуется
целое исследование.
Стабилизация объективации в понятии также
невелика. Понятия превращаются - нужно сказать, в противовес
учению старой логики об их вневременной
идентичности, - они имеют свою историю, то есть им присуща
изменчивость значения в живом объективном духе. Под
этим ни в коем случае не нужно понимать одно
опустошение. Скорее с каждым новым достижением науки к
понятию прибавляются новые признаки; и так как прогресс
познания может продолжаться столетиями, в течение
которых воззрения на тот же самый предмет коренным
образом меняются, то история его понятия может вести
к полнейшей перемене его содержания, хотя бы оно все
еще было связано со старым термином и все еще
подразумевало ту же самую вещь. Здесь изменяется именно
сама объективация соответственно пониманию и
потребности живого духа.
Эта удивительная способность понятия изменяться
(возможно, нет ничего в мире столь подвижного, как
понятие) является не слабостью его, а как раз его
единственной в своем роде способностью следовать за
никогда не останавливающимся процессом познания. Но
она в то же время является красноречивым
свидетельством шаткости связи между термином и духовным
содержанием в понятии.
Раздел II. Структура эстетического предмета 121
Чрезвычайно поучительно уяснить себе все это на
примере понятия, ибо только в противоположении этому
получит правильное освещение сущность художественной
объективации. Художественное произведение имеет как
раз совсем другую стабильность, несравненно более
высокую историческую силу устойчивости. Основа этого
лежит в твердом и постоянном соединении в нем переднего
и заднего планов, ибо это соединение не является здесь
ни условным, ни извне обусловленным (высшими
систематизированными связями), а чисто внутренним,
основанным на себе самом. Оно поэтому и обращено не к
понятию, а к созерцанию; и внутри созерцания оно имеет
форму самой тесной связи между чувственным
созерцанием (восприятием) и высшими формами созерцания.
Именно художественное произведение дает в форме
реального образа все детали, в которых является
духовное содержание. Поэтому содержание в этих деталях
переднего плана в любое время воспроизводимо, и для
этого не нужна реконструкция обширных связей. В
художественном произведении богато воплощен как раз передний
план, материальное и чувственно реальное; такое
воплощение отсутствует у понятия, поэтому оно ничего не
может явить из себя, а зависит от связи, которая лежит за
его пределами. Художественное произведение ни от чего
такого не зависит; пдлнота формы в реальном образе
достаточна, чтобы созерцающему явилось духовное
содержание. Это значит, что в художественном
произведении соединение переднего и заднего планов "тесное",
крепкое и постоянное. Не привнесенному знанию вещи
открывается духовное содержание, а созерцанию; и если
последнее уже и не чувственное созерцание, то оно все
же крепко связано с восприятием и не может без него
представить себе являющееся.
Это можно выразить и так: художественное
произведение имеет свою сущность в себе самом, понятие имеет
её вне себя. Понятие, взятое сомо по себе, не есть
замкнутое целое, однако ближайшую по высоте целостность
видеть в нем нельзя; художественное произведение есть
целое и именно так крепко замкнутое в себе, что оно для
полного обнаружения своего содержания созерцающему
не нуждается ни в какой внешней для него связи.
Богатство чувственной формы в его переднем плане
достаточно, чтобы пробудить все связи, необходимые для
являющегося заднего плана. Больше того, оно не только не
зависит от связей, которые не содержит в себе, но, наобо-
122 Часть первая. Отношение проявления
рот, со своей стороны, выделено из реальной связи
жизни, знания и понимания, отдалено от нее и полностью
основано на себе самом. И поэтому оно имеет силу отделять
также созерцающего и переводить его в совсем другой
мир являющегося.
Поэтому художественное произведение не
подвержено "опустошению". А что касается перемены в живом духе,
то это также знакомо ему только в очень ограниченной
степени. Бывает, что измененному - пожалуй, более
зрелому - духу позднейшего времени открывается в нем
новое содержание; но и оно остается на линии однажды в
нем объективированного. На чем основывается
исключительная сила соединения слоев бытия художественного
произведения, благодаря которой оно сохраняет также
исторически свою идентичность, может быть решено
только анализом самого отношения слоев.
ГЛАВА 6
ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ПЛАНЫ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ
а. К вопросу о классификации проблемы
и ее исследования
Уже в акте, который сам по себе является
расслоенным созерцанием, проявилась двухслойность
эстетического предмета. Теперь, после ориентации в
противоположных формах объективации, это включается в более
высокую связь феноменов. При этом на последний
обсуждаемый вопрос - чем отличается эстетический предмет от
других родов объективации - еще раз падает наибольшее
ударение. Указания на большую крепость внутреннего
соединения, на ее самостоятельность и собственную
закономерность (автономию) здесь, очевидно, еще
недостаточно. В дополнение к этому нужно глубже вникнуть в
отдельные формы эстетического предмета.
Но предварительно для ориентации внутри всего
царства феноменов следует сказать следующее: все
эстетические предметы состоят из слоев, но не все
являются объ-ективациями. Только художественные
произведения, как созданные человеком, суть объективации. В них в
первую очередь осязаемо отношение слоев,
противоположность их бытия и их соединение друг с другом.
Поэтому здесь должно быть исключено с самого же начала
предметного анализа все, что не является художествен-
Раздел II. Структура эстетического предмета *|23
ным произведением, - следовательно, прекрасное в
природе и прекрасное в человеке. Позднее нужно будет
исследовать, насколько можно переносить найденное в
художественном произведении на те или другие области
прекрасного.
Затем следует дальнейшее предварительное
ограничение. Из всех искусств для целей предметного анализа
подходят в первую очередь те, в создании которых
осязаемо выступает духовное содержание как
содержательный образ; это такие искусства, которые предоставляют
изображению "материал", сюжет, тему. Их можно
объединить в группу "изобразительных искусств". Это пластика,
живопись и поэзия. Потом нужно будет исследовать,
насколько найденное в них вновь находит себя в предмете
неизобразительных искусств, прежде всего в музыке и
архитектуре.
Здесь сохраняется известная классификация искусств
по "материи", с которой они работают: с камнем или
бронзой, с краской на полотне, со словами или глиной. Уже
было показано, почему эта классификация не является
внешней. Не каждый материал может быть изображен в
любой материи, или, говоря позитивно, каждая материя
допускает только определенные роды . материала. И,
даже если в широком смысле это тот же самый материал,
она все же берет в нем другие стороны по сравнению с
другой материей. Это имеет свою причину в том, что
каждая материя допускает только определенный род
формирования, в котором может быть выражено только
определенное содержание, то есть доведено до "явления".
Задний план художественного произведения не
определяется передним планом, скорее второй определяется
первым; но "род" возможного формирования переднего
плана все же предписывает границы формирования заднего
плана. При этом он делает известный отбор материалов
(тем) и полностью - оформления материала. Выбор
распространяется, следовательно, на то, что, собственно,
может быть изображено.
От этого косвенно зависит также особый род
эстетической ценности, которую может иметь созданное
произведение. Ведь бытие красоты лежит в способе явления.
б. Расслоение в художественном произведении
пластики
На греческой скульптуре периода ее расцвета можно
проследить всю проблематику расслоения. В стоящей
"124 Часть первая. Отношение проявления
фигуре Аполлона не дано прямо ничего чувственного,
кроме поверхности туловища в мгновенной позе: левая
рука поднята, правая опущена, голова наклонена в
сторону в направлении поднятой руки. Облеченный в форму
мрамор стоит тихо, он не двигается, не живет, тем не
менее он выразил нечто определенное. И все же мы видим
гораздо больше, чем это, когда мы стоим перед ним,
погрузившись в художественное созерцание. Мы видим
движение, видим жизнь в этом человеческом теле, видим
действие, которое, хотя уже и совершено, все еще
выражается в позе: "издалека попадающий" послал свою
стрелу, напряженная левая рука еще держит лук, взгляд
следует в направлении выстрела. Здесь, следовательно,
изображено и передано нечто совсем другое по
сравнению с тем, что может сделать видимым простое
облечение в форму материи: полное действие выстрела,
пульсирующая живость фигуры, динамика действия и его
разрядка; в дополнение к этому - превосходная осанка
божественности, ее серьезность и ее исполненная
могущества свобода.
Так обстоит дело всюду в пластике, безразлично, какая
фаза движения показана. У метателя диска тело схвачено
в момент высшего напряжения - в момент поворота для
броска, и только внешняя форма этого мгновения
запечатлена в камне. Но созерцающему в этом является все
происшествие с его динамикой, включая полет диска в
палестре. То же самое происходит и у борцов и у
танцующего сатира, даже у "Давида" Микельанджело, где показано
спокойное, точно рассчитанное положение тела перед
броском. Всегда осязается противоположность слоев:
тихо стоящий реальный образ и движение являющегося.
Конь Каллеони тихо стоит на своем цоколе, и в то же
время он шагает; мы видим неподвижное стояние и видим
шагание; одно не мешает другому, не противоречит ему,
напротив, только одна делает видимым другое.
Как это возможно? Как может "являться" движущееся
и живое в неподвижном и неживом? Мы так привыкли к
этому явлению, оно так легко совершается в нашем
эстетическом созерцании, что мы едва обращаем на это
внимание. Но загадка этим только прикрыта, но не решена,
ибо при этом остается то, что вообще реально
существует только облеченный в форму камень в своей
неподвижности, а также и то, что движение, жизнь и полное
чувственности выполнение действия содержатся в
ирреальном. Но остается также признать, что движение, жизнь
Раздел II. Структура эстетического предмета *| 25
и выполнение действия представляются в полной
конкретности, следовательно, даны в их виде и не в коем
случае, не должны быть сначала примыслены,
скомбинированы или открыты. И к этому следует добавить, что
созерцающий и то и другое, хотя и видит их соединенными
воедино, все же ясно различает и ни в коем случае их не
смешивает, не стирает границу между реальным и являющимся.
Ведь не одному наблюдателю не придет на ум считать
бронзу движущейся, камень одушевленным или
заговорить с изображаемым лицом, как с живым собратом.
Отношение обоих разнородных слоев основано не на
обмане, а как раз на сознании, сопровождающем явление
как таковое. И здесь в сущности пластического
художественного произведения можно с полной ясностью и
рассудительностью насчитать четыре момента отношения
явлений: 1) материально-реальный передний план с чисто
пространственной формой, 2) ирреальный задний план,
являющийся в такой же конкретности, но без иллюзии
реальности, 3) тесная связь последнего с первым для
созерцающего, 4) сохранение противоположности способов
бытия в созерцании без освобождения от связи и без
снижения конкретности в ирреальном.
Отсюда становится очевидной содействующая роль
созерцателя при построении эстетического предмета:
хотя задний план "является" "в" переднем плане, но это
возможно только для художественно адекватного
созерцателя. Только "для" него прозрачен неподвижный
материальный передний план. Эта прозрачность пространственной
формы для него является, очевидно, самым коренным в
отношении явлений, тем, на чем зиждется все
художественное произведение, ради чего пространственная
форма в ее безжизненной неподвижности придается
каменному материалу. Но без проникновения созерцателя
внутрь она совершенно не может иметь места. Без
участия созерцающего не бывает и эстетического предмета.
Но есть между тем еще многое, что является в
пластике. Рассудите: вылитый из бронзы всадник на своем
"шагающем" коне стоит на цоколе, является движение,
совершающееся при верховой езде, но оно совершенно не
может иметь места как на цоколе, так и в явлении; грубо
выражаясь, всадник совсем не представляется как бы
едущим верхом на цоколе, и тем не менее это не
представляется чем-то бессмысленным. Всадник едет по
равнине, по полю; но поля нет, значит, оно должно появиться.
Следовательно, является другое пространство, в котором
126 Часть первая. Отношение проявления
едет верхом Каллеони, также ирреальное пространство,
которое не покрывается реальным пространством, в
котором стоит статуя. И наблюдатель, которому он является,
не смешивает его с пространством, в котором он стоит и
взирает на статую. Реальное и являющееся пространство
мешают друг другу так же мало, как статическая форма
бронзы мешает движению, совершающемуся при
верховой езде.
То же самое имеет место в изображении борцов,
олимпийского Апполона, дискобола. Особенно хорошо это
можно видеть у последнего. Бросок и вместе с ним фаза
движения бросающего бессмысленны, если их отнести к
пространству музея, в котором стоит фигура. Бросок
требует далекого пространства, он нуждается в палестре; да,
он - принадлежность палестры. Следовательно, палестра
является вместе с ним. В ирреальном слое бытия
художественного произведения, таким образом, есть не только
движение и жизнь являющегося, но и особое
пространство, которое принадлежит им; и, может быть, можно
сказать, что вместе с ними является целый кусок того мира,
от которого гимнастическая жизнь античной атлетики
неотделима.
А теперь нужно подвести итог и сделать вывод: лишь
постольку, поскольку движение, жизнь, ирреальное
пространство - отрезок целого мира с его механизмом -
является в молчаливо-каменной форме материи, то мы
можем назвать ее пластическую форму художественным
произведением. Основываясь на этом явлении, мы
смотрим на произведения пластики, стоим сосредоточенными
и потрясенными перед ними, погруженными в
являющийся мир. И опять-таки лишь постольку, поскольку мы
сохраняем, погрузившись в этот мир, ясное сознание
переднего плана, каменной формы как таковой и вместе с ней
переживаем явление таким, каким оно есть, как чистое
явление, лишь постольку мы являемся эстетически
созерцающими. И лишь поскольку мы являемся таковыми,
эстетический предмет существует для нас как целый. Но другого
наличного бытия, кроме как это бытие для нас, он в своей
целости не имеет.
Выше поставленный вопрос состоял в следующем: как
возможно, чтобы движение и жизнь являлись в
неподвижном и безжизненном образе? Теперь его можно если не
разрешить, то все же подвинуться на шаг ближе к
решению. Наше видение приспособлено в жизни к восприятию
подвижных предметов, подвижных членов и фигур; мы и в
Раздел II. Структура эстетического предмета "| 27
жизни воспринимаем живость, хотя она и невидима.
Пластика пользуется этим, когда она преподносит
чувственному видению фазу движения неподвижно
покоящейся в статической пространственной форме. Мы,
созерцающие, знаем ее в собственной жизни, но мы
знаем ее не как неподвижную, а лишь как фазу движения,
видим постоянно часть самого движения.
Следовательно, когда мы наблюдаем, чувственно созерцая фазу
движения, то одновременно внутренне мы видим при этом
все движение или по крайней мере часть его - танец,
бросок, верховую езду. И таким образом мы бываем
втянуты при созерцании в являющийся мир подвижного,
живого, человеческого.
По крайней мере так бывает, когда в оформлении
камня пластически и жизненно правдоподобно схватывается
и закрепляется фаза движения. Только тогда она заметна
наблюдению как таковая. Мы говорим тогда о
пластическом произведении: "Оно убедительно". Но мы
подразумеваем под этим, собственно, силу передачи. Мы только не
знаем, что она есть то, что мы подразумеваем. Ибо она
выявляет себя для нас только в радости созерцания. И все
же мы чувствуем расстояние между являющимся
движением и неподвижной формой материи. Поэтому мы
сохраняем сознание чувственно материального как такового.
Но обратная сторона этого сознания есть понимание
ирреальности являющегося и художественного выполнения
в пластике. Это понимание так же нерефлективно, как
сами радость и созерцание. Оно их непосредственно
сопровождает.
Если подумать, что жизненная правда
зафиксированной фазы является главным условием созерцания и
явления, то станет понятным, что при данной адекватной
позиции созерцающего все дальнейшее до самых высших
ступеней явления зависит от ясной формы материального
реального образа. Поэтому в этой форме все, до
технических частностей выполнения, художественно
существенно.
е. Рисование и живопись
Когда я стою перед голландским морским пейзажем и
мой взгляд теряется в дали, подобно тому как это
происходит на действительном морском побережье, то мне
вовсе не приходит на ум, что море со своим прибоем
действительно здесь и мне нужно сделать только
несколько шагов, чтобы мои ноги окатила волна. Картина вовсе не
128 Часть первая. Отношение проявления
рассчитана на то, чтобы ввести в подобное заблуждение.
Она не вызывает иллюзию реальности даже при самой
высшей степени реалистического изображения. То, что
она действительно дает, есть нечто совсем другое: не то,
что изображено, но "картину" изображенного.
Здесь также нужно ясно различать два главных слоя;
они здесь еще более разнородны, чем в пластике, не
похожи один на другой, и поэтому мы разделяем их более
свободно. Реальному образу здесь принадлежит только
полотно с пятнами красок - а если речь идет о рисовании,
то бумага и штрихи, - но виден будет ландшафт, сцена,
человек, кусок жизни. Все это принадлежит заднему плану и
совершенно ирреально; самим наблюдателем это также
не принимается за реальное.
Художник вообще может прямо сформировать только
этот реальный образ, а все дальнейшее - только косвенно,
заставляя его являться через оформление переднего
плана. Но он может так преподнести штрихи и пятна красок,
что в них является вся полнота заднего плана - нередко,
вплоть до того, что в принципе лишено видимости
(человеческая жизнь и характеры).
Большая разнородность слоев проявляется в
живописи (и рисовании) уже в двойной измеримости плоскости
картины, потому что она, в сущности, принадлежит
"картине", в то время как являющийся задний план имеет
трехмерную протяженность вещественной телесности.
Первое и наибольшее достижение есть, таким образом,
уже явление глубины пространства, в которую мы
смотрим. Главным рисовальным средством для этого является
воспроизведение перспективы, • которая хотя и
существует все время при повседневном видении предметов, но
остается незамеченной, потому что она почти совсем де-
зобъективирована. Действие рисования начинается тем,
что оно делается предметным. Художественных средств
для передачи глубины пространства существует еще
больше.
Между тем самым существенным является то, что эти
средства не исчезают в предметности являющегося
заднего плана, а остаются сами видимыми и действуют как
достижение искусства, так же как не исчезает, но все
время остается видимой для художественного созерцания
двумерная плоскость картины. Если бы она совсем
исчезла, то картина не могла бы действовать, как картина.
Здесь то же самое отношение, как в пластике, только
немного измененное; там это была застывшая в неподвиж-
Раздел II. Структура эстетического предмета 129
ности фаза движения в сформированном камне, которая
еще видима в явлении движения. Здесь, как и там,
реальный передний план как таковой остается предметным.
Из этого следует дальше, что "пространство на
картине", в которое мы заглядываем, есть полностью лишь
являющееся пространство. Поэтому оно ясно отличается от
реального пространства, "в" котором оно является, то
есть от того пространства, в котором висит картина и
перед ней стоит созерцатель, следовательно, от комнаты с
ее стенами или от зала музея. Никто из тех, кто стоит
перед картиной с морским пейзажем, не воображает, что
море реально существует за стеной, на которой висит
картина, хотя восприятие глубины пространства при
созерцании должно быть близким к настоящему
восприятию. Это для нас настолько само собой разумеется, что
уже разговор о такой иллюзии смешит. Но ведь само
собой разумеющимся здесь, как часто в жизни, является
удивительное. Ибо это возможно только благодаря тому,
что при взгляде на произведение живописи являющееся
пространство никогда не смешивается с данным
реальным пространством или также никогда не видится лишь
вместе с ним, но ощущается как другое.
Это тем более бросается в глаза, что являющаяся про-
странственность не совсем независима от реальной.
"Пространство на картине" только тогда является
правильно, когда наблюдатель занимает правильное
реально-пространственное положение по отношению к
реальной плоскости картины, то есть когда он стоит на
необходимом расстоянии от нее и правильно (по правилу
"центра") сориентируется по отношению к ней, иначе
пространственный порядок в картине представляется
искаженным. Он, правда, и при искажении остается другим
порядком по сравнению с реальным, но само искажение
зависит от последнего.
Однако в каждом случае является "другое
пространство" со своим предметным выполнением; оно является
не вложенным в реальное пространство, а выделенным из
него, освобожденным, без смешения с ним и без
настоящего перехода. Это тот же самый феномен, как и в
пластике, в фигурах которой является и другое пространство.
Только это выделение здесь гораздо более осязаемо и
более ясно. Эта ясность дана тем, что явление ирреального
пространства опосредовано через двумерную,
следовательно, совершенно с ним разнородную плоскость
картины. Ведь плоскость картины смотрится сознательно и,
130 Часть первая. Отношение проявления
следовательно, также дана предметно. У пластической
фигуры, напротив, пространственность "стоящей" фигуры
того же самого (трехмерного) рода, как и у являющейся.
В известном смысле можно сказать: мы смотрим
через плоскость картины в являющееся пространство, в
ландшафт, в интерьер. Эта плоскость имеет для
эстетического созерцания особенную "прозрачность"
вещественного переднего плана для явления глубины
пространства, ландшафта, пространственного расположения. Но
взгляд внутрь, как и прозрачность, все же должен быть
понимаем только метафорически, так как ведь мы не
смотрим через картину, как через какое-то отверстие, и
являющееся ведь не "просвечивает", как сквозь матовое стекло,
и то и другое означало бы смешение реального
пространства и являющегося пространства. Напротив,
прозрачность есть только картина для передачи, однако
проникновение внутрь вообще нужно понимать
непространственно - в том смысле, как человеку смотрят в душу
через мимику лица.
Второй момент, который разделяет слои, - это свет.
Чувственная наглядность, в которой являются
изображаемые предметы, покоится, по существу, на противоречии
света и тени, и сами тона красок оттеняются светом. Ибо
свет и цвет дополняют друг друга.
Но "свет в картине", который падает на изображаемые
вещи и оттеняет их, не есть тот же самый свет, который в
окружающем реальном пространстве падает из окна или с
потолка на картину. Таким образом, нужно различать
реальный свет и свет, являющийся в картине, подобно тому
как мы различаем реальное пространство и являющееся
пространство. Свет, являющийся в картине, может быть
канализированным светом (как у Рембрандта), может
быть плотным солнечным светом, светом факелов,
рассеянными сумерками, и в соответствии с этим
изображенные вещи и предметы являются в определяемых этим
светом тонах ясно очерченными, расплывающимися или
лишь едва обозначаемыми пятнами света и тени. К этому
можно прибавить, что свет в картине имеет свой
собственный световой источник, который не совпадает с
реальным световым источником; он не нуждается в том,
чтобы быть видимым в картине, он все же ясно выдает
себя через игру света и тени на предметах в картине, и ему
не нужно быть похожим на реальный световой источник,
который освещает картину.
Раздел II. Структура эстетического предмета *| 31
Только в одном отношении существует здесь
зависимость являющегося света от реального света: последний
есть условие явления для первого. Если реальный свет
совсем не падает на картину, то исчезает и свет в
картине; если он делается слишком слабым или
неблагоприятным (так что на полотне выступают глянцевые блики),
то свет в картине искажается. Но и в этой зависимости
являющийся свет остается другим, чем реальный. Он
сохраняет свою самостоятельность соответственно
законам расслоения.
Очевидно, здесь существует отношение зависимости,
похожее на зависимость между реальным пространством
и являющимся пространством. Но и самостоятельность
являющегося света по отношению к реальному та же
самая, что и самостоятельность являющегося пространства
по отношению к реальному пространственному
положению наблюдателя.
То же самое, что было сделано по отношению к
пространству и свету, можно было бы осуществить по
отношению ко всему разнообразию являющихся предметов. Но
от этого нужно здесь отказаться, потому что, с одной
стороны, тождественность картины целиком зависит,
очевидно, от явления вещей, как и от явления их пространствен-
ности и света, в лучах которого они стоят; с другой
стороны, потому, что в картине может явиться еще гораздо
больше, чем она сама, так что ирреальный задний план
раскрывается дальше. Об этом еще нужно будет сказать в
другой связи. Пока же речь идет только об отношении
реального слоя и явления вообще; и это отношение в
произведении художника (или рисовальщика) вполне
достаточно ощутимо в моментах света и пространства. Это есть
именно руководящие моменты для визуального явления.
В дополнение к сказанному заметим здесь еще одно.
Извлечение заднего плана из реальной связи в таком
ясном искусстве, как живопись, уже само по себе является
феноменом особого веса. Ведь это то же самое видение,
которое воспринимает и реальные и являющиеся вещи,
и в зависимости от рода в той же самой трехмерной
пространствен-ности, в той же самой перспективе, в том
же самом пластическом действии света и тени - в той же
самой пестроте красок. В этом ведь также коренится
непреходящий момент "подражания" (мимезис),
которое свойственно каждой живописи, даже если она уже
очень переросла его.
132 Часть первая. Отношение проявления
Извлечение в живописи нуждается поэтому во
внешнем подчеркивании, в усилении выделения как такового.
Это достигается подчеркиванием границ картины при
помощи приметной и бросающейся в глаза рамы. При этом
не обязательно нужна золоченая деревянная рама, так как
по-своему эту роль выполняет окантовка рисунка белой
бумагой. Действие рамы, если оно всегда будет
достигаться, очень существенно и является родом пробы для
отношения явлений в созданном произведении: рама
выдвигает не только являющееся содержание картины,
которое как раз приравнивается к видимому реально-
предметному, - она отделяет являющееся как таковое от
действительного как такового. Можно даже сказать и так:
явление - от реального бытия, бытие для нас - от бытия в
себе.
Поэтому феномен рамы в живописи является не
внешним, а существенным. Он служит отделению от
реальности, он противодействует нехудожественной иллюзии. Он
дает также возможность ясно выделить изображенные
фигуры или сцены из реальности, как позволяет отделить
являющийся свет от реального. Без отделения от
ощущаемой реальности картина не может быть художественным
произведением. Если умышленно стереть все
отграничивающее от окружающего мира вещей, что может быть
достигнуто приблизительно благодаря известным
эффектам освещения (можно бы указать на действие кулис
реалистической сцены), то это действует еще только как
замена реальности.
Обрамление - самое простое средство
противодействовать такому фетишизму вещей. Живопись имеет для
этого еще и другие средства. Самым известным
средством является, пожалуй, отбор: художник не
воспроизводит без отбора все видимые им детали, хотя его искусство
существенно зависит от деталей. Он дает только то, что
соответствует изображению и способу видения
наблюдателя, что, таким образом, втягивает его в определенный
род созерцания.
Ибо всякое видение является отбирающим. Здесь
нужно бы вспомнить о способности поля восприятия в
жизни давать блаженство; дающие блаженство моменты
суть практические направления интересов и в конце
концов практические точки зрения на ценность. Выбор
художественного видения направлен иначе; здесь
определяющая ценность заключается в явлении того, что видит
художник и чего человек в обыденной жизни не видит или
Раздел II. Структура эстетического предмета 133
видит только несовершенно. Это относится ко всему
вплоть до самых последних частностей рисования или
красок. Картина может ограничиться при известных
обстоятельствах несколькими штрихами или экономными
пятнами краски. Она может как раз благодаря этому быть
направленной на что-то определенное, что должно
явиться и отвлечь от всего остального. Так видеть, следовать
ему - значит понимать художника; это значит научиться
самому видеть так, как видит он, и это не только при взгляде
на его произведение, но также самостоятельно в жизни.
Действие выбора также есть отделение от реальности.
Оно также позволяет проявиться дистанции между
являющимся и реальным. Оно также вызывает отношение
явлений как таковое в сознании созерцающего.
г. Основное отношение в поэзии
Поэтическое искусство подобно пластическому
искусству в том, что оно также является изобразительным
искусством, имеет сюжет и начинает с подражания реальному.
"Но пластическим" в узком смысле оно не является,
потому что оно не прямо оформляет свои темы в материю, в
которой они потом могли бы явиться чувственно, а
избирает обходный путь при помощи слова и посредством
него обращается к фантазии читателя или слушателя.
Этой дистанции по отношению к видимому
соответствует другой круг тем, и очень большой в своей
совокупности. Он охватывает всю жизнь человека. В нем
доминируют душевно-духовные вещи. Но материя, в которой
работает это искусство, не только иная, но даже совсем
другого рода, чем материя пластических искусств, - и совсем
другой силы. Это не данная природой материя, а
образованная человеком: язык, слово, письмо. О том, что язык и
письмо имеют характер объективации, основываются на
символических системах и принципе сочетания, уже шла
речь выше. В поэзии слово становится материалом для
образования высшей формы и в литературных образах
последняя закрепляется, получает прочность, силу
сопротивления, длительность. Благодаря этому поэзия как
творение приближается скорее к объективациям внехудоже-
ственного рода, к большой области духовных творений,
которые можно охватить названием "литература". Ибо
никакая резкая граница не отделяет прозаическое
литературное произведение от поэтического произведения; это
можно видеть и по искусству рассказывания древнейших
историков, и по библейским рассказам, и по сагам север-
"134 Часть первая. Отношение проявления
ных стран, и точно так же по поэтической форме
изложения концепции чисто абстрактного блага в философии до-
сократиков.
Стих при этом, конечно, есть только украшение речи,
всецело принадлежащее чувственному переднему плану,
слышимому. Но он существен как оформление: он крепко
держит слушателя на переднем плане, препятствует ему
как бы полностью преодолеть его и без помех
погрузиться в глубину являющегося заднего плана. Поэтому стих
как внешняя форма речи может стать доминирующим. Это
очень дает себя знать в лирике. Здесь происходит нечто
удивительное: оформление простирается через речевое
звучание на то, что высказано в речи, ложится, как
блестящая искра от свечей, на значение слов, специализируя и
интенсифицируя его. Хотя оно исходит от внешнего и по
существу ему одному принадлежащего, оно служит
внутреннему и самому внутреннему, которое является в слове,
образует задний план, который изображается, и таким
образом само является существенным моментом
изображения. Так звуковая форма речи может в благоприятном
случае доводить его до конца, дать как раз то - и именно дать
конкретно ощутимо, - что обычное слово в своем
конвенциональном значении (которое всегда есть всеобщее) не
в состоянии дать.
Как это происходит, является, конечно, вопросом,
который эстетический анализ не может разрешить до конца.
Но феномен не вызывает вопроса.
Согласно основному феномену, противоположность
слоев поэзии есть нечто всем известное. Никто не
спутает букву с духом. Слово может быть услышано и
прочитано, но построение слов является реальным образом
поэтического произведения. То, что оно выражает, есть нечто
совсем другое: внутреннее понятие человеческих вещей -
судьбы и страсти, сами действующие фигуры, лица и
характеры. Все это есть задний план, только лишь явление.
Очень наивный читатель (особенно в детском
возрасте) будет, пожалуй, принимать рассказанное за
"действительно" случившееся", и потом, может быть, будет
соответственно этому волноваться. Такой читатель читает не
согласно поэзии, не конгениально, не в смысле
эстетического созерцания; он наслаждается, может быть,
напряженностью, сенсационностью содержания, но не
произведением поэзии как таковым.
Материал речи подвергается здесь как бы переоценке.
Естественная точка зрения принимает высказанное за
Раздел II. Структура эстетического предмета 135
правду, ибо в этом смысл речи - сказать то, что есть, или
то, что было. Речь, не отражающую правду, она
принимает за извращение этого истинного смысла, за ложь или по
крайней мере за невинную выдумку. В поэзии, напротив,
выступает смысл речи, который стоит в стороне от правды
или неправды, не касается этого противоречия и, во
всяком случае, не является ни нравственным
свидетельством, ни отречением от реального. Этот смысл речи есть
явление ради него самого, "фантазирование", настоящее
"сочинение". В реальном образе слова, в звуке при этом
ничего не меняется - возможно только то, что его
употребление делается свободнее, - но смысл речи меняется. Он
относится к обыденной речи так, как сон относится к
действительности.
Но в этом он похож на образование пространства в
пластике и магию красок в произведении живописи, он не
симулирует реальность и не стремится создать иллюзию.
Поэтому поэт пользуется также известными средствами
отделения от реальности. Его "стихотворная речь" есть
только одно из этих средств; имеется множество
стилизаций речи, которые ставят в известные границы претензию
на реальность.
Эффект в том, что слово, служа обычно трезвым
практическим интересам, становится способным к
оформлению другого порядка. И только благодаря этому
оно получает высокую прозрачность, что приводит к
обнаружению того, что в жизни обычно в словах не
выражается. Такая повышенная прозрачность возможна только
при индифферентном отношении к буквально взятым
истине и неистине.
Это существенно также там, где поэзия заимствует
свой материал из реальности. Использование,
преобразование остаются у поэта в силе. Знают об ирреальности
являющейся человеческой жизни, поступков, действий и
судеб и признают их за действительные, предоставляют
тому, что формирует материю, свободу распоряжения
ими. Только так получает он необходимый простор для
движения.
Противоположность реального и ирреального в
отношении к слоям предмета еще более усиливается в
произведениях поэзии по сравнению с первоначальным
практическим смыслом речи. Она не ограничивается
поверхностным различием звука и значения, которое свойственно
каждой речи, но выходит далеко за пределы этого. Она
136 Часть первая. Отношение проявления
становится родом разгрузки слова от его первоначальных
функций свидетельствовать о действительности.
В этой разгрузке содержится свобода игры в поэзии,
так же как и специфически художественные достижения
слова. Извлечение являющегося заднего плана из
реальной связи также возвращается в поэтическое
произведение. Оно более осязаемо в содержании речи, чем в
живописи, даже без видимого феномена рамы. Поэзия дает
возможность целой человеческой жизни явиться перед
нашим внутренним взором; мы можем вжиться в
являющийся мир, прожить с выступающими лицами известный
отрезок жизни. Мы видим, как люди действуют и
страдают, и сами живем вместе с ними, совсем так, как мы это
делаем в реальной жизни.
Но это не есть настоящая, действительная жизнь, в
которой мы это делаем, но другая, являющаяся жизнь,
сочиненная при помощи фантазии и облеченная в фабулу.
Поэтому она не нуждается в том, чтобы быть менее
значительной, но гораздо чаще даже превосходит настоящую
реальную жизнь по заключенному в ней смыслу. В
"большом" сочинении это превосходство является как раз
самым существенным; но отношение явления из-за этого не
возвращается обратно в привычное для нас реальное
отношение, реальность не симулируется. Это бывает также
и тогда, когда темы актуальны и почерпнуты из жизненной
проблематики современности.
Способ бытия заднего плана со всем его пестрым
содержанием есть и остается витающим, то есть
являющимся, и фигуры, которые поэт показывает, нигде не
"существуют", кроме как в поэзии. Поэтому часть жизни, которая
там является, изолирована, отделена от реальной жизни,
как в живописи это делается феноменом обрамления;
только здесь этот феномен неосязаем предметно, но
содержится в различии бытия слова и образов. Ибо, не
минуя слово, но только через его данность смотрим мы
внутрь являющейся жизни.
И этому соответствует то, что эта часть жизни
существует, будучи твердо ограниченной, замкнутой в себя,
представляя собой жизненное единство с осязаемым
строением и осязаемой для созерцания целостностью;
это та часть, которая не переливается в окружающую нас
жизнь и ясно от нее отделяется. Да, здесь также есть
другое пространство, в котором является эта часть жизни, и
другое время; ибо поэзия, по существу, - это искусство
времени. Фигуры, судьбы, действия и страсти "разыгры-
Раздел II. Структура эстетического предмета *|37
ваютсям в являющемся пространстве и в являющемся
времени. Мы "переносимся" при чтении, слушании или
"смотрении" в другое пространство и в другое время, и
мы не смешиваем их с реальным "здесь" и "теперь",
находясь в котором мы читаем и слушаем.
Это бывает даже тогда, когда стихотворный материал
взят из действительного настоящего и из
действительного жизненного пространства. Это все-таки необитаемая
земля, явление, "мир поэта", в котором "разыгрываются"
события. И, наоборот, как раз к силе поэзии относится то,
что она может заставить явиться другую человеческую
жизнь из исторически прошедшего времени в конкретной
форме настоящего и переживаемого. Мы смотрим как бы
через раму написанного слова в чужую и реально больше
не переживаемую жизнь.
д. Предметный промежуточный слой
в произведении поэзии
Но в одном пункте искусство поэзии сильно
отличается от изобразительных искусств. Последние обращаются
прямо к чувствам, и слой бытия переднего плана, через
который является задний план, есть реальное и
воспринимаемое. В поэзии это не так, по крайней мере не
непосредственно. Здесь хотя и есть реальный слой, но он
недостаточен. Реально и чувственно дано только слово,
соответственно письмо, и явление также фактически исходит
отсюда. Но все же образы, их характеры, действия и судьбы
являются не прямо в слове, но еще через посредство
чего-то другого, можно сказать: через промежуточный слой.
Имея это в виду, нужно внести здесь коррективы в
данные вначале определения отношения явлений. Он,
правда, ни в коем случае не отменяет основное отношение, но
модифицирует его. В чем, следовательно, состоит
особенность явления в поэзии?
Ответ на это вернее всего находится в следующем
рассуждении. Поэт редко говорит прямо о духовном, о
котором у него идет речь, о внутреннем мире лиц, которых
он изображает. Он охотнее придерживается, прежде
всего, внешнего, того, что в жизни представляется чувством,
жеста, речи, движения людей и их видимого действия или
реагирования; он показывает человека так, как мы его
воспринимали бы в повседневности, в его внешнем виде,
вольном и невольном. Этим он достигает того, что образ
становится для нас наглядным. Но эти внешние частности
не есть настоящее в являющейся человеческой жизни;
138 Часть первая. Отношение проявления
они не исчерпывают происходящего внутри, человеческих
действий и страданий, намерений, решений, удач и
неудач, тем более настроений, страстей и судеб. Но о них, в
сущности, и идет речь.
Почему поэтическое слово не говорит прямо об этих
вещах? В повседневной жизни мы делаем это часто, когда
говорим кому-нибудь о третьих лицах. На это есть
простой ответ: потому что слово в прямом разговоре о
духовных вещах абстрактно и беспомощно и говорит только о
всеобщем. Высказывание становится отвлеченным и не
наглядным. Но для поэзии важно конкретное и наглядное.
Только наглядное действует непосредственно и
убедительно. Поэтому поэзия пытается привнести его так,
чтобы мы во внешнем поведении лиц "видели" их внутреннее,
подобно тому как в жизни мы видим в живущих с нами
людях их настроения, волнения, страсти, без того, чтобы они
об этом говорили. Ведь каждый человек постоянно
раскрывает себя в видимом действии или в слышимой речи,
безразлично, о чем бы он ни говорил. Он делает это
помимо своего желания, он "выдает себя". Это использует
поэзия: она заставляет своих лиц раскрывать себя,
выдавать себя, она показывает их в меняющихся ситуациях и
заставляет их самих характеризовать себя своими
действиями. То, чего она этим достигает, не есть, однако,
пластика этих их действий, но пластика их
духовно-внутреннего, их опасений и надежд, их страха, их недоверия
или чего бы то ни было еще.
Поэт, подобно психологу, не говорит об этих вещах, он
не препарирует духовную жизнь на столе, не анализирует
ее. На месте строго определенных понятий выступают
конкретные картины из жизни, сцены, которые он
показывает, ситуации, в которых он дает возможность
показываться лицам. Отвлеченные абстракции он призывает на
помощь только очень редко. Тот», кто долгое время
говорит, пользуясь ими, - не поэт.
Так возникает в поэзии своеобразный промежуточный
слой, который хотя и является ирреальным, как и
настоящий задний план, и, строго говоря, также к нему
принадлежит, но все же по роду чувственного непосредственно
нагляден, хотя он и не обращается к самим чувствам, а
только к фантазии. Он заставляет образ персонажа
возникать конкретно в представлении, образуя тем самым род
второго переднего плана, который для всего дальнейшего
играет роль чувственной данности, потому что поэтичес-
Раздел II. Структура эстетического предмета *|39
кое изображение нуждается именно в таком
промежуточном члене.
Нет ничего меньшего, чем слой являющегося
воспринимаемого. Он проявляется потому, что его ощутимость
не действительна. Фактически же он вызывается только
через реальный слой слова, но создается не им одним, а
само-деятельно-репродуктивно вызывается фантазией.
И именно поэтому он принадлежит к являющемуся
заднему плану. Но, согласно его функции, он причисляется к
переднему плану; он воспринимается слушающим или
читающим как ему принадлежащий, хотя это по его способу
бытия совершенно невозможно. Все же он все еще тесно
связан со словом, и крепость этой связи дана в твердом
сочетании звука и смысла слова; крепость этой связи
ослабляется только там, где читающий не владеет свободно
языком. В то время как слово непосредственно говорит о
предметном разнообразии этого промежуточного слоя,
происходит чудо, в фантазии возникает целый мир вещей,
лиц и событий, которые имеют конкретную ощутимость
без восприятия их. Это наглядно предметное
разнообразие есть царство являющейся ощутимости.
Для поэзии этот промежуточный слой существен,
если даже его конкретность - смотря по художественным
возможностям поэта - может иметь различную степень и
иногда даже быть сокращенной до минимума. Там, где
она совсем исчезает, поэзия переходит в прозаическое
изложение и речь становится отвлеченной, трезвой,
абстрактной. Но функция являющейся ощутимости этим
не исчерпана. Она состоит скорее в том, что позволяет
явиться неощутимому, духовной и душевной жизни с ее
запутанностью, ситуациями, конфликтами и т. д. -
совсем так, как в живописи заставляет это явиться видимый
цвет на полотне. м ,
Это - ррределенный недостаток поэзии по сравнению
с изобразительными искусствами, именно то, что она не
может непосредственно обратиться к восприятию, по
крайней мере к восприятию в предметной пестрой
полноте, с помощью которой она "оживляет жизнь в жизни" и
должна включить заменительный слой, в котором
представление выдвигается на место восприятия, потому что
действительно реальный передний план произведения
поэзии, видимые письмена и само слышимое слово,
остается все же бледным, схематичным и абстрактным.
Этот недостаток, правда, частично возмещается тем,
что вызванная к самодеятельности фантазия читающего в
"140 Часть первая. Отношение проявления
некотором роде богаче, чем восприятие, и в значительно
более широких границах имеет свободу движения.
Отступление чувственно-конкретного слоя переднего плана в
ирреальность просто являющегося (значит, по сути дела,
в задний план) приобретает тем самым преимущество
большей свободы перехода и разнообразия. В поэзии
искусство отходит на один шаг от подражания.
Правда, оболочка абстрактности в речи, образующая
единственно реальный передний план, никогда не может
быть уничтожена полностью. Слова, во-первых, есть и
остаются понятиями, а понятие действует ненаглядно и
нехудожественно, хотя бы и было правдой то, что
первоначальное в нем есть нечто наглядно образное.
Первоначальное является в избитом средстве понимания как раз
давно забытым и исчезнувшим. Но ирреальный передний
план нуждается как раз в наглядности (речь идет о
промежуточном слое). Этой неадекватности может помочь
художественная форма речи, которая разжижает
конвенциональный смысл слова, оживляет его, освобождает его от
его же прочной непрерывной подвижности
(Festgefahrenheit).
Для этого существуют различные средства, как и в
жизни, когда употребляют остроумную или же сильно
индивидуализированную, глубоко прочувствованную речь.
Часто это бывает особенное, единичное значение,
которое вкладывается в слово благодаря однажды
создавшейся связи слов; каждое слово гибко в своем значении.
Несмотря на устойчивое сочетание, на котором покоится
его функция средства понимания, и смысл его в
особенных нюансах меняется соответственно смыслу всей речи.
Имеется даже возможность восстановить
первоначальный и образный характер слова из его избитого значения.
Оба средства хорошо известны поэзии и часто
употребляются. Они создают своеобразную прозрачность
художественной речи. Но нужна особая сила оформления
поэтического выражения, чтобы поднять его над игрой и
сделать действительно выразительным.
е. Театральное представление
и искусство актера
Недостаток поэзии, о котором только что говорилось,
исправляется в драматическом искусстве, но только тем,
что здесь между настоящей поэзией и читателем
вмешиваются второе искусство и второй художник: искусство
театрального представления, искусство актера. Благода-
Раздел //. Структура эстетического предмета "141
ря этому промежуточный слой перемешается в область
реальности, отнимается у репродуцирующей фантазии и
вводится в действительную ощутимость. Ирреальный
"передний план" реализуется; предметный слой, в котором
поэтические образы движутся во времени и
пространстве, говорят, показывают свою мимику, - становится
видимым и слышимым, начинает непосредственно
переживаться. Читатель делается зрителем.
Этим многое меняется. Первое - это включение
интерпретирующего искусства между духовным творцом и
созерцающим наблюдателем произведения. Это искусство
второго порядка (что не должно быть понято в
принижающем смысле); оно стоит еще совсем близко к поэзии, но
все же относится к совершенно другому роду. Поэзия
становится зависимой от него и должна иметь его в виду,
считаться с ним (с возможностями сцены, игры, сценическим
действием). Она нуждается в актере, в режиссуре, в
целом реальном аппарате, нуждается в сцене, в рампе,
кулисах, короче говоря, в театре. Каждый поэт, тем более
начинающий, по себе знает, что значит эта зависимость:
он не может прямо обратиться к своей публике. Он
должен быть принят театром, следовательно, узнать сначала
строгую реакцию других специалистов, представленных
так называемыми драматургами.
Сущность второго состоит в том, что само поэтическое
произведение принимает другую форму явления.
Внешняя аппаратура сцены создает ограничение
своеобразного рода, родственное действию рамы в живописи. Поэзия
как "представленная на сцене" нуждается в усиленном
извлечении из реальной жизненной связи - и именно по
тому, что она делает поэтические образы видимыми, а их
речь слышимой. Сами "подмостки" действуют как
выделяющий фактор. Они не "есть" мир, они только "обозначают"
мир. Рампа является непереходимой границей; она
никогда не переступается, даже в спектакле.
Можно сказать, что отношение слоев в поэзии не
усложняется благодаря исполнению пьесы, а упрощается.
Только теперь, в соединении с возможностями сцены,
произведение поэзии становится в точную параллель к
произведению изобразительного искусства: оно больше
не зависит от фантазии наблюдателя (или читателя), но
обращается прямо к чувственному видению и слышанию.
Являющаяся видимость заменяется действительным
восприятием.
"142 Часть первая. Отношение проявления
И этим дается третье: произведение поэзии внутренне
зависит и от искусства актера. Ведь теперь реализация
промежуточного слоя является делом не поэта, а мимика.
Ему, представляющему, выпадают на долю все виды
чувственно воспринимаемых деталей. Он имеет свободу
выбора из бесчисленных единичностей невесомого рода.
Он приближается к соавтору произведения. Да, именно к
соавтору. Поэтому он далек от того, чтобы быть только
репродуцирующим художником. Он в своем роде и в
своих границах является также продуцирующим, творящим
художником.
Ведь поэт не может точно определить все
воспринимаемые детали действия так, как, например, художник
может дать деталь видимого до конца (в границах
желаемого выбора), для этого его материя - слово - слишком
хрупка. Он нуждается в родственном по духу выразителе,
который т?, что поэт оформил в речи, но именно поэтому
только наполовину оформленное, оформляет до конца,
целиком наполняет жизнью. Это может сделать только
актер, причем он присоединяет еще недостающую деталь,
но присоединяет по своему собственному усмотрению и
собственному спонтанному вчувствованию в дух поэзии (в
дух "роли"); но только тогда, когда он через включение
всей своей личности "играет", жестикулирует, делает
чувственным. Его персона делается инструментом, его
действия - медиумом для явления других изображаемых
лиц, увиденных и задуманных поэтом.
Это значит, что актер является "представляющим". И
это доказывает, что его исполнение "является настоящим
творческим искусством". Это яснее всего видно в
неудачном представлении; ведь не каждый, кто владеет
умеренным признанием, является художником. Мы говорим
тогда, что роль "не удалась", и думаем при этом, что
персонаж, увиденный поэтом, изображен неверно. Ведь именно
потому, что актер имеет свободу воплощения (в придании
формы, облика), он может также ошибиться. Только
большой актер является конгениальным. Он может изобразить
невесомую деталь в согласии с духом своей роли.
С другой стороны, как раз при высоком искусстве
представления становится видимой свобода творческого
изображения. Действительно, спектакль в каждом
последующем представлении становится другим. Понимание
актера меняется (соответственно - понимание
режиссера). И благодаря этому даже идентичность созданного
поэтом "произведения", которая в других искусствах так
Раздел II. Структура эстетического предмета *| 43
удивительно постоянна, здесь в известных границах
нарушается. Она расщепляется на ряд представлений. Но
самое замечательное то, что именно эта идентичность
произведения при этом ни в коем случае не исчезает, но за
различием представлений остается нетронутой и для
каждого знатока "вещи" несомненно существует.
Этому соответствует огромная разница в роде
объективации. Поэт и актер объективируют одни и те же
события, конфликты, страсти, судьбы и тех же самых лиц. Но
поэт формирует в слове только до полуконкретности; ведь
в эпосе, так же как и в романе, он зависит от
дополняющей фантазии читателя. Поэтому он формирует в
долговечном материале, потому что нет ничего более прочного,
чем письмо, которое может быть перепечатано и
размножено и без понимания смысла произведения, он
формирует как бы для "вечности". Актер формирует, изображая
лишь написанное и предоставленное фантазии, то есть
реализует то, что в нем можно реализовать; тем самым он
формирует наполовину оформленное, которое он
перенимает до конца, дает ему полную конкретность и
чувственную наглядность. Но он формирует в мимолетном
материале, в слышимой речи и в видимом движении, жестах,
мимике. А это есть самое преходящее из преходящего.
Одним словом, он формирует только для мгновения. Такова
уж судьба его представления, что оно не может
удержаться надолго. Конечно, в фильме сохраняется даже это
мимолетнее. Эту возможность, конечно, нельзя
недооценивать, потому что она является позднейшим достижением,
но при этом теряется что-то от живости сцены. Здесь
проявляется то, что мимолетность зависит не только от
одного материала; меняются также вкус и сила
убедительности представления, драматическое чувство времени
переменчиво, понимание ищет новые пути там, где старое
произведение поэзии все еще продолжает существовать
неизменным. Отдельное представление отступает назад как
раз потому, что детали до самого конца формируются
посредством все нового и нового представления.
Поэтому искусство актера есть и остается искусством
мгновения, и "потомки не плетут для него венки". Помимо
объяснений, которые он дает, произведение поэта
остается в своей "половинной" конкретности незыблемым и
предоставляет себя все новым интерпретациям. Поэтому
поэт является тем, кто сохраняется в памяти потомства.
Долговечность его имени является, как везде в искусстве,
"144 Часть первая. Отношение проявления
скорее долговечностью созданного им предмета,
следовательно, в конце концов долговечностью объективации.
ж. Реализация и уход от действительности
По поводу сказанного выше можно услышать такое
возражение, что в представлении актера в реальность
перетягивается все действие искусства поэзии,
превращаясь в действительное событие. Если бы это было так, то,
очевидно, не осталось бы больше простора для
ирреального заднего плана, который мог бы явиться в реальном; и
закон объективации вместе с отношением явлений и
условием бытия "прекрасного" - следовательно, вообще
эстетического предмета - отрицается.
Это возражение нужно разобрать. Оно совершенно
ошибочно. Во-первых, и при полнейшей реализации
действия оставалось бы еще очень много места для
идеального заднего плана. А, во-вторых, ведь здесь имеется
только частица того, что является в вещи, превращается в
реальность и благодаря этому включается в передний
план, а ни в коем случае не целое изображаемого
действия.
Действие не есть внешне видимое действие, его
существо лежит позади в невидимом. Настоящее действие,
"драма" как таковая остается в представлении как раз
ирреальной. Реально только высказанное слово, мимика и
некоторые движения лиц, жест, диалог, одним словом,
видимое и слышимое сцены. Сама "сцена", понятая как
часть действия, остается ирреальной. Действие
принадлежит как до, так и после к явлению, видимое и слышимое
есть только то, в чем и через что оно является. Оно само
развертывается в области душевных ситуаций и решений,
ненависти и любви, страданий и удач, судеб и того вида, в
котором они преподносятся.
Это, очевидно, другая область. Все это остается
совершенно недействительным. Оно вовсе и не должно
стать действительным. Актер не любит и не ненавидит, он
не страдает, и изображенная судьба не есть его судьба.
Все это только "является", "сыграно", представлено. И
поэтому произведение, изображенное на сцене, называется
"спектаклем", а художник как изобразитель - "актером".
В том же самом смысле и созданные поэтом
сценические персонажи - Валленштейн, Фауст, Ричард III - не
реальны, а только представлены, "сыграны". Реален живой
актер с его мимикой и речью, но никто в зрительном зале
Раздел II. Структура эстетического предмета 145
не спутает его с королями, героями или интриганами,
которых он играет.
Это как раз и есть решающее в актерской игре и
искусстве сцены, а именно то, что реализуются не сами лица,
не судьбы и поступки, то есть все то, чего, собственно,
касается дело. И как раз только таким образом создается
возможность того, что зритель оценивает искусство
актера, да и вообще замечает его. Если бы зритель принял за
реальное все то, что происходит на сцене, то для него
должно было бы совершенно исчезнуть то, что достигнуто
актером.
И что, возможно, еще важнее: если бы он принял
сыгранное действие за реальное, то ему было бы
невозможно спокойно сидеть при этом, наслаждаться видимым и
слышимым, быть свидетелем рафинированных интриг
или даже преднамеренных и непреднамеренных убийств,
а самому только глубоко душевно страдать. Сцена этим
вносила бы совершенно неправильное требование.
Смысл трагической игры должен был бы превратиться в
нравственную суровость, а смысл комической игры - в
бессердечность. Ни один театр не требует от зрителя
чего-либо такого. Все теории, которые говорят здесь об
"иллюзии", то есть о стремлении выдать представляемое за
реально происходящее, неправильны в самой своей
основе. Они действовали эстетически дезориентирующе и
смысл драматического действия прямо-таки отрицали.
Напротив, детское сознание, которое перед сценой
действительно впадает в иллюзию, не есть эстетическое
сознание.
В действительности дело обстоит как раз наоборот.
Само собой разумеющееся, сопровождающее все
видимое и слышимое знание о том, что действие на сцене
разыгрывается и что оно ирреально, есть необходимое
условие созерцательного эстетического наблюдения и
наслаждения. Все отношение можно видеть, исходя также из
"игры": из всего, что показывает сцена, реальна как раз
только сама игра. Разыгрываемое действие нереально и
не может быть принято за реальное, оно именно
"разыграно". Это придает представленному характер
невесомости. Действие же, со своей стороны, непременно
серьезно. Но серьезность сыграна. Только так возможно,
чтобы смысл игры мог быть важным и значительным, даже
возвышенным, без того, чтобы игра перестала быть
игрой. Благодаря этому игра на сцене радикально
отличается от игры ребенка. Последняя совершается, далеко захо-
146 Часть первая. Отношение проявления
дя в иллюзию: ребенок не сохраняет никакой дистанции к
разыгрываемому, он полностью углубляется в него.
Ясное подтверждение этого отношения мы имеем в
необходимости ограничения реализма при помощи всей
сценической и театральной техники. Древние имели для
этого длинные песнопения и процессии между
"эпизодами", хор, который, сопровождая игру, действовал
недраматически, стихотворный диалог. Они изгоняли все
насильственное и ужасное со сцены, предоставляя ему
возможность совершаться "позади сцены". Многое из
этого драматическое искусство надолго сохранило; так,
например, стих в форме разговора - самое действенное
средство.
Современная опера делает значительный шаг
вперед. Музыка здесь ни в коем случае не является только
сопровождением, иллюстрацией "духовного", как
предполагали, но помимо этого является самым
радикальным средством лишения реальности, потому что музыка
как таковая по своему существу недраматична и
непредметна. Она действует наперекор всей объективной
реальности. Впрочем, с музыкой вообще в поэзию
втягивается чуждый элемент, который больше ей не
принадлежит, искусство другого рода и синтез с ним является
особой главой эстетики.
Но совсем уже банальным будет понимать всякое
уменьшение сценического реализма - так же в
стилизации внешнего, - как художественное лишение реальности,
и еще более там, где в целях уменьшения реализма
пользуются сомнительными средствами. Потому что оно
сознательно противодействует моменту "подражания"
(настоящему мимезису). И это может зайти слишком далеко,
может перейти через границы драматического - так было
уже в античной комедии типов, а в современной, тем
более. Далеко превзойдены они в буффонаде, в популярных
образах паяцев и арлекинов. Драматическое уступает
здесь место дешевому эффекту, шутовству и в конце
концов совсем исчезает в шутке и шалости.
В этой связи важно то, что в серьезном сценическом
искусстве современности лишение реальности не
касается больше собственно игры актера. Для реализма здесь
остается полный простор - ясный признак того, что
явление духовного и внутреннего не может все же обходиться
без известной убедительной естественной правды; но это
может быть также признак того, что для современного
зрителя больше не существует опасности иллюзионизма
Раздел II. Структура эстетического предмета 147
или, по крайней мере, она далека. Доказательством
этого, прежде всего, служит выразительная сила великих
изобразителей характеров, которая далеко превосходит
чисто типическое. Ведь каждый живой человеческий
характер есть нечто единичное, индивидуальное.
Если при этом иметь в виду условную жестикуляцию
китайского сценического искусства или также очень
сдержанную игру на котурнах и в масках, как это было на
аттической сцене, то виден весь тот простор, в котором
оттенены лишение реальности и реализм.
Из всего этого видно, что мы имеем в сценическом
представлении то же самое расслоение, которое
составляет основной закон во всем поэтическом искусстве и во
всех изобразительных искусствах вообще. Только по
содержанию оно передвинуто. "Игра" есть передвижка
"являющейся ощутимости" в реальность и в действительную
ощутимость. Первый, еще близкий к чувственному член
заднего плана передвигается этим на передний план. Но
только первый; все другое, само действие и действующие
лица, остается только явлением. И там, где игра
воспринимается как таковая, действие ясно от нее отделяется и
воспринимается как ирреальное.
ГЛАВА 7
ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ПЛАНЫ В
НЕИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ
а. Свободная игра формы
Может быть, было бы лучше сказать, что не
существует никаких неизобразительных искусств. Ибо во всяком
художественном оформлении человек изображает
прежде всего самого себя.
Это не следует понимать узко, ибо то, что открывается
в произведении, не должно быть только личностью
художника - это может быть также общий тип, к которому он
принадлежит и особенности которого в зависимости от
страны, народа и времени он имеет в себе. Нечто в этом роде
должно существовать всегда. Но это "нечто" есть не то, что
предполагают, когда говорят об "изобразительных"
искусствах. В этом случае предполагают особую тему, сюжет.
Тот же самый художник может разрабатывать
всевозможные сюжеты безотносительно к своей собственной
сущности, которая принимает в этом участие и которая при
этом не изменяется.
148 Часть первая. Отношение проявления
Кроме того, собственная сущность не изображается
выразительно, а является только совместно с чем-то
другим и часто только для стоящих вдали, для потомков. Она
не делается темой. А там, где она становится таковой, как,
например, в автопортрете, она опять-таки является
только одной из многих возможных тем. Поэтому на основании
этого феномена нельзя сказать, что все искусства будто
бы являются одинаково изобразительными, потому что
невольное изображение самого себя является
второстепенным: оно подходит только к определенной обработке
темы.
Значит, архитектуру, музыку, орнаментику можно
трактовать отдельно, ибо очевидно, что в каждой из них дело
обстоит иначе. К музыке это относится только тогда, когда
не принимается во внимание пение с текстом и так
называемая "программная музыка"; почему это возможно и
должно быть так, об этом еще будет сказано. Достаточно
уже той причины, что текст и название еще "не являются"
музыкой. Поэтому нельзя слишком спешить с переносом
изобразительной точки зрения на музыку. Ведь
существует еще и "чистая" музыка, которая не имеет внемузыкаль-
ных тем и не нуждается в них. Отсутствие таких тем
является как раз общим для трех названных искусств, как бы
различны они ни были.
Все же это общее в них является лишь негативным.
Позитивное же определить не так легко. Но
предварительное, ни к чему необязывающее определение дать можно:
общее в этом смысле можно усматривать в чистой, хотя и
не всегда совсем свободной игре самой формы в
определенной материи.
Материя при этом в одном случае является тяжелой
массой, в другом - тоном. Само собой разумеется, что оба
допускают только очень различную игру формы. Но сама
форма определена через материю только по роду,
следовательно, в первом случае через размеры, в которых она
выражается; противоположность пространственным и
временным искусствам отделяет целые области
формообразования, но между тем она еще далеко не
достаточна, чтобы определить их своеобразие. Поэзия также
является временным искусством, а искусство пластики
является пространственным искусством. Но каждый вид
материи имеет внутреннюю возможность особенного
придания формы, самого по себе вполне автономного.
Именно здесь начинается то, что пытаются называть
"свободной игрой формой как таковой". Чистая игра фор-
Раздел II. Структура эстетического предмета 149
мы ради самой себя есть настоящее творческое
действие, которое в изображении занимает значительное
место. Ибо "изображение" связано с предметами внеэс-
тетического рода и начинается с подражания. Оно должно
"попасть" в сюжет, но при этом может и "промахнуться". В
чистой же игре формы и речи нет о каком-то попадании
или промахе - во всяком случае, в том смысле, как в
"изображении", здесь не дано никакого оригинала,
никакой модели, никакой живой фигуры. Вообще в основе
здесь нет какой-либо заранее данной формы. Поэтому
оформление здесь совершенно автономно и имеет
совершенно другую, более высокую, чем в изобразительных
искусствах, свободу. Она является чистым творчеством
без подражательных и репродуктивных моментов, чистым
"творчеством из ничего".
В архитектуре и во всей орнаментике эта свобода
достигается за счет известной несвободы другого рода.
Архитектура служит практическим целям, которые
сами по себе не имеют ничего общего с красотой. Так же и
там, где есть цели высшего идеального рода, она
сохраняет все же свою внеэстетическую природу, как,
например, в строениях храмов и церквей, а также дворцов и т. п.
Первые служат идеям церковной службы, вторые - идее
политической силы и ее блеска. В обыкновенном жилом
доме практическая цель доминирует сильнее всего. Но
самым замечательным является то, что она все же не
разрушает эстетического момента ценности. Более того, она
даже несет его. Ее влияние сказывается в том, что она
является своего рода предпосылкой красоты, и красота
формы дома там, где она удается, полностью
воспринимает ее в себя, без того, чтобы взять от нее что-то.
В искусстве орнаментики дело обстоит иначе. Оно
само непосредственно служит не практическим целям, а
предметам, в которых оно выступает: в архитектуре, в
предметах потребления, в узоре на ковре. Таким образом,
это не самостоятельное искусство, а вчлененное в форму
целого, которую оно не может нарушить, ибо оно дает
только раму. Но внутри рамы - заполненной поверхности -
оно относительно свободно и может благодаря этому
приблизиться к изобразительным искусствам. Когда оно
имеет дело с последними, то воспринимает и некоторые
темы из их круга. Но они не составляют его сущности. В
первую очередь оно раскрывается в игре линий, красок
или в пространственных мотивах, которые только ради
него самого там существуют.
150 Часть первая. Отношение проявления
Действительно свободна только музыка, и притом
только чистая. Музыка также "может" служить
определенным целям. Но в чистой музыке принцип "игры" достигает
полной самостоятельности. Музыка есть игра в тонах,
последовательности тонов, в гармонии, в звуковых
красках, значит, в материи, которая в высшей степени удалена
от внеэстетических целей. Поэтому музыка вообще
является самым свободным из всех искусств. И свободна она
как раз в двояком смысле: она свободна как от
внеэстетических тем или сюжетов, так и от внеэстетической цели.
Поэтому с творческим моментом здесь происходит
совсем иное дело: здесь достигается такая степень
продуктивности, какой не знают другие искусства.
Композиция основана на инвекции - на внутренней находчивости
и выдумке - в такой степени, что сама музыкальная
"тема" создается свободно, является продуктом чистой
музыкальной фантазии.
Значит, эстетический вопрос, непосредственно
касающийся сущности рассмотренных искусств, состоит в
следующем: может ли вообще в них идти речь о том же роде
красоты, какой имеет место в изобразительных
искусствах? Или же здесь выступает второй род красоты?
Это вполне естественные вопросы. Если в
изобразительных искусствах прекрасное лежит в отношении
явлений, то есть не в реальном переднем плане и не в
ирреальном заднем плане, а только в явлении последнего в
первом, то там, где противоположности этих слоев нет,
положение резко меняется. Где нет сюжета, там ничего не
может явиться. Есть ли еще второй тип красоты, который
действительно существует только в чистом отношении
формы?
На этот вопрос можно ответить утвердительно по двум
причинам: одна заключена в характере свободной игры
формой, хотя и в определенной материи, вторая же
становится понятной по аналогии с красотой в природе и
человеческой красотой, в основе которых нет никакой темы
(сюжета). Таковы исходные пункты двух серьезных
аргументов, которые выдвигаются против понятия красоты в
отношении явлений. Может быть, действительно не вся
красота одинакова? Или вся красота в основе своей
является красотой другого рода и тенденция чистой эстетики
формы в новом смысле нашла оправдание?
Раздел II. Структура эстетического предмета 151
б. Музыкальная красота
Затронутый здесь круг проблем имеет свой
центральный феномен, очевидно, в музыке. Музыка является
"двусторонне свободным" искусством. Значит, здесь
нужно постараться найти основную проблему.
Нет необходимости сейчас же ставить вопрос,
является ли музыкальная красота вообще красотой другого
рода. Действительно, нужно сначала выяснить, есть ли в
музыке отношение явлений, и если это обнаружится, то
плодотворно ли оно для феномена музыкальной красоты. Для
этого нужно прежде всего отвлечься от всей программной
музыки; нужно также отвлечься от простой песни, которая
является уже комбинированным искусством (поэзии и
музыки); пусть это не смущает тех, кто считает, что в песне
нужно искать начало музыки. Было бы неправильно судить
о широко разросшейся духовной области с ее большими
достижениями по ее примитивным началам. Последняя
может оставить без внимания свои исторические
источники.
Далее, не нужно также облегчать себе разрешение
вопроса тем, чтобы душевное настроение (горе, радость,
мужество, тоска и т. д.), которое бесспорно выражается в
музыке, с самого начала принимать за задний план. Так
нельзя рассуждать уже потому, что настроение образует
еще более глубокий и далекий слой. Кроме того, при
такой постановке вопроса мы снова слишком
близко.подходим к программной музыке. Это должно быть
рассмотрено значительно позднее.
Пока же нужно доказать, что в чистой музыке, и
именно еще по эту сторону всего духовного содержания,
также существуют наслоение и отношение явления. Само
собой разумеется, что они распространяются на всю
остальную музыку, а также на положенные на музыку
произведения поэзии. Но там это не составляет вопроса,
как в чистой музыке.
Надо исходить из того, что звучащий тон здесь
образует "материю", в которой он формируется.
Тогда нужно считать за реальный слой и передний план
в музыке последовательность и связь тонов1.
Следовательно, вопрос состоит в следующем: имеется ли в
произведении тона что-нибудь такое, что возвышается над
чувственно слышимыми звуками и что, порхая над ними,
может быть схвачено музыкальным слухом? Или,
выражаясь уже употреблявшимися оборотами: есть ли здесь что-
нибудь такое, что, стоя позади звуков, отделяется от них,
152 Часть первая. Отношение проявления
составляя при этом являющийся через звуки задний план,
и именно так, что остается настоящее музыкальное
содержание?
Оказывается, что это действительно так и бывает.
Только искать его нужно там, где его можно найти, - не
далеко по ту сторону мира звуков, а вблизи его и еще внутри
его рода.
Именно музыка - музыкальная пьеса, композиция,
"фраза" - не является одним только чувственно
слышимым; постоянно существует "музыкально слышимое",
которое существует над чувственно слышимым и которое
нуждается в совсем другом синтезе воспринимающего
сознания, чем может дать чисто акустическое слушание.
Это "музыкально слышимое" есть большое целое, и
именно оно образует нечувственный задний план.
То, что можно чисто чувственно "слышать вместе", есть
картина тона узкого ограничения. Соната, "музыкальная
фраза", а также прелюдия весьма близки к этому.
Чувственно реально (чисто акустически) слышат только
ограниченную последовательность звуков, гармонию в
течение такого промежутка времени, какой позволяет
акустическое задержание ("звучание" только что
слышанного). А задержание продолжается не более нескольких
секунд, в то время музыка идет дальше, и вновь звучащее,
забегая вперед, ложится на временно исчезнувшее,
стирая его.
Кроме того, действительно слушать вместе
(чувственно акустически) всю массу тонов и гармоний
"музыкальной фразы" уже потому музыкально невозможно, что это
создало бы невыносимую дисгармонию. Слух есть
временное чувство, а музыка есть временное искусство.
"Музыкальная фраза" длится во времени, она состоит как раз
в следовании друг за другом звуков, продолжающихся
гораздо дольше, чем задержание.
1 Реальность этого "реального слоя", конечно, нельзя понимать
буквально, как, например, материю поэзии, слово, которое
также является звуковым образом. Звуки в строгом смысле не
реальны, потому что они существуют как таковые только для
слушающего. Но это можно не принимать здесь во внимание. Ведь
самое существенное в "реальном слое" музыкального
произведения есть и остается чувственно данное наличное бытие для
восприятия, и это в полном смысле слова выполнимо.
Раздел II. Структура эстетического предмета 153
Следовательно, ни на одно мгновение своего
временно протянутого звука она не существует как целое.
Музыкальная фраза нуждается во времени, она проходит мимо
нашего слуха, она имеет свою продолжительность; в
каждое мгновение слушающему представляется только один
отрывок. И все же она не будет разорванной для него, а
будет воспринята как связь, как целое. Так обстоит дело
по крайней мере в настоящем "музыкальном" слушании:
музыкальная фраза будет воспринята, несмотря на ее
растянутость по временным стадиям, как связное целое,
не как временная симуляция, а как связь, как единство.
Это единство всегда является все же временным
единством, а не одновременностью. Следование звуков
одного за другим как таковое также может быть единством.
Только единство здесь представлено не в чувственном
слушании, а лишь в выполнении синтеза, который должен
быть дан только в музыкальном слышании. Только в этом
выполнении и состоит музыкальное слышание в
противоположность чувственному слушанию. Ведь не мгновенный
звук, а только целое в единстве его продолжительности
составляет музыкальный образ - образ музыкальной
фразы. И только от всего этого целого включенная деталь
получает чувственно слышимое вместе.
Может быть, здесь возразят, что все это само собой
разумеется, ибо совсем не бывает музыки, которая не
воссоединяла бы временно разрозненное и не давала бы
возможности слышать его вместе. Но это возражение
есть только подтверждение тезиса; именно это
музыкально само собой понятное здесь и имеется ввиду. Так
обстоит дело не только здесь, но и везде: прежде философия
замечает достойное быть замеченным и имеющее
значение - возможно, загадочное - в само собой
разумеющемся; как раз это само собой разумеющееся
воспринимается без внимания до тех пор, пока оно служит только как
поверхностное и пока сознание того, что оно собой
представляет, еще не пришло. Эстетика прошлого также
не анализировала здесь сознательно основное
отношение (Grundverhaltniss) и поэтому не заметила в нем
проблемы.
Но в чем же состоит проблема? Для решения этого
вопроса нужно вернуться назад, к категориальному
анализу времени. Ибо время есть растянутость всего
реального в последовательности временных стадий; человек,
например, ни в один момент своей жизни не бывает
соединенным в целое, потому что тем, чем он был, он уже не
154 Часть первая. Отношение проявления
является, а тем, чем он будет, он еще не стал; только во
времени созерцания, которое не совпадает с реальным
временем, следовательно, субъективно, возможно общее
обозрение в известных границах, потому что сознание
имеет во время наблюдения то, чего в реальном времени
ни вещи, ни процессы не имеют - свободу движения. В
жизни понимание происходящего зависит всегда от
момента или от узко ограниченного отрезка времени. В
искусстве дело обстоит иначе1.
Музыка приводит к единству и замкнутой целостности
как раз то, что растянуто в последовательности времени.
Этот синтез совершается в самом музыкальном
слышании, а именно далеко за узкими границами акустического
вместеслышимого (des Zusammenhoren).
Но он совершается не мгновенно, а постепенно, в ходе
чувственного слушания и как раз на основе совершенно
определенного внутреннего единства и замкнутости
музыкального произведения. Именно это составляет
объективно расчлененную связь, строение, в котором все
единичности заранее отклоняются; эти отклонения
воспринимаются сами собой без рефлексии и с полной
очевидностью. Ибо целостность как таковая ощущается в смене
звуков лишь постольку, поскольку они воспринимаются. И
только там, где она ощущается, вещь понимается
музыкально.
Музыкальное единство произведения имеет именно
характер синтеза. Это значит, что оно является
"композицией" ("композиция" есть простой перевод слова
"синтез"). Такое единство чувственно не слышимо, так как оно
представляет собой подлинно являющееся, именно
являющееся через чувственное слышание. Оно принадлежит,
следовательно, заднему плану музыкального
произведения. Но если взять его предметно, то оно является
синтетическим единством, в котором отзвучавшее и больше
чувственно не слышимое всегда удерживается и еще как
настоящее образует существенный член в музыкальном
слышании постепенно строящегося целого. Синтез
должен осуществлять сам слушающий, поскольку он, со
своей стороны, подражает деятельности композитора.
1 Все отношения времени в музыке становятся понятными
только на основе точного категориального анализа времени, как
реального времени, так и времени созерцания, причем их
противоположность в структуре и способе бытия должна быть ясно
выработана. Эта задача взята на себя автором в "Philosophie der
Natur" (1950). Там же см. о растянутости, гл. 12, пункт "б", а
также о сущности времени созерцания, гл. 14 и 15.
Раздел II. Структура эстетического предмета 155
а. Феномен музыкального заднего плана
Основное своеобразие произведения музыкального
искусства состоит в том, что оно в своем временном
течении через внутреннюю связь своих членов дает
возможность слушателю услышать композиторское единство
всего строения, хотя оно чувственно не слышимо. Ведь
это такое единство, которое не существует ни в какой
стадии акустического звучания, но все же именно оно
образует настоящую композицию. Музыкальное произведение
заставляет слушающего слышать "до" и "после", в каждой
стадии слушания иметь ожидание приходящего,
предвосхищать определенное музыкально требуемое
продолжение. То же самое происходит и там, где действительное
продолжение музыкальной пьесы впоследствии
оказывается другим. Ибо развязка возникшего напряжения также
всегда может быть другой, чем ожидали; использование
неожиданных новых музыкальных возможностей является
здесь как раз существенным моментом неожиданности и
обогащения. В музыке это бывает так же, как и в поэзии
(другой исход действия в романе и драме).
Хорошо известно, что композитор также может
широко использовать очень действенный момент
неожиданности; музыка получает тогда нечто сенсационное,
эффектное. Но эти эксцессы не отрицают основного феномена,
именно того, что игра при отклонении от антиципации и
действительного дальнейшего развития конститутивна
для композиторского единства и музыкальной структуры
целого, которое проявляется в возникновении звука и
отзвука, соединяя мгновенные частности.
Синтез, которым руководствуется слушающий, можно
представить себе так: он одновременен с пониманием
мгновенно слышанного и внутренне только что
звучавшего, а также давно отзвучавшего и в то же время также и с
будущим звучанием. Ведь каждая музыкальная фраза
непосредственно представляет собой указание как вперед,
так и назад. Если ее представлять совершенно
изолированной, то она теряет свой музыкальный смысл. Этот
смысл зависит как раз от целостности. Это заходит так
далеко, что человек, тонко понимающий музыку, случайно
услышав только несколько тактов, невольно дополняет
отрывок целого как такового, схватывает, безотносительно к
тому, подходит это схваченное к настоящей композиции
или нет. С ним происходит при этом то же самое, что и с
созерцающим часть разбитой скульптуры.
156 Часть первая. Отношение проявления
Художественное чудо музыкального произведения
состоит в том, что из временной последовательности
звуков создается единство общей картины, которая
постепенно наполняется, округляется и складывается
определенное построение. В музыкальном слышании мы
ощущаем его подъем; рост, нагромождение; и эта
возвышающаяся общая картина будет завершена и собрана только
тогда, когда чувственно слышимая последовательность
звуков подходит к концу, то есть когда она уже прозвучала.
Последние такты правильно построенного музыкального
произведения воспринимаются тогда как окончание
построения и как его коронация.
Таким образом, фактически люди слышат больше того,
что дает чувственно слышимое: они слышат музыкальные
образы другого, высшего порядка, что совершенно
невозможно при акустическом слушании. Этот другой образ и
есть, собственно, музыкальное произведение,
композиция, "пьеса", фуга, соната. И этот другой образ создает
"музыкальный задний план". Нужно хорошо понять, что
только музыкальный, потому что к полному заднему плану
музыки принадлежит еще нечто большее. Об этом
необходимо сказать еще особо.
Музыкальное слушание выходит за пределы
чувственного слушания. Являющееся целое музыкальной фразы
как таковое не дано чувственно, оно акустически
ирреально, и оно не будет реальным и в игре звуков. Ведь как
совместно существующее (Beisammenseiendes) оно не
может быть реальным. Его слышат "насквозь", оно
заставляет явиться чувственную последовательность звуков,
хотя в своих фазах оно неустойчиво; оно имеет
своеобразную прозрачность (Transparenz), чтобы
обращающемуся к нему слушателю явилось другое построение,
которое в нем не открывается.
Следовательно, то, что является в этом случае, есть
ирреальный задний план в строгом смысле слова. Все его
признаки имеются в этом изображении. Следовательно, в
музыке, как и в изобразительных искусствах, мы имеем те
же самые два слоя в предмете: та же самая
двойственность и противоположность способа бытия, то же самое
явление в чувственной материи, та же самая
прозрачность оформленного переднего плана и та же самая роль
воспринимающего субъекта, ибо только ему, если он
выполняет условия музыкального слушания, может явиться
эта целостность. Все четырехчленное отношение, кото-
Раздел II. Структура эстетического предмета "| 57
рое характерно для способа бытия объективированного
духа, повторяется.
Конечно, совпадают только эти основные черты. Все
остальное, относящееся к наслоению, здесь совершенно
не принимается во внимание. Род связи между слоями
совершенно другой, чем в изобразительных искусствах, уже
потому, что передний план и первый задний план в
музыке более похожи друг на друга и по роду стоят ближе друг
к другу. Поэтому его двойственность дольше всего не
признавалась именно в музыке.
Но можно ясно проследить, как в произведении
композитора передний план определяется через задний план,
как единство внутреннего образа в композиции
детерминирует оформление чувственно слышимого вплоть до
деталей.
В этом отношении музыкальное произведение также
подобно произведению поэзии и живописи.
Доказательство этого мы имеем в негативном -
именно в неудавшемся музыкальном произведении. Есть такие
типы композиций, в которых в представлении слушателя
детали не объединяются, а распадаются. Частности и
здесь могут воздействовать приятным образом, могут
сковать, убедить, довести до антиципации; они могут
даже указать на целое. Но, когда это целое все же в конце
концов отсутствует, когда построение, являясь, не
развивается, мы воспринимаем вещь как не единую, мелкую,
как ничего не говорящую.
В этом случае не чувствуется никакой внутренней
связи, отсутствует единство внутреннего образа.
Можно также сказать, что таким произведениям не
хватает настоящей композиции, потому что композиция
является "синтезом" единства. В этом случае игра
производит поверхностно-игривое впечатление, она заставляет
музыкально слушающего слушать напрасно. Ему не
является никакого единства. Это не имеет ничего общего с
противоположностью серьезной и "легкой" музыки.
Легкая музыка, если она удалась, - я хочу сказать, когда она
прекрасна, - также не отрицает единства, поэтому не
отрицает и являющийся задний план. Единство по своей
структуре здесь является единством другого рода и так же
по-другому определяет ритмы и звуки чувственного
переднего плана. Но в своем роде и такая музыка может
быть музыкально прекрасной.
158 Часть первая. Отношение проявления
г. Композиция и музыкальная игра
Подобно драме, музыка также испытывает
потребность в искусстве второго порядка, которое позволяет
внятно зазвучать скомпонированной и написанной
музыке. Написанное музыкальное произведение нуждается в
этом еще гораздо больше: ведь драму каждый может в
конце концов "читать" и, если он имеет немного фантазии,
может при этом и внутренне "видеть"; но "читать"
музыкальное произведение есть нечто совсем другое, для
этого нужно специальное образование и большое количество
упражнений. В общем дело обстоит даже так, что профан
в музыке всегда скорее может сам "сыграть", чем
"прочитать" без игры. За малым исключением, гораздо тяжелее
слушать "с листа", чем с листа играть.
Во всяком случае, музыкальная публика нуждается в
звучащей отдаче, представлении - в больших
произведениях можно было бы сказать в "исполнении", - чтобы вообще
приблизиться к музыке: Благодаря этому искусство
исполняющего музыканта возвышается до эстетической
необходимости. Здесь, как и в драматической поэзии, существует
искусство "игры" и выступают также многие характерные
признаки драматического искусства. Конечно, только с
соответствующими оговорками, потому что род игры здесь
другой.
Прежде всего, здесь ни в коем случае не идет речь о
представлении. Поэтому личность музыканта выступает
не как "инструмент", подобно личности актера, который
сам себя вставляет в представление в качестве медиума,
и также не как у певца, хотя последний присоединяет
природный инструмент человеческого голоса. Оперного
певца нужно исключить, но не из-за музыки, а из-за
драматической сцены, на которой он выступает. Ведь в чистой
музыке не бывает никаких предметов, которые бы в ней
изображались, по крайней мере, никаких внемузыкальных
предметов. Поэтому здесь совершенно отпадает вопрос о
реализме и его ограничениях. При пении, конечно, оба
имеются, но только благодаря вступлению в игру внему-
зыкального момента - текста.
Между тем все эти моменты являются только
негативными, ограничивающими. Позитивное и основное,
напротив, заключается в следующем: в музыке слой бытия
произведения искусства становится ощутимым также
благодаря вторичному искусству "игры", в написанной
композиции он остается еще ирреальным, так как не дан
чувственно, а лишь воображается, пересаживается в ре-
Раздел II. Структура эстетического предмета *| 59
альность и этим одновременно втягивается в чувственную
видимость и передний план всего изображения.
"Реальность", о которой здесь идет речь, есть
исключительно акустическая реальность, царство чувственно
слышимого. Такого же рода реальность имеет место и
там, где "видимая" динамика в движении
упражняющегося музыканта или даже дирижера вносит существенное
добавление к музыкальному пониманию. Визуальные
вспомогательные представления музыкального слушания
составляют особую проблему. Но они ничего не меняют в
основном, не меняют даже тогда, когда они доходят до
глубокой духовной связи с личностью музыканта. Но не
нужно забывать и то, что именно глубоко
воспринимающий музыку слушатель иногда "не смотрит" на
жестикуляцию исполнителя, чтобы она не мешала ему. Она может
стать для него даже слишком неприятной, навязчивой или
просто отвлекающей.
Нужно также признать, что в музыке "реализация"
через играющего музыканта - включая дилетантски
играющего - настолько выразительна, что, в сущности, каждый
только ее принимает за музыку, в то время как черные
значки нот на белой бумаге служат лишь
вспомогательным средством. Поэтому здесь нельзя сказать, что
читатель становится слушателем (как и в драме - зрителем);
читатель здесь имеется только в виде исключения.
Поэтому настоящая музыка возникает объективно только при
вторичном искусстве музыканта. Аппарат, необходимый
для этого, не так велик, как аппарат актера; он может
ограничиться одним инструментом, но может при
симфонической композиции возрасти до огромных размеров и
охватить целую организацию художников, причем
настоящий успех состоит тогда в едином действии всех вместе -
в успехе дирижера.
Об усилении действия рамы (Rahmenwirkung) здесь не
может быть и речи. Музыка, как играемая, так и звучащая,
не должна особенно выдвигаться из реальной связи; она
уже достаточно выдвинута благодаря своему тоническому
материалу, потому что он нигде, кроме музыки, не
встречается в музыкальном порядке. Но все-таки только
благодаря реальной игре возникает более точная аналогия с
изобразительным искусством, и только через слышимую
игру дается чувственный, еще не данный представлению
передний план; только так обращается музыкальное
произведение непосредственно к слуху, а не к творческой
160 Часть первая. Отношение проявления
фантазии "читателя" (который едва ли здесь бывает).
Просто представленное возмещается через воспринятое.
Тем самым впервые правильно проводится аналогия с
искусством актера: музыка становится зависимой от игры
музыканта. Ведь здесь также существует промежуточный
слой, который в игре становится реальным. Происходит
реализация не произведения композитора, а скорее
исполнения музыканта. Он свободен в придании формы
бесчисленным частностям самого неуловимого
характера, которые не могут быть написаны на нотной бумаге, но
от которых все же существенно зависит образование
целого. Он выступает сокомпозитором и вследствие этого
является не только "репродуцирующим художником", но и
вполне продуктивно творящим, не меньше, чем актер в
спектакле.
Композитор, со своей стороны, нуждается в
конгениальной игре. Музыкант воспринимает от него
сформированное только наполовину (еще относительно всеобщее)
и формирует его до конца. Он наполняет произведение
композитора жизнью и душой так, как это кажется ему
нужным. Но делает он это не благодаря своей
собственной персоне, а благодаря инструменту. Ведь он не
изобразитель лиц, как актер, а интерпретатор музыкального
произведения.
Но для музыкального произведения характерно также
то, что оно при каждом повторении становится другим.
Каждый раз сюда присоединяется понимание музыканта,
а оно может быть сугубо оригинальным. В силу этого
идентичность музыкального произведения существует
только в известных границах, ибо она нарушается в
различных по качеству интерпретациях.
Но самая большая разница между написанной и
сыгранной музыкой состоит в роде объективации. Первая
объективируется в долговечном материале письма - аеге
perennius, - и хотя она представлена только в
полуконкретности, но сформирована раз и навсегда и
предоставляется на продолжительное время новым
формообразованиям; музыкант же хотя и дает ей полную конкретность
и наглядность, но дает ее в недолговечном материале, и
хотя он формирует ее до конца, но только на мгновение.
Высшая объективация не может сохраниться, она
перестает звучать одновременно с данной игрой. Конечно,
благодаря современной технике звуковых пластинок в
известных границах она также может быть сохранена. Но
техника доходит не до всех тонкостей и вследствие этого ни-
Раздел II. Структура эстетического предмета 161
чего не меняет в множественности и различии передач.
Отдельные из них, несмотря на все попытки сохранить эти
тонкости, все же постоянно меняются в зависимости от
нового толкования их.
Искусство музыканта-исполнителя остается, по
существу, искусством мгновения. Потомки не плетут ему венки
И рядом с успехом исполнителя, возвышаясь над ним,
стоит непоколебимо написанная композиция в
полуконкретности и каждую минуту становится предметом
возможного нового завершения. Автор же ее остается жить и
для потомков. И здесь также можно было бы
предположить нечто подобное тому, что происходит у актера:
играющий музыкант перетягивает весь задний план музыки
вместе с ее духовным содержанием в реальность, так что
дальше не остается простора для "ирреального" заднего
плана, который мог бы явиться в реальном. В силу этого
основной закон объективации и условия бытия
прекрасного в этом случае отрицались бы.
Это было бы настоящим недоразумением. В
реальность втягивается здесь не все из музыкального
произведения, а только первый близлежащий слой заднего
плана, именно тот, который чувственно слышим, слой
тонов и гармоний. Именно он играет здесь роль
промежуточного слоя. И только он может быть вообще
акустически реализован. Это важно, но в музыке это еще не все.
Все остальное остается, как и раньше, ирреальным и
должно сначала возникнуть в сознании слушателя. К
этому относится все духовное содержание музыки, в чем бы
оно ни проявлялось. Об этом здесь совершенно не
говорилось, но можно легко предположить, что оно должно
состоять в дальнейшей последовательности слоев,
которая составляет глубину заднего плана. Как в
театральном искусстве подлинное действие с ненавистью и
любовью, так и в музыкальной игре настроения и чувства
остаются ирреальными.
Но и это еще не все. Целостность композиции в игре
музыканта также остается ирреальной. Сведение общего
слушания (Zusammenhorens) к единству даже самая
совершенная интерпретация не может совершить за
слушателя; она может его ему преподнести, может его на это
навести, но никакая сила в мире не в состоянии отнять у
нее возможности последовательного построения целого
в музыкальном слушании. Ведь не может же один
"слышать" за другого, так же как один за другого думать,
постигать или понимать. Но, как оказалось, единство и цело-
162 Часть первая. Отношение проявления
стность музыкального предмета не существуют нигде,
кроме как в музыкальном слушании. Таким образом, ясно,
что все, что было сказано выше о "явлении"
композиторского единства, относится как раз к слышимой игре
музыканта, но ни в коем случае не только к написанной музыке.
В этом отношении она есть, по-видимому, только
промежуточный слой "чувственно слышимого", который
реализуется в "Здесь" и "Теперь" однократной игре. Это
означает, что в игре собственно музыкальное музыки
остается явлением. Конечно, нельзя недооценивать это
явление-бытие (Erscheinung-Sein); само являющееся может
быть весьма объективным, может быть принуждающим и
потрясающим, может увлечь массу слушающих, сделать
их едиными в единстве "одного" художественного
переживания. Но именно поэтому оно и остается все же
явлением и не становится предметной реальностью. И как раз
только таким способом выполнено в нем основное
условие "эстетического предмета" и прекрасного.
Вряд ли после этого нужно говорить о том, что в
сыгранной музыке также отсутствует момент иллюзии.
Подобно тому как музыкант не вводит в заблуждение
относительно реальности своих чувств, так же он не вводит в
заблуждение и относительно реальности чего-либо другого,
например чередующихся звуков, или относительно
целого, которое нуждается в синтезе, и относительно
душевного вообще. Игра остается игрой, и серьезность того,
что кажется в ней неотразимо увлекательным, остается
явлением. Отношение слоев с его противоположностью
реального и нереального сохраняется. Только оно
действует здесь другими средствами, чем в
изобразительных искусствах. Видимость его отрицания зиждется
лишь на том, что чистая музыка не имеет никаких внемузы-
кальных тем, то есть не является изобразительным
искусством. И то, что она действительно сообщает через свой
передний план слушающему, не может быть высказано
никаким образом - ни словами, ни понятиями.
д. О являющемся заднем плане в архитектуре
Общее неизобразительных искусств было
представлено как чистая, хотя и не всегда свободная игра формой в
определенной материи. Эта игра является чистой для
себя самой, но она ограничена материей игры (известными
измерениями, материальными возможностями и т. д.).
Эти искусства свободны только от "сюжета". Но они
могут находиться в большой зависимости от практичес-
Раздел II. Структура эстетического предмета 163
кой цели. Музыка показала себя свободной с обеих
сторон. Архитектура в этом отношении составляет прямую
противоположность ей: она зависит от внеэстетической
цели и притом так широко, что отсутствие таковой могло
бы отрицать ее самое. Архитектура, не строящая
что-либо пригодное для жизни - безотносительно к тому, служит
это повседневному, государственному или
религиозному, - была бы пустой забавой.
Главный вопрос эстетики для архитектуры состоит в
том, имеется ли и здесь отношение слоев, точнее,
имеется ли у нее позади ощутимой реальной данности
видимого переднего плана также и являющийся задний план.
А так как в ней нет ничего от рода "темы", это так легко
нам не решить. Прежде всего кажется, что нужно было
бы снять этот вопрос. Ведь искусство архитектуры среди
прекрасных искусств, без сомнения, самое
несвободное; оно вдвойне связано: во-первых, детерминацией
практических целей, которым оно служит, и, во-вторых,
тяжестью и хрупкостью физической материи, в которой
оно работает.
Спрашивается: как же здесь возможна "свободная
игра" формой, когда форма имеет другие задачи, и именно
в грубой материи? А как быть с явлением ирреального?
Для этого нужно сначала представить себе два феномена
архитектурного действия.
Первый из этих феноменов лежит в аналогии к
музыке. Как там позади чувственно слышимого выступает
большее, слышимое только музыкально, так и здесь
позади видимого непосредственно выступает большее
целое, которое как таковое может быть дано только в
высшем, совместном созерцании. Непосредственно
видимой бывает только одна сторона произведения
архитектуры, фасад или только немного больше, чем фасад. Так
же обстоит дело и тогда, когда стоишь внутри здания,
будь это обычный дом или церковное помещение.
Целость композиции не дана ни с какой точки, по крайней
мере чувственно. И все же наблюдатель имеет
интуитивное сознание этого целого; и оно вырастает очень
быстро, и как бы само собой разумеется, когда ходят вдоль
различных частей архитектурного произведения или
когда при наблюдении одного какого-либо внутреннего
помещения или внешнего вида меняется место обзора так,
что различные виды, стороны и формы частей
воспринимаются одни за другими.
164 Часть первая. Отношение проявления
Здесь последовательность наблюдения произвольная,
а не объективно данная, как в музыке; но она остается во
времени всегда последовательной сменой отдельных,
оптически очень различных картин. Но эстетическое
созерцание состоит в том, что из меняющихся видимых
аспектов поднимается целое с объективным сочленением,
предметная единая композиция, которая как таковая не
дана видимо и ни с какой точки не делается видимой, но
выступает только в синтетическом представлении и
поэтому является "чувственно ирреальной".
Разумеется, это верно тогда, когда вся тяжесть
ложится на "чувственность". Ибо оптически реальным является
целостность произведения архитектуры, только
чувственно оно невидимо с первого взгляда. Значит, отношение
проявления здесь сдвигается. Оно приближается к
явлению прекрасного в природе, где реально воспринимается
вся картина. Но это еще будет разбираться. Поэтому
вопрос неясности в способе бытия оставим пока в покое.
В то же время здесь ясно различается внутренне
художественное видение и чувственное видение. Как и в
музыке, предметом внутреннего созерцания является более
великое (ein Grofceres), настоящая композиция; в
последовательном видении всегда чего-то являющегося
соединяются аспекты общей картины; и как в музыке единичные
звуки акустически не слышимы вместе, так и в
архитектуре отдельные, единичные аспекты не видимы вместе.
Этот феномен все еще слишком мало принимался во
внимание, очевидно, потому, что это казалось само собой
разумеющимся. Но именно в само собой разумеющемся
и скрывается главное, настоящий феномен
архитектурного видения. В нем скрывается отношение проявления.
Вторым феноменом является хорошо известное, часто
описываемое и все же трудно адекватно описуемое.
Очевидно, потому, что созерцание одного произведения
архитектуры выражает больше, чем пространственно
материальная форма. Это особенно ясно видно в
архитектурных произведениях древности, в которых дан весь
прошедший мир. Этот другой мир не нужно познавать из
другого источника, его воскрешение чувствуется и без этого,
конечно, с очень различной степенью убедительности.
Очень определенные формы человеческой жизни связаны
не только с церковью, храмом, дворцом, лестницей или
зубцами каменной стены, но также с фермой и с
крестьянским домом местного типа. Как правильная скульптура
окружена являющимся пространством, так и архитектур-
Раздел II. Структура эстетического предмета *|65
ное произведение поставлено в являющееся время и с
ним являющуюся жизнь, и именно с ее душевными
задними планами: ее благочестивостью, ее силой и свободой,
ее нравственностью, ее мещанством, крестьянством или
дворянством. Нечто от этого "является" в произведении
архитектуры, конечно, в очень слабой степени, большей
частью только смутно, как оживляющий задний план,
наполняя формы и одушевляя их. Для глубокомысленного
наблюдателя все это может стать очень конкретным.
Это не преувеличение и не образное выражение. Об
этом отношении проявления можно кое-что высказать и в
весьма прозаических словах. Дом принадлежит
хозяйственной и личной семейной жизни человека, как платье
принадлежит своему хозяину. О платье мы знаем, что оно
составляет внешний вид человека, и в общем оно именно
так и осознается; оно есть выражение того, как он хочет
явиться, следовательно, выражение его понимания
самого себя (хотя и здесь бывает весьма отчетливо выражена
мода). Подверженность веяниям моды в этом ничего не
изменяет. Но дом в известной степени является кровом
для его самых тесных общественных связей (семья, род,
хозяйство), поэтому он является еще более сильным
выражением его самопонимания, или, можно сказать,
выражением его самосознания в этом большем жизненном
круге. С большим основанием это можно утверждать и
потому, что он не эфемерен, как платье, а выстроен на
долгое время, для поколений, и поэтому постоянно
получает нечто от характера монумента.
Именно поэтому исторические народы и эпохи могут
"являться" в своих архитектурных произведениях и
отнюдь не в собственно монументальных; последние в
большинстве случаев есть лишь самые прочные. Некоторые
поколения особенно ярко выражаются даже в своих
постройках, которые отражают их цели, желания и идеи.
Последние мы убедительно чувствуем в их монументальных
постройках.
Это важно еще и в другом отношении. Аналогия с
модой есть, очевидно, стиль архитектуры, но вряд ли
существует искусство, в котором момент стиля играл бы такую
доминирующую роль, как в архитектуре. Причина этого
должна лежать в моменте пользы и цели дома: не каждый
нуждается в том, чтобы сочинять или рисовать, но каждый
нуждается в крыше над головой, то есть может попасть в
такое положение, что должен будет строить, и тогда он
должен это делать, даже не будучи художником. Зауряд-
166 Часть первая. Отношение проявления
ный архитектор ведь еще не является художником. Он
может строить только так, "как строят", то есть он зависит от
стиля времени. Уж так повелось, что люди в продуктивные
в строительном отношении времена прямо-таки
прикованы к своему стилю времени. И именно потому этот стиль
становится таким устойчивым и выразительным, что
повсюду мы узнаем его как явление времени.
Тем самым в архитектуре дан целый мир являющегося
заднего плана.
е. Практическая цель и свободная форма
До сих пор речь шла только о показе фактического в
архитектуре. Но этим ее проблема еще не решена.
Искусство архитектуры сковано с двух сторон: тяжелой
материей и практической целью. Как это примиряется со
свободой творчества в ней? Здесь отчетливо выражена
антиномия свободы и несвободы.
Решение этой антиномии, очевидно, может быть
найдено только в синтезе обеих сторон. Практическая задача
архитектуры должна быть полностью вкраплена в общую
композицию, и притом именно так, чтобы она со своим
решением сама становилась бы видимой в архитектурном
произведении, то есть "являлась".
В таком виде она не является чем-то мешающим, что
следовало бы исключить, а представляет собой
положительный момент, от которого ни в коем случае не следует
отказываться. Практическая цель со всеми частными
задачами плана строения, из нее вытекающими, играет в
архитектуре роль, подобную той, которую в
изобразительных искусствах играет внеэстетическая "тема" (сюжет),
хотя она и не является таковой. Она отличается от темы
уже потому, что избирается не свободно, а берется из
данных потребностей жизни, обусловливается ими.
Архитектура является не свободным искусством, а служебным.
На добрую половину она является чистой техникой;
только в наиболее крупных своих произведениях она
возвышается над этим. Архитектура является единственным из
пяти великих искусств, которая в своих произведениях
тесно связана с реальной жизнью. Следовательно, ее
творения выделяются не через изоляцию от жизни. Но это не
мешает тому, что ее произведения действуют как
замкнутые единства и целостности.
Последние, конечно, имеют свою границу в тесном
столкновении произведений архитектуры, например в
Раздел II. Структура эстетического предмета *|67
квартале или в общей городской картине. Но и здесь
большие целостности могут возвышаться.
Кроме того, практическая цель отличается от "темы"
еще и потому, что она не "изображается" в произведении
архитектуры; скорее она реализуется, наполняясь
реально-конструктивным содержанием. И только косвенно
можно сказать, что в своем выполнении она также и
изображается.
Практическая цель, следовательно, благодаря этому
является скорее позитивным предварительным условием
и, по сути дела, плодотворным моментом. Красота формы
в архитектуре включает ее в себя таким образом, что она
по существу состоит в ее технически конструктивном
выполнении. "Изящество" решения поставленной задачи,
даже если эта задача весьма прозаична, образует
существенный момент архитектурной красоты. Непрактичное
произведение архитектуры действует неорганически,
неубедительно.
Конечно, несмотря на это, конфликт между
практическим и прекрасным остается до самых мелких деталей. И,
может быть, он не совсем преодолен. Именно отсюда
вытекает требование, предъявляемое архитектору: найти
необходимый синтез. Композиционная, то есть
художественно архитектурная, гениальность должна проявляться
именно в той мере уравновешивания, которая
удовлетворяет как конструктивному, так и формосозидающему
требованию.
Нечто подобное относится и к другой стороне
связанности архитектурной формы, именно ее связи с грубой
материей. Материя имеет здесь очень большое значение,
потому что материя архитектуры есть самая грубая и
самая тяжелая из тех, которые мы встречаем в искусствах, и
оформление в ней есть настоящая борьба с ней.
Скульптура, имеющая дело с подобного же рода материей,
может избрать ее для своей цели, а в известных случаях
даже синтетически представить в виде сплава, который
потом послушно принимает любую желаемую форму и
удерживает ее.
То, что не каждая форма возможна в каждой материи,
а только определенная форма в определенной материи,
есть общий онтологический основной закон. Он
существует во всей природе, в каждом произведении человека,
во всякой технике. Он существует также в искусствах. Но в
архитектуре он становится роковым. Здесь материал,
несмотря на его тяжесть, должен нагромождаться и при
168 Часть первая. Отношение проявления
этом обеспечивать крепость формы - должен
использоваться для того, чтобы служить крышей для внутренних
помещений. Это возможно всегда только при
определенном роде оформления. Задачей такого рода здесь
технически определено уже очень многое. И вообще технику
архитектуры можно рассматривать как исключительно
большую борьбу с материей. И там, где поставленные
задачи воплощаются в великое или гениальное, также
имеют место многие победы духа над тяжелой материей.
Шопенгауэр в своей эстетике видел это отношение именно
таким; результатом этого явилось динамическое
толкование архитектонических форм - более существенное и
глубокое, чем толкования современных историков искусства,
которые пытаются вывести всякую форму только из
пространственных очертаний.
Это становится особенно выразительным там, где
строение выполняется в самой прочной материи - камне,
являющемся самой хрупкой и самой тяжелой материей.
Преодоление тяжести при покрытии внутренних
помещений есть здесь самый основной конструктивный момент.
Этот принцип отчетливо проявляется уже в форме
греческих колонн, которые, кроме перекрытий, фронтона и
крыши, выносят еще свою собственную тяжесть и потому
показывают наглядный феномен уменьшения тяжести.
Тяжесть чувственно является в пространственной форме;
хотя она находится здесь реально, но как таковая она не
ощутима. Видимой она становится только в форме, но в то
же время здесь видно также и ее преодоление благодаря
оформлению, Хорошо известными примерами этого
являются такие конструкции, как арка, барачный свод,
купол, подпружная арка. Нагляднее всего основной
феномен мог бы быть дан в принципе подпорки, потому что
здесь линия нагляднее всего выражает динамику,
перехват бокового среза и ее непрерывное дальнейшее
следование вплоть до земли.
Высший образец оформления тяжелой материи мы
имеем в высоком сводчатом церковном помещении:
тяжелое кажется внушительным, когда оно, паря в высоте,
удерживается над пустотой. В наши времена мы уже
привыкли к этому, и наш взгляд не останавливается на этом;
но первоначально это парение рассматривалось как чудо.
Реальным в этом является архитектурная конструкция,
если угодно, и техническая, эстетическим же в этом
реальном отношении является то, что конструкция и воплощен-
Раздел II. Структура эстетического предмета "| 69
ная в ней победа духа над материей "являются" в видимом
и сами становятся наглядными.
В каждом архитектурном изобретении являющееся в
видимом и становящееся наглядным изменяется;
следовательно, изменяется и стиль. Ведь архитектурный стиль
всегда зависит в своем принципе формы от рода решения
архитектурных задач. Здесь лежит причина для
единственной в своем роде доминанты стиля в архитектурном
искусстве. Ибо в архитектурном стиле речь идет не только
о свободной игре формы, но и о ее внутренней
обусловленности и о явлении этой обусловленности в форме.
Красота архитектурной формы, поскольку она
осуществляется только благодаря техническим возможностям,
является только там, где преодоление тяжести в игре
линий сделано действительно видимым. Но такая видимость
не является просто чувственной - это уже созерцание
высшего порядка. Поэтому можно сказать и наоборот: это
касается уже технически конструктивного, поскольку оно
зависит от формы, от являющегося заднего плана. Его
содержание и есть духовное достижение архитектур ной
композиции.
ж. Место орнаментики
Орнаментику нельзя причислить к большим
самостоятельным художественным областям - об этом говорит уже
ее название. Но все же она должна быть рассмотрена как
придаток к неизобразительным искусствам в силу ее
родства с ними. Она, с одной стороны, более свободна,
чем архитектура, потому что не служит непосредственно
практическим целям, а также потому, что работает
преимущественно без большой борьбы с материей. С другой
стороны, она менее самостоятельна, потому что
присоединена к произведению архитектуры или к еще меньшему
произведению человека и таким образом никогда не
действует самостоятельно.
Эта несамостоятельность, рассматриваемая в
позитивном плане, есть ее включение в большую целую
форму, в которой орнамент исполняет функцию декорации.
Если он выполняет только эту функцию (как в украшении
известных капитолиев), то тем самым он полностью
втягивается в искусство архитектуры, становясь одной из
его частей. Иначе обстоит дело, когда орнамент наряду с
этим претендует еще и на собственное действие и
производит его, выделяясь как нечто совершенно иное из
170 Часть первая. Отношение проявления
архитектурных форм или развивая собственные мотивы
и образуя целое в самом себе.
Последнее может быть желательным и в
архитектурном произведении, чтобы выделиться из архитектурных
форм. Орнамент действует подобно фризе позади колонн
и остается, как и фриза, самостоятельным
произведением. Здесь будет идти речь главным образом об
орнаментике в последнем смысле слова. Однако во всем
остальном здесь не следует проводить резкую границу.
Относительно несамостоятельно выступает орнамент
на горшках, вазах, посуде и оружии. Но именно здесь, по
всей вероятности, должно корениться его
происхождение. Во всяком случае, самое древнее в орнаментике
этого рода из того, чем мы располагаем (доисторическая
керамика), является самым древним из всех других
искусств. Поэтому несамостоятельная орнаментика с
эстетической точки зрения не лишена высокого интереса. Уже в
этих началах она представляет собой ярко выраженную
игру форм, а тем более там, где она совсем не свободно
оформляется в какой-нибудь обыденный предмет.
Между тем каждый орнамент может рассматриваться
сам по себе, точно так же, как картина или скульптура.
Такое допущение также является существенным для этого
искусства. Арабеска, например, образует такую игру
линий, которая вряд ли вызывается необходимостью. Она
имеет замкнутость и геометрическую схему, часто даже
симметрию; и она легко получает оттенок картинного
характера. Поэтому орнаментику в ее ранге не следует
переоценивать; однако в своих скромных границах она все
же эстетически самостоятельна.
Но подлинной проблемой орнаментики является то,
имеется ли и здесь последовательное соединение
различных слоев и покоится ли также и здесь на нем красота.
Помимо этого, следовало бы выяснить и то, существует ли
здесь вообще другой слой, помимо чувственного перед-
непланового реального слоя (материального), в котором
развиваются игра линий, рисунок, пространственная
фантазия формы.
Кажется, что все говорит за то, что мы стоим здесь у
конца отношений слоев и явлений. И в известном смысле
это действительно так. Во всяком случае, было бы очень
трудно удовольствие от орнаментального рисунка свести
только к такому отношению. Поэтому не нужно совсем
пренебрегать здесь этим основным эстетическим
отношением. Оно существует и в орнаменте, хотя и в скрытом
Раздел II. Структура эстетического предмета 171
виде, но не заключается в так называемых мотивах.
"Яркий рисунок" бухарского ковра как таковой является
только поводом. Рисунки растений, животных также являются
только использованными мотивами, но не изображением
предметов и чего-то содержательно действующего. В них
нельзя увидеть ничего являющегося.
Но что просто бросается в глаза, так это повторение
мотива, а также пространственный ритм в повторении. То
же самое относится и к другим сходным формальным
моментам: к расположению, симметрии и разновидности
мотивов, так же как и к сведению целого к единству
формы, которое может придать картинный характер.
Этим снова внимание обращается на другой момент в
сущности прекрасного, который лежит в свободной игре
формой. Она явно втискивается сюда и делается
господствующей. Здесь происходит примерно то же, что и в
музыке, только в другой материи и не так основательно.
Косвенно в ней является также нечто от продуктивного духа,
от его способа видения и его чувствования, по меньшей
мере от его вкуса, его чувства формы, его потребности в
единстве, его способа проявления в фантазиях и
способности творить красоту, отвлекаясь от пользы предмета.
Конечно, из всего этого ясно видно, что красота в
искусстве орнамента все же не входит в отношение
проявления. Игра формой оказывается здесь вполне автономным
моментом. А это значит, что имеется также и автономное
удовольствие от формы, и именно от свободно играющей
формы. Оно также явно имеет подлинно эстетический
характер, хотя и менее глубокий, чем удовольствие,
зависящее от отношения проявления.
Его, вероятно, можно было бы отнести к радости в
игре вообще. Но этим мало сказано. Оно могло бы зависеть
и от формы объективации в игре, но последняя трудно
уловима. Поэтому более целесообразно возвратиться
назад, к более простым основным моментам, которые
принадлежат самой видимой форме: к контрасту, гармонии,
переплетению, взаимодействию и наслоению, одним
словом, к известным элементам структуры, которые
достаточно всеобщи, чтобы иметь категориальный характер. В
действительности такими меткими выражениями, как
названные, приближаются к элементарным категориям,
которые присущи всему существующему и всему содержанию
сознания. В частности, здесь наталкиваются на
отношение единства и разнообразия, превращение которых в
172 Часть первая. Отношение проявления
слоях существующего и без того чрезвычайно богато и
является действительно доминирующим1.
Этот вопрос можно оставить открытым.
Но если бы это в дальнейшем подтвердилось, то вся
игра формой подчинилась бы снова отношению явлений.
Ибо являющийся задний план в орнаменте был бы тогда
не менее значительным, чем само царство
фундаментальных категорий.
1 О месте и характере элементарных категорий см. "Der Aufbau
der realen Welt", Aufl. 2, 1950, Кар. 23 - 34.
РАЗДЕЛ III
ПРЕКРАСНОЕ В ПРИРОДЕ
И В ЧЕЛОВЕЧЕСКОММИРЕ
ГЛАВА 8
ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК
КАК ПРЕКРАСНЫЙ ПРЕДМЕТ
а. Человеческая красота как явление
Последняя из разбираемых проблем, которая
касалась границ отношения проявления, получает большое
значение, когда от искусства переходят к прекрасному
вне искусства. Произведение искусства есть
произведение человека, хотя оформляется оно с целью бытия
красоты. В искусстве понятно, что создатель во внешнем
оформлении стремится показать нечто другое. Природа
работает без такого стремления, без цели вообще и без
сознания. Она, следовательно, не может сделать ничего
такого, в чем что-то проявилось бы.
То же самое относится и к человеку, какой он есть и как
живет. Это относится также к целому миру событий, в
котором он находится и принимает участие. Поэтому
человек - это не произведение человека, а мир, который он
строит, будучи им только отчасти.
Итак, существует ли эстетическое отношение
проявления вне произведения искусства?
В том смысле, что природа хотела этим нам что-то
"показать", наполовину скрывая, наполовину обнаруживая, -
этого, конечно, не может быть. Но быть показанным без
желания к показу, быть скрытым и быть обнаруженным
также без намерений и целей - это-то существует везде и
всюду.
Это хорошо известно из жизни человека. Каждый
человек выдает что-то о самом себе в своем действии или в
бездействии, в своих речах и реакциях. И притом он этого
не желает и не знает об этом. Благодаря этому он может
стать для опытного или просто наблюдающего человека
очень понятным. Это относится также к его тайным и
сознательно скрываемым побуждениям или настроениям.
Все это суть такие вещи, которые в большинстве
случаев нельзя выразить в понятиях, во всяком случае, те
особенные нюансы, в которых они выступают. Но это
означает, что есть вещи, которые даны только интуитивно, то
"174 Часть первая. Отношение проявления
есть высшему, нечувственному созерцанию. Знаток
людей - это тот, кто преуспевает в таком наблюдении и
набрался опыта, тот, кому, следовательно, вместе с внешним
выражением всегда дан и духовный образ человека.
Этот испытанный в практической жизни
проникновенный взгляд, который здесь всегда важен для
практического использования, существует все же без практической
цели. И здесь он приближается к эстетическому
созерцанию. Существует наглядное проявление духовного
содержания человека в его лице и в его поведении, которое
выходит далеко за пределы всех практических интересов;
это какое-то просвечивание честности, скромности,
душевной чистоты или, быть может, доброты, духа
самопожертвования.
Все это, правда, есть только моральные ценности. Но
их способ явления представляет собой нечто другое, чем
они сами. Он может быть ясным, светлым,
выразительным, может доминировать в общем впечатлении
личности, может пронизывать лицо и поведение или
преображать его. Такое наглядное явление человечески
благородного и доброго мы ощущаем в общем образе личности как
прекрасное. И это есть красота в настоящем
эстетическом смысле отношения проявления. Являющиеся
ценности суть не ценности явления, а только их содержательные
предпосылки, поэтому они не совпадают с ними и могут
там, где они даны иначе, быть поняты в другой, более
рациональной форме.
Но одно нужно здесь сейчас же выяснить: то, что здесь
"является", не входит в отношение проявления, а
существует безотносительно к нему в реальной личности; оно
существует и тогда, когда никто его не схватывает - ни
интуитивно, ни как-нибудь иначе. Речь идет ведь о
действительных моральных чертах человека вместе с их ценными
качествами, о действительном настроении,
действительном внутреннем поведении. Должны ли и они где-нибудь
являться, здесь не может- быть твердо установлено.
Важно только то, что когда они являются, то в этом их явлении
они не открываются, а существуют в себе независимо от
возможности становиться видимыми.
Поэтому отношение проявления здесь другое, чем в
произведении искусства. То, что там является, -
ирреально и существует только для созерцающего; здесь это
нечто реально существующее, которое открывается. Только
явление в другом, в чувственно данном внешнем есть как
таковое то же самое. И в этом отношении здесь также су-
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире *| 75
ществует подлинное отношение проявления. Это одно
связывает человечески прекрасное в реально живом лице
с прекрасным в искусстве. И поэтому отношение
проявления здесь такое же, как и в произведении искусства. Иным
является только способ бытия являющегося. Но в явлении
как таковом это не составляет никакой разницы.
Поэтому в данном пункте не нужно изменять учение об
отношении проявления. Оно лежит в сущности явления;
реальное может являться так же хорошо, как ирреальное.
В жизни это составляет очень большое различие; в
эстетическом отношении различие меньше, потому что здесь
речь идет не о схватывании реального (познании), а о
конкретной наглядности самого явления, так же как и о
тесной связи с чувственно данным.
Подтверждением этого смысла человеческой красоты
является разрушение такого впечатления выступлением
отдельных черт, которые выдают нечто совсем другое.
Так, например, обстоит дело в том случае, когда при
смехе или при разговоре на лице, прежде симпатичном,
появляется такое движение рта, которое выдает затаенную
хитрость, бесчувственность, коварство или даже тупость;
этого уже достаточно для впечатления дисгармонии,
когда она разоча ровывающе разрушает гармонию
спокойного состояния и вместо большой линии делает видимым
мелочность или слабость.
Это опять-таки этические моменты. Но явление в
видимом есть не этический момент, а разрушающий
чувственное впечатление как таковое, следовательно,
момент эстетически негативный. Эту неадекватность в
самом внешнем виде мы воспринимаем как некрасивое, а
когда оно становится навязчивым - как безобразное.
Здесь нарушена гармония, разрушено единство, которое
мы уже нашли и эстетически утвердили. А нарушенное
единство есть именно единство являющегося заднего
плана - именно реального, но показывающегося во
внешней форме. Это самопоказывание (Sich-Zeigen) и есть
явление, но разрушенное действием в чувственно видимом
переднем плане так, что оно разрушает его единство и
мешает его гармонии.
Внутренняя неадекватность во внешнем проявлении,
если только она выдает сама себя как таковую, есть
безобразное.
176 Часть первая. Отношение проявления
б. Красота в отношении к моральным
и жизненным ценностям
Проблема этого отношения не так уж и проста, как это
кажется на первый взгляд. Ясно, что содержание того, что
в красоте является как внутреннее, не может быть
ограничено моральными ценностями. Неценное также
принимается во внимание. Ведь это не сами этические ценности,
от которых зависит эстетическая ценность, а только их
чувственное явление. Как же могут этические ценности не
принимать участия в явлении, если они также
принадлежат к той же самой сфере человечески внутреннего?
Здесь все время существует опасность повторить
ошибку древней эстетики и эстетическую ценность
смешать с этической ценностью. Древние в своем понятии
ка^окауабш (прекрасный и добрый) сделали эту ошибку.
"Animus sanus in corpore sano" (здоровый дух в здоровом
теле),- гласит натуралистическое выражение и
предполагает прекрасную душу в прекрасном теле. Между тем
прекрасное как таковое уже предполагается, и даже в
обоих слоях. Поэтому таким путем нельзя объяснить
нечто лежащее в его основе. И в еще меньшей степени оно
может быть .заключено в отношении проявления.
И вообще не следует говорить о духовной красоте.
Ведь при этом всегда предполагают только моральную
ценность. Ибо настоящая красота есть лишь ее видимое
явление в прозрачности телесных форм и телесной
динамики. А для этого мы имеем в общем тонкое чувство.
Далее, человек с сомнительными моральными
качествами также может быть прекрасным. Это сбивает с толку в
феноменах человеческой красоты. Можно вспомнить об
Алкивиаде, высокоодаренном, но легкомысленном,
себялюбивом и вероломном, и о необыкновенной любви
Сократа к нему. Здесь мы имеем совершенно своеобразный в
своем роде характер, который также своеобразно и ясно
выражается во внешнем проявлении. Можно вспомнить и
о красоте молодого Нерона. И уже гомеровские образы
свидетельствуют об этом разладе; не каждый, подобно
Гектору! вполне совершенен и в видимом и в глубоком
внутреннем облике.
Сила, бесцеремонность, легкомыслие могут
выражаться на человеческом лице как счастливая
беззаботность, моральные затруднения - как неповоротливость,
обремененность, сопротивление. Красота не есть
выражение нравственных качеств; она, скорее всего, является
выражением внутреннего единства и цельности. Но то и
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 177
другое, высшее нравственное величие и цельность, могут
остаться невыраженными в наружном, скрытыми за
неадекватным внешним видом. В этом очень простом и
определенном смысле Сократ был безобразен.
Красота человеческого облика является непременно
делом отношения проявления. Последнее состоит здесь
- тогда, когда являющееся есть реальное, - в
адекватности внутренней и внешней формы, в проявлении одного в
другом.
Между тем смысл человеческой красоты этим также
еще не исчерпывается. Нужно продолжить
рассмотрение феномена ценности и перенести основу найденного
отношения на другие вещи, которые могут явиться во
внешности человека так же хорошо, как и моральные
ценности. К этому прежде всего принадлежат
жизненные ценности. Человек есть не только моральное
существо, но также - возможно, даже в первую очередь - и
органическое существо.
Только это само собой разумеющееся забывается
слишком легко, потому что оно воспринимается как
слишком, тривиальное. Но эстетически оно вовсе не
тривиально. Жизненные качества также могут быть скрыты, но
могут ярко выразиться и во внешнем и явиться чувственно.
Ничто в эстетике не является таким вульгарно пошлым,
как понятие о красивом человеке как о хорошо сложенном
теле (ни в коем случае не одного только лица), возможно,
что это даже самое древнее и самое первоначальное
понятие о красоте.
Это вульгарное понятие красоты глубоко обусловлено
сексуальными чувствами. Оно подчеркивает в красоте
женщин момент мягкости, нежности, юности, а в красоте
мужчины - момент силы, крепости, бесстрашия
(последнее понимается еще не этически, а как чувство силы).
Было бы совсем неверно отклонять такую
обусловленность как внеэстетическую. Она является
необходимой составной частью эстетического чувства красоты.
Но она так же мало идентична самой красоте, как и
нравственные моменты ценности, она является только
предварительным условием, чисто содержательным
моментом являющегося в эстетическом отношении
проявления. Эстетическая ценность только возвышается над ней
и является другой. Конечно, смешение с ней происходит
и имеет место в неясном или незрелом эстетическом
сознании. Здесь нужно только постепенно научиться
178 Часть первая. Отношение проявления
различать так же, как и по отношению к нравственному
чувству ценности.
Первоначальное понятие о человеческой красоте
должно было связываться вообще с впечатлением силы и
жизненной полноты. От этого у него многое сохранилось
вплоть до времен очень высокой культуры. Здесь везде
говорит сильное жизненное чувство; оно говорит и там,
где оно больше не обусловлено сексуально. Только
медленно наступает освобождение эстетического чувства
формы и движения от естественного чувства жизни и от
противоположности родов; просыпается чувство к
одухотворенной красоте, к постаревшему лицу с его густой
сетью морщин и следами судьбы. В мужском лице ее
нашли уже древние, а в женском лице - только в более
поздние времена.
Все это можно понять только из длинного бесспорного
преобладания жизненного чувства и основанного на нем
отношения проявления. Богатство форм отдельных лиц не
может это оправдать. Ведь в разговоре лицо
постаревшего богаче.
е. Явление типа
Этот вопрос касается человека не только как
индивидуума, но также и как представителя человечества.
Каждый человек представляет собой человеческий
род, чистый или смешанный, и всегда обладает общими
чертами: чертами своего времени и своего народа,
своего социального слоя или более узкой человеческой
породы, человеческого типа или среды. Эти общие моменты
играют в его наружном облике преимущественно
навязчивую роль, поскольку они в нем выражаются. Поэтому эти
моменты играют существенную роль и в отношении
явления, которое заключает в себе противоположность
прекрасного и уродливого. Если здесь иметь в виду, что в
жизни мы смотрим только очень поверхностно,
индивидуализирование и большей частью обращаем внимание на
лица, которые с нами встречаются, и довольствуемся при
этом относительно общим впечатлением (вспомним об
опрометчивом нахождении периферических "сходств"),
то эта роль типического станет очень понятной: мы всегда
стремимся "классифицировать" отдельного человека,
относя его к определенной категории.
Сам по себе такой взгляд есть только
практический мотив, разновидность жизненной экономии
(Lebensokonomie). Но он предрасполагает наблюдателя к
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире *|79
эстетическому созерцанию. Он нацеливает его на
привычное или на то, что кажется ему чем-то
общеобязательным, типичным.
Не всегда должны быть налицо существенные черты,
которые выражают предполагаемое типическое; при этом
могут приобрести значение совершенно случайные
ассоциации. Но могут быть и совсем незнакомые, только
смутно представляемые человеческие типы, которые
бросаются в глаза наблюдателю, а именно отдаленный тип
предков, которых мы не знаем, но черты которых все же
проявляются или в лице, или в поведении человека часто
уже в детстве и обращают на себя наше внимание.
Иначе обстоит дело с типичностью формы
человеческих лиц, а также фигур, способов движения: мы не имеем
о них никакого представления, никаких характеристик, мы
можем их слегка обозначить только по сообщению других
лиц (только творческий художник может их воссоздать). И
все же наше чувство человеческого своеобразия
способно проследить их вплоть до мельчайших деталей. Эта
классификация настолько обычна, что незнакомые лица,
которые видим в первый раз, мы способны определить
сразу при ее помощи; однажды схваченный тип
предупреждает анализ. Мы ожидаем от этого типа определенную
манеру разговора, жестикуляции, мимики и даже способа
действий, одним словом, характер определенного
склада. И все это часто бывает справедливо. Духовный тип
большей частью как-то соответствует наружной форме
типа.
Но так как эта типическая форма является чисто
интуитивной и своим неожиданным явлением ни в коей мере
не связана с практическим интересом наблюдателя, то ее
появление в индивидууме легко приобретает
эстетический характер. Это означает то, что главным в этом
становится само явление. Индивидуум со своими
особенностями действует как передний план, который делается
прозрачным для чего-нибудь другого. Это другое есть тип, и
безразлично, есть ли это тип народа, или тип времени,
или более ограниченный человеческий тип. Тип
просвечивает через особенности индивидуума и дает ему
сверхиндивидуальное значение.
Так, в осязательной конкретности отдельной личности
нам является тип профессии: горнорабочий, крестьянин,
моряк, делец, офицер, священнослужитель; этот тип
является нам, хотя мы в дальнейшем не имеем с ним
никакого дела. Таким же образом являются и типы националь-
180 Часть первая. Отношение проявления
ностей: англичанин, испанец, румын, китаец или индиец.
По содержанию сюда относится вообще многое из того,
что невидимо: выражение жизненной формы, стиля
жизни, среды, определенного общего круга. Все это стоит в
известной независимости от собственного ощущения и
имеет место даже тогда, когда это воспринимается как
чуждое и лично неприемлемое.
Но в этом существует нечто такое, что мы только ради
него самого ценим как явление, и именно только потому,
что оно производит на нас впечатление определенно
выраженной и законченной целостности формы, в то время
как сама индивидуальность в чрезмерной полноте
отдельных черт легко ускользает. По отношению к такому
выражению целого она действует как "случайное дополнение".
Последнее может быть очень субъективной оценкой.
Но человеку свойственно ей подчиняться, потому что он
не мог бы так легко охватить все безбрежное
разнообразие индивидуального. Большинство людей в своем
восприятии человеческого вообще только в виде исключения
проникают до индивидуальности.
Резкое отделение от практического и эстетического
понимания человека здесь едва ли возможно, да и не
нужно. Гораздо чаще одно переходит в другое
незаметно, точно так же, как это происходит на границе между
жизненным и эстетическим созерцанием человечности
телесного.
Но как здесь, так и там остается характерным
поступательное продвижение от неэстетического к
эстетическому. Мы начинаем с практического интереса и
благодаря важности того, что является, достигаем эстетической
точки зрения; интересующийся становится
наблюдателем, открыто воспринимающим и в восприятии
теряющим себя, он переживает переход к "удовольствию без
интереса".
В этом нет ничего удивительного: ведь нечто подобное
происходит всегда при переходе к теоретическому
рассмотрению, и довольно часто это бывает при отыскивании
типического: забываются ближайшие цели и обращаются
к явлениям ради них самих. При эстетической точке
зрения это бывает еще чаще.
Здесь мы имеем один из существенных пунктов, в
котором в жизненной связи делается осязательным
переплетение корней эстетической точки зрения и ее предмета,
прекрасного. Не все эстетическое созерцание является
равным и чистым, существуют всякого рода переходные
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире "| 81
формы. Такие переходные формы мы встречаем также и в
других областях прекрасного. Только в искусствах
отделение более резкое.
г. Ситуация и драматизм жизни
Но имеется еще нечто другое, что "проявляется" в
человеке, - и не только в его внешнем виде, а также не в
отдельной личности как таковой, но и в совместной жизни
многих людей, в их встречах и столкновениях друг с
другом. Если подумать, что существует драматическое
искусство (а также, впрочем, и этическое), которое эти вещи
представляет сознательно, то становится почти само
собой разумеющимся, что уже в самой жизни это
"совместное бытие" (Miteinandersein) также должно являться
предметно, хотя ситуации и конфликты в строгом смысле
слова неощутимы (не даны чувственно), так же как и духовное
содержание отдельного индивида.
Это можно назвать "драматизмом жизни". Выражение
взято из поэзии; но это правильно, потому что, без
сомнения, впервые его открыли поэты - "открыли" именно в том
смысле, что они всегда существующее и многократно
воспринимавшееся научили видеть как таковое и
благодаря этому эстетический предмет в нем сделали
осязательным.
Ведь то, что этот драматизм можно видеть как таковой,
далеко не самоочевидно, пожалуй, еще меньше, чем то,
что можно видеть ландшафт. Для этого нужна особая
точка зрения, несколько отдаленная от практической жизни,
так как человек в практической жизни ее не имеет и не так
легко достигает. Эту точку зрения можно назвать
искусством эстетического переживания. Переживание не
входит в восприятие, хотя оно постоянно остается
зависимым от него. Но эстетическое переживание выходит за
пределы восприятия, потому что оно стоит выше
вульгарного переживания. Ведь последнее есть переживание,
практически принимающее участие в событиях или
заинтересованное в них.
В обыденном переживании человек включен в
ситуации, он представляет определенную сторону или же
принимает чью-либо сторону со всей субъективностью и
страстностью, с собственной симпатией и антипатией. В
эстетическом же переживании он оставляет все это
позади себя, поднимается над этим, становится выше
практической заинтересованности и партийности. В качестве со-
182 Часть первая. Отношение проявления
зерцающего он идет "рядом" с жизнью, к которой все же
реально принадлежит, и смотрит на жизнь "со стороны".
Для этого нужно очень многое. Человек в большинстве
случаев не может это получить извне. Для этого нужны два
совершенно различных дарования. Беспристрастное
отношение к собственной удаче и неудаче есть только одно
из них; другое состоит в способности пластического
видения событий. Первое делает человека наблюдателем
жизни, второе - ясно видящим, понимающим, проникающим.
Конечно, между ними должна быть также причинная связь.
Но она не снимает различия в сущности обеих
способностей, и наличие их обеих у одного человека встречается не
так часто, как можно было бы предположить. Поэтому от
нас большей частью ускользает драматизм жизни, в
котором мы принимаем участие, вместе с его полнотой
явлений не потому, что мы слишком далеки от него, а потому,
что мы стоим слишком близко к нему. Ведь с самого
начала мы находимся в самом центре драматизма.
Эстетическая точка зрения в жизни и на жизнь
встречается редко; изолирующая высота очищения, которую
она предполагает, не должна помешать узнать в ее
объекте большой эстетический предмет, который всегда
наличествует и ждет только момента, когда созреет
воспринимающее сознание. Потому что драматизм жизни состоит
в непрерывной цепи ситуаций, в которую попадает
человек, и в его стремлении одолеть ее1. Все человеческие
планы, удачи и неудачи, вся эфемерная деятельность с ее
последствиями, которые сами снова вызывают
неожиданные ситуации, все предвидения и отказ от предвидений,
все разгадывания чужих намерений и настроений, а также
всякий самообман в отношении их, все переплетение
различных интересов и начинаний, всякая вина и
невиновность, ложные и правильные обвинения и извинения -
вплоть до самых больших роковых событий, - все это
относится к драматизму жизни.
Богатство содержания этого огромного разнообразия,
которое составляет человеческую жизнь, неисчислимо.
Сюда относится вся этическая жизнь, понимаемая
позитивно и негативно. Она оказывается "материалом"
эстетической предметной области, которую мы никогда не
исчерпаем. Но в качестве эстетического предмета она
представляет собой нечто иное, чем в качестве предмета
этического.
1 Сравним здесь более точный анализ структуры ситуации в "Das
Problem des geistiges Seins", Aufl. 2, 1948, Кар. 12, "b", "с", в
особенности взаимопереход свободы и несвободы.
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 183
Например, как раз маленькое, мелочное, ничтожное,
этически незначительное или презренное, слишком
маловажное, чтобы хоть на секунду привлечь к себе внимание,
может стать эстетически значительным, если оно
проливает свет на внутреннее содержание человека или на
разногласие между двумя людьми. И причиной этого может
быть как мелкое и отрицательное, так и нравственно
великое и положительное. Это зависит от силы явления
(Erscheinenlassen).
Являющееся многообразие человеческого
содержания здесь не меньше, чем во внешнем виде (в лице и
поведении отдельных личностей). Оно, пожалуй, еще
больше. Ведь оно выросло до размеров общества
(Gemeinschaft).
При всем этом нужно строго придерживаться
следующего: прекрасны не человеческая добродетель, не судьба,
трагедия, величие или борьба и комичны не мелочность,
слабость, тривиальность, а лишь явление всего этого в
особом переживании. Таким образом, можно также сказать:
только прозрачность непосредственно пережитого для этих
самих по себе отнюдь не эстетических, а скорее
практических вещей является эстетическим моментом, от которого
это зависит.
Здесь, во всяком случае, нужно заметить одно: умение
видеть жизнь драматически - это дарование не только
редкое, но и обоюдоострое. Оно легко превращается в
бессердечность, бесцеремонно следуя за собственно
эстетическим наслаждением. Эстет, который
"наслаждается" каждым конфликтом в жизни как таковым (большей
частью, конечно, не своим собственным), или юморист с
развитым чувством комического относятся к реально
случившемуся в жизни, как зритель к игре на сцене. Он
совершенно забывает, что здесь имеет место не игра, а
горькая действительность, что борьба и страдания
действующих лиц подлинны; тот, кто этим забавляется,
бессердечен. И тот, кто вот так "эстетически" шагает по
жизни, наслаждаясь совершающимся вокруг себя как
игрой, сам дезориентирован, он воспринимает
действительность не как морально здоровый человек. Ведь у него,
в сущности, отсутствует предварительное условие для
правильной эстетической оценки жизни, и в конце концов
он приносит себя в жертву тому, за чем гонится.
Предварительным условием является безупречное и
безошибочно правильное моральное чувство, правильный ответ на
все пережитое, его оценка.
*| 84 Часть первая. Отношение проявления
Здесь часто происходит превращение внутреннего
поведения в аморальное и бессердечное, в карикатуру и
насмешку, в высокомерие и дешевый скепсис. Настоящий
юморист так не воспринимает жизнь; он в смехе не
забывает серьезность действительности - напротив,
благодаря контрасту он, пожалуй, принимает ее еще ближе к
сердцу. И для этого также необходимы зрелость,
моральная сила и немного настоящего превосходства.
Видение и чувствование комического в жизни часто
бывают относительными; они подчас есть уже у ребенка,
когда он, например, дразнит учителя в классе и
забавляется его слабостями. Грубость при этом, конечно, с
моральной точки зрения, отрицательна, но чувство
комического в этом явлении (именно в негодовании педанта)
может быть в высшей степени подлинным. Даже для
взрослого, пожалуй, не всегда легко, забавляясь
общечеловеческим в жизни, держаться в правильных границах. Но это
ничего не меняет в эстетическом наслаждении и в
фактическом проявлении человеческих слабостей.
Гораздо более редкое явление в жизни - эстетическое
наслаждение человечески серьезным, трагическим,
нравственно великим и сильным. Дело в том, что мы с нашими
собственными ответными чувствами, участием, болью
или возмущением сами втягиваемся в происшедшее.
Тому, кто подходит к делу с моральной точки зрения
правильно, трудно быть безучастным наблюдателем. Но тот,
кто созерцает происшедшее как бы на расстоянии и
достигает спокойствия равнодушного наблюдателя, должен в
то же время иметь морально открытое сердце для людей
и ситуаций, потому что и те и другие реальные, а не
разыгранные, Он должен, следовательно, - и это антиномично -
одновременно принимать и не принимать участие, быть
вовлеченным в ситуацию и противостоять ей как
созерцатель, оценивая морально и в то же время эстетически.
Эта позиция граничит с сверхчеловеческой. Она
требует двух душ в одном человеке, двух разнородных
переживаний. Возможно, что это свойственно только поэту,
искусство которого оправдывает себя тем, что серьезно
относится к наблюдаемому. Но в таком случае это есть
уже искусство, и не прекрасное, содержащееся в самой
жизни.
Такая позиция возможна в жизни. Ведь имеет же
человек, в сущности, удивительную свободу видеть себя
самого в своей борьбе, действиях и страданиях со стороны,
смеяться и плакать над собой и одновременно оценивать
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 185
все это с позиции знаний о себе и быть самим собой.
Разве не мог бы он принципиально точно так же относиться к
чужой личности и к чужой судьбе?
ГЛАВА 9
ПРЕКРАСНОЕ В ПРИРОДЕ
а. Красота живого
Очень часто слова "прекрасное в природе" наводят на
мысль о "прекрасной местности", о море и суше, горах и
долинах. Но в этих понятиях заключены трудные
эстетические проблемы, ибо характер субъективного и
привнесенного фантазией здесь гораздо существеннее, чем
просто в самих предметах природы, а также потому, что в
эти понятия привносятся многие жизненные чувства,
которые хотя и полны радости, но не эстетичны.
Поэтому здесь нужно начать с чего-то другого, в чем
характер эстетического предмета может быть легче
уловлен в чистом виде. Это другое есть прекрасное в таком
виде, в каком оно нам является почти во всем живом.
При этом мы отступаем в ряду внехудожественных
эстетических предметов на одну ступеньку назад: от
прекрасного в человеке к прекрасному в животном и в
растении. Это не является педантичностью, а скорее относится
к проблеме естественных связей. Человек ведь тоже
организм, и все прекрасное, опосредованное через его
жизненные чувства, является уже красотой органического
мира. Вряд ли можно сказать, что органически прекрасное в
животном производит меньшее впечатление, чем
органически прекрасное в человеке. Наслаждение видом
прекрасного животного есть нечто присущее всем людям; при
наслаждении красотой в животном встречается часто
гораздо меньше затруднений, чем при наслаждении
красотой в человеке, потому что здесь, как правило, мы не
встречаемся с отталкивающими сторонами. Здесь
отсутствует и вся область морального: мы не только знаем, что
животное невинно, но мы ощущаем эту невинность при
созерцании.
Здесь, перед нами, конечно, чаще предметы чисто
жизненного, а ни в коем случае не эстетического
наслаждения. Так, нам нравится мягкий мех котенка, которого мы
гладим, но еще более чисто жизненным наслаждением
является впечатление от верной собаки, от ее трогательной
привязанности к хозяину, от ее игривости и необуздан-
186 Часть первая. Отношение проявления
ности, когда хозяин с ней играет. Здесь везде еще
отсутствует дистанция предметного созерцания, которая
необходима для эстетического наслаждения.
Но уже в этих отношениях, которые жизненны или
находятся совсем близко к жизненным, может появиться эта
дистанция предметного созерцания, и при этом
обнаруживается наглядность эстетического предмета: движение
или фаза движения, грация прыжка, выражение
напряженности в положении животного поражают нас,
заставляют обратить внимание на нечто другое, что невидимо,
но реально существует. Это нечто другое есть, по
меньшей мере, чудо природы самого органического бытия в
силу своего своеобразия, его родства с нами и его
особенности.
Ведь в действительности в таком взгляде содержатся
оба вышеуказанных момента: то, что нам хорошо
известно, побуждает в нас собственное жизненное чувство и то,
что совершенно от нас отлично, является безусловно
животным и не нарушается никакими конфликтами, или,
выражаясь иначе, убедительно инстинктивным и
определенным в реакции, в чем животное превосходит человека.
Ощущение этих вещей имеет преимущественно форму
туманного предчувствия, глубоких мысленных связей,
чтобы не сказать большего - мудрости в строении, в
членении, в способе функционирования и реагирования
животного существа. И если продолжать эту мысль, то это
есть, теоретически выражаясь, ощущение действительно
удивительной и благодаря ее совершенству
превосходной целесообразности, которая заключена в целостности
органического существа.
Истину этого составляет как раз нечто объективное:
эстетическая радость, которую доставляет животное,
переходит в глубокое удивление перед большой
метафизической загадкой органического, потому что эта радость
обусловлена внутренней целесообразностью
органического мира, все части и все проявления жизни которого
взаимосвязаны и воодушевляют нас своей побеждающей
гармонией. С теоретическим исследованием это не имеет
ничего общего, хотя такие впечатления могут наводить на
научное размышление. Гораздо большее впечатление мы
получаем от непосредственного и наглядного восприятия:
у удивительного невольно возникает эмоция, оно
неминуемо при чувственном созерцании. Здесь не
рефлектируют, точка зрения обнаруживается в свободной отдаче; и
довольно часто момент неожиданности при этом является
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире *| 87
решающим. Человек не может удержаться от эмоций,
очутившись вдруг лицом к лицу с чудом творения.
Эмоция этого рода является настоящим эстетическим
наслаждением при созерцании, возникающим в нас
посредством осязаемых отношений проявлений; причем
глубина наслаждения в соответствии с объективной глубиной
того, что нами воспринимается, весьма различна. Можно
чувствовать чудо органического глубоко или
поверхностно, но всегда это осуществляется посредством взгляда,
проникающего внутрь чувственно данного, и посредством
чувства, проникающего внутрь того, что не дано
чувственно.
Необходимо отметить, что состояние восхищения или
удивления ни в коей мере не ограничивается такими
случаями, при которых развязка состоит в жизненных
чувствах симпатии. Примеры, взятые из жизни преданных
домашних животных, могли бы при этом ввести в
заблуждение. Но они односторонни. Подобная позиция
распространяется на очень отдаленное от нас и чужеродное.
Полные изящества прыжки белки высоко в кронах
деревьев действуют точно так же возбуждающе. Полет ласточек,
крик хищной птицы, скользящее движение плывущей
форели или воздушный прыжок играющего дельфина - все
они действуют одинаково. Только для нынешнего
городского человека они далеки. Он не имеет возможности так
просто видеть эти явления. Самое глубокое впечатление,
может быть, оставляет все неожиданное, если оно
улавливается, - а именно скользящее парение пеликана на
воздушной волне, образующейся перед водяной струей.
При первом взгляде еще непонятно, что там происходит;
планерист знает этот процесс, но здесь он совершается с
исключительной виртуозностью.
Но еще гораздо дальше в область чужеродного
простирается феномен. Есть живые существа, которые
кажутся человеку жуткими и враждебными, к которым он
открыто или тайно испытывает отвращение: змеи, жабы, пауки,
большие ящерицы. За этим чувством скрываются
инстинктивные моменты страха человека древних времен,
когда еще существовала действительная угроза этих
существ, и все же, когда мы отдалены от них и
рассматриваем их предметно, также может возникнуть удивительное
восхищение от непривычного. Само чувство
видоизменяется: мы усматриваем вдруг нечто королевское в высоко
поднятой голове змеи (такое сравнение употребляет
сказка), и движения паука-крестовика, который плетет
188 Часть первая. Отношение проявления
свою паутину, становятся убедительными для нас. Еще
Гердер говорил об этих "в себе безобразных" формах
животного как о неудачных созданиях природы
("отвратительный крокодил"); в действительности за этим взглядом
скрывалась неспособность к дистанции и рудимент
наследственного чувства страха. Природа ведь создана не
для человека.
Точно так же обстоит дело и с более
низкоорганизованными представителями царства органического. Везде
существует то же самое отношение. Так, вызывает
восхищение великолепие бабочек, морских звезд и медуз,
радиолярий и инфузорий. Малый мир органического полон
"искусными формами природы". И, конечно, то же можно
сказать и о мире растений.
Для человеческого восприятия красота открывается
здесь еще быстрее, хотя или, может быть, именно
благодаря тому, что растение стоит дальше от человеческого
жизненного ощущения. Контакт человеческого сердца с
органическим здесь гораздо слабее, но зато уменьшается
возможность нарушения эстетической дистанции
собственным жизненным чувством.
Здесь не возникает тотчас же мысль о сказочном
великолепии пестрых цветущих растений, но еще больше
жизненной радости от красочности или причудливости форм,
даже от некоторого общечеловеческого символизма; в
известных границах каждое растение в его развитой
форме можно считать с полным правом произведением
искусства. Это относится к стройной былинке с
наклонившимся в сторону колосом, совершенной форме сосны, бука
или березы, к "злой" жилке в коре старого дуба, к
громадному стеблю агавы и к ее копьеобразным листьям. Здесь
везде является нам нечто от таинственной
целесообразности живого, от органического строения зависящих друг
от друга функций его саморазвития, его стремления к
жизни, к самоутверждению и к его неорганическим силам
самостоятельности, приспосабливающейся к
окружающей обстановке.
Аналогичное воспроизводится во всех группах стоящих
вместе родов: в моховом ковре, в колонии тимиана, луге,
степи, в группе деревьев и в лесе. Но здесь уже
эстетическое чувство переходит в другой вид - в радость от
ландшафта.
Высокую эстетическую прелесть в царстве
органических форм образует чувствительная обидчивость, опасли-
вость и экспонирование в сравнении с безобидным рав-
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 189
нодушием, а также с бесчувственностью организмов по
отношению к тому, что им угрожает. Они неосторожно
предоставляют себя своей судьбе, погибают тысячами, но
другие тысячи расцветают на их месте. Они смутно
предчувствуют ужасную жестокость, которая господствует в
жизни родов, - жестокость против индивидуума в пользу
жизни поколений - и невольно удивляются той
расточительности, которую, как кажется, проявляет природа по
отношению к своим собственным драгоценным
произведениям.
Это тоже есть отношение проявления, не имеющее
никакого отношения к рефлексии или знанию. Потому что
самое удивительное здесь то, что мы благодаря этой
жестокости и безразличию интуитивно чувствуем их
уравновешенность и гармонию в мире живой природы.
Спокойствие само собой разумеющегося, с которым
прекрасный по форме индивидуум проявляет эту роковую
жестокость, имеет для человеческого ощущения нечто
трогательное, стремящееся к любви. И в
действительности это вид любви, с которой человеческое сердце
окольным путем через эстетическое созерцание охватывает
грандиозное богатство форм живого.
б. Красота в динамическом строении
Этот же самый принцип можно распространить и на
неорганические произведения, следовательно, на
неживую природу. Существуют различные вещественные
образы, которые порождают в нас настоящее эстетическое
восхищение, хотя их не так много, как можно было бы
предположить; ведь большинство "вещей", которые
окружают нас в жизни, искусственно переоформлены, и они не
причисляются, конечно, к красоте природы.
Здесь лежит одна из причин того, почему красота в
неорганической природе не так привычна для нас, как в
органической. Последнее объясняется еще и тем, что
первичное и самостоятельное в их динамическом строении,
которые могли бы скорее всего приковать эстетическое
чувство, большей частью бывают отделены от нас
благодаря своему размеру; они или слишком велики, или
слишком малы, чтобы быть чувственно ощутимыми.
Примерами этого могут служить, с одной стороны, небесные тела и
их системы, с другой стороны, атомы и молекулы.
Средняя сфера, которая поддается прямому восприятию,
почти начисто отделена от них. Все же есть также некоторые
примеры внутри этой сферы. Самым известным приме-
190 Часть первая. Отношение проявления
ром являются кристаллы с их особенным правильным
построением. Даже там, где мы не знаем геометрических
законов этого построения (систему осей), мы ясно
ощущаем посредством простого созерцания не только их
существование, но также и скрытую тенденцию их частей по
ее принципу "пристреливания". Здесь, несомненно,
налицо отношение явлений.
Примеров можно перечислить много, если
присоединить к этому эфемерные явления. Например, зеркальная
поверхность воды, совершенная фигура капли с ее
естественной формой пули (конечно, неясно видимая при
падении). Подобным примером является концентрически
разбегающиеся круги волн на поверхности воды,
симметрия круговорота в задержанном течении или даже
феномен подпрыгивающей капли после падения. Еще более
знакома равномерная игра волны и игра света в ней;
нечего говорить и про такие бросающиеся в глаза явления,
как, например, молния, радуга, скопление туч в небесной
синеве.
Относительно феноменов последнего рода речь не
может идти об их динамическом построении. Но и из этих
построений бывают такие, которым хотя бы косвенно
можно было бы придать форму видимости
(телескопически или фотографически). И тогда им также нельзя
отказать в эстетической силе впечатления. Сюда принадлежит
система Юпитера с его четырьмя большими лунами, так
же как и удивительная круговая система Сатурна. В этих
картинах представлено нечто от динамики построения в
ее наружной форме; внутреннее само по себе невидимое
становится ощутимым. Наблюдатели давно восприняли
это невидимое и выразили о нем свое мнение.
Кеплер в своей "Мировой гармонии" пошел гораздо
дальше. Он благодаря знаниям и расчетам посредством
соотношений величин составил общую картину этих
явлений, прочувствовал их как величайшую красоту
невидимой системы планет. Сегодняшние оптические средства
позволили сделать большее. Они сделали для нас
видимыми большие системы спиралей, наружные формы
которых, без сомнения, свидетельствуют о единстве
динамического построения. То же самое относится к скоплениям
шарообразных звезд, так же как и к некоторым
туманностям. В этих примерах достойно внимания то, что их
построение не может считаться научно объясненным; на
передний план выступает непосредственное эстетическое
созерцание.
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 191
Если продолжить кеплеровский способ видения
дальше, то можно прийти к выводу, что эстетическое
созерцание распространяется также на все эстетические
динамические структуры. В таком случае оно связано только с
известными условиями предварительной научной работы,
которая, конечно, недоступна основной массе людей. Так,
например, законы атомной физики очень хорошо
подчиняются эстетическому созерцанию, хотя они в высшей
степени математичны и по формулам абстрактны,
следовательно, строение атома само по себе приводит к
созерцанию. Последнее очень ясно выражается посредством
образцов моделей - конечно, гипотетических.
Математики называют это отдалением от созерцания, но только
потому, что они считают созерцание чувственным. Это
односторонне. Все косвенные познания имеют тенденцию к
высшему созерцанию и делают это; сами же понятия,
которыми оно пользуется, являются, в сущности, не чем
иным, как только вспомогательным средством высшего
созерцания: ведь они только тогда становятся живыми,
когда действительно наполнены созерцанием. Поэтому
момент созерцания в них может в любое время проявить
свою эстетическую сторону.
Вообще соотношения величин имеют созерцательно-
эстетическую сторону. В геометрии это хорошо известно.
Что, например, можно сказать относительно многократно
отмечавшейся красоты эллипса? Именно то, что в его
форме виден закон, который мы можем созерцательно
ощутить, не понимая этого разумом. Эллипс содержит
отношение явлений.
В этом следует искать тайну притягательной силы
всей математики (до мифа о "совершенной науке",
который ее окружал с давних времен): соединение чистой
игры с формой и именно в нем выступающим отношением
явления.
е. Красота ландшафта
и родственных ему видов
Это уже содержалось в наших последних
наблюдениях. Кроме того, они подводят нас к рассмотрению
опосредствованного и областей (пусть их существование и
весьма спорно), находящихся на границе с эстетическим.
Нам снова необходимо вернуться к
непосредственному, имеющему центральное значение для понимания
всего вопроса. В сферах прекрасного в природе есть прежде
всего такая область прекрасного, как ландшафт; потом,
192 Часть первая. Отношение проявления
разумеется, к ней относится и много других вещей: море
с его волнением, небо, на котором постоянно изменяются
облака, всегда неизменное звездное небо и т. д.
Ведь под их влиянием у нас "смягчается сердце", мы
находим у них прибежище от суеты, шума большого
города; мы как бы сливаемся с ними, окунаемся в них и
пытаемся найти среди них забытье.
Именно поэтому все это не только безоговорочно
относится к эстетическим предметам, но и в той же мере - а
может быть, и главным образом - является предметом
нашего жизненного чувства. Но данный предмет
необходимо четко отличать от эстетического предмета. Это не так-
то легко сделать, потому что они имеют дело с одним и
тем же. Кроме того, здесь везде жизненное чувство
переходит (границы этого перехода указать невозможно) в
эстетическое удовольствие, точно так же, как мы это только
что видели и в органически прекрасном. Различие между
ними только в том, что при виде организма жизненное
чувство говорит нам о чем-то объективном, а при взгляде
на ландшафт - о разнообразных субъективных реакциях,
которые свойственны только наблюдателю и которые в
нем происходят в соответствии с объектом.
На жителя крупного города точно так же могут навести
тоску и коровник и овощные грядки, как и степь и снег на
вершине горы, но они обычно не поднимаются до ранга
эстетических предметов. Следовательно, и здесь должна
быть проведена граница, хотя она отнюдь и не будет
строгой линией деления. Но ее нельзя провести только по
отношению к одному предмету, потому что горы и долины,
леса и луга также возбуждают жизненное чувство -
стремление освободиться от моря домов, шума и серой
повседневности. Тот же самый жизненный характер имеет и
радость, которая испытывается тогда, когда отдаются
природе и как бы растворяются в ней. Совершенно очевидно,
что это - жизненное наслаждение, не говоря уже о
потребности в свежем воздухе, в отдыхе и смене одного другим.
К сказанному здесь необходимо добавить
соображения о моменте дистанции к предмету. Человек ощущает
себя скорее находящимся внутри ландшафта, а не только
пространственно. Это, очевидно, существенно для его
ощущения: он считает себя возрожденным, приятно
окруженным, он даже испытывает желание стать единым с
природой. Тем самым в значительной мере устраняется
не только эстетическое, но и вообще предметность
окружающей природы.
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 193
Только на фоне этого примитивного слияния с
природой выделяется процесс становления ландшафта в
эстетический предмет.
Как это достигается - это второстепенный вопрос. Но
это достигается прежде всего благодаря тому, что
останавливают свое внимание на отдельных картинных
впечатлениях. Например, открывается просвет, густо
обрамленный стволами и ветвями, линии вершин пересекаются,
на дне долины расположена деревня; все в целом
действует как "картина", хотя мы не пытаемся, не желаем
считать ее таковой, а может быть, это для нас совершенно
неожиданно.
Теперь созерцающий как бы выделился, он находился
против просвета. Вернее, ландшафт - против него. Теперь
сам он, в сущности, только стал созерцающим
наблюдателем и благодаря этому тем, кто эстетически
наслаждается. То же самое имеет место с ним при виде части
глубокого леса - теперь он предметно видит зеленый полусвет,
играющие солнечные лучи или поляну, часть источника,
группу деревьев и голую скалу на заднем плане.
Существенным является характер картины, обрамление,
приподнятость. То, что представляется внутренним, - это другой
род слияния с природой и отдачи себя, другой род
радости и наслаждения.
Как ни трудно выделить эту стадию в чистом виде (ведь
воздействие жизненных чувств нельзя при этом
исключать), одно все же ясно доказывается этим - то, что
свойственно только эстетической предметности - отношение
явлений.
Но что является здесь? Ведь существует нечто, что
может проявиться как единство и целостность в таких
объективно видимых, но все же произвольных отрезках?
Например, в том смысле, в каком может раскрыться и
действительно раскрывается при виде живого тайна
органической жизни с ее целесообразностью.
На этот вопрос можно дать простой ответ: что-то есть.
Ведь во всей природе все согласовано друг с другом:
вместе существует только то, что может существовать
вместе, и очевидно, что не все может существовать
вместе. Виды растений вытесняют друг друга, конкурируют
друг с другом, и это имеет существенное значение как для
их способа существования, так и для их
формообразования; лес и степь бывают только там, где позволяет почва,
они зависимы от круговорота воды. Их сменяет голый
камень и голый песок. Хотя созерцающий и ничего не знает
194 Часть первая. Отношение проявления
об орографии страны и не интересуется ею, но все же она
предстает ему при взгляде на ландшафт как нечто
непонятное, а изменения роста растений определяют картины,
которые ему предлагаются; и как раз в смене картинных
отрезков он интуитивно предчувствует нечто из этих
связей.
Тому, кто привык рассматривать ландшафт
исключительно с точки зрения живописи или даже определенных
достижений пейзажной живописи, все это несвойственно.
Он смотрит на природу с историко-художественной точки
зрения; ему недостает естественной точки зрения на
ландшафт. Иначе обстоит дело, если подходить
непредубежденно к богатству форм и красок, которое
представлено на поверхности земли в бесчисленных картинах.
Кроме того, язык картин красноречив: они открывают и
скрывают, рассказывают и задают загадки; свет, синева,
даль выражаются в них задолго до того, как их
воздействие понято как таковое. Ибо и ландшафт человек видит
сначала не живописно, а предметно.
Вспомните о ландшафте морского берега со скудным
прибрежным овсом и низким лесом, склонившимся под
морским ветром; о странствующих дюнах с их
волнообразными очертаниями, с их обрывом в сторону суши и
следами бывшего леса. Или о верхней границе высокого
леса в горах и кажущейся границе снегов. Не иначе
обстоит дело и с отшлифованными куполообразными
формами льда глетчера ледникового периода и
оставшимися озерными краями с их обилием островов. Один шаг
дальше - и стоишь у такого же точно по форме
болотистого ландшафта бывших лагун со скудными деревьями,
степью и лугом.
А, кроме того, вспомните о том, что человеческая
жизнь заключена в ландшафт отдельных дворов и
деревень, о доказательстве борьбы человека с силами
природы и того, что природа дала. Сюда же относится и
мирная картина огороженных полей (как их видел
Шиллер в своей "Прогулке"), полная предчувствий картина
труда и счастья, удач и неудач в борьбе за жизнь и пищу;
но одновременно и более глубокое представление о том,
что поколения местных жителей срослись с той почвой,
на которой они, созидая, вырастали, о родине и чувстве
родины.
Чем дальше удалился от этого коренной городской
житель, тем глубже подобное представление. Но и без таких
многозначительных задних планов это везде принципи-
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 195
ально одно и то же: при взгляде на скромную рыбачью
деревню с бедными хижинами и лодками и сетями на
берегу, то же самое при созерцании горного пастбища и стад
скота в горах.
Было бы совершенно неверным являющееся
содержание образного элемента отделять от чувственного так, как
будто бы здесь идет речь о двух различных вещах; точно
так же было бы ошибкой картину городских руин,
преобладающую на западе Германии, которая убедительно
напоминала о жизни, уже не существующей, отделить от
мягких форм холмов окружающего ландшафта. Для обеих
характерно как раз это одно в другом. Но в этом "одно в
другом" существенно отношение проявления чувственно
данного и не данного - даже для не имеющего
представления о данной картине.
При этом образный элемент с его характером отрезка
вовсе не изолирует, а только более подчеркивает,
усиливает впечатление. Смена перспектив, изменение картины
с изменением расположения, перемена света и времени
года - все это вызвано заботой о конкретности и
непосредственности, так же как и о всегда сопутствующем
осознании явления как такового.
г. Красота природы и искусство
Уже набили оскомину утверждения, что только
искусство открыло красоту природы. Это есть подтверждение
истории духа. При этом вспомните прежде всего о
живописи, так как полагают, что именно она раскрыла человеку
эстетическую тайну ландшафта.
Нет сомнения, живопись делает это, "рисуя"
ландшафт, то есть его изображает. Она учит смотреть его
именно так. Древние еще проходили мимо ландшафта;
итальянцы строили свои изображения различных сцен на
его фоне (они вводили его очень скупо и только для
сопровождения, что часто соответствовало художественному
замыслу); голландцы делали его самостоятельной темой;
французские импрессионисты при его изображении
придавали самостоятельное значение свету и краскам и т. д.
При этом каждой ступени соответствовала новая ступень
видения человеком действительного ландшафта.
В указанной форме мысль получает право на
существование. Она имеет строгую аналогию с открытиями
искусства в других областях: драматический поэт открыл
драматическое в жизни, комический поэт - комическое,
сатирический - смешное и, возможно, даже остроумное. Мож-
196 Часть первая. Отношение проявления
но было бы поднять вопрос, не открыл ли впервые
эпический поэт героическое или религиозный поэт - богов и
жизнь в вере.
Но как раз последние аналогии показывают, что нельзя
принцип доводить до абсурда. Самая глубокая мысль
может стать заблуждением, если ее преувеличить; ее нужно
свести к ее естественной мере и именно для того, чтобы
можно было лучше ею воспользоваться. Герои почитаются
и без поэта, а боги без него являются богами, которым
молятся; только одни были им идеализированы и
увековечены, а другие оказались в царстве наглядности и
очеловечены. Но это не то же, что быть открытыми.
Но нельзя не признать наличия во всех этих областях
огромного влияния художника на развитие самого
эстетического взгляда независимо от того, какой предмет он
изображал и каким материалом оперировал. Поэтому
нужно будет также приписать ведущую роль пластике в
раскрытии эстетического взгляда на человеческое тело, а
на гораздо поздней фазе развития - также и живописи.
Возможно, что даже искусство портрета играет подобную
роль по отношению к физиогномическо-эстетическому
видению. Но как правильно ограничить эту роль,
имеющую отношение ко всем областям изображения, - это
совсем другой вопрос. Ибо утверждать, что одни
искусства везде открыли эстетический предмет, - значит
придавать слишком большое значение искусствам.
Но почему же, в сущности, следует придавать слишком
большое значение искусству? Ведь не только потому, что
существуют области, к которым это уже не относится.
Наоборот, здесь необходимо устранить что-то
принципиальное, что мешает разрешению данного вопроса. Это
заключается в простом соображении, что сам взгляд
продуктивного художника должен обращаться к новому
предмету, чтобы сделать его темой своего изображения; после
этого художник может очень хорошо научить других его
видеть. Значит, художник уже должен рассматривать
предмет природы как эстетический, если он может найти
в нем стороны, которые в своем изображении -
рисовании, живописи, поэзии - старается выделить как
существенные. Это значит, созерцая и наслаждаясь
созерцаемым, он должен осознать то, что потом, со своей стороны,
объективирует в творении и сможет показать своему
поколению.
Таково отношение зависимости, которое нельзя ради
одной только теории перевернуть. Если это сделать, то
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире *| 97
можно вступить в uoxepov-Hpoxepov что может где-нибудь в
качестве противоречия отомстить за себя. Этим не
оспаривается тот факт, что художник работает, постоянно
экспериментируя, то есть в течение продолжительного
времени происходит взаимодействие между прозрением и
образом. Прозрение должно играть ведущую роль также
на отдельных этапах его зрелого периода развития, иначе
экспериментирование сведется к слепому нащупыванию.
А это было бы как раз образом действия,
противоположным образу действия гениального художника.
Это надо понять правильно. Совершенно верно, что
художественный взгляд открывает ландшафт и затем
делает его эстетически доступным для других. Но отнюдь не
верно то, что художественное творение открывает
ландшафт. В самом художнике первым и решающим является
не его творения, а его прозрение и одновременное этим
наслаждающаяся интуиция. Пожалуй, точнее было бы
сказать так: в художнике первичное - это эстетическая точка
зрения на окружающий мир. Он прежде всего
открыватель и только потом - творец. Открывателем он является
только в границах своего времени или же лишь в
определенном отношении выходит за эти рамки и идет впереди
него. Напротив, средства и пути для создания творения
представляют собой лишь производственный механизм.
Если в этом заключается какая-либо антиномия, то она
вытекает из существа художника, а не из его отношения к
профану, а также не из его положения как открывателя по
отношению к предмету. Но, по существу, здесь нет никакой
антиномии. Мы слишком привыкли считать гениальным
только "всемогущего", а историко-художественный
способ рассмотрения привел к тому, что даже умение
(Konnen) устраняется под воздействием различных
господствующих технических средств. Но при этом забывают,
что эти средства сами основаны на способе видения, что
гениальность есть, по существу, особый род видения и что
каждый новый способ видения, а также тот, который
только кажется направленным на техническое, вызывает новые
способы выявления.
Хорошим примером этого является открытие в
живописи света (которое совершило переворот в
употреблении краски и в конце концов привело к исчезновению
контуров - последнее имело место у позднего Рембрандта).
Здесь как раз видно, что новое появляется вместе с
новым способом видения: тон, "настроение" ландшафта,
темнота внутреннего помещения, человечески характер-
198 Часть первая. Отношение проявления
ное своеобразие. Сама .конкретность предметного и
выхваченная из жизни часть .картины как таковая становятся
совершенно иными. И это отчасти достигается при
помощи самых скромных средств. В значительной степени это
объясняется "опусканием" (или только скрытием)
деталей, которые в жизни даются в восприятии.
То же самое относится и к поэту как открывателю
человеческого. Слишком долго поэта считали только
создателем форм и образов, а по возможности и даже
преимущественно творцом языка и его форм. Поэт - прежде всего
"провидец", ясновидящий, открыватель, который на все
происходящее в жизни смотрит открытыми глазами и для
которого поэтому движение и фигуры на сцене жизни
представляются в форме эстетических предметов.
ГЛАВА 10
К ВОПРОСУ О МЕТАФИЗИКЕ
ПРЕКРАСНОГО В ПРИРОДЕ
а. Формальная красота в природе
В некоторых искусствах рядом с явлением
прекрасного проявляется формальная красота. В великих творениях
она всегда покрывалась первой и как бы исчезала за ней.
Но на самой низкой ступени, где, со своей стороны,
исчезает отношение проявления, например в орнаментике,
она выступает на первый план и достигает известной
самостоятельности. Она еще проявляется при более
тщательном рассмотрении слоев, и оказывается, что она
также сохраняет свою самостоятельность.
Эта формальная красота играет свою интегральную
роль в эстетическом предмете природы; то же самое
относится и к эстетической красоте, но она еще более
скрыта. Из чего она состоит, нами было уже сказано. Она
проявляется в своеобразной свободной игре с чистой
формой пространственно видимого, но также и тонически
слышимого, в игре звуков и красок, в ритмах и т. д. Так
обстоит дело по крайней мере в искусствах.
В природе в основном дело обстоит так же, за
исключением того, что здесь не может быть и речи об играющем
духе. Игра форм здесь невольная, и именно поэтому она
не случайна. Именно потому, что она является
неожиданной, бросающейся в глаза, она привлекает внимание.
Здесь предполагаются, прежде всего,
многочисленные формы бросающейся в глаза закономерности, как об
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 199
этом уже говорилось выше при рассмотрении
органически прекрасного. Они удивляют нас в папоротниках и
хвощах, травах и хвойных деревьях не менее, чем в морских
звездах, медузах и каракатицах. Они нагромождаются в
линиях фигур рыб и птиц, в формах и рисунках насекомых.
Правда, во всяком случае, это касалось явления
органической целесообразности или ее неизвестной
закономерности; теперь дело идет об игре и действии самих форм.
Конечно, при этом нельзя отделить одно от другого, но
все-таки здесь их нужно различать: ведь не все
разнообразие форм растворяется в целесообразности, тем более
это применительно к созерцанию, и различие между тем,
что находится неразрывно одно в другом, и тем, что
составляет инаковость эстетического воздействия, не
смазывается.
Здесь более важно, может быть, то, что речь идет не о
формах особенной правильности, но как раз о такой
правильности, которая основана на недостаточном или
совершенно неопределенном принципе порядка, о
неправильном, разбросанном, случайно действующем.
Примером этого может служить звездное небо, и притом наивно
созерцаемое, без цели наблюдения и без инструментов.
И все же, вероятно, существует в природе немногое, что
искони так влекло бы человеческое сердце к
эстетическому созерцанию; весьма старо представление, что как раз
оно является "самым красивым" и "самым совершенным"
из того, что может быть доступно человеческому глазу.
Об истинности такой оценки можно спорить, но о
факте ее существования - нельзя. На чем она основана? Вряд
ли можно будет сослаться здесь на традиционную
метафизику созвездий (которая видела в них богов); эта
метафизика уже, со своей стороны, предопределена
представлением об эстетически возвышенном. Скорее при
этом можно было бы сослаться на то, что одинаковы
формы движения постоянного звездного неба, которое
задолго до научного наблюдения считалось высшим
совершенством. Но и это может иметь еще второстепенное
значение.
Основным, без сомнения, является величественный
вид самих светящихся созвездий, так же как и их тихое,
спокойное движение по ночному небу; для близорукого
или никогда не выезжавшего из большого города это
действительно незнакомое царство. При этом
существенно полное отсутствие какой-либо правильности форм.
Последнее настолько сильно, что человек, произвольно охва-
200 Часть первая. Отношение проявления
тывая эти группы, приписывал им фигуры животных или
героев. Но затем они заменялись в соответствии с
воззрениями народов и времен.
Это то же самое отсутствие правил, которое иногда так
странно выделяется и нравится нам в ландшафте,
например болото или группа деревьев болотной местности.
Вообще следует эстетически позитивно оценивать момент
неправильности в природе. Как раз впечатление
"случайности", чтобы не сказать иррациональности, может иметь
свою собственную прелесть. И это также не вредит
эстетически позитивному моменту правильности.
Формальные моменты оценки в эстетическом природном
предмете разнообразны; они не мешают другу другу даже тогда,
когда противостоят один другому. Это также хорошо
согласуется с формальными элементарными категориями
единства и разнообразия, которые постоянно сливаются
друг с другом, выступают вместе и эстетически могут
быть столь же фундаментальными, как и
онтологическими. Уже противоположность правильности и
неправильности может как таковая действовать как аффирмативный
структурный момент подлинной прелести.
Еще одним прекрасным примером для этого
положения вещей является пение певчих птиц. Много трудились
над тем, чтобы найти в нем подобие музыки - музыки в
человеческом художественном смысле с ее
своеобразной, на разнородных тонах базирующейся
закономерностью. Все напрасно. Известные аналогии
действительно существуют, существуют в том случае, если
выбрать отдельные интервалы, но отсутствует подлинно
музыкальный принцип.
Все же характер каждого рода птиц определенно
выражен в звуке пения. Одни только фигурные тона,
ритмика, мелодика, как бы они ни были оформлены, не
образуют музыкального единства. Они в действительности
сходны с разбросанными звездными фигурами. Это есть
своего рода игра с формой звука. Но как таковая она имеет
высокую эстетическую прелесть.
б. Безразличие, спокойствие,
бессознательность
Игра с чистой формой и радость от нее составляют в
прекрасном природы уже метафизический момент,
который также воспринимается как таковой. Потому что
форма здесь существует не ради игры и игра не ради наслаж-
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 201
дения, как это бывает в произведениях искусства. Это
встречается больше всего в таком виде, как будто есть
органическая целесообразность без цели. Даже тогда,
когда человек думает о мировом творце как о великом
художнике, он остается для него незнакомым, его нельзя
представить. В этой связи его образ есть только
антропоморфное выражение для метафизического в
прекрасном в природе.
Но это только начало. Метафизика прекрасного в
картинах природы, которые, однако, существуют не для
эстетического впечатления, не ограничивается этим. Она не
имеет ничего общего ни с философской метафизикой
прекрасного, которая так часто отбрасывалась, ни с
идеалистической, а также с платоновско-шопенгауэровской
(метафизикой идей), ни с теологической. Решающую роль
здесь играет задний план, который подступает вплотную к
феноменам и дан одновременно с эстетическим чувством
и который является здесь мерилом.
Так, прежде всего существует удивительное
безразличие предметов природы по отношению к нам, людям, к
нашим чувствам - и именно потому, что они суть
эстетические предметы, следовательно, потому, что они вызывают
в нас определенные чувства. В то время, когда, например,
нас постигло горе и мучает тоска, вокруг нас расцветает,
сияя, весна; в то время как нас потрясают исторические
события и события личной жизни, над нами простирается
звездное небо в своем всегда одинаковом великолепии.
Мы воспринимаем эту противоположность временами
почти как антагонизм. Потому что мы соотносим с собой
красоту явлений природы, строго говоря, мы даже имеем
на это право, потому что красота природы как таковая
существует действительно только для нас, мы нарушаем это
право только тогда, когда "бытие для нас"
распространяем на формы и качества, "существующие для себя". И все
же мы знаем непосредственно и об их невероятном
безразличии по отношению к нам. Мы воспринимаем их как
предел, поставленный нам, как чужое, часто - болезненно,
но в то же время как величие большого спектакля,
данного миром, в котором мы существуем.
Это можно назвать автаркией природы, автаркией во
всем, что она нам предлагает. Ведь то, что она предлагает
нам, само по себе индифферентно, безразлично к тому,
существует субъект, для которого оно становится
эстетическим предметом, или нет.
202 Часть первая. Отношение проявления
В то время как чувства человека отчасти проникают в
это отношение, в то время как человек воспринимает это
как возвышение над шаткостью человеческих судеб и
чувств, вступает в свои права отношение проявления
более высокого порядка, которое дает о себе знать в
эстетическом созерцании как всеобщее чувство мира. Нечто
крайне субъективное и нечто крайне объективное
своеобразно перемешиваются в этом, не мешая друг другу;
чувство природы и чувствование самого себя
связываются здесь в единое целое, которое не ослабляет
противоположность, а содержится в виде существенного
предварительного условия; подобно тому как человек делает все
своим достоянием, он очеловечивает также и
безразличие природы, следовательно, до некоторой степени
уничтожает ее враждебность человеку. Он воспринимает ее
как некоего рода позицию, как позицию, направленную
против него. Но в то же время эта позиция чужда ему по
самой своей сущности. Ведь он, человек, не способен к
такому безразличию. Таким образом, он воспринимает
эту позицию природы, враждебную ему (то есть
бесчеловечность, воспринимаемую через ее очеловечивание), как
ее отчужденность и непроницаемость, как то, что он не
может ощутить в ней.
Это прямо противоположно мифическому ощущению
древних, согласно которому природа - здесь наивно
очеловеченная - во всех своих проявлениях "чего-то хочет
ему" (хочет причинить): в буре, в грозе, в солнечном
сиянии и в дожде, в источнике и в урожае; противоположно
это и ранним мировоззренческим убеждениям о цели в
природе, тому, что она показывает себя и скрывает себя.
Мифический взгляд на природу, а впоследствии в течение
долгого времени и теологический, далек от того, чтобы
быть эстетическим, как часто ошибочно полагали. Ему
недостает понимания возвышенного безразличия природы.
Человек имеет намерения, человек скрывается или
показывается; человек надевает маски и принимает позы,
чтобы поражать из скрытого, человек лжет. Все это
приписывали природе. Но все это как раз чуждо природе. Люди
были бесконечно далеки от эстетического предмета
природы, еще гораздо дальше, чем от теоретического1.
1 Эта оценка мифического сознания противоречит обычному
пониманию. Мифическое сознание всегда объясняли как
близлежащее к эстетическому; воспринимали это сознание как
родственное поэзии. Никто не будет отрицать влияния "поэзии"
в этом. Но не вся поэзия есть понимание прекрасного в
природе. Чувство поэзии проснулось исторически рано, но чувство
прекрасного в природе, напротив,- чрезвычайно поздно.
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 203
Здесь мы не имеем в виду зрелый взгляд, то есть
понимание того, что природа не лжет, не скрывается, не имеет
никаких намерений, - предполагается только одно, что мы
воспринимаем природу свободной от всего этого - и
именно без рефлексии и в созерцании. Это тайна ее
безразличия, которую мы непосредственно должны
воспринимать, включая оба спорящих момента, которые
содержатся в ней. Постоянно она должна вставать перед нами,
безучастно и незаинтересованно.
Об этом совсем не должен знать эстетически
наблюдающий. Это было бы делом взгляда. Взгляд может также
привести к эстетической картине, но она в этом ни в коем
случае не нуждается. Тот, кто отдается созерцанию и
испытывает наслаждение, обладает только неясным
ощущением неизменности природы, может быть, боязливым
предчувствием. Но в то же время оно является
счастливым предчувствием - и именно благодаря сознанию, что
природа безразлична по отношению к нему.
Предметом эстетики в природе являются и такие ее
моменты, как ненавязчивость, тишина, дающая покой, то,
что природа дает человеку, когда он, со своей стороны,
практически не имеет с ней никакого дела, то есть полный
покой.
В качестве такого момента выступает также и то,
посредством чего природа становится осязаемо
противоположной человеку, - отчужденность и расстояние. Человек
болтлив, занят делом, навязчив, он может всегда иметь
тяжелый характер. Язык, великое орудие общения и духа,
является также и опасным инструментом сближения и
навязчивости.
Молчаливость природы составляет
противоположность не только самому живому человеку, но также и
красноречивости произведения человека, объективации духа.
Молчаливость рассказывает о себе, о творчестве и о
творящем, в ней содержится духовное благо, которое
превозносит требование нового познания. Молчаливость
природы обращается с требованием к живому духу.
Предмет природы не предъявляет никаких требований
к человеку, что относится и к его индифферентности,
спокойствию и ненавязчивости. Однако это не является в
действительности его духовным содержанием,
познанным в нем, так как оно не вложено в него и не
представлено в нем; в этом состоит коренное отличие предмета
природы от произведения искусства. Зато он показывает
человеку нечто другое - загадочное лицо, которое чувствует
204 Часть первая. Отношение проявления
себя вынужденным расшифровать то, что ему однажды
было созерцательно дано. Но эта загадка не является ему
задачей для ума, она скорее представляет собой чудо для
чувства, чудо, которое человек, обозревая и теряя себя
при этом, воспринимает как важное, останавливается и
наслаждается им как таковым.
Рассмотренный выше момент тишины разделяется по
степеням. Он проявляется уже в некоторых человеческих
лицах, особенно молодых, то есть у людей, речь которых
уже неадекватно выражает внутреннее. Этот момент
усиливается в животном, которое не имеет возможности
говорить, и совершенствуется в организме растений и в
высшей степени совершенно проявляется в неорганических
образованиях. Но даже в ландшафте момент тишины
исполнен в совершенстве; шум леса и моря мы
воспринимаем не как обращенную к нам речь, и то, что мы называем
"красноречивым" в изображении ландшафта, является
метафорическим выражением для подлинной фантазии,
которую он пробудил.
В остальном это - удивительная вещь, потому что
человек в своем чувстве природы заменяет молчание
красноречивостью. Вот стоит тысячелетний дуб в лесу,
прошло много веков с тех пор, когда он был молодым; и вот
сейчас стоит перед ним человек, в его воображении
сменяются одни другими человеческие роды, толпящиеся
вокруг дуба, возможно, они танцевали здесь и устраивали
празднества. И человеку кажется, будто старый ствол
"рассказал" ему всю эту историю, которая на самом деле
является поэтической выдумкой. Ведь дерево
совершенно молчаливо, оно ничего не рассказывает. В Нью-Йорке в
метрополитен-музее есть огромный разрез дерева с
двумя тысячами годовых колец. На нем указаны года и
исторические события; в глубине, у одного еще совсем
небольшого кольца, стоит надпись: "Рождение Христа".
Снова возникает иллюзия, будто ствол может рассказать
"историю", "пережитое". Но ствол ничего не "пережил", он
ничего не рассказывает. Он удивительно нем.
Теперь мы подошли к третьему моменту предмета
природы. Это - бессознательность, в большинстве случаев
даже бездушие, момент, который, с точки зрения
человека, есть совершенно "другое", в которое человек никогда
не может полностью проникнуть, потому что ему отказано
в этом, - это простое, безобидное бытие в себе без бытия
для себя.
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 205
Разве не была какая-нибудь вещь уже в себе
существующим эстетическим предметом, да и вообще только
"предметом"? Общий закон бытия предмета
(заключающийся в том, что существующее в себе еще не является
предметом, оно становится таковым только "для"
воспринимающего субъекта, который приносит с собой
определенную установку) выступает в прекрасном в природе
особенно выразительно, потому что картины природы
удивительно безразличны по отношению к
воспринимающему субъекту.
Именно в силу того, что они молчаливы и заключены
сами в себе, а не активны, они могут многое нам сказать -
и не только о себе, но также и о нас и нашем отношении к
ним, и не только об объективном в этом отношении, но
также и о субъективном.
То, о чем мы сказали, только кажется парадоксом. Во
всем этом есть закон: именно там, где существование в
себе лишено всякого смысла, смысл придается через
противочлен, через третий член отношения явлений -
через духовно созерцающего, воспринимающего и в
наслаждении оценивающего субъекта1.
В "бытии для нас" естественные картины получают
свое завершение, которого не имеет простое бытие в
себе. Природа в эстетическом смысле - этот высший смысл
прекрасного - возникает только благодаря человеку, "для
него", в силу его предметной радости от нее. Поэтому
было бы неверно приписывать ей самой как области бытия
все то, что только благодаря человеку входит в нее как ее
"бытие для него": сознание, настроение, оттенок чувства,
душевность. Основным условием для этого является
именно совершенно "другое" ее сущности.
в. Совершенство, уверенность, несвобода
С момента возникновения эстетики понятие
совершенство связывалось с понятием о красоте. Казалось бы,
что завершенное в себе должно быть прекрасным уже в
себе. Так думали античные мыслители, и еще так думал
Лейбниц. Между тем это сравнение заходит слишком
далеко. В таком случае каждое осуществление ценности
другого рода - жизненной или этической - должно было
бы уже иметь и эстетическую ценность. А это явно
означает подмену областей ценности, как и родов
удовлетворения в них.
1 В отношении этого третьего члена в отношении явлений см.
выше, гл. 5.
206 Часть первая. Отношение проявления
Все же нечто правдивое в отношении совершенства и
красоты остается. Нужно только правильно истолковать
это отношение. Во-первых, речь идет не о самом
совершенстве, а о "чувственном явлении" совершенства; это
значит, что речь идет не о понимании или понятии, также
и не о любом явлении, а только о чувственном;
следовательно, о подлинном отношении прозрачности, в котором
передний план воспринимается, а задний план
опосредован через передний.
Но только не следует смешивать совершенство
явления с явлением совершенства. Здесь речь идет только о
последнем, с первым же мы имели дело в искусстве. Не
нужно смотреть на совершенство по способу
платоновской идеи, в котором слишком сильно подчеркнуто
всеобщее. Существует другое подходящее для изображения
каждого рода понятие совершенства; оно состоит в
законченности и округленности изображения в себе самом,
можно было бы также сказать - в своей автаркии.
Если в основу положить это понятие, то реальный мир
обнаружит хорошо известную последовательность
ступеней, в которой человек как высшее существо стоит
наверху, а неорганические образования занимают низшую
ступень. Между ними располагается длинный ряд ступеней
мира растений и животных. Об этом пространном ряде
можно сказать - и именно под углом зрения эстетического
рассмотрения - следующее: более высокая ступень бытия
суть ступень убывающего совершенства.
Это положение в большинстве случаев не признается и
даже превращается в прямо противоположное. Уже саму
высоту бытия считали совершенством: полагали, что.
растение более совершенно, чем атом или кристалл,
животное более совершенно, чем растение, человек - более,
чем животное. Как раз наоборот. Человек в этом ряду
является, конечно, высшим созданием, но не самым
совершенным. Причина этого, выраженная в краткой форме,
состоит в следующем: чем онтически проще образ, тем
легче осуществляется в нем совершенство
(законченность, округлость, автаркия); чем он сложнее, тем
тяжелее складываются для него все условия. Наиболее
жестоко закон действует в неорганической природе, поэтому
мы видим там самые низшие, но одновременно и самые
совершенные образования. В органическом мире
существует уже большая свобода движения, которую мы
можем наблюдать при рассмотрении филогенетического
развития; отсюда многочисленные отступления и тупики в
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 207
истории поколений животного и растительного мира,
соответствующие изменяющимся жизненным условиям. Но
человек как индивидуум уже "свободен" в своих
решениях, он - единственный, для кого законы рода не являются
совершенно безусловными и не решают за него. Поэтому
он больше всех прочих является опасным существом, так
как он самое свободное, самое неопределенное и
несовершенное существо. Сама свобода, его высший дар,
составляет для него опасность.
Применим это отношение в онтической лестнице
образа к "явлению" совершенства. Мы тотчас же увидим, что
совершенство в человеке не может проявиться так легко,
по крайней мере, в нем не как специфически
человеческом, следовательно, моральном существе, а взятом
только как существо природы. Но дальше, в царстве низших
слоев существующего, наоборот, совершенство
увеличивается. Оно дает о себе знать в простоте все более
строгих форм единства, в которых связаны вместе схваченное
разнообразие и его моменты противоречия. В
эстетическом созерцании форм природы мы, конечно, не знаем об
этом отношении, но тем более мы чувствуем
совершенство в явлении без всякой рефлексии, как прочный покой в
себе, как связь, уверенность, непогрешимость и
несвобода; и последнее действует особенно благоприятно, как раз
в противоположность нашему собственному существу,
которое лишено этой непогрешимости. Ведь наша свобода
есть наша неуверенность, наше колебание, наши вечные
ошибки, наше смущение.
Человек очень хорошо непосредственно чувствует это,
находясь по сю сторону всякого понимания: уверенность
инстинкта животного, самосохранение в закономерностях
его рода; еще больше это проявляется у растений, но не
так убедительно, потому что они стоят от человека
дальше. Еще более определенно мы видим это в
неорганическом образовании, законченность которого человек
чувствует, даже не зная ее. Напротив, на "процессы"
природы этот взгляд больше не распространяется, ибо
только "образы" действуют эстетически, а происшествия как
таковые не действуют или же действуют лишь в связи с
изображениями. Только изображения непосредственно
чувственны для нас и даны в рассматриваемом единстве.
Из них одних возникает перед нами, даже если они были
даны только частично, непосредственно гармония целого.
За последним стоит то, что учит нас видеть наука:
особая форма содержания картины, принцип ее строения, за-
208 Часть первая. Отношение проявления
висимость сил и функций друг от друга. Не субсистенция
господствует в стабильности большинства форм
природы, а богатая тайнами консистенция, которая существует
в обмене сил или частей и образует собственные формы
регуляции. Нечто подобное чувствует и эстетический
наблюдатель, не зная, что это такое. Но это трогает его как
что-то удивительное, которым оно и является.
Эстетика романтиков признавала веру во внутренний
мир природы, который проявляется в ее внешнем виде.
Романтики надеялись распознать в этом внутреннем
подлинную сущность человека. Вспомните о
завуалированной картине и об "Учениках в Саисе"1; все это, конечно,
поэзия, но это та поэзия антропоморфической
метафизики природы, на ошибки которой уже было указано выше:
она не признает даже действительно существующее
отношение явлений в эстетическом чувстве природы.
Конечно, мы не можем отказываться от
метафизических картин в эстетическом созерцании природы. Но
действительно совершающееся созерцание идет совсем
другим путем. Оно скромнее, но • в то - же время
внутренне богаче, чем поэтическая фантазия, которая в
действительности есть только последующая игра мысли.
Феномен показывает как раз противоположное:
непоколебимое чувство полнейшего своеобразия природы, ее чуже-
родность и ее недоступное для человека совершенство.
Ведь именно это достойно внимания: там, где в мире
"является" совершенство как уверенное в себе бытие
образа в его внешней форме и делается доступным
чувствам, где оно становится видимо, воспринимаемо
чувственно, там это ее явление воспринимается как
красота независимо от близости или удаленности от
человека.
Но метафизическая потребность, конечно,
неудержима и продолжает вопрошать: что же тут, в сущности,
воспринимается как красивое? На это имеется один
онтологически простой ответ, который достаточно однозначен,
хотя вряд ли может удовлетворить метафизическое
любопытство: как красивое воспринимается все, чувственный
внешний вид чего представляется наглядно наблюдателю
как простая внешность внутреннего. В такой картине мы
воспринимаем созданное природой совершенство.
Стихотворение Ф. Шиллера. - Прим. ред.
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 209
Решающим является то, что для этого не нужно
понимать онтическое отношение. Можно без рефлексии прямо
из видимого чувствовать, подобно тому как это
происходит у организма, внутренний смысл формы. Это было
понято с помощью старого учения об идее как форме
совершенства в каждом живущем роде. Только ошибочно
предполагали, что эта "внутренняя форма" одинакова с
внешней. В силу этого их непосредственного смыкания загадка
не была решена.
г. Продукт природы и продукт искусства
Можно легко увидеть, что здесь по всей линии
сохраняется выше развитое отношение слоев эстетического
предмета. Это чувственно данный передний план,
который вещественно реален, и выступающий задний план.
Конечно, последний в предмете природы также реален,
по крайней мере когда под ним понимают определяющее
"внутреннее" образа, которому внешняя форма дает
выражение.
К этому можно добавить следующее: такое реально
внутреннее является как раз не тем, чем оно есть, - не
закономерностью, консистенцией или приспособлением, - а
в большинстве случаев чем-то совсем другим, например
формой идеального, целесообразностью, таинственным
смыслом, интеллектуальным. И поэтому следовало бы
лучше сказать: являющийся задний план совсем не
реален, он есть только явление.
Поэтому здесь надо формулировать осторожнее -
формулы в таких случаях могут быть просто неудачными;
смутное сознание незнания подлинной сущности заднего
плана, несмотря на его проявление в известном образе, как
раз существенно для источника эстетического
впечатления. Хотя мы и чувствуем, что задний план в предмете
имеет реальность, но он мелькает между полнейшей
неопределенностью и кажущейся определенностью, хотя мы все
же чувствуем в нем очень определенный реальный род. И
именно это принадлежит к своеобразной прелести
прекрасного в природе. Это есть прелесть скрытого, которая не
отпускает нас и которая заставляет нас успокоиться,
потому что она не ставит никаких задач для эстетического
созерцания.
В этом пункте продукт природы и продукт искусства
далеко отходят друг от друга. В другом отношении они
снова приближаются друг к другу. Для искусства
характерно то, что в созерцании предмета созерцающий субъ-
210 Часть первая. Отношение проявления
ект исчезает для самого себя. Он чувствует себя еще в
наслаждении, но одновременно, именно в наслаждении,
чувствует себя отданным произведению искусства и как
бы потерянным.
Точнее, это так: субъект должен оставаться
противостоящим произведению искусства, он должен
выдерживать дистанцию по отношению к нему; в растворении с
ним наслаждение не было бы больше эстетическим,
приближаясь к самонаслаждению. Но в противопоставлении
можно забыть самого себя и в этом смысле исчезнуть для
себя самого. Спрашивается, так ли обстоит дело и в
созерцании эстетического предмета природы.
Некоторые считали, что это не так, ибо предмет
природы не имеет той же силы, чтобы настроить наблюдателя
эстетически и отвлечь его от себя, сконцентрировать его
внимание на чистой игре формы и на отношении явлений.
Верно ли это?
Верно только то, что здесь нет художника,
проводящего свой взгляд; предмет природы не способен к
эстетическому действию. Верно далее и то, что существуют
предметы природы, которые гораздо сильнее, чем
произведения искусства, ведут к самонаслаждению, значит, к
наслаждению собственными чувствами, что постоянно
противодействует эстетическому созерцанию. К этим
предметам принадлежит в первую очередь ландшафт и
все, что ему родственно, особенно когда наслаждаются
им. Здесь тоже не требуется отсутствие, исчезновение
"я", но удовольствие слишком легко стремится вперед, к
чисто жизненному.
Выше шла речь о том, что здесь нельзя провести
резкую границу. Но разве в данном случае речь идет о резкой
границе? Это неточно отделимое также сохраняет
своеобразие. Как только выступает картинное видение,
совершается перестановка и созерцание приближается к
живописному, то есть к художественному. Созерцающий
субъект ускользает от сознания, подвергается тому же
самому самозабвению, как и в присутствии
произведения искусства, - и именно по причине той же самой
потери самого себя в созерцаемом. Субъект одновременно
побеждается созерцаемым и гасится им. Отличие от
художественного видения уменьшается и может в конце
концов совсем исчезнуть.
Метафизика прекрасного в природе хотя и есть дело
рефлексии, но все же не просто запоздалая рефлексия о
вещи. Кант полностью включал рефлексию в эстетическое
Раздел III. Прекрасное в природе и человеческом мире 211
созерцание ("рефлектирующая сила суждения"). Это
может быть понято слишком широко; но и полное исключение
участия осмысливания из созерцания заходит также очень
далеко. В действительности граница должна быть
расплывчатой также и здесь. Созерцание не только вызывает
рефлексию, оно довольно часто содержит ее в себе, так
как рефлексия принадлежит к эстетическому феномену
природы.
Особенная параллель природы и искусства поражает
философию с давних пор. Произведения как той, так и
другой содержат в себе удивительно много прекрасных
предметов. И хотя их красота является таковой только для
адекватно созерцающего духа человека, все же в них
самих должно быть нечто такое, что представляется этому
духу аналогичным образом.
Такова проблема, которая заставила Канта подчинить
эстетическую и телеологическую силу суждения не только
единому употреблению, но также одному и тому же
регулятивному принципу, - возможно, это понимается
слишком узко, но, по существу, метафизическая проблематика,
которая лежит в основе, рассмотрена здесь правильно.
Для этого мы показали здесь очень многое, о чем
можно было узнать из феноменов и что стоит позади
отношения проявления в эстетическом предмете природы:
внутренняя определенность, консистенция, динамика и
органика строения с ее закономерностями и отношениями
форм.
В древние времена предполагали, что бог как
создатель непременно стоит за образами природы, и тогда
отношение выглядело следующим образом: искусство есть
то, в чем человек похож на бога. Ибо здесь он тоже
становится творцом - пусть, по существу, только подражателем
- и в действительности является божеством в миниатюре.
Сегодня можно было бы рассуждать наоборот, исходя
из эстетического творчества человека, как из
единственно достоверного; не художественно эстетический
предмет есть то, в чем бессознательная природа сходна с
изобретательно творящим человеческим духом. В этой
форме ярче проявляется парадокс. Ведь удивительным
является возникновение изображений, в которых для
созерцающего человека прозрачно выступает отношение
явлений, о чем совершенно не заботятся при создании
этих изображений.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОФОРМЛЕНИЕ
и
РАССЛОЕНИЕ
РАЗДЕЛ I
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В ИСКУССТВЕ
ГЛАВА 11
РАСЩЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕГО ПЛАНА
а. Способы бытия и структуры содержания
До сих пор анализ предмета проводился в общих
чертах. Но уже и в этом виде он показал важнейшую основную
черту эстетического предмета - противоположность
слоев, точно так же, как в искусстве, он показал
противоположность бытия. Далее, он показал тесное
взаимодействие слоев и значение этого взаимодействия для
отношения проявления (Erscheinungsverhaltnis). Достигнутый
результат сохранил затем свое значение и для ряда
искусств и оказался неприменим лишь к явлению ранта, к
орнаментике. Он оказался небезуспешным и в приложении к
прекрасному в природе. Но он оставляет большой
простор для другого типа прекрасного - для свободной игры
формой. И пока еще не выяснено, насколько он
согласуется или не согласуется с прекрасным в явлении.
Этот результат, правда, ценен, но слишком общ, чтобы
справиться с многообразными явлениями эстетического
предмета. Для этого необходим второй путь
исследования. Он должен в основном придерживаться искусств, ибо
в них проблема усложняется, поскольку задний план
ирреален. Правда, виды искусства должны быть однозначно
различены по их "материи", что в изобразительных
искусствах достигается посредством различия сущности по
"материалу". Но поскольку именно в этих искусствах речь
идет об оформлении материала в материи, то, в конце
концов, центр тяжести падает все-таки на способ
оформления.
И здесь возникает новая проблема, где недостаточно
простого различения двух слоев и их способов бытия.
Придание формы есть дело "формы". Но, говоря о форме,
мы встаем перед старым, многократно обсуждавшимся
вопросом, что именно отличает собственно форму от
формы в ее эстетической ценности (Wert), перед
вопросом, который художественному взгляду кажется
совершенно простым, а пониманию в понятиях -
непроницаемым. Именно эстетика должна каким-то образом взяться
216 Часть вторая. Оформление и расслоение
за проблему формы. Разумеется, теперь уже ясно, что
подход к этому лежит в расслоении предмета. Однако
развитого выше отношения двух слоев явно недостаточно
для решения проблемы формы. Чего же не хватает? В чем
состоит односторонность?
Она заключается прежде всего в том, что анализ слоев
исходил из противоположности бытия переднего и
заднего планов и ограничивался в основном этим. Эта
противоположность в художественном произведении является
самым замечательным моментом и в онтологическом
отношении: единое образование представляет собой
неразрывную целостность реального и ирреального (то есть как
бы онтологическую бессмыслицу), возможную лишь при
решающем участии третьего члена - воспринимающего
субъекта, который в то же время остается сам вне
области расслоения.
Эта странность не может быть решающей для
эстетического предмета уже потому, что она не соответствует
предмету природы и прекрасному в человеке, Реально
здесь - являющееся, а различие способов бытия,
следовательно, отпадает. И все-таки отношение проявления
сохраняется. Следовательно, нельзя- вывести сущность
прекрасного как такового из этой противоположности.
Если, с одной стороны, эта противоположность существенна
для произведения искусства и даже поразительна в нем,
то прекрасное как таковое в произведении искусства не
может все-таки заключаться в противоположности бытия.
Противоположность слоев, и прежде всего
противоположность чувственно данного и являющегося, не может
раствориться в противоположности бытия.
Но эта примечательная особенность не исчерпывает
всей сути дела. Расслоение идет дальше внутрь и притом
без дальнейшей противоположности способа бытия. Это
значит: раз достигнутая ирреальность заднего плана (в
его переднем слое) далее уже не исчезает при движении
"вглубь" - она продолжается в дальнейших внутренних
слоях предмета. Но это еще нужно доказать.
Положительно говоря, решающее состоит в том, что
наряду с противоположностью способа бытия
приобретает значение и содержательно-структурное различие
слоев, которое по меньшей мере столь же значительно, но не
сводится к двучленной противоположности.
Эта структурная противоположность разлагает теперь
задний план в целую последовательность слоев. Для
произведения искусства это означает, что выявляется не
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 217
просто слой заднего плана, а целый ряд отделенных друг
от друга слоев, которые все одинаково ирреальны и
существуют лишь в отношении проявления, следовательно,
лишь для созерцающего субъекта, будучи резко отделены
друг от друга и по содержанию и по структуре.
Однако эта противоположность не затрагивает
реальный передний план. Передний план остается единым. Так
происходит по крайней мере в первичных искусствах, во
вторичных же - в "игровых" искусствах (в театральном
искусстве и музыкальной игре) - он раскалывается. Но
разложение здесь лишь кажущееся, в действительности он
скорее сдвигается, чем разлагается, а именно сдвигается
к близлежащему слою заднего плана: в театральном
искусстве на место текста ставится действительная игра, в
музыке - слышимый звук.
Напротив, являющийся задний план располагается по
ступеням до смутной глубины идей, но не
непосредственно, а опосредуясь другими слоями, такими же
ирреальными и таким же важными в эстетическом отношении. Суть
дела здесь в том, что это общее тоже не
абстрактно-понятийно, оно является как конкретное и наглядное - не как
вторичное отражение в рефлексии, а как данное сразу с
первым впечатлением, даже если оно разносторонне
замаскировано.
Это отношение слоев можно подытожить следующим
образом: по способу бытия предмет искусства незыблемо
двухслоен, по общему структурному содержанию и,
следовательно, по внутренней форме - многослоен.
И то и другое имеет большое значение для сущности
предмета искусства. Первое представляет собой
онтологическое условие его исторического бытия, его
дальнейшего существования в прочной материи, возможности
вновь найти и возродить его, условие его возвращения по
истечении столетий в живущий дух, а также его
способности вновь захватывать и определять дух. Второе (мно-
гослойность заданного плана по содержанию) является
эстетическим условием глубины и богатства
произведения искусства, полноты его смысла и значения, а также
высоты его эстетической ценности, его красоты, что
имеет отнюдь не последнее значение. Ибо возрастает
конкретное богатство целого, возрастает равномерно, от слоя
к слою, развивающаяся прозрачность и чудо конкретного,
наглядного явления. А от этого зависит красота предмета.
Это и есть две основные функции произведения
искусства в духовной жизни человека: высокое постоянство
218 Часть вторая. Оформление и расслоение
его бытия (Daseinskonstanz) и его эстетическое
очарование. Важно уяснить себе, что обе функции хотя и зависят
от расслоения произведения искусства, но от расслоения
различного порядка; вполне возможен такой добавочный
момент, в котором второе расслоение (эстетическое)
зависит от первого (от онтологического), и что они были бы
невозможной вещью без реального переднего плана.
б. Пример: портрет головы
Прежде чем продолжать анализ по существу, нужно
попытаться конкретно наметить последовательность
слоев на каком-нибудь примере.
Эта задача трудна потому, что можно обращаться лишь
к силе эстетической интуиции зрителя, избегая по
возможности готовых понятий. С помощью понятий здесь
ничего не достигнешь. В обиходном языке нет слов для
этого, наука не создает для этого никаких понятий, ибо сфера
различений, о которых здесь идет речь, ускользает от них
обоих. Эти различения даны лишь в самом эстетическом
созерцании.
Из живописи здесь берется портрет головы.
Рассмотрим один из автопортретов Рембрандта в старости
(внутренние слои выступают в них резче, чем в других работах
подобного рода). Последовательность слоев
представляется здесь следующим образом.
1. На переднем плане находится единственно реально
данное-пятна красок на полотне, расположенные в
двухмерном пространстве. (Косвенно сюда относится
также и реальный свет, падающий на картину, так же как и
реальное пространство, в котором мы занимаем
правильную позицию относительно падающего на картину
света.)
2. За этим передним планом появляется первый слой
заднего плана: трехмерное пространство, другой,
ирреальный свет с его большей частью невидимыми
источниками, и вещественный образ изображенной
фигуры с частью ее окружения.
3. В качестве третьего слоя здесь можно выделить
движение, живую телесность. Этот слой (в портрете это
лишь мимическая игра лица) больше не принадлежит к
тому, что художник может сделать непосредственно
зримым, и, следовательно, в меру этого отделяется от
являющегося пространства, но все-таки лежит в основе
всего дальнейшего.
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 219
4. Одновременно с ним выявляется нечто другое:
человек с его внутренним миром, характер; выясняется
кое-что о борьбе, успехах и неудачах человека, о его
судьбе,- конечно, не о внешней судьбе, хотя и она может
оставлять на лице свои следы, а о внутренней, то есть о
судьбе, поскольку она обусловлена самим характером
личности. Этот слой исключительно богат или, во всяком
случае, он может быть таковым. Именно этот слой
захватывает нас больше всего в созерцании. По своей
сущности он полностью лишен зримого характера, ему не
хватает пространственности, цвета, вещественности.
Художник может показать его лишь опосредованно, таким
же способом, каким он выявляется и в жизни, -лишь через
внешнее в лице. Конечно, в жизни его проявление
облегчается видимой подвижностью черт.
5. Но удивительно то, что этот совершенно
невещественно и нечувственно являющийся слой
прозрачен также еще и для кое-чего другого. В человеке
как он есть может выявляться человек не как он есть, а
каким он должен быть согласно своей сущности и идее,
то есть индивидуальная идея человека может выявляться
так, как она является в жизни лишь любящему взору1.
Способность искусства осуществить это является одной
из самых замечательных его особенностей: прозрение и
выявление моральной сущности личности в ее
своеобразии и одновременно идеальности (словно это
интеллигибильно). Это неспособность знатока людей,
который постоянно видит лишь типическое. Здесь
проникновение идет до неповторимого и единственного
в своем роде, и именно это создает "схожесть" портрета,
то есть буквально-возможность узнавания. У каждого
человека есть свои счастливые моменты, когда
проявляется его индивидуальная идея. Художник
ухватывает такой момент и держится за него. Тем самым
он закрепляет проявление идеи.
6. И затем существует еще нечто, сопровождающее
проявление идеи и такое же заднеплановое, неуловимое
и все-таки прочно коренящееся во внутреннем существе
человека: нечто общечеловеческое, которое каждый
наблюдатель воспринимает как свое собственное. Это
общее резко противоположно индивидуальной идее,
которая непередаваема и с которой каждый
соприкасается как с чем-то чуждым.
1 Об индивидуальной идее, ср. "Ethik", Aufl. 3, 1948, Кар. 57.
220 Часть вторая. Оформление и расслоение
Здесь же светится нечто такое, что касается каждого,
показывает каждому его собственную душу. Подобное
явление назвали символическим моментом в искусстве. И
невозможно отрицать, что оно впервые придает
действительную весомость индивидуальным образам,
даже особенностям их жизни и судьбы. Великие
произведения искусства именно из этого последнего
глубинного слоя черпают свое величие и вечное значение.
Понятно, что поскольку это есть общее, то оно во все
времена не перестает нравиться людям. Нужно только
уяснить себе, что для этого "нечто" не существует иного
выражения, кроме художественного, то есть кроме
возможности проявления. Для него нет никаких названий,
а введенные обозначения-значение, идея (под ней часто
имеется в виду лишь собственное религиозное
убеждение) или "глубокий смысл" - ничего не говорят о
его содержании. Оно дано лишь в конкретной
узнаваемости являющегося. Здесь оно уже очевидно.
е. К обсуждению примера. Следствия
То, что было здесь показано на примере одного
определенного искусства, даже одной из его областей,
имеет значение для всех видов произведений искусства и
даже за пределами этого - для большей части
прекрасного в области природы и человека. Оно имеет
значение для всего того, что является прекрасным
благодаря отношению проявления, и теряет силу лишь
там, где это отношение проявления прекращается.
Но это не значит, что последовательность слоев везде
одинакова и везде одинаково богата. Она весьма
различна в различных видах искусства, частично
варьируется в пределах даже одного вида искусства. В
живописи внутренние слои заднего плана совершенно
различны в зависимости от того, идет речь о ландшафте
или о натюрморте. Это значит: последовательность слоев
и само их число меняются в зависимости от материала.
Но она меняется, кроме того, и в зависимости от способов
видения и соответствующего ему формообразования, то
есть в зависимости от того, что называют стилем.
Пожалуй, точнее было бы сказать так: ее изменение
является существенным моментом в различии материала
и стиля. Ибо, исходя из нее, выбирается материал и
вырабатываются способы формообразования. Это станет
очевидным, если подумать над тем, что все особенное в
способе формообразования определяется внутренними,
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 221
то есть глубокими, слоями заднего плана и что в конце
концов именно к их, проявлению примыкает все
находящееся ближе к переднему плану. Это, конечно, не
исключает определенного обратного воздействия в
совместном существовании слоев. Но основное
отношение остается все-таки однозначным: движение
идет от внутреннего к внешнему.
Весь принцип последовательности слоев в искусстве
получает дальнейшее разъяснение, если учесть, что эта
последовательность имеет характер ряда и что в ней,
следовательно, отношение проявления имеет
ступенчатый характер. Теперь это уже не двучленное
отношение, как оно выглядело вначале, а многочленное,
продолжающееся от слоя к слою.
В этом ступенчатом отношении только самый
передний слой, слой чувственно реального, не есть
являющийся и только последний, самый внутренний слой
не прозрачен и не допускает проявлений. Напротив, все
межлежащие спои обладают обеими характеристиками -
они являются сами и дают проявляться другим. Это
средние слои, находящиеся в двусторонней связи.
Эстетическое является оборотной стороной этого отношения:
каждый из этих слоев выступает в качестве являющегося в
другом, находящемся ближе к переднему плану, и сам в
свою очередь служит носителем проявлений другого
слоя, находящегося ближе к заднему плану. Именно так,
ступенчато и расчлененно, движется процесс проявления
от реально-чувственного переднего плана до последнего,
едва уловимого звена заднего плана.
Ясно, что при этом вся тяжесть создания возможности
ступенчатого проявления в конечном счете ложится на
чувственно-реальный слой переднего плана. Художник
может оформлять непосредственно только этот передний
слой; все последующие слои он может оформлять лишь
косвенно, создавая в первом при его оформлении
возможность их проявления. И так как оформление является
одновременно делом созерцателя, то положение дела с
его стороны можно подытожить следующим образом:
весь ход проникновения (воспринимающего
представления, фантазии, интуиции) во внутреннее идет от
воспринимаемого в переднем плане; посредством него в
соседних уже ирреальных слоях выявляется только то, что
"может" выявиться на базе зримого оформления,
посредством же этого явившегося в ближайших слоях выявляет-
222 Часть вторая. Оформление и расслоение
ся только то, что "может" проявиться на его основе, и так
движется дальше весь ряд.
Тем самым сохраняет свою силу также и то, что уже
выявилось в характере эстетического созерцания: оно
до самых своих ускользающих от чувственности глубин
является зрелищем, которое связано с восприятием и
основано на нем.
г. Зависимости явления
и зависимости строения
Этой последовательности зависимости в
поступательном отношении проявления", естественно, должна
соответствовать подобного же рода последовательность в
структуре произведения искусства. Правда, последняя
должна иметь обратное направление: от внутреннего к
внешнему. Ибо в творческой деятельности художника
являющийся слой должен каждый раз определять тот
прозрачный слои, в оформлении которого он должен
проявляться.
В творческом акте речь всегда идет о "вынесении в
явление" ("Zur Erscheinung Bringen") того, что наблюдается.
Это значит, что задний план определяет от слоя к слою все
находящееся ближе к переднему плану. Все то, в чем что-
то должно проявиться, должно быть рассчитано на
проявление наблюдаемого, то есть соответствующим образом
оформлено. Как делает это художник, есть и остается
тайной его искусства; это есть то, "закону" чего он следует
(он, может быть, даже дает этот закон), но не может
назвать его. ибо он знает его так же мало, как и наблюдатель.
Конечно, не все произведения искусства имеют самые
глубокие слои заднего плана, а именно два последних
слоя из вышеуказанных, но какие-нибудь "дальнейшие"
слои в них всегда существуют. Это свидетельствует о том,
что внешнее всегда определяется внутренним, хотя иной
паз лишь частично. Эта определяющая связь идет от слоя
к слою до тех пор, пока она не получит воспринимаемую
форму в самом чувственно воспринимаемом переднем.
Здесь, следовательно, зависимость структуры
противоположна зависимости проявления. Обе пронизывают
всю последовательность слоев, но в обратном
направлении: первая - от внутреннего к внешнему, вторая от
внешнего к внутреннему. И именно поэтому они являются
оборотными сторонами одного и того же отношения. Эта
противоположность подобна той, которая существует в
области познания между ratio essendi и ratio cognoscendi,
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 223
только здесь идет речь не о бытии и познании, а о явлении
и созерцании.
Как ни ясен здесь сам принцип, но все же остается
нечто загадочное в том, что нечто идеальное или
общечеловеческое может внедриться в чувственную материю
переднего плана и предстать созерцающему взгляду в
качестве явления. Здесь нельзя ограничиваться
приписыванием всего этого тайне художественного умения, ибо речь
здесь идет не о том специфическом способе, которым тот
или иной художник делает это, а об основном вопросе: как
вообще столь заднеплановое и чуждое чувственному
видению может зримо проявиться.
Остановимся на автопортрете Рембрандта в старости
(например, на лондонском полотне). В выцветшем,
обрюзгшем лице есть во взгляде нечто такое, что, будучи
замечено, приковывает нас. Трудно сказать, что это такое, но
оно есть, оно навязывается зрителю - вот он уже знает о
страдании и победе в жизни этого человека, знает что-то
о внутренней судьбе гения, может быть, непосредственно
об индивидуальном законе его существа, и в то же время
об общечеловеческом, о трагедии людей, борющихся за
самое возвышенное. Совершенно незримое стало
"зримым" в игре красок и форм на полотне.
При желании можно привести различные примеры, но
результат будет один и тот же. Вот улыбка Анны на
картине "Святая Анна с мадонной и младенцем Христом"
Леонардо. Это, наверно, самое эфемерное из того, что
человек в состоянии схватить: она закреплена на полотне со
всем тем, что далее выражает, - только у уголка рта
маленькая черточка, а улыбка явственно стоит перед
глазами, и даже разрушение красок не смогло ее стереть. Сила
способности выявления извлекает ее из самого
внутреннего заднего плана через всю последовательность слоев
на поверхность чувственного переднего плана. И,
наоборот, само проявление ведет зрителя от чувственно
данного на полотне к самому внутреннему в человеческом
существе. Все же в этой загадке не все неразрешимо. На
кое-что здесь можно дать ответ. То, что здесь совершает
искусство, имеет место и в жизни - именно в том случае,
когда люди встречают и узнают друг друга. Ибо они видят
друг в друге не только чувственное, но благодаря
чувственному впечатлению всегда и духовное. И это
духовное видение, созерцание второго порядка и есть тот
истинный способ, которым люди видят друг друга в
жизни, есть то, что они видят друг в друге. В большинстве слу-
224 Часть вторая. Оформление и расслоение
чаев это видение идет не очень глубоко - нелегко
проникнуть в индивидуальное, - но, по существу, это то самое
проникновение от чувственного к духовному, которым
пользуется живописец.
Здесь следует отметить лишь два отличия: 1) художник
переносит наблюдаемое в вечную материю, он
"объективирует" его так, чтобы зритель мог каждый раз его видеть;
2) он видит больше, чем простой наблюдатель в жизни.
Простой наблюдатель многого не замечает, легко
пропускает глубокое и скрытое, у него нет времени, чтобы
углубляться. Художник начинает с того, что профан упускает.
д. Онтологическое наполнение
последовательности слоев
Расщепление кажущегося вначале единым заднего
плана на целую последовательность слоев является,
таким образом чем-то основным в эстетическом
отношении. Без него было бы вовсе невозможно чудо
художественного обнаружения. Нужно еще показать, насколько
далеко можно проследить принцип расщепления в самом
искусстве и в прекрасном вне его. Но прежде рассмотрим
еще одну сторону дела.
Когда здесь речь шла о законе объективации (гл. 5,
особенно в разделе "б"), мы встретились с одной
основной особенностью всякого духа: ни в одной из известных
нам трех форм дух не встречается свободно парящим, а
всегда имеет носителя ("покоится на чем-то"). Так было с
живым духом с персональным духом и с
объективно-историческим. Причем носителем его всегда является вся
онтологическая последовательность слоев, ибо уже
носителем душевного бытия является органическое, а
носителем последнего - физическо-материальное. В области
реального духа это не имеет исключений. Но как обстоит
дело в области нереального и неживого, то есть
объективированного духа?
В начале анализа казалось, будто носителем
духовного содержания является физически материальный слой
бытия (оформленная материя, а именно передний план),
но не опосредованный промежуточными слоями.
Душевная и органическая жизнь, казалось, выпадала. Тогда
оставалось непонятным, как может духовное содержание
основываться непосредственно на материальном бытии.
Эта проблема далеко не искусственна. Разве может то,
что невозможно в реальном мире, встречаться в
отношении проявления, и не только встречаться, но и быть убеди-
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 225
тельным? Удивительно скорее то, как более высокое
бытие покоится в последовательности слоев на более
низком; гетерогенность соседних слоев велика даже уже в
природной связи. Но если перепрыгивать через
промежуточные слои, в данном случае - через два сразу, то
становится совершенно непонятным смыкание духовного
оформления с материальным. Ибо тогда элементы
самого гетерогенного из всего того, что только существует на
свете, смыкаются друг с другом так, что наивысшее
должно непосредственно проявляться в наинизшем.
Однако эта апория весьма легко разрешима.
Недостающие промежуточные члены должны быть выявлены в
отношении проявления. Это вытекает уже из роли
созерцающего субъекта, которая неразрывно входит в общее
трехчленное отношение. Но необходимо указать
недостающие члены также и в самой последовательности слоев
эстетического предмета. Только теперь мы обладаем
ключом для разрешения этого вопроса.
Закон расщепления заднего плана в художественном
произведении говорит именно о том, что средние слои
проявляются попутно, и притом эти проявления идут в той
же последовательности и зависимости (в том смысле, что
они покоятся на чем-то), в какой они онтологически
стояли бы, если бы предмет был совершенно реальным.
Онтологическое отношение зависимости (Dependenzverhaltnis)
слоев, следовательно, сохраняется в последовательности
являющихся членов. Как раз самая сокровенная сущность
человека, всегда носящая на себе высокий отпечаток
духовной жизни, смыкается не прямо с материей и ее
оформлением, как это казалось вначале, а прежде всего с
душевным, затем - с органическим, и лишь последнее
зависит непосредственно от материального. Любовь и
ненависть, горе и радость проявляются лишь в
изобразительных формах, иначе они не могут быть чувственно
зримы или представлены. И в свою очередь лишь в любви и
ненависти проявляются человеческое своеобразие,
характер, личность и тем более, конфликт, судьба и вообще
дальнейшие смысловые связи. Только предшествующее
рассмотрение, в котором речь шла о способе бытия,
могло ввести в заблуждение относительно этого
возвращения природных отношений в являющийся мир
произведения искусства. По способу бытия существует только два
слоя. Лишь внутренняя дифференциация являющегося
заднего плана проясняет действительные отношения.
226 Часть вторая. Оформление и расслоение
Это решение апории важно и в другом отношении.
Именно здесь мы можем раскрыть основу того различия
способов объективации, которое является решающим для
привилегированного положения произведения искусства
в духовной жизни.
Напомним: с одной стороны, стоит слово, понятие,
письменное выражение мысли, с другой - творение
художника. Первое лишь с трудом сохраняется в ходе
истории; слова претерпевают смысловые изменения, понятия
"тонут", научные произведения подвержены
неправильному истолкованию, искажению. Отдельно взятое понятие
трудно заполнимо всей первоначальной полнотой
созерцания, на основе которого оно возникло; его судьба
изолирована, значение потеряно, осталась лишь абстракция.
Произведение искусства, напротив, прочно удерживает
свой задний план, оно проявляет его в смене времен и
культур там, где для него находится адекватно
созерцающий субъект.
Выше для этого принципиального различия можно
было указать лишь одно основание: произведение искусства
заключает в себе свою конкретность, в то время как
понятие имеет ее вне себя и постоянно должно наполняться из
другой, более широкой мыслительной связи, то есть из
созерцания. Хотя это разъяснение справедливо, но еще
не доходит до истинного основания. Вопрос еще в том,
почему понятие (и все, что строится в понятиях) внешне
по отношению к своей конкретности?
На это можно сейчас дать следующий ответ:
конкретность является внешней понятию потому, что понятие не
заключает в себе прочной направленности созерцания,
идущего от термина (от слышимого или зримого в
письменном образе переднего плана) к его духовному
значению (к заднему плану), в котором состоит мыслительное
достояние, духовное содержание. Такая направленность
может быть лишь там, где в объективации налична вся
последовательность слоев от чувственного к духовному. В
понятии ее не хватает: "мысль" здесь прямо связана с
термином, и нет речи о сопутствующих в явлении средних
слоях. Истинного процесса явления не дано. Мысль
нельзя "видеть".
С некоторыми поправками это приложимо и к
целостным произведениям мысли, хотя здесь связь понятий все-
таки содержит возможность для восстановления
созерцания. В более широкой связи недостаток прямого
проявления уже смягчается, сюда вторгается косвенное проявле-
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 227
ние. Но его средства не наглядны. Лишь для
изолированного единичного понятия содержание, которое должно
его наполнять, находится совершенно вовне.
Следовательно, произведение искусства производит и
сохраняет в себе всю последовательность слоев
независимо также и от эстетического воздействия заключенной
в нем прочности объективации, и, соответственно,
слабостью понятия и всех понятийных способов выражения
является то, что они не создают в себе
последовательности слоев. Это можно выразить также более конкретно:
процесс проявления представляет собой именно то, что
составляет силу художественной объективации. Ее
сущность состоит вообще в создании в чувственной материи
возможностей для проявления духовного содержания. А
понятие (само по себе по крайней мере) не приводит к
наглядному проявлению содержания. Связывание
является в нем внешним, конвенциональным. Свою функцию в
мышлении оно (понятие) выполняет лишь постольку,
поскольку значение, данное в термине, уже известно и может
быть из него наглядно выведено. Ибо понятие мертво без
наполнения созерцанием.
В произведении искусства дело в самой своей
основе обстоит иначе: само проявление проведено через
всю последовательность слоев. Дело не меняется и от
того, что в способе проявления еще остается кое-что
загадочным.
ГЛАВА 12
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В ПОЭЗИИ
а. Средние слои в поэтическом искусстве
Единственный пример из живописи теперь
недостаточен, чтобы обозреть процесс проявления и его
последствия. Очевидно, после анализа расщепления заднего
плана необходимо вновь, в применении к другому виду
искусства, взяться за первый путь исследования (гл. 6 и 7)
и расширить его. Естественно, что путь через лабиринт
явлений должен быть для этого анализа найден впервые.
Он должен заново провести нас через весь ряд видов
искусства, но при этом не обязательно следовать одной и
той же линии. Такое сложное отношение, как "движущееся
проявление", легче всего проанализировать там, где
наиболее четко выступает многообразие слоев. Для этого
был выбран пример портрета головы (в гл. 11). Теперь
228 Часть вторая. Оформление и расслоение
важно применить второй путь анализа к такому виду
искусства, где слои легче всего могут быть различены и где в
то же время имеется наибольшее количество слоев.
Эти условия наиболее полно выполняются там, где
искусство не просто изобразительно, а отводит важное
место теме. Такова прежде всего поэзия. Поэзия - это такое
искусство, круг тем которого наиболее широк: в ее
область входит все, что составляет человеческую жизнь и ее
события, конфликты, поступки и судьбы. Поэтому она
считается в идеализме высшим видом искусства. Но при
этом нельзя забывать, что поэзия, с другой стороны,
такое искусство, которое менее всего погружено в
чувственное. Ибо ее материя есть материя слова.
К этому прибавляется еще одно благоприятствующее
анализу обстоятельство. Нелегко выделить отдельные
слои являющегося, схватить их особенности в словах,
описать их - это всегда даже рискованно. Понятия
противоречат созерцанию. Эта трудность хорошо известна,
эстетика давно почувствовала себя стесненной ею.
Невыразимое, данное вообще лишь в проявлении должно быть
схвачено словами, то есть не соответствующими ему
средствами.
A priori очевидно, что этого никогда нельзя достигнуть.
В действительности же описание не претендует на столь
ответственный успех, но оно все-таки должно пытаться
близко подойти к цели, то есть выявить по меньшей мере
некоторые существенные черты слоев предмета. Именно
в этом пункте поэтическое произведение удовлетворяет
требованию описания.
Поэзия именно в словах выражает то, что не удается
выразить философу, по крайней мере частично. Ее
материей является слово, и то, чего она не может в нем
ухватить (косвенно или непосредственно), ей вообще
недоступно.
Но именно поэзия замечательно ярко схватывает
задний план в человеческом. Следовательно, то, в чем она
показывает человеческое, должно быть выразимо. Но это
значит, что должны быть выразимы промежуточные слои,
ибо через их прозрачность поэт дает проявиться
внутреннему миру человека. Исследователь искусства может
использовать это обстоятельство.
Разумеется, дело обстоит не так, что он находит здесь
то, что он ищет, просто выраженным в понятиях. Поэт
никогда не говорит понятиями. Даже когда он использует
ходовое понятие, он меняет его значение, выделяет в нем
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 229
образные истоки и подчеркивает то, что мы никогда в нем
не замечали. Это не мешает тому, что поэт выражает то, что
люди не умели выразить на языке повседневной жизни.
Поэзия является, таким образом, своего рода
свидетельством о самой себе. Она сама раскрывает принцип
построения своего продукта - поэтического
произведения. И ее образный язык вполне удовлетворяет
исследователя искусства, он даже превосходит с точки зрения
задач исследователя любые другие языки. И все же
уместным здесь для исследователя оказывается не постижение
в понятиях, но лишь определенная возможность
описания. И наилучшим тут является описание на языке поэзии.
Сейчас важно так выбирать примеры, чтобы тот или
иной слой действительно выступал с определенной
самостоятельностью. Поэзия .представляет для этого
богатый материал. Она вообще обращается к конкретной
фантазии, в слове (лишь оно здесь - передний план) она
прежде всего показывает дела и стремления людей так, как они
выявляют себя в жизни.
б. Поэтическая конкретность
Сопоставим два небольших примера, выявляющих по
меньшей мере два средних слоя. Первый - это "Король в
Фуле".
Собственно, о чем непосредственно говорят эти
немногие строки? Мы видим "старого кутилу" в его смертный
час на морском утесе, осушающим в последний раз
золотой кубок и бросающим его в море. За этим образом
всплывает совершенно другой образ, о котором не
говорится и который лишь просвечивает, - образ юношеской
любви; эта любовь не могла сбыться (очевидно, вековая
судьба королевских сыновей, которые не могли выбирать
по любви), но сопровождала его всю жизнь и даже в
смертный час остается единственно священным в его
жизни.
Или стихи Сафо: "Уж месяц зашел; плеяды - зашли... И
настала полночь, и час миновал урочный... Одной мне
уснуть на ложе!.."1 - короткий отрывок, но в нем содержится
все. Здесь говорится прямо лишь о бессонных ночных
часах в одиночестве и о заходе звезд; мы видим выходящее
на запад окно и ночную синеву неба в его отверстии. Ни
слова о тоске любящего. Она лишь чувствуется в образе
одиноко лежащего человека. Но тому, кто ее здесь не
чувствует, поэзия ничем не может помочь.
Алкей и Сафо, Собрание песен и лирических отрывков, М., 1914, стр. 123.
230 Часть вторая. Оформление и расслоение
Это характерно для всего поэтического искусства: оно
не высказывает сути дела. В повседневных словах суть
дела (Eigentliche) выглядела бы слишком грубо, не могла
бы к тому же воздействовать с жизненной наглядностью.
Как же ее выражает искусство? На это можно дать лишь
следующий ответ: оно выражает суть дела так же, как в
жизни даны судьбы, страдания и любовь, - во внешнем
поведении людей.
Для этого, как показывают примеры, он делает лишь
небольшую выборку из внешнего поведения и из особых
обстоятельств, в которых оно протекает. Здесь речь идет
не о чем другом, как о способе этого выбора.
Всякое поведение человека, хочет он этого или нет,
что-то говорит о его внутреннем состоянии. Но
решающим является то, чтобы сделанная выборка выдавала
(verrate) именно то, что должно быть показано. Эта
"выдача тайны" (verraten) тождественна процессу проявления.
Могут спросить, почему поэт выбирает этот обходной
путь? Потому что лишь таким способом он может
действительно "дать увидеть" то, что он хочет показать
("увидеть", конечно, в смысле читательского видения, то
есть видения второго порядка). Если он прямо говорит о
ненависти и любви, ревности, зависти, страхе и
надежде, то он говорит как психолог, называющий все своими
именами, а не как поэт, и тогда здесь выступает не образ
созерцания, а понятие, которое в свою очередь должно
быть наполнено содержанием. Известно, что плохие
поэты психологизируют.
Было бы хорошо наряду с рассмотренным примером
привести примеры из поэзии высокого стиля - из романа
и драмы. Как ни различны эти две формы поэтического
искусства, они, однако, сходны в том, что обрабатывают
большой материал, показывают большой отрезок
человеческой жизни с ее конфликтами, решениями, судьбами,
вводят в обширную человеческую сферу и оформляют в
ней отдельные образы. Если бы поэт захотел наперед
проанализировать характеры, он бы нам наскучил. Если
бы он захотел рассказать обо всем, что происходит с
ними, он растворился бы в обилии фактов. Но он дает им
проявляться (через их поступки, разговоры и реакции) в
резко ограниченной выборке деталей. Он дает им
характеризовать самих себя в краткой последовательности
сцен, дает им "выдавать" себя так, как они выдают себя в
жизни. И часто бывает так, что мы не угадываем
правильно с первого намека, что мы видим вначале односторонне
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 231
только некоторые стороны образа, как он выступает в
отдельном действии, и это очень похоже на то, как это
случается в жизни. И именно таким путем становится
жизненным совокупный образ внутреннего мира, он
переливается всеми красками, заключает в себе противоречия,
важные для последовательно раскрывающегося внутреннего
мира личности.
Замечательным примером последнему является
принц Гарри (в обеих частях шекспировского "Генриха IV"),
как он предстает, с одной стороны, в сценах Фальстафа, а
с другой - в королевских сценах; беззаботность автора
относительно единства противоположностей выражается
здесь в образе одной личности, и она действует,
впечатляет тем конкретнее и жизненнее, чем меньше она
предварительно разъясняется зрительно.
Но и без феномена противоположностей один
небольшой сценический момент может вызвать, не будучи даже
объясненным, глубочайшее впечатление; напомним о
небольшом, проникнутом злостью эпизоде со шляпой тетки
в первом акте Тедды Габлер" (сцена 2).
Великие рассказчики строго следуют этому пути.
Конечно, кое-что можно сообщить сухими словами, но суть
дела не в этом. Диккенс, например, дает почти всем
своим образам возможность самим представлять себя
зрителю (читателю) в сценах, действующими носителями
которых они являются; предваряющее описание касается
скорее лишь внешнего. Гамсун часто заставляет своих
персонажей говорить лишь о безразличных вещах; важно
не то, что они говорят, а то, как они говорят. Вообще
важно лишь неосязаемое. Само собой разумеется, дело не в
том, будто содержание речи не имеет значения. Но оно не
единственно существенное. Всегда остается нечто
невысказанное и невыразимое.
Ставшая, таким образом, прозрачной деталь наиболее
осязаема тогда, когда поэт дает своим персонажам
высказываться в прямой речи. Слои поэтического
произведения здесь непосредственно различимы. Именно с этого
может начаться анализ. Его нужно провести лишь
определенным образом.
е. Различение слоев
в поэтическом произведении
Собственно, о каких слоях поэтического произведения
идет теперь речь? Ясно, что не о реальном переднем
плане. И, конечно, ни в коем случае не о последнем и самом
232 Часть вторая. Оформление и расслоение
глубоком слое заднего плана. Скорее речь идет
исключительно об определенных средних слоях. Нужно
попытаться точнее определить их и отличить друг от друга; только
тогда по достоинству можно оценить позитивную связь •
между ними. Но эта связь и есть отношение проявления.
1. Передним из обоих играющих здесь роль слоев (оба
они лишь являющиеся) является, очевидно, тот, который в
живописи и скульптуре соответствует чувственно
опосредованной зримости. Это тот слой, который и в
драматургии (да и в действительности) изображает зримо и
слышимо. Этот слой - сфера телесных движений, позы,
мимики, речи, короче говоря, всего того, что внешне
воспринимается в человеке (сравни это с вышеприведенными
примерами).
2. Задний слой, проявляющийся через первый, не
принадлежит полностью внутреннему, а есть прежде всего
слой действий, внешнего поведения, реакций и
поступков, удач и неудач. Косвенно к нему можно отнести также
намерения, конфликты, решения, короче говоря, всякие
ситуации, поскольку они не ограничиваются
одновременным присутствием персонажей, а заключают в себе
напряжение сталкивающихся намерений. Но эти ситуации не
включают пока мотивы и настроения.
3. Однако рассматриваемая последовательность
слоев этим не ограничивается. Теперь включается
следующий слой, который опять же проявляется в передних. Ибо
лишь в характере поступков мы можем разглядеть
моральное своеобразие и характер человека, разглядеть то,
что сформировано в его душе и остается постоянным для
его сущности. Здесь отделяются друг от друга
легкомысленное и рассудительное, эгоистичное и внимательное,
непочтительное и почтительное, трусость и храбрость.
Лишь этот слой - он уже четвертый, считая от слоя слова
(и третий внутри заднего плана), - раскрывает нам этику
человека, заслугу и вину, вменяемость его поступков и
сознание ответственности за них. Потому что лишь здесь
открывается глубина конфликтов, которая заключается
всегда в ощущаемом конфликте ценностей; подобна
этому и моральная сторона ситуации: в ней роковым образом
переплетаются свобода и несвобода, которые выступают
как принуждение к свободному решению.
Напомним о том способе, каким Достоевский вводит
своего Димитрия Карамазова. Сначала мы узнаем факты
из его молодости и жизненного пути; все это излагается
бесхитростно. Такое начало вряд ли кого могло серьезно
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 233
заинтересовать. Дело меняется в тот момент, когда он
легкомысленно позволяет Катерине Ивановне прийти к
нему в своей нужде, а затем рыцарски отпускает ее с
деньгами, покоренный величием ее доверия. Одним
ударом он завоевывает не только сердце девушки, но и
сердце читателя, и никакие дальнейшие безрассудные
поступки не могут стереть этого.
4. Но затем сюда присоединяется нечто совсем
другое, а именно новый предметный слой. Он касается уже не
внутренней сути человека, а скорее всей его жизни в
целом. И это целое не может быть дано непосредственно,
оно содержит слишком много деталей. Поэт показывает
его в сценах или эпизодах лишь определенными
отрывками, он показывает это целое соответственно его
внутренней связи. Предпосылкой для этого являются
характерные конфликты и поступки, а также сплетение
ответственности и вины.
Это целое можно назвать судьбой, будь это судьба
отдельного или многих сталкивающихся друг с другом
персонажей. Только "судьбу" нельзя здесь понимать
буквально (в смысле предопределенной человеку высшим
провидением); скорее она дело рук самого человека, и часто он
сам виноват в ней. Прекрасным примером этому может
служить "Песнь о Нибелунгах". Зигфрид сам себе
уготовил судьбу, пустившись на обман и вероломство по
отношению к Брунгильде, не будучи даже настолько
последовательным, чтобы навсегда укрыть предательские
трофеи. С точки зрения показа самому себе уготовленной
судьбы "Песнь о Нибелунгах" стоит композиционно
намного выше большинства эпосов подобного рода.
Явление судьбы - значительный и важный момент в
эпическом и драматическом творчестве; в определенном
отношении оно представляет собой центральный момент,
освещающий все остальные, в том числе и персонажи. В
большинстве случаев мы не видим его в жизни, ибо
слишком заняты частностями. Задача как раз в том и состоит,
чтобы пробить эту узость взгляда и показать являющееся
целое. Но поэзия делает это косвенно, позволяя
неумолимым последствиям дел и решений говорить самим за
себя. Тогда судьба человека проявляется в них конкретно,
образно, наглядно.
234 Часть вторая. Оформление и расслоение
г. Самое внутреннее. Границы выразимого
До сих пор мы сознательно говорили только о средних
слоях поэтического произведения. В них отчетливо можно
увидеть ступенчатый характер развития отношения
проявления. Но от них нужно отличать последние слои
заднего плана.
Что может быть еще, кроме характера, долга, судьбы,
что могло бы там проявиться? Это было уже показано в
предшествующей главе на примере из живописи, ибо вся
последовательность слоев там такая же (если
изображается человек): даны слой индивидуальной идеи и слой
общечеловеческого, оба сверхэмпирические и имеющие
характер идеи, но весьма различно расположенные.
1. Что касается первого, то здесь мало что можно
добавить. Каждый человек в своей жизни лишь частично
осознает то, что заключено в его сущности. Он даже
может вообще неправильно понять свою сущность
(вследствие плохого воспитания, образования, подражания
другому человеку и т. д.), но кое-что от нее остается и
проявляется сквозь разные искажения. Стоит только подумать о
том, что каждый человек с каждым решением, которое он
принимает в жизни, лишает себя представляющихся
первоначально смутных возможностей (онтологически это
лишь частичные возможности), то станет вполне понятной
громадная пропасть, отделяющая действительного
человека от потенциального богатства его первоначальной
(или, говоря иначе, идеальной) сущности.
Обычно мы не видим этого в человеке. Это присуще
глубокому и проникновенному взгляду. А повседневная
жизнь не дает нам необходимого досуга. Но иной раз это
удается в любви; любящему важно действительно
своеобразное в человеке. Может быть, он и любит лишь потому,
что видит человека в свете его индивидуальной идеи, в
свете идеальности того, чем он отличается от других.
Замечательно то, что поэт тоже способен на такое видение
(Schau). В этом отношении он похож на любящего.
Различие состоит лишь в том, что поэт в своей
способности не ограничен пределами одной личности и может
показать другим увиденную им идеальность так, чтобы и
они могли ее видеть, так же как и поэт. Любящий на это не
способен. И, следовательно, видение поэта в самой
своей основе иного рода.
Какого же рода это видение? Его нужно рассматривать
как определенную форму ценностного видения
(Wertschau), а именно как форму подлинно этического
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 235
ценностного видения. Это не означает смешения этики и
эстетики; ведь моральные ценности и без того являются
предпосылкой для понимания тех человеческих
отношений, ситуаций, конфликтов, которые составляют (в
третьем и четвертом средних слоях) материал поэзии.
Непонятно, почему индивидуально-личностные ценности
должны составлять исключение. Напротив, в силу их
конкретности и многообразия включение их в материал
художественного предмета особенно важно. Следует учесть и
то, что понятия не очень глубоко проникают в
индивидуально-личностные ценности, они слишком грубые
инструменты для этого; а жизненное чувство ценности теряется
в них, легко превращаясь в смутное и неопределенное.
Здесь необходимо острое, пластическое созерцание.
Оно как раз и вносится поэтическим взглядом. Здесь
можно вновь напомнить о приводившемся выше примере с
принцем Гарри. Еще больше индивидуализирована в
своей идее фигура Гамлета; она выходит за рамки и
человеческого типа и эмпирического описания человеческой
жизни. Алексей Карамазов также является фигурой,
увиденной в ее идеальности; эта фигура идеальна, как
показывает Достоевский, отнюдь не во всем, а лишь в том, где
идеальная сущность пробивается в действительную
жизнь.
Не всякое поэтическое творчество достигает этого.
Игра с идеей личности - опасная игра. Она может
превратиться в конструкцию, и тогда работа оказывается
неудачной, возвышение к идеальности воспринимается как
неестественное, как художественно не правдивое; оно не
убеждает. Многие писатели избежали этого. Но
существуют произведения, в которых высочайший результат
достигнут именно этим.
Легко показать, что заключено в "сконструированной
личности". Это выдуманный нетворческой фантазией
идеал индивидуума, и притом выдуманный не согласно
истинно подмеченной личностной идее, а согласно
общим идеалам. Отсюда весьма слабо впечатляющие
типы: сказочный принц, бесстрашный и безупречный
рыцарь, ангельская девушка, мудрый старец. Это уже
затасканные крайности, ставшие фольклорными. На них
убедительно видно соскальзывание в область
непоэтического. Лишь гений может справиться с подобными
большими задачами.
2. Совершенно иначе обстоит дело с материалом
идей, имеющих общий характер. Он составляет дальней-
236 Часть вторая. Оформление и расслоение
ший слой предмета везде, где предмет затрагивает
человеческие факты (а не только саму личность).
Сомнительным может быть то, всегда ли это более глубокий слой; но
в определенном смысле, пожалуй, всегда, а именно в том
смысле, в каком говорят о чем-то далеком от конкретного
и наглядного.
В жизни мы нередко в судьбе отдельного человека с
его борьбой и долгом видим образ собственной жизни;
читая роман, мы отождествляем себя с героями
(безразлично, имеем мы на это право или нет),
перевоплощаемся в них, побеждаем и страдаем вместе с ними. Все это
основывается уже на определенном обобщении, на
молчаливом знании того, что "и с другими так случается".
Поэт, конечно, не удовлетворяется такими само собой
разумеющимися общностями. Есть общности и гораздо
более скрытые и не открывающиеся так легко каждому. То,
что "счастье" скорее всего выпадает тому, кто за ним не
гонится, что действие "характеризует" того, кто его
совершил, что преисполненное любви участие людей
соразмеряется не с достоинствами и способностями нашей
собственной персоны, а с нашей чуткостью к людям, -
всему этому человек не перестает никогда учиться. Эти
истины не захватывают его, если он знает о них со слов
опытных людей. Но они захватывают его, если представляются
ему в наглядном образе какой-либо человеческой жизни.
Поэт не выражает их в словах, то есть "не высказывает
их", а дает им проявляться в образах. Лишь в этом случае
они воздействуют конкретно и убедительно. С этими
общими идеями поэт находится в определенном смысле
между двух огней. Если они совсем незаметны или лишь
едва дают о себе знать, то произведение воздействует
"поверхностно", ему не хватает того, что затрагивало бы
каждого и было бы каждому важно. Но если он слишком
выдвигает их на передний план и тематизирует, если он
полностью (и открыто) их высказывает, то они действуют
не поэтически, и это значит, что они вовсе не
воздействуют, даже если они крайне глубокомысленны.
Настоящий поэт выявляет их только в личностях и
событиях, маскирует их красноречивыми деталями средних
слоев. Это означает, что он показывает их такими, какими
показывает их жизнь в моменты, когда человек в
состоянии понять их язык, - в образе частного случая, часто в
виде загадки, так что читателю остается кое-что такое, что
он должен разгадать. Поэтому в зрелом возрасте мы
читаем некоторые поэтические произведения с совершенно
иным, чем в юности, пониманием и даже с иным
художественным наслаждением.
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 237
д. Идеи в поэтическом творчестве
Общие идеи играют очень большую роль в
поэтическом творчестве. Они, по сути дела, принадлежат к его
"материалу", и специальные, конкретные материалы
подбираются часто на их основе. Но вовсе не всегда они
должны высказываться в виде какого-либо принципа.
Напротив, это бывает редко. Общее не обязательно должно
обладать формой какой-либо моральной идеи, как в
вышеприведенных примерах, оно может обладать гораздо более
смутной иррациональной природой, оно может выступать
в форме метафизического беспокойства, страха за жизнь,
непонятной неуверенности, чем-то вроде чувства
бессилия перед лицом бесчисленных, не поддающихся учету
сил, которые вторгаются в индивидуальную судьбу.
Многие общие идеи поэтического творчества
религиозны по своему типу хотя бы потому, что в прошлом
многие велики произведения поэзии, как и других видов
искусства, выросли на почве религиозных ощущений. И здесь
посредственный поэт выражает свои идеи прямо, тогда
как гениальный выявляет их через судьбу и поведение
своих персоажей (он дает им верить, сомневаться,
заблуждаться, пересматривать свои решения, "бороться с
богом"...), а это совсем не то, что высказывать убеждения.
Естественно, что точно так же обстоит дело и с
мировоззренческими идеями любого рода. Они могут вторгаться
всюду, даже в жизнь любви, и быть там источником
счастья или несчастья.
Такие общие идеи простираются абсолютно на все
области жизни, в том числе на политическую. Можно найти
прекрасные примеры, когда идея свободы народа
составляет остов поэтического произведения. Причем
безразлично, D чьей свободе идет речь и против кого
направлено произведение - важно только то, что такие
произведения вызывают симпатии к угнетенным и ненависть к
угнетателям.
Эта политическая идея особенно поучительна в том
отношении, что в ней отчетливо видно, что дело не в
разъяснении, понятном изложении или только высказывании
самой этой идеи, а исключительно в том, чтобы сделать ее
доступной для чувства; и это совершается не в
разъяснениях, а в действии, показом несправедливости,
беззастенчивости и высокомерия правителей, с одной стороны,
и возмущения, гнева, бессилия, отчаяния - с другой.
Никакое искусство не высказывает столько идей,
сколько поэзия. И в то же время в ней совершенно исчеза-
238 Часть вторая. Оформление и расслоение
ет то, что остроумный человек или вообще философ
высказывает в идеях. Но все-таки спрашивается: почему все
это совершенно исчезает? Ведь поэты в большинстве
случаев не являются мыслителями; они не принадлежат к
числу тех. кто схватывает идеи глубже и адекватнее всех.
Каким образом они достигают того, что адекватнейшим
образом их высказывают?
Дело в том, что они совсем не высказывают их, а дают
им проявляться. Философу с большим трудом дается
выражение общих идей: он должен их точно постигнуть,
ограничить (определить), вообще должен выделить
объективно общее как таковое и сделать его очевидным. Поэту
всего этого не нужно. От него никто не требует отчета. Ему
нужно лишь указать - и даже не общее как таковое
(сделать обобщение легко может каждый), а только
определенные характерные моменты индивидуальных событий,
личных чувств, страстей, решений и т. п. И этого вполне
достаточно.
Ясно, что это снимает с поэта громадную долю труда.
Поэт может указать очень многое, лишь смутно
ощущаемое, в его общем значении, даже не будучи в состоянии
назвать его по имени и объяснить. Поэт не только не
нуждается в последнем, но даже должен от этого
воздерживаться, ибо объяснение - не его дело. Задуманная им
общая идея должна оставаться завуалированной,
наполовину тайной. Она должна выражаться только в событиях.
Следовательно, поэт вовсе не должен обладать четким
"знанием" о ней. Именно незнание позволяет ему дать
общей идее возможность выразиться в самой поэзии, не
говоря о ней прямо. Это положение необратимо. Но это
вовсе не означает, что он делает все это легко. В
определенном смысле вершина человеческих возможностей
состоит именно в таком изображении характеров, событий,
судеб, страстей и дел, при котором общая идея
действительно отчетливо вырисовывается, не затемняя при этом
конкретную индивидуальность.
Это дано вовсе не каждому, кто умеет рифмовать
стихи или увязывать друг с другом драматические сцены.
Бесчисленное количество молодых людей пробует себя в
поэзии, создавая небольшие, различные по своей
красоте произведения. Почему позднее весьма многие из них
отходят от этого, хотя они научились равняться на великие
произведения поэзии, хотя возросли их собственные
требования? Ответ может быть только один: потому что
большинство из них достаточно умно для того, чтобы в один
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 239
прекрасный день понять, что им не хватает идей. Потому
что они видят, что не обладают прозрением в глубину
человеческой жизни и что создаваемые ими формально
привлекательные вещи, по сути дела, внутренне пусты.
Или у них есть и идеи и красота слова, но одно не
проявляется в другом. Дар проникновения в действительно
значительное и способность выразить его на языке жизни, то
есть на языке действий и страданий, ненависти и любви,
есть и остается редким даром.
е. К обозрению слоев
В целом в поэтическом творчестве здесь было
выделено семь слоев предмета. Пожалуй, так богат только
предмет поэзии. Но богат он только в поэзии высокого
стиля: в эпосе, романе, драме, хотя и здесь не все слои
одинаково развиты.
В поэзии более низкого стиля дело обстоит гораздо
проще. Лирика не развивает никакого действия, никакого
конфликта - это чуждо ее природе. Она перепрыгивает
непосредственно от внешней сферы (например, обстановка
и т. п.) к слою чувств и настроений; помимо этого, она еще
может поведать кое-что о судьбе (как в фрагментах Сафо)
или даже о чем-то общечеловеческом, но обычно не
делает этого.
По своему назначению она гораздо менее
притязательна. Правда, она выполняет его совершенным
образом, очевидно, потому, что ее претензии не так велики.
Это связано с двумя обстоятельствами: 1) с очень узким
обрамлением произведения искусства, можно сказать, с
его миниатюрностью и 2) единственно возможным в этих
пределах языковым оформлением. Благодаря этому
происходит определенная концентрация как
непосредственно выразимого, так и невыразимого и являющегося.
Вообще крайняя сжатость и краткость действуют на
воспринимающий субъект как требование оценки
прозрачности того немногого, что сказано. То, что все заднеп-
лановое остается при этом в некоторой
неопределенности или по крайней мере многозначности, не затемняет
его. Наоборот, осторожно намекаемое, неопределенное
составляет здесь скорее всего положительный момент.
Стихи выражают себя так же, как и переполненный
чувством человек, который, будучи не в состоянии его
высказать, хватается за побочные детали, надеясь, что
они сделают понятным его чувство. Так можно обозреть
все виды поэзии (различия между которыми во многом
240 Часть вторая. Оформление и расслоение
условны). Но это завело бы нас слишком далеко. Важнее
другое. Нельзя педантично понимать эти однажды
выделенные слои. Нельзя в каждом, даже большом
поэтическом произведении стремиться к актуальному различению
слоев, нельзя их препарировать.
Они составляют лишь общий принцип, а не
прокрустово ложе, в которое должно быть все втиснуто. Нужно,
конечно, сказать, что в драме и романе (в хорошей драме и
в хорошем романе) наличны, пожалуй, всегда все слои до
предпоследнего (до слоя индивидуальной идеи). Но
последовательность проявления не всегда одинакова,
особенно в средних слоях. Например, "судьба" может
являться прямо в характере поступков (как в большинстве
случаев у Шиллера) или лишь во внутреннем душевном
оформлении и в субъективности личного ощущения. Разумеется,
нецелесообразно резко отделять одно от другого, да
этого и нельзя сделать, ибо в жизни они взаимопереплетены,
но для поэтического творчества преобладание того или
другого представляет весьма существенную разницу.
Пожалуй, нигде, по крайней мере в средних слоях, не
происходит собственно выпадения какого-либо слоя; в
последних двух внутренних, особенно в шестом, оно
возможно. В самой жизни средние слои так тесно связаны,
что выделение поэтом одного из них выглядело бы
насильственным там, где он хочет изобразить все течение
жизни. Иначе обстоит дело в малых поэтических формах,
рисующих только настроение, чувство, печаль, тоску.
Поэтому лирика гораздо более свободна, хотя, с другой
стороны, она связана с более строгими внешними
стилистическими средствами. Но она вовсе не является, как
думают многие дилетанты в области лирики, более легким
искусством. Однако это относится больше уже к вопросу
оформления в слоях, а не к самим слоям.
Из последовательности слоев все же можно вывести
строгий закон незаменимости слоев, или, может быть,
еще вернее, незаменимости их места в целом. Поэт,
конечно, может при случае недостаточно развернуть какой-
нибудь очень наглядный слой (например, слой движений и
мимики) переднего плана; хотя это непоэтично, но может
оказаться необходимым в определенных случаях. Однако
он не может "выявлять" движение и мимику своих образов
в поступке (собственном и внутреннем) или в душевной
жизни. Там, где создается такая видимость, в
действительности речь идет совершенно о другом: внутренний
мир личности выявляется в свете ее поступков или реак-
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 241
ций ее чувства, и уже благодаря им в блеклых до сих пор
красках образов в фантазии читателя вырисовывается
соответствующее выражение лица (изумление, испуг и т. п.).
При более внимательном рассмотрении это
оказывается лишь искусным приемом поэта. Ибо в
действительности реакции чувства воздействуют конкретно только
через пластику их зримого выражения. Пластика возникает
здесь как косвенное указание на душевное состояние. И
на вопрос, почему поэт прибегает к этому обходному
пути, можно ответить: потому что язык в качестве
изобразительного средства относительно беден для прямого
образного выражения движения тела, а мимика
относительно богата для выражения душевных движений. Если поэт
говорит об изумлении или испуге, то читатель
непосредственно перед глазами видит соответствующее
выражение лица... Таким образом, кажущееся извращение есть
на самом деле вопрос о языковом выражении.
ГЛАВА 13
СЛОИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
а. Последовательность слоев в пластике
Ни один вид искусства не достигает такого богатства
слоев, как поэзия. Это зависит частично от ограничений,
налагаемых на них их материей, частично от их
материала, от их круга задач, а также от находящихся в их
распоряжении специфических художественных средств.
Странно то, что наименее конкретная материя поэтического
творчества открывает все-таки наибольшие возможности.
Это единственная нечувственная материя. Можно
вывести самые различные по своему значению следствия из
того факта, что чувственная материя влияет
ограничительно, и не только на выбор материала, но и на движение
слоев. Здесь нельзя предрешать, действительно ли это так.
Пока важно установить лишь то, что здесь существует
такая зависимость.
Изобразительное искусство близко поэзии прежде
всего тем, что оно является "изображающим искусством",
а также тем, что круг ее материала по меньшей мере
скрещивается с материалом поэзии. Такая близость была бы
невозможна, если бы, например, пластика изображала
только движение и живость и не затрагивала душевное
бытие человека. В действительности же она его
затрагивает, выявляет предметно, правда, не в такой степени, как
242 Часть вторая. Оформление и расслоение
поэзия, но все-таки с несомненной конкретностью и
наглядностью, присущей искусству вообще.
Характерно, что первая вершина греческой
скульптуры, ее "классическая эпоха", еще мало показывает это.
Она добивается выразительности в изображении величия
богов, но бурная душевная жизнь не находит здесь
выражения. Здесь художественное стремление направлено
пока на другое, ставятся более простые задачи, и, очевидно,
именно поэтому эта эпоха искусства достигает
единственного в своем роде совершенства, воспринимаемого
позднее как классическое. Вышеприведенный закон
совершенства выполняется в ней убедительнейшим образом
(более простому образу легче придать совершенство). В
данном случае это означает следующее: более бедное в
отношении слоев произведение искусства скорее достигает
возможной на данной ступени и при данных средствах
высшей степени совершенства.
Что это значит, если это выразить на языке слоев?
Остановимся в этой связи на греческой классической
скульптуре. Какие слои даны здесь? Несмотря на все
ограничения, мы все-таки должны, очевидно, принять во
внимание четыре слоя. 1. Чувственный реальный слой
видимой формы составляет передний план. 2. Далее
следует уже ирреальный слой движения или покоя, ибо
телесный покой в широком смысле также является моментом
движения, например временного расслабления. 3. И лишь
за этим слоем появляется жизненность изображенного
тела, то есть то, что отличает его от безжизненного
предмета, именно динамика телесной силы, ставшая
непосредственно зримой. 4. И, наконец, минуя все остальное,
проявляется сила божественности, величавое
спокойствие и возвышенность над незначительностью человека.
То же самое относится к изображенным полубогам,
героям, нимфам.
Естественно возникает вопрос: как возможен такой
скачок? Ответ очень прост: даже простая жизненная сила,
будучи достаточно преувеличена, кажется
сверхчеловеческой; это кажется примитивным, но доказуемо.
Напомним, например, о речи Зевса перед собравшимися
богами в начале восьмой песни, в которой он предлагает им
взять канат и стащить его с Олимпа. А боги... Они
удивлены, конечно, его речью, но соглашаются с нею и не
осмеливаются на возражения.
Позднее это очень быстро меняется. В чертах лица
выступают дух борьбы, испуг, страх, страдание, печать
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 243
смерти. Отсюда еще далеко до высокоодушевленных
форм выражения у Микельанджело (до скованного раба,
размышляющей мадонны, Давида). Но возрастают только
глубина чувства и сила изобразительного мастерства,
основа же как здесь, так и там одна и та же.
То же самое имеет место в искусстве скульптурного
портрета - везде, где стремятся передать личное
"сходство"; вернее, речь идет о стремлении ухватить личное как
таковое, ибо в проявлении выступает не столько внешне
индивидуальное, сколько внутренне или душевно
индивидуальное (часто в мельчайших своих деталях); конечно,
последнее не выступает отдельно от первого, но на деле
замечается только душевно-личное (например, в поздне-
римском портретном искусстве).
Большую пищу для размышлений дает
древнеегипетское портретное искусство с его тесным переплетением
условной формы и сугубо личных черт, сохраняющих
индивидуальное: отдельный человек выступает в двойном
обличье - всеобщем и индивидуальном, и ничто не
ослабляет противоречия; например, если лицо индивидуально,
то остальная часть тела изображается условно.
Еще один шаг - и мы приходим к современной
пластике, достигшей в лице своих, пожалуй, немногих великих
представителей новой ступени. Ее задачей является
выражение в определенных образах именно душевного и
внутреннего, но не совсем индивидуального, а имеющего
всеобщий характер, то есть относящегося к средней
ступени - не к общечеловеческому, а к типическому.
Хорошим примером является "Мыслитель" А. Родэна,
как, впрочем, и многие другие его работы. Уже здесь
есть нечто странное: как изобразить в камне такой
процесс, как "мышление"? То есть в том, что наиболее чуждо
ему? И все-таки невозможное сделалось возможным: мы
видим напряжение мышления в позе фигуры. Конечно,
мы не знаем, "о чем" думает мыслитель, но это не
относится к делу. Схвачено лишь то, что может быть показано
только обходным путем через динамику тела. И если это
оказалось возможным, то это - чудо искусства. Но
обходной путь идет через средние слои; здесь можно
сказать - через психофизическое отношение, которое
делает зримым душевное напряжение.
244 Часть вторая. Оформление и расслоение
б. Внешние слои живописи
Выше, в главе 11, уже говорилось о слоях в живописи
на примере портрета головы. Уже там богатство слоев
достаточно выявило себя. Выявился также параллелизм,
с одной стороны, с поэзией, с другой стороны - с
пластикой. Но живопись есть не только искусство портрета, она
включает в себя, подобно поэзии, разные виды, и нужно
еще рассмотреть, что из выведенного выше относится к
другим видам живописи.
Два обстоятельства общи живописи и скульптуре: во-
первых, крайне чувственный характер материи и,
во-вторых, доступ к высшему роду материала (изображаемого
предмета), открывающегося человеку. О последнем
говорит тот факт, что существует как религиозная
живопись, так и религиозная скульптура. Исторически этот
факт еще значительнее, стоит только подумать о том, что
великие эпохи того или иного искусства выросли на
почве высокоразвитой религиозной жизни и находили свои
важнейшие темы в кругу религиозных идей. Такова
пластика египтян и греков, такова же живопись Ренессанса и
частично голландцев.
Но что касается чувственной материи, то с точки
зрения эстетики нужно отметить, что оба эти вида искусства,
будучи "изобразительными" искусствами, являются
единственными, которые "изобразительны" в такой
конкретной материи, то есть наглядно дают темы, предметы,
сюжеты. Поэзия, пожалуй, тоже очень изобразительна, но не
в чувственной материи, а музыка, материя которой
чувственна, сама по себе не изобразительна. Другое
дело, что она может быть таковой косвенно.
Конечно, во всем остальном материя этих двух видов
искусства глубоко противоположна: с одной стороны,
чистая пространственная форма, до тонкостей доступная
изображению, с другой - пространственная форма в
двухмерной проекции со всей пестротой красок, а там, где нет
последней, например в рисунке, остается еще
ступенчатая игра света и тени. Много спорили о том, что является
большим недостатком: то, что в скульптуре нет цвета, или
то, что в живописи нет полной пространственной формы.
Но скорее отсюда вытекает ограниченность обоих
видов искусства. Прежде всего скульптура ограничивается
пространственно близким, живым и почти что
исключительно человеческим телом. В смысле многообразия это
отнюдь не узкая область, но все-таки несравненно более
узкая, чем живопись, которой доступно и человеческое
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 245
тело. Неоспоримым преимуществом последней является
то, что она схватывает пространственно далекое, умеет
объединить далекое и близкое в одном образе.
Объединение здесь происходит не путем компромисса,
пространственное расстояние не утаивается, не замазывается, а,
напротив, получает выражение, изображается даже
предметно.
Отсюда нельзя не сделать вывод, что прямая
передача пространственной формы именно в смысле
изображения пространственных отношений гораздо более
ограничена, чем не связанная ею и окольным путем в
двухмерных образах изображенная пространственность.
Последняя есть пространственность "картины", будь то
рисунок или живопись: в овладении пространственным
живопись превосходит скульптуру, и притом в силу этого
она свободна от чувственной непосредственности
пространственной формы. Внешне это выглядит как
парадокс. Но именно здесь лежит ключ к различению
возможных способов изображения.
Это имеет значение для последовательности слоев в
живописи. Ибо в искусстве изображения пространства
круг тем также определяется дальностью проникновения
в пространство и единообразием поля зрения в нем. И то
и другое более развито, очевидно, в живописи, чем в
скульптуре. Как раз скульптуре недоступны такие темы,
как ландшафт, море и небо, и не только они, но и двор,
интерьер жилых помещений, церквей и т. п.
Вышеизложенное полностью относится и к рисунку,
который своим отказом от цвета стоит близко к
скульптуре. Но лишь с цветом появляется богатство качеств,
которое и в жизни отличает зрение от других способов
восприятия. Живопись использует это "отличие". Ибо в руках
художника многообразие качеств с его внутренней
законосообразностью, противоречивым характером и
постоянными переходами воздействует как язык с бесконечно
тонкими значениями, который при правильном
применении может выразить самое недоступное.
Дело не в том, будто отдельный цвет имеет "значение"
- подобные забавы, как они иной раз конструируются,
совершенно ошибочны. Отдельные противоположности,
контрасты, оттенки также еще ничего не дают.
Комбинации цветов, о которых здесь идет речь, появляются лишь в
более широких связях, где есть уже тематическое
членение. Они представляют собой особые образования и
служат, например, для прозрачного проявления жизни. Важ-
246 Часть вторая. Оформление и расслоение
но уяснить себе это, ибо от этого зависят определенные
темы живописи и вместе с ними - особенность отношения
слоев в ней. А именно в живописи существуют темы,
определяемые прежде всего игрой красок. Широко известна
игра красок в изображении натюрморта, особенно это
относится к образцам подобного рода картин, это
распространяется также и на изображение интерьера. Но гораздо
важнее другое - далеко идущее значение этого для
ландшафта. И это такая большая область живописи, что
рассматриваемый факт проявляет здесь свою полную силу.
По этому поводу выше говорилось, что взор
живописца обнаруживает ландшафт если не так, как он есть в
красках, то так, как он выглядит для зрения.
Но что приковывает этот взор к естественному
ландшафту? Конечно, разные причины. Но одно постоянно:
пестрое расположение красок рядом друг с другом, когда
они в пространстве между стволами деревьев вдруг
открываются нашему взору ошеломляюще и убедительно, не
выискиваемые преднамеренно и все-таки как бы
расположенные искусной рукой. И нужно добавить:
открываются не только в том виде, как они контрастируют и
смыкаются в единство картины, но и в их отличии друг от друга
по свету и тени и в их затухании в дальней синеве.
Тот, кому раз открылись глаза на эти особенности
ландшафта - а их немало для людей знающих, - уже не так
легко освобождается от их власти. Ибо здесь ему
открывается целый мир. Поэтому взгляд живописца всегда так
охотно возвращается к ландшафту. Здесь он как бы
находит воплощенным принцип картины, который в то же
время не связан с глубинами заднего плана, ибо ландшафт не
нуждается в таковых. И кажется, даже краски достигают
наибольшей прозрачности для предметов этого
искусства, а именно для предметов, представляющих собой не
вещественное или структурное единство, а вырезки из
пестрого мира, обладающие как таковые картинностью.
е. Внутренние слои в живописи
Сказанное имеет такое широкое значение только для
внешних слоев живописи, то есть для тех, которые еще
близко стоят к переднему плану. Таковы, согласно
предшествующему различению, слои являющейся
пространственное™ и вещественности, а также являющегося
света. Отсюда нужно отсчитывать дальнейшие слои, в
которых проявляются движение и живое; очевидно, последние
также нужно было бы разделить, ибо "жизнь" проявляется
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 247
в картине совершенно иначе, чем движение (последнее,
например, имеет место в изображении ландшафта в
ветреную погоду).
Но тем самым мы подходим уже к внутренним слоям
живописи. Ибо проявляющееся здесь живое, несомненно,
относится уже к некоему среднему слою, который должен
быть причислен к внутренним слоям. Может быть, то же
самое относится даже и к проявлению движения. Ибо
нельзя забывать, что живопись сходна со скульптурой в
том, что она может показывать непосредственно только
покоящееся; пятно краски на полотне движется столь же
мало, как и оформленный мрамор, и выход из этого
состояния покоя к движению лежит только на узком пути
создания возможностей для проявления. Этот путь может,
впрочем, открывать значительное богатство.
Здесь нужно, далее, подумать о том, что искусство
живописи является типичным искусством чувственного
зрения (очевидно, из нее первоначально взят также и образ
"эстетики"), что ее материя способствует ей в этом, но в
то же время приковывает ее прочнее, чем
соответствующая материя других видов искусства. Живописец прав в
своем стремлении оставаться около чувственного или по
крайней мере никогда далеко не удаляться от него. В
такой мере это нельзя утверждать ни об одном другом виде
искусства. Поэтому живописец всегда возвращается от
идеального видения к чувственному зрению и к цвету.
Кажется, будто он впадает в грех, удаляясь от зримого.
И все-таки живопись достигает изображения души
человека и его внутреннего мира. Об этом уже говорилось
выше в примере с портретом. Но дело здесь ни в коем
случае не сводится только к портрету. Ибо в живопись
вторгается масса человеческих тем - от будничных сцен
до сцен религиозных чудес и мистерий. Голландцы
показали, что любое безобидное домашнее занятие мужчин
или женщин, например еда, питье и подобные обыденные
явления, имеют свою живописную сторону. Это весьма
примечательное открытие, в которое, конечно, никто до
этого не верил.
В изображении, даже если вначале и не
преднамеренно, выявляется нечто из душевной жизни людей - пусть
это лишь радость благополучия. И раз уж произошло
вторжение в область человеческой жизни, то это нечто
выступает на первый план и становится главным. Так
происходит, например, в исторических, а также в столь
излюбленных когда-то мифологических сценах. Прежде все-
248 Часть вторая. Оформление и расслоение
го это происходит в религиозных сценах - безразлично,
развертываются они вокруг образов Христа и Марии или,
как на потолке Сикстинской капеллы, вокруг бога-отца и
сотворения мира.
При более близком рассмотрении здесь можно
восстановить все известные нам из поэзии слои, хотя и
весьма различные по своим этапам и по способу проявления.
Но самые последние и заднеплановые слои ни в коем
случае не выпадают. Основное ограничение здесь скорее в
другом, а именно оно лежит в пределах статического и
зримого в данный момент, то есть в том, что принадлежит
переднему плану и коренится в материи живописи.
Пусть не говорят, что изображение сцен в живописи
выходит за естественные рамки ее тем! Слишком
большую роль оно сыграло в развитии искусства. Конечно, это
связано ис внешними искусству "заказами" большей
частью религиозного характера. Но разве можно всерьез
отбрасывать емкую глубину библейских сцен, которые
определяют здесь темы? Или групповые сцены Рафаэля и
Леонардо, длинный ряд мадонн или распятий или
рембрандтовские сцены Ветхого завета? Все они относятся
сюда, и в них развивается как техника красок, света и
способа видения, так и выражение внутреннего мира, души
человека.
Теперь подытожим все, что в живописи вообще
(исключая для начала чисто пейзажную живопись) претендует
на изображение человеческого, и трезво рассмотрим, как
выглядит господствующая здесь последовательность
слоев.
Ее в целом можно представить следующим образом.
1. Реальная плоскость с воспринимаемыми цветовыми
пятнами составляет передний план.
2. Далее проявляются трехмерная пространствен-
ность, предметы и свет на картине.
3. В этой предметной сфере далее проявляется
подвижность, изображенная наглядно фазой или позой
движения.
4. В подвижности является жизненность образов,
прочно закрепленная в "полных жизни" красках.
5. В жизненности движения в свою очередь являются
душа человека, внутреннее, отрывки ситуаций, страстей,
настроений и поступков.
6. В редких случаях выясняется нечто и об
индивидуальной идее (особенно глубоко в портрете головы).
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 249
7. И, наконец, является всеобщее, имеющее характер
всякого рода идей. Часто оно сознательно тематично, как
в религиозных сценах, часто же совершенно скрыто.
Особую роль здесь играет знание смысла сцены, фабулы; как
ни странно, в большинстве случаев оно лишь немногое
объясняет художественному восприятию.
Если сравнить перечисленные здесь слои живописи со
слоями скульптуры, то сразу бросается в глаза их
большее богатство. В скульптуре можно отчетливо выделить
только четыре слоя. Это обусловлено, с одной стороны,
совершенно другим характером материи (здесь нет
окольного пути к двухмерной плоскости, и,
следовательно, в скульптуре выпадает первый промежуточный слой),
с другой - весьма ограниченным выявлением душевного и
внутреннего. Равным образом скульптура не допускает
особого слоя проявляющейся вещественности, ибо она
ограничивается областью живого.
Иначе выглядит сравнение со слоями поэтического
произведения. Как было показано, поэтическое
творчество тоже имеет дело с семью слоями. Но отчасти это
другие слои. Там как раз за плоскостью слова следовала
плоскость движения и мимики, а также плоскость
разговорного языка персонажей - диалога. Тем самым
отпадает характерное для произведения живописи
промежуточное положение являющейся пространственности и
являющегося движения; точнее говоря, они, собственно, не
отпадают, а полностью включаются в слой движения и
мимики, в этот же слой включается также проявление
живого. Следовательно, выделенные в живописи слои от 2 до 5
составляют в поэзии единственный слой.
Можно без труда ответить на вопрос: почему поэзия
имеет дело только с человеком и его жизненным
положением, его поступками и т. п.? Все остальные околичности
внешнего мира являются для нее лишь внешним
облачением, аксессуаром. Поэтому она обходит их чувственную
структуру и привлекает их лишь в той мере, в какой они
прозрачны для душевного. Живопись, напротив, свои
сильнейшие тематические моменты находит на этих
подступах к человеческому. Поэтому она задерживается на
них, изображает их детально и лишь через эти детали
косвенно показывает душевное. Живопись - это искусство,
наиболее связанное со зримым и вообще с чувственным.
Так обстоит дело при сравнении средних слоев. Но что
касается самых внутренних слоев, то здесь поэтическое
искусство значительно превосходит живопись - просто
250 Часть вторая. Оформление и расслоение
потому, что оно есть искусство изображения во времени:
оно не приковано к одному мгновению, а может
прослеживать события, ситуации, развитие, поступки и их
следствия, а также целые судьбы в жизни людей. Поэтому в его
задний план включается ряд слоев, совершенно
недоступных живописи или проявляющихся в ней лишь
намеком. Это, во-первых, слой ситуации и действия,
во-вторых, слой душевного оформления (Formung) и характера,
в-третьих, слой судьбы и ее реальных форм.
Здесь ясно видны границы живописи. Такая
ограниченность вовсе не значит, как было сказано, что ей
недоступны глубочайшие основы человеческого, последние
совершенно отчетливо выступают в виде общей идеи, а при
случае даже и в виде индивидуальной идеи. Но они
освещаются лишь вскользь.
Живопись, соответственно ее чисто чувственной
материи, связана с предметными слоями, находящимися
ближе к переднему плану, но в них она неисчерпаемо
многообразна; поэзия покоится на слоях, более близких к
заднему плану, поэтому она менее чувственно-конкретна, но
зато пребывает в глубине человеческого и черпает из
него совершенно по-другому.
г. Живопись и предмет природы
Предшествующее изложение вопроса о
последовательности слоев в живописи не учитывает в одном пункте
большие возможности, вытекающие из сущности
живописи. Раньше речь шла исключительно о
последовательности слоев, которая лежит в основе изображения только
человеческого. Это имело свое оправдание, поскольку
только здесь могут быть предметно даны глубокие слои и
встречаются самые большие трудности. Но вся живопись
этим не исчерпывается, и вполне возможно, что при таком
подходе ускользает какая-нибудь общая черта ее
сущности.
Это касается всей живописи, которая сознательно
ограничивает себя предметом природы. Остается,
следовательно, огромная область пейзажной живописи. С
некоторыми оговорками сюда можно также причислить
натюрморт и изображение нагого тела; первое можно
причислить, даже несмотря на то, что предметы несут на себе
заметный след деятельности человека, второе - поскольку
изображается только природная телесность.
Как же в таком случае обстоит дело с изображением
"пейзажа"? Если исходить из того, что здесь действитель-
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 251
но отсутствуют глубокие слои, ибо они не присущи
предмету, то что же тогда делает изображенный пейзаж таким
впечатляющим, содержательным и даже таким близким,
душевно родственным человеку? Исторически "чистый
пейзаж" (то есть без живых фигур) возник слишком
поздно; казалось, будто человек, для которого пейзаж должен
быть чем-то определенным, должен был в него
включаться, даже если пейзаж парил в воздухе. Конечно, это
наивное заблуждение. Но все-таки в этом заблуждении скрыто
зерно истины. Оно состоит в том, что в действительности
пейзаж, рассматриваемый с эстетической точки зрения,
существует только, для видящего (fur einen Schauenden)
человека, и притом определенным образом видящего, а
именно для воспринимающего и наслаждающегося.
Таким окольным путем человек со всем его душевным
бытием все-таки входит в пейзаж, но теперь уже не как
предмет, а скорее как условие предмета, и происходит это
весьма специфическим образом.
Это следует здесь понимать не в том общем смысле, в
котором о любом предметном бытии, особенно при
рассмотрении его в теоретическом плане, утверждается, что
нечто может стать предметом только "для" субъекта
(закон противопоставления, объективации), а в сугубо
специальном смысле: эстетически суть пейзажа составляют
не формации, леса и поля, а прежде всего определенный
образный взгляд, охватывающий все в определенной
точке пространства. Пейзаж может меняться при малейшем
изменении последней (то есть точки зрения), точно так же
меняется он и при изменениях света, положения солнца,
погоды, не говоря уже о времени года. Таким образом,
живописец удерживает здесь мгновенное, совершенно
эфемерное.
Последнее отлично от того, что мы имеем при
рассмотрении какого-либо животного, цветка, человеческого
лица, где, правда, тоже меняются детали, даже в
зависимости от "точки зрения", но в целом есть определенное
постоянство: к последним можно возвращаться по
истечении нескольких часов, дней, недель и видеть "предмет"
сохранившим свое тождество.
В пейзаже дело обстоит по-другому: поднялась полоса
облаков, и картина меняется. Или еще: живописец не
находит в точности прежнюю точку обзора, и все в картине
смещается. Здесь лежит причина того, почему в пейзаже
субъект созерцания (выбранный им момент времени и
пространства и т. п.) играет такую существенно конститу-
252 Часть вторая. Оформление и расслоение
тивную роль. В подтверждение этого достаточно указать
на роль перспективы в пейзаже. Ибо без определенной
установки, занимаемой созерцающим, нет никакой
перспективы. Конечно, это имеет значение и для других тем
живописи: для интерьера, человеческих групп, сцен, но
здесь оно не является таким определяющим моментом.
Нет решительно никакой необходимости стремиться к
такому заднему плану, который диктуется чувством, чтобы
найти в "эстетическом пейзаже", изображенном в
живописи или представляющем природный объект
наслаждения, участие человека с его субъективизмом. При всех
обстоятельствах в произведении представляется не
только "увиденное", но и способ видения созерцающего.
Фактически же сюда относится гораздо большее. Сюда
относится и сказанное выше: большое качественное богатство
света и красок, контрастных эффектов и оттенков - этот
бесконечно утонченный язык переходов и
взаимодействия, который можно воплотить только в знаках света и
красок.
Здесь коренится вся тематика живописи, которая
определяется не чем иным, как игрой красок. Поэтому
каждое открытие какой-либо чисто живописной возможности
является здесь основополагающим для направления
самого искусства; так было в голландском пейзаже,
французском импрессионизме, в современной Hellmalerei.
Как раз живопись - это прежде всего "жизнь в
видении"; она является искусством, которое глубже любого
другого коренится в чувственном, - таким искусством, в
котором чувственное остается важным и при самых
высоких темах.
Таков, например, вид на простирающуюся равнину с
горными цепями вдали, обрамленный близкими и
ближайшими предметами, чем-то вроде пространственного
переднего плана из трав и свисающих ветвей и
представляющийся взору как тесное переплетение близкого и
далекого, которое воспринимается как пространственно
разделенное и все-таки единое. Как и что отсюда может
быть изображено в рисунке или в живописи, не является
само собой разумеющимся; напомним о проблеме
отыскания воздушной перспективы. Изображение света,
воздуха, пространственной дистанции в расположении друг
за другом предметов - все это зависит от найденного
способа видения. Точно так же обстоит дело с изображением
лесной просеки, капель росы, световых отблесков, с ок-
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 253
раской теней и исчезновением бесцветного (черный цвет)
из поля зрения.
Здесь по праву надо было бы добавить целую главу о
технике живописи. Ибо технические средства не являются
здесь чем-то внешним - они в значительной степени
зависят от способа видения, более того, они являются не чем
иным, как объективированным способом видения. И стоит
только подумать о том, что каждый новый способ видения
представляет собой также и новый вид душевного
раскрытия (Aufgeschlossenheit) и душеного своеобразия
вообще, то станет ясной взятая в эстетическом смысле
взаимосвязь между человеком и пейзажем. Наконец, этим
окольным путем мы снова возвращаемся к вопросу о
заднем плане изображенного в живописи пейзажа, а именно
к вопросу о глубоких слоях заднего плана, присущих,
собственно говоря, только человеку как предмету
искусства.
Эти слои всегда справедливо видели в моменте
"настроения", даже более того - особое содержание этого
чувства находили в пейзаже. Но с точки зрения
эстетической теории это не может считаться удовлетворительным.
Неверно ни то, что пейзаж объективно как-то "настроен"
(весело, мрачно, холодно, уютно), ни то, что мы, зрители,
лишь проецируем в пейзаж наши настроения (теория
контакта). Тайна лежит в способе видения живописца,
поскольку он находит техническое средство навязывания его
также и зрителю и посвящения последнего в особенности
своего зрения.
Конечно, настроение является настроением
созерцающего, но возникает оно не случайно, а объективно
вызывается произведением искусства и опредмечивается в его
чувственных деталях. В этом смысле можно с полным
правом сказать обратное: настроение присуще самому
пейзажу и выявляется в нем. Оно "присуще", поскольку пейзаж
"увиден именно так", увиден в способе видения художника.
Это отношение нельзя изложить проще. Но сложным
здесь является только выражение (определение). Само
же это отношение есть простое следствие способа бытия
эстетического предмета вообще, поскольку в нем все не
реально-чувственное существует лишь в отношении к
адекватно воспринимающему субъекту. Правда, так
обстоит дело со всеми произведениями искусства. Но здесь
это особенно ощутимо, ибо относится не только к
опосредованному высшему зрелищу, но и к самому чувственному
созерцанию. Интенсифицируя это отношение, живописец
выходит далеко за пределы обыденного зрения, и от это-
254 Часть вторая. Оформление и расслоение
го дополнения к чувственному зрению, сделанного
художником, зависит все остальное, включая самые тончайшие
настроения.
Здесь нужно добавить еще кое-что. Напомним о том,
что было сказано в начале (гл. 1, в) об эмоциональном
содержании восприятия. Как все увиденное и услышанное
выходит за свои пределы к пониманию чего-то другого,
что само не воспринимается (в восприятии людей, лиц и т.
п.), так и в примитивном и близком природе сознании
эмоциональное содержание восприятия ведет к
пониманию аффективных моментов: неизвестного, жуткого,
отвратительного, ужасного, а также уютного, близкого,
благоприятного, даже ласково-доброго.
Наше восприятие природы полно как раз такого рода
акцентами: мы воспринимаем теплый солнечный свет и
мерцание воздуха в летний полдень, нежную синеву дали,
темноту леса, ночную прохладу. Мы не остаемся
равнодушными к тому, что видим, мы воспринимаем его как бы
обращающимся к нам, как бы "желающим нам чего-то",
будь это доброе или злое; все это действует на нас
успокаивающе или возбуждающе. В просвещенном же
сознании эти аффективные моменты в значительной степени
вытеснены, но они не исчезают полностью, а вновь
становятся весьма заметными при определенных
обстоятельствах. В сознании живописца эти акценты выступают сами
по себе и придают увиденному свою окраску настроения:
"веселость" пестро усыпанного цветами луга,
"таинственность" полутьмы зеленого леса, "жуть" глубокой тени или
пропасти, "свежесть" колеблемого ветром дерева.
Подчеркивание роли таких примитивных моментов
почти тождественно уменьшению влияния практически-
вещественной установки. Но это уменьшение характерно
как раз для эстетического рассмотрения пейзажа.
Поэтому с красками и светом оживает и сама чувственная
сторона рассмотрения. Дело выглядит так, будто
аффективные моменты находятся в обычном сознании под замком,
но едва лишь это сознание сменяется живописным
зрительным восприятием, как путы падают и выступает все
пестрое мерцание зародышей настроения и затмевает
своей окраской видимые цвета.
Правда, это лишь начало более широкого и более
глубокого эмоционального содержания, но все-таки это
начало показывает, как аффективное связано с увиденным
(с определенным способом видения). Ибо между ним и
глубоким самозабвением в картинах природы лежит лишь
степенное различие.
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 255
ГЛАВА 14
СЛОИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
а. Ступени музыкального единства
В части первой (гл. 7) исследование показало, что в
выявлении строения слоев в неизобразительных
искусствах есть свои трудности. Если дело обстоит так даже
при грубом различении реального переднего плана и
ирреального заднего плана, то это тем более относится к
тонкой дифференцировке, которая начинается с
расщеплением заднего плана.
Или здесь не должно быть в конце концов никакого
расщепления заднего плана? Мы будем сейчас иметь
дело с двумя видами искусства - с музыкальным и
строительным. В обоих отношение "проявления" осложнено. Об
искусстве же орнамента, где дело обстоит просто, речь
здесь не идет, ибо оно лишено глубоких слоев заднего
плана.
В музыке дело обстоит так, что каждый без
околичностей считает, что он имеет дело с ее задним планом, ибо
непосредственно ясно, что звуки и их последовательность
существуют здесь не ради самих себя, а ради
определенного душевного содержания, которое в них не столько
высказывается, сколько изливается и само себя
"переживает" ("auslebt"). Последнее здесь представляет
существенный момент, так как многое из нашей эмоциональной
жизни обычно оказывается в реальной действительности
заглушённым и не может стать достоянием переживаний.
Таково мнение не только немногих
высокомузыкальных и практически или теоретико-критически
образованных людей, но также многих других, обладающих лишь
средней музыкальностью, которые вплетают музыку в
жизнь, напевают песенку в ритм ходьбы или работы и
увлекаются, очаровываются более серьезной музыкой.
Конечно, такое понимание не лишено смысла. Но
вопрос состоит в том, что оно такое, в чем оно состоит, о
каком душевном содержании идет здесь речь и, далее, как
это душевное содержание воплощается в музыку, или
если оно действительно воплощается, то как оно
соответственно "является" в материи звуков и является ли оно
вообще, ибо в действительном явлении нужно уметь
узнавать являющееся нечто.
Здесь пока речь идет о присущих музыке грубых
апориях. Но за ними появляется более тонкая апория. Она, с
256 Часть вторая. Оформление и расслоение
одной стороны, зависит от положения первого слоя
заднего плана, о котором речь шла выше и который пока
составляет чисто звуковое целое, характеризующееся
большим размахом, но уже не взаимосвязан акустически в
восприятии. Этот слой (или несколько слоев?) еще не
является слоем душевного содержания, от него еще
необходим скачок к последнему.
С другой стороны, целый ряд апорий возникает
постольку, поскольку для рассмотрения берется не чистая
музыка, а программная. В силу того, что последняя
составляет значительную часть имеющихся композиций, ее
нельзя педантично игнорировать как неполноценную
музыку - необходимо рассмотреть ее проблему.
Что касается первого из двух вопросов, то легко
увидеть, что здесь музыка в известной степени аналогична
живописи. Как в живописи богатством красок создается
поле неисчерпаемых возможностей, так и в музыке такую
же роль играет мир звуков, звуковых
последовательностей (мелодия) и аккордов (гармония). Уже соразмерность
музыкальной структуры напоминает «соразмерность
структуры красок: высота звука, сила звука, окраска звука,
аккорд, переход в другой аккорд (модуляция), ритм (такт,
темп и перемена темпа).
Отсюда есть основание предположить, что в музыку,
подобно живописи, вклинивается группа более "внешних"
слоев заднего плана, которые все еще близки к
чувственному материалу. Это значит, что вышеуказанный слой
музыкально звучащего целого раскалывается дальше и
притом по эту сторону душевного, которое слышится в этом
слое. Этот раскол трудно проследить дальше, ибо здесь
отсутствует тематическая опора, подобная той, какую нам
дает изобразительное искусство.
Все-таки здесь можно кое-что уточнить. Очевидно,
прямой переход (как это было сказано в главе 7, б) от
акустически воспринимаемой последовательности тонов,
поскольку она связана сохранением (Retention), к
единству фразы или целой композиции представляет собой
скачок. Здесь, очевидно, должно быть вставлено еще
нечто другое, что легко примыкает к более узким
объединениям и дает такое членение, на базе которого может,
наконец, образоваться более крупное целое.
Связь таких объединений обеспечивается известным
четырехтактным законом. Естественно, его место может
быть занято чем-то другим, но всегда будет идти речь о
маленьких замкнутых объединениях, которые как таковые
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 257
воспринимаются музыкально и применяются в качестве
строительного материала. В классической музыке они
подчеркиваются многократным возвращением к тонике.
Они еще близки к элементам, связанным сохранением, и
действуют как чувственно воспринимаемые на слух
объединения (Einheiten), хотя, строго говоря, вместе они
чувственно уже не воспринимаются на слух. Временно
распадающееся целое начинает в них объединяться.
Сюда же относится повторение мотива с его
вариациями, в которых его можно узнать, но воспринимается
он все-таки как нечто другое. Здесь коренится принцип
вариации, который может разрастись до известной
"темы с вариациями" - этой основной формы музыкального
строения, которая может стать господствующей как в
песне, так и в сонатной фразе. На основе этого
принципа строится классическая форма "первой фразы":
повторение целой части и затем, после вторгающегося
сопровождения, - изменение (как бы две строфы и один эпод).
Примерно так же расчленяюще действует и включение
"трио" в "скерцо". Эти формы относятся не только почти
ко всей камерной музыке - квартетам, трио, сонатам, -
но также и к симфониям. Они появляются и в хоровых
произведениях.
Лишь над этим возвышается действительно
"фразовый характер", единство большой структуры, к которому,
собственно, относятся вышеуказанные моменты:
закрепление отзвучавшего, наслоение нового, предвкушение,
постоянное ожидание и изумление, а также аккумуляция
целого "в последнем такте", если произведение
действительно уже отзвучало.
Это "структурное целое" необычайно усиливается еще
в так называемой полифонической музыке: отдельные
фразы здесь соединяются так, что вместе они создают
гармонию целого; в силу такого рода соединения эта
гармония приобретает некоего рода внутреннюю
необходимость, которая в свою, очередь становится ясно
слышимой.
Вообще в "фуге" лучше всего видно музыкальное
строение, единство и целостность высшего порядка; в ней, как
ни в какой другой музыке, в чистом виде существует
феномен самовозвышения и разрастания.
Это особенно бросается в глаза, если сравнивать с
этим относительно свободные объединения, как они
выступают в больших музыкальных произведениях (в многоф-
разных): связь фраз в симфонии или сонате. Есть и еще
258 Часть вторая. Оформление и расслоение
более свободные связи, например в "опере", где темы
внемузыкального порядка определяют музыку.
При правильном понимании этого феномена
прогрессивно нарастающего музыкального единства можно
выделить большое количество слоев в выступающем за
чувственно воспринимаемым (sinnlich Horbaren) слое, где
восприятие только музыкально. Сколько их - это не. столь
уж важно; и все-таки, не претендуя на слишком многое,
следует различать три или четыре слоя:
1) слой замкнутых музыкальных фраз (закон четырех
тактов и т. п.);
2) слой широких "тем" и вариаций;
3) слой музыкальный "предложений" (здесь имеются
самые строгие целостности: фуга);
4) слой связи предложений в большой "опус" (меньшая
строгость).
Но здесь важно не перечисление, а способ
расположения по ступеням. Дифференциацию можно проводить и
дальше.
б. Внутренние слои музыки
Другая сторона апории лежит в так называемой
программной музыке. Чтобы судить о ней, необходимо
ориентироваться уже на внутренние слои музыки, ибо от них, а
не от ступеней музыкального единства зависит
возможность придания музыке внемузыкального "содержания".
Нет никакого сомнения в том, что при переходе от
внешних слоев музыки к внутренним происходит скачок,
|1ета(Заоц ец aXko yevoq (переход в другой род). Внешние
слои имеют дело с чисто музыкальным
формообразованием, с "игрой звуков и гармоний". Здесь еще не может
быть и речи о чувствах и настроениях. Но с внутренними
слоями появляется совершенно другое, относящееся к
aXko yevo<; (к другому роду). Последние - это нечто в
высшей степени субъективное, полностью принадлежащее
душевной жизни, первые - самое объективное, какое
только можно представить, чисто конструктивная
структура, предметная и поддающаяся анализу. Душевное,
выступающее с внутренними слоями, никогда не становится
полностью предметным, оно устойчиво в своей
субъективности, трудно уловимо, в большинстве случаев трудно
обозначимо (по крайней мере адекватно), открывается
только увлеченному слуху и не может быть представлено
вне самого себя.
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 259
Можно сказать еще так: оно содержится только в
переживании, если слушание музыки называть переживанием.
Переживание прошло, музыка отзвучала - и тщетна
попытка вновь восстановить пережитое. Ибо оно уловимо
только в музыке и притом именно в особой музыке, с ее
особыми, расположенными по ступеням объединениями
(Elnheiten), хотя последние и кажутся совершенно ему
чуждыми и внешними.
Неудивительно, что строгая музыкальная теория
отвергает как сентиментальность всякий учет "душевного
содержания". При этом совершенно строго считается, что
музыка сама по себе есть строго архитектоническое
строение и имеет как таковая свои собственные чисто
структурные законы. Она "следовательно, обходится без
всяких чувств", и уже само структурное с разнообразием его
элементов (окраска звуков, переходы, модуляция и т. п.)
достаточно богато, чтобы создать целый мир только в
звуках.
Когда защищают такие теории, обычно указывают на
самый строгий в тектоническом отношении вид
композиции, то есть на фугу; и дело выглядит так, будто явная
автономия контрапункта является доказательством того, что
"указанные" чувства излишни.
И все-таки именно мастер контрапункта И. С. Бах
служит решительным доказательством прямо
противоположного. Если взять первые четыре произведения из
"Искусства фуги", или Ricercar1 из "Музыкальной жертвы", или
любую фугу из "Хорошо темперированного клавира", то
человек, раз уже усвоив технику соответствующего
слушания, всегда находит в них, кроме наслаждения
структурой, еще нечто совершенно другое: в самом
самозабвенном слушании происходящее возвышение, и притом
истинно душевное возвышение, которое воспринимается
как ощущение свободы в другом мире, мире чистоты и
величия.
Это "другое" мы переживаем предметно как
объективно принадлежащее самой музыке, существующей в ней и
в то же время как затрагивающее за живое нас самих,
короче говоря, как нечто такое, что является только в
музыке, и притом непосредственно в музыкально воспринятом
единстве, и, следовательно, прозрачно в нем.
Ранняя форма фуги. - Перев.
260 Часть вторая. Оформление и расслоение
Все обозначения для него слабы и слишком общи. У
нас нет никаких средств для выражения этого. Мы,
например, говорим: "пламенное" или "возвышенное", "темная
глубина", "сверкающее", "увлекательное", "волнующее"
или "устоявшееся", - но как нетрудно видеть, все это лишь
образы, и притом бледные. Ибо здесь идет речь не о
слабых созвучиях, а о могучей, действительно
захватывающей душу силе музыки, такой силе, которая увлекает и
наполняет душу слушателя и тем не менее в тоническом
произведении предметно противостоит ему в звуках и
сохраняет эстетическую дистанцию.
Но и определения, подобные последним, являются
лишь бледными образами таинства, которое происходит
при самозабвенном погружении в произведение
музыкального искусства. Эти определения прежде всего
неудовлетворительны как раз для тех слоев предмета, от
которых они зависят, - именно для внутренних слоев
музыкального произведения. Нужно иметь в виду, что эти слои
не только существуют, но и представляют собой
действительно самое важное в тоническом произведении, можно
даже сказать, метафизическое в нем. Но этим еще
нисколько не затронут вопрос о том, как звуки и их
последовательность создают возможность для проявления
внутренних и невыразимых сторон душевной жизни.
Но пока оставим в стороне этот вопрос. Достаточно
того, что видна неправомочность формальной теории
музыки и что на деле приходится считаться скорее с
глубинами душевного заднего плана. Музыка не есть
шахматная игра со звуками. Она была бы таковой, если бы не
было душевного заднего плана.
Музыка скорее есть откровение, и притом откровение
того, что невыразимо ни на каком другом языке.
Последнее добавление является здесь сутью дела: всегда трудно
сказать, что открывается в музыке, но это не
противоречит указанному, а подтверждает его. Можно еще сказать
так: музыка, пробуждая душу слушателя, зовет к
совместному действию, к совместному взлету, к самой
внутренней живости, она позволяет участвовать в неуловимых
ощущениях. И благодаря этому происходит чудо
объединения слушателей в полном чувств переживании музыки,
как бы слияние с ней (что едва ли возможно в жизни),
стирающее индивидуальные душевные различия,
происходит "явление концертного зала", - правда, только при игре
действительно гениального музыканта. Пожалуй, все
виды искусства имеют что-то от этой объединяющей силы.
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 261
Они преображают души, выправляют их, настраивают их
созвучно. Но ни один из них не обладает этой силой в
такой мере, как музыка.
Хотя подобные явления начинаются всегда с
исполнением, они недвусмысленно указывают на предмет, ибо
предполагают в музыкальном произведении
соответствующий слой бытия, близкий душевному бытию, - признак
того, как тесно переплетаются анализ исполнения и
анализ предмета. В этом отношении музыка занимает в
искусстве особое место. Правда, каждое произведение
искусства требует от человека, воспринимающего его, некоего
внутреннего увлечения, или соучастия: живопись и
пластика - соответствующего художнику способа видения,
поэтическое искусство - соответствующего поэту
представления. Это может разрастаться до самозабвения. Но в
музыке этот момент принимает, по существу, совсем иную
форму: поглощение и самозабвение являются здесь a
limine главным; субъективно это можно изобразить так, что
собственная душевная жизнь полностью поглощается в
музыкальном произведении и включается в модус его
движения, который присоединяется к нему и при
увлечении становится его частью. Этим предметное отношение
фактически снимается и превращается в нечто другое:
музыка как бы проникает в слушателя и становится его
достоянием.
Увлеченность музыкой переживается как некий род
похищения, ухода в какой-то не свойственный самой
жизни порядок, как бы в интеллигибельный порядок,
обладающий невыразимым совершенством, гармонией,
небесным очарованием; труд, старания музыканта исчезают
(ибо все мастерски исполненное действует легко), душой
владеет наслаждение самозабвения, которое то
усиливается, то ослабевает, избавляя тем самым слушающего от
напряжения и возбужденного состояния.
Это относится не только к большой музыке,
требующей очень большого напряжения при слушании. Это
относится и к легкой и развлекательной музыке - к
танцевальной и маршевой, к веселым песенкам, к каприччио, только
здесь небо, к которому эти жанры музыки увлекают, менее
притязательно. Но оно может быть таким же чистым и
парящим. Только глубина наслаждения иная. Иным является
и затронутый слой душевной жизни.
262 Часть вторая. Оформление и расслоение
в. Композиция и душевная жизнь
Однако музыка остается предметной. Как это
возможно? Здесь заключена антиномия, которую нужно
разрешить. Ибо при вхождении слушающего "я" в музыку
исчезает как раз предмет, противостоящий "я".
Как же все-таки может предмет сохраниться? И как
могут внутренние слои, в которых мы чувствуем себя
исчезнувшими, оставаться в то же время предметами нашего
созерцания, постоянно сохраняющими необходимую
эстетическую дистанцию?
Существует два рода наслаждения музыкой. Первый
состоит в легком самоубаюкивании или увлечении, в
большой музыке оно разрастается до растворения в
музыкальном движении, до таяния в нем. Примером этого
является изображенное Ницше "таяние в настроении
Тристана". От такого слушателя ускользают структурные
тонкости композиции. Он сам себе облегчает дело.
Другой род наслаждения строго придерживается структуры
музыкального произведения, проникает в нее и отдается
наслаждению, лишь овладев расчлененным и сложным
целым.
Строго говоря, действительно эстетическим
наслаждением является лишь наслаждение последнего рода.
Лишь оно действительно проникает в слои, пронизывает
весь их ряд и по достоинству оценивает композицию.
Наслаждение первого рода перескакивает через структуру
внешних слоев, зарывается с самого начала в дешевые,
окрашенные чувством звуки и кончается любованием
собственными чувствами, своим взволнованным
душевным состоянием. Этим фактически снимается, или по
крайней мере искажается эстетическое отношение. Это
можно назвать легкой музыкальной манерой. Она
выступает на первый план во всяком популярном "музыкальном
наслаждении. Музыкой (большой и глубокой) то и дело
злоупотребляют, поскольку слушатель ищет только
наслаждения первого рода и мало заботится о строении
композиции. Многие высказывают это прямо: они бегают по
концертам ради отдельных моментов великих
произведений, моментов, которые им более доступны, но которые
все-таки не ухватываются ими в их глубоком содержании.
В этом явлении заключается подступ к сохраняющейся
предметности музыкального произведения.
"Наслаждающиеся" эстетически фальшиво воспринимают это
явление: от них ускользает предмет, композиция, они
удерживают лишь свои собственные чувства - и притом не в том
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 263
чистом виде, как они навеваются произведением, а в
грязном, сниженном до плоскости повседневного виде.
Эстетически правильной позицией является обратная:
она не успокаивается под впечатлением определенных
"эффектов", а идет нога в ногу с композитором,
воссоздает внутренним слухом строение произведения, и лишь в
нем открывается ей душевное, правда, как переживаемое
и увлекающее, но увлекающее все-таки в определенном
направлении, именно в том, которое предписывается
тоническим строением.
Антиномия, следовательно, разрешается таким
образом: внутренним слоям музыки свойственно захватывать
всего человека и позволять ему слиться с ней в
наслаждении. Внешним же слоям свойственно ставить его в
позицию созерцателя и самим становиться объектом
созерцания. Именно структурные моменты тонического
строения удерживают человека на расстоянии и в предметном
созерцании. Предметность композиционной структуры
столь сильна в хороших произведениях, что постоянно
удерживает в определенном предметном состоянии
также и внутренние слои.
Теперь нельзя сказать так: следовательно,
предметность музыки зависит от "внешнего"; при этом имеется в
виду то, что собственно музыкальное начинается лишь с
появлением душевного. Это то же самое, если бы хотели
сказать, что суть ландшафта заключается в "настроении",
а остальное просто "техника". Как там чувственное
черпает свою глубину из техники и настроение проявляется
только в ней, так и здесь мир звуков никогда не является в
музыке чем-то внешним, которое можно было бы
опустить, нельзя безнаказанно перепрыгивать ни через один
ее слой, иначе именно внутренние слои окажутся вовсе
недоступными.
Но возвратимся к другому вопросу (см. стр. 201): как
звуки и их последовательность создают возможность
проявления этих внутренних слоев, то есть как они выражают
самые внутренние и невыразимые стороны души
человека. Ведь звуки и созвучия - это нечто совершенно иное,
чем человеческие чувства. Выше этот вопрос был
оставлен в стороне, но сейчас навязывается необходимость его
решения и это нужно сделать, по крайней мере,
насколько это можно. Частично все-таки можно на него ответить.
Во-первых, мир звуков и мир душевного не так
разнородны, как кажется на первый взгляд. Оба не
пространственны (невещественны и нематериальны), оба находят-
264 Часть вторая. Оформление и расслоение
ся в течении, в процессе перехода, подвижны, и оба
развиваются в противоречивой игре возбуждения и
затихания, напряжения и расслабления. Фактически именно эти
три пункта весьма существенно отличают душевное бытие
от внешнего мира. Ясно также и то, что если существует
художественный материал, который может выразить это
бытие, то он должен обладать сходной природой: в своем
оформлении этот материал должен составлять не вещи
или тела, не предмет, а исполнение, процесс - должен
раскрываться во временном потоке, течении,
подвижности и движении и быть в состоянии изобразить динамику
душевных процессов. Мир звуков и их
последовательности в определенном смысле способен осуществить это: в
нем все - движение, возбуждение и успокоение, волнение
и наполнение, спад и нежное замирание, тихое журчание
и шепот или мрачное громыхание, дикое бушевание и
клокотание, бегство и погоня, а также обуздание бушующих
сил музыкальной формой.
Эти образы - не просто аллегория. Правда, они бедны
содержанием и недифференцированы по сравнению с
неисчерпаемым богатством того, что, двигаясь и существуя,
звучит в музыке. Но все-таки они однозначно указывают
то направление, в котором развертывается это богатство.
Во всяком случае, здесь заключено основание того,
почему музыка может, не привлекая предметных тем,
выражать тайну души, или, вернее, дает возможность
прозвучать ей. Виды искусства, связанные с чувством зрения, не
способны на это или если способны, то лишь косвенно,
ибо они зависят от вещественного видения, а оно не
схватывает динамику.
Во-вторых, в тонических элементах музыки имеет
место аффективное содержание, гораздо более сильное, чем
в зрительном чувстве. О последнем речь шла при анализе
внешних слоев в живописи. Но в царстве звуков и
созвучий это содержание необычайно разрастается.
Напомним еще раз о том, что было сказано о
восприятии выше (гл. 1, пункт "е", и гл. 2, пункт "а"). Во всяком
восприятии есть эмоциональная сторона, она лишь
заслонена предметно-практической (объективной) позицией
взрослого человека. Она вновь обнаруживается в
эстетической позиции. Но с чувством слуха она связана гораздо
сильнее, чем с чувством зрения. Об этом говорит уже
богато дифференцированный характер человеческого
голоса, которому мы, сами четко этого не сознавая, с большой
тонкостью приписываем, и притом относительно незави-
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 265
симо от содержания речи, характерные черты говорящего
лица или переживаемого им в данный момент душевного
состояния. К этому прибавляется еще окраска звучания
всех слышимых тонов (и природных и искусственных):
пронзительное и глухое, гремящее, воющее и свистящее,
щебетание, ликование, жалоба, мягкие полные тона и
трели.
Музыка овладевает этими эмоциональными
элементами и сознательно усиливает их инструментальной
окраской звуков и тем более мелодией и гармонией. Именно
здесь имеет место такой пункт, в котором эти чувственные
моменты переходят непосредственно в подвижность и
динамику, развертываясь в музыкальном строении (ср. с
вышесказанным, пункт "е"). Секрет дела заключается в
том, что уже "материя" музыки несет в себе базу всех
средств выражения чувства, даже самого высокого.
Здесь происходит то же самое, что и с чувственным
базисом видения красок: "изображенное" содержание
неотделимо от последнего. Так же обстоит дело и в музыке:
только в ясном языке звуков, а не в каком-нибудь другом,
может быть схвачено душевное содержание. Поэтому его
нельзя "показать" тому, кто не в состоянии его услышать.
О нем можно сколько угодно "говорить" и не высказать
сути дела, но можно сесть за клавиши и "ударить" по ним
- и словно силой волшебства оно перед нами.
В этих двух моментах коренится загадочная, но
живому музыкальному слуху вполне понятная связь
музыкальной композиции (строение и единство формы) и
проявляющейся в ней душевной жизни. Но так как душевные
явления в музыке относятся к явлениям композиции и
структуры как продолжение последовательности слоев, то можно
было бы выяснить гораздо большее, а именно - сколько и
какие слои здесь существуют. Нужно только заметить, что
нельзя также заниматься и педантичным выискиванием
слоев. Здесь можно выделить лишь небольшое
количество слоев и притом только по глубине выражающегося в
музыке душевного состояния.
Очевидно, в музыке можно различить три слоя заднего
плана: 1) слой непосредственного созвучного отклика
(Mitschwingen) слушателя. Этот слой начинается уже в
волнах танцевальной музыки, но присущ, пожалуй, всякой
музыке. Его воздействие есть воздействие призыва и
влечения, которое может доходить до страстного увлечения;
2) слой, в котором слушатель, глубоко проникая в
композицию, захватывается ею до самых сокровенных своих
266 Часть вторая. Оформление и расслоение
глубин. Этот слой присущ не всякой музыке, а лишь
произведениям определенной силы и глубины. Он будоражит
душу, приносит откровение, обнажает скрытые тайники в
темных глубинах личности слушателя. В орбите этого слоя
движется почти вся серьезная музыка. Он исключительно
дифференцирован и высоко индивидуализирован;
3) слой последних сущностей, можно сказать,
метафизический слой; этот слой есть нечто подобное тому, что
Шопенгауэр понимал под явлением мировой воли; он не
обязательно должен быть тождествен именно этому
явлению, но, пожалуй, всегда имеет какое-то
соприкосновение со смутно-ощущаемыми роковыми силами. Этот слой
очень редко можно действительно указать.
Из этих трех внутренних слоев музыки легче всего
доказать существование третьего и последнего слоя
(несмотря на его редкость): именно он убедительно и в
преобладающей мере дан в религиозной музыке, в музыке,
которая религиозна, конечно, не по своей композиции, а
только по мотивам и программным темам. Но эта музыка
со своим сокровищем метафизических идей в
действительности приводит к глубочайшим откровениям. Только
это не догматические, а чисто человечески-душевные
откровения. Но они носят исключительно
метафизический характер.
Впрочем, есть еще весьма многообразная "музыка
профанов", которая показывает тот же самый феномен
третьего слоя: симфонии, квартеты, сонаты (если не в
целом, то в отдельных предложениях), не следует забывать и
о "Concerti" времен Генделя и прелюдиях и фугах Баха. Что
касается последних, то, пожалуй, только они находятся на
метафизических глубинах.
Первый и второй внутренние слои присущи всякой
более серьезной музыке. Оба составляют предпосылку
третьего, ибо без созвучного отклика и без овладения
музыкальным строением не может появиться последний и
самый внутренний слой. Высокое музыкальное
наслаждение предполагает усилие проникновения в строение.
Сами музыкальные произведения различаются именно тем,
дано это овладение строением композиции или нет. Ибо
последнее составляет радикальное различие - как в
слушателе, так и в самой композиции.
В слушателе: в зависимости от того, насколько он
проник в строение, перед ним возникает звуковое целое как
таковое; со слоями звукового целого связано проявление
душевного; от самых плоских внешних слоев оно ведет
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 267
только к первому внутреннему слою, от глубокого слоя, в
котором заключено структурное, оно ведет ко второму. Но
последний сам расчленен на многие ступени, то есть
внутрь него можно идти глубже и глубже.
В композиции: так как не каждая композиция
обладает большим и расчлененным строением, и здесь
расходятся пути плоско-популярной и серьезной, или
большой, музыки, причем речь идет о чисто "внутренней
величине" (Grofce), которой могут обладать и внешне
маленькие произведения. Второй внутренний слой, слой
самого большого душевного богатства, может наглядно
являться лишь при достаточно высоком единстве и
расчленении тонического строения.
Следовательно, в отношениях между внешними и
внутренними слоями музыки господствует
определенный закон: проявления глубокого внутреннего слоя
зависят от соответственного глубокого внешнего слоя. Или,
иначе говоря, чем больше и богаче тоническое строение,
тем больше душевного может в нем проявиться.
Бесчисленное количество довольно-таки
музыкальных людей не понимают этого или не хотят этому верить
и считают, что могут перескочить через композиционную
сторону музыкального произведения. Они
заблуждаются, но не могут понять заблуждения, ибо у них нет
возможности сравнивать, а именно сравнивать то, что они
переживают при простом легком созвучном отклике, с
тем, что можно пережить при наглядном понимании
строения. Они знакомы только с суррогатом. Поэтому
так пагубно неправильное раннее музыкальное
образование. Существуют также композиторы, которые
пользуются этим предрассудком публики, создают
легкодоступные произведения, не предъявляющие никаких
больших требований к музыкальному пониманию. Такие
работы привлекают многих, кто ищет легкого
расслабления и привлечения. Пожалуй, в этом отношении работа
композиторов имеет свое оправдание. Но напрасно
искать здесь большое душевное содержание. Воздействие
такого рода произведений поверхностно, а если они
симулируют большое содержание, то в то же время оно и
пусто, выхолощено, несолидно, сентиментально,
случайно, игрушечно.
268 Часть вторая. Оформление и расслоение
г. Место программной музыки
Здесь еще нужно найти место для программной
музыки. Выше уже было сказано, почему нельзя обойти ее: ею
нельзя пренебречь, ибо в ней слишком много истинно
великих произведений (и притом музыкально великих);
существуют целые роды искусства - песня, хоровое
произведение, опера, - которые развиваются как чисто
программная музыка. Очевидно, можно искусственно отвлечься от
оперы. Но можно ли отвлечься от хоровой песни, от
квартета, от песни?
Исключительное своеобразие музыки заключается в
том, что ею можно пользоваться как "вторым видом
искусства" по отношению к первому - поэзии. Причем
"вторичный" ее характер можно выразить еще и так: она есть
зависимое, переоформляющее искусство, а в некоторых
случаях только интерпретирующее, подсобное,
иллюстрирующее искусство (подкрашивающее).
Причем ее отношение к поэтическому искусству
совершенно иное, чем отношение театрального искусства.
Музыка не изображает содержание (и вообще она вовсе
не изображает, в этом она не может равняться с поэзией),
а только одалживает свою способность к выявлению
звучания ноток чувства, ибо поэзия как чисто словесное
искусство не способна на это. С необходимостью происходит
так, что берется готовое поэтическое произведение и
затем компони-руется. Композитор выбирает по крайней
мере то, что можно скомпонировать. Иногда бывает и
одновременное возникновение текста и музыки или текста к
музыке, которая в основном уже созрела в воображении
автора.
Но все это скорее внешние обстоятельства. Основной
же вопрос в том, как может музыка брать и излагать
специфическое содержание человеческой жизни, состоящее
не просто в чувствах, а в личностях, событиях, судьбах,
конфликтах и т. п.
Можно считать существенным, что композитор "дает
заглавие" своей работе соответственно вещам и
жизненным явлениям, когда он пишет: "Сады во время
дождя" или "Весенний шум", "Утреннее настроение",
"Одинокий путник" или как Бетховен озаглавил части своей
пасторали. Но нельзя требовать, чтобы кто-либо
догадывался по заглавию о содержании музыки. Ибо
высказанная тема может не стать темой самой музыки. Этот факт
надо признать.
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 269
Тот, кто этого не знает, будет, очевидно, сопровождать
слушание музыкального произведения совершенно
другими представлениями; музыка может выражать только
тона чувства, и только их слушатель ухватывает точно. Но
тона чувства представляют собой нечто очень общее: в
"Утреннем настроении" можно услышать "очарование
горных высот", в "Весеннем шуме" - "кипение жизни", в
"Одиноком путнике" - "тайную боль" и т. д. Музыка как
таковая может высказать только то, что может быть
высказано в звуках. Это вовсе не особенные темы содержания.
Но музыка может прекрасно выражать тон чувства,
принадлежащий данной теме содержания, и притом с такой
адекватностью, какая недоступна поэзии.
На этом основана возможность воплощения
поэтического текста в музыке, прежде всего - возможность песни.
Для песни подходит своеобразие лирической поэзии, в
которой основной стороной содержания являются
настроение и чувство. Музыка может это брать и выражать.
Конечно, она может это делать по-разному; она вполне
свободна в выборе основной музыкальной темы (мотива)
и в способе ее обработки. Когда Лёеве (Lowe) и Шуберт
компонируют одну и ту же песню Гёте, то они выбирают
различные музыкальные темы, правда, при этом они
подчеркивают также и различные оттенки чувства
(Gefuhlsseiten) в сочинении, но все-таки придерживаются
одного и того же сюжета. Вообще на таком подходе
основана возможность сочинять разную музыку к одному и
тому же произведению.
При таком свободном обращении с поэтическим
материалом находит оправдание и программная музыка. Но
только в ней нельзя видеть большего: жесткого
соответствия между музыкальным мотивом и поэтической темой.
Всякая смысловая перегрузка музыкальных тем,
выходящая за эти рамки, является произвольной. Сомнителен
всякий музыкальный "речитатив", всякий переложенный
на музыку диалог, особенно там, где последний прочно
связан по содержанию с определенными предметами, с
персонажами, ситуациями и т. п., например там, где он
приобретает драматический характер.
Исходя из этого, легко увидеть, почему "опера"
заключает в себе сомнительный принцип. В нее включается
очень много такого, что затрудняет единство поэзии и
музыки, в первую очередь драматический элемент,
который является основным прежде всего в сценических
произведениях. Музыка обладает тенденцией увлекать к
270 Часть вторая. Оформление и расслоение
лирике действие, которое она должна сопровождать, а
это как раз непримиримо с действием и драматическим
диалогом.
Старая, еще зависящая от итальянских образцов
опера учитывала это, поскольку она перекладывала
"речитативный" диалог на своего рода "полумузыку" (с довольно-
таки произвольной мелодией без разделения на такты и с
меньшей сопровождающей гармонией) и значительно
больше внимания уделяла строению лирических партий,
ариям и при случае дуэтам, трио, хорам. Драма
распадалась, таким образом, на ряд музыкальных "номеров" (то
есть относительно самостоятельных "кусков"), которые
затем часто появлялись в концертах отдельно. В такой
форме "действие" настолько стилизовано, что оно
означает только некий повод для внешней
последовательности. Именно поэтому подобная опера могла сохраниться.
Но драматическое ощущение требовало большего; и
так на исходе XVIII века возникло другое направление:
теперь хотели переложить на музыку само действие или,
можно сказать, драматизировать саму музыку. Диалог
всегда перекладывали на мелодию по возможности так,
чтобы в ней отражался характер сказанного. Теперь
действовали реалистичнее: гармоническая подкраска
дифференцировалась оркестрально в ярких звуковых
красках, а сама мелодия оформлялась подобно
аффективной песне. Этот процесс заметен уже у Моцарта, у Ве-
бера он почти завершается. Опера Вагнера представляет
собой последнее звено.
Действительно, здесь диалог музыкально
драматизирован настолько, насколько это вообще возможно в
музыке. Но, несмотря на всю свою высокую дифференциро-
ванность, он производит с течением времени однотонное
и скучное впечатление - сцена как бы не мирится с
расточением времени в музыке: персонажи праздно стоят на
сцене, пока один из них поет, и не знают, что с собой
делать. В этом виновата не игра, это неизбежно заложено в
строении самой оперы.
Другим средством создания драматической музыки
является введение строго определенных по содержанию
мотивов (мотив Вотана, мотив Нотунга, мотив Зигфрида).
Нужно сказать, что у Вагнера это происходит не
внешним образом (то есть не путем приписки, например, в
программе), а естественно-музыкальными средствами,
навязывающими слушателю твердый порядок
посредством свойственной им повторяемости. Это еще вполне
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 271
музыкальная возможность, несмотря на то, что
подчиненное мотивам содержание музыкально невыразимо и не
может быть узнано слушателем в мотиве как таковом.
Трудность, вытекающая из такого рода подчинения,
совсем иная: драма требует звучания мотива в
зависимости от содержания, а музыка должна составлять
структурное единство и не может включать любой мотив.
Отсюда возникает весьма драматичный, и притом в самой
композиции, конфликт двух требований - драматического и
музыкального. Нельзя отрицать, что Вагнер гениально
разрешил его, хотя и частично, но, пожалуй, в самом
главном - в изначальном выборе мотива. Но композиционная
сторона все же страдает при этом. Возможно, здесь
нарушены рамки программной музыки.
Могут спросить, не происходит ли такой конфликт в
любой сопровождающей поэтическую тему музыке?
Можно ли составить текст так, чтобы он, с его ритмом и
звуковыми ударениями, соответствовал действительным
требованиям музыки, а именно так, чтобы не было
насильственных искажений?
Это можно решительно утверждать в отношении
некоторых песенных композиций (Гуго, Вольф, Брамс). Но это
не правило и этого вполне может и не быть.
Наоборот, чаще бывало так, что музыка с присущими
ей формами звучала независимо от текста и голоса, как в
колоратурах XVIII века, или текст господствовал над
музыкой, как во многих операх. Напомним также о том, как в
духовной музыке на скудный текст многоголосно
накладываются большие хоровые партии. Например, у Лотти на
слова "crucifixus et sepultus est". Причем здесь музыку и
текст соединяет только мрачный, полный чувств тенор.
Здесь тоже, пожалуй, проходит граница программной
музыки, хотя уже совершенно иного характера.
д. Слои в музыкальной игре
Несколько слов здесь должно быть еще сказано об
искусстве музыкантов-исполнителей. Теперь, когда мы
знаем о расщеплении заднего плана, уже недостаточно того,
что было сказано об этом в главе 7, пункт с. Речь идет о
втором виде искусства, стоящем рядом с искусством
композиции: он возводит в реальность (слышимость)
первый слой заднего плана, слой самих звуков. Он
делает сочиненную музыку доступной слушателю иными
путями, чем театральное искусство, ибо написанная музыка
272 Часть вторая. Оформление и расслоение
сама по себе еще недоступна публике. Отсюда большая
роль исполнителей-дилетантов.
Само собой разумеется, что исполнитель дает
непосредственно только внешние слои музыки, причем вполне
чувственно реальны только самые первые из них. Но это
отнюдь не исключает того, что в игре исполнителя
"является" музыкальное целое последовательности слоев. В
этом отношении написанная музыка не отличается от
исполняемой. Как актер озабочен задачей "выявления"
внутреннего, так, конечно, и музыкант, если он не
поверхностный "техник-скрипач". По крайней мере в этом
состоят смысл и цель всякой истинно музыкальной игры.
Это не означает, что исполнитель на самом деле
раскрывает внутренние слои, выявляет душевное. Ему может
не хватить умения как в технике, так и в понимании
душевного, может не хватить человеческой зрелости.
Для правильного воздействия должны быть налицо два
условия: техническое овладение инструментом, а также
своим голосом, и сопричастность гению композитора.
Соответственно можно различать два типа
воспроизведения: с одной стороны, одна крайность - прошедший
школу музыкант, владеющий техникой, но без
проникновения во внутреннее, ибо он не настолько глубок, чтобы
самому воспринимать внутреннее; большей частью
случается так, что, исходя из этого, он производит выбор
исполняемого: концертные произведения, которыми он
может блеснуть. С другой стороны, другая крайность -
дилетант, обладающий музыкальностью, которой доступно
глубокое душевное содержание, но не владеющий
техникой так, чтобы заставить его прозвучать. Между этими
двумя крайностями - необозримое многообразие
ступеней. Лишь редко встречается в равной мере и то и другое
вместе. В первом случае музыка производит впечатление
пустоты - она блестит, но лишь внешне; во втором - она
воздействует топорно (неточно, неясно, хотя и полна
чувствами, но легко становится сентиментальной). И то и
другое может стоять близко к халтуре, и то и другое может
иметь свои достоинства. В обоих случаях нарушается
закон слоев.
Этот закон гласит, что проявление внутренних слоев
зависит от наполненности внешних слоев, и притом так,
что глубокий внешний слой дает проявляться глубокому
внутреннему слою.
Но глубокий внешний слой (состоящий, например, в
единстве предложения) нельзя выносить к расположен-
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 273
ным ближе к поверхности внешним слоям, не сохраняя
определенной адекватности. Именно этого не понимает
дилетант: он пытается передать прочувствованное им,
перепрыгивая через средние слои, но нечистое исполнение
срывает его работу. Ибо целое проявляет себя только
движением от ступени к ступени.
В этом заложена причина того, что некоторые
дилетанты в музыке предпочитают в целом программную
музыку: она внешне-музыкальным образом дает ему
возможность понять, о чем идет в музыке речь, а это как раз
то, что ему нужно, ибо он не так свободно чувствует себя
во внешних слоях и в требуемом ими овладении
инструментом. Он не замечает, что при этом многое от него
ускользает. Ибо и программная музыка никак не может
перескочить через структурное. Можно различить
несколько ступеней такого отношения к музыке вплоть до той
ступени, на которой стоит человек, в основе своей не
музыкальный, но охотно упивающийся чувствами и
которому в действительности доступно только очень
поверхностное наслаждение музыкой.
Но странно то, что в этом отношении существует
двоякая музыка: такая, которая значительно, если не
совершенно, искажается уже при малейшем дилетантизме в
отношении к ней, например при технически пустой игре.
Таковы сонаты Бетховена и подобные работы меньших
мастеров, таких, как Шопен, Григ, Дебюсси. Но существует и
такая музыка, которую едва можно исказить и которая
даже при слабом или поверхностном воспроизведении
отдает все-таки что-то из своего глубокого содержания.
Такова музыка Генделя и Баха и многих старых классиков.
Почему это так? И на этот вопрос также можно найти
ответ в теории слоев. Там, где есть жесткое музыкальное
строение, то есть где внешние слои образуют твердую
последовательность, там внутренние слои проявляются и
при несовершенной передаче: высокие целостности сами
восстанавливаются при слушании, а из них выступают
глубокие внутренние слои. Где не хватает этой жесткости
строения, там лишь точнейшее исполнение может
выявить душевное во внешних слоях.
Наконец, нельзя забывать о следующем: композитор
компонирует не до самого конца, написанная музыка
остается чем-то относительно общим, и только
музыкант-исполнитель компонирует ее до конца. Здесь отношение то
же самое, что и известное нам отношение между поэтом и
актером.
274 Часть вторая. Оформление и расслоение
Вопрос лишь в том, в каких слоях музыкального
произведения заключена неопределенность, следовательно, в
каких слоях должен музыкант-исполнитель компониро-
вать ее до конца. Ответ: по сути дела, почти во всех слоях.
Но основная тяжесть должна при этом лежать на внешних
слоях. Не только потому, что они несут на себе все
дальнейшие проявления, но также и потому, что внутренние
слои, несмотря на всю их скрытость, должны быть
все-таки менее "общими" (неопределенными).
Может быть, это звучит странно. Но дело в том, что
душевное содержание (чувства, настроение), если мы его
вообще ощущаем, обладает хорошо знакомой нам
структурой. Эта структура хорошо нам знакома из нашей
собственной или чужой душевной жизни; даже там, где
нам еще не хватает собственного жизненного опыта,
существует верное предчувствие души. И это, по-своему
испытанное, знакомое или угаданное, возникает сразу же
как целое. Дело доходит до того, что проникновенный
композитор может ввести неопытного человека в такие
душевные глубины, которые ему совершенно новы, и
притом не подвергая себя опасности больших искажений.
Таким же образом обстоит дело и с интерпретатором: в
своем воспроизведении композиции он может быть вырван
за пределы своего собственного душевного ощущения.
Поэтому игра не образованных, но высоко музыкальных
людей, например молодых, часто обладает силой
проникновения, изумляющей зрелых и опытных людей. Тонко
предчувствующая чистота ощущения заменяет знание и
силу душевно созревших людей. Условием этого является
только чистое и почтительное обращение с
музыкальными структурами внешних слоев.
ГЛАВА 15
СЛОИ В АРХИТЕКТУРЕ
а. Внешние слои архитектуры
В главе 7, пункт "г", было выяснено, что, хотя
архитектура похожа на музыку своей "свободой от сюжета", она
противоположна ей в том, что подчинена практической
цели; далее было выяснено, что и здесь существуют слои,
несмотря на то, что им явно противостоит двойная
детерминация практической целью и тяжестью и
неподатливостью грубой материи, в которой работает архитектура.
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 275
Оказалось, что и здесь может идти речь лишь
исключительно об игре с формой и что сопротивление материи
составляет при этом именно динамически существенный
момент.
Вопрос сейчас состоит в том, расщепляется ли задний
план и в архитектуре и получается ли последовательность
слоев, то есть можно ли и здесь установить различие
внешних и внутренних слоев, которое было найдено в
живописи, поэзии и музыке. И нужно сказать, что на оба эти
вопроса следует дать утвердительный ответ. Но все же их
необходимо исследовать.
Напомним прежде всего о том, как обстоит дело с
единственным различием между реальным передним
планом и ирреальным задним планом. С одной стороны,
можно указать интуитивное (уже не чувственное)
сознание больших целостностей, архитектурной композиции,
которая охватывает многие пространственные части и
отдельные аспекты. Здесь в синтетически
воспринимающем представлении художественно увиденное отчетливо
отделяется от оптически увиденного, а то, что это целое
вещественно реально, ничего не меняет в этом
отдельном, ибо оно вовсе не есть чувственно обозримая
реальность. С другой стороны, в архитектурном произведении
выражается нечто большее, чем эта целостность:
архитектурное произведение выявляет жизнь, которая в нем
воплощена и о которой оно свидетельствует. В таких
архитектурных произведениях, как церковь, храм, дворец,
жилой дом, отражается именно определенное душевное
своеобразие этой жизни. Ибо человек строит свои дома
соответственно тому, как он сам понимает свою жизнь или
свои идеалы (например, религиозные). Поэтому
своеобразие народов и времен может проявляться в строениях и
даже в их остатках.
В обоих этих явлениях отчетливо отражается не только
расщепление заднего плана в архитектуре, но и
противоположность внешних и внутренних слоев, подобная той,
которую мы нашли в музыке. Остановимся прежде всего
на внешних слоях. Если исходить из того, что каждое
архитектурное произведение выполняет определенную
практическую задачу, движется в пределах пространственных
пропорций и должно при этом бороться с
сопротивлением неподатливой материи, то можно в нем различить три
внешних слоя:
1) целевая композиция (яснее всего видна в чертеже);
276 Часть вторая. Оформление и расслоение
2) пространственная композиция - пропорция,
разделение масс (то, что находится на- виду и производит
впечатление);
3) динамическая композиция - овладение материей и
использование присущих ей закономерностей.
Эти три слоя не во всех отношениях составляют ясную
последовательность. В определенном смысле первый
слой располагается выше двух остальных; с другой
стороны, последние перерастают его.
1. Целевая композиция. Было уже показано, что
практическая цель есть далеко не отрицательный или
тормозящий момент архитектуры, что она скорее берет на себя
ту роль, которую тема (сюжет) играет в изобразительном
искусстве. Невозможно представить себе архитектурное
произведение без практического назначения, и
действительно, в этом случае оно было бы чем-то вроде поэзии
без сюжета. Задача должна быть поставлена, и именно в
ее разрешении искусство должно показать себя
(например, жилой дом с таким-то и со столькими-то квартирами
и с таким-то оборудованием и т. п.).
Любая композиция, которая исходит из предвзятой
формальной концепции, должна потерпеть здесь неудачу,
ибо она обязательно окажется в конфликте с задачей.
Только то решение может быть действительно
органичным и конструктивно внутренне обоснованным, которое
целиком исходит из практической стороны дела и лишь
затем с формально эстетической точки зрения выбирает
возможности, допускаемые практической стороной.
Поэтому целевая композиция является первой по
порядку слоев, а также первой по порядку проявления. Ибо
непрактичная постройка, плохо выполняющая свою
задачу, и в своем проявлении воздействует несуразно, во
всяком случае для интуитивно понимающего взгляда. Ибо
здесь уже начинается эстетическое оформление
(Formung). To есть дело обстоит не совсем так, как
говорилось выше, что эстетические формальные точки зрения
выбираются только среди возможностей, открываемых
практической целью, - на деле они действуют уже при
самом выявлении цели. Это не бессмыслица, ибо цель
выступает здесь в роли сюжета и должна быть целиком
воплощена в органичную композицию архитектурного
произведения.
2. Пространственная композиция. В истории и теории
искусства об этом слое говорят чаще всего. Он, конечно,
важен, но не единственно важен. Нельзя думать, что для
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 277
оформления пространства не остается простора, если
основное внимание уделяется практической цели. Человек,
не опытный в проектах, не видит всей полноты
возможностей, которая обычно здесь скрывается; и прежде всего он
не имеет представления о том, какими незначительными
средствами, как, например, незначительным изменением
размеров, имеющим малое практическое значение, могут
быть достигнуты относительно значительные
пространственные результаты. Стоит, например, чуть-чуть опустить
крышу вниз, и вид дома уже другой. То же самое
происходит при уменьшении размеров высоты и т. п.
Искусство гениального архитектора во многом состоит
в том, что он умеет находить и умело использовать такие
относительно мелкие средства соотношения мер и к тому
же там, где от них зависит важный эффект
пространственного оформления. Это относится как к внешней
архитектуре с ее принципом деления, расчленением,
распределением масс, так и к внутреннему оформлению отдельных
помещений.
Еще больший результат получается там, где дело
касается монументальных строений. Результат этот зависит
не столько от действительной величины постройки,
сколько от пространственной композиции: есть громадные
строения, которые не производят впечатления больших
(небоскребы), и есть строения очень скромных размеров,
производящие впечатление больших (например, здание
берлинской гауптвахты, а также постройки Шинкеля).
3. Динамическая композиция. Архитектура есть такое
искусство, которое имеет двустороннюю зависимость:
зависимость от практической цели - это только одна
сторона, но есть еще зависимость и от материи. Хотя все виды
искусства зависят от своей материи и ограничиваются ею,
но материя архитектуры особенно трудна и упряма; это -
грубая вещественная материя, хотя и очень пригодная для
целей архитектуры (больше всего камень и дерево, а
также глина; металлические фермы появляются позднее), но
дающая все-таки ограниченные возможности.
Не всякое пространственное оформление можно
выполнить в любой материи. И в определенно и материи это
можно сделать не любым способом, а только
определенным. Поэтому пространственная композиция a limine
зависит от динамической композиции. История архитектуры
есть в то же время (и это важно) история строительной
техники. В этом отношении показательно искусство
возводить каменные массы не только прочно, но и так, чтобы
278 Часть вторая. Оформление и расслоение
они перекрывали внутреннее пространство (купол,
бочарный свод, ребристый свод).
Смена архитектурных стилей в значительной степени
обусловлена техническим умением. Именно в этом пункте
видно, что в динамической композиции фактически речь
идет об эстетическом слое архитектурного произведения,
а отнюдь не о чисто техническом слое. Здесь важно то, что
красота формы лежит не столько в пространственных
пропорциях как таковых, сколько в формах в
динамическом смысле этого слова, следовательно, в том, что
тяжесть материала и ее преодоление благодаря
конструкции приобретают зримую форму.
Прекрасными примерами такой зримости являются
устремленные вверх колонны готики, в которых
перехвачен горизонтальный распор покоящихся на большой
высоте ребристых сводов; таким примером может быть
также и устройство самих поясов. Шопенгауэр приводит
античные колонны как пример, в котором утончение колонн
кверху зримо выражает двойную нагрузку (сами колонны
и крыша).
Обо всем этом уже говорилось выше. Здесь важно
лишь установить расщепление заднего плана в его
внешних слоях. Ибо динамическая композиция есть на деле
нечто совершенно иное, чем пространственная, и тем
более отлична от практической целевой композиции.
б. Внутренние слои
архитектурного произведения
Тот факт, что в архитектуре вообще есть внутренние
слои, не так уж очевиден, как в других видах искусства.
Это связано с ее несвободой, с практическими целями,
которые могут преследоваться чисто внешне и не
художественно. Когда мы стоим перед каким-нибудь большим
городским многоквартирным домом, нам трудно
поверить в наличие внутренних слоев в архитектуре. А если мы
стоим перед каким-нибудь фабричным зданием
(например, XVII века) в каком-либо городке Западной Германии,
то дело выглядит уже иначе. То же самое происходит с
нами перед вестфальскими или верхнебаварскими
сельскими домами. Мы вполне убеждаемся в наличии слоев,
когда видим старые замки, дворцы, поместья или церкви.
Очевидно, здесь нужно провести различие: не каждое
архитектурное произведение обладает глубокими слоями
заднего плана - такими, которые что-то говорят о жизни и
душевном бытии построивших их людей. Но одна лишь
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 279
древность, временная дистанция от зрителя также вряд
ли сможет создать задний план.
Но что же тогда создает его? Мы не можем полностью
раскрыть тайну этого вопроса. Приходится судить по
отрицательным примерам. Сегодняшний жилой
многоквартирный дом является продуктом конъюнктуры,
требующей быстрого и дешевого строительства, максимально
использующего пространство; для пространственного
оформления и динамической композиции не остается ни
времени (простор, пожалуй, остается), ни разума, ни
возможностей развития, ни любви. Целевая композиция
даже не составляется тщательно и не выясняется путем
опытов; напомним о темных дворах, похожих на колодцы,
о слишком высоких и слишком узких комнатах. Здесь не
хватает традиции, связи с жизнью, обладающей
определенной формой и стилем. Следствием этого является
отсутствие стиля в архитектурном произведении, или, что
то же самое, бесформенность; композиция является
чисто внешней, она ничего не выражает.
Из всего сказанного видно, что решающим пунктом в
архитектуре является связь с протекающей в
определенных формах человеческой жизнью. Только там, где есть
эта связь, жизнь и природа людей могут проявляться в их
постройках. Далее, здесь видно, что существует тесная
взаимосвязь внешних и внутренних слоев архитектурного
произведения, ибо недостающая связь с формами жизни
вредит не только внутренним, но и внешним слоям.
Поэтому следует предположить, что эта связь должна быть
еще теснее, то есть что с глубоким внешним слоем
должен являться и глубокий внутренний слой.
В соответствии с этим можно различить следующие
три внутренних слоя архитектурного произведения -
конечно, не в том смысле, что они наличны во всех
произведениях архитектуры, а в том, что в них заключена
определенная последовательность, поскольку глубокие слои
никогда не проявляются без поверхностных:
1) дух или смысл в решении практической задачи, или,
иначе говоря, способ решения, внутри которого
возможны весьма различные композиционные разновидности;
2) общий вид частей и целого, покоящийся на втором и
третьем слоях (слои пространственной и динамической
композиции), а в действительности определяющий их;
3) отпечаток жизненной воли и приспособления к
жизни, большей частью бессознательного и всегда
определенным образом противоположного практической цели
280 Часть вторая. Оформление и расслоение
(следовательно, отпечаток чего-то непрактического,
какой-то идеи); он может разрастаться до явлений
мировоззренческого порядка и всегда касается самооформления
человеческой жизни соответственно пониманию
человеком самого себя.
1. Дух или смысл в решении целевой композиции. За
решение практической задачи можно приниматься с
весьма различных сторон и соответственно различно решать
ее. Решение заключается в выборе точки зрения, которая
здесь важнее всего; а точка зрения обычно определяется
приспособлением к жизни, и в особенности к общежитию.
Характер фабричных построек уходящего средневековья
обусловлен экономией пространства внутри тесно
зажатых стенами городов, отсюда - выступающие верхние
этажи, небольшая высота комнат, маленькие окна; характер
вестфальских крестьянских домов обусловлен
стремлением собрать все строения вместе под одной крышей -
жилые комнаты, хлева, кладовые и т. п., - но те же самые
помещения можно распределить по всему двору в
различных постройках, так это и делают в других областях. И
то и другое дает возможность дальнейшего развития. В
церковных строениях освещенность достигается
принципиально различным образом в постройке с несколькими
равными по высоте нефами и в базилике. И там и здесь
возможны различные вариации. Но смысл и дух,
понимание внутреннего пространства, а также внешнего вида
здесь различны.
В каждом способе решения какой-либо практической
архитектурной задачи можно выделить особый принцип.
И в каждом принципе отдается предпочтение какой-либо
определенной стороне задачи. Какая сторона будет
предпочтена, это зависит от господствующего в данный
момент приспособления к жизни или от вкуса. И уже здесь, в
первом внутреннем слое архитектурного произведения,
жизненный и архитектурный стили связаны теснейшим
образом.
2. Общий вид частей и целого, покоящийся на
пространственной и динамической композициях. Как
невозможно выполнить практическую цель, не следуя особой
конструктивной идее, так невозможно осуществить и
пространственную и динамическую композицию, не
придавая создаваемым формам определенный вид. Для
последнего не существует названия и поэтому трудно
договориться, разъяснить его. Но он исключительно
разнообразен и есть везде, где дана действительная композиция.
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 281
Обычно мы его делим на определенные типы форм,
которые обозначаем соответственно народам или векам,
создавшим их или познакомивших нас с ними. В
зависимости от этого мы говорим, например, о помпейской
вилле, о византийской церкви, о тирольском крестьянском
доме, о китайском храме. И под каждым обозначением мы
имеем в виду некий внутренний характер архитектурного
произведения, который не исчерпывается полностью ни
целью, ни одной лишь пространственной формой и
динамической композицией, а выражает еще нечто от
характера и общей природы людей, создававших в длинном ряду
поколений эти формы. Ибо своеобразие этих
выражающих человеческое архитектурных форм заключается в
том, что они возникают не в виде выдумок отдельных
людей, а постепенно, в результате длительной традиции.
Очевидно, для того чтобы вообще создавать формы,
удовлетворяющие высоким душевным запросам, то есть
такие формы, которые сами выражают какую-то сторону
душевного бытия и внутреннего мира их создателя,
необходим еще жизненный опыт в создании построек,
повседневное созерцание и использование их, знакомство с
ними в развивающейся потребности делать жилище
сносным и приятным. Конечно, прежде всего речь идет о тех
формах, которые приемлемы и приятны определенному
душевному складу и высказывают нечто об этом
душевном складе. Ибо в конце концов своеобразие
человеческой натуры и ее жизненных форм ничем не
характеризуется так верно, как тем, что нравится ее повседневному
созерцанию.
3. Отпечаток жизненной воли и приспособления к
жизни. Этот внутренний слой может быть назван также идеей
в архитектурном произведении. Во всяком случае, он
дальше всего удален от практического, но сталкивается с
целью архитектурного произведения везде, где сама эта
цель идеальна, например в храмах, церквах,
общественных зданиях, дворцах и т. п.
При этом важно учитывать следующее. Идеальная
цель монументального здания не тождественна
человеческой идее, которая в нем запечатлена. Об этом ясно
свидетельствует величавость храмовых и церковных
зданий: эти здания возведены в честь определенных
божеств, но они переживают столетия, и, хотя давно никто
не связывает их с именем данного божества, они
сохраняют свою идеальность, то есть они все еще
воспринимаются как отпечаток воли и величия, превышающих челове-
282 Часть вторая. Оформление и расслоение
ческий масштаб. Это возвышение или направленность в
идеальное вполне понятны независимо от какого бы то ни
было знания о догматических и культовых целях, и
притом воспринимаются интуитивно в наглядном
впечатлении от архитектурного произведения или от его остатков.
Здесь происходит то же самое, что и с религиозной
музыкой, живописью и скульптурой: догматичны только
темы, а художественное оформление независимо от них и
столь же убедительно действует как на верующих, так и
на неверующих.
В силу этого здесь нужно говорить о
мировоззренческом или, если угодно, о метафизическом слое
архитектурного искусства. Ибо на деле здесь идет речь о
метафизике человека. И это потому, что каждая монументальная
постройка что-то говорит о понимании человеком самого
себя. Выше было показано, что уже обыкновенный жилой
дом относится к семье, как одежда к личности: как
выражение самопонимания и как сознательное
самооформление. Уже обыкновенное жилище человека показывает
природу человека. Но монументальное здание
показывает то, к чему стремится человек как к идеалу,
следовательно, то, чем он хочет быть, о чем он мечтает.
И в силу этого нужно этот самый внутренний слой
архитектурного искусства назвать с полным на то
основанием слоем воли к жизни. Только это слово нужно понимать
в его глубоком смысле - не индивидуалистично, а
исторически, в смысле выражения мнения жизненного
сообщества людей, с общим своеобразием, общими идеалами и
стремлениями, короче говоря, в смысле
реально-объективного духа.
Понимаемое в этом смысле явление хорошо известно,
оно есть то, что так неотразимо привлекает нас в
архитектурных произведениях, обладающих большим
внутренним стилем и выросших на базе подлинной традиции.
Только чаще всего мы не знаем, что именно нас так
привлекает в них.
в. Общность, традиция, стиль
Выше неоднократно говорилось о том, что
архитектоническая форма вырастает не на базе
индивидуальности, а нуждается в общности и традиции. Правда, то же
самое относится и к другим видам искусства, но
все-таки последние развиваются гораздо свободнее и
предоставляют большую свободу отдельному художнику. Этим
обстоятельством обусловлен тот факт, что в архитектуре
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 283
господство стиля является особенно подчеркнутым и в
некоторые века особенно жестким - именно таким, что
архитектурное восприятие людей полностью
ограничивается определенным образцом.
Но почему это происходит именно так? На это можно
дать самый простой ответ: потому что дом есть
практический предмет, который бросается в глаза каждому и
определяет весь облик города; дом должен органически
включаться в свое общее окружение, а если этого не
происходит, то он мешает, раздражает. Короче говоря, дом
есть дело частное, но в рассматриваемом отношении он
есть в то же время, несмотря на его принадлежность
частному владельцу, и общественное дело.
К тому же он представляет собой нечто устойчивое:
построенный дом есть капитальное сооружение, и
поэтому его не так легко снести, чтобы заменить другим.
Конечно, отдельный человек вряд ли думает об этом,
когда строит свой дом, да ему и не надо думать,
поскольку он насквозь проникнут вкусом своего времени. Но это
становится весьма актуальным, если он один выходит за
пределы общего вкуса.
Все это радикально отличает архитектуру от других
видов искусства: никто не обязан смотреть на портретное
или живописное произведение, читать поэтическое
произведение, слушать музыку. Человек может жить и без
них, они не стоят в прочной жизненной связи, более того,
совершенно выделены из нее, и если человек желает
видеть подобные произведения, то в большинстве случаев
он может их для себя подбирать. Во всяком случае,
обычно здесь нет никакого принуждения, произведение
искусства такого типа не является общественным делом.
Поэтому и в общей жизни объективного духа,
которому они все-таки принадлежат, они непосредственно не
являются делом общественности, а становятся им лишь в
силу их высокого духовного значения. И именно поэтому
дом, даже незначительный и неудавшийся, является с
самого начала прямым делом общества. В этом заключена
основа того, почему общественное восприятие является
формоопределяющим моментом в творческую в
архитектурном отношении эпоху. Именно эта определяемость
выступает в форме "господствующего вкуса", или
"чувства стиля". Отдельному строящему здание человеку
не обязательно сознавать это. В строительстве, как и во
всякой другой деятельности, он просто идет по
проторенной дорожке. Но сама эта дорожка есть в данном слу-
284 Часть вторая. Оформление и расслоение
чае чувство стиля, в которое он врос и которое
единственно ему близко.
Все же, поскольку позади всякого возникновения
общественных форм стоит этап истории, можно спросить:
почему архитектоническая форма вырастает только на
почве традиций? Было бы недостаточно сказать, что то же
самое происходит со всеми видами искусства. Скорее
всего в них происходит не то же самое. В архитектурном
искусстве традиция, гораздо сильнее и существеннее для
формообразования, поскольку люди строят, исходя из
общего чувства формы (то есть поскольку выполняется
предыдущий пункт). Именно это чувство формы возникает
только в длительном процессе существования нескольких
поколений.
Это можно выразить еще так: дух, из которого
вырастает форма, есть прежде всего общий (объективный) дух.
Это значит, что он не начинается в один день в
определенном поколении, а приходит из исторической дали, из
незаметных истоков, причем процесс его образования
очень длителен. Говоря конкретно: когда сын строит свой
дом, он хочет сделать его таким, какой он был у отца,
таким, каким он его помнит с детства и считает удобным и
приличествующим своему званию. Традиция формы и
чувства формы сохраняются в силу того, что само чувство
формы поддерживается традицией.
Это значит, что отдельный человек не может
произвольно освободиться от этого чувства, он скован им как
некой общей духовной формой, которая думает и
действует за него. Он не знает другого. А если он знает
другое (из других стран или из далекого прошлого) и
хочет ему подражать, то это дезориентирует его, вводит в
заблуждение, и он легко приходит к тому, что
неправильно понимает чужую форму и уродливо смешивает ее со
своей.
То же самое полностью относится и к третьему,
внутреннему слою архитектурного искусства, к слою идей,
которые прежде всего касаются человека. Само собой
разумеется, что значение этого слоя ограничивается только
теми зданиями, где нечто идейное является
определяющим, то есть монументальными зданиями; в
определенном смысле это касается также и частных домов, именно
в той мере, в какой они выявляют что-то из понимания
человеком самого себя (в самых тесных общественных
связях). Именно такие идеи более всего
сверхиндивидуальны, общи. Лучшими примерами этого являются религиоз-
Раздел I. Последовательность слоев в искусстве 285
ные идеи, которые лежат в основе всех храмовых и
церковных построек.
Сказанное относится к последним еще и постольку,
поскольку за ними стоят очень важные моральные идеи,
например, когда в чести божества видят собственную
честь noXiq (города-государства). Это также является
вполне общим делом и воспринимается как таковое; как
таковое оно вплетается и в оформление храма. Об этом
не стоит много говорить. Раз понята роль идей в заднем
плане архитектурного произведения, то само собой
понятна их тесная связь с объективным духом.
Остается еще сказать о том, что в архитектуре
собственно стабильными являются именно внутренние
слои и, очевидно, больше всего стабилен самый
последний и внутренний из них слой - слой идей. Это не значит,
что внешние слои не имеют своего собственного
постоянства формы. Но все-таки характерным является то, что
они поддерживаются изнутри и как раз той неуловимой
душевной наполненностью, которая в восприятии людей
прочно ассоциируется со зримыми материальными
формами. Здесь традиция господствует почти безраздельно.
РАЗДЕЛ II
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА
ГЛАВА 16
ЕДИНСТВО, ОГРАНИЧЕНИЕ, ФОРМА
а. Многократность формы
В эстетике всюду встречается понятие формы. Это
понятие нельзя обойти, ибо форма есть то, в чем может
заключаться прекрасное. Именно поэтому понятие формы
может так легко оказаться совершенно пустым, ибо все
то, что имеет эстетическое значение, имеет и форму. В
этом смысле уже во введении формальная эстетика была
отклонена как почти тавтологическая, так как
противоположность "формы и содержания" не может удержаться:
художественное содержание есть, по существу, сама
форма.
Но оказалось, что если это понятие рассматривать с
различных сторон, то с ним нужно серьезно считаться. Во-
первых, со стороны его противоположности материи: так
как каждый вид искусства имеет свою особую материю и
каждая материя допускает лишь особые способы
оформления, то совершенно очевидно, что уже здесь должна
лежать основа дальнейших различий внутри понятия
формы.
Во-вторых, в изобразительном искусстве дело идет об
оформлении какого-либо "материала" (тема, сюжет), и,
очевидно, это - нечто совершенно отличное от
оформления материи, хотя и стоит в весьма определенном
взаимном отношении к нему; обработка определенного
материала возможна не в любой материи.
В-третьих, кроме прекрасного в отношении
проявления, существует еще прекрасное в чистой игре форм. Мы
встречаемся с ним в искусстве орнамента, но не только в
нем, оно встречается в музыке и архитектуре, а также и в
определенных областях прекрасного в природе
(Naturschonen). (Далее окажется, что и этим его границы
определены слишком узко; оно и в других областях играет
большую роль, но именно это и нужно еще исследовать.)
Проблема заключается уже в том, как в одном и том же
произведении возможны два различных вида
оформления - материи и материала. Очевидно, как то, так и другое
должно иметь совершенно различную форму. Однако
Раздел II. Эстетическая форма
287
именно в этом и должна заключаться тесная связь одного
оформления с другим; ибо со времен "Лаокоона" стало
неоспоримым, что материал не может быть оформлен в
любой материи. Но как понимать эту тесную связь?
Очевидно, должно быть так, что оформление
материала есть в то же время и оформление материи, иначе
нельзя было бы говорить об "оформлении материала в
материи". Но это значит, что мы имеем дело с двумя противоч-
ленами одного оформления, следовательно, и двумя
областями неоформленного и нуждающегося в
оформлении, которые можно без труда различить, например, в
поэзии - .языковое оформление и оформление материала. В
одном случае оформляются характеры и судьбы, в другом
- слово, предложение, стих.
Здесь речь идет не о единстве многообразия, как во
вся: ком другом оформлении, а о единстве двух, притом
совершенно гетерогенных многообразий. Этим мы
подошли к проблеме, круг вопросов которой очень широк.
Ибо оба названных вида оформления фактически не
являются единственными: их существует много.
Уже отсюда видно, к чему идет дело. Очевидно, дело
идет к тому, что в произведении искусства (и, возможно,
в любом эстетическом предмете) каждый слой обладает
своим оформлением, причем при таком допущении
вопрос заключался бы в том, как связывается эта
многоступенчатая форма внутри себя, то есть как гетерогенность
различного, располагающегося по все более высоким
ступеням оформления смыкается тем не менее в
единство, которое себя снова делает доступным для
созерцания.
Нельзя слишком упрощать этот вопрос. Может
показаться, будто речь идет только о противоположности
способов бытия, то есть реального переднего плана и
ирреального заднего плана, соответственно - оформления
материи и оформления материала, но упрощенный характер
такого понимания был показан в пяти предыдущих главах.
Скорее речь идет о полном расщеплении заднего плана
до самых его внутренних областей и, наконец, о целой
последовательности слоев эстетического предмета, где
каждый из этих слоев имеет, очевидно, свое собственное,
хотя и не независимое, но все-таки особое оформление.
Здесь важно подчеркнуть то, насколько далеко заходит
расслоение предмета. Ибо существуют и очень простые,
нерасслоенные предметы (например, в орнаментике).
Ясно, что сложность проблемы формы увеличивается соот-
288 Часть вторая. Оформление и расслоение
ветственно более богатой последовательности слоев и
что, например, в поэзии она должна быть наибольшей.
Отсюда вполне понятно, почему проблема формы в
эстетике дала до сих пор столь незначительные результаты,
несмотря на то, что в теориях на нее было потрачено
много остроумия. Наверное, ни в каком другом пункте
неудача теории не воспринималась так болезненно, как в этом.
Но в то же время нужно уяснить себе, что и при новом
подходе, который отправляется от полной
последовательности слоев художественного произведения, не ставится
задача решить эстетическую проблему формы, и от него не
нужно, следовательно, ожидать слишком многого.
Но почему именно так? Потому что мы никоим образом
не можем через все слои проследить особенности
эстетической формы. Было бы большим достижением, если в
отдельных слоях можно было выделить отдельные
характерные ее моменты. Сама художественная форма, даже если
взять только отдельный слой, остается недоступной
анализу. О ней можно сказать всегда лишь немногое - дать
лишь внешнюю характеристику.
Эстетика должна отказаться от ответа на вопрос,
почему именно данная форма (уже сама по себе, без всякой
дальнейшей прозрачности) воздействует как прекрасное,
почему малейшее ее искажение портит впечатление. Это
как раз относится к невыразимой тайне искусства,
принадлежит к той области, закона которой не знает и
художник, но который, однако, может следовать ему, исходя
только из верного чувства гения.
б. Единство многообразия
После всего сказанного мы подошли как раз к вопросу
о единстве формы. При этом проблема стоит так, чтр с
углублением в проблему формы все больше втягиваешься в
многообразие и удаляешься от единства. С одной
стороны, это плохо для проблемы формы, а с другой - это так и
должно быть. Ибо всякое единство есть единство
многообразия, и его нельзя понять, не научившись понимать
вид и измерение многообразия, единством которого оно
должно быть. Категориальный закон состоит в том, что
единство тем сильнее, чем богаче и расчлененнее
многообразие, которым оно должно овладеть. Для понимания
этого положения необходимо кратко обозреть все
категориальные уровни единства и многообразия. Все
начинается с простых математических единств, идет к единым
структурам природы, к организму, к жизни искусства, к
Раздел II. Эстетическая форма
289
единству сознания, к единству общества, объективного
духа и исторической жизни. Везде выступают разные
многообразия и по-разному осиливаются.
При этом сложность многообразия возрастает,
естественно, последовательно, им все труднее становится
овладеть, и типы единства, которые должны им овладевать,
становятся соответственно утонченнее и выше. Но
одновременно с "высотой" возрастает и их хрупкость, их
подверженность расстройствам и путанице: органическое
единство менее устойчиво, чем чисто динамическое,
душевное гораздо более подвержено расстройству, чем
телесное, и т. д. Но это значит, что с повышением уровня
единство структуры становится все несовершеннее: и
типы наивысшего единства являются не наиболее
совершенными, а скорее наименее совершенными. Так обстоит
дело в общекатегориальном плане. На взаимное
отношение высоты и совершенства мы наталкиваемся и с другой
стороны.
Для эстетики это означает следующее: никто не может
сомневаться в том, что эстетический предмет стоит
сравнительно высоко среди структур этого ряда. Вопрос лишь
в том, занимает ли он это положение по высоте своего
совершенства или по высоте бытия.
Прежде всего о совершенстве: казалось бы,
"прекрасен" тот предмет, который мы желаем удержать и
насладиться им ради его формы. А как возможно это иначе, как
не в силу того, что его единство есть самое совершенное
овладение многообразием? Однако это не так. Ведь во
всех областях прекрасного есть еще и безобразное!
Нигде: ни в искусстве, ни в природе - не бывает так, чтобы все
было "прекрасно", то есть, чтобы безошибочно и без
нарушений следовали закону единства и формы как
природному закону.
Это лучше всего известно на примере человека,
безобразие которого иногда поражает нас, ибо здесь мы
особо чувствительны. Но то же самое имеет место и в
искусстве, где сознательно стремятся к тому, чтобы
создавать только прекрасное. Но и здесь бывают неудачи.
Что же это означает? Выраженное в категориях
единства и мнргообразия, это явление означает, что
художественное единство далеко не всегда в состоянии
действительно овладеть многообразием, с которым оно имеет
дело (например, с многообразием данного "материала").
Бывают случаи, когда многообразие ускользает от
художественного единства - например, у живописца, тонущего
290 Часть вторая. Оформление и расслоение
в деталях, или у поэта, который набирает уйму частностей
материала, занимательных подробностей, но не
справляется с композицией целого. Подобное явление имеет
место и в музыке: неясность, бесформенность,
отсутствие единства.
Ясно, что эстетическое единство, благодаря которому
нечто становится произведением искусства, должно при
всех условиях создаваться в первую очередь. Оно не дано
вместе с многообразием в отличие от природы, где,
пожалуй, не встречаются многообразия, совершенно
лишенные единства. Но при этом эстетическое единство есть
единство другого вида, другого типа - в целом более
высокого. Задачей искусства является создание именно
такого единства высшего типа. В противоположность
данному оно должно быть усмотрено интуитивно, должно
быть, собственно говоря, найдено (угадано) именно во
внутреннем созерцании.
В неизобразительном искусстве оно видно сразу:
здесь само многообразие берется не из данного
материала, а производится свободной игрой с самой формой.
Тогда и его единство, которым оно связывается воедино,
должно производиться вместе с ним же. Таким образом,
и здесь заметно, что выявленное единство выступает в
роли принципа выбора. В изобразительном искусстве мы
встречаемся с другим отношением к многообразию, ибо
последнее дается с темой. Но так как материал берется
из жизни, а жизнь представляет собой безбрежное
многообразие, то усмотренный принцип должен выступать
как принцип подбора (seligieren) и в другом, новом
смысле, то есть он должен определять такую выборку, которая
подлежит непосредственному изображению.
е. Выбор и ограничение
Вышеизложенным очерчен и третий момент, имеющий
значение для понятия формы: момент выбора и
ограничения. А именно - выбор из данного или как-нибудь иначе
(скажем, в фантазии) выступающего многообразия и
ограничение его безбрежных в жизни связей. Одним из
первых положений эстетики было то, что предмет искусства
выделяет себя из жизненной связи, оставляя ее позади
себя и создавая другую (введение, 5); это подтвердилось
во всех областях (другое пространство, другой свет,
другое время и другая жизнь). Но ограничение состоит здесь
не только в этом.
Раздел II. Эстетическая форма
291
Ибо все это лишь внешнее ограничение, лишь
отделение данной реальной связи; художественное
произведение являет взору другой, волшебный кусок мира, для
этого оно нуждается в обрамлении, в подчеркнутом
выделении. Но дело здесь не только в этом. Художественное
произведение нуждается еще и в другом ограничении
многообразия, его можно назвать внутренним ограничением.
Но это лишь сравнение.
Любой материал возможного изображения, будь он
чувственный или схваченный фантазией, приносит с
собой необозримое многообразие, и чем конкретнее
схвачен материал, тем богаче многообразие. Это
многообразие не может быть полностью включено в произведение,
иначе оно нарушит его стройность, сделает неясным,
лишит его наглядно ясного единства и сделает, таким
образом, невозможным его оформление в целое.
Этому можно помочь лишь одним способом: выбором
того, что существенно для художественного
произведения, то есть того, что существенно для проявления
дальнейших внутренних слоев. Это художественное явление
хорошо известно. Оно было названо "опусканием"
(Weglassen), и при этом имели в виду опускание деталей.
Это довольно-таки странно, ибо сила художественного
произведения заключается как раз в том, что оно
удерживает детали и говорит не иначе, как через них. Напомним:
в противоположность понятию и многим произведениям
мысли, где детали остаются вовне.
Вот что на самом деле делает искусство: оно всегда с
весьма определенной точки зрения ограничивает себя во
многом, и притом в том, что для него важно. Скульптор не
копирует каждую небольшую неправильность, хотя она
многое могла бы прибавить к жизненности произведения.
Живописец выбирает определенные свет и тени и
пренебрегает бесчисленным количеством других; он изображает
не каждое пятнышко дерева, не каждую травинку луга, но
обозначает подобные вещи скупым штрихом; при случае
он может также работать грубыми мазками, каких в жизни
никто никогда не "видит". Здесь он может положиться на
глаз зрителя: глаз зрителя, если он следует зрительной
направленности живописца, без особого труда дополнит
образ дерева, луга и тому подобное, и ему будет для
этого достаточно скупого намека.
Крайнее выражение этого факта мы находим в
рисовальной технике многих великих граверов: здесь иногда
достаточно немногих штрихов, чтобы выявить всю фигуру
292 Часть вторая. Оформление и расслоение
с ее движениями или даже показать пейзаж в его
характерных чертах (гравюры Рембрандта).
Естественно, что при этом в восприятии весьма
существен акт расширения (das Erganzen).5e3 него опускание
было бы лишь чем-то отрицательным, неким modus defi-
ciens. Но этот акт действует противоположным образом:
как тяга к добавлениям, к пополнениям. При этом важно,
чтобы руководство оставалось за художником с его
указаниями. Иначе синтетическое представление потеряется в
добавлениях, станет самостоятельным и будет видеть уже
не работу художника, а нечто совершенно иное.
Опускание становится еще более важным в поэзии.
Как вообще можно изображать в немногих сценах целую
человеческую судьбу? Ведь она состоит из цепи событий,
совершающихся в каждое мгновение в течение многих
месяцев и лет. Но пьеса и еще более широко - роман
втискивают эти события в узкий ряд сцен, настолько узкий, что
его, пожалуй, никогда не бывает в жизни, ни в смысле
уплотненности, ни в смысле содержательной связи.
Здесь важны оба последних момента: жизнь разделяет
тесно связанные по своему смыслу события, и поэтому
человек, наблюдающий жизнь, теряет из виду смысловую
связь, в которой они стоят. Наоборот, поэт отметает все,
что не имеет значения для этой связи и что может мешать
ее пониманию. Этим он сгущает ход событий, выявляет их
пластическое единство, короче - вновь "формирует" ход
событий.
И здесь "оформление в единство" является, по
существу, функцией опускания и подбора: композиционное
искусство поэта состоит как раз в том, что он определенным
образом подбирает; поэт выбирает так, чтобы
наибольшая и богатая связь событий выявлялась в наиболее
экономном кругу сцен. Для этого нужно очень многое:
например, чтобы предшествующая история была вкраплена в
сцены и выявилась вместе с ним, а не "рассказывалась"
недраматическими средствами или чтобы события,
разыгрывающиеся в промежутке между сценами,
выражались бы в них понятным образом. И все это относится не
только к драме.
Только это внутреннее "ограничение многообразия",
"опускание" и тому подобное нужно представлять себе не
так негативно, как это выражается в понятиях. Каждое
ограничение, если оно исходит из существа дела, есть в то
же время детерминация, положительное определение.
Онтологически это имеет всеобщее значение. Здесь это
Раздел II. Эстетическая форма
293
явление имеет еще один особый смысл. Положительное
заключается в расширении путем представления в
созерцающем сознании; можно также сказать - в явлении того,
что не дано непосредственно чувственно. Это -
эквивалентные выражения для одного и того же отношения.
Но как получается, что разные созерцающие субъекты,
которые еще должны каждый для себя дополнить
опущенное, дополняют не различным, а одним и тем же
способом, например наглядно видят, исходя из намеков, неи-
зображенные или нерассказанные сцены? Это очень
важно уяснить, и только тогда, когда это условие
выполняется, поэтическое произведение воздействует как нечто
однозначное. Этот вопрос очень прост, но, очевидно,
является центральным в рассматриваемой проблеме.
Есть только один удовлетворительный ответ на этот
вопрос: руководство в расширении должно исходить из
самого художественного произведения, и оно должно быть
твердым, неуклонным, во всяком случае, тогда, когда
можно рассчитывать на соответствующую зрелость и
морально-культурный уровень воспринимающего человека.
Существование такого руководства не является чем-то
несомненным, не требующим дальнейших разъяснений.
Напомним, как часто в жизни мы нуждаемся в
способности дополнения, например в том, что мы "сопереживаем"
что-то из судьбы другого человека; в действительности
мы непосредственно "сопереживаем" очень немногое, мы
должны составлять себе картину событий лишь из когда-
то пережитого, услышанного, полуугаданного. И как легко
в таких случаях составить себе фальшивую картину; чаще
всего именно так и получается!
Когда речь идет о руководстве в дополнении (das
Erganzung) при восприятии художественного
произведения, то нужно иметь в виду следующее: в художественном
произведении с удивительной силой дано то, чего больше
всего нам не хватает в жизни, - руководства,
направленного на о самую суть дела.
И если спросить далее, в чем оно состоит, то и здесь,
очевидно, нельзя докопаться до последней сути, но уж, во
всяком случае, ясно видно, что уже правильно
распределенное опускание деталей воздействует как
направленное (к чему-то другому) руководство. Это утвердительная
оборотная сторона кажущегося modus deficiens.
Но дело не только в этом. Напомним, что поэт ставит
во главу угла определенные события (или лишь
намерения, подспудные настроения, следы прошлых пережива-
294 Часть вторая. Оформление и расслоение
ний и т. п.), и именно тем, что он долго не раскрывает их и
этим вынуждает фантазию читателя или зрителя
интенсивнее заниматься ими, чтобы расшифровать, разгадать
их.
Нельзя сказать, что это просто уловка, средство
создать напряжение. Скорее это истинное управление
дополняющей фантазией, возбуждение ее до состояния
высшего напряжения и самодеятельности, если не
сказать - соавторства, совместного творчества. Фактически
поэт подражает в этом жизни. Ибо наш собственный опыт
именно так показывает нам человеческие конфликты - в
полутьме, как смутно угадываемые; только они далеко
отстоят друг от друга и перемешаны с массой вещей,
отвлекающих нас от них. Поэт концентрированно, как бы в
свободном от искажений виде показывает те же самые
очертания конфликтов. И этим он наглядно и
целесообразно руководит фантазией.
Все это отношение, очевидно, расчленено в
определенной последовательности слоев. Вопрос,
следовательно, в том, как и какими слоями оно расчленено.
Ответ на это не может быть единообразным, ибо
искусство, даже если ограничиться только изображающим
(darstellende), неоднородно в этом отношении: в
изобразительных (bildende) искусствах плоскость, в которой
происходят выбор, опускание, концентрация и тому
подобное, еще чисто чувственна, в поэзии это уже плоскость
представления, и притом представления,
сопровождаемого словом.
Следовательно, в одном случае эта плоскость ближе к
материи, в другом - к "материалу", в первом случае она
больше принадлежит внешнему оформлению материи
(краски, свет, тени в живописи), во втором - больше
внутреннему оформлению материала (последовательность
сцен в поэтическом творчестве). Однако можно легко
высказать нечто общее относительно ее значения, что mutatis
mutandis1 должно иметь значение и для
неизобразительного искусства: выбор происходит в средних слоях
художественного произведения и, следовательно, не принадлежит
ни реально-чувственному переднему плану, ни самым
внутренним слоям заднего плана, а происходит во внешних
слоях последнего. В поэзии сразу видно, где
ограничивается, конденсируется и подкрепляется "материал".
1 С соответствующими изменениями. - Перев.
Раздел II. Эстетическая форма
295
Выбор здесь происходит в слое оформления сцен и в
ближайшем ему соседнем слое, где материал уже
возведен в большую степень единства действия и судьбы.
Именно в этих слоях наиболее важны конкретность,
живость, близость к жизни и наглядность.
Но и в живописи есть средние слои (внешние слои
заднего плана). Ибо задний план здесь начинается уже с
проявляющихся на полотне пространственности и
вещественности: в нем - особенно в отношении "света в картине"
- должен происходить выбор и оформление предметного,
как его видит художник.
В этих размышлениях важно прежде всего одно: в них
дается пункт, в котором анализ слоев связан с анализом
формы. На первый же взгляд могло показаться, будто они
весьма противоречат (stunden Windschief zueinander) друг
другу. Очевидно, это не так. И не случайно, что уже с
первых шагов так настойчиво подчеркивалось значение
средних слоев.
Дело в том, что, раз последовательность слоев в
принципе понята, нельзя сделать ни одного шага, не
наталкиваясь на нее.
ГЛАВА 17
СТУПЕНЧАТОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В ИСКУССТВАХ
а. Своеобразие художественного оформления
Все эти вещи образуют здесь одно начало. Основной
вопрос, который теперь возникает, заключается в
следующем: к какому вообще виду относится эстетическое
оформление в противоположность другим типам
оформления, например онтологическому или субъективному
оформлению представления, и, конечно, прежде всего в
противоположность активному оформлению вещей в
практически-человеческом акте, а также к оформлению
жизненных обстоятельств в человеческом действии?
Если здесь отталкиваться от изобразительного
искусства, то первое, с чем мы встречаемся, это факт
некоторого преобразования: материал, за который берется
искусство, не возвращается просто обратно, а
преобразуется в нечто другое. Поэтому все теории подражания
(Nachahmungstheorien) остаются неправильными, как бы
сильно ни зависели начала искусства от подражания
данному.
296 Часть вторая. Оформление и расслоение
О том, как понимать с точки зрения содержания
подобное "преобразование", говорилось в предыдущей главе.
Сюда относятся моменты выбора, опускания и
руководства со стороны самого произведения искусства всем
дополняющим представлением. Но здесь происходит,
очевидно, не только это преобразование. Скорее под ним
находится нечто другое, более важное и тоже
определяющее выбор.
Для этого преобразования характерны следующие
пункты, которые в какой-то степени вытекают из уже
рассмотренного, а частично имеют более широкое значение.
Прежде всего это преобразование человечески
душевного в недушевное и нечеловеческое - в материю
искусства - (слово, краски, камень), или если речь идет не о
душевном, как в определенных темах живописи и
скульптуры, то и здесь живое оформляется в безжизненную
материю.
Этот вид преобразования тождествен объективации
как таковой. Он связан с содержательным
преобразованием хотя бы уже потому, что в каждой материи возможно
не всякое оформление.
Обычно, говоря о пластичности "изображения",
забывают о том, что это есть уже преобразование. Но само по
себе понятно, что "голова, изображенная в камне", есть
нечто другое, чем живой человек, который служит
моделью. И никто не спутает их. Точно так же поэтически
изображенный персонаж есть нечто иное, чем живой
человек. Преобразование начинается именно с таких
простых вещей.
Во-вторых, это преобразование есть преобразование
в ирреальное. По видимости это противоречит первому
пункту, ибо как раз материя, в которую оформляется
материал, вполне реальна. Как же может преобразование в
материю в то же время быть и преобразованием в
ирреальное?
Это можно разъяснить следующим образом:
оформление в материю не есть воплощение в действительность
(или реализация), а лишь изображение, и оно не
исключает иной характер оформления. Образы, создаваемые
поэтом, не воплощаются ими в действительность, как и
предметы, показываемые живописцем: все они остаются
недействительными и не пытаются сойти за
действительность.
Здесь можно скорее говорить о лишении
действительности (EntwJrkllchung). И притом в двойном смысле: 1)
Раздел II. Эстетическая форма
297
возвышение в другую сферу, как бы в соседство с
реальностью, и 2) изменение или опускание многих деталей,
без которых действительное никогда не существует.
Однако изображенное должно иметь носителем
какую-нибудь материю, иначе оно остается в представлении чисто
субъективным и не приходит к объективации. Ибо лишь с
последней начинается эстетическая предметность.
Подытоживая, это можно выразить, очевидно, так: при
воплощении формы (выбор уже произошел) в материю
материал все-таки остается лишенным
действительности. Или, по мере того как она становится действительной
в материи, изображенное в то же время освобождается от
действительности и противопоставляется ей.
Третий момент состоит в том, что это преобразование
есть преобразование в наглядность. Этот момент не
совпадает ни с первым, ни со вторым; правда, материя
наглядна, но только в смысле первоначального созерцания,
восприятия, а в оформлении "материала" о нем больше не
идет речь, и если идет, то лишь как о средстве. Но царство
ирреального вообще совершенно не наглядно, ему нужны
уже особые формы, чтобы стать наглядным.
Именно эта сторона оформления имеет особо важное
значение для художественного произведения любого
типа. Ибо большая часть "материала" - душевные и
органические вещи (последние глубоко скрыты) - по природе
своей не наглядна; правда, в жизни мы обладаем
интуитивным знанием о них, но неполным и чаще всего в виде
смутного ощущения, без конкретного созерцания.
Поэт, живописец, скульптор и даже музыкант
поднимают эти вещи из их туманной неуловимости и делают их
"опосредованно" зримыми, слышимыми, представимы-
ми, выявляют их в форме конкретных сцен, во внутреннем
состоянии нарисованного лица или в шуме и утихании
звуков.
Решающим моментом здесь является прочное
удерживание недействительности (der Unwirklichkeit), может
быть, даже явное лишение характера действительности.
Последнее как раз. не противоречит наглядности. Здесь
оказывается, что на область искусства не
распространяется тесная связь реальности и наглядности, которую мы
чаще всего предполагаем в жизни. Существует
наглядность более высокого порядка, которая как таковая
достигается, пожалуй, только в искусстве. Она по существу
тождественна "созерцанию" (Schau) второго порядка,
которое примыкает к восприятию, но тотчас же становится
298 Часть вторая. Оформление и расслоение
противоположным ему и обладает преимуществом
свободы содержания - оно видит то, что не реально.
Если взять вместе два последних пункта -
преобразование в ирреальное и преобразование последнего в
наглядность, - то невольно ищешь что-нибудь позитивнее,
которое и на деле охватывало бы оба пункта. Такое
позитивное, которое бы вполне удовлетворяло, найти
невозможно, но все, ставившие этот вопрос, так или иначе
видели его и в большинстве случаев называли его "идеей".
Правда, идею при этом чаще всего понимали в
платоновском смысле как определенную чистоту или
совершенство, причем обычно оставалась в силе и всеобщность
идеи. Но в последнем пункте обнаруживается
заблуждение. Ибо при таком понимании теряется наглядность
созерцания.
Скорее нужно исходить из онтологической сущности
идеального бытия, как мы ее понимаем в математических
и ценностных структурах: ойа равнодушна к реальности и
ирреальности, но открывает большие возможности, чем
реальное.
Структуры, выступающие в слоях заднего плана
художественного произведения, например поэтические
образы, не обладают таким идеальным бытием, иначе они
были бы понятны каждому безотносительно к
художественному произведению. На деле же этого не происходит. Не
являются они и вечными, вне времени сущими, а зависят
от очень многих исторических судеб (сохранение текста и
наличие адекватного духа).
Но эти образы "являются" как поднятые во
вневременное (in die Zeitlosigkeit) и идеальное. И, по сути дела, это
вполне понятно, ибо вообще способом их бытия служит
явление - со всеми зависимостями, которые к нему
относятся (напомним здесь о "трехчленном", соответственно
четырехчленном отношении, см. гл. 5, б). Если быть
точным, то нужно сказать, что подобные структуры хотя и
подняты в идеальность, но все-таки лишь в являющуюся
идеальность. И этого как раз достаточно для образов
поэзии, живописи и т. д.1
Ибо эта являющаяся идеальность объединяет
возвышенное (Enthobenheit) над временем и реальными
связями с наиконкретнейшей наглядностью. И дело здесь
именно в этом синтезе.
1 Ср. по вопросу о являющейся идеальности: "Das Problem des geistigen
Seins", 1933 (1949), Кар. 50, "b"; Кар. 51, "d" - T\
Раздел II. Эстетическая форма
299
В силу этого оказывается действительно верным кое-
что из платоновского интуитивизма. Только как раз в
совершенно другом типе созерцания, чем тот, который
имели в виду Шеллинг и Шопенгауэр.
б. Ступенчатость оформления по слоям
Последние пункты довольно ясно показывают,
насколько тесно проблема оформления в художественном
произведении связана с последовательностью слоев, на
которой она построена: "являющаяся идеальность",
которая охватывает первые четыре момента
"преобразования", есть функция отношения проявления (des
Erscheinungsverhaltnisses), как она господствует в
движении от слоя к слою, во всяком случае, она является такой
функцией в той мере, в какой вообще хватает
"расслоения" в эстетическом предмете.
Теперь необходимо использовать эту "функцию" для
проблемы оформления. Если бы было возможно
проанализировать эстетическое оформление как вполне
"структурное", то здесь можно было бы вступить на прямой путь,
подобный тому, как биология описывает и анализирует
органические формы, а онтология - формы строения. Но
этой возможности нет, ибо она была бы равнозначна
открытию тайны художественного творчества вообще. Это
открытие недоступно философскому проникновению.
Остается лишь описание отношения оформления между
слоями эстетического предмета. Мерилом для этого
являются следующие исходные положения:
1. Каждый слой эстетического предмета имеет свой
особый тип оформления, которого нет в другом слое.
2. Но в этой самостоятельности содержится и
зависимость: оформления "переднего" слоя всегда достаточно
для явления ближайшего заднего слоя.
3. В конечном счете самое внешнее оформление
(чувственно данного) в конце концов определяется тем,
что ему наиболее гетерогенно, - самым заднеплановым,
именно тем, что должно быть выявлено.
Как мы видим, в этих трех пунктах заключена целая
программа, которую по праву нужно было бы проследить
во всех видах искусства. Предваряя дальнейшие
дополнения, ее здесь нужно разъяснить лишь отдельными
указаниями.
Первый пункт касается особого оформления первого
слоя. В поэзии оформление языка (то есть "материи"),
очевидно, иное, чем оформление того, что высказано, да-
300 Часть вторая. Оформление и расслоение
же если последнее берется как "являющееся в первую
очередь" (то есть как самый внешний слой заднего плана),
следовательно, как то, что непосредственно показывает
только движение, мимику и речь поэтических образов.
И в свою очередь оформление этого "показанного"
(воспроизведенного в контролируемом представлении)
движения, мимики и речи иное, чем оформление
ситуаций и действий. Точно так же, как поэт может весьма
различно подбирать слова, чтобы выяснить одно и то же
движение и мимику, так он может весьма различно подбирать
и моменты движения и мимики - или даже диалог своих
персонажей, - чтобы показать опосредованному
созерцанию внутреннюю сторону особых отношений между,
людьми, ситуаций и действий.
Стоит только сравнить способы, которыми различные
рассказчики развертывают перед нами относительно
сходные жизненные обстоятельства, и сразу станет
понятна самостоятельность оформления в каждом из этих
слоев.
Этот процесс идет глубже: если под плоскостью
ситуаций и действий оказывается область душевного склада
отдельной личности или целой среды, то здесь в свою
очередь должно выступать и соответствующее
оформление - и притом как в выборе, так и в руководстве
представлением. Поэт не может проанализировать какой-либо
характер до самой малейшей черточки; он может только
показать его так, как его при случае показывают внешние
события жизни, то есть в виде отдельных черт, выступающих
с внезапной яркостью в свете его образа действий при
данных жизненных обстоятельствах. Но он свободен в
выборе жизненных обстоятельств и действий специально
для цели этого "показывания". Так он сохраняет
конкретную наглядность и в том, что непосредственно не дано
повседневному созерцанию. Равным образом поэт может
лишь небольшими отрывками давать последующий слой
человеческой судьбы в целом: и здесь оформление
большого целого состоит из определенных частей, но так, что
эти части смыкаются в общую картину. Это только один
пример. Ибо в других видах искусства последовательность
слоев иная. Кроме того, этим не исчерпывается ряд слоев
поэтического творчества - есть еще последние внутренние
слои. Но легко видеть, что по отношению к ним верно то же
самое, что было сказано, например, об идее личности, а
также об общечеловеческом.
Раздел II. Эстетическая форма
301
Эти явления можно легко сопоставить в живописи.
"Живописная техника" (обработка красок, владение
кистью) есть важная часть оформления, но все-таки
непосредственно это есть оформление только реального
переднего плана. Придание вида (Gestaltung)
трехмерному пространству, "свету в картине" и вещественным
предметам тем более является оформлением (Formung), но,
очевидно, совершенно другим, которое в
противоположность первому обладает определенной свободой
варьирования. Изображение движения является
соответственно третьим типом оформления, и под ним находятся
последующие слои: слой действия, душевного состояния,
настроения, взглядов или слой характеров отдельных
личностей и т. п., - все они являются в одной и той же картине
оформлением особого типа, преобразованием
созерцаемого реального или внутренне созерцаемого идеального
в наглядность, но в то же время это многочисленные
различные виды оформления, которые никогда не совпадают,
ибо каждый имеет свой смысл (особый выбор, способ
уплотнения, направленности) в своей плоскости - и только в
ней; в другой ему нечего делать. Например, нельзя
оформлять пространственную глубину и свет в той же
плоскости, в которой изображаются душевное состояние
и идейная установка, или оформлять лично-стно-идеаль-
ную сторону портрета там, где речь идет о движении и
жизненности. Все это подлежит в своем слое своему
особому оформлению.
И в неизобразительных искусствах в той мере, в какой
в них вообще господствуют слои, дело обстоит точно так
же. Это можно ясно проследить на примере музыки.
Здесь внешние и внутренние слои отстоят особенно
далеко друг от друга: первые движутся полностью в
оформленных единичках композиционного строения, вторые -
полностью в душевном мире чувств и настроений.
Достаточно уже этой гетерогенности (именно она
составляет чудесное в музыке), чтобы однозначно показать
полную разнородность оформления в тонической
структуре и в проявляющемся душевном содержании. Напомним,
насколько различно в песенной музыке можно оформлять
одну и ту же человеческую, душевную тему, так что нельзя
сказать, что к тексту "подходит" только одна композиция.
А с другой стороны, напомним и о том, насколько
различно при определенных обстоятельствах можно толковать
произведения "чистой" музыки. И как раз там, где
наступает предел этой многозначности - в чистой соразмер-
302 Часть вторая. Оформление и расслоение
ности чувству, - музыкальное оформление строения
остается все-таки иным, чем оформление душевного
содержания.
То же самое можно увидеть уже внутри внешних слоев.
"Строение фразы", например, еще вовсе не определено
"музыкальным мотивом" (самое маленькое единство). И
наоборот: мотив должен быть, конечно, выбран
правильно, чтобы построить определенную фразу (например,
финал определенного возбужденного душевного
состояния), но отсюда нисколько не следует, что для этого
можно найти только один-единственный мотив. Если
заострить формулировку, то можно сказать, что при
определенных обстоятельствах вполне можно написать одну и ту же
фразу на другую тему (мотив). Это противоречит лишь
принятому в теории музыки языку и понятиям, которые
именно здесь не проводят резкого различия между темой
и строением и называют поэтому фразу, написанную на
другой мотив, a limine "другой фразой".
Кроме сделанных выше выводов, отсюда ясно следует
и то, что основная тяжесть любой самостоятельности
оформления слоев предмета лежит на средних слоях: эта
самостоятельность почти сама собой разумеется для
реального переднего плана, ибо восприятие обладает уже
своими специфическими законами во всех областях
чувств, и они должны выполняться, чтобы эстетическое
воздействие могло совершиться. Но для последних слоев
заднего плана самостоятельность оформления уже не так
важна, ибо идейное выходит за эти узкие пределы (в том
числе и за пределы чисто эстетического), чаще всего - в
моральную область.
Ни передний план, ни последнее глубокое идейное
содержание не являются сами по себе эстетическими
образованиями. Критический пункт во всех отношениях
заключается в средних слоях - в глубоких внешних слоях и в
менее глубоких внутренних слоях. Именно в них богатство
развертывается конкретно и наглядно, в них,
следовательно, заключается наибольшее многообразие
оформления.
Причем нужно иметь в виду, что огромное богатство
содержания поэтического, живописного, музыкального и
тому подобных произведений покоится именно на этих
слоях, и прежде всего на том, что здесь густо рядом друг
с другом и ступенчато расположены различные виды
оформления. Большое очарование всего этого заключено
Раздел II. Эстетическая форма
303
опять же в самостоятельности каждого из этих
наслаивающихся друг на друга видов оформления.
"Душа", достигнув высшего внутреннего зрелища, как
бы тонет в многообразии форм. Она проникает сквозь
одно оформление и здесь же наталкивается на другое,
находящееся под первым. Увлекаемая от зрелища к зрелищу,
она не может обрести спокойствия.
е. Связь оформления в слоях
Второй пункт гласил, что в самостоятельности
все-таки содержится зависимость, так что оформления
переднего слоя всегда достаточно для явления ближайшего
заднего слоя. Что же это за зависимость? И как она
согласуется с самостоятельностью оформления в каждом
слое?
Прежде всего, в связи с этим надо сказать
следующее: это та самая зависимость, с которой мы
познакомились при анализе процесса сквозного проявления.
Каждый слой призван к тому, чтобы позволять проявляться
ближайшему, более глубокому слою. Новым является
сейчас только то, что при этом речь идет об отношениях
оформления.
Но каким образом это отношение становится
отношением оформления? До сих пор дело выглядело так, будто
оформление и проявление скорее противоположны друг
другу. Возникал же всерьез вопрос о том, не существует
ли наряду с прекрасным в явлении еще одно прекрасное,
открывающееся в чистой игре форм. И его существования
никак нельзя оспаривать по отношению к орнаменту. Как
это согласуется с зависимостью оформления в
последовательности слоев художественного произведения?
Очевидно, все-таки неправильно так резко
разграничивать оформление и проявление. В действительности
они тесно связаны. Вообще они различаются только в
методологическом отношении: мы, собственно, не можем
анализировать эстетическую форму ни в одном из ее
слоев, она есть и остается тайной искусства, ее можно
охарактеризовать только в определенных внешних чертах. Но
мы вполне можем анализировать отношение проявления.
Поэтому оно выделяется и обсуждается само по себе, как
будто не существует никакого факта формы. Но эту
методологическую противоположность нельзя выдавать за
абсолютную или за коренящуюся в самой сути дела.
Прежде чем перейти к дальнейшему изложению
вопроса, нужно здесь еще раз предупредить от смешения
304 Часть вторая. Оформление и расслоение
рассматриваемой противоположности с
противоположностью "формы и содержания". Последняя является
частично мнимой: можно однозначно различить "форму и
материал", но неоформленный материал не является
"содержанием" художественного произведения (и притом ни
в одном из его слоев); таковым является только
оформленный материал. Поэтому с этой противоположностью
почти ничего не сделаешь, и верным остается то, что
"содержание", если уж придавать значение этому слову, по
существу, всегда заключается в форме.
Но доказать скрытое в отношении проявления
отношение формы можно только описательно, путем раскрытия
строения слоев художественного произведения. В этой
связи необходимо вновь прибегнуть к выбору явлений,
который, конечно, не может быть совершенным, но будет
стремиться схватить суть дела только там, где она может
быть относительно схвачена, то есть выбор будет
относительно произвольным.
Мы будем отправляться от скульптуры, в которой
оформление материи в переднем плане является реально
пространственным. Как скульптор добивается того, что
выявляет движение и жизнь, в то время как его фигуры
стоят неподвижно и как таковые безжизненны? То есть
речь идет об отношении чувственного реального слоя к
двум ближайшим внешним слоям заднего плана. Ибо и
движение еще не есть жизнь, последняя "проявляется" в
нем лишь как что-то последующее, а изображение этого
при отсутствии достаточных способностей у художника
может и не удаться.
Как уже было сказано, мы не можем показать саму
внутреннюю суть того способа, каким художник это
делает. Но все-таки ясно уже то, что он осуществляет это
своеобразным оформлением переднего плана (то есть
реальной материи, звука, камня). Никакого другого пути
выявить движение и тем более жизненность не существует.
Правда, скульптор "оформляет" непосредственно,
например, в изображении борцов в какой-либо момент их
борьбы только минутное положение частей их тела в
избранной фазе движения; но он выбирает фазу так, что в ней
опосредованно выражается движение, то есть,
статически оформляя фазу, он оформляет движение борьбы,
которое хочет показать. И для этого все то, что характерно для
фазы движения, должно быть в ней наглядно показано
(поза, игра мускулов и т. п.).
Раздел II. Эстетическая форма
305
Подобным же образом обстоит дело и по отношению к
ближайшему слою - к слою жизненности.
Жизнь уже не есть нечто пространственное, каким
все еще является движение. Но жизнь выражается в
движении, поэтому ее можно и художественно выразить в
нем. Скульптор достигает этого, показывая напряжение
и усилия в положении всего тела. Последние он вполне
может воплотить в пространственном оформлении фазы
движения.
Момент оформления переднего плана,
осуществляющий это чудо, чрезвычайно тонок. Он может заключаться в
мельчайших соотношениях меры. Анализ не может
проследить эти тонкости оформления, он может лишь
апеллировать к живому, эстетическому созерцанию зрителя.
Рассмотрим изображение борцов и спросим себя, в
каких частностях группы выявляется напряжение, борьба,
жизнь. Здесь можно кое-что найти и указать на это, но
богатство формы не исчерпывается тем, что оно выявляет
другую форму (движение и жизнь). Тем более что здесь
так сильно чувствуется характер зависимости
являющейся формы от формы видимой и то, что художественное
произведение состоит именно в том, что последняя
соразмерна с первой.
Каким образом композитор добивается этого, когда он
хочет выразить "страсть" или "торжественную тишину",
"тайную боль", "тоску", "благородное величие" и вообще
что бы то ни было? Нужно учесть, что все эти примеры
находятся еще вне области программной музыки и касаются
душевного содержания (то есть внутренних слоев) чистой
музыки.
Нет сомнения, что композитору остается оформлять
внешние слои музыки только так, чтобы в них выявлялись
соответствующие душевные формы. Нет никакого
другого пути музыкального выражения внутреннего мира
человека.
Но внешние слои - это как раз такие, которые не
допускают никаких душевных тем, а движутся в чисто тонически
музыкальных оформлениях и имеют в них свои
собственные "темы". Как же, следовательно, может музыкант
выявлять душевное оформление в музыкально-структурном
оформлении?
Ответ на это был дан выше (гл. 14, в)
безотносительно к проблеме формы: музыка в основе своей
родственна душевной жизни в одном пункте, именно в том, что и
то и другое происходит во времени, находится в тече-
306 Часть вторая. Оформление и расслоение
нии, в постоянном переходе, в движении, в
противоречивой игре напряжения и расслабления, возбуждения и
успокоения.
Это в одинаковой мере выражает противоположность
как душевного мира внешнему вещественному миру, так и
музыки - изобразительным искусствам. Именно поэтому
музыка в своем потоке, переходе, движении с таким
большим приближением и наглядностью может рисовать
поток, переход и движение душевной жизни (волнение,
наполнение, спад, бушевание, погоня, бегство... и
обуздание этих освобожденных от оков сил...).
Эти элементы содержатся в самой музыкальной
форме, участвуют в ее создании и слышны в ней как таковые.
Точ-нее: они содержатся во всех трех внешних слоях
музыкального заднего плана - от музыкальной "темы" до
"предложения" и сонаты. Отсюда следует, что их не нужно
добавлять к музыкально-композиционному оформлению,
что скорее именно чисто музыкально-композиционное
оформление выявляет душевное оформление
(возбуждение и т. п.).
Это можно проследить дальше вплоть до самых тонких
подробностей, например до смены мотива звукового
эффекта модуляции, неожиданного вступления нового
"развития" или просто лишь пианиссимо. Это можно
проследить от слоя к слою и внутри внешних слоев, а также от
глубоких внешних слоев к глубоким внутренним и т. д.
Но этим ничего нового здесь не сказано. Важно только
само данное основное отношение. И оно, очевидно,
доказывает зависимость оформления в последовательности
слоев, то есть ту ступенчатость самостоятельных самих по
себе плоскостей оформления, в силу которой глубокое
оформление со своим проявлением зависит от
оформления расположенного перед ним.
В качестве третьей области привлечем сюда поэзию.
Ей, как и музыке, присущ временной характер основного
измерения, в котором она движется. В ней, как и в
музыке, существуют подвижность и течение душевной жизни,
которые придают средним слоям полноту содержания. Но
сходство здесь лишь кажущееся.
Это сразу видно при переходе от отношения
проявления к отношению оформления. Музыка может как бы
непосредственно "обрисовывать" душевное движение в
движении звуков и созвучий, поэтическое искусство же
вообще неспособно на это, или если и способно, то лишь
в очень незначительной степени (в созвучии слоев). Ско-
Раздел II. Эстетическая форма
307
рее оно прибегает к тому же обходному приему, как и
наше знание о душевном в действительной жизни: оно
переходит от движения и мимики к ситуации и действию, от
последних к характерному моральному внутреннему миру
личности и отсюда дальше к целым группам событий, к
целостностям жизни и судьбы. Эта особенность
соответствует рассмотренным выше средним слоям
поэтического искусства.
В какой мере можно сказать, что здесь речь идет об
отношении оформления? Или (чтобы специализировать
вопрос) можно спросить так: как поэт достигает того, что
во внешних, пространственно представленных движениях
и мимике проявляются такие внутренние моменты, как
ситуация и действие?
Поэт делает это точно так же, как и сама жизнь:
оформляет внешнее и зримое и так выявляет его в слове,
что мы видим его как свидетели в жизни; но этим
оформлением внешнего (со всеми средствами выбора и
направленного руководства) он в то же время отражает в нем
внутреннее и "являет" его представлению. Ибо мимика и
движение - предатели и косвенно всегда что-то
высказывают о душевном, которое они должны как раз
замалчивать и скрывать
Таким оформлением внешнего поэт косвенно
оформляет и внутренние мотивы, а именно ситуацию (в той
мере, в какой она обусловлена душевным напряжением),
действие вместе с колебанием, борьбой и решением.
Оформление идет соответственно дальше в
последовательности слоев: в действии поэт оформляет характер и
этику своих персонажей; в последних и во всем
предыдущем вместе он оформляет целую человеческую судьбу.
г. Определение формы изнутри
Если учесть все сказанное, то станет ясным, почему
были обречены на провал попытки эстетики одним и тем
же анализом формы решить загадку прекрасного.
Считалось, что форму художественного произведения можно
схватить как нечто единое. Но она не является таковой.
Она представляет собой ступенчатую и к тому же на
каждой ступени самостоятельную форму, включающую в себя
одновременно весьма определенную зависимость. Такое
сложное отношение в ней лишь смутно предполагалось.
Между тем момент зависимости еще не исчерпан.
Третий пункт гласил: в конечном счете самое внешнее
оформление определяется уже тем, что ему наиболее ге-
308 Часть вторая. Оформление и расслоение
те-рогенно, то есть самым глубоким задним планом. На
первый взгляд это противоречит предыдущему пункту,
который гласит, что оформление переднего слоя всегда
должно осуществлять проявление заднего, при этом,
очевидно, зависимость проявления определяется
зависимостью заднего слоя от переднего. Но тогда в конечном
итоге во всей последовательности слоев самое
оформление должно было бы все-таки зависеть не от самого
внутреннего, а наоборот.
Эта апория покоится на заблуждении. Она
разрешается, подобно теоретической апории ratio cognoscendi и
ratio essendi: в отношении проявления оформление
переднего слоя всегда является условием для явления
заднего, в строении же художественного произведения и в
деятельности творящего художника оформление заднего
слоя является условием оформления переднего. Ибо пе-
реднеплановое именно потому оформляется так, как оно
оформлено, что оно дает выявляться оформлению
заднего слоя. Следовательно, оно определяется глубокими
внутренними слоями. Именно ради них существуют
внешние слои. И в этом смысле оформление чувственного
переднего плана также определяется в конечном итоге
последним слоем заднего плана. Это есть отношение
определения, которое в некоторых искусствах принимает
очень сложные формы, но которое в то же время очень
конкретно, настолько, что сразу чувствуется, откуда взят
принцип выбора в средних слоях, а именно - из последних
слоев заднего плана, например из определенной общей
идеи, которая должна конкретно проявляться в
произведении.
В поэтическом искусстве есть знаменитые примеры
этого рода, хотя они и не навязывают назойливо
заключенную в них сентенцию: определенность незначительных
внешних деталей "идеей" дела. Например, "Коварство и
любовь" Шиллера; идея: борьба угнетенных за свободу
против произвола князей. Это проходит через характеры
и судьбы, которые выбираются уже соответственно идее;
она проводится дальше до ситуаций и способов действия
и еще дальше к речи, движению и мимике и отсюда к
тексту пьесы. Конечно, в лирике, где словесное оформление
становится непосредственным выражением настроения,
результаты еще заметнее. "Над всеми вершинами..."1 - в
стихах прямо звучит предчувствие смерти.
Стихотворение Гете. - Прим. ред.
Раздел II. Эстетическая форма
309
Такое смыкание начального и конечного звеньев
художественного оформления в удавшихся произведениях
легко почувствовать везде, где на это обращается
внимание.
В живописи это должно быть особенно ярким в
портретном искусстве, по крайней мере там, где подлинное
умение обращается к индивидуальному. Умение здесь, по
существу, состоит как раз в схватывании
индивидуального и зримом его воплощении. А у великих мастеров это
выходит за пределы эмпирической индивидуальности в
области "индивидуальной идеи".
Но как выражает это живописец? Именно так, как
жизнь при случае выражает и "выдает" такие вещи:
незначительными зримыми чертами (тенью у уголка рта, парой
искорок в глазах), другого пути нет. Но в
действительности это путь через всю цепь слоев живописи, который не
может быть сокращен. Ибо упущение любого слоя в
сквозном оформлении угрожает всему произведению
нарушением единства и непонятностью. Гармонически
воздействует только портрет, содержащий полную
последовательность оформлений.
Можно брать пример где угодно - везде
предполагается наличие последних внутренних слоев. В музыке,
например, почти несомненно, что идеальное является
непосредственно определяющим для тонического, и
притом как для деталей строения, так и для тем,
являющихся их строительным материалом. Так,
торжественность Девятой симфонии (Бетховена. - Перев.) можно
проследить вплоть до ее тем; последние, таким образом,
определяются основным настроением, в котором
коренится ее идея: большое, сердечное чувство слияния с
человечеством. То же самое можно сказать о юношески
беззаботном героизме в зиг-фридовской песне ковки
меча. И как это в особенности вер но по отношению к тем
поздним фугам Баха (искусство фуги и Ricercar), в
которых каждый ощущает метафизическое содержание!
Никто не может сказать, в чем оно заключается, но оно
является определяющим вплоть до чисто звукового
переднего плана. И только тот, кто слышит его, может верно
слышать все произведение.
В этих размьшлениях мы отвлекались от
архитектурного искусства. Большую часть моментов в нем указать
труднее. Но ясно виден последний пункт: в той мере, в
какой в основе архитектурного произведения лежит общая
идея, на него должно распространяться положение, что
310 Часть вторая. Оформление и расслоение
она вполне и непосредственно участвует в определении
внешнего оформления; в монументальных постройках,
например, это всегда происходит именно так. В
церковных строениях - стремление ввысь, не соответствующее
более никакой практической цели. Но, например, и в
домашних постройках - синтез любви к домашнему очагу и
фамильной гордости. Все это выступает зримо во
внешней форме.
ГЛАВА 18
ЯВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
а. Самостоятельность
и независимость оформления
В исследованиях последней главы бросалось в глаза
то, что самостоятельность и независимость сопутствуют
процессу придания художественной формы во всех слоях
искусства. Само по себе это взаимодействие не
представляет собой ничего нового, мы с ним уже встречались
при рассмотрении наслоения другого рода, а именно
категориального наслоения в построении реального мира.
Отсюда следует тот положительный вывод, что во всех
слоях имеет место отношение взаимного дополнения и
носимости (Trageverhaltnis), хотя именно форма в
различных слоях является гетерогенной.
При этом особенно важно иметь в виду, что
оформление отдельно взятого слоя вовсе не является
эстетической формой. Учение об эстетической форме никогда
этого не признавало. Эстетика хотела рассматривать
оформление определенного вида, то есть оформление одного
слоя, например отдельно взятую поэтическую обработку
материала, и исследовать ее "законы" сами по себе, в
чистом виде.
Быть может, это и возможно, но не достигает цели, так
как таким путем нельзя придать художественную форму.
Последняя начинается лишь там, где познается
взаимосвязь оформлений различного вида.
Речь идет здесь именно об отношении взаимного
дополнения и об отношении носимости форм, о своего рода
взаимной обусловленности, которая, однако, сохраняет
относительную самостоятельность художественной
обработки отдельных слоев. Поэтому при внимательном
рассмотрении в каждом слое искусства нам открывается
свое особое содержание, например, в средних слоях поэ-
Раздел II. Эстетическая форма
311
тического произведения - пестрое многообразие
происходящего, ситуаций или даже только многосторонность
общей картины в зависимости от того, о каком слое идет
речь; в известных границах мы можем заставить любое
"содержание" такого рода оказывать воздействие само по
себе, то есть давать эстетическое наслаждение.
Необходимо добавить, что произведение искусства тем полнее и
богаче, чем больше оно заключает в себе такого
содержания в средних слоях. Именно это содержание и есть
художественная форма.
Отсюда становится ясно, в чем состоит это
взаимодействие самостоятельности и зависимости в слоях
искусства. Совершенно ясно, что скрытый подтекст
просвечивает сквозь действие переднего плана и что именно в
этом заключается эстетический смысл художественного
оформления последнего: задача состоит в том, чтобы
дать возможность просвечивать скрытому подтексту, но
это не значит, что только к этому сводится весь смысл
переднего плана.
Напротив, каждая область искусства, каждый слой
вместе с его художественной формой имеют и свое
собственное значение, и это значение воспринимается
зрителем как его собственное содержание, конечно, не в
противоречии с формой, а как "содержание" в выше
раскрытом смысле, то есть такое, для которого главным
является придание художественной формы.
Это явление можно считать совершенно безусловным.
Остановимся еще раз на средних слоях поэтического
искусства: здесь существенно то, "как человек
откашливается и как он плюет", или то, насколько быстро он озирается
вокруг, нет ли свидетелей, когда он взламывает запертую
дверь или бросает взгляд на документ, не для него здесь
лежащий. Этот слой - слой движения и мимики. То же
самое непосредственно относится и к слою ситуации и
действия: здесь думают о способе, каким уличенный во
лжи старается вывернуться, - он может при этом иметь
определенный успех и достигнуть поставленной цели, но
может и запутаться в противоречиях и оказаться
скомпрометированным. В обоих случаях внешнее пластическое
выражение этой многосторонности имеет само по себе,
помимо всякого просвечивания характеристических
моральных черт, то есть помимо того, что относится к
ближайшему, не самому глубокому слою, еще одну
внутреннюю ценность, которая также должна быть найдена, а
312 Часть вторая. Оформление и расслоение
именно: пестрота оттенков, богатство, полнота
выражения, близость к жизни и жизненная правда.
Это можно показать, но только в том случае, если
сослаться на подобные примеры и апеллировать к
эстетическому наслаждению конкретным богатством деталей.
Казалось бы, что для изображения характера и
человеческой судьбы нет необходимости в таком количестве
деталей. И все-таки богатство деталей имеет свои законные
права, ибо оно имеет свое собственное значение:
придает произведению в целом широту и не является чем-то
маловажным и излишним.
Только таким образом можно правильно понять
изменчивое отношение самостоятельности и независимости в
ступенчатости эстетического оформления в различных
слоях произведения искусства. Фактически это так и
происходит: с эстетической точки зрения придание
художественной формы деталям каждого слоя, с одной стороны,
определяется чем-то внешним, с другой - существует
само для себя. И вовсе не лишне выразить это так
заостренно, потому что эстетическая ценность заключена в обоих
сторонах этой кажущейся антиномии. Деталь
художественного оформления (особенно в средних слоях)
составляет богатство произведения искусства, а взаимосвязь
изображаемых явлений придает ему глубину и единство
действия.
Но единство целого, несмотря на всю его глубину,
воздействует "тонко", если в разнообразных деталях его
средних слоев отсутствует их сквозная обработка; так же
неглубоко воздействует и многокрасочное богатство
внутреннего содержания, если широко разросшаяся
деталь не позволяет увидеть своего другого лица, лица
транспорентно-сти. Это можно очень хорошо показать на
другом виде искусства. Очень ясно это выражено,
например, в живописи; ранее, при рассмотрении живописи, мы
уже видели, что в ней сильнее, чём в других видах
искусства, выступает значение чисто чувственного, видимого,
то есть того, что заключено во внешних слоях.
Почему это так? Согласно гегелевской эстетике, надо
было бы ответить: потому что в отличие от поэзии, где
речь идет о внутренних переживаниях, живопись является
чувственно-поверхностным искусством. Неправильность
такого понимания была отмечена уже выше, ибо оно
исходит из представления, будто искусство живописи
лишено внутренних слоев и приковано лишь к тому, что
бросается в глаза и лежит на поверхности явлений. Нап-
Раздел II. Эстетическая форма
313
ротив, живопись самым точным образом осуществляет
задачу искусства, она умеет в чувственной форме
выразить все, включая и идею; именно это и называется
"художественным выражением".
При этом в живописи центр тяжести лежит, конечно, в
чувственном, что в данном случае означает - во внешних
слоях. Отсюда понятно, что всякая деталь, относящаяся к
появляющемуся в картине свету, имеет свой удельный вес
и сама по себе кое-что говорит об этом появляющемся
свете, чего в жизни мы, возможно, и не заметили бы; и это
независимо оттого, что именно из жизни и движения
проявляется через этот свет. Здесь идет речь также и о
богатстве и полноте видимого самого по себе, следовательно,
о богатстве, которое простирается далеко за пределы
этого видимого, то есть о таком богатстве, которое
необходимо для такого видения. Несмотря на различие в
положении дела, мы находим здесь в основном такое же
отношение, какое существует в поэтическом искусстве.
Очевидно, новым в живописи является лишь то, что здесь с
обеих сторон, как со стороны самостоятельности, так и
зависимости, характер оформления в каждом слое
выступает отчетливее.
В основе изобразительных искусств нет ничего
другого. Но здесь самостоятельность оформления отдельных
слоев выступает наружу более отчетливо. Впрочем, это
относится не к внешним слоям, а скорее к переходу
внешних слоев во внутренние.
Это отчетливо видно в музыке. Здесь внешние слои
охватывают композицию, и музыка последовательно, с
убедительной самостоятельностью раскрывает все богатство
своей художественной формы на каждой ступени
единства: это чистая игра формы, и именно так она
воспринимается. Развитие какой-нибудь "темы", ее вариации, ее
видоизменения, расширение, повторение, комбинации с
другими темами, вытеснение последними первой и
возвращение к прежней теме - все это есть такие вещи,
которые лишь в самих себе содержат свой смысл и свой закон,
причем и тема и ее художественная форма не тесно
связаны с духовным содержанием, которое в них
проявляется.
Однако это не мешает тому, что душевное содержание
все же проявляется в этом ступенчатом оформлении
композиции. Одно прекрасно совмещается с другим;
зависимость не мешает самостоятельности. Типичным
примером такого отношения является контрапунктическая му-
314 Часть вторая. Оформление и расслоение
зыка: богатство ее форм может быть оценено и способно
давать наслаждение только само по себе (rein in sich selb-
st); однако контрапунктическая музыка может
подниматься до изумительных высот внутренней духовной глубины.
б. Чистая игра формы
На примере музыки еще одно становится ясным:
должен существовать какой-то вид чистой красоты формы,
которая покоится не на отношении проявления. В
противном случае такая самостоятельная игра формы, какая
имеет место в музыке, была бы невозможна. Скажем
точнее, она была бы возможна, но не могла бы так
определенно и уверенно претендовать на самостоятельное
эстетическое воздействие.
Мы должны здесь исходить из этого требования. Оно
не ограничивается только областью музыки. Притязание
художественной формы на самостоятельность мы
обнаруживаем и в строительном искусстве, своего же
кульминационного пункта оно достигает в искусстве орнамента,
ибо там игра формы выступает совершенно
самостоятельно, в чистом виде, без отношения слоев или
отношения транспорентности. Этим еще больше усложняется и
затуманивается проблема формы.
Но одно здесь должно быть очевидно: если
существует красота как чистая игра формы, без слоистости (ohne
Schichtung) и так далее, то невероятно, чтобы
существовали слои искусства, в которых эта чистая игра формы
совсем отсутствовала бы. Поэтому необходимо
попытаться отыскать ее также и в изобразительных искусствах, где,
конечно, может идти речь о многочисленных градациях
или ступенях, которые могут вполне объяснить нам
исчезновение за этой сложной структурой слоистости и
отношения проявления.
Но ближе всего этот вопрос касается
неизобразительных искусств. В них отношение проявления с самого
начала представляется не столь важным вопросом.
Больше всего это относится к орнаментике, хотя
искусство орнамента не стоит на одном уровне с другими и с
точки зрения игры формы едва ли достигает уровня
музыки или архитектуры.
Выше, в главе 7, было уже показано, каким путем в
орнаментике игра формы достигает самостоятельности,
которая ограничена только тем, что орнамент является
составной частью более сложных сочетаний форм, как
это бывает, например, в орнаменте здания. Остатки от-
Раздел II. Эстетическая форма
315
ношения проявления, которые в какой-то мере все же
свойственны орнаментике, в данном случае остаются
вне игры.
Это позволяет показать, что в орнаментике имеет
место нечто сходное с внешними слоями музыки: в ее основу
положена форма ведущего мотива, равнозначного "теме",
а затем этот мотив видоизменяется свободной фантазией,
повторяется, переплетается с другими мотивами,
противопоставляется им и в этих видоизменениях выступает
обновленным в виде связного построения как одно большое
целое.
Эта схема в той или иной мере относится ко всей
орнаментике. Только к ней, конечно, нельзя подходить так
просто; здесь возможны "мотивы" рисунка разного
характера, связанные между собой; они могут быть
переплетены или не зависеть друг от друга и могут таким путем
привести к большему разнообразию. При этом целое и здесь
также берет верх над отдельными "мотивами", охватывая
их единством формы, от чего произведение получает
большую значимость, образует более высокий синтез.
Эта игра формы может иметь много различных
ступеней или оттенков: она может быть очень примитивной,
например в мотивах или в разработке, но может также
возвышаться и до значительной сложности и тогда
предлагает глазу задачу прослеживать линии или
цепляющиеся одно за другое повторения, распутывать игру
переплетений, которая воспринимается интуитивно, так что в ней
не сразу обнаруживается наглядно ощутимое единство
целого, не сразу охватывается связь его частей,
дополнений и т. д.
Удовольствие созерцающего субъекта, вовлеченного в
такого рода "задачи", является, несомненно,
автономным, хотя и менее глубоким, чем при впечатлениях от
других искусств. Во всяком случае, здесь заключено какое-то
побуждение, особого рода толчок или своеобразный
импульс; при этом невольно вспоминается "игра душевных
сил" (на ней настаивает Кант), которая вступает в
действие под воздействием такого соотношения форм и
линий. В самом деле, сложный орнамент может возбудить
немало впечатлений и идей, так как мы видим в нем
контрасты, гармонию, поглощение, взаимопроникновение и
распутывание (например, линий), переходы, перерывы и
продолжение прерванного...
Все это есть такие моменты, с которыми мы уже
познакомились при рассмотрении слоев в музыке; здесь, как и
316 Часть вторая. Оформление и расслоение
в музыке, они также отличаются своей отчетливой
автономностью, имеют свой собственный язык без отсылки к
чему-либо другому. И если такая самостоятельность
возможна в музыке, которая все же зависит от отношения
проявления, то еще в большей мере она должна быть
возможна в орнаменте, где такая зависимость отсутствует.
Конечно, красота форм вышеописанного рода
выступает в музыке гораздо более многообразно и более
возвышенно. Почему это так? Причина этого, в конечном
счете, не заключена ни в большей способности слышимой
"материи" (тоны и звуки) принимать разнообразные
формы, ни в большем многообразии ее возможностей - в
обоих отношениях "видимая материя" по меньшей мере
равноценна "материи слышимой". Причина в том, что тон не
выражает никаких вещественных предметов и,
следовательно, свободен от "мотивов" другого рода, в то время
как придание "видимой" художественной формы при ее
малейшем разветвлении или усложнении неминуемо
впадает в предметные темы (другими словами: высота тона
не имеет ничего аналогичного в видимом, где цвет, краска
уже соответствует тембру или характеру звучания. Не
следует ли из этого, что музыка имеет на одно измерение
больше?).
Таким образом, орнаментика должна остерегаться
того, чтобы не раствориться в предметном. Но это далеко не
всегда легко удается. Вещественное стесняет, тормозит
чистую игру формы, хотя в некоторых случаях оно служит
для нее побудительным импульсом. Но побудительный
импульс должен быть подчиненным, он не должен
выступать наружу. Поэтому во всякой орнаментике, какие бы
темы (о растениях или животных) она ни использовала,
отчетливо заметна тенденция к стилизации. Стилизация
имеет здесь такое же большое значение, как и отказ от
предметности: данная природой форма осознается и
ярко выраженным образом преобразуется во что-то другое.
Это другое есть в данном случае художественный образ,
игрой своих линий соответствующий образцу или
переплетению, от которого он отвлечен.
Это можно ясно видеть у древних в изображениях из
листьев и вьющихся растений, очень похожих на
дельфинов или львов, на змей или рыб. То же самое можно
видеть в мотивах злых духов в страшных образах готики,
которые, разумеется, стоят уже на грани пластики и
орнаментики.
Раздел II. Эстетическая форма
317
Вся эта тенденция, представляющая собой
своеобразное бегство от реализма формы, есть лишь
разновидность того, с чем мы уже познакомились в общем виде,
как с моментом отхода от действительности. Только здесь
речь идет уже не о способе бытия, а лишь о форме как
таковой. Изображенные в ней звери и растения не должны
больше воздействовать как настоящие звери или как
настоящие растения, а как нечто совершенно другое.
Изображение в такой форме должно воздействовать не так, как
это происходит в реальном мире, примерно таким же
образом и в том же смысле, как "тематическое"
музыкальное произведение как таковое никогда нельзя услышать в
действительном мире. Возникающее в игре формы
многообразие должно быть миром в себе; поэтому оно и в
своих составных частях не должно быть подражанием
чему-то реальному. Здесь ясно может быть понята
противоположность орнаментики по отношению к живописи и
скульптуре.
Поэтому в проблеме чистой игры форм целесообразно
ориентироваться именно на примитивные мотивы.
Последние стоят еще далеко по ту сторону всех предметных,
растительных и животных мотивов. Их, очевидно, можно
обозначить как такие мотивы, которые комбинируются
только в пространстве, или как "геометрические".
Последнее выражение не должно быть, конечно, понято в
строго научном смысле, а только в смысле
геометрического восприятия формы.
Издавна известно, что некоторые простые
геометрические фигуры оказывают определенное эстетическое
воздействие и имеют прелесть, которую с полным
правом можно поставить в один ряд с эстетическим
удовольствием, наслаждением и т. д. И часто в древние времена
эта прелесть оценивалась как "красота" чистой
геометрии. То, что некогда в древности круг, а, может быть, еще
более шар считался "совершеннейшей из форм", никоим
образом не основывалось на одних только спекулятивных
соображениях, но скорее покоилось на интуитивно
бросающейся в глаза очевидной простоте и обозримости
фигуры, которая уже сама по себе воспринимается как
"красота".
Мы можем непосредственно почувствовать это и в
наше время. Быть может, в качестве "прекрасного" нас
сильнее привлекает образ эллипса или гиперболы; при
взгляде на них какое-то смутное чувство сразу же говорит нам
о наличии заключенной в них закономерности. В качестве
318 Часть вторая. Оформление и расслоение
следующих примеров можно привести формы спиралей,
как архимедовские, так и логарифмические. Этот ряд
можно продолжить еще дальше до ромбов и прямых
углов, квадратов и треугольников; надо только сказать, что
здесь эстетическое чувство формы больше уже не
является всеобщим. Но оно не является всеобщим также и в
других областях.
Когда мы пришли к пониманию этих примитивных
начал игры форм, мы можем сделать вывод, что от них
ведет единая большая многоступенчатая линия вплоть до
могучих и богатых форм музыки, а также к средним
слоям других искусств.
Этот взгляд не следует усложнять предположением,
будто бы существует какая-то безграничная
противоположность между прекрасным явлением и "прекрасной
формой". Напротив, как раз геометрические примеры
показывают нам, что здесь имеет место постоянный
переход; об этом свидетельствует предчувствие закона фигуры
у наивного, то есть научно не ориентирующегося
наблюдателя. Ибо в этом предчувствии можно четко распознать
остаток отношения проявления. В этой связи следует
вспомнить учение Шопенгауэра о наглядном характере
геометрических понятий.
И наоборот. Эстетическое удовольствие от игры форм
никогда не прекращается полностью, даже если
подняться очень высоко в область изобразительных искусств. В
отношении музыки это уже было показано; почти в такой
же мере это ясно и в средних слоях поэтического
искусства и живописи, то есть повсюду там, где многообразие
деталей в них составляет эстетически самостоятельную
величину. Ибо эта деталь представляет собой самый
высокий вид оформления, притом такого оформления,
которое в значительной степени превосходит потребность
простого показа явлений.
Таким образом, становится понятной сопряженность,
взаимосвязь обеих сторон и непрерывность
ступенчатости во взаимном проникновении "двоякого вида красоты"
представляется в высшей степени совершенной. При
этом не следует забывать, что принципы, основы того и
другого, несмотря на это, остаются совершенно
различными.
в. Поверхностное и глубокое искусство
Эта ступенчатость является вместе с тем и
показателем глубины. Не требуется особых усилий для того, чтобы
Раздел II. Эстетическая форма
319
почувствовать в орнаментике "примитивное искусство";
никому не придет в голову поставить орнаментику рядом
с поэтическим творчеством или произведениями великих
композиторов, великих мастеров. Итак, непрерывная
связь проходит от самых поверхностных до самых
глубоких эстетических воздействий. Проблема, которая при
этом возникает, состоит лишь в следующем: насколько
зависит степень глубины эстетического воздействия от
того, что берет перевес - отношение проявления или игра
формы?
Прежде всего должно быть твердо установлено, что
человеку с серьезным художественным мышлением
всегда близка мысль о том, что полноценно только "большое
искусство", и вообще только его он считает искусством.
Серьезный ценитель считает, что искусство при всех
условиях должно быть глубоким; при этом "глубоким" без
односторонности может считаться лишь такое искусство, в
котором доминируют внутренние слои, преимущественно
последние, всегда заключающие в себе идейное
содержание.
Этот взгляд может сделать честь тем, кто его
придерживается, так как он свидетельствует о серьезном
подходе к искусству, однако такой взгляд не отвечает
существующему в действительности положению вещей. Наряду с
большим искусством существует и банальное; мы
называем его в большинстве случаев "легким искусством". Но
последнее ни в какой мере не означает, что оно не
является подлинным искусством. Вспомним, например, о
развлекательном романе, о танцевальной и опереточной
музыке и о веселых карикатурах. Опасность отхода от
истинного пути в сфере "легкого искусства", несомненно,
значительно больше, чем в сфере серьезного. Однако было
бы неправильно сделать отсюда вывод, будто оно вовсе
не представляет собой подлинного искусства.
Скорее всего дело обстоит так: в легком искусстве,
например в оперетте, в танцевальной музыке и в
развлекательном романе, также имёйэтся хорошие и плохие
произведения. Разумеется, подобные произведения, если
они даже художественно удачны, рассчитаны на
поверхностное восприятие, поверхностное зрительное
впечатление и доставляют неглубокое удовольствие: они служат
для отвлечения и в качестве развлечения. Но они могут
выполнять эту роль в высоко художественной форме или
безвкусно. И только в последнем случае люди,
понимающие искусство, считают их чем-то неудачным или "халту-
320 Часть вторая. Оформление и расслоение
рой". При этом псевдохудожественность надо понимать
как дешевку, как выставление напоказ определенных
эффектов, по большей части чувственных, которые не могут
быть оправданы ни художественной формой, ни хорошим
оформлением зрелища.
Само собой разумеется, что создать безвкусное,
плоское произведение гораздо легче, чем глубокое. Для этого
требуется меньше оригинальности и меньше таланта. И
все же гениальные, талантливые произведения есть и в
легкой музыке: легкие, но обладающие большой
прелестью.
Градации ступеней от поверхностного до глубокого
существуют в каждом виде искусства, за исключением
разве только орнаментики. Но все же в целом ряде случаев в
различных видах искусства уровни не одинаковы: глубина,
достигаемая в поэзии и в музыке, не может, конечно, быть
достигнута ни в одном другом искусстве, по крайней мере
такая глубина, какую мы находим в великих творениях
музыки; живопись и скульптура в свою очередь должны
превосходить по глубине строительное искусство. Так
обстоит дело во всяком случае тогда, когда мы рассматриваем
их в целом. Конечно, внутри каждого вида искусства
градации по уровню гораздо более значительны.
В чем же, собственно, суть этой ступенчатости, этого
различия уровней? Что такое поверхностное искусство и
что представляет собой глубокое искусство? Ответ на это
можно дать, только указав на акт восприятия: воздействие
на душу человека может быть глубоким или
поверхностным. В зависимосити от глубины воздействия на нас
произведения искусства, участие нашего я может быть
различным: человек может быть захвачен, тронут, потрясен
или только задет и возбужден... Насколько
занимательность и развлекательность отличаются от высокого
душевного подъема, настолько же различна глубина слоев
душевной жизни, которые оказываются затронутыми.
Но сказанное отражает лишь то, что содержится в
самом объекте при его многослойной художественной
обработке, ибо различие определяется здесь именно тем,
на каком слое или на каких слоях основывается
наслаждение произведением искусства.
И опять-таки не всегда бывает так, что в случае
преобладания более глубоких слоев в предмете ему
обязательно соответствует такая же по глубине душевная реакция.
Думать так - значило бы подходить к вопросу слишком
упрощенно: тогда какой-нибудь абстрактно написанный ро-
Раздел II. Эстетическая форма
321
ман мог бы оказывать самое глубокое художественное
воздействие, потому что он заставляет мыслить
психологически. В действительности это не так, ибо ему не
хватает наглядности и близости к жизни; эти последние лежат
в средних по глубине слоях, а частично и во внешних
слоях или даже в переднем плане. Точно так же обстоит дело
и в живописи: глубоко осмысленные мифические образы,
которым недостает чувственно воспринимаемой
живости, подвижности, яркости красок и ощутимости света, не
могут оказывать эстетически сильного воздействия.
"Глубокий смысл" их символики остается невоспринятым
зрителем.
Каково же, следовательно, это отношение в
действительности? Красота в искусстве многообразно
опосредована: взор проникает через целый ряд слоев, каждый из
которых позволяет "явиться" следующему, и в каждом
слое есть особое оформление его содержания, которое
доводит явление до его художественной завершенности
и, кроме того, как бы играя, охватывает еще и
многосторонность, составляющую богатство художественного
произведения. Правда, все это представляет собой лишь
краткое обозрение уже сказанного выше. Но оно
содержит в себе основу для ответа на поставленный вопрос,
ибо самая большая красота является и самой глубокой.
Однако красота является более глубокой тогда, когда
взор проникает сквозь большее число последовательно
расположенных слоев. Здесь речь идет не столько о
необходимости наличия именно последних и самых глубоких
слоев и не о том, чтобы яснее, отчетливее всего были
оформлены два внутренних, самых глубоких слоя поэзии и
музыки, - важнее сама последовательность слоев, их
разнообразие и многогранность, как и многообразие деталей
в них. Но последние являются предметом исключительно
художественного оформления или игры формы.
Следовательно, глубина ни в коем случае не зависит от
противоположности отношения проявления и игры форм.
Ибо несомненно, что последняя сама по себе всегда
воздействует поверхностно; следует также сказать и о том,
что самая глубокая красота зависит от отношения
проявления. Однако и игра формы может быть исключительно
глубоко осмысленной, когда она сама состоит из слоев и
проявляет самостоятельность в каждом слое. Сила
проявления в каждом слое, со своей стороны, связана с
присущим ей оформлением. Поэтому главным моментом при
большом и глубоком воздействии прекрасного является
322 Часть вторая. Оформление и расслоение
не столько "абсолютная глубина", сколько глубина
взаимосвязанных наслоений бытия.
Эта глубина, следовательно, зависит от отношения
проявления. Но для ее воздействия не безразлично,
сколько в каждом отдельном слое содержится
художественно оформленного многообразия. Другими словами, ее
эстетическая значимость зависит и от богатства игры
форм. Доказательством этого являлись как раз средние
слои в музыке и поэзии, обогащающие целое своим
богатством деталей. Нечто подобное имеет место и в
живописи, только ней это в большей мере относится к внешним
слоям.
С другой стороны, здесь должно быть твердо
установлено, что эстетическая значимость художественно
оформленного многообразия в определенном отдельно
взятом слое, например в одном только среднем слое,
никоим образом не является функцией его собственной,
самостоятельно взятой красоты самой по себе. Само по
себе это было бы вполне допустимо, если бы, вообще
говоря, наряду с красотой отношения проявления и
независимо от нее существовала красота чистой игры формы; в
таком случае было бы нетрудно предположить, что в
последовательности слоев, через которые проникает взор,
каждый слой должен представлять собой самостоятельную
форму красоты, и тогда мы могли бы считать, что
отсутствие красоты формы в одном или нескольких слоях
должно иметь своим последствием уменьшение
эстетической ценности произведения или полное лишение его
такой ценности.
Но это заблуждение. Существенным для эстетической
ценности целого является исключительно лишь
богатство и многообразие деталей в отдельном слое, а также
единство этого целого, но не заключенная в нем
самостоятельная красота формы. Это положение относится,
конечно, только к изобразительным искусствам, что нам
уже хорошо знакомо. Эти искусства могут прекрасно
представлять и безобразное, и они должны это делать
при известной тематике, входящей в их область;
последнее относится в первую очередь к портретной живописи и
к поэтическому творчеству, когда они изображают
характеры и обстановку.
Средние слои здесь могут быть наполнены уродливым,
так что у чопорного читателя пропадает эстетическое
наслаждение, но уродливое как материал не мешает красоте
Раздел II. Эстетическая форма
323
формы в других слоях, и прежде всего не нарушает
красоты показа явления.
г. Форма и содержание в построении слоев
Выше уже было сказано, что "форма и содержание" не
могут быть отделены друг от друга и даже едва ли могут
быть противопоставлены. Более того, сама форма почти
повсюду должна быть понята и воспринята как
содержание произведения искусства. Остается рассмотреть
двойную противоположность: "формы и материи", с
одной стороны, и "формы и материала" - с другой.
Относительно обеих уже было показано, что оформление какого-
нибудь материала всегда является оформлением его во
что-то материальное, так что здесь речь идет не о двух
видах оформления, а об одном.
Итак, поскольку под содержанием понимается
"материал", то не остается никаких возражений против
сближения понятий "форма" и "содержание". Но в таком
случае термин "содержание" распространится и на весь
последний глубинный слой, который никогда не входит в
"материал".
Что касается частых утверждений об идентичности
формы и содержания, то действительный, имеющий
право на существование смысл такого утверждения
совершенно прост и безобиден, но его всегда неправильно
выражают: содержанием (материалом) художественного
произведения всегда является именно оформление,
придаваемое художником. Все то, что находится вне или за
пределами художественного оформления, вовсе еще не
представляет собой содержания произведения
искусства; это только еще некий вид сырого материала,
способный вызвать вдохновение художника.
Человек, не являющийся художником, может очень
легко составить себе ложное представление о
результатах профессионального творчества художника. Поскольку
он не может серьезно проникнуть в это творчество, одно
для него должно быть само собой разумеющимся: именно
то, что создатель художественного произведения,
воспроизводящий в нем взятый из жизни материал, придает
этому материалу художественную форму не только в
последующем, как дополнительную, но уже при выборе
материала, как бы примеряя к нему форму. Для зрителя же
художественное произведение целиком и полностью
заключается вообще только "в" той форме, какая придана ему
художником.
324 Часть вторая. Оформление и расслоение
Это звучит еще более убедительно тогда, когда мы
применим к данному вопросу установленные выше
выводы: придание какому-нибудь материалу художественной
формы становится возможным только путем выделения
его из реальной связи с помощью отбора и отбрасывания
ненужного, посредством конденсирования того, что в
жизни разбросано и перемешано. Все это представляет
собой уже оформление материала искусства.
Следовательно, при таком подходе материал не становится
"тождественным" форме, но, несомненно, неотделим от нее.
Последнее утверждение соответствует тому факту, что
мы не воспринимаем поэтическое произведение или
произведение живописи как двоякое, как форму и
содержание, а воспринимаем как вполне законченное целое, как
единое художественно оформленное содержание, в
котором обе стороны как таковые совершенно неотличимы. Их
отличает только интерпретатор; говоря резче, даже не
интерпретатор, а лишь теоретик.
Только последний сознательно представляет себе
то, что мы называем художественным оформлением.
Это слово означает, что материал, когда художник
переносил его в произведение, уже имел какую-то форму.
Эта форма была отброшена, материалу придана другая
форма, и только благодаря этому данный материал стал
содержанием произведения. Но это понимает только
тот, кто компетентен в искусстве и способен
размышлять о нем; зритель этого не знает, а творцу и не надо
этого "знать". В нем "действует" просто внутреннее
зрение художественного преобразования.
Совсем иначе обстоит дело в неизобразительных
искусствах. Было бы неправильно считать, что содержание
музыки начинается только во внутренних слоях, в сфере
душевных переживаний; оно еще в большей мере
начинается уже в композиции, но здесь оно полностью
совпадает с художественным оформлением.
То же самое с соответствующими оговорками может
быть сказано и об архитектуре. Целенаправленная
композиция и пространственная композиция, так же как и
динамическая, являются существенными моментами
оформления; но именно поэтому они составляют и
существенные моменты содержания строительного искусства. Тот
факт, что, помимо этого, они имеют еще и другое
"содержание" - идейное, - в данном случае ничего не изменяет.
Но и это другое содержание предстает в произведении
архитектуры художественно оформленным, причем име-
Раздел II. Эстетическая форма
325
ется в виду не только "оформление камня", но и
оформление в плане внутреннем, духовном.
Здесь мы должны еще раз возвратиться к вопросу об
уродливом в качестве материала прекрасного,
следовательно, также и в качестве "содержания" прекрасного. До
сих Пор только на некоторых примерах было показано, что
при последовательном включении слоев вместе с их
транспарентностью каждый отдельный слой, сам по себе
взятый, вовсе не обязательно должен быть красивым.
По крайней мере в изобразительных искусствах
некоторые средние слои, где развертывается богатство
содержания, переносят определенной ценности дозы
уродливого. Именно так обстоит дело в портрете, романе и
драме.
Первое объяснение этого явления состояло в том, что
здесь речь шла о богатстве деталей, а не о красоте
формы, ибо глубина прекрасного возрастает вместе с числом
и богатством слоев, сквозь которые проникает взор. Но
это объяснение не исчерпывает вопроса до конца. Оно не
объясняет, например, того, почему в вышеназванных
искусствах участие уродливого в некоторых средних слоях
может воздействовать именно как поднимающее, то есть
как углубляющее и усиливающее красоту произведения в
целом.
Для этих явлений существуют убедительные
основания:
1) все внутреннее подчиняется контрастирующим
феноменам, поэтому уродливое, поставленное рядом с
прекрасным, подчеркивает его красоту, отчего последняя
выступает еще ярче;
2) изобразительные искусства должны стремиться к
конкретной близости к жизни, в противном случае они
будут производить впечатление неправдоподобного; но
близость к жизни может быть понята только как
предоставление в материале места уродливому;
3) известный реализм воздействует именно как
богатство и полнота, безотносительно к тому, красиво или
некрасиво то, что изображается искусством; надо только
включать некрасивое в определенных границах или дозах.
Эти пункты говорят сами за себя. При этом важно, что
они имеют одинаковую значимость при
последовательном расположении слоев как в прямом, так и в обратном
направлении. В живописи, например, речь идет о весьма
чувственной красоте переднего плана - возьмем хотя бы
такой пример, как портрет подчеркнуто некрасивого чело-
326 Часть вторая. Оформление и расслоение
века. Отсутствие красоты дальнего глубокого плана
картины не нарушает убедительной красоты ее переднего
плана, а именно красоты изображения пространства,
света, красок и движения (Франс, Гальс, Гойя).
В поэтическом искусстве чаще всего бывает наоборот:
в сферах движения и мимики, действия и ситуации может
содержаться много безобразного, так же как и в сфере
оформления, характерной для этого жанра. Однако это не
мешает тому, что в дальнейшем, например в судьбе
человека, в сфере дальнего плана может появиться
прекрасное. Оно может возникнуть еще глубже, в последних
слоях. Вспомним об образах Рааба и современного
реалистического романа, а также о героях Шекспира и Ибсена.
Они производят отталкивающее впечатление многими из
своих частных черт, но именно поэтому общая картина
становится многокрасочной и богатой, к тому же линия
рисунка человеческих судеб углубляется.
В поэзии, естественно, является обычным, что в
средних слоях на поверхность всплывает не столько
эстетически отталкивающее, сколько морально отталкивающее,
правда, в большинстве случаев перемешанное с
настоящими чертами уродливого. И здесь должно стать ясным,
что в жизни "морально некрасивое" (именно так мы
обыкновенно это и называем), как правило, воздействует
точно так же, как и эстетически некрасивое. Сюда относятся
также всякая распущенность, слабость, неряшливость,
невнимательность и грубый эгоизм.
Исходя из этого, можно было бы признать известные
права за теорией Аристотеля о (pa(3oc; (страхе, боязни) и
£teo£ (сострадании). Оба выражают тот факт, что чувства
зрителя откликаются на страдания изображаемого лица
и публика страдает вместе с ним; но только этого
недостаточно, надо добавить сюда еще некоторые другие,
вызываемые искусством переживания: надежду, ожидание,
общую с героями радость, любовь, ненависть, злобу,
отклонение или протест...
Отрицательное, как и положительное, "вовлекает в
переживания", вызывает ответные чувства, причем то и
другое представляет собой лишь средство для того, чтобы
позволить произведению образно и конкретно показать
нечто более великое. Конечно, это более великое не
нуждается в каком-либо кабароц (очищении) и вообще не
нуждается в переживаниях зрителя. Напротив, оно должно
быть заключено объективно в картине жизни, которая
изображается в произведении искусства.
Раздел II. Эстетическая форма
327
ГЛАВА 19
ТЕОРИЯ ПРИДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ
а. Формы художественного восприятия
В эстетике прошлого столетия большую роль играла
мысль о чувстве формы, что особенно сильно
проявлялось там, где не обращали внимания на отношение
проявления и пытались целиком и полностью свести красоту к
чистой игре формы. На стороне акта (действия) этому
пришло навстречу распространенное понимание, что
искусство есть дело чувства, причем сторона
художественного показа оказалась обойденной.
Выше было уже показано, где в совершенно простых
случаях можно заметить подмену чувства формы
формально красивым: в "геометрически красивом"; в
качестве примеров были взяты круг, эллипс, гипербола, шар, а
также все фигуры ромбов и прямоугольников. Можно
продолжить этот перечень, добавив сюда правильные или
симметричные многоугольники со вписанными в них
фигурами звезд.
К этому мало что можно добавить. В чем сущность
красоты таких фигур? При ответе на этот вопрос не следует
искать основание в метафизических или психологических
тонкостях, ибо они заключены в очень простых и
примитивных отношениях, в первую очередь, например, в
интуитивно подмечаемом глазом единстве фигур, в явно
обнаруживающемся в этих фигурах единстве многообразия. К
тому же за этим кроется еще неясное чувство какого-то
внутреннего ритма, симметрии или закономерности, о
которых, однако, зритель ничего не знает.
Итак, в мысли о чувстве формы нет ничего спорного,
ничего вызывающего сомнения. Но такие сомнения все
же возникают, как только сюда присоединяют известные
психологические объяснения. И таких объяснений было
уже достаточно. Все они совершали ту ошибку, что
усматривали заключенный в чувстве формы феномен красоты и
радости во внеэстетических отношениях.
Это было, например, аргументировано следующим
образом (Е. фон Гартман): ломаную линию, слегка
зигзагообразную, труднее проследить в долевом направлении,
чем изогнутую или волнистую, потому что она неприятно
влияет на следящий за нею глаз. Поэтому такая линия
воспринимается как некрасивая, волнистая же - как кра-
328 Часть вторая. Оформление и расслоение
сивая. Основание этому должно быть найдено в
мускулатуре глаза, которая при угловатых извилистых линиях
вынуждена постоянно перестраиваться. То же самое должно
относиться и к совершенно прямой линии в
противоположность к слегка изогнутой (последнее явилось
основанием для отказа от прямой линии в греческом
строительном искусстве).
При этом каузальном способе объяснения чувства
формы мы имеем превосходный метабазис, и именно не с
одной, а со многих точек зрения: во-первых, эстетическая
ценность выигрывает за счет ценности приятного и,
следовательно, возвращает нас к более низкой ступени
ценности; во-вторых, самое объяснение не является даже
чисто психологическим, а в большей мере
физиологическим, и, следовательно, не может, собственно, затрагивать
тот эстетический момент, вызывать тот подлинно
эстетический восторг, который мы имеем в виду. А это значит,
что и самое чувство формы не является чисто
эстетическим. В третьих, эта аргументация является ложной также и
по содержанию: коленчатая извилистая линия
воспринимается вовсе не в процессе "прослеживания", а как часть
общей картины, в качестве части целого, по которой
бегло скользит взгляд; то же самое относится к линии
волнообразной. Следовательно, здесь нет оснований для
снижения эстетической ценности. Если же это снижение все-
таки имеет место, оно должно иметь другие основания.
Эти другие основания лежат, как было сказано, в
неясном предчувствии какой-то закономерности. И этого
предчувствия вполне достаточно, чтобы объяснить
чувство формы наиболее простым и примитивным
образом. Не надо только рассматривать "вчувствование" как
интеллектуальное, не надо принимать его за скрытое
знание.
Подтверждение правильности такого уточнения мы
находим в тех же теоретических примерах
динамического порядка, которые отвлекаются от всякого
психологизирования и от физиологического подхода и, со своей
стороны, дают аргументацию вышеназванного вида.
Например, кривая, описываемая брошенным камнем,
воспринимается как красивая, потому что в ней мы зримо
воспринимаем каждый момент уравновешивания силы
броска и силы тяжести. Подобным же образом мы можем
подойти и к другим областям: такова обтекаемая линия
форм тела рыбы и птицы, и задолго до того, как человек
мог знать что-либо об обтекаемых линиях, существовало
Раздел II. Эстетическая форма
329
интуитивное чувство, отвечающее внутреннему закону
этой формы...
Подобные примеры ясно показывают, что
представляет собой в действительности эстетическое чувство
формы: за ним не стоит ничего от "приятного" или "легко
выполнимого", а стоит объективный контакт чувства с каким-
то внутренним законоподобным основным отношением. И
мы не сделаем ошибки, утверждая, что этот вид
чувственного восприятия очень близко подводит нас к пониманию
данного отношения проявления. Здесь вполне можно
сказать и так: закон "проявляется" в конкретном наглядном
вещественном факте; следовательно, этот закон вполне
ясен. И, быть, может, правильно было бы считать, что все
красивое в игре формы в конечном счете ведет к явлению.
В общем виде это можно формулировать следующим
образом: только та форма воспринимается как
прекрасная, которая дает возможность увидеть принцип
придания формы. В таком виде это положение могло бы иметь
большую всеобщность.
Однако существует одно явление, которое
противоречит нашему выводу: есть такая форма, которая не
раскрывает своего формирующего принципа и все же
воспринимается как прекрасная, как такая, в которой с полной
ясностью и очевидностью выступает отсутствие
правильности и порядка. В качестве примера возьмем старинные
картины древних городов. В них многоцветное
нагромождение в наружном виде все же вызывает глубокое
восхищение... Или картина деревушки с красными крышами
домов, утопающих в зелени, с ее беспорядочными
очертаниями... Или перерезанные линии лесного или горного
ландшафта... совершенно беспорядочные. Вспомним
еще другие, уже приводимые нами примеры: звездное
небо; здесь мы также с большими трудностями можем
усмотреть принцип в порядке звездных групп... То же самое
мы имеем и в мифических образах.
Решение вопроса состоит в следующем: "случайное"
также не совсем лишено принципа, даже если бы этим
принципом был только закон "рассеяния". Этот закон,
восходя к закону "больших чисел", возможно, применим
только к большому количеству случаев, при
незначительных же количествах он в высшей степени бледен и
обозначен нечетко. Именно так обстоит дело в приведенных
примерах: вид деревушки производит впечатление
действительно беспорядочное, здесь можно различить лишь
некоторое подобие принципа в одинаковом оформлении
330 Часть вторая. Оформление и расслоение
дворов; и это может броситься в глаза только в том
случае, если смотреть на картину издалека. Картина города
является уже более связной: в ней само собой легко
улавливается много однородного по характеру и стилю... В
линиях гор и высот, напротив, выступают определенные
контрасты вещественного порядка, которые
непосредственно свидетельствуют о видимом беспорядке, о
кажущемся отсутствии закономерности (линии леса, где
деревья имеют плоские вершины, далекие линии гор с
крутыми подъемами, извилинами и зубцами...). Это может
быть взаимно снято, а потому в этом еще нельзя
усмотреть случаев, к которым действительно применима
"закономерность большего числа случайных явлений", как,
например, для сферических скоплений звезд, форма
которых эстетически имеет очень высокую ценность.
б. Вчувствование (Einfuhlung)
и деятельнее бытие (Tatigsein)
Из всего этого видно, что мысль о чувстве формы
верна и оправдана, если понимать ее в правильном
соответствии с феноменом. Но такое понимание вызвало
возражения. Быть может, эту мысль можно подкрепить со
стороны объекта посредством понятия качества формы в
духе современной теории образа; однако этого понятия
тогда еще не существовало.
Так попадают на опасные окольные пути. Одним из
примечательнейших путей такого рода является теория
вчувствования (Ф. Липпс и др.). Понятие вчувствования,
взятое в его точном смысле, эстетически в высшей
степени плодотворно; оно только с самого начала было отнято у
эстетики одной известной и чересчур сложной теорией.
Задумаемся над тем, что другое может сделать
живописец-портретист, как не "вчувствоваться" в черты лица
натуры? Или поэт, который выхватывает из жизни фигуру
или образ для своей драмы? Любое понятие,
относящееся к анализу или психологии, здесь недостаточно, оно не
достигает цели и приходит слишком поздно. Интуитивный
взор же, который схватывает существенное на лету и
удерживает образ вместе с его внешними признаками,
достигает цели. Но как находит человек такую
интуитивность проникающего взгляда, которая представляет
собой проникновение в предмет и вместе с тем полное
любви извлечение из него человечески-существенного
(Menschlich-Wesenhaften) и полноценного?
Раздел II. Эстетическая форма
331
Мы знаем, что в жизни смотреть таким образом на
человека удается прежде всего любящему. Любящий взор
внутренне связан с предметом любви. Именно эта
сторона, то есть вложенное во взгляд чувство, является
моментом, вносящим новое в акт обозрения. И нет никакой
тайны в том, что живописец и поэт делают в основном то же
самое. Здесь определенного рода любовь к предмету
является предпосылкой проникновения, преданности,
самоотвержения - только без личного акцента единения с
человеком, которого требует настоящая любовь. Именно
такого рода интуитивно сильное чувство преданности,
которое включает общность переживаний, радостей и
страданий, только без реального единения с личностью
человека, и предполагает имеющий право на существование
смысл вчувствования.
И действительно, только этот смысл эстетически
оправдан. Он соответствует первоначальному смыслу этого
слова: под вчувствованием в личность человека или во все
его жизненные отношения мы понимаем некое
соразмерное чувству понимание или проникновение.
Этим эстетика должна была бы считать себя
удовлетворенной. Ибо этого вполне достаточно также и для акта
восприятия зрителя: о нем тоже можно сказать, что он
"вчувствуется" в изображаемые персонажи и в данный
отрезок времени. Правильный смысл такого вчувствования
не следует отнимать у зрителя. Можно лишь сожалеть о
том, что это хорошее и естественно образовавшееся
понятие вчувствования было искажено теорией. Дело в том,
что существуют искусства, в которых нельзя обойтись без
этого понятия: музыка, архитектура, орнаментика. В этом
нетрудно убедиться. В музыке речь идет об ответных,
созвучных ей внутренних потрясениях или душевных
переживаниях, сообразных с динамикой музыкального
произведения. Только таким образом может передаваться
слушателю духовное содержание музыки, так как это
содержание есть не что иное, как чистая динамика чувства.
Музыка является единственным искусством, которое
так глубоко проникает в душу человека, так
непосредственно внутренне захватывает его и вызывает ответные
душевные переживания. Здесь понятие "вчувствование"
необходимо: музыкальный слушатель на самом деле
"живет" именно тем, что он "чувствует" музыку. В архитектуре
можно говорить по крайней мере о ритме формы,
воспринимаемой чувством ("формы", понимаемой в широком
смысле, как "композиция"); в орнаментике же это только
332 Часть вторая. Оформление и расслоение
еще едва заметное следование за игрой линий, несвязное
ответное колебание чувств, ответное переживание. Но и
здесь это также относится к форме.
Добавление "относится к форме" существенно, потому
что только к ней одной относится понятие вчувствования в
объекты формы. Только одной формой предмет может
быть отделен от его психологических искажений или
обесформленных видоизменений и, говоря фигурально,
начисто от них отмыт!
Самым лучшим материалом для доказательства того,
что речь идет о чувстве формы, является опять-таки
музыка. Даже совсем примитивное музыкальное восприятие
принимает участие, по крайней мере внутренне, в ритме
такта: в танце, во время маршировки и даже при работе.
Более глубокий внутренний отклик вызывает в нас пение
или его внешнее выражение ... мотивы, темы, мелодии,
целые музыкальные фразы, повышения тона. Здесь вчув-
ствование заходит очень далеко. И человек замечает его
силу тогда, когда оно вдруг совсем отказывает, когда
человек внутренне отклоняет, не может воспринять какую-
нибудь "тему", то есть не может быть ею захвачен,
возбужден; тогда в нас поднимается какой-то протест против
вчувствования, например при невыразительном,
лишенном чувства исполнении. В этом случае у слушателя
полностью исчезает способность сопутствовать внутренним
слоям и духовному содержанию музыкальной формы и
способность в нее вчувствоваться. Вместе с тем
последнее как раз само является и вчувствованием в динамику
чувства.
Труднее сказать, в чем состоит вчувствование в
форму в области строительного искусства. Здесь оно не
имеет вида сопутствия, архитектура не проникает в нас, не
вторгается в наше "я". Однако нас все-таки захватывают
ее формы и вовлекают в жизнь, которая не является
"нашей" жизнью: мы чувствуем ее динамику, массивность,
давящую тяжесть, которая, легко поднимаясь ввысь, в то
же время ограничена точной и изящной
пропорциональностью. В архитектуре мы ощущаем преодоление
впечатления тяжести и победоносное над ней превосходство.
Это наблюдается и в поэзии, хотя здесь установка
читателя на предметное содержание затемняет
вчувствование в форму. Действительно, чувствовать вместе с
героем - это и значит как раз вчувствоваться в форму, притом
только в такую форму, которая составляет существенное
Раздел II. Эстетическая форма
333
содержание персонажа (формирование характера и
судьбы...).
В общем вчувствование всецело входит в чувство
формы. Однако психология вчувствования на этом не
остановилась. Она желала большего, она хотела объяснять и для
этого выдумала себе схему: воспринимающий субъект
должен быть деятельным в объекте (при виде скал
появляются "бодрость" и "приподнятость"). При этом трудно
понять, каким образом радость собственного
деятельного бытия (Tatigsein) может одновременно быть и мерой
ценности дела, "в котором" субъект является деятельным.
В действительности же и примеры истолковываются
очень произвольно. В лучшем случае им дается
психологически-причинное объяснение.
Причем единственный действительно серьезный
вопрос состоит в том, заключено ли в эстетическом объекте
деятельное бытие воспринимающего субъекта. Этот
вопрос должен быть решен утвердительно, но только в
совершенно другом смысле, чем это полагает психология
вчувствования. Это действие состоит, собственно, не в
проникновении или проецировании нашего чувства в
предмет, а в репродуцирующем созерцании или видении
высшего порядка, в таком видении, которому слой за слоем
открывается глубокий план произведения искусства. В
этой деятельной функции нет ничего нового. Она
идентична роли воспринимающего субъекта в четырехчленном
отношении, что присуще всякой объективации. А потому
эта функция не является чем-то специфически присущим
эстетике. Она содержится во всяком интеллектуальном
восприятии. Отличие состоит лишь в том, что в
восприятии произведения искусства деятельная функция
воспринимающего субъекта прочно связана с интуитивным
пониманием и внутренним "чувствительным" переживанием
художественной формы.
е. Оформление и самоизображение
В заключение необходимо продумать вопрос о
принципе формы еще и с другой стороны, именно с той,
которая, собственно говоря, сама собой разумеется, но
которая до сих пор мало учитывалась: она касается
оформления как объективации, или, говоря точнее, как стороны
объективации в эстетическом предмете. Но это означает,
что только приданием формы вообще может быть
достигнуто живое представление о предмете. Это хорошо изве-
334 Часть вторая. Оформление и расслоение
стно. Здесь же речь идет о связи данного факта с
чувством формы и вчувствованием.
Это объективирование, то есть придание
предметности, не играет никакой существенной роли там, где и без
того представлены предметные темы. Придание формы, а
вместе с ней и объективация представляют собой в этом
случае только преобразование, переделку, как мы это
видели ранее. Так обстоит дело прежде всего в
изобразительных искусствах, хотя и в них суть придания
художественной формы состоит отнюдь не в этом; последнее
происходит еще и совсем другими - духовными, идейными -
путями.
Но гораздо большее значение опредмечивание (die
Vergegenstandlichung) имеет в неизобразительных
искусствах, в музыке и архитектуре: здесь речь идет именно о
том, что то немногое, что содержится в нас
беспредметного, может быть нами понято, несомненно, только путем
придания формы и путем объективации. В музыке таким
объективированием средствами художественной
обработки является музыкальное произведение - и именно в
этом случае мы встречаемся со свободно найденной
художественной формой, нигде в мире не имеющей себе
образца. Но то, что становится понятным в этой
художественной обработке - потоки и волны жизни человеческой
души, самые нежные и легчайшие ее порывы, ее
колебания и страдания, ее силы и ее борьба, переживаемые ею
бури и изнеможение... - не могло бы быть понято никаким
другим образом.
Если смотреть здраво и попытаться уяснить себе, в
чем, собственно, состоит -сущность придания формы как
объективации, то необходимо сказать следующее: очень
важно понять, каким образом человек становится
видимым себе -самому, или, точнее, видимым себе со
стороны, при этом не только понять, что он переживает, но и
увидеть себя самого. Но человек может стать видимым
для самого себя только в качестве предмета, ибо только
как предмет он находится вне самого себя. Это вне-себя-
бытие (das Auftersichsein) и приводит к предметности
художественной формы.
В строительном искусстве это объективирование
самого себя становится загадочным, затемненным, но не
менее действенным. Непостижимое содержание
человеческой сущности воплощает и переживает себя в формах,
которые, как это может казаться, не имеют с ним ничего
общего, но именно как переживающие своего создателя
Раздел II. Эстетическая форма
335
эти формы несут в себе черты его сущности и выдвигают
эту сущность.
"Видимое" надо понимать здесь буквально. К этому
можно добавить еще то, что непостижимое выдвигается
искусством в сферу самой грубой материи, выставляется
напоказ самому навязчивому и продолжительному
осмотру. В процессе постройки своего дома человек всегда
отражает и самого себя: здесь находит выражение его
собственная жизненная воля, самопонимание (как и в
одежде) и даже самопознание.
Нечто подобное, но гораздо более бледно выраженное
имеет место и в орнаментике. С одной стороны,
самообъективация здесь может выступать даже в более чистом
виде: она предстает здесь как простая игра формы как
таковой и значительно сильнее отрешена от практической
цели. Даже общеизвестная черта игривости, которая в
известном смысле находит здесь свое место, является
предательской и покидает человека на произвол судьбы там,
где он этого не ожидает. Вся игра видна здесь насквозь
как на ладони.
Следовательно, в проблеме формы различие между
изобразительным и неизобразительным искусствами не
так велико, как можно было бы думать. Тайна предмета
состоит в том, что человек во всяком искусстве
изображает и самого себя, даже если он занимается оформлением
чего-то совсем другого.
Только слова "самого себя" нигде не надо понимать как
личность, как определенную персону. Речь идет, как
правило, о более общем, обыкновенно - о типе человека или
даже о человеческом вообще (auf das Menschliche tiber-
haupt). Это вполне относится и к кажущемуся
индивидуальным представлению художника о собственной
личности, например живописца в его автопортрете или поэта в
романе-исповеди, где он изобразил свою собственную
жизнь; у выдающегося художника всякий материал
разрастается вширь, в нем находит выражение не только
личное, но также и то, что стоит выше личного, и именно
поэтому его произведение находит широкий отклик.
В этом отношении музыка имеет преимущества перед
поэзией. То, что музыка передает из душевной жизни, в
своих внутренних слоях всегда застывает, окостеневает в
некоторой всеобщности. Это было названо
"неопределенностью" музыки и признано ее недостатком (Гегель,
Фишер). Однако именно это является и преимуществом
музыки, потому что именно в этой черте или особенности
336 Часть вторая. Оформление и расслоение
музыки коренится свобода понимания музыкального
произведения, состоящая в том, что одна и та же музыка
может быть воспринята совершенно по-разному многими
слушателями. Ее художественная форма не является
оформлением какого-то индивидуального предмета -
одной определенной человеческой личности, - а
представляет собой прежде всего художественное воплощение
типично человеческого. И в этом кроется причина того,
почему в вокальной музыке всегда сохраняется расстояние
между словом и звуком.
При этом удивительно то, что, несмотря на эту
особенность музыки, она не страдает недостатком
конкретности. Ясность и убедительность формы в сфере
слышимого является чем-то принципиально отличным от
формы в сфере видимого: здесь, в видимом, форма прочно
связана с индивидуальным объектом (материал, сюжет)
и не может быть от него отделена; там, в слышимом, она,
напротив, зависима от музыкального мотива и
построения композиции. "Мотив" же несет в себе только
духовное содержание; он никогда не бывает внутренне
тождественным содержанию, оставаясь в этой плоскости ему
трансцендентным.
д. Замещение (Ablosung) творца
посредством формы
Форма как самообъективирование создателя
произведения - безотносительно к тому, вольное оно или
невольное, - не должна недооцениваться, так как с ней
связан момент самосознания, самопонимания,
следовательно, то, что Гегель называл "бытием духа для себя". К этому
можно добавить, что Гегель был в известной мере прав,
когда, исходя из предпосылки, будто знание о себе
делает дух "абсолютным", приписал искусства "абсолютному
духу".
Тем не менее это уже не относится к собственно
эстетическому характеру искусства: это скорее
общекультурная функция, которую выполняет искусство, или, можно
сказать, даже метафизическая функция искусства. Ибо,
действительно, существуют же вещи, которые человек
может научиться понимать только с помощью искусства. Это
касается прежде всего его самого. К эстетике это
относится лишь косвенно, и было бы ошибкой вслед за Гегелем
выдавать метафизическую функцию искусства за
эстетическое зерно проблемы, видеть в ней остаток интеллектуали-
стской эстетики.
Раздел II. Эстетическая форма
337
Напротив, то, что является эстетически важным и
центральным, идет в направлении, противоположном
этому явлению: именно к тому, что в произведении искусства
художник исчезает, что он говорит и свидетельствует в
нем не о себе, а о чем-то другом. Позицию наблюдателя
можно выразить в этом случае таким образом: он
рассматривает произведение искусства совершенно
отдельно, в полном отрыве от его создателя. Произведение
снимает субъективность творца, оставляет ее в тени вместе с
его индивидуальностью как субъекта, с его страданием и
борьбой, а также с его трудом и усилиями, вложенными в
творение.
Знаток истории, конечно, может увидеть художника в
его произведении; но это скорее уже не эстетическое
восприятие, а историко-теоретическое сравнение и
анализ. Это уже наука об искусстве. Последняя уже не
является художественным наслаждением, тем более она не
представляет собой эстетического созерцания. Это
служит также основанием того, почему исследовательская
работа, направленная на изучение личности художника,
ничего не добавляет к раскрытию произведения. Она
может способствовать пониманию истории произведения
или быть полезной для понимания сюжета, но оба эти
вида понимания не являются эстетическим
проникновенным созерцанием или эстетическим наслаждением.
Особенно это относится к истории "зарождения"
произведения. Вообще нет ничего более безразличного для
художественного восприятия, для адекватного понимания, чем
история возникновения или зарождения произведения,
поскольку эту историю нельзя вычитать из самого
произведения. Последнее особенно относится, например, к
произведению строительного искусства, части которого
возникали в разные столетия и которое бесконечно
совершенствуется. То, к чему историк искусства придет
лишь со временем, по прошествии многих лет, объяснив
историю постройки судьбой какого-нибудь города, -
интересно и поучительно, однако это имеет все же другое,
образовательное значение. Но почему одна какая-нибудь
пристройка воздействует как красивое, хотя она и
поставлена здесь безотносительно к вопросам формы, другая
же, напротив, производит впечатление чего-то
мешающего - это невозможно объяснить таким путем.
Если отделимость произведения искусства от его
творца связана с моментом самоосознания и с моментом
самообъективации (des Sichselbst Gegenstandlichwerden)
338 Часть вторая. Оформление и расслоение
жизнедеятельного духа, то эхо приводит к своего рода
антиномии: с одной стороны, произведение говорит о его
создателе, с другой же - оно очень подчеркнуто
умалчивает о нем; оно раскрывает и в то же время прячет,
загораживает своего творца, оно выдает или предает его и в то
же время сохраняет для себя. И то и другое, безусловно,
существенно, хотя эстетически они существенны не в
одинаковой мере.
Как разрешается эта антиномия? Является ли она
настоящей антиномией? Последнее можно отрицать:
антагонизм здесь не внутренний, а только кажущийся. На деле
создатель произведения говорит не о самом себе,
изображает не себя самого даже в том случае, когда он пишет
автопортрет, в этом случае речь идет даже о другом: он
говорит и свидетельствует от имени духа искусства в
целом, на почве которого он стоит и от имени которого
творит. Ибо никто, в том числе и самый оригинальный
художник, не творит, черпая силы только из глубин своего
собственного "я", ведь не существует же он изолированно
от всего остального мира. Каждый творец создает свои
произведения, исходя из исторически сложившегося
объективного духа, с которым он сросся и который является в
нем творческим началом. Он действует так и тогда, когда
сам он как художник перерос этот исторически
сложившийся объективный дух времени.
Этим антиномия снимается: произведение в той
особой художественной форме, какая ему придана, является
свидетельством духа истории, его объективацией, его
предметным выражением; личность же художника с его
субъективными чертами исчезает в процессе
художественного оформления материала даже и в том случае,
если этот материал взят художником из его личной жизни.
Последнее можно ясно видеть на примере портретов, о
которых неизвестно, являются ли они автопортретами
или нет. То же самое относится к описываемым в каком-
нибудь поэтическом произведении событиям, если
неизвестно, взяты они из действительных переживаний
автора или нет.
Этому соответствует бессознательность
самопроявления (der Selbstoffenbarung) в художественном
произведении. Подлинный художник не знает, что он делает, когда
в соответствии со своим способом видения он формирует
так, что другие распознают в этой форме его способ
видения, его манеру работы и оказываются захваченными этой
формой, его приемами и даже на его примере учатся ви-
Раздел II. Эстетическая форма
339
деть сами. Художник не знает, много ли он вкладывает в
эту форму от самого себя, не знает и того, что вкладывает
меньше личного, чем того, что в нем самом является
выражением общего и отпечатком его эпохи.
И тот, кто рассматривает произведение, также не
знает, что он видит в то время, когда наглядным путем
воспринимает в художественной форме произведения нечто
существенное из исторического духа той эпохи, когда
было создано произведение. Зритель легко ошибается в
двух отношениях: либо он принимает это существенное за
отпечаток личности художника - очень обычная ошибка, -
либо совсем не распознает ставшую предметом и
формой творческую манеру художника, весь тот духовный
ансамбль, ту духовную позицию, на основе которой было
создано произведение. Пусть этот художник является
даже эпигоном, который прямо и непосредственно
откликается на зрелища и наслаждения, - ему, пожалуй, даже
лучше, чем подлинному творцу, знать, какой дух, какое
духовное начало опосредовало создание его произведения.
Это вполне согласуется и с явлением отделимости
художника от его произведения. Этот факт означает лишь
то, что в художественном произведении осуществляется
закон объективации, то есть закон выделения
оформленной материи из взаимосвязи с живым духом, из которого
она выросла, и освобождения ее от влияния этого духа.
Ибо в четырехчленном отношении объективации
творческий дух является преходящим, и в зависимости от
обстоятельств в свои права здесь всякий раз вступает живой,
воспринимающий дух, поскольку он несет с собой
адекватность. Но объективация, делающая это возможным,
состоит в придании формы вечно существующей
неизменной материи, поскольку эта последняя является
транспарентной для всей заключенной в ней
последовательности слоев.
ГЛАВА 20
К ВОПРОСУ О МЕТАФИЗИКЕ ФОРМЫ
а. Подражание и творчество
Обозревая все сказанное об эстетической форме,
приходится признать, что мы знаем о ней немного в
сравнении с тем, что хотели бы знать и что составляет ее
тайну. Мы ощущаем эту тайну во всем, она угадывается за
всеми частичными определениями, которые нам удалось
340 Часть вторая. Оформление и расслоение
установить. Однако ответить на вопрос, в чем именно
состоит эта тайна,трудно.
Эта тайна имеет свое основание в непостижимости
прекрасного, в непостижимости другого рода, чем
понимание, которое дает эстетическое обозрение с
присущими ему показателями ценности - восторгом и
наслаждением. Если бы мы могли понять прекрасное как таковое
еще как-то иначе, то и это другое понимание также
должно было бы быть пониманием эстетическим. Но не
существует никакого второго эстетического понимания, кроме
единственного, а именно созерцания, сопровождаемого
наслаждением. Мы должны твердо придерживаться этого
понимания, чтобы предохранить себя от ложных
ожиданий. Эстетика, как и всякая другая наука, не в состоянии
сделать возможным невозможное.
Что, собственно говоря, хотели бы мы знать о
художественной форме? Прежде всего то, почему одно вызывает
впечатление некрасивого, другое - красивого.
Следовательно, мы желали бы одним ударом раскрыть тайну
красоты и искусства. Иными словами, мы желаем
невозможного: с помощью разума и его грубых орудий, то есть с
помощью понятий, мы хотим постигнуть то, что постигается
только эстетическим созерцанием.
Достаточно уяснить себе это, чтобы увидеть, что
подобные требования, поставленные перед эстетикой,
утопичны. Эстетика не должна себя связывать этими
требованиями, так как в таком случае она стала бы
безоговорочно метафизической. Наука об искусстве в
определенных границах может ими заниматься, но опять-таки лишь
в той мере, в какой в ней идет речь о частных вопросах, на
которые можно ответить, только основываясь на
относительно большем эмпирическом материале. Но и наука об
искусстве, строго говоря, не выходит за пределы фактов
и, следовательно, не доходит до познания причин отличия
одних определенных форм прекрасного от других его
форм.
Понятно, что именно на этом вопросе в эстетических
теориях произошел затор. При этом большая часть из них
стала метафизической, другие же стали отыскивать
выходы в ином, психологически-генетическом направлении;
некоторые из них попали даже на
математически-спекулятивные окольные пути, например теория "золотой
жилы" (des "goldenen Schnitts") или математический анализ
музыки. Некоторые из таких попыток были уже бегло
рассмотрены в предыдущих главах и отклонены. Наконец,
Раздел II. Эстетическая форма
341
рассмотрим еще психологическую эстетику вчувствова-
ния. Но прежде остановимся на античной эстетической
теории идей и на том, какое влияние она оказала на
учения немецкого идеализма.
Последними, конечно, не следует пренебрегать, ибо
они содержат в себе идеи и мысли, которые не могут быть
отвергнуты, при внимательном анализе, например,
проблемы естественно прекрасного и человечески
прекрасного, в особенности там, где эта проблема касается форм
жизни. И все-таки в области искусства и эти теории
отказываются что-либо объяснить; именно этот отказ
логически привел эстетику к отношению проявления.
И тот факт, что последнее опять-таки недостаточно для
объяснения всех проблем прекрасного, должен, конечно,
заставить нас задуматься над тем, в каком направлении
должны развиваться наши поиски тайны, еще скрытой в
форме предмета. При этом всяким дальнейшим
размышлениям на этот счет поставлен предел тем, что связь
между оформлением и явлением стала гораздо заметней, чем
это можно было первоначально предположить; выявилось
именно то, что в произведении искусства от слоя к слою
господствует относительно самостоятельное
оформление, притом такое, при котором явление более глубокого
дальнего плана связано с ранее присоединенной
художественной формой. В принципе существуют только две
возможности как-то еще рассмотреть эстетическую
форму, помимо уже подвергнутых рассмотрению явлений:
либо мы ищем основание сущности формы прекрасного в
объекте, пусть даже совершенно скрытом в дальнем
плане, либо мы ищем это основание в субъекте. Первая
тенденция вела к метафизике идей, вторая - к психологии
вчувствования.
В обоих направлениях можно несколько продвинуть
вперед рассмотрение вопроса, не переходя в область
спекуляции. Так, например, старая теория подражания
видит основание формы прекрасного в объекте; теория
автономного творчества, напротив, видит это основание в
субъекте: ц1цп°Ц и ганлоц (подражание и поэзия).
Впрочем, обе эти теории ушли не особенно далеко. Но все же
обе они содержат в себе серьезное зерно истины.
В основе цщлак; - что следовало бы перевести словом
"изображение" - лежит мысль, что человек не может
создать ничего более совершенного, чем природа, он может
только подражать ей. То же самое относится и к миру
человека: никакой художник не в состоянии изобразить
342 Часть вторая. Оформление и расслоение
конфликты с более глубоким смыслом, более великие
судьбы или деяния, чем те, которые имеются в
действительной жизни; художник может представить только то,
что он переживает. В основе ясноок; лежит такая мысль:
существуют творения духа, которые чужды природе и
жизни. Они ясно представлены в музыке, в строительном
искусстве и даже в орнаментике; они представлены также и
в поэзии и в пластических искусствах, поскольку эти
искусства показывают предметы такими, какими их не видит в
жизни человек, лишенный художественного дара.
Обе эти мысли, каждая в своем роде, законны, и
поэтому надо их учитывать. Очевидно, дело идет к тому,
чтобы соединить их друг с другом. И, может быть, с самого
начала ошибка обоих заключалась только в том, что они
выступали разрозненно.
Итак, что, собственно, является устойчивым в мысли о
[хщцок;? При рассмотрении этого вопроса целесообразно
ограничиться прежде всего изобразительными
искусствами. Расширить область применения |ii|ir|oiq, если в
этом будет необходимость, можно позднее. Пусть
поразмыслят о том, что желать превзойти формы жизни
явилось бы, по существу, безумием для человека: скачущую
серну, парящего в небе сокола, плавающую в океане
акулу вряд ли мог бы превзойти какой-либо вид фантазии.
Поэтому в искусстве об этом не может идти речь.
Поскольку искусство "изображает" такие естественные
формы, то оно может только пытаться их копировать. При
этом "изображение", само по себе взятое, естественно,
должно быть еще и чем-то другим. Это относится и к
человеческому облику, к человеческому лицу и его выражению
(мимика).
При этом надо обратить внимание на две вещи. Во-
первых, художники копируют преимущественно не просто
формы живого ради них самих, - они, следовательно,
соревнуются вовсе не с природой, а также не со скульптурой
и живописью. Скульптура почти совсем точно схватывает
и передает формы человеческого тела, живопись также
близка к натуре при изображении человека или
ландшафта. Однако они вносят в свои произведения другой
принцип оформления.
С этим тесно связано и второе: даже самые
совершенные формы природы, живого (des Lebendiges) и человека
лишь тогда становятся эстетическими предметами, когда
появляется адекватно воспринимающий их субъект.
Следовательно, деянием художника в противоположность ее-
Раздел II. Эстетическая форма
343
тественным формам природы является именно то, что он
впервые открывает эти формы. Возможно, что
совершенное "копирование" в действительности является лишь
незначительной частью его эстетической миссии;
важнейшее же и главное в ней состоит в том, чтобы научиться
видеть, научиться находить эстетическое в предмете,
созерцать его любящим, проникновенным, надолго
задерживающимся на нем взором.
В этом смысле правильно то, что живописец - и притом
не прежде, чем он достигнет определенной ступени
развития в своем искусстве, - прежде всего открывает
"природный ландшафт" и учит видеть также и серну на лоне
самой природы. В том же смысле верно и то, что портретист
учит видеть лица, поэт - характеры и судьбы людей,
скульптор - динамику человеческого тела. Если в
противовес всему этому хотят все же строго придерживаться
копирования, то против этого нечего возразить. Однако
таким путем не может быть схвачена, постигнута суть дела,
не говоря уже о моменте художественного
преобразования, о котором шла речь выше.
Что же именно является устойчивым в мысли о
яоиртц, если понимать это слово строго как
"творческое"? Здесь уже указывалось на неизобразительные
искусства, которые создают такие формы, какие не
встречаются нигде, кроме искусства. Яснее всего это видно в
музыке: здесь перед нами раскрывается огромная
область чисто музыкальной тонально-звуковой формы - не
преобразование, а абсолютно творческое
новообразование. Этому вполне соответствует выражение "чистая
игра формы". Нечто аналогичное мы встречаем в
строительном искусстве и в значительно менее ярко
выраженном виде - в орнаментике.
Гораздо важнее здесь то, что и изобразительные
искусства обнаруживают ту же самую потребность в
творческой художественной форме, несмотря на то, что они в
своих "моделях" и сюжетах больше связаны с образцами,
взятыми из жизни, и не могут освободиться от характера
подражания. Именно это и выражал момент
преобразования, с которого мы начали наше обсуждение вопроса об
эстетической форме (в главе 16, пункт "с", и в главе 17,
пункт "а"). "Преобразовывать", "придавать другую форму"
- это слишком слабые в данном случае слова. Ибо
существует еще чисто синтетическое придание формы, которое
вносит нечто совершенно новое: образы, которые рожде-
344 Часть вторая. Оформление и расслоение
ны из идей, возникли в процессе творческого видения в
противоположность реальному и всему эмпирическому.
Живопись Ренессанса создала подобные идеальные
типы в своих мадоннах, святых, в образах Христа.
Микельанджело сознательно создавал титанические образы
сверхчеловеческих масштабов. В этом же ряду стоят, по
моему мнению, образы богов у древних и даже их
скульптурные изображения юношей. То же самое можно сказать
о большей части творений эпической поэзии: это
героическая поэзия с тенденцией создания идеальных
образов. Нельзя отрицать того, что такое искусство наряду со
многими отклонениями в ложное и неестественное
создало и подлинные творения большой внутренней правды
и силы, создало образы, которые оказались способными
пророчески осветить путь в будущее и воспитать целые
поколения.
Итак, очевидно, что синтез подражания и автономного
творчества совсем не так трудно найти. Оба момента
касаются различных сторон одного и того же предмета.
Плодотворное искусство никогда не может быть далеким от
жизни и реальности. Поэтому в нем должна сохраняться
часть ц1цг|ок;. Оно должно всегда прочно корениться в
реальной жизни, формы становления которой являются
также и мотивами формы творчества в искусстве. С другой
стороны, искусство может дать великие образцы
творчества и превзойти свою эпоху лишь тогда, когда оно
содержит примесь духовного видения, прозрения, ведущего за
пределы этой реальной жизни, когда искусство может
творчески видеть то, чего нет, и все же оно действует
убедительно, потому что, оставаясь в рамках действительной
жизни, оно вместе с тем выходит и за ее пределы.
Следовательно, в своей основе это была не настоящая
антиномия, которая образовала конфликт между щпрц и яощоц.
б. Нахождение формы и стиль
После того как мы убедились в том, что наряду с
прочной связью искусства с жизнью существует еще и чисто
творческое придание формы, - с еще большей силой
встает вопрос о сущности этой последней как таковой.
Ибо творчески созданная форма все же должна быть
найдена. Остается выяснить очень важный вопрос: как она
отыскивается?
Тем самым мы снова оказываемся перед одним из тех
запретных вопросов, которые, как мы знаем, превышают
возможности нашего познания. Мы хотим здесь знать, как
Раздел II. Эстетическая форма
345
находит художник форму, которая не дана ему самой
действительностью. Мы хотим заглянуть ему в карты,
хотим проникнуть в тайну гениальности, то есть проникнуть
в то, о чем художник и сам не знает точно, туда, где в нем
живет полная тайны способность творчества, сущность
которой не осознается также и им самим, и он может
ждать только момента вдохновения. Однако даже и сам
этот момент вдохновения или просветления ничего не
говорит художнику о том, что именно с ним происходит и как
он это делает, а он знает только о том, какова та форма,
которую он ищет, и как он в данном случае может ее
достигнуть.
Мы знаем, что творению надо предоставить
возможность спокойно созреть в тишине, чему творец немногим
может помочь сознательно; самое большее, что он может
сделать, - это устранить с пути все то, что мешает его
творчеству; он может отрешиться от всего отвлекающего,
отчего состояние вдохновения обостряется, но он не
может активно ему содействовать. Из жизни великих
мастеров нам известно, как мучительно для них это состояние,
как художник может быть переполнен чувством
нетерпения, испытывать муки творчества, боязни того, что
вдохновение может не прийти. Шеллинг знал и высказал кое-
что об этой муке: художник несет в себе самом свою
судьбу, задуманное произведение является его судьбой.
Удивительно то, что рожденное после этого произведение
ничего об этом не рассказывает: в нем все примирено, и оно
производит впечатление хорошо продуманного
спокойного величия.
Этим только еще раз подтверждается то, что мы не
можем проникнуть в тайну нахождения художественной
формы. Что же вообще представляет собой
малоисследованный путь эстетики, стремящейся проникнуть в творческий
акт художника? Нет ничего более недоступного, чем этот
акт. Здесь действительно стоишь перед "метафизикой
формы", не находя к ней подступа. И все же, словно
ощупью в полутьме, можно различить и нащупать
некоторые его моменты: это внутренняя цель произведения,
случайность побудительного импульса или идеи и
исторически сложившийся стиль.
Первый из этих моментов ясно выражается в желании
творца, в его воле к творчеству. Но только в самом
произведении эта воля к творчеству принимает очертания
какого-то образа. Мы знаем, что внутренняя цель, голос еще
не созданного произведения крепко держат художника,
346 Часть вторая. Оформление и расслоение
не дают ему никакого покоя, принуждают его делать
пробы, опыты, наброски, вставки, добавления. И все же то,
каким образом эта цель предшествует произведению, не
поддается определению. В сознании творца эта цель
довольно часто выступает только в своей негативной форме:
как недовольство результатом своих попыток. То, что в
действительности за этим кроется, начиная с
определенной стадии зрелости, носит черты прозрения. Однако
усилие художественной фантазии до возникновения первого
наброска остается скрытым. Только стремление к новой
форме является сознательным. Работа художника-творца
имеет в этом отношении что-то родственное с
природными процессами, ибо подлинная гениальность есть дар
природы. Притом именно момент внутренней цели (Telos)
отличает ее от того, что дается природой.
Второй момент, случай, в одном отношении может
быть прослежен легче. Он дает побудительные импульсы,
материал, сюжет. Но он не объясняет, почему художник
подхватывает то, что ему встречается, видя в этом свое
призвание. Можно предположить, что внутренняя цель
предшествует в виде неясного образа или неясной
мелодии, и вдохновение "идет ему навстречу". Но, как это
происходит, остается неясным.
Поэт, находящийся в центре жизненных событий, вдруг
поражен какой-нибудь сценой, свидетелем которой он
случайно является; или он оказывается перед
каким-нибудь живым человеческим образом, перед своеобразной
человеческой судьбой. В нем самом возникает
внутренний отклик на то, что предстало перед его глазами.
Однако он не воспринимает увиденное таким, каково оно в
жизни, а преобразует во что-то другое, в духе уже
парившей перед его внутренним взором картины. И только
тогда он является подлинным поэтом, когда умеет придать
всему этому вне самого себя художественную форму,
превосходящую виденное - не в смысле искажения, а в
смысле откровения, как внешнее воплощение какой-то
увиденной истины.
Подобное же происходит и с живописцем. Он идет
между лесом и степью. Вдруг его внимание
останавливает какой-то вид, мотив, который он внутренне уже видит
как картину; то же самое происходит, когда ему бросается
в глаза какое-нибудь лицо. Подумаем также о том, как
картинообразующе влияет в подобных ситуациях
"случайное" обрамление, например, когда взор художника
проникает в гущу ветвей и стволов деревьев сквозь отверстие в
Раздел II. Эстетическая форма
347
старой стене. Мы называем все это "случайностью". В
действительности случайностью является то, когда
художник не замечает всего этого, проходит мимо; но то,
что он это улавливает, оценивает по достоинству, то, что
он рисует эту картину, является не случайностью, а делом
внутренней цели художника.
Мы видим, что внутренняя цель и случай хотя онтиче-
ски и противоположны друг другу, но тем не менее не
только превосходно примиряются, но и вещественно
тесно связаны между собой и взаимно дополняют друг друга
в нахождении формы. Сознательные целенаправленные
поиски художником формы, быть может, вообще
оказались бы бессильными без приходящего ему на помощь
случая; но и благоприятный случай без сознательно
искомой художником цели также был бы лишен смысла и
явился бы лишь расточительной растратой сил.
Мы без опасения должны отдать должное такому
"случаю". Этим вовсе не обесценивается гениальность.
Талант понять случай и вообще увидеть его как счастливую
удачу стоит далеко не на последнем месте. Естественно,
что здесь под "случаем" мы имеем в виду то, что "лишено
цели", следовательно, противоположное телосу (Telos),
детерминированное. В этом смысле случайное как раз и
есть онтиче-ски необходимое. Но эта необходимость не
имеет никакого отношения к эстетике.
Самым важным из этих моментов должен быть стиль.
Он состоит в определенном характере формы или в
схеме формы, которую находит не отдельный человек, а
создает целое поколение, причем отдельный,
принадлежащий к этому поколению человек уже включен в поиски
такой формы. Поэтому такая форма является также и
объективно всеобщей, раскрывающейся не в единичном
произведении. В эпохи, когда "господствует"
определенный стиль, он определяет все индивидуальные формы -
определяет не во всем, не целиком и полностью, но все
же направляет их по определенному пути. В остальном
явления одного и того же большого стиля различаются
между собой, ибо существуют, кроме того, еще
партикулярный стиль, народный, местный, стиль возраста и даже
в высшей степени индивидуальный стиль определенного
мастера.
Но самыми важными являются большие стили
исторических эпох. В них проявляются характеристические
особенности всего объективного духа. Ибо, поскольку эти
стили живут в каком-нибудь творении, они принадлежат
348 Часть вторая. Оформление и расслоение
объективному духу; только произведения эпигонов
связаны с одной лишь объективацией. Стиль имеет свою почву,
свою основу в присущем человеку чувстве эстетической
формы; он (стиль) только как вторичное проявляется в
произведении искусства, будучи отделен от творящего и
созерцающего духа. Стиль представляет собой одну из
сторон эстетического "вкуса". Поэтому он изменяется
вместе с последним. Стили возникают и заменяются
другими, и всегда именно индивидуальности художников,
творения которых несут с собой изменения, являются
причиной смены стилей. Однако отдельный, единичный
художник не создает стиля, стиль вырабатывается
медленно в творениях целых поколений. И, когда стиль
выработан, когда он образовался, он господствует над
исканиями формы и потребностью людей в художественной
форме.
Это господство надо мыслить так, что человеку в его
время и с его привычным складом жизни не приходит
даже в голову, что это можно было бы сделать как-то иначе.
Прототипом здесь является архитектура, откуда,
собственно, и взято понятие стиля и перенесено в другие
области. Основания для этого заключены в практических
целях и во многом другом (ср. гл. 15, с).
Надо также принять во внимание, что стиль касается
не одного только искусства, а всего склада жизни
человека - вплоть до форм его взаимоотношений с другими
людьми, приемов речи, манеры двигаться, не говоря уже
об одежде и моде. В этом смысле с полным правом
говорят о стиле жизни. И нельзя отрицать, что существует
всеохватывающее явление единства стиля во всех этих
областях, из чего вытекает, что существуют вековые
стили, стили веков, которые действительно охватывают
много областей или даже все области жизни. Стиль
рококо обнаруживал такую же изящную вычурность в
манере разговора и в музыке, как и в формах зданий и
мебели или в одежде.
Из этого видно, что стиль является понятием, которое
выходит за пределы эстетики: он принадлежит более
широкому кругу явлений исторически объективного духа. Но
здесь мы имеем дело только с художественным стилем. И
для такого стиля характерно, что он заключает приемы
обработки или общую схему художественного оформления
возможных единичных видов придания художественной
формы, что избавляет творца от части поисков формы, но
Раздел II. Эстетическая форма
349
вместе с тем ограничивает свободу его действий,
свободу творчества.
Это значит, что существующий стиль "господствует",
не означая ничего другого. И, как и при всяком господстве
объективных духовных форм, здесь также имеются
прорывы индивидуума через господствующую форму. Такой
прорыв может быть отходом от истинного пути и
оказаться лишенным художественной формы, но он может быть
также и настоящим проводником-путеводителем в
нахождении новой формы.
Больше, конечно, об этом нечего сказать. Прорыв
осуществляют всегда великие мастера искусства, также как и
в других областях объективного духа, например в области
языкового творчества. Художественный стиль ставит
предел свободному исканию формы или формообразующей
игре фантазии; но сам он представляет собой уже
найденную, заранее отчеканенную художественную форму.
Стиль - это тип художественной обработки, тип придания
формы.
То, что нам хотелось бы знать сверх сказанного: каким
образом находится эта новая форма, как творческая
фантазия создает эту форму, как она впервые придает ей
очертания и почему этот определенный тип
художественной обработки ясно освещает путь, заслуживает
одобрения, определяет другие формы художественной
обработки, - все это не поддается анализу.
е. Большие стили и приемы в искусстве
Круг проблем придания формы, нахождения формы и
прочно утвердившегося типа формы значительно
расширяется, когда мы рассматриваем их в отношении к
последовательности слоев в произведении искусства. Ибо
ближайшим образом всякая художественная обработка
относится только к одному определенному слою. Это верно
также и по отношению к стилям. Но поскольку придание
художественной формы одному слою состоит именно в
том, что придает ему транспарентность по отношению к
другому слою, а этот последний также должен иметь свою
собственную форму обработки, то художественные
формы слоев, так же как и типы художественных форм,
находятся в тесной связи между собой.
Пусть сравнят с этим сказанное в главе 17, пункты "б"
и "д", и в главе 18, пункт "а", относительно ступенчатости
художественной формы. Там было выяснено, что в
залегании слоев художественной обработки отдельный слой
350 Часть вторая. Оформление и расслоение
настолько же самостоятелен, как и зависим, что, далее, с
его самостоятельностью связано многокрасочное
богатство произведения, а с его зависимостью - отношение
явления. Итак, существенно и то и другое. Но в чем значение
установленного факта, если отнести его к
художественным формам стилей? К какому слою относятся большие
стили? Принадлежат ли они одному отдельному слою или
нескольким слоям одновременно?
Заключается ли придание формы художником в
манере его письма, в использовании света, в изображении
пространства, в четкости или неясности контуров
рисунка, в особом подходе, живости, в умении передать
движение и т. д., состоит ли придание художественной формы во
всех этих приемах вместе взятых или преимущественно в
одном из них? И если оно заключается во многих из них и,
следовательно, его составные части распределены в
большом количестве слоев произведения живописи, - как
тогда обстоит дело со связью художественной обработки
в слоях? Отдается ли преимущество одному из слоев? И
почему?
На этот вопрос ожидают единого суммарного ответа.
Но такой ответ не может быть дан. Отношения
зависимости форм в слоях, напротив, разнообразны и
многостепенны, а именно снова разделены на отдельные слои и не
переносимы на другие слои.
Кое-что из этого может быть показано. Ясно,
например, что в произведениях живописи трактовка
пространства и трактовка света должны быть тесно связаны между
собой, так как пространство и свет неразрывно связаны и
в естественных условиях; ясно и то, что нанесение красок
в слое переднего плана в противоположность трактовке
пространства и света пользуется еще относительно
широким простором и большой свободой действий;
соответственно этому и зарисовка контуров предметов в заднем
плане получается глубже. Но особенно сильно должно
быть всем этим обусловлено появление в более глубоких
внутренних слоях душевного волнения и жизни. Тогда
соответственно и возможность появления в самом
произведении отношений форм внешних слоев (например,
изображения пространства и света) должна быть определена
уже посредством телоса, душевного движения и жизни.
Проследить эти отношения оформления более
подробно эстетика не может, ибо они слишком сложны и
тонки. Мало пользы принесло бы и сравнение этих
отношений в других искусствах. Например, в поэзии есть сход-
Раздел II. Эстетическая форма
351
ство в положении вещей, только там внешние и
внутренние слои отчетливее отделены друг от друга в общем,
комплексном для них обоих придании художественной
формы.
Напротив, то, с какими слоями произведения
искусства, преимущественно или полностью, связан стиль, в
известных границах вполне поддается определению. Но и
на этот вопрос нельзя дать единого ответа, так как
именно стили, понимаемые как типы оформления, в этом
отношении различны между собой, подобно тому как и в
жизни стиль касается человека в целом только иногда, в
других же случаях он касается только его внешнего вида.
Поэтому существуют большие, глубокие различия в
стиле. Над всем возвышаются знаменитые стили веков, о
которых издавна известно, что они охватывают все
стороны человеческой жизни. Например, принято говорить о
"человеке времен готики"... и т. д. Правда, это может быть
сильно утрировано, что весьма опасно; в действительном
историческом типе человека всегда скрещено множество
форм различного происхождения; несмотря на это,
остается верным и то, что в каждом таком едином по форме
обработки целом принимают участие многие стороны
жизни, соответственно и в искусстве в целом
определяющая роль стиля более велика, чем в одном слое.
Нет никакой необходимости затруднять себя
описанием в отвлеченных понятиях того, что мы понимаем под
такими большими стилями эпох. Сущность их
формообразующей роли не может быть выражена каким-либо другим
способом, чем это делает искусство. Вполне достаточно
указать на известные стили. Тот, кто с ними "не знаком",
тому невозможно их описать; человек же, который их
знает, не нуждается в том, чтобы ему эти стили описывали.
Философу остается только указать на строгую типичность
формы в них и апеллировать к художественному чувству,
способному их воспринять. Мы, как эпигоны, легко
воспринимаем, например, единство классического греческого
стиля (вместе с его разновидностями) V столетия в
постройках храмов, в изображениях богов, в рельефах фриз, в
лирической поэзии, в трагедиях и во многом другом.
В таких стилях нетрудно различить, форму каких слоев
искусства они преимущественно определяют. Они,
несомненно, определяют всю последовательность слоев:
яснее всего и прежде всего оформление в реальном
переднем плане, но не менее глубоко и оформление
внешних и внутренних слоев заднего плана с большими разли-
352 Часть вторая. Оформление и расслоение
чиями и градациями и, быть может, меньше всего в самых
последних слоях, которые содержат чисто идейное.
То, что стиль яснее и очевиднее всего проявляется в
переднем плане, служит причиной того факта, что великие
стили эпох бросаются в глаза прежде всего в архитектуре.
Именно здесь передний план представляет собой чистую,
почти свободную художественную форму материи без
притязания что-нибудь изобразить. Тот, кто смотрит
глубже, видит, конечно, стиль и в целевой и пространственной
композиции, и в динамической композиции, и, кроме
того, в художественно-формирующей воле, которая несет
целое.
Античная трагедия воздействует прежде всего своим
языком и формой стиха (в песнях); мы различаем за этим
одинаковый тип оформления в движении образов, чтобы
не сказать - в "игре" образов, а за этой последней - в
композиции ситуаций и поступков; еще отчетливее общность
стиля заметна в духовном формировании персонажей
(характеров) и, может быть, с самой большой силой
отчетливости - в придании художественной формы человеческой
судьбе в целом.
Легко видеть, что то же самое относится и к
поэтическим произведениям других эпох и других стилей. Очень
показательным в этом отношении является великий эпос
XIII столетия (Вольфрам, Готтфрид и др.). Произведения
этой эпохи целиком, вплоть до ведущих идей -
религиозных или рыцарских, - определяются стилем века (готика в
ее зените); здесь именно средние слои лучше всего
обнаруживают манеру, с какой передвигаются фигуры, илцто,
как понимаются ситуации, как люди действуют в
определенных условиях, как формируется при этом их индивиду-
аль-ность (картина лесного участка или образ грубияна),
как вырисовываются судьбы людей и т. д.
Это гомогенное сквозное оформление, проходящее
через многие слои, создает господство большого стиля
эпохи. В известных границах оно определяет также и
стиль большого искусства, за исключением, конечно,
самых великих художников-творцов, потому "что эти
последние как раз и нарушают установившиеся формы.
В явном противоречии с этим стоит оформление,
имеющее такие же притязания, но которое в
действительности охватывает слои не гомогенно, а распространяется
только на отдельные. Обыкновенно происходит так, что
оно охватывает только одни внешние слои или даже
только материальный, чувственно воспринимаемый передний
Раздел II. Эстетическая форма
353
план. Такие стили выступают в качестве стилей отдельных
художников или узких групп художников. При самом
большом таланте они могут привести к сквозному
оформлению, но могут удержаться только во внешнем слое,
совершенно не заботясь, например, о композиции материала, и
тогда мы имеем дело не со стилем, а с явлением "новых
приемов" художественного творчества.
Следовательно, "манера" творчества отличается от
настоящего стиля, как и от чисто индивидуального стиля,
тем, что в ней отсутствует многослойное
взаимосвязанное оформление, определяемое внутренними слоями.
Нечто подобное относится и к подражанию стилям у
эпигонов. Теоретики искусства часто задавались
вопросом: почему, собственно, современная архитектура
воздействует не как настоящее искусство романтического
или готического стиля и даже производит впечатление
чего-то негармоничного и некрасивого? Это происходит
потому, что в архитектуре эпигонов мы чувствуем нечто
неорганичное, немотивированное, внешнее и даже
лишенное разумности. Это верно. Но в чем это проявляется?
На этот вопрос легко ответить, если исходить из
ступенчатого строения художественной формы, состоящей
из слоев. Подражание никогда не исходит из целевой
композиции, не говоря уже о пространственной или
динамической; оно просто применяет к оформлению внешний,
непонятный ее вкусу мотив, например при оформлении
известных частей фасада или внутренней части здания.
Подражатель не знает, что последняя определяется
слоями композиции (в соответствии с практической целью,
пространством и динамикой), так как его цель, задача и
его строительная техника совершенно другие.
Поэтому даже самое лучшее подражание производит
впечатление чего-то неорганичного. Осуществляющий
строительство человек не ощущает уже больше
внутренней необходимости формы. Он принудительно заставляет
ее соединиться с совершенно по-другому
запланированным сооружением.
г. Трезвый смысл спекулятивных положений
В заключение, после всех этих наблюдений над
метафизикой эстетической формы, надо сказать следующее:
мы не можем до конца разгадать то, что она утверждает,
поскольку сущность прекрасной формы есть чисто
метафизическая проблема. Однако мы все же можем в
довольно широком объеме указать условия, каким она должна
354 Часть вторая. Оформление и расслоение
удовлетворять именно с точки зрения внутренних
отношений между оформлениями различного рода, которые
наслаиваются в одном и том же произведении искусства.
Тем самым от нас в значительной степени ускользает
положительное, что вновь заставляет нас указать на
отношение слоев и явлений. Но помимо этого остается еще
нечто такое, что видели древние теории спекулятивного
толка и в чем они в известной мере были правы. Такова,
например, старая мысль о единстве многообразия,
которая сама по себе является, конечно, онтологической, а не
чисто эстетической; но она получает строго эстетический
смысл, если ее понимают как наглядное единство столь
же наглядно представленного многообразия.
Существует очень много видов единства
многообразия; таким единством многообразия являются каждое
понятие, каждая вещь, каждое небесное тело, каждая
подвижная структура, каждый организм... Но повсюду как
единство, так и многообразие не зависят от творческого
постижения; здесь же, в художественном творчестве,
речь идет не просто о существующем единстве, а о
единстве, которое художник делает доступным восприятию
путем творческого видения. Именно это и является в нем
новым. Фактически это относится ко всем видам
эстетических предметов, непосредственно относится как к
произведениям неизобразительного искусства (музыка,
орнаментика), так и к прекрасным предметам природы.
Подтверждением выставленного положения является
предъявляемое к творческому созерцанию требование,
или, можно также сказать, напряжение, необходимое не
только для творческого наброска художественной формы,
но прежде всего для того, чтобы только художественно ее
постигнуть.
Такое напряжение, незначительно при постижении
путем созерцания легкого и неглубокого искусства, и все же
для музыкально неразвитого человека оно, естественно,
может представлять собой обременительное требование.
Напротив, постижение более глубокого и более богатого
искусства предъявляет требование высокого подъема и
синтетической работы внутреннего зрения.
Примеры этому надо искать не в орнаментике и не в
развлекательном романе; это может относиться к
архитектуре, но только при монументальной композиции.
Значительные произведения других искусств полны таких
примеров: шекспировская зарисовка человека уже
требует сильного привнесения творчески связного синтетичес-
Раздел II. Эстетическая форма
355
кого видения, потому что понять характеры людей у
Шекспира не такая легкая задача, как читать по складам; он
показывает их в действии и страданиях, а потому
человечески незрелое фактически не находит пути к их внутреннему
облику. Нечто подобное можно сказать также о портретах
Гольбейна или Франса Гальса.
Это явление наиболее знакомо нам в музыке. Каждое
относительно большое музыкальное "предложение"
какой-нибудь сонаты или симфонии требует от слушателя
музыкального синтеза большой глубины, большого
масштаба; и бесчисленные слушатели при всей их
несомненной увлеченности, безусловно, не поднимаются до
понимания произведения в целом, его единства, его
внутренней структуры (построения, собственного закона
произведения...). Для этого необходимо обладать в большей
мере музыкальной активностью, уметь интуитивно
удерживать в памяти уже отзвучавшее и иметь представление
о том, что должно прозвучать позднее. Сильнее всего это
выражено в фугированной (полифонической) музыке.
Поэтому многие люди, вообще говоря музыкальные, не
понимают творчества Баха. Большинство из них, конечно,
даже и не знают, насколько они его не понимают, так как
для них не существует никакого доступа к внутреннему
строению фуги, потому что теоретическое, не
"слышимое" не оказывает им в этом помощи; они,
следовательно, не имеют также • никакого масштаба для понимания
того, что от них ускользает. Впрочем, последнее
относится ко всем областям искусства во всех тех случаях, когда у
людей отсутствует синтетическое творческое восприятие
целого.
Наряду с единством многообразия имеет также
определенное значение столь же старая мысль о
существенной форме или об идеальной форме. Эта мысль, конечно,
также должна быть принята с большими скидками.
Естественно, не может уже больше идти речи о принимавшихся
когда-то за само собой разумеющееся субстанциальных
формах, которые служили метафизически неподвижными
и вечными образцами для искусства. Но все же для
каждой появляющейся эмпирически типичной формы
существует какая-то идеальная форма, в которой ясно, в
чистом виде выражен тип, независимо от того, происходит
или не происходит что-либо подобное в реальном мире.
Художественная фантазия относительно легко извлекает
из встречающегося в жизни типичного его идеальную
форму (совершенство). И это прием, который вплоть до
356 Часть вторая. Оформление и расслоение
частностей обработки материала является художественно
необходимым. Ибо он возводит существенное в
состояние наглядной и понятной реальности, упрощает сложное
и то, что в жизни всегда выступает запутанным и неясным,
передает в основных чертах в виде определенного
пластического образа.
Так поэты, авторы древних трагедий, возвышали своих
героев до некоего идеального человеческого типа, отчего
образы приобретали какую-то убедительность и вместе с
тем становились духовно возвышенными и говорящими
на высокопарном языке трагедии. И потому в этих типах
сохранялось очень много красочной человечности.
Именно так это и должно быть во всяком произведении
героической поэзии. Мы всегда находим эту черту, эту
особенность в эпическом народном творчестве, а также и в
пластике, даже в тех произведениях, которые притязают на
портретное сходство (примером может служить
"Pensieroso"). Живопись в этом отношении идет еще
дальше (мадонны...).
Примеры показывают, что это не имеет больше ничего
общего с метафизикой формы. Идеальные формы такого
рода не заимствуются из действительности, они не
берутся также из какого-то предсуществующего царства
идеального бытия, а образуются из чистой художественной
фантазии.
И здесь перед нами открывается поле продуктивного
творчества, о котором трудно создать себе ясное
представление: художнику дано "видеть" идеи и передавать
другим увиденное. Конечно, не все увиденные идеи
(например, человеческий идеал) будут указывать путь
современникам; но всегда существуют и такие идеи, которые
сыграют эту роль. И тем самым художник становится
носителем идей. Это, без сомнения, больше всего
относится к поэту. В эпохи, когда начинает формироваться более
высокий нравственный облик какого-нибудь народа,
всегда именно поэты, то есть творцы эпоса, являются людьми,
которые выдвигают идеальный образ человека и
человеческой добродетели, становящейся образцом, на
который люди должны ориентироваться и по которому они
действительно судят о поступках. Такие поэты являются
подлинными воспитателями, формирующими духовный
облик целых поколений.
Это возможно потому, что творец, художник
пользуется в своем видении и творчестве свободой, какой человек
обыкновенно не знает даже в своем этическом поведе-
Раздел II. Эстетическая форма
357
нии. Эта свобода, именно эстетическая или
художественная свобода, является чем-то совершенно иным, чем
моральная свобода. Последняя связана с моральным
предписанием (моральной ценностью) и в противоположность
свободе художественного творчества может решать
только в смысле "либо - либо", за или против. Наоборот,
художественная свобода сама может впервые узреть ценность
и сделать ее ясной для других.
Она может, если пожелает, проникнуть далеко за
пределы реального бытия; но ее задачей является
реализовать то, что она узрела. Ведь художественная свобода не
следует какому-то долженствованию, она не является
свободой необходимости, каким является
долженствование1. Напротив, она является свободой возможности,
притом свободой почти безграничных возможностей, ибо
внутри ее области, которая восходит к явлению, а не
стремится к реальности, вообще ничто не осуществляется, не
становится действительным. Ее модальной тенденцией
является тенденция свободы ухода от действительности
(Entwirklichung).
Подлинным чудом этой свободы является способность
сделать увиденную идею конкретно видимой,
являющейся; Художник высказывает ее не как мораль и требование
и тем более не как идеал. Скорее он выражает ее
наглядно в том жизненном образе, который он заставляет
носиться перед взором созерцающего и говорить за себя.
Именно поэтому он убеждает и как бы подводит к тому
типу человека, к которому стремятся. Ибо мораль не имеет
той силы морализирования, поучительности и
убедительности, какую имеет наглядный и очевидный образ.
В поэзии этот образ имеет скорее не эстетическую
функцию, а моральную и культурно-политическую. Это
свидетельствует о глубокой связи искусства с жизнью.
Примечательно следующее: эта простая, ясная и
имеющая глубокий смысл свобода автономного
художественного творчества становится наглядной только при
отклонении всякой метафизики формы. Здесь кроется надэсте-
тическая тайна всякого великого искусства.
Ср. "Ethik", Кар. 23, в особенности S. 204.
РАЗДЕЛ III
ЕДИНСТВО И ПРАВДА В ПРЕКРАСНОМ
ГЛАВА 21
СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
а. Свобода и произвол
Свобода художественного творчества имеет свою
оборотную сторону и таит в самой себе опасность, именно
опасность произвола. Это прежде всего касается
изобразительных искусств, потому что произвол может
возникнуть там, где в основе произведения лежит копирование и
где исполнитель пытается своим творчеством превзойти
природу и жизнь. Искусство и действительность очень
близки друг другу, так как и природа и человеческая жизнь
содержат в себе творческое начало, создают формы,
образы, судьбы и предоставляют человеку стать зрителем и
ценителем своего творчества. Мы знаем, что именно
поэтому в жизни обыкновенно рассматривают вселенную как
"творение"; но аналогия между тем и другим видами
творчества редко бывает нами по-настоящему осознана.
Для осознания этого нет решительно никакой
необходимости исходить из теистического понимания мирового
порядка. Продуктивное (das Produktive) в природе также
является вполне научным понятием, особенно с того
времени, как метафизика субстанциальных форм потеряла
свое значение и освободилась от мысли о беспрерывном
возникновении форм органической жизни. Органическая
природа является в самом деле в высшей степени
творческой, если даже она не представляет собой "развития",
ибо это и было бы как раз отрицанием творческого. Еще в
большей мере это относится к человеческой жизни; ее
образы и судьбы более многообразны.
Искусство черпает свой "материал" из обеих этих
областей; неорганическая природа играет здесь совсем
незначительную роль. Это значит, что уже сам "материал"
изобразительных искусств содержит такие формы, за
которыми стоит творческий процесс и которые ведут свое
начало от какой-то созидательной деятельности, позади
которой стоят творческие силы, весьма родственные с
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 359
ним и, безусловно, во многих отношениях имеющие над
ним превосходство.
Конечно, не случайно и то, что это именно те области
бытия, в которых мы находим красоту реального мира вне
искусства - красоту природы и человеческую красоту. По
этому поводу с полным правом говорят, что в изящных
искусствах "природа и нравственность" становятся
"материалом" для дальнейшей творческой обработки.
"Нравственность" для этого, конечно, слишком узкое
понятие; здесь надо было бы сказать "природа и
человеческая жизнь", так как человеческая жизнь не умещается в
понятии нравственности. В остальном это положение
правильно.
Там, где творческие силы создают произведения,
обыкновенно имеют место как удачи, достижение
единства и целостности формы, то есть ее совершенства, так
и неудавшиеся творения, промахи, выход за пределы
эстетической формы. Это такие факты, которые хорошо
известны нам из области проблем естественно
прекрасного. Поскольку же это так, изобразительное искусство
точно так же может достигнуть или не достигнуть полной
удачи и в своем роде непревосходимой художественной
формы при создании картин природы и картин
человеческой жизни. Это значит, что изобразительное искусство
может быть "правдивым" и "неправдивым".
Здесь мы пришли к пункту, в котором искусство
рискует подвергнуть опасности свою свободу: последняя
может перейти в произвол, и, таким образом, произведение
искусства потеряет уже достигнутые в природе "единство
и целостность" формы. В результате этого искусство
опускается ниже того уровня, с которого оно должно
начинать как с основания, - и пусть бы это было лишь для
того, чтобы сделать понятной, легко воспринимаемой
красоту, созданную природой. То, что изобразительное
искусство в своем материале может прибегать также и к
уродливому, то есть неудавшемуся, этим никоим рбраэ-
ом не отрицается; более того, оно с таким же успехом
может и обойти уродливое, ибо оно ведь не выдает его
ложно за красивое.
Но может ли что-либо соблазнить художника на
искажение познанной действительности? На это надо
ответить, что он может допустить искажения по трем
причинам:
1) из-за бессилия или неспособности, то есть
вследствие отсутствия глубины при копировании;
360 Часть вторая. Оформление и расслоение
2) из-за идеализма, потому что фантазия обманывает
его самого, рисуя его взору нечто "еще более красивое";
3) из-за этических оснований, то есть если он
принимает во внимание соображения не эстетического
порядка, а другие, например педагогические.
Особенно сильно распространена первая из этих
причин. Не только халтурщик, не только заведомо плохой
художник, но даже иной серьезный художник может дать
неправильную "зарисовку" образов, которые ему
мерещатся или встречаются в действительности, потому что
его собственное видение и понимание односторонне или
потому, что его техника изображения недостаточна для
передачи увиденного и воспринятого.
Это два совершенно различных случая,
встречающихся во всех изобразительных искусствах. В период
подготовки и становления великой эпохи искусства оба эти
случая могут стать правилом. В такие односторонности
впадают именно смелые передовые художники. Пусть
читатель вспомнит о неестественно утонченной архитектуре
художников театральной сцены пятнадцатого столетия, их
искусственно отобранные и слишком возвышенные
мотивы ландшафтов; оба явления - лишь сопровождающие, но
в то же время являются уже и тематическими.
Оглядываясь назад на искусство прошедших веков и рассматривая
его с точки зрения зрелого искусства более поздних
мастеров, мы ясно видим положительное в усилиях этого
искусства, но нам ясны также и границы его видения.
Нечто подобное происходит с поэтическими образами
и их конфликтами на пороге создания новой, поэзии:
преобладание определенных типов в драме и комедии
(комедийные типы), за которыми исчезает полнота жизни. Даже
в произведениях молодого Шиллера есть неверные,
преувеличенные зарисовки образов (Карл и Франц Моор, Фи-
еско, Вурм...). Само собой разумеется, что такими
неверными зарисовками полны произведения второстепенных
и третьестепенных художников. Я имею в виду прежде
всего образы, созданные полудилетантами, которые
вообще неспособны создать какие-либо подлинно
художественные образы.
Не менее распространена вторая причина неверной
зарисовки, суть которой состоит в возвышении над
эмпирическим ради удовлетворения идеалистической
потребности в преувеличениях.
Ваятели древней Греции создавали скульптурные
изображения богов, в которых преувеличенно подчеркну-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 361
то все то, что составляет мускулатуру, а все мягкие части
тела находятся в пренебрежении и почти незаметны. Эти
фигуры воздействуют на зрителя как неестественные и
некрасивые, но некогда они соответствовали идеалу
человеческого тела, поскольку основное внимание было
сосредоточено на развитии в нем силы, напряженности
мышц, высокой выносливости в труде... Готическая
пластика создавала головы, вид которых должен был выражать
набожное смирение и являть моральный образец
покорности божьей воле, не считаясь с неестественностью и
некрасивостью. В богатой живописи мадонн разных эпох
мы находим целое собрание идеалов женской красоты,
которые не воспроизводят живые типы женщин тех
времен, а пытаются возвысить их до фантастического
воображаемого идеала и именно вследствие этого впадают в
неестественность, или, иными словами, воздействуют
неубедительно. Ибо идеалы обусловлены не только эпохой,
но и произвольным субъективным вкусом художника.
Классическая трагедия - уже у Эврипида, а еще больше у
Корнеля и Расина - полна идеалистически
преувеличенных образов. Несчастье в том, что слишком
преувеличенные масштабы надолго оказывают на человеческий тип
весьма принижающее влияние, потому что здесь
возвышаются только отдельные стороны человека за счет
других его сторон. Вот почему такие образы лишены жизни.
Третья причина заключается во внеэстетических
мотивах. В большинстве случаев это имеет место там, где
на первый план ставятся цели этического и
педагогического воспитания. Иногда эта цель может иметь
политический или религиозный характер. Такая цель легко
примешивается к намерениям художника, ибо поэзия,
помимо всего прочего, производит и этическое воздействие.
Это происходит не только с явно поучительной поэзией,
которая и без того не дает чисто эстетического
наслаждения, но свойственно также и очень серьезным
представителям чистой поэзии. Пусть читатель подумает о
воспитательном романе или о романе, ставящем
образовательные задачи, например о творчестве Вильгельма
Мейстера в его поздние ученические годы или в годы
скитаний! Пусть подумают также о маркизе Поза.
Мысль об эстетическом воспитании стара и уже
довольно часто оказывала влияние на искусство. И не
только на поэзию. В христианских живописных портретах
святых несомненно содержится такая черта. Но здесь ее не
так легко увидеть, как там, где речь идет о педагогических
362 Часть вторая. Оформление и расслоение
намерениях, то есть только о педагогическом
воздействии на читателя, ибо последнее может осуществляться
также и непреднамеренно и совсем без какой-либо
ложной, фальсификаторской тенденции. Однако это различие
в основном должно быть учтено, в противном случае могут
неправильно судить об искусстве.
б. Создание эстетического идеала
Таким образом, произвол художника имеет место
только во втором и третьем случаях. Ибо, как было
сказано, первый случай покоится на modus deficiens (то есть на
недостатке таланта художника и слабости его
художественных приемов. - Перев.) и зависит от художественных
возможностей и умения. Третий случай (педагогический)
тоже может быть отброшен в сторону, так как он покоится
на примеси внеэстетических моментов. Важным
остается, следовательно, только и прежде всего случай
возвышения естественного, которое вытекает из эстетического
идеализма, то есть из стремления превзойти то, что дано
в реальном мире.
Этот случай трудно опровергнуть, так как в искусстве
существует оправданная тенденция изображать
наглядные идеальные образы. Эти последние по самой своей
сущности должны быть выше человеческой
действительности. И с внеэстетической точки зрения также
совершенно ясно, что такого рода искусство имеет право на
существование - и это относится больше всего к поэзии, -
потому что народу трудно жить без идеала, а показать ему
наглядно идеальные образцы может только искусство.
Столь же мало можно отрицать, что эта связь искусства
и жизни естественна и необходима для самого искусства,
необходима настолько, что искусство, которое ее
утрачивает, само теряет почву под ногами. В этом коренится
наивысшая культурная функция, которую должно выполнять
искусство, и выполнением этой функции оно делает
оправданным свое существование в жизни народа.
Это открыли уже древние, и их идеалы были,
несомненно, плодотворны как для искусства, так и для жизни.
Таким явился прежде всего идеал юноши, как он
выработан в пластическом искусстве. Этот образец указал
людям, какими они должны быть, и не нанес ущерба
высокому искусству скульптуры. Нечто подобное можно сказать и
о гомеровских образах героев, ибо некоторые из них
сильно преувеличены; не менее преувеличен и образ
Сократа в платоновском стихотворном диалоге. То же самое
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 363
мы видим и в образах рыцарей немецкого эпоса (Парси-
фаль, Зигфрид, Тристан) и даже в образах простых и
скромных северных саг. А разве в наши дни дело обстоит
иначе? Разве не то же самое мы находим в Идиоте или
Алексее Карамазове Достоевского? В Гансе Сакс
Вагнера, в Исааке Гамсуна?
Большая трудность есть и остается лишь в том, как
отличить такие плодотворные и художественно
правомерные идеальные образы от произвольных и сомнительных?
По каким признакам должны мы их распознавать? На это
надо дать ясный ответ: у эпигонов их можно легко
распознать по тому успеху, который имеют созданные ими
произведения у современников; их невозможно отличить по
какому-нибудь установившемуся масштабу, в лучшем
случае они могут быть угаданы с помощью художественного
чутья. Однако догадаться - не значит быть уверенным.
Первая часть этого утверждения не выражает ничего
другого, как девиз: "По их плодам вы должны их распознать".
Однако уже это показывает, что решение вопроса,
подлинное перед нами искусство или нет, является в
конечном счете не эстетическим, а как-то практически
обусловленным.
Поэтому здесь необходимо сказать, что идеальные
образы, о которых идет речь, по крайней мере по
содержанию, являются, вообще говоря, этическими или по
меньшей мере находятся в тесном родстве с этическими
идеальными образами (например, идеал юноши).
Эстетическим идеальным образом такой образ является лишь по
форме, так как только искусство может выдвинуть такого
рода идеалы в сферу видимого: только оно одно придает
идеалу форму полного жизни образа.
Но если по содержанию речь идет об этическом
идеале, легко ответить на поставленный выше вопрос:
плодотворны такие идеалы, которые, во-первых, касаются
действительно существующей области ценностей и, во-
вторых, соответствуют действительной исторически
существующей тенденции в этической жизни какого-нибудь
народа. Последнее очень существенно, потому что в
противном случае чувство ценности современников не
сможет понять содержащийся в произведении искусства
идеал. Поэт, который отражает такого рода тенденцию и,
кроме того, прозорливо понимает, к каким ценностям
стремятся, становится носителем идей своего времени.
Однако это такой критерий, который мы всегда можем
применить только задним числом.
364 Часть вторая. Оформление и расслоение
Но оба названных условия плодотворности
художественного творчества еще недостаточны: то, что
какой-нибудь идеал правомерен по своей ценности и исторически
оправдан, относится только к его содержанию,
следовательно, только к его этической стороне. Однако он имеет
еще и свою эстетическую сторону, а она тоже является
обязательным условием плодотворности. Эта
эстетическая сторона выражается в конкретности, образности,
наглядности, то есть касается области чувственно-видимого.
Ибо только конкретное воплощение идеала в живом,
видимом образе может завоевать умы и сердца людей.
Это эстетическое условие плодотворности облегчает
возможность судить о достоинствах произведения и
современникам. Ибо, именно будучи современником
художника, человек испытывает на себе самом, убеждает или
не убеждаетего выдвинутый идеал. Объективно это
условие целиком и полностью связано с умением художника,
с тем, действительно ли конкретно понимает он
увиденный идеал, умеет ли он узреть духовным взором то, что
должен представлять собой и должен переживать
человек желаемого типа. Этого, несомненно, можно
достигнуть только в том случае, если художник обладает
исключительной силой интуиции, потому что здесь само
обозрение должно быть творческим.
Искусству не всегда удавалось доводить свой
этический идеал до вполне конкретного образного выражения.
Средневековому пластическому искусству это удалось
лишь весьма условным образом; ему недоставало живого
ощущения человеческого тела. И когда ранним
Ренессансом были найдены необходимые художественные формы,
в особенности в живописи, то это был уже не тот
человеческий идеал, о котором шла речь выше.
Стремление оправдать все исторически возникавшие
идеалы отношением их, например, к чувству времени
является ложной тенденцией в истории искусства, и прежде
всего эстетики. Скорее всего чувство времени состоит в
господстве определенных идеалов, по меньшей мере ими
определяется. Относительность, конечно, есть, но она
имеет свои основания, и эти основания лежат уже в
образовании идеала или же, соответственно, в его отсутствии.
Мы видим, что в связи с этим в искусствах снова
встает проблема свободы и произвольного усмотрения
художника. Она, несомненно, актуальна там, где искусство при
создании образов стремится выйти за пределы
эмпирически данного, то есть выходит из границ простого копи-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 365
рования. Если вдуматься в вышеприведенные примеры
произвола художника и поставить их для сравнения рядом
с признанным в искусстве идеальным образцом, то
нельзя избавиться от мысли, что должна существовать
художественная необходимость, которая противостоит
произволу художника. Отличие свободы от произвола - также и
в практической области - состоит именно в том, что
свобода не является выстрелом в небо, не встречающим
сопротивления, а должна считаться с весьма определенной
детерминированностью, то есть в своей
индивидуальности она должна подняться выше этой необходимости.
Это, кажется, противоречит приведенному выше
определению эстетической свободы, в котором нашло свое
выражение понятие свободы возможности (без
необходимости и "от" нее). Ибо в искусствах речь идет не о
воплощении увиденного, и искусство остается в пределах мира
явлений.
Но, несмотря на это, в художественном сознании - и в
эстетике - непоколебимо держится представление о
внутренней необходимости, которая господствует в
произведении искусства и относится как раз к его способности
создавать образы. Под этой необходимостью понимаются
отнюдь не этическая задача, не долженствование (kein
Sollen), а также не какое-либо другое требование
практического характера, а подлинная эстетическая
необходимость, которая как некая закономерность насквозь
пронизывает все произведение художника и связывает его в
единое целое.
е. Художественная необходимость и единство
Если бы художественная форма не имела своего
собственного закона, быть может, в искусстве все было
бы отдано на произвол личного усмотрения художника.
Под законом художественной формы мы должны
понимать не такой закон, который кто-то мог бы или должен
был бы ей предписать, а, напротив, такой, который она,
со своей стороны, предписывает как творящему, так и
оценивающему сознанию. Это не всеобщий закон
искусства, а лишь закон отдельного произведения искусства. И
все же это закон, который связывает воедино части
целого так, что их нельзя ни заменить, ни переместить; это и
есть внутренняя необходимость, связывающая части
таким . образом, что одна вытекает из другой, тянет за
собой другую.
366 Часть вторая. Оформление и расслоение
Существует ли, однако, что-либо подобное в
художественной форме? Конечно, существует: каждый образ
имеет свою внутреннюю последовательность. Грубо
говоря: если попробовать переместить части двух
скульптурных фигур и (с самой осторожной заделкой, с
восполнением мест поломки) переставить эти части от одной
статуи к другой, из этого получится бессмыслица.
Именно в том и состоит тайна торса статуи, что она всегда
воздействует на зрителя как целое, потому что ее
формой как целого и формой всех ее частей в совокупности
определяется вместе с тем и положение каждого из ее
членов. Это ясная внутренняя необходимость, и притом
необходимость чисто эстетическая: при охвате взглядом
всего произведения от торса статуи исходит даже какая-
то особая прелесть, особая привлекательность для
оценивающего ее зрителя. Это очарование никоим образом
не поднимается до фактического восполнения
(Erganzen); оно ограничивается синтетической игрой
фантазии, которая, однако, должна рассматриваться
очень серьезно и иметь строгую направленность на
наличное (an dem Vorhandenen). Это было бы невозможно,
если бы не существовало тесной внутренней
взаимосвязанности частей, которая распространяется как
необходимость и на недостающее.
Такая же эстетическая необходимость распознается
нами и в других многочисленных явлениях, например при
создании поэтом какого-нибудь человеческого
характера. Мы знаем такие характеры, которые производят
впечатление отсутствия единства и которые выражают не
действительно внутреннюю раздвоенность, какая бывает
у живых людей, а является результатом лишь
непоследовательного компонирования и изображения. Мы
воспринимаем это отсутствие внутреннего единства как
поэтический недостаток, и тогда эстетическое чувство
отвергает произведение. Нам известны также целые
поэтические произведения - например, драмы и т. п., - в которых
отсутствует единство, когда произведение само по себе
"распадается" на части или "теряет ясное направление".
Это явление легко выступает там, где автор теряется в
многообразии деталей, в особенности в средних слоях,
которые должны содержать композицию материала.
Это относится также и к неизобразительным
искусствам: к музыке и архитектуре. В композиции обеих есть
примесь неорганического, отсутствие логического
оправдания которой мы чувствуем даже без анализа произве-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 367
дения. Сильнее всего эта последовательность выражена в
великих произведениях музыки. Их величие заключается
как раз в той внутренней необходимости, с какой целое
развертывается в каждой отдельной музыкальной теме,
фразе, части, в опусах, состоящих из нескольких
музыкальных предложений. На этой необходимости покоится
единство и целостность композиции, и с ней же связано
явление духовного движения во внутренних слоях.
Каждое искусство имеет, конечно, свой особый род
необходимости, который нельзя переносить на другие виды
искусства; кроме того, изобразительные искусства
отличаются в этом отношении от неизобразительных; в
последних господствует чистое единство формы в каждом
слое. Но это ничего не меняет в том, что закон внутренней
необходимости относится ко всем видам искусства.
"Внутренней" эта необходимость является постольку,
поскольку она не связана ни с какими внешними
условиями, а как "имманентная правда" не означает ничего иного,
как согласованность картины в целом. Характер этой
согласованности таков, что, если даны некоторые составные
части целого, остальные этим тоже уже определены и не
могут быть произвольно опущены. Скажем точнее: это
значит, что в остальных частях картины определено не
все, но нечто очень существенное. Следовательно, такого
рода необходимость распространяется на части или
члены целого - притом именно в их взаимных отношениях - и
на целое. Хотят или не хотят назвать это
закономерностью, так как в каждом произведении эта
закономерность является другой, остается делом вкуса.
И напротив, ясная постановка этого вопроса важна для
отношения к художественной "свободе". Именно
последняя прежде всего противостоит в качестве антиномии
необходимости в художественном произведении. Свобода
затрагивает именно игру формы, возвышение формы над
эмпирическим, отбор материала, отбрасывание ненужного
и т. д. Эта антиномия неразрешима, если понимать
эстетическую свободу как произвол, то есть как возможность
произвольно изменять форму. Однако такое ее понимание
является ошибкой.
Свобода здесь, как и везде, где она выступает,
является не негативной, а позитивной. Она не означает
отсутствия закономерности, не означает также отсутствия
детерминированности, а вносит свою собственную
дополнительную автономную закономерность и
детерминированность. Скажем более определенно: в области творчес-
368 Часть вторая. Оформление и расслоение
кого оформления есть свои принципы единства и
целостности, которые не встречаются в других областях. Эти
принципы действуют в произведении искусства как
строгая необходимость, однако, со своей стороны, являются
независимыми от других принципов, будь то принципы
бытия или долженствования (des Sollens). Следовательно,
они сами по себе осуществляют эстетическую свободу
творческого духа. И так как речь здесь идет не о
претворении в жизнь, а об уходе от действительности (urn
Entwirklichung) и только о явлении, то эти принципы не
могут прийти в столкновение с другими принципами. Вот
почему этическая свобода является большой философской
загадкой, эстетическая же свобода отнюдь не является
таковой, ей ничто не противостоит. И потому эстетическая
свобода идентична по содержанию эстетической
необходимости. Для творца она представляет полную свободу
вторгаться туда, куда он пожелает, но желать он может
лишь того, в чем есть единство и необходимость.
г. Единство произведения
и свобода творчества
Если понять эту присущую художественной свободе
внутреннюю необходимость, то не представит никакого
труда отличить свободу от произвола: произвол лишен
внутренней необходимости, в нем отсутствует закон,
единый принцип, на основе которого создается
художественный образ или картина. Если закон и единый принцип в
произведении всегда можно было распознать с первого
взгляда, то произволу в искусстве оставалось бы мало
места и творения, в которых нет таланта, тотчас же
выдавали бы себя каждому. Однако в художественной жизни
этого нет.
Хотя мы не можем достаточно глубоко заглянуть в
творческий акт, опыт все же учит нас, что творец в
большинстве случаев находится в мучительных поисках
убедительного единства, которое мерещится в его
воображении и которое он с трудом нащупывает. Он пытается это
сделать различными способами: делает проекты,
наброски, отбрасывает их, все вновь и вновь пытаясь достигнуть
этого единства. Нередко бывает достаточно только
одобрения зрителя, которое убеждает и самого творца. Это
одобрение служит проверкой на примере наличия
убедительности в созданном произведении. Однако и это не
является вполне надежной проверкой. Ибо если даже
сам творец затрудняется в вопросе о критерии, то еще в
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 369
большей мере это должно относиться к оценивающему
его творение зрителю, сознание которого может
оказаться отсталым или чем-нибудь другим, неадекватным для
такой оценки! Если ему недоступен особый способ
ведения, то он не поймет произведения. Иногда бывает, что
целое поколение современников художника
отказывается понять новое в его искусстве. И тогда гениальный
художник вместе со своим произведением оказывается
совершенно изолированным в свою эпоху, и это является
самым тягостным испытанием его таланта, точнее, его
веры в свой талант и в свою способность твердо
придерживаться того, что он узрел и что ощущает как внутренне
необходимое. Если художник не выдерживает этого
испытания, то он, вероятно, ошибался в оценке своего
произведения. Трагична судьба художника, не получившего
признания в свою эпоху.
Бывает и наоборот. Публика, состоящая из ценителей
искусства, может быть захвачена и увлечена новизной
внешнего эффекта, за которым не кроется никакой
внутренней необходимости. Тогда появляются те
псевдознаменитости в искусстве, которые имеют сенсационный
успех, но уже спустя несколько лет оказываются забытыми.
Они по справедливости представляют собой
исторические феномены "манеры", следовательно, в конечном
счете феномены художественного произвола. Сразу
правильно их распознать и отклонить - даже и для знатока не
всегда легко. В периоды, когда что-либо оригинальное
появляется редко, это весьма обычное, часто
встречающееся явление.
Эстетика не ставит перед собой задачу находить
практически применимые критерии. Напротив, эстетика
должна остановиться в этом вопросе на утверждении, что
подобных критериев не существует и с точки зрения
теории они даже не могут быть даны. То, что наука об
искусстве постоянно вновь и вновь выступает с
догматическими суждениями, не должно привести к заблуждению в
этом вопросе. Подобные суждения покоятся на легко
понятном желании выйти из границ, на что отдельных людей
толкает стремление к новизне или субъективные
пристрастия. Отдельный человек подвержен здесь
исторически обусловленным внушениям века.
Но даже без претензии на вынесение каких-либо
решений у эстетики остается здесь одна важная задача:
выяснить, что, собственно, надо понимать под единством
какого-нибудь поэтического произведения, поскольку оно
370 Часть вторая. Оформление и расслоение
покоится на внутренней необходимости и все же
оставляет простор для свободы творчества. Этот вопрос не нов.
Он когда-то в начальном периоде зарождения теории
драматического искусства был актуальным, и в этой связи
было выдвинуто учение о "трех единствах": единстве
места, единстве времени и единстве действия. Такое
рассмотрение весьма односторонне, отчасти даже
поверхностно, однако оно все же является началом и попыткой дать
ответ на поставленный вопрос.
Центральным, по сути дела, является здесь только
единство действия. Оно действительно представляет
собой нечто существенное, причем именно в смысле
внутреннего построения. Однако оно недостаточно, так
как касается только одного слоя в построении
поэтического произведения. Требуется же такое единство,
которое охватывало бы все слои. Поэтому если ограничиться
только средними слоями драмы, то по другую сторону
единства действия должно стоять какое-то единство
движения и мимики, которое в общем охватывает и
манеру говорить, дикцию, характер речи; оно представляет
собой нечто вроде единства жизненного стиля
выступающих персонажей.
По ту сторону (jenseits) единства действий должно
быть также и единство характеров: наличие
выдержанности (das Durchgehaltensein) такой же духовной обработки.
И, кроме того, единство человеческой судьбы, которое
также не совпадает с единством ситуации и действия.
Только тогда, когда мы берем эти виды единства
различных, ступенями расположенных в драме слоев в их
совокупности, мы приближаемся к единству произведения в
целом. Последнее и само является ступенчатым и
представляет собой сложное многоплановое единство.
Да, но вопрос состоит в том, можно ли этим
довольствоваться. Ибо само собой разумеется, что слои не
просто расположены один около другого, а находятся в
зависимости друг от друга; это видно уже из того, что
более глубокий слой всегда должен проявляться в
оформлении переднего слоя. Единая выдержанность (Durchhalten)
стиля проявления есть условие для появления единства
ситуации и действия; выпадение из общего стиля делает
и их недостоверными. Последнее является также
условием появления единства характеров, а оно в свою очередь
условием для того, чтобы стало видимым единство
судьбы и т. д.
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 371
Эта зависимость между ступенями, очевидно, играет
роль общего закона и является также и во всех других
искусствах основополагающей для осуществления в них
внутренней необходимости и единства. Только в
произведениях живописи все отношение единства должно быть
расположено преимущественно во внешних слоях. В
строительном искусстве это единство реально ощутимо
во взаимоотношении целевой композиции, композиции
пространства и динамической композиции, которые,
несомненно, образуют между собой взаимообусловленное
единство.
Быть может, самым глубоким является понимание
единства в музыке. Это единство располагается здесь
ступенями, идущими вверх от относительно мелких
частей к крупному единству музыкальной фразы и целого
произведения, состоящего из многих музыкальных фраз.
Здесь также ясно выражена внутренняя необходимость
целого в творчестве музыкальной формы, так как
логическая последовательность является здесь условием
единого воздействия. Это особенно поучительно потому, что
музыка является самым свободным из всех искусств: она
свободна от "материала" и от цели. Но как раз этому
самому свободному из искусств присущ наиболее
замкнутый тип внутренней необходимости и единства. Ни в
одном другом искусстве нельзя с большей ясностью
продемонстрировать, что единство произведения и свобода
творчества тесно связаны между собой.
Сверх этого мы можем произвести еще один
сравнительный категориальный анализ единства. Й поскольку
здесь речь идет о замкнутом единстве какого-то
образования, которое, несомненно, имеет характер сложного
подчинения, то при этом мы должны исходить, по
существу, из изменения этой категории подчинения (der
Gefugekategorie). Это изменение дано в "Aufbau der realen
Welt", глава 33, пункты "б" и "д". Но там перечислены
далеко не все типы подчинения, например, как раз ничего не
говорится о структуре художественного произведения.
Анализ последнего затруднен тем, что оно не имеет
единого способа бытия. Но если мы отвлечемся от этого, то
надо сказать, что эта структура особенно сложного
построения, то есть она связана с особенно жесткой
внутренней необходимостью.
Пусть подумают о том, что уже в переднем плане
произведения искусства имеет место отбор, который в
противоположность соответствующего рода реальным объ-
372 Часть вторая. Оформление и расслоение
ектам сводит деталь к минимуму, что часто приводит к
большой экономии, но вместе с тем способствует
образованию богатства в сфере явлений, намного
превосходящего богатство действительности. Отсюда становится
ясным, что здесь при обозрении возникает впечатление
тотальности, которая определена характером единства
структуры. То же самое происходит в произведении
поэтического искусства с живостью образов, в живописи - с
воодушевленностью мимики или выражения, а также в
музыкальном произведении - с богатством переливов и
переходов, движения, парения и ухода в себя.
Стоит подумать только о том, что здесь нет общих
законов, правил, принципов, как это имеет место в
структурах другого рода - динамических, органических, родовых,
в структурах общества. Ибо каждое произведение
искусства строго индивидуально и типическое является в нем
только подчиненным.
С этим индивидуальным характером структуры
художественного произведения связано то, что художник не
зависит от правил или образцов, а может работать,
только будучи свободным. Но это положение должно быть
правильно понято. Оно не означает, будто творец может
стоять вне традиции и не должен учитывать созданные
образцы. Оно означает только то, что традиция его
искусства состоит не в правилах, которые он мог бы заучить и
действовать согласно им; именно так всегда пытается
поступать дилетант. И образцы не являются для
художника оковами лишь в том случае, если он достигает
большего, если ему удается кое в чем превзойти их.
Творить свободно вовсе не значит метаться из
стороны в сторону или непременно гнаться за чем-то новым;
это значит, что надо понять, схватить интуитивно
внутреннее единство и необходимость построения в целом - не в
одном слое, но заранее проникнув во все слои - и тем
самым найти способ придать материи внешнюю
чувственную форму, найти слова, звуки, краски или подходящий
для скульптуры материал, найти так, чтобы была насквозь
видна вся последовательность оформления всех глубоко
лежащих слоев. Такого рода творчество является
"свободным" в том смысле, что оно открывает и использует
новые возможности, позволяет увидеть скрытое.
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 373
ГЛАВА 22
ТРЕБОВАНИЕ ПРАВДЫ В ПОЭТИЧЕСКОМ
ИСКУССТВЕ
а. Ложное требование правды
Следует строго отличать вопросы внутренней
необходимости и единства от вопроса о требовании
правдивости, как он выступает в изобразительных искусствах. Здесь
речь идет не просто о внутренней логике, единстве и
целостности, а также не о теоретическом мышлении,
представляющем собой некий аналог "внутренней правды", а о
существовавшей гораздо раньше нее трансцендентной
правде. Тем самым мы вновь подошли к проблеме
"подражания и творчества" (гл. 20, пункт "а"), но на этот раз с
точки зрения обязанностей искусства по отношению к
действительной природе и к действительной
человеческой жизни.
Пышным цветом распустившееся в начале нашего сто
летия "эстетство" проявило слишком легкий, несерьезный
подход к этой обязанности. Оно поставило вопрос так:
разве нельзя в конце концов всякий набросок, всякий
искажающий натуру рисунок считать творческой
оригинальностью? Автономность, безусловная самостоятельность
силы воображения художника, а также и исполнителя не
может быть оспариваема полностью: копированию
противостоит творческое преобразование, и художник имеет на
него право. В противном случае он не мог бы дать
возможность проявиться тому, что в переплетениях событий
реальной жизни открыто только ему, ясновидящему, но
скрыто, от многих других.
Но как же должно быть в отличие от копирования
правильно соблюдено требование правды в искусстве и
выполнен долг художника быть правдивым? При этом сразу
же думают опять о связи искусства с тем, что дано в
жизни, что известно из опыта. Кое-что из этого является
оправданным, но только это не должно быть понято в
смысле творческой истины, то есть в смысле голого
соответствия реально существующему.
Но как же должно быть понято это требование в
положительном смысле? Данная проблема не может быть
разрешена, если исходить из принципа придания формы,
хотя, конечно, здесь речь идет именно о форме: о придании
формы как самой материи, так и материалу, ибо обе эти
формы, как было уже показано, настолько зависят одна
374 Часть вторая. Оформление и расслоение
от другой, что искусство всегда представляет собой
оформление какого-нибудь материала "в" какой-то
материи ("in" einer Materie). Полезно будет сначала
ограничить данный вопрос рассмотрением его в области одного
отдельно взятого вида изобразительных искусств. Более
подходящим для этого является поэтическое искусство,
потому что в нем требование правды, без сомнения,
выступает в более отчетливом виде.
"Поэты слишком много лгут", - говорил Ницше. Он имел
при этом в виду дезориентирующее влияние поэзии,
которая своим приукрашиванием действительности наносит
ущерб правильному взгляду на жизнь. Так ли это на самом
деле - не берусь сказать. Но приходится сознаться, что
поэтическому искусству в самом деле угрожает такая
опасность.
Мы должны здесь начать с самого главного. Речь идет,
конечно, не о каком-либо ограничении "радости
свободного выбора фабулы". Фантазия есть и остается
извечным первоисточником поэтического творчества. И тот,
кто хотел бы понять требование правды в поэтическом
произведении как противоположность фантазии, с
самого начала понял бы его неправильно. Это можно
стократно доказать на любом примере. Вот перед нами древняя
форма народной поэзии - сказки. Будучи торжественной,
являясь носительницей разного рода верований и
суеверий, сказка полна чудесного и сверхъестественного. И
независимо от того, принималась она когда-то за чистую
правду или нет, и современный человек охотно слушает
сказку с исполненными любви подробностями из жизни
фей и великанов, заколдованных принцев и говорящих
зверей. Ему и не приходит в голову связывать все эти
предметы с несообразным с ними требованием
правдивости. Достаточно уже того, что люди вообще могут так
верить и так чувствовать. То же самое относится к
легенде и саге, к народному эпосу и даже в еще большей мере
к художественному эпосу.
Но если мы даже отвлечемся от "чудесного", то и тогда
материал поэзии не претендует на правду в границах
естественного, то есть в смысле действительного
существования лиц и событий. Ни у Шиллера, ни у Швабса образ
Жанны д'Арк не соответствует историческому образу.
Однако и у того и у другого этот образ оказывает
исключительно сильное драматическое воздействие. Только дети
читают рассказы, воспринимая их как изображение
реального, взрослый же знает о нереальности рассказывав-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 375
мого, или, вернее, он знает, что для поэзии не имеет
значения, реальность это или нереальность. То же самое
относится к роману и к драме, даже в тех случаях, когда
материалом для них являются действительные, например
исторические, личности и события. Последнее может
иметь свои границы при изображении особенно
известных лиц. Однако при отборе материала эта граница может
быть легко обойдена.
Во всех этих вещах поэт пользуется самой большой
свободой. Это можно выразить еще так: нигде на широком
поле композиции материала поэт не наталкивается на
какое-либо ограничение в свободном творчестве образов,
нигде и ни в чем от него не ждут педантичной
согласованности с реальным, не говоря уже о том, чтобы этого могли
требовать. Вполне достаточно, если, работая на
материале истории, он принимает во внимание еще живые
симпатии своей публики. И нетрудно понять, что такая свобода
еще более расширяется в лирике. Высказывает ли поэт
боль любви, которую он сам переживает или когда-либо
пережил, пишет ли он только потому, что понимает
чувства другого, - это ничего не меняет в красоте,
выразительности и трогательности его стихов. То же самое верно
и по отношению ко всякому поэтическому выражению
чувств.
Другой вопрос состоит в том, может ли поэт
убедительно выразить то, что он сам пережил. На это отвечали
по-разному. Возможно, что на этот вопрос нельзя
ответить в общей форме, потому что способность
художественного перевоплощения в другое лицо, глубоко входить в
чужие переживания дается каждому в разной степени.
Поэтому мы можем сказать, что поэту с богатыми личными
переживаниями доступен несравненно более человечный
подход к жизни и он может создать более убедительные
образы, чем поэт, который сам мало пережил.
Нам остается здесь предъявить к поэту еще одно
законное требование, например требование знания жизни и
людей, что представляет собой нечто совершенно
отличное от богатства личных переживаний. Знание людей
состоит в умении разгадывать их, видеть их насквозь,
проникать во внутренние переживания, которые они скрывают
от посторонних; сюда же относится дар вторгаться и
убеждать, то есть смотреть на все критическим оком. Этот
дар особенно необходим сатирику и создателю комедий.
Но этим вовсе не сказано, будто бы изображенные в
комедии фигуры, поскольку они взяты из жизни, должны быть в
376 Часть вторая. Оформление и расслоение
комедии или сатире действительно "такими", как в жизни.
Бывает также очень несправедливое и ложное
высмеивание, выставление к позорному столбу и т. п. Пусть
вспомнят, как Аристофан высмеивает Сократа в vevj/e^ai
("Облаках"). Акцентировка на достоинства героев также всегда
свободно движется в широких пределах, не будучи
слишком связана реальностью.
Наконец, не следует забывать, что мы с такой же силой
ставим перед поэтом требование, чтобы он обладал
особого рода идеализмом: он не должен выставлять напоказ
одни только слабые стороны и недостатки человеческой
натуры, а должен распознавать в нем и благородное и
извлекать это благородное из грязи. Однако как первое,
так и второе больше относится к этической стороне
поэзии, чем к требованию правды.
б. Требование жизненной правды
Пока нам известно только то, что не является
требованием правдивости в поэтическом искусстве. Мы еще не
знаем, чем является это требование в положительном
смысле. Это еще предстоит подвергнуть обсуждению.
Именно здесь должна быть внесена ясность в данный
вопрос. Ибо в соответствии со смыслом этого требования
оно может быть понято как поиски далеко идущего
реализма, то есть натурализма, но может быть понято и
совершенно иначе.
Уже теперь мы можем сказать, что то, чего мы ищем в
поэзии и чего мы от нее требуем, является не правдой
фактов, а правдой жизни. Но что именно обозначает это
слово, не так легко выразить, хотя в известной мере
каждый это понимает. Ведьма в сказках, если она хитра и зла,
тоже воздействует на слушателя как нечто жизненно
правдивое, но до известных границ, за пределами же их
это ощущение прекращается; правдоподобное
впечатление производят даже спасительные голуби Золушки,
когда они вознаграждают ее за любовь. Анекдот, который
рассказывают о каком-нибудь знаменитом человеке,
производит впечатление правдоподобного не потому, что он
"так хорошо преподнесен", а потому, что этот анекдот
характеризует знаменитого человека таким, каким он был
или каким его знали современники. Древние имели целую
литературу анекдотов, в последующем они перешли в
исторические сочинения; но, с другой стороны, они всегда
оставались также родственными поэзии. Нежизненным и
неправдоподобным нам кажется тот анекдот, который да-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 377
ет искаженный образ личности, затемняет ее или дает
неверную зарисовку.
Почему образы таких романов, как, например, романы
Феликса Дана, Георга Эберса, Густава Фрейтага,
воздействуют как не совсем правдоподобные, несмотря на то,
что они нарисованы с более конкретной наглядностью?
Потому что они вписаны в картину истории, которая
состряпана из представлений XIX столетия: эти поэты
являются учеными, и в основе того, что они хотят изобразить, нет
никакого художественного взгляда на жизнь. Вот почему в
таких романах образы, ситуации и поступки, а также и
человеческие судьбы не могут быть жизненно правдивыми.
Совсем иначе происходит, когда поэт берет исторический
материал только в качестве повода, в остальном же не
претендует на изображение картины чуждой ему эпохи.
Так обстоит дело, например, с шекспировским Цезарем
или Антонием, Кориоланом, Генрихом IV или даже
Макбетом. Шекспир здесь черпает образы из жизни, из
собственных наблюдений над ней, а потому эти образы,
как и судьбы людей, которые он изображает в своих
произведениях, воздействуют правдоподобно.
Из этого уже приблизительно видно, что представляет
собой жизненная правда; в отличие от правды фактов она
также состоит в совершенно определенном созвучии с
реальной жизнью, но не с единичным и неповторимым в
ней (индивидуальным), а с закономерным и человечески
существенным; и, кроме того, в значительной мере эта
жизненная правда заключается в человечески типичном,
что свойственно не всем людям, а лишь определенной
категории людей. И поскольку человеческий тип
представляет собой нечто целое и единое в себе, то это в то же
время означает, что предъявляемое к поэзии требование
жизненной правды связано с обсуждавшимся выше
требованием единства и внутренней необходимости и даже
прямо в него переходит. Как неправдоподобные
воздействуют именно такие образы, которые не связаны
внутренней необходимостью с единством целого.
Можно сделать еще один шаг вперед в этом постулате
правдоподобия, распространив его и на область
индивидуального. Ибо поэзия в своей конкретности имеет дело
не только с типами, но также и с высоко индивидуальными
отдельными характерами. Гамлет и Лир, Валленштейн,
Тассо и Мефистофель не входят в схему типов, как не
являются и идеальными типами, в схему которых они могли
бы быть включены, тем более Глан и Мышкин, а также Гед-
378 Часть вторая. Оформление и расслоение
да и Роз-мер. О единстве отдельного характера в его
неповторимости можно сказать то же самое, что и о типе:
оно имеет свой внутренний закон, но только здесь его
гораздо труднее показать, чем там. Это слишком сложно. Но
все-таки мы чувствуем, выдержано это единство в
изображении или нет, в зависимости от того, представляется
нам образ жизненно правдивым или неправдоподобным,
внутренне цельным и нерушимым или разорванным и
только склеенным из кусочков. Это единство есть нечто
такое, для чего не существует никаких критериев, но в
произведении искусства оно имеет важное значение.
Мы приходим к выводу, что посредством одного
только общечеловеческого и типичного не может быть
достигнуто вполне наглядное воздействие. То и другое
производят в своей основе впечатление безжизненного по той
простой причине, что в самой жизни не существует
никаких чистых типов. Поэтому в конечном счете чисто
типические образы воздействуют как неправдоподобные.
Именно так произошло в конце концов со старинной
схемой типических комедий; несмотря на их популярность в
свое время, они изжили себя после того, как исчерпали
свои аффекты, и у более поздних поколений стали
создавать впечатление чего-то окостенелого, искусственного,
то есть неправдоподобного.
Подобный же процесс произошел и с классической
трагедией, и только ее высокий пафос мог в течение
долгого времени прикрывать падение ее роли. Король,
интриган, герой, дурак, чистая дева, хитрый слуга и так
далее или другие прочно установившиеся типы целиком
предопределяли характер поэзии, так как вообще
поэтическое творчество было возможно только в рамках этой
схемы. Поэтому возникла новая драма в лице своих
великих представителей, примером которой является
Шекспир, сумевший наделить все типы, все свои персонажи
чертами живой индивидуальности.
Многие критики и историки литературы не поняли в
этом как раз самое главное: когда они не находили в
произведении чисто обрисованных типов, которых они могли
бы понять, они обвиняли в этом поэта.
Но они были не правы. Только то, что в человеческом
характере выходит за пределы типа, является полным
жизни и действует правдоподобно.
Требование жизненной правды идет значительно
дальше. Оно касается не только персонажей, типов и
характеров, но в такой же мере и ситуаций, конфликтов и их раз-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 379
решения, взаимосвязи поступков, последовательности
событий и неожиданных развязок, роли случая, умелой
или неумелой подачи событий.
Все это должно быть жизненно правдиво. И не только
это, но также и вся обстановка, в которой разыгрывается
действие, настроение заднего и переднего планов,
составляющие жизненный стиль персонажей, в общем и
целом соответствующий их эпохе.
Насколько серьезно надо к этому подходить, можно
показать на отрицательном примере "deus ex machina"
("бог из машины"). Это происходит тогда, когда поэт не
знает, как привести к естественной развязке узел
конфликта, для того чтобы с помощью высшей всемогущей
силы прийти к хорошему концу. Уже древние смеялись над
этим средством и над нарушением жизненной правды,
над недостоверностью, бросающейся в глаза даже
наивному человеку. Но и до сегодняшнего дня в литературе
существует deus ex machina, например в виде
спасительной случайности; нельзя отрицать, что это делает пьесу
несерьезной, она оказывает воздействие только как
комедия. При этом непреднамеренно комедийное
оказывается связанным не с мелочными событиями
человеческой жизни, а исключительно с силами, которые
господствуют над человеком и определяют его судьбу. Здесь
упущено поэтическое требование жизненной правды в
плоскости изображения судеб и случайностей.
Еще смешнее воздействует обычно принятый
упрощенный "счастливый конец", который известен нам в
тысячах вариантов по фильмам, не вытекающий органично
из последовательности событий заключительный исход.
Этот выход дается не через развитие ситуаций, так как он
в значительной степени исходит только из настроения.
е. Проблема слоя в требовании правдивости
Уже из этих относящихся к крайностям примеров
видно, насколько широкой является проблема
жизненной правды, которая распространяется в конечном счете
на все то, что входит в оформление материала в
произведении. Ибо если она касается не только персонажей,
то это требование не имеет никаких границ. Оно
относится ко всему материалу композиции, как в эпосе, так и
в драме и романе, и с соответствующими оговорками
также к области лирического (хотя здесь оно имеет лишь
форму намека).
Требование правдивости не предъявляется ко всем
видам поэтического искусства во всех их деталях именно
380 Часть вторая. Оформление и расслоение
потому, что оно в них повторяется и располагается лишь
ступенями как общее, относящееся к ним всем. Более
того, возникает другой, более существенный вопрос,
который касается одновременно всех видов поэзии: о каком
слое произведения искусства идет речь, когда
выдвигается требование правдивости?
При первоначальных размышлениях это выглядело
таким образом, будто вопрос касается требования
правдивости только в среднем слое, то есть Е слое
художественной обработки духовной жизни и характеров. Это
ограничение тотчас же показало себя как неосновательное:
характеры не безразличны к человеческим отношениям, в
которых они формируются, они должны, следовательно,
быть поняты из этих отношений. Также и наоборот -
человеческие отношения формируются в связи с характерами.
Это коренным образом изменяет положение вещей.
Теперь можно ответить, что из слоев произведения
поэзии по крайней мере четыре средних слоя подходят под
требование жизненной правды. Именно к этим слоям
относятся движение и мимика, ситуация и действие,
духовное раскрытие, судьба людей, в них заключена вся
художественная обработка материала, и в нашей проблеме
речь идет о жизненной правде в придании материалу
художественной формы. Если точнее, ближе подойти к
вопросу, мы найдем, что и этого недостаточно. Скорее всего
сюда будет включен также передний план с его словесным
оформлением, хотя всякий языковый разговорный стиль
воздействует как "правдивый" при обращении к
определенному материалу. Сюда должны быть втянуты равным
образом и оба самые внутренние средние слоя, потому
что существует еще и идеальное, которое находит свое
выражение в поступках и при этом может быть жизненно
правдивым или не правдивым.
Последние самые глубокие слои могут, несмотря на
это, остаться вне игры, так как они несут в себе идейное
содержание (индивидуализированное идеальное и
всеобщий идеал). Но в отношении остальных слоев важно
убедиться в том, что к ним всем относится эстетическое
требование жизненной правдивости и что они только тогда
оказывают эстетическое воздействие, если в известной
мере удовлетворяют этому требованию.
Например, в слое движения, речи и мимики каждый
шаг, каждая поза, каждое замечание, выпадающие из
стиля жизни, который имеет в виду и изображает художник,
могут нарушить картину личности (индивидуальности), ук-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 381
ладывающуюся в условия ее эпохи и окружения, или по
крайней мере наносят ей ущерб. И этот ущерб может
оказаться тем более глубоким, что следующие слои - к
примеру, слой, изображающий поступки, действия, - уже не
смогут появиться. Такое появление обусловлено
приданием им худо жественной формы. В этом слое
романтические образы Эберса, Дана, Фрейтага могут воздействовать
особенно неправдоподобно. Ярким тому примером
является выступление Британуса у Шоу в пьесе "Цезарь и
Клеопатра". Брйтанус говорит и ведет себя, совсем как
англичанин нашего времени, включая даже его воззрения. Это
сделано так, как будто все фигуры пьесы действуют в
наше время, и притом все происходит не всерьез, так как
современное звучание пьесы нарушает жизненный стиль,
который имеет в виду ее автор. И это в ней
неправдоподобно.
Еще яснее это в слое ситуаций и поступков. Быть
может, слишком мало задумываются о том, что внешне
одинаковые ситуации для людей другой натуры, являющихся
детьми другого периода истории, не являются
одинаковыми, и соответственно этому также и поступок,
посредством которого человек реагирует на ситуацию, не может
быть тем же самым даже в том случае, если бы его
характер был такой же.
Можно было бы сказать, что великие поэты всегда
придавали особое значение искусству изображать предметы
ваянием, оформлению в этом слое, хорошо зная, что от
наглядного восприятия ситуаций зависит так же много,
как и от всего остального. Есть романы, в которых
большая часть изображаемого падает на развертывание
картины жизненных условий, так что в них исчезают в конце
концов сами изображаемые события. Так надо понимать
большую часть произведений Бальзака, Достоевского,
Томаса Манна, Голсуорси, Гамсуна...
Драма должна быть построена в этом отношении
более экономно, потому что она строго ограничена; она не
может заниматься описанием, слишком
распространяться; поэтому она может работать с помощью текущих
событий, как это делает сама жизнь: то, что называют
развитием драматической сцены, представляет собой сжатый
вывод из ситуаций, в которых каждая может быть
непосредственно понята из предыдущих. С другой стороны,
приемы действия (точнее, их подлинная инициатива)
могут быть поняты только из ситуаций. С поступками же свя-
382 Часть вторая. Оформление и расслоение
заны вина, заслуга, ответственность и т. д.,
следовательно, самые важные решения.
Сама по себе эта связь очевидна. И едва ли найдутся
поэты, которые не были бы ею охвачены и не действовали
бы по ее закону. Поэтому здесь трудно даже привести
примеры ошибок. Ошибки в описании ситуаций имеют
место лишь тогда, когда из представленного невозможно
понять, почему какой-нибудь персонаж поступает именно
так, а не по-другому, предполагая, что его характер
выдержан.
Что касается слоя формирования судьбы, то здесь
требование жизненной правды имеет особенно большое
значение: в тот момент, когда поэт формирует
какую-нибудь человеческую судьбу, он изумительно близок к
положению, какое занимает в глазах верующего божество. И
если он, приблизившись к этому положению,
разыгрывает в то же время дилетантского бога, то то, что он
изображает, представляет собой ложный мир, перевернутый
вверх дном.
Вот почему выше были приведены примеры
появляющегося из машины бога и счастливого конца,
воздействующие почти как привидения. Но они, конечно, слишком
грубы и неуклюжи. Наиболее характерным является как
раз то, что в самой естественно увиденной и
представленной судьбе все же кое-где встречаются
неправдоподобные, или неестественные, искривления. Таким является,
например, конец произведения Золя "Рим", где эффект
достигается тем, что влюбленные (племянник и
племянница кардинала) умирают вместе, причем девушка
умирает вслед за возлюбленным (умирает "естественной"
смертью).
Это обман судьбы. Ясно видно, как поэт ради
излюбленной им идеи неестественно искажает судьбу людей.
Поэзия всех времен полна подобных неправдоподобнос-
тей; их чаще всего едва замечают, потому что люди
привыкли многое прощать поэту. Причина часто кроется в
том, каким образом сами персонажи определяют свою
судьбу их поступками, и тогда отправной пункт надо
искать в характере; если же характер изображен как
гармонический и разумный и появляется определяющее судьбу
упорство, тогда судьба нарисована неверно. Вихерт
("Простая жизнь") заставляет своего Орля в последний
момент отказаться от открывающейся перед ним новой
жизни (несмотря на мудрость и на полную ясность) ради
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 383
идеи искусственно-трагического отречения. Это
счастливый конец наизнанку.
Можно было бы спросить: что именно так легко
приводит поэта к искажениям в плоскости судьбы? На это
есть ясный ответ. Он касается следующих положений: 1.
Человек в жизни является бессильным по отношению к
судьбе, ибо она состоит из факторов его жизни, которые
никоим образом не зависят от его понимания или
желания. В поэтическом искусстве он имеет возможность
формировать судьбу; здесь он овладевает ею и хочет
показать, что он сделал бы, будучи на месте провидения.
Это соображение может быть названо самонадеянным
дерзким сознанием. 2. Второе состоит в протесте
против случайности и бессмысленности происшедшего.
Человек имеет тенденцию, склонен воспринимать всякую
судьбу как действительное "предназначение" какого-то
провидения, предсуществующей инстанции Этот мотив
можно назвать метафизически телеологическим. 3.
Третий мотив состоит в склонности понимать это
предназначение вполне конкретно, как единственно
действительное, причем в него всегда вкрадываются уже
определившиеся собственные стремления поэта. Это бывают
обыкновенно моральные тенденции или понимаемые как
моральные: злодея судьба должна покарать, героя она
должна вознаградить. В трагическом случае наоборот.
Этот мотив, мотив моральной "тенденции", можно
назвать прямо, без околичностей.
Второй мотив самый невинный: вполне правомерно,
что судьба выступает как "удачная", и не потому, что так
бывает в жизни, а потому, что люди так думают, итак же
думают персонажи поэтических произведений. В этом
смысле телеология в поэтическом изображении судьбы
"правдоподобна". Самым нехудожественным является
третий мотив: моральное звучание в формировании
судьбы, - но оно очень человечно, и его часто радостно
приветствует человеческое чувство читателя. Его много раз
израненное чувство справедливости "наконец" оказывается
признанным. Самым важным остается первый мотив. Уже
потому, что поэтом, даже великим поэтом, этот мотив
редко осознается.
г. Жизненная правда в крайних слоях
Отсюда с очевидностью вытекает, что поэтическое
требование жизненной правды в первую очередь связано
со средними слоями поэтического произведения. При
384 Часть вторая. Оформление и расслоение
этом оно распространяется на эти слои равномерно. То,
что жизненная правда находится под особой угрозой в
плоскости определения судьбы именно вследствие
свободы поэтического творчества, имеет внеэстетические, в
конечном счете метафизические основы.
Беглый набросок картины, однако, нуждается в
некотором дополнении. Чтобы восполнить недостающее в
ней, мы должны сказать еще несколько слов об остальных
слоях, поскольку требование жизненной правды
распространяется также и на них. Это прежде всего передний
слой написанного слова. Выше было уже сказано, что оно
может оставаться глубоко безразличным к "правде
поэзии". Но как надо понимать его участие в таком идеальном
требовании?
"Слово" всегда выражает больше, чем только свой
смысл. Оно выражает, например, настроение говорящего
лица или даже нечто о его мнении в отношении
сказанного (быть может, скептический оттенок его мысли). Можно
сказать о серьезном серьезно, но можно также сказать и
шутя; и на основе этого контраста при определенных
условиях воздействие может быть особенно
проникновенным. Это относится в широких пределах также к
написанному слову. Здесь заложена возможность нюансов
воздействовать стилем речи и письма жизненно
правдоподобно или неправдоподобно. Это никоим образом не
является только вопросом хорошего вкуса в построении
своей речи, но в такой же мере вопросом
правдоподобного действия.
Тот, кто, создавая современный роман, впадает в стиль
сказки, окажется неубедительным. Тот, кто в
высокодраматической сцене берет тон спокойного созерцания, не
привлечет зрителя на свою сторону. Эта
неубедительность слоев и есть неправда жизни. "В жизни этого не
бывает", - говорит непосвященный. И он прав. Если даже
думать о лирическом стихотворении, то и здесь
одно-единственное неподходящее слово может разорвать тонкую
ткань, которая строилась на прозрачности звучания слов.
Существо искусства поэта состоит в том, что нужное,
верное слово приходит ему на ум в необходимом месте, и это
слово определяется, конечно, из глубины дальнего плана,
посредством чего поэт и заставляет говорить этот
дальний план.
Не менее серьезным является требование правды в
последних внутренних, слоях. Эти слои были обрисованы
выше как слои индивидуальной идеи (идеи одного чело-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 385
века) и как слои всеобщей идеи (именно
общечеловеческой). Первая - это сверкание идей отдельных людей,
действующих и совершающих ошибки отдельных лиц;
последняя - это тенденция какого-нибудь произведения,
заключенная во внутренней, невысказанной морали
какого-нибудь романа. Остановимся на последней. Едва ли
мыслимо поэтическое произведение большого значения
без такой всеобщей идеи - его идеи - в дальнем плане. Но
поэтическое произведение с какой-либо тенденцией
подвержено опасности. Оно может сойти с верного пути в
двух направлениях:
1) мораль, идея, мировоззренческие предпосылки
могут сами быть ошибочными, то есть могут находиться в
противоречии с жизненным опытом, и
2) она может быть неправильно подана в произведе
нии - слишком выпячена, чересчур назойлива или,
напротив, выражена слишком неясно, завуалированно,
непонятно, нечетко, и тогда она может отталкивать или даже
исчезнуть.
В обоих случаях общая идея воздействует
неубедительно, противоречит жизненной правде и
воспринимается как неправдоподобное. И оба эти случая не имеют
также ничего общего с "объективной истиной".
Поэт может свою идею - в особенности мораль -
заставить говорить только с помощью событий, говорить
так, как это бывает и в самой жизни, то есть через судьбы
людей, которые всегда нуждаются еще и в другом
толковании. Сам он не должен его высказывать. И не только
потому, что такое объяснение воздействовало бы
прозаически, но вернее всего потому, что его произведение
воздействовало бы тогда не правдиво. Ибо тогда оно
влияет как чье-то толкование. Но оно воздействует как
смущающее, тревожит и вызывает колебания. Мораль или
мировоззрение, высказанные словами, уже потеряли
свою силу, потому что они не показаны в самом
произведении как жизненная правда. Человек, который читает
поэтические произведения, хочет, конечно, также и
учиться, но он не хочет быть поучаемым, как ученик, а
хочет видеть и понимать сам.
Проще обстоит дело с индивидуальной идеей,
случайно появившейся в произведении поэзии, и именно
потому, что поэту труднее с ней с самого начала: ему труднее
увидеть ее, чем показать. Ибо она лишь очень редко
является ему сама, и то только как духовное видение при
наблюдениях над людьми в действительной жизни. Еще реже
386 Часть вторая. Оформление и расслоение
он находит средства позволить другим ее увидеть. В этом
и заключается различие: мировоззренческие моральные
идеи мы можем понять, придумать, сконструировать
абстрактно; индивидуальная же идея не может быть
выдумана, не может быть сконструирована.
В поэзии бывают, конечно, такие фигуры персонажей
или образы, сконструированные на основе предвзятой
идеи или предубеждения; можно указать, например, на
классицизм или на драмы с типическими персонажами-
образцами. Но здесь нигде нет индивидуальной идеи,
которая является предвзятой, но всегда есть общая, чаще
всего тип. Однако в данном случае все это можно
оставить в стороне, ибо оно не касается проблемы. Во всяком
случае, верно, что некоторые художники думают, что они
поняли идею одного отдельно взятого единичного
индивидуума, когда они имеют в виду тип. Именно это и
является заблуждением.
Где действительно понята идея индивидуального
своеобразия - как это часто бывает в образах великих поэтов,
например идея "Сократа" у Платона, - там она всегда
усматривается на основе глубоко индивидуального
переживания одной реальной личности. Хотя художник видит ее
не эмпирически, а, как и все идейное, находящейся над
эмпирическим, он все же всегда извлекает ее только из
очертаний эмпирического и вместе с тем в продолженном
направлении его художественной формы. Это служит
основанием, почему художник не так легко подвергается
опасности создания произвольных конструкций, жертвой
которой он становится в другом случае, когда ему
приходится иметь дело с идеальным. Но именно поэтому во
всякой поэзии существует лишь мало такого, что
возвышается над индивидуальным.
ГЛАВА 23
ЖИЗНЕННАЯ ПРАВДА И КРАСОТА
а. Функция поэзии - объяснение жизни
Эти размышления приводят нас к грани, за которой
жизненная правда произведения поэзии вообще
совпадает с его эстетической ценностью, следовательно, должна
была бы Стать идентичной прекрасному, красоте. Этим
нельзя совсем пренебречь, поскольку здесь речь идет
именно об "изобразительном" искусстве, а последнее с
необходимостью во всех своих трансформациях сохраня-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 387
ет в себе какую-то часть подражания. Отсюда остается
лишь небольшой шаг до полного совпадения.
За это говорит еще и другое. Поэзия должна открыть
читателю кусок действительного мира или какой-то кусок
человеческой жизни. Ибо она в конечном счете есть
раскрытие своеобразия, сущности человека, живущего в
произведении, как открыто доступная миру сущность; но эта
доступность является задачей, которую каждый должен
еще сначала решить. Даже творение опытного художника
обыкновенно обладает этой доступностью лишь в той
мере, в какой она отвечает его практической потребности
познания жизни и человека. За пределами этого мир
обычно для него закрыт. Здесь произведение поэзии
должно заместить, открыть целые области жизни,
которые были для нас недоступными.
Это точно соответствует сделанным выше выводам:
первой функцией художника является "видение", и только
за ним может следовать функция показа. Учение о
видении является общим для всех видов изобразительного
искусства. Следует ли сделать отсюда заключение, что,
поскольку поэтическое искусство имеет дело с человеком,
его задача состоит в том, чтобы чему-то учить людей?
В этом не может состоять смысл требования
правдивости, которое мы к нему предъявляем, и не только
потому, что тенденция в нем понимается слишком
теоретически или чересчур подчинена практическим целям. Но
почему это так? И в чем состоит различие? Чему, собственно,
должно учить искусство, если оно не является
человековедением? Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде
всего уяснить себе существо человековедения и понять,
что в нем не относится к эстетике. Человековедение есть
нечто весьма трезвое и в то же время отрезвляющее. Оно
не впивается открытым, проникновенным взглядом, а
подходит ко всему с недоверием, исходя из другого
опыта. Знаток человека имеет обыкновение смотреть на мир
скептически и легко впадает в пессимизм. Он
рассматривает людей только под определенным углом зрения,
проверяя, честны ли они, добросовестны ли, заслуживают ли
доверия; он смотрит на них только с негативной стороны.
Человековедение направлено негативно. Это имеет свои
практические основания, потому что для знатока человека
всегда важно знать, откуда что происходит и чего оно
может от других ожидать. Речь идет об ориентировке, о
практической осмотрительности, о том, чтобы в каждый
момент знать заранее, что делает другой, как он будет ре-
388 Часть вторая. Оформление и расслоение
агировать и как мы, следовательно, должны по
отношению к нему поступать, учитывая наши цели. Для этого
требуется быть жестким и смотреть на людей лишенным
любви взглядом.
Это как раз и есть то, чему не учит нас поэзия. Она
соприкасается с этим только случайно. Поэзия, как и
искусство вообще, настроена положительно. Она учит не
отвергать и судить, а ценить и находить достоинства,
относиться ко всему с любовью. Ее способ видения есть
видение проникновенного, любящего, всего себя
отдающего взора. Следовательно, поэзия есть погружение в то,
чего другие не замечают и, не видя, проходят мимо. Взор
поэта всегда направлен на скрытые ценности, скрытые
сокровища.
То, что открывает и чему учит этот взгляд, безусловно
правильно: повсюду среди мусора обыденного скрыты
сокровища, на них следует останавливаться,
задерживаться, углубляться в них в том смысле, что поэзия
"раскрывает" или "открывает мир"; она раскрывает его глубже,
шире, чем практические познания человека, но она
раскрывает нечто другое; обыкновенно знаток человека может
в этом не нуждаться. Открытие достойных любви
ценностей практически почти не имеет значения, но оно делает
взгляд на жизнь богатым и отзывчивым ко всей полноте
жизни. Здесь есть еще и второе отличие.
Человековедение остается в границах определенной всеобщности
своих понятий. Оно никогда не распространяется на строго
индивидуальное, а касается только типического.
Индивидуум не интересует его во имя его самого, а только ради
практических целей. Для этого лучше всего найти
правило, чтобы иметь его готовым. Это то, что делает знаток,
изучающий человека: он держит наготове образец, и то,
что под этот образец подходит, тем самым считается
практически познанным и исчерпанным.
Подлинным знатоком человека является тот, кто для
каждого случая держит наготове целую систему
разложенных по ящичкам штампованных форм человеческих
типов, которые достаточно содержательны, чтобы
подвести под них чаще всего встречающееся в жизни,
наиболее ходовые случаи. Поэтому его приговор так обдуман,
так быстро готов и ему трудно ошибиться. Конечно, то, что
выходит за пределы этого типа, не входит в его расчеты.
Это и есть как раз индивидуальное. Знаток человека в нем
не нуждается, оно его только отягощает; поэтому оно не
привлекает его внимания и он отбрасывает его как несу-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 389
щественное. Знаток человека близок к слепоте в
отношении человеческой индивидуальности. Да, он делает себя
слепым, он ее не видит. В этой связи мы должны также
задуматься над тем, что наука о характере доводит нас
только до понятия о типе, а не о действительном характере.
И в этом установка поэзии также обратная: для нее
существенно в отдельной личности как раз атипичное,
только единичное, кажущееся "случайным". Отдельный
человек выступает здесь не в качестве представителя
человеческого вида, а важен сам по себе - иными словами, он
важен для поэта своим своеобразием, своими
особенностями, именно тем, чем он отличается от других. И не
потому, что это своеобразие как-то особенно
великолепно, а просто потому, что в нем заключена конкретная
полнота жизни личности, ее богатство, возможность создать
образ, сходный с оригиналом.
Само собой разумеется, что поэзия с этой своей
двоякой тенденцией, направленной на положительное и на
индивидуальное в человеке, ведет в глубины видения жизни
и к откровениям совсем другого рода, она может быть
знатоком и учителем жизни, может открывать нам глаза
совсем в другом смысле, чем практическое знание
человека, которое всегда есть одновременно отрицание,
непризнание индивидуального. Плененный типическим, взор
знатока человека остается поверхностным, он
совершенно отказывается углубляться во внутреннее, интимное.
Ему далеки всякие чувства общей радости, сострадания,
сочувствия другим людям. Он холоден в самой своей
основе. Именно там, где кончается его область, где он
отказывает, вступает в свои права взор поэта,
преисполненный чувства общей радости и т. д. Этот взгляд горяч,
проникновенен, полон любви. Поэтому он проникает также в
тайные глубины человеческой души, которые
открываются именно только любящему и проникновенному взгляду.
От такого раскрытия человека и человеческой жизни
целиком и полностью зависит как богатство формы
увиденного, так и возможность видеть насквозь, проникнуть в
богатство и глубину явлений.
Только отсюда можно видеть, как обстоит дело с
функцией открывать (новые стороны жизни), присущей
поэтическому искусству, а вместе с тем и то, как связано
требование жизненной правды с правдой
художественной ценности (красоты). Поэтическое искусство
охватывает, конечно, как сущность человека, так и глубины
жизни. Но оно делает это иначе, чем познание, иными спо-
390 Часть вторая. Оформление и расслоение
собами, над ним не так господствует, им не в такой мере
управляет практика при его подходе к отдельным
объектам и их сторонам. Напротив, оно со своей стороны само
указывает, что является значимым, на чем следует
задержаться в жизни и в человеке, не оглядываясь на
другие сопутствующие интересы. Поэтическое искусство
показывает то, что оно видит только вместе с видящим
взглядом, - в образах, картинах, конкретно, не давая
объяснений, не высказывая при этом общих положений,
без "почему" и "каким образом". Оно показывает все это
в его своеобразии и загадочности и таким образом
оставляет его нетронутым.
б. Реализм и его ограничение
Тот, кто обращается к поэзии как психолог, должен
делать выводы самостоятельно. Поэзия не делает этих
выводов. Но ему трудно будет сделать свои выводы,
основываясь на поэзии, потому что открытия, которые он из нее
черпает, лежат не в том направлении, в каком он ставит
вопрос. Поэт "учит" тем же способом, как и жизнь:
посредством самих событий. То, что это не действительные
события, не составляет никакого различия. Различие здесь
составляет только сжатость, большая краткость, отбор,
короче говоря, художественная обработка материала,
притом различие мощное, большое, однако состоящее
совсем в другом и не касающееся этого вопроса.
Поскольку это так, в поэзии, как и в живописи и ваянии,
есть направление реализма. Оно в своей основе не
означает ничего иного, кроме распространенного на многие
мелкие отдельные черты и распределенного между ними
требования жизненной правды: поэтические события,
поэтические образы должны по возможности
воздействовать как действительные события и действительные
образы. Реализм, предъявляющий такое требование, является
здоровой тенденцией в поэзии: в романе, в драме, даже в
эпосе - повсюду он нашел себе широкое признание.
Однако кое-где он наталкивается на кое-какие ограничения.
Почему, собственно? Почему нужно ограничение
реализма, если он является правильно понятым стремлением
к жизненной правде? Почему, например, поэт стилизует
словесный текст для сцены, прибегая к помощи стиха?
Почему режиссер смягчает динамику необработанной,
сырой народной сцены? Почему увлеченный рассказчик
надолго останавливается не только на сценах нищеты, но
и на деморализации и падении? Почему и сам читатель
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 391
жалуется, когда ему предлагают слишком много
отталкивающего? Даже и тогда, когда изображаемая
человеческая среда действительно этого требует? Так, в известном
романе Золя большее внимание, которое он уделил
трущобе, кабаку, среде пьянства, было воспринято в свое
время как излишняя доброта, вернее, как излишек
"правдивого".
Все эти вопросы представляют собой варианты
одного и того же главного вопроса: какое же требование
противостоит тенденции к жизненной правде? Перед лицом
этого вопроса необходимо снова напомнить о другой
стороне поэтического искусства и искусства вообще.
Смысл искусства ведь не исчерпывается тем, чтобы
поучать, делать открытия и делать людей разумнее. Его
первоначальная задача гораздо проще: радовать людей.
В противном случае не было бы смысла говорить об
"удовольствии" от произведения искусства, о "восхищении" и
о "наслаждении". Истина человеческой жизни может при
известных обстоятельствах быть безрадостной. Она
может даже быть угнетающей и мучительной, может даже
омрачить некоторым радость жизни; нельзя говорить о
восхищении таким произведением поэзии, которое
уделяет большое внимание безрадостному и тесно
соприкасается с тем, что смущает и вызывает стыд. Нельзя
отрицать, что существует такая манера рассказа, которая
придает ему преувеличенную самоотверженность,
чрезмерную жертвенность.
Итак, на вышепоставленный вопрос можно ответить
суммарно: другим требованием, которое противостоит
тенденции жизненной правды, является требование
красоты. Его нельзя просто, без оговорок,
противопоставить первому - красота должна быть не в "материале" и
должна заключаться не в нем. Ибо здесь речь идет не
только о материале: придание ему художественной
формы, поэтическая подача материала в первую очередь
является тем, что может перейти границы художественно
допустимого. Реализм в искусствах есть, по существу,
проблема формы.
Тем самым мы приходим к очень странному
противоречию: теперь нам кажется, будто истина и красота
направлены друг против друга как противостоящие друг
другу требования ценности в одном и том же объекте, так что
художник должен как будто выбрать либо одно, либо
другое. Но таким образом данный вопрос не может быть
решен. В этом есть нечто такое, чего нельзя совсем откло-
392 Часть вторая. Оформление и расслоение
нить. Здесь перед художником всегда стоит задача найти
правильный средний путь, поскольку он имеет дело с
материалом, который взят из сферы мелкого в человеке и
человеческих слабостей.
Вместе с тем здесь над многим надо поразмыслить,
многое остается сомнительным.
Во-первых, к поэзии часто примешиваются
соприкасающиеся с ней практические интересы - общественные
отношения, политические тенденции, которые всегда при
всевозможных брожениях и переворотах, при
переоценках этических ценностей сознания овладевают поэзией
как оружием воздействия; поэзия должна при этом
сделать очевидным и ясным вред существующих отношений.
Во-вторых, в разные времена люди воспринимают эти
вопросы очень по-разному. Даже одно поколение может
заключать в себе значительные контрасты в вопросе
восприятия. Наши деды переносили еще меньше
жизненной правды в произведении поэзии; их впечатления
быстро нарушались, как только что-нибудь выпадало из правил
официальной морали и приличий, которых они
придерживались в своей жизни. Мы мыслим несколько шире. Но и
мы также против безграничного реализма, доходящего до
своеобразного "пресыщения", - его границы только
раздвинулись.
В-третьих, исторически мы исходим из искусства,
которое было в высокой степени идеалистическим и
стилизовало жизненную правду. Таков высокий пафос трагедии,
господство героики, религиозное и рыцарское
настроение древнего эпоса. Только заглушенно, завуалированно
проникает в это искусство нищета и человеческая
бедность. Способность читателя переносить реализм
искусства с того времени постоянно повышается, и трудно
сказать, насколько высоко она может подняться. Но вместе с
ней стала выше также и способность самого
произведения искусства к изображению жизненной правды.
Границы способности поэзии отвечать
реалистическим требованиям очень относительны в зависимости от
художественного восприятия людей в ту или иную эпоху.
Поэтому здесь нельзя установить твердых норм.
Некоторые спорили о том, являются ли поэтически
терпимыми, допустимыми в поэзии известные образы
Достоевского (Ставрогин, старый Карамазов или Голяд-
кин). Это требование сильно, но есть и противостоящие
ценности, которые перевешивают, ибо в жизни
существуют величие и красота, моральная высота и самое нежное
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 393
цветение, которые могут быть поняты и оценены только на
фоне низменного, в условиях которого они растут. Поэт не
может говорить о них, не может их показать без того,
чтобы не выявить болото жизни в расположенном перед ними
слое. При этих условиях речь идет о каком-то
компромиссе. Поэтическое искусство стоит перед задачей синтеза: в
каждом случае сообразно с обстоятельствами давать
максимум жизненной правды, который искусство может
облечь в свою форму и который требуется ему, чтобы
можно было показать наиболее глубокое смысловое
содержание (ценности и т. д.), не нарушая художественной
формы.
В какой мере разрешима эта задача, показывают
великие поэты-реалисты, которые радикально
отказываются от всякой дешевой идеализации, лакировки,
приукрашивания и т. д.: Достоевский, Кнут Гамсун. Но это
решение есть художественное решение, которому нельзя
подражать. Теоретически - в духе эстетики - вопрос этим
не решен.
е. К вопросу о диалектике
реалистического изображения
Нельзя скрывать, что поэзия наших дней если и имеет
большие достижения, то именно благодаря реализму, к
которому, с другой стороны, она относится настороженно,
с недоверием. Вся целевая установка поэтического
искусства становится тем самым выше: чем величественнее
задача, тем выше художественная цель. Можно вполне
уяснить себе это следующим образом.
Существует стремление смягчить впечатление,
тяготеющее над жизненной правдой. Для этого есть
совершенно внешнее средство - отбор, легкое подкрашивание
и даже смягчение посредством словесной
художественной формы. Но все подобные средства вносят фальшь в
произведение, они означают не что иное, как
подкрашивание и лакировку. Даже на наивного читателя они, как
правило, действуют отрезвляюще, так какой замечает, что
изображение не совсем серьезно; там же, где читатель
этого не замечает, он оказывается легко обманутым.
От серьезной, жизненно правдивой поэзии требуется
как раз другое: найти для каждого материала, если бы он
был даже и безрадостен, такую форму, посредством
которой он может дать свое положительное содержание.
Здесь требуется не компромисс - если это только можно
так назвать, - а именно более высокая художественная
394 Часть вторая. Оформление и расслоение
форма, которая снимает и преодолевает отталкивающее
и уродливое. Но что означает здесь "преодоление"? Это
ведь не может означать никакого исчезновения,
уничтожения или отрицания! Подумаем здесь лучше о
диалектическом отношении в духе Гегеля. Согласно Гегелю,
"снятие" является отрицательным только в поверхностном
значении, во втором значении оно является уже
"сохранением", в третьем же - "возвышением над самим собой".
Нечто от этого, несомненно, имеет здесь место:
отталкивающее сначала "отталкивается" эстетическим чувством,
но потом оно "снимается" в целом, неотъемлемой
составной частью которого оно является; и, наконец, оно
возвышается намного над самим собой, ибо принимает вид
чего-то гораздо более великого и более значительного. Это
и есть диалектика реалистического изображения в
поэзии. Мы можем ее, как и всякую диалектику, выразить
также и недиалектически. Но тогда надо начинать с другого
конца, с синтеза, следовательно, в данном случае с
"возвышенного".
До каких же пределов может поднять поэт то, что
увидел вначале трезво реалистически? Только до такой
высоты, до какой он сам смог увидеть это в идее. Он,
следовательно, должен иметь идею заранее. И это не
обязательно платоновская или гегелевская "идея", это может быть
любая большая надэмпирическая мысль, любой
этический или религиозный идеал.
Но нет необходимости сразу обращаться к самым
высоким предметам, ибо положение вещей в человеческой
жизни скорее всего таковб, что форма ситуации дает
отдельному лицу сначала только толчок или случай,
побуждающий его к действию; чем глубже ситуация имеет корни
в реальной жизни, тем ближе мы будем чувствовать того,
кто в ней действует. И, с другой стороны, чем с большим
отвращением этот последний должен бороться со
сложившейся ситуацией, тем больше для него шансов
создать своей деятельностью какую-то значительную
развязку. Это видно из того, что мы симпатизируем ему даже
тогда, когда замечаем его ошибки и неудачи.
Это факты, которые проливают особый свет на права
отталкивающего и безобразного в поэзии. Очевидно,
блеск человеческой красоты, величия и значимости в
сравнении с темными глубинами жизни сияет ярче и, быть
может, становится видимым только в ее дальнем т>лане.
Да, но это сравнение говорит еще слишком мало; мы
должны иметь перед глазами всю пропасть человеческой
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 395
нищеты, чтобы иметь возможность увидеть в малых
повседневных человеческих делах, страданиях, борьбе и т. д.
великое и идеальное. Тем самым мы стоим перед новым
выводом.
Способность сделать видимым это великое и
идеальное в малом и повседневном именно и является в точном
смысле главной задачей искусства, оно должно давать
возможность увидеть эти явления. Собственно, в показе
явлений и состоит, по существу, красота поэтического
произведения. Но если это так, то мы должны все же
сказать, что красота как раз обусловлена здесь
изображением, уродливого и отталкивающего. Или если мы хотим
избежать парадоксальности, то все-таки остается еще
довольно много удивительного И курьезного: требование
жизненной правды и требование красоты, выступавшие
вначале как противоречащие друг другу, до такой степени
сближаются между собой, что их можно было бы почти
отождествить.
Но каким образом? Разве нет никакого различия
между отношением правды поэзии и ее поэтическим
качеством? Могут ответить: да, но поэтическое качество,
художественная удача является ведь вопросом формы, а
жизненная правда является делом содержания! Однако эти
сведения совершенно недостаточны. Поэтическая форма
определяет, по существу, содержание и является в нем
самым важным. Ведь речь здесь идет о "внутренней
форме", то есть о художественной обработке изнутри. Но это
есть та художественная обработка, которая делает
"содержание" (то есть художественно оформленный
материал) жизненно правдивым или не правдивым. Это та
художественная форма, которая может быть либо
реалистической, либо приукрашивающей. Следовательно, вполне
возможно, что одна и та же удача художественной формы
может заключать высокое поэтическое качество, красоту и
вместе с тем правду жизни. Но не так легко решается
вопрос о сведении их к тождеству.
Кроме того, спрашивается, не будет ли явной
бессмыслицей существование такой поэзии, содержание
которой преднамеренно игнорировало бы полностью
существующее в действительности? Мягко выражаясь,
существует ли такая поэзия, которая касается только
поверхностного, или внешнего, содержания жизни? На это надо
ответить: нет! Отсутствие высокого качества в
легкомысленных романах Курт-Малера состоит не в недостатке
внутренней адекватности слоев, а в отсутствии поэтичес-
396 Часть вторая. Оформление и расслоение
кой правдивости. Им недостает высокого качества
потому, что задуманное в выдержанной внутренней форме
повышает требование показать существенное содержание
мира человека при невозможности это выполнить.
Это доказывает неотделимость поэтического качества
от правды. Но невозможность их отделить еще не
означает совпадения. Поэзия может нас увлечь, захватить чем-
нибудь неправдоподобным, но она не доставит полного
удовлетворения. Так это бывает и в жизни: я могу "видеть"
какое-нибудь событие и считать его не совсем
удовлетворяющим, но все же в наивысшей полноте жизни - именно
это может смущать, но равным образом может быть и
наоборот.
Для того чтобы правильно решить вопрос, мы должны
избрать средний путь - принять положительное,
утверждающее, заключающееся в каждой из сторон, но
отбросить все чисто отрицательное.
г. Жизненная правда и истина сущности
До сих пор достигнутый результат выглядит так:
двоякая поэтическая правда располагается слоями. Одной ее
стороной является внутренняя согласованность,
единство, замкнутость, выдержанность, другая ее сторона -
это жизненная правда, и эта последняя имеет один полюс
своей сущности вне поэзии, в трансцендентном ей
реальном мире, конечно, не в его частностях или фактах, но все
же в его существенных чертах. Итак, поскольку
поэтическое качество обусловлено обоими требованиями правды,
то теперь можно сказать, что оно также является
трансцендентным отношением. Жизненно неправдивая поэзия
не может нас убедить, то есть вовсе не является поэзией.
И все же жизненная правда и поэтическое качество
еще довольно широко могут варьировать в их взаимных
отношениях. Например, иногда в каком-нибудь
поэтическом произведении требование правды может быть
выполнено гораздо слабее, чем последовательно проведенная
внутренняя форма и красота зрелища, живость, полнота,
многокрасочность, единство; нечто подобное мы имеем в
образах Геббеля, - Голо, Герода, Кандаулеса, а также кое-
что у дикаря в "Дориане Грее". Обратное мы имеем у
позднего Гёте (второй вариант "Фауста", "Годы
странствий" и др.). Мы находим в них избыток жизненной
мудрости и жизненной правды, но это происходит в основном
за счет видимой наглядной жизненной полноты и да* » за
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 397
счет единства поэтической формы. Известно, как сильно
чувствовал это сам Гёте.
Эти примеры показывают, что обе стороны могут быть
очень хорошо раскрыты одна по отношению к другой, и
даже достаточно широко, но тогда поэзия также
отчетливо страдает соответствующим недостатком. При
недостатке жизненной правды она приближается к
приподнятости, при недостатке полноты обозрения - к
прозаическому размышлению; и только самые сильные внешние
средства могут слегка скрыть этот недостаток. Тесная
связь и взаимообусловленность жизненной правды и
наглядного совершенства формы (высокого поэтического
качества) может, следовательно, заставить нас
рассматривать их как идентичные либо придать каждому из них
слишком большую самостоятельность.
Но из этого вытекает и нечто другое. Конечно, Голо,
Кандаулес, как и Дориан Грей, очень тяжелы своей
необоснованной эстетической недостоверностью. Но не
заключено ли все же в первых двух нечто такое, что может
соответствовать, по существу, определенному виду любви?
А в Дориане Грее нечто такое, что может при
определенном поведении способного ветреника выдвинуть его
вперед по сравнению с другими?
Это "нечто" может быть отмечено как некоторая
крайняя, преувеличенно увиденная форма жизни, но все же
можно ясно понять направление, в каком она находится
даже и тогда, когда в жизни этого не встречается. В геббе-
левских примерах драматическая художественная форма
сама выходит на холостой ход, ей не удается вполне
справиться с приданием художественной формы увиденным
крайностям и, следовательно, сделать образы
достоверными, заслуживающими доверия. Поэтому если
существуют подобные крайние формы человеческого бытия -
самих людей или, может быть, ситуаций или судеб, - то
должна существовать также какая-то правда сущности в
отличие от правды жизни; и она могла бы быть хорошо
осуществлена в образах Геббеля.
Если это так, то должно быть также какое-то
требование, относящееся именно к этой истине сущности. Только
в том случае возможно полное наслаждение поэтическим
искусством, когда оно ставит это требование - с правом
поэтического выбора и односторонности - выше других.
Возможно, что этим обусловлен успех драм и рассказов
названного рода. Можно представить себе это примерно
так: поэт представляет какой-нибудь образ в мифически
398 Часть вторая. Оформление и расслоение
преувеличенном виде и этим все-таки достигает области
сущности, быть может, в духе определенного фанатизма
ценности, хотя он может этим не достигнуть жизненной
правды, не представить человеческую жизнь такой, как
она есть.
Нечто подобное возможно в поэзии, ибо в противном
случае не могло бы иметь места возвышение над
повседневным, невозможны были бы никакие идеальные типы и
поэтически возвышенные до идеала индивидуумы.
Древняя трагедия всегда создавала возвышенные образы на
мифическом материале, прежде всего эпос, как и все
поэтические произведения. Требование правды имеет,
таким образом, свой противочлен не в реальной жизни, а в
ее возвышенной до идеала форме сущности. Отсюда ясно
следует, что истина сущности есть нечто другое, нежели
правда жизни, и, следовательно, также в одном и том же
произведении искусства требование одного не совпадает
с требованием другого.
Это может быть разъяснено следующим образом: поэт
может увидеть определенные, существенно важные
моменты человеческого своеобразия в чистом виде и
изобразить их в совершенстве, какого они никогда не
достигают в действительной жизни. Мы не можем из этого
сделать вывод, что каждое такое возвышение оправдано. Это
уже доказывают спорные образы Геббеля. Но где же тогда
взять критерий того, что должно еще считаться истиной
сущности и что уже больше ею не является, но все же
изображено? Не всякая крайность может претендовать на
достоверность.
На это, быть может, надо ответить так: критериев,
которые можно было бы применить в качестве масштабов,
не существует ни в какой области искусства и
прекрасного. Поэтому мы не можем здесь их требовать.
Художественно развитое чувство, тонкий "вкус" все же не
беспомощны в этом вопросе. Они имеют свои отличительные
признаки, однако их нельзя выразить в виде правил игры
и им обучить. Можно, например, усмотреть в требовании
истины сущности ограничение художественного
реализма и вообще требования жизненной правды. Может быть,
мы можем приветствовать искомый в ней противовес
реалистическому требованию правды и потому
санкционировать определенную дозу этой бесспорно
идеалистической ориентации.
Но с истиной сущности дело обстоит таким образом,
что возвышение и "идея", которые дают ей направление,
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 399
находят свое оправдание в целом, то есть узаконивают
себя как принадлежащие к этому целому, а не
воздействуют как привнесенные извне. Это могло бы
санкционировать Дориана Грея, как и образы Геббеля. В гораздо
больших масштабах мы встречаемся с этим у Сервантеса:
идеализм битвы Дон-Кихота с ветряными мельницами
представляет собой издевку над всякой жизненной правдой и
потому воздействует как смешное; но он последовательно
проводит линию слепого рыцарства. И даже то, что он,
совершенно не замечая, проходит мимо действительной
ситуации, достигая в данном случае степени мифического
образа, является чем-то существенным, существенной
чертой жизни человека.
Выше было показано (гл. 22 п.п. "в" и "г"), что
требование жизненной правды распространяется на все слои
поэтического искусства, хотя оно обладает свойством
своеобразно пронизывать средние слои. Однако как же
обстоит дело в данном случае в отношении истины сущности?
Дело с ней обстоит, очевидно, совсем по-другому: истина
сущности всегда имеет прямое отношение в виде
требования к одному определенному слою и только как нечто
второстепенное распространяется с этого слоя на другие.
Мы не хотим этим сказать, что требование истины
сущности всегда должно корениться в самом дальнем слое
(слое общих идей); это было бы только тавтологической
фразой, поскольку оно представляет собой требование
соответствия какой-то идее. Речь здесь идет скорее о
том, в какой из средних слоев идея непосредственно и
сильнее всего вносит определенность.
Это может быть показано на очень больших примерах,
хотя бы на первом акте "Короля Лира". Лиру решительно
непонятно и его волнует вопрос о том, насколько сильно
любят его дочери. Это не только ключ к характеру Лира, но
ко всему основанию, на котором разыгрывается пьеса: не
только Гонерилья и Регана, а также и Корделия даны в
равной мере полно и абсолютно - одни как воплощенный
обман, другая - как воплощение фанатической правдивости.
Отсюда ее ошеломляюще жестокий ответ. Этим в пьесе
достигается внутренняя необходимость и истина
сущности. Жизненная же правда, конечно, остается на втором
плане; она появляется в Лире больше в деталях, в
отдельных сценах.
Но одно здесь совершенно ясно: истина сущности
недвусмысленно коренится в одном определенном слое,
в данном случае в правдивости характеров, можно ска-
400 Часть вторая. Оформление и расслоение
зать, в семейном характере. Только оттуда она
распространяется на художественную обработку ситуаций и сцен,
с одной стороны, и судеб - с другой. Удивительно, как
Шекспир умел объединить правду нравов с простой и
скромной жизненной правдой! В трагедии "Король Лир"
все содержание сущности представлено в ситуациях,
сценах и т. д. В образах же Геббеля недостает такого же
прочно несущего главного слоя.
ГЛАВА 24
ПРАВДА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ.
а. Критерии и масштабы
К истине сущности мы, очевидно, должны подходить с
осторожностью. Предположительно ее должно в какой-то
степени содержать всякое поэтическое
произведение.Однако она не может заменить жизненной правды и
реалистического уклона, которого требует жизненная
правда, потому что истина сущности имеет тенденцию
тяготеть к противоположному - к решительному идеализму.
Здесь опять приходится удивляться: разве возможно
соответствие сущности, не связанное с жизнью?
В таком грубом понимании, конечно, нет. Напротив,
оба вышеприведенных примера ясно показывают, что в
известных границах в них есть жизненная правда и что
именно благодаря этому они ясны, художественно
правдоподобны. Но не надо доводить это до крайности,
слишком заострять. Было бы, например, неправильно считать,
что поэт может выбирать отдельные существенные черты
человеческого рода и одновременно выдвигать их на
первый план.
В образе маркиза Поза изоляция некоторых
малосущественных черт доведена до такого предела
убедительности, что мы воспринимаем их как не принадлежащие к
сцене, к подмосткам. Псевдоклассические злодеи,
которые есть не что иное, как воплощенное зло, в некоторых
драмах даже необходимы. Но, так как они должны
воздействовать жизненно и определяемые ими ситуации должны
звучать драматически, их злодейство также должно быть
человечески оправданным какими-нибудь особенностями
нравов, поведением, жизненными условиями или
другими мотивами.
В более новой поэзии это вполне удалось, не только у
Достоевского (достаточно напомнить о Смердякове), но
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 401
уже у немецких классиков, даже в Мефистофеле. И,
вдобавок, если мы обратимся к прошлому, например к Кор-
нелю, то почувствуем, что совсем нетрудно выполнить это
простое требование.
Но почему это было нетрудно? Очевидно, потому, что в
чистом виде сконструированные типы, выводимые на
сцену для того, чтобы разрешить конфликт, воздействуют
как неправдоподобные. Для того чтобы сделать их
живыми, достаточно того, чтобы они появлялись с
необходимостью из одного существенного отношения, иначе
говоря, здесь достаточно требования истины сущности. Более
трудное требование жизненной правды не обязательно
должно быть выполнено.
Вводящим в заблуждение остается то, каким образом
могут разойтись между собой в одном произведении
поэзии оба вида требования правды. Если, однако, в поэзии
жизненная правда всегда должна была бы
соответствовать истине сущности, то тем более в самой жизни
реальное всегда должно было бы соответствовать идеальной
сущности, которая заключена в направлении ее типа. То,
что жизнь не соответствует идеальной сущности,
принадлежит сущности реального как такового. Чем выше мы
поднимаемся по ступеням области реального, тем больше
становятся отклонения, тем труднее достигнуть
совершенства образов. Надо напомнить здесь о законе: чем выше
явление, тем труднее к нему приблизиться; высота
обратно пропорциональна совершенству. Поэтическое
искусство имеет дело с самым высоким из явлений
действительности - с человеком. Следовательно, в нем и в его
жизни фактически существующее не может совпадать с
идеальной сущностью. Поэтому в нем, как в материале
поэзии, жизненная правда и истина сущности также должны
расходиться между собой. Отсюда нетрудно заключить,
что именно в этом коренится значительная часть
конфликтов, которые составляют основной материал эпической,
драматической и романтической поэзии.
Но поскольку в данном случае речь идет об отношении
двух видов правды, которые только вместе составляют
поэтическую правду, то поэтическая неправда имеет
место повсюду там, 1) где отсутствует один из основных
видов правды и 2) где упущено отношение обоих друг к
другу. Последнее может быть, например, в том случае, когда,
в правде жизни не "является" никакой истины сущности
или когда эта последняя не основана на первой, с ней не
связана.
402 Часть вторая. Оформление и расслоение
Между тем масштабом человеческой правды является
не просто сама жизнь как таковая, а жизнь, какой она
увидена и понята веком, эпохой, особенно поэтом, и, кроме
того, как она опосредована особой художественной
формой поэзии - ее родовой формой. Первое было
обосновано выше, ибо мы можем, конечно, сравнивать только с тем,
что мы видим. Второе же еще нуждается в некотором
обосновании.
Именно родовая форма поэзии практикует отбор
возможного "материала", а внутри материала снова
предпринимает отбор мотивов и деталей. Мы уже знаем это из
более общих форм анализа. По содержанию этот отбор
является далеко идущим; не всякий материал годится для
новеллы, драмы и т. д., а там, где материал подходит, в
нем не все может быть подходящим.
Здесь определяющая роль родовой художественной
формы делает еще один шаг вперед: то же самое
относится и к правде сущности и в отношении к ней должно
было быть проведено еще более настоятельно. Итак, это
означает, что мерилом истины сущности являются не
просто идеальные сущности (примерно в смысле
феноменологов), каковы они есть сами по себе, но как они
будут увидены и поняты веком или самим поэтом и, сверх
того, как они будут опосредованы особой родовой
формой поэзии. Первое здесь также понятно без
дальнейших объяснений. Второе же означает, что такие родовые
формы, как лирика, эпос, роман и т. д., уже в самих себе
несут свой особый выбор идеальных отношений
сущностей, которые им соответствуют. Так, идея "Мести Крим-
гильды" не подошла бы для новеллы, а идея
шекспировского "Принца Гарри" - для романа.
К этому необходимо было бы добавить лишь одно, что
жанр поэтических форм только в грубых чертах выражает
типическое. В действительности здесь речь идет о
гораздо более тонких различиях формы, из которых
соответственно проистекает дифференцированный отбор
материала и отбор внутри материала. Французская
классическая драма не мирилась со многими видами материала,
которые оказались вполне подходящими к облачению в
художественную форму в шекспировских драмах. Лессинг,
Шиллер, Клейст, Геб-бель - все они, создавая свои драмы,
отбирали не только свои особые темы, но делали
соответствующий выбор, и внутри тем.
Таким образом, мы попали в область особенностей
типических форм поэтического искусства, не относящихся к
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 403
кругу рассматриваемых нами вопросов (то есть к общей
эстетике). Здесь достаточно установить, что каждый из
этих весьма специальных родов, дифференцируемых
даже по личным особенностям поэтов, имеет свой
собственный внутренний закон, являющийся альфой и
омегой его художественной формы. Но это есть лишь
расширение проблемы дифференциации искусства. К этому
мы должны будем еще вернуться.
б. Жизненная правда в живописи
В исследованиях последней главы мы
останавливались на одном только виде искусства - поэзии, так как
именно в нем требование правды наиболее понятно. Но
такой ограниченный обзор, конечно, был бы очень
односторонним. Он должен быть дополнен рассмотрением
других видов искусства. Как в них обстоит дело с
требованием жизненной правды?
Внутренне присущая им жизненная правда может
здесь оставаться вне рассмотрения; она представляет
собой только внутреннее единство формы и как таковая не
находится в противоречии с остальными проблемами
художественной формы (ср. гл. 21). Понятием
художественной необходимости здесь уже все сказано. Иначе обстоит
дело с трансцендентным требованием правды, как это
уже имело место в поэтическом искусстве, а именно с
требованием правды жизни и истины сущности. Но
относительно этих обеих можно говорить непосредственно
только в двух видах искусства, а именно в живописи и
скульптуре; в неизобразительных искусствах недостает
трансцендентного противочлена, с которым могла бы
быть найдена какая-то согласованность.
В переносном смысле можно говорить о жизненной
правде также в музыке и даже в архитектуре, так как оба
эти вида искусства тоже выражают духовную сущность.
Но это является сига posterior. Первоочередными
остаются все же оба упомянутых изобразительных искусства,
которые, как говорят, "изображают". В них предметы
располагаются опять-таки очень по-разному, так как круг их
тематики очень различен. Ваяние почти исключительно
связано с человеческим телом; живопись распространяется
на все видимое и поддающееся изображению в форме
картин. В ней, следовательно, требование правды должно
быть богаче.
Что означает жизненная правда в живописи? Пожалуй,
можно было бы думать, что в произведениях живописи
404 Часть вторая. Оформление и расслоение
она должна совпадать с красотой явлений.
"Изобразительное искусство должно дышать жизнью".
Следовательно, чем понятнее и нагляднее оно изображает жизнь, тем
выше должна быть его художественная ценность; значит
ли это - чем жизненно правдивее, тем красивее?
Однако это не совсем так. Если бы это положение
действовало неограниченно, то следовало бы, что
реалистическое изображение в живописи художественно
самое выразительное и самое совершенное. В данном
случае это не совсем так. Все виды живописи заключают в
себе существенные ограничения реализма. Они основаны
на отборе и отображении увиденного: живописцем может
быть передано не все, что с грехом пополам воспримет
глаз, а, напротив, лишь то, что художник сочтет
достойным изображения, Вспомним здесь о сказанном выше (гл.
16, в) относительно селекционного (selektiven) характера
видения при придании художественной формы.
Таким образом, ясно, что всякий отбор, всякое
отбрасывание непосредственно влекут к нарушению жизненной
правды. Отбор исключает из художественного
воспроизведения многое, что считает несущественным. И все же
результат не должен быть воспринят как искажение
правды - уже потому, что некоторые детали именно благодаря
этому отбору будут лучше отображены, будучи впервые
показаны в ярком свете.
Следовательно, в данном случае одно заменяет
другое: предпочтенное художником заменитто, что
исключено им при выборе. Однако по какому праву
предпринимает живописец такую перегруппировку? Как может он так
произвольно варьировать значимостью деталей? Или это
не произвол? Определяется ли это законом и внутренней
необходимостью?
Возьмем конкретный случай. Два художника рисуют
одну и ту же местность в одно и то же время и по одному
образцу. Третий, сравнивая, ходит от одного к другому и
по мере продвижения работы констатирует, что они
рисуют ее совершенно по-разному: у одного яснее
выступают тени, перспектива, изображение почвы, у другого
доминируют краски, свет, светлое в листве и лугах,
синева дали.
Кто мог бы сказать, что одна из картин "является"
действительным изображением этой местности, а другая
нет? Это было бы возможно, если бы одна из них была
нарисована хорошо, а другая плохо. Но такой случай здесь не
имеется в виду. Предположим, что обе они нарисованы
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 405
"хорошо" и каждая в своем роде убедительна. Тогда
должен быть другой ответ. Но каким он должен быть?
Очевидно, в основе его должен лежать какой-то справедливый
спасительный принцип, достаточно объективный для того,
чтобы претендовать на правильность, и могущий
оправдать различия способа видения. Тогда неточность
изображения не сможет быть воспринята как жизненная неправда
и произвол.
Можно противопоставить этому более богатый и в то
же время более известный случай: портрет одного и того
же человека, выполненный разными живописцами. При
этом всякий раз ясно бросается в глаза расхождение:
расхождение в понимании человеческого, а также
расхождение в приемах живописца и в выборе деталей
(например, во внешней обработке или в степени четкости
контуров...).
Нет ничего более поучительного, чем исключительное
различие способов видения отбора явлений,
акцентировки существенного. Именно портрет является особенно
многослойным произведением искусства, и это различие
относится к каждому слою. Здесь при сравнении качества
художественной работы трудно будет сказать: вот это то
самое лицо, а это не оно. Но при этом можно ясно
различить, что одно из этих изображений подчеркивает не те
существенные черты, какие подчеркивает другое, что оно
бросает яркий свет на другие стороны видимого,
выставляя их на передний чувственно воспринимаемый план.
Последние могут в свою очередь касаться вещественных
деталей, живости выражения или игры красок и света,
пространственной композиции и т. д.
Но здесь, так же как и в ландшафте, должно быть что-
то такое, что определяет различие способа видения,
выбора опускаемого и т. д. Что является этим
определяющим? Оно не может заключаться в одном только сюжете (в
живой личности) или в одном только художнике, в его
субъективной установке, В первом случае это была бы
лишь имеющая право на существование манера письма;
во втором случае эта манера письма художника не могла
бы ни увлечь, ни убедить зрителя.
Следовательно, то, что определяет способ видения,
должно заключаться в чем-то ином, в чем-то третьем. И не
может быть сомнений, что это третье должно быть каким-
то существенным моментом, заключенным в самом
изображаемом предмете, и правильное соответствие изобра-
406 Часть вторая. Оформление и расслоение
жения - в одном или многих слоях - должно иметь
характер истины сущности.
Свобода живописца при этом может состоять только в
правильном выборе момента сущности, так как он не
может создать ни один из таких моментов по произволу; но
поскольку их много в сюжете живописца, то он волен
выбирать. Если же он выбрал, то должен оставаться при
выбранном моменте сущности и с этой точки зрения
одушевлять жизненную правду.
е. Истина сущности в живописи
Достигнутые результаты все же примечательны.
Живопись настолько близка чувству и настолько им
преисполнена, как ни одно другое искусство. Ни одно из них не
основано так прочно на копировании, на подражании
видимому. В живописи все зависит от способа опущения тех
или иных сторон увиденного; следовательно, ни одно
искусство не связано так прочно с жизненной правдой, как
живопись. Однако выявилось, что здесь преобладают
излюбленные и определяющие художественную форму
точки зрения, которые не прислушиваются к жизни, а
проистекают .из взгляда на сущность. Но последний надэмпи-
ричен и выбирается очень свободно по усмотрению
художника. Как он это совмещает? Следовательно, каким
образом утверждается здесь соотношение жизненной
правды и правды сущности?
Если в качестве одушевляющей и определяющей
художественную форму берется точка зрения, взятая из
обозрения сущности, то возникает вопрос, какого рода это
обозрение сущности. На это можно ответить, что оно
касается, к примеру, с одной стороны, выбора сюжета по
содержанию, с другой же стороны - формального отбора
видимого, тех сторон увиденного, которые являются
"существенными для живописи". К последним причисляется
выбор того, что приковывает взор к ландшафту. То и другое,
как уже выявилось, не является ни совершенно
необходимым, ни вполне произвольным.
Живописец, как и поэт, может выбирать для себя
жизненные отношения, которые дают ему вдохновение, но он
может выбирать только среди тех, которые действительно
наличествуют в объекте. Он не может свободно
выдумывать что-либо и привносить в изображаемое; тогда
получилось бы что-то совершенно другое, а не портрет или
картина местности. Так, рисовальщик, делая наброски
лиц и фигур карандашом, выбирает для себя в лицах то,
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 407
что он может воспроизвести простыми очертаниями, а
также обозначением света и теней посредством легкой
штриховки.
Здесь он должен вдохновляться, с одной стороны,
чисто видимым, с другой же стороны - данным в
человеке; то и другое встречается на пути, который определен
этим выбором. И только в этой области, то есть в
отобранном, может идти речь о жизненной правде в более
узком смысле этого слова.
Это важно постольку, поскольку здесь требование
жизненной правды еще более, чем в поэзии, нуждается в
ограничении. Живопись нуждается в таком ограничении
потому, что она с самого начала имеет установку на
"дыхание жизни" и, следовательно, с очевидностью направлена
на возможно более непосредственное подражание. То,
что подражание становится возможным только
посредством разумного отбора - так как в противном случае все
сливается в безбрежном изобилии и в избытке
зрительных раздражений, - является фактом, который может быть
оценен только знатоком живописи.
При этом мы должны уяснить себе, что мы уже делаем
нечто подобное повседневно в простых зрительных
восприятиях: никто прямо и непосредственно не улавливает в
каком-нибудь лице, вещи, предмете все то, что дается в
предметном изображении. Каждый воспринимает только
то, что для него практически важно - в особенности, в
вещах и личностях, - и уже это важное определяется
сущностью точки зрения, которую мы привносим в это
восприятие. То, что интересует нас в человеке, является
духовным; сами черты лица воспринимаются только
поверхностно. Иначе мы никогда не могли бы правильно
ориентироваться: мы передвигаемся по привычке в аббревиатуре
ощущений, но в аббревиатуре направляющей и
чрезвычайно целесообразной.
Художник делает нечто подобное, когда он рисует не
все, что видит, а только кое-что из увиденного. Он тоже
выбирает. Но это существенное он выбирает не с
практической точки зрения, а с точки зрения специфически
художественной. Это и есть то, что составляет в его
творческой деятельности ограничение правды жизни и
необходимое добавление правды существенного. И, конечно, это
последнее не исчерпывается пропусками и отбором, но
осуществляется только в положительном выделении,
отборе и в некоторых случаях в возвышении отобранного.
408 Часть вторая. Оформление и расслоение
Лучшим доказательством этого является
рассмотрение крайних случаев, например в карикатуре, а также в
рисунках, не являющихся карикатурами, которые в скупых
чертах раскрывают все движение и все связи сцены.
Карикатура малыми изобразительными средствами дает
возможность выдвинуть на первый план в роли "солиста"
почти всегда только одну существенную черту. В ней
всегда много жизненной неправды, она преувеличивает. Но во
всем ее преувеличении есть кое-что правдивое, а именно
та существенная черта, которая не привносится
произвольно, а действительно замечена глазом художника в
сущности человека.
Отсюда ясно, что жизненная правда и жизненная
сущность в "рисунке", а следовательно, и в живописи,
взаимно связаны: совершенно невозможно быть в живописи
жизненно правдивым, убедительным, реалистическим,
если в ее основе не лежит какая-то вдохновляющая и
определяющая ее художественную форму истина сущности.
Но самое важное при этом, что вдохновляющее и
определяющее художественную форму воздействие не
ограничивается только внутренними слоями произведения
живописи, а влияет как раз на внешние слои вплоть до
переднего плана, где речь идет о художественной технике
изображения. Последнее можно хорошо видеть в
рисунках пером, в гравюрах и т. д., где В направлении штриха
непосредственно появляется движение. Это можно
видеть в выполненных мазками сценах Гойи, где за
превращенным в основную тему движением исчезает почти все
остальное (контур, фигура...).
То, что такие картины воздействуют убедительно
только тогда, когда выбранные существенные черты есть
черты объекта, то есть черты реальной жизни, служит, как
было уже сказано, условием их оправдания. И здесь мы
наталкиваемся на противоположное отношение обеих
сторон художественной правды: жизненная правда является
здесь условием правды сущности.
Это может показаться странным, потому что ведь
именно жизненная правда является тем, что должно
являться источником вдохновения, - жизненная правда,
понятая с точки зрения правды сущности. Однако одно
другому никоим образом не противоречит, а оба вместе
вытекают из правильно понятого отношения их взаимной
обусловленности.
Правда жизни - даже как простое требование - еще
менее может быть заменена в живописи истиной сущности,
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 409
чем в поэтическом искусстве, она только ею ограничена и
поставлена в известные рамки, определяющие ее
художественную форму и стиль. Но истина сущности берется не
из фантазии, а из существующих обстоятельств
изображаемого предмета; более того, из них же заимствуется ее
масштаб. А это уже означает то, что масштаб имеет точку
опоры в реальном и тем самым является делом
жизненной правды. Здесь налицо две точки опоры,
варьирующиеся самостоятельно одна относительно другой.
Очевидно, обе могут функционировать только вместе, а не
изолированно. В этом нет ничего нелогичного.
Там, где точки зрения жизни привносятся
произвольно, - там отвергается как истина сущности, так и
жизненная правда картины, и изнутри определяемая форма
стиля превращается во внешний искусственный прием,
который как раз и мешает проявлению средних слоев
произведения.
г. Требование правды в ваянии
В заключение мы должны сказать здесь еще несколько
слов о ваянии, хотя можно заранее предвидеть, что в нем
с жизненной правдой дело обстоит так же, как и в
живописи. Однако это должно быть доказано, потому что между
этими двумя изобразительными искусствами существует,
как известно, радикальное различие. Приходится поэтому
учитывать имеющиеся здесь отличия.
Никогда не следует забывать, что ваяние по своему
восприятию и передаче существенного было когда-то
намного впереди живописи, которая находилась в то
время еще в жалком зародышевом состоянии. Разве
недостаточно вспомнить о древнеегипетских скульптурах
голов, имеющих портретное сходство, и об относящихся к
тем же временам декоративных украшениях стен и
колонн с условно схематическими образами, которые,
помимо того, были обработаны в виде рельефа? На чем,
собственно, покоилось это первенство?
Вопрос становится еще более существенным, если
иметь в виду, каких огромных успехов достигло искусство
живописи с тех пор - со времени греков, - как одно
открытие в области живописи обгоняло другое и только в
последние пять столетий начался основной, наиболее
важный период в его развитии, и тем не менее самые высокие
достижения скульптуры не слишком превосходят
творения греков, достигнутые в V столетии. На чем покоится
этот относительный застой? Он не является, конечно, аб-
410 Часть вторая. Оформление и расслоение
солютным и бросается в глаза только при сравнении с
развитием живописи.
На это можно ответить: пластическое искусство
впервые открыло такие плодотворные точки зрения на
сущность жизненно правдивого изображения, из которых
действительно был почерпнут характер его тем, и притом
все же оставалась достаточная свобода действий, чтобы
сделать возможным живое развитие.
Здесь речь идет прежде всего не о больших идеях, а об
очень простом. Так, например, плодотворная мысль
заключалась в совершенно универсальном приеме
изображать какую-нибудь голову или человеческую фигуру с
чисто внешней стороны, именно форму ее внешних черт - при
отказе от всего внутреннего, которое она в себе скрывает
(жизнь, силу, реакцию), - и притом суметь все же понять,
что это внутреннее в определенных границах может
"явиться" в чисто пространственной внешней форме.
Это звучит очень просто, когда эпигон по прошествии
стольких столетий говорит об этом так скучно и
рассудительно. Но то, что для нас является простым и само собой
разумеющимся, не менее фундаментально и имеет не
менее решающее значение, чем сложное. Когда-то это была,
несомненно, идея, пролагавшая путь начинавшему свою
историю пластическому искусству, которая очень скоро
получила смысл правды сущности. Сама по себе мысль,
что чисто внешнее пространственно схваченное может
быть также и адекватным ему проявлением внутреннего,
не является бесспорной, само собой разумеющейся.
Вторым моментом можно считать абстрагирование от цвета,
которое также не является само собой разумеющимся и у
древних тоже не везде было принято. Однако позднее оно
проникло повсюду и сопровождало дальнейшее развитие
скульптуры.
Все это - идейные моменты, на которые природа не
наталкивает человека и которые он должен находить сам.
Они все же являются простыми и легко понятными, если
сравнить их с основными законами живописи. Живопись
начинает именно с проекции вещественно видимого на
плоскость, что уже представляет собой смелый скачок
совершенно другого рода. Он облекает этот отказ
(абстрагирование от цвета) в непосредственную
пространственную художественную форму, которая заменяется путем
перенесения в двухмерность, но притом так, что в ней
появляется пространственная глубина. Это означает
введение перспективы. И сейчас же вместе с появившимся
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 411
"вторым" измерением пространства возникает "свет в
картине" и т. д.
В сравнении с такими рискованными моментами
сущности, которые воздействуют вдохновляющим образом и
определяют художественную форму, основная идея
пластического искусства в самом деле очень проста: это
истина сущности, которая вместе с тем в высшей степени
решительно достигает своей цели тем, что выключает из
тематики скульптуры большую часть объектов и в конце
концов оставляет почти одно только человеческое тело.
Тема животного в ваянии тоже стара (Египет) и принесла
уже много значительного. Но наряду со скульптурой
человеческого тела она не играла равной с ней ведущей
роли. Кроме того, мы должны иметь в виду то, что
последняя сама по себе представляет область большого
многообразия.
Отсюда вытекает, что при всем различии двух
изобразительных искусств и при всех преимуществах искусства
живописи все же основное отношение правды жизни и
сущности в них одинаково и покоится на одном и том же
свободном выборе определенным образом ограниченных
существенных принципов. Только в скульптуре они
являются более простыми и выбор совсем другой. Среди
простейших истин сущности отбор, как и определение
художественной формы, легче проследить на их
последствиях. С этой точки зрения можно осветить всю историю
скульптуры: мы найдем здесь некоторые изменяющиеся
истины сущности, но основные отношения сущностей
остаются неизменными. При этом под влиянием чар одного
из них образуется направление жизненной правдивости
другого, и наоборот.
Степень, в какой люди умеют понимать движение хотя
бы только тематически, не говоря уже о его
действительном изображении, весьма различна; и сообразно с этим
проходит граница включаемой в произведение искусства
жизненной правды. Нечто подобное происходит и с
пластическим восприятием и изображением духовного; это
вполне относится и к скульптурному изображению целых
сцен. В его основе всегда лежит ограничивающая и
определяющая художественную форму истина сущности. Но
она изменчива.
И этим также подтверждается, что:
1) художественная правда делает видимыми
существенные связи человеческой жизни как действительной,
так и только возможной;
412 Часть вторая. Оформление и расслоение
2) она привнесена приданием художественной формы,
которая со своей стороны образует ясную целостную
структуру, сообразную сущности и жизни;
3) эта целостность должна воспроизводиться не
только в каждом слое произведения искусства, но
осуществляться также в единстве последовательно
расположенных слоев.
Только таким образом жизненная правда и правда
сущности объединяются в имманентной правде
внутреннего единства художественной формы.
ГЛАВА 25
ПРАВДА В НЕИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ
а. Границы проблемы правды
Можно ли вообще говорить о "правде" в музыке и
архитектуре? И даже о требовании правды? Разве оба эти
искусства не представляют собой чистой игры формы,
которая может быть удачной или неудачной? Можно ли
сказать, что в одном игра бесполезная, а в другом -
полезная? Вот вопросы, из которых мы должны здесь исходить.
Существует одно понимание "правды", исходя из
которого мы не можем больше выдвигать имеющие смысл
"требования". Здесь не должна идти речь о сходстве с
оригиналом. Это образует естественную границу вопроса
о правде. Во всяком случае, это прежде всего только
граница возможной жизненной правды, а также
неистинности сущности или граница только этой последней,
поскольку, вдохновляя, она ограничивает жизненную правду.
Но есть еще другой смысл правды. Сдающийся внаем
городской дом с большим количеством маленьких
квартир, узкими задними дворами, тесно и экономно
расположенными лестницами, но с фасадом дворца и
соответствующим парадным ходом - нечто подобное мы
воспринимаем как фальшивое. В таком же духе выглядит
строение, когда его внешняя архитектура стилизована по
мотивам готики, а план и внутренние помещения не имеют
ничего общего с этим стилем; или когда угловой дом
украшен башенкой, не служащей какой-либо цели и никак не
связанной с остальной постройкой. Почему мы ощущаем
все это как "фальшь"? Потому что в этом в самом деле
есть что-то ошибочное, путаное, чего на самом деле не
существует и чего вовсе не должно быть в произведении ар-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 413
хитектуры: оно должно быть гораздо более значительным
и величественным.
Этот вид явлений, которыми так богаты наши большие
города, как раз и можно назвать "ложной архитектурой".
Но еще не4ясно, можно ли это явление обобщить.
Существует ли также и в музыке подобного рода ложь? Точно в
таком же виде ее здесь не может быть, потому что музыка
не имеет практических целей, которым она служила бы и
против которых дисгармонически погрешила бы своей
внешней формой. Но в ней все же возможен другого рода
внутренний разлад: если инструментировать
какую-нибудь простую народную песню, переработав ее в большое
оркестровое произведение с помпезным финалом, или
пропеть ее с большим художественным мастерством в
стиле итальянского Bel Canto; подобный же разлад
возникает и тогда, когда веселую пьесу праздничного характера
играют в недостаточно быстром темпе.
Эти примеры заключают в себе еще тот недостаток,
что здесь выступает разлад между композицией и
передачей. Но бывают случаи, когда этот разлад лежит внутри
композиций, и еще больше случаев, когда он заключен
внутри исполнения. Последнее проявляется почти во
всякой дилетантской игре, большей частью потому, что
умение, возможности исполнителя не соответствуют его
желаниям. Но случай такого же несоответствия мы
наблюдаем в композициях талантливых подражателей, в которых
многое взято и перенято из техники построения великих
мастеров, однако выполнено без соответствующего
духовного содержания; или также там, где действительно
оригинальный мастер с глубоким восприятием не находит
адекватную форму построения и прибегает к помощи
заменителей. Подобные явления встречаются не так редко,
как можно было бы думать.
Общим для этих примеров, в том числе и относящихся
к архитектуре, является то, что в них нет и речи о
подлинной жизненной правде. Не хватает реальной точки опоры.
Но что все-таки заключено в них, если мы при этом
ощущаем неправдоподобное, которое не является просто
тождественным некрасивому или негармоничному? Не
находится ли здесь абсолютная граница художественной
"правды", вне пределов которой можно говорить о правде
только по аналогии? Или существует правда сущности,
которая здесь выступает как вполне заменяющая
жизненную правду?
414 Часть вторая. Оформление и расслоение
Последнее не исключается, хотя здесь не имеет
смысла такое ограничение и замена жизненной правды
истиной сущности; не имеет смысла делать ее и
мерилом всего живого или вообще реального в их
идеализированной художественной форме, преподносимой
художником. Это не имело бы смысла уже потому, что
художник "показывает" только то, что заключено в
построении его композиции.
Тогда и для истины сущности остается ненастоящая
роль, так как мы относим ее к внутренней художественной
форме, к "сущности" этой внутренней формы, которая
требует последовательности, единства, завершенности.
В самом деле, в изобразительных искусствах, где
интересы жизненной правды не нарушены, отношение
правды сущности обращается (для нас) в особую форму
искусства; вместе с тем это представляет собой возврат в
направлении внутреннего, который сам действует
исключительно выборочно. Но его селекционное действие в
своей основе скорее относится к самой истине сущности,
и, следовательно, ему трудно быть тождественным ей.
Вспомним, что основные точки зрения оказываются
относящимися в итоге к "художественной форме. Тем самым
становится ясно, что речь здесь идет вовсе не об истине
сущности в произведении искусства, а только еще об
"имманентной правде", или, точнее, о том, что здесь при
теоретическом рассмотрении соответствует хорошо нам
известной внутренней правде. Но что здесь отвечает
жизненной правде? Об этом достаточно было сказано в гл. 21.
Это - внутренняя необходимость или художественное
единство творения. Мы можем назвать это также его
собственным законом. Сюда принадлежат
последовательность исполнения, замкнутость и строгая
завершенность вплоть до цельности всего построения. Не
подлежит никакому сомнению, что это является общим
эстетическим требованием. Очевидно и то, что оно особенно
доминирует в неизобразительных искусствах, где оно стоит
отдельно, без опоры на трансцендентные требования. Но
можем ли мы на этом основании назвать его требованием
правды?
б. Неправдивость, обманчивость
и неопределенность художественной формы
На этот вопрос нельзя ответить сразу без дальнейших
разъяснений; это так же невозможно, как нельзя в
теоретической области выдать за истину простую внутреннюю
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 415
"правильность". Однако есть две точки зрения, согласно
которым может идти речь о правдивости и в
неизобразительных искусствах. Одна из них лежит в направлении
внутренней согласованности и единства, другая касается
духовного содержания, выраженного во внутренних
слоях этих искусств. Но содержание само по себе не есть
произведение искусства, а играет роль материала даже и
тогда, когда его выражение остается неопределенным. В
отношении к нему здесь возможна даже жизненная
правдивость.
Что касается первой точки зрения, то действительно
существует какое-то отклонение художника от однажды
избранного принципа художественной формы, которая
зрителю кажется "неправдоподобной"; недаром вошло в
привычку употреблять для обозначения данного явления
именно это слово. Особенно отчетливо это проявляется в
вышеприведенных примерах из архитектуры. Ибо в них
действительно не обращено внимания на введение
зрителя в обман и заблуждение.
Точнее, мы должны были бы говорить здесь не об
обмане, а об обманчивости формы, потому что зритель
обманывается самой художественной формой, и только ею.
Художественная форма целого не является единой в себе,
и фасад или портал, добавленные к ней чисто внешне,
сверх положенного, вводят в заблуждение относительно
внутреннего, действительного. За правильность этого
выбранного обозначения говорит уже тот факт, что
введение в обман нередко бывает сознательным и по существу
превращается в мошенничество. В этом смысле,
следовательно, мы вполне можем говорить о каком-то
внутреннем "требовании правды" в проблематике формы
архитектуры. Из этого еще не следует, что мы могли бы
обобщить его и распространить также на музыку.
Ибо в музыке условия совершенно другие. Она
является единственным в обоих отношениях вполне свободным
искусством, не связанным ни с какой-либо целью, ни с
каким-либо сюжетом (материалом). Архитектура связана по
крайней мере с практической целью. Но здесь еще не
нашла своего решения художественная форма как чистая
игра. Так по крайней мере обстоит дело в чистой музыке.
Чему мог бы здесь соответствовать "обман формы",
который в строительном искусстве открыто, как мы знаем,
служит практической цели введения в заблуждение?
Может ли иметь место подобного рода "введение в обман" и
в высоком музыкальном искусстве?
416 Часть вторая. Оформление и расслоение
Конечно, может, но не такого же, а несколько иного
рода. Разве не бывает так, что композитор,
соблазненный высоким пафосом великих образцов, пытается
сразу создать нечто великое, значительное и при этом в
определенных частях произведения, например во
вступлении, впадает в возвышенный тон, хотя бы и
соответствующий теме и первой разработке, но который всецело
выпадает из стиля, будь он сентиментальным,
банальным или виртуозным (последнее чаще всего можно
встретить у Листа).
Такой случай можно сравнить со смешением стилей
обычного дома для сдачи внаем и фасада дворца. Как там
за фасадом, за тем, что воспринимается нами при первом
взгляде, мы не находим никакой высокой цели и
пространственной композиции, так и здесь за помпезной,
великолепной вступительной партией не следует никакой
большой музыкальной композиции. В XIX столетии, особенно в
конце столетия, в музыке было очень много форм
композиции, вводящих в заблуждение. Вновь открытое учение о
гармонии дало возможность людям даже невысокого
таланта создавать иногда что-то красивое и занимательное;
большей частью в основе таких произведений лежала
удачная музыкальная мысль, но им недоставало глубокой
обработки. Я хочу этим сказать, что в них отсутствовала
собственная композиция. Образовалась целая серия
излюбленных салонных пьес того времени, которая на
десятилетия основательно испортила музыкальный вкус.
Это и есть музыкально неправдивое, во-первых, в том
смысле, что оно идет по линии внутренней
несогласованности и отсутствия внутреннего единства. Другой
смысл касается запечатленного и являющегося во
внутренних слоях духовного содержания - взволнованности,
увлекательности, нарастания, затухания напряженности
и успокоенности, легкого счастливого парения, восторга
и постепенного затихания...
Если эти неуловимые душевные колебания все же
могут стать таковыми при помощи музыкальных средств, то
их можно "выразить", "заставить появиться" в
последовательном звучании тонов, но можно и не достигнуть этой
цели. Это означало бы, что музыка духовно неправдива.
Поскольку существуют предшествующие музыке
духовные события, составляющие область реальной жизни,
которая действительно может быть выражена только в
музыке, то мы можем сделать и дальнейшее заключение:
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 417
здесь можно встретиться и с музыкальной жизненной
неправдой.
Если же существует музыкальная неправда - в
сравнимом с изобразительными искусствами смысле, - то
логически может существовать и музыкальная жизненная
правда. Предпосылкой этому служит лишь то, что в
основе музыки также лежит в конечном счете отношение
изображения, а именно изображение предшествовавших ей
духовных событий, начиная от простого возбуждения и
успокоения до высокого парения и восторга. Но мы можем
снова сомневаться, подходит ли эта предпосылка. Ибо
если ком-позиция выражает предшествовавшие ей события
и даже может делать их убедительными, то остается
спорным, можно ли назвать это изображением в том же
смысле, в котором мы говорим об изображении "материала" в
произведениях поэзии или живописи.
Здесь существует различие, которое образует
разделяющую их границу и которое должно учитываться при
всех обстоятельствах. Если даже мы пожелаем считать
движения души, ее волнения материалом музыки, то все
же должны согласиться, что музыка воспроизводит их не с
такой определенностью, с какой они даны в
действительных внутренних ощущениях.
При этом понятие "определенности" надо брать в
самом грубом смысле: мягкая музыка с нежно
нарастающими мотивами может считаться выражением юной любви,
но может быть воспринята и как выражение свежего, как
роса, утреннего настроения и т. п . Более точное по
содержанию выражение чувств не может быть в ней услышано.
В этом смысле всякая музыка, поскольку она
действительно извлекает наружу и опосредует глубины душевных
переживаний, все же остается неопределенной. Когда
композитор не указывает в названии, "что она должна
означать", то музыка сама этого не говорит.
То, что она действительно говорит, всегда является
чем-то более общим: она выражает одну только
динамическую сторону душевной эмоции - возбуждения,
затихания, нежности или суровости и т. д. В дальнейшую
дифференциацию по содержанию она не проникает. Поэтому,
когда теория утверждает, что "музыка изображает", надо
понимать это с большой осторожностью. Таким образом,
здесь не следует говорить об "изображении". Душевные
волнения мы всегда можем выразить динамически, в
форме движений, но не можем в собственном смысле
изобразить их.
418 Часть вторая. Оформление и расслоение
е. Примесь жизненной правды в музыке
Такое выражение всегда может быть как удачным, так и
неудачным; это означает, что музыка, несмотря на свою
неопределенность и обобщающий характер, может
воздействовать как жизненно правдивая или как
неправдивая. Это можно показать на хорошо всем знакомых в
музыке явлениях. Не надо только на эти явления "нажимать",
не надо их слишком подчеркивать.
Бывают душевные переживания, которые слишком
сложны для того, чтобы их можно было понять в
музыкальном выражении, не выражая их тематически в словах.
Композитор все-таки старается выразить их
музыкальными средствами, и эффект получается такой, что музыка
становится неправдивой. Он переступил границы
определенности музыкального выражения. Это имеет место там,
где композитор с помощью заглавия "указывает", чем это
должно "быть". Слушатель, который читает название лишь
после того, как он прослушал музыку, говорит: "ах, вот что
это такое", и этим он высказывает мнение, что музыка, во
всяком случае, этого не выразила.
Бывают также и более серьезные случаи, когда
слушатель ясно слышит в музыке отзвук определенного
душевного переживания, но при этом оказывается, что он
ошибается, потому что это переживание в данной музыке не
выдержано и в ней не имелось в виду. Это находят в
больших композициях, в симфонических и камерных
музыкальных произведениях, вступления которых обещают
большое развитие, подъем и т. д., но эти ожидания в
дальнейшем не оправдываются (Дворжак).
Можно, конечно, сказать, что этот разрыв относится
больше к внутреннему единству и необходимости. Однако
здесь имеется также и неадекватность в отношении
переживаемого душевного настроения. Его никогда нельзя
твердо констатировать, но эстетически можно
чувствовать безошибочно. В противном случае невозможно было
бы при исполнении некоторых хорошо аранжированных
музыкальных партий ясно ощущать впечатление пустоты
или заведомого обмана, разочарованности. Это явление
не поддается более глубокому анализу, и мы можем
надеяться здесь только на свое художественное чувство.
Тот, кто имеет способность тонко разбираться во всем
этом, может услышать очень много неправдивости.
Музыка только ей присущими средствами превосходно
схватывает неуловимое духовное, превращает его в
чувственное, предлагает восприятию каждого, но делает это толь-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 419
ко при овладении высшими средствами композиционного
построения. И сюда относится многое.
Можно было бы охарактеризовать сущность
классической музыки (с XVII по начало XIX столетия) тем, что она
заключала относительно скупое духовное мироощущение
этой эпохи в красивую оправу богатой композиторской
формы и этим всегда давала ему превосходство. Позднее
эта тенденция резко изменилась и приняла
противоположное отношение: богатство композиторской формы
пошло на убыль, а духовное содержание, которое должна
была нести в себе эта форма, несравненно выросло.
Результатом явилось излишнее утяжеление, обременение
художественной формы.
Такого рода развитие доходит вплоть до просто рядом
стоящих музыкальных картин: преобладают отдельные
гармонические последования; люди ищут новую
гармонию и полагают, что только ею одной может быть
выражено существенное. Это было бы верно, если бы она не
лежала в существе духовного движения и не позволяла бы
свести себя к эффектному мгновению, а растянулась бы
во времени, то есть развернулась бы в какое-то
музыкальное целое. Поэтому ясно, насколько выше стоят
структурно строгие композиции также и в качестве выражения
духовного.
В этой связи можно глубже рассмотреть сущность
чистой музыки. Здесь лежит причина того, почему
относительно просто построенные, но перегруженные
чувствительностью пьесы не только сомнительны по качеству, но
и воздействуют как неправдивые. Музыкальное
произведение должно во что бы то ни стало воздействовать
определенным образом - празднично, возвышающе,
благоговейно, - и это достигается определенными внешними
эффектами, однако никоим образом не так, чтобы душевная
глубина чувств, которая должна быть здесь имитирована,
совсем в нем отсутствовала.
Это обычное явление, и не только у композиторов
третьего класса. Оно не имеет ничего общего с легкой,
поверхностной музыкой; было бы совершенно
несправедливо смешивать с ним тонкочувствительные творения.
"Легкая музыка" как раз не симулирует глубину чувства.
Она не хочет быть чем-либо другим, а лишь тем, чем она
является в действительности: легковесной и безобидной
игрой.
Отсюда ясно, что здесь речь идет о настоящей
примеси правды жизни в чистой музыке. Но здесь она гораздо
420 Часть вторая. Оформление и расслоение
бледнее, чем в изобразительных искусствах; более того,
эта правда жизни находится на грани "внутренней
правды", точнее, на грани того, что мы называем единством и
внутренней необходимостью музыкального
произведения. Вот почему так трудно для эстетической теории
внести ясность в этот вопрос. Ибо здесь также можно
ссылаться только на эстетическую удовлетворенность или
неудовлетворенность, но никогда нельзя исходить из заранее
преподнесенных критериев.
В архитектуре этот вопрос решается гораздо легче.
Там дана точка опоры в виде практической цели (которая
может быть и идеальной). Здесь первым, что создает
архитектор, является целевая композиция, а все
дальнейшее ориентируется на эту цель; поэтому отношение
жизненной правды или неправды получается здесь
совершенно непроизвольно, в зависимости от того,
располагается ли композиция пространства и динамическая
композиция в гармонии с этой целью или расходится с ней в
неорганических добавлениях, украшениях, ложных формах.
При этом нельзя, разумеется, забывать, что
строительное искусство имеет еще более глубокие внутренние
слои, соответственно слоям музыки. Здесь также есть
высокое духовное содержание, которое из области
чувственно невоспринимаемого выдвигается на передний
план и достигает сферы явлений.
Поэтому в строительном искусстве есть еще и другая
правда жизни, кроме той, которая относится к
практической цели. Она может быть удачно выражена в
произведении архитектуры, но ее может и не быть. И с этой правдой
жизни опять связана своего рода правда сущности, ибо в
духовном дальнем плане архитектурной композиции
заключены по большей части высокие жизненные идеалы,
которые должны воздействовать вдохновляюще и в равной
мере влиять положительно, определяя художественную
форму архитектуры. Все дальнейшее, что можно было бы
к этому добавить, явилось бы только повторением
сказанного раньше. С этой точки зрения архитектура и музыка
отличаются от поэтического искусства весьма
незначительно.
г. Положение дел в программной музыке
Нетрудно увидеть, что положение дел в программной
музыке совсем иное, чем в чистой музыке. Здесь мы опять
имеем темы, определяемые содержанием вне
музыкального характера. Этим исключается всякая неопределен-
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 421
ность и относительная обобщенность. Это, конечно,
больше уже не музыкальные темы, сама музыка также не
может их выразить, а может лишь создать их обрамление; во
всяком тематическом произведении музыка всегда
является только сопровождающей и выражает лишь душевную
динамику; все, что выходило бы из этих рамок, было бы
осуждено как неправдивое.
Этим дано большое место для правды жизни и правды
сущности, как и для их антиподов - в песне, в
произведении для хора, в опере, в оратории и во всех остальных
художественных формах, которые комбинируют слово и
поэзию с музыкой.
Можно написать, например, очень "красивое" с
музыкальной стороны сопровождение к лирическому
стихотворению, но не выразить в музыке характер этого
стихотворения. Это случалось довольно часто. Можно даже не
удовлетворить господствующий в данный момент вкус
определенной эпохи, в то время как людьми с другим вкусом
это же самое было бы одобрено. Такая относительность
удачи и неудачи очень точно соответствует
"неопределенности" всякого музыкального понимания предметного
материала; одно и то же стихотворение можно совершенно
по-разному переложить на музыку. Поэтому ни одно
музыкальное сопровождение не может потерпеть неудачу.
Однако с определенной существенно важной точки
зрения, обусловленной эпохой, то или другое музыкальное
сопровождение может оказаться неудачным.
Отсюда можно сделать двоякий вывод:
1) если на первый план в музыкальном произведении
выдвинут "момент сущности", определяющий его
правдивость или неправдивость, то тем самым делается ставка
на правду сущности в музыкальном тексте;
2) если различие между действительной и кажущейся
удачей или неудачей текста выражено музыкой - ибо
здесь господствуют различия эпох также и с главных точек
зрения, - то само восприятие "правды" является
относительным.
То и другое легко обозримо, и поэтому здесь нет
необходимости тщательно исследовать их. Для нашей
проблемы важна только основная предпосылка: то, что вообще
при решении вопроса, удачна или неудачна
сопровождающая текст музыка, речь идет о правдивости или
неправдивости, ибо это не является само собой разумеющимся.
Речь могла бы идти также просто о "хорошем и плохом"
422 Часть вторая. Оформление и расслоение
музыкальном сопровождении, об удаче или неудаче -
короче говоря, о степени художественного качества.
Это подтверждается и тем, что мы уже видели выше: в
изобразительных искусствах существует удивительное
сходство, почти совпадение между правдой жизни и
художественным качеством. Можно было бы думать, что
указанная здесь основная предпосылка служит
подтверждением неминуемого совпадения обоих. Однако это не так.
Мы легко склоняемся к таким отождествлениям потому,
что этому способствует неопределенность музыкального
выражения. Как обстоит дело с этим в действительности?
Надо уяснить себе, в какой степени в музыке может
быть выражен поэтический текст. Выше это было уже ясно
сформулировано (гл. 14, г): музыкальному выражению
поддаются только движения души (душевная динамика),
например возбуждение или спокойствие; не поддается
музыкальному выражению все то, что касается вопроса
"отчего возникло" и "почему проходит" это возбуждение
или это спокойствие. Это относится ко всем случаям без
исключений и без смягчений.
Но это соотношение сопряжено с глубокими
заблуждениями. Композитор, как и музыкальный исполнитель (в
особенности оперный певец, оперный дирижер и т. п.),
невольно пытается вложить в музыку больше, чем она может
выразить.
И в силу этого в музыкальное произведение проникает
что-то неправдивое: прежде всего возникает
несоответствие сущности, потому что наносится ущерб существу
музыки или песни как сопровождению и обрамлению
чувства. Косвенно этим нарушается также ее жизненная
правдивость. Ибо музыка вносит в текст нечто такое, чего
он не может содержать сам по себе, без музыкального
сопровождения, - она вносит глубокую
непосредственность выражения чувства; есть тексты, которые этого не
переносят, которые относительно равнодушны и совсем
не нуждаются в выражении чувства.
Это встречается, например, во многих местах опер,
где действие должно выразить равнодушие, но принцип
оперного искусства вынуждает его к облачению в
музыкальную одежду. Эффект получается заведомо
неправдивый, жизненно неправдивый, так что сцена с трудом его
переносит. Этим страдают почти все наши оперы, а также
оратории (речитативы и т. п.). Даже самое умелое, самое
искусное затушевывание этого недостатка (Вагнер,
Штраус) ничего не изменяет.
Раздел III. Единство и правда в прекрасном 423
Как мы видим, речь здесь идет не о неспособности, не
о неумении отдельных композиторов, а о принципиальном
несоответствии, вследствие чего исчезают правда
сущности и жизненная неправдивость. Отдельные ошибки
композитора или музыкального исполнителя (например, в
реалистических песнях) лишь усиливают и увеличивают
степень этой неадекватности настолько, что она может
стать непереносимой для тонко понимающего искусство
человека. Это недостаток такого рода, который не присущ
инструментальной музыке, потому что в ней устраняется
внутренняя неадекватность взаимопереплетенных,
связанных друг с другом искусств с совершенно различными
внутренними закономерностями.
Принципиальное несоответствие есть и остается в
следующих случаях:
1) когда с обеих сторон имеет место чрезмерность,
которая неприемлема для другого искусства: на стороне
поэзии - определенное содержание, на стороне музыки -
непосредственное глубокое выражение духовного,
движений души, которые поэтическое искусство может
выражать только в определенных границах и только
опосредованно;
2) действительное удачное сочетание обоих
искусств озможно поэтому только в одном узком направлении:
при зображении душевных движений как таковых и их
живости. Там есть гармоническое общее звучание; конечно,
только тогда, когда композитор действительно
раскрывает силу чувств в поэте. Со всяким отклонением от этой
линии уже связана неправдивость, а также неправда
сущности, как и жизненная неправда;
3) но это не значит, что в смешанном произведении, в
тексте с музыкальным сопровождением, оба искусства
взаимно не имеют достаточного простора. Напротив, они
вносят в изображаемую картину совершенно различные
стороны: поэзия - полностью все ситуации, персонажи,
драматургию; музыка - трепет, переливы, связь или
слияние и т. д. Они никогда не противоречат одно другому,
искусно соединены между собой, каждое мгновение
дополняют друг друга. Однако малейшее покушение на чужие
права, малейшее злоупотребление - все равно, с чьей
стороны, - делает это соединение ложным.
В этих трех пунктах лежат причины того, почему в
области большой музыки относительно легко создать
удачную песню, чудесное, гармонически воздействующее
произведение для хора (например, с вплетенными в него
424 Часть вторая. Оформление и расслоение
песнями в исполнении солистов или дуэта и т. п.), но
очень трудно написать вполне безупречную оперу.
Именно здесь находится "узкое место", на котором
сталкиваются разнородные искусства; особенно трудно овладеть
исполнением, потому что музыкальное выражение
чувства должно сопровождать драматические сцены, но
смена драматических ситуаций не позволяет давать
большого развития музыкальных фраз, как это было бы
необходимо для действительного музыкального
обрамления большой глубины. Поэтому старинная опера
делилась на "номера": речитативы, дуэты, арии и т. д. - и
отказывалась от замыкания в драматизм. Современная опера
до сих пор не нашла еще эквивалентного компромиса.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЦЕННОСТИ
и
ВИДЫ
ПРЕКРАСНОГО
РАЗДЕЛ I
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
ГЛАВА 26
СВОЕОБРАЗИЕ И МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
а. Расчленение проблемы
и основы классификации
Если бы научная эстетика в наши дни продвинулась так
далеко, что путь анализа эстетических ценностей был бы
обстоятельно изучен, нам ничего другого не оставалось
бы, как следовать этим путем. В главах предыдущего
раздела очень часто встречалось выражение
"художественное качество" как противоположность правдивости
содержания. Но что такое "художественное качество", под
которым как раз и подразумевается эстетическая
ценность, об этом до сих пор говорилось немного.
Необходимо поэтому заняться вплотную этой проблемой и
попытаться выяснить ее; необходимо исследовать, что
поддается в ней решению, несмотря на возникающие здесь
трудности.
Как было уже показано во введении, состояние
эстетики не благоприятствует этому. Основная трудность
анализа ценности произведений искусства заключается еще и в
том, что в отличие от этики мы имеем здесь дело не с
отдельными общими ценностями, которые можно выделить,
как, например, категорию "добра" (греч. apemi), а с
бесчисленным количеством в высшей степени
индивидуализированных ценностей, ибо каждое произведение искусства,
так же как почти все прекрасное и в других областях,
имеет свою своеобразную ценность, которой присущи и более
общие черты (элементы ценности). Тем не менее,
своеобразная ценность произведения не растворяется в общей
сумме этих элементов, а представляет собой нечто
совершенно отличное.
Более того, имеется нечто общее для всего класса
эстетических ценностей как таковых в отличие от ценностей
пользы и блага, от жизненной и нравственной ценности.
Здесь перед нами в известных границах разрешимая
задача, если положить в ее основу анализ предмета,
имевшего место в обеих предыдущих главных частях настоя-
428 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
щей работы. По крайней мере существенные отличия
эстетической ценности от других классов ценностей можно
теперь здесь выяснить. Далее оказывается, что мы в
состоянии установить некоторые существенные
закономерности позитивных Ценностных отношений между
эстетическими и некоторыми другими классами ценностей.
Иначе обстоит дело с "особыми" ценностями в мире
прекрасного, которые как таковые не являются ни
ценностями отдельных произведений искусства, ни всеобщими
эстетическими ценностями. Они, конечно, имеют место,
но в качестве видов ценности не играют той роли, какую
играют ценности блага и нравственности;
предпринимались даже попытки классифицировать эти ценности и по
меньшей мере хотя бы обозначить их или описать по их
принадлежности к определенным родам предмета.
В общем удалось установить только расплывчатые
очертания этих ценностей: они находятся как раз
посредине между эстетическими ценностями всеобщности и
ценностями строгой индивидуальности. В то время как
обе крайности сравнительно легко могут быть поняты -
первая с помощью рассудка и анализа, вторая благодаря
неоспоримой наглядности эстетического созерцания и
наслаждения, - середина шкалы, удаленная как от той, так
и от другой крайности, может быть воспринята только
окольным путем.
Эти ценности представляют собой, очевидно, более
узкие группы ценностей, а именно виды прекрасного, и
без всякой натяжки могут быть отнесены к определенным
видам предмета или видам искусств и их
разновидностям, то есть в конечном счете к одному из видов
эстетических восприятий или реакций на произведения
искусства. Это приводит к трем видам классификации, причем
все они употребительны, но каждая по своему односто-
роння и ограниченна.
Первый способ классификации (по предмету) - это
естественное деление на прекрасное в сфере природы и
прекрасное в человеке: отличают, например, красоту лица
или фигуры человека от красоты местности или красоты
какой-нибудь пережитой сцены; в последнем случае
правильнее, конечно, говорить о драматизме. И ясно, что
такие различия свободно переносятся в искусство,
поскольку оно в свою очередь вводит в изображение предмета
такого рода различия. Когда речь идет об изобразительном
искусстве, мы говорим о "морском виде", о "ландшафте",
о "характерной голове", имея в виду их изображение. Мы
Раздел I. Эстетические ценности
429
различаем виды ценностей строго аналогично их
предмету; в данном случае это означает, что мы их различаем
соответственно сюжету.
Второй вид классификации - по видам искусств и их
разновидностям. Здесь имеет место односторонность,
состоящая в исключении прекрасного в природе и
прекрасного в человеке. В остальном - внутри искусства - этот
вид абсолютно правомерен. Ибо не может быть сомнения
в том, что особенность формы искусства - в музыке,
например, менуэт, ария, сарабанда1 и т. д. - имеет в
зависимости от обстоятельств и особый, отличный от других вид
художественной ценности. Да это и не может быть иначе,
потому что особые виды искусства представляют собой
не что иное, как оправдавшие себя в жизни типы формы, в
которых воплощается прекрасное. Они остаются в силе и
в том случае, когда их многообразие должно выступать
как нечто неоднородное или внешнее.
Третий вид классификации сопряжен с гораздо
большими трудностями. И тем не менее именно он является
наиболее правильным способом рассмотрения проблемы
эстетической ценности, взятой во всей ее
многосторонности. Этот способ не нуждается в опоре на внешние
предметы и ориентируется исключительно на ценностный
ответ, который дает адекватно рассматривающее
сознание. Таким образом, практически эта классификация
следует методу анализа ценностей, который нам известен в
этике и который привел в этой области к весьма
осязательным результатам. Основной принцип этого метода
заключается в следующем: выяснить, как реагирует живое
чувство ценности на произведения искусства, изучить его
особые качественные оттенки и принять их за
непосредственное свидетельство таких же разнообразных нюансов
ценности этих произведений. Правомерность этого
способа в принципе бесспорна, ибо мы не имеем других
источников познания эстетической ценности, кроме чувства
ценности. Назвать ли последнее удовольствием,
симпатией, согласием или наслаждением - это, по сути дела,
ничего не меняет.
Но при этом забыто следующее: существует также
классификация по тем главным историко-эмпирическим
направлениям, которые господствовали или преобладали
в истории искусства.
1 Сарабанда - старинный испанский медленный танец. - Прим. пе-
рев.
430 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Эти главные направления обыкновенно называют
"стилями", но при этом имеют в виду только такие стили,
которые являются достаточно широкими, типичными
формами искусства, следовательно, прежде всего те, которые
распространяются на многие виды искусства и выражают,
характеризуют однородное в них.
Так, по крайней мере мы, привыкли наблюдать это в
истории искусства. И этой точке зрения также нельзя
отказать в правомерности. По формам искусства музыка
примыкает ко второму принципу классификации в том
отношении, что тоже исключает прекрасное в природе и
прекрасное в человеке, однако находится в связи с
другими явлениями культуры того же исторического
периода, которые не относятся к области эстетического или
выходят за пределы этой области. Так, например, говорят
о жизненном стиле готики или о типе человека стиля
рококо.
Понятие стиля является, с одной стороны, слишком
узким а с другой - слишком широким для того, чтобы
охватить собственно эстетическую дифференциацию
ценностей. Кроме того, необходимо определить сначала само
понятие стиля, а это без предварительного анализа
ценности до сих пор никому не удавалось. В остальном
понятие стиля следует привлекать и применять повсюду там,
где с воззрением или вкусом определенного стиля
связано прочное и равным образом своеобразно определенное
представление ценности. В действительности это
происходит различным образом.
б. Дифференциация на основе
чувства ценности
Прежде всего необходимо сказать о видах
прекрасного согласно основе третьего вида классификации, то есть
классификации по виду ценностного ответа и
наслаждения. С этой точки зрения мы имеем довольно
значительное многообразие эстетических оценок, но лишь
небольшая часть их имеет употребительные названия; большая
часть их является avcovu^ia (анонимными), а это значит, что
они остаются недостижимыми для словесного
выражения. И даже те немногие наименования, которые здесь
можно установить, отличаются странной
неопределенностью и расплывчатостью; отчасти потому, что
обиходная речь по-своему отшлифовала их, отчасти же потому,
что понятие оценочного нюанса (der Wertnuance) с самого
начала было неясным или неустойчивым.
Раздел I. Эстетические ценности
431
Кант, рассматривая в "Критике способности суждения"
один из родов прекрасного - возвышенное, считал его
настолько важным, что ставил понятие возвышенного в
разделе "Аналитика" наравне с понятием прекрасного
вообще и рядом с ним. Если глубже вдуматься в кантовскую
"Аналитику", то обнаружится, что именно Кант на основе
своего исследования мог бы спокойно считать
возвышенное разновидностью прекрасного. Для такой трактовки
возвышенного ему, быть может, мешало лишь несколько
узкое понимание красоты. (Достаточно сравнить здесь
"Введение", стр. 3, где впервые были перечислены
некоторые из этих родов.)
Давно появились и возражения Канту: почему бы не
представить такое же самостоятельное положение
другим родам прекрасного, а именно: грациозному и
пленительному, привлекательному и трогательному,
идиллическому и комическому, юмористическому и трагическому?
Собственно говоря, необходимо было бы посвятить
подобную "Аналитику" каждому из этих родов. Но в таком
случае можно прибавить еще много других родов
прекрасного, имеющих такое же право на место в эстетике,
например гротеск, фантазия, каприз и тому подобное.
Более того, можно было бы допустить, что сюда относятся
также "лирическое", "романтическое", "классическое" и т.
д. Но тут, конечно, нам бросится в глаза, что мы
запутались, с одной стороны, в вопросе о формах искусства, с
другой - в вопросе о стилях, хотя и то и другое уже не
касается непосредственно стороны эстетического чувства
ценности.
Если возвратиться к ранее названным родам
прекрасного и рассмотреть их с этих позиций, мы увидим, что
некоторые из них также заимствованы из отдельных форм
искусства, преимущественно из поэзии, например
комическое и трагическое, а также идиллическое и
юмористическое. Еще более специальные поэтические формы
лежат в основе гротеска, фантазии и т. д. Итак, помимо
возвышенного, остаются только изящное, пленительное и
привлекательное, как роды, полностью почерпнутые из
чувства ценности; ибо даже трогательное находится уже
на грани перехода к формам искусства.
Беда в том, что как раз эти три остающихся рода
ценности исключительно бледны и расплывчаты. Нет никакой
возможности отграничить их четко друг от друга, так как
они взаимно переходят друг в друга. Вместе взятые, они
образуют явную противоположность возвышенному. И ее-
432 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ли исходить из этой противоположности, то окажется, что
она находит свое продолжение в трогательном,
идиллическом, комическом и юмористическом. При этом
продолжение нельзя, конечно, понимать как прямую линию.
Скорее, наоборот, эта противоположность
возвышенному расщепляется в данном случае на большое
количество параллельно расположенных подвидов. Она
разветвляется. Это происходит таким образом, что в результате
названные подвиды теряют в своем значении и
самостоятельности, в то время как возвышенное, будучи общей им
всем противоположностью, становится гораздо
значительнее, выигрывает в ценности.
Вместе с тем надо заметить, что один из названных
видов ценностей, а именно "трагическое", стоит очень
близко к возвышенному и в определенном смысле может
считаться разновидностью возвышенного. Нет сомнений в
том, что подлинное воздействие трагического не может
быть достигнуто без некоторой примеси возвышенного. И
это весьма важно, потому что в трагическом речь идет не
об одной только форме икусства, но о таком роде
ценности, который выступает также и в других видах искусства
как трагедия: например, вполне отчетливо в музыке, хотя
здесь и без всякой связи с драматическим; то же и в
живописи (в некоторых портретах и т. д.). Тем самым особое
место возвышенного закрепляется еще более
значительно, хотя и в кантовском смысле.
Таким образом, возвышенное также должно быть еще
исследовано. Значение такого исследования во многих
отношениях важнее, чем исследование остальных родов
ценности. Но многие из них также требуют особого,
специального исследования независимо от того, к какому
способу классификации больше подходит данный род
ценности.
Теперь уже вполне ясно видно, что наглядную
классификацию и сопоставление эстетических ценностей мы не
получим также и на этом пути. Правда, мы имеем дело с
определенными родами ценности, которые основаны на
изначальном отклике нашего чувства ценности; но все эти
роды не могут быть почерпнуты и поняты до конца только
из чувства ценности, как не могут быть они и
охарактеризованы или отделены друг от друга, если исходить лишь
из этого источника. На этом пути мы не найдем твердой
опоры для действительного проникновения в царство
эстетических ценностей.
Раздел I. Эстетические ценности
433
Мы еще больше убедимся в этом, если учтем, что
существуют художественные ценности, которые не входят в
этот ряд: таково, например, драматическое. Этот род
ценности не так прочно связан с драматическим искусством,
как можно было бы думать. Драматическое присуще
также определенным формам романа, оно встречается даже
за пределами искусства - в самой жизни, в царстве
человечески прекрасного, если мы не лишены способности
смотреть на жизнь открытыми глазами.
Наконец, необходимо задуматься и над тем, что многие
из названных жанров независимо от эстетической окраски
их ценности встречаются также и в жизни. Хорошими
примерами тому могут служить трагическое и комическое.
Потрясающие события легко настраивают нас трагически,
если мы даже и не обращаем внимание на их эстетический
смысл; многое, чему мы бываем случайными
свидетелями, настраивает нас комически: ведь в жизни смеются над
многими проявлениями мелочности в человеке, нередко
смеются и над самим собой. То и другое находится вне
пределов искусства. Прежде всего здесь высказывают
еще и моральную оценку. Но и она далека от сферы
эстетических ценностей.
Так же обстоит дело и с идиллическим и трогательным,
а, может быть, даже и с привлекательным и приятным.
Бывает ведь "привлекательность" совсем другого рода,
нежели эстетическая, пусть даже она и родственна
последней или не отделена от нее четкой границей.
Идиллически нас может настроить очень многое в
жизни, хотя бы мы и не наслаждались этим. Тем более многое
в жизни бывает трогательным без малейшей
эстетической ценностной окраски (Wertfarbung). Пусть задумаются
над тем, как легко растроганность других людей
производит на нас впечатление комического. Для этого
достаточно, чтобы растроганность была хотя бы на одну ноту
сильнее по сравнению с трезвым восприятием.
Все это не мешает выбрать тот или иной род ценности
и подвергнуть его анализу. Так, например, все время
делались попытки дать анализ возвышенного, с одной
стороны, комического и юмористического - с другой. При
этом было обнаружено кое-что важное. Однако мы не
должны предаваться никаким иллюзиям: обычно,
предпринимая подобного рода исследование, всегда склонны
обещать великие результаты - разъяснение важнейших
проблем жизни или что-либо подобное. Метафизическая
эстетика идеалистов, а также некоторые более поздние
434 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
эстетические учения руководствовались подобного рода
мечтами. Ибо нетрудно, конечно, сразу коснуться корня
вещей, если уже в готовом виде имеется метафизика
духа, в системе которой прекрасное, искусство, созерцание
и наслаждение играют всеохватывающую роль.
Вплоть до нашего времени в некоторых теориях
сохранилась такого рода скрытая метафизическая идея. Из-
за нее всякая трезвая попытка должна казаться
неудовлетворительной, даже поверхностной. И все-таки
эстетике приходится сегодня идти вперед этим скромным
путем. Это ясно и в полном согласии между собой показали
исследования о предмете эстетики, о ее слоях и об
отношениях ее формообразований. Недостаточная
ориентация в проблеме ценностей, перед которой мы теперь
стоим, имеет здесь значение лишь подтверждения уже
сказанного.
е. Объем прекрасного
Если оставить в стороне трудности классификации и
порядка, так как на этом пути пока нельзя прийти к каким-
то определенным выводам, остается еще другой путь
подойти к отдельным жанрам художественных ценностей,
так сказать эмпирически, и исследовать их в той мере,
насколько они себя обнаруживают и позволяют понять.
Практически этим путем совершались до сих пор почти
все исследования по эстетике.
Этим путем можно надеяться подойти к общим
основным определениям прекрасного, так сказать, "снизу", как
они даны нам в предметном анализе. Там, где оба пути
сойдутся, пожалуй, можно будет ожидать определенных
результатов.
Впрочем, и этот подход может быть принят только с
некоторыми оговорками, а именно: остается все еще под
большим вопросом, исчерпывается ли понятие
прекрасного содержанием ценностей всех этих видов. Его объем
в качестве эстетически всеобщей основы ценности можно
считать выходящим далеко за пределы совокупности всех
видов художественных ценностей.
Так оно и есть на самом деле. Это может быть
установлено очень просто, несмотря на то, что мы познакомились
далеко не со всеми видами ценности. Да такое
знакомство для этого и не обязательно. Нельзя забывать, что мы
имеем необъятное многообразие единичных случаев с их
непосредственно очевидным характером эстетической
Раздел I. Эстетические ценности
435
ценности. Эти единичные случаи суть произведения
искусства сами по себе.
Возьмем тот или другой бесспорно признанный
шедевр мастера искусства и спросим себя, к какому из
названных видов он принадлежит по своему характеру
эстетической ценности; лишь в редких случаях мы сможем
назвать вид, который охватывал бы произведение
полностью. Например к какому виду относятся "Братья
Карамазовы"? Ни возвышенное, ни привлекательное, ни
трогательное здесь недостаточны; ни даже трагическое, так как
оно проходит через произведение лишь тонкой нитью.
Или, например, "Благодать земли", "Бродяга" и другие?
Готовые категории эстетики просто не охватывают этих
произведений. Возьмите такие произведения, как "Дикая
утка", "Столпы общества", "И. Г. Боркман"? Или даже
основные драматические произведения Шекспира? Они не
могут быть исчерпаны полностью ни одним из родов
прекрасного. Разве иначе обстоит дело с автопортретами
Рембрандта? Или с ландшафтами и морскими видами
голландцев?
Какие выводы отсюда следуют? Существует очень
много проявлений прекрасного в самом строгом смысле
этого слова, не умещающихся в выявленные роды
ценностей прекрасного. Поэтому вместо того, чтобы
говорить об этих видах ценности, мы говорим о качествах,
которые считаем связанными с особой формой искусства,
или просто берем название формы и рассматриваем
художественные достоинства произведения внутри этой
формы. Так, мы говорим об "изобразительной" ценности
произведения, или о "драматических" и "сценических"
достоинствах, о "выразительности изображения", о
"пластичности" и т. д. Это вполне правомерно; однако
такие обозначения указывают лишь на то, о чем говорит
чувство ценности, но не говорит о том, почему оно
возникает, почему является именно таким. Даже независимо от
слабости подобного рода попыток провести
дифференциацию ценностей, несомненным остается тот основной
факт, что "прекраснобытие" - понимаемое как бытие
эстетической полноценности вообще - не умещается в рамках
всех этих родов и что скорее, напротив, существует
неисчерпаемое многообразие, в различных искусствах и за их
пределами, которое совершенно невозможно исчерпать
путем отнесения к тому или другому типу "подобной"
ценности или ограничить "подобным" образом. Но об этом,
436 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
собственно, идет речь там, где говорится о прекрасном
как основной ценности и ее различных родах.
При этом весьма важно уяснить себе, что мы имеем
здесь в виду не какое-то расширенное понятие
прекрасного, а лишь строго эстетическое. Такого рода
расширенное понимание связано обычно с тем, что в жизни мы
привыкли называть "красивым" бесчисленное множество
предметов, в действительности полезных лишь для
какой-нибудь цели, пригодных к употреблению,
доставляющих удовольствие, чем-нибудь приятных или "хороших" в
моральном отношении.
Это злоупотребление понятием "красоты" настолько
вульгарно, что в данном случае не стоит тратить слов для
того, чтобы разъяснять его. Но в этой связи необходимо
отметить два момента, заслуживающих особого
внимания. Первый касается странного извращения смысла там,
где мы говорим о предметах морали. Что заставляет нас
называть "прекрасным" поступок, в котором проявилось,
например, великодушие или широкая натура человека, в
то время как действительно подходящим к нему
предикатом является моральная оценка: "хороший" поступок? И
почему такого же рода, но противоположные поступки мы
называем "безобразными"?
Это вызывается тремя обстоятельствами:
1) стремлением прикрыть, смягчить серьезность
моральной оценки;
2) привычкой определять внешнее и очевидное в
поведении человека внутренними и моральными мотивами;
ибо естественно, что убеждения, установки и даже общие
основы поведения человека оставляют отпечаток на его
наружности, мимике, движениях, в его обычной манере
держаться, в осанке, в позах;
3) старым, восходящим к Платону, предрассудком об
идентичности ayaGov (хорошего) и koXov (прекрасного),
причем этот предрассудок подкрепляется обычным
предположением, будто в основе своей все ценностные группы
и классы должны иметь начало в одной и той же основной
ценности. В таком смысле понимает xcAav (прекрасное),
например, Аристотель. Доказывая, что "тои кбХоь есоека"
(все прекрасное полезно), он имеет в виду последнюю
инстанцию ценности, которая рассматривается как
единственная.
От этого укоренившегося ложного толкования нелегко,
конечно, освободиться. За ним стоит еще другое ложное
толкование: называть сами по себе душевно-внутренние
Раздел I. Эстетические ценности
437
процессы "красивыми" и "безобразными". Называя их так,
мы придаем этим понятиям моральный смысл. Мы
говорим, например, о "красивом" спокойствии и внутренней
просветленности стареющего человека или о "красоте"
пробуждающейся любви юноши, зарождающегося в нем
понимания конфликтов и жизненного положения других
людей. Могут возразить, что все это ведь и в самом деле
"красиво" именно в узкоэстетическом смысле. Однако
нельзя представлять себе так, будто существует какая-то
"красота старости" и, кроме того, "красота юности".
С последним можно вполне согласиться. Но это не
является возражением. Красота юности состоит не в ее
душевных порывах, не в ее побуждениях и тому подобном, а
в их проявлениях, во внешнем облике человека - в
выражении его глаз, чертах лица и т. д. Точно так же обстоит
дело и с красотой старости: не просветленность сама по
себе, а ее проявления в лице и осанке составляют красоту.
Иначе обстоит дело с "некрасивым" поступком; хотя он
тоже представляет собой проявление внутренней
сущности, человека, а именно его моральных качеств, однако мы
обычно имеем в виду сам моральный поступок и этим
совершаем ошибку. Ибо, строго говоря, неправильно
говорить о "прекрасной душе", так же как и о прекрасном
характере, красивых чувствах или побуждениях. Эти эпитеты
ошибочны.
Вообще надо сказать следующее: красота связана и
всегда останется связанной с чувственным явлением или,
например в поэтическом искусстве, с чем-то
аналогичным чувственности - с особенно конкретной и наглядной
фантазией. Прекрасно не то, что является нам, а лишь
само явление. Правда, посредством другого - например,
нравственного - содержания ценности являющегося то
отношение проявления, которое здесь обнаруживается,
может стать значительно более важным, а бытие
прекрасного может приобрести большую полноту значения и более
глубокий фон. Однако такое содержание ценности никогда
не может заменить самое явление или сделать его
излишним, следовательно, не может со своей стороны
представлять эстетическую ценность. Эти утверждения здесь вовсе
не новы. Они являются прямыми выводами из того, что
сказано выше о сущности прекрасного (в гл. 4-10). Но,
конечно, все значение таких определений выясняется
постепенно шаг за шагом.
438 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ГЛАВА 27
ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ В РАЗРАБОТКЕ ПРОБЛЕМЫ
ЦЕННОСТЕЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
а. Классы и апории ценностей
Эстетика не одинока в своем стремлении исследовать
ценности и отношения ценностей. Она связана с другими
до нее возникшими науками. Но действительно энергично
продвигалась вперед в этом отношении до сих пор только
этика, и то лишь в последние десятилетия. Для эстетики,
которой недостает еще общей ориентации, большой
помощью было бы по крайней мере найти путь к ней.
Положение прекрасного легче может быть найдено по
отношению к другим классам ценностей; последнее довольно
странно, ибо классы ценностей еще недостаточно
определены. И все же отношения здесь более прозрачны.
Первое, что здесь необходимо, это иметь взгляд на мир
ценностей вообще в той мере, в какой он открыт на
сегодняшний день философскому пониманию.
Классы ценностей, с которыми мы привыкли иметь
дело, установлены без систематизирующего принципа,
чисто эмпирически. Поэтому, хотя их и немного, они не могут
составить последовательного ряда - чего-нибудь вроде
ясной иерархии ступеней, - но колеблются в своем
расположении на этой лестнице высоты. Их взаимное
разграничение также небезупречно.
Если начать снизу, можно выделить следующие классы:
I. Ценности блага (Guterwerte), охватывающие все
ценности полезного для нас и служащего нам средством
(Nutzund Mlttelnutze), а также много самостоятельных
ценностей (поскольку они действительно имеют свою особую
ценность); сюда включается, между прочим, и широкий
класс ценностей положения вещей (der
Sachverhaltswerte).
II. Ценности удовольствия (Lustwerte), называемые
обычно "приятным".
III. Жизненные ценности (Vitalwerte). Сюда относятся
ценности, присущие всему живому и разделяющиеся
внутри этого класса по высоте, развитию и силе жизни.
Косвенным образом жизненную ценность имеет все, что
полезно для жизни; напротив, то, что гибельно для жизни,
не представляет собой жизненной ценности.
IV. Нравственные ценности, охватываемые понятием
"добро".
Раздел I. Эстетические ценности
439
V. Эстетические ценности, охватываемые понятием
"прекрасное".
VI. Познавательные ценности; собственно, только одна
ценность -"истина".
Нетрудно видеть, что этот ряд неоднороден. Три
последних класса ценностей находятся в явно определенной
параллельной связи друг с другом, что не исключает
различий высоты уровня между ними. Ибо каждый из этих
классов ценностей, кроме последнего, охватывает целую
градацию ценностей высокого и низкого порядка, хорошо
известную из этики. Ценности высшего и низшего
порядка существуют также и в эстетике. Отсюда можно сделать
вывод, что так же, как могут быть этические ценности
"более высокие", чем определенные эстетические,
существуют и эстетические ценности, которые выше
определенных этических ценностей.
Указанные три класса ценностей объединялись под
общим наименованием "духовных", как, например, у Ше-
лера. Однако этим достигнуто еще немного. Можно
добавить сюда еще один класс - класс религиозных ценностей.
Но существование такого рода ценностей связано с
определенными метафизическими предпосылками, которые
не могут быть доказаны; без существования божества эти
ценности были бы иллюзорны. Мы поступим правильно,
если не будем их здесь рассматривать, хотя в истории
человечества им соответствует целая область культуры.
Среди трех первых классов понятие ценности
удовольствия не является однозначным. Частично оно
перекрывается ценностями блага, поскольку то, что "приятно",
например тепло в зимнее время, в то же время является и
"благом". Различия этих классов получат полную ясность
только в том случае, если подойти к ценности
удовольствия чисто субъективно, то есть рассматривать ее как
ценность ощущаемого удовольствия, а не как ценность
того, что вызывает удовольствие и что мы обычно тоже
называем "приятным". Но это различие трудно провести до
конца, потому что в своем сознании мы почти всегда
воспринимаем удовольствие только как признак
определенного качества предмета и называем его по имени того
предмета, которым оно вызывается.
Здесь не место рассматривать эти и другие подобные
им несоответствия - речь идет лишь о данном положении
вещей. Трудность обнаруживается также и в том, что
граница между приятным и жизненно необходимым не может
быть точно установлена. Приятное в известном смысле
440 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
имеет то же самое значение, что и жизненно
необходимое, так как обосновывает и выражает, без сомнения,
нечто способствующее жизни - примерно так, как приятный
вкус пищи говорит о ее питательности и усвояемости, - но
нередко бывает и наоборот, когда приятное может вести и
к вреду для жизни. Последнее обыкновенно связано со
всякого рода излишествами, вроде одурманивания себя
наркотиками, алкоголем и т. п.
Положение вещей таково, что если бы явлений
последнего рода не существовало или если бы они не играли
в жизни такой большой роли, то не было бы вообще
никаких оснований выделять область ценностей удовольствия
из класса жизненных ценностей; ибо тогда стремление к
приятному было бы самым лучшим поведением, которого
мы смело могли бы придерживаться. Но в нашей жизни
приятное и неприятное не так прочно связаны с жизненно
необходимым и приносящим вред.
Значительно проще отношение ценностей блага к
жизненным ценностям. В его основе лежит простое
отношение обоснования, а именно: ценности блага имеют свою
основу в жизненных ценностях, следовательно, низшие - в
высших. "Благо" не является вещью в себе, а есть вещь
"для" кого-то, причем под "кем-то" надо понимать не
какое-либо лицо, сознательное существо; может быть благо
"для" животного или растения, то есть вообще для живого
существа, которому оно полезно. Но во всех случаях это
должно быть благо "для кого-то"; не может быть блага вне
этого отношения. Все, что находится в отношении
целесообразности к какому-нибудь живому существу, имеет
ценность блага, полезную для него ценность, притом именно
и только "для" него, а не само по себе. Так, семечко
является благом для птицы, которая его склевывает; воздух,
свет, водные пространства представляют собой благо для
всего живого на земле.
В этом отношении "для" надо понимать в объективном
смысле. Это "для" не связано с какими-либо знаниями о
"существовании блага" (das Gut-Sein), не зависит от
познания и в том случае, если является благом "для" живого
существа, обладающего сознанием и интеллектом, то
есть способного осознать и реагировать на благо
ответным чувством ценности. Так, воздух, свет, вода и многое
другое являются для человека необходимейшими
жизненными благами, но их ценность становится ощутимой
только тогда, когда человек их лишается; даже "хлеб
насущный" лишь немногие потребляют с чувством благо-
Раздел I. Эстетические ценности
441
дарности, какого он заслуживает своей высокой
ценностью!
Необходимо твердо помнить, что "бытие для нас" тех
ценностей блага, которые имеют отношение к человеку,
ничего общего не имеет с вульгарным релятивизмом в
понимании ценности, что это "бытие для нас" отнюдь не
означает зависимости от наших мнений, наших чувств
ценности или вообще от наших знаний о нем; ибо для того,
чтобы что-то стало "благом" для нас, достаточно, чтобы
оно было нам полезным или только могло быть полезным,
если бы нам пришла мысль использовать это что-то или
вообще его открыть. Залежи каменного угля являются
величайшим благом для людей и были таковыми еще до
того, как люди открыли это благо и овладели им; это благо
ожидало только, чтобы его оценили и использовали.
Следовательно, ценностями блага для людей является
в первую очередь то, что соответствует их потребностям и
идет им на пользу, а отнюдь не то, что доступно их
пониманию. Этот вывод важен потому, что ценности блага, со
своей стороны, играют Определяющую роль по
отношению к нравственным ценностям. Поэтому необходимо
видоизменить также и вышеприведенный тезис (тезис
обоснования) в том смысле, что все ценности блага являются
ценностями только "для" живых существ или лиц и,
следовательно, связаны с носителями жизненных и духовных
ценностей, а значит, имеют в качестве обоснования
высшие классы ценностей вообще, а не только ценности
жизни. Правда, ценности, о которых идет здесь речь,
являются прежде всего лишь нравственными ценностями. Но
именно в области нравственных ценностей вступает в
силу обратное отношение.
При этом следует заметить, что в определенном
смысле для ценностей удовольствия также вполне законно то
же самое обоснование жизненными ценностями.
Приятное как раз и существует не само по себе, а только как
приятное "мне", точнее, как приятное какому-то живому
существу. Различие сохраняется лишь в том, что здесь
речь идет о чисто субъективной ценности, о ценности
ощущения как такового, а не о ценности объекта.
Класс ценностей блага очень велик. Он начинается с
низших ценностей полезности для жизненных функций и
поднимается до самых высоких духовных ценностей,
которые выпадают только на долю людей или связаны с их
личным поведением, например дружба, благосклонность,
любовь. Последние обусловлены уже этическими ценное-
442 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
тями в поведении, в образе действий по отношению к
другим людям; это - ценности блага, связанные с
нравственными ценностями.
Последние несколько возвышаются в общей шкале
ценностей над уровнем низших нравственных ценностей.
Это обстоятельство является одной из причин того,
почему нельзя различать по одному только уровню те классы
ценностей, которые совпадают лишь в целом, а не в
частностях. Необходимо вспомнить, что даже художественные
ценности содержат значительную примесь ценностей
блага.
Наконец, необходимо сказать здесь еще несколько
слов по поводу ценностей положения вещей. Выше они
были причислены к ценностям блага, но это возможно
только в том случае, если они понимаются в широком
смысле. "Ценности блага" были в свое время (еще у Ше-
лера) определены через посредство вида бытия
(напластования бытия) их носителей. Полагали, что носителями
ценностей блага могли быть только предметы, вещи или
родственные предметам природные связи. К последним
причислялись и внешние, например, условия жизни, как
условия жизни людей, так и других организмов.
Это определение оказалось слишком узким. Оно
достаточно только для самых узких потребностей, поскольку
имеет дело только с ценностью полезного в вещах. Для
более высоких ценностей блага это определение уже
недостаточно; всякая совокупность событий может иметь
или не иметь ценность блага; равным образом это
относится к оценке каждого поступка другого человека
безотносительно к тому, может ли этот поступок быть оценен
как моральный или нет; то же самое верно и в отношении
к каждому "случайному", то есть к не подчиненному какой-
либо цели, происшествию, событию, ко всякой ситуации,
ко всякому обстоятельству.
Для обозначения полноценного бытия всего того, что
не имеет вещественной формы, но вместе с тем многое
проясняет в положении вещей, феноменологи нашли
соответствующее меткое понятие: "ценности положения
вещей", не имея при этом в виду новый класс ценностей.
Действительно, ценности положения вещей подходят под
объединяющее понятие ценностей блага, если только при
этом не понимать под благом в узком смысле одни лишь
вещи.
В противном случае невозможно было бы считать
ценностями блага такие ценности, как счастье и власть. Ибо
Раздел I. Эстетические ценности
443
то, что составляет наше "счастье", редко заключено в
одной вещи, редко ограничено одним предметом - так
бывает лишь в сказках, где счастье сосредоточено, например,
в сокровище, в драгоценном камне, в волшебном зеркале;
в действительности счастье почти всегда заключено в
определенных жизненных условиях, именно в положении
вещей, в обстоятельствах жизни. Это имеет большое
значение для этики. Ибо нравственные ценности относятся к
ценностям блага определенным образом, а именно - как
ценности положения вещей.
б. Родство и противоположность
классов ценностей
Из сказанного, между прочим, видно, что определение
классов ценностей по характеру носителей ценностей
весьма сомнительно. По отношению к ценностям блага
такой подход, во всяком случае, непригоден, ибо
необходимо сказать, что носителями ценностей блага может
быть все, что угодно, начиная от предметов и кончая
тончайшими оттенками личного поведения. Нечто подобное
происходит и с "духовными ценностями".
По крайней мере так обстоит дело в том случае, если
объединить вместе три класса ценностей: нравственные,
эстетические и познавательные. Все они относятся,
несомненно, к сфере духовной жизни, но не имеют одного и
того же носителя ценностей. В области нравственных
ценностей носителем ценности является человек как
личность; именно он может быть "хорошим" или "дурным" в
нравственном отношении, и только ему принадлежит
свободный выбор осуществить то или другое.
Но человек уже никак не может являться носителем
или субъектом ценностей истины, даже если он выступает
в качестве познающего. Ибо не человек и даже не
познающий человек является "истинным" или "неистинным"
независимо от того, соответствуют ли его представления
делам или нет, а только само его представление, его
суждение или то, что он считает своим познанием (в
действительности это является познанием лишь в том случае,
если оно истинно, в противном же случае оно является
заблуждением).
Утверждение, что человек "правдив или неправдив",
.означает нечто совершенно другое, имеет
исключительно этический смысл.
Для эстетических ценносте^верно совершенно
противоположное: здесь определение "человека" как носителя
444 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ценности было бы не широким, а слишком узким. Пусть
человек красив или некрасив, однако красивым или
некрасивым может быть не только человек, но и животное и
ландшафт; такая оценка может относиться к любому
предмету, к любому явлению природы или живому
существу. Прибавьте к этому широкое многообразие
предметов искусства; правда, все это - воплощения
(Objectivationen) человеческого духа, но отнюдь не сам по
себе живой и личный дух, не человек!
Поэтому о художественных ценностях мы можем
сказать нечто подобное тому, что и о ценностях блага:
носителем этих ценностей может быть все, что существует на
свете: вещи, организмы, личности, мировые системы,
отдельные вырванные кусочки реального мира, а также
предметы, специально производимые человеком в
качестве носителей художественных ценностей. В последнем
случае "предметы" - даже слишком узкое понятие, так как
носителями эстетической ценности может быть также
фантазия человека, картины чистого воображения. Но они
должны быть каким-либо образом вещественно
закреплены-, объективированы, воплощены в предметах.
Итак, если, с одной стороны, эстетические ценности
проявляют настолько большое сходство с ценностями
блага, что могло бы возникнуть желание причислить их к
высшим ценностям блага - ведь падают же они нередко
"с неба" как подарки человеку! - то, с другой стороны,
нельзя недооценивать и их родства с ценностями
удовольствия. Ведь эстетика нередко пыталась оттенки
приятного и неприятного перенести в область красивого и
некрасивого.
Эта родственность с ценностями удовольствия
находит более твердую почву под ногами, если вдуматься в то
обстоятельство, что акт эстетического восприятия и
эстетической оценки есть ясно выраженный акт удовольствия.
Правда, ответное чувство удовольствия относит свою
оценку не к самому удовольствию, а к возбудившему его
предмету; но это перенесение на предмет характерно
также и для всего "приятного и неприятного": мы называем
"приятным" возбудитель удовольствия, а не самое
удовольствие, "не приятным" - возбудитель неудовольствия
(например, то, что невкусно, болезненно, горько).
Необходимо отличать характер удовольствия от
характера предмета. Чувственным акт эстетического
восприятия является лишь по своему внешнему виду, а не по
удовольствию. Удовольствие возникает только при вторичном
Раздел I. Эстетические ценности
445
обозрении, более высоком, сверхчувственном; поэтому
эстетическая ценность предмета зависит не от чувственно
данного, как в приятном, а от отношения явлений, от всей
их связи или от эквивалентного этим явлениям отношения
формы.
Именно поэтому и нужно отнести эстетическую
ценность к "духовным ценностям", а в силу этого она должна
рассматриваться в одной плоскости с ценностью истины и
с нравственными ценностями. Но для этого совершенно
недостаточно придерживаться схемы акта более
высокого созерцания. Именно здесь гораздо большие
результаты может дать предметный анализ.
Что, собственно, мы называем "духовной ценностью"?
Очевидно, она не означает, что только нечто духовное
может иметь эстетическую ценность; это относится лишь к
произведениям искусства, поскольку они являются
"объективированным духом"; все остальное прекрасное,
существующее на земле, сюда не относится. Не дух
является здесь носителем ценности. Но какой же смысл
остается тогда от понятия "духовная ценность"? Чтобы ответить
на этот вопрос, надо вспомнить, что было сказано выше, в
главе 5, о "законе объективации", в особенности о роли
живого духа в бытии объективированного духа, в качестве
его "бытия-для-нас".
При этом обнаружилось трехчленное - в своей основе
даже четырехчленное - отношение в самой сущности
объективированного духа; такое взаимоотношение явлений
реального переднего плана и его ирреального заднего
плана существует только "для" живущего духа, которому
может что-либо являться, - независимо от того, понимать
ли его как личный, персонифицированный или как
"объективный" дух. "Четвертый член" - это творческий дух
художника, который, хотя и может принадлежать далекому
прошлому, все-таки ощутителен и остается как бы
стоящим за сценой и в определенных границах даже
"является" в своем творении.
Творческий дух художника в данном случае не играет
роли; он отсутствует и в естественно-прекрасном и в
человечески прекрасном. Живой же дух, как третий член для
эстетической ценности вообще, существен, ибо этого рода
ценность всегда свойственна какой-либо вещи только "для
кого-то", но никогда не принадлежит ей "в себе" или самой
по себе, безотносительно к мыслящему, созерцающему ее
субъекту. Эта существенная роль духа в трехчленном
отношении во всем том, что претендует быть "прекрасным",
446 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
составляет характерную черту духовной ценности в
прекрасном.
Остается еще добавить, что и в этом заключается
явное родство с ценностями, которые относятся к благам;
это уже второе родство после указанного выше первого.
Как там, так и здесь должно быть учтено соотношение с
субъектом и обусловленность ценности его наличием или
отсутствием. То обстоятельство, что и при ценностях
блага живое существо, "для" которого существует ценность,
может быть лишено духовной жизни, является лишь
второстепенным отличием; главное же совпадает: и там и
здесь должно быть "для", без которого не может
существовать и ценность.
Различие состоит только в том, что, когда мы говорим
о ценностях блага, речь идет о реальном отношении к
субъекту независимо от того, осознано ли отношение;
здесь же, напротив, имеется в виду характерное
отношение сознания. Это значит, что "благо" является чем-то для
А, если оно полезно ему или может быть ему полезным,
даже независимо от того, знает ли об этом и ценит ли это
благо А; "прекрасное" же является чем-то для А лишь в
том случае, если "для" его восприятия и чувствования
существует отношение проявления. Это означает: когда для
него открывается реальный передний план предмета, то
тем самым для него является и наслоение заднего плана.
Это второе "для" - типично субъективное, это некое
духовное сознание. В этом отношении эстетическая
ценность отлична от ценности блага, насколько это возможно.
Отсюда видно, что важнейшие различия ценностей
коренятся в специфических и тончайших отношениях,
лежащих в их основе (отношениях сущностей).
е. Ценности блага и нравственные ценности
Последние определения имеют прямое отношение к
постановке вопроса об эстетических ценностях. Но это
лишь преддверие его решения. Для того чтобы серьезно
подойти к проблеме эстетической ценности, надо
использовать множество обходных путей: прежде всего должны
быть подвергнуты рассмотрению нравственные ценности,
поскольку эстетические ценности находятся с ними еще в
одном особом отношении. Для этого необходимо
рассмотреть прежде всего некоторые основные определения
сущности самой нравственной ценности.
Для обоснования последующего надо, конечно,
отослать читателя к "Этике". Здесь должны быть приняты во
Раздел I. Эстетические ценности
447
внимание лишь основные положения и следует напомнить
только о существенных точках зрения. Это в первую
очередь следующие три положения:
1. Носителями нравственных ценностей, как и
носителями безнравственности, могут быть только и
исключительно люди или их действия, поступки, убеждения. Это
ярко выраженные ценности лиц и их действий. Причина
этой исключительности заключается в том, что только
люди пользуются свободой и их свобода осуществляется
только в их действиях, поступках и т. д. Но нравственную
ценность имеет только то поведение, которое
осуществляется без принуждения и не в силу естественной
необходимости, то есть могло бы быть и иным, а не таким,
каким оно является.
2. Нравственные ценности не имеют относительного
характера, не зависят от того, "для" кого они
представляют собой ценности, как это имеет место с ценностями
блага. "Для" касается здесь только ценностей последнего
типа, связанных с нравственными. Эти ценности
существуют лишь для тех, кто пользуется ими. Но их не надо
смешивать с самими нравственными ценностями: честность
А является "благом" для Б, который должен существовать
вместе с А; это благо выпадает на долю Б, но ценность
честности сама по себе имеет своим источником А.
Ценность честности существует независимо от того, оценит
ли ее Б, заметит ли, признает или только поймет.
3. Положительные и отрицательные нравственные
оценки подходят только к таким действиям, поступкам и
убеждениям, которые имеют дело не только с
предметами, но и с лицами. Они, следовательно, связаны с лицами
не только как с субъектами и носителями ценности, но и
как с объектами, ибо все то, что может быть оценено как
нравственный поступок, это "поступки" по отношению к
лицам - точнее, это распоряжение вещами по отношению
к лицам, на которых тем самым оказывается
воздействие. Возражение, что с животным также можно
обращаться гуманно или бессердечно, в данном случае
ничего не меняет. Ибо это явно связано с мнением, что и
другие живые существа, подобно человеку, в какой-то
степени обладают тем, что мы называем личностью.
Еще более важным, чем эти основные определения,
является отношение, в принципе господствующее между
ценностями блага и ценностями нравственности. Это
отношение не исчерпывается упомянутыми выше
различиями и противоположностями, а равным образом не исчер-
448 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
пывается и только что (в пункте 2) отмеченным
взаимоотношением ценностей нравственности с неотделимыми от
них или "сочетающимися" с ними ценностями блага.
Напротив, это отношение является в высшей степени
положительным, а для самих нравственных ценностей даже
самым существенным. Его можно выразить в следующей
формуле: все нравственные ценности основаны на
ценностях блага, а именно: всякая нравственная ценность
имеет в качестве своей предпосылки особый вид
ценности блага. Однако своеобразие нравственной ценности по
отношению к лежащей в ее основе ценности блага
остается вполне автономным.
Это может быть названо основным законом
нравственной ценности. Но он требует еще своего обоснования.
Первая часть закона может быть легко обоснована. Чем
отличается поведение честного человека от поведения
вора по отношению к неохраняемому чужому имуществу?
Тем, что первый уважает чужую собственность, последний
же не уважает. Предпосылкой здесь является то, что вещь,
чужое добро имеет ценность, а именно ценность блага,
ради которой человек может стремиться им обладать;
если бы ее не было, отсутствовало бы и побуждение к
воровству, и тогда действия честного человека ничем не
отличались бы от поступков вора. Нравственная ценность,
равно как и безнравственность, обусловлены,
следовательно, наличием ценности блага в предмете, в вещи, то
есть имеют в ней свою основу. Точно так же обстоит дело,
если я доставляю кому-нибудь удовольствие или радость:
приятное означает ценность блага для другого лица. В
большинстве случаев эти, блага облечены в форму
ценности положения вещей. Например, если я дарю
что-нибудь кому-либо или в чем-то оказываю помощь, то
заключенная здесь ценность состоит не в ценности самих
вещей, а в том, что эти вещи полезны данному лицу, то есть
в типичной ценности положения. Обусловленность
нравственной ценности ценностью блага ограничивается
прежде всего этим. Ценность блага должна непременно
наличествовать в нравственной ценности, должна
составлять ее основу; во всем остальном нравственная ценность
самостоятельна.
Вышесказанное касается второй части основного
закона. Содержание второй части можно резюмировать в
трех положениях:
1. Нравственная ценность, в основе которой лежит
ценность блага, содержит в себе эту последнюю не в каче-
Раздел I. Эстетические ценности
449
стве своей постоянной составной части (не как элемент
ценности) - иными словами, ценность, в основе которой
лежит другая ценность, необратима, не может быть
обращена в последнюю. Ценность блага, содержащаяся в
предмете, вызывающем стремление им обладать, не
содержится в ценности честности, ибо последняя является
принадлежностью честного человека и не может быть
объектом, которым стремятся обладать, обладать в том
смысле, в каком можно желать обладать предметом.
Следовательно, нравственная ценность по своему
содержанию автономна.
2. Уровень нравственной ценности независим от
высоты лежащих в ее основе ценностей блага. Пример с
"лептой вдовы" как раз дает возможность точно понять, о чем
здесь идет речь; над самой незначительной ценностью
блага может возвышаться самая высокая по уровню
нравственная ценность, например способность на величайшие
жертвы; и наоборот, величие жертвы не тождественно
связанной с нею величине ценности блага.
3. Реализация нравственной ценности не зависит от
реализации ценности блага (поскольку о таковой может
идти речь), точнее говоря, не зависит от реализации
ценностей положения вещей1.
Этот пункт требует особого разъяснения. Если я хочу
доставить кому-нибудь удовольствие и изумлю его каким-
нибудь неожиданным сюрпризом, но сделаю это
невпопад, то есть преподнесу нечто такое, что ему в данный
момент совсем некстати и даже неприятно, - о таком случае
можно сказать: ценность положения вещей, которую я
имел в виду (то есть радость, которую я хотел доставить),
не осуществилась, однако замысел - если только он был
искренним, - несмотря на это, остается нравственно
полноценным. Последнее, во всяком случае, означает, что я
вполне серьезно желал сделать приятное, а не постольку
поскольку. Здесь имело место действительное
намерение, определенный замысел. Результат же получился
совсем обратный. "Исполненным любви", добрым вообще
является лишь намерение принести радость, сам замысел.
Уже в самом этом замысле может быть полностью
реализована нравственная ценность безотносительно к
реализации ценности положения вещей, являющейся
результатом поступка, обусловленного этим замыслом.
Подробно об этих трех пунктах см, в "Ethik", изд. 3,1949, гл. 60, пункт "е".
450 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Отсюда следует, что вся зависимость нравственной
ценности от лежащей в ее основе ценности блага
ограничивается исключительно намерением делать благо,
доставлять кому-то ценность блага, причем наличием
ценности блага не определяется ни содержание, ни высота
достоинства нравственной ценности, ни ее реализация.
г. Интендированная ценность
и ценность самой интенции
Последний вывод весьма примечателен. Из него в свою
очередь вытекает целый ряд следствий, которые прежде
всего распространяются на область этики, но имеют
отношение также и к эстетике. Ввиду трудности
самостоятельного обзора нам придется затронуть и этические вопросы,
хотя непосредственно они не имеют ничего общего с
эстетикой.
То отношение, которое мы назвали "обоснованием",
показывает, что в каждой этической интенции или
поступке содержатся две совершенно различные ценности -
ценность определенного блага и этическая ценность, -
находящиеся в совершенно определенной связи и
зависимости между собой. Обе эти ценности, по-видимому,
никогда не совпадают. Однако и это утверждение является
истиной лишь наполовину, другая половина истины
заключена во втором законе.
В каждом поступке, в каждом желании, в каждой
этической интенции нравственная ценность или нечто
безнравственное заключено не в направлении интенции, не
есть интендированная ценность или цель действия, а
проявляется только в ней самой, в интенции как в своем
носителе, и представляет собой, таким образом, ее ценность,
интенциональную ценность. Этот закон - закон Шелера -
можно выразить еще следующим образом: целью
поступка является не нравственная ценность, а ценность блага,
точнее ценность определенного положения вещей;
нравственная же ценность проявляет себя "на плечах
действия". В этом отношении интендированная ценность
является "обосновывающей", а ценность интенции -
"обоснованной". И так как последняя представляет собой
нравственную ценность, то это вполне согласуется с
законом, определяющим отношение, которое мы назвали
"o6ocHOBaHneM"(FundierungsverhaltnJs).
Причины этого просты, но они не совпадают с троякой
независимостью отношения обоснования, а имеют чисто
этический характер. Тот, кто хочет доставить радость дру-
Раздел I. Эстетические ценности
451
гому человеку, поступает так не для того, чтобы быть
добрым, и, конечно, не для того, чтобы украсить себя таким
предикатом ценности, - он поступает так исключительно
для того, чтобы доставить радость другому лицу, чтобы,
например, подарок пригодился ему. Он думает о другом, а
не о себе и не желает для себя ничего. И лишь поскольку
этот человек думает о другом, он исполнен любви. Если он
тайком думает при этом о самом себе - о собственной ли
пользе или даже о том, как он при этом выглядит с
моральной стороны, - его поступок больше уже нельзя считать
проявлением любви.
Кто исходит в своих поступках из заботы о
собственной добродетели, тот обыкновенно этого не достигает.
Добродетель принадлежит тому, кто проявляет в этом
отношении прямую интенцию. Но это является установкой
на ценность, (конечно, подлинную) определенного
положения вещей. Прямая интенция нравственной ценности
ведет обычно к ее разрушению, поскольку она мешает
самой интенции, с которой она неразрывно связана; в своем
крайнем проявлении она ведет к самолюбованию и к
фарисейству. Это, конечно, не следует доводить до
крайности. Прямая интенция нравственной ценности сама по себе
не является невозможной.
В этом также нетрудно убедиться: во всех актах
морального воспитания заложена прямая интенция
нравственной ценности. Распространяется ли моральное
воспитание на все нравственные ценности - это совсем
другой вопрос: храбрость, любовь, способность на
жертвы трудно воспитать; прилежание, постоянство, любовь
к порядку, самообладание и самодисциплина, а также в
известных границах и верность, преданность, чувство
справедливости и т. д. несо-. мненно могут быть
достигнуты посредством педагогического воздействия. Таким
образом, существует немало нравственных ценностей,
которые доступны прямой интенции. Это верно и по
отношению ко всякому самовоспитанию, которое
применяет к себе взрослый человек. Это, наконец,
справедливо уже по отношению ко всякого рода самокритике,
раскаянию, к осознанию собственных поступков,
возвращению к прошлому и ко всякого рода сознательному
"подражанию". Люди "хотят" быть такими, каким является их
образец.
При этом надо обратить внимание на следующее.
Закон все же остается в силе постольку, поскольку
нравственная ценность не тождественна - или не вполне тож-
452 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
дественна - нравственной ценности этого стремления.
Педагог воспитывает своего питомца, быть может, исходя
из сознания долга, из любви или из обусловленной
мировоззрением преданности народу и государству; это не те
же самые нравственные ценности, какие он старается
привить своему питомцу, как, например, постоянство,
любовь к порядку и т. д. Ценность интенции и здесь иная, чем
интенциональная ценность. То же самое
распространяется и на самовоспитание.
Все сказанное в данном пункте есть не просто
отклонение. Оно скорее показывает, насколько глубоко связаны
между собой разнородные классы ценностей. Этот факт
имеет существенное значение также и для проблемы
эстетических ценностей. Ибо и они не висят в воздухе, а
удивительно тесно и своеобразно связаны с другими
классами ценностей.
В этой связи, говоря о нравственных ценностях, надо
отметить еще один момент. Так как этим ценностям по
самой сущности их чуждо интендирование ценности, а
этическое поведение всегда основано на интендировании -
ибо основным содержанием морали является
предписывание заповедей различных направлений интенции, - то
остается ответить на три вопроса:
1. Какие нравственные ценности доступны заповедям
морали?
2. Какие из них допускают разумное стремление с
нашей стороны?
3. Какие из них могут быть реализованы в этом
стремлении?
Ответы на эти вопросы не могут быть даны суммарно,
они должны быть дифференцированы по отдельным
ценностям и группам ценностей. А это значит, что здесь мы
уже почти не можем рассчитывать на какую-нибудь
ощутимую закономерность царства ценностей.
К вопросу 1. Заповедям морали доступны, то есть
способны иметь форму действия, направляемого сознанием
долга, вышеназванные воспитуемые ценности, которые
можно усвоить посредством воспитания; таковыми
являются: прилежание, постоянство, чувство порядка, а также
в значительной мере самодисциплина, самообладание и
даже честность. Недоступны этим заповедям любовь,
доверие и т. д.
К вопросу 2. Вообще говоря, нашему стремлению
доступно большинство нравственных ценностей, однако
остается опасным стремление к их достижению прямым пу-
Раздел I. Эстетические ценности
453
тем, так как в этом случае этическое может превратиться
в свою противоположность, а поэтому в этом обычном
смысле не следует к ним стремиться. Действительно
недосягаемой является ценность индивидуальности. Эта
ценность должна, как вообще и бывает в жизни,
реализовать себя сама; кто к ней стремится как к своей цели, тот
всегда рискует ее потерять.
И еще скорее приведут его к этому другие люди. Здесь
уместно сравнение с областью ценности определенного
блага: счастье, которого, вообще говоря, можно
достигнуть, не поддается, однако, реализации в самом
стремлении. Тот, кто стремится к счастью, почти неизбежно его
разрушает.
К вопросу 3. Реализуемы, пожалуй, все нравственные
ценности, кроме чистоты; во всяком случае, чистота, или
невинность, не может быть предметом реализуемого
стремления. Ее можно только потерять, но не обрести
вновь. Это верно также и по отношению к некоторым
высоким ценностям блага: молодости, красоте,
непосредственности.
д. Метафизическая проблема ценности
Необходимо сказать со всей определенностью, что
при этих соображениях сознательно была обойдена
метафизическая проблема ценности. Суть этой проблемы
составляют вопросы о способе существования ценностей, о
смысле и происхождении их значения и об их
относительности или абсолютности. Эти вопросы немаловажны. Но в
обсуждаемой здесь связи вопросов они не являются
определяющими, они индифферентны к ней.
Для низших классов ценностей вопрос о бытии и
значении совершенно недвусмысленно связан с реальными
отношениями бытия. "Благом" является то, что полезно,
что помогает живому существу или человеку; "зло" - это
то, что ему невыгодно или представляет для него угрозу.
Это - ясные и очевидные объективные отношения;
человек, которого они в жизни окружают со всех сторон, не в
состоянии что-либо в них изменить. Правда, отдельные
блага могут с изменением жизненных условий
превратиться в зло, и наоборот. Поэтому эти отношения выглядят
относительными, но в действительности таковыми они не
являются. Ибо при изменившейся общей обстановке тот
же предмет не является тем же самым, а положение
вещей тем более. Все в жизни уже в своем бытии взаимос-
454 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
вязано, и отдельная вещь является тем, что она есть, а не
вещью для себя.
Так обстоит дело с ценностями блага. В их основе нет
ничего, кроме целесообразности "для" какого-то субъекта.
При этом безразлично, является ли целесообразность
целенаправленной или нет; целенаправленной она
является в редких случаях, когда за нею стоит сознательное
действие человека, обыкновенно же она лишена цели, это
обычная случайная целесообразность - подобно тому, как,
например, семена некоторых трав не выдуманы для
человека, но, когда человек узнает об их питательной
ценности, они становятся для него одним из величайших "благ".
Таким же безобидным является вопрос о бытии при
рассмотрении ценностей удовольствия. Эти ценности
совсем не претендуют на объективное значение; однако в
своей сфере субъективного, как чистые ценности чувства,
они независимы и лишены какой бы то ни было
релятивности. Ибо любое отношение может быть здесь только
отношением к реальному возбудителю удовольствия или
неудовольствия; при этом в зависимости от состояния
или расположения чувствующего субъекта степень
приятного и неприятного может быть весьма различной. Эта
относительность, связанная с внешним отношением,
является само собой разумеющейся; она ни в какой мере не
представляет опасности для своеобразия ценности
удовольствия, для его автономии и самостоятельности.
Вопрос о бытии при рассмотрении ценностей жизни
также не представляет никаких трудностей. Здоровье,
сила, эластичность, способность быстро и точно
реагировать, прочная уверенность инстинктивных действий у
животного имеют высокую жизненную ценность и являются
таким же простым отношением бытия и
целесообразности, как и в ценностях блага. Поэтому они не требуют
дальнейшего обоснования. Ибо, в строгом смысле слова, эти
качества являются не чем иным, как внутренне
присущими живому существу естественными благами. Поэтому их
можно было бы причислить и к ценностям блага. По
крайней мере из того, что было сказано, видно, как целые
классы ценностей блага и ценностей жизни переходят
друг в друга и что между ними нет резкой границы.
Действительная метафизическая проблема возникает
лишь тогда, когда задают вопрос, что же делает
полноценной самую жизнь - настолько полноценной, что об этом не
может быть спора, - а все остальное существующее в
мире, напротив, должно в зависимости от своего отношения
Раздел I. Эстетические ценности
455
к живому распасться на благо и зло. Подобная
полноценность и есть ценность как таковая (Eigenwert). Но эту
ценность уже нельзя выводить из отношений бытия. Нельзя
ее выводить также и из целесообразностей. Ценность как
таковая является непроизводной. И если она налицо, то
имеет абсолютный характер.
Вокруг этого вопроса было много споров. Наиболее
простым кажется теологическое обоснование жизненных
ценностей духовными ценностями, то есть, в сущности,
самой духовной жизнью. Но в онтологическом отношении
такое обоснование, то есть обоснование жизни только
"благодаря духу", мало удовлетворительно, ибо она
проявляет себя тысячами путей также помимо духа, без него
и независимо от него.
Для подобного рода вопросов больше нет явлений, из
которых можно было бы получить ответ. Истина состоит в
следующем: у нас нет никакого другого аргумента для
обоснования самоценности жизни, у нас нет также других
показателей этой ценности, кроме нашего чувства
ценности, которое недвусмысленно утверждает жизнь и
отвергает смерть и гибель.
Это является фактом, который может быть одинаково
успешно истолкован как субъективно, так и объективно,
прежде всего потому, что мы сами являемся живыми
существами, а также потому, что все живое имеет в
качестве своей существенной черты самоутверждение, а в
конечном счете потому, что все живое образует высший
слой бытия над неживым и вполне допустимо, что
определенная "высота" онтологической структуры имела и
соответствующую, подобающую ей высоту ценности.
Но такого рода толкование является детской игрой в
сравнении с бездной трудностей, которые возникают при
рассмотрении нравственных ценностей, как только
ставится вопрос о их способе бытия и силе их значимости.
Ибо здесь речь идет уже не о тех ценностях, которые
возникают из связей бытия и, очевидно, являются лишь их
оборотной стороной, а о таких ценностях, которые
противопоставляют себя бытию и говорят о должном, которые
предъявляют к человеку требования абсолютного
повиновения, сами же не могут быть выведены ни из чего другого.
Здесь мы также не имеем ничего иного, кроме нашего
чувства ценности, на которое мы можем опираться. Но
чувство ценности говорит не при всяких обстоятельствах
оно возбуждается только тогда, когда чем-то разбужено,
когда в области ценностей человек является достаточно
456 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
зрелым. Чувство ценности человека дает разные
показания в зависимости от того, находится ли человек в юном
или зрелом возрасте; различны его показания у людей,
принадлежащих к разным народам и к различной среде, в
особенности же у людей различных исторических эпох.
Этот относительный характер единственно надежного
показателя ценности, которым мы обладаем, в итоге
переносится и на существование и значимость самих
этических ценностей и делает их шаткими. Эго находит свое
подтверждение во множестве форм "морали".
Только здесь мы обнаруживаем всю серьезность
метафизической проблемы ценностей, ибо этика человека
связана с надысторическим значением нравственных
ценностей. До сих пор решение можно было найти лишь в
том, что шаткость чувства ценности еще не означает
шаткости самой ценности, тем более если она проявляется
только с отрицательной стороны. Ибо чувство ценности
никогда не высказывает противоречивое: это чувство
никогда не отрицает ценностей, которые оно однажды
распознало, пусть даже и в другие времена, и никогда не
дает им полностью противоположной оценки - в этом
отношении учение Ницше о "переоценке всех ценностей" есть
недоразумение, - оценивающее чувство скорее может
лишь "отказать", может прервать свою деятельность,
притупиться в определенном отношении или, как образно
говорят, может стать слепым. Эго вполне объясняется
исторической относительностью, так как очевидно, что в
разные времена истории и у людей разных национальностей
оценивающее чувство должно быть в определенных
различных зонах ценностей слепым и всегда только в
некоторых - "зрячим".
Способ утверждения, способ бытия самих этических
ценностей, и не временное, а постоянное их "значение", в
той мере, в какой это последнее должно означать еще
нечто иное, нежели их познанное бытие, - не может быть
ясно установлен таким путем. Здесь продолжает свое
существование ничем не ограниченная метафизическая
проблема ценности.
Раздел I. Эстетические ценности
457
ГЛАВА 28
МЕСТО ПРЕКРАСНОГО В ЦАРСТВЕ ЦЕННОСТЕЙ
а. Попытки сведения к другим видам ценностей
Сущность эстетических ценностей в некоторых
отношениях легче определить, чем сущность ценностей этических,
прежде всего потому, что эстетические ценности не
испытывают давления метафизической проблемы. И дело
обстоит так отнюдь не потому, что эстетические ценности не
имеют скрытых проблем и лишены массы загадок,
содержащих многие метафизические (неразрешимые)
проблемы; но все эти вопросы здесь не актуальны, так как
эстетическая ценность не предъявляет каких-то требований, не
повелевает, а следовательно, не выдвигает никаких
спорных вопросов в связи с притязанием на свою автономию.
В отношении к человеку эстетическая ценность имеет
совершенно противоположное значение: она одаряет его,
она прилетает к нему и проявляет себя тем самым как
"благо", правда, благо настолько своеобразное, что его
нелегко включить в число благ. Но хотя однажды
увиденная художником эстетическая ценность выдвигает перед
ним требования - притом далеко идущие и могущие стать
решающими для его судьбы, - эти требования все же не
являются моральными требованиями и художник в
основном остается свободным избрать для себя другие задачи.
Односторонние эстетические теории -
преимущественно те, которые исходят из поэтического искусства и
его истории, - пытались свести в основном эстетические
ценности к этическим. Обычно эти теории основываются
на том, что речь идет об изображении человеческого, и
притом преимущественно тех сторон жизни человека,
которые относятся к его морали (в широком понимании
этого слова), и что удовлетворяет только такое
произведение, в котором этическая сторона ценности
действительно находит свое выражение. Не следует понимать
это узко: вовсе не требуется, чтобы в драме или романе
доброе, положительное начало непременно выходило
"победителем", но его гибель должна быть все-таки
изображена так, чтобы симпатии оставались на стороне
добра. В противном случае произведение поэта не
производит впечатления "прекрасного", а, напротив, отталкивает.
Вплоть до нашего времени такое понимание
встречается постоянно, правда чаще всего спрятанное за
внешним его отрицанием. Оно держится так упорно потому, что
458 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
только что приведенный аргумент вполне справедлив:
симпатии действительно должны быть на стороне
"добра". При этом не замечают лишь того, что тезис остается
недоказанным, а именно вполне может быть, что в
подобном отношении к "добру" заключается предварительное
условие самого появления эстетической ценности
поэтического произведения, однако отсюда еще не следует, что
этим одним определяется наличие такой ценности.
Говоря конкретно, поэтическое произведение не может быть
прекрасным, если оно не вызывает симпатии к морально
правой стороне, но если оно сильно только одним этим, то
это еще не произведение искусства. Для этого требуются
еще и другие, совершенно иные качества поэтического
оформления, для которого подлинно этическое чувство
ценности является только предпосылкой.
Само собой разумеется, что против подобных
смешений ценностей и "сведения" к другим ценностям можно
выступить гораздо резче. Это должно применяться лишь в
той области, где еще можно говорить о сведении
преимущественно к этическим ценностям. К этому приводят
следующие соображения: прежде всего то, что существуют
другие искусства, кроме поэзии, и другие виды
прекрасного, кроме прекрасного в искусстве, в том числе такие,
которые не принадлежат человеку и уже потому не могут
быть сведены к нравственным ценностям. Ибо
эстетические ценности могут быть присущи всему, что только
существует, этические же - только человеку. Неужели мы
должны рассматривать прекрасный дуб, старого лося, берег
лесного ручья, картину звездного неба сквозь призму
"скрытой человечности", чтобы увидеть красоту всех этих
явлений природы?
Таким путем мы очень скоро пришли бы к абсурду. И
тем самым вопрос решен еще до привлечения тяжелой
артиллерии неизобразительного искусства. Однако надо
заметить, что отношение эстетических ценностей, по
крайней мере некоторых из них, к нравственным
ценностям этим еще не выяснено. Но это отношение
совершенно иное.
В этой связи надо еще раз предостеречь против
систематики эстетики Гегеля. Хотя там правильно оценена
"кажимость идеи" постольку, поскольку речь идет о
кажимости, в проведении этой мысли акцент сделан все же на
идее, притом именно на ее содержании. И если вдуматься
внимательнее, то мы видим, что это содержание почти
целиком является моральным. А это ведет к тезису, что эсте-
Раздел I. Эстетические ценности
459
тико-поэтические ценности могут быть сведены к
этическим.
Значительно лучше тезис эстетики Когена: "Природа и
нравственность превращены в материал искусства". В
этом положении выражено отношение бытия обеих
областей в качестве предпосылок искусства, причем ни
одной из обеих сторон ценностей не предоставлено более
высокого положения. Быть может, это только упорное
отклонение понятия ценности неокантианством, что является
здесь препятствием к пониманию почти достигнутого
определения основного отношения.
Суть дела все-таки остается следующей: эстетическая
ценность не является ценностью действия, она является
ценностью предмета, нравственная же ценность есть по
самой своей сущности ценность действия, ценность
поступка. Если в предмете эстетики некоторые акты
принадлежат также носителям этических ценностей, например
во всех видах драматического искусства, то все же
действие здесь является составной частью какого-то
целого и наличие или отсутствие нравственной ценности не
означает наличия или отсутствия в нем эстетической
ценности.
И для того, чтобы сделать из всего этого вывод, надо
сказать: прекрасно не внутренне присущее человеку (das
Menschlich-lnnere) и душевное как таковое, а
исключительно только его чувственное проявление в видимой или
зрительно представляемой форме (последнее в
поэтическом искусстве). Точно так же и в живом человеческом
облике: определенная игра линий, или ритм движений,
"прекрасна" в нем не потому, что в них просвечивают
нравственные черты внутреннего содержания или
выражаются душевные достоинства, а потому, что в этих
линиях и ритме движений вообще проявляется сложившаяся и
скрытая внутренняя сущность человека, с которой
связаны как нравственная ценность, так и ее отрицание.
Распространенным является также сведение
эстетических ценностей к целесообразному. Это понимание
ведет свое происхождение не от Канта. Кант превратил его
только в трансцендентальное, ввел понятие
целесообразности "для" субъекта, в то время как с давних времен
онтологическая целесообразность вещи относилась к ней
самой. Последнее понимали как совершенство природы,
за которым, согласно общепринятому
господствовавшему взгляду, должна была стоять подлинная, реальная
целесообразность. При этом, конечно, имели в виду прежде
460 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
всего живые существа и среди них опять-таки человека.
Эта внутренняя телеология живого существа лежит в
основе монадологии, и вместе С монадологией Кант
воспринял ее от Лейбница (через М. Кнутцена и других).
В своей работе "Критика способности суждения" Кант,
хотя и поздно, но основательно, попытался навести здесь
порядок. Связь "эстетической" и "телеологической"
способности суждения должна быть понята только следующим
образом: уже в чудесном устройстве организмов животных
мы не должны видеть предопределяющей цели, еще менее
в предметах, которые мы называем "прекрасными" и
которые только для нас имеют достойные удивления качества,
вызывают в нас чувство удовольствия, удовлетворения
независимо от всякого практического интереса!
Эта мысль определена настолько строго критически,
что против нее совершенно невозможно возражать.
Правильно ли дальнейшее объяснение Канта - объяснение
"игрой силы воображения и разума", - вопрос другой. Но
оно уже больше ничего не изменяет в основной мысли.
Однако не следует скрывать, что и эта основная мысль
еще очень мало говорит о сущности прекрасного. По сути
дела, целесообразность является для созерцания и
удовольствия субъекта чем-то само собой разумеющимся.
Ибо, если за нею не стоит никакой определенной
реальной цели, она означает лишь то, что выражает и само
явление, а именно: предмет является таким, что прочно
удерживает на себе наши взоры и вызывает в нас
своеобразное удовольствие, свободное от всякой иной
заинтересованности.
Таким образом, в проблеме ценности обнаруживается
примечательное отношение: после тщательной проверки
мы должны и сегодня согласиться с основным тезисом
Канта, но не можем утаить, что он едва ли что-нибудь
выясняет в проблеме собственно прекрасного. Нам мало
помогает и знание того, что здесь вместе с нами не
преследует каких-либо целей сверхчеловеческий разум, тем
более что в области искусств художник-творец действует
весьма целенаправленно.
Однако только таким критическим путем мы не узнаем,
что встает на место, в которые мы однажды уверовали;
целенаправленно действующих и упорядочивающих сил
природы и какого рода условия управляют всем
многообразием видимого единства прекрасного в природе.
б. Бесполезность прекрасного
и роскошного в жизни
Раздел I. Эстетические ценности
461
Среди кантовских определений есть одно, которое
может оказать помощь анализу ценности прекрасного:
определение об отсутствии интереса в удовольствии. Дело
обстоит так, что в качестве признаков своеобразия
ценностей мы имеем только различные виды дающих оценку
актов и на их основе можем делать вывод о ценностях.
Говоря об отсутствии интереса, Кант имеет в виду лишь
такое своеобразие актов, которое должно вполне
соответствовать своеобразию ценности. Что это за своеобразие?
Если иметь в виду, что под "интересом" здесь
понимается любой вид полезности или употребительности для
практических или теоретических целей, то становится
ясным, что с отсутствием интереса к тому, что доставляет
нам удовольствие, устраняется любой вид ценности блага
и любой вид ценности средства для достижения
какой-нибудь цели, следовательно, устраняется целесообразность.
Отсюда следует, что ценность прекрасного должна
быть непосредственно определяема как ценность
"бесцельного", то есть в буквальном смысле как ценность того,
что существует не ради какой-то цели, как ценность чего-
то "бесполезного", или, выражаясь еще точнее, как
ценность чего-то "бесполезного в себе". Последнее
выражение заимствовано у Ницше, он употреблял его для
обозначения своего понятия "дарящая добродетель". Данные им
определения здесь как раз подходят. Он метафорически
говорит о золоте: оно "необычайно", оно "светится" и оно
"кротко сияет", оно "всегда приносит себя в дар".
Все это характерно для подлинной эстетической
ценности, в особенности преподносить себя в качестве дара.
В практической жизни эстетическая ценность бесполезна;
здесь она является чем-то таким, что стоит "выше нужды",
то есть не является необходимым. Если эстетические
ценности доставляют радость и придают жизни блеск, то,
хотя это и есть нечто большое, важное и, может быть, даже
придающее смысл всей жизни, но все же это есть нечто
"бесполезное". Последнее в точном смысле слова
означает нечто бесполезное для чего-либо другого. Ибо это
заключено в самой сущности абсолютной самоценности как
таковой, которая не служит ничему другому. Иначе это не
была бы самоценность. Напротив, ей могут служить
другие ценности, быть может, даже все.
Рассматриваемое таким образом отсутствие интереса
означает не что иное, как абсолютную, ни к чему другому
не сводимую самоценность прекрасного. Это служит
лишь подтверждением взгляда, который молчаливо пред-
462 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
полагается, когда вступают в область эстетики. Этим не
сказано ничего нового. Здесь поэтому не содержится
также и положительного решения проблемы об основах
эстетической ценности. В этом отношении мы в конце концов
ничего не получаем и у Канта. Его определения являются
формальными и указывают лишь критический путь
исследования, но не ведут к какой-либо ощутимой цели.
Более того, это негативное определение эстетической
ценности таит в себе опасность. Его часто понимали так,
будто бы прекрасное, а с ним и все искусство в целом
является в нашей жизни лишь предметом роскоши. Тогда
нетрудно было повернуть вопрос так, что вся жизнь
искусства вместе с ее творениями предстает как нечто
излишнее, совсем не уживающееся с нуждой или с жизненной
борьбой. Но тогда и сторона "игры" в искусстве также
имеет этот привкус ненужного и легкомысленного.
Необходимо предостеречь против такого понимания:
"бесполезное" - не то же самое, что "излишнее"; как раз
возвышеннейшие вещи именно потому и являются не
необходимыми, что они возвышенны. Все, придающее
смысл (sinngebende), является в таком понимании
"бесполезным", в том числе и нравственные самоценности, в
особенности наивысшие. Так построен мир снизу
доверху: жизнь не является полезной для неживой природы,
дух не полезен природе органической, но именно жизнь и
дух, поскольку они существуют, вносят в мир и смысл и
значение.
Таким же является положение прекрасного в
соответствии со своеобразием характера его ценности:
прекрасное не является полезным ни для жизни организма, ни для
духа, но последний находит в прекрасном свою вершину,
заливающую его светом во всей его полноте. И в силу
этого прекрасное может оказать на мир духа огромное
влияние. Понятие "полезность" для характеристики этого
влияния - слишком мелкое выражение. Ибо речь идет о
придании смысла. Поэтому совершенно недостаточно, когда
в качестве возражения против этой бесполезности
выдвигают определенную "культурную функцию" прекрасного
(например, воспитательную). Речь здесь идет о гораздо
большем.
Эти определения решают вопрос о внешнем аспекте
эстетической ценности. Понятие бесполезности -
"роскоши жизни" - точно соответствует оторванности
произведения, являющегося носителем эстетической ценности,
от жизненных связей и отношений, его изолированности,
Раздел I. Эстетические ценности
463
соответствует тому, как приподнято произведение
искусства над обрамляющими его явлениями. Однако
придание смысла самоценности, которое все еще идет на
пользу реальной жизни, отвечает более глубокой связи с
жизнью в художественном творчестве, как и в созерцании
и наслаждении; оно соответствует также и тому факту, что
как раз самым высоким и наиболее удаленным от
реального воздействием обладают именно те творения,
которые проистекают из самой сильной и волнующей жизни
духа.
Если рассматривать эти вопросы на основе
исследований первой части настоящего труда, то они имеют лишь
характер выводов. Все же можно спросить: какова суть
вывода? Она заключается в следующем: прекрасный
предмет раскрывается там как образование из пластов, в
котором реален только первый слой, передний план, все
же дальнейшие слои - только явление. Бытие прекрасного
не зависит там ни от одного только переднего плана, ни от
одних только слоев заднего плана, следовательно, ни от
реального, ни от ирреального, отдельно взятых, а зависит
от своеобразной связи обоих планов, то есть от
отношения проявления как такового. Эти положения являются
только кратким резюме сказанного выше, они составляют
главный тезис учения об эстетическом предмете.
Какой вывод можно отсюда сделать о характере
ценности прекрасного и о месте эстетической ценности в
царстве ценностей вообще? Тот вывод, что эстетическая
ценность не является просто ценностью чего-то
реального или ценностью в себе, каковы ценности блага,
жизненные и нравственные ценности; она представляет собой
ценность чего-то такого, что существует только в явлении,
следовательно, есть лишь ценность чего-то для нас
сущего. Можно сказать и так, что эстетическая ценность есть
ценность предметно-сущего как такового.
Это опять-таки только следствие из сказанного выше.
Но эта формулировка настолько сжатая и в ней
сосредоточено столько важного, что необходимо более
подробное ,ее изложение. Ибо то, что здесь утверждается, есть
нечто единственное в своем роде в мире ценностей.
Для всех других классов ценностей имеет значение,
что ценна реализация какой-то ценности сама по себе; к
эстетической ценности это не относится, эстетические
ценности вообще не реализуются. Ибо предметы,
которым присуще быть носителями эстетической ценности,
являются не реальными предметами, а предметами, сме-
464 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
шанными по характеру своего бытия: реальным в них
является только передний план, но он составляет в них
самую незначительную часть; все остальное - огромное
напластование, за ним стоящее, - есть и остается
ирреальным. Но ценность не связана даже с этим дальним
планом, а присуща только самому явлению. Таким образом,
здесь существует крайняя противоположность в самой
сущности ценности, если сравнить ее с ценностями
полезного, блага, жизни и жизненных функций,
человеческих поступков и убеждений: повсюду здесь главным
является реальность носителя ценности и повсюду ценность
проявляет тенденции и действия, направленные на
реализацию ценности. Это относится даже и к ценности истины.
Только с эстетической ценностью обстоит иначе: она есть
и остается ценностью явления.
Эго неизменно сохраняется и там, где лежит граница
собственно отношения явления, то есть в наружных
наслоениях неизобразительного искусства и в орнаменте. Эта
граница отнюдь не означает, что данное явление вообще
прекращает существовать, а означает только то, что здесь
не проявляется больше содержание другого рода. Об этом
говорит уже само выражение "чистая игра формы".
"Игра" является противоположностью серьезного
(практической жизни); в отношении к ней речь идет тем
более не о реальности, а исключительно только о
развертывании суверенной формы на материале, который эта
форма закрепляет. Реальность является в данном случае
делом второстепенным и простирается лишь настолько,
насколько простирается материал. Игра вообще является
"роскошью в жизни", хотя и прекрасной и
осмысливающей, но сама по себе она есть нечто "бесполезное". В
особенности это относится к чисто эстетической игре формы,
в которой не содержатся, как обычно, жизненные силы, с
их стремлением упражняться, растягиваться,
развертываться. Следовательно, эта "игра" по характеру бытия с
самого начала родственна отношению явления.
е. Обоснование эстетических ценностей
нравственными ценностями
То, что само по себе не поддается прямому
определению, может быть определено посредством других,
граничащих с ним и лучше известных нам явлений, из его к ним
отношения. Это в полной мере относится и к
эстетическим ценностям и в особенности к их основной ценности -
прекрасному. Здесь, так же как и у нравственных ценное-
Раздел I. Эстетические ценности
465
тей, помимо этих обходных путей, остается еще только
обращение к чувству ценности (an Wertgefuhl).
Следовательно, надо проследить отношение эстетической
ценности к нравственной ценности и к ценности жизни, в
определенных же областях прекрасного - даже и к
ценностям блага и удовольствия.
При этом мы сталкиваемся с явлением, которое не
могли предвидеть a priori: отношение обоснования
проявляется вновь. Мы ознакомились с этим отношением при
рассмотрении нравственных ценностей. Там оно имело
место главным образом между нравственными
ценностями и ценностями блага, соответственно - ценностями
положения вещей; оно коренилось в том, что в
нравственном акте интенция ценности (то есть ценность намерения,
замысла. - Перев.) никогда не бывает идентична ценности
интенции, она "проявляется за спиной замысла" (ср. гл. 27
пункты "в" и "г").
Само собой разумеется, отношение не может
повторяться здесь в одной и той же форме. Речь здесь идет не
о сколько-нибудь сравнимой интенции активного рода.
Обоснование, следовательно, должно быть совсем иным.
При этом с самого начала надо сказать лишь следующее:
если верно, что природа и нравственность человека
являются материалом искусства, то должно быть верно и то,
что ценности, заключенные в естественном и в
нравственно-человеческом, также должны быть материалом
искусства. Но это непосредственно связано с проблематикой
самостоятельности эстетической ценности, из которой
мы исходили.
Следует вспомнить: ошибка, которую здесь так легко
сделать, состоит в подмене эстетических ценностей
нравственными ценностями. Это случается повсюду там, где
искусство делает своим материалом человека вместе со
всей его моральной жизнью. Когда эпос изображает героя
во всем блеске его великодушия, читатель почти
непроизвольно впадает в иллюзию, будто это моральное
достоинство героя является художественным достоинством
поэтического произведения. То же самое мы видим повсюду
в драме и особенно в трагедии, где симпатии к
добродетели усиливаются еще в большей мере ввиду ее гибели.
Здесь ясно сказывается основное отношение между
эстетической и этической "ценностями. Отмеченная
иллюзия ведет к отождествлению классов ценностей. Но в
действительности этого не может быть, потому что те же
самые художественные формы поэзии точно так же изоб-
466 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ражают низменные и теневые стороны моральной жизни, в
противном случае произведение было бы непохожим на
подлинную жизнь; в особенности это относится к
стихотворному роману, и все же художественное достоинство от
этого не страдает.
В чем же, следовательно, состоит действительное
основное отношение обоих классов ценности? Остановимся
на драме. Эстетические ценности, о которых здесь
прежде всего идет речь, это ценности собственно
драматического, сценической живости, пластичности конфликта и
напряжения, завязки, развития действия и развязки, и,
кроме того, ценность достойного любви в человеке,
героического, трагического и т. п. Итак, спросим себя: каково
значение ценности нравственных достоинств и пороков,
присущих самому материалу и переработанных внутри
данной формы искусства, для осуществления этих
эстетических ценностей?
Ответ должен быть таким: они являются
предпосылками этих эстетических ценностей. Своеобразное
драматическое напряжение может чувствовать вообще только тот,
кто в соответствии со своим нравственным чувством
ценности "стоит на стороне правого", кто, следовательно,
стоит "за" или "вместе" со всем, что честно, порядочно,
смело и великодушно, и выступает "против" завистливого
и коварного. Если зритель в какой-то степени не
чувствителен, невосприимчив к этим нравственным
достоинствам и порокам, незрел, не в состоянии увидеть и
оценить их, то от него ускользает не только мораль пьесы, но
также и сама драматическая ситуация, напряжение,
завязка драмы, а следовательно, также ее перипетии и
развязка - короче, все то, что, собственно, и составляет
эстетическую ценность драматического. Он не понимает того,
что происходит на сцене; он не способен оценить по
достоинству также и художественное исполнение артистов, у
него отсутствует ключ ко всем этим ценностям. Таков
простой смысл обусловленности эстетической ценности
ценностью нравственной.
Суть этой обусловленности заключается, очевидно, в
том, что одна из этих ценностей является основой другой:
подобно тому, как в этике человека нравственная
ценность может "подняться" только "над" лежащей в ее
основе ценностью блага, так и здесь эстетические ценности
могут "возвышаться" только "над" определенными
нравственными ценностями, причем именно тогда, когда эти
последние могут быть верно почувствованы и на них мо-
Раздел I. Эстетические ценности
467
жет быть дан правильный ответ. Это отношение имеет
несомненно более общий характер.
Во-первых, оно распространяется на всю поэзию, а не
только на драматическое искусство; мы находим это
отношение в эпосе, в романе и в лирике, ибо во всех этих
видах искусства этическая сторона ценности также
представлена по меньшей мере вместе с материалом.
Во-вторых, это отношение распространяется и на
изобразительные искусства, поскольку в них тем или
иным образом изображаются человек и человеческие
взаимоотношения, например в скульптуре - умирающий
гладиатор, в живописи - характерная голова.
В-третьих, оно распространяется даже и на
неизобразительное искусство, поскольку в нем отображается
внутреннее содержание духовной жизни; правда, здесь лишь
очень неопределенно, только как общее настроение.
В-четвертых, это отношение можно обнаружить также
и в человечески прекрасном, каким оно встречается нам
в жизни, ибо и здесь зритель должен по крайней мере
правильно чувствовать и откликаться на морально
положительное и морально отрицательное, проявляющееся
во внешнем поведении людей, чтобы быть в состоянии
правильно оценить прекрасное и некрасивое в их
совместном проявлении.
В этом смысле, следовательно, нравственная
ценность является условием эстетической ценности. Но есть
ли это на самом деле отношение обоснования? Сюда, как
мы видели выше, относится также самостоятельность
обоснованных ценностей, их аксиологическая автономия,
подобно тому как нравственные ценности сохраняют
себя, противостоя ценностям блага. Зависимость
действительно может содержаться только в наличии
обосновываемой ценности, следовательно, в данном случае - в
правильном нравственном чувстве ценности созерцающего
произведение искусства субъекта.
Действительно ли это так? На этот вопрос можно
безоговорочно ответить утвердительно. И здесь можно также
провести аналогию с отношением обоснования
эстетической ценности ценностью этической в трех характерных
видах независимости:
1. Нравственная ценность необратима в эстетическую
ценность, которая возвышается над нею, ни как нюанс
ценности, ни как ее компонент. Тот факт, что нравственная
ценность составляет фундамент эстетической ценности,
означает нечто совсем другое. Драматическая ценность
468 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
какой-нибудь сцены состоит не из нравственных
ценностей отдельных персонажей; последние являются только
ее предпосылкой; драматическая ценность имеет место и
там, где персонажи совсем лишены нравственной
ценности (например, сцена Макбета или Мефистофеля и его
ученика).
2. Уровень эстетической ценности не зависит от уровня
лежащей в ее основе нравственной ценности; то же самое
относится и к значению моральных пороков.
Доказательством этому служит то, что между совершенно
незначительными и обыденными персонажами, изображаемыми
поэтом могут создаваться в высшей степени достойные
внимания и имеющие большое значение ситуации. Это
еще не вполне понимали старые драматурги, у них
ощущается потребность в людях с высоким положением - в
королях и князьях. Только современная драма спустилась до
уровня простых людей. В "Дикой утке" (речь идет о пьесе
Генриха Ибсена. - Ред.) совсем нет значительных лиц.
3. Осуществление эстетической ценности - здесь
нельзя говорить о "реализации" - также совершенно
независимо от осуществления лежащей в ее основе
нравственной ценности. Этот факт хорошо известен. В
противном случае не существовало бы ни трагедий, ни хороших,
настоящих комедий, ибо в трагедии герой, а вместе с ним
и положительное начало терпят поражение, а злодей
торжествует, и это трогает наши сердца; в комедии же
стремление к нравственно-возвышенному тонет в мелочах и
ничтожном, а незначительное, пустячное, досадно мелкое
одерживает победу. В обоих случаях над этим
возвышается, как бы паря в высоте, эстетическая ценность, ценность
драматического, сценического, трагического и
комического. Эта ценность зависит не от "победы добродетели",
не от победы положительного начала, то есть не от его
реализации в содержании и ходе пьесы, а от совершенно
других условий: от художественно пластического
формирования характеров и сцен, от построения целого и от
конкретности изображения от слоя к слою.
Что же, таким образом, остается в качестве момента
зависимости в обосновании эстетической ценности
ценностью этической? Вообще говоря, лишь только то, что
этические ценности и пороки должны быть налицо при
построении материала, должны быть как-то показаны в
произведениях искусства и на них должен быть получен
верный отклик оценивающего чувства. Последнее также
имеет свою аналогию с отношением обоснования этичес-
Раздел I. Эстетические ценности
469
кой ценности, ибо и здесь речь идет о том, что
действительные блага воспринимаются через посредство их
ценности, например чужое добро как желаемая ценность.
Остается еще добавить, что в этом отношении в
живописи и пластике дело обстоит точно так же, как и в поэзии
(возьмите, например, портрет головы или гладиатора);
более того, это можно распространить даже на музыку и
архитектуру, поскольку в них находят свое выражение
жизнь души и этика. И музыка и архитектура могут быть
сюда включены постольку, поскольку доказательства
повсюду такие же, как и по отношению к поэтическому
творчеству. Оно (то есть обоснование этической ценностью. -
Перев.) становится лишь все более скудным и
формальным по мере того, как выражение человеческого в этих
видах искусства становится все менее определенным и
более общим. Практически дело обстоит так, что
доказательство, верное по отношению к поэзии, где
рассматриваемое отношение всего ощутимее, вполне достаточно,
чтобы применить его и к другим видам искусства.
г. Расширенное обоснование ценностями жизни
До сих пор отношение обоснования эстетических
ценностей понималось только как обоснование
нравственными ценностями. Но еще не ясно, достаточно ли этого и не
следует ли привлечь сюда также и другие классы
ценностей. Прежде всего надо исследовать, не играют ли здесь
роль обосновывающих вместе с нравственными
ценностями также и ценности жизни, ибо "природа" и тем более
все живое являются материалом изобразительного
искусства. Ведь и ценности блага и удовольствия, как
оказалось, играют здесь роль потому, что имеют отношение к
"материалу" эстетической ценности. Возникает вопрос,
как далеко заходит это отношение и остается ли оно
одинаковым везде, где мы его находим.
Обосновывающую роль жизненных ценностей по
отношению к ценностям эстетическим легче всего проследить
в изобразительных искусствах, поскольку они
изображают тела людей или животных; но тело человека нам ближе
всего. Существует обилие элементарных жизненных
ощущений, которые возникают у наблюдателя, когда он видит
изображения человеческого тела в скульптуре, рисунке
или живописи. Здесь господствует действительно некое
"вчувствование" (Einfuhlung) в том смысле, что мы с
внутренней непосредственностью ощущаем движение,
эластичность, напряженность, успехи телесного развития, а с
470 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
другой стороны - это отдых, разрядка напряжения,
хорошее самочувствие. Все это - подчеркнутые моменты
жизненного чувства, а именно моменты ценностей жизни. То
же самое верно и по отношению к ощущениям моментов,
лишенных жизненных ценностей, - страдания, чувства
побежденное™ и неудач.
Сюда принадлежат также и подчеркнутые
сексуальные ощущения, сопровождающие зрелище
человеческого тела. Они не обязательно должны следовать рука об
руку с сексуальным возбуждением, но могут быть с ним
связаны. В бесчисленном количестве случаев самое
сильное и оригинальное видение художника связано по
своему происхождению именно с сексуальным чувством
и только в дальнейшем, как вторичное, у него возникает и
становится ясным эстетическое чувство прекрасного. И
как раз потому, что обе области ценностей здесь так
тесно соприкасаются, причем, сначала жизненная ценность
вызывает эстетическое чувство, после чего эстетическая
ценность решающим образом влияет на жизненные и
сексуальные чувства, целесообразно разъяснить
лежащее в их основе отношение ценностей.
В основе здесь лежит именно отношение
обоснования. Эстетическая ценность имеет здесь в своей основе
жизненные ценности; это значит, что она зависит от того,
чтобы изображенные тела имели определенные
соответствующие жизненные качества и чтобы их ощущал
зритель с верно ориентированным чувством ценности как
таковым. Но если зритель совсем не чувствует силы и
эластичности членов человеческого тела, тогда ему
недоступна и красота скульптуры, которая предполагает именно
способность чувствовать. Если ему недостает здорового
сексуального чувства, то ему останется недоступным и
ощущение красоты молодого тела, ибо и здесь
предпосылкой является ощущение прелести жизни.
Существуют теории, напоминающие обывательские
мнения, которые склонны отрицать отголоски
сексуального и даже вообще всего эротического в художественном
видении и в известном смысле считать их
предосудительными. Это - преувеличение тенденции, которая правильна
сама по себе: само собой разумеется, что не может быть
и речи о художественном наслаждении там, где
сексуальное чувство выставляется на первый план как
господствующее; ибо это чувство само по себе является жизненной
ценностью, и его стихийная сила вытесняет более тонкие
и высокие ценностные чувства. Однако художественная
Раздел I. Эстетические ценности
471
ценность, совершенно лишенная этого естественного
жизненного чувства, останется недоступной пониманию
зрителя. Ему будет недоставать притягательной силы
чувственной возбужденности, в нем будет отсутствовать
интуитивное понимание глубоких, скрытых способностей
и тайн тела. Надо подчеркнуть, что речь здесь идет не
только о прямом сексуальном чувстве к существу другого
пола, а вообще об ощущении сексуальной силы, включая
и силу собственного пола.
К числу более точных доказательств того, что
сексуальное чувство действительно является одной из основ
отношения обоснования, принадлежит показ трех видов
независимости, которые находятся в полном созвучии с
их зависимостью. Эти виды независимости могут быть
здесь очень легко показаны, как только будет правильно
понят характер зависимости.
Зависимость эстетической ценности, очевидно,
состоит только в том, что в наличии должна быть жизненная
ценность, и притом именно в том смысле, что она должна
быть понята и оценена; без правильного чувства
восприятия этой жизненной ценности не может быть постигнута и
форма красоты. Но обусловленность ограничивается
одним этим моментом. Во всем остальном ценность
красоты является независимой.
1. Ценность красоты независима по своему
содержанию: жизненная ценность необратима в эстетическую
ценность. Это является здесь наиболее важным с любой
точки зрения: ценность телесной силы не может быть
обращена в свою эстетическую ценность, представление о
физических возможностях тела является всего лишь
предварительным условием. Совершенно так же обстоит
дело и с сексуальной ценностью: в восприятии
художественной ценности красоты она отключена, полностью
отодвинута и отчетливо воспринимается как другая ценность,
которая в данном случае недостаточна.
2. Независимость по уровню ценности здесь почти
сама собой разумеется: художественная ценность зависит
от изображения, но не от изображаемого материала.
Особенно свободно в этом отношении действует живопись:
ценность произведений живописи больше зависит от
игры света и красок, чем от материала, живопись даже
самые ничтожные и мелкие ценности жизни поднимает до
блеска пестроты красок, радующих глаз человека. Но
правильный взгляд на живое остается и здесь предпосылкой.
472 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
3. Ценность красоты независима также и от
"реализации" жизненной ценности. Чтобы в этом убедиться,
достаточно указать лишь на многие сцены распятия или сцены
мучеников в живописи. Ибо по "материалу" все эти
картины показывают гибель высоких жизненных ценностей. В
живописи также существует аналогия трагического.
Мы видим, что отношение обоснования здесь также
полное, все характерные моменты повторяются, как они
были показаны в первый раз в отношении эстетических
ценностей. Для теории ценностей это служит
доказательством общего закона ценностей, относительно которого
остается только исследовать, насколько далеко он
простирает свое действие и как он действует в еще более
широкой сфере ценностей.
Для эстетики значение выводов не так велико. Однако
они достаточно значительны, если вспомнить, что по
вопросу об отношении эстетических ценностей к низшим классам
ценностей до сих пор почти ничего определенного не было
сказано. Здесь прежде всего важно правильно взвесить
степень значения вопроса, которая не исчерпывается
сказанным.
Ибо это никоим образом не относится только к
изобразительным искусствам: ценности жизни играют роль
повсюду, где изображается человеческое и
общечеловеческое, и прежде всего в поэтическом творчестве. Везде, где
содержание материала искусства касается борьбы с
нищетой, голодом, болезнями и другими страданиями и
несчастьями, где материал связан с глубокими страстями,
со стихией ревности или с нежным и боязливым
пробуждением любви, верное чувствование или восприятие
ценностей жизни - основа всего дальнейшего и более
высокого чувствования или восприятия ценностей. И здесь
также нетрудно показать соответствующие три
независимости, в которых устанавливается то же самое
отношение, что и в изобразительном искусстве.
Быть может, можно было бы сделать здесь еще один
шаг вперед и коснуться музыки. Ибо нет оснований
считать, что человеческая динамика, находящая свое
выражение в глубоком внутреннем содержании музыки,
относится только к чисто духовным ценностям; она может
относиться также и к телесным состояниям - от внешнего
ритма движения до не поддающихся определению
ощущений жизни, приятного, побуждающего, разрядки
напряженности и. т. д.
Раздел I. Эстетические ценности
473
д. Отношение к низшим классам ценностей
Поскольку мы спустились так далеко, что дошли до
рассмотрения ценностей жизни, то становится необходимым
исследовать и вопрос об отношении эстетических
ценностей к еще ниже стоящим классам ценностей, таким, как
ценности блага и приятного. Ибо возможно, что и здесь
имеет место отношение обоснования уже потому, что
обоснование повсюду связано с "материалом", материал же,
поскольку он берется из сферы жизни человека, целиком и
полностью пронизан этими ценностями. Ведь общее поле
зрения наших повседневных переживаний как раз и
"одухотворяется" нюансами удовольствия и неудовольствия.
Уже из того, что ценности блага служат основой
этических ценностей, следует, что они находятся в таком же
отношении и к эстетическим ценностям; ибо, как это уже
было показано, поскольку этические ценности являются
обосновывающими для некоторых эстетических
ценностей, то и ценности блага должны быть косвенно также
обосновывающими для них.
В драме и романе речь идет о жизненных ситуациях, в
которых действуют люди. Но действовать - значит
располагать благами в отношении к лицам. Правильно понять
действие пьесы или дать драматически верную оценку
жизненной ситуации может, следовательно, только тот,
кому доступно также правильное чувство оценки тех
ценностей блага, о которых идет речь в пьесе.
То же самое, с соответствующими оговорками, можно
сказать и о ценностях удовольствия: понимание
какой-нибудь ситуации требует, чтобы человек чувствовал, что
болезненно, тяжело и что приятно участвующему в ней лицу,
что его привлекает и что отталкивает. Всякое
преодоление трудностей в жизни связано с этими моментами
удовольствия или неудовольствия; поэтому они должны быть
правильно прочувствованы во всем своеобразии
характера их ценностей или отсутствия таковых. В противном
случае ситуация останется непонятой, а вместе с ней и
трактовка, и характеры, и судьбы людей. Но в
последовательном "проявлении" всего этого как раз и состоит красота
поэтического произведения. Как можно оценить
достоинства голландской картины с изображением пира, если не
имеешь понятия о достоинствах кулинарного искусства?
Следовательно, в том и другом случае, говорим ли мы о
ценностях блага или ценностях удовольствия, речь идет о
подлинной основе эстетических ценностей. По крайней
мере это имеет силу в пределах главного утвердительно-
474 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
го положения: условия существования. Важно видеть эту
обусловленность эстетической ценности ценностью
удовольствия строго в пределах границ этой
обусловленности, так как сама эстетическая ценность также проявляет
себя в форме удовольствия. Необходимо отделять одно
от другого.
Совершенно так же обстоит дело с отрицательными
пунктами, с тремя видами независимости ценностей
обоснования. Поскольку дистанция уровня ценности
здесь очень велика, эти виды независимости бросаются в
глаза даже больше, чем в этических ценностях.
1. Непосредственно очевидно то, что ни ценность
блага, ни ценность удовольствия не могут быть обратимы в
эстетические ценности в качестве их элементов. Это
вытекает уже из того, что ситуации эстетических ценностей
являются не реальными, а только видимыми, для
ценностей же блага и удовольствия или неудовольствия
реальность является их сущностью. В качестве существующих
только в воображении они могут служить лишь для
понимания чужих восприятий, однако не могут определять
наше собственное восприятие.
2. Уровень ценности добра или приятного не
определяет "уровня" эстетической ценности. Последнее видно
из того, что драматизм человеческих конфликтов так же
легко строится на почве самых ничтожных,
незначительных поводов, как и на базе великих жизненных проблем;
действительные побудительные силы заключены в
характерах, страстях участвующих лиц и т. д.
3. Реализация ценностей блага или удовольствия не
имеет совершенно ничего общего с "реализацией"
эстетических ценностей. Это происходит уже потому, что
эстетические ценности вообще не реализуются, так как
относятся только к области явлений. Кроме того, их
"реализация" принадлежит как раз смыслу и эстетической
ценности некоторых "действий" и некоторых судеб, ценности
блага и удовольствия которых погибают. Речь идет здесь
следовательно, только о том, как к этому отнесутся
определенные лица.
Если с этой точки зрения посмотреть на сказанное
выше, то мы увидим, что отношение обоснования
господствует над всей разграничительной линией эстетических
ценностей и других классов ценностей. Отсюда выпадает
только ценность истины, которая находится с
эстетической ценностью в более сложном отношении,
обозначенном нами выше как "правда жизни" и "правда сущности".
Раздел I. Эстетические ценности
475
Но и ценность истины, насколько это возможно,
напоминает отношение обоснования, поскольку она составляет
одно из условий эстетической ценности.
Только в одном пункте отношение обоснования
эстетических ценностей существенно отличается от
обоснования ценностей этики: последние пронизываются
ценностями блага, имеют в них свое необходимое обоснование и
не существуют без такого фундамента; эстетические
ценности, напротив, не обязательно должны быть
обоснованы ценностями этики, жизни, блага и удовольствия или
хотя бы одним из этих классов ценностей.
Более того, они получают в этих ценностях свое
обоснование только при определенных обстоятельствах, а
именно тогда, когда эти ценности являются ценностями
произведений изобразительного искусства. Закон
обоснования имеет силу, следовательно, только для поэзии,
живописи и пластики; косвенно он действует также в
музыке (в ее внутреннем построении). Его с трудом можно
обнаружить в строительном искусстве; в орнаментике он
исключен.
С другой стороны, здесь есть один пункт, в котором
прекрасное в искусстве сближается с прекрасным за
пределами искусства. Ибо очевидно, что для прекрасного в
природе и в человеке отношение обоснования играет
столь же большую роль, как и в области изобразительного
искусства.
Это теперь легко увидеть, Где бы нас ни пленяла
эстетическая ценность живой природы, предварительным
условием является ощущение ценностей жизни: ощущение
силы, эластичности, здоровья, подвижности, легкости и т.
д. Это ощущение совершенно незаметно переходит в
эстетическое, не совпадая, однако, с ним. То же самое
относится и к чувству сексуальных ценностей.
Точно так же обстоит дело и с этическими ценностями,
а также с ценностями блага и удовольствия, если мы
бросим взгляд на жизнь человека: умение понять
драматическое в жизни, комическое, трагическое и так далее может
сопровождать переживаемые события лишь там, где
предварительно в достаточной мере было развито и отточено,
заострено жизненным опытом понимание человеческой
радости и страдания. Но сюда относится лишь вполне
развитое чувство ценности, способное отзываться на
ценности удовольствия и блага, к которым привязано
человеческое сердце; еще больше это касается этических ценное-
476 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
тей, которые возвышаются как раз над ценностями
удовольствия и блага.
Проверка на примерах может быть сделана через
отрицательное: острота взора в отношении к
соответствующим недостаткам - к неудовольствию, страданию,
лишениям, несчастью и моральным порокам - это и есть то, что
дает нам возможность раскрывать оттенки комического и
трагического в действительной человеческой жизни, и
вообще только это и раскрывает смысл непреднамеренно
драматического в жизни.
ГЛАВА 29
ОБЗОР МОМЕНТОВ ЦЕННОСТИ ПРЕКРАСНОГО
а. Ценности только предметного бытия
Человек, сведущий в искусствах и с большими
ожиданиями вступающий в область эстетики, остался бы
разочарованным, если бы узнал, что сказанное в последних
главах - это и есть почти все, что мы в состоянии сказать о
сущности эстетических ценностей. Подтверждается то,
что было сказано нами вначале: эстетика является сухой,
трезвой и во многом отсталой наукой в
противоположность богатой и пестрой области, составляющей ее
предмет, исчерпать который она сегодня еще не в силах.
Поэтому и в данной главе должны быть сделаны всего лишь
некоторые выводы.
С помощью анализа ценностей мы лишь ощупью
приближаемся к эстетическим ценностям. Понять
эстетическую ценность как таковую мы можем только
непосредственно нашим чувством ценности, то есть в процессе
эстетического созерцания, наслаждения, отдаваясь
искусству. Тогда мы "знаем" очень хорошо на основе нашего
созерцания об особенностях эстетической ценности, но мы
не можем сказать, из чего она состоит, по крайней мере не
знаем, что составляет ее подлинную сущность. Ибо то, что
мы можем описать, есть всегда только отдельные ее
черты, то относительно общее, что встречается также и в
других случаях, лишь типическое в чистом виде. Но
своеобразное в каждом отдельном случае является
неповторимым, единственным в своем роде, то есть подлинная
эстетическая ценность является индивидуальной; это
ценность индивидуального предмета.
Это верно и в отношении основы эстетической
ценности - прекрасного. Взятое в строгом смысле слова, "прек-
Раздел I. Эстетические ценности
477
расное" не существует в этой всеобщности. Более того,
понятие прекрасного, которое мы, естественно, можем и
должны мыслить как общее, является таковым только в
отношении к "чему-то в действительности прекрасному",
обозначая при этом повторяющееся, общее.
Следовательно, оно означает не прекрасное само по себе. Если бы
мы пожелали сказать, что такое прекрасное само по себе,
мы должны были бы, во-первых, сказать это по
отношению к отдельному, единичному случаю, что чрезвычайно
сложно, и, во-вторых, это надо было бы сказать так, как
говорит художник, обращающийся не к пониманию, а к
созерцанию и чувству - но тогда никакого понятия не было
бы дано. В этом причина и смысл иррациональности
прекрасного и эстетических ценностей вообще.
Следовательно, нельзя требовать от эстетики
невозможного. Подобно тому как мы должны отказаться от
стремления дать внушающую уважение метафизику
прекрасного, так мы должны отказаться и от описания
особенностей ценности прекрасного. Все, что остается здесь
сделать, ограничивается определенными основными
чертами, которые заимствованы отчасти из анализа
предмета, отчасти должны быть заимствованы из других
областей ценностей и их отношений. Поэтому здесь должны
быть сопоставлены некоторые определения независимо
от того, в какой степени они подвергались рассмотрению
в предыдущих главах.
Первая трудность связана со способом
существования ее носителя, так как он сложен. Носителем этих
ценностей является не субъект или какое-то действие, пафос,
состояние субъекта (обозрение, удовольствие, уход в
себя) и не что-либо существующее само по себе вне
субъекта, поскольку оно само по себе есть нечто третье. И это
нечто третье трудно поддается пониманию, а еще труднее
его связать с вопросом ценности. Говоря конкретно:
прекрасно не наслаждение и не творчество ("умение",
"искусство"), а исключительно только предмет, но опять-таки не
вещь, не человек, не здание само по себе, а лишь то,
какими они являются для нас.
Отсюда следует: эстетической ценностью является не
та радость, не то удовольствие, которого мы можем
ожидать от воздействия на нас предметов искусства; это не
ценность действий, не ценность виденного или созданного.
Это только ценности предметов этих действий. Но они еще
не стали ценностями самого по себе существующего, ибо
само по себе существующее не нуждается в том, чтобы
быть предметом, оно выше предметности. Эстетический
478 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
предмет не выше предметности, он существует не сам по
себе, а только как предмет данного определенного акта,
действия, обозрения и наслаждения. То, что наличествует
без этого акта, является лишь реальным передним планом,
вещественным, как и другие вещи; в нем ничего не
проявляется. Только определенного рода обозрению может
открыться дальний план; этот последний принадлежит к
предмету эстетики.
Следовательно, эстетическая ценность есть только
ценность предмета этих определенных действий. Ценность
связана не с .бытием образа как такового - как связаны с
бытием человека и его поступками нравственные ценности,
- она связана с его "бытием для нас" в отличие от его
"бытия в себе". Это означает, что эстетическая ценность
связана со своим предметным бытием для нас. Предметом
познания является только per accidens1 "предмета"; в
действительности это есть нечто существующее, предметом же
познания оно становится только благодаря познающему
субъекту. Эстетический предмет, напротив, является
предметом по самой своей сущности, и поэтому его
ценности есть ценности бытия предметов как таковых,
ценности только "бытия объекта" (в старом смысле "esse
objectivum"2). Если задуматься о том, в чем состоит здесь
"существенное бытие предмета", то мы найдем, что оно
основывается на отношении проявления: если начиная с
переднего плана и все дальше слой за слоем возникает
все новое и новое и это возникающее в
последовательности своих наслоений, в сущности, и составляет предмет
эстетики, то ценность предмета должна быть также
ценностью и этого явления. Очевидно, недостаточно
утверждение "ценность являющегося" и даже "ценность
являющегося как являющегося".
per accidens (лат.) - случайный признак,
esse objectivum (лат.) - быть объективным.
Раздел I. Эстетические ценности
479
Потому что тогда это может выглядеть таким образом,
будто речь идет о ценности одного только "заднего
плана", не затрагивая переднего плана; но это целиком
противоречит анализу предмета: только задний план
развертывается слой за слоем, но он не существует без
переднего плана. Следовательно, и передний план принадлежит
сюда же. Надо сказать, что эстетическая ценность есть
ценность самого проявляющегося. Это проявляющееся
всегда охватывает по своему содержанию как передний
план, так .и задний план и не может быть оторвано как от
первого, так и от второго. Эти положения не новы. Они
вытекают уже из анализа предмета. Но только здесь в связи
с проблемой ценности их значение может быть понято
вполне.
б. Ценности ухода от действительности
Во всем этом нетрудно распознать способ бытия ухода
от действительности, о котором у нас уже неоднократно
шла речь выше. Ценность таких образований (Gebilde), как
эстетические предметы, очевидно, может быть только
ценностью ухода от действительности. Надо это только
правильно понять, эта мысль не должна быть понята в
смысле старинного учения об "идее" или об "идеале".
Вспомним учение Гегеля об этом.
Гегель понимал под идеалом не художественное
(искусственное) украшательство естественных предметов, но
"саму действительность", только гораздо правильнее и
глубже понятую, чем она может представляться в
условиях повседневной жизни; это - "действительность во всей
полноте ее сил и свободы". Какой-нибудь характер,
например, проявляется в жизни "фрагментарно", стесненно,
суженно и зависит от тысяч мелочей; поэтому
персонажами героических поэм должны быть короли и князья, ибо
только они "совершенно свободны". На противоположной
стороне находится "обыденная жизнь" со своими
"мелочами повседневной жизни" - это "непоэтично и скучно".
Искусство должно все поднимать до заоблачных высот,
где наличное бытие лишено всяких забот.
Этот вид ухода от действительности не имеется здесь
в виду. Неверно также и то, будто он в самом деле
касается действительного" - это могло бы быть так только при
гегелевском метафизическом понимании самого понятия
действительности, которое имеет в виду исключительно
"осуществление идеи", следовательно, в данном случае
все свелось бы к полнейшей тавтологии. Кроме того, при
480 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
возвышении всех предметов до "заоблачных высот", если
даже это возвышение не носит плоского характера, все же
будет иметь место искусственное приукрашивание. В
действительности все это отодвинуто в "мир теней
прекрасного" и там лишено внутренних возможностей,
упрощено, наглядно, схвачено (быть может, даже, в
классических линиях), но бедно, без многообразия красок, сочности
и силы, то есть безжизненно.
Спора нет, что некоторые старинные поэтические
произведения именно так и сделаны. Но разве это образцово
классически? Или, быть может, это были слабости всякого
начала? Или неспособность проникнуть в действительно
полную человеческую жизнь? Конечно, но не всегда и не
везде, хотя и во многих случаях. Мы же, люди
сегодняшнего дня, опустились с высот высокопарного языка
трагедии до повседневности, в низину, в сферу слабостей и
ужасов, но взгляните: жизнь здесь еще богаче, в ней
больше великого, она глубже.
Тайна вопроса в том, что надо "уметь видеть" эту сферу
жизни во всей ее полноте и всесторонности, надо иметь
для нее просвещенный взгляд, надо быть в состоянии в нее
проникнуть, уметь найти в ней значительное, которое есть
всегда... "ибо там, где Ты умеешь схватить интересное, там
и интересно". Мы удаляемся от действительности не в том
смысле, что уходим в "идеальное" в наших эстетических
взглядах, а совсем в другом смысле. Вопрос заключается
только в том, в каком именно смысле.
Смысл ухода от действительности скорее всего может
быть понят, если принять во внимание соотношение
ценностей силы и бессилия и сравнить его с таким же
соотношением в этических ценностях. При этом надо вспомнить
об одной хорошо известной вещи из области этики.
Нравственным ценностям присуще ярко выраженное
долженствование (das Sollen), но они сами по себе не
имеют силы реализовать это должное. Реальный мир не
подчиняется им, он имеет свою собственную
закономерность, которой он следует, а именно естественную
закономерность природы. Долженствование требует нечто
другое, но оно само по себе не может этого осуществить.
В этом проявляется слабость моральных ценностей.
Несмотря на это, они осуществляются, но не благодаря своей
силе, а благодаря силе человека. Ибо человек есть
реальное существо, а там, где вступает в борьбу за себя
реальное существо, - там и эти чисто идеальные требования
Раздел I. Эстетические ценности
481
могут быть осуществлены, то есть воплощены в
действительность.
Следовательно, этические ценности по силе своей
осуществляемое™ слабее законов природы. Но и
поскольку они определяют волю человека - они это
выполняют, когда требования этики ясны человеку, - их
определяющая сила все-таки оказывается сильнее законов
природы; и постольку они являются самыми сильными
принципами.
Как обстоит дело в этом отношении с эстетическими
ценностями? Эстетические ценности вообще не
осуществляются ни своей собственной силой или властью, ни
через посредство чего-нибудь другого. Ибо и произведение
художникатакже не является реализацией эстетических
ценностей, а только их явлением в одном из отношений
проявления. Следовательно, можно сказать, что
эстетические ценности в реальном мире еще более
беспомощны и слабы, чем моральные.
Это и неудивительно, если уяснить себе, что это не
ценности чего-то реального, в себе существующего (Ап-
sich-seienden), а только ценности "предмета как
предмета" или "явления как явления". Поэтому они никак не могут
быть реализованы, а остаются ценностями,
"существующими для нас" ("Ftirunsseienden"). Они существуют,
подобно заднему плану прекрасного предмета, только для
определенного рода прозрения. Эстетические ценности,
таким образом, "воплощены в реальном", неотделимы от
него. Но это не есть реализация.
Однако, несмотря на все это, и в области эстетических
ценностей самому крайнему бессилию соответствует
наибольшая сила. Ибо слабость относится здесь только к
реальному миру: в нем эстетические ценности, как и
ценности этики, не только ничего "создать", но ничего найти не
могут. Поэтому не следует и искать в реальном мире ни
область их власти, ни сферу их влияния. Но в своей
собственной сфере эстетические ценности отнюдь не бессильны и
не лишены власти. В этой сфере существует другая мера
свободы. Здесь им не противостоят никакие препятствия,
никакие законы природы, здесь художник-творец,
создавая свое произведение, может творить его по своему
усмотрению, и когда он что-либо "изображает", его
связывает только одна необходимость - быть верным "жизненной
правде", но не какие-либо особые, единичные реальные
условия возможности. В остальном он свободен. То, что
возникает, является предметом его творчества.
482 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Нравственные ценности должны приводить в
движение свинцово-тяжелые гири действительного (des
Wirklichen); осуществление нравственных ценностей
повсюду наталкивается на сопротивление реального.
Эстетические ценности не наталкиваются ни на какое
сопротивление - даже на сопротивление "материи" в реальном
переднем плане предметов, - так как у них нет тенденции
преобразовать реальный мир. Они дают лишь
возможность "являться" в реальном чему-то иному.
Вот почему перед эстетическими ценностями открыты
совсем другие возможности, чем это может происходить
в царстве реального, - возможности, не связанные с
реальными условиями. Изображение и проявление
беспрепятственно перешагивает через границу реально
возможного. Поэтому в своей сфере эстетические ценности не
встречают сопротивления, которое они должны
преодолеть. Правда, в этой сфере также существуют законы, но
это только ее собственные законы, законы эстетических
ценностей. Последние не связаны здесь никакими
направленными против них условиями, которые надо было бы
преодолевать. Поэтому эстетические ценности являются
в своей сфере не только автономными, но и
независимыми. Иными словами, они находятся здесь одни,
абсолютно свободны от какого бы то ни было воздействия, не
имеют возле себя никаких богов.
В этом смысле, следовательно, эстетические
ценности есть ценности удаления от реального мира, то есть
ценности некоего удаленного на большое расстояние от
реальной действительности и на нее не претендующего
бытия. "Удаление от действительности" покоится на
свободе особого рода, в которой снято то равновесие
возможности и действительности, которое существует в
реальном мире, - но снято не в пользу необходимости, как
это имеет место с долженствованием, а в пользу
возможности: здесь есть бытие возможного без бытия
необходимого, потому что оно не зависит от замкнутой цепи
условий реального мира1.
Там, в этике, есть позитивная свобода необходимости
(то есть необходимости в чистом виде, отделенной от
свободы)2; здесь, в искусстве, существует негативная
свобода чистой отделенной возможности, которая в своей
основе является безграничной.
Ср. "Moglichkeit und Wirklichkeit", Кар. 35, "b" - "с".
Ср. "Ethlk", Кар. 23, "d".
Раздел I. Эстетические ценности
483
На ней покоится власть искусства заставлять являться
то, что не существует. Сюда относится и действительная
роль "идеального". Ибо, конечно, есть "идеи", которые
гений сначала внутренне прозревает, а потом дает
человечеству в качестве путеводных. Однако он дает их не в
форме понятия, а наглядно, в виде образа, живо и образно.
Только таким образом он может убеждать.
е. Относительность и абсолютность
Необходимо затронуть еще вопрос о том, в какой мере
можно считать эстетические ценности "относительными"
и в какой - "абсолютными". Мы имеем здесь в виду не
внутреннюю, само собой разумеющуюся
относительность, какая имеет место, например, в отношении
обоснования, но внешнюю историческую относительность,
которая, как говорится, лежит в основе релятивизма. Мы и
здесь должны исходить из сравнения с нравственными
ценностями.
В длительном споре о способе бытия нравственных
ценностей так много уже выяснено, что исторические
изменения морали и сознания ее ценности не нуждаются в
том, чтобы их относительность понималась как следствие
условий времени, она может иметь и другую реальную
основу. Другая основа заключается в узости сознания
ценности и его превращений в мире многообразия
ценностей, так что в каждый момент сознанием постигается
только один ряд царства ценностей. По отношению к
остальным ценностям оно вынуждено становиться в это
время слепым. При этом превращение оценивающего
взгляда определяется весьма различной актуальностью
отдельных областей ценностей. Каждая нравственная
ценность связана с одним из типов ситуаций (с одним rcepi xi),
следовательно, она только тогда может стать актуальной,
когда подобного рода ситуации сложатся в ходе самой
жизни или когда они будут уже пробиваться,
складываться, подобно тому как появляется храбрость, когда живут в
условиях опасности. Но в таком случае ценности не
являются собственно исторически относительными, а
относительными только в их сегодняшнем бытии и в
зависимости от замкнутости в себе чувства ценности.
Эго ясный результат, который полностью признает
явления относительности, но придает им более глубокое
значение, чем то, какое уже имеет релятивизм. Вопрос
теперь состоит в том, распространяется ли этот результат
также и на художественные ценности. Это кажется внача-
484 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ле невероятным, ибо ничто не претерпевает таких
изменений, как художественный вкус. При этом имеется в виду
мода, быстро возникающие и вновь исчезающие
направления в искусстве; надо учитывать также и великие эпохи
в живописи, поэзии, музыке, архитектуре, каждая из
которых имеет свои особые преимущества во вкусе.
Это делает проблему очень сложной. Кант
рассматривал ее еще в простой форме, неисторически. Об этом
свидетельствуют его "антиномии вкуса" в эстетической
силе суждения. Он касался здесь только суждения вкуса
как единичного; кроме того, он ограничивал себя
вопросом, "основано ли здесь суждение на понятии" или не
основано; сегодня мы сказали бы: на всеобщем принципе.
Ибо может существовать всеобщая значимость
эстетического суждения - внутрисубъективная всеобщность, -
но лишенная объективных всеобщих принципов:
например, вытекающая исключительно из внутрисубъективной
общности человеческих наклонностей, начиная с
условий чувственности и кончая самыми идеальными
требованиями разума.
При более глубокой исторической постановке вопроса
антиномия будет звучать так: имеется ли во всех
изменениях вкуса прочно сохраняющаяся основа для того, чтобы
находить прекрасное? Или такой основы вообще не может
быть, поскольку вкус всегда требует изменений (как,
например, в вопросах моды) и всегда отвергает то, что уже
достигнуто или стало привычным? Могло быть и так, что
вкус должен изменяться вместе с изменением условий
жизни. Тогда этот случай был бы строго аналогичным
положению, какое существует с этическими ценностями.
Если так рассматривать вопрос, то чаша весов
заметно склоняется в сторону относительности. Как можно
ставить под сомнение исторически пестрое многообразие
понимания прекрасного, ясно ощутимое в человеческом
идеале красоты, в живописи, в строительном искусстве, в
музыке, в комедии?
Совершенно ясно, что это колеблющееся различие
невозможно отрицать. Вопрос лишь в том, есть ли это в
действительности относительность самой ценности или в
конце концов это только относительность суждения о
ценности и оценивающего чувства, поскольку сердце не во
все времена открыто для восприятия всех ценностей.
Итак, необходимо констатировать здесь одно явление,
решительно идущее навстречу относительности
ценности, а именно: существует возможность вновь обрести
Раздел I. Эстетические ценности
485
смысл для бывших в свое время мерилом эстетических
ценностей. Если человек достаточно сведущ в области
искусства, если он художественно воспитан и обладает
опытом, то его оценивающее чувство благодаря правильному
восприятию творений прошлого может правильно
раскрыть его своеобразные ценности. Это возможно только в
том случае, если эти "своеобразные ценности" не связаны
настолько прочно со своей исторической эпохой, что
относится только к ней, а при подходящих условиях
действительны и убедительны также и для ума человека,
живущего в гораздо более позднюю эпоху и
ориентирующегося совершенно по-другому. Но это значит, что
сказанное возможно только в том случае, если ценности
искусства в своей основе являются все же абсолютными и
относительность, как и в нравственных ценностях,
является в них лишь относительностью временных
преимущественных направлений самого оценивающего чувства!
А теперь вспомним лишь о том, какую огромную роль
играет именно в наше время эта чудесная способность
изменять установку оценивающего чувства! Наша эпоха
действительно достигла понимания сущности
эстетического вкуса прошедших эпох. Мы являемся живыми
свидетелями такого оценивающего чувства, которое позволяет
воскресить также и вкусы чужих для нас исторических
времен. Поэтому стали возможны пышный расцвет наук
об искусстве и глубокое понимание истории искусств.
Следовательно, относительность может быть не
последним выводом. Впрочем, наиболее важные свидетельства
заключены в том факте, что нам, точнее людям нашей
эпохи, искусство многих предыдущих исторических эпох
стало настолько же доступным, как и наше собственное
искусство.
В заключение еще одно напоминание: что,
собственно, означает "притязание на общезначимость"? Это
требование, которое может быть возведено в нечто
индивидуальное в объективном смысле и в абсолютно
единичное, как это правильно заметил и установил Кант в
понятии "субъективно всеобщего". Каждое подлинное
произведение искусства выдвигает это требование. И все-таки
оно никогда не бывает действительно осуществлено, а
встречает тысячи разных разногласий в мнениях.
Ответ прост. Ибо это тот же самый ответ, какой дается
в теории всеобщего и априорного. Об этом чаще всего не
задумываются: общезначимость какого-нибудь
математического положения не означает, что его может понять
486 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
каждый необразованный человек. Оно означает только,
что каждый, кто его понимает, с ним согласится, потому
что оно внутренне убедительно для постижения. Ничего
большего оно и не может означать.
Совершенно так же обстоит дело с общезначимостью
суждения вкуса и вообще с эстетическими ценностями.
Не каждый человек, если он не сведущ в искусстве или
придерживается другой установки, согласится с
суждением ценности, которое дается человеком, понимающим
искусство и раскрывающим его сущность, а согласится
лишь с тем, что он сам раскрыл или что отвечает его
установке. Межсубъективная общность означает не что иное,
как единство людей, стоящих на адекватной точке зрения.
Этим устраняются все антиномии, которые затемнили
этот вопрос, а равным образом и все мнимые
предполагаемые виды "относительности" в значении эстетических
ценностей, в том числе и историческая, потому что как
только в истории вновь появляется адекватно
настроенное сознание, так сейчас же получает признание и
соответствующая ценность.
РАЗДЕЛ II
ВОЗВЫШЕННОЕ И ИЗЯЩНОЕ
ГЛАВА 30
ПОНЯТИЕ И ЯВЛЕНИЕ ВОЗВЫШЕННОГО
а. Сферы проявления возвышенного в жизни
Изложенное в главе 26 показало, что роды
прекрасного и связанные с ними особенности эстетической
ценности не дают при данной точке зрения ясного ряда, а также
единого принципа разделения или сколько-нибудь
внушающего доверия обзора. Это относится и к сегодняшнему
положению вещей в эстетике и поэтому должно
учитываться. Несмотря на это, необходимо попытаться
выделить то, что доступно обобщению.
Из предыдущего изложения уже выяснилось, что из
ряда предикатов эстетической ценности возвышенное
выделяется как нечто особенное, более важное и более
своеобразное, чем все другие.
Только одно возвышенное остается там бесспорным
безотносительно к тому, подчиняют ли его прекрасному
или, как это делает Кант, ставят самостоятельным наряду с
прекрасным. Почти вся позднейшая эстетика восприняла
категорию возвышенного частично по традиции, которая
восходит от античного понятия ифо<;1 (sublime), не являясь,
однако, там чисто эстетическим, частично потому, что
всякое великое и серьезное искусство приближается к этой
категории, так что невольно внимание снова обращается
на возвышенное.
К тому же выявлено, что все другие роды прекрасного
все-таки встречаются в жизни, однако при этом не
предполагается эстетическое наслаждение: изящное, милое,
очаровательное, комическое, трагическое и т. д. Но
ставить их наравне с возвышенным было бы неправильно.
Между тем такое же возражение допустимо и по
отношению к возвышенному: разве не встречается в жизни
возвышенное и без эстетического признака? Если вспомнить
о грозных силах природы, для которых мы не находим
никакой дистанции созерцания, или о великих человеческих
судьбах, к которым мы стоим слишком близко, чтобы
1 Возвышенный (греч.). - Перев.
488 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
можно было их рассматривать с эстетической точки
зрения, - речь идет о смерти или о религиозном благоговении,
- то можно было бы поверить, что это возражение
правомерно. Во всяком случае, здесь нельзя признать ясного
отделения от остальных родов эстетической ценности.
Напротив, дается другой способ выделения
возвышенного из ряда, если рассматривать его (ряд. - Перев.)
исключительно с точки зрения содержания.
Другие роды ценности или по крайней мере предикаты
ценности обнаруживают зачастую известное сходство
друг с другом, хотя и такое, которое ставит их в общую
противоположность к возвышенному. При этом среди
названных родов исключается лишь трагическое. При
дальнейшем исследовании наряду с ним можно исключить
еще некоторые другие, например в музыке Largo или
Grave, Maestoso, etc.1
Изящное, очаровательное, идиллическое, милое
имеют очевидное родство друг с другом и по своей сущности
стоят в той же самой противоположности к
возвышенному. К ним должно быть причислено все, что им
родственно: забавное, гротеск, фантастическое и даже просто
занимательное. Сюда же можно отнести находящийся в
несколько большем отдалении род комического со всеми его
видами смешного, остроумного, юмористического...
Благодаря этому противопоставлению уточняется теперь род
возвышенного: возвышенное со всей определенностью
противостоит этим родам через свою основополагающую
инаковость (Andersheit).
Здесь должна лежать также действительная причина
того, почему Кант так фундаментально исследовал
возвышенное и вообще поставил его "рядом" с прекрасным. Згу
точку зрения нельзя защищать, и теория, с помощью
которой сам Кант пытался ее оправдать, при всем своем
глубокомыслии является односторонней и в некотором
отношении искусственной. Это и понятно, особенно если
учесть имеющуюся у Канта тенденцию поставить
прекрасное на сторону более "легких" предикатов ценности:
изящного, очаровательного и т. д. О кантовской теории
возвышенного еще будет идти речь.
1 Largo, Maestoso - музыкальные термины, означающие соответственно
- медлительный, торжественный.
Раздел II. Возвышенное и изящное
489
Но прежде всего возникает вопрос: "Где, собственно,
мы имеем дело с возвышенным?" Это "Где" спрашивает о
тех сферах, в которых мы его можем встретить; причем
здесь речь идет не только об эстетических сферах.
Ответить на это можно просто: почти во всех сферах, где
встречается выдающееся-великое и превосходное: как в
природе, так и в человеческой жизни, в воображении и в
мыслях.
И то, что обе последние сферы не являются
реальными, ничего не изменяет, ибо и в них также имеется
великое и выдающееся. Возвышенное безразлично к
способам бытия. Эго безразличие ведет к тому, что
эстетические предметы могут быть возвышенными, ибо
эстетические предметы в большинстве своем ирреальны.
Возвышенное имеется в различных явлениях природы:
в буре, в прибое, в водопаде, в снежных высокогорных
плато, в пустыне и в степном безмолвии, в звездном небе.
Это давно известные примеры. Для ученых может быть
много другого истинно возвышенного: внутреннее
строение атома, или нежные движения в ядре клетки, или
статические законы звездного мира.
Но необходимо учитывать то, что здесь речь идет еще
не об эстетически возвышенном, потому что
возвышенное есть также и по эту сторону эстетического.
Эстетически возвышенным оно становится прежде всего благодаря
созерцающему и эмоциональному состоянию субъекта.
Ибо к сущности эстетического предмета относится то, что
он как таковой существует только "для нас", поскольку
именно мы привносим правильное отношение к нему.
Но сильнее и в более глубоком смысле возвышенное
выступает перед нами в человеческой жизни, только
здесь зачастую мы его не понимаем; кто спокойно
переносит боль и тяжелое страдание, именно тот возвышается
над болью и страданием. Кто жертвует здоровьем и
жизнью во имя великого дела, тот возвышается над
благами покоя и удобства, от которых он отказывается.
Это возвышенное "бытие" не имеет ничего общего с
"чувством" возвышенного. Оно существует безусловно по
отношению только к одной личности и безразлично ко
всякому знанию и чувству других.
Однако оно не является эстетически возвышенным.
Его по праву можно назвать морально возвышенным.
Если речь идет об истинно великих делах, о героизме и
высокой ответственности, то возвышенность становится
490 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
очевидной, потому что мы сами внутренне отвечаем на
нее восхищением.
Эстетически возвышенным оно становится лишь
тогда, когда мы отходим от этого восхищения на
определенную дистанцию, для того чтобы созерцать его спокойно и
дать возможность действовать на нас своим величием
вдали от взволнованности и актуальности.
Не следует забывать, что чистейшие явления
возвышенного находятся в области мифа, религии и вообще в
области мировоззренческого, а также философского
мышления и представления. Долгое время имелись в
виду почти только эти явления; чтобы определить
возвышенное, не задумывались над тем, является ли это
действительно эстетически возвышенным.
Оно им, безусловно, и является. И прежде всего в
мифах, поэтические формы которых художественно
наглядны; однако даже и здесь требуется известное
разграничение. В религиозной сфере художественные
представления ни в коем случае не являются идентичными
возвышенности самого содержания веры, божественности и ее
проявлению в мире. Об этом красноречиво
свидетельствует догматика, которая находится в самом остром
противоречии с наглядностью эстетических предметов, а
поэтому она никогда не может быть носительницей их
ценностей.
б. Проявление возвышенного в искусствах
Широкое поле возвышенного вне искусства и
эстетического вообще ясно доказывает, что возвышенное в
отличие от прекрасного не представляет собой
специфически эстетическое явление. В этом отношении оно может
быть приравнено к изящному, очаровательному или
комическому, а также ко всем остальным перечисленным
"родам прекрасного", которые по своей природе не есть
специфически эстетические явления. Сначала необходимо
особенно выделить в них все случаи эстетического. В
каких же сферах они находятся?
Прежде всего, они, несомненно, находятся вне
художественно прекрасного - как в природе, так и в
человеческой жизни. Сюда могут быть отнесены все без
исключения случаи, которые были приведены как примеры не
эстетически возвышенного. Однако, как уже было
показано, все эти случаи непременно переходят в
эстетически возвышенное, как только мыслящий субъект создает
требуемую для них дистанцию и покой созерцания. Этот
Раздел II. Возвышенное и изящное
491
факт можно рассматривать как непреходящее
руководящее положение; и это подтверждается в жизни тысячу
раз тем, что само подавляющее, угнетая сначала, затем
внезапно магически увлекает нас.
Если Шиллер говорит: "Безнадежно человек уступает
божественной силе", - то это является лишь выражением
подчинения и находится совсем по эту сторону
эстетического; но дальше он продолжает: "Бесполезными он видит
дела свои и погибает восхищенный", - то есть здесь
установка резко изменилась, и эстетически возвышенное
самого явления, скажем пожара, выражено очень просто.
Обычно не так-то легко удается установить дистанцию
морально возвышенного. Душевное потрясение силами
природы может быть очень большим, и, однако, оно не
проникает в самую глубину души.
Морально-возвышенное - нечто вроде поступка убедительной широты
замысла или великодушия - требует собственное я помериться с
ним (поступком), и это признание собственной
неспособности к чему-либо подобному удручающе. Человек
должен внутренне справиться с этим. Но если из сознания
моральной недостаточности устанавливается дистанция,
то созерцание снизу вверх и почитание будет глубже.
Таким образом, эстетически возвышенное
встречается в жизни, непрерывно следуя за возвышенным в
природе и за морально возвышенным; само собой разумеется,
что всегда только в меру эстетической способности
личности и даже целого поколения.
Здесь следует добавить немного и о религиозно
возвышенном. Так как в его сфере находятся самые сильные
формы проявления возвышенного и поскольку они
мировоззренческие, то следует полагать, что в силу этого
здесь должно иметь место также и наиболее богатое
проявление эстетически возвышенного.
Часто случалось, что гегелевская эстетика и эстетика
романтиков вообще отождествляли одно с другим или по
меньшей мере не умели их отделять. "Божественное"
принималось непосредственно за "идею", которая там
выступала как "явление". То, что бог принимался за
выдающееся возвышенное, вполне логично, но то, что сама чисто
религиозно мировоззренческая возвышенность
безоговорочно принималась за эстетическую (в мифе и
догматике), было уже недостаточным различением.
Как раз здесь отношение искусства к религии могло бы
быть показано более вразумительно: вероятнее всего,
искусство произошло из религиозной жизни, но оно достиг-
492 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ло своего наивысшего расцвета, когда начался ее упадок.
Оно черпает свои идеи из религиозной жизни, оставаясь,
однако, самостоятельным в своей чувственной силе
оформления, и превращает при этом религиозные
идеалы в человечески-наглядные.
К самому божественно-возвышенному искусство
никогда не осмеливалось приблизиться. Представителям
изобразительного искусства прежде было запрещено
рисовать портреты богов. Пластика греков отважилась это
сделать, и ей это удалось только потому, что их боги были
весьма человечными; то же самое относится и к Христу в
человеческом образе, написанному в великую эпоху в
образе сына человеческого. Возвышенным полностью
проникнута, вероятно, только музыка. Она способна на это
потому, что не нуждается в предметности, а может
выразить возвышенное в неопределенности.
Поэтому музыкально возвышенное легче всего
отделилось от мировоззренческих идей, которых оно когда-то
придерживалось в сознании эпигонов, и сейчас является
чисто эстетически возвышенным. Даже связанность
текстами (в кантатах, ораториях) не является препятствием
этому отделению. Об этом ясно свидетельствует
сравнение чистой музыки таких мастеров, как Бах, Гендель и др.
Как исторически, так и предметно-тематически
искусства, поскольку они создавали возвышенное, исходили из
мировоззренческого содержания религиозной жизни.
Это не подлежит сомнению, так как если даже отделение
от этого содержания заходит очень далеко, то возникают
другие тематические сферы возвышенного.
В каких же искусствах мы имеем не только
"эстетически возвышенное", но также и "художественно
возвышенное"? И дальше: в каких художественных формах внутри
искусств это "эстетически возвышенное" имеет место? С
какими слоями предмета оно связано? На первый вопрос
ответить легко, и это могло бы служить введением и
руководством для дальнейшего объяснения. На последний же
ответить труднее, ибо это ведет непосредственно к
основному вопросу: что же, собственно, есть возвышенное?
Прежде всего следовало бы допустить, что его можно
найти только в изобразительных искусствах, потому что
только они располагают особыми темами. Но связывать
возвышенное с предметными темами, от которых оно
неотделимо, было бы большой ошибкой. В
действительности же оно почти независимо от всего этого.
Раздел II. Возвышенное и изящное
493
За исключением орнаментики, возвышенное имеется
почти во всех искусствах, только в очень различной
степени. Сравнительно незначительно оно проявляется в
живописи, хотя у последней нет недостатка как в возвышенных
сюжетах, так и в высокочеловечных идеалах (в
титаническом). Живопись слишком близко соприкасается с
чувственным, а чисто чувственное вообще далеко от
возвышенного. Собственно "живописные" действия как
таковые свойственны только самому зрению, а не тому, что
находится за его пределами.
Где искусство живописи действительно соприкасается
с возвышенным, так это, например, в фигурах
сикстинского потолка, где имеет место нечто не поддающееся
воспроизведению на полотне (Unmalerisches), нечто рисоваль-
но-скульптурное; и, вероятно, сверхчеловеческое следует
охватывать только таким образом.
Правда, вид глубокомысленно возвышенного имеется
также в искусстве портрета, как, например, у позднего
Рембрандта, где вся чарующая магия красок
ограничивает себя в пользу чего-то находящегося на заднем плане,
человечески-захватывающего.
Отчетливым становится противоречие, в котором
находится пластика с этим положением. Гегель правильно
подметил, что раньше всего она "создавала"
возвышенное в сотворенных ею образах богов. Здесь в самом деле
создавались идеалы человеческого, которые выходили за
пределы опыта и действительности: они были внутренне
созерцаемы и в творческом воображении достигли
ощутимого совершенства.
Поэтическое искусство способно к возвышенному в
той же степени, как и все другие роды прекрасного. Оно
обладает обширной ареной для внутреннего
разнообразия. Уже в лирике есть возвышенное; особенно сильно
оно выступает в героическом эпосе - как в образах, так и в
судьбах, и прежде всего там, где судьбы становятся
значительными и трагическими.
Подобным же образом обстоит дело и в трагедии:
зависимые от своей судьбы лица попадают под более сильный
закон и испытывают его действие в собственной гибели.
Все, что есть великого и возвышенного в человеке,
раскрывается там во всей чистоте. Человек перерастает границы
человеческого. Однако это еще не значит, что
"трагическое" как таковое становится уже возвышенным
("Маленький Eyalf").
494 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Во всей чистоте возвышенное выступает там, где его
меньше всего следовало бы искать: в неизобразительных
искусствах - в музыке и архитектуре. Музыка показывает
его в глубине душевной динамики, там, куда не проникает
изображение, она может выразить душевно
возвышенное, потому что непосредственно может заставить его
"говорить", она действует на слушателя таким образом,
что заставляет подняться его на ту же высоту
(Mitschwingen), внутренне захватывает его и заставляет
прочувствовать это так, как он ощущает только
собственное переживание - как свое.
В архитектуре все происходит наоборот, она
показывает возвышенное статически, спокойно величавым. Таково
оно с давних пор в монументальных сооружениях; уже в
дорическом храме в кажущейся простоте была достигнута
такая степень возвышенного, которая впоследствии
никогда не повторялась: строгость, соединенная с
превосходной, веселой торжественностью. В величавом
церковном стиле средневековья удалось достигнуть еще
большей степени возвышенного в пространственной и
динамической композиции; наиболее ярко это проявилось в
готике.
е. Кантонская теория возвышенного
После выяснения вопроса: "Где мы можем найти
возвышенное?" - мы могли бы перейти к вопросу о том, что
оно представляет или чем отличается от остальных родов
прекрасного. Но это еще не вопрос о ценности
возвышенного; последний можно будет решить, разъяснив первый.
Классическую теорию возвышенного дал Кант. С нее мы и
должны начать.
Кант различал математически-возвышенное и
динамически-возвышенное. Первое из них имеет значение
"просто великого" (что велико вне всякого сравнения), второе -
соответствие силам природы как силам, которым мы не
подвластны. Последнее определяется так потому, что
иначе исчезает эстетическое отношение и остается только
"ужасное" как таковое. Кант разъяснил только первое.
В обоих случаях он определял возвышенное только с
точки зрения количественного: "Возвышенное есть то, о
чем одна мысль уже доказывает ту способность духа,
которая превышает всякий масштаб внешних чувств"1.
1 Здесь и далее соответствующие места из "Критики способности
суждения" И. Канта даны в нашем переводе. См. также И-. К.ант, "Критика
способности суждения", СПБ, 1898. - Прим, ред.
Раздел II. Возвышенное и изящное
495
В восприятии так называемого чрезмерного должно
выступать "чувство несоразмерности", а именно "чувство
несоразмерности нашего воображения с идеей целого,
чтобы как следует представить его..." Это целое
представляется Канту бесконечным, что на самом деле наглядно
нельзя представить. Первое, таким образом, есть
отношение "нецелесообразности" представления к
способности суждения. Возвышенное в такой трактовке могло бы
вызвать только неудовольствие и действовать
подавляюще и угнетающе. Поэтому Кант добавляет здесь нечто
другое: требование всеобщности, исходящей от разума:
именно отказ от воображения "показывает способность
духа, которая превышает всякий масштаб внешних
чувств". Благодаря этому душа вновь приобретает
превосходство и испытывает удовольствие высшего порядка,
обусловленное неудовольствием низшего порядка. Это
удовольствие есть чувство возвышенного. Оно
обозначает возвышение души над угнетенным состоянием.
Главное здесь, очевидно, состоит в игре
противоположностей несоразмерности и соразмерности,
нецелесообразности и целесообразности, неудовольствия и
удовольствия. В то время как в "прекрасном" (в узкокантовс-
ком понимании) соразмерность, целесообразность и
удовольствие выступают непосредственно, в возвышенном
они обусловлены своей противоположностью, и суть дела
заключается в преодолении этой противоположности.
Однако всегда выходит так, что, в конечном счете, человек
остается существом превосходящим; эстетическое
удовольствие и состоит, по существу, в удовлетворенности
этим превосходством.
Это сильнее всего проявляется в тех случаях, когда
способность суждения обращается к моральной
сущности человека, его ноумену. В наиболее чистом виде это
имеет место в тех случаях, где речь идет о вещах
нравственной жизни, составляющих материал, который
обрабатывается в искусстве. Здесь превосходство
проявляется в еще большем масштабе. Именно в этом состоит
свобода человека, при которой его интеллигибельная
сущность сначала действительно проявляется. Сюда можно
отнести следующее определение: "Возвышенное есть то,
что непосредственно нравится в силу своего
противодействия интересам чувственности".
Если рассмотреть эти кантовские определения, то они
оказываются неудовлетворительными с двух сторон.
Во-первых, они еще больше, чем определения
"прекрасного" застревают в субъективном: здесь слишком
496 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
много говорится о действиях на душу и слишком мало о
строении предмета. Напротив, остается пригодной игра
противоположностей - удовольствия и неудовольствия, а
также эти оба момента, которые могут быть поняты как
показатели ценности.
Во-вторых, в предмете все слишком рассчитано на
бесконечность. Эта несколько легкомысленная игра с
бесконечным есть дань вкусу эпохи поднимающейся
романтики. В этом совсем не было нужды; первая
формулировка "просто великое" лучше, если понимать ее как
"просто возвышенно-действующее", не обращая
внимания на то, как велико или мало оно в действительности.
Итак, в кантовских определениях мало сказано, хотя
Кант, очевидно, нащупывает правильное направление.
Соответственно двум названным пунктам можно
обозначить как существенные части в понятии возвышенного два
следующих момента.
1. В созерцателе борются друг с другом два момента
чувств: отбивающийся, или сопротивляющийся,
выражающий чувство бессилия или страха, и согласующийся, из
которых последний основан на первом. Поэтому ценность
возвышенного является ценностью, основанной на
неценности, а именно как на справляющейся с ней.
2. В предмете выступает момент "величины", который в
самом деле является единственным в своем роде.
Сомнительно, может ли здесь вообще идти речь о чем-то
количественном. Оно могло бы быть просто "нас
превосходящим". Этого вполне достаточно. Это лучше всего подходит
к более серьезным явлениям возвышенного, хотя и они не
все находятся в сфере экстенсивного, а также к
нравственной величине, то есть к таким явлениям, в которых это
количественное проявляется в живом человеке или в
изображениях искусства. Лучше всего оно подходит к
своеобразным формам возвышенного, которые встречаются в
неизобразительных искусствах (музыка и архитектура).
ГЛАВА 31
СТРУКТУРА ЭСТЕТИЧЕСКИ ВОЗВЫШЕННОГО
а. Особые формы возвышенного
Возвышенное, как его понимал Кант, существует вне
всякого сомнения. Вопрос состоит только в том,
соответствует ли оно всем видам возвышенного или
распространяется лишь на вышеупомянутые виды, например на воз-
Раздел II. Возвышенное и изящное
497
вышенное, содержащееся в музыке и архитектуре. Там,
вероятно, находятся его самые чистые формы. Но где
тогда лежит причина ограничения? Она находится, с одной
стороны, в особой кантовской форме мышления, которая
во многих областях имела дело с pars pro toto1 в этике,
например, "долг" рассматривала как единственную
область ориентации; с другой стороны, эта причина
коренится в предпочтении могущественного, подавляющего,
страховозбуждающего внутри возвышенного.
С обеих сторон это выразилось в том, что Кант
рассматривал подавляющее преимущественно как
возвышенное или просто первое принимал за второе. Не
подлежит сомнению, что эта особая форма возвышенного
существует, и кантовские примеры из отношений в природе
весьма подходят к этому. Однако они не исчерпывают
всего возвышенного. Они предпочитают ту сторону
проблемы, из которой Кант почерпнул противоречивое
отношение между удовольствием и неудовольствием в
созерцателе. Поэтому оно выглядит у него искусственно
заостренным.
Возникает вопрос, почему Кант искал это заострение.
Это объясняется его метафизическими убеждениями.
Согласно им, бог есть абсолютно возвышенное, перед
которым все созданное является ничтожно маленьким; это
возвышенное рассматривается бесконечным и
недосягаемым в силу того, что оно проявляется во всем величии в
природе и духовной жизни. Эта мировоззренческая
перспектива сделала всю картину односторонней.
Итак, не будем обращать внимания на
односторонность! Остается еще много другого, особенно если учесть
оба кантонских достижения, на которые указывалось в
предыдущей главе, а именно ценность, основанная на
неценности, и неколичественно понимаемое "просто
великое". Смысл последнего лучше всего улавливается в том
случае, если различные формы проявления
возвышенного поставить рядом друг с другом, правда в несколько
более широком понимании, чем кантовское. При этом не
следует принимать во внимание разграничение
эстетически возвышенного от возвышенного в жизни.
Итак, не претендуя на систематический порядок и
исчерпывающее перечисление, я выделяю следующие виды
возвышенного:
Pars pro toto (лат.) - часть вместо целого. - Прим. перев.
498 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
1) великое и величественное - оба берутся
безотносительно к их количественной характеристике, только
"великое по виду", таким же образом, как известные
сооружения производят впечатление великого, будучи
небольшими по размеру;
2) строгое, торжественное, выдающееся,
глубокомысленное или сколько-нибудь основательно действующее;
строгое в том же смысле, как оно может быть присуще
торжественно-веселому;
3) в себе самом завершенное, совершенное, перед
которым чувствуешь себя ничтожным и бедным (как это
часто бывает в морально-возвышенном);
таинственно-безмолвное и тихое, поскольку мы его воспринимаем как
поверхностное проявление чего-то смутного и неизмеримого;
4) превосходное (в силе или власти) - в природе
подавляющее и могущественное, в человеческой жизни -
морально-превосходное, импонирующее и
вдохновляющее (крупноплановое, великолепное, великодушное);
5) чудовищное, громадное и страшное - как
вторгающееся в жизнь человека, перед которым он пасует; это
выступает в форме "жестокого" и "колоссального" (Кант),
а в художественной форме как монументальное и
лапидарное;
6) захватывающее и потрясающее - оба
преимущественно в человеческой судьбе и прототипно - в поэзии;
7) от двух последних несколько отличается
трагическое не только в трагедии, но и в другом виде
поэтического творчества - в музыке и в реальной жизни
посюстороннего искусства.
Эти особые формы возвышенного образуют подбор,
ряд которого не однороден; последние два вида,
например, более своеобразны, чем первые пять. При этом
многое здесь нуждается в объяснении. Это прежде всего
касается первых трех видов, которые особенно сильно
отклоняются от кантовского понимания.
Многое при этом становится яснее при рассмотрении
противоположностей, так как каждая особая форма
возвышенного имеет свою противоположность, которая ни в
коем случае не должна быть негативной (не имеющей
ценности, отталкивающей); и часто эта противоположность
хорошо известна.
Пояснение к пункту 1. Общим является "внутренняя
величина", которая на самом деле не является
экстенсивной. В виде исключения она иногда сближается с
несколько "экстенсивно-великим", как, например, на звездном
Раздел II. Возвышенное и изящное
499
небе. Однако возвышенность здесь больше относится к
спокойной соразмерности и однородности движений.
Противоположностью этому является микроподобное,
мелкое, мелкочеловеческое, "ничтожное".
Для "внутренне-великого", "великоподобного", это
легко доказать на примере величественной формы
сооружения. Хорошим примером является старая гауптвахта
Шинкеля: маленькое строение, теряющееся между двумя
более крупными постройками, но, тем не менее,
оттесняющее их благодаря впечатлению своего величия.
То же самое можно сказать об очень маленьких
композициях Баха в "хорошо темперированном клавире" -
прелюдиях и фугах, продолжающихся не более 7 минут (при
умеренно избранном темпе), которые по внутренней
величине своей композиции могут сравниться с
величайшими творениями тонального искусства и до сих пор даже
превосходить их.
Пояснение к пункту 2. Эти виды нельзя не признать:
строгое не имеет ничего общего с печальным и унылым;
столь же мало общего и с трагическим, которое, со своей
стороны, конечно, всегда остается с ним связанным.
Строгое не должно отказываться от радостного: синтез
обоих мы ясно видим в торжественном. И следует
отметить, что все внутренне "великоподобное", поскольку оно
не подавляет, имеет нечто от торжественного. А именно
такое, что отделяет его от обыденного и возвышается над
ним, так же как и "торжество" есть исключительное
состояние в жизни. В этом как раз должно находиться первое
чувство "возвышенного". Оно проявляется в этом
"возвышенном состоянии". Торжественно-строгое в более
чистом виде содержится в большой музыке.
Пояснение к пункту 3. Совершенное (в себе самом
завершенное) мы обычно не причисляем к возвышенному;
не следует, однако, отрицать, что все совершенное
производит впечатление превосходства. Если сюда
добавляется еще таинственное и загадочное, которые наполняют
созерцающего предчувствием чего-то большего,
которое в нем может быть, тогда впечатление значительно
усиливается.
Второй и третий виды возвышенного (а в
определенных границах также и первый) должны составить чистый
прототип возвышенного, который нейтрален к
аффективным моментам других видов - трагического, угрожающего
и т. д. Это противоположно теории Канта, согласно
которой подавляющее стоит на переднем плане.
500 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
В качестве доказательства для этих двух видов можно
привлечь противоположность. По отношению к
торжественному и строгому это будет "банальное и обыденное",
но ни в коем случае не легкое и не поверхностное; к
завершенному и совершенному - половинчатое и
несовершенное; к скрытно-таинственному - вульгарное и плоское.
Следующих два пункта (4-й и 5-й) вместе составляют
возвышенное приблизительно в кантовском смысле. Их
общей противоположностью является привычное и
близкое, с которыми мы сумеем справиться.
Пояснение к пункту 4. Морально-превосходное
родственно совершенному (в смысле пункта 3); можно
усомниться в том, что оно должно производить
непременно подавляющее впечатление; оно может также увлечь и
воодушевить. И это, возможно, вполне естественно.
Пояснение к пункту 5. Большую роль в искусствах
играет монументальное, и не только в архитектуре, возможно,
еще большую - в пластике и поэзии. При
огромно-страшном мы стоим уже на границе собственно возвышенного:
здесь очень усиливаются аффекты, угнетенное
состояние, а это ослабляет впечатление величия. Без дистанции
по отношению к объекту невозможно именно
эстетическое восприятие. Последних два вида возвышенного (6 и 7)
очень близко стоят друг к другу; оба они одинаково
близки к ужасному.
Пояснение к пункту 6. Потрясающее всегда связано с
"ужасным" и является его душевной стороной.
"Захватывающее" еще больше удалено от угнетенного,
являющегося более возвышенным. Однако это возможно только
там, где в человеческих впечатлениях что-либо вырастает
над фатальностью. В захватывающем состоянии есть уже
восхищение и любование.
Пояснение к пункту 7. В трагическом преобладают
драматические оттенки, вернее чисто художественные
вообще. В захватывающем мерилом служит поражен-
ность души, в трагическом таковым являются его
возвышенность и специфически эстетическое радостное
состояние созерцателя. Этому соответствуют высокоразвитые
формы трагического в искусстве. Однако это является
особой проблемой не только драмы, но и других видов
искусства.
Раздел II. Возвышенное и изящное
501
б. Ощутимые черты сущности возвышенного
Если мы бросим взгляд назад, то увидим, что смысл и
сущность возвышенного значительно уточнились. Да,
теперь уже видно, каким неясным было традиционное
понятие возвышенного. Ряд особых форм не только расширил
понимание этого явления, но показал и однородную
сущность вопроса в новом свете. При этом совершенно не
требуется формально кончать с дефиницией
возвышенного, которая могла бы рассматриваться наряду с
кантонской. Всякое самолюбие в вопросе дефиниций должно
быть отброшено.
Итак, какое значение имеет все сказанное для
философского определения эстетически возвышенного? Оно
выглядит частично негативно, однако опосредовано в
высшей степени позитивно. Противоположность Канту
касается, впрочем, только его заостренности и
односторонности. Позитивное состоит в следующем:
1. Отделение возвышенного от трансцендентного и
абсолютного, от бога и от всякой мировоззренчески
особенной предпосылки, точнее: включение возвышенного в
посюстороннее и близкое, естественное и человеческое
(это против романтики).
2. Отделение возвышенного от количественного не
только потому, что оно не может быть количественным, но
и потому, что речь идет о превосходстве другого рода в
огромном количестве форм его проявления и даже о
"величине" другого рода.
3. Отделение от угнетающего. Угнетающее может
вторгаться в возвышенное, ужасное, катастрофическое,
но оно не составляет их сущности. Непосредственное
возвышенное состояние, вызванное созерцанием
превосходного, есть первый момент в возвышенном.
4. Исключение основополагающего момента
неценности ("несоразмерного", "нецелесообразного" и т. д.),
равным образом ему соответствующего неудовольствия
в ответе о ценности субъекта. Вместо обоснования на
неценности мы получаем обоснование на ценности. Эта
ценность не должна находиться в субъекте. Она
находится преимущественно прямо в предмете и именно как его
самоценность, поскольку она воспринимается как
"просто великое" и превосходное.
5. Вместо несоответствия и несоразмерности
выступает ясное с самого начала, лежащее в природе человека
соответствие между превосходным предмета и душевной
потребностью человека.
502 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Оба последних пункта составляют собственно
позитивное, которое проявляется в сущности возвышенного.
Однако здесь кое-что следует еще разъяснить. Ни в коем
случае не бывает так, чтобы не могло встретиться
удовольствие, обусловленное неудовольствием, или
ценность, основанная на неценности. Оба явления часто
встречаются.
Первое широко известно в психологии в качестве
закона контрастности чувств. Последнее мы знаем из этики,
где несчастье ближнего (неценность благ) служит
основанием для нравственной ценности любви к ближнему.
Поэтому ничего нельзя возразить кантовскому отношению в
возвышенном. Суть дела состоит только в том, что это
отношение не соответствует явлению; вернее, оно
соответствует только части явления, к тому же не центральной.
Проявление возвышенного вместе с подавлением чувства
собственного "я" является вовсе не правилом, а только
особым случаем.
Основной закон, который здесь действует, должен
состоять в следующем: с малолетства человек
испытывает влечение к великому и превосходному, мало того, он
может даже всю свою жизнь прожить с тоской по чему-то
ему импонирующему и выдающемуся, постоянно пытаясь
его найти. Как только он его находит, его влечет к нему.
По меньшей мере так бывает со всяким нормальным
человеком, которому дано правильное образование или
который не запуган.
Последнее мы встречаем зачастую у людей, которые
чувствуют известный страх уже перед чрезвычайным, а
еще более перед чудовищным и подавляющим.
Подавленное, или угнетенное, состояние, вызванное
превосходящим в силе, является вторичным, хотя оно
противостоит определенным внешним силам, что опять-таки
является естественным. В таких случаях обращение взора к
возвышенному принадлежит второй стадии, в которой
установилась дистанция в отношении вторгающегося.
Стремление к великому и превосходному относится к
морально прекраснейшим чертам человека. Это
стремление само по себе не является эстетическим, но оно легко
переходит в эстетическое созерцание и наслаждение. Во
всяком случае, оно лежит в основе эстетической ценности
возвышенного, являясь тенденцией к выявлению этой
ценности (этический ответ на вопрос о ценности), что ,
составляет лишь специальный случай всеобщего закона
обоснования эстетических ценностей (глава 28, пункт "в").
Раздел II. Возвышенное и изящное
503
В принципе стремление к великому бывает еще более
общего рода. Этический случай есть уже нечто более
специальное. Род первичного очарования исходит из
"великого", это магнетическое действие, которое притягивает к
себе человеческое сердце. Это можно выразить еще
таким образом: необразованный человек обладает
тенденцией почитать что-то и жить, устремляя свои взоры на все,
что выше его. Возможно, это коренится в более
фундаментальной тенденции, которая заключается в том, чтобы
вносить смысл в собственную жизнь. Потому что все
выдающееся осмысляется через самого себя: смутно
чувствует в нем человек тайную глубину и источник
смысла. В чем именно выдающееся должно иметь свой смысл,
об этом прежде всего спрашивает рефлексия или даже
философское сознание; человек не спрашивает об этом в
практической жизни, а начинающееся эстетическое
созерцание тем более вправе этого не делать, потому что
оно зависит непосредственно от впечатления. Однако
впечатление как вообще, так и в эстетическом отношении
происходит от чувств. А чувства далеки от того, чтобы
давать в чем-либо отчет.
Переход к эстетически возвышенному наступает
вскоре, как только из этого первого "влечения сердца" к
"великому" появляется отношение дистанции и созерцания.
Тогда созерцание, доставляющее наслаждение, возвышается
над страстью самопожертвования и над утешающей себя
тоской, и одновременно подымается эстетическая
ценность возвышенного над его осмысляющимся значением
ценности, так как первое более ощутимо в предмете.
Существенное (как уже было сказано в пункте 4) при
этом состоит в том, что на место обоснования
возвышенного на неценности выступает обоснование на ценности.
Тем самым снова восстанавливается чисто
положительное отношение. У Канта и его последователей не была
видна обосновывающаяся ценность, хотя она совершенно
очевидно и недвусмысленно указывает на светлый
момент удовольствия в человеке: все, что выступает в очень
больших размерах, приобретает вес ценности, потому что
это является значительным и сильным; сильнее всего
сказывается этот вес ценности там, где речь идет о
непространственной, душевной, моральной величине. Это
влечение человеческого сердца к великоподобному так
элементарно, что оно мирится с произвольно сильными
моментами неценности. Это является причиной того, почему
504 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
мы последние встречаем относительно часто и сильно
представленными в возвышенном.
А так как Кант не смог сделать эти моменты
неценности главным условием возвышенного, то от этого,
очевидно, зависело то, что во всех случаях возвышенного, в
которых они представлены, особенно сильно выступает на
первый план противоположность ко всем остальным
родам прекрасного, например к изящному. Для Канта была
важна эта противоположность. Он считал ее
противоположностью прекрасного вообще и внес этим самым
путаницу в эстетические понятия.
е. Неощутимые черты сущности
Противоположность прекрасного, таким образом,
отпала от всех общепринятых признаков возвышенного. Это
случилось не вследствие того, что смысл понятия
прекрасного заметно расширился, а благодаря тому, что был
снят противоречащий момент в сущности возвышенного.
Этим самым был впервые оправдан основополагающий
порядок, согласно которому все специальные роды
эстетической ценности подчиняются прекрасному. Тем самым
одновременно устанавливается и понятие последнего.
Возвышенное поэтому есть такое прекрасное, которое
соответствует потребности человека в "великом", в чем-
то "выдающемся" и легко преодолевает при этом
противодействие находящегося в нас боязливого,
мелко-человеческого. Это определение нуждается еще в одном
дополнении: в установлении всеобщих определений
прекрасного, которые, кстати, должны быть подходящими и
тогда, когда речь идет о разновидностях прекрасного.
Будет вполне достаточно, если привлечь в качестве
правильного добавления к структурным моментам
прекрасного отношения проявления, ибо там, где это
перестает действовать, как, например, в искусстве орнамента,
нет больше места возвышенному. Поскольку прекрасное
состоит в проявлении нечувственного заднего плана на
фоне чувственно реального переднего плана предмета, и
это состояние является "для нас существующим",
поэтому теперь возвышенное можно охарактеризовать таким
образом: оно есть такое проявление нечувственного
заднего плана на фоне чувственно реального переднего
плана предмета, которое соответствует потребности
человека в величии и легко преодолевает противодействие,
противостоящее ему.
Раздел II. Возвышенное и изящное
505
На этом определении можно было бы и остановиться.
Однако бросается в глаза то, что "соответствие", о
котором здесь идет речь, само связано в структурном
отношении с проявляющимся задним планом. Итак, можно
упростить формулировку, если с самого начала отнести ее к
заднему плану. Тогда она должна звучать так:
возвышенное есть проявление нечувственно порожденного
подавляюще великого или выдающегося на фоне чувственного
переднего плана предмета, поскольку это
проявляющееся великое соответствует (отвечает) душевной
потребности в величии и легко преодолевает противостоящее
мелко-человеческое противодействие.
Задний план сам по себе есть нечто выдающееся,
которое проявляется в "переднем плане". Это проявление
здесь особенно примечательно, потому что существует
большая несоразмерность Между передним и задним
планами. Это проявление является таковым не только в
искусстве, но и в возвышенном в природе, где оно так же
замечательно, ибо здесь чувственно данное имеется
лишь в конечном счете (вид моря, звездного неба).
Однако как раз в этом и состоит тайна вещи: как может совсем
другое проявляться в чувственном? Но загадка здесь не
больше, чем в прекрасном.
С этим уничтожается вся диалектика возвышенного,
которая некогда была столь излюбленной; у Гегеля она
только намечена, широко разработана в теорию
Фишером и повторялась вплоть до нашего столетия, правда,
большей частью так, что учение о противоположностях
лишь слабо прощупывается. Однако речь идет не только
об учении о противоположностях, а прежде всего о
руководящей идее всей теории искусства, причем эта идея со
всеми своими специальными формами искусства сведена
в один ряд; в этом ряду прогресс к ближайшему члену
должен осуществляться через переход от одного момента
к другому. Эта истинно гегелевская схема будет
подрезана на корню, если однажды уничтожить искусственное ан-
титезное заострение противоположностей в
возвышенном. Эта последовательность тогда относится в равной
степени ко всей структуре эстетики, так как весь
дальнейший переход построен по той же самой схеме.
При этом особо важное значение приобретает
следующий вопрос: как, собственно, может быть представлено в
искусстве выдающееся-великое? В какой-то форме его
можно представить так, как оно должно все-таки
проявляться. Передний план всегда более ограничен уже пото-
506 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
му, что он является чувственным и должен воздействовать
как легко обозреваемая целостность. Следовательно, как
может в нем проявляться выдающееся-великое?
Этот вопрос заострялся в плане антитезы еще со
времен романтики; тогда его заранее преувеличивали,
подчеркивая "бесконечное в конечном", - плохая привычка
романтиков все данное преподносить посредством
преувеличения (Uberhohung), возведения в абсолютное. От
этого необходимо отказаться, чтобы можно было
правильно понять вопрос.
Скорее всего, речь идет только лишь о включении
выдающегося-великого в узкоограниченное чувственно
обозримого. И это весьма удивительно. Выше уже
указывалось, на то, что здесь находится последняя граница
копии, и даже по обе стороны, потому что в природе уже
имеется выдающееся-великое, но оно не поддается
копированию; в идее тем более имеется такое выдающееся-
великое, но оно недоступно никакой объективизации.
Ответ на это лежит в общей сущности прекрасного:
речь идет вовсе не о копии или самом изображении в том
смысле, что здесь что-нибудь должно быть осуществлено.
Для эстетического предмета, так же как и для
возвышенного, достаточно того, чтобы оно (выдающееся-великое)
"проявлялось". Но в проявлении выдающееся-великое
отнюдь не нуждается в том, чтобы быть
"воспроизведенным" или "совершенным". Достаточно того, чтобы
представление о нем в нашем уме было ясным, неотразимым и
наглядным. Наглядность, конечно, необходима. Впрочем,
возможность проявиться не представляет здесь больших,
чем обычно, трудностей. Представление о нем свободно
открывается в его творениях.
И все же наглядность этого проявления остается
загадочной, ибо каким образом можно созерцать то, что
недоступно чувствам? Конечно, с эстетической точки
зрения имеется "более высокое созерцание", и оно не
связано границей чувственности. Но все же должно быть
сохранено впечатление данного, потому что созерцатель не
знает, насколько велик его собственный вклад в
эстетический предмет, а также в возвышенное.
Здесь, между прочим, лежит ключ к разгадке
положения вещей - отношение проявления спобствует именно
тому, чтобы то, что было составлено с включением
собственной фантазии, приписывалось самому
предмету: узкоограниченное предметное может преобразовы-
Раздел II. Возвышенное и изящное
507
ваться в выдающееся-великое посредством
представления о нем.
Само собой разумеется, что все представление
возвышенного остается несовершенным. Но это
несовершенство само становится ощутимым в представлении, и
благодаря этому созерцается возвышенное; таково,
например, морально возвышенное великого поступка или
страсти, а также возвышенное в природе. Так на самом
деле работает поэт: в маленьких отрезках,
представленных в чувственной конкретности, он дает возможность
проявиться возвышенному в судьбе человека, и в
проявлении оно становится эстетически возвышенным.
Отдаленность возвышенного от чувств выражает
внутренний размах его роли как модуса прекрасного, так как
последнее проявляется в чувственном. Эта
противоречивость нигде полностью не преодолевается. Не случайно,
что самая радостная для чувства из всех видов искусства
- живопись, которая целиком движется в "магии красок",
меньше всего способна к возвышенному, так мало, что
она даже религиозно возвышеннейшие темы облекает
чувственным обаянием. Еще более важным в этом
направлении является позитивное свидетельство музыки и
архитектуры: удивительно то, что оба этих "неизобрази-
тельных" искусства являются самыми сильными в
изображении возвышенного. И это объясняется не столько тем,
что они менее доступны чувствам, сколько тем, что они,
собственно, не "изображают"; но то, что они выражают в
свойственных для них формах, делает возвышенное
ощутимым лишь в смутной неопределенности, благодаря
чему обаяние проявления отодвигается далеко от плоскости
чувств и удаляется в нечувственное.
ГЛАВА 32
МЕСТО ВОЗВЫШЕННОГО В СТРУКТУРЕ СЛОЕВ
а. Превосходство внутренних слоев
Структурный анализ эстетически возвышенного
привел к некоторым трудно ощутимым моментам его
сущности, точнее, по отношению к явлению они, пожалуй,
ощутимы, но это не может привести к пониманию сущности
возвышенного. Это сверхфеноменальное не должно больше
разъединяться насильственным путем. Но одновременно
выявились отдельные пункты, исходя из которых можно
проникнуть аналитическим путем еще дальше.
508 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Среди них само собой выделяется пункт, изложенный
последним. Он касался отношения эстетически
возвышенного в искусствах к отношению проявления, которое
лежит в основе всего прекрасного. После всего
высказанного это отношение является более глубоким, чем можно
было бы полагать, и с этим согласились бы авторы
различных теорий возвышенного, ибо у
выдающегося-великого это является более существенным, чем у
каких-нибудь других "предметов" (Stoffen), ибо проявление здесь
не больше, как "только проявление". При всяком другом
способе было бы "представление" или только лишь
"выражение" возвышенного, что невероятно.
Отсюда возникает вопрос: с какими слоями
произведения искусства связано возвышенное? Или оно связано
исключительно с отдельными, которым оно
преимущественно и присуще? Разумеется, это было бы допустимо,
если бы различие в слоях оставалось целиком внешним.
Тогда сообразно своей области предмета возвышенное
могло бы быть присуще всякому слою. И оно могло бы
корениться также во всеобщем отношении всех слоев. Оба
предположения невероятны отчасти потому, что все виды
искусства неодинаково участвуют в возвышенном, а
отчасти потому, что "выдающееся" как таковое уже
указывает дистанцию по отношению к чувственному. Можно
еще углубить вопрос: как относится возвышенное к
чувственно данному? И как относится оно к "игре форм"?
Последнее отрывает отношение проявления от его
границ. Первое противоположно "выдающемуся-великому".
Идеалистическая эстетика постоянно твердила о
возвышенном, что к его сущности относится нечто лишенное
образа, то есть бесформенное. Полагали, что здесь
можно было бы опереться на Канта, который говорил о
"неограниченном" (Ф. Фишер). Следующий аргумент в пользу
этого заключается в том, что в возвышенном всеобщее
принималось за "сущее"; последний основывается на
количественном представлении о пространственном и
временном в мире. Гегельянцам все это представлялось
вроде гегелевской "дурной" бесконечности "скучным",
особенно В природе; таким скучным является якобы
неподвижное открытое море (постоянно повторяющийся
пример). В качестве противовеса к этому они требовали
(Зольгер, например) форму движения "внезапно
прорывающегося", возвышенного, как этого (лершусих;) требовал
Лонгинус для сильного риторического эффекта.
Раздел //. Возвышенное и изящное
509
В этом ясно видны нащупывающие поиски, которые не
находят правильной опоры. "Прорывающееся" является,
по-видимому, целиком внешним по отношению к
возвышенному и представляет собой погоню за эффектами: в
противном случае как бы оно могло выразить
"величественное" или "торжественное"?
"Однообразие" - это только пограничное явление (об
этом еще будет идти речь). "Всеобщность" приведена
здесь ошибочно, отдельный поэтический образ
полностью противоречит ей. И "бесформенность" есть
недоразумение также в количественном отношении:
действительно бесформенное было бы эстетически невозможно в
искусстве, это было бы и в природе не прекрасным и не
возвышенным, а ничтожным.
Истину этих двух последних моментов составляет
нечто совсем иное: то, что названо неясностью
возвышенного, некоторая неопределенность, загадочность,
таинственность, бездонность, недосягаемая глубина - все это
остается ему присущим и наполняет созерцателя
священным трепетом. В нем остается нечто чужеродное,
находящееся по отношению к нам на большой дистанции.
Поэтому исчезает такая деталь: из возвышенного образа
исключается мелконичтожное (точка зрения "камердинера").
Поэтому поэт обращается к идеализируемому им
далекому будущему. В идеализированном представлении
смерть индивидуума действует также возвышающим
образом. В силу этого возвышенное не будет всеобщим, а
тем более бесформенным. Напротив, оно свойственно
индивидуальному образу и, безусловно, ощутимо только
через него.
Этим разрешен наш вопрос о роли слоев
возвышенного в произведении искусства и одновременно вопрос об
отношении возвышенного к чувственно данному, а также к
игре форм. Так как первый вопрос более важный, то
следовало бы начать здесь с двух последних.
1. Чувственно данное возвышенного, как и все заднеп-
лановое, опосредовано: в сфере чувственно данного
находится не само выдающееся-великое - это было бы
невозможно, - а только его проявление, и это вполне
возможно, точно так же как и проявление форм.
2. Игра форм в возвышенном отступает назад, потому
что в нем вообще детали отходят на задний план; и где она
одна остается без отношения проявления, так это в
искусстве орнамента, в котором от возвышенного ничего нет.
510 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Возвышенное находится в неразрешимом противоречии с
элементом игры (zum Spielerischen).
3. Среди слоев эстетического предмета есть более
глубокие, внутренние слои, которые выступают в качестве
носителя возвышенного. Проявление этого носителя в
чувственно близких внешних слоях является частичным;
поэтому ему свойственно "смутное", неопределенность,
таинственность, недосягаемая глубина и бездонность.
Это явно нечто совсем другое, чем бесформенность.
Попытайтесь-ка дать таинственному как таковому другое
выражение! Его не найти. Оно дается только посредством
завуапирования; это завуалирование как раз и является
формообразованием, хотя уже опосредованным.
"Чудовищное" требует формы иного вида, чем другие вещи.
Оно может быть доступно чувствам и созерцанию лишь
тогда, когда оно большей частью скрыто от них.
Это подтверждается весьма определенным образом,
как только начинают более близко рассматривать явления
возвышенного в искусстве. Это прежде всего
соответствует уклону к неощутимости, который присущ всему
возвышенному; то, что содержится во внутренних слоях
произведения искусства, не воспринимается никаким
другим способом, как только через эстетическое
созерцание, а именно через его проявление во внешних слоях.
Возвышенное, находящееся в драматической,
эпической поэзии или в жанре романа, никогда не выступает во
внешних слоях. Поэт, вероятно, может его несколько
подчеркнуть посредством дикции, придать ему важность,
намекнуть на завуалирование... но посредством всего этого
он не может привести его к наглядности. А
самостоятельным в этом оно не может быть и подавно. Возвышенное не
может находиться также ни в слое движения и мимики, ни
в слое ситуации, ни в слое действий. Во всем этом оно
может "проявляться", поскольку оно находится в более
глубоких слоях, потому что действие является только лишь
способом проявления чего-то другого.
Это другое состоит в душевном формировании
личности в характерном, равным образом в последующем
более глубоком слое, в судьбе человеческой жизни.
Прежде всего, здесь у человека может проявиться
выдающееся-великое как в добре, так и в зле, как в свободе и силе
воли, так и в страстях, как в подъеме и успехе, так и в
гибели, как во внутренней борьбе человека за лучшую долю,
так и в победоносном преодолении зла.
Раздел II. Возвышенное и изящное
511
Все это еще ни в коем случае не является слоями
идейного. Но это есть уже характерные внутренние слои
поэтического творчества. Здесь содержание оформлено
вполне конкретно и наглядно, таким образом, что оно не
имеет налета всеобщего. И его неопределенность
находится не в нем самом, а лишь в его проявлении во
внешних слоях.
Пластика немногим отличается от этого. Там мы имеем
знаменитый еще со времен Гегеля пример возвышенного
в классических изображениях богов греками. Где в
пластике находится возвышенное? Напрасно его стали бы
искать в отдельных деталях позы тела, тем более в символах
и эмблемах. Только поза в целом выражает возвышенное:
центральное значение имеет здесь выражение лица
превосходного спокойствия, строгости, доброты и мудрости,
что действует вполне определенно.
Вспомним о положении головы олимпийского
Аполлона, о голове Афины в коринфском шлеме; здесь отчетливо
виден слой, в котором коренится проявляющееся
божественно-возвышенное. Это последний слой, слой всеобщих
идей: великие человеческие идеалы, поднявшиеся до
сверхчеловеческого, явившиеся в видениях и
запечатленные в камне. Но эта запечатленность (Festgehaltensein)
является вполне наглядной; она проявляется, поскольку
может входить в пространственную форму камня. А
остальное смутно предчувствуется, это ощутимая глубина.
А где находится возвышенное в музыке? Вряд ли оно.
может находиться в чистой игре форм внешних слоев,
если даже очень глубоко понимать композиторское
построение музыкальной пьесы. Оно может быть чем-то иным,
однородно целым - а именно динамически целым, - что
стоит позади [этого], и это должно относиться к области
тех внутренних слоев, в которых образуется
взволнованность душевной жизни.
Отсюда происходит великая мощь, как мы ее себе
конкретно представляем в известных "первых частях"
симфоний, квартетов или сонат. Это не дешевая
возвышенность, которую можно было бы игнорировать,
напротив, положение вещей состоит в следующем: либо музыку
"понимают" и тогда возникает возвышенное высокого
стиля в ней, либо возвышенное не понимают и тогда
проходят мимо сущности в музыке. Еще более
глубокомысленно оно выступает в фугах Баха: в очень маленьких
рамках проявление величайшего и бездоннейшего. Отсюда,
512 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
бесспорно, возвышенное действие, "метафизическое",
как часто мыслят его.
Удивительно в музыке только то, что она в своих
внешних слоях может почти адективно выразить возвышенное,
в то время как другие виды искусства не могут этого
сделать даже приблизительно. Это удается, с одной стороны,
благодаря абсолютной свободе игры форм в тонической
композиции, вплоть до большого единства целых
музыкальных произведений; с другой - благодаря отказу от
собственного "изображения", так как содержательное
(Inhaltliche), так часто принимаемое за душевное
движение, остается витать в характерной неопределенности, а
выражается только характер динамики. Эта
неопределенность очень точно соответствует "неясности", в которой
проявляется возвышенное.
Наконец, то же самое превосходство скрытых
внутренних слоев мы имеем также и в архитектуре, а именно там,
где она становится монументальной, то есть где есть ее
эстетическое действие, действие возвышенного. Дворцы
и церкви, древние храмы, довольно часто башни и
каменные стены городов и замков показывают этот тип
композиции форм.
Имеются внутренние пространства, воздействующие
интимным образом, и такие, которые действуют
"возвышающе"; последние мы встречаем в готических соборах.
Это впечатление есть впечатление превосходной высоты
и величия. В более раннем романском стиле это прежде
всего впечатление тяжеловесности (Аахенский октагон).
Однако "величие", которое в этом выражается, относится
к мировоззренческой сфере и происходит из последнего
ощутимого заднего плана произведения.
Еще более тонким должно быть соотношение в
античных храмах, где величие находит выражение больше во
внешних формах и представляется в различных
сочетаниях колонн и стропил. Возможно, что тайна величия
заключается здесь в простоте, хотя она отчасти является
лишь кажущейся простотой. Согласно этому указанию, не
поддается анализу тот факт, что дорическая колонна
действует гораздо возвышеннее, чем, например,
приятно сделанная и более стройная ионийская или даже
коринфская. И совершенно необъяснимо то отношение, что
колонна меньшего размера действует значительно
"сильнее", чем колонны большего размера. Это чистый
пример архитектурно-возвышенного.
Раздел II. Возвышенное и изящное
513
б. Возвышенное в трагическом и его апории
Превосходство внутренних слоев в эстетически
возвышенном предмете оправдано. Вероятно, это можно еще
убедительнее доказать, приняв во внимание также
возвышенную сторону трагического, ибо она как таковая всегда
есть там, где речь идет об истинно трагическом
воздействии. Подобное исследование увело бы слишком далеко.
Вместо него нужно взять из этой области вопросов лишь
некоторые. Трагическое, так же как и возвышенное, не
есть только эстетическое явление; в теоретические
толкования относительно него всегда включалось много чисто
этического.
К некоторым вопросам из области трагического,
действительно относящимся сюда, причисляются только
такие, которые содержат апории возвышенного. Это,
например, такие вопросы: каким образом может
проявляться возвышенное страсти? Каким образом
нравственно-злое может быть возвышенным? Каким образом
может быть возвышенной судьба одного человека? Каким
образом могут быть возвышенными вина и человеческие
слабости? Каким образом может быть возвышенной
гибель добра? Каким образом может стать возвышенным
торжество бессмысленного? Отсюда видно, что все
вопросы вращаются вокруг одного и того же пункта, который
касается сущности трагического как такового, а именно
той сущности, благодаря которой трагическое
отличается от всего остального возвышенного. Определение
этого пункта не представляет никакой трудности;
необходимо поставить его во главу угла в определении сущности
возвышенного.
Суть трагически-возвышенного составляет гибель вы-
сокоценимого человеком. Было бы моральной
извращенностью испытывать удовольствие при этой гибели.
Эстетически-трагическим является, однако, не сама гибель, а
ее проявление. Явление гибели высокоценимого
человеком может иметь свою эстетическую ценность и вызвать
удовольствие при созерцании, даже если человек
испытывает при этом ужас, и это не безнравственно. Такое
удовольствие является настоящим чувством ценности
возвышенного.
Почему человечески-великое именно в своей гибели
так особенно ощутимо и выразительно?
Нужно полагать, потому, что именно здесь оно
проявляется в своей ограниченности и непостоянстве. Так оно,
конечно, и есть, но замечательно здесь то, что человечес-
514 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
кое сердце считает положительной эту его
ограниченность. В основе здесь лежит психологический закон.
Всякое благо в тот момент, когда мы его лишаемся или
его у нас отнимают, ощущается как ценное сильнее, чем
когда бы то ни было: боль утраты дает возможность
поднять наиболее высоко ощущение его ценности. Это есть
форма, в которой негативное выступает в трагическом,
или, выражаясь другими словами, • это есть
положительный смысл, который приобретает неценность гибели.
Потому что ценность и эстетическое удовольствие относятся
не к тому, что погибает, а к самому человеческому
величию; на передний план наших интересов, нашего участия
и интенсивного чувства ценности выдвигается это
человеческое величие лишь благодаря болезненному
сочувствию его гибели. Это можно назвать эстетическим
обаянием трагического. Оно является родом человеческого
прозрения и подобно позолоте всего видимого мира при
закате солнца. По сравнению с этим чувством
относительно второстепенным является то, что в самой
структуре драмы наступающая гибель героического в человеке
дает ему возможность возвыситься до истинно
превосходного положения. Только серьезность действительной
угрозы подвергает человека высшим испытаниям; только
такие испытания дают возможность проявляться тому, что
есть в нем Великого. Эстетическая ценность как раз и
связана с этим проявлением.
Этим в значительной степени решена
вышеупомянутая апория трагического: не гибель добра как таковая
является возвышенной, а само добро в своей гибели
озарено возвышенным. И чем яснее отражается гибель в
страданиях и в поражении борющегося, тем больше
усиливается обаяние трагического.
Поэтому зритель еще больше подчиняется влечению к
своему внутреннему сочувствию. Таким образом, учение
Аристотеля о фбро<; и ekeoq (страхе и сострадании)
правомерно. Только положительное содержание в них выглядит
у него слишком субъективным.
Подобным образом разрешаются и остальные апории.
Как может быть отдельная судьба возвышенной?
Возвышенными являются не всякая судьба и не всякая большая
неудача, а непременно лишь трагическая, то есть судьба
человечески-великого, придающего ей величие гибели.
Лучшим примером здесь будет трагический исход
великой любви; насколько возвышающе действует здесь
судьба, разъединяющая возлюбленных, видно на том, как
Раздел II. Возвышенное и изящное
515
просто и почти принудительно разрушается happy end
всего величия.
Итак, можно сказать: судьба как таковая вообще не
возвышенна или возвышенна так же мало, как и гибель;
возвышенным будет только проявляющееся в ней
человечески-великое.
То же самое относится к другой форме апории: как
может стать возвышенным торжество бессмысленного? Оно
находит свое место там, где выразительное проявление
человечески-великого обусловлено его поражением. Это
поражение проявляется как торжество бессмысленного.
Как проявляется возвышенное страсти? Как
проявляется возвышенное зла?
Это два весьма различных вопроса, так как страсть
может быть направлена и на достижение добра и высоких
целей. Но ответы на них тесно связаны друг с другом.
Имеется неправильное решение этой апории: в
преодолении страсти лежит возвышенное, и есть поэты, которые
в преодолении страстей самими героями искали решение
трагического конфликта. Но такое решение "рассудочно"
и оставляет нас холодными. Оно дано в "моральном
плане". Поэтому с точки зрения поэзии оно ложно.
Настоящее решение вопроса совсем иного рода.
Негативное в возвышенном, правда, не является таким
всеобщим, как это полагал Кант; однако имеются некоторые
роды возвышенного, в которых оно действительно
содержится, например в таких, как "ужасное",
"угрожающее". К ним, как уже выяснилось, относится и
трагическое. Но негативное не обязательно должно находиться в
чем-то внешнем, противостоящем человеку, оно может
быть в нем самом; и даже негативному могут быть
присущи те черты, которые подчеркивают в нем человечески-
великое.
Для возвышенности совершенно безразлично, что
именно в человеке вырастает до превосходной величины,
лишь бы в нем была какая-то сила, способная к
действительному величию. Страсть сама по себе нейтральна, она
может быть как уничтожающей, так и созидающей; ее
величие делает ее сильной: в Ромео и Отелло - это любовь,
в Макбете - властолюбие и честолюбие. Зритель может
следовать за ними, ощущать их проявление в
заблуждении и воспринимать их величие как импонирующее ему.
В возвышенном зла это идет еще дальше. Мы
отклоняем его, пугаемся, но все-таки чувствуем в нем величие:
Ричард III, например, увлекает нас так, что мы восхищаем-
516 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ся его смелостью, его энергией и считаем, что они
достойны лучшего приложения. Поэтому и явный злодей
растет в своей гибели. Но этого все же не должно быть.
На это следует ответить таким образом: в самом деле
так не бывает, ибо возвышенным в человеке является не
зло, даже в том случае, если гибель злого человека сама
по себе обладала трагической возвышенностью.
Напротив, возвышается человечески-великое как таковое, если
даже оно и обращено к злу, хотя принципиально решается
в пользу зла. Оно выросло в высочайшую возвышенность
в трагическом образе Мефистофеля, который в конце
концов оказывается обманутым. Этому соответствуют
также и формы страсти, которые принимает зло: гнев,
ярость, мстительность, бешенство накопившегося в
бессилии злопамятства. Величие во всем этом похоже на
величие сил природы.
Последней тайной в трагизме зла является свобода.
Нет свободы только для одного добра, есть лишь свобода
для добра и зла. Поэтому она проявляется как в злой воле
безотносительно к тому, чем эта злая воля мотивирована,
так и в доброй воле как таковой. Свобода как таковая,
понимаемая как свобода самой воли, есть основной атрибут
человека, признак его силы и одновременно основное
условие нравственного в нем вообще как условие
возможности быть добрым и злым.
В качестве последней апории выступает еще такой
вопрос: как могут быть возвышенными вина и
человеческие слабости? Однако этот вопрос иного рода, чем
рассмотренный выше, так как вина является не злом в
человеке, а в первую очередь доказательством его свободы.
Известно, например, как сотню лет назад спорили о том,
является ли истинно трагическая судьба таковой по своей
собственной вине или по вине чего-то вторгающегося
извне. И раздавалось довольно много голосов, решавших
этот вопрос в пользу последнего, ссылаясь при этом на
античную трагедию судьбы.
Некоторые полагали, что мы могли бы полностью
сочувствовать только невиновным. Они жестоко ошибались:
невиновный в конфликте человек едва ли человечен. Во-
первых, потому, что он действует в жизни, в ситуациях,
которые не оставляют ему времени для размышлений в
минуты страсти, и, во-вторых, ситуации действительной
жизни не таковы, чтобы человек из них мог выйти
невиновным, по крайней мере в большей их части. Скорее
всего ценность всегда стоит против ценности, и воля должна
Раздел II. Возвышенное и изящное
517
решить, какую она хочет нарушить и с какой она хочет
согласиться.
В этом заключается причина того, почему уже в вине
как таковой имеется нечто трагическое. Но при большей
вине, которая является решающей и отягощающей для
жизни, это трагическое, поднимаясь, переходит в
возвышенное, потому что степень вины может превышать силы
человека и может его внутренне парализовать (Дон
Цезарь). Тогда вина выступает как судьба, как внутренняя,
подготовленная им самим судьба. И тогда эта проблема
выливается в проблему судьбы и гибели, которая уже
ясно решена.
е. Пограничные вопросы возвышенного
Рассмотрение трагического было предпринято здесь
не ради него самого, а лишь постольку, поскольку оно
составляет специальный случай возвышенного. И это
составляет только часть сущности трагического. Другая его
часть относится к области драматического, которое
образует собственный сектор эстетических ценностей.
Поэтому не случайно, что трагические конфликты предлагают
особенно благоприятные условия для требования живого,
высококонцентрированного поведения. Это входит в
теорию драмы, которая не должна здесь излагаться. Более
важным для нашей общей проблематики является то, что
трагическое образует уже пограничный случай
возвышенного, о чем лучше всего свидетельствует его уклон к
негативному.
Трагическое само по себе не есть возвышенное. Если
в одном образе находится то и другое, как, например, в
образе Зигфрида в "Песне Нибелунгов", то это
проявляется не в одних и тех же чертах: возвышенное находится в
превосходно-великом несокрушимой силы,
непосредственности, прямолинейности, радостной уверенности и
спокойствии, трагическое - в обмане, на который он
поддается, и в вытекающих отсюда последствиях. И хотя
возвышенность проявляется прежде всего через эти
последствия, все же великое и восхищающее присуще не им, и
трагизм остается в известном противоречии с
возвышенностью. Это стремление свойственно всему эстетически
трагическому. Оно дано уже вместе с негативностью
предпосылки.
В этом смысле противовес ему образует собственно
трагическое, стоящее в теснейшей связи с возвышенным.
Наиболее ярко это проявляется в том, что чувство ценное-
518 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ти реагирует на оба эти момента совсем
противоположным образом: на неудачу и гибель - сожалением, на
величие того, что погибает здесь, - восхищением и внутренней
возвышенностью. Следует обдумать и то, что трагическое
как эстетически всеобщее явление представляет ту
форму эстетически возвышенного, которая должна иметь
дело с человеческим и моральным величием; правда, это не
единственная форма, но она сильнее всего отчеканена, не
считая еще более сильную форму в музыке, которая,
однако, остается неопределенной. Поэзия, напротив,
располагает трагическим в полной
предметно-индивидуальной определенности. И если эта форма является уже
пограничным явлением возвышенного, то, очевидно, на
пограничное явление возвышенного приходится
своеобразная значимость. На трагическом, конечно, никогда нельзя
было увидеть этого. Только в испытанных теориях,
поскольку они стараются включить негативное, мы имеем
нечто вроде предчувствия такого положения вещей.
Второй формой пограничного явления сущности
возвышенного является скучное. Это несколько странное
явление, и, кажется, едва ли оно где-нибудь в эстетике было
правильно подмечено, хотя некоторые мысли касаются
его. На первый взгляд кажется невероятной возможность
непосредственного перехода от возвышенного к скучному
или возможность перехода одного в другое. И все же эта
возможность не является такой уж странной.
Надо было бы учесть следующее:
противоположностью скучному является забавное, разнообразное,
пестрое. Всего этого нет в возвышенном, здесь не
заботятся о разнообразии; то есть об этом можно подумать
при некоторых обстоятельствах, как это часто бывает в
музыкально-возвышенном, но в сущности возвышенного
этого нет, а имеется такая возвышенность, которая
господствует в однообразии. В качестве примера можно
привести штиль в открытом море, где ни переливы воды, ни
контраст между сушей и морем не вносят разнообразия;
наряду с этим примером можно назвать пустыню и, может
быть, северный равнинный снежный ландшафт.
На этих примерах непосредственно чувствуется
разграничение между возвышенно-увлекательным и скучно-
безразличным; казалось бы, достаточно одного шага, для
того чтобы из одного попасть в другое; но этот взгляд
представляет серьезную опасность для эстетически
возвышенного. По тому что в скучном
возвышенно-увлекательное безнадежно уничтожено, так как скучное лишено
Раздел II. Возвышенное и изящное
519
захватывающего, таинственно-притягивающего и
бездонного.
Было бы ошибкой принимать выдающееся-великое за
бесконечнее, как это делали романтики. Однако это не
исключает того, что в определенных случаях
действительно речь идет о бесконечном, по крайней мере в
представлении или в том случае, когда это представление
принимается за бесконечное и, следовательно, за весьма
великое, независимо от того, экстенсивно оно или нет.
Примерами такого рода являются море во время
штиля, пустыня, снежная равнина. Нет сомнения в том, что
бесконечности такого рода относятся к гегелевской
"дурной", скучной бесконечности.
Не избегнуть этого проклятья бесконечного, если
обратиться к высшим предметам, как бы противопоставляя их
возвышенность скучному: и бог становится скучным, если
апеллировать к его бесконечности, если, следовательно,
подходить к нему не с точки зрения страстного стремления
к благу; такое положение мы имеем у Достоевского, у
которого блаженные сидят на небе тысячу лет и воздают
хвалу богу, и так продолжается до бесконечности.
Платон усматривал эту опасность для возвышенного в
вечной строгости трагической поэзии своего времени. Он
противопоставил ей в конце "Symposion"1 знаменитое
требование, согласно которому трагический поэт
одновременно должен быть и комическим. Ничто не вносит
столько пестроты и движения в скучную строгость, как
комизм. Это и естественно, потому что такова человеческая
жизнь. Шекспир доказал, что это требование не утопично.
Важнейшим среди пограничных явлений
возвышенного является комическое, или, как чаще говорилось,
смешное. "От возвышенного до смешного только один шаг", - в
этой форме всякий узнает то пограничное отношение, о
котором здесь говорилось. Кто сам не способен к
чему-либо творческому, полезному как в жизни, так и в искусстве,
тот пользуется насмешкой, для того чтобы "очернить
сияющее и втоптать в грязь возвышенное". Так работают
карикатура, сатира, пародия, травести, а в обыденной жизни
- находчивый остряк. Все они легко привлекают на свою
сторону смеющихся, возвышенное же при этом исчезает,
забывается, уничтожается. Вспомним Еврипида в аде у
Аристофана (kr)K\mov акекгто...). Или сцену подражания в
"Генрихе IV": издевательства Фальстафа над королем.
1 "Пир" - одно из главных произведений Платона. - Прим. перев.
520 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Это возможно только там, где уже само возвышенное
дает для этого повод, за который можно зацепиться, то
есть показывает свои слабые стороны. Но в чем причина
того, что возвышенное имеет свои слабые стороны? Это
все же обозначает, что в нем что-то ошибочно. Почему
возвышенное так легко ошибается? Возможно, оно ставит
чересчур высокие требования? Или потому, что человек
легко соблазняется представить его своими
недостаточными силами?
Может быть, совершенно безрассудно осуществлять
его в собственной жизни? Последнее нужно подтвердить:
как только кто-либо напускает на себя важность, которой
у него нет, тот сейчас же становится смешным. Другие
подменяют возвышенное силой и уверенностью в своем
поведении. Обе точки зрения оказываются
несостоятельными при первой же проверке.
И все же в жизни возвышенное тысячекратно
встречается нам. Уже сама природа полна возвышенного.
Почему она достигает этого? Потому, что она начинает не с
претензии (Anspruch), как человек, и потому, что в ней
возвышенным считается только то, что подлинно и
действительно является таковым. Только человек не
достигает возвышенного. Такое же положение вещей мы
имеем в искусствах и в изображении.
Собственно, почему говорят, что от возвышенного до
смешного только один шаг? Потому что претензия
возвышенного является самой высокой и самой объемлющей, а
такая претензия труднее всего выполнима; здесь
возможность отступления от истинного весьма велика.
Сущность комического состоит как раз в таком
отступлении - в переходе важного и весьма серьезного в
ничтожное и банальное. Это означает, что
выдающееся-великое там, где меньше всего этого ожидаешь, вдруг
оказывается обыкновенным, человечески-мелким (Kleinmen-
schliches). Так, например, когда Диоген говорит
Александру: "Явись ты мне из солнца", - возвышенное, которое
здесь погружается в себя (in sich zusammensinkt),
является возвышенным "величия" ("Majestat").
Может быть, вообще не существует человеческого и
трагического величия, которое не было бы подвержено
отступлению (Entgleisen) в смешное, так как всюду из
щели может легко выглядывать человечески-мелкое. Или,
может быть, существует возвышенное, созданное
человеком, которое устраняет эту опасность?
Раздел II. Возвышенное и изящное
521
Такое возвышенное имеется, конечно, в
неизобразительных искусствах - в музыке и архитектуре. Однако и
здесь есть слабости и формальные ошибки, но они
целиком присущи переднему плану, вернее, внешним слоям;
по крайней мере, они воспринимаются как неудача, но
отнюдь не производят впечатления комического. Причина
этого коренится в нейтральности тона и материальной
формы, а также в неопределенности музыкального и
архитектурного выражения; обе они не выражают темы и
содержания, а только передают лишь динамику душевного
состояния. Во всяком случае, последняя является не
только более сильной и непосредственной, но и более
совершенной, чем в других искусствах, что как раз
возможно лишь благодаря разнородности материала музыки и
архитектуры.
Здесь следует сделать еще одно замечание. Для
поэзии высокого и героического стиля это третье
пограничное явление возвышенного представляет действительно
большую опасность. Неожиданный переход
возвышенного в смешное угрожает самой ее внутренней сущности; и
она не может хорошо защищаться против этого - даже
посредством полной неподдельности, - поскольку
остроумный или грубый насмешник едва заметной подделкой
трагического способен во всякое время атаковать его
недостающим комическим. Уже пример Аристофана весьма
показателен в этом отношении.
Имеется ли какое-нибудь средство против этого?
Можно ли здесь активно предупреждать эту опасность?
Да, существует безошибочное средство, но оно
предполагается как поэтическая возможность высшего порядка:
поэт-трагик может сам догадаться о смежном смешном и
включить его в негативную сторону трагического; этим он
придает трагическому остроту и повернет ее таким
образом, что она не будет направлена против возвышенного;
взваливая на трагического героя прежде всего несчастье
и порок (Schaden) и к тому же еще насмешку, тяжелое
проклятие смешного, он тем самым еще больше
усиливает трагизм.
Доказательством такого высокого стиля поэзии
являются сцены с участием шута в "Короле Лире", где шут
говорит Лиру: "...когда ты подаешь розги своим дочерям, ты
сам с себя стягиваешь штаны". И вообще
доказательством этого служат все "шуты" у Шекспира и Шекспир как
в целом, так и в каждой отдельной трагической пьесе.
Поэтому его нельзя травестировать: он предупредил смеш-
522 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ное, к которому примыкает его возвышенное, и выразил
его гораздо сильнее, чем это мог бы сделать самый
злонамеренный насмешник. И здесь мы вновь замечаем
закон Платона о единстве трагического и комического.
ГЛАВА 33
ИЗЯЩНОЕ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ
а. Противоположности возвышенному
Выше уже было показано, как внутри прекрасного
вообще возвышенное ясно противостоит всему ряду
эстетических ценностей и их разновидностям (Spielarten) (гл. 30):
изящному, прелестному, идиллическому, милому,
достойному любви (Litbsnswurdigen) и сверх того миловидному,
забавному, гротескному, фантастическому и
занимательному. Можно продолжить дифференциацию ряда. Однако
более важным здесь будет то, что он не является ни
единственным, ни однородным внутри себя рядом.
Мы уже видели, что возвышенное внутри прекрасного
вообще занимает определенное особое положение как по
своей значимости, так и по своему своеобразию
(Einzigartigkeit). Этому особому положению соответствует
то, что в многостепенном отношении
противоположностей (mehrdimensionalen Gegensatzverhaltnis) имеются
противоположности весьма различного рода и значения.
Каждая противоположность образует целую группу. Но
для характеристики каждой из этих групп вполне
достаточно рассмотрения наиболее известных ее
представителей. Соответственно этому следовало бы различать здесь
четыре степени противоположности (Gegensatzdimen-
sion), по отношению к которым возвышенное является
общей противоположностью; возвышенное, таким образом,
противостоит:
1) повседневному, обыденному, нейтральному, то есть
тому, что ничем не выделяется;
2) легкому, маленькому, незначительному,
грациозному; сюда можно отнести также идиллическое и
непременно миловидное и потешное;
3) изящному и его видам - очаровательному,
прелестному, милому, грациозному и, кроме этого, пожалуй,
забавному, гротеску, фантастическому;
4) комическому, понимаемому в широком смысле
слова, со всеми его разновидностями - остроумным,
смешным и забавным.
Раздел II. Возвышенное и изящное
523
О комическом еще специально будет идти речь.
Возможно, оно составляет наиболее трудную проблему из
области эстетических проблем, а поэтому, чтобы довести ее
до более простой, ее рассмотрение необходимо отложить.
Первая из названных противоположностей -
"повседневное" и обыденное - не нуждается здесь ни в каком
толковании, так как она не только лишена эстетической
примечательности (astetische Note), но и вообще нейтральна по
отношению к эстетическим ценностям. Прямой интерес
представляют здесь две средние противоположности
возвышенного: "легкое" и "привлекательное" со своими
особыми формами, которые во всем остальном тесно
соприкасаются друг с другом.
Что касается "легкого", то оно является
противоположностью "важному" и "великому" в возвышенном. Этой
стороне возвышенного некоторые теоретики эстетики
придают такое важное значение, что даже привлекательное
считают ее противоположностью (Е. von Hartmann).
Полагают, что в то время, как возвышенное является
сверхсильным и сверхвеликим (Ubermachtige und Ubergrofce),
привлекательное должно быть незначительным (das
Untermachtige), то есть чем-то маленьким и плохо
удавшимся; в то время как к первому поднимают взор, то на
это нужно смотреть сверху вниз. Если внимательнее
вглядеться в это отношение, то можно найти, что здесь
смешаны друг с другом две степени противоположности -
вторая и третья: степень противоположности
возвышенного легкому, маленькому и грациозному и другая -
изящному и достойному любви.
И так как они не идентичны, то уже из этого можно
было бы заключить, что различие в величине
(Grossenunterschied) едва ли при этом может быть
решающим; если и имеет что-то привлекательность и
прелесть, то по крайней мере не там, где это в первую
очередь важно, а именно у человека, как в физическом, так и
в духовном отношении (фактически здесь имеется лишь
переход одного в другое). "Грациозное", так же как и
привлекательное, является противоположностью
возвышенному, но только противоположностью другого
порядка. Поэтому оно находится в другой области ценностей
(Wertgegend), чем группа ценностей привлекательного.
Параллель с комическим могла бы навести на мысль о
том, что должно существовать отношение возвышенного к
привлекательному, как и там должно существовать
отношение комического к смешному. В этом случае речь шла
524 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
бы о дальнейшем пограничном явлении возвышенного
(GrenzphAnomen); тогда здесь должен был бы иметь место
переход возвышенного в привлекательное, и именно
такой переход, который был бы равен явлению "одного
шага" (das Phanomen des "einen Schritts"). Здесь нет речи обо
всем этом. Непрерывного перехода возвышенного в
изящное вовсе не бывает, не говоря, конечно, о
каком-нибудь коварном переходе одного в другое. Не бывает
именно потому, что здесь имеет место более резкое и
чистое отношение противоположностей.
Это можно дальше обосновать следующим образом: в
этой противоположности заключено что-то
отрицательное, исключающее, что-то такое, что приближает ее к
противоречивому отношению: возвышенное как раз
исключает привлекательность как таковую, а прелестное или
любезное в поведении человека исключает, со своей
стороны, возвышенность. Если это представить себе наглядно,
то тотчас же с обеих сторон можно увидеть исключающий
момент. Этот момент противоречивости делает
невозможным переход и перемены. Этим самым он
ликвидирует также подозрение пограничного отношения
(Grenzverhaltnis): ничто не угрожает возвышенному со
стороны привлекательного, ничто не скапливается близ
его области и тем более ничто не вторгается в нее.
Следует вспомнить также и то, что возвышенное допускает по
крайней мере момент подавляющего (des Beriickendes) и
момент отрицательного вообще. Привлекательное в
корне исключает что-либо подобное, поскольку оно этим
самым было бы уничтожено.
Как невозможно сказать, в чем состоит
привлекательное, так еще более трудно сказать, в чем заключается
возвышенное. В возвышенном по крайней мере можно
ссылаться на легко ощутимый момент "величины", хотя и не
так-то легко сказать, в чем именно она должна
заключаться, если количественное является в ней подчиненным.
Если из противоположности привлекательного
возвышенному заключить, что здесь речь должна идти о "маленьком",
то можно смешать, как уже ранее было указано, изящное
с прелестным. Таким образом, из всего этого еще нельзя
определить сущность изящного.
б. Ориентация на сущность изящного
Теперь, поскольку дело обстоит не так, можно, было бы
отказаться от попытки представить все прекрасное либо
возвышенным, либо привлекательным; более того, име-
Раздел II. Возвышенное и изящное
525
ется еще очень много другого прекрасного в драме,
романе, в архитектуре и живописи, в музыке и в жизни... Выше
на это было уже указано. Тем не менее здесь остается еще
нечто такое, что напрашивается в качестве проблемы, а
именно сама" своеобразная противоположность
возвышенному.
Эта противоположность еще полностью не
определена. И поскольку все существовавшие до сих пор попытки в
этом направлении могут считаться неудачными, то
необходимо здесь обратиться к чему-то другому. Для этого
всегда имеются три возможности. Первая возможность
состоит в прямом описании, вторая - в исследовании
того, "где" встречается привлекательное (в каких видах
искусства и т. д.), и третья - в ответе на вопрос, в каких
слоях эстетического предмета находится изящное.
Прежде всего, остановимся на описании. "Изящное"
обозначает "привлекательное" и даже "притягательно
привлекательное". Разумеется, это так и есть. Что нас
притягивает и привлекает, например, в ландшафте? На
это легко ответить, если стоишь перед милым
ландшафтом или перед картиной ландшафта и можешь указать
подробности; но трудно ответить в том случае, если
ссылаешься лишь на одно понятие.
Должен ли ландшафт отвечать потребностям
человека, чтобы быть привлекательным? Вряд ли, потому что
этим самым мы попадаем в отношение полезности
(Nutzlichkeitverhaltnis). Если я говорю, что ландшафт
дышит покоем и радостью, то, как и прежде, должен
спросить, что же именно производит здесь впечатление покоя
и радости. На это можно ответить так: земля,
расстилающаяся мягкими волнами, человеческие творения в виде
домов, дворов, дорог; ручей или гладкая, зеркальная
поверхность озера, прелестное чередование лесов, полей и
лугов и, кроме того, летнее небо с плывущими белыми
облачками... Несомненно, что мы что-то чувствуем
(ощущаем) от привлекательности ландшафта. Является ли это
общезначимым для изящного в целом? Об этом не может
идти речь, поскольку это лишь специальный случай или, в
лучшем случае, тип привлекательного ландшафта. Скорее
всего, здесь есть еще момент чередования
(Abwechselung), имеющий большую всеобщность. Истина
должна заключаться в следующем: изящное является
индивидуальным, в каждом отдельном случае оно иное.
Сказанное не представляет собой чего-то нового. Это
свойственно всему прекрасному.
526 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Насколько изменяется изящное в привлекательном
лице? Что здесь притягивает и привлекает? Прелесть
выражения лица, полуулыбка, возможно, открытый взгляд
или опущенные веки. Очевидно, все это может быть
весьма различным, чередование (Wechsel) различного может
иметь место даже в одном и том же лице. Это
чередование различного производит впечатление внутренней
живости, разнообразия, богатства...
И все же этим сказано очень мало. Собственная
привлекательность лица или привлекательность человека в
целом заключается в том, что душевно проявляется сквозь
его черты. Здесь мы тотчас же попадаем в область
этических ценностей; эту область нельзя отделить от
эстетически изящного, так как на самом деле в изящном играют
роль определенные обусловливающие этические
ценности; здесь можно было бы сказать - "основополагающие"
(ср. гл. 28, пункт "с"). В этом нет ничего удивительного.
Они, впрочем, считаются основополагающими всюду, где
только идет речь о красоте человека или человеческих
отношений.
Однако к привлекательному нельзя отнести отдельные
нравственные ценности в качестве основополагающих,
потому что они имеют совсем иной характер, как-то:
иногда это робость, скромность, невинность, иногда -
гордость, достойная сдержанность, иногда - прямота,
простота, непосредственность.
Все это не обязательно должно быть ценностями.
Неценности, как, например, боязнь, страх, неуверенность,
также могли бы быть здесь основополагающими. Более
сильное, прямо-таки эстетическое очарование, за
исключением морального, может исходить от выражения этого
негативного, так как его выражение требует принятия
участия, активной помощи и выступает как момент
любезности (Lebenswurdigkeit).
Поэтому кажется, что в области
человечески-привлекательного (des Menschlich-Anmutigen) можно достигнуть
чего-то скорее описанием явлений, чем следуя самому
человеческому. Вероятно, это потому, что здесь вместо
самого явления ссылаются на отношение проявления.
Этим самым мы уже вплотную подошли ко второму пункту
исследования: в каких видах искусства встречается
изящное. Подобным образом мы уже спрашивали о
возвышенном. По отношению к возвышенному в искусствах
выявились различия.
Раздел II. Возвышенное и изящное
527
Различия в искусствах имеют место и по отношению к
изящному. Здесь, например, не следовало бы исключать
никакое искусство. Орнаменты тоже могут быть
изящными, полными прелести, привлекательными; сооружения в
определенных случаях также могут производить
впечатление изящных, особенно маленькие сооружения,
гармонически сочетающиеся с ландшафтом. Скульптор находит
изящное в положении фигур и в выражении их лиц,
начиная от прелести Афродиты и кончая легкими, воздушными
движениями танцовщицы (Кольбе).
Однако в области живописи имеется гораздо больший
простор для игры изящного. И это имеет свою глубокую
причину: изящество имеет место в области чувственного;
какие бы основополагающие ценности ни стояли позади
него, оно само является целиком делом проявления,
живопись непосредственно охватывает все в чувственно
доступном (Sinnlich Sichtbare). Она может удерживать
любое выражение лица, даже самое мимолетное, и
способна проявить в нем все, что только может отразиться в
человеческих чертах... При этом здесь еще не отражается
содержательное человека (Menschlich-lnhaltliche), что
именно и составляет его привлекательность, а только
лишь чувственная игра самих форм и красок и ее
потенциал проявления -как таковой.
Содержательное (das Inhaltliche) раскрывается гораздо
сильнее в поэзии. Но и здесь вся тяжесть падает на
область проявления: достойное любви (Lebenswurdige),
утонченное, стильное проявляются в поведении человека;
и это "проявление", от которого только и зависит
эстетическая ценность, является, очевидно, в какой-то степени и
носителем смысла. Грация Сюзанны (в "Фигаро"),
обольстительный вид Филины проявляются в повествовании или
в игре (im erzahlten oder gespielten Geschehen) не так уж
чувственно наглядно, как в мимике, изображенной на
полотне, но преимущество поэзии состоит в том, что она ни
на один момент не ограничивает проявление, а временами
может даже расширять его. Все это дает большое
преимущество при проявлении человеческой привлекательности.
Благодаря этому поэзия может свободно конкурировать с
живописью в возможности эффективного проявления
(Erscheinenlassen im Effekt) таких тонких черт, как
прелестное, пленительное, чарующее, хотя она и не достигает
полной смысловой близости (Sinnennahe) последней.
Наконец, музыка, взятая в своей стихии, где есть
душевные нюансы, определенное содержание которых
528 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
нельзя уловить. Утонченное изящество, цветение и
нарастание (Schwellen), теплота, ясность, прозрачность,
радостное и чистое - она может все выразить адекватно в
своей абсолютно свободной игре форм, которая не знает
границ в нюансе динамического.
Если сравнить этот результат с положением вещей в
области возвышенного, то получается следующая
картина: только музыка играет совершенно одинаковую роль
как для возвышенного, так и для изящного, достигая в
обоих высочайшего и весьма различного действия. В
поэзии анализ дает уже нечто несравненное: возвышенное
она изображает в пограничной форме трагического, в то
время как изящное полно раскрывает во всех
человеческих формах. Пластика ясно показывает, что
превосходство на стороне возвышенного, а в живописи
превосходство на стороне изящного. Архитектура способна
преимущественно к возвышенному и может здесь подняться до
исключительно высоких ценностей. Искусство орнамента
в некоторых своих разделах владеет, вероятно, изящным
и никогда - возвышенным.
Мы видим, что с точки зрения художественной
пригодности для возвышенного и изящного искусства
располагаются таким образом: если поставить музыку на первое
место, то за ней следует поэзия, затем с
увеличивающимися промежутками следуют архитектура и искусство
украшения. Как уже было указано, это явление связано со
смысловой близостью и смысловой отдаленностью
(Sinnenfeme) в искусствах; это особенно ясно прежде
всего в живописи.
Дальнейший вопрос состоит в следующем: чем именно
объясняется это явление расхождения (Diwergenzpha-
nomen)? Для этого мы должны вступить в указанную выше
третью область вопросов, которая касается раздела о
слоях в возвышенном и изящном в произведении искусства.
е. Превосходство внешних слоев
Итак, в каких же слоях предмета находится изящное?
Этот вопрос следует понимать здесь точно так же, как и
вопрос о возвышенном: само собой разумеется, речь
идет не о том, чтобы изолировать отдельные слои и
только в них видеть место изящного (это, конечно, было бы
абсурдом), а о том, какие слои преимущественно участвуют
в изящном. Этот вопрос имеет глубокий смысл, и на него
следует ответить.
Раздел II. Возвышенное и изящное
529
Вспомним, как обстоит дело с этим у возвышенного
(гл. 32, пункт "а"): там внутренние слои предмета имеют
несомненное превосходство. Выдающееся-вел и кое есть
и остается там чем-то заднеплановым, а в некоторых
случаях даже идейным (Ideenhaffes); негативное там,
служившее со времен Канта предметом многочисленных
споров, состоит не в чем ином, как в отрицании
чувственного в нем.
В изящном и его разновидностях это выглядит совсем
иначе, и здесь следует все-таки найти долго и тщетно
искавшийся уже в эстетике пункт, который действительно
положительно определит противоположность к
возвышенному: у изящного превосходство находится во
внешних слоях предмета; это поверхностные области, от
которых оно зависит, но это не только передний план, хотя и с
ним оно всегда существенно связано.
Так, например, в поэзии прелестное и достойное
любви самого образа зависит не от слоя судьбы, не от слоя
характера и его тайн и лишь в весьма ограниченной
степени от ситуации и поступков, а, что совершенно очевидно,
от слоя движения и мимики человека, расположенного
позади переднего плана, непосредственно примыкая к нему,
от его наружности и манеры говорить. Это тот самый
слой, который находит свое осуществление в спектакле и
с помощью спектакля, так как он направлен
непосредственно к чувствам, точнее, к фантазии чувств. Это можно
просто понять, если вспомнить, как велика в нем роль
грации. Такие ценности, как нежное и сладостное, чарующее
и прелестное, также коренятся здесь непосредственно
перед порогом чувственности, всегда вторгаясь в ее
область и связываясь с ней.
Это, как мне кажется, первое и до сих пор единственно
правильное определение изящного, которого достигла
эстетика. Она смогла достигнуть этого благодаря
различению слоев, впервые введенному в структуру
эстетического предмета. Без этого различения здесь невозможно
было бы даже подойти к проблеме изящного. В
подтверждение этого можно сослаться как на поэзию, так и на все
другие области искусства. Впрочем, всем сказанным
проблема также еще не исчерпана; вот, к примеру, лирика
с ее богатством в области чувственных образов, в которых
видную роль играют специальные формы
привлекательного. Затем самое сильное доказательство этому мы
находим в живописи. Именно в живописи возвышенное
сильно отступает назад, и не потому, что в ней почти нет
530 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
необходимых для этого глубоких слоев (у нее их
достаточно, как это показывают определенные портреты), а
потому, что она все облачает в слишком
чувственно-радостные тона красок и света. Эта черта переднеплановости не
свойственна возвышенному. Однако она весьма точно
соответствует привлекательному, так как достойное любви
или прелестное играют в плоскости видимости, которой
живопись владеет так, как никакое Другое искусство. То
же самое следует сказать и о каждом виде прелестного: о
цветущем и пленительном; обольщение ими доступно
только глазу. В более полных и конкретных деталях, от
которых оно здесь зависит, поэзия не может следовать за
живописью, хотя она и имеет преимущество течения
времени и чередования моментов (Wechsel der Momenten) в
предмете Улыбку Моны Лизы можно изобразить только на
полотне.
Вспомним теперь о линиях расхождения в искусствах
по отношению к возвышенному и изящному; музыка
способна как к тому, так и к другому, архитектура и
орнаментика односторонне обращены к чему-то одному. Причина
этого расхождения коренится в весьма различном
господстве слоев в искусствах.
Музыка в этом отношении обладает единственной в
своем роде свободой: она может выразить самое
глубокое и самое заднеплановое, способна заставить
непосредственно почувствовать их, но, конечно, не способна
донести их до понимания, поскольку это ей также
недоступно; самое легкое и прелестное она может заставить
звучать в непосредственно следующих друг за другом
мелодиях. Это здесь столь существенно, что в "серьезной
музыке", а именно в произведениях, состоящих из
нескольких частей, на передний план выступает применение
определенного чередования возвышенного с изящным; в
этом заключается смысл скерцо, менуэтов и т. д.,
появляющихся в промежуточных частях сонат и симфоний, тогда
как главные части, в особенности первая, как правило,
выражают определенный тип возвышенного.
На этой свободе музыки - и прежде всего чистой
музыки, которая сама основывается на своей предметной
неопределенности, - покоится ее удивительная способность
уметь всему аккомпанировать и правильно выражать
настроение, что свойственно только человеческой жизни.
Поэтому ей доступно не только духовно-возвышенное в
серьезной опере и в оратории, но она без труда может
заставить ощутить и пережить грациозное и милое, мяг-
Раздел II. Возвышенное и изящное
531
кое и радостно-теплое в легких песнях, танцах, опереттах
и т. п. Только музыка может произвольно заставить
преобладать то группу внутренних, то внешних слоев, поскольку
она является более универсальным искусством, чем все
другие.
Кроме того, уже было показано, что пластика в
определенных границах также способна к обеим
противоположностям, конечно, с известным превосходством в области
возвышенного. Таким образом, по сравнению с
живописью она показывает обратное предпочтение. Можно ли
теперь сказать, что эта также покоится на превосходстве
внутренних слоев? Если бросить взгляд на классический
пример греческих идолов, которые обладают
преимущественно возвышенностью, то в этом сразу же можно
убедиться, поскольку здесь есть слой религиозного
сознания, который и проявляется. О пластике стоит еще
сказать, что она способна также и на другое, только она
лишена той суверенности, какая есть у музыки. Она не
может так легко, как музыка, улавливать эфемерное и
ускользающее, но то, что она сумеет схватить, она может
удержать. Таким образом, и пластика может очень хорошо
переносить всю тяжесть на внешние слои.
Поучительно в этой связи положение архитектуры.
Сооружение как более крупное произведение всегда
включает в себя нечто тяжеловесное (Gewichtiges), поскольку
изящное противоречит ему; в то же время уже у
относительно маленьких построек намечается тенденция к
монументальному, то есть возвышенному. По крайней мере эта
тенденция может выражаться в отдельных деталях: в
подъездах, широких лестницах, дворовых проходах
патрицианских домов. Изящное, напротив, обнаруживается
здесь реже и только там, где в основе лежат
приверженность к народному стилю и приспособление к ландшафту
или к самой идиллической картине города. Все же это
возможно главным образом в крестьянских домах и
дворах, в специальных постройках и т. д.
Последнее подтверждение этого закона мы имеем в
области орнаментики, где, как мы видели, возвышенное
не подвергается обсуждению. Именно орнаментика
лишена тех более глубоких слоев, которые могли бы
проявляться, она исчерпывает себя в свободной игре форм. И
для такой игры характерно то, что она может быть очень
привлекательной, чувственно прелестной, может
непосредственно вызвать стремление играть
пространственными формами. Итак, здесь мы имеем крайность.
Изящное находится здесь прямо на переднем плане,
поскольку задний план тут отсутствует.
532 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ГЛАВА 34
ПОБОЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗЯЩНОГО
а. Совместимость возвышенного и изящного
При рассмотрении главных вопросов эстетических
ценностей возникает большое количество
второстепенных. Следует учесть, что положение вещей таково, что мы
еще не совсем уверены в главных вопросах. Однажды
может оказаться, что наше понимание возвышенного и
изящного является еще недостаточным, что их понятия и
относящиеся к ним явления вовсе не являются
центральными, чтобы здесь говорить о них. В таком случае легко
могло бы произойти так, как это часто уже случалось в
отсталых областях исследования, - незаметные,
второстепенные проблемы могли бы развиться в действительно
главные проблемы. Но это не следует предрешать. В
случае такого положения можно лишь исследовать эти
второстепенные проблемы ради них самих.
Отвлекаясь от этого рода вопросов, выясним, прежде
всего, такой, совместимы ли и в какой мере
противоположные эстетические ценности, или, говоря конкретнее,
может ли один и тот же эстетический предмет быть
одновременно и возвышенным и изящным.
Есть две причины, согласно которым здесь следует
ожидать утвердительного ответа: во-первых, среди
искусств имеются такие, которые, как мы уже видели, владеют
и возвышенным и изящным; в более значительной
степени это относится к музыке и поэзии, а также к другим
большим искусствам, но уже в более умеренной степени.
В таком случае непонятно, . почему нельзя обнаружить то
и другое в одном и том же художественном произведении.
Во-вторых, и в жизни, а иногда даже в природе изящное и
возвышенное совместимы очень часто в одном предмете.
Стремление и борьба одного человека могут быть
подлинно возвышенными, особенно тогда, когда имеются
трудные препятствия, которые нужно преодолеть; и в то же
время его могут озарить любовь к старой культуре и
суверенная ясность духа зрелого человека, правда,
контрастируя с его серьезностью, но не противореча ей. Одно это
свидетельствует еще о немногом. Вернее сказать, здесь
все зависит от того, какое принципиально отношение
сложится для искусств.
Нельзя рассматривать эту проблему в другом плане.
Если предположить существование отношения между
Раздел II. Возвышенное и изящное
533
привлекательностью и достоинством, что нам привычно
еще со времен Шиллера, то случается, например, что
другое отношение выглядит неестественным. Атак как
достоинство (Wurde) является лишь родственным
возвышенному, то будет ошибкой выдавать его за один из родов игры
возвышенного. Вряд ли здесь стоит говорить о
достоинстве, ибо оно есть исключительно этическое явление;
кроме того, теоретики понимают его исключительно как
"сознание собственной возвышенности", где сознание
собственного достоинства чревато опасностью перехода
в отражение и культ своего достоинства.
На первый взгляд кажется, что возвышенное и
привлекательное являются взаимоисключающими. Поскольку
предмет является возвышенным, он не может быть
привлекательным, и наоборот, если он привлекательный, то он
не будет возвышенным. Возвышенному присуща
весомость, привлекательному - легкость, возвышенному -
жесткость и строгость, привлекательному - мягкость и
прелесть.
Однако имеются предметы, обладающие большой
широтой сущности и внутренним разнообразием.
Предметом такого рода является человек, который подобен
отрезку из человеческой жизни, особенно когда он
представляет различного рода отношения,
переплетающиеся друг с другом. Предметы такого рода в одном
отношении могут быть возвышенными, а в другом -
привлекательными. Человек может быть в обхождении с людьми
изысканно любезным, а в своих планах, намерениях и в
своей энергии проведения их в жизнь он может быть
поистине величественным; во времена высокой, культуры
подобного рода случаи встречались довольно часто,
поскольку в эти периоды имелись великие жизненные
задачи, скажем политические, которые не могли быть
проведены в жизнь без определенной привлекательности
внешних качеств человека. Так и определенный отрезок
человеческой жизни, выхваченный и описанный
писателем в романе, может быть в целом полон
привлекательности и прелести, но в его глубине может обнаружиться
возвышенная линия гораздо большей судьбы -
индивидуальной или исторической.
Если более внимательно вдуматься в то, что означает
это отношение, то необходимо признать, что в своей
подлинности оно должно быть всегда таким в
изобразительных искусствах, так как в жизни как раз все смешано друг
с другом. При этом нельзя здесь забывать того, что иску-
534 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
сство изображения начинает всегда с выделения, с
опускания деталей, изолирования, то есть в конце концов с
упрощения, которое заключается в ликвидации этого
смешения, благодаря чему можно заставить пластически
выступать отдельные стороны и связи.
Следовательно, в искусствах совмещение
возвышенного с привлекательным всегда должно быть
ограниченным. По крайней мере оно предъявляет требования,
которые не так легко выполнить как художнику, так и
созерцателю, который, чтобы понять такие произведения, должен
обладать гораздо большей жизненной зрелостью и более
развитой восприимчивостью (eine entwickelte Weite des
Herzens).
Но этим вопрос о совместимости возвышенного и
привлекательного принципиально еще не решен. Правда,
теперь мы видим, как должно осуществляться и на чем
именно должно основываться это решение. Здесь мы
вновь возвращаемся к нашему основному тезису о
прекрасном, а именно к тому, что оно покоится на отношении
слоев и проявлении. Ранее было уже обнаружено, что
собственно главное различие между возвышенным и
привлекательным состоит в различии глубины
расположения слоев предмета: возвышенное там, где оно
встречается, коренится во внутренних слоях предмета, а
привлекательное, наоборот, - во внешних слоях. На этом
покоится также и совместимость обоих друг с другом: если бы
они имели свое основание в одном и том же слое, то они
должны были бы уподобиться один другому в способе
проявления этого слоя, но в силу различия их сущности
так быть не может, ибо в одном и том же предмете одно и
то же не может быть одновременно и возвышенным и
привлекательным или и величественным и прелестным.
Итак, нечто в своей глубине может быть, безусловно,
возвышенным, а на поверхности - весьма привлекательным,
но не наоборот. Скорее всего это возможно именно тогда,
когда есть предмет, состоящий из многих слоев, либо
когда в нем слои возвышенного и привлекательного
отделены друг от друга. Поэтому в жизни такое совмещение у
человека предполагается относительно
беспрепятственным, поскольку индивид, подобно поэту, изображающему
личность или соответствующую человеческую судьбу,
имеет для этого все условия. И именно поэтому объекты с
меньшим количеством слоев как в природе, так и в
искусстве сильно препятствуют этому совмещению; и, наконец,
в скульптуре оно снижается до минимума, или выражает-
Раздел II. Возвышенное и изящное
535
ся во внешнем расположении одного рядом с другим
(Nebeneinander), как, например, в ландшафте. И тот факт,
что такое расположение может действительно выступать
в качестве желаемого контраста, здесь ничего не меняет.
Этим решением снимается старый спорный пункт.
Поскольку о нем можно долго спорить, то, чтобы найти
плодотворное решение, необходимо исходить не из
прежних положений, а из дополнительного пункта. В
конце концов неясность, которая у нас имеется, касается не
только совместимости возвышенного и
привлекательного, но и внутренней сущности обоих. А этого нельзя было
увидеть без соответствующего растворения эстетических
предметов в их слоях.
Первое подтверждение нового положения вещей,
каким оно представляется благодаря теории о слоях, лежит
в ступенчатости ответных чувств воспринимающего
субъекта. При этом речь идет об эстетическом удовольствии,
соответствующем наслаждению, которое может быть
весьма различным по глубине и находиться в
определенной зависимости от того, какая область ценностей
(нравственных, жизненных или материальных) лежит в основе.
Более глубокие основополагающие ценности
принадлежат более глубоким слоям предмета; ясно, например, что
нравственные ценности принадлежат слою внутренних
качеств характера. Поэтому они являются такими
ценностями, которые вызывают более глубокое участие
созерцателя. Все сказанное означает, что построенные на этом
различении слоев эстетические ценности также образуют
ступенчатость: те, которые зависят от более глубоких
слоев предмета, требуют также более глубокого
прочувствования, от них зависит более энергичное участие
собственного "ям; это свидетельствует о том, что они вызывают
более глубокое эстетическое удовольствие, более
серьезное и богатое наслаждение.
Таково возвышенное, которое отличается от всего
другого благодаря вызываемой им большой глубине
наслаждения и внутреннего участия, что определяется тем, что
оно глубоко коренится (Verwurzelung) в предмете. И
-наоборот, привлекательное выделяется благодаря
определенному поверхностному воздействию и легкому
наслаждению, что соответствует его собственному
расположению во внешних слоях предмета.
Совместимость возвышенного и привлекательного в
одном объекте становится возможной как раз благодаря
тому, что они являются несовместимыми родами удоволь-
536 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ствия; поскольку они должны восприниматься в одном и
том же предмете, они могут уступать дорогу друг другу,
потому что принадлежат к различной душевной глубине.
Здесь следует пояснить: различные чувства в одном и том
же объекте борются между собой (sich wiederstreiten)
только тогда, когда они касаются одной и той же ступени
душевного восприятия. (Одного и того же человека можно
воспринимать одновременно и живым и скучным, скажем, если
у человека есть мысли, а он находит удовольствие в
ненужных повторениях.)
б. Пограничные явления изящного
Следующую группу проблем составляют пограничные
явления изящного. Они не столь отчетливо выражены,
как, например, пограничные явления возвышенного, и
все-таки образуют определенную параллель по
отношению к последним. В остальном же степени
противоположности (Gegensatzdimension), в которых они играют,
имеют здесь совершенно иной характер. Параллельность
состоит лишь в незаметном переходе в нечто
противоположное или, что также бывает нередко, в резком,
внезапном переходе.
Чтобы говорить о возможно более многочисленных
формах такого перехода, необходимо сделать здесь три
пояснения, которые проливают свет на сущность самого
изящного.
Если вспомнить, что изящество, грация и всякого
рода прелесть заключается в определенной законченности
форм - поскольку их нельзя определить точнее, - то будет
ясно, что красота здесь состоит всегда в соразмерности
(im Ebenmafc), или, короче говоря, в умеренности (im
Mafcvollen) как таковой. Это стоит в резкой
противоположности к возвышенному, которое коренится в
выдающемся-великом, следовательно, в чрезмерном (Uber-
mafc). Чрезмерность в возвышенном не является
неумеренностью (Unmafc), как в изящном, а представляет
собой противоположность умеренному и благородной
соразмерности. Поэтому чрезмерное является здесь
разрушающим, оно уничтожает изящество; и вместо
совершенного по форме (Formvollendeten) остается нечто
бесформенное.
Уже отсюда мы видим, где лежит первое пограничное
явление изящного, а именно в преувеличении. Когда
художник посредством прелестного и притягательного
хочет сделать изящное особенно прекрасным и возвышает
Раздел II. Возвышенное и изящное
537
его так, что оно больше не производит впечатления
настоящего (lebenswahr) или истинного (wesenswahr), то
изящное в таком случае переходит в свою противоположность:
оно больше не привлекает, потому что не убеждает, а не
убеждает потому, что не производит впечатления
подлинного. Это неподлинно-действующее (Nicht-echt-wir-ken)
является жизненной фальшью. Что это значит, должны
пояснить примеры. Неправильность в рисунке и склонность
к преувеличению происходят от истинно художественного
стремления нарисовать что-то как можно выразительнее.
Зачастую преувеличивают как раз там, где речь идет о
нюансах ценности изящного.
Нет ничего более обычного, чем приукрашивание
юношеского героя: в его милой горячности, его способности
легко воодушевляться и в его бесподобном рыцарстве.
Правильно дозировать такие моменты сущности - дело
высокохудожественного такта и приобретаемого
благодаря большому жизненному опыту зрелого чувства тонкого.
Иначе, на манер сказочных принцев, возникает
неправдоподобно действующий идеал. Великие поэты, например
ранний Шиллер и др., не совсем умели избегать этого.
Примером параллельного рода является тип
ангельских девушек в романтической литературе романического
жанра прошлого века (исключительно чисто отработан
этот тип у Диккенса). Эти образы соответствуют идеалу
чувства, они производят впечатление неправдоподобных
и кажутся нам сегодня немного смешными и, возможно,
даже скучными. Третий пример - это известные мадонны
не только в живописи средних веков, но также и в
живописи позднего Возрождения; их характеризуют чистота,
покорность и благочестивость, и сверх того они производят
впечатление бескровных и безжизненных. Не обращать на
это никакого внимания - это уже дело доброй воли, как,
например, у искусствоведов, у которых речь идет лишь о
временных явлениях.
Неслучайно эти примеры у них перекликаются с
примерами ложных эстетических идеалов. В области
изящного явление отступления от истинного и перехода в
неправдоподобное и ложные идеалы совпадают по всей линии.
Это основное пограничное явление, у которого есть два
своих ряда проблем.
Другое пограничное явление, касающееся первого,
родственного ему явления, а также "изображения",
представляет собой преувеличение определенных
непосредственных воздействий на чувства, причем последние
538 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
не оправдываются действительными формами предмета.
Большинство особых форм изящного должно само по
себе вызывать такие воздействия на чувства, которые
вполне уместны в своих границах. Кстати, большинство этих
форм и именуются соответственно этим воздействиям на
чувства "чарующее", "трогательное", "обворожительное",
"любезное", а также "привлекательное" вообще, так как
оно обозначает не нечто каким-то образом
"привлекающее", а притягательно привлекающее.
Однако эти воздействия на чувства имеют ту
особенность, что они легко самораскрываются и в таком случае
бьют мимо цели: художнику хотелось бы поднять их еще
до определенных размеров, но этим он испортил бы все
дело. Если он лишен чувства такта и формы тончайшего
нюансирования, то по крайней мере здесь он должен
позаботиться о соблюдении правильных границ. В
противном случае трогательное переходит в умиленное, мягкое,
кроткое и сладостное - в слащавое, ласковое, податливое
и нежное - в изнеженное, полнота и сила чувства - в
сентиментальность, что в конечном счете означает
расплываться в чувствах ради них самих. И когда переход в этом
направлении превышает всякие границы, то вместо
художественного произведения получается карикатура на
такое произведение, то есть "безвкусица".
Безвкусица есть не что иное, как внутреннее
отступление воли художника, не имеющей средств для того, чтобы
принять определенные формы, и стремящейся насильно,
обходя творческие формы, достичь определенного
обманчивого действия. Скорее всего это случается там, где
речь идет о действии на чувства, производящем
трогательное или весьма благоприятное впечатление.
Безвкусица весьма опасна и губительна для искусств, потому что
она незрима тому, кто сам лишен верного чувства меры и
формы, поэтому она способна ослеплять целый круг
людей, в результате чего они становятся эстетически
развращенными.
Безвкусица угрожает лишь изящному и всему тому, что
родственно ему, но отнюдь не возвышенному, так как
возвышенное там, где оно не достигает своей цели,
становится скучным и комическим. Вследствие этого изящное
больше подвержено дилетантизму и попыткам
изображать его людьми с недостаточными для того
возможностями. Это можно выразить еще так: изящное слабее
защищено от злоупотребления внешней и относительно подда-
Раздел II. Возвышенное и изящное
539
ющейся изучению стороной в искусствах, так как именно
этой стороной и можно злоупотреблять.
Безвкусица в искусствах представлена также весьма
различно. Понятие ее происходит из живописи, где и без
того доминирует группа ценностей изящного. Здесь она
выступает в качестве недостающей возможности чисто
живописного порядка и обнаруживается в неспособности
схватить видимое в его сущности. В таком случае эта
недостающая способность возмещается плоскими,
искусственно придуманными контрастами красок, которые
производят впечатление неестественных, слащавых и
пошлых. Безвкусица может процветать также в поэзии и
музыке: в первой через трактовку темы (в вульгарном
развлекательном романе), а в последней благодаря
отсутствию более строгого исполнения в пользу
определенного воздействия на чувства. Более всего подвержена ей
орнаментика, потому что здесь речь идет о чистой игре
формы, лишенной проявляющегося в ней заднего плана.
Эта свобода является опасной, поскольку ею могут
соблазниться и совершенно бесталанные люди. В этой связи
достаточно вспомнить хотя бы о юношеском стиле.
На третьем месте стоит здесь пограничное явление
совсем другого рода. Оно лежит в области сознания или
желания и коренным образом отличается от обоих ранее
названных явлений: оно касается не изображения или
выражения изящного в искусствах, а изящного в самой
жизни, особенно изящного в человеке. В этом случае оно
косвенно распространяется и на художественное
изображение, поскольку последнее относится к человеку и
человеческой жизни, следовательно, в поэзии это явление
особенно часто встречается в драме и романе, реже - в
живописи.
Различие между изящным и возвышенным в человеке
состоит в том, что первое исключает из себя сознание и
полностью осознается только там, где уже намечается
переход в нечто совсем другое, в то время как возвышенное
включает определенное самосознание, которое
выступает как достоинство в поведении человека. Для него
представляют угрозу только самопереоценка, надменность,
самомнение и т. д., которые, однако, легко парализуются
проклятием смешного (Fluch der Lacherlichkeit).
Изящество же, наоборот, когда оно становится самоосознанным,
теряет значительную часть своего очарования и
вследствие этого часто разрушается. Оно не может выносить
своего отражения посредством сознания, ибо именно в
540 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
этом отражении оно уничтожается. И на место изящества
выступает в таком случае его видимость: жеманство.
Лучше всего это известно из области женско-эроти-
ческой привлекательности, эстетическая
примечательность которой не подлежит обсуждению (здесь она
является настоящей). Если здесь милое и приятное
осознается, то оно переходит в кокетство, то есть в деланую и
намеренную любезность. И до тех пор, пока
поддерживается заблуждение неопытного человека, она производит
впечатление настоящей привлекательности. Но там, где
ее обнаруживают как деланую, она мгновенно теряет
свою силу. Об этом и говорить не следует! Но, конечно,
существует еще наивное и приятное кокетство...
Аффектированная привлекательность занимает
определенное параллельное положение по отношению к
аффектированному достоинству (возвышенности). Различие
состоит лишь в том, что такое достоинство производит
комическое впечатление, тогда как подобная
привлекательность просто ненавистна; первое имеет место в фарсе и
может там производить приятное впечатление, последней
нет места нив каком искусстве. Отсюда становится более
ясным, почему привлекательность и возвышенность
вообще взаимно исключают друг друга. Для их объединения
необходимы большое расширение предмета и
разносторонняя гениальность.
е. Другие противоположности
эстетической ценности
Нам не хотелось бы закончить рассмотрение
возвышенного и изящного, не остановившись еще на том, что
отчасти касается непосредственно этой темы, отчасти
эстетических ценностей вообще. Однако состояние
проблем в эстетике кажется для этого мало привлекательным.
Они еще не совсем созрели для решения, вернее сказать,
здесь нельзя ждать чего-то всеобщего. Но на последнее
необходимо, пожалуй, решиться.
Противоположение возвышенного и изящного
нуждается еще в разъяснении. Было уже показано, что эта
противоположность не исчерпывает прекрасного, не дает
возможности заниматься отдельными случаями из всей
области прекрасного. Однако дело обстоит не так, как
полагали некоторые новые теоретики эстетики, а именно,
что прекрасное, которое не склоняется ни к одному, ни к
другому, должно безразлично выражать род изящного и
Раздел II. Возвышенное и изящное
541
возвышенного. Такая нейтральность, вероятно, ни о чем
не говорила бы нам.
Напротив, здесь возвышенное и изящное образуют
две крайности, между которыми можно легко включить
многое, что носит название прекрасного: все по своему
характеру приближается либо к одной, либо к другой
крайности. В подтверждение этого можно привести много
примеров: правда, имеются случаи прекрасного, где
доминируют совсем другие моменты, как, например,
моменты драматического и сценического в спектакле,
момент живого (leuendige) в живописи и момент движения в
скульптуре; для них это ступенчатое расположение
является внешним.
Это, конечно, действует на нас разочаровывающе.
Тогда мы спрашиваем себя: является ли противоположность
возвышенного изящному целиком чисто внешней? На это
вряд ли можно ответить даже после того, как
двусторонним анализом были выявлены структурные черты
сущности обоих. Но, может быть, существуют еще и другие такие
полярности ценности? В таком случае они должны были
бы обнаружиться и образовать вместе с первой
противоположностью возвышенного и изящного гораздо большую
систему, именно систему степеней противоположности,
ибо между этими двумя противоположностями
устанавливается непрерывность, и, вероятно, в эту систему
действительно можно было бы все включить.
Но и это оказывается ложной надеждой. Может быть,
как для рассматриваемого вопроса, так и для многого
другого в эстетике эти проблемы также еще не созрели
для решения. Должна ли в таком случае речь идти о каких-
либо "других полярностях ценности" (Wertpolaritat ) или
только о полярностях структуры (Strukturpolaritaten)?
Итак, следовало бы вспомнить о четырех
противоположностях возвышенному, среди которых изящное
является лишь одной и которые также образуют уже
многостепенную систему (гл. 33, пункт "а"). Там мы все же видим,
что такие противоположности, как легкое, повседневное и
комическое, действительно противостоят только
возвышенному; если мы удалим этот всеобщий противочлен, то
нарушится все отношение.
Скорее всего так следовало бы думать о самом
комическом, для того чтобы образовать самостоятельную
степень противоположности, ибо его не принято считать
противоположностью ни трагическому, ни возвышенному, а
только серьезному вообще, или, выражаясь негативно,
542 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
некомическому. Эту противоположность можно было бы
допустить в качестве фундаментальной, поскольку она
могла бы также включить многое в свою степень
(Dimension). У нее есть лишь тот недостаток, что она
слишком противоречива.
Это свидетельствует о том, что ее противочлен
является отрицательным, и до тех пор, пока мы не можем
наполнить его чем-то положительным, эта противоположность
остается ни о чем не говорящей и непригодной для
ориентации в области ценностей, состоящей сплошь из
положительных ценностей; в ней самой даже неценности
имеют положительную определенность в своем содержании.
Итак, мы вновь здесь наталкиваемся на старое
бедствие эстетических ценностей: их нельзя уловить. И
мы можем только радоваться тому, что где-либо
находится точка соприкосновения с ними.
Однако этим еще не исчерпаны все возможности. На
самом деле мы снова встречаем здесь попытки ввести в
эстетику новые противоположности ценности. В истории
уже имела место такая попытка с противоположностью
"классического и романтического" (Гегель и его школа),
правда, она оказалась тщетной, потому что эта антитеза
касалась лишь второстепенного момента, в основном
мировоззренческого, следовательно, не чисто эстетического,
который здесь все же больше входит в состав предмета.
Более серьезно следует принять другую, исходящую
здесь от самого предмета противоречивость
(Gegensatzlichkeit), противоречивость отдельных
конфликтов и совокупности конфликтов, которая больше
оправдывается тогда, когда влечет за собой множество
действительно эстетических форм и композиционных
следствий. Но в этой области она является слишком
узкой, так как непосредственно относится лишь к
поэтическому творчеству и, конечно, только к эпосу, повести и
драме, в крайне малой степени - к определенным видам
изобразительных искусств. Если все-таки понимать этот
конфликт как всеобщий, то есть как такой, к которому
можно будет причислить и момент дисгармонии в музыке,
то его понятие будет образным и исключительно ни о чем
не говорящим.
Наконец, можно вспомнить о противоположности,
разобранной выше (в первой части), которая положена в
основу проявления прекрасного и непосредственно в
основу проявления его форм. Эта противоположность
является фундаментальной: прекрасное "как проявление одного
Раздел II. Возвышенное и изящное
543
в другом" представляет собой нечто совершенно
различное по сравнению с прекрасным, выступающим как
"чистая игра форм". Однако эта противоположность касается
больше теории эстетического предмета, его структуры и
условий, чем рода ценности. Напротив, в большинстве
эстетических ценностей одно тесно связано с другим (как
это показали подробные объяснения 17-й и 18-й глав).
Соединение обоих в музыке и архитектуре имеет
особенно глубокий смысл. Единственное исключение здесь
составляет орнаментика, поскольку она является искусством
второго ранга, искусством, лишенным глубины.
ГЛАВА 35
ОСМЫСЛЕНИЕ В ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЯХ
а. О потребности в осознании мира
Нам не хотелось бы расстаться с этой структурой и
этими вопросами ценности, не остановившись еще раз на
всеобщем (auf das Allgemeine) эстетической ценности. Его
теперь можно понять еще и по-иному, чем вначале, -
больше в мировоззренческом плане и с учетом целого
человеческой жизни, ибо здесь эта ценность играет
своеобразную роль. Мы могли бы отложить рассмотрение
мировоззренческого до разбора комического. Но рассмотрение
ценности первого упрощается, если ему можно
предпослать рассмотрение ценности второго.
То немногое, что могли нам сказать об эстетических
ценностях исследования возвышенного и изящного,
касается специального в них. А этого недостаточно, потому
что мы не можем идти дальше вслед за
дифференцированием ценностей. Меньше всего эти исследования говорят
нам о сущности эстетической ценности вообще, ибо она
везде предполагается.
Истина такова, что в области специальных
эстетических ценностей, ссылаясь лишь на живое чувство ценности,
мы как бы апеллируем к тому, что вновь лишь сбивает с
пути, хотя у нас перед глазами есть конкретные случаи. Это
относится как к возвышенному, так и к изящному.
После того как мы рассмотрели эти ценности и поняли
их неразрывность, мы свободно можем поставить вопрос
по-новому, а именно: в чем суть эстетической ценности
вообще? Потому что невероятно, чтобы от исследования
отдельных групп ценности осталось что-либо и для
главной ценности.
544 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Однако на самом деле здесь мы имеем именно такой
результат. Он содержится в осмысляющем характере как
возвышенного, так и изящного. Чтобы можно было
показать это, мы должны заглянуть дальше - в область
мировоззренческого и метафизического, но не в область
определенной спекулятивной метафизики, а в область
неуничтожимых метафизических проблем. Одной из самых старых
и недоказуемых среди этих проблем является проблема
смысла мира и человеческой жизни. Пока существует
вера в верховные силы, эта проблема не возникает,
поскольку вера уже отвечает на это. Если вера разрушается, то эта
проблема, как бы возникшая из ничего, вдруг встает перед
вами. В этом случае указанная проблема может стать
угрожающей для жизни, потому что никому не хотелось бы жить
бессмысленно.
Философия Платона, софистически решая этот
вопрос, ответила своими "идеями": идеи составляют область
чистого совершенства, и в мире все направлено к этому -
как природа, так и человек, с тем лишь различием, что
природа строго следует указаниям идей, в то время как
человек со своей волей не согласуется с ними. Так можно
думать до тех пор, пока у нас нет недоверия к
безоговорочно принятой нами телеологической метафизике.
В действительности этим самым в основу мира
положены активные целевые принципы, и сам мир понимается
по аналогии с человеком: как управляемый разумом и
целенаправленным сознанием - ибо цели должны быть
"поставлены" именно на будущее и средства к их
осуществлению необходимо "выбирать", исходя из них же самих. На
обе эти вещи способно только существо, одаренное
сознанием, то есть человек. В этом замаскированном
антропоморфизме терпит крушение старая метафизика идей. И
вместе с ней разбиваются не только все грубые (скажем,
теологизирующие) формы мысли, но и весь
оптимистический принцип, согласно которому придание смысла
(Sinngebung) миру должно основываться на
телеологических принципах.
Но что же тогда остается? Мир, лишенный смысла?
Человек не может жить в таком мире,
бессмысленность которого он сознает. Следовательно, мы должны
обратиться к чему-то другому, что могло бы придать ему
смысл. И все-таки мы продолжаем искать этот смысл в
направлении, которое мы избегали. Мы неизбежно
постоянно идем в этом направлении. Существует два
положения, которые здесь молчаливо предполагаются: 1) подра-
Раздел II. Возвышенное и изящное
545
зумевается, что смысл мира может закладываться только
при его возникновении, дополнительно в него нельзя
включить никакой иной смысл, и 2) смысл может
находиться только в целом (im Ganzen) мира и от него
распространяться на часть, скажем, на человеческую жизнь, но не
наоборот, возникать в части и от нее переходить в целое.
В течение нескольких столетий оба эти
предположения определяли метафизическое мышление. Они оба
способствовали тому, чтобы смысл искали лишь в общих
принципах, но никогда в частностях, например в
человеческой жизни или в делах и поступках человека.
Но здесь имеется другая, гораздо большая
возможность для решения проблемы смысла, ибо оба
безоговорочных предположения оказались предрассудками. Наше
чувство смысла и ценности говорит нам, что в жизни
существует "бесчисленное", которое как ограниченное и
единичное может быть осмыслено без ссылки на
принципы или на великое целое.
Так, в жизни всякий нравственный поступок, всякая
умная мысль, всякий адекватный ответ на ценность
(Wertantwort) могут сами по себе быть осмысленными и
придавать смысл другому. Быть самим по себе
осмысленным - это значит не иметь смысла для другого.
Таким образом, всякая благосклонность, всякое
участие в душевном и во внутреннем, то есть там, где
человеку хотелось бы, чтобы его увидели и оценили, всякое
понимание и согласие, которое пробивает холодное
одиночество, - все это является полным смысла для самого
одиночества и придающим смысл другому, потому что
благодаря этому удовлетворяется глубокая потребность
человеческого сердца в наполнении всего смыслом.
Все это есть наполнение смыслом (Sinnerfullung)
мира, самого по себе не имеющего смысла, а именно
вторичного и зависимого от него. Оказывается, что именно
здесь имеется самостоятельность зависимого. Это
положение может оправдать учение о категориях посредством
категориального закона о "свободе высшей структуры"
("Freiheit des hoheren Gebildes").
Если человек своими силами, своим чувством
ценности и случайным осуществлением ценности способен
придавать всему смысл, то и бессмысленность мира как
единого целого приобретает для него смысл: в таком случае
на долю человека выпадает то, чтобы придать смысл
всему имеющемуся в мире. Он не мог бы наделить смыслом
тот мир, который противился бы этому, он может это еде-
546 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
лать лишь по отношению к тому "бессмысленному" миру,
который сам по себе безразличен к смыслу и вполне
доступен для придания ему смысла.
Это противоположно тому, что думали всегда на этот
счет метафизики: для такого существа, как человек, как
раз бессмысленный мир является единственно полным
смысла миром; в мире, без него уже наполненном
смыслом, человек был бы лишним со своими способностями
придавать всему смысл.
К числу таких способностей человека относятся
прежде всего те, которые выражают его этическую сущность:
сила самоопределения, решимость (свобода),
способность предугадывать (предвидение) и ставить цели
(предопределение), а также сознание ценности (cognitio boni
et mali1), возможно, правильнее будет сказать - чувство
ценности (Wertfuhlung). В меньшей степени сюда
относятся способность участия, понимания и оценка всего
встречающегося.
Однако этим еще не исчерпываются способности
человека, так как его эстетические способности также в
значительной степени могут придавать смысл, например,
способность видеть мир как нечто прекрасное, а также
способность видеть в нем многие детали.
Но дело заключается не только в этом: вместе со
способностью видеть существует способность творить. В
творчестве человек черпает ту силу, которая дает ему
возможность испробовать неизвестные, новые формы,
превышающие все, созданное природой, и поставить их
рядом или даже выше естественных форм.
б. Осмысление людьми и искусством
Итак, в мире весь смысл связан с ценностями, в
сущности он заключается в отношении (Wertbezogenheit),
осуществлении и понимании ценностей. Это ясно видно уже
из форм этического осмысления. Однако дело обстоит не
так, чтобы здесь принимались во внимание лишь
нравственные ценности, поскольку здесь участвуют и другие
роды ценности, как низшие (например, жизненные
ценности - Vitalwerte), так и высшие, и прежде всего те,
которые по меньшей мере стоят наравне с этическими
ценностями: ценностью познания и эстетическими ценностями.
1 Познание хорошего и дурного. - Прим. перев.
Раздел II. Возвышенное и изящное
547
О последних можно сказать, что хотя они и менее
заметны и актуальны, чем нравственные ценности, но
представляют собой особенно чистую область
осмысления. Это осмысление, которое входит в человеческую
жизнь через эстетическую ценность, в сущности, состоит
не в чем ином, как в чувстве, убеждающем в том, что мы
имеем дело с чем-то, обладающим абсолютно
собственной ценностью, с чем-то таким, ради чего одного уже
стоило бы жить. И этого немало, потому что речь идет не о
практическом интересе к прекрасному, не о пользе и не о
том, чтобы сделать его своим состоянием (zueigen
machen), а лишь о радости, которую получаешь от
предмета, или об удовольствии жить в мире, в котором
существуют столь прекрасные вещи.
Этот момент, лучше всего придающий смысл, является
более сильным в эстетических ценностях, чем в
нравственных, и он прекрасно выражен в кантовском тезисе о
"бескорыстном удовольствии" ("interesslassen
Wohlgefallen"); может быть, он выражает настоящий и
окончательный смысл эстетических ценностей. Здесь и
речи нет о "практическом", как всюду в нравственных
ценностях, требования которых касаются совместной жизни
людей.
Этот род осмысления становится более значительным
у человека, способного к художественному творчеству,
который осознанно творит ценное и даже абсолютно
собственное ценное (das Eigen Wertiges). Но последнее
зависит не от одного творческого момента; созерцающий
(der Schauende) также вносит в жизнь свою долю того же
самого осмысления. Много значит уметь "видеть"
прекрасное, без этого вовсе нет прекрасного; творящий
человек должен видеть специфическим образом. В
эстетическом предмете это связано с трехчленным отношением.
Поскольку человек понимает и ценность, он является уже
человеком творческим.
Если мы теперь вспомним, что в мире уже по эту
сторону искусства и человеческого творчества существует
бесконечно много "прекрасного", то становится ясным, в
какой большой мере в этом мире эстетически
созерцающий человек является осмысляющим.
Высшая ценность в жизни - это то, что является
дарящим самим по себе (etwas vom Charakter des Schenkenden
an). Ницше показал это на примере "дарящей
добродетели", которая здесь приравнивается к золоту, она
"необычна, бесполезна и сверкающая и матовая в своем блеске",
548 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
"она всегда себя дарит". Эти четыре определения точно
подходят для эстетических ценностей. И они являются
"необычными и бесполезными"; и все возвышенное, что в
них имеется, также относится к необычному и
бесполезному. Последнее означает, что оно не служит никакой
цели. Первое свидетельствует о редкости, так как
прекрасному принадлежит чистый взор созерцающего человека,
который представляет собой более редкое явление, чем
мы полагали. Не все, которые мечтают о прекрасном,
действительно умеют "видеть" его. Не всякое
удовольствие является эстетическим наслаждением, и часто
трудно различить, есть ли оно или его нет. Имеется много
источников подмены (Verfalschung) эстетического
наслаждения другим наслаждением. Соответственно этому
существуют различные виды псевдоэстетического
подхода, о которых будет еще идти речь.
Точно так же обстоит дело и со "сверкающим" ("dem
Leuchten") и "матовым в своем блеске" ("Mildsein im
GUinze") и тем более с тем, что "себя дарит" ("Sich-
Schenken"). Ничто так не характерно для эстетической
ценности, как то, что она падает нам как небесный дар,
подобно тому как выпадают нам счастье, милость и
человеческая любовь. Здесь в большинстве случаев имеется
момент неожиданности; поскольку то, что доступно
человеку в художественном отношении, не приходит тогда,
когда он обращается к этому, оно обрушивается на него
внезапно, когда он этого не ожидает. Все это
представляет собой такие вещи, где можно ссылаться лишь на
эстетический опыт художественно одаренного человека. И
здесь философ не может сделать ничего другого, как
апеллировать к живому эстетическому чувству ценности.
Нет другого свидетельства восхищения
художественным произведением, кроме свидетельства
человеческого сердца, воспринимающего его с радостью и
благодарностью. Но если смотреть объективно, то это
свидетельство и эта радость есть результат воздействия
эстетического предмета: его излучение проникает в
человеческую жизнь - в жизнь компромиссов, половинчатости и
угнетения.
Осмысление (Sinngebung), которое исходит как от
прекрасного и возвышенного, так и от грациозного и
прелестного, отражается именно в том, что это излучение
проникает вплоть до горя и угнетения, то есть туда, где
все другое бессильно искоренить их.
Раздел II. Возвышенное и изящное
549
Поскольку эстетическая ценность не вызывает
реальной перемены в человеке, а только внутреннюю душевную
перемену в нем, то здесь ничто не уничтожается; мы лишь
присваиваем себе дарованное нам духовное благо, то
есть что-то невесомое (Unwagbares) и ничему не
равноценное (Unaufwiegbares). Сила, которая здесь добивается
этого, не является реальной, но она воспринимается как
реальная душа (Gemut), как жизнеутверждающая и жиз-
неоправдывающая сила, то есть как сила, обладающая
мировоззренческой широтой. В сущности, все
переживание красоты эстетической полноценности имеет
мировоззренческое значение именно благодаря тому, что
придает смысл нашей жизни, так как, не видя смысла нашей
жизни, мы не смогли бы жить продолжительное время.
Вспомним в этой связи такое основное явление:
выделение (Herausgehobenheit) эстетического предмета из
всей цепи, из жизни, отягощенной обязанностями, из
привычного состояния. Здесь обнаруживается обратное
явление - вхождение (Wiedereintritt) выделенного в нашу
жизнь, но не для того, чтобы раствориться в ней и
исчезнуть, а для того, чтобы придать ей значимость, в которой
она нуждается, то есть сделать ее осмысленной и
содержательной. Может быть, мы должны выразиться более
осторожно: знание или созерцание содержащего смысл.
Во всем этом эстетические ценности коренным
образом отличаются от нравственных ценностей. Во-первых,
нравственные ценности действуют отягощающе,
поскольку они ставят задачи, требуют ответственности; они
всегда должны что-то "желать, требовать, навязывать", и если
в конечном счете они и могут привести человека к
величию, то их дары будут обоюдоострыми.
Эстетические ценности в этом отношении являются
полной противоположностью им: они ничего не
навязывают, ничего не требуют и не желают, так как они дают
человеку то, что учит его созерцать и в чем-то принимать
участие, в этом участии он учится ощущать и воспринимать
чистую радость. Эстетические ценности одаряют людей
только... Однако посмотрим, как здесь обстоит дело с
одарением: для этого эстетические ценности требуют две
вещи, а воспринимающий человек должен также что-то
совершать, а именно воспринимать (nehmen).
Человек должен обладать готовностью и внутренней
направленностью к тому, чтобы воспринимать, этим
самым он сможет адекватно созерцать эстетические
ценности. И это не обязательно должно означать высшее по-
550 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
нимание искусства (im Sinne hochsten Verstandnisses zu
deuten). Достаточно того, чтобы человек обладал для
этого спокойствием и умением чувствовать, уже этим он
достигнет многого.
е. Виды псевдоэстетического подхода
Эти требования не трудно выполнить, по крайней мере
в пределах того, что нам вообще доступно, ибо человеку
нельзя насильно вложить эстетическое понимание. Мало-
помалу оно все же может всячески обнаруживаться у него
в жизни, и часто там, где он меньше всего его ожидает.
Этому он может содействовать своей внутренней
направленностью, расположенностью к восприятию. Однако и
здесь имеется опасность ошибиться. Она коренится в
псевдоэстетическом подходе.
Внешне псевдоэстетический подход представляет
собой нечто незначительное: так, например, от него
совершенно не зависит все происходящее в жизни. И все же
человек посредством него уничтожает в себе величайшие
открытия в жизни, а именно те, которые имеют
метафизическую значимость, выступающую в виде осмысления (wie
die Sinn: gebung). Нет, мы не будем морально осуждать
того, кто не достигнет подлинно эстетического подхода, но
если в его жизни будет недоставать света и блеска, если
не будет необычного и не связанного с пользой, от
которого и исходит весь свет, то какая-то доля вины за него
все же ложится и на нас.
Поэтому псевдоэстетические подходы очень опасны:
они появляются как раз там, где необходимо найти
решающее осмысление, именно там, где при собственном
раздумье может быть разгадана даже сущность осмысления -
как способность и сила человека. Причем последнее
следует понимать не только как способность творить, ибо это
удел редкого и привилегированного человека, а как
всякую такую, которую внутренняя сильная тоска по
прекрасному, действительно доводит до умения созерцать его.
О каких же подходах здесь идет речь? О всяком,
который не использует эстетический предмет как таковой, а
подтасовывает под него нечто другое и в этом другом
находит большое удовольствие, которое, разумеется, в
таком случае является совершенно иным удовольствием.
Существуют следующие виды подхода такого рода.
1) Увлечение одним предметом или когда нет
увлечения, то все же есть интерес к нему. Это очень часто
встречается у сегодняшнего читателя романов: он жаждет разв-
Раздел II. Возвышенное и изящное
551
лечений и одновременно хочет отвлечься от своих будней;
художественные достоинства произведения ему
безразличны. Он едва замечает их. А когда их нет, он даже не
замечает их отсутствия. Так "читают" очень незрелые люди.
Они жадно глотают материал, как страшно голодные,
ненасытные.
2) Приверженность к дешевому, поверхностному
эффекту, что может быть свойственно и более глубоким
произведениям. При этом речь всегда идет об относительно
плоском и вульгарном воздействии на чувства,
рассчитанном на умиление и сентиментальность. Столь же
неглубоким оно бывает в поэзии и музыке. У последней
имеется еще и другой вид ошибки: когда музыка
злоупотребляет образной игрой фантазии или когда выступает
непосредственно в роли ее возбудителя. В таком случае
справедливо ценят и наслаждаются не музыкой, а
полетом собственной фантазии. Нечто подобное относится и
ко всякому другому роду, способному заставить
возбуждаться художественными произведениями, например
спектаклем или романом, с тем чтобы самому вовлечься в
этот материал.
3) Внутренняя концентрация или самонаслаждение
чувством собственного удовольствия вместо
наслаждения предметом. В психологии это называют
автоэстетическим отношением. И это представляет собой нечто
весьма обыкновенное, более всего это известно из
ницшеанских описаний, когда "поклонница Вагнера
терпеливо переносит Тристана". При этом все дело сводится к
растворению в собственных чувствах; все собственно
структурное музыки - и даже ее действие - исчезает.
Подобное - при автоэстетическом отношении людей -
встречается ив других искусствах, например в живописи,
лирике и т. д. (близкое к этому встречается у Гайгера в его
произведении ("Zugange zur Asthetik").
Существует еще и другой псевдоэстетический подход,
например мировоззренчески определенный подход,
которому важна лишь весьма примитивно созданная им
картина мира. Очень часто это бывает картина, созданная
верой (ein Glaubensbild), иногда и философски окрашенной,
которую нам хотелось бы видеть проявляющейся в
заднем плане художественного произведения.
В эстетике (и, конечно, в некоторых других видах пони
мания искусства) имела место подобного рода
популярно-метафизическая картина, созданная романтизмом,
которая считалась весьма глубокомысленной: человек,
552 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
согласно ей, как бы вновь находит себя (sich wiederfindet)
в природе и вообще во всем существующем. Эта мысль
ослепила тогда даже поэзию, многие ставили ее почти
наравне с романтическим искусством. Это является очень
показательным примером того, как подобные
представления могли дезориентировать и охватить все
средневековье, превратиться в доктрину и, наконец, даже
претендовать на искусство высшего рода!
Есть немало людей, которые ведут эстетически
кажущийся образ жизни, потому что они длительное время
пребывают в псевдоэстетическом состоянии (Haltung),
будь то наслаждение предметом, или дешевое и
поверхностное наслаждение чувствами, или самонаслаждение
(Selbstgenufc). Первый вид наслаждения является
естественным, хотя и не эстетическим, второй - уже
пагубным, хотя как будто несколько смягченным (erweichend),
и, наконец, третий вид представляет эстетически
извращенный и вследствие этого непосредственно
разрушающий вид наслаждения.
Имеется еще много и других форм
псевдоэстетического подхода; так, например, когда хотят заставить
искусство служить какой-то практической цели, политической,
религиозной или даже материальной. Но это, собственно,
будет уже больше ложное понимание искусства и
эстетических ценностей; здесь нет необходимости называть
другие виды неэстетического подхода. Важно то, что все
они причиняют величайший вред искусствам, если они со
всей силой не противятся этому, поскольку всегда
имеются и такие искусства, которые приходится водить на
помочах. В таком случае этим самым уничтожается все
осмысление, которое исходит от эстетических ценностей.
РАЗДЕЛ III
КОМИЧЕСКОЕ
ГЛАВА 36
ЧУВСТВО КОМИЗМА И ЕГО ФОРМЫ
а. Бессердечная и сердечная веселость
Комическое как тема эстетики выступает в
значительно более узкой области, чем, например, возвышенное и
изящное; оно кажется действительно преобладающим
только в одном виде искусства - в поэзии. Пожалуй, оно
имеет место и в рисовании и в живописи (имеется в виду
карикатура), но оно там не играет большой роли. Музыке
и архитектуре комическое совсем чуждо по своей
сущности; оно иногда проникает только в программную музыку
при посредстве слова, сопровождением которого служит
музыка. С другой стороны, и жизнь - без всякого
искусства - полна комизма. Но можем ли мы его увидеть там
без глаза поэта? В известных границах - да. В пределах
нашего кругозора мы имеем много смешного в жизни в
виде невольного комизма человеческого поведения.
Каждая неловкость, каждый неудачный шаг, каждое
нецелесообразное движение могут возбуждать в нас смех. При
этом смех может быть действительно бессердечным, так
как пострадавший и не думает о насмешке. Что такое
"насмешка"? Это прежде всего не что иное, как радость,
порожденная невольным комизмом в жизни. Она может
стать очень неприятной, если преднамеренно выискивает
и преувеличивает слабость, используя это для осмеяния
других. Насмешка несправедлива.
Но справедлива ли веселость, с которой мы
воспринимаем комическое в жизни? Не является ли она часто, так
же как и насмешка, совершенно бессердечной,
бездушной? Вот стоит наблюдатель, смотрит на несчастье
ближнего, конечно, не на тяжелое, но все же досадное, и
веселится по этому поводу. Даже если эта веселость и не
злорадная, она остается все-таки отрицательной,
уничтожающей. Ведь каждый знает, что смех может "убивать".
Имеются люди, которые внутренне живут только тем, что
высмеивают других. Каждый маленький промах раздувается,
используется как повод для шутки, унижая тем самым
того, кого это касается.
554 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
При данном положении вещей возникает вопрос:
можно ли говорить об эстетической ценности комического и
вообще о наслаждении прекрасным в нем и является ли
оно эстетическим явлением? На это можно ответить
утвердительно. Ибо речь идет здесь не о моральной
ценности или неценности эстетической манеры, но, безусловно,
о ее эстетическом характере. Последний, конечно,
существует, он даже может иметь этическую ценность, если эта
манера имеет морально критическую сторону.
Но она не обязательно должна быть таковой.
Веселость, которую вызывает комическое, может быть
совершенно безобидной. В этом случае явление берется с его
легкой стороны: удовольствие от комического в жизни не
должно тотчас же обращаться в злорадство, быть может,
так использует его только нравственно незрелый человек;
более зрелому человеку соответствует другой нюанс этой
манеры: он взглянет и смеется одно мгновенье или же
слегка и понимающе улыбается и потом забывает об этом.
Такие маленькие досадные происшествия в жизни
встречаются довольно часто.
Правда, это еще не доказательство того, что
удовольствие от комического является эстетическим
удовольствием; это доказывает лишь то, что оно может быть им,
то есть что его близость к бессердечной и бездушной
манере не мешает ему быть таковым. Как эстетическую
манеру, бессердечное удовольствие в комическом все же
можно отличить от сердечного по его смыслу;
эстетическое удовольствие в комическом как таковом является
поэтому и тем и другим. Отличие манер является прежде
всего моральным: одна склоняется к легкомыслию и
зазнайству, другая стремится к мудрости.
Подлинно эстетический характер удовольствия
заключается в обоих случаях в том, что оно чисто предметно и
лишено практического интереса. Оно всегда имеет
отношение не к затронутой личности, а к явлению, к
происшествию как таковому. Сострадание и злорадство, которые
могут при этом проявиться, принадлежат не к
эстетическому явлению, а к этической позиции.
Последняя вообще заключена в самой сути дела. Все,
что возбуждает в нас смех, представляет собой всегда
нечто из области человеческой слабости,
незначительности, мелочности, дерзости или невежества (глупости);
для этого достаточно хотя бы частичной нелогичности,
особенно если все это выставляется как важная мудрость.
Короче говоря, здесь речь идет о всякого рода искажени-
Раздел III. Комическое
555
ях, преимущественно о самомнении, чванстве,
важничании; более безобидна простая неловкость, которая
обычно зависит преимущественно от внешнего и случайного.
Если рассматривать эти человеческие слабости, то
можно прийти к выводу, что все они, по существу,
являются моральными слабостями, вполне заслуживающими
отрицательного морального отношения. Следовательно,
если в жизни унижают гордеца, разоблачают лжемудреца
или ханжу, то веселость наблюдателя совсем не так
бессердечна, как это может показаться, и смех по этому
поводу справедлив.
Со всеми подобными вещами имеет дело также
трагическое и трогательное, ибо чванство, высокомерие,
мелочность, нелогичность могут иметь в жизни очень
серьезные последствия. Последние в области их проявления
являются трогательными или потрясающими;
существенное заключается только в том, что здесь эти же самые
вещи рассматриваются совсем с других сторон, именно
таких, которые касаются далеких жизненных связей и уже не
подвластны человеку. Тем самым они впервые получают
значение серьезного и тяжелого. Комизм и удовольствие
от него касаются отнюдь не очевидных связей. Поэтому он
может сходные явления брать с легкой стороны:
буквально не учитывая того морального веса, который в них часто
имеется.
Является ли в данном случае человек художником в
жизни, не будучи им сколько-нибудь по природе?
Юмористический взгляд есть все же специфический дар,
который имеет не каждый; с ним, может быть, надо родиться,
так же как и с подлинно художественной способностью.
Тем не менее и на поставленный вопрос можно, хотя и
с некоторой осторожностью, дать утвердительный ответ:
среди зрелых людей с определенным жизненным опытом
имеется много таких, которые располагают этим даром,
но только в таком виде, что этот незначительный талант
трудно заметить.
Наряду с этим можно сказать и следующее. В жизни
часто встречается и практический подход - далекий в
данном случае от всякой эстетической позиции - брать жизнь
с ее забавной стороны; каждому легче справиться со всем
тем, что встречается на его пути, если это его самого не
слишком близко касается. Если в суете повседневной
жизни все имеет свою серьезную и смешную сторону, то,
без сомнения, морально удобнее придерживаться
последней, поскольку это возможно.
556 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Как только это затрагивает собственную персону,
человек лишается чувства юмора. Однако, кроме этого,
имеет место и многое другое, его не касающееся. Это -
легкомыслие, смех, поиски комического, различные
способы преодоления и упразднения жизненных тягот,
способствующих облегчению жизни.
Короче говоря, тут кроется испытанный жизненный
модус. Он выдвигает вперед дар юмора. Там, где он его
встречает, он значительно усиливает его. И удивительно
то, что часто эта практическая тенденция идет в жизни
рука об руку с подлинно эстетически автономной позицией.
б. Невольный комизм и юмор
"Комическое" и "юмор", конечно, тесно связаны друг с
другом, но ни в коем случае не совпадают, а также
формально не параллельны. Комическое есть
принадлежность предмета, его качество, хотя и существующее
только "для" субъекта, но имеющее значение для всех
эстетических предметов, юмор же - принадлежность
созерцателя или .творца (поэта, актера). Ибо он касается способа,
при помощи которого человек рассматривает
комическое, схватывает его, зная при этом, как его передать или
поэтически реализовать. Не надо поэтому отождествлять
эти следующие друг за другом явления. Они между собой
так же несходны, как музыка и музыкальность,
количественная закономерность и арифметика (ловкость в устном
счете).
В эстетических произведениях это различие в
большинстве случаев совсем не учитывается: или пытаются юмор
ставить рядом с комическим как второе явление
подобного же рода, или подчиняют его комическому, считая его
одним из видов комического. И то и другое ложно.
Юморист не комичен, над ним не смеются, но смеются вместе
с ним над чем-то другим, а именно над предметом его
юмора - и как раз потому, что он умеет выявить
комическое в этом предмете. Да и сам "юмор" не комичен!
Точно так же и наоборот: комический человек не
юмористичен, в большинстве случаев ему даже недостает
юмора, чтобы видеть собственный комизм, а как раз это
делает его еще комичнее, так как он в какой-то мере
злится или впадает в явный гнев там, где смеялся бы человек,
полный юмора. Его комизм невольный.
Всякий подлинный комизм, встречающийся в жизни,
является невольным комизмом. На подмостках сцены
имеет место добровольный комизм, когда человек созна-
Раздел III. Комическое
557
тельно делает себя комическим объектом; но это деланый
комизм. Этот комизм, будучи хорошо изображенным,
может значительно превзойти невольный комизм, но
все-таки он является чем-то другим и относится к невольному
комизму, так же как вообще игра и искусственное
изображение - к реальной жизни. При этом играющий нуждается
в своеобразном даре, который присущ не каждому актеру,
а именно в даре юмора.
Конечно, юмор, в котором он нуждается, есть
определенный вид юмора (изобразительный юмор); рассказчик
анекдотов нуждается в другом виде юмора (разговорный
юмор); созерцатель человеческой глупости - в третьем
(насмешливый юмор); точно таков же юмор солдата, с
острым словцом выползающего из грязи, которой его
осыпало в результате взрыва гранаты (злой юмор). Но это
уже дело специального различия.
Подобно этому, комизм поэтических образов в
спектакле, в романе должен быть всегда невольным
комизмом. Ибо если таковой по-настоящему действует в жизни,
то, естественно, и в литературе и на сцене должно
происходить то же самое. То, что исполнитель на сцене искусно
преподносит его, ничего не меняет; так же мало меняет
его и поэт, который искусно взвешивает его и затем
оформляет в слове. Это зависит не от реальности, а от
проявления.
Поэтому существенное в поэзии и игре заключается в
том, чтобы комизм "действовал" по-настоящему. Это
означает, что он должен действовать так, как он действовал
бы в жизни, если бы мы могли рассматривать его там с
такой же интенсивной концентрацией, на какую нас
ориентирует поэтическое произведение. Или, говоря
принципиальнее, так как искусство обращается к явлению, которое
должно действовать с полнотой жизни, то
проявляющийся комизм созданных поэтом образов (или ситуаций) с
необходимостью должен быть невольным комизмом. Он
должен действовать так, как будто не был сочинен поэтом,
который "желал" его, не говоря уже о том, как создает его
актер по законам искусства, и невольно реализовался бы
в случайных столкновениях событий.
С другой стороны, дар, в котором нуждается поэт,
чтобы таким путем создать комизм своих образов и сделать
вид, словно он не был создан им, является уже юмором.
Какого вида этот юмор, в котором он нуждается, зависит
от вида комизма, с которым он имеет дело. Он может нуж-
558 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
даться во всех видах юмора - в насмешливом, злом и
созерцательном. Он должен владеть всей их совокупностью.
Теперь уже отчетливо видно, почему оба родственных
явления - комизм и юмор - не параллельны друг другу, а
располагаются один за другим таким образом, что всякий
юмор связан с уже существующим комизмом и без него
совсем не может возникнуть, а всякий комизм, со своей
стороны, вызывает юмор и как бы требует его в виде
адекватной реакции субъекта.
Отношение, которое обнаруживается таким образом,
родственно отношению обоснования (Fundurungsverhalt-
nis); только здесь оно касается еще не ценностей, а
положения дел вообще - положения дел в предмете и в
реагирующем поведении субъекта.
Связь обоих противочленов остается при этом
совершенно односторонней, ибо само собой разумеется, что
юмор личности не должен с неизбежностью возвышаться
над комизмом предмета: адекватная реакция может
прекратиться, а субъект - перестать действовать. Иногда может
и не быть налицо воспринимающего субъекта там, где
имеются все условия комизма в предмете. Для
комического как эстетического предмета будет, конечно, тогда
отсутствовать противостоящее условие, которое заключено в
субъекте (как в третьем члене), и, если можно так сказать,
комическое как предмет тогда совсем не осуществится.
Следовательно, комизм в строго эстетическом смысле
не может существовать без юмора субъекта. Ему
требуется, как всякому эстетическому предмету,
противодействие субъекта, субъект должен открыть в нем нечто
совершенно определенное; и это заключается в данном
случае не только в ясной, лишенной трудностей позиции, но и
в наличии здравого смысла для самого комизма. Смысл
этот, однако, в обычном случае по своей сущности
идентичен юмору. Можно резюмировать: без комизма
предмета нет юмора восприятия (или даже представления), но и
без юмора восприятия нет комизма предмета.
Все же последнее предложение звучит во второй
своей части неточно. Во всяком случае, должно быть
раскрыто противодействие субъекта комическому как
эстетическому предмету, и оно должно в правильном понимании
существовать для комизма, но ему не обязательно
существовать в "юморе" и тогда, когда это понятие берут в его
узком и точном смысле, в котором постоянно появляется
утверждающий момент, соответствующий предмету.
Раздел III. Комическое
559
Могут быть еще и другие способы оценивать
комическое. И они могли бы ему оказать ту же услугу
противопоставления, что и юмор, только другим способом. В самом
деле, имеются другие способы использовать комическое.
Они родственны юмору в объяснении комизма, и в этом
отношении соответствуют ему, но они очень отличаются от
него и в известной степени даже противостоят ему в своем
отношении к комическому. Важнейшие из этих способов
следующие:
1) пустая забава в комическом;
2) шутка - использование кульминационного пункта
комического;
3) ирония - приобретение личного превосходства при
помощи кажущегося унижения своего я; отрицание в
форме кажущегося признания;
4) сарказм - горькое, язвительное, уничтожающее от
рицание в форме преувеличенного признания.
Два последних резко противостоят друг другу, ибо
юмор, даже "злой", всегда сохраняет еще немного
добродушия. Правда, ирония не должна быть резко
отрицательной, однако она легко становится таковой при помощи
того, что придает ей привкус изящного и особенного,
именно благодаря привлечению собственного "я".
То же самое относится и к шутке. Она сама по себе не
должна быть злой, но при этом не может быть и
снисходительной. Она, напротив, должна заострить комизм и
заботиться о том, чтобы смеялись над кем-либо. Конечно,
таковым может быть только тот, о невольном комизме
которого идет речь. И mutatis mutandis именно это нужно
сказать также и о "пустой забаве" в комическом. Она имеет в
виду только веселье, удовольствие и не имеет ничего
общего с оскорблением личности.
е. Различный моральный характер смеха
При сравнении этих двух способов проявления
комического, а именно шутки и сарказма с юмором, ясно видно,
что здесь повсюду участвует существенный момент
морального характера и что их противоположность должна
зависеть именно от этого момента. То, что в основе юмора
лежит моральный характер особого рода, не является
очевидным. Однако это можно показать и определить.
Речь идет при этом не о каком-то непродуманном,
слишком поспешном выводе, который можно было бы
сделать на основании рассмотрения единичного случая и
для одного предмета. Юмор человека есть дар, который,
560 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
так же как и другие таланты, развившись в определенный
период жизненной зрелости, пытается удержаться в
таком виде с определенной устойчивостью и часто
сопровождает человека до конца его жизни. Человек может
утратить свое чувство юмора, но только под влиянием очень
сильных ударов, которые его обыкновенно выбивают из
колеи.
Когда говорят о юморе, то имеют в виду определенным
образом обусловленный моральный характер всего
взгляда на жизнь; этот моральный характер стоит позади
чувства комизма и, по-видимому, только подталкивает
его. Во всяком случае, ему дается характерная окраска
благосклонности и добродушия. Моральный характер
который действует в этих случаях и дает форму и
направление, - добросердечный, ласковый, успокаивающий и
сочувствующий, и поэтому он является таким, который в
состоянии видеть в комическом человечески-трогательное и
благожелательное.
Обычно не придают значения тому, что такой сильный
этический момент вовлекается обыкновенно в чисто
эстетическое отношение. В этом отнюдь нет никакого
противоречия. Мы достаточно хорошо видели, как
высокоморальные ценности служат основанием для эстетических
ценностей (гл. 28 пункт "в"); причем это постоянно сводится к
тому, что наблюдатель обладает мужеством, то есть с
собственным чувством оценки стоит на морально правой
стороне, иначе от него должна была бы ускользнуть
эстетическая ценность.
Именно это является также основным условием в
юморе: кто не видит привлекательного и
располагающего к себе в безрассудном и ослепленном, тот берет
комизм только с внешней стороны. Точно так же это
происходит при пустой, поверхностной забаве. Юмор
совершает здесь совсем другое: он извлекает и обнаруживает
вместе с комизмом и глубину...
Такой моральный характер, который заключен в
юморе, можно коротко назвать "моральным характером
смеха", хотя он, естественно, связан не только со смехом, но
составляет весь жизненный склад характера человека.
Однако не является ли всегда тот или иной вид смеха
действительно выражением всего жизненного склада
характера? И разве мы не выявляем его часто в жизни из
характера смеха? Чего только не может разоблачить
человеческий смех! Можно представить себе только
конкретно, "как" смеется тот или иной человек, и спросить себя
Раздел III. Комическое
561
всерьез, что это означает. Люди так же различно смеются,
как поступают, двигаются, говорят и молчат.
Итак, юмор параллелен другим видам восприятия
комического - пустой забаве, шутке, иронии и сарказму.
Поэтому, может быть, и неверно, что отмеченные нами
особенности имеются только в юморе, а не в "характере
смеха". Более того, там всегда должен быть характер,
который определяет внутреннее отношение к комическому и
тем самым преобразуется вместе с ним. Он также должен
быть налицо там, где он для нас этически не очевиден и,
может быть, даже отталкивает нас.
В действительности моральный характер имеется в
каждом из видов, воспринимающих комическое. Таким
образом, во всяком чувстве комизма вполне законно
имеет место то обстоятельство, что за ним скрывается
определенный моральный характер. В большинстве случаев он
является отрицающим, осуждающим, так как комизм
покоится на человеческих слабостях и мелочах.
Эта отрицательность в "моральном характере смеха"
типична для перечисленных четырех форм: во всех них
сам смех, веселость и высмеивание себя являются
средством отрицания и только отрицания, оценивающего
взгляда, самоанализа мыслей и чувств. На этом покоится
та "бессердечная веселость", о которой речь шла выше.
Конечно, она выступает во всех четырех
вышеперечисленных формах в очень различном по степеням виде.
Не обязательно следовать и дальше за особыми
видами бессердечного морального характера. Достаточно
понять его основное содержание. Оно особенно ярко
отражается в сарказме, который может показать его
удивительную безжалостность, сохраняя самого себя
неприкосновенным. "Остроумное" использование невольного
комизма в своей основе есть явление такого же порядка.
Только для него существенно не оскорбление и "духовное
уничтожение", а просто эффект веселости. Но так как
остроумие нападает тем безудержнее, чем меньше в нем
уважения к разоблачаемой личности, то сама "острота"
имеет косвенно подобную же тенденцию к "духовному
уничтожению". И, таким образом, она может косвенно
стать совсем злой.
Это видно уже из того, как действует остряк среди
людей более безвредного характера. Он увлекает и тем
самым соблазняет к подобной бессердечности; но, начиная
с известного момента, он отталкивает, ибо оскорбляет
чувство справедливости. Еще не искаженное моральное
562 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
чувство возмущается, когда видит всех, смеющихся над
одним.
Образ действий острящего может достигнуть
эстетически известного уровня гениальности, но одновременно
быть и морально сомнительным. Эта раздвоенность не
может быть отделена от чистой "остроты", и поэтому она
заключена в ее сущности, поскольку использование
комизма неизбежно покоится на заострении
отрицательного в человеческом поведении - мелочности, слабости,
глупости, нелогичности. Лишь в юморе отношение
смягчается. Но там в основе лежит другой моральный характер
смеха.
К острящему охотно прислушиваются, но его не любят,
ибо чувствуют, как он нетактичен по отношению к их
слабостям. Умный остерегается показать ему свою слабость.
Как следует из сказанного, для всякого
художественного, особенно поэтического использования комического
любой комизм содержится уже в самом моральном
характере восприятия. Это вытекает из трехчленного
отношения в эстетическом предмете, то есть из роли
воспринимающего субъекта в отношении проявления.
До сих пор мы говорили только о комизме в жизни, а
также о внутреннем отношении к нему пострадавшего,
"для" которого он только и существует. У поэта отношение
еще многозначительнее, потому что он собственному
восприятию дает форму объективности и тем самым
переносит его из неясного состояния в историческое
явление и кажущуюся идеальность. Таким образом, его
поведение становится в моральном отношении неограниченно
ответственным.
Поэтому "комический поэт", который был бы только
остроумен или только саркастичен, пожалуй, никогда не
был бы безгрешен в изображении комического: его
бессердечность взывала бы к небесам. Сарказм направлен
на то, чтобы процветать в жизни, острота, кроме того, -
чтобы действовать, как подсыпанная приправа в более
обширной поэтической связи; сильная острота в мрачном
настроении может действовать освобождающе, так как
она стряхивает заботы и на мгновенье создает
облегченный "моральный характер смеха". Но тот, кто хотел бы
написать целую книгу из сплошных острот, достиг бы
обратного - он надоел бы. Между тем скука есть как раз то, что
пытается вытеснить остроту.
Поэтому подлинно комический поэт должен владеть
большим, чем искусством забавлять, например иронией,
Раздел III. Комическое
563
шуткой, сарказмом. Он должен обладать юмором. А это
означает, что он должен располагать высшим "моральным
характером смеха" - таким, который являлся бы не чисто
негативным, не неприятным и бессердечным, а вытекал
бы из полноты общей человеческой природы и вместе с
тем, давая чувствовать свою солидарность с безумием и
ничтожеством, знал бы, как дать ему выражение самого
увлекательного комизма.
ГЛАВА 37
СУЩНОСТЬ КОМИЧЕСКОГО
а. Ненужное и полезное в теориях
Мы подошли к проблеме комического с этической
стороны и, таким образом, познакомились с ней в ее
обусловленности духовным содержанием тех, кто чувствует
комизм, наслаждается им и глубоко реагирует на него.
Это предварительная работа, хотя и необходимая, но все
же подготовительная. Что представляет собою
комическое как таковое, не могло быть объяснено этим путем. Что
же такое комическое?
После предшествующих объяснений ответить на это
уж не так трудно, как это представляется с точки зрения
разных искусственно построенных теорий. В большинстве
случаев здесь ставится слишком широкая задача и тем
самым все сводится к бледной и общей схеме. Однако
здесь выражаются принципиальные взгляды, хотя
трактовка их в этих теориях односторонняя.
Если указанные теории стремились к некоторой
суммарной простоте, то, с другой стороны, они сами себе
создавали трудности тем, что поставленный вопрос
требовал слишком обширных объяснений, а это усложняло
проблему. Это касается идеалистических теорий и
прежде всего теории последователей Гегеля - не столько
самого Гегеля, который в данном вопросе не пошел далеко,
сколько Вейсе, Руге, Фишера и др. Последние пытались
вывести комическое из предпосланной "идеи"
(гегелевское определение), при этом комическое диалектически
развивается из "конфликта" от возвышенного и потом
приводится к "комическому решению", которое в
известном отношении должно быть самым полным. Какая часть
из предпосланной идеи сохраняется, здесь не подлежит
исследованию. Выдвинутая проблема была в конечном
564 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
счете метафизической (мировоззренческой), то есть не
являлась чисто эстетической.
Самое важное заключается в том, что проблема
комического ни в коем случае не носит такого глубоко
метафизического характера, как общая проблема прекрасного;
последняя разрешена не до конца, так как привела к
окончательному тупику. Однако комическое есть уже более
специальная проблема. Поскольку комическое
причисляется к прекрасному, в нем также остается иррациональная
частица, но она не представляет собой чего-то нового и не
касается своеобразия комического.
Прекрасное в этом отношении сходно с комическим,
так же как и с возвышенным и изящным: и там и здесь
очень точно устанавливается особый характер каждого из
родов. И как раз в противоположность этим обоим родам
род комического можно, хорошо проанализировать. Не
нужно только слишком много приписывать ему в теории,
систематизации и мировоззрении.
Речь здесь должна идти не о сложных отягощенных
систематизациями теориях, а об основных тезисах
некоторых непритязательных мнений; они почти все касаются
"определения" комического, и при этом, конечно, не
всегда правильно очерчиваются границы данного круга
явлений. Исправить это в большинстве случаев легко.
Достойно внимания то, что в некоторых основных пунктах все эти
определения сущности комического в некоторой степени
близки друг другу.
Можно начать с Аристотеля. Его определение
касается, конечно, только "комедии", но, по сути дела,
простирается и на все комическое. По его мнению, комедия есть
"изображение слабейшего (в человеке)" |it|ir|oiC qxnAorepcov
цеу. Но они относится не к любой слабости, а только к
смешному. Что же такое смешное? Он отвечает: то yap
yeAxnov ea^iv ацартгцш xi. каТ ашко£ avdouvov кш ои србарпкоу -
"смешное есть определенный промах и уродство, но
такое, которое не сопутствует глубокой боли и
несчастью...". Ацартг^а можно, пожалуй, перевести также
словом "слабость", но оно определяется через cpauAxrcepov
(порочное). В ашхо£ (уродливом) не нужно обязательно
заранее предрешать эстетическую оценку: это -
"уродливое" в широком смысле, морально неполноценное, то,
чего человек стыдится. Следовательно, здесь "смешное"
определяется на моральной основе, возможно, слишком
узко, но в своей основной области человеческих
"слабостей" оно очерчено все же правильно. Точно так же убеди-
Раздел III. Комическое
565
тельно ограничение в <zvcb5uvov (безболезненном) и т. д.,
ибо, само собой разумеется, комизм кончается там, где
начинаются серьезная печаль и горькая боль.
В этом античном определении комического
отсутствует, однако, нечто существенное - субъективная изнанка
комического, то есть роль субъекта, схватывающего
комизм. Прошло много времени, пока пришли к этому.
Только в новое время приходят к мысли, что в комизме скрыто
также и нечто иное, а именно то, что он, с одной стороны,
обманывает нас, а с другой - обнаруживает обман, чтобы
затем раскрыть обман там, где мы меньше всего могли бы
его ожидать.
Гоббс высказался по этому поводу следующим
образом: "Комическое есть использование неожиданного,
связанное, однако, с чувством собственного
превосходства". Здесь в итоге имеет место моральный момент,
преломленный в глазах субъекта, проникнутого чувством
собственного превосходства. Может быть, это и
сомнительно, так как односторонне выпячивается бессердечная
веселость. Сознание собственного превосходства не
обязательно должно быть следствием насмешек над чужими
слабостями; а там, где это случается, оно больше не
относится к непосредственному ощущению комизма.
С другой стороны, словами "использование
неожиданного" выражается новый основополагающий момент
комического. Но характеризуется это все еще слишком
слабо. Простого наличия неожиданного недостаточно; это
неожиданное должно быть как раз слабостью или
низостью в человеческом поведении ((pmAoiepov), от
которого мы ожидали чего-то значительно большего и веского.
Переход от ожидаемого важного к ничтожному, если он
происходит неожиданно и сразу, есть комическое. Оба
фактора этого существенного определения отмечались
многими, дорабатывались и отчасти улучшались. В
качестве основ* ного выдвигался, однако, последний, а
именно "неожиданное". Этот фактор вместе с обоими
аристотелевскими положениями - cpau^oxepov и асрсооианср -
составляют костяк всех дальнейших формулировок.
Эти факторы определения комического вошли в
употребление уже в XVIII столетии. Вольф, Баумгартен, Эбер-
гардт знали о противоположном действии комического.
Освобождающее от принуждения серьезного действие
комизма (или смеха) было в то время также признано и
высказано (Шефтсбери).
566 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Как зрелый плод этих размышлений бросаются в глаза
формулировки Канта: "Во всем, что может возбуждать
живой и потрясающий смех, должно быть нечто противное
смыслу (в чем, следовательно, рассудок сам по себе не
может находить никакого удовольствия). Смех есть
аффект из внезапного превращения напряженного ожидания
в ничто"'1.
То, что Кант говорит о смехе, можно было бы лучше
применить к самому комическому: важен не "аффект", а
объективная курьезность предмета, его способность
вначале пробудить "напряженное ожидание" и затем
заставить его неожиданно превратиться в "ничто". Эту
зависимость Кант подчеркивает очень остро: "Только при этом
надо помнить, что это превращение должно быть
превращением не в какую-либо положительную
противоположность того предмета, которого мы ждали, - ибо это всегда
нечто и часто может даже печалить, - но именно в ничто.
Если кто-либо, рассказывая нам какую-либо историю,
возбуждает в нас большие ожидания и в конце концов мы
тотчас же замечаем, что все это неверно, то это
возбуждает в нас неудовольствие..."2 Затем следует анекдот о
купце, у которого от скорби по поводу потери поседел парик
(как пример хорошей шутки).
Другой фактор комизма, представленный
Аристотелем при помощи фсшХотероу, заключается, по Канту, в
"бессмыслице". Это, очевидно, дальнейшее разъяснение, ибо
оно не ограничивается моральной областью; пример с
париком показывает, что имеется комизм и без моральной
слабости. Следовательно, античная формулировка
нуждается в углублении. При распутывании бессмыслицы мы
получаем ослабление напряжения, которое мы отчетливо
ощущаем в смехе.
На этом развитие теории комического остановилось,
Жан Поль видит в комическом "чувственно наглядную
неразумность", "действие, находящееся в противоречии с
положением действующего".
Шопенгауэр определял комическое еще более строго,
чем Кант: комическое есть внезапно появившееся
несовпадение между ожидаемым и тем, что приходит, или
между понятием и реальным объектом, поскольку последний
оказывается ничтожным. Здесь эффектом является
превращение в ничто.
И Кант, Критика способности суждения, СПБ., 1898, стр. 210.
Там же, стр. 211.
Раздел III. Комическое
567
Романтики Шеллинг и Шлейермахер облегчили себе
это понимание тем, что свели контраст к отношению
между величием идеи и ничтожностью ее выражения. Более
важным является фактор саморазрешения, который был
поставлен в центр внимания Ф. Т. Фишером и другими;
если бы продолжали существовать бессмыслица, ложное и
нелогичность, они бы запутали все и породили
неприятность; только тем, что это гибнет в своем противоречии
(уничтожается), напряжение разрешается, и это
разрешение там, где оно используется неожиданно, мы ощущаем
как комизм. Е. Гартман писал: "Вместо слабости на всем
протяжении должна находиться нелогичность" (это
положение приближается к кантовскому понятию
"бессмыслицы", но, пожалуй, оно слишком узко). По Фолькельту,
комическое - это мнимая ценность, которая наглядно
выражается в своем саморазрешении.
б. Виды бессмысленного в смешном
Теперь мы сосредоточим внимание на существенных
моментах комического. Исторически они
устанавливались один за другим, но все вместе составили целостную
картину. Это следующие моменты: бессмыслица
(cpaiAoiepov - слабость), видимость значительного или
веского, которая должна существовать прежде всего,
саморазрешение видимости в ничто и неожиданное. Эти
четыре момента не всегда резко разделены, они
взаимосвязаны. Четко выделены они только в искусно отшлифованной
шутке, доводящей комизм до крайности; но в силу этого
шутка также имеет "соль", которая может, испортить
настроение не умеющему ее парировать.
Очевидно, дело заключается не в том, чтобы
аристотелевское (pauXoiEpov ограничить "нелогичным" (как у Е. Гарт-
мана). Очень возможно, что во всех маленьких моральных
дефектах, которые составляют остов комического, есть
всегда и момент нелогичности; но не только этот момент
делает их комичными, ибо не только он делает
возможным эффект перехода в ничто. Лучшим является кантовс-
кий термин "бессмыслица", который должен быть понят
не только в логическом смысле. В этом случае важным
становится то обстоятельство, что бессмыслица
первоначально выступает в скрытом виде, а именно так, что она по
крайней мере на какое-то мгновение принимает
видимость разумного и действует убедительно.
Это подтверждается всеми явлениями, дающими
материал комизму, то есть всем тем, что носит характер
568 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
фшЛотероу. Если исходить из очевидной
противоположности комического возвышенному, то становится ясно,
что здесь всегда речь идет о малом и ничтожном в людях,
в то время как в возвышенном - о неизмеримо более
великом. Избытку возвышенного противостоит "недостаток"
смешного. Все же его смехотворность коренится не в
одном только недостатке, но и в его претензии иметь
значение полноценного или даже чрезмерного. Для того чтобы
комизм был гибким, эта претензия должна прежде всего
найти известное признание. Явления человеческой
жизни, соответствующие этим условиям, можно разделить на
три группы. К первой группе относятся явления, присущие
людям морально слабым и низким. Люди, обладающие
этими качествами, охотно выдают их за силу и
человеческую полноту, то есть пытаются завуалировать их, но тем
самым они еще сильнее подчеркивают их и, стало быть,
еще сильнее компрометируют себя. К этого рода
явлениям относятся: непоследовательность, непостоянство,
неповоротливость, лень, нетерпение, робость и
трусливость, малодушие, пугливость, легковерие и
доверчивость, несдержанность, гнев, слепая ярость; далее -
болтливость, наклонность к сплетням, чванливость, действие
украдкой... Сюда же относятся подлинная мелочность,
педантичность, скупость и скаредность. Последним
сопутствуют уже большие моральные дефекты.
Перечисленным, конечно, не исчерпывается весь круг
явлений этого рода. Но уже и из этих примеров видно, о
каких видах человеческой слабости идет речь. Это, по
словам Аристотеля, такие слабости, которые не
представляют слишком больших промахов и не влекут за собой
вредных последствий; следовательно, это ошибки,
которые все еще уживаются с нашей благожелательностью к
их носителю. Последнее, правда, справедливо лишь с
оговорками в каждом отдельном случае. При мелочности
и скупости эта граница, по сути дела, уже нарушается.
Хорошо известно, что слабости этого рода дают
неисчерпаемый запас тем комического как в самой жизни, так
в поэзии и анекдотике. Но если спросить почему, то
ссылки на dvcbouvov Kdi ои Фварикоу (постыдное и безвредное)
все же недостаточно.
Истинно комическое в слабостях этого рода
заключается в их стремлении замаскироваться, выдать себя, где
возможно, за противоположное. Действие комического
наступает вместе с критическим моментом, когда маска
Раздел III. Комическое
569
неожиданно спадает и общечеловеческое предстает в
обнаженном виде.
Так, лень или неповоротливость сами по себе не
комичны, но, пожалуй, становятся таковыми, если они
спрятались под маской мнимой деятельности, которая на
первый взгляд кажется правдоподобной. То же самое
происходит и тогда, когда они сами, будучи очевидными,
выдвигают в свое оправдание мнимые причины, выступающие
веско.
Точно так же и легковерие комично лишь тогда, когда
оно считает себя очень осторожным; несдержанность и
гнев - когда верят или хотят уверовать в то, что они
представляют собой самый обыкновенный тон поведения;
наклонность к сплетням в большинстве случае - когда
полагают, что высоко поднимаются над сплетнями других;
чванливость - лишь тогда, когда верят в мнимую важность...
Только таким путем самоуничтожение бессмыслицы, как и
переход "в ничто", становится во всем этом внутренним и
необходимым.
Вторая группа содержит более сильный
интеллектуальный дефект и стоит ближе к моменту нелогичности в
бессмыслице. Но и здесь, как и в первой группе, сущность
комизма заключается в слепоте человека по отношению к
своей ошибке или в тенденции скрыть ее.
Сюда относятся: небрежная нелогичность, глупость и
необдуманность, тупоумие, предубежденность и
ослепление, причем всегда с преобладанием глупости;
дилетантство, упрямство, высокомерие, самонадеянность,
зазнайство, назойливость; наконец, слепая приверженность к
общепринятому, стало быть, и ко всей его скудости, когда
оно пережило себя и заглушает чувство здравого смысла,
а также искусственно поддерживаемая видимость
(хороших нравов) и вообще все морально поддельное...
К этому можно прибавить еще очень многое, где
комизм выступает особенно гибко, например глупая
гордость и глупая хитрость, распространение утвердившихся
мнений, вечное желание поучать ничего не
подозревающих, все это моральные дефекты с преобладанием
недостаточной интеллектуальности и вследствие этого
особенно бросающейся в глаза внутренней бессмыслицы.
Здесь, так же как и в выше рассмотренной группе,
главное заключается в том, что кое-что в глупости,
нелогичности и так далее выглядит сначала как благоразумие и
продуманность, ибо комично не простое невежество, а
только такое, которое еще не выяснено и действует как та-
570 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ковое только в известных границах, или такое, которое
можно еще спутать с противоположным; именно от такого
рода невежества происходит "переход в ничто", который
порождает комический эффект.
Поэтому примитивная глупость не столь комична, как
утонченная, выдуманная, которой действительно присуща
известная доза разумности. Наиболее очевидно это
проявляется в тупоумии, то есть в такой глупости, которая во
всем, даже добросовестном, отказывается от
рассуждения о чем-то принципиальном или близком к нему, в
особенности если это относится к моральной области.
Разрешение бессмыслицы в ходе событий имеет здесь форму
"падения", которая всегда действует очень убедительно и.
наилучшим образом реализуется художественно в силу
своей "драматической" сущности.
Так попадает впросак лгун, который не обдумал
содержательных предпосылок своих, надувательств; то же
происходит с обманщиком или с ханжой, то есть, иначе
говоря, с фальшивым персонажем в комедии ("Тартюф" и др.).
Процесс разоблачения является неисчерпаемой темой
смешного, особенно если он происходит путем раскрытия
внутренней бессмыслицы, то есть если он приводит к
само уничтожению.
Особую роль играет в этой группе еще общепринятое,
так же как и стремление человека твердо придерживаться
его, как будто бы оно есть явление божественного
порядка. Имеется целый мнимый мир, основанный на этом:
мнимая добродетель, мнимая мораль, мнимое
достоинство и мнимая гордость. Как раз там, где действительно
нравственные чувства - простая доброта, любовь,
снисхождение, уважение и т. д. - не находят проявления,
господствуют условности: окостенелые формы, бездушная
церемонность, ложная строгость, усердная охрана
традиций, бессердечное подавление естественно
чувствующего человека (в большинстве случаев - молодежи).
Комизм заключается здесь также не в самой
условности (этикете), ибо она должна иметь место всегда, и не в
том, что она изжила себя, так как это действовало бы
просто пошло, а в контрасте, который возникает при
сопоставлении ее с простым и естественным; особенно
ясно выявляется это тогда, когда освященные предписания
молниеносно сбрасывают свой наряд достоинства и
становятся делом самых обычных человеческих рук.
Это явление находится в тесном родстве с навязчивым
поведением преобразователя мира, несмотря на то, что
Раздел III. Комическое
571
оно имеет иное направление. Дилетант хочет
опровергнуть все существующее, считать все устаревшей
формулой, желает иметь дар предвидения того, что
необходимо. Дилетант является всегда новичком в области,
которую он хочет реформировать. Его комизм
обнаруживается убедительнее всего там, где сам ход событий при
помощи, происшествий в ничтожном ("в уголке") приводит
его к абсурду.
Третья группа - самая безобидная. В ней заключен
такой дефект, который связан не с разумностью и моралью -
хотя оба эти фактора, могут иметь, здесь место, - ас
нейтральным несогласием или неспособностью человека.
Такого рода явления довольно многочисленны, и их
забавность должна основываться на том, что в руках
нормального человека в известной степени всегда есть средство
для их исправления: как homo sapiens получить
вознаграждение.
Сюда относятся всякого рода неловкость и
практическая беспомощность, начиная с простых запинок и кончая
последовательным перевиранием элементарных истин;
далее идут внешнее отклонение от правильного
поведения, пренебрежение общественными формами не из-за
оппозиционности, а из-за неловкости, следствием чего
являются преувеличенная застенчивость,
стеснительность, робость и вообще человеческий страх и
человеческая боязнь, так же как и постоянное прислушивание к
мнению других людей; наконец, сюда относятся
недостаточное присутствие духа, отсутствие мыслей,
бессодержательная мечтательность, рассеянность, а также
недостаток целесообразного воспитания мышления.
Все эти типы комизма общеизвестны. В данном случае
мы имеем дело с более безвредными явлениями
комизма, именно с теми, в которых смех мало обоснован. При
определенных формах неловкости человек окончательно
теряется. Произведения Вильгельма Буша полны
подобным комизмом, который может причудливо усиливаться;
он старается придать связям эпизодов такой вид, чтобы
от них падал и моральный свет на несчастье.
Поэтому в этих типах комизма видимость
превосходства совершенно исчезает. Только в этом комизме еще
слабо звучит нечто о незнании человеком уровня его
неловкости. Но уже и этого достаточно, чтобы суметь
выявить кульминационный пункт перехода.
572 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
е. Самоуничтожение бессмысленного
Из трех моментов комического мы уже коснулись
первых двух, так как второй момент - "видимость
значительного и веского" - нельзя отделить от первого -
"бессмыслицы и человеческой слабости"; от различных видов
недостатка и слабостей зависит особый, сопутствующий им
способ их сокрытия или отрицания, а его оборотной
стороной являются именно пустые самосознание,
воображение и т. д. Необходимо коснуться и третьего момента,
который как раз выбирает скрытый комизм и придает ему
ценность, самоуничтожение бессмыслицы.
Древнейшие теории исходили из того, что уродливое
надо принимать вместе с теми формами
бессмысленного, которые образуют комический материал. Такой взгляд
заложен в самой основе теории, потому что "систематика
духа" была устроена именно так, что все бесценное было
обречено на уничтожение и мир в конце концов должен
был "очиститься" от него, при этом комическое должно
было стать мощным средством его уничтожения.
Это было заранее сознательно предусмотрено.
Безобразное составляет особый раздел в эстетике и
рассматривалось в своем месте. Критическая проблема есть
проблема modus deficiens в нем. С комическим оно имеет
только одну точку соприкосновения, которая, если хотите,
заключается в несоответствии, "бессмыслице", некоей
непропорциональности образа. Но эта бессмыслица не
разрешается сама по себе; и не в ее сущности заключена
возможность задевать при помощи вводящего в
заблуждение самосознания. Таким образом, здесь не может
быть перехода в ничто, не используется эффект падения.
Поэтому безобразное здесь совсем отброшено.
Но как же быть отныне с самоуничтожением? Всякая
извращенность в жизни мстит за себя ходом вещей. Это
происходит не потому, что улаживающий мировой разум
возвышается над всем происходящим, а потому что ее
причинные следствия действуют без задержки. Ей не
нужно во всех случаях мстить зачинщику или виновнику, она
может задеть и других. Все же в сущности подобных
промахов, в которых имеется часть личной провинности,
содержится то обстоятельство, что "месть" косвенно и в
конечном счете падает на виновного. Само по себе это есть
чисто этическое обстоятельство и при этом очень
серьезное, часто весьма трагическое. С комизмом это не имеет
ничего общего. Простое самоуничтожение вины, извра-
Раздел III. Комическое
573
щенности или бессмысленности очень далеко оттого,
чтобы быть чем-то смешным.
Что же, таким образом, делает его смешным? На это
прежде всего отвечают так: характер невесомого,
маленького, незначительного в трех группах смешного фсоюошнф
кси ой cpGapiKov. Месть происходящего в мире тем самым
также удаляется в область невесомого, и серьезность
морального характера берется в суровости реального.
Но этого недостаточно. Одна легкость не составляет
комизма. Сюда относится еще особый вид эффекта,
которым начинается саморазрешение бессмыслицы, или
месть случая. Этот эффект реализуется тогда, когда
превратность сначала выступает в скрытом виде и выглядит
как нечто . очень серьезное и разумное, чтобы вдруг, при
помощи веса своей собственной последовательности,
показать свое истинное лицо. Это есть то, что мы (с Кантом)
называем "переходом в ничто", превращением
кажущейся значительной вещи в ничто. Это может быть также и
молниеносным раскрытием извращенности и тем самым
разрешением бессмыслицы.
Именно это утверждалось в древних теориях, то есть
то, что в комическом всегда что-то должно носить
отпечаток значительного, даже возвышенного, и это
Значительное должно позднее обрушиться в ничто. Так думали
романтики, Гегель и Фишер, а также Шопенгауэр и отчасти
позднейшие идеалисты.
Но схема взята из определенного вида комического,
именно из "шутки", в которой, конечно, дело касается
внешнего заострения; суть здесь заключена в вершине
падения. Чем более веским является то, что превращается
мгновенно "в ничто", тем большим должен быть эффект
комического. "Шутка" нуждается в "невысоком падении".
Без него нельзя прийти к желательному поразительному
эффекту. Поэтому шутка зависит от "кульминационного
пункта" так, что если он не достигается или действие
прекращается, то комического эффекта не получается. Это
означает, что шутка теряет свое значение, если
саморазрешение только на одно мгновение становится
преждевременно очевидным; оно должно происходить как раз в
самой реплике. Умение разобраться в этом и относящееся к
этому искусство рассказчика являются подлинно
художественным талантом. Имеется много людей, которые
систематически уничтожают кульминационный пункт шутки.
Это данное для шутки отношение нельзя обобщать.
Большое количество случаев не является результатом ко-
574 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
мического и не нуждается в чудовищном падении из
возвышенного. К комизму не всегда нужно "parturiunt montes
nascetus ridiculus mus". И если даже верно то, что от
великого до смешного всего один шаг, то все же неверно то,
что этот шаг якобы является условием всего комического
и что всякий комизм обязательно требует наличия
возвышенного в предшествующем. Большая часть комического
имеет более скромный вид.
Это относится, например, к гневу по поводу маленькой
неприятности, страху перед воображаемой опасностью,
волнению из-за недоразумения или из-за того, что явно
отсутствует, к радости от сплетни и личному чрезмерному
участию в ней, а там, где возможно, одновременному
возмущению по поводу сплетен других. Здесь не требуется
предшествующее "величие". Пожалуй, более
принципиальным здесь является то, что искреннее желание
хорошего может стать смешным, если оно совершается с
помощью совершенно недостаточных средств или на основе
очень наивных представлений о хорошем; первое
имеется почти у детски неопытного, последнее - у чуждого миру
идеалиста или политика за кружкой пива.
Наконец, сюда относится также множество
эгоистических и хорошо рассчитанных мотивов,
вкрадывающихся в обычные нравственно добрые желания, таких
мотивов, которые для самих желающих и действующих
остаются скрытыми, то есть частично ими действительно не
осознанными, частично произвольно прикрытыми и в то
же время сознательно замаскированными, хотя смутно
они ощущаются. Следовательно, все это есть
определенный род взаимно разделяющего вину самообмана. Это,
например, бывает в тех случаях, когда кому-либо
что-нибудь дарят, желая при этом блага и в то же время
рассчитывая на определенную обязанность получившего
подарок по отношению к дарящему, поэтому далее следует
возмущение их "неблагодарностью"; последнее имеет
место в открытой "благотворительности", которая в
действительности должна служить собственному
общественному положению.
Для всех этих случаев характерно следующее: для
комизма этого вида не нужно "контраста падения", здесь
нет никакого кричащего эффекта. Вероятно, существует и
контраст обстановки, противоположность серьезного и
ничтожности; но здесь комизм реализуется без
заострения и прежде всего без проникновения, в критический мо-
Раздел III. Комическое
575
мент "перехода", то есть, пожалуй, без собственного
"кульминационного пункта".
Гнев поспешно переодевающегося человека из-за
упавшей запонки уже сам по себе комичен: контраст
между важностью намерения и ничтожностью объекта смешон
сам по себе, без заострения; и самоуничтожение
бессмыслицы здесь достаточно хорошо представлено при
помощи волнения и отчаяния поспешившего, хотя потеря
времени не является для него смертельной. То же самое
происходит с тайным эгоизмом расчетливо дарящего, с
нервным нетерпением напрасно ожидающего, с легко
вызываемой ревностью влюбленного, с мучающим себя
страхом перед воображаемым несчастьем, с легко
нарушаемым молитвой мнимым благочестием.
Поэтому нельзя отбросить знаменитые определения
комического, основополагающим моментом которых
является кантовское определение "перехода в ничто".
Вполне логично и то, что внутренняя сущность
достопримечательного явления раскрывается преимущественно в
заостренной форме. Здесь получилось именно так, ибо
"шутка" как раз и есть форма собственного заострения
объективного комизма.
Несмотря на это, было бы ошибочно необходимость
заострения переносить и на остальные формы
комического. Гораздо важнее то, что имеется бесчисленное
множество градаций напряжения и "падения", или, иначе
говоря, "контрастов", и то, что для ощущения смешного
достаточно наличия даже не очень резких контрастов.
Отнюдь не всегда требуется кричащий эффект и даже
заострение. Конечно, восприятие комического у людей
также не одинаково: более грубый человек всегда и
прежде всего будет ценить грубые эффекты, к которым
относится различного рода возвеличение "падения" (не иначе
как искусственного), более "утонченный" человек
предпочтет в основном более тихие, одухотворенные или
глубже спрятанные моменты комизма.
Этому как раз соответствуют два часто встречающихся
рода комического: грубо-комическое легко
перерождается в гротеск, злую шутку или скандал, а
нежно-комическое, которое всегда связано с изящным, проявляет
обратную тенденцию - переходить в забавное, остроумное.
г. Превосходство в юморе
Итак, не надо ничего изменять в существенных частях
определения комического, даже при желании их ограни-
576 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
чить. В действительности речь идет скорее об
уничтожении ограничивающего условия, то есть о расширении
сферы действия комического. Бессмыслица, видимость
значительного и саморазрешение продолжают
существовать. Конечно, видимость значительного может
спуститься вниз со ступеньки на ступеньку таким образом, что
больше не будет ощущаться как таковая. Все же в данном
случае должно остаться нечто ей аналогичное, внешне
значительное или хотя бы мнение, что она существует.
Для юмора (как в жизни, так и в поэзии) характерно то,
что он действует не в искусственно заостренных
противоположностях, а более глубоко, в самой жизни, и
отыскивает большие падения только там, где они выступают как бы
сами по себе.
Это связано с внутренней сущностью
юмористического взгляда на вещи. Этот взгляд не является таким
отрицательным, холодным, черствым, как взгляд острящего, для
которого приемлем любой эффект смеха, лишь бы только
он оказывал воздействие. Взгляд юмориста в основном
ласковый, симпатизирующий; он заинтересовывает
человеческими слабостями, которые он вскрывает. Но он не
заостряет ни эти слабости, ни контрасты, в которых они
раскрываются. Более того, он не возвышается над мнимо
"возвышенным", к которому они склоняются.
Комизм, рассматриваемый юмористически, есть
смягченный комизм. Именно поэтому он нравится тонко
чувствующему человеку. Этому виду комизма в жизни
всегда соответствует глубокая потребность в
напряженном и серьезном; при этом виде комического у человека
раскрывается сердце, прекращается напряжение. Это
имеет свою причину в спокойствии и хладнокровии такого
взгляда на жизнь, которым обладает и в известных
границах передает своему читателю настоящий юморист.
Это спокойствие дает человеку возможность
противостоять вечному давлению. Оно не может устранить роковые
события, но все же на многое незначительное и мелочное
в нас оно в основном действует подавляюще, самодовлеет
в нас. Юмор, ничтожность которого можно наглядно, ad
oculos, демонстрировать, имеет полезное влияние,
поскольку он, полностью разоблачая маленькие слабости,
вместе с тем является и истинным благотворителем
человечества. Конечно, наслаждение этой
благотворительностью не есть только чисто эстетическое наслаждение.
Здесь скорее имеет место этическое воздействие
эстетических явлений. Этому соответствует и предварительное
Раздел III. Комическое
577
условие настоящего юмора, которое тем более коренится
в нравственном характере.
Поэтому действительно полный юмора человек имеет
превосходство в жизни, лишенный же юмора терпит
поражение. Это ни в коем случае не относится только к
своеобразному плодотворному дару юмора, который бывает не
слишком часто, но прежде всего к чувству юмора и
восприимчивости к нему, к простому объяснению и
внутреннему освобождению, которые каждый может приобрести,
хотя и не в любое мгновение и не при любой ситуации.
Чувство юмора является действительно эстетической
манерой, но покоится оно на нравственном характере.
Этот нравственный характер должен быть, конечно,
раскрыт и поднят как бы изнутри, ибо это означает выход из
лихорадочного состояния или по крайней мере
готовность к этому. И то и другое не являются само собой
разумеющимися, ибо в отдельных областях у каждого есть
свое лихорадочное состояние, свое упрямство, своя
педантичность, свой вид гнева или кичливость своим
превосходством, - и это происходит не без помощи
подлинного самопреодоления, нарушаемого смехом. Если речь
идет и о совсем ином лихорадочном состоянии в
подлинном юморе кого-то другого (eines Anderen), то все же в
действительности собственное лихорадочное состояние
соприкасается с ним; они настолько сходны между собой,
что достаточно разоблачить и обнаружить одно, чтобы
судить обо всем.
Поэтому человек, лишенный юмора - в том отношении,
что он не обладает и пассивным чувством юмора, -
является фактически человеком с этическим дефектом: сам он
слишком горяч, чтобы желать освободить себя (um sich
losen zu wollen). В основном эту категорию людей
составляют те, кто не без основания боится юмора, ибо
чувствует, что он направлен против него. Это в свою очередь
означает, что он сам фигурирует как комический предмет
или по меньшей мере воображает себя
соприкасающимся с ним.
Лишенный юмора человек является, таким образом,
сам выдающимся представителем комизма. Он невольно
дает в руки юмористу прекраснейший материал, ибо
боязнь юмора идентична в данном случае тому, что человек
трусливо придерживается кажущейся серьезности и
достоинства, в то время как за этой видимостью стоит чистое
"ничто".
578 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Проверка выдвинутого положения на примере
человеческого превосходства (чисто внутреннего, не
противопоставленного другому) заключалась до сих пор в том,
чтобы решить, может ли кто-либо высмеять самого себя
или нет, или же, мягче выражаясь, выносит ли он
направленную на него самого шутку или нет. Это не обычное
положение, и большинство не выносит его, ибо способность
выносить это состоит не в том, чтобы делать хорошую
мину при плохой игре.
Эти явления вместе со своими характерными
противоположностями рассматривались и раньше, например
Аристотелем очень отчетливо в "Никомаховой этике". Он
изображает два вида какш (пороков) в общении людей,
между которыми лежит "анонимная" аретт) (добродетель),
riepi и есть шутка, и виды е£ц (привычек) касаются
отношения человека к шутке, с которой его встречают. С одной
стороны стоит рсоцоА,6хо<; (озорник), который все сводит к
смешному и ни с чем серьезным не желает иметь дела; с
другой - аурогкод (деревенщина), который не понимает
никакой шутки и все воспринимает серьезно и с горечью.
Последний, очевидно, является человеком, лишенным
юмора, который тотчас же приходит в волнение по поводу
шутки, касающейся его самого. Если собрать
соответствующую партию вокруг Теофраста, то станет видно, что
этот тип самими древними рассматривается как весьма
смешной. То есть кто не может принять участия в смехе
над слабостями, которые являются и его слабостями или
близки к ним, тот именно делает комическим предметом и
самого себя.
ГЛАВА 38
КОМИЧЕСКОЕ И СЕРЬЕЗНОЕ
а. Метафизический аспект комизма
Комизм как таковой почти не связан с
мировоззренческими вопросами. Эти вопросы более близки его
противоположности, возвышенному. Но так кажется только на
первый взгляд. При более внимательном рассмотрении
положение вещей меняется. Уже моральный характер, от
которого зависит определенный способ ощущения
комизма, указывает на нечто более глубокое. Очевидно,
человек, обладающий юмором, должен при держи ваться-
определенной мировоззренческой основы даже тогда,
Раздел III. Комическое
579
когда она не сильно проникает в предметное сознание. На
подобные факты можно точно указать в некоторых формах
поэзии. Известно отличие созерцательной сатиры от
едкой. Противоположность жизнеутверждающей и
отрицающей жизнь точек зрения заключается в том, что одна
является оптимистической, забавной, доставляющей
наслаждение именно тем, что она "живет и позволяет жить",
другая же - наполовину пессимистической, способной
обостриться до ожесточения против жизни. Тонкий юмор
сатиры Горация - прекрасный пример для подтверждения
первой точки зрения. Для второй такие высокие деяния,
пожалуй, невозможны, потому что искомые эффекты очень
грубы, а стоящее за этим воззрение на жизнь слишком
негативно.
Если отказаться от вышеназванных крайностей, то
определенное понимание мира и жизни находится все же за
пределами взгляда на комическое. Это означает, что этот
взгляд имеет метафизическую подоплеку, то есть не что
иное, как чувство молитвы и веры или чувство
человеческой любви и ненависти. И очень часто дело обстоит так,
что лежащее в основе мировоззрение является одним и
тем же для всех этих областей, часто также и для области
знания. Конечно, оно может быть и не таким; положение
человека в мире редко является столь целостно
продуманным. Но всегда имеется внутренняя тенденция к
такому единству. Поэтому всякое чувство комизма, и прежде
всего его более глубокая форма - юмор, всегда имеет
моральную, метафизическую и, если хотите, религиозную
сторону.
Это особенно сильно ощущается у великих поэтов-
юмористов Жана Поля, Рааба, Рейтера и др. Им не нужно
выходить из своей роли и демонстрировать нам свою
картину мира, мы принимаем это гораздо конкретнее и
убедительнее из того способа, каким они видят комизм в
жизни и как они оформляют его.
Но имеется еще другой вид взаимосвязи метафизики
и комизма. Он касается определенных черт в структуре
мира, в котором мы живем, поскольку сами эти черты
строения мира могут ощущаться как комические. И
понятно, что человек находит такие черты раньше всего там, где
речь идет о его собственном положении в мире, или
иначе - о его проникновении в громадные взаимосвязи
мирового процесса.
Некоторые проницательные метафизики нашли
трагизм в положении человека и дали ему пессимистическое
580 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
выражение. Но имеются и такие, которые в подобном
положении находят и комизм; и то и другое вытекает почти
из одинаковых оснований: например, человек постоянно
ищет "счастье", но при этом познает коварство в
организации своего собственного существа и жизненного пути и
то, что он строит себе счастье именно этим способом.
Метафизические теории этого рода в большинстве своем эв-
демоно-логичны (eudamonologisch), и вечное
существование обмана человека в "равновесии удовольствия и
неудовольствия" играет при этом весьма важную роль.
Мы знаем это от Шопенгауэра, который в развитии
этих вещей нередко выявляет злой юмор. Вся мировая
связь, начиная с "грубой мировой воли", которая
вызывает разумность, с тем чтобы потом "уничтожиться" ею,
выглядит как великая шутка..
На совершенно иной основе ввел шутку в философию
Фр. Шлегель. Его метод родствен диалектике Шеллинга и
Гегеля, в которой момент перехода является также
существенным. Шутливая тенденция проявляется уже в
некоторых метких остротах гегелевской систематики.
Но существуют и чисто эстетические формы,
развивающие метафизику комического. Шеллинг в свое время
выдвинулся благодаря тому, что включил целиком
эстетическое воззрение в философию, сделав из него
универсальный орган метафизического познания. Этот пример
признается достойным подражания только
второстепенными мыслителями. Но и в самой эстетике нашлось нечто
подобное этому.
Романтики находили глубокую иронию в том, какое
положение занимает человек в этом мире, в то время как в
действительности сам человек стоит позади него и
определяет его вместе с собой: ему не всегда удается снова
найти собственную сущность в кажущейся ему чуждой
природе; итак, он трагикомически не осознает самого
себя в сущности мира. Новалис сделал в этой области еще
один шаг со своим "магическим идеализмом": он
разрешает человеку создать себе мир, каким он хочет его
видеть; ему нужно только иметь волшебный жезл, то есть
сделать подвластным себе "центральный орган", подобно
тому как художнику подвластны чувства, живописцу -
глаза, музыканту - ухо.
Более специальной представляется мысль Ст. Шютце
("Опыт теории комического"). По его мнению, комическое
есть игра, которую природа ведет с человеком, в то время
как он верит в свободу своих действий; следовательно,
Раздел III. Комическое
581
это такая игра, которую природа затевает с человеческой
свободой. Эта очень коварная и поистине дьявольская
мысль смягчается формулировкой, что комическое якобы
является, в сущности, только "восприятием или
представлением" подобной игры. Все же это мало что изменяет в
поистине очень смешном и метафизически
трагикомическом обмане человека в вопросах ответственности и вины,
человеческого достоинства и морального характера.
Другие похвалили эту мысль (Фишер), хотя и
заметили, что она слишком узка для определения комического.
Ибо очевидно, что имеется еще совсем другой вид
комического, который более безвреден и не имеет никакого
отношения к такому принципиальному обману человека.
Но остается все же яркий пример метафизики
человека, которая сама имеет форму грандиозной шутки:
имеются в виду те случаи, когда человек старается быть
честным и хорошим, верит в свою вину в каждой ошибке,
делает себе упреки и испытывает угрызения совести,
переносит тяжело то, что он считает своей виной, а в
действительности это совсем не его вина, а следствие цепи
причин, действующих через него, без какого-либо участия с
его стороны, совершенно равнодушных к добру и злу.
В этой "комической" картине мира не только то, что
представляет собой личность, низводится до голой вещи,
подобной мячу в неразумной игре, игре вечного
механизма; но и высокие по своему содержанию цели, в.которые
человек честно верит как в собственные, разрываются,
квалифицируются как ничто и при помощи очень
банальных мотивов заменяются мелочно-эгоистическим.
Мало чем отличается и метафизический комизм,
который ложно приписывают всем теологическим картинам
мира. Он усиливается еще там, где картина мира
принимает открыто антропоморфистские или даже только ант-
ропоцентристские черты. Первое представляет собой
такой случай, когда усматриваются воля и предопределение
в мировом процессе; последнее - когда человек
выступает как высший смысл и цель мирового процесса, а все
остальное кажется основанным на нем. Здесь причудливый
комизм заключается в том, что человек, преисполненный
любви к созданию такой картины мира, придерживаясь
мнения о необходимости особенно благоприятно и
прекрасно оформить мир для самого себя, достигает как раз
противоположного результата, а именно оценивает
одного себя и лишается осмысленного места в мире.
582 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Объяснение того, как это происходит, касается
собственно области метафизики. Но существенным
является следующее: человек как "высшее существо" в
противоположность животному занимает свое особое
положение в мире благодаря своим двум высшим дарам:
способности действовать целенаправленно и свободе волевого
решения. Оба этих дара он не может использовать, если
злоупотребляет целенаправленностью всего мира в
целом как формой детерминизма. Первый дар он может
осуществить только при помощи тех средств (почти сил
природы), которые без сопротивления отступают перед
его целями; но такие нейтральные средства можно найти
только лишь в мире причинно детерминированном и
никогда - в конечно (final) детерминированном, в котором
каждая вещь уже приносит с собой "определение к чему-
то". Следовательно, он парализует сам себя,
превращаясь из активного своеобразного существа в осужденное
на пассивность. Второй же дар, дар свободы, он упускает
потому, что в телеологически преддетерминированном
мире нет больше простора для "свободных" решений: в
таком мире предопределены и решения человека и их
кажущаяся свобода.
"Комедия телеологии" постоянно преследовалась на
протяжении всей долгой истории человеческой мысли и
исканий: в повседневном, в мифологии, в религиозном
мышлении, в философии; почти все метафизические
"системы" являются телеологическими. Создается
впечатление, будто здесь тайная сила снова и снова
втягивает человека в самообман.
Очевидно, здесь речь идет не только о
"метафизическом аспекте комизма", но также и о комическом аспекте
метафизики. Вместе с тем речь идет о комическом
аспекте всех человеческих представлений о мире и воззрений
на жизнь тогда, когда они еще выступают в великолепном
одеянии "высшей мудрости"; здесь имеется в виду
комический аспект мифологии и религии.
И повсюду, где эти представления рушатся, комизм
становится очевидным, и тогда появляются насмешки. Но
в этом случае их насмешка носит дешевый характер и
недостойна упоминания. До тех пор пока взгляды
состоятельны, никто не видит комизма; в этом случае люди ведут
себя серьезно и благоговейно, выражая удивление. И как
раз в этом удивлении они представляют собой
метафизически комические объекты.
Раздел III. Комическое
583
В этом состоянии с точки зрения проблемы смысла
они олицетворяют собой венец чудовищного
самообмана. Суть дела в том, что мир, сам полный смысла,
выступает для человека как придающего смысл существа
бессмысленным миром, а бессмысленный мир, в котором мы
живем, является единственным, который соответствует
ему и который полон смысла; в то же время человек,
будучи в данном случае слепым, с самого начала истории
отрицает этот бессмысленный мир и пытается истолковать
на свой лад, в "лучшую" сторону. В этом нельзя не видеть
комизма. Но в данном случае он приближается уже к
трагикомизму.
б. Пограничные явления комизма
На первый взгляд вопрос, существуют ли предельные
явления комического, явления такого вида, с которыми
мы познакомились при рассмотрении возвышенного и
изящного, звучит странно. При этом имеются в виду
случаи, в которых комическое само переходит в нечто
противоположное, то есть как раз в серьезное или в то, что
считают таковым. Вопрос странен только потому, что мы само
комическое узнаем уже как продукт перехода от
возвышенного. Но, как было уже показано, не все комическое
происходит из возвышенного. В связи с этим положение
вещей меняется.
Имеются различные смежные явления. Одно из них
может быть выдвинуто вперед, ибо оно особенно
касается поэзии, а косвенно и поведения полного юмора
человека, остряка, насмешника и т. д. В сущности комического
заложено именно то, что оно внутренне сопротивляется
детальному рассуждению, то есть имеет собственную
тенденцию временно ограничивать себя.
Причина этого лежит в его структуре: здесь все
оказывает давление на "кульминационный пункт", который не
может произвольно выдвигаться вперед, ибо он совсем
по-разному разгадывается; если этот "кульминационный
пункт" перейден, то и комизм истощается, причем на этом
пункте нельзя долго останавливаться. Нельзя во второй
раз допустить действие падения, если оно один раз уже
имело место.
Это составляет существенное отличие комического по
сравнению с другими сферами поэтического творчества.
Пожалуй, перипетии имеются везде - в каждой драме, в
каждом хорошо построенном романе, в большинстве
случаев даже в не очень значительном эпосе, и во всех этих
584 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
жанрах совершенно не задумываются над этим
различием. Но там, где при серьезном содержании широко
привлекается материал и в нем содержится нечто позитивное,
в большинстве случаев совершенно необходимое,
возникает доверие к среде; только в комическом дело обстоит
иначе: ни предварительное напряжение, ни исчезновение
созданного настроения и эстетического удовольствия не
должны расширяться больше, чем этого требуют переход
(das Umschlagen) и его оценка воспринимающим
субъектом. Уже самое легкое расширение - меткое слово, если
оно многозначительно, - действуют смягчающе, то есть
нарушает комическое действие. Насильственное
придерживание достигнутого комизма уничтожает его.
Поэтому комические темы коротки. Они постоянно
сохраняют нечто анекдотическое. Они не могут составить
содержания целой книги даже тогда, когда они
содержательны и полны мировоззренческой глубины. Юморист,
если он хочет заполнить этим книгу, должен всегда
создавать новый комизм. Так как в конце концов получается
однообразное течение, надо позаботиться о материале
другого рода, с которым связан комизм. Он может быть очень
серьезным и должен быть таковым, чтобы быть
контрастным (Фр. Рейтер). Это первое пограничное явление есть
ограничение не только расширения, но и внутренних,
тематических возможностей комического.
Но имеются другие пограничные явления комизма.
Одним из них является хорошо известный оскорбляющий
комизм, в особенности когда он носит в жизни
исключительно личный характер. Оскорбляющим комизмом, то
есть таким, который видит удовольствие в нападках,
является всякого рода насмешка, каждое сильное
преувеличение в форме подтрунивания и одурачивания. Всякая
насмешка имеет две стороны. С одной стороны, она является
действием нападающего, возможно остроумным, с
другой - представляет собой требование к объекту
нападения: остроумной защиты или добродушного осмеяния
собственных слабостей. Каждая имеет свои пределы.
И эти пределы представляют собой настоящие
пограничные явления комизма, ибо здесь может случиться так,
что и не участвующий в этом слушатель вдруг перестает
насмехаться и одобрять действия нападающего, так как
насмешка переходит в личную обиду и причиняет
действительную боль. Человек, обладающий духовным
превосходством, конечно, может сделать вид, что
насмешка не причиняет ему никакой боли, но при этом так от-
Раздел III. Комическое
585
разит ее, что привлечет на свою сторону насмешников,
чтобы потом прилично отступить. Не каждый обладает
таким превосходством. Но даже у обладающего таким
превосходством боль будет все-таки настоящей.
Следовательно, это пограничное явление основано на
том, что комизм обладает уничтожающим действием
("смех убивает"). Поистине глубокое переживание тех, кто
втянут в смешное, должно учитываться. Если затрагивают
слишком большие душевные глубины, то булавочные
уколы становятся серьезными оскорблениями - и "шутка
прекращается", прекращается и смех.
Этот вид пограничного явления - переход в
оскорбление - играет в жизни большую роль, и не столько из-за
агрессивной злости шутника, сколько из-за соблазна,
вытекающего из дара насмешника, и увлекающего действия на
других. Человек, насмехающийся и острящий, в данном
случае легко становится слепым: притягательная сила
шутки увлекает его - он лишь очень поздно замечает, что
натворил.
Это пограничное явление варьируется весьма
разнообразно, но всюду в основе его лежит один и тот же
этический дефект: необдуманность, легкомысленная игра с
чужими слабостями. Одну из разновидностей этого
явления представляет шутка, которую позволяет себе человек
по отношению к тому, кто неправ. И в зависимости от
того, в каком смысле он "неправ", шутка причинит вред ему
или тому, кто шутит: остряк своей шуткой может
причинить большую неприятность, но он может и сам попасть в
очень глупое положение. Первое имеет место, например,
у Достоевского: Ставрогин, который "водил за нос"
государственного советника, не желал причинять ему
большого страдания.
Вторая разновидность явлений имеет место там, где
острящий отходит от правильного пути, а этот отход
коренится в избытке накопившегося комизма. При этом речь
идет еще не о явлении рюцоАюхо^'а (озорства), которое все
превращает в шутку и тем самым снижает ценность
серьезного. Напротив, в жизни встречается такая
продолжительная шутка, которая, не разрушая важнейшего,
становится вследствие своей длительности пустой и скучной,
ибо никто не может долгое время пребывать в обстановке
чрезмерных острот, кульминационных пунктов и трескучих
эффектов: очень скоро и она потребует какой-то твердой
почвы.
586 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Из всевозможных пограничных явлений комического и
юмора, ибо и он может перейти эти границы, шутка
является, пожалуй, самым достопримечательным. В этом
случае сознательно действующая забава обращается в скуку:
кажется, будто справедливое действие комизма связано
с аристотелевским ргобтцс, (средним) так, что чисто
количественное излишество так же разрушает его и обращает
в противоположность, как и недостаток.
Скучное является резкой противоположностью
комическому, так же как возвышенное или трагическое, так как
эта противоположность целиком негативна,
контрадикторна. К опыту это также очень подходит: частица
жизненного трагизма очень хорошо уживается со смешным; мы
знакомы с этим в трагикомическом, которое так часто
захватывает нас в жизни и действует двояким образом. Но
скука не переносится таким путем: там, где она имеет
место, смех проходит уже совсем иначе, чем под
влиянием серьезного.
Другим пограничным явлением комического является
обращение комического в банальное, плоское, пошлое.
Правда, почти любой материал может перейти в
банальное, в особенности трогательное или причиняющее боль,
- но нигде опасность так не велика, как в комическом.
Почему же, собственно? Потому, что комическое там, где оно
схватывается сознательно и затем демонстрируется,
выступает с требованием остроумного, по меньшей мере
неожиданного, занимательного; и если оно не выполняет
этого требования, то действует разочаровывающе. Его
существование полностью зависит от выполнения этого
требования, и оно исчезает, если это требование не
выполняется.
Когда наступает переход в банальное? Очевидно,
тогда, когда не только не удается заострение контраста
(кульминационный пункт), но и сама противоположность,
образующая спад, исчезает. То есть тогда, когда
противоположность выставляет себя поддельной, искусственной,
так что самоуничтожение становится больше
невозможным, и когда, по сути дела, нет никакой бессмыслицы.
Сомнительно ли то, что так что-то происходит?
Дилетантство в создании шутки, в рассказе анекдота и искомом
юморе, который широко овладевает групповой беседой,
переполнено этим. Подумайте над тем, как хорошо
удавшаяся шутка тотчас же вызывает подражание, которое
обычно сводится к плоскому, ибо повторение того же
эффекта невозможно: спад уже совершился. Это же явление
Раздел III. Комическое
587
может выступить в еще более усиленном виде, тогда
шутка, комизм и остроумие переходят не только в банальное,
но и в пошлое и нелепое. В большинстве случаев это уже
не является настоящим переходом, ибо с самого начала
там не было определенного уровня шутки. Обычно это
бывает тогда, когда человек, совершенно лишенный чувства
юмора и не способный к комизму, хочет сыграть с
кем-либо шутку, не располагая для этого ни малейшим даром.
Часто это бывает у детей, когда они хотят показать, как
прекрасно они могут шутить.
Пограничным явлением этого же порядка является
хорошо знакомый опыт, свидетельствующий о том, с каким
трудом достигается кульминационный пункт при
передаче комических переживаний, анекдотов, шуток. Тот, кто не
обладает необходимым для этого своеобразным даром,
заведомо не достигает его и тогда, когда он серьезно
считает себя образцом в этом отношении.
Рассказчик относится здесь к сочинителю анекдота
или к переживанию, как актер к поэту. Он также должен
прибавить свое, что-то присочинить. Но это свойственно
не каждому. Человек далеко не всегда осознает
необходимость такого отношения, в большинстве случаев он,
ничего не подозревая, набрасывается на задачу, выполнить
которую он не в силах. Он и не подозревает о трудности и
поэтому очень удивляется, когда ,ему не удается достичь
кульминационного пункта.
Почему он неминуемо разрушает кульминационный
пункт, когда сам, увлекаясь комизмом, на какое-то
мгновение раньше разражается смехом? Почему настоящий,
опытный комик остается серьезным даже при смешных
происшествиях, вызывая на смех прежде всего слушателя?
С одной стороны, пожалуй, потому, что определенный
пункт комизма - кульминационный пункт - не должен
раскрываться до того момента, когда он начинает действовать
сам собой, поражая слушающих. Но здесь потребовалось
бы, чтобы рассказчик сдерживал смех "вплоть до него", но
не переходя через него. Если комик и "за его пределами"
остается серьезным, то комизм должен иметь уже другой
смысл. Здесь может случиться так, что рассказчик,
оставаясь серьезным, удивляется, как непонимающий, даже
после того, как слушатель уже понял, о чем идет речь, и
таким способом сохраняет еще некоторое время вершину
падения.
В этом направлении можно найти даже еще второе, как
бы расположенное позади, пограничное явление комиз-
588 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ма. Последнее возникает в том случае, если рассказчик,
оторвавшись от комизма, который уже сыграл свое дело,
так сотрясается от смеха, что совсем не может больше
острить. В результате происходит то, что он в этом случае
начинает снова и снова, но никогда не идет дальше
определенного пункта, в котором сосредоточилось
возбуждение смеха.
Характерно, что тогда комизм переходит от вещи,
шутки или анекдота на рассказчика: он сам становится
комическим предметом и даже, строго говоря, предметом
невольного комизма. Суть его, очевидно, заключается не в
чем ином, как в элементарной силе смеха, с
необходимостью выражающейся в двух сторонах и не дающей
одному рассказать о вещи, а другому понять ее, так что
слушатель должен в конце концов смеяться над
невозможностью для" себя присоединиться к смеху другого.
е. Трагикомизм в жизни и поэзии
Взаимосвязь серьезного в человеке с верой в судьбу,
настоящего трагизма с трагикомизмом родственна
пограничным явлениям комизма, но представляет собой
нечто совсем иное, чем они. Она должна быть понята не как
сомнительная, запутанная форма, возникающая иногда у
слабых поэтов, а прежде всего как единство
трогательного и смешного, естественно возникшее в самой жизни, и
притом такое единство, какое мы все имеем, не зная и не
ощущая его примечательности. Вопрос об этом единстве
также соответствует проблеме.
Речь идет о связи комизма с очень серьезным и
веским в поведении людей, о связи с поступками, со всеми
личностями и их жизненными путями. Человек может
также вступать в связь с действительно возвышенными
образами и их судьбами; здесь коренится причина того,
почему насмешникам удается так легко "унизить
возвышенное".
Но речь идет теперь не об этом переходе (так же как и
не о противоположном ему), а о связи и соединении
вышеназванных явлений прежде всего в жизни, а затем и в
поэзии. О чем же идет речь? Разве не отличаются здесь
радикально друг от друга жизнь и поэзия?
Эти вопросы напрашиваются сами собой. В древности
были созданы обособленные друг от друга формы поэзии
- трагедия и комедия, в более мелком масштабе - ода и
сатира; в общем и целом поэтическое искусство так и
осталось в таком делении. Причем нейтральные жанры, вро-
Раздел III. Комическое
589
де гражданской драмы, спасли себя тем, что облеклись в
маску серьезного.
В саму жизнь это деление нельзя было перенести.
Жизнь выступает против всех подобных попыток. А это
означает как раз то, что сама жизнь не такова. В ней нет
никакого чистого разделения, в ней все основательно
перемешано. Действительно, здесь комизм тесно связан с
серьезным, повсюду следует за ним. Возвышеннейший
герой имеет свои самые обычные человеческие черты,
мудрейший - свои глупости, высокоморальный человек,
хорошо владеющий собой, - свои слабости. Нет сомнения
в том, что они комичны и не лишены юмора; но нет
сомнения также и в том, что юмор все большое делает
маленьким и может допустить даже его исчезновение. Да,
положение дел таково, что опасность разрыва с мерой
великого, с вершиной высокого настолько увеличивается, что в
конце концов возникает необходимость, чтобы не
оставить на произвол судьбы возвышенное, сохранить для
него смешное при помощи искусственного разделения.
В этом заключена истинная причина разделения в
искусстве: оно разделяет то, что находит единым, ибо не
понимает, как объединить это.
Такая связь еще не есть трагикомизм. Последний
существует не в смещении трагических и комических черт
в человеке, а скорее в их внутреннем сплетении: человек
может при помощи именно глупости или других
слабостей, которые сами по себе смешны (высокомерие,
самомнение, упрямство, робость), прийти к результату,
серьезность которого несопоставима с ничтожностью
его промаха. Его судьба тогда действительно трагична,
но последовательность событий полна
непрекращающегося комизма, проявляющегося в той или иной степени.
Следовательно, здесь уничтожается аристотелевское
фсрсооианср ai оик (pGapiucov, (безболезненное и
безвредное). Это как раз и должно было быть способом защиты
от трагического.
В настоящем трагикомизме поэтому само трагическое
одновременно является и комическим, и именно в таком
виде, что оба они не уничтожают друг друга, а
сохраняются в раздражающей идентичности. Конечно, это
различные стороны одного и того же происхождения, но они
неотделимы друг от друга. Если бы искусство захотело
начисто отделить их друг от друга, то оно уничтожило бы то
и другое.
590 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Это особенно четко проявляется в поэзии:
трагикомические материалы там редки и издавна считаются трудно
достижимыми. Но имеются примеры и высокого стиля:
король Лир начал с величайшей глупости - с того, что
выпустил из своих рук всю власть, позволив себе при этом
сделать притворные торжественные заявления, -
последствия этого поступка огромны и действительно трагичны.
Как мог Шекспир отважиться на нечто подобное в
большой пьесе и к тому же сделать это с такой широтой?
Ответ должен быть следующим: потому что в конце
концов такова жизнь, а также потому, что поэт таким
способом приблизился к жизни, как приближаются поэты
чистой трагедии. Конечно, это может сделать не всякий
поэт; он должен иметь для этого величие, внутреннюю
широту и в то же время обладать единством и силой
синтеза, при помощи которой делает очевидным то, что
кажется ложным и двойственным. Но Шекспир мог
рисковать своим синтезом, потому что в жизни постоянно
существуют смешные глупости, имеющие самые трагические
последствия. Ставит ли платоновское требование эту
задачу, невозможно сказать. Но то, что оно при реализации
принимает данную форму, пожалуй, не случайно.
Изображение трагического у Шекспира имеет двойную
форму, ибо оно включает также связанный с трагическим
комизм, который, сопровождает в жизни все серьезное. И
эта далеко идущая форма пронизывает все новейшее
поэтическое искусство. Таков глубокий комизм Ульрика
Бренделя в Росмерсхольме - комизм такого рода, что он
бросает значительный, яркий свет даже на главные
личности; примерно таков же комизм антиподов: Айферера
Реллинга и Грегерса Верле в "Дикой утке" или Тесмана в
Тедде Габлер". Было время, когда мы не понимали такого
жизненно правдиво втиснутого комизма, ибо, по нашим
представлениям, к серьезному, поскольку мы касались
его, ничто другое не должно быть примешано. Эта
неуклюжесть относилась, пожалуй, к прошедшему, и постоянное
требование только веселого или серьезного настроения в
течение всего произведения должно было быть
окончательно преодолено.
В этом направлении триста лет тому назад
действовали, пролагая путь к новому, сцены, связанные с
Фальстафом в "Генрихе IV", которые совсем лишены
трагикомического характера, так как полностью связаны с
комизмом, таким, который в конце концов овладел всей великой
двойственной вещью. В этом состоит суть высшей формы
великой поэзии. К тому же стали возможными и многие
другие виды синтеза.
Раздел III. Комическое
591
ГЛАВА 39
МЕСТО КОМИЧЕСКОГО В СТРУКТУРЕ СЛОЕВ
а. Соотношение внешних и внутренних слоев
При постановке проблем комического стараются,
насколько это возможно, проследить явления до конца,
обращаясь при этом в первую очередь к основному вопросу
эстетики. Такой подход обусловлен характером
проблемы, в которой многие теории отчасти
противопоставляются одна другой, отчасти оспаривают друг друга, в то
время как полностью еще не обсуждена и не описана
сущность явления. Многие из этих теорий уже
рассматривались выше, но благодаря этому мы только смогли подойти
вплотную к отдельным сторонам общего для них
положительного качества, в центре которого стоит кантовский
тезис о сущности смешного. Настало время снова
обратиться к основной проблеме. И это мы будем делать по точной
аналогии с трактовкой возвышенного и изящного.
Систематически рассматриваемый основной вопрос о
комическом есть тот вопрос, в котором комическое
занимает свое место в слоях эстетического предмета.
Аналогично ставится вопрос о возвышенном и изящном -
собственно уже в общей проблематике прекрасного,
которая сводится по существу к взаимоотношению
слоистости и явления.
Можно ли теперь предположить, что для комического,
по крайней мере приблизительно, должно существовать
определенное кульминационное состояние в порядке
слоев? Возвышенное коренится во внутренних слоях в
соответствии с его вескостью, изящное и все, что ему
родственно, - во внешних слоях, соответственно с его
парящей легкостью. Как же обстоит дело с комическим?
Здесь, как и в изящном, и даже с большим основанием
предполагается наличие внешних слоев, ибо комизму
также свойственна известная легкость, нечто парящее и
играющее, почти безответственное. Подобные явления
едва ли могут корениться в глубинных слоях предмета.
Но, с другой стороны, рядом с легким юмором
существует также глубокомысленный мировоззренческий юмор,
и комизм (даже язвительный и злой) может встречаться в
более значительных глубинах человеческой жизни, где он
действует оскорбляющим и уничтожающим образом. В
этом отношении комизм не имеет никакого родства с
привлекательным, которое всегда остается безвредным и
592 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
никогда насильно не раскрывает подоплеки. Не
свойственно ему также и явление очарования, родственное
или соответствующее трагикомизму. Последнее всегда
связано с поверхностным, стоит ближе к чувственному и
выражается непосредственно в нем. Ему не присуща даже
претензия на остроумие.
Исходя из этого можно было бы предположить, что
комизм вообще не связан со слоями эстетического
предмета, но благодаря определяющему его моральному
характеру он в той или иной степени мог бы быть связан с ними.
В известных границах, пожалуй, так оно и есть. Об этом
свидетельствуют резко отличающиеся друг от друга
разновидности юмора, такие, как сатира и комедия. Но
простое различие высоты положения не выражает существа
дела. Комедия условно относится к изящному, которое
занимает значительное место в юморе. Поэтому здесь
нужно искать другие причины. Включение комического в
порядок слоев возможно следующим образом: комическое
сообразно своей сущности не может зависеть от одних
только внутренних слоев или лишь от внешних, оно
зависит от их соотношения. Ибо спад контраста, с которым
связан комизм, в основном имеет место между важным и
ничтожным, глубоким и поверхностным, значительным и
легковесным.
Вспомним следующее: "спад" вытекает из такого вида
бессмыслицы, который достигает комического эффекта в
саморазрешении; комическим является как раз
разрешение не всякой нелепости, а только такой, которая
симулирует важное, но позади которой стоит ничтожное; при
неожиданном разрешении эта нелепость обрушивается "в
ничто".
Ни в коем случае нельзя внешние слои предмета -
например, в поэтическом произведении - характеризовать
как "ничтожное", как нельзя и во внутренних слоях считать
все "важным". Но это и не подразумевалось. Пожалуй,
отношение должно быть таким, что действительно веское и
значительное, если оно вообще имеет место, может
выразиться только во внутренних слоях, точно так же, как
относительно ничтожное может достигнуть некоторой
значительности только во внешних слоях. Что лежит ближе к
поверхности поэтического произведения - движение и
мимика личностей, отчасти даже ситуации и поступки, -
тесно примыкает к чувственному, в котором еще целиком
преобладает созерцание. Поэтому в данном случае может
иметь место незначительное. С другой стороны, значи-
Раздел III. Комическое
593
тельное и веское может иметь место только там, где
вообще есть простор для веского, где внутренняя сущность
поступка выводится из образа мыслей и характера
личностей, где соединяются большие жизненные связи,
которые мы воспринимаем как судьбу людей.
Этим объясняется тот факт, почему "спад" комизма не
может проявляться в любом масштабе, но должен
совершаться на основе глубокого различия в порядке слоев
эстетического предмета. Поэтому в области комического
нет явного перевеса отдельных слоев или группы слоев:
здесь нет перевеса внутренних слоев, как в возвышенном,
и внешних слоев, как в изящном. Скорее здесь
преобладает известное равновесие групп слоев. В этом
равновесии слоев комическое, как это ни странно, стоит ближе к
универсально прекрасному, чем возвышенное и изящное.
Конечно, само соотношение здесь совсем другое, чем
в структуре слоев прекрасного. Там оно представляет
собой прозрачность предшествующего слоя для слоя
последующего, простое и наглядное отношение проявления,
составляющее красоту.
В комизме соотношение слоев сложнее. Ибо здесь
наблюдатель сначала ошибается, заблуждается, причем
таким образом, что весьма значительное и веское,
которое как таковое должно относиться к более глубокому
слою, превращается затем в весьма плоское и
незначительное, располагаясь гораздо ближе к переднему плану.
Это означает, что вместо истинной прозрачности, по
крайней мере в одном из внешних слоев, используется
фальшивая прозрачность: с помощью ее "более
значительное и веское" маскируется так, что временно оно не
"является", но "кажется являющимся". Это наполовину
бессмысленное выражение удивительно четко отражает
несоответствие, которое вкладывается здесь в чистую
красоту отношения проявления и, очевидно, разрушает
ее. Конечно, при таком разрушении это несоответствие
исчезает. Само по себе оно не было бы комичным, а
являлось бы "только обманом" и, возможно, уродливым.
Комизм возникает в процессе уничтожения обмана, когда он
разгадывается и осознается как заблуждение,
надувательство и одновременно как разыгранная шутка. При
этом происходит "падение в ничто".
Не должно вызывать сомнений и то, что при этом речь
идет о "кажущемся явлении". Это не тавтология; явление
далеко оттого, чтобы быть видимостью. Регулярное
явление в отношении слоев вполне оправдано: в нем ничто не
594 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
обманывает, в том числе и реальность являющегося. Но в
"видимости явления" кое-что обманывает, а именно то,
что должно почти регулярно являться, что якобы
действительно существует и мыслится в глубинном слое, чего на
самом деле совеем нет.
Сам обман зависит от того, насколько подобного рода
проникновение вглубь затуманивает явление или
затрудняет его понимание, как это часто бывает в жизни; однако
сама жизнь формирует свой непрерывно обновляющийся
комизм таким образом, что перед нами разыгрывается
важное и значительное там, где в действительности - и
притом в реальной действительности - фигурирует
ничтожность. Разгадать это в жизни с первого взгляда столь
же затруднительно, как и в искусно оформленной шутке, в
ситуациях хорошей комедии и т. д. В последней так же, как
и в жизни, прежде всего появляется нечто весьма
значительное, которое впоследствии превращается в очень
мелкое и поверхностное. Всякий сознательно
оформленный комизм юмориста предполагает подражание
характерным ошибкам, которые мы часто совершаем в жизни.
Случается и так, что эти ошибки заколдовывают нас,
исходя от людей, которые хотят нас обмануть, или они
совершаются случайно только по нашей невнимательности.
Именно в этом заключается причина того, почему многие
мелкие обманы в жизни кажутся нам весьма значительной
интриганской игрой, которая ведется с нами или
дьявольски злобным существом или плутовски смешным,
себя и нас забавляющим божеством.
б. Комизм и жизненная правда
Из всего сказанного становится ясно, почему комизм в
поэзии представляет собой выдающуюся форму
выражения жизненной правды. Ведь в жизни существуют факты,
которые трудно, а иногда даже невозможно прекрасно
высказать или изобразить, а поэтическая необходимость
требует охватить, выразить, сделать их убедительными;
ибо они относятся к жизненной целостности, и
пренебрежение ими привело бы к жизненной неправде. То, чего не
может сделать прямое выражение, в состоянии сделать
косвенное благодаря зрелым формам юмора.
Какую роль играет собственно поэтическое искусство
при юмористическом изображении мелкого и ничтожного,
невзрачного, жалкого и плачевного? Приукрашивает ли
оно его, перекрашивает ли? Маскирует ли его, скрывает и
Раздел III. Комическое
595
прячет ли? Если бы это было так, оно не делало бы эти
пороки наглядными. Здесь происходит нечто совсем другое.
Всякое приукрашивание означало бы жизненную
неправду, а конфликт с правдой чужд комизму. Комизм живет
как раз неожиданностями, которыми подстерегает нас
суровая реальная жизнь, живет, если хотите,
"невероятным", то есть тем, что кажется невероятным всякому,
лишенному идеалистического воображения взгляду. Но
невероятное далеко от того, чтобы всегда быть неистинным.
В этом заключается теперь одна из тайн комизма. Она
касается его отношения к требованию правды в поэзии.
Именно комизм, который всегда имеет дело с некоторыми
преувеличениями и который не предполагает, конечно,
точного воспроизведения реальной жизни, в состоянии
показать удивительно объективно и беспощадно
определенные черты человеческой жизни, не обрисовывая при
этом невыносимые картины жалкого и плачевного в
человеке. Не нужно повторять при этом, о каких чертах идет
речь. Сюда относится все, что причислялось выше (гл. 37,
в) к человеческой слабости и глупости, все виды
бессмысленного, которые только можно себе представить. Все
они, если их рассматривать в чистом виде, имеют кое-что
от убожества и плачевности.
Это есть то ничтожно-человеческое, что поэтическое
искусство изображает юмористически: поэтическое
искусство показывает бессмысленное в таком
замаскированном виде, каким оно хочет казаться в жизни - то есть как
осмысленное, значительное или по крайней мере
благопристойное, - но не для того, чтобы потом оставить его в
этом наряде, а чтобы сорвать с него маску, как это
случается в жизни; дело в том, что теперь бессмысленное в
руках поэта; он заставляет его действовать таким образом,
чтобы эффект самоуничтожения был наиболее
значительным. Легко понять, чего он этим самым достигает: жалкое
и плачевное косвенно проявляется не в безрадостном
описании деталей, как этого требует наглядность, а
именно в своей негативности, в ощутимости своего
ничтожества. Так, с точки зрения эстетической ценности ничтожное
и жалкое приобретает этическую ценность, которая по
отношению к ним при ином изображении была бы просто
нереальна. Здесь же, напротив, в ней нет ничего
нереального. Ибо эта значимость коренится в том, что ничтожное
и бессмысленное в самом человеке является фоном, на
основе которого появляется подлинное и достойное в
человеке. Именно это демонстрируется во внешней конк-
596 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
ретной ощутимости комизма: в смехе человек возвышает
себя над ничтожным и позволяет ему исчезнуть в своем
ничтожестве. Это возможно только потому, что речь идет
об отношении проявления, ибо низкое и гадкое не имеет
реальности; следовательно, отрицание гадкого и само
презрение к отвратительному не является реальной
угрозой. Знание нереальности существенно для всякого
отношения. Это означает: существенно то, что как здесь,
так и везде в отношении проявления не симулирует
никакой реальности. Являющееся может быть воспринято
легко и весело.
В этом отношении оно уподобляется драматическому
искусству: поскольку интрига и убийство на сцене не
ощущаются как реальное, зритель может вести себя
спокойно, иначе наслаждение было бы невозможно. Так и здесь:
только потому, что гадкое и бессмысленное нереально,
слушатель может забавляться этим. Если же они реально
встречаются в жизни, то требование становится гораздо
суровее по крайней мере в морально правильном
отношении; вместе с ними появится и момент серьезного. Если
серьезное проявляется очень сильно, то комизм
переходит в трагикомизм. Опыт показывает, что последний
встречается в жизни довольно часто.
Кроме важной функции - ценить веселье и хорошее
настроение в жизни, не давать человеку возможности
погружаться в свое будничное убожество, - на долю
комического выпадает еще одна особая задача в поэзии - и как раз
не в "комической" поэзии, а в серьезной. Эта функция
касается требования жизненной правды в поэзии.
Значительные формы поэзии и прежде, всего роман, а также
драма и менее значительные формы рассказа
испытывают настоятельную потребность в жизненной правде. Мы
ощущаем ее именно как требование "близости к жизни".
Это требование не всегда выполнимо при помощи
прямого изображения вследствие того, что последнее сводится
к описанию совершенно безрадостного или к
болезненному пребыванию в низком, плачевном, раздражающе
досадном. Есть поэты, которые становятся невыносимыми
даже для видавшего вида человека, ибо они заходят в
этом смысле слишком далеко.
Но так как серьезная поэзия не останавливается перед
этими границами, а, наоборот, должна отображать это
царство безрадостного во всей его полноте, то вопрос о
способе осуществления этой задачи становится весьма
актуальным. Здесь приходит на помощь великолепное
Раздел III. Комическое
597
средство юмора, а именно комизм, покоящийся на
подтвердившейся и сочувствующей нравственности. Ибо
особенность комизма заключается в том, что он по своему
материалу касается именно этих слабостей ничтожности,
бессмысленности, глупости, а также плачевности и
убожества в человеке и его жизни, и в то же время он связан
с требованием жизненной правды.
Все эти вещи могут изображаться с налетом
комического, однако их жестокость этим отнюдь не сглаживается,
но граница их терпимости значительно расширяется.
Юмор берет в безрадостном горькое и мучительное, и в то
же время он возвышается над тем, что раскрывает; сам
смех даже тогда, когда он звучит только внутренне, есть
уже возвышение над этими пороками.
Это подтверждается в том высоком стиле, где поэты,
проникающие в человеческие глубины, становятся
могущественными в своем юморе: таков Гамсун (например, в
"Розе" - история с ванной; то же самое можно сказать об
образе Августа). Нечто подобное имеет место в драмах
Ибсена (Штокман, Яльмар). Не случаен тот факт, что
здесь речь идет о поэтах, которые вовсе не являются
профессиональными юмористами. Центр тяжести у них
находится в совершенно других вещах, чаще всего как раз в
трагическом. Последнее нисколько не мешает
изображению комического.
е. Следствия, вытекающие из положения
комического в структуре слоев
Из положения комического в структуре слоев
предмета можно сделать ряд дальнейших выводов. В какой
степени об этих выводах можно судить на основании
последних размышлений, сказано еще мало. Но это можно
выяснить.
Сказанное о положении комического в структуре слоев
предмета оказывается пригодным: здесь речь идет не об
абсолютной глубине (глубине слоев) комического - так как
оно имеет две составные части - и не о глубине мнимо
значительного и скрывающегося за ним незначительного,
а исключительно о глубине дистанции между этими двумя
моментами внутри последовательности слоев предмета.
По материалу этой глубинной дистанции всегда
соответствует определенная дистанция высоты, будь она
оптической, просто логической или моральной. В последнем
случае глубинная дистанция является и дистанцией
высоты ценности (Werthohendistanz) - и притом не внутри из-
598 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
мерения ценности и неценности (Wert - Unwert -
Dimension), а внутри, степени высоты и порядка
(Ranghohenordnung) ценности. В этой дистанции высоты
играет роль "спад" комического. Тогда становится
понятным, почему "спад" связан только с расстоянием, а не с
абсолютной высотой. Он ощущается непосредственно как
эффект комизма в какой-нибудь хорошо удавшейся шутке
и зависит только от величия "падения в ничто", в то время
как содержание при этом может быть весьма различного
значения.
В этом заключается причина того, почему комизм
может применяться к любому содержанию как способ
создания видимости, без указания на определенный уровень
состояния, как нормальный. Условие заключается лишь в
том, чтобы содержание (материал), безразлично какой
"высоты", имело исходный пункт в форме бессмыслицы,
слабости, глупости и т. д. Ибо все это расположено на
различной высоте; личные муки ревнивца играют в иной
душевной плоскости приблизительно такую же роль, как
страх перед скандалом того, кто занимает видное
общественное положение. Подлинный юмор овладевает здесь
всеми каналами. Обнаруживается, что он часто
подкрепляется огромным мировоззренческим содержанием.
Теперь можно сделать вывод из положения комического в
структуре слоев явления. Так как веское и глубокое
является здесь только видимостью, то отсюда следует, что при
потере видимости должна обнаружиться и "появиться" ее
противоположность - ничтожное. Но так как последнее
негативно, то оно приходит к отрицанию в форме смешного:
оно "обрушивается" прежде всего в противоположность
мнимого веского (веского в слое после глубокого) и тем
самым занимает свое законное место в соответствующем
ему слое.
Только это последнее явление и составляет конечный
эффект. Но. на пути к нему встречается много парадоксов;
а именно от них, как это ни странно, зависит правдивость
комического эффекта: она состоит в приближении
нереального к ирреальному, или - что то же самое - в
жизненной правде чисто вымышленного и фантастического.
Это соотношение предполагает прежде всего наличие
веского в легкомысленном и ни к чему не обязывающем,
или, иными словами, предполагает неожиданную
серьезность в шутке. Ибо последняя так же неожиданна, как и
обрушивание веского в "ничто" в комическом эффекте.
Раздел III. Комическое
599
Относится ли ко всему этому еще чисто
изобразительная ценность комического, его способность делать
выносимым невыносимое или, выражаясь резче, его
способность делать привлекательным непривлекательное или
даже отталкивающее? Здесь дело заключается не в
формулировках, и та граница, которой должен достичь
парадокс в комическом, может все же быть спорной. Но
принцип, из которого выявляется внутреннее расстояние
важного и ничтожного в комическом, везде одинаков:
низвержение и саморазрешение бессмыслицы.
Здесь можно также говорить о "значительном в
ничтожном" - по-видимому, этот оборот есть самый
универсальный - или о "являющемся в исчезающем". И то и
другое нуждается в пояснении. Прежде всего комизм - это
нечто обратное: так как саморазрешение допускает
исчезновение значительного и появление вместо него очень
незначительного, то можно сказать нечто большее, а
именно, что в комическом имеет место появление
"незначительного в значительном" и что "исчезновение"
заключено в "являющемся".
Это соотношение не так просто. Оно, по меньшей
мере, двойственно. Как обстоит дело с бессмысленным или
некачественным в явлении комического? Оно фактически
исчезает в комизме, став, очевидно, вслед за мнимо
значительным и тем самым уничтожая его: оно исчезает, ибо
его появление в своей ничтожности одновременно
представляет собой его уничтожение. Поэтому оно, проявляясь,
самоуничтожается. Но это означает, что появляется нечто
иное, так что в конечном итоге оно все-таки снова есть
"являющееся в исчезающем". Причем в данном случае
это двойное отношение означает "значительное",
являющееся в "незначительном".
Конечно, словами все это трудно высказать. Лучше бы
заострить диалектически данное отношение. Но при этом
надо иметь в виду, что искусственная форма понятия имеет
свои опасности. Здесь следует быть осторожным также и
со сравнениями, поэтому можно ограничиться описанием в
очень несовершенных понятиях - в понятиях, которые ни в
коем случае не определялись для этого отношения и
поэтому никогда не могут точно соответствовать
действительности.
Все, о чем здесь идет речь, ограничивается в конце
концов этим немногим вопреки разнообразным
направлениям: тут появляется не более глубокое в более
поверхностном, как, пожалуй, бывает всегда и как это
600 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
закономерно в прекрасном, но более поверхностное
появляется в более глубоком: ничтожное проглядывает за
значительным, смешное - за возвышенным. Это есть
извращенное отношение проявления. Но подобно тому,
как оно не было первым, оно не остается и последним.
Сперва появилось более глубокое; правда, оно
симулировало; но так как существовало только
поверхностное, оно могло появиться лишь "в" нем.
Поэтому естественно, что воспринимающий субъект не
знал этого. Когда в данном случае первое отношение
проявления переходит во второе, а само это
(извращенное) уже выявилось, тогда исчезновение более
поверхностного вводит в действие свое вторичное
исчезновение после того, как оно всплыло сперва во
втором отношении; но отныне оно больше не исчезает за
более глубоким, ибо последнее само исчезло, а за своим
собственным смешным. Выражаясь предметно, за своим
притязанием самому быть более глубоким.
ГЛАВА 40
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВОЗРАЖЕНИЯ
а. Удовольствие от комического
и удовольствие от прекрасного
Исследование комического - это само по себе не что-
то комическое. Тот, кто хочет веселиться, остается в
накладе. Точно так же в исследовании возвышенного нет
ничего возвышенного, в исследовании грации -
грациозного и в исчерпывающем исследовании
прекрасного нет ничего прекрасного; никто, кому не
приходилось заниматься самим прекрасным, не ощущает
этого. Но это вполне осознает тот, кто занимается
исследованием прекрасного, возвышенного, грациозного
и комического. Судьба эстетики такова, что она не может
не разочаровывать, ибо все те, кто обращается к ней,
делают это ради прекрасного, возвышенного,
грациозного и комического.
В этом смысле эстетика занимает совершенно особое
место среди других философских дисциплин. Этика
помогает тому, кто заботится о моральной добродетели.
Ее загадочные вопросы встречают отчасти весьма
серьезные препятствия в самой практической жизни;
ясно, что эти загадки отбрасывают.
Раздел III. Комическое
601
Логика предохраняет мыслителя от определенного
опасного, ложного пути мышления; теория познания
указывает границы и условия возможного знания, она тем
самым определяется высшей ступенью знания.
Онтология в конце концов дает повод тому, кто хочет
понять сущее; и также философия истории и философия
права косвенно служат познанию истории и права.
Особое место эстетики в этом отношении составляет
одну из ее трудностей. В эстетике связь между ее
проблемами столь своеобразна, что эта ее особенность
больше всего обнаруживается как раз в области
комического. Именно комическое есть та область
прекрасного, в которой характер прекрасного более всего
отступает на задний план - настолько, что часто кажется
весьма сомнительным, можно ли комическое относить к
прекрасному или нет. Ведь есть же виды красоты,
которые, несомненно, утрачивают свою специфику под
воздействием комизма.
Вот неприемлемое возражение: если имеются
различные виды прекрасного, они должны исключать друг
друга, как всегда исключают друг друга виды одного рода.
Само собой разумеется, при подобных возражениях
всегда имеют в виду прежде всего возвышенное или такие
виды красоты, которые близки к возвышенному. За
примерами не нужно далеко ходить; это относится к
каждому лицу, светящемуся серьезной, задумчивой
красотой, к каждому широко открытому, торжественному
ландшафту. Но, кроме возвышенного, можно сказать то
же самое и о грации, привлекательности, миловидности-
они способны поддаваться разрушительному
воздействию комизма. Итак, что это значит, что характер
прекрасного более всего отступает на задний план?
Очевидно, это не означает того, что прекрасное просто
исчезает. За данные соображения говорит тот факт, что
удовольствие от комизма слишком близко к удовольствию
от прекрасного.
Не есть ли это все же совсем другое удовольствие?
Что же общего между удовольствием от комического и
удовольствием от прекрасного? Пожалуй, именно то, что
оба чисто предметны, не заинтересованы получить
удовольствие от явления без внимания к его реальности.
А в чем отличие? Всегда ссылались на то, что
рассмотрение комического начинается с неудовольствия: от
бессмыслицы как таковой, от глупости или слабости никто не
может получать удовольствия. Но никогда не утвержда-
602 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
лось следующее: удовольствие в забаве над комическим
зависит не от бессмысленного, а от его разоблачения,
которое одновременно есть его сохранение и ликвидация.
Остроумное в этом сохранении, поскольку оно являлось
непосредственным последствием бессмыслицы, есть,
без сомнения, нечто позитивное, то, от чего удовольствие
полностью может принять характер пребывающего
наслаждения. Мы узнаем о последнем, когда получаем
удовольствие от хорошей шутки, обращения, полного юмора,
комической картины или хотя бы аналогии, бросающей
яркий свет.
Отличие чувства удовольствия, вызванного
комическим, от чувства удовольствия, вызванного нейтрально
прекрасным, таким образом, не больше, чем оно должно
быть для особого рода специального случая. С
субъективной точки зрения это отличие есть главным образом
отличие настроения, ибо смешное только один раз веселит, а в
другом царстве прекрасного имеется весьма много
серьезного.
Поэтому нет никакого основания проводить здесь
грань. Комическое совершенно правильно ставится в
один ряд с прекрасным; в этой парадоксальности
комического легко обнаруживается нечто от "элегантности",
которое в данном случае ощущается непосредственно
как красота (искусство гениального юмориста), как, с
другой стороны, юмористическое непринужденно
связано с грациозным в своеобразных произведениях тонкого
комизма.
Что же означает в таком случае, что в комическом
прекрасное отступает на задний план? На этот вопрос
отвечают выводы предыдущей главы (39, "б", "в"):
своеобразная сила комического заключается в том, чтобы
вполне правдоподобно опосредовать гадкое и низкое, не
оскорбляя и не унижая при этом чувства.
Именно то, "что" способствует здесь комизму, -
рассматриваемое чисто материально - содержательно, -
далеко от того, чтобы быть прекрасным. Раньше его можно
было бы охарактеризовать как безобразное. Выше уже
было показано, почему "безобразное" в конечном счете
все же не подходит к этому: речь идет как раз о слабом и
низком, об обыденном и бессмысленном в человеке, о
том, от чего мы отвращаем взгляд, когда встречаем в
жизни.
Почему эти слабости составляют материал
комического - об этом уже подробно говорилось. Теперь нужно еще
Раздел III. Комическое
603
сделать вывод, что эти материальные моменты являются
противоположностью прекрасному в комическом, то есть
тем, что "заставляет прекрасное в комическом отступить
на задний план".
Но правильно ли говорить так? Должен ли в
комическом только материал определять прекрасное и
непрекрасное, в то время как везде форма имеет решающее
значение, все равно, идет ли речь об особом формировании
в отдельном слое художественного произведения, то есть
в крайнем случае, следовательно, при чистой игре форм,
или о перемещении форм в порядке слоев?
Само собой разумеется, что нельзя прийти к такому
мнению. Бытие прекрасного, как и везде, зависит здесь от
формы; правда, не от играющего расцвета формы, а от ее
способности допустить проявление другого. И поэтому
эстетическое удовольствие от комического - то, что
заставляет нас смеяться, - по существу, того же вида, что и
удовольствие во всех других наслаждениях прекрасным.
Особенное, благодаря которому выделяется это
удовольствие - как раз то, что заставляет нас смеяться -
целиком остается внутри рода эстетического удовольствия:
оно не ограничивается содержанием. Ибо то, что здесь
имеет место известный эффект, что он зависит от
симулирования чего-то веского и затем от того, что эта вескость
устраняется, превращаясь в ничто, представляет собой
моменты, которые все заключены внутри одного и того же
отношения проявления. Они делают его только сложнее,
позволяют ему мнимо идти против самого себя
(искаженное явление) и потом вернуться снова в естественное
русло. От этого зависит своеобразное удовольствие, которое
не имеет больше дела с материалом, и его своеобразие
также не зависит от него: удовольствие от комизма.
б. Комизм в живописи и музыке
Из сказанного вытекает целесообразность
рассмотрения возникших мыслей. Появляются еще и другие мысли,
особенно в том случае, если рассматривать главным
образом особенное. До сих пор шла речь о комическом
только в поэзии, а также в жизни; и то и другое - по праву,
ибо здесь находится центр тяжести комического. Но в
конце концов комизм имеет место также и в другом. Как
обстоит дело, например, с комизмом в карикатуре? При
этом карикатуру следует понимать широко, присоединив
к ней все, что имеет подобный же оттенок.
604 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
Подходят ли данные выше определения к комическому
в рисовальном искусстве? Ведь здесь речь идет только о
рисунке; краска есть лишь добавление, почти уже
смягчение комизма. Возможно, она сделала бы карикатуру
слишком реалистической, что действовало бы невыносимо.
Следовательно, вопрос о том, подходят ли к этому
данные определения, означает: имеется ли здесь нужный
"контраст", в правильном ли измерении лежит он,
"разрушается" ли здесь что-либо из того, что сначала выглядит
значительным и достойным; наконец, есть ли здесь
бессмыслица, которая разрешается?
Оба последних вопроса суть те, которые вызывают
размышления. Контраст выискивают уже в искусной
карикатуре - при этом только тогда, когда знакомы с
оригиналом, с которого написана карикатура. Ибо он является
достойным предметом; искаженное в карикатуре есть
ничтожное, в которое превращен предмет. Тем самым
обеспечивается также правильное измерение
противоположности.
Но как же обстоит дело с "разрушением"? Рисунок не
знает более раннего и более позднего, там имеется все
вместе взятое. Однако можно сказать, что он создан так
искусно, что наблюдатель узнает оригинал прежде всего
по некоторым характерным чертам; только тогда и
обнаруживаются искажения, которые сначала вызывают
разрушение важного, превращение его в ничтожное.
"Бессмыслица" состоит в этом случае в том, что ничтожное,
ставши таковым посредством искажения, претендует
быть существенно достойным, каковым является
оригинал.
Это относится не ко всем карикатурам. Имеется также
обратное. Там мы видим прежде всего искажение и
воспринимаем его как имеющее благодаря своей
необычайности характер чего-то вызывающего; тогда только мы
замечаем, кого все же должно увещевать целое. Нельзя
отрицать, что и здесь также распространяется влияние
карикатуры с тем же комизмом.
Отсюда можно сделать только следующий вывод:
влияние комического не имеет отношения к
последовательности рассмотрения. Но можно ли тогда сохранить в силе
"разрушение" и самоуничтожение антагонизма?
Это надо подтвердить. "Разрушению" не нужно
обязательно быть временным. Это было показано выше на
примере известных форм юмора, где простое сравнение,
Раздел III. Комическое
605
сразу же разгаданная аналогия действуют уже смешно.
Но это явление можно объяснить еще иначе.
Мы можем хотя бы задним числом именно
"разрушение" воспринимать как таковое, ценить и наслаждаться
его комизмом. Мы будем стоять тогда перед обломками
низвергнутого кумира, еще достаточно хорошо узнавая по
формам отдельных кусков, каким великим,
претенциозным он был раньше.
Или возникает дополнительно хорошо знакомая нам
картина неискаженного оригинала. Тогда появляется тот
же контраст, что и в противоположном случае. Равным
образом появляется та же бессмыслица, тем более,
конечно, ее самоуничтожение, которое заключается в
исчезновении ложной претензии.
Следующий вопрос касается комического в музыке.
Выше было показано, почему чистая музыка не способна к
комическому. Как согласовать это с тем, что в
программной музыке комизм вполне может иметь место? Должна
по крайней мере существовать возможность
сопровождать соответствующей музыкой комизм, имеющийся в
тексте или на сцене.
Однако даже о чистой музыке можно сказать, что она в
известных произведениях очень близка комическому; она
способна к веселому и радостному, а также
забавному, капризному, ветреному и неуравновешенному,
наконец - к шаловливому и беспечно легкомысленному. Не
разделяет эту чистую музыку и комическое.
Но тот, кто из этого хотел бы сделать вывод, что сама
музыка сильна комическим, пошел бы по ошибочному
пути. Он не заметил бы, что вместе с "радостным, забавным
и легкомысленным" он значительно больше приближается
к уже известным особым формам изящного, которые
упоминались раньше: "к веселому, легкому и приятному",
возможно также "грациозному" и, во всяком случае,
"привлекательному". Этим самым мы покинули область
комического и вступили в совсем другую область. Чистая музыка
весьма подходит к изящному, а именно ко всем его
специальным формам; но это и не стояло под вопросом.
Что же касается программной музыки, то здесь мы
можем найти много примеров. Лучшие из них - в операх
Моцарта, например, полный чувства женский дуэт в
"Фигаро" ("Дверь закрыта..."), затем у Вагнера сцены Бекмес-
сера, в особенности с Гансом Саксом во втором акте;
точно так же у Р. Штрауса в "Кавалере роз" (Оке фон Лерхе-
нау), у Пфитцнера в "Палестрине" (второй акт), у Гумпер-
606 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
динга; несколько меньше примеров можно привести из
оперетт; однако здесь необходимо соблюдать
осторожность, ибо комизм комедии большей частью идет "рядом"
с музыкой и едва касается ее. Зато, пожалуй, можно
привести кое-что из песенной литературы.
Вопрос стоит так: о чем говорят подобные примеры?
Означают ли они, что музыка, которая сопровождает
комический текст или комические сцены, сама комична, или
только то, что эта музыка соответственно настроению
конкретно выражает веселость и шаловливость,
плутовское и забавное, поскольку оно неразрывно связано с
комизмом текста или сцены?
После тщательного рассмотрения следует
остановиться на последнем, руководствуясь названными
примерами. Мы не можем уделить этому больше внимания;
нужно использовать имеющиеся выше и относящиеся к этому
вопросы цитаты, а затем попытаться трезво решить, не
подвержены ли мы обману - подобному тому, который
порождается искусством фокусника, - приписывая музыке
то, что целиком относится только к комизму комедии.
Ведь музыка так удивительно подходит ко всем оттенкам
настроения, что едва ли возможно избежать обмана.
Пожалуй, гениальнее всего осуществлен этот обман
Вагнером. Если все же отдельные места Бекмессера
мыслятся без текста, без сцены и без мимики комической
фигуры, то трудно сделать вывод, что эта музыка должна
быть комической. Ее найдут только странной, местами
даже полной своеобразной красоты.
е. Комизм в сфере отдельных слоев
Более серьезное возражение относится к
совокупности всех комических предметов, безразлично,
принадлежат ли они к художественным произведениям или к
комизму в жизни. Но оно, пожалуй, имеет в виду в первую
очередь художественные произведения. Спрашивается,
действительно ли комическое везде покоится на
"падении" в слоях предмета? Этот вопрос, рассмотренный в
главе 39, пункт а, освещен недостаточно.
Существует явление, которое, пожалуй, оспаривает
это. Возьмем случай с комедией или юмористическим
рассказом: есть ли там действительно только единый
комизм целого действия, который построен многослойно и
имеет достаточно простора для падения? Или скорее нет
особого комизма внешнего явления, комизма ситуации и
Раздел III. Комическое
607
действия, комизма характеров и поведения, наконец,
комизма судьбы?
Объяснение этого многообразия комического
частями целостности еще не снимает вопроса, ибо последняя
не допускает разделения; в действительности же она
очень хорошо разделяется, так что при постановке
пьесы та или иная составная часть ее может хорошо удаться
и не удаться.
В выражении "чего вы хотите" может внутренне
блестяще удаться внешний образ Мальволио вплоть до
мимики влюбленного тщеславия, комизм же ситуации (при его
встрече с "фрейлейн") оставляет желать лучшего. То же
самое можно сказать об обоих моментах - о комизме
характера и поведения и о комизме судьбы (первый
проявляется в правдоподобности всей "личности", второй - в
сцене невольного фехтования Висолы с дворянином
Кристофом).
Точно так же обстоит дело в комическом рассказе, где
каждый из этих элементов может почти свободно
варьировать по отношению к другим. По сути дела, специфика
рассказа в значительной степени зависит именно от этого
варьирования. Своеобразие поэтов вплоть до тончайших
оттенков их творчества характеризуется именно этим
(Жан Поль, Стерн, Рааб, Рейтер и др.).
Следовательно, относительную самостоятельность
комизма в отдельных слоях нельзя обозначить как
существенное. Скорее она нуждается в объяснении,
исходящем из сущности дела. Последняя может корениться или
в объяснении комизма целого, где имеется простор для
каждого вида падения, или в особых соображениях,
которые оценивают отдельный слой.
Сразу же нужно сказать, что последний случай весьма
сомнителен - не из-за конфликта с теорией, которая
могла быть ложной, - а потому, что существуют и другие
причины этого: не следует заходить слишком далеко в
выделении особого комизма отдельного слоя; тонкое чувство
наблюдателя самого комизма предупреждает его от этого
таким образом, как будто здесь за констатируемой
самостоятельностью все же находится взаимосвязь, которая
остается досягаемой там, где мы ее непосредственно не
ощущаем. Это является намеком самого эстетического
чувства, или, говоря приблизительно, намеком чувства
ценности. Последнее было бы, конечно, слишком узко;
скорее оно выражается как чувство структуры. Это
чувство не должно игнорировать теорию, ибо раскрывав-
608 Часть третья. Ценности и виды прекрасного
мое в теории содержание зависит от почвы, на которой
возникают такие чувства.
Поэтому далее нужно спросить: в чем суть
изолированного комизма слоев, например комизма внешнего
поведения, мимики, манеры держать себя? Существует
ли он в противоположность комизму следующих слоев
действительно для себя, если он имеет известную
самостоятельность?
Комическое только тогда является внешней манерой
держать себя, когда оно пластически противостоит тому,
что хочет изобразить. Мальволио во внешнем проявлении
противостоит личному достоинству и вескости, которые
он пытается себе придать. Личное достоинство
выражается, правда, во внешнем, но относится к совсем другому
слою (как личности, так и "пьесы") - к слою характера и
морального поведения. "Падение" комизма,
следовательно, локализировалось бы здесь так же, как и в
произведении в целом, то есть в глубинном измерении слоев.
Если это оказывается пригодным, то вопрос решается
в смысле развитой теории, то есть в силе остается то, что
относительно изолированный комизм отдельных слоев,
хотя он появляется только в них, коренится не в них одних,
а предполагает другие слои с другим материальным
содержанием.
В этой связи возникает серьезный вопрос: мыслится
ли комизм ситуации (приблизительно в одной сцене) без
особого формирования характеров, которые причастны к
нему? Имеются ли такие внешние ситуации между
людьми, которые существенно не определялись бы при
помощи их своеобразия, их слабостей, страхов и тайных
надежд? Очевидно, нет. Конкретные ситуации представляют
собой то, чем они являются при помощи существенных
черт личностей; и одинаковой ситуации у совершенно
различных личностей, строго говоря, вообще нет.
Следовательно, данное решение должно оказаться пригодным.
Остается еще вопрос, почему комизм отдельных слоев
появляется перед нами как изолированный. Этот вопрос
был исходным. Ответ на него часто приводил к
заблуждениям и к неосознанности предпосылок - субъективных в
действии и объективных в предмете. Ничего нового это не
дает, и на этом можно было бы остановиться.
Только одно следует к этому добавить: в более
значительном общем отношении, таком, как отношение
явления от слоя к слою в искусно построенном произведении,
имеется всегда много особых отношений. И хотя по ходу
Раздел III. Комическое
609
дела, их нельзя оторвать от более значительной
взаимосвязи, они все-таки могут явиться нам в известной
разделенное™. Так дело обстоит везде.
Правда, это "явление" само должно снова оцениваться
как совершенно объективное. Нет ничего удивительного в
том, что игру актера в одном случае хвалят, в другом -
порицают. Ибо работа в одной и той же роли, даже в той же
сцене, сложна и имеет простор для многих
самостоятельных вариаций в деталях. Поэтому каждая деталь в игре
актера может быть все же связана с целым и оценена,
только исходя из этого целого.
ДОПОЛНЕНИЕ
ГЛАВА 41
К ВОПРОСУ ОБ ОНТОЛОГИИ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРЕДМЕТА
а. Эстетические предметные слои
и онтические слои
Выше было разъяснено, почему искусство не является
подражанием. Точно так же не всякое искусство является
и изображением, но между изобразительным и
неизобразительным искусством существует внутренняя
гомогенность - и то и другое вплоть до орнаментики входит в
область свободной игры формы, которая уже не имеет
никакого сходства с какими-либо данными формами. И все же
всякое искусство прочно коренится в действительности.
И стоит ему слишком удалиться от нее, как оно
становится жизненно недостоверным.
Почему искусство так прочно коренится в жизни, в
бытии? И не только поэзия и живопись, но и музыка и
архитектура? Потому, что во всяком искусстве отражается
существующее (Seiendes). Всякое искусство должно
отвечать требованию жизненной достоверности. То есть оно
имеет тенденцию смотреть на действительность так, как
мы смотрим на нее в жизни: проникая сквозь внешнее
явление, конкретно, наглядно, частично маскируясь и
прикрываясь явлением. Это относится и к музыке и к
архитектуре; только в них это отношение маскируется особенной
материей, в которой они формируют свой материал.
Яснее всего это проявляется в изобразительных искусствах.
Но как они изображают?
Предшествующее изложение ясно показало, что они
изображают посредством отношения проявления. А это
последнее движется в последовательности слоев, идет от
одного слоя к другому. (Ср. гл. 11-15.) И в зависимости от
этого прочно устанавливается структура предмета. Но
здесь возникает еще и другой вопрос: что это за слои,
откуда берутся они в эстетическом предмете? Почему
отношение проявления движется именно в них?
На этот вопрос здесь уже нельзя ответить описанием
слоев, как это делалось выше. Речь сейчас идет об
основном: как относятся эти слои эстетического предмета, в
612
Дополнение
некоторой степени повторяющиеся в различных областях
искусства, к общим оптическим слоям реального мира?
С одной стороны, они очень напоминают последние, с
другой - их больше, и центр тяжести лежит не только в
наличии больших расстояний между слоями, но также и в
наличии гораздо меньших промежутков. С эстетической
точки зрения этот вопрос, пожалуй, несуществен. Но
онтологически он чрезвычайно интересен, ибо дает
возможность проверить, насколько важно значение слоев бытия
(Seinsschichtung).
Теперь со всей определенностью необходимо сказать,
что в основе эстетического предмета лежат те же самые
слои, что и в строении реального мира. Кратко и
упрощенно представляя дело, можно назвать четыре слоя: вещь
(чувственное) - жизнь - душа - духовный мир; только
каждый из них здесь расщепляется еще дальше и притом
весьма различным образом в различных видах искусства.
Так, например, в живописи уже самый нижний
оптический слой многократно расщеплен на: 1) двухмерную
плоскость цветовых пятен, 2) трехмерную перспективу с
кажущимся пространством и светом и 3) являющееся
движение фигур; лишь с четвертым слоем выступает
проявляющаяся жизненность. В живописи наиболее важными
являются именно внешние слои. Только за ними выступают
моменты, соответствующие высшим слоям бытия:
душевное, характерное, сценичное и т. д.
Поучительно сопоставить с этим нечто совершенно
иное, например поэзию с ее сложными формами
(Konzeptionen) - драмой, эпосом, романом. В основе
здесь лежит та же самая последовательность слоев
сущего, но с иным расщеплением и с иным
распределением центра тяжести.
Вещественно чувственный слой выступает лишь
посредством слова (речь, письмо), слой жизненности - лишь
посредством движения и мимики (воображаемых или
реальных - при игре актера). Слой душевного заключен в
слое характера и реакций, слой же духовного сильно
растянут на: 1) ситуацию и действие, 2) судьбу, 3) идеальную
личность и 4) общую идею... Здесь замечательно то, что
слой духовного в известной мере даже предшествует
душевному (то есть, очевидно, ближе него к переднему
плану); это, по-видимому, вызвано способом видения людей,
для которых ситуации и действия более непосредственно
наглядны, чем характерное.
Дополнение
613
В музыке в свою очередь дело обстоит иначе. Во
внешних слоях очень быстро достигается порог акустической
созвучности; по ту сторону этого порога наслаиваются
более крупные музыкальные целостности, которые как
таковые уже не даны чувственно. Лишь за этим появляется
дальнейшая", иного типа последовательность слоев, в
которой душевное, безусловно, имеет перевес; но и там не
исчезает слой жизненности, в отличие от слоя духовного,
который расщепляется еще дальше.
Здесь во внутренних слоях легко можно узнать ту же
оптическую последовательность слоев. Во внешних же
слоях это затруднено. Причиной этого является то, что
оформление производится в совершенно иной материи и
без притязаний на изображение. То же самое применимо,
но с соответствующими оговорками и к архитектуре, где
разнородность выступает еще резче.
Не везде можно так же легко, как в поэзии, распознать
общие слои бытия мира, но в целом их все-таки можно
установить. В наибольшей мере колеблются и отклоняются
от общего типа слои переднего плана: они настолько
строго подчиняются закону эстетической материи, что
основной оптический закон слоев исчезает под влиянием их
своеобразия.
Здесь могут спросить: почему вообще оптические слои
реального должны повторяться в слоях произведения
искусства? На это необходимо дать следующий ответ:
потому, что изображенные предметы обладают той же
оптической последовательностью слоев, вернее, поскольку
они входят в более высокие слои, они еще сохраняют в
себе нижние (согласно закону о том, что нижний слои
являются носителями, а верхние - носимыми). В
изобразительных искусствах почти любой материал достигает
области человеческого, и поскольку человек содержит в
себе все четыре слоя, они должны вновь всплывать и в
изображении человеческого.
Поэтому очень важно, чтобы художник не опустил ни
одного слоя. Стоит ему опустить какой-либо из них, как он
сразу же становится абстрактным, не наглядным,
рассудочным, подобно поэту, который психологизирует, вместо
того чтобы дать своим образам возможность действовать
и говорить и в этом проявлять себя. В жизни мы видим,
слышим, испытываем душу и дух, окружающие нас, лишь
посредством материально психического слоя бытия, с
которым и только с которым мы связаны нашими чувствами.
И как в жизни все остальное дано опосредствованным
образом, так и в искусстве. Искусство как раз использует это.
В этом состоит оптический смысл процесса проявления.
614
Дополнение
б. Конвергенция всякого большого искусства
Здесь в крупных произведениях расположение слоев
таково, что оптически более верхние слои глубже скрыты
внутри произведения искусства и проявляются лишь в
прозрачности внешних слоев. Это имеет свое оптическое
основание: искусства апеллируют к чувствам, а чувства
связаны с вещественным и лишь посредством его
становятся способными ухватить более глубокое. Это
обстоятельство нельзя ни устранить, ни заменить. Чувства не
передают непосредственно ни душевное, ни жизненное, а
лишь только вещественное, то есть то, что принадлежит
далеким областям физического. Поэтому оптически
более верхние слои должны быть эстетически "более
глубокими". Этот факт также нельзя устранить. Он имеет силу
для всех областей искусства лишь с незначительными
отклонениями. Он имеет силу и для
человечески-прекрасного и для прекрасного в природе.
Отсюда следуют весьма примечательные выводы. Как
оказалось, внешние слои везде различны; в пределах
различных искусств они весьма значительно отклоняются
друг от друга в той мере, в какой различен материал,
обрабатываемый этими искусствами; это определяет
характер внешних слоев. Одни и те же формы нельзя
изобразить в камне, в словах, так же как в красках.
Напротив, самые последние внутренние слои тесно
связаны друг с другом и во многом прямо-таки
тождественны; частью конвергенция выступает даже не в
последних, а уже в более глубоких слоях. И это не так
удивительно, как кажется. Последние внутренние слои являются
слоями идейного (Ideenhaften), а всеобщим является как
раз человечески общее. Но индивидуальное идейное -
идея личности - является редкостью даже и в больших и
глубоких произведениях искусства (здесь берутся только
изобразительные). А там, где оно наличествует, оно
никогда не противоречит идейно-всеобщему (dem
Ideenhaft-Allgemeinen), заведомо снимается этой
противоположностью.
Но и в остальных внутренних слоях (расположенных
ближе к поверхности) мы видим ту же тенденцию к
тождественности. Человеческие судьбы повторяются, они могут
быть угаданы под оболочкой совершенно различных
образов, человеческие характеры полностью подчиняются
определенной типичности, которую мы быстро
обнаруживаем. Именно эти легко обнаруживающиеся общие черты
часто являются здесь доминирующими, остальное исче-
Дополнение
615
зает, как менее важное по сравнению с ними. Во
внутренних слоях это выглядит иначе, чем во внешних. Это
касается также и неизобразительных искусств, ибо в их
внутренних слоях, и притом еще с большей общностью,
выражается то же самое душевное бытие.
Отсюда становится понятным, почему существует
факт известного сродства явлений, пронизывающий всю
область художественного творчества. Исключительное
многообразие искусств с точки зрения их чувственных и
соприкасающихся с чувственным форм проявления
уравновешивается однородностью их внутреннего
содержания (понимаемого не просто как материал, а как
оформленное содержание).
И тут мы наталкиваемся на явление, которое уже
неоднократно отмечалось теоретиками эстетики, хотя оно
оставалось, собственно, необъясненным: если глубже
подходить к искусствам или если брать искусство
великих эпох и мастеров, оставляя в стороне более мелкие
явления, то можно видеть всеобъемлющую
родственность разнородных искусств и даже совершенно
разнородных их произведений.
Кратко это можно выразить следующим образом (с
большой осторожностью): всякое мелкое или даже
среднее искусство очень сильно отклоняется от других видов
искусства и расходится с ними до такой степени, что уже
не может быть с ними сопоставлено; напротив, всякое
великое искусство роднится с другими и приближается к
неразличимому тождеству.
Эта конвергенция выражается прежде всего в том, что
совершенно разнородные в других отношениях
произведения искусства мы все же воспринимаем как
родственные: Парфенон и искусство фуги, потолок сикстинской
капеллы (как в образах юношей, так и в образах
пророков) и Генриха IV Шекспира (вместе с фигурой
Фальстафа), автопортрет Рембрандта в старости (Амстердам) и
Аполлона с олимпийского фронтона, седьмую или пятую
симфонию Бетховена...
Никто не может сказать, в чем заключается
родственность этих совершенно разнородных явлений. Мы можем
указать лишь на то, что мы это так воспринимаем. Но
далеко не все способны воспринимать это так, как
воспринимаем мы. Воспринимают и способны воспринять лишь
те, кто проникает взглядом в самое последнее и самое
внутреннее.
616
Дополнение
При поверхностном рассмотрении такие
монументальные произведения имеют очень мало общего между
собой, различия их неустранимы; не так-то легко
приходят к общему наслаждению. Для этого нужно уже глубокое
проникновение в произведение искусства, только тогда
убедительно выступит сходство.
Показать это довольно трудно. Возьмем, например,
автопортрет Рембрандта в старости: перед нами
совершенно обыкновенный человек с несколько странным
взглядом, дальше же не так-то легко проникнуть. Но кое-
что можно увидеть: некую печать судьбы, что-то роковое,
навеваемое образом целого, трагически великое, будто
на лице отражается все нечеловеческое (Menschenlos). И
мы начинаем понимать, что нам предстало.
Или возьмем искусство фуги. Музыка может обладать
глубочайшей прозрачностью, но только тогда, когда она
выступает в очень большом масштабе. Это и составляет
чудо фуги Баха: внешне она представляет собой нечто
самое сухое и школярское из того, что мы знаем из области
композиции, внутренне - самое захватывающее, самое
глубокомысленное, прямо-таки самое сокровенное и
мощное по чувству; она истинно метафизична в своей
силе поднять человека над самим собой, захватить его до
глубины души и преобразить. Она предъявляет
серьезные, требования и связана с такими условиями, которые
может принять отнюдь не каждый. И в то же время она
обладает наивысшей непосредственностью в способе
откровения. Это характерно для всякого очень редкого
большого искусства, появляющегося лишь раз в тысячелетие.
Однако не всякое большое искусство так резко
обособляет себя от всего остального, как фуга; поэтому оно не во
всех областях выделяется так рельефно.
Чем же объясняется это удивительное явление?
Теперь такое объяснение легко дать: во всех областях
искусства относительно тождественными или даже в высшей
степени родственными являются последние внутренние
слои, а частично и слои, им предшествующие. Потому что
везде речь идет о человеке, а в глубине человеческой
сущности постоянно присутствует одно и то же морально
метафизическое нечто. Итак, в зависимости от того, в
какой мере большое искусство проникает в эти глубины и
может отразить их в себе (а это делает всякое
действительно большое искусство), в такой мере оно должно
строиться в соответствии с ему подобным.
Дополнение
617
Отсюда впечатление тесного родства в совершенно
разнородном. В этом заключается превосходство
последних внутренних слоев, составляющих основу такого
родства. Ибо в самом деле, как только углубишься в него,
перед ним исчезает весь более легкий и более внешний
ряд слоев. И происходит это не в ущерб пестроте и
своеобразию этих слоев.
В тесной связи с этим находится еще и следующее: эта
родственность величайшего в каждом большом искусстве
является одновременно родственностью возвышенного,
ибо возвышенное - это такое прекрасное, в котором
внутренние слои имеют абсолютное превосходство.
Так учит теория. В этом плане можно сравнить
вышеназванные примеры родства: дорический храм,
контрапункт Баха, королевскую драму Шекспира и т. д. Все эти
примеры являются ярко выраженными примерами
возвышенного. Такого же рода примерами возвышенного
являются также пророки и юноши Микельанджело,
автопортрет Рембрандта в старости, олимпийский Аполлон,
симфония Бетховена.
При всем этом одно обстоятельство остается
совершенно загадочным: для большого искусства, особенно
для его шедевров, требуется нечто гораздо большее,
нежели простое превосходство последних внутренних
слоев; именно как произведения искусства эти творения
могут быть совершенными лишь тогда, когда они
одновременно и во внешних своих слоях обладают адекватным
оформлением, способным наглядно с помощью полных
жизни образов открывать нам указанные глубины.
Но почему случается так, что в величайших
произведениях искусства адекватная форма существует наряду с
глубиной идеи? Ведь осуществление и того и другого
требует от художника совершенно различных способностей!
Можно спросить и так: почему у величайших мастеров
искусства техника выполнения и глубина содержания (идеи)
идут так тесно рука об руку, в то время как у талантов
меньшего калибра между ними легко возникает пропасть?
Мы это чувствуем; только в несовершенных вещах оба
этих момента распадаются, в совершенных же это отнюдь
не два различных таланта, а две стороны одного и того же
таланта. Как это получается? Проще, как это выглядит?
Художник видит идею своего произведения не
абстрактно-мысленно или отвлеченно, но в своем внутреннем
созерцании; это и есть одновременно набросок ее
оформления вплоть до чувственного переднего плана. К этому
618
Дополнение
нужно добавить: большие произведения искусства
возникают вообще только там, где обе эти стороны внутреннего
видения имеются налицо с самого начала и дополняют
друг друга адекватно. Это случается довольно-таки редко;
и даже у величайших мастеров это единство имеет место
не всегда, а только в особых счастливых случаях. Было бы
заблуждением полагать, что такая гениальность должна
была бы встречаться часто. Мы часто заблуждаемся,
потому что не проявляем строгости в художественном
суждении и принимаем за великое также вещи, которые
совершенно не заслуживают этой характеристики.
б. Исчезновение отдельных слоев и переход
К рассмотренному выше соотношению онтического и
эстетического предметных слоев (речь идет в основном
об одном и том же строении слоев: там оно более строго,
здесь более свободно и разобщенно) нельзя подходить
педантично. В частности, слои нельзя различить с
первого взгляда: часто на месте одного онтического слоя
выступает несколько эстетических. Это то расщепление,
которое скрывается под действительным отношением. Все же
основным остается то, что здесь дана точка
соприкосновения онтологически общего категориального анализа и
эстетического предметного анализа. Было бы
совершенно неправильно отрывать основы эстетики от основ
онтологии; это также совершенно противоречило бы смыслу
учения о категориях. Последние распространяются не
только на реальную сферу бытия, но и опосредованным
образом на всякую сферу явлений. Но при этом
возникают некоторые контрвопросы. Одним из них является
следующий: что произойдет, если в каком-либо
произведении искусства выпадет оптический слой? Как правило,
процесс проявления идет последовательно от слоя к слою
без скачка. Но случается (чаще всего в
повествовательном поэтическом творчестве), что слой жизни (активного
движения и мимики персонажей) опускается и автор,
таким образом, вводит читателя непосредственно в
психическую ситуацию; соблазном к этому является
способность языка непосредственно и притом более или менее
понятийно-абстрактно затрагивать человечески
внутреннее. Нельзя не признать, что в таких случаях дальнейшая
прозрачность нарушается. Она легко становится по
меньшей мере необразной и, следовательно,
нехудожественной. Еще отчетливее это выступает в живописи: где
жизненность образов не проявляется убедительно, там и пси-
Дополнение
619
хическое, характерное и нравственное в них не
становится образным. Эти выводы не следует доводить до
крайности. Совсем не обязательно разрабатывать
тематически каждый слой сам по себе. Вполне возможно, что один
из них может иногда "исчезать" (в особенности для
проникновенного взора) просто потому, что прозрачность
следующих за ним слоев доминирует и одновременно
"поглощает" его. Это не означает, что промежуточный
слой должен "отсутствовать". Наоборот, он должен быть
налицо, просто он не выступает предметно. Во всяком
случае, такое исчезновение имеет свои границы. Вне их
оно разрушающе действует на образность явления. Даже
в музыке есть нечто подобное, хотя здесь оно не
выражено прямо. Это случается там, где композитор
непосредственно воздействует на чувства, не основывая этого
органически на структуре тонической композиции. Такая
музыка производит впечатление поверхностной и
неоправданно претенциозной.
Конечно, легче всего это получается в поэтическом
творчестве. Рассказчик в этом случае говорит понятиями
вместо живых, образных картин. При этом мысль может
быть выражена очень изящно, может быть даже по-своему
образна; однако эта образность не вырастает из
композиции материала, а произвольно привнесена в нее; этим
опять-таки причиняется вред композиционному единству.
Очень большие поэты подвержены этой опасности: для
сведущего и богатого мыслями человека, а тем более для
заинтересованного вопросами мироздания, а не образами
и сценами, возможность мыслительного творчества
представляет большой соблазн. Ярчайшим примером
этого является поздний Гете, который, кроме как в малой
форме поэтического творчества-:лирике, не создал больше
ничего ни в одной строгой форме искусства.
Впрочем, этот пример одновременно показывает, что
значительная доза абстрактного, если оно веско и его
собственная форма строга, как раз и оказывается
плодотворной. Мысль, со своей стороны, может быть выражена
образно, даже если образ не вырастает из общей
композиции. Однако единство более крупного целого при этом,
конечно, пропадает и произведение становится похожим
скорее на свободное нагромождение вызванных образами
мыслей. Это может заходить настолько далеко, что очень
часто слышишь автора, излагающего свои взгляды,
вместо того чтобы увидеть развернутую им картину жизни.
620
Дополнение
Самое большое и самое чистое искусство состоит в
том, чтобы действовать посредством созерцания и
употреблять слово только в качестве возбудителя силы
воображения таким образом, чтобы читатель видел, как
действующие лица ходят и стоят, слышал, как они
разговаривают и молчат. Это естественный путь художника,
заключающийся в создании возможностей процесса
проявления во всей его чистоте. В этом отношении искусство
поэтического творчества принципиально не отличается от
изобразительных искусств. Разница состоит лишь в том,
что в искусстве поэтического творчества легче поддаться
обману, попасть в сети мысли и забыть поэтому смысл
поэтического творчества. В определенных границах
однажды возбужденной фантазии удается перенестись через
пустоту резко очерченных или лишь слабо намеченных
слоев.
И хотя собственно в этом случае наглядное
проявление оказывается несостоятельным - конкретность
становится непрочной, все же не все сразу рушится. Напротив,
то, что в нормальных условиях должно было "проявиться",
теперь может быть "отгадано" по намекам. А так как
отгадывание играет большую роль также и в наглядном
процессе проявления, то вышеуказанное требование не
сразу разрушает художественное единство. Разумеется, это
возможно только тогда, когда во всех остальных
отношениях процесс проявления ничем не нарушен, то есть по ту
и по эту сторону места разрыва в последовательности
слоев он имеет необходимую несокрушимую силу
наглядности. В противном случае поэтическое творчество
переходит в объяснение, искусство - в абстрактное выражение
жизненного опыта. И хорошо известно, как легко перейти
эту грань.
То, что мы в таких случаях имеем перед глазами,
является уже пограничным феноменом поэтического
творчества. Только соотношение господствующих здесь граней
очень текуче, и трудно говорить о резкой грани, которая
сразу бы чувствовалась. Ведь имеется же поэтический
уклон даже в некоторых научных изложениях, сильнее всего
в исторических и философских. Последнее можно
наблюдать почти у всех выдающихся мыслителей. Это и не
может быть иначе, потому что философу недостаточно иметь
перед собой найденные понятия: он должен прибегать к
наглядным образам. Платон и Ницше являются в данном
случае только крайностями. У Гегеля и Канта имеется в
общем немалый поэтический уклон. Этот уклон иногда захо-
Дополнение
621
дит настолько далеко, что может стать для мыслителя
опасностью игры фантазии. Но если даже отвлечься от
этих обстоятельств, находящихся, очевидно, по ту
сторону текучей грани, то уже поэту сторону грани мы имеем
дело с нарушенным процессом проявления. "Нарушен" он
пробелами в прозрачности, которая по праву должна
была пройти через целостный ряд средних слоев.
Дело только в том, что от этого нарушается не весь
процесс проявления. Именно здесь активная сила
воображения переносится через пустые промежутки; мы и так
в жизни слишком привыкли к таким пробелам, как бы
приспособились к их появлению. Эти средства
восполнения фантазией, легко приходят в действие, всегда имея в
своем запасе готовые формы. Способность перенестись
через слой является в определенных случаях особым
художественным средством поэтического творчества, оно
требует этим активнейшего синтетического участия
фантазии читателя; последний воспринимает это требование
как свое собственное побуждение и может внутренне
срастись с ним.
г. Двойственные границы
художественного мастерства
В связи с этими соображениями встает вопрос о
границах художественного мастерства. Что мы знаем о них?
Если вдуматься как следует, то нужно признать, что мы
знаем о них очень мало, ибо отсутствие определенной
способности или некоторых характерных свойств не
говорит здесь ни о чем ином, чего бы мы не знали или уже не
понимали под словом "талант". Вероятнее, вопрос
заключается в выявлении предметных условий.
Все же на основе переспективы слоев здесь можно
сказать нечто совершенно определенное: если созданное
произведение не соответствует требованиям, на которые
оно претендует, то причина этого всегда в относительном
отсутствии одного из средних слоев или в недостатке
реального переднего плана. Отсутствие более глубокого
слоя никогда не может служить причиной. Нарушение
последовательности слоев перед последними возможными
слоями художественно не является ошибкой или
недостатком; это только означает, что художественное
произведение переходит в более легкий поверхностный жанр и
этим самым отказывается от большей глубины. Такое
произведение не может подняться до возвышенного, но
может, пожалуй, достигнуть любой степени грациозного, ко-
622
Дополнение
мического и прекрасного вообще; мы можем видеть это в
любом легком искусстве, пока оно обладает этим
уровнем. Правда, легкое искусство всех областей имеет
тенденцию к тому, чтобы терять уровень. Почему существует
такая тенденция? Потому, что именно более глубокие
слои сильнее всего сковывают творца при его высоких
задачах; они повелительно требуют строгости формы,
единства процесса проявления, в то время как внешние слои
оставляют более широкое поле деятельности и могут
действовать сами по себе. До высших степеней
прекрасного, таких, которые подводят к возвышенному, подобные
произведения подняться не могут. Но этого и нельзя
требовать от каждого искусства. (Здесь следует вспомнить о
сказанном в гл. 18, пункт "с" о поверхностном и глубоком
искусстве.)
В то время как недостаток последних внутренних
слоев очень легко уживается с эстетической ценностью,
недостаток в переднем плане и в соседствующих с ним
внешних слоях является отсутствием конкретности,
образности, жизненности; можно также сказать, что он
является недостатком прозрачности. Этим он ослабляет сам
процесс проявления, нарушает и прерывает его.
Недостаток во внешних слоях либо является неудачей в
достижении прекрасного, либо вообще свидетельствует о том, что
мы имеем дело вовсе не с эстетическим предметом.
Границы художественного мастерства, рассматриваемые с
этой точки зрения, заключают в себе две
противоположные стороны:
1. Измельчание, когда внутренние слои легковесны. В
этом случае пропадает только более глубокое
воздействие, а не эстетическая привлекательность вообще,
отсутствуют величие и близость к возвышенному, но отнюдь
не грация, привлекательность, красивость, обаяние, даже
неясная чистота.
2. Ненаглядность, когда внешним слоям вообще не
хватает оформленности или она слишком недостаточна.
Это и есть собственно крах художественности, впадение в
абстрактное или желаемое (но недосягаемое для умения).
Здесь начинается все антихудожественное, почти всякий
дилетантизм (в плохом смысле), а в крайнем случае -
халтура.
В чем же состоит антихудожественность? В том, что
художник не может выразить то, что им задумано, но все же
насильно выражает это неверными или недостаточными
средствами, особенно когда это происходит неосознанно
Дополнение
623
и когда, следовательно, творец совершенно не замечает
этих результатов. Сущность искусства как собствен-ного
"умения" как раз в том и состоит, что творящий выбирает
с сомнамбулической уверенностью единственное верное
средство, что он находит именно ту форму, которую он
преследует. Возможно, он ищет ее в мучительной борьбе
и попытках; и если в конце концов находит, то овладевает
ею, то есть с интуитивной уверенностью осознает ее как
единственно соразмерную замыслу.
При этом нужно уяснить себе еще следующее. С
абсолютным совершенством в удаче художественно
задуманного мы должны соглашаться только в редчайших случаях.
Конечно, мастерство художника совершенствуется с
усложнением задач. Но как со стороны глубины, так и со
стороны образности существует предел этому мастерству.
Практически в искусствах, как и во всем, сделанном
человеком, мы имеем дело с несовершенным, если хотите - с
неразрешенными задачами. Это понимание важно для
обеих сторон.
1. Творящий художник обладает ясным сознанием,
соответствующим его положению: критическим знанием
некоторой недостаточности и неудачи, часто мучительным
сознанием своей неспособности сделать лучше,
ощущением дистанции между тем, что витает в его воображении
или мечтах, и тем, что осуществлено. В общем следует
сказать, что чем крупнее художник, тем сильнее это
сознание неудачи уже потому, что его цели еще более высокие.
А так как более крупный художник и способен на большее,
то нужно сказать следующее: чем сильнее выражена
способность, тем сильнее сознание неспособности. Вот здесь
и находится причина, почему так часто творец очень
чувствителен к посторонней критике. Именно в силу того,
что он сам гораздо лучше знает, что ему действительно не
удалось, у него появляется страстная потребность увидеть
себя признанным и понятым хотя бы в том, что он задумал.
Посторонний критик делает обратное: он отрицает и
удавшееся, потому что не видит, какова была его цель и что
здесь, собственно говоря, должно было удаться. Так он
бередит больное место.
2. Но в наблюдателе имеется также и обратный
феномен: подсознательное понимание действительной
причины неудачи и как результат прозорливое видение того,
что, собственно, было задумано и искомо. С точки зрения
этой позиции наблюдателя недостатки произведения
являются не простыми отрицаниями (modi deficientes), но в
624
Дополнение
значительной степени позитивными дополнительными
моментами собственных активно творческих сил
наблюдателя. Последним для этого не обязательно проходить
художественную школу, они также не обязательно должны
быть самостоятельно творящими; достаточно того, что
они, отталкиваясь от чувственно данного, внутренне
активизируют себя на дополняющее творчество и достигают
при этом высоты первоначального творческого замысла
художника.
Можно назвать это более высоким способом
наслаждения большим произведением искусства.
Отсутствующее воспринимается настолько сильно, что оно
становится позитивнейшим побуждением. И наблюдатель
одновременно наслаждается, не подозревая, как он при этом
сам активен. Он поднимается до роли соавтора,
завершающего незавершенное, в том смысле, в каком актер
поднимается до роли соавтора творца выдающегося
произведения.
ГЛАВА 42
К ИСТОРИЧНОСТИ ИСКУССТВ
а. Историческая стабильность
и изменчивость большого искусства
По каким признакам узнается "большое искусство"?
Праздный вопрос! Когда оно налицо, оно чувствуется с
непреодолимой непосредственностью или же совсем не
чувствуется. В последнем случае у человека нет органа
для его восприятия, в этом случае знание о величии
произведения бесполезно, потому что никакое знание не
может заменить органа, без которого человек не способен к
восприятию. Однако поставленный вопрос имеет смысл,
если понимать его объективно: не для практического
употребления, а как вопрос о внешних признаках
сущности "большого искусства". В качестве исходного пункта
внутренней чертой сущности должны считаться
преобладание последних внутренних слоев и адекватность
прозрачности во внешних слоях.
Внешний признак сущности был затронут в
предыдущей главе. Он заключается в феномене сродства, причем
характерно, что фокус такого сродства находится в
области возвышенного. Но эта характерная черта базируется на
очень тонко организованном художественном
восприятии. Было бы странно, если б не было других, более дос-
Дополнение
625
тупных восприятию. Они, конечно, есть, но как раз там, где
и не подозревают об их существовании. Важнейшее из них
относится к области историчности произведений
искусства. Замечательно именно то, что произведения
величайшего искусства не тонут в глубине истории и не перестают
звучать со временем, а растут в своем значении. Это
возвышение означает, что они не только на долгое время
прочно сохраняют живой объективный дух, но и обогащают
его и открывают для все нового толкования; таким
образом, они, эти творения, и другим эпохам сами отдают все
новое и новое. Они оказываются неисчерпаемыми.
Так возвышаются в своем значении великие образы
поэтического творчества: герои древнего эпоса, персонажи
значительных романов и драм. Это возвышение видно в
образах Эсхила и Софокла, Шекспира и Шиллера. Они
проходят через века и ставятся на сцене всегда в новом
"вкусе". При этом совершенно неважно, такими ли именно
представлял их себе поэт или нет; они давно переросли и
его и узость его времени. Важно лишь, что они вообще
раскрывают в себе постепенно новое, что они не
исчерпываются каким-либо временем. Выше речь шла о том, что
всякие объективации, объем деталей которых содержится
не в них самих, а вовне, тонут в глубине истории. Так тонут
понятия, поскольку они жизненны лишь в той мере, в какой
они полны наглядности и наполняются каждым мыслящим
человеком таким же объемом наглядного содержания.
Именно это содержание лежит не в них, а вне их, чаще
всего в связях некоторой цельной теории; но последняя в
свою очередь заключается в целой системе понятий,
суждений и т. д. Отдельное понятие черпает свою жизнь, свой
смысл и содержание из такой системы понятий; если
вырвать его из нее, оно станет бессодержательным и его
смысл уже нельзя будет больше восстановить.
Восстановить его можно только посредством возвращения к
системе понятий, в которой оно выросло. Повышаться в своем
значении может лишь то, что заключает все свое
содержание внутри себя, а значит, заключает в себе не только
закон своего оформления, но также и всю совокупность
своих деталей и свое внутреннее многообразие. Только в
этом случае возможно, что образы поэтического
творчества допускают все новое толкование, иначе говоря, дают
конкретные возможные значения, что музыкальное
произведение получает все новую интерпретацию и, таким
образом, перерастает свои рамки, что картина говорит
новым временам всегда новое, что каждый раз по-новому
626
Дополнение
возвышенный язык произведения зодчества обращается
ко все новым людям. Здесь мы опять имеем дело с тем,
что действительно лишь по отношению к- очень большим
произведениям искусства. Только они содержат в себе
все: как деталь, так и законность формы. Незначительные
произведения не выдерживают изменения духа истории.
Здесь лежит действительный критерий "большого
искусства". Это важно и практически, ибо отдельно взятый
человек не всегда способен узнать самостоятельно, оценить
собственным чувством, что является действительно
выдающимся. Этим затрагивается пункт, в котором жизнь и
искусство оказываются теснейшим образом
переплетенными, а именно историческая духовная жизнь и исторически
обусловленное отдельное искусство какого-либо времени
- с его соответствующим преимущественным
направлением, его вкусом, его целями и его стилем.
Само по себе это не представляет чего-либо
примечательного: искусство рождается жизнью и, как любая
овеществленная мысль, стремится вновь возвратиться в
жизнь. Оно никогда не сможет далеко отойти от нее, хотя
кажется, что оно отталкивается и изолируется от жизни. Но
замечательно то, что именно самое ценное в
художественном отношении искусство оказывается также исторически
самым сильным, хотя, собственно, в силу тенденции к
изоляции нужно было бы предположить обратное. Что же
касается этой тенденции, то она, по-видимому, имеет место
уже в факте приподнятости отдельно взятого
произведения искусства над жизненными связями. Но последнее
является как раз большим заблуждением: мы ощущаем эту
приподнятость также в качестве наблюдателя над
собственным "я"; произведение вводит нас в свой мир, и
поэтому мы думаем, что оно якобы отрывает нас вообще
от реальной жизни, что оно само якобы принадлежит
совсем другому миру. В действительности же это только
особый момент, пункт в реальной связи, от которой мы
отрываемся. Но даже в этом отрыве мы принадлежим жизни.
Ведь в противном случае претензия произведения
искусства на жизненную правду не имела бы смысла.
Повышение значимости больших произведений искусства с
течением времени является верным признаком того, что
глубокое укоренение искусства в исторической жизни
существенно для него самого, а одновременно также и
признаком существенности этой связи для жизни. В самом деле,
в этом великом феномене искусство сторицею
возвращает жизни то, что оно взяло у нее. Если даже в каждом
Дополнение
627
большом периоде искусства имеется совсем немного
произведений, достигших этой высоты, а все остальное
становится лишь мусором истории, то этих немногих
великих произведений уже больше чем достаточно, чтобы
покрыть долг искусства перед исторической жизнью. В
этой связи нужно еще сказать следующее: в
историческом "возвышении" великих шедевров момент
несовершенства играет вполне аффирмативную роль. Подобный
переход в позитивное мы уже наблюдали выше, так что
он не должен удивлять нас, однако роль, о которой здесь
идет речь, другая.
Несовершенство великих произведений состоит не в
одной какой-либо ошибке или заблуждении, а скорее в
некоторой неопределенности и всеобщности, которые
требуют дополнения и наглядного пополнения
фантазией наблюдателя, исполнителя иди интерпретатора.
Великие произведения искусства твердо зафиксированы
лишь в некоторых своих контурах; чтобы овладеть ими,
надо их дописать, дорисовать, досочинить -
безразлично, происходит ли это только зрительно, в слушании, или
в чтении, или в мимическом исполнении, музыкальной
передаче и т. п.
Именно эта чрезвычайно активная деятельность
воспринимающего субъекта возвышает его над простым
восприятием, разумеется, только в том случае, если
выполняются некоторые предварительные условия. Впрочем, и до
них может дорасти целое поколение, если оно с самого
начала подчиняется требованиям, которые предъявляет к
нему великое произведение. Ясно, что при таких
обстоятельствах именно определенного рода или, может быть,
определенной "степени" неадекватность идет на пользу
самому произведению искусства: то, что в нем всегда
имеется еще что-то для завершения, дополнения,
является не недостатком, а его преимуществом. Это
очаровывает людей, очаровывает целые поколения.
б. Тенденция возврата к действительности.
Закрепощение и обогащение
От указанных выше обстоятельств зависит та. задача,
которую искусства и эстетическая жизнь вообще
выполняют в истории. При этом речь идет отнюдь не только о
высочайших задачах, которые могут выпасть на долю
какого-либо особенно большого искусства, не о духовном
руководстве и указании пути, не о формировании идеала,
образном откровении и этическом воспитании поколения.
628
Дополнение
Речь идет также и о менее значительных факторах,
которые, будучи всегда налицо и выступая также в творениях
средней величины, приобретают достаточно большой
вес, ибо всякий объективированный продукт духа
стремится возвратиться в жизнь. Это является следствием его
связи с устойчивой материей.
То, почему он стремится к возврату, не представляет
теперь собой загадки. Следует вспомнить трехчленное
соотношение: наряду с материей и ее оформлением
всегда имеется налицо еще третье - созерцающий живой дух,
безразлично, проявляется ли он в индивидууме в качестве
персонального или в поколении в качестве объективного
духа. Он изменчив, всегда иной, и, смотря потому,
выполняет ли он условия специфического видения или нет,
произведение искусства существует для него или не
существует. Но так как существование объективации возможно
вообще только "для" кого-либо, можно также сказать:
произведение искусства существует вообще или не
существует в зависимости от этого отношения.
При этом исторически примечательно наличие
временных пробелов в существовании произведений
искусств: они то исчезают из действительности и тогда
существуют в музеях и библиотеках только как
вещественно-реальные "передние планы", то вновь появляются и
приобретают в высшей степени современное значение; все это
происходит смотря по тому, имеется ли налицо
адекватный воспринимающий дух или нет. Они не приходят, когда
мы их зовем, но в них есть все же своего рода
вездесущность; они словно находятся в "ожидании" по ту сторону
текущей духовной жизни, в "ожидании" появления
адекватного духа; если последний появляется, появляются
также и они, воскреснув, "родившись заново"1. А так как
живой дух подвижен и там, где он достигает наивысшего
расцвета, все снова и снова заполучает себе орган
специфического художественного видения, то всегда
происходит также и возрождение (Renaissancen) прошлого
искусства. Или выразим это иначе: поэтому все снова и снова
происходит возврат искусства в жизнь.
С этим возвратом могут быть связаны самые
различные последствия. Духовное наследие прошлого может
обогащать, может пробуждать дремлющие силы и
вызывать их самодеятельность, но оно также может наложить
оковы на живой дух и как бы парализовать его.
Более подробно об этом в "Das Problem des geistigen Seins", Кар. 53, 54.
Дополнение
629
Первое происходит при действительных
возрождениях, последнее - там, где более молодую, еще не
развившуюся культуру побеждает более старая,
высокоразвитая. Так, в свое время греческая поэзия подавила
римскую, затем позднеримская культура- германскую. Как
видно, это относится не только к искусствам, это
действительно для всей духовной жизни, а на примере искусств
видно ярче только потому, что произведения искусства
сохраняются как свидетели всех фаз процесса. Но
фактически оба этих вида деятельности духа не ограничиваются
такими очевидными проявлениями. Напротив, как
раскрепощение, так и закрепощение имеются в более мелких
масштабах всегда и везде. Когда какое-либо искусство
полно жизненных сил, оно борется со сковывающими
формами, чтобы дать себе свободу; однако оно
одновременно ищет великие образцы, потому что не может
обойтись без возбудителей. При этом бросается в глаза, что
самое сильное закрепощение исходит всегда от
незначительного искусства, а не от великого. И тогда, если
наступает обоснованная реакция, если живой дух противится
оковам и пытается сбросить их, он, как правило,
обращается не против действительно великого и выдающегося, а
против огромного количества малоценного и заурядного,
ибо обременительно не первое, а только последнее (хотя
духовное влияние, исходящее от великого, является, в
сущности, более веским).
Причина этого кажется на первый взгляд
непостижимой, и человек здесь почти готов верить в существование
провидящих сил в истории духа, которые милостиво
предохраняют его от бесконечных ложных путей. В
действительности дело обстоит проще.
Преобладание продукции низкого качества имеет
большей частью силу только для своего собственного
времени: в ней выражают себя и большие и малые
таланты, и человеку данного времени трудно различить их,
потому что ему приходится овладевать многим новым, за
которым он, как дилетант, не поспевает. Никто, даже и
знаток, не видит с первого взгляда, куда ведет новое
направление; он должен выждать, вглядеться, переучиться, и
часто ему не. хватает всей его жизни, чтобы справиться с
этим. Дело обстоит иначе, когда через все это Прошли
поколения. Они уже проделали работу по отсеву, большая
часть малоценных произведений исчезла, они больше не
известны, больше не нужно спорить о них... То, что
осталось, - это великие произведения, получившие призна-
630
Дополнение
ние. Не обязательно только величайшие, кроме них
остаются еще некоторые объекты, вызывающие борьбу вокруг
себя. Но все же над закрепощающими силами в
приобретенном духовном наследии преобладают силы
освободительные. Если же спросить, что означает тот факт, что
именно великие произведения остались существовать, то
ответ будет следующим: это означает именно то, что они
действуют постоянно побуждающим, увлекающим и
направляющим, а не сковывающим образом. А они не
"сковывают" потому, что не связывают собственную
деятельность воспринимающего субъекта отдельными
подробностями, не устанавливают жестко оформление во
внешних слоях, а лишь подготавливают, разрыхляют почву. Их
определяющее влияние скорее представляет собой
вообще влияние глубины, техника же искусства может,
вероятно, соизмеряться с ним как с высшим требованием, а не
рабски подчиняться ему как поучающему правилу.
В тесной связи с этим стоит тот факт, что с
историческим возрастом произведения значительно возрастает его
авторитет. Мы воспринимаем его возраст как нечто
заслуживающее почтения и подразумеваем под этим не что
иное, как выдающуюся силу волнующего влияния,
которую мы признаем за ним. Большое искусство действует
сильнее тогда, когда оно уже стало "историческим". Тогда
его произведения и его образы становятся мифом,
который как бы образует мир для себя. Личность творца также
может стать чем-то вроде мифа. Но этим оба
преобразуются в живом духе в нечто иное.
б. О жизни в идее
Распространенным и ставшим почти легендарным
мнением является мысль, что существует "жизнь в идее",
которая делает художника способным творить, а
наблюдателя - правильно воспринимать. При этом всегда имеют
в виду относительно редкое, движущее миром "великое
искусство", а не множество незначительных работ.
Последним как раз отказывают в рождении из идеи, первым -
приписывают. При этом отсутствует всякое
представление о том, что здесь является "идеей". Что же это
означает в действительности? Конечно, существует "жизнь в
идее", может быть, правильнее - творчество из идеи. Но
это не то, что подразумевают под этим идеалисты; и это
относится отнюдь не ко всякому искусству, а только к
великому, ибо речь и здесь идет не о видении идей, как
платоновском, так и феноменологическом, и не о гегелевс-
Дополнение
631
ком понимании "идеи", что предполагало бы всю его
метафизику духа, а о чем-то совершенно ином.
Это совершенно иное есть активно творческое,
синтетически формирующее видение того, что находится за
чертой всего существующего. Следовательно, это такое
видение, которое не имеет ничего общего с пониманием
существующего, а как бы вводит в мир несуществующее,
то есть никогда ранее не бывшее.
Такое видение свойственно, конечно, не только
художнику. Этого достигает также этический человек, политик,
намечающий большие цели в будущем, а в более узких
рамках - каждый действующий и работающий человек. С
той только разницей, что все они тогда обременены
осуществлением увиденного и должны тратить на это силы.
Художнику это не нужно. Он вообще не осуществляет,
он только дает возможность проявиться, только
изображает. Поэтому он обладает тем другим видом свободы,
которая основана на чистой возможности без
необходимости и без длинных реальных цепей условий. Но
преимущество художника перед практиком жизни не только в
этом. У него есть еще одна совершенно иная
способность: он может наглядно и объективно показать, как
выглядит понятая идея. В этом и состоит его неразделяемое
ни с кем своеобразие. Этический человек, подобно
политику, подобно любой практически действующей личности,
видит "жизнь в идее" не меньше, чем художник, и так
происходит потому, что он заглядывает за пределы данного.
Но все они не могут передать увиденное в идее, не могут
сделать увиденное конкретно зримым и осязаемым и тем
самым определяющим фактором жизни. Только художник
способен на это, потому что он "дает этому возможность
проявиться", проявиться живо и полнокровно и, стало
быть, убедительно, хотя это увиденное может остаться
нереальным. Только художник способен на то, что, по
мнению верующих, может сделать только божество, а именно
способен являть (offenbaren). Он единолично обладает не
жизнью в идее, а силой вторгаться из этой жизни в
реальную жизнь людей, создавать видимые ими свет и образ,
показывающие людям, что они должны делать и какими
они должны быть. Художник не делает этого, говоря - "ты
должен", он зажигает в сердце человека стремление,
которое больше уже не оставляет его.
Здесь мы вновь сталкиваемся с элементом
пророчества в художнике, с vates im poeta, с этическим
верховенством и идейным руководством со стороны него. Сам он
может этого и не знать. Он только должен быть таким, что-
632
Дополнение
бы увиденная им идея действовала посредством его
творчества. Откровением, совершаемым художником,
является прозрение им идеи через все множество слоев и
пестроту ее содержания. Это прозрение (Durchblick)
тождественно многослойной глубине прозрачности, которая
иногда достигается в великих произведениях, ибо именно
здесь оно доходит до последнего слоя, и то, что в нем
есть, наглядно выступает в увиденных образах.
Из многочисленных ступеней прекрасного,
разумеется, только наивысшие обладают такой глубиной
прозрачности. Однако не следует понимать это только с точки
зрения содержания. Ибо именно здесь к форме внешних
слоев предъявляются наивысшие требования: ведь они
должны обладать наивысшей прозрачностью, должны
выполнить то, что, кроме них, ничто в мире не сможет
выполнить,-то есть выполнить первоначальное зримое
воплощение того, чего никогда небыло и что само по себе
невыразимо. Перед величием этой задачи отступает
большинство художников именно потому, что они чаще всего не
провидцы и не носители идей. Но нужно сказать, что очень
часто они отступают и тогда, когда обладают этической
высотой.и пророческой дальнозоркостью, когда являются
носителями идей. Здесь требуется еще и нечто другое:
умение показать, глубина прозрачности, наглядность
проявления. Величайшее искусство умеет удивительно
адекватно соединять все это в единое целое; однако
существует много примеров пророческого искусства, которому
недостает другой стороны, то есть которое не может
наглядно выразить свои идеи.
В этом пункте, например, потерпел неудачу Ницше как
поэт; он, разумеется, мог представить себе и любить свой
новый идеал человека, но не мог наглядно и образно
объективировать его. И, несмотря на многие громкие слова,
сказанные при этом, его идеал остался в основном
абстрактным.
г. Творческое в человеке
Последние рассуждения касаются непосредственно
творческого в человеке. Правда, в малом масштабе
человек везде проявляет себя практически творческим: во
всякой "работе", всяком действии, в любом установлении
цели и стремлении к ней. Но здесь речь идет о его
возможности быть творцом а большем масштабе, об
историческом творчестве для далекого будущего, о большом
риске, когда человек ставит на карту самого себя и может
проиграть ставку. В этой творческой борьбе, в самосози-
Дополнение
633
дании человека откровение художника играет свою
совершенно определенную и незаменимую роль. Очень
важно уяснить себе, что эта творческая функция является
в истории чисто практической, в широком смысле
этической и отнюдь не совпадает с творчеством художника.
Связь между нею и творчеством является скорее связью
цели и средства; однако соотношение не таково, чтобы
средство при своем действии растворялось в цели,
напротив, оно остается самостоятельным, так же как оно
придумано и изобретено не для цели истории. Чтобы
выяснить это соотношение, нужно вернуться к известным нам
видам творческого вообще.
Прежде всего мы знаем два вида творческого в мире.
Они настолько различны, что их совершенно нельзя
сравнивать, и в то же время они настолько схожи, что часто
предпринимались попытки философски свести их
воедино: первый вид - это творческое в природе, без сознания,
без цели, темный порыв, тем не менее неудержимо
двигающийся вперед в царстве возможных форм, фактически
без какой-либо "тенденции", без воли, теснимый лишь
конкуренцией живых существ и их жестоким отбором;
другой - это творческое в человеке. Он является полной
противоположностью первого, целенаправлен, осознан,
преднамерен, подвижен в выборе направлений и
намеченных целей, но очень ограничен, как ограничен взгляд
человека вперед, в то время как природа "творит"
неограниченно. Что касается свет дения их друг к другу, то оно
легко проделывается с обеих сторон. Просто под природу
подсовывают схему увеличенной "человеческой"
целенаправленной деятельности, называют это богом,
демиургом, провидением, и таким образом "творчество"
природы объясняют творчеством человека. При этом картина
мира становится обязательно антропоморфной. Или
осознанное целенаправленное творчество человека
включается в процесс природы и воспринимается как
часть этого процесса; в таком случае целеполагающее
становится чем-то вторичным, обусловленным уже
мотивами, коренящимися в природе человека. В этом случае
уничтожается своеобразие исходящей из человеческой
воли детерминации и тем самым также и особенность
самого человеческого существа.
Оба сведения мы можем здесь не принимать в расчет.
Уже при беглом ознакомлении с ними видно, что они од-
носторонни; кроме того, они оба противоречат
категориальным законам, первое - закону "силы", второе - закону
634
Дополнение
"свободы"1. Важно скорее именно то, что оба вида
творческого различны в своей основе и не сводятся один к
другому: человек как творец действует сознательно, в то
время как природа, хотя бесконечно могущественнее и во
многом "изобретательнее" его, слепа в своем порыве.
Созидательность человека становится актуальной
везде в практической жизни. Во всех областях своей
деятельности дух, используя силы природы, создает новые
синтезы, которых не знает природа: во внешней обработке
вещей для своих целей, в синтетической химии, в технике, в
скрещивании и разведении растений и животных, в
образовании и воспитании себе подобных, в управлении
процессом истории (в той мере, в какой это ему удается).
Однако в областях жизненной актуальности творческая сила
человека еще не проявляется в своей наивысшей форме.
Она проявляется только тогда, когда дело идет уже не о
созидании чего-либо реального, а о создании
возможностей для процесса проявления. Эстетическая форма
творческого в человеке превосходит все другие формы
творчества тем, что ей не нужно осуществлять то, что она
созидает в видении. Это и есть великая, единственная в
своем роде свобода художественно видящего и творящего
субъекта. Она походит на самодвижение в безвоздушном
пространстве, без сопротивления; и в действительности
художественное изображение движется путем "снятия
действительности" (Entwirklichung).
Только здесь мы вплотную подходим к истинному
смыслу этого слова (то есть Entwirklichung), которое
означает самоудаление от реальной действительности в
противоположность "превращению в действительность"
(Verwirklichung), которое означает стремление к ней.
Примечательным является как раз то, что это лишение
характера действительности не приводит ни к какому
отстранению от реальной жизни, что, напротив, от этого
витающего в недействительном созидательства тянутся в
реальную жизнь нити тончайшей детерминации, и притом
как раз в жизнь крупного плана, в историческую жизнь.
Эта сила является чисто духовной, силой разъяснения
и убеждения, действующей там, где ни демонстрация, ни
философствование не могли бы убедить человека; она
обладает даже могуществом направить взгляд человека в
Ср. "Aufbau der realen Welt", S. 519 и далее.
первую очередь на то, что должно быть увиденным (в
платоновском . смысле), то есть осуществить цЕтаотрофл
(поворот), ибо решающим является именно это. И поэтому
так многое в жизни человека связано с этим, так что он
наряду со всякой актуальностью ведет также и "жизнь в
идее". Он способен на это, так как владеет
художественным видением.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Первоначальный полный текст своего труда по
эстетике Николай Гартман написал летом 1945 года в Потсдаме-
Бадельсберге. Он начал его 9 марта и закончил 11
сентября. Это было время, когда Потсдам был разрушен, Берлин
окружен и покорен, в стране царили голод, беспорядок и
всеобщая растерянность. С другой стороны, полное
отсутствие связей с внешним миром позволило брату
сконцентрировать все свое внимание на работе. В условиях
окружавшей его разрухи он писал и писал целыми днями,
писал ежедневно, почти не отрываясь.
Готовая рукопись послужила основой для первых
лекций в Геттингене, прочитанных им зимой 1945/46 года,
после чего автор еще раз работал над своей рукописью.
После этого Николай Гартман, следуя раз и на всю жизнь
установленному им для себя порядку работы, считал
необходимым сделать перерыв на некоторое время, после
чего собирался во второй раз переработать свой труд и
привести его в состояние готовности для сдачи в печать.
Однако первые послевоенные годы были в такой мере
заполнены новыми для него задачами и делами, что он смог
возвратиться к этому своему труду только весной 1950
года, причем и лето этого года было в значительной мере
заполнено переработкой заново курса логики, что было
совершенно необходимо, поскольку все лекционные
материалы, все рукописи лекций сгорели.
Николай Гартман не смог завершить работу над
окончательным вариантом рукописи "Эстетики". Эта работа
оборвалась на странице 182 словами, являющимися
заглавием раздела "Идеи в поэтическом творчестве". Таким
образом, только одной трети труда автор успел сам
придать форму рукописи, готовой к опубликованию в печати.
Со страницы 182 работа опубликована такой, как она
была написана автором в первом варианте. Этот
первоначальный текст, как показывает сравнение первого и
второго вариантов начала книги, автор подвергал лишь
незначительным изменениям.
Издательница (сестра автора Фрида Гартман. - Перев.)
выражает особую благодарность профессору Гейнцу Гейм-
зоет за его помощь: за просмотр обоих вариантов книги с
целью сравнения и за обработку рукописи для печати.
Фрида Гартман.
Геттинген, июнь 1953 года.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОТНОШЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Раздел I
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АКТА
Глава 1. О восприятии вообще 59
Глава 2. Эстетическое восприятие 68
Глава 3. Созерцание и наслаждение 83
Раздел II
СТРУКТУРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРЕДМЕТА
Глава 4. Включение в анализ акта 99
Глава 5. Закон объективации 108
Глава 6. Передний и задний планы в
изобразительных скусствах 122
Глава 7. Передний и задний планы
в неизобразительных искусствах 147
Раздел III
ПРЕКРАСНОЕ В ПРИРОДЕ
И В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МИРЕ
Глава 8. Живой человек как прекрасный
предмет. 173
Глава 9. Прекрасное в природе 185
Глава 10. К вопросу о метафизике прекрасного
в природе 198
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОФОРМЛЕНИЕ И РАССЛОЕНИЕ
Раздел I
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В ИСКУССТВЕ
Глава 11. Расщепление заднего плана 215
Глава 12. Последовательность слоев
в поэзии 227
638
Содержание
Глава 13. Слои в изобразительном искусстве 241
Глава 14. Слои музыкального произведения 255
Глава 15. Слои в архитектуре 274
Раздел II
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА
Глава 16. Единство, ограничение, форма 286
Глава 17. Ступенчатое оформление
в искусствах 295
Глава 18. Явление и оформление 310
Глава 19. Теория придания
художественной формы 327
Глава 20. К вопросу о метафизике формы 339
Раздел III
ЕДИНСТВО И ПРАВДА В ПРЕКРАСНОМ
Глава 21. Свобода и необходимость
в художественном творчестве 358
Глава 22. Требование правды в
поэтическом искусстве 373
Глава 23. Жизненная правда и красота 386
Глава 24. Правда изобразительных искусств 400
Глава 25. Правда в неизобразительных
искусствах 412
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЦЕННОСТИ И ВИДЫ ПРЕКРАСНОГО
Раздел I
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
Глава 26. Своеобразие и многочисленность
эстетических ценностей 427
Глава 27. Положение вещей в разработке
проблемы ценностей на сегодняшний
день 438
Глава 28. Место прекрасного в царстве
ценностей 457
Содержание
639
Глава 29.
Обзор моментов ценностей
прекрасного
.476
Раздел II
ВОЗВЫШЕННОЕ И ИЗЯЩНОЕ
Глава 30. Понятие и явление
возвышенного 487
Глава 31. Структура эстетически
возвышенного 496
Глава 32. Место возвышенного в структуре
слоев 507
Глава 33. Изящное и его разновидности 522
Глава 34. Побочные проблемы изящного 532
Глава 35. Осмысление в эстетических
ценностях 543
Раздел III
КОМИЧЕСКОЕ
Глава 36. Чувство комизма и его формы 553
Глава 37. Сущность комического 563
Глава 38. Комическое и серьезное 578
Глава 39. Место комического в структуре
слоев 591
Глава 40. Размышления и возражения 600
Дополнение
Глава 41. К вопросу об онтологии эстетического
предмета 611
Глава 42. К историчности искусств 624
Послесловие
Н. Гартман
ЭСТЕТИКА
Перевод с немецкого
Т. С. Батищевой, А. В. Дерюгиной,
Е. В. Касьяновой, М. К. Мамардашвили
Под редакцией
к. ф. н. А. С. Васильева
Верстка
А. В. Жданович
ISBN 966-521-264-8
9"789665»212645
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НИКА-ЦЕНТР»
01135, Киев 135, а/я 192
т./ф. (044)242-61-56
Свидетельство о внесении в Государственный реестр
субъектов издательского дела ДК № 1399 от 18.06.2003