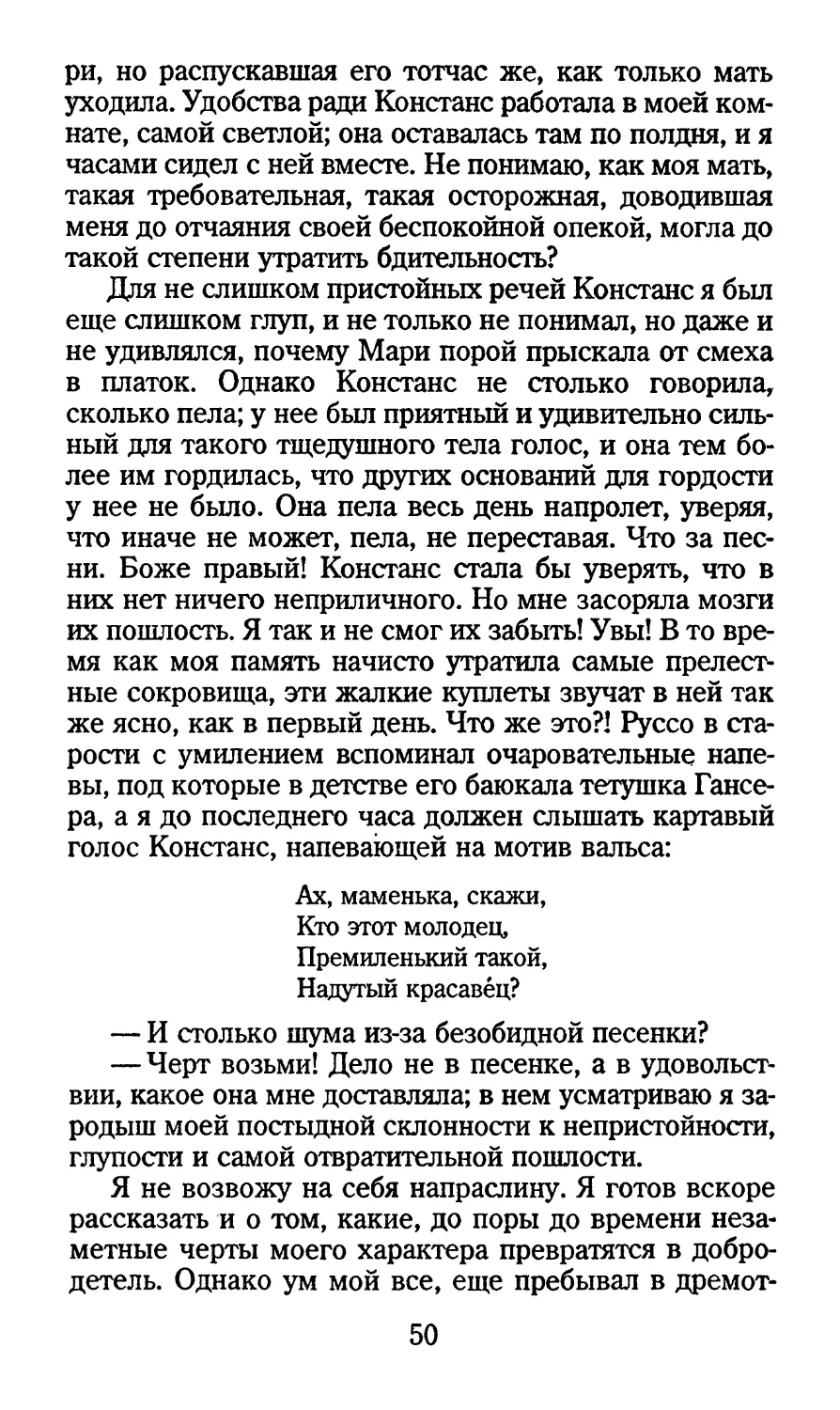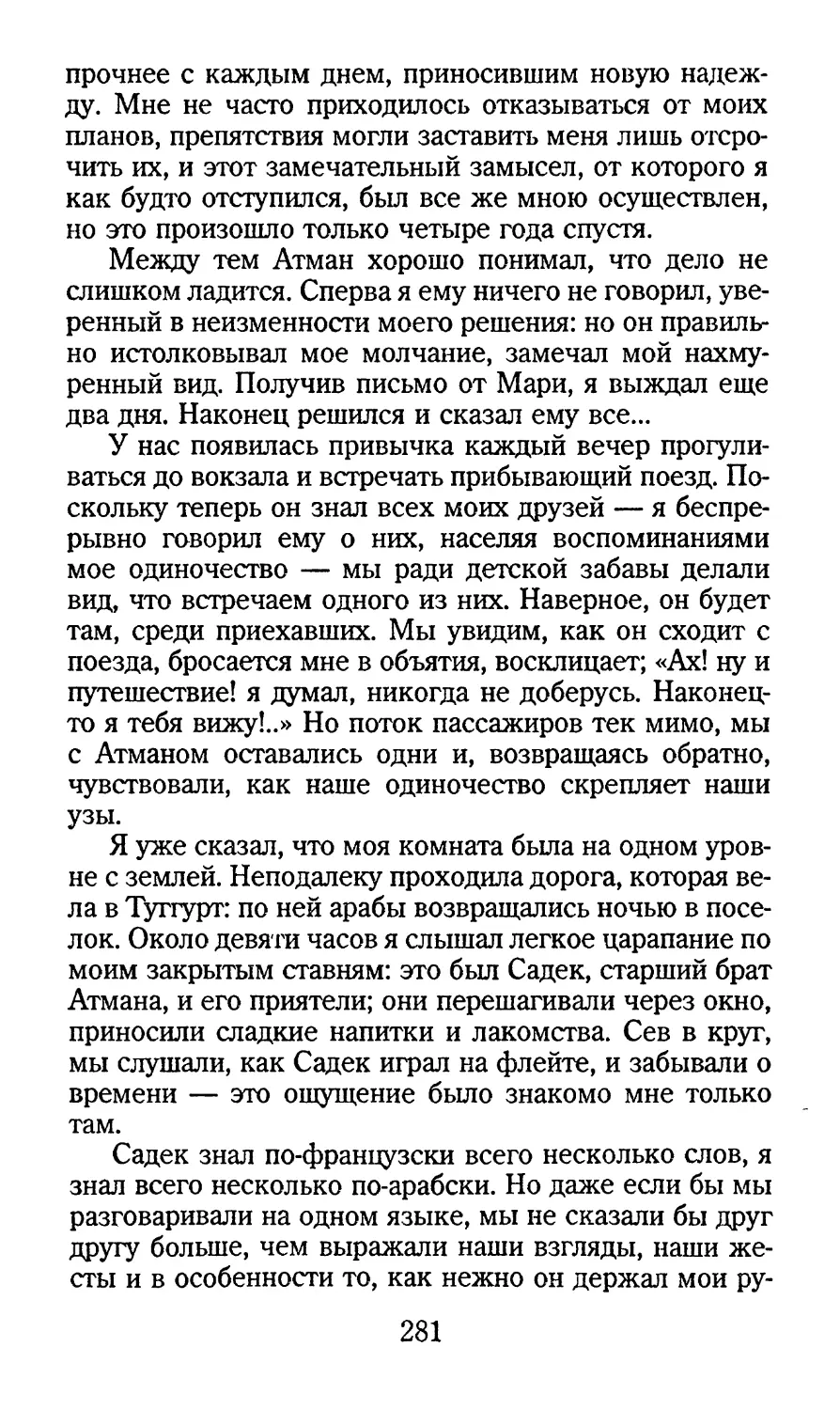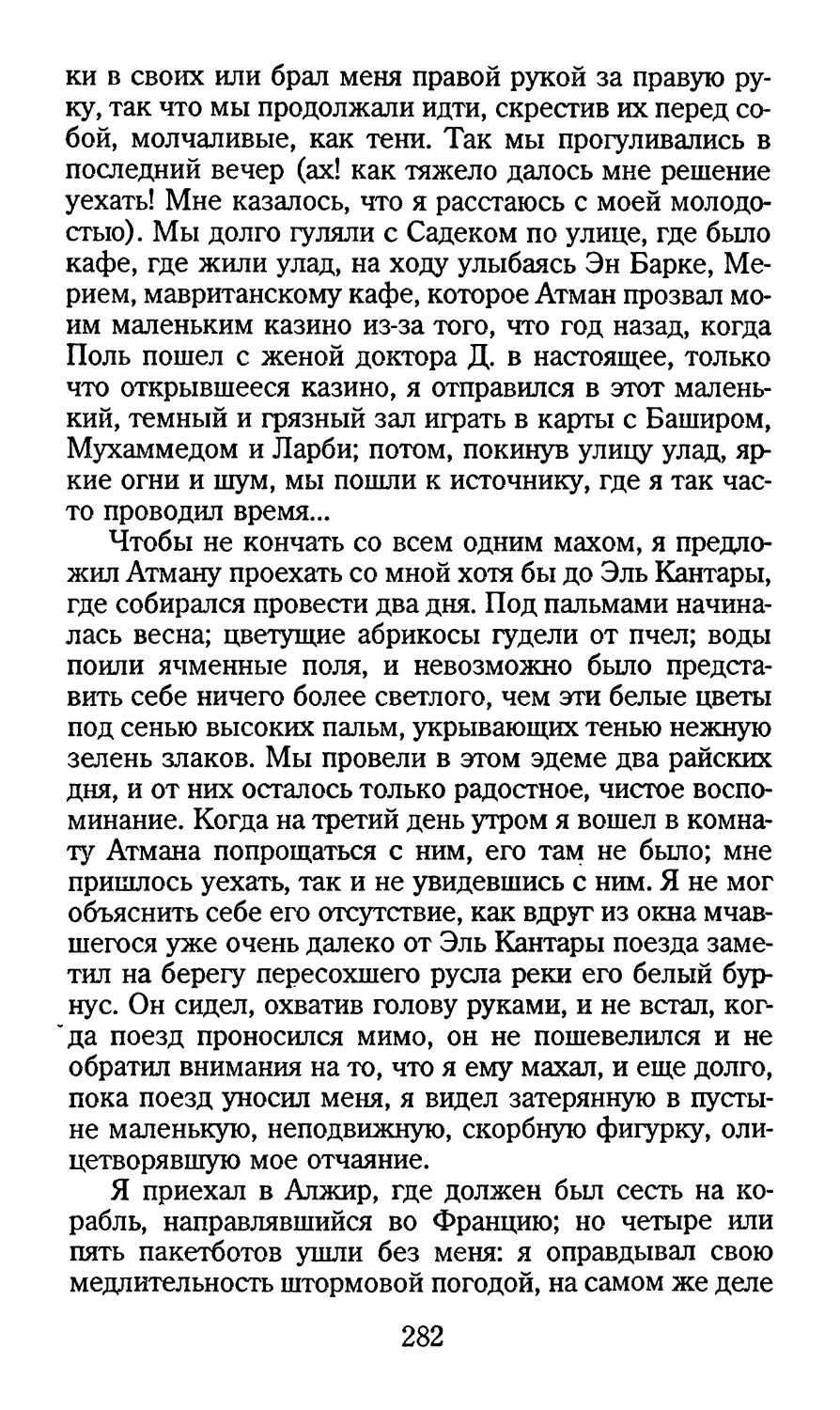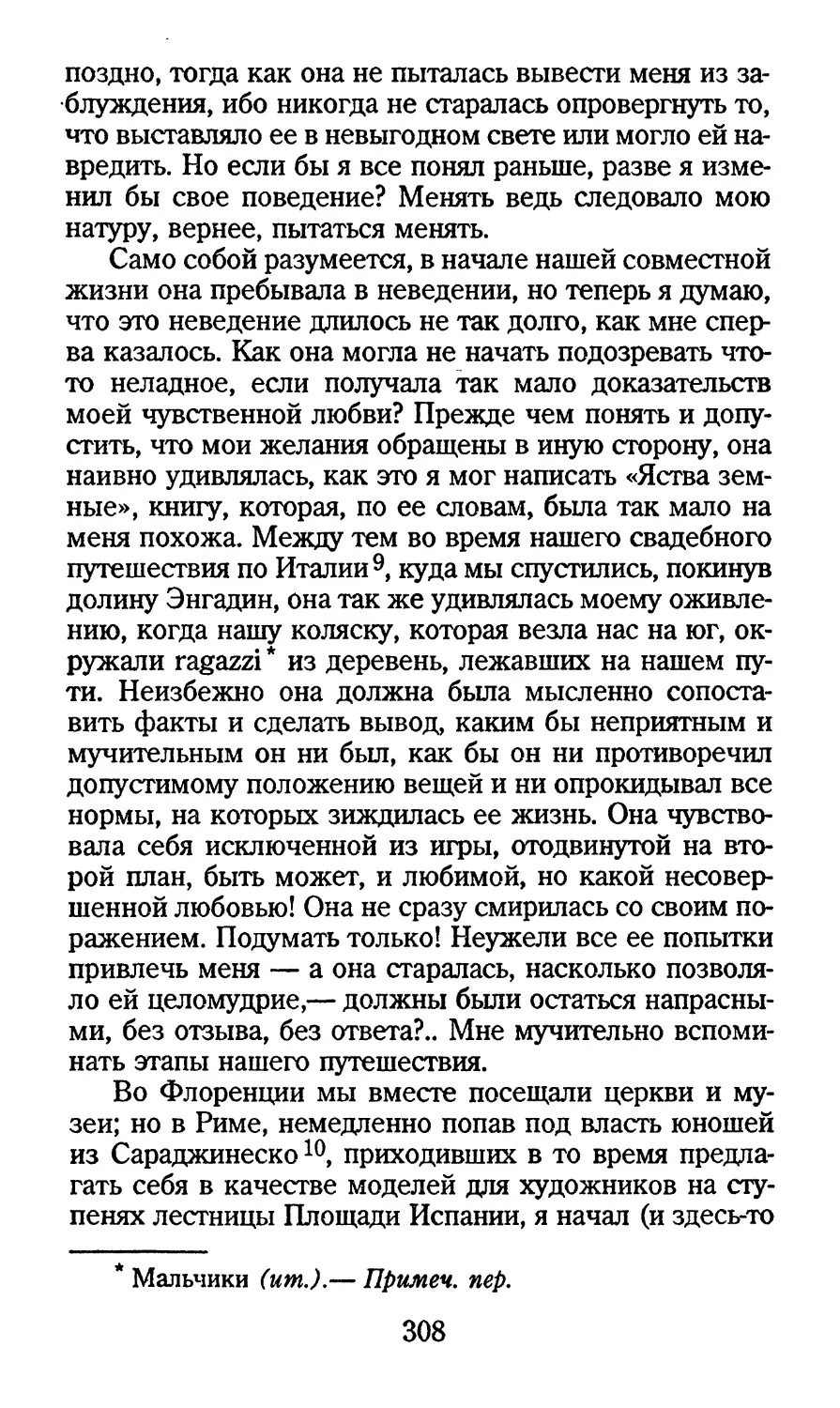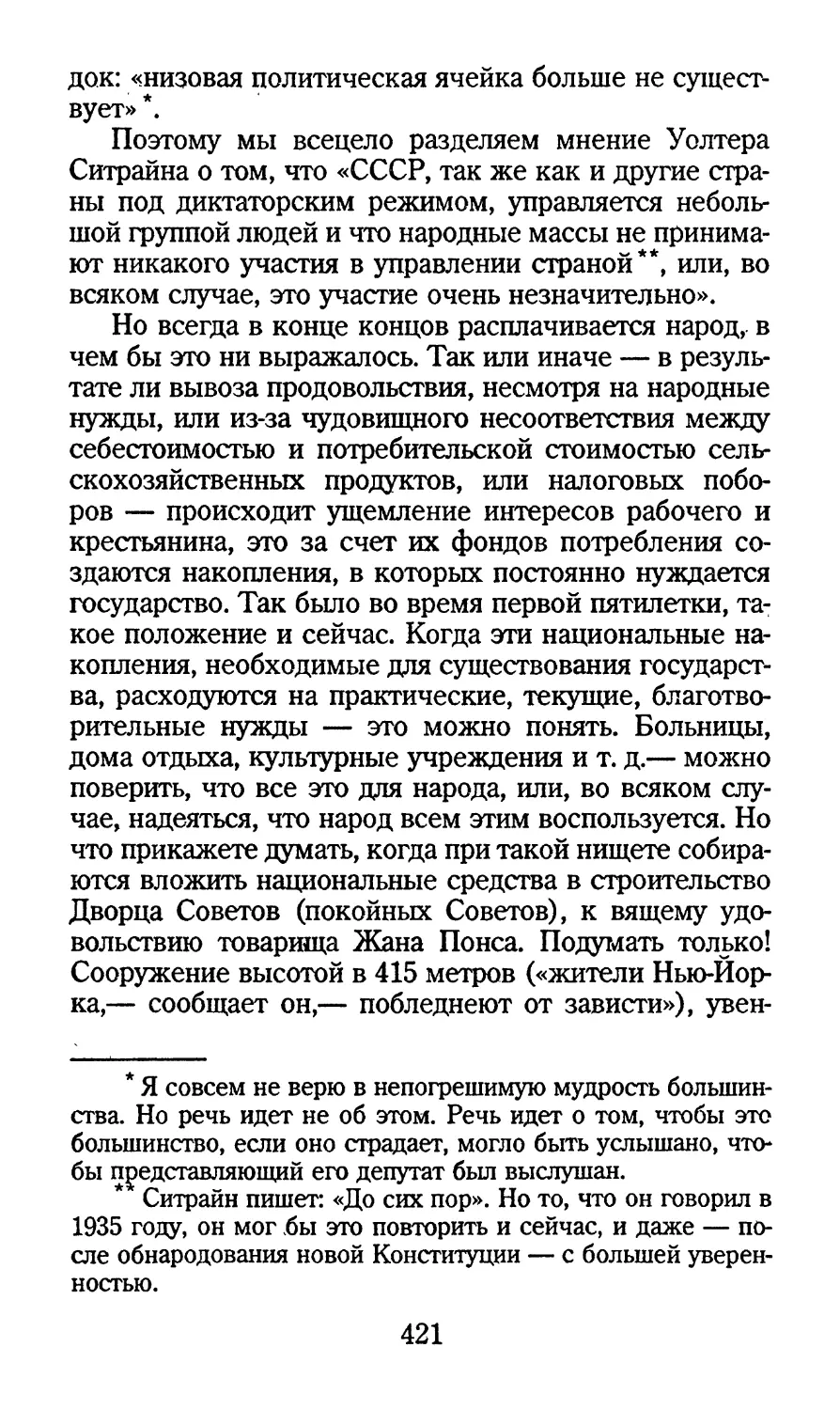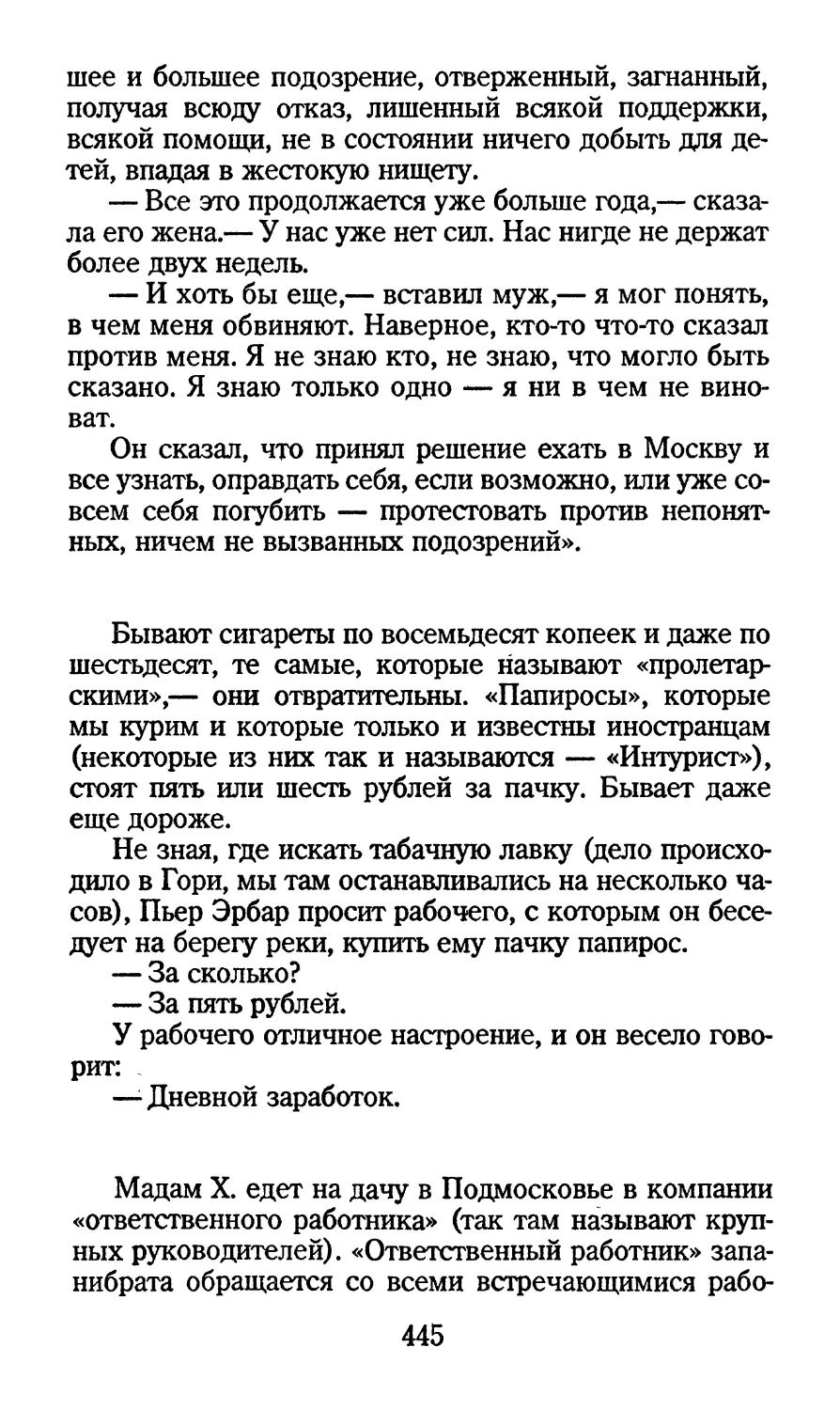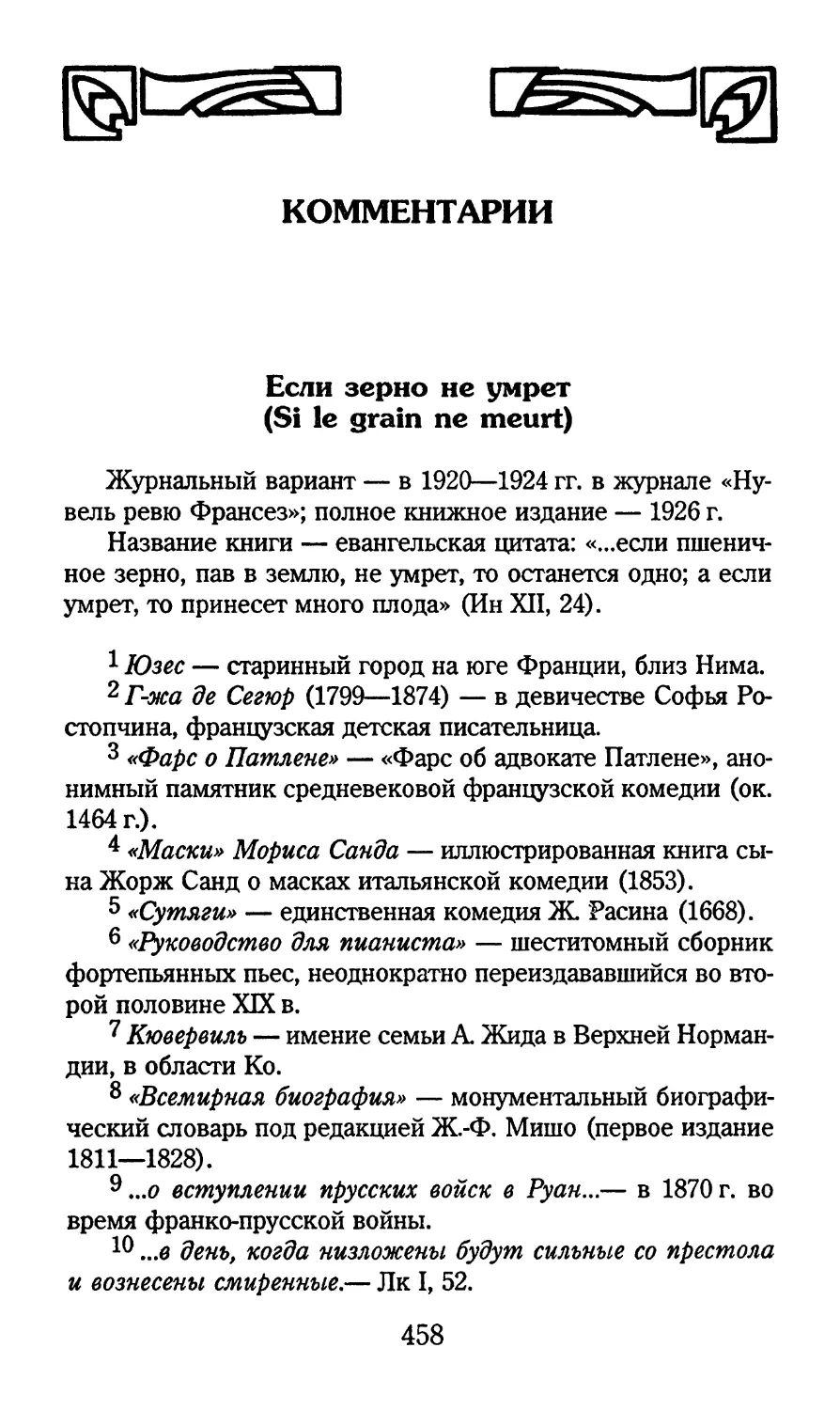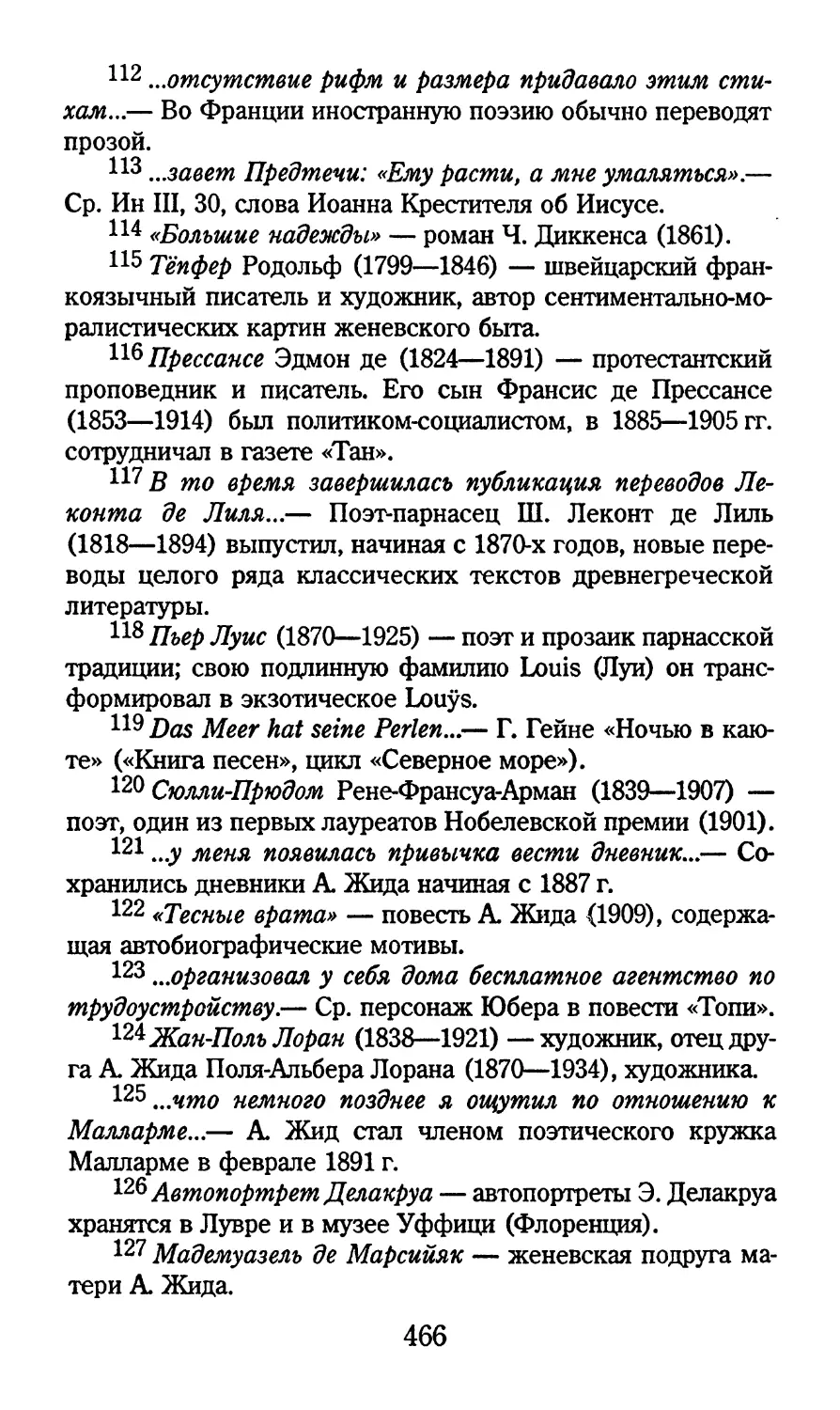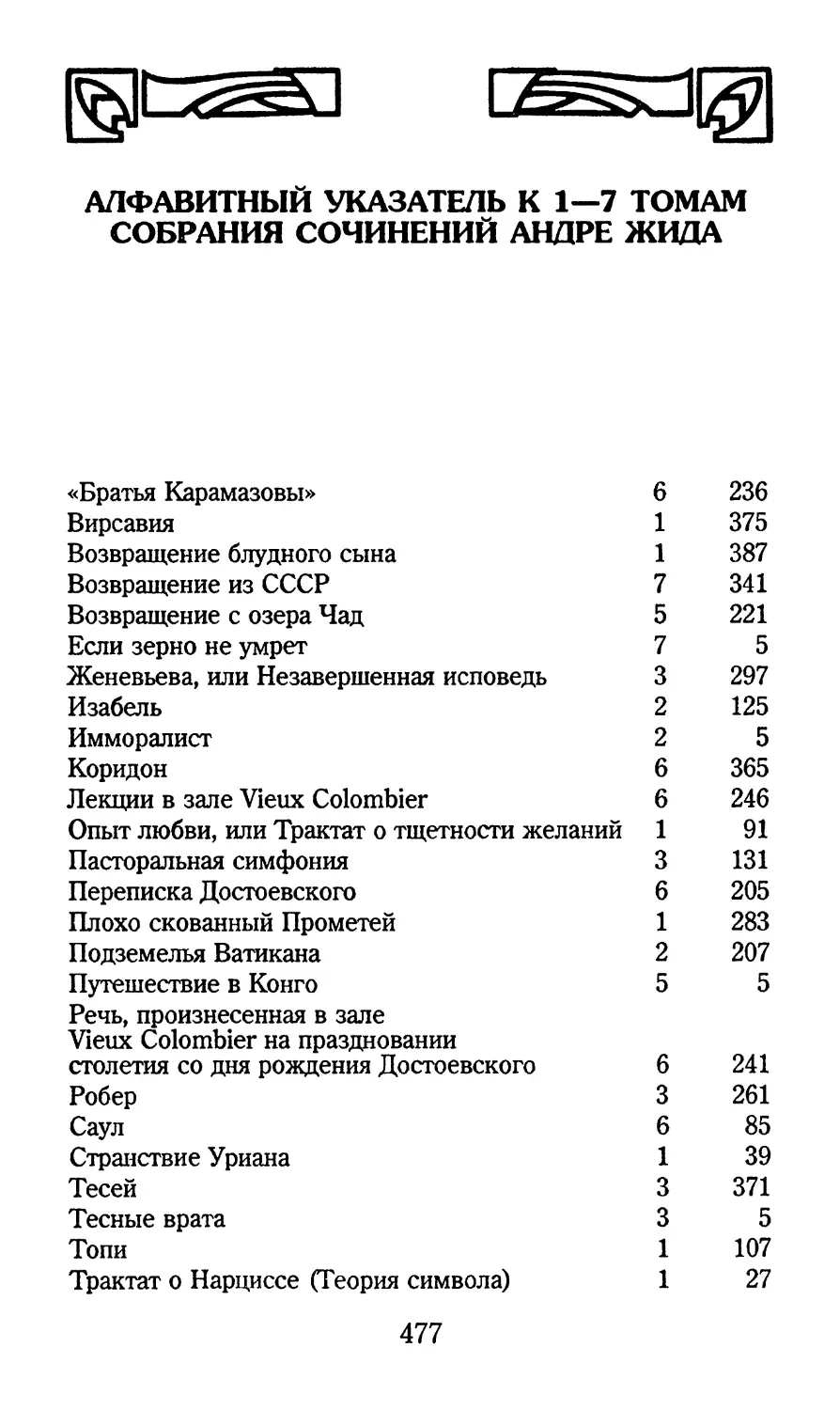Автор: Жид А.
Теги: литература литературоведение художественная литература французская литература собрание сочинений переводная литература издательство терра книжный клуб
ISBN: 5-275-00624-1
Год: 2002
Текст
Ешнзернонеунрет
Etnwcmanetinte
ВюираириеизСССР
19
МОСКВА
ТЕРРА - КНИЖНЫЙ КЛУБ 2002
УДК 82/89
ББК 84 (4 Фр)
Ж69
Оформление художника
Ф. БАРБЫШЕВА
Составитель
В. НИКИТИН
Жид Андре
Ж69 Собрание сочинений: В 7 т. Т. 7: Если зерно не
умрет; Et nunc manet in te / Пер. с фр. Е. Гречаной;
Возвращение из СССР / Пер. с фр. А. Лапченко;
Коммент. С. Зенкина. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб,
2002. —480 с.
ISBN 5-275-00624-1 (т. 7)
ISBN 5-275-00618-7
Известнейший французский писатель, лауреат Нобелевской
премии 1947 года, классик мировой литературы Андре Жид (1869—
1951) любил называть себя «человеком диалога», «человеком про¬
тиворечий». Он никогда не предлагал читателям определенных
нравственных решений, наоборот, всегда искал ответы на бесчис¬
ленные вопросы о смысле жизни, о человеке и судьбе. Много¬
гранный талант Андре Жида нашел отражение в его ярких, подчас
гротескных произведениях, жанр которых не всегда поддается оп¬
ределению.
В седьмой том Собрания сочинений вошли произведения:
«Если зерно не умрет», «Et nunc manet in te» и «Возвращение из
СССР».
УДК 82/89
ББК 84 (4 Фр)
ISBN 5-275-00624-1 (т. 7)
ISBN 5-275-00618-7
© Е. Гречаная, «Если зерно не умрет»,
«Et nunc manet in te», перевод, 2000
© А Лапченко, «Возвращение из СССР»,
перевод, 1989
©ТЕРРА—Книжный клуб, 2002
ЕСЛИ ЗЕРНО
НЕ УМРЕТ
G2lSI][£5?
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Я родился 22 ноября 1869 года. Мои родители жи¬
ли тогда на улице Медичи, в квартире то ли на пятом,
то ли на шестом этаже, и спустя несколько лет уеха¬
ли оттуда, так что я о ней ничего не помню. Впрочем,
припоминаю балкон, вернее то, что было видно с бал¬
кона: площадь с высоты птичьего полета и фонтан с
бассейном, а если говорить еще точнее, я помню бу¬
мажных драконов, вырезанных отцом, которых мы с
ним запускали с этого балкона: подхваченные вет¬
ром, они пролетали над фонтаном на площади до
Люксембургского сада и повисали на высоких ветках
каштанов.
Я вспоминаю и довольно большой стол, должно
быть, в столовой, покрытый низко свисавшей скатер¬
тью; я залезал под него вместе с сыном консьержки,
мальчуганом моих лет, иногда приходившим ко мне в
гости.
— Что это вы там делаете? — кричала нам няня.
— Ничего. Играем.
И мы вовсю гремели прихваченными для отвода
глаз игрушками. На самом деле мы развлекались ина¬
че: подле друг друга, но все же не друг с другом, мы
предавались тому, что, как я узнал позднее, называет¬
ся «дурными привычками».
Кто из нас научил другого? Кто первый и у кого их
перенял? Не знаю. Мы должны допустить, что ребенок
порой изобретает их сам. Что до меня, то я не могу ска¬
7
зать, научил ли меня кто-то или я сам открыл для себя
это удовольствие; как бы далеко ни заводила меня па¬
мять, оно было всегда.
Впрочем, я знаю, какой вред наношу себе, расска¬
зывая об этом и каковы будут последствия, предчувст¬
вую, что мой рассказ будет обращен против меня. Но
он имеет право на существование, в силу того что он
правдив. Предположим, что я пишу об этом из раская¬
ния.
В том невинном возрасте, в котором в любой дет¬
ской душе хотелось бы видеть только прозрачность,
нежность и чистоту, в моей были лишь мрак, уродство
и скрытность.
Меня водили гулять в Люксембургский сад; но я от¬
казывался играть с другими детьми; я угрюмо держал¬
ся в стороне от всех возле няни и глядел на чужие иг¬
ры. Насыпая песок в ведерки, дети лепили хорошень¬
кие куличики... Стоило няне отвернуться, как я
внезапно бросался топтать все их изделия.
Другое происшествие, о котором я хочу пове¬
дать,— более странное и, наверное, поэтому я его
меньше стыжусь. Впоследствии мать часто рассказы¬
вала мне о нем, и ее рассказ помогает мне лучше все
вспомнить.
Дело было в Юзесе *, куда мы приезжали раз в год
повидаться с бабушкой по отцу и другими родственни¬
ками, например, с кузеном и кузиной де Фло: они жи¬
ли в самом центре города в старом доме с садом. У них
в доме и произошел тот случай. Моя кузина была
очень красива и знала об этом. Гладко причесанные на
прямой пробор иссиня-черные волосы, профиль камеи
(у меня есть фотография) и ослепительно белая кожа.
Блеск этой кожи я хорошо запомнил, тем более что в
тот день, когда меня ей представили, на ней было
платье с большим вырезом.
— Пойди поцелуй свою кузину,— сказала мне мать,
когда я вошел в гостиную. (Мне было года четыре, от
силы пять.) Я сделал несколько шагов. Кузина, накло¬
нясь, притянула меня к себе, плечо ее оголилось. От
блеска ее тела у меня словно помутилось в глазах: вме¬
8
сто того чтобы коснуться губами обращенной ко мне
щеки, я, завороженный ослепительным плечом, со
всей силы впился в него зубами. Кузина вскрикнула от
боли, а я — от ужаса и с отвращением сплюнул. Меня
тут же увели, и, полагаю, все были так поражены, что
забыли меня наказать.
Найденная мной фотография той поры представля¬
ет меня выряженным в смешное клетчатое платьице: я
прижался к материнской юбке и гляжу искоса с болез¬
ненным и злым выражением лица.
Мне было шесть лет, когда мы покинули улицу Ме¬
дичи. Наша новая квартира на третьем этаже дома № 2
по улице Турнон была угловой, окна рабочего кабине¬
та моего отца выходили на улицу Сен-Сюльпис; окна
моей комнаты смотрели во двор. Я особенно хорошо
помню прихожую, потому что, если не ходил в школу
и не свдел у себя в комнате, чаще всего проводил вре¬
мя именно там, когда мама, устав от того, что я верчусь
около нее, советовала мне пойти поиграть «с другом
Пьером», то есть в одиночестве. Разноцветные геомет¬
рические фигуры на ковре сплетались в пестрый рису¬
нок, и среди них было необыкновенно удобно играть в
шарики с «другом Пьером».
В маленькой сеточке у меня хранились самые кра¬
сивые шарики: их мне дарили по одному, и я не хотел
смешивать их с обыкновенными. Доставая их, я всякий
раз восхищался их красотой: любимым был маленький,
из черного агата с белой полоской на экваторе и тро¬
пиках, и второй, из полупрозрачного сердолика, цвета
серебристой чешуи: он служил мне для блокировки.
Семейство обычных серых шариков пряталось в боль¬
шом полотняном мешке: я выигрывал их и проигрывал
и ставил на кон, когда позднее играл уже по-настояще¬
му с товарищами.
Другим развлечением, которое я обожал, был чу¬
десный прибор под названием калейдоскоп: волшеб¬
ная трубка на другом, противоположном глазу, конце
предлагала взору вечно меняющийся витраж, состав¬
ленный из подвижных цветных осколков, заключен¬
ных между двумя матовыми стеклами. Внутренность
9
трубки состояла из зеркал, и они множили рисунок,
придавая симметрию фантасмагории осколков, кото¬
рые перемещались от малейшего движения трубки.
Вечно меняющиеся витражи погружали меня в невы¬
разимый восторг. Я до сих пор отчетливо вижу цвет и
форму стеклышек: самым крупным был рубиновый
треугольник; от тяжести рубин начинал двигаться пер¬
вым и подталкивал остальных. Еще был почти круглый
очень темный гранат, серповидный изумруд, топаз, я
помню только его желтизну, сапфир и три маленьких
темно-красных осколка. Но они никогда не оказыва¬
лись на сцене все вместе; одни полностью, другие —
наполовину оставались скрытыми за кулисами — по
другую сторону зеркал; только рубин, крупный, боль¬
шой, никогда не исчезал совсем. Мои кузины, разде¬
лявшие мое пристрастие к калейдоскопу, но куда ме¬
нее терпеливые, всякий раз трясли трубку, торопясь
увидеть совершенно новую картину. Я же поступал
иначе: не сводя с витража глаз, потихоньку вращал ка¬
лейдоскоп, любуясь постепенными изменениями. По¬
рой едва заметное смещение одного из осколков при¬
водило к потрясающим последствиям. Я был заинтри¬
гован и решил выпытать у калейдоскопа его секрет.
Вытащил донышко, пересчитал осколки и извлек из
картонного футляра три зеркальца; потом вставил об¬
ратно зеркала и оставил только три-четыре стеклышка.
Картина получилась довольно бледная; перемены боль¬
ше не вызывали удивления; но как отчетливы стали
все детали! Как понятен источник наслаждения!
Потом мне захотелось заменить стеклышки чем-то
более необычным: стальным пером, мушиным кры¬
лышком, головкой спички, травинкой. Все они были
непрозрачными, волшебство пропало, но, отражаясь в
зеркалах, они складывались в довольно интересные
геометрические фигуры... В общем, я проводил за этой
игрой целые часы и дни. Мне кажется, нынешние де¬
ти не знают калейдоскопа, поэтому я так долго о нем
и рассказывал.
Еще я играл в головоломки, кубики, переводные
картинки, и всегда один, всегда один. У меня не бы¬
10
ло ни одного приятеля... Впрочем, нет, одного я при¬
поминаю. Но, к сожалению, мы с ним не играли. В
Люксембургском саду, куда меня водила Мари, я по¬
встречался с моим сверстником, хрупким, тихим,
спокойным, чье бледное лицо наполовину скрывали
большие очки с такими темными стеклами, что за ни¬
ми ничего невозможно было разглядеть. Я уже не по¬
мню его имени, да, быть может, никогда и не знал
его. Мы прозвали его Барашек: из-за шубки из белой
овчины.
— Послушайте, Барашек, почему вы носите очки?
(Насколько я помню, я не говорил ему «ты».)
— У меня больные глаза.
— Покажите мне их.
Он снял свои ужасные очки, и его мигающий, не¬
уверенный, жалкий взгляд с болью проник мне в сер¬
дце.
Мы с ним никогда не играли; насколько я помню,
мы только прогуливались, взявшись за руки и не гово¬
ря ни слова.
Эта первая дружба длилась недолго. Вскоре Бара¬
шек перестал приходить в Люксембургский сад. Ка¬
ким пустым он мне тогда показался!.. Но подлинное
отчаяние я испытал, когда понял, что Барашек ослеп.
Мари как-то встретила на улице его бонну и переска¬
зала моей матери свой разговор с ней; она говорила
шепотом, чтобы я не услышал, но некоторые слова я
разобрал: «Он больше не может найти свой рот!» Эта
нелепая фраза — кто же нуждается в зрении, чтобы
найти свой рот, я об этом сразу же подумал,— меня
глубоко потрясла. Я пошел плакать к себе в комнату и
с тех пор довольно долгое время пытался ходить с за¬
крытыми глазами, силясь представить, что чувствует
Барашек.
Отец почти не занимался мной, поглощенный под¬
готовкой к лекциям, которые читал на юридическом
факультете. Большую часть дня он работал, закрыв¬
шись у себя в кабинете, очень большом и сумрачном,
куда мне дозволялось входить только по его зову. Гля¬
дя на фотографию, я вспоминаю лицо отца, квадрат¬
11
ную бородку и черные, довольно длинные, вьющиеся
волосы; если бы не фотография, я помнил бы только
его удивительную доброту. Мама потом говорила мне,
что коллеги прозвали отца «Vir probus» *, а от одного
из коллег я узнал, что они частенько обращались к от¬
цу за советом.
Отец вызывал во мне чувство робости и почтения,
торжественность его кабинета усиливала их. В каби¬
нет я входил как в храм; в полутьме виднелась святая
святых — библиотека; толстый ковер с многоцвет¬
ным, темных тонов узором заглушал мои шаги. Возле
одного из двух окон, подобно аналою, возвышалась
конторка, а посередине комнаты стоял огромный
стол, заваленный книгами и бумагами. Отец брал с
полки толстую книгу, «Законы Бургундии», напри¬
мер, или «Законы Нормандии», клал увесистый том in
folio на подлокотник и, переворачивая страницу за
страницей, следил вместе со мной за разрушительной
работой жучка-книгоеда. Опытного юриста, изучав¬
шего старинные документы, позабавили потайные га¬
лереи жучков, и он подумал: «А ведь они позабавят и
моего сына!» И они действительно очень меня забав¬
ляли — в особенности потому, что ими так забавлял¬
ся отец.
Но в первую очередь отцовский кабинет помнится
мне теми книгами, какие отец мне читал в нем. На¬
счет книг у него были свои, особые соображения, ко¬
торые моя мать не разделяла, и я часто слышал, как
они спорили о том, какой умственной пищей следует
насыщать мозг ребенка. Точно так же спорили они и
о послушании: мать считала, что ребенок должен по¬
виноваться родителям слепо, зато отец всегда объяс¬
нял мне, почему я должен слушаться. Я хорошо по¬
мню, как мать тогда сравнивала меня, ребенка, с ев¬
рейским народом, настаивая, что, прежде чем жить
под сенью благодати, ему необходимо было пожить
под сенью закона. Теперь мне кажется, что права бы¬
ла мать; но в те времена я часто не слушался ее и не¬
* Достойный муж (лат.).— Примеч. пер.
12
прерывно спорил, тогда как отцу достаточно было од-
ного-единственного слова, чтобы добиться от меня, че¬
го угодно. Думаю, он следовал велению сердца, а не
методе воспитания, когда предлагал мне позабавиться
или полюбоваться только тем, что любил сам и чему
сам радовался. Французская литература для детей тог¬
да представляла собой верх нелепости, и, мне кажет¬
ся, отец бы страдал, увидев у меня в руках книжку из
тех, какие я стал читать позже, вроде, например, сочи¬
нений г-жи де Сегюр2, которые, признаюсь, доставля¬
ли мне, как и почти всем детям моего поколения, жи¬
вейшее, хотя и дурацкое удовольствие, к счастью, не
живее того, что испытал я от отцовского чтения, слу¬
шая сцены из комедий Мольера, отрывки из «Одис¬
сеи», «Фарс о Патлене»3, приключения Синдбада и
Али-Бабы и шутовские сценки итальянской комедии из
сборника Мориса Санда «Маски»4, и вдобавок любо¬
вался изображениями Арлекина, Коломбины, Полиши¬
неля и Пьеро, после того как услышал их разговоры в
исполнении отца.
Успех этих чтений вслух был так велик и доверие
ко мне отца столь безгранично, что однажды он ре¬
шил прочитать мне Книгу Иова. Мама пожелала при¬
сутствовать при этом опыте, поэтому он проходил не
в кабинете, как обычно, а в маленькой гостиной, где
мы чувствовали себя у нее в гостях. Конечно, я не мо¬
гу поклясться, что сразу же оценил могучую красоту
Священного Писания! Но, безусловно, это чтение про¬
извело на меня сильнейшее впечатление, чему спо¬
собствовали как торжественность самого повествова¬
ния, так и серьезный тон отца и выражение лица ма¬
тери: она слушала, закрыв глаза, подчеркивая и
вместе с тем оберегая свою благочестивую сосредото¬
ченность, а когда открывала их, то ее устремленный
на меня взгляд был исполнен любви, вопрошания и
надежды.
Иногда погожими летними вечерами, если мы не
очень поздно ужинали и у отца было не слишком мно¬
го работы, он спрашивал меня:
—А не хочет ли мой дружок погулять со мной?
13
Он всегда звал меня не иначе как «мой дружок».
— Будете умниками? — спрашивала мама.— Не за¬
держивайтесь допоздна.
Я любил гулять с отцом, и поскольку он редко мной
занимался, то немногое, что мы делали с ним вместе,
казалось мне необычным, крайне важным и едва ли не
таинственным, приводя меня в восторг.
Играя в какую-нибудь игру — в загадки или в созву¬
чия,— мы поднимались по улице Турнон, до Люксем¬
бургского сада или шли дальше по бульвару Сен-Ми-
шель до следующего сквера возле Обсерватории. В те
времена территория напротив Фармацевтической шко¬
лы еще не была застроена, и школы самой не было.
Вместо солидных семиэтажных домов там теснились
лишь лавчонки тряпичников и перекупщиков да еще
сдавались напрокат велосипеды. Любители этого раз¬
влечения катались тогда по асфальтированной или, мо¬
жет быть, мощенной камнем — точно не помню — до¬
рожке, что огибала второй Люксембургский сад; взгро¬
моздившись на странные, удивительные механизмы,
впоследствии вытесненные современными велосипе¬
дами, они описывали круги, катили вдаль и исчезали в
вечернем сумраке. Мы любовались их смелостью, их
изяществом. Сиденье и маленькое заднее колесо, урав¬
новешивавшее все воздушное сооружение, были едва
различимы. Огромное переднее колесо виляло из сто¬
роны в сторону, и оседлавший его казался фантастиче¬
ским существом.
Сгущались сумерки, и чуть поодаль зажигались ог¬
ни музыкального кафе, привлекавшего нас пением. Из-
за дощатой изгороди мы не видели светящихся шаров
фонарей, только странно освещенную листву кашта¬
нов. Мы подходили поближе. Доски не везде были
плотно пригнаны, и сквозь щели можно было загля¬
нуть внутрь: за темной, шевелящейся массой зрителей
я различал чудо сцены, на которой певичка пела ка¬
кие-то пошлости.
Иногда у нас еще оставалось время вновь пройти на
обратном пути большим Люксембургским садом. Вско¬
ре барабанная дробь возвещала о его закрытии. По¬
14
следние гуляющие в сопровождении стражников нео¬
хотно направлялись к выходам, и за ними пустынные
аллеи наполнялись тайной. В такие вечера я засыпал,
хмельной от темноты, сонливости и ощущения чего-то
необычного.
Когда мне исполнилось пять лет, родители стали во¬
дить меня на занятия к мадемуазель Флер и мадам Ла-
кербауэр. Мадемуазель Флер жила на улице Сены *. В
то время как малыши, в том числе и я, пыхтели над аз¬
букой или прописями, дети постарше — девочки (заня¬
тия мадемуазель Флер посещали и девочки-подростки,
но из малышей — только мальчики) — суетились, ре¬
петируя какую-нибудь пьесу, на которой предполага¬
лось присутствие родителей. Помню, как девочки гото¬
вили сцену из «Сутяг»5 Расина: они приклеивали боро¬
ды, и я завидовал их переодеваниям, мне казалось, нет
ничего увлекательнее.
В доме мадам Лакербауэр я помню только «маши¬
ну Рэмздена», старый электрический проигрыватель,
страшно интриговавший меня стеклянным диском с на¬
клеенными на него металлическими пластинками и
ручкой для вращения этого диска. До «машины» было
запрещено дотрагиваться: «опасно для жизни» извеща¬
ла табличка наподобие тех, что прикрепляют к элект¬
рическим столбам. Однажды учительница решила вос¬
пользоваться проигрывателем; дети стали вокруг, но
как можно дальше; всем было очень страшно, ждали,
что учительница взорвется. Она и сама немного дрожа¬
ла, когда протягивала указательный палец к медному
шарику на краю проигрывателя. Но даже искра не
блеснула... Мы вздохнули с облегчением.
Мне исполнилось семь лет, когда мать решила до¬
бавить к занятиям у мадемуазель Флер и мадам Лакер¬
бауэр уроки фортепьяно у мадемуазель де Геклен. Чув¬
ствовалось, что этим невинным созданием движет,
* См. Заметку в конце произведения.— Здесь и далее, кро¬
те особо оговоренных случаев, примеч. авт.
15
быть может, не столько любовь к искусству, сколько
острая необходимость зарабатывать себе на жизнь.
Очень тонкая, очень бледная, она словно была готова
упасть в обморок. Думаю, что мадемуазель де Геклен
никогда не ела досыта.
Когда я был послушным, мадемуазель де Геклен да¬
рила мне картинку, вынимая ее из маленькой муфты
Сама по себе картинка показалась бы мне обыкновен¬
ной, и я бы не обратил на нее внимания; но она была
надушена, сильно надушена, видимо, впитав запах
муфты. Я ее не разглядывал, а вдькал, а потом накле¬
ивал в альбом рядом с другими картинками: их в боль¬
ших магазинах дарят детям постоянных клиентов, но
магазинные картинки ничем не пахли. Недавно я рас¬
крыл альбом, чтобы развлечь моего маленького пле¬
мянника: картинки мадемуазель де Геклен все еще
благоухали, они пропитали своим ароматом весь аль¬
бом.
Позанимавшись с гаммами, арпеджио, сольфеджио
и в который раз повторив упражнения из «Руководст¬
ва для пианиста»6, я уступал место матери, и она уса¬
живалась радом с мадемуазель де Геклен. Думаю, что
мама никогда не играла одна из скромности; зато как
здорово у них получалось в четыре руки! Обычно они
выбирали отрывок из какой-нибудь симфонии Гайдна,
предпочитая финал, отличавшийся, по мнению мамы,
меньшей экспрессией из-за стремительного темпа —
приближаясь к концу, она его еще убыстряла. И гром¬
ко считала все время, пока они играли.
Когда я стал постарше, уже не мадемуазель де Гек¬
лен приходила к нам, а я ходил заниматься к ней до¬
мой. Она жила в крошечной квартирке со своей стар¬
шей сестрой, то ли калекой, то ли слабоумной, кото¬
рую содержала. В первой комнате, служившей,
должно быть, столовой, стояла клетка с зябликами, а
во второй — фортепьяно; оно страшно фальшивило на
высоких нотах, и я старался не брать их, когда мы с ма¬
демуазель де Геклен играли в четыре руки. Мадемуа¬
зель де Геклен без труда угадывала причину моего от¬
вращения и говорила жалобным голосом в пустоту,
16
словно давала указание призраку; «Нужно вызвать на¬
стройщика». Но призрак не выполнял поручения.
Летние каникулы мои родители обыкновенно про¬
водили в Кальвадосе, где после смерти бабушки Ровдо
матери досталось имение в Ла Рок Беньяр. Рождест¬
венские каникулы мы проводили в Руане у родствен¬
ников матери, а пасхальные — в Юзесе у моей бабуш¬
ки по отцу.
Трудно найти два более несхожих семейства; и две
более несхожих провинции, слившие во мне свои про¬
тиворечивые влияния. Я частенько твердил себе, что
обречен на литературное творчество: только оно мог¬
ло примирить раздиравшие меня разнородные стихии,
которые в противном случае так и вели бы нескончае¬
мую борьбу или спорили бы во мне. Созидательной си¬
лой одаряет, без сомнения, наследственность, органич¬
но сплавленная в единый поток. И, напротив, противо¬
речивая наследственность, в которой существуют
разнонаправленные тенденции, то нейтрализуя друг
друга, то усиливая несовместимости, порождает ху¬
дожников и литераторов. Примеры могли бы доказать
мою правоту.
Но эта ощущаемая и обозначенная мной закономер¬
ность так мало, кажется, интересовала историков, что
ни в одной из биографий, имеющихся у меня под ру¬
кой в Кювервиле7, где я пишу эти строки, ни в одном
из словарей, ни даже в огромной энциклопедии «Все¬
мирная биография»8 в пятидесяти двух томах, какое
бы имя я ни взял, я нигде не нахожу ни малейшего ука¬
зания на то, из какой семьи происходила мать того или
иного великого человека, того или иного деятеля. Но к
этому я еще вернусь.
Мой прадед, Рондо де Монбрей, был, как и его
отец, советником Суда по делам казны, его красивый
особняк я еще смог увидеть на площади Нотр-Дам, на¬
против собора, в 1789 году он был мэром Руана. В 1793
году его вместе с г-ном д’Эрбувилем заключили в тюрь¬
му, и г-н де Фонтенэ, считавшийся человеком более пе¬
17
редовым, занял его пост. Выйдя из тюрьмы, мой пра¬
дед уехал в Лувье. Там он, кажется, вторично женил¬
ся. * От первого брака у него было двое детей, и до той
поры все Рондо были католиками. Но во второй раз
Рондо де Монбрей женился на протестантке, мадемуа¬
зель Дюфур, от которой у него было трое детей, и сре¬
ди них мой дед Эдуард. Дети были крещены и воспи¬
таны в католической вере. Но мой дед тоже женился
на протестантке, Жюли Пуше, и на этот раз пятеро де¬
тей — самой младшей из них была моя мать — были
воспитаны в протестантской вере.
Однако к тому времени, о котором я рассказываю,
вся моя руанская родня вновь вернулась в католичест¬
во, став куда более католической и благонамеренной,
чем была когда-то. Мой дядя Анри Рондо, который по¬
сле смерти бабушки жил в руанском доме с женой и
двумя детьми, перешел в католичество еще совсем мо¬
лодым, задолго до того, как женился на страстной ка¬
толичке Люсиль К.
Дом был угловой и стоял между улицами Крон и
Фонтенель. На первую выходили его ворота, а на вто¬
рую — большинство окон. Он казался мне огромным,
и таким и был. Внизу, кроме привратиицкой, кухни, ко¬
нюшни и сарая, был еще и склад ситцевых тканей,— у
дядюшки в Ульме, в нескольких километрах от Руана
была ситцевая фабрика. А возле склада был еще и не¬
большой кабинет, куда запрещалось входить детям:
впрочем, застарелый запах крепких сигар, сумрак и
мрачная обстановка служили ему лучшей защитой. За¬
то каким замечательным был сам дом!
Еще у ворот, мелодичный и торжественный звук
колокольчика говорил вам «Добро пожаловать». А
под сводами ворот, слева через стеклянную дверь —
к ней вели три ступеньки — вам уже улыбалась кон¬
* Эти и последующие сведения сообщила мне моя тетя,
жена Анри Рондо, и я записал их под ее диктовку в Кювер-
виле, когда она в последний раз сюда приезжала. В приложе¬
нии я привожу письмо моего кузена Мориса Демаре, отме¬
тившего некоторые неточности в моем рассказе.
18
сьержка. Прямо открывался внутренний двор, где ды¬
шали свежим воздухом, отдыхая от службы в доме,
зеленые декоративные растения,, выстроившись в
своих горшках вдоль противоположной стены, преж¬
де чем вернуться в теплицу в Ульме, откуда их при¬
везли и куда отправляли для поправки здоровья. И
как же тепло и немного влажно было в самом доме,
скромном, даже суровом, но уютном, добротном, и
таком милом! Свет на лестницу шел снизу из-под сво¬
да ворот и сверху через стеклянную крышу. На каж¬
дой лестничной площадке стояли длинные, обитые
зеленым бархатом скамейки, на которых было так
удобно читать, лежа на животе. Но еще лучше читать
было прямо на лестнице — с третьего этажа на чет¬
вертый, последний, она была покрыта узорчатым,
черно-белым ковром с широкой красной каймой. Че¬
рез стеклянную крышу падал мягкий, умиротворяю¬
щий свет, я сидел на одной из ступенек, и верхняя
служила мне то пюпитром, то подлокотником, посте¬
пенно впиваясь в бок...
Я буду писать о том, что припоминается, не стара¬
ясь упорядочить воспоминаний. Самое большее, что я
могу, это сгруппировать их вокруг каких-то мест, ка-
ких-то людей: память моя редко ошибается относитель¬
но мест, зато в датах я путаюсь, и хронологический
принцип для меня просто гибелен. Прошлое я огляды¬
ваю как человек, чей взор плохо оценивает расстояние
и порой относит гораздо дальше то, что на самом деле
находится куда ближе. Так, я долго был убежден, что
сохранил воспоминание о вступлении прусских войск
в Руан.9
Ночь. Слышатся звуки военного оркестра, и с бал¬
кона, выходящего на улицу Крон, по которой он прохо¬
дит, видно, как смоляные факелы бросают неровные
отсветы на удивленные стены домов...
Мать, которой я позднее рассказывал об этом, убе¬
дила меня, что, во-первых, я был еще слишком мал,
чтобы что-то запомнить, и, во-вторых, что ни один руа¬
нец, и уж во всяком случае никто из нашей семьи, ни¬
когда бы не вышел на балкон поглядеть даже на Бис¬
19
марка, даже на прусского короля, и если бы немцам
вздумалось устроить шествие, то они шагали бы по пу¬
стынным улицам вдоль затворенных ставен. Я, должно
быть, помнил о «гулянии с факелами», которым мог
любоваться каждую субботу по вечерам на улице
Крон, после того как немцы давно уже покинули го¬
род.
— Его-то мы тебе и показывали с балкона, напевая,
помнишь:
О-ля-ля, о-ля-ля!
Бравые солдаты!
Внезапно я припомнил песенку. И все встало на
свои места, обрело правильные размеры. Но я чувство¬
вал себя немного обобранным; мне казалось, что преж¬
де я был ближе к истине: шествие, которое в моем пер¬
возданном восприятии приобрело такое значение, за¬
служивало быть историческим событием. Поэтому
подсознательно я отодвигал его как можно дальше,
стремясь расстоянием придать ему величие.
То же самое и с балом на улице Крон, который моя
память упрямо относила к тому времени, когда была
жива бабушка, умершая в семьдесят три года — мне не
было и четырех лет. Очевидно, на самом деле я помню
праздник, устроенный дядей Анри и тетушкой спустя
три года после смерти бабушки по случаю совершенно¬
летия их дочери.
Я уже лежу в постели, но необычный шум, какое-
то содрогание всего дома сверху донизу и гремящая
музыка не дают мне уснуть. Днем я, наверное, заметил
какие-то необычные приготовления. Наверное, мне
сказали, что вечером будет бал. Но откуда мне знать,
что такое бал? Я не обратил никакого внимания на не¬
знакомое слово и улегся спать, как обычно. И вот те¬
перь этот странный шум... Я прислушиваюсь, стараюсь
различить в нем что-то более отчетливое, понять, что
происходит. Изо всех сил напрягаю слух. Наконец не
выдерживаю, встаю и босиком наощупь пробираюсь
из комнаты в темный коридор, а оттуда до залитой
светом лестницы. Моя комната на четвертом этаже.
20
Волны звуков поднимаются со второго; нужно пойти
посмотреть; и по мере того как я спускаюсь по сту¬
пенькам, я различаю шум голосов, шуршание и шелест
платьев, приглушенный говор и смех. Все вокруг нео¬
бычно; мне кажется, что сейчас я приобщусь к какой-
то другой, таинственной жизни, по-иному реальной,
более яркой и возвышенной, которая начинается толь¬
ко тогда, когда маленькие дети ложатся спать. Кори¬
доры третьего этажа темны и пустынны; праздник гре¬
мит где-то ниже. Идти дальше? Меня увидят. Накажут
за то, что я не сплю, за то, что я подглядываю. Я про¬
совываю голову сквозь железные перила. Прибывают
гости: военный в парадном мундире, дама вся в шел¬
ках и бантах, с веером в руках. Слуга, мой друг Вик¬
тор, которого я не сразу узнаю в коротких, до колен,
панталонах и белых чулках, стоит перед распахнутой
дверью в первую гостиную и провожает туда гостей.
Вдруг кто-то бросается ко мне: это Мари, моя няня,
она, как и я, тоже пытается поглядеть на бал, спрятав¬
шись чуть ниже, у первого поворота лестницы. Она
подхватывает меня на руки, и мне кажется, что она
унесет меня обратно в спальню и запрет там; но нет,
спускаемся пониже: туда, где Мари пряталась, где
хоть краешком глаза можно увидеть праздник. Теперь
я отлично слышу музыку. При звуках невидимого ор¬
кестра мужчины кружатся с разодетыми дамами, го¬
раздо более красивыми, чем они бывают обычно
днем. Музыка стихает; танцоры останавливаются, вме¬
сто оркестра слышится шум голосов. Няня хочет уве¬
сти меня, но в это мгновение одна из красивых дам,
стоящая возле двери, обмахиваясь веером, замечает
меня; она подбегает ко мне, обнимает и смеется, пото¬
му что я ее не узнаю. Это подруга моей матери, я ви¬
дел ее сегодня утром; и все же я не совсем уверен, что
это действительно она. И, когда я вновь оказываюсь в
постели, мысли у меня в голове путаются, и, засыпая,
я смутно думаю о том, что есть реальность, есть сны,
и есть другая реальность.
Неосознанная, смутная вера во что-то иное, сущест¬
вующее радом с реальностью, с повседневностью, с
21
данностью, жила во мне долгие годы, и я не уверен,
что и теперь не отыщу в душе ее следов. Однако моя
вера не имела ничего общего со сказками о феях, злых
духах и колдунах или со сказками Гофмана или Андер¬
сена, которых, впрочем, я тогда и не знал. Нет, я скло¬
нен считать, что так проявлялась во мне смутная по¬
требность сделать жизнь более насыщенной — потреб¬
ность, которую позднее удовлетворит религия,— и еще
уверенность в существовании другой тайной жизни.
Так, после смерти отца, хоть я и не был уже малень¬
ким, разве мне не казалось, что умер он не по-настоя¬
щему? Вернее, как бы поточнее объяснить мое ощуще¬
ние — что он умер только для нашей явной, дневной
жизни, а ночью, когда я сплю, тайно приходит к мате¬
ри. Днем я ошущал это смутно, но вечером, перед тем
как уснуть, ощущение становилось четким и непре¬
ложным. Я не стремился проникнуть в тайну, я созна¬
вал, что сразу же спугну то, что попытаюсь застигнуть
врасплох; конечно, я был еще слишком юн, и мать
слишком часто повторяла мне по любому поводу: «Ты
поймешь это позже», но иногда вечером, когда я погру¬
жался в дремоту, мне и впрямь казалось, что я уступаю
место...
Но вернусь на улицу Крон.
На третьем этаже в конце коридора, куда выходят
двери спален, находится классная, она уютнее и удоб¬
нее больших гостиных на втором этаже, и мама пред¬
почитает сидеть в ней и одна, и со мной; В глубине ее
стоит большой шкаф. Оба окна выходят во двор; одно
из них двойное, и между рамами в горшках с блюдца¬
ми цветут крокусы, гиацинты и тюльпаны «герцог де
Толль». Справа и слева от камина — два больших крес¬
ла, дорожки на них вышиты мамой и тетушками; в од¬
ном из кресел она и сидит. Мадемуазель Шеклтон си¬
дит у стола на стуле из красного дерева, обтянутом гра¬
натовым репсом и вышивает по канве. Маленький
квадратик этой канвы, призванный облегчить ее рабо¬
ту, натянут на металлические пяльцы; и сквозь эту сеть
Арахны скользит туда и обратно игла. Мадемуазель
Шеклтон порой сверяется с образцом вышивки — бе¬
22
лым рисунком на темно-синей бумаге. Мама смотрит
на подоконник и говорит:
— Крокусы раскрылись — будет тепло.
Мадемуазель Шеклтон мягко поправляет ее:
— Узнаю Жюльетту! Уже тепло, поэтому и раскры¬
лись крокусы; вы же знаете, не от них зависит погода.
Анна Шеклтон! Будто вижу ваше спокойное лицо,
чистый лоб, строгий рот и улыбчивые глаза, согревав¬
шие своей несказанной добротой мое детство. Чтобы
рассказать о вас, мне хотелось бы найти самые про¬
никновенные, почтительные и ласковые слова. Рас¬
скажу ли я когда-нибудь о вашей незаметной жизни?
Я хотел бы, чтобы в моем рассказе просияла ваша
кротость, как просияет она перед Господом в тот са¬
мый день, когда низложены будут сильные со престо¬
ла и вознесены смиренные.10 Я никогда не любил
изображать восторжествовавших и славных в мире
сем, предпочитая тех, чья слава более истинна и
скрыта.
Не знаю, какие превратности судьбы забросили из
глубины Шотлавдии отпрысков семейства Шеклтон на
континент. Пастор Роберти, сам женатый на шотланд¬
ке, знал, мне кажется, эту семью и, очевидно, пореко¬
мендовал старшую из дочерей моей бабушке. Все, что
я здесь скажу, я узнал, разумеется, много позже от
моей матери или от старших двоюродных братьев и се¬
стер*.
Мадемуазель Шеклтон вошла в нашу семью гувер¬
нанткой моей матери. Моя мать была уже подрост¬
ком, вот-вот должна была стать девушкой на выданье,
и кое-кому казалось, что Анна Шеклтон, молодая и к
тому же красавица, может навредить своей подопеч¬
ной. Юная Жюльетта Рондо была, надо это признать,
особой с трудным характером. Она не только избега¬
ла общества и старалась быть незаметной всякий раз,
когда следовало бы, предстать во всем блеске, но и
вдобавок не упускала случая выдвинуть на первый
план Анну Шеклтон, к которой почти тотчас же про¬
* См. Заметку.
23
никлась самым живым дружеским чувством. Жюль-
етта ни за что не соглашалась быть лучше одетой, ее
шокировало все, что подчеркивало ее положение и
богатство, и ее отказ от любых преимуществ выливал¬
ся в бесконечную борьбу с матерью и старшей сест¬
рой Клер.
Бабушку нельзя было упрекнуть ни в жесткости, ни
в приверженности к сословным предрассудкам, но
вместе с тем она остро чувствовала сословную иерар¬
хию. Чувство сословной иерархии было присуще и ее
старшей дочери Клер, только у той не было бабушки¬
ной доброты и вообще почти никаких чувств, кроме
этого, и ее раздражало, что оно отсутствует у Жюльет-
ты. Вместо него Клер находила у сестры инстинктив¬
ную склонность если не к бунту, то к неповиновению:
и дружба с Анной только усугубляла неуступчивость
Жюльетты, которая в другое время бывала и мягкой, и
ласковой. Клер нелегко было простить Анне дружбу,
которой ее одарила сестра; она считала, что и в друже¬
ских отношениях существуют градации и оттенки и что
неприлично, если мадемуазель Шеклтон перестанет
чувствовать себя гувернанткой.
«Вот еще! — думала моя мать.— Разве я красивее?
или умнее? или лучше? Неужели из-за моего состоя¬
ния или моей семьи мне будут оказывать предпочте¬
ние?»
—Жюльетта,— говорила ей Анна,— в день вашей
свадьбы вы подарите мне шелковое платье чайного
цвета, и я буду совершенно счастлива.
Жюльетта Рондо долго пренебрегала самыми бле¬
стящими женихами Руана и вдруг, ко всеобщему удив¬
лению, приняла предложение молодого, небогатого
преподавателя права, приехавшего из глубокой про¬
винции с юга, который никогда бы не осмелился по¬
просить ее руки, если бы не добрейший пастор Робер-
ти; пастор и представил его моей матери, зная ее образ
мыслей. Когда спустя шесть лет я появился на свет, Ан¬
на Шеклтон «усыновила» меня, как «усыновила» одно¬
го за другим моих старших двоюродных братьев и сес¬
тер. Ни красота, ни грация, ни доброта, ни ум, ни доб¬
24
родетель не позволяют забыть о бедности, и Анне при¬
шлось довольствоваться лишь отдаленным отблеском
любви и той семьей, которую предоставили ей мои ро¬
дители.
У Анны, которую помню я, черты стали резче, рот
суровей, но взгляд по-прежнему лучился улыбкой; и
достаточно было пустяка, чтобы улыбка превратилась
в такой искренний и молодой смех, что становилось яс¬
но: ни беды, ни печали не в силах преуменьшить искря¬
щуюся и естественную радость, которой радует душу
жизнь. Точно так же смеялся отец, и они порой по-д^т-
ски веселились с мадемуазель Шеклтон, однако я йе
помню, чтобы к ним когда-нибудь присоединилась и
мать.
Мы все звали ее просто Анна, кроме отца, обращав¬
шегося к ней «мадемуазель Анна», а я по детской при¬
вычке даже «Нана», до тех пор, пока не объявили о вы¬
ходе книги Золя с таким названием и,— дома Анна но¬
сила что-то вроде черного кружевного чепца: две
ленты, падавшие по обеим сторонам лица, придавали
ему довольно странный вид. Не знаю, когда она нача¬
ла носить его, но именно в чепце я ее себе представ¬
ляю, и в нем же она снята на немногих оставшихся у
меня фотографиях. Глубинным покоем дышало лицо
Анны, ее движения, ее жизнь, но при этом она никог¬
да не бывала праздной; проводя время в обществе,
всегда вышивала, в долгие часы одиночества перево¬
дила: она одинаково свободно читала по-английски, по-
немецки и по-французски и неплохо знала итальян¬
ский.
Я сохранил кое-что из ее переводов: несколько тол¬
стых школьных тетрадей, исписанных до последней
строки прилежным мелким почерком,— все они так и
остались рукописями.
Все произведения, которые переводила Анна, были
потом опубликованы в других переводах, возможно,
лучших; но мне не хватает духа расстаться с ее тетра¬
дями, от которых веет терпением, любовью и добросо¬
вестностью. Одна из них мне особенно дорога: это
«Рейнеке-лис»12 Гёте, Анна читала мне из него отрыв¬
25
ки. Когда она закончила переводить его, мой кузен
Морис Демаре подарил ей гипсовые головки всех зве¬
рей из этого старинного фаблио; Анна прикрепила их
к раме зеркала у себя в комнате над камином, и они
очень веселили меня.
Еще Анна рисовала и писала акварелью. Ее добро¬
совестные, гармоничные и неброские виды Ла Рок до
сих пор украшают комнату моей жены в Кювервиле,
как и виды Мивуа, имения моей бабушки по правому
берегу Сены выше Руана — его продали после ее смер¬
ти, и я бы не вспоминал о нем, если бы дорогой в Нор¬
мандию не видел всякий раз из окна поезда бабушкин
дом у подножия холма Сент-Адриан, чуть ниже церкви
Бон-Секур, не доезжая до моста. На акварели его фа¬
сад в стиле Людовика XVI еще украшен изящной балю¬
страдой, которую новые владельцы поторопились зада¬
вить массивным фронтоном.
Но главным и самым любимым занятием Анны бы¬
ла ботаника. В Париже она прилежно посещала лек¬
ции 1>на Бюро13 в Музее, а весной участвовала в бо¬
танических экскурсиях его ассистента г-на Пуассона.
Мне не забыть этих имен: Анна называла их с благо¬
говением, и в моем восприятии они окружены — оре¬
олом славы. Мама, считая воскресные экскурсии
весьма познавательными, позволяла мне присоеди¬
ниться к ним, меня же они влекли к себе подлинно¬
стью научных изысканий. Компания ботаников состо¬
яла из стареющих девиц и крайне любезных манья¬
ков; собирались они на перроне у поезда; через плечо
у каждого висела зеленая металлическая коробка, ку¬
да складывались растения, предназначенные для изу¬
чения или засушивания. Кто-то брал с собой секатор
или сачок для бабочек. Я тоже брал сачок, тогда я ин¬
тересовался не столько растениями, сколько насеко¬
мыми, и больше всего жесткокрылыми, которых на¬
чал коллекционировать, карманы у меня были набиты
стеклянными пузырьками и трубочками, где в парах
бензола или цианистого калия задыхались мои жерт¬
вы. Между тем, я охотился и за растениями; я был
проворнее престарелых любителей и бежал впереди,
26
то и дело покидая нашу тропу и прочесывая то лесную
просеку, то луг, и громко сообщал о своих находках,
торжествуя, что первым отыскал редкий вид, кото¬
рым потом восхищались все члены нашего маленько¬
го сообщества, правда, несколько приуныв, если обра¬
зец был уникальным,— и тогда свой я с триумфом
вручал Анне.
По примеру Анны и с ее помощью я тоже составлял
гербарий, но чаще помогал дополнять ее собственный:
он был не только обширен, но и великолепно оформ¬
лен. У терпеливой Анны были самые лучшие экземп¬
ляры каждого вида растений, но и их хрупкие стебель¬
ки она фиксировала тоненькими полосками клейкой
бумаги, тщательно, сохраняя внешний вид растения, во¬
зле бутона помещала цветок и семя. Название было
выведено каллиграфическим почерком. Порой опре¬
деление той или иной вызывающей сомнения разно¬
видности требовало исследований, тщательного рас¬
смотрения; Анна склонялась над закрепленной в шта¬
тиве лупой, вооружалась пинцетом и миниатюрный
скальпелем и осторожно вскрывала цветок, потом рас¬
кладывала все его части и звала меня, чтобы показать
мне какие-нибудь особенности тычинок или что-ни¬
будь еще, о чем умалчивал ее ботанический справоч¬
ник, но что отмечал г-н Бюро.
Именно в JIa Рок, куда Анна ездила с нами каждое
лето, она больше всего занималась ботаникой, попол¬
няя свой гербарий. Мы никогда не гуляли с ней без зе¬
леных коробок (у меня тоже была своя) и особых сов¬
ков, позволявших выкапывать растения с корнем. По¬
рой мы изо дня в день наблюдали за каким-нибудь
растением, дожидаясь, когда оно полностью расцветет,
и приходили в отчаяние, если в последний день нахо¬
дили его объеденным гусеницами или не могли выйти
из дома из-за внезапной грозы.
В Ла Рок гербарий был нашим царем и властели¬
ном; все, с ним связанное, напоминало тщательно про¬
думанный, торжественный ритуал. Погожими днями
мы раскладывали на залитых солнцем подоконниках,
на столах и на полу листки серой бумаги, между кото¬
27
рыми засушивались растения; для одних, тонких, во¬
локнистых, достаточно было нескольких листков, зато
другие, мясистые, полные сока, приходилось класть
под пресс между толстыми слоями промокательной бу¬
маги, непременно сухой, которая менялась каждый
день. Все это занимало много времени и требовало го¬
раздо больше места, чем Анна могла найти у себя до¬
ма в Париже.
Она жила на улице Вожирар между улицами Ма¬
дам и д’Асса в маленькой квартире из четырех тесных
комнат, таких низких, что можно было рукой достать
до потолка. Вообще квартира была неплохо располо¬
жена, напротив то ли сада, то ли дворика какого-то на¬
учного заведения: там мы могли наблюдать опыты по
созданию первых солнечных котлов. Эти странные
аппараты были похожи на гигантские цветы с венчи¬
ком из зеркал; в пестике, в точке концентрации лу¬
чей, должна была нагреваться до кипения вода. Это,
видимо, удавалось, поскольку в один прекрасный
день такой аппарат взорвался, повергнув в ужас всех,
кто жил по соседству, и выбив стекла в гостиной Ан¬
ны и в ее спальне, выходивших на улицу. Во внутрен¬
ний двор выходили окна столовой и кабинета, где Ан¬
на чаще всего проводила время; она даже предпочи¬
тала там, а не в гостиной принимать нескольких
близких друзей, когда они ее навещали; я бы и не по¬
мнил, наверное, об этой гостиной, если бы однажды
там не поставили для меня маленькую раскладную
кровать: к моей великой радости, мать, не помню по
какому случаю, доверила меня на несколько дней
своей подруге.
В тот год, когда я поступил в Эльзасскую шко¬
лу14 — мои родители решили, что знаний, получае¬
мых у мадемуазель Флер и мадам Лакербауэр мне уже
недостаточно,— было решено, что я буду раз в неде¬
лю обедать у Анны. Помню, что я приходил к ней по
четвергам, после гимнастических занятий. Ученики
Эльзасской школы — в то время она еще не была так
знаменита, как впоследствии и в ней не было специ¬
ального зала для физических упражнений отправля¬
28
лись в «Гимнастический зал Паско» на улице Вожирар
в нескольких шагах от дома Анны. Я являлся к ней
потный, растрепанный, в одежде, покрытой опилками,
и с липкими от канифоли руками. В чем было очаро¬
вание обедов с Анной? Думаю, в ее неустанном внима¬
нии к моей пустой болтовне, в ощущении собственной
значимости, овладевавшем мной подле нее, в уверен¬
ности, что меня ждут, ценят, обласкают. Это из-за ме¬
ня в квартире царила приветливая, радостная атмосфе¬
ра, и благодаря ей обеды становились еще вкуснее.
Когда я оглядываюсь назад, мне так хочется вспом¬
нить хоть какой-нибудь мой ласковый жест, нежное
слово, обращенное к Анне... Но я не могу припомнить
ничего, кроме одной глупой фразы, достойной того ту¬
пицы, каким я был; мне стыдно повторять ее, но ведь
я пишу не роман, я решил не приукрашивать себя в
этих воспоминаниях: не придумывать того, что могло
бы понравиться, и не скрывать того, что может вы¬
звать неприязнь.
В тот день я пообедал с большим аппетитом: оче¬
видно, Анна, с ее скромными средствами, превзошла
саму себя.
—Да я тебя так разорю, Нана! — воскликнул я (эта
фраза все еще звенит у меня в ушах)... Правда, не ус¬
пел я произнести эти слова, как почувствовал, что они
не совсем деликатны, что они задели Анну и что я ее
немного обидел. Думаю, что это была одна из первых
вспышек моего сознания, мгновенный, еще очень
смутный проблеск, слишком слабый, чтобы разогнать
тьму моего запоздалого детства.
II
Я хорошо представляю себе растерянность моей
матери, когда, впервые покинув уютный дом на ули¬
це Крон, она приехала с моим отцом в Юзес. Каза¬
лось, современный прогресс обошел стороной ма¬
ленький городок: он остался где-то с краю и ничего
не ведал о переменах. Железная дорога доходила до
29
Нима, самое дальнее — до Ремулена, а оттуда на ка¬
ком-нибудь старом рыдване вы тряслись до Юзеса.
Дорога через Ним была намного длиннее, но зато и
гораздо красивее. В Сен-Никола она пересекала реку
Гардон: за рекой начиналась настоящая Палестина,
Иудея. Пурпурные и белые букеты ладанников рас¬
цвечивали гулкую каменистую пустошь, залитую бла¬
гоуханием лаванды. Там дул сухой, веселящий ветер,
сметавший пыль с дороги и разносивший ее вокруг.
Наша колымага вспугивала огромных кузнечиков,
которые вдруг разворачивали голубые, красные или
серые крылышки, превращаясь в легких бабочек, и
падали чуть поодаль, бесцветные, слившиеся с куста¬
ми и камнями.
По берегам Гардона росли асфодели, а в самой ре¬
ке, на ее обычно сухом ложе,— почти тропическая
флора... Здесь я на короткое время покину везущий
нас рыдван; есть воспоминания, которые я должен
мимоходом закрепить, иначе я не уверен, что найду
им место впоследствии. Я уже говорил, что легче
располагаю события в пространстве, чем во времени.
Так, я не могу сказать, в каком году Анна впервые
приехала к нам в Юзес — наверное, мать была счаст¬
лива показать ей его,— но я хорошо помню, как мы
шли от моста в Сен-Никола к какой-то деревушке
неподалеку от Гардона, где должны были сесть в по¬
возку.
В местах сужения русла, у подножия раскаленных
утесов, отражавших солнце, растительность была та¬
кой буйной, что с трудом можно было пройти. Анна
восторгалась новыми растениями, узнавала те, что ни¬
когда прежде не видела дикорастущими, на свободе,
как например, величавый дурман, который называют
«Иерихонская труба», великолепный и необычный, он
ярко запечатлелся у меня в памяти, как и чудесные
олеандры. Мы продвигались осторожно, боясь змей,
впрочем, в большинстве своем не опасных, они быст-
ро исчезали с дороги. Отец с любопытством смотрел
по сторонам, все его забавляло. Мать, не забывавшая о
времени, подгоняла нас, но напрасно. Уже темнело,
30
когда мы выбрались из русла реки. Деревня была еще
далеко, к ней вела еле заметная посреди зарослей
тропка, издали слабо доносился вечерний звон... Чита¬
тель усомнится, не присочинил ли я все это уже те¬
перь. Нет, я еще слышу тот давний звон, ясно вижу пре¬
лестную тропинку, розовое сияние заката и поднимаю¬
щуюся позади нас из русла Гардона, все покрывающую
темноту. Поначалу меня забавляли те длинные тени,
какие мы отбрасывали; потом все слилось в сером сум¬
раке и мне передалось беспокойство матери. Отец и
Анна, очарованные красотой вечера, шли не торопясь,
не заботясь о том, что уже поздно. Я помню, они чита¬
ли стихи; мать сочла, что «стихи не ко времени» и вос¬
кликнула;
— Поль, вы будете читать стихи, когда мы вернем¬
ся домой!
В квартире моей бабушки все комнаты сообща¬
лись между собой; чтобы пройти в спальню, родители
должны были пересечь столовую, гостиную и другую
гостиную поменьше, где поставили мою кровать. В
конце пути вы оказывались в маленькой туалетной
комнате, затем в спальне бабушки, куда можно было
попасть и с другой стороны, пройдя через комнату мо¬
его дяди. Эта комната выходила на лестничную пло¬
щадку, так же как кухня и столовая. Из окон обеих
гостиных и спальни родителей открывался вид на эс¬
планаду, из других комнат — на узкий двор; только
спальня дяди выходила на темную улочку с другой
стороны дома; в конце ее виднелся угол рыночной
площади. У себя в спальне на подоконнике дядя зани¬
мался выращиванием странных культур: в загадочных
стаканах вокруг твердых стержней росли, как он мне
объяснил, кристаллы солей цинка, меди и других ме¬
таллов; он говорил мне, что, в зависимости от метал¬
ла, эти грозные растения называются деревьями Са¬
турна, Юпитера и так далее. В то время дядя еще не
занимался политической экономией15; впоследствии
я узнал, что тогда он увлекался астрономией: к ней
его влекли и любовь к цифрам, и замкнутый нрав, и
31
склонность к созерцанию, ничего личностного, ника¬
кой психологии он не любил. Эти качества в конце
концов превратили его в человека, до такой степени
ничего не ведающего ни о себе самом, ни о других,
что подобных ему я никогда не встречал. В ту пору
(то есть когда я. был маленьким) он был высоким юно¬
шей с длинными черными волосами, зачесанными за
уши, немного близоруким, чудаковатым, молчаливым
и обладавшим, как никто другой, способностью по¬
вергать в смущение своим присутствием. Моя матуш¬
ка очень досаждала ему своими стараниями расто¬
пить лед его души; она обладала доброй волей, но ей
не доставало ловкости, и дядя, не умея или не желая
заметить скрытое за жестом намерение, видел только
расставленные ловушки. Казалось, что весь запас при¬
ветливости, отпущенный этому семейству, достался
моему отцу, и уже ничто не могло умерить неуступ¬
чивость и угрюмость других ее членов.
Мой дед умер за несколько лет до моего появле¬
ния на свет, но мать еще застала его в живых, так
как я родился спустя шесть лет после ее замужест¬
ва. По ее рассказам, это был суровый и цельный че¬
ловек, высокий, сильный, угловатый, до крайности
щепетильный и несгибаемый, гугенот, чья вера в Бо¬
га достигала высот величия. Бывший председатель
суда в Юзесе, он в то время занимался исключитель¬
но благотворительностью, а также религиозным и
нравственным воспитанием учеников воскресной
школы.
Кроме Поля, моего отца, и Шарля, моего дяди, у
Танкреда Жида было еще несколько детей, но все они
умерли в раннем возрасте: один упал и разбил себе го¬
лову, другой получил солнечный удар, третий умер от
запущенной простуды, запущенной, очевидно, по тем
же причинам, по каким дед сам никогда не лечился.
Когда он заболевал, что, впрочем, случалось нечасто,
то упорно прибегал только к одному средству — мо¬
литве; вмешательство же врача он почитал неприлич¬
32
ным, даже нечестивым, и умер, так и не позволив до¬
пустить доктора до себя *.
Кое-кто, наверное, удивится, что столь нелепые и
почти первобытные нравы сохранились до такого
позднего времени; но дело в том, что городок Юзес
остался городком, совершенно нетронутым цивили¬
зацией; причуды, свойственные деду, не были ис¬
ключением. Напротив, они вполне соответствовали
бытовавшим устоям и объяснялись окружающей об¬
становкой, которая порождала их, делая совершен¬
но естественными; я вообще думаю, что примерно
те же нравы царили во всем севеннском районе,
еще не совсем оправившемся от жестоких религиоз¬
ных распрей, в свое время так сильно и долго сотря¬
савших его. Доказательством мне служит одно нео¬
бычное происшествие, о котором я должен сейчас
рассказать, хотя оно произошло, когда мне было лет
восемнадцать.
Мой кузен Гийом Гранье, пастор в окрестностях
Андюзы, как-то пригласил меня к себе, и я с утра от¬
правился к нему из Юзеса. Мы провели вместе весь
день. Перед моим уходом он наставил меня, помолил¬
ся со мной и обо мне, благословил, а вернее, попросил
для меня Божьего благословения... Но я хочу расска¬
зать не об этом. Я должен был вернуться в Юзес на по¬
езде к ужину — и зачитался «Кузеном Понсом». Из
всех шедевров Бальзака это, наверное, мой любимый;
во всяком случае, я чаще всего его перечитываю. В тот
день я только открывал его для себя, был в восторге, в
экстазе, был опьянен, потерял голову...
Наконец наступившая ночь заставила меня пре¬
рвать чтение. Я проклинал вагон за то, что он не был
освещен, и только потом понял, что свет отключен: же¬
лезнодорожные служащие, полагая, что вагон пуст,
отогнали его на запасный путь.
Возможно, мои сведения и сами рассказы матери не со¬
всем точны. Позднее мой дядя Шарль Жид сообщил мне, что
мой дед Танкред Жид в конце жизни любил советоваться со
всякими знахарями и шарлатанами.
33
— Вы что же, не знали, что надо было сделать пе¬
ресадку? — удивились они, увидев меня.— Объявляли
много раз! Но вы, видно, спали. Можете спать дальше,
до завтра поезда не будет.
Провести ночь в этом темном вагоне? Мало прият¬
ного! Да я еще и не ужинал. Вокзал находился далеко
от поселка, но меня привлекал не столько трактир,
сколько само приключение, к тому же у меня было
всего несколько су. Я отправился по дороге наудачу и
решился постучать в дверь довольно большого уеди¬
ненного дома, привлекавшего опрятным и приветли¬
вым видом. Мне открыла женщина, которой я расска¬
зал, что заблудился, что у меня нет денег, что я хочу
есть и, быть может, она будет так добра и накормит ме¬
ня, а потом я вернусь в мой вагон или подожду до зав¬
тра.
Женщина быстро поставила на накрытый стол еще
один прибор. Ее мужа не было дома; старик отец, си¬
дящий у огня, так как комната служила одновременно
кухней, молчал, склонясь к очагу, и его молчание, по¬
казавшееся мне неодобрительным, смущало меня.
Вдруг я заметил на этажерке толстую Библию и, поняв,
что попал в дом протестантов, назвал имя того, у кого
только что гостил. Старик сразу выпрямился; он знал
моего кузена-пастора и даже очень хорошо помнил мо¬
его деда. Он с таким чувством говорил о нем, что я по¬
нял, сколько самоотречения и доброта может скры¬
ваться за самой грубой наружностью как моего деда,
так и этого крестьянина, на которого, думаю, дед был
похож: он выглядел богатырем, голос у него был суро¬
вый, но проникновенный, взгляд неласковый, но пря¬
мой.
Между тем дети вернулись с работы: высокая де¬
вушка и три сына. Более нежного и хрупкого тело¬
сложения, чем их дед, они были красивы, но печать
серьезности уже коснулась их немного нахмуренных
лиц. Мать поставила на стол дымящийся суп. Я в этот
момент что-то говорил, но она едва заметным жес¬
34
том заставила меня умолкнуть, и старик прочел
Benedicite *.
За ужином он рассказывал мне о моем деде; язык
его был одновременно образным и точным; я жалею,
что ничего не записал... «И это простая крестьянская
семья!» — думал я. Какое достоинство, какая острота
ума, какое благородство по сравнению с нашими нео¬
тесанными нормандскими фермерами! Когда ужин за¬
кончился, я собрался было уходить, но мои хозяева
воспротивились. Хозяйка к тому времени вышла из-за
стола и распорядилась, чтобы старший из сыновей лег
спать вместе с одним из братьев, а я занял его спальню
и кровать, которую она застлала чистыми покрывала¬
ми из сурового полотна, приятно пахнувшими лаван¬
дой. Семья не привыкла бодрствовать допоздна, все
привыкли вставать рано, но я мог еще остаться почи¬
тать, если хотел.
— Нам же,— сказал старик,— позвольте не нару¬
шать наших обычаев. Они не должны вас удивлять,
ведь вы же внук господина Танкреда.
И он взял с полки толстую Библию, замеченную
мной прежде, и положил на убранный стол. Его дочь
и внуки вновь уселись вокруг него с молитвенным
видом, который был д ля них так естественен. Старик
раскрыл Священное Писание и торжественно прочел
главу из Евангелия, затем псалом, после чего все,
кроме него, встали на колени возле своих стульев: он
же продолжал стоять, закрыв глаза и положив руки
на закрытую книгу. Он прочел краткую благодарст¬
венную молитву, полную достоинства, очень про¬
стую, где не было никаких просьб; помнится, он бла¬
годарил Бога за то, что тот указал мне дверь его до¬
ма, и произнес ее таким тоном, что я всем сердцем
присоединился к ней. В заключение он прочел «Отче
наш», потом на мгновение установилась тишина, и
только затем дети встали. Все было так красиво, так
Меня поправят, заметив, что это начало католической
молитвы. Быть может, протестанты скажут мне, как называ¬
ется эта молитва перед едой.
35
спокойно, и поцелуй, запечатленный им на лбу каж¬
дого из внуков, столь величав, что, подойдя к нему в
свой черед, я тоже подставил лоб.
Люди поколения моего деда еще хранили живое
воспоминание о преследованиях, без конца терзавших
их предков16, поддерживая некую традицию сопротив¬
ления; попытки согнуть их придали им еще большую
душевную крепость. Каждый из них ясно слышал сло¬
ва Христа, обращенные к нему лично и ко всему мало¬
му, охваченному тревогой стаду: «Вы — соль земли.
Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соле¬
ною?» 17
И надо признать, что во времена моего детства
протестантское богослужение в маленькой часовне
Юзеса еще представляло собой весьма живописное
зрелище. Да, я еще застал последних представителей
этого поколения, обращавшихся к Богу на «ты»18, ви¬
дел их на богослужении в больших фетровых шляпах,
и они приподнимали их, лишь когда пастор призывал
имя Божие, а снимали, только когда читали «Отче
наш». Этот обычай шокировал бы непосвященного как
проявление неуважения, но надо знать, что старые гу¬
геноты стояли в церкви с покрытой головой в память
о богослужениях под открытым небом, раскаленным
от жары, в укромных уголках каменистой пустоши, в
те времена, когда отправление их культа грозило
смертью.
Затем, один за другим, эти обломки старины ис¬
чезли. Какое-то время еще были живы их вдовы. Они
выходили из дома только по воскресеньям, и бывали
только в церкви, и только в церкви виделись друг с
другом. Среди них были моя бабушка, ее подруга ма¬
дам Абози, мадам Венсан и две другие старушки, чьих
имен я уже не помню. Служанки, почти такие же ста¬
рые, как их хозяйки, приносили к началу службы
ножные грелки и клали их перед скамейками, на ко¬
торых те должны были сидеть. Когда богослужение
начиналось, появлялись вдовы. Полуслепые, подходи¬
36
ли они к порогу, никого не замечая, и узнавали друг
друга не раньше, чем оказывались на скамьях; раду¬
ясь встрече, они хором здоровались, перемежая при¬
ветствия, ответы и вопросы, однако глухота мешала
им слышать то, что говорили другие, и шум их голо¬
сов в течение нескольких минут полностью заглушал
голос бедного пастора. Кое-кто из прихожан готов
был возмутиться, но в память о мужьях прощали ста¬
рушек; других, менее строгих, они забавляли; дети
прыскали со смеху; что до меня, то я немного сму¬
щенный, предпочел бы сидеть подальше от моей ба¬
бушки. Эта маленькая комедия возобновлялась каж¬
дое воскресенье; нельзя было и вообразить себе ниче¬
го смешнее и трогательнее.
Не могу сказать, какой была моя бабушка, до того
как состарилась. Сколько я ни напрягаю память, я не
помню ничего, что позволило бы определить или хотя
бы предположить, какой она была прежде. Казалось,
что она никогда не была молодой, что этого просто не
могло быть. Обладая железным здоровьем, она пере¬
жила не только мужа, но и своего сына, моего отца; по¬
сле его смерти мы еще долго приезжали с матерью в
Юзес на пасхальные каникулы и из года в год находи¬
ли ее все такой же, разве что немного более тугой на
ухо, а что касается морщин, то их давно уже не могло
быть больше.
Конечно, наша дорогая старушка старалась изо
всех сил, принимая нас; но как раз поэтому я и не
уверен, что наше присутствие было ей очень прият¬
но. Впрочем, вопрос об этом не возникал; для моей
матери важно было не столько доставить кому-то
удовольствие, сколько выполнить свой долг, испол¬
нить ритуал — так было с поздравительным письмом
бабушке, которое она каждый раз заставляла меня
писать на Новый год, отравляя мне весь праздник.
Сперва я пытался уклониться от этого, я препирался
с мамой:
—Да зачем бабуле мое письмо? — спрашивал я.
37
— Вопрос не в этом,— отвечала мать,— у тебя не
так много обязанностей в жизни; ты должен их выпол¬
нять.
Тогда я начинал плакать.
— Ну же, цыпленок,— настаивала она.— Подумай
о твоей бедной бабушке, у нее ведь нет других внуков.
— Но что же мне написать? — ныл я сквозь слезы.
— Неважно что. Расскажи ей о твоих кузинах, о
твоих маленьких друзьях Жардинье.
—Да она же их не знает!
— Расскажи, что ты делаешь.
— Но ты же знаешь, ей это неинтересно.
— В общем, решено, дорогой: ты не выйдешь отсю¬
да (разговор происходил в классной комнате на улице
Крон) до тех пор, пока не напишешь письмо.
— Но...
— Никаких «но», малыш, я не хочу больше спорить.
После чего мать замыкалась в молчании. Я еще не¬
которое время бездельничал, потом начинал ломать го¬
лову над чистым листом бумаги. Дело было в том, что
уже ничто не могло интересовать мою бабушку. Когда
мы приезжали в Юзес, она, желая, как я полагаю, сде¬
лать приятное матери, которая садилась рядом с ней с
вышиванием или книгой в руках, изо всех сил напряга¬
ла память и через четверть часа называла наконец имя
одного из наших нормандских кузенов.
—А как поживают Видмеры?
Мать терпеливо отвечала ей и вновь погружалась в
чтение.
Десять минут спустя новый вопрос:
—А Морис Демаре еще не женился?
— Что вы, матушка! Это Альбер еще не женился, а
Морис — отец троих детей, у него три дочери.
— Неужто? Подумать только, Жюльетта!
Это восклицание не выражало никакого особого
интереса; это был просто возглас на все случаи жиз¬
ни, так бабушка выражала удивление, одобрение,
восхищение, машинально, что бы ей ни говорили; за¬
тем она долго кивала головой, словно пережевывая
новость, и ее мягкие, морщинистые щеки то раздува¬
38
лись, то опадали. Наконец, все хорошенько усвоив,
она на время переставала задавать вопросы и вновь
принималась за вязание. Бабушка вязала чулки; это
было ее единственное, насколько мне известно, заня¬
тие. Она вязала весь день напролет, словно паук. Но
она частенько отправлялась посмотреть, что делает
Роза на кухне, бросая где-нибудь чулок и, думаю, ни¬
кто не видел ни одного довязанного до конца. Нача¬
тые чулки валялись во всех ящиках, откуда Роза их
извлекала по утрам, убирая комнаты. Что касается
спиц, то бабушка носила их по несколько штук за
ухом, между кружевным чепцом с лентами и жидкой
прядью желтовато-серых волос. Моя тетя Анна, новая
бабушкина невестка, не относилась к ней с тем неж¬
ным и уважительным снисхождением, с каким отно¬
силась мама. За все, что тетя Анна не одобряла в мо¬
ем дяде, за все, чем он раздражал ее, должна была
ответить свекровь. Я хорошо помню, что Анна приез¬
жала в Юзес, когда я был там с матерью только
однажды; и мы ее тотчас же застали за охотой на
чулки.
— Восемь! Я нашла целых восемь штук! — говори¬
ла она моей матери: такая бесхозяйственность одно¬
временно и забавляла ее, и приводила в отчаяние. Ве¬
чером она не удержалась и спросила бабушку, почему
она не довяжет хотя бы один чулок?
Бедная старушка сперва попыталась улыбнуться,
потом с беспокойством обратилась к матери:
—Жюльетта! Чего Анна хочет?
Матушка не вступила в игру, и тетя повторила во¬
прос еще громче:
—Я спрашиваю, матушка, почему вы не довяжете
один чулок? Почему начинаете сразу несколько?
Уязвленная старушка, поджала губы и вдруг отве¬
тила:
—Довяжете, довяжете... Анне легко говорить. А от¬
куда взять время!
Бабушкой постоянно владел страх, что мы не нае¬
даемся. Сама она почти ничего не ела, но матери сто¬
ило немалого труда убедить ее, что четырех блюд на
39
обед нам достаточно. Однако чаще всего бабушка не
желала ее слушать и вела с Розой таинственные пере¬
говоры. Как только бабушка поквдала кухню, туда ус¬
тремлялась мать и быстро, прежде чем Роза отправля¬
лась на рынок, изучала меню и вычеркивала из него
три четверти предполагаемых кушаний.
—А где же рябчики, Роза? — восклицала бабушка
за обедом.
— Но, матушка, мы же ели отбивные. Я сказала Ро¬
зе оставить рябчиков на завтра.
Бедная старушка приходила в отчаяние.
— Отбивные! Отбивные! — повторяла она с неесте¬
ственным смехом.— Да отбивных из барашка нужно
съесть штук шесть не меныце, чтобы наесться!
Затем, из чувства протеста, она вставала, направля¬
лась в глубь столовой и, намереваясь украсить досадно
бедное меню, доставала из буфета какой-нибудь таин¬
ственный, заранее заготовленный к нашему приезду
горшочек. Обычно в нем были свиные биточки, начи¬
ненные трюфелями и залитые салом, сочные, называв¬
шиеся «фрикандо». Мать, конечно, отказывалась от
них.
— Ну-ну! Уж малышу-то они понравятся!
— Матушка, поверьте, он и так хорошо поел.
— Боже мой! Вы что же, хотите уморить ребенка
голодом?..
(По ее мнению, если ребенок не был цветущим и
упитанным, то он умирал с голоду. Когда позднее ее
спрашивали, как она находит своих внуков, моих кузе¬
нов, она отвечала с неизменной гримасой: «Такие ху¬
денькие!»)
Был только один надежный способ избежать вме¬
шательства моей матери в меню — заказать в гости¬
нице Бешар говяжий филей с оливками или у конди¬
тера Фабрегаса мясной слоеный пирог, фарширован¬
ную треску или традиционный, запеченный с салом,
хлеб. Мать, отстаивая принципы здорового питания,
сражалась с привычками бабушки, особенно когда та,
разрезая слоеный пирог, оставляла себе кусок из се¬
редины.
40
— Но, матушка, вы выбрали себе самый жирный!
— Гм-гм! — произносила бабушка, насмехаясь над
здоровым питанием.— Вот как раз этот-то кусочек...
— Позвольте, я вам сама положу.
И бедной старушке приходилось покорно взирать
на то, как из ее тарелки исчезал самый лакомый кусок.
От Фабрегаса поступали также и заслуживавшие
похвалы, но однообразные десерты. Чаще всего на де¬
серт приносили «султаншу», не вызывавшую ни у кого
из нас восторга. «Султанша» имела форму пирамиды,
порой увенчанной для пышности маленьким ангелоч¬
ком из чего-то белого и совершенно несъедобного. Пи¬
рамида состояла из миниатюрных пирожных с кремом,
облитых плотным слоем желе, от чего они так слипа¬
лись друг с другом, что их невозможно было отделить
ложкой. Желейная вуаль, превращая все в единое це¬
лое, придавала лакомству возвышенно-поэтический
вид.
Бабушка считала своим долгом дать нам понять,
что только за неимением лучшего она угощает нас
«султаншей». При этом она делала гримасу и говорила:
— Эх, Фабрегас, Фабрегас! Не слишком-то он раз¬
нообразен!
Или:
— Не очень-то он старается.
Как долго тянулись для меня эти застолья, ведь
мне всегда так не терпелось поскорее выйти из-за сто¬
ла! Я страстно любил окрестности Юзеса, долину ре¬
чки Фонтен д’Эр, а больше всего — пустошь. В пер¬
вые годы моя няня Мари сопровождала меня на про¬
гулках. Я тащил ее на «гору Сарбонне», маленький
известковый холм на окраине городка, где на длин¬
ных листьях молочая с белым соком было так инте¬
ресно находить гусениц сфинкса, похожих на размо¬
танный тюрбан, с рогом на конце, или на укропе в те¬
ни пиний обнаружить других гусениц — махаона или
дневной бабочки подалирия: эти, стоило к ним при¬
коснуться, выбрасывали спереди очень пахучий яр¬
кий раздвоенный хоботок. Дорога, обойдя холм Сар¬
бонне, вела дальше, к зеленым приречным лугам. За¬
41
ливные луга покрывались обычно весной грациозны¬
ми белыми нарциссами, которые называли еще «на¬
рциссами поэта». Ни один из жителей Юзеса и не по¬
думал бы собирать их — больше того, никто ими и не
любовался, так что на этих безлюдных лугах они рос¬
ли в огромном количестве и далеко вокруг весь воз¬
дух был напоен их ароматом; одни склоняли головы
над водой, как в том мифе, который мне рассказыва¬
ли, и я не хотел их срывать; другие наполовину исче¬
зали в густой траве, но чаще, высоко возвышаясь на
стебле, они блистали на темном дерне, словно звезды.
Мари, как истинная швейцарка, любила цветы; мы
приносили их целые охапки.
Фонтен д’Эр — та самая речка, которую римляне
пленили и направили по знаменитому акведуку Пон
дю Гар. Долина, где она течет, полускрытая зарослями
ольхи, сужается по мере приближения к Юзесу. О ма¬
ленький Юзес! будь ты в Умбрии, туристы спешили бы
из Парижа тебя уввдеть! Крутой склон горы, где он
расположен, покрыт тенистыми садами поместья гер¬
цогов, внизу большие деревья в сплетениях своих кор¬
ней дают приют речным ракам. С террас бульвара или
городского сада сквозь листву высоких каменных ду¬
бов герцогского сада, напротив, на другой стороне уз¬
кой долины, взору предстает еще более обрывистый
утес, иссеченный, изрезанный гротами, арками, остры¬
ми шпилями и крутыми скатами, напоминающими от¬
весные скалы у моря, а внизу гулкая каменистая пус¬
тошь, выжженная солнцем.
Мари, постоянно страдавшая от мозолей, была не в
восторге от ухабистых троп пустоши; но вскоре мама
стала отпускать меня одного, и я мог карабкаться по
ним вволю.
Речку мы переходили у Fon di biau (не знаю, пра¬
вильно ли я пишу это название, означающее на языке
Мистраля19 «бычий источник»), пройдя немного по
гладкому, отполированному шагами краю скалы и спу¬
стившись по выдолбленным в ней ступеням. Как хоро¬
ши были прачки, когда они осторожно ставили на них
голые ноги, держась очень прямо, словно облагоро¬
42
женные грузом чистого белья, которое они на антич¬
ный манер несли на голове. Поскольку речка называ¬
лась Фонтен д’Эр, я не уверен, что название «Fon di
biau» тоже означает «источник» *. Помню мельницу и
ферму, затененную огромными платанами; прежде
чем начать вращать жернова, вода, еще вольная, огиба¬
ла нечто вроде островка, где резвились утки и гуси. На
дальнюю оконечность этого островка я приходил меч¬
тать или читать. Взгромоздясь на ствол старой ивы,
скрытый ее ветвями, приятно оглушенный гудением
мельницы, плеском воды в колесе, бормотанием речки
и доносившимся издалека, оттуда, где стирали прачки,
ритмичным стуком их вальков, я наблюдал за веселы¬
ми играми уток.
Но чаще, перескочив через «бычий источник», я
прибегал на пустошь: уже тогда меня влекла к ней та
странная любовь к безлюдью и зною, что потом уводи¬
ла из оазиса в пустыню. Резкие порывы сухого, напо¬
енного ароматами ветра, слепящее отражение солнца
на голых скалах пьянит, как вино. А как я любил ла¬
зить по скалам, ловить богомолов, которых там назы¬
вают «prega Diou» и чьи клейкие пакетики яиц, свиса¬
ющие с травинок, так сильно меня занимали, находить
под приподнятыми камнями уродливых скорпионов,
тысяченожек и сколопендр!
В дождливые дни, сидя дома, я охотился на кома¬
ров или до последнего винтика разбирал бабушкины
часы, остановившиеся во всем доме после нашего по¬
следнего приезда; ничто не поглощало меня так, как
эта кропотливая работа, и я бывал несказанно горд,
когда, закончив починку, слышал, как бабушка крича¬
ла, увидев, что часы вновь показывают время:
— Подумать только, Жюльетта! Наш малыш...
Но лучшие дождливые дни я проводил на чердаке,
ключ от которого давала мне Роза (это там я позднее
прочитал «Стелло»20). Из окна чердака были видны
соседние крыши: возле окна в большой клетке, покры¬
той мешком, бабушка откармливала кур. Цыплята ме¬
* Фонтен (фр. fontaine) — источник.— Примеч. пер.
43
ня не очень интересовали, но вот если я некоторое вре¬
мя не шумел, то между нагроможденных тюков, безы¬
мянных и уже бесполезных предметов, из груды пыль¬
ного хлама или из-за сложенных дров и сухих лоз по¬
являлись мордочки Розиных котят, еще слишком
маленьких, чтобы, подобно их матери, предпочесть ха¬
осу родного чердака теплый уют кухни, ласки Розы,
очаг и приятный запах поворачиваемого на вертеле
над горящими лозами мяса.
Тот, кто не видел бабушку, решил бы, что на све¬
те нет существа старее Розы; казалось чудом, что она
еще может выполнять какую-то работу, но бабушка
была так нетребовательна! Когда же приезжали мы,
то и Мари помогала по дому. В конце концов Роза уш¬
ла на покой, и, пока бабушка не решилась переехать
в Монпелье к моему дяде'Шарлю, у нее в доме сме¬
нялись самые неподходящие служанки. Одна обирала
бабушку, другая пила, третья гуляла. Я помню самую
последнюю: член Армии спасения, она уже почти во¬
шла ко всем в доверие, как вдруг однажды бессонной
ночью бабушка отправилась в гостиную искать оче¬
редной недовязанный чулок. Она была в нижней юб¬
ке, в сорочке; почувствовав нечто необычное, она ос¬
торожно отворила дверь в гостиную и обнаружила,
что комната залита светом. Два раза в неделю «спаса-
тельница» принимала гостей; назидательные собра¬
ния, проходившие в доме бабушки, были весьма попу¬
лярны: после пения гимнов «спасательница» угощала
всех чаем. Можно себе представить, как поразило со¬
бравшееся общество появление бабушки в ночном на¬
ряде!.. Вскоре после этого бабушка и уехала насовсем
из Юзеса.
Прежде чем вместе с ней покинуть Юзес, я хочу
рассказать о двери в кладовку, в глубине столовой. В
этой очень массивной двери в одном месте в мягкий
слой древесины, видимо, как-то попал сучок, от чего
образовалось круглое отверстие в мизинец толщиной,
косо углублявшееся сверху вниз. На дне отверстия вид¬
нелось, что-то круглое, серое, гладкое, сильно меня ин¬
тригуя.
44
— Вы хотите знать, что там такое? — однажды спро¬
сила меня Роза, накрывая на стол: я как раз старатель¬
но просовывал мизинец в дырочку, пытаясь нащупать
лежавший там предмет.— Это шарик: его туда запустил
ваш папа, когда ему было столько же лет, сколько вам,
и с тех пор никто так и не смог его вытащить.
Объяснение удовлетворило мое любопытство и
вместе с тем раззадорило. Я вновь и вновь возвращал¬
ся к шарику; засунув мизинец, я прикасался к нему, но
вытащить никак не мог, шарик только переворачивал¬
ся, и мой ноготь с досадным легким скрипом скользил
по гладкой поверхности.
На следующий год, как только мы приехали в
Юзес, я тут же кинулся к двери. Мама и Мари под¬
смеивались надо мной, но я нарочно отрастил неверо¬
ятной длины ноготь на мизинце и сразу же подсунул
его под шарик: резкий толчок, и шарик заблестел у
меня в руке.
Моим первым порывом было побежать на кухню
и похвалиться одержанной победой, однако, предста¬
вив себе удовольствие от поздравлений Розы, я по¬
нял, что радости в них немного, и не побежал. Не¬
сколько мгновений я стоял перед дверью, разгляды¬
вая лежащий на ладони шарик: серый, теперь ничем
не отличавшийся от других шариков. 'Он не представ¬
лял никакого интереса с тех пор, как был извлечен
из своего укрытия. Я почувствовал себя таким глуп¬
цом, мне стало так стыдно, что я гордился своим хит¬
роумием. Покраснев, я снова бросил шарик в отвер¬
стие (наверное, он все еще там) и пошел стричь ног¬
ти, никому не поведав о своим подвиге.
Лет около десяти назад, будучи проездом в Швей¬
царии, я навестил мою бедную старушку Мари в кро¬
шечном городишке Лоцвиль, где она живет до сих пор.
Она рассказывала мне о Юзесе и о бабушке, оживив
мои поблекшие воспоминания.
— Каждый раз, когда вы ели яйцо,— вспоминала
она,— будь оно всмятку или вкрутую, ваша бабушка
45
неизменно восклицала: «Не ешь белок, малыш, глав¬
ное желток!»
И, как истинная швейцарка, Мари добавляла:
— Как будто Господь Бог сотворил белок не затем,
чтобы его тоже ели!
Я ничего не придумываю; я записываю мои воспо¬
минания, как они возникают в моей памяти, и теперь
перехожу от бабушки к Мари.
Я хорошо помню тот день, когда впервые заметил,
что Мари красива: это было летом в JIa Рок (как мно¬
го времени прошло с тех пор!); мы с ней пошли нарвать
цветов на лугу, расстилавшемся перед садом; я шел
впереди, и, перейдя ручей, оглянулся: Мари еще стояла
на мостике, сделанном из переброшенного ствола, в те¬
ни ясеня, раскинувшегося над ручьем; еще несколько
шагов, и вот она вся озарена солнцем: в руках букет та¬
волги, лицо под широкими полями шляпы светится
улыбкой; я воскликнул:
— Почему ты смеешься?
Она ответила:
— Просто так. Хороший день.— И долина сразу же
наполнилась любовью и счастьем.
У нас в семье слуг всегда держали в большой стро¬
гости. Мать считала, что отвечает за тех, в чьей судь¬
бе она принимала участие, и не потерпела бы никакой
любовной интрижки, не освященной узами Гименея.
Наверное, поэтому Мари, насколько я помню, не ис¬
пытала иной страсти, кроме той, о которой я узнал
случайно,— любви к Дельфине, нашей кухарке: эту
страсть мать, конечно, никогда бы не осмелилась да¬
же заподозрить. Разумеется, я и сам мало что тогда
понимал и лишь много лет спустя смог объяснить се¬
бе загадку той бурной ночи, но все же и тогда какой-
то темный инстинкт подсказал мне ничего не сказать
матери.
Как я уже упоминал, в доме на улице Турнон моя
спальня, расположенная несколько в стороне, выхо¬
дила окнами во двор; она была довольно большой и,
46
как все комнаты той квартиры, очень высокой. Бла¬
годаря этой высоте рядом с моей спальней, в конце
коридора, связывавшего ее с остальной частью квар¬
тиры, кроме комнатки, служившей ванной, где по¬
зднее я проводил химические опыты, приютилась и
комната Мари. К ней можно было пройти из моей
комнаты по маленькой внутренней лестнице, начи¬
навшейся напротив моей кровати за перегородкой.
Но ванная и комната Мари имели и другой вход — по
черной лестнице. Нет ничего более утомительного и
скучного, чем описание мест, но в данном случае оно
необходимо, чтобы понять дальнейшее... Еще нужно
сказать, что нашу кухарку Дельфину только что по¬
молвили с кучером наших сельских соседей и она на¬
всегда покидала наш дом. Так вот, накануне ее отъ¬
езда я был разбужен среди ночи очень странными
звуками. Я хотел позвать Мари, но вдруг понял, что
звуки доносятся как раз из ее комнаты; вообще они
были скорее необычными, загадочными, чем пугаю¬
щими. Нечто вроде плача на два голоса: теперь я мо¬
гу сравнить его с рыданиями арабских плакальщиц,
но в то время он был для меня ни на что не похож;
какое-то страстное пение, прерываемое судорожны¬
ми всхлипами, квохтаньем, восклицаниями, которое
я долго слушал в темноте. Я смутно чувствовал, что
там происходит нечто более могущественное, чем
власть приличий, сна и ночи; но в детском возрасте
столько необъяснимых вещей, что, разумеется, я сно¬
ва уснул, скользнув под одеяло; и на следующий день
с грехом пополам приписал этот избыток чувств
свойственной всем слугам несдержанности, чему не¬
задолго перед тем стал свидетелем в связи со смер¬
тью моего дяди Демаре.
В то время как в гостиной все члены нашей семьи
в трауре сдерживали слезы, окружив мою тетю, за¬
стывшую в молчании и словно ставшую меньше, Эрне-
стина, няня в доме Демаре, громко рыдала в соседней
комнате, восклицая с каждым выдохом:
— Ах! мой добрый хозяин! Ах! мой дорогой хозяин!
Ах! мой почтенный хозяин!
47
При этом она вся сотрясалась, заходилась, вела се¬
бя так, словно скорбь моей тети легла тяжким бреме¬
нем именно на нее, словно тетя нагрузила ее своей пе¬
чалью, как дают нести тяжелый чемодан.
В том возрасте (мне было десять лет) я не мог по¬
нять, что вопли Эрнестины были обращены к публи¬
ке, тогда как Мари стонала, думая, что ее никто не
слышит. Но в то время я ни о чем не подозревал и к
тому же в делах плоти был совершенно невежествен
и даже не испытывал к подобным вещам никакого
интереса.
Правда, в Люксембургском музее, куда порой во¬
дила меня Мари — хотя, наверное, сперва меня пове¬
ли туда родители, желая пробудить во мне любовь к
краскам и линиям — я был гораздо меньше увлечен
историческими картинами, несмотря на усердные
объяснения Мари (а, может быть, из-за них), нежели
изображениями обнаженных тел, к великому смуще¬
нию моей спутницы, рассказавшей об этом матери, а
еще больше — статуями. Перед «Меркурием» Идра-
ка21 (если не ошибаюсь) я впадал в такое восторжен¬
ное оцепенение, что Мари с трудом выводила меня
из него.
Но эти изображения не побуждали меня к плот¬
ским утехам, равно как и плотские утехи не вызыва¬
ли в памяти этих изображений. Между одним и дру¬
гим — никакой связи. Причиной чувственного воз¬
буждения было совсем другое: чаще всего изобилие
красок или звуков, необычайно сочных и сладо¬
стных, порой также мысль о неотложности какого-
нибудь важного дела, которое я должен сделать, на
исполнение которого рассчитывают, а я бездействую,
переживая все в воображении, и сходная с этими
ощущениями тяга к разрушению, когда я ломал люби¬
мую игрушку. А вообще у меня не возникало никако¬
го конкретного желания, никакого стремления к кон¬
такту. Ничего не понимает тот, для кого удивительно
чувство сладострастия, возникшее не под воздейст¬
вием примера и не связанное с определенной целью.
Да, оно возникает и заставляет в воображении рас¬
48
трачивать сверх меры жизненные силы, бессмыслен¬
но роскошествовать и расточать энергию... Чтобы
дать представление о том, до какой степени непред¬
сказуемы инстинктивные побуждения ребенка, я
приведу два примера источников моего чувственно¬
го удовольствия: первым была вполне невинная, оча¬
ровательная сказка Жорж Санд «Грибуй»22, о том,
как этот самый Грибуй однажды в сильный дождь
бросился в реку, но не за тем, чтобы спрятаться от
дождя, как советовали ему его противные братья, а
затем, чтобы скрыться от насмешек этих братьев. В
реке он сперва пытается плыть, затем устает, и едва
он сдается, как его подхватывает волной и несет по
течению; он чувствует, что стал совсем маленьким,
легким, необычным, что он превратился в растение;
все его тело покрывается листьями, и вскоре волна
выносит на берег нежную дубовую ветку, которой
стал наш друг Грибуй.
— Какая нелепость! — Но потому я и рассказы¬
ваю об этом; я предпочитаю правду, а не то, что де¬
лает мне честь. Конечно, бабушка из Ноана23 вовсе
не собиралась растлевать своих читателей, но я сви¬
детельствую, что ни одна страница «Афродиты» 24 не
возбуждала ни одного школьника так, как это преоб¬
ражение Грибуя возбуждало маленького невежду, ка¬
ким я тогда был.
Была еще в глупой пьеске г-жи де Сегюр «Вечерин¬
ки мадемуазель Жюстины» сцена, где слуги, пользуясь
отсутствием хозяев, устраивают пирушку; они шарят
по всем шкафам, зубоскалят, и вот, когда Жюстина, на¬
клонившись, вынимает из буфета стопку тарелок, ку¬
чер, подкравшись, щиплет ее за талию; Жюстина, кото¬
рая боится щекотки, с грохотом роняет тарелки: трах-
тара-рах! посуда бьется. Воображая ущерб, я млел от
восторга.
В ту пору к матери приходила молоденькая портни¬
ха; я встречал ее и у моей тети Демаре. Ее звали Кон¬
станс. Это была маленькая уродина, прихрамывающая,
с красным лицом и плутоватым взглядом, очень ловко
шившая, сдержанная на язык в присутствии моей мате¬
49
ри, но распускавшая его тотчас же, как только мать
уходила. Удобства рада Констанс работала в моей ком¬
нате, самой светлой; она оставалась там по полдня, и я
часами сидел с ней вместе. Не понимаю, как моя мать,
такая требовательная, такая осторожная, доводившая
меня до отчаяния своей беспокойной опекой, могла до
такой степени утратить бдительность?
Для не слишком пристойных речей Констанс я был
еще слишком глуп, и не только не понимал, но даже и
не удивлялся, почему Мари порой прыскала от смеха
в платок. Однако Констанс не столько говорила,
сколько пела; у нее был приятный и удивительно силь¬
ный для такого тщедушного тела голос, и она тем бо¬
лее им гордилась, что других оснований для гордости
у нее не было. Она пела весь день напролет, уверяя,
что иначе не может, пела, не переставая. Что за пес¬
ни. Боже правый! Констанс стала бы уверять, что в
них нет ничего неприличного. Но мне засоряла мозги
их пошлость. Я так и не смог их забыть! Увы! В то вре¬
мя как моя память начисто утратила самые прелест¬
ные сокровища, эти жалкие куплеты звучат в ней так
же ясно, как в первый день. Что же это?! Руссо в ста¬
рости с умилением вспоминал очаровательные напе¬
вы, под которые в детстве его баюкала тетушка Гансе-
ра, а я до последнего часа должен слышать картавый
голос Констанс, напевающей на мотив вальса:
Ах, маменька, скажи,
Кто этот молодец,
Премиленький такой,
Надутый красавец?
— И столько шума из-за безобидной песенки?
— Черт возьми! Дело не в песенке, а в удовольст¬
вии, какое она мне доставляла; в нем усматриваю я за¬
родыш моей постыдной склонности к непристойности,
глупости и самой отвратительной пошлости.
Я не возвожу на себя напраслину. Я готов вскоре
рассказать и о том, какие, до поры до времени неза¬
метные черты моего характера превратятся в добро¬
детель. Однако ум мой все, еще пребывал в дремот¬
50
ном состоянии. Тщетно стал бы я искать в прошлом
какой-нибудь проблеск, который позволял бы хоть че-
го-то ждать от того ограниченного ребенка, каким я
был. Вокруг меня, во мне — сплошной мрак. Я уже
рассказал о моей неловкой попытке отблагодарить
Анну за заботу. Другое воспоминание тех же лет еще
лучше покажет, в каком личиночном состоянии я тог¬
да находился.
Мои родители, как я упоминал, отдали меня в Эль¬
засскую школу. Мне было восемь лет. Я поступил не в
десятый класс для маленьких детей25, в котором пре¬
подавал основы знаний г-н Гризье, а сразу в следую¬
щий класс г-на Веделя, славного южанина, круглого,
как шар, с падающей на лоб прядью черных волос: эта
романтическая прядь странно диссонировала с крот¬
ким благодушием всего его облика. За несколько не¬
дель или дней до того события, о котором я хочу рас¬
сказать, отец пошел представлять меня директору. За¬
нятия в школе уже начались, а я только появился, и
ученики во дворе, расступившись, чтобы дать нам
пройти, шептались: «Новичок! новичок!» От волнения
я прижимался к отцу. Потом я занял место рядом со
всеми остальными, но ненадолго, а почему, я вскоре
расскажу. В тот день г-н Ведель объяснял ученикам,
что в языке бывают разные слова, обозначающие один
и тот же предмет, и что они называются синонимами.
Так, привел он пример, слова «помцдор» и «томат» обо¬
значают один и тот же овощ. Чередуя по обычаю объ¬
яснение с вопросами и оживляя таким образом урок,
г-н Ведель попросил ученика Жида повторить то, что
он только что сказал...
Я молчал. Я не знал, что отвечать. Но г-н Ведель
был добр: он повторил свое объяснение с терпением
подлинного учителя и вновь привел тот же пример; но
когда он опять попросил меня повторить синоним сло¬
ва «помидор», я снова не издал ни звука. Тогда он не¬
много рассердился, для порядка, и велел мне пойти на
школьный двор и двадцать раз повторить, что «то¬
мат» — синоним слова «помидор», а потом вернуться в
класс и сказать это всем.
51
Моя тупость развеселила весь класс. Если бы я за¬
хотел отыграться, я мог бы по отбытии наказания, ког¬
да г-н Ведель вызвал меня и в третий раз спросил си¬
ноним слова «помидор», ответить «тыква» или «цвет¬
ная капуста». Но я не искал успеха, служить же
посмешищем мне не нравилось; я был просто глуп.
Быть может, я уперся потому, что не хотел уступать?
Да нет, дело даже не в этом: думаю, что в действитель¬
ности я не понимал, ч$го от меня хотят, чего ждут.
Поскольку в школе не было принято задавать до¬
полнительных заданий, г-н Ведель удовлетворился тем,
что поставил мне «ноль» по поведению: наказание,
хоть и призванное оказывать лишь моральное воздей¬
ствие, не переставало быть от этого менее суровым. Но
меня оно не огорчало. Каждую неделю я получал ноль
за «внешний ввд, поведение» или за «прилежание, оп¬
рятность», а порой и за то, и за другое. Это было пред¬
решено. Бесполезно добавлять, что я оставался одним
из последних в классе. Повторяю: я еще не очнулся от
сна, я походил на эмбрион.
Вскоре мне запретили появляться в школе по со¬
всем другой причине, о которой я попробую осмелить¬
ся сказать.
UI
Меня отстранили от занятий в школе лишь на вре¬
мя. Г-н Брюниг, директор младших классов, дал мне
три месяца на то, чтобы я излечился от тех «дурных
привычек», за которыми меня застал г-н Ведель, застал
с легкостью, поскольку я не особенно старался их
скрыть, еще не понимая, что они настолько предосуди¬
тельны, ведь жизнь моя (если это можно назвать жиз¬
нью) все еще проходила в полусне и в тупом неведе¬
нии, примеры чего я уже приводил.
Накануне мои родители давали званый ужин; я на¬
бил карманы сладостями, подававшимися на десерт, и
в то утро, когда г-н Ведель усердствовал на кафедре, я
на скамье сочетал привычные утехи с жареным минда¬
лем в сахаре.
52
Вдруг я услыхал свое имя:
— Андре Жид! Что это вы такой красный? Подите-
ка сюда.
Кровь еще больше бросилась мне в лицо, когда я
под смешки моих товарищей поднимался по четырем
ступенькам на кафедру.
Я не пытался ничего отрицать. На первый же во¬
прос, который шепотом, наклонясь ко мне, задал г-н
Ведель, я утвердительно кивнул головой, потом сно¬
ва сел на свое место ни жив ни мертв. Между тем
мне не пришло в голову, что этот допрос может
иметь последствия: разве г-н Ведель, прежде чем за¬
дать свой вопрос, не пообещал мне никому ничего не
говорить?
Тем не менее в тот же вечер отец получил от по¬
мощника директора письмо с предложением не водить
меня в школу в течение трех месяцев.
Высокая мораль, чистота нравов была главным до¬
стижением Эльзасской школы, ими она славилась. По¬
тому в решении г-на Брюнига не было ничего удиви¬
тельного. Позднее мать сказала мне, что отец все же
был возмущен этим письмом и поспешностью наказа¬
ния. Он, конечно, скрыл от меня свое негодование, но
не огорчение. Он все серьезно обсудил с матерью, и
было решено показать меня врачу.
В ту пору нашим домашним врачом был не кто
иной, как доктор Бруардель26, вскоре прославившийся
как судебно-медицинский эксперт. Думаю, мать ожи¬
дала от этой консультации не столько советов, сколько
чисто морального воздействия. После того как она не¬
сколько минут поговорила с Бруарделем одна и вышла
из его кабинета, тот пригласил меня войти.
— Мне все известно,— сказал он, придавая голосу
грозность,— и сегодня я не стану, мой милый, ни ос¬
матривать, ни расспрашивать тебя. Но если твоя мать
сочтет необходимым привести тебя сюда опять, если
ты не исправишься, тогда (тут его голос стал страшен)
нам придется прибегнуть вот к этим инструментам:
ими оперируют таких мальчиков, как ты! — И, не пе¬
реставая смотреть на меня, сердито вращая глазами
53
под насупленными бровями, он показал мне за его
креслом, на расстоянии протянутой руки, коллекцию
туарегских копий.
Обман был слишком явным, чтобы я принял угрозу
всерьез. Но озабоченный вид матери, ее укоры, молча¬
ливая печаль отца наконец вывели меня из оцепене¬
ния, тем более, что я испытал шок, узнав о своем уда¬
лении из школы. Мать взяла с меня слово, что ничего
подобного больше не повторится, и они с Анной изо
всех сил стали стараться меня развлечь. Как раз долж¬
на была открыться Всемирная выставка27, и мы ходи¬
ли смотреть через загородку, как ее готовят...
Три месяца спустя я вновь сидел на школьной
скамье — излечившийся, во всяком случае, насколько
это было возможно. Но вскоре я подхватил корь, до¬
вольно сильно ослаб после болезни, и мои родители,
решив на следующий год оставить меня в том же клас¬
се, где я не успел приобрести больших познаний, увез¬
ли меня в JIa Рок, не дожидаясь начала каникул.
Когда в 1900 году мне пришлось продать Ла Рок,
я из удальства, из уверенности в будущем, подкреп¬
ленной теоретически обоснованной нелюбовью к
прошлому, из, как сейчас сказали бы, футуриз¬
ма28 — глубоко запрятал все свои сожаления. По
правде говоря, эти сожаления были в тот момент го¬
раздо менее острыми, чем они стали впоследствии. И
не столько потому, что воспоминания приукрасили
эти места: когда мне удалось увидеть их вновь, после
того как я много путешествовал, я оценил обволаки¬
вающее очарование маленькой долины, которая в ту
пору, когда меня распирало от избытка желаний, ка¬
залась мне тесной.
И небо малое над высотой деревьев,—
как скажет Жамм в одной из своих элегий.29
Эту долину и наш дом я описал в «Имморалисте» 30.
Но тот край послужил не только фоном, воспоминания
о нем живут во всей книге. Однако речь не об этом.
54
Имение купили еще мои дед и бабка. На потайной
дверце в стене была прибита доска из черного мрамо¬
ра со следующей надписью:
CONDIDIT А 1577 NOB. DOM. FRANCISCUS
LABBEY DO ROQUAE.
MAGNAM PARTEM DESTRUXTT A 1792
SCELESTE TUMULTUANTIUM TURBA
REFECIT A 1803 CONDITORIS AT NEPOS
NOBIUS DOMINUS PETRUS ELIAS MARIA
LABBEY DO ROQUAE, MILES*
Я переписал текст и привожу латынь такой, как она
есть.
Как бы то ни было, более поздняя постройка глав¬
ного жилого помещения, увитого глициниями в качест¬
ве единственного украшения, бросалась в глаза. Зда¬
ние кухни и потайная дверца, небольших, но изыскан¬
ных размеров, представляли собой, напротив, приятное
чередование кирпичей и каменной кладки в стиле то¬
го времени. Архитектурный ансамбль окружали два
довольно широких и глубоких рва, заполненных и
оживленных водой, проведенной из речки: ручей, по
краям поросший незабудками, низвергаясь в ров, обра¬
зовывал каскад. Комната Анны смотрела на него и Ан¬
на звала его «мой каскад»; всякая вещь принадлежит
тому, кто умеет ей радоваться.
С шумом водопада смешивались бормотание речки
и беспрерывный плеск маленького, заключенного в
трубу источника, бившего на нашем острове напротив
потайной двери; из него брали питьевую воду: она ка¬
залась ледяной, и летом графины, с ней запотевали.
- Стаи ласточек беспрестанно кружили вокруг на¬
шего дома; их глиняные гнезда лепились под навеса¬
ми крыш, по углам окон, из которых можно было на¬
* Построил в 1577 г. благородный господин Франциск аб¬
батство Рок. Большая часть разрушена в 1792 г. вследствие
преступного мятежа. Восстановил аббатство Рок в 1803 г.
благородный господин Петр Илия Мария, супруга (искаж.
лат.).— Примеч. пер.
55
блюдать за птенцами. Когда я вспоминаю Ла Рок, я
прежде всего слышу их крики — пролетая, ласточки
словно разрывали лазурь. Я не раз видел ласточек и в
других местах, но нигде не слышал, чтобы они так
кричали: думаю, они издавали эти крики, делая оче¬
редной круг над своими гнездами. Порой они летали
до того высоко, что глазам было больно за ними сле¬
дить, так бывало в очень ясные дни; когда же погода
менялась, высота их полета снижалась, как и баро¬
метр. Анна объясняла мне, что в зависимости от влаж¬
ности воздуха мелкие насекомые, которых они ловят,
летают выше или ниже. Иногда ласточки пролетали
так низко над водой, что их крылья дерзко разрезали
ее поверхность.
— Будет гроза,— говорили тогда мать и Анна.
И внезапно шум дождя сливался с журчанием
ручья, источника, каскада; раздавался серебристый
плеск по воде во рву. Опершись на подоконник одно¬
го из окон, выходивших на водоем, я подолгу наблю¬
дал, как образовывались тысячи маленьких кругов,
как они расходились, пересекались друг с другом и
исчезали вместе с большим, лопнувшим пузырем по¬
середине.
Когда мои бабушка и дедушка приобрели дом, путь
к нему проходил через луга, леса и фермы. Мой дед и
его сосед г-н Гизо31 проложили дорогу, которая, ответ¬
вляясь в Ла Буассьер от той, что ведет из Кана в Лизье,
сперва доходила до Валь-Рише, где обосновался этот
государственный муж, а затем — до Ла Рок.
И когда дорога соединила Ла Рок с остальным ми¬
ром и моя семья стала там жить, дед заменил кирпич¬
ным мостом маленький подъемный мост замка, чье со¬
держание обходилось дорого, да к тому же его уже не
поднимали.
Как передать радость ребенка, живущего на остро¬
ве, совсем маленьком, откуда при желании можно
убежать? Кирпичная стена наподобие парапета опоя¬
сывала его, связывая все корпуса зданий; по ней, гус¬
то увитой плющом и довольно широкой, можно было
смело шагать, но вот стоять на ней с удочкой значило
56
быть слишком на виду у рыб и лучше было просто че¬
рез нее перегнуться. Внешняя, омываемая водой сто¬
рона стены то там, то здесь поросла растениями,— ва¬
лерианой, земляникой, камнеломкой, порой даже
мелким кустарником, на который мама взирала с
осуждением, поскольку он разрушал стену, но Анна
упросила ее не уничтожать его, так как там гнезди¬
лись синицы.
Когда вы стояли во дворе дома между потайным хо-.
дом и зданием кухни, ваш взгляд поверх парапета, ок¬
ружавшего ров, и поверх сада уходил в бесконечность
долины; она казалась бы тесной, если бы окружавшие
ее холмы были выше. Справа по склону дорога вела в
Камбремер и Леопарти, и дальше к морю; одна из длин¬
ных изгородей, окаймляющих в тех краях луга, скры¬
вала эту дорогу от взора. А с самой дороги можно бы¬
ло увидеть Ла Рок только через неожиданные просве¬
ты, например, когда изгородь прерывалась, встретив
естественную преграду: тогда открывался вид на луга,
мягко спускавшиеся к реке. Разбросанные то тут, то
там, красивые купы деревьев, дарящие тенистый при¬
ют спокойным стадам, или деревья, одиноко стоящие
по краям дороги и по берегам реки, придавали всей до¬
лине приятный вид парка.
Пространство внутри острова, которое я называю
двором за неимением другого слова, было покрыто
гравием, а на нем на небольшом расстоянии друг от
друга перед окнами гостиной и столовой стояли корзи¬
ны с геранью, фуксией и карликовыми розами. Позади
дома была маленькая треугольная лужайка, где возвы¬
шалась огромная акация, намного выше дома. У подно¬
жия этого единственного на острове дерева мы обыч¬
но собирались ясными летними днями.
Вдаль с острова можно было смотреть только стоя
перед домом; оттуда можно было любоваться долиной
между двумя речушками, одна из которых, ответвля¬
ясь от Валь-Рише, бежала через лес, а другая — через
луга, беря начало у поселка Ла Рок в двух километрах
отсюда. С другой стороны рва довольно круто подни¬
мался луг, прозванный «Катящимся»: его моя мать спу-
57
ста несколько месяцев после смерти отца превратила
в сад, засадив деревьями и после долгого изучения ме¬
стности проложив две аллеи, поднимавшиеся хитроум¬
ным серпантином до маленькой изгороди, за которой
начинался лес. Войдя в него, вы погружались в столь
таинственную атмосферу, что поначалу у меня всегда
немного билось сердце. Этот лес покрывал холм, про¬
стирался на довольно большое расстояние и смыкался
с лесами Валь-Рише. Во времена моего отца в этих ле¬
сах было проложено не так много троп, сквозь чашу
было трудно пройти, и леса казались мне огромнее,
чем они были на самом деле. Я был очень разочарован
в тот день, когда мама, разрешив мне углубиться в них,
показала на карте их границу: за ними снова начина¬
лись луга и поля. Я уже не помню, что я ожидал уви¬
деть за лесами, возможно, ничего, но если я что-то и
вообразил, то, конечно, совсем другое. Когда я узнал
протяженность и границу лесов, они стали влечь меня
меньше, ибо в том возрасте меня больше манили при¬
ключения, чем созерцание, и я всюду надеялся встре¬
титься с неведомым.
Между тем моим основным занятием в Ла Рок бы¬
ли не исследовательские экспедиции, а рыбная ловля.
О, незаслуженно униженный вид спорта! Тебя прези¬
рают лишь те, кто с тобой не знаком, или просто неу¬
мелые рыбаки. Из-за того, что я так полюбил рыбал¬
ку, меня впоследствии столь мало привлекала охота,
которая, во всяком случае в наших краях, не требует
иного мастерства, кроме умения целиться. Тогда как
сколько нужно ловкости, хитрости, чтобы ловить на
удочку форель! Теодомир, племянник нашего старого
сторожа Бокажа, с ранних лет научил меня оснащать
удочку и наживлять как следует крючок, ведь если
форель — самая хищная из рыб, она же и самая подо¬
зрительная. Конечно, я удил без поплавка и грузила,
полный презрения к этим пустяшным помощникам,
только отпугивающим рыбу. Зато я пользовался «фло¬
рентийским волоском»: леской, скрученной из ниток
шелковичного червя; слегка голубоватая. Она почти
не видна в воде и при этом очень прочна и способна
58
выдерживать вес форелей, водившихся в водоеме во¬
круг дома, тяжелых, как лосось. Я охотнее удил рыбу
в реке, где форель была более нежная на вкус и к то¬
му же более пугливая, а значит ее было интереснее
ловить. Маму огорчало мое пристрастие к развлече¬
нию, которое, по ее мнению, мало меня развивало фи¬
зически. А я убеждал ее, что рыбалка несправедливо
считается спортом для увальней, что полная непо¬
движность сопутствует этому занятию разве что на
больших реках или в стоячей воде или когда ловишь
сонную рыбу, а в маленьких речушках, где удил я, за
форелью надо было охотиться, подстерегая в ее из¬
любленных местах; заметив наживку, она жадно бро¬
салась на нее, а если не бросалась, значит, заметила
что-то еще, кроме кузнечика: часть удочки, кончик
крючка, кусок лески, тень рыбака или услыхала его
шаги; после этого ждать было бесполезно, и чем боль¬
ше вы проявляли настойчивость, тем больше портили
дело; лучше было прийти попозже, приняв меры пре¬
досторожности: проскользнуть, проползти, раство¬
риться в траве и забросить кузнечика издалека, на¬
сколько это позволяли ветки ив и орешника, густо
росших по берегу реки и уступавших его только ог¬
ромному кипрею или лаврам св. Антония; если же по
невезению леска или крючок цеплялись за раститель¬
ность, требовалась уйма времени, чтобы их отцепить,
не говоря уже о том, что рыба бывала напугана окон¬
чательно.
В Ла Рок было много «комнат для гостей», но они
всегда пустовали: отец избегал руанского общества, а
у его прежних коллег были свои семьи, свои привыч¬
ки... Из гостей я припоминаю только г-на Геру, впер¬
вые приехавшего в Ла Рок, кажется, летом того года,
когда меня временно изгнали из школы. Он приезжал
еще раз или два после смерти отца, и я полагаю, мать
отдавала себе отчет в том, что поступает довольно сме¬
ло, продолжая, уже будучи вдовой, его принимать,
правда, каждый раз очень непродолжительное время.
Моя семья была донельзя буржуазной, а г-н Геру —
всего лишь «богемой», хотя и музыкантом, то есть он
59
был совершенно «не нашего круга» — композитор,
друг более известных музыкантов, например, Гуно и
Стефена Геллера32, которых он навещал в Париже.
Ибо г-н Геру жил в Руане; где в его ведении находил¬
ся большой орган церкви Сент-Уан работы Кавайе-Кол-
ля33. Очень набожный и очень уважаемый духовенст¬
вом, г-н Геру имел учеников в самых лучших, самых
благонамеренных семьях, среда которых была и моя,
и пользовался в них большим авторитетом. У него был
резкий профиль, довольно красивые черты лица, гус¬
тые, сильно вьющиеся черные волосы, квадратная
борода, мечтательный или внезапно загоравшийся гне¬
вом взглвд, мелодичный, елейный, но лишенный под¬
линной нежности голос, ласковые, но властные мане¬
ры. Во всех его словах и жестах сквозили эгоизм и же¬
лание поучать. Особенно красивы были его руки,
мягкие и сильные. За фортепьяно он преображался,
подпадая под власть почти небесного воодушевления;
хотя играл скорее как органист, и порой его игре недо¬
ставало тонкости, однако она была божественна, когда
он исполнял анданте, и особенно Моцарта, которому
оказывал восторженное предпочтение. Он обычно го¬
ворил, смеясь:
— Что до аллегро, я молчу, но в медленных частях
я стою Рубинштейна34.
Он произносил эти слова так добродушно, что их
нельзя было принять за похвальбу; я и впрямь пола¬
гаю, что ни Рубинштейн, которого я прекрасно по¬
мню, ни кто-либо другой во всем мире не смог бы сыг¬
рать, к примеру, фантазию в ut minor Моцарта или
largo какого-нибудь концерта Бетховена с большим
трагическим благородством, жаром, поэтичностью,
силой и торжественностью. Впоследствии многое в
нем раздражало меня: он критиковал фуги Баха за то,
что они развиваются без неожиданных ходов; и если
любил хорошую музыку, то недостаточно отвергал
плохую, и при этом разделял со своим другом Гуно
нелепое и упрямое нежелание знать Цезаря Фран¬
ка35, однако в то время, когда я только еще входил в
мир звуков, он был для меня великим учителем, про¬
60
роком, волшебником. Каждый вечер после ужина он
дарил моему восхищенному слуху сонаты, отрывки из
опер, симфонии, и мама, обычно неуступчивая в том,
что касалось режима, и всегда энергично отправляв¬
шая меня спать, позволяла мне на сей раз продлить
бодрствование.
Я не претендую на раннее развитие и думаю, что
эти музыкальные вечера доставляли мне удовольствие
лишь в период последних визитов г-на Геру, спустя два
или три года после смерти отца. До этого по его сове¬
ту мама стала водить меня на концерты и я, желая по¬
казать ей, что они мне в радость, весь день насвисты¬
вал или напевал отрывки из симфоний. Тогда г-н Геру
начал со мной заниматься. Он сажал меня за фортепь¬
яно и для каждой музыкальной пьесы, которую со
мной разучивал, придумывал какой-нибудь рассказ,
как бы объясняя и оживляя ее: пьеса превращалась в
диалог или в повествование. Думаю, что этот метод,
хоть и несколько искусственный, для ребенка неплох,
если только не слишком упрощает или искажает про¬
изведение. Надо иметь в виду, что мне тогда едва ис¬
полнилось двенадцать лет.
Во второй половине дня г-н Геру сочинял; Анна,
умевшая записывать под музыкальную диктовку, по¬
рой служила ему секретарем; он нуждался в ней пото¬
му, что должен был щадить глаза — зрение у него на¬
чинало слабеть, но была и еще причина — ему необхо¬
димо было проявить свой деспотизм — так считала
моя матушка. Анна его боготворила. Она сопровожда¬
ла композитора на утренних прогулках, несла его паль¬
то, если ему было слишком жарко, и держала перед
ним, защищая его глаза от солнца, раскрытый зонтик.
Мать возражала против такого обхождения; бесцере¬
монность г-на Геру ее возмущала; в отместку за деспо¬
тизм обаяния, против которого и сама не могла усто¬
ять, она пыталась осыпать его сатирическими стрела¬
ми, но они были не слишком остры и не очень умело
направлены, и только забавляли г-на Геру. Долгое вре¬
мя, после того как он почти ослеп, матушка, как и мно¬
гие другие, все еще сомневалась, что он действительно
61
погрузился в полный мрак, и обвиняла г-на Геру в при¬
творстве, говоря, что «не так уж слеп, как изобража¬
ет». Она считала его лицемерным, пронырливым, хит¬
рым, расчетливым, грубым; и нельзя сказать, что он та¬
ким не был, но он был еще и музыкантом. Порой за
обедом или за ужином его уже полузатуманенный
взгляд за очками становился невидящим, сильные ру¬
ки, лежавшие на столе, как на клавиатуре, приходили
в движение, и, если вы к нему обращались, он, внезап¬
но придя в себя, отвечал:
— Прошу прощения! Я был в ми-бемоль.
Мой кузен Альбер Демаре — уже тогда вызывав¬
ший у меня самую живую симпатию, хотя и старше
меня на двадцать лет,— особенно подружился с «па¬
пашей Геру», как он его с любовью называл. Альбер,
единственная художественная натура во всей нашей
семье, страстно любил музыку и сам очень хорошо
играл на фортепьяно; музыка и была их единствен¬
ным общим языком, во всем остальном они полно¬
стью расходились. Каждому недостатку папаши Геру
противостояло достоинство Альбера. Альбер был
столь же прям и простодушен, сколько Геру скрытен
и лицемерен; столь же щедр, сколько Геру скуп; из-
за своего добродушия и беспечности Альбер не отли¬
чался практичностью; он мало заботился о своих соб¬
ственных интересах, и часто то, что он предприни¬
мал, оборачивалось ему во вред, так что в нашей
семье к нему относились не совсем всерьез. Г-н Геру
звал Альбера «толстячок Берт» с той покровительст¬
венной снисходительностью, в которой отчасти скво¬
зила жалость. Альбер же, восхищаясь талантом Геру,
презирал его как человека. Позднее кузен мне рас¬
сказывал, как застал Геру, обнимающим Анну. Из
уважения к Анне он сделал вид, что ничего не заме¬
тил, но как только остался наедине с Геру, накинул¬
ся на него:
—Да как ты смел себе это позволить?..
Разговор происходил в гостиной на улице Крон.
Альбер, высокий и сильный, прижал маэстро к стене, а
тот бормотал:
62
— Ну и дурак же ты, толстячок! Ты же видел, я про¬
сто шутил.
— Негодяй! — кричал Альбер.— Если я еще раз
увижу такие шутки, я...
— Я был вне себя,— рассказывал он мне,— если бы
он произнес еще хоть слово, я бы его задушил.
Возможно, вскоре после тех каникул, что последо¬
вали за моим выдворением из школы, Альбер Демаре
и начал проявлять ко мне интерес. Что он разглядел
во мне? Что могло вызывать его симпатию? Не знаю.
Но я, конечно, был признателен ему за внимание, тем
более что, по собственному ощущению, я не слишком
его заслуживал. И, конечно же, сразу стал стараться
стать достойным этого интереса. Симпатия может
раскрыть в человеке скрытые достоинства; я часто
убеждался в том, что самые отъявленные мерзав¬
цы — те, к кому в начале жизни было обращено ма¬
ло нежных улыбок. Наверное, покажется странным,
что улыбок моих родителей мне было недостаточно,
но я и впрямь сразу же стал гораздо чувствительнее к
одобрению или осуждению Альбера, чем к их оцен¬
кам моего поведения.
Хорошо помню тот осенний вечер, когда после ужи¬
на он отвел меня в уголок отцовского кабинета, в то
время как родители играли в безик с тетей Демаре и
Анной, и начал тихо говорить, что не понимает, чем я
еще в жизни интересуюсь, кроме себя самого, что это
свойство эгоистов и, по его мнению, я очень похож на
одного из них.
В Альбере не было ничего от классного надзирате¬
ля. Он казался очень раскованным, взбалмошным, от¬
личался большим юмором и веселостью: в его осужде¬
нии не было никакой неприязни, напротив, я чувство¬
вал, что оно проистекает из его симпатии ко мне,
именно поэтому оно на меня так и подействовало. Со
мной еще никогда так не говорили; слова Альбера про¬
никли в мою душу куда глубже, чем он мог предполо¬
жить, и я сам лишь позднее осознал, до какой степени
63
глубоко. Меньше всего в друзьях мне нравится снисхо¬
дительность; Альбер не был снисходительным. В слу¬
чае надобности у него можно было найти оружие про¬
тив самого себя. И, сам того не сознавая, я искал это
оружие.
Родители снова отправили меня в девятый класс,
который я почти весь пропустил; без труда я оказал¬
ся в числе хороших учеников и благодаря этому
вдруг полюбил занятия.
Зима в тот год была суровой и долгой. Матери при¬
шла замечательная мысль научить меня кататься на
коньках. Жюль и Жюльен Жардинье, сыновья одного
из коллег моего отца, учились кататься вместе со
мной, а с младшим из них, Жюльеном, мы учились в
одном классе; мы соревновались друг с другом изо
всех сил и довольно скоро научились кататься. Я стра¬
стно полюбил этот вид спорта, которым мы занима¬
лись сначала на льду водоема в Люксембургском саду,
потом на пруду Вилльбон в Медонском лесу или на
большом версальском канале. Снег падал в таком ко¬
личестве и был такой гололед, что, помнится, я от ули¬
цы Турнон добирался до Эльзасской школы, находив¬
шейся на улице д’Асса, на другом конце Люксембург¬
ского сада, не снимая коньков, и было так весело и
странно бесшумно скользить между двумя сугробами в
аллеях большого сада. С тех пор подобной зимы уже
не было.
Я по-настоящему не дружил ни с одним из братьев
Жардинье. Жюль был намного старше меня, Жюль¬
ен — необычайный тугодум. Но наши родители, свя¬
занные дружбой и словно разделявшие склонность не¬
которых семей к бракам по расчету, не упускали воз¬
можности свести нас вместе. Я уже и так каждый день
видел Жюльена в классе, вдобавок я встречал его на
прогулке и на катке. Те же занятия в школе, те же оби¬
ды, те же радости — этим ограничивалось то, что нас
объединяло; тогда нам этого было достаточно. Конеч¬
64
но, в девятом классе были ученики, с которыми я мог
бы подружиться, но, увы, их отцы не преподавали вме¬
сте с моим.
Каждый вторник с двух до пяти ученики Эльзас¬
ской школы (во всяком случае младших классов) от¬
правлялись с учителем на прогулку и посещали Сент-
Шапель, Собор Парижской Богоматери, Пантеон, Му¬
зей Искусств и Ремесел. В этом музее в маленьком
темном зале находилось зеркальце, отражавшее в
уменьшенном виде благодаря хитроумному располо¬
жению других зеркал то, что происходило на улице;
получалась очень забавная картинка с живыми, движу¬
щимися фигурками ростом с те, что изображены на по¬
лотнах Тенирса36; все остальное в музее навевало ску¬
ку и уныние. Мы посещали также Дом Инвалидов,
Лувр и необычную достопримечательность, располо¬
женную как раз напротив парка Монсури, под названи¬
ем Всемирная Георама: это был всего лишь сквер, ко¬
торый его хозяин, высокий молодец, одетый в альпа¬
га37, превратил в географическую карту. Камни в нем
изображали горы; озера, хотя и зацементированные,
были сухими, в бассейне Средиземного моря плавало
несколько красных рыбок, подчеркивая узость италь¬
янского сапога. Учитель предлагал нам показать Кар¬
паты, в то время как молодец с указкой в руке отме¬
чал границы, называл города, сообщал о множестве
своих незаметных и нелепых выдумок, восхваляя свое
творение, подчеркивая, сколько времени понадоби¬
лось, чтобы довести его до конца, и когда учитель пе¬
ред нашим уходом восхищался его терпением, отвечал
менторским тоном:
—Терпение ничто, главное — идея.
Любопытно было бы узнать, сохранилось ли все это
до сих пор?
Порой г-н Брюниг, директор младших классов, сам
присоединялся к нам на пару с г-ном Веделем, который
из почтения к старшему сразу стушевывался. Г-н Брю-
65
ниг неизменно вел нас в Ботанический сад и непремен¬
но в темные галереи с чучелами животных (нового
Музея естествознания тогда еще не было). Он останав¬
ливался возле черепахи-лютни, занимавшей почетное
место в сторонке под стеклом, ставил нас вокруг и го¬
ворил:
— Ну, вот, дети! Поглядим! Сколько же у нашей че¬
репахи зубов? (Надо сказать, что у чучела, сохранив¬
шего естественное, испуганно-живое выражение, пасть
была полуоткрыта.) Считайте хорошенько. Не торопи¬
тесь. Сосчитали?
Но мы уже были не способны этим заниматься, до
того она нам надоела, его черепаха. Все же, давясь от
смеха, мы делали вид, что считаем и подталкивали
друг друга, словно затем, чтобы лучше разглядеть.
Дюбле упрямо ввдел только два зуба: он был шутник.
Длинный Венц, не сводя глаз с черепахи, громко и без¬
остановочно считал и, когда доходил до шестидесяти,
г-н Брюниг останавливал его с особым смешком чело¬
века, умеющего подладиться к детям, и цитировал Ла¬
фонтена:
— «От истины вы далеки».38 Чем больше вы нахо¬
дите зубов, тем больше ошибаетесь. Лучше мне вас ос¬
тановить. Сейчас вы очень удавитесь. То, что вы при¬
нимаете за зубы, всего лишь маленькие хрящевые бу¬
горки. У черепахи вообще нет зубов. Черепаха — как
птица, у нее есть только клюв!
Тогда мы все восклицали «О-о-о!» — из вежливости.
Я трижды присутствовал при этой комедии.
Наши с Жюльеном родители давали нам в эти дни
экскурсий каждому по два су. Предварительно они об¬
судили этот вопрос; мама не согласилась бы давать
мне больше, чем давала Жюльену его мать; поскольку
их достаток был более скромным, решать должна бы¬
ла г-жа Жардинье.
—Да что они будут делать с пятьюдесятью сантима¬
ми? — воскликнула та. И мать признала, что двух су39
«совершенно достаточно».
66
Обычно мы тратили свои два су в лавке папаши
Клемана — маленькой деревянной палатке, стоявшей
в Люксембургском саду почти напротив ближайшего
к школе входа и выкрашенной в тот же зеленый цвет,
что и скамейки. Папаша Клеман, в голубом фартуке,
похожий на лицейских портье прежних времен, про¬
давал шарики, майских жуков, волчки, сладкие на¬
питки, мятные, яблочные и вишневые леденцы, длин¬
ные конфеты из солодки, закрученные на манер ча¬
совой пружины, стеклянные трубочки с белым и
розовым анисовым драже, закрытые с двух сторон ро¬
зовой ватой и пробками; анисовое драже не пользова¬
лось особым успехом, зато пустая трубочка могла
служить метательным орудием. Так же и бутылочки
с этикетками «черносмородиновая», «анисовка», «Кю¬
расао» покупались только ради удовольствия приле¬
пить их потом к губам, как присоски. Мы с Жюлье-
ном обычно делили наши покупки и потому ничего не
покупали, предварительно не посоветовавшись.
На следующий год г-жа Жардинье и моя мать реши¬
ли, что могут увеличить свои еженедельные щедроты
до пятидесяти сантимов — такая сумма позволила мне
наконец завести шелковичных червей; сами они сто¬
или не так уж дорого, дороже обходился их корм—ли¬
стья тутовника, которые я должен был дважды в неде¬
лю покупать у продавца лекарственный трав на улице
Сен-Сюльпис. Жюльен, у которого гусеницы вызывали
отвращение, заявил, что отныне будет покупать то, что
захочет, не ставя меня в известность. Из-за этого мы
сильно охладели друг к другу и на экскурсиях по втор¬
никам, когда мы ходили парами, каждый из нас искал
себе другого товарища.
К одному из учеников я проникся настоящей стра¬
стью. Он был русский. Надо бы мне поискать его имя
в школьных журналах. Где-то он теперь? Он был
хрупкого здоровья, необычайно бледный, с очень
светлыми и довольно длинными волосами, .голубыми
глазами и мелодичным голосом, напевным из-за лег¬
кого акцента. Чем-то поэтичным веяло от всего его
облика, должно быть, по той причине, что он чувст¬
67
вовал себя слабым и хотел, чтобы его любили. Мои
приятели, с ним не очень считались, и он редко при¬
нимал участие в их играх; ну, а мне, как только он на
меня смотрел, становилось стыдно, что я забавляюсь
с другими; помню, как иногда на перемене, поймав
на себе его взгляд, я сразу бросал игру и шел к нему.
Надо мной посмеивались. Мне хотелось, чтобы на не¬
го напали и чтобы я его защитил. На уроках рисова¬
ния нам позволяли переговариваться, мы садились
рядом, и он мне рассказывал, что отец у него извест¬
ный ученый, а я так и не решился спросить, кто его
мать и почему он в Париже. Однажды он перестал
приходить, и никто не мог мне сказать, заболел он
или вернулся в Россию, а меня что-то вроде целомуд¬
рия или робости удерживало от того, чтобы расспро¬
сить учителей, которые, наверное, знали о нем, и я
переживал втайне одну из первых и самых острых
печалей своей жизни.
Мать очень заботилась о том, чтобы ее траты на
мои нужды не дали мне понять, что наша семья го¬
раздо обеспеченнее семьи Жардинье. Одежду мне,
совершенно такую же, как у Жюльена, покупали, как
и ему, у «Прекрасной садовницы». Я был отнюдь не
равнодушен к одежде и сильно страдал от того, что
всегда был плохо одет. В матроске и берете или в
вельветовом костюмчике я был бы на седьмом нёбе!
Но ни матроски, ни вельвет не нравились г-же Жар¬
динье. Поэтому я носил тесные курточки, узкие в ко¬
ленях штаны, которые были мне коротки, и полоса¬
тые носки, тоже слишком короткие: они торчали рас¬
трубом, съезжали на ботинки, а потом пропадали в
них. Но ужаснее всего были накрахмаленные рубаш¬
ки. Только уже став почти взрослым мужчиной, я до¬
бился, чтобы мне перестали крахмалить рубашку. Та¬
ковы были обычаи, мода, и тут ничего нельзя было
поделать. И если я наконец добился своего, то просто
потому, что мода изменилась. Представьте себе бед¬
ного ребенка, который все дни в году играет и учит¬
68
ся в белом панцире, спрятанном под курточкой, кото¬
рый завершается вдобавок жестким ошейником, ибо
прачка, очевидно, за ту же плату крахмалила и ворот,
к которому пристегивался воротничок; если же тот
был немного шире или уже и не плотно прилегал к
рубашке (что бывало в девяти случаях из десяти), то
сильно морщил, доставляя ужасные мучения, и вся
броня становилась невыносимой, едва я начинал по¬
теть. Попробуйте-ка позаниматься спортом в таком
облачении! Смешной маленький котелок завершал
ансамбль. Ах! современные дети не знают, как они
счастливы!
Между тем я любил бегать и занимал в классе вто¬
рое место по бегу после Адриана Моно. В гимнастиче¬
ских упражнениях я его даже опережал, так как луч¬
ше лазил по шесту и по канату; я также блистал на
кольцах, на турнике и на брусьях; на трапеции же у ме¬
ня ничего не получалось, только кружилась голова. По¬
гожими летними вечерами я встречался с друзьями в
большой аллее Люксембургского сада, в конце кото¬
рой была лавка папаши Клемана; мы играли в мяч. Это
был еще, увы, не футбол; мяч — такой же, но прави¬
ла — самые простые, и в отличие от футбола запреща¬
лось бить по мячу ногами. Но и этой простой игрой мы
увлекались до безумия.
Однако я еще не закончил рассказ о костюмах:
каждый год, в середине поста, в Гимнастическом зале
Паско устраивался бал для детей, которые там занима¬
лись; это был костюмированный бал. Как только я по¬
нял, что мать пустит меня на бал, как только я предста¬
вил себе праздник с переодеваниями, голова у меня по¬
шла кругом. Не знаю, как объяснить мое возбуждение.
Неужели возможность утратить свою личность дает та¬
кое блаженство? Уже в этом возрасте? Да нет, скорее
всего дело было в удовольствии оказаться в красочном
костюме, стать великолепным, необычным, преобра¬
зиться в иное существо... Но радость моя сильно поуба¬
вилась, когда г-жа Жардинье заявила, что оденет
Жюльена поваром.
69
— Главное, чтобы дети были в костюмах, не так
ли? — объясняла она матери (и та туг же согласилась).—
А какой костюм, неважно.
Я уже знал, что меня ждет. Эти две дамы, просмот¬
рев каталог «Прекрасной садовницы», обнаружили,
что костюм «повара» — находившийся в самом конце
списка, начинавшегося с «маленького маркиза», за ко¬
торым по нисходящей следовали «кирасир», «полиши¬
нель», «спаги», «лаццарони» — обнаружили, что кос¬
тюм «повара» «действительно стоит пустяки».
В коленкоровом фартуке, с коленкоровыми рукава¬
ми и в коленкоровом колпаке я был похож на накрах¬
маленный носовой платок. Вид у меня был такой гру¬
стный; что мама поспешила выдать мне кастрюлю с
кухни, настоящую медную кастрюлю, и засунула мне
за пояс половник; так она решила немного оживить
мой унылый, прозаический костюм. К тому же она по¬
ложила в карманы моего фартука сухарики, «чтобы ты
раздал их детям».
Едва войдя в зал, я смог убедиться, что число «ма¬
леньких поваров» приближается к двум десяткам; це¬
лый пансион. Громоздкая кастрюля мешала мне, и в до¬
вершение моих, трудностей я вдруг почувствовал, что
влюбился, да-да, именно влюбился в мальчика чуть по¬
старше меня, оставившего в моей памяти ослепитель¬
ное ощущение легкости, грации и обаяния.
Он был наряжен то ли чертенком, то ли клоуном;
черное трико, усыпанное блестками стального цвета,
плотно облегало его тонкую фшурку. Все столпились
посмотреть на него, а он прыгал, делал пируэты и мно¬
жество разных трюков, словно опьянев от успеха и ра¬
дости; он был похож на сильфа, и я не мог отвести от
него глаз. Я хотел привлечь его внимание и боялся это¬
го, стыдясь своего смешного наряда и чувствуя себя
уродом, достойным презрения. Между двумя пируэта¬
ми он сделал передышку, подошел к даме, очевидно
своей матери, попросил у нее платок и, чтобы отереть
пот, снял с головы черную повязку с маленькими коз¬
лиными рожками; я подошел к нему и смущенно про¬
тянул несколько сухариков. Он сказал «спасибо», рас¬
70
сеянно взял один и тут же отвернулся. Вскоре я поки¬
нул бал совершенно подавленный и, вернувшись до¬
мой, предался такому отчаянию, что мать пообещала
мне на следующий год костюм «лаццарони». Да, этот
костюм мне шел и, быть может, понравился бы «клоу¬
ну»... Так, на следующий год я стал «лаццарони», но
«клоуна»-то больше не было.
Тщетно стал бы я гадать, по какой причине моя ма¬
тушка, когда я перешел в восьмой класс, сделала меня
пансионером. В Эльзасской школе, выступавшей про¬
тив лицейской системы интернатов, не было спален; но
ее преподаватели могли взять к себе несколько панси¬
онеров. Я попал к г-ну Веделю, хотя уже не был в его
классе. Г-н Ведель обитал в доме, где некогда жил
Сент-Бёв, и его бюст в глубине маленькой прихожей
возбуждал мое любопытство. Я никак не мог понять,
почему святая представлена в виде старого господина
с отеческим выражением лица и в шапочке с кисточ¬
кой. Г-н Ведель объяснил нам, что Сент-Бёв был «вели¬
ким критиком», но есть же предел доверчивости ре¬
бенка.
Нас было пятеро или шестеро пансионеров в двух
или трех комнатах. Я жил в комнате на третьем этаже
вместе с высоким, апатичным, вялым и безобидным
существом по имени Розо. Остальных моих товарищей
я почти совсем не помню... Впрочем, нет: был там один
американец, Барнет, который на следующий день по¬
сле своего появления в школе привел меня в восхище¬
ние тем, что подрисовал себе чернилами усы. Он но¬
сил блузу навыпуск и широкие, укороченные штаны;
лицо у него было рябое, но удивительно открытое и
улыбчивое; все его существо излучало радость, здо¬
ровье и энергию, которая побуждала его беспрестанно
выдумывать что-нибудь рискованное; это очень возвы¬
шало его в моих глазах, и я был от него просто в вос¬
торге. Он вечно вытирал перо о свои густые, взъеро¬
шенные волосы. В тот день, когда он впервые появил¬
ся у г-на Веделя, в маленьком садике позади дома, где
71
мы после обеда гуляли на перемене, он встал посере¬
дине, нарочито откинул торс назад и на глазах у всех
пустил струю вверх. Мы были поражены его циниз¬
мом.
Этот маленький сад служил ареной кулачных боев.
Я вообще был спокойным ребенком, скорее даже
слишком смирным, и терпеть не мог драк, очевидно
уверенный в том, что меня всегда побьют. И меня до
сих пор жжет воспоминание об одном происшествии,
о котором пора рассказать. Однажды, возвращаясь из
школы через Люксембургский сад, я против обыкнове¬
ния вошел в другие ворота, что, впрочем, не слишком
далеко уводило меня от обычной дороги, и по пути я
встретил группу учеников, должно быть, коммуналь¬
ной школы, в глазах которых ученики эльзасцы были
ненавистными аристократишками. Они были пример¬
но моего возраста, но физически явно более крепкие.
Проходя мимо, я уловил откосившиеся ко мне насмеш¬
ки, заметил злобные взгляды, но продолжал путь со
всем возможным достоинством; но вот самый задири¬
стый отделился от группы и направился ко мне. У ме¬
ня душа ушла в пятки. Он встал передо мной. Я пробор¬
мотал:
— Что... что вы хотите?
Он ничего не ответил, но пошел рядом с левой сто¬
роны.
Я продолжал идти, уставясь в землю, чувствуя, что
он не сводит с меня взгляда, а в спину мне смотрят ос¬
тальные. У меня было желание сесть. И вдруг:
— А вот чего я хочу! — крикнул он и ударил меня
кулаком в глаз.
У меня посыпались искры, и я свалился возле каш¬
тана, угодив прямо в канавку, которая служит для по¬
ливки деревьев. Из нее я выбрался весь в грязи, сгорая
от стыда. Подбитый глаз очень болел. Я еще не знал,
до какой степени глаз эластичен, и решил, что он у ме¬
ня лопнул. Слезы лились градом, и я думал: «Ну все, он
вытекает». Но еще больше мучений доставляли мне
смех, шуточки и аплодисменты мальчишек, адресован¬
ные моему врагу.
72
Вообще я одинаково не любил и нападать, и полу¬
чать удары. Но у г-на Веделя жил один очень против¬
ный парень — длинный рыжий с низким лбом, имя его
я по счастью забыл: вот он-то и злоупотреблял моим
миролюбием. Два-три раза я терпеливо выслушал его
насмешки, но однажды вдруг запылал священным гне¬
вом, набросился на него и начал избивать; все столпи¬
лись вокруг нас. Мой противник был значительно вы¬
ше и сильнее меня, но я застиг его врасплох, я был вне
себя, ярость удвоила мои силы, и я колотил его, тес¬
нил что было мочи и быстро свалил с ног. Как только
он очутился на земле, я, опьяненный своим триумфом,
протащил его по земле, как мне казалось, на античный
манер, то есть схватив за волосы и выдрав при этом
целый клок. Я даже почувствовал легкое отвращение
к своей победе из-за этих жирных волос, оставшихся
у меня между пальцами, и моя победа изумила меня;
прежде она казалась мне недостижимой, и я должен
был обезуметь от бешенства, чтобы отважиться на
схватку. Успех обеспечил мне уважение товарищей и
спокойствие на долгое время. Я вдруг убедился, что
достаточно попробовать — и многое перестает казать¬
ся невозможным.
Мы провели несколько дней в сентябре в окрест¬
ностях Нима в имении тестя моего недавно женивше¬
гося дяди Шарля Жида. Мой отец вернулся опуда с
недомоганием, причину которого приписали избытку
инжира. На самом деле у отца был кишечный тубер¬
кулез; думаю, мать знала, что отец серьезно болен,
хотя в ту пору туберкулез редко распознавали и счи¬
тали излечимым. Впрочем, отцу было уже слишком
плохо, и мы не могли надеяться на его выздоровле¬
ние. Он тихо скончался 28 октября того же года
(1880).
Я не помню отца мертвым, помню его только за не¬
сколько дней до конца: он уже не поднимался с посте¬
ли. Перед ним на покрывале лежала толстая книга,
раскрытая, но перевернутая корешком вверх, так что
73
был виден только ее сафьяновый переплет; отец, веро¬
ятно, положил ее так, когда я вошел. Позднее мать ска¬
зала, что это был Платон.
В момент смерти отца я находился у Веделя. За
мной пришли, не помню кто, кажется, Анна. По доро¬
ге я все узнал. Но печаль охватила меня, только когда
я увидел мать в трауре. Она не плакала, крепясь в мо¬
ем присутствии; но я понял, что до этого она пролила
много слез. Я всхлипывал в ее объятиях. Она боялась,
что у меня будет слишком сильное нервное потрясе¬
ние, и решила напоить меня чаем. Я сидел у нее На ко¬
ленях; она, держа чашку, набрала в ложку чай, протя¬
нула ее мне и, помню, сказала, силясь улыбнуться:
— Посмотрим! Доберется ли этот кораблик до га¬
вани?
И внезапно я почувствовал, как всего меня окутала
ее любовь, отныне вся перешедшая на одного меня.
Разве мог я тогда осознать свою утрату? Мне хоте¬
лось бы рассказать о моей печали, но, увы, меня боль¬
ше занимала та значительность, какую я приобрел в
глазах друзей благодаря прискорбному событию. Еще
бы! Ведь каждый из них мне написал, как когда-то все
коллеги написали отцу по случаю награждения его ор¬
деном! Потом я узнал, что приедут мои кузины! Мать
решила, что мне не следует присутствовать на похоро¬
нах и в то время, когда она с дядями и тетями будет
следовать за катафалком, Эмманюэль40 и Сюзанна ос¬
танутся дома, чтобы составить мне компанию. Радость
вновь увидеть кузин почти совсем рассеяла мою пе¬
чаль. Пора мне рассказать и о кузинах.
IV
Эмманюэль была старше меня на два года; Сюзан¬
на и Луиза41 — тоже старше, но ненамного. Что до
Эдуарда и Жоржа — их обоих называли просто «маль¬
чиками», словно затем, чтобы поскорее от них отде¬
латься,—то мы не принимали их всерьез, считая малы¬
шами, еще вчера лежавшими в колыбели. Эмманюэль
74
казалась мне чересчур уравновешенной. Она тут же
выходила из игры, если та переставала быть «прилич¬
ной» или становилась просто шумной. Тогда она уеди¬
нялась с книгой, словно дезертировала, и ее невозмож¬
но было дозваться, внешний мир для нее переставал су¬
ществовать; она до такой степени теряла понятие о
том, где находится, что иногда вдруг сваливалась со
стула. Она никогда ни с кем не ссорилась; уступать
другим свою очередь или свое место, или свою часть и
всегда с милой грацией было для нее так естественно,
что, казалось, она делала это по склонности души, а не
из добродетели и что поступать иначе было бы для нее
принуждением.
У Сюзанны, напротив, был решительный характер;
она была порывиста, импульсивна; любая игра в ее об¬
ществе становилась бурной. С ней я играл охотнее все¬
го, да еще с Луизой, если та не дулась: у нее был более
неуравновешенный и капризный характер, чем у ее се¬
стер.
К чему рассказывать о наших играх? Думаю, они
были как все детские игры, только мы играли с осо¬
бым увлечением.
Мои дядя и тетя и их пятеро детей жили на улице
Лека, одной из тех унылых провинциальных улиц, на
которых нет ни магазинов, ни особого движения, ниче¬
го, тешащего взор. Заканчиваясь еще более угрюмой
набережной, она шла мимо Отель-Дьё, где некогда жи¬
ли родители Флобера42 и где его брат Ашиль продол¬
жил дело отца.
Дом д яди был таким же серым и безрадостным, как
и вся улица. Я расскажу о нем позже. Гораздо охотнее
я виделся с моими кузинами на улице Крон, а еще ве¬
селее мне было с ними на лоне природы, в тех местах,
где мы каждое лето проводили вместе несколько не¬
дель: в Ла Рок, когда они приезжали к нам, или в Кю-
вервиле, когда мы гостили в имении дяди. Там у нас
были общие занятия, общие игры, там формировались
наши вкусы, характеры, сплетались нити наших жиз¬
ней, рождались общие мечты и желания, и, когда В
конце дня наши родители разлучали нас, отправляя
75
спать, я по-детски думал: это только потому, что мы
еще маленькие, как жаль! но настанет время, когда да¬
же ночь нас не разлучит.
Сад Кювервиля, где я сейчас пишу, не намного из¬
менился. Вот площадка, окруженная подстриженными
тисами, где мы играли в песке, неподалеку «цветочная
аллея», где у каждого из нас была своя клумба; в тени
серебристого тополя — гимнастические снаряды, на
которых Эмманюэль занималась с такой опаской, а
Сюзанна — с таким бесстрашием, чуть дальше — тени¬
стая часть сада, «темная аллея», куда иногда в ясные
вечера после ужина скрывался дядя; в дождливые ве¬
чера он вслух читал нам какой-нибудь бесконечный ро¬
ман Вальтера Скотта.
Высокий кедр, что растет перед домом,— на его
ветвях мы и проводили целые часы — стал огромным;
у каждого из нас был свой «приют», мы ходили друг к
другу в гости и, спустив вниз скользящие петли, крюч¬
ки, «ловили рыбу»; мы с Сюзанной залезали на самую
верхушку и кричали с высоты: «Море! Видно море!» —
И действительно в ясную погоду можно было заметить
тонкую серебристую полоску в пятнадцати километрах
от дома.
Да, здесь ничего не изменилось, и я опять чувст¬
вую себя тем маленьким мальчиком. Но не стану за¬
держиваться на столь далеком прошлом: когда умер
отец, и Эмманюэль с Сюзанной приехали в Париж, за¬
бавы раннего детства уже уступили место другим иг¬
рам.
Мать последовала советам родственников, которые
убедили ее провести первое время траура в Руане. Она
не решилась оставить меня одного у г-на Веделя; и с
тех пор началась для меня та безалаберная, не стеснен¬
ная никакими рамками жизнь, та беспорядочная учеба,
с которой я охотно свыкся.
Итак, ту зиму мы провели на улице Крон в доме мо¬
его дяди Анри Рондо. Г-н Гюбер, дававший уроки моей
кузине Луизе, приходил почти каждый день занимать-
ся и со мной. Преподавая мне географию, он использо¬
вал контурные карты: на них я должен был найти и на¬
76
писать географические названия, обвести чернилами
бледно намеченные линии. Работа была несложной
для ребенка, но я ничего не запоминал. Помню только
похожие на шпатель пальцы г-на Гюбера, удивительно
плоские, широкие, с квадратными ногтями, скользив¬
шие по карте.
В ту зиму на Новый год мне подарили копироваль¬
ный аппарат; я уже не помню, как называлось это при¬
митивное устройство, представлявшее собой металли¬
ческую платформу, покрытую чем-то студенистым: на
нее сперва клался исписанный лист, затем стопка лис¬
тков для копирования. Не этот ли подарок навел нас на
мысль о газете? Или наоборот — сперва мы решили де¬
лать газету, и потому мне подарили копировальный ап¬
парат? Как бы то ни было, газетка для семейного чте¬
ния начала выходить. Скорее всего, у меня не сохрани¬
лось ни одного из номеров: помню, мы в них помещали
прозу и стихи моих кузин, а что до моего участия, оно
состояло исключительно в переписывании отрывков
из классиков; по скромности, от объяснения причин
которой я уклонюсь, я был убежден, что родителям
приятнее будет прочитать «Белка — прелестный зве¬
рек...»43 Бюффона или фрагменты посланий Буало,
чем что-либо моего собственного сочинения, и что я
должен поступать именно так.
Мой дядя Анри Рондо был владельцем ситцевой
фабрики в Ульме, в четырех-пяти километрах от горо¬
да, и мы часто ездили туда. Сперва напротив фабрики
стоял скромный треугольный домик, такой непримет¬
ный, что я совершенно не помню его, дядя велел сло¬
мать строение, и на его месте или чуть поодаль, напро¬
тив того, что впоследствии стало садом, построили бро-
ское, роскошное здание, похожее одновременно на
виллу и на нормандский особняк.
Дядя Анри был добрейшим созданием: мягкий,
по-отечески ласковый, и даже немного слащавый; о
его бесхарактерности говорило и выражение лица;
я, кажется, уже говорил, что в возрасте восемнадца¬
77
ти лет он перешел в католичество; бабушка, открыв
однажды шкаф в комнате сына, упала навзничь без
чувств: перед ней был алтарь, со статуэткой Богоро¬
дицы.
Супруги Рондо выписывали «Трибуле», ультрапра¬
вую юмористическую газету, основанную с целью ни¬
спровержения Жюля Ферри44; эту газету заполняли не¬
пристойные рисунки, в которых неизменно фигуриро¬
вал изображенный в виде хобота нос «Тонкинца»45,
что очень забавляло моего кузена Робера. Раскрытые,
словно с вызовом, номера «Трибуле» и «Круа» 46 валя¬
лись в Ульме на столах в гостиной и бильярдной, что
приводило в замешательство гостей, не разделявших
взглядов, семьи Рондо; мои родственники Демаре и моя
мать делали вин, что ничего не замечают; Альбер воз¬
мущенно ворчал. Мать, невзирая на политические и
конфессиональные разногласия, была настроена очень
миролюбиво и не хотела ссориться со старшим братом,
а тем более со своей невесткой Люсиль. Аккуратная,
обладавшая большим здравым смыслом и очень отзыв¬
чивая, моя тетя была полной копией своего мужа, но
ее считали выше него, ибо мужчине требуется много
ума, чтобы, обладая равными нравственными качества¬
ми, сохранить превосходство над женой. Именно моя
тетя, а не Робер, стала руководить фабрикой после
смерти дяди Анри на следующий год после описывае¬
мых мною событий и дала отпор рабочим, когда они
однажды объявили стачку.
Фабрика в Ульме была в ту пору одним из крупней¬
ших, бойко торговавших предприятий Руана. На ней не
ткали, а только делали набивку. Но и набивка требова¬
ла немало операций и занимала много рабочих. В сто¬
роне от фабрики, на лугу, стоял высокий ангар для про¬
сушки тканей: они загадочно шелестели, когда их рас¬
качивал врывавшийся в просветы в стенах ветер;
шаткая винтовая лестница вела вверх через множест¬
во площадок, коридоров и мостиков, так что немудре¬
но было заблудиться в бесконечном лабиринте про¬
хладных, мягко трепетавших белых полотнищ. Около
речки маленький, всегда закрытый павильон, где неви¬
78
димо для всех изготавливались краски, источал стран¬
ный запах, который в конце концов казался приятным.
Я бы охотно проводил целые часы в цехе, глядя, как
полотно проходит через блестящие медные валы, даю¬
щие ему цвет и жизнь; но нам, детям, не разрешалось
находиться там одним. Зато мы без спроса заходили на
большой склад всякий раз, когда его дверь была откры¬
та. Это было обширное здание, где аккуратно лежали
рулоны готовой ткани, предназначенные для продажи.
На каждом этаже по рельсам в трех параллельных ко¬
ридорах между пустыми и заполненными полками бе¬
гали вагонетки. Сюзанна, Луиза и я залезали каждый в
свою вагонетку, совершая волнующие поездки. Эмма¬
нюэль не сопровождала нас на склад, так как вагоне¬
ток было только три, она не любила приключений и,
главное, сомневалась в том, что эта затея — дозволен¬
ная.
Возле фабрики располагалась ферма с образцовым
птичьим двором и огромным гумном, где кузен Робер
ради развлечения выращивал особую породу кроликов;
наваленные связки прутьев служили им норами; там я
часами сидел или лежал на соломе, наблюдая за прыж¬
ками этих маленьких, чудных зверушек.
Между стеной, за которой тянулась дорога, и ре¬
кой располагался сад. В центре его сверкал малень¬
кий бассейн прихотливой формы во вкусе Флобера.
Забавный, словно игрушечный, металлический мост
был перекинут через него. Дно водоема было заце¬
ментировано, и на нем, словно обрывки растений, во
множестве лежали в своих травяных чехольчиках ли¬
чинки большого ручейника47. Я выращивал ручейни¬
ков и в кювете, но уехал из Ульма, так и не увидев их
метаморфозы.
Думаю, что ни книги, ни музыка, ни картины никог¬
да не доставляли мне потом такой радости, как в дет¬
стве общение с живой природой. Сюзанна разделяла
мою страсть к энтомологии; во всяком случае, она со¬
провождала меня «на охоту» и стойко переворачивала
навоз и падаль в поисках жуков-могилыциков, жуков-
навозников и хвостоверток. Видимо, в конце концов в
79
моей семье всерьез отнеслись к моему пристрастию,
так как именно мне, ребенку, передали всю коллекцию
насекомых Феликса-Аршимеда Пуше48, двоюродного
брата моей бабушки, после его смерти. Старый уче¬
ный, упрямый теоретик, он в свое время вкусил славы,
отстаивая в полемике с Пастером рискованную теорию
гетерогенерации, или самопроизвольного зарождения.
Не каждому дано иметь родственника по имени Архи¬
мед. Как жаль, что я его не знал! Позднее я расскажу
о моем знакомстве с его сыном Жоржем, профессо¬
ром в Музее естествознания.
Конечно, я был польщен, что меня сочли достой¬
ным дара, включавшего двадцать четыре выложенных
пробкой ящика, полных жесткокрылых насекомых,
классифицированных, расположенных в строгом по¬
рядке и снабженных ярлычками, но не помню, чтобы
я очень уж обрадовался. Моя собственная небогатая
коллекция рядом с этим сокровищем казалась совсем
ничтожной, а ведь мне было дорого в ней каждое на¬
секомое, собственноручно приколотое мною, после то¬
го как я сам его поймал. Я вообще любил не коллек¬
цию, а охоту.
И мечтал о благословенных уголках Франции, где
водятся жуки-дровосеки и жуки-рогачи, самые круп¬
ные жесткокрылые в наших краях; в Jla Рок их не бы¬
ло, но возле старой кучи опилок около лесопилки в
окрестностях Валь-Рише я обнаружил колонию жу-
ков-носорогов — oryctes nasicomes. У этих красивых
насекомых, напоминающих покрытое лаком красное
дерево, почти таких же крупных, как рогачи, между
глаз торчит кривой рог, который и дал им название.
Я почти обезумел от счастья в первый раз, когда их
увидел.
Покопавшись в опилках, я нашел их личинки — ог¬
ромных белых червей, похожих на личинки майских
жуков. Я нашел и нечто похожее на четки: связки бе¬
ловатых, мягких яиц, размером с мирабель, склеенных
друг с другом и поначалу очень меня заинтересовав¬
ших. Эти яйца нельзя было разбить, так как у них не
было скорлупы, и мне удалось с трудом разорвать по¬
80
датливую, пергаментную оболочку, из-под которой вы¬
прыгнул наружу, к моему великому удивлению, ма¬
ленький уж.
Я принес в Ла Рок несколько личинок носорогов и
держал их в ящике с опилками, но все они погибли, не
достигнув стадии куколки, думаю, потому, что для это¬
го им надо зарываться в землю.
В моей охоте мне помогал Лионель Р***49> мой ро¬
весник. Он был сирота и жил со своей сестрой в Валь-
Рише у своего дяди, зятя Гизо, доводясь ему внуком.
Я каждое воскресенье ходил в Валь-Рише. Когда у нас
гостили кузины, наши няни водили нас туда гурьбой.
Дорога была очень приятной, но мы были наряжены
в воскресные костюмы, и визит превращался в катор¬
гу. Нас с Лионелем тогда еще не связывала дружба,
ставшая вскоре очень тесной, и я видел в нем лишь
непоседливого, вспыльчивого, властного мальчугана
с худыми, жилистыми ногами, волосами торчком,
вечно потного и красневшего, как рак, как только он
приходил в движение. Его любимым занятием было
схватить мою красивую новую панаму и бросить ее в
корзину с георгинами, стоявшую там, куда было за¬
прещено входить, или напустить на нас Мусса, огром¬
ного ньюфаундленда, сбивавшего нас с ног. Иногда к
нам присоединялись родственники постарше, и мы ве¬
село играли с ними в «английские перекладины», но
после полдника, когда мы по-настоящему расходи¬
лись, нас звали няни: пора было возвращаться домой.
Одно из таких возвращений домой мне особенно за¬
помнилось.
Внезапно поднялась страшная буря; небо покры¬
лось лиловыми тучами; мы с тревогой ждали, что вот-
вот грянет гром, блеснет молния, посыплется град на¬
чнется ураган и обрушатся прочие небесные кары. Мы
ускорили шаги. Но тучи нас словно преследовали —
именно нас. Тогда, по обыкновению перебирая в памя¬
ти наши проступки, мы попытались выяснить, кем же
недоволен грозный Зевс. Но никаких своих грехов в
недавнем прошлом мы не могли припомнить, и тогда
Сюзанна воскликнула:
81
— Это все из-за наших нянь!
И мы тут же понеслись стремглав, бросив этих гре¬
ховодниц на волю небесного огня.
В том же 1881 году, когда мне шел двенадцатый
год, мать, немного обеспокоенная моей беспорядоч¬
ной учебой и моей праздностью в Ла Рок, пригласила
ко мне учителя. Не знаю, кто мог ей порекомендовать
г-на Галлена. Это был еще совсем молодой франт, ка¬
жется студент теологического факультета, близорукий
и глуповатый, которому его собственные уроки доку¬
чали еще больше, чем мне, а я их терпел с трудом. Он
ходил со мной в лес, не скрьюая, что не любит приро¬
ду. Я был в восторге, если ветка орешника сбивала его
пенсне. Он манерно напевал, цедя слова, песенку из
«Корневильских колоколов» 50:
..Ах., незабудки,
Вас легко позабыть.
Его претенциозное самолюбование и слащавый го¬
лосок очень раздражали меня; в конце концов я не вы¬
держал и заявил, что не понимаю, какое удовольствие
он находит, распевая такую чушь.
— Вам кажется это глупым, потому что вы еще
слишком молоды,— ответил он с самодовольством.—
Позднее вы поймете. Здесь как раз есть особая утон¬
ченность.
И добавил, что это расхваленная ария из очень мод¬
ной оперы... Но это только усугубило мое презрение.
Удивительно, что при таких занятиях урывками я
все-таки что-то усвоил. На следующий год зимой мать
увезла меня на юг. Наверное, это решение было ре¬
зультатом долгих размышлений и терпеливых обсуж¬
дений; всякий поступок мамы всегда был тщательно
взвешен. Беспокоило ли ее мое слабое здоровье? Усту¬
пила ли она просьбам моей тети, жены Шарля Жида,
всегда упрямо добивавшейся того, что ей представля¬
лось желательным? Не знаю. То, что движет поступка¬
ми родителей, всегда остается неразгаданным.
82
Шарль Жид и его жена занимали тогда в Монпелье,
в тупичке улицы Саль-л’Эвек, третий и последний этаж
частного особняка семьи Кастельно. Само семейство
располагалось на втором и первом этажах: первый был
гораздо обширнее, чем все остальные, и вровень с са¬
дом, куда нас любезно пускали. Сад, насколько я по¬
мню, состоял лишь из беспорядочно посаженных ка¬
менных дубов и лавровых кустов, но расположен был
великолепно: с угловой террасы открывался вид на
окончание Эспланады, на городские предместья и да¬
лекую вершину Сен-JIy, которой дядя мог любоваться
из окон своего рабочего кабинета.
Почему мы с мамой не жили у Шарля Жида? Не
желая их беспокоить? Или у них просто не было мес¬
та? Ведь с нами была и Мари или, может быть, мать,
носившая траур, искала одиночества? Поначалу мы ос¬
тановились в отеле Неве и начали искать в соседнем
квартале меблированную квартиру на зиму.
Квартира, на которую пал выбор матери, находи¬
лась на улице, спускавшейся от центральной площади
в сторону Эспланады, но как бы параллельной и за¬
строенной только с одной стороны. По мере спуска,
удаляясь от площади, улица становилась все темнее и
грязнее. Наш дом стоял примерно в середине.
Квартира была маленькой, неприглядной, жалкой,
меблировка — нищенской. Окна комнаты матери и
той, что служила одновременно гостиной и столовой,
выходили на Эспланаду, то есть взгляд упирался в сте¬
ну, служащую ей опорой. Из наших с Мари комнат бы¬
ло видно нечто вроде сада без травы, деревьев и цве¬
тов, что следовало бы назвать двором, если бы не два
голых куста, на которых каждую неделю расцветало
белье хозяйки. Низкая стена отделяла этот сад от со¬
седнего дворика, куда выходили другие окна: там раз¬
давались крики, песни, пахло постным маслом, сохли
пеленки, там выбивали ковры, выливали ночные горш¬
ки, пищали дети и в клетках заливались птицы. По дво¬
рам бродили толпы голодных кошек, в которых по вос¬
кресеньям, изнывая от праздности, сын хозяйки и его
друзья, длинные восемнадцатилетние шалопаи, броса¬
83
ли осколки посуды. Каждые два-три дня мы ужинали у
Шарля Жида; повар у них был великолепный, и блюда
составляли резкий контраст с тем пойлом, что в ос¬
тальное время приносил нам трактирщик. Мерзость на¬
шего жилища наводила меня на мысль, что смерть от¬
ца повлекла за собой и разорение; но я не решался
спросить об этом маму. Какой бы мрачной ни была
квартира, она казалась настоящим раем по сравнению
с лицеем, в который я ходил.
Думаю, что этот лицей ненамного изменился со
времен Рабле.51 Одежду повесить было некуда, и при¬
ходилось класть ее на сиденье под себя, так что свер¬
ху на нее ставили ноги другие ученики, ибо мы сидели
амфитеатром и писали на коленях.
Класс и весь лицей были разделены на две группи¬
ровки — католиков и протестантов. Поступив в Эльзас¬
скую школу, я узнал, что я протестант; на первой же
перемене меня окружили и стали спрашивать:
—А ты католик или протестантишка?
Совершенно сбитый с толку этими впервые в жиз¬
ни услышанными странными словами — ибо мои роди¬
тели умолчали о том, что французы исповедуют не од¬
ну и ту же веру, а согласие, царившее в Руане между
моими родственниками, скрыло от меня их конфесси¬
ональные различия,— я ответил, что не понимаю таких
слов. Нашелся один услужливый ученик, взявший на
себя труд дать мне объяснение:
— Католики — те, кто верят в Пресвятую Деву.
Тогда я воскликнул, что определенно являюсь про¬
тестантом. Среди нас чудом не оказалось евреев, но
один до сих пор молчавший заморыш вдруг громко за¬
явил:
— А мой отец — атеист.— Это было сказано тоном
превосходства, повергнувшим всех в замешательство.
Я запомнил это слово с намерением расспросить о
нем маму.
— Что значит: атеист?
— Это значит: негодник и глупец.
Неудовлетворенный таким ответом, я не отставал;
наконец мама, утомясь, положила конец моей настой¬
84
чивости, безликой фразой как обычно это делала:
«Сейчас тебе это не Нужно», или: «Поймешь позже».
(У нее был большой выбор подобных ответов, которые
меня бесили.)
Не странно ли, что мальчишки десяти—двенадцати
лет уже были озабочены такими вещами? В том-то и
дело, что нет: такова врожденная потребность францу¬
за встать на какую-нибудь одну сторону, занять место
в рядах той или иной партии, потребность, свойствен¬
ная любому возрасту и всем слоям французского обще¬
ства сверху донизу.
Чуть позже, прогуливаясь по парку с Лионелем де
Р. и моим кузеном Октавом Жоэн-Ламбером в коля¬
ске, предоставленной их родителями, я вызвал боль¬
шое неудовольствие моих спутников: они спросили
меня, кто я — роялист или республиканец, и я отве¬
тил:
— Республиканец, черт возьми! — не понимая, что
можно, живя в стране, которая является республикой
не быть республиканцем.
Лионель и Октав тут же набросились на меня с
кулаками. Вернувшись домой, я наивно спросил у ма¬
тери:
— Значит, я не так должен был ответить?
—Дитя мое,— сказала она после недолгого раз¬
мышления,— когда тебя об этом спросят, отвечай, что
ты сторонник конституционной представительной вла¬
сти. Запомнишь?
Она заставила меня повторить эти удивительные
слова.
— Но... что это такое?
— Вот именно, дорогой: другие поймут не больше,
чем ты, и оставят тебя в покое.
В Монпелье вопрос о конфессии не стоял так ост¬
ро. Аристократы-католики обучали своих детей у мона¬
хов и в лицее, помимо протестантов — а они почти все
были в родстве друг с другом — оставались только пле¬
беи, часто малоприятные и испытывавшие по отноше¬
нию к нам, протестантам, ярко выраженную непри¬
язнь.
85
Говорю «мы», потому что почти тотчас же объеди¬
нился с моими братьями по вере, детьми тех, с кем бы¬
ли знакомы мои дядя и тетя и в чьи дома был вхож и
я. Среди них были дети из семейств Вестфалей, Лен-
гардтов, Кастельно, Базилей, связанные родственными
узами и весьма приветливые. Не все учились со мной
в одном классе, но мы встречались после уроков. Сре¬
ди тех, с кем я чаще всего общался, были два сына док¬
тора Ленгардта. По натуре открытые, простодушные,
немного насмешливые, они отличались исключитель¬
ной порядочностью; но я невольно тяготился их обще¬
ством. Всегда положительные разговоры, раскованные
манеры только усугубляли мою робость, ставшую к то¬
му времени еще сильнее. Я мрачнел, и если бы мог, то
не общался бы с этими моими приятелями. Их игры
были шумными, а я любил тихие, и был настроен мир¬
но, а они — очень воинственно. Не довольствуясь по¬
тасовками после школы, они болтали только о пушках,
порохе и «гремучем горохе». С этой смесью мы, к сча¬
стью, не были знакомы в Париже: немного соли грему¬
чей кислоты и немного мелких камушков или песка за¬
ворачивали в промасленную бумагу, а потом бросали
на тротуар под ноги прохожим: промасленный фунтик
взрывался с оглушительным треском. Первые же горо¬
шины, подаренные мне братьями Ленгардтами, я пото¬
ропился бросить в умывальник с водой, как только вер¬
нулся в нашу скверную квартирку. Все свои карман¬
ные деньги они тратили на покупку пороха, набивая им
до самого жерла медные и стальные пушечки, полу¬
ченные в подарок от родителей и повергавшие меня в
совершенный ужас. Их выстрелы действовали мне на
нервы, были мне ненавистны, и я не понимал, что за
адское удовольствие могут они доставлять. Братья па¬
лили по оловянным солдатикам. У меня тоже были сол¬
датики, и я тоже играл с ними, но я их плавил. Они от¬
правлялись прямиком на раскаленный поднос, где
вдруг съезжали со своего основания, клевали носом и
вскоре их маленькая, пламенная, сверкающая душа ос¬
вобождалась от потускневшего мундира... Но вернем¬
ся к лицею в Монпелье.
86
Эльзасская школа обладала некоторыми достоинст¬
вами по сравнению с лицеем, но эти достоинства, хотя
и основанные на здравом смысле, принесли мне толь¬
ко вред. Так, в школе меня научили более или менее
правильно читать стихи, чему способствовал и мой
врожденный вкус, а в лицее (во всяком случае в Мон¬
пелье) обычно читали и стихи, и прозу без всякого вы¬
ражения и как можно быстрее, так что текст лишался
не только красоты, о чем я даже не говорю, но и смыс¬
ла, и становилось непонятно, зачем вообще вы взяли на
себя труд его выучить. Не было ничего абсурднее и
смешнее: знакомый текст невозможно было узнать;
становилось даже непонятно, французский ли это
язык? Когда меня вызвали прочитать стихотворение
(жаль, не помню какое), я тут же почувствовал, что
при всем желании не смогу подчиниться их правилам,
что они мне глубоко отвратительны. Я начал читать,
как было принято у нас в школе.
Первая же строка повергла всех в оторопь, ту са¬
мую, что обычно предвещает скандал, затем все захо¬
хотали. По всему амфитеатру сверху донизу все уче¬
ники корчились от смеха; все до одного хохотали так,
как им нечасто приходилось смеяться в классе; в их
смехе не было даже издевки, их простодушная весе¬
лость была столь неодолимой, что ей поддался сам г-н
Надо, во всяком случае, он улыбнулся, и всеобщий
смех, одобренный улыбкой учителя, грянул совер¬
шенно безудержно. Его улыбка вынесла мне оконча¬
тельный приговор. Не знаю, где я набрался мужества
дочитать до конца отрывок, который, слава богу, хо¬
рошо знал. И тогда, и к моему, и ко всеобщему изум¬
лению, мы услышали очень спокойный, даже велича¬
вый голос г-на Надо, который возгласил, когда смех
наконец утих:
—Андре Жид, десять (это была самая высокая
оценка). Вам смешно, господа, но позвольте заметить:
именно так вы и должны читать наизусть.
Его похвала стала моей погибелью. Она противопо¬
ставила меня моим товарищам, и в результате все они
от меня отвернулись. Соученики не прощают друг дру¬
87
гу неожиданных милостей свыше, и, если бы г-н Надо
захотел меня добить, он должен был поступить имен¬
но так. Разве не довольно было того, что меня сочли
позером, а мое чтение — смехотворным? Моя репута¬
ция окончательно рухнула, после того как все узнали,
что я беру у г-на Надо частные уроки. И вот почему я
их брал.
Одна из реформ, проведенных в Эльзасской шко¬
ле, касалась преподавания латыни, которое начина¬
лось только в шестом классе. Предполагалось, что за
время, остающееся до экзаменов на звание бакалавра,
ученики школы нагонят лицеистов, уже с девятого
класса лопотавших: rosa, rosae. Мы начали позже, и
поэтому никак не могли достичь цели раньше; доказа¬
тельством тому были наши успехи. Я учился урывка¬
ми и еще больше отставал. Несмотря на нудные заня¬
тия с г-ном Надо, я быстро потерял надежду догнать
тех, кто уже переводил Вергилия. И впал в полное от¬
чаяние.
Дурацкий успех моего чтения наизусть и установив¬
шаяся затем репутация воображалы вызвали резкую
враждебность моих товарищей; те, кто поначалу со
мной общались, отвернулись от меня, другие осмелели,
как только увидели, как я беззащитен. Надо мной на¬
смехались, меня избивали и преследовали. Пытка на¬
чиналась, как только я выходил из лицея, правда не
сразу, потому что те, кто раньше со мной дружили, все
же не позволяли истязать меня у них на глазах. Но за
первым же поворотом... С каким ужасом ждал я окон¬
чания занятий! Выходя из лицея, я старался прокрасть¬
ся незамеченным, после чего бежал со всех ног. К сча¬
стью, мы жили неподалеку, но враги подстерегали ме¬
ня на пути: из страха перед засадами я делал огромные
крюки. Но как только мои враги это поняли, засады
прекратились и началась настоящая травля. Все это
могло бы показаться забавным, но я чувствовал, что
моими преследователями движет не столько страсть к
игре, сколько ненависть к той жалкой дичи, какой был
я. В особенности мне запомнился сын ярмарочного ан¬
трепренера, директора цирка, некто то ли Лопес, то ли
88
Тропес, то ли Гомес, развязный тип атлетического те¬
лосложения, гораздо старше всех нас, гордившийся
тем, что он последний в классе; я помню его недобрый
взгляд, низко падавшие на лоб, слипшиеся, напомажен¬
ные волосы и кроваво-красный галстук, завязанный
бантом; он был предводителем банды, жаждавшей
моей погибели. Иногда я возвращался домой в самом
плачевном виде, в разорванной, испачканной грязью
одежде; из носа у меня текла кровь, зубы стучали,
взгляд блуждал. Бедная мама приходила в отчаяние.
Наконец я серьезно заболел, и это положило конец мо¬
им адским мукам. Вызвали врача. У меня оказалась
ветрянка. Я был спасен! Но меня хорошо лечили, и
течение болезни шло нормально, то есть вскоре я дол¬
жен был встать на ноги. По мере того как приближа¬
лось выздоровление и тот миг, когда я должен был вер¬
нуться в проклятый лицей, я чувствовал, как безотчет¬
ный страх охватывает меня при воспоминании о моих
страданиях. Во сне я видел свирепого Гомеса; я зады¬
хался, преследуемый его сворой, я вновь ощущал мер¬
зкое прикосновение к моей щеке дохлой кошки, подо¬
бранной им однажды в канаве: он тер меня ею по ли¬
цу, в то время как остальные держали меня за руки; я
просыпался в поту и снова с ужасом думал о том, что
доктор Ленгардт сказал матери: через несколько дней
я смогу вернуться в лицей; я чувствовал, как у меня
сжимается сердце. Впрочем, я говорю об этом не за¬
тем, чтобы оправдать мое дальнейшее поведение. Пре¬
доставляю невропатологам определить, какую роль
сыграло притворство в том нервном расстройстве, что
последовало за ветрянкой.
Вот как это началось. В первый день, когда мне по¬
зволили встать, я зашатался от легкого головокруже¬
ния, что вполне естественно после трехнедельного по¬
стельного режима. А если бы это головокружение бы¬
ло посильнее, подумал я, что бы тогда произошло? Ну
конечно: голова запрокинулась бы назад, колени подо¬
гнулись (я стоял в маленьком коридорчике между
моей комнатой и комнатой матери), и я бы внезапно
рухнул навзничь. Так и надо изобразить эту картину! Я
89
уже предвкушал приятную расслабленность, отдохно¬
вение, которых требовали мои напряженные нервы.
Взгляд назад, чтобы удостовериться в том, что я не
слишком больно ударюсь...
В соседней комнате раздался крик. Выбежала Ма¬
ри. Я знал, что матери нет дома; остатки стыда или жа¬
лости еще сдерживали меня в ее присутствии; но я рас¬
считывал, что ей все передадут. После этого опыта, по¬
началу удивленный, что он удался, я сразу осмелел,
стал более изобретательным и действовал с большим
вдохновением: то резко дергался, то, наоборот, двигал¬
ся медленно, плавно, словно в ритме танца. Я приобрел
большой опыт и вскоре обладал весьма разнообразным
репертуаром: порой просто подпрыгивал на месте, по¬
рой мне требовалось пространство между окном и кро¬
ватью, куда я битый час запрыгивал тремя точными
прыжками. Наконец, лежа в постели и сбросив одеяло,
я брыкался, закидывая ноги вверх наподобие японских
циркачей.
Впоследствии я не раз мысленно приходил в него¬
дование, поражаясь, как мне хватало духа разыгры¬
вать эту комедию на глазах у матери. Но должен при¬
знаться, что теперь я уже не возмущаюсь. Если мои
телодвижения и были осознанными, то все же почти
невольными. То есть самое большее я мог бы их не¬
много умерить. Но они доставляли мне огромное об¬
легчение. Ах! сколько раз потом, страдая, от нервно¬
го расстройства, я жалел, что уже вышел из того воз¬
раста, когда пара антраша...
Вызванный после первых же проявлений этой
странной болезни доктор Ленгардт успокоил мать: нер¬
вы, всего лишь нервы; но я продолжал выкидывать ко¬
ленца, и он решил призвать на помощь своих собрать¬
ев. Осмотр проходил, не знаю почему, в отеле Неве *.
* Видимо, этот осмотр следует отнести ко времени меж¬
ду двумя моими приездами в Ламалу, что объясняет наше
присутствие в отеле.
90
Его проводили доктора Ленгардт, Телон и Буассье; по¬
следний был врачом из курортного местечка Ламалу-
ле-Бен, куда меня намеревались отправить. Мать при
осмотрах хранила молчание.
Я был немного напуган оборотом, который прини¬
мала моя авантюра; эти старые господа — из них двое
с белыми бородами — вертели меня во все стороны,
слушали сердце, затем тихо переговаривались между
собой. А что, если меня выведут на чистую воду? Мо¬
жет быть, г-н Телон — у него такой суровый вид сей¬
час скажет: «Всыпьте ему хорошенько! Вот что не по¬
мешало бы, мадам, этому ребенку...»
Но обследование продолжалось, и они словно все
больше проникались уверенностью в подлинности мо¬
его недуга. В конце концов разве я могу знать о себе
больше, чем эти господа? Думая, что я их обманываю,
я, возможно, обманываю самого себя.
Осмотр окончен.
Я одеваюсь. Телон по-отечески заботливо наклоня¬
ется, хочет мне помочь; Буассье его останавливает; я
замечаю его осторожное движение, его подмигива¬
ние и понимаю, что за мной наблюдает проницатель¬
ный, испытующий взгляд, наблюдает уже после того,
как осмотр окончен, следит за движением моих паль¬
цев, застегивающих курточку. «С этим старикашкой,
если он поедет со мной в Ламалу, надо держать ухо
востро»,— думаю я, и, не подавая вида, дарю ему не¬
сколько дополнительных гримас, изображая дрожа¬
ние пальцев.
Не принимал мою болезнь всерьез только дядя; я
еще не знал тогда, что он не относится всерьез ни к
чьим болезням, и чувствовал чсебя оскорбленным. Я
был крайне уязвлен и решил вызвать его сочувствие,
сыграв по-крупному. Ах, какое позорное воспомина¬
ние! Как бы я хотел умолчать о нем, если бы только не
решил говорить всю правду! Вот я стою в прихожей
квартиры на улице Саль-л’Эвек; дядя, только что вы¬
шел из кабинета, и я знаю, что он скоро вернется; я ло¬
жусь под консолью и, когда он возвращается, жду не¬
сколько мгновений, не заметит ли он меня сам, ведь
91
прихожая большая, а дядя идет медленно; но в руках
он держит газету, он погружен в чтение; еще немного,
и он скроется за дверью... Я делаю движение, испускаю
стон; тогда он останавливается, снимает пенсне и спра¬
шивает поверх газеты:
— Эй! Что ты тут делаешь?
Я корчусь, делаю гримасы, сгибаюсь пополам и,
словно не в силах сдержать рыдания, всхлипываю:
— Мне больно.
И тут же понимаю, что потерпел фиаско: дядя
вновь надевает пенсне, сует нос в газету и возвращает¬
ся в кабинет, преспокойно захлопнув дверь. О стыд!
Что мне оставалось делать? Только подняться, отрях¬
нуться от пыли и возненавидеть дядю — тут уж я по¬
старался от всей души.
Ревматики останавливались в Нижнем Ламалу —
городишке с водолечебницей, казино и магазинами. В
Верхнем, или Старом Ламалу, расположенном в четы¬
рех километрах от Нижнего, лечились страдавшие рас¬
стройством координации движений, и оно представля¬
ло собой крайне унылую картину: водолечебница, гос¬
тиница, часовня и три виллы, на одной из которых жил
доктор Буассье, вот и весь поселок. Вдобавок водоле¬
чебницы не было видно, ее прятал в своих глубинах ов¬
раг, который неожиданно пересекал гостиничный сад
и незаметно, прячась в тени, спускался к реке. В том
возрасте, в каком я тогда был, именно такая местность
и привлекает; нечто вроде близорукости оставляет рав¬
нодушным к дальним планам; целому предпочитаешь
часть; открытой местности ту, что прячется и является
взору лишь по мере продвижения.
Мы только что приехали. Пока мама и Мари рас¬
паковывали вещи, я пошел прогуляться. Обежал сад,
спустился в узкий овраг, над сланцевыми стенками
которого склонились зеленым сводом деревья; горя¬
чий источник, прежде чем добраться до водолечебни¬
цы, журчал вдоль тропинки; дно его покрывали гус¬
тые хлопья ржавчины; я был вне себя от изумления,
92
и мой восторг еще больше возрос, когда я вспомнил,
что так же, как я сейчас, с поднятыми на восточный
манер руками продвигался по Долине драгоценных
камней Синдбад52, каким он изображен на картинке
в моих любимых сказках «Тысячи и одной ночи». Ов¬
раг заканчивался у речки, делавшей в этом месте по¬
ворот, ее быстрый поток, наталкиваясь на сланцевую
стену, прорыл в ней большое углубление, сверху же
берег украшали сбежавшие из гостиничного сада ка¬
менные дубы, ладанник, земляничник и бегущий от
куста к кусту, а затем ниспадающий плащом в бездну
над водой, любимый вакханками плющ. Прозрачная
река поглощала без следа горячие железистые источ¬
ники; стайки, пескарей резвились среди осыпавших¬
ся, черных обломков скал, которые чуть поодаль,
вниз по течению, постепенно понижались, и глубокие
воды текли медленнее, однако в верховьях узкая ре¬
чка бежала быстро, образуя водовороты, водопады,
стремнины, ледяные запруды, располагавшие к меч¬
тательности; там, где выступающий утес преграждал
дорогу, можно было по большим плитам перейти на
другой берег; потом берега вдруг сходились, и тогда
надо было, покинув тропу и выйдя из тени, лезть по¬
верху. Там на небольших площадках жухли от жары
немногочисленные растения; зато дальше на ближай¬
ших же склонах начинались огромные леса вековых
каштанов.
Бассейн в Верхнем Ламалу, по преданию, был по¬
строен еще римлянами; во всяком случае, он был ста¬
ринным и потому мне нравился; малость его не имела
значения, так как в нем следовало лежать неподвиж¬
но, пока углекислота оказывала свое воздействие.
Мутная ржавая вода была прохладной и, когда вы в
нее погружались, то сначала чувствовали озноб; но по¬
том, если не двигались, мириады пузырьков начинали
щекотать вас, покалывать, покрывая все тело, добав¬
ляя к прохладе воды таинственное жжение, расслаб¬
лявшее нервы; железо со своей стороны или заодно с
ними тоже делало свое дело при посредстве каких-то
быстро проникающих элементов, и все это вместе об¬
93
ладало удивительным целебным воздействием. Вы
выходили из ванны с покрасневшей кожей и чувст¬
вом холода в костях. Старый Антуан подбрасывал ви¬
ноградные лозы в пылающий огонь, развесив над ним
мою ночную рубашку, надувавшуюся как шар: после
ванны надо было сразу лечь в кровать. По бесконеч¬
ному коридору вы возвращались в свою комнату в го¬
стинице, где вас ждала постель, нагретая во время ва¬
шего отсутствия «монахом» — так называли нагрева¬
тельный прибор, который при помощи хитроумной
системы дужек, подвешивали между простыней и
одеялом.
После первого курса лечения консилиум врачей
признал, что пребывание в Ламалу пошло мне на поль¬
зу (да, очевидно, в отеле Неве и проходил тот осмотр)
и предписал мне еще один курс осенью, что было для
меня верхом счастья. В промежутке меня отправили
принимать лечебный душ в Жерадмер.
Я не стану здесь снова описывать Жерадмер — я
уже описывал его в другом месте — его леса, долины,
поля и праздный образ жизни, который я там вел. В мо¬
ем описании не будет ничего нового, а я спешу вы¬
браться из потемок моего детства.
Когда после десяти месяцев безделья мать привез¬
ла меня в Париж и снова отправила в Эльзасскую шко¬
лу, я совершенно утратил привычку учиться. Не про¬
шло и двух недель, как к моему нервному недомога¬
нию прибавились головные боли, дш окружающих
куда менее явные, но начинавшиеся, как правило, в
классе. Они прошли у меня после двадцати лет и даже
немного раньше. Впоследствии я их очень строго осу¬
дил, сочтя если и не мнимыми, то во всяком случае
сильно преувеличенными. Но сейчас, когда мне сорок
шесть лет*, эти боли появились снова и совершенно та¬
кими же, какими были в тринадцать, так что теперь я
допускаю, что они могли мешать мне учиться. От при¬
роды я не был ленив и от всей души соглашался с ут¬
верждением моего дяди Эмиля:
* Я пишу в 1916 году.
94
—Андре всегда будет любить работать.
Но он же называл меня несобранным. Дело в том,
что принудить себя к занятиям стоило мне больших
трудов. Уже в том возрасте упорство означало для ме¬
ня работу небольшими дозами, с перерывами. Мои
усилия не могли быть длительными, иначе я чувство¬
вал внезапную усталость и тяжесть в голове, прилив
жизненных сил ослабевал. Эти явления продолжа¬
лись и после того, как меня перестали мучить мигре¬
ни, вернее, они их заменили и продолжались целыми
днями, неделями, месяцами. Впрочем, независимо от
всего этого, я чувствовал безотчетное отвращение ко
всему, что мы делали в классе, к самому классу, к
расписанию занятий, к экзаменам, конкурсам, даже к
переменам, к неподвижному сидению на скамье, к за¬
тянутым и скучным объяснениям, к общему застою.
Без сомнения мои головные боли начались как нель¬
зя кстати, и я не могу сказать, в какой степени я их
разыгрывал.
Бруардель, бывший прежде нашим домашним вра¬
чом, стал такой знаменитостью, что мать не решалась
к нему обратиться, испытывая какое-то чувство нелов¬
кости, которое, видимо, от нее унаследовал и я: оно так
же парализует меня в присутствии людей, сделавших
карьеру. Перед г-ном Лизаром, сменившим Бруарделя
в качестве нашего домашнего врача, можно было не
робеть, до того было очевидно, что уж ему-то слава не
грозит: для подобных предположений он не подавал ни
малейшего повода: это был добродушный, глуповатый
блондин с ласковым голосом, нежным взглядом и мяг¬
кими движениями, с виду совершенно безобидный; но
нет ничего опаснее глупца. Как я могу простить ему
его рецепты и предписанное им лечение? Как только я
чувствовал или просто разыгрывал нервное расстрой¬
ство — бром; как только я переставал спать—хлораль.
И это в то время, когда мой мозг едва сформировался!
Это он ответствен за все мои последующие провалы
памяти и приступы безволия. Если бы можно было су¬
диться с мертвыми, я возбудил бы против него про¬
цесс. Я прихожу в бешенство, когда вспоминаю, как на
95
протяжении недель каждую ночь стакан, наполовину
наполненный раствором хлораля (в моем распоряже¬
нии был весь пузырек, полный кристаллов хлоралгид¬
рата, и я дозировал их по собственному усмотрению)
стоял у изголовья моей кровати на случай бессонницы;
как на протяжении недель и месяцев, садясь за стол, я
видел возле своей тарелки бутылку «сиропа Лароза из
апельсиновых корок с бромистым калием», который я
пил маленькими глотками: его следовало принимать
перед едой по одной, потом по две, потом по три лож¬
ки, причем не чайных, а столовых, а затем повторять
лечение: оно длилось и длилось, и его не было никакой
причины прекращать до полного отупения доверчиво¬
го пациента, каким я был. Тем более, что сироп был
очень вкусным. До сих пор не понимаю, как я еще смог
оправиться после всего этого.
Решительно, я был готовой добычей дьявола; внут¬
ри у меня был сплошной мрак, и ничто не предвещало
никакого просвета. Тогда-то и появился ангел, о кото¬
ром я хочу рассказать, призванный оспорить меня у
злого духа. Само по себе внешне событие было незна¬
чительным; но в моей жизни оно имело такое же зна¬
чение, как революция для империи; это было начало
драмы, продолжающейся до сих пор.
V
Это случилось перед Новым годом. Мы снова были
в Руане: наступили каникулы, и к тому же после меся¬
ца попыток приняться за учебу я вновь покинул Эльзас¬
скую школу. Мать смирилась с тем, что я нездоров и
могу получать знания лишь урывками. Стало быть сно¬
ва и на долгое время мое образование было прервано.
Я мало ел, плохо спал. Тетя Люсиль хлопотала во¬
круг меня, утром Абель или Виктор приходили разво¬
дить огонь в моей комнате; лежа в большой кровати,
где я еще подолгу валялся после пробуждения, я слу¬
шал, как шипели поленья, стреляя в каминную решет¬
ку безобидными искрами, и чувствовал, как мое оце-
96
пенение сливается с покоем, царящим во всем доме.
Помню себя сидящим между матерью и тетей в боль¬
шой столовой, одновременно уютной и торжественной,
украшенной стоявшими по четырем углам в нишах бе¬
лыми статуями четырех времен года, благопристойны¬
ми и томными, в духе Реставрации: их пьедесталы слу¬
жили буфетами (а пьедестал Зимы был превращен в
приспособление для согревания тарелок).
Серафина готовила для меня специальные изыскан¬
ные кушанья, но у меня все равно не было аппетита.
— Вот видите, дорогая, это мука мученическая —
заставить его есть,— говорила мать.
На что тетя отвечала:
—А как, по-вашему, Жюльетта, он отнесется к уст¬
рицам?
— Вы так добры,— благодарила ее мать.— Что ж,
можно попробовать.
Должен заметить, что вовсе не был разборчив. Я
просто ничего не хотел есть; я шел к столу, как идут
на казнь, и ценой больших усилий проглатывал не¬
сколько ложек; мать умоляла меня, корила, переходи¬
ла к угрозам, и почти каждый раз застолье кончалось
слезами. Но не об этом я хотел рассказать...
В Руане я снова встретился со своими кузинами. Я
уже говорил, что, когда был маленьким, мне были
ближе Сюзанна и Луиза, но это не совсем верно: я, ко¬
нечно, чаще играл с ними, но лишь потому, что они
охотно играли со мной; вообще же я отдавал предпоч¬
тение Эмманюэль, и чем старше она становилась, тем .
больше мне нравилась. Я тоже становился старше, но
мы взрослели по-разному; тщетно старался я возле нее
напустить на себя серьезность, я чувствовал, что все
еще остаюсь ребенком, а она уже перестала им быть.
Какая-то грусть появилась в ее нежном взоре, и эта
грусть привлекала меня тем больше, чем меньше я по¬
нимал ее причину. Да я и не мог знать, грустно ли ей
на самом деле, она никогда не говорила о себе, и дру¬
гой не заметил бы ее печали. Мы уже осознали об¬
щность наших вкусов и мыслей, и я от всего сердца
желал, чтобы наша духовная близость стала еще со-
97
вершеннее. Кажется, Эмманюэль это забавляло; так,
например, когда мы вместе ужинали на улице Крон,
она во время десерта развлекалась тем, что лишала
меня любимых блюд, отказываясь от них сама, ибо
прекрасно знала, что я не притронусь ни к одному, ес¬
ли этого не сделает она. Ребячество? Но ведь то, что
затем последовало, было так серьезно!
Тайную грусть моей подруги, заставившую ее рано
повзрослеть, я открыл не постепенно, как обычно от¬
крывают скрытое в глубине души. Нет, это было нео¬
жиданное и совершенное явление невидимого мира, на
который вдруг открылись мои глаза, словно очи слепо¬
рожденного, когда к ним прикоснулся Спаситель.53
Однажды с наступлением вечера я расстался с ку¬
зинами и пошел на улицу Крон; я думал, что мама ме¬
ня ждет, но дома никого не было. Я поколебался не¬
которое время и решил вернуться на улицу Лека; ме¬
ня забавляла мысль, что меня там сегодня уже никто
не ждет. Я прежде говорил о моей ребяческой по¬
требности представлять пространство и время, в ко¬
торых меня нет, полными тайны. Меня всегда зани¬
мало, что происходит у меня за спиной, и порой ка¬
залось даже, что если я быстро обернусь, то увижу
что-то загадочное. Итак я в неурочный час отправил¬
ся на улицу Лека, желая застать ее обитателей врас¬
плох. И в тот вечер моя страсть к потаенному была
удовлетворена.
Уже на пороге я почувствовал что-то необычай¬
ное. Против обыкновения ворота не были заперты,
так что мне не пришлось звонить. Я незаметно про¬
скользнул внутрь, но вдруг старая карга Алиса, слу¬
жанка тетушки, возникла из-за двери прихожей, где
она похоже, затаилась, и закричала весьма нелюбез¬
ным голосом:
— Это еще что? Вы? Зачем вас опять принесло?
Ждали явно не меня.
Но я прошел далее, ничего не ответив.
На первом этаже находился кабинет дяди Эмиля —
маленькое, мрачное помещение, пропахшее сигарами,
где он просиживал по полдня, погруженный, как мне
98
казалось, не столько в дела, сколько в какие-то другие
заботы: он выходил оттуда постаревшим. Конечно, в
последнее время он сильно сдал; не знаю, заметил ли
бы я это сам, но, услышав, как мать сказала тете Лю¬
силь: «Бедный Эмиль так изменился!», сразу обратил
внимание на страдальческую морщину у него на лбу,
на его беспокойный и порой утомленный взгляд. В тот
день моего дяди не было в Руане.
Я бесшумно поднялся по темной лестнице. Комна¬
ты детей располагались на самом верху, под ними —
комнаты тети и дяди, на втором этаже — столовая и го¬
стиная. Я прошел мимо них и уже готов был махнуть
через третий этаж, как увидел, что дверь в тетину ком¬
нату распахнута; в ней горел яркий спет, освещая и ле¬
стничную площадку. Я на мгновение заглянул в комна¬
ту и увидел тетушку лежащей без движения на софе;
склонившиеся возле нее Сюзанна и Луиза обмахивали
ее веером и, ввдимо, подносили ей нюхательную соль.
Я не увидел среди них Эмманюэль, вернее, какое-то
внутреннее чутье подсказало мне, что ее там и не мо¬
жет быть. Из опасения, что меня заметят и задержат, я
быстро прошел мимо.
Комната ее сестер, через которую я должен был
сначала пройти, была темной, лишь через два еще не
зашторенных окна, струился мглистый вечерний свет.
Я подошел к двери комнаты моей подруги, тихонько
постучал и, не получив ответа, хотел постучать снова,
но дверь, поддавшись, сама отворилась, так как не бы¬
ла заперта. В этой комнате было еще темнее; в глуби¬
не стояла кровать, возле которой я сперва не заметил
стоявшую на коленях Эмманюэль. Я уже хотел уйти,
решив, что в комнате никого нет, но услышал ее го¬
лос:
— Почему ты пришел? Ты не должен был возвра¬
щаться...
Она не поднялась с колен. Я не сразу понял, что она
опечалена. Только почувствовав ее слезы на моей ще¬
ке, я прозрел.
Я не хочу вдаваться здесь в причины ее грусти и
входить в подробности отвратительной истории54, за¬
99
ставившей ее страдать, да в то время я еще ничего не
знал. Теперь я думаю, что для девочки, воплощавшей
чистоту, любовь и нежность, не могло быть ничего му¬
чительнее того, что она оказалась вынуждена судить и
осудить свою мать; еще больше увеличивала ее страда¬
ния необходимость хранить в душе эту тайну, скрывая
ее от отца, которого она глубоко почитала, тайну, не
знаю каким образом открывшуюся ей и ее истерзав¬
шую, тайну, о которой судачили в городе, которая вы¬
зывала смешки нянек и словно бы бросала вызов не¬
винности и беспечности ее сестер. Все это я понял го¬
раздо позднее, а тогда только почувствовал, что в этом
хрупком, и уже столь дорогом для меня существе жи¬
вет огромная, невыносимая тоска, такая печаль, что ис¬
целить ее не хватило бы всей моей любви и всей моей
жизни. Что еще сказать?.. До той поры я блуждал без
цели, теперь в моей жизни неожиданно появился ори¬
ентир.
Внешне ничего не изменилось. Я продолжу рассказ
о занимавших меня мелких событиях. Изменилось
только одно: они больше не поглощали меня целиком.
Я скрывал в глубине души тайну моего предназначе¬
ния. Если бы мне была суждена не столь бурная и про¬
тиворечивая судьба, я не писал бы эти мемуары.
Зима закончилась для нас на Лазурном берегу.
С нами была Анна. Мы поторопились и остановились в
Йере, где не так-то просто было выбраться за город и
где море, показавшееся нам поначалу очень близким,
блестело вдали, за бесконечными огородами, словно
досадный мираж; все вокруг имело унылый вид, к то¬
му же мы с Анной там заболели. Один местный дет¬
ский врач — не могу вспомнить его имя — убедил
мать, что все мои недомогания, как нервные, так и про¬
чие, проистекают от скопления газов в кишечнике; щу¬
пая мне живот, он обнаружил подозрительные полости
и предрасположенность к вздутию; он даже искусно
определил тот изгиб в кишке, где скапливались газы и
предписал мне во избежание вздутия живота носить
100
бандаж, каковой следовало заказать у его кузена. По¬
мнится, я некоторое время носил это смешное приспо¬
собление, мешавшее мне двигаться и с немалым тру¬
дом облегавшее мой живот, поскольку я был худой и
плоский, как доска.
Пальмы Йера привели меня не в такой восторг, как
цветущие эвкалипты. Когда я их впервые увидел, то
замер от восхищения; видел я их один и тут же побе¬
жал сообщить о них матери и Анне. Я не мог дотянуть¬
ся до цветущих веток, чтобы принести хоть какой-ни¬
будь образчик, и не успокоился до тех пор, пока не
притащил Анну к подножию чудесного дерева. Она
сказала:
— Это эвкалипт, дерево, привезенное из Австра¬
лии,— и обратила мое внимание на расположение ли¬
стьев и ветвей, на ветхость коры...
Мимо ехала телега, взгромоздившийся на мешки
парень сорвал и бросил нам ветку, покрытую заворо¬
жившими меня цветами, которые мне не терпелось
рассмотреть поближе. Зелено-серые бутоны со смо¬
листым налетом напоминали маленькие, закупорен¬
ные курильницы; их можно было принять за семена,
если бы не ощущение свежести и прохлады; внезап¬
но крышка одной из курильниц, распираемых тычин¬
ками, вскрылась, упала на землю, и освобожденные
тычинки образовали ореол; издалека, в гуще острых,
длинных, свисающих листьев этот белый цветок без
лепестков был похож на актинию.
Первая встреча с эвкалиптом и находка среди лис¬
твы живой изгороди, окаймлявшей дорогу к морю, ма¬
ленького аронника в клобучке, были главными собы¬
тиями нашего тамошнего^ пребывания.
Пока мы томились в Йере, мама, не смирившаяся с
неудачей, обследовала окрестности, пробралась за гор¬
ный массив Эстерель, вернулась оттуда в восторге и на
следующий день увезла нас в Кан. Хотя мы там устро¬
ились довольно скверно, возле вокзала, в самом мало¬
приятном квартале города, о Кане я сохранил чарую¬
щее воспоминание. По направлению к Грасу еще не
было ни одной гостиницы, ни одной виллы; дорога в
101
Кане шла через оливковые рощи; за чертой города сра¬
зу начинались поля, в тени олив в изобилии росли на¬
рциссы, анемоны, тюльпаны, и по мере удаления от го¬
рода их становилось все больше и больше.
Но меня восхищала другая флора, морская, кото¬
рую я мог видеть один-два раза в неделю, когда Мари
брала меня гулять на острова Лерен. На острове Сент-
Маргерит, где мы чаще бывали, надо было немного
удалиться от пристани, чтобы обнаружить среди скал
защищенные от прибоя глубокие бухточки, изрезан¬
ные узкими заливами. Раковины, водоросли, кораллы
разворачивали в них все свое великолепие с восточ¬
ной роскошью. Первый же взгляд приводил вас в вос¬
хищение; но просто пройти мимо и бросить беглый
взгляд значило еще ничего не увидеть: стоило мне за¬
стыть неподвижно, склонясь, словно Нарцисс, над по¬
верхностью воды, как из тысячи норок и углублений в
скалах медленно появлялась та жизнь, которую спуг¬
нуло мое приближение. Все начинало дышать, трепе¬
тать, сама скала словно оживала и то, что казалось
безжизненным, робко приходило в движение; полу¬
прозрачные, странные существа фантастического ви¬
да выглядывали сквозь сплетение водорослей; вода за¬
селялась, светлый песок, местами покрывавший дно,
начинал шевелиться и на концах бесцветных трубок,
похожих на старые камышинки, появлялся хрупкий,
пугливый венчик, вздрагивавший и все больше рас¬
крывавшийся.
Пока Мари неподалеку читала или вязала, я сидел
часами, не обращая внимания на солнце, без устали на¬
блюдая за медленной работой морского ежа, роющего
себе лунку, за изменением окраски осьминога, за при¬
хотливыми д вижениями актинии и за охотой, погоня¬
ми, стычками и множеством загадочных драм, от ко¬
торых у меня билось сердце. Обычно я выходил из сво¬
его оцепенения словно хмельной, с сильной головной
болью. О каких занятиях могла идти речь?
Не помню, чтобы в течение всей зимы я раскрыл
книгу, написал письмо, выучил какой-нибудь урок. Ум
мой, как и мое тело, полностью отдыхал. Сейчас мне
102
кажется, что мать могла бы тогда воспользоваться
моей незанятостью и начать учить меня, например, ан¬
глийскому, но на этом языке родители говорили меж¬
ду собой, когда хотели, чтобы я ничего не понял; к то¬
му же я так неумело прибегал к моим весьма скром¬
ным познаниям в немецком, полученным благодаря
Мари, что меня решили больше не обременять языка¬
ми. Конечно, в гостиной стояло довольно посредствен¬
ное, фортепьяно, на котором я мог бы понемногу зани¬
маться каждый день, но, увы, матери посоветовали
тщательно оберегать меня от всего, что требует уси¬
лий... Мне досадно, как Журдену, при мысли о том, ка¬
ким виртуозом я мог бы стать55, если бы в то время ме¬
ня направили по пути музыканта.
Когда в начале весны мы вернулись в Париж, мама
принялась искать новую квартиру: было решено, что
квартира на улице Турнон нам уже не подходит. Ко¬
нечно, подумал я, вспомнив мерзкие меблированные
комнаты в Монпелье, смерть папы стала причиной на¬
шего разорения, да и вообще квартира на улице Турнон
слишком велика для нас двоих. Кто знает, чем нам с
матерью првдется теперь довольствоваться? Мое бес¬
покойство длилось недолго. Вскоре я услышал, как
моя тетя Демаре и мать обсуждали, какая квартира нам
подходит, квартал, этаж, и было похоже, что наш об¬
раз жизни не становится скромнее. После смерти па¬
пы моя тетя Клер руководила матерью (она была на¬
много старше ее) и заявила не терпящим возражений
тоном со своей особенной гримасой:
— Ну хорошо, этаж — не самое главное. Можно и
подняться. Но что касается другого пункта, нет, Жюль-
етга, ни в коем случае.— И она сделала рукой резкий,
категоричный жест, словно отрезала, кладя конец вся¬
кому обсуждению.
«Другим пунктом» были въездные ворота. Мне с
моим детским восприятием казалось, что если мы не
устраиваем приемов и сами не выезжаем в карете, то
ворота нам ни к чему. Но у меня не было права голо¬
103
са, да и что можно было возразить в ответ на заявле¬
ние тети:
—Дело не в удобстве, а в приличиях.
Видя, что мать молчит, она сказала тихо, но настой¬
чиво:
— Это твой долг; твой долг перед сыном.
И добавила быстро и словно бы вскользь:
— Впрочем, если у твоего дома не будет ворот, я
могу заранее назвать тебе тех, кто откажется у тебя
бывать.
И она перечислила несколько имен, которые долж¬
ны были повергнуть мать в трепет. Но та взглянула на
сестру, улыбнулась немного грустно и спросила:
—А ты, Клер, тоже не станешь приезжать?
В ответ на это тетя поджала губы, снова приняв¬
шись за вышивание.
Эти разговоры происходили, только когда Альбера
не было дома. Альбер, конечно, был не такой знаток
хорошего тона, но мать, помня о том, что и сама она в
Юности фрондировала, слушала его охотнее. Тем не
менее тетя предпочитала обходиться без его мнения.
Короче говоря, новая квартира оказалась гораздо
больше, красивее, удобнее и роскошнее, чем прежняя.
Я опишу ее позже.
Прежде чем покинуть квартиру на улице Турнон, я
еще раз оглядываю связанное с ней прошлое и перечи¬
тываю то, что написал. Мне кажется, я слишком сгу¬
стил краски, изображая тьму, в которую было погруже¬
но мое детское сознание; я не упомянул о двух пробле¬
сках, о двух необычных встрясках, на мгновение
нарушивших мое оцепенение. Если бы я рассказал о
них раньше, соблюдая хронологическую последова¬
тельность, стало бы понятнее глубокое потрясение все¬
го моего существа при соприкосновении с незримой
реальностью в тот осенний вечер на улице Лека.
Первое событие — очень давнее, я хотел бы на¬
звать год, но могу только сказать, что мой отец был
еще жив. Мы сидели за столом, с нами обедала Анна.
Родители были грустны, так как утром узнали о смер¬
ти маленького четырехлетнего сына наших кузенов
104
Видмеров56; мне еще не сообщили этой новости, но я
все понял по нескольким словам матери, обращенным
к Нана. Маленького Эмиля Видмера я видел всего два
или три раза и не испытывал к нему особой симпатии,
но едва я понял, что он умер, как целый океан печали
хлынул мне в сердце. Мама взяла меня на колени, ста¬
раясь умерить мои рыдания; она сказала, что все мы
должны умереть, что маленький Эмиль теперь на небе,
где нет ни слез, ни страданий, в общем, она говорила
все, что только могла при своей доброте придумать
утешительного, но ничто не помогало, потому что при¬
чиной моего плача была не смерть моего маленького
двоюродного брата, а какая-то безотчетная тсска, и не¬
удивительно, что я не мог ничего объяснить матери,
ведь даже и сейчас эта тоска остается для меня непо¬
нятной. Может быть, некоторым это покажется смеш¬
ным, но позднее, мне кажется, я вдруг узнал ее, читая
Шопенгауэра. Да, действительно, чтобы понять*
мне достаточно было невольно, с неотразимой отчет¬
ливостью вспомнить мою первую Schaudem**57 при
известии об этой смерти.
Другое пережитое мной потрясение было еще бо¬
лее странным. Это случилось через несколько лет по¬
сле смерти отца, значит, мне было около одиннадцати
лет. Событие опять произошло за столом, во время обе¬
да, но на этот раз мы с матерью были одни. Утром я хо¬
дил в школу. Что там произошло? Наверное, ничего.
Тогда почему же мое лицо вдруг исказила гримаса, и
я, содрогаясь от рыданий, упал в объятия мамы, вновь
почувствовав совершенно ту же невыразимую тоску,
как при известии о смерти маленького кузена? Словно
внезапно открылся некий шлюз, и неведомое внутрен¬
нее море наконец хлынуло и затопило мое сердце; я
ощущал не столько грусть, сколько страх, но как я мог
объяснить это матери, которая сквозь мои всхлипыва¬
ния слышала только, как я с отчаянием повторяю эти
странные слова:
* Не стану приводить цитату, она слишком длинная.
** Дрожь, трепет (нем.).— Примеч. пер.
105
—Я не такой, как все! Я не такой, как все!
С квартирой на улице Турнон связаны еще два вос¬
поминания: я должен коротко сказать о них, прежде
чем покину ее. Как-то я попросил в подарок толстую
книгу по химии Трооста58. Мне ее подарила тетя Лю¬
силь; тетя Клер, которую я сперва попросил, сочла не¬
суразным дарить мне учебную книгу, но я так громко
кричал, что никакая другая книга не доставит мне
столько удовольствия, что тетя Люсиль согласилась
сделать мне этот подарок. Она по своей доброте боль¬
ше думала о том, что понравится мне, а не о том, что
отвечает ее вкусам, и это ей я обязан тем, что.потом у
меня появились тома «Бесед по понедельникам»59
Сент-Бёва и «Человеческая комедия» Бальзака. Но
вернусь к химии.
Мне еще не было и тринадцати лет, но я утверж¬
даю, что ни один студент не погружался в книгу Тро¬
оста с таким самозабвением, как я. Разумеется, мой
интерес к ней был отчасти связан с опытами, которые
я намеревался проводить. Мать согласилась предоста¬
вить мне для этого комнатку, находившуюся в конце
коридора возле моей спальни. В ней я держал морских
свинок. Там я и установил маленькую спиртовку, стек¬
лянные колбы и приборы. Я до сих пор поражаюсь, как
мать позволила мне все это; то ли она не отдавала се¬
бе отчета в том, какой опасности подвергались стены,
потолок и я сам, то ли решила, что можно и рискнуть,
лишь бы для меня была какая-то польза. Каждую неде¬
лю она давала мне круглую сумму денег, которую я тут
же тратил на площади Сорбонны или на улице Ансьен-
Комеди, покупая пробирки, реторты, мензурки, соли,
металлоиды, металлы, и, наконец, разные кислоты —
удивительно, что мне их продавали, наверное, меня
принимали за мальчика на побегушках. Конечно, в од¬
но прекрасное утро сосуд, в котором я получал кисло¬
род, взорвался у меня перед носом. Этот опыт называл¬
ся «химическая гармоника» и производился с помощью
лампового стекла. Из удлиненной пробирки выходил
кислород, и я намеревался его поджечь. В одной руке
я держал спичку, а в другой ламповое стекло, внутри
106
которого пламя должно было производить мелодич¬
ные звуки. Но едва я поднес спичку, как пламя, запол¬
нив сосуд, выбило пробку и разнесло вдребезги и его
и пробирки. Напуганные взрывом морские свинки вы¬
соко подпрыгнули вверх, и ламповое стекло выпало у
меня из рук. Вздрогнув, я понял, что, если бы сосуд
был закупорен немного плотнее, все осколки полетели
бы мне в лицо, и это несколько поумерило мой инте¬
рес к опытам с газами. С этого дня я стал читать хи¬
мию под другим углом зрения. Синим карандашом я
отмечал «мирные» вещества, с каковыми приятно бы¬
ло общаться, а красным — те, что ведут себя сомни¬
тельным или устрашающим образом.
Недавно я открыл учебник по химии моих юных
племянниц. Все для меня в нем оказалось новым, все
изменилось: формулы, законы, классификация ве¬
ществ, их названия, их место в книге и даже их свой¬
ства... А я-то считал их неизменными! Моих племянниц
веселит мое недоумение, а я при виде этих перемен
чувствую тайную грусть; так мы узнаем в отцах се¬
мейств старых друзей, которые, казалось, должны бы¬
ли навсегда остаться мальчиками.
Второе мое заветное воспоминание — наш разго¬
вор с Альбером Демаре. Когда мы жили в Париже, он
раз в неделю приходил к нам со своей матерью ужи¬
нать. После ужина тетя Клер играла с мамой в карты
или в фишки, а мы с Альбером обычно садились за
фортепьяно. Но в тот вечер мы забыли о музыке ради
беседы. Я уже не помню, что я такого сказал за ужи¬
ном, на что Альбер счел необходимым обратить мое
внимание. В присутствии остальных он промолчал, но
сразу после ужина отвел меня в сторону...
Уже в то время я боготворил Альбера; я говорил о
том, как жадно впитывал его слова, особенно когда
они отвечали моим, душевным склонностям; впрочем,
он редко шел им наперекор и обычно был исключи¬
тельно чуток к тому во мне, что хуже всего могли по¬
нять моя мать и другие члены семьи. Альбер был высо¬
кий, очень сильный и в то же время очень мягкий; все
его слова производили на меня неизъяснимое впечат¬
107
ление, говорил ли он то, чего не решался сказать я, или
то, о чем я даже не решался подумать; один звук его
голоса приводил меня в восторг. Я знал, что он блещет
во всех видах спорта, особенно в плавании и в гребле,
и что теперь, познав наслаждение от занятий на све¬
жем воздухе, прекрасно развившись физически, он це¬
ликом поглощен живописью, музыкой и поэзией. Но в
тот вечер обо всем этом мы не говорили. В тот вечер
Альбер объяснял мне, что такое родина.
Конечно, здесь мне еще многому оставалось учить¬
ся. Ни отец, ни мать, какими бы добрыми французами
они ни были, не привили мне четкого понятия о роди¬
не и о нашем национальном духе. Думаю, они и сами
были лишены этих понятий. Склонный в силу темпера¬
мента, как и мой отец, ценить не столько реальности,
сколько идеи, я в тринадцать лет рассуждал об этих ве¬
щах как рационалист, как ребенок и как глупец. Навер¬
ное, за ужином я заявил, что «на месте Франции» не
стал бы обороняться в 70-м году или какую-то чушь в
том же роде и что вообще все, связанное с армией, вы¬
зывает у меня отвращение. Именно это Альбер и счел
необходимым поставить мне на вид.
Он не стал опровергать мое мнение, говорить высо¬
кие слова, но рассказал мне об оккупации и своих сол¬
датских воспоминаниях. Он сказал, что, как и я, нена¬
видит силу, когда она становится насилием, но чтит ее,
когда к ней прибегают для защиты от врага, и что ве¬
личие солдата в том и состоит, что он защищает не се¬
бя, но слабых, над которыми нависла угроза. По мере
того как он говорил, его голос становился все более
торжественным и начал дрожать.
— Значит, ты полагаешь, что можно хладнокров¬
но допустить, чтобы оскорбляли твоих родителей, на¬
силовали твоих сестер, грабили твое имущество?..—
Тут картины войны, наверное, прошли перед его мыс¬
ленным взором, я увидел, как глаза его наполнились
слезами, хотя лицо оставалось в тени. Он сидел в низ¬
ком кресле возле большого отцовского стола, на ко¬
тором сидел я, свесив ноги и чувствуя смущение от
его слов и от того, что я находился выше него. В дру¬
108
гом конце комнаты тетя с матушкой играли с Анной,
ужинавшей у нас в тот вечер то ли в грабюж, то ли в
безик. Альбер говорил вполголоса, чтобы женщины
его не слышали; когда он замолчал, я взял его боль¬
шую руку в свои и сидел, ничего не говоря, куда боль¬
ше растроганный красотой его души, чем убежден¬
ный его доводами. Но с годами, когда я смог лучше
его понять, я вспомнил его слова.
Мысль о переезде безмерно радовала меня, я с удо¬
вольствием представлял себе, как мы будем расстав¬
лять мебель, но переезд совершился в мое отсутствие.
После возвращения из Кана мама устроила меня в но¬
вый пансион, надеясь, что мне от этого будет больше
пользы, а ей — больше спокойствия.
Г-н Ришар, которому меня доверили, избрал в ка¬
честве места жительства район Отей.60 Быть может,
как раз из-за того, что он жил в Отее, мама и устро¬
ила меня к нему. Он занимал на улице Ренуар под но¬
мером, кажется, 12, старомодный трехэтажный дом с
небольшим садом, расположенным террасой, откуда
было видно пол-Парижа. Все это сохранилось до сих
пор, но, наверное, просуществует еще недолго: мно¬
го воды уже утекло с того времени, когда скромная
семья учителя из соображений экономии поселилась
на улице Ренуар. В ту пору г-н Ришар давал уроки
только своим пансионерам, то есть мне и двум моло¬
дым англичанкам, платившим, думается, скорее за
свежий воздух и красивый вид. Г-н Ришар был учите¬
лем лишь in partibus61; только позднее, сдав экзамен,
он получил должность преподавателя немецкого язы¬
ка в лицее. Сначала он хотел стать пастором и, ду¬
маю, очень прилежно учился, так как не был ни ле¬
нив, ни глуп; но потом какие-то сомнения или повы¬
шенная требовательность к себе (а вернее, и то и
другое вместе) заставили его отступить от своего на¬
мерения. От его первого призвания у него осталась
какая-то елейность во взгляде и голосе. Голос у него
от природы был пасторский, способный бередить сер¬
109
дца. Его самые суровые слова смягчала полугруст-
ная, полушутливая улыбка, думаю, почти невольная и
как бы говорившая, что он не относится к себе всерь¬
ез. У него были разнообразные достоинства и даже
добродетели, но они не казались ни прочными, ни ос¬
новательными, он был легковесен, рассеян, охотно
шутил над важными вещами и всерьез рассуждал о
пустяках; к этим его недостаткам, при всей моей мо¬
лодости, я был чувствителен и судил о них в те вре¬
мена, возможно, даже строже, чем теперь. Мне ка¬
жется, его свояченица, вдова генерала Бертрана62,
жившая вместе с нами на улице Ренуар, не очень-то
его уважала, что придавало ей веса в моих глазах.
Обладавшая большим здравым смыслом, знавшая
лучшие времена, она, мне кажется, была единствен¬
ным разумным существом во всем доме, при этом
она была и очень сердечной, но проявляла свою сер¬
дечность весьма осмотрительно. Г-жа Ришар была
еще сердечнее, и, не имея понятия о здравом смыс¬
ле, поступала всегда только согласно своему сердцу.
Она была слабого здоровья, худая, с бледным, вытя¬
нутым лицом; очень кроткая, она постоянно тушева¬
лась перед мужем и сестрой и, наверное, поэтому я
сохранил о ней смутное воспоминание, зато г-жа Бер¬
тран, крепкая, решительная, уверенная в себе, четко
запечатлелась в моей памяти. У нее была дочь на не¬
сколько лет младше меня, которую она из предосто¬
рожности не подпускала к нам, и та, должно быть,
порой страдала от властного характера своей матери.
Ивонна Бертран была хрупкая, тщедушная и словно
бы замученная строгой дисциплиной; даже когда она
улыбалась, у нее был такой вид, будто она только что
плакала. Видели мы ее только за столом.
У Ришаров было двое детей: девочка полутора лет,
на которую я взирал с изумлением, после того как она
в саду ела землю, к большому веселью маленького
Блеза, ее брата; ему было поручено присматривать за
ней, хотя ему самому было всего пять лет.
То один, то с г-ном Ришаром я работал в маленькой
оранжерее, если так можно назвать небольшую застек¬
110
ленную пристройку к глухой стене массивного сосед¬
него дома в конце сада.
Рядом с моей партой на полочке рос гладиолус: я
уверял, что вижу, как он вытягивается. Луковицу я сам
купил на рынке Сен-Сюльпис и собственноручно поса¬
дил ее в горшок. Вскоре из земли появился зеленый
меч. Его быстрый рост приводил меня в восхищение.
Чтобы следить за ростком, я воткнул в горшок белую
палочку, на которой каждый день делал отметку. Я по¬
считал, что лист подрастает в час на три пятых милли¬
метра, и это, если смотреть внимательно, должно быть
заметно невооруженным глазом. Мне очень хотелось
знать, каким образом происходит рост, но в конце кон¬
цов я убедился, что растение одним махом увеличива¬
лось за ночь, в остальное же время я тщетно просижи¬
вал перед ним, не сводя глаз с листа... Зато наблюде¬
ние за мышами вознаграждало меня с лихвой. Стоило
мне пять минут посидеть неподвижно, с книгой или пе¬
ред гладиолусом, как они любезно прибегали развлечь
меня; каждый день я приносил им сладости и так их
приручил, что они залезали подбирать крошки на стол,
где я работал. Их было только две, но я был уверен, что
одна скоро родит, и каждое утро с трепетом ждал по¬
явления мышат. В стене была дырка — туда они прята¬
лись с приближением г-на Ришара, там была их нора,
оттуда должно было появиться потомство и, отвечая
урок г-ну Ришару, я краем глаза наблюдал за норкой.
Конечно, я отвечал очень плохо, и в конце концов г-н
Ришар спросил меня, почему я такой рассеянный. До
сих пор я умалчивал о существовании моих приятелей.
В тот день я рассказал все.
Я знал, что девицы боятся мышей, допускал, что их
недолюбливают домохозяйки, но г-н Ришар был муж¬
чина. Он проявил живой интерес к моему рассказу, за¬
ставил показать нору, потом молча вышел, оставив ме¬
ня в недоумении. Вскоре он вернулся с дымящимся
чайником. Я не решался поверить своим глазам и роб¬
ко спросил:
— Что это у вас, мсье?
— Кипяток.
111
— Зачем?
— Ошпарить ваших мерзких тварей.
— О, мсье Ришар, прошу вас! Умоляю! У них как
раз, кажется, появились малыши...
—Тем более.
И это я их выдал! Мне и впрямь следовало сначала
спросить, любит ли он животных... Слезы, мольбы, ни¬
что не помогло. Ах! Какой злодей! Мне кажется, он по¬
смеивался, выливая кипяток в дырку в стене, я не мог
смотреть и отвернулся.
Мне стоило больших усилий простить его. Правда,
после он был ка1к будто удивлен моей безутешной пе¬
чалью; прощения просить он не стал, но я чувствовал
что-то вроде смущения в его попытках доказать мне,
что я смешон и что мыши — отвратительные, дурно
пахнущие животные, которые приносят много вреда, и
к тому же мешают мне заниматься. Г-ну Ришару не бы¬
ло чуждо чувство сожаления, и спустя некоторое вре¬
мя он подарил мне, как бы возмещая ущерб, то, что я
хотел иметь и что не приносило вреда.
Он подарил мне пару горлиц. Впрочем, подарил
или просто смирился с их появлением? Моя неблаго¬
дарная память не дает на это ответа... Клетку из иво¬
вых прутьев повесили в примыкавшем к оранжерее
вольере с рваной сеткой, где жили курицы, крикливые,
злобные, тупые и совершенно меня не интересовав¬
шие.
В первые дни я был в восторге от воркования мо¬
их горлиц, никогда прежде я не слышал ничего более
сладостного. По они, словно журчащие ручейки, вор¬
ковали весь день напролет; и этот поначалу прелест¬
ный шум превратился в весьма надоедливый. Мисс
Эльвин, одна из пансионерок-англичанок, которой это
воркование особенно действовало на нервы, убедила
меня сделать птицам гнездо. Едва я успел его соору¬
дить, как самка начала откладывать яйца и ворковать
стала реже.
Она снесла два яйца, как положено. Я не знал,
сколько времени ей предстоит высиживать их, и то и
дело заходил в курятник, влезал на старую лестницу и
112
сверху заглядывал в гнездо; я не хотел беспокоить пти¬
цу и до бесконечности ждал, когда она взлетит и я смо¬
гу убедиться, что яйца еще целы.
Но вот однажды утром, еще прежде чем войти, я за¬
метил на полу клетки на уровне моего носа слегка ок¬
рашенные кровью скорлупки яиц. Наконец-то! Но ког¬
да я попытался войти в вольер, чтобы посмотреть на
выводок, то, к великому своему изумлению, обнару¬
жил, что дверь заперта. На ней висел маленький за¬
мок, который я узнал: его третьего дня купил г-н Ри¬
шар, когда мы с ним были на местном рынке.
— Замок-то крепкий? — спросил он у торговца.
—Да все равно что большой, мсье,— ответил тот.
Г-ну Ришару и его жене надоело, что я провожу
столько времени возле птиц, и они решили ограничить
мои визиты; за обедом мне было объявлено, что с это¬
го дня на двери будет висеть замок, а ключ г-жа Берт¬
ран будет выдавать мне один раз в день, в четыре ча¬
са, во время полдника. Помощь г-жи Бертран требова¬
лась всякий раз, когда надо было проявить волю или
применить санкции. Она говорила спокойно, даже лас¬
ково, но очень твердо. Объявляя мне об ужасном реше¬
нии, она почти улыбалась. Я не стал возражать, так как
у меня появилась идея: у всех маленьких замков, что
продавались на рынке, были одни и те же ключи; в
этом я убедился в тот день, когда г-н Ришар выбрал се¬
бе ключ из целой кучи. Стоит в моем кармане зазве¬
неть нескольким су... Сразу после обеда, я тайком от
всех убежал на рынок.
Сказать по правде, у меня не было никакого наме¬
рения бунтовать. Никогда, ни в то время, ни после я не
находил удовольствия в мошеннических проделках.
Для меня это была просто игра, а не обман. Как же
мог я так увлечься этой игрой, что не подумал, как по¬
смотрит на нее г-жа Бертран? Я испытывал к ней сим¬
патию, чувство почтения и даже, как уже говорил, ста¬
рался заслужить ее уважение. Некоторое чувство оби¬
ды проистекало из того, что передо мной воздвигли
вещественное препятствие, а ведь достаточно было
воззвать к моему послушанию; это я тоже хотел ей
ИЗ
дать понять; ведь, если хорошенько подумать, она не
запретила мне входить в вольер, просто передо мной
возникла помеха, как если бы... Ну, что ж! Мы ей по¬
кажем, чего стоит ее замок. Разумеется, входя в клет¬
ку, я не стану ни от кого прятаться; она должна меня
увидеть, иначе что мне за радость? Я войду, когда она
будет в гостиной, окна которой как раз напротив воль¬
ера (я уже предвкушал ее удивление), а потом отдам
ей второй ключ как доказательство моих добрых на¬
мерений. Все это я обдумывал, возвращаясь с рынка,
и не надо искать логики в моих рассуждениях, я изла¬
гаю их так, как они приходили мне в голову, не стара¬
ясь их упорядочить.
Входя в курятник, я не столько смотрел на горлиц,
сколько следил за г-жой Бертран; я знал, что она в го¬
стиной, но в окнах никто не показывался, словно это
она пряталась, а не я. Какая неудача! Не звать же ее. Я
ждал, ждал и наконец решил выйти. Я едва глянул на
выводок. Не вынув ключа из замка, я вернулся в оран¬
жерею, где меня ждал перевод Квинта Курция63, и сел
за стол, ощущая смутное беспокойство при мысли о
том, что буду делать во время полдника.
Без пяти четыре ко мне пришел маленький Блез:
тетя хотела поговорить со мной. Г-жа Бертран ожида¬
ла меня в гостиной. Когда я вошел, она встала, явно же¬
лая произвести еще большее впечатление, подождала,
когда я сделал к ней несколько шагов, и произнесла’
—Я вижу, что ошиблась на ваш сче>: я надеялась,
что имею дело с честным мальчиком... Вы полагали,
что я вас не вижу...
— Но...
— Вы оглядывались на дом, опасаясь, что...
— Но я как раз потому и...
— Нет, я не позволю вам ничего говорить. То, что
вы сделали, очень дурно. Откуда у вас этот ключ?
—Я...
— Запрещаю вам отвечать. Вы знаете, куда отправ¬
ляют тех, кто взламывает замки? В тюрьму. Я не рас¬
скажу о вашем обмане вашей матушке, это ее слиш¬
ком огорчит; если бы вы хоть немного подумали о ней,
114
вы никогда бы не осмелились совершить то, что совер¬
шили.
По мере того как она говорила, я понял, что никог¬
да не смогу объяснить ей мои тайные побуждения и, по
правде говоря, мне и самому они уже перестали быть
понятными; теперь, когда мое возбуждение улеглось,
моя выходка предстала передо мной в ином свете, те¬
перь я видел в ней сплошную глупость. Невозмож¬
ность оправдаться сразу же породила во мне полную
презрения покорность, и я, не краснея, выслушал от¬
поведь г-жи Бертран. Думаю, что мое молчание, после
того как она запретила мне говорить, стало ее раздра¬
жать, так как вынуждало продолжать речь, хотя ска¬
зать было нечего.
Лишенный слов, я вложил все свое красноречие во
взгляд:
«Я больше не нуждаюсь в вашем уважении,— гово¬
рили мои глаза.— Раз вы судите обо мне так плохо, я
перестаю ценить вас».
И чтобы еще больше показать свое презрение, я в
течение двух недель не навещал моих птиц. Что наи¬
лучшим образом сказалось на моих занятиях.
Г-н Ришар был хорошим учителем; он испытывал
не столько потребность к самообразованию, сколько
желание учить других. И делал это ласково и с какой-
то радостью, отчего уроки его не были скучными. По¬
скольку мне предстояло многое изучить, мы составили
насыщенное расписание, но оно постоянно нарушалось
из-за моих головных болей. Надо сказать, что мое вни¬
мание легко рассеивалось, а г-н Ришар не старался это¬
му помешать — то ли из опасения утомить меня, то ли
в силу своего темперамента,— и урок превращался в
беседу на разные темы. Это обычный недостаток час¬
тных преподавателей.
Г-н Ришар любил литературу, но был не слишком
образован и не блистал в этой области. Он не скрывал
от меня, что классики наводят на него скуку; правда,
приходилось подчиняться программе, но после анали¬
115
за «Цинны» 64 он отдыхал, читая мне «Король забавля¬
ется»65. Гневные обращения Трибуле к придворным
исторгали у меня слезы, с рыданиями в голосе я декла¬
мировал:
Смотрите — вот рука: она не знаменита,
Орудье бедняка... мозолями покрыта...
И вот вам кажется, что безоружна месть?
Нет шпаги у меня — но когти все же есть! *
Сейчас напыщенность этих стихов мне нестерпима,
но в тринадцать лет они казались мне прекраснейши¬
ми на свете и более трогательными, чем те, что пред¬
лагались мне как образец, вроде:
Дай руку, Цинна, мне...**
Я повторял вслед за г-ном Ришаром знаменитую ти¬
раду маркиза де Сен-Валье:
И вот вы, Валуа, в тот день иль в ту же ночь
Склонили без стыда мою родную дочь,
Себя ни жалостью, ни грустью не тревожа,
В объятья подлые, на гибельное ложе.
Так обесчещена и растлена во тьме
Графиня де Брезе, Диана Пуатье. ***
Как можно было осмелиться написать такие вещи,
да еще в стихах! Вот что наполняло меня лирическим
восторгом. Именно смелость этих стихов вызывала
мое восхищение. Давать мне их читать в тринадцать
лет — вот что было смело.
Видя мое волнение и убедившись в том, что я виб¬
рирую, как струна, г-н Ришар решил подвергнуть мою
чувствительность более изысканным испытаниям. Он
принес мне «Богохульства» Ришпена и «Неврозы» Рол-
лина66, бывшие в то время его настольными книгами,
и принялся мне их читать. Довольно странный выбор
для учителя!
* Пер. П. Антокольского.— Примеч. пер.
** Пер. Вс. Рождественского.— Примеч. пер.
*** Пер. П. Антокольского.— Примеч. пер.
116
Установить в точности время, когда мы читали эти
книги, помогает мне четкое воспоминание о том, где
мы их читали. Г-н Ришар, с которым я прозанимался
три года, в первую зиму переехал в центр Парижа, а
«Король забавляется», «Неврозы» и «Богохульства» мы
читали в маленькой оранжерее в Пасси.
У г-на Ришара было два брата. Средний, Эдмон, вы¬
сокий, худой молодой человек, отличавшийся умом и
хорошими манерами, был в последнее лето перед мо¬
им переездом к г-ну Ришару моим учителем, сменив
придурковатого Галлена. С тех пор я его не видел; он
был слабого здоровья и не мог жить в Париже (недав¬
но я узнал, что он сделал блестящую карьеру в одном
банке).
Вскоре после нашего переезда на улицу Ренуар ту¬
да приехал другой брат г-на Ришара, всего на пять лет
старше меня. Раньше он жил в Гере, у сестры, о чьем
существовании я узнал только потому, что предыду¬
щим летом Эдмон Ришар сказал о ней моей матери: ве¬
чером после его приезда в Ла Рок мать любезно осве¬
домилась о его родственниках и спросила:
—У вас ведь нет сестер?
— Есть, мадам,— ответил он. Потом, как хорошо
воспитанный человек, решив, что его ответ слишком
краток, мягко добавил: — Моя сестра живет в Гере.
—Да? — воскликнула мать.— В Гере?.. А чем она
занимается?
— Она пирожница.
Разговор происходил во время ужина; с нами были
мои кузины; мы следили буквально за каждым движе¬
нием губ нового учителя, этого незнакомца, который
вторгся в нашу жизнь и мог, окажись он высокомер¬
ным, глупым или ворчливым, испортить нам все кани¬
кулы.
Эдмон Ришар показался нам очаровательным, но
мы ждали его первых слов, чтобы вынести ему коллек¬
тивный приговор, тот беспощадный и окончательный
приговор, который склонны выносить те, кто ничего
не знает о жизни. Мы не были любителями насмехать¬
ся, и смех, беззлобный, но безумный, неудержимый,
117
овладел нами при словах «она пирожница», произне¬
сенных Эдмоном Ришаром очень просто, прямо и сме¬
ло, словно он предвидел наши смешки. Мы, как мог¬
ли, подавили нашу веселость, понимая, до какой сте¬
пени она невежлива; мысль, что он мог расслышать
наш смех, делает это воспоминание для меня очень
мучительным.
Абель Ришар обладал не то чтобы простоватым, но
гораздо менее живым умом, чем его старшие братья,
поэтому его образованием не особенно занимались.
Длинный, вялый парень с ласковым взглядом, мягкими
руками и жалобным голосом, он был предупредителен,
даже услужлив, но не очень ловок и за свои заботы по¬
лучал не столько благодарности, сколько упреки. Хотя
он все время вертелся около меня, мы почти не разго¬
варивали друг с другом; я не знал, что ему сказать, а
он, если и произносил три фразы, то начинал словно
задыхаясь от усталости. Однажды летним вечером, од¬
ним из тех ясных, теплых вечеров, когда на смену
дневным трудам приходит благоговейная тишина, все
сидели на террасе. Абель, как обычно, подошел ко мне,
а я, как обычно, сделал вид, что его не замечаю; я си¬
дел немного в стороне, на качелях, где днем качались
дети г-на Ришара; теперь они уже давно спали; касаясь
одной ногой земли, я сидел неподвижно и, чувствуя,
что Абель стоит совсем рядом, тоже неподвижно, опи¬
раясь о стойку качелей, от чего они слегка подрагива¬
ли, смотрел, отвернувшись, на город, на его огни, зажи¬
гавшиеся одновременно со звездами на небе. Так про¬
должалось довольно долго; наконец он сделал легкое
движение, и тут я взглянул на него. Видимо, он только
этого и ждал и пробормотал сдавленным, еле слыш¬
ным голосом:
— Хотите быть моим другом?
Я не испытывал к Абелю никаких особенных
чувств, но нужно было его ненавидеть, чтобы не отве¬
тить на подобный сердечный призыв. Я неловко, сму¬
щенно произнес «Ну да» или «Ну конечно». На что он
тут же, без всякого перехода, предложил:
—Тогда я открою вам мою тайну. Пойдемте.
118
Я пошел следом за ним. В прихожей он хотел за¬
жечь свечу, но так дрожал, что сломал несколько
спичек. В эту минуту мы услышали голос г-на Ри¬
шара:
— Андре! Где вы? Пора спать.
Абель в темноте взял мою руку.
—Тогда завтра,— сказал он покорно.
На следующий день он привел меня в свою комна¬
ту. Там стояли две кровати, на одной из которых до
своего отъезда спал Эдмон Ришар. Абель, не говоря ни
слова, подошел к игрушечному шкафчику, стоявшему
на столе, открыл его ключом, висевшим на цепочке
его часов, и вытащил оттуда дюжину писем, перевязан¬
ных розовой шелковой лентой. Он развязал узел и про¬
тянул мне пачку:
— Возьмите! Вы можете прочесть все,— сказал он
с воодушевлением.
По правде говоря, у меня не было ни малейшего же¬
лания их читать. Почерк везде был одинаковый: жен¬
ский, мелкий, ровный, банальный, похожий на почерк
счетоводов или поставщиков: один вид его расхолажи¬
вает всякое любопытство. Но мне ничего другого не
оставалось: надо было или читать или жестоко обидеть
Абеля.
Я думал, что это любовные письма, но ошибся: это
были письма его сестры, пирожницы из Гере, полные
жалоб и слезных просьб; в них говорилось только об
оплате векселей, о просрочках и задолженностях — я
впервые узнал это грозное слово. По некоторым наме¬
кам, недомолвкам я понял, что Абель великодушно от¬
дал сестре причитавшуюся ему часть родительского на¬
следства, и запомнил фразу, в которой говорилось, что
его поступок не поможет, увы, «покрыть задолжен¬
ность»...
Абель отошел немного в сторону, чтобы не мешать
мне читать; я сидел за столом светлого дерева возле
крошечного шкафчика, откуда он извлек письма; он не
закрыл шкаф и, читая, я косился на него, опасаясь, что
там есть еще письма, но шкаф был пуст. Абель стоял у
раскрытого окна; он, конечно, знал эти письма наи¬
119
зусть и издалека мысленно следовал за моим чтением.
Он, должно быть, ждал каких-нибудь слов сочувствия,
а я не очень-то знал, что ему сказать. Мне было непри¬
ятно проявлять волнение, которого я не испытывал. Де¬
нежные драмы — не из тех, чью красоту может ощу¬
тить ребенок; мне казалось, что в них нет никакой кра¬
соты вообще, а она мне была необходима, чтобы
растрогаться. Наконец мне пришла в голову мысль
спросить у Абеля, есть ли у него портрет сестры: это
избавляло меня от лжи и могло сойти за проявление
интереса. Торопливо и неловко он вытащил из бумаж¬
ника фотографию.
— Как она похожа на вас! — воскликнул я.
— О да, не правда ли? — подхватил он неожиданно
восторженно. Я произнес свои слова, не задумываясь,
но он нашел их более сердечными, чем изъявление
дружеских чувств.
—Теперь вы знаете мою тайну,— продолжал он по¬
сле того, как я вернул ему фотографию.— Вы расска¬
жете мне свою, правда?
Читая письма его сестры, я невольно вспомнил
Эмманюэль. На фоне этих безрадостных забот какое
сияние исходило от прекрасного лица моей подруги!
Обет, данный мною,— любить ее одну всю жизнь —
окрылял меня; в сердце у меня кипела радость; нео¬
сознанные стремления, множество смутных порывов
будоражили мою душу; песни, смех, танцы и веселые
мелодии составляли кортеж моей любви... Осыпан¬
ный столькими благами, я почувствовал, услышав во¬
прос Абеля, как у меня перехватило дыхание. И при¬
лично ли мне при его бедности выставлять напоказ
столько сокровищ? — думал я. Предложить ему кро¬
хи? Ну нет! Это неделимое великое сокровище, не¬
разменный слиток золота. Я снова взглянул на пачку
писем, которую Абель старательно перевязывал лен¬
той, на пустой шкафчик; и когда Абель снова спросил
меня:
— Вы расскажете мне свою тайну, да?
Я ответил:
— У меня ее нет.
120
VI
Улица Коммай была недавно проложена через са¬
ды; в этой части улицы Бак, бывшей продолжением
улицы Коммай, они долго прятались за фасадами вы¬
соких домов. Если ворота были открыты, восхищен¬
ный взгляд с любопытством погружался в неведо¬
мую, загадочную глубину садов при частных особня¬
ках, переходивших в сады при министерствах,
посольствах, в тщательно огороженные сады Форту-
нио67: на них порой выходили окна соседних, самых
современных домов, и это преимущество стоило не¬
мало.
Из двух окон гостиной, из окна кабинета, спальни
матери и моей открывался вид на один из этих чудес¬
ных садов, отделенных от нас лишь улицей. Улица
была застроена только с одной стороны; с другой, на¬
против домов, тянулась низкая стена, портившая вид
только обитателям вторых этажей; мы жили на пя¬
том.
Мы с матерью чаще проводили время в ее комна¬
те. Там же мы по утрам пили чай. Я рассказываю о
втором годе моего обучения у г-на Ришара, переехав¬
шего в это время в центр Парижа; теперь я был у не¬
го «полупансионером» и каждый день возвращался
домой ужинать и ночевать. Уходил я из дома утром,
когда Мари начинала причесывать мать; только в вы¬
ходные дни я мог присутствовать при этой процеду¬
ре, длившейся полчаса. Мама в пеньюаре садилась на
ярко освещенное место перед окном. Мари ставила
перед ней овальное зеркало на металлическом тре¬
ножнике, которое можно было поднимать и опу¬
скать; на маленькой полочке, опоясывавшей тренож¬
ник, лежали гребни и щетки. Мать поочередно гляде¬
ла то во вчерашний вечерний выпуск «Тан» 68, держа
его в руках, то в зеркало. Там она видела, как Мари,
вооруженная расческой или щеткой, яростно управ¬
лялась с ее волосами; что бы Мари ни делала, вид у
нее всегда был гневный.
— О, Мари! Вы делаете мне больно! — охала мама.
121
Я читал, развалясь в одном из двух больших кресел,
заграждавших подступы к камину (форма этих двух
похожих на мастодонтов кресел скрывалась под пух¬
лой велюровой обивкой цвета граната). Время от вре¬
мени я поглядывал на красивый профиль матери, на ее
строгие и нежные черты, из-за яркой белизны пеньюа¬
ра, из-за недовольства Мари, когда та тянула ее за во¬
лосы, они становились резче.
— Мари, да вы не расчесываете, а колотите!
Мари на мгновение останавливалась и еще ярост¬
нее принималась за дело. Тогда мама роняла с колен
газету и в знак покорности привычно складывала ру¬
ки, скрещивая все пальцы кроме указательных, кото¬
рые она прикладывала друг к другу, нацелив острым
углом вперед.
— Лучше бы мадам причесывалась сама, тогда бы
она не жаловалась!
Но прическа мамы была довольно сложной, и без
помощи Мари трудно было обойтись. Разделенные
посередине пробором; волосы укладывали гладко, а
две пряди над висками накручивали при помощи спе¬
циальных приспособлений. Эти приспособления ис¬
пользовали повсюду, то была эпоха уродливых «тур¬
нюров» 69
Мари не решалась прямо выражать свои чувства —
мама этого не потерпела бы и ограничивалась ворчани¬
ем. Обычно она что-то в сердцах цедила. Мама побаи¬
валась Мари и, когда та прислуживала за столом, гово¬
рила, только дождавшись, когда она выйдет:
— Сколько ни твержу Дезире (мама обращалась к
тете Клер), а она все равно кладет в майонез слишком
много уксуса.
Дезире сменила Дельфину, бывшую любовь Мари,
но кто бы ни была кухарка, Мари все равно встала бы
на ее сторону. Однажды на следующий день после по¬
добного разговора мы с Мари пошли погулять.
— А знаешь, Мари,— начал я тоном мерзкого ябед¬
ника.— Если Дезире не слушает, что ей говорит мама,
нам, возможно, придется с ней расстаться (это я сказал
для пущей важности). Ее майонез вчера...
122
— В нем опять было много уксуса, я знаю,— пере¬
била Мари с торжествующим видом. Она поджала гу¬
бы, сдерживая смех, но, когда стало невмоготу, вос¬
кликнула: — А у вас губа не дура.
Мари были не чужды эстетические переживания,
но для нее, как и для многих швейцарцев, красота оз¬
начала все возвышенное; и ее музыкальные способно¬
сти, например, ограничивались пением религиозных
гимнов. Впрочем, однажды, когда я сидел за фортепь¬
яно, она внезапно влетела в гостиную; я играл «Песню
без слов»70, отличавшуюся довольно банальной выра¬
зительностью.
— Вот это музыка,— произнесла она, меланхолич¬
но покачивая головой, и убежденно добавила: — Разве
это не лучше ваших «триолей»?
Она называла «триолями» музыку, которой не пони¬
мала.
Уроки мадемуазель Геклен показались матери уже
недостаточными, и я стал заниматься с преподавате-
лем-мужчиной, но он был, увы, не намного лучше. Г-н
Мерриман испытывал инструменты у Плейеля71; он
был пианистом по профессии, но отнюдь не по призва¬
нию, ценой прилежания ему удалось, если не ошиба¬
юсь, получить первую премию в Консерватории; его
правильная, отточенная, холодная игра больше напоми¬
нала арифметику, чем искусство; он садился за фор¬
тепьяно, словно бухгалтер за свои счета, и его пальцы
как бы производили сложение белых и черных кла¬
виш; музыкальная пьеса, превращалась в счет. Конеч¬
но, он мог бы научить меня технике, но совершенно не
умел преподавать. С ним музыка превращалась в нуд¬
ное, сухое занятие; его образцами были Крамер, Штей-
бельт, Дуссек72, во всяком случае их он ставил мне в
пример. Бетховена он считал чувственным. Он являл¬
ся пунктуально два раза в неделю; урок состоял в мо¬
нотонном повторении нескольких упражнений, не
столько полезных для развития беглости пальцев,
сколько просто рутинных: я исполнял несколько гамм,
123
арпеджио, потом начинал пережевывать «восемь по¬
следних тактов» очередной пьесы, то есть последних
из уже изученных; затем мы продвигались еще на во¬
семь шагов, и он отмечал карандашом в виде большой
буквы V заданный урок, как отмечают в лесу деревья,
предназначенные на сруб, потом, поднимаясь одновре¬
менно со звоном часов, говорил:
— К следующему уроку учите очередные восемь
тактов.
И никогда ни малейшего объяснения. Ни разу не об¬
ратился он не то что к моему музыкальному вкусу или
к моей чувствительности (об этом не могло быть и ре¬
чи), но хотя бы к моей памяти или рассудку. Каких бы
успехов я добился, если бы в ту пору, когда человек
только формируется когда его уму свойственна гиб¬
кость и он легко все усваивает, мать сразу же нашла
для меня такого замечательного учителя, как г-н Дела-
нюкс, появившийся, увы, слишком поздно! К сожале¬
нию, через два года скучнейшей зубрежки я освобо¬
дился от г-на Мерримана лишь затем, чтобы перейти в
руки Шифмакера73.
Впрочем, в те времена было не так легко, как сей¬
час, найти хорошего преподавателя; Schola74 их еще
не готовила, музыкальное образование во Франции
сильно отставало, и к тому же мать вращалась в обще¬
стве, которое в музыке ничего не смыслило. Бесспор¬
но мама прилагала большие усилия для самообразова¬
ния и для моего обучения; но эти усилия не получали
должного направления. Шифмакера ей горячо реко¬
мендовала одна подруга. В первый же день, придя к
нам, он изложил свою систему преподавания. Это был
тучный старик, страдавший одышкой и отличавшийся
большой горячностью: когда он говорил, то краснел,
как кузнечный горн, клокотал, свистел и брызгал
слюной. Он словно находился под давлением и выпу¬
скал пар. Волосы у него были подстрижены ежиком,
и он носил бакенбарды: белые, как снег, они словно
плавились на его лице, которое ему приходилось все
время вытирать. Он разглагольствовал следующим об¬
разом:
124
—Другие учителя что говорят? Что нужно упраж¬
няться, упражняться и тому подобную ерунду. А я раз¬
ве упражнялся? Ничуть не бывало! Можно научиться
играть, только играя. Это все равно что учиться гово¬
рить. Вот вы, мадам, посудите сами, согласитесь ли вы,
чтобы вашего ребенка каждое утро заставляли делать
языковую гимнастику: ра, ра, ра, гла, гла, гла, затем,
мол, что в течение дня ему придется говорить. (Здесь
мать в ужасе от обилия влаги, обрушенной на нее
Шифмакером, отодвинула подальше свое кресло, а он
свое настолько же придвинул.) Иметь, как говорится,
хорошо подвешенный язык — значит знать, что ска¬
зать, а чтобы выразить за пианино то, что чувствуешь,
для этого есть пальцы. Вот если ничего не чувствуешь,
то, будь у тебя но десять пальцев на одной руке, ниче¬
го не получится!
После чего он громко смеялся, давился, кашлял, не¬
сколько секунд задыхался, вращая побелевшими глаза¬
ми, потом утирал лицо и обмахивался платком. Мать
предлагала ему стакан воды, но он делал знак, что ни¬
чего страшного нет, дергал короткими ручками и нож¬
ками, уверял, что он просто хотел одновременно по¬
смеяться и прокашляться, оглушительно крякал и, по¬
вернувшись ко мне, заявлял:
— Итак, малыш, ты понял: долой упражнения. По-
смотрите-ка, мадам, как он доволен, наш шалун. Он
верно думает: с папашей Шифмакером не соскучишь¬
ся. Он прав, наш мальчуган.
Матушку, забрызганную, ошеломленную, при всем
том забавляла эта комическая сцена, хотя и вместе с
тем и пугала, так как она не могла одобрить метод обу¬
чения, исключавший принуждение и усилие, без кото¬
рых сама она в жизни не обходилась, вкладывая во
все, что бы ни делала, массу старания, поэтому она пы¬
талась произнести хоть одну связную фразу, но тщет¬
но: сквозь непрерывный плеск фонтана доносилось
только:
—Да-да, лишь бы... но ему и не надо... конечно...
при условии что...
Внезапно Шифмакер поднялся.
125
—А теперь я вам кое-что сыграю, чтобы вы не по¬
думали: этот учитель музыки умеет только говорить.
Он открыл фортепьяно, взял несколько аккордов,
потом принялся за маленький этюд Стефана Геллера.
Он сыграл его шумно и воинственно, в бешеном ритме
и с невероятным блеском. У него были маленькие,
красные ручки, которыми он, почти не приподнимая
коротких пальцев, словно бы месил клавиши. Его игра
не была похожа ни на что слышанное мной до тех пор
и впоследствии; то, что называют техникой, у него со¬
вершенно отсутствовало, и, думаю, он споткнулся бы,
исполняя простую гамму; он никогда не играл пьесу
так, как она была написана: это всегда было нечто при¬
близительное, необычное, пылкое и смачное.
Я не был в восторге от того, что он отменил упраж¬
нения; я уже привык к таким занятиям; новый препо¬
даватель нужен мне был, чтобы идти вперед, но теперь
я сомневался, возможно ли это с таким странным учи¬
телем... У него были удивительные принципы, напри¬
мер, он считал, что палец на клавише не должен ле¬
жать неподвижно, но, словно палец скрипача или смы¬
чок, прикасающийся к дрожащей струне, должен
скользить по клавише то вверх, то вниз, усиливая та¬
ким образом или ослабляя звук. Именно эта метода и
придавала его игре такой необычный ввд, словно он
разминал мелодию, как тесто.
Его уроки внезапно прекратились после ужасной
сцены. Вот как это произошло. Шифмакер, как я уже
сказал, был тучен. Мать, опасаясь, что маленькие
стулья гостиной в силу их деликатной конструкции не
выдержат его веса, принесла из прихожей большое, не¬
красивое кресло, обтянутое «чертовой кожей», плохо
сочетавшееся с меблировкой гостиной. Она поставила
это кресло возле пианино, «чтобы он сразу понял, ку¬
да ему садиться». Первый урок прошел благополучно,
кресло выдержало напор и подпрыгивания крупного
тела маэстро. Но в следующий раз произошло нечто
ужасное: обивка, вероятно, размягченная еще в про¬
шлый раз, прилипла к его брюкам. Это обнаружилось
только в конце урока, когда он пожелал встать. На¬
126
прасные усилия! Кресло крепко держало его. Ткань
его тонких панталон (дело было летом), будь она чуть
более ветхой, наверняка порвалась бы; несколько се¬
кунд протекли в тревожном ожидании... Но вот, при
последнем усилии, обивка начала медленно поддавать¬
ся, позволив, словно бы в знак примирения, отодрать
себя. Я держал кресло в большом смущении и не реша¬
ясь рассмеяться, он же, приподнимаясь, повторял:
— О господи! Что это еще за адское изобрете¬
ние? — и пытался взглянуть через плечо, как происхо¬
дит процесс отдирания, от чего лицо его становилось
еще краснее. К счастью, все обошлось без ущерба для
его штанов, пострадала только обивка, значительную
часть которой он унес с собой, оставив на кресле отпе¬
чаток своего широкого зада.
Самым неожиданным было то, что он дал волю сво¬
ему гневу только в следующий раз. Не знаю, что за му¬
ха его укусила, но, когда после урока я провожал его,.
он вдруг в прихожей разразился яростными инвектива¬
ми, заявил, что он меня раскусил, что я только «прики¬
дываюсь добрым», что он больше не потерпит, чтобы
над ним насмехались, и что ноги его больше не будет
в доме, где над ним так издеваются.
Он и впрямь больше не появился, и спустя некото¬
рое время мы узнали из газет, что он утонул, катаясь
на лодке.
Я заходил в гостиную редко и только потому, что
там стояло пианино. Как правило, она оставалась за¬
пертой, с мебелью, одетой в чехлы из белого в тонкую
красную полоску перкаля. Эти чехлы так удачно обле¬
гали стулья и кресла, что было приятно вновь надевать
их каждый четверг утром, когда парад — по средам
мать принимала гостей — заканчивался. После чего
перкаль особым образом складывали и прикрепляли
маленькими крючками к спинке стула или кресла. На¬
ша гостиная целомудренная, скромная, с зачехленной,
словно одетой в униформу мебелью, восхитительно
прохладная летом, из-за закрытых ставен, пожалуй,
нравилась мне больше, чем вторая, в которой взор по¬
ражала однообразная и аляповатая роскошь. В той сто¬
127
яли штофные стулья и кресла в стиле Людовика XVI,
обтянутые голубым узорчатым шелком с тусклой позо¬
лотой; из того же шелка были и драпировки, что тяну¬
лись вдоль стен и обрамляли камин; по обе стороны ка¬
мина стояли два кресла, еще более внушительные, чем
вся остальная мебель, их роскошь меня ослепляла; я
знал, что они обтянуты «генуэзским бархатом», но для
меня оставалось загадкой, на каком станке была вы¬
ткана эта неимоверно сложная ткань, сочетавшая бар¬
хат, гипюр и вышивку; обивка была табачного цвета, а
подлокотники черными с позолотой; садиться в эти
кресла мне не разрешалось. На камине стояли канде¬
лябр и часы из позолоченной меди, представлявшие
целомудренную «Сафо» работы Прадье75. Что сказать
о светильниках и люстрах? Мысль моя сильно раскре¬
постилась в тот день, когда я осмелился прийти к выво¬
ду, что люстры в приличной гостиной не обязательно
должны состоять из хрустальных подвесок, как наши.
Перед камином расшитая шелковая ширма изобра¬
жала шиповник и китайский мостик; ее синева четко
запечатлелась в моей памяти; бамбуковую раму укра¬
шали шелковые кисти такого же лазурного цвета и
подвешенные на золотых нитях, по две к голове и хво¬
сту, перламутровые рыбки. Позднее мне рассказыва¬
ли, что мать втайне сама расшила эту ширму вскоре по¬
сле свадьбы; и, войдя в день своего рождения в каби¬
нет, отец обнаружил это произведение. Он не смог
скрыть досаду. Обычно такой мягкий, обожавший
мать, он почти рассердился:
— Нет, Жюльетта! — воскликнул он.— Нет, только
не это! Кабинет мой, и пусть хоть здесь все будет, как
я хочу.
Затем, обретя присущее ему добродушие, уверил
мать, что ширма ему очень нравится, только пусть луч¬
ше стоит в гостиной.
После смерти отца мы каждое воскресенье ужина¬
ли вместе с тетей Клер и Альбером; либо мы приходи¬
ли к ним, либо они к нам. Ради них чехлы не снима¬
128
лись. После еды, когда мы с Альбером садились за
фортепьяно, тетя и мать направлялись к большому сто¬
лу, который освещала масляная лампа, накрытая од¬
ним из тех прихотливых абажуров, что были тогда в
моде; мне кажется, сейчас таких уже нет. Раз в году в
одно и то же время мы с мамой отправлялись в писче¬
бумажный магазин на улице Турнон покупать новый;
там был большой выбор. Оттиснутые узоры и прорези
на непрозрачном картоне пропускали полосы света
сквозь очень тонкую и разноцветную бумагу, это было
что-то волшебное.
Стол в гостиной покрывала плотная бархатная ска¬
терть с широкой расшитой каймой из шерсти и шел¬
ка — кажется, плод терпеливой работы Анны и мате¬
ри в то время, когда они жили на улице М. Эта кайма
ниспадала вертикально по краям стола, так что ей
можно было любоваться только издали. Она представ¬
ляла собой витой шнур и изображала пионы и ленты,
во всяком случае что-то желтое и вычурное, напоми¬
навшее цветы. Кайма должна была по замыслу соче¬
таться с бархатом и соединялась с ним аккуратной че¬
редой зубцов, имитирующих этот материал, но бархат
не прилагал никаких усилий для согласия между ним
и каймой, он больше гармонировал с креслами, обиты¬
ми генуэзским бархатом, будучи такого же табачного
цвета, а зубцы так и остались светло-зелеными.
Пока тетя и мать играли в карты, мы с Альбером по¬
гружались в трио, квартеты и симфонии Моцарта, Бет¬
ховена и Шумана, с жаром расшифровывая аранжи¬
ровки для исполнения в четыре руки, которые предла¬
гали немецкие и французские издания.
Я почти сравнялся с Альбером в мастерстве, что,
правда, не означало ничего необыкновенного, зато по¬
зволяло нам вместе предаваться наслаждению музы¬
кой: оно запомнилось мне как одно из самых живых и
глубоких, какие я только знал.
Все время, пока мы играли, дамы не переставали
разговаривать; их голоса повышались вместе с нашими
fortissimo, но наши pianissimo, увы, почти не приглуша¬
ли их, и мы чувствительно страдали от этого недостат¬
129
ка сосредоточенности. Нам только дважды довелось
играть в тишине, и это было восхитительно. Мама на
пару дней оставила меня одного по причине, о которой
я сейчас скажу, и Альбер был так мил, что два вечера
подряд приходил ужинать со мной; если вы поняли, что
значил для меня мой кузен, то легко поймете, каким
праздником стали для меня эти его посещения, когда
он приходил ради меня одного и всецело принадлежал
только мне. Мы засиживались до глубокой ночи и иг¬
рали так великолепно, что нас, должно быть, слышали
ангелы.
Мама тогда уезжала в Ла Рок: на одной из наших
ферм началась эпидемия брюшного тифа, и мама, едва
узнав об этом, немедленно отправилась помогать боль¬
ным, считая, что это ее долг, так как эти люди — ее
арендаторы. Тетя Клер пыталась удержать ее, говори¬
ла, что у нее есть обязанности не только по отношению
к крестьянам, но прежде всего по отношению к сыну,
что она сильно рискует, а помощь может оказать весь¬
ма ограниченную: тетя могла бы еще добавить, что эти
люди, недавно начавшие работать на нашей ферме, уп¬
рямые и жадные, неспособны были оценить бескоры¬
стный поступок матери. Мы с Альбером поддержива¬
ли тетю, очень встревоженные, так как два человека
на ферме уже умерли. Советы, упреки,— ничто не по¬
могло: если мама в чем-то ввдела свой долг, она выпол¬
няла его, невзирая ни на какие препятствия. И если у
нее не всегда складывалось четкое понимание своего
долга, то только потому, что его затемняло множество
надуманных забот и мелких обязанностей, которыми
она обременяла свою жизнь.
Я полагал, что, говоря постоянно о матери, смогу в
достаточной мере обрисовать ее, но боюсь, у меня не
получилось того «человека благоволения»76, каким
она была (я беру эти слова в их евангельском смысле).
Она всегда стремилась к какому-нибудь благу, к совер¬
шенству и никогда не была удовлетворена собой. Ей
мало было просто скромности; она беспрестанно стара¬
лась исправить свои недостатки или недостатки, кото¬
рые она обнаруживала в других, занималась самоусо¬
130
вершенствованием, самообразованием, старалась и
других сделать лучше. Когда был жив отец, все это бы¬
ло лишь составной частью ее большой любви к нему,
растворялось в этой любви. Наверное, ее любовь ко
мне была не меньшей, но всю ту покорность, которую
она проявляла по отношению к отцу, она теперь вмени¬
ла в обязанность мне. Из-за этого происходили конф¬
ликты между нами, убеждавшие меня в том, что я по¬
хож только на отца; глубинное родовое сходство обна¬
руживается намного позднее.
Весьма заботясь о повышении как моей культуры,
так и своей собственной, очень ценя музыку, живо¬
пись, поэзию и вообще все, что превосходит обычный
уровень, мать прилагала все усилия, чтобы развить мой
вкус, мою способность суждения, равно как и свои соб¬
ственные. Если мы отправлялись на выставку кар¬
тин — а мы не пропускали ни одной, о которой сооб¬
щалось в «Тан»,— то непременно захватив с собой но¬
мер газеты, рассказывающий о ней, и на месте
перечитывали статью из опасения неправильно воспри¬
нять произведение или не осмотреть всего. Что касает¬
ся концертов, то ограниченность и робкое однообразие
тогдашних программ не вызывали опасений допустить
ошибку, оставалось только слушать, выражать одобре¬
ние, аплодировать.
Мама почти каждое воскресенье водила меня на
концерты Паделу77, чуть позже мы приобрели абоне¬
мент в Консерваторию, куда ходили в течение двух лет
раз в две недели по воскресеньям. Некоторые из этих
концертов производили на меня глубокое впечатление
и то, что я, как ребенок, еще не все понимал (мама на¬
чала меня водил» на концерты в 1879 г.) не мешало
формированию моего вкуса. Мне нравилось почти все,
как это и бывает в детстве; из неодолимой потребно¬
сти восхищаться я восхищался всем почти без разбора:
Симфонией в ut minor и Шотландской симфонией78,
серией концертов Моцарта, которые Риттер (или Рис-
лер) 79 играл в зале Паделу каждое воскресенье, «Пус¬
тыней» Фелисьена Давида80, которую я слушал не¬
сколько раз, ибо Паделу и публика выражали особую
131
склонность к этому милому произведению; теперь оно
показалось бы устаревшим и бледным, а тогда очаро¬
вывало меня так же, как восточный пейзаж Турнеми-
на81, который с первых моих посещений Люксембург¬
ского сада, показался мнб^ прекраснейшим в мире: на
фоне гранатово-апельсинового заката, отраженного
спокойными водами, он изображал слонов и верблю¬
дов на водопое, а вдали мечеть со взнесенными к небу
минаретами.
Но среди моих ярких воспоминаний о первых «му¬
зыкальных впечатлениях» есть одно, по сравнению с
которым все остальные блекнут. В 1883 г. Рубинштейн
дал несколько концертов в зале Эрар; программа вклю¬
чала фортепьянную музыку от истоков до наших дней.
Я присутствовал не на всех концертах, так как цены
были «немыслимые», по выражению мамы, а только на
трех, но сохранил о них такое светлое, живое воспоми¬
нание, что порой начинаю сомневаться, запомнился ли
мне сам Рубинштейн или лишь те произведения, кото¬
рые я впоследствии так часто перечитывал и изучал.
Но нет: именно его я слышу и вижу, а некоторые сочи¬
нения, например пьесы Куперена82 и Сонату в C-dur
Бетховена (ор. 53), ее рондо в mi (op. 90) и «Птицу-ве-
шунью» Шумана я вообще могу воспринимать не ина¬
че, как в его трактовке.
Рубинштейн пользовался огромным авторитетом. Он
был похож на Бетховена, и поговаривали, что он его
сын (не знаю, подходил ли он по возрасту ему в сы¬
новья); у него было плоское, скуластое лицо, широкий
лоб, наполовину скрытый пышной шевелюрой, кусти¬
стые брови, то отсутствующий, то властный взгляд, во:
левой подбородок и что-то недоброе в складке пухлых
губ. Он отнюдь не очаровывал, он покорял. Из-за блуж¬
дающего взгляда он казался пьяным, и, говорят, часто
так оно и было. Он играл, закрыв глаза и словно забыв
о публике. Он не столько представлял то или иное про¬
изведение, сколько каждый раз изучал и открывал его
заново или заново сочинял, причем это была не импро¬
визация, но пламенное ясновидение, постепенное откро¬
вение, приводившее его самого в восторг и удивление.
132
Из трех концертов, на которых я присутствовал,
один был посвящен старинной музыке, а два других —
Бетховену и Шуману. Я хотел побывать и на вечере,
посвященном Шопену, но мать считала музыку Шопе¬
на «нездоровой» и отказалась повести меня на этот
концерт.
На следующий год я реже ходил на концерты, зато
чаще в театр — в Одеон, в Театр Франсе, в особенно¬
сти же в Опера-Комик, где давали весь устаревший ре¬
пертуар того времени: оперы Гретри, Буальдьё, Эроль-
да83, чья грация тогда мне очень нравилась, а сейчас
вызывала бы лишь смертельную скуку. Нет, я не упре¬
каю этих очаровательных авторов, я обвиняю саму дра¬
матическую музыку, театр вообще. Может быть, в то
время я бывал там слишком часто? Сейчас мне все ка¬
жется рассчитанным, условным, утрированным, тоск¬
ливым... Если я еще иногда по оплошности попадаю в
театральный зал и рядом со мной нет никого, кто бы
меня удержал, я с трудом досиживаю до первого ант¬
ракта, и, соблюдая благопристойность, тут же сбегаю.
В последнее время «Старая голубятня» Копо84, его ма¬
стерство и энергия, веселый задор его труппы немно¬
го примирили меня со сценическими эффектами. Но
довольно отступлений, я возвращаюсь к своим воспо¬
минаниям.
В то время Арман Бавретель85, мальчик моих лет,
вот уже второй год приезжал к нам на каникулы; ма¬
ма, умудрившаяся раздобыть мне этого приятеля, виде¬
ла в его присутствии двойную пользу: она давала воз¬
можность ребенку из не очень состоятельной семьи,
который на все лето остался бы в Париже, провести
время на свежем воздухе, а меня отрывала от слишком
созерцательных радостей рыбной ловли. Арман Бавре¬
тель должен был ходить со мной гулять. Разумеется, он
был сыном пастора. Первым летом он приехал с Эдмо¬
ном Ришаром, вторым — с Ришаром-старшим, у кото¬
рого я уже был пансионером. Это был хрупкий на вид
ребенок с нежными, тонкими, почти красивыми черта¬
ми лица, его живые глазки и робость делали его похо¬
жим на белку; он был от природы шаловлив и, когда
133
чувствовал себя непринужденно, любил посмеяться.
Но в первый вечер бедный малыш, смущенный боль¬
шой гостиной дома в JIa Рок, несмотря на сердечный
прием Анны и матери, разрыдался. Поскольку я тоже
старался быть с ним ласковым, эти слезы меня очень
удивили и даже немного шокировали; мне показалось,
что он не оценил обходительность моей матери, и я го¬
тов был упрекнуть его в непочтительности. Тогда я не
понимал, насколько картина благоденствия тягостна
для бедняка. Между тем гостиная в Ла Рок не отлича¬
лась особой роскошью, но в ней вы, конечно, чувство¬
вали себя защищенным от неотступных забот, состав¬
ляющих, подобно своре собак, злобную свиту нищеты.
Арман к тому же впервые покинул свою семью, и, ду¬
маю, он был из тех, кто чувствует себя неловко в не¬
родной обстановке. Впрочем, неприятное впечатление
от первого вечера длилось недолго, мальчика вновь об¬
ласкали и мать, и Анна, которая по понятным причи¬
нам понимала его лучше всех. Я же был в восторге от¬
того, что у меня есть товарищ, и на время забросил
свои удочки.
Больше всего мы любили углубиться в чащу леса,
как «Трапперы из Арканзаса» 86, о чьих приключениях
рассказал Гюстав Эмар; мы презирали проторенные
тропы, не отступали ни перед зарослями, ни перед бо¬
лотами и были, наоборот, очень довольны, если густые
сплетения ветвей принуждали нас с трудом ползти на
четвереньках, а то и на животе, так как окольные пу¬
ти мы почитали за бесчестье.
По воскресеньям мы проводили послеобеденное
время в Валь-Рише, наши игры в прятан, изобиловав¬
шие приключениями, достойны эпоса; они проходили
на территории большой фермы среди риг, сараев и
прочих построек. Потом, когда там для нас уже не ста¬
ло ничего таинственного, мы перебрались в Ла Рок,
куда приходили Лионель и его сестра Бландина; мы
поднимались на ферму Кур Век (мои родители назы¬
вали ее Кур л’Эвек) и там, на фоне новых декораций,
игры в прятки возобновлялись с еще большим вооду¬
шевлением. Бландина убегала вместе с Арманом, а мы
134
с Лионелем оставались вдвоем; одни искали, другие
прятались под вязанками хвороста, в стогах сена, в со¬
ломе; мы залезали на крыши, проникали во все щели
и отверстия, в том числе в ту опасную воронку, в ко¬
торую ссыпают яблоки в давильне, изобретали, спаса¬
ясь от преследования, разные акробатические номе¬
ра... Но как ни увлекала нас погоня, быть может, на¬
стоящую радость приносило нам соприкосновение с
дарами земли, прыжки в могучие стога, погружение в
волны разнообразных запахов. О, аромат сухой люцер¬
ны, резкие запахи загона для свиней, конюшни, стой¬
ла, хмельные пары давильни, а в глубине ее, между
бочками, пахнущими затхлостью и немного пле¬
сенью,— веяние холодного воздуха! Да, позднее я по¬
знал пьянящую атмосферу сбора винограда, но, слов¬
но Суламифь, просившая подкрепить ее яблоками87, я
вдыхаю изысканный, небесный аромат этих плодов с
большим наслаждением чем сладкий, прозаический
запах сусла. Когда на чистый пол амбара, образуя мяг¬
кие склоны, сыпалась золотая пшеница, мы с Лионе¬
лем снимали куртки, закатывали рукава и до плечей
погружали в нее руки, чувствуя, как между нашими
растопыренными пальцами текут мелкие, прохладные
зернышки.
Однажды мы договорились, что каждый из нас по
очереди, втайне от других, выберет себе жилище, куда
пригласит в гости остальных троих, а те принесут с со¬
бой еду. Мне выпало быть первым. Я решил устроить¬
ся на огромном известняковом камне, белом, гладком
и очень красивом, но лежавшем посреди зарослей кра¬
пивы, которые я преодолевал колоссальным скачком
при помощи шеста, взяв очень большой разбег. Я на¬
звал мое прекрасное владение «Почему бы нет?» Уст¬
роившись на камне, словно на троне, я поджидал гос¬
тей. Наконец они пришли, но, завидя отделявшую ме¬
ня от них изгородь из крапивы, испустили громкие
крики. Я протянул им шест, которым пользовался сам,
предлагая им тоже прыгнуть, но едва они со смехом за¬
владели им, как убежали со всех ног, унося и шест, и
еду, и бросив меня в этом чертовом уединении, отку¬
135
да, не имея места для разбега, я выбрался с неимовер¬
ным трудом.
Арман Бавретель провел с нами только два лета.
Летом 1884 года мои кузины тоже не приехали в Ла
Рок или побыли очень короткий срок и, оставшись
один, я чаще навещал Лионеля. Не довольствуясь тем,
что мы открыто встречались по воскресеньям, когда
я — так было решено — полдничал в Валь-Рише, мы
назначали друг другу настоящие любовные свидания,
на которые бежали тайно, с бьющимся сердцем и ду¬
шевным трепетом. Мы условились о тайнике, служив¬
шем нам почтой до востребования; чтобы дать знать,
где и как мы встретимся, мы обменивались странны¬
ми, загадочными, зашифрованными письмами: их
можно было прочесть только с помощью картонной ре¬
шетки или ключа. Письмо мы клали в закрытый сунду¬
чок и прятали его под мох у подножия старой яблони
на опушке леса, на полпути от наших жилищ. Навер¬
ное, в наших преувеличенных чувствах было, как ска¬
зал Лафонтен, «чуть-чуть вымысла» 88, но в них не бы¬
ло лицемерия: мы поклялись друг другу в верной друж¬
бе, и думаю, что ради встречи прошли бы через огонь
и воду. Лионель убедил меня в том, что столь торжест¬
венный договор требует залога, он разделил на две по¬
ловинки лютик, одну отдал мне, а другую поклялся но¬
сить с собой, как талисман. Я положил свою половин¬
ку цветка в вышитый мешочек, повесив его на шею, и
носил, словно ладанку, на груди вплоть до первого при¬
частия.
Как ни нежна была наша дружба, в наших отноше¬
ниях не было ни грана чувственности. Во-первых, Лио¬
нель был очень некрасив, во-вторых, я уже тогда был
совершенно не способен смешивать духовное и чувст¬
венное: к этому у меня впоследствии развилось особое
отвращение; мне кажется, таково мое характерное
свойство. Со своей стороны, Лионель, как достойный
внук Гизо, демонстрировал чувства в духе Корнеля.
Однажды перед отъездом, когда я хотел его обнять, он
остановил меня, вытянув вперед руки, и торжественно
произнес:
136
— Не надо, мужчины не обнимаются!
Видя во мне друга, он хотел, чтобы я как можно
лучше узнал его жизнь и нравы его семьи. Я уже ска¬
зал, что он был сирота; поместье в Валь-Рише в ту по¬
ру принадлежало его дяде, тоже зятю Гизо, так как два
брата де Р. женились на двух сестрах. Г-н де Р. был де¬
путатом и остался бы им до конца жизни, если бы в на¬
чале дела Дрейфуса не осмелился — единственным из
всех — голосовать против своей партии (разумеется,
правой). Очень добрый и честный, он был немного бес¬
характерным, ему не хватало то ли внушительности, то
ли чего-то еще, что позволило бы ему по-настоящему,
а не только в силу возраста и формально председатель¬
ствовать за столом в окружении многочисленного се¬
мейства; самые молодые его члены не всегда были са¬
мыми послушными, но добряку уже и так стоило боль¬
ших трудов сохранять важный вид рядом со своей
супругой, чье превосходство его утомляло. Мадам
деР. была, впрочем, очень уравновешенной, очень
мягкой и вполне любезной; ни в тоне ее голоса, ни в
манерах не было никакой заботы о внушительности,
но, не говоря ничего особенно нового или глубокого,
она никогда не тратила слов впустую, и все, что она
произносила, всегда отличалось рассудительностью (я
опираюсь не только на свои детские воспоминания, но
и на сравнительно недавние впечатления), так что ее
влияние естественно превращалось в господство над
всеми. Не думаю, что лицом она очень напоминала Ги¬
зо, но она была его секретаршей, его наперсницей и,
конечно, осознание значительности такого прошлого
увеличивало ее авторитет.
Не только г-н де Р., но и все члены этой семьи в той
или иной мере занимались политикой. В своей комна¬
те Лионель заставлял меня снимать шапку перед фото¬
графией герцога Орлеанского89 (тогда я понятия не
имел, кто это такой). Его старший брат, пытавшийся
склонить общественное мнение в свою пользу в одном
из южных департаментов, два раза проваливался на
выборах. Почтальон приносил почту из Лизье; это
обычно случалось в ту пору, когда все сидели за сто¬
137
лом; каждый, от мала до велика, тотчас же хватал од¬
ну из газет, все переставали есть, и в течение долгого
времени я не видел за столом ни одного лица.
В воскресенье утром мадам де Р. совершала в гос¬
тиной богослужение, на котором присутствовали роди¬
тели, дети и слуги. Лионель властно сажал меня рядом
с собой и вовремя молитвы, когда мы стояли на коле¬
нях, брал меня за руку и сжимал ее в своей, словно
принося в дар Богу нашу дружбу.
Между тем Лионель был устремлен не только к
высокому. Рядом с молитвенной комнатой (то есть го¬
стиной, как я уже сказал) находилась библиотека: в
этом просторном, квадратном помещении все стены
были уставлены книгами и большая «Энциклопе¬
дия» 90 соседствовала с сочинениями Корнеля. Стоило
протянуть руку, и «Энциклопедия» раскрывалась пе¬
ред любопытным ребенком; и как только библиотека
пустела, Лионель начинал лихорадочно листать тома.
Одна статья сменялась другой, все было представлено
живо, доходчиво и красочно; эти дерзкие умники
XVIII века умели, обучая, великолепно развлекать,
удивлять и веселить. Когда мы проходили через биб¬
лиотеку, Лионель толкал меня в бок (в воскресенье
рядом с нами всегда были люди) и, подмигивая, ука¬
зывал мне на знаменитые тома, к которым мне еще
не выпало счастья прикоснуться. Впрочем, с моим бо¬
лее неповоротливым, чем у Лионеля умом, или про¬
сто более рассеянным, я не так интересовался всеми
этими вещами — понятно, что я имею в виду,— как
он, и, когда позднее, он рассказывал мне о своем изу¬
чении «Энциклопедии», делясь со мной некоторыми
своими открытиями, я слушал его, скорее ошеломлен¬
ный, чем возбужденный; я слушал, но ни о чем не рас¬
спрашивал. Я ничего не понимал с полуслова и даже
в следующем году, когда Лионель с горделивым и все¬
знающим видом, который он умел себе придать, сооб¬
щил мне, что нашел в комнате брата после его отъез¬
да книгу с многозначительным названием «Воспоми¬
нания охотничьей собаки» 91, я подумал, что речь идет
о псовой охоте.
138
Между тем «Энциклопедия» постепенно теряла для
Лионеля свою новизну, и настало время, когда ему уже
нечего было в ней почерпнуть. Из странной прихоти,
мы, на этот раз сообща, начали тогда читать самых
серьезных авторов: Боссюэ, Фенелона, Паскаля. Это
было в следующем году, как я уже сказал: мне пошел
шестнадцатый год. Я как раз получал религиозное об¬
разование, и наша с кузиной переписка направляла
мои мысли в ту же серьезную сторону. В том году, хо¬
тя лето и кончилось, мы с Лионелем не перестали ви¬
деться: мы ходили друг к другу в гости в Париже. На¬
ши встречи в ту пору были претенциозно-торжествен-
ными, хотя и не без пользы: мы вознамерились
досконально изучить упомянутых великих писателей,
комментировали кто во что горазд философские пас¬
сажи их книг и предпочитали самые темные места.
Трактаты «О.вожделении», «О познании Бога и себя
самого»92 и т. п. были методически изъяснены; нам,
любителям высокопарности, все казалось слишком
простым, но мы не терялись; мы изобретали нелепые
толкования, парафразы: прочти я их теперь снова, мне
стало бы стыдно, но они все же заставляли нас напря¬
гать ум и, что самое смешное, рождали чувство само¬
довольства.
Я заканчиваю рассказ о Лионеле, так как наша пре¬
краснодушная дружба не имела будущего, и мне уже
больше не придется вспоминать о ней. Мы еще не¬
сколько лет продолжали видеться, но радость от на¬
ших встреч становилась все меньше. Мои вкусы, мои
взгляды и мои сочинения ему не нравились; он попы¬
тался наставить меня на путь истинный, а потом пере¬
стал навещать. Я думаю, он был из тех, кто способен
лишь к «нисходящей» дружбе, то есть, к такой, что со?
провождается покровительством и опекой. Даже в са¬
мый разгар наших взаимоотношений он давал мне по¬
чувствовать, что по рождению выше меня. Тогда как
раз была издана переписка графа де Монталамбера93
с его другом Корнюде; это новое издание (1884 г.) бы¬
ло настольной книгой в гостиных Ла Рок и Валь-Рише;
поддавшись общему настроению, мы с Лионелем вос-
139
хшцались письмами, в которых Монталамбер строит
из себя великого человека; его дружба с Корнюде бы¬
ла такой трогательной, и Лионель мечтал, чтобы и на¬
ша была такой же; разумеется, мне отводилась роль
Корнюде.
Видимо, по той же причине он не терпел, когда его
чему-нибудь учили; всегда он все знал и порой выдавал
вам ваше же собственное мнение, но как свое, забыв
о том, что слышал его от вас, или самодовольно сооб¬
щал вам сведения, полученные от вас же. Он вообще
представлял как свое собственное изобретение все,
что заимствовал у других. Когда мы открывали для се¬
бя Мюссе, он бросил как плод собственных размышле¬
ний высокомерное и, впрочем, нелепое суждение:
«Это парикмахер с музыкальной шкатулкой в сердце»,
а потом я нашел его в одном из журналов. (Я не стал
бы говорить об этом его недостатке, если бы не прочи¬
тал в «Тетрадях» Сент-Бёва94, что Гизо тоже им стра¬
дал.)
А что же Арман?
В течение нескольких месяцев я время от времени
виделся с ним в Париже. Его семья жила на улице А.
напротив Центрального рынка. При нем неотлучно на¬
ходилась его мать, достойная женщина, ласковая и
скромная; я встречал и двух его сестер: одна из них, на¬
много старше брата, старалась быть незаметной, полно¬
стью стушевавшись, как это часто бывает, из любви к
младшей сестре, и, насколько я могу судить, взяв на се¬
бя самую тяжелую работу по дому. Другая сестра, при¬
мерно такого же возраста, как Арман, была очарова¬
тельна; она словно олицетворяла в этом хмуром доме
грацию и поэзию; чувствовалось, что все в ней души не
чают, в особенности же Арман, впрочем, он проявлял
свои чувства довольно странно, о чем я еще скажу. У
Армана был еще взрослый брат, закончивший изучать
медицину и начавший подыскивать клиентов; не по¬
мню, чтобы я его встречал. Что касается отца семейст¬
ва, пастора Бавретеля, то его, видимо, целиком погло¬
щала филантропия, и я долго его не видел, но вдруг од¬
нажды во второй половине дня, когда мадам Бавретель
140
пригласила на полдник нескольких друзей Армана и
мы собрались отведать пирога с запеченным бобом, он
произвел сенсацию своим появлением. Боже! какой
урод! Перед нами был коротышка с квадратными пле¬
чами и с руками гориллы; строгая пасторская одежда
только подчеркивала грубость его облика. Что сказать
о его лице? Седеющие, маслянистые волосы раздель¬
ными жидкими прядями падали на его лоснившийся
воротник; глаза навыкате были прикрыты толстыми
веками; нос представлял собой бесформенную груду,
нижняя распухшая губа фиолетового цвета, дряблая и
мокрая, выпирала вперед. Стоило ему появиться, как
мы тут же сникли. Он оставался не долее минуты, про¬
изнес какую-то незначительную фразу, типа «Не стес¬
няйтесь, дети» или «Да хранит вас Господь», и вышел,
уведя с собой мадам Бавретель, дабы сказать ей не¬
сколько слов.
На следующий год он появился точно так же и при
точно таких же обстоятельствах, сказал ту же фразу
или совершенно похожую и собирался точно так же
удалиться в сопровождении супруги, но той пришла в
голову злосчастная идея представить меня пастору, ко¬
торый прежде знал только мое имя; тот привлек меня
к себе и — о, ужас! — прежде чем я смог увернуться,
поцеловал меня.
Я видел его лишь эти два раза, но впечатление бы¬
ло таким сильным, что он с тех пор не переставал пре¬
следовать мое воображение; он даже попытался посе¬
литься в книге, которую я собирался написать (я еще
не отказался от этого замысла): я хотел изобразить в
ней мрачную атмосферу дома Бавретелей. Здесь бед¬
ность заключалась не только в каких-то ограничениях,
как часто думают богатые; она была настоящей, угро¬
жающе-неотступной и ужасающим образом властвова¬
ла над умами и сердцами, проникая повсюду, в самые
укромные и незащищенные закоулки души, повреждая
хрупкие основы жизни. Сейчас мне ясно то, чего тог¬
да я не был еще готов понять; многое в доме Баврете¬
лей казалось мне странным, потому что я не видел при¬
чины этих странностей, не мог связать их с той стес¬
141
ненностью в средствах, которую семья, из стыда, тай
тщательно скрывала. Я не был особенно избалованным
ребенком: я уже рассказывал о бдительности матери,
следившей за тем, чтобы я ничем не отличался от мо¬
их менее обеспеченных товарищей, но мать никогда
бы не стала лишать меня привычных радостей и выры¬
вать из очарованного круга счастья и благополучия. Я
принадлежал к привилегированному слою, сам того не
ведая, как был французом и протестантом, не отдавая
себе в этом отчета. Все прочее казалось мне необыч¬
ным. Точно так же, как нам требовался дом с въездны¬
ми воротами, вернее, «нам полагалось», как выража¬
лась тетя Клер, иметь таковые, точно так же «нам по¬
лагалось» ездить исключительно в первом классе, а в
театре я не понимал, как уважающие себя люди могут
сидеть выше балкона. К чему привело подобное воспи¬
тание, об этом еще рано говорить; пока что я вспоми¬
наю ту пору, когда, прид я с Арманом на утренний спек¬
такль в Опера-Комик,— разрешив нам впервые вдти
одним, мать взяла нам билеты на второй ярус галерки,
решив, что эти места вполне подходят мальчикам на¬
шего возраста — так вот, придя в театр, я был шокиро¬
ван тем, что оказался гораздо выше, чем обычно, в ок¬
ружении людей, казавшихся мне вульгарными; ринув¬
шись в кассу, я выложил все свои карманные деньги,
доплатив за билеты, позволившие мне вновь обрести
мой уровень. Следует добавить, что, впервые пригла¬
сив Армана, я к тому же переживал, что предлагаю ему
не самые лучшие места.
Итак, в день Богоявления мадам Бавретель при¬
гласила друзей Армана на пирог с бобом. Я несколь¬
ко раз присутствовал на этом маленьком праздни¬
ке — правда, не каждый год, так как зимой мы обыч¬
но бывали в Руане или на юге; но я принимал участие
в праздновании и после 1891 г.: помню, добрая мадам
Бавретель представляла меня как известного писате¬
ля другим молодым людям, тоже более или менее
знаменитым. Конечно, эти приемы организовывались
не без задней мысли: надо было устроить неопреде¬
ленное будущее младшей сестры. Мадам Бавретель
142
надеялась, что, быть может, среди этих молодых зна¬
менитостей найдется партия для ее дочери. Эту ее
тайную заботу, в которой она, наверное, ни за что не
призналась бы, грубо выдавало циничное поведение
Армана: он позволял себе самые откровенные и не¬
скромные намеки; резал пирог и, зная, где находится
боб, исхитрялся сделать так, чтобы он попался сестре
или предполагаемому претенденту. Поскольку боль¬
ше девушек не было, приходилось выбирать ее коро¬
левой. И тогда какие только Арман не отпускал шут¬
ки! Конечно, он уже тогда страдал тем странным не¬
дугом, который спустя несколько лет привел его к
самоубийству. Я не могу иначе объяснить то упорст¬
во, с каким он изводил сестру: он переставал дони¬
мать ее не раньше, чем она начинала рыдать, и если
слов для этого было недостаточно, он толкал ее и ищ-
пал. Значит ли это, что он ее ненавидел? Думаю, на¬
против, он обожал ее и страдал вместе с ней, подвер¬
гая ее истязаниям, так как был от природы мягок и
нисколько не жесток; но его злобный демон побуж¬
дал его всячески измываться над любимой сестрой. С
нами Арман бьщ оживлен и весел, но язвительное от¬
ношение к самому себе, своим близким и ко всему,
что он любил, заставляло его выставлять напоказ их
нищету; он приводил в отчаяние мать, обращая внима¬
ние на то, что та пыталась скрыть: на пятна, на разроз¬
ненный сервиз, на ветхие вещи — и приводил гостей
в замешательство. Мадам Бавретель теряла присутст¬
вие духа, волей-неволей соглашалась с ним, словно
принимая участие в игре, но все портила неуклюжи¬
ми извинениями типа «Конечно, у г-на Жида не стали
бы подавать праздничный пирог на выщербленном
блюде» неловкость этих фраз тут же подчеркивал вы¬
зывающий смех Армана или его восклицания: «Я в это
блюдо ставил ноги», «Наверное, впервые такое ви¬
дишь, старина!», восклицания болезненные, в кото¬
рых он словно бы не отдавал себе отчета. А теперь во¬
образите себе: хохочущий Арман, протестующая мать,
сестра в слезах, смущенные гости — и для доверше¬
ния картины торжественное появление пастора!
143
Я уже упоминал, насколько остро, в силу моего вос¬
питания, воспринимал непривычный вид нищеты, но
здесь к ней добавлялось еще какое-то гримасничанье,
что-то принужденное, заискивающее и несуразное, от
чего голова шла кругом и вскоре полностью исчезало
чувство реальности; все вокруг меня начинало коле¬
баться, терять устойчивость, приобретать фантастиче¬
ские очертания — и не только место, люди, слова, но
и я сам, мой собственный голос, который я слышал
словно со стороны, удивляясь его звучанию. Порой
мне казалось, что Арман вполне осознанно и стара¬
тельно участвует во всей этой фантасмагории, такой
верной и рассчитанной была едкая нота, вносимая им
в общий концерт; мне чудилось даже больше: что сама
мадам Бавретель находит упоение в этой безумной гар¬
монии, когда она, к примеру, представляла автору
«Тетрадей Андре Вальтера»95, «замечательной книги,
вы ее, конечно, читали», г-на Деэлли, «получившего в
Консерватории первый приз за декламацию96, о нем с
похвалой писали газеты», и прочих приглашенных, ха¬
рактеризуя их в таком же духе, так что и я сам, и Де¬
элли и все остальные превращались в марионеток и бе¬
седовали, жестикулировали, будучи во власти всей
этой искусственной атмосферы. Распрощавшись, мы
бывали очень удивлены, оказавшись на улице.
Впоследствии я вновь увидел Армана... В тот день
меня встретила его сестра. Она была в квартире одна
и сказала, что я найду брата двумя этажами выше, у не¬
го в комнате: он велел передать, что не спустится вниз.
Я знал, где его комната, но прежде в ней не бывал. Она
выходила на лестницу напротив помещения, где, если
не ошибаюсь, его брат открыл медицинский кабинет.
Комната была не очень маленькой, но очень темной, из
ее окна был ввден внутренний дворик; уродливая лам¬
па под перекошенным цинковым колпаком струила ту¬
склый свет. Арман лежал одетый на разостланной по¬
стели, одежду он надел поверх ночной сорочки, лежал
небритый, без галстука. Когда я вошел, он встал и об¬
нял меня, чего обычно не делал. Я не помню начала на¬
шего разговора. Должно быть, меня больше занимал
144
вид его комнаты, чем его слова. Во всем помещении
не было ни, единого предмета, на котором мог бы от¬
дохнуть глаз: нищета, мерзость, грязь производили
столь тягостное впечатление, что вскоре я спросил его,
не хочет ли он прогуляться со мной.
—Я больше не выхожу,— коротко ответил он.
— Почему?
— Ты же видишь, я не могу выйти в таком виде.
Я настаивал, убеждая его в том, что он может при¬
стегнуть воротник и что мне не важно, брился он или
нет.
—Я ведь еще и не мыт,— заметил он. И с болезнен¬
ной насмешливостью сообщил, что больше не моется,
поэтому в его комнате такой дурной запах, что он толь¬
ко спускается есть, а на улицу не показывал носа уже
три недели.
— Что же ты делаешь?
— Ничего.
Уввдев, что я пытаюсь разглядеть названия книг, ва¬
лявшихся на краю стола возле его кровати, он спросил:
—Ты хочешь знать, что я читаю?
Он протянул мне «Орлеанскую девственницу»
Вольтера, которая, я это знал, уже давно была его на¬
стольной книгой, «Цитатник» Пиго-Лебрена и «Рого¬
носца» Поля де Кока97. Потом, в приливе откровенно¬
сти, он поведал мне в своей странной манере, что не
выходит, потому что способен причинять только зло,
только вредить другим, что он всем неприятен, отвра¬
тителен, и вообще вовсе не так умен, как прежде пы¬
тался показать, а в последнее время и вовсе не знает,
как пользоваться своим жалким умишком.
Теперь я думаю, что не должен был оставлять его в
таком состоянии, что мне надо было с ним хотя бы по¬
дольше, поговорить; конечно, вид Армана и его слова
не взволновали меня тогда так, как потом, когда я
вспоминал о нем. Должен добавить и следующее: я
вроде хорошо помню, как он внезапно спросил меня,
что я думаю о самоубийстве, и, глядя ему в глаза, я от¬
ветил с тем цинизмом, на который был в то время бо¬
лее чем способен, что в отдельных случаях самоубий¬
145
ство кажется мне достойным похвалы. Но, быть мо¬
жет, я все это вообразил позднее, без конца мысленно
перебирая подробности нашей последней встречи и на¬
мереваясь изобразить ее в книге, где я предполагал вы¬
вести и пастора.
Особенно много я думал об этой нашей встрече, по¬
лучив спустя несколько лет (к тому времени я уже по¬
терял его из ввду) известие о смерти Армана. Я был в
отъезде и не мог присутствовать на похоронах. Когда
чуть позже я посетил его несчастную мать, то не ре¬
шился ее расспрашивать. Кто-то мне сказал, что Арман
бросился в Сену.
VII
На пороге 1884 года со мной приключилось необы¬
чайное происшествие. Утром в первый день нового го¬
да я ходил поздравить Анну, жившую, как я уже гово¬
рил, на улице Вожирар. Домой я возвращался веселый,
довольный собой, погодой и людьми, жадный до все¬
возможных впечатлений, готовый радоваться любому
пустяку и полный самых радужных надежд на буду¬
щее. Не знаю почему, в тот день я пошел не по улице
Сен-Пласид, как обычно, а по маленькой, шедшей сле¬
ва параллельной улице, пошел из прихоти, просто ради
удовольствия сменить маршрут. Время близилось к по¬
лудню, воздух был прозрачным, и почти жаркое солн¬
це делило узкую улицу на две продольные половины: с
одной стороны тротуар был залит светом, другой — в
тени.
На полдороге я перешел с солнечной стороны на за¬
тененную. Я был так весел, что шел и подпрыгивал, на¬
певая и глядя в небо. И тут я увидел, как ко мне, слов¬
но ответ на мою радость, спускается что-то порхающее,
золотистое, похожее на луч солнца, прорезающий
тень, подлетает ко мне, бьет крылом и садится на фу¬
ражку наподобие Святого Духа. Я поднял руку: это бы¬
ла прелестная канарейка, она трепетала, как мое серд¬
це, готовое выпрыгнуть из груди. Конечно, перепол¬
нявшая меня радость была слишком явной и только
146
бесчувственные люди ее не замечали, конечно, для бо¬
лее проницательного взгляда я весь сверкал, словно
зеркало для приманки птиц, и мой блеск привлек это
небесное создание.
Я бегом вернулся к матери, с восторгом держа в
руках канарейку; меня возносила над землей горячая
уверенность в том, что птица была послана небом в
знак моего избранничества. Я начинал верить в свое
особое предназначение, усматривал в нем нечто мис¬
тическое; мне казалось, что отныне меня связывает
некий тайный договор, и, когда я слышал, как мать
рассуждает о желательной для меня карьере, напри¬
мер, по лесному ведомству, которая, как ей казалось,
мне особенно подходила, я из вежливости, словно
включаясь в игру — хотя мое сердце в ней почти не
участвовало — соглашался с ее планами, хорошо
зная, что мое истинное призвание состоит совсем в
ином. Я готов был сказать матери: «Как я могу распо¬
лагать собой? Разве ты не знаешь, что я не имею на
это права? Разве ты не поняла, что я избран?» Думаю,
если бы в один прекрасный день она предложила мне
выбрать профессию, я бы ответил ей что-нибудь в
этом роде.
Канарейка (это была самочка) присоединилась в
большой клетке к выводку щеглов, привезенных мной
из Ла Рок, и прекрасно с ними ужилась. Я был в вос¬
торге. Но самое удивительное впереди: спустя несколь¬
ко дней я шел поутру к улице Батиньоль, где жил те¬
перь г-н Ришар, и уже собирался перейти бульвар Сен-
Жермен, как вдруг примерно на середину шоссе косо
упала... или мне померещилось? еще канарейка! Я бро¬
сился к ней, но она была более дикой, чем первая, хоть
и выпорхнула, наверное, из той же клетки: канарейка
не подпускала меня и всякий раз улетала, но недале¬
ко — вспархивая над землей, как пленница, долго про¬
бывшая в неволе и опьяненная свободой. Я бежал за
ней вдоль трамвайной линии, трижды она ускользала
от меня, но наконец мне удалось накрыть ее фуражкой
между рельсами в тот миг, когда трамвай грозил раз¬
давить нас обоих.
147
Из-за охоты я опоздал на урок; но прибежал к учи¬
телю вне себя от радости, я задыхался от восторга,
крепко сжимая в руке канарейку. Г-на Ришара было не¬
трудно отвлечь от занятий, и все время прошло в по¬
исках маленькой клетки, в которой я мог бы, отнести
мою птицу домой на улицу Коммай. А ведь как я меч¬
тал о кенаре для моей канарейки! Просто чудо, что
еще одна птица вновь упала мне с неба. Эти столь не¬
обычайные события наполняли меня безумной гордо¬
стью, гораздо большей, чем если бы я сам совершил
что-то великое. Мое высокое предназначение было
очевидным. Отныне я выступал с гордо поднятой голо¬
вой, ожидая с небес, как Илия, мою пищу и отраду98.
Мои канарейки произвели на свет потомство и спу¬
стя несколько недель, хоть клетка и была большой, мо¬
им подопечным стало тесновато. По воскресеньям,
когда ко мне приходил мой кузен Эдуард, мы их выпу¬
скали у меня в комнате; они носились по ней, все пач¬
кали, садились нам на голову, на шкафы, на протяну¬
тые веревки, на ветки, принесенные из Булонского и
Медонского лесов и засунутые в ящики столов и шка¬
фов, вставленные горизонтально в замочные скважи¬
ны или воткнутые вертикально в цветочные горшки.
На первом этаже, в лабиринте прихотливо уложенных
ковров резвилось семейство белых мышей. Я уже не
говорю о рыбках в аквариуме.
Ришары переехали в Париж по разным причинам:
увеличение платы за жилье в квартале Пасен, желание
жить поближе к лицею, где должен был учиться ма¬
ленький Блез, надежда на то, что ученики этого лицея
будут брать уроки у г-на Ришара. К тому же мадам Бер¬
тран с дочерью решила жить у него в доме, что явилось
сильным ударом по семейному бюджету. Две мисс-пан-
сионерки отправились домой через Ла-Манш. Эдмон
Ришар вернулся в Гере. Я тоже больше не жил у г-на
Ришара, а приходил к нему каждое утро в девять ча¬
сов, обедал у него и возвращался на улицу Коммай к
ужину. Когда начался учебный год, я снова попытался
учиться в Эльзасской школе и продержался несколько
месяцев, но возобновившиеся головные боли опять по¬
148
мешали мне, и пришлось вернуться к прежнему режи¬
му, то есть к обучению урывками, не особенно утоми¬
тельному и более свободному, чем в лицее. Г-н Ришар
подходил для этого как нельзя лучше, будучи от при¬
роды с ленцой.
Сколько раз вместо урока мы отправлялись с ним
гулять! При виде солнца все наше усердие улетучива¬
лось, мы восклицали: «Как можно сидеть взаперти в
такой погожий день!» — и бродили по улицам, глазея
по сторонам, рассуждая о том о сем. В следующем го¬
ду у наших прогулок появилась цель: не знаю почему,
г-ну Ришару взбрело в голову снова сменить место жи¬
тельства; оказалось, его жилище ему не подходит и
нужно искать новое... Поэтому теперь скорее из раз¬
влечения мы бегали по объявлениям и осматривали
все, что «сдавалось».
Сколько мы облазили этажей в роскошных и бед¬
ных домах! Мы обычно выходили на поиски по утрам.
Порой жилище не пустовало, и мы заставали хозяев за
утренним туалетом. Эти полные открытий экспедиции
давали мне больше, чем чтение романов. Мы вели охо¬
ту возле лицея Кондорсе, в районе вокзала Сен-Лазар
и в квартале, носящем название Европейского; предо¬
ставляю читателю самому догадываться, какую дичь
мы там порой настигали. Г-на Ришара это тоже весели¬
ло, но он старался оградить меня от непривычных
сцен, шел в комнаты первым и порой резко кричал,
обернувшись ко мне: «Не ходите сюда!» Но я все рав¬
но успевал многое увидеть и иногда выходил после
этих осмотров потрясенный. Будь у меня другой тем¬
перамент, такое косвенное посвящение в тайны жизни
представляло бы большую опасность; но меня это толь¬
ко забавляло, нисколько не смущая и не распаляя,
больше того: во мне росло чувство осуждения развра¬
та, против которого я инстинктивно восставал. Воз¬
можно, какая-то особенно непристойная сцена нако¬
нец открыла глаза г-ну Ришару, и он осознал все непри¬
личие этих визитов в моем обществе; он положил им
конец. А может, он просто нашел подходящее жилище.
Во всяком случае, наши поиски прекратились.
149
В свободное от занятий время я много читал. В ту
пору шумным успехом пользовался «Дневник» Амье-
ля"; мне указал на эту книгу г-н Ришар, и сам читал
мне из нее длинные отрывки, с удовольствием находя
в ней выражение своих собственных колебаний, оши¬
бок, сомнений, своего рода оправдание себе и даже до¬
зволение двойственности; не остался и я равнодушным
к двусмысленному очарованию этого изысканного мо-
рализования, тогда как теперь дотошный самоанализ,
отсутствие четких принципов и витиеватый сталь авто¬
ра меня только раздражают. К тому же я вторил г-ну
Ришару и восторгался книгой из симпатии к нему, вер¬
нее, как это часто бывает, я не хотел быть невежли¬
вым, что, впрочем, не исключало искренности.
У г-на Ришара обедали два его пансионера, один
чуть постарше меня, другой на год или два моложе.
Старший, Адриан Жиффар, был круглым сиротой,
что-то вроде подкидыша, у него не было ни братьев,
ни сестер; не могу сказать, каким образом он оказал¬
ся у Ришаров. Этот Адриан представлял собой од ну из
тех посредственностей, что фигурируют в жизни
лишь как статисты и нужны словно бы только затем,
чтобы увеличивать число действующих лиц. Он не
был ни зол, ни добр, ни весел, ни грустен и ничем осо¬
бенно не интересовался. Он приехал с г-ном Ришаром
в Ла Рок в тот год, когда к нам перестал приезжать
Арман. Первое время он чувствовал себя там очень
плохо, так как не мог вволю курить из почтения к
моей матушке; от этого он почти заболел; тогда ему
был выдан весь запас табака, и он предался безоста¬
новочному курению.
Когда я занимался музыкой, он подходил к пиани¬
но, прикладывал ухо к инструменту и все время, пока
я играл гаммы, оставался в такой позе, в состоянии,
близком к блаженству; стоило же мне начать играть
какой-нибудь фрагмент, как он уходил.
— Нельзя сказать, что я люблю музыку,— говорил
он.— Но мне доставляют удовольствие ваши упражне¬
ния.
Сам он немного играл на дешевой флейте.
150
Моя мать внушала ему страх. Она олицетворяла для
него тот уровень культуры, от которого у него кружи¬
лась голова. Однажды во время прогулки, перелезая
через изгородь, он (не отличавшийся ловкостью) заце¬
пился за шип и порвал сзади брюки. Мысль о том, что
он предстанет в таком виде перед матушкой, привела
его в такой ужас, что он убежал и появился только че¬
рез два дня, проведя их неизвестно где и питаясь неиз¬
вестно чем.
— Единственное, что меня заставило вернуться,—
признался он мне после,— это табак. Без всего осталь¬
ного я обхожусь.
Бернар Тиссодье был толстый, веселый, открытый
парень, румяный, с черными волосами, подстриженны¬
ми ежиком. Рассудительный, любящий поговорить, он
вызывал у меня живую симпатию. Вечером, уходя из
дома г-на Ришара, где мы оба были полупансионерами,
мы с удовольствием проходили часть дороги вместе,
болтая друг с другом; одной из наших любимых тем
было воспитание детей. Мы приходили к полному со¬
гласию относительно того, что Ришары очень плохо
воспитывают своих детей и пускались в теоретические
рассуждения. В то время я еще не знал, до какой сте¬
пени врожденное берет верх над благоприобретенным
и сколько ни стирай, ни крахмаль, ни гладь, ни отутю¬
живай складки, подлинная материя все равно просту¬
пает, топорщится или махрится. Я тогда собирался на¬
писать трактат о воспитании и обещал посвятить его
Бернару.
Адриан Жиффар учился в лицее Лаканаля, Бернар
Тиссодье — в лицее Кондорсе. Однажды вечером
мать, читая «Тан», воскликнула, обращаясь ко мне;
— Надеюсь, твой друг Тиссодье по дороге из лицея
домой не ходит через Гаврский переулок? — (Для тех,
кто этого не знает, заметим, что упомянутый переулок
находится в двух шагах от лицея.)
Я никогда не интересовался маршрутом моего дру¬
га Тиссодье и не мог ничего ответить.
— Ты должен сказать ему, чтобы он там не хо¬
дил,— продолжала мама.
151
Голос ее был серьезен, она нахмурила брови, на¬
помнив мне одного капитана судна во время перехода
в ненастный день из Гавра в Онфлер.
— А что там такое?
— В газете пишут, что у Гаврского переулка плохая
репутация.
Больше она ничего не сказала, но ее загадочные
слова меня очень взволновали. Я в общем-то понимал,
что значит «плохая репутация», но мое воображение,
не обузданное понятиями ни о приличиях, ни о зако¬
нах, тотчас нарисовало мне Гаврский переулок (где я
ни разу не был) как место гнусного разврата, нечто
вроде геенны огненной или Ронсевальского ущелья
для добрых нравов 10°. Несмотря на мое знакомство с
обиталищами кокоток, я все еще оставался в мои пят¬
надцать лет удивительным невеждой относительно то¬
го, что же такое разврат; все, что я себе в этом роде
представлял, не имело никакого отношения к действи¬
тельности; я присочинял, преувеличивал непристой¬
ность, соблазн и омерзительность, в особенности омер¬
зительность — из-за того инстинктивного отвращения,
о котором я уже говорил: я воображал, как моего бед¬
ного Тиссодье в оргиастическом исступлении разрыва¬
ют гетеры. Когда в доме г-на Ришара я посмотрел на
этого полного, краснощекого добряка, такого спокой¬
ного, веселого, простого, сердце мое сжалось... Мы ос¬
тались в комнате одни — Адриан Жиффар, он и я; мы
делали уроки. Наконец я не выдержал и прерываю¬
щимся от волнения голосом спросил его:
— Бернар, когда ты идешь из лицея, ты ведь не хо¬
дишь через Гаврский переулок?
Он не сказал ни да, ни нет, но вполне естественно
ответил на мой неожиданный вопрос вопросом:
— Почему ты об этом спрашиваешь? — спросил он,
сделав большие глаза.
Внезапно меня охватило какое-то огромное, трепет¬
ное, паническое чувство, как при известии о смерти
маленького Рауля или как в тот день, когда я ощутил
себя одиноким, отверженным; сотрясаясь от рьщаний,
я упал к ногам моего друга:
152
— Бернар! Умоляю тебя: не ходи туда.
Мой голос, моя горячность, мои слезы — все дела¬
ло меня похожим на безумца. Адриан отодвинул свой
стул и с ужасом уставился на меня. Но Бернар Тис-
содье, воспитанный, как и я, в пуританском духе, ни на
минуту не усомнился в причине моей тревоги; самым
естественным, призванным утешить меня тоном он
сказал:
—Ты думаешь, я ничего не знаю об этом ремесле?
Клянусь, он сказал именно эти слова.
Меня словно окатили холодной водой. Я сразу по¬
нял, что он знает об этих вещах не меньше или даже
больше, чем я; его прямота, твердость и некоторая иро¬
ничность должны были успокоить меня, побудить пре¬
одолеть смятение, но именно они-то меня и сразили:
оказалось, что чудище, в которое я превратил все это,
можно разглядывать хладнокровно, не трепеща от
страха. Слово «ремесло» больно резануло мне ухо, при¬
дав конкретное, вульгарное значение тому, в чем я до
сих пор видел только возвышенную смесь мерзости и
поэзии; думаю, мне до той поры не приходило в голо¬
ву, что с развратом могут быть связаны деньги и что за
сладострастие платят, а может быть, (ведь я все-таки
кое-что читал и не хочу изображать себя слишком про¬
стоватым) меня привело в замешательство то, что об
этом знает кто-то моложе — я чуть было не сказал:
кто-то слабее — меня. Мне казались оскорбительными
уже сами эти познания. К моим чувствам примешива¬
лась и особая, неосознаннскгрепетная симпатия, по¬
требность по-братски защитить и досада, что мой по¬
рыв осмеяли...
После ответа Тиссодье я почувствовал себя расте¬
рянным и смешным, но он похлопал меня по плечу и
громко рассмеялся открытым, добрым смехом.
—Тебе не надо за меня бояться, это точно! — ска¬
зал он тоном, все ставившим на свои места.
Я постарался как можно подробнее описать то сво¬
его рода глубокое удушье, сопровождаемое слезами и
всхлипами, которому я был подвержен: первые три ра¬
за — о них я уже рассказал — оно меня самого очень
153
сильно удивило. Боюсь все же, что те, с кем не случа¬
лось ничего подобного, меня не поймут. Впоследствии
приступы этого странного состояния, не став реже, во¬
шли в привычку, стали не столь бурными, контролиру¬
емыми, как бы прирученными, и уже пугали меня не
больше, чем Сократа посещения его «демона»101. Я бы¬
стро понял, что опьянение без вина — не что иное, как
лирический восторг, и что в тот счастливый миг, ког¬
да меня настигает этот бред, меня посещает Дионис.
Увы! Сколь угрюмы и безрадостны для того, кто по¬
знал этого бога, те унылые часы, когда он медлит
вновь появиться.
Если мой порыв мало тронул Бернара Тиссодье, ме¬
ня, напротив, сильно потряс его добродушный, спокой¬
ный ответ. Верно, после этого разговора я и стал обра¬
щать внимание на некоторые уличные сцепы. Моя тетя
Демаре жила на бульваре Сен-Жермен, почти напротив
театра Клюни, точнее, напротив той улицы, что подни¬
мается к Коллеж де Франс: с балкона ее квартиры на
пятом этаже был ввден его фасад. У дома были ворота,
это правда, по как моя тетя с ее вкусами и принципами
могла выбрать этот квартал? С наступлением вечера на
тротуаре между бульваром Сен-Мишель и площадью
Мобер начиналась бойкая ловля клиентов. Альбер счел
необходимым предостеречь матушку.
— Я думаю, тетя,— сказал он ей в моем присутст-
вии,— желательно, чтобы этот юноша возвращался до¬
мой вместе с вами, когда вы приходите к нам ужинать
(это случалось раз в две недели). И сами лучше идите
посередине улицы до остановки трамвая.
Я не уверен, что все понял. Но однажды вечером,
вместо того чтобы, как обычно, быстро пробежать от
улицы Бак до двери дома тети, гордясь тем, что обогнал
трамвай, в который села мать, так вот, однажды весен¬
ним вечером — в тот день мать провела у сестры после¬
обеденное время, я вышел из дома раньше обычного —
и пошел, не торопясь, наслаждаясь первым теплом. Я
был уже почти у цели, как вдруг обратил внимание' на
странную походку некоторых женщин с непокрытыми
головами, рассеянно бродивших взад и вперед и как раз
154
там, где я должен был пройти. Слово «ремесло», упот¬
ребленное Тиссодье, тут же прозвучало в моей памяти;
мгновение я раздумывал, не сойти ли мне с тротуара,
чтобы не идти мимо них, но что-то во мне всегда берет
верх над страхом — верх берет страх показаться тру¬
сом, поэтому я продолжал идти как шел. Вдруг прямо
передо мной возникла женщина, которую я сперва не
заметил среди остальных, возможно, она выскочила из-
за двери, и, преградив мне дорогу, уставилась на меня.
Мне пришлось резко свернуть в сторону, и каким же
неуверенным, торопливым шагом я шел! Она же, пере¬
став напевать, воскликнула с упреком, насмешливо, за¬
дорно и вместе с тем ласково:
— Зачем же так пугаться, мой красавчик?
Кровь бросилась мне в лицо. Я был так взволнован,
словно избежал большой опасности.
Потом еще много лет эти охотницы внушали мне та¬
кой ужас, словно грозили облить серной кислотой. Мое
пуританское воспитание довело до крайности мою ес¬
тественную сдержанность, и я не видел в ней никакого
подвоха. У меня было полное отсутствие интереса к
противоположному полу; если бы мне было достаточно
'сделать одно движение, чтобы узнать тайну женствен¬
ности, я не сделал бы его; я самодовольно называл не¬
одобрением мою естественную неприязнь и принимал
свое отвращение за добродетель; я жил в замкнутом
мире, лишенный свободы, и сопротивление стало моим
идеалом; я уступал только детской порочной привычке
и оставлял без внимания внешние соблазны. Как силь¬
но заблуждаются в юном возрасте относительно всех
этих вещей! Порой, когда я начинаю верить в дьявола,
я вспоминаю свой священный гнев, свое благородное
негодование, и мне кажется, я слышу, как он смеется и
потирает руки в темноте. Но мог ли я предвидеть, ка¬
кие серные озера?.. Но говорить об этом еще рано.
Описывая нашу квартиру, я ничего не сказал о ка¬
бинете. Дело в том, что после смерти отца мать не раз¬
решала мне туда входить. Он был закрыт на ключ. И
155
хотя находился в конце квартиры, мне казалось, что он
составляет ее центр: все мои мысли вращались вокруг
кабинета, к нему устремлялись все мои желания. В
представлении матери это было святилище, хранившее
дорогую память о покойном; вероятно, она сочла бы
неподобающим, если бы я слишком быстро занял его
место; думаю также, что она старалась пресечь все,
что могло меня поднять в собственных глазах; нако¬
нец, ей казалось более благоразумным не предостав¬
лять в распоряжение жадного до чтения ребенка все
далеко не детские книги. Все же, накануне моего ше¬
стнадцатилетия, Альбер встал на мою сторону; до меня
донеслись обрывки его споров с мамой; та восклицала:
—Да он растащит всю библиотеку!
Альбер мягко настаивал, что необходимо поощрять
мою любовь к чтению.
—Для него достаточно книг в коридоре и в его
комнате. Подождем, когда он их все прочтет,— отве¬
чала мать.
— А вы не боитесь, что придаете книгам из кабине¬
та вкус запретного плода?
Мать возражала, что тогда, мол, вообще ничего
нельзя запрещать. Она еще некоторое время упорство¬
вала, но в конце концов сдалась — так бывало всякий
раз, когда она вступала в спор с Альбером: она его неж¬
но любила, очень уважала и всегда соглашалась с до¬
водами здравого смысла.
По правде сказать, запрет никак не влиял на при¬
влекательность для меня этой комнаты, разве что не¬
много увеличивал ее загадочность. Я от природы не
склонен к бунту, напротив, мне всегда нравилось слу¬
шаться, подчиняться правилам, уступать и к тому же у
меня было особое отвращение ко всему, что делается
тайком; если впоследствии — увы! — мне слишком ча¬
сто приходилось скрывать свои поступки, я допускал
это притворство лишь как временную защиту в надеж¬
де и с твердым намерением вскоре все сделать явным.
Не потому ли я пишу ныне эти воспоминания?.. Но вер¬
немся к моему кругу чтения в те времена: не помню,
чтобы я прочел хоть одну книгу втайне от матери; не
156
обманывать ее было для меня делом чести. Что же осо¬
бенного было в книгах из кабинета? Начнем с того, что
они красиво выглядели. Потом, если в моей комнате и
в коридоре в изобилии были представлены почти ис¬
ключительно книги по истории, литературная критика
и разного рода комментарии, то в кабинете отца я на¬
шел самих писателей, о которых говорилось в этих со- .
чинениях.
Прислушавшись к доводам Альбера, мама все же
уступила не сразу, она пошла по пути компромиссов.
Мне было разрешено входить в кабинет, но выбирать
книгу вместе с мамой и с ее согласия, а потом читать
эту книгу в ее присутствии вслух. С первого раза мой
выбор пал на первый том полного собрания стихотво¬
рений Готье.
Я охотно читал матери вслух, но, поскольку она
всегда старалась формировать свой вкус и не доверяла
своим личным оценкам, ей нравились книги совсем
другого рода. Это были плоские и скучные исследова¬
ния Поля Альбера102, «Курс драматической литерату¬
ры» Сен-Марка Жирардена103, все пять томов которо¬
го мы проштудировали, читая по одной главе в день.
Удивительно, что они не отбили у меня всякую охоту к
чтению. Но нет, подобные книги мне даже нравились,
и аппетит мой был так велик, что я любил и самые сжа¬
тые, сухие изложения на школьном уровне. Сейчас я
считаю, что мать не напрасно придавала столько значе¬
ния критическим сочинениям: ее ошибка состояла в
малоудачном выборе, но здесь ей не у кого было по¬
просить совета. И потом, если бы я сразу прочитал «Бе¬
седы по понедельникам» Сент-Бёва или «Историю анг¬
лийской литературы» Тэна104, то получил ли бы я от
них столько же пользы, как впоследствии? В то время
главным было занять мой ум.
Если кого-то удивит, что мать не рекомендовала
мне прежде всего или хотя бы отчасти исторические
книги, то это потому, что ничто меня так не тяготило.
Это моя слабость, и я должен немедленно объяснить¬
ся. Хороший учитель мог бы при желании пробудить
у меня интерес к истории, показывая сквозь призму
157
исторических событий игру характеров; но мне не по¬
везло, все мои учителя были педанты. С тех пор я не
раз пытался, старался из всех сил преодолеть мою на¬
туру, но напрасно: мозг мой сопротивляется и из са¬
мых блестящих рассказов не усваивает ровным сче¬
том ничего, кроме того, что остается как бы на полях
событий и лишь косвенно связано с фактами, да еще,
пожалуй, мне ясна мораль, которую можно из фактов
извлечь. Заканчивая класс риторики105, я с большой
признательностью прочел у Шопенгауэра о различии
между складом ума историка и поэта106: «Так вот по¬
чему я ничего не понимаю в истории! — подумал я с
удовлетворением,— это потому, что я поэт! Поэтом я
и хочу быть!»
Was ich nie und nirgends hat begeben
Das allein veraltet nie *.
И я повторял цитируемую им фразу Аристотеля:
«Философия — более важная вещь, а поэзия — более
прекрасная, чем история». Но вернусь к Готье.
Итак, однажды вечером я сидел возле матери в ее
комнате с книгой стихотворений Готье, которую она
разрешила мне взять в маленьком стеклянном шкафу,
предназначенном для поэтов. И вот я начинаю читать
вслух поэму «Альбертус, или Душа и грех»107... Каким
сияющим ореолом было окружено в то время имя
Готье! К тому же меня привлекал дерзкий подзаголо¬
вок «Теологическая поэма». Для меня* как и для мно¬
гих школьников тех времен, Готье олицетворял при¬
зрение к условностям, раскрепощенность, независи¬
мость, вольномыслие. В моем выборе было нечто от
вызова. Раз мама пожелала сопровождать меня в каби¬
нет, посмотрим, кто из нас первый попросит пощады.
Впрочем, мой вызов был обращен прежде всего к се¬
бе самому: так, за несколько месяцев до того я заста¬
вил себя войти — и с каким напряжением, как неуве¬
ренно! — в гнусную лавчонку продавца трав на улице
* Чего не было нигде и никогда,
То устареть не может (нем.).— Примеч. пер.
158
Сен-Пласид, который продавал всего понемногу, в том
числе популярные песенки — чтобы купить самую глу¬
пую и вульгарную: «Ах, как надушена Александрина!»
Зачем? О! исключительно из вызова, в действительно¬
сти никакого желания покупать ее у меня не было. За¬
то была потребность принудить себя, ведь накануне,
проходя мимо лавки, я подумал: «Вот уж это-то ты не
осмелишься сделать». И сделал. Я читал, не глядя на
маму, а она вышивала, утопая в огромном кресле. Я на¬
чал с большим подъемом, но, по мере того как текст
становился все игривее, я все больше сникал. В этой
«готической» поэме говорится о колдунье, которая, же¬
лая соблазнить Альбертуса, является перед ним в виде
пышущей здоровьем юницы, что дает повод для беско¬
нечных ее описаний. Мама все более нервно втыкала
в ткань иголку; продолжая читать, я краем глаза сле¬
дил за ее движениями. Наконец я добрался до сто пер¬
вой строфы:
...Она была так хороша,
Что и святого в ад помчалась бы душа.
О, что за дивный вид! Стыдлива и румяна...
—Дай-ка мне книгу,— к моему огромному облег¬
чению вдруг прервала меня мама.
Я поднял на нее глаза: она поднесла книгу к лампе
и, сжав губы, пробежала следующие строфы, хмурясь,
как судья, выслушивающий за закрытыми дверями не¬
пристойные показания. Я ждал. Она перевернула стра¬
ницу, потом, поколебавшись, вернулась назад, снова пе¬
ревернула, решительно продвинулась вперед и, вернув
мне книгу; указала то место, откуда я мог продолжать.
— Ну, вот. Отсюда:
Достойная одна всего сераля,—
сказала она, прочитав стих, наилучшим образом резю¬
мировавший выпущенные строфы, с каковыми я озна¬
комился гораздо позже, испытав совершенное разоча¬
рование.
Этот тягостный и смехотворный опыт, к счастью,
больше не повторялся. На несколько недель я решил
159
позабыть о кабинете, и когда наконец мать предложи¬
ла мне зайти в него, то уже не стала меня сопровож¬
дать.
Библиотека моего отца состояла в значительной
мере из книг греческих и латинских авторов, были
там, разумеется, и книги по праву, но они не занимали
почетного места. На почетном месте стояли Еври¬
пид — большой том, изданный в Глазго,— Лукреций,
Эсхил, Тацит, Вергилий в роскошном издании Гейне и
три латинских элегика108. В этом подборе проявлялось
не столько предпочтение, которое отдавал отец этим
авторам, сколько своеобразная страсть к красивым пе¬
реплетам и необычным форматам. Эти книги в белых
переплетах из телячьей кожи приятно выделялись в
темном, блестящем, лакированном шкафу. Шкаф был
таким глубоким, что книги стояли в два ряда, причем
второй ряд немного возвышался над первым; собрание
греческих лириков в изящном, маленького формата,
издании Лефевра, стоявшее между Горацием и Фуки¬
дидом, являло собой изысканное зрелище: над их голу¬
быми сафьяновыми корешками возвышались корешки
цвета слоновой кости томов Овидия в издании Бурма¬
на и семитомника Тита Ливия, тоже в кожаном пере¬
плете. Посередине, под томами Вергилия, находилась
закрывающаяся часть шкафа, где плотно друг к другу
стояли разные альбомы; между этой частью и неболь¬
шим карнизом откидывалась полка в виде пюпитра: на
нем можно было стоя читать книгу или писать; с двух
сторон шкафа на низких полках возвышались тяжелые
in folio: Греческая антология109, Плутарх, Платон, «Ко¬
декс» Юстиниана110. Как ни привлекали меня эти кра¬
сивые книги, те, что стояли в маленьком застекленном
шкафу, притягивали меня больше.
Там были только французские книги и почти ис¬
ключительно одни поэты... Я давно привык брать с со¬
бой на прогулку какой-нибудь из ранних сборников Гю¬
го в прелестном миниатюрном издании, кажется, пода¬
ренном матери Анной; я выучил наизусть множество
стихотворений из «Внутренних голосов», «Песен суме¬
рек» и «Осенних листьев» ш, неустанно повторял их и
160
собирался вскоре прочитать Эмманюэль. В то время я
отдавал страстное предпочтение стихам, я считал поэ¬
зию цветом, высшим достижением жизни. Мне пона¬
добилось много времени, чтобы понять — однако я не
думаю, что слишком раннее понимание этого благо¬
творно,— превосходство красивой прозы и ее гораздо
большую изысканность. Как это чаще всего бывает в
юности, я отождествлял искусство и поэзию; душа моя
упивалась чередованием рифм и их непременным воз¬
вратом; я чувствовал, как они ритмично бьют во мне
крыльями, приглашая к полету... И все же думаю, что
самым волнующим открытием, которое я сделал в за¬
стекленном шкафу, были стихи Генриха Гейне (я имею
в ввду переводы). Конечно, отсутствие рифмы и раз¬
мера предавало этим стихам112 обманчивую легкость
и дополнительную привлекательность: они нравились
мне еще и потому, что казалось возможным им подра¬
жать.
Я вновь вижу себя той весной, на пороге моего ше¬
стнадцатилетия, сидящим по-турецки на ковре возле
маленького открытого шкафа; я с трепетом чувствую,
как в сердце моем в ответ на призыв Генриха Гейне
пробуждается, бушует весна. Но что можно расска¬
зать о прочитанном? Роковой недостаток моего пове¬
ствования, как и всех мемуаров,— тот, что в них уда¬
ется показать лишь внешнее, а самое главное, лишен¬
ное четких очертаний, остается неуловимым. До сих
пор я с удовольствием, не торопясь описывал мелкие
факты. Но пришло время, когда началась моя подлин¬
ная жизнь.
Головные боли, бывшие в прошлом году более упор¬
ными, чем обычно, и заставившие меня почти полно¬
стью прекратить учебу, во всяком случае без конца пре¬
рывать ее, теперь стали реже. Я перестал заниматься с
г-ном Ришаром, чьи уроки, видимо, казались матери
уже недостаточными, и перешел в пансион Келлера на
улицу де Шеврез, поблизости от Эльзасской школы, где
мать все еще надеялась увидеть меня вновь. В пансио¬
не Келлера было много учеников, но только я один не
учился в лицее. Я приходил утром и вечером, в те ча¬
161
сы, когда пансион пустел. В больших залах царила мер¬
твая тишина, и я занимался то в одной, то в другой, ча¬
ще же всего — в маленькой комнатке, более удобной
для занятий из-за близости доски. Удобна она была и
для доверительных признаний репетиторов. Я всегда
обожал откровения и гордился тем, что особенно хоро¬
шо умею их слушать; ничто так не возносило меня в
собственных глазах. Прошло много времени, прежде
чем я понял, что собеседник обычно уступает перепол¬
няющей человеческое сердце потребности высказать¬
ся, не слишком заботясь о том, слушают его или нет.
Именно так и делился со мной своими горестями
г-н де Буви. Пансионский репетитор, он начинал каж¬
дую фразу, предварительно вздохнув. Это был малень¬
кий обрюзглый человечек с черной щетиной и густой
бородой. Я уже не помню, что мы с ним изучали, и
многому я у него явно не мог научиться, так как уже в
начале урока взор г-на де Буви тускнел, вздохи стано¬
вились чаще, и вскоре за ними уже не следовало ни
слова. Пока я отвечал урок, он задумчиво кивал, бор¬
мотал жалостным голосом «да-да», потом вдруг преры¬
вал меня:
— Сегодня ночью она опять не пустила меня домой.
Огорчения г-на де Буви были семейного порядка.
— Как! — восклицал я (боюсь, скорее забавляясь,
чем сочувствуя).— Вы снова ночевали на лестнице?
— О да! Я вижу, вы тоже считаете, что это невыно¬
симо.
Он смотрел в пространство. Думаю, в какой-то мо¬
мент он переставал меня видеть и забывал, что разго¬
варивает с подростком.
—Тем более,— продолжал он,— что я становлюсь
посмешищем для других жильцов, они же не понима¬
ют, в каком я положении.
—А вы не пытались взломать дверь?
— Когда я это делаю, она меня бьет. Представьте
себя на моем месте.
— На вашем месте я бы сам ее побил.
Он глубоко вздыхал, поднимал к потолку свои ко¬
ровьи глаза и изрекал:
162
— Женщину бить нельзя.— И бормотал себе в бо¬
роду: — Тем более что она не одна!..
Вскоре г-на де Буви сменил г-н Даниэль, нечисто¬
плотное существо, невежда и пьяница, от которого не¬
сло таверной и борделем. Он хотя бы не пускался в от¬
кровения. Кто сменил Даниэля, я уже не помню.
Невежественность и вульгарность этих сменявших¬
ся учителей огорчали г-на Келлера, человека весьма
достойного, с трудом поддерживавшего пансион на
уровне, стяжавшем ему в свое время славу, а этот уро¬
вень был высоким и, полагаю, вполне заслуженным.
Вскоре я получил право заниматься всеми науками с
ним одним, за исключением математики — ее мне пре¬
подавал г-н Симонне. Оба они были прекрасные препо¬
даватели, те прирожденные учителя, которые не отяго¬
щают юный ум, а, напротив, стараются его раскрепо¬
стить и отдают этому все силы, воплощая в своих
взаимоотношениях с учеником завет Предтечи: «Ему
расти, а мне умаляться» ш. Оба они так хорошо за ме¬
ня взялись, что меньше чем за полтора года я навер¬
стал упущенное и смог в октябре 1887 года вернуться
в Эльзасскую школу в класс риторики, где я вновь
встретил товарищей, с которыми давно расстался *.
VIII
Радость преобладает в моем характере, поэтому
при встречах мои чувства более искренни, чем при
расставаниях. Ведь часто бывает неуместно выражать
радость при уходе. Я был в восторге от того, что поки¬
даю пансион Келлера, но не хотел этого показывать,
чтобы не огорчать г-на Жакоба, которого очень любил.
Так звали моего учителя, г-на Келлера, а вернее, он по¬
просил так называть себя из почтения к своему стари-
ку-отцу, основателю и директору пансиона. Подобно
Веммику из «Больших надежд»114. гн Жакоб испыты¬
* Может быть, я ошибаюсь, и мои товарищи, обогнавшие
меня на год, были уже в следующем классе.
163
вал по отношению к своим родителям — его мать то¬
же была жива, но в особенности к отцу — почти рели¬
гиозное, парализующее благоговение. Будучи сам уже
весьма зрелым человеком, он подчинял все свои мыс¬
ли, все свои планы, всю свою жизнь этому Aged (Стар¬
цу), которого ученики почти не встречали: появлялся
он лишь в самых торжественных случаях, но его авто¬
ритет царил во всем доме. Под бременем этого автори¬
тета г-н Жакоб спускался вниз, словно Моисей с горы
со скрижалями, из комнаты на третьем этаже, где оби¬
тал Старец. Это было святилище, куда мне дозволялось
входить (и я могу засвидетельствовать, что Старец был
действительно жив) крайне редко, и только с матуш¬
кой. Один бы я никогда на это не отважился. Войдя, вы
попадали в жарко натопленную комнату, где старик,
устроившийся на весь день у окна в большом, обтяну¬
том зеленым репсом кресле, глядел, как во дворе бе¬
гают пансионеры, и прежде всего извинялся, что не мо¬
жет вас встретить стоя. Его правый локоть касался
письменного стола красного дерева, заваленного бума¬
гами; слева от него на маленьком столике вы видели
огромную Библию и голубую чашку, служившую ему
плевательницей: почти всегда он страдал от простуды.
Он был высокого роста, и бремя лет не слишком согну¬
ло его. Взгляд у него был прям, голос строг, и чувство¬
валось, что указания, каковые г-н Жакоб передавал
всему пансиону, исходят непосредственно от Господа
Бога.
Что до старой мадам Келлер, решившейся первой
покинуть этот мир, помню только, что за исключением
моей бабушки я никогда не встречал более сморщен¬
ного существа. Правда, морщин у нее было поменьше,
и ростом она была пониже, чем бабушка.
Г-н Жакоб сам был человеком семейным, отцом
троих детей примерно моего возраста, затерявшихся в
общей толпе пансионеров — я общался с ними лишь
эпизодически. Г-н Жакоб делал тщетные усилия, пыта¬
ясь напустить на себя суровый вид и скрыть от учени¬
ков свою доброту,— в глубине души он был очень мяг¬
ким, я бы даже сказал — чересчур, и в его речах бы¬
164
ло что-то детское. Жизнерадостный от природы, он, не
будучи остроумным, как правило, не острил, а калам¬
бурил и без устали повторял одни и те же каламбуры,
словно только затем, чтобы показать свое добродушие,
да и постоянная озабоченность не позволяла ему осо¬
бенно напрягать ум. Когда я, например, слишком по¬
спешно переводя Вергилия, путался и терял смысл, то
неизменно слышал: «Делал наспех, а сделал на смех»,
а если ему случалось самому допустить ошибку, он
восклицал: «Прошу прощения — мое упущение». Ах,
что за милый человек! Родина таких людей — Швей¬
цария, а их отец — Тёпфер115.
По воскресеньям утром во время богослужения на
улице Мадам он играл на фисгармонии. Проповеди по
очереди читали г-н Олляр и г-н де Прессансе116, ста¬
рый пастор-сенатор (почти такой же урод, как и пастор
Бавретель), отец редактора газеты «Тан», довольно
красноречивый проповедник, но любивший пережевы¬
вать одну и ту же мысль и портивший весь патетиче¬
ский эффект своим постоянным насморком. Перед пе¬
нием гимнов г-н Жакоб импровизировал простенькие
прелюдии, в которых выражалось его простодушие; бу¬
дучи начисто лишен мелодического воображения, он
восхищал плодовитостью.
Итак, покидая пансион Келлера и возвращаясь в
Эльзасскую школу, я хотел найти способ, чтобы дать
понять г-ну Жакобу, как трогательны для меня его за¬
боты. Конечно, я мог бы видеться с ним, ведь пансион
находился по дороге в школу, мог бы время от време¬
ни его навещать, но вряд ли нашел бы, что ему сказать,
и потом, этого мне казалось мало. Моя нелепая дели¬
катность — вернее потребность доказать мою деликат¬
ность — побуждала меня к хитроумным изыскам, за¬
ставляя то страдать от напрасных угрызений совести,
то проявлять предупредительность, непонятную для
тех, кто становился ее объектом, короче, мне взбрело
в голову раз в неделю обедать в пансионе Келлера. В
этом намерении проявлялось и мое желание слегка от¬
ведать интернатского режима. Было решено, что я бу¬
ду обедать в пансионе по средам. В этот день подава¬
165
ли телятину. Я думал, что меня посадят среди других
учеников, но г-н Жакоб отнесся ко мне как к почетно¬
му гостю, и то особое положение, в которое он меня
поставил, было донельзя стеснительным. Около полу¬
тора десятка учеников сидели в конце огромного сто¬
ла, а на другом его конце председательствовала чета
Келлеров. Сидя рядом с г-ном Жакобом, я словно пред¬
седательствовал с ним вместе, отделенный от других
учеников огромным пустым пространством. Самое не¬
приятное было то, что даже сыновья Келлеров сидели
далеко от своих родителей, смешавшись с толпой. Так
мое усилие слиться с другими привело лишь к тому,
что я еще больше выделился, как бывало всякий раз,
когда я пытался встать в один ряд с остальными.
В то время все вокруг вызывало у меня великий ин¬
терес, потому что повсюду меня сопровождала Эмма¬
нюэль. Я жаждал немедленно сообщить ей обо всем,
что открывал нового, и радость моя была совершенной,
только если она ее разделяла. Если я читал книгу, то
ставил первую букву ее имени на полях, отмечая те ме¬
ста, что заслуживают нашего восхищения, нашего
удивления, нашей любви. Теперь жизнь без нее меня
совсем не радовала, и я мечтал о том, чтобы она всег¬
да была со мной, как летом в JIa Рок на тех утренних
прогулках, когда я увлекал ее в лес: мы выходили из
дома, когда все еще спали. Травы клонились от росы,
воздух был прохладным, розы зари давно увяли, но ко¬
сой луч светил нам, восхищая своей новизной. Мы про¬
двигались вперед, взявшись за руки, или, если тропа
была слишком узкой, я шел немного впереди. Мы сту¬
пали легкими, неслышными шагами, стараясь не вспуг¬
нуть ни лесных божеств, ни зверей — белок, зайцев,
косуль,— что беспечно резвятся в этот невинный час,
каждый день вновь воскрешая земной рай, до того как
проснется человек и все в лесу погрузится в сон. О,
этот чистый, чудесный свет! Пусть воспоминание о
нем разгонит мрак моего смертного часа! Сколько раз
мою душу, истомленную зноем, освежала эта роса...
В разлуке мы переписывались. Переписка наша
стала непрерывной... Недавно я решил перечитать свои
166
письма, но тон их показался мне невыносим и я стал
сам себе противен. Теперь я пытаюсь себя уверить, что
только простаки естественны от природы. Мне же на¬
до было найти свою линию среди множества кривых,
да я и не очень-то понимал, через какое переплетение
должен пробраться; я чувствовал, что оплетен, но, не
научившись еще ничего распутывать, рубил с плеча.
Тогда-то я и открыл для себя древних греков, имев¬
ших решающее влияние на мой склад ума. В то время
завершилась публикация переводов Леконта де Ли¬
ля 117, о которых много говорили; мне подарила их, ка¬
жется, тетя Люсиль. Они не отличались гладкостью,
удивляли необычным блеском и экзотическим звуча¬
нием, чем несказанно восхищали меня; я был благода¬
рен им за шероховатость и некоторую недоступность,
отпугивавшую непосвященных и требовавшую больше¬
го внимания от чуткого читателя. Когда я читал эти пе¬
реводы, перед моим взором представал Олимп, страда¬
ния человека и безмятежная суровость богов; я изучал
мифологию, постигал красоту, раскрывал ей свое пыл¬
кое сердце.
А моя подруга читала «Илиаду» и трагедии; ее вос¬
торг удваивал мое восхищение и сливался с ним; ду¬
маю, что впоследствии даже пасхальное причастие
единило нас меньше. Как странно! Именно в ту пору,
когда я получал христианское образование, меня охва¬
тил этот великолепный языческий пыл. Теперь я удив¬
ляюсь, насколько хорошо одно уживалось с другим;
это можно было бы объяснить, если бы вера моя не бы¬
ла горячей, но нет! скоро я поведаю о своем рвении и
о том, до каких крайностей оно доходило. Просто храм
наших сердец был подобен тем мечетям, что распахну¬
ты с восточной стороны и восхитительным образом
вбирают в себя лучи, звуки и запахи. Исключить что-
либо казалось нам нечестивым, и все прекрасное нахо¬
дило отклик в наших душах.
Пастор Кув, изучавший со мной катехизис, был ко¬
нечно, достойнейшим человеком, но, Боже мой, каки¬
167
ми скучными были его уроки! Нас, его учеников, было
человек десять, мальчиков и девочек, но я никого не
запомнил. Обучение проходило в столовой дома г-на
Кува, жившего на бульваре Сен-Мишель возле Люк¬
сембургского сада. Мы садились вокруг большого
овального стола и после чтения наизусть стихов из Пи¬
сания, заданных нам на прошлом занятии, начинался
урок: ему предшествовала и его завершала молитва.
Первый год мы изучали Священное Писание, и в тече¬
ние всего этого времени я еще надеялся, что на следу¬
ющий год занятия станут более живыми; но г-н Кув
приступил к изучению догм и к изложению истории
христианства с тем же величавым бесстрастием,, кото¬
рое, как мне кажется, было частью его веры. Пока лил¬
ся его монотонный голос, мы все записывали, чтобы в
следующий раз представить резюме. Это были скуч¬
ные уроки, и их завершали еще более скучные домаш¬
ние задания. Ортодоксальность г-на Кува проявлялась
даже в тоне его голоса, ровного и сильного, как и его
душа; и мое трепетное беспокойство всякий раз натал¬
кивалось на его невозмутимость. Впрочем, сердце пас¬
тора было очень мягким, но он не считал нужным по¬
казывать это здесь, на земле... Какая досада! Ведь я
приобщался к тайнам веры, словно к Элевсинским ми¬
стериям. С какой дрожью я задавал вопросы! А в ответ
слышал только, каковы были число пророков и марш¬
рут путешествий апостола Павла. Я был разочарован
до глубины души, и поскольку мои вопросы оставались
без ответа, я начал спрашивать себя, действительно ли
та вера, к которой меня приобщают, то есть протестан¬
тская, отвечает моим духовным запросам, я хотел не¬
много поближе познакомиться с католицизмом, ведь я
всегда был чувствителен к сопутствующей ему красо¬
те, а лекции г-на Кува отнюдь не производили во мне
того волнения, что перехватывало мне горло, когда я
читал Боссюэ, Фенелона или Паскаля.
Я был так наивен, что поведал обо всем самому г-ну
Куву в личной беседе, я даже сказал ему, что не знаю,
к какому алтарю склоняется мое сердце в поисках Бо¬
га... Тогда этот превосходный человек дал мне книгу,
168
где была весьма достойным образом изложена католи¬
ческая доктрина; разумеется, это была не апология, но
и далеко не памфлет, и вместе с тем именно она и ох¬
ладила меня. Это была сухая констатация фактов, та¬
кая же тоскливая, как и лекции г-на Кува; и, боже мой,
я решил, что либо и там, и там жажда моя останется
неутоленной, либо я должен утолить ее сам. Именно
этому занятию я и предался с самозабвением. Я начал
с большим усердием, чем прежде, читать Библию. Я
читал ее жадно, взахлеб, но методически. Я начал с
начала, затем стал читать одновременно из несколь¬
ких разных частей. Каждый вечер в комнате матери,
сидя рядом с ней, я читал одну или несколько глав из
исторических книг, из поэтических и из пророков.
Так в целом я ознакомился со всем Писанием и пере¬
шел к более подробному, неспешному, но не менее
волнующему чтению. Я погружался в текст Ветхого За¬
вета с благоговением, но, по всей видимости, волне¬
ние, которое я испытывал, не было чисто религиоз¬
ным, как не было чисто литературным удовольствие,
которое доставляли мне «Илиада» или «Орестея». Вер¬
нее, искусство и религия благоговейно сочетались во
мне, и я вкушал подлинное наслаждение от их тесного
союза.
Но Евангелие... Ах! Наконец-то я нашел источник
неисчерпаемой любви. То, что я чувствовал, читая Но¬
вый Завет, усиливало и объясняло мое чувство к Эмма-
нюэль; оба чувства нисколько не отличались друг от
друга, просто одно углубляло другое, удостоверяя, ка¬
кое большое место занимала в моем сердце любовь к
Эмманюэль. Я припадал к Библии только по вечерам, а
по утрам, в более спокойной обстановке, брал Еванге¬
лие. Я читал его и в течение дня. Новый Завет я посто¬
янно носил в кармане и доставал его не только когда
бывал один, но и в присутствии именно тех, кто мог бы
меня высмеять и чьих издевок я должен был опасаться:
например, в трамвае, словно священник, во время пере¬
мен в пансионе Келлера или позднее в Эльзасской шко¬
ле, принося в жертву Богу мое смущение, когда от шу¬
точек моих товарищей краска бросалась мне в лицо. Та¬
169
инство первого причастия мало что изменило в моих
привычках; евхаристия не стала источником нового
восторга и даже не намного увеличила то упоение, ка¬
ким я наслаждался в глубинах своей души; скорее я
был даже несколько раздосадован торжественным и
официальным характером этой церемонии, почти про¬
фанировавшим ее в моих глазах. Но поскольку я не то¬
мился в ожидании этого дня, то не наступило и разоча¬
рование — напротив, после причастия мой пыл усилил¬
ся и в следующем году достиг апогея.
В течение долгах месяцев я пребывал в своего рода
серафическом состоянии, какового, полагаю, достига¬
ют святые. Было лето. Я уже почти не ходил в школу,
получив удивительно милостивое дозволение посещать
лишь те занятия, которые могли мне быть полезными,
то есть весьма немногочисленные. Я написал себе рас¬
порядок дня и прилежно ему следовал: именно его
строгость доставляла мне неизъяснимое наслаждение,
и не отклоняться от него было для меня делом чести.
Вставая с рассветом, я погружался в ледяную ванну, на¬
полненную накануне вечером; затем, прежде чем при¬
няться за работу, читал несколько стихов из Писания,
вернее, перечитывал те, что отметил накануне в каче¬
стве предмета моих раздумий на следующий день, и мо¬
лился. Моя молитва была как бы ощутимым продвиже¬
нием души по пути к Богу, я возобновлял ее каждый
час, прерывая занятия и переходя от изучения одного
предмета к другому, словно бы принося их в дар Госпо¬
ду. С целью умерщвления плоти я спал на доске, а по¬
среди ночи просыпался и снова вставал на колени, но
уже не ради умерщвления плоти, а от нетерпеливой
жажды испытать особую, духовную радость. Мне каза¬
лось, я был тогда на вершине счастья.
Что мне добавить?.. Ах! мне хотелось бы уменьшить
жар моего лучезарного воспоминания! Повествования
такого рода не удаются: передать можно лишь самые
мелкие и незначительные события. Но кое-что я все-та¬
ки добавлю. То, что переполняло тогда мое сердце,
можно выразить в двух словах, и я тщетно пытаюсь
придумать другие. О, залитое лучами сердце! О, серд¬
170
це, не ведавшее о той тени, что отбрасывали эти лучи
на мою плоть! Быть может, подобно моей любви к Бо¬
гу, и мое чувство к кузине начало слишком легко сми¬
ряться с отсутствием предмета любви. Самые яркие
черты характера формируются и проявляются прежде,
чем отдаешь себе в них отчет. Но могли я тогда понять
смысл того, что вырисовывалось во мне?
И все же однажды на вечерней перемене Пьер Лу¬
ис 118 застал меня не с Евангелием в руках, а с Buch
der Lieder* Генриха Гейне — я уже читал ее в подлин¬
нике. Мы только что написали французское сочине¬
ние. Пьер Луис, которого я встретил в классе ритори¬
ки, проучился в школе без перерыва. Мало сказать,
что он был блестящим учеником; у него были задатки
гения, и то, что ему удавалось лучше всех, он делал с
удивительным изяществом. На каждом конкурсном со¬
чинении первое место бесспорно принадлежало ему;
он намного опережал остальных. Наш преподаватель
Дьец всегда весело объявлял то, что так часто объявля¬
ли учителя и других классов: «Первое место — Луис».
Никто не дерзал оспорить у него это место; никто об
этом и не помышлял, в том числе и я, конечно: за про¬
шедшие несколько лет я привык учиться один и в при¬
сутствии двадцати пяти товарищей только нервничал и
смущался, и уж никак не приходил в воодушевление.
И вдруг на этот раз, хотя, думается мне, не особенно
заслуженно, я услышал:
— Первое место — Андре Жид.
Так начал Дьец, сообщая результаты сочинения. Он
сказал это очень громко, и, словно бы бросая вызов,
сильно стукнул кулаком по кафедре, и обвел всех по¬
верх очков насмешливым взглядом. Дьец обращался с
классом как органист с клавиатурой: маэстро по свое¬
му желанию извлекал из нас самые неожиданные зву¬
ки, приводившие нас самих в удивление. Порой он да¬
же слишком увлекался, как это случается с виртуоза¬
* Книга песен (нем.).— Примеч. пер.
171
ми. Но какими живыми были его уроки! Я выходил по¬
сле них перенасыщенный, переполненный впечатлени¬
ями. А как мне нравился его сильный, страстный голос!
и эта аффектированная беспечность, с какой он разва¬
ливался в своем кресле на кафедре, закинув ногу на
подлокотник и задрав колено до самого носа.
— Первое место — Андре Жид!
Я почувствовал, что все на меня смотрят. И сделал
огромное усилие, чтобы не покраснеть, от чего покрас¬
нел еще больше; голова у меня шла кругом, но я не
столько радовался своей победе, сколько был в отчая¬
нии при мысли о недовольстве Пьера Луиса. Как он от¬
несется к такому оскорблению? А вдруг он меня возне¬
навидит? В классе я видел только его; он, конечно, об
этом не догадывался; до сих пор я с ним обменялся все¬
го несколькими словами; он был очень общителен, а я
прискорбно робок, нерешителен, скован из-за неуве¬
ренности в себе. Между тем, в последнее время я при¬
нял решение: я подойду к нему и скажу: «Луис, нам на¬
до поговорить. Если кто-нибудь тебя здесь может по¬
нять, так это я...» Да, я действительно уже был готов
обратиться к нему. И вдруг эта катастрофа:
— Второе место — Луис.
Издалека — мне почудилось, что расстояние меж¬
ду нами увеличилось как никогда,— я посмотрел на не¬
го: он чинил карандаш, делая вид, что ничего не слы¬
шит, но мне показалось, что он нахмурился и поблед¬
нел. Я смотрел на него сквозь пальцы, прикрыв рукой
глаза, после того как почувствовал, что краснею.
На следующей перемене я, по своему обыкнове¬
нию, пошел в застекленный коридор, который вел во
двор, где шумно играли остальные ученики; там я был
один, в безопасности. Я вытащил из кармана Buch der
Lieder и начал перечитывать строки:
Das Meer hat seine Perlen;119
Der Himmel hat seine Sterne, *
* Есть в море много перлов,
И много звезд на небе (нем.).— Примеч. пер.
172
утешая любовными словами мое уязвленное дружбой
сердце:
Aber mein Herz, mein Herz,
Mein Herz hat seine Iiebe. *
Вдруг за моей спиной раздаются шаги. Оборачива¬
юсь. Пьер Луис. На нем был пиджак в мелкую черную
и белую клетку с коротковатыми не по росту рукава¬
ми, воротник рубашки разорван — он был драчун,—
галстук развязан... Я вижу его как сейчас! Немного не¬
складный, как все слишком быстро выросшие подро¬
стки, гибкий, хрупкий... Растрепанные волосы наполо¬
вину скрывали его красивый лоб. Встав передо
мной — а я еще не успел прийти в себя,— он с ходу
спросил:
— Что это ты читаешь?
Не в состоянии вымолвить ни слова, я протянул ему
книгу. Он полистал ее.
—Так ты любишь стихи? — снова спросил он та¬
ким тоном и с такой улыбкой, какие мне прежде были
незнакомы.
Значит, он пришел не как враг? Мое сердце раста¬
яло.
— Гейне я знаю,— продолжал он, вернув мне кни¬
жечку.— Но из немецких стихов предпочитаю Гёте.
Я робко произнес:
— Я знаю, ты тоже пишешь стихи.
Недавно в классе ходило по рукам шуточное стихо¬
творение, сочиненное Луисом как дополнительное за¬
дание в наказание за то, что он «жужжал» на уроке.
— Г-н Пьер Луис,— сказал ему Дьец,— к следующе¬
му понедельнику вы напишете мне тридцать стихо¬
творных строк о жужжании.
Я выучил его стихотворение наизусть (мне кажет¬
ся, я до сих пор его помню); оно было, конечно, учени¬
ческое, но удивительно хорошо сделано. Я начал чи¬
тать его. Он, смеясь, прервал меня:
* Мое же бедное сердце
Полно одной любовью (нем.).— Притч, пер.
173
— О, это несерьезные стихи. Если хочешь, я пока¬
жу тебе другие, настоящие.
Он весь так и лучился юностью; какое-то внутрен¬
нее кипение прорывалось сквозь его внешнюю сдер¬
жанность, и тогда он начинал от волнения немного за¬
икаться, и это его заикание нравилось мне больше все¬
го на свете.
Прозвеневший звонок положил конец перемене и
нашей беседе. Но этот день мне подарил достаточно
радости. А следующие дни принесли разочарование.
Что произошло? Луис больше не заговаривал со мной,
словно забыл обо мне. Думаю, из боязливого целомуд¬
рия, свойственного влюбленным, он хотел скрыть от
остальных тайну нашей зарождающейся дружбы. Но
тогда я этого не понимал, я ревновал его к Глатрону,
Гуви, Броки, с которыми, я ввдел, он разговаривал; я
не хотел подходить к ним, меня сдерживала не столь¬
ко робость, сколько гордость: мне было неприятно сме¬
шиваться с другими, и я не допускал мысли, что Луис
может поставить меня на одну доску с ними. Я ждал
случая застать его одного, и вскоре он представился.
Я уже сказал, что Луис был задирой; вспыльчивый,
но не отличавшийся силой, он часто терпел пораже¬
ние. Его стычки с приятелями в Эльзасской школе бы¬
ли не очень жестокими и ничем не напоминали мои
драки в лицее Монпелье. Но Луис любил дразнить то¬
варищей, он провоцировал их, а как только его кто-ни¬
будь задевал, тут же яростно пускал в ход кулаки, и по¬
этому часто ходил в разорванной одежде. В тот день
на месте боя он потерял свою фуражку, отлетевшую
далеко и упавшую около меня. Я тайком поднял ее и
спрятал под пиджаком с мыслью — от нее у меня сра¬
зу учащенно забилось сердце — отнести ее к нему до¬
мой (он жил поблизости).
«Он, конечно, будет тронут моим вниманием,— ду¬
мал я,— и, наверное, скажет мне: „Входи же“. Сперва
я откажусь. А потом все же войду. Мы поговорим. Мо¬
жет быть, он прочтет мне свои стихи...»
Все это происходило после уроков. Я вышел из
школы последним. Впереди меня, не оборачиваясь,
174
шел Луис. Оказавшись на улице, он ускорил шаги, я по¬
следовал его примеру. Он подошел к двери своего до¬
ма и исчез в темном вестибюле. Когда я сам вошел в
вестибюль, то услышал его шаги на лестнице. Он жил
на третьем этаже. Вот он уже на лестничной клетке,
звонит... Тогда, торопясь, чтобы тут же открывшаяся
дверь не захлопнулась, разделив нас, я закричал, стара¬
ясь, чтобы мой голос звучал приветливо, но от волне¬
ния он прерывался:
— Эй! Луис! Я принес твою фуражку.
В ответ с высоты трех этажей раздались слова,
умертвившие мою бедную надежду:
— Хорошо. Оставь ее у консьержки.
Однако мое разочарование длилось недолго. На
следующий день между нами состоялся неотложный
разговор, а затем последовало множество других
встреч, и вскоре я привык заходить к Луису после ве¬
черних уроков и оставаться у него так долго, насколь¬
ко позволяли занятия следующего дня. Матушка по¬
просила меня познакомить ее с моим новым другом, о
чьих достоинствах я прожужжал ей все уши. С каким
трепетом я привел его на улицу Коммай. А вдруг он не
понравится!
Хорошие манеры Луиса, его такт и скромность
рассеяли мои опасения, и мне доставило огромное
удовольствие услышать после его ухода мамины
слова:
— Он очень хорошо воспитан, твой друг.— Потом,
словно про себя, она добавила: — Меня это удивляет.
Я робко спросил:
— Но почему?
—Ты же мне сказал, что он рано потерял родите¬
лей и живет один со старшим братом.
— Надо полагать,— возразил я,— что хорошие ма¬
неры у него от природы.
Но мама придавала большое значение воспитанию.
Она повела рукой (чем немного напомнила свою сест¬
ру), будто говоря: «Я знаю, что ответить, но предпочи¬
таю не спорить», и добавила примирительно:
— В общем, это замечательный юноша.
175
Спустя какое-то время Луис предложил мне отпра¬
виться в воскресенье за город. К примеру, в Медо-
нский лес, который я уже знал почти так же хорошо,
как Люксембургский сад; но наша недавняя дружба
должна была придать ему загадочность критского ла¬
биринта. Единственное, что омрачало предполагаемую
прогулку, было мое обещание Луису принести ему сти¬
хи, мои стихи... Сказав ему, что пишу стихи, я сильно
поторопился; меня действительно постоянно терзала
жажда поэзии, но муза моя была очень скована. В сущ¬
ности, все мои усилия состояли в том, чтобы «переве¬
сти в стихи» мысли, которым я придавал слишком мно¬
го значения — на манер Сюлли-Прюдома120 — я его
тогда обожал, в то время как его пример и советы бы¬
ли в высшей степени пагубны для того сентименталь¬
ного школяра, каким я был. Меня ужасно стесняли
рифмы; вместо того чтобы направлять, поддерживать
и венчать чувство, они ускользали от меня, я выбивал¬
ся из сил, гоняясь за ними, и до сих пор ничего не мог
довести до конца. В субботу, накануне нашей прогул¬
ки, я отчаянно мучился, но не смог — о, горе! — про¬
двинуться дальше второй, строфы стихотворения, на¬
чинавшегося так:
Я с ним заговорил, но он остался глух.
Я о любви сказал, он только улыбался.
Ах, я не те слова нашел, как ни старался!
Когда б заветных дум не выразил я вслух,
А лучше над своим волненьем посмеялся!
Продолжение ничего не стоило, я это чувствовал и
приходил в бешенство. «Дело в том,— объяснял я Пье¬
ру Луису причину моей неловкости,— что в моем сер¬
дце живет только одна книга, вернее, ее замысел, по¬
глощая все мое существо, отвлекая от всего прочего».
Я уже тогда приступил к «Тетрадям Андре Вальтера»,
вкладывая в эту книгу все мои сомнения и внутренние
противоречия, все мои тревоги и всю мою растерян¬
ность, в особенности же мою любовь; она и составляла
основной стержень книги, вокруг которого вращалось
все остальное.
176
Моя книга беспрестанно стояла перед моим мыс¬
ленным взором, и кроме нее, мне казалось, я больше
уже никогда и ничего не напишу. Я не считал ее моим
первым произведением, для меня она была единствен¬
ной книгой и, кроме нее, я не мог ничего себе вообра¬
зить; я полагал, что она потребует всего меня, а потом
наступит смерть, безумие, ужасная пустота, куда я
влекся сам и увлекал моего, героя. Вскоре я уже не мог
сказать, кто из нас кого направляет, ведь если он не
знал ни о чем, чего бы я сам не предчувствовал и сам
не испытал, то часто, толкая моего двойника вперед, я
решался идти за ним следом и в его-то безумие гото¬
вился погрузиться.
Прошло больше года, прежде чем я по-настоящему
взялся за свою книгу; но у меня появилась привычка
вести дневник121, придавая форму моему смутному
внутреннему беспокойству, и многие страницы этого
дневника вошли — так, как они были написаны,— в
эти «Тетради». Моя сосредоточенность на одних и тех
же мыслях обладала одним серьезным недостатком: я
окончательно сосредоточился на себе, я писал и хотел
писать только о глубоко личном; я презирал внешние
события, казавшиеся мне досадной помехой. Теперь,
когда хорошо сделанный рассказ кажется мне верхом
мастерства, я перечитываю эти страницы с раздраже¬
нием; но в то время, далекий от понимания того, что
только частности дают жизнь искусству, я вознамерил¬
ся освободить его от всего случайного, считал случай¬
ным всякий отчетливый сюжет и признавал только
сущности. Если бы Пьер Луис поддержал меня на этом
пути, я бы погиб. К счастью, он был далек от этого. Он
был настолько же художником, насколько я — музы¬
кантом. Трудно представить две более различные нату¬
ры, вот почему общение с ним принесло мне такую
пользу. Но до какой степени мы отличались друг от
друга, этого мы еще не знали. Нас сближала общая лю¬
бовь к литературе и искусству; нам казалось (или мы
ошибались?), что только эта любовь имеет значение.
На следующий год мы расстались. Жорж Луис обо¬
сновался в Пасси. Мой друг стал учиться в классе фи¬
177
лософии в лицее Жансона. Я же почему-то вздумал
сменить Эльзасскую школу на лицей Генриха IV. Точ¬
нее, вскоре я решил больше нигде не учиться, но при
помощи нескольких репетиторов приготовиться к сда¬
че экзаменов на бакалавра. Приобщение к мудрости, а
именно таким я представлял себе последний класс —
класс философии, требовало, по моему мнению, уеди¬
нения. Сразу после окончания первого триместра я
бросил лицей.
IX
Рассказывая о себе, я не сумел в нужное время ска¬
зать о смерти Анны. Она покинула нас в мае 1884 года.
За десять дней до этого мы с матерью проводили ее в
больницу на улице Шальгрен, где ей должны были сде¬
лать операцию: ее уже давно беспокоила опухоль, став¬
шая заметной. Я оставил Анну в маленькой палате, ка¬
ких множество, чистой и холодной; больше я ее не ви¬
дел. Операция прошла успешно, но слишком ослабила
Анну; она не смогла оправиться и простилась с жизнью
так же тихо, как жила: никто не заметил, что она уми¬
рает, заметили только, что она уже умерла. Меня глу¬
боко печалила мысль, что ни мать, ни я не были рядом
с ней в ее последний час, что она не простилась с нами
и что ее последний взор встретил только чужие лица.
Целые недели и месяцы я с тоской воображал ее оди¬
ночество. Я слышал ее отчаянный призыв, потом горь¬
кое молчание покидающей тело души, которую остави¬
ли все, кроме Бога; отзвук этого призыва звучит на по¬
следней странице моего романа «Тесные врата»122.
Сразу после того как я окончил класс риторики,
Альбер Демаре предложил написать мой портрет. Как
я уже сказал, мой кузен вызывал во мне своего рода
нежное, страстное восхищение; в моих глазах он оли¬
цетворял искусство, смелость, свободу. Хотя он отно¬
сился ко мне с самой живой симпатией, я всегда испы¬
тывал рядом с ним беспокойство, с тревогой вымеряя
178
то малое место, которое я занимал в его сердце и в его
мыслях, и беспрерывно придумывал способы больше
заинтересовать его собой. Альбер так же пытался уме¬
рить мои чувства, как я, напротив, старался их преуве¬
личить. Я смутно страдал от его сдержанности, и ду¬
маю теперь, что он оказал бы мне большую услугу, ес¬
ли бы был более открыт.
Его предложение меня удивило. Я должен был слу¬
жить ему моделью для картины, которую он готовил
для Салона: в ней должен был фигурировать скрипач.
Альбер вооружил меня скрипкой, смычком, и в тече¬
ние долгих сеансов я сжимал пальцами струны инстру¬
мента, силясь сохранить позу, в которой бы выража¬
лась душа скрипки и моя собственная.
— Прими страдальческий вид,— говорил он мне.
Это было нетрудно, так как пребывание в столь на¬
пряженной позе быстро становилось пыткой. Моя со¬
гнутая рука затекала; смычок готов был выпасть из
пальцев...
—Ладно, отдохни. Я вижу, ты уже без сил.
Но я боялся, что, переменив позу, больше не сумею
восстановить ее.
— Пока держусь. Продолжай.
Но через мгновение смычок падал. Альбер клал па¬
литру, кисти, и мы начинали болтать. Альбер рассказы¬
вал мне о своей жизни. Мои дядя и тетя с детства про¬
тивились его вкусам, и он начал серьезно заниматься
живописью очень поздно. В сорок лет он еще не при¬
обрел уверенности, оступался, колебался, беспрестан¬
но начинал заново и шел, только избитыми путями. Он
отличался повышенной чувствительностью, но кисть
его была тяжелой и неумелой, и все, что он писал, к
сожалению, никак не выражало его души; он сознавал
свое бессилие, но каждый раз, когда приступал к но¬
вой картине, его воодушевляла надежда, что избыток
чувств позволит ему одержать победу. Он рассказывал
мне ее «сюжет» с дрожью в голосе и со слезами на гла¬
зах, взяв с меня слово, что я ничего никому не расска¬
жу. Сюжеты картин Альбера чаще всего не имели пря¬
мого отношения к живописи; линии и краски были для
179
него вещью вспомогательной, и он приходил в отчая¬
ние от их непокорности. Его недоверие к живописи,
его робость невольно проявлялись на полотнах, прида¬
вая им независимо от того, что он хотел выразить, сво¬
его рода жалобную грацию, составлявшую их единств
венное подлинное достоинство. Если бы у него было
немного больше уверенности, немного больше просто¬
душия, его неловкость могла бы сослужить ему служ¬
бу, но совесть и скромность заставляли Альбера бес¬
престанно исправлять недостатки, и его изысканные
эскизы превращались в банальность. При всей моей не¬
опытности я должен был признать, что, несмотря на бо¬
гатый внутренний мир, Альбер — не одарен в области
искусства; но в те времена я верил, что чувство все¬
сильно, и разделял его надежду, что один из «сюже¬
тов» ему удастся.
— Видишь ли, я хочу передать в картине то чувст¬
во, которое Шуман выражает в своей мелодии «Час
тайны». Вечер, на холме силуэт лежащей женщины,
окутанный закатной дымкой; она простирает руки к
крылатому существу, спускающемуся к ней. Я хочу,
чтобы ангельские крылья трепетали нежно, страстно,
как эта мелодия.— Он махал руками, изображая
крылья, и напевал:
Земля и небо слиты
В объятиях любви.
Потом он показывал мне эскизы, где обилие обла¬
ков старательно скрывало очертания ангела и женщи¬
ны, то есть неумение рисовать.
— Конечно,— добавлял он в качестве оправдания и
пояснения,— конечно, мне следовало бы взять натур¬
щицу.— Затем озабоченно замечал: — Трудно себе
представить, какая это обуза — необходимость брать
натурщиков. Во-первых, это страшно дорого...
Тут я открываю скобки: Альбер, унаследовав часть
состояния своего отца, был бы почти богат, если бы не
тайные траты, о которых мне сейчас придется расска¬
зать. Боязнь разориться постоянно терзала и преследо¬
вала его. Нелюбовь к расходам была у него в крови.
180
— Что поделать,— говорил он,— это сильнее меня.
Я всегда был экономным. Как ни стыжусь я своего не¬
достатка, но избавиться от него не смог. Когда двад¬
цать лет назад я отправился в Алжир, то взял с собой
небольшую сумму денег, отложенную специально для
путешествия, но так боялся потратить слишком много,
что привез ее обратно почти нетронутой; и так глупо
отказывал себе во всех удовольствиях.
Конечно, это была вовсе не жадность, а своего ро¬
да скромность, присущая очень великодушному чело¬
веку. Все расходы, которых ему стоила его живопись
(а он никогда не был уверен, что сможет продать свои
картины), он ставил себе в упрек. Он скряжничал са¬
мым жалким образом, стараясь не испортить холст, не
потратить слишком много краски. И особенно эконо¬
мил на сеансах натурщиков.
—Дело в том,— уверял он,— что я никогда не на¬
хожу подходящих моделей; мне всегда чего-то не хва¬
тает, да и вообще, натурщицы никогда не понимают,
чего от них хотят. Ты не можешь себе представить, до
чего они глупы. То, что они изображают, так далеко от
того, что мне нужно! Я знаю, есть художники, которые
отталкиваются от того, что перед ними, другим напле¬
вать на эмоции, а меня всегда сковывает то, что я ви¬
жу. Но при этом мне не хватает воображения, чтобы
обойтись без модели... В общем, как ни смешно, но все
время, пока мне позируют, я волнуюсь, как бы натур¬
щица не переутомилась, и мне стоит больших усилий,
чтобы не попросить ее отдохнуть.
Но главным препятствием было то, в чем Альбер не
решался признаться никому и о чем я сам догадался
лишь спустя два года. Вот уже пятнадцать лет, втайне
от всех своих близких, даже от своего брата, Альбер
был связан семейными узами с женщиной, чья ревни¬
вая любовь вряд ли допустила бы, чтобы он целыми ча¬
сами оставался в одной комнате с молодой, красивой
особой, раздетой настолько, насколько этого требовал
«Час тайны».
Бедный, милый Альбер! Не знаю, кто из нас двоих
был больше взволнован в тот день, когда он поведал
181
мне тайну своей двойной жизни. Не было любви более
чистой, благородной, верной, чем его любовь, но она
была сопряжена с опасениями и поглощала его цели¬
ком. Он поселил ту, которую уже называл своей женой
и на которой позднее женился, в маленькой квартирке
на улице Данфер, где ухитрялся окружать ее комфор¬
том; она же ухитрялась увеличивать их скромный се¬
мейный бюджет шитьем белья и вышиванием. Когда
он привел меня к ней, я был поражен редким благород¬
ством моей кузины Мари; в полумраке она задумчиво
склоняла красивое лицо, спокойное и серьезное, гово¬
рила только вполголоса; шум, казалось, пугал ее так
же, как и сильный свет, и думаю, она из скромности не
требовала от Альбера узаконить связь, которую рожде¬
ние дочери уже давно освятило. Альбер, несмотря на
свой богатырский вид, был самым робким из людей.
Он не мог огорчить свою мать, вступив в брак, кото¬
рый, она, без сомнения, расценила бы как мезальянс.
Он боялся мнения всех и каждого и, в частности, своей
невестки, вернее, он опасался, что осуждение ляжет
тенью на всю его семью. Он, такой честный, открытый,
предпочитал хитрить и притворяться: к этому его при¬
нуждало ложное положение, в котором он оказался.
Вместе с тем, очень совестливый, пекущийся о том,
чтобы не обидеть мать — ведь он считал себя всем обя¬
занным именно ей,— он делил свое сердце и свое вре¬
мя между двумя женщинами, разрываясь между ними.
Моя тетя, у которой он остался один после смерти мо¬
его дяди и женитьбы других моих кузендв, обращалась
с ним как с большим, взбалмошным ребенком и убеж¬
дала себя в том, что без нее он пропадет; он ужинал с
матерью через день и каждый вечер возвращался к ней
ночевать. Чтобы скрыть свою тайну, Альбер воспользо¬
вался дружбой, занимавшей, впрочем, в его жизни поч¬
ти такое же место, как любовь. Только его дружба бы¬
ла признана, разрешена и даже одобрена его матерью.
Каждый раз, когда Альбер не ужинал с моей тетей, он
говорил, что был в гостях у своего друга Симона, что
он задержался у него; г-н Симон не был женат, и обще¬
ние двух старых холостяков не могло вызывать подо¬
182
зрений. Эта дружба покрывала длительные отлучки
Альбера; и его пребывание с семьей за городом в лет¬
ние месяцы, когда моя тетя уезжала в Ла Рок или в Кю-
вервиль.
Эдуард Симон был евреем, но особенности его на¬
рода выражались разве что в чертах его лица, или я
был слишком молод, чтобы их распознать. Он жил
очень скромно, хотя и был обеспечен, и главным его
занятием была помощь другим людям. В прошлом ин¬
женер, он целиком посвятил себя благотворительно¬
сти. Постоянно поддерживая связь с безработными и с
хозяевами, которым требуются рабочие, он организо¬
вал у себя дома бесплатное агентство по трудоустрой¬
ству123. Весь его день проходил в посещениях бедных,
в бегах, в хлопотах. Думаю, им руководила любовь не
столько к отдельному человеку, сколько ко всему че¬
ловечеству и даже к еще более абстрактному поня¬
тию — к справедливости. Он придавал своей благотво¬
рительности характер общественного долга, и в этом
все же был настоящим евреем.
Рядом с такой активной, практичной добродетелью,
с ее очевидными результатами, бедный Альбер стыдил¬
ся своих химерических мечтаний, в которых его
друг — приходилось в этом признаться — ничего не
понимал.
— Мне необходимы ободрение, поддержка,— гру¬
стно говорил мне Альбер.— Эдуард делает вид, что ин¬
тересуется моими занятиями, но это только из любви
ко мне; в сущности, он разбирается лишь в том, что
приносит пользу. Ах, ты знаешь, мне нужно написать
шедевр, чтобы самому себе доказать, что я не бездель¬
ник.
Он проводил волосатой рукой с проступающими ве¬
нами по своему уже облысевшему лбу, и спустя мгно¬
вение я ввдел, как его большие, добрые глаза под на¬
супленными бровями наполнялись слезами.
Наверное, я сначала был не очень чувствителен к
живописи — во всяком случае, меньше, чем к скульп¬
туре,— но мной двигало такое желание, такая потреб¬
ность понять, что вскоре мое восприятие стало весьма
183
утонченным. Однажды в виде опыта Альбер оставил на
столе одну фотографию и был восхищен тем, что я сра¬
зу же узнал рисунок Фрагонара; а я удивлялся его вос¬
торгу: мне казалбсь, ошибиться было невозможно. Он
качал головой и улыбался, глядя на меня:
— Надо бы сводить тебя к «патрону»,— сказал он
наконец.— Тебе понравится в его мастерской.
Альбер был учеником Жан-Поля Лорана124; он ис¬
пытывал по отношению к тому, кого всегда называл не
иначе как «патрон», чувство собачьей, сыновней, апо¬
стольской преданности. Жан-Поль Лоран занимал в то
время на улице Нотр-Дам-де-Шан довольно неудобную
квартиру с прилегающими к ней двумя мастерскими: в
одной, оборудованной под гостиную, принимала мадам
Лоран; в другой работал «патрон». Каждый вторник ве¬
чером занавес между двумя ателье поднимался. На эти
еженедельные вечера приходили лишь близкие друзья*
в основном бывшие ученики; там немного музицирова¬
ли, беседовали, все было очень сердечно и просто: но
все же в первый раз, когда я появился в этом обществе,
сердце мое учащенно билось... Строгая гармония об¬
становки, пурпурная обивка, полумрак — все внушало
мне почти благоговейное чувство, все, казалось, ласка¬
ло взор и душу, приглашало к вдумчивому созерцанию.
В тот день у меня вдруг открылись глаза и я понял, до
чего уродливой была меблировка нашей квартиры;
мне казалось, я принес что-то от нее, и меня охватило
такое острое чувство собственной пошлости, что я бы,
наверное, упал в обморок от стыда и робости, если бы
в ателье не присутствовал мой старый товарищ по шко¬
ле, старший сын Жан-Поля Лорана, чья сердечность
придала мне уверенности.
Полю-Альберу было ровно столько лет, сколько и
мне; но из-за перерыва в моих занятиях я давным-дав¬
но потерял его из виду: сразу после девятого класса, в
котором мы вместе учились. Мне запомнился очаро¬
вательный, непослушный ленивец. Сидя в классе на
одной из последних скамеек, он в течение всех уро¬
ков покрывал свои тетради фантастическими рисунка¬
ми: они казались мне совершенно невероятными. По¬
184
рой я добивался наказания ради удовольствия быть со¬
сланным на задний ряд и оказаться возле него. Он ис¬
пользовал в качестве кисти толстый, измочаленный
конец своей ручки, макая его в чернила; эта работа по¬
глощала его и придавала ему прилежный вид, но, ес¬
ли учителю приходило в голову задать ему вопрос,
Поль, растерянный, с отсутствующим взглядом, каза¬
лось, возвращался из такой дали, что весь класс пока¬
тывался со смеху. Конечно, я был счастлив увидеть
его вновь и рад, что он узнал меня, но меня мучило
опасение, как бы он не принял меня за буржуа. С тех
пор как я позировал Альберу (он только что закончил
мой портрет), я был очень озабочен собственной пер¬
соной; потребность казаться художественной натурой,
каковой я себя ощущал, доходила до того, что мешала
мне быть естественным и делала из меня то, что име¬
нуется «позером». В зеркале маленького бюро, унасле¬
дованного от Анны и поставленного матерью в мою
комнату,— за ним я работал — я неустанно разгляды¬
вал свое лицо, изучал его, формировал, словно актер,
ища в рисунке губ и взгляде выражение всех тех стра¬
стей, которые мне хотелось бы переживать. В особен¬
ности я жаждал, чтобы меня любили, за это я готов
был отдать душу. Казалось, в те времена я не мог пи-,
сать — я чуть было не сказал: думать — иначе, как пе¬
ред зеркалом; чтобы уловить свои чувства и мысли,
мне нужно было сперва прочитать их у себя в глазах.
Я, словно Нарцисс, склонялся над собственным отра¬
жением; это чувствуется во всех, написанных мною в
то время фразах.
Мы с Полем Лораном сразу же подружились, и на¬
ша дружба вскоре стала очень тесной; я расскажу о
ней, когда дойду до нашего совместного путешествия,
а пока возвращаюсь к Альберу.
Не только симпатия ко мне побудила Альбера к от¬
кровениям. У него была задняя мысль, и он не замед¬
лил мне о ней сообщить. Его дочь, которой уже шел
тринадцатый год, оказалась музыкально одарена. Аль¬
бер, чьи пальцы на клавишах фортепьяно было столь
же неловкими, сколь его кисти — на холсте, мечтал
185
благодаря дочери добиться реванша; он связывал с Ан¬
туанеттой свои надежды и честолюбивые помыслы.
—Я хочу сделать из нее пианистку,— говорил он
мне.— Это меня утешит. Я очень много потерял из-за
того, что не работал в молодости. Пора ей принимать¬
ся за дело.
Между тем моя мать, наконец осознавшая посред¬
ственность уроков музыки, что давались мне до тех
пор, и то, какую пользу могли бы мне принести лучшие
учителя, за полтора года до этого разговора доверила
мое музыкальное образование замечательному препо¬
давателю — Марку Деланюксу, тут же заставившему
меня добиться поразительных успехов. Альбер спросил
меня, не могу ли я в свою очередь давать уроки его до¬
чери и как бы передать ей хотя бы отблеск такой пре¬
восходной школы; опасаясь чрезмерных расходов, он
не решался обратиться к самому г-ну Деланюксу. Я сра¬
зу приступил к занятиям, гордясь собственной значи¬
тельностью и доверием Альбера, которое старался оп¬
равдать. В течение двух лет я считал делом чести не
пропустить ни одного урока (имевших место два раза
в неделю), и они принесли мне столько же пользы,
сколько и моей ученице, с которой впоследствии стал
заниматься сам папаша Деланюкс. Если бы мне надо
было зарабатывать на жизнь, я стал бы учителем, ско¬
рее всего учителем музыки; я обожаю преподавать и,
если ученик хоть немного стоит моих усилий, терпе¬
ние мое не имеет предела. Я не один раз давал уроки
и смею надеяться, что они были достойны уроков луч¬
ших учителей. Если я до сих пор не сказал о том, что
значил для меня Деланюкс, то только потому, что об
этом надо говорить долго; и сейчас для этого как раз
пришло время.
Уроки мадемуазель Геклен, г-на Шифмакера и в
особенности г-на Мерримана были донельзя скучны¬
ми. Время от времени я виделся с гном Геру, следив¬
шим за тем, чтобы «священный огонь», как он выра¬
жался, не угас, но даже если бы я мог чаще выслуши¬
вать его советы, меня бы они не многим бы обогатили.
Г-н Геру был слишком эгоистичен, чтобы хорошо
186
учить других. Какой бы из меня вышел пианист, если
бы я раньше попал к Деланюксу! Но мать придержива¬
лась распространенного мнения, согласно которому
вначале все учителя хороши. С первого же занятия
Марк Деланюкс все изменил. Я думал, что совершен¬
но лишен музыкальной памяти или обладаю ей в весь¬
ма незначительной степени; я выучивал наизусть фраг¬
мент, только без конца его твердя, беспрестанно загля¬
дывая в текст и все забывая, как только переставал в
него смотреть. Деланюкс так хорошо за меня взялся,
что за несколько недель я выучил не одну фугу Баха,
не открывая нотной тетради; помню, как я был удив¬
лен, обнаружив, что та, которую, как мне думалось, я
играл в re bemol, была написана в ut diez. С ним все
оживлялось и озарялось новым светом, все отвечало
требованиям гармонических законов, все раскладыва¬
лось по частям и снова складывалось, и все мне было
понятно. Думаю, с таким же восторгом апостолы по¬
чувствовали, как на них снизошел Святой Дух. Мне ка¬
залось, что до сих пор я только повторял звуки боже¬
ственного языка, по-настоящему не понимая их, и
вдруг оказался способным говорить на этом языке.
Каждая нота обрела свое особое значение, стала сло¬
вом. С каким энтузиазмом я принялся за учебу! Мной
двигало такое усердие, что самые нудные упражнения
стали моими любимыми. Однажды, уступив после уро¬
ка место другому ученику, я задержался на лестнич¬
ной клетке, стоя возле закрытой двери, которая не ме¬
шала мне все слышать. Сменивший меня ученик, на¬
верное не старше меня, играл то же сочинение,
которое я в то время разучивал,— большую «Фанта¬
зию» Шумана, играл с такой силой, с таким блеском и
уверенностью, до которых мне было еще далеко, и я
долго сидел на ступенях лестницы, захлебываясь сле¬
зами от зависти.
Г-ну Деланюксу, казалось, доставляло большое удо¬
вольствие обучать меня, и его уроки часто длились го¬
раздо дольше положенного времени. Только спустя
много лет я узнал о просьбе, обращенной им к мате¬
ри: он пытался убедить ее пожертвовать моим даль¬
187
нейшим образованием, уже достаточно, по его мне¬
нию, продвинутым, ради музыки, просил ее всецело
отдать меня ему. Мать колебалась, стала советовать¬
ся с Альбером, затем сама решила отказаться от это¬
го предложения, полагая, что я смогу заниматься в
жизни чем-нибудь получше, чем просто исполнять чу¬
жие произведения; чтобы не пробуждать во мне тще¬
славия, она попросила г-на Деланюкса ничего мне не
говорить об этом предложении (я должен добавить,
что оно было совершенно бескорыстным). Все это я
узнал гораздо позже от Альбера, когда время уже без¬
возвратно ушло.
За четыре года, что я провел под руководством Де¬
ланюкса, между нами установилась большая близость.
Даже после того, как он прекратил давать мне уроки
(к моему большому сожалению, он заявил мне однаж¬
ды, что научил меня обходиться без него, и мои возра¬
жения не смогли заставить его продолжать занятия, ко¬
торые он считал бесполезными), я не переставал при¬
лежно посещать его. Я испытывал к нему чувство
благоговения, почтительной и робкой любви, похожее
на то, что немного позднее я ощутил по отношению к
Малларме125 — только к этим двоим у меня было та¬
кое чувство. И тот и другой достигли в моих глазах од¬
ной из редчайших форм святости. Простодушная по¬
требность в обожании привела к тому, что мой ум пол¬
ностью подчинился им.
Марк Деланюкс был не только учителем, но и нео¬
быкновенным человеком, а его жизнь — достойной
восхищения. Он сделал из меня своего наперсника. Я
записывал его слова, наши многочисленные, особенно
в последнее время его жизни, беседы, и они до сих пор
кажутся мне, когда я их перечитываю, крайне интерес¬
ными. Но здесь они заняли бы слишком много места,
и я лишь бегло набросаю его портрет.
Марк Деланюкс родился на острове Реюньон, как и
его кузен Леконт де Лиль. О его южном происхожде¬
нии говорили сильно вьющиеся волосы, которые он но¬
сил довольно длинными, отбрасывая их назад, смуглый
цвет лица и томный взгляд. От всего его существа ис¬
188
ходила странная смесь пылкости и лени. Протянутая
вам его рука словно таяла в вашей, как ни одна рука
пианиста, и его большое, нескладное тело, казалось,
все состояло из такого же плавкого вещества. Он да¬
вал уроки стоя, шагая по комнате или опершись о ро¬
яль — он им не пользовался во время занятий — на¬
клонясь, выставив вперед локти и прижав одну руку к
выпуклому лбу. Затянутый в длинный сюртук роман¬
тического покроя с поднятым воротником, вокруг ко¬
торого был дважды обмотан муслиновый галстук, вы¬
соко завязанный маленьким узлом, он при определен¬
ном освещении, подчеркивавшем его выступающие
скулы и впалые щеки, был удивительно похож на авто¬
портрет Делакруа126. Порой, во власти лирического
настроения, воодушевления он так оживлялся, что ста¬
новился по-настоящему красивым. Думаю, он из скром¬
ности редко соглашался занять мое место за фортепь¬
яно, только иногда давал беглые указания, но зато
охотно (во всяком случае, на наших уроках) доставал
из футляра скрипку, и, хотя говорил, что играет на ней
очень плохо, когда мы вместе исполняли сонаты, вел
свою партию гораздо лучше, чем я — мою. О его ха¬
рактере я не стану ничего говорить, иначе рискую
слишком увлечься, приведу только одну черту, рисую¬
щую всего человека.
Он считал, что его внучек очень плохо воспиты¬
вают.
— Смотрите,— говорил он мне доверительно,— я
вам приведу пример: каждую среду вечером малень¬
кая Мими (это была его младшая внучка) приходит сю¬
да ночевать. В ее комнате стоит будильник, малышка
жалуется, что тиканье не дает ей спать. И знаете, что
сделала мадам Деланюкс? Убрала будильник. Как же
вы хотите, чтобы девочка к нему привыкла?
Это напоминает мне прелестное словцо мадемуа¬
зель де Марсийяк127, сказанное ею однажды, когда я
неожиданно появился у нее в Женеве, попав на собра¬
ние старых дев. Одна из них рассказывала о своей ма¬
ленькой племяннице, проявлявшей особое отвращение
к толстым личинкам майских жуков — их обычно на¬
189
зывают «турками» или «белыми червями». Мать реши¬
ла преодолеть отвращение девочки.
— И знаете, что она придумала? Ей взбрело в голо¬
ву заставить бедного ребенка их есть!
— Но,— воскликнула мадемуазель де Марсийяк,—
у нее же могло на всю жизнь остаться к ним отвра¬
щенье!
Быть может, между всем этим и нет особой связи.
Пойдем дальше.
Преподавание в Эльзасской школе, превосходное в
начальных классах, считалось не очень хорошим в
старших. Класс риторики был еще сносным, но что ка¬
сается класса философии, тут моя мать позволила се¬
бя убедить, что мне предпочтительнее заниматься в ли¬
цее, и решила перевести меня в лицей Генриха IV.
Между тем я собирался готовиться к новому экзамену
один с помощью частных уроков. (Разве я за два года
таких занятий не нагнал пропущенные в школе пять
лет?) Изучение философии, как мне тогда казалось,
требовало сосредоточенности, плохо совместимой со
школьной атмосферой и соседством товарищей. Поэто¬
му после первого триместра я покинул лицей. Г-н JL,
чьи лекции я там слушал, согласился быть моим корм¬
чим на путях метафизики и проверять мои задания.
Это был человек с сухим, ограниченным умом, худой
и длинный; его вялый, тусклый голос способен был
обесцветить любую, самую прекрасную мысль; когда
он пересказывал ее, то словно бы обрывал с нее все
цветы, все листья, и чувствовалось, что только в виде
голого понятия она могла уложиться в его унылом уме.
От его занятий веяло чистейшей скукой. С ним я испы¬
тывал такое же разочарование, как и с г-ном Кувом,
когда получал религиозное образование. Как! это и
есть та высшая наука, от которой я ждал объяснения
моей жизни, та вершина знаний, откуда можно созер¬
цать мироздание?.. Я находил утешение в Шопенгауэ¬
ре. С несказанным наслаждением я погрузился в его
книгу «Мир как воля и представление», прочитал ее от
корки до корки, перечитал с таким напряжением ума,
190
от которого в течение долгих месяцев меня ничто не
могло отвлечь. Позднее я попал под руководство дру¬
гих наставников и полюбил их гораздо больше — я
имею в виду Спинозу, Декарта, Лейбница, наконец,
Ницше; думаю даже, что я довольно быстро избавился
от влияния Шопенгауэра, но моим приобщением к фи¬
лософии я обязан ему и только ему.
Провалившись в июле, я кое-как сдал в октябре вто¬
рой экзамен на бакалавра, полагая, что на этом должен
завершиться первый этап моего образования. Совер¬
шенно не собираясь становиться лиценциатом, сдавать
право или какой-то другой экзамен, я решил тут же пе¬
рейти к деятельности. Мать взяла с меня обещание все
же еще позаниматься в следующем году с г-ном Дье-
цом, но это уже не имело значения. Я чувствовал себя
странно свободным, без всяких обязанностей, без ма¬
териальных забот — в том возрасте я вообще плохо
представлял себе, что значит зарабатывать на жизнь.
Свободным? О нет! Я был во власти моей любви и мо¬
его замысла книги, о котором я уже говорил,— эта
книга была моим самым настоятельным долгом.
Другое решение, принятое мной, заключалось в
том, чтобы как можно скорее жениться на моей кузи- •
не. Моя книга порой казалась мне не чем иным, как
длинным объяснением в любви, исповеданием чувств;
она мечталась мне такой благородной, страстной, убе¬
дительной, что стоит ей быть опубликованной, как на¬
ши родители уже не смогут противиться нашему бра¬
ку, а Эмманюэль — отказать мне. Между тем мой дя¬
дя, а ее отец, незадолго до того умер от удара; в его
последние мгновения мы не отходили от него, скло¬
нясь над умирающим, мы опять были вместе, и мне ве¬
рилось, что его смерть освящает нашу помолвку.
Однако, несмотря на сильную душевную потреб¬
ность писать, я чувствовал, что книга еще не созрела,
что написать ее я еще не способен, и поэтому без осо¬
бых возражений отнесся к перспективе дополнительно
позаниматься еще несколько месяцев, и в особенно-
191
сти — почитать (я проглатывал по книге в день). Не¬
большое путешествие, как полагала матушка, принес¬
ло бы мне пользу во время каникул; я думал так же, но
наше взаимопонимание кончилось, когда пришла пора
выбрать тот край, куда я поеду. Мама предпочитала
Швейцарию и соглашалась отпустить меня одного, хо¬
тя и не совсем. Ей хотелось, чтобы я поехал с Альпий¬
ским клубом; но я категорически возразил, что в по¬
добном обществе сойду с ума и вообще терпеть не мо¬
гу Швейцарию. Я хотел поехать в Бретань, один, без
всяких спутников, с рюкзаком за плечами. О Бретани
матушка не хотела и слышать. Я призвал на помощь
Альбера, надеясь, что он, давший мне прочитать «По
берегам и долам»128, поймет мое желание и встанет на
мою сторону... Мать наконец уступила, но захотела ме¬
ня сопровождать. Было решено, что мы будем встре¬
чаться через два-три дня.
В дороге я вел дневник. Несколько страниц из не¬
го напечатаны в «Валлонии»129, правда, сильно исправ¬
ленные, так как в ту пору я очень запутанно выражал
свои мысли. Все, о чем я мог бы сказать просто, каза¬
лось мне банальным и неинтересным. Другие отзвуки
этого путешествия есть в «Тетрадях Андре Вальтера»,
так что я больше ничего не хочу о нем говорить. Рас¬
скажу только один эпизод.
Следуя короткими переходами по побережью от
Киберона до Кемпера, я однажды ясным днем оказал¬
ся в маленькой деревушке, если не ошибаюсь, Ле Пуль-
дю. Деревушка состояла всего из четырех домов, два
их них были гостиницами; более скромная на вид по¬
казалась мне более привлекательной, и я вошел в нее,
так как очень хотел пить. Служанка провела меня в по¬
беленную известью комнату и оставила одного, поста¬
вив на стол стакан сидра. Скудость меблировки и от¬
сутствие обоев делали особенно заметными сложен¬
ные на полу холсты и прислоненные к стене рамы. Как
только я остался один, я сразу побежал к холстам; пе¬
реворачивал один за другим и рассматривал со все воз¬
растающим удивлением; мне казалось, я вижу детскую
мазню, но краски были такие живые, необычные, ра¬
192
достные, что я раздумал продолжать путь дальше. Мне
захотелось увидеть художников, способных на такие
забавные шалости; я позабыл о своем намерении дой¬
ти этим вечером до Понт-Авена 13°, снял комнату в го¬
стинице и осведомился о времени ужина.
— Вы хотите, чтобы вам принесли ужин отдельно?
Или будете ужинать там же, где эти господа? — спро¬
сила служанка.
«Эти господа» были авторами картин: скоро они по¬
явились с ящиками для красок и мольбертами, их бы¬
ло трое. Разумеется, я попросил, чтобы мне сервирова¬
ли стол вместе с ними, если я им не помешаю. Они да¬
ли понять, что я нисколько их не стесняю; они вообще
ничего не стеснялись. Все трое были босиком, живо¬
писно расхристанные, со звучными голосами. В тече¬
ние всего ужина я с трепетом впивал их речи, мучи¬
мый желанием поговорить с ними, рассказать о себе,
познакомиться поближе и сказать вот этому здоровяку
со светлым взором, что мотив, который он громко на¬
певает и который хором подхватили остальные, при¬
надлежит не Массне, как он думает, а Бизе...
Одного из них я позднее встретил у Малларме: это
был Гоген. Другой был Серюзье. Третьего я не знаю
(может быть, Филиже).
Осень и зима того года были заполнены не слиш¬
ком плодотворными занятиями под руководством г-на
Дьеца, визитами, встречами с Пьером Луисом, плана¬
ми издавать журнал, о чем мы пламенно, нетерпеливо
мечтали. Весной я почувствовал, что время пришло;
но, чтобы написать мою книгу, мне необходимо было
одиночество. Маленькая гостиница на берегу крошеч¬
ного озера Пьерфон предоставила мне временный
приют. Через день ко мне заявился Пьер Луис — надо
было искать приют подальше. Я уехал в Гренобль, об¬
шарил все его окрестности от Юрьяжа до Сен-Пьер-де-
Шартрез, от Алльвара до еще каких-то уже позабытых
мною мест, но большинство гостиниц было еще закры¬
то, шале зарезервированы за семьями, и я уже начал
193
терять надежду, как вдруг возле Аннеси и почти на бе¬
регу озера, в Мантоне, обнаружил прелестный кот¬
тедж, окруженный садами, в котором хозяин согла¬
сился сдать мне на месяц две комнаты. Оборудовав са¬
мую большую как рабочий кабинет, я велел доставить
мне из Аннеси фортепьяно, чувствуя, что не смогу
обойтись без музыки. Я столовался в летнем ресторан¬
чике на берегу озера, в котором на протяжении всего
месяца — сезон едва начался — был единственным го¬
стем. Неподалеку жил Тэн. Я только что запоем про¬
чел его «Философию искусства», «Об уме и позна¬
нии»131 и «Историю английской литературы», но не
стал навещать его — из робости и из опасения от¬
влечься от своей работы. В полном одиночестве, в ко¬
тором я жил, я мог раскалять добела мой ныл и под¬
держивать себя в том состоянии лирического востор¬
га, в котором только и полагал уместным писать.
Когда я сегодня перечитываю «Тетради Андре Валь¬
тера», их высокопарность приводит меня в отчаяние. В
то время я очень любил слова, предоставляющие про¬
стор для воображения, такие, как «неясный», «беско¬
нечный», «невыразимый»,— я прибегал к ним, как Аль¬
бер — к облакам, скрывавшим очертания модели, ко¬
торую ему трудно было нарисовать. Изобилие таких
слов в немецком языке придавало ему в моих глазах
высокопоэтический характер. Только гораздо позже я
понял, что свойство французского языка — точность.
Если бы эти «Тетради» не свидетельствовали о моем
юношеском беспокойном мистицизме, я бы предпочел
сохранить лишь несколько фрагментов. Но в ту пору,
когда я писал эту книгу, она казалась мне крайне важ¬
ной, а изображенный в ней духовный кризис достой¬
ным всеобщего, немедленного интереса; в те времена
я не мог понять, что этот кризис составлял только мою
особенность. Мое пуританское воспитание превратило
требования плоти в пугало. И как я мог понять тогда,
что моя натура противилась общепринятому решению
этого вопроса настолько же, насколько мое пуританст¬
во его осуждало? Пока я убеждался в том, что состоя¬
ние целомудрия — вещь коварная и недолговечная;
194
что выхода у меня нет, и я вновь и вновь впадал в грех
моего раннего детства, всякий раз приходя в отчаяние.
Именно это, а также много любви, много музыки, ме¬
тафизики и поэзии составили сюжет моей книги. Я уже
говорил, что дальше нее я ничего не видел; это была не
только моя первая книга, но и мое «все», мне казалось,
что с ней моя жизнь првдет к своему завершению, кон¬
цу. Но все же иногда, поющая моего героя, погружаю¬
щегося в безумие, моя душа наконец освобождалась и
от него, и от смертельного груза, который она влачила,
и тогда я начинал предчувствовать головокружитель¬
ные возможности. Я представлял себе серию «Светских
проповедей» в подражание «Источникам» отца Грат-
ри132, намереваясь объять весь мир и привести самых
строптивых к евангельскому Богу (не совсем такому,
каким его обычно представляют, это я собирался дока¬
зать в другой, более близкой к чистому богословию,
книге). Я задумал и рассказ, вдохновленный смертью
Анны,— он должен был называться «Опыт о том, как
надо умирать» — впоследствии он превратился в по¬
весть «Тесные врата». Наконец, я начал сомневаться в
необъятности мира и в моем незнании его.
Вспоминаю длительную прогулку вдоль дальней
оконечности озера; мое одиночество повергало меня
одновременно в восторг и в отчаяние, на закате моя
сердечная жажда стала такой нестерпимой, что, про¬
должая широко шагать (так широко, что мне казалось,
я лечу, а вернее, я почти бежал), я беспрестанно звал
друга, с которым мог бы слиться в братском, порыве,
исповедовался ему, разговаривал с ним вслух и рыдал
оттого, что его не было рядом. Я решил, что этим дру¬
гом должен быть Поль Лоран (хотя был с ним тогда
едва знаком — то, что я говорил о нем и о моем посе¬
щении ателье его отца, относится к более позднему
времени) и меня охватило восхитительное предчувст¬
вие, что однажды мы отправимся с ним одни куда гла¬
за глядят.
Когда в середине лета я вернулся в Париж, моя кни¬
га была закончена133. Альбер, которому я ее тут же
прочитал, был удручен моим неумеренным благоче¬
195
стием и обилием цитат из Писания. Об этом обилии
можно судить по тому множеству, что осталось и по¬
сле того, как я по его совету убрал две трети. Потом я
прочитал мое сочинение Пьеру Луису. Мы решили, что
каждый оставит в своей первой книге одну пустую
страницу, чтобы ее мог заполнить друг; из такой же
предупредительности Алладин предоставил своему те¬
стю возможность украсить один из балконов своего
дворца134. В сказке рассказывается, что тестю так и не
удалось достигнуть того, чтобы этот балкон гармониро¬
вал с остальным зданием; так же и мы чувствовали се¬
бя неспособными, я — написать ему сонет, а он запол¬
нить страницу в моих «Тетрадях». Но все же, не желая
уклоняться от нашего договора, Луис предложил мне
написать нечто вроде предисловия, которое придало
бы моей книге действительно «посмертный» ввд*.
В то время газеты настоятельно взывали к моло¬
дым. Мне казалось, что моя книга отвечает «Нынешне¬
му долгу» Поля Дежардена136. Статьи Мелькиора де
Вогюэ137, адресованные «тем, кому двадцать лет»,
убеждали меня в том, что меня ждут. Да, думал я, моя
книга отвечает столь насущным потребностям эпохи,
столь настоятельным запросам публики, что меня
удивляет, как это еще никто не догадался ее написать
и издать раньше меня. Я боялся, что опоздаю и прокли¬
нал типографа Дюмулена, которому уже давно отпра¬
вил верстку, а он все еще не выдал мне готовой книги.
Как я узнал чуть позже, дело было в том, что моя кни¬
га повергла его в большое замешательство. Дюмулен,
рекомендованный мне как лучший типограф Парижа,
был ревностным католиком и не хотел терять свою ре¬
путацию; он взялся за работу, не ознакомившись с тек¬
стом, а теперь обнаружил в нем немало ереси. Видимо,
некоторое время он колебался, а потом из опасения
быть скомпрометированным передал книгу одному из
своих собратьев.
* Это короткое предисловие, подписанное инициалами
его первого псевдонима П. К (Пьер Кризис), фигурирует
только в издании Перрона135.
196
Наряду с улучшенным изданием — оно должно бы¬
ло появиться первым и очень небольшим тиражом, я
предусмотрел еще одно, обыкновенное, дабы удовлет¬
ворить аппетит публики, который как я полагал, будет
весьма значительным. Но колебания Дюмулена, его пе¬
реговоры с любезным собратом длились так долго, что,
несмотря на все принятые мной меры, обычное изда¬
ние появилось первым.
Количество сделанных в нем опечаток очень меня
удручило, к тому же мне пришлось признать, что кни¬
га совершенно не продается, и, как только улучшенное
издание было готово, я пустил первое под нож. Я сам
отнес его, забрав почти полностью у брошюровщика
(за исключением, кажется, семидесяти экземпляров,
предназначенных для рассылки в газеты и журналы),
и был очень доволен, получив взамен некоторую сум¬
му денег. Платили за вес бумаги... Но все это представ¬
ляет интерес только для библиофилов...
Да, ожидаемый успех не пришел. Но характер мой
таков, что неудача даже доставила мне удовольствие.
В сущности, в каждой неудаче содержится — для того,
кто умеет задуматься,— определенный урок, его-то я и
извлек. Я тотчас перестал жаждать триумфа, раз он
мне не удался, или во всяком случае стал представлять
его совершенно иным, теперь я убеждал себя, что важ¬
нее, кто тебя хвалит, а не количество похвал.
Мои беседы с Альбером ускорили принятие реше¬
ния, отвечавшего склонностям моей натуры, и опреде¬
лили мое поведение, впоследствии часто подвергавше¬
еся критике: я стал избегать успеха. Наверное, пора
мне объясниться.
Я вовсе не хочу изображать себя лучше, чем я есть:
я страстно желал славы, но быстро убедился, что ус¬
пех, каким он обычно бывает,— лишь искаженное ее
подобие. Я рад, когда действительно заслуживаю лю¬
бовь, и страдаю, когда чувствую, что меня хвалят по
ошибке. Меня не удовлетворяет и заранее подготов¬
ленное чествование. Какое удовольствие может вам
доставить то, что сделано по заказу или объясняется
корыстными соображениями, связями, даже если это
197
дружеские связи? Одна мысль о том, что меня могут
хвалить из благодарности, или затем, чтобы нейтрали¬
зовать мою критику, или затем, чтобы подчеркнуть
мою благонамеренность, сразу уничтожает для меня
всю ценность похвалы, я ее больше не хочу. Прежде
всего для меня важно знать, чего на самом деле стоит
мое произведение, и мне не нужен лавровый венок, го¬
товый вскоре увянуть.
Перемена в моем настроении была резкой; конеч¬
но, она отчасти объяснялась досадой, но досада дли¬
лась недолго, возможно, она была причиной, но не
дальнейшим стимулом моего поведения. Это поведе¬
ние, как я вскоре понял, которое можно было принять
за позу, в точности соответствовало моим склонно¬
стям, и я почувствовал себя настолько в своей тарелке,
что не пытался его изменить.
Я издал свою первую книгу очень маленьким тира¬
жом, последующие я печатал ровно в таком же коли¬
честве, и даже немного меньше. Теперь я решил ори¬
ентироваться только на избранных читателей; побуж¬
даемый Альбером, я решил обходиться без рекламы, я
решил... Но думаю, что я поступал так скорее из жела¬
ния развлечься и из любопытства: я пустился в авантю¬
ру, в которую никто еще не пускался. У меня, слава бо¬
гу, было на что жить, и я мог позволить себе наплевать
на прибыль: если мое произведение чего-то стоит, ду¬
мал я, оно будет жить; я подожду.
Нечто вроде врожденной угрюмости укрепило ме¬
ня в моем решении не привлекать внимание ни кри¬
тиков, ни читателей; постоянная перемена настрое¬
ний заставляет меня, едва книга закончена, броситься
в совершенно другую сторону (что происходит также
из потребности равновесия) и написать именно такую,
которая меньше всего способна понравиться тем чи¬
тателям, что появились у меня благодаря предыду¬
щей.
— Я никогда не поверю,— восклицала моя старая
кузина, баронесса де Фешер (как? разве я ее еще не
представил?),— я никогда не поверю, что ты отка¬
жешься от жанра, который тебе так удался.
198
Но мне дороже был неуспех, чем приверженность
к какому-либо жанру. Даже если он обещал мне славу,
я не мог согласиться следовать проторенным путем. Я
люблю игру, неизвестность, риск, люблю не оказывать¬
ся там, где, как полагают, я нахожусь. Люблю еще и по¬
тому, что хочу быть там, где мне вздумается, и хочу,
чтобы меня оставили в покое. Для меня главное —
иметь возможность свободно мыслить.
Однажды вечером, вскоре после публикации «Тетра¬
дей» я, выслушивая неумеренные комплименты Адоль¬
фа Ретте138, не мог удержаться и резко оборвал его (во
всем, что я делаю, куда меньше рассудочности и куда
больше темперамента; я просто не в состоянии посту¬
пать иначе), а потом взял и ушел. Это произошло в ка¬
фе то ли Вашетт, то ли Суре, куда меня привел Луис.
— Если ты так будешь выслушивать похвалы, тебе
их не часто будут расточать,— сказал мне Луис при на¬
шей следующей встрече.
Между тем я люблю похвалы, однако неуклюжие
комплименты меня раздражают; все, что невпопад, бе¬
сит меня, и я предпочитаю, чтобы меня вообще не хва¬
лили, чем хвалили плохо. К тому же я мгновенно убеж¬
даюсь, что похвала преувеличена; скромность сразу же
указывает мне все мои недочеты; ведь я знаю предел
своих возможностей и больше всего боюсь ложного о
себе представления, считая самодовольство губитель¬
ным для духовного развития, поэтому я постоянно за¬
нижаю самооценку и горжусь самоуничижением. По¬
верьте, в моем самоуничижении нет ни малейшей ис¬
кусственности, оно для меня естественно. Мои
побуждения не очень просты, но что поделать? Я не
стремлюсь к сложности, она внутри меня. Те действия,
в которых не проявляются свойственные мне противо¬
речия, не выражают моей сущности.
Перечитываю написанное. Оно меня мало удовлет¬
воряет. Мне бы следовало, объясняя мою нелюдимость
и замкнутость, сказать прежде всего о моей крайней
боязни усталости. Как только я чувствую, что не могу
вести себя совершенно естественно, общество стано¬
вится крайне утомительным для меня.
199
Кузина, только что мною упомянутая, урожденная
Жид, вдова генерала де Фешера, чье имя носит один
из проспектов в Ниме, в пору моей юности жила на
улице Бельшас, на третьем этаже элегантного частно¬
го особняка. Перед, входом была веранда, и, когда вы
подходили к ней, пройдя через двор, привратник ле¬
гонько звонил два раза; и за открывшейся наверху
дверью вас встречал высокий лакей. Колокольчик из¬
давал в точности такой же хрустальный звон, как и
наш красивый колокол, если до него слегка дотро¬
нуться, колокол, которым накрывали сыр, когда у нас
в доме был званый ужин; вообще все, связанное с
моей кузиной, напоминало исключительно о роскоши
и торжественных приемах. Она принимала нас —
мою мать и меня (я тогда был совсем маленьким) в
узкой комнате, уставленной мебелью из красного де¬
рева. Мне в особенности запомнился большой секре¬
тер, от которого я не мог отвести взгляд, так как знал,
что настанет миг и кузина вытащит из него коробку с
засахаренными фруктами — так в театре во время ан¬
тракта принимаешься за конфеты и апельсины. Это
вносило приятное разнообразие в наш визит, кото¬
рый, как мне казалось, длился бесконечно: кузина
пользовалась нескончаемым терпением матери, утом¬
ляя ее скучными жалобами на свою дочь, на своего
банкира, нотариуса или пастора; у нее ко всем были
претензии. Поэтому она предусмотрительно не выни¬
мала засахаренные фрукты слишком рано, но делала
это именно тогда, когда чувствовала, что терпение на¬
ше кончается. Тогда она приподнимала платье, снима¬
ла со своей нижней тафтяной юбки связку ключей,
выбирала один из них и открывала ящик маленького
бюро; из ящика бюро она доставала другой ключ — от
секретера, откуда вместе с коробкой засахаренных
фруктов вынимала связку бумаг,— их она давала чи¬
тать матери. Коробка всегда была почти что пустой,
так что угощаться надо было, проявляя сдержанность;
мать уклонялась от угощения и, когда однажды я
спросил ее почему, она ответила:
—Ты же видел, малыш, кузина не настаивала.
200
После того как я брал лакомство, кузина ставила
коробку обратно в секретер, и начинался второй акт
нашего визита. Ее бумаги, которые спустя немного
лет, как только она сочла меня достаточно зрелым, я
тоже вынужден был читать, содержали не только адре¬
сованные ей письма и копии ее ответов, но и записан¬
ные ею беседы, причем записывала она не столько ре¬
чи других, сколько свои ответы, отличавшиеся чрез¬
мерным благородством, одновременно лаконичные и
нескончаемые; подозреваю, что на манер Тита Ливия
она записывала не столько то, что говорила, сколько
то, что хотела бы сказать и именно ради этого и вела
свои записи.
— Вот что я ему ответила,— начинала она театраль¬
ным тоном, и это было надолго.
— Ну вот! Сегодня он вел себя благоразумно, он
становится взрослым,— сказала она однажды, когда
мы прощались.— Сегодня он не спросил, как в про¬
шлый раз, «когда мы пойдем». Его тоже начинают ин¬
тересовать мои беседы.
И вот наступило время, когда она рассудила, что я
•уже достаточно взрослый и могу приходить к ней без
матери. Засахаренные фрукты больше не появлялись.
Я созрел для выслушивания откровений и был поль¬
щен, когда кузина в первый раз вручила мне свои бу¬
маги.
Это было на авеню д’Антен (кузина переехала) в ро¬
скошной квартире. Кузина не покидала своей спальни,
куда ей приносили еду. Из спальни сквозь стеклянные
двери видны были две большие, роскошные гостиные
с закрытыми ставнями. Однажды кузина повела меня
в одну из них, чтобы показать большой портрет рабо¬
ты Миньяра139, который она «намеревалась завещать
Лувру». Ее постоянной заботой было как можно мень¬
ше оставить своей дочери, графине де Бланзей, и, мне
кажется, кое-кто ей с удовольствием помогал. Расска¬
зы ее были не лишены интереса, но грешили неправдо¬
подобием. Мне запомнился, в частности, один о свида¬
нии с пастором Берсье140: она поведала ему о попыт¬
ке отравить ее, обвинив в этом умысле свою дочь.
201
— Ну не драма ли, достойная сцены! — восклик¬
нул он.
— Нет, уголовного суда, сударь.
Свои словечки она пересказывала трагическим то¬
ном, выпрямившись в кресле с подголовником, кото¬
рое редко когда покидала: я так и вижу ее сидящей в
нем. Бледное лицо, черный как смоль парик, кружев¬
ной чепец. Платье из красно-бурого фая поскрипывало
при малейшем движении; длинные руки в черных ми¬
тенках едва виднелись из широких плиссированных ру¬
кавов. Она любила сидеть нога на ногу, показывая ма¬
ленькую ножку в туфельке из материи того же цвета,
что и платье, и кружево панталон. Вторая ножка пря¬
талась, в меховом мешочке, который ласково согревал
ее. Ей было около ста лет, когда она умерла и больше
девяноста, когда она рассказывала мне свои истории.
X
После выхода в свет моих «Тетрадей» начался са¬
мый смутный период моей жизни, я выбрался из гус¬
той чащи, по которой блуждал, только уехав с Полем
Лораном в Африку. Это было время праздности, беспо¬
койных стремлений... Я бы охотно перемахнул через
этот период, но его сумрак так явственно оттеняет все
последующие события. Объясняет и отчасти оправды¬
вает мое рассеяние и та духовная аскеза, которой по¬
требовало от меня написание «Тетрадей». Я и тогда
уже утверждал, чтобы опровергнуть, так чего же мож¬
но было ждать после крайнего напряжения, которым
была проникнута моя книга? Изобразив в ней мои тре¬
волнения, я от них как будто избавился, некоторое вре¬
мя ум мой был занят пустяками и находился во власти
самого низменного, глупого тщеславия.
Я не знал, что думает о моей книге Эмманюэль; она
мне только сообщила, что отклоняет мое предложе¬
ние 141, последовавшее за публикацией. Я ответил, что
не считаю ее отказ окончательным, что готов ждать и
ничто меня не заставит от нее отказаться. Тем не ме¬
202
нее я временно перестал ей писать, так как на письма
она мне больше не отвечала. Я был в растерянности от
ее молчания и от невозможности выражать свои чув¬
ства, но место любви и время, которое я ей посвящал,
заняла дружба.
Я почти ежедневно навещал Пьера Луиса. Он жил
тогда со своим братом в конце улицы Винез, на треть¬
ем этаже невысокого углового дома, выходившего на
сквер Франклина. Из окна его рабочего кабинета мож¬
но было видеть не только площадь Трокадеро, но и то,
что за площадью. Однако мы почти не глядели вокруг,
слишком занятые собой, своими планами и мечтами.
Пьер Луис, учившийся в классе философии в лицее
Жансона, подружился с тремя своими соучениками,
двое из них—Друэн и Кийо, вскоре стали моими близ¬
кими друзьями142 (с третьим, Франк-Ноэном, мы при¬
ятельствовали, но виделись редко).
Я пытаюсь объяснить себе, почему у меня нет ника¬
кого желания рассказывать в этих записках о моих
друзьях, занимавших такое большое место в моей жиз¬
ни. Быть может, из боязни увлечься. На собственном
опыте я убедился в правоте остроумного высказывания
Ницше: «Всякий художник пользуется не только своим
умом, но и умом своих друзей». Проникая глубже, чем
удавалось это мне, в ту или иную область знаний, мои
друзья выполняли роль первопроходцев. И если я из
чувства солидарности некоторое время следовал за ни¬
ми, то всегда с подспудным намерением не идти до
конца, потому что каждый из них в своей области ме¬
ня превосходил. Вместе с тем все они были замкнуты
кругом своих познаний, а я, понимая меньше в том, в
чем каждый из них разбирался, мог понять их всех ра¬
зом и, стоя как бы на перекрестке, открывал для себя
благодаря им иные, более пространственные перспек¬
тивы.
Я не скажу ничего нового — ведь каждый считает
себя центром мира,— признавшись, что гордился, став,
как я полагал, лучшим другом каждого из моих друзей.
Мне была нестерпима мысль, что у моего друга может
быть более близкий наперсник и полностью отдавал се¬
203
бя моим друзьям, требуя от них того же. Любая сдер¬
жанность казалась мне неприличной, нечестивой; и
когда спустя несколько лет, после того как я получил
материнское наследство, меня попросили помочь
Кийо, промышленное предприятие которого было на
грани банкротства, я откликнулся, не колеблясь, не за¬
думываясь; я отдал ему все, что он просил, полагая, что
поступаю совершенно естественно, и дал бы и больше,
не заботясь о том, действительно ли я оказываю ему
тем самым услугу; теперь я уже не знаю, может, мой
поступок был мне дорог сам по себе, может, я любил
не столько друга, сколько дружбу. Моя верность друж¬
бе была почти мистической, и Пьер Луис, знавший об
этом, потешался надо мной. Однажды после обеда,
спрятавшись в лавке на улице Сен-Сюльпис, он забав¬
лялся, наблюдая, как я целый час расхаживаю под дож¬
дем возле фонтана, где он — шутник! — назначил мне
свидание; впрочем, я предчувствовал, что он не при¬
дет. Своими друзьями я восхищался больше, чем со¬
бой; мне казалось, лучше людей не бывает. Вера в мое
поэтическое призвание заставляла меня воспринимать
всех, с кем я встречался в жизни, как посланцев неба,
отмеченных печатью избранности, направленных ко
мне, дабы мне помогать, формировать меня, совершен¬
ствовать. Я отчасти сохранил эту веру и теперь; и в по¬
ру самых тяжких невзгод всегда невольно ищу, что мо¬
жет в моих бедах позабавить меня или послужить мне
уроком. Эта amor fati *143 так сильна во мне, что я от¬
казываюсь признавать другой поворот событий, другой
выход из положения. Я не только дорожу тем, что есть,
но и считаю то, что есть, наилучшим.
И в то же время, размышляя о прошлом, я думаю,
сколько пользы принесла бы мне дружба с натурали¬
стом: повстречайся мы с ним в те времена — ведь я так
тяготел к естественным наукам,— я бросился бы по
его стопам, я покинул бы литературу... Или с музыкан¬
том: в кругу Малларме, куда меня вскоре ввел Луис,
* Любовь к судьбе, к предопределенности (лат.).— При¬
меч. пер.
204
все гордились своей любовью к музыке, Пьер Луис
первый; но мне казалось, что и сам Малларме, и те, кто
к нему приходил, искали в музыке все ту же литерату¬
ру. Вагнер был их богом. Они анализировали его музы¬
ку, на все лады истолковывали ее. Луис требовал что¬
бы я восхищался то каким-нибудь возгласом, то вскри¬
ком, но мне внушала отвращение «экспрессивная»
музыка, и я с еще большей страстью любил ту музыку,
которую называл «чистой», то есть музыку, которая не
стремится что-либо изображать, и из чувства протеста
против вагнеровской полифонии предпочитал (и пред¬
почитаю сейчас) квартет оркестру, сонату симфонии.
Но и тогда музыка занимала меня до крайности, музы¬
кой я насыщал свой стиль... Нет, в те времена мне был
нужен друг, который научил бы меня интересоваться
другими, оторвал бы от самосозерцания, одним сло¬
вом, романист. Но меня тогда интересовала только ду¬
ша, и любил я только поэзию. Конечно, я возмущался,
когда Пьер называл Геза де Бальзака144 «великим
Бальзаком», желая принизить автора «Человеческой
комедии», но он был прав, советуя мне обращать вни¬
мание прежде всего на форму, и я благодарен ему за
этот совет.
Думаю, если бы не Пьер Луис, я бы так и жил в сто¬
роне ото всех, как настоящий дикарь; не то чтобы у ме¬
ня не было желания посещать литературные круги и
приобретать там знакомства, мне мешала неодолимая
робость, я опасался, как опасаюсь до сих пор, быть на¬
вязчивым и оказаться в тягость тем, к кому меня совер¬
шенно естественно влечет. Но Пьер, более непосредст¬
венный, решительный и предприимчивый,— талант
его проявился отчетливее,— успел преподнести свои
первые стихи кое-кому из наших учителей, которыми
мы с ним восхищались. По его настоянию я решился
отнести мою книгу Эредиа.
—Я ему говорил о тебе. Он тебя ждет,— повторял
он мне.
Эредиа еще не опубликовал свои сонеты отдель¬
ным сборником145; некоторые из них он напечатал в
«Ревю де дё монд»146, другие процитировал Жюль Ле-
205
метр147; большинство же стихов, еще неизданных, мы
ревниво хранили в памяти, и они казались нам тем бо¬
лее великолепными, что непосвященные не знали их.
Сердце мое учащенно билось, когда я в первый раз по¬
звонил в дверь его квартиры на улице Бальзака.
Прежде всего меня удручило, до какой степени
Эредиа не походил на мое представление о поэте. В
нем не было ничего таинственного, ничего загадочно¬
го, говорил он, немного запинаясь, звучным голосом,
без всяких оттенков. Роста он был маленького, но до¬
вольно хорошо сложен, хотя немного коротконог и
тучен; он откидывал торс назад и ходил на негнущих-
ся ногах, скрипя каблуками. У него была квадратная
борода, подстриженные ежиком волосы, а когда он
читал, то вооружался лорнетом, поверх которого, а
точнее, откуда-то сбоку бросал на вас тусклый, зату¬
маненный, без всякого лукавства взор. Поскольку он
не любил лишний раз задумываться, то мог брякнуть
все, что ему приходило в голову, и это придавало его
речи забавную смачность. Он интересовался почти ис¬
ключительно внешним миром и искусством, абстрак¬
тное мышление приводило его в замешательство и в
людях он замечал лишь поступки. Но он был начитан
и поскольку не ведал о своих недостатках, то ни в чем
не испытывал нужды. Он был скорее художник, чем
поэт, а еще вернее, ремесленник. Сперва я был страш¬
но разочарован; потом стал спрашивать себя, не про¬
истекает ли мое разочарование из моих ложных поня¬
тий об искусстве и поэзии и не представляет ли про¬
стое, ремесленное совершенство большую ценность,
чем я думал до сих пор. Он встречал гостей с распро¬
стертыми объятиями, и благодаря горячему приему
вы не сразу замечали, что ум его не так широк, как
его объятия; но он так любил литературу, что если и
не понимал чего-то умом, то улавливал чутьем худож¬
ника, и я не помню, чтобы он о чем-нибудь говорил
глупости.
Эредиа принимал по субботам; с четырех часов его
курительная комната наполнялась людьми: дипломата¬
ми, журналистами, поэтами, и я бы там умер от смуще¬
206
ния, если бы рядом не было Пьера Луиса. В субботу же
принимали жена и дочери Эредиа; порой кто-нибудь из
завсегдатаев выходил из курительной комнаты в гости¬
ную или возвращался обратно; через открытую на
мгновение дверь доносился щебет мелодичных голо¬
сов и смех; но страх, что меня заметит мадам Эредиа
или одна из трех дочерей, которым — после того, как
меня им представили, и из благодарности за любезный
прием мне следовало бы — я это чувствовал — поча¬
ще свидетельствовать свое почтение,— этот страх дер¬
жал меня в противоположном углу курительной ком¬
наты, где меня, словно олимпийские облака, скрывал
дым сигарет и сигар.
Анри де Ренье, Фердинавд Эро, Пьер Кийар, Бер¬
нар Лазар, Андре Фонтена, Пьер Луис, Робер де Боннь-
ер, Андре де Герн148 не пропускали ни одной субботы.
Я встречал первых шестерых и у Малларме, по вторни¬
кам вечером. Из них всех мы с Луисом были самыми
молодыми.
У Малларме собирались в основном поэты, порой
художники (я вспоминаю Гогена и Уистлера149). Ког¬
да-то я уже описывал эту маленькую комнату на улице
Рима150, служившую одновременно гостиной и столо¬
вой; наша эпоха стала слишком шумной, и сейчас не¬
легко представить себе спокойную и почти религиоз¬
ную атмосферу этих вечеров. Без сомнения, Малларме
заранее готовил свои речи, часто не намного отличав¬
шиеся от его написанных «разглагольствований»151, но
говорил он с таким искусством и так ненавязчиво, что,
казалось, он придумывает свои фразы на ходу; причем
говорил он всегда полувопросительно, подняв указа¬
тельный палец, словно бы полагаясь на ваше усмотре¬
ние, словно бы колеблясь: «Нельзя также утверж¬
дать...» «Возможно...» и почти всегда заключал очеред¬
ную фразу вопросом: «Не так ли?», чем, безусловно,
покорял очень многих.
Порой «рассуждение» прерывалось каким-нибудь
анекдотом или остротой, поданными с блеском, с той
постоянной заботой об изяществе и утонченности, с ка¬
кой он искусно и непринужденно преображал жизнь.
207
В иные вечера, когда вокруг маленького стола со¬
биралось не очень много гостей, с нами оставались и
мадам Малларме, занятая вышиванием, и их дочь. Но
вскоре густой дым прогонял их: посередине круглого
стола, за которым мы сидели, стоял целый горшок с та¬
баком, и все скручивали себе папиросы; Малларме сам
беспрерывно курил, но предпочитал маленькую глиня¬
ную трубку. Около одиннадцати часов Женевьева,
дочь Малларме, приносила грог; в этом очень скром¬
ном доме не было слуг, и каждый раз, когда звонили в
дверь, Мэтр шел сам отворять.
Я расскажу о некоторых из тех, кто был предан
двум вожатаям, Малларме и Эредиа, и с кем я подру¬
жился. В те времена мы более или менее сознательно
подчинялись избранным авторитетам, а не думали са¬
ми. В эти годы намечался отход от реализма и от пар¬
насской школы. Опираясь на Шопенгауэра,— я не: по¬
нимал, как можно было ему предпочитать Гегеля,— я
считал «случайным» (именно этим словом мы пользо¬
вались) все, что не является «абсолютным», все красоч¬
ное многообразие жизни. Мои товарищи рассуждали
примерно так же, и наша ошибка состояла не в том,
что мы пытались извлечь из непролазного хаоса «реа¬
лизма» какую-то всеобщую красоту или истину, а в
том, что мы из предубеждения отворачивались от дей¬
ствительности. Меня спасло гурманство...152 Но вер¬
нусь к моим товарищам.
Самым заметным из них был, конечно, Анри де
Ренье, даже по своей внешности. Под очаровательной
любезностью, правда слегка высокомерной, он скры¬
вал стойкое, хотя и сдержанное, чувство превосходст¬
ва. Очень длинный, худой и немного нескладный, он
сумел придать своей неловкости изящество. С первого
взгляда поражал его высокий лоб, вытянутый подборо¬
док и вообще все лицо, а потом и длинные пальцы кра¬
сивых рук, которые он постоянно подносил к лицу, за¬
кручивая свисающие усы. Монокль довершал его об¬
раз. Леконт де Лиль ввел монокль в моду в своем
кругу, и многие из господ литераторов носили его. В
гостях у Эредиа и Малларме Ренье из почтительности
208
почти все время молчал, с наигранной непринужденно¬
стью вставляя порой в разговор (в доме Малларме)
скромную реплику, чтобы только поддержать его. Но
наедине с кем-нибудь его беседа была блестящей. Не
проходило и двух недель, как я получал от него оче¬
редную записку: «Если у вас нет ничего интереснее,
приходите завтра вечером». Я не уверен, что сейчас
эти вечера доставили бы мне такое же удовольствие,
но тогда я не желал ничего другого. Не помню, чтобы
кто-то из нас много говорил, в то время я еще не ку¬
рил, однако время летело незаметно: какая-то небреж¬
ность его речей, особое очарование голоса — не тако¬
го мелодичного, как у Малларме, более сильного и ста¬
новившегося резким, когда он говорил громко,—
умение изложить свое мнение — я не говорю мысль,
так как мысли были у нас в большой немилости,— в
самой причудливой и ошеломляющей форме, какая-то
лукавая насмешка над людьми и вещами... Да, время
летело быстро, и, когда часы били полночь, мне жаль
было уходить.
Рисуя портреты моих друзей, я, разумеется, свожу
воедино черты, запомнившиеся мне за время нашего
более чем десятилетнего общения. Так, помнится, спу¬
стя несколько лет, однажды вечером, Ренье показался
мне чем-то озабоченным; его монокль упал, взгляд был
устремлен в пустоту.
— Что с вами, мой друг? — спросил я его наконец.
— Эх! — покачиваясь всем телом, ответил он тоном
одновременно важным и насмешливым.—Я готовлюсь
перевалить за тридцатилетний рубеж.
Он мне сразу показался таким старым! Как это бы¬
ло давно!
В ту пору Франсис Вьеле-Гриффен153 был его са¬
мым близким другом. Их имена часто произносились
вместе, их стихи путали: публике в течение долгого
времени казалось, что только рифмованные стихи от¬
личаются друг от друга, а все свободные похожи. Так
бывает всегда, когда появляется новая техника — в му¬
зыке, в живописи или в поэзии. Между тем эти два че¬
ловека были совершенно несхожи; и дружба их, как и
209
моя с Луисом, основывалась на недоразумении. Гриф-
фен был само прямодушие, честность, непосредствен¬
ность; я вовсе не хочу сказать, что в отличие от него
Ренье был хитер, лжив и скрытен; разумеется, нет! но
тонкая культура наложила отпечаток на его самые
нежные, самые естественные, самые лучшие чувства,
она придала им лоск, блеск, гибкость, так что казалось,
он ничего не воспринимает с удивлением и испытыва¬
ет лишь те эмоции, которыми может управлять и кото¬
рые сам допускает. Если некоторые пытаются достичь
подобного состояния (я знавал таких), считая его вер¬
хом искусства, то, как мне кажется, они достигают его
слишком безболезненно и всегда с ущербом для себя;
иначе говоря, мне сдается, что подобный идеал на
пользу лишь тем, кто стремится к нему, но тщетно.
Гриффен, конечно, и не стремился. Он самоутверж¬
дался благодаря шуткам, юмору и, несмотря на самую
искреннюю любовь к нашей стране и милому языку
Франции, в нем было что-то грубоватое, непокорное,
сильно напоминавшее о его родине — Новом Свете.
Легкий акцент, когда он произносил букву «г», похо¬
жий на бургундский (такой же акцент я заметил и у
его очаровательного соотечественника Стюарта Мер¬
рилла 154) придавал его речам особый колорит; если бы
он не так любил парадоксы, его манера говорить была
бы задушевной. Он отличался боевым темпераментом,
великодушием, был страстным борцом с несправедли¬
востью и в глубине души — немного, пуританином: так
он никак не мог привыкнуть к крайней, порой наигран¬
ной, распущенности литературных кругов, которые по¬
сещал. Он воевал с александрийским стихом, с Менде¬
сом155, с нравами эпохи и с ней самой и часто в конце
своей речи произносил с громким веселым хохотом
(посмеиваясь над собственным возмущением):
— Ну, скажите мне, Андре Жид! Куда мы идем?
У него было круглое, открытое лицо и широкий,
словно слившийся с теменем, лоб; чтобы скрыть ран¬
нюю лысину, он зачесывал от одного виска к другому
густую прядь прямых волос: несмотря на раскованные
манеры, он заботился о своем внешнем виде. Лицо у
210
него было пунцовое, а глаза — цвета незабудок (неко¬
торые хорошо знавшие его, уверяют, что глаза у него
были желто-серые, но я помню только незабудки). Под
его плотно облегающими пиджаками чувствовалось
сильное тело, брюки всегда казались чрезмерно узки¬
ми, а руки были коротковаты с широкими кистями. Го¬
ворят, однажды вечером после ужина он предложил
перепрыгнуть через стол из положения «ноги вместе»
и сделал это, ничего не разбив. Впрочем, это легенда,
зато правда, что, стоило его попросить, и он с места пе¬
репрыгивал в гостиной через стулья, хотя для поэта это
довольно необычно.
Он первый написал мне по поводу «Тетрадей Анд¬
ре Вальтера». Я этого не забыл и старался всякий раз
выразить ему свою благодарность. Мне хотелось пого¬
ворить с ним подольше, но меня страшно смущало оби¬
лие его парадоксов, не умея подладиться под его мане¬
ру, я походил на глупца и вскоре умолкал, так что го¬
ворил только он один, будучи из тех, кто, ораторствуя,
не имеет нужды выслушивать другого. Мне случалось
приходить, к нему с каким-либо известием и уйти, так
и не сумев вставить двух слов.
В наше отношения вносил некоторую напряжен¬
ность и один его небольшой недостаток — постоянная,
но не всегда оправданная готовность обидеться. Он все
время боялся, как бы с ним не обошлись недостаточно
почтительно, и я только этим и был озабочен. Чаще
• всего его настороженность приводила к какому-нибудь
чудовищному промаху с его стороны, он бывал им
весьма смущен, но в конце концов его радушный нрав
брал верх, громкий веселый смех предавал все забве¬
нию, и вы видели только устремленный на вас ясный
взгляд. Но я лучше приведу пример (я уже сказал, что
слил воедино мои воспоминания о более чем десяти го¬
дах жизни).
После Леона Блюма156 я занял место литературно¬
го критика в «Ревю бланш»; я занимался прозой, а Гю¬
став Кан157 — поэзией. Напомню мимоходом, что в не¬
которых кругах Гюстав Кан считался «изобретателем
свободного стиха»: в то время об этом много спорили,
211
и вопрос этот приводил в ярость не одного литератора,
в том числе и Гриффена, считавшего, что свободный
стих прекрасно обходился и без Кана, что он родился
сам по себе или у него был совсем другой отец... Ког¬
да появилась «Крылатая легенда о Виланде»158, Гриф-
фен прислал мне ее, как присылал все свои книги. Со¬
жалея, что не могу ее отрецензировать, я без всякой
задней мысли написал в письме, в котором благодарил
его, эту строку александрийским стихом:
Не мой удел — увы! — охота в землях Кана!
Видимо, Гриффен пришел а бешенство, во всяком
случае три дня спустя я получил от него письмо, повер¬
гшее меня в изумление.
20 февраля 1900
Дорогой Андре Жид,
Я двое суток ломаю голову над вашим письмом.
Прошу Вас с обратной почтой объяснить мне
смысл и значение этой странной фразы:
Не мой удел — увы! — охота в землях Кана!
В ожидании Вашего ответа имею честь быть Ва¬
шим покорным слугой.
Мы оба были слишком прямодушны, а наша взаим¬
ная симпатия — слишком сильной, и это недоразуме¬
ние вскоре рассеялось.
Свойственное Гриффену неистовство, следствие
широты его натуры, послужило причиной одной моей
довольно крупной ошибки — значительной и самой по
себе, и по своим последствиям — я имею в виду мой
плохой отзыв о книге Ренье «Двойная любовница»15Э,
в котором я слепо и довольно глупо пошел на поводу
у Гриффена. Вскоре я в этом искренне раскаялся.
Гриффен считал, что в этой книге Ренье пустился по
ложному пути. Незадолго до того в «Белом клеве¬
ре» 160 проявилась более непосредственная, более
идиллическая сторона натуры Ренье, и она была близ¬
ка Гриффену. В то же время Гриффен не терпел ника¬
кой книжности, и лучший его вклад в литературу со¬
212
стоял в том, что он принес в нее ветер приволья, ка-
кую-то грубоватую непосредственность, свежесть, ко¬
торых в то время так не хватало. Грация «Двойной лю¬
бовницы» казалась ему устарелой; в этой изящной кни¬
ге он увидел только литературу и притворную
распущенность; он убедил меня в том, что я окажу
французской словесности и самому Ренье неоценимую
услугу, вернув его на путь истинный (как будто это бы¬
ло возможно!), откровенно осудив его выходку. Пусть
меня правильно поймут: я вовсе не намерен снимать с
себя или хотя бы уменьшать ответственность за напи¬
санную мной тогда суровую и несправедливую статью:
но мне редко приходилось так сожалеть о том, что я не
последовал моему природному вкусу и уступил потреб¬
ности противоречить и бороться (тоже мне свойствен¬
ной от природы). Разумеется, Ренье продолжал идти
своим путем, к вящему восторгу читателей, а моя
статья только сильно омрачила наши отношения, до
той поры безоблачные. Впрочем, не будь этой статьи,
мы все равно вскоре нашли бы повод для разрыва; на¬
ши вкусы слишком расходились.
Одним из самых частых гостей в домах Малларме,
• Эредиа, Бонньера, Жюдит Готье161, Леконта де Лиля
был, конечно, Эро. Я не часто бывал в двух последних
домах и очень редко у Бонньера и упоминаю о них со
слов других; зато я отлично знаю, что встречал Ферди¬
нанда Эро повсюду, где бывал сам. Он не расставался
с вами, не договорившись о новой встрече, и я поража¬
юсь, как у него оставалось время писать или читать; но
то, что он много писал и прочел абсолютно все,— не¬
оспоримый факт. У него были неисчерпаемые позна¬
ния относительно всего, что нас тогда волновало: на¬
пример, он все знал об «арготических» сонетах, об ис¬
пользовании саксофона в оркестре — и мог вам об
этом рассказывать на протяжении не одного километ¬
ра: в какой бы час вы ни выходили из дома Малларме
после приема или спектакля, он вас всегда сопровож¬
дал, причем пешком. За это он очень нравился моей
матери, опасавшейся за меня одного на улице после по¬
луночи: она надеялась, что Эро не покинет меня до са¬
213
мых дверей моего дома. Отпустив огромную бороду,
он рассчитывал придать мужественный вид своему
добродушному, кукольному личику; это был отличный
товарищ и самый верный друг; к нему обращались вся¬
кий раз, когда в его помощи нуждались, и даже чаще.
Он словно не мог существовать без других. Фердинанд
Эро гордо выступал, еще больше откинув назад голову
и выставив бороду вперед, с тех пор как напечатал
статью о почтении, а вернее против почтения. В ней до¬
казывалось, что Мудрость, вопреки тому, что говорил
о ней Соломон, начинается тогда, когда прекращается
страх Божий162. И поскольку всякое почтение — к ро¬
дителям, к нравам, к властям и тому подобному — бы¬
вает слепым, то, лишь освободившись от него, человек
получает надежду прозреть. Антимилитаризм Кийара,
Лазара, Эро и некоторых других доходил вплоть до
полного неприятия военной формы. В их глазах воен¬
ная форма была тем же, что ливрея у слуг, и являлась
покушением на достоинство человека. Я не стану при¬
писывать им интернационализм, может быть, я вообще
обижаю их, приписывая им то, чего у них не было, ведь
прошло столько времени, но тогда мне казалось, что
мы думаем одинаково. Я даже не мог себе предста¬
вить, что умный и образованный человек способен
иметь другое мнение на этот счет. Понятно, что воен¬
ная служба представлялась мне невыносимым бреме¬
нем, которого следует избегать, по возможности не
превращаясь в дезертира.
Фердинанда Эро порой сопровождал его шурин, ог¬
ромный бельгиец по имени Фонтенас,— возможно, он
был прекрасным человеком с нежным сердцем и даже
неглупым, но все это можно было только предпола¬
гать. Он как будто открыл, что самый надежный спо¬
соб никогда не говорить глупости — всегда хранить
молчание.
Что мне сказать о графе Робере де Бонньере? Его
молодая жена славилась красотой, но эта красота не
шла в расчет, он бы и так нашел везде самый радуш¬
ный прием. Кажется, одно время он был журналистом,
а тогда как раз опубликовал роман «Маленький Марж-
214
мон»163: я его не читал, но завсегдатаи салона Эредиа
находили в нем достоинства, присущие французской
традиции. Еще он тогда заканчивал сборник стихо¬
творных повестей, написанных восьмистопным сти¬
хом, и охотно читал из него. Думаю, он был незлым
человеком, но холерического темперамента, и я чуть
было не спровоцировал бурю, когда однажды у Эре¬
диа он читал последнюю из написанных повестушек...
Насколько я помню, речь в ней шла о перчатке: она то
ли упала с руки надменной красавицы, то ли была бро¬
шена ею; отвергнутый рыцарь галантно торопится под¬
нять ее и, хотя это сопряжено с какой-то опасностью
(что-то в этом роде есть у Шиллера164), поднимает, а
потом, когда наконец-то покоренная красавица скло¬
няется перед ним, он, исполнившись в свою очередь
презрения, изрекает:
Passe aussi son chemin, ma chere *.
Так заканчивался рассказ. Обычно молчаливый,
как Фонтенас, на этот раз я вдруг осмелел.
— Вам не кажется, что получается sse aussi
son? ** — спросил я.
Все переглянулись; меня спасло то, что сначала ни¬
кто ничего не понял. А когда все разразились дружным
хохотом, что оставалось делать Бонньеру? Думаю, по¬
том он исправил эту последнюю строку.
Бонньер слыл большим умником; эта репутация
придавала ему большую уверенность в себе. У него обо
всем было непререкаемое мнение, ведь он слушал
только себя. Боже! Как меня раздражал его безапелля¬
ционный тон, когда он заявлял:
—Творчество любого автора должно укладываться
в одну формулу. Чем легче свести его к этой форму¬
ле, тем больше у него шансов на бессмертие. Все, что
выходит за рамки формулы, обречено на гибель.
Что было со мной, когда однажды я решил отпра¬
виться к нему в ответ на его радушное и настойчивое
* Ступай своей дорогой, милая (фр.).— Примеч. пер.
** т. е. фр. saucisson — колбаса.— Примеч. пер.
215
приглашение, и он начал спрашивать меня, если ли уже
у меня моя формула! Он вцепился в пуговицу моего
пиджака и по своей привычке, почти вплотную при¬
близил свое лицо к моему. В ужасе я сперва отступил
и сделал вид, что ничего не понимаю, но он не отпу¬
скал меня.
— Ну, же,— настаивал он,— вы можете заранее вы¬
разить ваше будущее творчество в одной фразе, в од¬
ном слове? Вам известно это слово?
— Черт побери! — воскликнул я в нетерпении.
—Так что же это за слово? Говорите, я вас слушаю.
Самое смешное, что я знал мою формулу, но из чув¬
ства целомудрия не хотел раскрывать ее этому шуту,
как свято оберегаемую тайну. Наконец, не выдержав и
дрожа от непритворного негодования, я произнес бес¬
цветным голосом:
— «Мы все должны нечто являть собою»165.
Он тупо уставился на меня, потом отпустил мою пу¬
говицу.
— Ну, что ж! Дерзайте, мой мальчик! — прокричал
он.— «Являйте»! (Он был намного старше меня.)
Я и впрямь покажусь очень глупым, если не объ¬
ясню эту мою «формулу». В то время она была нова
для меня и властно завладела моими мыслями. Мо¬
раль, согласно которой я жил до тех пор, уступила ме¬
сто более радужному взгляду на жизнь. Мне подума¬
лось, что у каждого, быть может, не один и тот же
долг и что самого Бога возмутило бы то однообразие,
против которого протестует природа, а между тем
именно к нему тяготеет христианский идеал, претен¬
дующий на обуздание нашей природы. Я допускал те¬
перь только личную мораль, способную войти в про¬
тиворечие с моралью другой личности. Я убеждал се¬
бя в том, что всякий человек, по меньшей мере
всякий избранник должен сыграть на земле свою и
только свою роль, не похожую ни на какую другую; и
любое усилие подчиниться общему правилу означало
бы для меня предательство; да, предательство,— и я
уподоблял его смертному греху, той хуле на Духа Свя¬
того, которая «не простится», поскольку из-за этого
216
предательства личность теряет свое ярко выражен¬
ное, уникальное значение, свой «вкус», а его уже не
восстановить. В качестве эпиграфа к своему дневни¬
ку, который я тогда вел, я написал эту, неизвестно где
почерпнутую латинскую фразу: «Proprium opus huma-
ni generis totaliter accepti est actuare semper totam po-
tentiam intellectus possibilis» *.
На самом деле я был опьянен разнообразием приот¬
крывшейся мне жизни и моей собственной необыкно¬
венностью... Но я собирался в этой главе говорить толь¬
ко о моих друзьях. Вернусь к ним.
Бернар Лазар, чье настоящее имя было Лазар Бер¬
нар, еврей из Нима, отличался не то чтобы малым ро¬
стом, но какой-то укороченностью и невыразимо оттал¬
кивающей внешностью. Лицо его, казалось, все состо¬
яло из щек, туловище — из живота, а ноги — из ляжек.
Сквозь монокль он бросал на вещи и на людей язви¬
тельный взгляд и, похоже, неимоверно презирал всех
тех, кто ему не нравился. Его распирали самые благо¬
родные чувства, то есть он постоянно возмущался хам¬
ством и мерзостью своих современников, но при этом
как будто нуждался в этих их качествах: резко опол¬
чившись против них, он сформировал свое самосозна¬
ние. Как только его возмущение успокаивалось, он ста¬
новился как все и писал «Зеркало легенд»166.
Лазар и Гриффен объединили свои бойцовские ка¬
чества в «Политических и литературных беседах».
Этот журнальчик с темно-красной обложкой был, что
и говорить, отлично сделан, и я почувствовал себя
страшно польщенным, когда в нем был опубликован
мой «Трактат о Нарциссе». Мне всегда поразительно
не хватало того качества, что побуждает к дерзаниям,
а именно: я никогда не мог догадаться, чего стою в гла¬
зах других; я всегда занижаю свои акции и не только
не способен ничего требовать, но и, получив любую ма¬
лость, чувствую, что мне оказали честь, и плохо скры¬
* «Настоящим делом рода человеческого, взятого в це¬
лом, является постоянно реализовывать все возможные по¬
тенции интеллекта» (лат.).— Примеч. пер.
217
ваю свое удивление; от этой слабости я с трудом избав¬
ляюсь сейчас, когда мне уже пятьдесят.
Бернар Лазар внушал мне страх; я смутно ошущал,
что он другой, не такой, как мы, что в нем могут про¬
резаться способности, не имеющие никакого отноше¬
ния к искусству. Это ощущение владело не одним мной
и удерживало на определенном расстоянии от Лазара,
если не Кийо и Эро, готовых пуститься по тому же пу¬
ти, то Ренье, Луиса и меня.
—Ты заметил, какой Ренье осторожный? — спро¬
сил меня однажды Луис.— Он чуть было не обошелся
с Лазаром как со своим закадычным другом. Но, уже
собираясь похлопать его по колену, сдержался. Ввдел,
у него рука так и повисла в воздухе?
И когда во время дела Дрейфуса Лазар бросился в
бой167 и сыграл, известную важную роль, мы сразу по¬
няли, что он нашел себя и что в литературе он всегда
оставался в прихожей, где многие остаются на всю
жизнь.
Альбер Мокель168, до сих пор мной не названный,
руководил небольшим, но заметным франко-бельгий¬
ским журналом «Валлония». Поскольку вкус каждого
представителя определенной школы (а мы безусловно
составляли таковую) в силу общения смягчается и шли¬
фуется, редко случалось, чтобы кто-то из нас ошибся в
оценке, во всяком случае, такая ошибка в то время ча¬
ще всего бывала совершена группой в целом. Но поми¬
мо этого коллективного вкуса Мокель отличался утон¬
ченным художественным чутьем. Причем утонченным
до крайности, так что но сравнению с его филигранной
мыслью ваша казалась грубой и вульгарной *. Его речи
были на редкость изысканы и полны таких тонких на¬
меков, что, слушая его, вы словно становились на пу¬
анты. Разговор с ним, полный благовоспитанности и
щепетильности, чаще всего был одним головокружи¬
тельным уточнением мысли. Спустя четверть часа вы
* Малларме рассказывал об одной исключительно утон¬
ченной даме: «Когда я говорю ей „Добрый день", мне кажет¬
ся, эти слова звучат, как „дерьмо"».
218
чувствовали себя совершенно истонченным. Между
делом, он писал в стихах и прозе «Немного наивное
сказание».
Всех этих людей я встречал несколько раз в неде¬
лю у Эредиа, Малларме или в других местах, кроме то¬
го, я исправно посещал также одного бедного малого:
я проникся к нему необычной симпатией, хотя даже не
решаюсь назвать его другом. Андре Валькенар169 внук
известного ученого и литератора, автора «Жизни Ла¬
фонтена», был тщедушным и болезненным существом,
достаточно умным, чтобы понимать, в чем ему отказа¬
ла природа: она одарила его только тонким голосом,
чтобы он мог жаловаться на судьбу. Окончив Школу
хартий, он стал помощником библиотекаря в Библио¬
теке Мазарини. Он был довольно близким родственни¬
ком моей тети Демаре, познакомившей меня с ним од¬
нажды у себя в доме во время ужина. Я тогда еще не
закончил «Тетради Андре Вальтера», то есть мне не
было двадцати лет; Андре Валькенар был старше меня
на несколько месяцев. Мне очень польстили его обхо¬
дительность и внимание, которыми он меня окружил;
чтобы не остаться в долгу, я вообразил, что он очень
похож на героя задуманной мной книги под названием
«Воспитание чувств». Такую книгу уже написал Фло¬
бер, но содержание моей должно было больше отве¬
чать названию. Конечно, Валькенар, возбудившись,
очень заинтересовался этой книгой, в которой я соби¬
рался нарисовать его портрет. Я спросил, не согласен
ли он приходить позировать ко мне как к художнику.
Мы условились о дне. И с тех пор в течение трех лет
все то время, что я был в Париже, Андре Валькенар
проводил у меня каждую среду с двух до пяти часов,
иногда же я приходил к нему, и порой мы засижива¬
лись с ним до ужина. Мы болтали без умолку, беспре¬
рывно; текст книг Пруста лучше всего напоминает мне
наше плетение словес. Мы все детально разбирали,
вникали в самые мелочи. Потерянное время? Не ду¬
маю: в таких спорах оттачиваются мысль и стиль. Я
уже сказал, что бедняга был очень хрупкого здоровья:
астма отпускала его хилый организм только затем, что¬
219
бы его тело в очередной раз покрылось экземой; было
жалко смотреть на его заострившиеся черты, слышать,
как он задыхается и стонет; он страдал еще и от того,
что его распирало желание писать, но у него ничего не
получалось, и это его страшно терзало. Он рассказывал
мне о своих тщетных попытках и своих огорчениях; я
не мог утешить его, но слушал с интересом, и его беда
казалась мне отчасти не лишенной смысла.
Он познакомил меня с еще более странным сущест¬
вом — я не стану называть его имя. X. обладал доволь¬
но плотной фигурой, позволявшей ему красоваться в
салонах: одет он всегда был безупречно. Но когда вы
с ним выходили в свет, вас удивляло, что он не остав¬
ляет всего себя в гардеробе. В салонах сквозь длин¬
ную, шелковистую бороду цвета меда журчал его при¬
глушенный, мелодичный голос, сообщавший некото¬
рую приятность его непревзойденным пошлостям.
Жизнь начиналась для него в час чаепитий — тогда он
появлялся в свете, где играл роль газетчика, посредни¬
ка, связующего звена и шпиона. Он не успокоился, по¬
ка не ввел и меня в светские круги, которые посещал
и Валькенар. К счастью, во мне не было ничего тако¬
го, что позволило бы мне блистать в обществе; в свет¬
ских салонах, куда меня привели, я походил на ночную
птицу; правда, и я красовался там в довольно складно
сидевших рединготах, и мои длинные волосы, высокие
воротники и задумчивый вид привлекали внимание, но
интерес ко мне, должно быть, пропадал после первой
беседы; у меня был такой тяжелый, такой вялый ум,
что каждый раз, когда следовало сказать что-нибудь
остроумное, я погружался в молчание. В салонах ма¬
дам Беле, мадам Беньер, весьма неглупой, виконтессы
де Ж («О, г-н X.! Прочитайте нам „Расколотую ва¬
зу" *170 Сюлли-Прюдома».— Она без конца искажала
названия и имена и уверяла всех в своей страстной
любви к английскому художнику Джону Бернсу, имея
в виду Бёрн-Джонса171) — во всех этих салонах я по¬
являлся очень редко и каждый раз с ужасом.
* Имеется в виду стихотворение «Разбитая ваза».
220
У княгини Урусовой172 было оживленнее, во вся¬
ком случае, веселее. Разговор был непринужденный,
самые глупые высказывания принимались благосклон¬
но. Княгиня, дородная красавица в восточных нарядах,
была так приветлива, словоохотлива и внимательна,
что сразу избавляла вас от смущения. Порой беседа ка¬
залась до невероятия чудной, и вы начинали сомне¬
ваться, действительно ли хозяйка всерьез говорит и вы¬
слушивает некоторые нелепости, но ее постоянное
добродушие и сердечность исключали всякую мысль
об иронии. Во время званого ужина она вдруг кричала
своим контральто слуге в ливрее, подававшему самые
изысканные блюда:
— Как ваш флюс, Казимир?
Не знаю, что меня вдруг обуяло, но однажды, ког¬
да мы были одни, я вдруг открыл фортепьяно и начал
играть Новеллетты173 в mi Шумана. В то время я еще
не умел играть эту вещь в нужном темпе. К моему ве¬
ликому удивлению, княгиня очень верно раскритико¬
вала мой темп, мягко отметила несколько ошибок, вы¬
казав совершенное знание и понимание этого произве¬
дения, и в заключение сказала:
— Если вам нравится мое фортепьяно, приходите
играть. Вы доставите мне удовольствие и никого не по¬
беспокоите.
Княгиня была тогда со мной едва знакома, и это ее
предложение, которое я, впрочем, отклонил, скорее
привело меня в замешательство; я привожу его как об¬
разец прелестной непринужденности ее манер. Все во¬
круг вполголоса повторяли, что ее уже приходилось
помещать в сумасшедший дом, и я боялся долго оста¬
ваться с ней из опасения, что ее причуды перейдут в
настоящее безумие.
К ней-то однажды вечером я и привел Уайльда174.
Анри де Ренье где-то описал наш ужин, во время кото¬
рого, издав громкий возглас, княгиня воскликнула, что
видит ореол над головой ирландца.
У нее же на другом ужине я познакомился с Жа¬
ком-Эмилем Бланшем175 единственным из друзей, пе¬
речисленных мною в этой главе, с кем я встречаюсь до
221
сих пор. Но о нем можно столько рассказывать... От¬
кладываю до другого раза также портреты Метерлин¬
ка, Марселя Швоба176 и Барреса177. Я и так слишком
перенасытил атмосферу той густой чащи, где я, выйдя
из детства, блуждал, терзаемый смутными желаниями
и страстной жаждой неизведанного.
Роже Мартен дю Гар, которому я даю читать мой
воспоминания178, упрекает меня в том, что я все вре¬
мя чего-то недоговариваю и оставляю у читателей чув¬
ство неудовлетворенности. А ведь я собирался гово¬
рить все. Но в исповеди есть предел: за ним начинают¬
ся искусственность и принуждение, а я стремлюсь
прежде всего к естественности. Наверное, так уж уст¬
роен мой ум: чтобы четче все обрисовать, я слишком
все упрощаю; рисунок получается только при условии
выбора, но самое досадное, что приходится изобра¬
жать в последовательности те состояния, что были в
свое время слиты воедино. Мне по натуре близок диа¬
лог, все во мне замешано на борьбе и противоречиях.
Воспоминания всегда искренни лишь наполовину, как
бы мы не пеклись о правде: все всегда гораздо слож¬
нее, чем об этом говоришь. Быть может, больше при¬
ближаешься к истине в романе.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Я намерен представить события, к которым я те¬
перь перехожу, мои мысли и чувства той поры в их
первозданности, без примеси тех оценок, какие давал
им впоследствии. Тем более, что оценки не раз меня¬
лись; я сужу о собственной жизни то снисходительно,
то сурово в зависимости от того, что преобладает у ме¬
ня в душе — свет или мрак. И если недавно мне при¬
шла в голову мысль, что без важного действующего ли¬
ца, Дьявола, не обошлось в этой драме, я все же пове¬
даю о ней, не допуская вмешательства той силы,
которую смог распознать лишь гораздо позже. Какими
извилистыми путями шел я и как был ослеплен счасть¬
ем — вот, о чем я хочу рассказать. В ту пору, когда мне
было двадцать лет, я был уверен, что меня ожидает
только счастье; эту веру я сохранял до последних ме¬
сяцев моей жизни *, и важнейшим ее событием стало
то, что заставило меня резко в этой вере усомниться.
Но, и пережив сомнения, я вернулся к ней — так не¬
истребима во мне потребность радоваться, так сильна
уверенность, что самое на первый взгляд большое не¬
счастье может, если к нему присмотреться, послужить
нам хорошим уроком, что и худшая беда приносит
пользу, для чего-то нужна и что мы часто не узнаем
счастья, так как оно не похоже на то, что мы ожидали.
Но я забегаю вперед и могу испортить весь мой рас¬
* Написано весной 1919 г.
223
сказ, изображая как уже обретенное то состояние ра¬
дости, которое казалось мне почти невозможным и
еще менее — дозволенным. Конечно, когда я стал
опытнее, все это представилось мне не таким трудным
делом; я с улыбкой вспоминал о своих ужасных муче¬
ниях, порожденных мелкими препятствиями, мне ста¬
ли ясны смутные желания, прежде страшившие меня
своей непонятностью. Но в те времена, о которых я пи¬
шу, мне предстояло все открывать впервые, одновре¬
менно ставить диагноз и находить лекарство, причем
не знаю, что больше пугало меня своей чудовищно¬
стью. Таким меня сделало мое пуританское воспита¬
ние, придав столь непомерное значение некоторым ве¬
щам, что я не понимал, как эти волнующие меня вопро¬
сы не лишают покоя все человечество целиком и
каждого его представителя в отдельности. Я был по¬
хож на Прометея, который удивляется, как можно
жить без того, чтобы орел не выклевывал твою пе¬
чень 179. Я невольно привык к этому орлу и хотел с ним
договориться. Проблема-то оставалась прежней, но с
годами я уже не считал ее такой ужасающей и не вос¬
принимал под таким острым углом, как раньше. Что
же это за проблема? Я затрудняюсь определить ее в
двух словах. Но разве не достаточно того, что она про¬
сто существовала? Скажу о ней кратко.
Именем какого бога, во имя какого идеала вы за¬
прещаете мне жить, как велит мне моя природа? Но ку¬
да заведет меня эта природа, если я последую ее зову?
До сих пор я принимал мораль Христа, во всяком слу¬
чае, ту, к которой приучило меня пуританское воспи¬
тание. Однако попытки подчиниться этой морали при¬
вели лишь к полной душевной сумятице. Я не хотел
преступать нормы, а требования моей плоти нуждались
в одобрении разума. Если бы эти требования были та¬
кими же, как у всех, думаю, что я чувствовал бы не
меньшее смятение. Ведь речь шла не о том, к чему ме¬
ня побуждают мои желания, которые я считал запрет-
ными. Главное заключалось в том, что я начал сомне¬
ваться, а действительно ли Бог требует такого принуж¬
дения, быть может, постоянно сопротивляться —
224
кощунственно, и означает идти против Его волн? Быть
может, я не прав, когда в этой разрывающей меня на¬
двое борьбе ущемляю того, другого? Наконец я почув¬
ствовал, что моя мучительная раздвоенность может
разрешиться гармонией. И я сразу увидел в достиже¬
нии этой гармонии мою главную цель и подлинный
смысл моей жизни. Когда в октябре 1893 года я сел на
корабль, отправлявшийся в Алжир, меня манила вовсе
не неизведанная земля, а именно это, мое «золотое ру¬
но». Я решил уехать, но долго колебался, не последо¬
вать ли мне за моим кузеном Жоржем Пуше, пригла¬
шавшим меня в научную экспедицию в Исландию; по¬
ка я раздумывал, Поль Лоран получил в. качестве приза
на каком-то конкурсе стипендию, обязывавшую его на
целый год отправиться в путешествие; он выбрал меня
в качестве спутника, и это решило мою судьбу. Я уехал
с моим другом; героев Греции, отплывших на «Арго»,
увлекал не столь величавый порыв.
Кажется, я уже говорил, что мы с Полем были од¬
ногодки; у нас был одинаковый рост, одинаковая осан¬
ка, та же походка, те же вкусы. От общения с учени¬
ками Школы изящных искусств у него появился не¬
сколько насмешливо-самоуверенный тон, за которым
.скрывалась большая врожденная скромность; он нау¬
чился блистательно шутить, что меня очень веселило,
приводя не только в восхищение, но и в отчаяние при
сравнении с моим скованным умом.
Я виделся с Полем, быть может, не так часто, как с
Пьером Луисом, но мне думается, я чувствовал к нему
более искреннюю привязанность, способную стать еще
глубже. В характере Пьера было что-то агрессивное,
романтическое, своевольное, что делало наши отноше¬
ния слишком бурными. Характер же Поля, напротив,
был очень мягким, и мы с ним как нельзя лучше под¬
ходили друг другу. В Париже я встречал Поля почти
всегда в обществе его младшего брата, отличавшегося
пылким темпераментом и всегда вносящего в наши
встречи какую-то спешку. Зато дважды в неделю вече¬
ром уроки фехтования, которые я брал у них в доме,
становились поводом для совместного с Полем чтения
225
и наших с ним долгих бесед. Мы чувствовали, что на¬
ша дружба крепнет, и с восторгом находили друг в дру¬
ге родственные черты. Мы одновременно вступали в
жизнь, однако его сердце было свободно, а мое — за¬
нято, но я решил, что моя любовь не должна становить¬
ся помехой для дружбы. Отказ моей кузины, последо¬
вавший после публикации «Тетрадей», не убавил моей
решимости жениться на ней, но теперь я мог надеять¬
ся на это лишь в отдаленном будущем; к тому же моя
любовь оставалась почти мистической; если Дьявол
улавливал меня, побуждая отвергать как кощунствен¬
ную всякую мысль о том, что к этой любви могут быть
примешаны плотские помыслы, то я тогда этого не по¬
нимал; как бы то ни было, я решил не смешивать лю¬
бовь и плотские утехи; мне даже казалось, что так и
должно быть, что удовольствие становится чище, а лю¬
бовь совершеннее, если душа и тело живут независи¬
мой друг от друга жизнью. Да, уезжая, мы с Полем бы¬
ли настроены решительно... Если меня спросят, каким
образом Поль, разумеется не лишенный нравственных
устоев, но воспитанный как каголик, а не как пурита¬
нин, в среде художников, постоянно искушаемый под.
мастерьями и натурщицами, в двадцать три года все
еще оставался девственником, я отвечу, что рассказы¬
ваю здесь о себе, а не о нем и что это вообще случает¬
ся не так редко, как думают; просто никто не любит в
этом признаваться. Робость, целомудрие, отвращение,
гордость, ложная чувствительность, нервное потрясе¬
ние вследствие неудачного опыта (мне кажется, таков
был случай Поля) — все это может долго удерживать
на пороге. Мы устали от сомнений и переживаний, от
романтизма и меланхолии и мечтали избавиться от все¬
го этого. В особенности же нами владело неприятие
всего сугубо частного, странного, извращенного, не¬
нормального. В наших предотъездных разговорах мы,
помнится, склонялись к идеалу равновесия, полноты и
здоровья. Думаю, это было первое проявление моей тя¬
ги к тому, что ныне определяют как «классицизм»; до
какой степени этот идеал расходился с моим первона¬
чальным христианским идеалом, я не могу выразить,
226
но я понял это так быстро, что решил не брать с собой
Библии. Этот, казалось бы, незначительный факт имел
огромное значение: до сих пор не проходило дня, что¬
бы я не черпал в Священном Писании духовную пишу
и поучение. Но именно потому, что я уже не мог обой¬
тись без этой пищи, я почувствовал, что мне пора оту¬
чаться от нее. Я не без боли распрощался с Христом и
ныне сомневаюсь, действительно ли я его когда-нибудь
покидал.
Семья Латилов, друзья Лорана, задержала нас на
несколько дней в Тулоне. Я простудился, еще не по¬
кинув Франции, и чувствовал себя неважно, но не по¬
казывал вида. Я не стал бы об этом упоминать, если
бы начиная с этого путешествия вопрос здоровья не
обрел такого важного значения в моей жизни. Я всег¬
да был болезненным; медицинская комиссия дважды
в течение двух лет давала мне отсрочку от военной
службы, а в третий раз признала негодным, поставив
диагноз: «туберкулез» — не знаю, чего было боль¬
ше — радости,освобождения от службы или страха
перед обнаружившейся болезнью. Ведь я знал, что от
нее умер мой отец... В общем, вялотекущая простуда,
подхваченная в Тулоне, так обеспокоила меня, что я
раздумывал, не пуститься ли Полю в плавание одно¬
му с условием, что я присоединюсь к нему позднее.
Но потом я решил, что благоразумнее положиться на
волю судьбы, надеясь, что поправлюсь в жарком кли¬
мате Алжира и что никакой другой не может быть
мне полезнее.
Тулон тогда встречал русскую эскадру; порт был
украшен флагами, и по вечерам необычное веселье на¬
полняло все до единой улицы ярко освещенного горо¬
да. Так уже с самого начала нашего путешествия нам
стало казаться, что страны и народы празднуют наше
прибытие и что даже природа ликует при нашем при¬
ближении. Я уже не помню, почему, но на ночной
праздаик, устроенный на одном из линкоров, Поль по¬
шел один — то ли я чувствовал себя усталым, то ли ме¬
ня больше привлекало зрелище маленьких улочек, где
царила пьянящая раскованность.
227
Следующий день мы провели на берегу моря в Си-
миане, роскошном имении Латилов, где, как вспоми¬
нает Поль, я рассказал ему сюжет книги, ставшей
впоследствии «Пасторальной симфонией»180. Я поде¬
лился с ним и более грандиозным замыслом: мне сле¬
довало бы воплотить его до того, как его разъели со¬
мнения. Трудности сюжета нужно осознавать лишь по
мере работы над ним; иначе навсегда рискуешь ос¬
таться бесплодным. Я собирался написать воображае¬
мую историю некоего народа, некой страны, с война¬
ми, революциями, государственными переворотами и
поучительными событиями. Хотя у каждой страны
своя, особая история, я дерзновенно намеревался изо¬
бразить нечто общее, присущее всем странам. Я хотел
придумать героев, властелинов, государственных дея¬
телей, художников, искусство и литературу, чьи тен¬
денции я бы изложил и подверг критике, жанры, о
чьей эволюции я бы поведал, шедевры, фрагменты из
которых я бы привел... И все это, чтобы доказать что?
Что человеческая история может складываться по-
разному, разными могут быть наши нравы и обычаи,
наши вкусы, правила и эталоны красоты — и тем не
менее оставаться человеческими. Пустись я по этому
пути, я бы, наверное, утонул, но получил бы массу
удовольствия.
Наше плавание из Марселя в Тунис прошло доволь¬
но спокойно. В каюте было так душно, и я так сильно
вспотел в первую ночь, что покрывала на кушетке при¬
липли к телу; вторую ночь я провел на палубе. Мощ¬
ные зарницы вспыхивали вдалеке, в той стороне, где
была Африка. Африка! Я повторял это таинственное
слово; оно было исполнено для меня страха, влекущих
ужасов, ожидания, и мой взор с жадностью устремлял¬
ся в жаркую ночь, где, полыхая зарницами, скрывалась
моя обетованная земля.
О, я знаю: путешествие в Тунис не представляет ни¬
чего необычайного, необычайным было то, что туда
плыли мы. И не кокосовые пальмы на атоллах порази¬
ли меня до глубины души, а впервые увиденные с па¬
лубы корабля верблюды. На низкой косе, опоясывав¬
228
шей узкий вход в гавань, они четко вырисовывались на
фоне неба. Разумеется, я знал, что увижу в Тунисе вер¬
блюдов, но не представлял, что они настолько удиви¬
тельны; а эта стайка, вылетевших с брызгами и пронес¬
шихся над водой золотых рыбок, вспугнутых почти что
ударившимся о причал кораблем, а эти люди, сошед¬
шие со страниц «Тысячи и одной ночи», что торопясь
и толкаясь подхватили наши чемоданы... Мы пережи¬
вали ту пору жизни, когда все новое заставляет хме¬
леть от восторга; мы наслаждались, утоляя нашу жаж¬
ду новизны. Все здесь превосходило любые наши ожи¬
дания своей необычностью. С какой наивностью мы
тут же попались в сети торговцев! Зато какой красивой
была ткань наших покрывал, наших бурнусов! Каким
вкусным показался нам кофе, предложенный продав¬
цом, и каким великодушным он сам! В первый же день
нашего появления на базаре нами завладел маленький
четырнадцатилетний проводник, он водил нас по лав¬
кам (тот, кто сказал бы нам, что ему за это платили ко¬
миссионные, вызвал бы наше негодование), он сносно
говорил по-французски, был очарователен, и мы дого¬
ворились с ним о встрече в гостинице на следующий
день. Его звали Сеси, и он был выходцем с острова
Джерба, по преданию древнего острова лотофагов181.
Припоминаю наше беспокойство, когда он не явился в
назначенный час. Припоминаю и мое волнение, когда
несколько дней спустя он пришел в мою комнату (мы
покинули отель и сняли на улице Аль Джериза малень¬
кую квартиру из трех комнат), нагруженный нашими
новыми покупками и начал раздеваться, чтобы пока¬
зать мне, как надо заворачиваться в покрывало.
Капитан Жюлиан, с которым мы познакомились у
генерала Леклерка, предоставил в наше распоряжение
армейских лошадей и предложил сопровождать нас
вне стен города. До сих пор я ездил верхом только в
манеже, во время скучного смотра учеников, прохо¬
дившего под критическим взглядом наставника, делав¬
шего замечания относительно положения корпуса: это
была тоскливая езда взад и вперед в унылом закрытом
помещении. Теперь мой маленький рыжий арабский
229
скакун был, возможно, чересчур горяч для меня, но
когда я дал ему волю нестись во весь опор, меня охва¬
тила невероятная радость. Вскоре я оказался один, вда¬
ли от спутников, сбившись с пути, но меня мало забо¬
тило, найду ли я их и обратную дорогу до наступления
ночи. Заходящее солнце заливало золотом и пурпуром
бескрайнюю равнину, простирающуюся между Туни¬
сом и горой Загван, с впечатляющими остатками древ¬
него акведука; я воображал, что это именно он нес в
Карфаген прозрачную воду источника, бившего в гро¬
те. Пруд с горько-соленой водой был похож на озеро
крови; я проехал по его унылым берегам, вспугнув не¬
скольких фламинго.
Мы собирались пробыть в Тунисе до наступления
зимы, а затем отправиться в Бискру. Авторитетные со¬
веты капитана Жюлиана убедили нас не откладывать
наш отъезд до наступления плохой погоды. Он про¬
смотрел наш маршрут, отметил места смены лошадей
и снабдил нас рекомендательными письмами. Наш пе¬
реход через соленое озеро Эль Джерид, помнится, дол¬
жен был сопровождать военный эскорт. И вот мы с
детской доверчивостью бросились в объятия пустыни,
уверенные в нашей счастливой звезде и в том, что все
нам должно удаваться. За двадцать пять франков в
день у нас были проводник и кучер, который в огром¬
ном ландо — роскошной коляске, запряженной че¬
тырьмя лошадьми,— взялся за четыре дня доставить
нас в Сус, где нам предстояло решить: .продолжить ли
путь в ландо или пересесть в дилижанс, что следует в
Сфакс и Габес. Проводник и кучер были молодыми,
коренастыми мальтийцами с лицами разбойников, что
приводило нас в восторг. Я до сих пор удивляюсь, что
за такую умеренную плату мы имели такой экипаж,
при этом мы оплачивали и его обратный прогон. Лоша¬
ди сменялись исправно. Наш багаж и провизия были
привязаны сзади. Закутанные в бурнусы и покрывала,
мы с Полем походили на богатых купцов.
«И все вокруг удивлялись их скромным чаевым»,—
говорил Поль, умевший одним словом определить си¬
туацию.
230
Мы должны были ночевать в Загване, и весь день
видели, как медленно приближаются горы, с каждым
часом все больше розовея. Мало-помалу мы все боль¬
ше влюблялись в эту большую однообразную страну, в
ее пеструю пустыню и тишину. Но ветер!.. Если он пе¬
реставал дуть, жара становилась невыносимой, если он
поднимался, мы дрогли от холода. Он дул стремитель¬
но, неустанно, как течет вода в реке, пронизывая по¬
крывала, одежду, само тело; я промерзал до костей. Я
еще не оправился от моего тулонского недомогания, и
усталость (а я старался ей не поддаваться) еще больше
меня ослабляла. Мне было тяжело покинуть Поля, и я
следовал за ним повсюду, но, думаю, без меня он уви¬
дел бы больше: из дружеской заботливости он отказы¬
вался от того, что, как чувствовал, было мне не под си¬
лу. Мне приходилось постоянно принимать меры пре¬
досторожности, следить за тем, не слишком ли я
закутан, не слишком ли легко одет. В таких обстоя¬
тельствах отправиться в пустыню было безумием. Но я
не хотел сдаваться и был обманут чарами юга, тем ми¬
ражом, что заставляет нас верить в благотворность юж¬
ного климата.
Между тем Загван, с его прелестными садами и ис¬
точниками, в окружении гор, предоставлял массу пре¬
имуществ, и я бы поправился там, если бы пробыл по¬
дольше. Но воображение влекло нас вдаль... Мы при¬
были в гостиницу голодные и разбитые. Сразу после
ужина мы собирались отправиться в нашу комнату и
завалиться спать, как вдруг один спаги (я ничего не по¬
нимаю в военной форме и, возможно, путаю спаги с
тюрко182) пришел сказать нам, что, узнав о нашем при¬
езде, местный командир (я ничего не понимаю и в во¬
инских званиях и никогда не разбирался в погонах) бу¬
дет рад принять нас и настаивает на том, чтобы мы но¬
чевали в его лагере. Спаги добавил, что в деревне
имеются случаи холеры и оставаться в ней небезопас¬
но. Нам не было до всего этого дела, мы уже распако¬
вали наш багаж, мы хотели на следующий день рано ут¬
ром покинуть Загван, мы падали от усталости, но как
отказать? Пришлось сложить багаж и погрузить его на
231
ждавшего у дверей мула, за которым мы пошли сле¬
дом. Лагерь был расположен в километре от деревни,
там нас ждали несколько праздных офицеров. Они на¬
меревались затащить нас в мавританское кафе, единст¬
венное место увеселения, где можно было потанцевать
и послушать песенки. Я сослался на усталость, и Поль
один отправился с ними. Один из офицеров предложил
проводить меня в отведенное нам для ночлега место,
но, едва все остальные удалились, как он усадил меня
напротив себя за столом, разложил на нем страницы
своего труда, посвященного различным арабским диа¬
лектам, и я больше часа должен был терпеть его чте¬
ние.
Эта ночь в лагере прошла для меня не без пользы:
я познакомился с клопами. Когда офицер счел, что
вполне меня уморил, он проводил меня, полумертвого,
в нечто вроде большого сарая, слабо освещенного саль¬
ной свечой, в углу которого стояли две раскладушки.
Как только я задул свечу, клопы сбежались на пирше¬
ство. Я не сразу сообразил в чем дело, и сперва поду¬
мал, что какой-то скверный шутник насыпал в мою по¬
стель колючек. Некоторое время зуд и сонливость бо¬
ролись между собой, но зуд оказался сильнее, и
побежденный сон отступил. Я хотел зажечь свечу, но
не мог найти спички. Я вспомнил, что у изголовья мо¬
его ложа на табуретке стоит глиняный кувшин с водой.
В оконный проем проник лунный луч. Я выпил залпом
весь кувшин, смочил носовой платок, приложил ко лбу
и выжал за воротник рубашки и в рукава. Потом, поте¬
ряв надежду уснуть, я на ощупь нашел мои вещи и
оделся.
На пороге я встретил возвращавшегося Поля.
— Больше не могу,— сказал я.— Пойду пройдусь.
— Учти, что ты находишься в военном лагере. Ты
не знаешь пароля, тебя могут застрелить.
Луна заливала лагерь тихим сиянием. Я немного
прошелся перед дверью сарая. Мне чудилось, что я
уже мертв, что я парю, словно невесомый, бесплотный
призрак, похожий на сон, воспоминание, и если меня
окликнет часовой, я растворюсь в ночном воздухе.
232
Должно быть, я не заметил, как вернулся в сарай и лег
одетый на мое ложе — там меня и разбудил сигнал
подъема.
Нам сообщили, что коляска ждет нас около тракти¬
ра. Никогда еще утренний воздух не казался мне таким
восхитительным, как после этой бурной ночи. Белые
стены домов Загвана, накануне вечером казавшиеся
голубыми на розовом небе, теперь на фоне нежной
рассветной лазури окрасились в тона гортензии. Мы
покинули Загван, так и не увидев его грот с источни¬
ком, и потому мое воображение рисует это место как
одно из красивейших в мире.
На следующий день наша дорога, часто становивша¬
яся едва заметной тропой, спустившись с гор, пролегла
по еще более выжженному району. К полудню мы
подъехали к испещренной отверстиями скале, вокруг
которой носился рой пчел; вся она истекала медом —
во всяком случае, так нам сказали. Вечером мы добра¬
лись до образцовой фермы в Энфиде, где заночевали.
На третий день мы прибыли в Кайруан.
Священный город возник посреди пустыни, ничем
не предупредив о своей близости; его ближайшие ок¬
рестности суровы: никакой растительности, кроме как-
тусов-опунций, этих удивительных зеленых ракеток,
покрытых ядовитыми колючками,— говорят, среди
них прячутся кобры. Возле ворот города у подножия
стен сидел заклинатель змей: он заставлял одну из
этик опасных тварей танцевать под звуки флейты. Все
городские дома, словно, празднуя наше прибытие, бы¬
ли свежевыбелены известью; этим белым стенам, этим
теням и таинственным отблескам я предпочитаю разве
что глиняные стены домов в оазисах юга. Я с улыбкой
подумал о том, что Готье их не любил183.
Рекомендательные письма открыли нам доступ в
дома городских властей. Мы не слишком осторожно
воспользовались этими письмами, сильно стеснивши¬
ми нашу свободу. Нас пригласили на ужин к калифу
вместе с офицерами. Было очень роскошно и весело,
после ужина меня усадили за плохое фортепьяно, и я
долго соображал, какая музыка подошла бы для тан¬
233
цев... Зачем я все это рассказываю? О, просто чтобы
оттянуть повествование о том, что было дальше. Я
знаю, что говорю о неинтересных вещах.
Мы провели в Кайруане весь следующий день и
присутствовали в маленькой мечети на богослужении:
своей лихорадочностью, необычностью, красотой, бла¬
городством и ужасом оно превзошло все, что я видел
впоследствии. Хотя я еще шесть раз приезжал в Алжир,
я не встречал ничего подобного.
Потом мы уехали. Мне с каждым днем становилось
все хуже. Ветер, с каждым днем все холоднее, дул, не
переставая. Когда после очередного переезда через пу¬
стыню мы прибыли в Сус, я так тяжело дышал и был
так измотан, что Поль побежал за врачом. Я понял, что
врач нашел мое состояние серьезным. Он прописал
мне что-то, чтобы ослабить прилив крови в легкие, и
обещал прийти завтра.
Разумеется, не могло быть и речи о продолжении
нашей поездки. Но Бискра представлялась нам непло¬
хим местом, вполне подходящим для того, чтобы про¬
вести там зиму, только надо было отказаться от наме¬
рения достичь ее самым трудным и долгим путем. Ес¬
ли мы вернемся в Тунис, прозаический, но надежный
поезд доставит нас в Бискру за два дня. Но сначала
мне надо было набраться сил, так как я был не спосо¬
бен отправиться в дорогу слишком быстро.
Теперь мне надо рассказать, с каким настроением
я выслушал заявление доктора и насколько был им
встревожен. Не помню, чтобы оно меня очень огорчи¬
ло; то ли смерть меня в то время не очень пугала, то ли
сама мысль о ней не была неотступной и четкой, то ли
состояние отупения лишило меня острой восприимчи¬
вости. Я вообще не склонен к элегическому настрое¬
нию, поэтому положился на волю судьбы, сожалея
лишь о том, что Поль должен страдать из-за меня: он и
слышать не хотел о том, чтобы оставить меня и продол¬
жить путешествие в одиночку: первым результатом
моей болезни и, если можно так сказать, вознагражде¬
нием за нее, было то, что я смог оценить его драгоцен¬
ную дружбу.
234
Мы пробыли в Сусе только шесть дней. Они тяну¬
лись однообразно в томительном ожидании, но все же
были отмечены одним событием, оставившим во мне
значительный след. Рассказать о нем не так стыдно,
как утаить его.
Поль иногда покидал меня, отправляясь рисовать с
натуры, а я, как только мое самочувствие позволяло
мне, присоединялся к нему. Вообще за все время моей
болезни я оставался в постели и в комнате только один
день. Но я никогда не выходил, не захватив накидку и
шаль; как только я оказывался на улице, какой-нибудь
мальчуган брался их нести. В тот день за мной увязал¬
ся совсем юный араб со смуглой кожей, которого я
уже раньше приметил в толпе бездельников, шатав¬
шихся возле гостиницы. На голове у него была феска,
как и у других, и прямо на голое тело надета куртка кз
грубого сукна; короткие тунисские шаровары еще
больше подчеркивали стройность его ног. Он казался
скромнее или боязливее своих приятелей, во всяком
случае, они его всегда опережали; но в тот день я ка¬
ким-то образом вышел незамеченным их компанией, и
он вдруг догнал меня за углом гостиницы.
Гостиница располагалась за городом, возле начина¬
ющейся пустыни. Было жалко смотреть на оливковые
деревья, такие красивые в соседних местах, а здесь на¬
половину засыпанные зыбучими песками. Чуть подаль¬
ше вы с удивлением замечали скудную речушку, она
сумела пробиться сквозь песок, чтобы успеть отразить
клочок неба и исчезнуть в море. Негритянки, стираю¬
щие на корточках белье в этом жалком потоке пре¬
сной воды — таков был сюжет, выбранный Полем для
его картины. Я обещал присоединиться к нему, но, хо¬
тя дорога по песку была утомительной, позволил
Али — таково было имя моего юного носильщика —
увлечь меня дальше в дюны; вскоре мы достигли выся¬
щегося над окрестностями холма с воронкой или кра¬
тером. Едва придя туда, Али бросил мою шаль и накид¬
ку на песчаный склон, затем бросился на него сам, и,
растянувшись на спине и скрестив руки, начал смот¬
реть на меня, улыбаясь. Я был не так глуп, чтобы не по¬
235
нять смысла его призыва; и все же не сразу на него от¬
ветил. Я сел неподалеку, но не очень близко и, в свою
очередь пристально глядя на него, с большим любопыт¬
ством стал ждать, что он будет делать.
Я ждал! Теперь-то я удивляюсь своей стойкости...
Но действительно ли меня удерживало любопытство?
Не знаю. Тайный мотив наших поступков, причем са¬
мых решающих, неуловим для нас, и не только, когда
мы вспоминаем о них, но и в момент самого действия.
На пороге того, что зовется грехом, все ли я еще коле¬
бался? Нет, я был бы очень разочарован, если бы это
приключение закончилось победой моей добродете¬
ли — она уже вызывала у меня презрение, отвращение.
Значит, меня заставляло ждать именно любопытство...
И я уввдел, как его улыбка медленно увяла, губы со¬
мкнулись, скрыв белые зубы, облако досады и грусти
пробежало по его прелестному лицу. Он встал.
—Тогда прощай,— сказал он.
Но, схватив его протянутую руку, я повалил его на
землю. Он тут же снова рассмеялся. Не став долго во¬
зиться со шнурками, заменявшими ему пояс, он выта¬
щил из кармана ножик и одним махом перерезал узлы.
Потом сбросил куртку и выпрямился, нагой, как бог.
На мгновение воздев к небу тонкие руки, он со смехом
упал на меня. Наверное, тело его было горячим, но мне
показалось прохладным, как тень в жару. Как красивы
были песчаные дюны! В восхитительном сиянии вече¬
ра какой лучезарной была моя радость!..
Между тем уже темнело, надо было найти Поля. Я
не мог скрыть мое возбуждение и, думаю, Поль что-то
заподозрил, но из чувства такта не стал меня ни о чем
расспрашивать, а я не решился ему что-либо рассказать.
Я уже столько раз описывал Бискру, что не стану
делать этого здесь. Помещение, окруженное терраса¬
ми в отеле «Оазис», где мы поселились и описанное
мною в «Имморалисте», было тем самым, что некогда
приготовили для кардинала Лавижри184, он бы и оста¬
новился там, но внезапная смерть отняла его у миссии
236
Белых Отцов. В самой большой комнате, служившей
нам заодно и гостиной, я спал на кровати, предназна¬
чавшейся для кардинала; маленькая комната служила
нам столовой — мы условились питаться отдельно от
обитателей отеля. Блюда приносил нам в стуфе маль¬
чик-араб по имени Атман — мы взяли его в качестве
слуги. Атману было лет четырнадцать, но он был круп¬
ный и внушительный, хотя, может быть, и не очень
сильный; он был выше на голову всех других детей,
приходивших после школы к нам на террасу играть в
шарики и в волчок, и это делало естественным его по¬
кровительственное к ним отношение, впрочем, лицо у
Атмана было таким добродушным и улыбчивым, слов¬
но он сам над собой немного подсмеивался. Вообще
Атман был отличным, очень честным парнем, неспо¬
собным никому причинить зло,— он, словно витающий
в облаках поэт, не умел зарабатывать деньги и готов
был, напротив, их тратить и раздавать направо и нале¬
во. Когда он делился с нами своими снами, мы вспоми¬
нали библейского Иосифа185. Он очень любил разные
истории и рассказывал их нам с Полем с неловкостью
и медлительностью, которые казались нам присущими
Востоку. Ленивый, рассеянный он был склонен преуве¬
личивать свое везение и забывать о неприятностях,
предаваясь мечтам, надеждам и упоительным грезам.
Благодаря ему я понял, что если арабский народ, ху¬
дожник в душе, создал так мало художественных про¬
изведений, то только потому, что никогда не стремил¬
ся сохранить как некое сокровище пережитые мгнове¬
ния радости. По этому поводу можно сказать многое,
но я не хочу пускаться в рассуждения.
Атман жил в третьей, смежной со столовой, очень
маленькой комнатке, выходившей на крошечную тер¬
расу: ею завершалось наше жилище, и по утрам Атман
чистил на ней наши туфли. Там мы застали его однаж¬
ды утром: он сидел по-турецки, разодетый, словно на
праздник, в окружении двенадцати свечных огарков,
зажженных среди бела дня и чередовавшихся с ма¬
ленькими букетиками цветов в стаканчиках; посреди
этого скромного великолепия Атман широко и ритмич¬
237
но размахивал щеткой, напевая во все горло что-то по¬
хожее на гимн. Праздничное настроение его убывало,
когда он, нагруженный мольбертом, ящиком с краска¬
ми, складным стулом и зонтом, плелся за Полем через
оазис. Весь в поту, тяжело дыша, он вдруг останавли¬
вался как вкопанный и с убежденным видом воскли¬
цал: «Ах, какой замечательный сюжет!», пытаясь поло¬
жить конец непоседливости хозяина. Поль смеясь рас¬
сказывал мне об этом по возвращении.
Я чувствовал, что не в силах сопровождать их и с
грустью смотрел им вслед. В первое время я ходил не
дальше общественного сада, что начинался у наших
дверей. Но лучше мне не становилось,— «веер серд¬
ца», как называл Атман легкие, отказывался служить,
и я дышал с большим трудом. Сразу после нашего при¬
езда в Бискру Поль отправился за доктором Д. Тот
Принес каутер186 и немедленно начал его применять;
он приходил через каждые два дня. В результате про¬
греваний, за которыми следовало натирание скипида¬
ром груди и спины, через две недели воспаление лока¬
лизовалось, но затем внезапно перешло с правого лег¬
кого на левое, что повергло доктора Д. в изумление.
Температуру мне не мерили, но, судя по некоторым
признакам, каждый вечер и каждое утро я был в лихо¬
радке. Из Алжира мне прислали довольно сносное
фортепьяно, но малейшая гамма доводила меня до из¬
неможения. Неспособный к работе и вообще к дли¬
тельному напряжению, я самым жалким образом сло¬
нялся целый день и находил развлечение и отраду,
лишь наблюдая за играми мальчишек на наших терра¬
сах или в общественном саду, если погода позволяла
мне туда спуститься: был сезон дождей. Никого из
мальчиков я особенно не выделял, меня привлекала их
юность. Их здоровье придавало мне сил, и я не желал
другого общества. Быть может, в их наивных жестах
и детских разговорах я черпал молчаливый совет по¬
больше предаваться радостям жизни. Климат и бо¬
лезнь размягчили мою суровость и прояснили мой не¬
радостный взгляд на жизнь. Наконец-то я понял, какая
гордыня скрывалась за моим сопротивлением тому,
238
что я некогда называл искушением и против чего те¬
перь перестал бороться. «В нем больше упрямства,
чем верности себе»,— написал обо мне Синьоре187; я
гордился своей верностью себе, что касается упрямст¬
ва, оно проявилось в моем неотложном решении упо¬
рядочить нашу с Полем жизнь. Болезнь не была тому
помехой. И я хочу, чтобы стало ясно, до какой степе¬
ни последующие события были вызваны моим воле¬
вым решением; если я и был верен себе, то следовал
потребностям моего ума, а не моего тела. Мои природ¬
ные наклонности, которые я наконец вынужден был
признать, но еще не считал возможным одобрить, ук¬
репились в результате моего сопротивления, моя борь¬
ба с ними только усилила их, и, отчаявшись одержать
над ними победу, я решил направить их в иную сторо¬
ну. Из симпатии к Полю я вообразил, что у меня те же
желания, что и у него, то есть, я просто их у него пе¬
ренял; мы одновременно старались вселить друг в дру¬
га уверенность. Зимний сезон в Бискре предоставлял
нам особые возможности: в этом городе множество
женщин, продающих свое тело; хотя французские вла¬
сти смотрят на них как на обычных проституток из до¬
мов терпимости и заставляют их регистрироваться,
чтобы иметь возможность вести за ними наблюдение
(благодаря чему доктор Д. мог сообщить нам о каждой
все необходимое), их поведение и нравы вовсе не та¬
кие, как у других, состоящих на учете девиц. По древ¬
ней традиции племя улад найл поставляет в город едва
созревших девочек, которые спустя несколько лет воз¬
вращаются на родину с приданым, позволяющим им ку¬
пить себе мужа. И муж не считает постыдным то, что
у нас покрыло бы его позором или превратило в посме¬
шище. Настоящие представительницы племени улад
найл славятся своей красотой; обычно же этим именем
называют всех девиц, занимающихся таким ремеслом;
не все возвращаются домой и можно встретить их всех
возрастов, но совсем юные — редки: в ожидании со¬
зревания они живут вместе со старшими подругами, те
опекают их и приобщают к тайнам ремесла; принесе¬
ние девственности в жертву становится поводом для
239
празднеств, в которых принимает участие половина го¬
рода.
Эти женщины живут на двух улицах, носящих на¬
звание Священных. В насмешку? Не думаю: женщины-
улад участвуют во многих полусветских, полурелиги-
озных церемониях; в их обществе появляются очень
почитаемые марабуты; я не хочу углубляться в незна¬
комые мне материи, но мне кажется, что мусульманст¬
во взирает на них не слишком строгим оком. На Свя¬
щенных улицах располагается множество кафе, по ве¬
черам эти улицы оживляются и по ним циркулирует
все население древнего оазиса. Группками по двое или
по трое, предлагая себя прохожим, женщины-улад си¬
дят внизу маленьких лестниц, ведущих в их комнаты и
выходящих прямо на улицу: застывшие, как изваяния,
роскошно одетые и украшенные, в золотых ожерельях,
с высокой прической, они кажутся идолами в нишах.
Помнится, несколько лет спустя я прогуливался по
этим улицам с доктором Бурже из Лозанны188.
— Я хотел бы привести сюда молодых людей, что¬
бы внушить им отвращение к разврату,— неожиданно
изрек, кипя от негодования, этот превосходный чело¬
век (всякий швейцарец носит в душе ледники).
Ах! как плохо он знал человеческое сердце! Мое,
во всяком случае... Мне мила экзотическая фигура ца¬
рицы Савской, приехавшей к Соломону, «дабы зага¬
дать ему загадки»189. Ничего не поделаешь — одни
влюбляются в то, что на них похоже, другие — в то,
что от них отличается. Я принадлежу к последним: не¬
обычное влечет меня, а заурядное отталкивает. Ска¬
жем точнее: меня привлекает смуглая от загара кожа,
и мне близка эта строка Вергилия:
Quid tune si fuscus Amyntas? *190
Однажды Поль пришел домой очень возбужден¬
ный: возвращаясь с прогулки, он повстречал стайку
женщин-улад, направлявшихся к Горячему источнику
* «Не беда, что Аминт — загорелый» (пер. С. Шервинско-
го).— Примеч. пер.
240
купаться. Одна из них — он описал мне ее как преле¬
стнейшее существо — выскользнула из группы, заме¬
тив его знак: они условились о свидании. И поскольку
я был еще не совсем здоров, чтобы отправиться к ней,
они договорились, что она придет к нам. Хотя эти де¬
вицы живут отдельно друг от друга и их жилище ни¬
чем не напоминает публичный дом, каждая должна
подчиняться установленным правилам: после опреде¬
ленного часа им уже не разрешается выходить, поэто¬
му нам нужно было действовать тайком, и Поль, спря¬
тавшись за дерево в общественном саду, поджидал Ме-
рием на ее обратном пути после купания. Он должен
был привести ее к нам. Мы украсили комнату, поста¬
вили стол и приготовили все для ужина, предполагав¬
шегося в ее обществе — Атмана мы отпустили. Но на¬
значенный час уже давно прошел, я ждал, охваченный
невыразимым волнением, Поль вернулся один.
Разочарование было тем более неприятным, что на
самом деле я не испытывал никакого желания. Я был
раздосадован, словно Каин, увидевший, что дым от его
жертвы стелется по земле191: жертва не была принята.
Нам тут же стало казаться, что больше такой счастли¬
вый случай не представится; я подумал, что уже никог¬
да не буду так хорошо подготовлен. Тяжелая дверь, на
мгновение приоткрытая надеждой, вновь захлопну¬
лась, и так, конечно, будет всегда: мне вход заказан.
На пути сладостного освобождения передо мной будет
привычно воздвигаться глухая, недвижная стена... Ну
что ж, нужно смириться, повторял я про себя, и самое
лучшее, конечно,— посмеяться надо всем; мы решили
гордо выдержать удар судьбы; юмора нам было не за¬
нимать, и наш ужин, начавшийся в угрюмом молчании,
закончился шутками...
Вдруг, словно легкий стук крыла по окну. Входная
дверь приотворилась...
Это самое трепетное воспоминание, которое я со¬
хранил о том вечере: я вновь вижу, как на пороге но¬
чи возникает, робко и неуверенно, Мерием; она узна¬
ет Поля, улыбается, но, прежде чем войти, отступает
и, склонясь над перилами террасы, взмахивает своим
241
покрывалом. Это был условный знак, отпускавший
служанку, которая проводила ее до лестницы нашего
дома.
Мерием немного знала французский, достаточно
для того, чтобы объяснить, почему она сперва не смог¬
ла присоединиться к Полю и как потом Атман показал
ей дорогу. Она была закутана в двойной покров и сбро¬
сила его, войдя. Я не помню, какое на ней было платье,
она его тоже вскоре скинула, но не сняла браслетов на
запястьях и лодыжках. Не помню, кажется, Поль пер¬
вый увел ее в свою комнату — что-то вроде флигеля
на другом конце террасы; да, видно, она пришла ко мне
только на рассвете; но я хорошо помню потупленный
взор Атмана, когда он утром проходил мимо ложа кар¬
динала, и его слова «Добрый день, Мерием», такие за¬
бавные, такие стыдливые, такие комичные.
У Мерием была кожа янтарного цвета, упругое те¬
ло и округлые, но еще почти детские формы, ведь ей
едва исполнилось шестнадцать лет. Мне хочется срав¬
нить ее с вакханкой, например, с той, что изображена
на вазе из Гаеты, особенно из-за ее браслетов: она все
время ими звенела, словно бубном. Помню, как она
танцевала в одном из кафе на Священной улице, куда
однажды вечером завел меня Поль. С нею была и Эн
Барка, ее кузина. Они исполняли старинный танец
улад, держа голову и туловище прямо, взмахивая рука¬
ми и сотрясаясь всем телом в такт ритмичному прито¬
пыванию голых ног. Как мне нравилась эта «магоме¬
танская музыка», текущая ровным потоком, непрерыв¬
ная, навязчивая; она опьяняла меня, приводила в
оцепенение и, словно наркотический дым, сладостно
усыпляла мой ум. На эстраде рядом с кларнетистом
старый негр стучал металлическими кастаньетами, а
маленький Мухаммед в порыве вдохновения и радости
бил в бубен. Как он был красив! полунагой в лохмоть¬
ях, черный и гибкий, как бесенок, с открытым ртом и
шальным взором... Поль в тот вечер наклонился ко мне
(помнит ли он об этом?) и шепотом сказал:
— Поверишь? Он меня возбуждает больше, чем Ме¬
рием.
242
Он сказал мне это шутя, без задней мысли, он, ко¬
торого привлекали только женщины, но мне ли надо
было об этом говорить? Я ничего не ответил, но надол¬
го запомнил его слова; и тут же повторил их, вернее,
они уже были моими, прежде чем Поль их выговорил,
и, если в ту ночь возле Мерием я был на высоте, так
это потому, что, закрыв глаза, воображал, что сжимаю
в объятиях Мухаммеда.
После той ночи меня охватило удивительное чувст¬
во покоя и блаженства, это было не только ощущение
расслабленности, следующее за наслаждением: Мери¬
ем сразу принесла мне больше пользы, чем все сна¬
добья врача. Я не осмелюсь рекомендовать такое лече¬
ние, но в моем недуге было так много скрытого нерв¬
ного напряжения: неудивительно, что благодаря
примененному кардинальному средству произошел от¬
лив крови от моих легких, и в организме установилось
некоторое равновесие.
Мы продолжали видеться с Мерием; она приходи¬
ла к Полю и должна была прийти ко мне, как вдруг мы
получили телеграмму от моей матушки, сообщавшей о
своем приезде. За несколько дней до первого визита
Мерием у меня было кровохарканье; я не придал ему
значения, но оно очень встревожило Поля. Его родите¬
ли, которым он о нем сообщил, сочли необходимым
предупредить мою мать; вероятно, они хотели, чтобы
мать заняла возле меня место Поля, полагая, что сти¬
пендиат может использовать свое время с большей
пользой, чем будучи при мне сиделкой. Как бы то ни
было, моя мать ехала к нам.
Конечно, я был рад ее увидеть и показать ей стра¬
ну; но все же мы почувствовали досаду: наша совмести
ная жизнь так хорошо налаживалась, и нужно ли было
прерывать наше едва начавшееся воспитание инстинк¬
тов? Я заявил, что ничего подобного не произойдет,
что присутствие моей матери не должно ничего менять
в наших привычках и что для начала мы не будем рас¬
ставаться с Мерием.
Когда впоследствии я рассказывал о нашей идил¬
лии Альберу, я был простодушно удивлен тем, что его,
243
мыслившего, как я полагал, очень свободно, возмутил
дележ, казавшийся нам с Полем естественным. Это да¬
же шло На пользу нашей дружбе, ее словно скреплял
новый шов. И мы совершенно не ревновали к тем не¬
знакомцам, которым Мерием дарила или продавала
свои милости. У нас обоих был в то время циничный
взгляд на плотские утехи, мы считали, что никакое
чувство не должно к ним примешиваться. В отличие от
нас Альбер, не столько моралист, сколько романтик, из
того поколения, чьим героем был Ролла192, считал на¬
слаждение наградой за любовь и презирал ничем не об¬
ремененное удовольствие. Я уже говорил, что в силу
жизненных обстоятельств и склонностей моей натуры
я охотно отделял любовь от желания, меня даже оскор¬
бляла мысль об их возможном смешении. Впрочем, я
не пытаюсь хвалить мою этику; я пишу не защиту, а ис¬
торию своей жизни.
Итак, однажды вечером моя мать прибыла в сопро¬
вождении нашей старой Мари, никогда прежде не пред¬
принимавшей такого дальнего путешествия. Предназна¬
чавшиеся им комнаты, единственные свободные в гос¬
тинице, расположенные через двор, выходили прямо на
наши террасы. Если мне не изменяет память, именно в
тот вечер к нам должна была прийти Мерием; она поя¬
вилась вскоре после того, как мать и Мари ушли в свои
комнаты, и все сперва пошло гладко. Но рано утром...
Остатки стыда, вернее уважение к чувствам мате¬
ри, заставили меня не открывать мою дверь. Мерием
прошла прямо к Полю. Маленький флигель, который
он занимал, был так расположен, что нужно было пе¬
ресечь всю террасу, чтобы достичь его. На рассвете,
когда Мерием, проходя мимо, постучала в окно моей
комнаты, я поспешно встал и сделал ей прощальный
знак. Она неслышно удалилась, слилась с розовевшим
небом, словно призрак, испуганный пением петуха; но
именно в этот момент, то есть до того как она исчезла,
я увидел, как растворились ставни окна напротив и в
нем появилась моя мать. Она мгновение наблюдала за
бегством Мерием, потом окно затворилось. Катастро¬
фа произошла.
244
Было очевидно, что эта женщина вышла из комна¬
ты Поля. Было ясно, что мать ее видела, что она все
поняла. Что мне оставалось делать, кроме как ждать?
Я и ждал.
Мать позавтракала у себя в комнате. Поль ушел.
Тогда она пришла ко мне и села рядом. Я не помню в
точности ее слов. Помню, я имел жестокость сказать
ей, правда, с большим усилием, ведь я не хотел, чтобы
Поль один казался виновным, и к тому же я оберегал
наше будущее:
— Впрочем, знаешь, она приходит не только к не¬
му. Она еще вернется.
Помню ее слезы. Кажется, она ничего не сказала,
не нашла, что сказать, и только заплакала; но эти сле¬
зы умягчили и опечалили мое сердце больше, чем ес¬
ли бы я услышал упреки. Она плакала, плакала долго,
я чувствовал, что грусть ее безутешна, бесконечна. И
если я имел дерзость объявить ей о возвращении Ме¬
рием, о моем решении, то потом у меня уже не хвати¬
ло духа сдержать данное самому себе слово, и единст¬
венный опыт, который еще был у меня в Бискре, про¬
шел вдали от гостиницы в обществе Эн Барки — в ее
комнате. Со мной был Поль, и эта новая попытка кон¬
чилась жалким образом и для него, и для меня. Эн Бар¬
ка была слишком красива (и я должен добавить: гораз¬
до старше Мерием); ее красота сковывала меня; я чув¬
ствовал по отношению к ней нечто вроде восхищения,
но не испытывал ни малейшего желания. Я пришел к
ней, словно на поклонение божеству, но не принес
жертвы. В отличие от Пигмалиона в моих объятиях
женщина превратилась в статую, вернее, я сам чувст¬
вовал себя холодным как мрамор. Ласки, возбуждаю¬
щие средства, ничто не помогало; я оставался безответ¬
ным и ушел, так и не сумев ничего дать ей, кроме де¬
нег.
Между тем в оазисе начиналась весна. Под сенью
пальм все весело оживлялось. Я чувствовал себя луч¬
ше. Однажды утром я отважился на более длительную
прогулку; эта однообразная страна бесконечно влекла
меня: я оживал вместе с ней, и мне даже чудилось, что
245
я заново родился, вышел из долины смертной тени и
для меня начинается настоящая жизнь. Да, это было но¬
вое бытие, радостное и свободное. Легкий голубова¬
тый туман отдалял передний план, делал каждый пред¬
мет невесомым, нематериальным. Я сам, словно осво¬
бодившись от всякой тяжести, шел медленным шагом,
как Ринальдо в саду Армиды193, дрожа всем телом от
невыразимого удивления, от восторга. Я слышал, ви¬
дел, дышал, как никогда прежде, звуки, запахи, краски
в обилии сливались в моей душе, и мое праздное серд¬
це, захлебываясь от благодарности, таяло от восхище¬
ния перед неведомым Аполлоном.
— Возьми меня! Возьми меня всего! — восклицал
я.— Я принадлежу тебе. Я покорен тебе. Я вверяю се¬
бя тебе. Сделай так, чтобы я весь был свет, да! свет и
легкость. Тщетно боролся я с тобой до этого дня. Ны¬
не я узнаю тебя. Да свершится воля твоя: я больше не
противлюсь ей; я смиряюсь перед тобой. Возьми меня.
Так с залитым слезами лицом я входил в чудесный,
необычайный, полный радости мир.
Наше пребывание в Бискре подходило к концу.
Мать предложила Полю сменить его около меня — мое
состояние здоровья еще требовало тщательного ухо¬
да — чтобы он мог беззаботно продолжать свое путе¬
шествие; но Поль заявил, что не намерен меня поки¬
дать, дав мне еще одно доказательство своей дружбы;
правда, я признался ему, что был бы огорчен его отъез¬
дом. Поэтому уехали мать и Мари, намереваясь прями¬
ком вернуться во Францию, а мы с Полем сели в Туни¬
се на корабль, собираясь посетить Сицилию и Италию *.
Мы побывали в Сиракузах только проездом; ни ис¬
точника Кианы, ни аллеи гробниц, ни каменоломни я
* Точнее, мы хотели попасть из Туниса в Триполи, чтобы
наверстать все, упущенное нами по причине моего слабого
здоровья. Но это намерение постигла та же участь, что и все
остальные. Переезд был таким тяжелым, что мы пали духом,
и с Мальты как можно быстрее отправились в Сиракузы.
246
не увидел, я чувствовал себя таким усталым, что ни на
что не смотрел и лишь несколько лет спустя погрузил
руки в воды источника Аретузы194. К тому же мы спе¬
шили добраться до Рима и Флоренции, и, если пробы¬
ли несколько дней в Мессине, то только затем, чтобы
перевести дух: после переезда я был совершенно раз¬
бит. Боже! как нам мешало мое слабое здоровье! Оно
сковывало наши лучшие порывы, с ним постоянно на¬
до было считаться, оно стесняло нас больше, чем де¬
нежные расчеты. К счастью, с этой стороны все обсто¬
яло благополучно; мать заботливо обеспечила меня
нужными суммами. Беспрестанно страдая от холода,
от жары, от неудобств, я тащил Поля в лучшие гости¬
ницы. Своеобразие трактиров, связанные с ними при¬
ключения, встречи, такие забавные в Италии и состав¬
ляющие главную прелесть путешествия по этой стра¬
не,— все это я должен был узнать позже. Зато наши
ужины наедине служили поводом для бесконечной
болтовни! Мы словно оценивали наши идеи, шлифова¬
ли их и гранили, смотрели, как они отражаются, разви¬
ваются, совершенствуются в уме собеседника, и испы¬
тывали на прочность их следствия. Не думаю, что те¬
перь наши разговоры показались бы мне менее
увлекательными, и должен сказать, что никогда боль¬
ше я не находил такого удовольствия в беседе.
В окрестностях Неаполя я ничего не увидел, не¬
сносное здоровье препятствовало всему, даже поезд¬
кам в коляске. Я снова влачил жалкое существование,
как в худшие дни в Бискре, потея на солнце, дрожа от
холода в тени и будучи в состоянии идти только по со¬
вершенно ровной местности. Можно себе представить,
как при таком состоянии мне мог понравиться Рим на
семи холмах! В этот первый приезд в Вечный город я
увидел только Пинчо, в его общественном саду я про¬
водил, сидя на скамье, лучшие часы дня, да и то при¬
ходил туда, выбившись из сил и задыхаясь, хотя Виа
Грегориана, где я снял комнату, находилась совсем ря¬
дом. Моя комната располагалась на первом этаже до¬
ма с левой стороны улицы, если идти от Пинчо. Хотя
она была просторной, Поль, чтобы чувствовать себя по¬
247
свободнее, поселился в конце той же улицы, в другой
комнате, выходившей на маленькую террасу, где он на¬
деялся работать. Но в моей комнате он принимал нашу
«даму», шикарную проститутку, представленную нам
кем-то из учеников с виллы Медичи195. Кажется, я то¬
же попробовал к ней подобраться, но помню только
чувство отвращения, которое вызывали у меня изы¬
сканность ее манер, ее элегантность и жеманство. Я на¬
чал понимать, что выносил Мерием только благодаря
ее бесстыдству и невежеству; с ней по крайней мере
было ясно, чего ждать; ни в ее словах, ни в ее поведе¬
нии, не было никакой игры в любовь; с этой же мне
пришлось бы осквернять святыню, таимую в глубине
сердца.
Во Флоренции я оказался не в состоянии посещать
музеи и церкви, да я еще и не созрел для уроков ста¬
рых мастеров: так в Риме я прошел мимо Рафаэля. Их
творчество казалось мне принадлежащим прошлому, а
меня в искусстве интересовала лишь современность;
только спустя несколько лет, когда я стал вниматель¬
нее и опытнее, я сделался учеником старых мастеров
и сумел придать им современное звучание. Думаю, что
и Поль не отнесся к ним с достаточным вниманием и
симпатией, в галерее Уффици он проводил все время
перед портретом рыцаря Мальтийского ордена кисти
Джорджоне и сделал с него превосходную копию, обо¬
гатившись разве что несколькими приемами.
Во Флоренции мы с ним и расстались и встретились
снова только в Кювервиле в конце лета. Из Флоренции
я поехал сразу в Женеву, к доктору Андреэ, новому
Троншену196 и большому другу Шарля Жида, который
оказался не только превосходным человеком, но и
очень умелым и опытным врачом, ему я и обязан сво¬
им выздоровлением. Он убедил меня, что все мои не¬
дуги проистекают от нервов и что курс водолечения в
Шампеле, а затем зима в горах принесут мне больше
пользы, чем все меры предосторожности и лекарства.
В Шампель ко мне приехал Пьер Луис. Он направ¬
лялся в Байрейт197, где заказал места в театре на все
спектакли сезона, но соскучился по мне и к тому же
248
хотел послушать рассказ о моем недавнем путешест¬
вии. Еще одна причина побудила его завернуть ко мне:
надежда отделаться по дороге от Фердинанда Эро, на¬
вязавшегося ему в спутники и следовавшего за ним
всюду по пятам: Эро тоже заказал себе место в театре
Байрейта, как только узнал, что туда едет его друг
Пьер. Я встретил их обоих в курортном отеле, где за¬
вершал свое лечение. Я с удовольствием поведал Луи¬
су о наших приключениях и как только рассказал о
Мерием, он тут же загорелся желанием отправиться в
Тунис и найти ее, предоставив Эро одному ехать в Бай¬
рейт. Но тот думал иначе и, едва Луис поделился с ним
своими новыми планами, Эро воскликнул:
— Еду с вами.
У Пьера Луиса, возможно, были недостатки; он был
капризен, своенравен, взбалмошен, деспотичен, посто¬
янно пытался навязать другому свои вкусы и подчи¬
нить себе своих друзей, но он отличался благородст¬
вом, великодушием, какой-то пылкостью и порывисто¬
стью, искупавшими все прочие мелочи. Он решил, что
из дружеских чувств ко мне должен сделать Мерием
своей любовницей. И уехал в середине июля вместе с
Эро, захватив шелковый шарф, подаренный мне Мери¬
ем и данный мной ему как свидетельство нашей друж¬
бы: этот шарф должен был помочь Пьеру ее найти и
сблизиться с нею. Он увез также шарманку, предназна¬
чавшуюся для Атмана, но Атман продал ее за несколь¬
ко франков, предпочитая свою флейту.
Вскоре я узнал, что Эро и Луис добрались благопо¬
лучно, что они пробыли в Бискре достаточно времени,
чтобы успеть схватить лихорадку (там началась адская
жара) и увезти Мерием, с которой они устроились у во¬
рот Константины. Это там Пьер Луис закончил свои
изысканные «Песни Билитис»198, посвященные мне в
память о Мерием бен Атала, именно ее имя обознача¬
ют три загадочных буквы, следующие вслед за моим в
посвящении на первой странице книги *. Если Мерием
не совсем Билитис, поскольку многие стихи были на¬
* Это посвящение фигурирует только в первом издании.
249
писаны (я хорошо это помню) до отъезда Луиса в Ал¬
жир, все же она мелькает в этой книге, и я ее узнаю.
Стоит ли мне рассказать здесь о нашей с Луисом
шалости, удавшейся при содействии Мерием? Когда в
одном письме Луис написал мне: «Мерием спрашива¬
ет, что тебе прислать?», я, не колеблясь, ответил: «Бо¬
роду Эро». Надо сказать (вернее напомнить, так как я
уже об этом говорил), что борода составляла самую
внушительную, если не самую важную часть его персо¬
ны: представить себе Эро без бороды было так же не¬
возможно, как мученика без ореола; и я попросил его
бороду в шутку, как другой попросил бы луну с неба.
Но самое удивительное, что в одно прекрасное утро я
получил эту бороду по почте. Луис поймал меня на сло¬
ве, и Мерием, когда Эро сладко спал, отрезала ее, а Лу¬
ис — отправил мне в конверте, присовокупив два сти¬
ха, пародирующие строки из «Голубки»199 Буйе*:
Парнасцев бороды так золотом блистали,
Что девы улад найл спешили их отстричь.
В Шампеле я читал моим двум парнасцам «Песню
о Гранате»200, что написал между делом, уже не по¬
мню где. Написал без всякой идеи, без всякого наме¬
рения, лишь послушно следуя за внутренним ритмом.
У меня уже складывался замысел «Яств земных», но
эта книга должна была вызреть самостоятельно, все,
что я мог сказать о ней моим друзьям, не вызвало у них
большого энтузиазма: цдеал Парнаса был мне чужд, а
Луис и Эро были восприимчивы только к Парнасу.
Когда два года спустя появились мои «Яства земные»,
эта книга встретила почти повсеместное непонимание.
Интерес к ней пробудился только двадцать лет спустя.
После того как я воскрес, пламенное, лихорадоч¬
ное желание жить охватило меня — мне помогли не
только водные процедуры Шампеля, но и превосход¬
ные советы доктора Андреэ.
* Вот строки Буйе:
Такими жалкими вдруг стали олимпийцы,
Что их за бороду таскали малыши.
250
— Каждый раз,— говорил он мне,— как вы увиди¬
те воду, куда можно нырнуть, ныряйте без колебаний.
Так я и делал. О, пенистые потоки! каскады, ледя¬
ные озера, тенистые ручьи, чистые источники, про¬
зрачные морские дворцы, ваша прохлада влечет меня!
А после, на желтом песке как сладостен отдых под
шум прибоя! Я любил не только купание, но и ожида¬
ние мифологического превращения в нагое божество;
я наслаждался благодатными изменениями в моем про¬
низанном лучами теле; вместе с одеждой я сбрасывал,
забывал волнения, скованность, заботы, становился
безвольным, и чувственные впечатления втайне выра¬
батывали во мне, пористом, словно улей, тот мед, что
обильно течет в моих «Яствах земных».
Я вернулся во Францию, постигнув таинство воскре¬
шения, и познал то невыносимое томление, которое, на¬
верное, испытывал поднятый из гроба Лазарь. Больше
ничего из того, что занимало меня прежде, не казалось
мне значительным. Как я мог дышать в этой душной ат¬
мосфере салонов и кружков, где от каждого исходит
запах тления? Думаю, резкость оценки объяснялась и
самолюбием, оно страдало оттого, что все шло своим
чередом, не замечая моего отсутствия, что все суетят¬
ся, не обращая внимания на мое возвращение. Моя тай¬
на занимала столько места в моем сердце, что я удив¬
лялся, как это я сам не имею в этом мире никакого зна¬
чения. Я не мог простить окружающим, что они не
заметили, как я изменился,— я-то возле них уже не чув¬
ствовал себя прежним — мне было что рассказать, но
со мной не разговаривали. Я хотел переубедить, поде¬
литься благой вестью, но никто не жаждал выслушать
меня. Все продолжали жить, как жили, все торопились
мимо, и то, чем они довольствовались, представлялось
мне таким жалким, что я готов был кричать от отчая¬
ния из-за того, что не убедил их ни в чем.
Это состояние отчужденности (от которого я осо¬
бенно страдал в кругу моих близких), наверное, дове¬
ло бы меня до самоубийства, если бы я не нашел вы¬
ход иронически описав его в «Топи». Любопытно, что
эта книга родилась отнюдь не из потребности избавить^
251
ся от моего томления — хотя оно питало ее, но замы¬
сел возник у меня еще до возвращения. Вкус к нелепо¬
сти, проявившийся уже во второй части моего «Стран¬
ствия Уриана», продиктовал мне первые фразы, и во¬
круг них, словно против моей воли, сложилась книга.
Эта фразы пришли мне в голову на прогулке в обще¬
ственном саду в Милане, где я был проездом в Шам-
пель:
«Дорога, обсаженная аристолохиями...201 и далее:
— Почему в такую, неустойчивую погоду вы бере¬
те с собой только зонтик от солнца?
— Это универсальный зонтик — и от солнца и от
дождя,— сказала она мне...»
Понятно, что с таким настроением я помышлял
только о новом отъезде. Но время устроиться на зиму
в маленькой деревушке в горах Юра, куда меня напра¬
вил доктор Андреэ, еще не наступило (я следовал пред¬
писаниям доктора буквально и чувствовал себя отлич¬
но). Поэтому я расположился в Невшателе.
На маленькой площади возле озера я снял комнату
на третьем этаже «дома воздержания». В столовой на
втором этаже сходилось около полудня несколько ста¬
реющих дев, воздержанных в пище или просто небога¬
тых, обедавших напротив огромного плаката, на кото¬
ром можно было прочесть этот стих из Священного
Писания, придававший возвышенный характер моему
постоянному недоеданию:
«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуж¬
даться» 202.
А чуть ниже на плакате поменьше значилось:
«Лимонад из клубники».
Это означало, что еда здесь скудная. Но я готов был
терпеть любые лишения ради ввда, что открывался из
моих окон. С тех пор здесь беззастенчиво воздвигли
большой отель, как раз там, где мой взор неустанно лю¬
бовался сине-зеленой поверхностью вод, что неожи¬
данно возникала сквозь густую листву старых тополей
или старых вязов с позолоченной осенью листвой.
В течение долгих месяцев мысли мои вяло блужда¬
ли; теперь же я наконец приходил в себя, наслаждал¬
252
ся, чувствуя, что мысль моя становится активной, и
мне нравился этот тихий край, помогавший ей сосредо¬
точиться. Скромные берега этого озера, где все еще
бродит тень Руссо203, далеки от швейцарского вели¬
чия, в них все так умеренно, человечно. Нет гордели¬
вых вершин, что умаляют человеческие усилия и от¬
влекают взгляд от тихой прелести переднего плана.
Старые деревья низко клонят ветви к воде, а берег по¬
рой исчезает среди камышей и тростника.
Я провел в Невшателе счастливейшие дни. Я вновь
обрел веру в жизнь, и она представлялась мне куда бо¬
лее богатой, чем я малодушно воображал в детстве. Я
чувствовал, что она ждет меня, доверял ей и не торо¬
пился. В ту пору меня еще не мучил беспокойный де¬
мон любопытства, желаний, который потом... В мир¬
ных аллеях сада, по берегам озера, по дорогам, веду¬
щим за город и вдоль осенних лесов я бродил, как,
наверное, бродил бы и сейчас, но тогда мной владело
чувство такого покоя... Мой ум был занят лишь тем,
что мог охватить. Я изучал «Теодицею» Лейбница204,
читая ее на ходу и получал огромное удовольствие —
теперь, возможно, оно было бы мне непонятно, но тог¬
да трудность следовать за мыслью, столь непохожей на
мою, усилие, которого требовала от меня эта работа,
заставляли меня с наслаждением предвкушать блеск
собственных моих мыслей, стоит только отпустить их
на свободу. Дома меня ждал недавно купленный мной
толстый учебник по зоологии Клауса205: он совлекал
перед моим изумленным взором покров с мира, еще
более богатого и менее темного, чем мир мысли.
По совету Андреэ я провел зиму в Л а Бревин. Это
маленькая деревушка возле границы на самой ледя¬
ной вершине Юры. Термометр там целые недели по¬
казывает ниже нуля, а по ночам столбик ртути иног¬
да опускается до минус тридцати градусов. Тем не ме¬
нее я, такой мерзляк, ни одного дня не страдал от
холода. На краю деревни находилось что-то вроде
фермы, там я поселился, вблизи водопоя, и по утрам
слышал, как к нему ведут коров. Неподалеку был
трактир, где я столовался. Отдельная лестница в моем
253
жилище вела в помещение из трех комнат; самую
большую я превратил в рабочий кабинет, где что-то
схожее с аналоем (я охотно писал стоя) возвышалось
напротив привезенного из Невшателя пианино; печь-
голландка обогревала и кабинет, и мою спальню; я
спал, уперев ноги в печку, закутавшись до подбород¬
ка в шерстяное одеяло и с покрытой головой, так как
всю ночь держал окно отворенным. Дородная швей¬
царка приходила убирать комнаты. Ее звали Августа.
Она много рассказывала мне о своем женихе, но од¬
нажды утром, когда она показывала мне его фотогра¬
фию, а я рассеянно щекотал ей шею пером, она меня
крайне смутила тем, что не замедлила свалиться в
мои объятия. С большим трудом я дотащил ее до ди¬
вана, но она не переставала за меня цепляться, я упал
ей на грудь между раздвинутых ног и, чувствуя отвра¬
щение, закричал: «Я слышу голоса!» Притворившись
испуганным, я выскользнул, словно Иосиф, из ее объ¬
ятий и побежал мыть руки.
Я провел в Ла Бревин около трех месяцев, ни с кем
не общаясь, не потому, что по характеру был склонен
к затворничеству, а потому, что местные жители са¬
мые неприветливые люди в мире. Визит, который я,
снабженный рекомендательными письмами доктора
Андреэ, нанес сельскому пастору и врачу, не повлек с
их стороны и намека на приглашение, и уж тем более
не было речи, чтобы совершить вместе с ними обход
бедных и больных, как я поначалу надеялся. Надо по¬
жить в этих краях, чтобы понять те части «Исповеди»
и «Прогулок одинокого мечтателя» Руссо, где он пи¬
шет о своем пребывании в Валь-Травер. Недоброжела¬
тельство, злоречие, злобные взгляды, насмешки, нет,
он ничего не выдумал, мне знакомо все это. Правда и
то, что толпа деревенских детей бросает камни в чужа¬
ка. И можно себе представить, как его армянский на¬
ряд206 усиливал ксенофобию. Его ошибка, его безумие
были в том, что он видел в этой враждебности целый
заговор.
Каждый день, несмотря на отвратительные окрест¬
ности, я заставлял себя совершать длительные прогул¬
254
ки. Может быть, я несправедлив, называя окрестности
отвратительными? Возможно, Швейцария произвела
на меня гнетущее впечатление не своими высокогор¬
ными плато, но той лесной зоной, где ели словно вно¬
сят во всю природу угрюмость и суровость кальвиниз¬
ма. На самом деле мне не хватало Бискры; тоска по
этой большой, однообразной стране, по ее народу в бе¬
лых бурнусах преследовала нас с Полем по всей Ита¬
лии, как и воспоминание о песнях, танцах, ароматах, о
прелести общения с тамошними подростками, скры¬
вавшего под обманчивой идилличностыо уже столько
чувственности. Здесь ничто не отвлекало меня от рабо¬
ты, и, несмотря на отвращение, которое вызывала у ме¬
ня Швейцария, я просидел в ней столько, сколько нуж¬
но было для окончания «Топи»; при этом меня не по¬
кидала навязчивая идея сразу же потом уехать в
Алжир.
II
Я сел на пароход только в январе, после короткого
пребывания в Монпелье у Шарля Жида. Я собирался
пожить в Алжире, стране, мне доселе неизвестной.
Мысль, о том, что там уже весна, приводила меня в
восторг. Но небо оказалось затянутым тучами, шел
дождь, ледяной ветер яростно дул с вершин Атласа или
из глубины пустыни, отнимая всякую надежду. Я был
обманут Юпитером. Мое разочарование было ужас¬
ным. Город Алжир, несмотря на свой приятный вид, не
оправдал моих ожиданий; меня раздражало то, что я не
мог поселиться нигде, кроме европейского квартала.
Теперь я проявил бы больше изворотливости и настой¬
чивости, но в то время привычка к комфорту и воспо¬
минание о недавней болезни делали меня крайне осто¬
рожным и разборчивым. Мустафа мог бы мне понра¬
виться, но предлагал только самые роскошные отели.
Я решил попытать счастья в Блвде. В то время я читал,
насколько помню, «Наукоучение» Фихте207, получая
удовольствие только от собственного прилежания и не
находя в этой книге ничего, что очаровало меня в «Ме¬
255
тоде достижения блаженной жизни» и в «Предназначе¬
нии ученого и литератора». Но я не хотел давать себе
поблажки и был благодарен всему, что требовало от
меня некоторого напряжения; зато я отдыхал, читая
«Барнаби Радж», до этого я залпом прочел «Крошку
Доррит», «Тяжелые времена», «Лавку древностей» и
«Домби и сын».
Перед отъездом мне пришла в голову шальная
мысль написать матери и Эмманюэль и убедить их при¬
соединиться ко мне. Разумеется, мое предложение ни
к чему не привело, но меня удивило, что мать не от¬
клонила его молча, чего я, по правде сказать, опасал¬
ся. Мой дядя умер за год до этого, после нескольких
дней мучительной агонии, во время которой мы с Эм¬
манюэль не отходили от него, и эта утрата, приведшая
к тому, что мои кузины остались под опекой одних те¬
тушек, в частности моей матери, еще больше нас сбли¬
зила. Впоследствии я узнал, что в ту пору мою семью
очень беспокоило то, как складывается моя жизнь. На
мой возможный брак с Эмманюэль стали смотреть бо¬
лее благосклонно, видя в нем. быть может, лучшее
средство обуздать мой нрав; наконец, мое постоянство
не могло не произвести впечатления.
«Никто не говорит, что этот брак будет счастли¬
вым,— писал мой дядя Шарль Жид в письме моей ма¬
тери, которая позднее мне его показала,— и способен
вовать ему — значит брать на себя большую ответст¬
венность. Тем не менее, если он не состоится, оба они,
вероятно, будут от этого наверняка (я привожу эту
фразу, как она есть) страдать, так что приходится вы¬
бирать между злом несомненным и злом возможным».
Я, со своей стороны, не сомневался в том, что наша
свадьба состоится, и мое терпеливое ожидание осно¬
вывалось на полной уверенности. Моя любовь к той, на
которой я решил жениться, убеждала меня в том, что
даже если я не нуждаюсь в ней, она нуждается во мне,
именно во мне, чтобы быть счастливой. Разве не жда¬
ла она, что именно я принесу ей счастье? Не дала ли
она мне понять, что не вправе покидать сестер и выхо¬
дить замуж прежде них и потому мне отказывает? Что
256
ж, я подожду; мое упорство, моя уверенность преодо¬
леют все препятствия на моем, на нашем пути. Но, хо¬
тя я не мог считать отказ моей кузины окончательным,
он, как мало что другое, причинял мне сильную боль.
Мне приходилось крепиться, чтобы не Насть духом.
Моя бодрость слишком зависела от ясного неба и рез¬
ко уменьшалась, когда его лазурь исчезала.
Блида, которую я ожидал увидеть весной полной
прелести и благоуханий, показалась мне тусклой и не¬
привлекательной. Я бродил по ней, ища пристанища,
но не находил ничего подходящего. Я скучал по Биск-
ре. Все мне было противно. Моя тоска увеличивалась
оттого, что я блуждал именно в тех местах, которые
рисовались моему воображению полными волшебства,
но зима прибавила им мрачности, заодно усилив и мою
угрюмость. Низкое небо давило на мой ум, ветер и
дождь загасили пламень моего сердца. Я хотел было
приняться за работу, но почувствовал, что не способен
к ней; повсюду я влачил груз уныния, не имеющего на¬
звания. К моему недовольству затянутым небом доба¬
вилось недовольство самим собой; я презирал себя, не¬
навидел; я хотел как-нибудь навредить себе, чтобы дой¬
ти до предела бесчувственности.
Так прошли три дня.
Я готовился уезжать, и в омнибус уже погрузили
мои чемодан и сумку. Я вновь вижу себя в холле гос¬
тиницы в ожидании счета; мой взгляд случайно упал
на грифельную доску, где были записаны имена приез¬
жих, и я стал машинально их читать: первым шло мое
имя, потом неизвестные мне имена, и вдруг сердце у
меня забилось: последними в списке стояли имена Ос¬
кара Уайльда и лорда Альфреда Дугласа.
В другом месте я уже рассказывал 208, что первым
моим движением было взять губку и стереть мое имя.
Потом я оплатил счет и пешком пошел на вокзал.
Теперь мне трудно объяснить, почему я стер мое
имя. Когда я рассказывал об этом в первый раз, то объ¬
яснял мой поступок чувством ложного стыда. Возмож¬
но, мной просто двигало не располагавшее к общитель¬
ности настроение. В хорошо известные мне периоды
257
депрессии, подобные тому, что я тогда переживал, я
стыжусь себя, отрекаюсь от себя, все в себе отвергаю и
становлюсь похожим на побитого пса, что, крадучись,
пробирается вдоль стен. Но по дороге на вокзал я поду¬
мал, что, может быть, Уайльд уже прочел мое имя, что
я поступаю малодушно, что... короче говоря, я велел вы¬
грузить сумку и чемодан и вернулся обратно.
Я часто общался с Уайльдом в Париже; я встречал¬
ся с ним во Флоренции; я уже много об этом рассказы¬
вал, как и о дальнейших событиях, но здесь я хочу до¬
бавить некоторые подробности *. Подлая книга лорда
* «Я очень рад, что Вы переиздали Ваши блистательные
„Воспоминания об Оскаре Уайльде" — писал мне 21 марта
1910 г. его душеприказчик и верный друг — Роберт Росс.—
После того, как они впервые появились в „Эрмитаже", я го¬
ворил многим друзьям, что это не только лучший портрет Ос¬
кара Уайльда в различные периоды его жизни, но и единст¬
венно правдивое, точное описание его из всех, мною когда-
либо читанных, я могу только повторить Вам то, что уже так
часто говорил другим.
Возможно, я как-нибудь опубликую письма Оскара
Уайльда ко мне, которые подтвердят все, что вы сказали,—
если вообще могут возникнуть сомнения в правдивости того,
что вы так живо изобразили.
Эти письма могут понадобиться для того, чтобы опровер¬
гнуть лживые измышления Альфреда Дугласа. Вы наверняка
слышали в отчете, касающемся недавнего процесса по делу
о клевете, что он как свидетель поклялся, что не ведал о ви¬
новности Оскара Уайльда и что был „единственным порядоч¬
ным другом, не покинувшим Уайльда". Вы прекрасно знаете,
что Альфред Дуглас был причиной всех несчастий Оскара
Уайльда как до, так и после тюремного заключения. Я бы
предпочел не говорить об этом из уважения к Дугласу и из
соображений нашей старой дружбы. То, что я с ним рассо¬
рился, не повлияло бы на мое решение не мешать всем ду¬
мать, что он действительно был благородным другом, каким
он представлялся. Но с тех пор как он, взяв на себя роль ре¬
форматора общества и морали, начал рассуждать о „грехах"
Оскара Уайльда (в большинстве которых сам участвовал) и
предал своих друзей, я больше не вижу причины хранить
молчание...» — Перевод с английского Е. Гречаной.
258
Альфреда Дугласа «Оскар Уайльд и я» 209 слишком на¬
гло искажает правду, чтобы я поколебался сказать ее
теперь, и поскольку волей судьбы наши дороги пере¬
секлись, я считаю своим долгом привести здесь мое
свидетельство.
До сих пор Уайльд проявлял, встречаясь со мной,
исключительную сдержанность. До меня доходили
только слухи о его нравах, но в литературных кругах
Парижа, которые мы с ним вместе посещали, начались
толки и пересуды. По правде говоря, Уайльда не вос¬
принимали всерьез, а когда проявлялась его истинная
сущность, она казалась очередным притворством; все
были немного шокированы, но в основном он служил
поводом для шуток, над ним посмеивались. Удивитель¬
но, с каким трудом французы — я имею в виду весьма
многих — верят в искренность чувств, которых сами
не испытывают. Между тем, предыдущим летом Пьер
Луис провел несколько дней в Лондоне. Я увиделся с
ним сразу после моего возвращения; хотя у него были
другие вкусы, он не мог скрыть некоторого возбужде¬
ния.
— Это совсем не то, что думают здесь,— рассказы¬
вал он мне.— Эти молодые люди просто очарователь¬
ны. (Он говорил о друзьях Уайльда и его окружении, о
том обществе, которое вскоре прослыло весьма сомни¬
тельным.) Ты не можешь вообразить, как элегантны их
манеры. Да вот, приведу тебе пример: в первый день,
когда я попал в их компанию, X., которому меня как
раз представили, предложил мне сигарету; но вместо
того чтобы мне ее просто дать, как сделали бы мы, он
сам ее закурил и протянул мне только после того, как
сделал первую затяжку. Разве это не изысканно? И все
у них так. Они умеют всему придать поэтичность. Они
мне рассказали, что несколькими днями ранее двое из
них решили сыграть свадьбу, настоящую свадьбу с об¬
меном кольцами. Нет, поверь, нам трудно это вообра¬
зить, мы не имеем ни малейшего понятия о том, что
это такое.
Тем не менее спустя какое-то время, когда репу¬
тация Уайльда начала портиться, Луис заявил, что хо¬
259
чет все выяснить, уехал в Баден, кажется, где Уайльд
тогда проходил курс лечения, уехал под предлогом
потребовать у него объяснений, но с намерением по¬
рвать с ним и вернулся, только исполнив свое наме¬
рение.
Он рассказал мне об их встрече.
— Вы думали, что у меня есть друзья,— якобы ска¬
зал ему Уайльд.— У меня есть только любовники. Про¬
щайте.
Все же полагаю, что в немалой степени именно
чувство стыда заставило меня стереть мое имя с гри¬
фельной доски. Общество Уайльда стало компромети¬
рующим, и наша новая встреча уже не вселяла в меня
гордости.
Уайльд очень сильно изменился, но не внешне, из¬
менились его манеры. Он как будто решил расстаться
со своей сдержанностью, и думаю, что к этому его по¬
буждало присутствие лорда Дугласа.
Я не был знаком с Дугласом, но Уайльд сразу же на¬
чал мне говорить о нем в необычайно хвалебном тоне.
Он звал его Бози, и я сперва не понял, к кому относят¬
ся его похвалы, тем более что он как будто намеренно
хвалил только красоту Бози.
— Вы его скоро увидите,— повторял он,— и скаже¬
те мне, мыслимо ли более очаровательное божество. Я
его боготворю, да, впрямь боготворю.
Уайльд скрывал свои самые искренние чувства под
мантией позерства, что делало его невыносимым для
многих. Он не хотел, да, наверное, и не мог перестать
быть актером; но он играл самого себя, сама его роль,
которую подсказывал ему его неутомимый демон, бы¬
ла искренней.
— Что это вы читаете? — спросил он меня, показав
на книгу, которую я держал в руках.
Я знал, что Уайльд совсем не любит Диккенса, во
всяком случае, делает вид, что не любит; я же был по¬
лон духа противоречия и с удовольствием протянул
ему перевод «Барнаби Раджа» (в ту пору я не знал ни
слова по-английски). Уайльд скорчил смешную грима¬
су и заявил, что «не следует читать Диккенса», но по¬
260
том, поскольку я из того же духа противоречия выра¬
зил живейшее восхищение этим писателем — которое,
впрочем, и было, и остается совершенно искренним —
он смирился и начал говорить мне о «божественном
Бозе» 210 с красноречием, свидетельствовавшим о без¬
условном уважении, несмотря на деланное осуждение.
Но Уайльд всегда оставался художником и не прощал
Диккенсу его человечности.
Мерзкого вида проводнику, выполнявшему функ¬
ции сводни и водившему нас в тот же вечер по городу,
Уайльд не просто сказал о своем желании повстречать
молодых арабов, но добавил: «прекрасных, как бронзо¬
вые статуи»,— эта фраза была бы просто смешной, ес¬
ли бы не своего рода шутливое воодушевление, с ка¬
ким она была сказана, и не тот легкий британский или
ирландский акцент, с которым он не хотел расставать¬
ся. Что касается лорда Альфреда, то он появился, ка¬
жется, только после ужина; насколько я помню, они с
Уайльдом ужинали у себя в комнате, и, наверное,
Уайльд приглашал и меня, но я, видимо, отказался, так
как в то время всякое приглашение вызывало у меня
желание скрыться подальше... Я уже всего не помню.
Я дал себе слово не меблировать пустые комнаты па¬
мяти. Однако после ужина я согласился пройтись с ни¬
ми и очень хорошо помню, что, как только мы оказа¬
лись на улице, лорд Дуглас нежно взял меня под руку
и заявил:
— Эти проводники совершенные тупицы: сколько
им ни объясняй, они все равно ведут вас в кафе, где по¬
лно женщин. Надеюсь, мы с вами похожи: я терпеть не
могу женщин. Люблю только мальчиков. Я хочу сооб¬
щить вам об этом сразу же, поскольку вы сопровожда¬
ете нас сегодня вечером...
Я изо всех сил постарался скрыть, насколько оша¬
рашен откровенностью его признания, и последовал за
ними, не говоря ни слова. Я не находил Бози таким
красивым, каким считал его Уайльд; но в его деспоти¬
ческих манерах испорченного ребенка было столько
грации, что я быстро понял, почему Уайльд во всем
ему уступал и шел у него на поводу.
261
Проводник привел нас в кафе, в котором, несмотря
на сомнительный вид, не было ничего того, что искали
мои спутники. Мы не просидели и нескольких минут,
как в глубине зала вспыхнула ссора между испанцами
и арабами; первые тотчас вытащили ножи, потасовка
угрожала охватить все кафе, так как все или принима¬
ли в ней участие или пытались растащить противников,
и при первой же пролитой крови мы почли за лучшее
убраться. Мне больше нечего рассказать об этом вече¬
ре, в общем довольно скучном. На следующий день я
уехал в Алжир, где Уайльд присоединился ко мне лишь
несколько дней спустя.
Существует манера изображения великих людей,
при которой портретист словно бы озабочен тем, что¬
бы отметить свое превосходство над моделью. Я хотел
бы избежать и слишком лестного изображения, но, не¬
смотря на все явные недостатки Уайльда, я в первую
очередь чувствителен к его величию. Конечно, ничто
так не раздражало, как его бесконечные парадоксы, к
которым его побуждала потребность беспрестанно де¬
монстрировать свое остроумие. Но многие, услышав,
как он при виде обивочной ткани восклицает; «Я хотел
бы сшить из нее жилет», а при виде жилетной: «Я хо¬
тел бы обить ею мою гостиную», забывали задуматься
о том, сколько правды, мудрости и даже откровенно¬
сти скрывалось за его шутовской маской. Но теперь со
мной, как я уже сказал, Уайльд сбросил свою маску; я
наконец видел самого человека; наверное, он понял,
что уже не нужно притворяться и что меня не пугает
то, из-за чего другие отвернулись бы от него. Дуглас
возвратился в Алжир вместе с ним, но Уайльд как буд¬
то немного его избегал.
Я особенно хорошо помню вечер, проведенный
вместе с ним в одном баре. Когда я подошел к нему,
он сидел за столом, заваленном бумагами, перед стака¬
ном шерри-кобблера.
— Простите меня,— сказал он,— это письма, кото¬
рые я только что получил.
Он распечатывал конверты, быстро просматривал на¬
писанное, улыбался и, закинув голову, довольно квохтал:
262
— Прелестно! О-ох! Просто прелестно!
Потом, взглянув на меня, сообщил:
—Должен вам сказать, что у меня в Лондоне есть
друг, он получает всю мою почту и оставляет у себя все
скучные письма: деловые, счета поставщиков, а сюда
присылает только серьезные письма, любовные... О-ох!
Вот это — от молодого... How do you say?.. * акробата?
да, акробата — совершенно восхитительно (он ставил
сильное ударение на втором слоге слова: я его как сей¬
час слышу. Он смеялся, важничал и, казалось, сам се¬
бя очень забавлял). Он пишет мне в первый раз и еще
не решается поставить свой орфограф...211 Как жаль,
что вы не знаете английского! Вы бы увидели...
Он продолжал смеяться и шутить, как вдруг в зал
вошел Дуглас, закутанный в шубу с поднятым воротни¬
ком, позволявшим увидеть только его нос и глаза. Он
прошел мимо меня, словно не узнавая, встал напротив
Уайльда и свистящим, презрительным, злым голосом,
на одном дыхании выпалил несколько фраз, из кото¬
рых я не понял ни слова, потом резко повернулся и
ушел. Уайльд выдержал натиск, ничего не ответив; но
он сильно побледнел, и после ухода Бози мы оба неко¬
торое время молчали.
— Вечно он мне устраивает сцены,— произнес на¬
конец Уайльд.— Он ужасен. Не правда ли, он ужасен?
В Лондоне мы однажды жили в «Савое», где столова¬
лись и где у нас был небольшой чудесный номер с ви¬
дом на Темзу... Вы знаете, «Савой» — роскошный
отель, его посещает лучшее лондонское общество. Мы
тратили много денег, и все негодовали, думая, что нам
очень весело, ведь Лондон ненавидит, тех, кому весе¬
ло. Но вот что я хочу вам рассказать: мы ходили в рес¬
торан отеля, просторный зал, где можно было встре¬
тить моих знакомых, но еще чаще тех людей, которые
знали меня и которых не знал я,— в то время играли
одну мою пьесу, имевшую большой успех, и во всех га¬
зетах были статьи обо мне и мои портреты. Тогда я вы¬
брал, чтобы нам с Бози было спокойнее, столик в глу¬
* Как это'у вас говорят? (англ.).— Примеч. пер.
263
бине ресторана, далеко от входной двери, но возле ма¬
ленькой дверцы, ведущей внутрь отеля. И вот когда
ждавший меня Бози увидел, что я вошел через эту ма¬
ленькую дверцу, он устроил мне, ох, ужасную, жуткую
сцену. «Я не хочу,— заявил он,— я не потерплю, что¬
бы вы входили через маленькую дверцу. Я требую, что¬
бы вы входили через главный вход и вместе со мной;
я хочу, чтобы все в ресторане видели, как мы идем, и
чтобы все говорили: „Это Оскар Уайльд и его любим¬
чик"». О-ох! Ну разве он не ужасен?
Но во всем его рассказе и даже в этих последних
словах сквозило восхищение Дугласом и какое-то
влюбленное упоение его властью. Надо сказать, что
личность Дугласа была более сильной и ярко выражен¬
ной, чем личность Уайльда; да, у Дугласа действитель¬
но была более развитая индивидуальность, проявляв¬
шаяся в страшном эгоизме; им руководила какая-то фа¬
тальная предопределенность, моментами казалось, что
он не несет ответственности за свои поступки; он ни¬
когда не противился своей натуре и не допускал, что¬
бы что-либо или кто-либо ей противился. По правде го¬
воря, Бози меня крайне интересовал, но он и впрямь
был «ужасен», и думаю, это он виноват во всех бедах
Уайльда. Рядом с ним Уайльд казался мягким, нереши¬
тельным и слабовольным. Дуглас, словно испорченный
ребенок, норовил разбить свою самую лучшую игруш¬
ку, он ничем не был удовлетворен й что-то его толка¬
ло все дальше. Вот до чего доходил его цинизм: однаж¬
ды я спросил его о двух сыновьях Уайльда; он долго
описывал красоту Сирила (если не ошибаюсь)212, в то
время совсем юного, потом шепнул с самодовольной
улыбкой: «Он будет моим». Добавьте к этому редкий
поэтический талант, чувствовавшийся в его музыкаль¬
ном голосе, в его манерах, выражении глаз и всего ли¬
ца, отмеченного печатью того, что физиологи называ¬
ют «очень тяжелой наследственностью».
На следующий день или через день Дуглас уехал в
Блиду, откуда собирался увезти молодого кауаджи и
взять его с собой в Бискру: Дугласа соблазнили мои
описания этого оазиса, куда я сам намеревался вер¬
264
нуться. Но увезти араба оказалось не таким простым
делом, как ему поначалу представлялось; нужно было
получить согласие родителей, оформить документы в
пункте регистрации арабов, потом в комиссариате по¬
лиции; все это на несколько дней задержало Дугласа в
Блиде, и Уайльд, чувствуя себя более свободным, мог
поговорить со мной откровеннее, чем до сих пор. Я
уже пересказал все самое важное из наших разгово¬
ров; описал его чрезмерную самоуверенность, его
хриплый смех и наигранную веселость; упомянул и о
растущем беспокойстве, что проглядывало сквозь эту
позу. Согласно утверждениям некоторых друзей
Уайльда, он в ту пору совершенно не подозревал о том,
что его ждет в Лондоне, куда через несколько дней
вернулся; они говорят о его неколебимом спокойствии
вплоть до рокового поворота в судебном процессе. Я
позволил себе им возразить, основываясь не на моем
личном впечатлении, но на словах самого Уайльда, и
привел их как можно более точно. Они свидетельству¬
ют о смутных опасениях, об ожидании чего-то трагиче¬
ского, чего он одновременно страшился и почти же¬
лал.
— Я зашел настолько далеко, насколько возмож¬
но,— повторял он мне.— Дальше я идти не могу. Те¬
перь что-то должно произойти.
Уайльд остро переживал то, что его покинул Пьер
Луис: он всегда относился к нему с особой, подчеркну¬
той нежностью. Он спросил меня, не видел ли я его, и
захотел узнать, что рассказал мне Луис об их разрыве.
Я ему об этом поведал, повторив приведенную выше
фразу.
— Неужели он именно так передал мои слова? —
воскликнул Уайльд.— Вы уверены, что не ошиблись,
может быть, вы его не так поняли?
Когда же я подтвердил точность приведенной фра¬
зы, добавив, что она меня очень опечалила, он несколь¬
ко минут молчал, потом сказал:
— Вы, наверное, заметили, что самая низкая ложь
всегда та, что ближе всего к правде. Но, конечно, Лу¬
ис не хотел лгать; он думал, что говорит правду. Толь¬
265
ко он совсем не понял, что я ему в тот день сказал.
Нет, я не верю, что он солгал, но он ошибся, страшно
ошибся, неверно истолковав мои слова. Хотите знать,
что я ему сказал? В номере гостиницы, где мы с ним
были, он начал говорить мне ужасные вещи, обвинять
меня; я не хотел давать ему никаких объяснений, я ска¬
зал, что не признаю за ним никакого права меня судить
и что, если он хочет, то может верить всему, что обо
мне рассказывают, мне все это безразлично. Тогда Лу¬
ис заявил, что в таком случае ему остается меня поки¬
нуть. А я с грустью посмотрел на него, ведь я очень лю¬
бил Пьера Луиса и только поэтому, только поэтому его
упреки были мне так тяжелы. Но, почувствовав, что
между нами все кончено, я сказал: «Прощайте, Пьер
Луис. Я хотел иметь друга, отныне у меня будут тольг
ко любовники». После этого он ушел, и я не хочу его
больше видеть.
В тот же вечер он признался мне, что вложил свой
гений в свою жизнь, а в свои произведения — только
талант; я уже приводил эту знаменательную фразу, с
тех пор так часто цитируемую.
В другой вечер, вскоре после отъезда Дугласа в
Блцду, Уайльд спросил, не хочу ли я пойти с ним в мав¬
ританское кафе с музыкой. Я согласился и после ужи¬
на зашел за ним в отель. Кафе было не так далеко, но
Уайльду было трудно ходить, и мы взяли извозчика.
Тот довез нас до улицы Монпансье, возле четвертой
террасы бульвара Гамбетта, где Уайльд попросил его
нас подождать. Рядом с извозчиком сидел и наш про¬
водник, теперь он повел нас по лабиринту улиц, по ко¬
торым не могла проехать повозка, до той улочки, на
которой находилось кафе,— первой справа, шедшей
параллельно ступеням бульвара: по одному этому мож¬
но вообразить ее крутизну. Уайльд на ходу объяснял
мне свою теорию, согласно которой следует выбирать
среди проводников самого гнусного на вид: он всегда
наилучший. Если тот, в Блиде, не сумел показать нам
ничего интересного, так потому, что он не чувствовал
себя достаточно уродливым. В тот вечер наш провод¬
ник своим видом мог испугать.
266
Ничто не указывало на кафе; дверь была такая же,
как все остальные; полуоткрытая, и мы вошли без сту¬
ка. Уайльд был завсегдатаем этого места, описанного
мной в «Аминте» 213,— впоследствии я туда часто воз¬
вращался. Внутри на циновках сидели, подвернув но¬
ги, несколько старых арабов, они курили киф214 и не
пошевелились, когда мы заняли места рядом с ними.
Сначала я не понял, что в этом кафе могло привле¬
кать Уайльда, но вскоре я различил возле погасшего
очага, в темноте, еще довольно молодого кауаджи; он
принес нам две чашки мятного чая: Уайльд любил его
больше, чем кофе. И меня почти усыпило странное
оцепенение, царившее в этом месте, как вдруг в про¬
еме полуотворенной двери появился прелестный под¬
росток. Он постоял немного, опираясь высоко подня¬
тым локтем о дверной косяк и выделяясь на фоне но¬
чи. Он как будто не решался войти, и я уже испугался,
что он уйдет, но, увидев сделанный ему Уайльдом
знак, улыбнулся, подошел и сел напротив нас на ска¬
меечке, чуть ниже покрытого циновками возвыше¬
ния, где сидели мы. Он вытащил из своего тунисско¬
го жилета флейту из тростника и начал на ней восхи¬
тительно играть. Позднее Уайльд сообщил мне, что
его зовут Мухаммед, что он «принадлежит Бози» и
колебался у входа в кафе, так как не увидел лорда
Альфреда. Взгляд его больших черных глаз был том¬
ным от гашиша, цвет кожи — смуглым; я любовался
его длинными пальцами, перебиравшими отверстия
флейты, его гибким отроческим телом, тонкими го¬
лыми ногами в коротких белых шароварах, закинуты¬
ми одна на другую. Кауаджи подошел и, сев с ним ря¬
дом, начал подыгрывать ему на чем-то вроде дарбуки.
Словно прозрачный, непрерывный поток лилось пе¬
ние флейты в удивительной тишине, и забывались
час, место, где вы находитесь, и все заботы этого ми¬
ра. Мы сидели, не шевелясь, в течение показавшего¬
ся мне бесконечным времени, но я бы продолжал си¬
деть так и долее, если бы Уайльд вдруг не взял меня
под руку, прервав очарование.
— Пойдемте,— сказал он.
267
Мы вышли. В сопровождении уродливого провод¬
ника, следовавшего за нами по пятам, мы сделали не¬
сколько шагов по улочке, и я уже подумал, что на этом
наш вечер закончится, но у первого поворота Уайльд
остановился, опустил свою огромную ручищу мне на
плечо и, наклонясь ко мне — он был гораздо выше, ти¬
хо спросил:
— Dear, вы хотите маленького музыканта?
О, какой темной была улочка! Я подумал, что упа¬
ду в обморок, и какое усилие воли потребовалось, что¬
бы сказать «да», и каким сдавленным голосом!
Уайльд тут же обернулся к подошедшему к нам про¬
воднику и шепнул ему на ухо несколько слов, которых
я не разобрал. Проводник ушел, а мы вернулись к то¬
му месту, где стоял извозчик.
Едва мы уселись в повозку, как Уайльд принялся
хохотать, хохотать громко и не столько весело,
сколько торжествующе; он смеялся безостановочно,
безудержно, вызывающе и, видя мою досаду, смеял¬
ся еще громче. Должен сказать, что если Уайльд и
приоткрыл передо мной свою жизнь, то еще ничего
не знал о моей, и я следил за тем, чтобы ни мои сло¬
ва, ни манеры не позволили ему ни о чем заподоз¬
рить. Сделанное им мне предложение было смелым;
развеселило его то, что оно оказалось так быстро
принятым. Он веселился, как ребенок и как бес. Ве¬
личайшее удовольствие для того, кто предается раз¬
врату,— совратить другого. После моего приключе¬
ния в Сусе злой дух уже не мог одержать надо мной
особо крупных побед, но Уайльд не знал об этом, как
не знал и о том, что я был побежден заранее или, ес¬
ли угодно (ибо можно ли говорить о поражении при
такой боевой готовности?), уже мысленно преодолел
все сомнения. В действительности я и сам не подо¬
зревал об этом и, только ответив «да», внезапно все
осознал.
Порой, перестав смеяться, Уайльд извинялся:
— Простите мне мой смех, но он сильнее меня. Я
не могу удержаться.— И снова принимался хохотать.
Он продолжал смеяться до тех пор, пока мы не ос¬
268
тановились у кафе на театральной площади, где отпу¬
стили извозчика.
— Еще слишком рано,— сказал Уайльд. И я не по¬
смел спросить его, о чем они условились с проводни¬
ком и где и как найдет меня маленький музыкант. Я
уже начал сомневаться, будет ли его предложение во¬
обще иметь какие-то последствия, но расспрашивать
его боялся, не желая показать, каким сильным желани¬
ем охвачен.
Мы на минуту завернули в обычное кафе, и я по¬
нял, что Уайльд не сразу пошел в маленький бар отеля
«Оазис», куда мы затем направились потому, что его
знали, и он предпочел оказаться подальше от кафе
мавританского, придумав коротенький привал, чтобы
чуть-чуть увеличить расстояние между явным и тай¬
ным.
Уайльд заставил меня выпить коктейль и сам выпил
не один. Мы ждали около получаса. Как долго тяну¬
лось время! Уайльд продолжал смеяться, но уже не так
безудержно и если порой мы заговаривали, то только
затем, чтобы не молчать. Наконец он вынул часы.
— Пора,— произнес он, поднимаясь.
Мы направились к бедному кварталу за большой
мечетью внизу, названия которой я уже не помню,—
дорога мимо нее спускается дальше к порту — квартал
этот самый безобразный в городе, хотя наверное, был
одним из самых красивых. Уайльд первым вошел в дом
с двумя входами; едва мы переступили порог, как пе¬
ред нами возникли два высоченных полицейских, во¬
шедших через другую дверь и сильно меня напугав¬
ших. Уайльда очень позабавил мой испуг.
— О-ох! Dear, бояться нечего, полицейские доказы¬
вают, что гостиница надежна. Они здесь охраняют ино¬
странцев. Я их знаю: отличные парни и очень любят
мои сигареты. Они все прекрасно понимают.
Мы пропустили охрану вперед. Они поднялись вы¬
ше, а мы остановились на третьем. Уайльд вытащил из
кармана ключ и впустил меня в крошечный номер из
двух комнат, куда спустя несколько минут к нам во¬
шел наш урод проводник. За ним шли двое подростков,
269
закутанных в бурнусы, скрывавшие их лица. Провод¬
ник исчез. Уайльд провел меня вместе с маленьким
Мухаммедом в комнату, находившуюся в глубине, а
сам заперся в первой с юношей, игравшим в кафе на
дарбуке.
Всякий раз потом, когда я искал наслаждения, я
стремился вослед воспоминанию об этой ночи. Итак,
после приключения в Сусе я вновь самым жалким об¬
разом впал во грех. До сих пор я, если и получал удо¬
вольствие, то словно бы украдкой; впрочем, я храню
восхитительное воспоминание об одном вечере, ког¬
да мы были в лодке на озере Комо вместе с одним
юным лодочником (незадолго до моего приезда в Ла
Бревин); лунный свет окутывал мой восторг, и мгли¬
стое очарование озера сливалось с влажными запахами
берега. А потом ничего; ужасающая пустыня, полная
безответных призывов, бесцельных порывов, беспо¬
койных стремлений, борьбы, изнуряющих мечтаний,
воображаемых экстазов, мучительных разочарова¬
ний. Двумя годами ранее, летом в Ла Рок, я уже ду¬
мал, что сошел с ума; почти все время я проводил в
четырех стенах моей комнаты, запершись ради рабо¬
ты (я писал «Странствие Уриана»)215, но тщетно си¬
лился работать; я был как одержимый, меня пресле¬
довали одни и те же мысли, быть может, я надеялся
найти выход в неумеренном воздержании, вновь до¬
стичь таким образом небесной лазури, загнать моего
демона (узнаю его же совет), но я изнурял, маниа¬
кально растрачивал только самого себя, дойдя до пол¬
ной исчерпанности, до того, что мне оставались толь¬
ко одурение, безумие.
Ах! от какого ада я избавлялся! И ведь — ни еди¬
ного друга, с кем бы я мог поговорить, посоветовать¬
ся; всякий компромисс казался мне невозможным,
поначалу я ни в чем не хотел уступать — и поги¬
бал... Но к чему вспоминать эти мрачные дни? Раз¬
ве воспоминание о них может объяснить упоение
той ночи?
Опыт с Мерием, мои усилия вернуться к «норме»
остались без будущего, ибо не соответствовали моим
270
склонностям; теперь я наконец нашел мою норму.
Здесь уже не было никакого принуждения, никакой то¬
ропливости, никаких сомнений. Воспоминание о той
ночи ничем не омрачено. Радость моя была огромной,
и я не мог допустить, что она была бы еще больше, ес¬
ли бы к ней примешивалась любовь. Разве могла идти
речь о любви? Разве я позволил бы желанию овладеть
моим сердцем? Мое упоение было лишено всякой по¬
доплеки, и оно не должно было сопровождаться ника¬
кими угрызениями. Но как тогда назвать мой восторг,
когда я сжимал в объятиях хрупкое совершенное тело,
диковатое, жаркое, полное нега и тайны?..
Еще долго после того, как Мухаммед меня покинул,
я пребывал в состоянии трепетного ликования, и, хотя
возле него я пять раз достиг предела наслаждения, я
еще многажды переживал экстаз, а когда вернулся в го¬
стиницу, его отголоски продолжались до утра.
Я знаю, что некоторые приведенные мной детали
могут вызвать улыбку, мне было бы нетрудно опустить
их или изменить, сделав более правдоподобными; но я
стремлюсь не к правдоподобию, а к правде, а разве она
не наиболее интересна именно тогда, когда наименее
правдоподобна? Или вы думаете, что в Противном слу¬
чае я стал бы ее говорить?
В ту ночь я всего лишь показал, на что был спосо¬
бен, к тому же я только что прочитал «Соловья» Бок-
каччо 216 и не подозревал, что в этом есть что-то нео¬
бычное: насторожило меня удивление Мухаммеда.
Превышение меры начиналось для меня уже после, и
оно-то и было для меня загадкой: как ни был я пресы¬
щен и обессилен, дать себе передышку и остановиться
я мог только еще больше изнурив себя. Позднее мне не
раз приходилось убеждаться, насколько тщетны мои
попытки умерить свой пыл, хотя этого требовали и ра¬
зум, и предосторожность; всякий раз, когда я пытался
ограничить себя, мне приходилось потом в одиночест¬
ве добиваться — и не меньшими усилиями — того пол¬
ного изнеможения, которое только и могло принести
мне покой. Вообще-то я и не берусь ничего объяснить;
я знаю, что мне придется расстаться с жизнью, так ни¬
271
чего и не поняв или поняв очень мало в функциониро¬
вании моего тела.
Едва забрезжил рассвет, я встал и побежал, да-да,
побежал в сандалиях на приволье, оставив Мустафу
довольно далеко позади; я не ощущал никакой устало¬
сти от прошедшей ночи, напротив, чувствовал радост¬
ный подъем, какую-то легкость и в душе и в теле, и это
чувство не покидало меня весь день.
Я снова увидел Мухаммеда спустя два года. Его ли¬
цо мало изменилось. Он словно бы не стал старше; те¬
ло его сохранило грациозность, но взгляд утратил бы¬
лую томность, в нем появилось что-то жесткое, беспо¬
койное, приниженное.
—Ты больше не куришь киф? — спросил я его, за¬
ранее зная ответ.
— Нет,— сказал он.— Теперь я пью абсент.
Он все еще был привлекательным; да что я говорю?
привлекательнее, чем когда-либо, но теперь в его обли¬
ке стало больше бесстыдства, чем чувственности.
Со мной был Даниэль Б.217 Мухаммед провел нас
на пятый этаж какого-то притона, где на первом этаже
в таверне выпивали матросы. Хозяин спросил наши
имена; я написал в книге посетителей: Сезар Блох. Да¬
ниэль заказал «для правдоподобности», как он выра¬
зился, пиво и лимонад. Была ночь. Мы вошли в ком¬
нату, освещаемую только свечой в подсвечнике, кото¬
рую нам дали, чтобы мы могли подняться по лестнице.
Официант принес бутылки и стаканы, поставив их на
стол возле подсвечника. Стульев было только два. Мы
с Даниэлем сели, а Мухаммед поместился между на¬
ми на столе. Приподняв покров, заменявший теперь
ему тунисский костюм, он протянул нам свои голые
ноги.
— Каждому по одной,— сказал он, смеясь.
Потом, пока я продолжал сидеть возле полупустых
стаканов, Даниэль схватил Мухаммеда в охапку и от¬
нес на кровать в глубине комнаты. Он положил его на
спину поперек кровати, на ее краю, и вскоре по обе
стороны тяжело дышавшего Даниэля я увидел только
две тонкие свисающие ноги. Даниэль даже не снял пла¬
272
ща. Очень высокий, стоявший в полумраке перед кро¬
ватью спиной ко мне,— я не видел его лица, только
пряди длинных черных волос,— в плаще до пят, Дани¬
эль казался гигантом — склонившись над маленьким
телом, которое он покрывал, он был похож на огром¬
ного вампира, терзающего труп. Я чуть не закричал от
ужаса...
Всегда очень трудно принять любовные игры дру¬
гих, их манеру заниматься любовью. Это касается да¬
же животных (хотя мне следовало бы приберечь это
«даже» для людей). Можно завидовать пению, полету
птиц, написать:
Ach! wiisstest du wie’s Fischlein ist
So wohlig auf dem Grund! * 218
Даже собаку, грызущую кость, я могу как-то по-жи¬
вотному одобрить. Но нет ничего более обескуражива¬
ющего, чем способы, какими каждый вид — так по-
разному — добивается наслаждения. Что бы ни гово¬
рил г-н де Гурмон219, пытающийся найти волнующие
аналогии между человеком и животными, я считаю,
что у всех аналогична лишь сила вожделения; однако
как раз в том, что г-н де Гурмон называет «физикой
любви», различия очень сильны и не только между че¬
ловеком и животным, но часто и между самими людь¬
ми — до такой степени, что, если бы нам было позво¬
лено наблюдать за теми способами, которыми пользу¬
ется наш ближний, они показались бы нам столь же
странными, нелепыми и даже дикими, как и совокуп¬
ление земноводных, насекомых и — зачем ходить так
далеко? — собак и кошек.
Вероятно еще и поэтому существует такое непони¬
мание и такая жестокая нетерпимость в том, что каса¬
ется этой области.
Для меня наслаждение возможно лишь лицом к ли¬
цу, взаимное и без всякого насилия, и я часто, подоб¬
но Уитмену, бываю удовлетворен самым беглым кон¬
* Ах, знал бы ты, как прелестна
Рыбка на дне речном! (нем.) — Примеч. пер.
273
тактом, потому меня и ужасали игра Даниэля и то, как
охотно участвовал в ней Мухаммед.
Вскоре после того памятного вечера мы с Уайльдом
уехали из Алжира; его призывала в Англию необходи¬
мость покончить с обвинениями маркиза Квинсбери,
отца Бози220; я же хотел попасть раньше Бози в Биск-
ру. Он намеревался увезти туда Али, молодого араба из
Блиды, в которого влюбился, и сообщал в адресован¬
ном мне письме о своем возвращении; он надеялся, что
я соглашусь подождать его и совершу вместе с ними
этот долгий двухдневный переезд, грозивший, остань¬
ся он с Али наедине, стать смертельно скучным: оказа¬
лось, что Али знал французский и английский не луч¬
ше, чем Бози арабский. Но у меня плохой характер, и
его письмо, напротив, ускорило мой отъезд: то ли мне
не хотелось способствовать этой авантюре и помогать
тому, кто считает, что все вокруг обязаны ему помо¬
гать; то ли дремлющий во мне моралист почел неуме¬
стным очищать розы от шипов, то ли попросту взял
верх мой угрюмый нрав — а может, повлияло все вме¬
сте — ия уехал. Однако в Сетифе, где я собирался но¬
чевать, мне вручили срочную телеграмму.
С какой-то нездоровой готовностью я радуюсь все¬
му, что нарушает мой маршрут; я и не пытаюсь объяс¬
нить эту черту моего характера: она мне самому непо¬
нятна... Короче говоря, тотчас же прервав путешест¬
вие, я начал ждать Дугласа в Сетифе, причем с таким
же нетерпением, с каким накануне бежал от него. Дол¬
жен сказать, что переезд из Алжира в Сетиф показал¬
ся мне страшно долгим. Но ожидание показалось еще
дольше. Как бесконечно тянулся день! А каким будет
следующий, отделяющий меня от Бискры? — думал я,
бродя по правильным и унылым улочкам этого неприг¬
лядного, военного, колониального городка; мне пред¬
ставлялось, что приезжать сюда можно не иначе, как
по делам, а жить — только по приказу; изредка попа¬
дающиеся вам на пути арабы казались здесь неумеек
ными и жалкими. Мне не терпелось увидеть Али. Я
274
ожидал встретить какого-нибудь скромного кауаджи,
одетого примерно как Мухаммед; но с поезда сошел
молодой господин в блестящих одеждах, подпоясан¬
ный шелковым шарфом и в золотом тюрбане. Ему еще
не было шестнадцати, но с каким достоинством он вы¬
ступал! Какая гордость во взгляде! Какие снисходи¬
тельные улыбки бросал он склоненным перед ним слу¬
жащим отеля! Как быстро понял он, недавно такой
смиренный, что должен войти первым, сесть первым...
Дуглас нашел своего господина и, хотя сам был очень
элегантно одет, походил на слугу, готового выполнять
приказы своего роскошного властелина. В каждом ара¬
бе, каким бы бедным он ни был, живет Алладин, гото¬
вый появиться в любую минуту: достаточно малейшего
поворота судьбы, и вот он уже король.
Али был безусловно очень красив; белая кожа, чи¬
стый лоб, округлый подбородок, маленький рот, упру¬
гие щеки и глаза гурии221; но его красота не имела на¬
до мной никакой власти; какая-то резкость в крыльях
носа, равнодушие в изогнутой линии слишком совер¬
шенных бровей, что-то жестокое в презрительном ри¬
сунке губ гасили во мне всякое желание, и ничто так
не отдаляло меня от него, как вся его женственная
внешность, которая как раз соблазнила бы других. Я
это говорю затем, чтобы дать понять: время, проведен¬
ное мной возле него, было совершенно безмятежным.
И даже, как это часто бывает, вид счастливого Дугла¬
са, которому я не завидовал, еще больше расположил
меня к целомудренному поведению, продолжавшему¬
ся и после его отъезда все время моего пребывания в
Бискре.
Отель «Оазис», распоряжавшийся апартаментами
кардинала, которые мы снимали в прошлом году, уже
сдал их, но недавно открылся новый отель «Ройаль»,
где мы смогли найти помещение, по прелести и удоб¬
ству не намного уступавшие кардинальскому: это бы¬
ли три комнаты на первом этаже, из них две смежные,
в конце коридора, имевшего наружный выход. У нас
был от него ключ, что позволяло нам добираться до
комнат, не проходя через отель. Но чаще всего я вых<
275
дил и возвращался через окно. Моя комната, куда я ве¬
лел поставить пианино, была отделена от комнат Дуг¬
ласа и Али коридором. Из двух первых комнат откры¬
вался вид на новое казино и широкое пространство пе¬
ред ним, где после школы резвились те же маленькие
арабы, что в прошлом году приходили играть на наши
террасы.
Как я уже сказал, Али не понимал по-французски;
я предложил им в качестве переводчика Атмана: тот
как раз бросил свою работу, узнав о моем приезде, и
жаждал поступить ко мне в услужение, но я не знал,
на что его употребить. Потом я готов был осуждать се¬
бя за то, что осмелился предложить ему эту должность,
но, помимо того, что отношения Дугласа и Али не пред¬
ставляли для араба ничего удивительного, я тогда еще
не проникся к Атману тем большим дружеским чувст¬
вом, которое впоследствии так сильно мной овладело
и вскоре стало вполне заслуженным с его стороны. Ес¬
ли сначала он с большой готовностью принял мое пред¬
ложение, то только потому, как я вскоре понял, что на¬
деялся быть почаще рядом со мной. Бедный парень
был весьма смущен, увидев, что я решительно отказы¬
ваюсь сопровождать Дугласа на его проулках, и понял,
что будет проводить со мной очень мало времени. Дуг¬
лас каждый день вез его в повозке вместе с Али в один
из недалеких оазисов, в Шетму, Дрох, Сиди Окба, вид¬
ные с террас отеля; они зеленели темными изумруда¬
ми на рыжем плаще пустыни. Дуглас тщетно пытался
увлечь на прогулку и меня. Я нисколько не сочувство¬
вал ему, воображая скуку, которую он наверняка испы¬
тывал в окружении этих двух пажей. Я расценивал ее
как расплату за удовольствие. «Ты сам этого хотел!» —
думал я, пытаясь искусственной суровостью отгоро¬
диться от того, к чему сам был более чем склонен. Я
считал расплатой и мою работу, погружаясь в нее с
приятным чувством, будто я что-то искупаю. Теперь,
став с годами более уступчивым, я удивляюсь моей
воздержанности, бывшей пережитком моей прежней
морали, уже мне совершенно чуждой, но от которой
еще зависели мои нравственные рефлексы. Если же
276
попытаться определить, от чего в моем механизме,
словно независимо от меня, произошел сбой, то причи¬
ной тому прежде всего, должен признать, были моя уг¬
рюмость и живущий во мне дух противоречия. Да к то¬
му же и Бози мне не слишком нравился, точнее он вы¬
зывал во мне скорее интерес, чем симпатию; несмотря
на его любезность, предупредительность или, быть мо¬
жет, именно из-за них я постоянно оставался насторо¬
же. Его разговор меня быстро утомлял; думаю, будь на
моем месте англичанин или хотя бы лучше разбираю¬
щийся в английских делах француз, этот разговор стал
бы более разнообразным и насыщенным; со мной же,
как только общие темы были исчерпаны, Дуглас всег¬
да с неприятной настойчивостью возвращался к тому,
о чем я не мог говорить без крайнего смущения, еще
больше возраставшего от его полнейшего бесстыдства.
С меня было достаточно того, что я встречался с ним
во время бесконечных застолий за табльдотом — с ка¬
кой прелестной, шаловливой грацией он вдруг воскли¬
цал: «Я непременно должен выпить шампанского!» и
почему я угрюмо отказывался от протянутого мне бо¬
кала? — или иногда во время чаепития в обществе Ат-
мана и Али, когда он в десятый раз повторял одну и ту
же фразу, получая удовольствие не столько от нее,
сколько от ее повторения: «Атман, скажите Али, что у
него глаза газели». Каждый день ему удавалось немно¬
го отдалить предел своей скуки.
Эта цциллия резко оборвалась. Бози, которого весь¬
ма забавляла начавшаяся сомнительная интрижка Али
с юным пастухом из Фонен-Шод, пришел в совершен¬
ную ярость, когда понял, что Али чувствителен и к пре¬
лестям женщин-улад, в особенности Мерием. Мысль о
том, что Али может с ней спать, была для него невы¬
носима; он пребывал в сомнении, пытаясь установить,
случилось ли это уже (я со своей стороны в этом не со¬
мневался), негодовал, требовал от Али признаний, рас¬
каяния, обещаний и клялся, что если он его обманет, то
немедленно будет отправлен восвояси. Я чувствовал,
что Дугласом руководит не столько ревность, сколько
досада: «С юнцами — сколько угодно,— заявлял он,—
277
да, сколько угодно, я даю ему полную свободу, но не
потерплю, чтобы он шлялся по бабам». Я вообще не
уверен, что Али действительно вожделел к Мерием;
мне кажется, он просто откликнулся на ее лестный
призыв и хотел таким образом опровергнуть доходив¬
шие до него слухи о его импотенции; думаю, ему нра¬
вилось напускать на себя важность, подражать стар¬
шим, казаться взрослым. С Дугласом он разыграл
покорность, но тот уже потерял к нему доверие. Од¬
нажды, во власти подозрений, он принялся рыться в че¬
модане Али, нашел спрятанную фотографию Мерием и
разорвал ее на мелкие кусочки... Исход был трагиче¬
ским: нещадно стегаемый хлыстом Али так завывал,
что переполошил весь персонал отеля. Я слышал его
вопли, но не вышел из комнаты, сочтя более благора¬
зумным не вмешиваться. Вечером Дуглас появился за
ужином бледный, с непреклонностью во взоре; он объ¬
явил, что Али отправится в Блиду с первым же поез¬
дом, то есть на следующий день утром. Сам он уехал
из Бискры два дня спустя.
Тогда-то я понял, каким стимулом к работе, словно
из чувства протеста, было для меня зрелище праздно¬
го времяпрепровождения. Теперь, когда мне уже не
надо было отказываться от поездок в коляске, я каж¬
дый день, часто с самого утра, покидал отель и отправ¬
лялся в изнурительные походы по пустыне, то шествуя
по сухому руслу реки, то взбираясь на высокие дюны,
где я иногда ждал наступления заката» хмелея от не¬
объятности просторов, от их необычности, от одиноче¬
ства, и сердце мое было легким, словно птица.
Вечером Атман, закончив службу, приходил ко
мне. После отъезда Дугласа и Али он снова вернулся к
своему ремеслу проводника, довольно унылому заня¬
тию, с которым он справлялся благодаря своему покла¬
дистому характеру. С таким же простодушием, ни¬
сколько не смущаясь, он знакомил теперь иностранцев
с улад, с каким раньше переводил Али приторные ком¬
плименты Дугласа. Он рассказывал мне, что делал
днем, и каждый раз вместе с симпатией к нему росло
мое отвращение к его услугам такого рода; его дове¬
278
рие ко мне тоже возрастало, и он откровенничал со
мной все больше. Однажды вечером он пришел очень
веселый.
— Какой удачный сегодня день! — воскликнул он
и поведал, как ему удалось заработать тридцать фран¬
ков: он взял десять франков у одной девицы-улад за то,
что привел к ней англичанина, завысил на десять фран¬
ков предназначавшуюся ей плату и получил еще десять
франков от англичанина за оказанную услугу. Я возму¬
тился. Я прощал ему сводничество, но его нечестность
была мне нестерпима. Он удивился, приняв поначалу
мой гнев за дурное настроение, и сперва мне удалось
добиться от него только раскаяния в том, что он был со
мной слишком откровенен. Тогда я решил воззвать к
тому чувству благородства, которое, как мне хочется
думать, живет в каждом арабе. Кажется, мне это уда¬
лось.
—Ладно,— проворчал он,— я верну деньги.
— Я от тебя этого не требую,— возразил я.— Про¬
сто, если хочешь быть моим другом, не прибегай боль¬
ше к такому постыдному торгу.
— Ну, что ж,— сказал он с улыбкой, и я снова уви¬
дел того послушного ребенка, которого любил,— ду¬
маю, будет лучше, если я перестану водить иностран¬
цев к женщинам, на этом можно слишком много зара¬
ботать.
— Пойми,— добавил я в качестве ободрения,— ес¬
ли я прошу тебя об этом, то потому что хочу, чтобы
ты был достоин моих друзей, когда встретишь их в
Париже.
Намерение повезти Атмана в Париж222 медленно
зрело в моей душе. Я начал заговаривать об этом в
письмах к матери, сперва робко, потом, по мере того
как росло ее сопротивление, все решительнее: я был
более чем склонен восставать против материнских
предостережений, но надо сказать, что матушка ими
несколько злоупотребляла. Ее письма зачастую пред¬
ставляли собой сплошные указания, порой сдержан¬
ные и скрытые за проявлениями благожелательности:
«Я тебе ничего не советую,— писала она,— я только
279
обращаю твое внимание...», но именно это больше все¬
го меня раздражало; я знал, что, если ее призыв оста¬
нется без ответа, она будет без устали повторять его,
так как мы твердо решили не уступать друг другу.
Тщетно пытался я убедить ее, как наконец убедил са¬
мого себя, что речь идет о нравственном спасении Ат-
мана, которое зависит от его переселения b Париж, что
я его как бы усыновил... Мать, уже встревоженная вос¬
торженным тоном моих предыдущих писем, решила,
что одиночество и пустыня привели к тому, что я по¬
вредился в уме. В довершение ее опасений в одном из
писем я без всякой подготовки сообщил ей, что на не¬
большую сумму денег, доставшуюся мне от бабушки,
купил землю в Бискре (она до сих пор мне принадле¬
жит). Чтобы придать этой прихоти вид благоразумно¬
го поступка, я рассуждал следующим образом: если
Бискра станет модным курортом и по этой причине
мне разонравится, земля подорожает, и я ее выгодно
продам; если же Бискра останется прежней, а именно
тем уголком, где я больше всего хочу жить, то я на
этой земле построю дом и буду там проводить зиму. Я
мечтал устроить на первом этаже моего дома маври¬
танское кафе, которым бы управлял Атман; я уже мыс¬
ленно приглашал туда всех моих друзей... Об этом по¬
следнем замысле я ничего не сказал матери, она и так
сочла меня сумасшедшим.
Мать переполошилась не на шутку, призвала на по¬
мощь Альбера и тех моих друзей, которых смогла най¬
ти. Составленная против меня коалиция привела меня
в бешенство. Какими письмами они меня засыпали!
Там было все — заклинания, упреки, угрозы; если я
привезу Атмана в Париж, то стану посмешищем, что я
с ним буду делать? Что подумает обо мне Эмманю-
эль?.. Я упорствовал, но наконец отчаянное письмо на¬
шей старушки Мари заставило меня внезапно отсту¬
питься: она клялась, что покинет наш дом в тот день,
когда там появится «мой негр». Но что станет с мамой
без Мари? Я уступил, делать было нечего.
Бедный Атман! Мне не хватило духа одним ударом
разрушить воображаемое здание, становившееся все
280
прочнее с каждым днем, приносившим новую надеж¬
ду. Мне не часто приходилось отказываться от моих
планов, препятствия могли заставить меня лишь отсро¬
чить их, и этот замечательный замысел, от которого я
как будто отступился, был все же мною осуществлен,
но это произошло только четыре года спустя.
Между тем Атман хорошо понимал, что дело не
слишком ладится. Сперва я ему ничего не говорил, уве¬
ренный в неизменности моего решения: но он правиль¬
но истолковывал мое молчание, замечал мой нахму¬
ренный вид. Получив письмо от Мари, я выждал еще
два дня. Наконец решился и сказал ему все...
У нас появилась привычка каждый вечер прогули¬
ваться до вокзала и встречать прибывающий поезд. По¬
скольку теперь он знал всех моих друзей — я беспре¬
рывно говорил ему о них, населяя воспоминаниями
мое одиночество — мы ради детской забавы делали
вид, что встречаем одного из них. Наверное, он будет
там, среди приехавших. Мы увидим, как он сходит с
поезда, бросается мне в объятия, восклицает; «Ах! ну и
путешествие! я думал, никогда не доберусь. Наконец-
то я тебя вижу!..» Но поток пассажиров тек мимо, мы
с Атманом оставались одни и, возвращаясь обратно,
чувствовали, как наше одиночество скрепляет наши
узы.
Я уже сказал, что моя комната была на одном уров¬
не с землей. Неподалеку проходила дорога, которая ве¬
ла в Туггурт: по ней арабы возвращались ночью в посе¬
лок. Около девяти часов я слышал легкое царапание по
моим закрытым ставням: это был Садек, старший брат
Атмана, и его приятели; они перешагивали через окно,
приносили сладкие напитки и лакомства. Сев в круг,
мы слушали, как Садек играл на флейте, и забывали о
времени — это ощущение было знакомо мне только
там.
Садек знал по-французски всего несколько слов, я
знал всего несколько по-арабски. Но даже если бы мы
разговаривали на одном языке, мы не сказали бы друг
другу больше, чем выражали наши взгляды, наши же¬
сты и в особенности то, как нежно он держал мои ру¬
281
ки в своих или брал меня правой рукой за правую ру¬
ку, так что мы продолжали идти, скрестив их перед со¬
бой, молчаливые, как тени. Так мы прогуливались в
последний вечер (ах! как тяжело далось мне решение
уехать! Мне казалось, что я расстаюсь с моей молодо¬
стью). Мы долго гуляли с Садеком по улице, где было
кафе, где жили улад, на ходу улыбаясь Эн Барке, Ме¬
рием, мавританскому кафе, которое Атман прозвал мо¬
им маленьким казино из-за того, что год назад, когда
Поль пошел с женой доктора Д. в настоящее, только
что открывшееся казино, я отправился в этот малень¬
кий, темный и грязный зал играть в карты с Баширом,
Мухаммедом и Ларби; потом, покинув улицу улад, яр¬
кие огни и шум, мы пошли к источнику, где я так час¬
то проводил время...
Чтобы не кончать со всем одним махом, я предло¬
жил Атману проехать со мной хотя бы до Эль Кантары,
где собирался провести два дня. Под пальмами начина¬
лась весна; цветущие абрикосы гудели от пчел; воды
поили ячменные поля, и невозможно было предста¬
вить себе ничего более светлого, чем эти белые цветы
под сенью высоких пальм, укрывающих тенью нежную
зелень злаков. Мы провели в этом эдеме два райских
дня, и от них осталось только радостное, чистое воспо¬
минание. Когда на третий день утром я вошел в комна¬
ту Атмана попрощаться с ним, его там не было; мне
пришлось уехать, так и не увидевшись с ним. Я не мог
объяснить себе его отсутствие, как вдруг из окна мчав¬
шегося уже очень далеко от Эль Кантары поезда заме¬
тил на берегу пересохшего русла реки его белый бур¬
нус. Он сидел, охватив голову руками, и не встал, ког¬
да поезд проносился мимо, он не пошевелился и не
обратил внимания на то, что я ему махал, и еще долго,
пока поезд уносил меня, я видел затерянную в пусты¬
не маленькую, неподвижную, скорбную фигурку, оли¬
цетворявшую мое отчаяние.
Я приехал в Алжир, где должен был сесть на ко¬
рабль, направлявшийся во Францию; но четыре или
пять пакетботов ушли без меня: я оправдывал свою
медлительность штормовой погодой, на самом же деле
282
при мысли о том, что мне предстоит покинуть эту стра¬
ну, сердце мое разрывалось. Пьер Луис, оправившийся
от болезни, приехал ко мне из Севильи, где он провел
зиму; мне сдается даже, что от избытка обходительно¬
сти и нетерпения он поспешил выехать мне навстречу,
и появился в дверях моего вагона еще за несколько ос¬
тановок до Алжира. Увы! мы не пробыли вместе и чет¬
верти часа (это я помню даже излишне отчетливо), как
уже поссорились. Признаю, что тут была отчасти и моя
вина, по моему предыдущему рассказу видно, что в те
времена мой характер был не из легких, и не так по¬
кладист, как, может быть, стал теперь; но мне также
хорошо известно, что ссориться подобным образом я
мог только с Луисом, а он, думаю, ссорился вообще
только со мной. Мы спорили обо всем и ни о чем; ес¬
ли когда-нибудь опубликуют его переписку, можно бу¬
дет увидеть множество образчиков наших прений. Он
всегда добивался, чтобы возобладало его мнение, его
представление, но мне кажется, не особенно жаждал,
чтобы ему уступали слишком быстро, и любил не
столько побеждать в споре, сколько мериться силами
и сражаться. Он задирался дни напролет, и все служи¬
ло ему поводом для стычки. Если вам хотелось прой¬
тись по солнцу, он выбирал тень, и приходилось ему ус¬
тупать; когда вы с ним заговаривали, он замыкался в
молчании и с вызовом что-то напевал или повышал го¬
лос, когда вы жаждали тишины,— словом, все это ме¬
ня страшно раздражало.
Он не успокоился, пока не затащил меня в бордель.
По тому, как я об этом говорю, можно заключить, что
я сопротивлялся, но нет, я гордился тем, что больше ни
в чем себе не отказываю и без особого недовольства
последовал за ним в заведение под названием «Анда¬
лусские звезды», нечто вроде кабаре, в котором не бы¬
ло ничего ни арабского, ни испанского и чья вульгар¬
ность сразу же вызвала у меня отвращение. Когда же
Пьер Луис начал разглагольствовать о том, что именно
эта вульгарность ему особенно нравится, он мне тоже
стал противен до тошноты, как и все вокруг. Тем не
менее я не намерен был поддаваться моему настрое¬
283
нию; скверная потребность довести себя до крайности,
странная смесь чувств, включавшая всего понемногу,
кроме влечения, заставила меня возобновить опыт,
оказавшийся год назад с Эн Баркой таким плачевным;
на этот раз он был успешнее, так что к моему чувству
гадливости прибавилось еще и опасение, что я подце¬
пил заразу,— это опасение Луис начал с удовольстви¬
ем раздувать, намекая, с одной стороны, что действи¬
тельно «андалусская звезда», с которой я заперся как-с
самой красивой из созвездия (лучше было бы сказать:
наименее уродливой) была самой сомнительной и
только этим объяснялась ее незанятость, что только та¬
кой простак, как я, мог ее выбрать, ибо именно остат¬
ки молодости и грации, отличавшие ее от других, дол¬
жны были меня насторожить, равно как и смешки ее
подруг, когда я сделал свой выбор, но я ничего этого
не заметил. Когда же я возразил, что он мог бы меня
предупредить, пока было время, он заявил, что, с дру¬
гой стороны, эта болезнь, чьи последствия мне вскоре
предстоит ощутить, сама по себе ничуть не опасна, что
ее вообще следует воспринимать как плату за удоволь¬
ствие и что пытаться избежать ее — значит не подчи¬
няться общему правилу. Затем, чтобы меня оконча¬
тельно успокоить, он привел пример многих великих
людей, которые были обязаны сифилису тремя четвер¬
тями своей гениальности.
Сигнал тревоги, который теперь мне кажется таким
смешным, стоит мне представить себе выражение мо¬
его лица — тем более, что мои тогдашние опасения
оказались безосновательными — в то время нисколько
меня не позабавил. К моему омерзению и страху мгно¬
венно прибавилось чувство ярости по отношению к Лу¬
ису. Решительно мы не могли больше ни понимать друг
друга, ни переносить. Эта попытка сближения была, я
уверен, одной из последних.
Несколько дней, проведенных мною в Алжире по¬
сле отъезда Пьера Луиса мне бы хотелось пережить
еще раз. Не помню ничего конкретного, помню только
удивительный подъем, радость, какое-то возбуждение,
заставлявшее меня просыпаться с рассветом, пережи¬
284
вать как вечность каждое мгновение и развеивать без
следа все, что трогало мне сердце.
Письма, которые я тогда писал матери, начали
очень беспокоить ее. Переполнявший меня восторг ка¬
зался ей невозможным без определенной причины, и
она вообразила, что я влюблен, что у меня роман — о
нем она еще не решалась говорить со мной прямо, но
его призрак я различал сквозь намеки, изобиловавшие
в ее письмах. Она умоляла меня вернуться, «порвать
мои отношения».
Если бы она узнала правду, то ужаснулась бы еще
больше, ибо легче разорвать связь, чем убежать от са¬
мого себя, и, чтобы преуспеть в бегстве, надо захотеть
его, но, конечно, не в ту пору, когда я начал понимать
себя, у меня могло появиться стремление отречься от
своих желаний, ведь я как раз готовился обогатиться
скрижалями моего нового завета. Нет, мне было недо¬
статочно освободиться от правил, я хотел узаконить
мой бред, обосновать свое безумие.
Судя по тону последних строк, можно подумать,
что я впоследствии осудил свое поведение; но скорее
следует видеть в них предосторожность, ответ на воз¬
можные возражения, намерение дать понять, что я уже
приводил самому себе те же доводы; не думаю, что
можно каким-то образом проанализировать или оце¬
нить ту нравственно-религиозную позицию, которую в
определенный момент моей жизни я открыл для себя
и усвоил. По правде сказать, я хотел примирить все са¬
мые различные позиции, безуспешно пытаясь что-либо
исключить и готовый доверить Христу решение спора
между Дионисом и Аполлоном223. Каким образом в
той пустыне, куда увлекло меня служение моему бо¬
жеству, где, углубляясь, я надеялся утолить свою жаж¬
ду, благодаря какому порыву любви я вновь обрел
Евангелие — говорить еще рано. Как рано говорить и
о том уроке, что я извлек из него, читая его новыми
глазами, видя, как внезапно озарились и его дух, и его
буква. Я был одновременно опечален и возмущен тем,
что сделали из божественного учения разные церкви,
превратив его в нечто неузнаваемое. Наш западный
285
мир погибает из-за того, что не сумел или не захотел
понять суть христианства, думал я; я был убежден в
этом и чувствовал, что обязан разоблачить зло. Я заду¬
мал книгу под названием «Христианство против Хри¬
ста» — многие ее страницы написаны, и, наверное, в
более спокойное время она увидела бы свет — но сей¬
час меня не мучает опасение, что, опубликовав ее, я
огорчу кое-кого из моих друзей и поставлю под угрозу
свободу мысли, а ей я придаю значения больше, чем
всему остальному.
Эти важные вопросы, которые вскоре совершенно
измучат меня, по-настоящему стали занимать меня го¬
раздо позже, но и тогда, еще неотчетливые и несфор¬
мулированные, они все же не отпускали меня и меша¬
ли найти успокоение в услужливом гедонизме, осно¬
ванном на легком приятии того, что есть. На данный
момент я достаточно сказал об этом.
Уступив наконец просьбам матери, я приехал к ней
в Париж за две недели до ее отъезда в JIa Рок, куда
должен был отправиться в июле и где застал ее уже
умирающей. Эти последние дни совместной жизни (я
говорил о днях, проведенных в Париже) были днями
отдохновения и перемирия; вспоминать о них — для
меня утешение, учитывая многочисленные споры и
сражения, что составляли в основном — надо это при¬
знать — наши взаимоотношения. И если даже здесь я
употребляю слово «перемирие», то только потому, что
никакой прочный мир между нами не был возможен;
взаимные уступки, позволявшие немного передохнуть,
были лишь временными и проистекали от сознатель¬
ной недоговоренности. Вообще я ни в чем особенно не
винил свою мать. Я считал, что она исполняет свой ма¬
теринский долг и тогда, когда сильнее всего меня му¬
чает; я был уверен, что любая мать, осознающая свой
долг, пытается подчинить себе сына; но считал вполне
естественным и то, что сын не позволяет ограничивать
свою свободу, и был уверен, что иначе и не бывает, и
потому удивлялся, когда встречал случаи полного со¬
гласия между родителями и детьми, например, между
Полем Лораном и его матерью.
286
Кажется, Паскаль сказал, что мы любим не людей,
но их достоинства. О моей матери можно было бы ска¬
зать, что она любила не подлинные достоинства тех, на
кого возлагала бремя своей любви, но воображае¬
мые — те, коими хотела, чтобы они обладали. Во вся¬
ком случае, только так я могу объяснить ее неустан¬
ный труд по усовершенствованию других, в частности
меня, которым я был до такой степени измучен, что,
быть может, мое ожесточение в конце концов истощи¬
ло мою любовь к ней. Она так своеобразно меня люби¬
ла, что порой я ее ненавидел, доходя до крайней степе¬
ни раздражения. Вообразите,— я обращаюсь к тем,
кого возмущают мои слова,— вообразите себе это не¬
отступное, настороженное внимание, эти бесконеч¬
ные, назойливые советы относительно ваших поступ¬
ков, ваших мыслей, ваших расходов, выбора ткани на
костюм или книг для чтения, заглавия вашего сочине¬
ния... Название «Яства земные» ей не нравилось, и до
тех пор, пока оставалось время его изменить, она не¬
устанно возобновляла свои попытки это сделать.
Пошлые денежные вопросы внесли в последние
месяцы дополнительный повод для раздоров: мама вы¬
давала мне ежемесячное содержание, как она полага¬
ла, вполне достаточное для меня, а именно, если мне
не изменяет память, триста франков: из них две трети
я регулярно тратил на покупку книг и нот. Она счита¬
ла неблагоразумным предоставить в мое полное распо¬
ряжение причитавшуюся мне часть отцовского наслед¬
ства, общая сумма которого была мне неизвестна, она
предпочитала умалчивать и о том, что мое совершен¬
нолетие дает мне такое право. Ее поведение не долж¬
но быть неправильно истолковано: ею руководил не
личный интерес, но исключительно желание защитить
меня от себя самого, сохранить надо мной опеку и (что
меня особенно раздражало) собственное понятие о до¬
статке, решусь даже сказать: о положенном мне голо¬
дном пайке; она по своему усмотрению определяла
мои нужды и сумму, мне приличествующую. Счета,
представленные мне ею, когда я осознал свои права,
указывали на нарушение баланса; было отмечено, что
287
«цифры красноречивы»: у мамы каждый счет превра¬
щался в защитительную речь, доказывавшую мне, что
я ничего не выгадаю от изменения установленного по¬
рядка, что выделяемое ею мне ежемесячное содержа¬
ние соответствует прибыли от моего состояния или да¬
же превосходит ее; и поскольку все расходы, относя¬
щиеся к нашей совместной жизни, она вычитала, мне
показалось, что единственное средство мирного разре¬
шения вопроса — предложить мне самому выплачи¬
вать ей пенсион в то время, когда я живу у нее в доме.
После этого мирного предложения наши разногласия
улеглись.
Как я уже сказал, две недели нашей совместной
жизни после долгой разлуки не были ничем омрачены.
Я, конечно, старался изо всех сил; словно какое-то
предчувствие говорило нам обоим, что мы проводим
вместе последние дни: мама со своей стороны была на¬
строена более миролюбиво, чем когда-либо. Радость от
встречи со мной, не слишком изменившимся, хотя, су¬
дя по письмам, она опасалась худшего, тоже, видимо,
ее обезоруживала; отныне она была для меня только
матерью, и мне нравилось чувствовать себя ее сыном.
Я уже перестал было верить в возможность нашей
совместной жизни, но теперь вновь желал ее и соби¬
рался провести все лето вместе с нею в JIa Рок, куда
она собиралась отправиться первой, чтобы подготовить
дом, и где ожидался приезд Эмманюэль. Как бы еще
больше упрочивая наше согласие, мама наконец при¬
зналась, что ни о чем так не мечтает, как о моей свадь¬
бе с той, к которой давно уже относилась как к неве¬
стке. Быть может, она чувствовала, что силы ее на ис¬
ходе, и боялась оставить меня одного.
Я был в Сен-Ном-ла-Бретеш в гостях у моего друга
Э. Р.224, ожидая, когда смогу поехать к ней, как вдруг
получил телеграмму от нашей старой Мари: меня сроч¬
но вызывали в Ла Рок. С матерью случился удар225. Я
тут же примчался. Она лежала в большой комнате, в
прошлые годы служившей мне рабочим кабинетом:
она предпочитала эту комнату своей, когда приезжала
в Ла Рок на несколько дней, и остальные помещения в
288
доме еще были закрыты. Мне кажется, она меня узна¬
ла, но у нее уже отсутствовало четкое представление
о времени, месте, о себе самой и окружающих ее лю¬
дях; она не выразила ни удивления оттого, что я при¬
ехал, ни радости оттого, что видит меня. Ее лицо не
очень изменилось, но взгляд стал смутным, а черты ут¬
ратили всякое выражение, словно это тело, еще быв¬
шее ее жилищем, уже ей не принадлежало и она им
больше не распоряжалась. И это было так странно, что
я испытал не столько жалость, сколько изумление. По¬
душки поддерживали ее в полусцдячем положении.
Руки лежали поверх одеяла, и она все время пыталась
что-то писать в большой открытой тетради. Эта беспо¬
койная потребность действовать, советовать, убеждать
все еще отнимала у нее силы; казалось, она была во
власти мучительного возбуждения, и каравдаш, кото¬
рый она держала в руке, быстро скользил по чистому
листу бумаги, но не оставлял никаких следов; и не бы¬
ло ничего более тягостного, чем бесполезность этого
последнего усилия. Я пытался с ней заговорить, но мой
голос уже не доходил до нее, а когда она силилась что-
то сказать, я не мог разобрать ее слов. Я хотел, чтобы
она отдохнула, и убрал лежавшую перед ней тетрадь,
но она продолжала водить рукой по одеялу. Наконец
она задремала, и ее черты постепенно разгладились,
руки перестали вздрагивать... И внезапно, взглянув на
эти бедные руки, только что так тщетно трудившиеся,
я представил их на клавишах пианино, и мысль о том,
что когда-то эти руки неловко пытались приобщиться
к поэзии, музыке, красоте... эта мысль наполнила меня
чувством огромного благоговения, и, упав на колени у
изножия кровати, я зарылся лицом в покрывала, чтобы
заглушить рыдания. Личные печали не вызывают у ме¬
ня слез; лицо мое остается сухим, как бы ни разрыва¬
лось сердце. Дело в том, что во мне всегда живет со¬
глядатай, посмеивающийся надо мной и говорящий:
«Ну-ну! не такой уж ты несчастный!» В то же время я
готов обильно лить слезы при виде скорби других: ее я
ошущаю гораздо сильнее, чем свою собственную, и
всегда я готов рыдать — при виде красоты, благород¬
289
ства, самоотречения, преданности, благодарности, сме¬
лости или простодушного, чистого, детского чувства;
точно так же всякое очень сильное эмоциональное пе¬
реживание, вызванное произведением искусства, не¬
медленно сопровождается у меня слезами, к великому
изумлению тех, кто находится рядом со мной в музее
или на концерте: я вспоминаю безудержный смех мо¬
лодых англичанок в монастыре Сан-Марко во Флорен¬
ции, когда они увидели меня льющим потоки слез пе¬
ред большой фреской Фра Анжелико; со мной тогда
был мой друг Геон226, рыдавший заодно со мной, и я
согласен, что зрелище нашего общего плача было дей¬
ствительно очень смешным. Одно время только упоми¬
нание имени Агамемнона открывало во мне скрытые
шлюзы, и я начинал плакать — такое почтение и ми¬
фический трепет вызывало у меня величие Царя ца¬
рей. Так и теперь я был потрясен не столько моей ут¬
ратой (и чтобы быть искренним, я вынужден признать,
что эта утрата меня почти не печалила, вернее: меня
печалили страдания матери, а расставание с ней — не
очень). Я плакал не от скорби, но от восхищения этим
сердцем, в которое никогда не было доступа ничему
низкому, которое билось лишь ради других, неустанно
несло служение,— и не столько из чувства благоче¬
стия, сколько в силу природной склонности и с таким
смирением, что мать могла бы сказать вместе с Малер¬
бом 227, но с большей искренностью: «Я всегда взирал
на свое служение как на ничтожную жертву и всякий
раз, к какому бы алтарю я ее ни приносил, я делал это
со стыдом и дрожащими руками». В особенности меня
восхищали ее постоянные, составлявшие ее жизнь,
усилия хоть немного приблизиться к тому, что каза¬
лось ей прекрасным и достойным любви.
Я был один в нашей большой комнате наедине с
ней, присутствуя при торжественном вступлении
смерти, и слушал, как во мне отдаются тревожные
удары ее сопротивлявшегося сердца. Как оно еще бо¬
ролось! Я был свидетелем других агоний, но ни одна
не казалась мне столь возвышенной: то ли они пред¬
ставлялись мне не более чем естественным заключе¬
290
нием жизни, то ли я просто не так пристально их на¬
блюдал. Было очевидно, что мама не придет в созна¬
ние, но я не позаботился позвать моих тетушек, я ре¬
вниво оберегал возможность быть при ней одному.
Мы с Мари присутствовали при ее последних мгно¬
вениях, и когда наконец сердце ее перестало биться,
я всем существом почувствовал, что провалился в
бездну любви, скорби и свободы.
Тогда-то я заметил странную склонность моего ума
пьянеть от всего возвышенного. Первое время траура я
провел, насколько я помню, в состоянии какого-то ду¬
ховного опьянения, побуждавшего меня к самым необ¬
думанным поступкам, достаточно было, чтобы они ка¬
зались мне благородными, и мне уже не требовалось
одобрение рассудка и сердца. Я начал раздавать на па¬
мять даже самым дальним родственникам, а среди них
были и такие, что едва знали мою мать, различные дра¬
гоценности и предметы, ей принадлежавшие и потому
бесценные для меня. В момент расставания с ними я
мог бы в порыве самообделения отдать все мое состо¬
яние, отдать самого себя; чувство внутреннего богатст¬
ва переполняло меня, побуждало к хмелю самоотрече¬
ния. Одна только мысль о сдержанности показалась бы
мне постыдной, а я допускал лишь то, что позволяло
мне собой восхищаться. Сама эта свобода, которой я
так жаждал при жизни матери, опьяняла, как морской
ветер, захватывала дух, быть может, даже внушала
страх. Я чувствовал себя похожим на внезапно осво¬
божденного узника, у которого кружится голова, на бу¬
мажного змея с неожиданно обрезанной веревкой, на
лодку, сорвавшуюся с якоря, на обломок, ставший иг¬
ралищем ветра и волн.
Мне не за что было уцепиться, у меня оставалась
только моя любовь к кузине; мое намерение жениться
на ней служило мне единственным ориентиром. Ко¬
нечно, я любил ее, я был уверен в своей любви; я даже
чувствовал, что люблю ее больше, чем себя. Когда я
просил ее руки, я думал не столько о себе, сколько о
ней; я был прямо-таки заворожен той безграничной во¬
лей, которую хотел ей подарить, не думая, что такая
291
свобода может быть полна опасностей: я не допускал
мысли, что при моем рвении не преодолею любую из
них; всякая осмотрительность показалась бы мне мало¬
душием, всякая осторожность — трусостью.
Наши самые искренние поступки наименее взвеше¬
ны; впоследствии ищешь им объяснения и не нахо¬
дишь. Меня вела судьба и, быть может, тайное жела¬
ние бросить вызов моей природе; ведь разве не добро¬
детель любил я в лице Эмманюэль? Мой ненасытный
ад должен был сочетаться с небом, но в те минуты я не
брал ад в расчет: слезы, вызванные моей утратой, зага¬
сили все языки его пламени; я был словно ослеплен ла¬
зурью, и то, чего я не хотел видеть, перестало для ме¬
ня существовать. Я верил, что могу отдать ей себя це¬
ликом, и сделал это безоглядно. Спустя некоторое
время мы были помолвлены 228
ПРИЛОЖЕНИЕ
После публикации в «Нувель ревю франсез» пер¬
вой главы этих воспоминаний мой кузен Морис Дема-
ре, более осведомленный, чем я, любезно внес некото¬
рые уточнения в мой рассказ. Я привожу здесь в каче¬
стве errata* письмо моего кузена:
«Г-н Роберти никак не способствовал появлению
Анны Шеклтон на улице Крон. Анна появилась там в
1850-м, 1851-т или 1852 годах. Г-н Роберти приехал из
Нанта в Руан только в 1859-м.
(Я недавно нашел точную дату в одном из писем
моей матери.)
Ты полагаешь, что отпрыски шотландского семей¬
ства Шеклтонов оказались на континенте вследствие
каких-то превратностей судьбы. На самом деле г-н
Шеклтон был вызван г-ном Роуклиффом во Францию и
стал старшим мастером в его литейной мастерской
на Эльбёфском шоссе. Англичане намного опережали
французов в металлургии, равно как и в деле строи¬
тельства железных дорог и создания необходимого для
них оборудования. Строительство и ввод в эксплуата¬
цию железной дороги от Парижа до Гавра привело к
появлению в Руане целой английской колонии.
Другая ошибка, на этот раз серьезная: ты пи¬
шешь, что моя мать вышла замуж после появления
* Список опечаток (лат.).— Примеч. пер.
293
Анны в нашей семье и даже спустя довольно длитель¬
ное время. Но моя мать вышла замуж в 1842, а я ро¬
дился в 1844 году. Твоей матери в 1842 году было де¬
вять лет. Ты видишь, что моего отца в 1860-х годах
никак нельзя было назвать „новым шурином“ стало
быть, неверно говорить о барышнях Рондо (во множе¬
ственном числе) и об их гувернантке.
Я могу только подписаться подо всем, что ты ска¬
зал об Анне Шеклтон. И добавил бы многое, если бы
рассказывал о ней, так как мне довелось узнать, сколь¬
ко подавленных стремлений и нерастраченной нежно¬
сти скрывалось в ее сердце. Став старше, я это осо¬
бенно хорошо понял и часто думаю о ней с неизбывной
грустью и как бы осуждая несправедливость судьбы.
Последнее уточнение. Ты пишешь о первой поре
жизни Анны — тогда мисс Анны в семье, где она за¬
нимала положение полуслужанки. Ты не отмечаешь,
как неуклонно поднималась она по иерархической лес¬
тнице — твое выражение,— как постепенно к ней
стали относиться как к члену семьи и как в конце
концов она заняла место рядом с нашими матерями
и тетей Люсиль. Уже незадолго до свадьбы твоей ма¬
тери их называли „эти барышни“, не делая между ни¬
ми никакого различия. Вместе они составляли одно
духовное целое.
P. S. Уверен ли ты, что Рондо де Монбрей был мэ¬
ром Руана в 1789 году, а не позже?
Незначительная деталь: точно ли, что школа ма¬
демуазель Флер находилась на улице Сены, а не на ули¬
це Вожирар, между улицами Люксембург и Мадам?»
ET NUNC
MANET IN ТЕ
...et nunc manet in te *
Вергилий «Culex»**
Вчера вечером я думал о ней; говорил с ней, как
обычно, охотнее мысленно, чем вслух, и вдруг поду¬
мал: она умерла.
Мне, конечно, нередко приходилось проводить вда¬
ли от нее долгие дни; но с детства я привык мысленно
делиться с ней всем, что подарил мне день, делиться
радостями и печалями. Так я делал и вчера вечером, и
вдруг вспомнил — она умерла.
Тут же все поблекло, потускнело: и мои свежие
воспоминания о времени, прожитом без нее, и сами
мгновения, когда я его вспоминал, ведь я делал это
только для нее. Я тотчас же понял, что, потеряв ее, ут¬
ратил смысл существования и не знаю, зачем продол¬
жаю жить.
Мне не очень нравилось имя Эмманюэль, выбран¬
ное мной для нее в моих сочинениях из уважения к ее
скромности. Быть может, я так любил ее подлинное
имя, потому что с детства оно воплощало для меня всю
ее прелесть, мягкость, ум и доброту. Если я встречал
кого-то с таким же именем, мне это казалось незакон¬
ным присвоением чужого; по моему мнению, только
она имела на него право. Когда для моих «Тесных
врат» я взял имя Алиса, это было проявлением не ма¬
* ...и ныне остается в тебе (лат.).— Примеч. пер.
** Комар (лат.).— Примеч. пер.
297
нерности, но предосторожности. Должна была быть
только одна Алиса1.
Но та Алиса — не она. Я нарисовал не ее портрет.
Она послужила мне лишь отправной точкой при созда¬
нии образа моей героини, и я не считаю, что ей броси¬
лось в глаза их сходство. Она никогда ничего не гово¬
рила мне о моей книге, и я могу только предполагать,
что она думала, читая ее. Воображать ее мысли мучи¬
тельно для меня, как и все, связанное с той глубокой
печалью, о которой я начал догадываться много позже,
так как крайнее целомудрие не позволяло ей ни пока¬
зывать свою грусть, ни говорить о ней.
Разве придуманная мной для моей книги драма, ка¬
кой бы возвышенной она ни была, не доказывала ей,
что я по слепоте своей не вижу той, которая разыгры¬
вается в действительности? Разве она не чувствовала
себя намного проще, нормальнее и обычнее (я хочу
сказать: не столь целеустремленной, не столь похожей
на героинь трагедий Корнеля), чем Алиса? Ведь она по¬
стоянно сомневалась в себе, в своей красоте, в своих
достоинствах, во всем, что составляло ее сияющий оре¬
ол, ее ценность. Думаю, позднее мне удалось лучше по¬
нять ее, но в самый разгар моей любви какое имел я
превратное представление о ней! Ведь все мои силы
уходили не столько на то, чтобы приблизиться к ней,
сколько на то, чтобы приблизить ее к выдуманному
мной идеалу. Во всяком случае, так я теперь думаю; и
полагаю, что Данте не иначе обошелся с Беатриче. И
прежде всего из потребности исправить ошибку я ста¬
раюсь ныне, когда ее уже нет, вспомнить и описать ее
такой, какой она была. Я не хочу, чтобы тень Алисы за¬
тмила ее подлинный облик.
Мадлен очень настаивала на том, чтобы я не пытал¬
ся уввдеть ее сестру на смертном одре. Вернувшись из
Сенегала2, я узнал, что после двух месяцев ужасных
страданий Валентина наконец вошла в тот единствен¬
ный покой, на который еще могла уповать. Я решил тут
же отправиться в дом скорби, где меня ждали две мои
298
племянницы, но Мадлен сперва телеграммой, а затем
по телефону умолила меня не делать этого: «Убеди¬
тельно прошу тебя не ходить на улицу Л’Эперон, не по¬
видавшись со мной». Поскольку ничто более не удер¬
живало меня в Париже, где еще никто не знал о моем
возвращении, я с первым же поездом поехал в Кювер-
виль. И когда я осведомился о причине ее настойчиво¬
сти, она ответила: «Мне было тяжело думать о том, что
ты увидишь красивое лицо Валентины искаженным
агонией. Мне сказали, что она изменилась до неузна¬
ваемости. Не хочу, чтобы она такой осталась в твоей
памяти». Здесь вновь проявилось ее инстинктивное же¬
лание отвести взгляд от всякого мучительного зрели¬
ща. Но данное ею объяснение, казалось мне, годилось
только для нее. Из участия я готов был его понять, но
не принять. Как бы то ни было, я вспомнил о ее словах
в тот день, месяц тому назад, когда, собираясь открыть
дверь ее маленькой комнаты в Кювервиле, куда меня
внезапно вызвало сообщение о ее смерти и куда меня
доставила Ивонна де Лестранж3, у которой я гостил в
Шитре,— когда, собираясь открыть дверь в эту комна¬
ту, где теперь было только ее холодное тело, я остано¬
вился в нерешительности при мысли о том, не сказала
ли бы она мне то же и о себе: «Не пытайся меня уви¬
деть». Потом я подумал, что ведь у нее, собственно, не
было агонии, и я найду ее такой, какой оставил две не¬
дели тому назад, просто успокоенной смертью.
Подойдя к постели, я был поражен серьезным вы¬
ражением ее лица. Словно прелесть, приветливость,
которыми так лучилось ее доброе лицо, были все со¬
средоточены во взоре, и теперь, когда ее глаза были за¬
крыты, в чертах не осталось ничего, кроме суровости,
и словно в моей памяти должна была запечатлеться не
ее несказанная нежность, но суровый приговор, кото¬
рый она вынесла моей жизни.
Она мягко укоряла свою подругу Аньес Копо4 за ее
снисходительность. Хотя сама она проявляла большую
снисходительность к ошибкам и слабостям тех бедных
людей, которым помогала, она выказывала неколеби¬
мую непреклонность в отношении тех из них, чье от¬
299
клонение от норм морали не может иметь оправдания.
Не то, чтобы эта суровость была для нее естественной,
просто ей недостаточно было не допускать в свою ду¬
шу того, что она считала злом (а ее неприятие зла бы¬
ло таким, что ей это не стоило никаких усилий), ей
еще казалось, что не осуждать открыто зло в других
значит поощрять его. Она твердо стояла на том, что на¬
ше общество, наша культура, наши нравы испорчены в
силу нашего попустительства и нашей распущенности,
в которых она видела только слабость, а не проявление
либерализма или великодушия. Ее кротость умеряла
эти ее принципы и то, что я говорю, удивит тех, кто ви¬
дел только ее мягкий свет и грацию. Я встречал ярост¬
ных пуритан: она ни в чем их не напоминала...
Нет, не так я могу, хочу и должен говорить о ней.
Множество воспоминаний тотчас же встает передо
мной, вступая в противоречие с тем изображением, кото¬
рое я пытаюсь создать. Лучше я буду просто вспоминать.
Она никогда не говорила о себе, и я ничего не знаю
о ее первых воспоминаниях. Зато, сколько я себя по¬
мню, она всегда была. Как бы далеко я не уходил мыс¬
лью в прошлое, я вижу ее; только в потемках самого
раннего детства, где я продвигаюсь с трудом, на ощупь,
ее нет. Между тем лишь благодаря трагическому про¬
исшествию5, о котором я рассказал в «Тесных вратах»
и в книге «Если зерно не умрет», она начала благотвор¬
но влиять на мою жизнь. Сколько нам тогда было лет?
Вероятно, ей четырнадцать, а мне двенадцать, точно не
знаю. Но еще раньше я вспоминаю ее улыбку, и мне да¬
же кажется, что, только пробужденный моей любовью
к ней, я осознал свое существование и действительно
начал жить. Я верил, что всем хорошим обязан ей. Моя
детская любовь сочеталась с моими первыми религиоз¬
ными порывами, во всяком случае из-за Мадлен в них
появился элемент состязания. Мне также казалось,
что, приближаясь к Богу, я приближаюсь и к ней, и мне
нравилось видеть, как по мере этого восхождения зем¬
ля исчезает у нас из-под ног.
Что стало бы со мной, если бы я не знал ее? Те-
перь-то я могу задать себе этот вопрос, но тогда о нем
300
не было и речи. Благодаря ей я всегда нахожу в хаосе
моих мыслей путеводную серебряную нить. В ней все
было только свет, во мне — приходится это при¬
знать — было много тьмы; с ней общалась лишь луч¬
шая часть меня; и какой бы огромной ни была моя лю¬
бовь, теперь мне кажется, что она способствовала еще
более глубокому раздвоению моей личности, и до¬
вольно скоро я понял, что, намереваясь отдать ей все¬
го себя (хотя я был тогда совсем ребенком), я не мог,
несмотря на мое преклонение перед ней, упразднить
все остальное.
Кое-кто, прочитав все это, удивится, что столь ан¬
гельское влияние не смогло уберечь от нечистоты хо¬
тя бы мои произведения. Нашей кузине Ольге Кайат6,
выразившей свое удивление по этому поводу, Мадден,
как она мне потом передавала, ответила: «Я не при¬
знаю за собой никакого нрава направлять мысль Андре
в ту или иную сторону и упрекала бы себя, если бы по¬
верила, что, щадя меня, он не пишет именно то, что
считает нужным писать». Многие мои книги она не чи¬
тала; она решительно отводила глаза от всего неприят¬
ного или тягостного, но, думаю, ею также руководило
желание предоставить мне таким образом большую
свободу, возможность писать, не навлекая на себя ее
осуждение и не боясь ее ранить.
Я говорю все это без особой уверенности. И в са¬
мой прозрачной душе есть множество тайных изгибов,
скрытых даже от любящего. Статей критиков, их бран¬
ных выпадов было вполне достаточно, чтобы Мадлен
не осталась в неведении относительно характера неко¬
торых моих произведений, хотя она их и не читала.
Она тщательно скрывала от меня страдания, которые
эти произведения ей доставляли. Все же в одном из ее
недавних писем есть фраза, как будто противоречащая
тому, что я написал выше: «Если бы ты знал, как опе¬
чалят меня эти строки, ты бы не стал их писать».
(Впрочем, там речь шла не о том, что называется «нра¬
вы», но о нескольких, на первый взгляд, богохульных
строках, только что опубликованных в «Нувель ревю
Франсез», которые она случайно прочла.) Мне показа¬
301
лось, что она взяла на себя не свою роль... Между на¬
ми не произошло никакого объяснения. Я просто оста¬
вил ее слова без ответа, а ее любовь не изменилась.
Доверчивость была свойственна ей от природы, как
всем открытым для любви душам. Но к этой доверчи¬
вости, с которой она входила в жизнь, вскоре примета¬
лось опасение. Ибо она с поразительной проницатель¬
ностью распознавала все, что не было образцом совер¬
шенства. Она обладала тонкой интуицией, и легкое
изменение интонации, незначительный жест, любой
пустяк могли ее насторожить; вот почему, еще будучи
совсем юной, она первая в семье заметила, что ее мать
ведет себя неподобающим образом. Эта мучительная
тайна, которую она долгое время должна была таить в
себе, оставила, мне кажется, след в ее душе на всю
жизнь. Всю жизнь она жила, как напуганный ребенок.
Увы! Я по природе был не из тех, кто мог ее успоко¬
ить. Маленькая, теперь уже полустертая фотография,
на которой она снята в том возрасте, в каком тогда бы¬
ла, позволяет прочесть в ее лице, в какой-то недоумен¬
ной линии бровей что-то вроде вопроса, неуверенно¬
сти, боязливого удивления на пороге жизни. А я чувст¬
вовал в себе столько радости! Ее бурный поток мог бы
затопить ее печаль! Эту цель я перед собой и поставил,
ею я был захвачен. Увы! переполнявшая меня радость,
которую я хотел разделить с ней, только еще больше
ее обеспокоила. Она словно говорила мне тогда: «Я бы¬
ла бы счастлива и меньшим!» «Моими самыми больши¬
ми радостями я обязана тебе.— Говорила она мне еще
и добавляла вполголоса: — И моими самыми больши¬
ми печалями: всем самым лучшим и всем самым гру¬
стным».
Теперь, когда я склоняюсь над нашим общим про¬
шлым, мне кажется, что пережитые ею страдания на¬
много превосходят миги радости; некоторые были
столь жестокими, что я не могу понять, как при всей
моей любви, я не уберег ее от них. Но в моей любви
было столько беспечности, столько слепоты...
302
Ныне меня удивляет мое заблуждение, заставляв¬
шее меня полагать, что, чем ближе к серафической
моя любовь, тем она достойнее ее, и по наивности ни¬
когда не задумывался над тем, удовлетворяет ли ее та¬
кая совершенно бесплотная любовь. Меня почти не
беспокоило то, что мои плотские желания обращены в
иную сторону. И я даже, к моему вящему удобству,
убедил себя, что так лучше. Желания, думал я, свойст¬
венны мужчине, и успокаивал себя тем, что женщина
не может испытывать ничего подобного, разве что
женщина «легкого поведения». Таково было мое за¬
блуждение, я должен признаться в этой чудовищной
ошибке, объяснение или оправдание которой можно
найти лишь в том неведении, в каком меня держали
всю жизнь, являя мне лишь замечательные примеры
женщин, окружавших меня в детстве: прежде всего
моей матери, затем мадемуазель Шеклтон, моих тету¬
шек Клер и Люсиль, бывших образцами целомудрия,
порядочности, скромности: приписать им хоть малей¬
шее волнение плоти казалось мне оскорбительным.
Что касается моей другой тетки, матери Мадлен, то
безнравственное поведение тут же покрыло ее позо¬
ром и извергло из нашей семьи, она исчезла с нашего
горизонта и из наших мыслей. Мадлен никогда не го¬
ворила о ней и, насколько я знаю, не проявляла к ней
никакого снисхождения, и не только в силу свойствен¬
ной ей, Мадлен, порядочности, но и в значительной ме¬
ре из сочувствия к горю отца, которого она глубоко по¬
читала. Это осуждение еще больше ослепляло меня.
Лишь много лет спустя я начал понимать, каким же¬
стоким обидам и мукам подвергал ту, ради которой
был готов отдать жизнь,— и понимать уже после того,
как с чудовищной беспечностью были нанесены глубо¬
чайшие раны и самые болезненные удары. По правде
говоря, я был создан так, что не мог развиваться, не за¬
девая ее. Я это отчасти сознавал, но не знал, что она
очень уязвима. Я желал ей счастья, это правда; Но то,
что счастье, к которому я ее влек и принуждал, было
невыносимо для нее, меня не заботило. Поскольку мне
казалось, что вся она — сплошная душа, а тела у нее
303
как бы и нет, я не считал, что лишаю ее многого, отни¬
мая у нее какую-то часть меня, тем более, как я пола¬
гал, незначительную, что ее-то я и не мог дать ей...
Между нами никогда не было никаких попыток объяс¬
ниться. С ее стороны никогда ни единой жалобы, толь¬
ко молчаливое смирение и невысказанное разочарова¬
ние.
Вскоре я расскажу о том, в результате какого
странного оборота событий она сама, в свою очередь,
заставила меня жестоко страдать; о том, как мы оба в
равной мере не могли выдержать этого мучения и с
большим усилием вынуждены были отрываться друг от
друга, когда страдание становилось невыносимым...
пока наконец в последние года мы не достигли тихой
гавани согласия, на которое уже почти перестали наде¬
яться.
Конечно, я думаю — и с каким раскаянием! — о
том, что она хотела бы стать матерью, но я думаю так¬
же и о том, что по вопросу воспитания детей мы не
смогли бы договориться и что другие печали, другие
разочарования были бы для нее расплатой за материн¬
ство (об этом я мог судить, глядя на неумеренные за¬
боты, которые она расточала детям своей сестры, пе¬
ренеся на них весь свой запас материнской любви). Но
разве это важно? Эти печали и заботы были бы во вся¬
ком случае естественны. До сих пор меня мучает со¬
весть за то, что я исковеркал ее жизнь*.
Боюсь, она не смогла понять, что именно сила моей
духовной любви к ней упраздняла всякое плотское же¬
лание. В других случаях мне уже приходилось доказы¬
* Хочу привести здесь одно воспоминание, которое, как мне
кажется, именно благодаря своей незначительности особенно
хорошо выдает наши тайные, или подсознательные мысли.
Однажды, когда я читал ей только что написанные стра¬
ницы «Имморалиста», она прервала меня на этой фразе:
«Марселина призналась мне, что беременна», и мягко, чуть-
чуть насмешливо улыбаясь, сказала: «Но мой друг, это вовсе
не признание, самое большее — откровение, признаются в
том, что предосудительно, а здесь подходит: поведала мне».
304
вать, что я не был не способен к страстному порыву (я
имею в виду тот, что связан с деторождением), но при
условии, что к нему не примешивается ничто духов¬
ное, никакие чувства. Но как я мог убедить ее в этом?
Отсутствие у меня желаний она, наверное, скромно
объясняла тем, что недостаточно привлекательна. Она
умела и всегда была готова недооценить себя: ах, если
бы я была красивее и могла его очаровать! наверное,
говорила она себе... Думать об этом мне нестерпимо,
но как могло быть иначе? во всяком случае, все то вре¬
мя, пока она оставалась в неведении относительно мо¬
их склонностей. Как, я мог убедить ее, что меня не
привлекают ни одно женское лицо, ни один взгляд, ни
одна улыбка, ни один жест, ни один голос, ничья пре¬
лесть, ни одна женщина, кроме нее? Если это было так,
то почему я не сумел ей этого доказать?
Я уже говорил о моем поразительном невежестве в
юном возрасте в сексуальной области; все же моя соб¬
ственная природа, я хочу сказать, характер моих жела¬
ний не переставал меня беспокоить. Незадолго до на¬
шей помолвки я решился все рассказать одному
довольно известному врачу, с которым я имел неосто¬
рожность посоветоваться. Он с улыбкой выслушал
мою исповедь, настолько циничнооткровенную, на¬
сколько это было возможно, и сказал: «Вы говорите,
что все же любите одну девушку и не решаетесь же¬
ниться на ней, зная о своих вкусах... Мой вам совет:
женитесь. Женитесь без опасений. И вы скоро убеди¬
тесь, что все остальное существует только в вашем во¬
ображении. Вы мне кажетесь похожим на голодного,
который до сих пор пытался насытиться корнишонами.
(Я передаю в точности его слова; я их хорошо запом¬
нил, черт возьми!) Когда вы женитесь, вы быстро пой¬
мете, что такое естественный инстинкт и непроизволь¬
но обретете его».
Что я быстро понял, так это то, насколько этот тео¬
ретик ошибался. Он ошибался, как все те, кто упрямо
рассматривают гомосексуальные наклонности, если
речь идет не о людях с физиологическими аномалия¬
ми, как благоприобретенные и, следовательно, подда¬
305
ющиеся изменению благодаря воспитанию, жизни в
коллективе, любви.
Здесь я должен сказать о том, о чем умолчал в кни¬
ге «Если зерно не умрет» и что в определенной степе¬
ни служит опровержением некоторых теорий, утверж¬
дающих, что наши сексуальные наклонности зависят от
того, с чем мы сталкиваемся в раннем детстве, когда
наш, еще неопределенный инстинкт, находится в ста¬
дии становления. Бывая, во всяком случае во время лет¬
них каникул, в окружении детей моего возраста или
чуть младше, я никогда не раздевался в присутствии
мальчиков ниже пояса, тогда как с девочками я утрачи¬
вал всякий стыд. Да, с мальчиками я был очень застен¬
чив, и проницательный психолог уже в этом увидел бы
указание на мои наклонности. Так же и с мужчинами я
был чрезмерно стыдлив, и когда моя мать по совету на¬
шего врача заставила меня принимать лечебный душ
(мне было тогда не больше двенадцати лет), одна толь¬
ко мысль о том, что я предстану голым перед банщи¬
ком, вселила в меня болезненное беспокойство. Если
бы на его месте была женщина, мне кажется, я бы со¬
гласился принимать душ, не задумываясь.
Любовь наполняла меня восторгом, это правда, но в
противоположность тому, что предсказал врач, же¬
нитьба ни в коей мере не нормализовала мои желания.
Она лишь побудила меня к целомудрию ценой усилия,
еще больнее разрывавшего меня пополам. Мое сердце
и моя чувственность влекли меня в разщле стороны.
Луксор, 8 февраля 1939 г.7
Вновь обращаюсь к этим записям... спустя несколь¬
ко месяцев. С тех пор как ее больше нет, жизнь уже не
так.привлекает меня. Теперь я принадлежу прошлому.
Другим нравится вспоминать его, а я, пытаясь оживить
здесь образ моей подруги жизни, сомневаюсь, не по¬
ступаю ли наперекор ее воле. Ведь она все время от¬
ступала на задний план, ускользала от внимания. Ни¬
когда она не говорила: «Я», «что касается меня». Ее
скромность была столь же естественной, как у других
женщин — потребность оказаться на виду, блеснуть.
306
Даже когда я возвращался из путешествия, и другие
члены моей семьи встречали меня на пороге дома в
Кювервиле, я знал, что она прячется позади всех, в по¬
лумраке вестибюля, и вспоминал возвращение Корио-
лана8, его слова «Му gracious silence, hail!»*, обращен¬
ные к Виргилии... Когда при трагических обстоятельст¬
вах, о которых я расскажу позднее, Мадлен сожгла все
мои письма, она сделала это, конечно, в порыве отчая¬
ния, с тем, чтобы исключить меня из своей жизни, но
и для того тоже, чтобы скрыться в будущем от внима¬
ния,— уйти в тень.
Можно подумать, что ее желание затаиться вызва¬
но теми моими поступками, которые она считала пре¬
досудительными, и, разумеется, то, что она открыла в
моей жизни или о чем интуитивно догадалась, усилило
ее желание спрятаться от посторонних взоров, но уг¬
лубляясь мысленно в прошлое, я всегда нахожу в ней
это стремление, оно было с ней постоянно, было для
нее естественно... и, быть может, появилось как след¬
ствие ее первого детского страха, первого болезненно¬
го столкновения со злом, которое должно было оста¬
вить в столь чувствительной душе неизгладимый след.
Именно такой изображал я ее в моих книгах задолго
до нашей свадьбы: в образах Эмманюэль в «Тетрадях
Андре Вальтера», Эллис в «Странствии Уриана». Даже
в мимолетной фигуре Анжель из «Топей» есть что-то
от нее... А в моих снах она всегда появлялась как неу¬
ловимый, ускользающий образ, и сон превращался в
кошмар. Отсюда решение, принятое мной еще совсем
юным, преодолеть ее неуверенность и увлечь за собой
в водоворот радости. В этом^го и состоял мой промах.
Промах двойной, так как с тех пор она еще меньше
стала понимать меня, чем я ее. Поскольку она была до
крайности скрытна и замкнута, я должен был почти
обо всем догадываться, и порой я делал это очень неу¬
дачно. Множество мелких фактов открыли бы мне
глаза, если бы я проявил большую внимательность, а я
нашел им объяснение лишь гораздо позже, слишком
* «Молчунья милая, привет!» (англ.).— Примеч. пер.
307
поздно, тогда как она не пыталась вывести меня из за¬
блуждения, ибо никогда не старалась опровергнуть то,
что выставляло ее в невыгодном свете или могло ей на¬
вредить. Но если бы я все понял раньше, разве я изме¬
нил бы свое поведение? Менять ведь следовало мою
натуру, вернее, пытаться менять.
Само собой разумеется, в начале нашей совместной
жизни она пребывала в неведении, но теперь я думаю,
что это неведение длилось не так долго, как мне спер¬
ва казалось. Как она могла не начать подозревать что-
то неладное, если получала так мало доказательств
моей чувственной любви? Прежде чем понять и допу¬
стить, что мои желания обращены в иную сторону, она
наивно удивлялась, как это я мог написать «Яства зем¬
ные», книгу, которая, по ее словам, была так мало на
меня похожа. Между тем во время нашего свадебного
путешествия по Италии9, куда мы спустились, покинув
долину Энгадин, она так же удивлялась моему оживле¬
нию, когда нашу коляску, которая везла нас на юг, ок¬
ружали ragazzi * из деревень, лежавших на нашем пу¬
ти. Неизбежно она должна была мысленно сопоста¬
вить факты и сделать вывод, каким бы неприятным и
мучительным он ни был, как бы он ни противоречил
допустимому положению вещей и ни опрокидывал все
нормы, на которых зиждилась ее жизнь. Она чувство¬
вала себя исключенной из игры, отодвинутой на вто¬
рой план, быть может, и любимой, но какой несовер¬
шенной любовью! Она не сразу смирилась со своим по¬
ражением. Подумать только! Неужели все ее попытки
привлечь меня — а она старалась, насколько позволя¬
ло ей целомудрие,— должны были остаться напрасны¬
ми, без отзыва, без ответа?.. Мне мучительно вспоми¬
нать этапы нашего путешествия.
Во Флоренции мы вместе посещали церкви и му¬
зеи; но в Риме, немедленно попав под власть юношей
из Сараджинеско10, приходивших в то время предла¬
гать себя в качестве моделей для художников на сту¬
пенях лестницы Площади Испании, я начал (и здесь-то
‘Мальчики (ит.).— Примеч. пер.
308
я перестаю себя понимать) покидать ее на долгие ча¬
сы; не знаю, чем она тогда занималась, наверное, бро¬
дила, расстроенная, по городу тогда как я, под предло¬
гом, что фотографирую модели, вел их в маленькую
квартирку, снятую нами на Площади Барберини. Она
это знала; я не прятался, да если бы и прятался, наша
любопытная хозяйка потрудилась бы ей обо всем рас¬
сказать; но, в довершение моей глупости или из жела¬
ния найти объяснение, хоть какое-то оправдание моим
тайным занятиям, я показывал ей мои «академиче¬
ские» снимки, во всяком случае первые, совершенно
неудавшиеся. Как только они стали более удачными, я
перестал ей их показывать, да она и не стремилась их
увидеть, равно как и проникнуть в те эстетические со¬
ображения, которые, по моим словам, побуждали ме¬
ня их делать.
Разумеется, эти фотографии вскоре стали только
предлогом; от маленького Лувджи, самого старшего из
юных моделей, это не укрылось. Как, наверное, и от
Мадлен; и теперь я прекрасно понимаю, что из нас дво¬
их большим слепцом, единственным слепцом был я.
Но мне было выгодно предположить ее слепоту, позво¬
лявшую мне без особых угрызений совести предаться
моим утехам, потому что, раз ни мое сердце, ни мой
ум в них не участвовали, я не считал, что изменяю ей,
если ищу на стороне плотских удовольствий, которых
не мог у нее требовать. К тому же я не рассуждал. Я
действовал бездумно. В меня вселился какой-то бес.
Никогда я не был одержим в большей степени, чем
когда мы вновь приехали в Алжир11.
Пасхальные каникулы закончились. В поезде на об¬
ратном пути из Бискры соседнее с нашим, почти пол¬
ным, купе занимали три школьника, возвращавшиеся в
лицей. Они разделись до пояса из-за жары и, одни в ку¬
пе, развлекались вовсю. Я слышал, как они смеялись,
толкали друг друга. На каждой из частых, но коротких
остановок поезда, я мог, склонясь к маленькому окон¬
цу сбоку, которое я опустил, достать руку одного из
школьников: тому было весело, высунувшись из сосед¬
него окна, играть со мной; и я испытывал мучительное
309
наслаждение, гладя его янтарную, покрытую пушком
кожу. Мои пальцы, скользя вверх по его руке, огибали
плечо... На следующей остановке другой занимал его
место, и наша игра возобновлялась. Потом поезд тро¬
гался. Я садился, часто дыша, охваченный трепетом, и
делал вид, что поглощен чтением. Мадлен, сидевшая
напротив меня, молчала, притворясь, что не видит ме¬
ня, не знает...
Когда, прибыв в Алжир, мы ехали одни в омнибусе
в отель, она сказала мне тоном, в котором я почувст¬
вовал больше грусти, чем осуждения: «Ты был похож
на преступника или сумасшедшего».
Мне нужно было рассказать об этом, но здесь я хо¬
тел бы нарисовать ее портрет, а не поведать о наших
отношениях.
Она боялась всего, прежде чем начала бояться ме¬
ня; и, конечно, ее чувство собственной незащищенно¬
сти увеличивало этот страх. Я предложил ей в качест¬
ве девиза: Leo est in via или Latet anguis in herba*. И
поскольку она была очень нетребовательна и находила
счастье в малом, все, что превосходило обычный уро¬
вень, казалось ей излишеством. Слабый ветерок стано¬
вился в ее глазах ураганом. Ей всегда нужна была ти¬
хая погода и размеренная, без событий, жизнь, особен¬
но в последние годы, когда у нее сильно пошатнулось
здоровье, и всякая неожиданность грозила сердечным
приступом. Но и раньше, прежде чем она стала столь
уязвимой, мне чуть ли не каждый раз, когда я что-ли-
бо предпринимал, приходилось облачаться в броню
бесчувствия и собирать все свои силы, чтобы не обра¬
щать внимания на ее беспокойство обо мне. Случилось
так, что это беспокойство возродило ее любовь. •
Я особенно почувствовал это, когда после публика¬
ции моей книги о России12 она решила, что моей жиз¬
ни угрожает серьезная опасность. И что ее особенно
* Лев на пути; В траве скрывается змея (лат.).— При¬
меч. пер.
310
сблизило со мной, так это обращенные в мой адрес на¬
падки, и я за это их благословляю. Скажу сразу, что
это сближение in extremis* позволило нам, невзирая
на неурядицы и прежде чем мы расстались навсегда,
обрести блаженную гармонию, настолько совершен¬
ную, насколько заслуживала ее любовь. Я еще вернусь
к этому, но сперва скажу о выпавших на нашу долю ис¬
пытаниях... Мне тоже в свою очередь пришлось пере¬
жить немало, и мои муки были столь же невыносимы¬
ми, как и ее. Мы оба делали отчаянные усилия ото¬
рваться друг от друга: мы слишком страдали. Она стала
искать убежище в религии — что было естественно:
она всегда была очень набожна — ив возврате к тем
буржуазным представлениям и занятиям, которые мог¬
ли обеспечить духовный комфорт, ведь в своей неза¬
щищенности она так в нем нуждалась**. Эмансипация,
которой я хотел ее увлечь, дала свои плачевные ре¬
зультаты и могла ей показаться только неблагоразум¬
ной и бесчеловечной, во всяком случае, чуждой и
лишь причиняющей боль. Я пытался изобразить это в
,моем «Имморалисте», книге, которая теперь кажется
мне очень несовершенной, по крайней мере не полной,
так как в ней едва заметно острое лезвие меча.
Меч вскоре обратился против меня. Ибо она не мог¬
ла удовольствоваться только тем, что отдалилась от ме¬
ня; казалось, она трудилась над тем, чтобы отвратить и
меня от себя, поочередно отсекая все то, за что я ее лю¬
бил. Я вынужден был присутствовать, не в силах что-
либо изменить, при этой святотатственной операции. Я
лишил себя права вмешиваться, возражать; она давала
мне это почувствовать, не обращая внимания на все то,
что я пытался ей сказать, никогда не проявляя сопро¬
тивления, сохраняя все ту же приветливость, просто не
принимая в расчет мои упреки. Нет оружия, которое
* В конце, перед смертью (лат.).— Примеч. пер.
** Чтобы она рассталась со своими привычками, нужен
был кто-то, кому она полностью доверяла. Я же способство¬
вал лишь тому, что она наоборот стала еще сильнее держать¬
ся их, словно надеясь найти в них защиту от меня.
311
бы не затупилось о такую мягкость, все скользило, не
оставляя следа. Я дошел до того, что уже не понимал,
чего хочу от нее; я казался себе глупцом; я сходил с
ума.
Вообще, даже в лучшие времена нашей совместной
жизни она всегда делала все, «как ей вздумается», бу¬
дучи упрямой, как зачастую упрямы все женщины, де¬
лающие вид, что уступают и сопротивляясь, подобно
слабому тростнику, что склоняется под .налетевшим
ветром и распрямляется, когда ветер пролетел. Мне не
удалось добиться, чтобы она в чем-то изменила свои
домашние привычки, например, чтобы не заводила вы¬
сокие часы в вестибюле дома в Кювервиле, взгромоз¬
дясь на поставленные друг на друга пустые ящики,
непрочные и неустойчивые. Она упрямо отвергала при¬
ставную лестницу, которую я ей приносил; или пользо¬
валась ею в моем присутствии, но на следующий день
я видел, что лестница опять заняла свое место в буфет¬
ной, и когда наступало время заводить часы, возобнов¬
лялось опасное нагромождение ящиков. И во всем ос¬
тальном точно так же. Поскольку она неловко и не¬
осторожно пользовалась всяким предметом, я жил в
постоянном напряжении. Она объявляла неудобным
всякий инструмент, которым не умела правильно поль¬
зоваться, и когда ее пытались этому научить, у нее по¬
являлось такое усталое, рассеянное выражение лица,
что все попытки быстро прекращались. В Санкт-Мори-
це, первой цели нашего свадебного путешествия, я ув¬
лек ее на довольно длительную экскурсию в горы, и
нам пришлось переночевать в горном приюте, прежде
чем отправиться дальше через «ущелье Дьяволицы».
Этот переход не представлял собой ничего особо опас¬
ного, но все же мы и шедшие впереди и позади нас
проводники были связаны веревкой, а в руках мы дер¬
жали палку,' называемую «альпенштоком», которым
она пользовалась впервые. Когда надо было преодо¬
леть довольно протяженный крутой склон, покрытый
снегом, проводники и я тщетно пытались уговорить ее
правильно держать альпеншток. В какой-то момент
проводники даже готовы были отказаться следовать
312
дальше, так как на самом опасном переходе она упря¬
мо держала палку со стороны пропасти, что грозило
увлечь и ее, и всех нас в бездну. Она возражала, что
именно так должна держать альпеншток и что иначе
не чувствует себя в безопасности. Делать было нечего!
она не хотела уступать. Потом мне несколько ночей
снились кошмары. И так — во всем.
Саморазрушение, о котором я упомянул выше, на¬
чалось позже, как и ее работа с целью отвратить меня
от нее после того, как она сама отдалилась от меня. Я
рассказал об этом в моих «Тесных вратах», предвосхи¬
тив и как бы предвидя то, что позже подтвердилось в
действительности. Я, как мог, изобразил это усилие
«свести себя к минимуму», как сказал бы Баррес. Са¬
мое ужасное, что я готов был поверить (а она всячески
исхитрялась, чтобы заставить меня поверить) в то, что
она далека от совершенства, что ее самые редкие до¬
стоинства, столь дорогие мне, существуют только в мо¬
ем воображении, что в реальности она не соответству¬
ет моей мечте... На самом деле она верила, что я пере¬
стал ее любить. Тогда зачем стараться понравиться? И
она не старалась нравиться. Тогда зачем образован¬
ность, музыка, поэзия? Она. покинула те пути, на кото¬
рых рисковала встретиться со мной, и погрузилась в
благочестие. Я был волен ревновать к Богу или сбли¬
зиться с ней на мистической почве, единственной, где
она еще считала возможным наше общение. Там она
прочно уединилась.
Все, что я говорю, покажется абстрактным, если я
не приведу пример. В молодости у нее были самые
красивые, тонкие, выразительные руки, которые я лю¬
бил как бы отдельно и сами по себе... И вот она слов¬
но задалась целью испортить их. Не было такой грубой
работы, которой бы она не занималась, словно бы на¬
слаждаясь тем, что не щадит свои руки, целый день ра¬
ботая по дому и делая это очень неумело. Если мне
случалось возражать, когда я заставал ее в буфетной
за мытьем посуды, она оправдывалась, что делает это
изредка, чтобы освободить занятую другой работой
служанку или прибегала к разным уловкам, чтобы
313
скрыть от меня, что моет посуду каждый день. Успока¬
ивая меня, она добавляла, что очень заботится о своих
руках и, моя посуду, следит за тем, чтобы не слишком
долго держать их в горячей воде, что моет кончиками
пальцев... Что говорить? Просьбы, укоры, ничего не по¬
могало; но если я продолжал настаивать, ее лицо вне¬
запно принимало выражение смертельной усталости,
за которым скрывалось ее безропотное упрямство, и я
не помню ни единого случая, когда бы я не отступил.
Зная, что она в то же время очень рассудительна, я ис¬
кал какую-нибудь тайную причину ее поведения, о ко¬
торой она предпочитает умолчать; я приходил к мыс¬
ли, что, возможно, она хочет сравняться со своими се¬
страми* а обе они могли позволить себе помощь
служанки только по утрам. Вот о чем я думал, ведь я
знал, как она страдает, что Жанна и Валентина менее
обеспечены, чем она. Но теперь я почти уверен, что
она из крайнего самоуничижения позволяла себе толь¬
ко низкие занятия.
Она была старше меня на два года, но иногда выгля¬
дела так, что разница в нашем возрасте казалась разни¬
цей между двумя поколениями. Я вспоминаю нашу про¬
улку в экипаже в Фекан13. Я предвкушал много радо¬
сти от того, что проведу немного времени с ней
наедине; но она согласилась прервать свои обыденные
мелкие занятия только на условии, что мы возьмем
двух служанок, «которым эта прогулка доставит еще
большее удовольствие, чем мне», сказала она. Ибо сча¬
стье другого всегда значило для нее больше, чем ее соб¬
ственное. Я прекрасно видел во время нашей поездки,
что она притворяется довольной, чтобы не огорчать ме¬
ня, что она, конечно, неравнодушна к красоте природы,
к мягкому и обильному свету, заливающему волнистые
поля пшеницы, но не перестает думать обо всем том,
что она должна была сделать в Кювервиле, и принима¬
ет это развлечение, только чтобы не портить моей ра¬
дости. Когда мы приехали в Фекан, я пошел купить си¬
гарет; помнится, возвращаясь, я некоторое время смот¬
рел, как она примерно в двадцати метрах от меня идет,
поддерживаемая служанками, и она показалась мне до
314
того постаревшей, что я ее почти не узнал. «Неужели
это все, что осталось от тебя, мой друг? Вот до чего ты
себя довела!» Я замедлил шага из страха, что не смогу
скрыть от нее огромную печаль, переполнившую мое
сердце и готовую разрешиться слезами. Слезами раска¬
яния тоже, ведь я сказал себе: это твоих рук дело! Толь¬
ко от меня зависело, чтобы она не отреклась от жизни.
А теперь все кончено. Слишком поздно, и я не могу ни¬
чего изменить... У меня не хватило духа догнать ее, и
она одна вернулась в гостиницу. И когда чуть позже я
услышал, как один из служащих отеля сказал мне: «Ва¬
ша матушка ждет вас в экипаже», я опечалился, конеч¬
но, больше, чем опечалилась бы она, если бы ей самой
пришлось убедиться, что меня принимают за ее сына.
Ее потребность отдавать, ставить счастье других
превыше своего собственного была бессознательной и
выражалась с простодушием. Из моего длительного пу¬
тешествия по Конго14 я привез единственную попавшу¬
юся мне вещь, которая показалась мне достойной ее.
Это был бумажник, украшенный очень красивым, пес¬
трым переплетением кожаных полосок. В Банги15 я
сразу заметил его среди множества расхожих товаров,
ничего подобного я не видел. Конечно, когда я ей его
подарил, она долго любовалась им. Но спустя два дня
сказала: «Ты позволишь мне подарить бумажник твоей
секретарше? (Га появилась всего несколько дней тому
назад, и мы ее почти не знали.) Я видела, что он ей по¬
нравился и, думаю, это доставит ей удовольствие».
С начала войны, удалясь от мира, она не покидала
Кювервиль. Чем были заполнены ее дни? Вечера ее
были недолгими, так как она вставала до рассвета; по¬
молясь, она спускалась, чтобы разжечь огонь на кухне
и приготовить работу для молодых служанок, которых
она «воспитывала» (или «растила», как говорят в обла¬
сти Ко16) и которые, будучи вышколенными, регуляр¬
но уходили от нее с намерением устроиться в городе.
Она больше почти не читала, так как у нее, по ее сло¬
вам, не оставалось времени. Постоянно чем-нибудь
315
озабоченная, она сновала мелкими шажками из конца
в конец дома или сада; ее видели проходившей мимо с
улыбкой, но она была неуловима, и я с большим тру¬
дом добивался, чтобы она подарила мне хотя бы час и
выслушала чтение того, что я написал, часто прерывав¬
шееся появлением одной из служанок, которая прихо¬
дила просить у нее помощи или совета, или фермеров,
поставщиков, попрошаек и нищих со всей окрути *.
Я подумывал о том, что, должно быть, она, не имея
возможности принять монашеский постриг и «дать
обет», как незадолго до того сделала Эдди Копо17, ко¬
торой она, наверное, втайне заведовала, дала обет не¬
сти некое повседневное служение, например, кормить,
помимо тех, что жили в доме, окрестных кошек и со¬
бак. Она не пропускала ни одного дня, какая бы ни бы¬
ла погода; и каждый раз в одно и то же время во дво¬
рах ферм ее ожидало скопище собак, а особенно ко¬
шек, шелудивых, облезлых, кривых, искалеченных
парий, брошенных фермерами на произвол судьбы и
без нее наверняка сдохнувших с голоду за неспособно¬
стью добывать себе пишу. Она шла, неловко держа пе¬
ред собой голыми руками огромную миску, в которой
остывала приготовленная ею для них похлебка. Я ви¬
дел, как изо дня в день ее руки, не защищенные от мо¬
роза и дождя (я не мог добиться, чтобы она хотя бы на¬
девала перчатки), портились все больше, становились
все более неприспособленными ко всякой другой рабо¬
те, кроме грубой хозяйственной, все с большим трудом
держали ручку или карандаш. Разумеется, от этого
страдала ее переписка, и ее подруги, не осведомлен¬
ные обо всех трудностях, удивлялись, что она порой
так долго не отвечала на их сердечные послания. Ме¬
ня особенно беспокоило то, что ее бедные руки теряли
свою чувствительность, в чем я убеждался много раз;
* Ей пришла в голову мысль, горячо поддержанная мной,
постепенно выкупить и отремонтировать разваливавшиеся
старые постройки всей округи, грозившие стать нежилыми,
так как их владельцы, не получая плату за жилье, отказыва¬
лись производить необходимый ремонт.
316
ей случалось царапать их и даже не замечать этого, и
я невыразимо страдал, когда видел, что она не избега¬
ет прикосновения к грязным, липким предметам, слов¬
но из особого удовольствия гладит больных животных,
и я постоянно боялся, как бы она не заразилась через
трещины на коже рук, которые появлялись с первыми
холодами: она их плохо лечила, и они не проходили
всю зиму. От такого жестокого обращения ее бедные
нежные руки быстро превратились в нечто бесформен¬
ное, и, когда я смотрел на них, у меня мучительно сжи¬
малось сердце. «У вас, должно быть, были очень кра¬
сивые руки»,— сказал ей врач, которого я попросил
проконсультировать ее \
Зато она очень беспокоилась о своем зрении. Уже
давно меня удивляла прогрессирующая белизна окруж¬
ности радужной оболочки глаза (она словно покрыва¬
лась роговой оболочкой), от чего все больше изменялся
ее взгляд. Затем произошло отслоение сетчатки. Ос¬
мотр у врача установил, что даже оставшемуся нетрону¬
тым глазу угрожает катаракта. Я хотел, чтобы она ща¬
дила его и дал ей старую семейную Библию, напечатан¬
ную крупным шрифтом. Но она привыкла к своей
Библии и к молитвеннику, который подарила ей Эдди
Копо, до того как постриглась в монахини; я не смог ни¬
чего изменить.
Вообще, устав постоянно следить за ней и тратить
силы на напрасные упреки, я наконец решил оставить
ее в покое и больше ничего не говорить. Да, я ужасно,
смертельно устал заботиться о ней, у меня больше не
было сил. Я проиграл игру и отказался начать ее сно¬
ва. Пусть делает, что хочет! Да я ее уже и не любил, не
хотел любить; любовь заставляла меня слишком силь¬
но страдать. Все, о чем я мечтал, все, что было связа¬
но с ней,— разве все это уже не принадлежало про¬
шлому и тому, чем скоро все должно кончиться — мо¬
гиле?
Но, о чудо! Именно когда я наконец добился этого
совершенно искусственного освобождения, тогда-то
* См. «Дневник»18, с. 1057.
317
она и начала приближаться ко мне; о! почти незаметно
и ничего не меняя в своей жизни. Я был убежден, что
мое присутствие тяготит ее, досаждает ей, но, как она
дала мне понять (ибо между нами никогда не было ни
малейшего объяснения), ей досаждали лишь мои уве¬
щевания. И постепенно из обломков нашей любви ро¬
дилась новая, словно сверхъестественная, чудесная
гармония. Нет! я не переставал ее любить. Еще и пото¬
му, что к моему преклонению перед ней никогда не
примешивалось ничего плотского, и моей любви не
грозили разрушения, нанесенные временем; вот поче¬
му я никогда так не любил Мадден, как в то время, ког¬
да она постарела, сгорбилась, начала страдать от вари¬
козного расширения вен на ногах и ран, которые она
позволяла мне перевязывать, уже почти совсем обес¬
силевшая и наконец принявшая мои заботы с тихой и
неясной благодарностью.
Из чего же состоит наша любовь, думал я тогда, ес¬
ли она не умирает, несмотря на то, что все составляю¬
щие ее элементы превращаются в прах? Что же прячет¬
ся под обманчивой наружностью, не подверженное да¬
же разрушительному бегу времени, раз я по-прежнему
нахожу ее и узнаю? Наверное, что-то нематериальное,
гармоничное, светлое, что приходится назвать душой, а,
впрочем, к чему название? Она верила в бессмертие, и
для меня было бы благом поверить в него, ведь это она
меня покинула...
Все, о чем я говорю здесь, может показаться, я это
чувствую, сбивчивым и бледным. Но такова была осо¬
бенность наших взаимоотношений: им были чужды
четкие контуры. Неизменная, скрытая, тайная, глубин¬
ная драма длилась всю мою жизнь, но отмечена она не¬
многими событиями и никогда не проявлялась резко.
Я вижу, что почти весь рассказ о ней свелся к пе¬
речислению того, чего в ней не было; я не сказал ни¬
чего, что могло бы объяснить ее власть над моим сер¬
дцем и умом. Между тем эта власть не удивит тех, кто
хорошо знал ее, хотя она проявляла ее невольна, ибо
никогда не стремилась ни очаровывать, ни властво¬
318
вать. Чувство, которое я испытывал возле нее, было
прежде всего чувством глубокой гармонии. Казалось,
исходившее от нее сияние сладостно приобщает вас к
тому внутреннему покою, которого она достигла. Одно
ее присутствие внушало ощущение счастья.
Она любила животных, цветы, все дары природы;
самый скромный букет восхищал ее. Я тщетно пытал¬
ся произвести в нашем саду хоть какую-то селекцию
растений; я был уверен, что найду в маленьком цветни¬
ке-лазарете всех моих изгнанников. Она вновь сажала
новогодние елки после окончания праздников и не ре¬
шалась выбросить истощенные луковицы гиацинтов
или тюльпанов.
С людьми она оставалась очень осторожной; ее
суждения были скоры, суровы и беспощадны. Презре¬
ние не было ей свойственно, но некоторых людей, ка¬
завшихся ей фальшивыми, она переставала принимать
в расчет и просто не видела. Ее необыкновенно чуткий
слух немедленно улавливал малейшее отклонение от
совершенства. Мне кажется, это она развила во мне
потребность в искренности — хотя, сталкиваясь с чрез¬
мерным проявлением моей откровенности, она повто¬
ряла фразу Клоделя: «Лучше лицемерие, чем цинизм»,
что как будто не вязалось с ее отвращением ко лжи; но
я очень хорошо понимаю, что она имела в виду и что
в этом не было непоследовательности: Богу предстоя¬
ло разобраться в том, насколько искренни наши по¬
ступки, а для общества важно, чтобы эти поступки ос¬
тавались в рамках законов, традиций, добрых нравов.
Она считала, что Франция губит себя из-за того, что
проявляет слишком большую терпимость, снисходи¬
тельность и не защищена от иностранного влияния. По
отношению к последнему, откуда бы оно ни исходило
и каким бы ни было, она испытывала инстинктивное и
в то же время теоретически обоснованное чувство не¬
доверия, и ничто не могло ее переубедить. Ее пригово¬
ры, касавшиеся событий и людей, были окончательны¬
ми и обжалованию не подлежали; если что-то она счи¬
тала плохим, то была уверена: «Ничего хорошего из
этого не будет» и, что бы ни происходило, судила по
319
действию о его последствиях. Ничто не могло заста¬
вить ее изменить свое мнение. Поэтому я хранил мол¬
чание относительно некоторых важных фактов моей
жизни, некоторых людей — даже имя их никогда не
произносилось — и никогда мы не заговаривали о том,
что могло причинить ей боль; и так между нами все
увеличивалась область молчания. Но мне сдается, что
она вооружалась непреклонностью в особенности в мо¬
ем присутствии, в частности, из опасения дать волю
своим чувствам или выдать их; умеющая быть твердой,
но жестокой — никогда, она, несмотря на строгое сле¬
дование своим принципам, сохраняла как бы велича¬
вую приветливость, напоминая Ифигению Гёте, а еще
больше — античную Антигону. Ни на кого другого она
не была так похожа.
Порой я думал, что именно ощущение того, как
сильно она отличается от меня, питало мою любовь,
ведь непохожесть странным образом притягивает ме¬
ня. Но, возможно, она подчеркивала свое отличие от
меня с целью лучше противостоять мне, с целью мне
противиться. Мы не были похожи, но то, что я узнал
благодаря ей, заставляет меня теперь чувствовать се¬
бя чужестранцем на этой земле и играть в жизнь без
особой веры в игру: благодаря Мадлен я познал ме¬
нее осязаемую, но более подлинную реальность. Эту
тайную реальность мог не принимать мой разум, но я
чувствовал ее рядом с ней. И, перестав слышать чис¬
тый звук, который издавала ее душа, я, мнится мне,
слышу с тех пор вокруг только пошлые, глухие, угас¬
шие, полные отчаяния звуки.
Эта совершенная искренность и делала таким труд¬
ным, таким невозможным всякое общение между на¬
ми. Я полагал, что она лучше поймет мое молчание и
что всякое выражение любви может показаться ей
притворным или, по меньшей мере, преувеличенным,
и одним махом приведет к тому, что я потеряю ее ува¬
жение, которое, я чувствовал, медленно, месяц за ме¬
сяцем, год за годом, я вновь обретал.
320
ДНЕВНИК
Здесь я помещаю отрывки из моего Дневника,
касающиеся Мадлен и не фигурирующие в томе «Пле¬
яды» *.
15 сентября 1916
Продолжаю в новой тетради этот Дневник, пре¬
рванный в июне. Я вырвал из него последние страни¬
цы, описывавшие ужасный кризис, связанный с Мад¬
лен, точнее, причиной которого была Мадлен. Я на¬
писал их в отчаянии, и поскольку, по правде говоря,
эти страницы были адресованы ей, я уничтожил их
по ее просьбе, после того как она их прочитала. А
если, по скромности, она и не высказала своего поже¬
лания, я представил себе, какое облегчение она испы¬
тает и сразу предложил ей уничтожить их. Конеч¬
но, она была мне благодарна, но я, говоря откровен¬
но, сожалею об этих страницах, так как никогда не
писая ничего более страстного, и еще потому, что
они помогли мне выйти из болезненного состояния,
верно отобразив его,— состояния, в которое я был
склонен погрузиться вновь, но особенно я жалею о них
потому, что, вырвав их, я внезапно перестал вести
дневник и, лишенный этой поддержки, ощутил мучи¬
тельный разброд в мыслях. Я предпринял тщетные
попытки в другой тетради, которую бросил исписан¬
ной наполовину. В этой я хотя бы не буду чувство¬
вать изъян **.
7 октября 1916
Несколько слов Мадлен вновь погрузили меня в от¬
чаяние. Когда я наконец решился заговорить с ней о
том, что неплохо было бы провести зиму в Сен-Кле-
ре19, она сказала: «Конечно, это мой долг перед то-
* За исключением фрагментов, выделенных курсивом,
которые, порой в немного измененном виде, вошли в мой
«Дневник», изданный в «Плеяде» в 1939 г.
** См. «Дневник». Изд. «Плеяды». С. 556—557.1
321
бой». Она сказала это с таким усилит, ее лицо тот¬
час приобрело такое грустное, серьезное выражение,
что я тут же перестал помышлять об этом — как и
о многом другом — раз он так дорого стоил ей, раз я
должен был в ущерб ее благополучию делать то, что
мне подходило — значит, это уже не могло мне подхо¬
дить *.
1 июня 1917
Мне отвратительно то, что приходится таиться от
нее. Но что делать?.. Ее осуждение для меня нестерпи¬
мо; а требовать у нее одобрения тому, что, мнится мне,
я должен делать, я не могу.
«Нескромность мне глубоко противна»,— как-то
сказала она. А мне еще больше противна ложь. Я при¬
нуждал себя к ней всю жизнь только для того, чтобы
однажды сказать все.
21 ноября 1918**
Мадден уничтожила все мои письма. Она только
что сделала мне это признание, от которого мне так тя¬
жело. По ее словам, она совершила это сразу же после
моего отъезда в Англию. О! Я прекрасно знаю, что она
ужасно страдала из-за того, что я уехал с Марком 20; но
разве она должна была мстить прошлому?.. Лучшее,
что было во мне, исчезло и больше не сможет служить
противовесом худшему. Более тридцати лет я дарил ей
лучшее во мне (и продолжаю дарить), день за днем,
расставаясь с ней даже на самое короткое время. У ме¬
ня больше ни к чему не лежит душа. Я без труда покон¬
чил бы с собой.
Если бы еще эта потеря была связана с каким-ни¬
будь бедствием, пожаром или нашествием вражеских
войск... Но это сделала она!..
Там же. С. 569.
** Изданный «Дневник» заканчивается в конце октября
1918 г. и возобновляется только в мае 1919, а затем туг же об¬
рывается почти на год. Приводимые мной страницы относятся
к этому периоду и должны объяснить столь долгое молчание.
322
22 ноября
Понимала ли она, что таким образом уничтожила
единственный ковчег, где позднее моя память могла
бы найти приют? Я доверял этим письмам все, что во
мне было лучшего, мою душу, мои радости, перемены
в настроении, мои повседневные занятия... Я страдаю,
словно она убила нашего ребенка.
О! мне невыносимо обвинять ее. Это как острая иг¬
ла. Всю ночь она все глубже впивалась мне в сердце.
24 ноября
Принял аспирин, чтобы попытаться уснуть. Но боль
будит меня посреди ночи, и тогда мне кажется, что я
схожу с ума.
«Это самое дорогое, что у меня было в мире»,—
сказала она.
«После твоего отъезда, когда я оказалась совсем
одна в большом доме, который ты покинул, без едино¬
го человека, на кого бы можно было опереться, не
зная, что делать, что предпринять... я сперва решила,
что мне остается только умереть. Да, правда, мне пока¬
залось, что сердце у меня перестало биться, что я уми¬
раю, так я страдала... Я сожгла твои письма, чтобы что-
нибудь сделать. Прежде чем их уничтожить, я их все
перечитала, одно за другим...»
И тогда она добавила: «Это самое дорогое, что у ме¬
ня было в мире».
Если бы нужно было вновь принести эту жертву,
она бы вновь принесла ее, вот в чем я себя убеждаю;
независимо от скорби, ее к ней побудила бы скром¬
ность. Она терпеть не могла привлекать внимание, по¬
сторонние взгляды и постоянно уходила в тень. Она хо¬
тела бы, чтобы ее имя никем и никогда не произноси¬
лось, разве что устами друзей и бедных крестьян, о
которых она заботится, и те называют ее «Мадам
Жиль»; а в особенности она не хотела бы фигурировать
в моих произведениях*.
* Я предпочел бы изменить некоторые из этих фраз, ко¬
торые теперь, когда многое для меня прояснилось, кажутся
323
Я всегда уважал ее скромность до такой степени,
что мне почти не приходилось говорить о ней в моих
дневниках, и даже теперь что-то меня сдерживает де¬
лать это. Теперь никто не узнает, чем она была для ме¬
ня, чем я был для нее.
Это не было то, что называется любовные письма;
мне противны всякие излияния, да и она не потерпела
бы, чтобы ее хвалили, и я чаще всего скрывал от нее
переполнявшее мое сердце чувство. Но в них перед
ней разворачивалась моя жизнь, день за днем *.
25 ноября
Увы! Теперь я убежден в том, что исковеркал ее
жизнь еще больше, чем она мою. По правде говоря, она
мне не совсем точными; но лучше я внесу уточнения в сно¬
ске и оставлю все те ошибки в интерпретации, которые я тог¬
да допускал, как ни отмечены они печатью самолюбования.
Все, что я писал тогда, относительно крайней скромности
Мадлен, мне кажется точным; правда то, что она никогда не
стремилась блистать и добиваться признания собственных
достоинств. Ее стремление быть незаметной включало в се¬
бя и христианское целомудрие и самоуничижение; но теперь
я думаю, что из любви ко мне она бы очень охотно и с боль¬
шой радостью согласилась оказаться на виду рядом со мной
и разделить мою судьбу (если угодно: мою славу) в глазах
людей, если бы моя известность не казалась ей по природе
такой недоброй. В тех строках, что я тогда писал, я умолчал
о том, что теперь представляется мне самым важным: она
всем сердцем и всей душой осуждала мое поведение и на¬
правление моих мыслей. Вот что заставляло ее отдаляться от
меня. Она невыразимо страдала при мысли, что должна иг¬
рать роль, пусть даже неприметную, пусть даже роль жертвы
(она еще слишком любила меня, чтобы не страдать от этого
вдвойне) в драме, которую она целиком осуждала и в кото¬
рой не хотела быть ни коим образом замешанной, в особен¬
ности в качестве обвинительницы.— Возвращаюсь к тому,
что я тогда писал, и, к моему стыду, привожу те строки без
изменений (Луксор, февраль 1939 г.).
* К этому я добавил с самодовольством, которое сегодня
вызывает у меня улыбку, но тогда объяснялось силой моего
отчаяния: «Быть может, никогда не было писем прекраснее».
Скажем проще: ни раньше, ни позже я никогда и никому так
324
вовсе и не мешала мне идти моим путем, и я даже ду¬
маю, что всем лучшим во мне я обязан ей. Моя любовь
к ней наполняла всю мою жизнь, но ни от чего не из¬
бавила меня, она лишь послужила причиной еще одно¬
го конфликта.
Но как сильно ошибется тот, кто решит, что я нари¬
совал ее портрет в образе Алисы из «Тесных врат»! В
ее добродетели никогда не было ничего принужденно¬
го или чрезмерного. Все в ней стремилось к тихому,
нежному расцвету... Вот отчего я безутешен. Порой я
уверен, что она никого не боялась, кроме меня.
После наших разговоров в эти последние три дня,
разговоров, прерываемых ужасными паузами и рыда¬
ниями, правда, величавыми, без единого упрека с обе¬
не писал; я свято хранил ей верность во всем, что во мне при¬
надлежало ей, а остальному, не в силах его уменьшить, я ста¬
рался не придавать большого значения.
Ныне, чувствуя, что жизнь подошла к концу — не пото¬
му, что я стал немощен, а потому, что партия сыграна и я вы¬
хожу из игры,— я без всякого снисхождения читаю написан¬
ные мной тогда страницы дневника. Готовое меня тогда по¬
глотить отчаяние проистекало в особенности из чувства
краха; я сравнивал себя с Эдипом, который внезапно открыл,
что его счастье зиждется на обмане; я неожиданно осознал
глубокую скорбь, в которую мое личное счастье повергло ту,
что я любил больше, чем себя; но еще невыносимее я стра¬
дал от того, что она уничтожила то, что во мне, как я пола¬
гал, наиболее заслуживало бессмертия. Эта переписка, на¬
чавшаяся в пору нашего детства, несомненно принадлежала
нам обоим одновременно, казалась мне нашим общим дети¬
щем; это был плод моей любви к ней... и целую неделю я пла¬
кал, не переставая, не в силах избыть горечь нашей потери.
Это произошло в Кювервиле; был обычный день. Мне по¬
надобилось уточнить дату для воспоминаний, которые я тог¬
да писал21, и я решил обратиться к нашей переписке того
времени. Я попросил у нее ключ от секретера, стоявшего в
ее комнате: в нем хранились мои письма. (Обычно она никог¬
да не отказывалась дать мне этот ключ, но после моего воз¬
вращения из Англии я его еще ни разу не просил у нее.) Тог¬
да я увидел, как она побледнела. С усилием, от которого у
нее дрожали губы, она сказала, что ящик секретера пуст и
моих писем больше нет...
325
их сторон — мне стало казаться, что я уже не смогу
вернуться к жизни, разве что к жизни, посвященной
раскаянию и скорби. Я чувствовал себя конченым че¬
ловеком, опустошенным, уничтоженным. Одна ее сле¬
за, думал я, весит больше, чем весь океан моего сча¬
стья. Впрочем, зачем преувеличивать? — я просто не
признавал за собой никакого права покупать мое сча¬
стье ценой ее собственного.
Но что я говорю о счастье? Моя жизнь, мое сущест¬
вование — источник ее терзаний, то, от чего я могу ее
избавить, но чего я не могу изменить. И не в одном
только солнце мне отказано, но в самом воздухе.
Since all my life seemed meant for fails... *22
Целую неделю я плакал; плакал с утра до вечера, сидя пе¬
ред камином в гостиной, где проходила наша совместная
жизнь, а еще сильнее — ночью у себя в комнате, где я все
надеялся, что она придет ко мне вечером; я плакал непрерыв¬
но, ничего не говоря ей, выражая все только слезами, и ждал
от нее хоть одного слова, хоть одного движения... но она про¬
должала заниматься мелкими домашними делами, будто ни¬
чего не произошло, проход я мимо меня равнодушно, словно
не видя. Напрасно я надеялся, что неизбывность моей скор¬
би поколеблет ее внешнее бесчувствие, напрасно; она навер¬
няка ждала, что это отчаяние, в которое я погрузился, приве¬
дет меня к Боту, другого исхода она не допускала. Вот что,
думаю, заставляло ее отказывать мне в утешении и хотя бы
в жалости, в нежном сочувствии. Но проливаемые мной сле¬
зы ничего не значили для нее, пока оставались суетными, ду¬
маю, она ждала от меня вопля раскаяния и порыва благоче¬
стия. И чем больше я плакал, тем более чужими мы станови¬
лись друг для друга; я с горечью чувствовал это; и вскоре я
оплакивал уже не мои уничтоженные письма, но нас, ее, на¬
шу любовь. Я чувствовал, что потерял ее. Все для меня рух¬
нуло: прошлое, настоящее, наше будущее.
Впоследствии я уже так больше и не обрел вкуса к жизни
или обрел гораздо позже, когда понял, что вернул ее уваже¬
ние; но даже и тогда, придя в себя, я жил с неопределенным
чувством того, что меня окружают мнимости — те мнимости,
чпго называются реальностью (Луксор, февраль 1939 г.).
* С тех пор вся жизнь моя лишь крах (англ.).— Примеч.
пер.
326
11 декабря
Вернулся из Парижа четыре дня назад.
Ужасные дни. Мне словно перебили хребет, и я уже
не могу поднять груз прежней радости. Как вернуть
это чувство уверенности в себе, которое помогало мне
жить? У меня ни к чему не лежит душа, и все лучи на
моем небосклоне померкли.
19 декабря
Я просматриваю и правлю черновик моих воспоми¬
наний, хочу оставить у себя законченный текст, если
один экземпляр отдам Вербеку23. Я не очень доволен
написанным: фразы вялые, все слишком рассчитано,
слишком отделано, слишком литературно.
Снова сел за пианино, играл «Хорошо темпериро¬
ванный клавир»...24
Я чувствую, как вокруг меня смыкается эта черес¬
чур спокойная жизнь, где я задыхаюсь и откуда смогу
вырваться только в результате нового надрыва. Край¬
няя слабость и ощущение старости. Все, что заставит
вновь забиться мое сердце, вызовет у нее лишь боль и
отвращение. Я могу дать себе волю, только вновь заста¬
вив ее страдать, и, лишь самоустранившись, могу обес¬
печить ее счастье.
Им всегда кажется (это случай Уайльда), что они
гибнут не как жертвы своих теорий, но, напротив, из-
за своей непоследовательности в том или ином пункте.
Уайльд упорно настаивал на этом: дело не в том, что я
был индивидуалистом, а в том, что я был им в недоста¬
точной мере — вот почему я теперь раскаиваюсь.
22 декабря
В некоторые дни, а особенно в некоторые ночи я
чувствую, как меня терзает сожаление об уничтожен¬
ных письмах. В них я надеялся пережить себя.
20 января 1919
...Это означало своего рода договор, о котором дру¬
гая сторона не была оповещена; договор, предложенный
ей мною, предложенный, впрочем, только потому, что
моя природа диктовала мне категорические условия.
327
Теперь мое творчество будет подобно симфонии25, в
которой не хватает самого нежного созвучия, подобно
зданию, с которого сняли венчающее его украшение *.
Кювервияь, 8 октября 1919
(Годовщина нашей свадьбы.) Не знаю, что ужаснее:
перестать быть любимым или видеть, как человек, кото¬
рого вы любите и который вас еще любит, перестал ве¬
рить в вашу любовь. Я не могу любить ее меньше, серд¬
це мое кровоточит, но я безмолвствую. Ах! неужели я
так никогда и не заговорю с ней?.. Зачем доказывать, что
я люблю ее больше всего в мире? Она мне не поверит.
Увы! ныне в моей власти лишь еще больше терзать ее.
10 октября
Между тем жизнь вновь принимает обманчивый
вид счастья.
Я три недели в Кювервиле, сегодня вечером возвра¬
щаюсь в Париж на десять дней.
21 ноября
Более или менее работал все эти последние дни, но
ужасная печаль захлестывает меня: я принес несчастье
той, кого люблю больше всего в мире. И она больше не
верит в мою любовь**.
Кювервияь, 3 января 1921
Кошмарные дни. Бессонница; возврат наихудшего
состояния; работаю с трудом, безо всякого пыла, ста¬
раясь использовать остаток вдохновения ***. Ах, если
бы я только мог поверить, что мое присутствие здесь
ей приятно... Но даже эта радость у меня отнята; и весь
день я думаю, что она меня просто терпит.
* Далее здесь следовало несколько страниц, которые в
издании «Дневника» в «Плеяде» даны по недосмотру как за¬
писи 1923 г. (см. с. 777 и 778: «Если какая-то отрада...», «Я ни¬
когда не умел ни отчего отказаться...» и т. д.).
** См. «Дневник». С. 680—688.
*** Там же. С. 688.
328
Ничто во мне ее больше не интересует, ничто, ка¬
сающееся меня, не имеет значения; чтобы понять то,
что отличается от вас, нужна любовь, а я чувствую по
отношению к себе с ее стороны только непонимание,
осуждение или, что еще хуже, равнодушие.
И все же иногда я начинаю сомневаться, не ошиба¬
юсь ли я в свою очередь. Ах, если бы только мы могли
объясниться! Но слова с такой болью выходят из мое¬
го сердца, что я не могу с ней говорить.
...Даже ее голос, нежный голос, который я любил
больше всего в мире, ее дорогой голос уже не тот. В ре¬
зультате незначительного происшествия, случившегося
прошлым летом из-за ее неловкости или неосторожно¬
сти и поначалу показавшегося нам несерьезным, у нее
появилось легкое, почти незаметное пришепетывание —
которое замечаю я один (ее сестры утверждают, что это
плод моего воображения). Конечно, она легко бы испра¬
вила дефект, если бы обращала на него внимание, и ме¬
ня особенно печалит то, что она махнула на себя рукой,
отказалась от мысли быть привлекательной, больше не
заботится о том, чтобы мне понравиться, и сказала себе
раз и навсегда: к чему? Мне даже кажется, что она ста¬
рается вооружить меня против себя и стремится вызвать
к себе неприязнь, заставить меня покинуть ее; но все это
побуждает меня еще сильнее любить ее, тем сильнее,
что я не в силах ничего выразить*.
* Это было самое трагическое: ужасное молчание в те¬
чение долгой череды дней, проведенных вместе. Порой я до¬
ходил до изнеможения и чувствовал, как в этой тишине, аго¬
низирует моя любовь; это заставляло меня доверять хотя бы
дневнику (эти страницы я и привожу) то, что я не мог ей ска¬
зать (мною двигали настоятельная потребность и надежда,
что если я умру раньше нее, то останется свидетельство люб¬
ви, в которой она сомневалась. Я полагал, что, случайно оз¬
накомившись с моими записями, она уверится в моей люб¬
ви, так как эти строки не обращены прямо к ней и смогут
убедить ее лучше, чем мои слова). Что касается нее, то не
думаю, что она когда бы то ни было поверяла кому-либо
свои муки; только Богу, отчего ее набожность еще больше
усилилась.
329
Если бы только мне было позволено надеяться, что
я принесу ей немного счастья...
5 января
Страницы журнала, где опубликованы мои воспо¬
минания «Если зерно не умрет» в декабрьском номере
«Н. Р. Ф.» не разрезаны. Она читала «Святого Марти¬
на»26 Клоделя, но, наверное, последняя страница моих
воспоминаний, расположенная напротив начала «Свя¬
того Мартина» (ей достаточно было пробежать не¬
сколько строк) ее насторожила; должно быть, она ис¬
пугалась и по своему обычаю не стала читать то, что
идет раньше. Теперь она наверное думает, что я без
стыда выставил напоказ то, что наоборот так постарал¬
ся скрыть — от этого страдает весь мой рассказ.
6 января
Он понимает с отчаянием, что лишь из любви к не¬
му она интересовалась этими вещами (искусством, му¬
зыкой, поэзией), которые остаются для него главным
занятием в жизни. Она перестала находить в них удо¬
вольствие и верить в них в то же время, когда переста¬
ла его любить*.
26 января 1921
Завтра я покидаю Кювервиль. Физические и духов¬
ные условия здесь самые тягостные, и моя работа от
этого сильно страдает **. Я больше уже не испыты¬
ваю радости от того, что делаю ее счастливой; у меня
больше нет этой иллюзии, и мысль о крахе преследу¬
* Я правильно сделал, написав эти строки в третьем ли¬
це, как бы опровергая эту мысль или во всяком случае от¬
страняясь от нее. Больше соответствует истине то, что, же¬
лая избавиться от своей любви ко мне, она запретила себе
пребывание в тех областях, куда я ее поначалу сопровождал
и где она боялась меня снова встретить. Ею владела также
постоянная потребность в опрощении (См. «Дневник».
С. 687—690).
** См. «Дневник». С. 690.
330
ет меня по ночам. Я даже начинаю думать, что моя лю¬
бовь ей в тягость, и порой упрекаю себя за свою лю¬
бовь как за слабость, как за безумие, и стараюсь убе¬
дить себя, что больше не страдаю... Я не могу смирить¬
ся с тем, что мы духовно разобщены. Я люблю только
ее в делом мире и не могу по-настоящему любить ни¬
кого, кроме нее. Я не могу жить без ее любви, я согла¬
сен с тем, что весь мир будет против меня, но только
не она. И я должен разыгрывать с ней, как это делает
она, комедию счастья.
Париж, 15 тая
Мадлен обещает приехать во вторник. Я ждач ее
еще в четверг, затем в пятницу и ходил встречать на
вокзал. Мысль о том, что она едет на следующий день
после праздника27 в переполненном поезде держит
меня в постоянной тревоге. Моя любовь к ней стала,
как никогда, частью моей жизни, и я не могу вырвать
эту любовь из сердца так же, как я не могу избавиться
от плотских желаний...
Понедельник, 29 мая
Она уезжает в четыре часа. Я провожаю ее на вок¬
зал Сен-Лазар. Порою, несмотря на необычно припух¬
шие от частой усталости черты, я вновь узнаю ее ли¬
цо — ее улыбку, ее взгляд — то, что я люблю больше
всего в мире.
18 июля
Мне кажется, что желания мои притупились с тех
пор, как я утрачиваю то блаженное состояние, в кото¬
рое меня погружало возвышенное общение с ней.
Кювервияь, 12 октября 1921
Мне удается сберечь мой покой, сохранить ровное
настроение и хоть какой-то интерес к работе, даже к
331
жизни, лишь когда я перестаю обращать внимание на
нее, на ее положение и наши отношения. Если я начи¬
наю думать обо всем этом ночью, со сном покончено,
и я погружаюсь в бездну отчаяния и тоски. Тогда я
чувствую, что люблю ее, как никогда, и невыразимо
страдаю от того, что не в состоянии ей об этом ска¬
зать; поведение, которое она мне предписывает, эта
маска равнодушия, которую она заставляет меня на¬
деть, конечно, кажутся ей более искренними, чем то,
о чем я могу только пробормотать. Она стоит на сво¬
ем, и я не признаю за собой права нарушить ее покой.
Для этого покоя ей необходимо верить, что я ее боль¬
ше не люблю и никогда особенно не любил; наверное,
только так она может сохранить безразличие по отно¬
шению ко мне.
12 декабря *
Что делать? Что предпринять? Куда идти? Я не мо¬
гу перестать ее любить. Иногда ее лицо, ее ангель¬
ская улыбка все еще наполняют мое сердце востор¬
гом, любовью и отчаянием. Отчаянием от того, что я
не могу ей об этом сказать. Ни разу я не осмелился
с ней заговорить. Мы оба замурованы в нашем мол¬
чании. И порой я думаю, что так лучше; ибо все, что
я мог бы ей сказать, привело бы только к дополни¬
тельным мукам.
Я не могу вообразить мою жизнь без нее; мне ка¬
жется, что без нее я был бы ничто. Все мои мысли ус¬
тремлены к ней. Из-за кого другого я ощутил бы эту на¬
стоятельную потребность объясниться? А то, что прида¬
вало моим мыслям столько силы, ведь это было
«наперекор такой любви».
* См. «Дневник». С. 707.
332
3 января 1922
Мадлен пишет: «Меня очень волнует начатая про¬
тив тебя злобная кампания. Разумеется, она вызвана
силой твоей мысли и твоим авторитетом. Ах! если
бы ты был неуязвим, я бы так не боялась за тебя. Но
ты уязвим, и знаешь это, и я это знаю».
Уязвим... Я всегда был уязвим только из-за нее. А
потом мне все стало безразлична, и я больше ничего
не боюсь... Что мне еще терять?*
Карри-ле-Руэ, 7 августа **
Письмо от нее. Короткая, простая фраза о том, что
она подарила своей крестнице Сабине Шлюмберже28
золотое колье и изумрудный крестик, которые прежде
носила, для меня словно нож в сердце. Мне нестерпи¬
ма мысль, что этот крестик, который носит моя Алиса,
принадлежит теперь кому-то другому... Что ей напи¬
сать? Она больше не верит в мою любовь и не хочет
знать ничего о том, что у меня на сердце. Чтобы вер¬
нее отдалиться от меня, ей нужно верить в мое равно¬
душие. А я думаю, что никогда ее так не любил, и не¬
навижу себя за то, что заставил ее страдать и должен
продолжать делать ей больно. Мне больше ничего не
нужно; порой я чувствую себя до такой степени ото¬
рванным от всего, что мне кажется, я уже умер, а жил
только благодаря ей.
Кольпак29, 10 сентября
Отвратительные дни, праздные, апатичные...
Каждое утро я просыпаюсь с тяжелой головой, еще бо¬
лее отупевший, чем накануне. Я вынужден разыгры¬
вать перед другими комедию радости, довольства —
* См. «Дневник». С. 727.
** Там же. С. 739.
333
тогда как я чувствую, что всякая радость медленно
угасает в моем сердце *.
Последнее письмо от нее я получил в Понтиньи30
или нет, наверное, в Карри-ле-Руэ. Значит, с тех пор,
как она сообщила мне о том, что подарила изумрудный
крестик Сабине, я не имею от нее вестей. Сердится ли
она на меня за мои упреки в ответном письме? Реши¬
ла ли мне больше не писать? Или ей просто не хватает
духа ответить?.. Я чувствую себя совсем покинутым.
Все, что она пробуждала во мне доброго, великодуш¬
ного, чистого, готово отхлынуть, и этот ужасный отлив
влечет меня всего в ад. Порой мне опять, как в Ллан-
берис31, приходит мысль, не чувствует ли она интуи¬
тивно, словно благодаря некоему мистическому зна¬
нию, все то, что я делаю вдали от нее, во всяком слу¬
чае то, чем я могу ее особенно болезненно ранить?
Разве она не подарила свое колье именно в тот день,
когда Элизабет32 пришла ко мне на пляже в Иере
(16 июля)? С тех пор писем нет. Мое сердце перепол¬
няют печаль и слезы. Мне неприятны все, кто меня
здесь окружает, и всё, что отдаляет меня от нее, что да¬
ет ей основание отдалиться от меня.
Думаю сегодня утром о том, как я мало стою без
нее, как мало в моем сердце доброго, я стал лучше по¬
нимать необходимость посредников между человеком
и Богом, тех ходатаев, против которых так резко вос¬
стает протестантизм. И я также лучше понимаю слож¬
ную игру дьявола и то, как он особенно ополчается
против возвышенных чувств и старается обратить их
против Бога... Не знаю, что еще во мне может внушить
надежду...
31 октября
Она все время поступает со мной так, словно я ее
больше не люблю, а я веду себя с ней так, словно она
меня еще любит... Порой это ужасно мучительно.
* См. «Дневник». С. 742.
334
Сеи-Мартен-Везюби33, 11 июля 1923*
Я всегда желал только ее любви, только ее одобре¬
ния, только ее уважения. И с тех пор, как она все это
отняла у меня, я живу какой-то позорной жизнью, в ко¬
торой добро больше не вознаграждено, зло утратило
свою отвратительность, и даже страдание притупилось.
Мое душевное оцепенение сочетается с приглушенно¬
стью всего, что меня окружает, и ничто уже я не вос¬
принимаю с такой остротой, как раньше, вернее, я уже
не воспринимаю ничего. Реальность трогает меня не
больше, чем сновидение.
Мне часто кажется, что я уже перестал жить. Вме¬
сте с ней я утратил вкус к жизни; с тех пор мне все рав¬
но, и я уже ничем не дорожу.
Начало января 1925**
Я должен признать, что три года назад в Кюверви-
ле мне было гораздо трудней, чем если бы я ныне ре¬
шил уйти из жизни. Поняла ли это Мадлен? Не думаю.
Боюсь, что мои слезы показались ей неким преувели¬
чением... Поэтому с тех пор я так и не смог с ней заго¬
ворить.
Мадлен могла подумать, что это страдание (если
допустить, что оно показалось ей искренним) пере¬
родит меня; но в течение этих ужасных дней я дей¬
ствительно перестал жить; тогда-то я и простился со
всем.
С тех пор я влачил как бы посмертное существова¬
ние, словно в стороне от подлинной жизни.
«Ничего основательного из этого не выйдет»,— не
раз говорила мне она, как будто желая убедить саму
себя. Это неправда. Наоборот, этот страшный суд напо¬
ил горечью всю мою жизнь.
Невыносимо.
* См. «Дневник». С. 765.
** Записи были сделаны в маленьком блокноте, который
я взял с собой в больницу, где мне оперировали аппендицит.
См. «Д невник». С. 802.
335
Я не переставал ее любить, даже в то время, когда
она имела право думать, да так оно и было,— что я да¬
леко от нее, я любил ее больше, чем себя, больше, чем
жизнь; но я так и не смог ей об этом сказать...
Все мое творчество обращено к ней.
Порой мне казалось, что, сомневаясь в этом и же¬
лая дать моей мысли больше простора, она старалась
отстранить меня от себя и самой отдалиться от меня,
вернуть мне и самой обрести свободу.
Вплоть до «Фальшивомонетчиков»34 (первой кни¬
ги, которую я написал, пытаясь не принимать ее в рас¬
чет) я писал все, чтобы убедить ее, увлечь. Все было
длинной, защитительной речью; ни одно творчество не
было таким личным, как мое — и его плохо понимают
те, кто не видит этого.
Февраль
...Тогда я бы хотел, чтобы Аньес35, которую она
слушает, сказала ей и дала понять — если я не вернусь
из путешествия в Конго * — что она была для меня са¬
мым дорогим в мире и я любил ее больше жизни, по¬
тому-то с тех пор, как она отошла от меня, жизнь ка¬
жется мне такой малоценной.
Кювервть, 14 июня 1926
Мой ум, моя воля, все мое существо вновь охвачены
странным оцепенением, которое я чувствую только в
Кювервиле. Чтобы написать маленькую записку, мне
требуется целый час, небольшое письмо — целое ут¬
ро. Я цепляюсь за Кювервть только из любви к ней, с
мучительным ощущением, что приношу ей в жертву
мое творчество, мою жизнь. Что делать? Я не могу
ни покинуть ее, ни заставить ее уехать из Кюверви-
ля, единственного приюта на земле, где еще сохрани¬
лись какие-то корни, где она не чувствует себя в из¬
гнании...
* Мое путешествие в Конго было отложено до 14 июля
1925 г. (см. «Дневник». С. 806), что позволило мне закончить
«Фальшивомонетчиков».
336
Еще несколько дней назад я был полон энергии; мне
казалось, я могу своротить горы. Теперь я раздавлен *.
1 июля
Католицизм медленно овладевает ее душой; это по¬
хоже на гангрену.
С каждым возвращением, даже после недолгой раз¬
луки, я обнаруживаю новые затронутые области, еще
более глубокие, тайные, неизлечимые. Да если бы я и
мог ее исцелить, разве я стая бы пытаться? То, что
представляется мне здоровьем, не будет ли для нее
смертельно? Всякое усилие обессиливает ее.
Какое удобство, какой покой, какую легкую уста¬
лость предлагает это дозированное благочестие, это
меню по твердой цене для душ, которые не могут мно¬
го тратить! Кто бы поверил? Сам Бог мог ли этого
ожидать? Что же! Значит, все, что привлекало меня
в ней, этот страннический нрав, эта пылкость, любо¬
знательность, все было не ее? Значит, все это она ус¬
воила только из любви ко мне? Теперь все истлевает,
спадает и являет нагую душу, неузнаваемую, бесплот¬
ную. И все, что составляет смысл моего существова¬
ния, становится ей чужим, враждебным **.
13 февраля 1927
«Для меня важно одобрение хотя бы одного просто¬
го, порядочного человека, а твоя книга его не полу¬
чит». Но если кто-то одобряет мою книгу, то пере¬
стает быть порядочным человеком в ее глазах.
Так, по поводу некоторых моих самых важных по¬
ступков она писала мне: «Из этого не выйдет ничего
хорошего» и больше не признавала никаких хороших по¬
следствий. Это были окончательные приговоры, не
подлежавшие обжалованию ***.
* См. «Дневник». С. 816.
** См. «Дневник». С. 817—818. Фрагмент «X скажет» бу¬
дет снят.
*** См. «Дневник». С. 831.
337
Гейдельберг, 12 тая
Проиграна партия, которую я мог выиграть толь¬
ко с ней. С ее стороны недоверие, с моей — предубеж¬
дение. Ни взаимные обвинения, ни даже сожаления ни¬
чему не помогут. Чего нет, того и не могло быть. Кто
идет в неизвестность, должен согласиться на путь в
одиночестве. Женщина — Креуса, Эвридика, Ариад¬
на36 — всегда медлит, тревожится, боится все бро¬
сить и увидеть, как порвалась нить, связывающая ее
с прошлым. Она тянет обратно Тесея и заставляет
обернуться Орфея. Она боится*.
Париж, 21 августа 1938
Находясь в полном одиночестве и почти не рабо¬
тая, я решаюсь начать этот блокнот, который уже
несколько месяцев вожу с собой с желанием записать в
нем что-нибудь другое, кроме того, что я записываю;
но с тех пор как Мадлен покинула меня, я утратил
вкус к жизни и перестал вести дневник, где могли от¬
разиться только смятение, тоска и отчаяние.
С тех пор как ее нет, я только делаю вид, что жи¬
ву, не интересуясь ничем, в том числе и самим собой,
у меня нет ни аппетита, ни вкуса к жизни, ни любо¬
пытства, ни желаний, я живу в безотрадном мире
только с одной надеждой уйти из него.
Вся работа моего ума в последние месяцы была на¬
правлена на отрицание. Я не только оставил все то,
что были во мне ценного, в прошлом, но и все мои
прежние достоинства стали казаться мне вообража¬
емыми и не стоящими даже малейшего усилия, чтобы
вновь обрести их. Я был похож и все еще похож на че¬
ловека, который погружается в зловонное болото,
ищет вокруг что-нибудь-устойчивое, прочное, за что
можно ухватиться, и тащит вслед за собой в эту
грязную преисподнюю все, за что цепляется. Зачем об
* См. «Д невник». С. 840.
338
этом говорить? Может быть, затем, чтобы потом
кто-нибудь, охваченный, подобно мне, тоской и отча¬
янием, прочитал написанное мною и почувствовал се¬
бя менее одиноким от того, что я протягиваю ему ру¬
ку помощи.
Выберусь ли я из этой трясины? Я уже переживал
постыдные времена, когда в сердце моем раздавался
возглас апостола: «Господи! спаси нас, погибаем»37 (и
я даже мог издать этот возглас по-гречески). Ибо спа¬
сение казалось мне невозможным без какого-нибудь
сверхъестественного вмешательства. И все же я выби¬
рался на поверхность. Но я был моложе. А что теперь
готовит мне жизнь?
Я цепляюсь за этот блокнот так, как часто цеп¬
ляюсь за что-нибудь методически. Эта методичность
прежде мне помогала. Такое усилие напоминает мне
поведение барона Мюнхгаузена, который выбрался из
болота, таща себя за волосы. (Я уже прибегал к это¬
му образу.) Удивительно, что ему это удалось \
26-го вечером
Все же мне кажется не совсем честным объяснять
мою бездеятельность только моей утратой; моя
скорбь привела к ней, но продолжается оно не из-за нее.
И я не совсем искренен с самим собой, когда убеждаю
себя в этом. Таким образом я нахожу слишком легкое
оправдание моему малодушию и лености. Я ожидал эту
утрату, предвидел ее уже давно и все же, несмотря на
печаль, старость представлялась мне безоблачной. Ес¬
ли мне не удается достичь спокойствия, я утрачиваю
всякое равновесие. Я потерял «свидетеля моей жизни»,
это правда, который побуждал меня не жить «неради¬
во», по выражению Плиния у Монтеня, и я не разделяю
веры Мадлен в будущую жизнь, той веры, которая по¬
будила бы меня чувствовать, как за мной следит после
смерти ее взгляд; но, как прежде, когда она была жи¬
ва, я не позволял, чтобы ее любовь влияла на мою
мысль, так и теперь, когда ее больше нет, я не должен
* См. «Дневник». С. 1309.
339
позволить, чтобы не столько ее любовь, сколько воспо¬
минание об этой любви отягощало мою мысль. Послед¬
ний акт комедии не становится хуже от того, что я
в нем играю один. Не следует уклоняться от игры*.
Марсель, 26 января 1939**
До отъезда из Парижа мне удалось просмотреть
верстку моего «Дневника». Когда я перечитывал его,
мне показалось, что систематическое сокращение (во
всяком случае до моей утраты) всех фрагментов, от¬
носящихся к Мадлен, его несколько затемнили. Не¬
сколько намеков на тайную драму моей жизни стали
непонятными из-за того, что отсутствуют объясне¬
ния; я даю непонятный или недопустимый, искажен¬
ный образ моего «я», у которого вместо пламенного
сердца осталась только зияющая пустота.
* См. «Дневник». С. 1315.
** Там же. С. 1331.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИЗ СССР
Памяти Эжена Даби
посвящаю эти страницы —
отражение пережитого
и передуманного рядом с ним,
тесте с ним.
Гомеровский гимн Деметре рассказывает о том,
как великая богиня, блуждая в поисках дочери, при¬
шла ко дворцу Келеоса. В облике няни никто не узнал
богиню. Царица Метанейра вручила ей новорожденно¬
го, маленького Демофоона, который станет потом
Триптолемом, покровителем земледелия.
Когда в доме закрывались все двери и его обитате¬
ли отходили ко сну, Деметра брала из мягкой колыбе¬
ли Демофоона и с притворной жестокостью, а на са¬
мом деле с безграничной любовью, желая ребенка пре¬
вратить в бога, укладывала его обнаженным на ложе
из раскаленных углей. Я представляю себе великую
Деметру, склонившуюся над лучезарным ребенком,
словно над будущим человечества. Он страдает от жа¬
ра раскаленных углей, и это испытание закаляет его. В
нем вырабатывается нечто сверхчеловеческое, креп¬
кое и здоровое, предназначенное для великой славы. И
как жаль, что Деметра не смогла завершить задуман¬
ное. Встревоженная Метанейра, как рассказывает ле¬
генда, заглянула однажды в комнату к Деметре, оттол¬
кнула от огненного ложа богиню, разбросала угли и,
чтобы спасти ребенка, погубила бога.
343
Предисловие
Три года назад я говорил о своей любви, о своем
восхищении Советским Союзом. Там совершался бес¬
прецедентный эксперимент, наполнявший наши серд¬
ца надеждой, оттуда мы ждали великого прогресса,
там зарождался порыв, способный увлечь все челове¬
чество. Чтобы быть свидетелем этого обновления, ду¬
мал я, стоит жить, стоит отдать жизнь, чтобы ему спо¬
собствовать. В наших сердцах и умах мы решительно
связывали со славным будущим СССР будущее самой
культуры. Мы много раз это повторяли, нам хотелось
бы иметь возможность повторить это и теперь.
Но уже перед поездкой туда,— чтобы увидеть все
своими глазами,— недавние решения, свидетельствовав¬
шие о перемене взглядов, стали вызывать беспокойство.
Я писал тогда, в октябре 1935-го: «Глупость и нече¬
стность нападок на СССР заставляют нас высту¬
пать в его защиту с еще большим упорством. Как
только мы перестанем это делать, на защиту СССР
тотчас бросятся его хулители. Ибо они одобрят те
уступки и компромиссы, которые им дадут возмож¬
ность сказать: «Вы видите теперь!», но из-за которых
он отклонится от намеченной цели. И пусть наш
взгляд, сосредоточенный на этой самой цели, не позво¬
лит нам отвернуться от СССР».
Однако продолжая верить и сомневаясь в себе са¬
мом до получения более подробных сведений, спустя
344
четыре дня после приезда в Москву, я еще заявлял в
своей речи на Красной площади по случаю похорон
Горького: «В наших умах судьбу культуры мы связыва¬
ем с СССР. Мы будем его защищать».
Я всегда утверждал, что желание быть постоянно
верным самому себе часто таит в себе опасность ока¬
заться неискренним. Я считаю, что особенно важно
быть искренним именно тогда, когда речь идет об
убеждениях многих людей, включая ваши собственные.
Если я с самого начала ошибся, то лучше всего при¬
знаться в этом как можно раньше, ибо я в ответе за тех,
кто станет жертвой моей ошибки. В этом случае само¬
любие не должно мешать. Впрочем, у меня его очень
мало. Есть вещи, которые в моих глазах гораздо важ¬
нее моего «я», важнее СССР: это человечество, его
судьба, его культура.
Но ошибся ли я с самого начала? Те, кто следил по¬
следний год за событиями в СССР, скажут, кто из нас
переменился — я или СССР. Под СССР я имею в виду
тех, кто им руководит.
Другие, более осведомленные, чем я, скажут, толь¬
ко ли кажущиеся эти перемены и не является ли то,
что мы воспринимаем как отклонение от курса, фа¬
тальным следствием некоей изначальной предрасполо¬
женности.
СССР «строится». Важно об этом постоянно напо¬
минать себе. Поэтому захватывающе интересно пребы¬
вание в этой необъятной стране, мучающейся рода¬
ми,— кажется, само будущее рождается на глазах.
Там есть хорошее и плохое. Точнее было бы ска¬
зать: самое лучшее и самое худшее. Самое лучшее до¬
стигалось часто ценой невероятных усилий. Усилиями
этими не всегда и не везде достигалось то, чего жела¬
ли достигнуть. Иногда позволительно думать: пока
еще. Иногда худшее сочетается с лучшим, можно даже
сказать, оно является его продолжением. И переходы
от яркого света к мраку удручающе резки. Нередко пу¬
тешественник, имея определенное мнение, вспомина¬
ет только одно или другое. Очень часто друзья СССР
отказываются видеть плохое или, по крайней мере, его
345
признать. Поэтому нередко правда об СССР говорится
с ненавистью, а ложь с любовью.
Я же устроен так, что строже всего отношусь к тем,
кого хотел бы любить. Немного стоит любовь, состоя¬
щая из одних похвал, и я думаю, что окажу большую ус¬
лугу и самому СССР и его делу, если буду говорить о
нем искренне и нелицеприятно. Мое восхищение
СССР, восхищение теми успехами, которых он уже до¬
бился, позволяет мне высказывать критику по его адре¬
су. Во имя связанных с ним ожиданий, во имя всего то¬
го в особенности, на что он нам позволяет надеяться.
Кто может определить, чем СССР был дня нас? Не
только избранной страной — примером, руководством
к действию. Все, о чем мы мечтали, о чем помышляли,
к чему стремились наши желания и чему мы готовы бы¬
ли отдать силы,— все было там. Это была земля, где
утопия становилась реальностью. Громадные сверше¬
ния позволяли надеяться на новые, еще более грандиоз¬
ные. Самое трудное, казалось, было уже позади, и мы
со счастливым сердцем поверили в неизведанные пути,
выбранные им во имя страдающего человечества.
До какой степени, в случае неудачи, наша вера бы¬
ла бы оправданной? Но сама мысль о неудаче недопу¬
стима.
Если некоторые обещания остались невыполненны¬
ми, в чем искать причину? Считать ли, что причина в
первых декретах или, точнее, в нестрогом их соблюде¬
нии — отклонениях, нарушениях, приспособлении к
обстоятельствам, чем бы они ни оправдывались?..
Я рассказываю здесь о своих личных впечатлениях
от всего, что мне с законной гордостью показывали в
СССР и что я смог увидеть сам. Достижения СССР во
многих областях замечательны. Порой даже можно во¬
образить, что здесь царит счастье.
Те, кто с одобрением относился к моим попыткам
в Конго самому во всем разобраться, когда, отказав¬
шись от губернаторского автомобиля, я старался бесе¬
довать с каждым встречным, осудят ли они меня за то,
346
что и в СССР я был озабочен тем же — не дать себе
пустить пыль в глаза?..
Не сомневаюсь, что этой книгой воспользуются
противники, те, для кого «любовь к порядку сочетает¬
ся с вкусом к тирании» *. Что ж, из-за этого ее не пуб¬
ликовать, не писать даже? Но я убежден, что, во-пер¬
вых, СССР преодолеет тяжкие ошибки, о которых я пи¬
шу, и, во-вторых,— и это самое важное — даже и
ошибки одной страны не могут скомпрометировать ис¬
тину, которая служит общечеловеческому, интернаци¬
ональному делу. Возможно, кому-то ложь умалчивания
или упорство во лжи могут казаться оправданными, но
на самом деле все это только на руку врагам, истина
же, как бы ни была жестока, наносит раны только ра¬
ди исцеления.
* Токвияъ А. О демократии в Америке (Введение).
0CS3
I
Общаясь с рабочими на стройках, на заводах или в
домах отдыха, в садах, в «парках культуры», я порой
испытывал истинную радость. Я чувствовал, как по-
братски относятся они ко мне, и из сердца уходила тре¬
вога, оно наполнялось радостью. Поэтому и на фото¬
графиях, сделанных там, я запечатлен улыбающимся,
смеющимся чаще, чем это могло бы быть здесь, во
Франции. И сколько раз слезы наворачивались на гла¬
за от радости, слезы любви и нежности: например, в
шахтерском доме отдыха в Донбассе, недалеко от Со¬
чи... Нет, нет! Ничего там не согласовывалось заранее,
не было никакой подготовки — я пришел неожиданно,
вечером, без предупреждения, и тотчас почувствовал
к ним доверие.
А это внезапное посещение детского лагеря под
Боржомом — очень скромного, почти убогого, но где
дети сияли здоровьем, счастьем, они словно хотели по¬
делиться со мной своей радостью. Что сказать? Слова¬
ми не выразить этого искреннего и простого чувства...
А сколько было кроме этих и других встреч. Грузин¬
ские поэты, студенты, интеллигенты, рабочие в осо¬
бенности — многие были мне по душе, я жалел, что не
знаю их языка. В их улыбках, во взглядах было столь¬
ко неподдельной сердечности! Надо сказать, что по¬
всюду я был представлен как друг и чувствовал всюду
дружеское к себе отношение. Я хотел бы быть достой¬
348
ным еще большей дружбы, и это тоже побуждает ме¬
ня говорить.
Разумеется, что наиболее охотно вам показывают
все самое лучшее. Но нам много раз случалось неожи¬
данно заходить в сельские школы, в детские сады, клу¬
бы, которые нам не собирались показывать и которые,
несомненно, ничем не отличались от остальных. И ими
я восхищался больше всего, и именно потому, что там
ничего не было приготовлено заранее для показа.
Дети во всех пионерских лагерях, которые я видел,
красивы, сыты (кормят пять раз в день), хорошо ухо¬
жены, взлелеяны даже, веселы. Взгляд светлый, довер¬
чивый. Смех простодушный и искренний. Иностранец
мог им показаться смешным, но ни разу ни у кого я не
заметил ни малейшей насмешки*.
Такое же выражение спокойного счастья мы часто
ввдели и у взрослых, тоже красивых, сильных. «Парки
культуры», где они собираются после работы по вече¬
рам,— их несомненное достижение. И среди прочих —
парки культуры Москвы.
Я часто туда ходил. Это место для развлечений, не¬
что вроде огромного «Луна-парка». Ступив за ворота,
вы сразу оказываетесь в особом мире. Толпы молоде¬
жи, мужчин и женщин, повсюду серьезность, выраже¬
ние спокойного достоинства. Ни малейшего намека на
пошлость, глупый смёх, вольную шутку, игривость или
даже флирт. Повсюду чувствуется радостное возбуж¬
дение. Здесь затеваются игры, чуть дальше — танцы.
Обычно всем руководят затейник или затейница, и вез¬
де порядок. Но зрителей всегда гораздо больше, чем
* «И вы считаете, что это хорошо? — воскликнул мой
приятель X., которому я сказал об этом.— Насмешка, ирония,
критика — все нужно. Ребенок, неспособный к насмешке,
будет покорным и недалеким в юности, и вы, насмешник, бу¬
дете упрекать его в «конформизме». Я за французскую на¬
смешливость, пусть даже и на свой счет».
349
танцующих. Дальше — народные песни и танцы, чаще
всего под обычный аккордеон. На специальной пло¬
щадке, куда может зайти каждый,— любители-акроба¬
ты. Руководит, страхует опасные прыжки тренер. Еще
дальше — гимнастические снаряды. Каждый терпели¬
во ждет своей очереди. Тренируются. Большие пло¬
щадки отведены для волейбола. Я не уставал наслаж¬
даться красотой, силой, изяществом игроков. Еще даль¬
ше — спокойные игры: шахматы, шашки и множество
других игр, требующих терпения и сноровки. Есть мне
неизвестные, чрезвычайно замысловатые. Есть и та¬
кие, которые развивают гибкость, силу или ловкость.
Они мне нигде не встречались, и я их не берусь описы¬
вать, но иные могли бы иметь успех и у нас. Было бы
чем занять время. Есть игры для взрослых и для детей.
Для совсем маленьких тоже отведено место, там по¬
строены игрушечные дома, поезда, пароходы, детские
автомобили, для детского возраста приспособлено
много различного инструмента. Вдоль большой аллеи,
ведущей на площадку для настольных игр (где толпят¬
ся любители, ожидающие, когда освободится столик),
стенды с ребусами, шарадами и загадками. И во всем
этом, я повторяю, ни малейшей пошлости. Этой благо¬
воспитанной громадной толпе нельзя отказать в досто¬
инстве, вежливости. Публика состоит почти исключи¬
тельно из рабочих, которые приходят сюда отдохнуть,
позаниматься спортом, развлечься или узнать что-ни¬
будь полезное (там, кроме прочего, есть также читаль¬
ные залы, библиотеки, кинотеатры, лектории и т.д.).
На Москве-реке — бассейны. В огромном парке по¬
всюду небольшие эстрады, с которых вещают импрови¬
зированные лекторы. Лекции разные — по истории,
географии — сопровождаются наглядными пособиями.
Или — по практической медицине и физиологии, с
анатомическими плакатами, и т.д. Слушают с боль¬
шим вниманием. Я уже говорил — ни разу и нигде я не
уловил ни малейшей насмешки.
А вот — небольшой открытый театр, где ни одного
свободного места, человек пятьсот в благоговейном
молчании слушают актера, читающего Пушкина (из
350
«Евгения Онегина»). В углу парка, недалеко от входа,
владения парашютистов. Там это очень популярный
вид спорта. Через каждые две минуты с вершины со¬
рокаметровой вышки прыгают по очереди любители
парашютного спорта. Немного жесткий удар о зем¬
лю — и новый парашютист готов. Ну, кто рискнет? На¬
род спешит, ждет, выстраивается в очередь. Я уже не
говорю о большом зеленом театре, где на иные спек¬
такли собирается до двадцати тысяч зрителей.
Московский парк культуры — самый большой и
лучше других оборудованный различными аттракцио¬
нами. Ленинградский же парк — самый красивый. Но
сейчас каждый город в СССР помимо детских садов
имеет свой парк культуры.
Само собой разумеется, я побывал и на многих за¬
водах. От их нормальной работы зависит народное
благосостояние. Но я не специалист и не могу судить,
как там организовано производство. Это дело других,
и я присоединяюсь к их похвалам. В моей же компе¬
тенции исключительно вопросы психологические.
Именно и почти исключительно ими я собираюсь
здесь заняться. Если же косвенно я затрагиваю соци¬
альные вопросы, то тоже только с точки зрения пси¬
хологической.
С возрастом у меня все меньше интереса к пейза¬
жам, сколь бы красивыми они ни были. И все больший
интерес к людям. Люда в СССР замечательные. В Гру¬
зии, Кахетии, Абхазии (я говорю только о том, что ви¬
дел) и еще в особенности, как мне показалось, в Кры¬
му и в Ленинграде.
Я присутствовал на празднике молодежи в Москве
на Красной площади. Безобразные здания напротив
Кремля были замаскированы зеленью и плакатами.
Все было устроено великолепно и даже (спешу об
этом сказать здесь, потому что впоследствии не всегда
для этого будет повод) с отменным вкусом. Прибыв¬
шая с севера и юга, востока и запада прекрасная моло¬
дежь участвовала в параде на Красной площади. Он
продолжался несколько часов. Я не представлял себе
351
столь великолепного зрелища. Конечно, его замеча¬
тельные участники были заранее отобраны, подготов¬
лены, натренированы. Но как не восхищаться страной
и режимом, способными такую молодежь создавать?
Я видел Красную площадь за несколько дней до это¬
го, во время похорон Горького. Я ввдел, как тот же са¬
мый народ—тот же самый и в то же время другой, по¬
хожий скорее, как я думаю, на русский народ при цар¬
ском режиме,— шел нескончаемым потоком мимо
траурного катафалка в Колонном зале. Тогда это были
не самые красивые, не самые сильные, не самые весе¬
лые народные представители, а «первые встречные» в
скорби — женщины, дети особенно, иногда старики,
почти все плохо одетые и казавшиеся иногда очень не¬
счастными. Молчаливая, мрачная, сосредоточенная ко¬
лонна, казалось, двигалась в безупречном порядке из
прошлого, и шла она гораздо дольше, чем та, другая —
парадная. Я очень долго вглядывался в нее. Кем был
Горький для всех этих людей? Толком не знаю. Учи¬
тель? Товарищ? Брат? И на всех лицах, даже у малы¬
шей,— печать грустного изумления, выражение глубо¬
кой скорби. Сколько я видел людей, чья одухотворен¬
ность лишь подчеркивалась бедностью. Чуть ли не
каждого мне хотелось прижать к сердцу!
Нигде отношения с людьми не завязываются с та¬
кой легкостью, непринужденностью, глубиной и ис¬
кренностью, как в СССР. Иногда достаточно одного
взгляда, чтобы возникла горячая взаимная симпатия.
Да, я не думаю, что где-нибудь еще, кроме СССР, мож¬
но испытать чувство человеческой общности такой
глубины и силы. Несмотря на различие языков, нигде
и никогда еще я с такой полнотой не чувствовал себя
товарищем, братом. И ради этого я готов отдать самые
красивые пейзажи в мире.
О пейзажах, впрочем, я еще буду говорить, но сна¬
чала расскажу о нашей первой встрече с группой ком¬
сомольцев.
Это было в поезде на пути из Москвы в Орджони¬
кидзе (бывший Владикавказ). Путь долгий. От имени
Союза советских писателей Михаил Кольцов предоста¬
352
вил в наше распоряжение специальный, очень комфор¬
табельный вагон. Все шестеро мы неожиданно пре¬
красно устроились: Джеф Ласт, Гийю, Эрбар, Шифрин,
Даби и я. С нами наш гид и переводчик — верный то¬
варищ Боля. Кроме спальных купе в вагоне был еще
салон, где нам накрывали стол. Лучше не бывает. Но
что нам не нравилось — это невозможность общаться
с пассажирами поезда. Спустившись на платформу на
ближайшей станции, мы обнаружили, что в соседнем
вагоне едет очень приятная компания. Это были ком¬
сомольцы, которые собирались во время каникул со¬
вершить восхождение на Казбек. Мы добились, чтобы
открыли двери между вагонами, и вскоре познакоми¬
лись с нашими замечательными попутчиками. Я при¬
вез из Парижа разные головоломные игры, непохожие
на те, которые знают в СССР. Они обычно помогают
мне быстро завязывать отношения с людьми, когда я
не знаю их языка. Игры переходили из рук в руки. Пар¬
ни и девушки не успокаивались, пока не справлялись с
головоломкой. «Комсомольцы никогда не сдаются»,—
говорили они нам со смехом. Их вагон был очень тес¬
ным, стояла жара, и все задыхались от духоты. Это бы¬
ло прекрасно.
Должен сказать, что для большинства из них я не
был незнакомцем. Некоторые читали мои книги (в ос¬
новном «Путешествие в Конго»), и, поскольку в газе¬
тах вместе с речью на Красной площади, на похоронах
Горького, был мой портрет, многие тотчас меня узна¬
ли. Вскоре завязалась долгая дискуссия. Джеф Ласт,
который хорошо понимает и говорит по-русски, объяс¬
нил нам, что головоломки, предложенные мной, пре¬
красные, но они спрашивают: неужели сам Андре Жид
забавляется этим? Джеф Ласт должен был возразить,
что это небольшое развлечение предназначено для то¬
го, чтобы снимать усталость. Настоящие комсомольцы
всегда готовы служить делу, судят обо всем с точки
зрения пользы. Впрочем, не будем педантами, сама эта
дискуссия, перебиваемая смехом, тоже была игрой.
Поскольку в их вагоне дышать становилось трудно, мы
пригласили человек десять к себе, остаток вечера про¬
353
шел с народными песнями и даже танцами, насколько
позволяли размеры салона. Этот вечер останется для
меня и для моих спутников одним из лучших воспоми¬
наний о путешествии. И мы были уверены, что едва ли
в какой-либо другой стране можно встретить такую не¬
поддельную искреннюю сердечность, едва ли в какой-
либо другой стране можно встретить такую очарова¬
тельную молодежь*.
Я говорил уже, что меня меньше интересуют пейза¬
жи... Однако мне хотелось бы рассказать о великолеп¬
ных лесах Кавказа — при въезде в Кахетию, в окрест¬
ностях Батума и в особенности в Бакуриани, под или,
точнее сказать, над Боржомом. Более прекрасного ле¬
са я не видел и не представлял себе: лесная поросль не
скрывает стволы громадных деревьев, на таинствен¬
ные поляны сумерки опускаются раньше, чем закон¬
чится день,— кажется, что где-то здесь должен был за¬
блудиться Мальчик-с-пальчик. Мы пересекли этот ска¬
зочный лес, вышли к горному озеру, и нам оказали
честь, сообщив, что здесь никогда еще не ступала нога
иностранца. Но я и без этого оценил великолепие
здешних мест. На берегу озера странная маленькая де¬
ревушка (Табацкури) — ее девять месяцев в году скры¬
вает снег,— которую я бы с удовольствием описал...
Ах, почему я не приехал просто туристом или как на¬
туралист, который с восторгом открывал бы здесь но¬
вые растения, обнаружил бы на высокогорном плато
«скабиозу кавказскую» из своего сада.... Но не за этим
прибыл я в СССР. Самое важное для меня здесь — че¬
ловек, люди, что из них можно сделать и что из них
сделали. Лес, который меня сюда привлек, чудовищно
* Что мне еще нравится в СССР — это долгая молодость,
к чему мы, в частности во Франции (я даже думаю, в роман¬
ских странах вообще), так мало привычны. Молодость бога¬
та обещаниями. Отрочество у нас быстро переходит от обе¬
щаний к жизни. В четырнадцать лет все кончается. В выра¬
жении лица уже не прочитывается удивление перед жизнью,
нет уже и следа наивности. Ребенок почти без перехода ста¬
новится молодым человеком. Игры кончились.
354
непроходимый и в котором я блуждаю сейчас,— это
социальные вопросы. В СССР они вопиют, взывают и
обрушиваются на вас со всех сторон.
II
В Ленинграде я мало видел новых кварталов. Что
восхищает в Ленинграде — это Санкт-Петербург. Я не
знаю более красивого города, более гармонического
сочетания металла*, воды и камня. Город словно со¬
здан воображением Пушкина или Бодлера. Иногда он
напоминает полотна Ширико. Памятники — таких же
совершенных пропорций, как музыкальные темы в
симфониях Моцарта. «Все там красота и гармония».
Душа радуется красоте и отдыхает.
Нет слов, чтобы сказать, как изумителен Эрмитаж.
Отмечу только попутно разумное правило помещать
вокруг картины какого-либо художника, когда это воз¬
можно, другие его работы: этюды, эскизы, наброски —
все, что помогает увидеть, как постепенно складывал¬
ся и воплощался замысел.
После Ленинграда хаотичность Москвы особенно
заметна. Она даже подавляет и угнетает вас. Здания, за
редкими исключениями, безобразны (и не только со¬
временные), не сочетаются друг с другом. Я знаю, что
Москва преображается, город растет. Свидетельства
этому повсюду. Все устремлено к будущему. Но боюсь,
что делать это начали плохо. Строят, ломают, копают,
сносят, перестраивают — и все это как бы случайно,
без общего замысла. Но все равно Москва остается са¬
мым привлекательным городом — она живет могучей
жизнью. Но не будем вглядываться в дома — толпа ме¬
ня интересует больше.
Летом почти все ходят в белом. Все друг на друга
похожи. Нигде результаты социального нивелирования
не заметны до такой степени, как на московских ули¬
цах,— словно в бесклассовом обществе у всех одина¬
* Медные купола и золотые шпили.
355
ковые нужды. Я, может быть, преувеличиваю, но не
слишком. В одежде исключительное однообразие. Не¬
сомненно, то же самое обнаружилось бы и в умах, ес¬
ли бы это можно было увидеть. Каждый встречный ка¬
жется довольным жизнью (так долго во всем нужда¬
лись, что теперь довольны тем немногим, что есть).
Когда у соседа не больше, человек доволен тем, что он
имеет. Различия можно заметить, если только внима¬
тельно присмотреться. На первый взгляд кажется, что
человек настолько сливается с толпой, так мало в нем
личного, что можно было бы вообще не употреблять
слово «люди», а обойтись одним понятием «масса».
Я сливаюсь с массой, погружаюсь в толпу. Что де¬
лают эти люди перед магазином? Они стоят в очереди.
В очереди, которая протянулась до ближайшей улицы.
Стоят человек двести или триста, спокойно, терпели¬
во — ждут. Еще рано, и магазин закрыт. Я возвраща¬
юсь минут через сорок — те же люди продолжают сто¬
ять. Для меня это удивительно — зачем было прихо¬
дить раньше. Что они выигрывают?
— Как что выигрывают? Обслужат тех, кто пришли
первыми.
И мне объясняют, что в газетах было объявлено о
большом поступлении... не знаю чего (кажется, речь
шла о подушках). Их будет, может быть, четыреста
или пятьсот штук на восемьсот, тысячу или полторы
тысячи покупателей. Задолго до вечера их не останет¬
ся ни одной. Нужды так велики, а публика так много¬
численна, что долго еще спрос будет превышать пред¬
ложение, и превышать значительно. Справиться с этим
трудно.
Спустя несколько часов я захожу в магазин. Гро¬
мадное помещение, невообразимая толкотня. Продав¬
цы, впрочем, сохраняют спокойствие, потому что во¬
круг них ни малейшего признака нетерпения. Каждый
ждет своей очереди, стоя или сидя, часто с ребенком
на руках. Очередь не регулируется, однако ни малей¬
шего признака беспорядка. Здесь можно провести все
утро, весь день — в спертом воздухе, которым, снача¬
ла кажется, невозможно дышать, но потом люди при¬
356
выкают, как привыкают ко всему. Я хотел сначала на¬
писать: «смиряются», но дело тут не в смирении — рус¬
ский человек, кажется, находит удовольствие в ожида¬
нии, он и вас тоже ради забавы может заставить ждать.
Продираясь сквозь толпу (или подталкиваемый
ею), я обошел магазин вдоль и поперек и сверху дони¬
зу. Товары, за редким исключением, совсем негодные.
Можно даже подумать, что ткани, вещи и т. д. специ¬
ально изготавливаются по возможности непривлека¬
тельными, чтобы их можно было купить только по
крайней нужде, а не потому, что они понравились. Мне
хотелось привезти какие-нибудь сувениры друзьям, но
все выглядит ужасно. Однако за последние месяцы,
как мне сказали, были предприняты усилия, чтобы по¬
высить качество, и если хорошо поискать, потратить на
это время, то можно кое-где обнаружить вещи доволь¬
но приятные. Но чтобы заниматься качеством, надо до¬
биться требуемого количества. В течение долгого вре¬
мени всего было мало. Теперь положение выравнива¬
ется, но с трудом. Впрочем, люди в СССР, похоже,
склонны покупать все, что им предложат, даже то, что
у нас на Западе показалось бы безобразным. Скоро, я
надеюсь, с ростом производства увеличится выпуск хо¬
роших товаров, можно будет выбирать, и одновремен¬
но с этим будет уменьшаться выпуск плохих.
Вопрос о качестве относится особенно к продуктам
питания. В этой области предстоит еще много сделать.
Но когда мы пожаловались на плохое качество неко¬
торых продуктов, Джеф Ласт, приехавший в СССР
уже в четвертый раз после двухлетнего перерыва, на¬
против, с восхищением отозвался о достигнутых успе¬
хах. Овощи и в особенности фрукты если не совсем
плохие, то, по крайней мере, за редким исключением,
неважные. Очень много дынь, но безвкусных. Дерзкая
персидская поговорка, которую я слышал только по-
английски и процитирую тоже по-английски: «Women
for duty, boys for pleasure, melons for delight»*,
* Женщины для долга, мальчики для удовольствия, дыни
для наслаждения (англ.).
357
здесь, следовательно, некстати. Вино в общем хоро¬
шее (вспоминается, в частности, прекрасное Цинан¬
дали в Кахетии). Пиво сносное. Копченая рыба (в
Ленинграде) прекрасная, но не выдерживает транс¬
портировки.
Пока не было необходимого, разумно было не зани¬
маться излишествами. Если в СССР ничего не сделано
для удовлетворения гурманских вкусов, так это пото¬
му, что элементарные потребности еще не удовлетво¬
рены.
Вкус, впрочем, развивается только тогда, когда
есть возможность выбора и сравнения. Выбирать не из
чего. Поневоле предпочтешь то, что тебе предложат,
выхода нет — надо или брать, что тебе дают, или отка¬
зываться. Если государство — одновременно произво¬
дитель, покупатель и продавец,— качество зависит от
уровня культуры.
И тогда, несмотря на весь свой антикапитализм, я
думаю о тех людях у нас — от крупного промышлен¬
ника до мелкого торговца,— которые с ног сбиваются
и мучаются одной мыслью: что бы еще такое приду¬
мать, чтобы удовлетворить публику? С какой изощрен¬
ной изобретательностью каждый из них ищет способа
свалить конкурента! Государству же до этого дела ма¬
ло — у него нет конкурентов. Качество? «Зачем оно,
если нет конкуренции?» — говорят нам.. Именно так,
очень бесхитростно, объясняют нам плохое качество
всего производимого в СССР, а заодно и отсутствие
вкуса у публики. Если бы даже вкус и был, что бы из¬
менилось? Нет, прогресс будет здесь теперь зависеть
не от конкуренции, а от возрастающей требовательно¬
сти, которая, в свою очередь, будет увеличиваться с ро¬
стом культуры. Во Франции этот процесс, несомненно,
шел бы быстрее, потому что требовательность уже
есть.
И вот еще что: в каждой советской республике
было свое народное искусство. Что с ним стало? Из-
за эгалитарных тенденций долгое время с ним отка¬
358
зывались считаться. Но сейчас к национальным ис¬
кусствам снова возрождается интерес, их поощряют,
их возрождают и, кажется, понимают их непреходя¬
щую ценность. Разве не было бы проявлением разум¬
ной дальновидности вновь вернуться к образцам это¬
го искусства, восстановить, например, старинные ри¬
сунки на тканях и предложить их публике? Трудно
представить что-нибудь более глупо-буржуазное, бо¬
лее мещанское, чем нынешняя продукция. Витрины
московских магазинов повергают в отчаяние. Ста¬
ринные же ткани с рисунком, нанесенным вручную,
прекрасны. Это было народное ремесло, но это бы¬
ло искусство.
Возвращаюсь к москвичам. Иностранца поражает
их полная невозмутимость. Сказать «лень» — это бы¬
ло бы, конечно, слишком... «Стахановское движение»
было замечательным изобретением, чтобы встрях¬
нуть народ от спячки (когда-то для этой цели был
кнут). В стране, где рабочие привыкли работать, ста¬
хановское движение было бы ненужным. Но здесь,
оставленные без присмотра, они тотчас же расслабля¬
ются. И кажется чудом, что, несмотря на это, дело
идет. Чего это стоит руководителям, никто не знает.
Чтобы представить себе масштабы этих усилий, надо
иметь в виду врожденную малую «производитель¬
ность» русского человека.
На одном из заводов, который прекрасно работает
(я в этом ничего не понимаю, восхищаюсь же машина¬
ми потому, что вообще к ним отношусь с доверием. Но
мне ничто не мешает приходить в восторг от столовой,
рабочего клуба, их жилища — от всего, что создано
для их блага, их просвещения, их отдыха), мне пред¬
ставляют стахановца, громадный портрет которого ви¬
сит на стене. Ему удалось, говорят мне, выполнить за
пять часов работу, на которую требуется восемь дней
(а может быть, наоборот: за восемь часов — пятиднев¬
ную норму, я уже теперь не помню). Осмеливаюсь
спросить, не означает ли это, что на пятичасовую рабо¬
359
ту сначала планировалось восемь дней. Но вопрос мой
был встречен сдержанно, предпочли на него не отве¬
чать.
Тогда я рассказал о том, как группа французских
шахтеров, путешествующая по СССР, по-товарищески
заменила на одной из шахт бригаду советских шахте¬
ров и без напряжения, не подозревая даже об этом, вы¬
полнила стахановскую норму.
Невольно спрашиваешь себя, каких успехов добил¬
ся бы советский режим с темпераментом, усердием,
добросовестностью и профессиональной подготовкой
наших рабочих. Кроме стахановцев на этом сером фо¬
не выделяется пылкая молодежь, keen at work — за¬
кваска, способная заставить подняться тесто.
Эта инерция массы, пожалуй, была и до сих пор ос¬
тается одной из самых сложных проблем, которые
предстояло решать Сталину. Отсюда и «ударники», и
стахановское движение. Возврат к неравной заработ¬
ной плате объясняется этими же причинами.
В окрестностях Сухуми мы побывали в образцовом
совхозе. Ему шесть лет. Первое время едва сводил кон¬
цы с концами, теперь — один из самых процветающих,
его называют «миллионером». Всюду виден достаток.
Колхоз занимает очень большую площадь. Климат бла¬
гоприятный, все растет быстро.
Деревянные дома, приподнятые над землей на сва¬
ях, прекрасны и живописны, окружены большими
фруктовыми садами, между деревьями цветы, овощи.
В прошлом году колхоз получил большие прибыли,
что позволило иметь значительные накопления, под¬
нять до шестнадцати рублей выплату за трудодень.
Как образовалась такая цифра? Точно так же, как если
бы колхоз был сельскохозяйственным капиталистиче¬
ским предприятием и доход распределялся бы поровну
между акционерами. Ибо остается непреложным
факт: в СССР нет больше эксплуатации большинства
меньшинством. Это громадное достижение. «Здесь у
нас нет больше акционеров. Сами рабочие (имеются в
виду рабочие колхоза, разумеется) распределяют
между собой доходы, без каких-либо отчислений госу¬
360
дарству» *. Это было бы прекрасно, если бы не было
других — бедных — колхозов, которым не удается
сводить концы с концами. Потому что, если я правиль¬
но понял, колхозы полностью автономны и между ни¬
ми нет никакой взаимопомощи. Возможно, я ошибся?
Хотелось бы ошибиться **.
Я был в домах многих колхозников этого процвета¬
ющего колхоза... *** Мне хотелось бы выразить стран¬
ное и грустное впечатление, которое производит «ин¬
терьер» в их домах: впечатление абсолютной безлико¬
сти. В каждом доме та же грубая мебель, тот же
портрет Сталина — и больше ничего. Ни одного пред¬
мета, ни одной веши, которые указывали бы на лич¬
ность хозяина. Взаимозаменяемые жилища. До такой
степени, что колхозники (которые тоже кажутся взаи¬
мозаменяемыми) могли бы перебраться из одного до¬
ма в другой и не заметить этого****. Конечно, таким
* По крайней мере, мне так много раз говорили. Но все
непроверенные «данные» кажутся мне подозрительными так
же, как и поступающие из колоний. Я с трудом верю в приви¬
легию этого колхоза, освобожденного от выплаты 7 процентов
годового дохода, обязательной для всех других колхозов, не
считая индивидуального налога от 35 до 39 рублей с человека.
** В приложении помещены некоторые более точные
сведения. Я располагаю многими другими. Но я не силен в
цифрах и в экономических вопросах не считаю себя достаточ¬
но компетентным. Кроме того, хотя эти сведения получены
были мной самим, поручиться за их точность я не могу. Опыт,
приобретенный в колониях, научил меня не доверять «дан¬
ным». И наконец, самое главное — по этим вопросам уже вы¬
сказывались специалисты, и я не буду к этому возвращаться.
*** Во многих других колхозах речь вообще не идет об
индивидуальных жилищах. Люди спят в общих спальнях, жи¬
вут в общежитиях.
***★ ^
Эта деперсонализация позволяет также предполо¬
жить, что люди, которые спят в общих спальнях, страдают от
промискуитета, невозможности уединиться, меньше, чем они
страдали бы, сохраняя индивидуальность. Но сама эта, всеоб¬
щая в СССР, тенденция к утрате личностного начала — мо¬
жет ли она рассматриваться как прогресс? Что касается ме¬
ня, я не могу в это верить.
361
способом легче достигнуть счастья. Как мне говорили,
радости у них тоже общие. Своя комната у человека
только для сна. А все самое для него интересное в жиз¬
ни переместилось в клуб, в парк культуры, в места со¬
браний. Чего желать лучшего? Всеобщее счастье до¬
стигается обезличиванием каждого. Счастье всех до¬
стигается за счет счастья каждого. Будьте как все,
чтобы быть счастливым.
III
В СССР решено однажды и навсегда, что по любо¬
му вопросу должно быть только одно мнение. Впро¬
чем, сознание людей сформировано таким образом,
что этот конформизм им не в тягость, он для них есте¬
ствен, они его не ощущают, и не думаю, что к этому
могло бы примешиваться лицемерие. Действительно
ли это те самые люди, которые делали революцию?
Нет, это те, кто ею воспользовался. Каждое утро
«Правда» им сообщает, что следует знать, о чем думать
и чему верить. И нехорошо не подчиняться общему
правилу. Получается, что, когда ты говоришь с каким-
нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу.
Не то чтобы он буквально следовал каждому указа¬
нию, но в силу обстоятельств отличаться от других он
просто не может. Надо иметь в виду также, что подоб¬
ное сознание начинает формироваться с самого ранне¬
го детства... Отсюда странное поведение, которое тебя,
иностранца, иногда удивляет, отсюда способность на¬
ходить радости, которые удивляют тебя еще больше.
Тебе жаль тех, кто часами стоит в очереди,— они же
считают это нормальным. Хлеб, овощи, фрукты кажут¬
ся тебе плохими — но другого ничего нет. Ткани, ве¬
щи, которые ты видишь, кажутся тебе безобразны¬
ми — но выбирать не из чего. Поскольку сравнивать
совершенно не с чем — разве что с проклятым про¬
шлым,— ты с радостью берешь то, что тебе дают. Са¬
мое главное при этом — убедить людей, что они счаст¬
ливы настолько, насколько можно быть счастливым в
ожидании лучшего, убедить людей, что другие повсю¬
362
ду менее счастливы, чем они. Этого можно достигнуть,
только надежно перекрыв любую связь с внешним ми¬
ром (я имею в виду — с заграницей). Потому-то при
равных условиях жизни или даже гораздо более худ¬
ших русский рабочий считает себя счастливым, он и на
самом деле более счастлив, намного более счастлив,
чем французский рабочий. Его счастье — в его надеж¬
де, в его вере, в его неведении.
Мне очень трудно привести в порядок свои раз¬
мышления — так все эти проблемы взаимосвязаны,
друг с другом переплетаются. Я не техник, поэтому
экономические проблемы меня интересуют с психо¬
логической стороны. Психологически я могу себе
объяснить, почему надо жить под колпаком, пере¬
крывать границы: до тех пор, пока не утвердится но¬
вый порядок, пока дела не наладятся, ради счастья
жителей СССР важно, чтобы счастье это было защи¬
щено.
Нас восхищает в СССР стремление к культуре, к
образованию. Но образование служит только тому,
чтобы заставить радоваться существующему порядку,
заставить думать: СССР... Ave! Spes unica! * Эта культу¬
ра целенаправленная, накопительская, в ней нет беско¬
рыстия и почти совершенно отсутствует (несмотря на
марксизм) критическое начало. Я знаю, там носятся с
так называемой «самокритикой». Со стороны я восхи¬
щался ею, и думаю, что при серьезном и искреннем от¬
ношении она могла бы дать замечательные результаты.
Однако я быстро понял, что кроме доносительства и за¬
мечаний по мелким поводам (суп в столовой холод¬
ный, читальный зал в клубе плохо выметен) эта крити¬
ка состоит только в том, чтобы постоянно вопрошать
себя, что соответствует или не соответствует «линии».
Спорят отнюдь не по поводу самой «линии». Спорят,
чтобы выяснить, насколько такое-то произведение, та-
кой-то поступок, такая-то теория соответствует этой
священной «линии». И горе тому, кто попытался бы от
нее отклониться. В пределах «линии» критикуй, сколь¬
* Единственная надежда (лат.).
363
ко тебе угодно. Но дальше — не позволено. Похожие
примеры мы знаем в истории.
Нет ничего более опасного для культуры, чем по¬
добное состояние умов. Дальше я скажу об этом.
Советский гражданин пребывает в полнейшем не¬
ведении относительно заграницы *. Более того, его убе¬
дили, что решительно все за границей и во всех обла¬
стях — значительно хуже, чем в СССР. Эта иллюзия
умело поддерживается — важно, чтобы каждый, даже
недовольный, радовался режиму, предохраняющему
его от худших зол.
Отсюда некий «комплекс превосходства», несколь¬
ко примеров которого я приведу ниже.
Каждый студент обязан изучать иностранный язык.
Французский в совершенном небрежении. Им положе¬
но знать английский и в особенности немецкий. Я был
удивлен, услышав, как плохо они говорят на нем. У нас
школьники знают его лучше.
Мы спросили об этом одного из них и получили та¬
кое объяснение (по-русски, Джеф Ласт нам перево¬
дил): «Еще несколько лет назад Германия и Соединен¬
ные Штаты могли нас чему-нибудь научить. Но сейчас
нам за границей учиться нечему. Зачем тогда говорить
на их языке» **.
Впрочем, если они все же небезразличны к тому,
что делается за границей, все равно значительно боль¬
ше они озабочены тем, что заграница о них подумает.
Самое важное для них — знать, достаточно ли мы вос¬
хищаемся ими. Поэтому боятся, что мы можем не все
знать об их достоинствах. Они ждут от нас не столько
знания, сколько комплиментов.
Очаровательные маленькие девочки, окружившие
меня в детском саду (достойном, впрочем, похвал, как
* Или, по крайней мере, знает только то, что укрепляет
его веру.
** Правда, увидев наше нескрываемое изумление, сту¬
дент добавил: «Я понимаю, мы понимаем теперь, что это аб¬
сурдный довод. Иностранный язык, даже если он не может
ничему научить, может оставаться средством для обучения».
364
и все, что там делается для молодежи), перебивая друг
друга, задают вопросы. И интересуются они не тем,
есть ли детские сады во Франции, а тем, знаем ли мы
во Франции, что у них есть такие прекрасные детские
сады.
Вопросы, которые вам задают, иногда настолько
ошеломляют, что я боюсь их воспроизводить. Кто-ни¬
будь может подумать, что я их сам придумал. Когда я
говорю, что в Париже тоже есть метро,— скептиче¬
ские улыбки. «У вас только трамваи? Омнибусы?..»
Один спрашивает (речь уже идет не о детях, а о впол¬
не грамотных рабочих), есть ли у нас тоже школы во
Франции. Другой, более осведомленный, пожимает
плечами: да, конечно, во Франции есть школы, но там
бьют детей, он знает об этом из надежного источника.
Что все рабочие у нас очень несчастны, само собой ра¬
зумеется, поскольку мы еще «не совершили револю¬
цию». Для них за пределами СССР — мрак. За исклю¬
чением нескольких прозревших, в капиталистическом
мире все прозябают в потемках.
Образованные и очень благовоспитанные девочки
(в Артеке, куда допускаются только избранные) удив¬
лены, когда в разговоре о русских фильмах я им сооб¬
щил, что «Чапаев» и «Мы из Кронштадта» имели в Па¬
риже большой успех. Им ведь говорили, что все рус¬
ские фильмы запрещены во Франции. И поскольку им
говорили об этом учителя, я вижу, что девочки сомне¬
ваются не в их, а в моих словах. Французы — извест¬
ные шутники!
Группе морских офицеров на борту крейсера, кото¬
рый привел меня в восхищение («полностью построен в
СССР»), осмеливаюсь заметить, что, по моему мнению,
во Франции лучше знают о событиях в СССР, нежели в
СССР о том, что происходит во Франции. Поднялся не¬
одобрительный ропот: «Правда» достаточно полно обо
всем информирует». И вдруг резко какой-то лирик из
группы: «В мире не хватило бы бумаги, чтобы расска¬
зать обо всем новом, великом и прекрасном в СССР».
В этом же образцовом Артеке, раю для образцовых
детей — вундеркиндов, медалистов, дипломантов (по¬
365
этому я предпочитаю ему многие другие пионерские
лагеря, более скромные и менее аристократические),
тринадцатилетний мальчик, если я не ошибаюсь, при¬
бывший из Германии, но уже усвоивший здешний об¬
раз мыслей, показывает мне парк, обращая внимание
на его красоту: «Посмотрите, еще недавно здесь ниче¬
го не было... И вдруг — лестница. И так повсюду в
СССР: вчера — ничего, завтра — все. Посмотрите вон
на тех, рабочих, как они работают! И повсюду в СССР
такие же школы и пионерские лагеря. Разумеется, не
все такие красивые, потому что Артек В мире только
один. Сталин им специально интересуется. И все дети,
которые приезжают сюда,—-замечательные.
Скоро вы услышите тринадцатилетнего мальчика,
который будет лучшим виолончелистом в мире. Его та¬
лант уже так высоко ценят у нас, что подарили ему
редкую виолончель очень известного старинного мас¬
тера*.
А здесь! Посмотрите на эту стену! Разве подумаешь,
что ее построили за десять дней!»
Энтузиазм этого ребенка такой искренний, что я не
хочу обращать его внимание на трещины в этой наспех
возведенной стене. Он хочет видеть только то, что вы¬
зывает в нем гордость. В восхищении он добавляет:
«Даже дети этому удивляются» **.
* Спустя некоторое время я слышал, как этот чудо-ребе¬
нок исполнял на своем «Страдивари» Паганини и «Попурри»
Гуно, и должен признать, что это было поразительное испол¬
нение.
** Эжен Даби, с которым я говорил об этом комплексе
превосходства и к которому он со своей необычайной скром¬
ностью был особенно чувствителен, протянул мне второй
том «Мертвых душ» — он его как раз тогда перечитывал. В
начале тома помещено письмо Гоголя, Даби отчеркнул в нем
несколько строк: «Многие из нас уже и теперь, особенно
между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доб¬
лестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и вос¬
питать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Ев¬
ропе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство —
губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред само¬
366
Эти детские речи (внушенные, заученные, может
быть) показались мне настолько характерными, что я
в тот же вечер их записал и теперь воспроизвожу
здесь.
Я не хотел бы, однако, кому-нибудь дать повод
подумать, что других воспоминаний об Артеке у ме¬
ня не осталось. Слов нет, этот детский лагерь — чу¬
десный. Расположенный в прекрасном месте, очень
хорошо спланированный, он террасами спускается к
морю. Все, что можно придумать для блага детей,
для их гигиены, спортивных занятий, развлечений,
отдыха,— все рационально устроено на площадках
или на склонах холмов. Все дети дышат здоровьем,
счастьем. Они были очень разочарованы, когда уз¬
нали, что мы не можем остаться на ночь: в честь нас
был приготовлен традиционный костер, деревья на
нижней террасе украшены транспарантами. На ве¬
чер была назначена разнообразная программа —
песни, танцы,— но я попросил, чтобы все было за¬
кончено к пяти часам, нужно было вернуться в Се¬
вастополь до наступления ночи. И, как оказалось,
хорошо сделал, потому что в этот вечер заболел со¬
провождавший меня Эжен Даби. Ничто, однако, не
предвещало болезни, и он мог беззаботно наслаж¬
даться спектаклем, который нам предложили дети,
в особенности танцем маленькой таджички по име¬
ни, кажется, Тамара — той самой, которую обнимал
Сталин на громадных плакатах, расклеенных по
всей Москве. Невозможно выразить прелесть этого
танца и обаяние исполнявшего его ребенка. «Одно
из самых дивных воспоминаний об СССР»,— гово¬
рил мне Даби, так же думал и я. Это был последний
счастливый день.
му хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, ес¬
ли только им похвалишься и похвастаешь... Нет, по мне уж
лучше временное уныние и тоска от самого себя, нежели са¬
монадеянность в себе». Это русское «хвастовство», о кото¬
ром сожалеет Гоголь, нынешним воспитанием развивается и
поощряется.
367
Отель в Сочи — один из самых приятных. Превос¬
ходный парк. Пляж — красивейший, но купальщики
хотели от нас услышать, что ничего подобного у нас
во Франции нет. Из учтивости мы не стали им гово¬
рить, что во Франции есть пляжи лучше, гораздо луч¬
ше этого.
Да, замечательно, что этот комфорт, этот полулюкс
предоставлены в пользование народу, если только счи¬
тать, что приезжающие отдыхать сюда — не слишком
(снова) привилегированные. Обычно поощряются наи¬
более достойные, но при условии, если они следуют
«линии», не выделяются из общей массы. И только та¬
кие пользуются льготами.
Вызывает восхищение в Сочи множество санатори¬
ев и домов отдыха, живописно расположенных вокруг
города. И прекрасно, что все это построено для рабо¬
чих. Но тем более тяжело видеть, как тут же строят но¬
вый театр низкооплачиваемые, загнанные в нищен¬
ские лачуги рабочие.
Вызывает восхищение в Сочи Островский (см.
Приложение).
Если я расхваливал отель в Сочи, то что сказать об
отеле «Синоп», недалеко от Сухуми? Он гораздо более
высокого класса и в состоянии выдержать сравнение с
самыми лучшими, самыми красивыми, самыми ком¬
фортабельными заграничными бальнеологическими
отелями. Прекрасный парк сохранился еще с дорево¬
люционных времен, но здание построено совсем не¬
давно. Удобная планировка, в каждом номере терраса
и ванная комната. Мебель подобрана с отличным вку¬
сом. Кухня — превосходная, из лучших в СССР. Отель
«Синоп» — одно из тех мест на земле, где человек чув¬
ствует себя почти чуть ли не в раю.
Рядом с отелем совхоз, снабжающий его прови¬
зией. Восхищают образцовая конюшня, образцовый
хлев, образцовый свинарник и в особенности совре¬
менная гигантская птицеферма. У каждой курицы на
лапе кольцо с индивидуальным номером. Кладка яиц
368
тщательно регистрируется, у каждой курицы для этой
цели свой индивидуальный бокс, где ее запирают и вы¬
пускают только после того, как она снесется. (И мне
затруднительно объяснить, почему яйца, которые нам
подают в отеле,— не самые лучшие.) Добавлю, что по¬
пасть в эти места можно только после того, как вы вы¬
трете подошвы о специальный коврик, пропитанный
дезинфицирующим раствором. Скот рядом проходит
свободно — что поделаешь!
Перейдя ручей, за которым начинается территория
совхоза, вы увидите ряд лачуг. Комнату два на два с по¬
ловиной метра снимают вчетвером, по два рубля с чело¬
века в месяц. Обед в совхозной столовой стоит два руб¬
ля — роскошь, которую не может себе позволить чело¬
век, зарабатывающий 75 рублей в месяц. Кроме хлеба
рабочие вынуждены довольствоваться сушеной рыбой.
Неравенство в зарплате возражений не вызывает.
Согласен, это необходимо. Но есть другие способы
сгладить различия в жизненном уровне. Однако есть
опасения, что неравенство не только не устранится, а
станет еще ощутимее. Боюсь, как бы не сформирова¬
лась вскоре новая разновидность сытой рабочей бур¬
жуазии (и следовательно, консервативной, как ни кру¬
ти), похожей на нашу мелкую буржуазию.
Признаки этого видны повсюду*. И поскольку мы,
* Недавний закон о запрещении абортов поверг в отчая¬
ние всех, кому низкая зарплата не позволяет создать свой
дом, завести семью. Он поверг в отчаяние многих и по дру¬
гим причинам. Разве не обещали в связи с этим законом не¬
что вроде плебисцита, всенародного обсуждения, с результа¬
тами которого должны были посчитаться. Громадное боль¬
шинство высказалось (правда, более или менее открыто)
против этого закона. С общественным мнением не посчита¬
лись, и, к всеобщему изумлению, закон прошел. В газетах пе¬
чатались, само собой разумеется, только одобрительные вы¬
сказывания. В частных беседах, которые у меня были со мно¬
гими рабочими, я слышал только смиренные упреки, робкие
жалобы.
369
увы, не можем сомневаться в том, что буржуазные ин¬
стинкты, подогревающие жажду наслаждений, рас¬
слабляющие человека, делающие его равнодушным к
ближнему, дремлют в людских сердцах несмотря ни на
какую революцию (ибо человек не меняется, изменив¬
шись только внешне), я с тревогой слежу за тем, как в
нынешнем СССР эти буржуазные инстинкты косвенно
поощряются недавними решениями, встреченными у
нас с одобрением, которое у меня вызывает беспокой¬
ство. С восстановлением семьи (как «ячейки обще¬
ства»), права наследования и права на имущество по за¬
вещанию тяга к наживе, личной собственности заглу¬
шает чувство коллективизма с его товариществом и
взаимопомощью. Не у всех, конечно. Но у многих. И
мы видим, как снова общество начинает расслаивать¬
ся, снова образуются социальные группы, если уже не
целые классы, образуется новая разновидность ари¬
стократии. Я говорю не об отличившихся благодаря за¬
слугам или личным достоинствам, а об аристократии
всегда правильно думающих конформистов. В следую¬
щем поколении эта аристократия станет денежной.
Не преувеличены ли мои опасения? Хотелось бы,
чтобы это было так. Впрочем, СССР уже продемонст¬
рировал нам свою способность к неожиданным пово¬
ротам. Чтобы разом покончить с этим обуржуазивани-
ем, одобряемым и поощряемым сейчас правительст¬
вом, боюсь, как бы не понадобились в скором времени
крутые меры, которые могут оказаться столь же жес¬
токими, как и при ликвидации нэпа.
Как может не коробить то презрение или, по край¬
ней мере, равнодушие, которое проявляют находящие¬
Этот закон отчасти можно считать оправданным. Он на¬
правлен против очень прискорбных злоупотреблений. Но что
думать, если встать на марксистскую точку зрения, о другом
законе, принятом еще раньше и направленном против гомо¬
сексуалистов? В соответствии с этим законом они приравни¬
ваются к контрреволюционерам (инакомыслие преследуется
даже в сексуальной сфере), подвергаются высылке на пять
лет с повторным осуждением на тот же срок, если в ссылке
не последует исправление.
370
ся или чувствующие себя «при власти» люди по отно¬
шению к «подчиненным», чернорабочим, горничным,
домработницам * и, я собирался написать, бедным. Дей¬
ствительно, в СССР нет больше классов. Но есть бед¬
ные. Их много, слишком много. Я, однако, надеялся,
что не увижу их,— или, точнее, я и приехал в СССР
именно для того, чтобы увидеть, что их нет.
К этому добавьте, что ни благотворительность, ни
даже просто сострадание** не в чести и не поощряют¬
ся. Об этом заботу на себя берет государство. Оно забо¬
тится обо всем, и поэтому, естественно, необходимость
в помощи отпадает. И отсюда некоторая черствость во
взаимоотношениях, несмотря на дух товарищества. Ра¬
зумеется, здесь не идет речь о взаимоотношениях меж¬
ду равными. Но в отношении к «нижестоящим» «комп¬
лекс превосходства», о котором я говорил, проявляется
в полной мере.
Это мелкобуржуазное сознание, которое все более
и более утверждается там, с моей точки зрения, реши¬
тельно и глубоко контрреволюционное.
Но то, что нынче в СССР называют «контрреволю¬
ционным», не имеет никакого отношения к контррево¬
люции. Даже скорее наоборот.
Сознание, которое сегодня там считают контррево¬
люционным, на самом деле — революционное созна¬
ние, приведшее к победе над полусгнившим царским
режимом. Хотелось бы думать, что людские сердца пе¬
реполнены любовью к ближним или по меньшей мере
не совсем лишены чувства справедливости. Но как
* И как оборотная сторона всего этого — какой серви¬
лизм, какое угодничество у прислуги! Не в отелях — там она
держится с большим достоинством, что, впрочем, не мешает
искреннему радушию и сердечности,— а у той, которая име¬
ет дело с руководителями, «ответственными работниками».
** Хочу добавить: в севастопольском парке калека маль¬
чик на костылях останавливается перед сидящими на ска¬
мейках с просьбой о подаянии. Я долго наблюдаю за ним. Из
двадцати человек, к которым он обратился, подают восем¬
надцать. Но, несомненно, это сострадание вызвано его увеч-
ностью.
371
только революция совершилась, победила и утверди¬
лась, об этом уже нет речи, чувства, воодушевлявшие
первых революционеров, становятся лишними, они ме¬
шают, как и все, что перестает служить. Эти чувства
можно сравнить с лесами, которые возводят при клад¬
ке свода,— как только в замок положили последний
камень, их тотчас же убирают.
Сейчас, когда революция восторжествовала, когда
она утверждается и приручается, когда она вступает в
сделки, а по мнению иных — набирается ума, те, в ком
бродит еще революционный дух и кто считает компро¬
миссом все эти последовательно совершаемые уступ¬
ки, становятся лишними, они мешают, и поэтому их
проклинают и уничтожают. И не лучше ли вместо сло¬
весного жонглирования признать, что революционное
сознание (и даже проще: критический ум) становится
неуместным, в нем уже никто не нуждается. Сейчас
нужны только соглашательство, конформизм. Хотят и
требуют только одобрения всему, что происходит в
СССР. Пытаются добиться, чтобы это одобрение было
не вынужденным, а добровольным и искренним, что¬
бы оно выражалось даже с энтузиазмом. И самое по¬
разительное — этого добиваются. С другой стороны,
малейший протест, малейшая критика могут навлечь
худшие кары, впрочем, они тотчас же подавляются. И
не думаю, чтобы в какой-либо другой стране сегодня,
хотя-бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы
так несвободно, было бы более угнетено, более запуга¬
но (терроризировано), более порабощено.
IV
На нефтеперегонном заводе в окрестностях Суху¬
ми, где все кажется таким замечательным: столовая,4
рабочее общежитие, клуб (что касается самого завода,
я в этом ничего не понимаю, а просто верю, что он до¬
стоин восхищения), мы остановились перед «стенной
газетой», вывешенной, по обыкновению, в клубе. У нас
не было времени читать все заметки, но в рубрике
372
«Красная помощь», где в принципе должны быть сооб¬
щения из-за границы, нас удивило отсутствие какого-
либо намека на Испанию — в последние дни известия
оттуда вызывали беспокойство. Мы не стали скрывать
грустного удивления. Минута смущения, нас благода¬
рят за замечание — оно будет обязательно учтено.
Тот же вечер, банкет. Обычные многочисленные то¬
сты. Когда уже было выпито за всех гостей и хозяев,
поднимается Джеф Ласт и по-русски предлагает под¬
нять бокалы за победу Красного фронта в Испании. Бур¬
ные аплодисменты, но, как нам показалось, не без лег¬
кого замешательства. И сразу, как бы в ответ — тост за
Сталина. В свою очередь я предлагаю тост за политиче¬
ских заключенных в Германии, Венгрии, Югославии...
На этот раз аплодируют искренне, чокаются, выпивают.
И тотчас опять — тост за Сталина. Нам становится по¬
нятным, что по отношению к жертвам фашизма в Гер¬
мании и повсюду — все знают, какую следует занимать
позицию. Что же касается событий и борьбы в Испании,
все, как один, ждут указаний «Правды», которая по это¬
му поводу еще не высказалась. Пока не станет извест¬
но, что следует думать на этот счет, никто не хочет ри¬
сковать. И только спустя несколько дней (мы были уже
в Севастополе) мощная волна сочувствия и симпатии,
родившаяся на Красной площади, отозвалась в прессе, и
тогда же повсюду началась подписка в поддержку пра¬
вительственных войск в Испании.
В правлении завода нас поразила огромных разме¬
ров символическая картина — в центре изображен
Сталин, он что-то говорит, по обеим сторонам от него
члены правительства аплодируют.
Изображения Сталина встречаются на каждом ша¬
гу, его имя на всех устах, похвалы ему во всех выступ¬
лениях. В частности, в Грузии в любом жилище, даже
в самом жалком, самом убогом, вы непременно увиди¬
те портрет Сталина на том самом месте, где раньше ви¬
373
села икона. Я не знаю, что это: обожание, любовь,
страх, но везде и повсюду — он.
По дороге из Тифлиса в Батум мы проезжали через
Гори, небольшой город, где родился Сталин. Я поду¬
мал, что это самый подходящий случай послать ему те¬
леграмму в знак благодарности за прием в СССР, где
нас повсюду тепло встречали, относились к нам с вни¬
манием и заботой. Лучшего случая не представится.
Прошу остановить машину у почты и протягиваю текст
телеграммы. Содержание примерно такое: «Совершая
наше удивительное путешествие по СССР и находясь в
Гори, испытываю сердечную потребность выразить
вам...» Но в этом месте переводчик запинается: такая
формулировка не годится. Просто «вы» недостаточно,
когда это «вы» относится к Сталину. Это даже невоз¬
можно. Надо что-то добавить. И поскольку я недоуме¬
ваю, присутствующие начинают совещаться. Мне пред¬
лагают: «Вам, руководителю трудящихся», или «вождю
народов», или... я уж не знаю, что еще*. Мне это ка¬
жется абсурдом, я протестую и заявляю, что Сталин
выше всей этой лести. Я бьюсь напрасно. Делать нече¬
го. Телеграмму не примут, если я не соглашусь на до¬
полнения. И поскольку речь идет о переводе, который
я даже не могу проверить, соглашаюсь после упорного
сопротивления и с грустной мыслью о том, что все это
создает ужасающую, непреодолимую пропасть между
Сталиным и народом. И поскольку я уже обращал вни¬
мание на подобные добавления и уточнения в перево¬
дах моих речей**, произнесенных там, я тогда же зая¬
* Похоже, что я выдумываю, не правда ли? Увы, нет! И
пусть не стараются меня уверить, что дело в неловком усер¬
дии какого-нибудь не очень умного чиновника. Совсем нет,
там было много людей довольно высокопоставленных и, уж
во всяком случае, хорошо разбирающихся в таких делах.
** X. мне объясняет, что к слову «судьба», употребленно¬
му мной в разговоре об СССР, принято добавлять какое-ни¬
будь определение. Я предложил: «славная», X. одобрил и ска¬
зал, что это слово может удовлетворить всех. С другой сто¬
роны, он же мне советует воздержаться от слова «великий»,
когда речь идет о монархе. Монарх не может быть великим.
374
вил, что отказываюсь от всего опубликованного под
моим именем во время пребывания в СССР* и что я
еще об этом скажу. Вот я это и сделал теперь.
Ах, черт побери, во всех этих уловках, чаще всего
невольных, я не хочу ввдеть никакого подвоха, скорее
всего, это просто желание помочь человеку, не знако¬
мому с местными обычаями и которому лучше всего
согласиться и соответствующим образом подбирать
слова и выражать мысли.
Изменения и дополнения, которые Сталин посчи¬
тал своим долгом внести в планы первой и второй
пятилеток, свидетельствуют о такой мудрости и гиб¬
кости ума, что невольно задаешься вопросом — воз¬
можно ли было вообще большее постоянство; не бы¬
ло ли это отклонение от начального курса, отклоне¬
ние от ленинизма вызвано необходимостью; и не
потребовала ли бы большая верность начальному
курсу нечеловеческих усилий от всего народа. Во
всяком случае, есть издержки. И если не сам Ста¬
лин, то человек вообще, натура человеческая разоча¬
ровывают. Все, чего добивались, чего хотели, чего,
казалось, уже почти достигли ценой такой борьбы,
пролитой крови, слез,— и все это «выше человече¬
ских сил»? И что теперь? Ждать еще, смириться, от¬
ложить на будущее свои надежды? Вот о чем с отча¬
янием спрашиваешь себя в СССР. Даже подумать об
этом страшно.
После стольких месяцев, лет усилий человек впра¬
ве себя спросить: можно ли наконец немного припод¬
нять голову? Головы никогда еще не были так низко
опущены.
В том, что было отклонение от идеала, сомнений
ни у кого нет. Но одновременно должны ли мы со¬
* Не заставляли ли меня заявлять, что французская моло¬
дежь меня не понимала и не любила, что отныне я обязуюсь
писать исключительно для рабочего класса и т. п.
375
мневаться в том, что задуманное было осуществи¬
мо? Поражение это или необходимые и оправдан¬
ные уступки, вызванные неожиданными трудно¬
стями?
Этот переход от «мистики» к «политике» — связан
ли он неизбежно с деградацией? Поскольку речь идет
уже не о теории, а о практике, следует считаться с
menschliches, allzumenschliches * и считаться с врагом.
Сталин принял много решений, и все они в послед¬
нее время продиктованы страхом, который внушает
Германия. Постепенное восстановление семьи, личной
собственности, права наследования — все это объясня¬
ется достаточно убедительно: важно внушить советско¬
му гражданину чувство, что у него есть нечто свое,
личное, что следует защищать. Но так первый порыв
постепенно гаснет, устремленный вперед взгляд при¬
тупляется. Мне скажут, что все это необходимо, сроч¬
но, что вторжение внешних сил может погубить начи¬
нание. Но уступка за уступкой — и начинание скомп¬
рометировано.
Другая опасность — «троцкизм» и то, что там назы¬
вают «контрреволюцией». Есть люди, которые отказы¬
ваются считать, что нарушение принципов вызвано не¬
обходимостью. Эти уступки кажутся им поражением.
Им не важно, что отступление от первых декретов на¬
ходит свое объяснение и оправдание, им важен сам
факт этого отступления. Но сейчас требуются только
приспособленчество и покорность. Всех недовольных
будут считать «троцкистами». И невольно возникает
такой вопрос: что, если бы ожил вдруг сам Ленин?..
То, что Сталин всегда прав, означает, что Сталин
восторжествовал над всеми.
«Диктатура пролетариата» — обещали нам. Далеко до
этого. Да, конечно: диктатура Но диктатура одного чело¬
века, а не диктатура объединившегося пролетариата, Со¬
ветов. Важно не обольщаться и признать без обиняков:
* Человеческим, всечеловеческим (нет.).
376
это вовсе не то, чего хотели. Еще один шаг, и можно бу¬
дет даже сказать: это как раз то, чего не хотели.
Уничтожение оппозиции в. государстве или даже за¬
прещение ей высказываться, действовать — дело чрез¬
вычайно опасное: приглашение к терроризму. Для ру¬
ководителей было бы удобнее, если бы все в государ¬
стве думали одинаково. Но кто тогда при таком
духовном оскудении осмелился бы говорить о «культу¬
ре»? Как избежать крена без противовеса? Я думаю,
что это большая мудрость — прислушиваться к против¬
нику; даже заботиться о нем по необходимости, не по¬
зволяя ему вредить,— бороться с ним, но не уничто¬
жать. Уничтожить оппозицию... Как хорошо, что Ста¬
лину это плохо удается.
«В человечестве все непросто, надо примириться с
этим. И любая попытка все упростить, унифицировать,
свести к внешним проявлениям — отвратительна, до¬
рого обходится, оборачивается зловещим фарсом. По¬
тому что, к несчастью для Аталии, всегда находится
Иоас, к несчастью для Ирода, всегда находится «Свя¬
тое семейство»,— писал я в 1910 году.
V
Перед отъездом в СССР я писал: «Думаю, что цен¬
ность писателя определяется его связями с революци¬
онными силами, стимулирующими творчество, или,
точнее — ибо я не настолько глуп, чтобы признавать
только за левыми писателями способность создавать
художественные ценности,— оппозиционность. Эта
оппозиционность есть у Боссюэ, Шатобриана, в наши
дни — у Клоделя, она есть у Вольтера, Гюго, Мольера
и у многих других. При нашем общественном устрой¬
стве большой писатель, большой художник всегда ан¬
тиконформист. Он движется против течения. Это было
верно по отношению к Данте, Сервантесу, Ибсену, Го¬
голю... Эта закономерность, пожалуй, перестает дейст¬
377
вовать по отношению к Шекспиру и его современни¬
кам, о которых прекрасно сказал Д жон Аддингтон Си-
моцдс: «Драматическое искусство этого периода до¬
стигло таких вершин только потому, что авторы жили
и творили в согласии с народным мнением». Это вер¬
но и по отношению к Софоклу, и, безусловно, по отно¬
шению к Гомеру, устами которого, как кажется, пела
сама Греция. Эта закономерность нарушается с того
момента, когда... И тут в связи с СССР нас волнует во¬
прос: означает ли победа революции право художника
плыть по течению? Вопрос формулируется именно так:
что случится, если при новом социальном строе у ху¬
дожника не будет больше повода для протеста? Что
станет делать художник, если ему не нужно будет вста¬
вать в оппозицию, а только плыть по течению? Понят¬
но, что, пока идет борьба, победа еще не достигнута,
художник сам может участвовать в этой борьбе и отра¬
жать ее, способствуя тем самым достижению победы.
А дальше...
Вот о чем я себя спрашивал, отправляясь в СССР.
«Понимаете ли,— объяснял мне X.,— это совсем
не то, чего хотела публика; совсем не то, что нам се¬
годня нужно. Недавно он создал балет, очень яркий и
хорошо принятый. («Он» — это Шостакович, о кото¬
ром некоторые говорили мне с таким восхищением, с
каким обычно говорят о гениях.) Но как вы хотите,
чтобы народ отнесся к опере, из которой нельзя на¬
петь ни одной арии, выходя из театра?» (Куда хватил!
И вместе с тем X., сам художник, высокообразован¬
ный человек, говорил до сих пор со мной вполне ра¬
зумно.)
«Нам нужны нынче произведения, которые могут
быть понятны каждому. Если Шостакович этого не по¬
нимает, ему дадут это почувствовать—перестанут слу¬
шать его музыку». Я запротестовал, говоря, что неред¬
ко самые прекрасные произведения, даже те, что ста¬
новятся позже народными, доступны для понимания
вначале малому кругу людей; что сам Бетховен... и
378
протянул ему книжку, которая была у меня с собой:
смотрите вот здесь.
«Я тоже несколько лет назад (это говорил Бетхо¬
вен) давал концерт в Берлине. Я выложился без остат¬
ка и надеялся, что чего-то достиг и, следовательно, бу¬
дет настоящий успех. И смотрите, что получилось: ког¬
да я создал лучшее из того, на что способен,— ни
малейшего знака одобрения».
X. согласился со мной, что в СССР Бетховену было
бы трудно оправиться от подобного поражения. «Види¬
те ли,— продолжал он,— художник у нас должен
прежде всего придерживаться линии. Без этого самый
яркий талант будет рассматриваться как «формалисти¬
ческий». Именно это слово мы выбрали для обозначе¬
ния всего того, что мы не хотим видеть или слышать.
Мы хотим создать новое искусство, достойное нашего
великого народа. Искусство нынче или должно быть
народным, или это будет не искусство».
«Вы принудите ваших художников к конформиз¬
му,— сказал я ему,— а лучших из них, кто не захочет
осквернить искусство или просто его унизить, вы за¬
ставите замолчать. Культура, которой вы будто бы слу¬
жите, которую защищаете, проклянет вас».
Тогда он возразил, что я рассуждаю как буржуа.
Что же касается его самого, то он убежден, что марк¬
сизм, благодаря которому столько сделано в разных
областях, поможет создать и художественные творе¬
ния. И добавил, что если новые творения пока не появ¬
ляются, так это только потому, что слишком велика
роль искусства минувших эпох.
Он говорил все громче и громче, словно вел урок
или читал лекцию. Все это происходило в холле сочин¬
ской гостиницы. Я ему не стал возражать, и мы расста¬
лись. Но спустя короткое время он поднялся ко мне в
номер и прошептал:
«Ох, черт возьми! Я все понимаю... Но нас подслу¬
шивали только что... а у меня вот-вот должна открыть¬
ся выставка».
X. — художник и должен был выставлять свои по¬
следние картины.
379
Когда мы прибыли в СССР, там еще не затихли
окончательно споры о формализме. Я попытался по¬
нять, какой смысл вкладывали в это слово, и выяснил,
что в формализме обвинялся всякий художник, прояв¬
ляющий больший интерес к форме, нежели к содержа¬
нию. Кстати, добавлю, что достойным интереса (точ¬
нее, терпимым) считается только определенное содер¬
жание. Если этого нет, художественное произведение
считается формалистическим и вообще лишенным
смысла. Признаюсь, что не могу написать без улыбки
эти два слова — «форма» и «содержание». Хотя скорее
следовало бы плакать, зная, что критика основывается
на этом абсурдном разграничении. Возможно, что в
этом есть польза с политической точки зрения; но не¬
зачем тогда говорить о культуре. Культура в опасно¬
сти, когда критика перестает быть свободной.
Как бы прекрасно ни было произведение, в СССР оно
осуждается, если не соответствует общей линии. Красо¬
та рассматривается как буржуазная ценность. Каким бы
гениальным ни был художник, но, если он не следует об¬
щей линии, ему не дождаться внимания, удача отворачи¬
вается от него. От художника, от писателя требуется
только быть послушным, все остальное приложится.
Я видел в Тифлисе выставку современной живопи¬
си — из милосердия о ней лучше было бы вообще не
упоминать. Но в конце концов художники достигли по¬
ставленной цели, которая заключалась в том, чтобы по¬
учать (с помощью наглядного образа), убеждать, объ¬
единять (иллюстрациями служили эпизоды из жизни
Сталина). Ох, конечно, эти не были «формалистами»!
К несчастью, и художниками они тоже не были. Они
заставили меня вспомнить Аполлона, который, чтобы
услужить Адмету, погасил солнечные лучи и все равно
не помог. Но так как СССР в пластических искусствах
ни до, ни после революции заметных успехов не до¬
стиг, стоит лучше поговорить о литературе.
«Во времена моей молодости,— говорил мне X.,—
нам рекомендовали читать одни книга и не рекомевдо-
380
вали другие. Естественно, что эти последние привлека¬
ли наше внимание. Различие между тем и нашим вре¬
менем состоит в том, что молодежь читает только ре¬
комендованную литературу, ничего другого они читать
не желают».
Следовательно, у Достоевского читателей больше
нет, причем нельзя с уверенностью сказать, сама ли
молодежь от него отвернулась, или ее от него отторг¬
ли,— так обработаны мозги.
Ум, вынужденный, обязанный откликнуться на ко¬
манду, по крайней мере может чувствовать свою не¬
свободу. Но если он воспитан так, что предвосхищает
лозунги, тогда он не способен уже осознать собствен¬
ное свое рабство. Я думаю, многие молодые люди в
СССР были бы удивлены, стали бы протестовать, если
бы им сказали, что они несвободно мыслят.
Обычно мы не ценим то, что имеем, к чему при¬
выкли. Достаточно однажды побывать в СССР (или в
Германии, само собой разумеется), чтобы осознать,
сколь бесценна свобода мысли, которой мы еще на¬
слаждаемся во Франции и которой иногда злоупотреб¬
ляем.
В Ленинграде меня попросили выступить с неболь¬
шой речью перед студентами и литераторами. В СССР
я пробыл всего неделю и пытался найти верный тон,
поэтому передал текст речи X. и У. Мне тотчас же да¬
ли понять, что линия не выдержана, тон не тот и что
все, о чем я собирался говорить, совершенно неприем¬
лемо. Еще бы! Позже я все это понял сам. Впрочем,
случай не представился, и речь я не произнес. Вот она:
«Часто интересовались моим мнением о современ¬
ной литературе СССР. Я хотел бы объяснить, почему я
уклонялся от ответа. Это мне позволит уточнить одну
мысль из моей речи, произнесенной на Красной пло¬
щади в торжественный день похорон Горького. Я гово¬
рил о «новых проблемах», рожденных самим триум¬
фом советских республик, о проблемах, поставленных
историей и требующих разрешения. Сама необходи¬
мость о них задумываться добавляет немало славы
СССР. И так как будущее культуры представляется
381
мне тесно связанным с их решением, есть смысл к это¬
му еще раз вернуться и сделать ряд уточнений.
Большинство людей, и даже лучшие из них, никог¬
да не встречают благосклонно произведений, в кото¬
рых есть нечто новое, необычное, озадачивающее, при¬
водящее в замешательство; на благосклонность может
рассчитывать только то, что содержит в себе узнавае¬
мое, то есть банальность. И так же, как бывают баналь¬
ности буржуазные, бывают — это важно понять — ба¬
нальности и революционные. Важно убедиться также,
что все, идущее от доктрины, хотя бы самой здравой и
прочно утвердившейся, отнюдь не составляет ценности
художественного произведения и не способствует его
долголетию. Ценно то, что содержит в себе ответы на
еще не поставленные вопросы. Сильно опасаюсь, что
многие произведения, написанные в духе чистого мар¬
ксизма — чему они обязаны нынче своим успехом,—
оттолкнут последующие поколения своей стерильно¬
стью. И я верю, что сохранятся только произведения,
свободные от какого бы то ни было доктринерства.
С того момента, когда революция провозглашена,
победила и утверждается, искусство оказывается в
опасности почти такой же, как при фашизме: оно под¬
вергается опасности ортодоксии. Искусство, которое
ставит себя в зависимость от ортодоксии, даже и при
самой передовой доктрине, такое искусство обречено
на гибель. Победившая революция может и должна
предложить художнику прежде всего свободу. Без нее
искусство теряет смысл и значение.
Уолт Уитмен, узнав о смерти президента Линколь¬
на, написал лучшую свою песнь. Но если бы это было
не свободное творчество, если бы Уитмен вынужден
был ее написать по приказу и в соответствии с приня¬
тым каноном, она бы утратила всю свою красоту и при¬
влекательность. Или, скорее всего, Уитмен не смог бы
ее написать.
И поскольку (это само собой разумеется) благо¬
склонности, аплодисментов большинства удостаивает¬
382
ся все то, что публика тотчас может признать и одоб¬
рить, то есть то, что порождено конформизмом, я с
беспокойством спрашиваю себя: что, если в славном
ныне Советском Союзе прозябает неведомый толпе ка¬
кой-нибудь Бодлер, какой-нибудь Ките, или какой-ни-
будь Рембо, и он, этот избранник, не может заставить
услышать себя. Но именно он, единственный из всех,
мне важен и интересен, ибо отверженные сначала —
Рембо, Китсы, Бодлеры, Стендали даже — завтра ста¬
нут великими» *.
VI
Севастополь — последний пункт нашего путешест¬
вия. Несомненно, есть в СССР города более красивые
и более интересные, но нигде еще я себя так хорошо
не чувствовал. Я нашел в Севастополе общество не
столь избранное, не столь благополучное, как в Сочи
* Но, возразят мне, что мы станем делать сегодня с Кит-
сами и Бодлерами, Рембо и Стендалями? Они представляют
для нас интерес лишь потому, что отражают жизнь отмираю¬
щего, развращенного общества, продуктом которого они яв¬
ляются. Если они не могут возникнуть в новом современном
обществе, тем хуже для них и тем лучше для пас, ни они, ни
им подобные ничему не могут нас научить. Сегодня нас мо¬
жет научить только такой писатель, который чувствует себя
совершенно свободно в новом обществе и которого вооду¬
шевляет все то, что мешало старым писателям. Иначе гово¬
ря, тот, кто все одобряет, всему аплодирует и считает себя
счастливым.
Но именно писания этих аллилуйщиков очень мало со¬
держат поучительного, и совсем не к ним следует прислуши¬
ваться народу, который хочет развиваться. Лучше всего учит
то, что заставляет думать.
Что касается литературы, которую можно было бы на¬
звать зеркальной, то есть взявшей на себя только функцию
отражения (общества, события, времени), мне уже приходи¬
лось говорить, что я о ней думаю.
Самосозерцанием, самовосхищением может быть озабо¬
чено только еще очень молодое общество. И достойно сожа¬
ления, если это его единственная забота.
383
или Сухуми, увидел жизнь русских во всей ее полноте,
с ее лишениями, недостатками, страданиями, увы! —
наряду с ее достижениями и успехами, со всем тем,
что вселяет в человека надежду на счастье. Тени иног¬
да просветлялись, иногда сгущались, но и самое свет¬
лое, и самое темное из того, что я мог видеть здесь,
одинаково привязывало меня — иногда с болью — к
этой земле, к этому спокойному народу, к этому ново¬
му климату, который благоприятствовал будущему и в
котором неожиданно могло произрасти новое семя. Со
всем этим мне предстояло расстаться.
И уже сердце начинала сжимать неведомая тоска:
что скажу, вернувшись в Париж? Как отвечать на во¬
просы, которых не избежать? Разумеется, от меня бу¬
дут ждать искренних ответов. Как объяснить, что в
СССР мне бывало поочередно (морально) и так холод¬
но и так жарко? Снова заявляя о своей любви, должен
ли я буду скрывать свои опасения и, все оправдывая,
лгать? Нет, я прекрасно понимаю, что тем самым я ока¬
жу плохую услугу и СССР, и его революционным иде¬
ям. Но было бы большой ошибкой увязывать одно с
другим и считать несостоятельной идею, потому что
нам не все нравится в СССР.
Помощь, которую СССР только что оказал Испа¬
нии, свидетельствует о возможности перемен.
СССР не перестает удивлять, не перестает оставать¬
ся для нас наукой.
ПРИЛОЖЕНИЕ
I
Антирелигиозная борьба
Я не был в московских антирелигиозных музеях, но
в ленинградском, в Исаакиевском соборе, был, его зо¬
лотой купол восхитительно сияет над городом. Снару¬
жи музей выглядит очень хорошо, внутри — ужасно.
Большие картины на религиозные темы могут подвиг¬
нуть на богохульство — так они безобразны. В самом
музее все обходится без грубостей, каких можно было
бы ожвдать. Речь там идет о противопоставлении рели¬
гии и науки. Экскурсоводы приходят на помощь тем
ленивым умам, которых не убедили различные оптиче¬
ские приборы, астрономические, биологические, ана¬
томические или статистические таблицы. Все в рамках
приличий, без излишней агрессивности. Во всем этом
больше от Реклю или Фламмариона, чем от Лео Такси-
ля. Очень достается, например, попам. Но нескольки¬
ми днями раньше в окрестностях Ленинграда, по доро¬
ге в Петергоф, мне случилось повстречать одного по¬
па, настоящего. Его вид был более красноречив, чем
все антирелигиозные музеи СССР, вместе взятые. Не
буду его описывать. Убогий, нелепый, грязный, он ка¬
зался специальным изобретением большевизма, кото¬
рый с помощью этого чучела надеялся навсегда из¬
гнать из деревень религиозные чувства.
С другой стороны, я не могу забыть колоритного
монаха-сторожа очень красивой церкви, где мы были
незадолго перед поездкой в X. Сколько достоинства во
всей осанке! Сколько благородства в чертах лица!
385
Сколько печальной гордости и смирения! И ни едино¬
го слова, ни жеста, ни взгляда в нашу сторону. Украд¬
кой рассматривая его, я подумал о евангельской
«tradebat autem», вдохновившей Боссюэ на великолеп¬
ный порыв красноречия.
Археологический музей Херсонеса в окрестностях
Севастополя тоже расположен в церкви *. Настенную
живопись в ней пощадили, несомненно, из-за ее анти¬
художественности. Поверх фресок развешаны повсю¬
ду плакаты. Под изваянием Христа надпись: «Легендар¬
ная личность, которая никогда не существовала».
Я не уверен, что СССР ведет эту антирелигиозную
войну как следует. Марксисты поступили бы правиль¬
но, если бы сосредоточились только на истории и, от¬
рицая божественность (и даже существование) Христа,
отбросив церковные догмы, идею воскрешения, попы¬
тались бы тем не менее отнестись критически и по-че-
ловечески к учению, принесшему в мир новую надеж¬
ду и самый сильный революционный фермент, какой
только был возможен в то время. Можно было бы да¬
же сказать о том, как церковь предала эти надежды,
как освободительная евангельская доктрина — увы,
при попустительстве церкви — способствовала худ¬
шим злоупотреблениям властью. Все-таки это куда
лучше, чем все отрицать и замалчивать. Веда невоз¬
можно ни стереть, ни утаить прошлое, и из-за невеже¬
ства, на которое обрекли народы СССР, они беззащит¬
ны и беспомощны перед эпидемией мистики, способ¬
ной возникнуть в любое время.
Более того, во всем этом есть еще практическая
сторона, и я уже высказывал свои соображения по это¬
му поводу. Невежество, пренебрежение к Евангелию
и всему, связанному с ним, может только самым пла¬
чевным образом обеднить человечество, его культуру.
* В другой церкви, в районе Сочи, мы присутствовали на
танцах. На месте алтаря пары кружатся под звуки танго или
фокстрота.
386
Мне не хотелось бы, чтобы подобные суждения сочли
за рецидивы моего первоначального образования и
воспитания. То же самое я сказал бы и о греческих ми¬
фах, воспитательное значение которых огромно и веч¬
но. Мне кажется абсурдным верить в них, но в равной
степени абсурдно не признавать истину, которую они в
себе заключают, и думать, что можно ограничиться
улыбкой и пожиманием плеч. Что касается консерва¬
тивного влияния религии на сознание, отпечатка, кото¬
рый может наложить на него вера, я знаю об этом и ду¬
маю, что было бы хорошо освободить от всего этого
нового человека. Я допускаю также, что суеверие, под¬
держанное священником, наносит страшный ущерб мо¬
рали в деревне и повсюду (я был в апартаментах цари¬
цы), и понимаю, что может возникнуть желание разом
избавиться от всего этого, но... У немцев есть хорошая
поговорка, я не могу подобрать схожей французской:
«Вместе с водой выплеснули ребенка». По невежеству
и в великой спешке. И что вода в корыте была грязная
и зловонная — может быть. Настолько грязная, что не
пришло даже в голову подумать о ребенке, выплесну¬
ли все сразу, не глядя.
И когда я слышу теперь, как говорят, что по. сооб¬
ражениям терпимости, по прочим разным соображени¬
ям надо отливать заново колокола, боюсь, чтобы это не
стало началом, чтобы не заполнили снова грязной во¬
дой купель... в которой уже нет ребенка.
II
Островский
Я не могу говорить об Островском, не испытывая
чувства глубочайшего уважения. Если бы мы были не
в СССР, я бы сказал: «Это святой». Религия не создала
более прекрасного лица. Вот наглядное доказательство
того, что святых рождает не только религия. Достаточ¬
но горячего убеждения, без надежды на будущее воз¬
награждение. Ничего, кроме удовлетворения от созна¬
ния выполненного сурового долга.
387
В результате несчастного случая Островский стал
слепым и совершенно парализованным... Лишенная
контакта с внешним миром, приземленности, душа Ос¬
тровского словно развилась ввысь.
Мы столпились возле кровати, к которой он давно
прикован. Я сел у изголовья, протянул ему руку, которой
он овладел, и даже лучше было бы сказать: через кото¬
рую он словно бы соединился с жизнью. И в течение це¬
лого часа, пока мы были у него, его худые пальцы пере¬
плетались с моими, посылая мне токи горячей симпатии.
Островский слеп, но он говорит, он слышит. Его
мысль напряженна и активна, работе мысли MOiyr по¬
мешать лишь физические страдания. Но он не жалует¬
ся, и его прекрасное высохшее лицо не утратило спо¬
собности улыбаться, несмотря на медленную агонию.
Он лежит в светлой комнате. В раскрытые окна доле¬
тают голоса птиц, запахи цветов из сада. Какой покой
здесь! Мать, сестра, друзья, посетители скромно стоят по¬
одаль от кровати. Некоторые записывают наш разговор.
Я говорю Островскому, что его постоянство придает мне
сил. Но похвала его смущает—восхищаться надо только
Советским Союзом, проделана громадная работа. Только
этим он и интересуется, не самим собой. Трижды я поры¬
вался уйти, опасаясь его утомить,— такое неослабеваю¬
щее горение не может не истощать силы. Но он просит
меня остаться, чувствуется, что ему хочется говорить
еще. Он будет продолжать говорить и после нашего ухо¬
да, говорить для него — это значит дикторать. Именно та¬
ким способом он мог написать книгу, где рассказал о
своей жизни. Сейчас он д иктует другую. С утра до вече¬
ра, долго за полночь он работает, без конца диктует.
Наконец я поднимаюсь, чтобы уходить. Он просит
меня поцеловать его. И, прикасаясь губами к его лбу,
я едва сдерживаю слезы. Мне кажется вдруг, что я его
знаю очень давно и что я расстаюсь с другом. Мне ка¬
жется также, что это он уходит от нас, я оставляю уми¬
рающего... Но проходят месяцы и месяцы, и мне сооб¬
щают, что он продолжает существовать на грани жиз¬
ни и смерти и что только энтузиазм поддерживает в
ослабевшем теле это готовое вот-вот погаснуть пламя.
388
Ill
Колхоз
Итак, 16 с половиной франков за рабочий день. Не¬
густо. Но колхозный бригадир, с которым мы долго бе¬
седуем, пока товарищи ушли купаться (колхоз на берегу
моря), объясняет мне, что «трудодень» — мера условная.
Хороший работник может выработать за день два или да¬
же три рабочих дня *. Он показывает мне индивидуаль¬
ные книжки и расчетные ведомости — те и другие про¬
ходят через его руки. Учитывается не только количест¬
во труда, но и его качество. Звеньевые сообщают ему
необходимые сведения, и на их основании составляются
расчетные ведомости. Все это требует сложных расче¬
тов, и он не скрывает, что немного устал. В то же время
он очень доволен — на его личном счету уже триста тру¬
додней с начала этого года (мы разговариваем с ним 3
августа). В бригаде у него 56 человек, он руководит ими
с помощью звеньевых. Одним словом — иерархия. Но
расценки для всех одинаковые. Кроме того, каждый
пользуется продуктами с приусадебного участка, кото¬
рый он обрабатывает, закончив работу в колхозе.
Для работы нет точно установленного времени: ес¬
ли нет особой срочности, каждый работает тогда, ког¬
да он хочет.
Это вынуждает меня задать вопрос: «Бывают ли та¬
кие, кто вырабатывает меньше трудодня за день?» —
«Нет, такого не бывает»,— ответили мне. Несомненно,
что «трудодень» обозначает не тот объем работы, кото¬
рый вырабатывается «в среднем», а легко достижимый
минимум. Кроме того, отпетых лодырей тотчас бы вы¬
гнали из колхоза. А преимущества, связанные с пребы¬
ванием в колхозе, настолько очевидны для всех, что
каждый старается в него вступить. Но напрасно — чис¬
ло колхозников ограничено.
Таким образом, эти привилегированные колхозни¬
ки как будто в состоянии заработать около 600 рублей
в месяц. «Квалифицированный» рабочий часто получа¬
* Трудодень делится на десять равных частей.
389
ет больше. Неквалифицированный — а их подавляю¬
щее большинство — зарабатывает 5—6 рублей в день *.
Чернорабочий зарабатывает еще меньше.
Государство, вероятно, могло бы их обеспечить по¬
лучше. Но пока не будет в достаточном количестве по¬
требительских товаров, рост зарплаты привел бы толь¬
ко к росту цен. По крайней мере, так объясняют.
А пока разница в зарплате вынуждает повышать
квалификацию. Очень много чернорабочих, большая
нехватка кадров, специалистов. Делается все, чтобы их
подготовить. И ничто меня так не восхищает в СССР,
как повсеместная доступность образования для самых
обездоленных тружеников, что позволяет им (а это за¬
висит только от них самих) выбиться из того жалкого
состояния, в котором они сейчас находятся.
IV
Болшево*
В Болшеве я был. Сначала это была только дерев¬
ня, выросшая из земли, как по команде, шесть лет на¬
зад, кажется, по инициативе Горького. Сегодня это до¬
вольно большой город.
У него есть одна очень важная особенность: все его
жители — бывшие уголовники, даже убийцы... Этой
мыслью руководствовались, когда проектировали и
строили город: дескать, это жертвы, отверженные и ра¬
зумное перевоспитание может сделать из них отлич¬
ных советских граждан. Чему и является доказательст¬
вом Болшево. Город процветает. Здесь были построе¬
ны заводы, которые вскоре стали образцовыми.
* Должен ли я напоминать, что теоретически рубль равен
трем французским франкам, то есть иностранец, прибываю¬
щий в СССР, обменивает три франка на один рубль. Но по¬
купательная способность рубля ниже покупательной способ¬
ности франка. Кроме того, многие продукты — и из самых
необходимых — стоят еще очень дорого (яйца, молоко, мя¬
со, масло в особенности). Что же касается одежды!..
390
Все жители Болшева, исправившиеся сами по себе,
без какого-либо стороннего влияния, усердно трудятся,
любят спокойствие и порядок, отличаются исключи¬
тельным добронравием и стремлением к знаниям. Все
средства для этого в их распоряжении. И я восхищал¬
ся не только их фабриками, они приглашали меня в за¬
лы для собраний, клубы, библиотеки — всюду, где они
бывают,— и лучшего нельзя ничего желать. Напрасно
вы стали бы искать на лицах этих бывших преступни¬
ков, в их повадках, языке какие-либо следы их про¬
шлой жизни. Трудно представить себе что-нибудь бо¬
лее поучительное, успокаивающее, обнадеживающее,
чем эта встреча. Она позволяет думать, что вина за
преступление ложится не на человека, его совершив¬
шего, а на общество, вынудившее его к этому. Мы по¬
просили сначала одного из них, потом другого расска¬
зать о прошлых своих преступлениях, о том, как они
меняли жизнь, как пришли к пониманию справедливо¬
сти новой власти, какие она лично у них вызывает чув¬
ства. И странно — мне это напомнило поучительные
исповеди, которые я слышал два года назад в Тауне на
собрании сторонников оксфордского движения: «Я
был грешный и несчастный, я делал зло, но теперь я
понял, я спасен, я счастлив». Все это немного грубова¬
то, немного наивно, психолог этим не удовлетворился
бы. Как бы там ни было, а Болшево остается одним из
самых замечательных достижений, которыми может
похвастаться новое Советское государство. Не знаю,
настолько ли податлив человек в других странах.
V
Беспризорники
Я очень надеялся, что беспризорников больше не
увижу. В Севастополе их полным-полно. Говорят, что
в Одессе их еще больше. Это уже новое поколение. У
* Впоследствии я узнал, что в этом образцовом городе
разрешается жить только пресгупникам-доносителям.
391
нынешних, может быть, живы еще родители, эти дети
сбежали из родной деревни, иногда в поисках приклю¬
чений, но чаще всего потому, что знали: едва ли где-
нибудь еще можно быть столь же несчастным и голо¬
дным, как дома. Иным меньше десяти лет. Их узнаешь
по тому, что они «более одеты» (я не говорю «лучше»),
чем другие дети. Это означает: они надевают на себя
все, что у них есть. На других детях очень часто ниче¬
го нет, кроме трусов. (Сейчас лето и стоит сильная жа¬
ра.) Они бродят по улицам босиком, полуголые. И в
этом не следует непременно видеть знак бедности.
Они принимают душ, у них есть свой угол, где они мо¬
гут оставить одежду на случай дождя, зимнюю одеж¬
ду. Что же касается беспризорников — они бездом¬
ные. Кроме трусов на беспризорнике еще какие-то лох¬
мотья.
Чем живут беспризорники, я не знаю, знаю только,
что, если им выпадает возможность купить кусок хле¬
ба, они его тотчас съедают. Большинство веселы, не¬
смотря ни на что. Но некоторые крайне измождены.
Мы беседуем со многими из них, завоевываем их до¬
верие. В конце концов они показывают нам место, где
часто проводят ночь, когда погода не позволяет спать
на улице: это недалеко от площади с памятником Ле¬
нину, под красивой галереей на причальной набереж¬
ной. Там, где спуск к воде, с левой стороны в углубле¬
нии галереи есть небольшая деревянная дверь. Однаж¬
ды утром, когда еще совсем безлюдно (чтобы не
раскрыть тайник и не заставить поменять пристанище),
я потянул эту дверь на себя — передо мной оказалась
небольшая ниша вроде алькова, и там, свернувшись ко¬
тенком, спало маленькое изголодавшееся существо. Я
закрыл дверь, пока оно не успело проснуться.
Однажды утром знакомые беспризорники вдруг ис¬
чезли (обычно они обретаются в городском парке). По¬
зже все же нам попался один из них, он сообщил, что
милиция сделала облаву и всех засадили. Двое из мо¬
их попутчиков, впрочем, присутствовали при этой об¬
лаве. Милиционер, с которым они говорили, объяснил,
Что все будут сданы в государственное заведение. На
392
другой день все снова оказались на прежних местах.
«В чем дело?» — «Мы им не нужны»,— отвечают маль¬
чишки. Но, может быть, они сами не захотели подчи¬
ниться дисциплине? Может быть, они сами удрали сно¬
ва? Милиции было бы нетрудно их снова вернуть на
место. Думается, они должны были бы радоваться воз¬
можности избавиться от нищенства и брод яжничества.
Или они предпочитают свое свободное нищенство то¬
му, что им обещают?
Я видел, как двое в штатском забирали малыша,—
которому было лет восемь. Они были вынуждены брать
его вдвоем, потому что мальчонка, как звереныш, отби¬
вался изо всех сил, он рыдал, визжал, топал ногами, пы¬
тался кусаться... Возвращаясь через час и проходя ми¬
мо этого места, я увидел того же самого малыша, уже
успокоившегося. Он сцдел на тротуаре. Один из штат¬
ских стоял рядом и разговаривал с ним. Мальчик уже
не пытался убежать, он улыбался мужчине. Подошел
большой грузовик, остановился. Мужчина помог ребен¬
ку в него забраться. Куда он должен был его отвезти?
Я не знаю. И если я рассказываю об этом незначитель¬
ном факте, то потому только, что очень немногое в
СССР тронуло меня так, как поведение этого человека
по отношению к бездомному ребенку: убеждающая
мягкость его голоса (ах, как хотел бы я понимать, что
он ему говорил!), располагающая ласковость улыбки,
нежность, с какой он брал его на руки... Я вспомнил
«Мужика Марея» Достоевского и подумал: уже из-за
одного этого стоило приезжать в СССР.
ПОПРАВКИ К МОЕМУ
«ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ СССР»
(июнь 1937)
I
За публикацию «Возвращения из СССР» меня бра¬
нили многие. Выступление Ромена Роллана меня огор¬
чило. Я никогда особенно не восхищался его писания¬
ми, но, по крайней мере, я чрезвычайно высоко ценю
его моральный авторитет. И вот в чем причина моей
печали: редко кто завершает жизнь, удержавшись на
высоте своего величия. Я думаю, что автор «Над схват¬
кой» должен сурово осудить состарившегося Роллана.
Орел устроил свое гнездо, он в нем отдыхает.
Наряду с ругателями было несколько и доброжела¬
тельных критиков. Я пишу эту книгу, чтобы им всем
ответить.
Поль Низан, обычно очень разумный, делает мне
странный упрек: «СССР представлен как неизменяю-
щийся мир». Не знаю, откуда он это увидел. Советский
Союз меняется каждый месяц, я писал об этом. И
именно это меня пугает. Из месяца в месяц положение
дел в СССР ухудшается. Все больше и больше он от¬
клоняется от того, чем, мы надеялись, он должен был
бы быть.
Конечно, я восхищаюсь вашей верой, постоянством
вашей любви (я говорю это без иронии), но вместе с
тем, товарищи, признайтесь, что вами начинает овладе¬
вать беспокойство. С возрастающей тревогой вы вы¬
нуждены себя спрашивать (в связи с процессами в Мо¬
394
скве, например): до каких пор можно будет все это оп¬
равдывать? Рано или поздно ваши глаза раскроются,
они вынуждены будут раскрыться. И тогда вы, поря¬
дочные люди, вы вынуждены будете спросить себя:
как могли мы так долго их держать закрытыми? *
Впрочем, наиболее осведомленные из честных
людей не опровергают мои утверждения. Они пыта¬
ются искать и находить объяснения. Да, именно объ¬
яснения, которые были бы одновременно, и оправда¬
нием печального положения дел. Потому что для них
речь идет не только о том, чтобы показать, как это
все могло случиться (что в конечном счете понять
довольно нетрудно), но доказать, что именно так и
должно быть, что все справедливо или, по крайней
мере, через это необходимо пройти, что путь, кото¬
рым следуют, повернувшись спиной к социализму и
к идеалам Октябрьской революции, ведет тем не ме¬
нее к коммунизму. И что другого нет, и что только я
ничего в этом не понимаю.
«Поверхностный анализ, поспешные выводы»,— го¬
ворили о моей книге. Как будто не поверхностными,
не внешними проявлениями нас очаровывал СССР! И
как будто, не вглядевшись пристальнее, мы стали заме¬
чать худшее!
Червь прячется в глубине плода. Но когда я вам
сказал: «Это яблоко червивое», вы обвинили меня в
том, что я плохо вижу, или в том, что я не люблю яб¬
локи.
* Ох, сколько их уже, честных душ, которые начинают
мучиться! И будут мучиться все больше и больше, пока не бу¬
дут вынуждены наконец признать ошибку.
«Старый коммунист, советский функционер, проработав¬
ший более трех лет в СССР в прессе, в пропагандистском ап¬
парате, в инспекции предприятий, после мучительной внут¬
ренней борьбы, после самых страшных в моей жизни сомне¬
ний, я пришел к тем же самым выводам, что и вы»,— пишет
мне А. Рудольф, автор «Abschied von Sowjetrussland».
395
Если бы я только восхищался, вы не сделали бы
мне этого упрека (в поверхностности суждений). Но
именно тогда я заслуживал бы его больше всего.
Вашу критику я признаю. Она та же самая, какую
вызвали в свое время «Путешествие в Конго» и «Воз¬
вращение из Чада». Мне возражали тогда:
1) Что отмеченные мной злоупотребления носили
частный характер и не влекли за собой последствий
(потому что отрицать их было нельзя);
2) Чтобы найти настоящее положение дел прекрас¬
ным, достаточно только его сравнить с предшествую¬
щим, с тем, которое было до завоевания (чуть было не
сказал: до революции);
3) Все, осуждаемое мной, имело свое законное пра¬
во на существование, я один будто бы только не пони¬
мал, что это — временное зло в предвидении будуще¬
го большого блага.
В то время атака критики, оскорбления шли справа.
А вам, левым, не пришло тогда в голову уличать меня
в явной «некомпетентности», вам выгодно было ис¬
пользовать мои утверждения, потому что они отвечали
вашим намерениям, служили вашим целям. То же са¬
мое и теперь — вы не стали бы упрекать меня в неком¬
петентности, если бы я хвалил СССР и заявил, что все
там идет прекрасно.
И тем не менее (и это единственно для меня важ¬
но) расследование в Конго подтвердило впоследствии
все, о чем я тогда писал. То же и теперь: различные
свидетельства, которые до меня доходят, данные, кото¬
рые .я мог собрать, отчеты непредвзятых очевидцев
(какими бы большими «друзьями СССР» они ни были
до и после поездки туда) — все это подтверждает мои
суждения относительно настоящего положения дел в
СССР, усиливает мои опасения.
Слабость и уязвимость моего «Путешествия в Кон¬
го» заключалась вот в чем: я не мог ни на кого ссы¬
396
латься, указывать на источники, называть и тем са¬
мым подвергать опасности тех, кто, доверяя моей
скромности, говорил со мной или позволял знако¬
миться с документами, которые обычно предпочита¬
ют не показывать и которые, следовательно, мне не
позволено было цитировать.
II
Меня упрекали в том, что мои суждения не имеют
под собой твердой почвы, что из эпизодических фак¬
тов я поспешно сделал окончательные выводы. Факты,
которые я приводил, может быть, были точны, но слу¬
чайны и ничего не доказывали.
Из своих наблюдений я отбирал только наиболее
типичные. (Дальше мне придется поделиться и некото¬
рыми другими.) Мне казалось бесполезным насыщать
книгу цифрами, статистическими таблицами. Во-пер¬
вых, потому, что у меня правило ссылаться на то, что
я видел или слышал сам. Во-вторых, потому, что я не
слишком доверяю официальным цифрам. И в, особен¬
ности еще потому, что эти цифры, эти «таблицы» (они,
впрочем, мне были известны) можно найти в другом
месте.
Но поскольку вопрос ставится таким образом, вы¬
нужден сделать некоторые уточнения.
Фернан Гренье, Жан Понс и профессор Алессавд-
ри, я думаю, путешествовали вместе. С группой из ста
пятидесяти девяти человек, таких же, как и они, «дру¬
зей СССР». Нет ничего удивительного в том, что сви¬
детельства трех обвинителей (обвиняемый — это я)
совпадают. Цифры, на которые они ссылаются, чтобы
убедить меня, будто я ошибся, те же самые, те, кото¬
рыми их снабдили и которые они не потрудились про¬
верить.
Постараюсь объяснить, почему они плохо согла¬
суются с цифрами, полученными от гораздо более
397
осведомленных свидетелей, долго работавших в
СССР, имевших возможность увидеть «изнанку»,—
в то время как сто шестьдесят два путешественника
были в СССР проездом. Все их путешествие продол¬
жалось двадцать дней, две недели они были в Рос¬
сии: с 14 по 28 августа. В течение этого непродол¬
жительного времени они могли многое увидеть, но
только то, что им показывали. Никто из них (я имею
в виду моих трех обвинителей) не говорит по-рус-
ски. Надеюсь, они не станут возражать, если я в
свою очередь посчитаю их утверждения несколько
поверхностными.
Я уже говорил: когда я путешествовал в Африке «в
сопровождении», почти всегда мне все казалось пре¬
красным. Я стал ясно видеть и понимать только тогда,
когда, оставив губернаторский автомобиль, решил пой¬
ти по стране один, пешком, чтобы полгода непосредст¬
венно общаться с местными жителями.
Ох, еще бы, я тоже видел в СССР достаточно образ¬
цовых фабрик, клубов, школ, парков культуры, дет¬
ских садов, которые восхищали и меня тоже. Итак же
как Гренье, Понс или Алессандри, я легко поддался
очарованию, чтобы в свою очередь и самому сеять ил¬
люзии. И поскольку очень приятно быть соблазненным
и соблазнять, я хотел бы, чтобы те, кого я назвал, по¬
верили: решаясь протестовать против такого соблазна,
я должен иметь очень серьезные аргументы и посту¬
паю так отнюдь не из легкомыслия.
Добросовестность Жана Понса достойна всяческо¬
го уважения, так же как и его детская трогательная до¬
верчивость*. Он принимает на веру все, что ему ска¬
* Если только она не вызывает смех, как, например, в
этом случае: «В гостиной... я вижу Минерву, Юпитера, Диа¬
ну. Рабочие, ничего не меняя, добавили только бронзовый
бюст Ленина.
Сходство между Минервой и Лениным кажется непонят¬
ным. Между тем оно существует, оно перед нашими глазами.
398
жут, ничего не подвергая сомнению,— так же как и я
вначале.
Глядя на цифры, которые он приводит (или кото¬
рые приводят Алессандри и Гренье) о продукции одно¬
го из заводов и которые нельзя не признать сногсши¬
бательными, я предлагаю этим товарищам сведения
для размышления, напечатанные в «Правде» от 12 но¬
ября 1936 года:
«Во втором квартале из общего количества автомо¬
бильных запасных частей, выпущенных Ярославским
заводом (а именно этой цифрой победоносно потряса¬
ет официальная статистика.— А. Ж), 4000 штук оказа-
лись бракованными, в третьем квартале — 27200
штук».
В номере от 14 декабря в заметке о выпуске стали
«Правда» пишет: «В течение февраля — марта было
изъято 4,6 процента бракованного металла, в сентяб¬
ре —. октябре — 16,2 процента».
Скажут, что это «саботаж». Недавние большие про¬
цессы могут как будто свидетельствовать в пользу это¬
го предположения. Но можно, однако, считать этот
брак и расплатой за чрезвычайную и неоправданную
интенсификацию производства.
Программы, конечно, замечательные, но, думается,
при нынешнем уровне «культуры» определенный объ¬
ем производства можно превзойти только ценой чрез¬
вычайных потерь.
С апреля по август Ижевский завод допустил брак
на 416000 рублей, а за ноябрь потери составляют уже
176000 рублей.
Несчастные случаи на автомобильном транспорте
обусловлены как переутомлением шоферов, так и пло¬
хим техническим состоянием автомобилей: из 9992 ав¬
томобилей, проверенных в 1936 году, 1958 признаны
неисправными. В одном из гаражей 23 машины из
Это доказывает, что коммунизм является естественным, ло¬
гическим, неизбежным завершением многих веков челове¬
ческой истории, наследником высочайшей, выработанной за
многие века культуры».
399
24 признаны негодными для эксплуатации, в другом —
44 из 52 («Правда», 1936, 8 августа).
Из 50 миллионов граммофонных пластинок, пре¬
дусмотренных программой 1935 года, Ногинский завод
должен был выпустить 4 миллиона. Выпустил он толь¬
ко 1992000, из них бракованных 309800. (Эти данные
сообщает «Правда» от 18 ноября 1936 г.)
В первом квартале 1936 года объем выпускаемой
продукции составлял 49,8 процента от предусмотрен¬
ного планом. Во втором квартале — 32,8 и в третьем —
только 26.
С одной стороны, падает кривая выпуска продук¬
ции, с другой — увеличивается выпуск некачествен¬
ной продукции.
I квартал 156200 штук брака
II квартал 259400 штук брака
III квартал 614000 штук брака
Что касается четвертого квартала, то окончатель¬
ные результаты еще не известны, но следует ожидать,
что они будут еще худшими, потому что только в ок¬
тябре зарегистрировано 607 600 штук! Можно предста¬
вить себе, во что обойдется себестоимость каждой год¬
ной детали.
Из двух миллионов школьных тетрадей, выпущен¬
ных заводом «Герой труда», 99 процентов бракован¬
ных, их нельзя использовать («Известиям, 1936, 4 нояб¬
ря). В Ростове были вынуждены выбросить 8 миллио¬
нов тетрадей («Правда», 1936,12 декабря).
Из 150 стульев, проданных кооперативной ар¬
телью мебельщиков, 46 ломаются при первой попытке
на них сесть. Из 2345 поставленных в торговлю стуль¬
ев 1300 нельзя использовать («Правда», 23 сентября
1936 г.). То же самое с хирургическим инструментом.
Известный в СССР хирург профессор Бурденко осо¬
бенно жалуется на низкое качество инструмента для
тонких операций. Сшивные иглы, например, во время
операции гнутся или ломаются («Правда», 15 ноября
1936 г.) и т. д.
400
Эти данные, наряду с многими другими, должны
были бы заставить задуматься аплодисментщиков. Но
пропаганда не желает с ними считаться.
Заметим, однако, что брак и задержки являются не¬
редко причиной рекламаций и даже судебных процес¬
сов, заканчивающихся суровыми санкциями. И если га¬
зеты сообщают о них, то в надежде на улучшение.
Самокритика, которой так не хватает, когда речь
идет о принципах и теории, бьет через край, когда речь
идет о выполнении принятых планов. Из «Известий»
(от 3 июня 1936 г.) мы узнаем, что в ряде районов Мо¬
сквы одна аптека на 65 тысяч жителей, в других — од¬
на на 79 тысяч и что во всем городе их всего 102.
В «Известиях» от 15 января 1937 года читаем:
«После вступления в силу Указа о запрещении абор¬
тов количество новорожденных в Москве достигло 10
тысяч в месяц, т. е. увеличилось на 65 процентов срав¬
нительно с предшествующим периодом. В то же время
количество коек в родильных домах увеличилось толь¬
ко на 13 процентов».
Детские сады и ясли часто прекрасные. Но, соглас¬
но данным Уолтера Ситрайна*, в 1932 году в них мог
быть помещен только один ребенок из восьми. В соот¬
ветствии с новыми планами, если удастся их осущест¬
вить, пропорция эта увеличится вдвое, то есть можно
будет поместить два ребенка из восьми. Этого недоста¬
точно, но все же намечается некоторое улучшение. Од¬
нако я сильно опасаюсь, как бы не ухудшилась ситуа¬
ция с жильем для рабочих. Планы строительства не в
состоянии удовлетворить потребности, если иметь в
виду увеличение населения. Там, где в одну комнату
вселяют трех человек, могут вселить и четверых или
даже пятерых. Добавим, что многие недавно сданные
дома для рабочих построены наспех или, точнее ска¬
зать, так небрежно, из таких плохих материалов, что
скоро их надо будет ремонтировать.
* Sir Walter Citrine. I search for Truth in URSS. P. 296.
401
Вопрос о жилье — один из тех, которые более все¬
го интересуют Уолтера Ситрайна. Вот что он говорит,
посетив в окрестностях Баку (несмотря на усилия
официальных сопровождающих помешать этому) жи¬
лища рабочих-нефтяников: «Здесь, пожалуй, самые
неблагоустроенные, самые непригодные жилища, ка¬
кие я видел в этой стране. Выглядит все это ужасно».
И напрасно гид пытался его убедить, что это — «на¬
следие прошлого». Ситрайн вынужден был возразить
ему: «Нынче не миллионеры эксплуатируют нефтяные
скважины. Спустя восемнадцать лет после революции
вы допускаете, чтобы ваши рабочие жили в таких убо¬
гих условиях. Страшно подумать, что сотни тысяч ра¬
бочих прозябают в подобных лачугах на протяжении
восемнадцати лет».
Ивон в своей брошюре «Во что превратилась рус¬
ская революция» приводит другие примеры ужасаю¬
щей нищеты и добавляет: «Причина жилищного кризи¬
са заключается в том, что революция гораздо больше
заботилась о том, чтобы «перегнать капитализм» в
строительстве гигантских заводов и организовать лю¬
дей для выпуска продукции, нежели о их благосостоя¬
нии. Со стороны это может казаться грандиозным...
вблизи же все это производит жалкое впечатление».
HI
Один из самых серьезных упреков по поводу моего
«Возвращения из СССР» состоял в том, что будто я
придаю чрезмерную важность интеллектуальным во¬
просам,— они не должны выдвигаться на передний
план, пока не решены другие, более неотложные про¬
блемы. Это вызвано тем, что я посчитал необходимым
воспроизвести некоторые свои речи*, которые я там
произнес и по поводу которых возникли споры. В та¬
кой небольшой книжке эти речи заняли слишком мно¬
* «Речь о Максиме Горьком», «Речь перед московскими
студентами», «Речь перед ленинградскими писателями».
402
го места и оказались чуть ли не в центре внимания чи¬
тателей. Кроме того, они относятся к началу моего пу¬
тешествия, когда я еще верил (да, я был столь наивен),
что в СССР можно искренне спорить и серьезно гово¬
рить о культуре, когда я еще не знал о степени соци¬
альной отсталости и застоя в стране.
Но всетаки я протестую, когда во всем, что я гово¬
рил, видят только претензии литератора. Когда я гово¬
рил о свободе духа, речь шла совсем о других вещах.
Наука в равной степени компрометирует себя услуж¬
ливостью. Известный ученый принужден отрицать тео¬
рию, приверженцем которой он был и которая оказа¬
лась неортодоксальной. Академик клеймит себя за
свои «прошлые ошибки», которые, как он сам публич¬
но заявил, «могли быть использованы фашистами»
(«Известия», 28 декабря 1936 г.). Его заставляют при¬
знать обвинения, выдвинутые по приказу «Известия¬
ми», поднаторевшими в поисках позорных симптомов
«контрреволюционной горячки».
Эйзенштейн вынужден прервать работу. Он должен
признать свои «ошибки», заявить, что он ошибался и
что новый фильм, над которым он работал и который
уже обошелся в два миллиона, не отвечает требовани¬
ям доктрины, на основании чего он и был справедливо
запрещен.
А правосудие! Уж не думают ли, что последние про¬
цессы в Москве и в Новосибирске заставят меня сожа¬
леть о сказанной мной фразе, которая вас возмущает:
«Не думаю, чтобы в какой-либо другой стране, хотя бы
и в гитлеровской Германии, сознание было бы так не¬
свободно, было бы более угнетено, более запугано
(терроризировано), более порабощено».
Тогда — поскольку не хочется признать пораже¬
ние — цепляются за «достигнутые результаты»: нет
безработицы, нет проституции, женщина имеет равные
права с мужчиной, обеспечено человеческое достоин¬
ство, всеобщее образование... Но при ближайшем рас¬
смотрении эти результаты не столь прекрасны.
403
Я остановлюсь детально только на проблеме обра¬
зования. Других проблем я буду касаться попутно.
Это правда: в СССР путешественник встречает мно¬
го молодых людей, обуреваемых жаждой знаний, стре¬
мящихся к культуре. Нет ничего более трогательного,
чем это стремление. И со всех сторон нас заставляют
восхищаться средствами, предоставленными в их рас¬
поряжение. От всего сердца мы приветствуем указ
правительства от февраля 1936 года, которым предус¬
матривается «полная ликвидация неграмотности в те¬
чение 1936—1937 годов четырех миллионов рабочих,
не умеющих читать и писать, и двух миллионов, умею¬
щих читать и писать с трудом». Но...
Вопрос о «ликвидации неграмотности» стоял еще в
1923 году. «Историческое» (как говорилось) заверше¬
ние этой ликвидации должно было совпасть с праздно¬
ванием десятой годовщины Октябрьской революции
(1927 г.). А в 1927 году Луначарский говорил уже о
«катастрофе»: смогли создать менее 50 тысяч началь¬
ных школ, в то время как до революции на значитель¬
но меньшее количество жителей их приходилось 62
тысячи.
И в итоге — поскольку нас постоянно заставляют
сравнивать нынешнее положение в СССР с дореволю¬
ционным — мы вынуждены констатировать: во многих
областях положение угнетенного класса не улучши¬
лось. Но вернемся к школьному вопросу.
Луначарский (в 1924 г.) пишет, что зарплата сель¬
ским учителям выплачивается с опозданием в полгода,
а иногда не выплачивается вовсе. Зарплата эта состав¬
ляет иногда меньше 10 рублей в месяц©. Правда,
рубль в то время стоил дороже. Но, как говорит Круп¬
ская, вдова Ленина: «Хлеб подорожал, и на 10—12 руб¬
лей месячного жалованья учитель может купить хлеба
меньше, чем раньше он мог купить на 4 рубля (зарпла¬
та учителя до ноября 1923 года)».
И в 1927 году, в том самом, когда ее собирались
одолеть, неграмотность продолжает существовать, 2
сентября 1928 года «Правда» пишет о ее «стабилиза¬
ции».
404
Удалось ли с тех пор добиться какого-нибудь успеха?
В «Известиях» от 16 ноября 1936 года читаем: «С
первых дней нового учебного года из многих школ к
нам поступают сведения о поразительной неграмотно¬
сти учеников».
Неспособных учеников особенно много в «новых»
школах, до 75 процентов (по сообщению тех же «Изве¬
стий»). В Москве 64 тысячи учащихся обязаны пройти
повторное обучение, в Ленинграде — 52 тысячи и 1500
учащихся оставлены на третий год. В Баку количество
русских учащихся, не справляющихся с программой,
возросло с 20 до 45 тысяч, национальных учащихся —
с 7 до 21 тысячи («Бакинский рабочий» от 15 января
1937 г.). Кроме того, большое количество учащихся
бросает школу. За три последних года по РСФСР таких
«сбежавших» насчитывается 80 тысяч. Кабардино-Бал¬
карский институт бросили 24 процента от общего соста¬
ва. Чувашский педагогический институт — 30 процен¬
тов. Газета добавляет: «Студенты педагогических инс¬
титутов обнаруживают удручающую безграмотность».
При всем том, что институты РСФСР набирают
только 54 процента от требуемого количества, Бело¬
руссии — 42, Таджикистана — 48, Азербайджана — от
40 до 64 процентов и т. д.
«Правда» от 26 декабря 1936 года сообщает, что в
Горьковской области 5 тысяч детей не посещают шко¬
лу. Кроме того, 5984 ученика покинули школу после
первого класса, 2362 — после второго и 3012 — после
третьего. Те, кто выдерживают, наверное, становятся
асами.
Чтобы предотвратить бегство, один директор рабо¬
чих курсов предложил штрафовать беглецов на 400
рублей! («Правда Востока» от 23 сентября). Не сказа¬
но, нужно ли платить всю сумму сразу,— это было бы
весьма трудно при месячной зарплате родителей (а
штраф платить именно им) в 100—150 рублей.
Школа испытывает большую нужду в учебниках.
Те же, которые имеются, изобилуют ошибками. «Прав¬
да» от 11 января 1937 года возмущается тем, что госу¬
дарственные издательства Москвы и Ленинграда выпу¬
405
скают учебники, которыми нельзя пользоваться. Педа¬
гогическое издательство напечатало карту Европы, на
которой Ирландия омывается Аральским морем, а
Шотландские острова перенесены на Каспий—Сара¬
тов с берегов Волги переместился на побережье Север¬
ного моря и т. д.
На обложках школьных тетрадей печатается табли¬
ца умножения. Из нее узнаем, что 8x3 = 18; 7x6=72;
8x6=78; 5x9=43 и т.д. («Правда» от 17 сентября
1936 г.). Понятно, почему бухгалтеры в СССР не рас¬
стаются со счетами.
В то время как разрекламированная кампания по
ликвидации неграмотности еще не завершена, несча¬
стные учителя часто не могут получить свое скудное
жалованье и, чтобы прожить, вынуждены подрабаты¬
вать. «Известия» от 1 марта задержку жалованья учи¬
телям объясняют или бюрократическими проволочка¬
ми, или использованием средств не по назначению, в
результате чего долг государства учителям составляет
полмиллиона только по Куйбышевской области. В
Харьковской области он достигает 724 тысяч рублей и
т. д. Невольно возникает вопрос: как учителя еще до
сих пор живы и прежде, чем будет ликвидирована не¬
грамотность, не будем ли мы свидетелями ликвидации
учителей *.
* «Правда Востока» (от 20 декабря 1936 г.) с сожалением
отмечает, что план ликвидации неграмотности не привел к
ожидаемым результатам. Из 700 тысяч частично или полно¬
стью неграмотных соглашаются учиться только 30 или 40
процентов, а это означает, что стоимость обучения одного че¬
ловека достигает 800 рублей вместо предполагавшихся 25. В
одном из городов (Коканде), где рассчитывали совершенно
покончить с неграмотностью до конца 1936 года, в мае было
8023 неграмотных, в августе — 9567, в сентябре — 11014 и
1 октября — 11645 человек. (Надо полагать, что население
города увеличивается за счет миграции из деревень, не ду¬
мать же, что грамотные разучиваются.) В большом городе
Ташкенте насчитывается примерно 60 тысяч неграмотных.
Но из 757 записавшихся только 60 человек посещают заня¬
тия. Именно ими и восхищаются путешественники.
406
Я не хочу никого вводить в заблуждение — эти
ужасные цифры я выписываю с сожалением. Можно
только скорбеть по поводу столь плачевного положе¬
ния. Но я протестую, когда вы по своей слепоте или
умышленно пытаетесь представить эти жалкие резуль¬
таты достойными восхищения.
IV
Именно это пускание пыли в глаза так глубоко и
болезненно омрачило мою радость, доверие и восхи¬
щение. Я упрекаю СССР не в том, что он не достиг
большего. Мне объясняют теперь, что он не мог так
скоро достичь большего и что я должен был бы это по¬
нять; предлагают учесть тот факт, что он начинал с
крайне низкого уровня, который трудно даже себе
представить, и что нынешняя нищета рабочих казалась
бы до революции желанным достатком для угнетен¬
ных. Я, впрочем, думаю, что это все же преувеличе¬
ние. Нет. Я упрекаю СССР в том, что он нас обманы¬
вает, выдавая положение своих рабочих за образец для
всех И я упрекаю наших коммунистов (разумеется, я
не говорю об обманутых товарищах, а о тех, которые
все знали или по крайней мере должны были бы знать)
в том, что они лгали рабочим — бессознательно или
умышленно (в последнем случае по политическим со¬
ображениям).
Советский рабочий привязан к заводу, а сельский
житель — к колхозу или совхозу, как Иксион к свое¬
му колесу. И если он задумает искать лучшую долю,
например, в другом месте — пусть поостережется: уч¬
тенный, сгруппированный, бесправный, он рискует
нигде не найти пристанища. Даже если он захочет по¬
менять завод в пределах города, он лишается жилья
(не бесплатного, впрочем), доставшегося с таким тру¬
дом и право на которое ему дает работа. При уволь¬
нении рабочий теряет значительную часть заработка,
колхозник — долю вознаграждения за свой труд в
коллективе. С другой стороны, если рабочему предло¬
407
жат сменить работу или местожительство, он не мо¬
жет не подчиниться. Он не свободен в выборе места,
не может ни уехать, ни оставаться там, где ему нра¬
вится, где его удерживает любовь или дружеские при¬
вязанности *.
Если он беспартийный, партийные товарищи пере¬
ступят через него. Вступить в партию, быть принятым
в нее (что нелегко и кроме специальных знаний тре¬
бует крайней ортодоксальности и ловкого приспособ¬
ленчества) — первое и необходимое условие для ус¬
пеха.
Вступив в партию, выйти из нее уже невозможно **,
не лишившись своего положения, места и всех приви¬
легий, достигнутых прежним трудом, не испытав все¬
общей подозрительности, не подвергшись репрессиям,
наконец. Да и зачем выходить из партии, где можно
чувствовать себя так хорошо? Кто вам предоставит
еще такие же привилегии! И ничего не требуя вза¬
мен — только соглашаться на все и ни о чем не заду¬
мываться. Да и зачем задумываться, когда решено, что
все идет так хорошо. Задумался — значит, «контррево¬
люционер». Значит, созрел для Сибири***.
Отличный способ продвижения — это донос.
Это обеспечивает вам хорошие отношения с поли¬
* «Так же как в экономическом производстве государ¬
ство полновластно распоряжается материальными ресурса¬
ми, так же оно распоряжается и людьми. Трудящиеся нё
вправе распорядиться собственной рабочей силой по своему
усмотрению — продать ее там, где они хотят, как они хотят.
У них нет права свободного перемещения на территории
СССР (внутренние паспорта!). Право на забастовку запреще¬
но, и любая слабая попытка сопротивления стахановским ме¬
тодам сурово наказывается» (Lucien Laurat. Coup d’oeil sur
l’economie russe. In: Uhomme reel. №38. Fevrier. 1937).
** И напротив, очень часто можно быть исключенным
из партии в результате «чистки». И тогда — Сибирь.
* * Как отлично говорит Ивон: «Вступить в партию — это
значит одновременно служить власти, стране и собственным
интересам». Совершенная гармония, от которой зависит лич¬
ное счастье.
408-
цией, которая тотчас начинает вам покровительст¬
вовать, одновременно используя вас. Потому что
для человека, однажды вступившего на этот путь,
ни честь, ни дружба не имеют значения: надо про¬
должать. Впрочем, вступить нетрудно. И доносчик
в безопасности.
Когда партийная газета во Франции хочет кого-ни¬
будь дискредитировать по политическим соображени¬
ям, подобную грязную работу она поручает врагу это¬
го человека. В СССР — самому близкому другу. И не
просят—требуют. Лучший разнос — тот, который под¬
креплен предательством. Важно, чтобы друг отмеже¬
вался от человека, которого собираются погубить, и
чтобы он представил доказательства. (Против Зиновь¬
ева, Каменева и Смирнова натравили их бывших дру¬
зей — Радека и Пятакова. Важно было их обесчестить
сначала, прежде чем потом тоже расстрелять.) Не со¬
вершить подлости и предательства — значит погибнуть
самому вместе со спасаемым другом.
Результат — тотальная подозрительность. Невин¬
ный детский лепет может вас погубить, в присутствии
детей становятся опасными разговоры. Каждый сле¬
дит за другими, за собой и подвергается слежке. Ни¬
какой непринужденности, свободного разговора —
разве что в постели с собственной женой, если вы в
ней уверены. X. шутил, что этим можно объяснить уве¬
личение числа браков. Внебрачные отношения не
обеспечивают такой безопасности. Подумайте только:
людей арестовывают за разговоры десятилетней дав¬
ности! И естественной становится потребность найти
дома успокоение от этого ежедневного непрерывного
гнета.
Лучший способ уберечься от доноса — донести са¬
мому. Впрочем, люди, ставшие свидетелями крамоль¬
ных разговоров и не донесшие, подвергаются высылке
и тюремному заключению. Доносительство возведено
409
в ранг гражданской добродетели. К нему приобщаются
с самого раннего возраста, ребенок, который «сообща¬
ет», поощряется. Чтобы быть допущенным в Болше¬
во — этот образцово-показательный рай,— недостаточ¬
но быть раскаявшимся бандитом, для этого надо еще
«выдать» сообщников. Вознаграждение за донос — од¬
но из средств ведения следствия в ГПУ.
С момента убийства Кирова полиция еще теснее со¬
мкнула свои ряды. Прошение, переданное молодыми
людьми Эмилю Верхарну во время его путешествия в
Россию еще до войны, которым восхищался Вильдрак
и о котором он так замечательно рассказал, нынче бы¬
ло бы уже совершенно невозможным. Так же как и ре¬
волюционная деятельность (контрреволюционная, если
хотите) Матери и ее сына (из очень хорошей книги
Горького): там, где были раньше взаимопомощь, под¬
держка, согласие, теперь только донос и слежка.
На социальной лестнице, сверху донизу реформи¬
рованной, в самом лучшем положении наиболее низ¬
кие, раболепные, подлые. Те же, кто чуть-чуть припод¬
нимается над общим уровнем, один за другим устраня¬
ются или высылаются. Может быть, Красная Армия*
остается в несколько более безопасном положении?
Будем надеяться. Иначе вскоре от этого прекрасного
героического народа, столь достойного любви, никого
больше не останется, кроме спекулянтов, палачей и
жертв.
* В Севастополе я ввдел много моряков — офицеров и
простых матросов. Отношения офицеров между собой и с
людьми казались мне такими сердечными и братскими, что
я не мог не растрогаться. В газетах промелькнула заметка:
будто в большом московском ресторане я видел, как по при¬
бытии группы офицеров присутствующие встали по стойке
«смирно». Абсурдный вымысел, который я даже не посчитал
нужным опровергать.
410
Советский рабочий превратился в загнанное суще¬
ство, лишенное человеческих условий существования,
затравленное, угнетенное, лишенное права на протест
и даже на жалобу, высказанную вслух; удивительно ли,
что этот рабочий снова обращается к Богу и ищет уте¬
шения в молитве. На что человеческое может он еще
рассчитывать?..
Когда мы читаем, что во время Рождественского
богослужения церкви были переполнены, в этом нет
ничего удивительного. «Опиум» обездоленным.
Я только что заметил в углу клетки, в которой
вот уже три месяца выхаживаю упавшую из гнезда
горлицу, два проросших зерна. Они оказались рядом
с поилкой, из которой вода иногда проливается че¬
рез край. Этой влажности хватило зернам, запав¬
шим в узкую щель между настилом и стенкой клет¬
ки. Они вдруг (то есть я заметил вдруг) выбросили
бледно-зеленые стебельки высотой четыре-пять сан¬
тиметров. И это, впрочем, совершенно естественное
явление так меня изумило, что вот уже долгое вре¬
мя я ни о чем другом не могу думать. Верно: зерна
считают, взвешивают, они легко перекатываются,
как маленькие, твердые, почти круглые шарики, ко¬
торые могут по желанию и кувыркаться. И вдруг од¬
но из этих зерен доказывает вам, что оно может
быть живым. К великому изумлению склонившего¬
ся над клеткой хозяина, которому это уже не прихо¬
дило в голову.
Некоторым теоретикам марксизма*, как мне ка¬
жется, не хватает именно этого человеческого тепла,
необходимого для того, чтобы «прорастали зерна».
Конечно, дело тут не в чувствах: не приходится рас¬
считывать на сострадание там, где справедливость
должна обеспечиваться законом. Проявлять жалость,
* В целом деятельность Маркса и Энгельса продиктована
исключительным состраданием, но еще в большей степе¬
ни — необходимостью справедливости.
411
проливать слезы по поводу бедственного положения
человека — в этом нет реальной помощи, положение
человека от этого не изменится. (Важно к тому же
держать порох сухим, в нем еще нуждается револю¬
ция.)
Можно сказать: сердце, в котором нет нужды, «от¬
мирает» *. Отсюда и некоторая жестокость, легко воз¬
никающая сама собой,— обнищание личности в ожида¬
нии всеобщего благоденствия. Эти соображения увели
бы меня слишком далеко, я их оставляю...
V
Фернан Гренье с одобрением цитирует фразу из мо¬
его «Возвращения из СССР»: «По крайней мере, оста¬
ется бесспорным: в СССР нет больше эксплуатации ра¬
ди чьей бы то ни было выгоды. Это замечательно». И
Гренье добавляет: «Это замечательно, товарищи» —
под аплодисменты аудитории.
Действительно, это замечательно. Было замеча¬
тельно. Теперь это уже не так. И я настаиваю на этом,
потому что это — самое важное. Ивон говорит об
этом очень точно: «Гибель капитализма не приносит
обязательно рабочему освобождение». Хорошо, что
французский пролетариат понимает это. Или, точнее,
было бы хорошо, если бы он это понял. Что касается
советского пролетария, то он начинает затрачивать ил¬
люзию, будто работает на самого себя и утверждает
собственное свое достоинство. Разумеется, там нет
больше эксплуатирующих его труд капиталистиче¬
ских акционеров. И тем не менее его эксплуатируют,
и таким ловким, изощренным, скрытым способом,
* Заимствую это слово из марксистского лексикона, как
и Ленин, писавший в своей работе «Государство и револю¬
ция»: «Выражение «государство отмирает» — очень удачно,
потому что оно подчеркивает одновременно и продолжи¬
тельность процесса и его непрерывность» (Собр. соч.
Т. XXI. С. 515).
412
что он не знает, за кого браться. Это за счет его низ¬
кой заработной платы непомерно раздута зарплата
других.
Он не пользуется плодами своего труда, своего
«прибавочного труда», этим пользуются привилегиро¬
ванные, те, кто «на хорошем счету», сытые, приспособ¬
ленцы. От его нищенской зарплаты урывают, чтобы
платить зарплату в десять и более тысяч рублей приви¬
легированным.
Для большей точности привожу выразительную таб¬
лицу, составленную М. Ивоном*.
повышенная
зарплата
Рабочий 70—400 руб.
Мелкий служащий 80—250 руб.
Домработница 50—60 руб.
плюс питание и жилье
Служащие и техники 300—800 руб.
Ответственные работа
ники и специалисты,
функционеры, ученые,
артисты, писатели 1500—10000 и более.
Говорят, бывает
даже зарплата
в 20—30 тысяч рублей.
Сравнительная таблица пенсионного обеспечения
не менее выразительна. Пенсия рабочего — от 25 до
80 рублей в месяц и никаких льгот. Пенсия вдовы
функционера или специалиста высокого ранга — от
250 до 1000 рублей в месяц плюс дача или квартира
пожизненно, стипендия для детей, а иногда даже для
внуков.
Далее следуют вычеты из зарплаты (зарплата ниже
150 рублей в месяц частично освобождается от нало¬
га) — от 15 до 21 процента. Я не могу привести здесь
всю главу, но брошюра стоит того, чтобы ее прочитать
полностью.
* М. Ivon: C’est qu’est devenue la Revolution russe.
обычная"
зарплата
125—200 руб.
130—180 руб.
413
Пять рублей в день, иногда даже меньше. Позво¬
лю себе сравнить с заработной платой у нас и даже с
пособием по безработице. Хлеб, правда, стоит дешев¬
ле, чем во Франции (килограмм ржаного хлеба в
1936 году — 85 коп., белого — 1 руб. 70 коп.), но
одежда, самая обычная, товары первой необходимо¬
сти — за пределами возможного. Покупательная спо¬
собность рубля была несколько меньшей нашего
франка до его «выравнивания» *. И пусть не говорят
о дополнительных возможностях, которые имеет ра¬
бочий помимо зарплаты, они чаще всего для тех, у
кого она большая.
Возникает вопрос: почему так высоки цены на про¬
мышленную продукцию и даже на продовольствие
(молоко, масло, яйца, мясо и т. д.), если само государ¬
ство — производитель? Но до тех пор, пока будет не¬
хватка товаров, пока спрос будет катастрофически
превышать предложение, неплохо этот спрос немного
сдерживать. Товары будут предлагаться тем, кто в со¬
стоянии платить за них высокую цену. Большинство
же будет страдать от нехватки.
Это большинство может не одобрить режима и, сле¬
довательно, лишить его возможности высказаться **.
Когда Жан Понс приходит в восторг от постоянно¬
го увеличения средней заработной платы ***:
* В 1936 году на месячную зарплату можно было ку¬
пить 225 килограммов хлеба. В 1914 году на 30 рублей, кото¬
рые зарабатывал средний рабочий в месяц, можно было ку¬
пить 600 килограммов этого же хлеба.
** Отсюда недавние ужасающие репрессии. Сталин, впро¬
чем, сам говорил несколько лет назад: «Из двух одно: или мы
откажемся от оптимизма и бюрократических методов и позво¬
лим рабочим и беспартийным крестьянам, страдающим от на¬
ших ошибок, критиковать себя, или недовольство будет накап¬
ливаться, и мы столкнемся с критикой в форме бунта» (выдер¬
жка из речи Сталина.— В. Souvarihe. Staline. P. 350).
*** Фридман пытается рассматривать стахановское дви¬
жение как один из хитроумных способов повышения жало¬
ванья. Боюсь, что в нем следует видеть способ добиться наи¬
большей производительности среднего рабочего.
414
в 1934 году
в 1935 году
в 1936 году
.180 (в среднем)
.200 (в среднем)
,360 (в среднем),
хочу обратить его внимание на то, что низкая заработ¬
ная плата простого рабочего остается на том же уров¬
не и «в среднем» означает увеличение жалованья боль¬
шинству привилегированных.
Увеличение заработной платы не поспевает за рос¬
том стоимости жизни и потерей покупательной способ¬
ности рубля *.
И происходит парадоксальная вещь: пять рублей в
день за труд, а иногда даже и того меньше, этот мини¬
мум и доводит до крайней нищеты большинство трудя¬
щихся и вместе с тем гарантирует чудовищную зарпла¬
ту** привилегированным и позволяет расточать сред¬
ства на массированную пропаганду, которая должна
убедить наших рабочих в том, что русские рабочие сча¬
стливы. Мы бы предпочли знать об этом немного мень¬
ше, но пусть бы они были счастливы немного больше.
* Из официальной статистики видно, что в делом зарп¬
лата рабочих тяжелой промышленности с 1923 по 1925 год
возросла на 52 процента. Но за то же время жалованье фун¬
кционеров возросло на 94,8 процента, работников торгов¬
ли — на 103,3 процента. Впрочем, в результате падения по¬
купательной способности рубля увеличение заработной пла¬
ты нисколько не улучшило благосостояние работников.
** Вопрос не о том, чтобы рабочий пользовался всеми ре¬
зультатами своего труда. Этого не имели в виду ни Маркс,
ни Энгельс.
«Прибавочный труд», порождающий классовый антаго¬
низм при капитализме и благодаря которому возможна праз¬
дность меньшинства, этот прибавочный труд, говорит Маркс,
не может быть исключен. СГем самым Маркс указывает на
то, что рабочий не может рассчитывать на личную выгоду от
всей совокупности своего труда.) «Некоторая часть приба¬
вочного труда,— говорит он,— требуется для страхования от
несчастного случая, для... и т.д.». Перечисление заведомо
неполное. Сюда нужно отнести некоторое накопление, необ¬
ходимое не только для содержания техники, но и для «созда¬
ния условий для дальнейшего развития прогресса». Добавим,
415
VI
Как замечательно чувствовать себя свободным от
эксплуатации! Но понимать, что эксплуатация продол¬
жается, и не знать, кто эксплуататор, не знать, от кого
надо избавляться...
Думаю, что прав был Селин, осознавший эту траге¬
дию.
«Опять мы пришли к тому же! Смех! Нечего и вы¬
совываться! Опять «угнетенные»! Проклятия судьбы
можно списывать на кровопийц! На раковую опухоль
«эксплуатации»! И вести себя, как последняя сво¬
лочь,— ничего не видел, ничего не знаю!.. А если нет
больше права изменить положение? Жаловаться?
Жизнь становится невыносимой!»
Сегодня утром (8 февраля 1937 г.) X. показал мне
вчерашнюю газету «Temps»: «За время двух пятилеток
бюджет Украины увеличился более чем в семь раз» \
Большая часть расходов нового бюджета предназначе¬
на для удовлетворения социальных и культурных
нужд, включая 2564 миллиона на нужды народного об¬
разования и 1227 миллионов на развитие здравоохране¬
ния». «Ну, что вы на это скажете?»
Открываю книжку Луи Фишера — весьма доброже¬
лательную по отношению к СССР — на странице 196 и
зачитываю в ответ X.: «У меня такое впечатление, что
царствующий пролетариат под натиском конкурентов
сдает позиции: из 16 строящихся санаториев в Кисло¬
водске (крупнейший бальнеологический курорт в ми¬
кроме того, что несоциалистическое окружение требует
(следствие победы социализма «в одной стране») расходов
на содержание Красной Армии. Тут Маркс, я думаю, поддер¬
жал бы. Но он счел бы невозможной выплату непомерно
большой зарплаты одним за счет добавочного труда других,
представляющее большинство. Ибо все это способствует со¬
зданию привилегированного класса, а отнюдь не «сокраще¬
нию затрат времени на материальное производство».
* Что ни в коей мере не повлияло на увеличение зарпла¬
ты низкооплачиваемым рабочим. «Накопление бюджета» по-
прежнему совершается за их счет.
416
ре) почти все возводятся правительственными учреж¬
дениями, такими, как Государственный банк, Комисса¬
риат тяжелой промышленности, Комиссариат связи, га¬
зета «Правда» и т. д. Во всех этих учреждениях есть то¬
же и рабочие, но я думаю, что служащим путевки
гораздо доступнее, чем рабочим» *.
Замечательны рассуждения Луи Фишера о «бездей¬
ствии профсоюзов». Его послушать, так будто только
профсоюзы могут помешать «правительственным чи¬
новникам и другим группам стратегического направле¬
ния» получать лучшие квартиры, больше, чем им поло¬
жено, путевок в санатории и т. д. Нет, нет, профсоюзы
бессильны там, где власть принадлежит бюрократии.
Нам говорят, диктатура пролетариата. Мы все больше
и больше разубеждаемся в этом. Все больше и больше
утверждается диктатура бюрократии над пролетариа¬
том *\ Потому что пролетариат уже не имеет возмож¬
ности выбирать своего представителя, который защи¬
щал бы его ущемленные интересы. Народные выбо¬
ры — открытым или тайным голосованием — только
видимость, профанация: все решается наверху. Народ
имеет право выбирать лишь тех кандидатов, которые
утверждены заранее. С кляпом во рту, угнетенный со
всех сторон, народ почти лишен возможности к сопро¬
тивлению. Увы, игра велась по всем правилам и уже
выиграна Сталиным — под громкие аплодисменты
коммунистов всего мира, которые еще продолжают ве¬
рить и будут верить еще долго, что они, по крайней ме¬
* Книга Луи Фишера об СССР очень интересная. Чрез¬
вычайно доброжелательная по отношению к СССР, она поч¬
ти не содержит критики, хотя для тех, кто умеет читать, она
есть. Замечательное описание кавказских республик застав¬
ляет предполагать, что кое-какие ветви советского дерева
продолжают оставаться зелеными. Гниет сам ствол.
** В сущности, профсоюзы, так же как и Советы, пре¬
кратили существование (в 1924 г.). Рабочие не ждали ни по¬
мощи, ни защиты от этого дорогостоящего руководства, на¬
ходящегося в руках «аппарата» из 25000 служащих, непо¬
средственно подчиненного Политбюро (В. Souvarin
Staline. P. 347).
417
ре в Советском Союзе, одержали победу, будут счи¬
тать врагами и предателями всех, кто не аплодирует.
Бюрократия, значительно усилившаяся к концу нэ¬
па, вмешивается в дела колхозов и совхозов. «Правда»
от 16 сентября 1936 года на основании работы комис¬
сии констатирует, что более 14 процентов рабочих и
служащих МТС — не нужны *.
Есть мнение, что жертвой этой бюрократии, создан¬
ной сначала для управления, а потом и для угнетения,
стал сам Сталин. Нет ничего более трудного, чем ли¬
шить синекуры бездарных бездельников. Уже в 1929
году Орджоникидзе ужасало это «громадное количест¬
во дармоедов», которые ничего не хотят знать о насто¬
ящем социализме и работают только для того, чтобы
помешать его развитию и успеху, «Людей, с которыми
не знают, что делать, и которые никому не нужны, на¬
значают в ревизионные комиссии»,— говорил он. Но
чем никчемнее эти люди, тем более Сталин может рас¬
считывать на их рабскую преданность, потому что при¬
вилегированное положение — им как подарок. Само
собой разумеется, что именно они горячо одобряют ре¬
жим. Служа интересам Сталина, они одновременно
служат своим собственным интересам.
Для того чтобы служащие не превращались в бю¬
рократов, Ленин считал необходимым соблюдать три
условия:
1. Сменяемость и выборность в любое время;
2. Зарплата, равная средней зарплате рабочего;
3. Контроль всех над всеми таким образом, чтобы
все временно могли становиться служащими и никто
не мог превратиться в бюрократа.
Из этих трех условий ни одно не выполнено.
* Содержание бюрократии поглощало 8,5 процента наци¬
онального дохода страны перед первой мировой войной,
10 — в 1927 году. Последних сведений у меня нет.
418
По возвращении из СССР перечитываешь книгу
Ленина «Государство и революция» с болью в сердце.
Потому что ныне СССР еще дальше, чем ранее,— не
скажу: от обещанного коммунистического общества,
но даже от той переходной стадии, которая позволи¬
ла бы его достигнуть.
В этой же книге Ленина читаем еще: «У Каутского
выходит так: раз останутся выборные должностные ли¬
ца, значит, останутся и чиновники при социализме, ос¬
танется бюрократия! Именно это-то и неверно. Именно
на примере Коммуны Маркс показал, что при социа¬
лизме должностные лица перестают быть «бюрократа¬
ми», быть «чиновниками», перестают по мере введения
кроме выборности еще сменяемости в любое время, да
еще сведения платы к среднему рабочему уровню, да
еще замены парламентарных учреждений «работаю¬
щими», т. е. издающими законы и проводящими их в
жизнь» \
И напрашивается вопрос: кто прав теперь? И кото¬
рого из двух — Каутского или Ленина — посадил бы
нынче в тюрьму или расстрелял Сталин.
VII
В новой Конституции заметны попытки учесть воз¬
можную критику, заранее ответить на те возражения,
которые могут быть вызваны ее содержанием. Руково¬
дители отлично знают, что народ машиной не управля¬
ет, между народом и теми, кто назначен его представ¬
лять, реального контакта нет. Но декларируется совсем
иначе. Поэтому крайне важно создать впечатление,
* «Первый этап пролетарской революции — это превра¬
щение пролетариата в господствующий класс, победа демо-
: кратки»,— говорили Маркс и Энгельс в своем знаменитом
Манифесте. «Победа демократий» — Да, но демократия не
победила, она побеждена.
419
что никогда эта связь не была более тесной, чем те¬
перь, что «усиливается контроль масс над советскими
органами и увеличивается ответственность советских
органов перед массами», как пишет «Юманите» от 13
марта. Газета добавляет: «Новая выборная система уп¬
рочит связь между избранниками народа и массами из¬
бирателей». Отлично! Тем более что в этой же статье
вскрывается и подоплека — речь идет о том, чтобы
«руководить выборами», «критиковать недостойных
кандидатов и противостоять им еще до того, как они
потерпят провал в результате тайного голосования».
Достойно восхищения это предвидение. Подумайте
только — было бы очень досадно повторить ошибку,
совершенную 19 октября 1934 года, когда (на респуб¬
ликанском пленуме в Киеве) народ избрал «людей,
которые были разоблачены впоследствии как враги на¬
рода». Поэтому срочно следует еще до выборов «изба¬
виться от всего, что мешает формированию партийно¬
го актива». И только после этого выборы могут быть
«свободными».
В связи с этим боюсь, как бы не получил нахлобуч¬
ку редактор одной газеты, сторонник новой конститу¬
ции и энтузиаст сталинского СССР,— чтобы не повре¬
дить ему, не стану называть его имени,— который, на¬
ряду с общей похвалой, осмеливается высказать
скромное замечание (27 февраля 1937 г.): «Мы опаса¬
емся того, что при нынешнем положении дел государ¬
ственные органы не только не сливаются с массами,
как это было в системе Советов, а, напротив, имеют
тенденцию отделяться от них.
— Почему?
— От разобщенности избирателей между собой; от
разобщенности между избирателями и их депутатом».
И неосторожный критик напоминает, что «послед¬
ние статистические данные показывают: один гражда¬
нин из шестидесяти избирался депутатом в какой-ни¬
будь совет» и «этот совет, каким бы он ни был, был
все же кирпичом в общем здании, оказывал свое вли¬
яние на общегосударственную политику». А это уже
было лишним. И здесь тоже надо было навести поря¬
420
док: «низовая политическая ячейка больше не существ
вует» *.
Поэтому мы всецело разделяем мнение Уолтера
Ситрайна о том, что «СССР, так же как и другие стра¬
ны под диктаторским режимом, управляется неболь¬
шой группой людей и что народные массы не принима¬
ют никакого участия в управлении страной**, или, во
всяком случае, это участие очень незначительно».
Но всегда в конце концов расплачивается народ, в
чем бы это ни выражалось. Так или иначе — в резуль¬
тате ли вывоза продовольствия, несмотря на народные
нужды, или из-за чудовищного несоответствия между
себестоимостью и потребительской стоимостью сель¬
скохозяйственных продуктов, или налоговых побо¬
ров — происходит ущемление интересов рабочего и
крестьянина, это за счет их фондов потребления со¬
здаются накопления, в которых постоянно нуждается
государство. Так было во время первой пятилетки, та¬
кое положение и сейчас. Когда эти национальные на¬
копления, необходимые для существования государст¬
ва, расходуются на практические, текущие, благотво¬
рительные нужды — это можно понять. Больницы,
дома отдыха, культурные учреждения и т. д.— можно
поверить, что все это для народа, или, во всяком слу¬
чае, надеяться, что народ всем этим воспользуется. Но
что прикажете думать, когда при такой нищете собира¬
ются вложить национальные средства в строительство
Дворца Советов (покойных Советов), к вящему удо¬
вольствию товарища Жана Понса. Подумать только!
Сооружение высотой в 415 метров («жители Ныо-Йор-
ка,— сообщает он,— побледнеют от зависти»), увен¬
* Я совсем не верю в непогрешимую мудрость большин¬
ства. Но речь идет не об этом. Речь вдет о том, чтобы это
большинство, если оно страдает, могло быть услышано, что¬
бы представляющий его депутат был выслушан.
Ситрайн пишет: «До сих пор». Но то, что он говорил в
1935 году, он мог бы это повторить и сейчас, и даже — по¬
сле обнародования новой Конституции — с большей уверен¬
ностью.
421
чанное 70—80-метровой скульптурой Ленина из нержа¬
веющей стали, один палец его будет длиной в 10 мет¬
ров *. Вот это да! Рабочий будет знать, по крайней ме¬
ре, ради чего он умирает с голоду. Он может даже
подумать: стоит того. Нет хлеба, но будет зато чем
гордиться. (Впрочем, возгордятся, скорее всего, как
раз другие.) И что самое замечательное — заставят
проголосовать за этот дворец, вы увидите, да еще еди¬
ногласно! У него — у русского народа — спросят, че¬
го он хочет в первую очередь: благосостояния или
дворец? И не найдется ни одного, который бы не ска¬
зал, не посчитал бы себя обязанным сказать: сначала
дворец.
«Всякий раз, когда я вижу, как возводят в столице
дворец, я думаю о том, что целую область обрекают
тем самым на жизнь в лачугах»,— писал Жан-Жак
(«Общественный договор», Ш, 13). Советские рабо¬
чие — «в лачугах»? Увы, по воле Сталина их зашали в
трущобы.
Всего этого я не знал, когда был в СССР, так же
как, путешествуя по Конго, не знал о действующих там
концессионных компаниях.
И в том и в другом случае я только отмечал разру¬
шительные явления — следствия неведомых мне при¬
чин. Я просветился уже после того, как была написана
книга об СССР. Ситрайн, Троцкий, Мерсье, Ивон, Вик¬
тор Серж, Легей, Рудольф и многие другие снабдили
меня документами. То, что я в них нашел и о чем толь¬
ко смутно догадывался, подтвердило и усилило мои
выводы. Пришло время для коммунистической партии
Франции открыть глаза, чтобы перестали ей лгать.
Или, если сказать по-другому, чтобы трудящиеся поня¬
ли, что коммунисты их обманывают так же, как их са¬
мих обманывает Москва.
* Мы не можем себе позволить — ни здесь, ни в другом
месте — усомниться в цифрах, которые приводит Жан
Понс. Однако десятиметровый палец при общей высоте в
70—80 метров?.. Будем надеяться, по крайней мере, что Ле¬
вин сидит.
422
VIII
За последние три года я достаточно начитался мар¬
ксистской литературы, чтобы чувствовать себя неуют¬
но в СССР. С другой стороны, я немало прочитал и вос¬
торженных воспоминаний о путешествиях. Я виноват в
том, что слишком доверчиво отнесся к похвалам и эн¬
тузиазму. А то, что могло бы меня заставить задумать¬
ся, высказывалось в злопыхательском тоне. Я охотнее
верю любви, чем ненависти. Да, я отнесся ко всему до¬
верчиво, всему поверил. И более всего смущали меня
не недостатки, а обнаружившиеся привилегии, кото¬
рые я считал упраздненными. Конечно, вполне естест¬
венно, гостя стараются встретить как можно лучше, по¬
казывают ему всюду лучшее из того, что есть. Но что
меня поразило — это пропасть между лучшим и при¬
вычным, обьщенным, множество привилегий — и пла¬
чевный, жалкий общий уровень.
Возможно, это недостатки моего ума и издержки
протестантского воспитания: я опасаюсь выгодных идей
и «удобных» мнений—я имею в вицу идеи, которые мо¬
гут приносить дивиденды тем, кто их исповедует.
И я хорошо понимаю — даже если тут и нет прямой
коррупции,— насколько выгодна Советскому прави¬
тельству щедрость по отношению к художникам и ли¬
тераторам, ко всем, кто может ему славословить. Но,
с другой стороны, нельзя не видеть и выгоду, которую
может извлечь литератор, одобряя конституцию и пра¬
вительство, содействующее ему в этом. И тотчас я на¬
стораживаюсь. Я опасаюсь соблазна. Непомерные ба¬
рыши, которые мне там предлагают, пугают меня. Я
ехал в Советский Союз не за выгодами и привилегия¬
ми. Привилегии, с которыми я столкнулся там, были
очевидными.
И почему бы мне не сказать об этом?
Из московских газет я узнал, что в течение не¬
скольких месяцев было продано более 400000 моих
книг. Нетрудно сообразить сумму авторских отчисле¬
ний. А щедро оплаченные статьи! Дифирамбы Сталину
и СССР — и целое состояние!..
423
Эти соображения не удержали бы меня от похвал,
они не могут помешать и моим критическим оценкам.
И должен признаться, что чрезвычайно выгодное по¬
ложение (более выгодное, чем в какой-либо другой
европейской стране), обеспеченное любому, кто мо¬
жет держать перо,— лишь бы он писал что требует¬
ся — само по себе меня весьма насторожило. Литера¬
торы в гораздо более выгодном положении, чем лю¬
бые рабочие или ремесленники. Двое из компаньонов
по путешествию (у обоих должны были выйти книж¬
ки по-русски) бегали по антикварным и комиссион¬
ным магазинам, не зная, как истратить несколько ты¬
сяч рублей, полученных в виде аванса и которые они
не могли увезти с собой. Что касается меня самого, то
я смог лишь слегка почать громадную сумму, потому
что мы ни в чем не нуждались, нам было предоставле¬
но все. Да, все, начиная с расходов по путешествию и
кончая сигаретами. И всякий раз, когда я доставал ко¬
шелек, чтобы оплатить счет в ресторане или в гости¬
нице, чтобы купить марки или газету, наш гад меня ос¬
танавливала очаровательной улыбкой и повелитель¬
ным жестом: «Вы шутите! Вы наш гость и ваши
товарищи тоже».
Разумеется, лично у меня в продолжение всего пу¬
тешествия по СССР не было ни разу повода на что-ли¬
бо жаловаться, и из всех лукавых ухищрений как-то
объяснить мою критику — верх абсурда считать ее вы¬
ражением личной неудовлетворенности Никогда я не
путешествовал в таких роскошных условиях. Специ¬
альный вагон и лучшие автомобили, лучшие номера в
лучших отелях, стол самый обильный и самый изьь
сканный. А прием! А внимание! Предупредительность!
Повсюду встречают, обихаживают, кормят-поят. Удов¬
летворяют любые желания и сожалеют, что не в силах
сделать это еще лучше. С моей стороны было бы не¬
благодарностью не принять всего этого. И я сохраняю
самые прекрасные воспоминания и чувство самой жи¬
вой благодарности. Но это внимание, эта забота посто¬
янно напоминали о привилегиях, о различиях там, где
я-надеялся увидеть равенство.
424
Когда мне с трудом удавалось уклониться от офи¬
циальных встреч, вырваться из-под присмотра и позна¬
комиться с рабочими, зарплата которых 4—5 рублей в
день, что мог я думать о банкете в мою честь и от при¬
сутствия на котором не мог отказаться. Такие банкеты
организовывались почти ежедневно и были столь
обильны, что уже одними закусками можно было на¬
сытиться трижды, не приступая к основным яствам.
Эти обеды из шести блюд в продолжение двух часов
оставляли совершенно без сил. Во что же они могли
обходиться! Мне ни разу не удалось уввдеть счет, и я
не могу назвать сумму. Но один из моих спутников, ос¬
ведомленный в ценах, считает, что подобный банкет
мог обходиться в 300 с лишним рублей с человека,
включая стоимость вин и ликеров. А нас было шесте¬
ро, даже семеро с переводчиком, кроме того, пригла¬
шенных часто бывало столько же, сколько гостей, а
иногда и значительно больше *.
В продолжение всего путешествия мы были, собст¬
венно говоря, гостями не правительства, а богатого Со¬
юза советских писателей. Когда я думаю о его расхо¬
дах, связанных с нами, боюсь, что золотой жилы моих
авторских прав, которые я там оставил, не хватит, что¬
бы их возместить. Очевидно, что, делая такие авансы,
* Привожу здесь страницу из своей записной книжки, ку¬
да вносил записи ежедневно: «Обед, назначенный на 8 часов,
начался в половине девятого. В 9.15 еще не покончили с за¬
кусками.
(Мы — Эрбар, Даби, Кольцов и я — купались в парке
культуры, сильно проголодались.) Съел несколько пирож¬
ков. Открываю встречу в доме отдыха. В 9.30 приносят овощ¬
ной суп с большими кусками курицы; объявляют запеченные
в тесте креветки, к ним добавляются запеченные грибы, за¬
тем рыба, различное жаркое и овощи... Я ухожу, чтобы со¬
брать чемодан, успеть написать несколько строк в «Правду»
по поводу событий дня. Возвращаюсь как раз вовремя — что¬
бы заглотать большую порцию мороженого. Я не только ис¬
пытываю отвращение к этому обжорству, я его осуждаю.
(Нужно объясниться с Кольцовым.) Оно не только абсурдно,
оно аморально, антисоциально».
425
рассчитывали совсем на другой результат. И думаю,
что недовольство «Правды» частично объясняется тем,
что я оказался не слишком «рентабельным».
Уверяю вас, в моих советских приключениях есть не¬
что трагическое. Убежденным сторонником, энтузи¬
астом я ехал восхищаться новым миром, а меня хотят ку¬
пить привилегиями, которые я так ненавидел в старом.
— Вы в этом ничего не понимаете,— говорит мне
один образцовый марксист.— Коммунизм отрицает
только эксплуатацию человека человеком — сколько
раз надо вам это повторять? Вы можете быть таким же
богатым, как Алексей Толстой или как певец Большо¬
го театра, лишь бы ваше состояние было заработано
личным трудом. В вашем презрении, в вашей ненави¬
сти к деньгам, к собственности я вижу пережиток ва¬
шего изначального христианства.
— Может быть.
— И согласитесь, это не имеет никакого отношения
к марксизму.
—Увы!..
Я хорошо знаю и не раз слышал, что лучшие каче¬
ства характера, вызывающие ответную симпатию,—
сердечность, большая щедрость,— так же как и оче¬
видные недостатки, обусловлены не новым режимом,
а полувосточным темпераментом русского человека.
Поэтому, думаю, напрасно ждать и надеяться, что из¬
менившиеся социальные обстоятельства изменят нату¬
ру человека. Пусть меня поймут правильно: обстоя¬
тельства этому способствуют, но между тем и другим
нет причинной связи. Простой лопжой не обойтись,
нужна индивидуальная внутренняя перестройка, иначе
буржуазное общество возродится в новом качестве,
«ветхий человек» снова заявит о себе и снова утвердит¬
ся в жизни.
426
Пока человек угнетен, подавлен социальной не¬
справедливостью, мы вправе надеяться, что лучшие
его качества проявятся в будущем. Так нередко
ждут чудес от детей, но, становясь взрослыми, они
обнаруживают весьма посредственные способности.
Общераспространенное заблуждение — будто народ
состоит из лучших людей. Я думаю, что народ про¬
сто меньше испорчен, но деньги могут его испор¬
тить так же, как всех остальных. И посмотрите, что
происходит в СССР: их новая складывающаяся бур¬
жуазия имеет те же самые недостатки, что и наша.
Едва выбившись из нищеты, она уже презирает ни¬
щих. Жадная до всех благ, которых она была лише¬
на так долго, она знает, как надо их добиваться, и
держится за них из последних сил. «Действительно
ли это те самые люди, которые совершили револю¬
цию»,— писал я в «Возвращении из СССР». Они мо¬
гут быть членами партии, но ничего коммунистиче¬
ского в их сердцах уже не осталось.
IX
Однако налицо факт: русский народ кажется сча¬
стливым. Тут у меня нет расхождений с Вильдраком
и Жаном Понсом, и я читал их очерки, испытывая
чувство, похожее на ностальгию. Потому, что я тоже
утверждал: ни в какой другой стране, кроме СССР,
народ — встречные на улице (по крайней мере, моло¬
дежь), заводские рабочие, отдыхающие в парках
культуры — не выглядит таким радостным и улыбаю¬
щимся. Как совместить это внешнее проявление с
ужасающей жизнью подавляющего большинства насе¬
ления?
Те, кто много путешествовал по СССР, утвержда¬
ют, что Вильдрак, Понс, да и я сам заговорили бы по-
другому, если бы отклонились от туристических марш¬
рутов и посетили не одни только 1фупные центры. Они
говорят о целых районах, где неблагополучное поло¬
жение очевидно. И тогда...
427
Нищета в СССР незаметна. Она прячется, словно
стыдится себя. Явная, она встретила бы не сочувствие,
не сострадание, а презрение. Благополучие же тех, кто
не прячется, нажито за счет этой нищеты. Однако мож¬
но увидеть много людей, причем голодных, которые
выгладят улыбающимися, веселыми, их счастье, я уже
говорил об этом, основано на «доверии, неведении и
надежде» *. И если все, что мы видели в СССР, стара¬
ется произвести радостное впечатление, понятно, что
все безрадостное должно становиться подозритель¬
ным. Быть невеселым — или, по крайней мере, не
скрывать этого — чрезвычайно опасно. Россия не мес¬
то для жалоб, для этого есть Сибирь.
СССР — многомиллионная страна, и «прорежива¬
ние» людского поголовья осуществляется без видимо¬
го ущерба Оно тем более трагично, что незаметно.
Лучшие исчезают, лучших убирают. Лучшие не в смыс¬
ле физической производительности труда, а те, кто от¬
личается от всех, выделяется из общей массы, сила и
сплоченность которой в посредственности. Посредст¬
венность же всегда стремится не вверх, а вниз.
* Следует, однако, упомянуть еще об изумительной спо¬
собности русского народа к жизни. «Кошачья живучесть»,—
говорил Достоевский, удивляясь, как народ, перенесший не¬
слыханные страдания и испытания, сохранил себя и не
уменьшился количественно. Неистребимое жизнелюбие, хо¬
тя и в сочетании с апатией и равнодушием, но скорее всего
и чаще всего в сочетании с внутренней цельностью, живо¬
стью, лиризмом, бьющей из глубин необъясненной, необъяс¬
нимой радостью — неважно когда, неважно где, неважно
как... Пожалуй, даже так можно сказать: чрезвычайная пред¬
расположенность, склонность к счастью. Несмотря ни на что.
И именно в этом отношении Достоевский более всего пока¬
зателен, именно этим он меня так глубоко трогает. Благода¬
ря Достоевскому такое же братское чувство я испытываю ко
всему русскому народу. Несомненно, никакой иной народ не
поддался бы с таким великодушием на подобный трагиче¬
ский эксперимент.
428
Критику и свободу мысли называют в СССР «оппо¬
зицией». Сталин признает только одобрение всех; тех,
кто ему не рукоплещет, он считает врагами. Нередко
он сам высказывает одобрение какой-нибудь проводи¬
мой реформе. Но если он реализует какую-либо вдею,
то сначала убирает того, кто ее предложил, чтобы луч¬
ше подчеркнуть, что эта идея его собственная. Это его
способ утверждать свою правоту. Скоро он будет всег¬
да прав, потому что в его окружении не останется лю¬
дей, способных предлагать идеи. Такова особенность
деспотизма — тиран приближает к себе не думающих,
а раболепствующих.
По какому бы делу любые рабочие ни представали
перед любым судом и как бы ни были они правы, горе
защищающему их адвокату, если руководство задума¬
ло их осудить.
А высланные тысячами... те, которые не смогли,
не захотели склонить голову, как от них требовали.
Мне лично ничто не угрожает, я не могу, как X., ска¬
зать: «Черт возьми, ведь такое и со мной могло бы од¬
нажды случиться...» Эти жертвы — я их вижу, слы¬
шу, чувствую вокруг себя. Это их подавленные кри¬
ки разбудили меня сегодня ночью, их молчание
диктует мне эти строки. Думая об этих мучениках, я
написал слова, вызвавшие ваш протест, потому что
молчаливое их признание — если моя книга до них
дойдет — для меня важнее, чем ненависть или похва¬
ла «Правды».
За них никто не вступится. Разве что правые газе¬
ты вспомнят, чтобы поносить режим, который они не¬
навидят. Те же, кому дороги идеи свободы и справед¬
ливости, кто борется за Тельмана — Барбюсы и Ролла-
ны — умолкли, они молчат. И вокруг них —
ослепленные пролетарские массы.
Но когда я возмущаюсь, вы мне разъясняете (да
еще со ссылками на Маркса!), что это действительное,
429
очевидное зло (я говорю не только о высылках, но и
нищете рабочих, низкой или чрезмерной зарплате, вос¬
становленных привилегиях, незаметном возрождении
классов, исчезновении Советов, последовательном уп¬
разднении всего завоеванного революцией), вы мне
по-научному разъясняете, что это зло неизбежно, что
вы, интеллектуалы, искушенные в диалектике (крюч¬
котворстве), вы его воспринимаете как временное зло,
которое должно привести к великому благу. Вы, ум¬
ные коммунисты, соглашаетесь, что оно, это зло, суще¬
ствует, но вы полагаете, что его лучше скрывать от тех,
кто понимает меньше, чем вы, и у кого оно, вероятно,
вызвало бы протест.
Кто-то, может быть, извлечет выгоду из моих писа¬
ний — мне этому не помешать. Более того, даже если
бы мог, я не стал бы этого делать. Но писать что-либо
ради выгоды политической партии — нет, пусть этим
займутся другие. При знакомстве я сразу предупредил
своих новых друзей — коммунистов о том, что никог¬
да не стану их рекрутированным сообщником, глаша¬
таем на любой случай.
«Интеллектуалы-коммунисты должны рассматри¬
ваться Партией как «ненадежный элемент», на кото¬
рый можно опереться, но которого всегда следует опа¬
саться»,— прочитал я где-то недавно. Ах, как это вер¬
но! Когда-то я не раз повторял то же самое Вайя ну
Кутюрье. Но он не желал ничего слышать.
Нет партии, которая держит — я хочу сказать: ко¬
торая меня удерживает — и которая помешала бы мне
всему предпочесть истину, даже самой партии. Мне не
по себе, когда я вижу ложь. Мой долг — ее разобла¬
чить. Я служу истине, и, если партия не признает ее,
тогда я не признаю партию.
Ч прекрасно знаю (и вы не раз мне говорили об
этом), что «с марксистской точки зрения» Истины не
существует, абсолютной, по крайней мере. Истина мо¬
430
жет быть только относительной. Но именно об относи¬
тельной истине и вдет здесь речь, о той, которую вы
искажаете. И думаю, что намерение ввести других в
заблуждение в столь сложных вопросах само по себе
уже является заблуждением. Ибо те, кого вы обманы¬
ваете, это — народ, которому вы, по вашим заявлени¬
ям, служите. Хорошо же вы ему служите, делая его
слепым.
Важно видеть вещи такими, какие они есть, а не та¬
кими, какими их хотелось бы видеть. Советский Союз
не оправдал наших надежд, не выполнил своих обеща¬
ний, хотя и продолжает навязывать нам иллюзии. Бо¬
лее того, он предал все наши надежды. И если мы хо¬
тим, чтобы надежды все же уцелели, нам надо многое
пересмотреть.
Но мы не отвернем от тебя наши взгляды, славная
и мученическая Россия. Если сначала ты была приме¬
ром, то теперь — увы! — ты показываешь нам, как ре¬
волюция ушла в песок.
Попутчики
I
Опасаясь, что одного меня будет мало, я раздобыл
себе еще пятерых попутчиков. Кроме того, мне хоте¬
лось доставить и другим удовольствие, связанное с этим
приятным путешествием. Все — заранее восхищенные,
в меру экзальтированные, так же, как и я, убежденные,
покоренные, горячие поклонники нового режима, пол¬
ные веры в прекрасное будущее СССР. Мои спутники
очень не похожи на меня, разные по возрасту (все зна¬
чительно моложе меня), по темпераменту, по воспита¬
нию, по среде. И несмотря на это, мы прекрасно пони¬
мали друг друга. Да, я действительно думал, что, для то¬
го чтобы лучше вцдеть и слышать, шесть пар ушей и
глаз не будут лишними и удастся разные впечатления
привести к какому-то общему знаменателю.
Вы знаете этих попутчиков: Джеф Ласт, Шифрин,
Эжен Даби, Пьер Эрбар, Луи Гййю.
431
Из пятерых двое с давних пор в партии, очень пре¬
данные и очень активные ее члены.
Двое владеют русским языком. Кроме того, у
Джефа Ласта это было четвертое путешествие в
СССР. Пьер Эрбар более полугода жил в Москве, ру¬
ководил там пропагандистским журналом «Интерна¬
циональная литература», выходящим на четырех язы¬
ках. Благодаря этому был в курсе всех интриг, всего,
что там происходило. Сверх того, человек редкой
проницательности, он, несомненно, мне во многом
помог, то есть прояснил многие вещи, до которых я
сам, конечно, не додумался бы. Приведу небольшой
пример.
На другой день после нашего прибытия в Москву
(мы с Пьером Эрбаром прибыли из Парижа самоле¬
том — Эрбар прилетал туда на три дня,— остальные
должны были прибыть через десять дней в Ленинград
пароходом) ко мне явился с визитом Бухарин. Он был
еще очень популярен. В последний раз, когда он пояг
вился на каком-то собрании, публика приветствовала
его овациями. Однако незаметно надвигалась уже опа¬
ла, и Пьер Эрбар, пытавшийся опубликовать в своем
журнале его замечательную статью, столкнулся с силь¬
ным сопротивлением. Все это надо было знать, но я уз¬
нал только позже. Бухарин пришел один, но не успел
он переступить порог роскошного номера, предостав¬
ленного мне в «Метрополе», как вслед за ним проник
человек, назвавшийся журналистом, и, вмешиваясь в
нашу беседу с Бухариным, сделал ее попросту невоз¬
можной. Бухарин почти тотчас поднялся, я проводил
его в прихожую, и там он сказал, что надеется снова
со мной увидеться.
Спустя три дня я встретился с ним на похоронах
Горького — или даже, точнее, за день до похорон, ког¬
да живая очередь двигалась мимо украшенного цвета¬
ми монументального катафалка, на котором покоился
гроб с телом Горького. В соседнем, гораздо меньшем
по размерам, зале собрались различные «ответствен¬
ные лица», включая Димитрова, с которым я еще не
был знаком и которого я подошел поприветствовать,
432
рядом с ним был Бухарин. Когда я отошел от Димитро¬
ва, он взял меня под руку и, наклонясь ко мне, спро¬
сил:
— Могу я к вам через час зайти в «Метрополь»?
Пьер Эрбар, сопровождавший меня и все слышав¬
ший, понизив голос, сказал: «Готов держать пари, что
ему это не удастся».
И в самом деле, Кольцов, видевший, как Бухарин
подходил ко мне, тотчас отвел его в сторону. Я не
знаю, что он мог ему сказать, но, пока я был в Моск¬
ве, я Бухарина больше не видел.
Без этой реплики я бы ничего не понял. Я подумал
бы о забывчивости, подумал бы, что Бухарину, в кон¬
це концов, не столь важно было меня увидеть, но я ни¬
когда не подумал бы, что он не мог.
Из Ленинграда — Пьер Эрбар и я встречали там па¬
роход с Гийю, Шифриным, Ластом и Даби — мы вс$
вместе отправились в Москву в специальном вагоне.
Несколько дней спустя в том же вагоне отправились в
Орджоникидзе. Затем на трех комфортабельных авто¬
мобилях проехали по Кавказу и через день оказались
в Тифлисе. В столицу Грузии мы прибыли с опоздани¬
ем на один день. Из-за этого грузинские поэты, любез¬
но выехавшие нам навстречу, вынуждены были сутки
ждать нас на пограничном пункте в горах. Пользуясь
случаем, хочу сказать, как я был тронут их приемом,
их обходительностью, изысканной вежливостью, по¬
стоянной предупредительностью и любезностью. Если
каким-либо чудом эта книга попадет им в руки, пусть
они знают, что я сохраняю по отношению к ним — что
бы им ни сказали — глубочайшую признательность.
II
ЗГифлис, сначала сильно разочаровавший, день ото
дня начинал нам нравиться больше и больше. Мы за¬
держались там на две недели и оттуда отправились в
433
четырехдневную поезд ку по Кахетии — во всех отно¬
шениях интересную и замечательную, но потребовав¬
шую от нас немало сил. Шифрин и Гийю, мало привыч¬
ные к трудностям путешествия, в конце заявили, что
устали от впечатлений, от эмоций, и выразили желание
вернуться во Францию.
Мы с сожалением расстались с ними — они были
прекрасными попутчиками,— хотя впоследствии и по¬
радовались за них, когда жара стала невыносимой.
Однако эта вторая часть нашего путешествия была
гораздо более поучительной. Мы почувствовали боль¬
шую свободу, нас меньше обманывали, появилась воз¬
можность непосредственно общаться с людьми, и пла¬
за у нас стали по-настоящему раскрываться.
За последние двадцать лет (некоторые говорят: за
пятьдесят) ни разу не было такой жары. Мы, впро¬
чем, не слишком от нее страдали, и ничто не предве¬
щало несчастья с Даби. Я с возмущением протестую
ро поводу домыслов, связанных с его болезнью. Наи¬
более доброжелательные люда говорили о неверном
диагнозе. Возможно, в СССР скарлатиной называют
целую группу инфекционных заболеваний, вызван¬
ных различными стрептококками. У Даби не было ха¬
рактерной рвоты, с которой начинается настоящая
скарлатина. Уже в Париже я видел статистическую
медицинскую справку и был удивлен непропорцио¬
нально высоким процентом заболевания этой болез¬
нью в СССР по сравнению с другими странами, а так¬
же по сравнению с другими болезнями. Именно этот
факт заставил Меня предположить, что термин «скар¬
латина» трактуется там значительно более широко,
нежели у нас. Обращая на это внимание (что не ис¬
ключает ошибки в диагнозе — она в равной мере бы¬
ла бы не исключена и в Париже, могу сослаться на
два печальных примера, когда Шарля-Луи Филиппа и
Жака Ривьера лечили от простого гриппа, а на самом
деле, как выяснилось позже, это была тифоидная го¬
рячка), я утверждаю, что Даби был обеспечен посто¬
янный и самый тщательный уход, за ним наблюдали
три лучших доктора в Севастополе, а также товарищ
434
Боля, которая проявила исключительную самоотвер¬
женность.
Я вынужден заявить протест также и по поводу до¬
мыслов, связанных с записными книжками Даби. Их,
так же как и другие принадлежащие ему бумаги, я пе¬
редал его семье — правда, некоторое время они нахо¬
дились под арестом. Впрочем, в них не было ничего та¬
кого, что могло бы насторожить цензуру. Даби был
чрезвычайно осторожным человеком. Он не раз мне
говорил, что всецело полагается на меня во всем, что
касается разговоров*, сам же всячески остерегался
ввязываться в дискуссии, которые могли бы нарушить
его спокойствие и помешать в работе.
* Джеф Ласт и Пьер Эрбар, жившие в последнее время
по очереди в одном номере с ним и с которыми у него была
возможность говорить чаще и еще более откровенно, чем со
мной, знали это. Потому-то они и протестовали против обви¬
нений Пьера Шиза (их впоследствии в очень вежливой фор¬
ме подхватил Фридман) в том, что я с определенной целью
использовал имя Даби, посвящая ему свою книгу — «отраже¬
ние всего, что я пережил, о чем думал рядом с ним, вместе
с ним».
Отрывок из статьи П. Эрбара:
«Я хотел бы сообщить Фридману — в ответ на его заме¬
чание о посвящении Эжену Даби „Возвращения из
СССР — о моем разговоре с Даби в Севастополе накануне
его смерти.
Он был очень озабочен тем, чтобы Жид, вернувшись
во Францию, высказал те опасения, которые он так часто
разделял с ним во время путешествия. „Он заставит себя
услышать,— говорил он.— Люди поймут, что это говорит
друг*.
Какими бы ни были соображения по поводу таких посвя¬
щений, никто не может сомневаться в том, что Жид впра¬
ве —-и даже может считать это своим долгом — упомянуть
нашего друга в связи со своими размышлениями об СССР».
(«Vendredi», 29 января 1937 г;)
И это письмо Джефа Ласта:
«Дорогой Фридман, меня очень, удивило в вашей статье
Следующее замечание:
435
Об этой работе он только и думал все последние
дни — не раз мне говорил о романе, который собирал¬
ся переделать, переписать заново, поскольку изменил¬
ся его первоначальный замысел. И думаю, он ничего
не оставил, бы от той сотни страниц, которая была им
написана перед отъездом.
«Я засяду за него сразу, как только вернусь»,—повто¬
рял он. Это сокровенное желание не давало ему покоя,
он готов был уехать один, когда речь зашла о том, что¬
бы завернуть еще в Одессу и в Киев уже на пути домой.
У Даби, так же как у меня, как у всех нас, несмот¬
ря на восхищение Советским Союзом, многое вызыва¬
ло разве сам Дабине раскритиковал бы, не дополнил бы
эти впечатления (он предполагал продлить свое пребывание
в СССР, говорил о том, что собирается туда вернуться)?
Разве не осознал бы он в большей степени, чем Жид, что
они представляют не только психологический интерес? Раз¬
ве не задумался бы он о том, что эти впечатления (о их не¬
достаточности он сам мне говорил во время встречи на Чер¬
ном море) могут иметь столь громкий политический резо¬
нанс и в такой момент?
Поскольку эти вопросы могут быть поставлены, я не
имею права молчать".
Все это мне кажется не слишком точным.
Уже в Тифлисе Даби стал заметно утрачивать интерес к
путешествию. Я много раз говорил с ним, но ни разу он не
выразил желания задержаться в СССР или вновь сюда при¬
ехать. Напротив, он упорно сопротивлялся нашему намере¬
нию продлить путешествие и заехать в Киев. Он хотел ско¬
рее вернуться в Москву, а оттуда вылететь самолетом в Па¬
риж. Много раз он говорил о своем желании спокойно
поработать в испанской деревушке, чтобы закончить книгу
об Эль Греко. Многое ему не нравилось в СССР из того, что
и всем нам не нравилось, только реакция у нас у всех бьша
разной. Он часто говорил об этом с Жидом и, поскольку не
был бойцом, полагался в разговорах на Жида. Полагаю, что
книга, написанная Жидом, именно такая, какую он надеялся
увидеть, какую ждал от него.
Джеф Ласт».
436
ло сильное беспокойство, а он, так же как и мы, пред¬
полагал только восхищаться. Вышедший из народа, ду¬
шой и телом преданный делу пролетариата, он по сво¬
ему темпераменту не был бойцом, был скорее Санчо
Пансой, нежели Дон Кихотом. Воспитанный на Монте-
не, он почитал жизнь выше всех идеалов и считал, что
никакой идеал не стоит того, чтобы ради него жертво¬
вать жизнью. Он был очень озабочен событиями в Ис¬
пании и даже мысли не допускал, чтобы кто-то хоть на
мгновение мог усомниться в успехе правительствен¬
ных войск. Ему было мало веры в успех, в победу, он
хотел думать, что победа уже достигнута. Но он резко
осуждал Джефа Ласта, когда тот заговаривал о наме¬
рении отправиться в Испанию добровольцем, что он
потом и осуществил. Однажды вечером в Севастополе,
накануне последнего проведенного вместе дня, я ви¬
дел, как он, обычно очень спокойный, вдруг встрепе¬
нулся, когда Джеф Ласт заявил, что предпочел бы ско¬
рее видеть своих детей мертвыми, нежели под фаши¬
стской властью.
«То, что ты говоришь сейчас,— чудовищно,— взор¬
вался Даби (впервые я слышал, чтобы он говорил та¬
ким тоном), стукнув кулаком по столу, за которым мы
втроем только что отобедали.— Чудовищно! Ты не
имеешь права ради идеи жертвовать чужими жизнями.
Ты не имеешь права жертвовать даже своей собствен¬
ной».
Он говорил об этом долго, вдохновенно и красноре¬
чиво. Джеф, впрочем, тоже. Я слушал с одобрением то¬
го и другого, пока они говорили по очереди. Пожалуй,
точнее было бы сказать, что меня восхищала страст¬
ность Джефа, но здравомыслие возмущенного Даби
все же больше было мне по душе. «Хорошо,— думал
я,— если бы для равновесия в жизни было то и дру¬
гое». Но я вынужден был вмешаться, когда, возражая
Даби, Джеф заговорил о «подлости». Я попросил вооб¬
ще не употреблять в разговоре этого слова, потому что
если иногда требуется большое мужество для борьбы,
то не меньшее может потребоваться для того, чтобы в
борьбу не ввязываться.
437
Написав это, я вдруг вспомнил о Жионо, о его «От¬
казе к повиновению». Даби очень любил Жионо и в
чем-то был на него похож. У того и другого в высшей
степени было развито «ощущение корней». (Только те,
у кого оно есть, поймут в полной мере, что следует по¬
нимать под этим.) * Мы часто говорили о Жионо в Гру¬
зии, казалось, что эта дикая, плодородная страна сотво¬
рена именно для него. Говорили также о том, что он
сильно страдал бы всюду, где это «чувство корней» ут¬
рачивается.
Нельзя сказать, чтобы Даби терял интерес к путе¬
шествию, но оно его занимало меньше, чем нас. Все ча¬
ще и чаще он уединялся, читал, писал или флирто¬
вал **. Он читал в то время «Мертвые души», которые
я привез с собой, и порой обращал мое внимание на ка¬
кую-нибудь страницу. В частности, на те строчки из че¬
тырех писем Гоголя, помещенных в начале второго то¬
ма,— я их уже цитировал,— а также и на многие дру¬
гие, которые заставляют усомниться в том, что в
царское время, как об этом говорят, ничего не было
сделано для народа, ничего такого, по крайней мере,
чем можно было бы гордиться.
«Вот уже почти полтораста лет протекло с тех пор,
как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем
просвещения европейского, дал в руки нам все средст¬
ва и орудия для дела...»
С тех пор «правительство во все времена действо¬
вало без устали. Свидетелем тому целые тома поста¬
новлений, узаконений и учреждений, множество на¬
* «Они лгут. Они все лгут,— говорил нам в Тифлисе X.
о советских руководителях.— Они утратили всякое представ¬
ление о реальности. Это все отвлеченные теоретики». Голос
его дрожал от волнения. И наконец произнес фразу, на кото¬
рую я сначала не обратил внимания и которую мне потом на¬
помнил Эрбар — она ему показалась замечательной (дейст¬
вительно, она замечательная), и он ее часто цитировал: «Они
забыли, что такое корни».
** «Какое желание покоя и тишины во мне!» — писал он
в записной книжке за несколько дней до смерти.
438
строенных домов, множество изданных книг, множе¬
ство заведенных заведений всякого рода: учебных, че¬
ловеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких,
каких нигде в других государствах не заводят прави¬
тельства».
Если это пыль в глаза, то тогда видно, что это не
изобретение наших дней.
Из записной книжки
Обычно любезный, Кольцов кажется особенно от¬
кровенным. Я хорошо знаю, что он не скажет ничего
лишнего, но он говорит со мной таким образом, чтобы
я мог почувствовать себя польщенным его доверием.
Демонстрируя доверительность, он начинает:
— Вы не представляете, с какими новыми и нео¬
бычными проблемами нам приходится сталкиваться на
каждом шагу и которые мы вынуждены решать. Пред¬
ставьте себе, наши лучшие рабочие-стахановцы в мас¬
совом порядке бегут с заводов.
— И как вы это объясняете?
— Ну, это просто. Они получают такую громадную
зарплату, что не могут ее потратить, даже если бы за¬
хотели, на нее пока еще мало что можно купить. Вот в
этом и заключена для нас большая проблема. Дело в
том, что люди откладывают деньги, и, когда у них на¬
копится несколько тысяч рублей, они компаниями от¬
правляются роскошно отдыхать на нашу Ривьеру. И мы
не можем их удержать. Поскольку это лучшие рабо¬
чие, они знают, что их всегда примут обратно. Через
месяц-другой — как только кончатся деньга — они воз¬
вращаются. Администрация вынуждена их принимать,
потому что без них не обойтись.
— Это представляет сложности для вас? Много та¬
ких людей?
—Тысячи. Учтите, каждый рабочий имеет право на
оплачиваемый отпуск. Отпуск предоставляется в опре¬
деленное время, не всем сразу —- завод должен рабо¬
тать. Но в этом случае все по-другому. Они сами пла¬
тят за все, отпуск берут за свой счет, когда им вздума¬
ется, и все сразу.
Он улыбается. Я про себя думаю: если бы дело бы¬
ло серьезным, он так бы не говорил. Все это делается
скорее для того, чтобы подчеркнуть, дать повод оце¬
нить недавнюю изобретательность Сталина. Не он ли
недавно одобрил женское кокетство, призвал вернуть¬
ся к модной одежде и украшениям *.
— Давайте, товарищи, заботьтесь о ваших женах!
Дарите им цветы, не жалейте для них денег!
В последнее время открылось много новых магази¬
нов, и я удивлялся, читая вывески «Маникюр» я глядя
на напудренных, с крашеными ногтями женщин.
— Сколько вам платят в месяц? — спрашивает то¬
варищ X. у заведующей косметическим кабинетом в
гостинице.
— Сто пятьдесят рублей.
— Вам положена квартира?
— Нет, и не кормят тоже. Нужно платить по край¬
ней мере двадцать рублей в месяц за комнату.
— Значит, у вас остается только сто тридцать. А пи¬
тание?
— Ох, меньше, чем на двести рублей, не прожи¬
вешь.
— Ну и как же вы обходитесь?
Грустная улыбка.
— Выкручиваемся...
В Севастополе Джеф подружился со студентом, ко¬
торый ничем особенным не выделялся, но который за¬
интересовал его именно своей ординарностью. После
беседа с ним он нам рассказывал.
* В «Правде» от 31 декабря 1936 года опубликовано пись¬
мо колхозниц, в нем речь идет об одежде: «Мы тоже можем
элегантно одеваться, потому что у нас есть вкус и мы следим
за модой. Мне, например, уже не нравятся расклешенные юб¬
ки и блузки-аэропланы. Но мы их носим, потому что нет дру¬
гих моделей. Деньги у нас есть».
440
X. горячий поклонник режима, искренне верит и
надеется. Как студент-первокурсник он получает
шестьдесят рублей в месяц. Радуется, что в следую¬
щем году будет получать семьдесят, а на третьем
курсе — восемьдесят. Он мог бы жить в студенче¬
ском общежитии и питаться в столовой за рубль или
два. Но не хочет оставить старую мать-кухарку, за¬
рабатывающую девяносто рублей в месяц. Они жи¬
вут вдвоем в комнате, за которую платят девять руб¬
лей в месяц, и питаются почти одним черным хле¬
бом, и то не досыта (четыреста граммов в день). Но
он это называет «полным довольствием», и ни слова
жалобы. В эту комнату, где он живет с матерью, он
охотно привел бы подругу. Мать хотела бы, чтобы
он женился, но его смертельно напугал указ об абор¬
тах.
— Подумайте только, и без того так трудно жить! А
если еще содержать ребенка... Ох, я знаю, что вы мне
скажете. Но презервативы невозможно достать, или
они такого качества, что надеяться на них нельзя. Что
же касается предосторожностей, то в наших условиях
это нереально.
Но затем привычный оптимизм возобладал, и он ве¬
село заметил, что при таком питании, как у него, луч¬
ше всего вообще воздерживаться.
Если верить одному советскому врачу, в СССР по¬
всеместно распространен онанизм.
Обсуждаются проекты новых зданий. X., архитек¬
тор, предлагает план квартиры.
— Это что за помещение?
— Комната для прислуги.
— Прислуги?.. Вы же хорошо знаете, что теперь
прислуги нет.
И поскольку в теории прислуги больше не сущест¬
вует, отличный повод, чтобы заставить ее спать в кори¬
доре, на кухне — где угодно.
441
Какое это было бы признание — предусмотренная
специально комната для прислуги! И если в СССР она
все же есть, то тем хуже для нее.
Почти все, кто прибывает в Москву в услужение за
пятьдесят рублей в месяц,— бедные крестьянские де¬
вушки, покинувшие родные деревни в надежде найти
работу на заводе или где-нибудь еще в городе. На пер¬
вых порах они пристраиваются в семьи, пока найдется
подходящее место. Домработница соседей моих дру¬
зей X.— беременна. Соседи взяли ее из жалости. Она
спит в стенной нише, где не может даже вытянуться во
весь рост. А еда... Она обратилась с просьбой к моим
друзьям: «Пусть хозяйка не выбрасывает остатки». Она
их собирала в помойном ведре.
Ах, не собираюсь утверждать, что формируемое об¬
щественное мнение делает всех приверженцами офи¬
циальной линии. Иные имена, в частности имя Есени¬
на, произносятся шепотом. Но все же произносятся.
Пожалуй, точнее: еще произносятся, но шепотом. Я
плохо знаю поэзию Есенина, но случилось так, что мне
захотелось получше ее узнать. Есенин покончил с со¬
бой, как Маяковский. Говорят, любовная история. Мо¬
жет быть, и так. Но вольно нам задуматься о более глу¬
боких причинах самоубийства.
Итак, однажды в Сочи, после роскошного обеда,
мы разоткровенничались. Вино и водка этому способ¬
ствовали. Много выпивший X. был настроен лириче¬
ски. Наш гид и переводчица стала проявлять видимое
беспокойство. X. разговорился еще больше... Объявил
нам, что будет читать наизусть Есенина. И тут перевод¬
чица вмешалась:
— Вы совершенно пьяны. Вы не понимаете, .что го¬
ворите. Замолчите...
X., в полном сознании и хорошо владея собой, не¬
смотря на выпитое, умолк. Затем, как бы притворяясь
нетрезвым, попросил переводчицу сходить за сигарета¬
442
ми. И как только она удалилась, X. начал читать заме¬
чательное стихотворение — после запрещения оно пе¬
редавалось из уст в уста. Стихотворение было написа¬
но Есениным в ответ на богохульную статью.
«Когда ты выступаешь против попов,— обращался к
автору статьи Есенин,— мы тебя поддерживаем. Мы с
тобой, когда ты смеешься над небом и преисподней,
над Богом и Богородицей. Но когда ты говоришь о Хри¬
сте, поостерегись. Не забудь, что тот, кто отдал жизнь
за людей, был не с сильными мира сего, но с несчаст¬
ными и обездоленными, и славу свою видел в том, что
его, сына Божьего, называли сыном человеческим».
X. читал эти стихи, и голос у него дрожал — не от¬
того, что он был пьян. А когда закончил, по его лицу
текли слезы. В продолжение всего вечера разговор
был пустой, вздорный... Хотя, пожалуй, я не совсем
справедлив к X., да и к нам самим тоже. X. возбуждал
нас все больше и больше. Нас восхищал его рассказ об
удивительных приключениях в Китае, о том, как он не¬
сколько раз был в плену и как спасался. Нет, он не был
красив, но какая-то дикая прелесть одухотворяла его
черты. Его голос, хриплый и возбужденный, смягчал¬
ся, когда он читал стихи, и это так противоречило же¬
сткому цинизму произнесенных накануне слов. В нем
словно бы обнаруживалась скрытая нежность, что-то
глубоко затаенное, что и было подлинным, настоящим,
а все остальное — цинизм и жесткость — казалось ка¬
кой-то искусственной оболочкой, под которой скрыва¬
лось все, что в нем есть лучшего. Но это нескромное
как бы подсматривание свершилось в одно мгновение.
Вернулась переводчица, и разговор, шумный и бестол¬
ковый, принял прежнее направление*.
* Я просил нескольких своих друзей, говорящих по-рус¬
ски, найти мне эти стихи Есенина, которые я, несомненно,
процитировал очень неточно. Они не могли их найти, что за¬
ставляет меня подозревать: не исключили ли их из послед¬
них официальных изданий. Это можно было бы проверить.
Кроме того, мне говорили, что ходит в списках большое ко¬
личество стихотворений, приписываемых Есенину.
443
Только просидев семь часов в жестком вагоне на¬
против моей знакомой, решился заговорить с ней мо¬
лодой русский. Он привлек ее внимание с самого нача¬
ла путешествия.
«Ему было лет тридцать, но чувствовалось, что его
уже основательно жизнь потрепала. На вопросы он
отвечал уклончиво, и мне пришлось постараться, что¬
бы разговорить его, В особенности я убеждала его,
что я иностранка, что ему нечего меня бояться, что
его слова никому не станут известны... С ним были
жена и трехлетний сын. Я узнала, что он оставил еще
двоих детей в X., чтобы избежать расходов и из стра¬
ха перед неизвестностью,— он не знал, что его ждет
в Москве.
Если бы не болезненный ввд, его жена могла бы по¬
казаться красивой. К моему величайшему изумлению,
я видела, как она несколько раз кормила грудью ребен¬
ка, судя по всему, уже давно отнятого от груди. Не
знаю, что получил он от этой отвислой, пустой груди.
Но в дороге другого питания у него не было.
Его родители выглядели очень изможденными.
Когда муж наконец решился вступить в беседу, жена
заволновалась. Она оглядывалась по сторонам — не ус¬
лышит ли кто-нибудь нас. Но в купе не было никого,
кроме бестолковой старухи и дремавшего пьяницы. И,
как бы извиняясь, она сказала:
— Он всегда слишком много говорит. Это нас всег¬
да и губило.
А он мне рассказывал о своей жизни. Все было хо¬
рошо до убийства Кирова. Потом — он не знает, по ка¬
кому доносу — к нему стали подозрительно относить¬
ся. Поскольку он был хороший работник и его не в чем
было упрекнуть, его не сразу уволили с завода. Но он
стал замечать, что друзья и товарищи отворачиваются
от него. Каждый боялся скомпрометировать себя раз¬
говором с ним. Наконец директор завода вызвал его и,
формально не увольняя — против него не было ника¬
ких обвинений,— посоветовал ему искать работу в дру¬
гом месте. С тех пор он скитался по городам в надеж¬
де где-нибудь устроиться на заводе, вызывая все боль¬
444
шее и большее подозрение, отверженный, загнанный,
получая всюду отказ, лишенный всякой поддержки,
всякой помощи, не в состоянии ничего добыть для де¬
тей, впадая в жестокую нищету.
— Все это продолжается уже больше года,— сказа¬
ла его жена.— У нас уже нет сил. Нас нигде не держат
более двух недель.
— И хоть бы еще,— вставил муж,— я мог понять,
в чем меня обвиняют. Наверное, кто-то что-то сказал
против меня. Я не знаю кто, не знаю, что могло быть
сказано. Я знаю только одно — я ни в чем не вино¬
ват.
Он сказал, что принял решение ехать в Москву и
все узнать, оправдать себя, если возможно, или уже со¬
всем себя погубить — протестовать против непонят¬
ных, ничем не вызванных подозрений».
Бывают сигареты по восемьдесят копеек и даже по
шестьдесят, те самые, которые называют «пролетар¬
скими»,— они отвратительны. «Папиросы», которые
мы курим и которые только и известны иностранцам
(некоторые из них так и называются — «Интурист»),
стоят пять или шесть рублей за пачку. Бывает даже
еще дороже.
Не зная, где искать табачную лавку (дело происхо¬
дило в Гори, мы там останавливались на несколько ча¬
сов), Пьер Эрбар просит рабочего, с которым он бесе¬
дует на берегу реки, купить ему пачку папирос.
— За сколько?
— За пять рублей.
У рабочего отличное настроение, и он весело гово¬
рит:
—Дневной заработок.
Мадам X. едет на дачу в Подмосковье в компании
«ответственного работника» (так там называют круп¬
ных руководителей). «Ответственный работник» запа¬
нибрата обращается со всеми встречающимися рабо¬
445
чими: «Я люблю, чтобы они чувствовали себя со мной
свободно. Я обращаюсь с ними, как с товарищами, как
с братьями, и они никогда не боятся говорить со
мной».
Встречается какой-то землекоп, и как бы в подтвер¬
ждение только что сказанному ответственный работа
ник обращается к нему: «Ну, друг, как дела? Вы до¬
вольны?» Тот ему в ответ: «Разрешите, товарищ, задать
вам один вопрос?» — «Ну, конечно, друг, я готов отве¬
тить».— «Вы все знаете и, конечно, мне объясните.
Скажите, когда придет время, что мы будем работать
по силам и есть досыта?»
— И что сказал ответственный работник? — спро¬
сил я у X.
— Он ему прочитал лекцию.
В автомобиле на пути в Батум. Мои спутники
восхищаются недавно посаженными по обеим сто¬
ронам дороги деревьями, через несколько лет они
должны давать тень. Зачем обращать их внимание
на то, что среди этих деревьев нет ни одного живо¬
го. Несомненно, они посажены не вовремя, то есть
не в тот сезон, когда они могли бы прижиться. Ско¬
рее всего, не осмелившись возразить, люди исполни¬
ли спущенный сверху приказ. Природа тоже долж¬
на подчиняться — идет ли речь о дереве или о чело¬
веке.
В связи с прививками Воронова и другими экспе¬
риментами в Сухуми содержат большой обезьяний
питомник. Я захотел узнать, откуда берут живот
ных. Однако столкнулся с тем, что сведения здесь
дают такие же многословные и противоречивые,
как в заморских колониях. Есть люди вообще склон¬
ные к бессодержательному многословию. Вот оча¬
ровательная товарищ Боля, приставленная к нам в
качестве гида й переводчика. Ее ничто не смущает,
она отвечает на любой вопрос. Причем, чем меньше
знает, тем с большей уверенностью говорит; Она не
отдает себе отчёта 6 своей невежественности, и это
446
наводит на мысль, что неосознаваемое невежество
может быть причиной самых решительных утверж¬
дений. Такова уж особенность этих людей, так уст¬
роен их ум, удовлетворяющийся неопределенно¬
стью, приблизительностью, чисто внешними приме¬
тами.
— Можно узнать, откуда привезли обезьян, кото¬
рые живут здесь?
— Конечно. Очень просто. (В свою очередь она
обращается с вопросом к сопровождающему нас чело¬
веку.)
— Большинство обезьян родилось здесь. Да, почти
все, они родились здесь.
— Но нам говорили, что здесь не водятся обезья¬
ны. Следовательно, сначала их должны были завезти
сюда.
— Совершенно верно.
—Так откуда все же их завезли?
И, уже ни к кому не обращаясь за помощью, с на¬
ходчивой уверенностью отвечает:
— Понемногу отовсюду.
Наша очаровательная переводчица — замечательно
доброжелательный и самоотверженный человек. Но
вот что немного утомляет в ней: если сведения, кото¬
рые она сообщает, точны, то можно быть уверенным,
что они неверны.
По возвращении в Париж
— Откуда вы взяли, что крупные руководители
пользуются значительными привилегиями? — спраши¬
вает у меня X., только что вернувшийся оттуда и не
скрывающий своего восхищения.— Я часто встречался
с У., он очень простой и доброжелательный человек. Я
был у него дома и не заметил ни роскоши, ни изли¬
шеств. И его жена, с которой он меня познакомил, та¬
кая же простая, как он сам...
— Какая жена?
— Что значил какая? Жена, и все...
447
— Ну да, законная. Вы не знаете, что у него их три.
И две другие квартиры, а кроме того, могут быть еще
дачи. И три автомобиля, причем вы видели самый
скромный — для семейных выездов.
— Неужели это возможно?
— Не только возможно — это так и есть.
— И как на это смотрит партия? Сталин...
— Не будьте слишком наивным. Сталин боится
только тех, кто довольствуется малым, кто честен и не¬
подкупен.
Свидетельства
Доктор А. Денье
4 декабря 1936 г.
Месье,
я был в Москве в день похорон Горького, слушал
вашу речь. Она меня тогда огорчила, потому что, зная
вас как искреннего человека, я боялся, как бы дело
не кончилось надувательством. Сейчас я только что
прочитал «Возвращение из СССР» и вздохнул с об¬
легчением. Я был в России, занимался там проблема¬
ми биофизики, свободно общался с коллегами в нео¬
фициальной обстановке и без переводчика, жил с ни¬
ми душа в душу — и страдал. Вы прекрасно
выразились: всякое свободомыслие исключено из
жизни. Все мои коллеги — «язвы» в особенности —
заглушают в себе всякое стремление думать и писать,
постоянно испытывают давление извне, опасаются
сделать малейший неосторожный шаг. Мои друзья,
свободно мыслящие люди (среди них есть практики
и известные ученые), вынуждены раздваиваться:
один человек — это тот, которого мы видим, кото¬
рый говорит, проявляет себя внешним образом; дру¬
гой — ушедший в себя, которого можно узнать толь¬
ко при близком знакомстве.
С уважением А. Денье.
448
Выдержка из сообщения,
сделанного на медицинском факультете
в октябре 1936 года
Кто может быть врачом в СССР? Рабочие, посеща¬
ющие вечерние занятия в институте, или студенты, ко¬
торым платят по 110 рублей в месяц. Они живут по
10—15 человек в комнате.
Им платят больше или меньше в зависимости от ре¬
зультатов экзаменов. После института их посылают в
деревню на должность фельдшера или санитара. В на¬
стоящее время в стране сто тысяч врачей, а нужно, ка¬
жется, четыреста тысяч.
Еще два года назад врачу платили 110 рублей в ме¬
сяц, сумма до такой степени незначительная, что мно¬
гие переквалифицировались в рабочих, которым пла¬
тят больше. Набор был затруднен, преобладали женщи¬
ны. Обнаружив, что не производящий материальных
ценностей врач все же необходим государству, подня¬
ли ему зарплату до 400 рублей. Затем улучшили подго¬
товку, которая была на уровне фельдшеров.
Всем врачам выпуска 1930—1933 годов не хватает
знаний, они были вынуждены на полгода вернуться на
факультет для повышения квалификации.
Продолжительность рабочего дня можно было бы
считать приемлемой, но это, так сказать, в теории;
очень мало кто работает по шесть часов. На зарплату
в 400 рублей прожить нельзя, поэтому врач, как прави¬
ло, вынужден искать совместительства, чтобы добрать
до 800 или 1200 рублей в месяц,— надо отдавать себе
отчет в том, что такое покупательная способность руб¬
ля: обычный костюм стоит 800 рублей, хорошие туф¬
ли — от 200 до 300 рублей, килограмм хлеба — 1 руб.
90 коп.; метр драпа — 100 рублей. Кроме того, до 1936
года нужно было в обязательном порядке отдать госу¬
дарству в виде займа месячную зарплату. Единствен¬
ная комната, в которой врач живет с семьей и которая
служит одновременно и гостиной, и спальней, и библи¬
449
отекой, и кухней и т. д., стоит 50 рублей в месяц. Хоро¬
шо еще, если нет детей.
Материальные условия тяжелые, но еще тяжелее
переносить ужасающий моральный гнет. Надо считать¬
ся с дворником — агентом ГПУ, нельзя поделиться
мыслями с сослуживцами в больнице. Плакат, который
у нас висел в военные годы: «Будьте осторожны — вас
подслушивает враг!», там теперь очень актуален.
Один известный ученый, член Академии наук, два
года просидел в тюрьме. Иностранцам говорили: «Он
болен». У другого ученого разогнали кафедру и лабо¬
ратории за научные взгляды, не совпадающие с марк¬
систской теорией, а сам он был вынужден, как Гали¬
лей, публично от них отказаться, чтобы избежать вы¬
сылки. Почему я не мог увидеть коллегу-ученого, хотя
он был на месте? Мою телеграмму он получил месяц
спустя после моего отъезда. Когда же я приходил к не¬
му, мне лгали, что его нет.
Париж, 29 ноября 1936 г.
Месье, когда я вас увидел в Сочи, я очень боялся,
чтобы вас не обманули и чтобы из партийного пристра¬
стия — худшего врага прогресса — вы не стали восхва¬
лять новое государство. Но «Возвращение из СССР»
доставило мне истинное удовольствие.
Хорошо зная русский язык, я видел своими глазами
и слышал своими золами все, что увидели и услышали
вы. Я полностью вас поддерживаю и благодарен вам за
то, что вы осмелились это сказать.
В знак признательности позвольте предложить вам
некоторые, сделанные там записи.
Да поможет Бог нашей Франции с мудрым спокой¬
ствием следовать новым своим путем.
В третий раз, с промежутком в три года, я возвра¬
щаюсь из России.
Погрязший в низости и жестокости режим с само¬
450
го начала попрал искусство, культуру, человеческие
чувства.
Это совершенная форма варварского нашествия.
Спустя двадцать лет после революции все еще су¬
ществуют вагоны второго и третьего классов. На
большом русском пароходе, совсем недавно постро¬
енном, пассажирские места распределяются таким
образом: 75 процентов — третьего класса, 20 — вто¬
рого, 5 — первого. То же самое в еде, одежде, гости¬
ницах. Те, кто может платить, пользуются лучшими
местами.
Рабочий трудится 40 часов в продолжение пятид¬
невки. У него в году пять праздничных дней, и он ра¬
ботает на 400 часов больше французского рабочего, ес¬
ли бы тот тоже работал по 40 часов в неделю. Но зар¬
плата столь низкая, что он нередко работает в двух
местах по 12—16 часов.
Процветает как никогда сдельная работа. Более
способный и зарабатывает больше своего товарища,
который ему завидует как менее ловкий.
Когда работы нет, рабочий остается незанятым и
без зарплаты. Государство не обременяет себя санти¬
ментами: есть работа — оно предоставляет ее рабоче¬
му, который должен выполнять ее быстро и хорошо.
Нет работы — человек должен сам выкручиваться,
приобретать другую специальность, чтобы не умереть
с голоду.
Зависть, мелочность всюду одинаковы. Умный и
добросовестный рабочий, которого называют «ударни¬
ком», может заработать больше своих товарищей, и его
оплачиваемый отпуск может вместо двух недель про¬
должаться месяц.
Усердие, как правило, замечается и поощряется, но
не утратил своей силы и фаворитизм: скромность и
другие достоинства, если они не на виду у власти, ос¬
таются незамеченными.
Кое-кому, наиболее ловким, умным, честолюби¬
вым,— или же благодаря родственным связям — уда¬
ется достигнуть чрезвычайно привилегированного по¬
ложения. Зарплата варьируется от 150 до 500 рублей в
451
месяц. Одни получают очень мало, другие — очень
много.
В 65 лет рабочий, после 25 лет ручного труда, полу¬
чает пенсию 37 рублей в месяц.
Те, кто не сумел сделать сбережения и кто не хо¬
чет быть в тягость детям, продолжают работать, таких
большинство.
Период реконструкции страны активизировал дея¬
тельность примерно так же, как это было у нас после
войны. Но активная деятельность в России не означа¬
ет обязательно комфорт или богатство.
Повсюду люди работают сверх нормы, потому что
цены на все невероятно высокие.
Если говорить о начальниках, то они получают при¬
каз: такукиго работу закончить к такому-то сроку. Ес¬
ли их рабочие или служащие не справляются, они са¬
ми должны работать сверхурочно — по 18 часов, если
нужно,— потому что они отвечают за производитель¬
ность и за результат.
Их положение не из легких: с одной стороны —
власть, с другой — недобросовестность исполните¬
лей.
После трехкратного предупреждения любой рабо¬
чий может бьггь уволен без предварительного извеще¬
ния и без выходного пособия.
На заводе, который я посетил, плакат напоминает,
что не выполнивших норму будут с 1 сентября уволь¬
нять без предупреждения.
За сверхурочную работу начальник или его заме¬
ститель не получают доплаты. Хотя, впрочем, он мо¬
жет надеяться, что ему вдвое увеличат оплачиваемый
отпуск и дадут премию. Так часто бывает, но это не
предусмотрено законодательством и во многом зави¬
сит от прихоти начальства.
Когда государство испытывает затруднения в сред¬
ствах, оно увеличивает налоги, которые отчисляются
непосредственно из зарплаты, или объявляет обяза¬
тельный заем, удерживая таким образом деньги.
Чтобы покрыть основные расходы, оно увеличива¬
ет цены на товары. Метр самого обычного шелка сто¬
452
ит 165 франков. И на подобного коммерсанта — нуво¬
риша, расточающего богатства,— никто не посмеет жа¬
ловаться.
Восьмого августа объявили, что по всей стране бу¬
дут удерживать из зарплаты в фонд помощи борцам
против фашизма в Испании. Это право государства.
Никто не может ничего возразить, и никому нет дела
до прорех в бюджете конкретного человека.
Взамен государство строит школы, заводы, боль¬
ницы, детские сады и ясли, санатории, дома отдыха
внешне очень привлекательные, где кто-то из рабочих
может провести отпуск, но где в комнате живет по
нескольку человек. Оно энергично борется с воровст
вом и преступлениями, прибегая к смертной казни
или высылке, старается поднять мораль, поощряет ма¬
теринство, искореняет повсюду проституцию, в неви¬
данных до того масштабах обеспечивает образование,
и 80 процентов их ходят в туфлях или тапочках, в то
время как при царском режиме 80 процентов ходили
босыми.
Свобода печати совершенно отсутствует. В газетах
нет совсем уголовной хроники. Зато политические
преступления могут занимать прессу в продолжение
долгого времени, общественное мнение совершенно
подавлено.
Малейший факт, связанный с известными людь¬
ми — летчиками, учеными, политиками, может зани¬
мать газеты неделями. Нечто вроде гипноза, и Сталин
у них — бог.
Действительно ли столь велики завоевания масс,
чтобы оправдать кровавую работу 1917 года, и, несмот¬
ря на очевидные успехи, несмотря на видимые усилия,
прилагаемые для достижения равенства, достигли ли
его на самом деле?
Уже повсюду вновь образовавшееся неравенство
напоминает о старом мире. Это неравенство день ото
дня увеличивается, оно подтверждается с регулярно¬
стью накатывающихся друг на друга волн.
Думаю, что не пройдет и десяти лет, как прежнее
социальное неравенство восстановится.
453
2 декабря 1936 г.
Дорогой месье Жид, только что прочитал «Возвра¬
щение из СССР». После моего возвращения оттуда
под впечатлением от репрессий в связи с убийством
Кирова в декабре 1934 года я стараюсь не пропустить
ни одного известия из России. Сейчас, прочитав вашу
книгу — а перед этим несколько недель назад адресо¬
ванное вам письмо Виктора Сержа и письмо Игнацио
Силоне,— я счастлив и одновременно подавлен. Я
счастлив оттого, что ваша книга еще раз подтвердила
истину, которую я считаю главной, фундаментальной
в понимании смысла жизни, именно: нет ничего важ¬
нее истины. Я, бывший коммунист и советский служа¬
щий, проработавший более трех лет в СССР в прессе,
в пропагандистском аппарате, в группе по инспекции
предприятий, в результате тяжких сомнений и мучи¬
тельной внутренней борьбы пришел к тем же самым
выводам, что и вы — человек из другой среды и из
другой страны. И вместе с нами Серж, с нами Сило¬
не, с нами часть человечества, которая не приемлет
того конформизма, о котором вы говорите в вашей
книге.
Возможно, вас заинтересует то, что я написал об
СССР. Одновременно я высылаю вам свою небольшую
книжку — «Die Wiederentdeckung Europas» * и брошю¬
ру — «Der Moskauer Prozess» **. Кроме того, я попро¬
шу своего издателя из Schweizer Spiegel Verlag в Цю¬
рихе выслать вам мою книгу «Abschied von Sovjetruss-
land» ***, вышедшую год назад.
Завершая цисьмо, позвольте коснуться еще одного
вопроса, который не перестает меня беспокоить. Речь
вдет о том, о чем вы говорите в конце вашей книги:
все, что происходит в СССР, может дискредитировать
саму идею. Эта опасность кажется мне громадной. Гро¬
мадной потому, что советской пропаганде не хватает
мужества отказаться от игры словами, признать, что
* «Новое открытие Европы» (нем.).
** «Московский процесс» (нем.).
*** «Прощание с Советской Россией» (нем.).
454
улетучился революционный дух. Но поскольку это не
сделано, множество искренних революционеров будет
отождествлять СССР с социализмом и сталинскую по¬
литику — с социально справедливым строем. И, надо
сказать, эта ошибка парализует лучшие силы человече¬
ского прогресса. Что делать, чтобы избежать этого тра¬
гического заблуждения?
Мне неизвестно ваше мнение о недавнем процессе
над Каменевым—Зиновьевым, о массовых расстре¬
лах, о концентрационных лагерях на берегу Белого
моря, в Сибири и Туркестане, где томятся тысячи
«контрреволюционеров». Там вместе с русскими това¬
рищами находятся и иностранцы, члены Schutzbund’a,
два года назад сражавшиеся за светлое будущее на
баррикадах Оттаркинга, там находятся те, кто томил¬
ся в казематах Петропавловской крепости. В.совет¬
ской тюрьме находится Зензи Мюзам, вдова (какое
многозначительное и трагическое совпадение) чело¬
века, нашедшего смерть в гитлеровском концлагере.
Там находятся — может быть, их уже нет в живых или
они уже живые трупы — не только множество моих
друзей, но и революционеры, которых хорошо знают
друзья прогресса, заключенные социалисты-коммуни¬
сты всех лагерей.
Но общественное мнение, человеческая совесть,
кажется, больше не существуют. Какой слабый отклик
на трагическое повторение московского процесса в
Новосибирске: шесть расстрелянных после двухднев¬
ного процесса, без свидетелей, на основании «призна¬
ния», которое служит единственным и смехотворным
его «оправданием». Мертвых уже не спасти. Но мож¬
но помешать, чтобы другие так не умирали. И можно
вернуть к жизни тех, кто дышит еще в бескрайней си¬
бирской тундре и в подземелье ГПУ на знаменитой Лу¬
бянке.
Я борюсь изо всех сил. Но мои силы невелики. Мои
призывы достигают немногих. Они слишком слабы,
чтобы разрушить тюремные стены.
А вас знают. И те, кто вершит трагические безза¬
кония во имя величайшей идеи, выработанной чело¬
455
вечеством, не посмеют не прислушаться к вашему го¬
лосу.
Осецкого, жертву Гитлера, освободили.
Помогите освободить жертвы Сталина!
Позвольте вам пожать руку.
А. Рудольф.
5 ноября 1936 г.
Месье, я только что с признательностью прочитал
вашу статью в «Vendredi» и позволю себе обратиться к
вам. Вы заслужили право на благодарность тех, для ко¬
го Революция — это прежде всего социальная справед¬
ливость и человеческое достоинство. Я знаю, как труд¬
но писателям, вступающим на неизведанный материк,
которым для них является революция, иметь смелость
видеть истину и провозгласить ее. Но я знаю также,
что «желание оставаться самим собой» может быть
осуществлено только при полной искренности. И ни¬
когда эта искренность, месье Жид, не может вредить
делу рабочих. Вредны неискренность и приспособлен¬
чество.
Я перечитываю ваши строчки, и, думаю, вы пойме¬
те теперь, что могли испытывать люди, защищавшие
Октябрьскую революцию с первого ее часа, признав¬
шие ее, потому что она была завершением их борьбы
против войны, отдавшиеся ей безраздельно и увидев¬
шие, как мало-помалу (со времени смерти Ленина) ее
отвоевывает старый мир, как компрометируются ее
идеалы, ради которых она свершилась...
Марсель Мартине.
Париж. 25 ноября 1936 г.
Современна ли критика СССР? Да.
Нужно анализировать русский революционный
опыт и, если необходимо, критиковать его, как этого
требовал от коммунистов других стран сам Ленин. Но
куда делось это время? Коммунист не может закры¬
вать глаза на то, что происходит вокруг. Это означало
бы отрицание марксизма. Коммунисты именно пото¬
му, что они воплощают будущее рабочего движения,
456
не имеют права обманывать пролетариат, скрывать
ошибки революционного опыта.
Напротив, это их право, их обязанность — изучать
путь, которым следует русская революция. Особенно
во Франции, где политическая зрелость пролетариата
позволяет ему осознавать собственные ошибки, но не
защищает его от обмана. Это изучение покажет, что
социализм в СССР не построен, что его революцион¬
ный опыт может послужить ценным уроком пролета¬
риату в будущей его борьбе. Важно не играть на руку
буржуазии, такое понимание своей роли воспитывает
сознание рабочего класса, укрепляет революционный
характер его борьбы, предохраняет его от опасных ил¬
люзий и неоправданного оптимизма.
Экономика СССР находится на подъеме, но не сле¬
дует упускать из виду, что она содержит в себе зароды¬
ши капитализма, она не избавлена от свободного рын¬
ка и существует неравенство в заработной плате со
всеми вытекающими последствиями.
Ж. Сен.
G^d|g
КОММЕНТАРИИ
Если зерно не умрет
(Si le grain ne meurt)
Журнальный вариант — в 1920—1924 гг. в журнале «Ну-
вель ревю Франсез»; полное книжное издание — 1926 г.
Название книги — евангельская цитата: «...если пшенич¬
ное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если
умрет, то принесет много плода» (Ин XII, 24).
1 Юзес — старинный город на юге Франции, близ Нима.
2 Г-жа де Сегюр (1799—1874) — в девичестве Софья Ро¬
стопчина, французская детская писательница.
3 «Фарс о Патлене» — «Фарс об адвокате Патлене», ано¬
нимный памятник средневековой французской комедии (ок.
1464 г.).
4 «Маски» Мориса Саида — иллюстрированная книга сы¬
на Жорж Санд о масках итальянской комедии (1853).
5 «Сутяги» — единственная комедия Ж. Расина (1668).
6 «Руководство для пианиста» — шеститомный сборник
фортепьянных пьес, неоднократно переиздававшийся во вто¬
рой половине XIX в.
7 Кювервиль — имение семьи А Жида в Верхней Норман¬
дии, в области Ко.
8 «Всемирная биография» — монументальный биографи¬
ческий словарь под редакцией Ж.-Ф. Мишо (первое издание
1811—1828).
9...о вступлении прусских войск в Руан...— в 1870 г. во
время франко-прусской войны.
Ю ...б день, когда низложены будут сильные со престола
и вознесены смиренные.— Лк I, 52.
458
...о выходе книги Золя с таким названием...— Роман
Э. Золя «Нана» вышел в свет в 1879 г. Десятилетнему Андре
Жиду вряд ли давали его читать.
12 «Рейнеке-лис» — немецкий средневековый животный
эпос; в 1793 г. Гёте переложил его на современный литера¬
турный язык.
13 Бюро Эдуард (1830—1918) — ботаник, профессор в па¬
рижском Музее естественной истории.
14 Эльзасская школа — среднее учебное заведение в Па¬
риже, созданное в 1873 г. первоначально для детей из эльзас¬
ских семей, оказавшихся после аннексии Эльзаса в 1871 г. на
территории Германии, но желавших сохранить связь с фран¬
цузской культурой. Школа пользовалась популярностью в
среде парижской протестантской буржуазии.
15 В то время дядя еще не занимался политической эко¬
номией...— Дядя писателя Шарль Жид (1847—1932) просла¬
вился как видный экономист, главатак называемой Нимской
школы кооперативизма.
16 Люди поколения моего деда еще хранили живое воспо¬
минание о преследованиях, без конца терзавших их пред¬
ков...— Преследования протестантов во Франции имели мес¬
то особенно в XVII в., после отмены в 1685 г. гарантировав¬
шего их права Нантского эдикта.
17 «вы — С0ЛЪ земЛи...» — Ср. Мф V, 13.
18...обращавшихся к Богу на «ты»...— Во французском
языке, в отличие от русского, нормой является обращение к
Богу на «вы».
19 ...на языке Мистраля...— то есть на провансальском язы¬
ке, возрождением которого в качестве литературного занима¬
лась во второй половине XIX в. так называемая школа фелибров
во главе с поэтом Фредериком Мистралем (1830—1914).
20 «Стелло» — роман Альфреда де Виньи (1832).
21 «Меркурий» Идрака — у скульптора Жана-Антуана-Ма-
ри Идрака (1849—1884) известно несколько изображений
Меркурия.
22 «Грибуй» — эта сказка Жорж Санд написана на фоль¬
клорный сюжет о комическом дураке, который, пытаясь из¬
бежать беды, по наивности сам идет ей навстречу.
23 Бабушка из Ноана — Жорж Санд, жившая в этой де¬
ревне в детстве, а затем и в последние годы жизни.
459
24 «Афродита» — роман из античной жизни Пьера Луиса
(1896), друга А. Жида (см. о нем ниже).
25 ...в десятый класс для маленьких детей...— Во фран¬
цузской школе нумерация классов идет от выпускного к са¬
мому младшему.
26 Бруардель Поль (1837—1906) — с 1879 г. профессор су¬
дебной медицины.
27 Как раз должна была открыться Всемирная выстав¬
ка...— Имеется в виду Парижская выставка 1878 года.
28 ...«з, как сейчас сказали бы, футуризма...— Во Франции
это слово означает не литературно-художественную школу, а
вообще всякое стремление к прогрессу и разрыву с прошлым.
29 «И небо малое над высотой деревьев»,— как скажет
Жамм в одной из своих элегий.— Неточная цитата из
«Третьей элегии» Ф. Жамма (1898).
30 «Имморалист» — повесть А. Жида (1902), отчасти ос¬
нованная на автобиографических мотивах.
31 Гизо Франсуа (1787—1874) — историк и политический
деятель, занимавший ряд ведущих министерских постов в
1830—40-е годы.
32 Стефен Геллер (1814—1888) — венгерский пианист,
преподавал в Париже.
33 Кавайе-Колль Аристид (1811—1899) — французский
органный мастер.
34 Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — рус¬
ский композитор и исполнитель, знаменитый пианист.
35 Цезарь Франк (1822—1890) — композитор и исполни-
тельюрганист.
36 Тенирс Давид (1610—1690) — фламандский художник.
37 Альпага — ткань, в которой использована шерсть одно¬
именного животного из Южной Америки.
38 «От истины вы далеки».— Из басни Лафонтена «Ля¬
гушка, хотевшая стать такой же большой, как бык» (I, 3).
39 Су — старинная монета в 5 сантимов, пятак.
40 Эмманюэль — в своей автобиографии, как и в первой
своей книге «Тетради Андре Вальтера» (1890), А Жид обо¬
значает этим именем свою кузину Мадлен Рондо (1867—
1938), ставшую его женой в 1895 г.
41 Сюзанна и Луиза — как и в случае с Мадлен Рондо, А.
Жид называет своих кузин вымышленными именами; в дей¬
460
ствительности их звали Жанна и Валентина (род. соответст¬
венно в 1868 г. и 1870 г.); напротив того, он сохраняет под¬
линные имена своих двоюродных братьев — Эдуард и Жорж
(род. в 1871 г. и 1872 г.).
42 ...Отель-Дьё, где некогда жили родители Флобера...—
Гюстав Флобер был сыном главного врача руанской больни¬
цы Отель-Дьё, где он и провел детство.
43 «Белка — прелестный зверек...» — Эта главка входила
в сборники избранных фрагментов «Естественной истории»
Жоржа-Луи Леклерка де Бюффона.
^ Жюль Ферри (1832—1893) — политический деятель;
занимая видные правительственные посты в конце 70-х —
80-х гг., провел ряд реформ либерально-демократической и
антиклерикальной направленности.
45 «Тонкинец» — насмешливое прозвище Ж. Ферри, дан¬
ное ему после отставки с поста премьер-министра в 1885 г.,
вследствие тактической неудачи французских колониальных
войск при завоевании Тонкина (северного Индокитая).
46 «Круа» — католическая газета, основанная в 1880 г. и
враждебная политике Жюля Ферри.
47 Ручейник — отряд водных насекомых.
48 Феликс-Аршимед Пуше (1800—1872) — руанский уче¬
ный-естествоиспытатель. Его труд «Гетерогения, или Трактат
о самопроизвольном зарождении» (1853) подвергся резкой
критике со стороны Л. Пастера.
49Лионель Р*** — его настоящее имя было Франсуа де
Витт (1870—1939); он приходился внуком Франсуа Гизо, а
также родственником Жану Шлюмберже (1877—1968), писа¬
телю и (позднее) одному из ближайших друзей Андре Жида.
50 «Корневильские колокола» — популярная оперетта Ро¬
бера Планкета (1877).
51 .„этот лицей ненамного изменился со времен Рабле.—
Франсуа Рабле был бакалавром, а затем и доктором медици¬
ны университета Монпелье.
52...продвигался по Долине драгоценных камней Синд¬
бад...— См. «Тысяча и одна ночь», ночи 544—545.
53...словно очи слепорожденного, когда к ним прикоснул¬
ся Спаситель.— См. Мф XII, 22.
54...входить в подробности отвратительной исто¬
рии...— Эпизод, рассказываемый здесь, произошел в конце
461
1882 г.; супружеская неверность «тетушки» Андре Жида, же¬
ны его дяди Эмиля Рондо, в 1888 г. привела к расторжению
их брака.
55 Мне досадно, как Журдену, при мысли о том, каким
виртуозом я мог бы стать...— См.: Мольер Ж. Б. «Мещанин
во дворянстве». II, 6.
ЬЬ ...узнали о смерти маленького четырехлетнею сына
наших кузенов Видмеров...— Это случилось летом 1880 г.
57 Schaudem — отсылка к стиху Гете («Фауст». Ч. 2.
Акт I): «Das Schaudem ist der Menschheit bestes Teil» (в пере¬
воде Б. Пастернака: «Способность потрясаться — высока»).
58 Троост Луи-Жозеф (1825—1911) — французский хи¬
мик.
59 «Беседы по понедельникам» — книжное издание лите-
ратурно-критических статей Ш.-О. Сент^Бёва (1851—1862;
были продолжены новой серией «Новые беседы...»).
Ришар... избрал в качестве места жительства
район Отей.— Настоящее имя этого учителя Жида — Анри
Боэр. Его адрес, указанный ниже, относится, собственно, не
к Отею, а к соседнему парижскому кварталу — Пасси; оба
квартала имели репутацию солидного буржуазно-аристокра¬
тического района.
61 Г-н Ригиар был учителем лишь in partibus...— то есть
фактически не служил ни в одном учебном заведении (фор¬
мула in partibus infidelium — «в краю неверных» — применя¬
лась в церковных титулах-синекурах, обладатели которых ус¬
ловно назначались на служение в нехристианские страны).
62...вдова генерала Бертрана...— Очевидно, подразуме¬
вается генерал Александр-Анри Бертран (1811—1878), адъю¬
тант императора Наполеона III.
63 Квинт Курций — римский историк I в. н. э. Его «Исто¬
рия Александра» широко использовалась как учебный текст
в преподавании латыни.
64 «Цинна» — трагедия П. Корнеля (1640).
65 «Король забавляется» — драма В. Гюго (1832); ниже
упоминаются ее персонажи — шутТрибуле и маркиз де Сен-
Валье.
66 «Богохульства» Жана Ришпена (1884) и «Неврозы» Мо¬
риса Роллина (1883) — поэтические сборники, расценивав¬
шиеся как вызов общественной морали.
462
...тщательно огороженные сады Фортунио...— Ге¬
рой повести Теофиля Готье «Фортунио» (1837), восточ¬
ный богач, устраивает себе в Париже роскошный дворец
с зимним садом, полностью скрытый от посторонних
взглядов.
68 «Тан» — наиболее авторитетная, полуофициальная
французская газета 1880-х годов.
69 Турнюр — деталь дамского туалета конца XIX в.: поду¬
шечка, подгладывавшаяся сзади под юбку.
70 «Песня без слов» — по-видимому, популярная пьеса Ф.
Мендельсона.
71 «Плейель» — известная фирма музыкальных инстру¬
ментов.
72 Крамер Иоганн Баптист (1771—1858), Штейбельт Да-
ниель (1765—1823), Дуссек (точнее, Ян Ладислав Дусик,
1760—1812) — немецкие и чешский пианисты.
73 Шифмакер — этого учителя музыки в действительно¬
сти звали Адольф К.
74 Schola — Schola cantorum, музыкальное учебное заве¬
дение в Париже, основанное в 1894 г. для изучения старин¬
ной (первоначально — средневековой) музыки.
75 «Сафо» работы Прадье — эта статуя работы француз¬
ского скульптора Джеймса Прадье (1792—1852) хранится в
Лувре.
76 «Человек благоволения» — Ак II, 14.
77...на концерты Паделу...— Эти публичные концерты
классической музыки были основаны известным дирижером
Ж.-Э. Паделу (1819—1881) в 1861 г.
78 Симфония в ut minor, Шотландская симфония — про¬
изведения Ф. Мендельсона-Бартольди (5 симфоний c-moll,
1824, и Шотландская симфония, 1830—1842).
79 Риттер (или Рислер) — возможно, немецкий альтист
Герман Риттер (1849—1926).
80 «Пустыня» Фелисьена Давида — ода-симфония фран¬
цузского композитора Ф. Давида (1844), использующая моти¬
вы арабской музыки.
81 Турнемин Шарль-Эмиль де (1812—1872) — художник-
ориенталист.
82 Куперен Франсуа (1668—1733) — французский компо¬
зитор.
463
83Гретри Андре-Эрнест-Модест (1741—1813), Буалъдъё
Адриен (1775—1834), Эрольд (Фердинанд Герольд, 1791—
1833) — французские композиторы.
84 «Старая голубятня» Копо — «Театр Старой голубят¬
ни», созданный в Париже в 1913 г. писателем и режиссером,
другом А. Жида Жаком Копо (1879—1949).
85 Арман Бавретель — его настоящее имя было Эмиль
Амбрезен; он покончил жизнь самоубийством в 1891 г.
86 «Трапперы из Арканзаса» — этот роман Г. Эмара вы¬
шел в 1858 г.
87 ...Суламифь, просившая подкрепить ее яблоками...—
См. Песн И, 5.
88 ...в наших преувеличенных чувствах было, как сказал
Лафонтен, «чуть-чуть вымысла»...— Цитата из стихотвор¬
ной новеллы Лафонтена «Матрона из Эфеса».
89..Лионель заставлял меня снимать шапку перед фото¬
графией герцога Орлеанского...— Будучи внуком Франсуа Ги¬
зо, министра при короле Луи-Филиппе, Франсуа де Витт
(«Лионель») хранит семейную верность Орлеанской дина¬
стии. Филипп Орлеанский (1869—1926), которого он почита¬
ет как законного претендента на престол, был внуком Луи-
Филиппа.
90 «Энциклопедия» — имеется в виду знаменитая Энцик¬
лопедия Дидро и д’Аламбера в 17 томах (1751—1772).
91 «Воспоминания охотничьей собаки» — возможно,
«Приключения охотничьей собаки», книга Гаспара де Шер*
виля (1862,1882).
92 «О вожделении» (изд. 1731), «О познати Бога и себя
самого» (изд. 1722) — трактаты Ж.-Б. Боссюэ.
93 Монталамбер Шарль де (1810—1870) — католический
публицист и политический деятель.
94 ...в «Тетрадях» Сент-Бёва...— Записные книжки Сент-
Бёва были опубликованы под названием «Мои яды» только
в 1926 г.
9^ «Тетради Андре Вальтера» — см. преамбулу коммен¬
тария к «Трактату о Нарциссе» (Т. 1).
96...получившего в Консерватории первый приз за декла¬
мацию...— В парижской Консерватории традиционно препо¬
дается не только музыка, но и декламация.
97 «Цитатник» Шарля-Антуана-Гийома Пиго-Лебрена
464
(1803), «Рогоносец» Шарля-Поля де Кока (1831) — образцы
популярной романистики.
98...0жидая с Небес, как Илия, мою пищу и отраду.— См.
3 Цар XVII, 2—6.
99 «Дневник» Амьеля — первое частичное издание днев¬
ника швейцарского писателя Анри-Фредерика Амьеля
(1821—1881) вышло в 1883 г.
100...нечто вроде... Ронсевальскогоущелья для добрых нра¬
вов.— В Ронсевальском ущелье, согласно эпическому преда¬
нию, погиб граф Роланд, прикрывая отступление из Испании
войск императора Карла Великого.
...не больше, чем Сократа посещения его «демона».—
Сократ говорил, что ему в жизни дает советы некий «демон».
102 Поль Альбер (1830—1880) — профессор, автор трудов
по истории литературы.
103 «Курс драматической литературы» Сен-Марка Жи¬
рардена — это антиромантическое сочинение известного кри¬
тика Франсуа-Огюста-Марка Жирардена (псевдоним — Сен-
Марк Жирарден, 1801—1873) вышло в свет в 1843—1863 гг.
104 «История английской литературы» Тэна — автор
Ипполит Тэн, первое издание 1863 г.
^ Класс риторики — предпоследний класс француз¬
ских лицеев и коллежей; последний, выпускной класс назы¬
вается «классом философии».
106 ...прочел у Шопенгауэра о различии между складом
ума историка и поэта...— См.: А Шопенгауэр. Мир как во¬
ля и представление. Т. I. Кн. 3. § 51; Т. II. Ч. 3. Гл. 38. Оттуда
же взяты и приводимые ниже цитаты из Ф. Шиллера (стихо¬
творение «Друзьям») и Аристотеля («Поэтика», 145 1Ъ).
«Альбертус, или Душа и грех» — поэма Теофиля Готье
(1832).
108 ...три латинских элегика...— Катулл, Тибулл и Про¬
перций.
*09 Греческая антология — собрание древнегреческих
эпиграмм, составленное в византийскую эпоху.
«Кодекс» Юстиниана — свод римского права, состав¬
ленный при византийском императоре Юстиниане I (482—565).
Ш «Внутренние голоса», «Песни сумерек» и «Осенние ли¬
стья» — поэтические сборники В. Гюго (соответственно
1837, 1835,1831).
465
112 ...отсутствие рифм и размера придавало этим сти¬
хам...— Во Франции иностранную поэзию обычно переводят
прозой.
113 ...завет Предтечи: «Ему расти, а мне умаляться».—
Ср. Ин III, 30, слова Иоанна Крестителя об Иисусе.
114 «Большие надежды» — роман Ч. Диккенса (1861).
115 Тёпфер Родольф (1799—1846) — швейцарский фран¬
коязычный писатель и художник, автор сентиментально-мо-
ралистических картин женевского быта.
116 Прессансе Эдмон де (1824—1891) — протестантский
проповедник и писатель. Его сын Франсис де Прессансе
(1853—1914) был политиком-социалистом, в 1885—1905 гг.
сотрудничал в газете «Тан».
117 В то время завершилась публикация переводов Ле¬
конта де Лиля...— Поэт-парнасец Ш. Леконт де Лиль
(1818—1894) выпустил, начиная с 1870-х годов, новые пере¬
воды целого ряда классических текстов древнегреческой
литературы.
118 Пьер Луис (1870—1925) — поэт и прозаик парнасской
традиции; свою подлинную фамилию Louis (Луи) он транс¬
формировал в экзотическое Louys.
119 Das Meer hat seine Perlen...— Г. Гейне «Ночью в каю¬
те» («Книга песен», цикл «Северное море»).
120 Сюлли-Прюдом Рене-Франсуа-Арман (1839—1907) —
поэт, один из первых лауреатов Нобелевской премии (1901).
121 ...у меня появилась привычка вести дневник...— Со¬
хранились дневники А. Жида начиная с 1887 г.
122 «Тесные врата» — повесть А. Жида (1909), содержа¬
щая автобиографические мотивы.
I23...организовал у себя дома бесплатное агентство по
трудоустройству.— Ср. персонаж Юбера в повести «Топи».
I24 Жан-Поль Лоран (1838—1921) —художник, отец дру¬
га А. Жида Поля-Альбера Лорана (1870—1934), художника.
1 ^ ...что немного позднее я ощутил по отношению к
Малларме...— А. Жид стал членом поэтического кружка
Малларме в феврале 1891 г.
126 Автопортрет Делакруа — автопортреты Э. Делакруа
хранятся в Лувре и в музее Уффици (Флоренция).
127 Мадемуазель де Марсийяк — женевская подруга ма¬
тери А. Жида.
466
128 «По берегам и долам» (точнее, «По полям и песчаным
косам») — путевые заметки о пешем походе по Бретани в
1847 г., написанные Флобером и Максимом Дюканом; опуб¬
ликованы лишь в 1886 г., после смерти Флобера.
129 В дороге я вел дневник. Несколько страниц из него на¬
печатаны в «Валлонии»...— Эта публикация, озаглавленная
«Нездешние отсветы», появилась в номере от июня—августа
1891 г. бельгийского журнала «Валлония», редактируемого
другом А. Жида поэтом Альбером Мокелем. Путешествие по
Бретани, о котором идет речь, состоялось летом 1889 г.
130 Понт-Авен — городок в Бретани, где в конце 80-х го¬
дов работали многие видные художники, группировавшиеся
вокруг Поля Гогена; ниже упоминаются трое из них, встре¬
ченные Жидом,— сам Гоген, Поль Серюзье (1864—1927) и
Шарль Филиже (1863—1928).
131 «философия искусства», «Об уме и познании» — эти
труды И. Тэна вышли соответственно в 1882 и 1870 гг.
132 ...в подражание «Источникам» отца Гратри...— Эта
книга религиозного философа Альфонса Гратри (1805—
1872) вышла в 1862 г.
133 Когда в *середине лета я вернулся в Париж, моя кни¬
га была закончена.— Имеются в виду «Тетради Андре Валь¬
тера», изданные в конце того же, 1890 г.
I34..Алладин предоставил своему тестю возможность
украсить один из балконов своего дворца.— Из сказки «Алла¬
дин и волшебная лампа», которая входит в «европейскую»
версию «Тысячи и одной ночи», составленную А. Галланом.
135 «Нынешний долг» Поля Дежардена — автор этой кни¬
ги (1892), писатель-эссеист Поль Дежарден (1859—1940), в
дальнейшем прославился организацией писательских «де¬
кад» в старинном аббатстве Понтиньи, на которых обсужда¬
лись актуальные морально-философские проблемы. Посто¬
янным участником «декад» был и А. Жид.
136 Вогюэ Эжен-Мелькиор де (1848—1910) — писатель и
критик, пропагандист русской литературы во Франции.
137 ...в издании Перрона — то есть в первом издании
«Тетрадей Андре Вальтера» (1890).
138 Ретте Адольф (1863—1930) — поэт и эссеист.
139 Миньяр Пьер (1612—1695) — художник-портретист и
декоратор.
467
140Берсье Эжен-Артюр-Франсуа (1831—1889) — проте¬
стантский проповедник и писатель.
141...она мне только сообщила, что отклоняет мое пред¬
ложение...— Это произошло в январе 1891 г.
142 ..Друэн и Кийо вскоре стали моими близкими друзья¬
ми...— Морису Кийо А. Жид посвятил свою книгу «Яства зем¬
ные» (1897); Марсель Друэн (1871—1943), в дальнейшем став¬
ший профессором философии, породнился с А. Жидом, же¬
нившись в 1897 г. на его кузине и сестре жены Жанне Рондо.
143 Amor fati — понятие стоиков, в XIX в. подхваченное
Ф. Ницше: готовность согласно принимать свою судьбу.
144 Гез де Бальзак Жан-Луи (1595—1654) — прозаик-клас¬
сицист.
145 Эредиа еще не опубликовал свои сонеты отдельным
сборником...— Знаменитый сборник сонетов Жозе-Мария де
Эредиа (1842—1905) вышел в свет в 1893 г. под названием
«Трофеи».
146 «Ревю де дё монд» — крупнейший французский лите¬
ратурный журнал XIX века.
147 Жюль Леметр (1853—1914) — один из наиболее вли¬
ятельных критиков конца XIX в.
148 Анри де Ренье (1864—1936), Фердинанд Эро (1865—
1940), Пьер Кийар (1864—1912), Бернар Лазар (наст, имя Ла¬
зар Бернар, 1865—1903), Андре Фонтена (1865—1948), Робер
де Бонньер (1850—1905), Андре де Герн (1853—1912) — поэ¬
ты конца XIX века.
149 Уистлер Джеймс Эббот Мак-Нил (1834—1903) — аме¬
риканский художник, работавший в Париже.
150 Когда-то я уже описывал эту маленькую комнату на
улице Рима...— А. Жид опубликовал мемуарный очерк о С.
Малларме после смерти последнего в 1898 г.; позднее она во¬
шла в сборник его критики «Предлоги» (1903).
151 «Разглагольствования» — название сборника стихов
и прозы С. Малларме (1897).
152 Меня спасло гурманство...— Намек на книгу «Яства
земные».
153 франсис Вьеле-Гриффен (1864—1937) — французский
поэт, по происхождению американец.
154 Стюарт Меррилл (1863—1915) — также француз¬
ский поэт американского происхождения.
468
155 Мендес Катюль (1841—1909) — поэт и прозаик, дея¬
тель парнасской школы.
156 Леон Блюм (1872—1950) — в 1890-е годы литератур¬
ный критик, в дальнейшем стал крупным политическим дея¬
телем. Андре Жид занял его место обозревателя в журнале
«Ревю бланш» в конце 1899 г.
157 Гюстав Кан (1859—1936) — поэт и критик.
158 «Крылатая легенда о Виланде» — «Крылатая легенда
о кузнеце Виланде», книга Ф. Вьеле-Гриффена (1900).
159 ..мой плохой отзыв о книге Ренье «Двойная любовни¬
ца»...— Эта статья, появившаяся в марте 1900 г. в журнале
«Ревю бланш», поссорила Жида с Анри де Ренье.
160 «Белый клевер» — эта книга А. де Ренье вышла в
1899 г.
161 Жюдит Готье (1845—1917) — писательница и пере¬
водчица, дочь Теофиля Готье.
162 „Мудрость, вопреки тому, что говорил о ней Соло¬
мон, начинается тогда, когда прекращается страх Бо¬
жий.— Ср. Эккл XV, 33.
163 «Маленький Маржмон» — этот роман Р. де Бонньера
был опубликован в 1890 г.
164 ...что-то в этом роде есть у Шиллера...— Имеется в
виду баллада Шиллера «Перчатка».
165 «Мы все должны нечто являть собою».— Ср. эту фор¬
мулу в «Трактате о Нарциссе».
166 «Зеркало легенд» — сборник новелл Б. Лазара (1891).
167...во время дела Дрейфуса Лазар бросился в бой...—
Имеется в виду его брошюра «Правда о деле Дрейфуса»
(1896), сыгравшая важную роль в пересмотре дела.
168 Альбер Мокель (1866—1945) — бельгийский поэт; его
книга «Немного наивное сказание» вышла в 1891 г.
169 Валькенар Андре (1870—1905) — родственник А. Жи¬
да, начинающий литератор.
170 речь вдет о стихотворении Сюлли-Прюдома «Разби¬
тая ваза».
1^1 БёрнДжонс (настоящее имя Эдвард Джонс, 1833—
1898) — английский художник, участник школы прерафаэли¬
тов.
I72 Княгиня Урусова — по данным биографов А. Жида,
это Прасковья Урусова, жена русского посла во Франции в
469
1898—1903 гг. князя JL П. Урусова. В 1887—1898 гг. он воз¬
главлял русское посольство в Бельгии.
173 «Новеллетты» — сборник фортепьянных пьес Р. Шу¬
мана (1838).
174 К ней-mo однажды вечером я и привел Уайльда.— Ан¬
дре Жид познакомился с Оскаром Уайльдом в декабре 1891 г.
175Жак-Эмиль Бланш (1861—1942) — художник-портре¬
тист.
176 Марсель Швоб (1867—1905) — писатель и филолог.
177 Баррес — ранняя проза М. Барреса «Культ своего ,,я“»
(1886—1889).
178 Роже Мартен дю Гар, которому я даю читать мои
воспоминания...— А. Жид познакомился с Р. Мартен дю Га-
ром в 1913 г., и их знакомство переросло в долгую дружбу.
179 Я был похож на Прометея, который удивляется, как
можно жить без того, чтобы орел не выклевывал твою пе¬
чень.— Намек на повесть самого Жида «Плохо скованный
Прометей».
180 «Пасторальная симфония» — повесть А. Жида (1919).
181...древнего острова лотофагов.— Этот остров, упоми¬
наемый в «Одиссее», славился, в частности, плодами, отве¬
дав которые человек навсегда забывал родную страну.
182...возможно, путаю спаги с тюрко.— «Спаги» называ¬
лась французская кавалерия, сформированная из уроженцев
Северной Африки, «тюрко» — стрелковые части времен
Крымской войны, также комплектовавшиеся алжирскими
арабами.
183 ...0 том, что Готье их не любил.— По-видимому, под¬
разумеваются путевые очерки Т. Готье «В Африке» (в кн.
«Когда путешествуешь», 1865).
184Лавижри Шарль-Марсьяль (1825—1892) — кардинал,
архиепископ Алжирский с 1867 г.
185 Когда он делился с нами своими снами, мы вспомина¬
ли библейского Иосифа.— Иосиф, как известно, был великим
толкователем чужих снов (Быт 40—41).
186 Каутер — медицинский инструмент для прижиганий.
187 «В нем больше упрямства, чем верности себе»,— на¬
писал обо мне Синьоре...— Поэт и критик Эмманюэль Синь¬
оре (1872—1900) весной 1898 г. напечатал большую статью о
творчестве Жида в своем журнале «Сен-Грааль».
470
188 Доктор Бурже из Лозанны — по-видимому, швейцар¬
ский медик Луи Бурже (1856—1913).
189 ...фигура царицы Савской, приехавшей к Соломону,
«дабы загадать ему загадки».— 3 Цар X, 1.
190 Quid June si juscus Amyntas — Вергилий. Буколики. X.
37—38; правильное написание цитаты — «quid turn si
fuscus...».
191...словно Каин, увидевший, что дым от его жертвы
стелется по земле...— См. Быт IV, 5.
192 Ролла — герой одноименной поэмы Альфреда де
Мюссе (1833).
193...как Ринальдо в саду Армиды...— Имеется в виду зна¬
менитый эпизод из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иеру¬
салим», где рыцарь Ринальдо попадает в заколдованный сад
волшебницы Армиды.
194 Киана, Аретуза — нимфы; близ Сиракуз сохранились
посвященные им источники.
195 ...кем-то из учеников с виллы Медичи.— На римской
вилле Медичи располагается так называемая Академия
Франции в Риме, художественная школа для французских
живописцев, проходящих для обучения в ней специальный
конкурс.
196 Троншен — скорее всего, имеется в виду известный
женевский врач Теодор Троншен (1709—1781).
197 Байрейт — город в Баварии, знаменитый своим опер¬
ным театром, где проводятся ежегодные фестивали вагне¬
ровских опер.
198 «Песни Билитис» — поэтическая книга Пьера Луиса
(1894), имитирующая греческую любовную лирику.
199 «Голубка» — стихотворение Луи Буйе (1822—1869), по¬
эта, близкого к парнасской школе; опубликовано посмертно.
200 «Песня о Гранате» — это стихотворение Жида, пер¬
воначально напечатанное в 1896 г. в журнале «Сантор», в
дальнейшем вошло в книгу 4 «Яств земных».
201 «Дорога, обсаженная аристолохиями...» — См. этот
фрагмент в повести «Топи», глава «Анжель, или Маленькое
путешествие».
202 «Господь — Пастырь Мой; я ни в чем не буду нуж¬
даться».— См. Пс XXII, 1.
203 Скромные берега этого озера, где все еще бродит тень
471
Руссо...— Жан-Жак Руссо в 1760-х гг. некоторое время жил на
острове Сен-Пьер посреди Бьенского озера.
204 «Теодицея» Лейбница — трактат Г.-В. Лейбница (1710).
205 „учебник по зоологии Клауса...— «Трактат по зооло¬
гии» (фр. пер. 1877 г.) немецкого профессора Карла Клауса
(1835—1899).
206...его армянский наряд...— В книге 12 своей «Испове¬
ди» Руссо рассказывает о том, как на склоне лет, плохо чув¬
ствуя себя в облегающем европейском платье, стал одевать¬
ся в свободный костюм армянского образца.
207 «Наукоучение» Фихте — этот трактат И.-Г. Фихте был
опубликован после смерти философа, в 1804 г. Здесь же упо¬
минаются два других трактата этого философа — «Метод до¬
стижения блаженной жизни» (1806) и «Предназначение уче¬
ного и литератора» (фр. изд. 1838).
208 в другом месте я уже рассказывал...— в книге «Вос¬
поминания об Оскаре Уайльде» (книжное издание 1910; со¬
ставлявшие ее два очерка ранее печатались в журнале «Эр¬
митаж» в 1902 и 1905 гг.).
2°9 «Оскар Уайльд и я» — эта книга Альфреда Дугласа
(1870—1945) вышла в 1914 г.
2*0 Боз — псевдоним Ч. Диккенса в его первом произве¬
дении, цикле «Очерки Боза» (1835).
211 «Он пишет мне в первый раз и еще не решается по¬
ставить свой орфограф...» — А. Жид воспроизводит англий¬
ский акцент Уайльда, в произношении которого сближаются
французские слова autographe (автограф) и orthographe (ор¬
фография).
212...красоту Сирила (если не ошибаюсь)...— Одного из
сыновей О. Уайльда действительно звали Сирилом.
213 «Аминт» — под названием «Аминт» изданы в 1906 г.
записные книжки А. Жида о поездках в Северную Африку.
214 Киф — гашиш.
215Двумя годами ранее, летом в Ла Рок... (я писал
«Странствие Уриана»)...— Встреча с Уайльдом в Алжире
произошла весной 1895 г.; «Странствие Уриана» было опубли¬
ковано в мае 1893-го.
216...л только что прочитал «Соловья» Боккаччо...—
Имеется в виду одна из эротических новелл «Декамерона»
(день пятый, новелла четвертая).
472
217Даниэль Б. — Возможно, имеется в виду Анри Геон
(см. ниже примечание 226).
218 Ach! wiisstest du wie’s Fischlein ist / So wohlig auf dem
Grund! — Источник цитаты установить не удалось.
219 Ремы де Гурмон (1858—1915) — писатель, критик, эс¬
сеист.
220...его призывала в Англию необходимость покончить с
обвинениями маркиза Квинсбери, отца Бози...— В том же,
1895 г., О. Уайльд был по этим обвинениям осужден на двух¬
летнее тюремное заключение.
221 Гурии — райские девы в мусульманских представле¬
ниях.
222 Намерение повезти Атмана в Париж...— Атман дей¬
ствительно приезжал во Францию в 1900 г., во время Всемир¬
ной выставки.
223 ...решение спора между Дионисом и Аполлоном.—
Имеется в виду противопоставление «дионисийского» и
«аполлоновского» начал в культуре, проведенное Ф. Ницше
в книге «Рождение трагедии из духа музыки» (1872).
224 ...у моего друга Э. Р....— Имеется в виду Эжен Руар
(1872—1935) — сын крупного коллекционера современной
живописи, имевший много друзей в литературно-художест-
венной среде и сам написавший несколько литературных
произведений.
225 С матерью случился удар.— Жюльетта Жид, мать пи¬
сателя, умерла 31 мая 1895 г.
226 ...со мной тогда был мой друг Геон...— Драматург Ан¬
ри Геон (1875—1944), близкий другА. Жида в 1897—1915 гг.,
был вместе с ним во Флоренции в 1912 г.
227 Малерб Франсуа де (1555—1628) — поэт и критик-
классицист.
228 Спустя некоторое время мы были помолвлены.— По¬
молвка Андре Жида и Мадлен Рондо состоялась 17 июня
1895 г., свадьба — 7 октября.
Et nunc manet in te
Написано в основном в 1938—1939 гг., после смерти же¬
ны А. Жида Мадден (17 апреля 1938 г.). Первый некоммер¬
473
ческий тираж книги, для узкого круга друзей, был напечатан
в 1947 г.; в продажу она поступила в сентябре 1951 г., через
несколько месяцев после смерти автора.
Название книги — цитата из приписываемой Вергилию
поэмы «Комар» (ст. 267): «...et nunc, Orpheu, manet in te» («и
ныне, Орфей, она остается в тебе»); речь идет об Эвридике,
безвозвратно утраченной Орфеем и «остающейся» лишь в
его памяти.
1Должна была быть только одна Алиса.— Героиню
своей повести «Тесные врата», прототипом которой была
Мадлен Рондо, Жид назвал не употребительным во француз¬
ском языке именем Alice, а причудливо-экзотическим Alissa.
2 Вернувшись из Сенегала...— Эта поездка состоялась ян¬
варе—марте 1938 г.
3 Ивонна де Лестранж (1892—1977) — виконтесса; Жид
познакомился с нею во время своего путешествия по Конго
в 1925—1926 гг., Ивонна де Лестранж была командирована в
Африку институтом Пастера.
4 Аньес Копо (1872—1950) — жена писателя и режиссера
Жака Копо.
5 ...1благодаря трагическому происшествию...— Должно
быть, имеется в виду эпизод, рассказанный в автобиографии
А. Жида, когда он ребенком обнаруживает супружескую не¬
верность своей тетки, матери Мадлен Рондо.
6 Ольга Кайат (1870—1929) — дальняя родственница А.
Жида.
7 Луксор, 3 февраля 1939 г.— в феврале—марте 1939 г.
Андре Жид совершил поездку в Грецию и Египет.
8...возвращение Кориолана...— См.: Шекспир. Кориолан.
И, 1.
9...во время нашего свадебного путешествия по Ита¬
лии...— осенью 1895 г.
Ю Сараджинеско — городок в горах недалеко от Рима.
11...когда мы вновь приехали в Алжир.— Зимой 1895—
1896 гг.
12 .„после публикации моей книги о России...— Книга А.
Жида «Возвращение из СССР» вышла в ноябре 1936 г.; в
июне 1937-го изданы «Дополнения» к ней, еще более критич¬
ные по отношению к советскому режиму.
474
13 Фекан — портовый городок в Верхней Нормандии.
14 Из моего длительного путешествия по Конго...— Это
путешествие Жид совершил в 1925—1926 гг.
15 Ванги — город в Африке, ныне столица Центрально-
Африканской республики.
16 Ко — область в Верхней Нормандии.
17 Эдди Копо — младшая дочь Жака Копо, ставшая мона¬
хиней.
18 «Дневник» — имеется в виду «Дневник 1889—1939»,
опубликованный А. Жидом в 1939 г.
19 Сен-Клер — провансальская усадьба семьи ван Рис-
сельбергов (см. ниже примечание 32).
20 ...сразу же после моего отъезда в Англию... с Мар¬
ком...— Эта поездка состоялась летом 1918 г.; спутником А.
Жида был Марк Аллегре (1,900—1973), близкий с ним и в по¬
следующие годы, а в дальнейшем ставший известным кино¬
режиссером.
21 ...для воспоминаний, которые я тогда писал...— Эта
книга вышла под заглавием «Если зерно не умрет».
22 Since all ту life seemed meant for fails...— Цитата из по¬
эмы P. Браунинга «Последняя прогулка вместе» (1855).
23 Вербек Эдуард — бельгийский типограф, печатавший
книгу «Если зерно не умрет».
24 «Хорошо темперированный клавир» — сочинение И.-С.
Баха (1722—1744).
25 Теперь мое творчество будет подобно симфонии...—
Любопытно, что в том же, 1919 г., Жид выпустил повесть под
названием «Пасторальная симфония».
26 «Святой Мартин» — стихотворение в прозе П. Клоде¬
ля, вошедшее в сборник «Сияющие лики» (1947).
27...на следующий день после праздника...— Имеется в ви¬
ду праздник Троицы, во Франции — нерабочий день.
28 Сабина Шлюмберже — младшая дочь друга А. Жида
писателя Жана Шлюмберже, родившаяся в 1905 г.
29 Кольпак — усадьба люксембургского промышленника
Эмиля Мейриша, с которым А. Жид дружил со времен Пер¬
вой мировой войны.
30 Понтиньи — место проведения писательских «декад»
Поля Дежардена (см. примечание 136 к «Если зерно не ум¬
рет»).
475
31Лланберис — город в Великобритании (в Уэльсе).
32 Элизабет — Элизабет ван Риссельберг, дочь бельгий¬
ского художника Тео ван Риссельберга; была близка с А. Жи¬
дом в начале 20-х годов и в апреле 1923-го родила ему дочь
Катрин.
3^ Сен-Мартен-Везюби — городок на юге Франции, близ
Ниццы.
34 «Фальшивомонетчики» — роман А. Жида; закончен в
июне 1925 г., опубликован в 1926-м.
35 Аньес — см. выше примечание 4.
З^Креуса, Эвридика, Ариадна — героини античных ле¬
генд, их мужьями или возлюбленными были соответственно
Эней, Орфей и Тесей.
37...возглас апостола: «Господи! спаси нас, погибаем».—
Мф VIII, 25.
Возвращение из СССР
(Le Retour de 1’URSS)
Книга «Возвращение из СССР» вышла в свет в ноябре
1936 г. в Париже. Она отразила впечатления писателя от по¬
сещения с 17 июня по 24 августа 1936 г. первой страны соци¬
ализма.
Еще в начале тридцатых годов А. Жид привлек внимание
сталинского правительства своей увлеченностью идеями
коммунизма. Но, к безмерному возмущению вождей совет¬
ского народа, он критически отнесся к увиденному в СССР
и, не скрывая разочарования, поделился своими выводами с
читателями. А. Жид дал негативную оценку происходящему
в Стране Советов, после чего его книги не переводились в
нашей стране более полувека.
С. Зенкан
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К 1—7 ТОМАМ
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ АНДРЕ ЖИДА
«Братья Карамазовы» 6 236
Вирсавия 1 375
Возвращение блудного сына 1 387
Возвращение из СССР 7 341
Возвращение с озера Чад 5 221
Если зерно не умрет 7 5
Женевьева, или Незавершенная исповедь 3 297
Изабель 2 125
Имморалист 2 5
Коридон 6 365
Лекции в зале Vieux Colombier 6 246
Опыт любви, или Трактат о тщетности желаний 1 91
Пасторальная симфония 3 131
Переписка Достоевского 6 205
Плохо скованный Прометей 1 283
Подземелья Ватикана 2 207
Путешествие в Конго 5 5
Речь, произнесенная в зале
Vieux Colombier на праздновании
столетия со дня рождения Достоевского 6 241
Робер 3 261
Саул 6 85
Странствие Уриана 1 39
Тесей 3 371
Тесные врата 3 5
Топи 1 107
Трактат о Нарциссе (Теория символа) 1 27
477
Урок женам
3
193
Фальшивомонетчики
4
5
Филоктет
1
356
Царь Кандавл
6
5
Эдип
6
173
Эль-Хадж, или Трактат о ложном пророке
1
335
Яства земные
1
175
Et nunc manet in te
7
295
СОДЕРЖАНИЕ
ЕСЛИ ЗЕРНО НЕ УМРЕТ. Перевод Е. Гречаной .
ЕТ NUNC MANET IN ТЕ. Перевод Е. Гречаной .
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СССР. Перевод А. Лапченко
Комментарии
Алфавитный указатель
АНДРЕ ЖИД
Собрание сочинений
в семи томах
Том седьмой
Редактор Е. Кондратьева
Художественный редактор И. Марев
Технический редактор В. Нефедова
Корректор В. Колобовников
Компьютерная верстка И. Понятых
ЛР N® 071673 от 01.06.98 г. Цзд. № 0402191.
Подписано в печать 12.08.02 г.
Формат 84x108732. Бумага офсетная.
Гарнитура «Центурион». Печать высокая.
Уел. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 23,76.
Заказ № 0210130.
ТЕРРА—Книжный клуб.
115093, Москва, ул. Щипок, 2.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.
ГШП?|