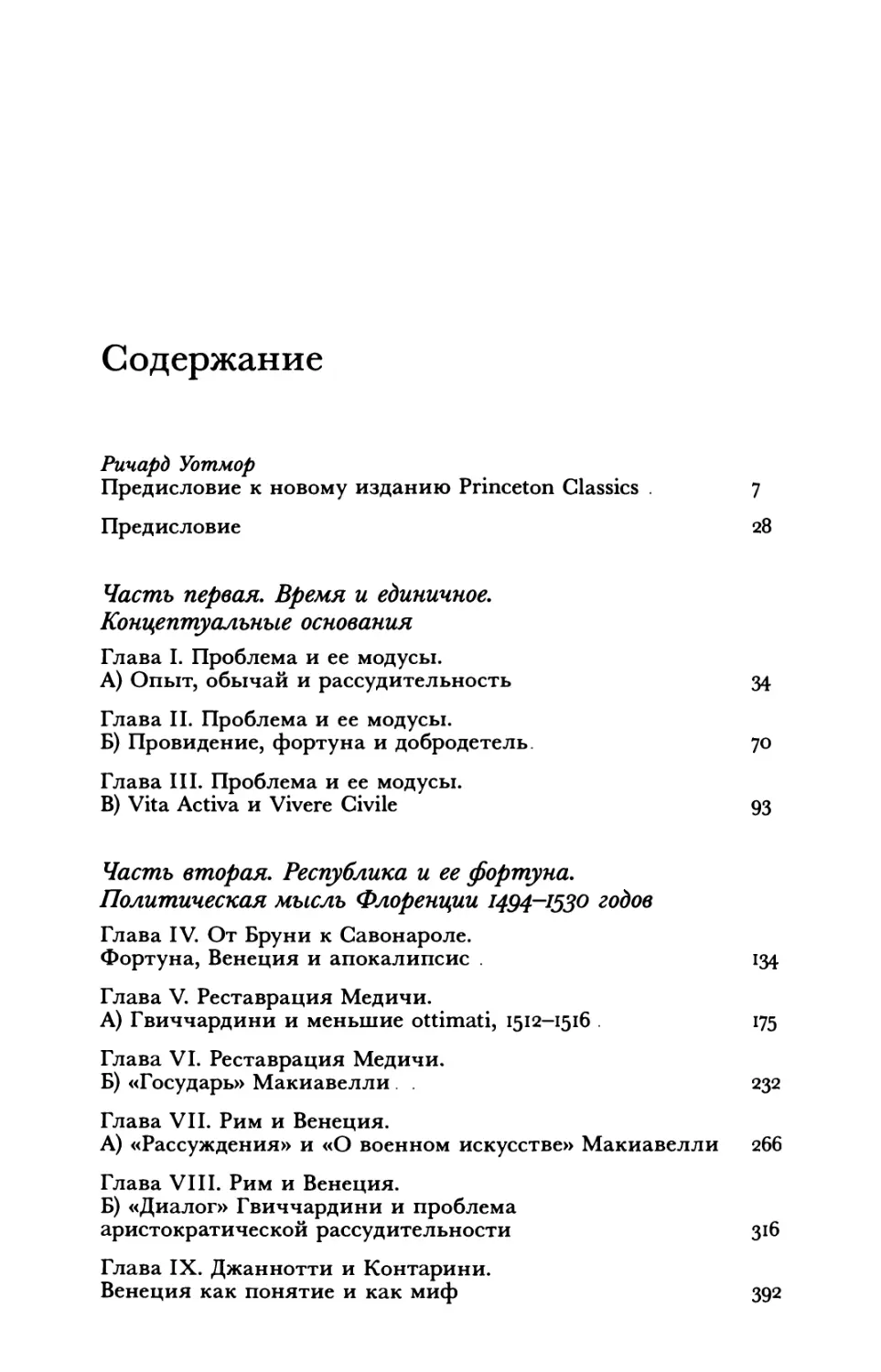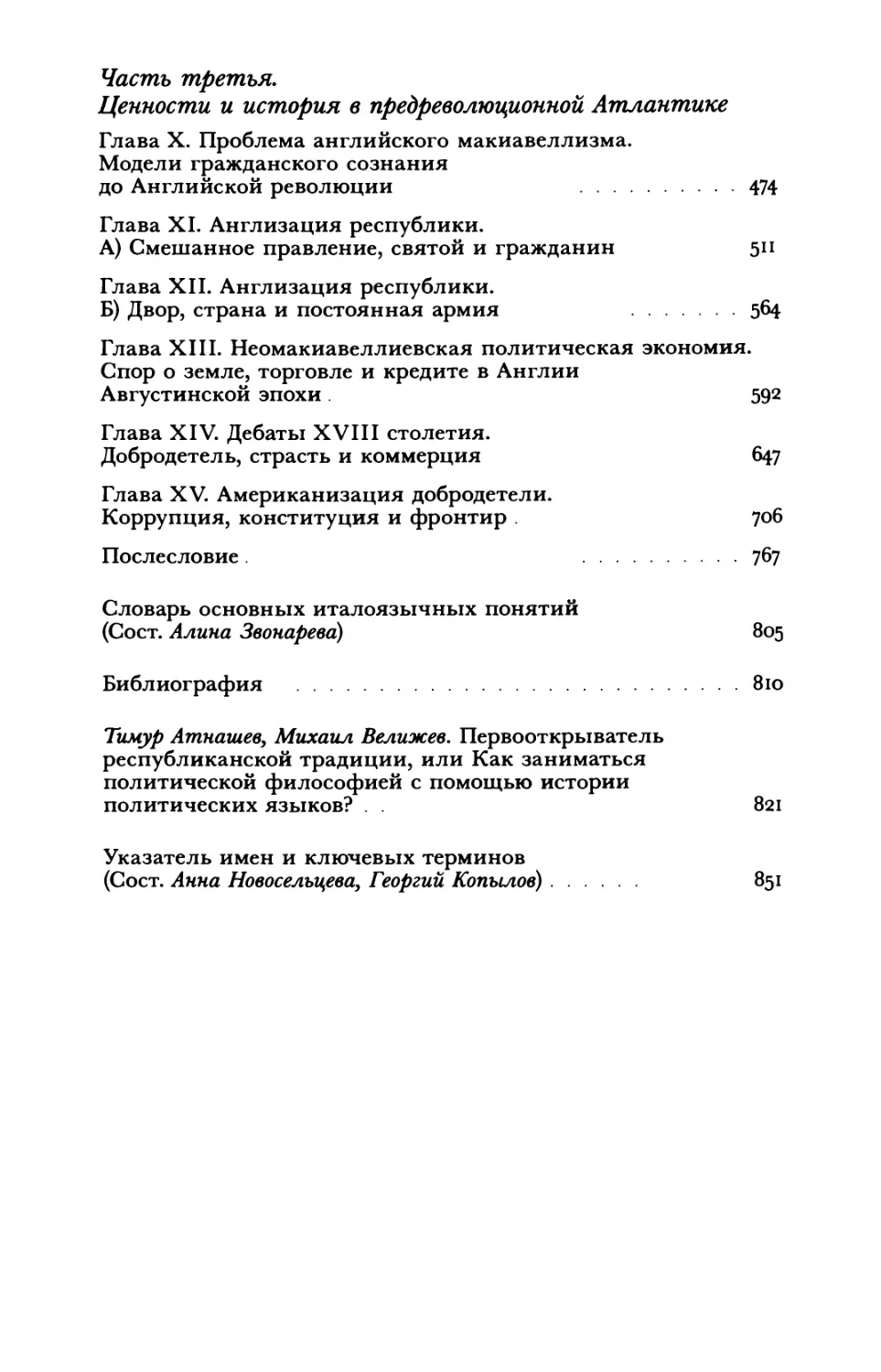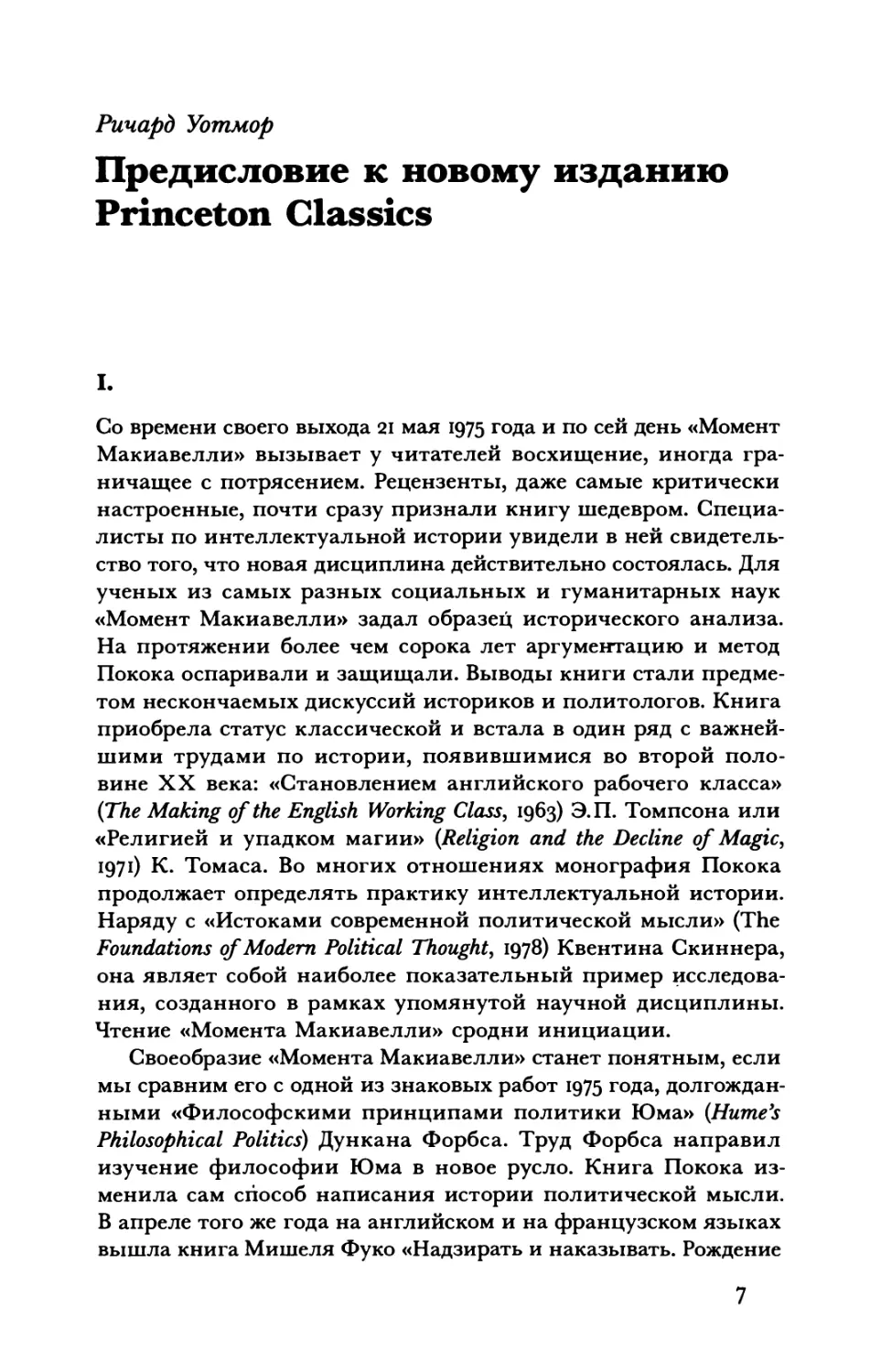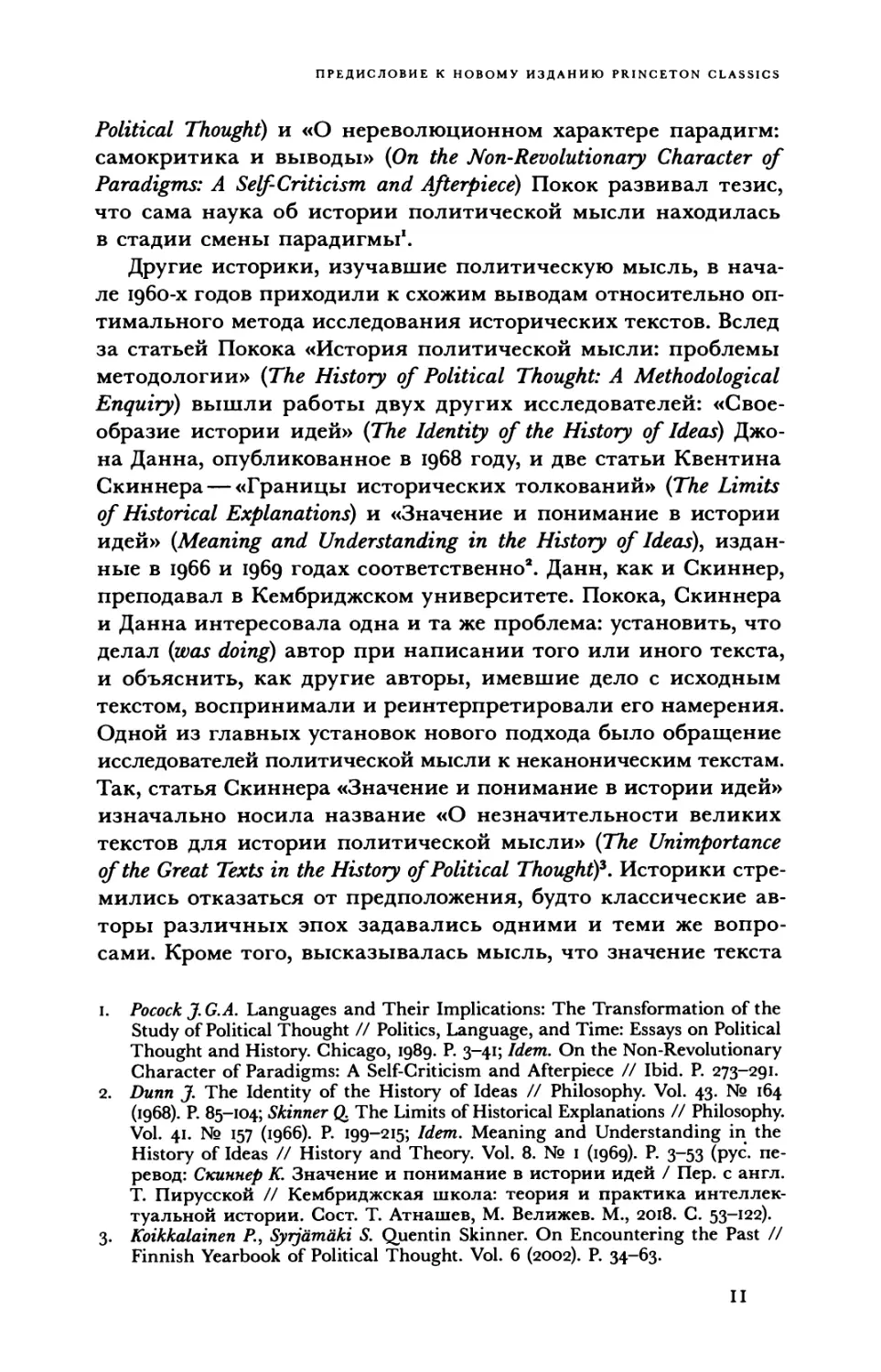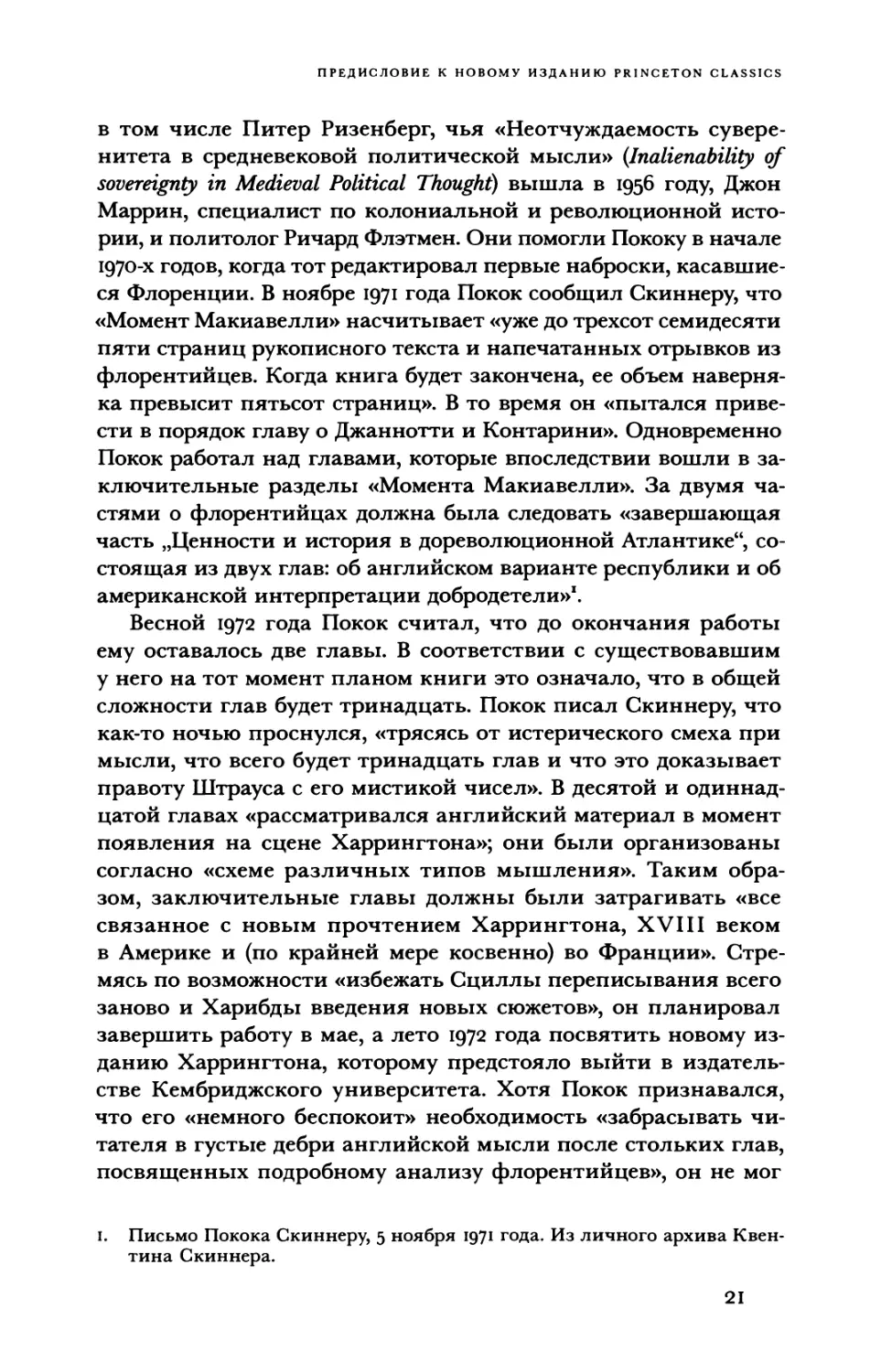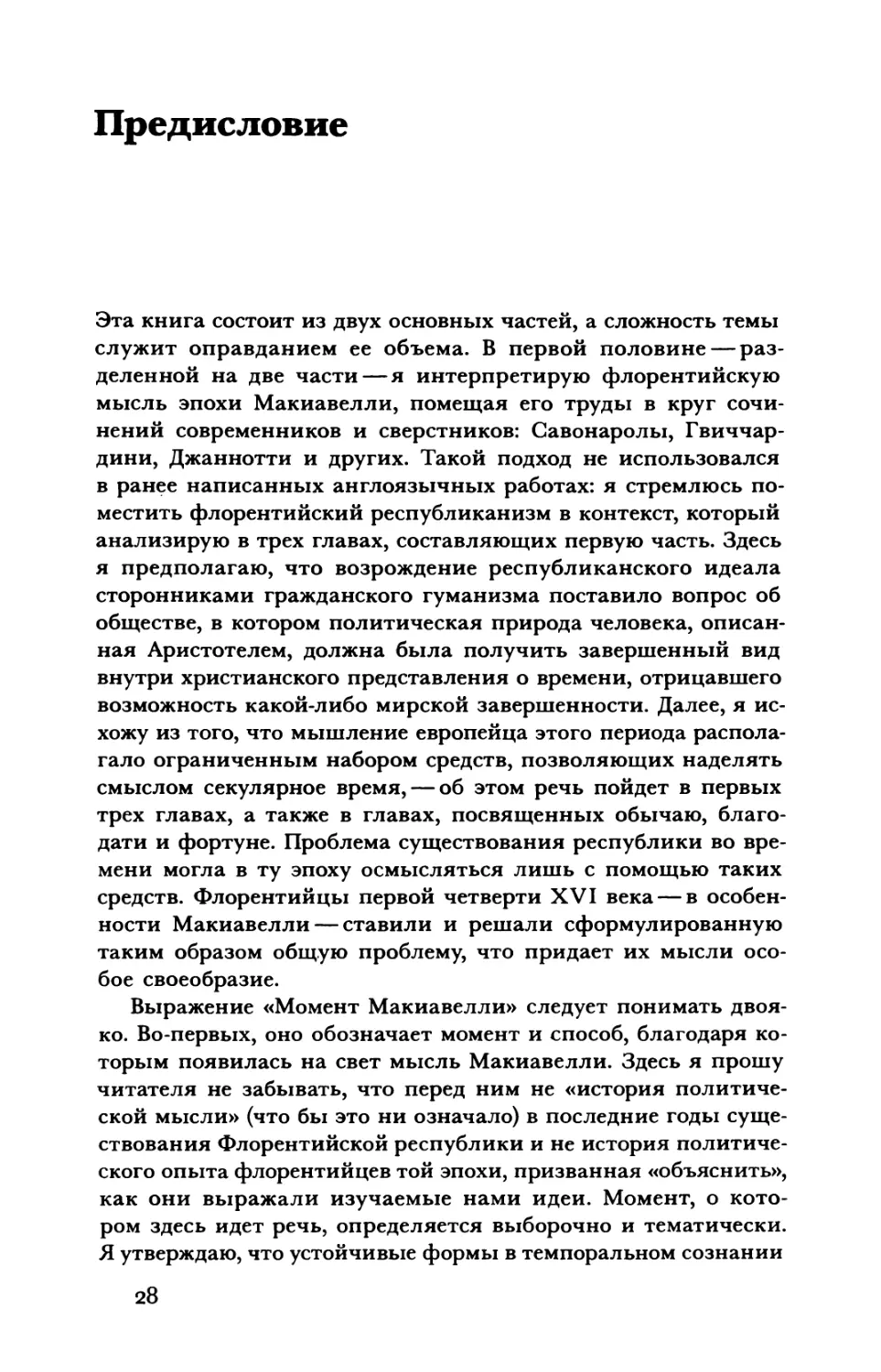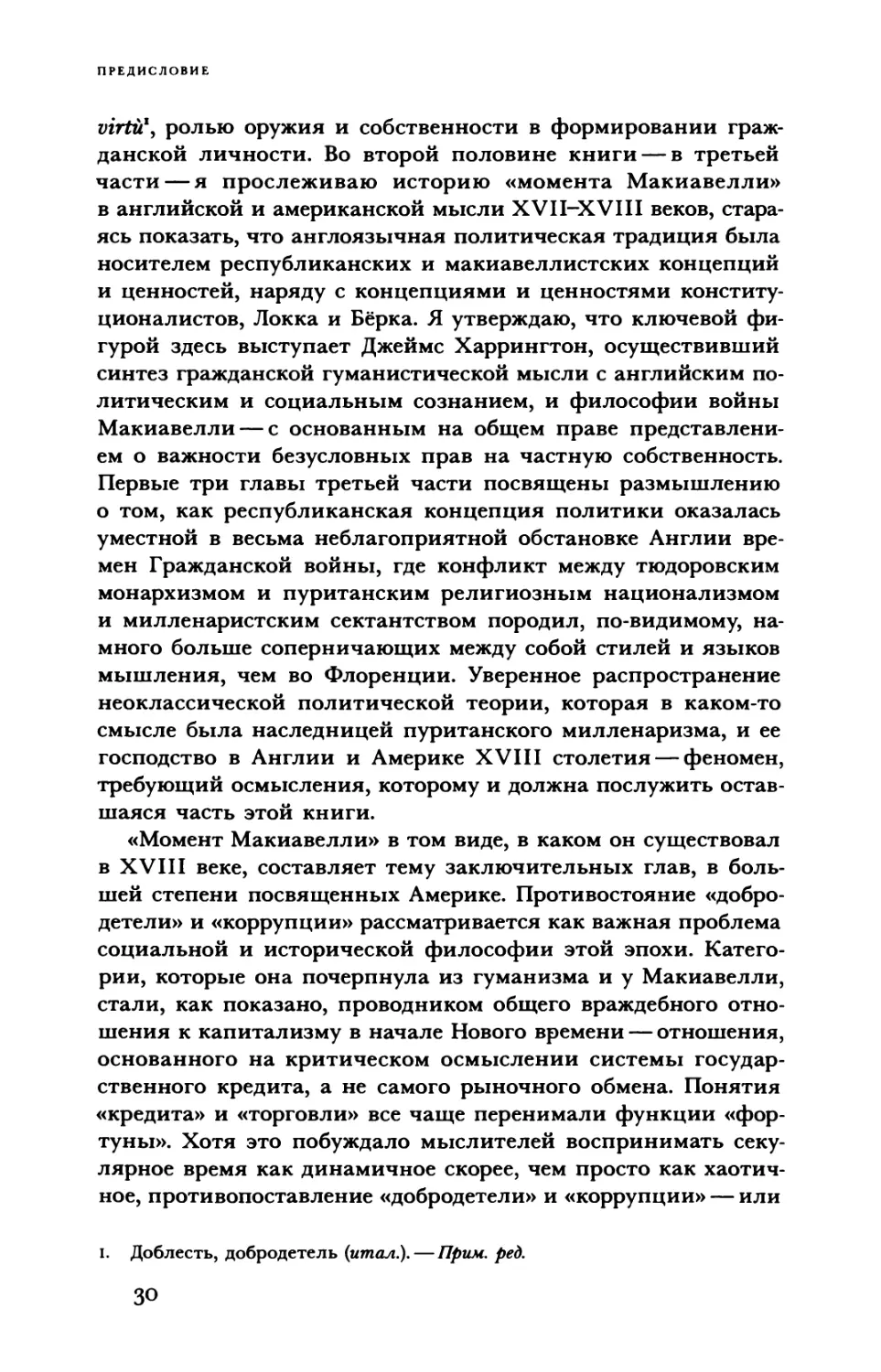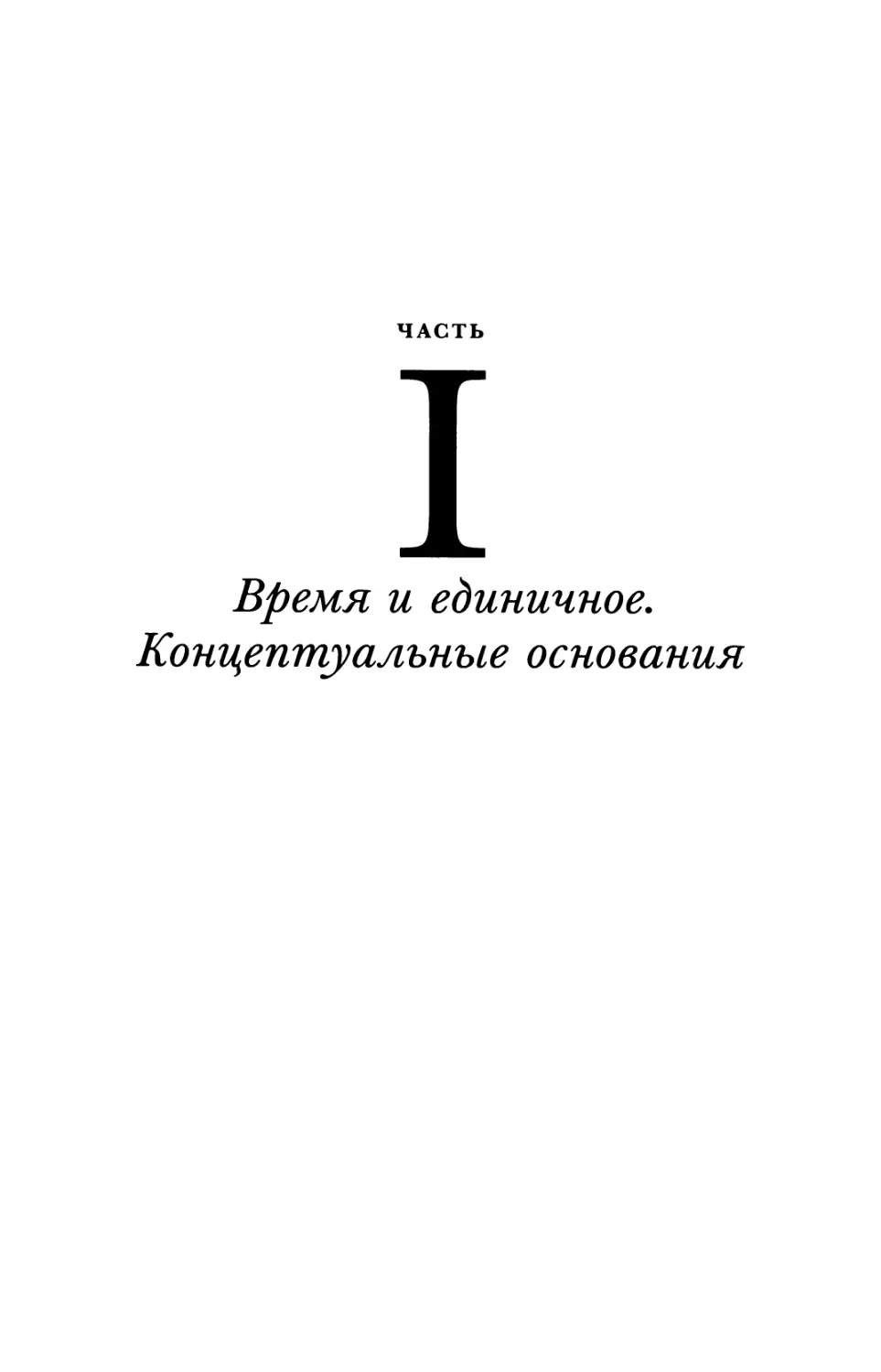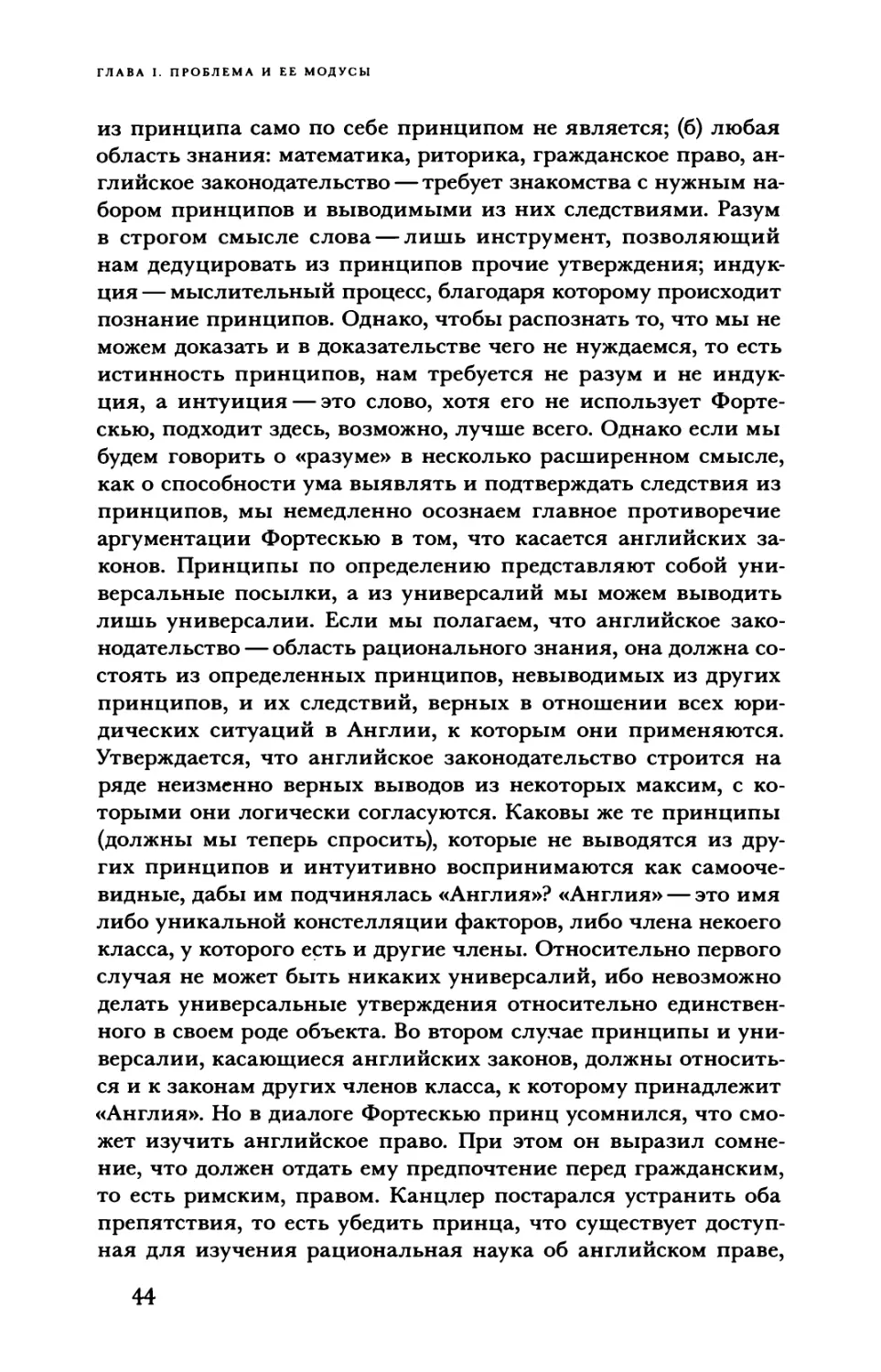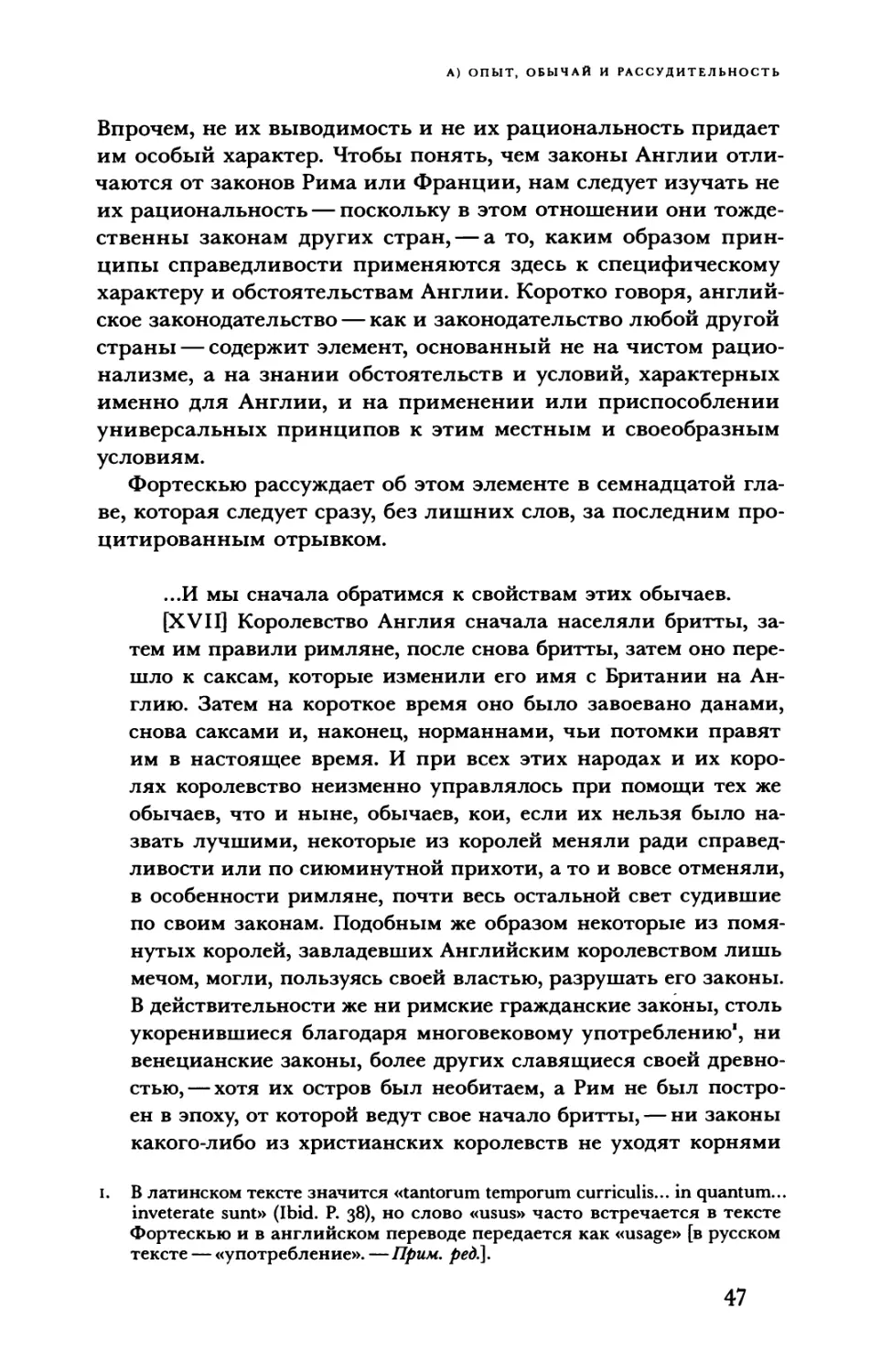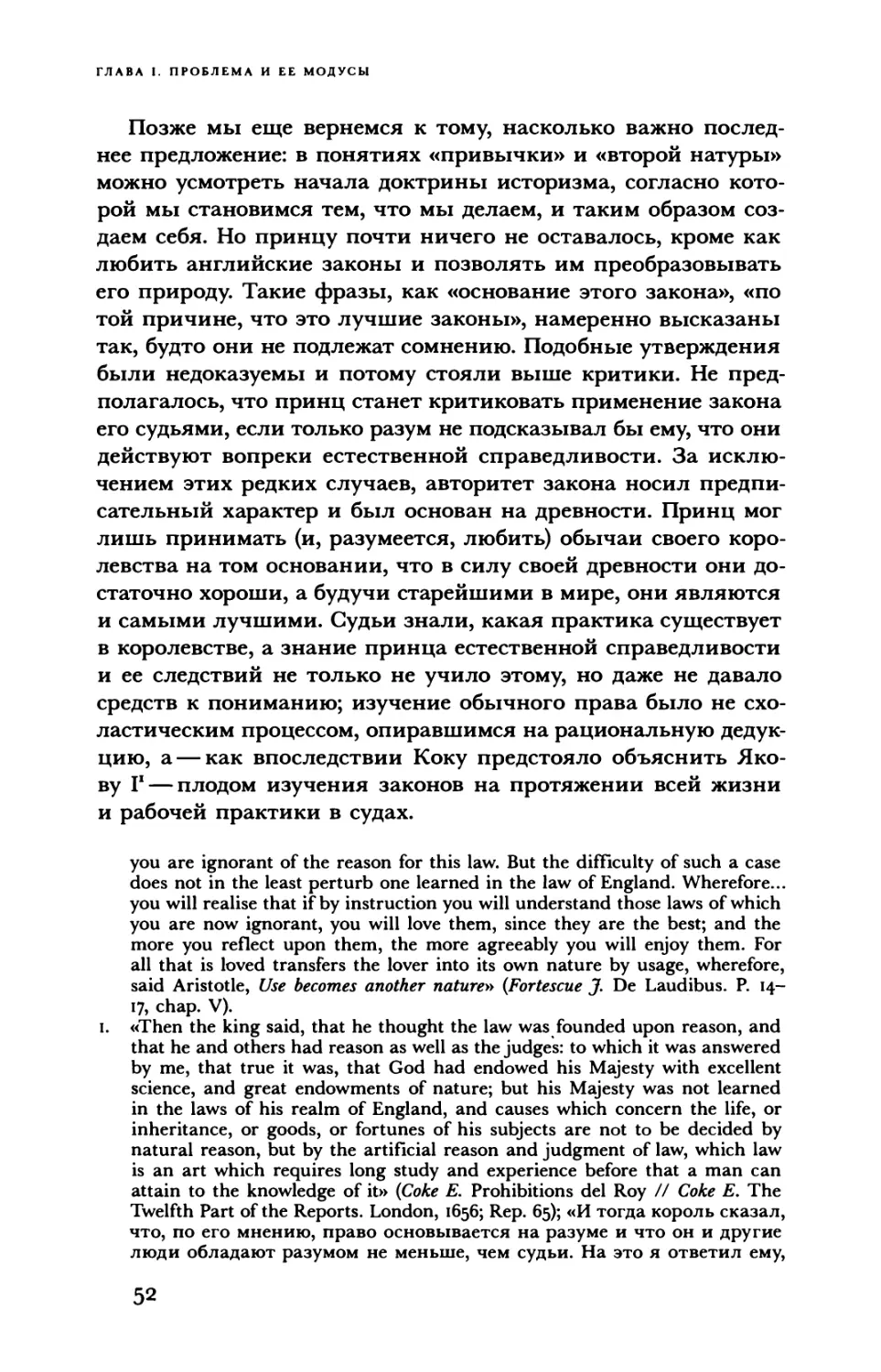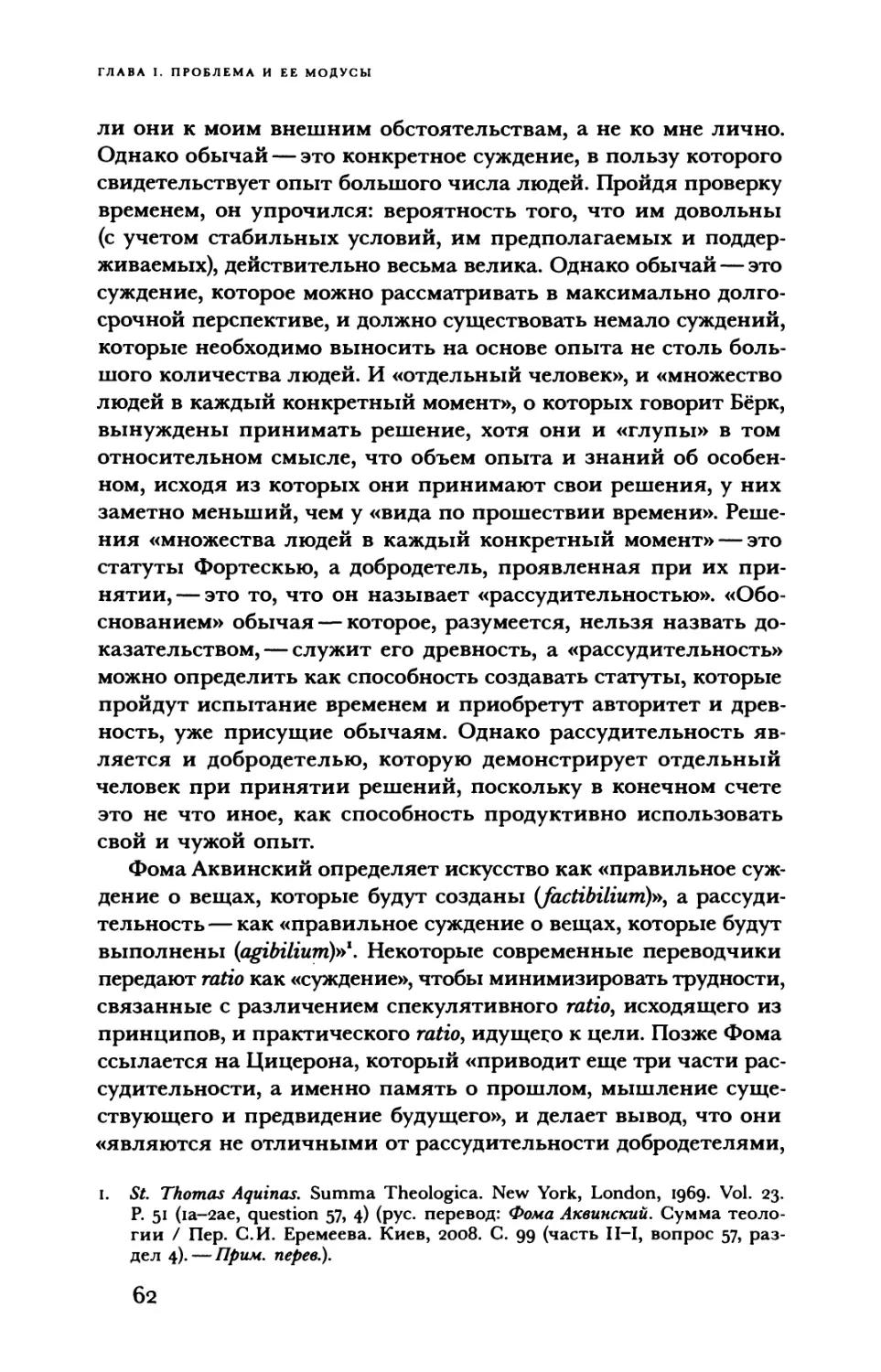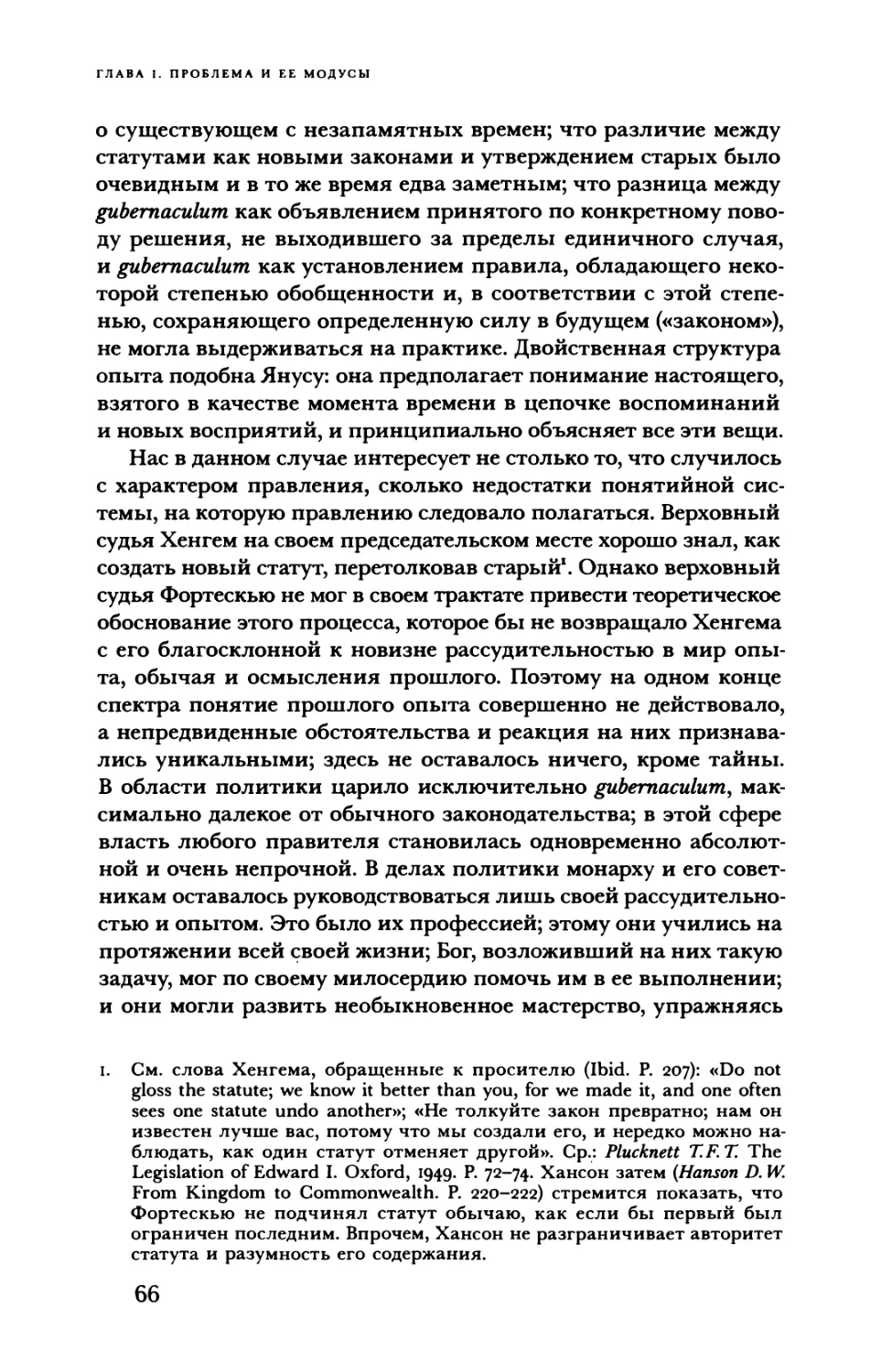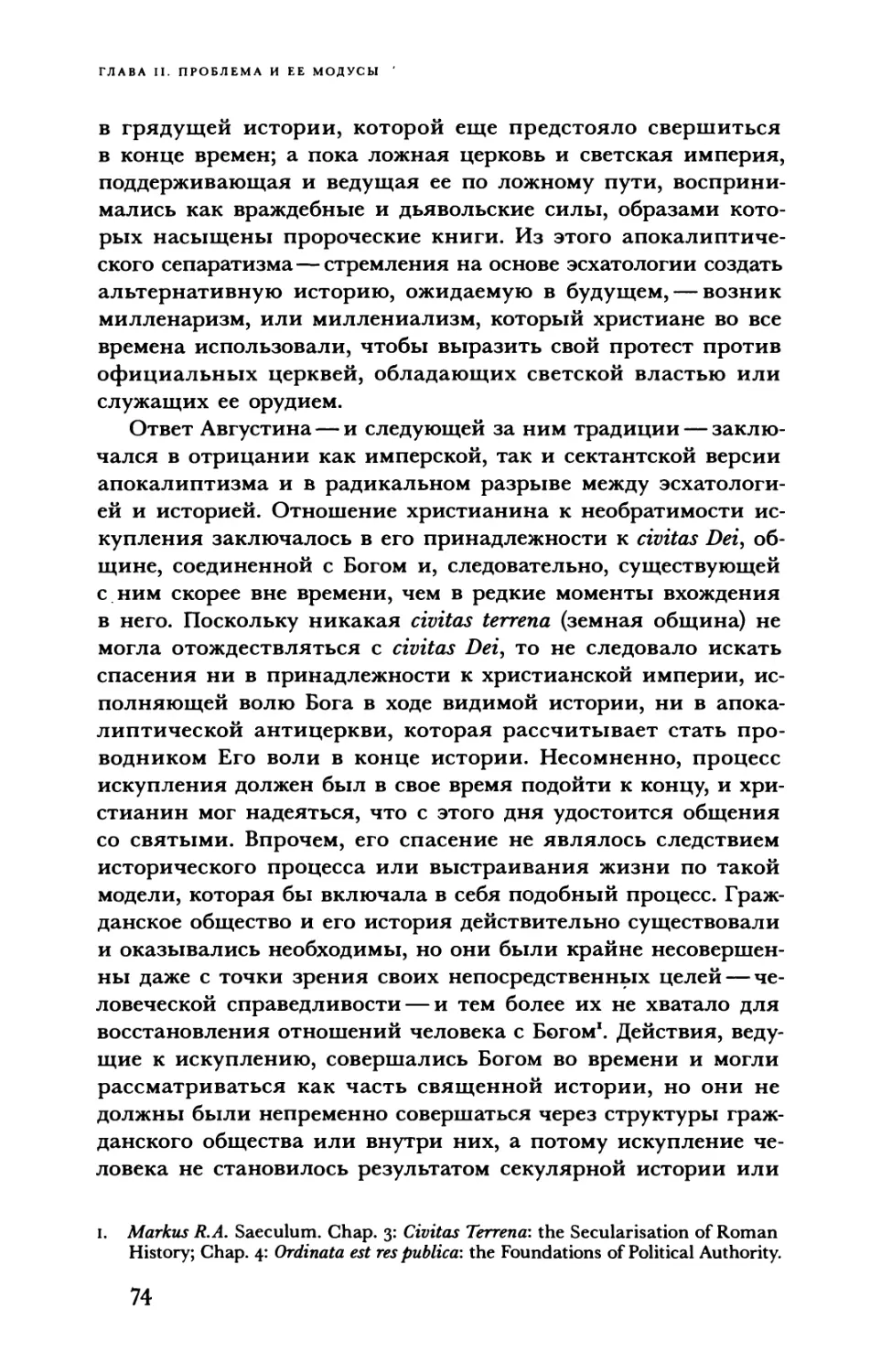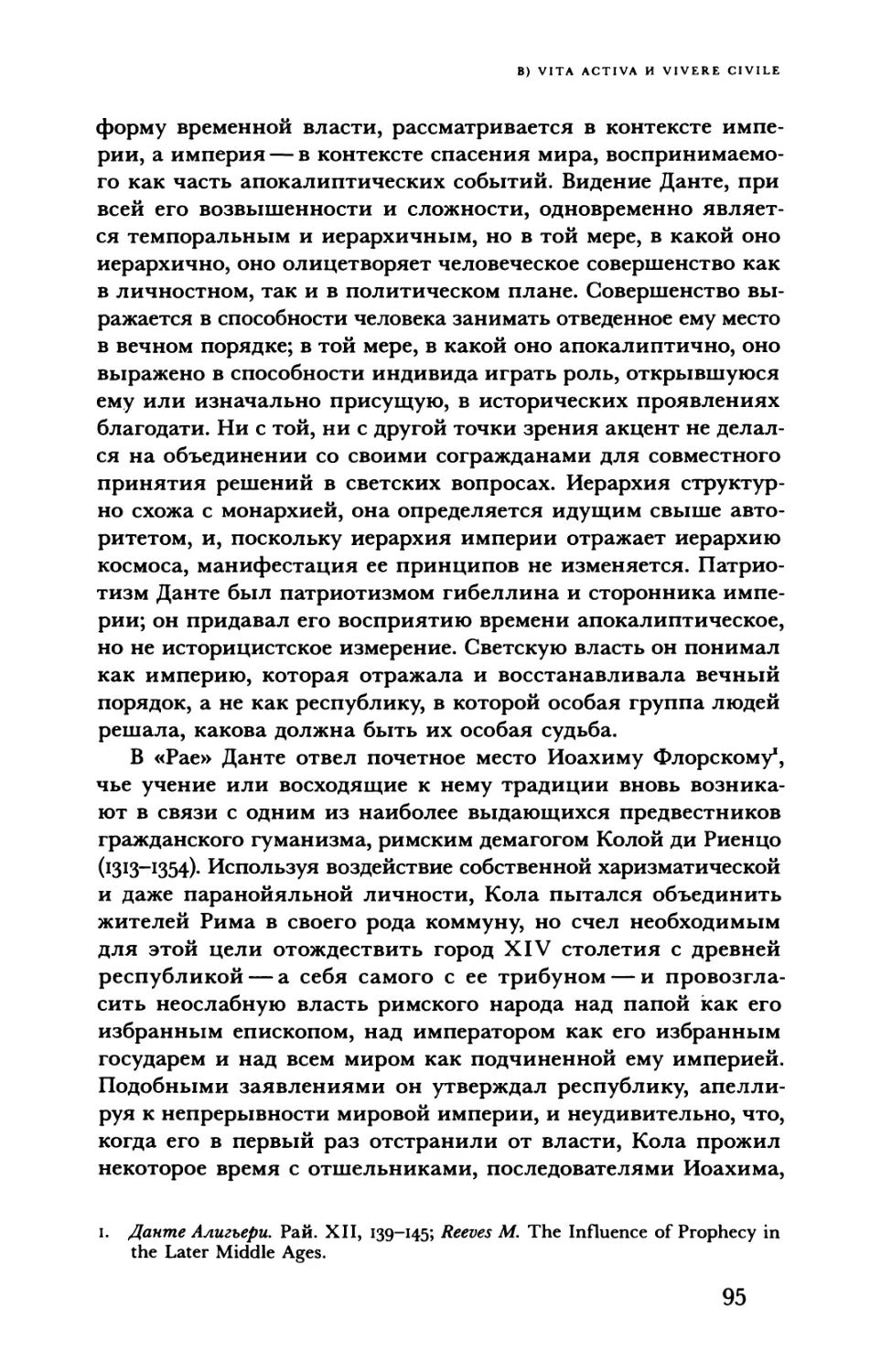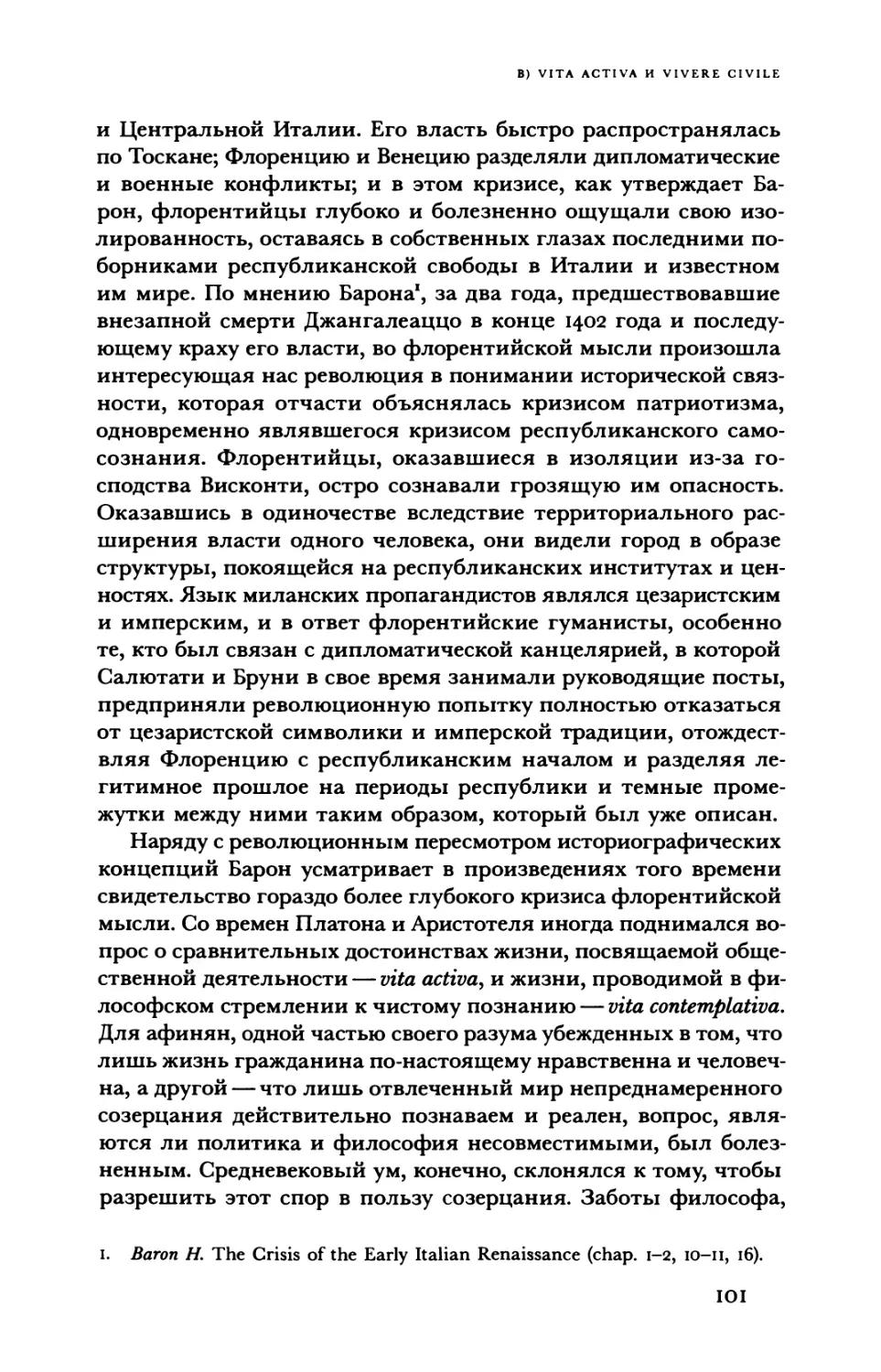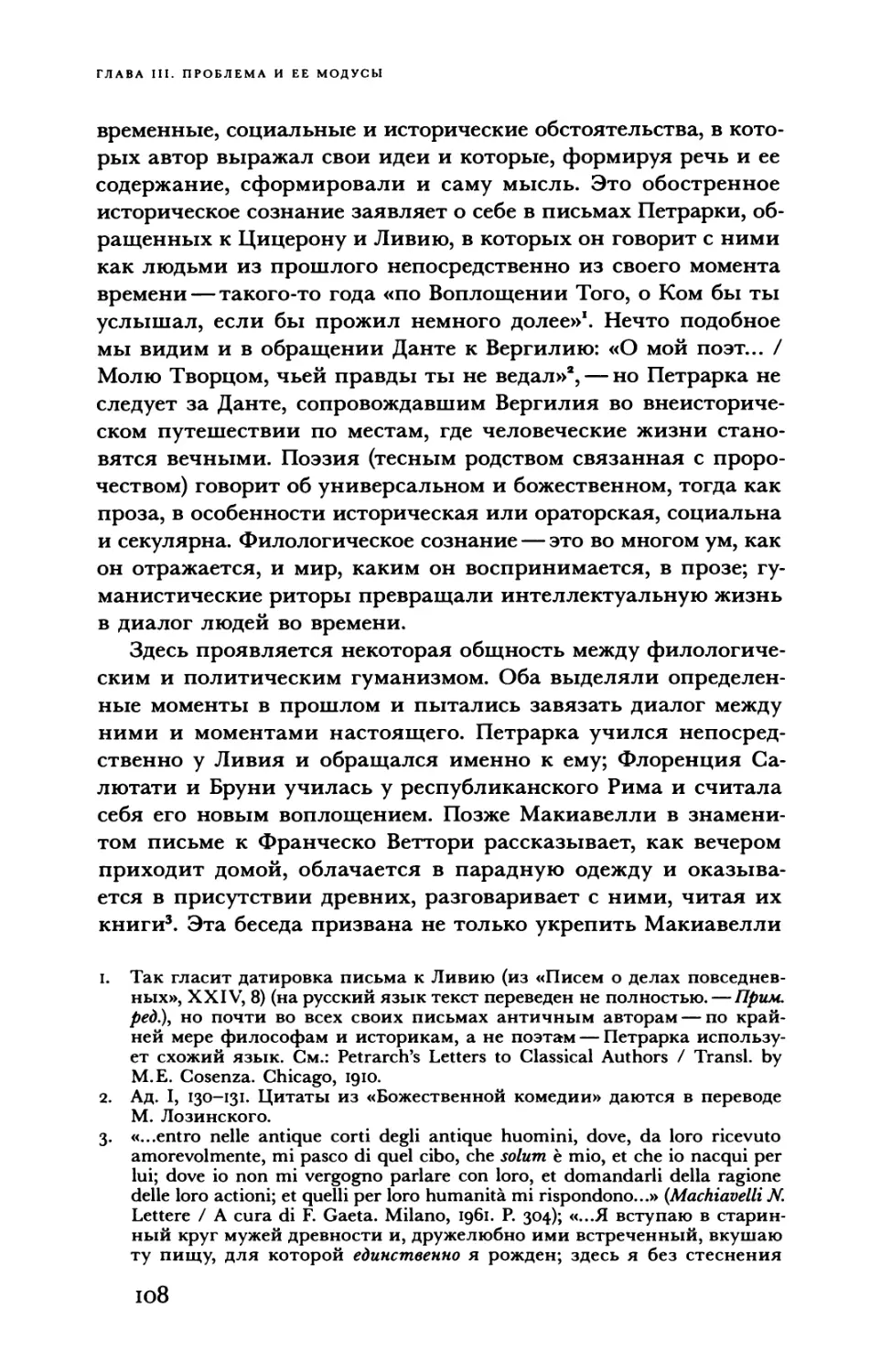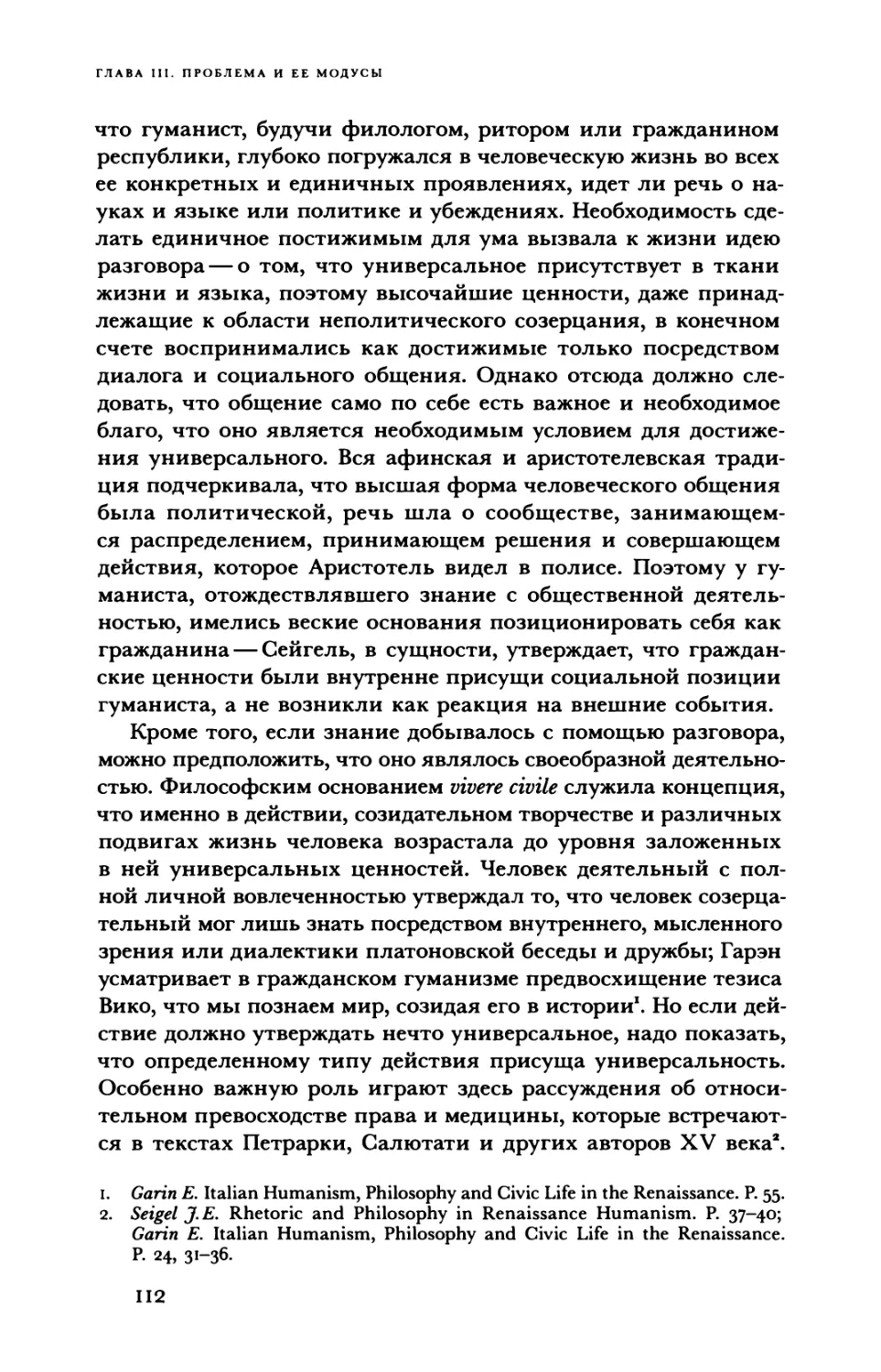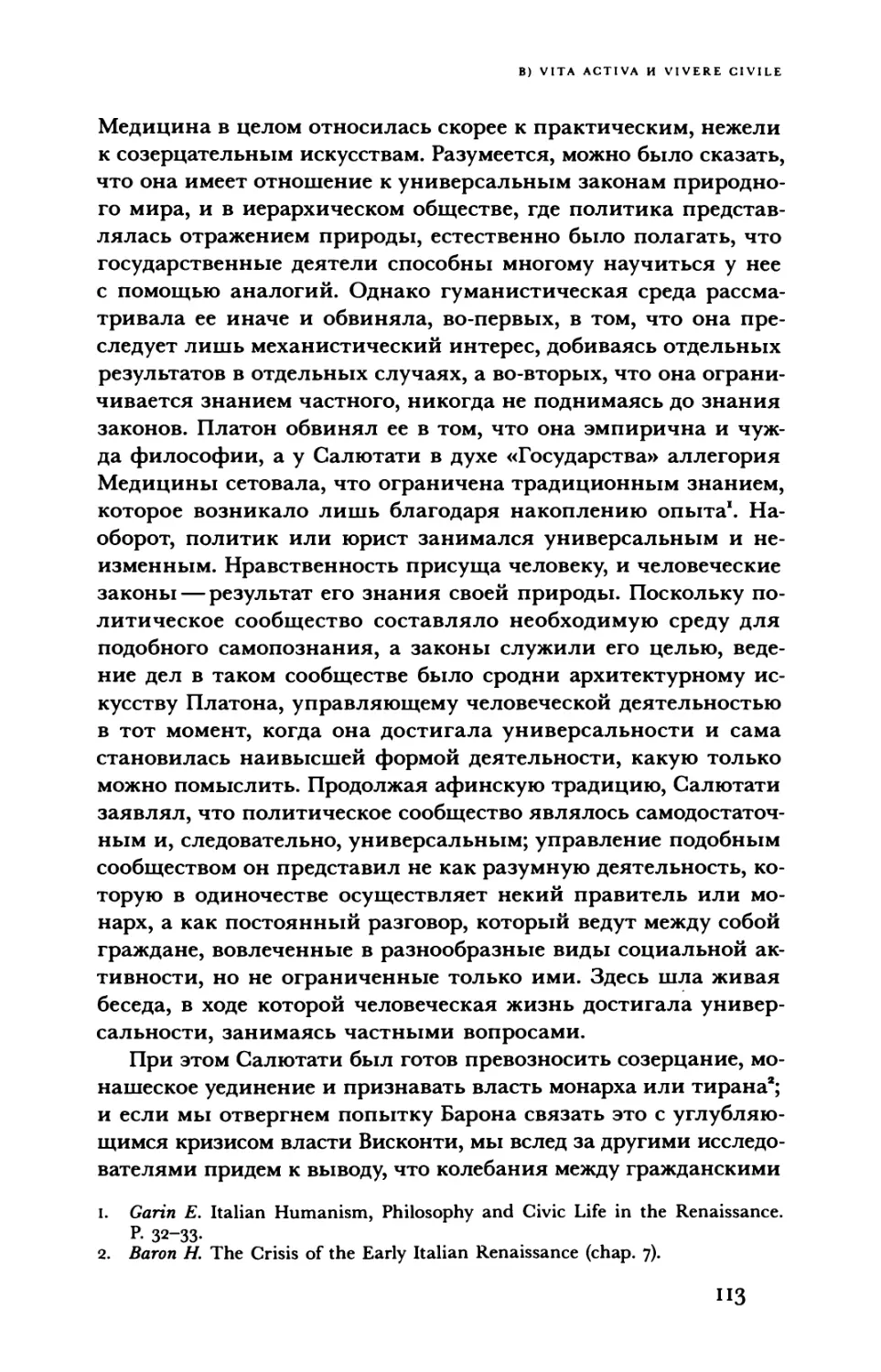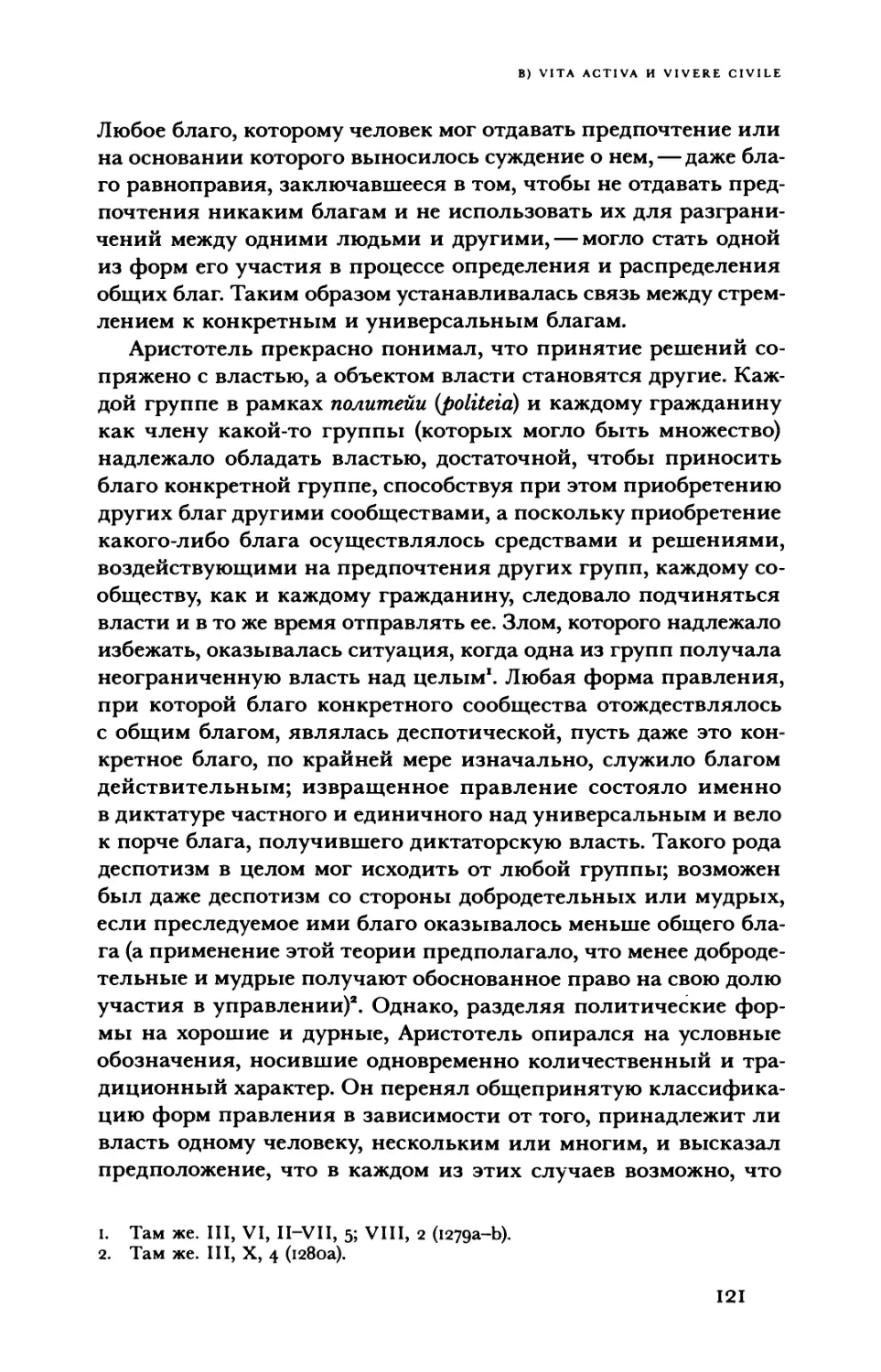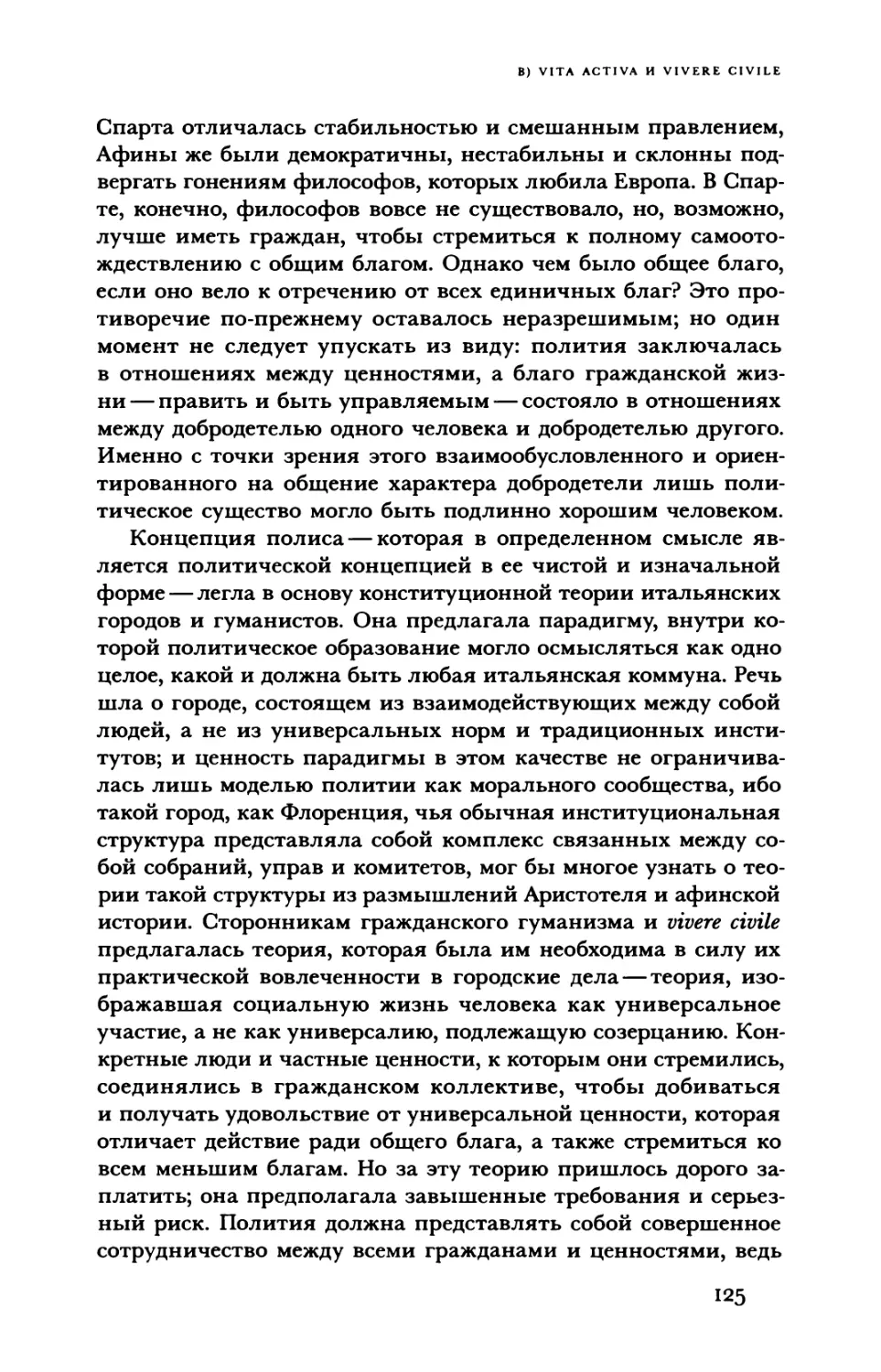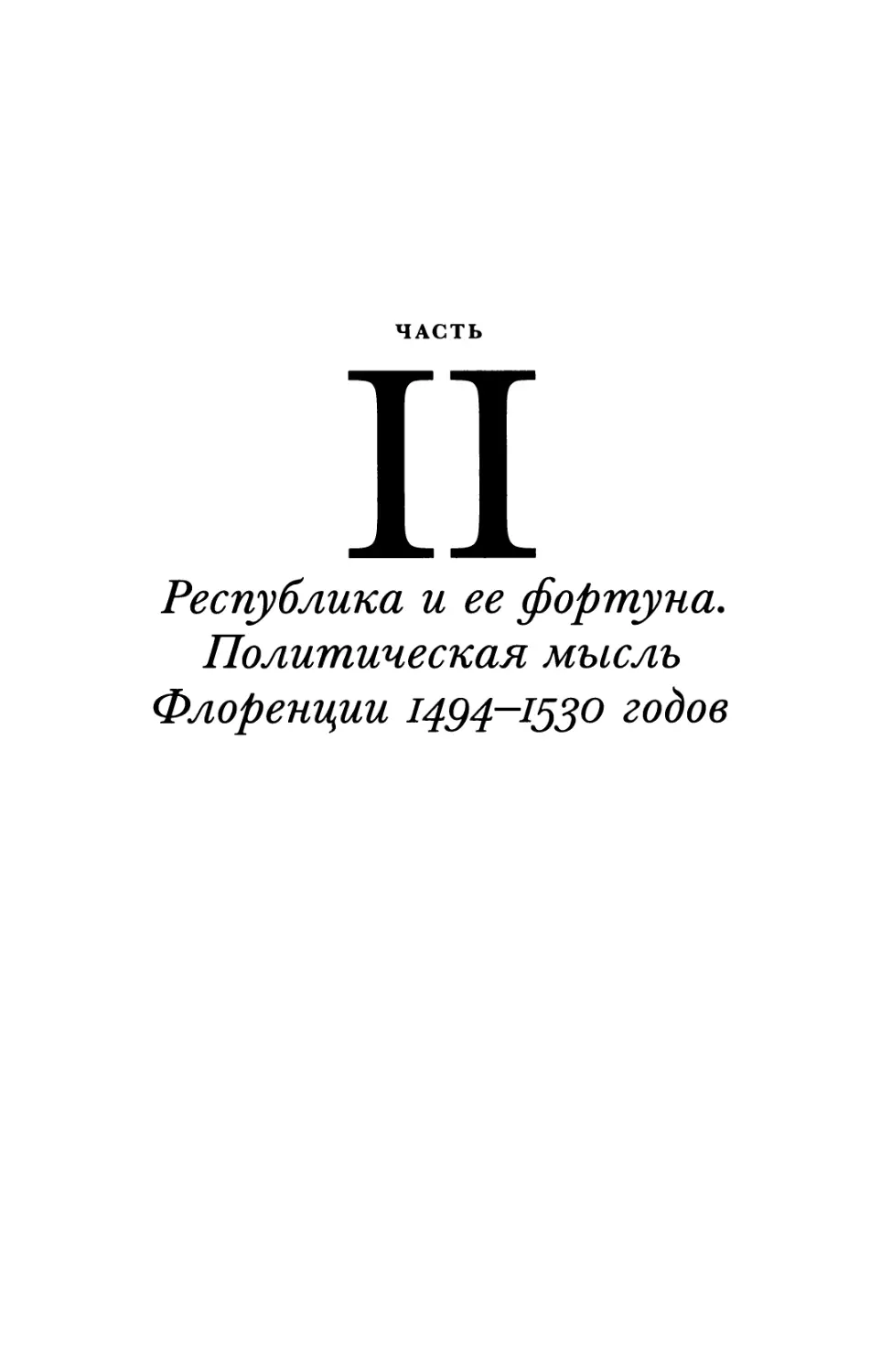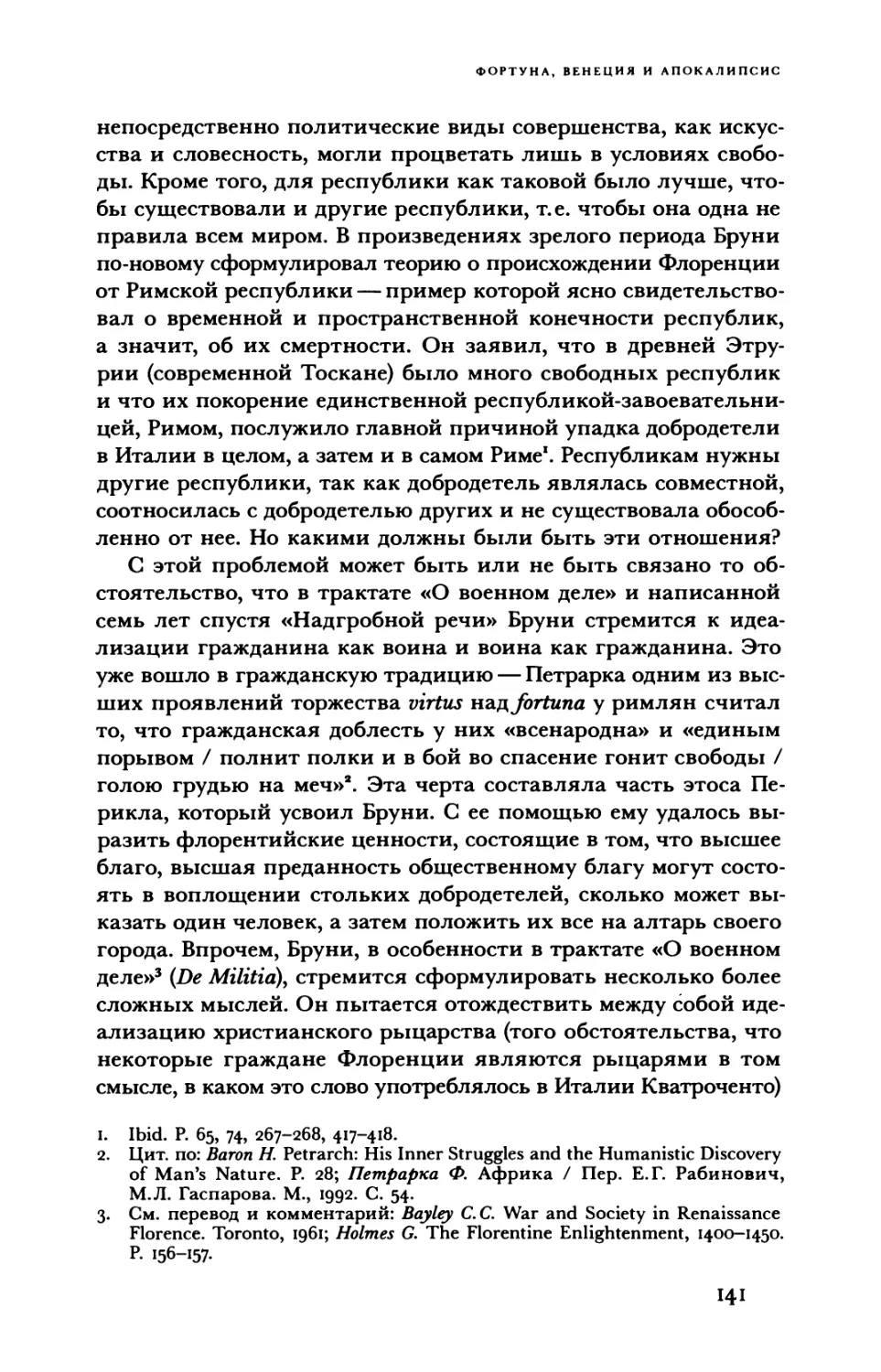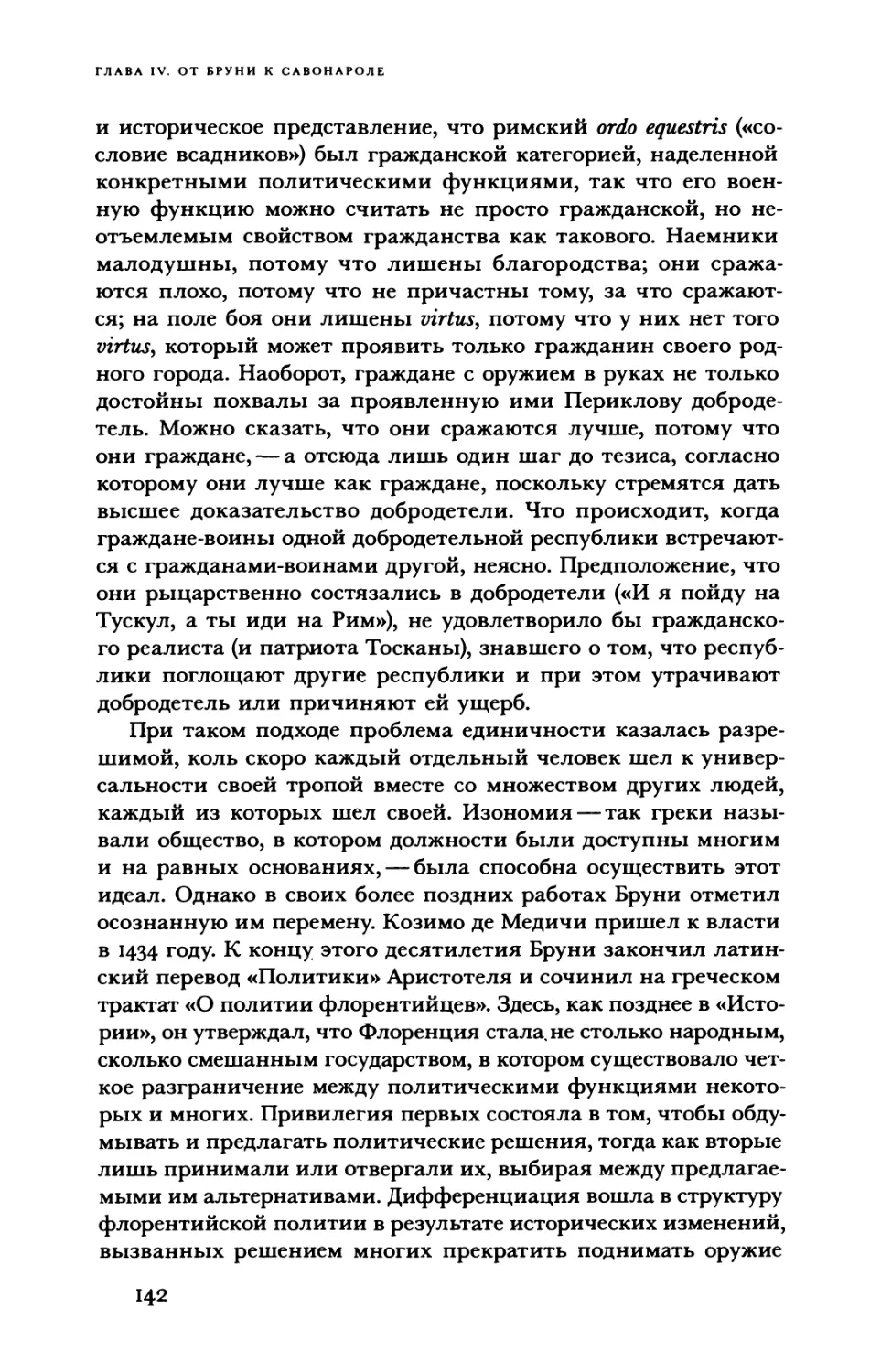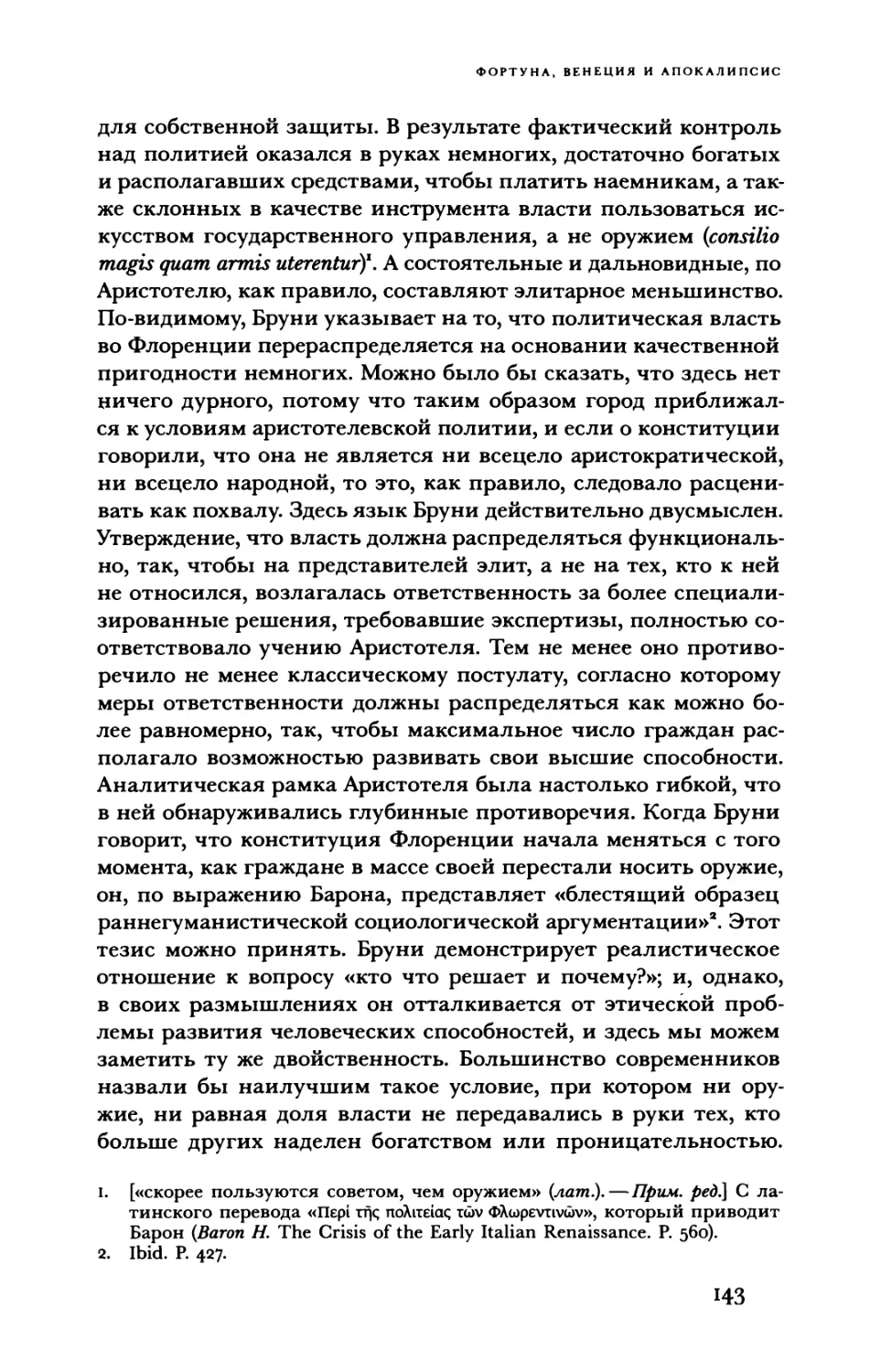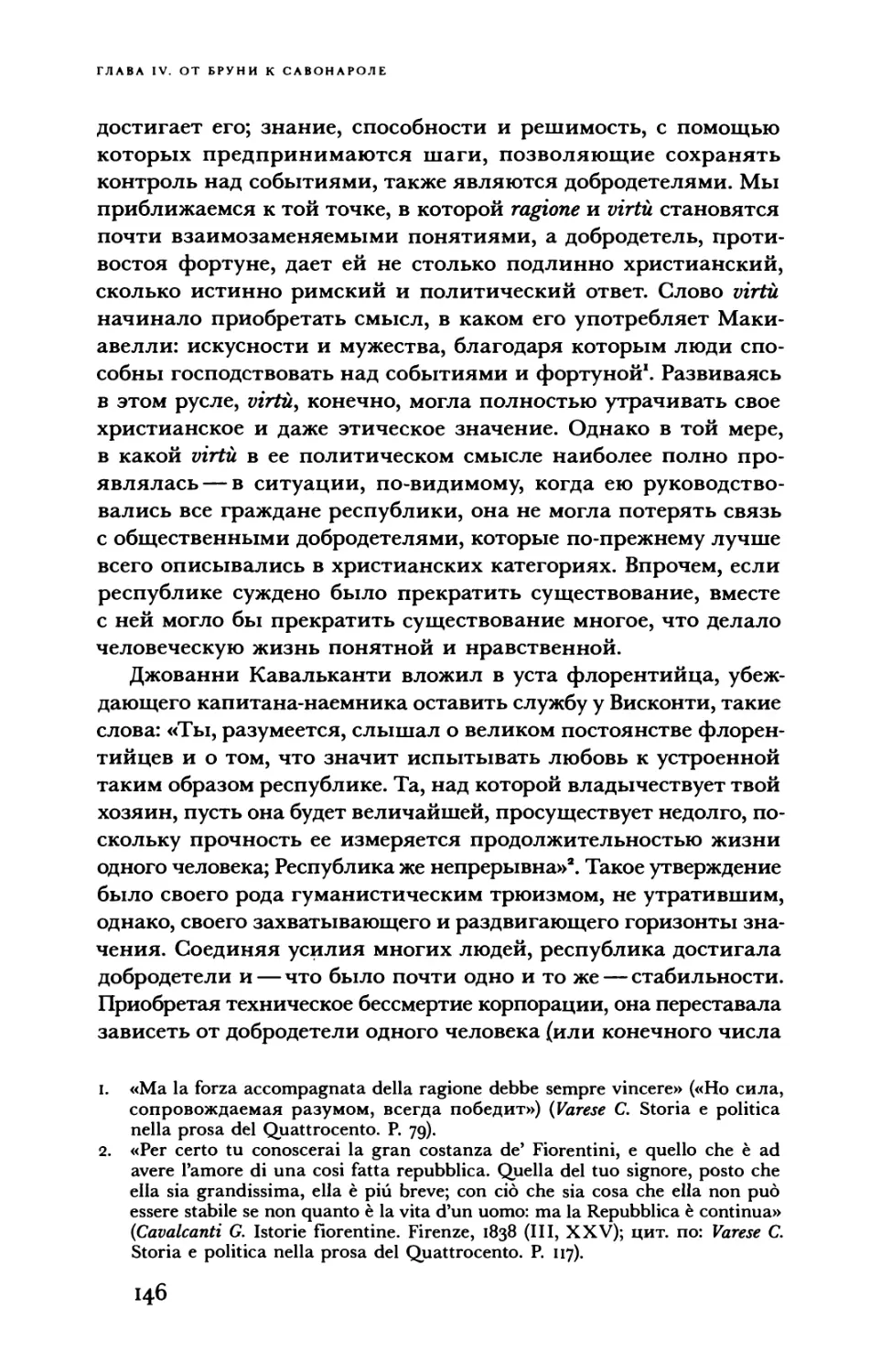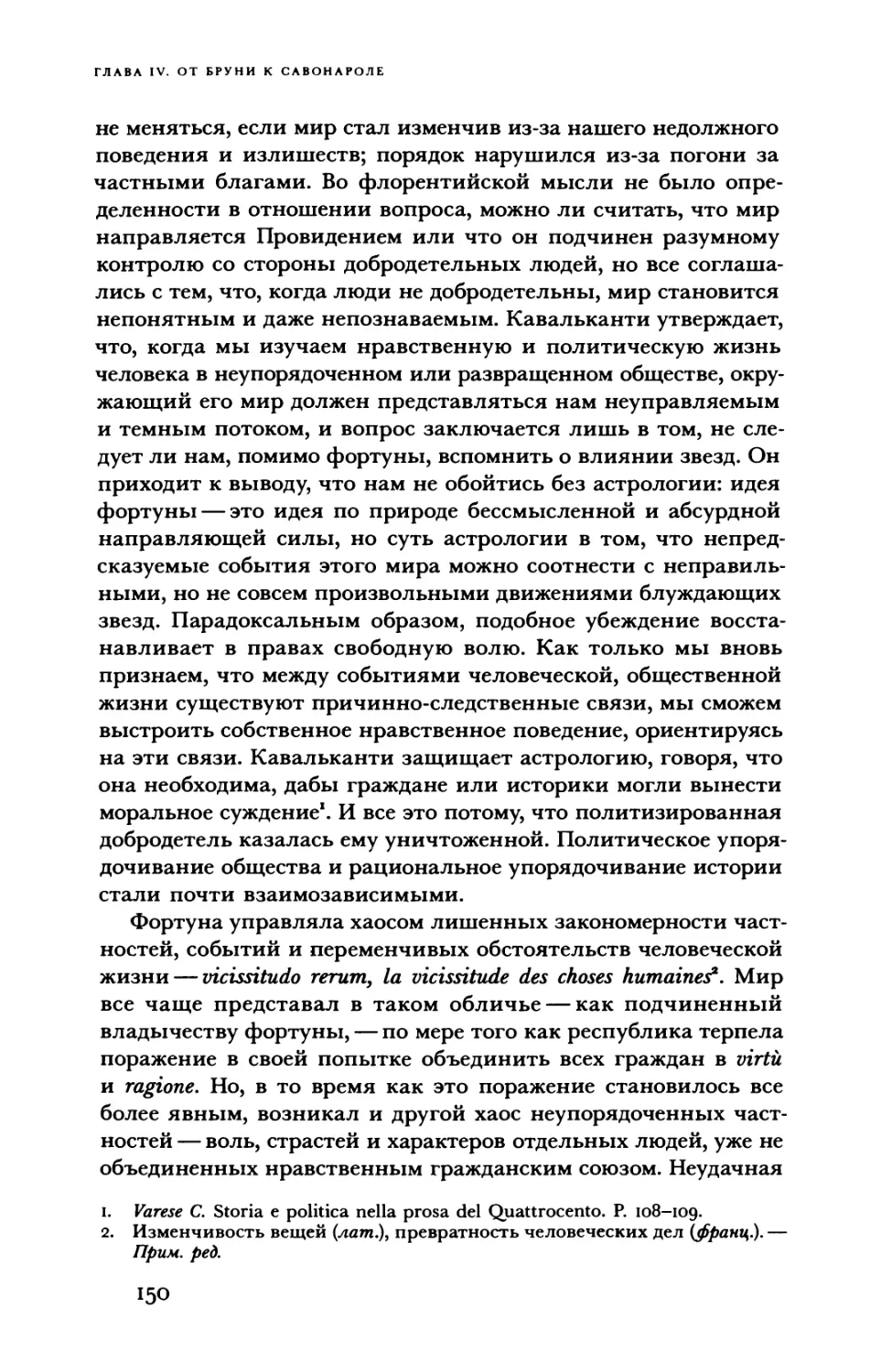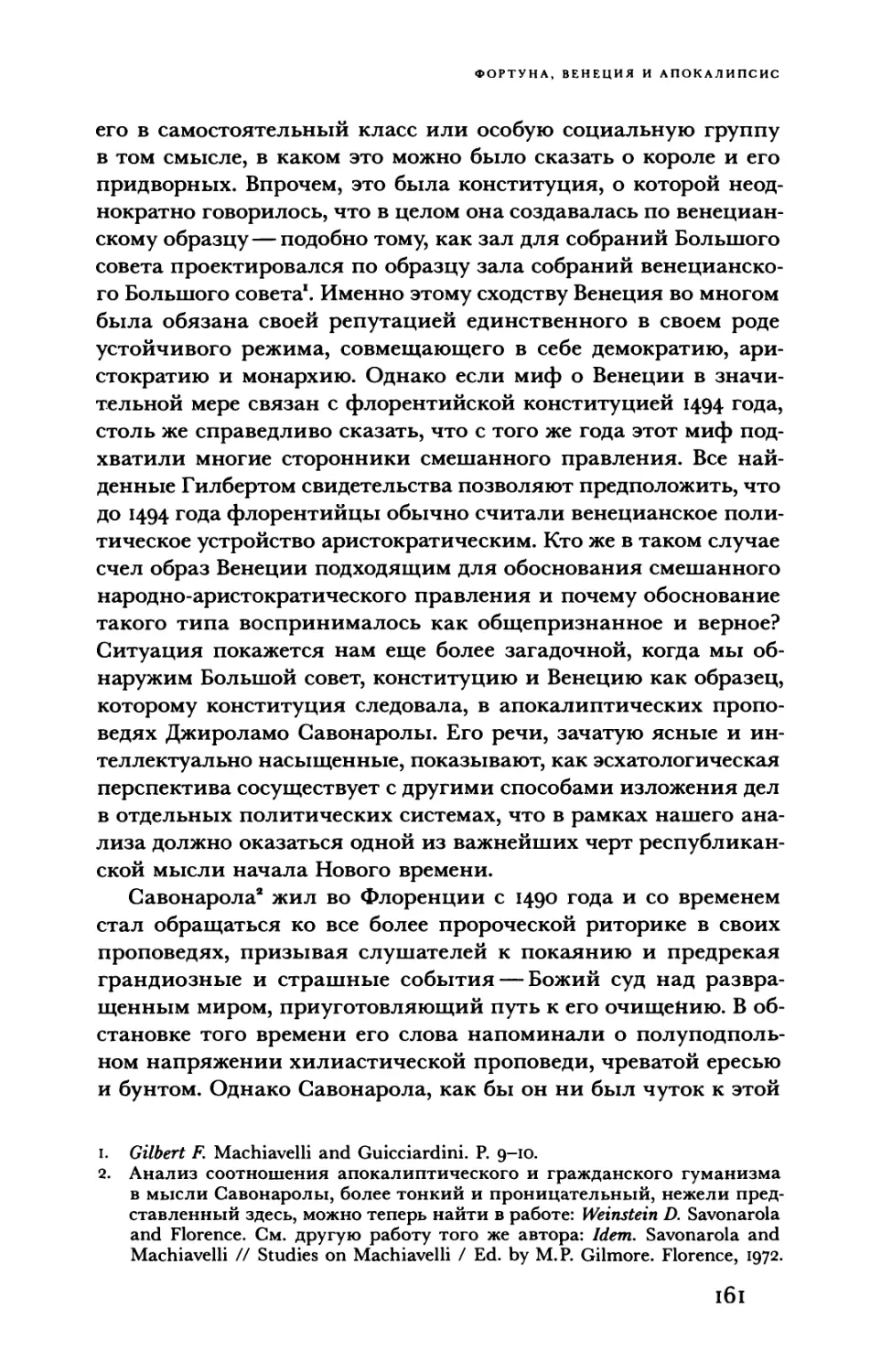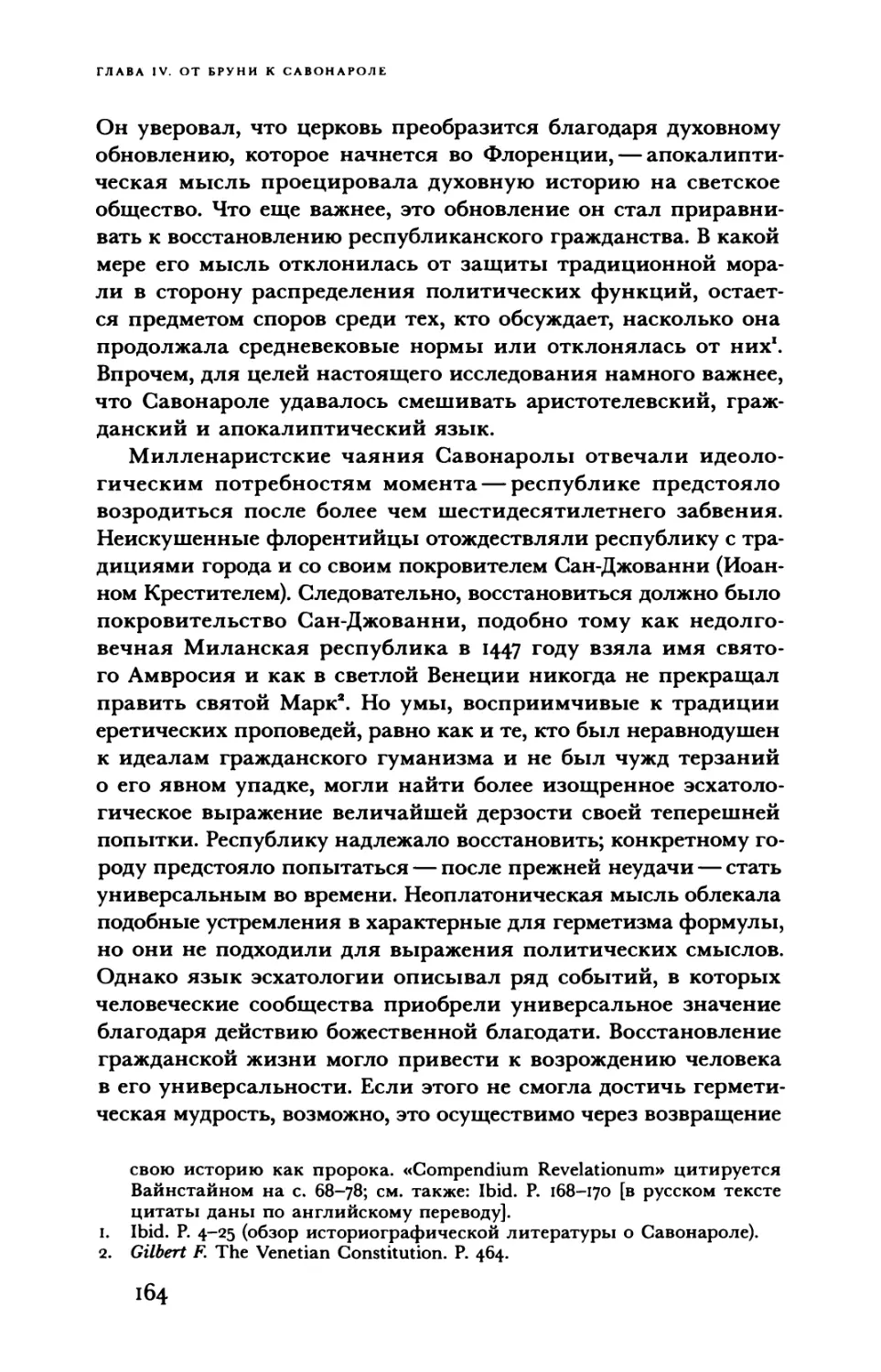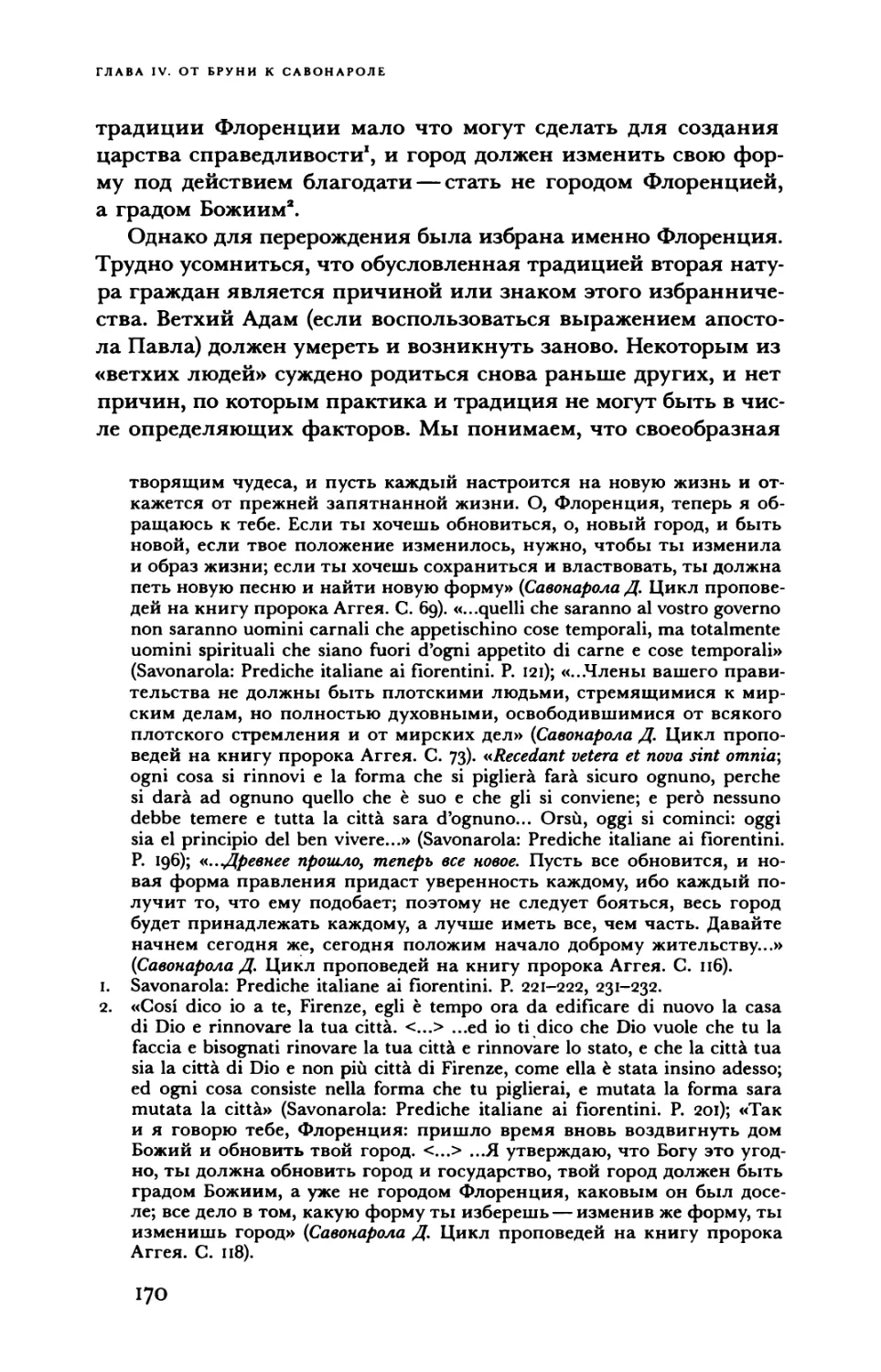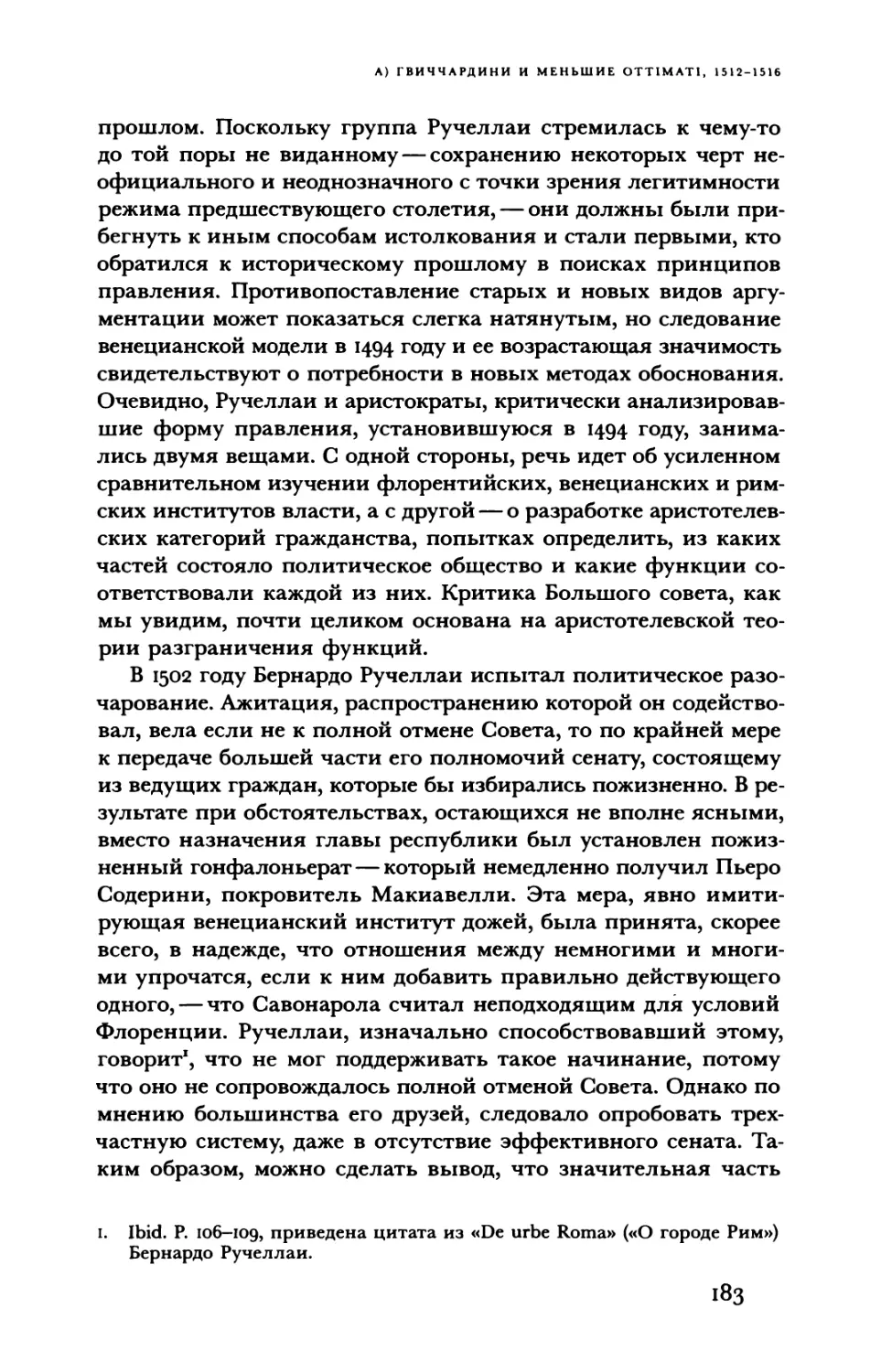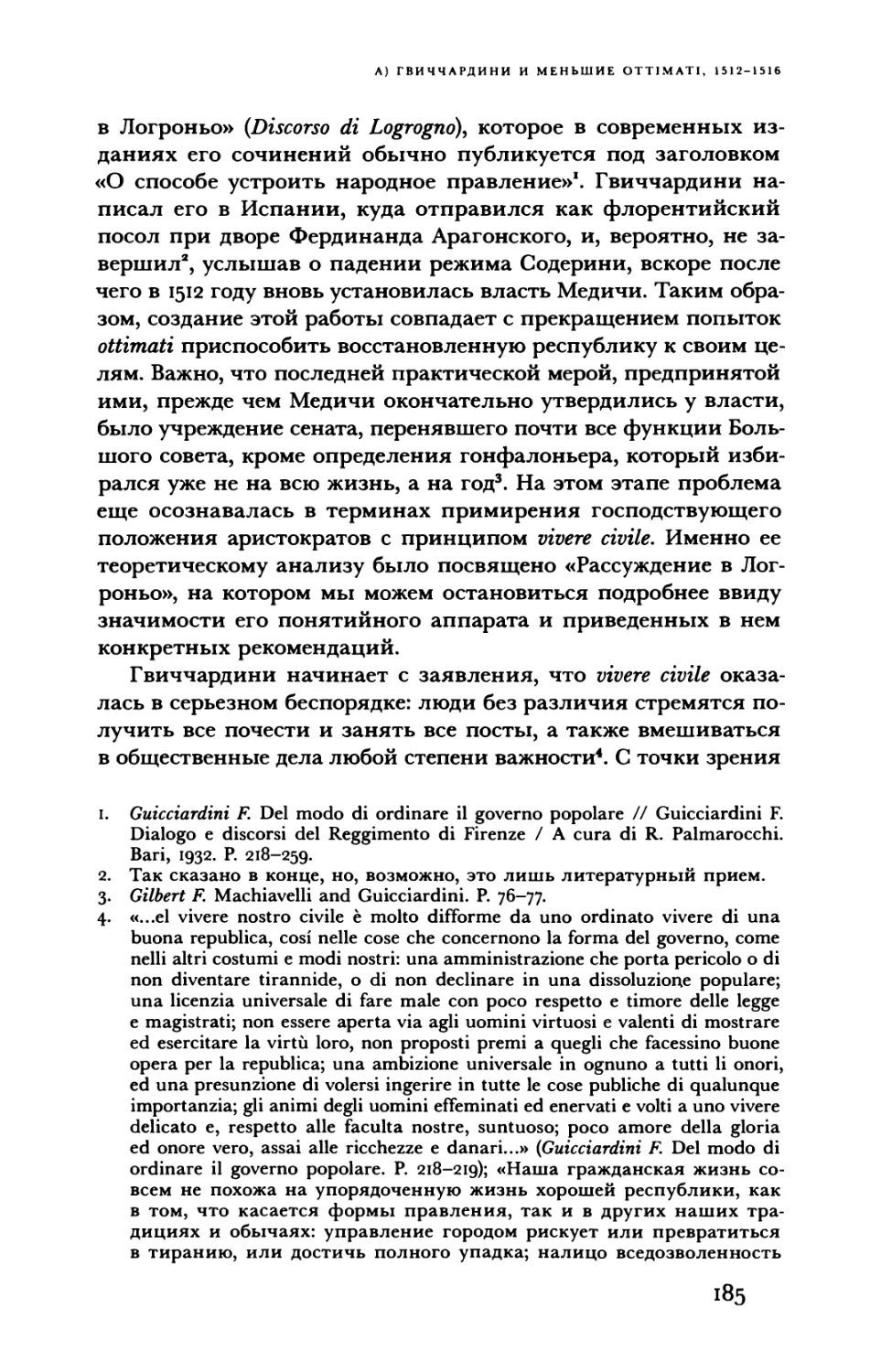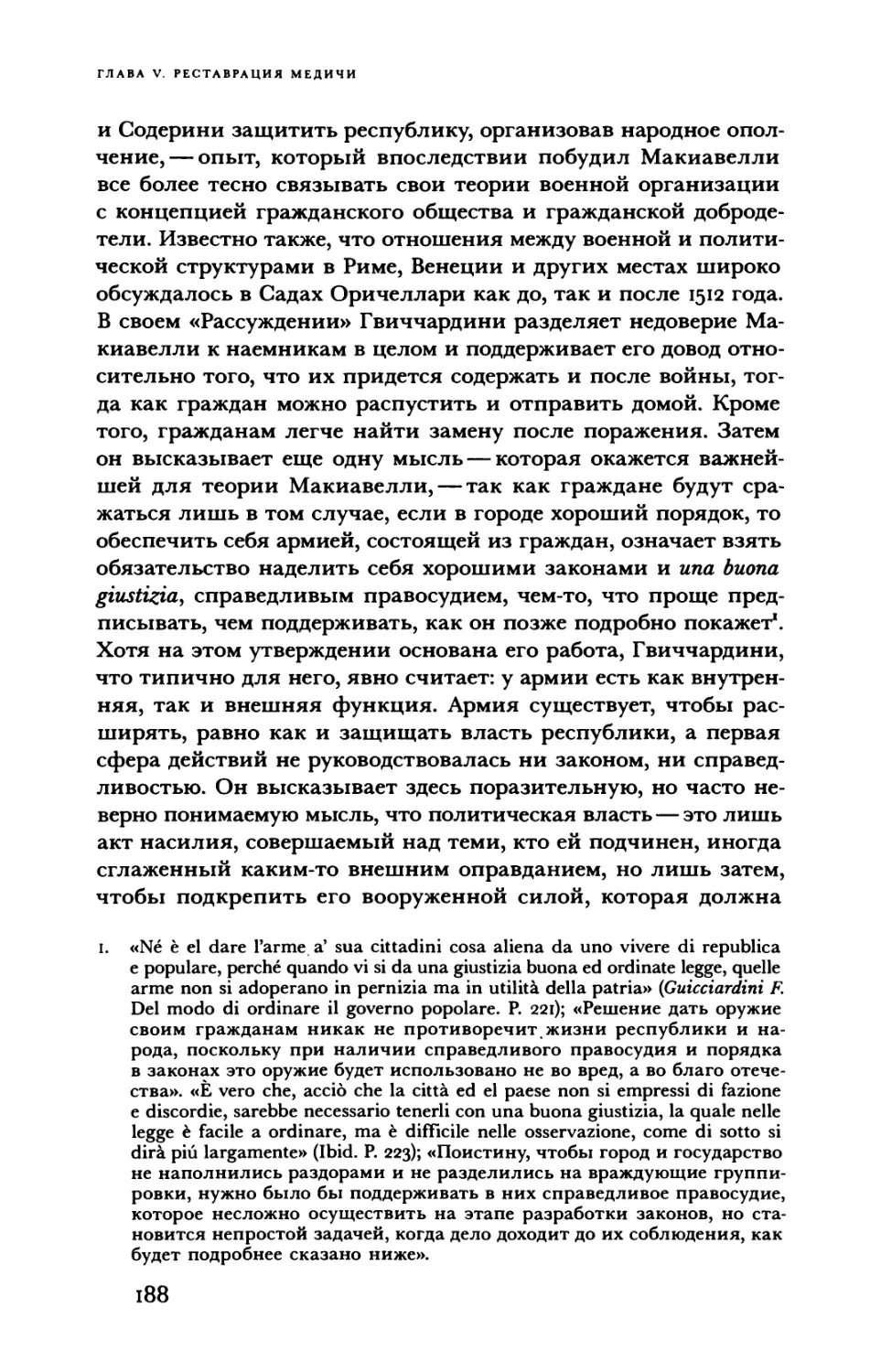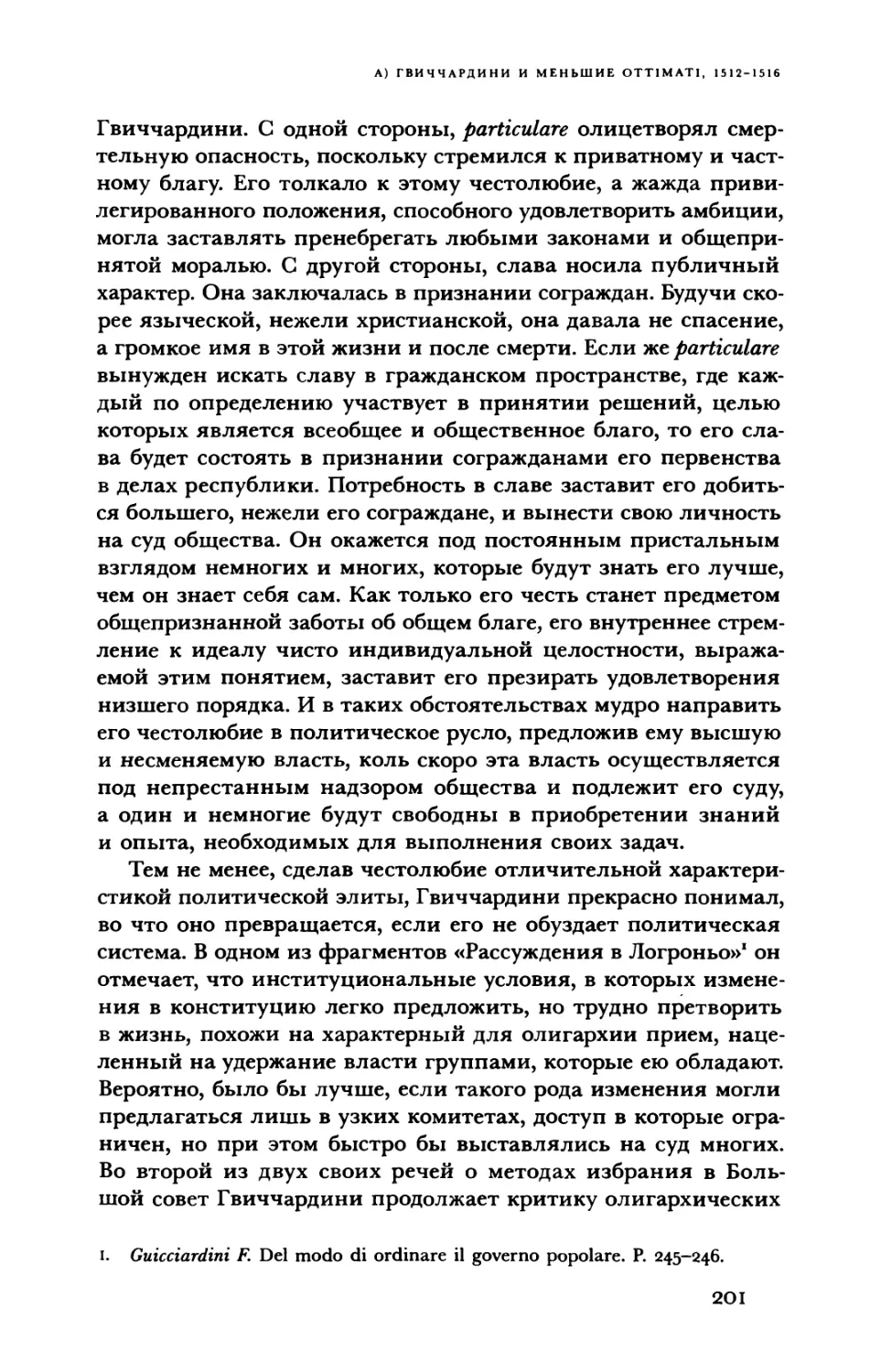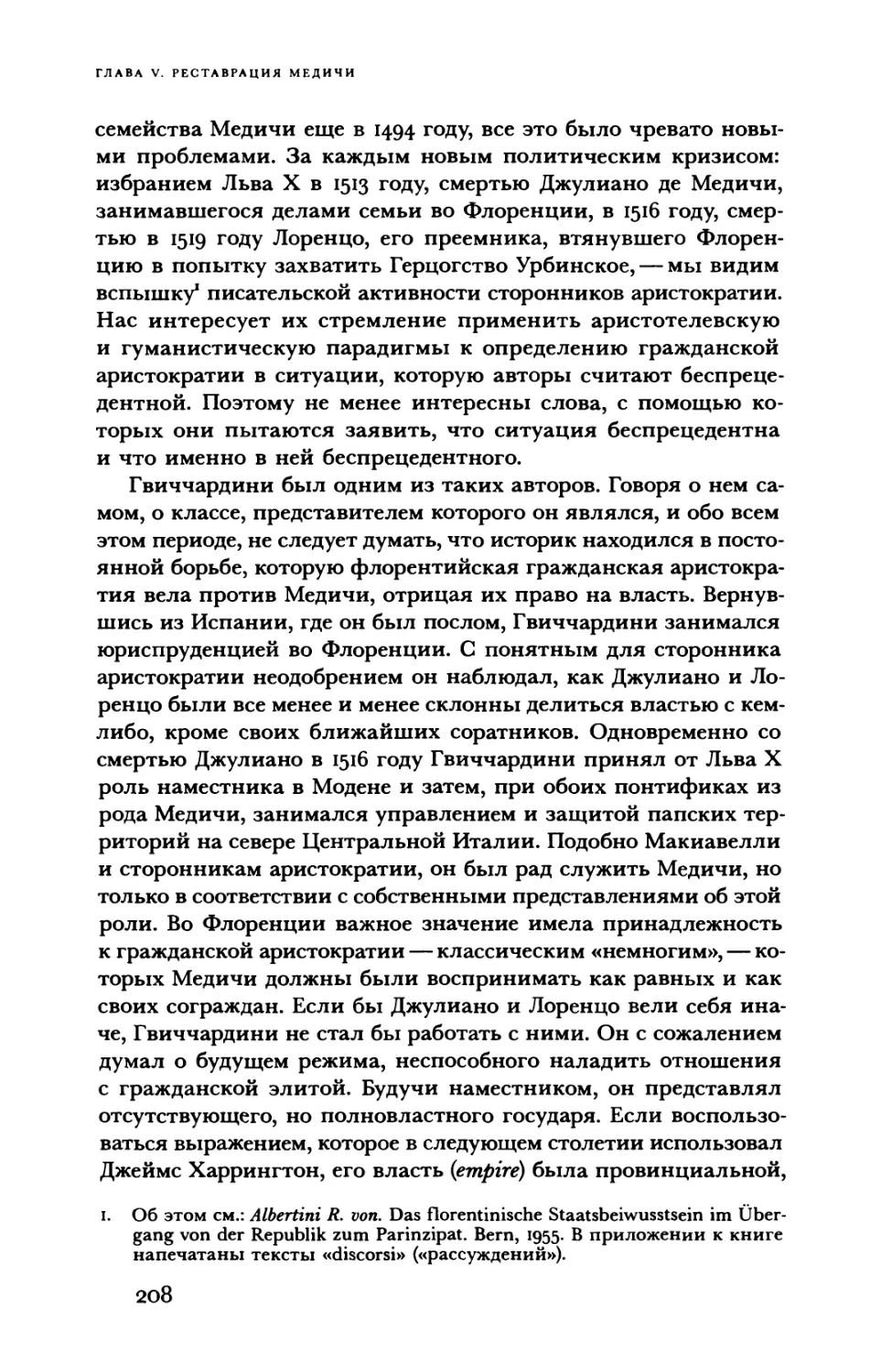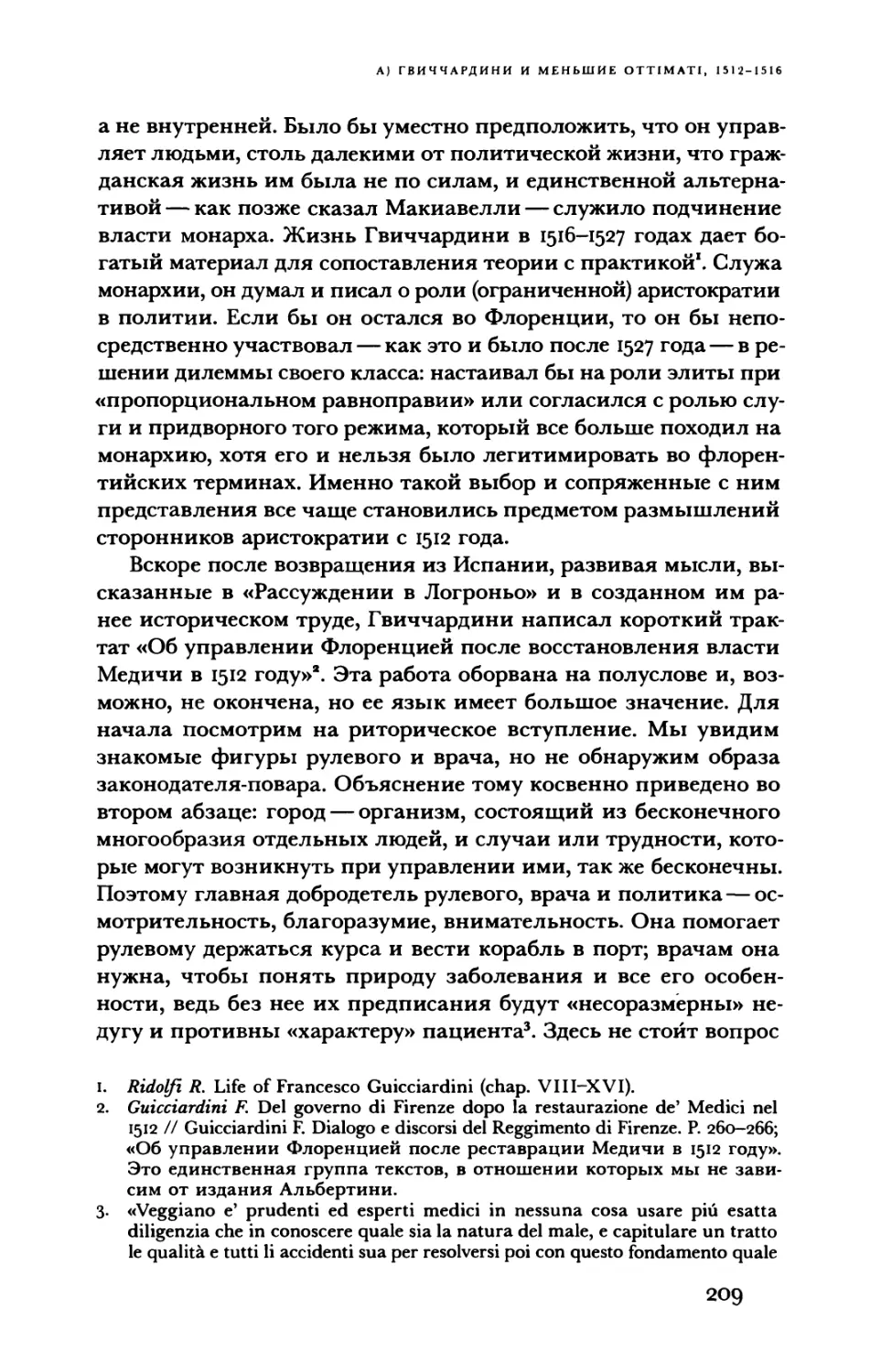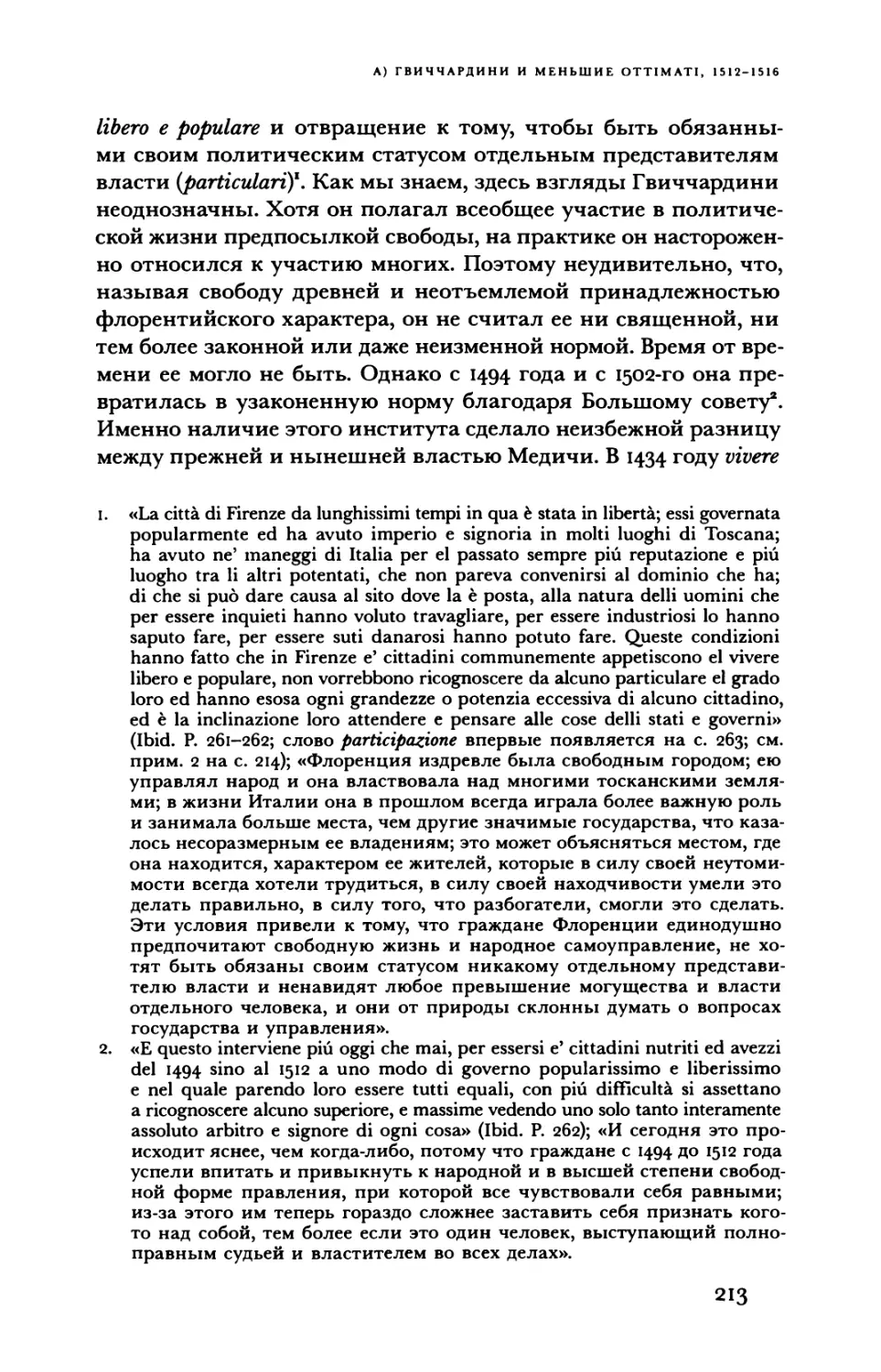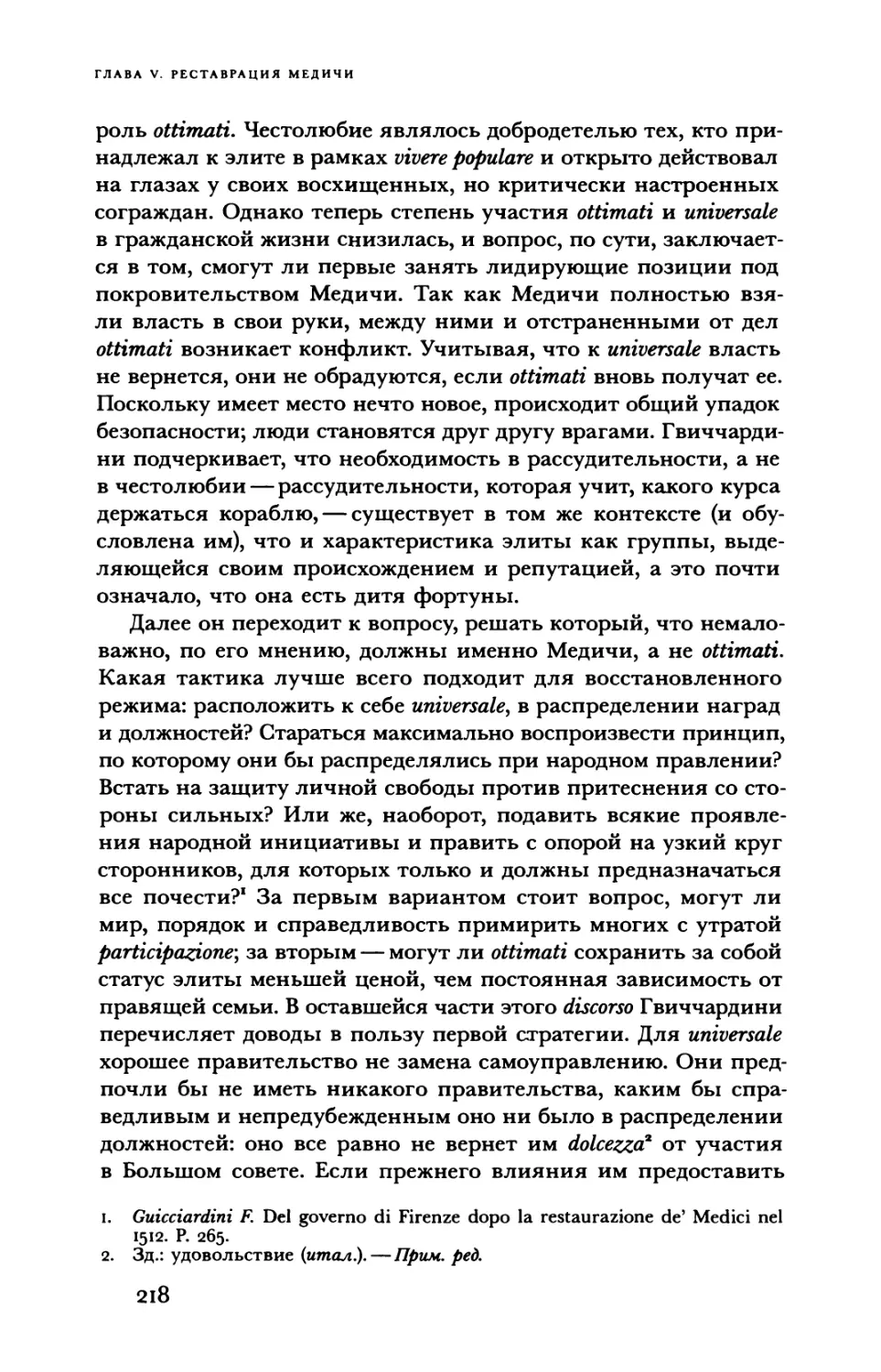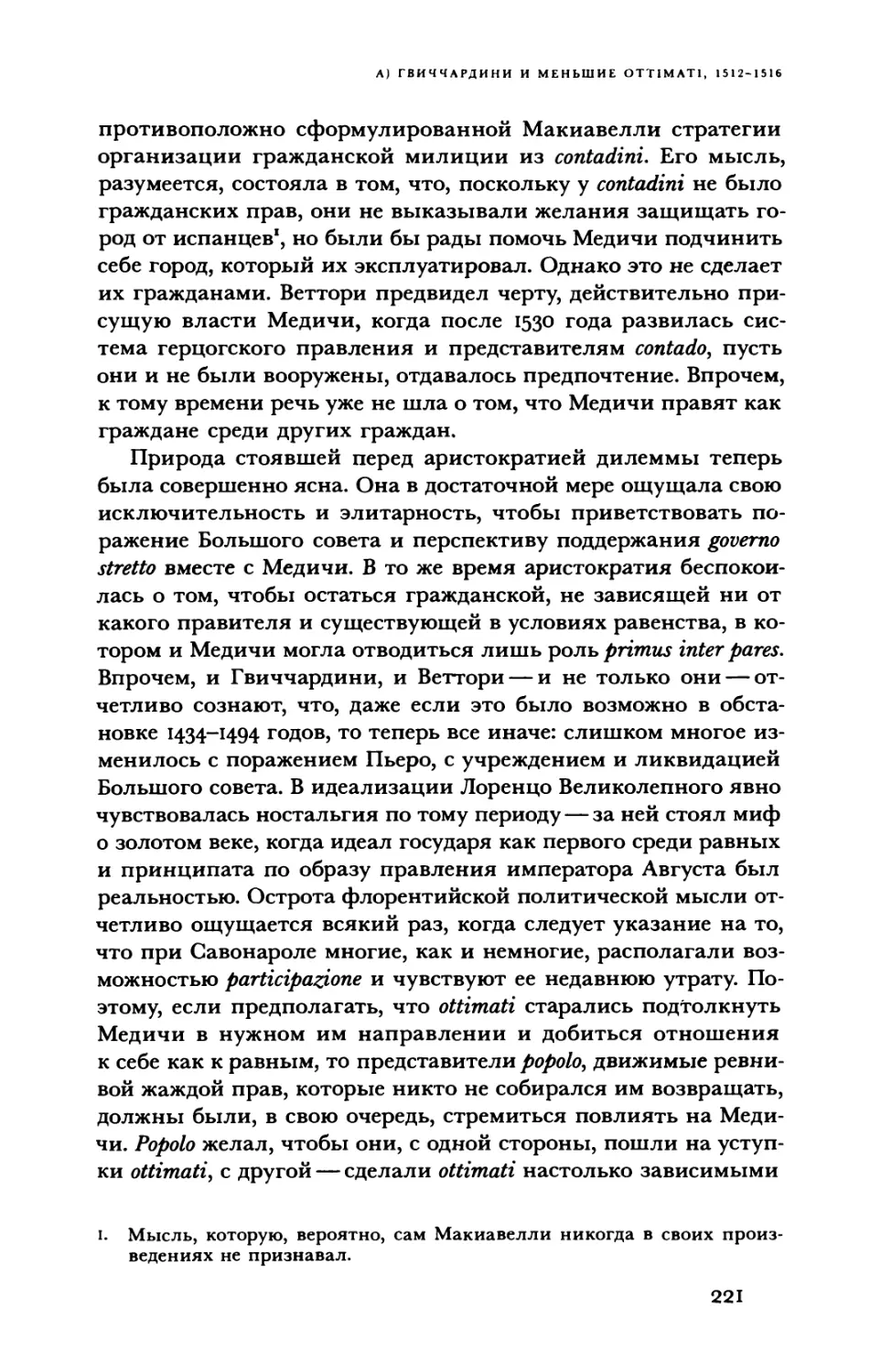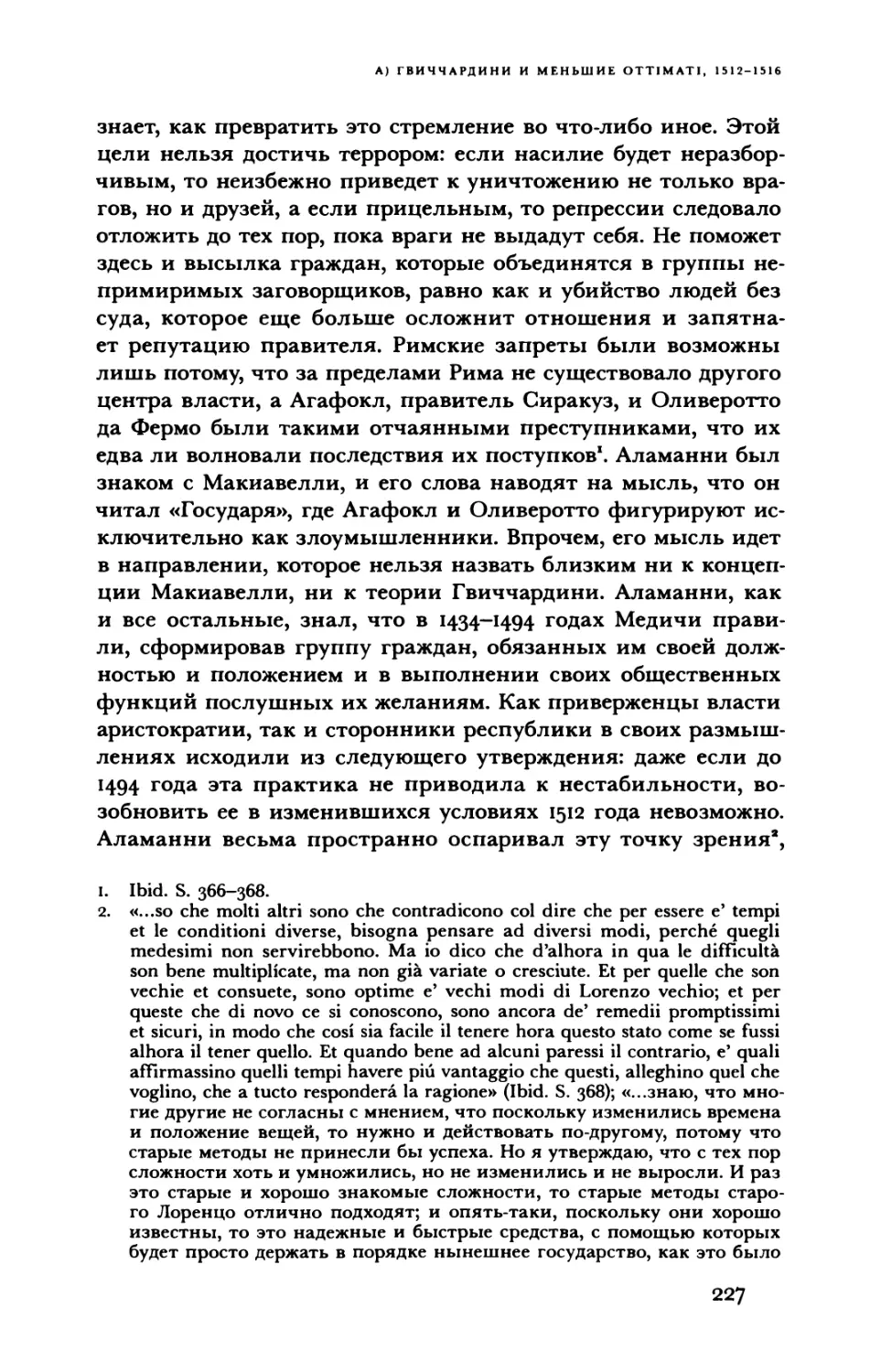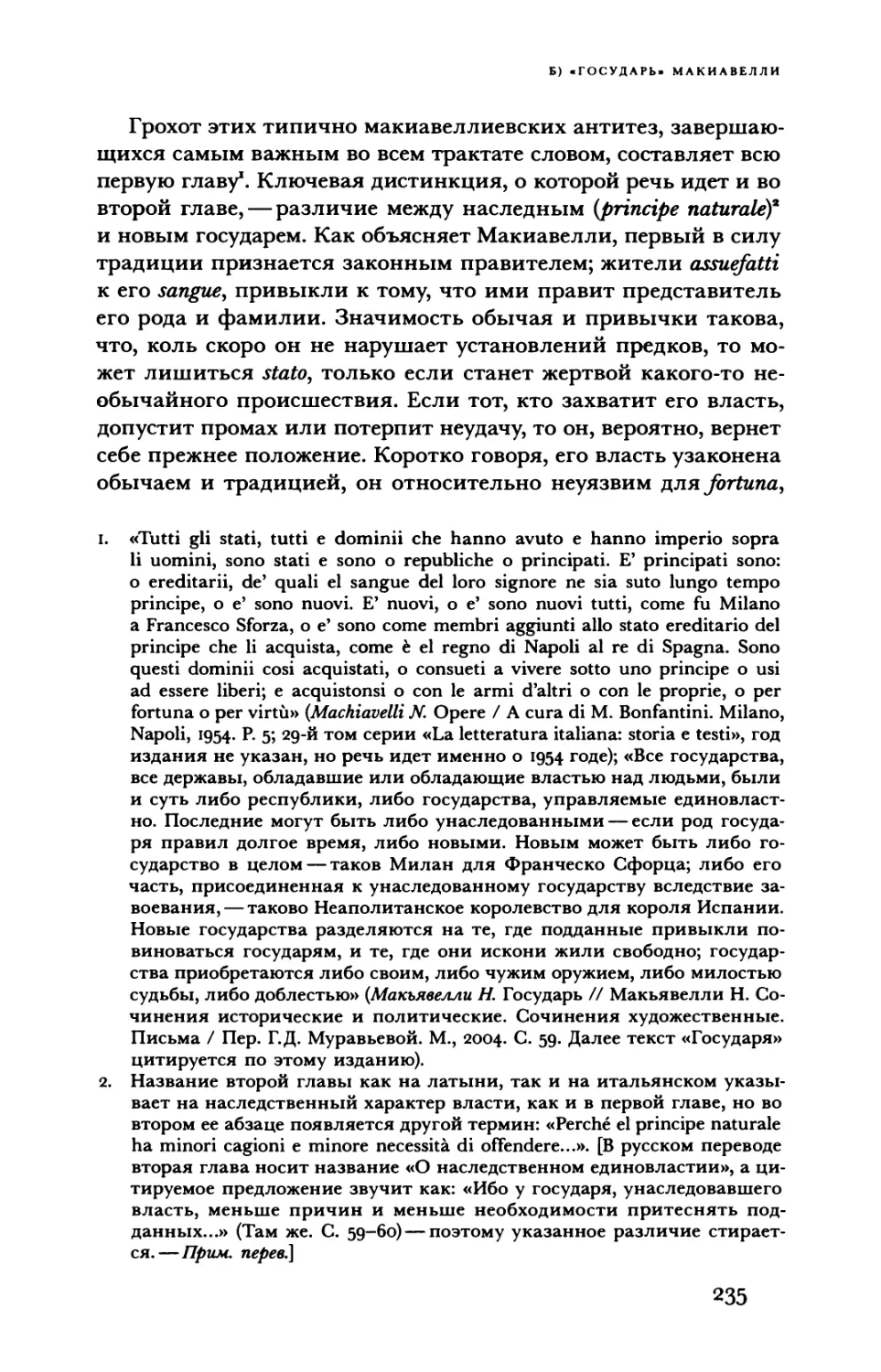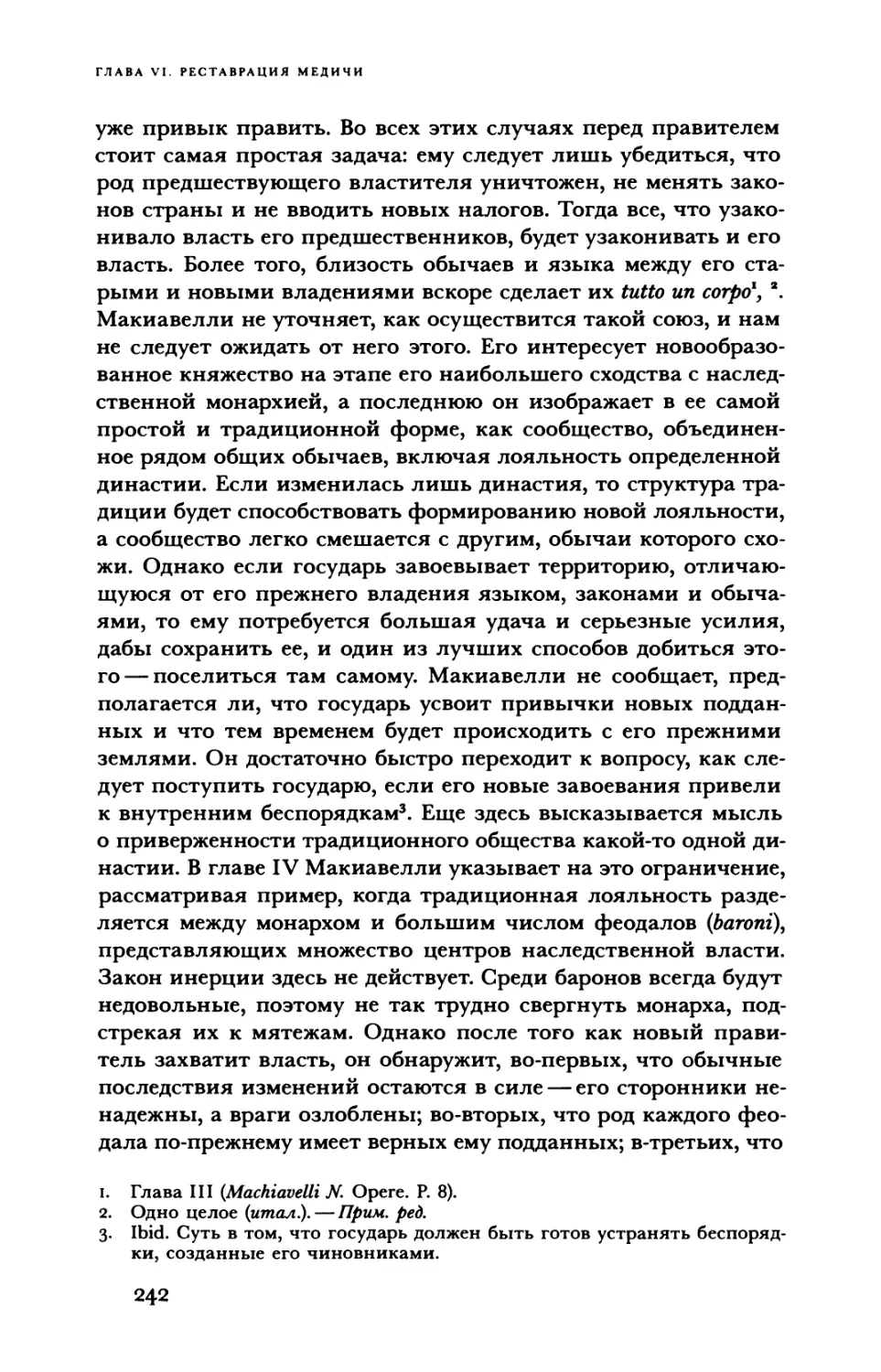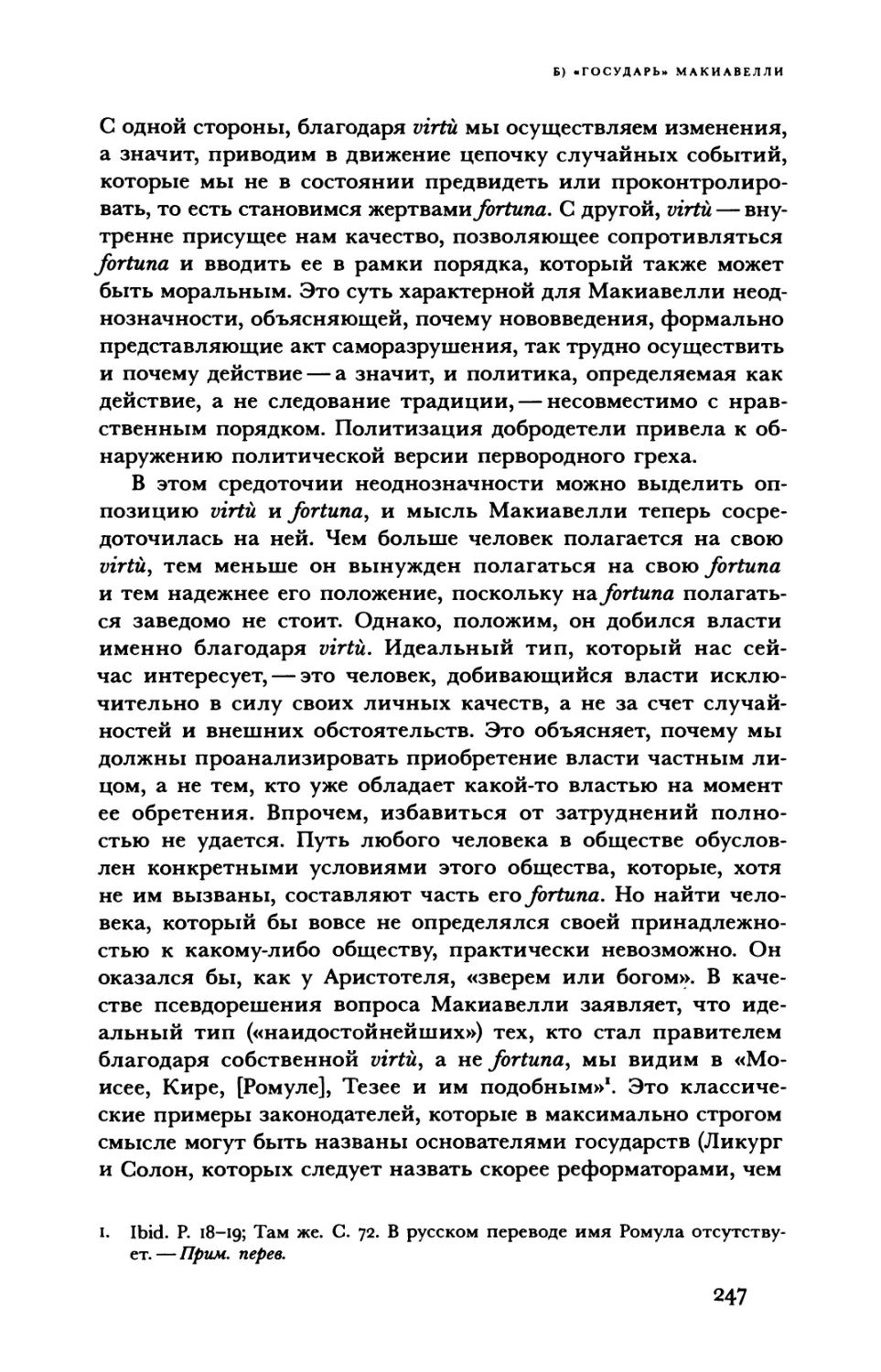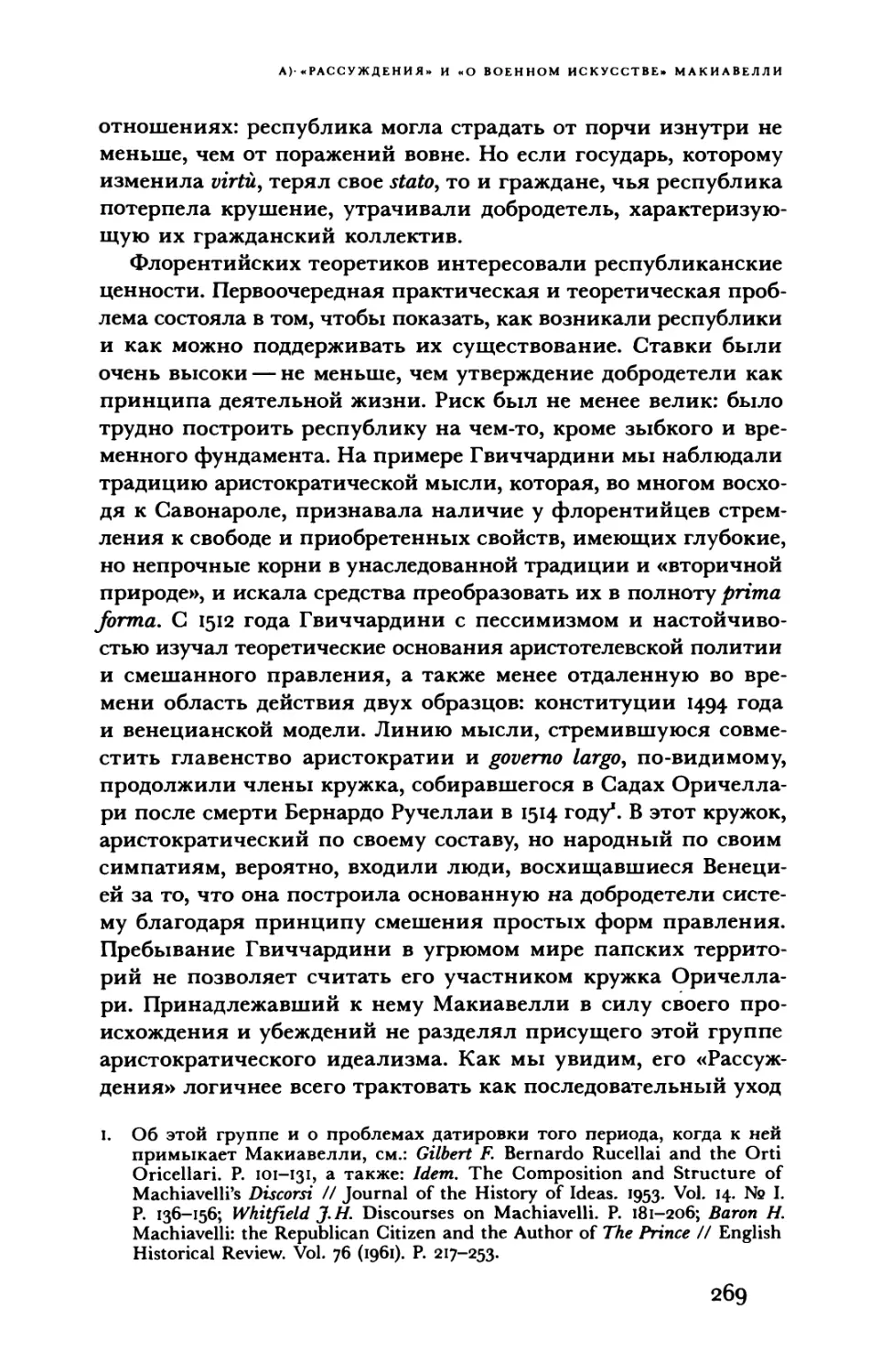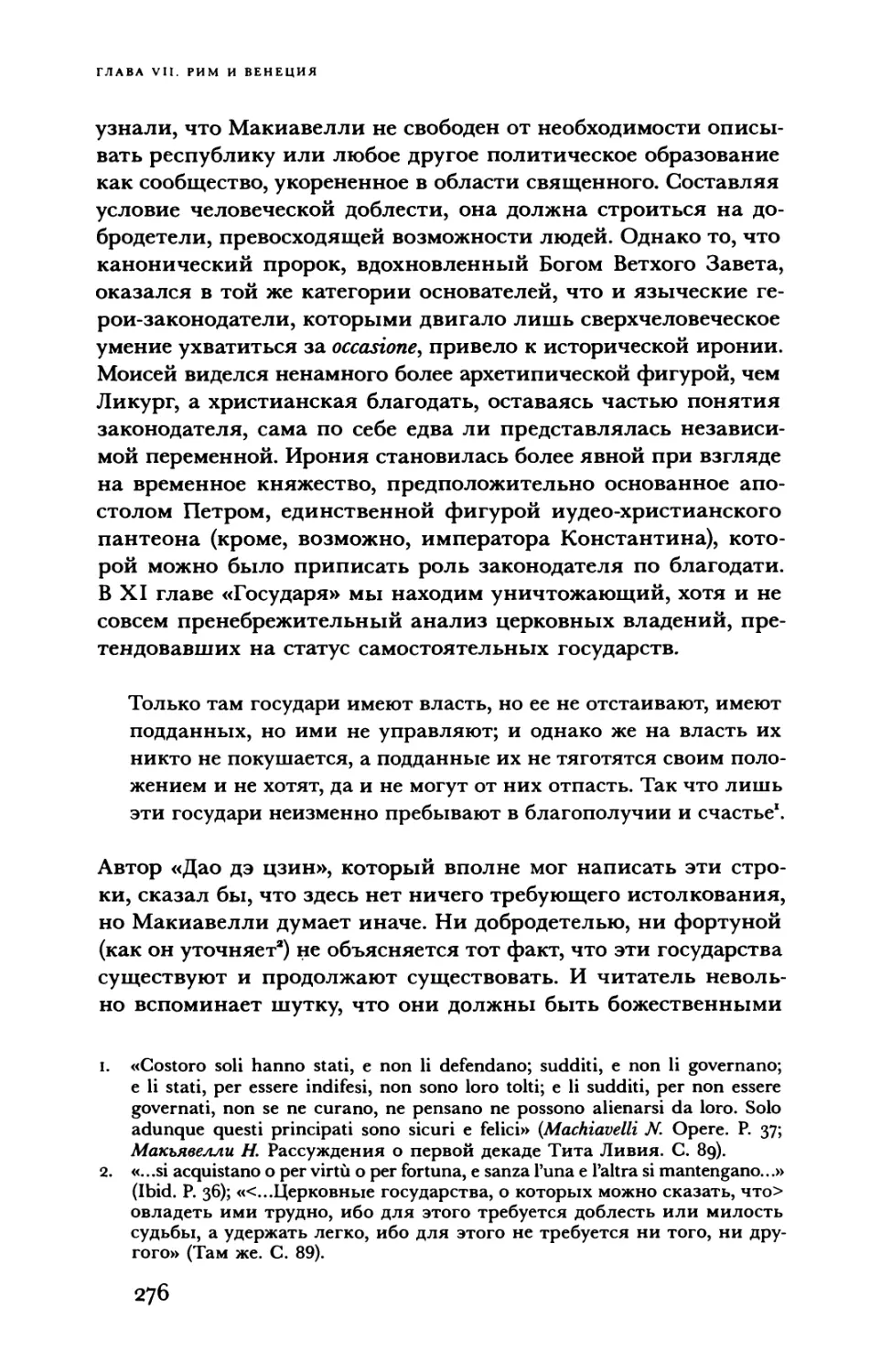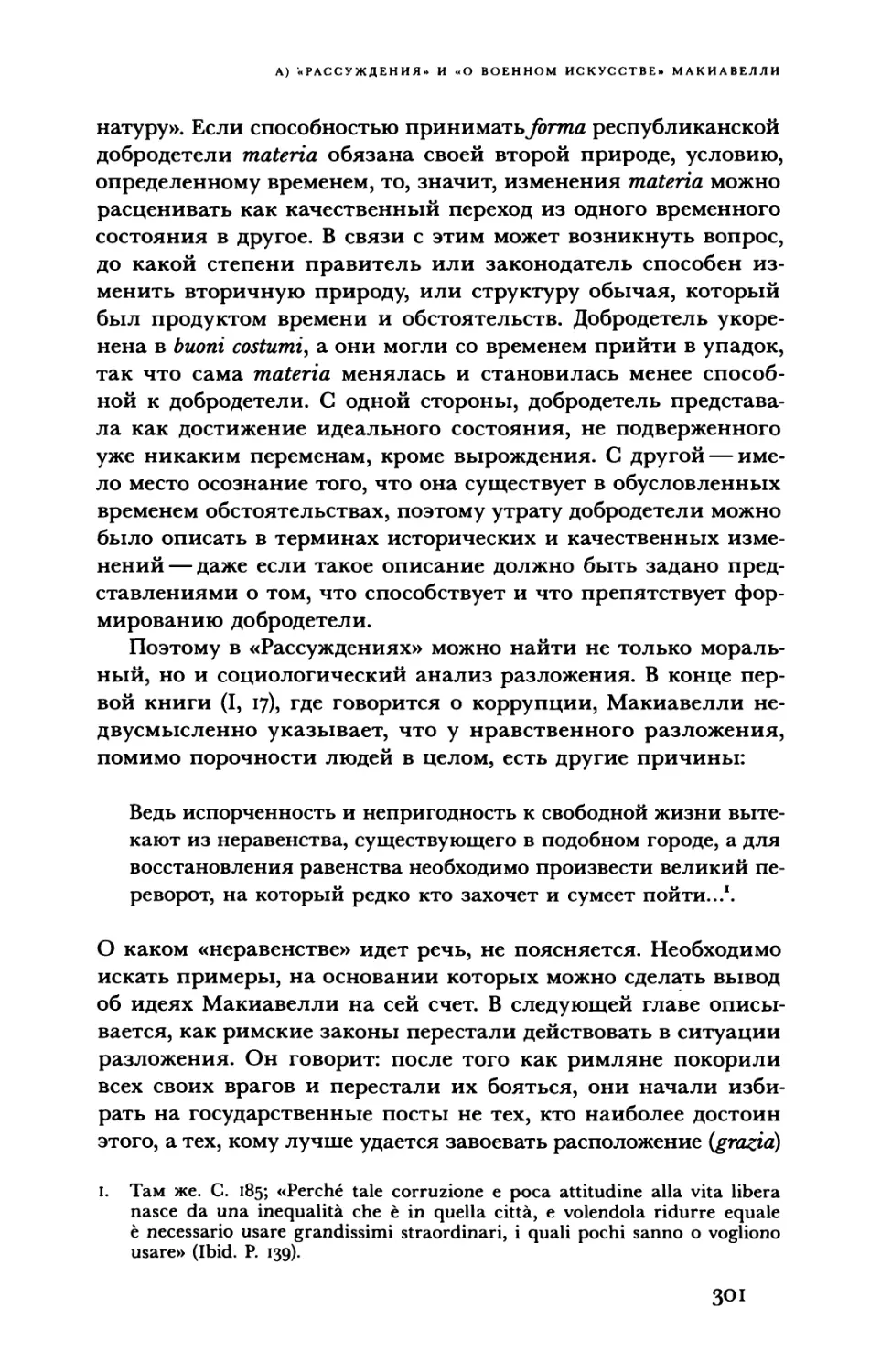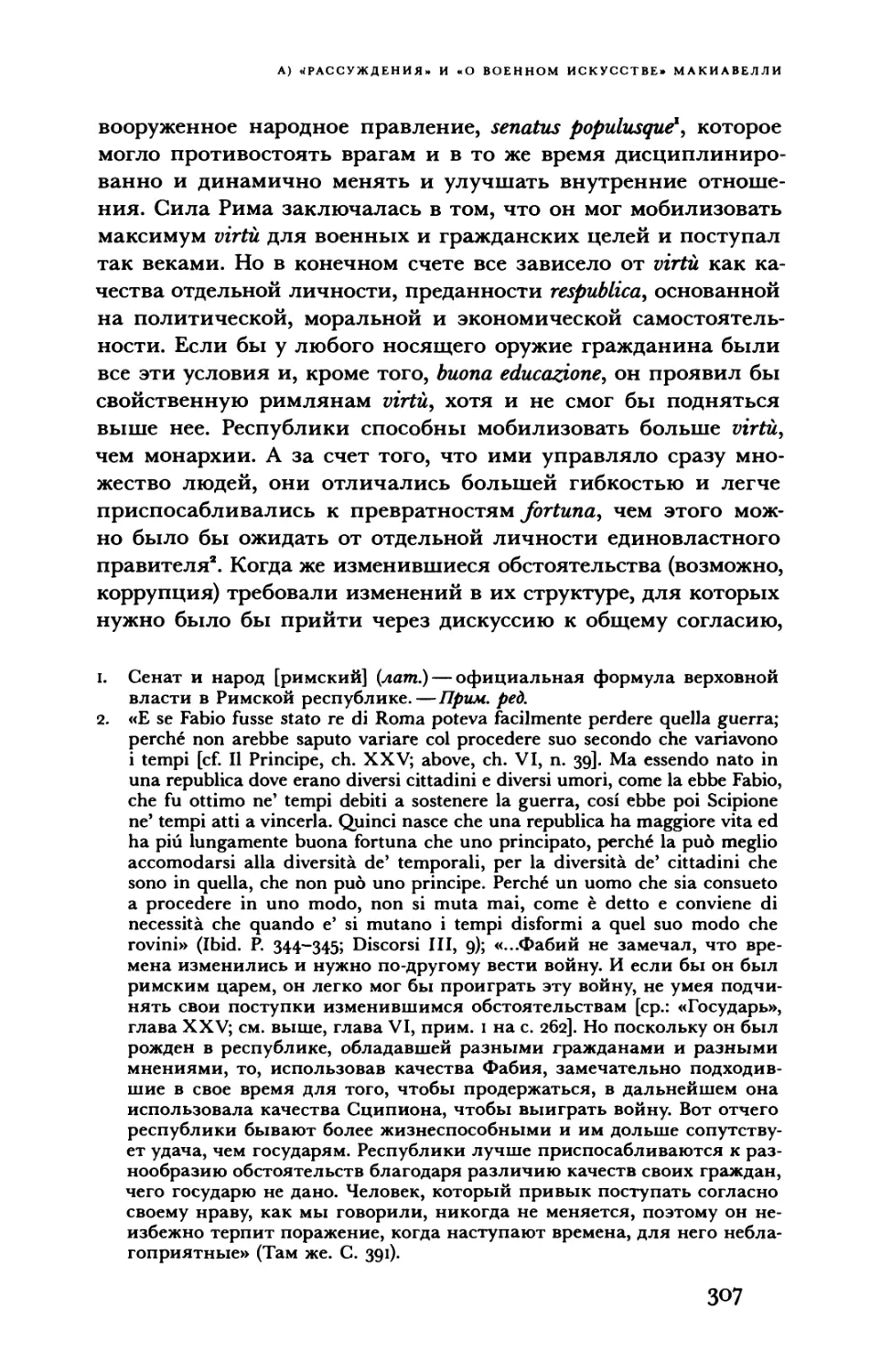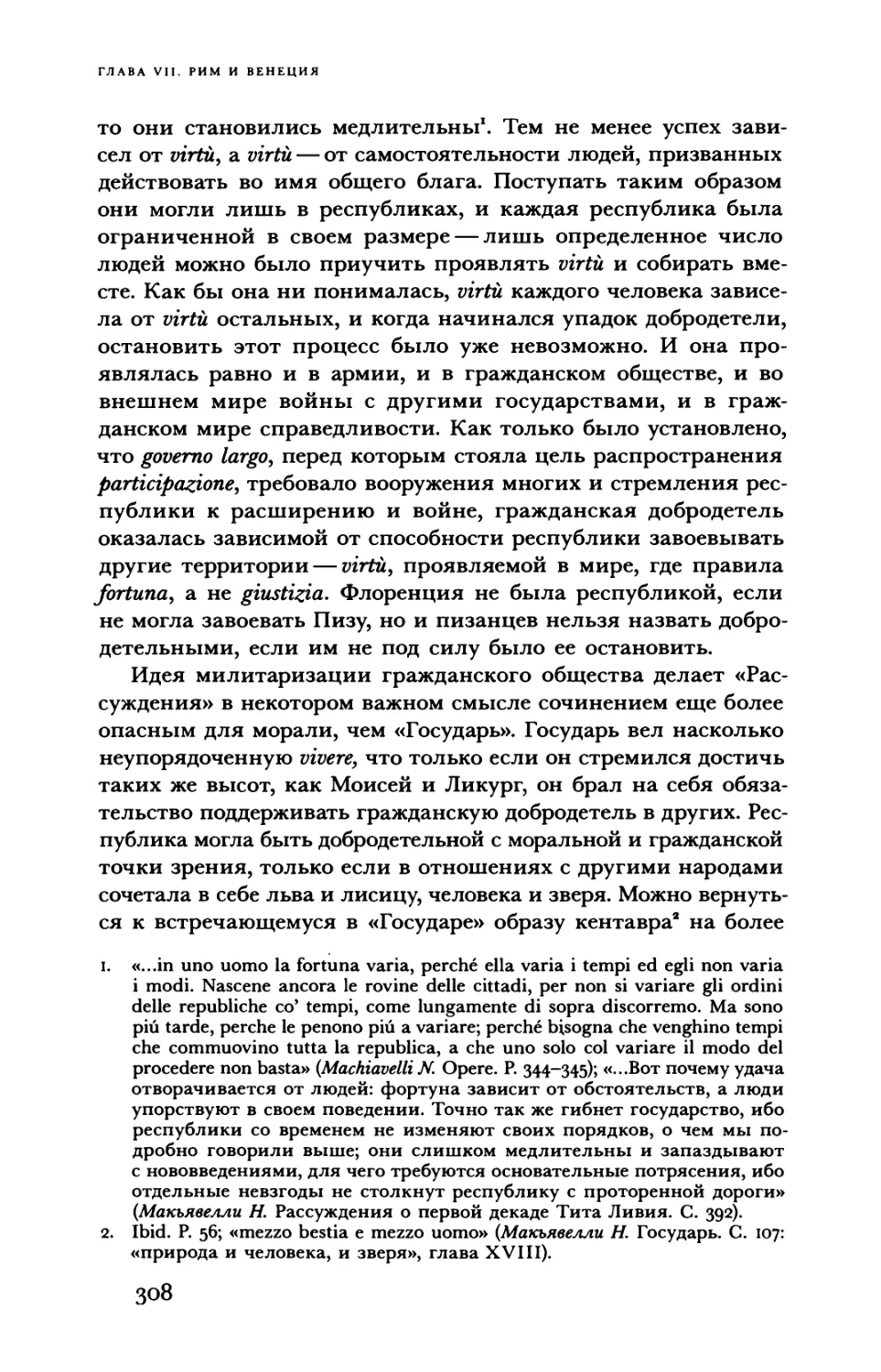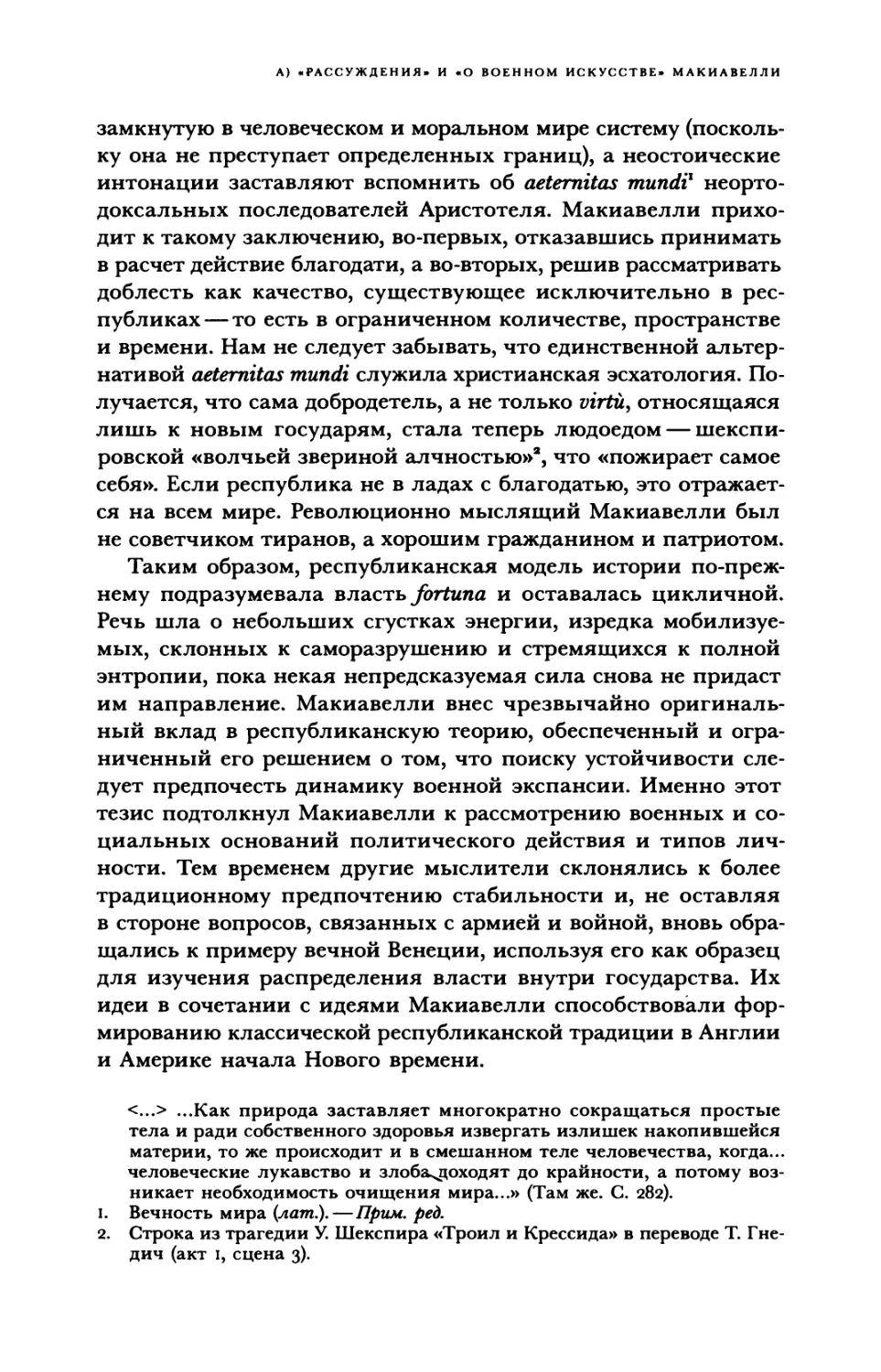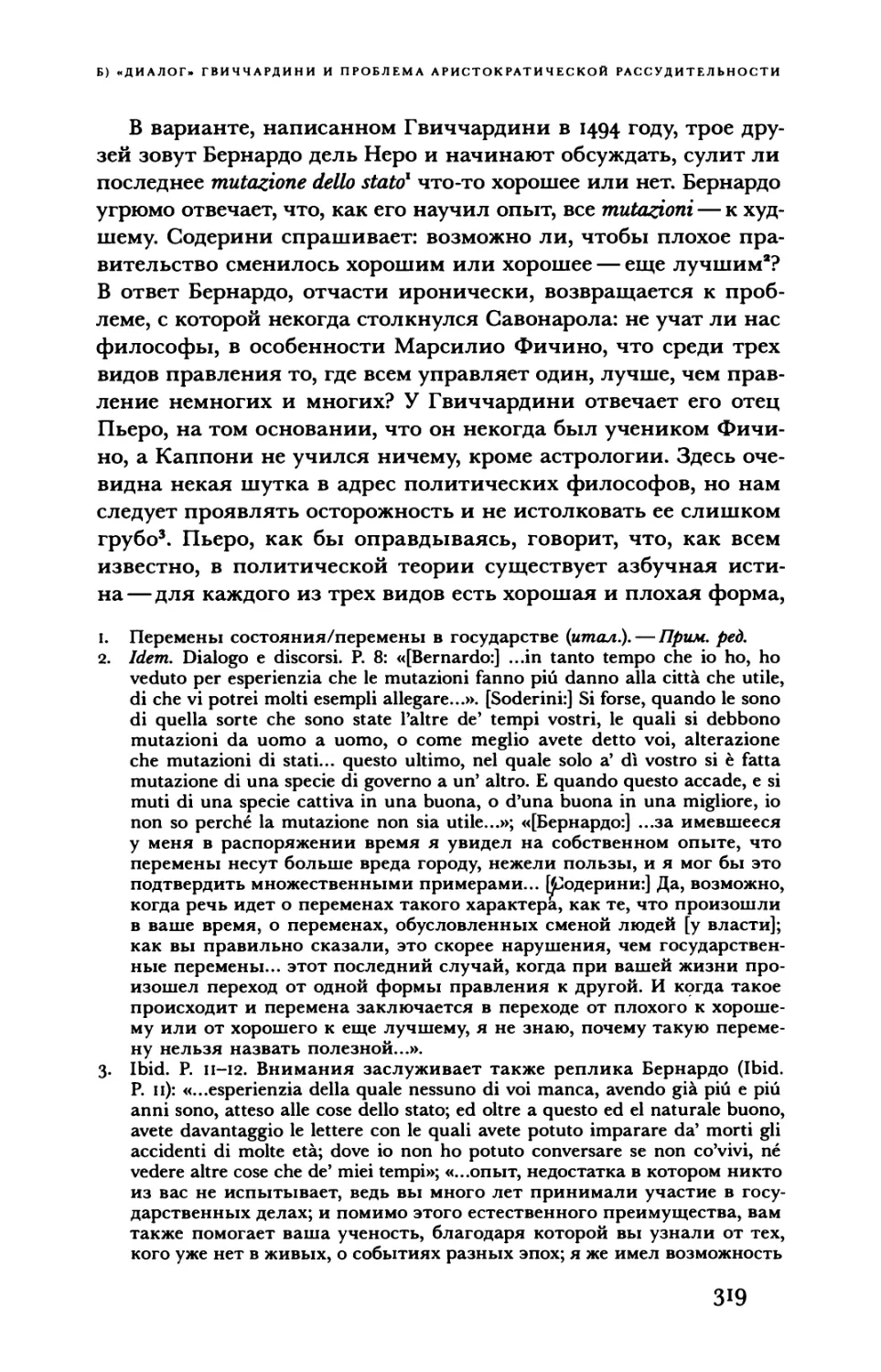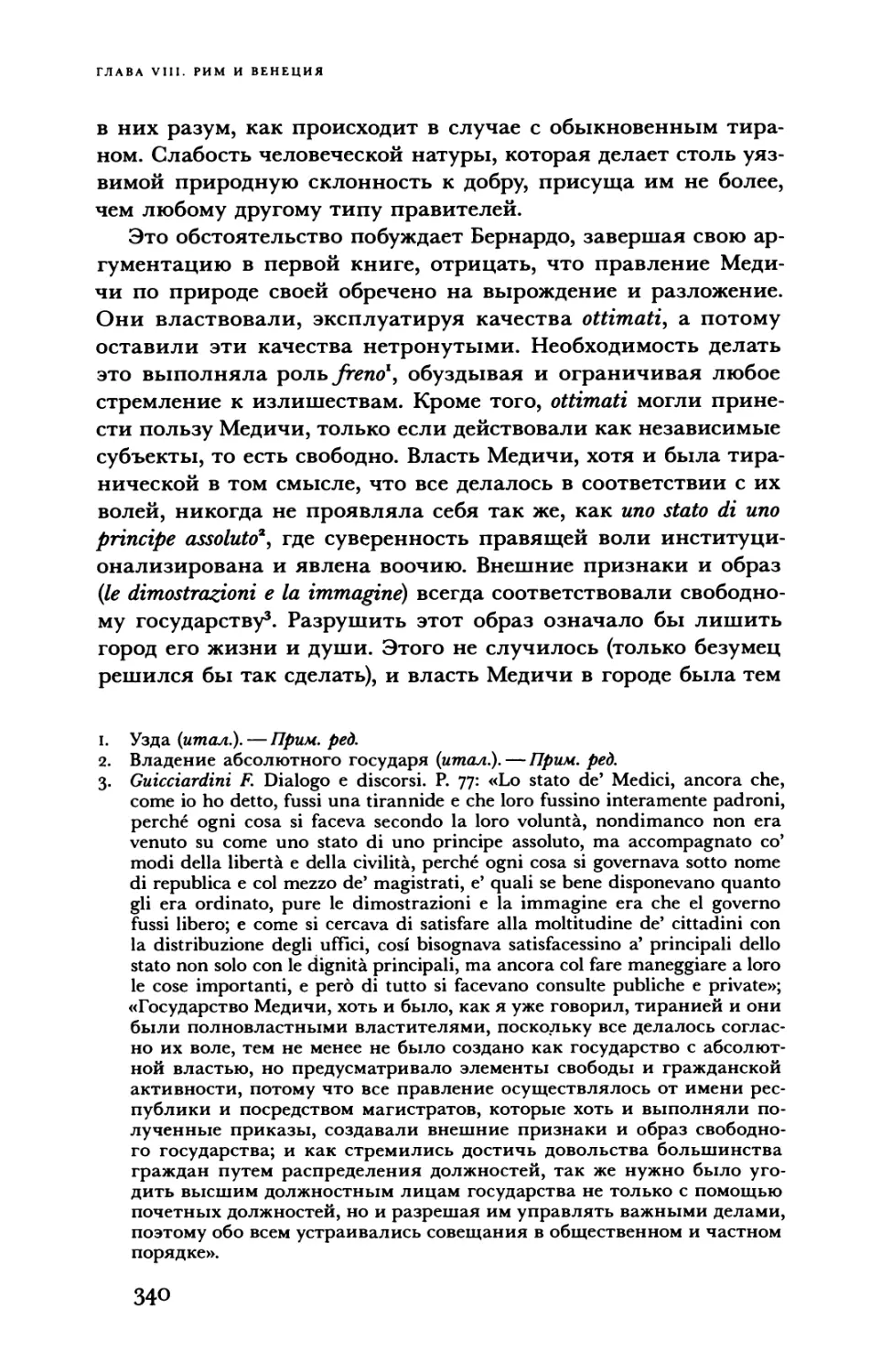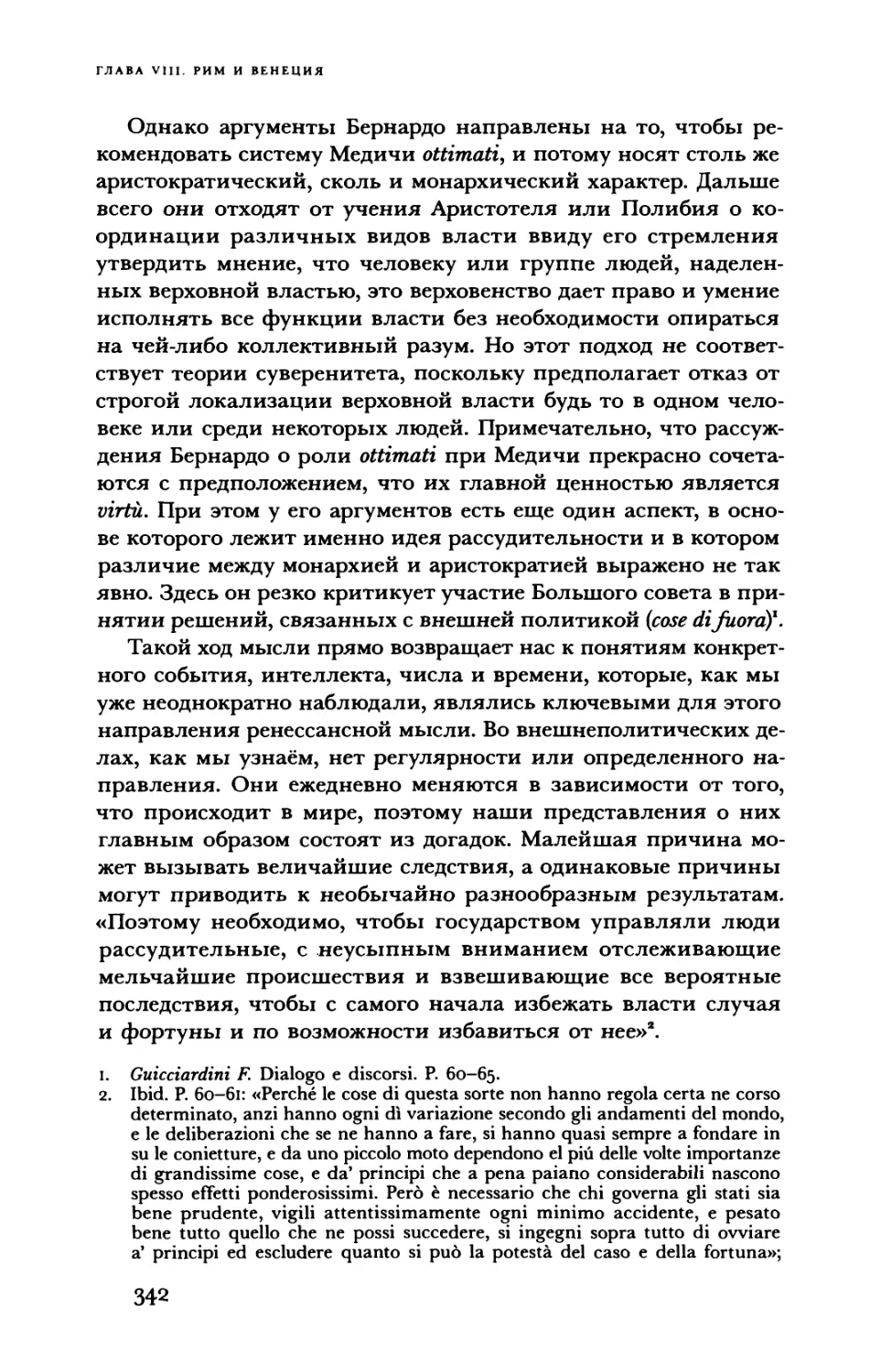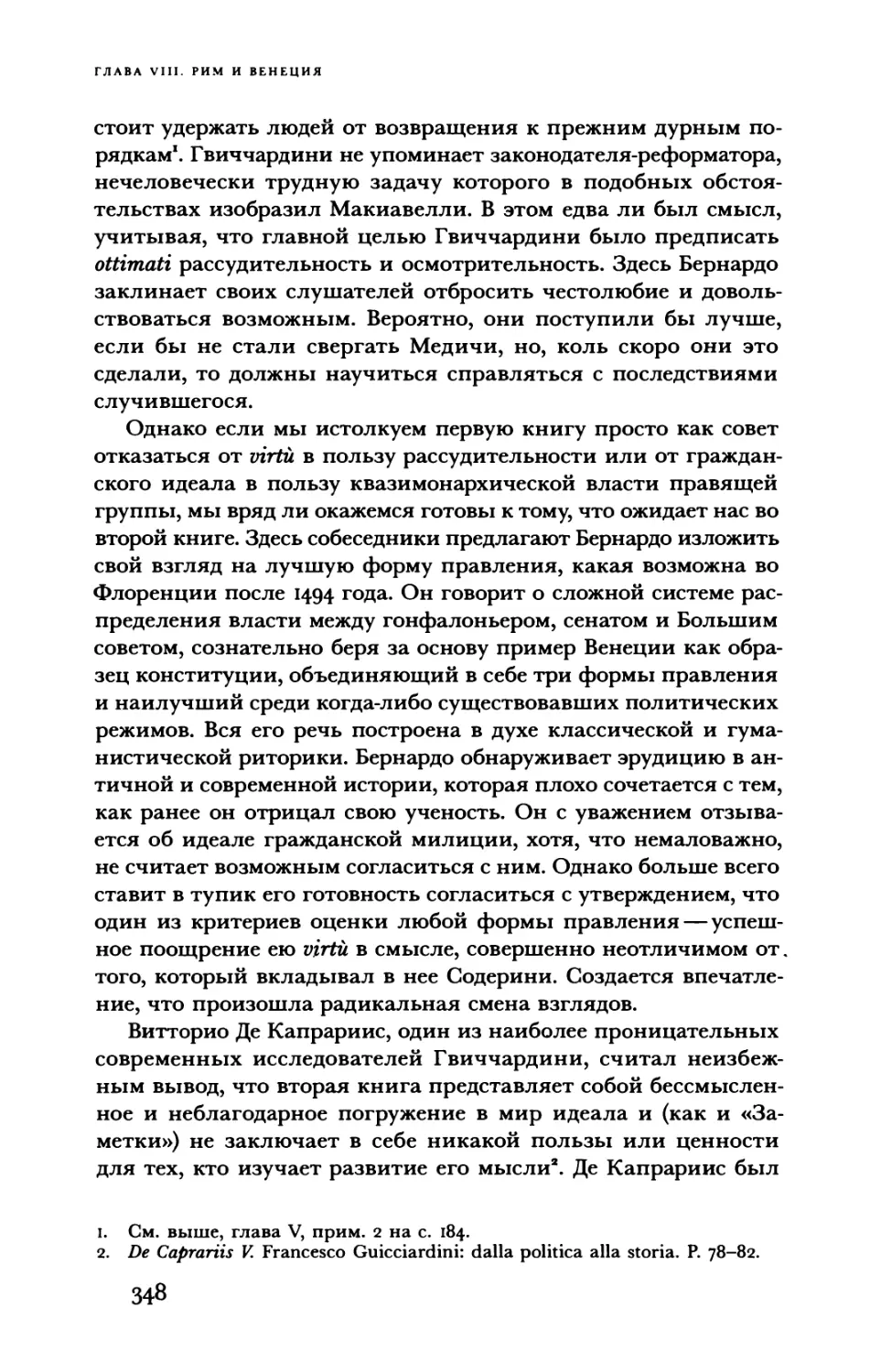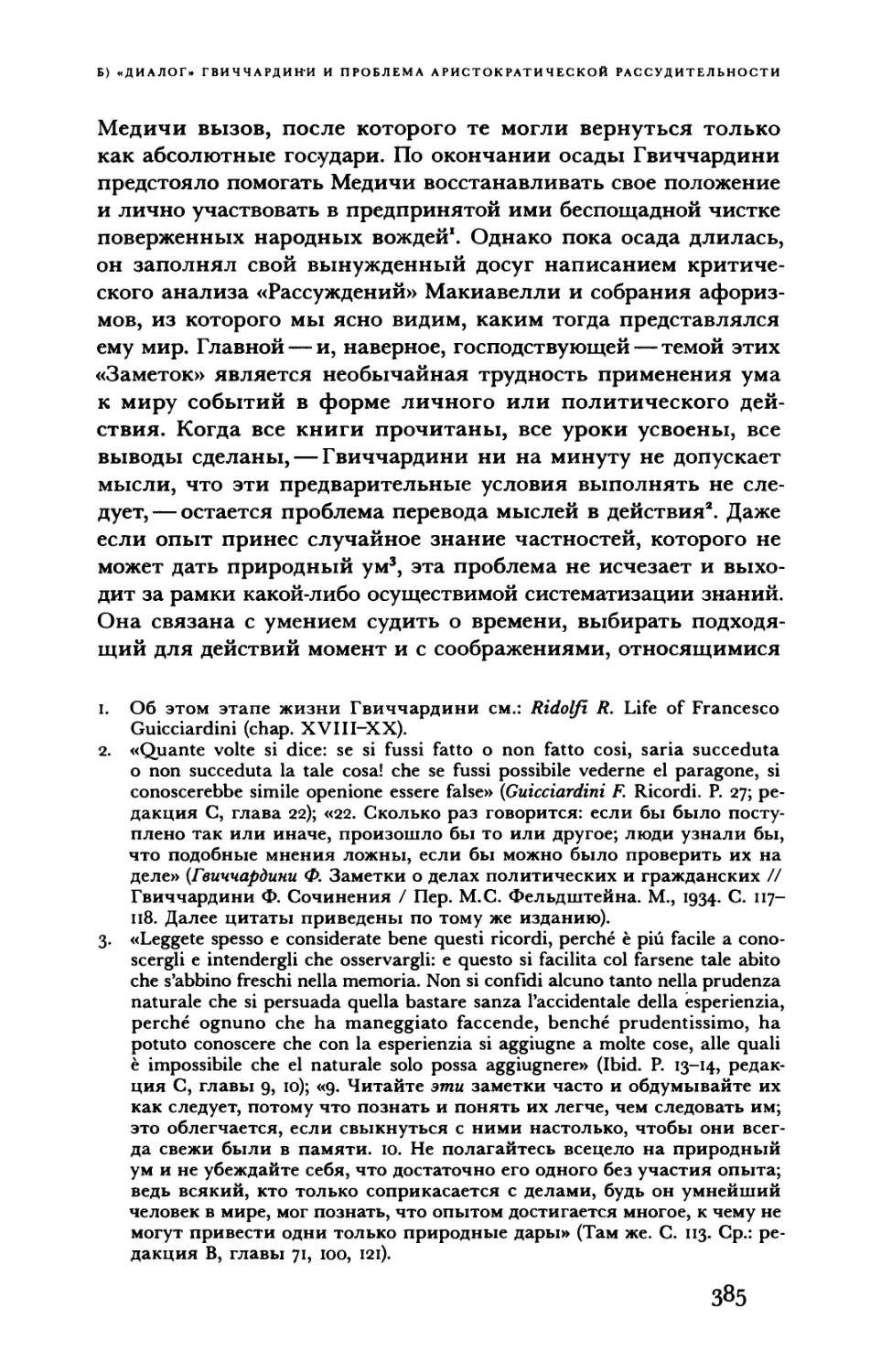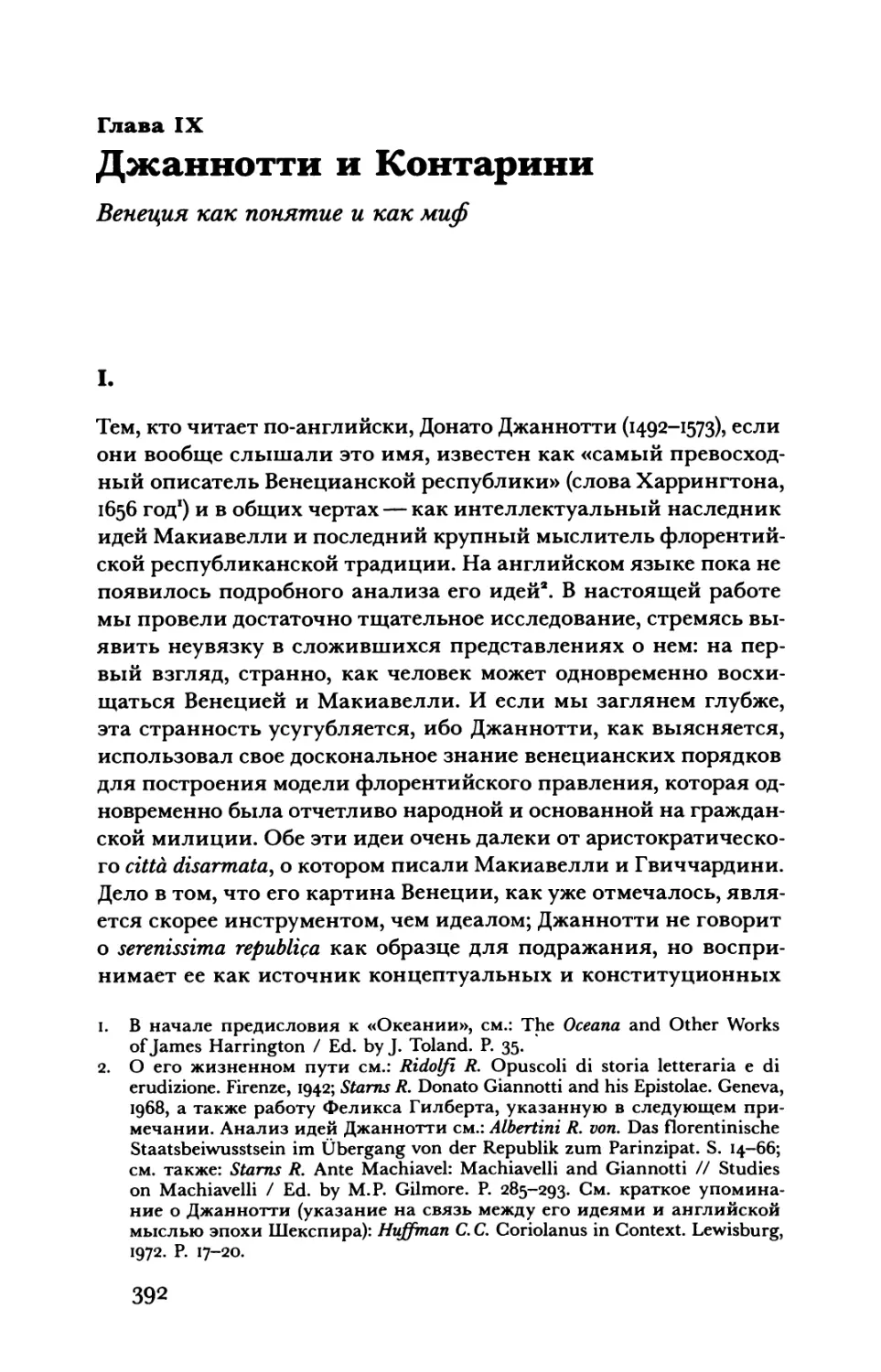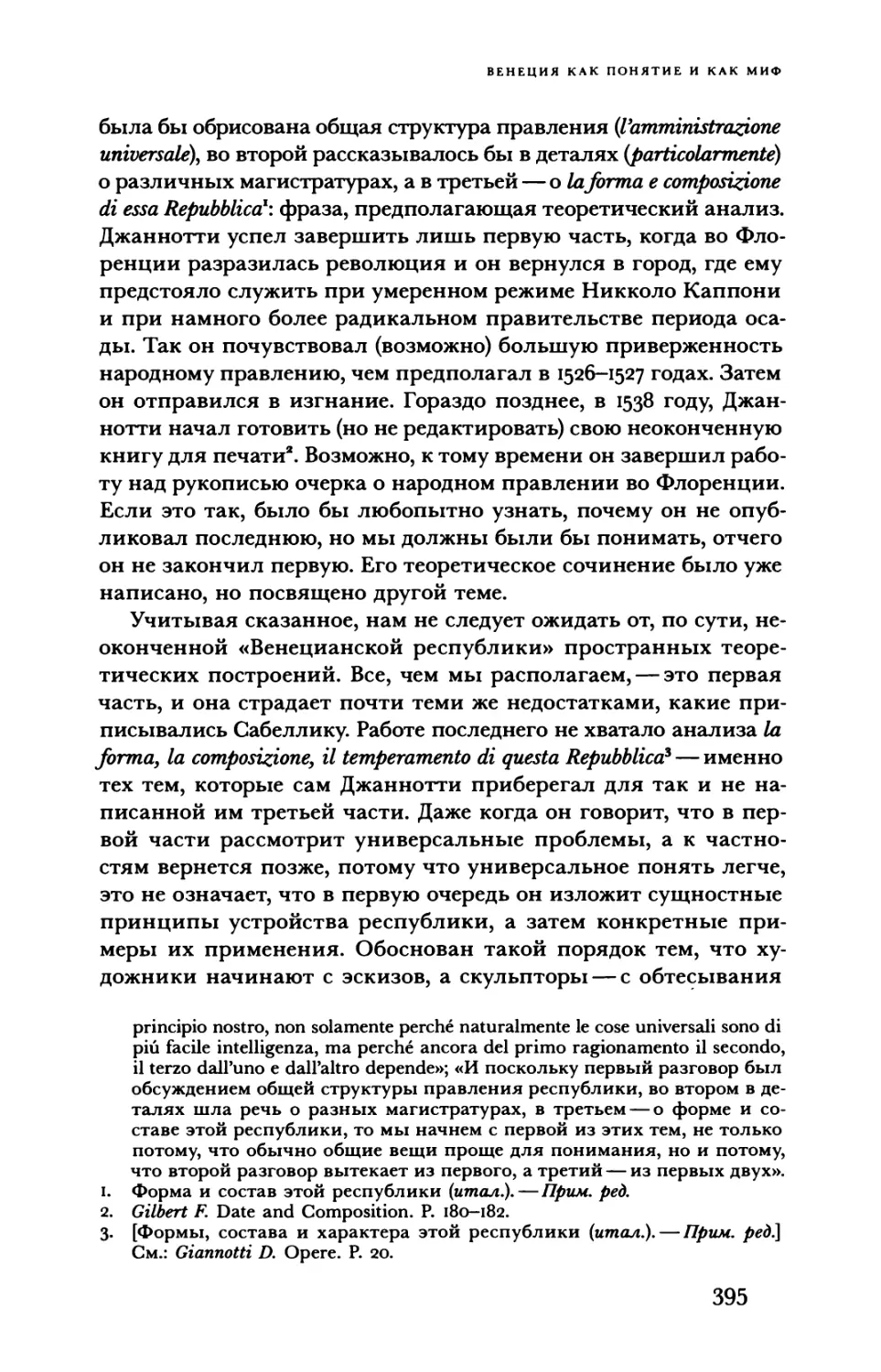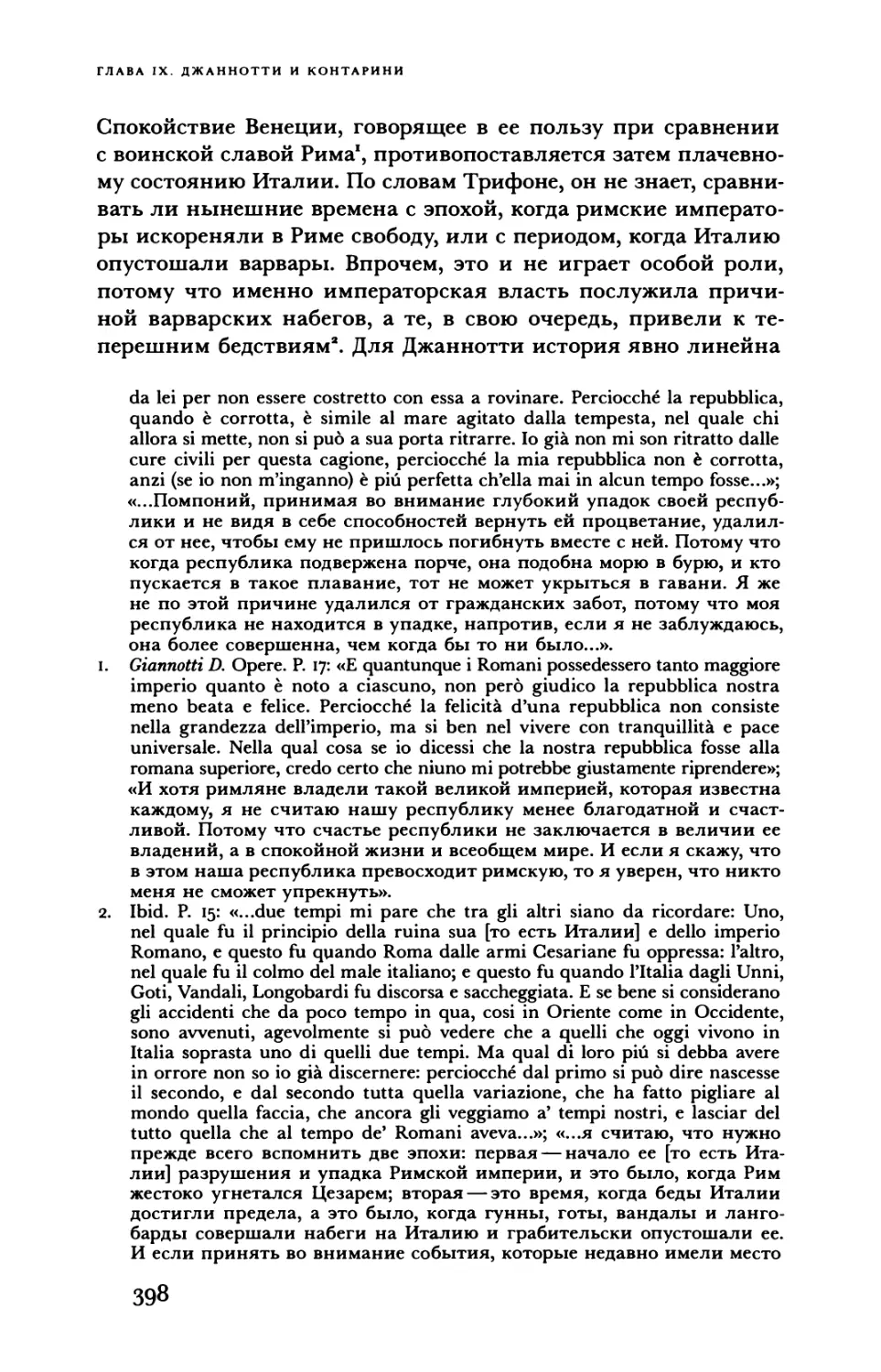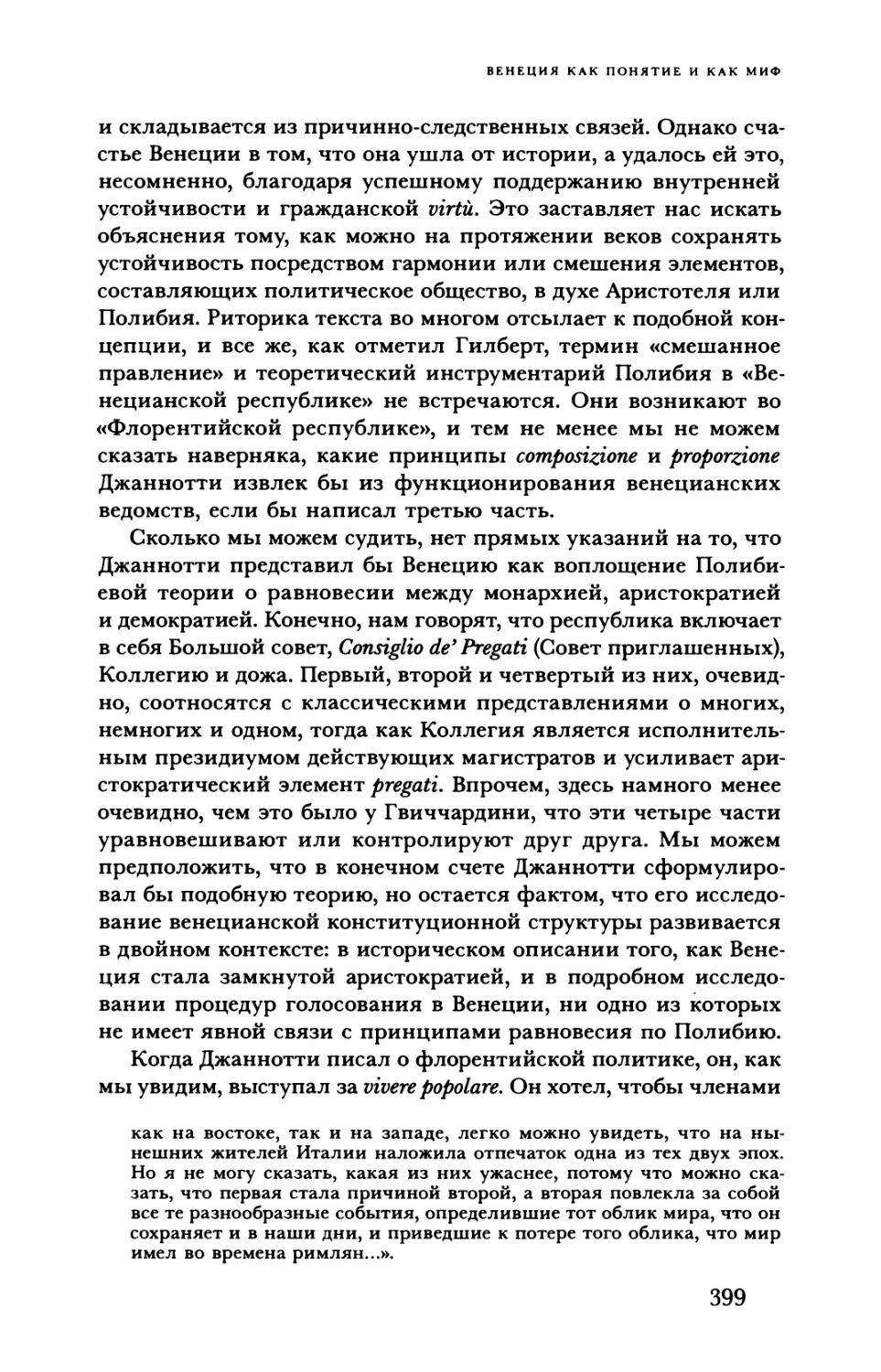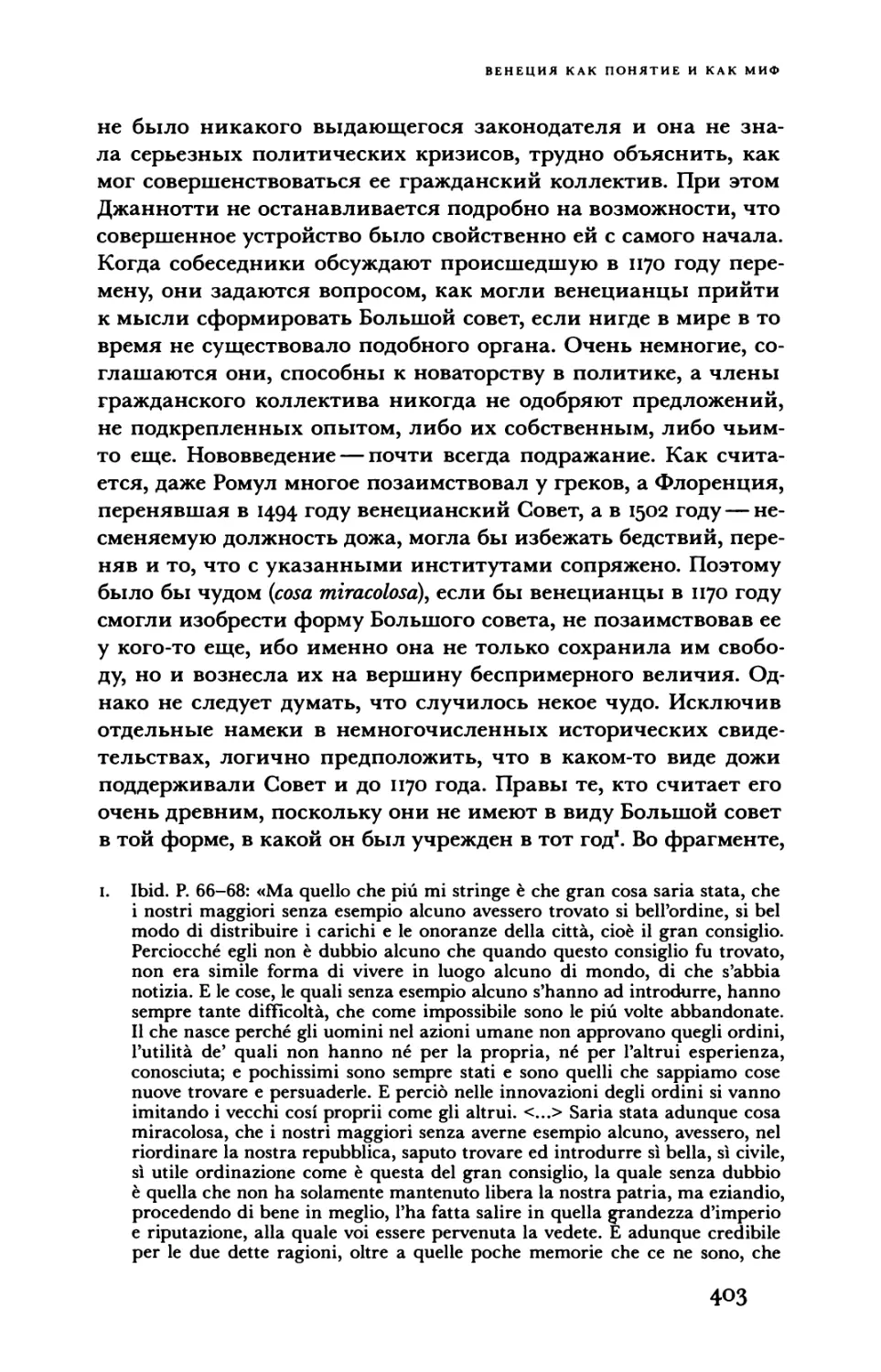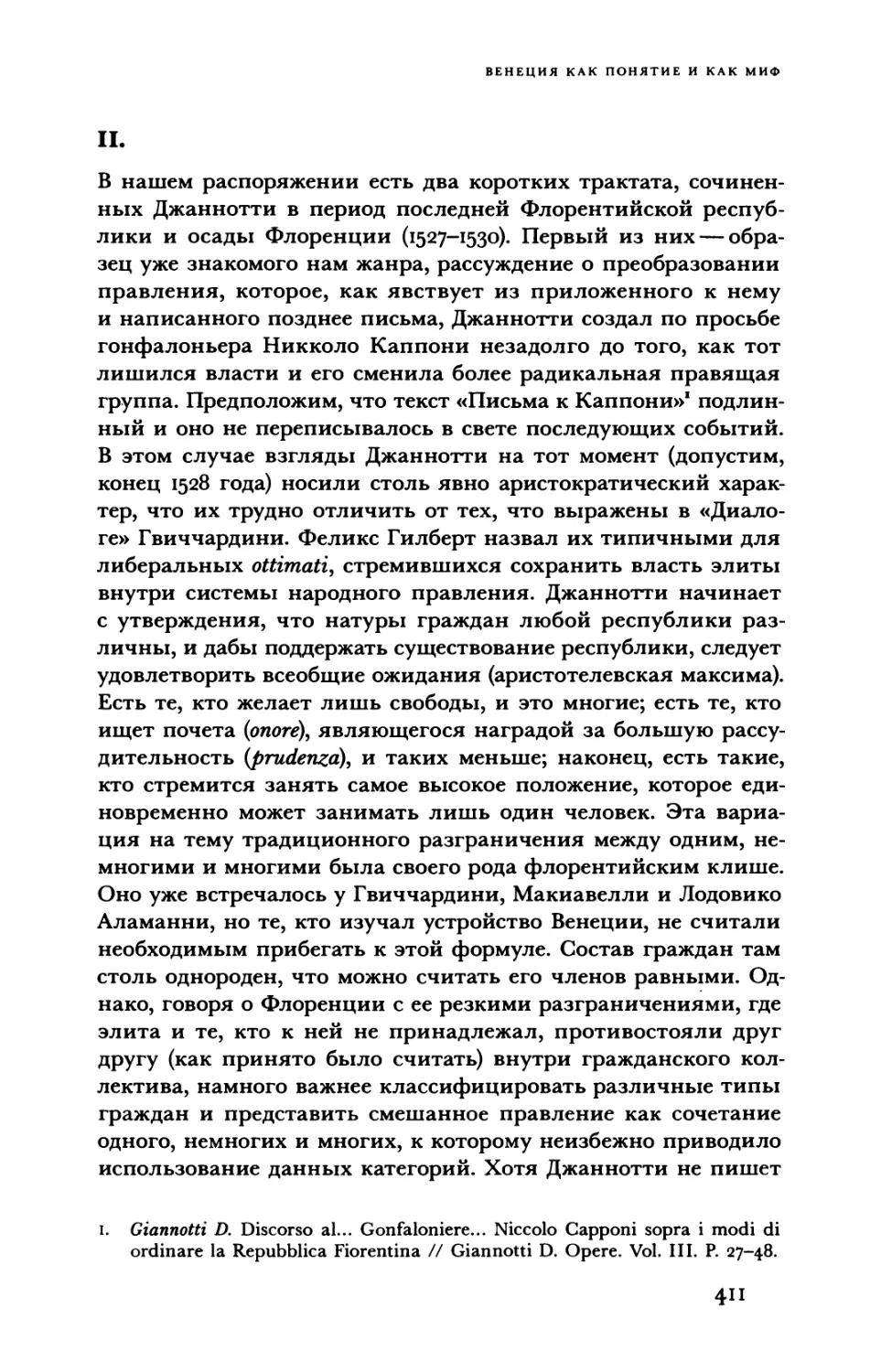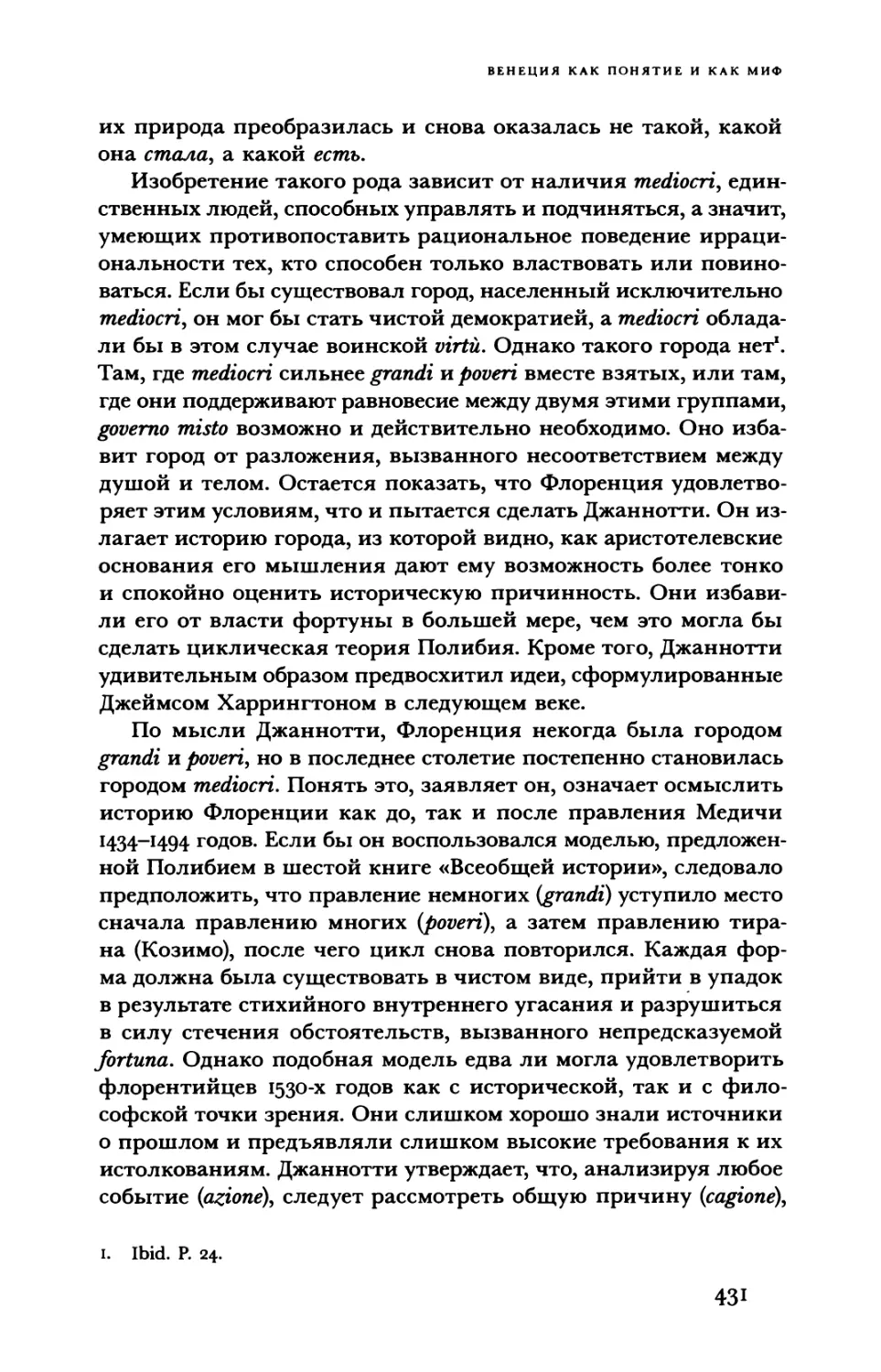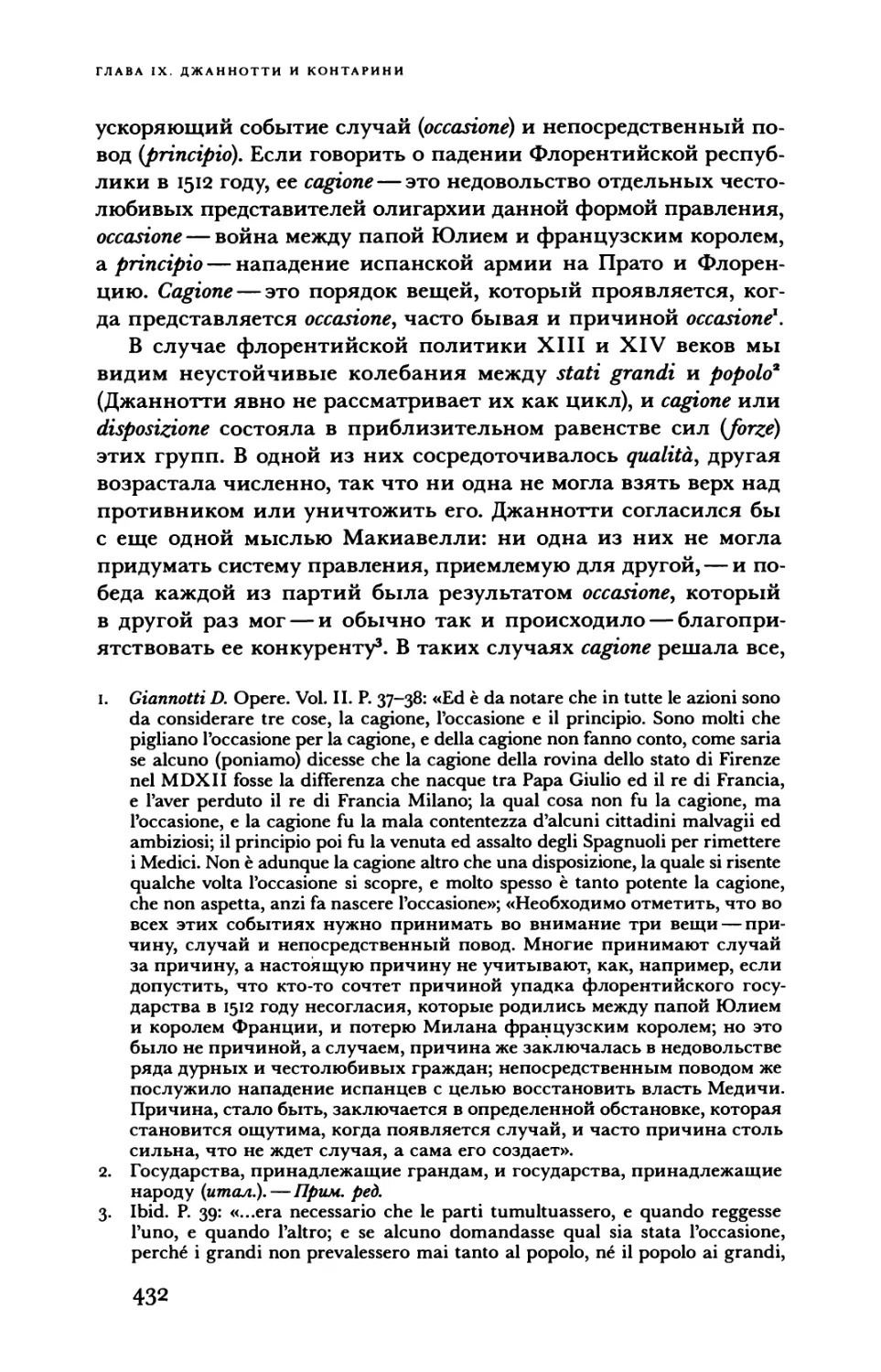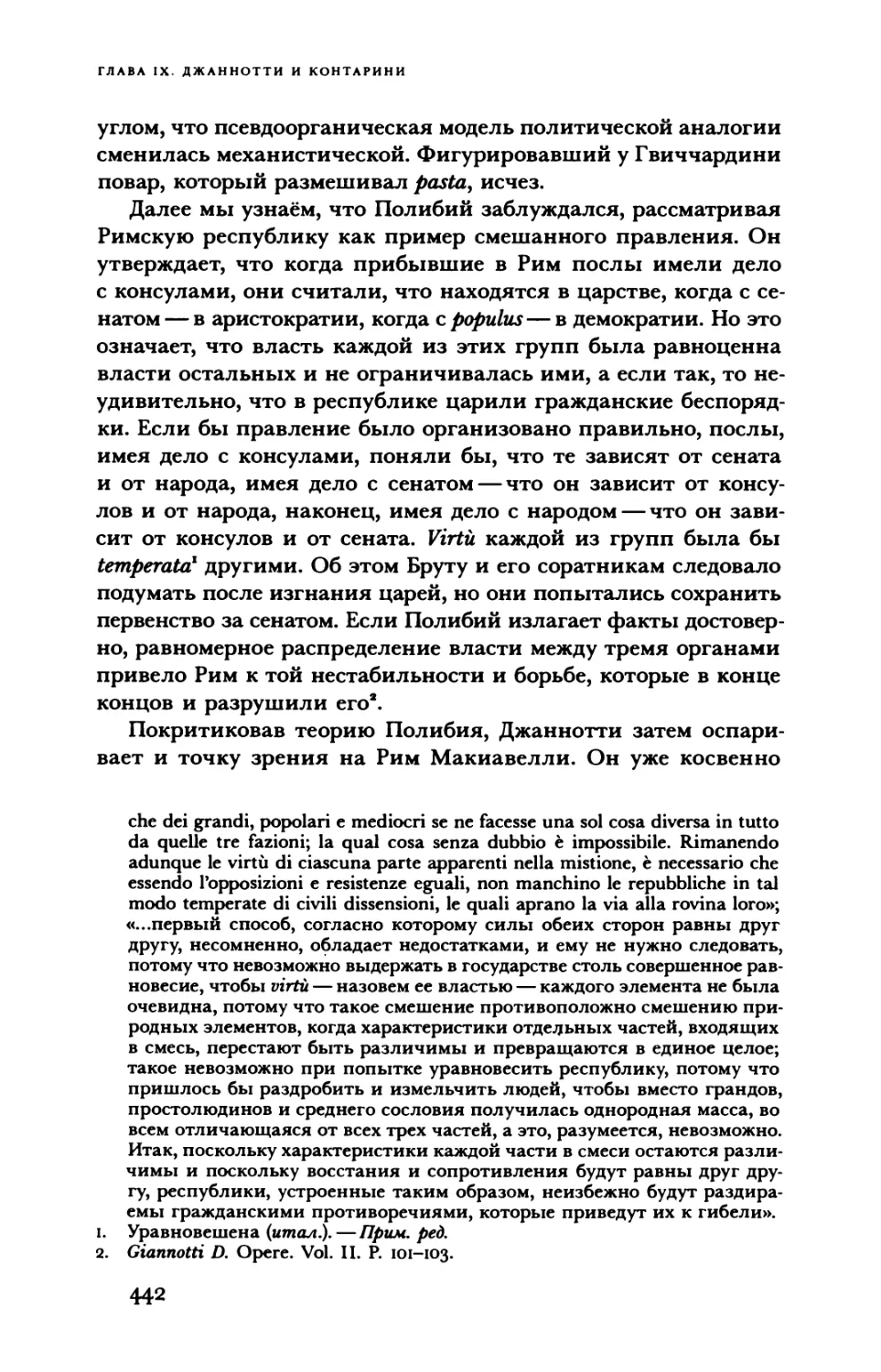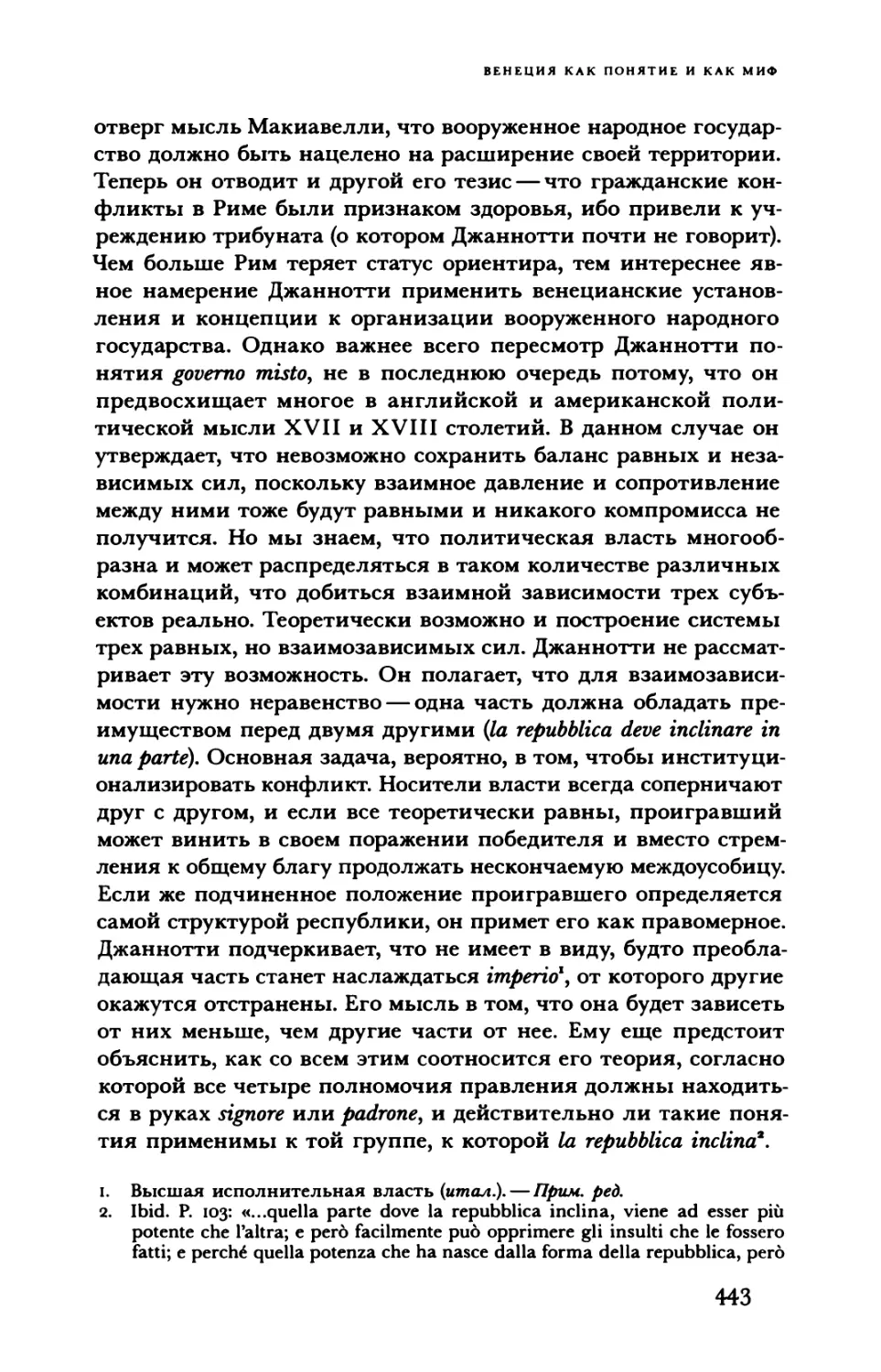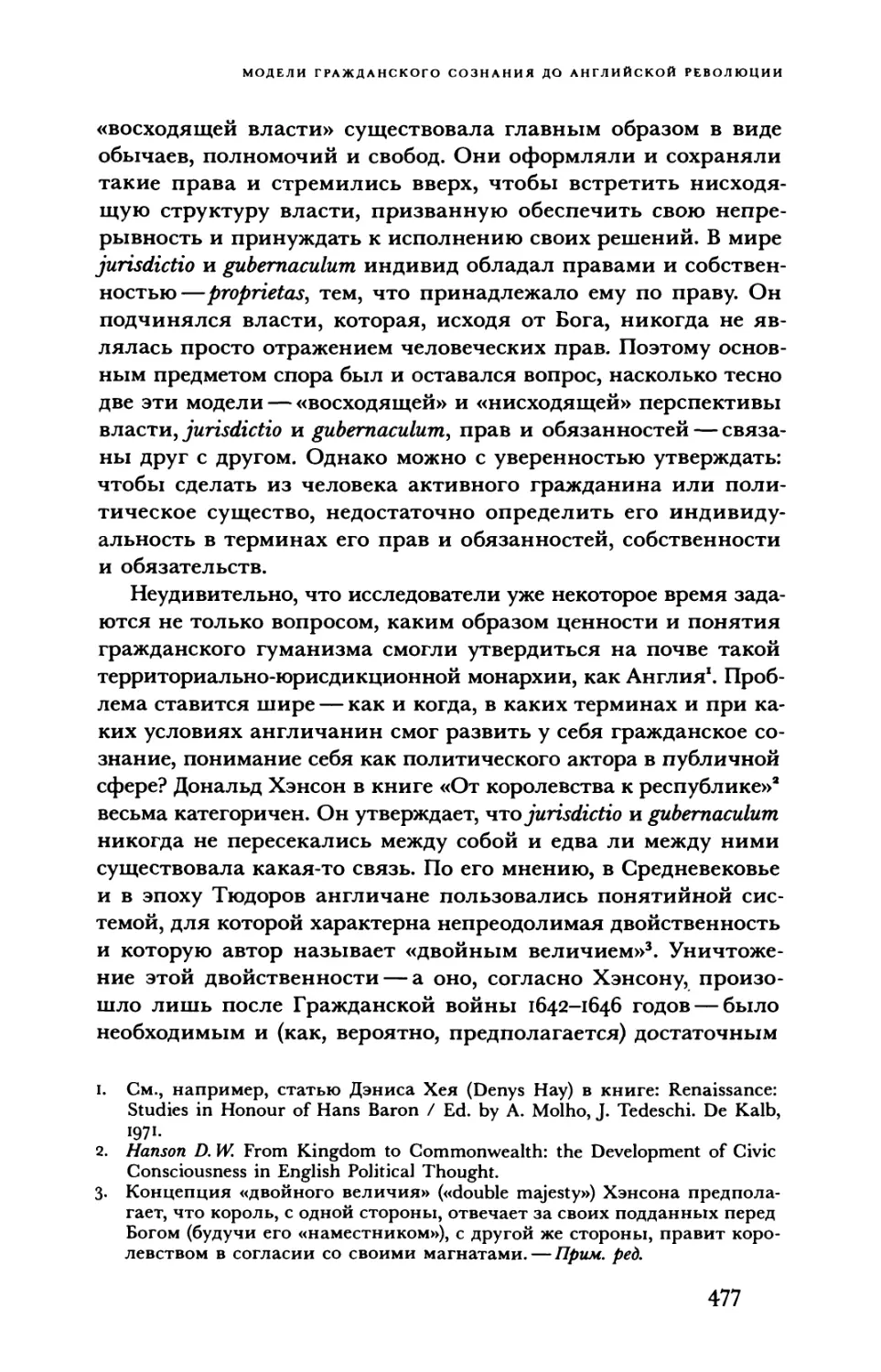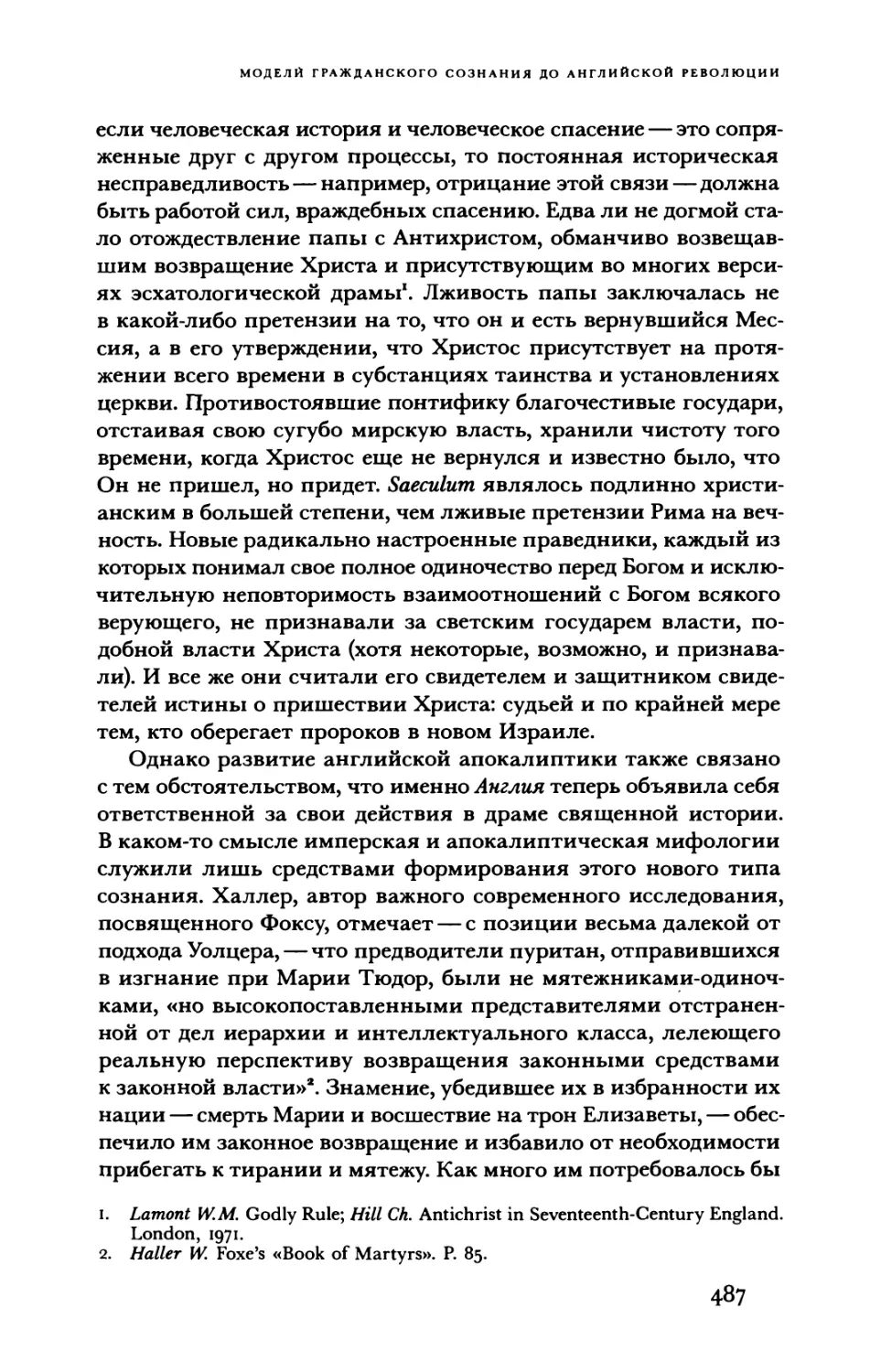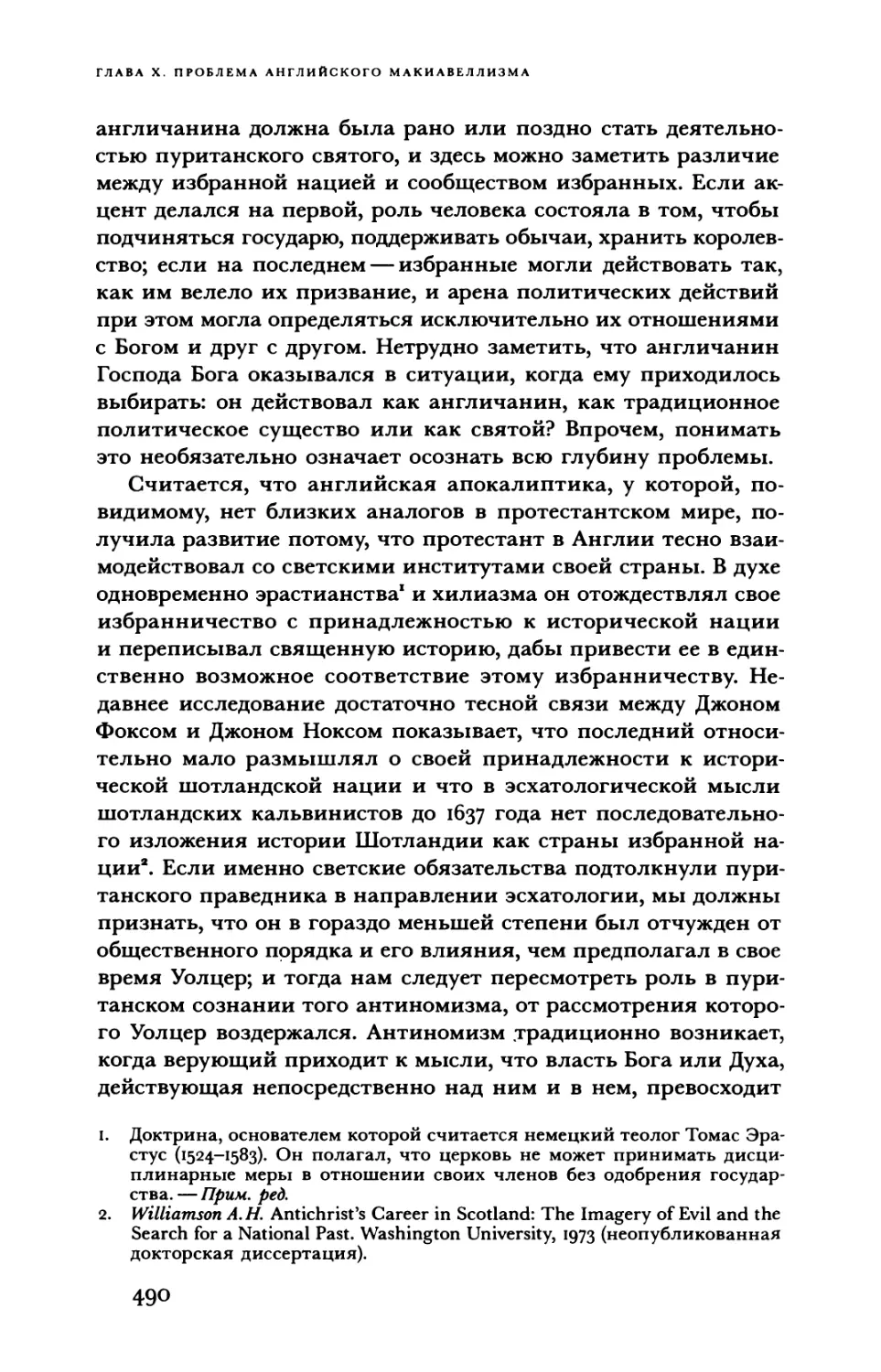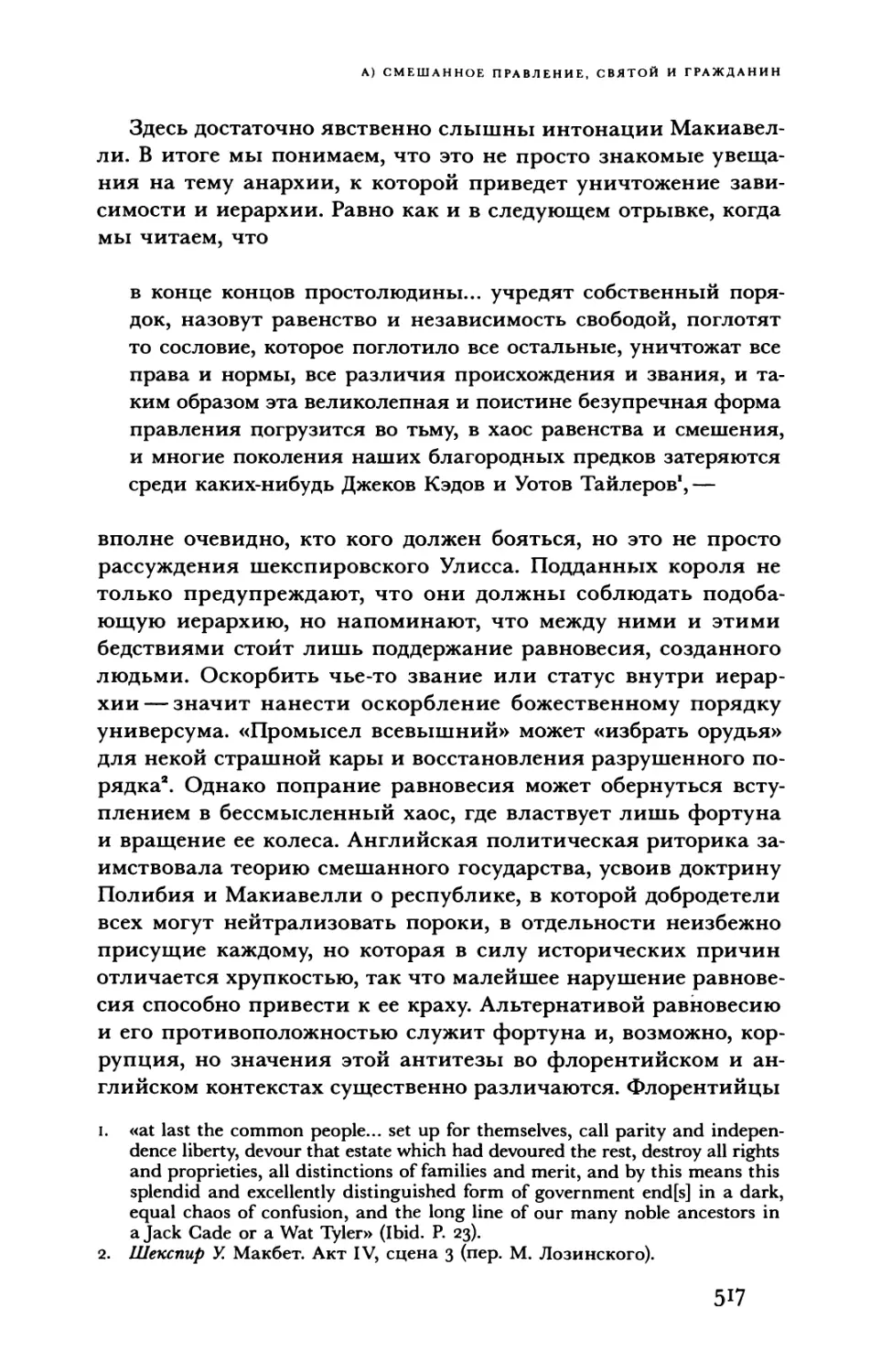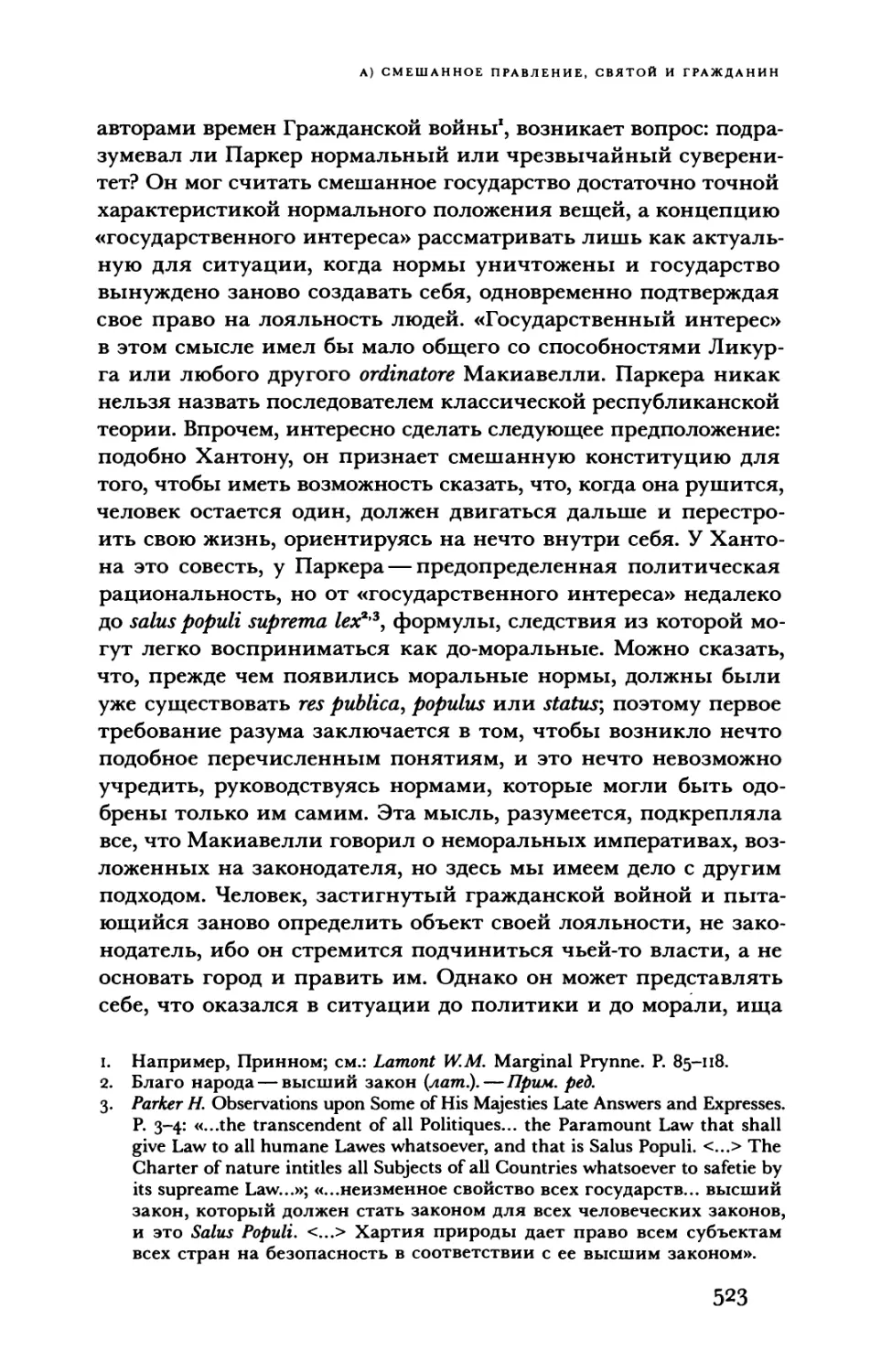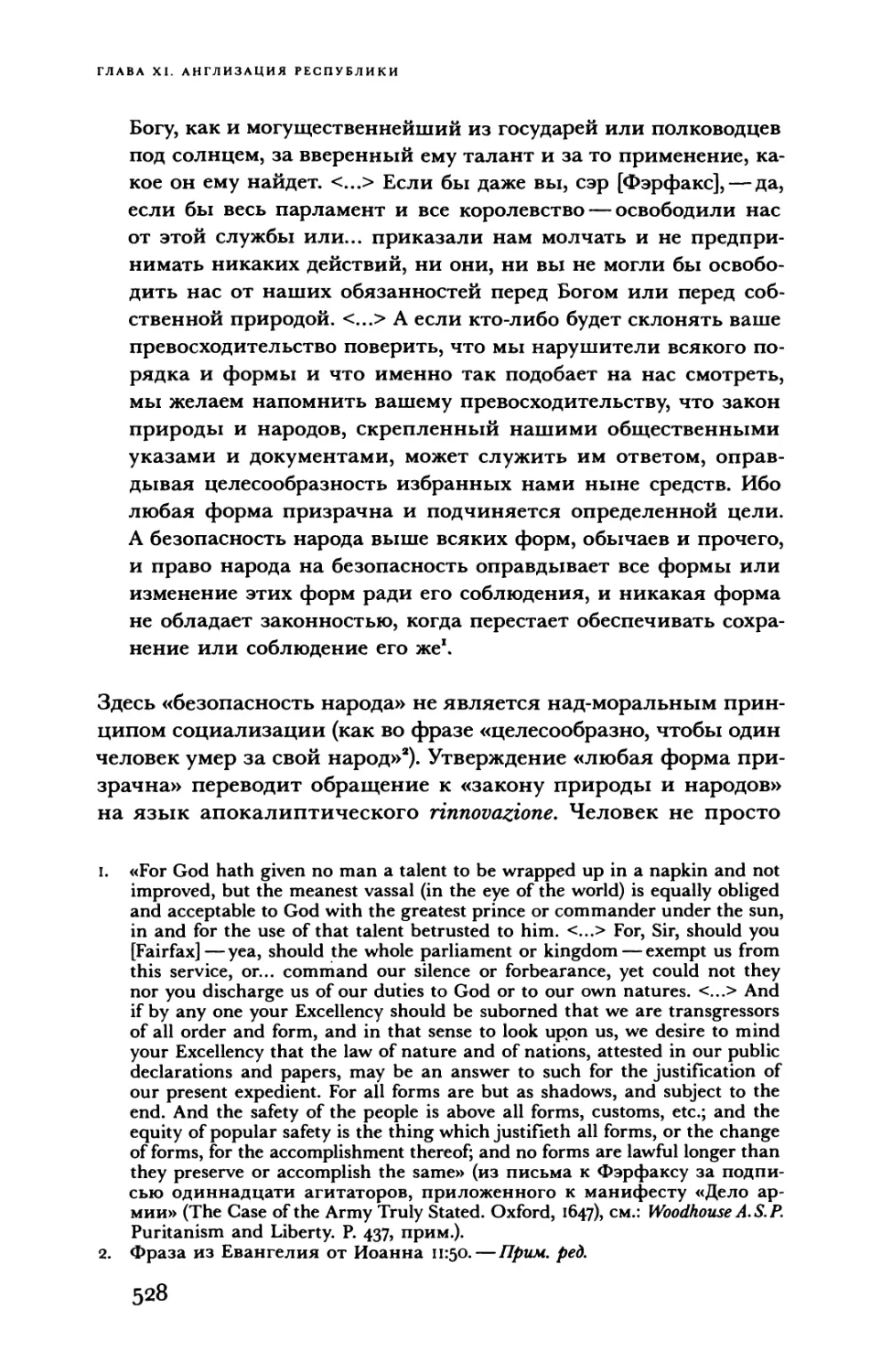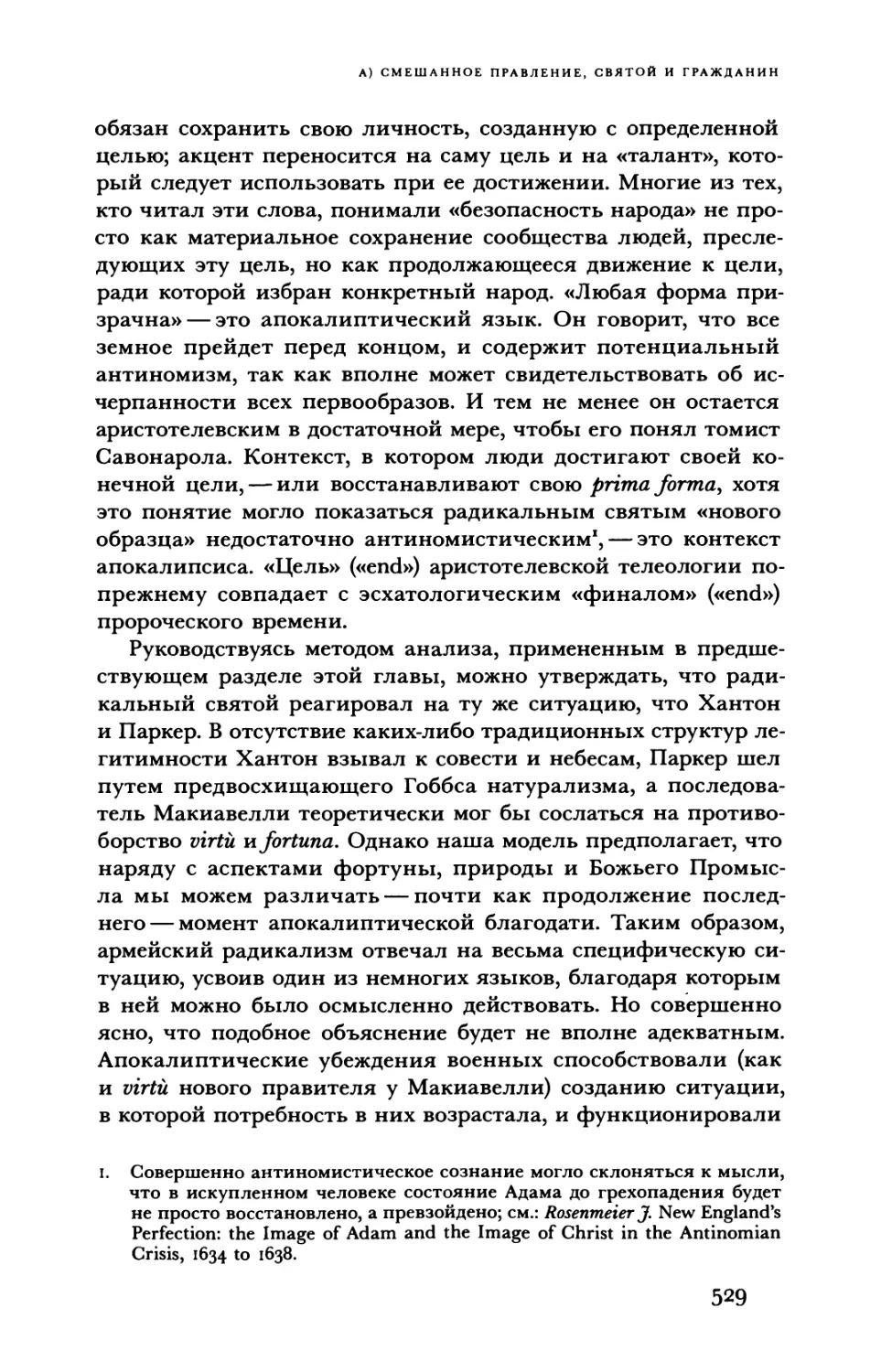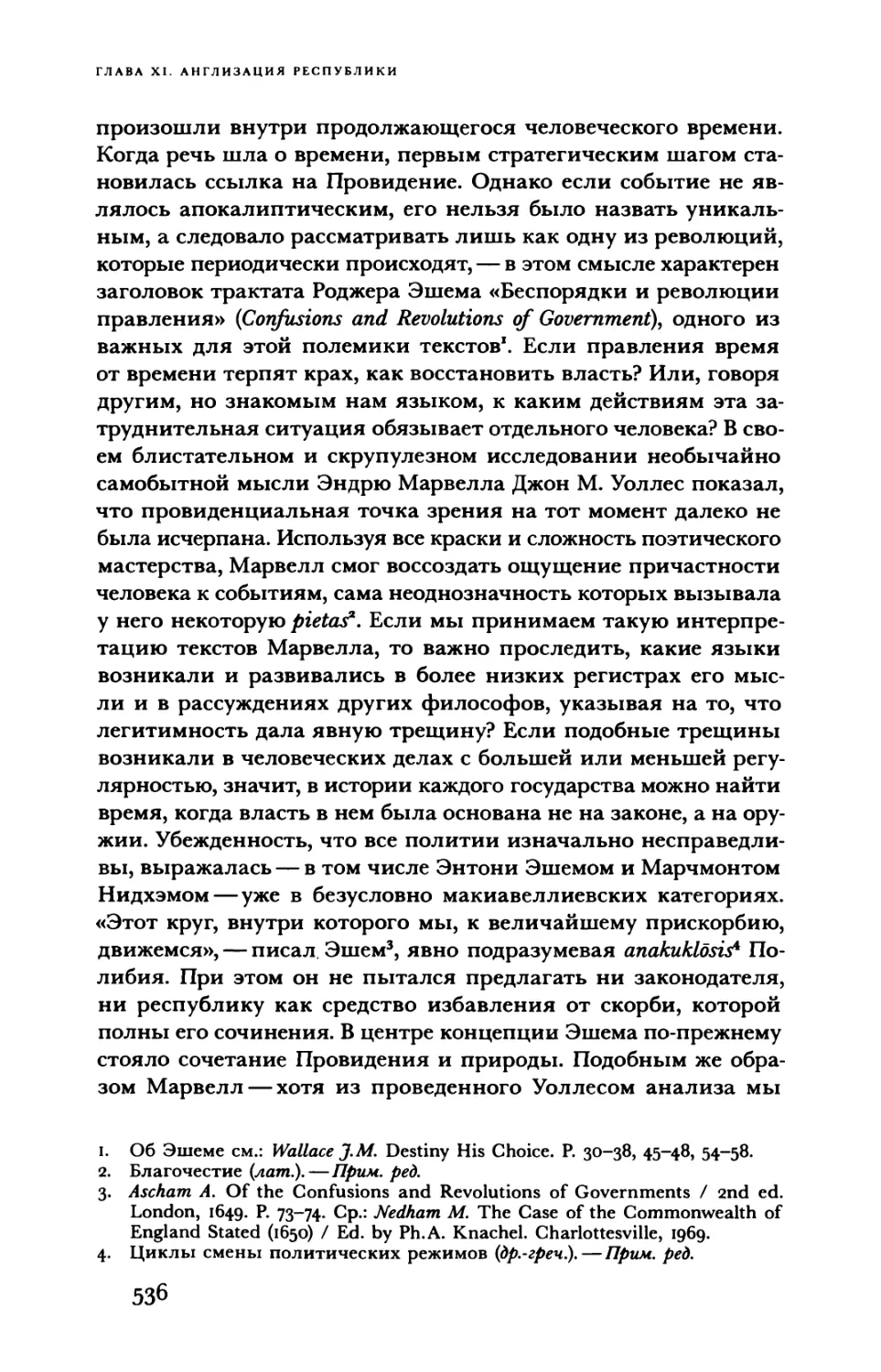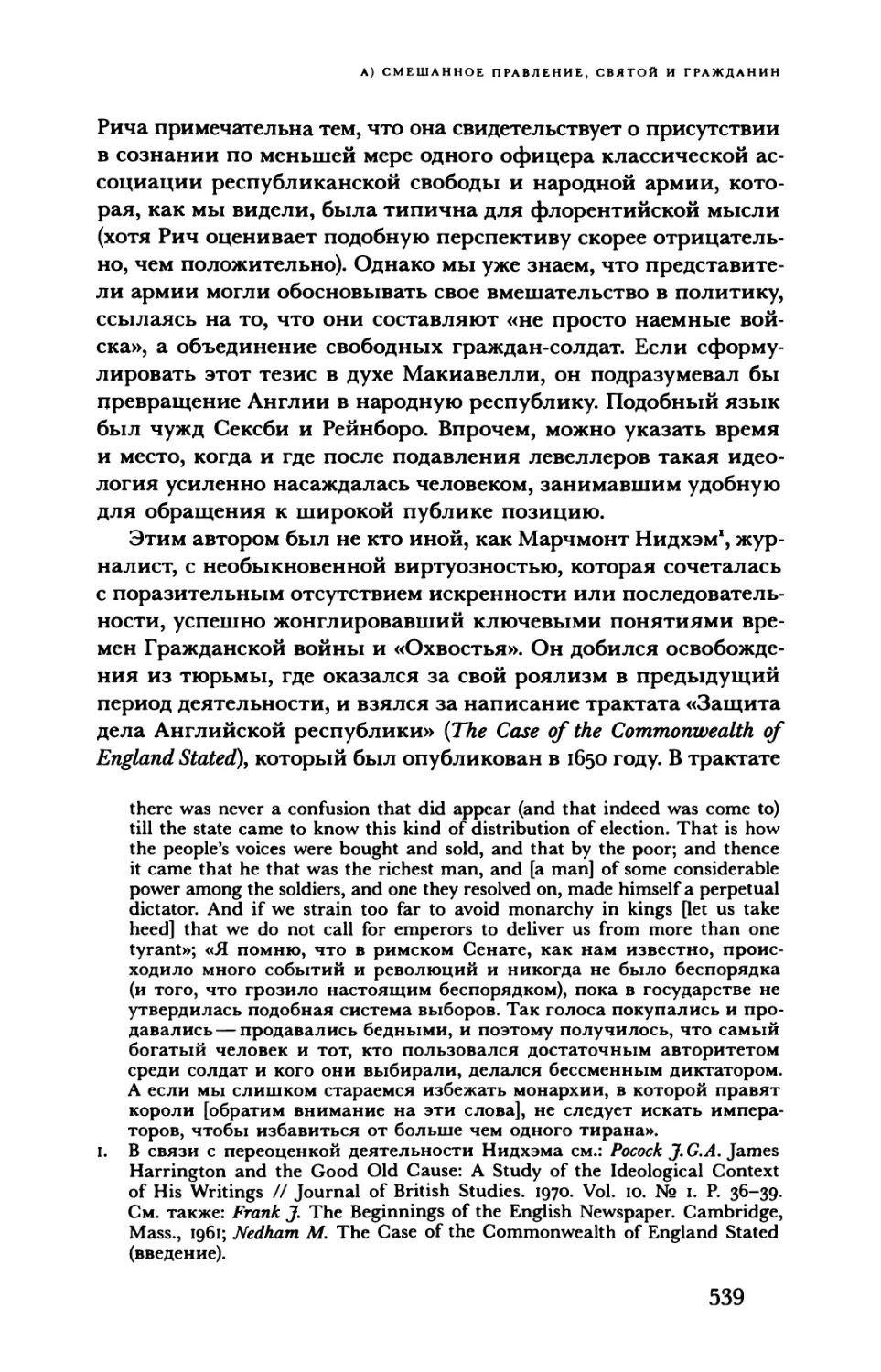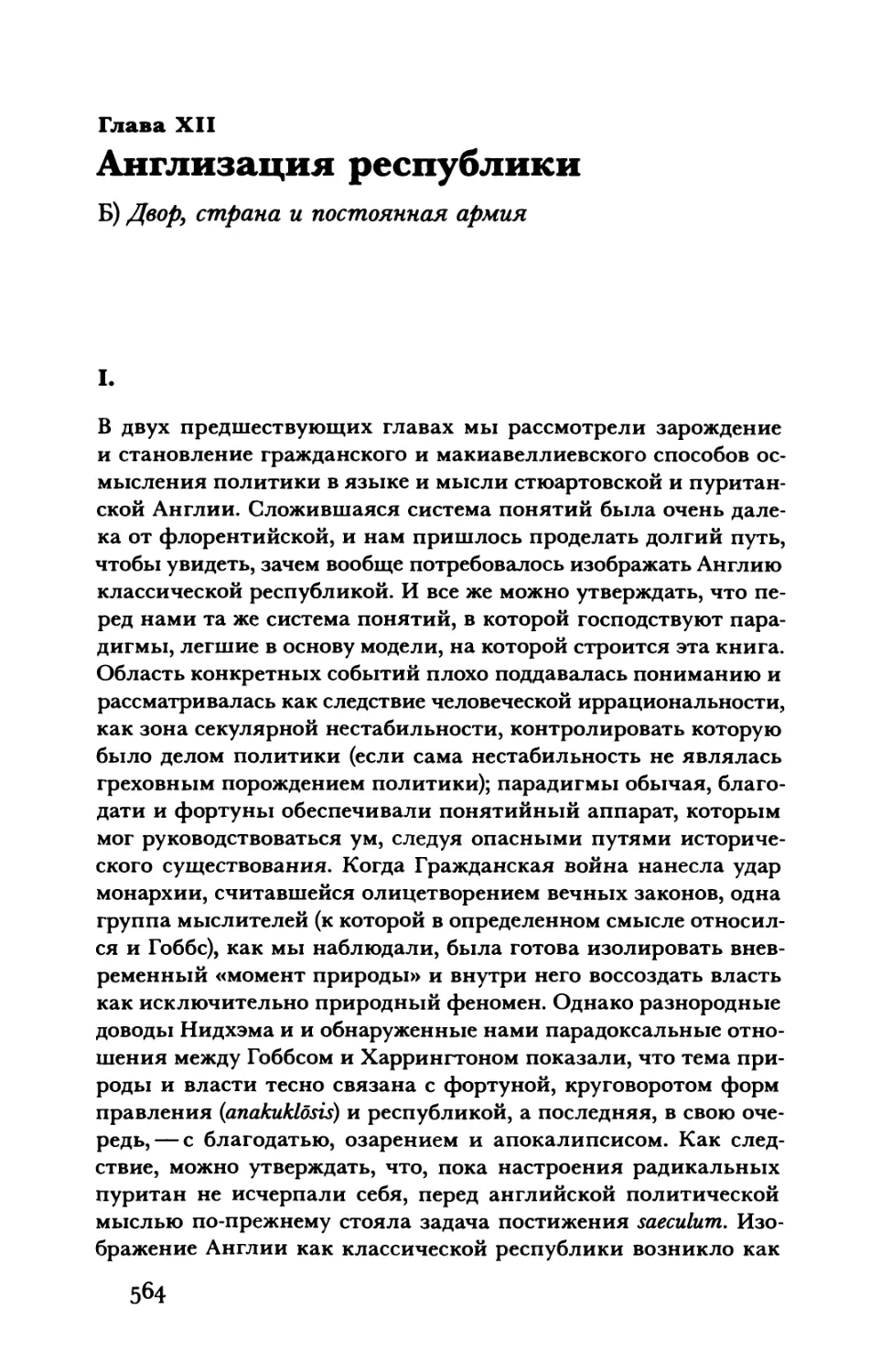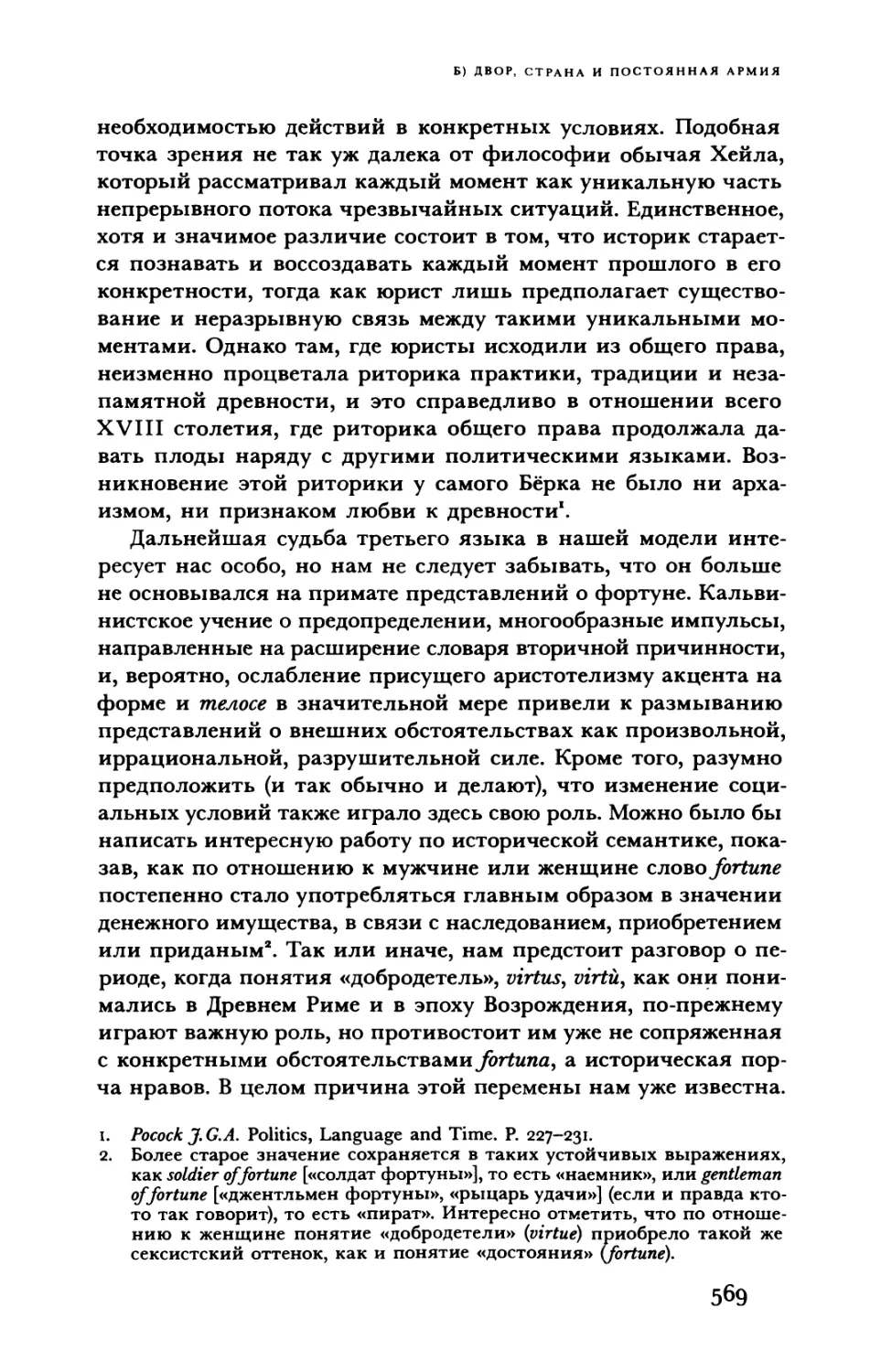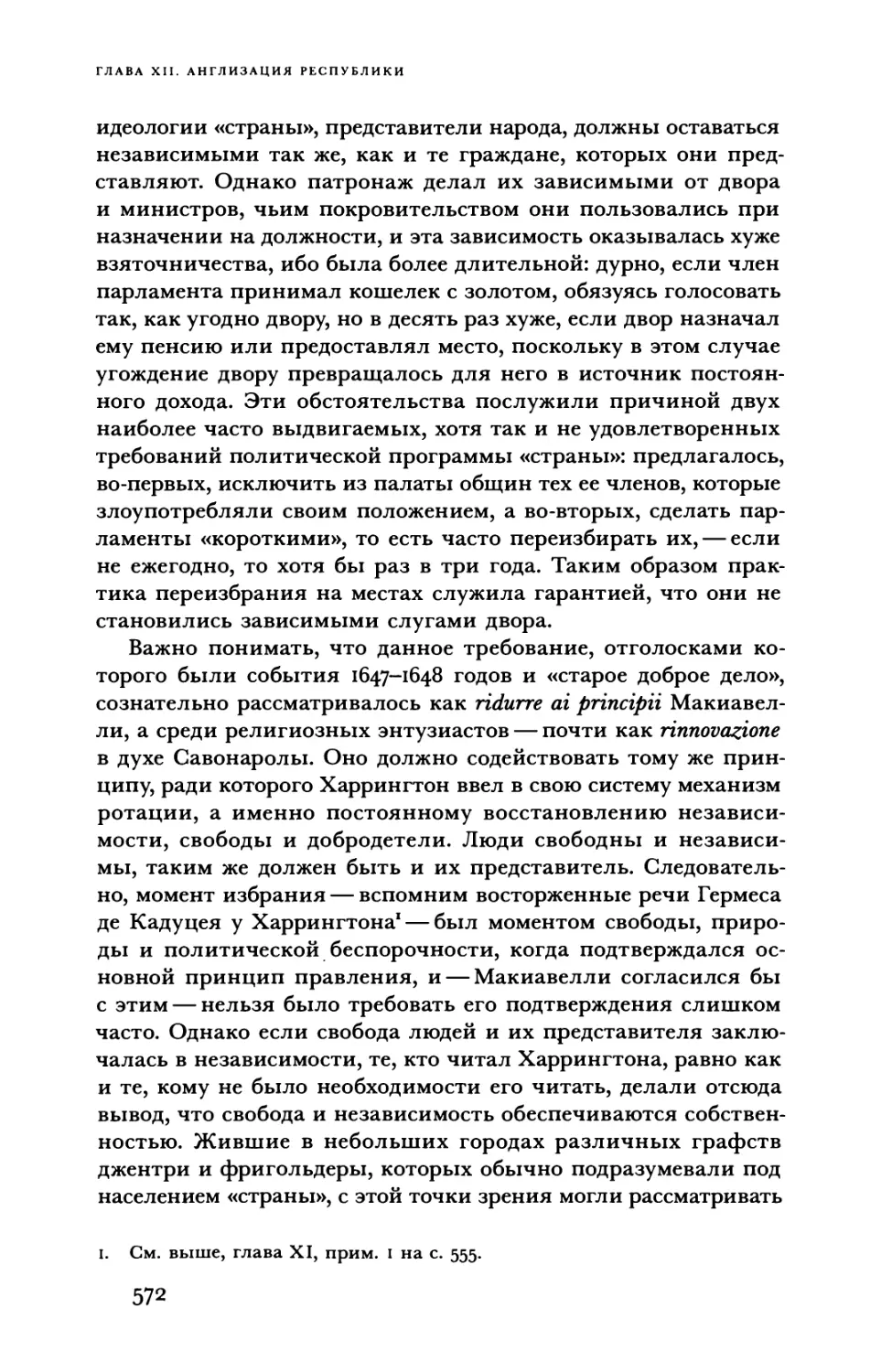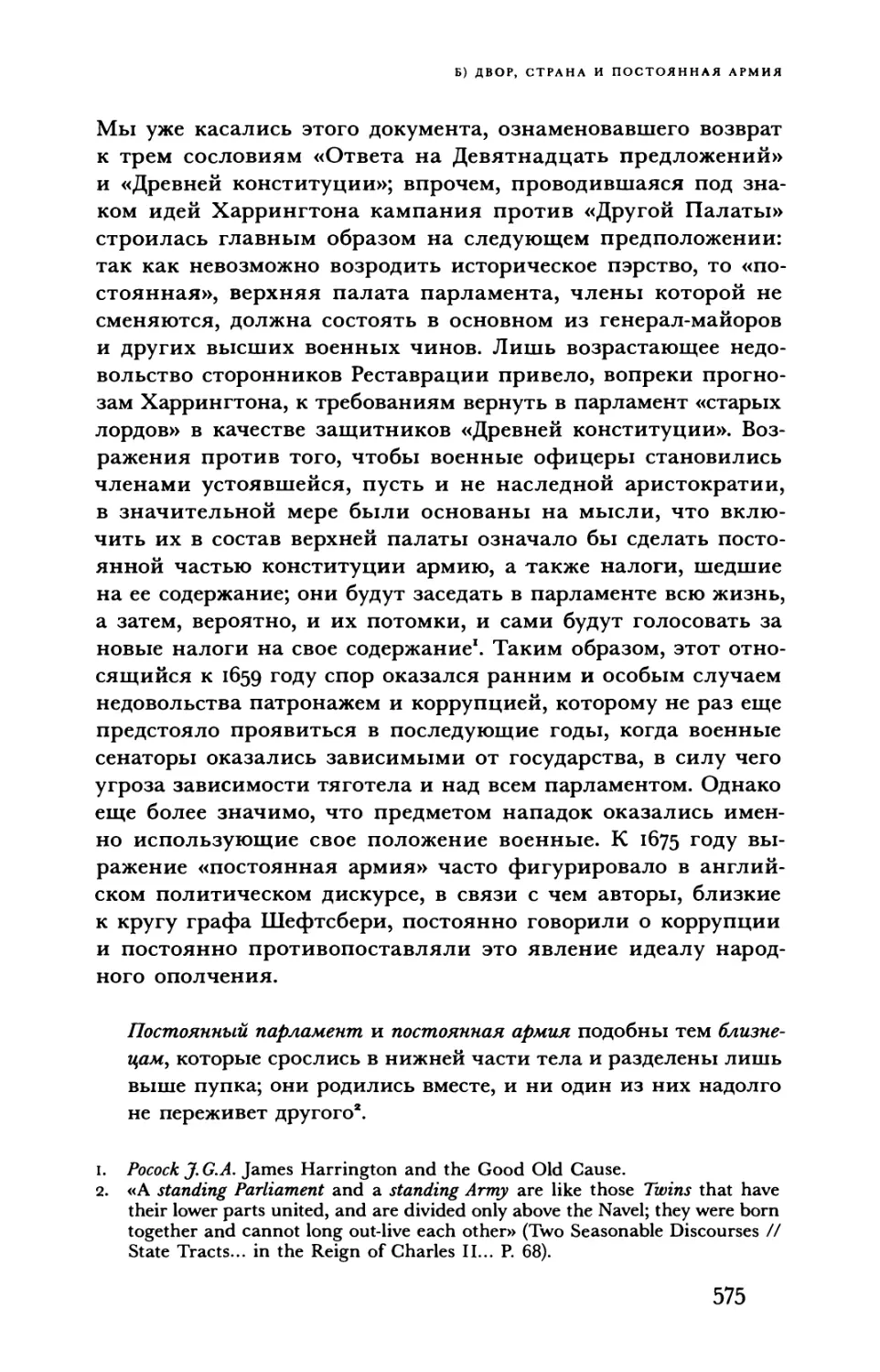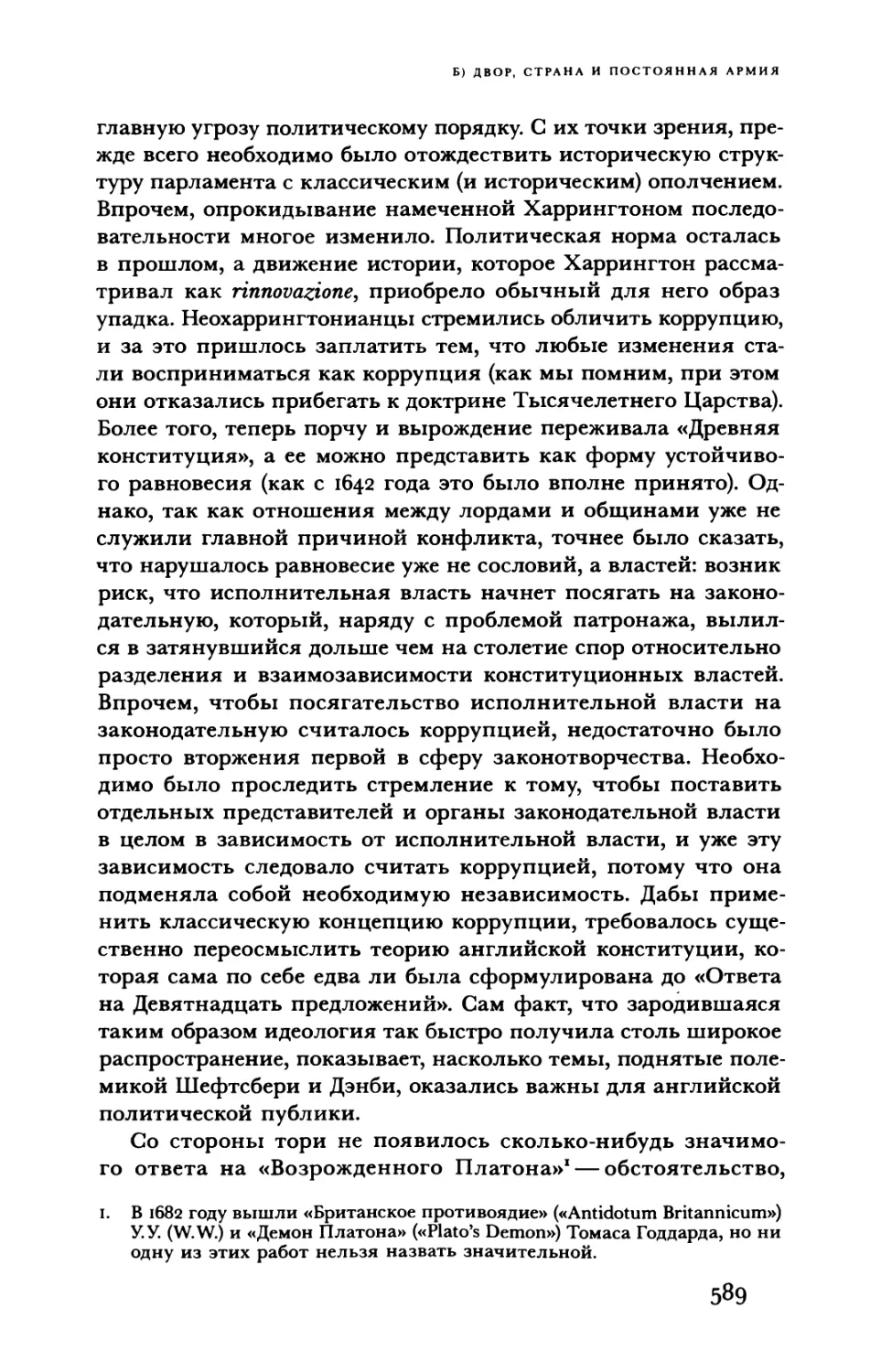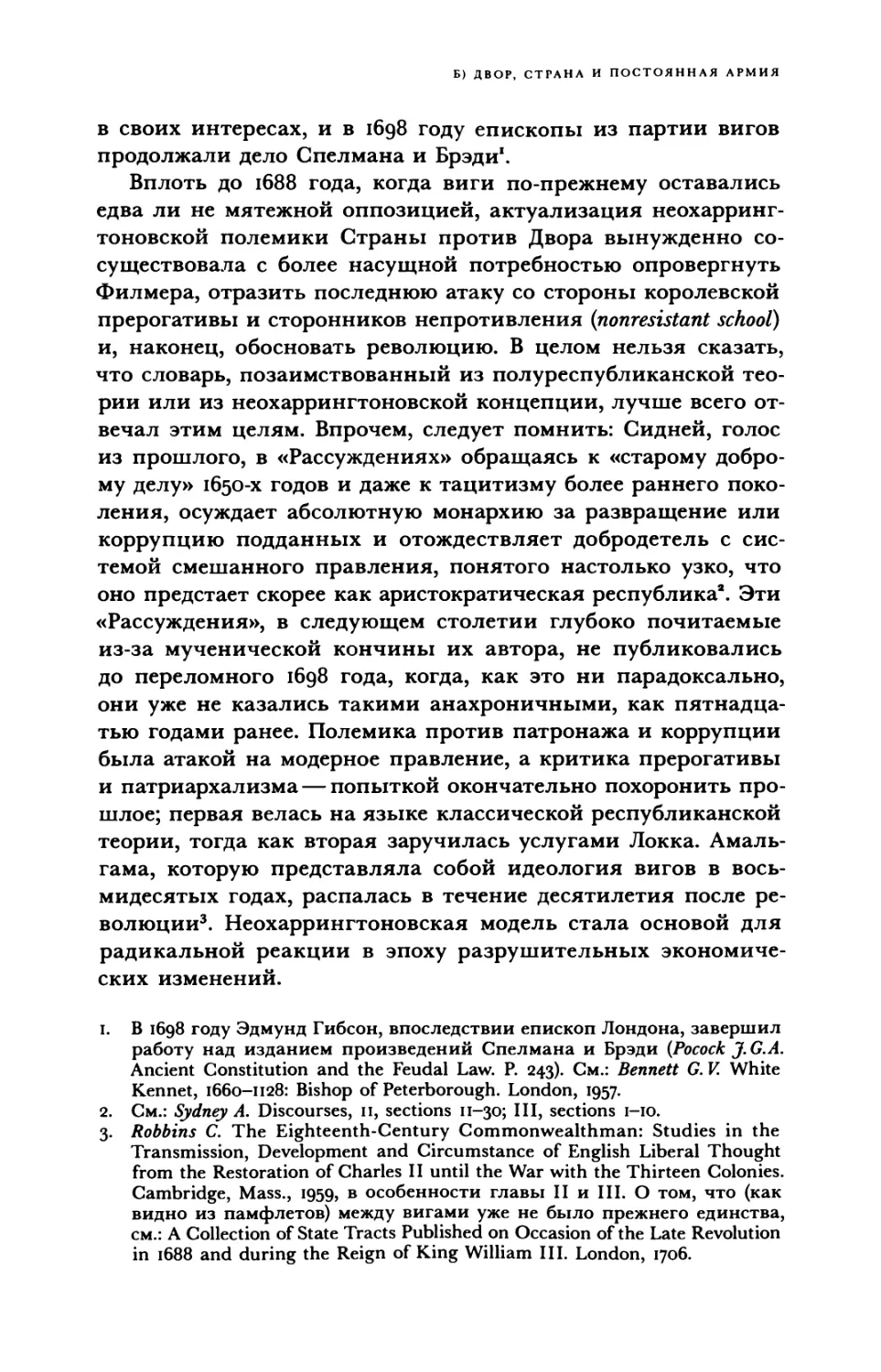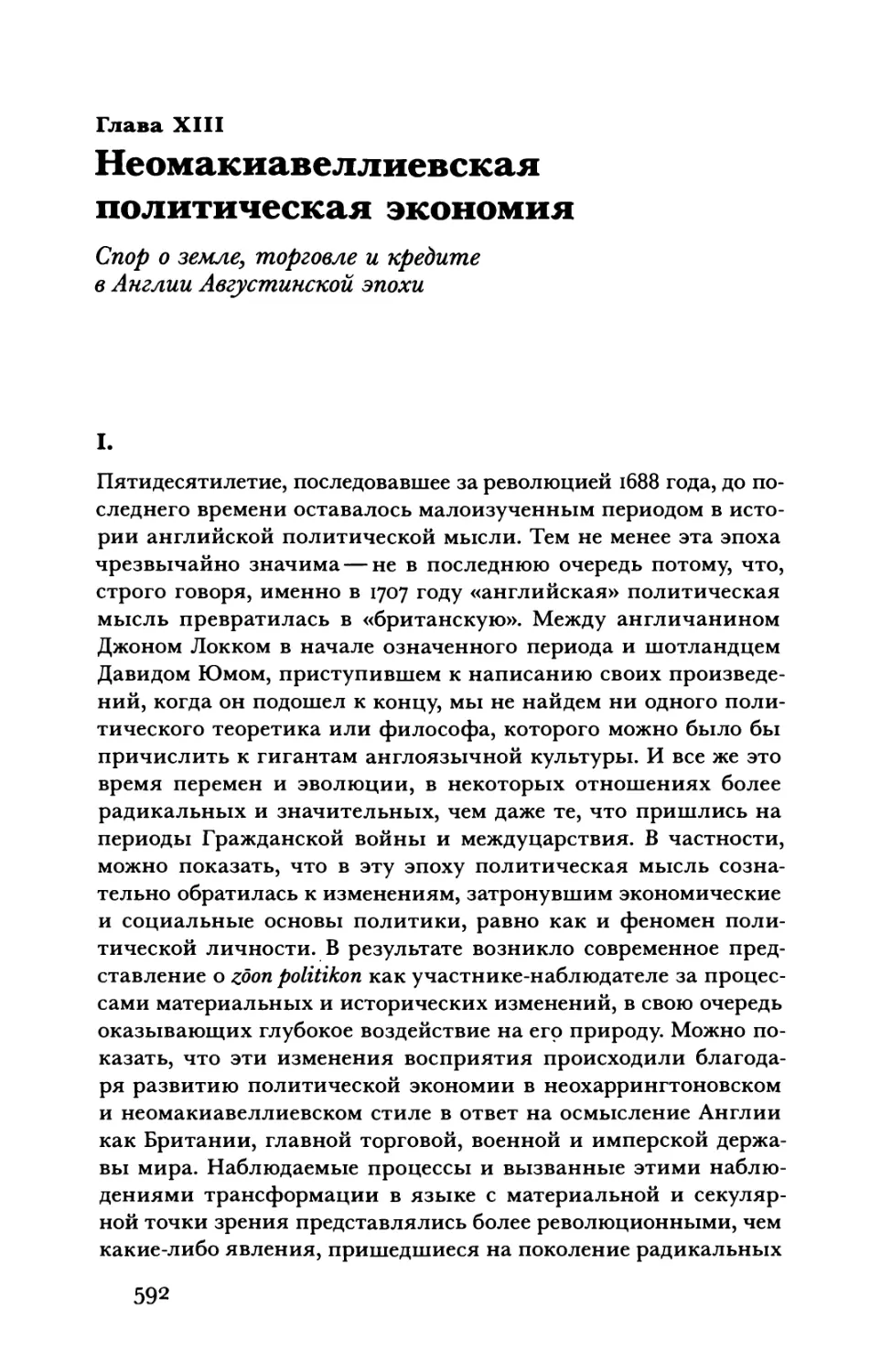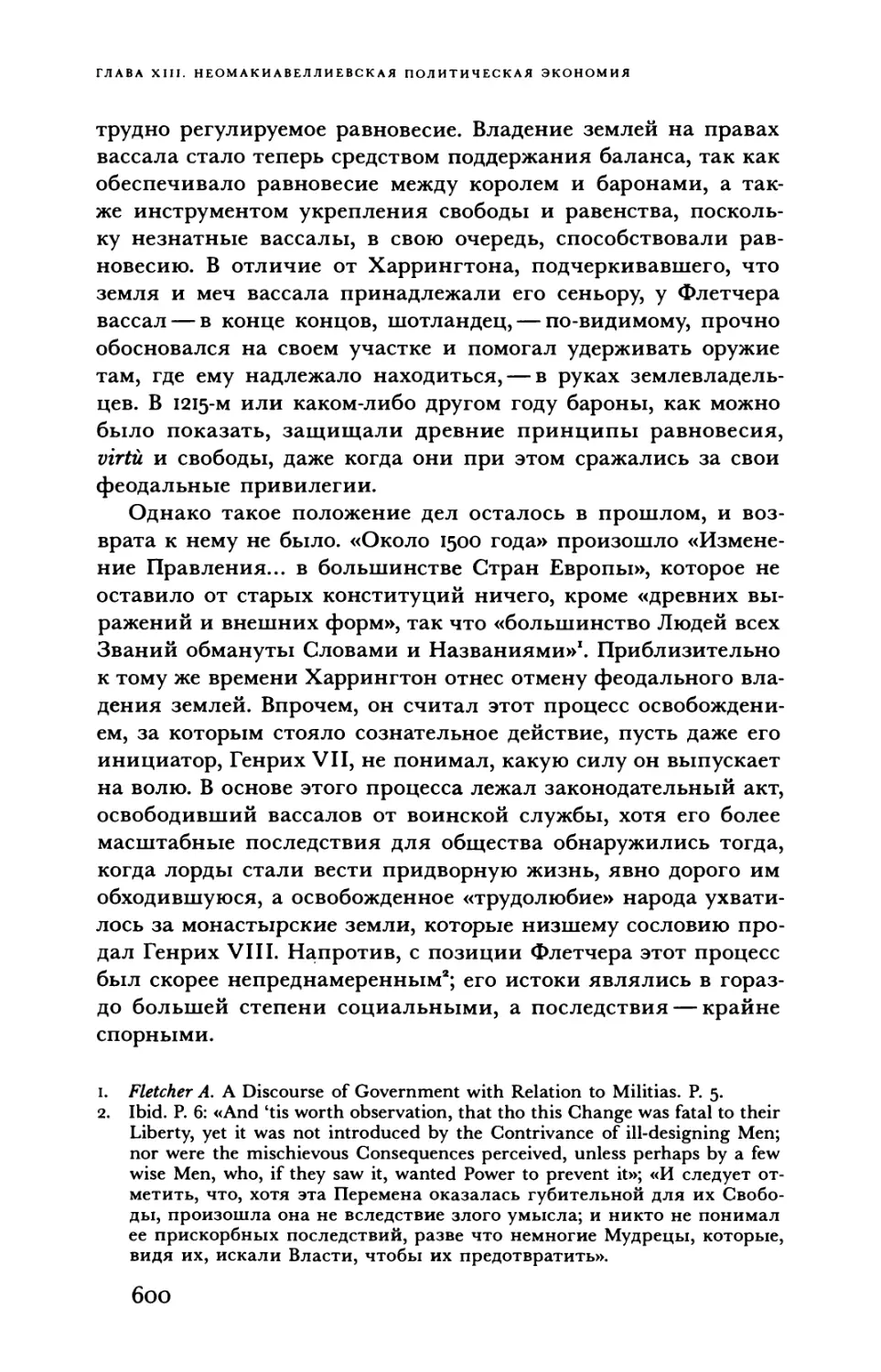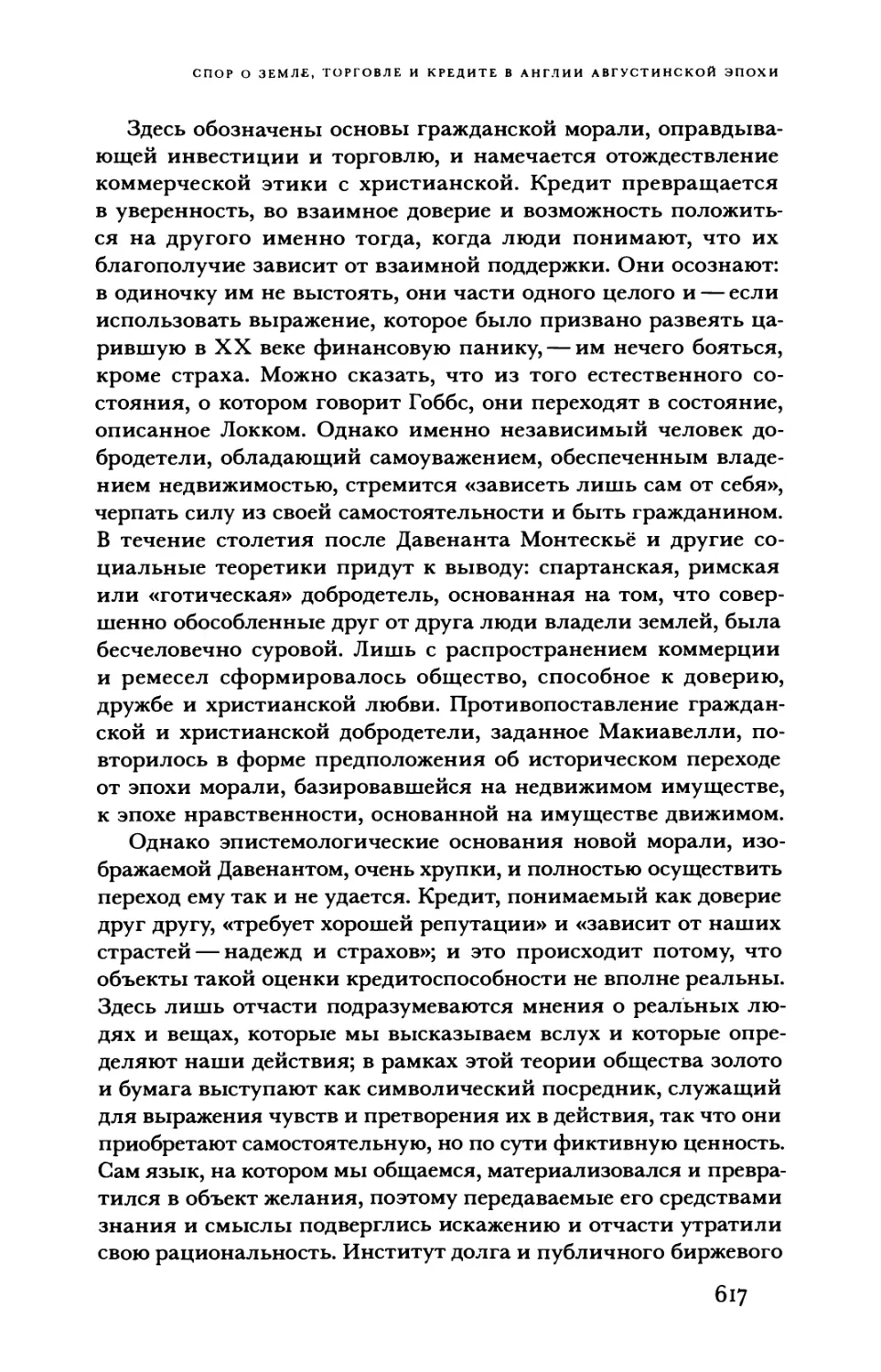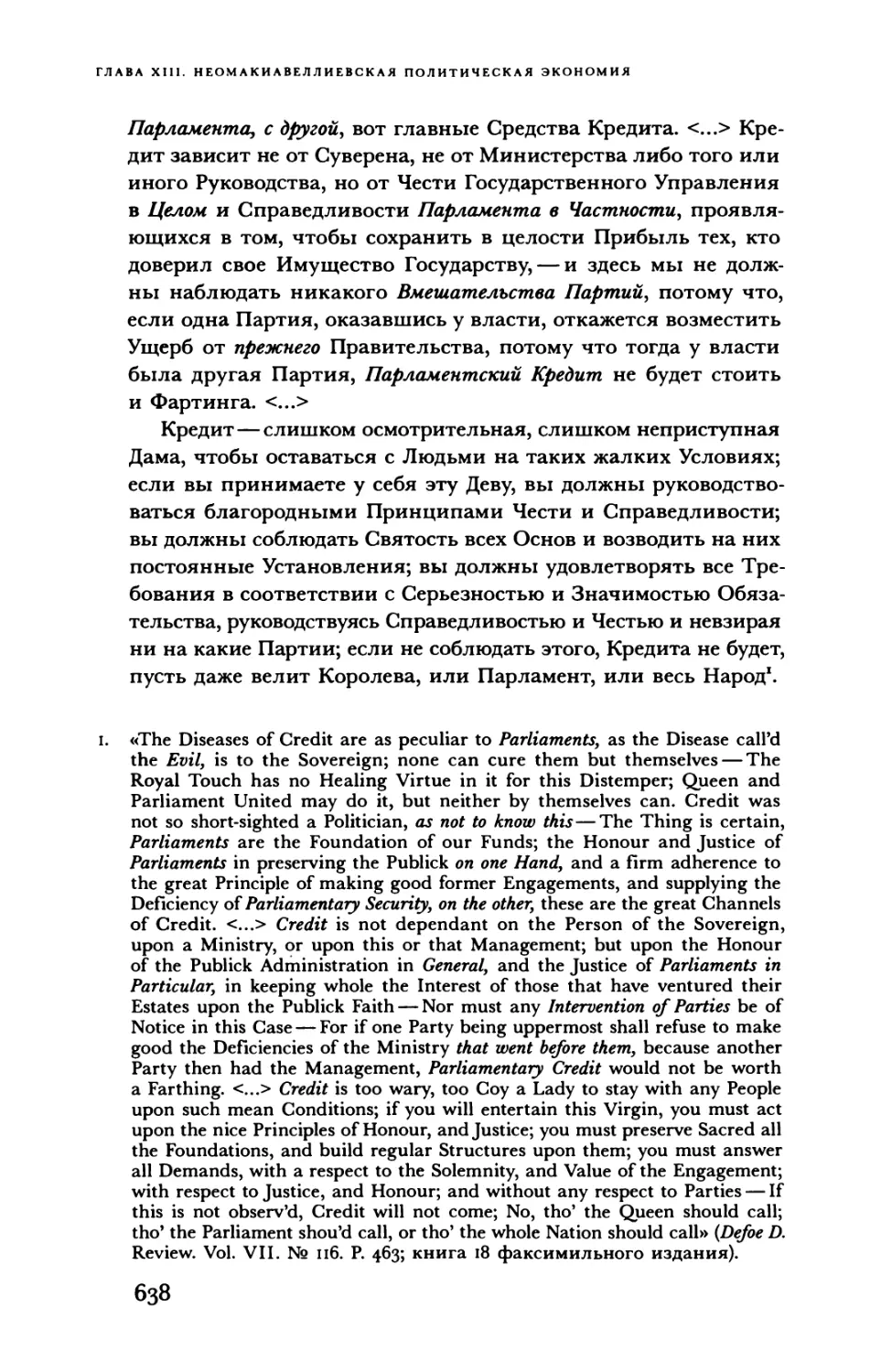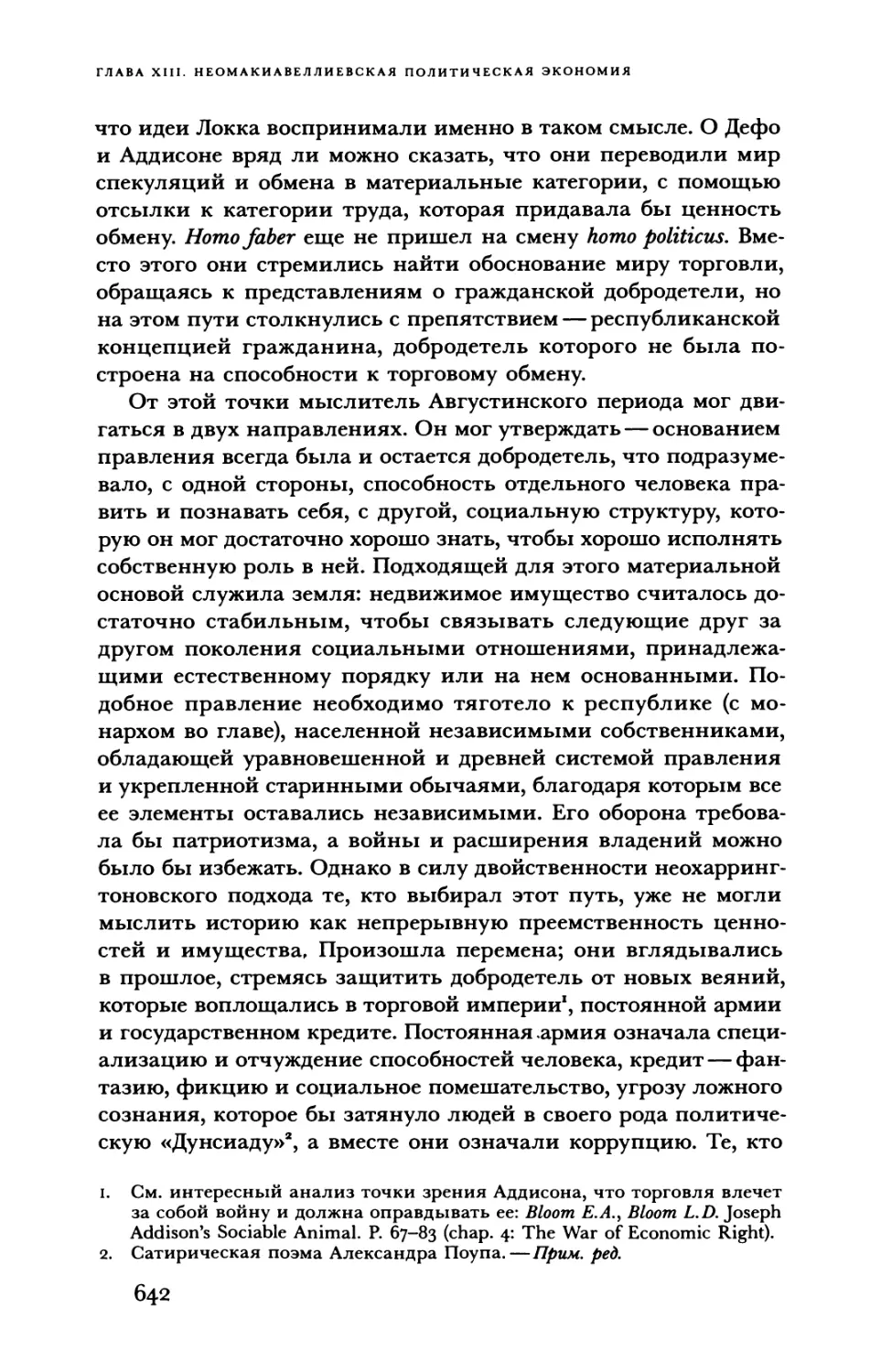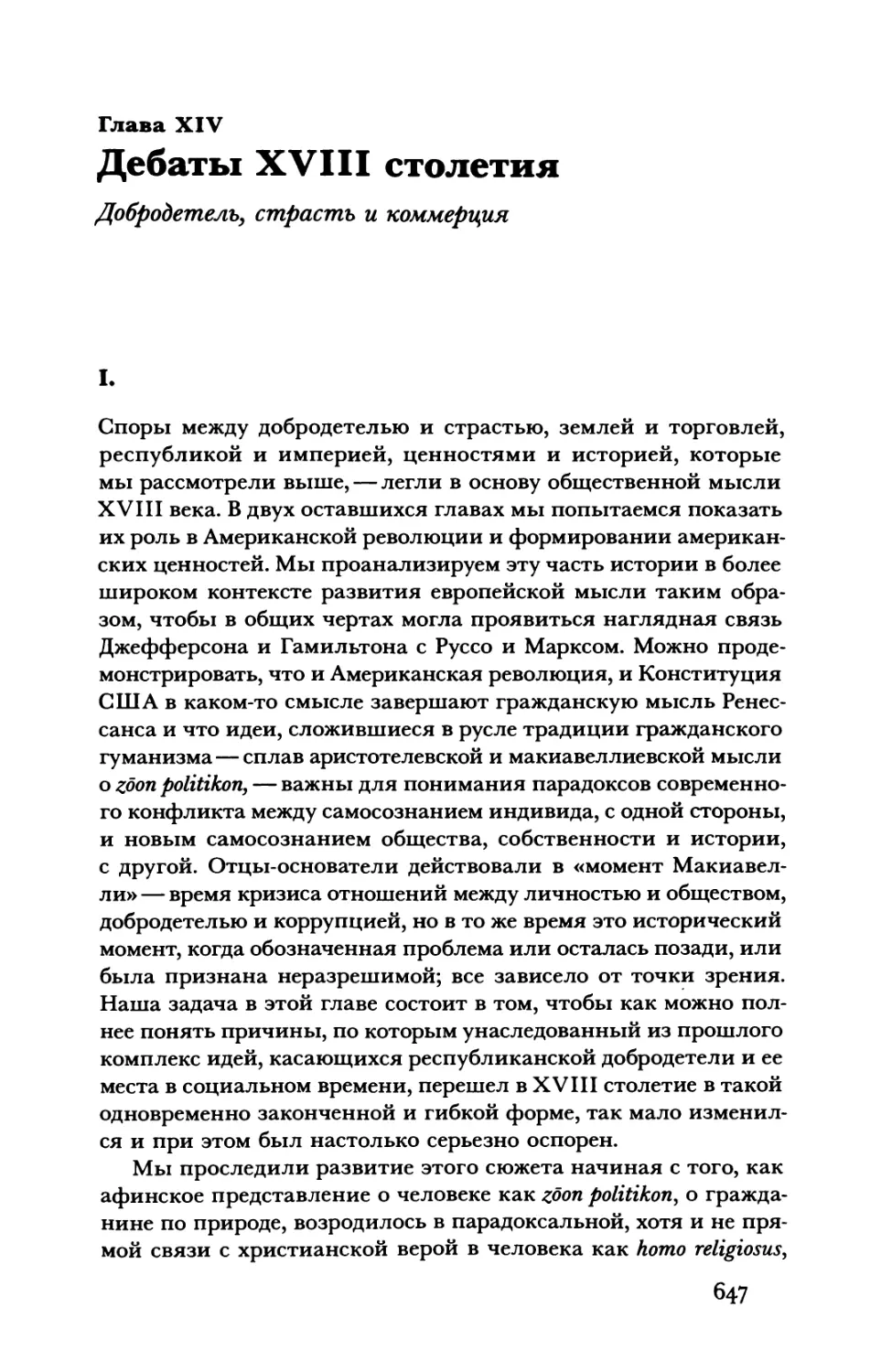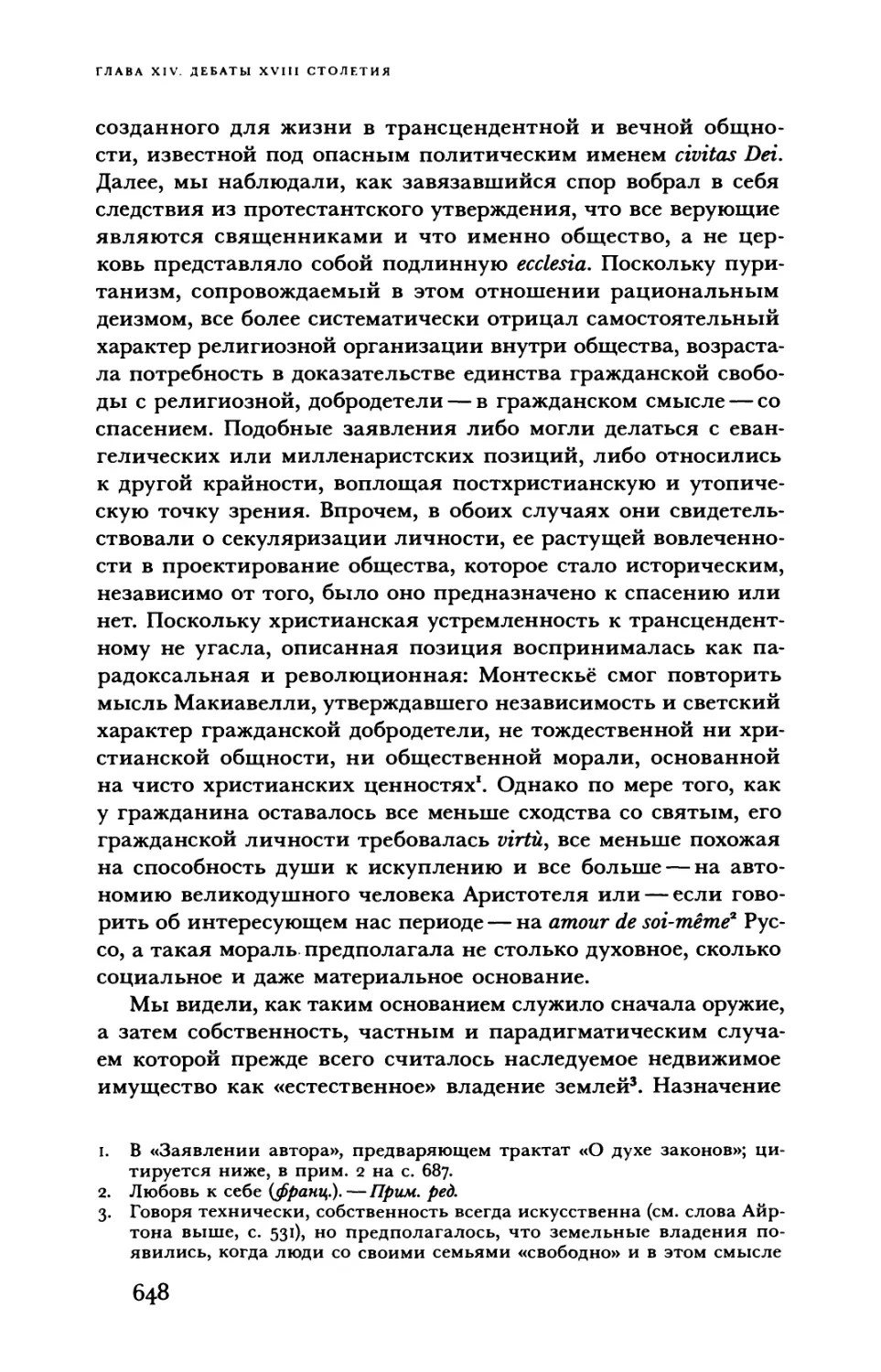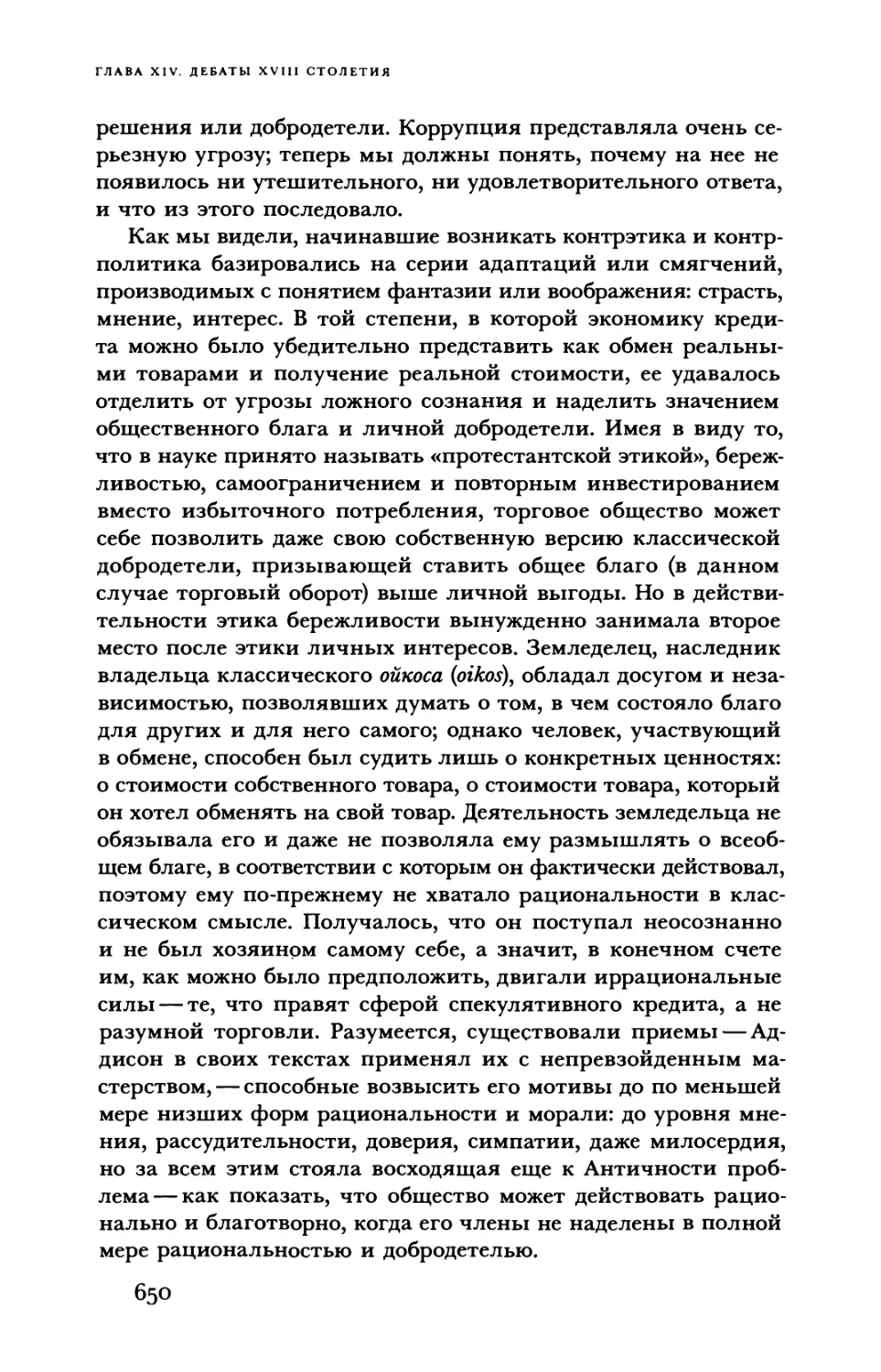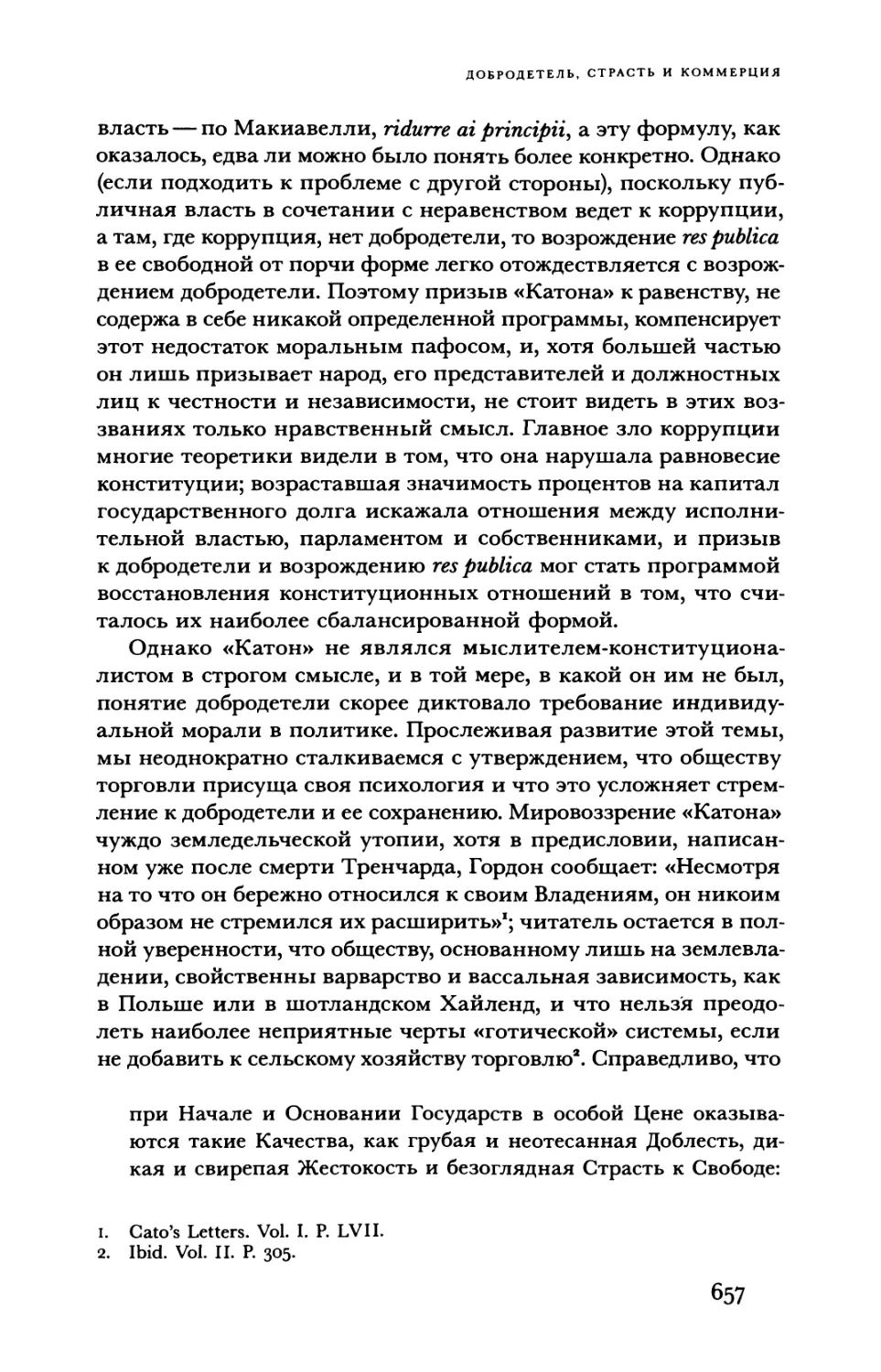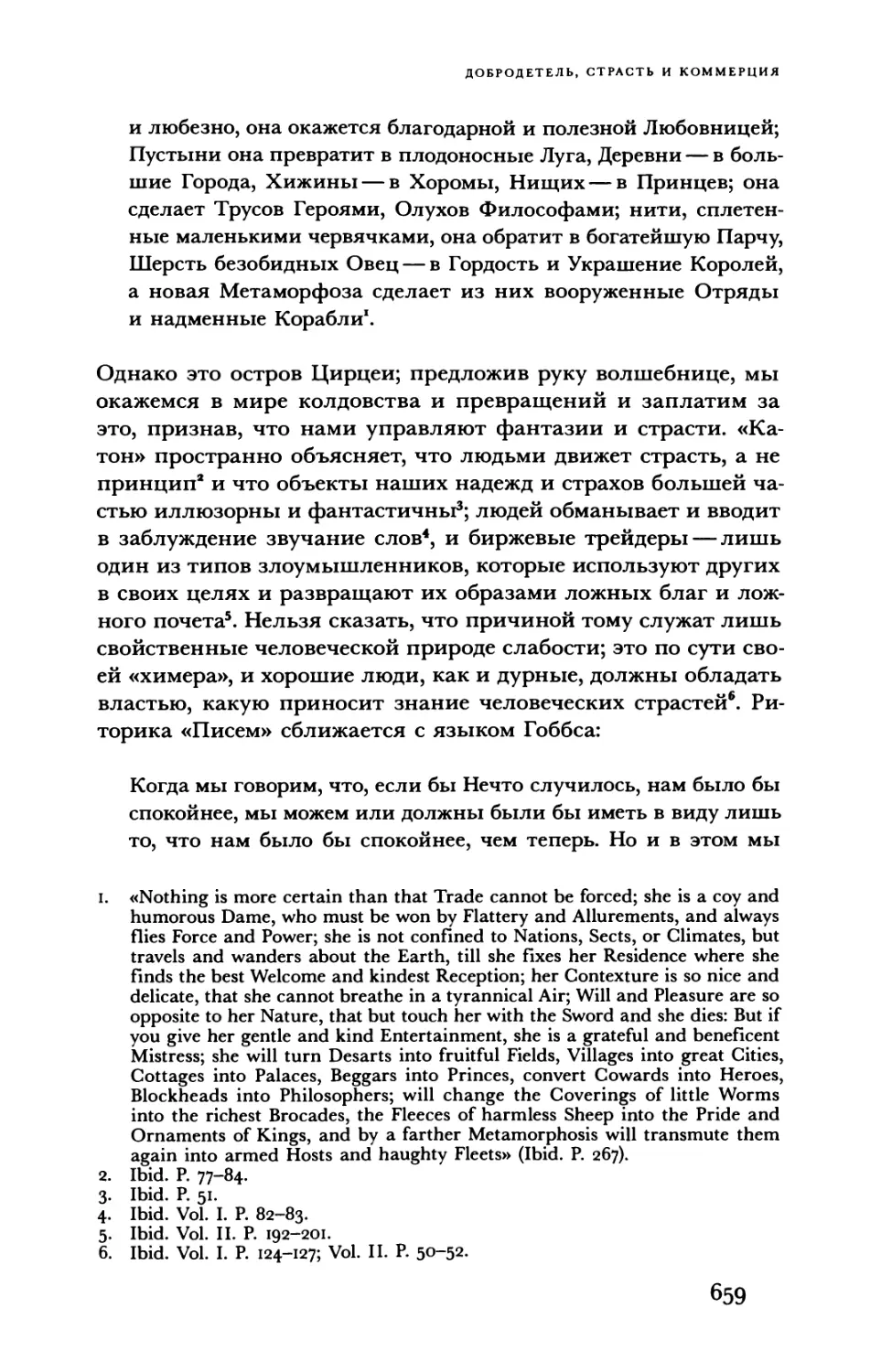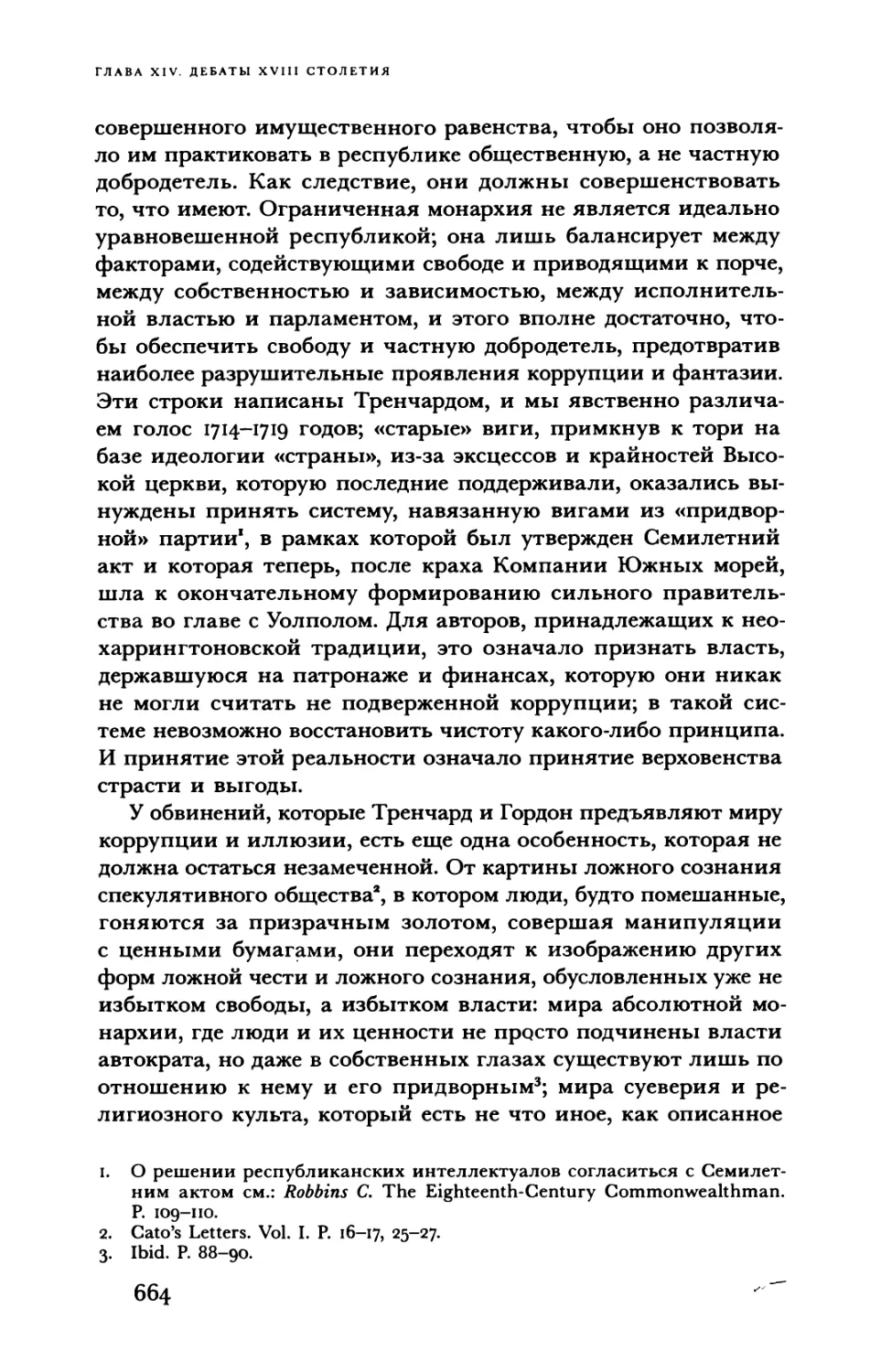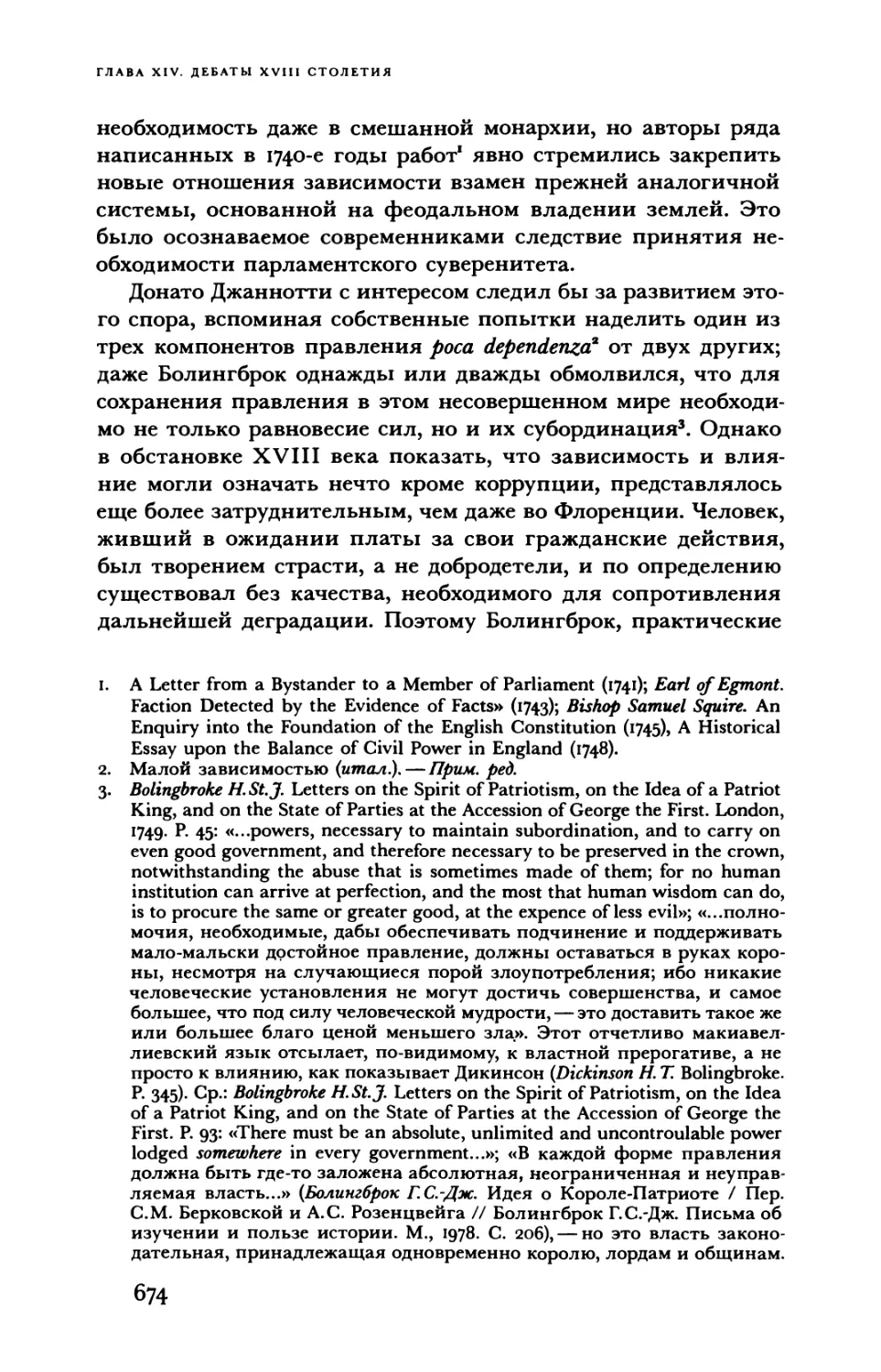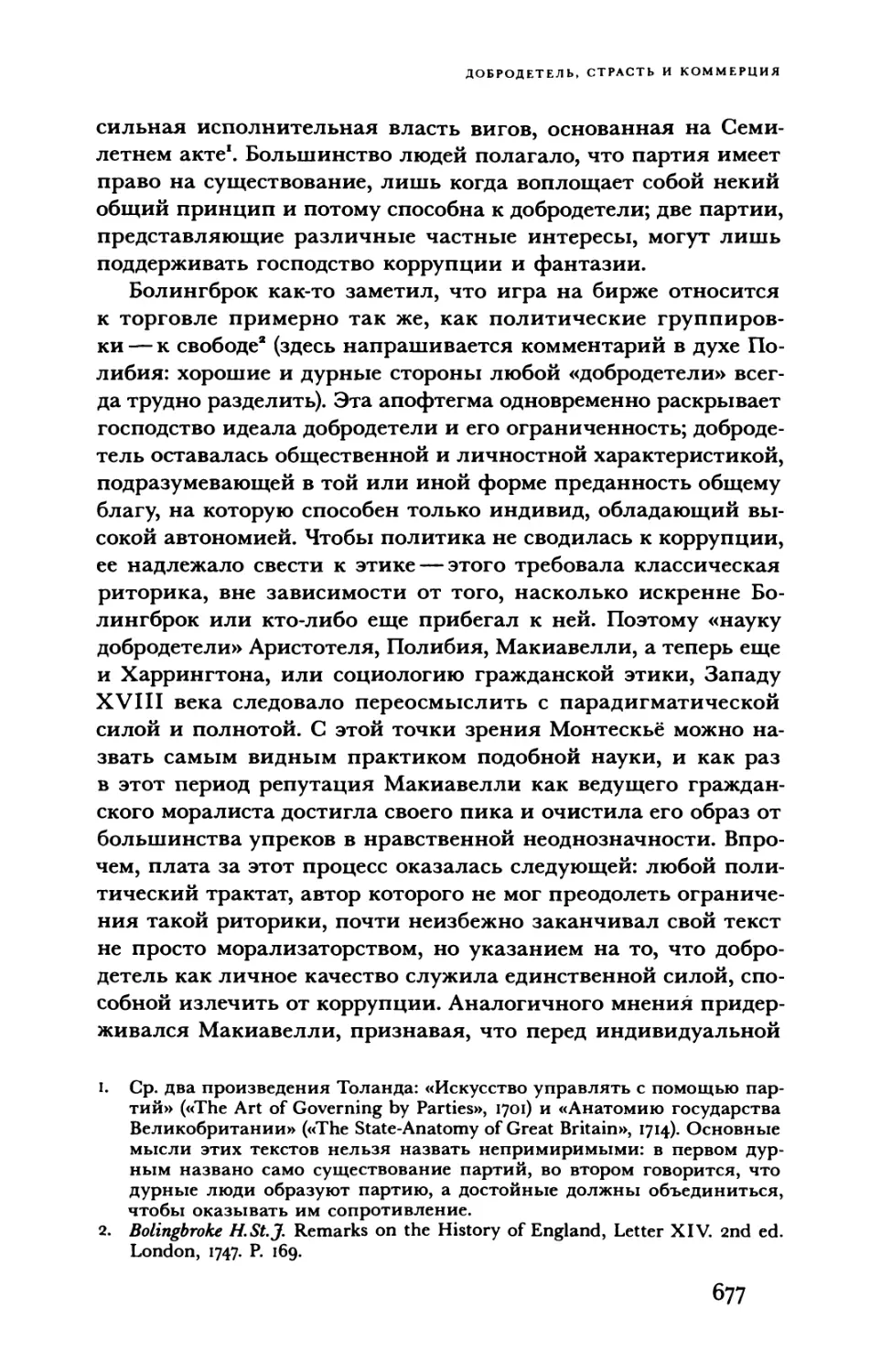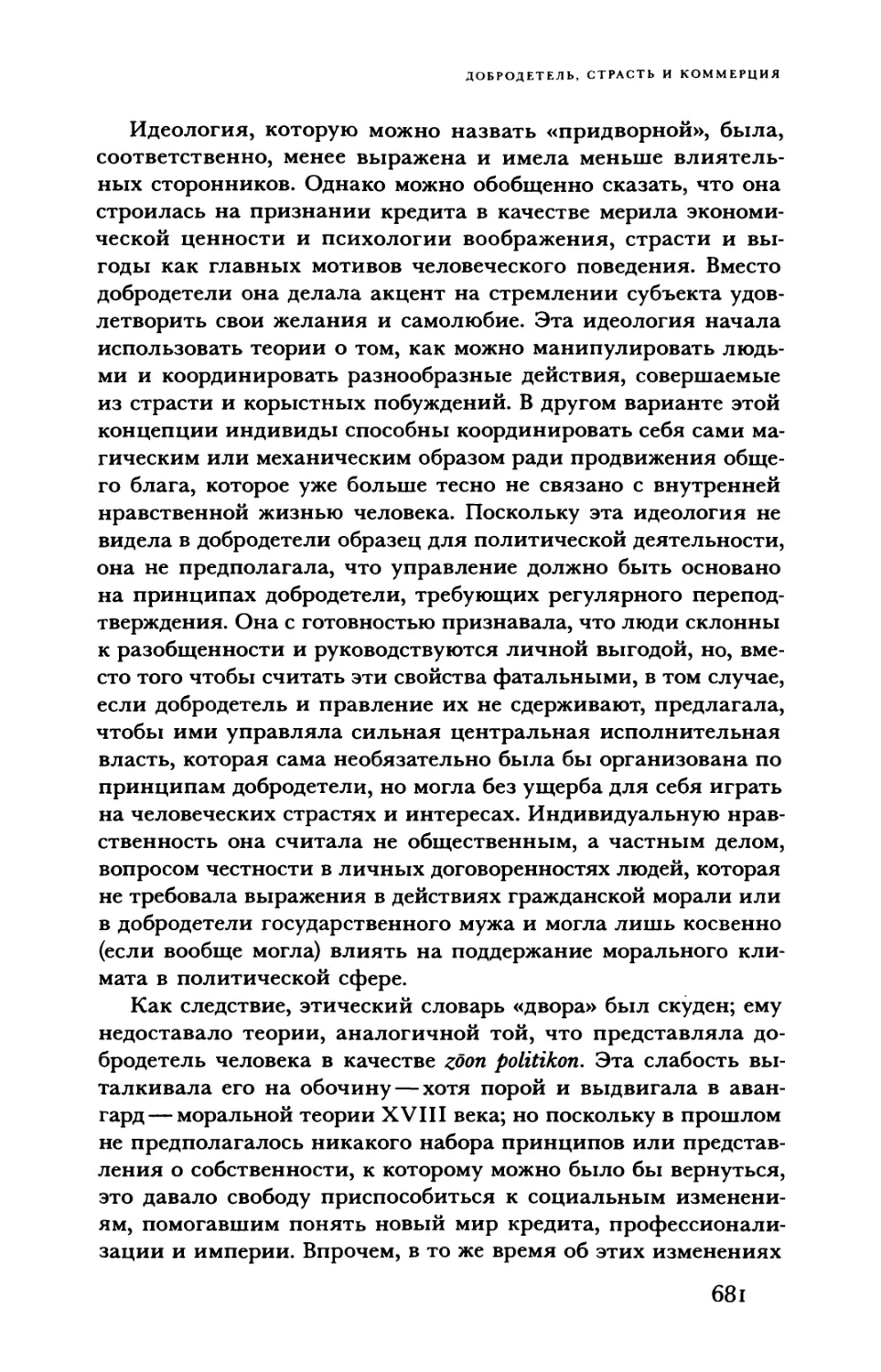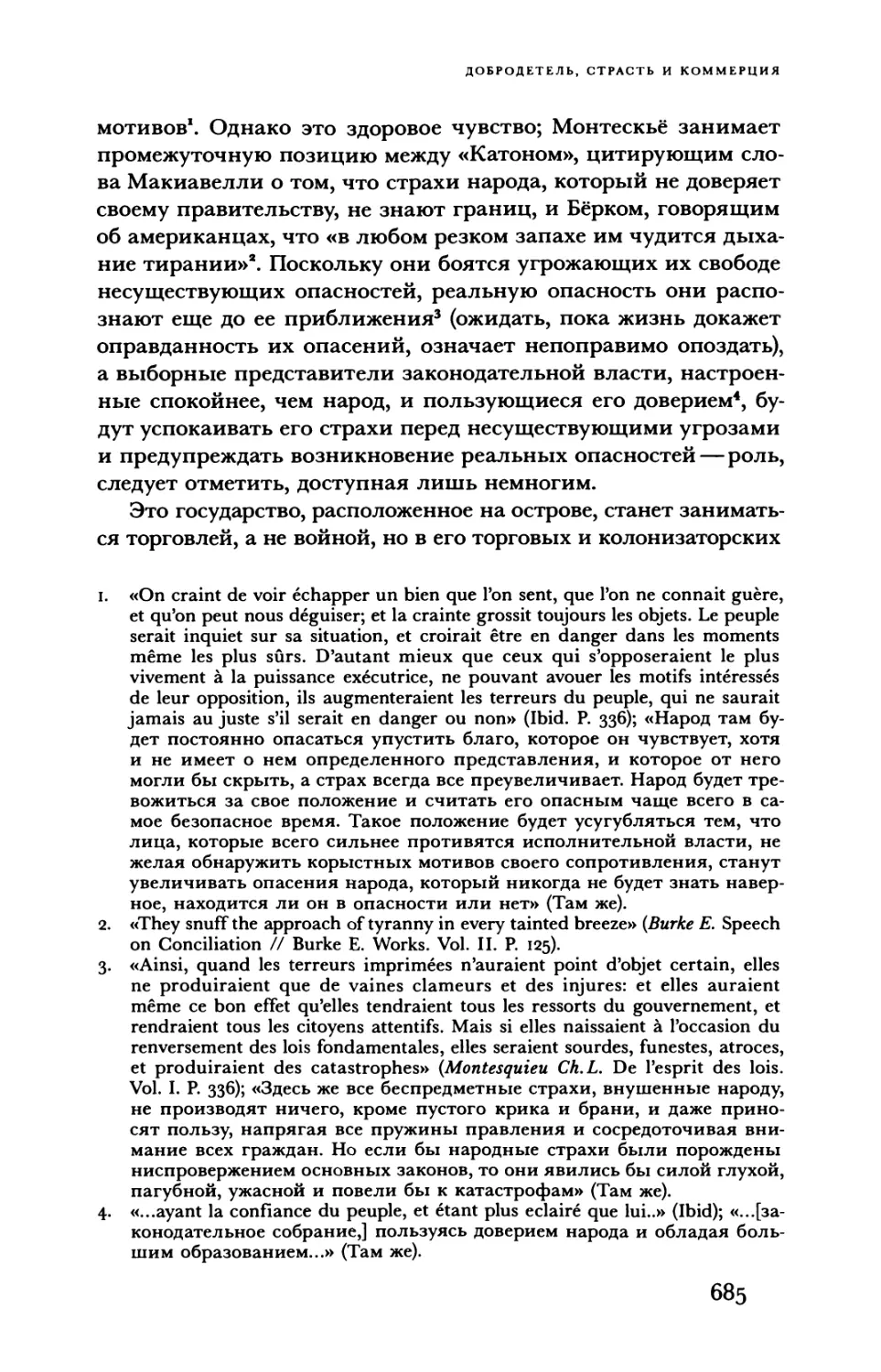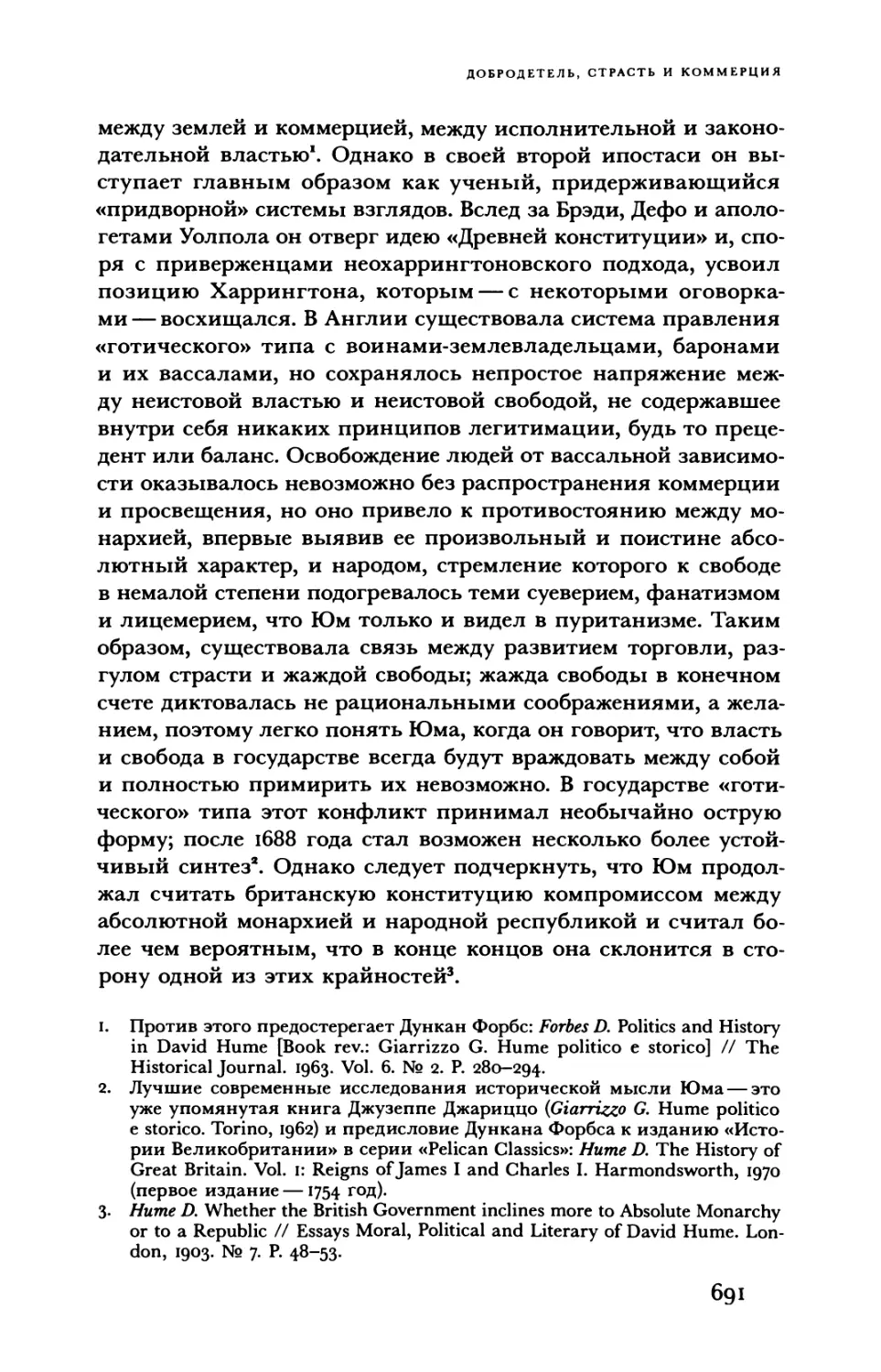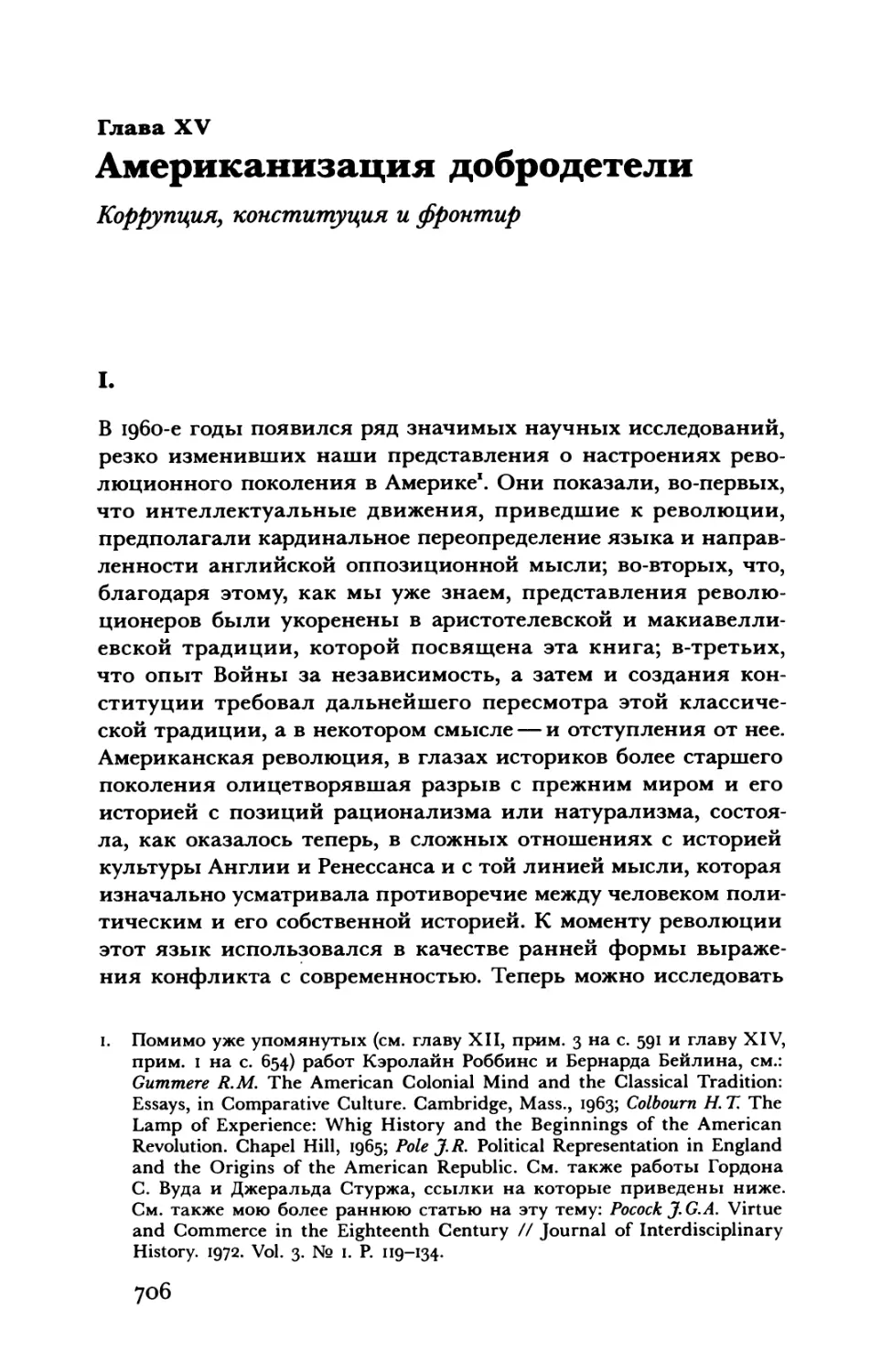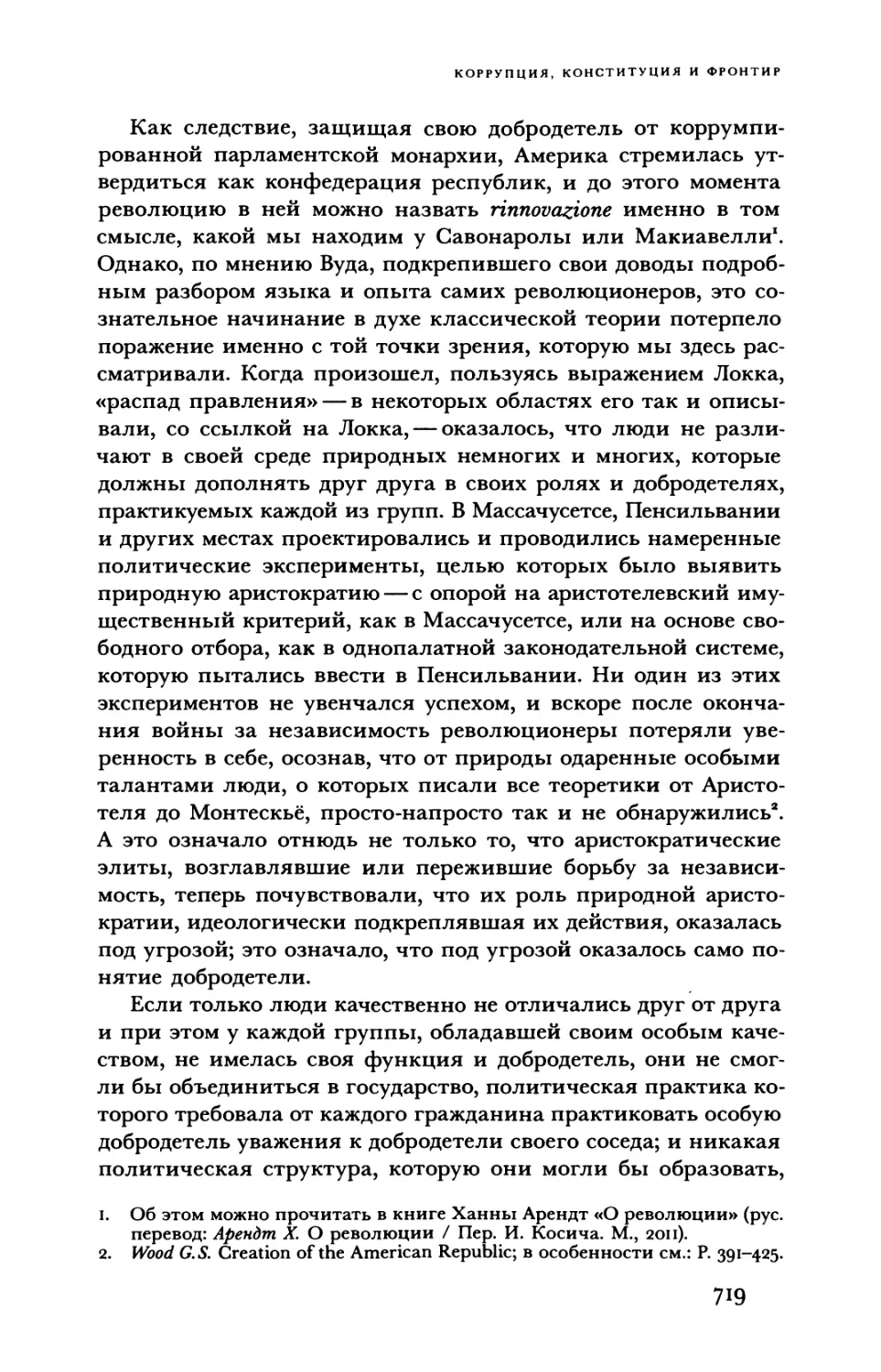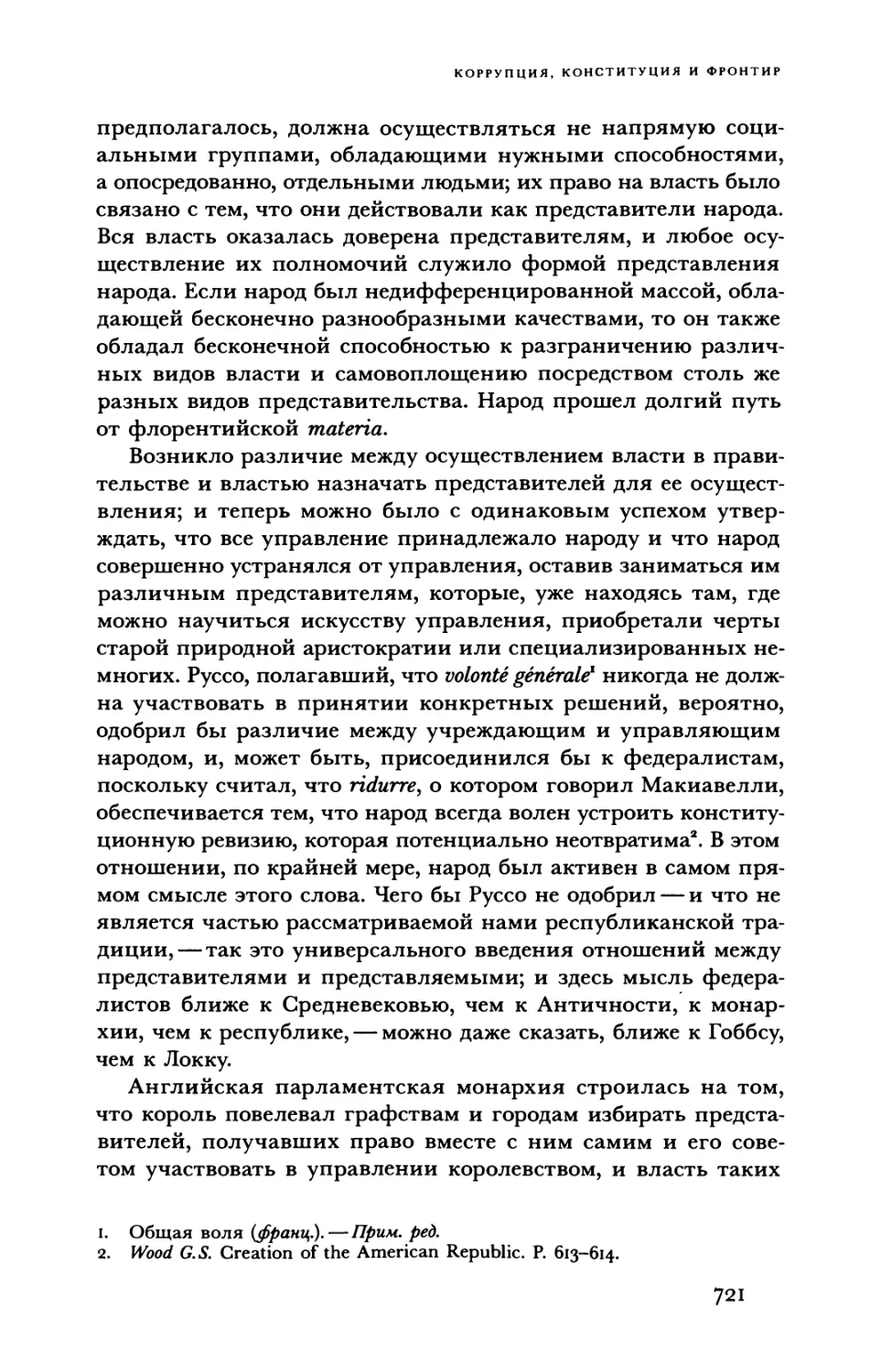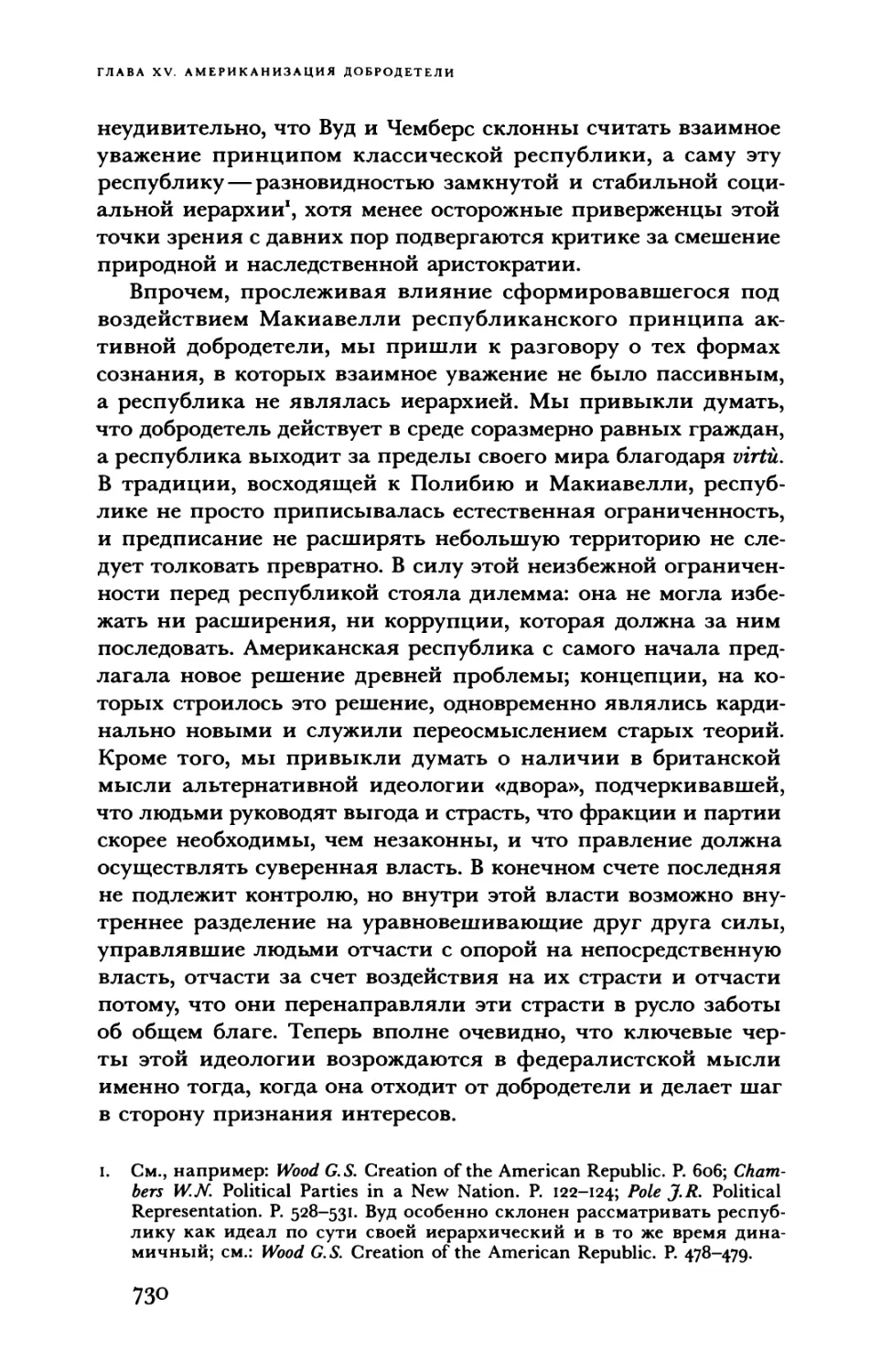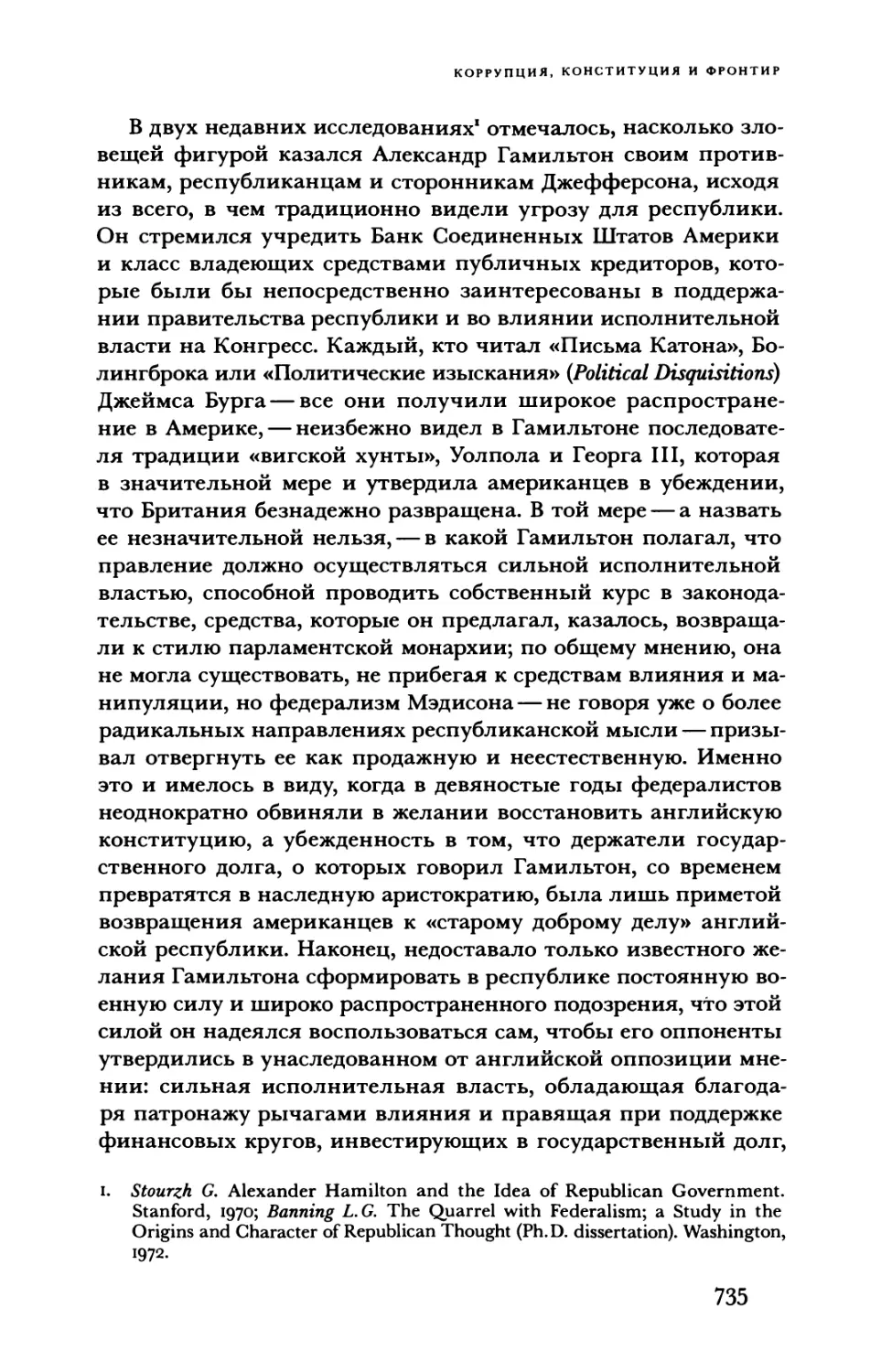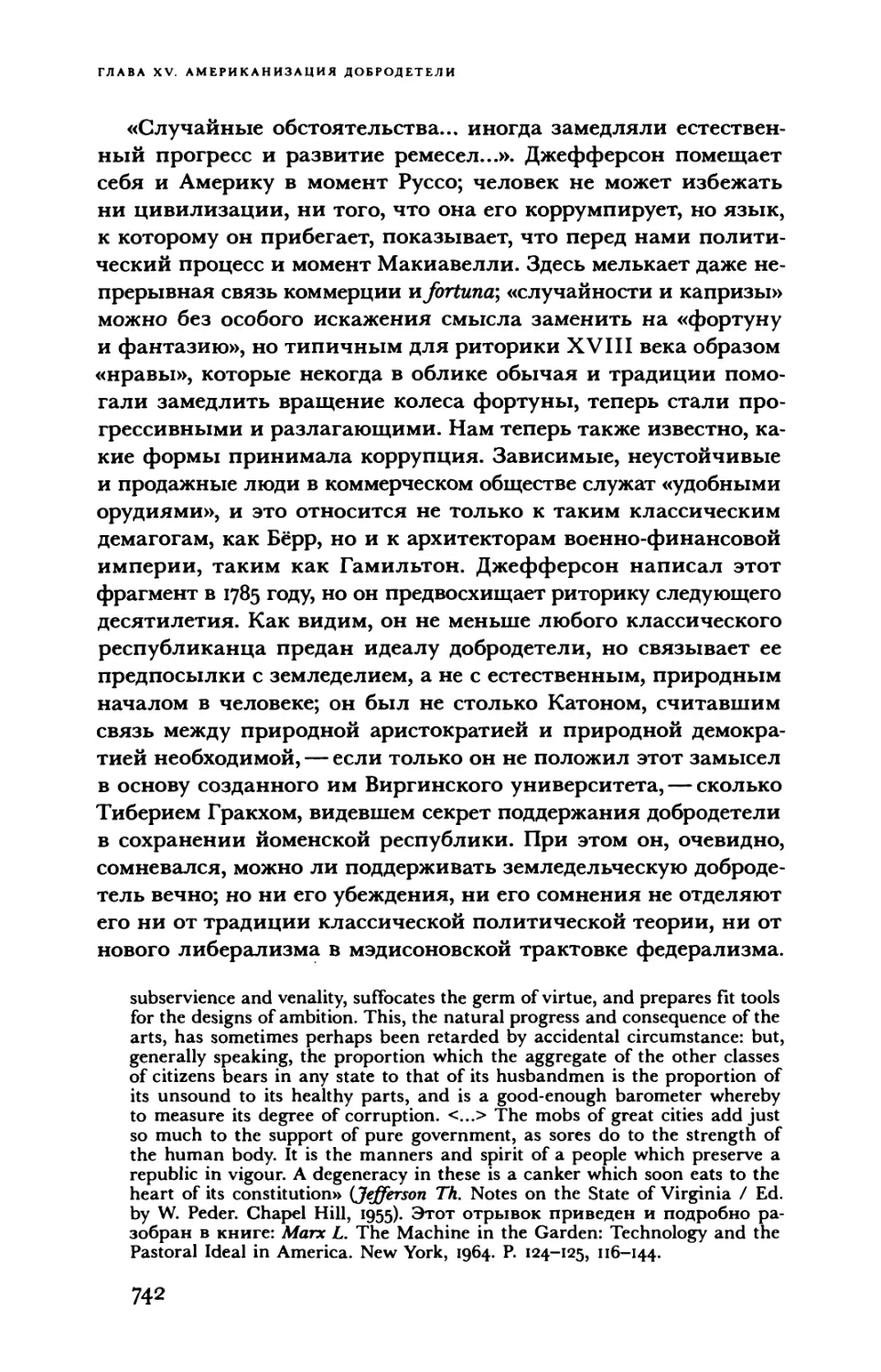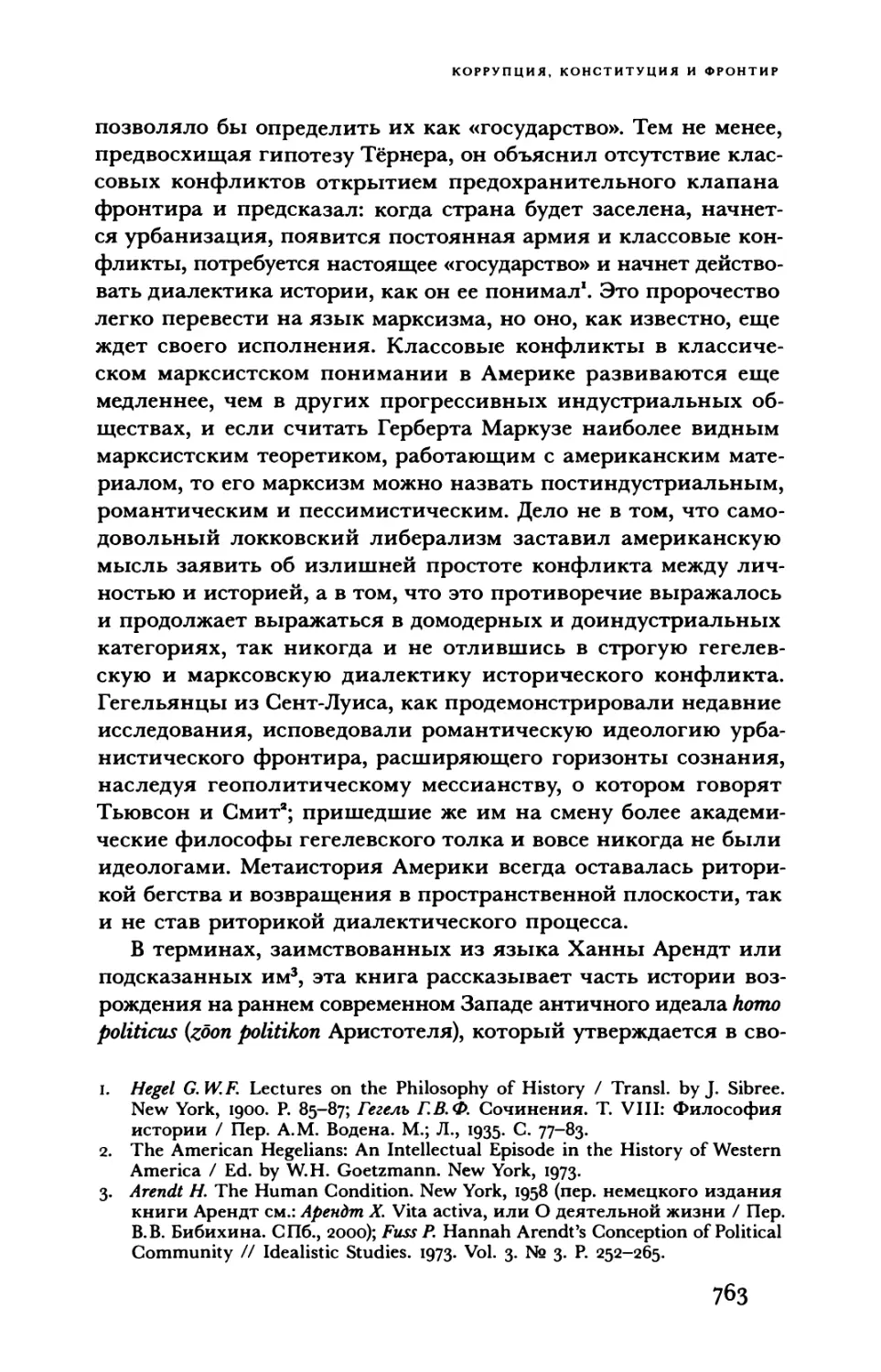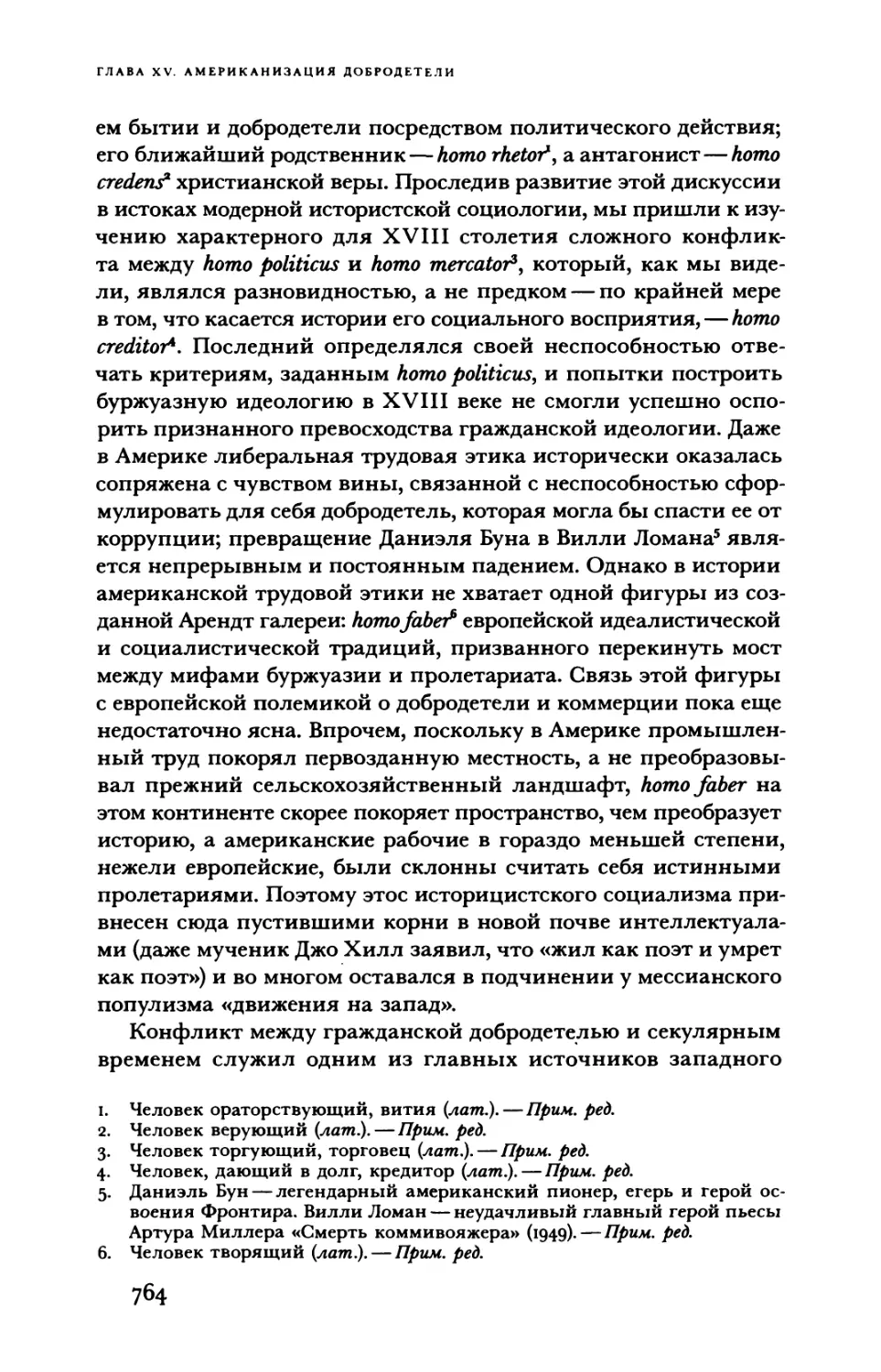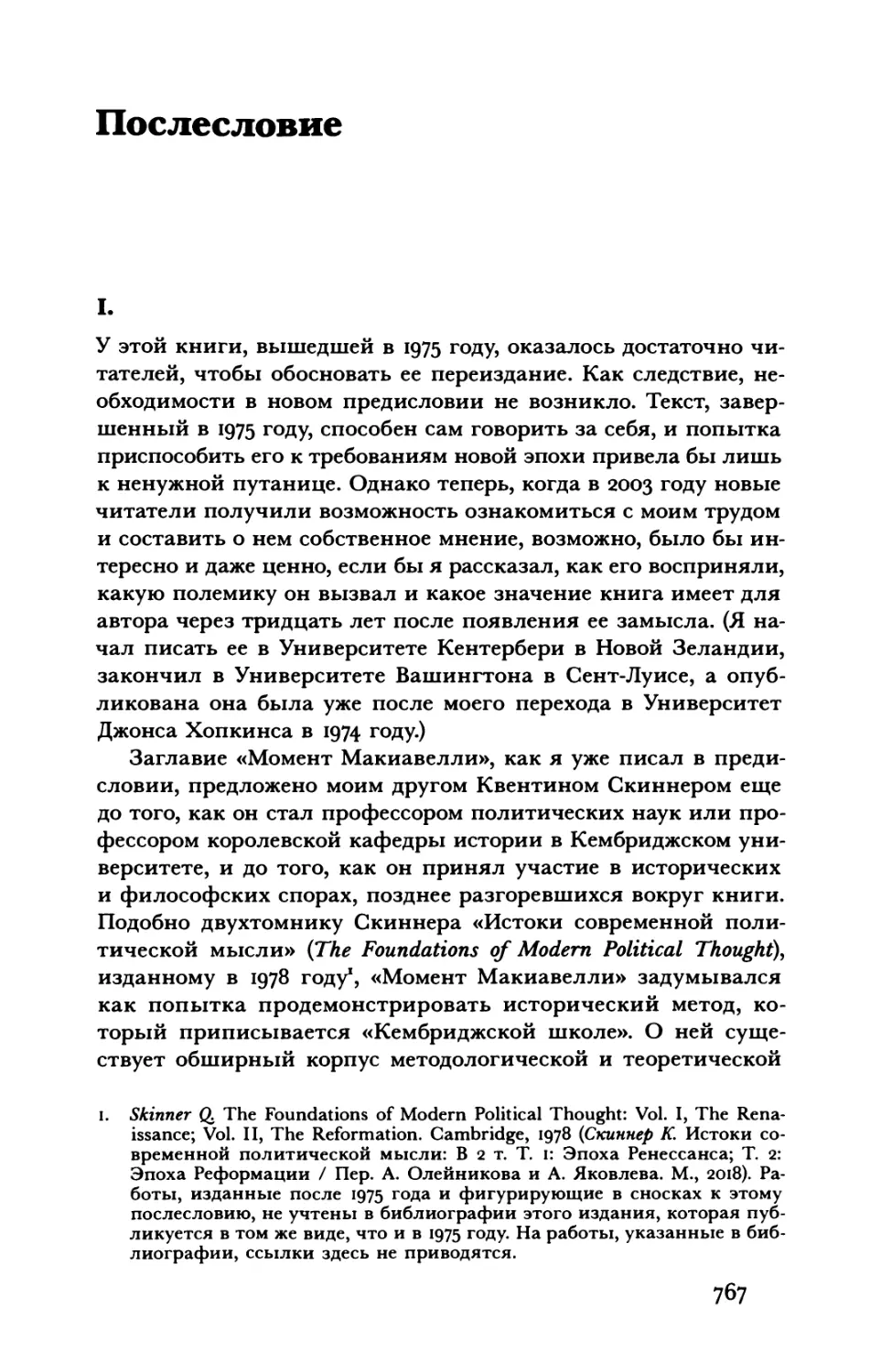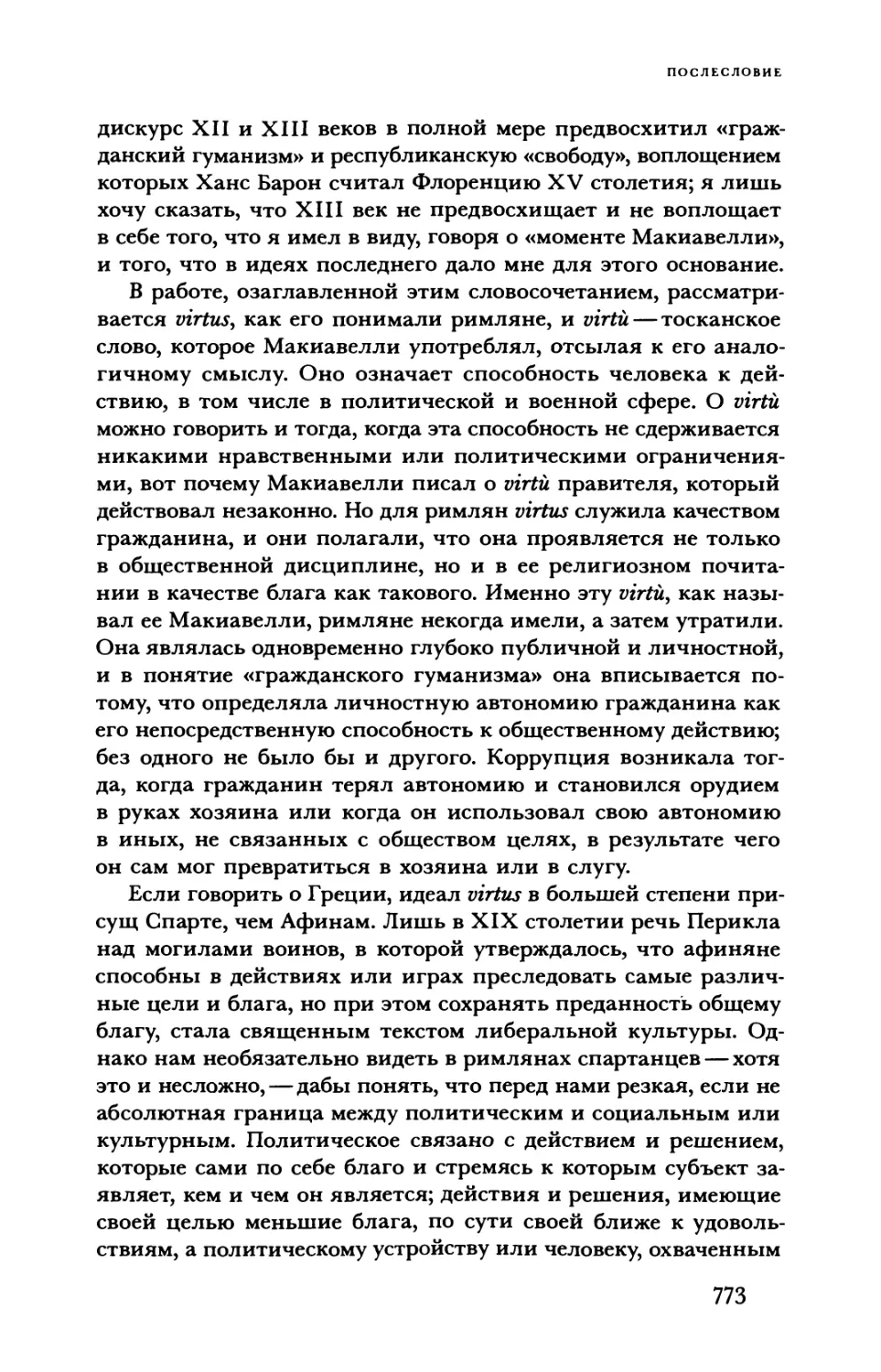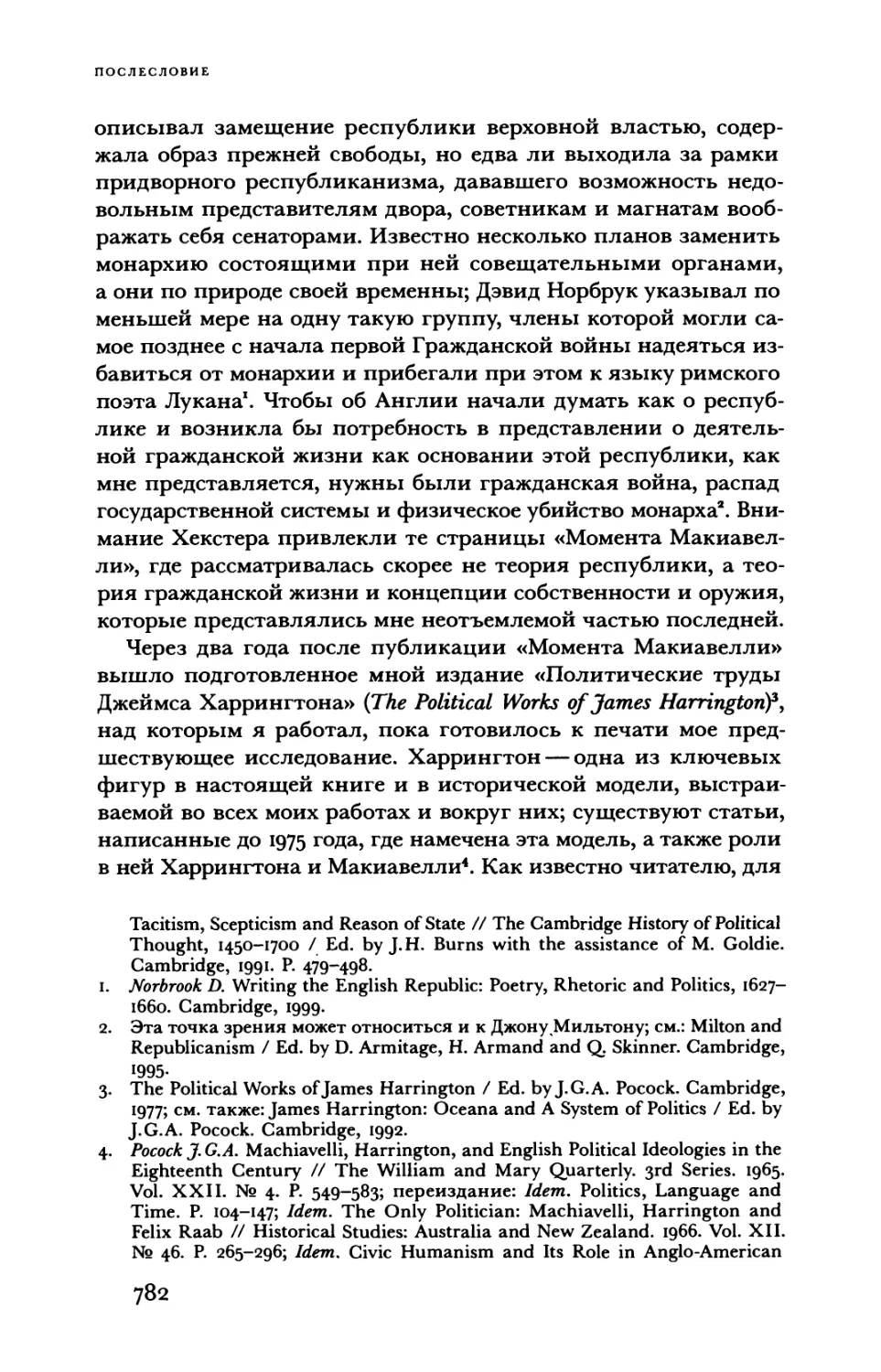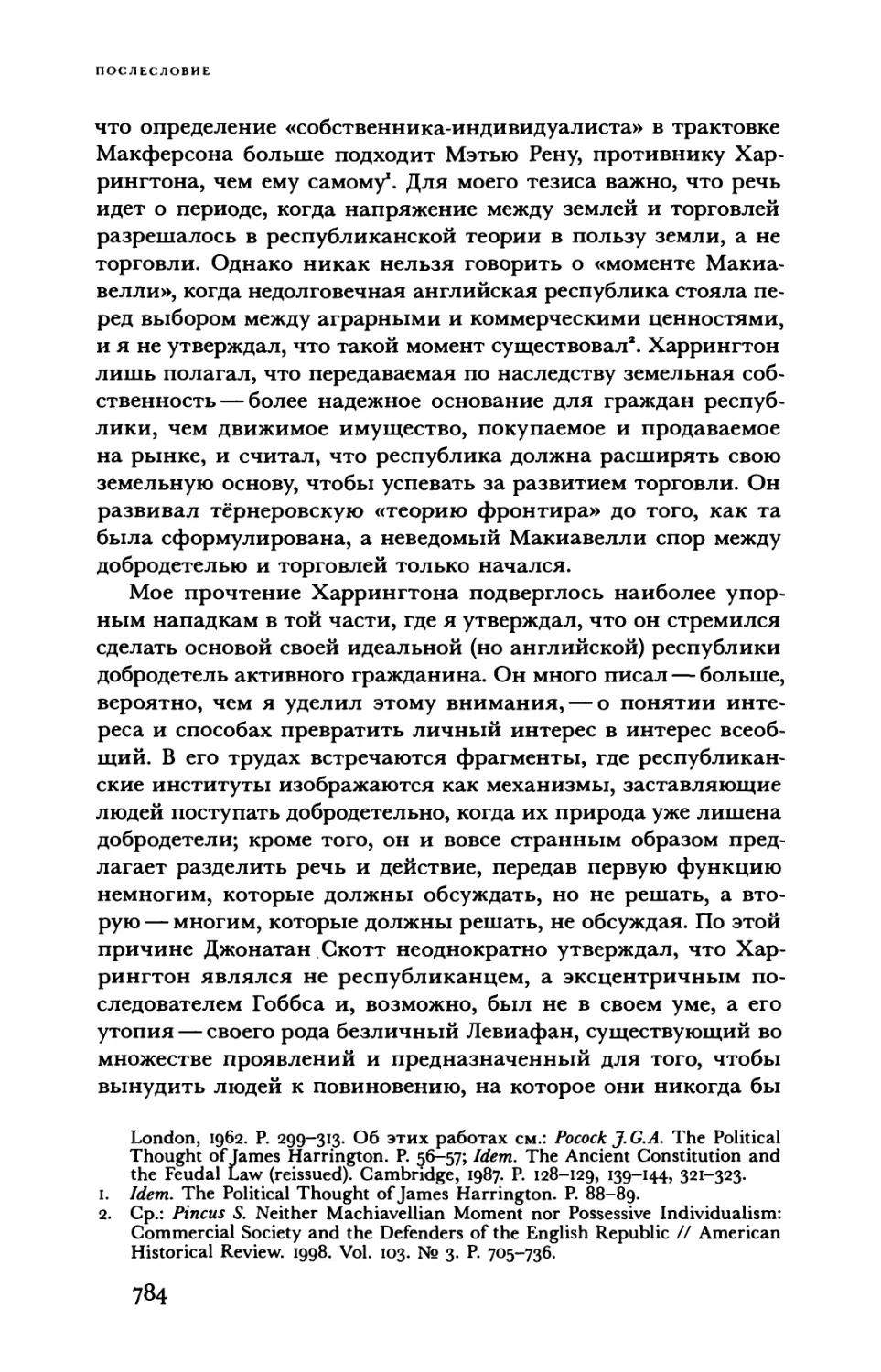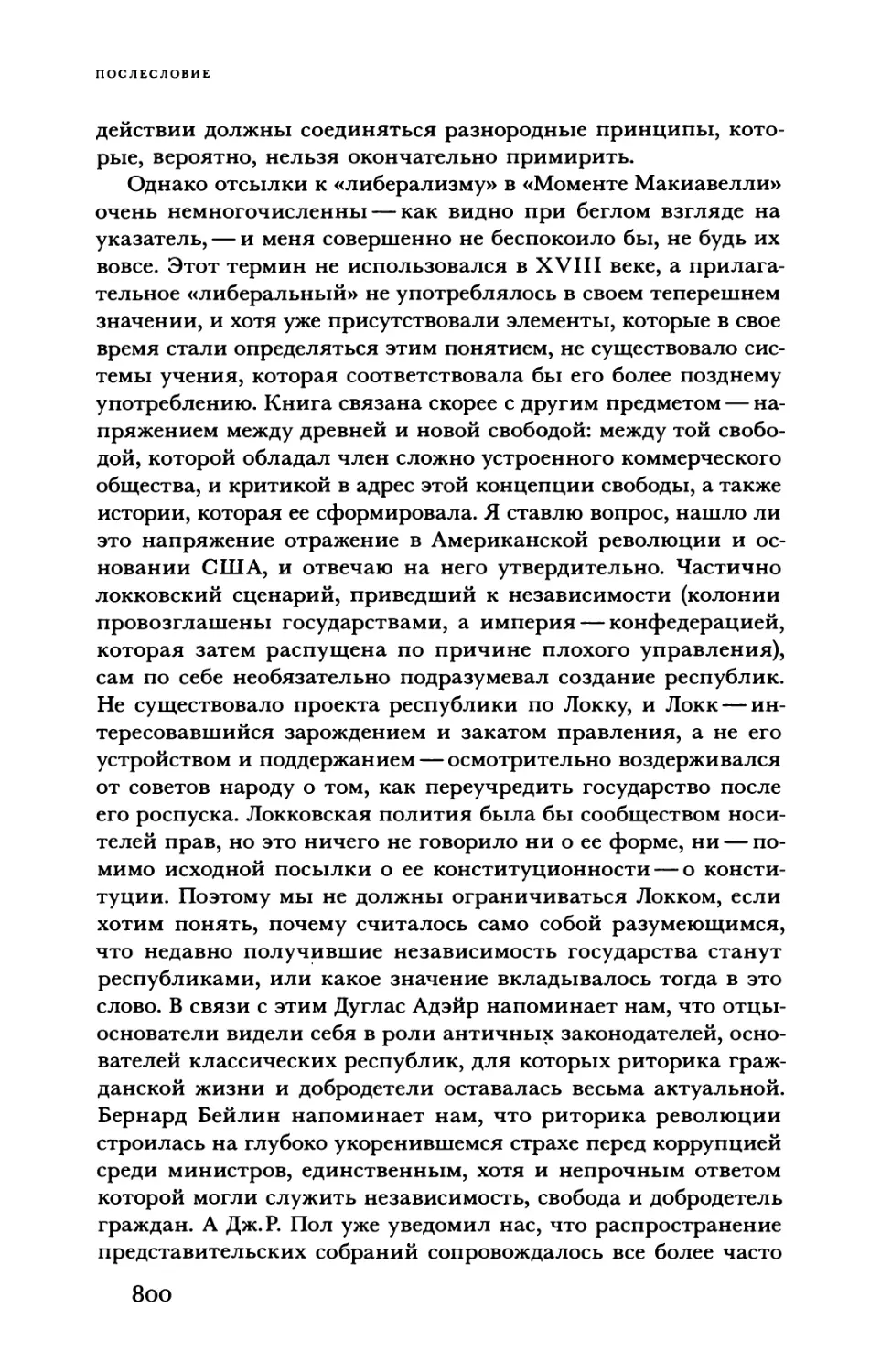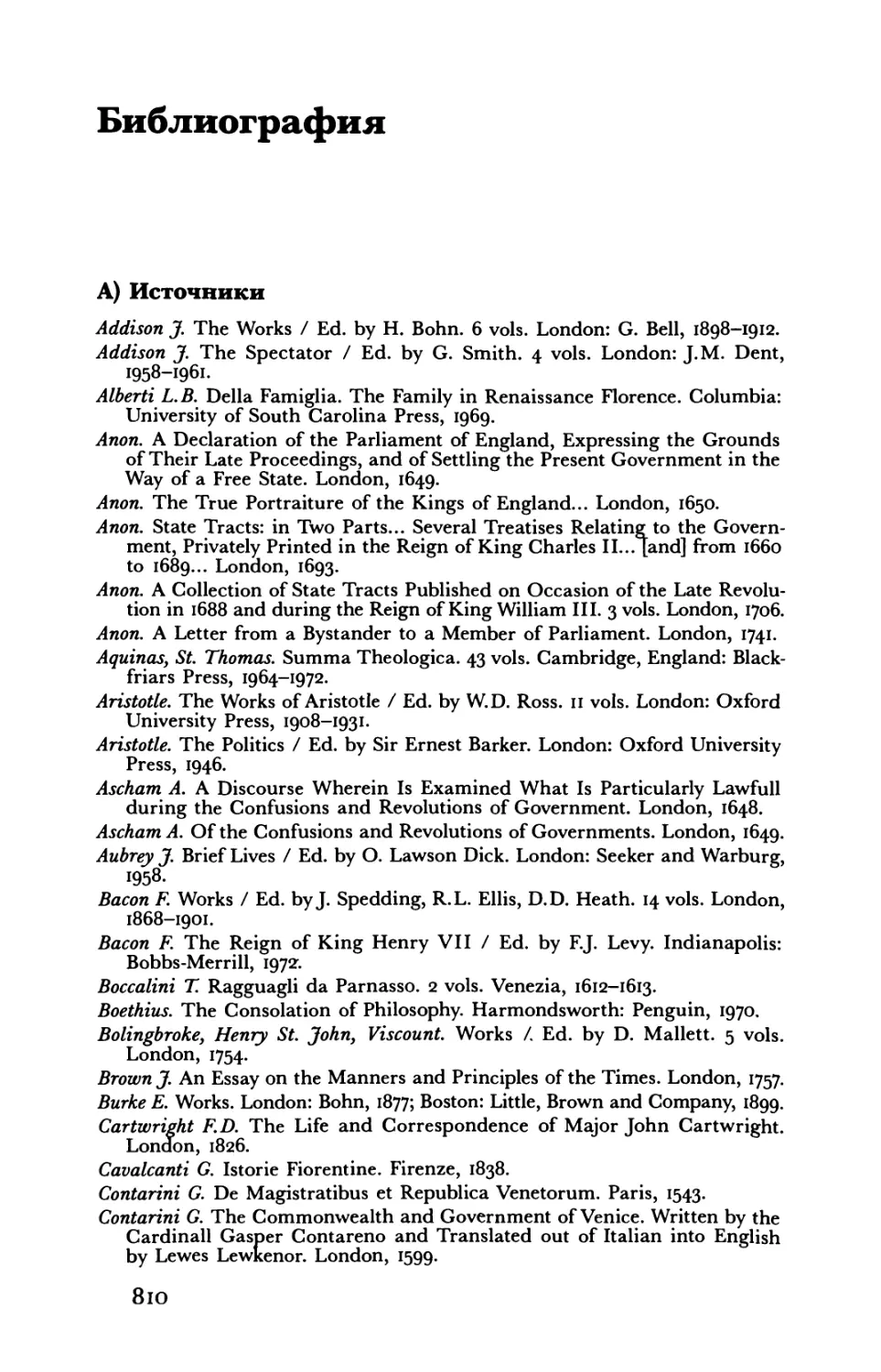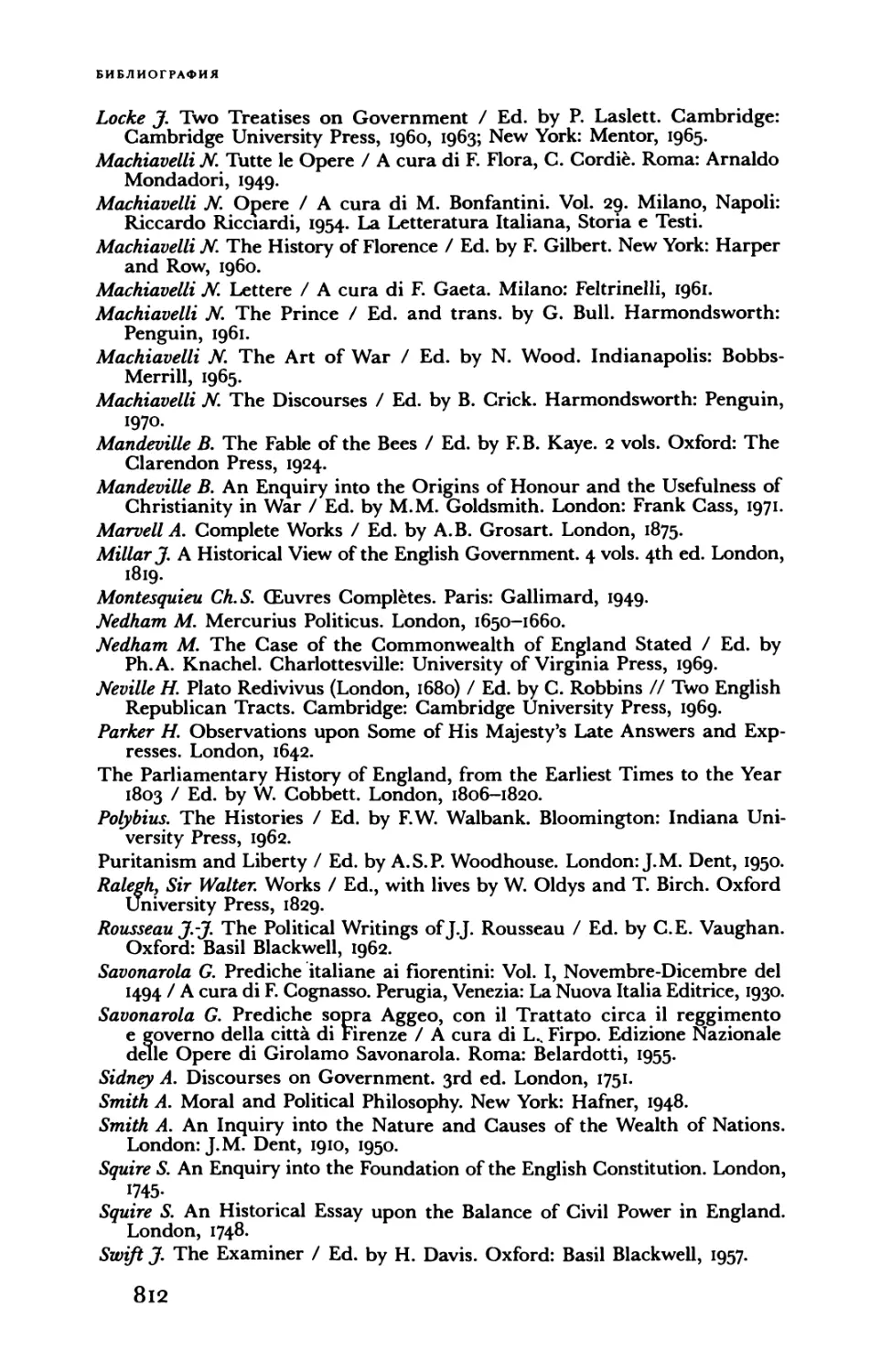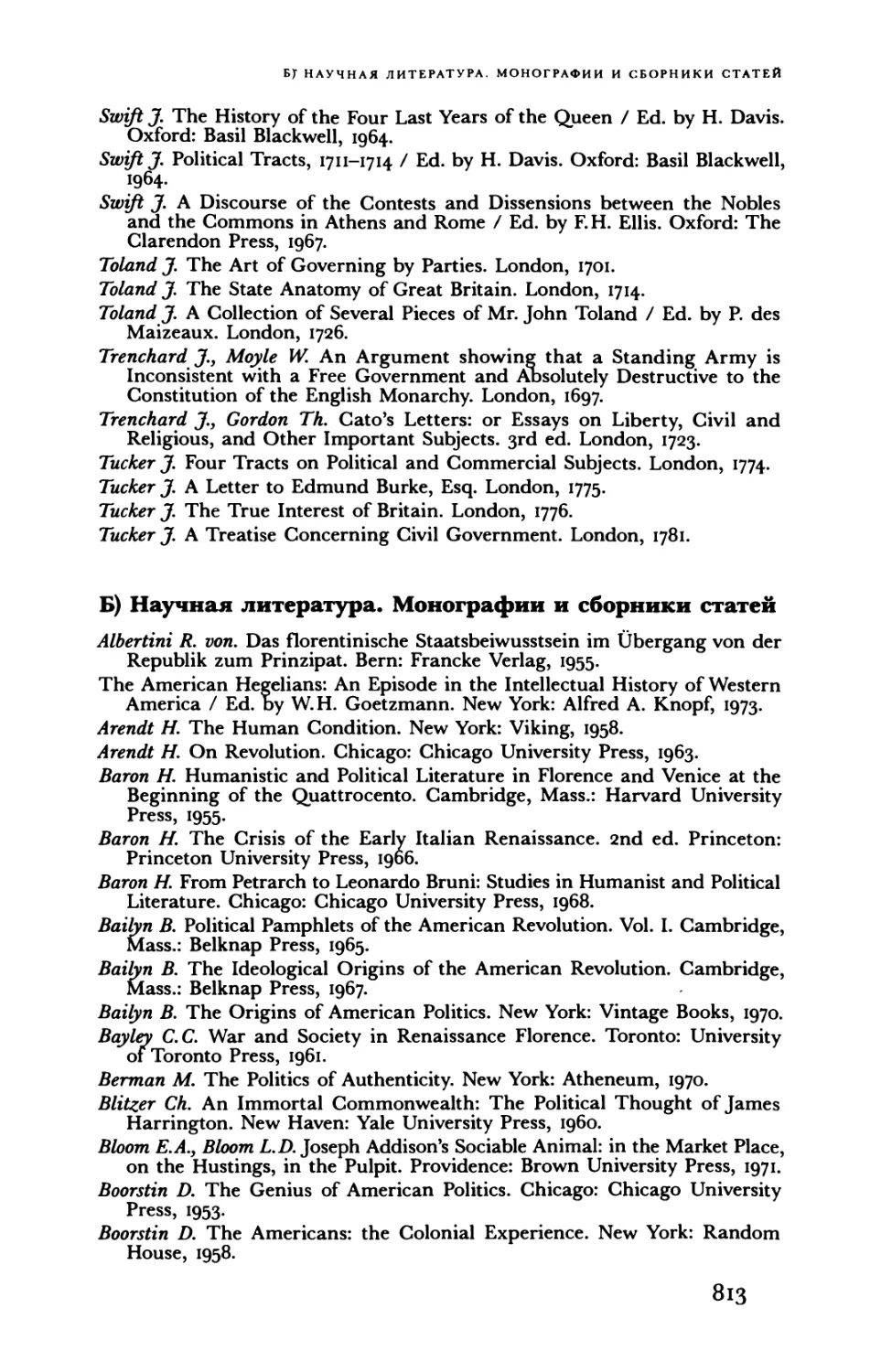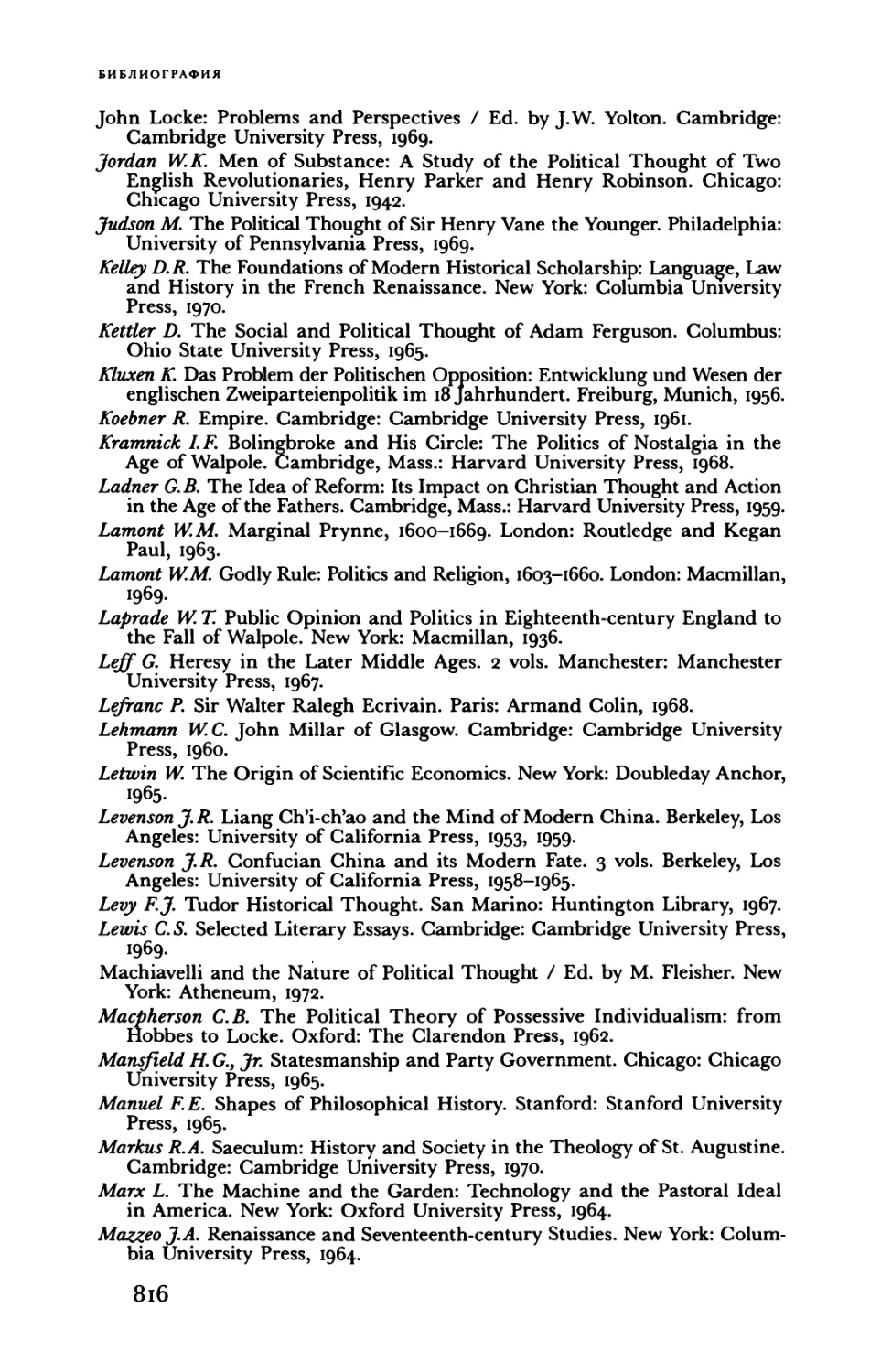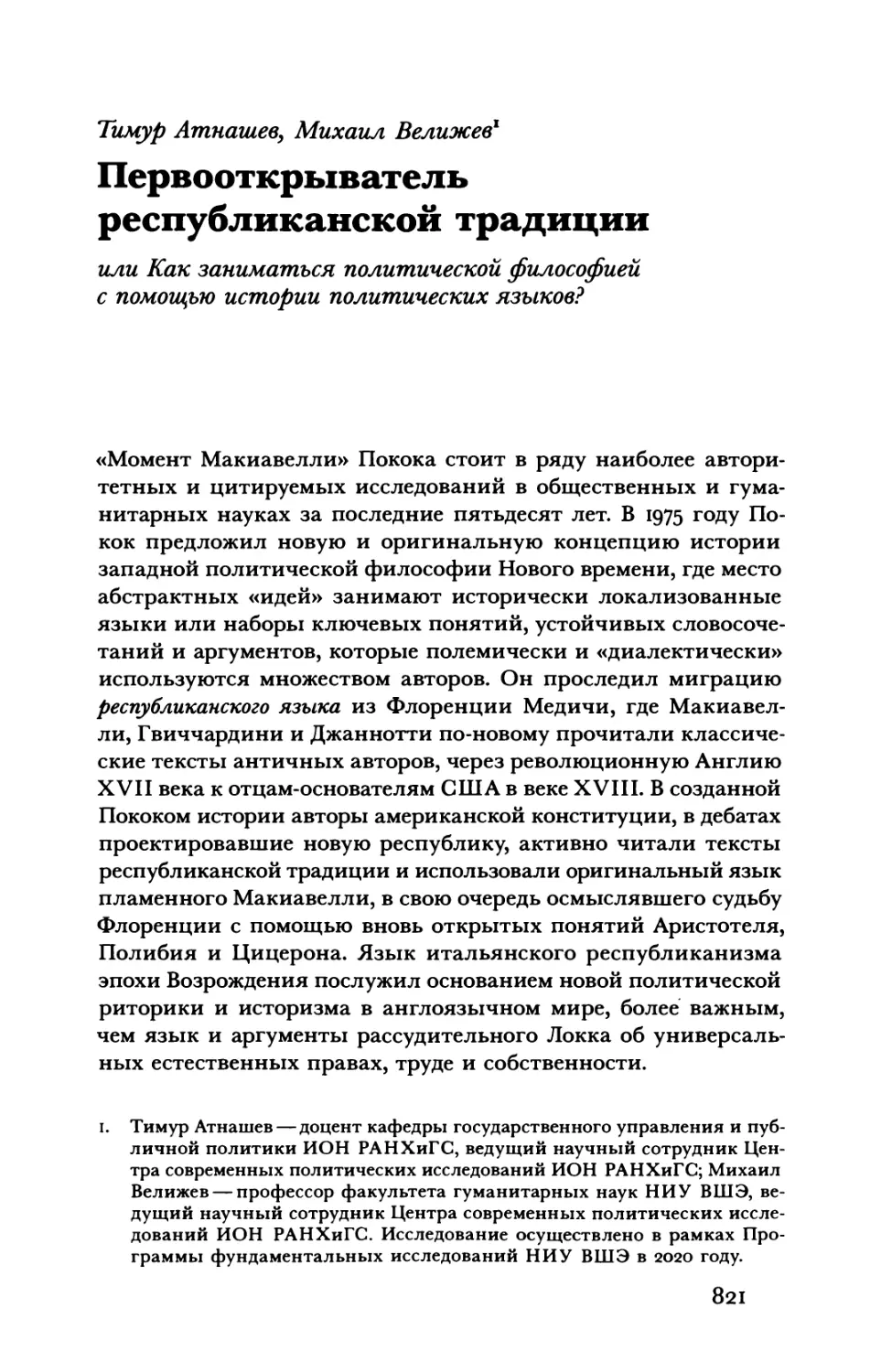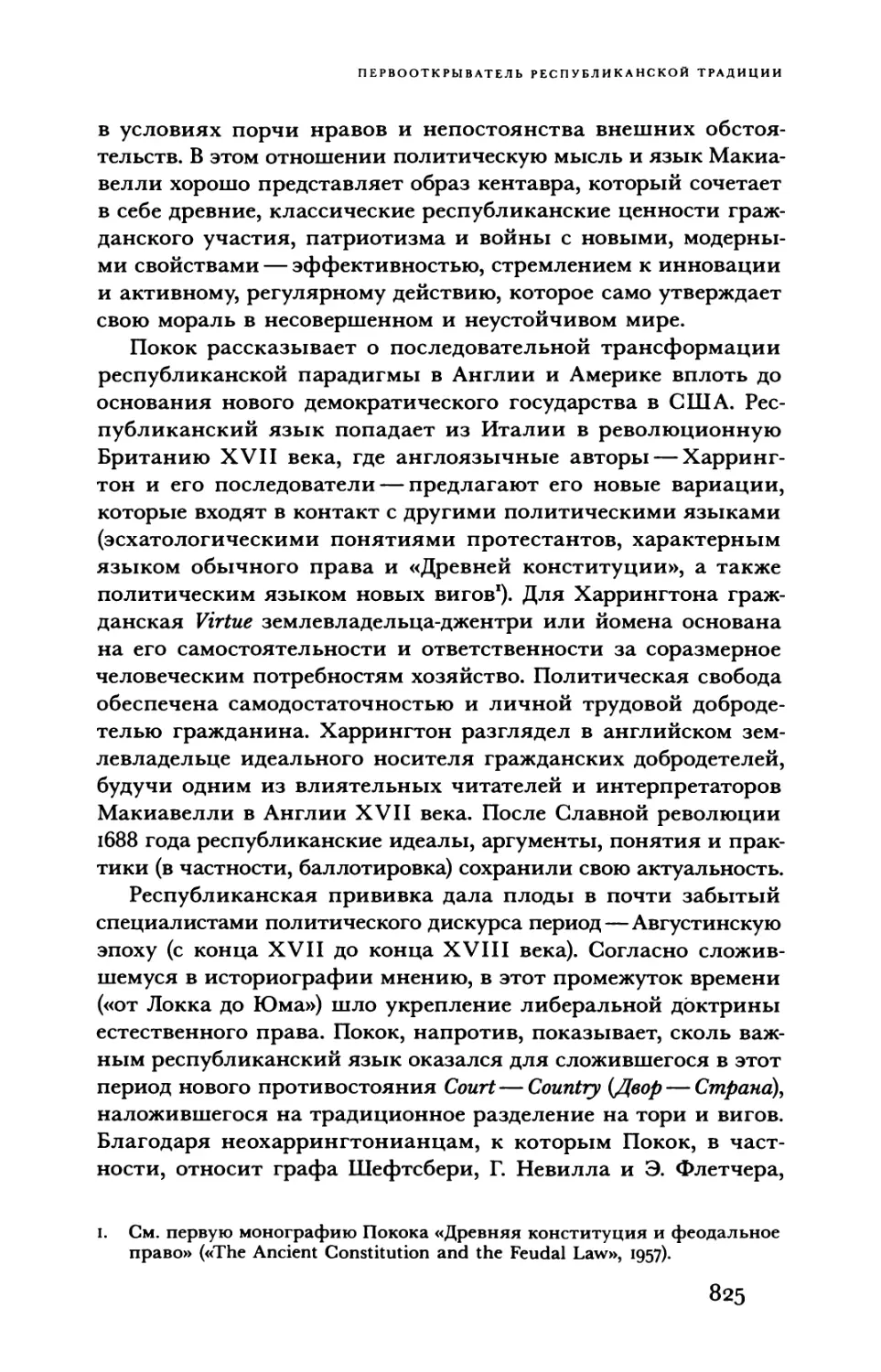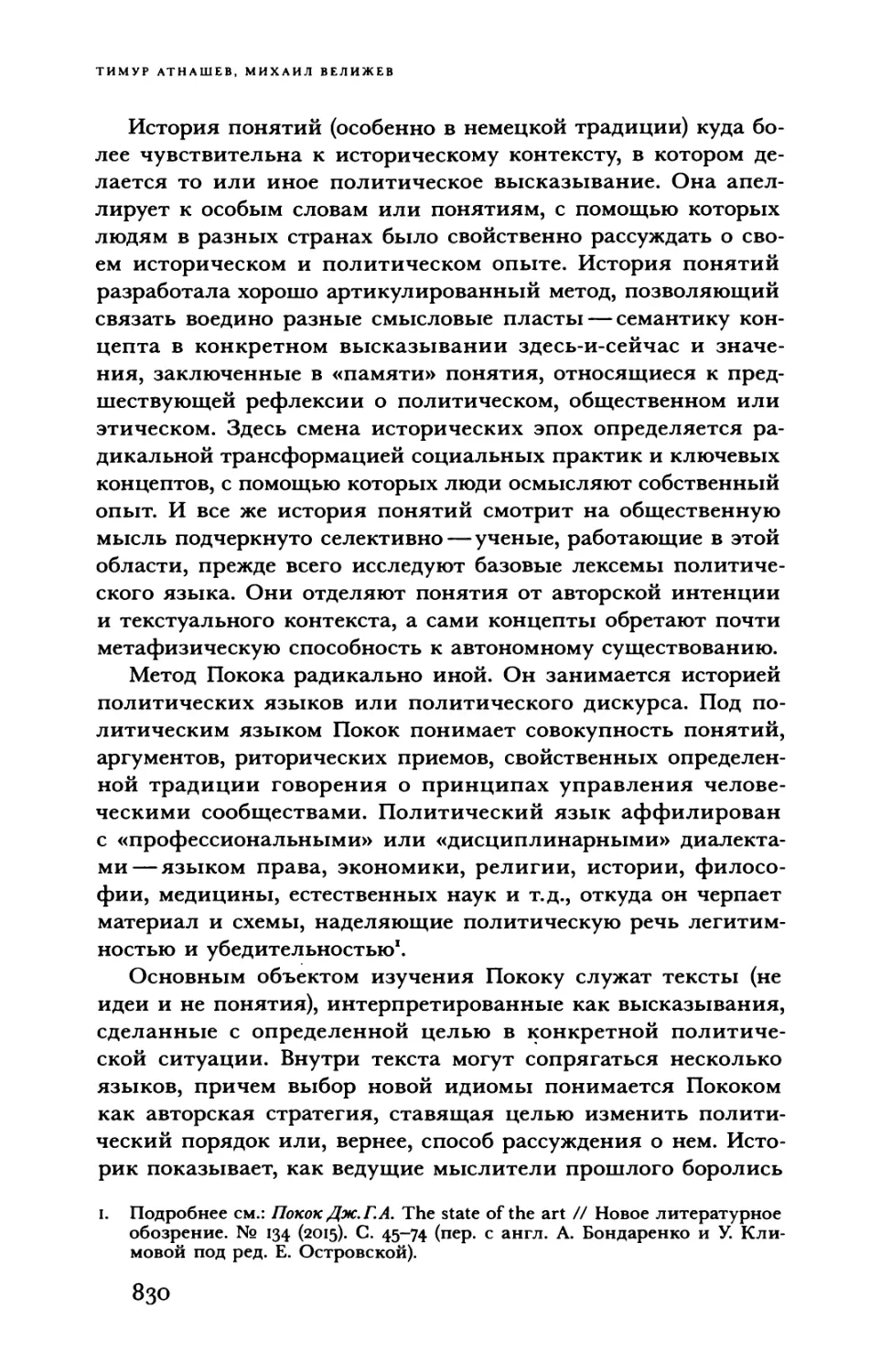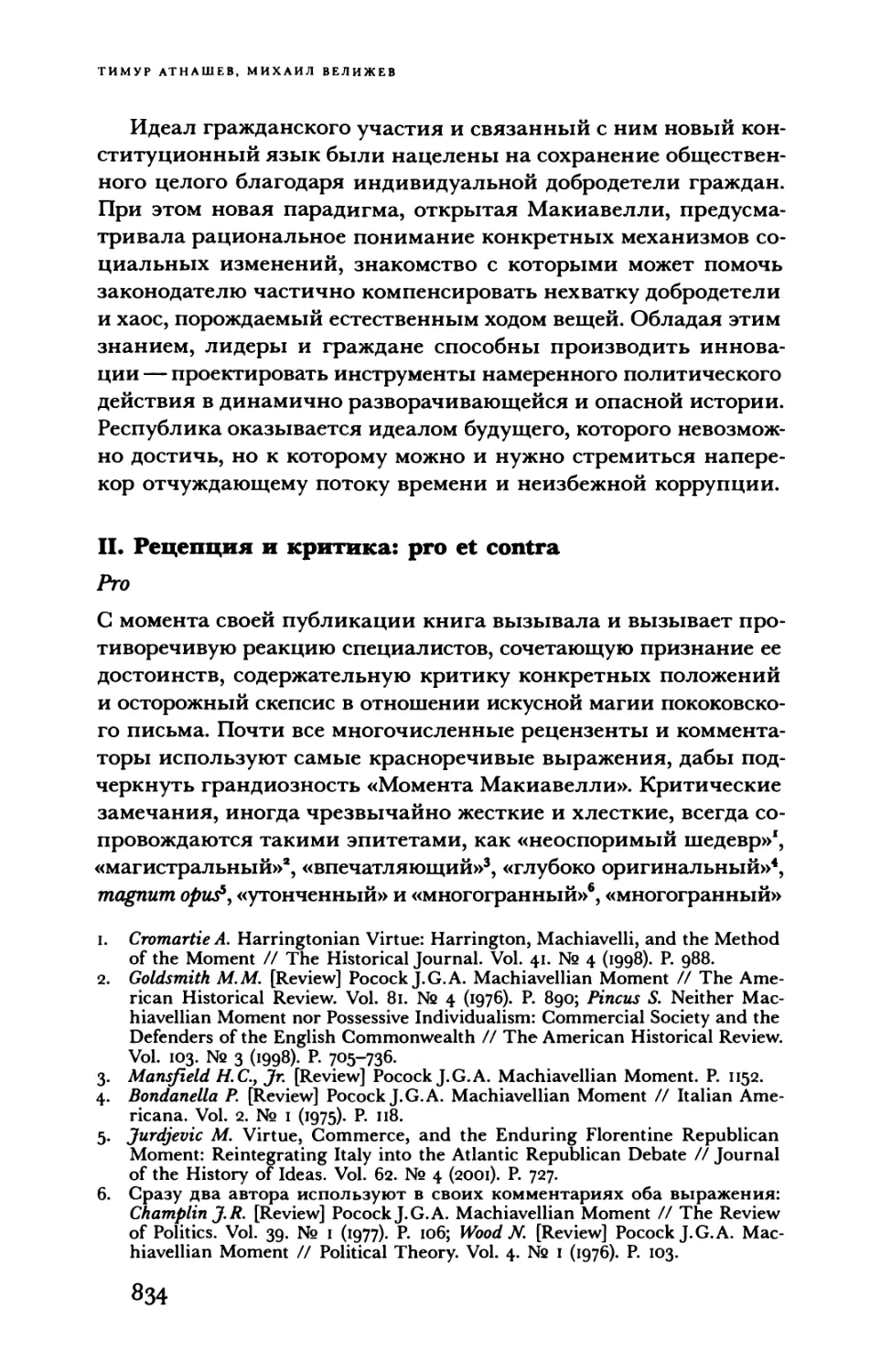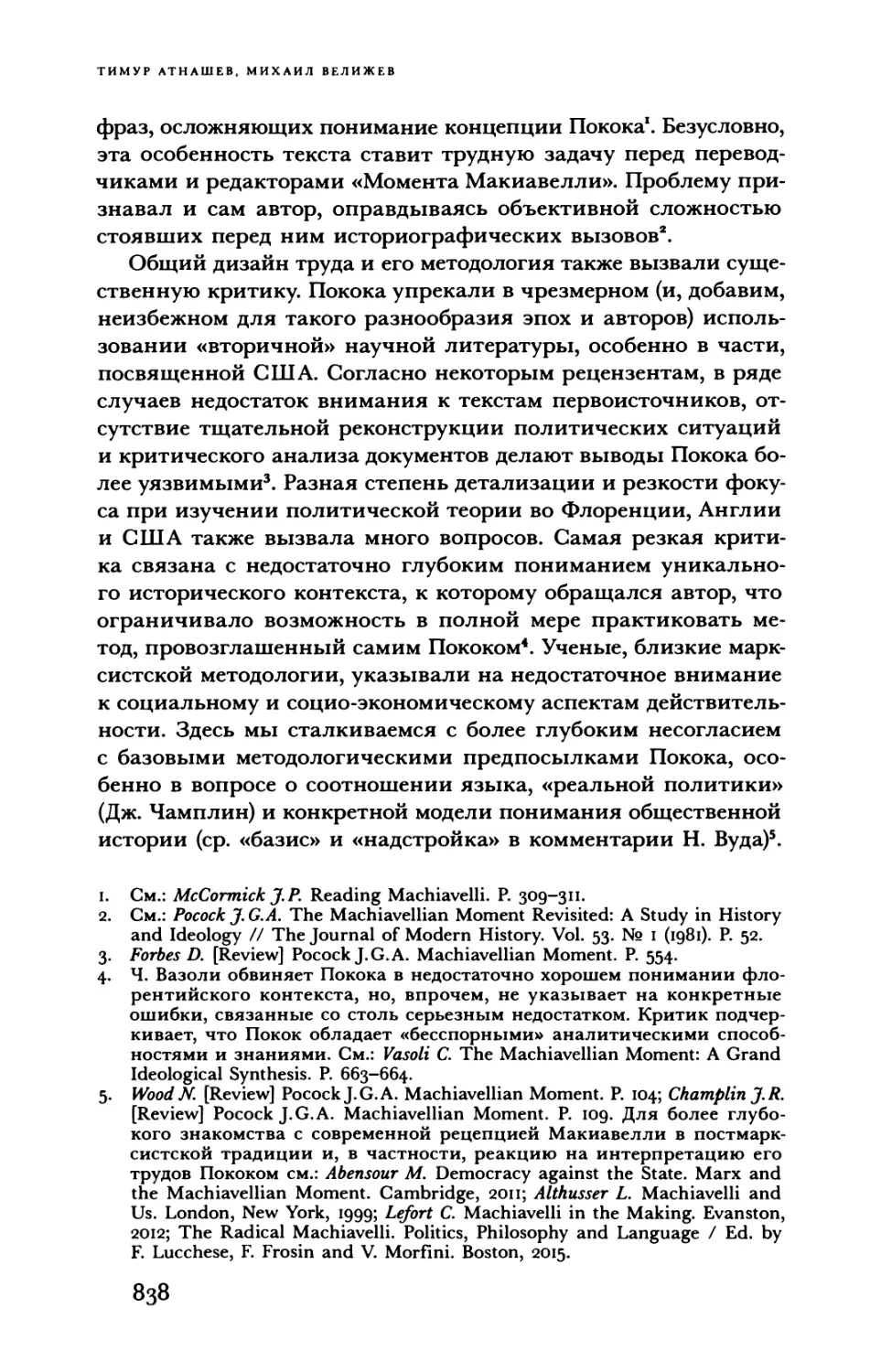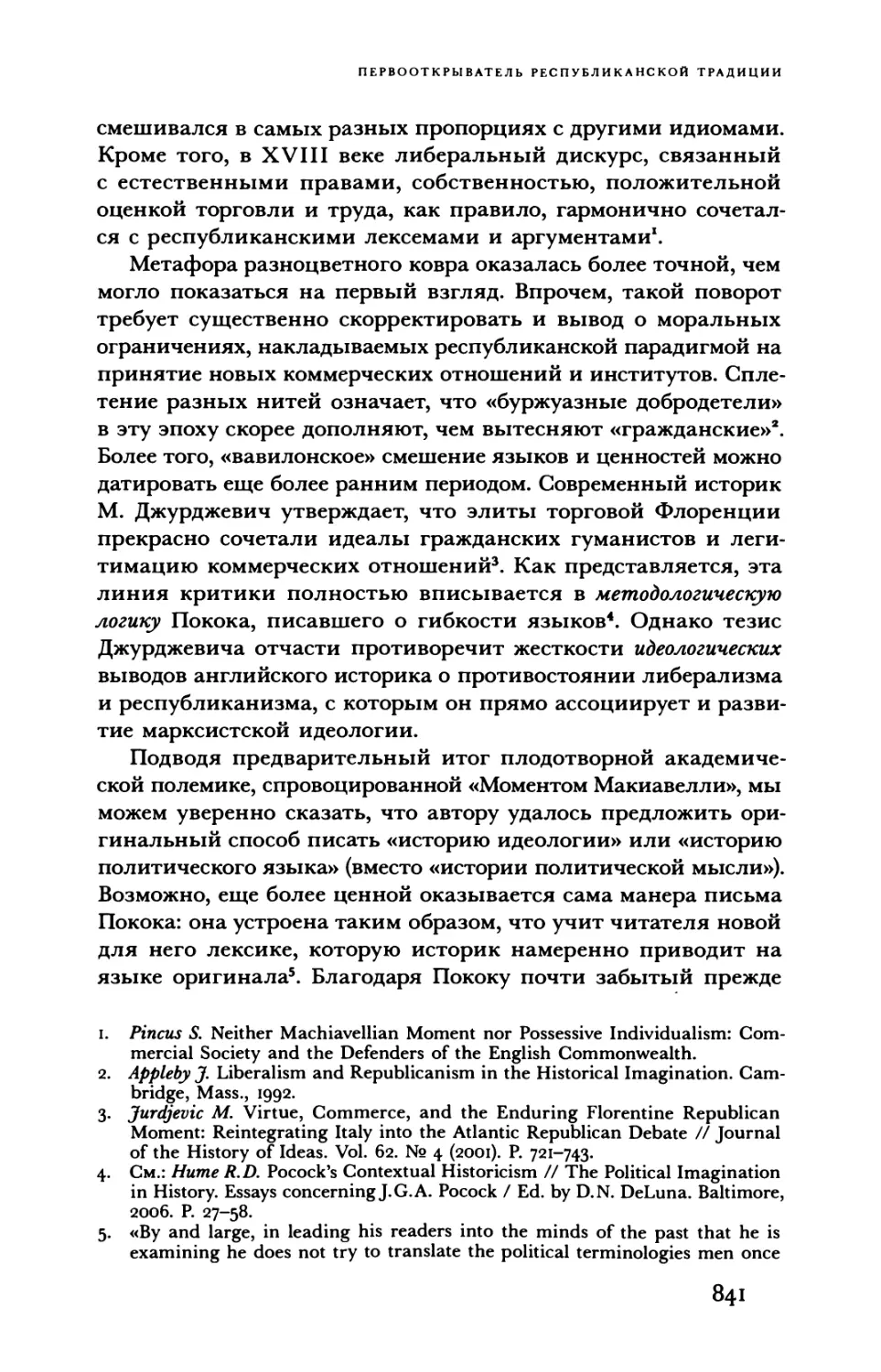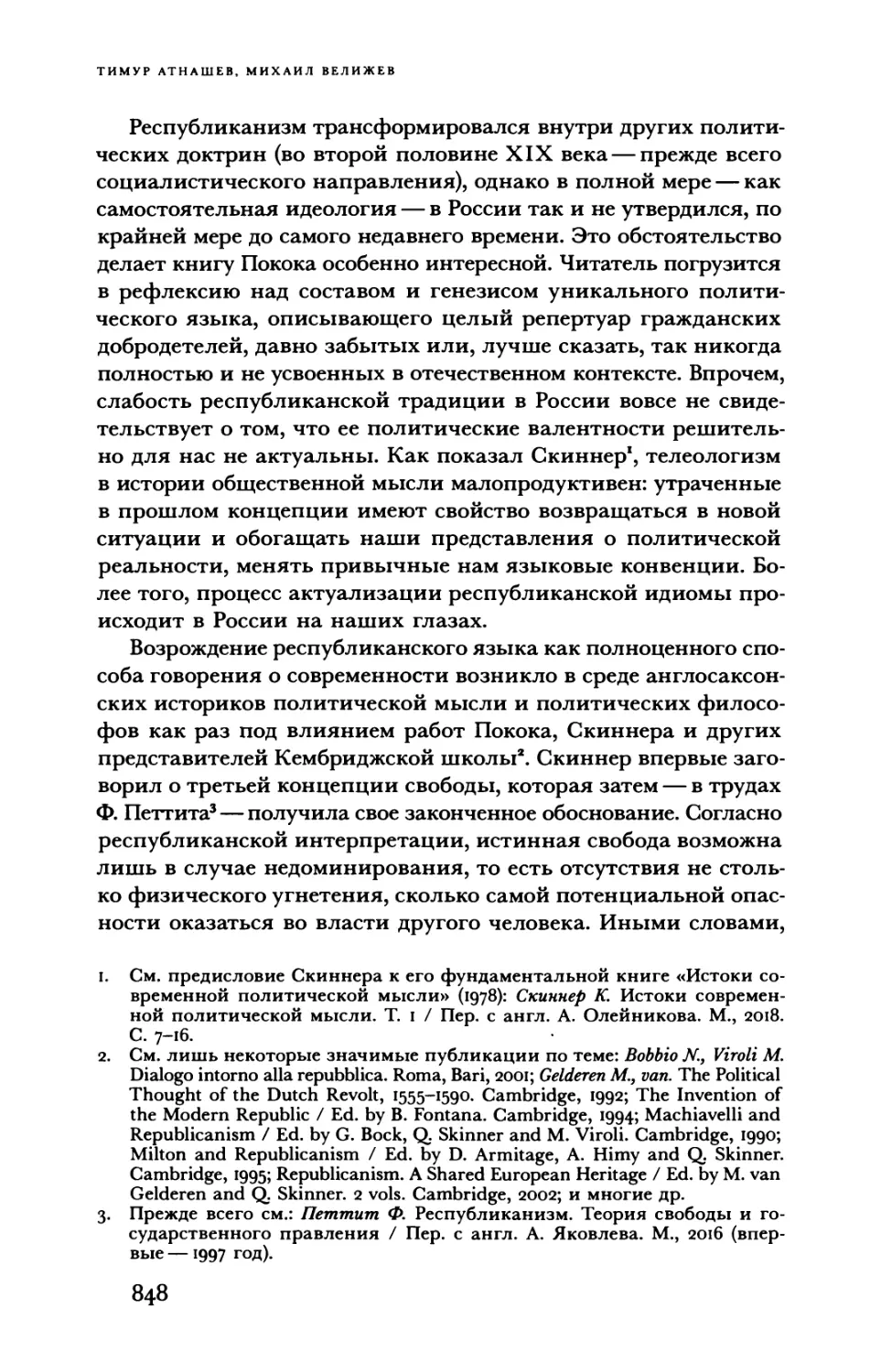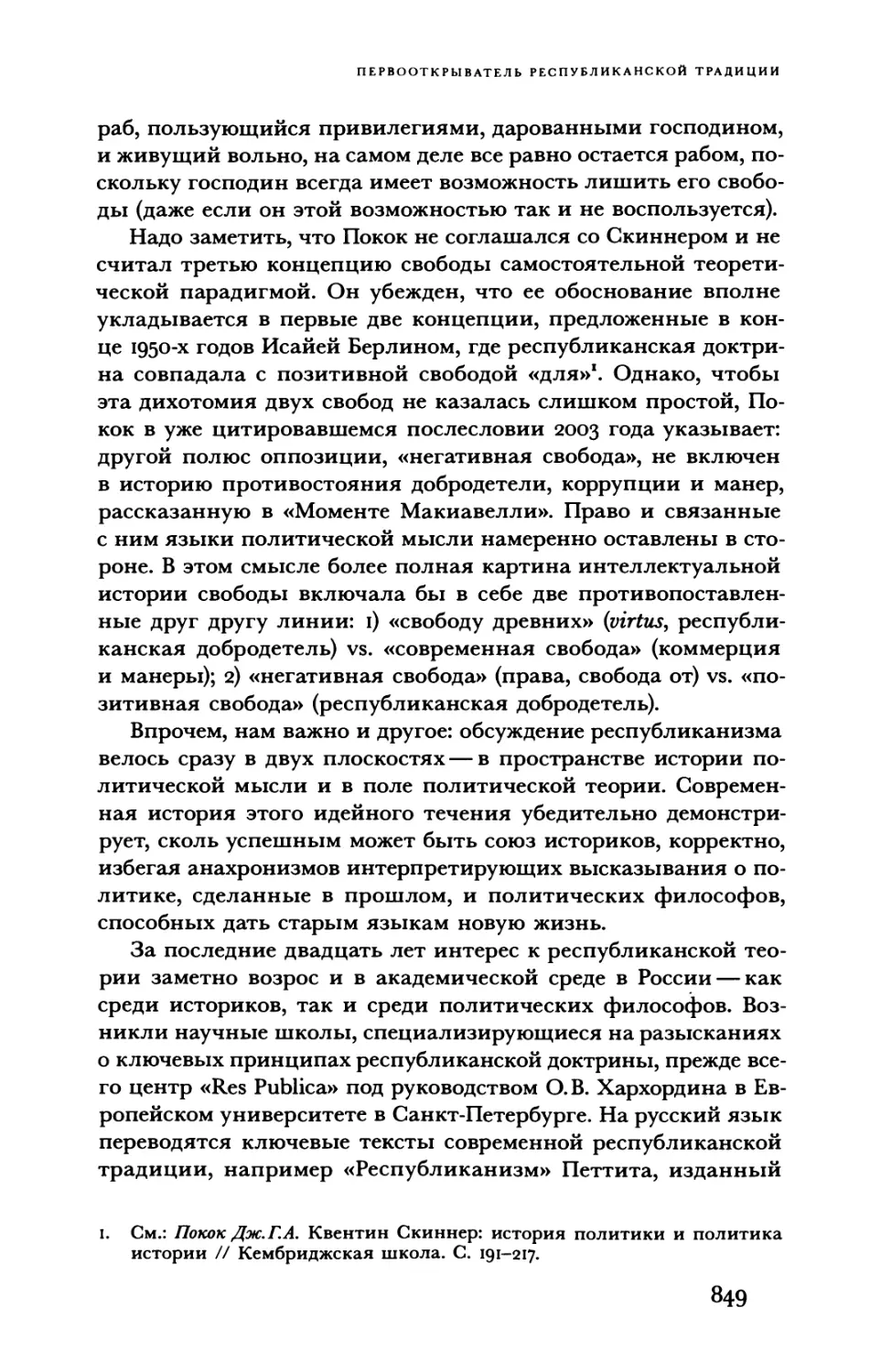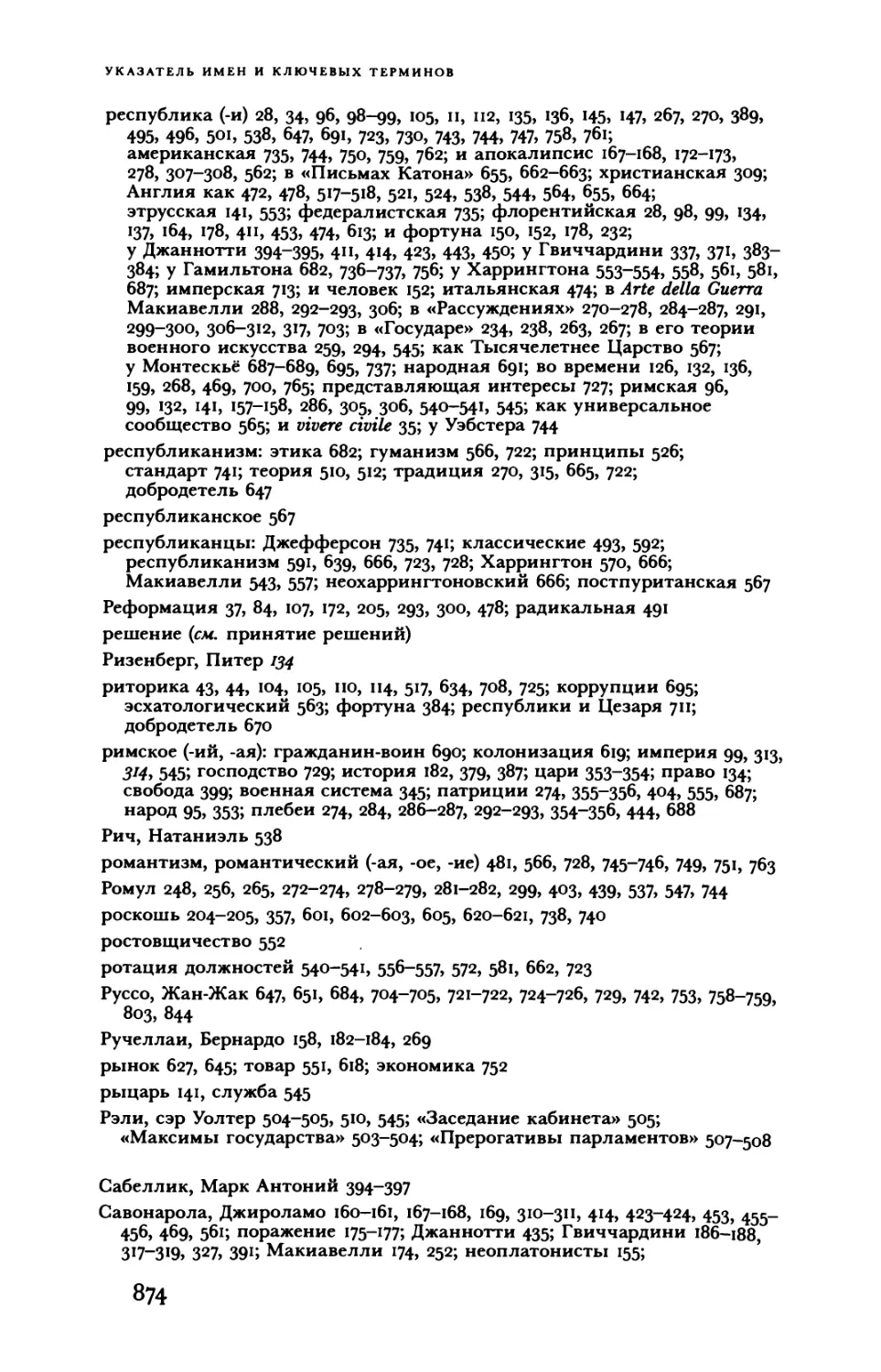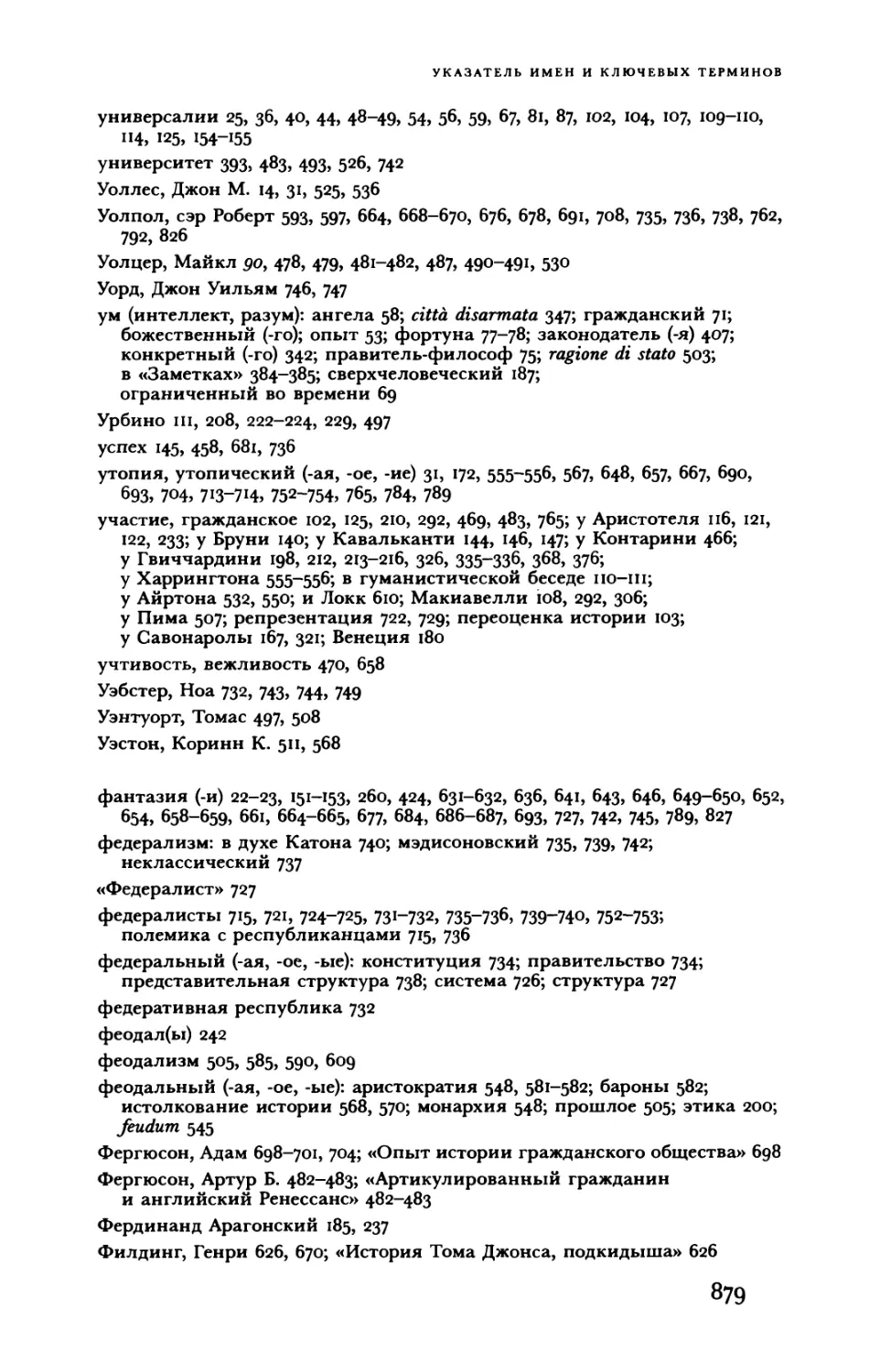Текст
J.G.A.Pocock
The
Machiavellian
Moment
Florentine Political Thought
and the Atlantic Republican
Tradition
Princeton University Press
Princeton, Oxford
Джон Гревилл Агард Покок
Момент
Макиавелли
Политическая мысль Флоренции
и атлантическая республиканская
традиция
Новое
Литературное
Обозрение
2020
УДК 321.728
ББК 66.033.11
П48
Редактор серии
Татьяна Вайзер
Общая редакция — Тимур Атнашев, Михаил Велижев
Научный редактор и автор примечаний — Андрей Олейников
Покок, Дж.Г.А.
П48 Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и
атлантическая республиканская традиция / Джон Гревилл Агард
Покок; предисл. Р. Уотмора; пер. с англ. Т. Пирусской. — М.: Новое
литературное обозрение, 2020. — 888 с. (Серия
«Интеллектуальная история»)
ISBN 978-5-4448-1254-9
Монография Дж.Г.А. Покока «Момент Макиавелли» принадлежит
к числу наиболее авторитетных и цитируемых исследований в
общественных науках за последние пятьдесят лет. Яркий представитель
Кембриджской школы изучения политической мысли, Покок предложил
новую концепцию истории западной политической философии Нового
времени: место либерального канона от Локка до Смита заняла
республиканская традиция. Книга описывает историю республиканского языка
политического мышления, которая включает сочинения Аристотеля,
Полибия, Цицерона, Макиавелли, Гвиччардини, Харрингтона, Мэдисона
и Джефферсона. Автор прослеживает эволюцию этого типа
политического языка от споров гражданских гуманистов ренессансной Флоренции
до полемики британских мыслителей в XVII и XVIII веке и дискуссий
о характере новой республики в США в конце XVIII столетия. Ключевая
тема исследования—роль активного гражданства и его добродетелей
в эволюции западноевропейской политической мысли. Идеи Покока
не теряют актуальности и сегодня, особенно в России, переживающей
собственный «момент Макиавелли»,—время столкновения молодой
республики с кризисом провозглашенных ею ценностей и институтов.
УДК 321.728
ББК 66.033.11
В оформлении обложки использован портрет Никколо Макиавелли,
гравюра Робера Буассара, конец XVI в. Рейксмузеум, Амстердам
J.G.A. Pocock. THE MACHIAVELLIAN MOMENT
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or
by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any
information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.
Copyright © 1975 by Princeton University Press.
Foreword to the Princeton Classics Edition copyright © 2016 by Princeton University Press
© Т. Пирусская, перевод с английского, 2θ2θ
© А. Звонарева, перевод с итальянского, 2θ2ο
© Т. Атнашев, М. Велижев, послесловие, 2020
© ООО «Новое литературное обозрение», 2020
Содержание
Ричард Уотмор
Предисловие к новому изданию Princeton Classics . 7
Предисловие 28
Часть первая. Время и единичное.
Концептуальные основания
Глава I. Проблема и ее модусы.
A) Опыт, обычай и рассудительность
Глава И. Проблема и ее модусы.
Б) Провидение, фортуна и добродетель
Глава III. Проблема и ее модусы.
B) Vita Activa и Vivere Civile
Часть вторая. Республика и ее фортуна.
Политическая мысль Флоренции Ц94~1530 годов
Глава IV. От Бруни к Савонароле.
Фортуна, Венеция и апокалипсис . 134
Глава V. Реставрация Медичи.
А) Гвиччардини и меньшие ottimati, 1512-1516 175
Глава VI. Реставрация Медичи.
Б) «Государь» Макиавелли . . 232
Глава VII. Рим и Венеция.
А) «Рассуждения» и «О военном искусстве» Макиавелли 266
Глава VIII. Рим и Венеция.
Б) «Диалог» Гвиччардини и проблема
аристократической рассудительности З1^
Глава IX. Джаннотти и Контарини.
Венеция как понятие и как миф 392
34
70
93
Часть третья.
Ценности и история в предреволюционной Атлантике
Глава X. Проблема английского макиавеллизма.
Модели гражданского сознания
до Английской революции 474
Глава XI. Англизация республики.
А) Смешанное правление, святой и гражданин 511
Глава XII. Англизация республики.
Б) Двор, страна и постоянная армия 5^4
Глава XIII. Неомакиавел л невская политическая экономия.
Спор о земле, торговле и кредите в Англии
Августинской эпохи 592
Глава XIV. Дебаты XVIII столетия.
Добродетель, страсть и коммерция 647
Глава XV. Американизация добродетели.
Коррупция, конституция и фронтир . 7°6
Послесловие. 7^7
Словарь основных италоязычных понятий
(Сост. Алина Звонарева) 805
Библиография 8ю
Тимур Атнашеву Михаил Велижев. Первооткрыватель
республиканской традиции, или Как заниматься
политической философией с помощью истории
политических языков? . . 821
Указатель имен и ключевых терминов
(Сост. Анна Новосельцева, Георгий Копылов) 851
Ричард Уотмор
Предисловие к новому изданию
Princeton Classics
ι.
Со времени своего выхода 21 мая 1975 года и по сей день «Момент
Макиавелли» вызывает у читателей восхищение, иногда
граничащее с потрясением. Рецензенты, даже самые критически
настроенные, почти сразу признали книгу шедевром.
Специалисты по интеллектуальной истории увидели в ней
свидетельство того, что новая дисциплина действительно состоялась. Для
ученых из самых разных социальных и гуманитарных наук
«Момент Макиавелли» задал образец исторического анализа.
На протяжении более чем сорока лет аргументацию и метод
Покока оспаривали и защищали. Выводы книги стали
предметом нескончаемых дискуссий историков и политологов. Книга
приобрела статус классической и встала в один ряд с
важнейшими трудами по истории, появившимися во второй
половине XX века: «Становлением английского рабочего класса»
(The Making of the English Working Class, 1963) Э.П. Томпсона или
«Религией и упадком магии» (Religion and the Decline of Magic,
1971) К. Томаса. Во многих отношениях монография Покока
продолжает определять практику интеллектуальной истории.
Наряду с «Истоками современной политической мысли» (The
Foundations of Modern Political Thought, 1978) Квентина Скиннера,
она являет собой наиболее показательный пример
исследования, созданного в рамках упомянутой научной дисциплины.
Чтение «Момента Макиавелли» сродни инициации.
Своеобразие «Момента Макиавелли» станет понятным, если
мы сравним его с одной из знаковых работ 1975 г°Да>
долгожданными «Философскими принципами политики Юма» (Hume's
Philosophical Politics) Дункана Форбса. Труд Форбса направил
изучение философии Юма в новое русло. Книга Покока
изменила сам способ написания истории политической мысли.
В апреле того же года на английском и на французском языках
вышла книга Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение
7
РИЧАРД УОТМОР
тюрьмы» (Surveiller et punir: Naissance de la prison). Во всех
работах предлагался новый взгляд на прошлое. Каждый из авторов
столкнулся со множеством негативных откликов. «Момент
Макиавелли» выдержал проверку временем: ученые по-прежнему
пользуются понятиями и выводами Покока, особенно
относящимися к политическим идеям в XVI 1-ХVIII столетиях. Все
это дает основание вновь издать «Момент Макиавелли».
Последний раз книга выходила в 2002 году; в послесловии
Покок подытожил историю рецепции книги и дополнил ответы
некоторым из своих собеседников, многие из которых неверно
истолковали содержание книги и намерения ее автора. В
предисловии к настоящему изданию, помимо общеизвестных
фактов, впервые частично и вкратце изложена история создания
«Момента Макиавелли». Мне помогали специалисты по
интеллектуальной истории, в том числе и сам Джон Покок. Особую
благодарность следует выразить Квентину Скиннеру, который,
как это ему свойственно, сделал больше, чем требовало чувство
долга, и предоставил мне копии писем Покока, адресованных
ему и написанных в период с 1968 по 1974 Г°Д- Они тем более
важны, что многие письма Покока за этот период, по-видимому,
утеряны. Единственная цель моего предисловия — побудить
новых читателей двигаться дальше и познакомиться с самим
«Моментом Макиавелли».
II.
Как-то в первый триместр 1969 года, который тогда
продолжался с января по март, Джон Гревилл Агард Покок встретился
в кофейне при библиотеке Кембриджского университета с
Квентином Робертом Дафи Скиннером. Сорокапятилетний Покок,
в тот момент находившийся в творческом отпуске профессор
Университета Вашингтона в Сент-Луисе, поддерживал общение
со Скиннером с начала 1960-х годов. Скиннер, впоследствии
профессор политических наук (1978) и профессор королевской
кафедры истории (1996), на тот момент преподавал историю
в Кембридже и был членом совета Крайст-колледжа. Покок
хорошо знал Кембридж. Он родился в Лондоне, но семья
переехала в Новую Зеландию, когда ему было три года, поскольку
его отца, Льюиса Гревилла Покока, назначили
преподавателем античной культуры в Кентерберийском колледже. После
того как Джон Покок сам окончил Кентербери, получив
степень магистра искусств, он в 1948 году перебрался в Кембридж,
8
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ PRINCETON CLASSICS
где в 1952 году защитил кандидатскую диссертацию,
написанную под научным руководством Герберта Баттерфилда. По-
кок занимал академические должности в Университете Отаго,
Колледже св. Иоанна, Кембридже и Кентербери, а в 1966 году
переехал в штат Миссури в качестве профессора истории на
кафедре имени Уильяма Элиота Смита. К тому времени он
был уже хорошо известен среди историков как автор «Древней
конституции и феодального права» (The Ancient Constitution and
the Feudal Law\ книги, в 1957 году вызвавшей всеобщее
одобрение1. В «Древней конституции» он объяснял, как исторические
материалы, доступные английским и французским юристам
XV 1-ХVII веков, структурировали их представления о
легитимной и практически осуществимой политике2.
Покок также получил признание благодаря работам о том,
как изучать историю политической мысли. В серии статей,
опубликованных в 1960-1968 годах, он истолковал метод, на
который опирался при написании «Древней конституции»,
и упомянул интересовавшие его другие сюжеты, где этот
метод мог успешно применяться, в частности древнекитайскую
философию, гражданский гуманизм, философию Томаса Гоб-
бса и Эдмунда Бёрка3. Покок рассматривал авторов прошлого
1. Как отозвалась о ней Кэролайн Роббинс, «за последнее десятилетие не
появлялось более плодотворного и стимулирующего исследования по
истории атлантических территорий в Новое время». См.: Robbins С. [Book
review] J. G. A. Pocock, «The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study
of English Historical Thought in the Seventeenth Century» // Pennsylvania
Magazine of History and Biography. Vol. 82. № 2 (1958). P. 223-225.
2. Pocock J. G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English
Historical Thought in the Seventeenth Century. A Reissue with a Retrospect.
Cambridge, 1957 (второе издание —1987 год).
3· Pocock J. G.A. Burke and the Ancient Constitution — A Problem in the History
of Ideas // Historical Journal. Vol. 3. № 2 (i960). P. 125-143 (рус. перевод:
ПококДж.Г.А. Бёрк и древняя конституция. Об одной проблеме в истории
идей / Пер. с англ. Л. В. Черниной под ред. Т.М. Атнашева и М.Б. Вели-
жева // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 20j8. Т. 2. № 3·
С. 141—17°); Idem. The History of Political Thought: A Methodological Enquiry //
Philosophy, Politics and Society. 2nd ser. / Ed. by P. Laslett, W.G. Runciman.
New York, 1962. P. 183-202; Idem. The Origins of the Study of the Past:
A Comparative Approach // Comparative Studies in Society and History. Vol. 4.
№ 2 (1962). P. 209-246; Idem. Ritual, Language, Power: An Essay on the Apparent
Meaning of Chinese Philosophy // Political Science. Vol. 16 (1964). P. 3-31; Idem.
Machiavelli, Harrington, and English Political Ideologies // William and Mary
Quarterly. 3rd ser. Vol. 11 (1965). P. 549-583; Idem. Time, History and Eschatology
in the Thought of Thomas Hobbes // The Diversity of History: Essays in
Honour of Sir Herbert Butterfield / Ed. byJ.H. Elliott, H.K. Koenigsberger.
London, 1965; Idem. Time, Institutions and Action: An Essay on Traditions and
Their Understanding // Politics and Experience: Essays Presented to Michael
Oakeshott / Ed. by P. King, B.C. Parekh. Cambridge, 1968.
9
РИЧАРД УОТМОР
как мыслителей, которые жили в обществе и пользовались
языками или дискурсами. Дискурсы включали грамматику,
риторику и ряд предпосылок, определявших трактовку тех
или иных идей и их использование в политической
практике. Его метод предполагал, что исследователь идентифицирует
дискурсы, функционирующие в данный конкретный момент,
составляющие идеологический контекст или парадигму,
доступные самим авторам, которые могли с опорой на них
строить, формировать и высказывать свои доводы. На следующем
этапе историк устанавливал, как эти дискурсы ограничивали
политические возможности, открытые тому или иному
мыслителю. Высказывания авторов затем подвергались анализу на
предмет того, насколько они подкрепляли или видоизменяли
дискурсы или парадигмы, в рамках которых
функционировали. Авторы обращались к тем или иным дискурсам и
парадигмам иногда сознательно, а иногда неосознанно, и то же самое
можно было сказать об оппонентах, воспринимавших
высказанные аргументы и отвечавших на них.
Покок использует понятие «парадигма», что
свидетельствует о влиянии на него Томаса Куна и его книги «Структура
научных революций» (The Structure of Scientific Revolutions),
вышедшей в 1962 году. Кун ввел термин «смена парадигмы», чтобы
обозначить преобразование системы знаний, характерной для
какого-либо научного сообщества, из «нормальной науки»,
строящейся на определенном наборе принятых суждений, в
другой набор суждений, несовместимый с прежней нормальной
наукой, но считающийся более близким к объективной
реальности. Покока интересовали парадигмы, функционирующие
в политических сообществах, принятые нормы, диктовавшие
авторам прошлого определенные способы мышления, — нормы,
развитие и изменение которых можно было проследить в
разных обстоятельствах, но которые иногда сходили на нет и
исчезали. В начале 1969 года Покок завершал подготовку нового
масштабного проекта. Речь идет о сборнике статей, изданном
в 1971 году под заголовком «Политика, язык и время» (Politics,
Language, and Time). Он включал в себя шесть статей, уже
опубликованных в 1960-е годы, и две новые работы, служившие
обрамлением для остальных. Последние касались проблемы
идентичности политической мысли и адекватного метода
исследования этого вопроса. В двух новых статьях, «Языки и их
значения: трансформация изучения политической мысли»
(Languages and Their Implications: The Transformation of the Study of
IO
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ PRINCETON CLASSICS
Political Thought) и «О нереволюционном характере парадигм:
самокритика и выводы» (On the Non-Revolutionary Character of
Paradigms: A Self-Criticism and Afterpiece) Покок развивал тезис,
что сама наука об истории политической мысли находилась
в стадии смены парадигмы1.
Другие историки, изучавшие политическую мысль, в
начале 1960-х годов приходили к схожим выводам относительно
оптимального метода исследования исторических текстов. Вслед
за статьей Покока «История политической мысли: проблемы
методологии» (The History of Political Thought: A Methodological
Enquiry) вышли работы двух других исследователей:
«Своеобразие истории идей» (The Identity of the History of Ideas)
Джона Данна, опубликованное в 1968 году, и две статьи Квентина
Скиннера — «Границы исторических толкований» (The Limits
of Historical Explanations) и «Значение и понимание в истории
идей» (Meaning and Understanding in the History of Ideas),
изданные в ig66 и 1969 годах соответственно2. Данн, как и Скиннер,
преподавал в Кембриджском университете. Покока, Скиннера
и Данна интересовала одна и та же проблема: установить, что
делал (was doing) автор при написании того или иного текста,
и объяснить, как другие авторы, имевшие дело с исходным
текстом, воспринимали и реинтерпретировали его намерения.
Одной из главных установок нового подхода было обращение
исследователей политической мысли к неканоническим текстам.
Так, статья Скиннера «Значение и понимание в истории идей»
изначально носила название «О незначительности великих
текстов для истории политической мысли» (The Unimportance
of the Great Texts in the History of Political Thought)3. Историки
стремились отказаться от предположения, будто классические
авторы различных эпох задавались одними и теми же
вопросами. Кроме того, высказывалась мысль, что значение текста
ι. Рососк J. G.A. Languages and Their Implications: The Transformation of the
Study of Political Thought // Politics, Language, and Time: Essays on Political
Thought and History. Chicago, 1989. P. 3-41; Idem. On the Non-Revolutionary
Character of Paradigms: A Self-Criticism and Afterpiece // Ibid. P. 273-291.
2. Dunn J. The Identity of the History of Ideas // Philosophy. Vol. 43. № 164
(1968). P. 85-104; Skinner (λ The Limits of Historical Explanations // Philosophy.
Vol. 41. № 157 (1966). P. 199-215; Idem. Meaning and Understanding in the
History of Ideas // History and Theory. Vol. 8. № 1 (1969). P. 3-53 (рус.
перевод: Скиннер К. Значение и понимание в истории идей / Пер. с англ.
Т. Пирусской // Кембриджская школа: теория и практика
интеллектуальной истории. Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. Μ., 20i8. С. 53~122)·
3- Koikkalainen Р., Syrjämäki S. Quentin Skinner. On Encountering the Past //
Finnish Yearbook of Political Thought. Vol. 6 (2002). P. 34-63·
II
РИЧАРД УОТМОР
нельзя определить, изучая его как отдельно взятый документ
или рассматривая исключительно социальные и
экономические условия его создания.
Хотя Данн и Скиннер опубликовали свои статьи ближе
к концу ig6o-x годов, контакты между ними и Пококом
установились раньше. Общность устремлений, как писал Покок,
стала очевидна уже после появления первых работ Скиннера,
подвергавших сомнению традиционный подход, — о Томасе
Гоббсе и об Английской революции, вышедших в 1964, 1965
и 1966 годах1. То же самое можно сказать о не менее
новаторских текстах Данна о Локке, изданных в 1967 году2. Эти
работы, замечал Покок о Скиннере, «легли в основание нашего
союза, который едва ли чему-то суждено поколебать, а также
сблизили нас с другими исследователями»3. Скиннер и Данн
также указывали, что, прочитав Покока, они почувствовали,
сколь сильно им близки его взгляды4. Трое историков
обменивались трудами прежде их публикации. Когда Данн
отправил Пококу две статьи о Локке, тот в ответ решил послать им
обоим — Скиннеру и Данну — «пачку последних рукописей»,
поскольку «хотел показать [Данну], каким образом я пытался
создать модель политической мысли как деятельности». «Пачка
последних рукописей» включала в себя большую часть будущего
ι. Skinner Q Hobbes's Leviathan // Historical Journal. Vol. 7. № 2 (1964). P. 321-
333; Idem. History and Ideology in the English Revolution // Historical Journal.
Vol. 8. № 2 (1965). P. 151-178; Idem. The Ideological Context of Hobbes's Political
Thought // Historical Journal. Vol. 9. № 3 (1966). P. 286-317; Idem. Thomas
Hobbes and His Disciples in France and England // Comparative Studies in
Society and History. Vol. 8. № 2 (1966). P. 153-167.
2. Dunn J. Consent in the Political Theory of John Locke // Historical Journal.
Vol. 10. № 2 (1967). P. 153-182; Idem. Justice and the Interpretation of Locke's
Political Theory // Political Studies. Vol. 16. № 1 (1968). P. 68-87.
3. Рососк J. G.A. Foundation and Moments // Rethinking the Foundations of
Modern Thought / Ed. by A. Brett, J. Tully, H. Hamilton-Bleakley. Cambridge,
2006. P. 39; см. также: Idem. Quentin Skinner: The History of Politics and the
Politics of History // Idem. Political Thought and History: Essays on Theory
and Method. Cambridge, 2009. P. 123-142 (первая публикация: Common
Knowledge. Vol. 10. № 3 (2004). P. 532-550; рус. перевод: Покок Дж.Г.А.
Квентин Скиннер: история политики и политика истории / Пер.
с англ. А. Акмальдиновой под ред. Е.С. Островской // Кембриджская
школа: теория и практика интеллектуальной истории. С. 191-217).
4- Skinner Q. A Reply to my critics // Meaning and Context: Quentin Skinner
and His Critics / Ed. by J. Tully. Cambridge, 1988. P. 233 (рус. перевод:
Скиннер К. Ответ моим критикам / Пер. с англ. Т. Пирусской //
Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. С. 253);
Dunn J. The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the
Argument of the Two Treatises of Government. Cambridge, 1969. P. 101, 143.
12
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ PRINCETON CLASSICS
сборника «Политика, язык и время», изданного в 1971 году1.
Когда в конце 1968 года Покок должен был приехать в
Кембридж из Северной Америки, Данн уже находился в Западной
Африке и осваивал новые области научной работы2. Покок
писал Скиннеру 8 октября 1968 года: «Похоже, что Вы
работаете над той же проблемой [политической мысли как
деятельности], но с менее социологической и более философской
точки зрения». «Я задаюсь вопросом, не стоит ли нам задуматься
о чем-то вроде совместного манифеста», — добавлял он3. В
течение последующих лет Покок всерьез размышлял над
монографией о методе под возможным названием «Пещера речи»
(The Cave of Speech) или «Как совершать действия в отношении
людей при помощи слов» (How to Do Things to People with Words)4.
В письме от декабря 1969 года Покок упоминал «подход Куна,
Скиннера и Покока». Вопрос, интересовавший их троих, Покок
формулировал следующим образом: «Как совершать действия
в отношении людей при помощи слов и как реагировать на их
попытки совершать действия с помощью слов в отношении вас
самих». Различие состояло в том, что Кун рассматривал
парадигмы с научной точки зрения, как исследовательские
подходы, и не размышлял над ними в контексте политической
мысли как о способах построения речи и убеждения. Тем не
менее Покок пытался привлечь Куна к этому проекту,
написал ему и послал экземпляр книги «Политика, язык и время»
с дарственной надписью, «признавая долг», который сам Кун
«едва ли захочет признать»5. Хотя ответа Покок не получил,
они остались в добрых отношениях.
Связи между Пококом и Скиннером в конце 1960-х годов
были особенно тесными — и не только потому, что их
объединяли схожие взгляды на методы исследования в истории
политических идей. Их обоих также интересовали традиция
и стиль колониального английского письма,
реконструированная Кэролайн Роббинс, а также выводы из генеалогии,
1. Рососк J. G.A. Politics, Language, and Time: Essays on Political Thought and
History. New York, 1971.
2. Political Judgement: Essays for John Dunn / Ed. by R. Bourke and R. Geuss.
Cambridge, 2009.
3. Письмо Джона Покока Квентину Скиннеру, 8 октября 1968 года. Из
личного архива Квентина Скиннера.
4- Рососк J. G.A. Verbalising a Political Act: Towards a Politics of Speech // Idem.
Political Thought and History: Essays on Theory and Method. P. 33-50.
Первая публикация: Political Theory. Vol. 1. № 1 (1973). P. 27-44.
5. Письмо Покока Скиннеру, 12 июля 1971 года. Из личного архива
Квентина Скиннера.
13
РИЧАРД УОТМОР
построенной Роббинс на основании анализа флорентийского
республиканизма1, проделанного Хансом Бароном. Покок
передал Скиннеру черновики глав объемного труда, над которым
работал с начала ig6o-x, и получил в ответ хвалебный отзыв.
О том, насколько важную роль Скиннер в эти годы играл для
продолжающейся работы Покока, можно судить по тому, что
тот посвятил монографию «Политика, язык и время»
Квентину Скиннеру, Кентерберийскому университету и
литературоведу Джону М. Уоллесу2. Скиннер и Покок решили встретиться
в Кембридже. Тогда же Покок сообщал, что его рукопись
находится «на странной стадии»: «...вчера [7 октября 1968 года]
я добрался до середины, имея в виду четыре части:
теоретическое введение, флорентийскую, французскую и английскую».
По словам Покока, он «завершил работу над теоретическим
разделом три года назад», в 1965 году. Теперь же он писал, что
«вчера закончил итальянскую часть». Кроме того, он кратко
излагал свои идеи в том виде, в каком сформулировал их в
последние месяцы 1968 года:
Во введении я утверждаю, что конституционная мысль — это
мысль о конкретных политических системах, существующих
в секуляризованное время, и что история ренессансной мысли
представляет собой историю борьбы с ограниченностью
присущих этому периоду понятийных рядов: опыт — обычай —
благоразумие, Провидение — апокалипсис — хилиазм, фортуна —
гуманизм — республиканизм, — с помощью которых тогда было
принято говорить об индивидуальном и светском. Затем я
применяю эту модель к флорентийской мысли, и здесь она, как мне
кажется, работает очень хорошо; но для этого мне пришлось
написать единственный из известных мне — во всяком случае, на
ι. Robbins С. The Eighteenth-Century Commonwealthman: Studies in
Transmission, Development and Circumstances of English Liberal Thought from the
Restoration of Charles II until the War with Thirteen Colonies. Cambridge,
Mass., 1959; Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic
Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny.
Princeton, 1955 (второе издание —1966 год). Скиннер опубликовал
работу: Skinner Q. The Principles and Practice of Opposition: The Case of
Bolingbroke versus Walpole // Historical Perspectives: Essays in Honour of
J.H. Plumb / Ed. by N. McKendrick. London, 1974. P. 93-128, и планировал
написать книгу, которая бы охватывала период начиная с ιδοο года.
См.: Goldie M. The Context of The Foundations II Rethinking the Foundations
of Modern Political Thought. P. 3-19.
2. Джон M. Уоллес, преподававший английский язык в Чикагском
университете, был автором книги: Wallace J. M. Destiny His Choice: The
Loyalism of Andrew Marvell. Cambridge, 1968.
14
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ PRINCETON CLASSICS
английском языке — развернутый обзор теории I494_I53° годов,
поместив Савонаролу, Гвиччардини, Макиавелли и Джаннот-
ти в общий динамически развивающийся контекст (под конец
я еще добавил к ним Контарини, чтобы немного отчетливее
показать венецианский элемент). Результат оказался
вдохновляющим: вдребезги разлетелись многие традиционные
представления о Макиавелли, который оказался по духу намного
ближе Аристотелю, чем принято считать... Продолжают
происходить странные и удивительные вещи, но беда в том, что
в моей рукописи уже, должно быть, около ΐ2θθθθ слов, и если
я таким же образом буду рассматривать французскую и
английскую мысль, то у меня выйдет книга, в три или четыре раза
превышающая объем «Древней конституции»1.
Следовало бы рассказать, как в конце 1968 года Покок
приехал в Кембридж. Тогда он уже успел много сделать, но к
началу 1969 года ему все еще предстояло изрядно потрудиться
над текстом, который позже стал «Моментом Макиавелли».
Дальше я опишу некоторые обстоятельства, побудившие По-
кока написать книгу, в которой он отстаивал новый подход
к изучению прошлого.
III.
Интеллектуальное странствие Покока началось в Крайст-
колледже и в Кентерберийском университете. Именно в
Кентербери он начал изучать основные формы правления и историю
политической мысли, последнюю — по книге Джорджа X.
Сабина «История политической теории» (A History of Political Theory,
1937), двигаясь от существовавших до эпохи Платона античных
полисов к коммунизму, фашизму и национал-социализму2.
Когда в 1948 году Покок приехал в Кембридж, значительное
влияние на него стал оказывать его научный руководитель Герберт
Баттерфилд. В своей работе «Англичанин и его история» (The
Englishman and His History, 1944) Баттерфилд обратился к Роберту
Брэди и к спорному вопросу об учреждении палаты общин. Это
натолкнуло Покока на мысль об изучении конституционализма
1. Письмо Покока Скиннеру, 8 октября 1968 года. Из личного архива
Квентина Скиннера.
2. О Новой Зеландии и книге Сабина см.: Рососк J.G.A. Working on Ideas in
Time // Idem. Political Thought and History: Essays on Theory and Method.
P. 20-32.
15
РИЧАРД УОТМОР
XVII столетия. Однако к тому времени, как Покок освоился
в Кембридже, Баттерфилд начал работу над исследованиями,
из которых впоследствии сложились «Истоки современной
науки, 1300-1800» (The Origins of Modern Science, 1300-1800, 1949)
и «Георг III, лорд Норт и народ» (George III, Lord North, and the
People, 1949). Несмотря на все большее расхождение в интересах,
Баттерфилд оказывал Пококу всяческую поддержку и помогал
ему на начальном этапе его научной карьеры. Он организовал
для Покока исследовательскую стипендию в Даремском
университете, где тот закончил работу над диссертацией, а
кроме того, способствовал выходу первой публикации Покока1.
Баттерфилд также содействовал возвращению Покока в
Кембридж в 1956 году в качестве научного сотрудника Сент-Джонс-
колледжа. Он, несомненно, поощрял Покока идти собственной
дорогой, и их отношения оставались «хорошими, но близкими
не были никогда»2. Более серьезное влияние на подход
Покока к политической мысли оказал Питер Ласлетт. Покок всегда
признавал это, говоря, что «присутствовал при создании»
новаторского подхода Ласлетта к изучению исторических текстов3.
После работы в Блетчли-парке во время войны, где он
расшифровывал сообщения японской военно-морской разведки,
Ласлетт вернулся в Кембридж в качестве научного сотрудника
Сент-Джонс-колледжа и занялся изучением дворянства (gentry)
в Кенте XVII столетия4. Его заинтересовали политические идеи,
активно циркулировавшие в рукописях среди дворянских
семей. В числе этих текстов он обнаружил трактат «О Патриархе,
или Естественная власть королей» (Patriarcha, or the natural power
of Kings), написанный кентским нобилем сэром Робертом Фил-
мером5. Ласлетт был уверен, что Филмер писал это сочинение
для друзей, обсуждавших политику в своих поместьях и
составлявших, по словам Ласлетта, «университет, рассредоточенный
в пространстве»6. Книга «О Патриархе и другие политические
1. Рососк J. G.A. Robert Brady, 1627-1700: A Cambridge Historian of the
Restoration // Cambridge Historical Journal. Vol. 10 (1951). P. 186-204.
2. Из личной переписки Джона Покока, 11 ноября 2015 года.
3· Рососк J. G.A. Present at the Creation: With Laslett to the Lost Worlds //
International Journal of Public Affairs. 2006. № 2. P. 7-17.
4. Laslett P. The Gentry of Kent in 1640 // Cambridge Historical Journal. Vol. 9
(1948). P. 148-164.
5. Idem. Sir Robert Filmer: The Man versus the Whig Myth // Cambridge
Historical Journal. Vol. 9 (1948). P. 523-546.
6. Idem. The Gentry of Kent in 1640. P. 149. См. также более позднюю
работу Ласлетта: Idem, The World We Have Lost. New York: Charles Scribner,
1973· Ρ ^·
l6
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ PRINCETON CLASSICS
произведения» (Patriarcha and Other Political Works) Филмера под
редакцией Ласлетта вышла в 1949 году. Историк выявил
различия между контекстами создания трактата и его посмертной
публикации1. Основная идея заключалась в том, что следовало
отделить Филмера, вошедшего в историю политической
мысли благодаря труду, опубликованному в 1670-е годы, от
Филмера— автора рукописи, увидевшей свет двадцать лет спустя
после его смерти. В 1953 году Ласлетта назначили
преподавателем исторического факультета; к тому времени он уже
углубился в исследование другого случая, когда задержка
публикации изменила отношение к напечатанному тексту, а значит,
и приписываемое ему значение: речь шла о «Двух трактатах
о правлении» (Two Treatises of Government) Локка*. В
подготовленном им полном издании i960 года Ласлетт впервые показал,
что трактаты Локка, написанные около ι68ι года,
обосновывали билль об отводе (Exclusion Bill), а не оправдывали
революционные события 1688-1689 годов.
Покок писал, что именно Ласлетт «раскрыл тайну
контекстуализации»3. Когда Покок встретился с Ласлеттом, ему уже
были знакомы сложности контекстуализации, даже больше,
чем самому Ласлетту. Покок решил представиться Ласлетту, так
как обнаружил в Библиотеке Иннер Темпл автограф письма
Джеймса Тиррелла Уильяму Петиту, в котором Тиррелл
упоминал «О Патриархе» и убеждал своего адресата ответить на
текст Филмера «Великий вопрос свободного землевладельца»
(Freeholder's Grand Inquest). Издание произведений Филмера
спустя много лет после его смерти стало поводом к написанию
таких разных в языковом плане работ, как «Два трактата» Локка,
«Рассуждения о правлении» (Discourses on Government) Алджер-
нона Сиднея, «Древние права палаты общин в Англии» (The
Ancient Rights of the Commons in England) Уильяма Петита и
«Возрожденный Платон» (Plato Redivivus) Генри Невилла. Каждый
из авторов по-своему понимал политическое значение
сочинений Филмера, что требовало более подробного и конкретного
описания полемик той эпохи.
Когда Покок вновь встретился с Ласлеттом в Кембридже
в 1956 году, сфера научных интересов Ласлетта уже изменилась.
1. Filmer R. Patriarcha and Other Political Works / Ed. by P. Laslett. Oxford,
1949·
2. Laslett P. The i960 Edition of Locke's Two Treatises of Government: Two
States // Transactions of the Cambridge Bibliographical Society. Vol. 1. № 4
(1952). p. 341-347·
3. Джон Покок, из личного письма к автору, ι8 ноября 2015 года.
17
РИЧАРД УОТМОР
Его занимал потенциал философии языка в духе логического
позитивизма применительно к социальным проблемам. Этот
интерес нашел отражение в серии книг под общим
названием «Философия, политика и общество» (Philosophy, Politics and
Society), выходивших с ig57 года. Мало кто из авторов,
печатавшихся в сборниках, был чувствителен к истории, и общий
метод строился на предпосылке, что ни одно высказывание не
имеет значения вне критериев, к которым оно само апеллирует.
В 1962 году Покок написал статью для этой серии. Тем не менее он
был знаком с одной из версий подхода, которому теперь отдавал
предпочтение Ласлетт, по лекциям Карла Поппера,
прочитанным им в Кентерберийском университете в 1945 Г°ДУ и легшим
в основу книги «Открытое общество и его враги» (Open Society
and Its Enemies). Поппер утверждал, что каждое высказывание
должно содержать в себе средства его фальсификации. Взгляды
Ласлетта в дальнейшем претерпели эволюцию. Его восхитило
то, в какой мере патриархальное социальное устройство семьи
и государства отражало реалии XVI-XVII веков. Он решил,
что исследовать социальные структуры средствами
исторической демографии важнее, чем изучать произведения отдельных
мыслителей с помощью контекстуального анализа. В результате
Ласлетт опубликовал свою наиболее известную работу — «Мир,
который мы потеряли: Англия в доиндустриальную эпоху» (The
World We Have Lost: England before the Industrial Age, 1965).
В Кембридже молодого Покока вдохновляли и другие
фигуры. Среди них был Майкл Оукшотт, назначенный в
Кембриджский университет преподавателем истории в 1933 году. Тогда же
он опубликовал работу «Опыт и его формы» (Experience and Its
Modes), в которой описывал «внутренне целостные миры
дискурса, каждый из которых представляет собой изобретение
человеческого интеллекта». Вернувшись в Кембридж после войны,
Оукшотт закончил свое «Введение к Левиафану» (Introduction
to Leviathan), а в I947-I954 годах возглавлял редакцию Cambridge
Journal, где опубликовал статьи «Рационализм в политике»
(Rationalism in Politics, 1947) и «Рациональное поведение» (Rational
Conduct, 195°)· ß *949 году он переехал в Оксфорд, где
преподавал в Неффилд-колледже, а в 1951 году стал профессором
Лондонской школы экономики. Скептицизм и историзм Оукшотта
в конце 1940_х годов ощущались особенно явственно. В этот
период Покок написал несколько текстов для Оукшотта, а позже
участвовал в юбилейном сборнике, изданном по случаю
выхода Оукшотта на пенсию в 1968 году. Покок писал: «Оукшотт во
18
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ PRINCETON CLASSICS
многом близок моему чувству истории». Оказал на него влияние
и Дункан Форбс, который в 1952 году опубликовал свою
«Либеральную англиканскую идею истории» (The Liberal Anglican Idea
of History) и еще раньше начал печатать авторитетные статьи
в Cambridge Journal и English Historical Review. Важнейшие из них,
по мнению Покока, были связаны с шотландской мыслью и
«научным вигизмом»1. В новом издании «Древней конституции»
(1987) Покок отметил, что в 1957 году, когда книга вышла в
первый раз, с шотландским Просвещением он «был знаком
главным образом по статьям Дункана Форбса в Cambridge Journal»11.
В 1958 году Покок снова вернулся в Новую Зеландию: ему
предложили постоянную работу в Кентерберийском
университете. Он получил поручение организовать новую кафедру
политической теории, хотя сам предмет преподавался в
Кентербери на протяжении многих лет. Первыми, кого он
назначил, были, во-первых, Остин Митчелл, впоследствии заметный
британский политический деятель, во-вторых, специалист по
Аристотелю Джим Флинн, получивший известность благодаря
своей интерпретации IQ-тестов, и наконец Ричард Кеннэуэи,
который в Новой Зеландии изучал проблемы внешней
политики. Кроме того, Покок работал в Кентербери одновременно
с местными историками — специалистами по XVIII веку,
находившимися под сильным влиянием Льюиса Нэмира, такими
как Невилл Филипс, Мэри Питере, Джон Оуэн и Джон Куксон.
Именно в Кентербери между 1958 и 1965 годами возник замысел
«Момента Макиавелли», и именно там были написаны
черновые варианты некоторых глав: тех, где говорилось об
идеологии двора и страны (Court and Country), о регулярной армии
и смешанной конституции, о тех суждениях, которые сам
Покок позже назовет «неохаррингтоновскими» (в окончательной
версии книги речь идет о главах и и 12). Когда в 1966 году
Покок переехал в Университет Вашингтона в Сент-Луисе, в
научном плане он как бы перенесся из мира Кэролайн Роббинс
в мир Ханса Барона и перешел от спорных вопросов,
связанных с британскими территориями, к Флоренции XV-XVI веков.
1. Forbes D. Historismus in England // Cambridge Journal. Vol. 4 (1951). P. 387-
400; Idem. James Mill and India // Cambridge Journal. Vol. 5 (1951). P. 19-
33; Idem. The Rationalism of Sir Walter Scott // Cambridge Journal. Vol. 7
О953)· P· 2°~35> Idem. Scientific Whiggism: Adam Smith and John Millar //
Cambridge Journal. Vol. 7 (1954). P. 649-651.
2. Pocock J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English
Historical Thought in the Seventeenth Century. A Reissue with a Retrospect.
p. 371.
19
РИЧАРД УОТМОР
В 1964 году по приглашению медиевиста Нормана Кантора
Покок приехал на лето в Колумбийский университет, и Кантор
попросил его написать о европейской конституционалистской
мысли XV 1-ХVII столетий для серии, которую он готовил для
издательства John Wiley & Sons. Покока, наряду с такими
историками, как Бернард Бейлин и Дуглас Адэйр, уже начали
причислять к сторонникам «республиканского синтеза» из-за его
давнего интереса к Харрингтону и статьи «Макиавелли, Хар-
рингтон и английские политические идеологии
восемнадцатого столетия» (Machiavelli, Harrington and English Political Ideologies
in the Eighteenth Century), напечатанной им в 1965 году в William
and Mary Quarterly. К пониманию важности аристотелевского
и флорентийского нарративов об основании и выживании
республик Покок пришел в Университете Вашингтона.
IV.
Когда в ноябре 1973 года Покок писал предисловие к первому
изданию «Момента Макиавелли», он отметил, что «присутствие
Ханса Барона таинственным образом ощущается во всей книге».
Однако самому Барону об этом «совершенно не было известно».
В работе чувствовалось влияние ряда известных ученых,
таких как Феликс Гилберт, чья книга «Макиавелли и Гвиччарди-
ни: политика и история Флоренции XVI века» (Machiavelli and
Guicciardini: Politics and History in Sixteenth-Century Florence) вышла
в 1965 году, Уильям Боусма, который опубликовал свою работу
«Венеция и защита республиканской свободы: ренессансные
ценности в эпоху Контрреформации» {Venice and the Defense of
Republican Liberty: Renaissance Values in the Age of the Counter Reformation)
в 1968 году, Дональд Вайнстейн, рецензент рукописи Покока,
которую последний отдал в издательство Принстонского
университета (Princeton University Press), и автор книги «Савонарола
и Флоренция: пророчества и патриотизм в эпоху Возрождения»
(Savonarola and Florence: Prophecy and Patriotism in the Renaissance, 1970),
Гордон Вуд, чье «Создание Американской республики, 1776-1787»
(The Creation of American Republic, 1776-1787) увидело свет в 1969 году,
и Джек Хекстер, в то время заканчивавший работу над
собственным трудом о Макиавелли, который затем получил название
«Взгляд на политику накануне Реформации: Мор, Макиавелли
и Сейсель» (The Vision of Politics on the Eve of the Reformation: More,
Machiavelli, and Seyssel, 1973). Кроме того, существенное влияние
на Покока оказали его коллеги по Университету Вашингтона,
20
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ PRINCETON CLASSICS
в том числе Питер Ризенберг, чья «Неотчуждаемость
суверенитета в средневековой политической мысли» (Inalienability of
sovereignty in Medieval Political Thought) вышла в 1956 году, Джон
Маррин, специалист по колониальной и революционной
истории, и политолог Ричард Флэтмен. Они помогли Пококу в начале
1970-х годов, когда тот редактировал первые наброски,
касавшиеся Флоренции. В ноябре I971 года Покок сообщил Скиннеру, что
«Момент Макиавелли» насчитывает «уже до трехсот семидесяти
пяти страниц рукописного текста и напечатанных отрывков из
флорентийцев. Когда книга будет закончена, ее объем
наверняка превысит пятьсот страниц». В то время он «пытался
привести в порядок главу о Джаннотти и Контарини». Одновременно
Покок работал над главами, которые впоследствии вошли в
заключительные разделы «Момента Макиавелли». За двумя
частями о флорентийцах должна была следовать «завершающая
часть „Ценности и история в дореволюционной Атлантике",
состоящая из двух глав: об английском варианте республики и об
американской интерпретации добродетели»1.
Весной 1972 года Покок считал, что до окончания работы
ему оставалось две главы. В соответствии с существовавшим
у него на тот момент планом книги это означало, что в общей
сложности глав будет тринадцать. Покок писал Скиннеру, что
как-то ночью проснулся, «трясясь от истерического смеха при
мысли, что всего будет тринадцать глав и что это доказывает
правоту Штрауса с его мистикой чисел». В десятой и
одиннадцатой главах «рассматривался английский материал в момент
появления на сцене Харрингтона»; они были организованы
согласно «схеме различных типов мышления». Таким
образом, заключительные главы должны были затрагивать «все
связанное с новым прочтением Харрингтона, XVIII веком
в Америке и (по крайней мере косвенно) во Франции».
Стремясь по возможности «избежать Сциллы переписывания всего
заново и Харибды введения новых сюжетов», он планировал
завершить работу в мае, а лето 1972 года посвятить новому
изданию Харрингтона, которому предстояло выйти в
издательстве Кембриджского университета. Хотя Покок признавался,
что его «немного беспокоит» необходимость «забрасывать
читателя в густые дебри английской мысли после стольких глав,
посвященных подробному анализу флорентийцев», он не мог
I. Письмо Покока Скиннеру, 5 ноября 1971 года. Из личного архива
Квентина Скиннера.
21
РИЧАРД УОТМОР
придумать лучшего способа охватить всю тему1. Однако в
начале мая 1972 года он сообщал, что у него по-прежнему остаются
недописанными две главы и что он столкнулся с трудностями,
пытаясь «развернуто изложить, каким образом ценности
гражданского гуманизма сохранились в мире, где их нельзя
объяснить ограничениями средневековой эпистемологии»8.
Лишь 12 октября 1972 года Покок объявил, что «книга о
Макиавелли закончена». Теперь он занялся поисками
издательства, и сначала его выбор пал на «У.У. Нортон» (W.W. Norton).
Заключительная часть «Момента Макиавелли» видоизменилась.
Между маем и октябрем 1972 года Покок добавил две новые
главы. Работая над разделами, посвященными английской
мысли начала XVIII века, он сделал ряд открытий. Покок описал
широко распространенные тогда страхи, связанные с
влиянием коммерческого общества на человеческую личность. Это
затруднение, характерное для XVIII века, «следовало
преодолеть с помощью [политического] языка, определявшего
высшую ценность как нечто статичное, а историю — как движение,
необходимо предполагающее деградацию». Покок рассказывал
Скиннеру, как пелена постепенно спадала с его глаз. Попутно он
отмечал, что в результате теория К. Б. Макферсона, считавшего
XVII столетие временем расцвета «собственнического
индивидуализма» («Политическая теория собственнического
индивидуализма: от Гоббса к Локку» / The Political Theory of Possessive
Individualism: from Hobbes to Locke, 1962), понесла большой урон:
Толчком к этому [переосмыслению] стало открытие,
сделанное мной, когда я работал с такими документами, как
«Обозрение дел Франции» [Review of the Affairs of France, 1704-1713]
Дефо, в поисках исходных аргументов в пользу Двора. Я
наткнулся на образ Кредита (системы государственных векселей)
как непостоянной женщины, которая олицетворяла
иррациональное течение истории и была не кем иным, как Фортуной
(и в меньшей степени Фантазией), явившейся под новым
именем. В итоге мне пришлось полностью переписать свою
трактовку происходившей при Вильгельме и Анне полемики. Для
этого я использовал заглавие «Неомакиавеллиевская
политическая экономия» и доказывал, что в XVIII столетии был свой
1. Письмо Покока Скиннеру, 29 марта 1972 года. Из личного архива
Квентина Скиннера.
2. Письмо Покока Скиннеру, ю мая 1972 года. Из личного архива
Квентина Скиннера.
22
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ PRINCETON CLASSICS
«Момент Макиавелли», когда (ι) модель «добродетель —
фортуна— порок» воспроизводится как «добродетель —
торговля— порок» и (2) ранний капитализм, совершенно не в духе
Локка и Макферсона, осмысляется в рамках парадигмы
«кредит— фантазия — страсть — честь». Таким образом
проявляется характерная для XVIII века версия ложного сознания,
и мы видим зарождение того типа мышления, которое затем
стало марксистским.
Дополнительные части стали идеальной прелюдией к
заключительной главе об американизации добродетели, которая
позволила «поместить увлечение Джефферсона классикой и его
мессианские идеи в пространство Макиавелли и Харрингтона
и в конечном счете дать ключ к истолкованию американской
проблемы сохранения домодерных ценностей в постмодерном
обществе». Покок отметил, что работа над завершением
«Момента Макиавелли» оказалась «настоящим развлечением».
Жаль было только, что он уже не мог пошутить в своем тексте
по поводу последователей Штрауса. Впрочем, Покок на время
творческого отпуска собирался отправиться в Канберру, где
ему предстояла встреча с приехавшим туда Кроуфордом Броу
Макферсоном. Покок уже предвкушал, как «выскажет ему все
это»1. Однако, несмотря на диаметрально противоположные
взгляды на развитие политической мысли, ладили они хорошо.
В январе 1973 года «W.W. Norton» отказался напечатать
«Момент Макиавелли», сославшись на то, что книгу такого
большого объема может опубликовать лишь академическое
издательство. Покок обратился в издательство Принстонского
университета. К апрелю поступил отзыв на рукопись8. Покок сразу
догадался, что анонимным рецензентом был Дональд Вайнстейн.
Вайнстейн прежде всего раскритиковал две первые части книги.
Он полагал, что в разделах о «флорентийцах» слишком мало
внимания уделяется риторике. Кроме того, характеризуя
средневековую мысль, автор злоупотребляет описанием идущей от
Августина традиции. Это описание следовало расширить,
включив в него такие фигуры, как Евсевий Кесарийский. Пококу
удалось учесть в своем тексте замечания Вайнстейна, чем
издательство осталось удовлетворено. В то же время он чувствовал
1. Письмо Покока Скиннеру, 12 октября 1972 года. Из личного архива
Квентина Скиннера.
2. Письма Покока Скиннеру, 26 января 1973 года и 27 апреля 1973 года.
Из личного архива Квентина Скиннера.
23
РИЧАРД УОТМОР
беспокойство. Покок вновь обратился к Скиннеру. Особенно
тревожила его связь между первой частью монографии и
остальным текстом. Как он писал, «среднестатистического читателя
обязательно будет раздражать, что книга, в которой
говорится в первую очередь о Макиавелли, подходит к нему
настолько издалека»1. Покок даже спросил Скиннера, не возражает ли
тот, чтобы его имя фигурировало в перечне благодарностей за
помощь в работе над «Моментом Макиавелли». Учитывая, что
«никто не читал эту проклятую рукопись от начала до конца»,
Скиннер, на протяжении долгого времени дававший ему
советы по каждой новой главе, рисковал оказаться «частично
ответственным» за книгу. Покок поинтересовался, предпочитает ли
Скиннер, чтобы его имя не упоминалось вовсе. Как и раньше
в других своих письмах, Скиннер вселил в Покока уверенность
относительно его работы, подчеркнув, что, с его точки зрения,
несогласованности между частями нет.
6 декабря 1973 года Покок отправил по почте окончательную
версию рукописи «Момента Макиавелли» в Принстон. Скиннер
убеждал Покока расширить аргументацию, и Покок признался,
что вновь переработал последнюю часть, и вкратце рассказал
Скиннеру, что он сделал и чего не сделал:
Я вновь вернулся к Локку, посмотрев на него с позиции,
близкой к точке зрения Арендт. Я занял ее, чтобы отметить
следующую вещь: никто, похоже, толком не знает, как развивалась
трудовая теория ценности от Локка до Адама Смита. При
условии, что мы рассматриваем происхождение более поздней
марксистской проблематики «реификации» и т.д., homo faber,
конечно, важен, но я не нахожу его в начале XVIII столетия.
По стечению обстоятельств я веду сейчас семинар об Августин-
ской эпохе (Augustan [period]), и Мандевиль предстает весьма
необычной фигурой: его «любовь к себе» — форма ложного
сознания,— кажется, ушла далеко вперед в сравнении со «славой»
Гоббса, а его «коммерция» — в сравнении с «собственностью»
Локка. Однако я не пытался вместить это в книгу2.
Такого рода высказывания свидетельствовали о том, что как
для самого Покока, так и для последующих читателей «Момента
1. Письмо Покока Скиннеру, 26 июля 1973 года. Из личного архива
Квентина Скиннера.
2. Письмо Покока Скиннеру, 6 декабря 1973 года. Из личного архива
Квентина Скиннера.
24
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ PRINCETON CLASSICS
Макиавелли» книга стала импульсом к работе над мириадами
сюжетов, представших благодаря ей в новом свете. Покок был
полон воодушевления. Завершение «Момента Макиавелли»
совпало с переменами в жизни самого Покока и его семьи. После
долгих колебаний, связанных с вопросом, уезжать ли ему из
Миссури, он наконец решился принять давнее предложение от
Университета Джонса Хопкинса и в ig74 года занял там
должность профессора истории.
V.
Работая над «Моментом Макиавелли», Покок считал
необходимым отстаивать метод изучения политической мысли как
совокупности лингвистических актов, осуществляемых
носителями языка в конкретных исторических контекстах. Покок
всегда понимал контекст шире, чем другие историки,
работающие в той же области. Это обстоятельство предопределило
структуру и содержание книги. Оно способствовало тому
ощущению величия (grandeur), которое возникало у многих
читателей по прочтении труда. Они столкнулись с уникальным
историческим воображением, обладавшим необыкновенными
глубиной и масштабом. Покок осознавал, что многим обязан
другим историкам. Тем не менее он всегда предлагал нечто
новое. Отчасти об этом можно судить по рассказу о замысле
«Момента Макиавелли», сохранившемуся среди бумаг
Дональда Вайнстейна и написанному Пококом в 1968 году. Объясняя,
в чем состояла исключительность политических идей эпохи
Возрождения, он отмечал:
Несколько лет назад я занялся исследованиями ренессанс-
ной конституционной мысли и вскоре задался вопросом, как
можно было бы определить ее суть. У меня сложилось
представление, что речь шла о политической мысли, стремящейся
объяснить конкретные политические системы — во
Флоренции, Венеции, Франции и Англии, — скорее чем
политическое сообщество как универсальное абстрактное понятие. Это
навело меня на размышления, что поздняя схоластическая
мысль прекрасно приспособлена для работы с
универсалиями и неплохо справлялась с понятиями, связывавшими
единичное с универсальным, но гораздо хуже оснащена
концептами, позволявшими осмыслить отношения между
одним единичным явлением и другими, а тем более отношения
25
РИЧАРД УОТМОР
последовательности или причинно-следственной связи. Под
«единичным» я подразумеваю, во-первых, конкретное явление
или событие, во-вторых, конкретное решение, призванное
упорядочить явление или событие и встроить его в социальную
структуру, и, наконец, конкретную национальную или
местную систему правления, сотканную из конкретных решений
и институциональных структур, возникших благодаря этим
решениям. Я обнаружил свидетельства, что мыслителям XV
столетия был совершенно не чужд такой взгляд на
политику, но они столкнулись с большими трудностями, пытаясь
рационализировать его. «Разум», как они его понимали, по
большей части оперировал универсальными, отвлеченными
и вневременными категориями; из этого я сделал вывод, что
единичное понималось прежде всего как разворачивающееся
во времени, имеющее начало и конец, а что само время в
значительной мере рассматривалось как измерение этой очень
трудно понимаемой единичности1.
Затем Покок объяснил, что такой подход к идеям прошлого
неизбежно приводил к рассмотрению ренессансной
конституционалистской мысли как проявления позднесредневекового
историзма:
Получалось, таким образом, что для подобного склада ума,
который я пытался определить, было характерно
восприятие последовательности единичных событий и действий во
времени как нерациональных, но что средства, которыми он
располагал для осмысления единичного, служили ему и для
понимания цепочек событий во времени, для придания
жизнеспособности политическим действиям и для поддержания
устойчивости политических структур. На этом этапе изучение
позднесредневекового или ренессансного конституционализма
превратилось в исследование позднесредневекового историзма;
скорее радуясь такой перспективе, я продолжил разрабатывать
модель, описывающую способы осмысления единичного и
времени, которые, как мне казалось, были тогда доступны. Речь
в целом шла о языках или парадигматических структурах, на
которые я затем опирался.
I. PocockJ.G.A. A Method, a Model, and Machiavelli (коллоквиум по истории
в Принстоне, ig ноября 1968 года. Из трудов Дж.Г.А. Покока,
Университет Джонса Хопкинса. Благодарю Беверли Паркера, что он нашел
и отправил мне этот текст).
2б
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ PRINCETON CLASSICS
Последний тезис важен, поскольку он указывает на то, что
сделало работу Покока единственной в своем роде. Многие
историки и политические философы приходили к выводу, что
понять идеи во времени означало определить множество языков,
на которых они были сформулированы. Покок показал, что
один из этих языков создал историческую мысль, вместе с
другими языками образовав то, что он обозначил как «дискурс
истории или историографии». Для Покока это означало разрыв
между, с одной стороны, политической мыслью или
политической теорией и, с другой, — философией. В итоге история или
историография стали формой политической мысли,
необходимой для ее трансляции во времени. Пока Квентин Скиннер
и другие ведущие историки политической мысли занимались
воссозданием правовой и политической философии,
породившей современную концепцию государства, а также теорию
индивидуальных гражданских и политических прав, Покок
продолжал изучать историографию и гражданское общество. Это
побудило его проследить, как изменялись ограничения,
которые политика накладывала на домодерную экономику. Кроме
того, его интересовало, как происходила постепенная
адаптация политической мысли и истории в коммерческом обществе
с XVIII до начала XIX века1. Решая эту задачу, Покок понял,
что мы имеем дело с парадигматическим сдвигом в
британской истории2. Это открытие позволило Пококу осознать весь
масштаб мировоззрения Эдварда Гиббона, которому он
посвятил шесть томов выдающегося исследования «Варварство и
религия» (Barbarism and Religion), выходившего с iggi по 2015 год.
1. Idem. The Political Limits to Рге-modern Economics // The Economic Limits
to Modern Politics / Ed. by J. Dunn. Cambridge, 1990. P. 121-141.
2. Idem. Three British Revolutions: 1641, 1688, 1776. Princeton, 1980; Idem. Virtue,
Commerce and History: Essays on Political Thought and History, Chiefly in
the Eighteenth Century. Cambridge, 1985.
Предисловие
Эта книга состоит из двух основных частей, а сложность темы
служит оправданием ее объема. В первой половине —
разделенной на две части — я интерпретирую флорентийскую
мысль эпохи Макиавелли, помещая его труды в круг
сочинений современников и сверстников: Савонаролы, Гвиччар-
дини, Джаннотти и других. Такой подход не использовался
в ранее написанных англоязычных работах: я стремлюсь
поместить флорентийский республиканизм в контекст, который
анализирую в трех главах, составляющих первую часть. Здесь
я предполагаю, что возрождение республиканского идеала
сторонниками гражданского гуманизма поставило вопрос об
обществе, в котором политическая природа человека,
описанная Аристотелем, должна была получить завершенный вид
внутри христианского представления о времени, отрицавшего
возможность какой-либо мирской завершенности. Далее, я
исхожу из того, что мышление европейца этого периода
располагало ограниченным набором средств, позволяющих наделять
смыслом секулярное время, — об этом речь пойдет в первых
трех главах, а также в главах, посвященных обычаю,
благодати и фортуне. Проблема существования республики во
времени могла в ту эпоху осмысляться лишь с помощью таких
средств. Флорентийцы первой четверти XVI века — в
особенности Макиавелли — ставили и решали сформулированную
таким образом общую проблему, что придает их мысли
особое своеобразие.
Выражение «Момент Макиавелли» следует понимать
двояко. Во-первых, оно обозначает момент и способ, благодаря
которым появилась на свет мысль Макиавелли. Здесь я прошу
читателя не забывать, что перед ним не «история
политической мысли» (что бы это ни означало) в последние годы
существования Флорентийской республики и не история
политического опыта флорентийцев той эпохи, призванная «объяснить»,
как они выражали изучаемые нами идеи. Момент, о
котором здесь идет речь, определяется выборочно и тематически.
Я утверждаю, что устойчивые формы в темпоральном сознании
28
ПРЕДИСЛОВИЕ
европейцев эпохи Средневековья и раннего Нового времени
привели к такому представлению о республике и гражданском
участии в ней, которое ставило проблему исторического
самосознания. Как можно заметить, Макиавелли и его
современники прямо и косвенно сталкивались с этой проблемой и
занимались поисками ее решения. Она играла важную роль тогда
и не теряла своей значимости в последующие два или три
столетия, во многом благодаря их оригинальным разысканиям.
Попытки решения указанной проблемы — это исторический
процесс, хотя речь шла лишь об одном из аспектов сложной
структуры их мысли; а «момент» — это та историческая
ситуация, в которой они занимались осмыслением этой проблемы,
ставшей для них насущной.
Во-вторых, «момент Макиавелли» обозначает саму
проблему. Это название того момента в концептуальном
понимании времени, в который республика осознает собственную
временную конечность, стараясь сохранить моральную и
политическую стабильность в потоке иррациональных событий,
воспринимавшихся как неминуемо разрушительные для всех
стабильных светских установлений. На разработанном для
этих целей языке ситуация описывалась как противостояние
«добродетели» «фортуне» и «пороку». Изучение флорентийской
мысли предполагает исследование того, как Макиавелли и его
современники понимали оттенки значений этих слов и их
импликаций в контексте тех способов осмысления времени,
которые рассматриваются в предшествующих главах. Стремясь
показать, что Макиавелли был в числе многих более и менее
выдающихся людей, обеспокоенных решением этой проблемы,
я надеюсь также показать, что это подходящий контекст для
изучения его мысли. Толкуя ее таким образом, мы, возможно,
сократим число высокопарных и оторванных от реальности
интерпретаций, которым она подвергалась.
Кроме того, я утверждаю, что у «момента Макиавелли»
была долгая история в том смысле, что секулярное
политическое самосознание продолжало ставить вопросы для
исторического самопонимания, составляя часть пути, проделанного
западной мыслью от средневекового христианского к
модерному историческому сознанию. Макиавелли и его современники,
флорентийская теория и ее представления о венецианской
практике оставили парадигматическое наследие, связанное
с размышлением над не теряющими актуальности
проблемами: понятиями сбалансированного правления, динамичной
29
ПРЕДИСЛОВИЕ
virtù1, ролью оружия и собственности в формировании
гражданской личности. Во второй половине книги — в третьей
части — я прослеживаю историю «момента Макиавелли»
в английской и американской мысли XVII-XVIII веков,
стараясь показать, что англоязычная политическая традиция была
носителем республиканских и макиавеллистских концепций
и ценностей, наряду с концепциями и ценностями
конституционалистов, Локка и Бёрка. Я утверждаю, что ключевой
фигурой здесь выступает Джеймс Харрингтон, осуществивший
синтез гражданской гуманистической мысли с английским
политическим и социальным сознанием, и философии войны
Макиавелли — с основанным на общем праве
представлением о важности безусловных прав на частную собственность.
Первые три главы третьей части посвящены размышлению
о том, как республиканская концепция политики оказалась
уместной в весьма неблагоприятной обстановке Англии
времен Гражданской войны, где конфликт между тюдоровским
монархизмом и пуританским религиозным национализмом
и милленаристским сектантством породил, по-видимому,
намного больше соперничающих между собой стилей и языков
мышления, чем во Флоренции. Уверенное распространение
неоклассической политической теории, которая в каком-то
смысле была наследницей пуританского милленаризма, и ее
господство в Англии и Америке XVIII столетия — феномен,
требующий осмысления, которому и должна послужить
оставшаяся часть этой книги.
«Момент Макиавелли» в том виде, в каком он существовал
в XVIII веке, составляет тему заключительных глав, в
большей степени посвященных Америке. Противостояние
«добродетели» и «коррупции» рассматривается как важная проблема
социальной и исторической философии этой эпохи.
Категории, которые она почерпнула из гуманизма и у Макиавелли,
стали, как показано, проводником общего враждебного
отношения к капитализму в начале Нового времени — отношения,
основанного на критическом осмыслении системы
государственного кредита, а не самого рыночного обмена. Понятия
«кредита» и «торговли» все чаще перенимали функции
«фортуны». Хотя это побуждало мыслителей воспринимать секу-
лярное время как динамичное скорее, чем просто как
хаотичное, противопоставление «добродетели» и «коррупции» — или
I. Доблесть, добродетель (итпал.). — Прим. ред.
ЗО
ПРЕДИСЛОВИЕ
«добродетели» и «коммерции» — сохраняло актуальность,
олицетворяя оппозицию между ценностями и личностью, с
одной стороны, и историей и обществом, с другой, в его
первоначальной модерной и секулярнои форме. В XVIII веке этот
конфликт достигает пика за счет намечающейся тенденции
к диалектическому восприятию истории в Европе и
утопической картины открытого пространства в Америке, где
исконно ренессансное чувство времени сохранялось, по-видимому,
вплоть до XIX века. Я утверждаю, что проблемы, поднятые
флорентийскими гуманистами еще во времена Леонардо Бру-
ни, сыграли существенную роль в формировании модерного
смысла истории и отчуждении от нее.
Замысел этой книги родился, когда Норман Ф. Кантор
попросил меня написать обзор европейской конституционной
мысли XV 1-ХVII веков для серии сборников, которую он тогда
редактировал. На протяжении почти десяти лет работа далеко
отошла от его или моих первоначальных намерений, но я
должен упомянуть об этом полученном от него импульсе и о его
поддержке, равно как и о великодушии его тогдашних
издателей (John Wiley and Sons), освободивших меня от обязательств,
которые я на себя взял.
Я хочу назвать имена исследователей, чьи труды имели
для меня наибольшее значение в ходе работы над этой
книгой. В ней таинственным (пусть и противоречивым) образом
ощущается присутствие Ханса Барона (которому об этом
совершенно не было известно). Среди многих ученых, чьи
работы и высказанные в разговоре мысли непосредственно
послужили мне опорой, я должен в первую очередь упомянуть
Феликса Гилберта, Дональда Вайнстейна, Уильяма Дж. Боус-
му, Джона М. Уоллеса и Гордона С. Вуда. Если говорить о тех,
чья деятельность более тесно связана с искусством изучения
истории, отдельные фрагменты рукописи на разных этапах
читали, высказывая свои замечания, Дж.Х. Хекстер (Иельский
университет), Питер Ризенберг и Джон М. Муррин
(Университет Вашингтона), Ричард Э. Флэтмен (Университет
Вашингтона) и Квентин Скиннер (Кембриджский университет).
Разумеется, они не несут ответственности за содержание книги.
Мистер Скиннер даже предложил ее название, однако его не
следует винить в том, что у меня из этого получилось. Я
хотел бы также поблагодарить Питера Фасса, Макса Окенфасса
и Генри Шапиро, моих коллег по местному отделению
Ассоциации изучения политической мысли в Сент-Луисе, которые
31
ПРЕДИСЛОВИЕ
достаточно натерпелись от меня, и мою дорогую жену, которая
составила алфавитный указатель в период, когда у нас было
много других забот. Магистратура и исторический факультет
Университета Вашингтона на протяжении восьми лет
неизменно оказывали мне материальную, моральную и
интеллектуальную поддержку.
Дж.Г.А. Покок
Университет Вашингтона, Сент-Луис
Ноябрь IQ73 zoba
ЧАСТЬ
I
Время и единичное.
Концептуальные основания
Глава I
Проблема и ее модусы
А) Опыт, обычай и рассудительность
I.
Цель этой книги состоит в описании республиканской теории
раннего Нового времени в контексте зарождающегося историзма,
основанного на идеях и понятийном лексиконе, которые были
доступны мыслителям Средневековья и Возрождения — в
терминологии К. С. Льюиса принадлежащими «Старому Западу»1.
Они использовались для осмысления конкретных событий
и непредвиденных обстоятельств, а также в процессе
понимания времени как цепочки случайных происшествий.
Республика, или аристотелевский полис, — в том виде, в каком
гражданская гуманистическая мысль XV века возродила это
понятие, — была одновременно универсальной, поскольку
существовала для того, чтобы дать гражданам возможность
воплотить в жизнь все ценности, которые люди способны
реализовать в своей жизни, и особенной, конечной и ограниченной
в пространстве и во времени. У республики есть начало, а
значит, должен быть и конец. Как следствие, возникла
необходимость, во-первых, показать, как она зародилась и могла бы
продолжать свое существование, а во-вторых — примирить тот
факт, что она призвана реализовать универсальные и вечные
ценности, с нестабильностью и превратностями ее бытия во
времени. Вот почему жизненно важным компонентом
республиканской теории — и, начиная с момента ее появления на
сцене (если не раньше), всякой политической теории, — стали
представления о времени, о случайных событиях,
измерением которых служило время, и о сериях (пока рано говорить
о «процессах») конкретных происшествий, из которых
складывалось то, что мы привыкли называть историей. Именно
поэтому республиканскую теорию можно определить как раннюю
I. Lewis С.S. De Descriptione Temporum // Lewis С.S. Selected Literary Essays.
Cambridge, 1969.
34
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
форму историзма, хотя, как мы увидим, многие коннотации
нашего слова «история» в ту эпоху были закреплены за
другими словами и их эквивалентами в разных языках — в том
числе «обычай», «Провидение» и «фортуна». Существовали
хорошо разработанные понятийные словари, в которых эти
и другие слова употреблялись в расширенном смысле, и эти
словари в какой-то мере соответствовали один другому. Таким
образом представляется возможным и вполне корректным
реконструировать структуру идей, с помощью которых сознание
XVI столетия пыталось сформулировать некое подобие
философии истории. Эта попытка составляла, со всеми
сложностями и нестыковками, концептуальную основу, в рамках которой
доктрина vivere civile — идеал активного участия граждан в
жизни республики — должна была выживать. Возникавшее здесь
напряжение и является предметом данной книги.
Следующие три главы посвящены описанию того, что
представляется в этих словарях самым существенным: основным
способам насколько возможно полно осмыслять конкретные
явления и события во времени. Есть основания полагать, что
достичь этого было трудно. Интеллекту человека позднего
Средневековья и Ренессанса единичные явления
представлялись менее постижимыми и менее рациональными, нежели
универсальные. Коль скоро единичное конечно, оно
ограничено во времени и пространстве, поэтому измерением его
существования становилось время, которое само утрачивало часть
своей рациональности и постижимости. Используемые нами
понятия могут навести на мысль, что речь пойдет о
философском обосновании. Выделяемые в книге понятийные
словари будут рассматриваться как не в полной мере
философские. Они осмысляли время и единичные явления, исходя из
предпосылки, что они не обладают безупречной
рациональностью. Кроме того, мы выдвинем гипотезу о философии
позднего Средневековья и постараемся показать, почему эта
несовершенная рациональность могла ставить в затруднение
человеческий разум.
Мы можем сделать ряд обобщающих допущений.
Средневековые философы спорили, являются ли единственными
истинными объектами рационального познания универсальные
категории или утверждения, не зависящие от времени и
пространства. Процесс их постижения происходил, безусловно, во
времени и пространстве, но осознание их истинности или
реальности основывалось на восприятии, которое не зависело
35
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
ни от того, ни от другого. Существовала самоочевидная
истина, не связанная со временем и обстоятельствами. Реальность
высшего порядка состояла из универсалий, а деятельность
разума заключалась в том, что ум возвышался, постигая их
вневременную рациональность. Истина самоочевидного
утверждения была самодостаточной и не нуждалась в условном
подтверждении с помощью какой-либо другой предпосылки и тем
более в ненадежном и случайном подтверждении во времени
и пространстве. Именно в этом качестве самодостаточности
во многом и заключалась вневременность. И наоборот, знание
конкретных обстоятельств являлось случайным, ненадежным
и преходящим. Оно было основано на чувственном
восприятии, источником которого субъекту познания служило его
бренное тело, а часто и сообщения, воспринятые им при
помощи чувств от других субъектов познания, о том, что
чувственное восприятие людей позволило им ощутить, постичь
или осмыслить. Суждения об особенных явлениях должны
были формироваться в непредвиденных обстоятельствах, где
одно утверждение всегда зависело от другого. По всем этим
причинам знание об особенном ограничивалось во времени.
Явления, которые оно описывало и которые обладали
четкими пространственными и временными границами, были сами
конечными во времени.
Если мы назовем это временное измерение «историей», то
сможем сказать, что схоластическая «философия истории»
подчеркивала его случайный и не вполне рациональный характер.
Однако мы можем также говорить (в нескольких разных
смыслах), что схоластический интеллект не знал никакой
философии истории. Под «историей» мы, как правило, понимаем
последовательность событий, происходящих во времени, скорее
социальных и публичных, чем частных и субъективных,
событий, которые мы пытаемся сначала связно изложить в виде
рассказа, а затем представить как единый процесс. Однако
с точки зрения схоластического мышления это занятие не
имело большой ценности. Вслед за Аристотелем схоластика
ставила повествование, простое рассказывание историй, ниже
поэзии, а поэзию — ниже философии, ибо она в меньшей степени
способна выявить универсальное значение событий. Эта цель
лучше всего достигалась при таком способе мышления,
который решительно уходил от конкретного события и
поднимался к созерцанию универсальных категорий. Что касается
процессов и временного измерения, выделенный аристотелевским
36
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
интеллектом процесс изменения заключался в том, что нечто
начинало, а затем переставало быть. Фюсис (physis),
последовательность преобразований, в которой нечто достигало своей
цели, совершенствовалось в форме, реализовывало свой
потенциал, а затем прекращало существование, — все это более
развернутое описание того, что значит начать и перестать быть.
Все вещи в свое время приходили к концу, но постижимость
времени в большей степени сопряжена с бытием в вещах, так
как необходимые систола и диастола заключались в бытии
и небытии отдельных вещей, и именно это измеряло время.
Но бытие и небытие отдельной вещи не тождественны замене
одной вещи на другую. Первое — законченный процесс,
тогда как второе предполагает открытый финал. И в той мере,
в какой аристотелевский интеллект отождествлял изменения
с фюсисом (phyns), он тяготел к циклическому пониманию
процесса, а значит, и времени. Преимущество такого подхода
состояло в том, что время представало как полностью постижимое.
Если время измеряется движением, размышлял Аристотель, то
равномерное круговое движение есть мера по преимуществу, так
как число его наиболее доступно [для определения]. Ни
качественное изменение, ни рост, ни возникновение не равномерны,
а таково только перемещение. Оттого время и кажется
движением небесной сферы, что этим движением измеряются прочие
движения, и время измеряется им же. Отсюда и обычная
поговорка: человеческие дела называют круговоротом и переносят
это название на все прочее, чему присущи природное движение,
возникновение и гибель. И это потому, что все перечисленное
оценивается временем и приходит к концу и к началу, как бы
определенным образом чередуясь, ибо и само время кажется
каким-то кругом. А оно, в свою очередь, кажется кругом
потому, что оно мера подобного движения и само им измеряется.
Таким образом, называть совершающееся [в мире] вещей
круговоротом — значит утверждать, что существует какой-то круг
времени, — и это потому, что время измеряется круговращением:
ведь измеренное не обнаруживает ничего другого, кроме меры,
разве только в целом [имеется] несколько мер1.
I. Aristotle. Physics / Transi, by R.P. Hardie and R.K. Gaye // The Works
of Aristotle / Ed. by W.D. Ross. Oxford, 1930; Аристотель. Физика (IV,
223b-224a). Цит. по: Аристотель. Физика / Пер. В. П. Карпова //
Философы Греции. Основы основ: логика, физика, этика. Харьков, I999-
С. 686-687; книга четвертая, глава 14.
37
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
Как легко заметить, Аристотель прекрасно сознавал:
рассматривать время как циклическое на основе того, что сфера
является самой совершенной фигурой и, следовательно, наилучшей
мерой, — это вопрос интеллектуального удобства, а не — как
думали позже другие — выражением веры в полную постижимость
мироздания. Чуть сложнее убедиться в том, что он понимал
трудность применения циклической концепции истории к
«человеческим делам». Ведь в человеческих делах многое происходит
без какого-либо предсказуемого порядка. Сказать о них, что они
образуют круг, можно лишь в том смысле, что все многообразие
человеческого опыта образует единую огромную сущность,
обладающую собственным осуществляющим себя и повторяющимся
фюсисом (physis). После Аристотеля отдельные философские
теории подходили к такому умозаключению, но сейчас нас
призывают не придавать им слишком большого значения1; было ясно,
что применение понятия фюсиса (physis) к человеческим делам
служило интеллектуальным удобством и метафорой. В конце
концов именно греки начали писать историю в том виде, какой
она по преимуществу и сохраняет: как упражнение в
политической иронии — понятный рассказ о том, как людские поступки
приводят к иным последствиям, чем было задумано.
Впрочем, одно дело — понимать, что можно лишь
ограниченно применять концепцию циклического фюсиса (physis)
к человеческой истории, рассматривая следование одной вещи
за другой по аналогии с бытием и небытием единичной вещи;
и совсем другое — сформулировать какой-то другой, столь же
удовлетворительный с философской точки зрения способ
рассматривать вышеозначенную последовательность. Греческий
интеллект писал историю, но не делал ее философски
постижимой. Что касается христианского интеллекта, он, разумеется,
отвергал всякую мысль о цикличности мироздания.
«Нечестивые ходят по кругу»2 — мир при таком взгляде представал не-
сотворенным и бесконечным. Однако убежденность христиан
в том, что Бог сотворил мир и людей в некий момент в
прошлом и приведет людей к спасению, а мир — к концу в некий
момент будущего, несмотря на ее неизмеримую важность для
1. Nisbet R.F. Social Change and History: Aspects of the Western Theory of
Development. New York, 1969; Starr Ch. G. The Awakening of the Greek
Historical Spirit. New York, 1968; History and Theory, Beiheft 6: History and
the Concept of Time. Middletown, Conn., 1966.
2. Цит. no: Manuel F.E. Shapes of Philosophical History. Stanford, 1965. P. 3;
отрывок из 11-го псалма в переводе Августина; цит. по: Шестаков В. П.
Эстетика Ренессанса. М., 1981. Т. ι. С. 47·
38
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
развития исторической мысли, сама по себе не объясняла
последовательности конкретных событий и явлений во времени,
равно как и не наделяла каким-то особым значением время,
служившее измерением этой последовательности. Проблема
божественного предвидения, вопрос о связи между погруженным
во время существованием отдельного человека и
непосредственным присутствием вневременного и вечного Бога побудили
Августина и Боэция сформулировать идею nunc-stans*, или такой
точки вечности, из которой Бог видел каждый момент времени
как одновременно творимый и присутствующий в настоящем.
Однако даже если человек признавал nunc-stans в качестве акта
интеллекта или веры, было очевидно: он не мог поделиться им,
и сознанию, заключенному в одном моменте времени, другой
момент оказывался неведом. Кроме того, такое знание не играло
какой-либо решающей роли. Действия падшего человека, если
им руководили его собственные развращенные воля и ум,
являлись движением от Бога к еще большему падению, от
смысла— ко все более глубокой пропасти бессмысленности (такое
движение прослеживается в дантовском «Аде»). Учитывая
обещание конечного искупления, историческое время можно было
рассматривать и как движение назад к Богу, но оно достигалось
особой последовательностью актов искупительной благодати,
четко отделенных от событий истории в светском ее понимании
и связанных с ней лишь неким таинственным образом. В
истории можно заметить следы присутствия Бога, но сама история
в целом не состояла из таких следов. Вечность могла питать
любовь ко времени, но время было пассивным и
бездеятельным возлюбленным. Наконец, усвоившая Аристотеля
христианская мысль склонялась к тому, чтобы восстановить аналогию
с естественным развитием, фюсисом (physis). Человек утратил
свою форму, свою подлинную природу, и reformatio — акт
благодати — действовало, стремясь вернуть ему утраченное. Можно
было задаться вопросом, не является ли redemptio (искупление)
чем-то большим, чем reformatio: циклическое ли это движение,
возвращающее человека к положению Адама до грехопадения,
или восхождение по спирали к состоянию более высокому, чем
то, какого он лишился, совершивfelix peccatum (счастливый грех)2.
Однако, так или иначе, движение это не состояло из цепочки
ι. Остановившееся теперь (лат.).—Прим. ред.
2. См. работу по более обширной проблематике: Ladner G. В. The Idea of
Reform: Its Impact on Christian Thought and Action in the Age of the Fathers.
Cambridge, Mass., 1959, а также статью, посвященную конкретному
39
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
человеческих поступков и страданий. Секулярное время — с
этимологической точки зрения в этой фразе присутствует
тавтология1 — выступало как место действия искупления, но не как
его измерение. Более того, без искупления оно приобретало
характер энтропии: теряло форму, двигалось от упорядоченности
к хаосу. Такое движение могло быть обращено вспять, но оно
не имело осмысленного продолжения.
Отсюда христианская мысль, имея дело с
последовательностью конкретных событий или явлений, предпринимала
настойчивые попытки соотнести их с универсалиями, прибегая
к средствам философии или поэзии, типологии, анагогии или
аналогии, — для этих целей существовал впечатляющий, даже
грандиозный набор средств. Впрочем, христианство скорее
стремилось рассматривать каждое конкретное событие в его
отношении к вечности и игнорировать последовательность таких
событий саму по себе как лишенную какого-либо особенного
значения. Вечный порядок, с которым соотносились
конкретные события, не принадлежал времени или истории, даже
когда создавал историю, проявляясь во времени; а сама история
нередко — хотя и не всегда — воспринималась лишь как ряд
символических картин, в котором последовательное изложение
играло исключительно пояснительную роль*. Именно в это
время по-настоящему обретает значимость двойственное значение
таких слов, как «временный» (temporal) и «мирской» (secular): оба
передают как идею времени (tempns, saeculum), так и идею
отсутствия святости у того, что не является вечным. Для удобства
и простоты можно сказать, что в основе христианского
мировоззрения — разумеется, содержавшего семена того, что должно
было прийти ему на смену, — лежало стремление игнорировать
временную, мирскую историю. Возникновение исторического
объяснения событий во многом связано с вытеснением этого
мировоззрения другим, более темпоральным и мирским.
Настоящая книга затрагивает некоторые стороны этого
процесса и ставит себе целью показать, что во многом он был
аспекту этой дискуссии: Rosenmeier J. New England's Perfection: the Image
of Adam and the Image of Christ in the Antinomian Crisis, 1634 to 1638 //
William and Mary Quarterly. 3rd ser. Vol. 27. № 3 (1970). P. 435-459.
1. Слова, составляющие английскую фразу secular time, происходят от
латинских существительных (saeculum, tempus), имеющих схожие
значения, отсылающие к идее ограниченной протяженности во времени.
См. нижеследующий абзац. — Прим. ред.
2. Об одном из аспектов такого восприятия см. Brandt W.J. The Shape of
Medieval History: Studies in Modes of Perception. New Haven, London, 1966.
40
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
вызван рассуждениями о политике. Значимые метафоры
политики выразительно указывают на ее связь с историей:
политика— «искусство возможного», а значит, зависит от
обстоятельств, она «бесконечное приключение»1 стоящих у власти,
«корабль», рассекающий «бездонное и бескрайнее море»2. Если
мы подумаем о господстве произвольного в истории, «игре
случайного, неожиданного и непредвиденного»3, можно
предположить, что такой взгляд на политику послужил мощным
стимулом для развития секулярной историографии (поэтому
у политиков могли оказаться собственные причины для
разрыва с христианским мировоззрением). Но идеи
непреднамеренности мирских событий формировались, как мы увидим,
не в русле политической философии, как она понималась до
Нового времени. В данной философской традиции, которую
некоторые по-прежнему предпочитают называть «великой»,
политическое сообщество рассматривалось как универсальный
феномен, нечто присущее самой человеческой природе.
Предпринимались попытки обосновать его идею или форму,
соотнести его основания с принципами универсального порядка,
часть которого оно составляло. Таким образом оно в силу
очевидных причин отдалялось от сферы конкретного и
случайного. Однако даже эта философская традиция признавала, что
политическое сообщество, если рассматривать его конкретные
воплощения, представляло собой мирское, а значит,
ограниченное во времени явление. Область интересов философии,
возможно, не простиралась настолько далеко, что включала
в себя заботу об умопостижимости всецело принадлежащих
временному измерению явлений и способы понимания
ограниченности внутри мирского времени. Впрочем, в смежных
с философской традицией областях можно обнаружить типы
мышления, направленные именно на осмысление особенного
в политике, того, что интеллект мог осознать, когда
размышлял о конкретном политическом сообществе, существующем во
времени. Речь шла об особом стечении обстоятельств,
складывавшихся во времени, когда конкретное общество осмыслялось
как структура, способная абсорбировать внешние воздействия
1. Oliver F. S. The Endless Adventure: Personalities and Practical Politics in
Eighteenth-Century. Boston, 1931.
2. Oakeshott M. Rationalism in Politics and Other Essays. London, 1962. P. 127
(рус. перевод: Оукшоттп M. Рационализм в политике и другие статьи /
Пер. с англ. И. И. Мюрберг, E.H. Косиловой, Ю.А. Никифорова, О.В.
Артемьевой. М., 2002).
3- Fisher H.A.L. A History of Europe. Boston, 1935 (предисловие).
4i
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
и реагировать на вызовы непредсказуемо складывающихся
событий. С точки зрения своей организации и истории оно
состояло из следов, оставленных институциональными ответами
на проблемы, возникавшие в прошлом. Далее мы предпримем
попытку представить три типа мышления, упомянутого выше,
и, таким образом, построить модель, которая поможет
прояснить, что случилось, когда республиканский идеал поставил
вопрос о существовании универсального в преходящих
мирских обстоятельствах.
II.
Сэр Джон Фортескью (около адо-ЧУЭХ английский юрист и
философ-любитель, поможет нам понять идеи той эпохи,
благодаря тому, что он высказал их в несколько грубой форме.
Фортескью написал главную свою работу, трактат «О похвале законам
Англии» (De Laudibus Legurn Angliae), примерно в 1468-1471 годах.
В то время он находился в изгнании вместе с претендентами
на английский престол из рода Ланкастеров, при которых
занимал пост лорд-канцлера. Однако гораздо важнее, что до
изгнания он был верховным судьей Суда королевской скамьи,
то есть служил на высшей должности в сфере английского
общего права. Если позднее о Фрэнсисе Бэконе говорили, что
он «философствует как лорд-канцлер», то о Фортескью можно
с не меньшим основанием сказать, что он — не в последний
раз в английской истории — философствовал как верховный
судья. Эти две высокие юридические должности требовали
разных типов социального мышления и, соответственно,
тяготели к разным видам социальной философии1.
Так или иначе, трактат «О похвале законам Англии»
представляет собой диалог между принцем Уэльским и лорд-
канцлером Англии, которые находились в изгнании.
Канцлер старается убедить принца, что ему следует изучать законы
страны, которой ему предстоит управлять, а также военное
дело. И когда принц жалуется, что английские законы, как
известно, отличаются такой замысловатостью, что
профессиональные юристы годами изучают их подробности, прежде чем
I. См. исследования автора этой книги, посвященные сэру Мэтью Хей-
лу (1609-1676): Pocock J. G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law.
Cambridge, 1957. P. 170-181 (второе издание — New York, 1967); Idem. Politics,
Language and Time. New York, 1971. P. 215-222, 262-264 (второе издание —
London, 1972).
42
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
отважатся приступить к практике1, мы получаем ответ,
который прямо выводит к нашей философской проблеме. Канцлер
отвечает, что любая дисциплина изучается посредством
освоения ее принципов. В математике это максимы, в риторике —
парадоксы, в гражданском праве — правовые нормы (régula juris),
а в изучении законов Англии опять же максимы. Если принц
ознакомится с этими максимами, его с полным правом
можно будет называть сведущим в английском законодательстве,
пусть ему никогда и не придется применять свои знания для
конкретных юридических истолкований, которыми он,
естественно, предоставит заниматься своим судьям, барристерам
и другим профессиональным юристам. Принц удовлетворен
ответом, но еще предстоит разобраться, что этот ответ ему дает.
Из всего, что Фортескью говорит о максимах, становится ясно,
что, подобно аксиомам, парадоксам и аналогичным положениям
других наук, они представляют собой универсальные,
самоочевидные, наглядные принципы, на которых, согласно основам
аристотелевской философии, следует строиться любой системе
знаний. Они усваиваются непосредственно «индуктивным
путем через чувства и память»; с ними «не знакомятся
посредством доводов или логических доказательств»; они не
выводятся один из другого или из какой-то предшествующей им
посылки; «у принципов нет рационального обоснования», но
«любой принцип сам представляет собой основание для того,
чтобы ему следовать»8. Говоря все это, Фортескью напрямую
цитирует средневековые тексты аристотелевской традиции. Мы
наблюдаем, как ум, погруженный в практику обычного права,
прибегает исключительно к средствам дедуктивной философии.
В философии, которую очерчивает здесь Фортескью, все
рациональное знание по существу является дедуктивным. Любое
знание начинается с принятия определенных базовых
принципов, некоторые из которых служат основаниями знания как
такового, а другие разделяют его на различные ветви и
образуют основания различных наук, которые они выделяют.
Рациональное обоснование любого высказывания достигается
за счет демонстрации того, что оно неизбежно логически
выводится из некоего принципа или набора принципов. Из
этого следует, что (а) не может существовать рационального
доказательства какого-либо принципа, так как ничто выводимое
1. FortescueJ. De Laudibus Legum Angliae. Cambridge, 1949. P. 19-21 (chap. VII).
2. Ibid. P. 20-23 (chap. VIII).
43
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
из принципа само по себе принципом не является; (б) любая
область знания: математика, риторика, гражданское право,
английское законодательство — требует знакомства с нужным
набором принципов и выводимыми из них следствиями. Разум
в строгом смысле слова — лишь инструмент, позволяющий
нам дедуцировать из принципов прочие утверждения;
индукция — мыслительный процесс, благодаря которому происходит
познание принципов. Однако, чтобы распознать то, что мы не
можем доказать и в доказательстве чего не нуждаемся, то есть
истинность принципов, нам требуется не разум и не
индукция, а интуиция — это слово, хотя его не использует Форте-
скью, подходит здесь, возможно, лучше всего. Однако если мы
будем говорить о «разуме» в несколько расширенном смысле,
как о способности ума выявлять и подтверждать следствия из
принципов, мы немедленно осознаем главное противоречие
аргументации Фортескью в том, что касается английских
законов. Принципы по определению представляют собой
универсальные посылки, а из универсалий мы можем выводить
лишь универсалии. Если мы полагаем, что английское
законодательство — область рационального знания, она должна
состоять из определенных принципов, невыводимых из других
принципов, и их следствий, верных в отношении всех
юридических ситуаций в Англии, к которым они применяются.
Утверждается, что английское законодательство строится на
ряде неизменно верных выводов из некоторых максим, с
которыми они логически согласуются. Каковы же те принципы
(должны мы теперь спросить), которые не выводятся из
других принципов и интуитивно воспринимаются как
самоочевидные, дабы им подчинялась «Англия»? «Англия» — это имя
либо уникальной констелляции факторов, либо члена некоего
класса, у которого есть и другие члены. Относительно первого
случая не может быть никаких универсалий, ибо невозможно
делать универсальные утверждения относительно
единственного в своем роде объекта. Во втором случае принципы и
универсалии, касающиеся английских законов, должны
относиться и к законам других членов класса, к которому принадлежит
«Англия». Но в диалоге Фортескью принц усомнился, что
сможет изучить английское право. При этом он выразил
сомнение, что должен отдать ему предпочтение перед гражданским,
то есть римским, правом. Канцлер постарался устранить оба
препятствия, то есть убедить принца, что существует
доступная для изучения рациональная наука об английском праве,
44
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
в отличие от права других наций. Как представляется, цель
Фортескью изначально заключает в себе противоречие, а
попытка принца выучиться праву, усвоив набор специфически
«английских» принципов, судя по всему, обречена.
Несколько позже в том же трактате «О похвале» Фортескью
объявляет универсальной истину, действующую в области
изучения права, которая гласит: все человеческие законы суть либо
естественные законы, либо обычаи, либо статуты1.
Естественный закон состоит из самоочевидных принципов
справедливости и универсальным образом выводимых из них следствий,
которые истинны и обязательны для всех людей. Человеческие
законы могут представлять собой просто перевод
предписаний естественного закона в формализованные предписания
и правила конкретного королевства, но в них нет ничего, на
чем следовало бы задерживать внимание тому, кто
специально изучает английское законодательство, ведь законы Англии
в тех положениях, кои они обосновывают, опираясь на
естественное право, не лучше и не хуже в своих решениях, нежели
все законы других стран в сходных случаях. Ибо, как сказал
Аристотель в пятой книге «Этики», «естественное право
повсюду имеет одинаковую силу». Посему нет нужды долее
говорить об этом. Но теперь нам следует рассмотреть, что
представляют собою обычаи Англии, а равно и ее статуты, и мы
сначала обратимся к свойствам этих обычаев2.
Универсальные принципы справедливости познаются
разумом, и, по-видимому, они и составляют максимы, на которых
основана наука юриспруденции. Именно их принц может
усвоить, приложив к этому некоторые усилия ума и оставив
вопросы их применения на усмотрение своих слуг-профессионалов,
у которых за плечами долгие годы обучения и практики.
Однако в знании естественного права нет ничего специфически
«английского», как и в той части английских законов, которая
тождественна естественным законам или соответствующему
компоненту законодательства других стран. Дабы понять, что
1. Fortescue J. De Laudibus Legum Angliae. P. 36-37 (chap. XV).
2. «the laws of England, in those points which they sanction by reason of the law
of nature, are neither better nor worse in their judgements than are all laws
of other nations in like cases. For, as Aristotle said, in the fifth book of the
Ethics, Natural law is that which has the same force among all wen. Wherefore
there is no need to discuss it further. But from now on we must examine what
are the customs, and also the statutes, of England, and we will first look at
the characteristics of those customs» (Ibid. P. 38-39, chap. XVI; см. также
всю главу).
45
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
в законах Англии уникально и присуще только им, мы должны
обратиться к тому, что названо «обычаем и статутом», к двум
оставшимся категориям, под которые должны подпадать все
человеческие законы. Именно здесь законы Англии
проявляют свою английскую уникальность, и то же касается законов
других стран.
В чрезвычайно децентрализованных и традиционных
земледельческих обществах, которые пытается взять под контроль
профессионально организованная группа грамотных
чиновников, подчиненных какому-либо центральному управляющему
органу, часто — по крайней мере на Западе — принято
проводить следующее различение. С одной стороны, есть неписаные
обычаи и практики, которые признают слуги короля, считая
их стихийными и традиционными установлениями самого
общества, а с другой — есть письменные правила, эдикты,
указы или, как называет их Фортескью, статуты, накладываемые
на общество королем и его образованными чиновниками, вне
зависимости от того, стремятся ли эти статуты упорядочить
прежнюю неписаную традицию или изменить ее. Можно
заметить, что, хотя это различие понятно, оно не является
абсолютным. Зачастую трудно увидеть разницу между
письменным решением, признающим, что таковым был и остается
закон, скрепленный обычаем, и письменным декретом,
приказывающим, что таким должен быть и отныне будет закон,
скрепленный властью того, кто этот декрет издает.
Английские юристы иногда пытались на этом основании
разграничивать неписаный закон, или lex non scripta, который мог быть
записан, но за которым не стояло никакого авторитета, кроме
обычая и традиции, и писаный закон, lex scripta, или статут,
за которым стоял авторитет его автора — как правило, короля
в парламенте. Но парламент выполнял также функцию суда,
задача которого заключалась скорее в том, чтобы фиксировать
старый закон (обычай), а не в том, чтобы обнародовать новый
(статут). В самом статуте могло сохраняться намерение
формализовать обычай, что придавало двойственность его природе.
Проблему, поставленную Фортескью, можно вкратце
изложить следующим образом. Обычаи и статуты вместе
составляют специфические законы любой страны. Коль скоро они
претендуют на рациональное обоснование, они должны
рационально выводиться из принципов естественной
справедливости или, по крайней мере, не содержать ничего
противоречащего тому, что рационально выводимо из этих принципов.
46
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
Впрочем, не их выводимость и не их рациональность придает
им особый характер. Чтобы понять, чем законы Англии
отличаются от законов Рима или Франции, нам следует изучать не
их рациональность — поскольку в этом отношении они
тождественны законам других стран, — а то, каким образом
принципы справедливости применяются здесь к специфическому
характеру и обстоятельствам Англии. Коротко говоря,
английское законодательство — как и законодательство любой другой
страны — содержит элемент, основанный не на чистом
рационализме, а на знании обстоятельств и условий, характерных
именно для Англии, и на применении или приспособлении
универсальных принципов к этим местным и своеобразным
условиям.
Фортескью рассуждает об этом элементе в семнадцатой
главе, которая следует сразу, без лишних слов, за последним
процитированным отрывком.
...И мы сначала обратимся к свойствам этих обычаев.
[XVII] Королевство Англия сначала населяли бритты,
затем им правили римляне, после снова бритты, затем оно
перешло к саксам, которые изменили его имя с Британии на
Англию. Затем на короткое время оно было завоевано данами,
снова саксами и, наконец, норманнами, чьи потомки правят
им в настоящее время. И при всех этих народах и их
королях королевство неизменно управлялось при помощи тех же
обычаев, что и ныне, обычаев, кои, если их нельзя было
назвать лучшими, некоторые из королей меняли ради
справедливости или по сиюминутной прихоти, а то и вовсе отменяли,
в особенности римляне, почти весь остальной свет судившие
по своим законам. Подобным же образом некоторые из
помянутых королей, завладевших Английским королевством лишь
мечом, могли, пользуясь своей властью, разрушать его законы.
В действительности же ни римские гражданские законы, столь
укоренившиеся благодаря многовековому употреблению1, ни
венецианские законы, более других славящиеся своей
древностью,— хотя их остров был необитаем, а Рим не был
построен в эпоху, от которой ведут свое начало бритты, — ни законы
какого-либо из христианских королевств не уходят корнями
I. В латинском тексте значится «tantorum temporum curriculis... in quantum...
inveterate sunt» (Ibid. P. 38), но слово «usus» часто встречается в тексте
Фортескью и в английском переводе передается как «usage» [в русском
тексте — «употребление». —Прим. ред.].
47
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
так глубоко в древность. Посему не подлежит отрицанию, ни
правомерному сомнению, что обычаи англичан не только
хороши, но суть наилучшие из всех.
[XVIII] Остается, таким образом, лишь исследовать,
хороши ли английские статуты...1.
И на этом Фортескью завершил все, что имел сказать об
основаниях правомерности обычая в трактате «О похвале». В этой
главе, одновременно очень английской и очень средневековой,
конкретные законы конкретных государств легитимируются
отсылкой не к разуму и знанию универсалий, а к древности
и употреблению. Законы Рима и Венеции хороши, потому что
ими непрерывно пользовались на протяжении очень долгого
времени; законы Англии лучше всех остальных, так как ими
пользуются дольше всего. Проверка, которой они подверглись,
усиливается обзором правлений сменявших друг друга
королей, принадлежавших к различным господствующим народам
и способных менять законы по своему усмотрению. Но нам
ничего не сказали о процессе рациональной рефлексии, с
помощью которого эти правители решали, что существующие
законы — лучшие, и, строго говоря, едва ли следует ожидать,
что мы о нем что-либо узнаем. По сути, дедуктивный
процесс, который и был «разумом» в аристотелевской
философии, может испытать закон только путем проверки его на
соответствие принципам естественной справедливости, и этот
ι. «...and we will first look at the characteristics of those customs. [XVII] The
kingdom of England was first inhabited by Britons, then ruled by Romans,
again by Britons, then possessed by Saxons, who changed its name from
Britain to England. Then for a short time the kingdom was conquered by
Danes, and again by Saxons, but finally by Normans, whose posterity hold the
realm at the present time. And throughout the period of these nations and
their kings, the realm has been continuously ruled by the same customs as
it is now, customs which, if they had not been the best, some of those kings
would have changed for the sake of justice or by the impulse of caprice, and
totally abolished them, especially the Romans, who judged almost the whole
of the rest of the world by their laws. Similarly, others of these aforesaid
kings, who possessed the kingdom of England only by the sword, could, by
that power, have destroyed its laws. Indeed, neither the civil laws of the
Romans, so deeply rooted by the usage of so many ages, nor the laws of the
Venetians, which are renowned above others for their antiquity — though their
island was uninhabited, and Rome unbuilt, at the time of the origins of the
Britons — nor the laws of any Christian kingdom, are so rooted in antiquity.
Hence there is no gainsaying nor legitimate doubt but that the customs of
the English are not only good but the best. [XVIII] It only remains, then, to
examine whether or not the statutes of the English are good...» (Fortescue J.
De Laudibus. P. 38-41, chap. XVI).
48
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
критерий, каким бы ценным и необходимым он ни был, не
единственный. Рассуждая о конкретных законах конкретных
стран, Фортескью должен также спросить, удовлетворяют ли
они специфическому характеру и обстоятельствам народа, жизнь
которого регулируют, и именно это в данном случае подлежит
проверке. В таком контексте законы Англии могут быть
«лучше» законов Рима или Венеции лишь в том смысле, что они
подходят англичанам лучше, чем римские или венецианские
законы — римлянам или венецианцам. Как можно провести
такое трудноосуществимое сравнение? Поскольку разум связан
с универсалиями, должен существовать какой-то другой
инструмент, который определяет национальный характер и
национальные условия и проверяет соответствие
законодательства страны этим условиям.
Такой инструмент существует, и он называется обычаем или
опытом. Поскольку это не разум в принятом и обдуманном
смысле этого слова, он, хотя и доступен лишь
интеллектуально развитым существам, является неаналитическим,
некритическим и не поддается артикуляции. Он может быть — и часто
бывает — неосознанным. Люди следуют заведенной практике
и обычаям — или не следуют. Если обычаи соблюдаются,
значит, это хорошие обычаи в том смысле, что они подходят
людям, которые их соблюдают; но люди не смогли бы сказать вам,
почему обычаи, которые они соблюдают, хороши, а те, что они
отвергают, дурны. Дело не только в том, что эти люди не
философы, но и в том, что философ и сам не смог бы ответить на
поставленный здесь вопрос. Философ может увидеть в вещах
лишь универсальное; еще не существует метода, критически
проверяемой и самоконтролируемой интеллектуальной
процедуры, разработанной для того, чтобы иметь дело с особенными
сторонами таких вещей. Поэтому вывод, что хороший обычай
хорош, может основываться на самом факте его соблюдения;
доказать это едва ли удастся, ибо доказательство заключается
в выведении следствия из универсальной посылки, а такая
посылка не может ничего сказать о характере и обстоятельствах
народа, которому принадлежит обычай. Мы не можем
привести «причины», по которой этой обычай хорош или плох;
мы способны лишь сказать: «есть причина полагать», что он
хорош (потому что соблюдается) или плох (потому что
отвергается). Именно это Эдмунд Бёрк — прямой наследник такого
типа мышления — называл «предписывающим» или
«предположительным» рассуждением. Так как обычай или конкретный
49
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
институт носил «предписывающий» характер — то есть уже
упрочился, — существовал «предрассудок» в его пользу; мы
предполагали, что он создан так, что работает хорошо1.
Чем дольше существует обычай, тем более вескими
являются предположения в его пользу. Наивное утверждение Форте-
скью, что английский закон лучше других, потому что древнее,
теперь становится понятным. В рамках строго дедуктивной
аргументации не может быть рационального способа ни
осмыслить особенное, ни доказать, что некоему народу присущи
определенные свойства или что его законы им соответствуют.
В таком случае как возможна сопоставительная оценка
правовых систем? Венецианцы доказали, что их законы подходят
им, сохраняя их на протяжении очень долгого времени;
англичане обосновали уместность своего законодательства
точно таким же образом. Не существует рационального — или,
говоря современным языком, научного — метода выделения
и анализа специфических характеристик венецианцев и
англичан, определения и анализа специфических характеристик
законов тех и других соответственно и оценки последних на
предмет их соотнесенности с первыми. Мы не можем на
рациональных основаниях сказать, что (или почему) английские
законы подходят англичанам больше, чем венецианские —
венецианцам. Мы располагаем лишь двумя основанными на
предположениях конструкциями, истинность которых мы не
способны с полной уверенностью утверждать или
рационально доказать. В нашей власти, однако, прибегнуть к
последнему средству социолога, столкнувшегося с несоизмеримыми
величинами, — количественной оценке. Если законы Англии
действительно древнее законов Венеции и дольше находились
в непрерывном использовании, значит, больше людей за
большее число лет и в большем количестве ситуаций по
умолчанию свидетельствуют в их пользу. Большая весомость опыта,
большая значимость оснований для предположений в пользу
английских законов побуждают нас считать их более
удовлетворительными для исторического сообщества, в котором они
применяются, чем в случае с законами Венеции. Такова
логика апелляции к древности, с которой в этой книге нам
придется нередко (хотя и косвенно) иметь дело. Это прямое
следствие недостатков дедуктивной философии.
ι. О теоретическом обосновании традиции, основанной на предположении
(презумпции), см.: Рососк J.A. G. Politics, Language and Time (chap. 6, 7).
50
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
Впрочем, канцлер в трактате «О похвале», как мы теперь
видим, обманывает своего принца. Того уверили, что если он
изучит лишь принципы английского права, то будет знать
достаточно, чтобы понимать действия своих судей и других
профессиональных юристов, когда они применяют эти принципы
к единичным случаям. Однако оказалось, что понимание
конкретных случаев и оценка того, как следует применять к ним
принципы, подразумевают мыслительный процесс, серьезно
отличающийся от понимания принципов и выведения из них
логических следствий. На самом деле это едва ли вообще
можно назвать интеллектуальным процессом. Речь идет
исключительно о методе проб и ошибок, ибо залогом того, что тот или
иной обычай хорош, служит не рациональное доказательство,
а лишь тот факт, что он остался в употреблении. Как следствие,
обучение профессионального юриста нельзя свести к знанию
принципов и их следствий; знанию о том, какие обычаи
сохранились и каковы были не логические, а скорее
технические следствия их сохранения. Основанное на обычае право
обладает прежде всего не рациональной, а технической и
традиционной структурой. Фортескью близко подходит к более
поздней концепции английского права как «искусственного
разума», сформулированной другим верховным судьей сэром
Эдвардом Коком.
Оттого вы, принц, подивитесь знатоку английских законов, если
он скажет вам, что брат не сможет получить отцовского
наследства после брата, не рожденного от той же матери, но что
скорее наследство перейдет к родной ему по крови сестре или же
отойдет к его сюзерену как имущество, не имеющее наследника,
ибо вам неведомо основание этого закона. Но трудность такого
случая никоим образом не смутит того, кто сведущ в законах
Англии. Посему... вы поймете, что если через изучение
овладеете законами, которых теперь не знаете, вы полюбите их, по
той причине, что это лучшие законы; и чем более вы станете
размышлять о них, тем большее найдете в том наслаждение.
Ибо, если что-то вызывает любовь, оно силой привычки
приближает любящего к своей природе, ведь, как сказал
Аристотель, «привычка становится второй натурой»1.
I. «Thus you, prince, would marvel at a lawyer of England if he told you that
a brother shall not succeed in a paternal heritage to a brother not born of
the same mother, but that rather the heritage shall descend to a sister of the
whole blood or shall fall to the lord-in-chief of the fee as his escheat, because
51
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
Позже мы еще вернемся к тому, насколько важно
последнее предложение: в понятиях «привычки» и «второй натуры»
можно усмотреть начала доктрины историзма, согласно
которой мы становимся тем, что мы делаем, и таким образом
создаем себя. Но принцу почти ничего не оставалось, кроме как
любить английские законы и позволять им преобразовывать
его природу. Такие фразы, как «основание этого закона», «по
той причине, что это лучшие законы», намеренно высказаны
так, будто они не подлежат сомнению. Подобные утверждения
были недоказуемы и потому стояли выше критики. Не
предполагалось, что принц станет критиковать применение закона
его судьями, если только разум не подсказывал бы ему, что они
действуют вопреки естественной справедливости. За
исключением этих редких случаев, авторитет закона носил предпи-
сательный характер и был основан на древности. Принц мог
лишь принимать (и, разумеется, любить) обычаи своего
королевства на том основании, что в силу своей древности они
достаточно хороши, а будучи старейшими в мире, они являются
и самыми лучшими. Судьи знали, какая практика существует
в королевстве, а знание принца естественной справедливости
и ее следствий не только не учило этому, но даже не давало
средств к пониманию; изучение обычного права было не
схоластическим процессом, опиравшимся на рациональную
дедукцию, а — как впоследствии Коку предстояло объяснить
Якову Г — плодом изучения законов на протяжении всей жизни
и рабочей практики в судах.
you are ignorant of the reason for this law. But the difficulty of such a case
does not in the least perturb one learned in the law of England. Wherefore...
you will realise that if by instruction you will understand those laws of which
you are now ignorant, you will love them, since they are the best; and the
more you reflect upon them, the more agreeably you will enjoy them. For
all that is loved transfers the lover into its own nature by usage, wherefore,
said Aristotle, Use becomes another nature» (Fortescue J. De Laudibus. P. 14-
17, chap. V).
1. «Then the king said, that he thought the law was founded upon reason, and
that he and others had reason as well as the judges: to which it was answered
by me, that true it was, that God had endowed his Majesty with excellent
science, and great endowments of nature; but his Majesty was not learned
in the laws of his realm of England, and causes which concern the life, or
inheritance, or goods, or fortunes of his subjects are not to be decided by
natural reason, but by the artificial reason and judgment of law, which law
is an art which requires long study and experience before that a man can
attain to the knowledge of it» (Coke E. Prohibitions del Roy // Coke E. The
Twelfth Part of the Reports. London, 1656; Rep. 65); «И тогда король сказал,
что, по его мнению, право основывается на разуме и что он и другие
люди обладают разумом не меньше, чем судьи. На это я ответил ему,
52
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
Вполне возможно, что Фортескью все же главным образом
стремился сказать, что английские законы разумны и можно
продемонстрировать их внутреннюю согласованность
посредством дедукции из принципов юриспруденции или с опорой
на максимы, характеризующие само обычное право.
Однако в его рассуждениях неизменно присутствует точка зрения,
с которой английские законы не кажутся разумными в том
смысле, что их невозможно восстановить при помощи такого
рода дедукции. За ними стояли другие, не философские
формы интеллектуальной деятельности, требовавшие более
продолжительного изучения, потому что они были основаны на
опыте, а не на знании; и поэтому принц мог рассчитывать, что
будет восхищаться своими судьями как знаток, но — там, где
закон следовало понимать как обычай, — ничего, кроме
восхищения, ему и не оставалось.
Обычай — плод опыта, действующий на низшем и наименее
структурированном уровне мышления, уровне проб и ошибок.
Только опыт может сформировать обычай; только на опыте
можно убедиться, что он хорош; и опыт ума, который признает
обычай, неизбежно зиждется на опыте множества людей
прошлых поколений, который сам этот обычай и выражает. Как
следствие, обычай обосновывает сам себя. Его существование
и предполагаемая продолжительность бытования — главные
причины считать, что он хорош и соответствует нуждам и
природе людей. Он властно требует от всматривающегося в него ума
довольствоваться теми предпосылками, которые он сам имеет
в отношении себя. Принц не готов критиковать или изменять
его по следующим причинам: не существует метода, кроме
непосредственной опоры на опыт, с помощью которого интеллект
мог бы провести рациональную связь от нужд и природы людей
к их обычаям или же научно доказать, что последние хорошо
или плохо подходят к первым. Раз есть только опыт, который
надо накопить, а не систематически структурировать за
семьдесят лет одной человеческой жизни, принц должен признать,
что он обладает лишь опытом одного человека, несопоставимым
что это так, что Господь наделил Его Величество превосходным умом
и щедрыми дарами; однако Его Величество не изучал законы своего
Английского королевства. Дела же, касающиеся жизни, или
наследования, или товаров, или состояния, должны решаться не естественным,
а искусственным разумом и судом закона, причем закон есть акт,
требующий долгого изучения и опыта, прежде чем человек сможет
похвастаться знанием его» (цит. по: Покок Дж. Бёрк и древняя конституция.
Об одной проблеме в истории идей. С. 154)·
53
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
с опытом множества людей древности, который понадобился,
дабы сложился какой-нибудь обычай, не говоря уже обо всей
совокупности обычного права в его королевстве.
В итоге принцу у Фортескью трудно издавать законы, ведь
не существует научного метода, чтобы определить, какие
именно законы подойдут для конкретных народов или ситуаций.
Единственный метод, известный схоластическому уму, — это
дедуктивная логика, подходящая лишь для универсалий.
Суждение об особенном следует предоставить опыту, который
большей частью проявляется в обычаях, а в отношении бесконечно
медленного процесса формирования обычаев ум принца не
обладает никакими преимуществами. Иногда действительно
бывает, что закон надлежит издать в более краткие сроки, чем те,
в какие обычай из общей совокупности поведения отливается
в конкретные формы, и здесь мы подходим к третьей
выделяемой Фортескью разновидности законодательства —
категории статута. Но и тут мы видим дихотомию разума и опыта,
действует тот же принцип количественной измеримости
опыта. Обосновав обычай ссылкой на практическое применение
и древность, Фортескью сразу же говорит:
Остается, таким образом, лишь выяснить, хороши ли
английские статуты. В самом деле, источником их не является одна
лишь воля принца, как в случае с законами королевств, где
всецело властвует монарх и где статуты столь часто заботятся
лишь об интересах законодателя, приводя подданных к
лишениям и гибели. <...> Но в Англии статуты не могут возникать
так, ибо для их издания требуется не только воля принца, но
и согласие всего королевства, посему они не могут нанести
людям вреда или же не соблюсти их интересов. Более того,
должно полагать, что они непременно преисполнены благоразумия
и мудрости, ибо утверждаются благоразумным решением не
одного советника и не всего лишь сотни, но более чем трех сотен
избранных мужей, — такого же числа, какое некогда заседало
в римском Сенате, — как это могут с большей точностью описать
те, кто сведущ в правилах избрания в парламент, его порядке
и устройстве. Если же окажется, что статуты, подготовленные
с такой торжественностью и заботой, действуют не в полном
соответствии с замыслом законодателей, их можно в краткие сроки
пересмотреть, не пренебрегая при этом согласием простого
народа и дворян, так же, как это происходило и при
первоначальном принятии статута. Таким образом, принц, теперь вы знаете
54
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
все разновидности английских законов. Вы сможете оценить их
достоинства, опираясь на собственную мудрость и сравнив их
с другими законами; и, не найдя в мире других столь же
превосходных законов, вы не сможете не признать, что они не
просто хороши, а так хороши, как вы только могли бы пожелать1.
Очень невелика вероятность, что принц, занимаясь
сравнительным изучением законов, придет к какому-либо иному
заключению, и еще меньше — что он сможет создавать и критиковать
законы, причем не только обычаи, но и статуты. Конкретные
законы — в этом сущность вопроса — могут быть
сформированы лишь с опорой на опыт, долговременную практику и не
требующее продолжительного времени благоразумное
решение. Опыт принца — лишь опыт одного человека, в отличие
от опыта трехсот его советников, ныне живущих подданных
или бесчисленного множества давно умерших людей древности
(количественный критерий указывает, что обычай по
умолчанию мудрее статута); а разум принца, который сообщает ему
лишь то, насколько обычай или статут соответствует
принципам естественной справедливости, в конце концов может
сказать ему не больше, чем разум любого наделенного им animal
rationale1. Так что в любом случае принц, носитель наивысшей
власти, не способен создавать обладающих реальной силой
законов, не подкрепляя свой разум и опыт разумом и опытом
ι. «It only remains, then, to examine whether or not the statutes of the English
are good. These, indeed, do not emanate from the will of the prince alone, as
do the laws in kingdoms which are governed entirely regally, where so often
statutes secure the advantage of their maker only, thereby redounding to the
loss and undoing of the subjects. <...> But the statutes of England cannot
so arise, since they are made not only by the prince's will, but also by the
assent of the whole realm, so they cannot be injurious to the people nor fail
to secure their advantage. Furthermore, it must be supposed that they are
necessarily replete with prudence and wisdom, since they are promulgated by
the prudence not of one counsellor or a hundred only, but of more than three
hundred chosen men — of such a number as once the Senate of the Romans
was ruled by — as those who know the form of the summons, the order and
the procedure of parliament can more clearly describe. And if statutes ordained
with such solemnity and care happen not to give full effect to the intention
of the makers, they can speedily be revised, and yet not without the assent
of the commons and nobles of the realm, in the manner in which they first
originated. Thus, prince, all the kinds of the law of England are now plain
to you. You will be able to estimate their merits by your own wisdom, and
by comparison with other laws; and when you find none in the world so
excellent, you will be bound to confess that they are not only good, but as
good as you could wish» (Fortescue J. De Laudibus. P. 40-41, chap. XVIII).
2. Разумное животное (лат.). — Прим. ред.
55
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
как можно большего числа людей, а для этого ему лучше
всего держаться порядков предшествующих поколений, выказав
уважение к практикам старины. Здесь мы подходим к одной
из основных причин, по которой Фортескью отдает
предпочтение принцу, правящему с опорой на закон и согласие, перед
принцем, опирающимся лишь на собственный разум и опыт.
Последний необязательно будет тираном. Он может быть
честным человеком, пытающимся совершить невозможное и
пренебрегающим помощью, которую другие способны ему оказать.
Однако этот вопрос в целом заслуживает рассмотрения в
более широком теоретическом контексте.
Ч.Х. Макилвейн в своей книге «Конституционализм:
древность и современность» (Constitutionalism Ancient and Modern)1
проследил генеалогию философского различия, которое
делает Фортескью между regnum regale и regnum politicum et regale*,
вплоть до расхождения, которое возникло между Платоном
в период его работы над «Государством», поздним Платоном
и Аристотелем. В «Государстве» Платон поставил вопрос,
должен ли город управляться законом или ничем не стесненной
мудростью своего идеального властителя, и решил его в
пользу неограниченной власти правителя-философа. Он исходил
из того, что закон был лишь обобщением, которое следовало
изменить, дабы оно соответствовало конкретному случаю, или
подогнать конкретный случай так, чтобы тот соответствовал
закону, тогда как философ обладал интуитивным пониманием
универсалий, которое в то же время давало ему интуитивное
понимание сущностного характера каждого конкретного
случая. Тогда как закон подобен жесткому стержню, который
приходилось бережно сгибать, подстраивая его под каждый случай,
мудрость философа текуча; она обтекала каждый случай и
охватывала все его детали. Но чтобы это было верным,
отношениям между универсальным и особенным надлежало сильно
отличаться от того, как их представлял себе Фортескью с его
средневековым аристотелизмом. Описанная в «Государстве»
система предполагает существование платоновских Идей или
Форм, идеальных и совершенных интеллектуальных объектов,
1. Mcllwain С. H. Constitutionalism Ancient and Modern. Ithaca, 1958 (chap. II,
IV).
2. Принципиальное различие между двумя видами правления, согласно
Джону Фортескью. Regnum regale — королевское правление —
характерно для французского государства; regnum politicum et regale — правление
политическое и королевское — отличает Англию, где король правит
подданными с согласия парламента и по законам страны. — Прим. ред.
56
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
составляющих единственный реальный мир, которому
соответствует каждый объект чувственно воспринимаемого нами мира,
являющегося, однако, лишь вторичной и несовершенной
копией. Знание Форм — не чувственное знание, первое нельзя
вывести или получить из последнего. Оно приобретается, когда ум
непосредственно освещается самой Формой или миром Форм,
как это происходит с узником платоновской пещеры, когда он
покидает место, где мог видеть лишь тени вещей,
отбрасываемые при свете огня, и выходит на солнце, где может видеть
сами вещи. С того момента, как Формы озарят наш ум своим
светом, мы черпаем из них полноту знаний обо всех чувственно
воспринимаемых предметах, так как производная реальность
становится отчетливо видна в лучах реальности, которая
является ее источником. В этом и только в этом смысле можно
сказать, что правитель-философ понимает конкретные ситуации
и случаи лучше, чем их могут «знать» общие правила закона.
Однако в «Политике» и «Законах», продолжал Макилвейн,
поздний Платон был готов рассмотреть возможность
существования правителя-философа, чье знание не является знанием
Форм, а состоит из ряда обобщений на основе опыта. Такой
правитель должен в своих решениях подчиняться авторитету
законов, ибо подобные обобщения могут основываться на
более обширном спектре предпосылок, чем тот, что был
доступен лишь его собственному интеллекту. Впрочем, такого рода
правление неизбежно будет несовершенно, поскольку в своих
знаниях опирается на обобщения, выведенные из опыта и
требующие усилий для преобразования их в конкретные термины,
чтобы соответствовать каждому отдельному случаю, который,
в свою очередь, может содержать элементы, выходящие за рамки
исходного обобщения. В любой системе знаний, исключая ту,
что доступна философу в «Государстве», неминуемы
расхождения между абстрактным и конкретным, универсальным
обобщением и особым случаем. Можно предположить, что ум менее
проницательного правителя должен находиться под двойным
надзором закона: во-первых, в силу необходимости подчинять
индивидуальные решения правителя общим правилам
закона, во-вторых, чтобы при принятии конкретных решений ему
было чем руководствоваться, ведь если все его знание
заключается в несовершенных обобщениях, несовершенным должно
быть и понимание им особых случаев.
Аристотель в «Политике» развил эту линию аргументации.
Размышляя над вопросом, должна ли править мудрость или
57
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
закон, он пришел к выводу: если только родится философ,
чей ум будет настолько выше ума других людей, насколько их
собственный ум выше звериного, он может править, не
стесняемый законом; правитель же, по уму равный своим
подданным, но использующий свой интеллект наилучшим образом,
по всей вероятности, не сможет соперничать в мудрости с
законами1. Дело в том, что Аристотель перестал верить в то, что
Формы реальны или по крайней мере познаваемы человеком.
Поскольку наши тела расположены в пространстве и
времени и ограничены ими, мы можем знать лишь то, что
открыли нам чувства и память, и то, как наш ум затем переработал
полученные этим путем сведения. Таким образом, идеи
достигались «индуктивным образом через чувства и память», как
пересказывал мысль Аристотеля Фортескью; они суть
абстракция исходных данных. Однако эти абстракции
преобразовывались в оформленные суждения, часть которых относилась
к самоочевидным принципам, то есть их истинность мгновенно
и интуитивно открывалась уму. Как показывает история
аристотелевской метафизики, эти абсолютные интеллектуальные
пропозиции могли восприниматься как реальные сущности
и даже как единственная и окончательная реальность,
сотворенная Богом; чувственно воспринимаемый мир представал как
иллюстрация, применение, видоизменение или даже
вырождение ее принципов — модель, в конечном счете очень похожая
на платоновские Формы. Но если окончательная реальность
принадлежала области мысли, люди — разумные существа, но
все же подобные животным — могли познавать ее лишь в
форме умозаключений, сделанных на основе чувственных данных
и социальной коммуникации. Христианство, подчеркивавшее
различие между жизнью тела и жизнью духа, склоняло к
мысли, что «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, га-
дательно, тогда же лицом к лицу»2. В христианском варианте
аристотелизма непосредственное постижение умственной
реальности было доступно лишь ангелам, цаделенным разумом
созданиям, которые стремились познать дела Творца.
Лишенные тела, органов или страстей, ангелы не знали
ограниченности пространством и временем и не нуждались в чувствах,
ι. Aristotle. The Politics / Ed. and transi, by Ε. Barker. Oxford, 1946. P. 134-135
(1284a), 126-127 (i282a-b) (Аристотель. Политика / Пер. С. Жебелева //
Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т. \. С. 478-482).
2. Цитата из «Первого послания к Коринфянам» ап. Павла [ι Кор. 13:12].—
Прим. ред.
58
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
памяти или индуктивном обобщении, но постигали реальность
непосредственно и интуитивно. Их знание не процеживалось
сквозь сито конкретного мышления, и поэтому о них
говорили как о виде, а не как об индивидуальностях, как об
универсальных, а не конкретных существах. Таким образом, время
являлось неотъемлемым условием единичного существования.
Так правитель-философ из «Государства» превратился в
ангела и был изгнан из этого мира в иной. В христианской мысли
эти два мира, разумеется, сообщались; но, хотя в задачи церкви
входило поддержание на земле некоторых вечных истин, никто
не ждал, что ангелы придут и возьмут на себя бремя правления
земными обществами, и потому представлялось практически
невозможным, чтобы какой-либо земной властитель обладал
способностью к непосредственному постижению реальности,
которая дала бы ему возможность или право обходиться без
законов. На самом деле мысль Аристотеля подводит нас, даже
в контексте афинского и дохристианского периода, к
философии правления не столь далекой от той, которую излагает
Фортескью. Знание складывается из обобщений и выводов на
основе получаемых данных, и некоторые из этих обобщений
признаются универсальными суждениями, истинность которых
самоочевидна и не зависит от индуктивного процесса. Подобные
принципы иногда служат разуму основой для формирования
новых суждений, истинность которых можно доказать,
продемонстрировав, что она неизбежно логически следует из
верности первых принципов. Однако из абстрактных универсалий
можно вывести лишь абстрактные универсалии, а если разум
тождествен дедуктивной логике, то индуктивному методу
нельзя дать задний ход. Рано или поздно мы столкнемся с
проблемой, поднятой Платоном: как могут обобщения подходить для
описания конкретной ситуации, — и нам придется решать ее,
не прибегая к помощи платоновского философа, обладающего
интуитивным и совершенным знанием конкретных явлений
и их свойств. Каким может быть знание конкретных явлений?
С помощью какого интеллектуального инструмента
выстраивается связь между универсальным и особенным?
Пока дело касается управления людьми, Аристотель
отвечает просто: с помощью житейского опыта. Именно так
следует понимать его знаменитые слова, что о пиршестве
подобает судить гостю, а не повару1. Если вы находитесь на низшем
ι. Ibid. Р. 126 (1282а); (Там же. С. 466).
59
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
уровне бездумного человеческого интеллекта, вам не нужны ни
мастерство сапожника, ни наука ортопеда, чтобы понять, жмут
вам ботинки или нет. Если сапожник и ортопед старались как
могли, вам придется сообщить им, каков результат их усилий,
а если, как это часто бывает в делах правления, нет ни
сапожника, ни ортопеда, которые бы могли вам помочь,
теоретически можно — хотя это крайне неэкономично — попытаться
тачать себе обувь самостоятельно, пока методом проб и ошибок
(на которых вы, возможно, настолько мало чему научитесь, что
в конце концов преуспеете лишь по счастливой случайности)
вы не смастерите ботинки, которые не будут вам жать. Мудрые
правители, составив обобщенное представление о нуждах
людей и обстоятельствах их жизни и сформулировав законы на
основе этих обобщений, должны предоставить людям решать,
действительно ли эти законы удовлетворяют их нуждам и
обстоятельствам; ведь только так можно преодолеть разрыв
между идеей и реальностью. Это можно осуществить, созвав людей
и спросив, подойдет ли им, по их мнению, этот закон. Ни один
человек не воспроизведет процесс обобщения, который
осуществили правители, но общая сумма их предсказаний, вероятно,
даст правителям превосходную критику шансов на успех,
которые имеют их законы. Это случай правления, опирающегося
на согласие. Но того же результата можно достичь посредством
практики, предоставив людям свободно решать, соблюдать
закон или игнорировать его. Итогом их решения будет не
предположение: «Мы думаем, что этот закон нам подойдет или не
подойдет», — как если бы вы спросили совета у собрания
людей, а скорее подтверждение: «Люди продолжают применять
этот закон на практике — значит, он им подходит; они
отвергли его — значит, нет». Люди же вполне способны формировать
обычаи самостоятельно, без руководства правителей, просто
спонтанно следуя моделям поведения, которые используются
на практике. Это случай правления, опирающегося на обычай.
Единственным возражением против того, чтобы принятие
законов происходило тогда, когда сформируются
соответствующие народные обычаи, является чрезмерно долгое время,
нужное для этого (хотя, как мы видели, здесь есть и свои
преимущества; чем старше обычай, тем больше причин думать, что он
подходит людям, и меньше — опасаться каких-то обстоятельств,
в которых он не будет подходить). Складывание обычая должно
занимать много времени, ведь нас интересует именно
индивидуальный опыт конкретных явлений, соединяемый с таким же
6о
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
опытом других людей, пока не будет достигнуто определенное
согласие. Затем этот процесс должен повторяться на
протяжении какого-то времени, пока сложившийся обычай не сможет
претендовать на авторитет многократного использования и
старины. Впрочем, медленная кристаллизация обычая — лишь
наиболее наглядный пример того, что должны представлять
собой все конкретные законы, указы правительства и особые
решения. Ведь если разум занимается лишь дедукцией и
универсалиями, то не существует ни науки, ни метода для
рассмотрения конкретных явлений как таковых. Каждый должен
самостоятельно судить о явлениях, с которыми ему приходится
сталкиваться, и единственный способ расширить горизонты
своего суждения за пределы личного опыта — присоединить
к ним суждения других людей, вынесенные ими на основании
собственного знания о единичном. Поскольку не существует
систематической критики отдельных суждений — ведь это занятие
напоминает скорее искусство (хотя не тождественно ему), чем
науку, — то одним из немногих критериев, исходя из которых
одно суждение может заведомо получить преимущество перед
другим, будет число людей, чей опыт лег в его основу. По этому
признаку суждение трехсот человек, скорее всего, будет
заведомо считаться лучшим, чем суждение одного; суждение многих
поколений — лучшим, чем суждение ныне живущих;
древнейший обычай — лучшим по сравнению с обычаем чуть менее
старинным. «Отдельный человек глуп, — писал Бёрк, —
множество людей в каждый конкретный момент глупы, когда они
действуют без намерения; но весь вид целиком мудр и по
прошествии времени всегда действует мудро как вид»1. При этом он
подразумевал вид в биологическом, а не схоластическом смысле.
Все утверждения такого рода носят вероятностный характер,
ибо правильность решения можно доказать только в той мере,
в какой оно согласуется с принципами, а не с конкретными
обстоятельствами, — за исключением того случая, когда с точки
зрения аргумента о «второй натуре» мои привычки и обычаи
настолько срослись с моей личностью, что должны быть
подходящими именно для меня. Другое дело спросить, подходят
I. «The individual is foolish, the multitude, for the moment, is foolish; but the
species is wise and, given time, as a species it always acts right» (Burke E.
Works. London, 1877. Vol. VI. P. 147; заметки для речи «On a Motion Made
in the House of Commons, May 1782, for a Committee to Enquire into the
State of the Representation of the Commons in Parliament», см.: Pocock J.G.A.
Politics, Language and Time. P. 226-227; цит. по: Покок Дж. Бёрк и
древняя конституция. С. 164).
б!
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
ли они к моим внешним обстоятельствам, а не ко мне лично.
Однако обычай — это конкретное суждение, в пользу которого
свидетельствует опыт большого числа людей. Пройдя проверку
временем, он упрочился: вероятность того, что им довольны
(с учетом стабильных условий, им предполагаемых и
поддерживаемых), действительно весьма велика. Однако обычай — это
суждение, которое можно рассматривать в максимально
долгосрочной перспективе, и должно существовать немало суждений,
которые необходимо выносить на основе опыта не столь
большого количества людей. И «отдельный человек», и «множество
людей в каждый конкретный момент», о которых говорит Бёрк,
вынуждены принимать решение, хотя они и «глупы» в том
относительном смысле, что объем опыта и знаний об
особенном, исходя из которых они принимают свои решения, у них
заметно меньший, чем у «вида по прошествии времени».
Решения «множества людей в каждый конкретный момент» — это
статуты Фортескью, а добродетель, проявленная при их
принятии,— это то, что он называет «рассудительностью».
«Обоснованием» обычая — которое, разумеется, нельзя назвать
доказательством,— служит его древность, а «рассудительность»
можно определить как способность создавать статуты, которые
пройдут испытание временем и приобретут авторитет и
древность, уже присущие обычаям. Однако рассудительность
является и добродетелью, которую демонстрирует отдельный
человек при принятии решений, поскольку в конечном счете
это не что иное, как способность продуктивно использовать
свой и чужой опыт.
Фома Аквинский определяет искусство как «правильное
суждение о вещах, которые будут созданы (factibilium)», а
рассудительность — как «правильное суждение о вещах, которые будут
выполнены (agibilium)»1. Некоторые современные переводчики
передают ratio как «суждение», чтобы минимизировать трудности,
связанные с различением спекулятивного ratio, исходящего из
принципов, и практического ratio, идущего к цели. Позже Фома
ссылается на Цицерона, который «приводит еще три части
рассудительности, а именно память о прошлом, мышление
существующего и предвидение будущего», и делает вывод, что они
«являются не отличными от рассудительности добродетелями,
I. St. Thomas Aquinas. Summa Theologica. New York, London, 1969. Vol. 23.
P. 51 (ia-2ae, question 57, 4) (рус. перевод: Фома Аквинский. Сумма
теологии / Пер. СИ. Еремеева. Киев, 2θθ8. С. 99 (часть II-I, вопрос 57>
раздел 4)· — Прим. перев.).
62
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
а... ее неотъемлемыми частями»1. Рассудительность, как теперь
становится очевидно, относится к настоящему и будущему
опыта, тогда как обычай — к уже свершившемуся. В случае обычая
опыт решал, что было хорошо и удовлетворительно в прошлом;
он также определял, что пригодно для конкретной природы,
или «гения», народа, и это суждение, вероятно, являлось
самоисполняющимся, ибо практика и обычай создавали «вторую
натуру» и одновременно оценивали ее — прошлое и в самом
деле оказывалось совершенным. В случае статута опыт должен
предсказать то, что скорее всего подтвердит будущий опыт, но
в принципе лишь там, где обычай еще не сложился. Когда
среди обстоятельств человеческого существования, неустойчивых
и переменчивых в потоке времени, возникала некая случайность,
еще не закрепленная практикой, следовало сделать первые шаги
и тем самым способствовать этому закреплению. Статут
основывался на опыте и предполагал дальнейшее подтверждение
опытом; это был шаг, предпринимаемый, когда новое
обстоятельство возникало несколько раз и накопилось достаточное
количество опыта, чтобы начать обобщать его в форме обычая.
Опыт, в облике рассудительности выполнявший это обобщение,
подобен двуликому Янусу: он соединял новацию и память,
статут и обычай, настоящее, будущее и прошлое.
Однако как быть с первой реакцией на непредвиденные
обстоятельства, действием, предпринятым впервые? В этой связи
Макилвейну пришлось провести свое известное, хотя и спорное
различие между jurisdictio (объявлением закона) и gubernaculum
(управлением)8. Он справедливо заметил, что первая реакция на
случайность осмыслялась в рамках теории рассудительности,
но могла лишь косвенно основываться на опыте, если вообще
опиралась на него. Допустим, нечто произошло в первый раз.
Либо оно лишено сходства с какими-либо предшествующими
явлениями, и тогда мы не знаем, ни как его описать, ни что
предпринять, либо оно обладает достаточным сходством с
предшествующими событиями и мы сочтем его принадлежащим
к какому-либо классу событий. При этом нечто произошедшее
впервые наделено индивидуальными свойствами (или
набором свойств), достаточными, чтобы мы с тревогой признали
его sut generis, то есть уникальным. Если преобладают
характеристики второго типа, было бы неуместно созывать совет
ι. Ibid. Р. 57> 6ι (вопрос 57» раздел 6); (Там же. С. 104-105, юб).
2. Mcllwain С. H. Constitutionalism Ancient and Modern. P. 77 et passim.
63
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
старейшин и действовать на основе совокупности их опыта;
поступать следует исходя из новизны явления, почти
неизбежно сопряженной со скоростью, с которой оно надвигается
на нас и требует отклика. Если время есть измерение перемен,
то скорость прямо пропорциональна неизвестности.
Как следствие, в случае с не имеющим аналогов событием
решение должен принимать один человек, которому не надо
собирать совет; но, так как принять решение на основе
опыта здесь невозможно, оно едва ли способно породить статуты
или общие основанные на рассудительности высказывания,
с помощью которых в дальнейшем можно подходить к
событиям такого рода. Необходимо повременить, пока это событие
не повторится несколько раз и его уже нельзя будет считать
не имеющим никаких аналогов. Человеческие обстоятельства
переменчивы, и случалось, что нормативное суждение и
статус оказывались неуместными: проблема была слишком новой,
слишком незнакомой, времени не хватало. Впрочем, зная о
допущениях, лежащих в основе понятия «опыта», момент, когда
статут будет уместным, наверняка наступит. Поэтому Макил-
вейн счел возможным расположить управляющие полномочия
средневекового короля вдоль спектра, ведущего от jurisdictio
к gubernaculum. На одном конце находились основанные на
опыте уже вынесенные решения. Монарху оставалось лишь
огласить их, упражняя память и исключая другие аспекты
рассудительности: его собственный опыт не должен был ничего
прибавлять к обычаю, и он не принимал самостоятельных
решений. В различные переходные периоды, когда
одновременно возрастали неизвестность и необходимая скорость реакции,
требовалось вкладывать большую рассудительность в процесс
формирования обычаев; правитель советовался с более узким
кругом лиц, чаще опирался на собственную рассудительность,
но принимал решения, общий характер, постоянство и
обязательная сила которых в качестве законов соответственно
снижались. Наконец, наступал момент, когда неизвестность
становилась полной, реакция требовалась мгновенная и управлять
мог лишь один человек. Монарх обретал абсолютную власть
в том смысле, что его решения не были ограничены ни
обычаем, ни советом, но они мгновенно не становились — ибо не
могли стать — общими законами поведения. Только повторение
и дальнейший опыт способны сделать их таковыми.
Сказанное выше представляет ряд jurisdictio-gubernaculum
в виде очень упрощенной и идеализированной схемы, которой
64
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
ее автор, возможно, чрезвычайно бы удивился; критики Макил-
вейна также неоднократно задавались вопросом, не слишком
ли он упростил факты средневекового правления. Если
обращаться с этим рядом без должной аккуратности, он может
произвести теорию, мало чем отличающуюся от той, что оказалась
столь неудовлетворительной в Англии ранних Стюартов:
существует королевская власть, ограниченная законом, и
королевская власть, не ограниченная законом, и между ними нет
необходимого противоречия. Вслед за Харрингтоном в XVII веке1
и Юмом в XVIII2 некоторые современные авторы утверждают,
что средневековое правление обладало меньшим внутренним
единством и — до эпохи Тюдоров — большей подвижностью,
чем предполагалось3. Но одно дело — утверждать, что
различные формы jurisdictio и gubernaculum еще не
институционализировались настолько, чтобы четко различаться, а другое —
считать, что образ мышления, передаваемый этими словами, не
был главным или единственным фундаментом философии,
доступной средневековым мыслителям, рассуждавшим о
правлении. Теперь, когда мы, следуя за этой формой мышления,
представили систему правления как набор инструментов,
необходимых для упорядочивания непредсказуемого времени,
мы видим, что структуры, из которых она состоит, открыты
новому и различаются между собой не более, чем мгновения
прошлого, настоящего и будущего, которыми мы исчисляем
время. Как следствие, уже меньше приходится удивляться, что
люди Средневековья могли говорить об обычае одновременно
как установленном волей монарха или правительства и как
1. Из «Республики Океании» (1656): «...no other than a wrestling match,
wherein the king, as he has been stronger, has thrown the nobility, or the
nobility, as they have been stronger, have thrown the king... where the laws
were so ambiguous that they might be eternally disputed and never reconciled»
(The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. London,
1771. P. 63, 69); «...Это лишь непрестанная борьба, в которой
правитель, когда он сильнее, одерживает победу над знатью, а знать, когда
она сильнее, побеждает правителя... где законы столь
двусмысленны, что о них можно было бы бесконечно спорить и так и не прийти
к согласию...».
2. Из «Истории Англии»: «...the several constituent parts of the gothic
governments, which seem to have lain asleep for so many ages, began, every
where, to operate and encroach on each other» (Hume D. History of England.
Vol. 5. London, 1762. P. 14, chap. 1); «...Различные части варварских
государств, казалось бы веками дремавшие, повсюду начали приходить
в движение и посягать друг на друга».
3- Hanson D. W. From Kingdom to Commonwealth: the development of civic
consciousness in English political thought. Cambridge, Mass., 1970.
Критику традиции Макилвейна особенно см. в главах 4~7-
65
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
о существующем с незапамятных времен; что различие между
статутами как новыми законами и утверждением старых было
очевидным и в то же время едва заметным; что разница между
gubernaculum как объявлением принятого по конкретному
поводу решения, не выходившего за пределы единичного случая,
и gubernaculum как установлением правила, обладающего
некоторой степенью обобщенности и, в соответствии с этой
степенью, сохраняющего определенную силу в будущем («законом»),
не могла выдерживаться на практике. Двойственная структура
опыта подобна Янусу: она предполагает понимание настоящего,
взятого в качестве момента времени в цепочке воспоминаний
и новых восприятий, и принципиально объясняет все эти вещи.
Нас в данном случае интересует не столько то, что случилось
с характером правления, сколько недостатки понятийной
системы, на которую правлению следовало полагаться. Верховный
судья Хенгем на своем председательском месте хорошо знал, как
создать новый статут, перетолковав старый1. Однако верховный
судья Фортескью не мог в своем трактате привести теоретическое
обоснование этого процесса, которое бы не возвращало Хенгема
с его благосклонной к новизне рассудительностью в мир
опыта, обычая и осмысления прошлого. Поэтому на одном конце
спектра понятие прошлого опыта совершенно не действовало,
а непредвиденные обстоятельства и реакция на них
признавались уникальными; здесь не оставалось ничего, кроме тайны.
В области политики царило исключительно gubernaculum,
максимально далекое от обычного законодательства; в этой сфере
власть любого правителя становилась одновременно
абсолютной и очень непрочной. В делах политики монарху и его
советникам оставалось руководствоваться лишь своей
рассудительностью и опытом. Это было их профессией; этому они учились на
протяжении всей своей жизни; Бог, возложивший на них такую
задачу, мог по своему милосердию помочь им в ее выполнении;
и они могли развить необыкновенное мастерство, упражняясь
I. См. слова Хенгема, обращенные к просителю (Ibid. Р. 207): «Do not
gloss the statute; we know it better than you, for we made it, and one often
sees one statute undo another»; «He толкуйте закон превратно; нам он
известен лучше вас, потому что мы создали его, и нередко можно
наблюдать, как один статут отменяет другой». Ср.: Plucknett T. F. Т. The
Legislation of Edward I. Oxford, 1949. P. 72-74. Хансон затем (Hanson D. W.
From Kingdom to Commonwealth. P. 220-222) стремится показать, что
Фортескью не подчинял статут обычаю, как если бы первый был
ограничен последним. Впрочем, Хансон не разграничивает авторитет
статута и разумность его содержания.
66
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
в том, что составляло их профессиональную «тайну» или
искусство. Полагаясь на свою опытность в искусстве управлять
государством, на arcana imperii, или тайны власти, на умение
судить о смене времен и сезонов, событий, обстоятельств и
человеческих волеизъявлений, выдающиеся правители, такие как
Филипп II Испанский — прозванный Благоразумным — или
Елизавета I Английская, претендовали на мистический и едва
ли не божественный авторитет. Сфера, в которой они
действовали, была областью непостижимого божественного Промысла,
и успех в ней казался провиденциальным; он свидетельствовал
ρ том, что власть дана им свыше. Однако чисто политическое
искусство управления государством не было связано ни с
властными, ни с законодательными полномочиями, так как не имело
ничего общего с учреждением и поддержанием установлений
закона. Речь шла о загадочном, в каком-то смысле
иррациональном искусстве справляться с исключительным, случайным,
непредвиденным, когда следовало оставить всякую надежду на то,
чтобы подчинить ход событий власти закона. Но там, где можно
прибегнуть к опыту в форме обычая или согласия, где можно
установить и обосновать общие правила, управление
государством уже не являлось такой загадкой и таинственным
искусством, а было скорее — всегда подчиняясь строгому
разграничению разума и опыта — рациональным методом или наукой.
Исходя из предпосылок, разделяемых такими людьми, как Фор-
тескью, мастерство государственного управления короля не
давало ему оснований выполнять роль судьи или законодателя;
требования к правлению были другими. Монарх мог быть
достаточно рассудителен, чтобы определять политику, когда
рассудительность была в цене, а опыт не являлся столь ценным;
королю существенно недоставало опыта, чтобы быть судьей
или законодателем, как и любому человеку, не прибегавшему
к опыту и благоразумию других.
Чистое gubernaculum было столь же чистой тайной; и коль
скоро опыт оставался единственным средством обобщения
конкретных случаев и применения к ним универсалий, jurisdictio
и принимаемое по общему согласию законодательство
оставались единственными методами формирования и приведения
в действие законов, которые выдержали бы проверку на
разумность. Но такая философия правления по необходимости
не могла адекватно осмыслить ситуации, когда gubernaculum
выступало частью jurisdictio, а в монархе видели носителя
правосудия и законности, возлагая на него — в силу его положения —
67
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
ответственность за правильный образ действий, отличавшийся
от образа действий любого другого человека. Доводы, подобные
тем, что мы находим у Фортескью, лишали короля каких-либо
приличествующих его положению интеллектуальных
функций и отводили ему — подобно канцлеру из трактата «О
похвале»— лишь роль почтительного наблюдателя за
действиями судей, не более мудрого, чем любой образованный, но
несведущий в этом вопросе человек. Однако никакая теория
gubernaculum не могла, по-видимому, наделить монарха
устойчивой и в то же время уникальной ролью в правосудии и
законодательстве, поскольку, согласно всей рассматриваемой нами
философии, gubernaculum было скорее искусным ремеслом,
нежели наукой, имеющей дело не с повторяющимися, а с
единственными в своем роде явлениями, не с учреждением законов,
а с выстраиванием политики. В той мере, в какой на короля
была возложена эта крайне нелегкая задача, он пользовался
авторитетом, равным авторитету божественного Провидения
или основанным на нем; поскольку при этом существовала
связь между его действиями и тем, что происходило в
советах и судах, случались минуты, когда король, лицом к лицу
со своими советниками или судьями, мог говорить «аки лев
рыкающий»1, подкрепляя свои слова страшным и якобы
божественным авторитетом gubernaculum. Тогда ему нельзя было
возражать или противиться; на короткое время в силу того же
авторитета он мог игнорировать законы. Впрочем, когда речь
заходила о вынесении судебного решения, издании статутов
и в особенности о тонкостях основанной на обычае
юриспруденции, рык льва стихал и вновь обнаруживалось то
стеснительное обстоятельство, что законы основывались на разуме
и опыте, которыми король обладал не больше других людей.
Яков I и Кок снова сталкивались лицом к лицу.
Король обладал авторитетом больше других людей, но в этом
пункте авторитет перестает основываться на какой-либо
теории человеческого знания. В данном случае уместно
сослаться на тезис Вальтера Ульмана о противоположности
«нисходящей» и «восходящей» власти2. Власть правителя опиралась
на его понимание политики (politice у Фортескью) или была
дана ему свыше (regaliter\ от Бога, понимаемого скорее как rex
(царь), чем как lex (закон), в большей степени как воля, нежели
ι. Цитата из «Первого послания» ап. Петра [ι Петр. 5-8].—Прим. ред.
2. Ullmann W. Principles of Government and Politics in the Middle Ages. London,
1961.
68
А) ОПЫТ, ОБЫЧАЙ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
разум. Но и эту власть Фортескью стремился свести к
минимуму, приравнивая ее к исполнению lex naturae, универсального
закона, ясного обычному человеческому разуму. Тем не менее
в том, что касается единичных обстоятельств, божественный
авторитет настолько нельзя было ни с кем делить; даже то, как
король получил его, держалось в тайне именно потому, что он
дан Провидением. Только Бог из nunc-stans, остановившегося
теперь, мог в полной мере понимать смысл череды
конкретных событий, и было проще представить себе, что они
происходят по Его воле. «Провидение» выступало именем Его воли,
управляющей этой чередой, по крайней мере, так ее
воспринимали люди, живущие во времени, и для них, не ведавших
nunc-stans, она оказывалась непостижима и таинственна.
Подобно рыкающему льву, король подкреплял свои слова
авторитетом, нисшедшим к нему от Бога, поэтому и его
авторитет становился непостижимым, таинственным и не подлежал
возражениям. Впрочем, описанный дар ничего не прибавлял
к способностям его ограниченного во времени ума; это был
феномен скорее иерократический, чем секулярный. Вот
почему Жан Боден, как и многие другие теоретики «абсолютной
монархии», утверждает, что исходя из своего авторитета
король может пренебрегать обычаем всякий раз, когда он этого
пожелает, но исходя из соображений рассудительности и
мудрости ему следует делать это только в редких случаях1. Даже
король не преодолевал в полной мере пропасти между Богом
и человеком; и, по-видимому, этим объяснялось, что авторитет
перевешивал рассудительность в тот самый момент, когда
покидал область случайных событий во времени,
воспринимаемых человеческой памятью, и вступал в измерение времени,
выстраиваемого божественной волей и Провидением. Однако
когда Провидение провозглашало обязательные для всех
людей законы, оно говорило с Синая, а не из Рима или Византии;
его акты не являлись постановлениями земного законодателя.
Прежде чем король или общество смогли в полной мере
утвердить силу позитивного законодательства, должна была
появиться теория, наделяющая людей способностью создавать новый
порядок в области секулярной истории. Стремясь понять,
почему такая теория все еще отсутствовала, мы обязаны более
подробно рассмотреть феномен провиденциального времени.
I. Six Books of the Commonwealth by Jean Bodin, abridged and translated /
Ed. by M.J. Tooley. Oxford, n.d. P. 43-44, 123-128.
Глава II
Проблема и ее модусы
Б) Провидение, фортуна и добродетель
Можно назвать диалектическим парадоксом то, что
христианская доктрина спасения, в конечном счете сделавшая
возможным историческое мировоззрение, веками активно отрицала
эту возможность. Греческие и римские умы не видели причин
ожидать чего-то нового в человеческом будущем, поэтому
возникали различные и взаимопроникающие учения о
циклическом повторении или верховной власти случая (fyche или
fortuna) — хотя мы должны остерегаться преувеличивать или
преуменьшать их значение, — стремившиеся выразить это
отсутствие ожидания, которое иногда вызывало ощущение
пресыщенности жизнью или сеяло тревогу (angst)1. Однако эти
кажущиеся пустыми схемы оставляли место для проницательного
наблюдения за политическими и военными происшествиями,
и интерес к деяниям людей не утрачивался, а скорее,
наоборот, возрастал, — благодаря мысли, что когда-нибудь, в рамках
обычного хода вещей или в космологических масштабах, эти
деяния повторятся. С появлением монотеистических религий
спасения время подверглось переосмыслению и
трансформации — оно стало мерой событий, смысл которых крылся в
вечности. Бог заключил завет с людьми, и этот завет должен был
в свое время исполниться; Бог создал человека, человек пал,
Бог начал вести его к искуплению, и этому процессу в какой-
то момент времени надлежало завершиться. Все эти
высказывания обозначали события, происходящие во времени;
говоря о них, можно было использовать прошедшее или будущее,
и все же значение каждого из них лежало за пределами
истории в том смысле, что оно характеризовало перемену в
отношениях между людьми и тем, что находилось вне времени.
Время выстраивалось вокруг действий, которые совершал в нем
ι. См. прим. ι на с. 38. О Фортуне как богине и объекте поклонения см.:
Ferguson J. The Religions of the Roman Empire. Ithaca, 1970.
70
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
вечный агент; из этих действий складывалась цепочка
событий, смысл которой раскрывался во времени и наделял время
смыслом. Впрочем, так как смысл этих действий располагался
вне времени, получалось, что время обретало значение в той
мере, в какой соотносилось с вечностью. Можно было даже
сказать, что человек вступил во время, когда покинул Эдем, и что
последовательность действий, составлявших священную
историю, имела своей целью привести время к окончательному
завершению и наполнить его смыслом в момент, когда оно будет
преодолено и прекратит свое существование. Коротко говоря,
история обретала смысл, подчиняясь эсхатологии.
Как следствие, в святоотеческой традиции жизнь отдельного
человека часто представала как существующая в двух
обособленных временных измерениях. С одной стороны, речь шла
об измерении, состоявшем из действий и событий, которые
отдалили человека от Бога и теперь вели к их воссоединению.
Большей частью они принадлежали прошлому и относились
к датам, которые можно было теоретически, а часто и
достаточно точно идентифицировать в летописи человеческой истории,
но, разумеется, свершения других событий верующие
ожидали в будущем, и их не только нельзя было уверенно
датировать, но даже считалось предосудительным пытаться их
предсказать. Это ставило вопрос об эсхатологическом настоящем,
о религиозной жизни, которую следовало вести в ожидании
окончательного искупления. Когда стало понятно, что
настоящее может превысить продолжительность многих человеческих
жизней и простираться на много поколений, этот промежуток
неизбежно заполнился другими происходящими во времени
событиями, доступными человеческому пониманию. Они
составляли то, что в словаре патристики называлось saeculum1,
а современный человек предпочитает называть историей:
человеческим временем, организованным вокруг событий
социального мира, которые греко-римскому сознанию
представлялись преимущественно политическими и военными, а сознание
поздней Античности, что не удивительно, мыслило их в виде
взлета и падения империй. Теперь следует поставить вопрос:
как две не зависящие друг от друга цепочки событий (то есть
«священная» и «секулярная» истории) могли соотноситься
между собой? Носителям гражданского сознания — а христианские
ι. При написании этой главы я опирался на книгу: Markus R.A. Saeculum:
History and Society in the Theology of St. Augustine. Cambridge, 1970.
71
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
умы поздней Античности были исполнены гражданского
сознания,— активно вовлеченным в то, что происходило в
городских, провинциальных и имперских обществах, события
в этой области могли казаться так или иначе связанными
с намерением Бога привести человечество к спасению. В самом
деле, учитывая постоянное стремление разграничить
аскетическое отречение от мира и дуалистическое отрицание мира,
было рискованно оспаривать ту точку зрения, согласно
которой Бог каким-то образом присутствовал в событиях земной
истории, был причастен к ним и направлял их к
спасительной цели. Saeculum включался в драму спасения; так не мог ли
он тоже служить и путем спасения?
Кроме того, существовала — по меньшей мере с тех пор, как
Книга пророка Даниила и Откровение Иоанна Богослова
вошли в христианский канон, — система пророчеств, включавшая
боговдохновенные изречения, предсказывающие события,
которые могли еще не произойти. Здесь эсхатологическое
завершение пути к спасению и сам конец времени представлялись
в виде драмы человеческой истории, сообщающей о крушении
городов и империй. Поэтому не было ничего невозможного или
незаконного в предположении, что пророчества действительно
говорили о «секулярной» истории и что пророк или тот, кто
толковал пророчество, мог «прочитать» земные события так,
чтобы увидеть за ними движение к искуплению, а в них
самих— часть этого движения. Но в пророческом постижении
истории не заключалось ничего собственно
историографического. Поскольку оно состояло из чтения и применения
пророческих книг, подобных двум только что упомянутым текстам,
язык, которым оно оперировало, был весьма темным и
изобиловал символами; чтобы провести связи и параллели между
событиями, описанными в пророчестве, и событиями,
пережитыми и воспринимаемыми как часть saeculum, требовалось
сформировать ряд вторичных словарей по символике. За счет
этого оказалось возможным соотнести некоторые
второстепенные события с фактами из пророчеств, вследствие чего статус
последних стал более значимым, поскольку из символа они
возвысились до типа — в первичную сокровенную реальность,
способную многократно воспроизводиться в независимо
существующих последовательностях событий, воплощающих один
тип. Так эсхатология сохранила превосходство над историей.
Мало того, что последняя воспринималась только как
изображение процесса искупления, его можно было воспроизводить
72
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
вновь и вновь; эта драма ставилась многократно — один
эпизод за другим, при том что некоторые из них относились
вовсе не к секулярной истории, но к паломничеству отдельной
души или были абстрактными внеисторическими эпизодами,
в то время как сами исторические события могли связываться
друг с другом не исторически, а типологически. Коротко
говоря, язык пророчеств постоянно тяготел к тому, чтобы от
повествовательной прозы истории уклониться в сторону поэзии
космического символизма. Одни и те же модели повторялись
на разных уровнях вместо уникальной последовательности
сменяющих друг друга неповторяющихся событий. Для ума,
который мог осмыслять конкретные события, лишь соотнося
их с универсальными, это средство, подобно философии,
стало источником новых возможностей1.
Тем не менее историческое событие или явление можно
было соотнести с эсхатологическим без потери его
исторической уникальности, если оно непосредственно связывалось
с окончательным, неповторимым и потому уникальным
искуплением всего человечества; но именно такую связь патристи-
ческий интеллект в лице Августина должен был решительно
отвергнуть и низвести до ереси. Было обнаружено, что
существует много способов использовать язык Книги пророка
Даниила и Откровения для обозначения структур, к которым
мог принадлежать христианин и которые он мог бы
представить как играющие некоторую роль в эсхатологической драме.
Торжествующие христиане в царствование Константина или
Феодосия могли рассматривать христианскую империю и ее
церковь как часть предсказанного Богом исторического
свершения, указывающую прямо на какое-либо эсхатологическое
исполнение, но воинственные пуритане в Африке были
уверены в необходимости сохранить церковь свободной от
компромисса со светской властью и настаивали на том, что спасение
достигалось лишь внутри христианской общины, не
зависящей ни от императора, ни от сотрудничающих с ним
духовных лиц2. Спасение было в обществе и в истории, но только
1. Одним из следствий было, возможно, то, что линейные эпизоды
пророчества в строгом смысле слова слились с циклическими
событиями, отражая повторяемость типов. См., например: O'Malley J. W. Giles
of Viterbo on Church and Reform; A Study in Renaissance Thought. Leiden,
1968.
2. Markus R.A. Saeculum. Chap. 2: Tempora Christiana: Augustine's Historical
Experience, а также: P. no et passim. См. также: Frend W.H.C. The Donatist
Church. Oxford, 1952.
73
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
в грядущей истории, которой еще предстояло свершиться
в конце времен; а пока ложная церковь и светская империя,
поддерживающая и ведущая ее по ложному пути,
воспринимались как враждебные и дьявольские силы, образами
которых насыщены пророческие книги. Из этого
апокалиптического сепаратизма — стремления на основе эсхатологии создать
альтернативную историю, ожидаемую в будущем, — возник
милленаризм, или миллениализм, который христиане во все
времена использовали, чтобы выразить свой протест против
официальных церквей, обладающих светской властью или
служащих ее орудием.
Ответ Августина — и следующей за ним традиции —
заключался в отрицании как имперской, так и сектантской версии
апокалиптизма и в радикальном разрыве между
эсхатологией и историей. Отношение христианина к необратимости
искупления заключалось в его принадлежности к civitas Dei,
общине, соединенной с Богом и, следовательно, существующей
с ним скорее вне времени, чем в редкие моменты вхождения
в него. Поскольку никакая civitas terrena (земная община) не
могла отождествляться с civitas Dei, то не следовало искать
спасения ни в принадлежности к христианской империи,
исполняющей волю Бога в ходе видимой истории, ни в
апокалиптической антицеркви, которая рассчитывает стать
проводником Его воли в конце истории. Несомненно, процесс
искупления должен был в свое время подойти к концу, и
христианин мог надеяться, что с этого дня удостоится общения
со святыми. Впрочем, его спасение не являлось следствием
исторического процесса или выстраивания жизни по такой
модели, которая бы включала в себя подобный процесс.
Гражданское общество и его история действительно существовали
и оказывались необходимы, но они были крайне
несовершенны даже с точки зрения своих непосредственных целей —
человеческой справедливости — и тем более их не хватало для
восстановления отношений человека с Богом1. Действия,
ведущие к искуплению, совершались Богом во времени и могли
рассматриваться как часть священной истории, но они не
должны были непременно совершаться через структуры
гражданского общества или внутри них, а потому искупление
человека не становилось результатом секулярной истории или
I. Markus R.A. Saeculum. Chap. 3: Civitas Terrena: the Secularisation of Roman
History; Chap. 4: Ordinata est res publico.: the Foundations of Political Authority.
74
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
апокалиптической антиистории антиобщества, которое впало
в заблуждение, полагая, что в искуплении нуждались
общество и история. Но если спасение относилось к отдельным
людям, а жизни отдельных людей не длились в течение всей
истории, то не все концы света располагались в конце света.
Эсхатологическое видение в перспективе Августина стало
видением чего-то, что отчасти располагалось вне истории. Могло
казаться, что спасение или вечное осуждение отдельного
человека происходило в момент его смерти, когда из времени он
переходил в вечность. Эсхатологическое прекращение истории,
ожидавшееся в конце времен, подразумевало скорее телесное
воскресение, довершавшее человеческую радость или
страдание в зависимости от того, к чему он был уже приговорен.
У Данте, писавшего после девяти веков влияния Августина,
создается впечатление, что осуждение и, возможно, спасение,
в которых человеческий дух прозревает свою судьбу, еще не
совершились, поскольку воскресение тела и конец времени еще
впереди1. Пребывание в чистилище могло завершиться — ведь
Стаций переходит в рай — до наступления этого момента.
Разделение спасения и общества, искупления и истории,
души и тела раскалывало надвое, но не отменяло проблему
эсхатологического настоящего. Теперь у проблемы, связанной
с осмыслением состояния души в период между смертью и
воскресением тела, не было иного решения, кроме того, что
предлагали столь радикальные еретические учения, как мортализм
или психопанихизм2, считавшие, будто жизнь или
восприимчивость души со смертью замирает до окончания земного
времени, ибо здесь отрицался вневременной характер
принадлежности к civitas Dei, а значит, и самое civitas*. В рамках saeculum
оставался релевантным вопрос об осмыслении социальных
и исторических событий, переживаемых отдельными людьми
на протяжении всего доступного памяти прошлого и впредь
до конца времен. Если им нельзя приписать никакой особой
1. Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад, VI, юо-ш; X, 94_1°8; Рай,
XIV, IO-I8; 37-66.
2. Термин психопанихизм (от psyche — душа и pan-nychis — ночное
бодрствование) происходит от псевдодревнегреческого слова psychopannychia,
придуманного Жаном Кальвином для заглавия своего
полемического трактата, в котором он опровергает учение о том, что душа после
смерти впадает в сон и становится бесчувственной.—Прим. ред.
3- Williams S. H. The Radical Reformation. Philadelphia, 1962; PocockJ.G.A. Time,
History, and Eschatology in the Thought of Thomas Hobbes // PocockJ.G.A.
Politics, Language and Time (chap. 5).
75
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
эсхатологической значимости, других способов наделить их
смыслом не существовало; saeculum было лишь измерением
падения человека — его совокупного, если не
усугубляющегося проклятия; и единственными историческими событиями
в нем, обладавшими значением, оказывались те, что были
призваны обратить вспять последствия этого падения. Если
искупление не осуществлялось через социальные и
исторические события, они не выглядели наделенными
священным или рациональным смыслом, в свете которого их
можно было бы объяснить. Однако saeculum не следует отвергать
как простую бессмысленность. События искупления
происходили в той же временной последовательности — недоставало
лишь способа связать священные факты с земными; и
никакую часть христианского мироздания, даже ад, нельзя было
считать лишенной смысла. Невозможно было отрицать, что
Бог присутствует и действует в секулярной истории; не
принималось лишь то, что мы способны разглядеть в земных
событиях осуществление Его замыслов. Поэтому не
подлежало сомнению, что Бог направляет земную историю к нашему
окончательному искуплению; вызывало сомнение лишь, что
мы можем или должны знать, как это происходит.
Поскольку, по Августину, история не являлась предметом пророчеств,
проблема жизни в историческом настоящем — это проблема
жизни с нераскрытой эсхатологией.
Однако христиане так или иначе продолжали быть
римлянами: гражданскими существами, весьма озабоченными
событиями политической истории, гражданскими и
военными происшествиями, которые происходили с ними и о
значении которых они время от времени вопрошали Бога.
«Утешение философией» (De Consolatione Philosophiaé) Боэция, конечно,
классический образец такого направления в литературе. Эта
книга, одна из наиболее читаемых в западной истории,
заключает в себе столько ключевых для настоящего
исследования тем, что можно с пользой проанализировать ее еще раз.
Вопрос о том, в какой мере мысль Боэция являлась
христианизированной, можно оставить в стороне, учитывая, сколько
поколений христиан читали «Утешение». Боэций, римский
аристократ на службе у готского короля, впал в немилость, был
заключен в тюрьму и впоследствии казнен. Вероятно, именно
в заточении он написал труд, в котором сетует на свою участь,
худшую, чем он мог ожидать, и примиряется с ней. «Утешение»
не произведение политической философии, но это философия
76
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
живущего в мире политики человека. Боэций жалуется на
утрату власти, которую, по его мнению, он использовал во благо,
и на несправедливые притеснения, которые он претерпел от
тех, кто злоупотреблял властью. Таким образом, он говорил от
лица всех, кто считал — не противореча духу Августина, — что
люди должны действовать в сфере civitas terrena, но действовать
без иллюзий; также в книге встречаются отрывки,
отсылающие к античной этике, которая требовала от добродетельного
человека поступать так, чтобы его действия позволяли
проявляться добродетели в других людях. Отдельные фрагменты
«Утешения» указывают, что добродетели покрываются
ржавчиной и ветшают, если не находят себе применения1. Однако
в политике действовать — значит подвергать себя опасности
со стороны ненадежных систем человеческой власти, вступать
в мир изменчивости и перипетий (peripeteia), история которого
есть измерение политической нестабильности; и для
рассматриваемой нами темы крайне важно, что это измерение
Боэций нарекает Фортуной. Fortuna — это латинское слово
вобрало в себя многие оттенки греческого «тюхе» (tyche) — обладала
сложным набором значений. Противопоставляя добродетель
фортуне, Боэций обращался к давней риторической традиции,
которую, однако, поместил в христианский контекст. В
сенаторском этосе республиканского и имперского Рима8 fortuna
означала скорее удачу, чем случай: человек мог быть
удачливым (felix iimifaustus) в том смысле, что нечто в его личности
притягивало благоприятные обстоятельства; но элемент
случайности заключался в том, что на удачу нельзя вполне
положиться, а обстоятельства невозможно ни предсказывать, ни
контролировать. «Барака», «мана» или «харизма» (если
пользоваться терминами, заимствованными из других культур)
успешного человека заключались одновременно в свойствах
личности, притягивающих благоприятную фортуну, и в
умении эффективно и благородно действовать в любой
ниспосланной фортуной ситуации; эту сложную характеристику римляне
обозначали словом virtus3. Добродетель (virtue) и фортуна часто
противопоставлялись друг другу, и героическая стойкость,
позволявшая переносить неудачу, переходила в активную
способность преобразовывать обстоятельства себе на пользу, то есть
1. Боэций. Утешение философией. I, IV; II, VII; IV, II.
2. Earl D. С. The Moral and Political Tradition of Rome. Ithaca, 1967; Cochrane Ch.N.
Christianity and Classical Culture. New York, 1957.
3. Добродетель, доблесть (лат.).—Прим. ред.
77
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
в харизматическое félicitas*, таинственным образом
обеспечивавшее расположение фортуны. Аллегорией этого
противопоставления нередко выступал образ сексуальных отношений:
активный мужественный интеллект стремился овладеть
пассивной женственной непредсказуемостью, которая покорно
награждала его за силу или коварно мстила ему за слабость.
Поэтому слово virtus могло наделяться многими коннотациями,
связанными с мужественностью, что объяснялось и его
этимологией: vir означает «мужчина».
Понятие virtus, изначально составлявшее часть этоса
политического и военного правящего класса и во многом
сохранившее эту связь, соединилось с греческим aretê и в смысловом
отношении развивалось таким же образом. Aretê исходно
понималось как «гражданское совершенство», — некое качество,
вызывающее уважение других граждан и обеспечивающее
своему обладателю первенство и авторитет среди них. Благодаря
Сократу и Платону оно сделалось более тонким и стало
означать такое нравственное качество, которое было необходимо
для ведения гражданских дел и могло существовать и без них,
делая их необязательными, и благодаря которому, на высших
уровнях платоновского мышления, бытие и мироздание
становились постижимыми и благими. И arete, и virtus стали
означать, во-первых, силу, за счет которой отдельный человек
или группа людей эффективно проявляли себя в гражданском
контексте; во-вторых, необходимое качество, делавшее личность
или какой-либо другой элемент целого тем, чем они являлись;
в-третьих, нравственное достоинство, делавшее человека в
масштабах города или космоса тем, чем он должен быть. Это
разнообразие значений сохранялось «добродетелью» и его
эквивалентами в разных языках вплоть до конца старого западного
мышления; это слово имеет очевидную важность для любой
книги, выстроенной вокруг фигуры Макиавелли.
Мировоззрение Боэция настолько проникнуто
платонизмом и неоплатонизмом, что качество, если не сам факт его
христианства, становится спорным. Он противопоставляет
друг другу virtus ufortuna, одновременно обнаруживая
различные римские, платонические и христианские
коннотации virtus, передает использование слова fortuna и оппозицию
«virtus—fortuna» последующей вековой традиции августини-
анского христианства. Как персонаж собственного диалога
ι. Счастье (лат.).—Прим. ред.
78
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
Боэций жалуется1, что из-за свойственной ему сенаторской
virtus, побудившей его участвовать в политической жизни
в надежде творить благо, его коснулись превратности судьбы,
сопряженные с борьбой за власть, которые он называет fortuna.
Впрочем, его жалобы имеют отношение скорее к теодицее, чем
к политике; он не задается вопросом о причинах своего
поражения как политика, а вопрошает, как Бог, который есть
совершенная добродетель, мог допустить, чтобы virtus пал
жертвой fortuna. Августин просто ответил бы, что людям следует
ожидать несправедливости, если они сильно хотят участвовать
в жизни падшего города; Боэций, более вовлеченный в
политику и больший платоник по своему мышлению, пытается
найти перспективу, которая объясняла бы, как град
небесный позволяет существовать земному граду. Однако, прибегая
к fortuna для обозначения превратностей saeculum, он
осуществляет имеющий огромное значение синтез различных языков,
который увековечивает римскую и политическую концепцию
virtus даже тогда, когда ставит ее под сомнение. И здесь
появляется Философия в лице милостивой женщины и начинает
утешать Боэция. Ее цель — оправдать Фортуну, внушив ему
понимание истории как части божественного замысла,
поэтому virtus, которым он вооружится против злобы Фортуны,
будет философским и созерцательным, а не политическим
и деятельным; но в традиции философов Афинской школы
политическое не исчезает от простой замены действия
созерцанием. Стремясь понять проблему Боэция, мы должны
отметить некоторые существенные особенности фигуры,
занимающей столь важное место в его размышлениях.
Фортуна — это прежде всего ненадежность обстоятельств
политической жизни. Ее символ — колесо, поднимающее
людей к власти и славе, а затем внезапно низвергающее их под
натиском перемен, которых они не могут ни предвидеть, ни
контролировать. Именно участие в делах civitas terrena ведет
нас к погоне за властью, а потому и к превратностям fortuna.
Впрочем, если события мира, основанные на власти
человеческих отношений, труднее всего предсказать, а именно их мы
больше всего стремимся предугадать, политический символ
fortuna может служить обозначением платоновского мира
явлений, это образ, создаваемый нашими чувствами и
привязанностями, в котором мы видим лишь сменяющие друг друга
I. Боэций. Утешение философией. I, IV.
79
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
конкретные вещи и не подозреваем о вневременных
принципах, обеспечивающих их реальность. Платон в «Государстве»
не прибегал к символу тюхе (tyche), но использование
Боэцием символа fortuna помогает нам осмыслить его как элемент
глубоко политической природы западного мировоззрения,
согласно которому феноменальный мир чувственных иллюзий
является также политическим миром межличностных
отношений в земном граде (civitas terrena). Более того, время служит
их общим измерением: подобно тому как вещи кажутся
сменяющими друг друга, поскольку мы не видим вневременной
реальности, которой они принадлежат, так и повороты колеса
усиливают мучительное чувство ненадежности, поскольку мы
действуем в civitas terrena, а не в civitas Dei, Задача Философии
теперь — убедить Боэция, что saeculum и fortuna —
непредсказуемость власти в мире политики — являются сторонами
феноменальной и исторической нереальности, но существует
некая перспектива, из которой все видится реальным.
Философия убеждает, развивая концепцию, позже
получившую название nunc-stans, или вечного теперь1. Бог, будучи
вечным, одновременно созерцает все моменты времени; Ему
открыта и отчетливо видна как целое вся картина земной истории,
и проблемы последовательности и предсказания для Него не
существует. Мир истории различим в его простоте, единстве
и совершенстве, а божественные воля и разум (которые суть
одно) направляют его к искуплению человечества, которое Бог
видит уже свершившимся. Отсюда следует — и это главная
мысль «Утешения», — что «все есть благая Фортуна, все есть
счастье» («all Fortune is good Fortune»)2 или, скорее, что
Фортуна поглощается парными понятиями Провидения и Судьбы.
Провидение — это совершенство божественного видения,
способность охватывать взором (или, с точки зрения
человеческого интеллекта, предвидеть) все обстоятельства; Судьба —
совершенство образца, который Бог предписывает и в котором Он
воспринимает их3. То, что мы называем^/рг£гша, — это наше
несовершенное восприятие совершенства истории. В позднейшей,
но родственной риторике стало более привычным говорить
о Провидении как непостижимом ходе событий, направляемом
ι. Боэций. Утешение философией. III, XII; IV, VI; V, III—VI.
2. Там же. IV, VII. Цит. по: Боэций. Утешение философией / Пер. В. И. Уко-
ловой, М.Н. Цейтлина // Боэций. «Утешение философией» и другие
трактаты. М., 199°· С. 271.
3- Боэций. Утешение философией. IV, VI.
8о
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
к нашему искуплению разумом, который нам не доступен, а
затем — как о том аспекте божественного разума, что управляет
конкретными и чувственно воспринимаемыми явлениями,
постигая при этом универсалии и идеи; и в этой традиции
Фортуна могла приравниваться к Провидению. В «Божественной
комедии» есть эпизод1, очень созвучный Боэцию, когда Данте
и Вергилий видят битву расточителей со скупцами, и
Вергилий объясняет, что обе стороны пренебрегли
противоположными дарами, посланными им Фортуной, небесным существом,
которое распределяет земные жребии непостижимо для
человеческого рассудка и само, будучи блаженным, не слышит
человеческого ропота; а кто ропщет на пути Господни, тот, как
нам уже известно, начал утрачивать il ben dell'intellettù1, как
вовсе утеряли его осужденные на вечные муки3. Провидение,
которое Боэций отождествил с Судьбой, означало вневременное
постижение Бога со стороны Самого Бога; но чаще о
Провидении стали говорить так, как Данте говорит о Фортуне,
подразумевая знание Бога, открывающееся нам как предвидение,
разум, который мы должны назвать непостижимым, так как
он управляет тем, что нам дано знать как последовательность
конкретных явлений во времени. Ее невозможно было познать,
находясь внутри самого времени; Бог, пребывая в nunc-stans,
знал ее, но нам оставалось лишь верить, что Он ее знает так,
как мы не сможем ее познать до конца времен. Расточители
и скупцы проявили недостаточную веру; то, что Данте назвал
здесь Фортуной, могло быть названо и обычно называлось
Провидением: это была Фортуна Боэция, увиденная глазами
веры, которая знала, что она есть благо. Наоборот, Фортуна
язычников, злобная и иррациональная богиня, крутящая
колесо, показывала, каким видели и воспринимали Провидение
те, кого не исцелила вера.
Однако Боэций как персонаж диалога пребывает во времени,
почему он и находится во власти Фортуны. Философия же
сообщает ему рассудочную уверенность в существовании nunc-stans,
но не способность приобщиться к такой точке зрения.
Философия оказывается не обособленной от веры, хотя Боэций не
развивает концепцию христианской веры как личной
преданности своему Искупителю. Философия не доставляет ему участия
в божественном видении, но утешает и примиряет с судьбой,
ι. Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. VII, 25~99-
2. Свет разума (итал.). — Прим. ред.
3- Боэций. Утешение философией. Ill, ι8.
81
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
оставляя его в уверенности, что Бог устроит эту судьбу к
лучшему и знает ее, как самому ему не дано знать; и такое духовное
состояние уместно назвать верой. Таким образом, философия
и вера должны заменить (или преобразовать) virtus как умение
отвечать fortuna. Если с позиций языческой и гражданской
добродетели Фортуна рассматривалась как сырье для славных
подвигов, совершаемых на войне, в управлении государством,
а также для посмертной славы, христианин у Боэция видит
в ней испытание, событие, которое требует и должно взывать
к жизни, искупленной философской верой и освобожденной от
горечи смерти. Он действует в секулярном мире, и это
поможет ему убедиться, что им движет не «трусливая монашеская
добродетель»1, и сделает его веру более совершенной,
подвергнув ее испытаниям Фортуны. Именно таким на протяжении
веков оставался смысл понятия «христианская добродетель»,
хотя для Фомы Аквинского virtutes (добродетели) были делом
моральной практики и привычки2.
Может показаться, что вера и vita contemplativa заменили
политику и viva activa, оказавшись в центре нравственной жизни,
и, конечно, во многом так и было. Однако следует помнить,
что созерцание есть деятельность3, и деятельность наиболее
подходящая для жизни в civitas Dei, граде, конечным
предназначением которого является познание Бога и общение с Ним.
Но отношения между языческой и христианской добродетелью,
а также между добродетелью и знанием гораздо более сложные.
Если применить телеологию Аристотеля к римским
представлениям о virtus, можно сказать, что, воздействуя на
окружающий его мир через войну и управление государством,
носитель гражданской добродетели воздействовал сам на себя; он
исполнял свои непосредственные гражданские обязанности
и, действуя, становился тем, чем, по Аристотелю, человек
является и должен являться в силу своей природы, — существом
политическим. В таком контексте отношение virtus к fortuna
ι. Выражение из «Ареопагитики» Джона Мильтона: «Я не могу воздавать
хвалу той трусливой монашеской добродетели, которая бежит от
испытаний и воодушевления, никогда не идет открыто навстречу врагу
и незаметно уходит с земного поприща, где венок бессмертия
нельзя получить иначе, как подвергаясь пыли и зною», см.: Мильтон Дж.
Ареопагитика. Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к
парламенту Англии (1644) // Современные проблемы. Вып. I. М.;
Новосибирск, 1997· С. 3Ι_79· — Прим. ред.
2. St. Thomas Aquinas. Summa Theologica. Vol. 23 (iz-2ae, question 55).
3. Aristotle. Politics. P. 289 (1325b).
82
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
превращалось в отношение формы к материи. Гражданское
действие, осуществляемое посредством virtus — качества,
присущего мужчине (vir), — схватывало еще не вполне
сложившееся обстоятельство, подброшенное Фортуной, и придавало ему
форму, придавало форму самой Фортуне, довершая ее в
соответствии с тем, какой должна быть человеческая жизнь:
гражданской жизнью в городе. Virtus понимался как структурирующий
принцип, способствующий достижению цели, или как
конечная цель сама по себе. Следующий заветам Августина
христианин видит свою цель в civitas Dei, а не в земном граде (хотя
сам факт, что единство с Богом по-прежнему мыслилось в
образе civitas, показывает, что перед нами все еще политическое
определение человеческой натуры, которое предстояло
преодолеть), и virtus, помогающий ему в поисках, теперь представляет
собой, как у Боэция, смесь философии и веры, которая делает
его тем, чем он является по природе: созданием, рожденным,
чтобы знать Бога и всегда славить Его. Однако у Боэция
философия по-прежнему противостоит fortuna, более темной
стороне общественной жизни, и fortuna по-прежнему обрушивает
на людей обстоятельства, которым они вновь обязаны придать
форму человеческой жизни, какой ей надлежит быть; их вера
включает страдание в структуру искупленной жизни1. В то же
время дух искупления состоит как из разума — философии,
так и из веры; и философия nunc-stans предлагает средства для
познания феноменального и временного мира — который
теперь отождествляется с царством Фортуны — в таком свете, что
преходящие и ограниченные во времени конкретные события
становятся понятны благодаря знанию предназначения, цели
и универсальных сущностей, для которых они созданы. Люди
становятся тем, чем они должны быть, благодаря уверенности,
что Бог сотворил мир таким, каким он должен быть.
Политическое определение человеческой природы, по-видимому,
оказалось окончательно преодолено, когда civitas Dei стала
пониматься как вечное сообщество мыслящих сознаний.
Это время еще не настало и может не настать до конца
времен. Пока люди живут в своих временных телах, философия
способна лишь утешать их существованием божественного
видения, а вере надлежит поддерживать их, пока они не могут
его разделить. Тем не менее вера в таком определении
опиралась на гарантию вневременного видения, в котором вещи
I. Боэций. Утешение философией. II, VIII; IV, VII.
83
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
феноменального мира постигались в свете своего
предназначения; и в то же время вера преобразовывала людей в
соответствии с их предназначением — разделить это видение. Так
как человек мог достичь своей подлинной цели лишь через
искупление последствий грехопадения, это formatio должно было
пониматься как reformatio, восстановление подлинной
человеческой природы, утраченной Адамом; по Аристотелю, такая
трансформация подразумевала восстановление формы или
повторное ее обретение. Но идущая от Августина традиция с
полной определенностью утверждала, что искупление человека
невозможно построить на одной лишь философии или даже на
сочетании философии и веры. Искупление могло состояться
лишь как акт божественной благодати, к которой философия,
вера и упражнения в добродетели взывали, но которую они не
могли заставить действовать и которой они не могли даже
считаться достойными. Поэтому аристотелевскую телеологию надо
было примирить с представлениями о благодати — об актах
божественной любви, которые в строгом смысле слова
являлись безвозмездными дарами. Если человек мог восстановить
свою подлинную форму, включавшую постижение вещей в
свете их подлинных форм, только посредством благодати,
необходимо было, чтобы первоначальное творение вещей в их
природе, сущности или предназначении, осуществленное Богом,
как Его изображала Библия, а не Аристотель, также мыслилось
как действие (или действия) благодати и благодатной любви.
Таким образом, благодать открывала и замыкала цикл
творения и искупления, она творила вещи в их подлинной природе
и восстанавливала подлинную природу созданий, отпавших
от нее. Посредством христианского virtus человек делал то, что
было в его силах, дабы благодать привела его к reformatio, но
последствия грехопадения были таковы, что существовал
неизбежный разрыв между добродетелью и благодатью, даже если
согласиться с Фомой Аквинским, что gratia non tollit naturam, sed
perficif. После искупления человеку предстояло увидеть вещи
«лицем к лицу»2, в их подлинной сущности, какими создала их
благодать, что для него было невозможно даже на пути к
искуплению, которое опять же лишь благодать делала возможным.
Однако если fortuna была делом истории, значит, земная
история была лишь пассивной материей, которую надлежало
1. «Благодать не уничтожает природу, но совершенствует ее (лат.).—
Прим. перев.
2. [ι Кор. 13:12].
84
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
использовать в процессе reformatio; она была лишена формы
и в этом смысле не имела собственного предназначения. Боэций
нигде не выходит за рамки восходящей к Августину традиции:
он рассматривает последовательность событий в
социально-политическом мире как серию вызовов для веры и философии,
которые человек преодолевает и включает в структуру своей
искупленной жизни как гражданин небесного града. Любая
фортуна является благой фортуной лишь потому, что любые
обстоятельства можно использовать таким образом; то, что
Боэций называет Судьбой, обладает смыслом и
упорядоченностью лишь с той точки зрения, что Бог может видеть всю
историю целиком как сумму индивидуальных искуплений.
Последовательности событий в saeculum не следует придавать
общее искупительное значение. Однако оставалось не вполне
ясным, насколько Августину удалась великая операция
отделения процесса искупления от взлета и падения империй.
Действия, ведущие к искуплению, совершались Богом во
времени, в aevum1, которое трудно отграничить от saeculum; они
датировались ссылками на события земной истории —
подобно тому, как в Символе веры ежедневно повторялось, что
Христос «страдал при Понтии Пилате». Неисправимому
политическому мышлению западных людей было трудно не увидеть
некий, возможно, таинственный смысл в том, например, что
Даниил пророчествовал вавилонским правителям, апостол
с Патмоса, по-видимому, намекал на земные империи, а
важнейшие институты христианского общества, вероятно, как-то
повлияли на обращение императора Константина.
Проделанное Августином разделение истории и эсхатологии в конечном
счете основывалось на его убежденности, что жизнь в
гражданском обществе мало что способна дать для спасения души.
Когда снова стало казаться реальным, что королевства и
республики, управляемые христианами и по христианским
законам, могут в разумной мере достичь земной справедливости,
практика которой, достаточно публичная, чтобы участвовать
в делах некоей civitas terrena, была бы положительно связана
с искуплением посредством благодати, то и события
публичной истории — жизнь civitas, простертая во времени, —
начали восприниматься уже не просто как fortuna. Скорее
публичная fortuna должна выглядеть теперь как область, на которую
распространяется действие благодати. Возрождение учения
I. Бесконечное время, вечность (лат).—Прим. ред.
85
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
Аристотеля о том, что политические сообщества естественны
для людей, логически повлекло за собой воссоединение
истории и эсхатологии.
В поставгустинском мире Боэция политическая история
казалась простой Фортуной, превращаемой в Провидение
только оком веры, которое знало, что злоключения человека могли
стать материалом для его искупления. История (если
воспользоваться современным термином) могла иметь только личный
смысл. Но если событиям публичной истории предстояло
играть некую роль в искуплении, понятие Провидения
следовало расширить и — в любой удобный момент — включить
в него понятие пророчества. События пророческой истории
являлись, подобно творению и конечному искуплению,
актами благодати и милосердной любви, но благодать была
явлена не в творении или преобразовании сущностного бытия,
а в совершении действий, которые, будучи уникальными и
неповторимыми, должны были происходить во времени, а
потому оставались недоступны философскому интеллекту. То, что
их произвело, следует считать Провидением, поскольку оно
совершало целенаправленные действия, представлявшие
собой серию событий во времени и чьи причины поэтому
располагались вне нас; но, совершая акты пророческой истории,
в то же время посредством словесных или иных средств оно
открывало людям некоторую часть смысла этих событий.
Считая эти божественные послания истинными, люди проявляли
веру несколько иного рода, чем та, о которой мы до сих пор
говорили. Вместо того чтобы с помощью рассудка принять
существование божественного разума, опыт которого можно
описать, но нельзя разделить, теперь вера признавала, что были
произнесены определенные слова или начертаны
определенные знаки, совершены определенные действия в
определенные моменты времени и что они являлись действиями Бога,
который через них открыл человеку определенные истины.
Поскольку утверждения такого рода предполагали
утверждение конкретных исторических фактов, они не были
результатом философских размышлений. И если говорить о той части
откровения, которая касалась уже свершившегося, как то, что
Бог вочеловечился, или о той части, которая предрекала
будущие события, как то, что Он вновь придет в конце времен,
они также выходили за пределы философии. (Как раз
этого измерения веры мы не находим у Боэция.) Веру в
пророчество можно рассматривать как признание авторитета. Как
86
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
сами наделенные авторитетом высказывания, так во многом
и их содержание относились к определенным моментам
времени, составляя часть последовательно изложенной пророческой
истории. Авторитетные же высказывания принадлежали сфере
публичного, а не частного; их адресатами были человеческие
сообщества — Израиль, церковь, — которые они упорядочивали
и наделяли историей. Именно поэтому они играли такую
важную роль в любой попытке возродить политическую
эсхатологию. Пророчество было публичным проявлением Провидения.
Оно соединяло в себе фортуну, обращенную верой в
Провидение, и фортуну, представлявшую собой историческое
измерение земных обществ. В пророческом времени утверждалась не
только вневременность nunc-stans, но и неотвратимость конца
времен. Нога novissima, tempora pesnrna sunt; vigilemus1.
Таким образом, пророческая история выступала как средство,
позволяющее политизировать благодать и вновь придать
священный статус политике. Концепции Августина грозило
разрушение каждый раз, когда казалось возможным отождествить
некие моменты истории гражданских обществ с описанием
конца мира, которое можно частично найти в разных
пророческих книгах. Разумеется, оставалось то затруднение, что
пророчество по природе своей не обращалось к проблеме
эсхатологического настоящего; не существовало сценария для
всего, что должно случиться между «сейчас» и концом времен,
но, как и следует, изображались лишь сцены, предшествующие
этому концу. Если бы кто-то вздумал прибегнуть к сложным
типологическим построениям и предположил бы, что земная
история — не говоря уже о других формах опыта — служит
прообразом событий апокалипсиса в разные моменты
времени и разных местах, то он мог бы снова оказаться во
вневременном мире архетипов и универсалий, а земная история
вернулась бы к подножию лестницы соответствий как
лишенная самостоятельного значения. Если бы жизнь гражданского
общества, проживаемого во времени как последовательность
неповторимых переживаний, заключалась в том, чтобы
найти свое значение в контексте священной истории, то следует
предположить: в трактовке требующей истолкования
гражданской истории само пророчество приближалось к своему
уникальному и неповторимому завершению. Само собой, заявить,
ι. «Час последний, настали наихудшие времена — будем же бодрствовать».
Первая строка сатиры Бернарда Клюнийского «О презрении к миру»
(De contemptu типах) (XII век).—Прим. перев.
87
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
что во Флоренции или в Англии и в их истории могут
разыграться события Второго пришествия Христа и Страшного
суда, означало навлечь на себя обвинения в крайней гордыне
и богохульстве, а также сделать предсказания легко
поддающимися фальсификации; но подобные утверждения звучали
столь часто, что ими нельзя пренебречь как обыкновенным
заблуждением. Ниже мы попытаемся выстроить смысловую
рамку, внутри которой можно объяснить распространенность
такого рода заявления.
Вероятно, лучший способ интерпретировать частоту
политической апокалиптики состоит в том, чтобы рассматривать
ее как показатель идеологической напряженности в
отношениях между церковью и светским обществом в поздние века
христианства. Папская церковь строилась на осуществленном
Августином разрыве между эсхатологией и историей. Она
отказывала в искупительном значении структуре и истории
любого светского общества, одновременно заявляя, что она
действует и является авторитетом в качестве моста между civitas
Dei и saeculum, будучи в каком-то смысле институционализа-
цией nunc-stans. Эти претензии оказались столь непоколебимы,
что любая светская республика или королевство, стремящиеся
утвердить свою автономию, почти обязаны были заявить, что
играют роль в процессе искупления, так что искупления можно
достичь посредством участия в ее светских и исторических
делах. Церковь же, в свою очередь, была так решительно
настроена отрицать искупительный характер истории, что особенно
болезненно воспринимала периоды возрождения пророческого
элемента христианства, который утверждал исторический
характер искупления. Как следствие, средневековые еретики
почти всегда прибегали к апокалиптике, даже тогда, когда всего
лишь утверждали, что искупление следует искать в исполнении
пророчества, а не в институциональной деятельности церкви,
основанной по ту сторону времени; а в пророческой речи,
которую они возродили, светские правители нашли символику,
необходимую для того, чтобы придать своим действиям
искупительное значение. Государи и еретики оказывались до
некоторой степени естественными союзниками; их объединяло
стремление подкопать заложенный Августином прочный
фундамент, вытеснив nunc-stans эсхатологическими ожиданиями,
civitas Dei — возвращением Христа к Своим праведникам в
конце истории. Таким образом, представители обеих категорий
обращались к двум основным направлениям неортодоксальной
88
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
апокалиптики, которые существовали в позднем
Средневековье, соприкасаясь и смешиваясь, но оставаясь аналитически
различимыми: к милленаристской традиции, последователи
которой, основываясь на Откровении, ожидали низвержения
всех форм земной власти и воцарения на земле Христа и Его
праведников в конце исторического времени; и к традиции,
идущей от Иоахима Флорского и разделяемой миноритами,
согласно которой после Века Отца, когда Бог выражал Свою
волю через завет с Израилем, и Века Сына, когда Христос
действовал через Свое мистическое тело — Церковь, настанет Век
Святого Духа, когда Бог воплотится во всех избранных людях,
как сейчас Он воплощен только во Христе1.
Очевидно, что обе эти модели имели революционный
потенциал в том смысле, что они предусматривали правление
просвещенных святых, не связанных более ранними
законами и разрешениями, светскими или пророческими; и время от
времени случалось, что какой-то государь обнаруживал, что его
союзники-еретики обращают это оружие против его
собственной власти. Тем не менее такие пророческие модели весьма
привлекали любых государей, находившихся в напряженных
отношениях с церковью, и, как показывает история, государи
и республики, усвоившие эту идеологию, сделали мудрый для
своей эпохи выбор. В краткосрочной перспективе религиозные
индивидуалисты, стремившиеся к отстранению церкви от
земных дел и восстановлению ее исключительно в виде духовной
общины, нередко были рады полностью подчиниться
государю, полагая, что он не может коснуться их души. В
долгосрочной перспективе мы прослеживаем постепенное превращение
ожидаемого тысячелетнего царства или Третьего Века в то
неопределенное земное будущее, которое отличает модерное
понимание истории от домодерного2. В самом деле, апокалипти-
ка служила мощным инструментом секуляризации, средством
вернуть процесс искупления в измерение социального
времени, от которого Августин попытался его отделить, и
изобразить его как продолжение или преобразование существующих
земных процессов. Вот почему, изучая период, которому
посвящена эта книга, мы должны помнить, что политическая
ι. Cohn N. The Pursuit of the Millennium. 2nd ed. New York, 1961; LeffG. Heresy
in the Later Middle Ages: 2 vols. Manchester, 1967; Reeves M. The Influence
of Prophecy in the Later Middle Ages: A Study in Joachism. Oxford, 1969.
2. Tuveson E. Millennium and Utopia: A Study in the Background of the Idea
of Progress. Berkeley; Los Angeles, 1949.
89
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
эсхатология была оружием, которым пользовались властные
институты светского общества, равно как и мятежники-хили-
асты, направлявшие его против тех же правителей, и что
отношения между праведником и обществом никогда не были
свободны от двусмысленности1.
Таким образом, размышления о конце света помогли
открыть путь к современной светской историографии. Однако
на данном этапе анализа, в центре которого — скудость
способов исторического объяснения, доступных политическому
мышлению средневекового человека, следует подчеркнуть, что
главный вопрос, встававший из-за отсылки к эсхатологии,
заключался в том, был ли светский политический опыт открыт
для эсхатологического измерения. Если да, то кризисные
моменты внутри светского опыта можно было делать
вразумительными путем идентификации их с периодами, людьми или
символами внутри одного из доступных эсхатологических
сценариев; если нет, то нет, и в этом заключалась вся суть
вопроса. Мы пока не достигли пункта, из которого можно увидеть,
как апокалиптика могла бы, пусть даже косвенно, расширить
репертуар объяснений смены одних светских политических,
равно как и светских исторических, событий другими. Мы
лишь добавили еще один тип размышления о светских
событиях к тем, которые уже нам знакомы. Мы предполагаем, что
с чрезвычайным происшествием или единичным событием
можно иметь дело, вооружившись опытом и
рассудительностью, включенными в существующую практику и обычаи,
или полагаясь на статут или политическое решение. В такой
ситуации можно действовать с позиций веры, осмысляя
произошедшее в контексте искупленной христианской жизни
верующего, который претерпел ее как фортуну и благодаря вере
преобразовал в Провидение. Христианин способен, уделяя чуть
I. Lamont W.M. Godly Rule: Politics and Religion, 1603-1660. London, 1969.
Автор книги, подобно другим критиками, указывает, что, несмотря на
все достоинства книги Кона «Pursuit of the Millennium» («В поисках
Тысячелетнего царства»), не следует считать милленаризм
исключительно мятежной идеологией; см. также: Haller W. Foxe's Book of Martyrs
and the Elect Nation. London, 1963. Исследование Уолцера (The Revolution
of the Saints. Cambridge, Mass., 1965) — классическая работа о фигуре
праведника, чуждой как церковному, так и общественному порядку;
однако среди ее критиков стало уже трюизмом отмечать, что две эти
формы отчуждения необязательно существовали одновременно и что
вовлеченность праведника в секулярное общество была масштабнее
и отличалась большей напряженностью, чем, по-видимому, полагал
Уолцер. См. ниже, с. 478-483·
90
Б) ПРОВИДЕНИЕ, ФОРТУНА И ДОБРОДЕТЕЛЬ
большее внимание политической жизни, расширить свою
концепцию Провидения, так чтобы она включала в себя
пророчество, и приписать непредвиденному обстоятельству
эсхатологический смысл. Наконец, — альтернатива, которая до сих
пор не рассматривалась, — он мог бы ценой значительного
ослабления своей веры отнестись к непредвиденному случаю
лишь как к делу Фортуны, либо потому, что не считал себя
достойным, либо потому, что не верил, будто Провидение
действует от его имени. Тогда происшествие лишалось
сущностного смысла, а цепочка таких происшествий или наполненный
ими временной отрезок оказывались лишь вращением колеса.
Фортуна тогда начинала символизировать иррациональность
истории, абсурд в его средневековом смысле: такой история
могла казаться тем, кому недоставало веры, такой она должна
быть в том случае, если Бога и его Провидения не существует.
Когда средневековые люди приходили в отчаяние, появлялся
такой символ: в небесах гармонически вращались
хрустальные сферы, но в орбите Луны последствия грехопадения
заставляли иррациональные колеса Фортуны вращаться чудно1
и необузданно, а вся история суммировалась в образе Гекубы,
лежащей под колесом2.
1. На титульном листе «Замка знаний» Роберта Рекорда (Recorde R. The
Castle of Knowledge. London, 1556; первая английская работа no
астрономии, основанная на системе Коперника) изображены фигуры Знания,
которое держит на прямом посохе Сферу Рока, и Невежества,
вращающего Колесо Фортуны, которое оно держит за изогнутую рукоятку,
присоединенную к центру колеса. На странице помещены следующие
стихи: «Though spitefull Fortune turned her wheele / To staye the Sphere of
Vranye, / Yet dooth this Sphere resist that wheele, / And fleeyth all fortunes
villanye. / Though earthe do honour Fortunes balle, / And bytells blynde hyr
wheele aduaunce, / The heauens to fortune are not thralle, / These Spheres
surmount al fortunes chance» («Хотя злобная Фортуна повернула свое
колесо, / Чтобы задержать Сферу Урании, / Но эта Сфера сопротивляется
колесу и ускользает от бесчинств Фортуны. / И хотя земля чтит шар
Фортуны, / И, слепая как жук, она крутит свое колесо дальше, /
Небеса не подчиняются Фортуне, / Эти Сферы преодолевают все
превратности Фортуны»). Сферу сопровождает символ солнца, колесо — луны.
Неровные пятна на поверхности луны, как и ее регулярное
пребывание и убывание, по-видимому, закрепляли представления о ее
непостоянстве и несовершенстве. Об этом говорит Беатриче во второй
песни «Рая» Данте (49-148)· О символике фортуны в целом см.: Patch H.R.
The Goddess Fortuna in Medieval Literature. Cambridge, Mass., 1927.
2. «Fortunae rota volvitur / descendu minoratus / alter in altum tollitur / nimis
exaltatus. / Rex sedet in vertice / caveat ruinam / nam sub axe legimus /
Hecubam reginam» (Carmina Burana, LXXVII / J.A. Schindler (Hrsg.).
Breslau, 1904 (образы Гекубы и колеса вновь встречаются в монологе
Актера, играющего роль короля, в «Гамлете» Шекспира, II, 2); рус.
перевод: «Поворачивается колесо Фортуны / Я схожу вниз униженный, /
91
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
Опыт, рассудительность и arcana imperii; фортуна + вера =
Провидение; Провидение — вера = фортуна; Провидение +
пророчество = раскрытая эсхатология; добродетель и благодать.
Эти формулы составляли модель, сложившуюся на тот момент
в интеллектуальной обстановке, в которой недоставало средств
для осмысления последовательности конкретных явлений
в социальном и политическом времени, поэтому все ответы
на конкретные события такого рода размещались между
полюсами опыта и благодати. Теперь мы посмотрим, как
работала эта модель, приложив ее к интеллектуальным инновациям,
которые имели место, когда осознанный республиканизм
возложил на умы, ограниченные только такими средствами,
дополнительную задачу — обеспечивать устойчивость во
времени политической структуры, остро осознававшей собственную
хрупкость и нестабильность. Как возникла эта проблема — тема
следующей главы.
Другой возносится наверх / Слишком возвышенный. / Король сидит
на вершине. / Пусть боится он гибели, / Ведь под осью [колеса] мы
читаем: / Гекуба Царица». Ср. художественный перевод Т. Лопатиной:
«И с поворотом колеса / Я вниз лечу с позором; / Другой счастливец
в небеса / Мчится метеором; / Сам король, что сел на трон, / Пусть
с оглядкой правит, / И судьбу Гекубы он / Пусть себе представит». Ср.
другие песни, посвященные Фортуне (I, LXXV, LXXVIa), и
изображение колеса, предпосланное всему сборнику.—Прим. ред.
Глава III
Проблема и ее модусы
В) Vita Activa и Vivere Civile
I.
Можно утверждать, что идеал гражданина предполагал
совершенно иную концептуализацию моделей политического знания
и действия по сравнению с той, что подразумевалась в рамках
традиций схоластики и обычного права, которые мы до сих
пор изучали. Прежде человек опирался на разум, открывавший
ему вечные иерархии неизменной природы и
предписывавший поддерживать космический порядок, сохраняя свое место
внутри социальной и духовной категории, к которой человек
принадлежал в силу своей природы. Он основывался на
опыте, который раскрывал ему извечную преемственность
традиционного поведения и мог лишь предписывать следовать ему.
Наконец, он одновременно руководствовался правилами
рассудительности и веры, когда поток случайных и уникальных
событий ставил его перед проблемой настолько необычной,
что ни разум, ни логика, ни опыт, ни традиция не давали
готового ответа. Можно сказать, что лишь в этих случаях он вел
себя как существо, способное к принятию решений (но даже
тогда он скорее походил на истинно верующего, опиравшегося
на эсхатологические ожидания), ибо в остальном он поступал
как представитель того общества, которое некоторые
теоретики называют традиционным. Однако этот тезис был бы
слишком сильным высказыванием: политические процессы часто
(некоторые считают, что всегда) протекают в рамках усвоенной
и восходящей к прошлому модели поведения, а истолкование
традиции может представлять собой сложное и осознанное
действие. В любом случае остается справедливым
утверждение: гражданин, постоянно вовлеченный в процесс
принятия совместных общественно значимых решений, должен
обладать интеллектуальным оружием, которое позволило бы
ему выйти за пределы, очерченные иерархией и традицией,
и опереться на доступную ему и его согражданам способность
93
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
понимать происходящее с ними и реагировать на него.
Основанное на обычае сообщество, занимающее свое место внутри
вечного порядка, — это не республика, состоящая из граждан.
Если они убеждены, что традиция — единственно верный
ответ на вопросы, вызываемые случайными событиями, то не
будут стремиться объединить усилия для принятия
самостоятельного решения. Если они полагают, что для ответа на
непривычную и единственную в своем роде проблему
следует прибегнуть к благоразумию нескольких людей,
принимающих решение, они будут склоняться к утверждению
монархического gubernaculum. Если они рассуждают об универсальной
иерархии бытия как общей ценностной матрице, то у них не
будет основания объединяться в независимое, суверенное
сообщество людей, принимающих решения. Гражданин должен
опираться на такую теорию познания, которая дала бы ему
возможность свободно принимать общественно значимые
решения, касающиеся событий общественной жизни. Попытка
построить модель гражданской жизни на эпистемологических
основаниях, допускающих признание только универсального
порядка и уникальных традиций, неизбежно сопряжена с
некоторыми ограничениями. Историю флорентийской
политической мысли можно назвать историей впечатляющего, но лишь
частичного освобождения от этих ограничений.
Есть свидетельства, что в XIV веке принадлежность к
флорентийскому гражданскому обществу представала в контексте
универсального порядка и авторитета, которые могли быть
выражены как иерархически, так и эсхатологически. Как
известно, Данте (1265-1321) отличался глубоким гражданским
патриотизмом, но для него освобождение Флоренции от власти
разрозненных группировок являлось элементом политического
и духовного оздоровления Италии как части мировой империи.
В той части своего сознания, в которой он полагал, что для
преобразования человечества нужен скорее имперский, чем
церковный авторитет, приход императора с Альп
представлялся ему событием и секулярной, и священной истории, давно
предреченным в контексте апокалиптического времени, что,
как мы видели, было следствием взгляда на искупление как на
происходящий во времени процесс. Существовала связь между
светской временной властью и апокалиптическим пророчеством.
Считая империю инструментом спасения, Данте поместил
Траяна и Юстиниана близ Христа, а Брута и Кассия — вместе
с Иудой на самом дне ада. Республика, представляющая собой
94
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
форму временной власти, рассматривается в контексте
империи, а империя — в контексте спасения мира,
воспринимаемого как часть апокалиптических событий. Видение Данте, при
всей его возвышенности и сложности, одновременно
является темпоральным и иерархичным, но в той мере, в какой оно
иерархично, оно олицетворяет человеческое совершенство как
в личностном, так и в политическом плане. Совершенство
выражается в способности человека занимать отведенное ему место
в вечном порядке; в той мере, в какой оно апокалиптично, оно
выражено в способности индивида играть роль, открывшуюся
ему или изначально присущую, в исторических проявлениях
благодати. Ни с той, ни с другой точки зрения акцент не
делался на объединении со своими согражданами для совместного
принятия решений в светских вопросах. Иерархия
структурно схожа с монархией, она определяется идущим свыше
авторитетом, и, поскольку иерархия империи отражает иерархию
космоса, манифестация ее принципов не изменяется.
Патриотизм Данте был патриотизмом гибеллина и сторонника
империи; он придавал его восприятию времени апокалиптическое,
но не историцистское измерение. Светскую власть он понимал
как империю, которая отражала и восстанавливала вечный
порядок, а не как республику, в которой особая группа людей
решала, какова должна быть их особая судьба.
В «Рае» Данте отвел почетное место Иоахиму Флорскому1,
чье учение или восходящие к нему традиции вновь
возникают в связи с одним из наиболее выдающихся предвестников
гражданского гуманизма, римским демагогом Колой ди Риенцо
(i3i3~i354·)· Используя воздействие собственной харизматической
и даже паранойяльной личности, Кола пытался объединить
жителей Рима в своего рода коммуну, но счел необходимым
для этой цели отождествить город XIV столетия с древней
республикой — а себя самого с ее трибуном — и
провозгласить неослабную власть римского народа над папой как его
избранным епископом, над императором как его избранным
государем и над всем миром как подчиненной ему империей.
Подобными заявлениями он утверждал республику,
апеллируя к непрерывности мировой империи, и неудивительно, что,
когда его в первый раз отстранили от власти, Кола прожил
некоторое время с отшельниками, последователями Иоахима,
ι. Данте Алигьери. Рай. XII, I39_145i Reeves M. The Influence of Prophecy in
the Later Middle Ages.
95
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
в Абруццо, а затем предстал как глашатай Третьего Завета,
призывая императора исполнить предреченную ему миссию
реформатора церкви и властелина мира1. Для него, как и для
Данте, республика, империя и апокалипсис были явлениями
одного порядка; и хотя только могущественная харизма может
объяснить, почему его так долго принимали всерьез, суть его
притязаний, как трибуна республики или как пророка
Третьего Завета, не казалась нелепой лучшим умам той эпохи.
Франческо Петрарка (ΐ3θ4_Ι374)> один из первых гуманистов,
видел в республике Колы обнадеживающее предзнаменование
восстановления древней доблести Италии и мира, но в то же
время не усматривал противоречия в надежде на то, что Кола
возродит эту доблесть, возвратив республику, папа —
вернувшись из Авиньона в Рим, а император — спустившись с Альп,
дабы навести в Италии порядок. Петрарка, не проявлявший
активного интереса к политике, не проводил резких границ
между различными формами правления; также существенно,
что, рисуя картину восстановления доблести, он уделял мало
внимания апокалиптическим пророчествам2. Гуманистическая
ученость, как мы увидим, способна создавать слишком
человеческий образ античной доблести, слишком социальный образ
жизни человека во времени, чтобы отводить большое место
типологии и символике, присущим языку пророчеств. Не менее
существенно, пожалуй, и то, что бахвальство трибуна меньше
всего, по-видимому, впечатлило флорентийцев. Они не видели
необходимости в том, чтобы изобретать яркую символику для
республики или облекать ее в торжественность пророческой
речи, ибо уже знали, что это такое, и могли — особенно в
моменты наибольшего разочарования — представить необычайно
реалистичное описание ее устройства. Однако именно
флорентийцам на протяжении двух следующих столетий предстояло
наиболее отчетливо выразить существо гражданского
сознания и его проблем; и хотя эта артикуляция главным образом
была обязана гуманистическому стилю мышления и письма,
апокалиптические образы отнюдь не исчезли из их сознания.
В начале XV века — чтобы не заглядывать еще
дальше— в трудах флорентийцев, особенно Колюччо Салюта-
ти (i33i-i4°6) и Леонардо Бруни (1361-1444)5 прослеживается
то, что можно назвать решительным разрывом с только что
1. Origo I. Tribune of Rome. London, 1938.
2. Wilkins E.H. Life of Petrarch. Chicago, 1961. P. 63-73, 117-118, 120, 134-135
(Ch. XII); WhitßeldJ.H. Petrarch and the Renascence. New York, 1965. P. 35-37.
96
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
обрисованным способом мысли. Из современных авторов этой
проблематикой больше всего занимались Ханс Барон и Эуд-
женио Гарэн1, но их работы, хотя пользуются большим и
заслуженным уважением, вызывают споры среди ученых, а нам
необходимо прокладывать себе путь с осторожностью.
Похоже, нет большого сомнения, что в флорентийской
идеологической структуре произошли определенные изменения. Начнем
с достаточно быстрого развенчания до тех пор не
подвергавшегося критике мифа, согласно которому город Флоренция
изначально был поселением воинов Юлия Цезаря (этот миф
оказался заменен новой легендой об основании ее Римской
республикой). В более поздних работах Бруни был склонен
обращаться к еще более раннему периоду и считать
Флоренцию наследницей этрусских городов-республик, процветавших
до того, как полуостровом завладели римляне. Он также
давал понять, что поглощение этих республик одной
республикой для этой последней стало шагом к превращению в
мировую тиранию (и в этом, к слову, он предвосхитил одну из
тем Макиавелли). На то, что противопоставление республики
правлению императора и отождествление последнего с
тиранией не являются случайностью, указывает
относившаяся к тому же времени попытка спасти историческую фигуру
Брута из пучины позора, в которую его низверг Данте2. Данте
видел в Бруте предателя своего покровителя, а так как этим
покровителем был император, возвышавшийся над
иерархиями людей, как Бог начальствует над иерархиями природы, он
поместил Брута и Кассия рядом с Иудой, предавшим Самого
Бога. Но революция, свершившаяся позднее в историческом
мировоззрении, представила Брута (Кассий никогда не
поддавался идеализации в такой мере) как тип республиканского
гражданина и тираноубийцы, обвиняя Цезаря в деспотизме
и уничтожении республики3.
1. Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance. 2nd ed. Princeton, 1966;
Idem. Humanistic and Political Literature in Florence and Venice at the
Beginning of the Quattrocento. Cambridge, Mass., 1955; Idem. From Petrarch to
Leonardo Bruni; Studies in Humanistic and Political Literature. Chicago, 1968;
Idem. Petrarch: His Inner Struggles and the Humanistic Discovery of Man's
Nature // Florilegium Historiale: Essays Presented to Wallace K. Ferguson /
Ed. by J.G. Rowe, W.H. Stockdale. Toronto, 1971; Garin E. Italian Humanism,
Philosophy and Civic Life in the Renaissance. New York, 1965; Holmes G. The
Florentine Enlightenment, 1400-1450. London, 1969.
2. О порицании императора у Петрарки см.: Baron H. Petrarch: His Inner
Struggles and the Humanistic Discovery of Man's Nature. P. 19-20, 37-39.
3. Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance (chap. 3).
97
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
Речь здесь идет не просто о пересмотре мифов. Вся
картина человеческой власти и ее истории, к которой должны были
обращаться флорентийцы, подверглась полной перестройке,
лишилась преемственности и становилась — в очень
значительной мере — все более секуляризованной. С той точки
зрения на историю, которую можно назвать империалистической,
политическое общество предусматривало существующий
среди людей иерархический порядок, присутствующий также на
небесах и в природе; его легитимация и организующие
категории также были вневременными, а изменения в нем могли
присутствовать лишь как признак упадка или восстановления.
Таким образом, принадлежность к империи, как и
принадлежность к монархии в целом, расценивалась как
принадлежность к вневременному. Те, кто пытался, поддерживая власть
папы или стремясь к политическому реализму, подчеркивать,
что империя или монархия относились к civitas terrena,
действительно могли делать акцент на их секулярном характере.
Но с более поздней точки зрения республика Флоренция,
возведенная на высокий пьедестал, но существующая в
настоящем и в собственном прошлом, связывалась лишь с другими
республиками и теми моментами в прошлом, когда республики
существовали. Республика не была вневременной, так как не
отражала напрямую вечный порядок природы; она была
устроена иначе, и тот, кто считал республику и гражданственность
первичными явлениями, незаметно склонялся к отделению
политического устройства от природного. Республика обладала
не столько иерархическим, сколько политическим устройством;
она создавалась для того, чтобы утверждать свой суверенитет
и автономию, а значит, свою уникальность и единственность.
Если мы вспомним, что флорентиец был готов принять идею
верности Флоренции как обособленную от природного
порядка и его вечных ценностей, мы поймем исходный смысл
флорентийского расхожего выражения, что любовь к своей
стране сильнее, чем любовь к своей душе; здесь подразумевались
различие и конфликт. Однако говорить о единичности
республики означало утверждать, что она существует во времени,
а не в вечности, а потому является преходящей и
переменчивой, поскольку такова участь всякого единичного бытия.
Республиканский идеал принимал факт смертности республики,
символизированный выбором в качестве героя неудачливого
мятежника Брута. О республиках в первую очередь знали, что
в свое время они оканчивали свое существование, тогда как
98
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
теоцентричныи миропорядок всегда свидетельствовал в
пользу монархии, вне зависимости от судьбы конкретных
монархий. Нельзя было даже с уверенностью сказать, что
республику можно вывести из какого-то универсального принципа.
Таким образом, чтобы утвердить республику, нужно разбить
вневременную непрерывность иерархического универсума на
определенные моменты — исторические периоды, в которые
существовали республики и которые заслуживали внимания,
и те, в которые их не было и которые, следовательно, не
имели для настоящего никакого значения или авторитета. Идея
«возрождения» после эпохи варварства, по-видимому, частично
основывалась на патриотическом стремлении поставить
Флорентийскую республику в один ряд с Римской и отвергнуть
вклинившийся между ними период Священной Римской
империи как время тирании и варварства. Конкретность и
историчность республики подразумевали конкретизацию и
секуляризацию истории, равно как и отказ от значительной ее части
как лишенной ценности. Однако интересно и существенно, что
такой подход породил проблему оценки истории самой
Флоренции— того, какое место отвести Данте и другим
прославленным флорентийским авторам, которые считали республику
вторичной по отношению к империи, порочили Брута и
превозносили Цезаря, да к тому же делали это на народном
наречии, в котором взыскательные гуманисты видели один из
признаков средневекового варварства. Намерение возвысить
республику, провозгласив ее ожившей древностью, нельзя
осуществить ценой отказа от важнейших элементов собственного
прошлого республики, поэтому Данте и volgare были со
временем восстановлены в правах. Однако чтобы сделать это,
пришлось искать объяснение тому, как могли они существовать
и столь блистательно преуспевать в эпоху, которая не была ни
классической древностью, ни классицистическим настоящим;
и образ самого настоящего менялся от сознания, что он
прославлял и происходил от мужей Треченто, равно как и
Античности1. Мысль стояла на пороге современного исторического
объяснения и главного открытия исторического сознания,
состоявшего в том, что «все поколения равноудалены от
вечности»— все исторические явления существовали в свое время,
по своему праву и на свой лад. Это происходило вследствие
I. Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance (chap. 13-15). См.
также: The Three Crowns of Florence: Humanist Assessments of Dante, Petrarca
and Boccaccio / Ed. by D. Thompson, A.F. Nagel. New York, 1972.
99
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
движения идей, которое можно наблюдать и в иных культурах
в другие периоды: когда оспаривается образ прошлого в
качестве непрерывного и представляющего авторитет для
настоящего и осколки прошлого отбрасываются как не имеющие
ценности— это может произойти в результате попытки придать
статус классики определенному периоду, поместив в него все
значимые ценности. Иногда оказывается: либо отвергнутый
период продолжает претендовать на авторитет для настоящего
в силу каких-то иных связей с ним, либо необходимо
объяснить, каким образом существовали и состояли в причинно-
следственных отношениях с настоящим и прошлым те
явления, которым отказывают сегодня в авторитете или ценности.
В таких обстоятельствах вполне может возникнуть некоторый
релятивистский способ объяснения прошлого как если бы оно
имело свой способ существования, свои собственные ценности
или другие основания для притязания на наше внимание1.
В рассматриваемом нами случае непрерывность прошлого
отражала многие свойства вневременного иерархического
порядка. Она была оспорена и разбита на ряд моментов, имеющих
положительное или отрицательное значение, потому что
критерием их ценности являлось существование конкретной
формы политического устройства; и период, согласно этой схеме
наделенный отрицательным значением (Треченто), оказался
положительным для настоящего времени из-за интенсивного
осознания республикой своей собственной преемственности
и традиций. Два взгляда на время столкнулись между собой,
и в результате возникла историческая интерпретация
Треченто; но весь перевод вневременного порядка во время и
последующие противоречивые оценки прошлого возникли только
вследствие утверждения индивидуальности и
преемственности республики.
Ханс Барон, подкрепляющий свой тезис подробным
критическим анализом хронологии ряда ключевых для
флорентийского гуманизма произведений, утверждает, что причиной
всему этому служил политический кризис, который город
пережил около 1400 года. Джангалеаццо Висконти, сильный
правитель, чье семейство обладало значительной властью в Милане,
выстраивал систему гегемонии, что могло привести к
образованию стабильного монархического государства в Северной
ι. Более подробный теоретический анализ см. в моей книге: PocockJ.G.A.
Politics, Language and Time (chap. 8: Time, Institutions and Action: An Essay
on Traditions and Their Understanding).
IOO
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
и Центральной Италии. Его власть быстро распространялась
по Тоскане; Флоренцию и Венецию разделяли дипломатические
и военные конфликты; и в этом кризисе, как утверждает
Барон, флорентийцы глубоко и болезненно ощущали свою
изолированность, оставаясь в собственных глазах последними
поборниками республиканской свободы в Италии и известном
им мире. По мнению Барона1, за два года, предшествовавшие
внезапной смерти Джангалеаццо в конце 1402 года и
последующему краху его власти, во флорентийской мысли произошла
интересующая нас революция в понимании исторической
связности, которая отчасти объяснялась кризисом патриотизма,
одновременно являвшегося кризисом республиканского
самосознания. Флорентийцы, оказавшиеся в изоляции из-за
господства Висконти, остро сознавали грозящую им опасность.
Оказавшись в одиночестве вследствие территориального
расширения власти одного человека, они видели город в образе
структуры, покоящейся на республиканских институтах и
ценностях. Язык миланских пропагандистов являлся цезаристским
и имперским, и в ответ флорентийские гуманисты, особенно
те, кто был связан с дипломатической канцелярией, в которой
Салютати и Бруни в свое время занимали руководящие посты,
предприняли революционную попытку полностью отказаться
от цезаристской символики и имперской традиции,
отождествляя Флоренцию с республиканским началом и разделяя
легитимное прошлое на периоды республики и темные
промежутки между ними таким образом, который был уже описан.
Наряду с революционным пересмотром историографических
концепций Барон усматривает в произведениях того времени
свидетельство гораздо более глубокого кризиса флорентийской
мысли. Со времен Платона и Аристотеля иногда поднимался
вопрос о сравнительных достоинствах жизни, посвящаемой
общественной деятельности — vita activa, и жизни, проводимой в
философском стремлении к чистому познанию — vita contemplativa.
Для афинян, одной частью своего разума убежденных в том, что
лишь жизнь гражданина по-настоящему нравственна и
человечна, а другой — что лишь отвлеченный мир непреднамеренного
созерцания действительно познаваем и реален, вопрос,
являются ли политика и философия несовместимыми, был
болезненным. Средневековый ум, конечно, склонялся к тому, чтобы
разрешить этот спор в пользу созерцания. Заботы философа,
ι. Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance (chap. 1-2, 10-11, 16).
ΙΟΙ
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
как и заботы христианина, не от мира сего, и даже после того,
как вера в рациональное и направленное действие была
реабилитирована благодаря возрождению наследия Аристотеля,
знание, помогавшее различать универсалии, никак не соотносилось
с рассудительностью, которая требовалась, дабы применять их
при решении социальных вопросов. Человек, каким его рисовал
Фортескью, послушный естественному закону и обычаю и
проявляющий политическую активность лишь в редких случаях,
когда требуется издание статутов, едва ли мог вообразить, что
его гражданская жизнь составляет серьезную конкуренцию
философскому созерцанию, если он вообще занимался последним;
и Петрарка считал возможным упрекать Цицерона, которого
считал идеальным римлянином, в том, что он позволил себе
впутаться в позорную политику и умереть недостойной
смертью, вместо того чтобы исполнять свое предназначение
философа1. Однако более поздние флорентийские мыслители много
говорили в пользу vita activa как о vivere civile — образе жизни,
преданной гражданским интересам и деятельности (в
конечном счете политической), подобающей гражданину; и можно
достаточно просто соотнести образ жизни, предпочитаемый тем
или иным автором, с его приверженностью определенной
форме политического устройства. Сторонник vita contemplativa мог
предпочесть созерцание неизменных иерархий бытия и найти
свое место в вечном порядке под властью монарха, который на
уровне микрокосма играл роль Бога как гаранта этого порядка.
Напротив, приверженец vivere civile чувствовал себя обязанным
к участию и действию в социальной структуре, дававшей такую
возможность отдельному человеку, — то есть в рамках
гражданства в определенных типах полиса, так что впоследствии vivere
civile стала техническим термином для гражданского строя
в широком смысле. Барон не только обнаруживает, что
подобный контраст отношений в скрытой и явной форме
встречается в трудах миланских и флорентийских публицистов в период
кризиса ОДЭ^Ц02 годов; кроме того, анализируя эти события, он
стремится объяснить видимые колебания флорентийцев в
отношении поляризации двух ценностей. Колюччо Салютати,
в частности, особенно колебался между ценностями активного
гражданства и созерцания, между уходом от мира и принятием
монархического и даже тиранического правления. Скрупулезно
I. О менявшихся взглядах Петрарки написано достаточно много; см.:
Baron H. Petrarch: His Inner Struggles and the Humanistic Discovery of
Man's Nature; Idem. From Petrarch to Leonardo Bruni (chap. I, 2).
102
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
интерпретируя тексты Салютати и других авторов, Барон
пытается соотнести их с развитием кризиса власти Висконти. Он
показывает, что решающий сдвиг в пользу ценностей
деятельного участия произошел именно в этот критический период1.
Стимулом к повторному открытию гражданственности, как
и к переоценке истории, послужило неожиданное обострение
республиканского самосознания в травматическом
противостоянии с Джангалеаццо.
Тезис Барона на протяжении нескольких лет подвергался
критике, и можно заметить, что наиболее вызывающими и
вызвавшими наибольшую критику являются те его элементы,
которые касаются хронологии и мотивации и содержат
утверждения, что решающая смена ценностных ориентиров может
датироваться каким-то одним периодом и описываться как
результат опыта, полученного в этот период. Естественно, что
историографическая критика была направлена прежде всего на
эти утверждения; историков интересуют проблемы причинно-
следственных связей и мотивов, а историков идей — отношения
между идеями и событиями, мыслью и опытом, и
совершенно правильно и обоснованно их желание знать, произошел ли
ключевой идеологический сдвиг именно в тот момент и по тем
причинам, которые назвал Барон. Также нам следует помнить,
что знание о факте интеллектуального события не дает нам
всех сведений о том, что же произошло. Мы выбрали в качестве
основного предмета настоящего исследования понятийные
словари, доступные для разговора о политических системах с
точки зрения их индивидуальных особенностей. Так, мы изучаем
встроенные в них ограничения и предположения, а также то,
как они работали, и исследуем процессы, в силу которых эти
понятийные системы, их применение и импликации со
временем менялись. Поэтому нам не так важно знать, произошли
ли определенные изменения во флорентийской мысли по ходу
или вследствие событий ^Э^Н02 годов; но нам очень
хотелось бы понимать, каковы были эти понятийные изменения,
к каким дальнейшим изменениям они привели и что
произошло в мире мысли вследствие того, что они случились.
Поэтому, имея дело с серьезным сдвигом в языковом употреблении
или революцией в употреблении понятий — возьмем,
например, переоценку истории в связи с повышенным вниманием
I. Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance (chap. 5, 7); Idem. From
Petrarch to Bruni (chap. 3, 4); Idem. Leonardo Bruni: «Professional Rhetorician»
or «Civic Humanist»? // Past and Present. 1967. Vol. 36. P. 21-37.
ЮЗ
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
к ценностям гражданского участия, — важно уяснить, какие
последствия и дальнейшие изменения произошли в понятийных
словарях людей, а также поводы и причины, заставившие эти
изменения впервые проявиться.
Термин «гражданский гуманизм» неразрывно связан с
тезисом Барона, и ученые, желающие оспорить последний,
склонны сомневаться либо в полезности термина, либо в важности
явлений, которые он обозначает. Помимо возражений против
хронологии Барона, можно услышать, во-первых, что интерес
гуманистов к vita activa по большей части не являлся
следствием пережитого ими как республиканскими гражданами crise de
conscience1; во-вторых, что гражданин итальянской коммуны не
нуждался в языке гуманистов для выражения своего
гражданского сознания. В оставшейся части книги для обозначения
определенной формы гражданского сознания и его проблем
предложено использовать термин «гражданский гуманизм»,
поэтому самое время объяснить, что будет подразумеваться под
этим выражением и к признанию каких исторических
постулатов его использование может обязывать автора и читателей.
Это удобно сделать, сопоставив трактовку Барона с другими
интерпретациями характерных свойств гуманистического
политического сознания.
Джеролд Сейгель полагает2, что истоки интереса гуманистов
к vita activa следует искать в их профессиональной и
интеллектуальной деятельности, а не в гражданской чувствительности.
Он указывает, что гуманисты в силу своих социальных
функций были связаны с искусством риторики, интеллектуальным
занятием, не менее значимым для итальянской культуры, чем
философия, которой оно всегда резко противопоставлялось.
Философия стремилась к познанию универсалий и
пониманию единичного в их свете, а универсалии требовали
созерцания, но не действия; поэтому философия была вне
политики, и универсум, состоящий из универсалий, был населен
политическими животными лишь во вторую очередь.
Риторика, наоборот, стремилась побудить людей действовать, решать,
ι. Душевный кризис {франц.). — Прим. ред.
2. Seigel J. Ε. Rhetoric and Philosophy in Renaissance Humanism: the Union
of Eloquence and Wisdom, Petrarch to Valla. Princeton, 1968; Idem. Civic
Humanism or Ciceronian Rhetoric? // Past and Present. 1966. Vol. 34. P. 3-48
(статья «Леонардо Бруни» Барона является ответом на этот текст).
Кроме того, см.: Robey D. P.P. Vergerio the Elder: Republicanism and Civic
Values in the Work of an Early Humanist // Past and Present. 1973. Vol. 58.
p. 3-37.
IO4
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
одобрять; за ней стоял деятельный, погруженный в дела
общества интеллект, всегда сознающий присутствие других людей,
к которым он обращался. Политический по своей природе, он
неизменно и неизбежно был поглощен единичными
ситуациями, единичными решениями и единичными отношениями
и, живя в мире единичного, должен был постоянно
сталкиваться с вопросом, производил ли он в сравнении с
философией некое знание. Однако следует отметить, что риторика,
занимающая в итальянской мысли место, сопоставимое с тем,
какое в теории Фортескью занимает опыт, в силу своей
политической направленности носит намного более определенный
и деятельный характер; она смотрит вперед и побуждает людей
к действиям, тогда как опыт дает им лишь осознание того, что
они уже сделали. Мир, где риторика занимает равные позиции
с философией, — это мир непосредственных политических
решений; мир, где ее место занимают опыт и обычай, — мир
институционально закрепленных традиций.
Сейгель утверждает, что гуманистическая мысль в этом
отношении берет начало из противостояния философии, чьи
ценности были созерцательными, и риторики с ее идеалом
гражданской активности: по его мнению, достижение
Петрарки заключалось в том, что он убедил своих поклонников и
последователей принять это противостояние как диалектическое
отношение двух соперничающих ценностных систем, ни одна
из которых не может получить решающего превосходства над
другой; и характерной чертой гуманистической мысли
стало постоянное колебание между гражданской и
созерцательной позицией, которое в каком-то смысле внутренне присуще
наследию гуманистов и не нуждается в прямой взаимосвязи
с внешними историческими событиями. Поэтому,
продолжает он, Барон недооценивает, насколько Бруни и Салютати
(не в меньшей степени, чем Петрарка) были готовы занять
созерцательную позицию, и неверно понимает, как следует
объяснять выбор в пользу той или другой системы ценностей.
Выбрать гражданские ценности не означало всецело
посвятить себя республиканизму как политической цели, а выбрать
ценности созерцательности не означало засвидетельствовать
свое полное разочарование в республике. Гуманист колебался
между действием и созерцанием; в этом состояло его
интеллектуальное призвание, и оно прекрасно могло существовать
в условиях республики. Так что в целом гуманизм не
становился «гражданским», когда республика торжествовала, или
105
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
«созерцательным», когда для нее наступали трудные времена,
а колебание отдельного человека между этими двумя
позициями нет необходимости объяснять его реакцией на
политические события. Как следствие, акцент Барона на объяснении
с помощью хронологии может показаться неуместным.
Очень может быть, что все это так; но, разумеется, это не
значит, что никакого гражданского гуманизма не
существовало. Поскольку риторика предполагала гражданскую активность,
ритор — или гуманист как ритор — мог сформировать язык,
на котором выражало себя гражданское сознание, разделяемое
или не разделяемое им. И ритор, и гражданин были склонны
рассматривать человеческую жизнь с точки зрения участия
в конкретных действиях и решениях, в конкретных
политических отношениях между определенными людьми; и в одной
из трансформаций стиля гражданского гуманизма мы находим
средство выразить такое видение жизни за счет
интерпретации истории как череды республик, существующих во времени.
О том, что такая близость была гораздо более глубокой и что
гуманизм в целом, гражданский или нет, был склонен
рассматривать жизнь сквозь призму конкретных действий и
периодов, говорит изучение духа гуманизма, предпринятое в работах
Эудженио Гарэна1. Ученый-гуманист, считает он, видел путь
к знанию скорее не в философии, а в филологии, и в случае,
например, Лоренцо Баллы это объяснялось тем, что он был
ритором. Полагая, что истина скорее выражается в речи,
нежели воспринимается чувственно, он интересовался моментами
и случаями, когда — и контекстами, в которых — совершались
речевые акты, воплощающие истину2. Схоластический
философ изучал текст Аристотеля, вовлекался в сложный процесс
обобщения, анализа и систематизации, в ходе которого текст,
1. См. выше, прим. ι на с. 97·
2. Garin Ε. Italian Humanism, Philosophy and Civic Life in the Renaissance.
P. 5-7, 15-17, 50-66, 69-77. О Л. Балле и роли риторики см. также: Seigel J. Ε.
Rhetoric and Philosophy in Renaissance Humanism (chap. V); Kelley D.R. The
Foundations of Modem Historical Scholarship: Language, Law and History
in the French Renaissance. New York, 1970 (chap. I, II); см. также
рецензию автора этой книги: History and Theory. Vol. и. № ι (1972). Ρ· 89-97;
Struever Ν. S. The Language of History in the Renaissance. Princeton, 1970.
Размышления о гражданском гуманизме с социально-политической
точки зрения можно найти в следующих изданиях: Martines L. The
Social World of the Florentine Humanists, 1390-1460. Princeton, 1963; Idem.
Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence. Princeton, 1968; Becker M. B.
Florence in Transition. 2 vols. Baltimore, 1967-1968 (см. также работу: Social
and Economic Foundations of the Italian Renaissance / Ed. by A. Molho. New
York, 1969).
IO6
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
его контекст и автор могли буквально исчезнуть, а
важнейшим шагом становилось утверждение универсальных
принципов, следствия из которых затем воспринимались при помощи
чувств. Критика гуманистами этой процедуры — ожесточенная
и часто несправедливая — строилась на том, что подлинная
мудрость Аристотеля разрушалась и заменялась абстракциями,
а они стремились научиться, чему могли, у самого Аристотеля,
из его мысли, раскрывающейся в его словах, из его слов,
сохранившихся в манускрипте. На самом деле Аристотель —
неудачный пример; поскольку он считался родоначальником
схоластического мышления, которое теперь подвергалось
нападкам, его отвергли, заменив другими авторами, и прошло
некоторое время, прежде чем гуманисты, завершив свое
разоблачение аристотелизма, вернулись к изучению Аристотеля.
Однако суть гуманистического метода заключалась в
возвеличивании филологии, в попытке выяснить, что в
действительности говорилось в рукописях, что значили те или иные слова,
что философ, оратор, историк или поэт на самом деле хотел
сказать1. Прославлялась уже не логика, а «грамматика»,
которая, как и сама «филология», служила общим термином для
изучения древних языков, анализа текста, построения
предложений и письменной речи в целом как средства передачи
смысла. Грамматика и филология, и в каком-то смысле
только они, позволяли понять замысел автора; благодаря
вспомогательным наукам о языке устанавливалась непосредственная
коммуникация между его сознанием и сознанием читателя.
Однако последствия для эпистемологии и в конечном
счете для философии были радикальными. Чем больше
подчеркивалось, что давно умерший автор говорит с нами,
живущими в настоящем, и чем меньше мы опирались на какой-либо
набор вневременных универсалий, опосредовавших его голос,
тем более отчетливо нам надлежало сознавать временное
измерение коммуникации и разделяющие нас с ним время и
пространство; и чем более тщательно мы способствовали
коммуникации, изучая текст и контекст, в котором он написан или
произнесен, тем более отчетливо мы должны были осмыслить
ι. В конечном счете эта попытка распространялась на слова Самого Бога.
См.: Newton Conklin G. Biblical Criticism and Heresy in Milton. New York,
Σ949· Ρ· I_2> a также слова Баллы (цит. по: Garin Ε. Italian Humanism,
Philosophy and Civic Life in the Renaissance. P. 16) о том, что «до нас
вообще не дошли слова Христа, потому что Христос говорил на
древнееврейском и никогда ничего не записывал».
107
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
временные, социальные и исторические обстоятельства, в
которых автор выражал свои идеи и которые, формируя речь и ее
содержание, сформировали и саму мысль. Это обостренное
историческое сознание заявляет о себе в письмах Петрарки,
обращенных к Цицерону и Ливию, в которых он говорит с ними
как людьми из прошлого непосредственно из своего момента
времени — такого-то года «по Воплощении Того, о Ком бы ты
услышал, если бы прожил немного долее»1. Нечто подобное
мы видим и в обращении Данте к Вергилию: «О мой поэт... /
Молю Творцом, чьей правды ты не ведал»2, — но Петрарка не
следует за Данте, сопровождавшим Вергилия во внеисториче-
ском путешествии по местам, где человеческие жизни
становятся вечными. Поэзия (тесным родством связанная с
пророчеством) говорит об универсальном и божественном, тогда как
проза, в особенности историческая или ораторская, социальна
и секулярна. Филологическое сознание — это во многом ум, как
он отражается, и мир, каким он воспринимается, в прозе;
гуманистические риторы превращали интеллектуальную жизнь
в диалог людей во времени.
Здесь проявляется некоторая общность между
филологическим и политическим гуманизмом. Оба выделяли
определенные моменты в прошлом и пытались завязать диалог между
ними и моментами настоящего. Петрарка учился
непосредственно у Ливия и обращался именно к ему; Флоренция Са-
лютати и Бруни училась у республиканского Рима и считала
себя его новым воплощением. Позже Макиавелли в
знаменитом письме к Франческо Веттори рассказывает, как вечером
приходит домой, облачается в парадную одежду и
оказывается в присутствии древних, разговаривает с ними, читая их
книги3. Эта беседа призвана не только укрепить Макиавелли
1. Так гласит датировка письма к Ливию (из «Писем о делах
повседневных», XXIV, 8) (на русский язык текст переведен не полностью. — Прим.
ред.), но почти во всех своих письмах античным авторам — по
крайней мере философам и историкам, а не поэтам — Петрарка
использует схожий язык. См.: Petrarch's Letters to Classical Authors / Transi, by
Μ. Ε. Cosenza. Chicago, 1910.
2. Ад. I, 130-131. Цитаты из «Божественной комедии» даются в переводе
М. Лозинского.
3- «...entro nelle antique corti degli antique huomini, dove, da loro ricevuto
amorevolmente, mi pasco di quel cibo, ehe solum è mio, et ehe io nacqui per
lui; dove io non mi vergogno parlare con loro, et domandarli della ragione
delle loro actioni; et quelli per loro humanità mi rispondono...» (Machiavelli N.
Lettere / A cura di F. Gaeta. Milano, 1961. P. 304); «...Я вступаю в
старинный круг мужей древности и, дружелюбно ими встреченный, вкушаю
ту пищу, для которой единственно я рожден; здесь я без стеснения
ю8
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
в понимании политики, но и косвенным образом позволить
ему деятельно участвовать в гражданской жизни. Идея
непосредственного общения с Античностью — ключевая для всех
форм гуманизма. Она может фигурировать как в
политическом контексте, так и вне его, но в ней было нечто неизбежно
социальное и даже политическое: она подразумевала, что
человеческий опыт, оберегаемый Богом, достигает своих высот
во встрече родственных умов, их общении, обмене
суждениями, мнениями и решениями. Беседа с древними, в результате
которой рождается знание, схожа с дискуссией между
гражданами, в результате которой принимается решение и создается
закон. То и другое происходит между конкретными людьми
в конкретный момент времени — для древних и гуманистов это
разные моменты, а граждане находятся в одной точке — и при
рассмотрении тех или иных проблем используют язык,
подходящий для этих нескольких моментов (гуманист должен
быть грамматиком, граждане должны все говорить на общем
volgare — народном наречии). Мы можем назвать человека как
интеллектуальное существо «гуманистом», а человека как
политическое существо — «гражданином». В этом случае акты
познания и принятия решения будут обладать некоторым
сходством с тем, что Фортескью назвал «статутами»; о них
договариваются живые люди, существующие в конкретном
времени и использующие интеллектуальные ресурсы, которыми
они в данный момент совместно располагают. Однако подобные
умственные акты, которым Фортескью придает лишь
третьестепенное значение, для гуманистов и граждан располагаются
в самом центре их картины мира и требуют гораздо больших
интеллектуальных усилий, чем простая рассудительность,
которая служила единственным известным Фортескью средством
их осуществления. Особого акцента, сделанного гуманистами
на коммуникации, было достаточно, чтобы встал вопрос о том,
на каком основании конкретные люди в конкретные
моменты могли претендовать на надежное знание. Ответить на него
простой ссылкой на познание универсалий нельзя, иначе бы
интеллектуальное существо вновь оказалось бы в мире
схоластики, а существо политическое — в мире имперских иерархий;
отвечать на него, говоря лишь о накоплении опыта, также
беседую с ними и расспрашиваю о причинах их поступков, они же
с присущим им человеколюбием отвечают...» (письмо к Франческо
Веттори от ю декабря 1513 года: Десять писем Никколо Маккиавелли /
Пер. М.А. Юсима // Средние века. 1997. Вып. 6о. С. 453)·
Ю9
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
губительно как для гуманиста, так и для гражданина. Но
некий ответ следовало дать, иначе Петрарка не смог бы читать
Ливия, а Флоренция — управлять собой. Как разговор между
частными единицами мог производить целостную
рациональность? Риторика, имеющая отношение к филологии или к
политике, могла бы оказаться здесь полезной. Однако политика
была больше, чем риторика.
Отношение гуманистов к проблеме универсалий являлось
разнообразным и чрезвычайно сложным, во Флоренции оно
не было таким же, каким, скажем, в Падуе; но кажется ясным,
что основные направления мысли не вернулись к
прямолинейному схоластическому реализму и не заняли релятивистскую
позицию, согласно которой познавать можно только частные
детали. Разумеется, гуманистическая философия не
рассталась с мыслью о существовании универсальных объектов
познания, знание о которых выступало единственной гарантией
подлинной уверенности или рациональности; однако, в силу
своей филологической склонности приверженная тому
взгляду, что познать их можно только посредством сочинений,
написанных конкретными людьми, в конкретное время и в
конкретном месте, философия пыталась — часто разрабатывая
вновь платоновские темы — обосновать обращение к
универсалиям как имманентно присутствующим в словах и
поступках людей, а их познание представить как творческий и
соучастный процесс. Ренессанс1 в его самых неоплатонических
проявлениях воспевал живую связь души со вселенским
прообразом, предпочитая ее абстрактному умственному
созерцанию; история могла ставиться выше философии на том
основании, что если последняя вдохновляла ум идеей истины,
то первая вдохновляла дух целиком с помощью конкретных
примеров истины. Сама истина стала пониматься не столько
как система суждений, сколько как система отношений, в
которую исследовательский дух включался своим вопрошанием.
Таким образом, участие в гуманистической беседе в той или
иной форме оказывалось формой отношения к
универсальному, а универсальное можно было познать и пережить на опыте,
постоянно вовлекаясь в диалог с конкретными субъектами.
Вопрос в том, какую форму должен принять этот диалог, какой
способ обсуждения наиболее полно воплощал универсальное.
I. Garin Ε. Italian Humanism, Philosophy and Civic Life in the Renaissance.
P. 9-11 (chap. Ill, IV).
HO
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
Аристотель задавался вопросом, являлась ли высшим
предназначением человека политическая и деятельная жизнь или
жизнь познающая и созерцающая; и если под влиянием своей
гражданской среды флорентийский гуманизм тяготел к
политическому, господствующая философская традиция толкала
его в противоположную сторону. Когда универсальное
мыслилось прежде всего как объект интеллектуального познания,
следовало отдать предпочтение созерцательной форме диалога
как беседы со своими современниками и великими людьми
прошлого. Однако существенно, что само созерцание
приобрело социальный характер и состояло в общении и отношениях
между умами, а не в формальной дедукции и демонстрации,
и что термин «полития» (греческая politeia, которую
Аристотель понимал как структуру отношений, составляющих город)
иногда, как в случае «республики ученых», использовался для
описания сообщества живых и умерших умов, между которыми
происходил диалог. Афинский полис был сообществом
культуры и сообществом, принимающим решения, и такие слова,
как «вежливый» (polite), «воспитанный» (civil), «изысканный»
(urbane), по-видимому, приобрели свои значения благодаря
созерцательному стилю гуманизма по контрасту с родственными
им терминами «политический» (political), «гражданский» (civic),
«городской» (urban), относясь к социальной жизни, состоящей
скорее в цивилизованной беседе, а не в политическом
действии или решении1.
Подобная стилистика нередко проявляется при власти
какого-нибудь великодушного государя и патрона, в котором можно
увидеть философа на троне, как это было в Милане, Флоренции
в правление Медичи, в Риме или в Урбино. Альтернативная
стилистика имела в качестве своего идеала гражданственность;
поэтому она процветала в республиканском климате и
преимущественно во Флоренции, поскольку атмосфера Венеции, хотя
и поощряла получение знаний в среде относительной свободы,
была слишком сенаторской для страстного стремления к
идеалу деятельного гражданства. Однако реальность в ее
полноте оказалась намного сложнее, чем можно предположить на
основании этих слов. Можно заметить, что идеал vivere civile,
соперничающий — если здесь можно говорить о
соперничестве — с созерцательным идеалом, обладал большими
преимуществами и большими недостатками. Прежде всего, очевидно,
I. Ibid. Р. з8, 87, 158-162.
III
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
что гуманист, будучи филологом, ритором или гражданином
республики, глубоко погружался в человеческую жизнь во всех
ее конкретных и единичных проявлениях, идет ли речь о
науках и языке или политике и убеждениях. Необходимость
сделать единичное постижимым для ума вызвала к жизни идею
разговора — о том, что универсальное присутствует в ткани
жизни и языка, поэтому высочайшие ценности, даже
принадлежащие к области неполитического созерцания, в конечном
счете воспринимались как достижимые только посредством
диалога и социального общения. Однако отсюда должно
следовать, что общение само по себе есть важное и необходимое
благо, что оно является необходимым условием для
достижения универсального. Вся афинская и аристотелевская
традиция подчеркивала, что высшая форма человеческого общения
была политической, речь шла о сообществе,
занимающемся распределением, принимающем решения и совершающем
действия, которое Аристотель видел в полисе. Поэтому у
гуманиста, отождествлявшего знание с общественной
деятельностью, имелись веские основания позиционировать себя как
гражданина — Сейгель, в сущности, утверждает, что
гражданские ценности были внутренне присущи социальной позиции
гуманиста, а не возникли как реакция на внешние события.
Кроме того, если знание добывалось с помощью разговора,
можно предположить, что оно являлось своеобразной
деятельностью. Философским основанием vivere civile служила концепция,
что именно в действии, созидательном творчестве и различных
подвигах жизнь человека возрастала до уровня заложенных
в ней универсальных ценностей. Человек деятельный с
полной личной вовлеченностью утверждал то, что человек
созерцательный мог лишь знать посредством внутреннего, мысленного
зрения или диалектики платоновской беседы и дружбы; Гарэн
усматривает в гражданском гуманизме предвосхищение тезиса
Вико, что мы познаем мир, созидая его в истории1. Но если
действие должно утверждать нечто универсальное, надо показать,
что определенному типу действия присуща универсальность.
Особенно важную роль играют здесь рассуждения об
относительном превосходстве права и медицины, которые
встречаются в текстах Петрарки, Салютати и других авторов XV века2.
1. Garin Ε. Italian Humanism, Philosophy and Civic Life in the Renaissance. P. 55.
2. Seigel J. E. Rhetoric and Philosophy in Renaissance Humanism. P. 37-40;
Garin E. Italian Humanism, Philosophy and Civic Life in the Renaissance.
P. 24, 31-36.
112
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
Медицина в целом относилась скорее к практическим, нежели
к созерцательным искусствам. Разумеется, можно было сказать,
что она имеет отношение к универсальным законам
природного мира, и в иерархическом обществе, где политика
представлялась отражением природы, естественно было полагать, что
государственные деятели способны многому научиться у нее
с помощью аналогий. Однако гуманистическая среда
рассматривала ее иначе и обвиняла, во-первых, в том, что она
преследует лишь механистический интерес, добиваясь отдельных
результатов в отдельных случаях, а во-вторых, что она
ограничивается знанием частного, никогда не поднимаясь до знания
законов. Платон обвинял ее в том, что она эмпирична и
чужда философии, а у Салютати в духе «Государства» аллегория
Медицины сетовала, что ограничена традиционным знанием,
которое возникало лишь благодаря накоплению опыта1.
Наоборот, политик или юрист занимался универсальным и
неизменным. Нравственность присуща человеку, и человеческие
законы — результат его знания своей природы. Поскольку
политическое сообщество составляло необходимую среду для
подобного самопознания, а законы служили его целью,
ведение дел в таком сообществе было сродни архитектурному
искусству Платона, управляющему человеческой деятельностью
в тот момент, когда она достигала универсальности и сама
становилась наивысшей формой деятельности, какую только
можно помыслить. Продолжая афинскую традицию, Салютати
заявлял, что политическое сообщество являлось
самодостаточным и, следовательно, универсальным; управление подобным
сообществом он представил не как разумную деятельность,
которую в одиночестве осуществляет некий правитель или
монарх, а как постоянный разговор, который ведут между собой
граждане, вовлеченные в разнообразные виды социальной
активности, но не ограниченные только ими. Здесь шла живая
беседа, в ходе которой человеческая жизнь достигала
универсальности, занимаясь частными вопросами.
При этом Салютати был готов превозносить созерцание,
монашеское уединение и признавать власть монарха или тирана2;
и если мы отвергнем попытку Барона связать это с
углубляющимся кризисом власти Висконти, мы вслед за другими
исследователями придем к выводу, что колебания между гражданскими
1. Garin Ε. Italian Humanism, Philosophy and Civic Life in the Renaissance.
P. 32-33·
2. Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance (chap. 7).
ИЗ
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
и созерцательными ценностями оказались внутренне присущи
гуманистическому сознанию. И это не удивительно. Ни одна
из похвал Салютати искусству государственного управления
в полной мере не устраняет скрытую слабость гражданской
позиции. В конечном счете, универсалии являлись
интеллектуальными реальностями, если они вообще были
реальностями; их esse было регсгрг1, и им следовало быть объектами актов
познания. И хотя универсалии могли оказаться имманентны
человеческим законам, человеческие законы сами по себе не
служили универсалиями; они являлись продуктом
конкретных человеческих решений (recta ratio agibilium2), относились
к конкретным человеческим обстоятельствам и
существовали в конкретные моменты времени. Универсалии можно было
лишь познавать; решения и действия могли узаконить лишь
конкретное. Плоды искусства управления государством и
гражданской деятельности все же казались единичными и
преходящими, а политик в конечном счете оказывался немногим
лучше врача. Все эти соображения могли влиять на гуманистов,
предпочитавших (как многие в тот или иной момент)
философию риторике, созерцание действию, монархию и неизменную
иерархию гражданственности и риску действия во времени.
Если гражданская деятельность порождала лишь единичные
решения и ценности, она обрекала на эфемерность; и если
гражданские институты служили лишь объединениями
отдельных людей, они не могли ни решить, ни учредить
ничего постоянного. Но здесь гражданские ценности могли вновь
утвердить себя. В афинской политической традиции и в самом
деле существовали интеллектуальные средства, позволявшие
говорить, что республика подразумевала сотрудничество всех
людей, стремящихся к претворению в жизнь своих ценностей.
Если это так, ее можно назвать универсальной сущностью, но
это доказательство основывалось на теории, согласно которой
можно достичь такого распределения власти, что
нравственная природа каждого гражданина раскрылась бы полностью.
Без такого распределения республика не была бы ни
универсальной, ни справедливой, ни стабильной, а ее граждане не
могли бы опираться на космический порядок, как могли
король и его подданные, ибо их полития, в отличие от монархии,
1. «Esse было percipi» — «Бытие было восприятием». Покок перефразирует
ключевое положение философии Джорджа Беркли (1685-1753)· — Прим. ред.
2. «Правильное рассуждение в действии» (лат). Определение
рассудительности у Фомы Аквинского. — Прим. ред.
114
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
не отражала космический порядок. Поэтому теория полиса и его
конституционного строя стала ключевой для гуманистического
предприятия. Гражданский гуманист должен был обзавестись
солидной конституционной теорией, которая также являлась
философией. И одна такая теория оказалась доступной.
II.
Есть разные способы читать «Политику» Аристотеля, и это
существенно затрудняет оценку ее места в западной традиции.
Если рассматривать ее вместе с его основными философскими
трактатами, можно сказать, что «Политика» утверждает
важную тему естественного закона; люди воспринимают
ценности, заложенные в природе, и реализуют их в обществе. Если
мы станем анализировать ее в связи с традицией Августина
и средневековым христианством, мы обнаружим в ней
утверждения об автономности разума и рациональной
направленности политики, являющиеся потенциально революционными,
поскольку они ставят под вопрос степень, в какой благодать
и ее дары необходимы в земных делах. Впрочем, «Политику»
можно истолковать и как источник мысли о гражданине и его
отношении к республике, а также о республике (или полисе)
как сообществе разделяемых ценностей; и именно такой
подход объясняет ее значимость для гуманистов и итальянских
мыслителей, пытавшихся отстаивать универсальность и
стабильность vivere civile. Существует традиция размышлений об
этих предметах, часть которой составляет «Политика», но ее
роль в этой традиции трудно оценить именно потому, что она
обширная и всепроникающая. Ее можно возвести к
Аристотелю почти во всех аспектах, однако (оставляя в стороне то
обстоятельство, что некоторые важные ее постулаты были
прежде сформулированы Платоном) столь многие позднейшие
и влиятельные авторы перерабатывали отдельные ее части,
что трудно, особенно в условиях Ренессанса, с полной
уверенностью определить, какой конкретный автор оказал влияние
в том или ином случае. Коротко говоря, перед нами стоит
проблема истолкования интеллектуальной традиции. При этом ее
можно обозначить как традицию смешанной формы
правления — ив этом качестве она является аристотелианской. И
«Политика» не только представляет собой наиболее раннее и
значительное полное изложение этой традиции, но и раскрывает
столь многие ее потенциальные импликации в тот или иной
"5
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
период, что — не говоря уже об огромном и непосредственном
влиянии самой книги — стоит вернуться к содержащейся в ней
теории гражданственности и правления. Это позволит понять,
каким могли быть (и были) ее последствия и какую роль эта
теория могла играть (и играла) для мыслителей, решавших
проблему гражданского гуманизма.
Аристотель учил, что любая человеческая деятельность
является ценностно ориентированной в том смысле, что она
нацелена на какое-то благо, которое можно идентифицировать
с помощью теории; что любая ценностно ориентированная
деятельность социальна, ибо осуществляется людьми в
сотрудничестве друг с другом; и что полис, или республика, является
ассоциацией, внутри которой все отдельные ассоциации
преследуют свои конкретные цели1. Объединение с другими и участие
в ценностно ориентированном управлении этим объединением
служили средством к достижению цели, а также сами по себе
выступали целью и благом2; а участие в объединении, целью
которого являлось благо всех отдельных сообществ и
приобретение всех отдельных благ, само по себе было благом очень
высокого, универсального характера. Пока не настал момент
выбора между действием и созерцанием, высшей из известных
форм человеческой жизни считалась жизнь гражданина,
который распоряжался своим «ойкосом», то есть хозяйством, а также
сам правил и подчинялся как один из равноправных членов
сообщества, принимавшего обязательные для всех решения.
Он принимал участие в определении общего блага, получал
личное удовлетворение от благ, доступ к которым
открывало общество, и своим вкладе м в политическую деятельность
способствовал тому, чтобы другие получали доступ к благам3.
Поскольку эта деятельность была направлена на
универсальное благо, она сама по себе являлась благом более высокого
порядка, нежели конкретные блага, которыми гражданин как
общественное существо мог пользоваться в свое удовольствие.
Получая удовольствие от своего гражданства — от своего
содействия благу других, своих отношений с другими, которые
также вносят свой вклад, — он получал удовольствие от
универсального блага и вступал в отношение с универсальным.
Участие в гражданской жизни было универсальным занятием,
а полис — универсальным сообществом.
ι. См.: Аристотель. Политика. Кн. I. Гл. Ι, ι (1252а).
2. Там же. I, XIII, 4~8 (ι2590-12боа); III, IV, ю-15 (i277a-b).
3. Там же. III, IX (i28oa-i28ia).
II6
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
Однако не все граждане одинаковы; они были схожи как
граждане и как универсальные существа, но различались как
существа конкретные; каждый обладал своими
предпочтениями относительно конкретных благ, к которым он мог
стремиться, и входил в отдельную категорию вместе с теми, кто
разделял одно или несколько его предпочтений. Таким
образом, полис столкнулся с проблемой распределения
приоритетов, с выбором того, какими именно благами в то или иное
время должны располагать те, кто отдал им предпочтение,
и хотя решение этой проблемы было попросту задачей
гражданской жизни, Аристотель не считал, что человека как
гражданина, участвующего в универсальной деятельности, которая
направлена на достижение и распределение общего блага,
следует рассматривать обособленно от того же человека,
занятого конкретной деятельностью, направленной на достижение
и использование тех благ, которым он отдавал предпочтение.
Поскольку в определение гражданина входило как то, что он
правил, так и то, что он являлся объектом управления,
деятельность, связанная с управлением, должна была
сочетаться с деятельностью, в которой управляли им1. Универсальное
и конкретное соединялись в одном и том же человеке, и если
социальный облик гражданина менялся в результате
стремления к конкретным предпочтительным для него благам,
пользования ими и их преумножения, это необходимо отражалось
и на его способности участвовать в универсальной
деятельности, направленной на принятие решений относительно
распределения общих благ. Перед полисом теперь стоял вопрос, как
развивать в каждом гражданине эту универсальную функцию,
чтобы она отвечала многообразию социальных личностей,
которые являли собой граждане в силу своих индивидуальных
ценностных предпочтений. Здесь Аристотель обращался к
категориям, на которые можно разделить граждан в условиях
такого многообразия.
Категории были двух типов — теоретические и
традиционные. В принципе их число могло оказаться столь же
неограниченно большим, сколь и число разных ценностей и целей,
на достижение которых направлена человеческая
деятельность. Стремясь к каждой из целей, люди образуют сообщество,
и можно представить такое сообщество, члены которого
пытаются достичь совершенства в каждом из видов деятельности.
I. Там же. III, X (1281а); XII (1282Ь-128за); XIII (128за-1284Ь).
II7
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
Естественным образом расширяя это понятие, мы можем
выделить тех, кто предпочитал совершенство в каждом из видов
деятельности всему остальному, затратил больше сил на
достижение этой цели, дальше продвинулся на пути к ней. Завершая
череду этих образов, скажем, что такие люди могли считаться
элитной группой, члены которой отличались от обычных
людей тем, что в наибольшей мере обладали таким стремлением.
В повседневной речи Афин, где Аристотель учился в
платоновской Академии, существовали общепринятые обозначения
разнообразных категорий, соответствовавших подобным элитам:
добрые люди, мудрецы, храбрецы, богачи, знать и так далее.
Но важно помнить, что таких элит в теории было столько же,
сколько признанных благих целей, к которым стремились
люди. И поскольку каждый гражданин определялся как
обладающий своими собственными приоритетами в отношении
ценностей, в принципе не существовало никого, кто не
принадлежал бы к такому числу элит, которое соответствовало
количеству чтимых им благ1. Затем Аристотель отметил
широко распространенную традиционную привычку делить всех
граждан на две основные группы — «немногих» и «многих».
Практические последствия такого деления весьма
существенны, поскольку оно позволяло провести различие между
городами, которые стремились ограничивать, и городами, которые
стремились расширять распределение политической власти
среди граждан, — «олигархиями» и «демократиями», как их
называли тогда. Дальше можно было заметить, что, хотя слова
«немногие» и «многие» предполагали количественный
критерий различия, повседневная речь подразумевала нечто
большее. «Немногие» часто определялись как «лучшие»,
«олигархии» — как «аристократии». Если бы мы настойчиво и строго
не задавали бы такие вопросы, как «лучшие в чем?», эта
тенденция к совмещению количественного и качественного
критериев могла свестись — как это иногда происходит у самого
Аристотеля — к такому разговору о гражданском населении,
что его можно разделить на меньшинство, опознаваемое через
принадлежность к разнообразным элитам, и большинство,
которое ни к каким элитам не относилось. Однако Аристотель
сознает, что такое противопоставление «немногих» и
«многих», хотя и полезно для описания реального мира, в котором
принято проводить подобные различия, неудовлетворительно
I. Аристотель. Политика. IV, III, i-6 (i289b-i2goa).
п8
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
в качестве теоретического основания для проведения
различий среди граждан1.
Такое различие можно было провести, лишь применяя сразу
несколько критериев. Во-первых, существовало столько же
качественных критериев, сколько теоретически или традиционно
можно было выделить благ, которым люди отдавали
предпочтение и которыми сообща пользовались. И конкретный
человек мог представать с разных точек зрения в зависимости от
выбранного критерия. Во-вторых, имелся критерий, который
мог применяться в тех случаях, когда было разумно
воспринимать всех граждан как равноценных — дабы подчеркнуть,
например, что все стремятся к благу, не делая между ними
различий на основании предпочтений или достижений. Это
критерий, по сути своей не качественный, — критерий числа2,
и его применение приводило к разнообразным последствиям;
он служил для определения некоторого числа категорий и
помогал скрывать различные неувязки. Существовали три
традиционно выделяемые категории, о которых можно было
сказать, что они опираются на количественное различие: «один»,
«немногие» и «многие», — ив каждом случае наблюдалось
смешение количественного критерия с качественным: один и
немногие воспринимались как обладающие признаками элиты,
что давало им право на власть, тогда как множество не
представлялось наделенным такими признаками, поэтому защита
его права на власть стала (и осталась) средством отделения
политической власти от каких-либо признаков элитарности.
Хотя Аристотель знал, что подобное смешение критериев не
вполне рационально, он все же пошел на риск, используя
слова «один», «немногие» и «многие» в том смысле, в каком они
употреблялись в повседневной речи. Для этого у него имелись
веские основания. Во-первых, существующие государства
действительно подразделялись на монархии, аристократии и
демократии; во-вторых, для его теории важно понимание, что
группы, отвечающие за принятие решений, могут
осмысляться с точки зрения различий в их размерах.
Поэтому, когда вставал вопрос о соответствии между
распределением политической власти и разнообразием
индивидуальных качеств и квалификаций, Аристотель располагал
теоретически бесконечным числом критериев, которые можно было бы
ι. Там же. IV, III, 6-IV, 22 (i2goa-i29ib); III, VII-VIII (i279a-i28oa).
2. Там же. Ill, IX, 1-4 (1280а); III, XII, 67 (1283а); III, XIII, 4 (1283а).
"9
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
адекватно применять. Каждый из них служил для определения
одной из элитных групп, и среди них мы видим как
качественные, так и количественные критерии. Проблема создания поли-
гпейи — это слово, которое можно перевести как «конституция»,
означает формальное распределение полномочий принимать
решения в рамках универсального процесса, предполагающего
участие всех граждан, — являлась проблемой видения, как
сделать так, чтобы каждой из элитных групп, включая
единственную в своем роде элиту неэлиты, «многих» или «всех граждан»,
отвести такую роль в процессе принятия решений, чтобы она
наилучшим образом, в соответствии со своим характером и
квалификацией, могла содействовать приобретению частных и
общих благ1. Это осуществимо, ибо процесс принятия решений
настолько сложен, что его можно разложить на ряд функций,
каждая из которых доверена отдельной группе. Далее можно
последовательно выделить специфические функции:
выработку альтернативных мер и подходов к решению вопросов;
принятие решения, какая из мер лучше подходит в данном случае;
выбор людей для реализации той или другой меры;
подтверждение того или иного решения, уже принятого другими, — этот
список можно продолжать бесконечно, и, следовательно,
теоретически в процессе принятия решений могло быть
задействовано неограниченное число групп. Аристотель предположил, что
можно различать разные типы решений или, скорее, функций
в процессе принятия решения, и допускал, что некоторые из
них требуют той или иной специальной квалификации;
другие же следует поручить тем, кого затронут последствия этого
решения; для принятия одних нужны узкие группы людей, для
других — широкие; некоторые требуют сложной работы
квалифицированных умов, тогда как для других достаточно общего
для всех людей жизненного опыта*. Как следствие, политейя
(politeia) стала парадигмой общества, устроенного таким
образом, что любая теоретически мыслимая группа имела
возможность влиять на принятие решений в той области, где она
могла проявить себя с лучшей стороны, а отдельный гражданин
мог воздействовать на этот процесс многократно — и как член
какой-либо узкой группы, к которой он принадлежал на
основании своих достижений, и как член находящегося вне
элиты демоса (demos), общности граждан, к которой относились все.
1. Аристотель. Политика. III, VIII, 3-8 (i279ib-i28oa); IV, VIII (i293b-i294a).
2. Там же. IV, IX (i294a-b), XIII-XV (i297a-i30ob).
120
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
Любое благо, которому человек мог отдавать предпочтение или
на основании которого выносилось суждение о нем, — даже
благо равноправия, заключавшееся в том, чтобы не отдавать
предпочтения никаким благам и не использовать их для
разграничений между одними людьми и другими, — могло стать одной
из форм его участия в процессе определения и распределения
общих благ. Таким образом устанавливалась связь между
стремлением к конкретным и универсальным благам.
Аристотель прекрасно понимал, что принятие решений
сопряжено с властью, а объектом власти становятся другие.
Каждой группе в рамках политейи (politeia) и каждому гражданину
как члену какой-то группы (которых могло быть множество)
надлежало обладать властью, достаточной, чтобы приносить
благо конкретной группе, способствуя при этом приобретению
других благ другими сообществами, а поскольку приобретение
какого-либо блага осуществлялось средствами и решениями,
воздействующими на предпочтения других групп, каждому
сообществу, как и каждому гражданину, следовало подчиняться
власти и в то же время отправлять ее. Злом, которого надлежало
избежать, оказывалась ситуация, когда одна из групп получала
неограниченную власть над целым1. Любая форма правления,
при которой благо конкретного сообщества отождествлялось
с общим благом, являлась деспотической, пусть даже это
конкретное благо, по крайней мере изначально, служило благом
действительным; извращенное правление состояло именно
в диктатуре частного и единичного над универсальным и вело
к порче блага, получившего диктаторскую власть. Такого рода
деспотизм в целом мог исходить от любой группы; возможен
был даже деспотизм со стороны добродетельных или мудрых,
если преследуемое ими благо оказывалось меньше общего
блага (а применение этой теории предполагало, что менее
добродетельные и мудрые получают обоснованное право на свою долю
участия в управлении)2. Однако, разделяя политические
формы на хорошие и дурные, Аристотель опирался на условные
обозначения, носившие одновременно количественный и
традиционный характер. Он перенял общепринятую
классификацию форм правления в зависимости от того, принадлежит ли
власть одному человеку, нескольким или многим, и высказал
предположение, что в каждом из этих случаев возможно, что
1. Там же. III, VI, II-VII, 5; VIII, 2 (i279a-b).
2. Там же. III, X, 4 (1280а).
121
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
те, кто стоит у власти, правят, стремясь к общему благу или
отождествляя это благо со своим собственным. Таким образом,
из трех элементов классификация расширялась до шести: их
составляли монархия и тирания, аристократия и олигархия,
полития (politeia) и демократия. Именно последняя пара
представляет наибольший теоретический интерес. Полития, будучи
формой правления, при которой власть распределяется между
всеми группами и категориями, на которые можно поделить
граждан, соответственно в наименьшей мере позволяла
злоупотреблять властью в интересах какой-либо узкой группы или
союза. Под демократией же Аристотель подразумевал не
просто систему, открывавшую широким слоям населения доступ
к власти, — это присуще политии, которая обладала многими
чертами демократии в привычном смысле слова, — но систему,
в которой власть оказывалась широко распределена, но при
этом отправлялась деспотически. В целом это обычно
означало систему, в которой преимущество получали бедные и менее
привилегированные, те, кто считался не принадлежащим ни
к какой элитной группе1; но, согласно еще одному, более
формальному и точному определению этого термина, это
правление людей, не отличающихся друг от друга, система, в которой
власть отправлялась механическим, численным большинством
и в расчет принимались лишь те блага, какие можно выделить
исходя из предположения, что все люди одинаковы. Это
тирания чисел и тирания равенства, при которой развитие личности
оторвано от участия во власти и то, чем был человек, оторвано
от его роли в политике. Аристотель предвосхищал элементы
современной концепции отчуждения, и в сегодняшней критике
обезличивающего массового общества можно усмотреть
сходство с его критикой безразличного равенства.
Этой картине он противопоставил образ политии, системы,
принимающей в расчет индивидуальность и различия между
отдельными людьми при распределении политических ролей
и власти. Однако возникали трудности с тем, чтобы
разработать, в качестве чистой или же прикладной науки, теорию
общества, в котором каждый мыслимый характер и
социальный тип имел бы соответствующую ему роль в процессе
принятия решений. Во-первых, хотя общество можно разделить
на множество узких групп, а процесс принятия решений — на
множество дробных функций, между двумя этими наборами
ι. Аристотель. Политика. III, VIII.
122
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
элементов трудно было найти настолько точное соотношение,
чтобы каждой стремящейся к определенному благу группе
соответствовала своя специфическая и подходящая для нее
форма политической деятельности. Здесь кроется глубоко
укорененная, хотя и во многих смыслах плодотворная,
двусмысленность аристотелевской теории. С одной стороны, понятие
политии, помещенное в застывшие рамки традиционного
словоупотребления, неизбежно упрощалось и представало как
соединение аристократии и демократии, элиты и тех, кто к ней
не принадлежал, нескольких мудрецов и глупого (или
здравомыслящего) большинства. С другой стороны, мы видим тот
важный результат, что сложное смешение, образующее
политик), могло мыслиться или как смешение классов и
социальных групп; или как смешение нравственных и
интеллектуальных качеств, которыми такие группы предположительно
обладали; или как смешение численно определенных групп, на
которые можно было разделить полис; или как смешение
различных политических функций, на которые можно было
разбить процесс принятия решений; или как сочетание всех этих
смешений. Аристократию, например, можно трактовать как
потомственную знать, как меньшинство исключительно мудрых,
талантливых или честолюбивых или же тех немногих, которые
должны присутствовать в любой политической системе, играя
в ней особую роль; и все эти представления могли сочетаться
или разделяться. Политическая функция немногих выглядела
как проявление таких качеств, которыми только они и
обладали, как исполнение ими функций, отвечавших их особым
качествам, или же как выполнение функций, которые лучше
возложить на узкую группу людей вне зависимости от их
способностей. В нечеткости языка Аристотеля заключалось и его
богатство; он был потенциально открыт анализу во многих
направлениях, даже если способствовал смешению этих
направлений. На уровне прикладной науки сложность заключалась
в том, что общество, в котором каждому мыслимому типу и
категории соответствовала своя политическая функция, нельзя
представить в виде некой единой институциональной
структуры. Поэтому в практических целях оно обычно
представлялось в виде уже упомянутой условной модели как сочетание
или гармония одного, немногих и многих, точнее —
поскольку греческие города-государства непосредственно не
соприкасались с монархией — аристократии и демократии. Каждый
элемент обладал своим достоинством, играл отведенную ему
123
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
роль и вносил особый вклад в общие усилия, направленные
на принятие решений, но в этой крайне упрощенной модели
действовало множество концепций, присущих
аристотелевскому анализу, побуждая гражданина осмысливать свою
политическую роль различными способами. Полития представляла
собой одновременно институциональную и нравственную
матрицу, и поиск соответствующей ей институциональной
формы всегда оказывался попыткой решить чрезвычайно сложную
проблему примирения действий людей, которые были
моральными только в своих отношениях друг с другом.
Существовали определенные сложности и с тем, чтобы
представить отдельного человека как гражданина и члена этой
структуры. С одной стороны, гражданином его делало именно
личное стремление к конкретным благам; с другой — его
гражданство могло упрочиться лишь при условии, что он
заботился об общем универсальном благе и принимал его в расчет;
между двумя этими стремлениями всегда возможен конфликт.
Если он настолько сосредоточивался на своих личных
благах, что подчинял им универсальное благо, он мог оказаться
соучастником тирании какой-либо небольшой или обширной
группы, и ценность, присущая его личным целям, не могла
служить гарантией, что этого не случится. Подобно падшему
человеку в традиции христианской теодицеи, он не мог
спастись за счет собственных добродетелей; но там, где Августин
говорил бы о действии божественной благодати, Аристотель
в своем анализе гражданской добродетели полагался на
политическую деятельность сограждан отдельного человека,
управляющих им и направляющих его, равно как и он управлял
ими, или — строго говоря — на нравственные и политические
законы, управлявшие всеми. Однако фундаментальная
неопределенность между частным и всеобщим благом сохранялась.
Гражданина можно было представить как афинянина, в
котором разнообразие личных достижений подогревало
способность действовать в интересах общества,, или как спартанца,
который отказывался от всех конкретных форм саморазвития,
чтобы действовать как гражданин и руководствоваться лишь
гражданской солидарностью. Аристотель в целом отверг
спартанский идеал, независимо от того, что можно сказать о
Платоне; однако ренессансная Европа с XV по XVIII столетие
отдавала предпочтение суровым патриотам с берегов Эврота1.
I. См.: Rawson Ε. The Spartan Tradition in European Thought. Oxford, 1969.
124
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
Спарта отличалась стабильностью и смешанным правлением,
Афины же были демократичны, нестабильны и склонны
подвергать гонениям философов, которых любила Европа. В
Спарте, конечно, философов вовсе не существовало, но, возможно,
лучше иметь граждан, чтобы стремиться к полному
самоотождествлению с общим благом. Однако чем было общее благо,
если оно вело к отречению от всех единичных благ? Это
противоречие по-прежнему оставалось неразрешимым; но один
момент не следует упускать из виду: полития заключалась
в отношениях между ценностями, а благо гражданской
жизни — править и быть управляемым — состояло в отношениях
между добродетелью одного человека и добродетелью другого.
Именно с точки зрения этого взаимообусловленного и
ориентированного на общение характера добродетели лишь
политическое существо могло быть подлинно хорошим человеком.
Концепция полиса — которая в определенном смысле
является политической концепцией в ее чистой и изначальной
форме — легла в основу конституционной теории итальянских
городов и гуманистов. Она предлагала парадигму, внутри
которой политическое образование могло осмысляться как одно
целое, какой и должна быть любая итальянская коммуна. Речь
шла о городе, состоящем из взаимодействующих между собой
людей, а не из универсальных норм и традиционных
институтов; и ценность парадигмы в этом качестве не
ограничивалась лишь моделью политии как морального сообщества, ибо
такой город, как Флоренция, чья обычная институциональная
структура представляла собой комплекс связанных между
собой собраний, управ и комитетов, мог бы многое узнать о
теории такой структуры из размышлений Аристотеля и афинской
истории. Сторонникам гражданского гуманизма и vivere civile
предлагалась теория, которая была им необходима в силу их
практической вовлеченности в городские дела — теория,
изображавшая социальную жизнь человека как универсальное
участие, а не как универсалию, подлежащую созерцанию.
Конкретные люди и частные ценности, к которым они стремились,
соединялись в гражданском коллективе, чтобы добиваться
и получать удовольствие от универсальной ценности, которая
отличает действие ради общего блага, а также стремиться ко
всем меньшим благам. Но за эту теорию пришлось дорого
заплатить; она предполагала завышенные требования и
серьезный риск. Полития должна представлять собой совершенное
сотрудничество между всеми гражданами и ценностями, ведь
125
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
если она являлась чем-то меньшим, это была бы лишь часть,
правящая от имени целого, подчиняя частные блага
собственным частным благам и дрейфуя в сторону деспотизма и порчи
своих собственных ценностей. Гражданину надлежит стать
совершенным гражданином, ведь если он был чем-то меньшим,
то не давал политии достичь совершенства и искушал своих
сограждан, сделавших для него то, что он должен был
сделать для себя сам, быть несправедливыми и развращенными.
Стать зависимым от другого — такое же большое
преступление, как и унизить другого до зависимости от самого себя.
Поэтому проступок одного гражданина сокращал шансы других
на достижение и поддержание добродетели, так как
добродетель рассматривалась теперь как часть политики; она
состояла в партнерстве правящих и управляемых, с другими,
которые должны быть так же нравственно автономны, как и он
сам. Таким образом, преследуя гражданский идеал, гуманист
обусловливал свое будущее как нравственной личности
политическим здоровьем своего города. Он должен без всякого
цинизма принять максиму, что свою страну надо любить больше
своей души; в каком-то смысле от этого зависело и будущее его
души, ибо коль скоро справедливость, одна из христианских
добродетелей, отождествлялась с распределительной
добродетелью полиса, спасение в какой-то мере становилось
социальным, в какой-то мере зависящим от других.
Ренессансному мышлению эта проблема неизбежно
представлялась как проблема во времени. Как мы уже видели, проблема
республики заключалась в поддержании единичного
существования, а всему единичному была свойственна
нестабильность, измерением которой служило время. В рамках теории
полиса и политии республику можно признать универсальной,
поскольку она предполагала всеобъемлющую — а потому
стабильную— гармонию конкретных ценностей, а подобная
гармония теоретически — даже когда принимала упрощенную
форму удачного сочетания одного, немногих и многих —
должна сохранять стабильность и оставаться неизменной во
времени. Однако этому противоречило допущение, что республику,
поскольку она дело человеческих рук, со временем ждет
неминуемый конец; существовал неопровержимый исторический
факт, что Афины, Спарта и Рим некогда пришли к закату
и прекратили свое существование, и в рассуждениях
Аристотеля можно обнаружить прекрасное теоретическое
обоснование этого тезиса. Поскольку диапазон конкретных ценностей
126
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
и видов деятельности, ассоциаций и отдельных лиц,
стремящихся к ним, оставался неопределенным, всегда было очень
трудно создать политию, которая в действительности не
являлась бы диктатурой одних частностей над другими, и так же
трудно было создать условия для того, чтобы гражданин не
предпочел свои частные ценности общему благу. Поступая так,
он приносил в жертву свою гражданскую добродетель, но, как
мы уже видели, обязательным условием гражданской
добродетели служило то, что упражняться в ней можно лишь среди
своих сограждан, поэтому она утрачивалась из-за чужого
проступка, как и из-за своего собственного. Законы и другие
директивы, предписывающие следовать гражданским
добродетелям, могли насаждаться с такой же суровостью, как в Спарте,
и все же гражданин не был способен полностью ручаться за
неизменное поддержание добродетели его товарищем, не говоря
уже о своей собственной. Всегда оставалась угроза
нравственной порчи (или коррупции, как ее стали называть). Если
добродетель зависела от добровольных действий других людей,
от соблюдения законов, призванных контролировать эти
действия, и от долговременности внешних факторов, делавших
эти законы возможными, она в действительности зависела от
множества переменных — от видимого полиса как множества
частных элементов, а также от полиса как универсальной
единицы,— и сила, направлявшая эти точечные изменения,
называлась Фортуной. Со времен Боэция считалось, что, хотя
поток земных событий непостижим, непредсказуем и, по всей
видимости, не оправдан, христианин тем не менее мог верить,
что Провидение направляет его к личному спасению. То, что
казалось простой удачей или неудачей, на деле обеспечивало
контекст, в котором формировалась деятельная добродетель
человека, служило материалом для ее формы. Эта тема вновь
зазвучала и усилилась в сочинениях христианских
гуманистов, поскольку обостренная восприимчивость к филологии
и истории заставляла их с большей отчетливостью ощущать
переменчивость фортуны, а также превратности социальных
и моральных обстоятельств, в которых люди действовали.
Но политизация добродетели несла разительные изменения.
Деяния фортуны больше не были чем-то внешним по
отношению к добродетели человека, а составляли ее часть; то есть,
поскольку добродетель отдельного человека основана на его
сотрудничестве с другими и могла утрачиваться вследствие
неумения других сотрудничать с ним, она зависела от поддержания
127
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
полиса в совершенном состоянии, которое беспрестанно
становилось жертвой человеческих ошибок и переменчивости
обстоятельств. Добродетель гражданина в каком-то смысле делалась
заложницей фортуны, и становилось необычайно важным
исследовать полис как систему конкретных элементов,
поддерживающих его стабильность — и универсальность — во времени.
По причинам, которые, по-видимому, определяли сознание
времени, характерное для афинян, Аристотель не слишком
подробно останавливался на времени как измерении всего
нестабильного, но в дохристианскую эпоху жил по меньшей мере один
классик, применявший эту концепцию к политической и
конституциональной мысли. Шестая книга «Всеобщей истории»
Полибия, хотя ее текст вплоть до второго десятилетия XVI века
был доступен лишь на греческом языке, оказала столь заметное
влияние на ренессансные представления о политике во
временном измерении, что ее можно назвать средоточием основных
концептуальных проблем и интеллектуальных ходов эпохи. По-
либий, греческий экспатриант, живший во II веке до н.э. и
наблюдавший глазами представителя римского господствующего
класса за тем, как Рим покорял центральное Средиземноморье,
задался целью1 объяснить эти беспрецедентные достижения
города-государства, предположив, что военные успехи
республики соотносятся с ее внутренней стабильностью. Это
привело его к пространным размышлениям о стабильности и
нестабильности в городах и к переработке теории политии, которой
предстояло привлечь к себе пристальное внимание мыслителей
эпохи Возрождения. Опираясь на вариант использованной
Аристотелем классификации из шести типов — монархия и тирания,
аристократия и олигархия, демократия и охлократия (власть
толпы или анархия), — он сформулировал теорию
последовательного развития, знаменитого anakuklösis politeiön, или
«круговорота конституций»2. Он утверждал (слабо подкрепляя свою
теорию известными ему историческими примерами), что любое
государство, если к тому не возникнет каких-либо препятствий,
ι. В шестой книге «Всеобщей истории». См.: Polybius. Histories. In 2 vols. /
Transi, by Ε.S. Shuckburgh, introduction by F.W. Walbank. Vol. I. Bloomington,
1962; Walbank F.W. A Historical Commentary on Polybius. Oxford, 1957;
Fritz K. von. The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. New York,
1954; Denoon Cumming R. Human Nature and History. Vol. 1. Chicago, 1969
(chap. 4, 5).
2. Polybius. Histories. P. 459-466 (VI, 3-10), 306-307 (VI, 57); рус. перевод см.:
Полибий. Всеобщая история. Т. 2. Книги V 1-ХXV / Пер. Ф.Г. Мищенко.
СПб., 1895.
128
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
должно поочередно пройти все эти этапы в указанном порядке
и от анархии вернуться к монархии, после чего вступить в
новый цикл. Единственная стабильная система — та, что
избежала цикла или может на это рассчитывать; она напоминала бы
политию Аристотеля, представляя собой сочетание трех форм
правления, определенных через число людей, находящихся
у власти: монархии, аристократии и демократии.
Полибий мыслил этот круговорот как фюсис (physis),
естественный цикл рождения, роста и смерти, через который
должны проходить республики1; но поскольку он предлагал средства
избежать его, в его трактовке речь шла не столько о природе,
сколько о нежеланной и злой судьбе, и хотя tyche nfortuna
действуют у него скорее в сфере внешних событий, нежели
внутренних отношений, очень важно понимать, как этот круговорот
оказался частным случаем вращения колеса Фортуны. Каждой
простой форме правления присуща своя добродетель, и
именно она неизбежно приходила в упадок, если не сдерживалась
добродетелями, свойственными другим потенциально
доминирующим элементам. Эта идея порчи деятельного начала в силу
избытка и перевеса одного его хорошего качества в чем-то
перекликалась с трагическим греческим понятием хюбриса (hubris)
и еще больше — с мыслью Аристотеля, что диктатура одного
блага над другими разрушительна как для этого правящего
блага, так и для управляемых благ. Однако римлянин
понимал fortuna как противницу virtus и согласился бы с тем, что
именно virtus каждого элемента, уравновешивая и объединяя
virtutes остальных, в данном случае упорядочивал и
прославлял фортуну. В то же время можно заметить, что благодаря
политейе (politeia) — конституции, или отношению между
добродетелями, осуществляющими властные полномочия, — по-
литевма (politeuma), или совокупность граждан, по Аристотелю,
образовывала полис, материю, принявшую правильную
форму, и обретала способность противостоять разрушительному
действию времени, которое, как мы уже видели, было работой
добродетели против фортуны. Но virtus теперь
политизировалась; отныне это уже не героическая мужественность
правящей личности, а партнерство граждан полиса.
I. Polybius. Histories. P. 466; следует отметить, однако, слова Полибия
(воспроизведенные и на стр. ф\)у что римское государство «с самого
начала» сложилось и потом развивалось естественным путем. Вероятно,
это означает отсутствие какого-то заранее предначертанного плана
(Ibid. Р. 467).
129
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
Для читателей эпохи Возрождения основная мысль
заключалась в том, что всякая простая добродетель неизбежно
вырождалась, поскольку была простой и единичной. Проблемой
единичных явлений выступали их конечность, смертность,
нестабильность во времени, и как только добродетель (сама по себе
универсальная) воплощалась в форму конкретного правления,
она разделяла общую нестабильность. Более того, смертность во
времени установлений человеческой справедливости являлась
не просто делом фюсиса (pkysis), естественной жизни и смерти
живых существ; она была нравственным падением, повторением
грехопадения и в то же время очередным триумфом силы
Фортуны. Когда люди стремились придавать моральным системам
конечные и исторические формы, они отдавали свою
добродетель на милость Фортуны. Колесо, возносившее и низвергавшее
королей, служило эмблемой тщетности притязаний человека;
колесо, возносившее и низвергавшее республики, — эмблемой
тщетности человеческого стремления к справедливости. И
гражданин, старавшийся активно практиковать vivere civile, должен
был дорого заплатить за то, чтобы найти убежище в вере и
созерцательности Боэция; и осознание значимости этой цены не
притуплялось от того, что платить ее приходилось часто.
Перспектива мира, в котором справедливость зависела от
движения колеса Фортуны, пугала, однако идея циклической
повторяемости парадоксальным образом добавляла некую
осмысленность. Фортуне, в конце концов, не была присуща
способность творить, и она могла только бесконечно тасовать
колоду не ею созданных карт. Такое понимание перемены как
иррационального движения в целом подразумевало, что она
не содержит принципа роста и не способна породить ничего
нового, поэтому невозможно понимать рост или перемены как
историю. Но тогда Фортуна обречена на повторения.
Испробовав все возможные комбинации карт, она могла лишь начать
заново; единственный выход для нее — вернуться вспять, и
слово ricorso, как и слово rivolnzione, стали часто применяться для
обозначения момента, когда фортуна делала шаг назад и
начинала свою игру с нуля — быть может, с самого начала.
Поэтому, если смотреть в долговременной перспективе,
получалось, что все уже происходило ранее и произойдет снова; колесо
Фортуны превратилось в образ повторяемости и
непредсказуемости, и был сделан имевший огромное значение и отчасти
утешительный вывод: если знать, какие события происходили
в прошлом, можно строить предположения относительно того,
I30
В) VITA ACTIVA И VIVERE CIVILE
в каких комбинациях они повторятся. В той мере, в какой это
было возможно, мир Фортуны становился более понятным,
менее пугающим и даже более управляемым.
Оставалось предположить, что карты лягут в том же
порядке и что события не просто повторятся, но повторятся
в тех же последовательностях и циклах. Полибий выдвинул
эту гипотезу вместе со многими братьями-стоиками и,
возможно, чувствовал себя более уверенно, ибо сократил число
переменных, из которых складывалась полития, от
бесконечности до трех1. Если единственным двигателем перемен
является упадок, этот процесс не может быть созидательным;
число таких переменных в мире необходимо ограничить; чем их
меньше в той или иной части реальности, тем больше
вероятность их повторения в определенном порядке, а три —
действительно очень малое число. Исходя из этого, Полибий мог
позволить себе весьма оптимистичный взгляд в отношении
шансов на создание политии универсальной формы, которая
избежала бы циклических изменений. Если все, что
необходимо, — это создать смешение или баланс одного, немногих и
многих, наделив каждого мерой — или родом — власти,
достаточными, чтобы защититься от простого и саморазрушительного
господства любого из двух других, тогда может показаться, что
универсальная политическая гармония вполне соответствует
умозрительному и, вероятно, практическому пониманию
человека. И если причина перемен заключалась в нестабильности,
присущей всему единичному, а единичных факторов, которые
надо принимать в расчет при создании государства, всего три,
значит, причин, способных вызвать изменения, оставалось
немного и ими запросто можно пренебречь; существовала
вероятность, что смешанная конституция Полибия будет
противостоять изменениям и существовать вечно. Можно покинуть
Колесо и переместиться в Сферу.
Впрочем, Полибий не позволял себе рассуждать таким
образом. Будучи стоиком, он полагал, что ничто в этом мире не
является бессмертным; он также предсказывал, что чем большим
богатством и властью располагает республика, тем труднее ей
поддерживать в должном равновесии составляющие ее порядки
и добродетели. Погоня за частными удовольствиями станет
более неистовой, если не наложить на нее сетку ограничений. Он
I. Ср.: Denoon dimming R. Human Nature and History. P. 143-154 — о
затруднениях Полибия и их интерпретации у Уолбэнка.
131
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА И ЕЕ МОДУСЫ
не только предрек — так, по крайней мере, казалось читателям
позднейших столетий — разрушение Римской республики, не
выдержавшей напряжения и соблазнов средиземноморской
империи; он утверждал, что даже — или в особенности — в самых
благоприятных исторических условиях стремление к частным
благам несовместимо с поддержанием гражданской
добродетели. Республика была обречена. Для христианского
читателя это необходимо означало, что в истории невозможно
избежать повторения грехопадения и даже республика не могла
заменить благодать, спасая человека от его последствий.
Можно сказать, что фортуна (или природа) со временем приведет
любую республику к порче и упадку, отсылая таким образом
к утверждению Августина, что спасение человека заключалось
не в политике и не в истории. Действительно, теория Поли-
бия, допускавшая возможность бессмертия республики,
фактически вынуждала христиан возвращаться к Августину; ведь
если республика существовала вечно, то вечно должен
существовать и мир, а считать так было язычеством.
И все же христианский гражданин стремился к тому, чтобы
максимальным образом примирить два этих воззрения. Он мог
утверждать, что система политической добродетели —
прекрасно сбалансированное содружество Полибия — существует
столько, сколько добродетель без благодати способна
продержаться в мире, где правят грех и фортуна, то есть почти вечность.
Или же он мог утверждать, что добродетельный город,
придававший фортуне форму и стабильность, тождествен царству
благодати, что он проявится и заявит о себе, когда благодать
приблизит конец времен, и что он воплощал и осуществлял
Тысячелетнее Царство или Третий Завет. Однако политизация
благодати была явно чревата подменой благодати политикой.
К таким крайностям и ересям могли толкнуть приверженца
гражданского гуманизма решение отказаться от традиционного
и вневременного понимания политики и попытка воплотить
универсальные ценности полиса в конкретной, конечной,
исторической форме республики. Поскольку республика не была ни
обществом, основанным на обычае, ни частью воинствующей
церкви, ей надлежало оставаться моментом во времени —
моментом либо исполнения пророчества, либо
иррационального вращения колеса фортуны — или же попытаться выйти за
рамки системы понятий, которую мы обрисовали. Ум,
склонный к подобным размышлениям и способный на такой риск,
можно назвать поистине секулярным гражданским умом.
ЧАСТЬ
Республика и ее фортуна.
Политическая мысль
Флоренции Ц94~153° годов
Глава IV
От Бруни к Савонароле
Фортуна, Венеция и апокалипсис
I.
Система ценностей и проблем, очерченная в предыдущей
главе, была, разумеется, не единственным языком, на
котором гражданин Флоренции мог выразить свое понимание
гражданского патриотизма. Для этого существовали и
другие средства, восходящие к римскому праву и к
практической деятельности флорентийских учреждений, а также
выраженный в доступных гражданам словах набор ценностей
действия и участия. В силу этого обстоятельства Ризенберг1
и другие исследователи задавались вопросом, нужно ли
вообще понятие «гражданский гуманизм», чтобы объяснить
расцвет гражданского сознания и его артикуляцию. Как они
продемонстрировали, в гражданском праве и
муниципальных статутах позиция гражданина была выражена в
терминах практической деятельности, а не в теоретическом и
рефлексивном залоге, занимающем нас в этой книге. Однако
в нижеследующих главах будет показано, что язык, которому
соответствует термин «гражданский гуманизм», можно
проследить, начиная с утверждения республиканского видения
истории. Этот язык использовался в различных целях,
среди которых, безусловно, самым важным было ответить на
вопрос о том, может ли vivere civile и связанные с ним ценности
устойчиво сохраняться в потоке времени. К достижению
данной цели сознательно стремились выдающиеся мыслители
последних лет Флорентийской республики, в том числе Гвич-
чардини, который, хотя был сведущ в области гражданского
и канонического права, в своих трудах по гражданской
морали и политическим институтам на удивление мало прибегал
I. Riesenberg P. Civism and Roman Law in Fourteenth-century Italian Society //
Explorations in Economic History. Vol. 7. № 1-2 (1969). P. 237-254. См. также:
Martines L. The Social World of the Florentine Humanists, 1390-1460; Idem.
Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence.
134
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
к юриспруденции. При этом существуют свидетельства1, что,
обсуждая свои повседневные совместные проблемы, граждане
Флоренции, одержимые внешней опасностью и внутренними
разногласиями, использовали язык, историю которого мы
пытаемся проследить. Как на практическом, так и на
теоретическом уровне понятийный словарь «момента Макиавелли»
выполнял определенную функцию. У этого языка есть история,
которую можно написать. Он составляет значительную часть
наследия Флоренции, усвоенного позже европейской и
атлантической политической традицией.
Дабы показать парадигматический характер этого словаря,
мы рассмотрим его в двух аспектах: в контексте определенной
модели, в которой доступно было лишь ограниченное число
конкретных способов осмыслять последовательность
событий в секулярном времени, и в контексте определенной
истории, в соответствии с которой в силу каких-либо причин
гуманизм итальянского города-государства демонстрировал все
большую приверженность системе гражданских ценностей
активного участия, требовавших, чтобы жизнь проходила, во-
первых, в полисе, а во-вторых, во времени. С формальной
точки зрения, дилемма, стоявшая перед республикой гуманистов,
заключалась в их стремлении воплотить универсальные
ценности в конкретной, а потому конечной и смертной
политической структуре. Возрождение аристотелевской философии
было сопряжено с проблемой примирения эллинистической
позиции, согласно которой человек создан, чтобы жить в
городе, и христианской точки зрения, согласно которой человек
создан, чтобы жить в общении с Богом. Но лишь только какая-
то конкретная республика, такая как Рим или Флоренция,
претендовала (по каким-либо причинам) на собственную
независимую историю, то начинали обнаруживаться новые разрывы
между этими двумя системами ценностей. Если — это всегда
был вопрос, а не предположение — республики существовали
I. Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini: Politics and History in Sixteenth-
Century Florence. Princeton, 1965 (chap. 1: Florentine Political Institutions,
Issues and Ideas at the End of the Fifteenth Century). Эта глава
представляет собой исследование языка, которым пользовались в процессе
управления городом (pratiché) и в других письменно
зафиксированных дискуссиях. Оно показывает, сколь сильно терминология этих
источников совпадала с языком Макиавелли и Гвиччардини. См.
работу того же автора: Idem. Florentine Political Assumptions in the Period of
Savonarola and Soderini // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes.
Vol. 20 (1957). P. 187-214.
I35
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
лишь в определенные периоды человеческой истории и эти
периоды, в отличие от остальных, достойны подражания, то
становилось совершенно ясно, что республика, которая
настойчиво осуществляла ценности vita activa, служила воплощением
всех человеческих благ в самодостаточной системе
распределительной справедливости. Она была ограниченной и конечной
во времени и пространстве, а за ее пределами лежал
управляемый fortuna мир беззакония. Поэтому возникала проблема
изменчивости, решить которую можно лишь при условии, что
последний этап существования республики совпадал бы с
началом Тысячелетнего Царства, концом времен или эсхатоном.
И наоборот, если бы республике окончательно удалось решить
проблему своей земной устойчивости и существовать вечно,
то христианская схема времени, представление о том, что
человеческое предназначение вневременно и лежит за
пределами города, и даже тезис о присутствии самого Бога в истории,
могли бы совсем исчезнуть.
На уровне менее возвышенном — ближе к тому, на котором
можно было попытаться достичь реального примирения между
различными группами и партиями, — республиканской теории
надлежало объяснить, как система распределительной
справедливости, некогда определенная как конечная в пространстве
и времени, могла поддерживать свое существование в мире,
где fortuna представляла угрозу, в силу своей
иррациональности всегда непосредственную, а не отдаленную. Недостаточно
было сказать, что систему распределительной
справедливости, в которой одна добродетель усиливала другую, следует
укрепить во избежание какой бы то ни было нестабильности.
Как только полис признавался конечным, он переставал быть
подлинно самодостаточным1; он существовал в рамках и
зависел от непрочного пространственно-временного измерения,
где владычествовала fortuna и где некоторые из необходимых
условий прочности полиса складывались таким образом, что
на них нельзя было рассчитывать. Справедливость
республики могла стать формой, которую гражданская добродетель
придавала преходящей материи человеческой жизни. Однако
I. Ср.: Polybius. Histories. P. 506 (VI, 57): «Всякая форма правления может
идти к упадку двояким путем, так как порча или проникает в нее
извне, или зарождается в ней самой; первая не подчиняется
каким-либо неизменным правилам, тогда как для второй существует порядок
от природы» (Полибий. Всеобщая история / Пер. Ф.Г. Мищенко. СПб.,
2005- С. з8).
136
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
в рамках такой концептуальной схемы торжество
республиканской добродетели над фортуной истории можно было
обеспечить лишь в том случае, если благодать действовала в истории
особым образом — республика в своей временной конечности
совпадала бы с концом времен.
Обычай — альтернативный, всего лишь человеческий
способ упорядочивания последовательности конкретных событий,
иначе именуемой Провидением или фортуной, и переработки
опыта в практику и традицию, образующие вторую натуру
человека, — как ни велико было сохраняющееся за ним
значение, вряд ли соответствовал требованиям республиканской
теории. Тому было несколько причин. Структура,
принимающая решения, была не просто основанным на обычае
сообществом; к опыту многих следовало добавить более совершенную
рефлексивную способность немногих к суждению. Сначала
следовало организовать партнерство всех видов интеллекта
и всех человеческих добродетелей, а затем уже провозглашать
торжество гражданской добродетели, с помощью благодати
или без нее. И для христианского искупления, и для vivere
civile важна была первая природа человека, его сущность, а не
его социально обусловленная личность, приобретаемая
автоматически. Последнюю необходимо было трансформировать,
а первой — дать исполниться. Кроме того, обычай, очевидно,
едва ли мог — если мог вообще — противостоять опасностям,
угрожающим республике извне.
Ресурсы греческой и римской политической науки
основательно укрепили интеллектуальную мощь военного союза
средневековых и христианских понятий обычая, благодати и
пророчества. Как мы увидим, по итогам флорентийского опыта
сформировалась впечатляющая социология свободы,
перенесенная затем на почву европейского Просвещения, а также
Английской и Американской революций, которые возникли как
ответ на вызов, последовавший за решимостью республики
существовать в секулярной истории. Однако можно с
уверенностью утверждать о флорентийцах и, вероятно, об
американцах, что им не вполне удалось показать, как могла автономно
существовать добродетельная республика в секулярном
времени, которое выступало следствием ее собственной
конечности. Поэтому мы с убежденностью говорим, что именно эту
проблему — в двойном смысле проблему «момента
Макиавелли»— силилась разрешить флорентийская мысль на закате
республиканского периода. Далее нам надлежит показать, что
137
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
проблема и способы ее преодоления действительно
мыслились в то время в рамках обозначенных нами
парадигматических структур.
IL
Теперь мы переходим к флорентийской мысли того столетия,
которое последовало за 1434 годом, когда Козимо де Медичи
положил начало шестидесятилетнему правлению своего
семейства, под прикрытием республики используя политику в
собственных интересах. После промежутка времени,
соответствующего смене более чем двух поколений, и замаскированного
правления четырех представителей семьи Медичи эта система
в 1494 Г°ДУ потерпела полный крах. За ней последовало
чередование одинаково неустойчивых режимов республики и власти
Медичи, пока другой Козимо, впоследствии великий герцог
Тосканский, в 1537 году не вернул семье статус потомственной
и титулованной династии. Последняя четверть этого столетия
(начиная с 1512 года) — это время новаторских работ
Макиавелли, Гвиччардини и Джаннотти. Впрочем, весь период можно
рассматривать как эпоху, в которой разрабатывались
импликации и противоречия, присущие гражданскому гуманизму.
Кроме того, можно показать, что мысль времен Макиавелли
послужила проводником теории Аристотеля и Полибия для
будущих поколений, в том числе на территориях, находящихся
за пределами Италии. Есть опасность, однако,
сосредоточившись на гигантах 1512-1530 годов, забыть, сколь многие их темы
и ценности уже были сформулированы прежде. Прежде чем
переходить к 1494? х512> 1527~153° годам, следует как-то описать,
в чем выражался гражданский гуманизм людей Кватроченто.
Главным политическим мыслителем среди тех, кто стал
свидетелем идеализации Флорентийской республики после
1400 года и ее кризиса в 1434 году, можно назвать Леонардо
Бруни из Ареццо. Другие гуманисты и гуманистические
авторы (гуманизм мог быть просто стилем жизни, эти понятия не
всегда совпадали) также проявляли интерес к ценностям vita
activa и способам, благодаря которым гражданский virtus или
virtù (выбор между латынью и народным языком сам по себе
мог иметь значение) способен был бы выдержать превратности
fortuna и восторжествовать над ними. Однако не все они
заглядывали настолько далеко вперед и не анализировали в связи
с fortuna роль политейи (politeia) — формализованных отношений
138
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
между публичными ролями, составляющими структуру
гражданской добродетели в ее полноте. Они рассматривали
общественную деятельность и служение республике как форму virtus,
участия в которой гражданин мог и не искать, соглашаясь
при этом, что он не мог от него отказаться. Они колебались
между представлениями о личных, семейных, торговых и
чисто гражданских аспектах этой деятельности1; и в ход могла
идти существенная часть гуманистического словаря,
связанного с концепциями virtus nfortuna, прежде чем был достигнут
уровень политического анализа, при котором гражданин
представал как человек, неизбежно вовлеченный в процесс
принятия решений и властные отношения с другими гражданами
в рамках разнообразных моделей распределения этих ролей.
Словарь гражданского общества, как и гуманистический
словарь, сложен и многообразен. И хотя флорентийские
мыслители могли часто забывать об образе гражданина как чисто
политического существа, игнорировать этот уровень анализа
нельзя. Вполне могло оказаться, что участие в политической
жизни признавалось необходимым условием добродетели, а
затем, когда становилось очевидно, что это участие утрачено или
стало предметом чьих-то манипуляций, требовалось объяснить,
что именно произошло и почему.
Эволюция Бруни тем более показательна, что он был
одновременно главным представителем тех, кто на
политическом уровне сначала выразил расцвет гражданских
гуманистических идеалов до 1430 года, а затем — ближе к Ц34 году
и после — все более явственное осознание их
проблематичности. На английском языке нет обстоятельных исследований
его политической мысли, которые можно было бы
сопоставить с главами, посвященными ему Хансом Бароном2, при том
что в последних в большей степени рассмотрена хронология
ранних трудов Бруни в связи с кризисом, вызванным
Висконти, в 1400-1402 годах. Однако для его дальнейшего развития
ключевыми периодами следует считать, по-видимому, I4I5~
1421 годы, 1428 год, а также промежуток с 1439 года до смерти
1. В целом об этом см.: Holmes G. The Florentine Enlightenment, 1400-1450
(chap. 5); Garin E. Italian Humanism, Philosophy and Civic Life in the
Renaissance P. 1-3 (chap. II, III); а также предисловие к переводу книги
«О семье» Л. Б. Альберти: Neu Watkins R. Introduction // The Family in
Renaissance Florence. Columbia, 1969.
2. Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance (chap. 3, 9, 10-12, 15, 17-
18). Ср.: Holmes G. The Florentine Enlightenment, 1400-1450. P. 22-25, 26-28,
94-95, 155-164.
I39
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
Бруни в 1444_м> потому кризис, приведший Козимо к власти
в 1434 ГОДУ) не получил непосредственного отражения в его
работах. В более ранних его произведениях: «Восхвалении
города Флоренции» (Laudatio Florentinae Urbis) и «Диалогах к Петру
Павлу Гистрию» (Dialogi ad Fetrum Paulurn Histrum), написанных
после 1402 года, — и тех, что были созданы в середине периода
его канцлерства: первых четырех книгах «Истории
флорентийского народа» (Historiarum Populi Fiorentini, 1415-Ί421), «О
военном деле» (De Militia, 1421) и «Надгробной речи» (Oratio Funebris,
1427-1428) на смерть Нанни дельи Строцци, — выстраивается
следующая модель гражданских ценностей. Деятельный virtus,
стремясь достичь наибольшей полноты развития в постоянном
противоборстве cfortuna, — позиция Бруни в целом отличается
от тех, кто полагал, что fortuna и virtus связаны лишь внешне
и случайно, — требует полноценной вовлеченности в жизнь
города, и гражданин должен участвовать в выборе
должностных лиц и принятии законов и решений. Флоренция отвечает
этому требованию, будучи народной республикой, в которой
большинство должностей открыто для большинства граждан.
Если человек обладает какими-либо способностями,
имущественные или какие-либо другие ограничения больше не
препятствуют ему принимать участие в политической жизни на
многих, в том числе наиболее ответственных, уровнях1. Затем
Бруни продолжает рисовать идеализированную картину
флорентийского гражданского общества, сознательно опираясь на
надгробную речь Перикла2. Гражданин — это тот, кто способен
развить как можно большее количество форм человеческого
совершенства, развить их все, служа городу. Конституция,
подобная афинской — которой теперь следует Флоренция, —
достойна похвалы, потому что она поощряла такое сочетание
разносторонности и патриотизма и требовала ее от возможно
значительного числа людей. Условием открытого общества, как
его представлял себе Бруни, было совершенство человека,
которое могло развиться в полной мере лишь во взаимодействии
с разнообразными достоинствами других людей, что служило
благом для любого члена республики. Гражданские, если не
ι. См. «Laudatio...», часть IV, цит. по: Baron H. From Petrarch to Leonardo
Bruni. P. 258-263.
2. Особенно в «Oratio Funebris»; Baron H. The Crisis of the Early Italian
Renaissance. P. 412-430. Поэтому Бруни можно назвать исключением из
изложенного выше (глава III, прим. ι на с. 124) правила, согласно
которому сторонники республиканской доктрины ориентировались на
Спарту как образец.
Ι40
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
непосредственно политические виды совершенства, как
искусства и словесность, могли процветать лишь в условиях
свободы. Кроме того, для республики как таковой было лучше,
чтобы существовали и другие республики, т.е. чтобы она одна не
правила всем миром. В произведениях зрелого периода Бруни
по-новому сформулировал теорию о происхождении Флоренции
от Римской республики — пример которой ясно
свидетельствовал о временной и пространственной конечности республик,
а значит, об их смертности. Он заявил, что в древней
Этрурии (современной Тоскане) было много свободных республик
и что их покорение единственной
республикой-завоевательницей, Римом, послужило главной причиной упадка добродетели
в Италии в целом, а затем и в самом Риме1. Республикам нужны
другие республики, так как добродетель являлась совместной,
соотносилась с добродетелью других и не существовала
обособленно от нее. Но какими должны были быть эти отношения?
С этой проблемой может быть или не быть связано то
обстоятельство, что в трактате «О военном деле» и написанной
семь лет спустя «Надгробной речи» Бруни стремится к
идеализации гражданина как воина и воина как гражданина. Это
уже вошло в гражданскую традицию — Петрарка одним из
высших проявлений торжества virtus n^jxfortuna у римлян считал
то, что гражданская доблесть у них «всенародна» и «единым
порывом / полнит полки и в бой во спасение гонит свободы /
голою грудью на меч»а. Эта черта составляла часть этоса Пе-
рикла, который усвоил Бруни. С ее помощью ему удалось
выразить флорентийские ценности, состоящие в том, что высшее
благо, высшая преданность общественному благу могут
состоять в воплощении стольких добродетелей, сколько может
выказать один человек, а затем положить их все на алтарь своего
города. Впрочем, Бруни, в особенности в трактате «О военном
деле»3 (De Militià), стремится сформулировать несколько более
сложных мыслей. Он пытается отождествить между собой
идеализацию христианского рыцарства (того обстоятельства, что
некоторые граждане Флоренции являются рыцарями в том
смысле, в каком это слово употреблялось в Италии Кватроченто)
ι. Ibid. Р. 65, 74> 267-268, 417-418·
2. Цит. по: Baron H. Petrarch: His Inner Struggles and the Humanistic Discovery
of Man's Nature. P. 28; Петрарка Φ. Африка / Пер. Ε. Г. Рабинович,
М.Л. Гаспарова. М., 1992· С. 54·
3- См. перевод и комментарий: Bayley С. С. War and Society in Renaissance
Florence. Toronto, 1961; Holmes G. The Florentine Enlightenment, 1400—1450.
P. 156-157·
141
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
и историческое представление, что римский ordo equestris
(«сословие всадников») был гражданской категорией, наделенной
конкретными политическими функциями, так что его
военную функцию можно считать не просто гражданской, но
неотъемлемым свойством гражданства как такового. Наемники
малодушны, потому что лишены благородства; они
сражаются плохо, потому что не причастны тому, за что
сражаются; на поле боя они лишены virtus, потому что у них нет того
virtus, который может проявить только гражданин своего
родного города. Наоборот, граждане с оружием в руках не только
достойны похвалы за проявленную ими Периклову
добродетель. Можно сказать, что они сражаются лучше, потому что
они граждане, — а отсюда лишь один шаг до тезиса, согласно
которому они лучше как граждане, поскольку стремятся дать
высшее доказательство добродетели. Что происходит, когда
граждане-воины одной добродетельной республики
встречаются с гражданами-воинами другой, неясно. Предположение, что
они рыцарственно состязались в добродетели («И я пойду на
Тускул, а ты иди на Рим»), не удовлетворило бы
гражданского реалиста (и патриота Тосканы), знавшего о том, что
республики поглощают другие республики и при этом утрачивают
добродетель или причиняют ей ущерб.
При таком подходе проблема единичности казалась
разрешимой, коль скоро каждый отдельный человек шел к
универсальности своей тропой вместе со множеством других людей,
каждый из которых шел своей. Изономия — так греки
называли общество, в котором должности были доступны многим
и на равных основаниях, — была способна осуществить этот
идеал. Однако в своих более поздних работах Бруни отметил
осознанную им перемену. Козимо де Медичи пришел к власти
в 1434 году- К концу этого десятилетия Бруни закончил
латинский перевод «Политики» Аристотеля и сочинил на греческом
трактат «О политии флорентийцев». Здесь, как позднее в
«Истории», он утверждал, что Флоренция стала, не столько народным,
сколько смешанным государством, в котором существовало
четкое разграничение между политическими функциями
некоторых и многих. Привилегия первых состояла в том, чтобы
обдумывать и предлагать политические решения, тогда как вторые
лишь принимали или отвергали их, выбирая между
предлагаемыми им альтернативами. Дифференциация вошла в структуру
флорентийской политии в результате исторических изменений,
вызванных решением многих прекратить поднимать оружие
142
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
для собственной защиты. В результате фактический контроль
над политией оказался в руках немногих, достаточно богатых
и располагавших средствами, чтобы платить наемникам, а
также склонных в качестве инструмента власти пользоваться
искусством государственного управления, а не оружием (consilio
magis quant armis uterentur)1. A состоятельные и дальновидные, по
Аристотелю, как правило, составляют элитарное меньшинство.
По-видимому, Бруни указывает на то, что политическая власть
во Флоренции перераспределяется на основании качественной
пригодности немногих. Можно было бы сказать, что здесь нет
ничего дурного, потому что таким образом город
приближался к условиям аристотелевской политии, и если о конституции
говорили, что она не является ни всецело аристократической,
ни всецело народной, то это, как правило, следовало
расценивать как похвалу. Здесь язык Бруни действительно двусмыслен.
Утверждение, что власть должна распределяться
функционально, так, чтобы на представителей элит, а не на тех, кто к ней
не относился, возлагалась ответственность за более
специализированные решения, требовавшие экспертизы, полностью
соответствовало учению Аристотеля. Тем не менее оно
противоречило не менее классическому постулату, согласно которому
меры ответственности должны распределяться как можно
более равномерно, так, чтобы максимальное число граждан
располагало возможностью развивать свои высшие способности.
Аналитическая рамка Аристотеля была настолько гибкой, что
в ней обнаруживались глубинные противоречия. Когда Бруни
говорит, что конституция Флоренции начала меняться с того
момента, как граждане в массе своей перестали носить оружие,
он, по выражению Барона, представляет «блестящий образец
раннегуманистической социологической аргументации»8. Этот
тезис можно принять. Бруни демонстрирует реалистическое
отношение к вопросу «кто что решает и почему?»; и, однако,
в своих размышлениях он отталкивается от этической
проблемы развития человеческих способностей, и здесь мы можем
заметить ту же двойственность. Большинство современников
назвали бы наилучшим такое условие, при котором ни
оружие, ни равная доля власти не передавались в руки тех, кто
больше других наделен богатством или проницательностью.
1. [«скорее пользуются советом, чем оружием» (лат.).—Прим. ред.] С
латинского перевода «Περί της πολιτείας τών Φλωρεντινών», который приводит
Барон (Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance. P. 560).
2. Ibid. P. 427.
I43
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
Нельзя с уверенностью сказать, что Бруни полностью
отрицает это. Но оружие для него — ultima ratio, решающий аргумент,
когда гражданин готов отдать жизнь ради защиты
государства и в то же время обладает гарантией, что решение об этой
жертве не могут принять без него. Именно владение оружием
делает человека полноценным гражданином, который должен
быть разносторонним и способным к саморазвитию, что
является высшим воплощением (и предпосылкой) гражданского
общества. Отказаться от оружия в пользу тех, кто владеет им
по профессии, — значит отказаться от политического контроля
в пользу элитарных групп, которые в силу своей
состоятельности и ума могут представляться особенно пригодными для
этого; но это также значит от лица многих отказаться от
всякой надежды на то, чтобы стать столь же достойным и столь же
добродетельным, — цель, которой они могли бы достичь,
развивая умение владеть оружием. Остается в силе и более раннее
утверждение Бруни, что полноценное развитие гражданского
общества требует вовлеченности как можно большего числа
его членов. Если количество способных к действию граждан
невелико, то невелико и количество элитарных групп,
управляющих городом; соответственно, невелико будет и число
добродетелей, проявляемых при этом правлении, и существует
опасность — как это показали Аристотель и Полибий, — что эти
добродетели придут в упадок при отсутствии какой-либо
необходимости признавать существование других. Если смешанное
государство тяготеет к правлению элит, оно также может
содержать в себе семена разложения. Описание Бруни движения
Флоренции от демократии к политии двусмысленно в его
оценочных суждениях. И все же авторитет слова «политая» столь
велик, что Бруни не может назвать этот переход вырождением
или триумфом фортуны. Это суждение должны вынести
другие и другими словами.
Тенденцию к олигархии в структуре, предполагающей
широкое участие, отмечал еще один автор рацнего периода
правления Медичи. Эта тенденция характеризовала время до и после
1434 г°Да5 и существенно, что в его размышлениях можно
отметить ревизию общепринятых представлений о
добродетели и фортуне. Речь идет о Джованни Кавальканти, авторе
двух отчасти противоречащих друг другу трудов об изгнании
и возвращении к власти Козимо де Медичи1. Анализ его работ
I. Varese С. Storia е politica nella prosa del Quattrocento. Torino, 1961. P. 93-131.
144
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
современный исследователь Клаудио Варезе начинает1 с
изучения его предшественника Горо Дати — одной из ведущих
фигур в предпринятой Бароном реконструкции гражданского
гуманизма. В своей патриотической истории войны с
Висконти Дати задается вопросом, что послужило причиной
превосходства Флоренции над ее тосканскими соседями: Провидение,
фортуна или какая-то конкретная добродетель. Его ответ вновь
демонстрирует свойственную гуманистам «социологическую
аргументацию»: поскольку Флоренция расположена на
неблагоприятной для сельского хозяйства почве, ее жители стали
купцами, путешествующими по свету и черпающими знания
из наблюдений за другими народами. Здесь, как мы могли бы
сказать, имеет место усиленный и ускоренный процесс
накопления опыта, за счет чего Флоренция превзошла своих
соседей и в богатстве, и в уме. Этот довод подразумевает, что
широкое распространение гражданских прав способно,
подобно торговле и путешествиям, обратить больше ума и
добродетели на службу общему благу, в сравнении с монархией или
тиранией. Но, прибавляет Дати, ни то, ни другое не было бы
возможным без особого дара божественной благодати,
открывающейся всем, кто ищет ее, ведя праведную и святую жизнь.
В противном же случае в дело вступает фортуна, забирающая
блага этого мира у тех, кто их недостоин2. Здесь мы видим
традиционную христианскую доктрину, но между идеями Дати
и традицией Боэция есть существенная разница: в конечном
счете Дати говорит о политике и успехе, пусть успех и
представляется ему наградой за христианскую добродетель.
Гуманист также полагает, что успех достигается средствами разума
(ragione), как флорентийцы обычно называли способность
сознания, отвечавшую за принятие решений в сфере политики
и управления государством. Фортуна требует правильного
политического решения, целью которого является возможность
контролировать и направлять события или по крайней мере
приспосабливаться к ним. Суть политического определения
здесь отличается от христианского смирения и
самоотречения, к которым побуждает Боэций. Флоренция — республика,
а значит, добродетели готовы служить ей, и среди них
первостепенное место в размышлениях Дати отведено христианским
добродетелям. Но если благочестие достойно успеха, то ragione
ι. Ibid. P. 65-93·
2. Ibid. P. 76-77.
I45
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
достигает его; знание, способности и решимость, с помощью
которых предпринимаются шаги, позволяющие сохранять
контроль над событиями, также являются добродетелями. Мы
приближаемся к той точке, в которой ragione и virtu становятся
почти взаимозаменяемыми понятиями, а добродетель,
противостоя фортуне, дает ей не столько подлинно христианский,
сколько истинно римский и политический ответ. Слово virtù
начинало приобретать смысл, в каком его употребляет
Макиавелли: искусности и мужества, благодаря которым люди
способны господствовать над событиями и фортуной1. Развиваясь
в этом русле, virtù, конечно, могла полностью утрачивать свое
христианское и даже этическое значение. Однако в той мере,
в какой virtù в ее политическом смысле наиболее полно
проявлялась— в ситуации, по-видимому, когда ею
руководствовались все граждане республики, она не могла потерять связь
с общественными добродетелями, которые по-прежнему лучше
всего описывались в христианских категориях. Впрочем, если
республике суждено было прекратить существование, вместе
с ней могло бы прекратить существование многое, что делало
человеческую жизнь понятной и нравственной.
Джованни Кавальканти вложил в уста флорентийца,
убеждающего капитана-наемника оставить службу у Висконти, такие
слова: «Ты, разумеется, слышал о великом постоянстве
флорентийцев и о том, что значит испытывать любовь к устроенной
таким образом республике. Та, над которой владычествует твой
хозяин, пусть она будет величайшей, просуществует недолго,
поскольку прочность ее измеряется продолжительностью жизни
одного человека; Республика же непрерывна»8. Такое утверждение
было своего рода гуманистическим трюизмом, не утратившим,
однако, своего захватывающего и раздвигающего горизонты
значения. Соединяя усилия многих людей, республика достигала
добродетели и — что было почти одно и то же — стабильности.
Приобретая техническое бессмертие корпорации, она переставала
зависеть от добродетели одного человека (или конечного числа
1. «Ma la forza accompagnata délia ragione debbe sempre vincere» («Но сила,
сопровождаемая разумом, всегда победит») (Varese С. Storia е politica
nella prosa del Quattrocento. P. 79).
2. «Per certo tu conoscerai la gran costanza de' Fiorentini, e quello ehe è ad
avère Гатоге di una cosi fatta repubblica. Quella del tuo signore, posto ehe
ella sia grandissima, ella è piu breve; con ciô ehe sia cosa ehe ella non puô
essere stabile se non quanto è la vita d'un uomo: ma la Repubblica è continua»
(Cavalcanti G. Istorie florentine. Firenze, 1838 (III, XXV); цит. по: Varese С.
Storia e politica nella prosa del Quattrocento. P. 117).
146
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
людей), в которой, в силу ее меньшей долговечности, должно
быть и меньше добродетельного. Нам совершенно очевидно,
почему гуманистическое знание, открывавшее доступ
одновременно ко всему богатству человеческой мудрости, служило формой
знания, соответствующей республике как univerntas, которая не
могла зависеть от знаний и добродетели одного или
нескольких человек. Не могла она опираться и на уходящую корнями
в незапамятные времена непрерывность опыта, потому что он
не кристаллизовался в обычай, а переживался и
осуществлялся в настоящем. Непрерывность, о которой писал Кавальканти,
была связана не столько с древностью, сколько с бессмертием.
В ней сосредоточивались все социальные добродетели; вся
человеческая мудрость открывалась в учении. Впрочем,
Кавальканти еще при жизни довелось наблюдать, как добродетель, равно
как и virtù, Флорентийской республики действительно стала
достоинством ограниченного числа людей и не могла продолжать
свое существование в таком качестве.
Кавальканти рассказывает, как в период, непосредственно
предшествующий господству Медичи, образовалось странное
расхождение между тем, что говорилось и кого избирали в
общественные республиканские собрания, и тем, что и как
решалось за кулисами, где в действительности творилась политика.
Много званых, да мало избранных, заметил он; многие были
призваны на должность, и лишь немногие — к реальной власти1.
Это чувство нельзя назвать незнакомым тем, кто изучал
правительственные собрания, но Кавальканти считал себя свидетелем
упадка политической системы, предполагавшей совместное
участие. Правление самих граждан, основанное на абсолютном или
пропорциональном равенстве, заменялось правлением шайки
судейских, а политическая машина Медичи, пришедшая ему на
смену, была лишь его кульминацией. Описываемый им феномен
более поздние авторы назвали коррупцией или порчей — термин,
среди прочих значений которого, возможно, наиболее важным
является замена общественных связей между гражданами,
которыми должна руководствоваться республика, частными
отношениями. Очевидно, что наиболее тревожным симптомом этого
I. «...il Comune era piu governato alle cene e negli scrittori ehe nel Palagio; e ehe
molti erano eletti agli uffici e pochi al governo» («...управление Коммуной
осуществлялось в большей мере во время трапез и в закрытых
кабинетах, нежели во Дворце; и многие были избраны на должность, но лишь
немногие допущены к правлению») (Cavalcanti G. Istorie florentine. P. 29
(II, I). Ср.: Varese С. Storia e politica nella prosa del Quattrocento. P. 122).
147
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
процесса Кавальканти считал потерю рациональности в
решениях. Он описывает собрание в период кризиса, куда граждане
приходят и где высказывают свою точку зрения; все происходит
открыто, и, на первый взгляд, то, что говорится, одновременно
разумно и добродетельно. Впрочем, связь между тем, что
говорится, и тем, что в конечном счете делается, отсутствует. Не так
просто установить, кем и из каких побуждений принимаются
решения1. И вновь большинству современных читателей
знакомы эти чувства, но относительно Кавальканти и его мира
I. «Dette ehe ebbero queste ed altre convenevoli parole, molti cittadini salirono
alla ringhiera a consigliare: diversi cittadini consigliarono, e diversi consigli vi
si disse. Ε perché io non его pratico a vedere corne si amministravano i fatti
délia Repubblica, disposi l'animo mio al tutto a portarne alcuna regola di
governo con meco; e, per meno fallibile, elessi la regola e Tarte del preclaro
cittadino Niccolô da Uzzano, maestro piu reputato e piu dotto. Mentre le
preallegate lettere si leggevano, e la proposta si feceva, e la turba consigliava,
il nobile cittadino fortemente dormiva, e niente di quelle cose udiva, non
ehe le intendesse. Consigliati molti e diverse cittadini, chi una cosa e chi un
altra, diverse cose e diverse materie vi si disse. Non so se fosse stato tentato
о destino, о veramente il sonno avesse il suo corso fînito, tutto sonnelente
sali alla ringhiera. <...> Detto ehe ebbe Niccolo questo cosi fatto parère, tutti
i consigliatori si accordarano al suo detto. Allora, avendo io tenuto a mente
i modi di Niccolô, per me si giudicô ehe lui, con altri potenti, aveva sopra
quelle lettere, nel luogo privato e segreto, accordato e conchiuso ehe quel
consiglio fusse per lui dato, e per gli altri confermato e conchiuso. Allora,
per piu essere certo se il mio credere era d'accordo col suo essere, dissi con
alcuni de' miei compagni quello ehe credeva, e com'egli mi pareva ehe nella
Repubblica ne dovesse seguire tirannesco e non politico vivere, ehe fuori del
palagio si amministrasse il governo délia Repubblica. La risposta ehe mi fu
data col mio credere fu d'accordo, dicendo ehe com' io credeva cosi era...»
(«Как только были произнесены эти и другие предписываемые
обстоятельствами слова, многие горожане поднялись на трибуну, чтобы
высказать свое мнение: прозвучало много разных мнений и
предложений. И поскольку я не имел большого опыта в вопросах
управления Республикой, я приложил все усилия, чтобы почерпнуть из этих
речей какие-нибудь полезные принципы управления; наиболее
сведущим, опытным и придерживающимся самых верных принципов
я счел светлейшего гражданина Никколо да Уццано, влиятельнейшего
и ученого члена собрания. Во время чтения вышеупомянутых писем,
оглашения предложенного постановления и выступлений горожан
этот благородный гражданин крепко спал и ничего из сказанного не
слышал, он и не пытался слушать. Много разных граждан
выступило, говорили кто одно, кто другое, много всего разного и на разные
темы. И вот — то ли его растолкали, то ли он сам к тому моменту
выспался— Никколо, заспанный, поднялся на трибуну. <...> А когда он
закончил свою речь, все члены собрания единодушно одобрили
сказанное. Поскольку я помнил, как Никколо себя вел на этом
заседании, я предположил, что он ранее совещался по поводу этих писем
с другими влиятельными лицами, в тайном месте, куда не пускали
посторонних, и что они вместе решили, что он выступит с таким
предложением и что оно будет другими одобрено и утверждено. И тогда,
чтобы удостовериться в своей правоте, я высказал некоторым своим
спутникам эту догадку и добавил, что если Республикой управляют за
148
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
важно понимать, что республиканский идеалист того
времени не мог считать решения разумными или добродетельными,
если они не были приняты при всеобщем или по крайней мере
свободном участии сведущих граждан. Республики
существовали, чтобы мобилизовать ум и добродетель всех граждан; их
стабильность зависела от того, насколько они способны были это
сделать. Если им это не удавалось, они становились правлением
немногих, чьи ум и добродетель были обречены угаснуть из-за
их конечности и неполноценности. Олигархия под прикрытием
республики не могла быть разумной, потому что не
направляла ум каждого ко всеобщему благу; она не могла быть
добродетельной, потому что подчиняла общее благо тому, что считало
благом ограниченное число людей; ей не могла быть присуща
virtù, потому что она не мобилизовала ragione и costanza1, разум
и постоянство каждого для участия в происходящем вокруг. Ей
должно было недоставать целостности и долговечности, и
Кавальканти называет это tirannesco е поп politico*.
Вот почему республика должна была столкнуться в новых
и более сложных формах с проблемой fortuna. Поскольку ее
нельзя назвать в полной мере добродетельной, она должна
противостоять потоку времени в его неосмысленной форме, а
будучи лишена virtù, не знала при этом, как контролировать
события или приспособиться к ним. Ей приходилось иметь дело
с миром иррациональным, ибо непонятным, где слова (как
заметил в схожих обстоятельствах Фукидид) изменяли свой
смысл. Мы видели, какое огромное значение эта эпоха
придавала понятию стабильности, но Кавальканти, предвосхищая
одну из тем Макиавелли, писал, что во Флоренции
стремление к стабильности само по себе превратилось в заблуждение:
«...я обвиняю не фортуну с ее изменчивостью, а различных
и порочных людей нашей республики с их неподвижностью.
Поистине, говорю вам: это упрямство и закоснелость натуры
(stabilità délia condizioné), свойственные некоторым нашим
гражданам, послужили причиной многих бедствий города...»3. Грешно
стенами дворца, то это не политическая жизнь, а тирания. И мне
ответили, что все так и есть и что они согласны со мной».) (Cavalcanti G.
Istorie florentine. P. 28-29 (H> I))·
1. Разум и постоянство (итпал.).—Прим. ред.
2. Тираническим, а не политическим (итпал.).—Прим. ред.
3- «...non accusando tanto la mobilità délia fortuna, quanto la immobilità délie
diverse persone e de' perversi uomini délia nostra republica. Al tutto dico
ehe questa pertinacia e questa stabilità délia condizioné de' nostri cittadini
è stata la cagione délie tante sventure délia nostra republica...» (цит. no:
Varese C. Storia e politica nella prosa del Quattrocento. P. 110).
149
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
не меняться, если мир стал изменчив из-за нашего недолжного
поведения и излишеств; порядок нарушился из-за погони за
частными благами. Во флорентийской мысли не было
определенности в отношении вопроса, можно ли считать, что мир
направляется Провидением или что он подчинен разумному
контролю со стороны добродетельных людей, но все
соглашались с тем, что, когда люди не добродетельны, мир становится
непонятным и даже непознаваемым. Кавальканти утверждает,
что, когда мы изучаем нравственную и политическую жизнь
человека в неупорядоченном или развращенном обществе,
окружающий его мир должен представляться нам неуправляемым
и темным потоком, и вопрос заключается лишь в том, не
следует ли нам, помимо фортуны, вспомнить о влиянии звезд. Он
приходит к выводу, что нам не обойтись без астрологии: идея
фортуны — это идея по природе бессмысленной и абсурдной
направляющей силы, но суть астрологии в том, что
непредсказуемые события этого мира можно соотнести с
неправильными, но не совсем произвольными движениями блуждающих
звезд. Парадоксальным образом, подобное убеждение
восстанавливает в правах свободную волю. Как только мы вновь
признаем, что между событиями человеческой, общественной
жизни существуют причинно-следственные связи, мы сможем
выстроить собственное нравственное поведение, ориентируясь
на эти связи. Кавальканти защищает астрологию, говоря, что
она необходима, дабы граждане или историки могли вынести
моральное суждение1. И все это потому, что политизированная
добродетель казалась ему уничтоженной. Политическое
упорядочивание общества и рациональное упорядочивание истории
стали почти взаимозависимыми.
Фортуна управляла хаосом лишенных закономерности
частностей, событий и переменчивых обстоятельств человеческой
жизни — vicissitudo rerum, la vicisntude des choses humaines1. Мир
все чаще представал в таком обличье — как подчиненный
владычеству фортуны, — по мере того как республика терпела
поражение в своей попытке объединить всех граждан в virtu
и ragione. Но, в то время как это поражение становилось все
более явным, возникал и другой хаос неупорядоченных
частностей — воль, страстей и характеров отдельных людей, уже не
объединенных нравственным гражданским союзом. Неудачная
ι. Varese С. Storia е politica nella prosa del Quattrocento. P. 108-109.
2. Изменчивость вещей (лат.), превратность человеческих дел (франц.). —
Прим. ред.
I50
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
попытка политизации вновь заставила вспомнить о
проблеме конкретного — когда Кавальканти писал о diverse persone
е perversi uomini1, «различие» и «порочность» звучали почти как
синонимы, — и поставила вопрос о том, какая сила стояла за
несходством людей друг с другом и течением событий,
обусловленным психологическим несходством. Не лишено значения то
обстоятельство, что Кавальканти не приписал власть наделять
людей индивидуальными чертами и конкретными
предпочтениями фортуне или исключительно звездам. Между звездами
и людьми он ввел аллегорическую фигуру с завораживающим
именем Фантазия (Fantasia), которая разъясняет историю мира,
от евреев к грекам и от римлян к флорентийцам:
Я — Фантазия, присущая каждому разумному существу. <...>
Человеческие воли столь же различны между собой, сколь
различны влияния природы звезд, и фантазия, родившаяся
у Пипо ди сер Брунеллеско, не могла возникнуть у Лоренцо ди
Бартолуччо, а фантазия мастера Джентиле не могла быть
присуща Джулиано д'Арриго, и подобно тому, как несхожи воли,
так несхожи фантазии и поступки людей. И я — исток и
опора всех моих учеников и обладаю властью каждого наделять
такой независимостью, какая дарована мне всеми звездами по
повелению небесного монарха, которому подвластны все вещи,
преходящие и вечные, и от этого многообразия фантазий
происходит все многообразие характеров между людьми...2.
По-видимому, Фантазия не является творческой силой,
делающей людей такими, какими они не могут не быть, — эта роль
отводится влиянию звезд. Скорее она — нерациональная
творческая сила, внутренне присущая человеку, которая побуждает
каждого к реализации своей личности, резко отграниченной от
универсальных ценностей, реализуемых каждым и в каждом,
1. Разные люди и развращенные люди (итал). — Прим.. ред.
2. «Io sono fantasia сопите a ciascheduna razionale creature. <...> Ε cosi sono
différend volunta umane quante sono differenti le influenze délie nature
nelle stelle, e perché altra volta fu in Pipo di ser Brunellesco ehe non fu in
Lorenzo di Bartoluccio et altra fantasia fu nel maestro Gentile ehe non fu in
Giuliano d'Arrigo e cosi corne sono differenti le volunta, cosi son differenti le
fantasie e le azioni negli uomini. E io sono l'ungine e il sostegno di tutte le
mie discepole e ho sopra catuna autorità di comandare cotale signoria a me
conceduta da tutto lo stellato ordine per comandamento dello imperadore
celestiale a cui sono suggette tutte le cose caduche e sempiterne, e ehe queste
diversità di fantasie procedono tante diversità d'ingegni negli uomini...» (цит.
по фрагменту рукописи, приведенному в: Ibid. Р. 111).
151
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
в соответствии с аристотелевской христианской мыслью:
индивидуальная неповторимость наклонностей, следуя которым
каждый человек воплощает свои фантазии и формирует свою
уникальную личность. С одной стороны, у нее есть нечто
общее с Глупостью Эразма, с другой — из ее слов ясно, что
многие черты роднят ее с Изменчивостью Спенсера или — более
непосредственно — с традиционной fortuna. Будучи силой,
обусловливающей многообразие частностей и подвластной лишь
звездам и Создателю, она отвечает за ход человеческой истории;
но та же роль приписывалась и фортуне, когда ход событий не
был размеренным и не регламентировался успешным
устроением республик. Известно письмо Макиавелли к находящемуся
в изгнании Пьеро Содерини, из которого мы узнаём, что fantasia
составляет часть того элемента, что придает личности каждого
человека неповторимость. Fortuna же, наоборот, дает нам наши
обусловленные обстоятельствами судьбы, и — эта мысль
неоднократно звучит в «Государе» — именно потому, что природа
наша с трудом поддается изменениям (stabilità Кавальканти),
fortuna обретает над нами власть1. Fantasia vl fortuna были
понятиями, необходимыми скорее для конкретизации, а не для
объяснения хода истории, когда она не была легитимирована
политическим порядком. Однако целью республики являлось
установление добродетели и разума, а они представлялись
совершенно несовместимыми с переменами. История
существовала в отсутствие республики, единственного порядка,
который мог легитимировать сосуществование единичных явлений.
I. «Credo ehe come la natura ha fatto alPuomo diverso volto, cosi glia abbia
fatto diverso ingegno et diversa fantasia. Da questo nasce ehe ciascuno
secondo l'ingegno et fantasia sua si governa. <...> Ma perché i tempi e le
cose universalmente et particolarmente si mutano spesso, e gli uomini non
mutano le loro fantasie né i loro modi di procedere, accade ehe uno ha un
tempo buona fortuna, et un tempo trista... havendo gli uomini prima la vista
corta, et non potendo poi comandare alla natura loro, ne segue ehe la fortuna
varia et comanda agli huomini, e tiengli sotto il giogo suo» (Macchiavelli N.
Lettere. P. 230-231) («Полагаю, что как природа дала людям разные
лица, так они получают от нее и разные ум и фантазию, которыми
руководствуется каждый. <...> Но так как времена и вещи и в целом,
и в частностях подвержены изменениям, а люди не меняют ни своей
фантазии, ни образа действий, им то сопутствует удача, то их
преследует невезение... В силу людской близорукости и неумения людей
подчинить себе собственную природу, фортуна непостоянна и
распоряжается людьми, она держит их под игом» (цит. с изменениями по:
Маккиавелли Н. Десять писем. С. 444~44б))· См.: Minogue K.R. Theatricality
and Politics: Machiavelli's Concept of Fantasia // The Morality of Politics /
Ed. by B. Parekh, R.N. Berki. New York, 1972. P. 148-162.
I52
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
Кавальканти стал свидетелем краха республики, когда
добродетели не удалось восторжествовать над фортуной.
Сначала он приписал поражение республики интригам различных
клик, которые предшествовали приходу Козимо де Медичи
к власти и старались его предотвратить. Он мог или осуждать
правление Козимо как апофеоз закулисной политики, или
восхвалять его как создателя порядка, ее преодолевшего. В
различных произведениях Кавальканти на эту тему ощущается
двойственность, которая, вероятно, нашла наиболее полное
отражение в его высказывании: «Если бы я полагал, что в этой
нашей преходящей и мимолетной жизни человеческие
добродетели могут оставаться неизменными и постоянными, я бы
осмелился сказать, что [Козимо] был человеком скорее
богоподобным, нежели смертным...»1. Мы можем развернуть эту мысль
следующим образом. Козимо управляет городом, но, в отличие
от республики, он не бессмертен и поэтому не может вмещать
всю добродетель и весь разум политического тела. Время его
правления минует, не оставив после себя гражданской
жизни, способной противостоять превратностям судьбы и
упадку; оно дитя фортуны и фантазии, а может быть, и злых сил,
коль скоро ему не удается развить добродетель и разум в
других— это возможно лишь благодаря причастности к
гражданскому обществу, которое Козимо подавляет. В то же время его
система существует и продолжает существовать; он преуспел,
когда республика потерпела поражение, и справедливо
полагать, что он восстанавливает гражданскую жизнь или создает
порядок, ее превосходящий. Так или иначе, в той мере, в
какой можно считать, что он смог сделать нечто, что самой
республике не удалось, он преуспел там, где не смогли преуспеть
добродетель в ее политическом аспекте и разум общества.
Но человек—zöon politikon2; его добродетель и разум способны
раскрыться лишь в политических сообществах. Если Козимо
своей личной добродетелью возвысился над сообществом,
следует считать его добродетель сверхчеловеческой. Это означает
1. «Cosimo de' Medici, il quale, s'io conoscessi ehe le virtù negli uomini fossero
immutabili e perpétue in questa nostra transitoria e momentanea vita, io avrei
ardire di dire ehe fosse piu tosto uomo divino ehe mortale...» (Cavalcanti G.
Istorie florentine (I, I); цит. по: Varese С. Storia e politica nella prosa del
Quattrocento. P. 126). О символическом языке, который использовался
гуманистами для прославления Козимо, см.: Weinstein D. Savonarola
and Florence: Prophecy and Patriotism in the Renaissance. Princeton, 1970.
P. 60 (прим. 85).
2. Политическое существо (др.-греч).—Прим. ред.
153
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
приравнять Козимо к существу, вкратце описанному у
Аристотеля, которое настолько же выше существа политического,
насколько человек выше зверей. Однако в действительности
методы Козимо не напоминают методы платоновского
правителя-философа. С этого момента в силу вступает
двусмысленность, которую мы наблюдаем у Макиавелли. Если
добродетель Козимо позволила ему выстроить собственный порядок
на развалинах того единственного порядка, при котором люди
могут быть добродетельными, то его добродетель может
оказаться virtù, находящейся за пределами морали. Позже мы
рассмотрим гипотетический случай законодателя, чья добродетель
предшествовала бы утверждению человеческой гражданской
добродетели и служила бы ее основанием.
Кавальканти существенно продвинулся на пути, который
ведет к Макиавелли. Когда республика казалась
распавшейся на составляющие ее частности, человек, по всей
видимости, утратил общность мыслей и действий со своими
согражданами, которую давала ему vita activa — средство понимания
и контроля как конкретных обстоятельств, сопутствовавших
его жизни, так и собственного бытия конкретной личности.
В большинстве своем неоплатонические философские
направления, расцветшие в пору пребывания у власти Лоренцо де
Медичи, можно интерпретировать как попытки восстановить
эту гармонию и контроль в негражданской форме1. Хотя они
олицетворяют возвращение к vita contemplativa, предлагаемое
ими созерцание далеко от монашеских размышлений над
неколебимыми универсалиями. Акцент, сделанный Платоном
на знании как интуиции, дает им возможность иначе
сформулировать прежнее учение о созерцании как разновидности
действия и даже творчества. Человек предстает здесь как
уникальное среди сотворенных существ в силу своей способности
проникать в интеллектуальную сущность всех прочих созданий.
Он отождествляется с ними и, в свою очередь, приближает их
к собственной природе. Представления, присущие герметизму
и магии, позволяют утверждать, что знания и язык, благодаря
которым в сознании отпечатываются соответствия и
принципы, скрепляющие воедино все вещи, делают человека с его
интеллектуальными способностями (но не с его fantasia)
повелителем и творцом (после Бога) всех тварных вещей. Конкретные
I. См. об этом: Garin Ε. Italian Humanism, Philosophy and Civic Life in the
Renaissance (chap. 111: Platonism and the Dignity of Man).
154
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
явления становятся универсальными, когда он познает их,
и сам он, познавая их, становится причастен
универсальному. Но герметисты не могут заменить политиков, если они не
предложат модель отношений между людьми как равными друг
другу личностями. Мир «Речи о достоинстве человека» Пико
делла Мирандолы в конечном счете состоит из познаваемых
объектов и познающего их интеллекта. Хотя знание у Пико
стало Адамовой страстью к определению и созиданию,
самоопределению и самосозиданию, связи между гражданами на
самом деле не могут сводиться к отношению между познающим
и познаваемым. Граждане заняты не столько познанием (и,
таким образом, созиданием) универсума и самих себя, сколько
выстраиванием отношений между сознаниями, волями и
целями друг друга. Наиболее подходящее для этого устремления
свойство сознания — не платоновский гнозис (gnosis), а
аристотелевская филия (philia) или христианская агапэ (agape). Магия,
воздействие на предметы, основанное на знании их природы,
является методом совершенно неподходящим, когда речь идет
об отношениях между равными политическими субъектами.
В той мере, в какой магия склонна возвышать знание до
статуса действия, — маг получает власть над предметом, просто
произнося его имя, — она даже не разновидность
макиавеллевской virtu. Философия, изолирующая человека — Человека как
отвлеченную и обособленную универсалию, — в его способности
к познанию, могла помыслить его как философа или как
правителя, если рассматривать правление как интеллектуальную
деятельность. Однако в ней не было категорий для
обозначения отношений между правящими индивидами именно
потому, что ее интересовал только субъект, а не объект правления.
Неоплатоническая попытка восстановить связь между
знанием и действием потерпела поражение в той степени, в какой
она не учитывала общественный характер познания, решения
и действия. Это была та сфера опыта, которую неоплатонизм
не мог осмыслить. Добродетельную и разумную жизнь он
представлял как озаренное знанием единство с космосом, а акцент,
который он ставил на отношение между знанием и действием,
заставляет предположить, что космос должен был примирить
человека с потерей полиса. Возможно, именно поэтому Пико
и других неоплатоников так привлекал Савонарола, который,
как мы увидим, изображал возрожденный полис как
сообщество святых, основанное на справедливости и
формирующееся в кульминационный апокалиптический момент священного
155
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
времени, так что благодать и политика пришли на смену магии
и философии в деле восстановления человеческой природы.
В таком контексте конституционная мысль — если
подразумевать под этим размышление о различных формах и
институтах совместного действия граждан — могла приобрести
огромную нравственную и даже экзистенциальную значимость.
Ее предметом было восстановление политизированной
добродетели, без которой имелись основания опасаться, что ни
природа человека, ни его мир не могли бы стать ничем,
кроме хаоса непостижимых сил. Основным методом, доступным
флорентийцам, стремившимся осмыслить отношения
между гражданами, как мы видели, послужила афинская теория,
опосредованная рядом античных и гуманистических авторов
и для удобства сведенная к парадигмам классификации форм
правления в зависимости от того, находится ли у власти один,
некоторые или многие. Именно в период господства Медичи
миф о венецианской устойчивости и древности стал мифом
о Венеции как совершенно стабильной политии в духе
Аристотеля, а позднее и Полибия, поскольку в ней поддерживалось
совершенное равновесие. Важно, что создали этот миф не
только сами венецианцы, но и флорентийцы. Феликс Гилберт
проследил его происхождение1, отправной точкой которого стало
намерение живших в Венеции гуманистов — Франческо Барба-
ро и содействовавшего ему Георгия Трапезундского — найти
классическое обоснование венецианского правления, но
которое вскоре переросло в способ описания и исследования ее
уникальной структуры. Как правило, Венецию не
затрагивала нестабильность, связанная с противоборством различных
партий и внутренними раздорами. Она могла позволить себе
забыть о многих исторических переменах, которые на самом
деле пережила. Миф о древности и отсутствии перемен стал
традиционным и нашел отражение в эпитете Serenisnma*,
которым республика предпочитала себя именовать. Гуманисты,
искавшие принципы или классические, парадигмы, которые
объяснили бы причины подобной стабильности,
сосредоточились на двух особенностях венецианского строя,
приводивших, однако, к разным выводам. Первая из них исходила из
разделения власти между дожем, Сенатом и Большим советом.
1. Gilbert F. The Venetian Constitution in Florentine Political Thought //
Florentine Studies: Politics and Society in Renaissance Florence / Ed. by N.
Rubinstein. London, 1968. P. 463-500.
2. Тишайшая, Светлейшая (итпал).— Прим. ред.
156
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
По всей видимости, здесь сочеталось правление одного,
некоторых и многих, о котором говорили теоретики Античности.
При этом вторая особенность состояла в давней традиции
ограничения гражданства в смысле политического участия в
политике большим, но все же конечным числом древних семей.
На этом основании Венецию можно было считать олигархией
или аристократией, однако разделение по количественному
признаку на одного, некоторых и многих обычно
соотносилось с социальной классификацией на монархию,
аристократию и демократию. Была ли Венеция смешанным правлением
или подлинной аристократией? Последующие мифологические
представления, сопряженные с образом Светлейшей Республики,
можно во многом отнести на счет этой фундаментальной
двойственности парадигмы, которую, в свою очередь, можно связать
с двусмысленностью, возникшей вследствие важнейшего
решения Аристотеля сочетать разные наборы критериев в сжатых
словесных формулировках. Дож, Сенат и Большой совет могли
соотноситься с одним, некоторыми и многими, с монархией,
аристократией и демократией или с обособленными
политическими функциями, которые надлежало принять на себя
одному/монархии, некоторым/аристократии и
многим/демократии. Аристократию можно было понимать как чистую форму
правления, как элемент трехсоставной системы смешанного
правления или как социально ограниченную структуру,
способную соединять в себе власть одного, некоторых и многих.
Из проведенного Гилбертом анализа ясно, что венецианцы
эпохи Кватроченто хотели считать себя исключительно
аристократией, хотя и необыкновенно уравновешенной и
внутренне пропорциональной. Флорентийцы, проявлявшие интерес
к устройству Венеции, изначально также не оспаривали такой
взгляд на вещи. Венецианский миф в эпоху правления во
Флоренции Лоренцо де Медичи мог привлекать главным образом
социальную группу, известную как ottirnati. К этой категории
людей относились представители старинных родов, по своему
происхождению скорее купеческих, чем знатных, которые могли
считать себя потомственным правящим классом или
господствующим элементом, больше среднего наделенным
благоразумием, опытом и другими необходимыми для правления
качествами, а потому отождествляться с теми аристотелевскими
элитами, которых с полным основанием можно было назвать
«немногими» или «аристократией». Ottirnati (термин произошел
от optimates, то есть оптиматов, сенатской аристократии Римской
157
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
республики), недовольные долей ответственности и власти,
отводимой им политическими методами Медичи, по понятным
причинам были заинтересованы в любом аргументе или
терминологии, которые бы подчеркивали и определяли роль
политической аристократии. К слову, последняя представляла
собой нечто совсем иное, нежели феодальное или земельное
дворянство вне зависимости от того, покупала ли
венецианская и флорентийская знать в то время земли. Соответственно,
ottirnati читали венецианское устройство современной моделью
конституции, воплощавшей классические принципы,
предоставлявшие такой аристократии надлежащую долю власти. В
отношениях дожа и венецианской аристократии они видели
образец равновесия между главой дома Медичи и ottirnati, который
должен был существовать, но не существовал. Иные, быть
может, даже мечтали о времени, когда флорентийский дож будет
лишь primus inter pares, первым среди равных, и происходить
необязательно из рода Медичи. Они явно не были
заинтересованы в том, чтобы указывать на демократический элемент
венецианской конституции (поскольку его нужно было еще
изобрести). И тем не менее интересно наблюдать, как
социальные реалии, соотносящиеся с выбранной ottirnati парадигмой,
толкали их к этому. Во Флоренции действительно существовал
popolo {grosso и minuto)1, имевший традицию деятельного
гражданства, которую трудно было игнорировать, говоря о
теоретическом или реальном распределении власти. Терминология
«один — немногие — многие», к которой ottirnati побуждал
прибегать гуманистический классицизм и трехчастное строение
действительной венецианской конституции, требовала от них
разговора о равновесии между демократией, аристократией и
монархией в идеальной системе, к которой они стремились. После
Савонаролы наиболее последовательная группа мыслителей,
поддерживавших оптиматов, сформировалась вокруг Бернар-
до Ручеллаи2, который настаивал, что Венеция — аристократия
и что Флоренция должна быть только аристократией, и
именно к этому они всегда и стремились. Впрочем, они выпустили
из рук интеллектуальную инициативу, во многом именно из-за
выводов, к которым неизбежно вел используемый ими язык.
ι. Жирный и тощий народ (итал.). Два соперничающих городских
сословия в средневековой Флоренции. — Прим. ред.
2. Gilbert F. Bernardo Rucellai and the Orti Oricellari: A Study on the Origin of
Modern Political Thought // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes.
1949. Vol. 12. P. 101-131. См.: Idem. Machiavelli and Guicciardini. P. 80-81.
158
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
В долгосрочной перспективе — по крайней мере с
англо-американской точки зрения — миф о Венеции (в своей максимально
идеализированной форме) состоял в утверждении, что
Венецианская республика была бессмертна и безмятежна, так как
поддерживала идеальное равновесие, сочетая в себе три элемента:
монархию, аристократию и демократию. Это утверждение
выражалось на языке Полибия, но в эпоху Кватроченто шестая
книга его «Всеобщей истории» была недостаточно широко
известна, чтобы называть ее одним из источников
венецианского мифа. Скорее нам следует сосредоточить свое внимание на
великой традиции афинской философской школы и
гражданском гуманизме1. Можно отметить, что флорентийские ottimatiy
сыгравшие важную роль в создании венецианского мифа, дали
толчок идеям и идеологии, простиравшимся за пределы их
желаний или контроля. Факт в том, что они воспринимали себя
как граждан и выражали свои классовые интересы — назовем
это так — на языке политического сообщества. То, что они,
вероятно, задумывали лишь как обозначение отношений,
которые должны существовать между одним и немногими —
между Лоренцо или Пьеро и ottimati, — превратилось в парадигму
отношений, которые должны существовать между всеми
частями флорентийской политии. Так был восстановлен идеал
универсального гражданства, сформулированный в
привычных для флорентийцев категориях и представлявший собой
смешение теорий Аристотеля и Полибия. Однако
обстоятельства, в которых это произошло, — интеллектуальная атмосфера,
воцарившаяся после 1494 года, — показывает, что это не
могло случиться без серьезных политических и идеологических
конфликтов. Наследие гражданского гуманизма было таково,
что крах гражданской жизни отождествлялся в сознании
гуманистов с картиной утратившего упорядоченность мироздания
столь же однозначно, как крах «порядка и чинов» у Шекспира.
Неоплатонические философские течения склонялись к мысли,
что единственный способ вернуться к порядку состоит в
единении интеллекта с космосом, которое повлекло бы за собой
восстановление единства умопостигаемого мира. Мыслители,
способствовавшие созданию мифа о Венеции, принадлежали
к альтернативной традиции, предполагавшей восстановление
мира средствами гражданства и политического порядка. Образ
I. Барбаро и Георгий Трапезундский, по-видимому, основывали свой
идеал Венеции на «Законах» Платона, см.: Idem. The Venetian Constitution.
P. 468-469.
I59
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
Венеции служил лишь инструментом, с помощью которого
они вновь утверждали категории аристотелевской политики.
Но Венеция превратилась в миф, парадигму, оказывающую
мощное воздействие на воображение. Если оставить в
стороне вопрос, какой упадок флорентийского духа заставил
мыслителей Флоренции с таким упорством обращаться к образу
города-соперника, к которому они не испытывали любви, то
сила этого символа, безусловно, заключалась в его
совершенстве, в воплощенной в нем картине политии, в которой все
частности находились в гармонии, а его стабильность,
следовательно, оказывалась бессмертной. Если политии суждено
восстановить порядок в иллюзорном мире, она должна быть
подлинно универсальной. Чрезвычайно интересно, что образ
Венеции стал восприниматься во Флоренции как политически
значимый в тот момент, когда Савонарола в своих
апокалиптических проповедях призывал город осознать свою святость
и избранность, осознать себя орудием, с помощью которого Бог
преобразит церковь и спасет мир.
В 1494 Г°ДУ) при приближении французской армии, власть
Медичи пала, и ближе к концу года сложилась та конституция,
которой предстояло стать символом флорентийского
республиканизма в оставшиеся недолгие годы его политической
жизни— с 1494 по !512 Г°Д и с !527 по ^З0"**. Это устройство
включало в себя Большой совет, Синьорию и гонфалоньера (который
с 1502 года назначался пожизненно). Мыслители того времени
настойчиво усматривали связь между указанными элементами
и классическими категориями одного, некоторых и многих.
Кроме того, принятие в Большой совет значительного числа
представителей неаристократических слоев, которые таким образом
получали право быть избранными в Синьорию,
свидетельствовало о наличии в конституции народного или
демократического элемента. Разумеется, эти эпитеты следует понимать в том
смысле, в каком их употребляли в то время. Далее, речь велась
о том, что равновесие между социальными категориями
демократии и аристократии шло рука об руку с разграничением по
численному признаку многих, некоторых и одного. Благодаря
проверенному временем устройству, предназначенному для
смешения двух способов категоризации, о конституции говорили
как о балансе или смеси демократии, аристократии и монархии,
хотя ottimati никоим образом не подчиняли себе Синьорию. Они
были «немногими» с точки зрения численности, а нахождение,
пусть даже пожизненное, у власти одного человека не превращало
1бо
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
его в самостоятельный класс или особую социальную группу
в том смысле, в каком это можно было сказать о короле и его
придворных. Впрочем, это была конституция, о которой
неоднократно говорилось, что в целом она создавалась по
венецианскому образцу — подобно тому, как зал для собраний Большого
совета проектировался по образцу зала собраний
венецианского Большого совета1. Именно этому сходству Венеция во многом
была обязана своей репутацией единственного в своем роде
устойчивого режима, совмещающего в себе демократию,
аристократию и монархию. Однако если миф о Венеции в
значительной мере связан с флорентийской конституцией 1494 года,
столь же справедливо сказать, что с того же года этот миф
подхватили многие сторонники смешанного правления. Все
найденные Гилбертом свидетельства позволяют предположить, что
до 1494 года флорентийцы обычно считали венецианское
политическое устройство аристократическим. Кто же в таком случае
счел образ Венеции подходящим для обоснования смешанного
народно-аристократического правления и почему обоснование
такого типа воспринималось как общепризнанное и верное?
Ситуация покажется нам еще более загадочной, когда мы
обнаружим Большой совет, конституцию и Венецию как образец,
которому конституция следовала, в апокалиптических
проповедях Джироламо Савонаролы. Его речи, зачатую ясные и
интеллектуально насыщенные, показывают, как эсхатологическая
перспектива сосуществует с другими способами изложения дел
в отдельных политических системах, что в рамках нашего
анализа должно оказаться одной из важнейших черт
республиканской мысли начала Нового времени.
Савонарола8 жил во Флоренции с 1490 года и со временем
стал обращаться ко все более пророческой риторике в своих
проповедях, призывая слушателей к покаянию и предрекая
грандиозные и страшные события — Божий суд над
развращенным миром, приуготовляющий путь к его очищению. В
обстановке того времени его слова напоминали о
полуподпольном напряжении хилиастической проповеди, чреватой ересью
и бунтом. Однако Савонарола, как бы он ни был чуток к этой
ι. Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini. P. 9-10.
2. Анализ соотношения апокалиптического и гражданского гуманизма
в мысли Савонаролы, более тонкий и проницательный, нежели
представленный здесь, можно теперь найти в работе: Weinstein D. Savonarola
and Florence. См. другую работу того же автора: Idem. Savonarola and
Machiavelli // Studies on Machiavelli / Ed. by M.P. Gilmore. Florence, 1972.
161
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
традиции, проявил недюжинную решимость и остался верным
томистом доминиканской выучки. Интересно — так, по
крайней мере, нам кажется — обнаружить, что апокалиптическая
модальность, которую мы привыкли ассоциировать с
иррационализмом угнетенных, оказывала мощное влияние на умы
флорентийцев эпохи Возрождения. Тем не менее мы должны
быть осторожны и не строить ложных антитез. Как мы видели,
гражданский гуманизм был призван обособить общество в
моменте его настоящего. Апокалиптическая история изображала
время как ряд наделенных уникальной значимостью моментов,
в которых любому коллективу людей может выпасть
важнейшая роль, подобная той, что выпала Израилю или Риму. В
сознании человека того времени попытка построить гражданское
сообщество была недалека от стремления создать сообщество
праведников. Оба процесса могли истолковываться на одном
и том же языке. Однако до Ц94 года Савонароле было нечего
сказать о политическом устройстве флорентийского общества
(хотя стоявшие у власти Медичи по понятным причинам не
испытывали радости от того, что в этом обществе объявился
пророк). Он делал акцент не на том, что флорентийскому
народу суждено сыграть особую роль среди других народов, а на
том, что на город надвигается ужаснейший Божий суд, и
надвигается в самом скором будущем. Тот факт, что именно
Флоренции отводилась роковая участь, должен был тем не менее
обострить у слушателей осознание уникальности их общества.
Выражение «тотчас же и в мгновение ока» — cito et velociter, —
которое, вновь и вновь возникая в речи Савонаролы, оказывало
потрясающее воздействие на аудиторию, тоже было призвано
подчеркнуть неповторимую важность настоящего момента.
Савонарола сосредоточился на готовящемся походе французского
короля на Неаполь. Карл VIII изображался как flagellum Dei1,
«царь северный», если говорить языком ветхозаветного
пророчества, который должен покарать Италию и очистить церковь от
порчи. Здесь мы можем вспомнить мистический империализм
Данте или даже Колы ди Риенцо. Впрочем, походу предстояло
произвести во Флоренции революцию, которая вовлекла
Савонаролу, бесповоротно и, как оказалось, трагически, в
политические события, сделав его пророческое видение
ответственным за гражданский идеал. Языку апокалипсиса надлежало
смешаться с языком политического сообщества.
I. Бич Божий (лат.). — Прим. ред.
1б2
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
Когда Карл VIII вступил во Флоренцию, власть Медичи
потерпела крах. Пьеро де Медичи утратил самообладание, и
представители узкого круга влиятельных ottimati обнаружили, что
теперь, отказав ему в поддержке, они смогут положить конец
режиму, который все более утомлял их. Попытка восстановить
прежние республиканские порядки после отречения от власти
Пьеро, доверив ottimati реконструкцию традиционных
институтов, в свою очередь, провалилась из-за усиления
политической активности со стороны popolo — не принадлежащих к
элите представителей привилегированных политических классов.
Именно в таких обстоятельствах и была предложена и усвоена
трехчастная конституция, в центре которой стоял Большой
совет, и принято пока неясное решение ввести эту
неаристократическую по своей сути структуру с опорой на венецианскую
модель. Савонарола сыграл ведущую роль во внедрении этой
формы власти, а позже и в руководстве ею. В его проповедях
встречается образ Венеции. Трудно, однако, поверить, что он
сам придумал такую конституцию. Формулировки, в которые он
облек свое предложение заимствовать ее у Венеции, безусловно,
указывали, что эта идея ему не принадлежала1. Но в истории
идеологии нас интересуют не столько инициативы, мотивы
и действия, сколько языки и способы их использования. Мы
можем проанализировать проповеди Савонаролы в этот период
(ноябрь—декабрь 1494 года) и сделать вывод о состоянии
республиканской идеологии на тот момент2.
Прежде всего важна связь между апокалиптическими
высказываниями Савонаролы и возрождением республиканского
popolo — связь пророчества и гражданского общества. Он был
убежден, что Флоренции и церкви уготован Богом особый
жребий, и эта убежденность могла перерасти в веру в особую
божественную миссию Флоренции в мире. Господь кого любит, того
наказывает; Бог посетит Флоренцию, ибо Флоренция избрана3.
1. Weinstein D. Savonarola and Florence. P. 20-23, 150-153; Rubinstein N. Politics
and Constitution in Florence at the End of the Fifteenth Century // Italian
Renaissance Studies / Ed. by E.F.Jacob. New York, i960.
2. Я использую следующее издание: Savonarola: Prediche italiane ai fïoren-
tini. Vol. I: Novembre-Dicembre del 1494 / A cura di F. Cognasso. Perugia,
Venezia, 1930.
3. Weinstein D. Savonarola and Florence; в особенности см. обсуждение
(Р. 35~66) вопроса о том, в какой мере новое эсхатологическое
видение пришло на смену ранее присущей гвельфам убежденности в
божественном предназначении Флоренции; см. также текст «Compendium
Revelationum», написанный Савонаролой в 1495 ГОДУ» гДе он изложил
i63
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
Он уверовал, что церковь преобразится благодаря духовному
обновлению, которое начнется во Флоренции, —
апокалиптическая мысль проецировала духовную историю на светское
общество. Что еще важнее, это обновление он стал
приравнивать к восстановлению республиканского гражданства. В какой
мере его мысль отклонилась от защиты традиционной
морали в сторону распределения политических функций,
остается предметом споров среди тех, кто обсуждает, насколько она
продолжала средневековые нормы или отклонялась от них1.
Впрочем, для целей настоящего исследования намного важнее,
что Савонароле удавалось смешивать аристотелевский,
гражданский и апокалиптический язык.
Милленаристские чаяния Савонаролы отвечали
идеологическим потребностям момента — республике предстояло
возродиться после более чем шестидесятилетнего забвения.
Неискушенные флорентийцы отождествляли республику с
традициями города и со своим покровителем Сан-Джованни
(Иоанном Крестителем). Следовательно, восстановиться должно было
покровительство Сан-Джованни, подобно тому как
недолговечная Миланская республика в 1447 Г°ДУ взяла имя
святого Амвросия и как в светлой Венеции никогда не прекращал
править святой Марк2. Но умы, восприимчивые к традиции
еретических проповедей, равно как и те, кто был неравнодушен
к идеалам гражданского гуманизма и не был чужд терзаний
о его явном упадке, могли найти более изощренное
эсхатологическое выражение величайшей дерзости своей теперешней
попытки. Республику надлежало восстановить; конкретному
городу предстояло попытаться — после прежней неудачи — стать
универсальным во времени. Неоплатоническая мысль облекала
подобные устремления в характерные для герметизма формулы,
но они не подходили для выражения политических смыслов.
Однако язык эсхатологии описывал ряд событий, в которых
человеческие сообщества приобрели универсальное значение
благодаря действию божественной благодати. Восстановление
гражданской жизни могло привести к возрождению человека
в его универсальности. Если этого не смогла достичь
герметическая мудрость, возможно, это осуществимо через возвращение
свою историю как пророка. «Compendium Revelationum» цитируется
Вайнстайном на с. 68-78; см. также: Ibid. Р. 168-170 [в русском тексте
цитаты даны по английскому переводу].
ι. Ibid. Р. 4^5 (обзор историографической литературы о Савонароле).
2. Gilbert К The Venetian Constitution. P. 464.
164
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
к vivere civile и к человеку как «существу политическому» (zôon
politikon). Но на этот раз возрождение активной жизни должно
состояться как действие во времени и истории.
Однако милленаризм Савонаролы был упрямо
ортодоксальным и томистским. Хотя он говорил, что близится Пятая
эра церкви, а к окончательному падению Савонаролу
привело осуждение папы как Антихриста1, проповедник разделял
учение Фомы Аквинского о том, что благодать осуществляет
человеческую природу, а не разрушает ее. Естественная для
человека форма жизни предполагает стремление к ценностям
братства и общности; город — братство, стремящееся к
общему благу, благу для всех, и люди ищут блага для других, а не
для самих себя2. Поэтому возможно восстановление церкви или
города, которое бы стало возвращением к подлинной форме
человеческой жизни. Подобное reformatio или rinnovazione
понимается строго по Аристотелю, как утверждение преобладания
духа и формы над материей, но оно должно осуществиться
благодаря действию благодати и в свое время. Так как prima
forma3 — дар благодати, ее нельзя обновить без обновления
благодати, и это касается всех, кто обретет ее, живя по
справедливости. Однако явления божественные — так у Савонаролы
Ной говорит сыновьям в ковчеге — неподвластны времени;
явления же временные нуждаются в периодическом обновлении.
Церковь не исключение из этого правила4, и поэтому ее можно
1. Здесь можно найти подробный анализ милленаризма Савонаролы:
Weinstein D. Savonarola and Florence (Chap. V).
2. Об этом см. в особенности проповедь от ц декабря Ц94 года (Savonarola:
Prediche italiane ai fîorentini. P. 181-197) и «Trattato circa il reggimento
e governo délia citta di Firenze» («Трактат о политическом режиме и
правлении в городе Флоренция»), созданный в 1497 году: Edizione nazionale
délie opère di Girolamo Savonarola. Vol. XL Prediche sopra Aggeo con il
Trattato... / A cura di L. Firpo. Roma, 1955. Рус. перевод см.: Савонарола Д.
Цикл проповедей на книгу пророка Аггея / Изд. подготовила A.B.
Топорова. М., 20Ц.
3- Первоформа (лат.) — понятие аристотелевской метафизики. — Прим. ред.
4· «Si come per el diluvio si rinnovo el mondo, cosi manda Dio queste tribulazioni
per rinnovare la chiesa sua con quelli ehe staranno nelParca. Ma notate ehe
quelle cose ehe non sono subiette al tempo non invecchiano, e pero non si
rinnovano. Dio, li beati ed el cielo non invecchiano, ehe non sono sottoposti al
tempo, ma le cose temporali e composte di elementi mancano ed invecchiano
e perô hanno bisogno di rinnovazione. Similmente la Chiesa di Dio ehe fu
construtta ed edificata délia unione de' fedeli e délie loro buone operazioni,
quando quelle mancano, si chiama invecchiata ed ha bisogno di rinnovarsi...
Or quanto al rinnovare una cos ache sia composta di materia e di forma,
dovete notare, secondo l'ordine délie cose naturali, ehe la rinnovazione sua
consiste prima e principalmente nella forma e secundario nella materia.
165
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
обновить посредством учреждения человеческой ginstizia1, когда
Флоренция стала бы тем, чем должно быть и по природе своей
является человеческое сообщество. Восстановление prima forma
возможно лишь благодаря действию благодати во времени,
которая выберет и провозгласит этот момент во флорентийской,
итальянской и духовной истории и пошлет городу
пророческую весть о его избранничестве. Флорентийцы же должны
прислушаться к словам пророка и не упустить этого момента.
Савонарола неоднократно подчеркивал2: расхожее
убеждение (приписываемое Козимо де Медичи), что нельзя управлять
с помощью «Отче наш», является глубоко ошибочным. Здесь
он, очевидно, предвосхищает более позднюю критику
Макиавелли и отвечает на нее со своей точки зрения. Праведный
город существует не в момент fortuna и ragione, но в момент
grazia и rinnovazione. Однако отсюда вытекает, что он может
существовать лишь в одном из этих моментов — третьего не
дано. Теперь язык Савонаролы ставит нас перед проблемой:
в какой мере он сам считал добродетель политизированной,
царством справедливости, обусловливающим необходимость
всеобщего активного участия в гражданской жизни в рамках
L'uomo è composto di forma e materia, cioè d'anima e di corpo, ed el corpo
è fatto per l'anima, pero bisogna rinnovarsi prima neU'anima. Adunque
vediamo prima la rinnovazione délia forma» (Savonarola: Prediche italiane
ai florentini. P. 108-110; проповедь от η декабря 1794 года); «Как
благодаря потопу обновился мир, так Бог посылает эти испытания ради
обновления Церкви вместе с теми, кто находится в ковчеге. Заметьте,
то, что неподвластно времени, не стареет, но и не обновляется. Бог,
блаженные души, Небо не стареют, ибо неподвластны времени, но
мирские вещи, а также вещи, состоящие из элементов, ветшают и
стареют, и потому нуждаются в обновлении. Также и Церковь Христова,
созданная и воздвигнутая из союза верующих и их добрых дел, когда
последних становится мало, стареет и нуждается в обновлении...
Теперь заметьте: что касается обновления вещи, состоящей из материи
и формы, то, согласно естественному порядку, ее обновление
заключается прежде всего и главным образом в форме, а затем в материи.
Человек состоит из формы и материи, tq есть из души и тела, и тело
создано для души, поэтому сначала необходимо обновить душу. Итак,
сначала поговорим об обновлении формы» (Савонарола Д. Цикл
проповедей на книгу пророка Аггея. С. 66).
1. Справедливость (итпал).— Прим. ред.
2. Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini. P. 116—117 (проповедь от η
декабря 1494 года), 186-190 (проповедь от 14 декабря); Савонарола Д. Цикл
проповедей на книгу пророка Аггея. С. У0-?1» Ю2 и далее. В последнем
отрывке содержится пространное и строгое опровержение того же
высказывания. Савонарола развернуто доказывает, что
усовершенствование политических форм происходит только посредством благодати —
и только так и можно управлять своими владениями.
166
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
политии. Для подобного перехода имелось средство. Если prima
forma подразумевала, что каждый должен заботиться об
общем благе, а не о своем собственном, участие в гражданской
жизни безоговорочно считалось наиболее сознательным и
институционализированным способом достижения идеала. По-
лития вполне могла быть формой справедливости. Из этого
должно было следовать, что учреждение республики можно
считать моментом благодати. Впрочем, нет веских оснований
утверждать, что Савонарола когда-либо рассматривал участие
в гражданской жизни как парадигму, в которую должны быть
встроены все традиционные добродетели. С уверенностью
можно сказать, что он часто говорил о governo е reggimento1 как
о forma, в отличие от materia, обновленной жизни2. Он осуждал
тиранию3 и власть одного человека над другими, которых он
может подчинить своим целям4, как несовместимую со
справедливостью. По-видимому, он имел в виду не столько то, что
тиран совершал несправедливость по отношению к другим,
сколько то, что он препятствовал им творить справедливость
в собственной жизни. Когда Савонарола советует установить
республику5 по венецианскому образцу6, он делает это в
контексте rinnova&one и апокалиптического времени.
ι. Правление и режим (итал.).—Прим. ред.
2. Ср.: Weinstein D. Savonarola and Florence. P. 147, 153-154, 156-158.
3. См. прим. 2 на с. i66, а также: Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini. P. 212.
4. «...t'ho detto e ridico, ehe tu facci in questo tuo nuovo governo e pigli taie modo
di reforma ehe nessuno cittadino si possa far capo délia città, accio ehe tu
non perda phi quella libertà ehe Dio t'ha data e restituita. Che maie è questo?
Anzi quanto è el tuo bene e la tua salute. Ιο vorrei ehe voi fussi tutto uno
cuore ed una anima e ehe eiaseuno attendesse al ben commune e quäl bene
ehe lui avesse dalla città, lo riconoscesse dal commune e dal publico e non da
alcuno privato» (Ibid. P. 115, 194; 219; проповедь от i6 декабря 1494 г.); «Ты
хочешь сказать, что мир — это плохо? Второе, повторяю снова: проведи
такую реформу, чтобы при новом правлении никто не мог бы стать во
главе города, дабы не утратить свободы, данной и возвращенной тебе
Богом. Что в этом плохого? Напротив, здесь твое благо, твое спасение.
Хочу, чтобы вы все были одним сердцем и одной душой, и чтобы
каждый стремился к общественному благу; а то благо, которое он получит
от города, пусть считает общественным, а не частным» (Савонарола Д.
Цикл проповедей на книгу пророка Аггея. С. 129).
5· Governo civile или reggimento civile — словосочетания, употребляемые
в «Трактате...». Ср.: Weinstein D. Savonarola and Florence (chap. IX).
Подобный язык скорее встречается в более поздних проповедях, а не
в тех, что относятся к 1494 году.
6. «£ cosi essendo fondati nel timoré di Dio, Lui vi darà grazia di trovare buona
forma e questo vostro nuovo reggimento, accio ehe nessuno possa innalzare el
capo, о come fanno e* Veneziani, о come meglio Dio vi inspirera. Per la qual
cosa acciô ehe Dio vi illumini, vi esorto per tre giorni a fare orazione e digiuni
per tutto el popolo e poi vi congregate insieme ne' vostri Consigli per pigliare
167
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
На данный момент не ясно, считал ли Савонарола, что
нравственное преобразование возможно только в республике — хотя
на это и указывают некоторые элементы его мысли. Скорее он
полагал республику законной и оправданной лишь в контексте
нравственного преобразования. Может быть, лучше и полнее
всего о его мнении касательно республиканской формы
правления свидетельствует его отношение к особому
флорентийскому характеру и к истории нравов и обычаев во Флоренции.
У средневековых авторов, которые были проводниками
Савонаролы в понимании политической теории Аристотеля — Фомы
Аквинского и Птолемея Луккского1, — он находил совершенно
недвусмысленное утверждение, что монархия, если у власти
находится хороший человек, есть лучшая форма правления.
Тем не менее на практике необходимо считаться с тем, какой
режим больше соответствует особенностям конкретного
народа и его нравам2. Затем он указывает, что традиции и климат
(если не торговля и путешествия, как до этого утверждали
гуманисты) приучили флорентийцев к участию в делах своего
правительства и наделили их подходящим для этого
характером3. Таким образом, если governo civile, или республика,
является наиболее благоприятной формой правления для
Флоренции, то ее — на первый взгляд — можно счесть не лучшем
устройством ввиду вторичности ее природы, которую граждане
приобрели вследствие практики и обычая. Теперь же
вступает в силу специфически христианский образ мысли,
парадоксальным образом позволяющий Савонароле сделать обычай
предпосылкой обновления и перерождения. Он
неоднократно заявляет, что обычаи (consuetudine)4 не есть основание для
buona forma al Vostro governo. Ε questo basti aver detto quanto alla forma
per reformarvi...» (Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini. P. 117; проповедь
от 7 декабря 1494 г.); «Так, укрепившись в страхе Божием, вы получите
благодать и найдете хорошую форму вашего нового правления, при
котором никто не сможет поднимать голову; возьмите пример с
венецианцев или как Бог вам внушит. Чтобы Господь просветил вас, я
призываю, чтобы весь народ в течение трех дней постился и молился, а потом
соберитесь на совет, чтобы избрать хорошую форму вашего правления.
Этих рассуждений о форме достаточно для ваших преобразований...»
(Савонарола Д. Цикл проповедей на книгу пророка Аггея. С. 71)·
ι. Weinstein D. Savonarola and Florence. P. 290.
2. Ibid. P. 292-293.
3. Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini. P. 183-184 (проповедь от ц
декабря); Edizione nazionale délie opère di Girolamo Savonarola. P. 446-450
(Trattato, I, 3), 470 (Trattato II, 3).
4. Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini. P. 125 (проповедь от 8 декабря
1494 г.), 228-231 (проповедь от 17 декабря 1494 г·)·
168
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
духовного преобразования. Вторичная природа — препятствие
к подлинному осуществлению изначальной природы
человека, или prima forma. Это искусственная личина, которую люди
надевают, не слушая своего разума, — подобно музыкантам,
которые столь мало сознают свои действия, что могут, играя,
разговаривать с приятелями на посторонние темы1. Личину
иногда используют как защитный панцирь, так что, слыша
слова пророка, человек остается глух к их истинному
значению8. Речь идет о столь серьезном препятствии, что даже
реформатору часто приходится действовать pian piano3, подобно
врачу, медленно и осторожно приступающему к лечению
болезни4. Однако в этих же отрывках Савонарола дает понять, что
он не стал осторожным прагматиком. Действовать pian piano
мучительно, потому что бремя пророчества делается тяжелее
из-за того, его нельзя высказать разом5. Преобразование
искусственного характера должно стать полным перерождением,
когда прежний человек умрет и родится заново6. Республиканские
1. Savonarola G. Prediche sopra Ezechiele // Edizione Nazionale délie opère di
Girolamo Savonarola / A cura di R. Ridolfï. Vol. I. Roma, 1955. P. 90-91.
2. Ibid; Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini. P. 230.
3. Не спеша (итал).—Прим. ред.
4· Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini. P. 125-126, 144, 146, 268, 272.
5. «O Firenze, io non ti posso dire... О Firenze, se io ti potessi dire ogni cosa...
Io ho veduto uno infermo piagato dal capo a' piedi, ed è venuto el medico
con vari unguenti per sanarlo ed ha cominciato dal capo e va a poco a poco
procedendo. О Firenze, io non possa dire ogni cosa... О Firenze, questo
infermo è el popolo florentine., è el Salvatore el quale è venuto per medicarti.
О Firenze, credi a me che'l medico è venuto e comincia pian piano, a poco
a poco, a medicare diversi membri. El medico grida ed esclama: О Firenze,
non si puo ogni cosa fare in un tratto. Questo ti sia assai per ora sapere
che'l medico è venuto...» (Ibid. P. 144-145; проповедь от 9 декабря 1494 г.);
«О, Флоренция, не могу сказать тебе... О, Флоренция, если бы я мог
сказать тебе все... Я видел больного, покрытого язвами с головы до
ног, и пришел врач с разными мазями, чтобы исцелить его, он начал
с головы и постепенно продвигался далее. О, Флоренция, я не смогу
сказать тебе всего... О, Флоренция, больной сей — флорентийский
народ, он болен, прежде всего, в духовных делах, затем в гражданских,
а также и в прочих, тяжко болен; врач — это Господь, пришедший
исцелить тебя. О, Флоренция, поверь мне, врач пришел, он постепенно
начинает лечить твои члены. Врач восклицает: „О, Флоренция,
невозможно все сделать сразу"» (Савонарола Д. Цикл проповедей на книгу
пророка Аггея. С. 85-86).
6. «...cantiamo e rallegriamoci col Signore nostro ehe fa cose mirabili ed ogni uno
si disponga a vita nova, cacciando tutto el vecchio maculato vivere. О Firenze,
ora mi volta a te. Se tu vuoi renovarti, О città nova, se tu vuoi esser nuova
e se tu hai mutato nuovo stato: bisogna ehe tu muti nuovi modi e nuovo
vivere se tu vuoi durare, e se tu vuoi reggere, e' ti bisogna fare un nuovo
cantico e ricercarsi ehe tu abbi nuova forma» (Savonarola: Prediche italiane
ai fiorentini. P. 114-115); «...воспоем и возрадуемся с Господом нашим,
i6g
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
традиции Флоренции мало что могут сделать для создания
царства справедливости1, и город должен изменить свою
форму под действием благодати — стать не городом Флоренцией,
а градом Божиим2.
Однако для перерождения была избрана именно Флоренция.
Трудно усомниться, что обусловленная традицией вторая
натура граждан является причиной или знаком этого
избранничества. Ветхий Адам (если воспользоваться выражением
апостола Павла) должен умереть и возникнуть заново. Некоторым из
«ветхих людей» суждено родиться снова раньше других, и нет
причин, по которым практика и традиция не могут быть в
числе определяющих факторов. Мы понимаем, что своеобразная
творящим чудеса, и пусть каждый настроится на новую жизнь и
откажется от прежней запятнанной жизни. О, Флоренция, теперь я
обращаюсь к тебе. Если ты хочешь обновиться, о, новый город, и быть
новой, если твое положение изменилось, нужно, чтобы ты изменила
и образ жизни; если ты хочешь сохраниться и властвовать, ты должна
петь новую песню и найти новую форму» (Савонарола Д. Цикл
проповедей на книгу пророка Аггея. С. 6g). «...quelli ehe saranno al vostro governo
non saranno uomini carnali ehe appetischino cose temporali, ma totalmente
uomini spirituali ehe siano fuori d'ogni appetito di carne e cose temporali»
(Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini. P. 121); «...Члены вашего
правительства не должны быть плотскими людьми, стремящимися к
мирским делам, но полностью духовными, освободившимися от всякого
плотского стремления и от мирских дел» (Савонарола Д. Цикл
проповедей на книгу пророка Аггея. С. 73)· «Recédant vetera et nova nnt omnia;
ogni cosa si rinnovi e la forma ehe si piglierà farà sicuro ognuno, perche
si darà ad ognuno quello ehe è suo e ehe gli si conviene; e pero nessuno
debbe temere e tutta la città sara d'ognuno... Orsù, oggi si cominci: oggi
sia el principio del ben vivere...» (Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini.
P. 196); «..^Древнее прошло, теперь все новое. Пусть все обновится, и
новая форма правления придаст уверенность каждому, ибо каждый
получит то, что ему подобает; поэтому не следует бояться, весь город
будет принадлежать каждому, а лучше иметь все, чем часть. Давайте
начнем сегодня же, сегодня положим начало доброму жительству...»
(Савонарола Д. Цикл проповедей на книгу пророка Аггея. С. пб).
1. Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini. P. 221-222, 231-232.
2. «Cosi dico io a te, Firenze, egli è tempo ora da edifïcare di nuovo la casa
di Dio e rinnovare la tua città. <...> ...ed io ti dico ehe Dio vuole ehe tu la
faccia e bisognati rinovare la tua città e rinnovare lo stato, e ehe la città tua
sia la città di Dio e non più città di Firenze, corne ella è stata insino adesso;
ed ogni cosa consiste nella forma ehe tu piglierai, e mutata la forma sara
mutata la città» (Savonarola: Prediche italiane ai fiorentini. P. 201); «Так
и я говорю тебе, Флоренция: пришло время вновь воздвигнуть дом
Божий и обновить твой город. <...> ...Я утверждаю, что Богу это
угодно, ты должна обновить город и государство, твой город должен быть
градом Божиим, а уже не городом Флоренция, каковым он был
доселе; все дело в том, какую форму ты изберешь — изменив же форму, ты
изменишь город» (Савонарола Д. Цикл проповедей на книгу пророка
Аггея. С. н8).
I70
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
природа флорентийцев делает их город подходящим для
особого акта божественного Провидения в особый момент в
апокалиптическом времени. Человеческий ум не в состоянии
постичь, почему благодать должна выбрать совершенную природу
таким образом и в этот момент, но выбранная особая или
вторая природа описывается в политических терминах. Характер
итальянцев в целом и флорентийцев в частности таков, что
они не потерпят, чтобы над ними властвовали1. Впрочем,
согласно Савонароле, учение о совершенствующей природу
благодати должно было означать, что если людям естественно жить,
подчиняясь reggimento человеческих властителей, то свободная
жизнь — это жизнь под владычеством одной лишь благодати,
как в эпоху Третьего Завета Иоахима Флорского, на которого
он иногда ссылается8. Теперь мы видим связь между взглядами
Савонаролы на политию, в которой ни один человек не
властен над благом других, и его призывом к флорентийцам
объявить своим Правителем Христа3. «Христос, — однажды заявил
он, — был формой для всех видов правления»4. Как республику,
так и божественную монархию можно считать порядком,
исполненным благодати и стремящимся к восстановлению prima
forma. На деле их можно отождествить между собой. Так,
убежденность Фомы Аквинского, что монархия является идеальной
формой правления, оказывается совместимой с учением
Аристотеля о политии. Республика — государство, в котором
каждый посвящал себя общему благу, — была теократией; это было
царство благодати, а когда благодать воплощалась во Христе,
получалось именно то, что Аристотель называл совершенной
монархией, — правление одного человека, который
настолько же выше других людей, насколько сами они выше зверей5.
Таким образом вторичная природа флорентийцев
подготавливала почву для собственного вытеснения, для восстановления
подлинной человеческой природы как кульминации великой
цепи бытия и для исполнения городом своего мессианского
1. См., например, «Trattato...» (I, 3).
2. Weinstein D. Savonarola and Florence. P. 146 (прим. 30), 175-177.
3· Edizione nazionale délie opere di Girolamo Savonarola. Vol. XI. Prediche
sopra Aggeo con il Trattato... P. 409-428 (проповедь от 28 декабря 1494);
Weinstein D. Savonarola and Florence. P. 294-295.
4· Савонарола Д. Цикл проповедей на книгу пророка Аггея. С. 72 («Cristo
fu la forma di tutti e' reggimenti...», см.: Savonarola: Prediche italiane ai
fiorentini. P. 119). Ср.: Edizione nazionale délie opère di Girolamo Savonarola.
Vol. XI. Prediche sopra Aggeo con il Trattato... P. 128.
5· Аристотель. Политика. Ill, XIII, 13-14; XVII, 2-3, 5-8.
171
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
предназначения в аристотелевском reformatio. Так в сознании
Савонаролы сочетались крайности обычая и благодати, время
секулярной практики и момент апокалиптического искупления.
Теперь мы можем перейти к тому, как он использует образ
Венеции. В целом интонация его проповедей 1494 года — потом
аллюзии на Венецию встречаются реже — не указывают ни на
то, что он придавал Венеции большое значение, ни на то, что
она была важна для его слушателей. Опыт прошлого,
говорит Савонарола, свидетельствует, что у флорентийцев
никогда не было политических институтов, способных обеспечить
городу стабильность. Он также указывает, что венецианцы,
не будучи добродетельнее других, с самого начала получили
бесценный дар стабильности, и упоминает даже
институциональные формы, благодаря которым этого удалось достичь.
Поэтому флорентийцам надлежит изучить конституцию
Венеции или любого другого города и заимствовать из него то,
что им подходит, — например, модель Большого совета, —
отвергнув то, что не соответствует их особой природе и особым
потребностям, например потомственных дожей1. Это трудно
назвать мифопоэтическим языком. Возникает вопрос: какую
функцию миф о Венеции выполнял в размышлениях
Савонаролы, если оставить в стороне более обширный вопрос о его
роли в легитимации конституции Ц94 года? В чем могла
заключаться эта функция, теоретически понятно. Республика,
совершенствующая природу человека, могла восприниматься как
существующая в момент апокалиптической благодати.
Единственной полностью удовлетворительной альтернативой было
стремление рассматривать ее как явление вневременное,
существующее как платоновская идея и не подверженное влиянию
каких-либо земных перемен. Представления Полибия о
равновесии, в котором все формы человеческого знания и
добродетели сосуществовали в совершенной гармонии,
соответствовали этому почти утопическому требованию, и в «венецианском
мифе», как мы еще увидим, есть элемент платонизма. Однако
граждане Флоренции могли лишь с насмешкой утверждать, что
Венеция наделена единственной в своем роде добродетелью,
I. «...resecando рего qualche cosa di quelle ehe non sono a proposito, ne al
bisogno nostro. Come è quella del duce» (Savonarola: Prediche italiane ai fio-
rentini. P. 195); «Полагаю, что ваше правление не лучше, чем у
венецианцев, поэтому берите пример с них, устраняя то, что вам не подходит,
например, должность дожей» (Савонарола Д. Цикл проповедей на книгу
пророка Аггея. С. нб). Ср.: Gilbert F. The Venetian Constitution. P. 478-482.
172
ФОРТУНА, ВЕНЕЦИЯ И АПОКАЛИПСИС
а его собственный город — нет. Для Савонаролы было тем
более немыслимо признать Венецию центром своей картины
мира, так как она изображала момент избрания и строилась
на том, что Флоренция — избранный сосуд для некоего
божественного и апокалиптического преобразования универсума.
Согласиться, что венецианская стабильность является чем-то
большим, чем делом случая и опыта, значило признать, что
Венеция так же избрана и свята, как и Флоренция. Помимо
прочего, венецианцы не вели себя так, как если бы они
имели представление о том, что тоже избраны. В 1494 Г°ДУ именно
Флоренция исполнилась мессианского вдохновения, а не
Венеция, в тот год или в какой-либо другой. В мифе о Венеции
стабильность рисовалась как плод искусности и хитроумия, но
никак не благодати. Поэтому Савонарола делал акцент на
добродетелях, которые флорентийцы должны развивать в себе,
дабы стать достойными благодати и избранничества, а не на
формальных установлениях, которые они могут заимствовать
или скопировать, чтобы обеспечить своей политии
стабильность. И все же эти добродетели в значительной мере были
социальными и гражданскими, способствующими
политической стабильности — которая сама по себе являлась знаком
благодати. Именно их, при условии, чтобы ни одна
добродетель не превосходила прочие, должна была поощрять
смешанная конституция, подобная той, что оказалась заключена
в венецианском мифе.
Тем не менее революция 1494 гоДа> в которой Савонарола
сыграл ведущую роль, стала решающим моментом в
утверждении образа Венеции как совершенного сочетания всех трех
форм правления. Причины тому следует искать в направлении
политических дискуссий после поражения и гибели
Савонаролы. Восстановить республику, которой Флоренции никогда
не удавалось быть, — сделать Флоренцию республикой более
стабильной, чем некогда Рим, — означало совершить нечто
доныне неслыханное. Мифы о Спарте и Венеции, двух
республиках, которым литература приписывала необычайную
долговечность, неизбежно должны были вновь выйти на первый план.
Савонарола утверждал, что перемена свершится, но он также
считал, что она не свершится без совместного действия
природы, благодати и исполненного пророчества, согласно
которому прежняя Флоренция должна погибнуть в огне и полностью
обновиться, настолько трудно было сделать конкретное
государство стабильным или возвысить его до универсальности.
173
ГЛАВА IV. ОТ БРУНИ К САВОНАРОЛЕ
Знаменитый отрывок1, где Макиавелли говорит о Савонароле
как об одном из примеров «безоружного пророка», — более того,
пророка с сомнительной репутацией, — написан в обстановке,
когда политические нововведения считались самым трудным
для человека предприятием, и в процессе обсуждения
различных личностей и средств, с помощью которых перемены
могли осуществиться. Мы приблизимся к пониманию этой
проблематики, если предположим — это в любом случае
вероятно, — что Макиавелли не просто насмехался над своим
предшественником или отмахивался от него как от глупца либо
шарлатана, но принимал его и его размышления всерьез, как
того требовали эпоха и ее сложные обстоятельства2. Атмосфера
Флоренции была пропитана апокалиптическими ожиданиями,
и Макиавелли не мог быть к этому так невосприимчив, как
ему, вероятно, хотелось это показать. Попытка провести
нововведение высшего порядка, создать справедливое и стабильное
общество, предпринималась под защитой величайших
понятий христианской мысли, таких как природа, благодать,
пророчество и обновление. Эта попытка потерпела неудачу,
следовательно, по-видимому, она оказалась неправильно задумана.
Страшный вопрос о том, что произойдет дальше, имел
огромное значение. Миф о Венеции давал единственный мыслимый
ответ, скорее в духе Платона и Полибия, нежели христианства;
но чтобы заменить благодать какой-либо добродетелью,
нужны были вольнодумцы (esprits forts).
ι. Ниже, с. 250-253·
2. Наиболее авторитетные исследования об отношениях между
Савонаролой и Макиавелли см.: Whitfield J. H. Savonarola and the Purpose
of The Prince II Whitfield J. H. Discourses on Machiavelli. Cambridge, 1969;
Weinstein D. Savonarola and Florence.
Глава V
Реставрация Медичи
А) Гвиччардини и меньшие ottimati, 1512-1516
I.
До сих пор мы утверждали, что мысль позднего
Средневековья была ограничена рамками эпистемологии конкретного
события, решения, института или традиции, определявших
средства, которыми люди того времени располагали — как они
сами считали — для истолкования существующих во времени
секулярных явлений. Эти средства были так
немногочисленны, что, как могло показаться, течение времени не поддавалось
контролю человеческого сознания: им словно бы двигала
непостижимая сила, которую верующие люди называли
Провидением, а неверующие — фортуной. С появлением гражданского
гуманизма человек мог думать, что только как гражданин, как
политическое существо, вместе со своими согражданами
участвуя в vivere civile, он может достичь полноты своей природы
и добродетели, убедиться, что его мир устроен разумно. При
этом доступные индивиду интеллектуальные средства
понимания единичного и средства контроля над временным, от
которых зависела его способность действовать так, как положено
гражданину, оказались несоразмерны предъявляемым к ним
новым требованиям. Секрет Савонаролы — прежде всего
схоласта, затем пророка и потом уже гражданина, — заключался,
по-видимому, в том, что гражданская жизнь, с его точки зрения,
предполагала определенную меру добродетели, которую могла
обеспечить только благодать, а значит, достичь ее можно было
лишь в эсхатологической ситуации исполнившихся пророчеств
и обновленного мира. Как следствие, его поражение вызвало
травматический шок в идеологическом строе флорентийской
жизни, ощущаемый и наивными, и искушенными гражданами.
Я присутствовал, когда зачитывался этот протокол
[записывал в своем дневнике Ландуччи о признании в ложных
пророчествах, которое вынудили у Савонаролы в 1498 году], и был
175
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
поражен — совершенно ошеломлен. Мое сердце наполнилось
горечью при виде того, как обрушилось столь величественное
здание, которое оказалось построенным на лжи. Флоренция
ожидала явления Нового Иерусалима, который станет
источником справедливых законов и величия и образцом
праведной жизни, она надеялась увидеть обновление церкви,
обращение неверующих и утешение праведных; и я понимал, что
все совсем наоборот, и должен был смирить себя мыслью: «In
voluntate tua Domine omnia sum posita»12.
Как могли реагировать люди более искушенные, мы увидим,
когда посмотрим на роль идей Савонаролы в мысли
теоретиков гражданской жизни. Однако уже ясно, что человек не столь
набожный по сравнению с Ландуччи мог при падении
Савонаролы решить, что всем в мире ведает Фортуна, а не Бог, и что
лишь восстановление гражданской жизни может спасти людей
от господства иррациональных сил. Раз Савонароле не удалось
основать гражданство на пророчестве, какой еще фундамент
можно найти? Распространению гражданского гуманизма
сопутствовало некоторое расширение общепринятого диапазона
политических знаний, выведение их за пределы
концептуального аппарата разума, опыта, рассудительности и веры, с
помощью которого традиция, представленная Фортескью,
противостояла вызову единичных явлений. Прежде всего, теперь
считалось, что люди в настоящем могут вести беседу с людьми
древности и непосредственно учиться у них тому, что они
делали в исторических ситуациях, с которыми те сталкивались.
Такая точка зрения могла привести или к наивной
убежденности, что история повторяется, или к все большей
изощренности исторического сознания. Но в том или другом случае она,
по-видимому, способствовала более быстрому усвоению
гражданином знания и его умению реагировать на острые
политические нужды подходящим решением. Кроме того — и это часть
той мудрости, которой следовало учиться у древних, —
существовала философия гражданской жизни Аристотеля и Поли-
бия, которую мы рассматривали в предыдущей главе. Ее
сильная сторона как конституционной теории состояла в том, что
она не столько представляла собой сопоставительный анализ
ι. «Все в воле Твоей, Господи, находится» (лат.). Парафраз стиха из
Книги Есфири 4^7·—Прим. ред.
2. Landucci L. A Florentine Diary from 1450 to 1516. London; New York, 1927.
P. 139·
176
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
институтов власти, сколько была наукой о добродетели. Она, так
сказать, предлагала способ соединить конкретные достоинства
людей, составляющих политическое общество, так, чтобы они
не претерпели порчу в силу своей единичности, а стали частью
общего стремления к универсальному благу. Соответственно,
она настойчиво побуждала внимательно относиться, с одной
стороны, к тому, какие типы и категории людей с присущими
им добродетелями и слабостями составляли политическое
сообщество, и, с другой, к способу, предложенному для
объединения их усилий. Поскольку согласие достигалось благодаря
распределению ролей при принятии решений, предлагалось
обратиться к анализу самого процесса выработки решений,
фиксации ролей и обязанностей, институционально закрепленных
или нет, на которые его можно было бы разбить, и критериев,
в соответствии с которыми их можно было установить между
людьми разных моральных типов, составляющими общество.
В основе греческой и ренессансной политической науки лежит
этическая теория в сочетании со стратегией принятия решений.
Если бы можно было воспользоваться категориями
Аристотеля для упрочения республиканского строя во Флоренции, то
наука о добродетели победила бы там, где потерпел поражение
пророк Савонарола. Она помогла бы примирить конкретное
с универсальным, отождествить политическую деятельность
с проявлением добродетели и сделать ход политических и
единичных событий понятным и поддающимся обоснованию.
Поэтому политическая мысль с момента восстановления vivere
civile в 1494 Г°ДУ все больше тяготеет к Аристотелю и во многом
представляет собой попытку установить, как в условиях
Флоренции заложить основания аристотелевской политейи (politeià).
Однако то, что эта идея так долго оставалась
привлекательной, во многом объясняется другой причиной. Альтернативой
формированию гражданского общества и установлению
республики служило царство Фортуны, ощущение
действительности, в которой нет ничего постоянного, обоснованного или
разумного: questa ci esalta, questa ci disface, senza pietà, senza legge
о ragione1. Как история флорентийцев до Ц94 года и после, так
I. См.: Machiavelli N. Capitolo di Fortuna (Макиавелли H. О Фортуне, строки
38~39): «она нас возносит, она нас поражает, она не знает ни
милосердия, ни закона или справедливости» [в русском переводе Е.М. Соло-
новича эти строки переданы так: «Не для фортуны писаны законы: /
кого-то обласкав, она потом / любимцу ставит бывшему препоны»
(Макьявелли Н. Сочинения исторические и политические. Сочинения
художественные. Письма. М., 2004. С. 6ι6).—Прим. ред.].
177
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
и концептуальный аппарат, который они применяли, пытаясь
ее понять, содействовали тому, чтобы их мысль существовала
в диалектике между двумя крайностями: между безмятежностью
республики, неподвластной порче, и мятущейся империей де-
центрированного колеса фортуны. Еще до того, как теоретики
непосредственно познакомились с текстом Полибия, они
прекрасно понимали, что цель политической науки — соединить
различные конкретные добродетели в одно универсальное
благо. Пока этого не удастся достичь, конкретные
добродетели были неустойчивы и склонны к саморазрушению. Равным
образом, необязательно читать Полибия и знать о его
циклической теории (anakuklösis), чтобы прибегнуть к образу колес
и круговорота. Их мысль была направлена на анализ
угасающих добродетелей, распадающихся политических систем,
человеческого опыта, вступающего в область непрочного,
иррационального и аморального. Одна крайность — стабильность
республики — казалась им не более увлекательной или
знакомой, чем другая, ее разрушение. Кроме того, давняя проблема,
поднятая гражданским гуманизмом, — единичность республики,
ее ограниченность в пространстве и времени и,
следовательно, ее чуждость законам окружающей ее среды — выступила со
всей отчетливостью, пугающей в свете истории самого конца
XV столетия, когда Италией все чаще управляли чуждые ей
силы, а Флоренция и Венеция, по всей видимости, утратили
контроль над своей внешней политикой. Если внутренне
республика сохраняла безмятежность, могла ли она не терять ее,
оставаясь жертвой Фортуны извне? Могла ли разница
между законами, регулирующими внутренние и внешние связи,
быть столь значительной? Если наука Аристотеля указывала
средство к пониманию первых, какого языка требовал анализ
последних? А если невозможно постичь ни те, ни другие,
разве не должны мы обратиться к риторике Фортуны? В 1512 году,
а затем снова в 1527-15З0 годах неспособность Флорентийской
республики контролировать политическую ситуацию в
Италии совпала с неудачной попыткой привести в равновесие ее
внутренние гражданские отношения и обернулась
угасанием vivere civile и восстановлением власти Медичи — во втором
случае уже окончательно. Каждая из этих неудач, как можно
показать — отчасти благодаря появлению на сцене
необыкновенно одаренных людей, — спровоцировала сложный кризис
мысли. На примере каждого из кризисов можно изучить, что
происходило в сознании людей того времени, пытавшихся
178
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
применить эпистемологию конкретного, этико-политические
категории аристотелевского гражданского общества и
совершенно новую терминологию, которую разрабатывал ряд
теоретиков, стремясь осмыслить политическое поведение в его
наименее обоснованных и разумных проявлениях. Эпоха
Макиавелли и Гвиччардини показывает нам мысль, направленную
на учреждение и укрепление гражданской жизни,
находящейся в близком и очень напряженном контакте со стремлением
постичь быстрые и непредсказуемые перемены.
II.
В I494"~I512 годах внутренние проблемы Флорентийской
республики возникали в связи с разграничением функций
различных политических групп. Феликс Гилберт блестяще описал1
институциональную структуру этого режима и понятийный
словарь, использовавшийся ее участниками, — не только в
теоретических трудах, но и в речах, резолюциях, официальных
документах. По-видимому, на основании его анализа можно
сделать следующие выводы. Важнейшим шагом,
предпринятым после бегства Медичи в 1494 году, стало усвоение того,
что в общем считается венецианской конституцией (il governo
veneziano или alla viniziana). Во Флоренции она с практической
точки зрения включала в себя Большой совет, Синьорию и гон-
фалоньера, а в идеале предполагала совершенную гармонию
многих, некоторых и одного, которой, как предполагалось,
достигла Венеция. Однако на деле в конституции Ц94 года
ощутимый перевес оказался на стороне многих. Все сходились во
мнении, что важнейшим учреждением был Совет,
участвовать в котором могло неопределенно большое число граждан
(хотя, конечно, далеко не все), и что существование Совета
придавало этому режиму характер governo largo*. Порой
указывалось, что к участию в венецианском Большом совете
изданным еще двести лет назад указом допускалось лишь
некоторое число семейств и что такая система, очевидно, позволяла
назвать Венецию governo stretto3. Чаще всего на это возражали,
что ограничение членства в Совете лишь довершило
формирование венецианского гражданского коллектива, а не
сделало политические права привилегией узкой группы граждан.
ι. Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini (chap. I, 2).
2. Широкое правительство (итпал.).— Прим. ред.
3· Узкое правительство (итпал.).—Прим. ред.
179
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
Те, кто оказался вне Совета и гражданского общества, были
либо чужестранцами, либо людьми низкого и рабского звания,
по определению неспособными к гражданской жизни1. Этот
спор раскрывает одну из главных двусмысленностей
категоризации Аристотеля и обнаруживает ряд интересных
обстоятельств. Одним из них можно считать использование термина
governo largo как антонима governo stretto: первый не
подразумевал конституции, которая прямо открывала бы гражданство
для всех или даже для popolo, то есть «многих», как для
вполне определенной социальной группы. Конституция Ц94 года
не делала этого хода, но скорее означала такую конституцию,
которая, отказываясь ограничить гражданский коллектив
строго определенной (stretto) группой жителей, признает участие
в гражданской жизни благом, чем-то, к чему люди стремятся,
что развивает их лучшие качества и что желательно
распространить на как можно большее число индивидов. Governo,
слово, по смыслу наиболее близкое нашему constitution, в словаре
флорентийцев является почти синонимом modo di vivere или
просто vivere2. Как можно заметить, словосочетание vivere civile
всегда указывает на governo largo, а не stretto. Признавать, что
участие в гражданской жизни само по себе благо, означало
соглашаться, что оно должно получить широкое
распространение. Впрочем, далеко не все полагали высшим и необходимым
благом участие возможно большего количества людей в
принятии общественно значимых решений. Эта проблема также
могла обсуждаться на языке Аристотеля.
Важно отметить и стремление приверженцев governo largo
сохранить венецианскую модель, отрицая при этом, что
Венеция является замкнутой аристократией. Одним из
значимых моментов в истории флорентийских идей было принятое
в 1494 Г°ДУ решение под видом подражания венецианской
конституции расширить возможности участия в Большом совете3.
Мы не знаем, кто именно принял его и о чем они при этом
думали, но его следствием стало то, что для большинства
авторов Венеция осталась символом конституции с элементом
народного участия, которое основывалось на гармонии между
ι. Gilbert F. The Venetian Constitution. P. 488; о governo largo и stretto см.: Idem.
Machiavelli and Guicciardini. P. 60.
2. «Образ жизни» или просто «жизни» (итал.), часть выражение modo di
vivere в политических текстах рубежа XV и XVI веков означает также
«общественное устройство». — Прим. ред.
3- Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini. P. 9-11.
180
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
участниками из элиты и неэлиты, некоторыми и многими,
а также, возможно, одним. Наиболее настойчиво подчеркивают
достоинства венецианской модели те мыслители, которые
полагают, что otttmati — как узкий круг влиятельных
флорентийских семейств, считавших себя частью элиты и
отождествлявшихся с немногими в аристотелевской классификации, — не
могут выполнять свою прирожденную функцию лидеров или
развивать добродетели, с ней связанные, если наравне с ними
в управлении не участвуют те, кто не принадлежит к элите,
большинство, которое они могли вести за собой. Таким
образом, otttmati предстают или сами видят себя в роли
гражданской аристократии. Их качества существуют и проявляются
в отношениях otttmati с другими гражданами.
Может возникнуть вопрос: не было ли принятие в Ц94 Г°ДУ
«венецианских» установлений делом рук otttmati, которые сочли,
что governo largo подойдет им больше, чем stretto? Спор о
подлинной природе Венеции и о наиболее подходящей для
Флоренции форме правления происходил на фоне усугубляющейся
неспособности Большого совета управлять так, чтобы это
удовлетворяло otttmati как класс. Секрет венецианского правления
заключался в отношениях между Большим советом и
совокупностью должностных лиц и комитетов, в сумме известных как
Сенат1. Именно в сложном механизме обсуждений заключалась
политическая инициатива Сената. Однако во Флоренции
аналогичные отношения — между Большим советом и группой
исполнительных комитетов во главе с Синьорией — работали не
так хорошо, как в Венеции, и главным источником конфликта
стало острое чувство своей обособленности, присущее тем, кто
принадлежал к otttmati. Они не доверяли Совету, считая его
громоздким собранием самонадеянного popolo. Синьория или
другие исполнительные органы — члены которых избирались,
обычно на короткие сроки, посредством жеребьевки и
проходивших в Совете избирательных процедур — не казались им
эффективными для осуществления принципа аристократии,
который otttmati, как они полагали, олицетворяли. Семейства,
к которым они принадлежали, в целом в I434_I494 годах
поддерживали правление Медичи. Они считали, что режим
Медичи опирался на их помощь и пал лишь тогда, когда
последний потомок Козимо Старшего утратил их поддержку из-за
I. Об использовании этой модели флорентийцами см.: Idem. The Venetian
Constitution. P. 485.
181
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
злоупотребления властью и дурных манер. Поэтому ottimati
ощущали, что оказались вовлечены в опасный эксперимент,
сотрудничая с popolo, и утешали себя лишь тем, что это
сотрудничество будет строиться по венецианскому образцу. Теперь,
когда трения между представителями элиты и теми, кто к ней
не принадлежал, усилились, а Большой совет и Синьория все
более явно обнаруживали неспособность к ведению внешних
дел республики, ottimati все чаще жаловались, что обещание
осуществлять правление по венецианской модели
выполнялось не должным образом.
Феликс Гилберт изучил как институциональные, так и
идеологические программы движения аристократов против
конституции 1494 года. Одной из главных фигур идеологического
контрнаступления можно назвать Бернардо Ручеллаи1, который
через свою жену приходился родственником Медичи. Он
представлял всех, кто поддерживал переворот Ц94 года не
столько потому, что им не нравилась власть Медичи, сколько
оттого, что Пьеро, как они считали, оказался несостоятельным
политиком. Прежний режим казался им формой
сотрудничества представителя династии Медичи с узким кругом ottimati
на правах первого среди равных. Оставшись без Медичи, они
приступили к организации правления самого узкого круга.
В 1500-1502 годах (вероятно) Бернардо Ручеллаи стоял в центре
группы аристократов-интеллектуалов, собиравшихся в Садах
Оричеллари, чтобы критиковать режим, используя
гуманистический образ мысли. Последний включал в себя идеализацию
Лоренцо де Медичи («Великолепного») как лидера, лучше всех
умевшего работать в союзе с аристократическими семействами,
переоценку Венеции как замкнутой аристократии,
предполагающую, что подобное governo stretto лучше всего отвечает нуждам
Флоренции, и систематическое исследование римской истории
с целью убедиться, что из прошлого извлечены правильные
уроки, способные помочь править в настоящем. Гилберт
видит в этой программе решающий разрыв с прежним стилем
мышления и даже называет ее «рождением современной
политической мысли». Раньше, утверждает он, любое
предложение, связанное с институциональной реформой во Флоренции,
надлежало формулировать как возвращение к тому или иному
порядку вещей, существовавшему в отдаленном и мифическом
I. О характере политической мысли Ручеллаи см: Gilbert F. Machiavelli
and Guicciardini. P. 80—81, 112-113, а также: Idem. Bernardo Rucellai and
the Orti Oricellari.
182
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
прошлом. Поскольку группа Ручеллаи стремилась к чему-то
до той поры не виданному — сохранению некоторых черт
неофициального и неоднозначного с точки зрения легитимности
режима предшествующего столетия, — они должны были
прибегнуть к иным способам истолкования и стали первыми, кто
обратился к историческому прошлому в поисках принципов
правления. Противопоставление старых и новых видов
аргументации может показаться слегка натянутым, но следование
венецианской модели в Ц94 Г°ДУ и ее возрастающая значимость
свидетельствуют о потребности в новых методах обоснования.
Очевидно, Ручеллаи и аристократы, критически
анализировавшие форму правления, установившуюся в Ц94 году,
занимались двумя вещами. С одной стороны, речь идет об усиленном
сравнительном изучении флорентийских, венецианских и
римских институтов власти, а с другой — о разработке
аристотелевских категорий гражданства, попытках определить, из каких
частей состояло политическое общество и какие функции
соответствовали каждой из них. Критика Большого совета, как
мы увидим, почти целиком основана на аристотелевской
теории разграничения функций.
В 1502 году Бернардо Ручеллаи испытал политическое
разочарование. Ажитация, распространению которой он
содействовал, вела если не к полной отмене Совета, то по крайней мере
к передаче большей части его полномочий сенату, состоящему
из ведущих граждан, которые бы избирались пожизненно. В
результате при обстоятельствах, остающихся не вполне ясными,
вместо назначения главы республики был установлен
пожизненный гонфалоньерат — который немедленно получил Пьеро
Содерини, покровитель Макиавелли. Эта мера, явно
имитирующая венецианский институт дожей, была принята, скорее
всего, в надежде, что отношения между немногими и
многими упрочатся, если к ним добавить правильно действующего
одного, — что Савонарола считал неподходящим для условий
Флоренции. Ручеллаи, изначально способствовавший этому,
говорит1, что не мог поддерживать такое начинание, потому
что оно не сопровождалось полной отменой Совета. Однако по
мнению большинства его друзей, следовало опробовать трех-
частную систему, даже в отсутствие эффективного сената.
Таким образом, можно сделать вывод, что значительная часть
I. Ibid. Р. ю6-юд, приведена цитата из «De urbe Roma» («О городе Рим»)
Бернардо Ручеллаи.
18з
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
ottirnati по-прежнему была заинтересована в том, чтобы найти
место аристократии в системе vivere civile. И следующий этап
развития флорентийской политической мысли представляет
собой попытку определить политейю (politeia) с
аристократической точки зрения.
Первый автор, на котором нам следует подробно
остановиться,— это Франческо Гвиччардини (1483-154°)? младший
современник Макиавелли. Гвиччрадини создал свои работы, когда
важнейшие политические труды Макиавелли еще не были
написаны, и в конечном счете по общему (в том числе и
самого Макиавелли) мнению, он являлся единственным
политическим умом сопоставимых с ним масштабов. Сын «серого»,
то есть умеренного, оптимата, бывшего сторонником
Савонаролы, этот молодой и чрезвычайно честолюбивый человек, как
нам известно, около 1508 года приступил к написанию истории
Флоренции под властью Медичи1. Концепция Гвиччардини
отличается от восходящей к Садам Оричеллари линии
мысли отчетливой враждебностью к Лоренцо. И Феликс Гилберт,
и Витторио Де Капрариис2, два наиболее значительных
современных специалиста по Гвиччардини, отмечали, что в более
поздних размышлениях и исторических работах он постепенно
пересмотрел свое отношение3. Важно, что осуждать Лоренцо,
подобно молодому Гвиччардини, или идеализировать его,
подобно Ручеллаи и Гвиччардини зрелому, — это две стороны одной
медали. Ottirnati восхищались Медичи, когда тот сотрудничал
с ними, и ненавидели его, когда он относился к ним как к
низшим. Критический или дружественный взгляд на Лоренцо мог
быть обусловлен лишь семейной традицией и риторическим
удобством. Сила аргументации Гвиччардини и одного-двух его
единомышленников заключалась в их усилиях преодолеть эту
двойственность позиции оптиматов и сделать соответствующие
выводы. Как мы увидим, проблема в конечном счете состояла
в том, будут ли ottirnati по-прежнему называть себя
гражданами или примирятся с ролью слуг чего-то, что не похоже ни
на vivere civile, ни на governo stretto.
Однако обо всем этом мало говорится в первом
трактате Гвиччардини о политике, так называемом «Рассуждении
ι. Английский перевод, выполненный Марио Доманди: Guicciardini F. The
History of Florence. New York; Evanston; London, 1970. Биографию
Гвиччардини см.: Ridolfi R. Life of Francesco Guicciardini. London, 1967.
2. De Caprariis V. Francesco Guicciardini: dalla politica alia storia. Bari, 1950.
3. Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini. P. 106-123.
184
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
в Логроньо» (Discorso di Logrogno), которое в современных
изданиях его сочинений обычно публикуется под заголовком
«О способе устроить народное правление»1. Гвиччардини
написал его в Испании, куда отправился как флорентийский
посол при дворе Фердинанда Арагонского, и, вероятно, не
завершил2, услышав о падении режима Содерини, вскоре после
чего в 1512 году вновь установилась власть Медичи. Таким
образом, создание этой работы совпадает с прекращением попыток
ottimati приспособить восстановленную республику к своим
целям. Важно, что последней практической мерой, предпринятой
ими, прежде чем Медичи окончательно утвердились у власти,
было учреждение сената, перенявшего почти все функции
Большого совета, кроме определения гонфалоньера, который
избирался уже не на всю жизнь, а на год3. На этом этапе проблема
еще осознавалась в терминах примирения господствующего
положения аристократов с принципом vivere civile. Именно ее
теоретическому анализу было посвящено «Рассуждение в
Логроньо», на котором мы можем остановиться подробнее ввиду
значимости его понятийного аппарата и приведенных в нем
конкретных рекомендаций.
Гвиччардини начинает с заявления, что vivere civile
оказалась в серьезном беспорядке: люди без различия стремятся
получить все почести и занять все посты, а также вмешиваться
в общественные дела любой степени важности4. С точки зрения
1. Guicciardini F. Del modo di ordinäre il governo popolare // Guicciardini F.
Dialogo e discorsi del Reggimento di Firenze / A cura di R. Palmarocchi.
Bari, 1932. P. 218-259.
2. Так сказано в конце, но, возможно, это лишь литературный прием.
3- Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini. P. 76-77.
4. «...el vivere nostro civile è molto difforme da uno ordinato vivere di una
buona republica, cosi nelle cose ehe concernono la forma del governo, come
nelli altri costumi e modi nostri: una amministrazione ehe porta pericolo о di
non diventare tirannide, о di non declinare in una dissoluzione populäre;
una licenzia universale di fare male con poco respetto e timoré delle legge
e magistrati; non essere aperta via agli uomini virtuosi e valenti di mostrare
ed esercitare la virtù loro, non proposti premi a quegli ehe facessino buone
opera per la republica; una ambizione universale in ognuno a tutti li onori,
ed una presunzione di volersi ingerire in tutte le cose publiche di qualunque
importanzia; gli animi degli uomini effeminati ed enervati e volti a uno vivere
delicato e, respetto alle faculta nostre, suntuoso; poco amore della gloria
ed onore vero, assai alle ricchezze e danari...» (Guicciardini F. Del modo di
ordinäre il governo popolare. P. 218-219); «Наша гражданская жизнь
совсем не похожа на упорядоченную жизнь хорошей республики, как
в том, что касается формы правления, так и в других наших
традициях и обычаях: управление городом рискует или превратиться
в тиранию, или достичь полного упадка; налицо вседозволенность
185
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
классической теории, к которой Гвиччардини не прибегает, но
которую тем не менее держит в уме, индивиды в социуме
стремятся к благу и добродетели беспорядочно, одолеваемые
хаотическими желаниями. Если этот беспорядок, как он утверждает,
носит общий характер и если желания претерпевают
платоническую деградацию, из стремления к гражданской чести
превращаясь в желание частного богатства, то нужна
соответствующая обстоятельствам универсальная реформа человеческого
поведения. Мы задаемся вопросом: какие интеллектуальные
средства нужны для проведения такой реформы? Здесь
Гвиччардини обращается к аналогии с другими человеческими
искусствами, в частности врачеванием — изобретением, которое
можно использовать многими способами, почти всегда
заслуживающими тщательного изучения. Если человеку, который
готовит тесто для макарон, говорит он, не удалось его сделать
с первого раза, то он вновь соединяет все ингредиенты и
перемешивает их. Если врачи обнаруживают в организме столь
много недугов, что не могут действовать сообща, то они пытаются
с помощью лекарств привести тело в новое состояние, что, хотя
и трудно, но не невозможно1. Однако аналогии — зыбкая почва:
совершать недобрые поступки, не уважая и не боясь законов и
судебной власти; добродетельным и достойным людям закрыт путь к тому,
чтобы показать свои способности и проявить свои лучшие качества;
те, кто действует во благо республики, остаются без награды; каждый
стремится заполучить все почести и считает себя вправе лезть во все
государственные дела любой важности; люди теряют мужество духа,
слабеют и тяготеют к изнеженной и слишком роскошной жизни, не
соответствующей нашим средствам; истинные слава и почести мало
кого влекут, в отличие от богатства, от денег...».
I. «Non veggo già ehe una legge о dua particulare possino fare frutto, ma saria
necessario fare uno cumulo di ogni cosa e ridurre tutta questa massa in una
materia, e di poi riformarla e ridistinguerla tutta a uso di chi fa cose da
mangiare di pasta: ehe se la prima bozza non viene bene, fa uno monte di tutto
e riducela in una forma nuova; a esemplo ancora de' buoni medici, e' quali
quando truovono uno corpo pieno di molte malattie ed in modo ehe non Ιο
possono reggere con una intenzione particulare, attendono con medicine a
resolvere tutte le male cause e fare una disposizione nuova di tutto el corpo, il
ehe se bene è difficile ed ha bisogno di buono medico, pure non è impossibile»
(Guicciardini F. Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 219); «Мне
представляется, что один или два закона не могут дать заметных плодов,
вместо этого было бы необходимо собрать все вместе и перемешать,
превратив в однородную массу, а затем снова распределить ее и
придать ей форму, подобно тому как действуют при приготовлении
макарон: если с первой попытки они не получаются, все снова лепят в один
ком и потом из него делают отдельные формы; можно также привести
в качестве примера хороших врачей, которые, имея дело с телом,
пораженным сразу множеством болезней, из-за чего его нельзя вылечить
чем-то одним, стремятся бороться со всеми недугами сразу и пытаются
186
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
человеческое тело — это не смесь муки и воды, а разум,
который единовременно может охватить все сознательные
стремления человека к благу, следовало бы назвать сверхчеловеческим,
если не божественным. В одном месте Гвиччардини признает,
что процессы, подобные тем, что он описывает, управляются
обстоятельствами, которые невозможно контролировать.
Врачам легче полностью перестроить организм молодого
пациента, а Флоренция уже немолода1. Он не впадает в отчаяние,
но соглашается, что поправка городского здоровья
потребует большего, чем общественность готова предпринять. Город
уже male abituata, приучен к дурному2: мы можем понять это так,
что «вторичная природа» обычая и традиции привела к
приспособлению человеческой жизни к морально несовершенным
условиям, которые представляют собой политический аналог
«ветхого Адама», но отныне (после Савонаролы) не влекут за
собой никакого перерождения человека в огне. Если наша
последняя интерпретация верна, мы выявили характерную черту,
сближающую Гвиччардини с Савонаролой, как отмечали
некоторые исследователи. Впрочем, прямым текстом он говорит
лишь то, что мы должны довольствоваться посильным.
Следует заложить правильное основание (dare principio) городской
жизни. Ход времени с течением лет способен совершить даже
большее, чем то, на что мы вначале могли надеяться3. Однако
остается неясным, какова природа знания, опираясь на которое
люди, не наделенные сверхчеловеческой мудростью
законодателей, смогут по поручению законодателя заложить такое начало.
Интересно, что первая проблема, которую рассматривает
Гвиччардини, — это вопрос об использовании гражданского или
наемного войска. Написание «Рассуждения в Логроньо» почти
совпало с трагической кульминацией попыток Макиавелли
привести тело в новое состояние — задача очень сложная и
посильная лишь лучшим врачам, но не невозможная». См. выше,.в главе IV,
прим. 5 на с. 169, слова Савонаролы о Христе как о враче.
1. Ibid.
2. Ibid. P. 220.
3. Ibid. «Ε non sarebbe poco conduire la città di luogo tanto infïrmo, almeno
a una disposizione mediocre, anzi saria assai darli principio, perché lo essere
una volta aperta la via ed el processo del tempo farebbono forse cogli anni
maggiore successo ehe non paressi potersi sperare di uno principio taie»;
«И было бы уже немалым достижением вывести город из такого
ослабленного состояния и привести его хотя бы в состояние
посредственное; более того, дать ему хорошее начало — это уже очень много,
поскольку перед ним открылся бы правильный путь и ход времени
привел бы по прошествии нескольких лет к результатам,
превосходящим все надежды, возлагаемые на это начало».
ι87
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
и Содерини защитить республику, организовав народное
ополчение,— опыт, который впоследствии побудил Макиавелли
все более тесно связывать свои теории военной организации
с концепцией гражданского общества и гражданской
добродетели. Известно также, что отношения между военной и
политической структурами в Риме, Венеции и других местах широко
обсуждалось в Садах Оричеллари как до, так и после 1512 года.
В своем «Рассуждении» Гвиччардини разделяет недоверие
Макиавелли к наемникам в целом и поддерживает его довод
относительно того, что их придется содержать и после войны,
тогда как граждан можно распустить и отправить домой. Кроме
того, гражданам легче найти замену после поражения. Затем
он высказывает еще одну мысль — которая окажется
важнейшей для теории Макиавелли, — так как граждане будут
сражаться лишь в том случае, если в городе хороший порядок, то
обеспечить себя армией, состоящей из граждан, означает взять
обязательство наделить себя хорошими законами и una Ьиопа
giustizia, справедливым правосудием, чем-то, что проще
предписывать, чем поддерживать, как он позже подробно покажет1.
Хотя на этом утверждении основана его работа, Гвиччардини,
что типично для него, явно считает: у армии есть как
внутренняя, так и внешняя функция. Армия существует, чтобы
расширять, равно как и защищать власть республики, а первая
сфера действий не руководствовалась ни законом, ни
справедливостью. Он высказывает здесь поразительную, но часто
неверно понимаемую мысль, что политическая власть — это лишь
акт насилия, совершаемый над теми, кто ей подчинен, иногда
сглаженный каким-то внешним оправданием, но лишь затем,
чтобы подкрепить его вооруженной силой, которая должна
I. «Né è el dare Parme a' sua cittadini cosa aliéna da uno vivere di republica
e populäre, perché quando vi si da una giustizia buona ed ordinate legge, quelle
arme non si adoperano in pernizia ma in utilità della patria» (Guicciardini F.
Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 221); «Решение дать оружие
своим гражданам никак не противоречит жизни республики и
народа, поскольку при наличии справедливого правосудия и порядка
в законах это оружие будет использовано не во вред, а во благо
отечества». «È vero ehe, accio ehe la città ed el paese non si empressi di fazione
e discordie, sarebbe necessario tenerli con una buona giustizia, la quale nelle
legge è facile a ordinäre, ma è difficile nelle osservazione, corne di sotto si
dira piu largamente» (Ibid. P. 223); «Поистину, чтобы город и государство
не наполнились раздорами и не разделились на враждующие
группировки, нужно было бы поддерживать в них справедливое правосудие,
которое несложно осуществить на этапе разработки законов, но
становится непростой задачей, когда дело доходит до их соблюдения, как
будет подробнее сказано ниже».
188
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
быть своей, а не чужой1. Слова, употребляемые здесь для
обозначения политической власти (ίο stato e Vimperio\ очевидно,
относятся к внешней власти, власти города над теми, кто не
принадлежит к нему, как в случае попытки флорентийцев
установить господство над упорно сопротивляющимися им
пизанцами. Не имеется в виду, что власть флорентийцев над
флорентийцами — это разновидность насилия, а
подразумевается, что она является или может являться тем
единственным видом власти, к которому это определение не относится*.
И все же между внутренней сферой, где возможна
справедливость, и внешней, где не может быть ничего, кроме насилия,
существует тесная связь. Состоящая из граждан армия,
которая требует una Ьиопа giustizia в городе, — это лучшее средство
сохранить свои завоевания, единственная альтернатива тому,
чтобы полагаться на чужую власть в аморальном мире
внешних связей. Венецианцы, полагаясь на condottiere*, чуть было
не утратили свою liberté4. Это слово здесь, как часто в ренес-
сансной Италии, означает независимость города от внешнего
контроля. Однако между внешней и внутренней зонами
существует столь тесная связь, что Гвиччардини тут же5 переходит
1. «Non è altro lo stato e lo imperio ehe una violenzia sopra e' sudditi palliata
in alcuni con qualche titulo di onestà; volerlo conservare sanza arme e sanza
forze proprie ma collo aiuto di altri, non è altro ehe volere fare uno esercizio
sanza li instrumenti ehe a quello mestiere si appartengono. In somma male
si puo prevalere sopra altri, male si puo difendere dalli inimici chi non vive
armato» (Ibid. P. 222); «Государство и власть — не что иное, как насилие
над подданными, иногда замаскированное с помощью благородных
названий; стремление его поддерживать в порядке без опоры на
собственное ополчение, полагаясь на помощь со стороны — не что иное,
как попытка заниматься каким-либо ремеслом без инструментов,
необходимых для этого рода деятельности. Подводя итог: кто живет
невооруженным, тот вряд ли сможет одержать победу над другими и
защитить себя от врагов».
2. Guicciardini F. Ricordi / Edizione critica a cura di R. Spongano. Firenze, 1951.
P. 57: «Non si puo tenere stati secondo conscienza, perché — chi considéra
la origine loro — tutti sono violenti, da quelli delle republiche nella patria
propria in fuora, e non altrove...»; «Безупречное с точки зрения
морали государство невозможно, потому что — если принять во внимание
происхождение государств — они все основаны на насилии; это
относится и к республикам, которые стремятся установить свою власть за
пределами собственной территории».
3- Кондотьеры, предводители наемных отрядов (итпал).—Прим. ред.
4· Guicciardini F. Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 222.
5· Сразу же после отрывка, приведенного выше, в прим. 238, следует: «...ρίύ
largamente. Ordinato questo capo, ρίύ importante di tutti, non mérita poco
considerazione el governo nostro di drento»; «...более подробно. Мы
разобрались с самой важной темой, а теперь перейдем к нашему
внутреннему управлению — вопросу, заслуживающему пристального внимания».
189
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
к рассуждениям о свободе в контексте governo di drento1 или
отношений между гражданами внутри города.
По словам Гвиччардини, нет необходимости размышлять,
какая форма правления является наиболее совершенной — власть
одного, некоторых или многих. Ясно, что свобода естественна
для Флоренции и подобает ей, а флорентийцы наделены ею
с рождения, унаследовали ее от предков и, следовательно,
обязаны защищать ее ценой своей жизни8. Его язык заставляет
вспомнить отказ Савонаролы от идеальной модели Фомы Ак-
винского в пользу конкретных особенностей флорентийского
характера, благодаря которым те становятся подходящими
орудиями возрождения. С учетом того, что нам известно о
настроениях Гвиччардини, можно усмотреть здесь консервативный
оттенок, напоминающий оправдание революции ι688 года у Бёр-
ка, ибо свобода — это унаследованная собственность (inherited
trust), которую мы должны передать в целости и сохранности.
Вспомним известную пословицу в духе скептического
традиционализма: Spartam nactus es> hanc exorna — «Тебе досталась
Спарта, ее и украшай». Но в «Рассуждении в Логроньо»
Гвиччардини определяет свободу в терминах, которые обеспечивают его
гибким инструментом политического анализа и в то же время
полностью включают в себя универсализм традиции
Аристотеля и гражданского гуманизма. Свобода, по его словам,
заключается в верховенстве публичных законов и решений над
желаниями отдельных людей3. Таким образом, это состояние,
в котором моя индивидуальная воля не подчинена воле какого-
либо другого человека или группы. Никто другой не может
связать меня и заставить идти, куда я не хочу. Впрочем, сделать
это могут законы и постановления города. В ренессансном, как
1. Внутреннее управление (итпал.).— Прим. ред.
2. «...né accade disputare quale sia migliore amministrazione о di uno о di pochi
о di molti, perché la libertà è propria e naturale délia città nostra. In quella
sono vivuti e' passati nostri, in quella siamo nutriti noi; né solo ci è suto dato
dalli antichi nostri per ricordo ehe noi viviamo con quella volentieri, ma ehe
bisognando la defendiamo e colle faculta e colla vita propria» (Guicciardini F.
Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 223); «...нет смысла
обсуждать, что лучше — власть ли одного, немногих или многих, потому
что свобода присуща нашему городу изначально. Свободными были
наши предки, в свободе были воспитаны и мы; и наша любовь к
свободе — это не просто дань памяти предков, при необходимости мы
защищаем ее всеми силами и готовы за нее отдать жизнь».
3- Ibid, сразу после слов: «Né è altro la libertà ehe uno prevalere le legge ed
ordini publici allô appetito delli uomini particulari»; «Свобода — это не что
иное, как преобладание законов и общественного порядка над
интересами отдельных людей».
ΙΟ,Ο
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-2526
и греческом полисе, общество могло тщательно и строго
контролировать частную жизнь. В несвободном состоянии важно не
то, что меня может что-либо связывать, но то, что меня может
связывать чья-то конкретная воля, преследующая приватный
интерес (appetito). В этом случае я приближаюсь к состоянию,
которое Аристотель определял как рабское, когда человек
становится орудием достижения чужих целей, которые
становятся тем более низкими, что осуществляются за счет власти над
рабом (ведь это может относиться лишь к частным интересам,
а не к стремлению к универсальному благу). Последнего можно
достичь лишь путем объединения с равными,
происходящего в момент отправления публичной власти. Рабовладельцы
свободны лишь в своих отношениях друг с другом, поскольку
только здесь следует искать публичную власть.
Таким образом, проблема свободы, к решению которой
флорентийцев обязывало их гражданское наследие (также
составлявшее их вторую природу или характер), — это вопрос о
формировании гражданского коллектива, способного отправлять
публичную власть. Свободе противостоит такое положение дел,
когда власть, которая должна быть публичной, на деле
принадлежит отдельным людям. По мере того как Гвиччардини
раскрывает первые следствия из определения свободы, понятой
как независимость от частного, он показывает нам конкретное
значение, которое имела эта теория во флорентийских
условиях после Ц94 года. Законы, говорит он, сами себя в
исполнение не приводят; делать это должны магистраты. Если мы
хотим подчиняться законам, а не людям, то первое требование
состоит в том, чтобы магистраты не были обязаны своей
властью отдельным людям, а их воля при осуществлении власти
не зависела от желаний отдельных людей1. За этими словами
скрывается очень сильная отсылка к условиям, в которых
I. Ibid, сразу после слов: «...е perché le legge non hanno vita né si possono fare
osservare da se medesimo, ma hanno bisogno di ministri, cioè de' magistri
ehe le faccino eseguire, è necessario a volere vivere sotto le leggey non sotto
particulari, ehe e' magistrati non abbino a temere alcuno particulare, non
a ricognoscere Ponore loro da uno о da pochi, acciô ehe non sieno constretti
a governare la città secondo la volunta di altri»; «...и поскольку законы не
живут сами по себе и не могут исполняться сами собой, а нуждаются
в исполнителях, то есть в магистратах, которые будут следить за их
исполнением, необходимо стремиться жить в подчинении законам, а не
отдельным людям, и чтобы магистраты не боялись вмешательства
никаких частных лиц, чтобы никакое лицо или группа лиц не могли
оспорить их компетенции — все это для того, чтобы магистраты не
были вынуждены управлять городом, руководствуясь чужой волей».
191
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
властвовали Медичи до 1494 г°Да> когда главы этого семейства
управляли городом, неофициально влияя как на выборы
должностных лиц, так, соответственно, и на исполнение ими своих
обязанностей. Именно к этой системе ottimati в 1512 году все еще
относились очень неоднозначно: с одной стороны, она
обеспечивала им должностную монополию, с другой — заставляла
чувствовать, что их должности не вполне им принадлежат. Они
экспериментировали с республикой в надежде, что она
окажется лучшим инструментом, позволяющим обосновать
нахождение аристократии у власти. Такова позиция Гвиччардини: его
симпатии к политической элите всегда заметны. Однако
важно отметить, что здесь, как и в других его произведениях, мы
находим не менее явное возражение, косвенное или очевидное,
против формально замкнутой олигархии. Он говорит, что
магистраты не должны считать источником своей власти одного
или некоторых, как не должны ощущать себя ограниченными
в своих полномочиях волей других людей. В конечном счете
свобода основана на народном правлении. Небольшая группа
олигархов — так, по-видимому, рассуждает он, — которые делят
между собой должности в закопченной комнате (так
происходящее представлял Кавальканти), не сможет удовлетворять
необходимому условию свободы, поскольку они всегда будут
помнить, кому обязаны своими постами. Дабы власть была
свободной, она должна быть публичной; дабы быть публичной,
она должна быть безличной; дабы она была безличной,
наделенная ею группа должна быть достаточно обширной. По его
собственным словам, если основание свободы — власть народа,
то во Флоренции основой народной власти является
распределение магистратур и званий Большим советом1.
В другой конституционной традиции распределение
магистратур считалось одним из признаков суверенитета. В
данном же случае, с точки зрения Аристотеля и гражданского
гуманизма, распределение должностей осуществляется многими,
и это задумано не для того, чтобы наделить их суверенной
волей, а чтобы освободить тех, кто эти должности
занимает, от внешнего давления: освободить волю, распределявшую
I. Guicciardini F. Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 223. Сразу после
слов: «Ε pero per fondamento délia libertà bisogna el vivere populäre, del
quale è spirito e basa el consiglio grande, ehe ebbi a distribute e' magistrati
e degnità délia città»; «Основанием свободы должна быть жизнь всего
народа, и выражением его духа является Большой совет, который
назначает магистратов и присуждает звания в городе».
192
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
власть, даже от тени частного интереса, сделав ее настолько
безличной и универсальной, чтобы она вовсе перестала быть
волей или переставала быть ею в момент избрания
должностных лиц. И все же многие, из которых состоял Большой
совет, являлись частными людьми, опиравшимися каждый на
свои волю и ум. Вопрос заключается в том, как Гвиччардини
предполагал превратить этих отдельных участников в членов
политического тела. Подсказка кроется в распределении
политических функций. В конституции 1494 года предполагалось,
что членами Совета могут стать все, кто сам способен занять
какой-либо пост, а Гвиччардини в порядке реформы
предлагает еще расширить членство, приняв в Совет некоторое
число людей, к этому негодных. Недостаток теперешней
системы, по его мнению, состоит в том, что каждый из
участников избирательного процесса считает самого себя способным
занять ту или иную должность и ожидает получить ее.
Поэтому к его выбору примешиваются личные амбиции и
предпочтения, и на этой стадии политического процесса
совершается больше ошибок, чем на какой-либо другой. Если выбор
должностных лиц доверить тем, кто сам не способен занять
эти должности, то они будут думать только о качествах
кандидатов, а не о собственных амбициях, так как всем людям
от природы свойственно предпочитать добро злу, если их не
отвлекают частные интересы1.
I. «Fu adunche bene ordinato el consiglio grande in farlo générale a tutti quegli
ehe participavano dello stato; ed io ho qualche volta considerate se e fussi
bene ehe nella creazione de' magistrati intervenissino in consiglio non solo
tutti quelli ehe oggi vi sono abili, ma ancora uno numéro grande di quegli
ehe non possono participare del governo, perché noi abbiamo veduto per
esperienzia ehe la piu parte delli errori ehe fa el consiglio nello eleggere
li ufici, nasche da uno appetito del distribuirli si larghi ehe ognuno di chi
squittina, possi sperare di aggiugnervi. La quale ragione cesserebbe in quelli
ehe non ne fussino capaci, perché non avendo speranza ehe alcuna larghezza
ve li potessi tirare, non arebbono causa di conferirli se non in quelli ehe
a iudicio loro li meritassino. <...> ed andrà drieto in questo alia inclinazione
naturale di tutti li uomini, ehe è di seguitare el bene, se V respetti propri
non ritirano» (Ibid. P. 224-225); «Таким образом, было постановлено, что
в Большой совет войдут все те, кто участвует в управлении
государством; я неоднократно размышлял, не будет ли лучше, если для
выбора магистратов будут допущены в совет не только те, кто может быть
избран на эти должности, но и достаточное количество людей,
которые сами не могут участвовать в управлении; ведь мы убедились на
собственном опыте, что большинство ошибочных решений в выборе
на должности рождается из стремления учесть интересы всех
собравшихся, которые надеются извлечь выгоду для себя. При участии в
выборах людей, которые сами не могут быть избраны, личный интерес
193
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
На этом этапе анализа ренессансного аристотелизма
удобно перейти к рассмотрению тезиса о разделении власти и
отметить, что в его основании лежат аргументы — какими они
представлялись и Джону Адамсу — скорее этические, чем
институциональные. Избирательные и исполнительные
функции следовало разделить и тем самым уменьшить риск чьей-
либо личной заинтересованности в исходе выбора, который
он совершает ради общественного блага. Следовало
воспрепятствовать тому, чтобы магистрат руководствовался
собственной выгодой. Теория политии остается прежней, то есть
наукой о добродетели. Однако размышления Гвиччардини
предполагают другие опорные точки, относящиеся к сфере
эпистемологии и теории познания. Люди, которые считаются
неспособными занимать магистратуры, могут выбрать тех, кто
лучше всего для этого подходит. Посредством какого
мыслительного процесса они это делают? В своем анализе функций
Большого совета он переходит от избрания должностных лиц
к утверждению законов. Никто не предполагает, что Совет
способен обсудить и сформулировать закон от первого
предложения до окончательного варианта, тем не менее возникает
вопрос о том, должны ли законы, обсуждаемые и согласуемые
совещательными органами меньшего размера —
предположительно более квалифицированными, — передаваться для
утверждения в Совет. Это важный вопрос — потому что
законы распространяются на всех людей без исключения,
равно как и оттого, что, как мы видим на других примерах, они
способны внезапно изменить форму правления1. Гвиччардини
приходит к выводу, что, хотя Большой совет не должен
обсуждать предлагаемые законы — это уже сделано, — ему
необходимо обладать правом высказать окончательное согласие или
отклонить их. По всей видимости, здесь играют роль два
аргумента. Во-первых, поскольку законы налагают обязательства
на всех, то нельзя допустить ситуацию, когда можно сказать,
что своим существованием законы обязаны лишь немногим,
а предотвратить это можно, обеспечив порядок, в котором они
перестал бы влиять на исход, поскольку, не имея надежды извлечь
какую-то личную выгоду, они бы руководствовались исключительно
собственными представлениями о заслугах тех, кто претендует на
должность. <...> И в этом они будут следовать врожденной
человеческой склонности предпочитать добро злу, если их собственные
интересы никак не затронуты»,
ι. Guicciardini F. Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 244.
194
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
принимаются по общему согласию. Во-вторых, ратификация
Советом даст гарантию, что никакой закон не изменит
форму правления в целом, равно как и не будет иметь никаких
других разрушительных последствий. С этой целью, хотя
и в отсутствие публичных дебатов, было бы неплохо
публиковать предложенные законы за несколько дней, дабы члены
Совета могли знать, что им предстоит решать, и обсуждать
это между собой1.
Совершенно ясно, что теория избирательного и
законодательного процесса Гвиччардини опирается на мысль
Аристотеля о принятии решения многими. Пусть сами они
неспособны занимать магистратуры, но они могут разглядеть эту
способность в других; пусть сами они неспособны
сформулировать или даже обсудить закон, но они могут быть
компетентными судьями законопроектов, предложенных другими.
Посредством недопущения их к отправлению функций,
которые они сами должны оценивать, обеспечивается принцип
безличности, и все же остается неясным, какие интеллектуальные
способности они задействуют в этом процессе. Доктрина
Аристотеля— по существу, доктрина опыта — заключалась в том,
что любой человек, не принадлежащий к элите, достаточно
хорошо представляет себе, как на его жизнь влияет
конкретное должностное лицо или конкретный действующий закон,
чтобы считать совокупность множества подобных суждений
более надежным прогнозом, чем можно было бы ожидать от
одного человека. Как мы видели в первой главе этой книги,
коллективная мудрость тех, кто по отдельности был не столь
разумен, носила кумулятивный характер, и ее эффективность
снижалась по мере того, как возрастала сложность конкретного
решения, которое предстояло вынести, и возрастала скорость,
с какой требовалось проанализировать его, принять и
привести в исполнение. В основанной на обычае системе от многих
требовалось лишь решить, сохраняют ли их прежние реакции
силу в ситуации, которая представляется повторением
прошлого. Их решение формировалось медленно и постепенно, на
основе поведения и памяти, нежели размышлений, когда
сохранялась или отвергалась прежняя практика. Но в народном
собрании города-государства решения были чрезвычайно
индивидуализированы, и срочность была большей — на это явно
указывает употребление Гвиччардини таких слов, как occorrere
ι. Ibid. P. 230-231.
I95
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
и giornalmente?'2. Когда решался вопрос, подходит ли конкретный
человек для той или иной должности и следует ли сделать
конкретный закон обязательным для всех, многие должны были
собирать и обрабатывать сведения с куда большей скоростью,
чем требовалось для складывания обычая. Существенно, что
Гвиччардини, по-видимому, рассматривал эту проблему, не
приписывая многим рассудительность или способность
предсказать исход каких-то действий, которые бы отличали их от
немногих. Он строил свои аргументы на этических основаниях
и утверждал, что, коль скоро решение многих было свободно
от личной заинтересованности, — а мы видели, каким образом
он стремился этого добиться, — то они лучше, чем какой-либо
меньший совещательный орган, понимали, что будет благом.
Не в период работы над «Рассуждением в Логроньо», но тоже
в связи с конституцией 1494 года он написал две речи3, где
изложил доводы в пользу избрания магистратов в народном
совете либо большинством голосов, либо жеребьевкой, и
вложил в уста сторонника голосования — с которым он сам был
солидарен — следующие слова:
Оценивать достоинства человека должны не конкретные люди,
а народ, суждение которого лучше суждения любого из нас, ибо
он является правителем и беспристрастен. <...> Он знает
любого из нас лучше, чем мы сами себя знаем, и не имеет иных
целей, кроме как вручать те или иные вещи тем, кто
представляется достойным их.
Кроме того, я не пытаюсь отрицать, что народ иногда
голосует ошибочно, ведь ему не могут всегда быть известны
качества каждого гражданина; но я утверждаю, что эти ошибки
1. Случаться, ежедневно (итал). — Прим. ред.
2. «El modo ehe si usa nelle legge e provisione ehe occorrono di farsi giornalmente
in una republica è molto stretto, sendo necessario ehe le sieno prima proposte
da' signori, approvate da' fermatori, deliberate di nuovo da' signori, vinte
di poi da loro e da' collegi, avendo a passare nelli ottanta ed ultimamente
venire per tanti vagli e mezzi al consiglio grande» (Guicciardini F. Del modo
di ordinäre il governo popolare. P. 230-231); «Процесс принятия законов
и постановлений, которые в республике ежедневно выносятся на
рассмотрение, очень сложен, поскольку их сначала должны были
предложить приоры, затем одобрить магистрат Реформаторов, затем снова
утвердить приоры, потом они должны были пройти через коллегии,
совет Восьмидесяти и после всех этих утверждений и процедур быть
приняты Большим советом».
3- Guicciardini F. Del modo di eleggere gli uffici nel consiglio grande //
Guicciardini F. Dialogo e discorsi del Reggimento di Firenze. P. 175-195;
«О процедуре избрания на должности в Большом совете».
ig6
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
несравнимо меньше тех, что допускаются при любой другой
процедуре, и что день ото дня они будут исправляться, а их
число — уменьшаться, так как, чем дольше мы будем
придерживаться теперешних порядков, тем яснее станет, чего стоит
каждый человек, ибо действия одного человека мы наблюдаем
сегодня, действия же другого — завтра; и теперь, когда народ
начал заниматься делами в этом совете и знает, что в его
руках находится правление, он станет уделять действиям и
характеру каждого человека больше внимания, чем когда-либо,
поэтому с каждым днем он будет все более точно судить о
достоинствах людей, и никто не сможет воспрепятствовать ему
дать им то, чего они заслуживают1.
Непрерывное собрание заняло место основанного на обычае
сообщества. Каждодневное участие в политической жизни
увеличило скорость приобретения необходимого опыта и знаний.
Тем не менее следует все же отметить, что принимаемые
народом решения главным образом касаются характера тех, кто
составляет принимающую решения элиту. Народ выбирает людей,
и его способность выбирать достойна похвалы. Избранные им
люди формулируют законы и политические стратегии, а народ
принимает окончательное решение, утверждая или отвергая их
предложения. Впрочем, нам мало что известно о способности
народа отличать хорошую политику от плохой. Пока
приписываемые ему добродетели не простираются дальше того, чтобы
знать, что какое-то предложение изменит форму правления.
Ничего не говорится и об умении народа вводить новые
политические стратегии, не говоря уже о реформах или
преобразованиях. Он может судить о характерах отдельных людей,
но не о ходе событий или структуре общества.
I. «...se uno mérita, non s'ha a stare a giudicio de' particular! ma del popolo, el
quale ha migliore giudicio ehe nessuno altro, perché è el principe ed è sanza
passione. <...> Lui cognosce meglio ognuno di noi ehe non facciamo noi stessi,
ne ha altro fine se non di distribuire le cose in chi gli pare ehe meriti»; «Ma
piu oltre, io non voglio negare ehe anche el popolo faccia qualche volta, con
le piu fave, degli errori, perché non puo sempre bene cognoscere la qualità
di tutti V suoi cittadini; ma dico ehe sono sanza comparazione minori ehe
non saranno quegli ehe si faranno in qualunque altro modo, e ehe alla
giornata sempre si limeranno e se ne farà manco, perche quanto si andrà
più in là, sarà ogni di piu cognosciuto quello ehe pesa ognuno, perché si
vedranno oggi le azione di questo, e domani di quello, ed el popolo ehe ha
cominciato a porsi a bottega a questo consiglio, e cognoscere ehe el governo
è suo, porrà piu mente agli andamenti e costumi di ognuno ehe non faceva
prima, in modo ehe ogni di sarà migliore giudice di quello ehe meritino gli
uomini e non arà impedimento a dare a chi mérita» (Ibid. P. 178-179).
197
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
В «Рассуждении в Логроньо» идеи Гвиччардини, касающиеся
нравственного облика и проницательности, которые
требовались принимающей решения элите или, по-видимому, должны
были проявляться в ее действиях, впервые возникают в
связи с его размышлениями о посте гонфалоньера (gonfaloniere).
Главный вопрос состоит в том, следует ли назначать
человека на эту магистратуру на ограниченный срок или
пожизненно. Случай пожизненного назначения, который предпочитает
Гвиччардини, первоначально изложен1 с точки зрения
получения информации и принятия решений. Если гонфалоньер
несменяем, он не станет беспокоиться о том, чтобы
сохранить свой пост, или о том, что с ним будет, когда истечет его
срок, — соображения, которыми часто объясняется
равнодушие (Jreddezza) магистратов. Ничто не будет отвлекать его от
того, чтобы учиться справляться с возникающими проблемами
и понимать природу людей, с которыми ему приходится иметь
дело. Очевидно, что этот довод легко перевести в этические
категории: никакие личные интересы не отвлекают того, кто
назначен пожизненно, ни от приобретения необходимых ему
для исполнения своих обязанностей знаний и навыков, ни от
возможности всецело сосредоточиться на благе общества. Так
как он назначен на высший пост в городе пожизненно, ему ни
к чему стараться угодить конкретной группе и почти не за чем
выходить за рамки предоставленных ему полномочий. Однако
здесь рассуждения принимают новый и весьма интересный
оборот. Благодаря наличию должности, свободной от каких-либо
частных соображений и личных интересов — не подлежащей
даже существовавшей в Античности проверке на соответствие
своим обязанностям по истечении срока, — граждане могли
законно рассчитывать на высшую награду, когда эту должность
становится практически невозможно использовать в
каких-либо целях, кроме общего блага. Здесь Гвиччардини
высказывает мысль, которую часто приводят как доказательство его
расположенности в пользу аристократии: все республики, без
каких-либо известных исключений, управляются и
управлялись (retto) именно теми редкими людьми, которых
честолюбие, жажда великого и желание достичь вершины
подстегивают к свершению славных дел2. Пожизненный гонфалоньерат
1. Guicciardini F. Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 237.
2. «E se bene questo è pasto da infiammare pochi, non è pero questo infiammarli
inutile, perché in ogni republica bene ordinata ed in ogni tempo si è sempre
veduto ehe la virtu di pochi cittadini e quella ehe ha retto e regge le republiche,
198
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTiMATI, 15I2-Î5I6
в целом представляется лучшим средством законным образом
утолить эту жажду1.
В этом отрывке примечателен отнюдь не выраженный здесь
элитизм. Аристотелевская традиция недвусмысленно разделяла
граждан на многих, у которых не было ни стремления
интересоваться чем-либо за рамками собственных дел, ни
достаточных знаний для этого, и немногих, старающихся в большей
степени контролировать происходящее и наделенных такой
способностью. Отсюда следовало, что немногие всегда будут
располагать властью, пропорционально не соответствующей
их числу. Требовалось разработать такую институциональную
систему — политейю (politeia), — которая бы предохранила эту
диспропорцию от крайностей и служила гарантией, что
доминирующее меньшинство правит, считаясь с благом других,
а не только со своим собственным. Гвиччардини здесь,
конечно, не оригинален: с одной стороны, он настаивает, что
активное меньшинство может функционировать лишь в условиях
менее активного (но все же активного) большинства, а с
другой— постоянно предлагает средства воспрепятствовать тем,
е le opère gloriose ed effetti grande sono sempre nati da pochi e per mano
di pochi, perché a volere guidare cose grande ed essere capi del governo
in una città libera, bisogna moltissime parte e virtu ehe in pochissimi si
coniungono. E' quali oltre a avère amore alla città, è bene, accio ehe li operino
piu ardentemente, ehe abbino uno sprone di ambizione, uno appetito di
grandezza e di condursi in qualche summo grado; la quale quando e' cercano
e desiderano di acquistare non col prevalere aile legge né per via di sette, ma
collo essere reputati cittadini buoni e prudenti e col fare bene alia patria,
chi puo dubitare ehe questa ambizione è laudabile ed utilissima? La quale
chi non sente è in una certa fredezza e li manca uno certo stimolo di gloria,
ehe da lui non esce mai cose generöse ed eccelse» (Ibid. P. 238-239); «И хотя
это способно зажечь лишь немногих, это отнюдь не бесполезно,
поскольку в каждой республике с правильным устройством во все
времена было так, что эти республики управлялись и поддерживались
именно благодаря добродетелям немногих граждан, и славные дела
и великие свершения всегда были делом рук немногих, ведь для того,
чтобы руководить чем-то значительным и возглавлять правительство
свободного города, нужно много разных качеств, которые соединяют
в себе редкие люди. Чтобы пламеннее служить общему делу, надобно,
чтобы эти люди, помимо любви к городу, подстегивались
честолюбием, жаждой величия и желанием достичь вершины; если они при этом
стремятся к достижению этой цели не посредством нарушения
законов и не причиняя никому вреда, а стараясь заработать славу
достойных и благоразумных граждан и действуя на благо родины, кто же
усомнится в полезности и похвальности этого честолюбия? Кто его не
имеет, тот пребывает в некотором равнодушии, и ему недостает
некоторого влечения к славе, из-за чего он никогда не сотворит
великодушных выдающихся поступков»,
ι. Ibid.
I99
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
кто принимает решения на каждом из уровней, отвлекаться на
свои личные интересы. Его мысль по форме поддерживает
аристократическую, но никоим образом не олигархическую систему.
Его новаторство заключается в утверждении, что как многие
отличаются от немногих своей способностью судить о
пригодности других для постов, которые сами они не стремятся
занять, так и немногие отличаются от многих своим
стремлением занять эти посты. Virtù — неоднократно используемое им
понятие, — которая вызывает это стремление, не является ни
мудростью, ни добротой, ни каким-то еще нравственным
качеством, определяющим пригодность для той или иной
должности. Это даже не любовь к городу — хотя и ее следует
испытывать, — а попросту честолюбие и жажда славы. При этом он
не называет virtù чем-то аморальным — наоборот, он
награждает ее такими эпитетами, как generosa и onesta1.
Честолюбие не находилось в числе христианских
добродетелей — «этот грех и ангелов сгубил». Внимание Гвиччардини
к проблеме отчасти объясняется, как сообщает нам его
биограф, определенной моральной честностью: он ясно сознавал
собственное немалое честолюбие и одержимость личной и
фамильной честью. На том, какую роль играет честолюбие, честь
и стремление к славе в его политической теории, следует
остановиться подробнее. Разумеется, честь, наряду с верностью,
занимала центральное место в феодальном мировоззрении. В
литературе, отражающей рыцарскую этику, можно обнаружить
множество попыток привести ее в соответствие с христианской
моралью. Слова шекспировского Генриха V не могут не звучать
двусмысленно: «Но если грех великий — жаждать славы, / Я
самый грешный из людей на свете»2. Проблема приручения
воинского духа не была новой для европейской мысли. Однако
нам не следует забывать об осторожности, приписывая
флорентийской аристократии феодальные ценности. Ottimati,
представителем которых считал себя Гвиччардини, были купцами,
банкирами и юристами — не говоря уже о политиках, — и
неясно, насколько на них повлияла рыцарская этика.
Возможно, правильнее сказать, что честь преимущественно являлась
добродетелью политического индивида, particulare — если
воспользоваться (в том виде, в каком он его употреблял)
ключевым и самым неоднозначным термином политической мысли
ι. Благородная, честная (итпая.).— Прим. ред.
2. Генрих V. Акт IV, сцена 3· Пер. Е. Бируковой.
200
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
Гвиччардини. С одной стороны, particulate олицетворял
смертельную опасность, поскольку стремился к приватному и
частному благу. Его толкало к этому честолюбие, а жажда
привилегированного положения, способного удовлетворить амбиции,
могла заставлять пренебрегать любыми законами и
общепринятой моралью. С другой стороны, слава носила публичный
характер. Она заключалась в признании сограждан. Будучи
скорее языческой, нежели христианской, она давала не спасение,
а громкое имя в этой жизни и после смерти. Если же particulare
вынужден искать славу в гражданском пространстве, где
каждый по определению участвует в принятии решений, целью
которых является всеобщее и общественное благо, то его
слава будет состоять в признании согражданами его первенства
в делах республики. Потребность в славе заставит его
добиться большего, нежели его сограждане, и вынести свою личность
на суд общества. Он окажется под постоянным пристальным
взглядом немногих и многих, которые будут знать его лучше,
чем он знает себя сам. Как только его честь станет предметом
общепризнанной заботы об общем благе, его внутреннее
стремление к идеалу чисто индивидуальной целостности,
выражаемой этим понятием, заставит его презирать удовлетворения
низшего порядка. И в таких обстоятельствах мудро направить
его честолюбие в политическое русло, предложив ему высшую
и несменяемую власть, коль скоро эта власть осуществляется
под непрестанным надзором общества и подлежит его суду,
а один и немногие будут свободны в приобретении знаний
и опыта, необходимых для выполнения своих задач.
Тем не менее, сделав честолюбие отличительной
характеристикой политической элиты, Гвиччардини прекрасно понимал,
во что оно превращается, если его не обуздает политическая
система. В одном из фрагментов «Рассуждения в Логроньо»1 он
отмечает, что институциональные условия, в которых
изменения в конституцию легко предложить, но трудно претворить
в жизнь, похожи на характерный для олигархии прием,
нацеленный на удержание власти группами, которые ею обладают.
Вероятно, было бы лучше, если такого рода изменения могли
предлагаться лишь в узких комитетах, доступ в которые
ограничен, но при этом быстро бы выставлялись на суд многих.
Во второй из двух своих речей о методах избрания в
Большой совет Гвиччардини продолжает критику олигархических
ι. Guicciardini К Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 245-246.
20I
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
наклонностей ottimati и придает ей новое направление. Здесь
сторонник бросания жребия — которое в Античности
считалось более демократической избирательной процедурой, чем
голосование, — заявляет: довод, гласящий, что многие
обязательно выберут лучшего, искажается присутствием заметной
прослойки ottimati, которые называют себя иотгпг da bene1. Они
полагают, что обладают врожденным и неотъемлемым правом
на магистратуры, и неизменно голосуют друг за друга,
исключая тех, кто не входит в эту узкую группу. Поэтому тем, кто
не относится к элите, остается либо всегда голосовать против
кандидатов-оШ'тдй, — подрывая разумное устройство всего
процесса,— либо совсем отказаться от голосования в пользу
жеребьевки. Те, кто называет себя иотгпг da bene, продолжает он,
в претензиях на статус элиты основываются на своем
предполагаемом превосходстве в рассудительности, мудрости и
добродетели. На самом же деле они занимают это положение либо
потому, что приобрели или унаследовали богатство, либо
оттого, что их предки занимали высокие посты, — очень часто
по причинам, не выдерживающим серьезного испытания.
Богатство и происхождение, добавляет он, дело случая. Против
флорентийской политической аристократии свидетельствует
то, что она обязана своим статусом фортуне, а не
добродетели2, почему в конечном счете она и печется о частных, а не
об общественных интересах. Гвиччардини не стремился
убедить своих читателей речью, которой он придал неприятный
демагогический оттенок. Мы можем не сомневаться, что сам
он — сторонник голосования по причинам, более или менее
связанным с его элитистскими взглядами. Однако он
осознавал, насколько сильные доводы можно выдвинуть против
флорентийской элиты. Она была олигархической, потому что
она — дитя фортуны. Именно честолюбие, добродетель,
которую он выделил как наиболее подходящую для политической
деятельности, побуждало ее членов или их отцов
испытывать свою судьбу. Элита представляла собой — одновременно
и в силу одних и тех же причин — потенциальную гражданскую
аристократию и потенциальную действующую в собственных
интересах intelligenza (так флорентийцы называли клику или
сборище) олигархов. Необычный отрывок ближе к концу
«Рассуждения в Логроньо» указывает, какое значение Гвиччардини
1. Лучшие люди (итал.).—Прим. ред.
2. Guicciardini F. Del modo di eleggere gli uffîci nel consiglio grande. P. 189-192.
202
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
по-прежнему придавал последовательному искоренению
частных интересов и амбиций.
Перед нами не более и не менее как протест против роскоши,
завершающийся призывом почти в духе Савонаролы «сжечь
суетную мишуру». Роскошь развращает людей, она
заставляет их еще сильнее жаждать богатства, выставляя его напоказ,
и всего, что совершенно противоположно подлинной славе
и добродетели. В развращенности нет ничего нового; против
нее ополчались античные авторы, и полумеры не помогут
против зла «столь всеобщего, столь давнего и столь глубоко
укоренившегося в человеческих умах»1. Коротко говоря, это
«ветхий Адам», который, как надеялся Савонарола, должен сгореть
в огне духовного обновления. Однако Гвиччардини
использует гражданский и классический лексикон, а не
апокалиптический словарь, как его предшественник. Чтобы отсечь зло,
говорит он, нужен скальпель (coltello) Ликурга, который
искоренил в Спарте роскошь за день, разделив все имущество и
запретив деньги и украшения. Спартанцев мгновенно охватило
необыкновенное стремление к аскезе и забота об общем благе,
и имя Ликурга славно тем, что благодаря gracia — благодати?
благосклонности фортуны? — ему удалось осуществить такую
долговременную перемену. Великие философы оказались
бессильны сделать это, и неудивительно, что здесь усматривали
помощь Аполлона, потому что преобразование города — дело
скорее божественное, нежели человеческое2.
1. «Né incomincia questa corruttela oggi nel mondo, ma è durate gia molti e molti
secoli, di ehe fanno fede li scrittori antichi ehe tanto detestano ed eselamano
contro a' vizi délie età loro. Rimedi ci sono forse qualcuni per potere un poco
moderare questi mali, ma non gia tanti ehe e' faccino effetto notabile in una
malattia si universale, si vecchia e tanto radicata nelle menti delli uomini»
(Guicciardini F. Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 257-258); «Эта
развращенность не сегодня в мире появилась, но существует на
протяжении многих столетий, о чем свидетельствуют произведения
древних авторов, которые с отвращением и порицанием пишут о пороках
своего времени. Возможно, существуют средства несколько снизить
количество этого зла, но они бессильны возыметь заметный эффект
против болезни столь всеобщей, столь давней и столь глубоко
укоренившейся в человеческих умах».
2. «...felicissimo certo e glorioso ehe avessi grazia di ordinäre si bene la sua
republica, e molto piu felice di averla acconcia in modo ehe li ordine e le legge
sue durassino moite centinaia di anni ed in tal maniera ehe, mentre visse sotto
quelle, fu moite volte di potenzia e forze capo délia Grecia, ma sempremai
di gloria ed opinione di virtù apresso aile nazione forestière la prima. Fulli
piu facile a ridurle in atto ehe non fu facile a Platone, a Cicerone ed a molti
uomini dottissimi e prudentissimi metterle in scrittura; in modo ehe non sanza
causa fu opinione ne' tempi sua ehe fussi aiutato del consiglio di Apolline
203
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
Савонарола понимал преобразование в чисто
аристотелевском смысле, как наложение формы на материю,
восстановление материи — жители города являлись «материальной
причиной» его существования — для осуществления ею
своего изначального предназначения. И в этом смысле он
предпочитал говорить о rinnovazione. Впрочем, как христианин, он
считал предназначением праведную жизнь. Prima forma была
ниспослана как благодать, поэтому преобразование могло
произойти лишь в апокалиптическом контексте, обусловленном
действием благодати в истории. Сожжение «вторичной
природы», сложившейся в человеке в результате погони за
благами, далекими от святости, за «суетной мишурой», было
необходимой частью восстановления. Очень важно отметить, что
Гвиччардини переосмысляет те же темы, используя другую
и не столь очевидно христианскую риторику. Он не
прибегает к категориям формы и материи, равно как и не говорит,
что fortuna упорядочивается под воздействием virtù.
Законодатель достигает сверхчеловеческого успеха в преобразовании
города — его законы и добродетели живут в веках и именно
в связи с этим актом Гвиччардини использует слово grazia.
Это чудесное деяние обеспечивает законодателю репутацию
человека, получившего божественную помощь, пусть и не саму
помощь. Он действует, систематически искореняя тягу к
роскоши, зло, издревле угнездившееся в сознании человека.
Параллели важны не меньше, чем различия. С одной стороны,
если Савонарола считал, что роскошь и суета отвлекают душу
от стремления к благодати, то Гвиччардини полагал, что они
отвлекают гражданина от стремления к общему благу. Место
Delfico, е ragionevolmente, perché riformare una città disordinata e riformarla
in modi tanto laudabili è piu tosto opera divina ehe umana» (Guicciardini F.
Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 257-258); «...счастлив он,
несомненно, и славен, что благодаря благосклонности судьбы смог так
совершенно устроить свою республику, и еще более счастлив, что он
ее преобразовал таким образом, что его распорядки и законы
действовали долгие столетия и благодаря им [Спарта], пока жила при этом
строе, неоднократно оказывалась самым могущественным государством
в Греции, а у других народов всегда имела славу самого доблестного
государства. Ему [Ликургу] составило меньше труда воплотить их
[законы] в жизнь, чем Платону, Цицерону и многим другим ученейшим
и благоразумнейшим мужам письменно их изложить; таким образом,
не случайно его современники считали, что ему помог советом
Аполлон Дельфийский, и это весьма здравое заключение, поскольку
преобразовать устройство города, где царил беспорядок, и преобразовать
его таким похвальным образом — дело скорее божественное, нежели
человеческое».
204
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
Иеремии заступил Ликург, который содействует обновлению,
учреждая законы, а не призывая к покаянию. Однако законы
направлены непосредственно на нравственные качества
граждан и возрождают их естественную наклонность, или «первую
природу», побуждающую искать общего блага, когда они
больше не отвлекаются на личные удовольствия. Это и означает,
что люди по природе добры. Учение о том, что люди
обладают испорченной «вторичной природой», заставляющей их при
первой возможности идти на поводу у приватных интересов,
позволяет в соответствующем контексте без особых
противоречий заявить, что люди по природе дурны1. Законодатель
искореняет эту вторую (ветхую) природу, сочетая
нравственную харизму с институциональным обеспечением, и
оставляет место для восстановления первой (изначальной)
природы. Это есть божественная деятельность, даже если смотреть
с точки зрения христианского понимания благодати. Впрочем,
поскольку она всецело принадлежит гражданскому контексту
политических решений и установлений и направлена на него,
то ее правильнее всего описывать на языке греко-римской
политики, для которого типично говорить о помощи,
получаемой законодателем от античных богов. Здесь следует прежде
всего обратить внимание не на обусловленное
секуляризацией расхождение между христианской и гражданской
традициями, а на то, насколько они сходятся в общей точке, которой
для них оказался идеал аскезы и самоотвержения. После того,
как этот идеал строился на монашеских ценностях, и до того,
как начал строиться на кальвинистских, опорой ему служил
гражданский гуманизм.
Итак, задачи законодателя предполагают, что он
совершает нечто чудесное. Но если Савонарола ожидал чудес, о Гвич-
чардини этого сказать нельзя. С нашей стороны, добавляет он,
незаконно надеяться или даже желать выполнять работу
законодателя. Мы должны увидеть себя такими, какие мы есть
на самом деле, то есть существами настолько развращенными,
что остается рассчитывать лишь на незначительные
исправления нашего нравственного характера. Если бы удалось
научить жителей города владеть оружием — снова возникла бы
традиция народного ополчения — и если магистраты
избирались бы лишь на основании публичного подтверждения ими
ι. Здесь, возможно, следует заметить, что неспособность уловить смысл
этих концепций оказалась причиной частого непонимания как Гвич-
чардини, так и Макиавелли.
205
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
своих достоинств, богатство и роскошь ценились бы меньше
и можно было бы даже ввести действенные законы для их
контроля и постоянной проверки1. По сути, мы вернулись к
аналогии с медиком, с которой начиналось «Рассуждение», и
теперь ясно видим разницу между врачом и поваром. Именно
законодатель вновь замешивает всю materia города, как делает
человек, готовящий тесто для макарон, и формует ее заново.
Врач, имеющий дело с более сложным устройством организма,
предполагает, что он уже болен, и надеется взять недуг под
контроль скорее, чем вовсе излечить его. Но это значит, что
materia, с которой он работает, уже внутренне неустойчива; он
сталкивается с превратностями фортуны. Теперь становятся
совершенно ясны колебания Гвиччардини относительно
определения ottimati как класса честолюбцев. С одной стороны, он
убежден, что честолюбие — качество, которое надо направить
в политическое русло и узаконить, если мы хотим, чтобы по-
литейя {politeia) располагала элитой, которая нужна ей для
активного участия в принятии определенных решений. С
другой, он прекрасно понимает, что честолюбие, быть может, уже
ι. «A noi è rimasto el poterci maravigliare ed esclamare di cosa tanto notabile,
ma di ridurla in atto non ci è lecito non ehe sperarlo а репа desiderarlo;
e pero ritornando alle cose ehe sono in faculta nostra, io dico ehe questa
malattia è tanto difficile ehe gli è impossibile estirparla; bisognerebbe come
fece lui, levare li usi per e' quali le ricchezze si desiderano, e questo per la
mollizie delli uomini non si puô non ehe altro disegnare. Credo bene ehe
dandosi la città aile arme ed essendo aperta la via di diventare glorioso con
quelle, distribuendosi e' magistrati con riguardo délia buona fama e portamenti
delli uomini, sendo facile el punire e' delitti di chi errassi, ehe tutte queste
cose insieme farieno e' ricchi essere in meno estimazione ehe non sono oggi.
Aggiungereci una cosa tentata spessissime volte ma maie osservata, di limitare
e moderare quanto fussi possibile li ornamenti e suntuosità del vestire...»
(Guicciardini F. Del modo di ordinäre il governo popolare. P. 258), далее
следуют пространные обвинения в их адрес; «Нам остается
удивляться и громко говорить о столь примечательной вещи, но воплотить ее
в жизнь нам не позволено, как и надеяться на это или хотя бы желать
этого; возвращаясь же к тому, что в наших силах, я утверждаю, что эта
болезнь настолько сложна, что ему невозможно ее искоренить; нужно
было бы поступить как он, а именно отменить порядки, из-за
которых людей влечет богатство, а об этом из-за свойственной человеку
мягкотелости нельзя даже помыслить. Я уверен, что если вооружить
горожан и открыть им путь к завоеванию славы с помощью воинской
доблести, если при назначении магистратов учитывать добрую славу
и свершения, если сделать простым процесс наказания тех, кто
совершает преступления, впав во грех, то все это вместе приведет к тому,
что богатство будет ценится гораздо меньше, чем сейчас. Я хотел бы
добавить еще одну меру — ее неоднократно пробовали применять, но
плохо соблюдали: речь об ограничении и стремлении к
максимальной умеренности украшений и роскоши в одежде...».
20б
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
создало слишком нестабильные условия для перенесения его
на политическую почву и слишком развращено, чтобы
служить гражданским целям.
III.
Роль честолюбия в поведении гражданской элиты оставалась
одной из ключевых проблем в размышлениях сторонников
аристократии после восстановления власти Медичи в 1512 году.
Вероятно, решающим фактором, определившим характер
восстановленного правления, стало избрание кардинала Джованни
де Медичи в качестве папы Льва X в 1513 году. Это изменило
ситуацию: власть Медичи во Флоренции распространилась на
более широкий политический контекст. Семейство вернулось
к власти благодаря иноземному оружию, грубо подчеркнув
неспособность флорентийцев управлять внешними
обстоятельствами. Однако когда на смену Юлию II пришел Лев X, он взял
на себя контроль над политикой в Италии, выступая в роли
того, кто, возможно, сумеет построить систему, в которой
владычество неитальянских сил будет ослаблено. Далее, —
преумножая славу, какую сулило городу избрание
папы-флорентийца,— его вступление на папский престол означало, что
стабильность правления Медичи не будет зависеть ни от
иностранного оружия, ни от способности правящей семьи
налаживать политические отношения с крупнейшими политическими
группами Флоренции. Устойчивость обеспечивается
законностью и прочностью, все еще присущими папской власти.
Таким образом, избрание Льва X дало передышку Медичи и тем
флорентийцам, которым предстояло решить, принимать ли их
и какую цену при этом следует заплатить каждой из сторон.
В то же время представлявшийся наиболее опытным член
семейства оказался вне Флоренции, а жители города остались
с неприятным чувством своей провинциальности. Они
ощущали, что больше не находятся в центре, где решается их судьба.
Таким образом, вся система Медичи зависела, во-первых, от
продолжительности пожизненного срока Льва X (он был
папой восемь лет), а во-вторых, от того, что младшие члены его
рода, управлявшие Флоренцией в его отсутствие, могли
попытаться предпринять, учитывая, что политика Медичи уже не
ограничивалась гражданскими отношениями среди
флорентийцев. Для сторонников аристократии, неоднозначно
воспринимавших отношения между своим кругом и представителями
207
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
семейства Медичи еще в 1494 Г°ДУ> все это было чревато
новыми проблемами. За каждым новым политическим кризисом:
избранием Льва X в 1513 году, смертью Джулиано де Медичи,
занимавшегося делами семьи во Флоренции, в 1516 году,
смертью в 1519 году Лоренцо, его преемника, втянувшего
Флоренцию в попытку захватить Герцогство Урбинское, — мы видим
вспышку1 писательской активности сторонников аристократии.
Нас интересует их стремление применить аристотелевскую
и гуманистическую парадигмы к определению гражданской
аристократии в ситуации, которую авторы считают
беспрецедентной. Поэтому не менее интересны слова, с помощью
которых они пытаются заявить, что ситуация беспрецедентна
и что именно в ней беспрецедентного.
Гвиччардини был одним из таких авторов. Говоря о нем
самом, о классе, представителем которого он являлся, и обо всем
этом периоде, не следует думать, что историк находился в
постоянной борьбе, которую флорентийская гражданская
аристократия вела против Медичи, отрицая их право на власть.
Вернувшись из Испании, где он был послом, Гвиччардини занимался
юриспруденцией во Флоренции. С понятным для сторонника
аристократии неодобрением он наблюдал, как Джулиано и
Лоренцо были все менее и менее склонны делиться властью с кем-
либо, кроме своих ближайших соратников. Одновременно со
смертью Джулиано в 1516 году Гвиччардини принял от Льва X
роль наместника в Модене и затем, при обоих понтификах из
рода Медичи, занимался управлением и защитой папских
территорий на севере Центральной Италии. Подобно Макиавелли
и сторонникам аристократии, он был рад служить Медичи, но
только в соответствии с собственными представлениями об этой
роли. Во Флоренции важное значение имела принадлежность
к гражданской аристократии — классическим «немногим», —
которых Медичи должны были воспринимать как равных и как
своих сограждан. Если бы Джулиано и Лоренцо вели себя
иначе, Гвиччардини не стал бы работать с ними. Он с сожалением
думал о будущем режима, неспособного наладить отношения
с гражданской элитой. Будучи наместником, он представлял
отсутствующего, но полновластного государя. Если
воспользоваться выражением, которое в следующем столетии использовал
Джеймс Харрингтон, его власть (empire) была провинциальной,
ι. Об этом см.: Albertini R. von. Das florentinische Staatsbeiwusstsein im
Übergang von der Republik zum Parinzipat. Bern, 1955. В приложении к книге
напечатаны тексты «discorsi» («рассуждений»).
208
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
а не внутренней. Было бы уместно предположить, что он
управляет людьми, столь далекими от политической жизни, что
гражданская жизнь им была не по силам, и единственной
альтернативой — как позже сказал Макиавелли — служило подчинение
власти монарха. Жизнь Гвиччардини в 1516-1527 годах дает
богатый материал для сопоставления теории с практикой1. Служа
монархии, он думал и писал о роли (ограниченной) аристократии
в политии. Если бы он остался во Флоренции, то он бы
непосредственно участвовал — как это и было после 1527 года — в
решении дилеммы своего класса: настаивал бы на роли элиты при
«пропорциональном равноправии» или согласился с ролью
слуги и придворного того режима, который все больше походил на
монархию, хотя его и нельзя было легитимировать во
флорентийских терминах. Именно такой выбор и сопряженные с ним
представления все чаще становились предметом размышлений
сторонников аристократии с 1512 года.
Вскоре после возвращения из Испании, развивая мысли,
высказанные в «Рассуждении в Логроньо» и в созданном им
ранее историческом труде, Гвиччардини написал короткий
трактат «Об управлении Флоренцией после восстановления власти
Медичи в 1512 году»2. Эта работа оборвана на полуслове и,
возможно, не окончена, но ее язык имеет большое значение. Для
начала посмотрим на риторическое вступление. Мы увидим
знакомые фигуры рулевого и врача, но не обнаружим образа
законодателя-повара. Объяснение тому косвенно приведено во
втором абзаце: город — организм, состоящий из бесконечного
многообразия отдельных людей, и случаи или трудности,
которые могут возникнуть при управлении ими, так же бесконечны.
Поэтому главная добродетель рулевого, врача и политика —
осмотрительность, благоразумие, внимательность. Она помогает
рулевому держаться курса и вести корабль в порт; врачам она
нужна, чтобы понять природу заболевания и все его
особенности, ведь без нее их предписания будут «несоразмерны»
недугу и противны «характеру» пациента3. Здесь не стоит вопрос
1. Ridolfi R. Life of Francesco Guicciardini (chap. VII 1-ХVI).
2. Guicciardini F. Del governo di Firenze dopo la restaurazione de' Medici nel
1512 // Guicciardini F. Dialogo e discorsi del Reggimento di Firenze. P. 260-266;
«Об управлении Флоренцией после реставрации Медичи в 1512 году».
Это единственная группа текстов, в отношении которых мы не
зависим от издания Альбертини.
3· «Veggiano е' prudenti ed esperti medici in nessuna cosa usare piu esatta
diligenzia ehe in conoscere quale sia la natura del male, e capitulare un tratto
le qualità e tutti li accident! sua per resolversi poi con questo fondamento quale
209
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
о придании материи ее изначальной формы. Слово materia
впервые возникает в связи со словом difficiles параллель с
медициной подразумевает, что тело нездорово, а корабль бьется
о волны. Если говорить о народном правлении, при котором
многие, как и немногие, призваны к участию в политической
жизни, то надлежало взять относительно хладнокровный тон
и говорить о законодателе и его божественном даровании
воздействовать одновременно на все части политического
организма. Однако в этом discorso Гвиччардини ограничился точкой
зрения ottimati и проблемой перестройки их отношений с
Медичи. Поскольку они были лишь частью целостного
организма— пусть наиболее благоразумной и опытной частью, — им
не подобало влиять на качества целого сверх и помимо
своего благоразумия и опыта. И если в своем предшествующем
сочинении он мог подчеркивать законное честолюбие
немногих и вклад, который их жажда чести могла внести в
усовершенствование целого, то здесь акцент сделан скорее на
осмотрительности. Хорошее лекарство может сохранить человеку
abbi a essere el reggimento dello infermo, di ehe sorte ed in ehe tempo si abbino
a dare le medicine; perché non fermando bene questo punto, ordinerebbono
spesse volte una dieta, darebbono medicine non proporzionate alia malattia,
contrarie alla complessione ed essere dello infermo; donde ne seguirebbe
la totale ruina e morte del loro ammalato» (Guicciardini F. Del governo di
Firenze dopo la restaurazione de' Medici nel 1512. P. 260-261); «Пусть же
осмотрительные и знающие врачи помнят, что с наибольшим усердием
нужно подходить к определению природы болезни и четко за один раз
изложить все ее характеристики и проявления, чтобы на основе этого
решить, каким должно быть лечение больного, какие и когда давать
ему лекарства; потому что если не разобраться с этим как следует, то
они во многих случаях пропишут диету и лекарства, не
соответствующие болезни, противоположные состоянию больного, что привело бы
к разрушительным последствиям и к смерти вверенного им больного».
«Questa resoluzione se in cosa alcuna è laudabile e necessaria, bisogna sopra
tutto in chi è principe e capo di governi di stati; poiché essendo una città
uno capo [sic: corpo?] composto di infmiti uomini diversi di condizione, di
appetiti e di ingegno, sono infmiti li accidenti, li umori, infinite le difficultà
nel maneggiarli; e pero è necessario in conoscerli a capitularli e pigliare lo
ordine con ehe si abbino a governare, tanto piu cura e prudenzia quanto la
materia è in se piu difficile e quanto sono piu importanti li effetti ehe ne
seguitano»; «Если для кого такая установка похвальна и полезна, так
это прежде всего для государей и глав правительств; поскольку
город — это тело, состоящее из огромного множества людей разного
достатка, разных интересов и разного ума, бесконечно много в нем будет
болезней и гуморов, и бесконечно много сложностей возникнет при
лечении их; тем не менее нужно упорядочить знание о них и
установить такие порядки, которые позволят управлять ими, и тем больше
нужно внимания и осмотрительности, чем сложнее материя, и тем
важнее окажутся вытекающие из этого последствия».
2Ю
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
жизнь, но плохое может его убить. Доброе правление способно
гарантировать гражданскую сплоченность и согласие, дороже
и уникальнее (singulare) которого нет ничего в человеческой
жизни. От плохого же устройства следует ожидать ruina, destru&one,
esterminio1*. Даже в самом аристотелевском контексте, который
Гвиччардини может здесь привести, summum Ьопит немногим
больше отсутствия summum malum3.
Вскоре обнаруживаются и другие мотивы этой
разочарованной интонации. Очевидно, на том основании, что город
состоит из бесконечного многообразия настроений и условий, он
утверждает: бессмысленно рассуждать о правлении абстрактно
и обобщенно, надо принимать во внимание уникальный
характер (natura) как народа, так и территории (luogo, sito), которыми
предстоит управлять. Гвиччардини переходит к стандартной
характеристике флорентийцев как народа, который в силу
своей вторичной природы и исторических обстоятельств может
существовать лишь в условиях свободы. Однако перед этим
он формулирует ряд категорий, привлекающих внимание
читателя и существенно влияющих на его дальнейшую
аргументацию. Существует, пишет он, форма правления, во главе
которой стоит монарх или signore naturale, имеется и другая, где
власть того, кто правит, основана на насилии и узурпации;
есть власть над городом, привыкшим подчиняться, и власть
над городом, который привык управлять своими делами сам
1. Гибель, разрушение, истребление (итал.).— Прим. ред.
2. «Perché del buono governo ne seguita la salute e conservazione di infiniti
uomini, e del contrario ne résulta la ruina ed esterminio délie città, di ehe
nella vita delli uomini nessuna cosa è piu preziosa e singulare ehe questa
congregazione e consorzio civile. E corne dallo essere uno infermo bene curato
da' medici о no, si puo pigliare potente argumento délia salute о morte sua,
cosi interviene nel governo di uno stato, perché essendo retto prudentemente
e proporzionatamente, si puo crederne e sperarne buoni efïetti; essendo
retto altrimenti e governato male, ehe si puo crederne altro ehe la ruina
e destruzione sua?» (Ibid. P. 261); «Потому что от правильного
управления зависит здоровье и выживание огромного числа людей, а его
противоположность оборачивается гибелью и истреблением городов, из-за
чего нет ничего ценнее и уникальнее в жизни людей, чем эта
гражданская сплоченность и согласие. И как на основе того, хорошо или
плохо врачи лечат больного, можно сделать заключение о том, ждет
ли его выздоровление или смерть, точно так же и мы можем сделать
вывод и про управление государством: если им управляют
благоразумно и в соответствии с его потребностями, то можно ожидать и
надеяться, что это принесет хорошие результаты; если же все обстоит
иначе и им управляют плохо, то чего можно ожидать, кроме как его
гибели и разрушения?»
3· Summun bonum — высшее благо, summum malum — высшее зло (лат.). —
Прим. ред.
211
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
и властвовать над другими. Как мы увидим, те же категории
выполняют важную организующую роль и в «Государе»
Макиавелли (по-видимому, нет никаких свидетельств, что Гвиччар-
дини и Макиавелли поддерживали какое-то общение в 1512-
1513 годах, когда были написаны «Об управлении Флоренцией
после восстановления власти Медичи в 1512 году» и «Государь»).
Макиавелли использует эти понятия, чтобы выделить
«нового государя» — узурпатора власти над городом — как
идеальный тип и определить класс политических явлений, к
которому этот тип относится. Напротив, Гвиччардини, заявив, что
исчерпывающий анализ проблемы занял бы слишком много
места, использует их лишь для того, чтобы определить
характер и проблемы правления вновь пришедших к власти
Медичи1. Разумеется, его интерпретация мотивирована тем, что он
считал себя ближе к власти и к решению практических
вопросов, в то время как Макиавелли сказать о себе подобное
не мог. Однако Гвиччардини в итоге приходит к сравнению
правления Медичи после 1434 года и после 1512-го. Он
фиксирует повторение истории. Остается не вполне ясным,
насколько вновь пришедшие к власти Медичи принадлежат к классу
«новых государей» и на какие источники стабильности и
законности они могут опираться.
Флоренция, продолжает он, издревле свободна и
предназначена господствовать в Италии. Отчасти причиной тому служит ее
географическое положение, но также характер ее жителей —
неутомимого и легкого на подъем народа, занятого приобретением
богатства и власти, поглощенного — что важнее всего —
заботами об общественных делах. Главное в жизни Флоренции —
существование большого числа граждан, привыкших требовать
участия в политической жизни {participazione) и участвовать
в ней. В результате в городе укоренилось предпочтение vivere
1. «...donde ne seguita ehe el parlare generalmente e con una medesima regola
non basta, ma bisogna о parlare generalmente con tali distinzione ehe
servino a tutti e' casi, il ehe sarebbe di troppa lunghezza, overo ristrignersi
a uno particulare solo, come faro io, ehe solo insistero in queste cose ehe io
giudicherei doversi fare per questi Medici, volendo tenere lo stato e governo
délia città di Firenze...» (Guicciardini F. Del governo di Firenze dopo la
restaurazione de' Medici nel 1512. P. 261); «...откуда следует, что рассуждать
обо всем сразу, подходя ко всему одинаково, не получится; вместо
этого нужно или рассматривать все сразу, делая необходимые для
каждого случая различия, что заняло бы слишком много места, или же
сузить предмет до одного частного случая, что я и сделаю,
сосредоточившись лишь на том, что, по моему мнению, должны сделать эти
Медичи, если они хотят остаться у власти в городе Флоренции...».
212
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
libero е populäre и отвращение к тому, чтобы быть
обязанными своим политическим статусом отдельным представителям
власти (particulari)1. Как мы знаем, здесь взгляды Гвиччардини
неоднозначны. Хотя он полагал всеобщее участие в
политической жизни предпосылкой свободы, на практике он
настороженно относился к участию многих. Поэтому неудивительно, что,
называя свободу древней и неотъемлемой принадлежностью
флорентийского характера, он не считал ее ни священной, ни
тем более законной или даже неизменной нормой. Время от
времени ее могло не быть. Однако с Ц94 года и с 1502-го она
превратилась в узаконенную норму благодаря Большому совету2.
Именно наличие этого института сделало неизбежной разницу
между прежней и нынешней властью Медичи. В 1434 году vivere
1. «La città di Firenze da lunghissimi tempi in qua è stata in libertà; essi governata
popularmente ed ha avuto imperio e signoria in molti luoghi di Toscana;
ha avuto ne' maneggi di Italia per el passato sempre piu reputazione e piu
luogho tra li altri potentati, ehe non pareva convenirsi al dominio ehe ha;
di ehe si puo dare causa al sito dove la è posta, alla natura delli uomini ehe
per essere inquieti hanno voluto travagliare, per essere industriosi lo hanno
saputo fare, per essere suti danarosi hanno potuto fare. Queste condizioni
hanno fatto ehe in Firenze e' cittadini communemente appetiscono el vivere
libero e populäre, non vorrebbono ricognoscere da alcuno particulare el grado
loro ed hanno esosa ogni grandezze о potenzia eccessiva di alcuno cittadino,
ed è la inclinazione loro attendere e pensare alle cose delli stati e governi»
(Ibid. P. 261-262; слово participazione впервые появляется на с. 263; см.
прим. 2 на с. 214); «Флоренция издревле была свободным городом; ею
управлял народ и она властвовала над многими тосканскими
землями; в жизни Италии она в прошлом всегда играла более важную роль
и занимала больше места, чем другие значимые государства, что
казалось несоразмерным ее владениям; это может объясняться местом, где
она находится, характером ее жителей, которые в силу своей
неутомимости всегда хотели трудиться, в силу своей находчивости умели это
делать правильно, в силу того, что разбогатели, смогли это сделать.
Эти условия привели к тому, что граждане Флоренции единодушно
предпочитают свободную жизнь и народное самоуправление, не
хотят быть обязаны своим статусом никакому отдельному
представителю власти и ненавидят любое превышение могущества и власти
отдельного человека, и они от природы склонны думать о вопросах
государства и управления».
2. «Е questo interviene piu oggi ehe mai, per essersi e' cittadini nutriti ed avezzi
del 1494 sino al 1512 a uno modo di governo popularissimo e liberissimo
e nel quale parendo loro essere tutti equali, con piu difficultà si assettano
a ricognoscere alcuno superiore, e massime vedendo uno solo tanto interamente
assoluto arbitro e signore di ogni cosa» (Ibid. P. 262); «И сегодня это
происходит яснее, чем когда-либо, потому что граждане с 1494 Д° !512 года
успели впитать и привыкнуть к народной и в высшей степени
свободной форме правления, при которой все чувствовали себя равными;
из-за этого им теперь гораздо сложнее заставить себя признать кого-
то над собой, тем более если это один человек, выступающий
полноправным судьей и властителем во всех делах».
213
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
populäre не существовало; город был расколот на отдельные
группировки, между главами которых шла борьба за власть. Когда
Козимо де Медичи ее добился, казалось, что он получил ее не
от popolo или universale1;, а «от некоего мессера Ринальдо дельи
Альбицци, некоего мессера Палла Строцци и других людей».
Popolo, которому эти группировки отказывали в способности
эффективно управлять, при Козимо не стал более политически
активным. Однако, когда лидеры различных группировок
потерпели поражение, народ почувствовал себя менее стесненным.
Кроме того, Медичи старались не показывать, что
контролируют все напрямую, а делили власть с узким кругом соратников,
не обладавших равными с ними правами. Тем не менее они
допускали определенную возможность participazione, так что даже
Лоренцо Великолепный, наделенный (как все же подразумевал
Гвиччардини) излишней властью над кругом своих
ближайших сподвижников, приобрел ее постепенно и не за один год2.
1. Зд.: совокупность всех граждан (итал.).— Прим. ред.
2. «Aggiugnevasi quello ehe importa assai, ehe la casa de' Medici non successe
a uno governo meramente populäre, ma essendo la città divisa ed in mano
di piu capi di fazione e fluttuata in simili modi lungo tempo... non parse ehe
lo stato si togliessi allô universale, ma a' capi di una altra parte; il ehe non
dispiaceva alli uomini mediocri e populari, ehe con queste mutazioni non
pareva diminuissono el grado loro ma piu tosto, per essere battuti e' maggiori,
miglioravano condizione. E cosi lo stato ehe nel 1434 venne in mano de' Medici
non parse tolto al populo, ma a uno messer Rinaldo degli Albizzi, a uno messer
Palla Strozzi ed a altri simili particulari; ed anche e' Medici non rimasono
assolutamente padroni di ogni cosa ma con qualche compagno, li quali benché
fussino inferiori a loro pure avevano qualche participazione [здесь это
слово употреблено впервые]; donde la grandezza ehe venne in Lorenzo non
fu a un tratto in casa sua, ma venne a poco a poco col corso di molti anni»
(Guicciardini F. Del governo di Firenze dopo la restaurazione de' Medici nel
1512. P. 262-263); «К этому добавлялся довольно важный момент:
господство дома Медичи не пришло на смену народному правлению в чистом
виде, но наступило в момент раздробленности, когда городом правили
несколько предводителей враждующих группировок, и такая
неопределенность длилась довольно долго... Это было похоже на отнятие власти
не у совокупности всех граждан, а у постоянно сменявшихся
предводителей; посредственные люди из народа были довольны, поскольку при
таких изменениях их положение не ухудшалось, а, напротив,
улучшалось из-за падения тех, кто был у власти. И поэтому это выглядело так,
что власть, которая в 1434 Г°ДУ оказалась в руках Медичи, была
отобрана не у народа, а у мессера Ринальдо дельи Альбицци, у мессера Палла
Строцци и у других отдельных представителей власти; да и сами
Медичи не стали полновластными властителями всего, а делили власть
с некоторыми сподвижниками, которые хоть и занимали подчиненное
положение по отношению к ним, но принимали некоторое участие [здесь
это слово употреблено впервые] в управлении; в связи с этим
могущество, которым оказался наделен Лоренцо, было обретено его родом не
сразу, а постепенно, по прошествии многих лет».
214
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
Однако в 1512 году ни одно из этих условий не сохранилось.
На протяжении восемнадцати лет Большой совет
обеспечивал широкие права участия в политической жизни большого
числа граждан, которые не утратили к ней вкуса и от которых
едва ли следовало этого ожидать. Медичи получили власть
непосредственно от universale, захватив ее столь внезапно и
резко, что последние не успели забыть опыт гражданской жизни.
Имея множество врагов и мало друзей, члены вновь
пришедшего к власти семейства вынуждены управлять напрямую
и открыто, таким образом усугубляя разрыв между настоящим
и недавним, еще не забытым прошлым1. Многие и немногие,
popolo и ottimati одинаково чужды власти, и, так как ее едва
ли можно разделить со многими, основная проблема, которая
стоит перед Медичи, — налаживание отношений с немногими.
В рассуждениях Гвиччардини сочетаются тезис о том, что
к участию в политической жизни стремятся ради самого
участия, и мысль, что нововведения и изменения опасны, ибо
быстрые и внезапные перемены не оставляют людям времени на
то, чтобы освоиться в новых обстоятельствах. Медичи первого
поколения получили власть не из чьих-либо рук и приобретали
ее постепенно. В Ц94 Г°ДУ неожиданная революция повлекла
I. «Oggi ogni cosa è diversa: a uno stato afatto populäre e larghissimo è succeduta
in uno momento la potenzia de' Medici, e ridotta assolutamente la autorità
e grandezza a uno; donde è nato ehe e lo stato si è tolto al populo ed a uno
universale di una città, e questa mutazione si è fatta in una ora, e sanzo
intervallo di tempo si è venuto da quai ehe era grato a' piu, a quello ehe
e' piu avevono esoso. E perô questa materia riesce per ogni conto piu difficile
[ср. употребление этого слова в цитате в прим. з на с. 209] avendo per
inimici uno numéro grande di cittadini, e' quali oggi si puô dire non abbino
nulla ed in quello stato avevono qualche participazione; né solo sono inimici
loro e' cittadini di questa sorte, ma ancora sono molti altri a chi dispiace
questo governo, e' quale per conoscere meglio la natura di questo maie e la
complessione di questo corpo, è da distinguerli in piu spezie» (Ibid. P. 263);
«Сейчас все иначе: в один момент на смену по-настоящему
народному и свободному государству пришла власть Медичи, все
полномочия и могущество сосредоточились в одних руках; отсюда следует, что
власть была отнята у народа, у совокупности граждан города, и это
изменение произошло за один час, и без всякого перерыва
положение вещей, которое нравилось большинству, превратилось в такое,
которое большинству было ненавистно. Но эта ситуация становится
тем более сложной [ср. употребление этого слова в цитате в прим. з
на с. год], что [у Медичи] было много врагов среди граждан, которые
теперь, можно сказать, не имели ничего, а до этого участвовали в
государственной жизни; к числу их врагов относятся не только такие
граждане, но и многие другие, которым не нравится такая форма
правления, а чтобы лучше понять природу этой болезни и состояние
этого тела, нужно разделить их на несколько групп».
215
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
за собой возможность всеобщего участия в политической
жизни, которую другая революция в 1512 году так же внезапно
устранила. Современных Медичи можно назвать «новыми
государями» хотя бы в двух отношениях: перемена, снова
поставившая их во главе города, была столь резкой, что никто не
успел привыкнуть к их правлению, и уже по одной лишь этой
причине они не могут править привычным образом. Вдобавок
ситуация в городе радикально изменилась по сравнению с тем,
что было до 1494 года: восемнадцать лет vivere populäre
привили universale вкус к участию в политической жизни — точнее,
к ним вернулся естественный вкус к ней, который при Козимо
и его наследниках оказался временно утрачен. Человеческая
природа или по крайней мере социальные и политические
наклонности людей поддаются изменению, но только две силы
способны производить подобные изменения: с одной стороны,
обычай и практика, действующие медленно, а с другой —
участие в политической жизни, быстро рождающее последствия,
противодействие которым требует некоторого времени.
Перемена сделала восстановленную власть Медичи
непрочной: они нажили много врагов, которые едва ли могли
свыкнуться с новым режимом и смириться с утратой participazione.
Впрочем, необходимо различать категории, на которые
можно подразделить этих врагов. Ненависть universale
неизлечима— не столько потому, что она сильна, столько оттого, что
для ее смягчения недостаточно восстановить Большой совет,
уничтожив который Медичи пришли к власти. Враждебность
различных групп из числа элиты — другое дело, и именно
они прежде всего интересуют Гвиччардини. В относительно
идеальном мире «Рассуждения в Логроньо» немногие, как мы
помним, определялись как те, кто жаждет славы, стремление
к которой делало их способными принести исключительную
пользу res publica. Здесь же подход совершенно иной. Для
начала Гвиччардини сбрасывает со счетов отдельные группы
непримиримых: наследственных врагов семьи Медичи и тех,
кому честолюбие и беспокойный характер не позволяют
служить власти как таковой1. Затем дается точное определение
ottimati: это люди, чье врожденное благородство или репутация
(essere tenuti, avère fama\ заслуженная ими благодаря
достоинствам и рассудительности, вознесли их на вершину в Ц94 году
ι. Guicciardini F. Del governo di Firenze dopo la restaurazione de' Medici nel
1512. P. 263-264.
216
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
и, вероятно, обеспечили бы им положение элиты в любой
системе правления. В целом едва ли следует их опасаться: ottimati>
чьи рассудительность и мудрость позволяют им добиться
положения в обществе, так или иначе выигрывают при любом
правительстве и что-то теряют, когда оно переживает крах. Как
несколькими годами позже более резко сформулировал Лодо-
вико Аламанни: «Со стороны мудрых нечего бояться, потому
что мудрецы никогда не вводят новшества»1. Но поскольку не
все люди мудры и даже мудрые могут ошибаться, когда
затронуты их интересы, то Гвиччардини говорит, что не взялся бы
предсказывать поведение большинства из них8.
Интонация, с какой он говорит об ottimati, явно изменилась.
Вместо того чтобы подчеркивать их жажду славы и
честолюбие, он рассуждает об их рассудительности или ее отсутствии.
В конце концов, рассудительность — вторая добродетель
гражданской аристократии; это умение действовать в настоящем,
заглядывая вперед, исключительное понимание ситуации, какое
отличает людей с уникальными способностями. Но главное не
то, что Гвиччардини теперь обращает внимание на другую
добродетель, а то, что изменились обстоятельства, определяющие
1. Albertini R. von. Das florentinische Staatsbeiwusstsein im Übergang von der
Republik zum Parinzipat. S. 370: «Questa fantasia da' vechi non si leverebbe
mai, ma e' sono savii et de' savi non si de' temere, perché non fanno mai
novità»; «Эта мысль никогда не покинет стариков, но они мудры, а со
стороны мудрых нечего бояться, потому что мудрецы никогда не
вводят новшества».
2. «...uomini adoperati da loro, e nondimeno ehe о per essere nobili e di paren-
tado, о per essere tenuti buoni, о per avere fama di prudenti, ebbono con-
dizione nello stato populäre, e darebbe loro forse el cuore trovare luogo in
ogni modo di vivere. Di costoro, perché hanno secondo li altri condizione
ragionevole con questo stato, non è da temere ehe si mettessino a pericolo per
travagliare lo stato... se gli hanno prudenzia о bontà doverrebbono desiderare
ehe questo governo durassi. <...> Ma perché li uomini non sono tutti savi ed
e' piu si ingannano ne' casi loro particulari, io non darei iudicio fermo dello
animo di una grande parte di costoro» (Guicciardini F. Del governo di Firenze
dopo la restaurazione de' Medici nel 1512. P. 263-264); «...люди, на которых
они опираются, и хотя они или будучи благородного происхождения,
или же породнившись со знатью, или прослыв добрыми гражданами
или же благоразумными, достигли какого-то положения в народном
государстве, и возможно, у них бы хватило духу найти себе местечко
при любой форме правления. От этих людей, поскольку они
занимают, по сведениям, хорошее положение при нынешней власти, не стоит
ждать, что они будут подвергаться опасности, чтобы чинить
неприятности этой власти... Если они благоразумны и рассудительны, то им
следовало бы желать, чтобы эта форма правления продлилась долго.
<...> Но поскольку не все люди мудры, и большинство заблуждается
в отдельных частных вопросах, я бы не стал с уверенностью
предсказывать, каким будет расположение духа большинства из них».
217
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
роль ottimati. Честолюбие являлось добродетелью тех, кто
принадлежал к элите в рамках vivere populäre и открыто действовал
на глазах у своих восхищенных, но критически настроенных
сограждан. Однако теперь степень участия ottimati и universale
в гражданской жизни снизилась, и вопрос, по сути,
заключается в том, смогут ли первые занять лидирующие позиции под
покровительством Медичи. Так как Медичи полностью
взяли власть в свои руки, между ними и отстраненными от дел
ottimati возникает конфликт. Учитывая, что к universale власть
не вернется, они не обрадуются, если ottimati вновь получат ее.
Поскольку имеет место нечто новое, происходит общий упадок
безопасности; люди становятся друг другу врагами. Гвиччарди-
ни подчеркивает, что необходимость в рассудительности, а не
в честолюбии — рассудительности, которая учит, какого курса
держаться кораблю, — существует в том же контексте (и
обусловлена им), что и характеристика элиты как группы,
выделяющейся своим происхождением и репутацией, а это почти
означало, что она есть дитя фортуны.
Далее он переходит к вопросу, решать который, что
немаловажно, по его мнению, должны именно Медичи, а не ottimati.
Какая тактика лучше всего подходит для восстановленного
режима: расположить к себе universale, в распределении наград
и должностей? Стараться максимально воспроизвести принцип,
по которому они бы распределялись при народном правлении?
Встать на защиту личной свободы против притеснения со
стороны сильных? Или же, наоборот, подавить всякие
проявления народной инициативы и править с опорой на узкий круг
сторонников, для которых только и должны предназначаться
все почести?1 За первым вариантом стоит вопрос, могут ли
мир, порядок и справедливость примирить многих с утратой
participazione; за вторым — могут ли ottimati сохранить за собой
статус элиты меньшей ценой, чем постоянная зависимость от
правящей семьи. В оставшейся части этого discorso Гвиччардини
перечисляет доводы в пользу первой стратегии. Для universale
хорошее правительство не замена самоуправлению. Они
предпочли бы не иметь никакого правительства, каким бы
справедливым и непредубежденным оно ни было в распределении
должностей: оно все равно не вернет им dolcezza* от участия
в Большом совете. Если прежнего влияния им предоставить
ι. Guicciardini F. Del governo di Firenze dopo la restaurazione de' Medici nel
1512. P. 265.
2. Зд.: удовольствие (итал).—Прим. ред.
2l8
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
нельзя, то следует подавить их устремления1. Однако Медичи
не могут сделать этого, если не привлекут на свою сторону
группу преданных приверженцев. Сторонников следует искать
среди честолюбцев, которым будут вверены обширные
должностные полномочия, но таким образом, чтобы стало ясно: их
полномочия зависят от Медичи и не устоят при их падении.
Честолюбие вместе с личной заинтересованностью сделают этих
людей ярыми адептами Медичи, а не равнодушными
друзьями. Но здесь Гвиччардини прерывает трактат 1513 года
словами, что он уже не согласен с этими аргументами8.
Вероятно, он полагал недостаточно благоразумным для
ottimati принимать сторону Медичи, открыто враждуя с popolo,
или недостаточно почетным — принимать настолько
несвободные условия, как прямая зависимость своего положения
от правящего семейства. Как он лично решал эту проблему,
нам известно. Как теоретик он разрабатывал модель, на
основании которой было трудно представить, как правление
Медичи может утратить ту опасную новизну, которая стала
причиной враждебного к ним отношения, и как
аристократия сможет избежать выбора между зависимостью от Медичи
1. «Alleganne ehe el primo intento di chi regge e governi ha a essere di conservare
se e lo stato suo, ed avendo questo intento li bisogna tenere bassi e battuti
quegli ehe li sono inimici e non si possono guadagnare per amici, e di questa
sorte dicono essere non solo quelli ehe si sono scoperti particularmente inimici
de' Medici, ma in génère tutto lo universale délia città, el quale non ha odio
con loro per ingiurie e paure private, ne perché governino ingiustamente, ma
solo perché avando gustata diciotto anni la dolcezza di quello vivere populäre,
vorrebbono ritornarvi ed ogni altra cosa displace loro. E perô né со* portamenti
buoni, né col favorire la giustizia, né col distribuire largamente li onori e li
utili si satisfaranno; anzi sempre desidereranno mutazione per ritornare a
quello consiglio grande e travagliarsi nel governo ed amministrazione publica»
(Ibid. P. 265-266); «Добавим, что первое устремление тех, кто
находится у власти, должно заключаться в собственной сохранности и
сохранении собственной власти, и, имея такую цель, они должны держать
в подчинении своих врагов и не могут получить выгоды от друзей,
и в этом положении оказались, по их собственным словам, не только
те, кто выступает как открытый враг Медичи, но и все граждане
города в целом: им Медичи ненавистны не из-за личной вражды или
страха и не потому, что те управляют несправедливо, но лишь из-за
того, что они за восемнадцать лет познали удовольствие народного
самоуправления, хотели бы снова вернуть это положение, и все
остальное их тяготит. И их не удовлетворить ни хорошим обращением, ни
справедливым правосудием, ни щедрой раздачей почестей и наград;
нет, они по-прежнему будут желать перемен, которые вернули бы им
Большой совет и возможность участвовать в управлении государством».
2. «...le quali benché paino colorate, io nondimeno ne sono in diversa opinione»
(Ibid. P. 266); «...хоть они и выглядят цветистыми, я тем не менее
придерживаюсь иного мнения». На этом трактат оканчивается.
219
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
и собственной гражданской свободой, но в сочетании с
Большим советом. Среди современников Гвиччардини имелись те,
кто готов был дать еще более беспощадный совет, чем тот, что
он отверг. Один из них, Паоло Веттори, в 1512 году писал,
обращаясь к кардиналу де Медичи, в меморандуме о его отъезде
в Рим и избрании на папский престол: «Ваши предки, —
говорил он главе семейства, — удерживали город умением (industriel),
а не силой; вы, однако же, должны держать его силой. Дело
в том, что с 1502 года город управлялся очень хорошо, и
память об этом всегда будет вам враждебна; у вас слишком
много недругов, чтобы удерживать власть с помощью какой бы то
ни было группы, которую вы могли бы сформировать в этих
стенах. Но подчиненной городу провинцией — contado —
управляли чрезвычайно скверно, и если вы вооружите ее и возьмете
под свое непосредственное покровительство, через полгода бы
будете в большей безопасности, чем если бы вас
защищала целая армия испанцев»1. То, что предлагал Веттори, было
ι. Albertini R. von. Das florentinische Staatsbeiwusstsein im Übergang von der
Republik zum Parinzipat. S. 345: «Li antecessori vostri, cominciandosi da
Cosimo e venendo infino a Piero, usorno in tenere questo Stato piu industria
ehe forza. A voi è necessario usare piu forza ehe industria, perché voi ci avete
piu nimici e manco ordine a saddisfarli. <...> Tenere appresso intelligentia
drento, tenere le gente d'arme a vostro proposito; ma tutte queste forze non
bastano, perché questa città è troppo grossa e ci sono troppi malcontenti...
perché voi avete a intendere ehe li dieci anni passati la citta è stata benissimo,
in modo ehe sempre la memoria di quai tempo vi farà guerra. Da Paîtra
parte, il contado e distretto vostro è stato malissimo, talmente ehe la città
voi non ve la potete riguadagnare, ma sibene il contado. Ε se voi lo armate,
e li armati intrattenete con il difenderli da' rettori di fuori e da' magistrati
di dentro ehe li assassinono, e ehe voi in fatto diventiate loro patroni, e non
passano sei mesi da oggi, ehe vi parrà essere piu securi in Firenze ehe se
voi avessi un esercito di Spagnuoli a Prato in favore vostro»; «Ваши предки,
начиная с Козимо и кончая Пьеро, удерживали город скорее
искусностью, нежели силой. Вы же должны держать его скорее силой, чем
искусностью, потому что у вас больше врагов и меньше средств, чтобы
сделать их довольными. <...> Для ваших целей нужно обладать умом
и окружить себя вооруженными людьми; но всей этой силы
недостаточно, потому что этот город слишком велик и в нем слишком много
недовольных... потому что вам необходимо учитывать, что в последние
десять лет город управлялся очень хорошо, и память об этом всегда
будет вам враждебна. С другой стороны, подчиненной городу сельской
провинцией — contado — управляли чрезвычайно скверно, так что
завоевать расположение города вы не можете, а провинции — да. И если
вы вооружите ее жителей и поставите их защищать вас от правителей
других земель и от городских магистратов, которые их истребляли,
и возьмете этих людей под свое непосредственное покровительство,
самое большее через полгода вы будете в большей безопасности во
Флоренции, чем если бы вас защищала целая армия испанцев,
базирующаяся в Прато».
220
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
противоположно сформулированной Макиавелли стратегии
организации гражданской милиции из contadini. Его мысль,
разумеется, состояла в том, что, поскольку у contadini не было
гражданских прав, они не выказывали желания защищать
город от испанцев1, но были бы рады помочь Медичи подчинить
себе город, который их эксплуатировал. Однако это не сделает
их гражданами. Веттори предвидел черту, действительно
присущую власти Медичи, когда после 1530 года развилась
система герцогского правления и представителям contado, пусть
они и не были вооружены, отдавалось предпочтение. Впрочем,
к тому времени речь уже не шла о том, что Медичи правят как
граждане среди других граждан.
Природа стоявшей перед аристократией дилеммы теперь
была совершенно ясна. Она в достаточной мере ощущала свою
исключительность и элитарность, чтобы приветствовать
поражение Большого совета и перспективу поддержания governo
stretto вместе с Медичи. В то же время аристократия
беспокоилась о том, чтобы остаться гражданской, не зависящей ни от
какого правителя и существующей в условиях равенства, в
котором и Медичи могла отводиться лишь роль primus inter pares.
Впрочем, и Гвиччардини, и Веттори — и не только они —
отчетливо сознают, что, даже если это было возможно в
обстановке 1434~~1494 годов, то теперь все иначе: слишком многое
изменилось с поражением Пьеро, с учреждением и ликвидацией
Большого совета. В идеализации Лоренцо Великолепного явно
чувствовалась ностальгия по тому периоду — за ней стоял миф
о золотом веке, когда идеал государя как первого среди равных
и принципата по образу правления императора Августа был
реальностью. Острота флорентийской политической мысли
отчетливо ощущается всякий раз, когда следует указание на то,
что при Савонароле многие, как и немногие, располагали
возможностью participazione и чувствуют ее недавнюю утрату.
Поэтому, если предполагать, что ottimati старались подтолкнуть
Медичи в нужном им направлении и добиться отношения
к себе как к равным, то представители popolo, движимые
ревнивой жаждой прав, которые никто не собирался им возвращать,
должны были, в свою очередь, стремиться повлиять на
Медичи. Popolo желал, чтобы они, с одной стороны, пошли на
уступки ottimati, с другой — сделали ottimati настолько зависимыми
I. Мысль, которую, вероятно, сам Макиавелли никогда в своих
произведениях не признавал.
221
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
от своей власти, что эти уступки не принесли бы тем
практически ничего. С этой точки зрения, Гвиччардини можно
отнести к тем, кто сомневается, смогут ли ottimati оставаться
гражданской аристократией без гражданской свободы. Вот почему
он склонялся (хотя все больше только теоретически) к форме
восстановления participazione для многих, рисуя Медичи во
главе города, управляемого скорее по венецианскому образцу. Вет-
тори же говорит от лица тех, кто готов был обеспечить
возвышение аристократии, при котором ее представители стали бы
сподвижниками Медичи в рамках правления, не основанного
на первенстве среди равных, даже если это означало полный
отказ от попыток установить во Флоренции гражданское
общество классического образца. Больше всего поражает, что оба
они говорят о Медичи как о новаторах, чье правление является
«новым» как в том смысле, что люди к нему не привыкли, так
и в том, что оно есть результат изменившихся обстоятельств.
Эта новация, под которой подразумевается не столько
обретение многими возможности participazione в Ц94 Г°ДУ> сколько ее
потеря в 1512-м, делает участие в гражданской жизни
значительного числа людей затруднительным или даже невозможным.
Поэтому либо следует восстановить прежние условия, либо
город должен смириться с установлением новых, негражданских
политических отношений.
В написанных в 1516 году работах мы видим схожие идеи.
Необходимо отметить, что в этот момент содержание
«Государя» Макиавелли могло стать известным в некоторых
флорентийских кругах, хотя примерно тогда же он только завершил
посвящение трактата Лоренцо де Медичи, герцогу Урбинскому.
Посвящение было написано в контексте все усиливающейся
болезни Джулиано, его смерти в марте 1516 года,
возрастающей военной активности Лоренцо и завоевания им герцогства,
титул правителя которого он теперь носил. Макиавелли имел
в виду Медичи, когда писал свое исследование о «новых
государях», и думал об их роли во флорентийской политике, а не
о приобретении новых владений и территорий в
Центральной Италии. В связи с этим интересно, что параллели с его
идеями особенно очевидны в работе Гвиччардини о том, «как
обеспечить правление дому Медичи»1, написанной как анализ
ситуации после трех лет понтификата Льва X. Избрание этого
ι. Guicciardini F. Del modo di assicurare lo stato alla casa de' Medici // Guic-
ciardini F. Dialogo e discorsi del Reggimento di Firenze. P. 267-281.
222
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
папы, по словам Гвиччардини, удивительным образом
укрепило власть семейства во Флоренции. Главным же его
последствием оказалось то, что родичи папы перестали заботиться
об упрочении своего положения в родном городе в погоне за
властью над другими частями Италии. Опрометчивость
подобной политики очевидна. В таких местах, как Урбино, их
власть нова, и негодование, вызванное ее захватом, еще живо.
Само их правление настолько зависит от продолжительности
жизни и срока папства одного человека1, что Гвиччардини
проводит параллель, очевидную для всех, кто читал
«Государя»,— параллель с Чезаре Борджиа, чья власть строилась на
папстве его отца и рухнула со смертью последнего. Что еще
более примечательно, он переходит к рассмотрению примера
Франческо Сфорца, завоевавшего власть в Милане, жители
которого давно привыкли к правлению семьи Висконти.
Благодаря женитьбе на внебрачной дочери последнего герцога
Висконти Сфорца сумел предстать в роли их законного наследника2.
ι. «...possono, vivente el pontefïce, valersi assai délia opportunità e potenzia
di qui a acquistare stati e colorire e' loro disegni; morto el pontefïce, chi
non vede quanto importera questo braccio a mantenersi quello ehe aranno
acquistato? Gli altri stati da loro medesimi saranno difficili anzi difficillimi
a conservarii, perché saranno nuovi, aranno tutti opposizione potentissime о di
vicini potenti о di chi vi pretenderà su diritto, о di pessime disposizione di
populi; in questo, adattandocisi bene drento, non sarà difficile el mantenercisi,
perché el governare loro questo stato non offende né toglie a persona se non
a' cittadini medesimi, a quali satisfare, corne di sotto si dira, non è difficile»
(Ibid. P. 269); «...могут, пока жив папа, успешно воспользоваться
возможностью захватить новые владения и довести до конца начатое; но
после смерти папы — это ясно любому — чего будет стоить нынешняя
власть, как она сможет удержать завоеванное? Им будет сложно,
невероятно сложно удержать власть над другими землями, потому что
там все изменится, все они будут оказывать сильнейшее
сопротивление при поддержке могущественных соседей либо законных
претендентов на власть или же путем народного восстания; здесь же, если
приспособиться изнутри, будет несложно удержать власть, потому что,
управляя этим государством, вы ничего не отнимаете ни у.кого,
кроме самих его граждан, а их сделать довольными, как будет подробнее
сказано ниже, несложно».
2. «...abbiamo lo esemplo del Valentino e la ragione ci è manifesta; perché
privati acquistare stati grandi è cosa ardua ma molto piu ardua conservarii,
per infinite difficultà ehe si tira drieto uno principato nuovo, massime in
uno principe nuovo. Riusci solo a Francesco Sforza el conservarsi nello stato
di Milano ma vi concorsono molti cagione. <...> Aggiunsesi ehe trovo uno
stato ehe, benché avessi goduto libertà, era solito a essere signoreggiato da
altri, ed a chi era tanto disforme la libertà quanto e disforme a' populi liberi
la servitù; tutte condizioni da fare facilita grandissima a conservare, e ehe
rare volte si abattono a chi acquista nuovi domini, e' quali el piu délie volte
si tolgono a' populi liberi о a' signori naturali. Lui piu tosto si puô dire ehe
occupassi una eredità vacante, ehe togliessi nulla di quello di altri; anzi parve
223
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
Но Медичи не являются наследными правителями Урбино,
где их власть сродни власти Борджиа. Хотя во Флоренции их
тоже нельзя назвать ngnori naturally но там их власть узаконена
за счет принадлежности к категории граждан, чье
превосходство утверждалось civilmente е privatamente?'*. Подобно тому как
мудрые рулевые и мореплаватели пользуются штилем, дабы
осмотреть корабельные мачты и снасти, так и они должны
использовать годы жизни Льва X, чтобы укрепить во Флоренции
свою власть на единственном основании, благодаря которому
она может его пережить. Этим основанием являются, конечно,
гражданские отношения в городе — и интересно, как аналогия
с рулевым почти на полуслове переходит в аналогию с врачом,
лечащим больного, состояние которого можно улучшить, пусть
сам недуг полностью исцелить и нельзя3.
a quai populo avère beneficio grande ehe li pigliassi, vedendosi per quello
modo trarre di bocca a' viniziani, di chi naturalmente erano mimicissimi»
(Guicciardini F. Del modo di assicurare lo stato alla casa de' Medici. P. 270-
271); «...перед нами пример Валентина и здравый смысл налицо; ведь
захват крупных государств — трудная задача для одного человека, но
еще труднее удержать власть над ними, из-за бесконечного множества
сложностей, связанных с правлением новым государством, особенно
для нового [= не наследного] государя. Лишь Франческо Сфорца
удалось сохранить власть над Миланом, но это стало возможным
благодаря стечению ряда обстоятельств. <...> Нужно добавить, что он
пришел править государством, которое, хоть и было какое-то время
свободным, привыкло иметь правителя, и ему была чужда свобода
настолько же, насколько свободным народам чуждо подчинение; все
эти условия сильно упрощают задачу сохранить власть, и те, кто
захватывает новые владения, в них оказывается очень редко, ведь чаще
всего завоевывают свободные народы или захватывают власть у
законных правителей. А он, можно сказать, вступил во владение
наследством в отсутствие наследников, ничего не отнимая у других;
напротив, тот народ, похоже, был рад, что переходит под его власть
и благодаря этому избегает господства венецианцев, своих заклятых
врагов». Нетрудно поверить, что когда Гвиччардини писал этот
фрагмент, он был знаком с текстом «Государя».
1. В гражданском и частном порядке (итал.). — Прим. ред.
2. «...benché gli abbino uno papa, e' non sono pero signori naturali, anzi cittadini
e discesi di padri ehe vissino benché fussino grandi, sempre civilmente
e privatamente» (Ibid. P. 270); «...хоть папа и относится к их роду, они
не являются естественными правителями, но гражданами и
потомками людей, [завоевавшими репутацию благодаря заслугам] в
общественной и частной жизни, несмотря на высокое положение».
3- «E se bene la grandezza del papato non lascia conoscere questo danno, non
è ragione sufïïciente a sprezzarlo perché le qualità de' tempi e félicita si
mutono, ed è debole cosa essere tutto fondato in sulla vita di uno uomo solo,
quale quando morissi, se vedrebbono li effetti di questi disordini. <...> E perô
come e* marinai prudenti quando sono in porto о in bonaccia rassettano
el loro legno e tutti li instrumenti di quello per potere resistere alla futura
tempesta, cosi chi ha in mano el timone di questo stato doverrebbe in tanto
224
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
Болезнь, о которой идет речь, — та же, о которой
Гвиччардини писал в 1513 году: склонность Медичи полагать, что они
должны открыто взять все дела в свои руки, никому не
доверять, но видеть во всех потенциальных соперников и
быстро обуздывать тех, чье соперничество грозит стать
реальным1. Гвиччардини очевидно: власть Медичи опирается на
столь узкую группу, что становится все более непрочной. Это
тем более печально, что для такого недоверия особых причин
нет. У аристократии, утверждает он, теперь нет другого выхода,
кроме как поддерживать Медичи. Она в такой степени
потворствовала разрушению Большого совета в 1512 году и в такой
степени стала с ним ассоциироваться, что народ приписывает
ей содействие восстановлению Медичи у власти. Невозможно
вернуться к обстановке 1494 года, когда Медичи были
высланы из города. Ottimati заняли лидерские позиции в
установившемся режиме. Сейчас любое народное восстание
привело бы к утрате ими статуса элиты (как Гвиччардини увидит
в 1529-15З0 годах)2. Поэтому ottimati не представляли никакой
ocio е commodità rassettare е disporre bene tutte le membre di questo corpo,
per potere in ogni accidente ehe venissi, valersi di tutto el nervo e virtù
sua. Il ehe certo chi considerassi bene le cause e le origine di questi mali,
non doverrebbe diffîdarsi di potere sanza difficultà grande conduire questo
ammalato se non in ottima, almeno in buona disposizione» (Ibid. P. 268);
«И хотя величие папства не дает осознать этот ущерб, это не
должно стать причиной им пренебрегать, поскольку счастливые времена
сменяются несчастливыми, и основывать все на жизни одного-един-
ственного человека — признак слабости, ведь когда он умрет, станут
заметны последствия этих беспорядков. <...> Как благоразумные
моряки в порту или в штиль приводят в порядок свое судно и все
инструменты, необходимые для противостояния буре, так и тому, кто
стоит у руля этого государства, в такой спокойный и приятный период
следовало бы привести в порядок все части этого тела, чтобы в
будущем в любой неблагоприятной ситуации использовать все силы этого
тела. Несомненно, тот, кто внимательно изучит все причины этих
болезней, должен без особого труда смочь если не полностью вылечить
этого больного, то хотя бы сильно улучшить его состояние».
ι. Ibid. Р. 272-273·
2. «...е nondimeno era uno zucchero a petto a quello ehe diventerebbe se si facessi
nuova mutazione, perché a iudicio mio, della larghezza ehe era allora a quella
ehe si introdurrebbe sarebbe tanta differenzia quanta è dalla strettezza ehe
è oggi a quella ehe era a tempo di Lorenzo. Cosi causerebbono e' sospetti, la
rabbia e la ignoranzia degli uomini in chi verrebbe lo stato; ne sia alcuno ehe
pensi ehe la fussi mutazione simile a quella del 94, dove li amici de' Medici,
ehe erano el flore della città, furono conservati e doppo pochi mesi messi
insieme con li altri in participazione del governo. Oggi sarebbe pericoloso
non si facessi crudelmente... porterebbe pericolo di esilio, di perdita di beni
e simili ruine...» (Ibid. P. 275); «...и тем не менее это была сладкая участь
по сравнению с той, что наступит, если снова произойдут перемены,
потому что, на мой взгляд, между былой щедростью и той, что будет
225
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
опасности для правящей семьи, которая могла бы с выгодой
для себя искать их дружбы, обеспечить себе таким образом
свободу действий и укрепить свои позиции, заручившись их
помощью, советом и преданностью.
В своем трактате Гвиччардини, по-видимому, более
обычного отождествляет себя с группой, для которой пишет:
постоянно употребляется форма первого лица множественного
числа, и здесь явно слышна нота отчаяния. Можно задаться
вопросом: не разрушают ли его доводы претензию аристократов
на отношение к ним как к равным в самой ее основе,
оставляя на их долю лишь почтительность и зависимость?
Существует еще одно discorso, датируемое более поздним, 1516 годом,
и посвященное укреплению власти Медичи. Сочинитель
рассуждения защищает еще более радикальную и хитрую
политику, чем даже та, что была предложена Паоло Веттори. Его
автор, Лодовико Аламанни1, согласен с Гвиччардини в том,
что непрочность положения Лоренцо в Италии, зависящего
от жизни Льва X, делает тем более необходимым
укрепление постоянной власти Медичи во Флоренции2. Однако
Аламанни кардинально расходится с Гвиччардини во взглядах
на то, как можно этого добиться. Он разделяет мнение, что
широко распространенное среди граждан желание
участвовать в управлении городом постоянно затрудняет удержание
власти в руках небольшого числа людей, но заявляет, что
тогда, такая же разница, как между сегодняшними притеснениями
и теми, что были во времена Лоренцо. Это может привести к
подозрениям, гневу и неосведомленности людей, к которым может перейти
власть; никто из них не допускает мысли, что эта перемена будет
подобна 94 году, когда друзья Медичи, цвет городской элиты, остались
[во Флоренции] и через несколько месяцев были допущены к
управлению государством наравне с другими. Сейчас было бы опасно
проявить недостаточную жестокость... это может оказаться опасно
изгнанием, потерей имущества и прочими невзгодами...».
1. Discorso di Lodovico Alamanni sopra il fermare lo stato di Firenze nella
devozione de' Medici // Albertini R. von. Das florentinische Staatsbeiwusstsein
im Übergang von der Republik zum Parinzipat. 'S. 362-371. «Речь
Лодовико Аламанни о том, как поддержать во флорентийском государстве
преданность дому Медичи» — такое название дал тексту Роберто Ри-
дольфи. О жизненном пути Аламанни и о том, что его не следует
смешивать с Луиджи, его братом-республиканцем, см.: Ibid. S. 43~45· См.
также: Guidi G. La teoria délie 'tre ambizioni' nel pensiero politico fïorentino
del primo Cinquecento // Il pensiero politico. Vol. 5 (1972). P. 241-259.
Английский перевод этого трактата можно найти в издании: Social and
Economic Foundations of the Italian Renaissance. New York, 1969. P. 214-220.
2. Discorso di Lodovico Alamanni sopra il fermare lo stato di Firenze nella
devozione de' Medici. S. 363.
226
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
знает, как превратить это стремление во что-либо иное. Этой
цели нельзя достичь террором: если насилие будет
неразборчивым, то неизбежно приведет к уничтожению не только
врагов, но и друзей, а если прицельным, то репрессии следовало
отложить до тех пор, пока враги не выдадут себя. Не поможет
здесь и высылка граждан, которые объединятся в группы
непримиримых заговорщиков, равно как и убийство людей без
суда, которое еще больше осложнит отношения и
запятнает репутацию правителя. Римские запреты были возможны
лишь потому, что за пределами Рима не существовало другого
центра власти, а Агафокл, правитель Сиракуз, и Оливеротто
да Фермо были такими отчаянными преступниками, что их
едва ли волновали последствия их поступков1. Аламанни был
знаком с Макиавелли, и его слова наводят на мысль, что он
читал «Государя», где Агафокл и Оливеротто фигурируют
исключительно как злоумышленники. Впрочем, его мысль идет
в направлении, которое нельзя назвать близким ни к
концепции Макиавелли, ни к теории Гвиччардини. Аламанни, как
и все остальные, знал, что в I434-I494 годах Медичи
правили, сформировав группу граждан, обязанных им своей
должностью и положением и в выполнении своих общественных
функций послушных их желаниям. Как приверженцы власти
аристократии, так и сторонники республики в своих
размышлениях исходили из следующего утверждения: даже если до
1494 года эта практика не приводила к нестабильности,
возобновить ее в изменившихся условиях 1512 года невозможно.
Аламанни весьма пространно оспаривал эту точку зрения2,
ι. Ibid. S. 366-368.
2. «...so ehe molti altri sono ehe contradicono col dire ehe per essere e' tempi
et le conditioni diverse, bisogna pensare ad diversi modi, perché quegli
medesimi non servirebbono. Ma io dico ehe d'alhora in qua le difficultà
son bene multiplicate, ma non già variate о cresciute. Et per quelle ehe son
vechie et consuete, sono optime e' vechi modi di Lorenzo vechio; et per
queste ehe di novo ce si conoscono, sono ancora de* remedii promptissimi
et sicuri, in modo ehe cosi sia facile il tenere hora questo stato corne se fussi
alhora il tener quello. Et quando bene ad alcuni paressi il contrario, e' quali
afïïrmassino quelli tempi havere piu vantaggio ehe questi, alleghino quel ehe
voglino, ehe a tucto responderâ la ragione» (Ibid. S. 368); «...знаю, что
многие другие не согласны с мнением, что поскольку изменились времена
и положение вещей, то нужно и действовать по-другому, потому что
старые методы не принесли бы успеха. Но я утверждаю, что с тех пор
сложности хоть и умножились, но не изменились и не выросли. И раз
это старые и хорошо знакомые сложности, то старые методы
старого Лоренцо отлично подходят; и опять-таки, поскольку они хорошо
известны, то это надежные и быстрые средства, с помощью которых
будет просто держать в порядке нынешнее государство, как это было
227
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
приводя доводы, кульминацией которых стало отрицание им
тезиса Савонаролы и Гвиччардини, что пристрастие
флорентийцев к гражданскому participazione неискоренимо.
В гражданском коллективе, утверждал он, переходя на
знакомый язык1, есть три уровня честолюбия. Некоторые
честолюбивы настолько, что хотят участвовать в высших
правительственных советах; другие стремятся лишь принимать почести
и звания; честолюбие же третьих сводится к желанию, чтобы
их оставили в покое и не мешали им заниматься личными
делами. Третьи, разумеется, были многими по Аристотелю,
и нетрудно увидеть, как ограниченность, накладываемая
аристотелевской социологией знания на их политическое
мышление, могла использоваться для сведения их participazione
почти к нулю. Аламанни не затруднялся с ответом на вопрос,
как Медичи могут найти подход к третьей и второй группе.
Именно в отношении третьей группы — благородной и
честолюбивой элиты, описанной Гвиччардини в «Рассуждении
в Логроньо», — он в рамках языка своей эпохи проявил
оригинальность как политический мыслитель. Люди являются
такими, какие они есть, соглашался он со множеством своих
предшественников, благодаря привычкам, ставшим их
второй натурой. По достижении определенного возраста или
этапа природу уже нельзя изменить никакими обыкновенными
средствами. Среди самых честолюбивых флорентийцев есть
немолодые люди, настолько приученные добиваться
положения в обществе посредством участия в гражданской жизни, что
они никогда не смогут примириться с режимом, который
отнимет у них возможность открытой конкуренции и
безграничных наград. Другое дело — люди помоложе. Существует
альтернативная форма политической культуры, которую можно
просто с тогдашним. И хотя некоторые придерживаются
противоположной точки зрения и говорят, что те времена были благоприятнее
нынешних, пусть они ссылаются на кого им угодно, ибо разум
расставит все по местам».
I. «Diranno апсога ehe a tempo di Lorenzo non era stato un Consiglio grande
come è questo, ehe tanto aliéna dallo stato le menti de' cittadini: et io dico
ehe questa difïïcultà non è si grande ehe la non si medichi agevolmente,
perché infra e' cittadini fiorentini sono di tre sorte di animi...» (Discorso
di Lodovico Alamanni sopra il fermare lo stato di Firenze nella devozione
de' Medici. S. 368-369); «Они также скажут, что во времена Лоренцо не
существовало такого Большого совета, как сейчас, и что он
отдаляет умы граждан от государства, а я говорю, что это не такая
большая сложность, чтобы ее нельзя было без труда вылечить, потому
что среди флорентийских граждан можно выделить три душевных
склада...».
228
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
использовать, дабы отвлечь их от гражданской деятельности
(civilità). Это — стремление к славе alii costumi cortesani1,
придворной жизни, не менее почетной и — как могут подтвердить
ее поклонники — не менее свободной, чем жизнь гражданская.
Кастильоне в своей классической работе о придворной сфере,
оконченной в 1518 году, избрал местом действия Урбино, цель
устремлений Лоренцо, и сделал Джулиано одним из
участников своего диалога. Образ жизни молодого аристократа связан
со служением своему государю. Аламанни сухо и без
свойственного Кастильоне рвения перечислил его особенности: близость
к правителю, служба в его гвардии, выполнение
дипломатических поручений в интересах государя, более строгая форма
одежды, подчеркивающая отличие от гражданской
аристократии (здесь интерес Гвиччардини к законодательству против
роскоши был спародирован и повернут против него). С
помощью указанных отличий умный правитель может привлечь
к себе молодых людей, заранее опровергнуть упрек в том,
что их жизнь несвободна, и менять их привычки, ценности
I. «Ma е' sono avezzi in una certa loro asineria piu presto ehe libertà, ehe
in Fiorenza non degnano di fare reverenda a qualunche, bene la meritassi,
si non a' suoi magistrati, et a quegli per forza et con fatica. Et per questo
sono tanto alieni da' modi delle corte, ehe io credo ehe pochi altri sieno
tanto; non dimeno, quando sono di fuori, non fanno cosi. Credo procéda da
questo ehe nel principio dovea parère loro cosa troppo disadacta il cavarsi
quel loro cappuccio; et questa loro infingardagine si ridusse in consuetudine,
et di consuetudine in natura; et per quel ehe io lo credo, è ehe quando
e' sono fuor della loro terra et di quello habito, manco par loro fatica assai
el conversare со' principi. Questa fantasia da' vechi non si leverebbe mai, ma
e' sono savii et de' savi non si de' [sic] temere, perché non fanno mai novità.
E' giovani facilmente si divezzarebbono da questa civilità et assuefarebbonsi
alli costumi cortesani, se'l principe volessi» (Ibid. S. 370); «Но они привыкли
не к свободе, а скорее к непочтительной манере, ведь во Флоренции
не снисходят до вежливого обращения ни с кем, кто его заслуживает,
за исключением разве только своих магистратов, да и в этом случае
выходит вынужденная и натянутая вежливость. И по этой причине
они далеки от придворных манер, как мало кто еще; тем не менее за
пределами своего города они так себя не ведут. Думаю, что дело вот
в чем: сначала они считали, что снять этот свой капюшон в знак
почтения — это слишком большое неудобство, потом эта их
бесцеремонность со временем превратилась в привычку, а привычка в саму их
природу; и поэтому я думаю, что, когда они оказываются за
пределами своего города и одеваются иначе, им не слишком и трудно вести
беседу с государями. Эта мысль никогда не покинет стариков, но они
мудры, а со стороны мудрых нечего бояться, потому что мудрецы
никогда ничего не меняют. А молодые легко отвыкли бы от этой
гражданской деятельности и свыклись бы с придворным образом жизни,
если бы государь этого захотел».
229
ГЛАВА V. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
и характер, пока конфликт между властью и participazione не
лишится всякого смысла1. Великое герцогство Тосканское,
основанное другим Козимо де Медичи через двадцать лет после
того, как Аламанни писал эти строки, строилось именно на
такой политической культуре, прав ли он был или нет в
своих прогнозах относительно того, как вытеснение
гражданского идеала придворным повлияет на характер флорентийцев.
Как может показаться, когда мы перейдем к следующей
части нашего исследования, Аламанни решил проблему,
которая ускользнула от Макиавелли, если только тот не
уклонился от нее сознательно: он показал, как «новый государь»
может упрочить свое положение, привлекая на свою сторону
скрепляющее воздействие обычая, и сделал это, исходя из
понимания привычки как «второй натуры» и из существования
альтернативной политической культуры, к которой
Макиавелли и Гвиччардини оставались совершенно равнодушны.
Но нас в первую очередь занимает проблема, в контексте
которой мыслили все эти флорентийцы, — проблема новации.
Гвиччардини, Веттори и Аламанни анализировали положение
вновь пришедших к власти Медичи с точки зрения того, что
I. «Ultra questo, quel ehe piu è da stimare, gli divezzerà da quella civilità ehe gli
aliéna si da' suoi costumi; percio ehe a quegli ehe per Sua Ex.tia piglieranno la
cappa et lasciaranno el cappuccio, interverrà come se si facessino frati, perché
renuntiaranno alla republica et faranno professione alPordine suo et mai piu
poi potranno pretendere al grado civile о alla benivolentia del populo: et per
questo tucta la loro ambizione si volgerà ad guadagnarsi el favore de Sua
Ex.tia... Et correndo li anni, di mano in mano, se si terra il medesimo ordine
di eleggere et di chiamare ad se quegli giovani ehe verranno su, e quali hora
sono fanciulli, rimettendo al governo délia città quegli ehe hora son giovani
et alhora saranno vechi, allevati nondimeno nella sua scuola, ne nascerà ehe
nella città nostra non si saprà vivere senza un principe ehe gPintractenga
dove hora pare tucto il contrario» (Discorso di Lodovico Alamanni sopra il
fermare lo stato di Firenze nella devozione de' Medici. S. 370-371);
«Помимо этого, что ценнее всего, их заставят отвыкнуть от той
гражданской деятельности, которая их отдаляет от их образа жизни; поэтому
с теми, кто ради Вашего Сиятельства наденет плащ и снимет
капюшон, произойдет то же, что с теми, кто стал монахом, потому что они
отрекутся от республики и будут служить вам, и больше никогда они
не смогут претендовать на гражданскую должность или на народную
любовь: и поэтому все их честолюбие будет направлено на то, чтобы
завоевать благосклонность Вашего Сиятельства... И постепенно, по
прошествии лет, если вы сохраните тот же порядок, выбирая и
призывая к себе молодых людей, которые сейчас дети, а к тому времени
вырастут, и будете обратно отправлять управлять городом тех, кто
сейчас молод, а к тому времени состарится, получив воспитание в
вашем окружении, тогда в нашем городе больше не смогут жить без
государя, который будет заботиться о подданных, в то время как сейчас
ситуация представляется ровно противоположной».
230
А) ГВИЧЧАРДИНИ И МЕНЬШИЕ OTTIMATI, 1512-1516
в этом правлении было непривычного и ранее неизвестного.
Они рассматривали новое, чтобы понять, как оно влияло на
избранную ottimati и якобы традиционную для них роль
предводителей гражданского общества. Более консервативные и
гуманистически настроенные мыслители (в особенности члены
кружка, собиравшегося в Садах Оричеллари, о котором мы еще
поговорим подробнее) склонялись к идеализации Венеции на
основании теорий Аристотеля и Полибия, более радикальные
и решительные в своем отказе от гражданского идеала в пользу
придворного. Но главной темой оставались инновация и новый
государь. В таком контексте «Государь» Макиавелли,
написанный в 1512—1513 годах, предстает в новом свете — как
величайшее из теоретических исследований политики нововведений
или реформ. Отсутствие у Макиавелли аристократического
положения — он принадлежал ко второму из трех классов,
выделенных Аламанни, — освобождало его от того, что заботило
представителей аристократии. Он никогда бы не смог стать ни
сенатором, ни придворным. Его ум был открыт исследованию
захватывающего вопроса об отношениях нового государя с его
окружением. Именно это придает «Государю» статус
интеллектуальной революции — прорыва в область новой теории.
Глава VI
Реставрация Медичи
Б) «Государь» Макиавелли
Макиавелли, начав работать над «Государем» в 1512 году, не
рассматривал в своем трактате инновацию с точки зрения ее
влияния на жизнь и свободы граждан. Этому сюжету посвящен его
труд о республиках. Иными словами, Макиавелли не
отождествляет себя ни с ottimati, которые стремились вернуть себе статус
гражданской элиты, ни с теми — Аламанни в 1516 году
определил бы их как сторонников Савонаролы, — кто требовал
восстановления Совета и права participazione для всех. «Государь» — это
не идеологическая работа в том смысле, что она не выражает
точку зрения какой-либо группы. Скорее мы имеем дело с
аналитическим исследованием инновации и ее последствий. В этой
перспективе Макиавелли напрямую переходит к рассмотрению
вопроса, вызванного нововведениями и упадком гражданского
общества. Речь шла о проблеме фортуны, к которой Гвиччарди-
ни и меньшие ottimati не обращались, возможно, потому, что их
ощущение своей принадлежности к элите было все еще
достаточно сильным, и они не могли сомневаться в относительной
прочности собственного положения. Макиавелли вел слишком
уязвимое существование и не мог сказать того же о себе.
Впрочем, проведенный им теоретический анализ был совместим
с интеллектуальной позицией аристократии. Если
рассматривать политику как искусство справляться со случайными
обстоятельствами, то она есть именно искусство справляться с
фортуной как силой, управляющей подобными обстоятельствами
и потому олицетворяющей чистую, не поддающуюся контролю
и не знающую закономерностей случайность. По мере того как
политическая система теряет свою универсальность и
предстает как нечто партикулярное, делать это ей становится все
труднее. Республика может возобладать nanfortuna, лишь объединив
своих граждан в самодостаточную universitär. Однако она, в свою
I. Зд.: общность (лат.).—Прим. ред.
232
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
очередь, зависит от свободного участия и морального согласия
граждан. Упадок гражданского общества ведет к закату
республики и торжеству фортуны. Когда причиной заката
оказывается инновация — неконтролируемое событие, влекущее за собой
неконтролируемые последствия во времени, — то эффект
усиливается. Макиавелли, говоря о «новом государе» —
правителе-новаторе — отделяет его от желания ottimati и других продолжать
действовать в качестве граждан. Он рассматривает государя и тех,
кем он правит, как людей, действующих только в отношении
fortuna. Тему конфликта гражданского коллектива с fortuna — он
оставил для своих «Рассуждений».
Еще один тезис, напомнить о котором никогда не лишне,
состоит в том, что проблема fortuna — это проблема добродетели.
Для любого, кто мыслил в традиции Боэция, virtus была
инструментом, благодаря которому достойный человек придавал
форму своей fortuna. Гражданский гуманизм, отождествлявший
достойного человека с гражданином, политизировал
добродетель и полагал ее зависящей от добродетели других. Если
virtus могла существовать лишь там, где граждан объединяло
стремление к res publica, значит, политейя (politeia) или
конституция — описанная Аристотелем структура участия в
гражданской жизни, дифференцированная по функциям, —
практически приравнивалась к самой добродетели. Если достойный
человек мог проявлять свою добродетель лишь в системе
гражданского коллектива, то разрушение этой системы, по
причине навязанного силой новшества или раболепства одних
людей перед другими, приводило к угасанию добродетели как
власть имущих, так и безвластных. Тиран не мог быть
добродетельным, потому что у него не было сограждан. Однако
стойкость республики перед внутренними и внешними
потрясениями — фортуной, символизировавшей случайность, —
отождествляется с virtus, которую римляне противопоставляли
fortuna. Добродетель граждан гарантировала стабильность по-
литейи и наоборот. И с политической, и с нравственной
точки зрения, vivere civile являлась единственной защитой от
владычества фортуны и необходимой предпосылкой добродетели
отдельного человека. Макиавелли в наиболее скандально
известных фрагментах «Государя» обращается к формальному
применению заимствованного у римлян понятия. Он задается
вопросом: существует ли некая virtù, с помощью которой
новатор, не стесненный общественной моралью, может придать
форму своей fortuna? Будут ли подобная virtù или какие-либо
233
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
возможные политические последствия ее проявления
заключать в себе нечто моральное? Поскольку эта проблема
существует лишь как результат инноваций, представляющих
собой политический акт, ее следует рассматривать в контексте
последующих политических действий.
Хотя мы интерпретируем «Государя» с помощью
формального и аналитического подхода, сам трактат нельзя назвать
формальным или аналитическим. Мы предпримем попытку
выявить некоторые заложенные в тексте смыслы за счет
отнесения их к двум интеллектуальным моделям: одна из них
относится к способам познания и действия на основе
конкретных явлений, доступных, по всей видимости, средневековой
и ренессансной политической мысли, а другая раскрывает
особенности представлений гуманистов и флорентийцев о
гражданском обществе, добродетели nfortuna. Любой
аналитический подход неизбежно ограничен собственной методологией,
и на некоторых особенностях мысли Макиавелли в «Государе»
мы не будем останавливаться. Впрочем, попытки
интерпретировать это классическое произведение делались во многих
работах — либо при помощи непосредственного погружения
в столь неуловимые сюжеты, как моральные взгляды
Макиавелли и его душевное состояние, когда он созерцал Флоренцию
и Италию в 1512 году, либо полагаясь исключительно на
истолкование текста без предварительного обозначения каких-либо
конкретных проблем. Возможно, среди множества трактовок
найдется место и анализу с помощью эвристических моделей,
используемых в этой книге1.
С этой точки зрения «Государь» предстает как типология
новаторов и их отношений cfortuna. Установка на
классификацию задается с самого начала и проходит через все
ключевые главы этой книги. Все правления — это либо республики,
либо монархии; все монархии (или княжества) — либо
наследственные, либо новые. Последние либо совершенно новые, либо
представляют собой сочетание наследственной власти и новых
территорий. Завоеванные территории привыкли либо к
свободе, либо к власти другого государя; новый правитель завоевал
их с помощью или чужой, или собственной вооруженной силы,
благодаря либо fortuna, либо virtu.
1. Более ранний пример такой трактовки см. в принадлежащей автору
этой книги работе: Рососк J.G.A. Custom and Grace, Form and Matter:
An Approach to Machiavelli's Concept of Innovation // Machiavelli and the
Nature of Political Thought / Ed. by M. Fleisher. New York, 1972. P. 153-174.
234
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
Грохот этих типично макиавеллиевских антитез,
завершающихся самым важным во всем трактате словом, составляет всю
первую главу1. Ключевая дистинкция, о которой речь идет и во
второй главе, — различие между наследным {principe naturale)2
и новым государем. Как объясняет Макиавелли, первый в силу
традиции признается законным правителем; жители assuefatti
к его sangue, привыкли к тому, что ими правит представитель
его рода и фамилии. Значимость обычая и привычки такова,
что, коль скоро он не нарушает установлений предков, то
может лишиться stato, только если станет жертвой какого-то
необычайного происшествия. Если тот, кто захватит его власть,
допустит промах или потерпит неудачу, то он, вероятно, вернет
себе прежнее положение. Коротко говоря, его власть узаконена
обычаем и традицией, он относительно неуязвим для/огШпа,
ι. «Tutti gli stati, tutti e dominii ehe hanno avuto e hanno imperio sopra
li uomini, sono stati e sono о republiche о principati. E' principati sono:
о ereditarii, de' quali el sangue del loro signore ne sia suto lungo tempo
principe, о e' sono nuovi. E' nuovi, о e' sono nuovi tutti, come fu Milano
a Francesco Sforza, о e' sono come membri aggiunti alio stato ereditario del
principe ehe li acquista, corne è el regno di Napoli al re di Spagna. Sono
questi dominii cosi acquistati, о consueti a vivere sotto uno principe о usi
ad essere liberi; e acquistonsi о con le armi d'altri о con le proprie, о per
fortuna о per virtu» {Machiavelli N. Opère / A cura di M. Bonfantini. Milano,
Napoli, 1954. P. 5; 29-й том серии «La letteratura italiana: storia e testi», год
издания не указан, но речь идет именно о 1954 годе); «Все государства,
все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были
и суть либо республики, либо государства, управляемые
единовластно. Последние могут быть либо унаследованными — если род
государя правил долгое время, либо новыми. Новым может быть либо
государство в целом — таков Милан для Франческо Сфорца; либо его
часть, присоединенная к унаследованному государству вследствие
завоевания, — таково Неаполитанское королевство для короля Испании.
Новые государства разделяются на те, где подданные привыкли
повиноваться государям, и те, где они искони жили свободно;
государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью
судьбы, либо доблестью» (Макьявелли Н. Государь // Макьявелли Н.
Сочинения исторические и политические. Сочинения художественные.
Письма / Пер. Г.Д. Муравьевой. М., 2004. С. 59· Далее текст «Государя»
цитируется по этому изданию).
2. Название второй главы как на латыни, так и на итальянском
указывает на наследственный характер власти, как и в первой главе, но во
втором ее абзаце появляется другой термин: «Perché el principe naturale
ha minori cagioni e minore nécessita di ofîendere...». [В русском переводе
вторая глава носит название «О наследственном единовластии», а
цитируемое предложение звучит как: «Ибо у государя, унаследовавшего
власть, меньше причин и меньше необходимости притеснять
подданных...» (Там же. С. 59~6о) — поэтому указанное различие
стирается.— Прим. перев.]
235
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
и ему не требуется какая-то особенная virtù1. Эти утверждения
следуют одно из другого, и в каждом из случаев в отношении
нового государя справедливо обратное. Древний обычай у
Макиавелли противостоит/ог£гша и virtù; отношения между второй
и третьей приобретают важность при отсутствии первого. Мы
сразу замечаем, что по-прежнему находимся в мире
средневековой политики, поскольку все еще невозможно представить
себе легитимность вне традиции и древнего обычая. Впрочем,
мы близки к тому, чтобы покинуть ее пределы: Макиавелли
готов изучать природу правления, в котором отсутствует
легитимность. К тому же следует подчеркнуть, что легитимность
современной Макиавелли вполне развитой трансальпийской
монархии основывалась не на одном только древнем обычае.
Она могла претендовать на то, что воплощает в себе
универсальный порядок, нравственный, священный и разумный.
Помимо желаний издревле привычного к ее власти народа, ее
законность могла строиться на сформированном обычаем праве,
которое обеспечивалось ее jurisdictio. Она могла рассчитывать
и на то, что правитель в своем gubernaculum воплощает
способности, вероятно, направляемые Провидением. Макиавелли не
изображает в подробностях эту трижды легитимную форму
правления, хотя из его наблюдений касательно французской
монархии2 нам известно, что многие ее черты были ему
знакомы. Единственный пример наследственной власти в этой
главе «Государя» взят из истории Италии: это пример
герцога Феррарского из дома д'Эсте3. Макиавелли замечает, что
подобные семьи — лишь успешные узурпаторы, продержавшиеся
1. «...se tale principe è di ordinaria industria, sempre si manterrà nel suo stato se
non è una estraordinaria ed eccessiva forza ehe ne lo privi...» (Machiavelli N
Opère. P. 5); «...Даже посредственный правитель не утратит власти, если
только не будет свергнут особо могущественной и грозной силой...»
(Макьявелли Н. Государь. С. 6о). Ср. «Рассуждения» Макиавелли, где
сказано, что наследному правителю следует опасаться потери трона,
только если он постоянно игнорирует древние обычаи своего народа.
2. Machiavelli N. Ritratto delle cose di Francia // Machiavelli N. Opere. P. 471—
486. В своей работе (Matteucci N. Niccolô Machiavelli politologo // Studies
on Machiavelli / Ed. by M. P. Gilmore. P. 217-248) Никола Маттеуччи
сопоставил замечания Макиавелли, касающиеся монархии во Франции,
и его анализ Римской республики и предположил, что эти
государства олицетворяют собой две формы правления, которые вызывали
наибольшее восхищение у автора «Государя». Эта неожиданная
интерпретация названа им «strutturale е non evolutivo» («структурной и не
эволюционной») (Ibid. Р. 2ΐι).
3· Machiavelli N. Opère. P. 6; см. также примечание Бонфантини, в котором
он замечает, что герцоги из дома Эсте не отличались отсутствием virtù.
236
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
достаточное число поколений, чтобы забылась перемена,
сопровождавшая их приход к власти1. Между д'Эсте и, например,
помазанными на царство Капетингами имеется существенная
разница. Однако даже д'Эсте противопоставляются «новому
государю». Мы знаем, что «Государь» — это не руководство для
королей, хотя некоторые из них и читали его с большим
интересом. Это и не трактат об «абсолютной монархии».
Абсолютный монарх, как король у Фортескью, правящий regaliter tantum2,
определялся своим отношением к законодательству, которое
составляло часть сложной схемы утверждения его собственной
легитимности. «Новый государь» был вовсе лишен
легитимности, поэтому его нельзя было назвать королем в привычном
для нас смысле. Король не был новым и мог отрицать, что он
дитя фортуны, за исключением тех случаев, когда он
завоевывал территорию, на которую прежде не имел права. Здесь
Макиавелли приводит в пример Фердинанда Арагонского.
II Principe — работа о «новом государе» (мы знаем это из
писем Макиавелли и из самого текста) или скорее о классе
политических новаторов, к которому он принадлежит. Новизна его
правления означает, что он совершил нечто новое, низвергнув
или заменив предшествующую форму правления. Своими
действиями он должен был причинить вред множеству людей,
которые не смирились с его властью. Те же, кто приветствовал
его возвышение, теперь ожидают от него больше, чем он в
состоянии дать3. Перед нами ситуация, которую принадлежавшие
к ottimati современники Макиавелли анализировали в контексте
Флоренции: из-за того что одни настроены враждебно, а другие
не удовлетворены, общество дробится, превращаясь в хаос
непримиримых и противоборствующих воль, власть правителя
лишается законных оснований, а гражданская жизнь становится
1. «Е nella antiquità е continuazione del dominio sono spente le memorie e le
cagioni délie innovazioni: perché sempre una mutazione lascia lo addentellato
per la edificazione dell'altra» (Ibid); «Давнее и преемственное правление
заставляет забыть о бывших некогда переворотах и вызвавших их
причинах, тогда как всякая перемена прокладывает путь другим
переменам» (Там же. С. бо). Создается впечатление, будто память (memorie)
о переворотах сама по себе может служить их причинами (cagioni).
2. Только по-королевски (лат).—Прим. ред.
3- «...in modo ehe tu hai inimici tutti quelli ehe hai offesi in oecupare quello
prineipato, e non ti puoi mantenere amici quelli ehe vi ti hanno messo, per
non li potere satisfare in quell modo ehe si erano presupposto...» (Ibid);
«...и таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет
дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить
их в той степени, в какой они ожидали...» (Там же. С. 6ο-6ι).
237
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
невозможной. Однако Макиавелли размышляет не конкретно
о Флоренции и не о конкретной проблеме гражданского
коллектива; его интересуют исключительно отношения между
новатором и фортуной. Поэтому никогда нельзя с уверенностью
говорить, насколько в замысел Макиавелли входило рассмотрение
проблем, с которыми столкнулись вновь оказавшиеся у власти
во Флоренции Медичи. Есть некоторые основания
предположить, что в «Государе» содержался обращенный к Джулиано
и Лоренцо совет приобретать себе владения в других частях
Италии, но в этом Медичи мало чем отличались бы от других
владетельных семейств. Особенной была их прежняя
природа и история их правления Флоренцией, и отчасти именно ее
анализ заставлял Гвиччардини, Веттори и Аламанни
приписывать вернувшемся к власти Медичи свойства principe nuovo.
Но там, где упомянутые мыслители — с разной степени
подробности — обращались к конкретным историческим изменениям,
составлявшим эту новизну, Макиавелли начинает с новизны
как отвлеченного принципа. Конкретный пример, больше всего
напоминающий о правителе из рода Медичи, — случай
гражданина, который становится государем благодаря поддержке
группы сограждан, — действительно, подробно рассматривается
в девятой главе, но без какого-либо акцента, как один из
портретов в галерее «новых государей». Если разбирать
«Государя» формально, то он производит впечатление теоретического
трактата, поводом к написанию которого послужила
конкретная ситуация, но который не посвящен ей самой. Нам следует
вернуться к теме новатора и его фортуны.
Нововведение, свержение устоявшейся системы, открывает
двери фортуне, потому что оно оскорбляет некоторых и
беспокоит всех, создает ситуацию, в которой люди не успевают
привыкнуть к новому порядку. Обычай — единственная
альтернатива фортуне. В республиканской теории мы исследовали бы
перспективы восстановления vivere civile, но в «Государе» речь
в первую очередь идет не о республиках и не о гражданской
жизни. Новые подданные государя не привыкли к нему,
поэтому он не может быть уверен в их преданности: «...Всякая
перемена прокладывает путь другим переменам»1. Он
противопоставляется наследному государю и, как логично предположить,
стремится обрести устойчивость положения того, чей род долго
оставался у власти. Обиды и разочарования, сопровождавшие
ι. См. прим. ι на с. 237·
238
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
начало его правления, должны быть забыты. Подчинение ему
становится — как подразумевает термин principe naturale —
частью унаследованной «второй натуры» народа. Однако как
новому государю добиться этого? Как, можем мы спросить, хотя
Макиавелли и не задает этого вопроса, это удалось предкам
наследного государя? Недостаточно просто пережидать, ведь
ситуация может внезапно измениться. Здесь, как и в других
своих произведениях, Макиавелли весьма насмешливо
отзывается о совете, который часто давали его современники, — ждать
и «полагаться на благодетельное время»1. В положении заведомо
неустойчивом, когда никто не знает, что может принести с
собой время, промедление — это наименее подходящая тактика.
Новый правитель должен обладать исключительными и
выдающимися качествами, выделяющими его на фоне нормы,
воплощенной в principe naturale. Эти качества можно
обозначить как virtu, благодаря которой обретала форму материя
fortuna. Однако поскольку форме и материи надлежало
соответствовать друг другу, это означало, что раз преобразователь
необыкновенно подвержен воздействию фортуны, то и
проявленная им при этом virtu должна быть необыкновенной.
Макиавелли продолжает свои рассуждения исходя из того, что
ситуации, в которых главную роль играет фортуна, не
являются одинаково хаотичными. В них прослеживаются
стратегические дифференциации и, соответственно, различными
являются стратегии, которым может следовать virtu. Он
двояким образом подготовил почву для своего утверждения. Во-
первых, определив инновацию как разрушение прежде
существовавшей узаконенной системы, он установил, что прежние
системы могут различаться между собой, а новые подданные
государя — по-разному реагировать на их утрату. Бывшим
гражданам республики труднее привыкнуть к его правлению, чем
бывшим подданным другого государя, потому что в одном
случае принятые нормы поведения требуют полного
пересмотра, а в другом — только перенаправления2. Во-вторых, он
1. Однако principe naturale может позволить себе «не преступать обычая
предков и впоследствии без поспешности применяться к новым
обстоятельствам» (Machiavelli N. Ореге. P. 5*> Макьявелли Н. Государь. С. 6о). Об
этой теме в связи с pratiche см.: Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini. P. 33.
2. Из главы III: «...basta avere spenta la linea del principe ehe li dominava,
perché nelle altre cose, mantenendosi loro le condizioni vecchie e non vi essendo
disformità di costumi, gli uomini si vivono quietamente...» (MachiavelliN. Ореге.
P. 7); «...достаточно искоренить род прежнего государя, ибо при
общности обычаев и сохранении старых порядков ни от чего другого не может
произойти беспокойства» (Макьявелли Н. Государь. С. 6ι). Из главы V:
239
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
выделил несколько типов нововведений. Государь мог
приобрести власть благодаря собственным войскам или войскам
своих сторонников. Своей победой он мог быть обязан
собственным талантам или одной лишь удаче. Когда для
обозначения последней антитезы Макиавелли употребляет слова
virtù и fortuna, он употребляет их не совсем точно. Поскольку
почти невозможно представить себе, чтобы человек захватил
власть, сам при этом не проявив virtù, в каком-то смысле virtù
всегда служила орудием нововведения, открывающим его
воздействию fortuna. Однако в то же время virtù по-прежнему
означала способ управлять фортуной. Между новатором, который
мог по своей воле остановиться там, где он находился, и тем,
кто продолжал зависеть от сложившегося положения,
существовала известная разница. Здесь возникала вторая антитеза,
вбирающая в себя первую, и у virtù появлялось двойное
значение— орудий власти, подобных войску, и личных качеств,
необходимых, дабы управлять этими орудиями.
Природа и обстоятельства нововведения двояким образом
влияли на встававшую перед новатором проблему. Чем
больше легитимности, обусловленной привычкой, которой
обладал его предшественник, он мог перетянуть на свою сторону,
тем меньше ему приходилось участвовать в открытой борьбе
virtù и fortuna и тем меньше ему требовалась virtù (в обоих ее
значениях). Чем больше он, в силу новизны своего правления,
оказывался зависим от обстоятельств и людей, не подлежащих
его непосредственному контролю, тем больше беззащитен он
был перед fortuna и тем больше требовалось ему virtù, чтобы
освободиться из-под ее власти. Его потребность в virtù могла
измеряться по двум шкалам, и поскольку его положение
относительно каждой из них определялось эмпирически
заданными обстоятельствами, то стратегически необходимые действия
и требующиеся для их осуществления качества ума — две
составляющие virtù — также могли варьироваться. Таким образом
стало возможно выстроить типологию инноваций, опасных
«Ma quando le città о le provincie sono use a vivere sotto uno principe, e quel
sangue sia spento, sendo da uno canto usi ad obedire, dall'altro non avendo
el principe vecchio, fame uno infra loro non si accordano, vivere liberi non
sanno...» (Machiavelli N. Opère. P. 18); «Но если город или страна
привыкли стоять под властью государя, а род его истреблен, то жители города
не так-то легко возьмутся за оружие, ибо, с одной стороны, привыкнув
повиноваться, с другой — не имея старого государя, они не сумеют ни
договориться об избрании нового, ни жить свободно» (Макьявелли Н.
Государь. С. 70· ß этой главе затронута и проблема бывшей республики;
см. прим. 2 на с. 243·
240
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
положений, в которые мог угодить новатор, и разновидностей
virtù, с помощью которых он мог эту опасность преодолеть.
Точкой отсчета служил пример наследного правителя, уязвимость
и потребность в virtù которого были минимальными.
Анализу нововведений посвящена первая треть
«Государя», и его можно назвать ключевым по крайней мере для этой
части книги. В главах III—V рассматриваются отношения
между властью нового государя и обычаями общества, над
которым он ее приобрел; в главах VI-IX — то, насколько новизна
делает его зависимым от фортуны. В заключение краткого
обзора, который предполагает наш подход к «Государю»,
отметим, что главы XI 1-Х IV посвящены военной мощи государя,
а главы XV-XXI — его поведению в отношении подданных.
Эта часть строится главным образом вокруг морали
Макиавелли, как мы ее знаем. В XIV и XV главах автор
возвращается к своей основной теме и снова говорит о противостоянии
нового государя наследному правителю и фортуне, а
заключительная, XXVI глава представляет собой знаменитый и
неоднозначный «призыв овладеть Италией и освободить ее из рук
варваров». В «Государе» мы не находим системы
исчерпывающих классификаций, но встречаем устойчивые мотивы, к
которым относится этот призыв.
Как мы видели, небезопасность политических инноваций
состоит в том, что всем они причиняют беспокойство, а
некоторым— еще и ущерб, создавая ситуацию, к которой люди
еще не успели привыкнуть. Возможно, ключевая для
«Государя» мысль заключается в предположении, что в подобных
ситуациях поведение людей отчасти предсказуемо, что
позволяет выработать определенные стратегии действия. Здесь
Макиавелли глубоко оригинален как исследователь политики,
утратившей легитимность. Но поскольку после завоевания
территории правителем привычные модели поведения
сохраняются, то размышления о человеческом поведении, выходящем
за рамки этих устоявшихся моделей, следует отложить; а
вопрос заключается в том, как последние повлияют на власть
и авторитет нового государя. В III—V главах Макиавелли
рассматривает некоторые стороны этого вопроса, и акцент везде
сделан на идее привычности. Государь присоединяет новую
территорию к тем, где его власть уже признана, — здесь
использовано слово antico, свидетельствующее о том, что он
вовсе не «новый государь». Обе территории объединяет общность
национальности {provincia) и языка и, главное, новый государь
241
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
уже привык править. Во всех этих случаях перед правителем
стоит самая простая задача: ему следует лишь убедиться, что
род предшествующего властителя уничтожен, не менять
законов страны и не вводить новых налогов. Тогда все, что
узаконивало власть его предшественников, будет узаконивать и его
власть. Более того, близость обычаев и языка между его
старыми и новыми владениями вскоре сделает их tutto un corpo1, а.
Макиавелли не уточняет, как осуществится такой союз, и нам
не следует ожидать от него этого. Его интересует
новообразованное княжество на этапе его наибольшего сходства с
наследственной монархией, а последнюю он изображает в ее самой
простой и традиционной форме, как сообщество,
объединенное рядом общих обычаев, включая лояльность определенной
династии. Если изменилась лишь династия, то структура
традиции будет способствовать формированию новой лояльности,
а сообщество легко смешается с другим, обычаи которого
схожи. Однако если государь завоевывает территорию,
отличающуюся от его прежнего владения языком, законами и
обычаями, то ему потребуется большая удача и серьезные усилия,
дабы сохранить ее, и один из лучших способов добиться
этого— поселиться там самому. Макиавелли не сообщает,
предполагается ли, что государь усвоит привычки новых
подданных и что тем временем будет происходить с его прежними
землями. Он достаточно быстро переходит к вопросу, как
следует поступить государю, если его новые завоевания привели
к внутренним беспорядкам3. Еще здесь высказывается мысль
о приверженности традиционного общества какой-то одной
династии. В главе IV Макиавелли указывает на это ограничение,
рассматривая пример, когда традиционная лояльность
разделяется между монархом и большим числом феодалов (baroni),
представляющих множество центров наследственной власти.
Закон инерции здесь не действует. Среди баронов всегда будут
недовольные, поэтому не так трудно свергнуть монарха,
подстрекая их к мятежам. Однако после того как новый
правитель захватит власть, он обнаружит, во-первых, что обычные
последствия изменений остаются в силе — его сторонники
ненадежны, а враги озлоблены; во-вторых, что род каждого
феодала по-прежнему имеет верных ему подданных; в-третьих, что
ι. Глава III (Machiavelli N. Opère. P. 8).
2. Одно целое (итал.).— Прим. ред.
3- Ibid. Суть в том, что государь должен быть готов устранять
беспорядки, созданные его чиновниками.
242
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
Ьагопг слишком многочисленны, дабы их уничтожить. Римляне
никогда не чувствовали себя уверенно на завоеванных
территориях, пока оставались в живых представители старой знати.
Уже одним своим существованием они напоминали о прежнем
положении дел. Римляне сумели пережить местную знать — по-
видимому, хочет сказать Макиавелли — лишь потому, что
захватили власть во всех известных из существующих земель1.
Важно, что Макиавелли, по всей видимости, исходит из
абсолютно традиционного по своему устройству общества,
основанного на обычае и исключающего отношения между
гражданами, которые составляли фундамент аристотелевского
полиса. Однако ниже, в главе V, он говорит, что над
территорией с собственными обычаями труднее удержать власть, чем
над той, обычаи которой легко поддаются ассимиляции.
Аналогичным образом труднее всего удержать власть над городом,
привычным к свободе и жизни по собственным законам. Им
можно управлять, учредив олигархию, зависящую от внешней
поддержки, но единственный надежный способ — разрушить
его. Почему так происходит? Память о прежней свободе,
которая никогда не обернется на пользу новому государю,
необыкновенно устойчива. Макиавелли снова делает акцент на
привычке. Вероятно, ничто другое не может служить основанием
легитимности, и проблема новатора всегда заключается в том,
что его подданные к нему не привыкли, а привыкли к чему-
то, чего он их лишил. Впрочем, в подобных случаях значение
имеют не только привычка и обычай: «...в республиках больше
жизни, больше ненависти, больше жажды мести; в них
никогда не умирает и не может умереть память о былой свободе»2.
1. «Di qui nacquono le spesse ribellioni di Spagna, di Francia e di Grecia da'
Romani, per li spessi principati ehe erano in quelli stati; de' quali mentre
duro la memoria, sempre ne furono e Romani incerti du quella possessione;
ma spenta la memoria di quelli, con la potenzia e diuturnità dello imperio
ne diventorono secure possessori» (Ibid. P. 16); «В Испании, Франции,
Греции, где было много мелких властителей, то и дело вспыхивали
восстания против римлян. И пока живо помнилось прежнее устройство,
власть Рима оставалась непрочной; но по мере того, как оно
забывалось, римляне, благодаря своей мощи и продолжительности
господства, все прочнее утверждали свою власть в этих странах»
(Макьявелли Н. Государь. С. 6д).
2. «Е chi diviene patrone di una città consueta a vivere libera e non la disfaccia,
aspetti di essere disfatto da quella: perché sempre ha per refugio nella rebellion
el nome délia libertà e gli ordini antique suoi; li quali né per la lunghezza
de' tempi né per benefizii mai si dimenticano. E per cos ache si faccia о si
provegga, se non si disuniscono о dissipano gli abitatori, e' non sdimenticano
quell nome né quelli ordini, e subito in ogni accidente vi ricorono: corne fe'
Pisa dopo cento anni ehe Гега suta posta in servitù da' Fiorentini» (Ibid. P. 17);
243
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
Время здесь бессильно. Это заставляет нас вспомнить тезис
Гвиччардини, что гражданская свобода стала частью второй
натуры флорентийцев. В этой главе Макиавелли, возможно,
отсылает к особенностям восстановленного правления
Медичи, хотя, по крайней мере формально, и рассматривает случай
бывшей республики, присоединенной к владениям
чужеземного правителя. Главный вопрос заключается в том, почему
привычную свободу столь трудно развеять и невозможно забыть.
Ответ, по-видимому, таков: когда люди привыкли повиноваться
государю, им не приходится менять свою природу при
необходимости повиноваться кому-то другому. Опыт гражданской
жизни, в особенности существующей не одно поколение,
накладывает на их природу неизгладимый отпечаток, поэтому они
в самом деле должны стать новыми людьми, чтобы научиться
охотно подчиняться государю. В отличие от Лодовико Аламан-
ни, Макиавелли, похоже, не считает такое превращение
осуществимым. Более того, вся его теория фортуны держится на
мысли, что люди не в силах изменить свою природу, разве что
лишь очень медленно, — на такие изменения указывает
понятие обычая. Нам также следует держать в уме предположение,
что Макиавелли мог разделять точку зрения, что люди,
которые получили опыт гражданства, ощутили исполнение своей
подлинной природы, или prima forma.
Теперь новый государь вступил в область, где властвует
случай. Время, в котором он живет, формируется человеческим
поведением, каким оно становится, когда люди уже не
руководствуются привычными установлениями. Теперь он уязвим для
фортуны. Вероятно, главный постулат «Государя» состоит как
раз в том, что временное измерение, в котором государь теперь
«Кто захватит город, с давних пор пользующийся свободой, и
пощадит его, того город не пощадит. Там всегда отыщется повод для
мятежа во имя свободы и старых порядков, которых не заставят
забыть ни время, ни благодеяния новой власти. Что ни делай, как ни
старайся, но если не разъединить и не рассеять жителей города, они
никогда не забудут ни прежней свободы, ни -прежних порядков и при
первом удобном случае попытаются их возродить, как сделала Пиза
через сто лет после того, как попала под владычество флорентийцев»
(Макьявелли Н. Государь. С. Ίο-ηί). «Ma nelle republiche e maggiore vita,
maggiore odio, più desiderio di vendetta; né li lascia né puo lascaire riposare
la memoria délia antiqua libertà: taie ehe la più secura via e spegnerle
о abitarvi» (Machiavelli N. Opère. P. 18); «Тогда как в республиках
больше жизни, больше ненависти, больше жажды мести; в них никогда не
умирает и не может умереть память о былой свободе. Поэтому самое
верное средство удержать их в своей власти — разрушить их или же
в них поселиться» (Там же. С. 71). Как переселение в республики
может помочь удержать в них власть, не оговаривается.
244
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
существует, не является совершенно непредсказуемым и
неуправляемым. Это мир Гоббса, где люди преследуют
собственные цели, не оглядываясь ни на какой закон. Почти всегда
это происходит в результате действий самого преобразователя,
живущего в этом мире, а то, как люди преследуют свои цели,
стремясь к власти, означает, что власть каждого человека
представляет угрозу власти любого другого индивида. Во второй
части III главы впервые возникает тот стратегический анализ
беззаконного мира погони за властью, который, как всегда
признавалось, делает мысль Макиавелли особенно острой. Именно
здесь мы впервые встречаемся с утверждением, что основное
требование стратегического поведения — это действие.
Альтернатива действию — задержка или промедление, а раз время
оказалось полностью во власти случая, то медлить невозможно,
ибо насчет времени нельзя строить сколько-нибудь надежные
предположения. Точнее, уместна лишь одна гипотеза: если
ничего не делать, время принесет неблагоприятные изменения.
Некто обладает властью, а другие — нет, и возможна только
одна перемена: другие приобретут власть, а он ее потеряет.
Римляне знали, что войны не избежать, и всегда стремились
сразиться с врагами сейчас, а не потом1. Нам остается лишь
догадываться, что сказал бы Макиавелли о современных
сдерживающих стратегиях в попытке «выиграть время». Возможно,
он предположил бы, что они имеют смысл лишь в рамках
договоренности между силами, стремящимися стабилизировать
властные отношения и придать им законную форму. В проще
устроенной, но полной угроз ренессансной действительности
он мог позволить себе рассуждать о государе, ставящем цель
бесконечно умножать свою власть, и не задаваться вопросом,
что станется, если он сможет создать мировую империю.
I. «Рего е' Romani vedendo discosto gli inconvenienti vi rimediorno sempre,
e non li lasciorno mai seguire per fuggire una guerra, perché sâpevono ehe
la guerra non si leva ma si difterisce a vantaggio di altri. <...> Né piacque
mai loro quello ehe tutto di è in bocca de' savii de' nostri tempi, di godere
el benefizio del tempo, ma si bene quello délia virtu e prudenzia loro: perché
el tempo si caccia innanzi ogni cosa, e puô conduire seco bene come male
e male come bene» (Ibid. P. 10); «Римляне, предвидя беду заранее, тотчас
принимали меры, а не бездействовали из опасения вызвать войну, ибо
знали, что войны нельзя избежать, можно лишь оттянуть ее — к
выгоде противника. <...> Римлянам не по душе была поговорка, которая
не сходит с уст теперешних мудрецов: полагайтесь на благодетельное
время, — они считали благодетельным лишь собственную доблесть
и дальновидность. Промедление не может обернуться чем угодно, ибо
время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло»
(Там же. С. 64).
245
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
Стратегия — наука о поведении действующих субъектов,
определяемых властью, которой они обладают. Мир стратегии,
в котором существует государь, приобретающий власть, лучше
всего рассматривать с точки зрения его отношений с другими
государями. Но это внешние отношения с точки зрения
подсистем, возможность распоряжаться которыми наделяет каждого
государя властью. Связи между отдельными людьми,
составляющими (или разрушающими) обособленные политические
сообщества, подвергаются анализу, который было бы
недостаточно называть просто «стратегическим». Именно здесь мы
погружаемся в вопрос об отношениях между virtù человека и его
fortuna, а это всегда моральная и психологическая, а не только
стратегическая проблема. Глава VI и следующие за ней главы
посвящены роли virtù в приобретении и удержании новых
территорий1. Макиавелли сразу вступает на скользкую моральную
почву, определяя virtù как преобразующую (innovative) силу. Она
не только позволяет людям управлять своей фортуной в
лишенном законов мире. Такая добродетель помогает им изменять
мир, тем самым лишая его прежней легитимности, и, как мы
увидим совсем скоро, способна навязывать новую законность
миру, никогда не знавшему ее прежде. Устойчивая смысловая
связь теперь прослеживается только между virtù и инновациями,
причем последние воспринимаются как преднамеренный акт,
а не как свершившийся факт, a virtù преимущественно
предстает как качество, наделяющее человека (новатора)
незаурядностью с точки зрения способности к инновациям. Поскольку
нововведения по-прежнему вызывают этические проблемы,
подобное употребление слова virtù не отрицает его связи с этикой,
а предполагает, что это понятие задает ситуации, в которых
возникают соответствующие этические проблемы.
В главе VI речь идет о правителе, принадлежащем к тому
обществу, над которым он приобретает власть, а не
пришедшем извне. Здесь нас интересует не государь, расширяющий
свои владения, а частный человек, ставший государем. Это,
утверждает Макиавелли, предполагает или virtù, или fortuna2,
но ясно, что они не просто противопоставлены друг другу.
1. Machiavelli N. Opère. P. 18: «De principatibus novis qui armis propriis et
virtute acquiruntur» («О новых государствах, приобретаемых
собственным оружием или доблестью») (Макьявелли Н. Государь. С. 70·
2. «...questo evento, di diventare di privato principe, presuppone о virtù
о fortuna...» (Ibid. P. 18); «...частного человека приводит к власти либо
доблесть, либо милость судьбы...» (Там же. С. J2).
246
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
С одной стороны, благодаря virtù мы осуществляем изменения,
а значит, приводим в движение цепочку случайных событий,
которые мы не в состоянии предвидеть или
проконтролировать, то есть становимся жертвами fortuna. С другой, virtù —
внутренне присущее нам качество, позволяющее сопротивляться
fortuna и вводить ее в рамки порядка, который также может
быть моральным. Это суть характерной для Макиавелли
неоднозначности, объясняющей, почему нововведения, формально
представляющие акт саморазрушения, так трудно осуществить
и почему действие — а значит, и политика, определяемая как
действие, а не следование традиции, — несовместимо с
нравственным порядком. Политизация добродетели привела к
обнаружению политической версии первородного греха.
В этом средоточии неоднозначности можно выделить
оппозицию virtù и fortuna, и мысль Макиавелли теперь
сосредоточилась на ней. Чем больше человек полагается на свою
virtù, тем меньше он вынужден полагаться на свою fortuna
и тем надежнее его положение, поскольку на fortuna
полагаться заведомо не стоит. Однако, положим, он добился власти
именно благодаря virtù. Идеальный тип, который нас
сейчас интересует, — это человек, добивающийся власти
исключительно в силу своих личных качеств, а не за счет
случайностей и внешних обстоятельств. Это объясняет, почему мы
должны проанализировать приобретение власти частным
лицом, а не тем, кто уже обладает какой-то властью на момент
ее обретения. Впрочем, избавиться от затруднений
полностью не удается. Путь любого человека в обществе
обусловлен конкретными условиями этого общества, которые, хотя
не им вызваны, составляют часть сто fortuna. Но найти
человека, который бы вовсе не определялся своей
принадлежностью к какому-либо обществу, практически невозможно. Он
оказался бы, как у Аристотеля, «зверем или богом». В
качестве псевдорешения вопроса Макиавелли заявляет, что
идеальный тип («наидостойнейших») тех, кто стал правителем
благодаря собственной virtù, а не fortuna, мы видим в
«Моисее, Кире, [Ромуле], Тезее и им подобным»1. Это
классические примеры законодателей, которые в максимально строгом
смысле могут быть названы основателями государств (Ликург
и Солон, которых следует назвать скорее реформаторами, чем
I. Ibid. Р. 18—19; Там же. С. J2. В русском переводе имя Ромула
отсутствует.— Прим. перев.
247
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
основателями, не упомянуты). Это божественные или
получавшие помощь свыше существа, которые могли основывать
общества, потому что их virtù не нуждалась в социальном
обрамлении, служившем предпосылкой добродетели
обыкновенных людей. Это боги, в которых (по крайней мере если
говорить о Тезее или Ромуле) было нечто звериное. Однако
Макиавелли заговорил о законодателях по особой причине.
Если мы всматриваемся в их жизнь и действия, говорит он,
мы убеждаемся в том, что судьба послала им только случай
(l'occasione), то есть снабдила материалом, которому можно было
придать любую форму: не явись такой случай, доблесть (virtù)
их угасла бы, не найдя применения; не обладай они доблестью,
тщетно явился бы случай.
Моисей не убедил бы народ Израиля следовать за собой,
дабы выйти из неволи, если бы не застал его в Египте в
рабстве и угнетении у египтян. Ромул не стал бы царем Рима и
основателем государства, если бы не был по рождении брошен
на произвол судьбы и если бы Альба не оказалась для него
слишком тесной. Кир не достиг бы такого величия, если бы
к тому времени персы не были озлоблены господством мидян,
а мидяне — расслаблены и изнежены от долгого мира. Тезей
не мог бы проявить свою доблесть, если бы не застал афинян
живущими обособленно друг от друга. Итак, каждому из этих
людей выпал счастливый случай, но только их выдающаяся
доблесть позволила им раскрыть смысл случая, благодаря чему
отечества их прославились и обрели счастье1.
Если сравнить стихотворения Макиавелли «О Фортуне»
и «О Случае», мы увидим, сколько явно эти две аллегорические
I. «Ed esaminando le azioni e vita loro, non si vede ehe quelli avessino altro
dalla fortuna ehe Poccasione; la quale dette loro materia a potere introdurvi
drento quella forma parse loro: e sanza quella occasione la virtù dello animo
loro si sarebbe spenta, e sanza quella virtù la occasione sarebbe venuta invano.
Era dunque necessario a Moise trovare el popolo d'Isdrael, in Egitto, stiavo
e oppresso dalli Egizii, accio ehe quelli per uscire di servitù si disponessino
a seguirlo. Conveniva ehe Romulo non capissi in Alba, fussi stato esposto
al nascere, a volere ehe diventassi re di Roma e fondatore di quella patria.
Bisognava ehe Ciro trovassi e* Persi malcontenti dello imperio de' Medi, e li
Medi molli ed effeminati per la lunga pace. Non posseva Teseo dimostrare
la sua virtù se non trovava li Ateniesi dispersi. Queste occasioni pertanto
feciono questi uomini felici, e la eccellente virtù loro fece quella occasione
essere conosciuta: donde la lora patria ne fu nobilitata e divento felicissima»
(Machiavelli N. Opère. P. 19); (Макьявелли H. Государь. С. 72).
248
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
фигуры в его сознании сливались в одну. Образ Фортуны как
женщины, над которой можно временно взять верх, если не
церемониться с ней1, вновь возникает в нарисованной им
классической фигуре Случая, также предстающего в виде женщины.
У нее есть прядь волос на лбу, за которую ее можно схватить,
однако ее затылок выбрит так, что за короткие волоски сзади
ухватиться невозможно2. Речь, с которой он обращается к
одному из этих мифических духов, вполне могла быть обращена
и к другому. Но еще больше о значении этого отрывка нам
говорит антитеза формы и материи. Функция законодателя
состоит в том, чтобы облекать материю политевмы (politeuma),
гражданского коллектива, в форму политейи {politeia) — конституции,
а функция virtu — придавать форму fortuna. Но, когда речь идет
о нововведении, велика опасность, что virtu может оказаться
во власти fortuna, поэтому идеальный преобразователь — тот,
кто как можно меньше зависит от обстоятельств, которыми
не в состоянии управлять. Чем больше действия
преобразователя носят характер разрушения и вытеснения прежде
существовавших установлений, обычая и законности, тем больше
ему придется справляться со случайностями, возникающими
из-за внезапной утраты ориентиров, и тем сильнее он
окажется уязвим для fortuna. Дабы приблизиться к идеальному типу,
нам следует представить себе ситуацию, в которой у материи
нет формы, а главное — есть только та форма, какую ей
придает новатор. Новатор должен быть и законодателем.
Следовательно, было логически необходимо, чтобы каждый герой
заставал свой народ в состоянии полной аномии. Ведь если бы
1. «Capitolo délia Fortuna» («О Фортуне»), стихи 10-15: «Perché questa volubil
creatura / Spesso si suole oppor con maggior forza / Dove più forza vede
aver natura. / Sua natural Potenza ognuno sforza; / Ε il regno suo è sempre
violento / Se virtù eccessiva non lo ammorza» («Коварнейшее это
существо / издревле сильных от природы било, / свое доказывая
торжество, / и только исключительная сила / Фортуне может дать победный
бой, — / Иначе будет все, как прежде было». Стихи 124-126: «Perô si vuol
lei prender per sua Stella; / Ε quanto a noi è possibile, ognora / Accomodarsi
al variar di quella» («Коль скоро каждому нужна звезда, / любой
Фортуну в звезды взять стремится, / подлаживаясь под нее всегда» (пер.
Е.М. Солоновича: Там же. С. 615, 6ig).
2. «Capitolo dellOccasione», стихи 10—15: «Li sparsi mia capei dinanti io tengo: /
con essi mi ricuopro il petto e'l volto / perch'un non mi conosca quando io
vengo. / Drieto dal capo ogni capei m'è tolto, / onde invan s'affatica un, se
gli avviene / chV l'abbi trapassato о sY mi volto» («Мои распущенные
волосы начесаны вперед, / я закрываю ими грудь и лицо, / чтобы меня
не узнали при встрече. / Сзади на затылке все волосы у меня
выбриты, / поэтому напрасно старается тот, кто меня видит, / когда я ушла
вперед или отвернулась»).
249
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
материя обладала даже видимостью формы, это лишало бы
полной независимости его virtù от fortuna.
Трудно представить себе настолько идеальную ситуацию
в реальности. Не говоря уже о том, что затруднительно
вообразить определенное общество в состоянии полной аномии.
Чем больше мы настаиваем, что законодателю здесь нечего
менять, тем труднее ему на чем-то основываться. Перед нами
встает проблема поиска языка, на котором можно было бы
описать, что именно и как он делает. Законодатель обладает
такой virtù τ что полностью властвует над occasione. Он
наделен неограниченной способностью придавать материи
нужную форму и становится своего рода демиургом,
претворяющим в жизнь свои желания одним творческим словом. Он
явно возвышается над простыми смертными. Среди
перечисленных классических законодателей один, конечно,
выделяется на общем фоне.
И хотя о Моисее нет надобности рассуждать, ибо он был лишь
исполнителем воли Всевышнего, однако следует преклониться
перед той благодатью (gracia), которая сделала его достойным
собеседовать с Богом. Но обратимся к Киру и прочим
завоевателям и основателям царства: их величию нельзя не
дивиться, и, как мы видим, дела их и установления не уступают тем,
что были внушены Моисею свыше1.
Язык Макиавелли раздражающе ортодоксален. Лишь Бог мог
обратить разрозненные частности (материю) в целое (форму),
и лишь при содействии божественной благодати и по
внушению свыше сделать это под силу отдельному человеку.
Неблагочестивые мысли, которые, вероятно2, прочитываются в
процитированном отрывке, могли быть вызваны лишь следующим
обстоятельством. Трудно понять, как действовали языческие
1. «Е benchè di Moise non si debba ragionar, sendo suto uno mero esecutore
délie cose ehe li erano ordinate di Dio, tamen debbe essere ammirato solum
per quella grazia ehe lo faceva degno di parlare con Dio. Ma consideriamo
Ciro e li altri ehe hanno acquistato о fondato regni: li troverrete tutti mirabili.
Ε se si considerarrano le azioni e ordini loro particular*!, parranno non
discrepanti da quelli di Moise, ehe ebbe si gran precettore. Ed esaminando
le azioni e vita loro...» и далее по тексту, который цитируется нами
в прим. ι на с. 248 (Machiavelli N. Opère. P. 19); (Макьявелли H. Государь.
С. 72).
2. Впрочем, это необязательно: всегда было основание заявить — и
именно так поступал Джеймс Харрингтон, — что дела мудрости могут
оказаться тождественны делам благодати. См. главу IX этой книги.
250
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
законодатели, не подобрав объяснения, которое не
подходило бы и для случая Моисея. Однако само стремление
включить пророка в категории «законодателей» и «новаторов»
нельзя назвать нерелигиозным. Проблема инноваций такова, что
божественный авторитет и вдохновение пророка
представляли собой один — но лишь один — из возможных ответов. Мы
уже видели, что Гвиччардини употреблял слово grazia,
говоря о Ликурге, и что характеристика, данная им спартанскому
законодателю, уподобляла последнего Савонароле. В VI главе
«Государя» мы видим аллюзии на Савонаролу, когда
Макиавелли говорит о нем как о типичном примере «безоружного
пророка», который неизменно терпит поражение там, где
«вооруженные пророки» добиваются успеха1. Но это замечание
следует рассматривать в свете макиавеллиевского
отождествления пророка и законодателя. Оба пытаются осуществить
миссию, выходящую за пределы возможностей обыкновенного
человека. Обоим требуется нечто большее, чем просто virtù. Мы
I. «È necessario pertanto, volendo discorrere bene questa parte, esaminare se
questi innovatori stanno per loro medesimi о se dependano da altri; cioè,
se per conduire Topera loro bisogna ehe preghino о vero possono forzare.
Nel primo caso capitano sempre male e non conducano cosa alcuna; ma
quando dependano da loro proprii e possonoforzare, allora è ehe гаге volte
periclitano. Di qui nacque ehe tutti e' profeti armati vinsono, e gli disarmati
ruinorno. Perché oltra aile cose dette, la natura de* populi è varia; ed è facile
a persuadere loro una cosa, ma è difficile fermarli in quella persuasion. E perô
conviene essere ordinato in modo ehe quando e' non credano piu, si possa fare
credere loro per forza. Moise, Giro, Teseo e Romulo non arebbono possuto
fare osservare loro lungamente le loro costituzioni se fussino stati disarmati;
corne ne' nostri tempi intervene a fra' Ieronimo Savonarola, il quale ruino
ne' suoi ordini nuovi corne la moltitudine cominciô a non credergli, e lui
non aveva modo a tenere fermi quelli ehe avevano creduto, né a far credere
e' discredenti» (Ibid. P. 20); «Чтобы основательнее разобраться в этом
деле, надо начать с того, самодостаточны ли такие преобразователи
или они зависят от поддержки со стороны; иначе говоря, должны ли
они для успеха своего начинания упрашивать или могут применить
силу. В первом случае они обречены, во втором, то есть если они
могут применить силу, им редко грозит неудача. Вот почему все
вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли. Ибо, в
добавление к сказанному, надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен,
и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно.
Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет,
заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они
безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных
ими законов. Как оно и случилось в наши дни с фра Джироламо
Савонаролой: введенные им порядки рухнули, как только толпа
перестала в них верить, у него же не было средств утвердить в вере тех,
кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил» (Там же.
С 73).
251
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
должны констатировать, что божественное вдохновение
низводится до уровня «real politik», но только добавляя при этом, что
«real politik» возносится до уровня божественного вдохновения
и что Макиавелли мог быть язычником, но не был philosopha.
Моисей — вооруженный пророк, но он не становится в
меньшей степени пророком от того, что носит меч. Пророку нужно
оружие, потому что, будучи новатором, он не должен зависеть
от случайного расположения других людей и поэтому должен
располагать средствами принуждения, когда те перестают ему
верить. В утверждении, что Бог дал Моисею призвание свыше,
но не дал гарантии, что израильтяне будут неизменно ему
послушны и что пророк, смиряющий непокорных с помощью
земного оружия2, поступает законно и по вдохновению, нет
никакого расхождения с традицией.
Пророкам, истинным или ложным, нужен меч, потому что
они новаторы. Важно понимать, что в главе VI
рассматривается инновация и что и Моисей, и Савонарола оказались здесь
именно потому, что идеальный новатор должен быть отчасти
законодателем, а идеальный законодатель — отчасти пророком.
Макиавелли говорит только, что вдохновение и призвание
пророка не избавляют его от действия в политической ситуации,
складывающейся вследствие перемен. Он должен по-прежнему
прибегать к земному оружию, когда того требуют причины,
обусловленные этой ситуацией. (Он может намекать и на то, что
те же ограничения остаются в силе, если Господь, Бог Израилев,
решает — как это и происходит — воздействовать на
определенный народ в его истории.) Основная тема здесь — нововведение
или инновация. По уже известным нам причинам это
труднейшее и опаснейшее для человека предприятие. Оно приносит
с собой ярых врагов, которые знают, чего лишились, и
равнодушных друзей, которые еще не поняли, что приобрели, ибо не
успели этого почувствовать, — точно так же, как евреи, в пустыне
1. Философ (франц.). Покок, очевидно, хочет сказать, что Макиавелли не
являлся атеистом, что было свойственно более поздним французским
философам-просветителям. — Прим. ред.
2. «И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, — иди ко
мне! И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: так
говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое,
пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый
брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И
сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа
около трех тысяч человек» (Исх. 32:26-28). Об истории толкования этого
текста см.: Walzer M. Exodus 32 and the Theory of Holy War: The History
of a Citation // Harvard Theological Review. 1968. 61. № 1. P. 1-14.
252
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
тосковавшие о египетских мясных котлах. По этой причине
новатор оказывается в плену у превратностей человеческого
поведения — в плену у fortuna. Способность противостоять/ог£шга,
если речь не идет о непосредственном божественном
вдохновении, находится в нем самом и называется она virtu — кроме
того случая, когда она описывается как grazia. Поскольку virtu
(когда она не была плодом его вдохновения) делала его
новатором, уязвимым для fortuna, нам следует искать virtu, которая бы
минимально зависела от fortuna. Идеал и радикальный случай
новатора, чья virtu изначально не подвержена влиянию
внешних обстоятельств, мы видим в типе законодателей и пророков.
Величайший гений или самый вдохновенный пророк
действует, побуждая людей следовать за собой. Тем не менее он уязвим
для fortuna, если только не располагает средствами заручиться
неослабевающей поддержкой подданных — средствами, которые
Макиавелли может определить лишь как меч. Virtu, которая не
смогла бы проявиться без occasione, не способна сохраняться, не
прибегая к внешним инструментам принуждения человеческой
воли. С учетом этих ограничений нам удалось определить тип
virtu, наименее зависимый от fortuna.
На этом этапе анализа должно стать очевидно, что
категория «новатора» замещает собой категорию «нового государя»,
поскольку является более емкой и способствует большей
теоретической точности. Темой «Государя» по-прежнему
остаются новые государи, но новый государь относится к категории
новаторов, к которой также принадлежат законодатели и
пророки. Они обладают чертами, не свойственными новому
государю, тогда как те черты, что объединяют их всех, присущи
всякому представителю класса новаторов. В рамках этой
категории каждый новатор занимает определенное место в
зависимости от того, насколько и как его virtu подвержена влиянию
fortuna или свободна от него. Законодатель и пророк, чья
зависимость от fortuna минимальна, стоят на высших ступенях
этой лестницы. Наиболее точное определение, которое мы
можем теперь дать понятию «новый государь», — это включить
в эту категорию также всех новаторов, чью зависимость
нельзя назвать минимальной.
Можно сказать, что в главах VII-IX Макиавелли
продолжает анализировать категорию «новатора» по-прежнему с
точки зрения оппозиции virtu и fortuna, но с акцентом на новых
правителях, не наделенных сверхчеловеческой virtu
законодателей и пророков. Последние считаются неподвластными
253
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
fortuna, и глава VII открывается размышлениями о новом
государе, который всецело обязан ей своим положением". Хотя
можно представить себе человека, ставшего правителем
благодаря одной лишь удаче и не обладающего при этом никакой
virtù, подобные размышления малоинтересны в теоретическом
плане. С ним так быстро что-то случится, что даже неважно,
какого рода будет это происшествие. Более того, поскольку
virtù и fortuna не исключают друг друга, отсутствие удачи
необязательно связано с личными качествами. Поэтому можно
говорить о человеке, который больше обычного обязан fortuna,
обладая при этом незаурядной способностью преодолевать
зависимость от нее, — о том,
кто обладает истинной доблестью, при внезапном
возвышении сумеет не упустить того, что фортуна сама вложила ему
в руки, то есть сумеет, став государем, заложить те основания,
которые другие закладывали до того, как достигнуть власти8.
Именно в таком контексте мы знакомимся с Чезаре Борджиа.
Как хорошо известно, эта фигура завораживала Макиавелли.
О том, что именно он якобы и есть главный герой
«Государя», а все основные темы трактата надлежит
интерпретировать в связи с его ролью, написано очень много. Желательно
поэтому точно определить статус Борджиа. Если применять
критерий virtù—fortuna, его положение становится одной из
идеальных ситуаций, которые располагаются в зависимости
от того, насколько virtù независима от fortuna, Virtù
законодателя наделяет его почти полной независимостью, но в Чезаре
мы наблюдаем сочетание максимально развитой virtù с
максимальной зависимостью от фортуны. Он изображен как человек
незаурядных способностей, которому выпала удача только
потому, что его отца избрали папой. Его virtù нашла отражение
в усилиях, приложенных к утверждению независимой власти
в Романье незадолго до смерти его отца3..Разумеется, избрание
1. «Colore* е' quali solamente per fortuna diventano di privati principi...»
(Machiavelli N. Opere. P. 21); «В этих случаях государи всецело зависят
от воли и фортуны тех, кому обязаны властью...» (Макьявелли Н.
Государь. С. 74)·
2. Там же. С. 75 («---di tanta virtù ehe quello la fortuna ha messo loro in grembo
e' sappino subito prepararsi a conservarlo, e quali fondamenti ehe gli altri
hanno fatti Avanti ehe diventino principi, gli faccino poi»: Ibid. P. 22).
3. «...acquisto lo stato con la fortuna del padre, e con quella lo perde; nonstante
ehe per lui si usassi ogni opera e facessi tutte quelle cosec he per uno prudente
e virtuoso uomo si dovea fare per mettere le barbe sua in quelli static he
254
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
Александра VI сыграло роль occasione, в котором проявила
себя virtù Чезаре, однако его пример существенно отличается
от примера законодателя, ухватившегося за occasione.
Законодатель в этом случае, как мы узнаём, ничем не обязан fortuna,
кроме occasione. Вся его virtù находится в нем самом. Перед нами
возникает образ обладающей незаурядным творческим
мышлением личности, накладывающей на обстоятельства свой
отпечаток, как на tabula rasa. В итоге мир случайностей
превращается в инертную материю, которой virtù придает форму.
Но occasione лишь временно подняло Чезаре на колесе фортуны.
Он был многим ей обязан, и она могла покинуть его в любой
момент. Зависимость от fortuna сохранялась, пока с помощью
своей virtù он не пытался установить власть, не зависящую от
следующего оборота колеса.
Положение Чезаре формально отличается от ситуации
законодателя тем, что его virtù и fortuna не просто противостоят
друг другу. Поскольку законодатель наделен сверхчеловеческой
virtù, fortuna над ним не властна; Чезаре обладает лишь
человеческой virtù — он занимает по отношению к законодателю
примерно такую же позицию, как аристотелевский человек
практического ума по отношению к платоновскому философу-
правителю, — и мы видим, как он силится выйти из-под власти
fortuna. Впрочем, дело не только в этом. Чезаре выделяется на
фоне остальных новаторов. В главе VI говорилось, что
привнесение чего-то нового — самая трудная и опасная задача1.
Уязвимость новатора для fortuna выводилась из того
обстоятельства, что привносимые им перемены нарушали все
человеческие отношения и отталкивали одних людей сильнее, чем
привлекали других. Однако это не относится к Чезаре. Его
зависимость от fortuna выражается не в неоднозначном
отношении Романьи к его власти, а в неопределенности срока жизни
Александра VI. Да, мерой его virtù являются его искусные
военные и другие приемы, о которых говорит Макиавелли и
которые должны служить гарантией, что его власть в Романье
устоит после смерти Александра VI. На деле же она остается
Гагте е fortuna d'altri gli aveva concessi» (Ibid); «...Лишившись отца, он
лишился и власти, несмотря на то, как человек умный и доблестный,
приложил все усилия и все старания, какие были возможны, к тому,
чтобы пустить прочные корни в государствах, добытых для него
чужим оружием и чужой фортуной» (Там же. С. 75)·
I. Ibid. Р. 19-20; «А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы
труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена
старых порядков новыми» (Там же. С. 73)·
255
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
в полной зависимости от политики папы и курии, и
Макиавелли не удалось убедительно показать, что это не так1. Fortuna
приобрела внешний характер. События в Романье зависят от
того, что происходит в других местах, а не являются простым
следствием перемен, привнесенных Чезаре в привычный уклад
области. Нам мало что сообщается и о том, каким было
общество Романьи до прихода Чезаре, и не потому, что мы должны
увидеть в Чезаре Тезея Романьи, а в ее жителях — инертную
материю, которой он способен придать форму. Его отношения
cfortuna — это не отношения законодателя.
Чезаре не законодатель. Возможно, Борджиа — как и
утверждает Макиавелли — это идеальный тип, на который следует
ориентироваться каждому новому правителю из его
(тщательно определенной) категории8? Но из этого следует, в
противоположность выводам некоторых комментаторов Макиавелли,
что новый государь не является потенциальным
законодателем и что законодатель — идеальный тип, расположенный на
одном из полюсов категории новаторов, чьей разновидностью
является новый государь. Дело не только в том, что связь
между virtu ufortuna законодателя иная, чем у нового государя. Он
осуществляет преобразование другого рода, обнаруживая свою
materia — народ, который ему предстоит направлять, — в
состоянии такой разобщенности, что его virtu требуется лишь меч,
чтобы придать ей форму. У Макиавелли очень мало сказано
о характере прежнего и привычного поведения,
упраздненного другими новаторами. Более того, придавая материи форму,
законодатель создает новую политическую реальность: Кир,
Тезей и Ромул основали империи, Ликург — политию, а
Моисей— народ, заключивший завет с Богом. Слово stato —
которое Макиавелли и Гвиччардини использовали для
обозначения «власти одних над другими», — по-видимому не означает
того, что производит законодатель, то есть весьма
жизнеспособное политическое общество, укрепленное с помощью его
virtu и (по крайней мере если речь о республике) благодаря
ι. «Е ehe е' fondamenti sua fussino buoni, si vidde: ehe la Romagna lo aspetto
piu di uno mese...» (Machiavelli N. Opère. P. 26); «Что власть его
покоилась на прочном фундаменте, в этом мы убедились: Романья
дожидалась его больше месяца...» (Макьявелли Н. Государь. С. 79)· Ег° успех
измеряется умением действовать на коротких временных дистанциях.
2. «...anzi mi pare, come ho fatto, di preporlo imitabile a tutti coloro ehe per
fortuna e con Parmi d'altri sono ascesi alio imperio» (Ibid. P. 27); «...мне
представляется, что он может послужить образцом всем тем, кому
доставляет власть милость судьбы или чужое оружие» (Там же. С. 79~8о).
256
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
virtù граждан. Царство обретает стабильность через практику
и наследование. Новый государь обнаруживает не материю,
лишенную всякой формы. Он получает власть над обществом
с уже установившимися обычаями, и его задача —
относительно трудная или простая в зависимости от того, привыкло ли
это общество к свободе или к повиновению, — состоит в том,
чтобы заменить «вторую натуру» другой. Его virtù призвана
не наложить на нее prima forma (если использовать выражение
Савонаролы и Гвиччардини), а разрушить прежние формы
и превратить их в новые. Прежняя форма укоренена в обычае
и «вторичной природе», поэтому привносимые им перемены
вносят смуту в привычные модели человеческого поведения,
делая его уязвимым цля/от^ипа. Как мы видим, он учреждает
stato — ограниченную форму правления, отчасти легитимную,
отчасти укорененную в обычаях и «вторичной природе»,
новых для данного народа. Для преодоления этого этапа
требуется более редкий тип virtù, потому что эта virtù отличается
от virtù законодателя.
Как заметил Дж.Х. Хекстер1, фраза, которую Макиавелли
чаще всего использует для описания целей нового государя, —
mantenere lo stato. Она подразумевает краткосрочную
перспективу, словно бы указывая, что он стремится лишь найти
опору в том положении силы и неустойчивости, в какое он был
поставлен инновацией. С этой точки зрения, правителю не
надо заглядывать слишком далеко, надеясь добиться для
своего stato бессмертия, достигаемого творением законодателя,
или легитимности, приобретенной через наследование
потомственного владения. Stato означает необходимость постоянно
помнить о подстерегающих опасностях. Virtù — качество,
позволяющее им сопротивляться, но не освобождающее от
необходимости бояться их. Новый правитель не надеется изменить
условия своего политического бытия и не рассчитывает, что
когда-нибудь в нем будут видеть кого угодно, только не
выскочку. Если virtù ufortuna будут благополучно сосуществовать,
его династия может продержаться достаточно долго и обрести
привычную стабильность, как герцоги д'Эсте в Ферраре,
упрочившие свою власть настолько, что им не слишком
требовалась virtù. Но пока еще virtù нужна в рамках ближайших целей:
ι. Hexter J.H. Il Principe and lo stato II Studies in the Renaissance. 1957. Vol. 4.
P. 113-138; теперь статья включена в издание: Hexter J.H. The Vision
of Politics on the Eve of the Reformation. New York, 1972. Ср.: Gilbert F.
Machiavelli and Guicciardini. P. 326-330.
257
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
virtu Филопемена, главы Ахейского союза, который никогда не
прогуливался, не планируя при этом новый поход1. Virtu
направлена на настоящее, но сулит будущую славу. У
законодателя совсем иная virtu: она строит нации, которые нацелены
на длительное существование.
Такая интерпретация представляется обоснованной, если
мы вспомним о различии между дидактическими и
аналитическими главами «Государя»: за разделами, в которых
рассматривается категория новаторов, следуют фрагменты, где
говорится исключительно о новом государе и предписывается, как он
должен поступать. Переход от одного к другому осуществляется
через две главы после краткого биографического очерка о Че-
заре Борджиа. Основные его темы и в самом деле можно
связать с приемами, необходимыми государю, чтобы обезопасить
себя от непосредственных угроз. Он живет среди соперников,
а это вновь возвращает нас к теме отношений между
государями, в которых главным аргументом служит армия и умение
ею пользоваться. Мы знаем о глубоком интересе Макиавелли
к традиции флорентийской милиции и его убежденности, что
только гражданская милиция может сделать городских
жителей способными отстаивать свою свободу. Возникает вопрос:
не имел ли он в виду, что наличие армии в распоряжении
государя является средством перестроить его отношения с теми,
кем он правит? Вспомним советы Веттори, предлагавшего
Медичи вооружить против города contado, и Аламанни,
считавшего, что молодые аристократы должны стать воинами в гвардии
государя. Впрочем, если у Макиавелли и была такая мысль, он
не остановился на ней подробно. В посвященных армии
главах «Государя» (XI 1-Х IV) горячо отстаивается превосходство
«собственных» (proprié) войск правителя над наемными или
союзными. Социальные отношения между государем и «его»
солдатами рассматриваются лишь в одном предложении, где
отмечается, они являются либо подданными (sudditi), либо
гражданами (cittadini), либо зависимыми от него людьми (creati,
то есть его ставленниками, которых он возвысил)2. Этот тезис
1. Machiavelli N. Ореге. Р. 48~49; Макьявелли Н. Государь. С. 99-100·
2. «Е Parme proprie son quelle ehe sono composte о di sudditi о di cittadini о di
creati tua: tutte Paître sono о mercenarie о ausiliarie. Ε il modo a ordinäre
Гагте proprie sarà facile a trovare se si discorrerà gli ordini de' quattro
sopra nominati da me [i.e., Cesare Borgia, Hiero of Syracuse, David of Israel,
and Charles VII of France], e se si vedrà corne Filippo, padre di Alessandro
Magno, e corne moite republiche e principi si sono armati e ordinati: a' quali
ordini io al tutto mi rimetto» (Ibid. P. 47); «Собственные войска суть те,
258
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
наводит на определенные размышления, но его недостаточно,
чтобы построить теорию. Тщательный анализ политики
военного устройства, который Макиавелли проводит в
«Рассуждениях» или «Трактате о военном искусстве», подразумевает
республику как политическую норму.
В посвященных военному делу главах армия
изображена в целом как оружие против кратковременных опасностей.
С аналогичной точки зрения написаны и знаменитые главы
о моральности поведения государя (XV-XIX). Здесь просто
предполагается, что в силу собственного новаторства
государь оказывается в ситуации, когда человеческое поведение
лишь отчасти остается законным и лишь отчасти подчиняется
правилам морали. Поэтому ум государя — его virtù —
включает в себя способность распознавать, когда можно действовать,
словно бы правила морали (авторитет которых сам по себе
нигде не отрицается) остаются в силе и продолжают
управлять поведением других людей, а когда нет. Формально это
утверждение относится к конкретной политической ситуации,
ставшей результатом нововведения. При этом можно указать
фрагменты, где Макиавелли говорит так, будто это
относилось к любой политической ситуации. Скорее всего, причина
такого хода состоит в том, что он ориентировался на
краткосрочную перспективу, в которой последствия перемены еще
не изгладились. Благодаря этому Макиавелли осознал, что все
политические ситуации в какой-то мере складываются в
результате нововведений и борьбы за власть и что
краткосрочная перспектива никогда не теряет актуальности. Из этого
следует сделать дальнейшие выводы. Моральное и социальное
поведение государя, подобно его военной и дипломатической
стратегии, помещено в обстоятельства, где властвует fortuna
и где время приносит с собой равно доброе и дурное. До сих
пор virtù властителя большей частью заключалась в его
способности различать, что принесет время и какая тактика
потребуется в каждом случае. Поэтому вопрос, должен ли
правитель соблюдать моральный закон, перетекает в вопрос, когда
которые составляются из подданных, граждан или преданных тебе
людей, всякие же другие относятся либо к союзническим, либо к
наемным. А какое им дать устройство, нетрудно заключить, если
обдумать действия четырех названных мною лиц [то есть Чезаре Борджиа,
Гиерона Сиракузского, царя Давида и короля Франции Карла VII]
и рассмотреть, как устраивали и вооружали свои армии Филипп, отец
Александра Македонского, и многие другие республики и государи,
чьему примеру я всецело вверяюсь» (Там же. С. 98)·
259
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
он должен ему подчиняться1, а тот, в свою очередь, в вопрос,
что лучше — внушать любовь или страх, быть отважным или
благоразумным? Ответ всегда один и тот же. Сущность virtù
в том, чтобы понимать, какая из двух стратегий подходит для
настоящего момента. Однако при прочих равных лучшей
стратегией всегда остается более агрессивное и резкое поведение,
в котором проявляется отвага и которое внушает страх.
Чтобы внушить любовь, нужно время.
Мы знаем, что легитимность сопряжена прежде всего с
долгосрочной перспективой — вечностью разума, древностью
обычая. В силу собственных действий новатор оказывается в
ситуации, лишенной легитимности, где правит fortuna и нельзя
полагаться на поведение людей. В итоге он вынужден
ориентироваться на краткосрочную перспективу и продолжать
действовать— и с этой точки зрения что-то менять. Таким
образом, в очень узком смысле слова действие — это virtù. Когда
в мире нет устойчивости и постоянно возникает угроза чего-
то непредвиденного, действовать — то есть совершать нечто
не вписывающееся в рамки законности — означает придавать
форму fortuna. Главное достоинство такой стратегии — агрессия.
Именно она, а не эротические фантазии, склонность к которым
у Макиавелли, правда, наблюдалась, кроется за неоднократно
возникающим у него образом fortuna как женщины, которой
можно овладеть силой, но которая погубит того, кто — говоря
очень аккуратно — не будет действовать своевременно.
Впрочем, virtù действия еще не делала ситуацию, в которой
она осуществлялась, законной. Порождаемые ею формы
существовали лишь короткое время, тогда как в случае
законодателя они были рассчитаны на земное бессмертие. В
заключительных главах (XXIV-XXVI) Макиавелли действительно
начинает с утверждения, что благодаря virtù новый государь
скоро утвердится в государстве и почувствует себя в нем
прочнее и увереннее, чем если бы получил власть по наследству.
Ибо новый государь вызывает большее любопытство, чем
наследный правитель, и если действия его исполнены доблести,
они куда больше захватывают и привлекают людей, чем
древность рода. Ведь люди гораздо больше заняты сегодняшним
днем, чем вчерашним, и если в настоящем обретают благо, то
довольствуются им и не ищут другого; более того, они горой
ι. Лиса понимает это лучше льва (глава XVIII).
2ÖO
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
станут за нового государя, если сам он будет действовать
надлежащим образом. И двойную славу стяжает тот, кто создаст
государство и укрепит его хорошими законами, хорошими
союзниками, хорошим войском и добрыми примерами; так же
как двойным позором покроет себя тот, кто, будучи рожден
государем, по неразумию лишится власти1.
Однако здесь не утверждается, что новый государь может
построить более надежно организованную и легитимную
систему, нежели та, что основана на привычке и традиции. Скорее
речь идет о том, что люди в меняющихся обстоятельствах
живут настоящим. Когда они воспринимают и переживают
настоящее как поток действий и изменений, а не как традицию и
легитимность, сегодняшний день неизбежно волнует их больше.
Действие интригует сильнее, чем обычай, оно притягивает
внимание и будоражит чувства. В настоящем новый государь
может затмить наследного правителя и заручиться большей
преданностью; его virtù — заменяющая авторитет рациональности
и традиции—является своего рода харизмой. Но если мы
зададимся вопросом, может ли харизма обрести
институциональную форму, мы должны перейти от краткосрочной
перспективы к долгосрочной. В этом Макиавелли нам не поможет. Он не
рассказывает в «Государе», что подразумевается под «хорошими
законами, хорошим войском и добрыми примерами», о чем мы
узнаём лишь из его «Рассуждений». Приводимые им примеры
утративших власть наследных правителей не согласовываются
с моделью, намеченной во второй главе. Те, кого он называет,
явно не пользовались преданностью своих подданных, которая
скреплялась бы привычкой2. Что же касается необыкновенных
1. Макьявелли Н. Государь. С. 127-128; «Le cose suprascritte, osservate pruden-
temente, fan no parère uno nuovo antico, e lo rendono subito piu securo e piu
fermo nello stato ehe se vi fussi antiquato drento. Perché uno principe nuovo
e molto piu osservato nelle sua azioni ehe uno ereditario; e quando le sono
conosciute virtuose, pigliano molto piu li uomini e molto piu gli obligano ehe
il sangue antico. Perché li uomini sono molto piu presi dale cose presenti ehe
dale passate, e quando nelle presenti truovono il bene, vi si godono e non
cercono altro; anzi piglieranno ogni difesa per lui, quando non manchi nelle
altre cose a se medesimo. Ε cosi sarà duplicata gloria di avere dato principio
a uno principato nuovo, e ornatolo e corroboratolo di buone leggi, di buone
armi e di buoni esempli: come quello ha duplicata vergogna ehe, nato principe,
lo ha per sua роса prudenzia perduto» (Machiavelli N. Opere. P. 78).
2. «...come il re di Napoli, duca di Milano e altri, si troverrà in loro: prima uno
commune defetto quanto alle arme per le cagioni ehe di sopra a lungo si sono
discorse; dipoi si vedrà alcuno di loro, о ehe arà avuto inimici e' populi o, se arà
avuto el populo amico, no si sarà sapputo assicurare de' grandi...» (Ibid. P. 78);
261
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
virtuosi новых принципатов, о них с уверенностью можно сказать
лишь одно — ими по-прежнему ведает фортуна. В главе XXV
Макиавелли возвращается к вопросу, как люди могут надеяться
противостоять fortuna и что подходит для этого лучше —
отвага или осмотрительность. В одном из ключевых фрагментов он
высказывает мысль, что иногда уместно одно, а иногда —
другое. При этом люди отважны или осмотрительны в силу своей
природы, поэтому преуспевают или терпят поражение в
зависимости от того, в какое время им выпало жить. Успех
человеку может принести любая из этих стратегий,
но стоит времени и обстоятельствам перемениться, как
процветанию его приходит конец, ибо он не переменил своего образа
действий. И нет людей, которые умели бы к этому
приспособиться, как бы они ни были благоразумны. Во-первых, берут
верх природные склонности, во-вторых, человек не может
заставить себя свернуть с пути, на котором он до того времени
неизменно преуспевал. Вот почему осторожный государь, когда
настает время применить натиск, не умеет этого сделать и
оттого гибнет, а если бы его характер менялся в лад с временем
и обстоятельствами, благополучие его было бы постоянно1.
Макиавелли говорит, что наша вторая натура, плод привычки
и традиции (он не прибегает здесь к понятию fantana, которое
встречается в его письме к Содерини8), приобретается по мере
того, как мы приучаемся действовать отважно или
осмотрительно. Никакая virtu не в состоянии возобладать над fortuna
настолько, чтобы одна и та же стратегия всегда оставалась
«Если мы обратимся к тем государям Италии, которые утратили власть,
таким как король Неаполитанский, герцог Миланский и другие, то мы
увидим, что наиболее уязвимым их местом было войско, чему причины
подробно изложены выше. Кроме того, некоторые из них либо
враждовали с народом, либо, расположив к себе народ, не умели обезопасить
себя со стороны знати» (Макьявелли Н. Государь. С. 128).
1. Там же. С. 130-131; «Da questo ancora dépende la variazione del bene, perché,
se uno ehe si governa con rispetti e pazienzia, e' tempi e le cose girono in
modo ehe il governo suo sia buono, e viene felicitando; ma se li tempi e le
cose si mutano, e' rovina, perché non muta modo di procedere. Ne si truova
uomo si prudente ehe si sappi accomodare a questo; si perché non si puô
deviare da quello e ehe la natura lo inclina, si etiam perché, avendo sempre
uno prosperato camminando per una via, non si puô persuadere partirsi da
quella. E perô l'uomo respettivo, quando egli è tempo di venire alio impeto,
non lo sa fare; donde e' rovina: ehe se si mutassi di natura con li tempi e con
le cose, non si muterebbe fortuna» (Machiavelli N. Opère. P. 81).
2. См. выше, глава IV, прим. ι на с. 152.
2б2
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
уместной. Еще важнее, что virtù такого рода никогда не дает
людям власти изменить собственную природу или за счет
этого действовать «вовремя». Если государь не в силах
преодолеть приобретенную им вторичную природу, маловероятно,
что ему под силу изменить природу своих подданных.
Законодатель и пророк создают некую новую систему в среде
разобщенных людей, во главе которых становятся. Однако новый
государь имеет дело с людьми, привычными к определенному
vivere, и должен, если хочет узаконить свою власть, приучить
их к другому образу жизни. Этого он едва ли в состоянии
достичь с помощью virtù, тем более если они привыкли к
практикам гражданской свободы, которую Макиавелли считает
неискоренимой. Лодовико Аламанни, работавший над своим
сочинением несколькими годами позже 1513 года, возможно
уже после прочтения «Государя» и размышляя над
ограничениями предложенного Макиавелли анализа, полагал, что
ему известен способ добиться этого. Впрочем, о новом
государе, одном из типов новатора, лишь тогда можно сказать, что
он меняет условия своего политического существования,
когда он переносит их в контекст новизны или фортуны, где
возможна исключительно краткосрочная перспектива. До сих пор
были известны лишь две силы, способные создавать условия
для стабильности: обычай, формировавший вторую природу
людей, и благодать (или сверхчеловеческая virtù
законодателя), закладывавшая prima forma. Поскольку законодатели
учреждали республики, отличавшиеся высокой степенью
устойчивости, нам следует обратиться к республиканской теории
Макиавелли, дабы понять, что он думал о стабилизации
политической жизни. По-видимому, в том же направлении
толкает нас попытка разрешить загадку XXVI главы, которой
завершается «Государь» и которая содержит страстный
«призыв овладеть Италией и освободить ее из рук варваров». Он
обращен к «новому государю». Возникал вопрос: в какой мере
предшествующие главы подводят к образу
героя-освободителя? Можем ли мы сказать, что они постепенно очерчивают
его? Исходя из сформулированной здесь предпосылки — что
в «Государе» перед нами не единичный завершенный портрет,
а галерея различных типов новатора, — следует скорее задаться
вопросом, к какой подкатегории или к какому сочетанию
категорий относится этот освободитель. Риторика подсказывает,
что речь идет о законодателе: Моисей, Кир и Тезей
упоминаются вновь, и говорится, что итальянцы так же обессилены,
263
ГЛАВА VI. РЕСТАВРАЦИЯ МЕДИЧИ
как в свое время евреи, персы или афиняне. Virtù d'uno spirito
italiano1 может выразиться в том, что новый государь придаст
материи форму по примеру древних освободителей*. Следует
ли понимать это так, что разобщенность итальянцев достигла
такой меры, когда virtù законодателя ничем не будет обязана
fortuna, кроме occasioned Макиавелли был флорентийцем и
прекрасно понимал, что освободителю пришлось бы иметь дело
с республиками и principi naturally подданные которых
обладали приобретенными или врожденными свойствами,
усложняющими его задачу. Италия не инертная материя, которой надо
придать форму, хотя он так говорит о ней, — сам Макиавелли
противодействовал планируемому Чезаре Борджиа regno в Ро-
манье. Еще о герое XXVI главы нам сообщается, что он
должен быть военачальником, чьи тактические принципы
возродят virtù militare и (выражаясь словами Петрарки) antico valore3'4.
ι. Доблесть италийского духа (итпал).—Прим. ред.
2. «Considerate adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco
medesimo se al présente in Italia correvono tempi da onorare uno nuovo
principe, e se ci era materia ehe dessi occasione a uno prudente e virtuoso
di introdurvi forma ehe facessi onore a lui e bene alla università delli uomini
di quella, mi pare concorrino tante cose in benefizio di uno principe nuovo
ehe io non so quai mai tempo fussi piu atto a questo. E se, corne io dissi,
era necessario volendo vedere la virtù di Moise ehe il populo d'Isdrael fussi
stiavo in Egitto, e a conoscere la grandezza dello animo di Ciro ch'e' Persi
fussino oppressi da' Medi, e la eccellenzia di Teseo ehe li Ateniesi fussino
dispersi; cosi al présente, volendo conoscere la virtù di uno spirito italiano,
era necessario ehe la Italia si riducessi nel termine ehe ella è di présente,
e ehe la fussi piu stiava ehe gli Ebrei, piu serva ch'e Persi, piu dispersa ehe gli
Ateniesi, sanza capo, sanza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa, e avesse
sopportato d'ogni sorte ruina» (Machiavelli M Opère. P. 83); «Обдумывая
все сказанное и размышляя наедине с собой, настало ли для Италии
время чествовать нового государя и есть ли в ней материал, которым
мог бы воспользоваться мудрый и доблестный человек, чтобы придать
ему форму — во славу себе и на благо отечества, — я заключаю, что
столь многое благоприятствует появлению нового государя, что едва
ли какое-либо другое время подошло бы для этого больше, чем наше.
Как некогда народу Израиля надлежало пребывать в рабстве у египтян,
дабы Моисей явил свою доблесть, персам — в угнетении у мидийцев,
дабы Кир обнаружил величие своего духа, афинянам — в разобщении,
дабы Тезей совершил свой подвиг, так и теперь, дабы обнаружила себя
доблесть италийского духа, Италии надлежало дойти до нынешнего
ее позора: до большего рабства, чем евреи; до большего унижения, чем
персы; до большего разобщения, чем афиняне: нет в ней ни главы, ни
порядка; она разгромлена, разорена, истерзана, растоптана,
повержена в прах» (Макьявелли Н. Государь. С. 132).
3- Древняя доблесть (итпал).—Прим. ред.
4- «E non è maraviglia se alcuno de' prenominati Italiani non ha possuto fare
quello ehe si puô sperare facci la illustre Casa Vostra, e se in tante revoluzioni
d'Italia e in tanti maneggi di guerra e' pare sempre ehe in quella la virtù
264
Б) «ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ
Макиавелли дает понять, что существуют способы
соединить военную virtù с гражданской — или, возможно, сделать
первую основанием второй. Однако мы пока не знаем, какие
это способы, а язык самой главы, по-видимому, не позволяет
считать, что освободитель может остановиться, не возродив
в Италии оба типа virtù. Если он сделает меньше, то будет
заурядным «новым государем», жертвой fortuna, обреченной
жить сегодняшним днем. Если он хочет достичь величия
Моисея, Ромула и Тезея, то возглавляемая им армия должна
превратиться в народ. Макиавелли восхищался
военачальниками: Борджиа в начале его пути, Джованни делле Банде Нере
в его более зрелые годы. Созданный им в трактате «О
военном искусстве» идеализированный образ Фабрицио
Колонны намекал, что condottiere теоретически может стать
законодателем. Но тот, кто просто обладает властью в текущих
обстоятельствах, не способен пробудить в людях
гражданские чувства. В «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия»
мы видим как военачальника, учреждающего республику, так
и республику, которая сама наделена властью над
окружающими обстоятельствами.
militare sia spenta. Questa nasce ehe gli ordini antiqui di essa non erano
buoni e non ci è suto alcuno ehe abbi saputo trovare de' nuovi: e veruna
cosa fa tanto onore a uno uomo ehe di nuovo surga, quanto fa le nuove
legge e li nuovi ordini trovati da lui. Queste cose, quando sono bene fondate
e abbino in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile: e in Italia non
manca materia da introdurvi ogni forma. <...> Volendo dunque la illustre
Casa Vostra seguitare quelli eccellenti uomini ehe redimerno le provincie
loro, è necessario innanzi a tutte le altre cose, corne vero fondamento d'ogni
impresa, provedersi d'arme proprie: perche non si puô avère ne piu fidi ne piu
veri né migliori soldati. <...> E necessario pertanto prepararsi a queste arme,
per potere con la virtù italica defendersi dalli esterni» (Ibid. P. 84-85);
«Неудивительно, что ни один из названных выше итальянцев не достиг
цели, которой, как можно надеяться, достигнет ваш прославленный
дом, и что при множестве переворотов и военных действий в Италии
боевая доблесть в ней как будто угасла. Объясняется это тем, что
старые ее порядки нехороши, а лучших никто не сумел ввести. Между
тем ничто так не прославляет государя, как введение новых законов
и установлений. Когда они прочно утверждены и отмечены
величием, государю воздают за них почестями и славой; в Италии же
достаточно материала, которому можно придать любую форму. <...> Если
ваш славный дом пожелает следовать по стопам величайших мужей,
ставших избавителями отечества, то первым делом он должен
создать собственное войско, без которого всякое предприятие лишено
настоящей основы, ибо он не будет иметь ни более верных, ни более
храбрых, ни лучших солдат. <...> Такое войско поистине необходимо,
для того чтобы италийская доблесть могла отразить вторжение
иноземцев» (Там же. С. I33_I34)·
Глава VII
Рим и Венеция
А) «Рассуждения» и «О военном искусстве» Макиавелли
I.
Дж.Х. Уитфилд был совершенно прав, когда предостерегал
исследователей Макиавелли от того, чтобы начинать анализ его
идей с «Государя» и ограничиваться на этом пути «Государем»
и «Рассуждениями»1. В настоящей работе — в том, что касается
Макиавелли — мы действительно занимается лишь двумя
названными трудами. Может показаться, что мы игнорируем
предостережение Уитфилда, равно как и многое из написанного о
Макиавелли за последнее время. Однако тому есть свои причины.
Мы предпринимаем попытку выделить «момент Макиавелли»,
то есть непрерывный процесс в истории идей, который
представляется самым многообещающим контекстом для рассмотрения
вклада Макиавелли именно в эту историю. В нашем предприятии
мы будем двигаться избирательно, что исключает необходимость
проводить полный анализ его идей или их развития. «Момент
Макиавелли» предполагает не столько историю Макиавелли,
сколько историческую презентацию Макиавелли. В уже
обозначенном контексте мы фокусируемся на «Государе» и
«Рассуждениях» — как останавливались на трактатах Гвиччардини и его
«Диалоге», — потому что с их помощью можно
проиллюстрировать те аспекты его идей, которые наиболее полно расскажут об
этом контексте и роли в нем Макиавелли. Эффективность
нашего метода заключается в его способности описать процесс,
действительно имевший место в истории идей, и показать, что
Макиавелли и Гвиччардини были его главными действующими
лицами и что их следует воспринимать в этой роли. Наша цель
не заключается в том, чтобы создать полную интеллектуальную
биографию — если это вообще возможно — кого-то из них.
Таким образом, исследование, поначалу посвященное
преимущественно политике времени, затем превратилось в анализ
I. Whitfield J.Н. Discourses on Machiavelli. P. 17, 43, 57-58, in, 141-142.
266
А) «-РАССУЖДЕНИЯ). И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
понятия добродетели. Мы выделили два значения этого
термина, каждое из которых отчасти связано со временем и
отчасти— с аристотелевской концепцией формы.
Институционализируя гражданскую добродетель, республика или полис
поддерживает собственную устойчивость во времени и
разрабатывает грубый человеческий материал, направляя его к
политической жизни, составляющей предназначение каждого
человека. Практикуя не вполне моральную virtu, новатор придает
форму fortuna той последовательности событий во времени,
которую он своим действием нарушил. В «Рассуждениях о первой
декаде Тита Ливия» и трактате «О военном искусстве»
Макиавелли соединяются оба эти понятия, и анализ этих
произведений можно начинать с понятийной рамки, известной по
интерпретации «Государя». В более ранней работе преобразователю
нужна virtu, ибо он нарушил структуру обычая, которая
легитимировала ранее существовавшее правление. Именно поэтому
он стал уязвим для fortuna и непредсказуемости человеческого
поведения. Испытание, с которым virtu неизменно сталкивается,
но никогда вполне не справляется, состоит в изменении
природы людей в сравнении с тем, какой ее сделал обычай, после
чего сам обычай потерял силу. Однако на протяжении всего
текста «Государя» в качестве примера общества, основанного
на обычае, фигурирует наследственная монархия или
княжество, где подданные просто привыкли повиноваться
конкретному человеку или династии. Безусловно, республика входит
в число политических систем, нарушая работу которых
преобразователь становится уязвимым для fortuna. Но мы имели
основание заподозрить, что ее прочность зиждется на чем-то еще,
помимо приверженности обычаю: когда люди, как нам было
сказано, привыкают к свободе, память о ней не покидает их
и они не могут смириться с властью государя. Согласно
нашему предположению, речь идет о свидетельстве того, что опыт
гражданской жизни —participazione, как его называл Гвиччарди-
ни, — изменил человеческую природу так, как это было не под
силу одному лишь обычаю. Обычай мог самое большее
наложить отпечаток на вторичную, или приобретенную, природу
людей. Однако коль скоро предназначение индивида заключалось
в том, чтобы быть гражданином или существом политическим,
то опыт vivere civile оказывал воздействие — и воздействие
необратимое — именно на его врожденную природу, или primaforma.
Теперь можно соотнести идеи Макиавелли с традицией
Савонаролы. На этом этапе понятие гражданской добродетели
267
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
приобретает дополнительную глубину. Быть существом
политическим— это призвание человека и его добродетель. По-
лития представляла собой форму, в которой человеческая
материя развивала свою подлинную добродетель, а функция
добродетели — придавать форму подручной материи fortuna.
Республику или политию можно назвать вместилищем
добродетели еще в одном смысле: она являла систему, в которой
способность каждого гражданина ставить общее благо выше
своего собственного служила предпосылкой наличия
аналогичной способности во всех остальных. Таким образом
добродетель всякого индивида оберегала добродетель остальных от
порчи, элементом которой во временном измерении и
выступала fortuna. Поэтому республика была структурой,
построенной на гораздо более сложном и нормативном принципе,
нежели обычай.
Однако то, что подобные структуры добродетели могут
подвергаться коррозии и распадаться, подтверждали не только
опыт и история. В силу ужасного парадокса эта тенденция была
заложена в самой природе республик. Республика стремилась
к полноте добродетели в отношениях между своими
гражданами, но опиралась при этом на свою ограниченность во времени
и пространстве. Она имела начало во времени и должна была,
с одной стороны, располагать свидетельством о том, как это
начало стало возможным, а с другой — признавать (ибо
теоретически у нее должен быть и конец), что поддерживать ее не
менее затруднительно, чем основывать. Занимая определенное
место, то есть положение в пространстве, она была окружена
соседями, в отношениях с которыми руководствовалась не
добродетелью, существовавшей словно бы только в среде
граждан. С точки зрения времени, а не только пространства, она
сталкивалась с проблемами, обусловленными тем, что сама
выступала в роли своего рода новатора. С точки зрения
пространства, а не только времени, она принадлежала миру
нелегитимных властных отношений. Структура добродетели
существовала в сфере fortuna по крайней мере отчасти потому, что
добродетель такого типа сама являлась новшеством. А значит,
система должна была обладать частью той virtu, которая
придавала форму фортуне. Очерк о «новом государе» уже показал,
что во многом речь шла о вопросе манипулирования
человеческим поведением, которое было нелегитимным и опиралось
на силу. Двусмысленность не исчезала с основанием
республики. Она сохранялась как в ее внутренних, так и во внешних
268
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
отношениях: республика могла страдать от порчи изнутри не
меньше, чем от поражений вовне. Но если государь, которому
изменила virtù, терял свое stato, то и граждане, чья республика
потерпела крушение, утрачивали добродетель,
характеризующую их гражданский коллектив.
Флорентийских теоретиков интересовали республиканские
ценности. Первоочередная практическая и теоретическая
проблема состояла в том, чтобы показать, как возникали республики
и как можно поддерживать их существование. Ставки были
очень высоки — не меньше, чем утверждение добродетели как
принципа деятельной жизни. Риск был не менее велик: было
трудно построить республику на чем-то, кроме зыбкого и
временного фундамента. На примере Гвиччардини мы наблюдали
традицию аристократической мысли, которая, во многом
восходя к Савонароле, признавала наличие у флорентийцев
стремления к свободе и приобретенных свойств, имеющих глубокие,
но непрочные корни в унаследованной традиции и «вторичной
природе», и искала средства преобразовать их в полноту prima
forma. С 1512 года Гвиччардини с пессимизмом и
настойчивостью изучал теоретические основания аристотелевской политии
и смешанного правления, а также менее отдаленную во
времени область действия двух образцов: конституции 1494 года
и венецианской модели. Линию мысли, стремившуюся
совместить главенство аристократии и governo largo, по-видимому,
продолжили члены кружка, собиравшегося в Садах Оричелла-
ри после смерти Бернардо Ру чел лай в 15 Ц году1. В этот кружок,
аристократический по своему составу, но народный по своим
симпатиям, вероятно, входили люди, восхищавшиеся
Венецией за то, что она построила основанную на добродетели
систему благодаря принципу смешения простых форм правления.
Пребывание Гвиччардини в угрюмом мире папских
территорий не позволяет считать его участником кружка Оричелла-
ри. Принадлежавший к нему Макиавелли в силу своего
происхождения и убеждений не разделял присущего этой группе
аристократического идеализма. Как мы увидим, его
«Рассуждения» логичнее всего трактовать как последовательный уход
I. Об этой группе и о проблемах датировки того периода, когда к ней
примыкает Макиавелли, см.: Gilbert F. Bernardo Rucellai and the Orti
Oricellari. P. 101-131, а также: Idem. The Composition and Structure of
Machiavelli's Discorsi II Journal of the History of Ideas. 1953. Vol. 14. № I.
P. 136-156; Whitfield J. H. Discourses on Machiavelli. P. 181-206; Baron H.
Machiavelli: the Republican Citizen and the Author of The Prince II English
Historical Review. Vol. 76 (1961). ?. 217-253.
269
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
от венецианской парадигмы и менее определенную попытку
продумать последствия этого ухода. Гвиччардини в «Диалоге
об управлении Флоренцией», который иногда воспринимается
как ответ на ключевые идеи «Рассуждений», продолжает
аристократическую провенецианскую традицию. Мы можем
считать, что в этих двух произведениях разрабатываются разные
подходы к проблеме республики. В последующих главах нам
предстоит наблюдать странное сочетание этих идей, которое
легло в основу классической республиканской традиции
Атлантики и Северо-Западной Европы.
II.
Гвиччардини начал с врожденной склонности флорентийцев
к свободе и на протяжении всего «Диалога» интерпретировал
флорентийские институты. Макиавелли, верный себе,
работал на более высоком уровне теоретического обобщения. Как
и «Государь», «Рассуждения» открываются типологией,
классификацией республик с точки зрения их происхождения.
Все города основываются либо местным населением, либо
чужеземцами1; их основатели на момент возникновения города
либо автономны, либо сохраняют зависимость от какой-либо
внешней силы, и города последней категории, с самого
начала лишенные свободы, редко достигают чего-то значительного.
Бросая откровенный вызов традиции Салютати, Макиавелли
добавляет, что Флоренция, основанная Суллой или Августом,
является именно таким городом2. К этой мысли он вернется
1. Machiavelli N. Opère. P. 91 (Discorsi I, 1); Макьявелли H. Рассуждения о
первой декаде Тита Ливия // Макьявелли Н. Сочинения исторические
и политические. Сочинения художественные. Письма / Пер. М.А. Юси-
ма. М., 2004- С. цо.
2. «Е per non avère queste cittadi la loro origine libera, rade volte occurre
ehe le facciano progressi grandi, e possinsi intra i capi dei regni numerare.
Simile a queste fu Pedifïcazione di Firenze, perché (o edificata da' soldati di
Silla о a caso dagli abitatori dei monti di Fiesole, i quali confldatisi in quella
lunga расе ehe sotto Ottaviano nacque nel mondo si ridussero ad abitare
nel piano sopra Arno) si edifïcô sotto l'imperio romano, ne pote ne' principii
suoi fare altri augumenti ehe quelli ehe per cortesia del principe gli erano
concessi» (Ibid. P. 92); «Однако такие города, вследствие своей
зависимости, редко разрастаются до больших размеров и становятся
столицами в своих странах. Подобным образом была основана Флоренция,
и не важно, была ли она построена солдатами Суллы или
обитателями Фьезоланских холмов, которые спустились на равнину близ Арно,
уповая на длительный мир, воцарившийся повсюду при Октавиане:
она подчинялась римской власти и поначалу могла расширять свои
владения только за счет щедрот императора» (Там же. С. 141).
270
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
в «Истории Флоренции» и сделает вывод, что Флоренции
никогда не удавалось обрести стабильность, характерную как
для зависимого, так и для свободного существования1. В
рассматриваемом же произведении он заявляет (после
отступления о том, где надлежит основывать города — на неурожайных
или на плодородных землях8), что в его намерения не входит
рассуждать о городах этой категории. Его занимают только те
земли, которые с момента основания были полностью
независимы3,— явное указание на то, что Флоренция не будет
составлять главный предмет его интереса в последующих главах.
Макиавелли вновь прибегает к схематическому подходу. Он
выделяет города, основанные законодателями4, такими как Ли-
кург, чьи дела были столь близки к совершенству, что к ним
нечего было добавить5, те города, которые изначально были
несовершенными и потому столь несчастливыми, что
вынуждены были реформировать самих себя, те, что отклонились от
своих истоков, и те, чье устройство изначально было крайне
неразумным6. Из этой классификации, представляющей собой
1. Machiavelli N. Ореге. Р. 620-622 (Istorie florentine II, 2); рус. перевод:
Макьявелли Н. История Флоренции / Пер. Н.Я. Рыковой. Л., ig73- С· 5Ι_53·
См. также: Discorsi I, 49, гДе прямо утверждается, что Флоренции не
удалось устранить недостатки своего рабского происхождения. Ср.:
Rubinstein N. Machiavelli and Florentine Politics // Studies on Machiavelli /
Ed. by M.P. Gilmore. P. 21-22.
2. Machiavelli N. Opere. P. 93-94 (Discorsi I, 1); Макьявелли Η. Рассуждения
о первой декаде Тита Ливия. С. 141—143-
3- Первые предложения в: Discorsi II, 2 — Ibid. P. 95; Там же. С. 143·
4- В этом значении иногда используется слово ordinatore, но Макиавелли
предпочитает заменять его парафразами, такими как ипо solo, il quale
ordino и т.д. В главе ι книги II «Рассуждений» находим latore délie leggi
(«законодатель»): Ibid. P. 205; Там же. С. 266.
5. Ibid. Р. 95, 98, 99, Ю7; Там же. С. 143, 47, I54-I55, 165, 171.
6. «Talché felice si puô chiamare quella republica la quale sortisce uno uomo
si prudente ehe gli dia leggi ordinate in modo ehe, sanza avère bisogno di
ricorreggerle, possa vivere sicuramente sotto quelle; e si vede ehe Sparta le
osservô piu ehe ottocento anni sanza corromperle о sanza alcuno tumulto
pericoloso. Ε pel contrario tiene qualche grado d'infelicità quella città ehe non
si sendo abbattuta a uno ordinatore prudente, è necessitata da se medesima
riordinarsi: e di queste ancora è piu infelice quella ehe è piu discosto
dalPordine; e quella ne è piu discosto ehe со' suoi ordini e al tutto fuori del
diritto cammino ehe la possa condurre al perfetto e vero fine, perché quelle
ehe sono in questo grado è quasi impossibile ehe per qualunque accidente
si rassettino» (Ibid. P. 95); «Счастливой можно назвать республику,
которую жребий наделяет столь благоразумным гражданином, что он
дает ей продуманные и надежные законы, не нуждающиеся в
исправлении. Известно, что в Спарте они соблюдались более восьмисот лет
без искажений и без особых потрясений; напротив, тот город,
которому не посчастливилось найти разумного учредителя, вынужден
сам заботиться о своем устройстве. Самая несчастливая республика
271
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
ключ ко всем трем книгам «Рассуждений», при ближайшем
рассмотрении напрашиваются некоторые выводы. Во-первых,
речь идет не просто о различии между всезнающими и не столь
мудрыми ordinatori, но и о различии между наличием
конкретного основателя и обстоятельствами, когда основание вообще
нельзя приписать ипо solo. Солон добился меньшего, чем Ли-
кург1. Ромул, как мы увидим, оказался где-то посередине.
Однако Макиавелли интересуют не только древние республики,
но и новые. Например, Венеция, появившаяся уже в
христианскую эру, возводит свои истоки не к конкретным
основателям, а в лучшем случае к покровительствующим им святым,
которые в действительности город не учреждали.
Историческое развитие Венеции, возможно, начинается со скопления
лишенных предводителя беженцев, чье постепенное
восхождение по лестнице гражданской добродетели требует
объяснения2. Поскольку Макиавелли не считает Венецию образцом для
подражания, то эта проблема не слишком его занимает.
Впрочем, все «Рассуждения» строятся вокруг ситуаций, когда из-за
несовершенства или же отсутствия законодателя гражданам
пришлось исправлять свои ordini и самих себя, — такие,
когда материя оказалась вынуждена сама придавать себе форму.
Кроме того, очевидно — здесь проводится разграничение
между относительной свободой и относительной
зависимостью от случайностей во времени. Спартанцы получили от
Ликурга «сразу все свои законы», после чего им оставалось
та, которая лишена упорядоченности, особенно если ее устройство во
всех своих частях не нацелено на прямой путь, ведущий к истинной
и совершенной цели. В этом случае никакие потрясения не заставят
ее прийти в порядок; те же республики, которые, не имея
совершенного устройства, располагают хорошими задатками, подлежащими
развитию, могут постепенно совершенствоваться при благоприятном
стечении обстоятельств» (Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде
Тита Ливия. С. I43_I44)·
ι. Machiavelli N. Ореге. Р. 98_99; Там же· С. Н7-
2. «...cominciarono infra loro, sanza altro principe particulare ehe gli ordinasse,
a vivere sotto quelle leggi ehe parevono loro piu atte a mantenerli. II ehe
successe loro felicemente per il lu η go ozio ehe il sito dette loro, non avendo
quel mare uscita, e non avendo quelli popoli ehe afïliggevano Italia navigli
da poterli infestare, talché ogni piccolo principio li pote fare venire a quella
grandezza nella quale sono» (Ibid. P. 91-92; Discorsi I, 1); «Эти племена,
не имея особого предводителя, стали жить по законам, которые
казались им наиболее подходящими. Тому способствовало спокойное
существование, обеспечиваемое местностью, потому что доступ к ней
был только по морю, а у народов, опустошавших Италию, не было
кораблей, так что сам ход вещей должен был привести этот город к его
сегодняшнему величию» (Там же. С. 140-141).
272
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
лишь хранить их. Как нам предстоит узнать, это бывает
непросто сделать. Впрочем, упомянутая задача ничто в сравнении
с трудностями, подстерегающими города, которые получили
свои законы по воле благоприятного случая (caso), в несколько
приемов {piu volte) или по мере развития множества
непредвиденных событий (accidenti), как в Риме»1. Наличие
совершенного законодателя приносит стабильность, то есть свободу от
времени. Любое другое положение вынуждает положиться на
свою virtù в контексте fortuna. Снова, как и в «Государе», от
законодателя как идеального типа мы спускаемся к разным
уровням неустойчивости virtù. Если устройство изначально
было неправильным, это безнадежная ситуация. Если
приходится исправлять законы силами несовершенного
политического организма, это несчастье по сравнению со
Спартой. Тем не менее республики, с самого начала наделенные
хорошими, но несовершенными институтами, могут достичь
совершенства per la occorrenzia degli accident?. Мы знаем, что
fortuna благосклонно отвечает лишь virtu, и эта мысль
подкрепляется замечанием Макиавелли, что
самосовершенствование сопряжено с трудностями по уже знакомым нам
причинам, в силу которых опасны нововведения3. Теперь можно
перейти к случаю Рима, где Ромул не смог упрочить монархию,
1. «...alcune le hanno avute a caso ed in piu volte e secondo li accidenti, come
ebbe Roma» (Ibid. P. 95); «...Другие вырабатывают свои законы
постепенно, по мере развития событий, как было в Риме» (Там же. С. 143)·
В Discorsi I, 1 Макиавелли возвращается к этой теме и объясняет,
что fortuna — это не причина и не создатель римского величия; мы
могли бы точнее передать смысл сказанного с помощью утверждения,
что fortuna — его контекст.
2. При благоприятном стечении обстоятельств (итал.).—Прим. ред.
3- «Quelle altre ehe, se le non hanno Pordine perfetto, hanno preso il principio
buono e atto a diventare migliore, possono per la occorrenzia degli accidenti
diventare perfette. Ma sia bene vero questo: ehe mai non si ordineranno
sanza periculo, perché gli assai uomini non si accordano mai ad una legge
nuova ehe riguardi uno nuovo ordine nella città, se non è mostro loro da
una nécessita ehe bisogni farlo; e non potendo venire questa nécessita sanza
periculo, è facil cosa ehe quella republica rovini avanti ehe la si sia condotta
a una perfezione d'ordine» (Ibid. P. 95); «...Te же республики, которые, не
имея совершенного устройства, располагают хорошими задатками,
подлежащими развитию, могут постепенно совершенствоваться при
благоприятном стечении обстоятельств. Но справедливо и то, что они
будут при этом подвергаться опасности, потому что множество людей
никогда не согласится принять новый закон и установить в городе
новые порядки, если не убедится в крайней необходимости этого, а
необходимость возникает только при наступлении опасности, поэтому
такая республика может рухнуть, не дождавшись усовершенствования»
(Там же. С. 144)·
273
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
но действовал достаточно хорошо, чтобы она превратилась
в процветающую республику. Однако в этой типологии есть
явный пробел. Случай республики, где граждане
изначально обходились без законодателя, который бы руководил ими,
подразумевается, но не рассматривается. В частности,
возникает вопрос, что Макиавелли думал о Венеции, где никогда
не было законодателя, но сразу, как считается, установилась
исключительная стабильность. Нет уверенности, что мы
когда-либо узнаем точный ответ.
Когда граждане совершенствуют свои отношения в
контексте времени, они упражняются в virtù в том смысле, что
стремятся одержать верх над fortuna. В случае нового государя, это
искусство, которое до «Государя» редко подвергалось
теоретическому осмыслению. Однако существовало куда большее
количество теоретической литературы о ситуации, когда
граждане вместе упражняются в добродетели, учреждая, поддерживая
и совершенствуя структуры этических и политических
отношений. Здесь Макиавелли, не называя имени автора,
пространно излагает теорию конституционных циклов Полибия1. Как
мы увидим, «Рассуждения» едва ли можно свести к трактату
о том, как установить совершенную уравновешенную форму
правления, которая бы вырвалась из круговорота и обрела
вневременность. Посему естественно задаться вопросом: чего
стремился достичь Макиавелли, подробно останавливаясь на
теории Полибия? Ответ мы находим в конце второй главы, где
он вновь возвращается к различию между городами, имевшими
совершенного законодателя и лишенными его. Ликург,
воспользовавшись единственным occasione — у Макиавелли нет этого
слова, но, если мы его поместим сюда, то фрагмент станет
понятнее,— установил распределение власти между монархами,
аристократами и народом, продержавшееся более восьмисот
лет. Солону этого сделать не удалось, и потому Афины так и не
достигли стабильности. Но случай Рима — на основе которого
Полибий и разработал всю свою теорию — представляет собой
самое необычайное явление. Ни один законодатель не пытался
соединить здесь власть одного, некоторых и многих. Царство,
установленное Ромулом, пало с изгнанием Тарквиния. В
период республики патриции и плебеи на протяжении многих
поколений вели между собой борьбу. И все же, несмотря на весь
I. Machiavelli N. Ореге. Р. 9б~99 (Discorsi II, 2); Макьявелли Н. Рассуждения
о первой декаде Тита Ливия. С. Ι45_Ι47·
274
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
разлад, возникла система, вызывавшая восхищение Полибия
и достаточно устойчивая, чтобы завоевать мир1.
Макиавелли провел радикальный эксперимент
секуляризации. Он установил, что гражданская добродетель и vivere civile
могут — хотя это необязательно — развиваться исключительно
в измерении случайного, без вмешательства вневременных сил.
Тем не менее, цель, обозначенная Полибием и достигнутая Ли-
кургом, может заключаться в том, чтобы избежать ловушки
времени и перемен. Впрочем, существуют обстоятельства,
когда граждане приближаются к этой цели собственными
усилиями— трудами людей, ограниченных временем. Интересен не
пример Спарты, где практически не зависящий от времени
законодатель в одночасье вывел формулу вневременности, а пример
Рима, где эта цель была достигнута — насколько люди вообще
в состоянии ее достичь — беспорядочными и направляемыми
случаем действиями конкретных людей в измерении
непредсказуемости и фортуны. Когда люди освобождаются от fortuna,
практикуя virtù, присущую им самим, а не наделенному
сверхчеловеческой мудростью законодателю, и при этом воздвигают
способную к завоеваниям республику — даже если для этого
должно смениться не одно поколение, — результат оказывается
более прочным и более добродетельным, чем любое
достижение, какое под силу principe nuovo2, если только он не
законодатель, что, как мы выяснили, неправдоподобно. Отказываясь от
ставки на образцовую фигуру Ликурга, Макиавелли согласился
заплатить очень большую цену. Из наметившегося в
«Государе» соединения в одном человеке законодателя и пророка мы
1. «...Roma, la quale non ostante ehe non avesse uno Licurgo ehe la ordinasse
in modo nel principio ehe la potesse vivere lungo tempo libera, nondimeno
furo tanti gli accidenti ehe in quella nacquero, per la disunione ehe era intra
la Plèbe ed il Senato, ehe quello ehe non aveva fatto uno ordinatore lo fece
il caso. Perché se Roma non sorti la prima fortuna, sorti la seconda: perché
i primi ordini suoi se furono difettivi, nondimeno non deviarono dalla diritta
via ehe li potesse condurre alla perfezione <...> ...alla quale perfezione venne
per la disunione délia Plèbe e del Senato, corne nei dua prossimi seguenti
capitoli largamente si dimosterrà» (Ibid. P. 99-100); «Но перейдем к Риму;
хотя там не было Ликурга, который заложил бы основы свободы на
длительное время, его роль выполнил случай, представившийся в ходе
дальнейших событий, вследствие распрей между плебсом и Сенатом.
И если судьба Рима вначале складывалась не слишком удачно, все же
на долю его выпала не самая плачевная участь, потому что
недостатки первоначального устройства не помешали ему выйти на прямую
дорогу, ведущую к совершенству. <...> ...а к этому усовершенствованию
привела рознь между плебсом и Сенатом, что будет показано
подробнее в двух следующих главах» (Там же. С. 147-148).
2. Новый государь (итал.). — Прим. ред.
275
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
узнали, что Макиавелли не свободен от необходимости
описывать республику или любое другое политическое образование
как сообщество, укорененное в области священного. Составляя
условие человеческой доблести, она должна строиться на
добродетели, превосходящей возможности людей. Однако то, что
канонический пророк, вдохновленный Богом Ветхого Завета,
оказался в той же категории основателей, что и языческие
герои-законодатели, которыми двигало лишь сверхчеловеческое
умение ухватиться за occasione, привело к исторической иронии.
Моисей виделся ненамного более архетипической фигурой, чем
Ликург, а христианская благодать, оставаясь частью понятия
законодателя, сама по себе едва ли представлялась
независимой переменной. Ирония становилась более явной при взгляде
на временное княжество, предположительно основанное
апостолом Петром, единственной фигурой иудео-христианского
пантеона (кроме, возможно, императора Константина),
которой можно было приписать роль законодателя по благодати.
В XI главе «Государя» мы находим уничтожающий, хотя и не
совсем пренебрежительный анализ церковных владений,
претендовавших на статус самостоятельных государств.
Только там государи имеют власть, но ее не отстаивают, имеют
подданных, но ими не управляют; и однако же на власть их
никто не покушается, а подданные их не тяготятся своим
положением и не хотят, да и не могут от них отпасть. Так что лишь
эти государи неизменно пребывают в благополучии и счастье1.
Автор «Дао дэ цзин», который вполне мог написать эти
строки, сказал бы, что здесь нет ничего требующего истолкования,
но Макиавелли думает иначе. Ни добродетелью, ни фортуной
(как он уточняет2) не объясняется тот факт, что эти государства
существуют и продолжают существовать. И читатель
невольно вспоминает шутку, что они должны быть божественными
ι. «Costoro soli hanno stati, e non li defendano; sudditi, e non li governano;
e li stati, per essere indifesi, non sono loro tolti; e li sudditi, per non essere
governati, non se ne curano, ne pensano ne possono alienarsi da loro. Solo
adunque questi principati sono sicuri e felici» (Machiavelli N. Opere. P. 37;
Макьявелли H. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 8д).
2. «...si acquistano о per virtu о per fortuna, e sanza l'una e Paîtra si mantengano...»
(Ibid. P. 36); «<...Церковные государства, о которых можно сказать, что>
овладеть ими трудно, ибо для этого требуется доблесть или милость
судьбы, а удержать легко, ибо для этого не требуется ни того, ни
другого» (Там же. С. 89).
276
А)«РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
учреждениями, ибо никакое человеческое установление,
основанное на смеси плутовства и слабоумия, не продержится
и двух недель. Макиавелли вторит этой остроте, вероятно, не
совсем ироническим замечанием: поскольку они установлены
и охраняются Богом, было бы неблагочестиво и
неблагоразумно для человеческого рассудка пытаться размышлять на
подобные темы1. Но затем он говорит, что они опираются на ordini
antiquati nella religione, — «освященные религией устои», — «столь
мощные, что они поддерживают государей у власти
независимо от того, как те живут и поступают»2. Если пути
Провидения нам неведомы, то нельзя объяснять ими человеческие
поступки. Церковное государство можно считать
разновидностью сообщества, основанного на обычае, более устойчивого,
чем наследственная монархия: здесь еще меньшую роль
играет то, каким является правитель и что он делает. Когда,
особенно в «Рассуждениях», мы подводим итог обзору, в котором
представители классической Античности изображены не
менее ярко, чем фигуры иудео-христианского канона, нам
напоминают, что есть и другие религии, которые могли быть
основаны только действием человека. Возникает новая
категория новаторов:
Среди людей, достойных похвалы, достойнейшими являются
родоначальники и устроители религий, затем основатели
республик и монархий, а после них знамениты те, кто во главе
войска расширил владения своей родины или собственные.
К ним добавляются образованные люди...3.
Акценты расставлены здесь сложно. В той мере, в какой деяния
пророка поддаются человеческому истолкованию, он является
1. «Ma sendo quelli retti da cagione superiori aile quali mente umana non
aggiugne, lascero il parlarne; perché sendo esaltati e mantenuti da-Dio, sarebbe
offîzio di uomo prosuntuoso e temerario discorrerne» (Ibid. P. 37); «Но так
как государства эти направляемы причинами высшего порядка, до
которых ум человеческий не досягает, то говорить о них я не буду;
лишь самонадеянный и дерзкий человек мог бы взяться рассуждать
о том, что возвеличено и хранимо Богом» (Там же. С. 89).
2. Там же; «...sono sustentati dalli ordini antiquati nella religione, quali sono suti
tanto potenti e di qualità ehe tengono e' loro prineipi in stato, in qualunque
modo si procedino e vivino» (Ibid. P. 36-37).
3. Там же. С. i66 («Intra tutti gli uomini laudati, sono i laudatissimi quelli ehe
sono stati capi e ordinatori délie religioni. Appresso dipoi quelli ehe hanno
fondato о republiche о regni. Dopo a costoro sono celebri quelli ehe, preposti
agli eserciti, hanno ampliato о il regno loro о quello délia patria. A questi si
aggiungono gli uomini litterati...»: Ibid. P. 118, Discorsi I, 10).
277
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
основателем системы, обладающей неким качеством,
придающим ей еще большую прочность по сравнению с системой,
построенной на унаследованной верности подданных. По этой
причине он занимает более высокое положение, нежели
законодатель. Однако мы знаем, что законодатель, по крайней мере
если ему предстоит основать республику, стремится создать
систему, основанную на добродетели, которая опять же
представляет собой нечто большее, чем та, что строится на обычае.
Макиавелли намерен сказать, что фундамент религии —
предпосылка гражданской добродетели и что Рим не выстоял бы
без Нумы Помпилия, своего второго правителя, посвятившего
свою жизнь развитию религии и насаждению ее среди римлян1.
Если религия служит предпосылкой гражданской добродетели,
поскольку способна изменять человеческую природу, то она
не есть сама по себе добродетель, ибо последняя может
существовать только в гражданском обрамлении. Эта мысль ляжет
в основу подчинения религии политике у Макиавелли и его
критики христианства, так как оно дает человеку иные,
негражданские ценности2. Пророк может стоять выше законодателя на
том основании, что результат его деятельности в любом случае
обладает наибольшей прочностью. При этом пророк должен
стремиться стать законодателем и укреплять религию, которая
послужила бы фундаментом гражданского коллектива.
Отсюда следует также, что религия — лишь одна из составляющих
гражданской добродетели. Нам следует обратить внимание, что
следом за пророком и законодателем достойным похвалы
называется воин. Ромул был законодателем и воином, которому
«для учреждения... военных и гражданских порядков... не
нужно было ссылаться на Бога»; Нума стал законодателем, так как
придумал религию римлян. Первая книга «Рассуждений»
содержит явно противоречивые фрагменты, посвященные
вопросу, кто из них больше достоин похвалы и внимания3. С одной
1. См.: Discorsi I, и целиком.
2. См. ниже, прим. 2 на с. 309.
3- «Е vedesi, chi considéra bene le istorie romane, quanto serviva la religione
a comandare gli eserciti, ad animire la Plebe, a mantenere gli uomini buoni,
a fare vergognare i rei. Talché se si avesse a disputare a quale principe Roma
fusse piu obligata, о a Romolo о a Numa, credo piu tosto Numa otterrebbe il
primo grado: perché dove è religione facilmente si possono introdurre l'armi,
e dove sono Parmi e non religione, con difïïcultà si puô introdurre quella»
(Machiavelli N. Opere. P. 123; Discorsi I, и); «И если бы встал вопрос,
какому государю Рим обязан больше, Ромулу или Нуме, я полагаю, что
на первом месте следовало бы поставить Нуму, потому что там, где
есть благочестие, легко укореняется воинская доблесть; но там, где
278
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
стороны, перед Нумой стояла более сложная задача, чем перед
его предшественником, потому что научить людей военному
искусству и мужеству легче, чем изменить их природу с
помощью религии. С другой стороны, преемники Нумы мудро
решили идти по стопам Ромула, ибо из-за враждебности их
соседей миролюбивая политика становилась слишком зависимой
от «времени и фортуны». Мы возвращаемся к антитезам,
обозначенным в «Государе»: безоружный и вооруженный пророк,
осмотрительный человек и храбрец. Мы снова оказываемся
в мире fortuna и virtù. Ясно, что обычай, религия и воинский
дух составляют часть некоего еще не сформулированного
понятия гражданской добродетели, а добродетель в этом смысле
неотделима от virtù, которая стремится возобладать над fortuna.
Существует множество типов законодателя, помимо
идеального образа, описанного в «Государе». Все эти идеи — ключевые
для теоретической структуры «Рассуждений».
Теперь дело выглядит так, будто Макиавелли искал
социальные средства, с помощью которых природа людей могла
быть преобразована до такой степени, чтобы они стали
способны к гражданской жизни. Комбинация Ромула и Нумы
подсказывала способы, полагаясь на которые законодатель
мог бы освободить себя от необходимости действовать лишь
как «вооруженный пророк» из «Государя», который должен
принуждать людей, как только те перестанут ему верить.
Однако в то же время последнее обстоятельство освобождало его
присутствует только военное искусство и нет благочестия, навряд ли
удастся распространить последнее» (Макьявелли Н. Рассуждения о
первой декаде Тита Ливия. С. 170).
«...pensô ehe a volere mantenere Roma bisognava volgersi alla guerra,
e somigliare Romolo, e non Numa. Da questo piglino esemplo tutti i prineipi
ehe tengono stato: ehe ehe somiglierà Numa lo terra о non terra secondo ehe
i tempi о la fortuna gli girerà sotto; ma chi somiglierà Romolo, e sia corne
esso armato di prudenza e d'armi, lo terra in ogni modo, se da una ostinata
ed eccessiva forza non gli è tolto» (Ibid. P. 144; Discorsi I, 19); «Тогда он
понял, что Рим можно сохранить только посредством войны, подражая
Ромулу, а не Нуме. Этот пример поучителен для всех государей,
наделенных властью: подобные Нуме будут пребывать у нее, пока времена
и судьбы будут к ним благосклонны; но подобные Ромулу и, как он,
вооруженные рассудительностью и воинским духом всегда удержат
власть, если только не вмешается непреодолимая враждебная сила»
(Там же. С. 190). Следует отметить, что характеристика правителя как
armato di prudenza e d'armi («вооруженный воинским духом и
благоразумием») перекликается с тем, что мы читаем во II главе «Государя»
о principe naturale («наследном государе»), которому не угрожает ничто,
кроме una estraordinaria ed eccessiva forza («особо могущественной и
грозной силы»). См. выше, глава VI, прим. ι на с. 236.
279
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
от необходимости обладать сверхчеловеческими способностями
демиурга, которого мы встречаем в той же главе и которому
требуется лишь occasione, дабы произнести слово,
преобразующее бесформенную материю. Фигура законодателя-пророка
встречается в «Рассуждениях» куда реже, чем в «Государе». Virtù
законодателя играет меньшую роль по сравнению с
общественными и воспитательными процессами, которые он приводит
в движение. Вот почему он может позволить себе жить во
времени и не быть личностью масштаба Ликурга или Моисея. Но,
принизив роль законодателя, Макиавелли во многом избавил
себя от необходимости опираться на тезис Савонаролы, что
установление республики —prima forma — невозможно без
действия благодати. Если людям, дабы стать гражданами, нужно
не содействие сверхъестественных сил, а гражданская жизнь
в мире времени и фортуны, то град земной и град небесный
снова переставали быть тождественны друг другу, и это
различие опять же можно считать этическим или историческим.
Мы возвращаемся к точке зрения, согласно которой «нельзя
править государством с помощью „Отче наш"», а гражданские
цели — в том числе гражданская добродетель — отделены от
целей искупления. Это самая революционная мысль в
«Рассуждениях»— более революционная, чем любая из тех, что
мы находим в «Государе».
III.
Итак, Макиавелли подготовил почву для выдвижения двух
поразительных и смелых гипотез, составивших стержень
«Рассуждений». И обе они показались Гвиччардини неприемлемыми1.
Первая заключается в том, что разобщенность и борьба
между знатью и народом послужили причиной обретения Римом
свободы, стабильности и власти2, — утверждение скандальное
и немыслимое для сознания, которое отождествляло единение
со стабильностью и добродетелью, а конфликт — с
нововведением и упадком, но понятное, если мы вспомним о
двойственности virtù. Когда римляне собственными усилиями
создавали структуру легитимности, они занимались нововведениями
в обстановке еще недостаточно стабильной, чтобы в ней
можно было поступать легитимно, согласно обычаю. Поэтому нам
1. См. ниже, глава VIII, и в целом «Considerazioni intorno ai Discorsi del
Machiavelli» («Замечания на „Рассуждения" Макиавелли») Гвиччардини.
2. Discorsi I, 2-6.
280
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ* МАКИАВЕЛЛИ
следует искать действий, которые не были легитимны сами
по себе, но тем не менее привели к аналогичному
результату. Если согласие возникает из разобщенности, то причиной
тому служит скорее иррациональное, чем рациональное
действие. Объяснить это можно лишь непостижимым влиянием
фортуны, и Макиавелли действительно говорит в одном месте,
что случай (caso\ а в другом — что fortuna свершили то, чего не
удалось сделать законодателю (ordinatoréf. Но fortuna — понятие,
не исключающее virtu. Добродетель возникает в ответ на
фортуну, и, значит, нам следует искать особую virtu, проявленную
римлянами на этом этапе их истории. Держа в уме
«Государя», мы понимаем, что virtu в таких обстоятельствах примет
форму скорее активную, чем пассивную, будет скорее смелой,
чем рассудительной, укажет на качества как льва, так и лисы.
Однако здесь она должна проявиться в поведении отдельных
людей и групп граждан в отношении друг друга, а не в
единовластном господстве правителя над своим окружением.
Поэтому ее социальное и этическое содержание неизбежно должно
быть значительнее. Virtu надлежит стать основой добродетели.
Затем следует изложение истории ранней римской
конституции8. Хотя дела Ромула и его преемников не были вполне
идеальными, установленные ими законы не препятствовали
vivere libero3. Когда цари обратились к тирании, — читатель,
знакомый с циклической теорией Полибия, отметит, что это
обычный пример упадка, следующего за несовершенным
правлением, — еще многое требовалось для установления свободы.
Поэтому власть царей не кончилась с изгнанием Тарквиния,
а сохранилась в форме консульства, и ее представители
делили теперь места в Сенате со знатью. Когда аристократы, в свою
очередь, приобрели склонность к пороку и высокомерию, не
было необходимости разрушать всю систему правления, дабы
ι. См. выше, прим. ι на с. 275 и приведенную в нем цитату.
2. Machiavelli N. Ореге. Р. 99~юо; Макьявелли Н. Рассуждения о первой
декаде Тита Ливия. С. 147-148·
3- «Perché Romolo е tutti gli altri Re fecero moite e buone leggi, conformi
ancora al vivere libero; ma perché il fine loro fu fondare un regno e non
una republica, quando quella città rimase libera vi mancavano moite cose
ehe era necessario ordinäre in favore délia libertà, le quali non erano state da
quelli re ordinate» (Ibid); «Дело в том, что Ромул и прочие цари издали
много хороших законов, применимых и к свободному устройству, но
так как их целью было создание царства, а не республики, то после
освобождения Рима в нем недоставало многих вещей, необходимых
для защиты вольности, потому что названные цари об этом не
заботились» (Там же).
281
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
контролировать их власть. Она уже была до некоторой
степени ограничена консулами. Народные трибуны появились,
чтобы придать вес голосу масс, и Рим превратился в смешанное
и «совершенное» общество, где каждый из трех элементов мог
удержать другие от крайностей1.
Из этого не вполне кристально ясного рассказа очевидно,
что решающий шаг был сделан рано и связан с
учреждением консульства и изгнанием царей. Макиавелли не уточняет
причин этой меры, хотя он мог связывать ее со страхом перед
возвращением Тарквиниев. По его словам, пока существовал
страх, аристократия вела себя сдержанно по отношению к
народу8. Акцент ставится на утверждении, что римские законы
подходили для свободного устройства еще до того, как Рим
стал свободным городом. Таким образом Ромул и его
преемники внесли свой вклад в законодательство. Макиавелли
спорит с теми — например, с Гвиччардини, — кто полагает, что
Рим — республика, которой внутренне присуща
предрасположенность к беспорядку и которую от гибели спасли лишь
милость судьбы и необычайная военная доблесть. Их
ошибка, говорит он, в склонности забывать, что там, где хорошо
организовано военное дело, должны быть и хорошие законы,
а там, где есть Ьиопг ordini3 и Ьиопа milizia*, почти наверняка
будет и buona fortuna5. Кроме того, хорошие законы способствуют
buona educazione6, на что в случае Рима указывает относительно
1. Machiavelli N. Ореге. Р. 99-100; Макьявелли Н. Рассуждения о первой
декаде Тита Ливия. С. 147-148· В итальянском тексте дважды
встречается слово perfezione и один раз —perfetta.
2. Ibid. P. ioo-ioi (Discorsi I, 3); Там же. С. 149.
3· Добрые порядки (итал.). — Прим. ред.
4- Хорошее войско (итал.). — Прим. ред.
5- «...contro la opinione di molti ehe dicono Roma essere stata una republica
tumultuaria, e piena di tanta confusione ehe se la buona fortuna e la virtù
militare non avesse sopperito a' loro difetti, sarebbe stata inferiore a ogni
altra republica. Io non posso negare ehe la fortuna e la milizia non fussero
cagione delPimperio romano; ma è mi pare bene -ehe costoro non si avegghino
ehe dove è buona milizia conviene ehe sia buono ordine, e rade volte anco
occorre ehe non vi sia buona fortuna» (Ibid. P. 101; Discorsi I, 4); «Я не
премину... оспорить распространенное мнение, что если бы
благосклонность судьбы и воинская доблесть не возместили внутренне присущих
Римской республике недостатков, то бесконечные потрясения и смуты
поставили бы ее ниже прочих государств. Не стану отрицать, что
своими владениями Рим обязан фортуне и хорошему войску, но те, кто
сводит дело к этим двум причинам, не замечают, что хорошее войско
немыслимо без добрых порядков, а уж за этим следует обычно и
удача» (Там же. С. ΐ49_Ι5θ).
6. Правильное воспитание (итал.). — Прим. ред.
282
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
бескровный характер борьбы между сословиями — по крайней
мере до эпохи Гракхов — и сравнительная легкость, с какой те
или другие шли на уступки1. Плебеи подкрепляли свои
требования, устраивая демонстрации, закрывая лавки, отказываясь
от воинской службы и покидая город. Однако ни один из этих
способов не является столь разрушительным, каким может
показаться на первый взгляд. Республика, желающая использовать
свой народ, — эта фраза в зародыше содержит следующий этап
анализа — должна позволить ему выражать свои устремления2,
которые у свободных народов редко представляют опасность
для свободы. Такой народ боится лишь угнетения и способен
понять, когда его страхи напрасны3.
У нас по-прежнему нет определения свободы, заложенной
в народе его царями, но намечаются соображения,
позволяющие каким-то образом соотнести ее с воинской службой. Виопг
1, «Né si puo chiamare in alcun modo con ragione una republica inordinata,
dove sieno tanti esempli di virtù, perché li buoni esempli nascano dalla buona
educazione, la buona educazione dalle buone leggi, e le buone leggi da quelli
tumulti ehe molti inconsideratemente dannano; perché ehe esaminerà bene
il fine d'essi, non troverrà ch'egli abbiano partorito alcuno esilio о violenza
in disfavore del commune bene, ma leggi e ordini in benefîcio délia publica
libertà» (Ibid. P. 102); «Нет также никаких оснований хулить устройство
республики, явившей столько образцов доблести; ведь добрые
примеры проистекают из хорошего воспитания, правильное воспитание — из
хороших законов, а последние — из тех самых беспорядков, что
подвергаются столь необдуманному осуждению. Ведь если рассмотреть,
к чему они приводили, то мы не можем сказать, чтобы кто-либо
подвергался изгнанию или насилию, ущемляющим общее благо;
напротив, принимались законы и установления на пользу гражданской
свободе» (Там же. С. 150).
2. «...dico come ogni città debbe avère i suoi modi con i quali il popolo possa
sfogare l'ambizione sua, e massime quelle città ehe nelle cose importanti si
vogliono valere del popolo...» (Ibid); «...Я скажу, что народу должно быть
позволено каким-то образом утолить свои амбиции во всяком городе,
тем более в таком, где от него многое зависит...» (Там же).
3- «E i desiderii de' popoli liberi rade volte sono perniziosi alla libertà, perché
e' nascono о da essere oppressi, о da suspizione di avère ad essere oppressi.
E quando queste opinioni fossero false e vi è il rimedio délie concioni, ehe
surga qualche uomo da bene ehe orando dimostri loro corne ei s'ingannano:
e li popoli, come dice Tullio, benché siano ignoranti sono capaci délia verità,
e facilmente cedano quando da uomo degno di fede è detto loro il vero» (Ibid.
P. 102-103); «Но требования свободных народов редко покушаются на
вольность; их вызывают к жизни угнетение или угроза установления
гнета. И если опасения беспочвенны, то какой-нибудь уважаемый
человек всегда может их развеять, своей речью открыв народу его
заблуждение; как говорит Туллий, хотя народы невежественны, они не
глухи к истине и легко уступают, когда истину внушает им лицо,
достойное доверия» (Там же. С. 151).
28з
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
ordini влекут за собой Ьиопа milizia и Ьиопа educazione^ свобода
римского плебса (по крайней мере отчасти) состояла в
возможности отказаться от воинской службы, а из его Ьиопа educazione
Макиавелли, по-видимому, выводил относительную
бескровность гражданских распрей и постепенное улучшение
конституции, позволявшее эти распри разрешать. Таким образом, между
свободой, гражданской добродетелью и военной дисциплиной,
по всей видимости, существовала тесная связь.
Вторая важнейшая для «Рассуждений» гипотеза
сформулирована в пятой и шестой главах первой книги. Сначала
Макиавелли ставит вопрос, предпочтительнее ли поручить нечто
обозначенное как «охрана (guardia) свободы» аристократам или
народу1. Гвиччардини сразу обратил внимание, что остается
не вполне ясным, подразумевается ли под «охраной свободы»
собственно обладание властью или некая особая форма
контроля2. Но вскоре выясняется, что Макиавелли не столько
говорит о распределении власти или построении конституции,
сколько анализирует связь между воинской и политической
virtu. Он исходит из того, что Спарта и Венеция поручили
«охрану свободы» аристократии, а Рим — народу. Все три
города представлены как удачные примеры сбалансированной
конституции. Однако если в Спарте такой порядок
господствовал со времен Ликурга, а Венеция достигла его
благодаря рассудительности своих граждан и помощи фортуны, то
Рим пришел к нему через внутреннюю борьбу и процесс
развития. Мирная стабильность в каком-то смысле
отождествляется с аристократическим принципом. В начале пятой главы
Макиавелли недвусмысленно утверждает, что свобода дольше
просуществовала в Спарте и в Венеции, чем в Риме, где
желание плебеев занять все посты привело к возвышению Мария
и падению республики. Если бы мы расценивали в качестве
ι. Название главы V первой книги «Рассуждений»: «Dove piu sicuramente
si ponga la guardia délia libertà, о nel popolo о ne' grandi...» («Кому
вернее поручить охрану свободы: народу или грандам...»).
2. «Мне непонятны слова, заключенные в вопросе, а именно что
подразумевается под доверием охраны свободы народу или аристократам,
потому что одно дело — сказать, кому должна принадлежать власть,
аристократии или плебсу, и здесь примером может служить Венеция,
потому что там власть настолько находится в руках аристократии, что
плебс из нее полностью исключен, и совсем другое дело, если все
принимают участие в правлении, — рассуждать, кто должен нести особую
ответственность за защиту свободы — должностные лица из числа
плебеев или аристократы» (цит. по: Francesco Guicciardini: Selected
Writings / Ed. and transi, by С. Grayson, M. Grayson. London, 1965. P. 70).
284
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
нормы достижение максимальной стабильности и
долговечности, то, конечно, остановились на аристократическом
варианте свободы1. Впрочем, Макиавелли на этом не задерживается,
равно как и не делает выбора, к которому подталкивал ход его
рассуждений. Он задается вопросом, что опаснее для
республики — желание аристократии сохранить то, чем она обладает
(монополию на должности), или желание народа получить то,
в чем ему отказано (открытый доступ к должностям). В этом
контексте как бы мимоходом он говорит, что главное —
понять, стремится ли республика вырасти и основать империю,
как всегда хотел Рим, или же просто сохранить свою
независимость, какую цель изначально ставили перед собой Спарта
и Венеция*.
Мы уже поняли, что идеальный тип стабильного правления
сопряжен с властью аристократии. Теперь же мы узнаем, что
сам по себе идеал стабильности не единственный возможный,
так как республика стремится расширять свои владения ценой
своей долговечности, а при таком выборе предпочтение отдают
более народной форме правления. Здесь отчасти важен
волнующий Макиавелли вопрос, типичный и для его современников,
о способности республики контролировать внешнюю по
отношению к ней среду3. У каждого города есть враги, он находится
под властью фортуны. Следует взвесить, не сопряжена ли
оборонительная позиция с большим риском нежданных перемен,
чем смелая попытка их контролировать; снова вступает в силу
противопоставление рассудительности и отваги. Но важнее всего
1. «Е se si andasse dietro alle ragioni, ci è ehe dire da ogni parte; ma se si
esaminasse il fine loro, si piglierebbe la parte de' Nobili, per avère la libertà
di Sparta e di Vinegia piu lunga vita ehe quella di Roma» (Machiavelli N.
Opère. P. 103; Discorsi I, 5); «Существуют доводы в пользу того и
другого решения; но если судить по результатам, то нужно склониться на
сторону нобилей, потому что Спарта и Венеция сохранили свою
свободу дольше, чем Рим» (Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде
Тита Ливия. С. 151).
2. «Ed in fine chi sottilmente esaminerà tutto, ne farà questa conclusione: о tu
ragioni d'una republica ehe voglia fare uno imperio, come Roma, о d'una
ehe le basti mantenersi. Nel primo caso gli è necessario fare ogni case come
Roma; nel secondo puo imitare Vinegia e Sparta, per quelle cagioni, e come
nel seguente capitolo si dira» (Ibid. P. 104); «В конце концов, тщательно все
разобрав, приходишь к такому выводу: или речь идет о республике,
желающей, как Рим, расширить свои владения, или о той, которой
достаточно сохранить собственные. В первом случае во всем следует
подражать Риму, во втором — уподобиться по указанным причинам Венеции
и Спарте, о чем мы будем говорить в следующей главе» (Там же. С. 152).
3- В этой связи можно сослаться на содержание всей главы 6 части I
«Рассуждений».
285
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
связь между внешней политикой и распределением внутренней
власти. Спарте и Венеции, пока они могли избегать расширения
владений и занимать выжидательную позицию благоразумного
человека1, не требовалось вооружать народ или предоставлять
ему политические права, поэтому в них царили стабильность
и мир. Рим сделал выбор в пользу империи и совершил
смелую попытку завладеть прилегающими территориями. Значит,
это был выбор в пользу перемен и OÎrtù, которая позволила ему
контролировать беспорядок, вызванный его собственными
действиями. Он вынужден вооружать людей, переживать раздоры
из-за их желания получить больше власти и идти на уступки2.
Вооружение плебеев способствовало военной мощи Рима,
борьба между сословиями — упрочению смешанной формы
правления, но некая сохранявшаяся неуравновешенность, к которой
еще предстоит вернуться, приблизила конец римской свободы.
Рим был своего рода «новым государем» среди республик, и
Макиавелли предпочитает изучать Рим, а не Венецию, так же как
он предпочитает изучать «нового государя», а не наследного
правителя: краткосрочная перспектива интереснее
долгосрочной, а жизнь в ней позволяет снискать большую славу.
Однако, в отличие от наследного правителя, Спарта и Венеция не
избежали власти фортуны. От стратегии защиты
независимости они вынуждены были перейти к стратегии господства над
соседними территориями, и эта задача оказалась непосильной
1. «...se la è difficile a espugnarsi, como io la presuppongono, sendo bene ordinata
alla difesa, rade volte accaderà о non mai ehe uno possa fare disegno di
acquistarla. Se la si starà intra i termini suoi, e veggasi per esperienza ehe in
lei non sia ambizione, non occorrerà mai ehe uno per paura di se le faccia
guerra; e tanto piu sarebbe questo, se e' fussi in lei constituzione о legge ehe
le proibisse Pampliare. E sanza dubbio credo ehe potendosi tenere la cosa
bilanciata in questo modo, ehe e* sarebbe il vero vivere politico e la vera quiète
d'una città» (Machiavelli N. Opère. P. 109); «...Если оборона республики
будет хорошо продумана, что я и предположил, то навряд ли кто-нибудь
захочет напасть на нее. Если же она будет довольствоваться своими
границами и убедит соседей в отсутствии честолюбивых планов, то
из страха никто на нее не нападет; тем бдлее если расширение
владений будет запрещено в ней законом или конституцией. Я полагаю,
что, без сомнения, такое равновесие обеспечило бы подлинно
политическую жизнь и подлинный покой для государства» (Макьявелли Н.
Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 156-157)·
2. «...dare luogo a' tumulti е alle dissensioni universali il meglio ehe si puô, perché
sanza gran numéro di uomini e bene armati non mai una republica potrà
crescere, о se la crescerà mantenersi» (Ibid. P. 108); «В первом случае
необходимо дать ей [республике] римское устройство в разумных пределах,
оставляющее место для внутренних возмущений и борьбы, потому что
без множества вооруженных людей никакая республика не сможет
приумножить свои владения, а затем сохранить их» (Там же. С. 156).
286
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
как для спартанской военной элиты, так и для венецианских
наемников. Она-то и разрушила внутреннее устройство Спарты,
и Макиавелли было попросту совершенно безразлично, случись
то же самое с Венецией. Республика, которой удалось избежать
всяких контактов с соседями, могла сократить численность
своей армии и вечно пребывать в аристократической стабильности.
Впрочем, поскольку осуществить это невозможно1, отказаться от
завоеваний значит стать уязвимым для фортуны, не пытаясь
одержать над ней верх, — здесь повторяется мысль XXV главы
«Государя». Путь, выбранный римлянами, не дает гарантии, что
республику в конечном счете не ждет вырождение, но в
настоящем и в ближайшем будущем — иными словами, в мире
случайного времени — этот путь более мудр и сулит большую славу2.
1. «Ma sendo tutte le cose degli uomini in moto, e non potendo stare salde,
conviene ehe le salghino о ehe le scendino, e a moite ehe la ragione non
t'induce, t'induce la nécessita; talmente ehe avendo ordinata una republica
atta a mantenersi non ampliando, e la nécessita la conducesse ad ampliare,
si verrebbe a tor via i fondamenti suoi ed a farla rovinare piu tosto. Cosi
dall'altra parte, quando il Cielo le fusse si benigno ehe la non avesse a fare
guerra, ne nascerebbe ehe l'ozio la farebbe о effeminata о divisa; le quali due
cose insieme, о eiaseuna per se, sarebbono cagione délia sua rovina» (Ibid.
P. 109); «Так как все людские дела пребывают в движении и не могут
стоять на месте, то они либо идут на подъем, либо клонятся к
упадку, и необходимость приводит ко многим вещам, к которым не
приведет нас рассудок, так что, основав республику, способную не
выдвигать территориальных притязаний, мы будем вынуждены нарушить
ее принципы, когда необходимость направит ее на путь расширения,
и тем обречем на верную гибель. Впрочем, если бы благосклонность
небес избавила ее от войн, безмятежная праздность вызвала бы в ней
внутреннее ослабление или разделение; а эти две вещи, и каждая из
них в отдельности, привели бы к ее крушению» (Там же. С. 157)·
2. «Pertanto non si potendo, come io credo, bilanciare questa cosa, né mantenere
questa via del mezzo a punto, bisogna nello ordinäre la republica pensare piu
onorevole, ed ordinarla in modo ehe quando pure la nécessita la inducesse
ad ampliare, ella potesse quello ch'ella avesse occupato conservare. E per
tornare al primo ragionamento, credo ch'e' sia necessario seguire l'ordine
romano e non quello dell'altre republiche, perche trovare un modo mezzo
infra l'uno e Paltro non credo si possa; e quelle inimieizie ehe intra il popolo
e il senato nascessino, tollerarle, pigliandole per uno inconveniente necessario
a pervenire alla romana grandezza» (Ibid); «Итак, раз уж нельзя, как я
полагаю, сохранить равновесие и выдерживать с точностью этот средний
путь, то при устройстве республики нужно подумать о наиболее
достойной участи и предусмотреть, если нужда заставит ее расширить
владения, возможность сохранения за собой приобретенного.
Возвращаясь к первому нашему рассуждению, я думаю, что необходимо
следовать римскому образцу, а не тому, который указывают другие
республики, потому что среднего между ними пути, по-моему, быть
не может; а к вражде, возникающей между народом и Сенатом,
следует относиться терпимо, как к неудобству, неизбежному в достижении
римского величия» (Там же).
287
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
Однако за virtù римлян стоит нечто большее, чем
стремление агрессивной республики господствовать в неупорядоченном
мире. Нам уже ясно, что войско, созданное первыми царями,
имело какое-то отношение к развитию в республике свободы
и стабильности. Ныне мы знаем, что существует глубинная
связь между внешними завоеваниями, вооружением плебеев
и vivere popolare. Дальше нам следует понять, в каких
отношениях, с точки зрения Макиавелли, находились военные и
гражданские навыки отдельного человека, — коротко говоря,
солдат и гражданин. На этот вопрос помогают пролить свет как
«Рассуждения», так и трактат «О военном искусстве»,
написанный, по-видимому, в 1519-1520 годах, вскоре после завершения
«Рассуждений». Можно обратиться к этим произведениям, не
привнося в их толкование ничего чужеродного.
Название «О военном искусстве», почти неизбежное при
переводе второй книги, не вполне передает многогранный смысл
оригинала. У L'arte délia guerra два значения: с одной стороны,
речь идет об «искусстве» войны как таланте полководца, с
другой— о «профессии» войны в том же смысле, в каком мы бы
говорили об arti, или гильдиях, которыми во Флоренции были
представлены все основные ремесленные занятия. Arte délia guerra
отличается от всех остальных ремесел. Макиавелли отчасти
стремится показать, что военное дело может принести республике
не меньше чести и пользы, чем, скажем arte délia lana — выделка
шерсти, от которой столь зависела флорентийская экономика
и политика. Однако основная его мысль состоит в том, что оно
ни в коем случае не должно становиться самостоятельной
профессией, которой люди посвящали бы всю свою жизнь. Солдат,
когда он лишь солдат, представляет опасность для других
видов общественной деятельности, а пользы сам по себе приносит
мало. Конечно, мы вернулись к много раз обсуждавшейся
ненависти Макиавелли к наемникам и восхвалению им гражданской
милиции. Если мы хотим понять его политические идеи, важно
соотнести эту тему с аристотелевской теорией гражданского
общества. Человек, отдающий все свои силы arte délia lana и никак не
участвующий в общественных делах, с точки зрения античной
теории, не будет полноценным гражданином и окажется
источником слабости своих сограждан. Однако тот, кто вознамерился
отдать все силы arte délia guerra1 — Макиавелли иногда использует
ι. «...(la) guerra, ehe è l'arte mia <...> essendo questa una arte mediante la
quale gli uomini d'ogni tempo non possono vivere onestamente, non la puo
usare per arte se non una republica о uno regno; e Puno e l'altro di questi,
288
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
выражения вроде «сделать войну своим arte», — неизмеримо
более опасен. Приземленный торговец гонится за ограниченным
благом, забывая об общем благе, и это плохо; он может дорожить
этим благом больше, нежели благом города, и это еще хуже,
потому что arte délia lana мыслится как единственное, чем должна
руководствоваться Флоренция. Но приземленному солдату
подобная склонность присуща в гораздо большей степени и
представляет гораздо большую угрозу для общества, так как его arte
подразумевает принуждение и уничтожение. Таким образом, по
целому ряду причин — от ненадежности condottieri до риска
тирании цезарей — важно, «чтобы военное дело оставалось только
общественным ремеслом» (al pubblico lasciarla usare per arte)1. Это
arte больше любого другого должно быть прерогативой общества,
им должны заниматься лишь граждане, руководить им должны
quando sia bene ordinate·, mai non consenti ad alcuno suo cittadino о suddito
usarla per arte; né mai alcuno uomo buono l'esercito per sua particulare
arte» (Machiavelli N. DelParte délia guerra // Machiavelli N. Opère. P. 503);
«...Война — это такого рода ремесло, которым частные люди честно
жить не могут, и она должна быть делом только республики или
королевства. Государства, если только они благоустроены, никогда не
позволят какому бы то ни было своему гражданину или
подданному заниматься войной как ремеслом, и ни один достойный человек
никогда ремеслом своим войну не сделает» (Макиавелли Н. О
военном искусстве. М., 1939· С. 30· Далее цитаты приведены по тому же
изданию).
I. «Е dico ehe Pompeo е Cesare, е quasi tutti quegli capitani ehe furono a Roma
dopo l'ultima guerra cartaginese, acquistarono fama corne valenti uomini,
non come buoni; e quegli ehe erano vivuti avanti a loro, acquistarono gloria
come valenti e buoni. Il ehe nacque perché questi non presero lo esercizio
délia guerra per loro arte, e quegli ehe io nominal prima, come loro arte la
usarono» (Ibid. P. 505); «Я утверждаю, что известность Помпея, Цезаря
и почти всех римских полководцев после третьей Пунической войны
объясняется их храбростью, а не гражданскими доблестями; те же,
кто жил до них, прославились и как храбрые воины, и как
достойные люди. Происходит это оттого, что они не делали себе из войны
ремесла, тогда как для тех, кого я назвал раньше, война была
именно ремеслом» (Там же. С. з^)· «Debbe adunque una città bene ordinata
volere ehe questo studio di guerra si usi ne' tempi di pace per esercizio e ne'
tempi de guerra per nécessita e per gloria, e al publico solo lasciarla usare
per arte, come fece Roma. E qualunque cittadino ehe ha in tale esercizio
altro fine, non è buono; e qualunque città si governa altrimenti, non è bene
ordinata» (Ibid. P. 507); «Всякое благоустроенное государство должно
поэтому ставить себе целью, чтобы военное дело было в мирное время
только упражнением, а во время войны — следствием необходимости
и источником славы. Ремеслом оно должно быть только для
государства, как это и было в Риме. Всякий, кто, занимаясь военным делом,
имеет в виду постороннюю цель, тем самым показывает себя дурным
гражданином, а государство, построенное на иных основах, не может
считаться благоустроенным» (Там же. С. зз)·
289
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
лишь магистраты, и практиковаться оно может только с
позволения публичной власти и под ее контролем.
Парадокс, который Макиавелли формулирует в своих
рассуждениях, заключается в том, что лишь на солдата, не
состоящего на постоянной службе, можно положиться с точки
зрения его полной преданности делу войны и ее целям.
Призванный в армию гражданин, у которого есть свой дом и свое
занятие (arte), захочет закончить войну и вернуться домой, тогда
как наемник, которого затянувшаяся на неопределенный срок
война скорее обрадует, чем огорчит, не предпримет никаких
попыток ее выиграть1. Гражданин обладает своим местом в
политическом организме, и он поймет, что война ведется, дабы
он мог его сохранить. Наемник, у которого вместо дома —
лагерь, становится орудием тирании для города, который его
поставили защищать, — тирании, которая может исходить от
какого-нибудь Помпея или Цезаря, некогда бывшего
гражданином, но теперь пагубно использующего меч в борьбе за
государственную власть. Макиавелли живо настаивает на своих
доводах, и в итоге они на три столетия оказались предметом
пристального внимания. Впрочем, он ограничивается тем, что
объясняет, почему только гражданин и может быть хорошим
солдатом. Рассуждение, что лишь солдат способен стать
хорошим гражданином, также присутствует, но в гораздо менее
развернутом виде. Мысль, приводящая к такому выводу, сложна,
но отчасти основана на ряде тезисов из предисловия:
И если в гражданских учреждениях древних республик и царств
делалось все возможное, чтобы поддерживать в людях верность,
миролюбие и страх Божий, то в войске усилия эти удваивались,
ибо от кого же может отечество требовать верности, как не от
человека, поклявшегося за него умереть? Кто должен больше
ι. «...se uno re non si ordina in modo ehe i suoi fanti a tempo di pace stieno
contenti tornarsi a casa e vivere délie loro arti, conviene di nécessita ehe rovini:
perché non si truova la piu pericolosa fanteria ehe quella ehe è composta
di coloro ehe fanno la guerra come per loro arte; perché tu sei forzato о a
fare sempre mai guerra, о a pagargli sempre, о a portare pericolo ehe non
ti tolgano il regno» (Machiavelli N. Dell'arte délia guerra. P. 507); «Если
король не принимает мер к тому, чтобы пехотинцы его войск после
заключения мира охотно возвращались домой и брались бы опять за
свой труд, он неминуемо погибнет. Самая опасная пехота — это та,
которая состоит из людей, живущих войной как ремеслом, ибо ты
вынужден или вечно воевать, или вечно им платить, или вечно
бояться свержения с престола. Всегда воевать невозможно, вечно платить
нельзя, — поневоле остается жить в постоянном страхе потери власти»
(Макиавелли Н. О военном искусстве. С. 34)·
290
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
любить мир, как не тот, кто может пострадать от войны? В ком
должен быть жив страх Божий, как не в том, кто ежедневно
подвергается бесчисленным опасностям и всего более
нуждается в помощи Всевышнего?1
Воинская virtù влечет за собой общественную добродетель,
потому что в них можно усмотреть одну и ту же цель. Республика
является общим благом. О гражданине, направляющем все
действия к этому благу, можно сказать, что он посвящает
республике свою жизнь. Сражающийся за нее воин посвящает ей свою
смерть, и они схожи в том, что совершенствуют человеческую
природу, жертвуя конкретными благами ради всеобщей цели.
Если это мы и называем добродетелью, значит, в воине она
проявляется с такой же полнотой, как и в гражданине. Возможно,
именно благодаря военной дисциплине он учится быть
гражданином и проявлять гражданскую добродетель. Анализируя
в «Рассуждениях» добродетель древних римлян, Макиавелли,
по-видимому, изображает ее следующим образом: она основана
на воинской дисциплине и гражданской религии как на двух
способствующих вовлечению в общественную жизнь процессах,
посредством которых люди учатся быть политическими
существами. Он не доверял христианству — или, по крайней мере,
отделял его от политического блага, — ибо оно учило ставить
иные цели, нежели цели города, и любить свою душу больше
отечества2. Но если из этого следует, что никакая цель не
должна выходить за пределы общественного, то социальное благо
должно перестать быть трансцендентным. О религии древних
римлян Макиавелли говорил, что она была основана главным
образом на гадании и люди считали ниспосланным свыше то,
что позволяло им предсказывать будущее3. Языческая религия,
1. Там же. С. го («Е se in qualunque altro ordine delle cittadi e de' regni si usava
ogni diligenza per mantenere gli uomini fedeli, pacifichi e pieni del timoré
d'Iddio, nella milizia si raddoppiava. Perché in quale uomo debbe ricercare
la patria maggiore fede, ehe in colui ehe le ha a promettere di morire per
lei? In quale debbe essere piu amore di pace, ehe in quello ehe solo dalla
guerra puote essere offeso? In quale debbe essere piu timoré d'Iddio, ehe in
colui ehe ogni di sottomettendosi a infiniti pericoli ha piu bisogno degli aiuti
suoi?»: Ibid. P. 496). (Издание «Произведений» Макиавелли под
редакцией Риччарди, по которому мы приводим цитаты из «О воинском
искусстве», не содержит полного текста трактата. Его следует искать
в других сборниках работ Макиавелли.)
2. Discorsi, II, 2. См. прим. з на с. 309·
3- «La vita della religione Gentile era fondata sopra i responsi degli oracoli e sopra
la setta degli indovini e degli aruspici; tutte le altre loro cerimonie, sacrifici
e riti, dependevano da queste. Perché loro facilmente credevono ehe quello
29I
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
которую он предпочитал христианству в качестве полезного
для общества инструмента, служила той же цели, что и
республика, — власти над фортуной. Однако республика, будучи
установлением, основанным на действии, отвечала аналогичной
цели лучше, чем гадания. Ложь и заблуждения были
оправданны, если сообщали людям уверенность в себе, помогали им
продемонстрировать воинскую virtù — в большинстве примеров,
приводимых Макиавелли в связи с римской религией,
говорится о предзнаменованиях и гадании перед битвой1 — и за счет
этого развить ту способность посвящать жизнь общему благу,
что составляет нравственное содержание языческой религии
и является сущностью гражданской добродетели. Именно
гражданская религия сделала римских плебеев хорошими
солдатами. Воинская дисциплина и гражданская религия заставляли
их быть внимательными к общему благу в разгар гражданских
распрей, а, значит, и уметь при необходимости управлять
своим будущим устами пророчествовавших авгуров2.
Теперь очевидно, что Макиавелли использует идею
воинской virtù, дабы представить другой взгляд на участие многих
в гражданской жизни. Привычные доводы в пользу governo largo
заключались в следующем: многие миролюбивы, мало к чему
стремятся, помимо свободы в частных делах, обладают
достаточным здравым смыслом, чтобы отвергать бесполезное, и
моральным чутьем, чтобы из гражданской элиты избирать тех, кто
естественным образом их самих превосходит, и подчиняться им.
Iddio ehe ti poteva prédire il tuo futuro bene о il tuo futuro male, to lo potessi
ancora concedere» (Machiavelli N. Opère. P. 126; Discorsi I, 12); «Жизненность
языческой религии основывалась на ответах оракулов и на
существовании корпорации гадателей и гаруспиков; все остальные обряды,
жертвоприношения и ритуалы зависели от этого, потому что легко было
поверить, что Бог, который может предсказать, что с тобой случится
в будущем хорошего или дурного, может и распоряжаться этим»
(Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 172).
1. Discorsi I, 13—15·
2. Папирий пренебрег предсказаниями и одержал победу; Аппий Клавдий
сделал то же — и потерпел поражение, «di ehe egli fu a Roma condannato,
e Papirio onorato: non tanto per avere l'uno vinto e Paltro perduto, quanto per
avere l'uno fatto contro gli auspicii prudentemente, e Paltro temerariamente.
Né ad altro fine tendeva questo modo dello aruspicare, ehe di fare i soldati
confidentemente ire alla zuffa, dalla quale confîdenza quasi sempre nasce la
vittoria» (Ibid. P. 132) (он «был за это осужден в Риме, Папирий же
осыпан почестями, и не за то, что один проиграл, а другой победил, а за
то, что первый из них переиначил предсказание безрассудно, а
второй — с благоразумием. Ведь гадания служили только для того, чтобы
придать солдатам в бою уверенности, которая почти всегда
обеспечивает победу» (Там же. С. 178).
292
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
Макиавелли прибегнул к этому способу аргументации в
«Рассуждениях», а также в созданном одновременно с трактатом
«О военном искусстве» «Рассуждении о реформе
государственного устройства Флоренции, написанном по просьбе папы
Льва X»1. Однако он не пытался, как это неоднократно делал
Гвиччардини, построить на этом фундаменте теорию
распределения функций между многими и немногими. Он всегда
делает акцент на инновациях, fortuna и virtù. Как нам предстоит
увидеть, «Рассуждения» в какой-то мере представляют собой
трактат о различных формах, какие может принимать
определенное количество virtù, наличествующее в мире в любой
промежуток времени, и о том, как сохранить ее и направить
в нужное русло. В добродетели римлян он усмотрел новую
форму активной virtù, свойственной большинству и существующей
лишь в экспансивных воинственных государствах, которые
вооружают свой народ и наделяют его гражданскими
правами. Значимая для него флорентийская традиция народного
ополчения и собственный опыт организации ополчения при
Содерини ведет Макиавелли к идее построения гражданского
участия на основе воинской добродетели — до такой степени,
что первое становится результатом второго. Плебей как
римский гражданин — это не столько человек, играющий
определенную роль в системе принятия решений, сколько тот, кого
гражданская религия и воинская дисциплина научили
посвящать свою жизнь patria и переносить этот дух на гражданскую
деятельность. Он одновременно соответствует образу
проявляющего virtù новатора у Макиавелли и аристотелевского
гражданина, заботящегося об общем благе. Римский плебс
демонстрировал virtù, когда требовал своих прав, и добродетель — когда
выражал удовлетворение тем, что его требования выполняли.
ι. Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze a instanza di Papa Leone //
Tutte le opère di Niccolo Machiavelli / A cura di F. Flora, C. Cordié. Vol. II.
Roma, 1949. P. 526-540. Он настаивает, что universalità dei cittadini
(«совокупности граждан») следует вернуть autorité («авторитет»), который
основан на членстве в Большом совете (Ibid. Р. 534)? но добавляет, что
«li pochi cittadini non hanno ardire di punire gli uomini grandi» (Ibid. P. 537)
(«Небольшая группа граждан не осмелится вынести наказание
высокопоставленным людям») и что, если будут приняты меры для
постепенного восстановления участия народа в управлении государством, «поп
veggiamo ancora corne la universalità dei cittadini non si avessi a contentare,
veggendosi rendute parte délie distribuzioni, e Paître vedendo a poco a poco
cadersi in mano» (Ibid. P. 538) («И снова мы не видим, почему
совокупность граждан не должна быть довольна, если часть распределяемых
привилегий будет отдаваться другим, а оставшиеся будут постепенно
переходить к ним»).
293
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
Анализ трактата «О военном искусстве» позволяет выявить
как нравственные, так и экономические характеристики
гражданина-воина. Чтобы он был достаточно внимателен к
общему благу, у него должны быть дом и собственное дело, а не
лагерь. Этот же критерий применяет Аристотель к
гражданину, которому необходимо обладать собственным хозяйством
и управлять им. Как следствие, он не способен стать слугой
другого человека, а значит, сможет достичь блага сам по себе
и понять, как его благо соотносится с благом полиса. Солдат-
наемник — лишь орудие в чужих руках, но гражданин-воин не
просто орудие в руках общества. Его virtù принадлежит ему
самому, и он идет в бой, потому что знает, за что сражается. Как
мы уже видели, по мнению Бруни и Гвиччардини, утрата
свободы и упадок государства происходили, когда люди, по
принуждению или от изнеженности, ожидали от других того, чего
должны были бы ожидать от себя как членов общества. Ясно,
что это вдвойне применимо к городу, прекратившему
призывать в армию собственных граждан и полагающемуся на
наемников. Граждан это развратит, потому что они позволили тем,
кто ниже их, действовать во имя общего блага. Наемники
станут двигателем коррупции, потому что они выполняют
общественные обязанности, не заботясь о благе общества. В итоге
любой честолюбивый человек сможет приобрести власть над
республикой и разрушить ее, заставив бездумных наемников
сделать для него то, что надлежит делать лишь для общества.
Впрочем, это произойдет и по вине не обременяющих себя
мыслями граждан, выпустивших ситуацию из-под общественного
контроля. Если мы рассмотрим теорию коррупции и
примеры порчи в «Рассуждениях» Макиавелли, то увидим,
насколько она основана на идее независимости каждого человека как
гражданина, показателем которой служит его желание и
способность носить оружие.
Коррупция изначально представляется общим процессом
морального разложения, начало которого трудно предугадать,
а ход почти невозможно остановить. Конституционный порядок
укоренен в моральном порядке, и именно последний
подвергается порче. С одной стороны, buoni ordini1 не могут существовать
без Ьиопг costumi. В то же время, если утрачены buoni costumi2,
вероятность, что с помощью buoni ordini удастся их восстановить,
1. Добрые порядки, добрые законы (итал.). — Прим. ред.
2. Добрые нравы (итал.). — Прим. ред.
294
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
очень невелика. Институты зависят от морального климата,
и поэтому одни и те же законы работают хорошо, если народ не
развращен, но приводят к противоположным результатам, когда
он развращен1. Поэтому нам следует рассмотреть пример Грак-
хов. Руководствуясь самыми прекрасными намерениями, они
ускорили падение Рима, когда попытались возродить к жизни
институты его прежней добродетели2. Макиавелли
высказывает мысль, что политическую и религиозную системы следует
сохранять, возвращая их к изначальным принципам3. Однако
1. «Е presupporro una città corrottissima, donde verro ad accrescere piu taie
difficultà; perché non si truovano né leggi né ordini ehe bastino a frenare
una universale corruzione. Perché cosi come gli buoni costumi per mantenersi
hanno bisogno délie leggi, cosi le leggi per osservarsi hanno bisogno de*
buoni costumi. Oltre a di questo, gli ordini e le leggi fatte in una republica
nel nascimento suo, quando erano gli uomini buoni, non sono dipoi piu
a proposito, divenuti ehe ei sono rei. Ε se le leggi secondo gli accidenti in una
città variano, non variano mai, о rade volte, gli ordini suoi: il ehe fa ehe le
nuove leggi non bastano, perché gli ordini ehe stanno saldi le corrompono»
(Machiavelli N. Opère. P. 140; Discorsi, I, 18); «Я возьму для примера
город, развращенный до крайности, чтобы трудности еще усугубились,
ибо не существует законов и предписаний, способных остановить
всеобщее разложение. Ведь чтобы сохранить добрые нравы, необходимы
законы, а для соблюдения законов нужны добрые нравы. Кроме того,
законы и обычаи, принятые республикой при ее зарождении, когда
граждане были добропорядочными, впоследствии, из-за
распространения среди них дурных нравов, становятся негодными. И если законы
какого-либо города смотря по обстоятельствам могут изменяться, то
никогда не меняются, разве что очень редко, его устои; новых законов
недостаточно, потому что прежние порядки сводят на нет их действие»
(Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 185-186).
2. «Del quale disordine furono motori i Gracchi, de' quali si debbe laudare
piu la intenzione ehe la prudenzia. Perché a volere levar via uno disordine
cresciuto in una republica, e per questo fare una legge ehe riguardi assai
indietro, è partito male considerato: e come di sopra largamente si discorse,
non si fa altro ehe accelerere quel male a ehe quel disordine ti conduce; ma
temporeggiandolo, о il male viene piu tardo, о per se medesimo, col tempo,
avanti ehe venga al fine suo, si spegne» (Ibid. P. 173; Discorsi I, 37);
«Зачинщиками этих беспорядков были Гракхи, намерение которых
заслуживает большей похвалы, чем их благоразумие. Ведь нельзя назвать
хорошо продуманной попытку устранить какой-то выявившийся в
республике недостаток, учредив для этого закон, обладающий обратной
силой; таким образом, как подробно было рассмотрено выше,
можно только приблизить наступление беды, которой чреват указанный
недостаток, но если выждать, она наступит позже либо со временем
устранится сама собою, не проявив всех своих разрушительных сил»
(Там же. С. 217).
3- «E perché io parlo de' corpi misti, come sono le republiche e le sette, dico
ehe quelle alterazioni sono a salute ehe le riducano inverso i principii loro.
E pero quelle sono meglio ordinate, ed hanno piu lunga vita, ehe mediante
gli ordini suoi si possono spesso rinnovare, owero ehe per qualche accidente,
fuori di detto ordine, vengono a detta rinnovazione. Ed è cosa piu chiara
ehe la luce ehe non si rinnovando questi corpi non durano. Il modo del
295
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
он не имеет в виду, что развращенное государство способно
начать все сначала1 или что у выведенного Полибием круговорота
может быть обратный ход. Он полагает, что начало коррупции
следует предотвратить применением показательных и, вероятно,
карательных principii2 раз в десять лет или около того3. Следует
rinnovargli è, come è detto, ridurgli verso e' principii suoi; perché tutti
e principii délie sette e délie republiche e de' regni conviene ehe abbiano
in se qualche bontà, mediante la quale ripiglino la prima riputazione ed
il primo augumento loro. E perché nel processo del tempo quella bontà si
corrompe, se non interviene cosa ehe la riduca al segno, ammazza di nécessita
quel corpo» (Machiavelli N. Opère. P. 309; Discorsi III, 1); «A поскольку
я говорю о смешанных телах, к каковым принадлежат республики
и религиозные школы, то на пользу им идут те перемены, которые
возвращают их к началам. Следовательно, лучше устроены и
долговечнее те, в которых заложена возможность обновления, вернее
сказать, которые приступают к обновлению при всяком отклонении от
присущего им устройства. Яснее ясного, что в противном случае им
угрожает гибель. Способ обновления заключается, как было сказано,
в возврате к первоначальному состоянию. Всякое учение, всякая
республика и всякое царство поначалу необходимо содержат в себе
некое благо, с помощью которого они делают первые успехи и первые
приобретения. Но поскольку с течением времени это благо
подвергается порче, то если не вернуть его в прежние рамки, оно неизбежно
погубит все тело» (Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита
Ливия. С. 357)· Тот же тезис в отношении религий см. ниже, прим. 2
на с. 311.
1. Хотя пример с разорением Рима галлами близок к ситуации, когда из
материи, пришедшей в беспорядок, все началось заново; Ibid. Р. 3°9~
ЗЮ; Там же. С. 357"358.
2. Правила (итпал.). — Прим. ред.
3- «Le quali cose [Machiavelli has been listing exemplary punishments recounted
by Livy and discussed more than once in the Discorsi] perché erano eccessive
e notabili, qualunque volta ne nasceva una, facevano gli uomini ritirare
verso il segno [more than Cesare Borgia can be said to have achieved by the
execution of Ramirro de Orca]; e quando le cominciarono a essere piu rare
cominciarono anche a dare piu spazio agli uomini di corrompersi e farsi con
maggiore pericolo e piu tumulto. Perché dall'una all'altra di simili esecuzioni
non vorrebbe passare il piu diece anni, perché passato questo tempo, gli
uomini cominciano a variare con i costumi e trapassare le leggi: e se non
nasce cosa per la quale si riduca loro a memoria la репа, e rinnuovisi negli
animi loro la paura, concorrono tosto tanti delinquenti ehe non si possono
punire sanza pericolo» (Ibid. P. 310-311); «Все эти происшествия
[Макиавелли перечислил казни в назидание, о которых повествует Ливии
и которые не раз упоминаются в «Рассуждениях»], привлекая к себе
внимание и устрашая, всякий раз заставляли людей одуматься [Чеза-
ре Борджиа достиг меньшего, казнив Ромиро де Ορκο], но когда они
стали редкостью, испорченность нравов могла распространяться
свободнее, принося с собой больше опасностей и треволнений. Казни,
подобные вышеназванным, должны были совершаться не реже, чем раз
в ю лет, ибо по прошествии этого времени люди начинают извращать
свои нравы и преступать законы, и если ничто не напомнит им о
наказании и не заронит в их душу новый страх, наплодится столько
преступников, что власти не смогут карать их с безопасностью для
20,6
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
удерживаться от скатывания в поток времени, означающий
неизбежную порчу нравов, пока это возможно.
Институциональные инструменты могут усиливаться и обновляться и даже
предотвращать порчу, пока она еще не началась, но в
противном случае они, по всей вероятности, бессильны.
Преимущество институциональных механизмов для периодического
возобновления рггпсгргг заключается в том, что иначе о коррупции
можно судить лишь благодаря мудрецу, способному предвидеть
порчу и которому (если он вообще присутствует) все труднее
убеждать соседей — тем труднее, чем больше они развращены.
Трагическая неразрешимость этой ситуации состоит в том, что
развращенность очевидна лишь тогда, когда она уже
завоевала позиции. Costumi людей к тому времени изменятся, так что
старые законы и средства уже не помогут. При таких условиях
Макиавелли, обычно предпочитающий решительные действия,
признает необходимость выждать время. Неверно, как сделали
Гракхи, издавать законы, противоречащие существующим
нравам и обычаям, даже когда последние подвержены коррупции.
Спартанский царь Клеомен поступил разумнее, проведя
кровавую чистку развращенных элементов, прежде чем попытался
восстановить законы Ликурга1. Тот, кому это не по силам,
должен выжидать8. Однако от течения времени, которым движет
себя» (Там же. С. 359)· Это верно вне зависимости от
справедливости исходного рггпсгрщ затем Макиавелли говорит, что Медичи,
правившие Флоренцией в I434_I494 годах, прибегали к ripigliare lo stato
(«снова захватить власть»), то есть разрушали собственную систему,
чтобы, обновив ее, вернуть ей первоначальную суровость, —
процедура, напоминающая «большие чистки» и «культурные революции»
современности.
1. Discorsi I, 9 (Клеомен), 17, ι8 (снова Клеомен), 33> 3^, 4^·
2. «Dico adunque ehe, poi ehe gli è difficile conoscere questi mali quando ei
surgano, causata questa difïicultà da uno inganno ehe ti fanno le cose in
prineipio, e piu savio partito il temporeggierle, poi ehe le si conoscono, ehe
l'oppugnarle: perche temporeggiandole, о per loro medesime si spengono
о almeno il male si differisce in piu lungo tempo. Ε in tutte le cose debbono
aprire gli occhi i prineipi, ehe disegnano cancellarle о alle forze ed impeto
loro opporsi, di non dare loro in cambio di detrimento augumento, e credendo
sospingere una cosa tirarsela dietro, owero suffocare una pianta a annaffiarla;
ma si debbano considerare bene le forze del malore, e quando ti vedi sufficiente
a sanare quello, metterviti sanza rispetto, altrimenti lasciarlo stare né in
aleun modo tentarlo» (Ibid. P. 164-165; Discorsi I, 33); «Итак, я скажу, что
бывает трудно распознать зло в зародыше, потому что задатки часто
обманчивы, и самое мудрое — выждать, пока они проявятся, не
предпринимая попыток единоборства; со временем зло устранится само
собой или по крайней мере его приход отдалится. Вообще, если
государи собираются устранить своих противников или противостоять
их натиску, они должны хорошенько подумать, не приведет ли это
297
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
все усугубляющаяся порча, конечно, не следует ожидать
большего, чем от времени, которым правит fortuna. Единственная
надежда — на абсолютную власть человека исключительной
добродетели, который положит конец порче и восстановит
добродетель в народе. Перед ним стоит еще более трудная задача,
чем перед харизматическими законодателями, о которых идет
речь в «Государе»; тогда как они пришли к власти, когда народ
был разобщен и податлив, и не были обязаны фортуне ничем,
кроме occasioned добродетельный правитель, воцарившись,
обнаруживает развращенный народ и ситуацию, подверженную
произволу фортуны. В таких условиях даже вооруженный пророк
рисковал потерпеть поражение: методы, обеспечивающие его
власть, могут развратить даже его самого1. Если этого не
случится, то его харизмы будет недостаточно, чтобы за одну
человеческую жизнь восстановить в народе добродетель2. После его
к противоположному результату и не накличут ли они на себя беду,
пытаясь избежать ее, — ведь если чрезмерно поливать растение, оно
погибнет. Следует оценить величину опасности: если ты в состоянии
ее осилить, делай это не задумываясь, в противном случае ничего не
предпринимай и предоставь ее самой себе» (Макьявелли Н.
Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 208-209).
1. «...a fare questo non basta usare termini ordinari essendo i modi ordinari
cattivi, ma è necessario venire alio straordinario, come è alla violenza ed
alParmi, e diventare innanzi a ogni cosa principe di quella città e poterne
disporre a suo modo. E perché il riordinare una città al vivere politico
presuppone uno uomo buono, e il diventare per violenza principe di una
republica presuppone uno uomo cattivo, per questo si troverrà ehe radissime
volte accaggia ehe uno buono, per vie cattive, ancora ehe il fine suo fusse buono,
voglia diventare principe; e ehe uno reo, divenuto principe, voglia operare
bene, e ehe gli caggia mai nello animo usare quella autorità bene ehe gli ha
maie acquistata» (Machiavelli N. Opère. P. 142; Discorsi I, 18); «Если же
обновлять государственный строй разом, когда каждому ясна негодность
старого, то зло уже так укоренилось, что его трудно исправить; для
этого недостаточно законных путей, которые только принесут вред;
необходимо прибегнуть к чрезвычайным мерам, насилию и оружию,
и прежде всего стать государем этого города, дабы править по своему
усмотрению. Но так как возродить республику к политической жизни
может только хороший человек, а стать ее государем путем насилия
может только дурной человек, то в высшей степени редко
случается, чтобы хороший человек захотел прийти к власти дурным путем,
хотя бы и ради благой цели, и злодей, став государем, начал творить
добрые дела — ему никогда не взбредет на ум употребить во благо
власть, дурно приобретенную» (Там же. С. 187-188).
2. «...ma morto quello, la si ritorna ne* primi disordini suoi. La cagione è, ehe
non puô essere uno uomo di tanta vita che'l tempo basti ad awezzare bene
una città lungo tempo maie awezza. E se uno d'una lunghissima vita о due
successioni virtuose continue non la dispongano, corne la manca di loro,
come di sopra è detto, rovina; se già con di molti pericoli e di molto sangue
e' non la facesse rinascere» (Ibid. P. 139; Discorsi I, 17); «...По смерти его
там снова воцарился хаос. Дело в том, что одному человеку не дано
298
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
смерти они вернутся на свою блевотину (как, полагают,
пророчил французам де Голль). Вероятность, что за одним
наделенным сверхчеловеческими способностями законодателем
последует другой, как нетрудно догадаться, весьма мала. Впрочем,
Макиавелли подчеркивает значимость воинской и религиозной
virtù (которую олицетворяют Ромул и Нума) как двух
инструментов деятельного формирования государства. Интересно, что
он не обращается к примеру воина Иисуса Навина, преемника
пророка Моисея, или сменивших его судей как вдохновенных
военачальников. Попытка увидеть в пророках еврейской и
священной истории законодателей не привела в «Рассуждениях»
к какому-то значимому итогу.
До этого момента могло казаться, что коррупция или
порча— не более чем следствие fortuna, иррациональная
последовательность отклонений от нормы, не поддающаяся контролю,
непредсказуемая и потенциально подрывающая порядок. В
действительности это явление подвергается более тщательному
анализу, чем можно было бы предположить. Примечательно,
сколь часто Макиавелли, рассуждая о порче, использует
телеологический язык: законы и системы правления, даже
основанные на добродетели, представляют собой forma, а законодатель
и тот, кто применяет закон (не говоря уже о реформаторе),
стремятся наложить форму на materia республики, которая,
разумеется, состоит из людей. В отдельных главах «Рассуждений» мы
встречаем просторечное употребление слова materia в значении
населения города, но в теории коррупции оно используется
технически1. Когда разложение усугубляется, materia, как мы
столько прожить, чтобы перевоспитать город, привычный к дурным
нравам, и если какой-нибудь долгожитель или два доблестных
правителя подряд не дадут ему правильного устройства, то, лишившись
их, он тотчас же, как сказано выше, погибнет, либо его спасение будет
сопровождаться многими бедами и кровопролитиями» (Там же. С. 185)·
I. «...dove la materia non è corrotta, i tumulti ed altri scandali non nuocono:
dove la è corrotta, le leggi bene ordinate non giovano, se già le non son mosse
da uno ehe con una estrema forza le faccia osservare tanto ehe la materia
diventi buona. ...una città venuta in declinazione per corruzione di materia,
se mai occorre ehe la si rilievi, occorre per la virtù d'uno uomo ehe è vivo
allora, non per la virtù dello universale ehe sostenga gli ordini buoni...» (Ibid.
P. 139; Discorsi 1,17); «...Там, где человеческая материя здорова, волнения
и смуты безвредны; если же она затронута разложением, не помогут
никакие хорошие законы, разве что какой-нибудь единоличный
правитель, прибегнув к чрезвычайному насилию, заставит их соблюдать
и сделает упомянутую материю пригодной. ...Город, пришедший в
упадок из-за испорченности людской материи, может воспрянуть только
благодаря доблести одного лица, действующей на протяжении его
жизни, а вовсе не из-за благонравия граждан, поддерживающих добрые
299
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
узнаём, сама претерпевает изменения, и старые законы
перестают действовать: причиной тому невозможность наложить на
измененную материю прежнюю форму. Время от времени он
близок к утверждению, что римлянам следовало бы принять
новые законы, которые соответствовали бы изменившемуся
положению, но учитывая, что эти изменения понимаются как
коррупция, представляется практически невозможным, чтобы
они смогли это сделать.
Не вполне ясно, превращается ли materia во что-то иное или
просто разлагается. Мы вспоминаем, что для Савонаролы
реформация состояла в восстановлении prima forma. Поскольку
это означало для него не меньше, чем цель человека,
призванного познать Бога через добродетельную жизнь, то он
рассматривал реформацию как полное восстановление человеческой
природы, осуществимое лишь при содействии благодати. Другие
флорентийские мыслители все чаще отождествляли
добродетель с vivere civile. И необходимые для нее условия казались все
более тесно связанными со временем. Временем же управляли
такие силы, как привычка и обычай, закладывающие «вторую
порядки...» (Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия.
С. 184-185). «...altri ordini е modi di vivere si debbe ordinäre in uno suggetto
cattivo ehe in uno buono, ne puo essere la forma simile in una materia al
tutto contraria» (Machiavelli N. Opere. P. 141; Discorsi I, 18); «...Для дурных
подданных пригодны одни обычаи и установления, а для
благонравных— другие, и между формой и материей должно быть соответствие»
(Там же. С. 187). Манлий Капитолии «venne in tanta cecità di mente, ehe
non pensando al modo di vivere délia città, non esaminando il suggetto, quale
esso aveva, non atto a ricevere ancora trista forma, si misse a fare tumulti in
Roma contro al Senato e contro aile leggi patrie. Dove si conosce la perfezione
di quella città e la bontà délia materia sua...» (Ibid. P. 342; Discorsi III, 8); «так
ослеп, что, не приняв во внимание жизнеустройство города и
умонастроение граждан, не готовых смириться с такой скверной формой, он
попытался учинить в Риме беспорядки, направленные против Сената
и отечественных законов. Тут и познается совершенство римского строя
и доброкачественность его материи...» (Там же. С. 388). «Se Manlio fusse
nato ne' tempi di Mario e di Silla, dove già la materia era corrotta, e dove
esso arebbe potuto imprimere la forma delPambizione sua arebbe avuti quegli
medesimi seguiti e successi ehe Mario e Silla... <...> Pero è bisogno, a volere
pigliare autorità in una republica e mettervi trista forma, trovare la materia
disordinata dal tempo, e ehe a poco a poco e di generazione in generazione
si sia condotta al disordine» (Ibid. P. 343); «...Если бы Манлий родился во
времена Мария и Суллы, когда материя уже разложилась и была
податливой для восприятия формы, продиктованной его властолюбием,
он бы достиг такого же результата и успеха, как Марий и Сулла... <...>
Чтобы захватить власть в республике и придать ей скверную форму,
требуется застать материю уже приведенной временем в расстройство,
ибо из поколения в поколение внутренний разлад увеличивается»
(Там же. С. 389-390).
ЗОО
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
натуру». Если способностью принимать^/orma республиканской
добродетели materia обязана своей второй природе, условию,
определенному временем, то, значит, изменения materia можно
расценивать как качественный переход из одного временного
состояния в другое. В связи с этим может возникнуть вопрос,
до какой степени правитель или законодатель способен
изменить вторичную природу, или структуру обычая, который
был продуктом времени и обстоятельств. Добродетель
укоренена в buoni costumi, а они могли со временем прийти в упадок,
так что сама materia менялась и становилась менее
способной к добродетели. С одной стороны, добродетель
представала как достижение идеального состояния, не подверженного
уже никаким переменам, кроме вырождения. С другой —
имело место осознание того, что она существует в обусловленных
временем обстоятельствах, поэтому утрату добродетели можно
было описать в терминах исторических и качественных
изменений— даже если такое описание должно быть задано
представлениями о том, что способствует и что препятствует
формированию добродетели.
Поэтому в «Рассуждениях» можно найти не только
моральный, но и социологический анализ разложения. В конце
первой книги (I, 17), где говорится о коррупции, Макиавелли
недвусмысленно указывает, что у нравственного разложения,
помимо порочности людей в целом, есть другие причины:
Ведь испорченность и непригодность к свободной жизни
вытекают из неравенства, существующего в подобном городе, а для
восстановления равенства необходимо произвести великий
переворот, на который редко кто захочет и сумеет пойти...1.
О каком «неравенстве» идет речь, не поясняется. Необходимо
искать примеры, на основании которых можно сделать вывод
об идеях Макиавелли на сей счет. В следующей главе
описывается, как римские законы перестали действовать в ситуации
разложения. Он говорит: после того как римляне покорили
всех своих врагов и перестали их бояться, они начали
избирать на государственные посты не тех, кто наиболее достоин
этого, а тех, кому лучше удается завоевать расположение (grazia)
ι. Там же. С. 185; «Perché tale corruzione е роса attitudine alla vita libera
nasce da una inequalità ehe è in quella città, e volendola ridurre equale
è necessario usare grandissimi straordinari, i quali pochi sanno о vogliono
usare» (Ibid. P. 139).
3OI
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
других. Затем они опустились до того, что стали назначать на
должности наиболее влиятельных, поэтому страх перед
носителями власти не позволял хорошим людям пытаться занять
эти должности или даже свободно выступать на публике1. В
таких условиях реформа почти невозможна. Республика,
дошедшая до этой черты, не сможет сама реформировать себя.
Законы перестали действовать, и для реформ требуется насилие.
Власть некоторых людей теперь сильнее власти закона, и
требуется почти монаршая власть одного человека, чтобы их
контролировать. Однако ему будет трудно восстановить закон или
свободу теми средствами, к которым ему придется прибегнуть8.
Создается впечатление, что некий квазициклический возврат
к монархии стал почти неизбежен.
Впрочем, если под установлением «неравенства»
подразумевается ситуация, рассмотренная выше, то это понятие не
сопряжено ни с имущественным неравенством, ни с неравномерным
распределением политических прав. Нет оснований полагать,
что Макиавелли возражал против того или другого. Таким
образом, оно характеризует положение дел, при котором одни
люди стремятся угодить другим (тем, кого Гвиччардини называл
particulari3), в то время как им надлежит думать об общем благе
и авторитете общества. «Равенством» же следует называть
положение дел, при котором все в равной мере стремятся к общему
благу. Разложение — это появление клик и чрезвычайно
могущественных граждан, нравственное состояние, которое
оказывает одинаково разлагающее воздействие на властвующих и тех,
кто от них зависит. В данном случае оно вызвано причиной
ι. Machiavelli N. Opère. P. 140-142 (Discorsi I, 18); Макьявелли H. Рассуждения
о первой декаде Тита Ливия. С. 186-187.
2. «Da tutte le soprascritte cose nasce la difficultà о impossibilità, ehe è nelle
città corrotte, a mantenervi una republica о a crearvela di nuovo. Ε quando
pure la vi si avesse a сгеаге о a mantenere, sarebbe necessario ridurla piu
verso lo stato regio ehe verso lo stato popolare, accioché quegli uomini i quali
dalle leggi per la loro insolenzia non possono essere corretti, fussero da una
podestà quasi regia in qualche modo frenati. Ε a volergli fare per altre vie
diventare buoni, sarebbe о crudelissima impresa о al tutto impossibile...»
(Ibid. P. 142-143); «Вышесказанное подтверждает трудность и даже
невозможность сохранить либо учредить заново республику в
испорченном городе. Но если кто-то все же поставит перед собой такую задачу,
он должен придать ей устройство, приближающееся скорее к
царскому, нежели к народному правлению, чтобы людей дерзких и не
подчиняющихся законам мог останавливать глава государства своей почти
царской властью. Исправить же их другим путем вовсе невозможно,
это потребовало бы неслыханной жестокости...» (Там же. С. ι88).
3. Особенные, исключительные (итал.).—Прим. ред.
302
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
исключительно морального характера — изменением римских
costumi к худшему. На этом этапе нам не сообщается о
каких-либо социальных условиях, которые неизбежно повлекли за собой
упадок. Макиавелли в своих размышлениях об ополчении и
народной политии неоднократно сравнивает гражданина с
воином, который сам себя содержит. Поэтому нетрудно догадаться:
означенные условия связаны с тем, что большинство лишено
возможности носить оружие или отказалось от него.
В LV главе первой книги понятия испорченности и
неравенства возникают вновь в контексте социального анализа
условий, благоприятных или неблагоприятных для
республиканского устройства. Последнее, по словам Макиавелли,
совершенно невозможно при многочисленности людей, которых он
называет gentiluomini. Это либо те, кто живет в роскоши,
пользуясь доходами со своих земельных владений, либо, что еще
опаснее, те, у кого вдобавок есть замки и подданные (sudditi).
Эти «два типа людей» «заполонили» Неаполь, Рим, Романью
и Ломбардию. К сожалению, из контекста не вполне ясно,
имеет ли Макиавелли в виду два типа gentiluomini, военных и
невоенных, или же два класса — знати, живущей в замках, и ее
sudditi. Последнее толкование возможно, потому что именно
власть gentiluomini над подданными делает их существование
несовместимым со свободным правлением, а какой властью
наделены праздные и обычно отсутствующие в городе
владельцы имений из первой категории, сказать трудно. Signori di
castella1 в Тоскане отсутствуют, gentiluomini встречаются крайне
редко. В итоге республиканская жизнь там хотя бы возможна.
Республику просто невозможно учредить, предварительно не
избавившись от gentiluomini. Иначе materia будет столь
испорчена, что законы не смогут ею управлять и потребуется
установление власти монарха. Царство же или княжество нельзя
создать там, где есть равенство, если только немногочисленные
честолюбцы не получат в свое распоряжение дворцы и людей,
став таким образом зависимыми от монарха2. Здесь Макиавелли
1. Знать, живущая в замках (итпал.). — Прим. ред.
2. «Ed a volere in provincie fatte in simil modo introduire una republica non
sarebbe possibile. Ma a volerle riordinare, se alcuno ne fusse arbitro, non arebbe
altra via ehe farvi uno regno: la cagione è questa, ehe dove è tanto la materia
corrotta ehe le leggi non bastano a frenarla, vi bisogna ordinäre insieme con
quelle maggior forza, la quale è una mano regia ehe con la potenza assoluta
ed eccessiva ponga freno alia eccessiva ambizione e corruttela de' potenti»
(Ibid. P. 205); «В подобной провинции при всем желании невозможно
ввести республику, и если бы кому-то довелось переустраивать ее по
303
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
мыслит почти так же, как Лодовико Аламанни, только делает
акцент не на придворных, как последний, а на баронах.
Gentiluomini оказываются причиной неравенства и
испорченности из-за замков и слуг. В не испорченной коррупцией
республике не должно быть иерархии, а «равенство» должно
означать, что все в равной мере являются воинами. Необходимы
политические условия, позволяющие вооружить всех граждан,
моральные условия, в которых все стремились бы сражаться
за республику, и экономические условия (которые
отсутствуют у зависимых слуг), обеспечивающие воина домом и
ремеслом вне военного лагеря и препятствующие его превращению
в suddito, create или наемника, который своим оружием служит
некоему влиятельному лицу. Экономическая независимость
воина и гражданина нужна, чтобы предотвратить разложение.
Если эти условия не соблюдаются, город, который не
стремится к завоеваниям и готов избегать контактов с внешним
миром, все же может уменьшить размер армии и ограничить круг
граждан и тем самым избежать коррупции; несмотря на
презрение, с которым Макиавелли описывает венецианскую
политическую жизнь, он ни разу не утверждает определенно, что
Венецию развратило использование наемников. Однако город,
своему усмотрению, он был бы вынужден создать там королевство.
Причина в том, что если законов недостаточно, чтоб остановить
разложение материи, наряду с ними следует применить и высшую силу,
каковой является королевская десница, своей неограниченной и
чрезвычайной мощью обуздывающая чрезмерное честолюбие и
испорченность влиятельных лиц» (Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде
Тита Ливия. С. 249)· «Trassi adunque di questo discorso questa conclusione:
ehe colui ehe vuole fare dove sono assai gentiluomini una republica, non la
puo fare se prima non gli spegne tutti; e ehe colui ehe dove è assai equalità
vuole uno regno о uno principato, non lo potrà mai fare se non trae di quella
equalità molti d'animo ambizioso ed inquieto, e quelli fa gentiluomini in
fatto e non in nome, donando loro castella e possessioni e dando loro favore
di sustanze e di uomini, accioché, posto in mezzo di loro, mediante quegli
mantenga la sua potenza ed essi mediante quello la loro ambizione, e gli
altri siano costretti a sopportare quel giogo ehe la forza, e non altro mai,
puo fare sopportare loro» (Machiavelli N. Opere. P. 206); «Из этого
рассуждения следует такой вывод: у того, кто захочет основать республику,
там, где много дворян, ничего не выйдет, пока он их всех не
уничтожит; а у того, кто хочет основать королевство или принципат там,
где преобладает равенство, ничего не получится, пока он не выберет
среди граждан людей беспокойных и честолюбивых и не сделает из
них дворян, только не по званию, а на деле, раздав им замки и
усадьбы и снабдив их имениями и людьми. Тогда, окружив себя ими, он
сохранит с помощью этих дворян свое могущество, а они с помощью
государя удовлетворят свое честолюбие; прочим же останется сносить
то иго, которое только насилие и ничто другое [По смыслу «не»
лишнее] может заставить снести» (Там же. С. 250).
304
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
сначала выбравший народную форму правления, агрессивную
virtù и вооружение народа, а затем позволивший своим
гражданам-солдатам стать подданными и слугами немногих
влиятельных людей, будет действительно безнадежно испорчен.
Макиавелли приводит две основные причины гибели Римской
республики1. Первая2 — возрождение Гракхами закона,
ограничивающего право владеть землей, и распределение завоеванных
земель среди народа, что послужило причиной такой
ненависти между знатью и народом, что каждая фракция обращалась
к своим военачальникам и их армиям. Вторая3 — продление
срока нахождения военачальников на своих командных постах,
из-за чего у солдат возникал соблазн забыть о государственных
интересах и стать сторонниками политического деятеля, под
командованием которого они состояли. Примечательно, что ни
одна из этих причин не дает удовлетворительного объяснения
испорченности римского гражданина-солдата. Любопытно (как
отметил Джеймс Харрингтон), что Макиавелли так
окончательно и не объединил эти два объяснения. Он писал, что
распределение земель оказалось в руках военных политиков, из-за
чего войска стали служить своим генералам и выступать в их
поддержку, ибо только генералы могли вознаградить их. Это
продолжалось до тех пор, пока наиболее успешному из
императоров не удалось установить власть над Римом с помощью
своей теперь уже наемной армии. Впрочем, это утверждение стало
тривиальным для гражданских гуманистов XVII и XVIII
столетий, идеи которых в этом и других отношениях строились на
предпосылках, изложенных у Макиавелли: для Харрингтона,
Монтескье, Джефферсона и Гиббона.
IV.
Таким образом, рождается социология свободы, во многом
основанная на представлении о роли оружия в обществе и vivere civile.
На отрицательном полюсе концепция коррупции постепенно
ι. В пятой главе первой книги «Рассуждений» он говорит, что народ
приобрел склонность превозносить всех политических деятелей,
наносивших ущерб знати: «donde nacque la Potenza di Mario e la rovina di Roma»
(«здесь истоки могущества Мария и падения Рима»). В XXVII главе
первой книги это обстоятельство объясняется аграрным законом.
2. Discorsi I, 37·
3. Discorsi III, 24. Тему поощряемой императорами профессионализации
войск Макиавелли затем развивает в первой книге трактата «О
военном искусстве».
305
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
заменяет концепцию хаотической случайности, относящейся
κ/ortuna — это следствие политизации добродетели, которая
сделала упадок последней объяснимым с политической точки
зрения. С одной стороны, разложение по-прежнему
необратимый, однонаправленный процесс, отражающий переменчивость
и хаос подлунного мира. Равновесие между личностью и
политикой либо держится, либо разрушается, третьего не дано.
С другой стороны, понятия самостоятельности и зависимости,
сопряженные с представлением об армии, теперь
предполагают объективное и почти материалистическое — в противовес
субъективно-этическому — объяснение того, как может
происходить этот процесс порчи. Люди утрачивают virtù, потому что
утратили независимость, которая не заключается всецело в их
virtu. Римскую республику уничтожила не таинственная сила
volubil creatura1, а поддающиеся описанию факторы, действие
которых не было своевременно остановлено.
Впрочем, хотя второстепенные причины стремятся занять
место fortuna, на более глубинном уровне оппозиция virtù
и fortuna все еще остается в силе, и это неотъемлемый
элемент изложенной в «Рассуждениях» теории демократии.
Утверждая, что фундаментом народной республики является virtù
вооруженных граждан, Макиавелли интерпретирует проблему
участия народа в политической жизни уже не как вопрос
достаточных знаний, а как вопрос воли. Если следовать
общепринятой логике аристотелевской теории, многие обладали
знанием, основанным на опыте, благодаря чему были
способны выбирать предводителей и судить о политических
стратегиях, что мало отличалось от того, что предполагали
привычка, обычай и традиция. Как бы он ни хвалил это знание2,
Макиавелли оно казалось слишком неповоротливым и
зависимым от аристократии, чтобы годиться для мира внезапных
опасностей и трудностей, угрожающих самому существованию
городов-государств. Поэтому Макиавелли предлагает взамен
1. «Коварнейшее существо» (итал.). Строка из стихотворения
Макиавелли о фортуне в переводе Е.М. Солоновича.—Прим. ред.
2. «Е non sanza cagione si assomiglia la voce d'un popolo a quella di Dio: perché
si vede una opinione universale fare effetti maravigliosi ne' pronostichi suoi,
talché pare ehe per occulta virtù ei prevegga il suo maie ed il suo bene»
(Machiavelli N. Opère. P. 212; Discorsi I, 58); «Не зря голос народа
уподобляют гласу Божию, ведь всеобщее мнение является удивительно
прозорливым. Кажется, будто некая тайная способность помогает ему
предвидеть хорошее и дурное» (Макьявелли Н. Рассуждения о первой
декаде Тита Ливия. С. 256).
Зоб
А) ^РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
вооруженное народное правление, senatus populusque1, которое
могло противостоять врагам и в то же время
дисциплинированно и динамично менять и улучшать внутренние
отношения. Сила Рима заключалась в том, что он мог мобилизовать
максимум virtù для военных и гражданских целей и поступал
так веками. Но в конечном счете все зависело от virtù как
качества отдельной личности, преданности respublica, основанной
на политической, моральной и экономической
самостоятельности. Если бы у любого носящего оружие гражданина были
все эти условия и, кроме того, Ьиопа educazione, он проявил бы
свойственную римлянам virtù, хотя и не смог бы подняться
выше нее. Республики способны мобилизовать больше virtù,
чем монархии. А за счет того, что ими управляло сразу
множество людей, они отличались большей гибкостью и легче
приспосабливались к превратностям fortuna, чем этого
можно было бы ожидать от отдельной личности единовластного
правителя8. Когда же изменившиеся обстоятельства (возможно,
коррупция) требовали изменений в их структуре, для которых
нужно было бы прийти через дискуссию к общему согласию,
ι. Сенат и народ [римский] (лат.) — официальная формула верховной
власти в Римской республике.—Прим. ред.
2. «Е se Fabio fusse stato re di Roma poteva facilmente perdere quella guerra;
perché non arebbe saputo variare col procedere suo secondo ehe variavono
i tempi [cf. Il Principe, ch. XXV; above, ch. VI, n. 39]. Ma essendo nato in
una republica dove erano diversi cittadini e diversi umori, corne la ebbe Fabio,
ehe fu ottimo ne' tempi debiti a sostenere la guerra, cosi ebbe poi Scipione
ne' tempi atti a vincerla. Quinci nasce ehe una republica ha maggiore vita ed
ha piu lungamente buona fortuna ehe uno principato, perché la puô meglio
accomodarsi alla diversità de' temporali, per la diversità de' cittadini ehe
sono in quella, ehe non puô uno principe. Perché un uomo ehe sia consueto
a procedere in uno modo, non si muta mai, corne è detto e conviene di
nécessita ehe quando e' si mutano i tempi disformi a quel suo modo ehe
rovini» (Ibid. P. 344-345; Discorsi III, 9); «...Фабий не замечал, что
времена изменились и нужно по-другому вести войну. И если бы он был
римским царем, он легко мог бы проиграть эту войну, не умея
подчинять свои поступки изменившимся обстоятельствам [ср.: «Государь»,
глава XXV; см. выше, глава VI, прим. ι на с. 262]. Но поскольку он был
рожден в республике, обладавшей разными гражданами и разными
мнениями, то, использовав качества Фабия, замечательно
подходившие в свое время для того, чтобы продержаться, в дальнейшем она
использовала качества Сципиона, чтобы выиграть войну. Вот отчего
республики бывают более жизнеспособными и им дольше
сопутствует удача, чем государям. Республики лучше приспосабливаются к
разнообразию обстоятельств благодаря различию качеств своих граждан,
чего государю не дано. Человек, который привык поступать согласно
своему нраву, как мы говорили, никогда не меняется, поэтому он
неизбежно терпит поражение, когда наступают времена, для него
неблагоприятные» (Там же. С. 391)·
307
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
то они становились медлительны1. Тем не менее успех
зависел от virtù, a virtu — от самостоятельности людей, призванных
действовать во имя общего блага. Поступать таким образом
они могли лишь в республиках, и каждая республика была
ограниченной в своем размере — лишь определенное число
людей можно было приучить проявлять virtù и собирать
вместе. Как бы она ни понималась, virtù каждого человека
зависела от virtù остальных, и когда начинался упадок добродетели,
остановить этот процесс было уже невозможно. И она
проявлялась равно и в армии, и в гражданском обществе, и во
внешнем мире войны с другими государствами, и в
гражданском мире справедливости. Как только было установлено,
что governo largo, перед которым стояла цель распространения
participazione, требовало вооружения многих и стремления
республики к расширению и войне, гражданская добродетель
оказалась зависимой от способности республики завоевывать
другие территории — virtù, проявляемой в мире, где правила
fortuna, а не giustizia- Флоренция не была республикой, если
не могла завоевать Пизу, но и пизанцев нельзя назвать
добродетельными, если им не под силу было ее остановить.
Идея милитаризации гражданского общества делает
«Рассуждения» в некотором важном смысле сочинением еще более
опасным для морали, чем «Государь». Государь вел насколько
неупорядоченную vivere, что только если он стремился достичь
таких же высот, как Моисей и Ликург, он брал на себя
обязательство поддерживать гражданскую добродетель в других.
Республика могла быть добродетельной с моральной и гражданской
точки зрения, только если в отношениях с другими народами
сочетала в себе льва и лисицу, человека и зверя. Можно
вернуться к встречающемуся в «Государе» образу кентавра2 на более
ι. «...in uno uomo la fortuna varia, perché ella varia i tempi ed egli non varia
i modi. Nascene ancora le rovine délie cittadi, per non si variare gli ordini
délie republiche со' tempi, come lungamente di sopra discorremo. Ma sono
piu tarde, perche le penono piu a variare; perché bisogna ehe venghino tempi
ehe commuovino tutta la republica, a ehe uno solo col variare il modo del
procedere non basta» {Machiavelli N. Opère. P. 344-345); «...Вот почему удача
отворачивается от людей: фортуна зависит от обстоятельств, а люди
упорствуют в своем поведении. Точно так же гибнет государство, ибо
республики со временем не изменяют своих порядков, о чем мы
подробно говорили выше; они слишком медлительны и запаздывают
с нововведениями, для чего требуются основательные потрясения, ибо
отдельные невзгоды не столкнут республику с проторенной дороги»
(Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 392)·
2. Ibid. Р. 56; «mezzo bestia е mezzo uomo» (Макьявелли H. Государь. С. 107:
«природа и человека, и зверя», глава XVIII).
Зо8
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
высоком уровне сложности. Осознание этой двойственности,
относительно несложное для Полибия, представления которого
о Боге, руководящем универсумом в соответствии с
принципами справедливости, являлись не столь развитыми, у
Макиавелли было непосредственно связано с подспудным отказом
рассматривать республику как результат действия благодати.
Ее справедливость ограничена пространством и временем; по
отношению к другим республикам она могла проявлять лишь
virtu militare, а ее способность к этому определялась
способностью поддерживать гражданскую доблесть в своих пределах.
Доблестные республики воевали друг с другом. Поэтому
христианские и гражданские добродетели были несовместимы:
смирению и прощению обид не место в отношениях между
республиками, где на первом месте стояла защита своего
города и стремление поразить его врагов. Макиавелли настаивает,
что «если бы... благочестие сохранилось в государях
христианского общества в соответствии с замыслом его основателя, то
христианские государства и республики были бы более
сплоченными и счастливыми, чем теперь»1 и что христианство не
запрещает нам любить и защищать свою страну2. В то же
время он дает понять, что стремление к блаженству в ином мире
заставляет нас переносить оскорбления, нанесенные не только
нам, но и нашей республике3, и что гражданские добродетели
1. Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 173 («La
quale religione se ne' principi délia republica cristiana si fusse mantenuta
secondo ehe dal datore d'essa ne fu ordinato, sarebbero gli stati e le republiche
cristiane piu unite, piu felici assai ehe le non sono», Ibid. P. 127; Discorsi I, 12).
2. «Perché se considerassono come la ci permette la esaltazione e la difesa
délia patria, vedrebbono corne la vuole ehe noi Pamiamo ed onoriamo,
e prepariamoci a essere tali ehe noi la possiamo difendere» (Ibid. P. 227-
228; Discorsi II, 2); «Ведь если бы они [люди] задумались, насколько
эта религия располагает к любви и защите родины, то увидели бы,
что она призывает любить ее, почитать и быть готовым к ее защите»
(Там же. С. 273)·
3- «La religione antica <...> non beatificava se non uomini pieni di mondana
gloria, come erano capitani di eserciti e principi di republiche. La nostra
religione ha glorificato piu gli uomini umili e contemplativi ehe gli attivi. Ha
dipoi posto il sommo bene nella umiltà, abiezione, e nel dispregio délie cose
umane: quell'altra lo poneva nella grandezza dello animo, nella fortezza del
corpo ed in tutte le altre cose atte a fare gli uomini fortissimi. E se la religione
nostra richiede ehe tu abbi in te fortezza, vuole ehe tu sia atto a patire piu ehe
a fare una cosa forte. Questo modo di vivere adunque pare ehe abbi renduto
il mondo debole, e datolo in preda agli uomini scelerati, i quali sicuramente
lo possono maneggiare, veggendo corne l'università degli uomini per andare
in Paradiso pensa piu a sopportare le sue battiture ehe a vendicarle» (Ibid.
P. 227); «...Религия древних почитала блаженными людей,
преисполненных мирской славы, полководцев и государей, наша же религия
309
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
ближе к процветанию, когда не существует милосердия к
врагам и когда поражение города означает для его жителей смерть
или рабство1. Последствия vivere civile становятся все более
языческими, секулярными и привязанными ко времени.
Наиболее полного развития это учение достигает там, где нет другой
религии кроме прорицаний и предзнаменований, а также нет
ценностей, выходящих за пределы нашей жизни.
Хотя республика не существует в измерении благодати,
религия может быть рассмотрена в том же измерении, что
и республика. В начале третьей книги мы читаем: всему в сем
мире отведен определенный срок, но лишь те вещи следуют
предназначению, определенному небесами, которым
удается сохранить свой первоначальный порядок или менять его
так, чтобы возвращаться к своим основам. Это в
особенности справедливо в отношении смешанных тел, таких как
республики или религии (sette)*. В каком смысле религию можно
считать corpo misto3(, Макиавелли не поясняет. Традиционный
ответ, который однажды дал Савонарола в отношении
церкви, заключался в том, что она представляла собой
соединение небесных и земных вещей4. Дабы не оставалось сомнений,
что la nostra religione5 можно рассматривать в одном ряду с cose
del mondoy Макиавелли анализирует деятельность Франциска
и Доминика, подражавших бедности Христа и таким образом
восстанавливавших религию verso il suo principio6. Монашеские
ордены, основанные святыми, проповедовали, что не должно
выказывать неповиновения дурным правителям, предоставив
Богу наказать их; в результате дурные правители поступают
так, как им заблагорассудится, не боясь наказания, в которое
прославила людей смиренной и созерцательной, а не активной
жизни. Высшее благо она видит в смирении, униженности, презрении
к людским заботам; древние же полагали, что оно — в величии духа,
крепости тела и во всем, что придает человеку силы. А когда наша
религия требует от тебя крепости, это значит, что ты должен
проявить ее в терпении, а не в великом деле. Мне кажется, этот образ
действий ослабил мир и отдал его негодяям на растерзание. Когда
большинство людей, чтобы попасть в рай, предпочитает переносить
побои, а не мстить, негодяям открывается обширное и безопасное
поприще» (Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия.
С. 272). Ср.: Guicciardini F. Ricordi (редакция В, глава 27).
1. Discorsi И, 2, et passim.
2. См. прим. з на с. 295·
3- Смешанное тело (итпал.). — Прим. ред.
4. См. выше, глава IV, прим. 4 на с. 165.
5- Наша религия (итпал.). — Прим. ред.
6. В своем истоке (итпал.).—Прим. ред.
ЗЮ
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
не верят. Под дурными правителями в данном случае
подразумеваются развращенные церковные иерархи, а не светские
тираны, но это, утверждает Макиавелли, показывает, как религия
поддерживалась rinnovazione1, проводниками которой являлись
святые2. Невозможно более откровенно иронизировать по
поводу реформы монашеских орденов и их попытки восстановить
бедность клира. Маловероятно, чтобы приверженцев учений
Франциска и Доминика интересовала свобода или
гражданская доблесть их республик.
Таким образом, утратив связь с благодатью, республика и ее
добродетель потеряли универсальность и сразу стали
конечными с пространственной, временной и — для усиления
контраста можно также сказать — «исторической» точки зрения.
Во времени и пространстве существовало множество
республик, и добродетель каждой из них поддерживалась
добродетелью остальных. Признавать это означало задаваться вопросом:
каким образом республика (в большей степени, чем
отдельный государь) способна реформировать Италию, уже отчасти
состоящую из республик? Савонарола мог представлять, как
ι. Обновление (итпал.). — Прим. ред.
2. «Ma quanto alle sette, si vede ancora queste rinnovazioni essere necessarie
per lo esemplo della nostra religione, la quale se non fossi stata ritirata verso
il suo principio da Santo Francesco e da Santo Domenico sarebbe al tutto
spenta: perché questi con la povertà e con lo esemplo della vita di Cristo, la
ridussono nella mente degli uomini, ehe già vi era spenta; e furono si potenti
gli ordini loro nuovi ehe ei sono cagione ehe la disonestà de' prelati e de' capi
della religione non la rovinino, vivendo ancora poveramente, ed avendo tanto
credito nelle confessioni con i popoli e nelle predieazioni, ehe ei danno loro
a intendere corne egli è male dir male del male, e ehe sia bene vivere sotto la
obedienza loro, e se fanno errori lasciargli gastigare a Dio. Ε cosi quegli fanno
il peggio ehe possono, perché non temono quella punizione ehe non veggono
e non credono. Ha adunque questa rinnovazione mantenuto, e mantiene,
questa religione» (Machiavelli N. Opère. P. 312-313; Discorsi III, 1); «Что же
касается духовных школ, то здесь необходимость обновления видна на
примере нашей религии, которая могла бы вовсе угаснуть, не
возврати ее в исходное состояние св. Франциск и св. Доминик. С помощью
обета бедности и подражания жизни Христовой они возродили в
людях угасшее религиозное благочестие, и их новые порядки обладали
такой силой, что сумели помешать крушению религии, несмотря на
нечестие ее глав и прелатов. До сих пор живущие бедно монахи
пользуются таким доверием у исповедующихся и слушающих их
проповеди людей, что с успехом разъясняют им, как дурно говорить дурно
о дурном и что следует подчиняться прелатам, а если те ошибаются,
то пусть их наказывает Бог, так что попы предаются худшим из
доступных для них занятий, ибо не боятся наказания, которое для них
неведомо и сомнительно. Итак, упомянутое обновление позволило
сохранить и доныне поддерживает эту религию» (Макьявелли Н.
Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. З^о).
Зп
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
Флоренция преобразовывает мир лишь в апокалиптическом
контексте и только в категориях, суливших ей, по-видимому,
земные богатства и власть. Для Макиавелли этот путь был
закрыт, и отношения республики с другими республиками
представляли собой по-настоящему сложную проблему. Возможны
были конфедерация, гегемония или открытое господство. Если
последнее отвергалось как крайне неустойчивое образование,
то первая была уязвима для той же критики, что и
аристократическая республика: добровольно ограничивать
экспансию было слишком опасно. Рим, расширяющаяся демократия,
встал на средний путь, и Макиавелли уделяет много места1
анализу и советам, касающимся различных способов, к
которым прибегали римляне, подчиняя себе союзников и бывших
врагов, но ощутимо не лишая их при этом свободы. Отчасти
именно в этом контексте следует рассматривать известное, хотя
и не вполне ясное высказывание, что находиться под властью
свободного народа хуже, чем находиться под властью
государя. Видимо, причина в том, что государь хочет от подданных
любви и преданности и потому может взамен с уважением
относиться к их обычаям, тогда как свободный народ, будучи
морально самодостаточным, стремится лишь полностью
подчинить их себе2. Римляне хотели избежать подобной тирании,
но Макиавелли не питает иллюзий относительно того, как
долго они преуспевали в этом. Они могли поддерживать
отношения с некогда свободными республиками Италии. Впрочем,
когда под римской властью оказались народы, которые
никогда не были вполне свободными и которыми они правили
таким же образом, италийцы обнаружили, что их приравняли
1. Discorsi II, 2, 3, 4> I9> 23.
2. «Ε di tutte le servitù dure quella è durissima ehe ti sottomette a una republica:
Tuna perché la è piu durabile e manco si puô sperare d'uscirne, l'altra perché
il fine della republica è enervare ed indebolire, per accrescere il corpo suo,
tutti gli altri corpi: il ehe non fa uno principe ehe ti sottometta... s' egli ha
in se ordini umani ed ordinari, il piu delle volte ama le città sue suggette
equalmente, ed a loro lascia... quasi tutti gli ordini antichi» (Machiavelli N.
Opere. P. 229; II, 2); «...Из всех видов жестокого рабства жесточайшее
то, которое на тебя налагают республики. Во-первых, потому, что
оно более продолжительно и не оставляет надежды на спасение; во-
вторых, потому, что цель республики — истощить и вытянуть все соки
из других тел, чтобы напитать свое собственное. Покоривший тебя
государь не станет так поступать, если... ему не чужды человечность
и общепринятые правила... он будет любить подчиненные себе города
как свои собственные и сохранит в них... почти все прежние
порядки» (Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 274)·
Ср.: Guiccardini F. Ricordi. С \οη.
312
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
к жителям варварских провинций1. Таким образом «все
республики и гражданские сообщества были подавлены
могуществом и военной силой Римской империи», так что к ним уже
никогда не вернулась прежняя доблесть. Именно этим, наряду
с распространением далеких от мира ценностей, объясняется
ослабление любви к свободе, наблюдаемое у современных
людей по сравнению с древними. Завоевание римлянами
Тосканы окончательно лишило Флоренцию способности
развиваться как свободная и стабильная республика8.
1. «...avendosi lei fatti di molti compagni per tutta Italia, i quali in di molti
cose con equali leggi vivevano seco, e dall'altro canto, come di sopra è detto,
sendosi riserbata sempre la sedia dello imperio ed il titolo del comandare,
questi suoi compagni venivano, ehe non se ne awedevano, con le fatiche
e con il sangue loro a soggiogar se stessi. Perché come ei cominciorono a
uscire con gli eserciti di Italia, e ridurre i regni in provincie, e farsi suggetti
coloro ehe per essere consueti a vivere sotto i re non si curavano di essere
suggetti, ed avendo governatori romani ed essendo stati vinti da eserciti con
il titolo romano, non riconoscevano per superiore altro ehe Roma. Di modo
ehe quegli compagni di Roma ehe erano in Italia, si trovarono in un tratto
cinti da' sudditi romani ed oppressi da una grossissima città come era Roma;
e quando ei s'avviddono dello inganno sotto il quale erano vissuti, non furono
a tempo a rimediarvi...» (Ibid. P. 232-233; Discorsi II, 4); «...Набрав себе по
всей Италии союзников, которые во многом подчинялись его законам,
и в то же время, как было сказано выше, оставляя за собой столицу
государства и звание правителя, римляне добились того, что их
сотоварищи, сами того не замечая, помогали собственному угнетению,
затрачивая свои усилия и проливая свою кровь. Ведь когда римляне
стали совершать походы за пределами Италии, основывать провинции
на месте прежних царств и принимать в подданство тех, кто привык
подчиняться царям и не чувствовать бремени угнетения, новые
подданные не признавали другой высшей власти, кроме римской, ибо они
покорились римским армиям и ими управляли римские наместники.
Тогда римские союзники в Италии неожиданно, с одной стороны,
оказались под пятой такого громадного города, как Рим, а с другой
стороны— в окружении римских подданных; они заметили ловушку, но
уже было поздно, чтобы что-либо сделать...» (Там же. С. 278).
2. «Fanno adunque queste educazioni e si false interpretazioni, ehe nel mondo
non si vede tante republiche quante si vedeva anticamente, né per conséquente
si vede ne* popoli tanto amore alla libertà quanto allora. Ancora ehe io creda
piu tosto essere cagione di questo, ehe lo imperio romano con le sue arme
e sua grandezza spense tutte le republiche e tutti e viveri civili. E benché
poi taie imperio si sia risoluto, non si sono potute le città ancora rimettere
insieme né riordinare alla vita civile, se non in pochissimi luoghi di quello
imperio» (Ibid. P. 228; Discorsi II, 2); «...Только вследствие неверных
наставлений и ложного истолкования нашей религии мир, по
сравнению с древностью, обеднел республиками, и вместе с тем народы не
питают уже такой любви к свободе, как тогда. Впрочем, я нахожу
причину этого в том, что все республики и гражданские сообщества были
подавлены могуществом и военной силой Римской империи. И хотя
впоследствии империя распалась, лишь на малой части ее земли
города смогли возродиться и восстановить устои гражданской жизни»
(Там же. С. 273)· О торжестве римлян над тосканской доблестью см.:
Ibid. Р. 228, 235, 237; Там же. С. 276-277, 282.
313
ГЛАВА VII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
Воинская (а значит, и гражданская) доблесть подразумевает
одновременно подражание и состязательность. Таким образом,
утрата доблести другими народами способствовала угасанию
ее в самих римлянах. Отчасти1 в этом контексте Макиавелли
высказывает мысль, что количество virtù в мире ограничено2
и когда она окончательно придет в упадок под влиянием
коррупции, случится катастрофа, после которой несколько
выживших и неиспорченных варваров спустятся с гор и начнут
все сначала3. Теория Макиавелли циклична и предполагает
1. Речь идет в том числе и о контексте, связанном с вопросом, как вновь
и вновь стирается память о прежних временах. Почему нам не дано
узнать, существует ли нечто испокон веков? По словам Макиавелли, это
обстоятельство обусловлено изменениями в религии и языке — идея,
в каком-то смысле предвосхищающая «торжество варварства и
религии» Э. Гиббона.
2. «...giudico il mondo sempre essere stato ad uno medesimo modo, ed in quello
essere stato tanto di buono quanto di cattivo; ma variare questo cattivo e questo
buono di provincia in provincia, corne si vede per quello si ha notizia di quegli
regni antichi, ehe variavano dall'uno alPaltro per la variazione de* costumi,
ma il mondo restava quel medesimo: solo vi era questa differenza, ehe dove
quello aveva prima allogata la sua virtù in Assiria, la colloco in Media, dipoi
in Persia, tanto ehe la ne venne in Italia e a Roma. Ε se dopo lo Imperio
romano non è seguito Imperio ehe sia durato ne dove il mondo abbia ritenuta
la sua virtù insieme, si vede nondimeno essere sparsa in di moite nazioni
dove si viveva virtuosamente...» (Machiavelli N. Opère. P. 218-219; Discorsi II,
proemio (вступление); «...Мир всегда был устроен одинаково и всегда
в нем было столько же хорошего, сколько и плохого; однако от страны
к стране картина менялась; об этом можно судить по древним
монархиям, которые сменяли друг друга вследствие изменения нравов, но мир
при этом оставался все тот же. Разница была только в том, что
сначала вся его доблесть была сосредоточена в Ассирии, затем перенесена
в Мидию, потом в Персию и в конце концов достигла Италии и Рима.
И если Римской империи не наследовала другая, столь же долговечная,
в которой могла быть собрана доблесть всего света, последняя
оказалась рассеяна по разным народам, проявившим подобные качества...»
(Макьявелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 263).
3- «Quanto alle cause ehe vengono dal cielo, sono quelle ehe spengono la umana
generazione e riducano a pochi gli abitatori del mondo. Ε questo viene о per
peste о per fame, о per una inondazione d'acque, e la piu importante è questa
ultima: si perché la è piu universale, si perché quegli ehe si salvono sono
uomini tutti montanari e rozzi, i quali non avendo notizia di alcuna antichità,
non la possono lasciare a' posteri. <...> ...la natura, corne ne* corpi semplici
quando e' vi è ragunato assai materia superflua, muove per se medesima moite
volte e fa una purgazione la quale è salute di quel corpo, cosi interviene in
questo corpo misto délia umana generazione, ehe quando... la astuzia e la
malignità umana e venuta dove la puo venire, conviene di nécessita ehe il
mondo si purchi...» (Ibid. P. 236; Discorsi II, 5); «Что до причин,
исходящих от неба, то они истребляют человеческий род и сильно
сокращают население отдельных частей мира. Случается это вследствие мора,
неурожая или наводнения, из которых важнее всего последнее, ибо от
него не спасается никто, за исключением диких жителей гор, которые
не сохраняют памяти о древности и не могут передать ее потомкам.
314
А) «РАССУЖДЕНИЯ» И «О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ» МАКИАВЕЛЛИ
замкнутую в человеческом и моральном мире систему
(поскольку она не преступает определенных границ), а неостоические
интонации заставляют вспомнить об aeternitas mundi1
неортодоксальных последователей Аристотеля. Макиавелли
приходит к такому заключению, во-первых, отказавшись принимать
в расчет действие благодати, а во-вторых, решив рассматривать
доблесть как качество, существующее исключительно в
республиках— то есть в ограниченном количестве, пространстве
и времени. Нам не следует забывать, что единственной
альтернативой aeternitas mundi служила христианская эсхатология.
Получается, что сама добродетель, а не только virtu, относящаяся
лишь к новым государям, стала теперь людоедом —
шекспировской «волчьей звериной алчностью»2, что «пожирает самое
себя». Если республика не в ладах с благодатью, это
отражается на всем мире. Революционно мыслящий Макиавелли был
не советчиком тиранов, а хорошим гражданином и патриотом.
Таким образом, республиканская модель истории
по-прежнему подразумевала власть fortuna и оставалась цикличной.
Речь шла о небольших сгустках энергии, изредка
мобилизуемых, склонных к саморазрушению и стремящихся к полной
энтропии, пока некая непредсказуемая сила снова не придаст
им направление. Макиавелли внес чрезвычайно
оригинальный вклад в республиканскую теорию, обеспеченный и
ограниченный его решением о том, что поиску устойчивости
следует предпочесть динамику военной экспансии. Именно этот
тезис подтолкнул Макиавелли к рассмотрению военных и
социальных оснований политического действия и типов
личности. Тем временем другие мыслители склонялись к более
традиционному предпочтению стабильности и, не оставляя
в стороне вопросов, связанных с армией и войной, вновь
обращались к примеру вечной Венеции, используя его как образец
для изучения распределения власти внутри государства. Их
идеи в сочетании с идеями Макиавелли способствовали
формированию классической республиканской традиции в Англии
и Америке начала Нового времени.
<...> ...Как природа заставляет многократно сокращаться простые
тела и ради собственного здоровья извергать излишек накопившейся
материи, то же происходит и в смешанном теле человечества, когда...
человеческие лукавство и злоба^доходят до крайности, а потому
возникает необходимость очищения мира...» (Там же. С. 282).
1. Вечность мира (лат.).—Прим. ред.
2. Строка из трагедии У. Шекспира «Троил и Крессида» в переводе Т. Гне-
дич (акт I, сцена з)·
Глава VIII
Рим и Венеция
Б) «Диалог» Гвиччардини и проблема
аристократической рассудительности
В отличие от трудов Макиавелли, тексты Гвиччардини всегда
прямо связаны с контекстом флорентийской политики и им
недостает теоретической и спекулятивной свободы работ его
старшего современника. Это свидетельствует не только о большей
заинтересованности Гвиччардини в действительном и
практически осуществимом, но и о его аристократическом консерватизме.
Единичный и конкретный мир почти по определению
поддавался познанию и контролю только с существенной примесью
опыта, поэтому в центре размышлений Гвиччардини всегда
стоит представление об ottimati как политически искушенном
узком кружке, способном править. Его члены не понаслышке
знают город, с которым им приходится иметь дело, и потому
им доподлинно известно, как мало они могут его изменить.
Однако было бы величайшим заблуждением воспринимать
Гвиччардини просто как выразителя интересов своего класса. Он
считал ottimati краеугольным камнем правящей структуры,
однако у него не было иллюзий относительно того, как они
поведут себя, если получат власть и должности. Минимальная роль,
которую он отводит другим политическим классам — если даже
этим минимумом их роль, с его точки зрения, и
ограничивается,— заключается в создании среды, в которой достоинства
аристократии, а именно практическая опытность и
честолюбие, могут оставаться действенными и не затронутыми порчей.
Стремление Гвиччардини заземлять свои размышления
в контексте исторической Флоренции служит причиной того,
что отвлеченные универсальные понятия, которые легко
распознать в «Государе» и «Рассуждениях», в «Диалоге об
управлении Флоренцией» не бросаются в глаза1. Здесь нет постоянных
ι. Здесь использован текст издания: Guicciardini К Dialogo е discorsi del
Reggimento di Firenze / A cura di R. Palmarocchi. P. 3-174; см. выше,
глава V, прим. ι на с. 185.
3i6
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
упоминаний фортуны и новшеств, материи и формы. Различить
их косвенное присутствие непросто. Мы наблюдаем меньшую
степень абстракции, чем у Макиавелли, решившего рассуждать
о республиках и княжествах, переменах и упадке в общих
чертах. Гвиччардини не требуется такая же степень
систематизации. На самом деле ему нравилось выказывать определенное
презрение к отвлеченным размышлениям. Основной персонаж
«Диалога» изучал политику на опыте, не занимаясь ни
философией, ни историей. Впрочем, он не отрицает значения
истории, открывающей уроки умерших тем, кто нуждается в них
среди живых, и не считает, что на основе опыта нельзя
построить последовательную теорию. Мы должны всячески избегать
ложного предположения, что идея, сосредоточенная на
понятии опыта, лишена концептуальной структуры, от
интерпретации которой зависит понимание мысли. Сам опыт
является идеей, равно как и неотъемлемой частью действительности.
В этой книге немало внимания уделяется понятийной системе,
в которой идеи опыта и рассудительности играют значимую
роль и на многое проливают свет. Подход Гвиччардини к
подобным идеям достаточно говорит нам о его взгляде на
политическое знание и действие, а значит, и о его версии того, что
обычно называют политической теорией. Мы анализируем его
аргументы и их теоретическую структуру сначала в
«Диалоге», когда еще можно представить себе, что у Флоренции есть
институт, способный извлечь пользу из опыта, а затем в
«Заметках о делах политических и гражданских», когда
исторические институты Флоренции обрушилась и опыту пришлось
действовать в обстановке, весьма схожей с той, какую рисует
Макиавелли в «Государе».
«Диалог» — последний из discorsi Гвиччардини об
управлении Флоренцией, завершающий ряд произведений, начатый
в 1512 году «Рассуждением в Логроньо», в котором он счел
возможным сформулировать нормативные рекомендации для
установления во Флоренции стабильного политического
режима1. Феликс Гилберт и Витторио Де Капрариис исследовали
I. Ibid. Р. 6: «Come se la volontà ed el desiderio degli uomini non potessi
essere diverso dalla considerazione ο discorso délie cose, о come se da questo
ragionamento apparissi quale di dua governi maie ordinati e corrotti mi
dispiacessi manco; se già la nécessita non mi costrignessi a biasimare manco
quello di ehe s'ha piu speranza potersi riordinare»; «Как если бы
человеческие воля и желание не отличались от понимания порядка вещей,
и как из этого рассуждения становится ясно, какое из двух
правлений устроено плохо и развращено до такой степени, что мне его даже
317
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
эволюцию его мысли dalla politica alla storia1, если
воспользоваться формулировкой последнего2: от попытки установить
условия, необходимые для стабильной политической жизни, до
убежденности, что человеческое существование можно
представить лишь в потоке управляемых fortuna изменений.
Важно, что действие «Диалога» помещено в историческое прошлое
флорентийской политической жизни. Более того, к этому
прошлому, как утверждал Гвиччардини, возврата уже не было.
Речь идет о 1494 годе, времени после свержения Медичи. Здесь
присутствует значимое упоминание Савонаролы, но акцент
сделан на проблеме ottimati как участников революции. В
разговоре участвуют трое младших ottimati: Пьеро Каппони, Па-
оло Антонио Содерини и Пьеро, отец Гвиччардини, которые
в той или иной степени все поддерживали изгнание Медичи
как необходимое условие liberté, — и их старший современник
Бернардо дель Неро, выражающий мысли самого Гвиччардини
и склонный сожалеть о свержении правящей семьи, но
готовый поразмышлять, что можно сделать из режима,
основанного на Большом совете. Как известно, Гвиччардини полагал,
что учреждение Совета вызвало такие изменения в
политике Флоренции, что к правлению Медичи вернуться оказалось
нельзя, как это было возможно до 1494 года. Кроме того, он
считал, что роль, которую в 1512 году сыграли ottimati в
восстановлении власти Медичи и упразднении Совета, означала
необратимую зависимость первых от этой семьи и
невозможность их участия в установлении республики, в которой они
занимали бы исключительное положение. Поэтому весь диалог
разворачивается в момент навсегда упущенной возможности.
Словно бы стараясь еще больше подчеркнуть это
обстоятельство, Гвиччардини избрал в качестве главного собеседника
Бернардо дель Неро, незаконно приговоренного к смерти при
Савонароле, фигуру, деяния которой он беспристрастно
анализировал в своих более ранних исторических работах3.
Время и меняющийся к худшему мир отделяют Гвиччардини от
обстановки его диалога, одновременно подчеркивая и
сглаживая его идеальный характер. Он не дает советов, ожидая, что
им последуют.
и не жаль; [я бы и не стал о нем говорить], если бы необходимость
меня не вынуждала порицать и то из них, где есть надежда
восстановить порядок».
ι. «От политики к истории» (итпал).—Прим. ред.
2. См. выше, глава V, прим. 2 на с. 184.
3- Guicciardini F. The History of Florence / Transi, by M. Domandi. P. 134-135.
318
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
В варианте, написанном Гвиччардини в 1494 году> трое
друзей зовут Бернардо дель Неро и начинают обсуждать, сулит ли
последнее mutazione dello stato1 что-то хорошее или нет. Бернардо
угрюмо отвечает, что, как его научил опыт, все mutazioni — к
худшему. Содерини спрашивает: возможно ли, чтобы плохое
правительство сменилось хорошим или хорошее — еще лучшим2?
В ответ Бернардо, отчасти иронически, возвращается к
проблеме, с которой некогда столкнулся Савонарола: не учат ли нас
философы, в особенности Марсилио Фичино, что среди трех
видов правления то, где всем управляет один, лучше, чем
правление немногих и многих? У Гвиччардини отвечает его отец
Пьеро, на том основании, что он некогда был учеником
Фичино, а Каппони не учился ничему, кроме астрологии. Здесь
очевидна некая шутка в адрес политических философов, но нам
следует проявлять осторожность и не истолковать ее слишком
грубо3. Пьеро, как бы оправдываясь, говорит, что, как всем
известно, в политической теории существует азбучная
истина — для каждого из трех видов есть хорошая и плохая форма,
1. Перемены состояния/перемены в государстве (итпал).— Прим. ред.
2. Idem. Dialogo е discorsi. P. 8: «[Bernardo:] ...in tanto tempo ehe io ho, ho
veduto per esperienzia ehe le mutazioni fanno piu danno alla città ehe utile,
di ehe vi potrei molti esempli allegare...». [Soderini:] Si forse, quando le sono
di quella sorte ehe sono state Paître de* tempi vostri, le quali si debbono
mutazioni da uomo a uomo, о come meglio avete detto voi, alterazione
ehe mutazioni di stati... questo ultimo, nel quale solo a' di vostro si è fatta
mutazione di una specie di governo a un' altro. Ε quando questo accade, e si
muti di una specie cattiva in una buona, о d'una buona in una migliore, io
non so perché la mutazione non sia utile...»; «[Бернардо:] ...за имевшееся
y меня в распоряжении время я увидел на собственном опыте, что
перемены несут больше вреда городу, нежели пользы, и я мог бы это
подтвердить множественными примерами... [Содерини:] Да, возможно,
когда речь идет о переменах такого характера, как те, что произошли
в ваше время, о переменах, обусловленных сменой людей [у власти];
как вы правильно сказали, это скорее нарушения, чем
государственные перемены... этот последний случай, когда при вашей жизни
произошел переход от одной формы правления к другой. И когда такое
происходит и перемена заключается в переходе от плохого к
хорошему или от хорошего к еще лучшему, я не знаю, почему такую
перемену нельзя назвать полезной...».
3- Ibid. Р. и-12. Внимания заслуживает также реплика Бернардо (Ibid.
Р. и): «...esperienzia della quale nessuno di voi manca, avendo già piu e piu
anni sono, atteso alle cose dello stato; ed oltre a questo ed el naturale buono,
avete davantaggio le lettere con le quali avete potuto imparare da' morti gli
accidenti di moite età; dove io non ho potuto conversare se non co'vivi, né
vedere altre cose ehe de' miei tempi»; «...опыт, недостатка в котором никто
из вас не испытывает, ведь вы много лет принимали участие в
государственных делах; и помимо этого естественного преимущества, вам
также помогает ваша ученость, благодаря которой вы узнали от тех,
кого уже нет в живых, о событиях разных эпох; я же имел возможность
319
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
а правление одного лучше, только когда все три формы
хороши. Вопрос в том, установилось ли оно «по выбору или
свободной воле подданных», «в соответствии с их естественными
склонностями (naturale)» или принудительно, силами одной из
группировок или за счет узурпации, «в соответствии с
желаниями находящихся у власти (secondo lo appetito di ehe prévale)».
По-видимому, Пьеро оставляет место для избирательного и
наследного правления и рассматривает несправедливое
присвоение власти в одном ряду с ее несправедливым применением.
Он замечает, что правление одного является наилучшим,
когда оно хорошо, но наихудшим, когда оно дурно, — выражение
Савонаролы. Кроме того, поскольку одному человеку легче
навязать свою волю обществу, больше вероятности, что он
станет дурным. Если кто-либо создает новое правление и думает,
не установить ли в нем монархию, ему следует подумать,
перевешивают ли надежды на хороший результат риск плохого1.
Все это и в самом деле общеизвестно, но Гвиччардини
начинает играть с двойным смыслом слова naturale. Применительно
беседовать лишь с живыми и видеть лишь события своего времени».
Об отношениях Фичино и старшего Гвиччардини см.: Dionisotti С.
Machiavelli letterato // Studies on Machiavelli / Ed. by M.P. Gilmore. P. no.
I. Guicciardini F. Dialogo e discorsi. P. 12-13: «[Piero:] È vera cosa ehe di questi tre
reggimenti, quando sono buoni, el migliore è quello di uno, ma difficilmente
puo essere buono se è fatta piu per la forza о per fazione о per qualche
usurpazione, ehe per elezione о volontà libera de' sudditi; e di questa sorte
non si puo negare ehe non fussi quello de' Medici, come quasi sono tutti
oggidi e' domini di uno, ehe el piu delle volte non sono secondo la volontà
о el naturale de' sudditi, ma secondo lo appetito di chi prévale; e perô
siamo fuora del caso de' filosofi, ehe mai approvorono reggimento di specie
simigliante. Potrei ancora dire, secondo e' medesimi filosofi, ehe el governo
di uno, quando è buono, è el migliore de' tutti, ma quando è cattivo è el
peggio. <...> ...e quale fussi migliore sorte di una città ehe nascessi ora e ehe
si avessi a ordinäre el governo suo, о ehe fussi ordinate in uno governo di
uno, о in governo di molti [?]»; «Это правда, что из этих трех форм
правления, когда они хороши, лучшей является власть одного, но вряд ли
она будет хорошей, если власть была захвачена силой или в
результате борьбы враждующих группировок, или же была незаконно отнята,
а не установлена в результате выборов или проявления свободной воли
подданных; и в этой связи нельзя отрицать, что правление Медичи
не было таким, каким сейчас являются почти все случаи власти
одного, ведь чаще всего эти люди приходят к власти не по воле и
естественным наклонностям подданных, а согласно желаниям того, кто
находится у власти; но все это не относится к философам, которые
никогда не оправдывали подобную форму правления. Я мог бы также
сказать, опираясь на слова самих философов, что правление одного,
когда оно хорошо, является наилучшим, но когда оно дурно,
становится наихудшим. <...> И какая участь была бы лучше для
новорожденного города, для которого нужно было бы выбрать форму
правления — быть управляемым одним или многими?».
320
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИКИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
к формам правления оно может означать «выборное»,
«наследственное» или просто «соответствующее характеру и
наклонностям подданных». Гвиччардини стремится так обойти его
двусмысленность, чтобы, с одной стороны, не одобрять
представления, что какая-либо из форм сама по себе лучше любой
иной, а с другой, не принимать утверждения Савонаролы, что
исторически обусловленная «природа» флорентийцев требует
режима, предполагающего широкое народное участие. Он
заставляет Бернардо, отвечающего Пьеро, согласиться с тем, что
правителю, чье положение является naturale или основано на
elezione е volunta1, нет нужды творить зло, если только к этому не
побуждает его невежество или собственная mala natura2. Тогда
как тому, чья власть изначально принудительна или основана
на узурпации, часто приходится для удержания ее совершать
поступки, противные его собственной нравственной природе,
как это неоднократно можно наблюдать на примере Козимо
и Лоренцо де Медичи3. Но теперь мы разграничили место
сосредоточения власти, правомерность ее обретения,
нравственный облик правителя и — косвенно — свойства подданных,
доставшиеся им по наследству. Поскольку все это определяется
различными употреблениями таких слов, как natura и naturale,
очевидно, что ни одна из форм правления не является доброй
1. «Выборы и свободная воля» (итал.). — Прим. ред.
2. Злая природа (итал.). — Прим. ред.
3- Ibid. Р. 14: «Е quella distinzione ehe ha fatta Piero, tra el governo di uno
quando è naturale e per elezione e voluntà de' sudditi, eoVuno governo usurpato
e ehe ha del violento, ha anche in se ragione capace agli idioti, perché ehe
domina amorevolmente e con contentezza de' sudditi, se non lo muove la
ignoranzia о la mala natura sua, non ha causa alcuna ehe lo sforzi a fare altro
ehe bene. E questo non interviene a chi tiene lo stato con violenzia, perché
per conservarlo e per assicurarsi da' sospetti, gli bisogna moite volte fare délie
cose ehe egli medesimo non vorrebbe e ehe gli dispiacciono, corne io so ehe
spesso fece Cosimo, e... Lorenzo qualche volta lagrimando e a dispetto suo
fece deliberazione... contrarie alla natura sua...»; «Истинность этого
различия, которое сделал Пьеро между правлением одного, когда оно
является естественным, выборным и соответствующим свободной воле
подданных, и правлением, основанным на незаконном захвате и
насилии, понятна даже идиотам, потому что если кто-то правит по-доброму
и заботясь о довольстве подданных, если он не движим невежеством
или собственной дурной натурой, то нет ему никаких причин творить
ничего, кроме добра. Но так не бывает с тем, кто удерживает власть
с помощью насилия, потому что для ее сохранения и защиты себя от
всех, кто вызывает подозрение, ему приходится часто совершать
поступки, которые он сам не хотел бы совершать и которые ему не
нравятся, как, насколько мне известно, часто делал Козимо, и... Лоренцо,
порой в слезах и против собственного желания принимал решения...
противные его собственной природе...».
321
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
или дурной по природе и что нам следует искать другие
критерии. Если представить себе наследного государя, который
правит несправедливо, и узурпатора, который правит
справедливо, или, — поскольку Каппони возражает, что последнее
невозможно себе представить, — допустить, что оба они
правят несправедливо, то станет ясно: мы оцениваем конкретное
правление по его последствиям (effetti), а не по истокам или
определяющим признакам (по тому, что мы, скажем так,
видим на выходе, а не на входе)1.
Бернардо продолжает обосновывать свою позицию. Он
говорит: если рассматривать различные формы правления
теоретически, то, безусловно, следует сказать, что добровольное
установление власти предпочтительнее принудительного, ибо
в этом случае ее natura не заключает в себе nécessita
дальнейшего насилия. Однако когда речь заходит о конкретных случаях
и действительном правлении, мы должны опираться на опыт:
необходимо наблюдать, как они функционируют, и оценивать
последствия установленной в них формы правления в
соответствии с очевидными нормами морали и полезности, прежде
чем мы решим поставить одну из них выше остальных2. Здесь
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 14-15: «Questa diversità adunche tra Puno
governo e l'altro non procède perché la spezie del governo in se faccia buono
о cattivo quello ehe fussi d'altra condizione, ma perché secondo la diversità
de' governi, bisogna tenerli con mezzi diversi. <...> ...dico ehe a volere fare
giudicio tra governo e governo, non debbiamo considerare tanto di ehe spezie
siano, quanto gli efîetti loro, e dire quello essere migliore governo о manco
cattivo, ehe fa migliori e manco cattivi effetti. Verbigrazia, se uno ehe ha lo
stato violento governassi meglio e con piu utilità de' sudditi, ehe non facessi
un altro ehe lo avessi naturale e voluntario, non diremo noi ehe quella città
stessi meglio e fussi meglio governata?»; «Следовательно, это различие
между одним и вторым правлением обусловлено не тем, что одна
разновидность правления хороша, а другая дурна, а необходимостью
пускать в ход разные средства в зависимости от типа правления. <...>
...я считаю, что при сравнении правлений нужно учитывать не
столько к какой разновидности они относятся, сколько их последствия,
и лучшим или менее худшим следует считать то правление, которое
достигает лучших или менее худших последствий. Например, если
государство, где власть была захвачена силой, управляется лучше
и с большей пользой для подданных, чем то, где власть основана на
наследовании и свободной воле [граждан], разве мы не станем
утверждать, что дела в нем идут лучше и оно управляется лучше?»
2. Ibid. Р. 15-16: «Рего ogni volta ehe sanza venire a particulari, si ragiona quale
governo è migliore, о uno violento о uno volontario, risponderei subito essere
migliore el volontario, perché cosi ci promette la sua natura e cosi abbiamo
in dubio a presummere, avendo Puno quasi sempre seco nécessita di fare
qualche volta male, Paltro non avendo mai cagione di fare altro ehe bene.
Ma quando si viene a' particulari ed a' governi ehe sono in essere... io non
guarderei tanto di ehe spezie siano questi governi, quanto io arei rispetto
322
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
возникает явное затруднение, если мы говорим о mutazione,
замене старой формы правления новой. Последствия первой мы
можем наблюдать, последствия второй — лишь предугадывать1.
Оспаривая доводы Гвиччардини, мы можем сказать, что
истоки первой мы можем не принимать в расчет, тогда в случае
последней их надо учитывать уже в самом прогнозе. Перед
Бернардо теперь стоит задача объяснить природу и методы
прогнозов в политике. Он сообщает собеседникам, что,
прожив долгое время во Флоренции, он глубоко вникал в жизнь
города как участник и наблюдатель, часто говорил с людьми,
обладающими обширным опытом. Он полагает, что достаточно
изучил природу (natura, это слово повторяется несколько раз)
людей, граждан этого города, и сам город в целом (universalmente),
чтобы хорошо предсказать последствия установления любого
устройства (modo di vivere). Он может ошибаться в частностях
(particulari), но в общих принципах (universali) и в tonJ, что
касается сути, он надеется почти не допустить ошибок2. Если он
а рогге mente dove si fa migliori effetti e dove meglio siano governati gli
uomini, dove piu si osservino le leggi, dove si faccia migliore giustizia e dove
si abbia piu rispetto al bene di tutti, distinguendo a ciascheduno secondo el
grado suo»; «Но если не вдаваться в детали при рассуждении о том,
что лучше — правление, основанное на насилии или же на
свободной воле граждан, я бы немедленно ответил, что лучше второе,
потому что это связано с его природой, и на этом основании мы можем
делать предположения; первое почти всегда заключает в себе
необходимость иногда причинять зло, а второе всегда сопряжено
исключительно с причинами творить добро. Но когда речь заходит о деталях
и о конкретных правлениях... я бы обращал внимание не столько на
то, какой они разновидности, сколько на то, где наблюдаются более
благоприятные последствия, где людьми управляют лучше, где лучше
соблюдаются законы, где лучше вершится правосудие и где больше
уважают всеобщее благо, делая различия для каждого в зависимости
от его положения».
1. Ibid: «...considerata la natura sua e la natura délia città e di questo popolo,
possiamo immaginarci ehe effetti producerà...» («...принимая во внимание
его природу, а также природу города и этого народа, мы можем
вообразить, к каким последствиям это приведет...»); см. там же возражение
Пьеро Гвиччардини.
2. Ibid. Р. 16-17: «...la lunga età ehe io ho, e lo avère moite volte veduto travagliare
questa città nelle cose di drento, e quello ehe spesso ho udito ragionare de'
tempi passati da uomini antichi e savi, massime da Cosimo, da Neri di Gino
e dalli altri vecchi dello stato, mi hanno dato oramai tanta notizia délia
natura di questo popolo e de' cittadini ed universalmente di tutto la città,
ehe io credo potermi immaginare assai di presso ehe effetti potrà portare
seco ciascuno modo di vivere. Né voglio mi sia imputato a arroganzia, se
essendo io vecchissimo, ed avendo sempre atteso aile cose di drento e quasi
non mai a quelle di fuora, fo qualche professione d'intenderle; la quale è di
questa sorte, ehe io credo ehe facilmente molti particulari potrebbono variare
dalla opinione mia, ma negli universali ed in tutte le cose di sustanzia spero
323
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
в чем-то заблуждается, его могут поправить люди помоложе,
которым, возможно, недостает его лет и опыта, но которые,
в отличие от него, прилежно читали историю разных народов
и могли собеседовать с мертвыми, тогда как он разговаривал
лишь с живыми. Уроки истории подкрепятся уроками опыта,
потому что все, что есть, уже было некогда, и все, что было,
повторится снова. Единственная трудность заключается в том,
чтобы распознать это и не впасть в заблуждение, посчитав его
чем-то новым. В решении этой задачи Бернардо и его
собеседники должны действовать совместно. Он не уточняет,
приобретаются ли качества ума, необходимые для распознавания
повторяющихся явлений и предугадывания их последствий,
благодаря образованию или только с помощью опыта1.
ingannarmi росо»; «...мой преклонный возраст, и большой опыт
наблюдения за жизнью города изнутри, и возможность часто слушать
рассуждения о былых временах от умудренных опытом мужей,
особенно от Козимо, Нери ди Джино и других старейшин города,
позволили мне накопить так много знаний о природе этого народа,
граждан и всего города в целом, что я считаю, что могу довольно точно
представить себе, какие последствия может повлечь за собой каждый
вид общественного устройства. Не хочу быть обвиненным в
высокомерии, если я, будучи очень старым и имея обширный опыт участия во
внутренних делах и почти никакого во внешних, заявляю, что я их
[= внутренние дела] понимаю; предсказание мое носит такой
характер: я думаю, что многие детали могут отличаться от моего мнения,
но надеюсь, что в общих принципах и во всех существенных вещах
я заблуждаюсь очень мало».
I. Guicciardini К Dialogo е discorsi. P. iy: «Ε dove mi ingannassi io, potrete
facilmente supplire voi, perche avendo voi letto moltissimo istorie di varie
nazioni antiche e moderne, sono certo le avete anche considerate e fattovene
uno abito, ehe con esso non vi sarà difficile el fare giudizio del futuro;
perché el mondo è condizionato in modo ehe tutto quello ehe è al présente
è stato sotto diversi nomi in diversi tempi e diversi luoghi altre volte. E cosi
tutto quello ehe è stato per el passato, parte è al présente, parte sarà in altri
tempi ed ogni di ritorna in essere, ma sotto varie coperte e vari colori, in
modo ehe chi non ha l'occhio molto buono, lo piglia per nuovo e non lo
ricognosce; ma chi ha la vista acuta e ehe sa applicare e distinguere caso
de caso, e considerare quali siano le diversità sustanziali e quali quelle ehe
importano manco, facilmente lo ricognoscer[à], e со' calculi e misura délie
cose passate sa calculare e misurare assai del Tuturo. In modo ehe senza
dubio procedendo noi tutti insieme cosi, erreremo poco in questi discorsi
e potremo pronosticare molto di quello ehe abbia a succedere in questo nuovo
modo di vivere»; «И там, где я ошибусь, легко сможете поправить дело
вы, ведь, поскольку вы прочли множество историй о разных древних
и современных народах, я уверен, что вы отнеслись к ним со
вниманием и усвоили их урок, благодаря чему вам будет нетрудно
составить мнение о будущем; поскольку мир устроен так, что все, что
имеет место в настоящем, под тем или иным именем уже существовало
в разное время и в разных местах. И, таким образом, все, что было
в прошлом, частично повторяется в настоящем, частично повторится
324
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Это аргумент явно прагматический и идеологически
заряженный консерватизмом. Изучать и оценивать формы
правления можно только в действии и в реальной обстановке.
Возникает вопрос: как можно это осуществить? Не будет ли
предпочтение в результате отдано существующему или даже
предшествующему строю? Признавая равенство исторического
знания и знания, основанного на опыте, Гвиччардини избегал
придавать существующему непременное превосходство над
несуществующим. Однако здесь он уже явно приближается к своей
более поздней точке зрения, согласно которой уроки истории,
хотя их и нельзя назвать неприменимыми, использовать
чрезвычайно сложно. Но из этого практического аргумента можно
сделать и другие консервативные выводы. Если мы
оцениваем конституции только по их результатам, то в каждом случае
мы предположительно будем апеллировать к одному и тому же
набору критериев. Впрочем, прекрасно известно, что разные
формы правления основаны на разных ценностях, поэтому мы
не можем применять прагматический подход, если сначала не
приведем эти ценности к общему знаменателю. В этом
фрагменте «Диалога» Содерини высказывает тезис, который, как
мы видели, был ключевым для флорентийской мысли после
1494-1512 годов: vivere libero естественна для Флоренции, ибо
жажда свободы в этом городе является appetito universale1 и
начертана в сердцах людей так же, как на их стенах и знаменах.
Поскольку философы согласятся, что из трех форм правления
лучше всего та, которая наиболее естественна для народа,
которому она предназначена, во Флоренции заранее дело
решено в пользу народного правления2.
в другие моменты в будущем, и каждый день возвращается к жизни,
но в разных обличьях и разных тонах, так что те, кто не обладает
хорошим зрением, принимает его за новое и не узнает его; но кто
обладает острым зрением и умеет сближать разные случаи и отличать
один случай от другого, и понимать, какие различия существенны,
а какие менее важны, тот легко его распознает, и с помощью
подсчетов и определения значения событий прошлого сумеет высчитать
и определить многое из того, что предстоит. Таким образом, если мы
будем действовать все вместе, то, без сомнения, в наших
рассуждениях будет мало ошибок, и мы сможем предсказать многое из того, что
произойдет при этом новом общественном порядке».
1. Всеобщее желание (итпал.).— Прим. ред.
2. Ibid. Р. i8: «...uno vivere libero, quale se negli altri luoghi è buono, è ottimo
nella nostra città dove è naturale e secondo lo appetito universale; perché
in Firenze non è manco scolpita ne' cuori degli uomini la libertà, ehe sia
scritta nelle nostre mure e bandiere. Ε perô credo ehe e' politici, ancora ehe
ordinariamente ponghino tre gradi di governi, di uno, di pochi e di molti,
325
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
Это утверждение, учитывая лежащую в его основе
предпосылку, представляется настолько привязанным к конкретному
и particulare, насколько Гвиччардини только мог рассчитывать.
Однако он заставляет Бернардо высказать два возражения:
во-первых, даже укорененная в природе людей форма
правления, хотя в теории она, конечно, предпочтительна, может
в отдельных случаях приводить к вредоносным
последствиям и, во-вторых, цель liberté — обеспечить не участие каждого
на всех уровнях управления, а сохранить строй, фундаментом
которого являются закон и общее благо (глагол conservare
употребляется в одном предложении дважды), а этой цели легче
достичь, когда у власти находится один человек, нежели как-
то иначе1. Последний довод вторичен по отношению к первому,
в связи с чем встает вопрос: как предугадать вредоносные
последствия формы правления, на первый взгляд укорененной
non neghino рего ehe el migliore ehe possi avère una città sia quello ehe è el
suo naturale. Perô io non so come in termini tanto sproporzionati si potrà
procedere colla regola vostra, e come potremo mai dire ehe el governo della
libertà, ehe a Firenze come ognuno sa è naturalissimo, non sia migliore ehe
qualunche altro ehe ci si possa introduire»; «...если в других местах
свободный общественный строй хорош, то он идеален для нашего
города, где свобода естественна и соответствует всеобщему желанию;
потому что во Флоренции свобода в не меньшей мере высечена в
сердцах людей, чем начертана на наших стенах и знаменах. И тем не
менее я полагаю, что политики, даже если они обычно признают три
разновидности правления — одного, нескольких и многих, не станут
отрицать, что лучше всего для города та форма правления, что для
него естественна. Но я не знаю, как в таких несоразмерных терминах
мы сможем действовать по вашим правилам, и как мы сможем
утверждать, что свободная форма правления, которая, как любому
известно, является в высшей степени естественной для Флоренции, может
не быть лучше любой другой, что может быть установлена».
I. Guicciardini F. Dialogo e discorsi. P. 18: «...parlando in génère, tu mi confesserai
ehe uno governo di libertà non è di nécessita migliore ehe gli altri. E' vostri
fîlosofl, о come tu dicesti ora politici, ne sono abondante testimoni, ehe
ordinariamente appruovano piu la autorità di uno quando è buono, ehe la
libertà di una città; e ragionevolmente, perché chi introdusse la libertà non
ebbe per suo fine ehe ognuno si intromettersi nel governore, ma lo intento
suo fu perché si conservassino le leggi ed el bene commune, el quale, quando
uno governa bene, si conserva meglio sotto lui ehe in altro governo»; «...если
рассуждать в общем, ты признаешь, что свободная форма правления
не обязательно лучше других. Ваши философы, или политики, как
ты их сейчас назвал, многократно были тому свидетелями, ведь они
обычно выше ценят власть одного, когда он хороший правитель,
нежели свободу города; и это разумно, ведь тот, кто установил свободный
строй, не преследовал целью, чтобы каждый вмешивался в
управление; нет, его намерение заключалось в сохранении законов и
всеобщего благосостояния, которое при таком хорошем правителе, как он,
лучше сохраняется, чем при другой форме правления».
326
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
в природе людей? Вводя его, Гвиччардини переосмысляет libertà
в соответствии с собственными ценностями. Содерини. имеет
в виду (как утверждал еще недавно, в 1516 году, и сам
Гвиччардини1), что опыт существования Большого совета привил
(или прививает) представителям флорентийского popolo вкус
к непосредственному участию в управлении, который
изменил их, так что жизнь в городе уже никогда не станет
прежней. Теперь этот аргумент отвергается8, и разговор переходит
к оценке подлинного смысла понятия libertà. Предполагается,
что у него два значения: он описывает такое положение дел,
при котором каждый гражданин максимально полно участвует
в принятии решений, а также такое, при котором правят
законы, а не люди, и отдельный человек получает социальные
преимущества от безличной общенародной власти, а не из рук
конкретных людей. Макиавелли использовал в похожем
смысле понятие equalità. Эти два определения не являются
логически тождественными. Гвиччардини неявно отрицает, что они
имеют какое-либо отношение друг к другу. Однако принято
было считать, что первое положение дел составляло
наилучшую (а радикальные сторонники этой позиции полагали, что
единственную) гарантию второго. И коль скоро Бернардо
придерживался мнения, что многие могут обладать libertà в
смысле легальности и безличности, при этом будучи лишенными
libertà в значении participazione, то он должен (вне зависимости
от того, можно ли их лишить права на participazione, после того
1. См. выше, глава V, прим. 2 на с. 225.
2. Ibid. Р. 18—19: «Е quella ragione in ehe tu hai fatto fondamento grande, di essere
la libertà naturale in Firenze, non contradice alle cose dette prima, perché
el fllosofo ed ognuno ehe abbia giudicio, dimandato in génère, risponderà
ehe el migliore governo ehe si possa mettere in una città sia el suo naturale.
<...> Ma se venendo agli individui, si vedessi ehe uno vivere libero, ancora
ehe naturale di una città, per qualche cagione particulare non facessi buoni
effetti, allora né e' filosofl vostri né alcuno ehe fussi savio, lo proporrebbono
a un altro vivere, anzi loderebbono piu ogni altro governo ehe portassi
seco maggiori béni»; «И та причина, на которой ты все основываешь,
а именно природная свобода Флоренции, не противоречит сказанному
ранее, потому что философ и любой разумный человек, если его об
этом спросить, ответит, что лучшая форма правления, которую можно
установить в городе, — та, которая для него естественна. <...> Но если
рассматривать индивидуальные случаи, то если станет ясно, что
свободная форма правления, пусть она и естественна для этого города,
по каким-то частным причинам не приводит к благим последствиям,
тогда ни ваши философы, ни любой другой мудрый человек не
стали бы его советовать для других городов, а стали бы сильнее
восхвалять любую другую форму правления, которая несет в себе больше
блага».
327
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
как они однажды его вкусили) показать, как можно сделать
такое положение вещей устойчивым. Очевидно, что это подводит
нас к известной проблеме: как предотвратить распространение
коррупции среди небольшой группы людей, наделенной
властью и лишавшей ее других?
Затем собеседники объясняют, что, когда Пьеро де Медичи
изгнали из города, у них не было намерения учреждать
правление, имеющее столь широкую базу, как правление Большого
совета. К этому их вынудил Савонарола. В ответ Бернардо
говорит, что в таком случае они должны быть очень благодарны
монаху. Опыт показал (ha insegnato la esperienzia de9 tempi passati)
и всегда будет показывать (cost sempre mostrerrà la esperienzia),
что во Флоренции не может быть ничего менее устойчивого,
чем правление, при котором власть сосредоточена в руках
немногих. Через некоторое время оно неизбежно терпит крах
и власть переходит либо к одному, либо ко многим1. Последнее
более вероятно, так как одному человеку, чтобы взять
управление в свои руки, требуются рассудительность, богатство,
авторитет, много времени и бесчисленное количество
благоприятных обстоятельств — сочетание, которое настолько трудно
себе представить в одном человеке, что за всю историю
Флоренции этими качествами обладал лишь Козимо де
Медичи (слова, о которых их автор вполне мог позднее пожалеть)8.
1. Guicciardini К Dialogo е discorsi. Р. 20: «...voi abbiate uno obligo grande
a questo frate... Ma io sono di ferma opinione, e cosi sempre mostrerrà la
esperienzia, ehe a Firenze sia necessario о ehe el governo sia in mano di uno
solo, о ehe venga totalmente in mano del popolo; ed ogni modo di mezzo
sarà pieno di confusione ed ogni di tumultuerà. Questo me lo ha insegnato
la esperienzia de' tempi passati, ne' quail tutti, quando lo stato è venuto
in mano di pochi cittadini... finalmente in breve spazio di tempo lo stato
uscito di mano di quelli pochi, о si è ristretto in uno solo о è ritornato alla
larghezza...»; «...вы многим обязаны этому монаху. Но я твердо
придерживаюсь мнения, и опыт всегда будет тому доказательством, что
во Флоренции нужно или чтобы правление было сосредоточено в
руках одного человека, или чтобы оно было полностью в руках народа;
и любая промежуточная форма вызовет беспорядки и каждый день
будут волнения. Этому меня научил опыт былых времен, когда
всегда случалось, что если власть переходила в руки небольшой группы
граждан... то все быстро заканчивалось тем, что эта группа теряла
власть, которая либо оказывалась в руках одного, либо возвращалась
к широкому кругу граждан...».
2. Ibid. Р. 21-22: «Bisogna ehe a fare questo effetto concorrino in uno medesimo,
il ehe è cosa rarissima, prudenzia, tesoro e riputazione; e quando bene tante
qualità concorressino tutte in uno, è necessario siano aiutate da lunghezza di
tempo e da infinite occasioni, in modo ehe è quasi impossibile ehe tante cose
a tante opportunità si accumulino tutte in uno medesimo; e perô poi in fine
non è mai stato in Firenze piu ehe uno Cosimo»; «Чтобы достичь такого
328
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Власть немногих неустойчива в силу природы флорентийцев,
которые любят равенство и отвергают господство других над
собой. Поэтому немногие всегда разобщены своими
амбициями, и поскольку те, кто не принадлежит к узкому кругу (ognuno
ehe non è nel cerchio), ненавидят других за то, что те обладают
властью, отказ поддерживать друг друга способствует их краху1.
В этом аргументе Гиччардини применяет критерий natura
dello universale*, который незадолго до того отверг, и использует
его весьма неожиданно. Мысль, что «вторая натура»
флорентийцев сделала их беспокойными гражданами, поборниками
равноправия и людьми, стремящимися к участию в отправлении
публичной власти, высказывалась в его собственных
произведениях и в творениях других мыслителей еще до работы над
«Диалогом». Однако, как правило, эти качества приписывались
многим и служили доводом в пользу vivere popolare3, ибо
свойства, побуждавшие человека желать участвовать в управлении,
были тождественны тем, что заставляли его не соглашаться
на зависимость от других. Эта идея оставалась ключевой для
результата, нужно, чтобы в одном человеке соединились
рассудительность, богатство и добрая слава, а так бывает очень редко; а если
такие качества и соединяются в одном человеке, необходимо, чтобы им
были в помощь длительное время и огромное количество
благоприятных случаев, из-за чего оказывается почти невозможным
объединение таких свойств и таких возможностей в одном и том же человеке;
и в конечном счете во Флоренции таким оказался один лишь Козимо».
1. Ibid. Р. 21: «A Firenze li uomini amano naturalmente la equalità e pero si
accordano mal volentieri a avère e ricognoscere altri per superiore; ed inoltre
e' cervelli nostri hanno per sua proprietà lo essere appetitosi ed inquieti, e questa
secondo ragione fa ehe quelli pochi ehe hanno lo stato in mano sono discordi
e disuniti. <...> Ed el non amare gli altri la superiorità di alcuno, fa ehe a ogni
occasione ehe venga, vanno in terra; perché dispiacendo naturalmente a Firenze
a ognuno ehe non è nel cerchio la grandezza d'altri, è impossible ehe la duri
se la non ha uno fondamento ed una spalla ehe la sostenga. E corne vi puo
essere questa spalla e questo fondamento, se coloro ehe reggono non sono
d'accordo?»; «Во Флоренции люди по природе своей любят равенство
и поэтому неохотно соглашаются признать кого-то над собой; кроме
того, наши умы по природе своей неспокойны и привыкли желать
многого, и эта вторая причина приводит к тому, что те немногие, что
стоят у власти, не могут объединиться и договориться. <...> И
нелюбовь к нахождению у кого-то в подчинении приводит к тому, что при
каждом случае эти люди теряют власть; поскольку по своей природе
каждый флорентиец, не вхожий в этот круг, недоволен могуществом
других, невозможно, чтобы такая власть длилась долго, если у нее нет
основания и плеча, на которое опереться. А откуда взяться этому плечу
и этому основанию, если те, кто правит, не могут прийти к согласию
между собой?» Ср.: Guicciardini F. Ricordi. P. 212.
2. Зд.: природа сообщества (итал.).—Прим. ред.
3· Зд.: народное правление (итал.). — Прим. ред.
329
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
понимания liberté Гвиччардини. «Природа флорентийцев»
действительно относится ко многим (тем, кто вне «узкого круга»),
и тем не менее здесь она в гораздо большей степени
характеризует немногих. «Круг» честолюбивых людей состязается за
главенство, и их «природная любовь к равенству» переходит
в отказ проигравших признавать превосходство победителей.
Можно подсчитать при помощи разума (ragione) или
продемонстрировать на esperienzia, что шансы против того, что
подобный режим окажется устойчивым, составляют двадцать к
одному1. Не только equalità и libertà изображены как источники
саморазрушительных тенденций — столь же суровый приговор
вынесен ambizione и стремлению к опоге*, которые в более
ранних произведениях Гвиччардини называл свойством ottimati,
побуждающим их служить свободе, исполняя в обществе роль
тех, кто активно содействует общему благу. Все черты
«флорентийской натуры», способствующие усилению политической
индивидуальности, предстают как характерные не для многих,
а для немногих. Здесь его риторика указывает на
политическую разрушительность этих черт.
Тем не менее Гвиччардини относится к ottimati неоднозначно,
и форма диалога позволяет ему показать разные точки зрения.
Далее Каппони и Содерини высказываются против правления
Медичи, каким оно было до свержения их власти в Ц94 Г°ДУ>
с позиции идеала свободы, постепенно приобретающего все
более явный аристократический характер. Каппони осуждает по
существу манипулятивную природу этого правления как
тираническую. В данном случае действия, номинально
производимые в рамках кодекса публичных законов и утвержденных
ценностей, фактически совершались в соответствии с
интересами неформальной правящей группы, члены которой могли
одобрять или порицать одно и то же поведение в
зависимости того, касается ли оно их друзей или врагов3. Магистратам
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 24: «...se e' si ha a arguire dalla ragione, si
doverà credere a venti per uno el contrario; se dalla esperienzia, el medesimo»;
«...если нужно сделать заключение с помощью разума, нужно
предполагать вероятность двадцать к одному; если на основе опыта, то же
самое».
2. Честь, почет (итал.). — Прим. ред.
3- Ibid. Р. 27-28: «Е ehe sdegno, anzi disperazione crediamo noi ehe si generassi
nelli animi degli altri, quando vedevano ehe quello ehe in loro era peccato
mortale si trattava in una sorte di uomini come veniale; ehe l'uno era trattato
corne fîgliuolo della patria, l'altro corne fîgliastro? Ε quanto era inumana
e tirannica quella parola con la quale pareva loro scaricare, anzi per dire
meglio ingannare la conscienza, a ehe già era venuta come in proverbio: ehe
330
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
приходилось, добавляет Содерини, догадываться, как на
самом деле следует поступить, по негласным намекам, на
которые Лоренцо был так щедр1. Затем Содерини оспаривает
проведенное Бернардо разграничение между формами правления,
хорошими по своей природе, и формами правления, которые
приводят к хорошим результатам вопреки плохой природе: он
замечает, что отрицать природные и похвальные наклонности
человека по определению означает провоцировать дурные
результаты, и наоборот2. Но когда Содерини говорит, что люди
по природе своей стремятся к свободе и ненавидят рабство
(servitù), он подразумевает нечто, что в полной мере
характеризует лишь людей необычайной высоты духа и
выдающегося таланта, а именно желание совершать поступки, которые
negli stati si avevano a giudicare gli inimici con rigore e li amici con favore;
come se la giustizia ammetta queste distinzioni e come se la si dipinga con
le bilancie di dua sorte, Puna da posare le cose delli inimici, Paîtra quelle
degli amici!»; «И какое негодование, скажу больше — какое отчаяние,
как мы можем вообразить, рождалось в душах остальных, когда они
видели, что то, что им вменялось как смертный грех, у других
расценивалось как нечто простительное, что с одним обращались как
с сыном отечества, а с другим как с пасынком? И насколько
бесчеловечными и тираническими были те слова, с помощью которых
[правители], как им казалось, облегчали, а точнее, обманывали свою
совесть, что они даже вошли в пословицу: что в государстве врагов
нужно судить строго, а друзей благосклонно; как будто правосудие
допускает такие различия и как будто его можно изобразить с
двумя разными видами весов, на одних из которых взвешивают деяния
врагов, а на вторых — друзей!»
1. Ibid. P. 35: «E cne misera... avère a interpretare la volunta di chi vuole
essere inteso a' cenni! In ehe, come ognuno sa, Lorenzo preme sopra tutti
gli uomini»; «И какая жалкая участь... быть вынужденным толковать
волю того, кто изъясняется молчаливыми намеками! А в этом, как все
знают, Лоренцо превосходит кого бы то ни было».
2. Ibid. Р. 34: «Рего поп so come Bernardo potrà aguagliare el vivere di simili stati
al governo populäre, nel quale quando bene gli effetti non fussino migliori ehe
quegli délia tirannide, Puno è secondo lo appetito naturale di tutti gli uomini
ehe hanno per natura lo appetire la libertà, Paltro è direttamente contrario,
avendo ognuno in orrore la servitù; donde eziandio con disavantaggio si debbe
preporre quello ehe satisfa piu alla naturalità, ehe el contrario. E questa ragione
è générale in tutti gli uomini, perché ordinariamente gli istinti naturali sono
in ognuno»; «Но я не знаю, как Бернардо сможет приравнять жизнь
подобных государств к народному правлению, при котором, даже если
его последствия оказываются не лучше тех, что имеют место при
тираническом строе, учитываются естественные желания всех людей,
которые по природе своей стремятся к свободе, в то время как другой
строй ровно противоположен этим желаниям, ведь всем ненавистно
рабство; следовательно, даже при наличии недостатков следует
предпочесть тот строй, который более соответствует природе граждан, а не
противоположный. И эта причина является общей для всех людей,
потому что природные наклонности присущи каждому».
331
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
являются и представляются прекрасными, поскольку служат
общему благу. Свобода — это возможность совершать такие
поступки; рабство — состояние, при котором некие люди
оценивают, разрешают или не допускают их исходя из собственных
интересов, состояние, когда человек знает, что его действия,
«которые, если верить разуму, должны быть свободными и не
зависеть ни от чего, кроме самого человека и блага его страны,
регулируют другие люди, будь то справедливо или по прихоти»1.
Затем Содерини определяет то, что побуждает человека к
подобным поступкам, как virtù:
И если главной целью тех, чьи города управляются
справедливо, главной заботой философов и тех, кто писал о
гражданской жизни, всегда являлось заложить в них такие основы,
которые способствовали бы укреплению добродетелей,
совершенству характера и достойным поступкам, какое же
негодование и отвращение должно вызывать в нас правление, при
котором для полного искоренения великодушия и добродетели
прикладываются величайшие усилия! Я говорю о тех
добродетелях, которые учат человека совершать прекрасные поступки,
приносящие пользу республике...
И потому я еще раз говорю, что, когда законность
правления не основана на том, что оно поощряет добродетель, а
выливается в тиранию, агрессивную или умеренную, надлежит не
колеблясь принести в жертву имущество или успех, стремиться
к другой форме правления, ибо нет более гнусной и пагубной
формы правления, чем та, что старается уничтожить
добродетель и закрывает подданным путь не скажу «к величию», но
к какой-то доле славы, обретенной в силу благородства
характера и великодушия ума2.
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 34: «...le azioni loro, ehe arebbono
ragionevolmente a essere libère ne avère dependenzia da altri ehe da se
medesimo e dal bene délia patria, bisogna ehe si regolino secondo la arbitrio
di altri, о sia giusto о sia a beneplacito...».
2. Ibid. P. 35: «Adunche se el primo obietto di coloro ehe hanno retto legitimamente
le città, se la principale fatica de' filosofi e di tutti quegli ehe hanno scritto
del vivere civile, è stata di mettervi quella instituzione ehe produca le virtù
ed eccellenzia di ingegno e di opère generöse, quanto sarà da biasimare
e detestare uno governo, dove per contrario si fa estrema diligenzia di spegnere
ogni generosità ed ogni virtù! Parlo di quelle virtù con le quali gli uomini
si fanno atti aile azioni eccellenti, ehe sono quelle ehe fanno beneficio alla
republica... Perô io replico di nuovo ehe ogni volta ehe el governo non sia
legitimo, perché allora la virtù è onorate, ma abbia del tirannico о fiero
о mansueto, ehe con ogni disavantaggio ed incommodità di roba о di altra
prosperità, si debbe cercare ogni altro vivere; perché nessuno governo puô
332
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Аргументы Содерини отличаются от доводов современных
теоретиков «партиципаторной демократии» и «репрессивной
толерантности»: последние носят популистский характер,
первые отличаются явным аристократизмом. Те, кто ставит своей
целью достижение идеала virtù,— которая предстает здесь не
столько как форма, накладываемая na,fortuna (идея, не
являющаяся основной в «Диалоге»), сколько как стремление к жизни,
свободе и совершенствованию в условиях моральной
автономии,— почти по определению являются немногими. В более
ранних работах Гвиччардини ясно давал понять, как
невелико может быть их число. И все же тираны ненавидят и боятся
их, потому что цель тирана — добиться, чтобы все зависело от
него. По словам Содерини, ему нет необходимости объяснять
слушателям, кого он имеет в виду1. В завершении этой части
речи он отметил, что, как это обычно происходит в statt stretti,
Медичи приложили все возможные усилия, чтобы
разоружить своих граждан, лишив их таким образом virilità и vigore
d'animo*, свойственных их предкам. Следует только подумать
о различии между теми, кто ведет войну силами собственного
оружия, и теми, кто прибегает к наемным войскам.
Швейцарцы, яростные и воинственные в Италии, живут свободно, под
покровом закона и мирно у себя в отечестве3. Здесь риторика
essere piu vituperoso е piu pernizioso ehe quello ehe cerca di spegnere la
virtù ed impedisce a chi vi vive drento, venire, io non dico a grandezza, ma
a grado aleuno di gloria, mediante la nobilita dello ingegno e la generosità
dello animo».
i. Ibid. P. 34-35: «...gli bisogna andare nascondendo la sua virtù, perché al
tiranno dispiaciono tutti gli spiriti eccelsi, ogni potenzia eminente, massime
quando procède da virtù, perché la puô manco battere; e questo fa qualche
per invidia, perché vuole essere lui singulare, spesso per timoré, del quale per
l'ordinario è sempre pieno. Non voglio applicare queste parole a particulare
alcuno, ma voi sapete tutti ehe io non le dico senza proposito»; «...ему
придется скрывать свою добродетель, потому что тиранам претят все
выдающиеся люди, любые недюжинные способности, особенно когда они
проистекают из добродетели, поскольку с ней труднее сражаться; и
некоторые делают это из зависти, потому что хотят быть единственными,
часто из страха, который его обычно переполняет. Не хочу говорить
ни о ком конкретно, но вы все знаете, что я это говорю не просто так».
2. Мужественность, сила духа (итал.). — Прим. ред.
3- Ibid. Р. 35~3б; «...la casa de' Medici, come fanno tutti gli stati stretti, attese
sempre a cavare Parme di mano a' cittadini e spegnere tutta la virilità ehe
avevano; donde siamo diventati molto effeminati, né abbiamo quello vigore
di animo ehe avevano gli avoli nostri; e questo quanto sia di danno a una
republica lo puo giudicare chi ha considerato ehe differenzia sia a fare le
guerre con le arme proprie, a farle con le arme mercennarie... Ε ehe questo
sia facile lo dimostrano le antiche republiche e se ne vede oggi qualche vestigio
in questi svizzeri, ehe ora cominciano a farsi conoscere in Italia; e' quali ancor
333
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
традиции гражданской милиции звучит в контексте,
предполагающем — и это радикально отличает ее от логики
«Рассуждений» Макиавелли, — что свобода, гражданская добродетель
и политическая индивидуальность — идеалы, присущие элите.
Бернардо отвечает на это выражение характерной для
гражданского гуманизма позиции пространно и расплывчато.
Разговор, в ходе которого он формулирует ответ, составляет
оставшуюся часть первой книги «Диалога». Она не только объемна,
но и сложна, и многие замечания в ней высказаны косвенно.
Как мы уже наблюдали раньше, Бернардо пытается
отождествить свободу в том смысле, в каком о ней говорит Содерини,
с проявлением честолюбия, а желание совершать благородные
поступки — с жаждой господства над другими. Кроме того, он
высказывает интересное предположение, что исполнение
общественных обязанностей может не требовать режима,
основанного на libertà, ибо они служат при этом patria, «а она заключает
в себе столько прекрасного, столько сладостного, что даже те,
кем правят государи, любят свою страну и, как известно,
неоднократно рисковали ради нее жизнью»1.
Содерини определяет свободу в категориях virtù и participazione.
Бернардо обращается к одному из более ранних определений
этого понятия у Гвиччардини: свобода — такое положение
вещей, при котором имуществом мы обязаны закону, а не власти
или личным качествам конкретных людей. Это
утверждение, подразумевающее акцент на моральной и политической
ehe siano feroci ed armigeri quanto si vede, intendo ehe in casa lore· vivono
in libertà, sotto le leggi ed in somma pace»; «...дом Медичи, как и все
государства с узким правительством, всегда стремился забрать оружие
у граждан и погасить всю их мужественность; из-за этого мы
уподобились женщинам и у нас больше нет той силы духа, что отличала
наших дедов; и насколько это губительно для республики, сможет
понять любой, кто постигнет разницу между войнами, ведущимися
с помощью собственного ополчения и с помощью наемного войска...
Это очень просто показать на примере древних республик, а сегодня
мы видим некоторые отголоски на примере этих швейцарцев, с
которыми Италия знакома с недавнего времени: хоть они здесь яростны
и воинственны, у себя дома они живут свободно, под покровом
закона и в высшей степени мирно».
I. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 39: «Si puo dire piu tosto ehe questi simili
abbino fatto per amore délia patria ehe délia libertà; la patria abbraccia in se
tanti béni, tanti effetti dolei, ehe eziandio quegli ehe vivono sotto e' principi
amano la patria, e se ne sono trovati molti ehe per lei si sono messi a pericolo»;
«Можно сказать, что они это сделали скорее из любви к отечеству,
нежели к свободе; отечество заключает в себе столько прекрасного,
столько сладостного, что даже те, кем правят государи, любят свою страну
и, как известно, неоднократно рисковали ради нее жизнью».
334
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИИИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
независимости человека, конечно, выражает идеал гражданского
гуманизма, но по сравнению с «Рассуждением в Логроньо» мы
видим здесь существенное отличие: идеал общей virtù теперь
словно бы вычитается из определения свободы и
противопоставляется ему. Свободе, понятой как власть закона, вполне
могло угрожать слишком навязчивое и состязательное
великодушие, которое так превозносил Содерини1. Человек может
в рамках закона пользоваться тем, что имеет, почти или даже
вовсе не участвуя в принятии решений, касающихся его
самого или кого-то еще. Можно сказать, что Гвиччардини здесь
разрабатывает не позитивную, а негативную концепцию
свободы — свободы от власти другого человека, а не свободы
развивать положительные человеческие способности и качества.
Новому определению сопутствует изменение ценностей,
которые он открывает взору ottimati. Теперь возможны две
ценностные модели, каждая из которых воплощает один из полюсов
личности самого Гвиччардини: с одной стороны, идеал
благородства, выраженного в значимых для общества поступках,
с другой — те esperienzia и prudenzia2, на приобретение которых
время есть только у элиты. На протяжении всей жизни
Гвиччардини беспокоил конфликт между честолюбием и
осмотрительностью. Интересно наблюдать, как он, столкнувшись с
выбором между отвагой и рассудительностью, движется в русле,
противоположном идеям Макиавелли. Если автор
«Рассуждений» высказывался в пользу вооруженного народного
правления и изображал virtù как живой дух носящего оружие
большинства, то Бернардо в «Диалоге», как мы увидим, отрицает
постулируемое Содерини возрождение традиции гражданской
милиции и, насколько возможно, отвергает его идеализацию
virtù. Но virtù, о которой идет речь, — свойство некоторых, а не
многих. Вместо нее — или скорее вместо честолюбия и жажды
опоге, которые он некогда восхвалял, — Гвиччардини
заставляет Бернардо в заключительном фрагменте первой книги
убеждать своих слушателей-оптиматов, что Флоренция — старый
город, с трудом поддающийся изменениям, и что
естественный ход событий, в силу которого государства неминуемо
1. Ibid. Р. 45~4& «...faccendo differenzia da uno ehe è savio e non animoso,
a uno ehe è savio, animoso e non inquieto, e da questo a chi ha ingegno ed
animo ed inquietudine»; «...делая различие между тем, кто мудр, но не
предприимчив, и тем, кто мудр, предприимчив и не бунтарь, и между
последним и тем, кто обладает умом, предприимчивостью и
бунтарским духом».
2. Опытность и рассудительность (итпал.).—Прим. ред.
335
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
дряхлеют, обладает большей властью, чем человеческие ragione
или prudenzia1.
Все, что говорит Гвиччардини, обращено к ottimati.
Однако предпочтение, которое он отдает аристократии,
выражается скорее в том, что он видит в ottimati единственных людей,
с которыми или о которых стоит говорить, а не в том, что
Гвиччардини опрометчиво приписывает им — чего он
никогда не делал — всевозможные политические добродетели или
законность притязаний на власть. Возражение, которым Бер-
нардо отвечает Содерини, принимает форму защиты
Медичи от более гневных обвинений Содерини, а она, в свою
очередь, перетекает в критику Большого совета и участия многих
в определенных процессах принятия решений8. Но мишенью
этой критики являются скорее не многие, а некоторые,
считающиеся создателями народного правления Ц94 года. Похоже,
будто ottimati, разочарованные союзом с Медичи, вместо
этого заключили союз с popolo, и Бернардо словно спрашивает
их, много ли они выиграли от этой перемены. Впрочем,
косвенным образом этот вопрос затрагивает проблему ценностей
аристократии. Обоснование режима 1494 года, изложенное
Содерини и самим Гвиччардини в ходе работы над
«Рассуждением в Логроньо», строилось в терминах virtù, того выдающегося
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 81-82: «Quando le città sono vecchie,
si riformano difficilmente, e riformate, perdono presto la sua buona instituzione
e sempre sanno de' suoi primi abiti cattivi; di ehe, oltre alle ragioni ehe si
potrebbono assegnare, potete pigliare lo esemplo di moite republiche antiche,
le quali se nel suo nascere, о almanco nella sua giovanezza, non hanno avuto
sorte di pigliare buona forma di governo, ha durato fatica invano chi ve la
ha voluta mettere tardi; anzi quelle ehe sono use a essere bene governate, se
una volta smarriscono la strada e vengono in qualche calamità e confusione,
non tornano mai perfettamente al suo antico buono essere. È cosi el naturale
corso délie cose umane, e corne solete dire voi altri, del fato, ehe ha bene
spesso piu forza ehe la ragione о prudenzia degli uomini»; «Когда город
стар, то его трудно реформировать, и после реформ он быстро теряет
свой порядок, а дурные нравы выходят на первый план; помимо
причин, которые можно было бы привести, вы можете обратиться к
примеру множества древних республик, которым не посчастливилось
установить правильную форму правления сразу после их создания, или
хотя бы в первые, „юные" годы их существования: старания тех, кто
пытался установить ее на позднем этапе, были напрасны; скажу
больше: если те, что привыкли к хорошему правлению, в какой-то момент
сбиваются с пути и оказываются в беде и беспорядке, то в них
никогда полностью не восстанавливается былое хорошее положение. Таков
естественный ход событий в мире людей, такова судьба (как вы
любите выражаться), что часто оказывается сильнее, чем человеческий
разум или рассудительность».
2. См. в целом: Ibid. Р. 42~47·
ззб
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
благородства, которое ottimati демонстрировали
признательному popolo. Порицать этот режим означало выступать в пользу
идеала осмотрительности вместо идеала virtu и при этом
подвергать сомнению способность многих опознавать virtù, когда
они с ней сталкивались. Однако порицать многих означало
не превозносить некоторых, а критиковать их ценности. Как
только мы увидим, что, по мнению Гвиччардини, идеал virtù
оборачивался не столько стремлением к благородству, сколько
нездоровой конкуренцией за первенство, нам станет понятно
его стойкое убеждение, что governo stretto1, где вся власть
оказалась бы сосредоточенной в руках ottimati, для Флоренции
стало бы бедствием. Если представители элиты
действительно намеревались состязаться в благородстве, им нужна была
публика и судьи в лице popolo (или Медичи). Если же на самом
деле они состязались за власть и господство, действия popolo
(или Медичи) должны были погасить это соперничество,
ограничив их власть. В то же время Гвиччардини советовал своему
сословию усвоить не столь соревновательную систему
ценностей. Он мог считать ottimati единственными людьми,
достойными критики и разговора, но это не мешало ему
настойчиво критиковать их.
Если придерживаться такой трактовки, защиту Бернардо
режима Медичи и его критику неразумия народа следует
понимать как изложение доводов в пользу Медичи и против popolo,
то есть Большого совета, как союзников ottimati. Его критика
направлена против точки зрения, которую сам Гвиччардини
выражал в своих более ранних произведениях и согласно
которой многие хорошо умеют судить о тех, кто выше их,
способны распознать качества, которых лишены сами, а потому
им можно доверить избрание немногих на должности. Как
только отличительной чертой лидера становится уже не virtù,
a esperienzia, это утверждение оказывается менее
правдоподобным, потому что esperienzia — приобретенное свойство, оценить
которое могут лишь те, кто сам хотя бы отчасти его приобрел.
Республика — это сообщество, где не придерживаются обычая,
а занимаются политикой, поэтому маловероятно, что многие
смогут познать в действительности то, чем занимаются лишь
участвующие в управлении, — получить опыт,
выражающийся не в обычае, а в рассудительности. Здесь Бернардо
утверждает, что они неспособны вынести такого рода суждение, ибо
ι. Узкое правительство (итал.).— Прим. ред.
337
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
их горизонт ограничен «делами и лавками»1. Отсутствие
досуга не мешает им распознавать virtù как свойство личности,
и это почти так же очевидно, как то, что оно воспрепятствует
им приобрести какие-либо знания в общественных вопросах
или способность понимать, чем занимались те, кто обладал
таким знанием. Впрочем, Бернардо готов согласиться с Содери-
ни, что popolo во Флоренции сможет, как и в Венеции, вполне
сносно выбирать своих должностных лиц, если по-прежнему
будет придерживаться метода избрания большинством
голосов, — вызывающий споры вопрос, которому Гвиччардини
посвятил два трактата. Но, мрачно добавляет Бернардо, трудно
сказать, сколь долго продержится эта разумная процедура. Со-
дерини остается утверждать, что никакая форма правления не
бывает совершенной с самого начала, но опыт может научить
ее укреплять и совершенствовать свои лучшие черты2. Коротко
говоря, он надеется, что опыт научит popolo придерживаться
метода избрания, который, как считалось, заставляет отдавать
предпочтение политической элите. Вероятно, Гвиччардини
отсылает к характерному для аристократии убеждению, что
слишком часто выборы должностных лиц происходили по жребию.
Однако Бернардо стремится главным образом защитить
Медичи, правивших до 1494 г°Да> от обвинения Содерини,
заявившего, что они подавили virtù, допуская на должности лишь тех,
кого считали зависимыми от себя и потому неопасными. Он
делает это, соглашаясь с большей частью обвинений и затем
утверждая, что правление такого рода все же лучше народного
правления, — полемическая тактика, за которой кроется смена
ценностей и предпосылок. Разумеется, говорит он, Медичи
выдвигали вперед тех, от кого не ждали опасности, и подавляли
тех, кто, по их мнению, представлял для них угрозу. Однако
это не означает, как предположил Содерини, что они считали
потенциально опасным любое проявление virtù. Политической
элите присущи мудрость и предприимчивость; можно быть
мудрым (savio), не будучи предприимчивым, (animoso), а можно
обладать обоими качествами, никак не угрожая установленному
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 43: «...fondato... in sugli esercizi ed in
sulle botteghe...»; «основаны... на делах и на лавках...».
2. Ibid. P. 47: «.-.non solo ne' governi, ma nelle arti, nelle scienzie ed in ogni
altra cosa, non furono mai perfetti ne' principi, ma si va aggiungendo alla
giornata secondo ehe insegna la esperienzia»; «...не только в
правительствах, но и в ремеслах (или искусствах?), науках и всем остальном
одних принципов никогда не было достаточно, к ним постоянно
прибавляется то, чему учит опыт».
338
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
порядку (inquieto)1. Медичи тем лучше могли провести эти
разграничения, что уже обладали верховной властью, давшей им
опыт, на основании которого они могли судить о людях, и
право безопасно выносить суждения2. В заключениях такого рода
можно ошибаться по двум причинам — в силу невежества и
зависти (malignità). Невежество, составляющее недостаток прежде
всего народных собраний, опаснее по своим последствиям,
потому что по природе не имеет границ, тогда как зависть
утихает, как только устранен человек, являющийся ее объектом3.
Гвиччардини предоставляет Бернардо решить этот вопрос.
Содерини определил правление Медичи как тиранию. Он четко
изложил классическую точку зрения: зависть тирана не знает
границ, ибо все, что не подчинено его власти, он рассматривает
как угрозу для нее. Особенно же он страшится virtù —
врожденного нравственного качества — любого другого человека.
В защиту malignità Бернардо говорит, что люди по природе
своей склонны к добру и что любой, кто предпочитает добру
зло, был бы скорее зверем, чем человеком4. Разумеется,
классическая теория предполагала, что тиран как раз и является
таким зверем, но Бернардо исходит из предположения — с
которым вынужденно соглашается Содерини, — что правление
Медичи — тирания особого рода, nefiero, a mansuetü?. Она скорее
стремится использовать хорошие человеческие качества в своих
целях, а не изживать их. Однако «умеренная тирания» —
почти оксюморон, и Бернардо в значительной мере лишает
понятие тирании его смысла. Медичи подчинили доброе в людях
своей воле и пользуются им; для этого они должны уметь
распознавать и ценить добро; и дабы продолжать пользоваться
добром в своих интересах — Медичи надлежит воздержаться от
его уничтожения. Страх и жажда власти не могли пересилить
1. См. прим. ι на с. 335·
2. Ibid. Р. 44-46·
3. Ibid. Р. 46, 55-
4- Ibid. P. 55: «Quanto alla malignità, io vi dico ehe per natura tutti gli uomini
sono inclinati al bene, né è nessuno a chi risulti interesse pari dal male come
dal bene, ehe per natura non gli piaccia piu el bene; e se pure si ne truova
qualcuno, ehe sono rarissimi, meritano essere chiamati piu presto bestie ehe
uomini, poi ehe mancono di quella inclinazione ehe è naturale quasi a tutti
gli uomini»; «Что до зависти, то я вам скажу, что по природе своей все
люди склонны к добру, и никто не заинтересован во зле так же, как
в добре, нет никого, кого бы по природе своей добро не привлекало
больше; и если даже такие редкие люди и найдутся, то они
заслуживают называться скорее зверями, а не людьми, поскольку у них
отсутствует склонность, присущая почти всем людям».
5- Суровый; умеренный (итпал.).— Прим. ред.
339
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
в них разум, как происходит в случае с обыкновенным
тираном. Слабость человеческой натуры, которая делает столь
уязвимой природную склонность к добру, присуща им не более,
чем любому другому типу правителей.
Это обстоятельство побуждает Бернардо, завершая свою
аргументацию в первой книге, отрицать, что правление
Медичи по природе своей обречено на вырождение и разложение.
Они властвовали, эксплуатируя качества ottimati, а потому
оставили эти качества нетронутыми. Необходимость делать
это выполняла ролъ/гепо1, обуздывая и ограничивая любое
стремление к излишествам. Кроме того, ottvmati могли
принести пользу Медичи, только если действовали как независимые
субъекты, то есть свободно. Власть Медичи, хотя и была
тиранической в том смысле, что все делалось в соответствии с их
волей, никогда не проявляла себя так же, как ипо stato di ипо
principe assoluto2, где суверенность правящей воли
институционализирована и явлена воочию. Внешние признаки и образ
(le dimostrazioni e la immagine) всегда соответствовали
свободному государству3. Разрушить этот образ означало бы лишить
город его жизни и души. Этого не случилось (только безумец
решился бы так сделать), и власть Медичи в городе была тем
ι. Узда (итал.).—Прим. ред.
2. Владение абсолютного государя (итал.). — Прим. ред.
3- Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 77: «Lo stato de' Medici, ancora ehe,
come io ho detto, fussi una tirannide e ehe loro fussino interamente padroni,
perché ogni cosa si faceva secondo la loro voluntà, nondimanco non era
venuto su come uno stato di uno principe assoluto, ma accompagnato со'
modi délia libertà e délia civilità, perché ogni cosa si governava sotto nome
di republica e col mezzo de' magistrati, e' quali se bene disponevano quanto
gli era ordinato, pure le dimostrazioni e la immagine era ehe el governo
fussi libero; e come si cercava di satisfare alla moltitudine de' cittadini con
la distribuzione degli ufrici, cosi bisognava satisfacessino a' principali dello
stato non solo con le dignità principali, ma ancora col fare maneggiare a loro
le cose importanti, e pero di tutto si facevano consulte publiche e private»;
«Государство Медичи, хоть и было, как я уже говорил, тиранией и они
были полновластными властителями, поскольку все делалось
согласно их воле, тем не менее не было создано как государство с
абсолютной властью, но предусматривало элементы свободы и гражданской
активности, потому что все правление осуществлялось от имени
республики и посредством магистратов, которые хоть и выполняли
полученные приказы, создавали внешние признаки и образ
свободного государства; и как стремились достичь довольства большинства
граждан путем распределения должностей, так же нужно было
угодить высшим должностным лицам государства не только с помощью
почетных должностей, но и разрешая им управлять важными делами,
поэтому обо всем устраивались совещания в общественном и частном
порядке».
340
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
сильнее, что сочетала в себе любовь и силу, а не являлась
голым принуждением1. Любовь, в конце концов, — это
самопорождающая деятельность. Весомость употребляемых Гвиччардини
слов опровергает предположение, что он хотел показать, будто
флорентийцами правит иллюзия. В свободе должно быть
нечто реальное, что требовало к себе уважения и на самом деле
ограничивало власть Медичи. Но, защищая Медичи от
обвинения в тирании, Гвиччардини представил их правление как
нечто, что следует отличать от principato assoluto2, — то есть,
хотя он и не использует этого слова, как смешанную
монархию. Так мы приближаемся к доктрине, на которой основана
французская и английская монархия. Мы узнаем, что
правление Медичи было ограничено обязательством советоваться
с главными людьми и должностными лицами в городе; важно
было уважать их, хотя и не делить с ними власть официально.
Это обязательство весьма схоже с уважением к формам
республиканского правления, благодаря которому власть Медичи
вынужденно оставалась замаскированной монархией.
1. Ibid. Р. 77-78; «Е рего nessuno de' Medici, se non fussi publico pazzo, arebbe
mai fatto questo, perché potevano conservare la autorità sua, sanza fare uno
passo ehe gli avessi a inimicare ognuno, e bisognava ehe, facendolo, pensassino
ο uscire di Firenze a ogni piccola occasione ehe venissi, ο aversi a ridurre
tutti in su le arme ed in su la forza; cosa ehe e' tiranni non debbono mai
fare, se non per nécessita, di volere fondarsi tutti in su la violenzia, quando
hanno modo di mantenersi col mescolare lo amore e la forza. Aggiugnesi ehe
chi togliessi alla nostra la sua civilità ed immagine di libertà, e riducessila
a forma di principato, gli torebbe la anima sua, la vita sua e la indebolirebbe
e conquasserebbe al possibile; e quanto è piu debole e manco vale la città,
tanto viene a essere piu debole e manco valere ehe né è padrone; e cosi se
e' Medici avessino preso el principato assoluto, arebbono diminiuto e non
cresciuto la sua potenzia e riputazione»; «Поэтому никто из Медичи не
сделал бы этого, и на это был бы способен лишь откровенный
безумец, потому что они могли сохранить свою власть, не делая того шага,
который бы настроил всех против них, а если б они его совершили,
им было бы нужно покинуть Флоренцию при малейшем поводе или
держать всех в подчинении с помощью силы и оружия; это ровно
то, чего тиранам не следует делать никогда, за исключением случаев
крайней необходимости, а именно пытаться основывать свою власть
исключительно на насилии, поскольку у них есть возможность
держаться у власти, сочетая любовь и силу. Нужно добавить, что если кто-
то отберет у нашего города его гражданскую жизнь и образ свободы
и установит над ним единоличную власть, то он отберет у него душу
и жизнь, ослабит и разрушит его, насколько это возможно; а
ослабленный город мало чего стоит, и точно так же это ослабит и обесценит
его правителя; таким образом, если бы Медичи установили
абсолютное правление, то они бы уменьшили, а не приумножили его мощь
и славу».
2. Правление абсолютного государя (итал.). — Прим. ред.
341
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
Однако аргументы Бернардо направлены на то, чтобы
рекомендовать систему Медичи ottimati, и потому носят столь же
аристократический, сколь и монархический характер. Дальше
всего они отходят от учения Аристотеля или Полибия о
координации различных видов власти ввиду его стремления
утвердить мнение, что человеку или группе людей,
наделенных верховной властью, это верховенство дает право и умение
исполнять все функции власти без необходимости опираться
на чей-либо коллективный разум. Но этот подход не
соответствует теории суверенитета, поскольку предполагает отказ от
строгой локализации верховной власти будь то в одном
человеке или среди некоторых людей. Примечательно, что
рассуждения Бернардо о роли ottimati при Медичи прекрасно
сочетаются с предположением, что их главной ценностью является
virtù. При этом у его аргументов есть еще один аспект, в
основе которого лежит именно идея рассудительности и в котором
различие между монархией и аристократией выражено не так
явно. Здесь он резко критикует участие Большого совета в
принятии решений, связанных с внешней политикой (cose difiiord)1.
Такой ход мысли прямо возвращает нас к понятиям
конкретного события, интеллекта, числа и времени, которые, как мы
уже неоднократно наблюдали, являлись ключевыми для этого
направления ренессансной мысли. Во внешнеполитических
делах, как мы узнаём, нет регулярности или определенного
направления. Они ежедневно меняются в зависимости от того,
что происходит в мире, поэтому наши представления о них
главным образом состоят из догадок. Малейшая причина
может вызывать величайшие следствия, а одинаковые причины
могут приводить к необычайно разнообразным результатам.
«Поэтому необходимо, чтобы государством управляли люди
рассудительные, с неусыпным вниманием отслеживающие
мельчайшие происшествия и взвешивающие все вероятные
последствия, чтобы с самого начала избежать власти случая
и фортуны и по возможности избавиться от нее»2.
ι. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 60-65.
2. Ibid. P. 60-61: «Perché le cose di questa sorte non hanno regola certa ne corso
determinato, anzi hanno ogni di variazione secondo gli andamenti del mondo,
e le deliberazioni ehe se ne hanno a fare, si hanno quasi sempre a fondare in
su le conietture, e da uno piccolo moto dependono el piu délie volte importanze
di grandissime cose, e da' principi ehe a pena paiano considerabili nascono
spesso effetti ponderosissimi. Perô è necessario ehe chi governa gli stati sia
bene prudente, vigili attentissimamente ogni minimo accidente, e pesato
bene tutto quello ehe ne possi succedere, si ingegni sopra tutto di owiare
a' principi ed escludere quanto si puô la potestà del caso e délia fortuna»;
342
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Не может быть более ясного указания на то, что Гвиччарди-
ни отказывается вступить в мир virtu, который так
завораживал Макиавелли. Virtù как отвага, динамическая и, возможно,
творческая сила государя или вооруженного народа стремилась
одержать верх над фортуной, а не уклониться от нее.
Макиавелли обнаружил это качество в гениальном новаторе, а также
в тождестве гражданина и воина. Но Гвиччардини
приравнивает virtù к рассудительности (если не заменяет первую
последней), к умению кормчего или врача наблюдать за событиями
и приспосабливаться к ним, а не пытаться формировать или
определять их. Его политика — скорее политика маневра, чем
действия. Она требует максимальной осведомленности и
взвешенности, согласной с неумолимым и непредсказуемым ходом
событий. Аргументом против народного контроля над внешней
политикой является то, что многие не способны осуществлять
его. У одного или нескольких человек, говорит Бернардо,
достаточно времени и практики, чтобы приобрести это чутье в
решении вопросов и преобразовать его в действие. У собрания
людей их нет1, но неясно, объясняется это количественными
или качественными причинами. С одной стороны, отмечается,
«Потому что такого рода вещи не подчиняются точным правилам
и не протекают точно определенным образом, а каждый день
меняются в зависимости от событий в мире, и решения, принимаемые по
этому поводу, почти всегда приходится основывать на догадках, и от
небольшого изменения чаще всего зависят события огромной
важности, а с причинами, что кажутся совсем незначительными, часто
связаны последствия, имеющие огромный вес. Поэтому необходимо,
чтобы государством управляли люди рассудительные, с неусыпным
вниманием отслеживающие мельчайшие происшествия и
взвешивающие все вероятные последствия, чтобы с самого начала избежать
власти случая и фортуны и по возможности избавиться от нее»,
ι. Ibid. P. 6i: «Questo è proprio di uno governo dove la autorità è in uno solo
о in pochi, perché hanno el tempo, hanno la diligenzia, hanno la mente volta
tutta a questi pensiere, e quando cognoscono el bisogno, hanno faculta di
provedere secondo la natura délie cose; ehe tutto è alieno da uno governo di
moltitudine, perché e' molti non pensono, non attendono, non veggono e non
cognoscono se non quando le cose sono ridotte in luogo ehe sono manifeste
a ognuno, ed allora quello ehe da principio si sarebbe proveduto sicuramente
e con poco fatica e spesa, non si puô poi ricorreggere se non con grandissime
difïïcultà e pericoli, e con spese intollerabili»; «Это свойственно правлению
одного или немногих, потому что они обладают временем и усердием,
и весь их ум направлен на эти мысли, и когда они хорошо знают
потребность, они могут действовать в соответствии с природой вещей;
всего этого лишено правление большинства, потому что большое
количество людей не думает, не внимает, не видит и не познает, кроме как
в тех случаях, когда события происходят таким образом, что их суть
ясна каждому, и из-за этого то, что можно было бы сразу же решить
наверняка и с помощью малых усилий и трат, потом приходится
исправлять с огромным трудом и опасностями, и с чудовищными тратами».
343
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
что конкретная ситуация во внешней политике, знание
которой необходимо распространить среди многих, вряд ли будет
изучена и внутренне усвоена. Решения, которые требуют
согласия многих умов, принимаются, обсуждаются и
корректируются слишком медленно. С другой стороны, некоторые
выражения наводят на мысль, что собрание многих будет собранием
отдельных людей, каждый из которых поглощен своими
частными делами, а потому лишен досуга, за счет которого
только и можно приобрести опыт, рассудительность и понимание
властной политики. Бернардо даже полагает, что многие
особенно склонны к коррупции и порче: будучи частными
лицами, они не воспринимают общее благо как собственное, тогда
как единовластный правитель относится к общему благу как
к своему достоянию1. Так или иначе, собрание не может
выработать основанного на совместном размышлении
интуитивного знания, которого требует понимание властных отношений,
и потому никогда не сможет проводить последовательную
политику. Однако возглавлять власти, с которыми оно
поддерживает связи, чаще всего будут государи, обладающие
устойчивыми представлениями о собственных интересах и потому
способные понять друг друга и работать совместно. По этой же
причине они не склонны вступать в отношения с
демократиями, которые сами не могут в себе разобраться2.
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 65: «Dove hanno a deliberare molti è el
pericolo délia corruttela, perché essendo uomini private e ehe non hanno el
caso commune per suo proprio, possono essere corrotti dalle promesse e doni
de' principi... questi non si ha a temere da uno, perché essendo padrone di
quello stato, non si lascerà mai comperare per dare via о per disordinare
quello ehe reputa suo»; «Там, где решения принимает собрание,
существует риск испорченности, потому что как частные лица они не
воспринимают общее дело как свое собственное и могут быть подкуплены
обещаниями и дарами государей... этого не следует опасаться в случае
правления одного, потому что, будучи властителем этого государства,
он не даст себя подкупить, чтобы отдать или привести в беспорядок
то, что он воспринимает как свое».
2. Ibid. Р. 63-64: «...Queste coniunzione continuate si fanno difïicilmente con
uno popolo, perché non essendo sempre e' medesimi uomini ehe governono,
e pero potendosi variare e' pareri ed e' fini secondo la diversità délie persone,
uno principe ehe non vede potere fare fondamento fermo con questi modi di
governo, né sa con chi si avère a intendere о stabilire, non vi pone speranza né
si ristrigne teco, disegnando ehe ne' bisogni о nelle occasioni tue tu ti vaglia
si poco di lui corne lui spera potersi valere di te»; «Такие союзы трудно
заключить с народом на долгий срок, потому что в управлении
всегда участвуют разные люди и, следовательно, мнения и поставленные
цели могут меняться в зависимости от человека, из-за чего государь,
не видя возможности твердо положиться на подобное правительство
и не зная, с кем ему придется находить понимание и договариваться,
344
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Идентичным образом государи, как правило, могут
прибегать к услугам наемных военачальников и солдат, которые
являются врагами народных правлений в силу их
природы. Для единовластного правителя война составляет норму,
и с наемниками он поддерживает длительные отношения.
Демократия же ведет войну только по необходимости,
пользуется наемными войсками только в чрезвычайной ситуации
и старается избавиться от них, по возможности ничего им не
платя, как только ситуация разрешается1. Нет смысла,
добавляет Бернардо, ссылаться на успех римлян в ведении войны
и внешнеполитических делах при народном правлении,
поскольку неочевидно, что их военные успехи были связаны
со структурой их правления. Учитывая, что последнее было
полно раздоров и беспорядка, оно не могло способствовать их
воинской virtù, которая при власти царей была не меньшей,
чем при liberté. Военная система римлян не являлась
следствием народного правления, но двояким образом содействовала
его успеху. Во-первых, она дала римлянам возможность
полагаться только на собственные силы и потому обходиться без
vigilanzia e diligenzia sottile*, необходимых тем, кто перед лицом
чужой власти должен полагаться на дипломатию. Во-вторых,
благодаря ей война и политика оказывались под контролем
консулов, опытных в военном деле людей, видевших в войне
источник своего гражданского авторитета и даже профессию
не связывает с ним надежд и не вступит с тобой в отношения,
предполагая, что в момент необходимости ты настолько же мало будешь
рассчитывать на его услуги, как он рассчитывает на твои».
1. Ibid. Р. 65: «Sanza ehe, molto manco si possono confidare de' capitani e de'
soldati, ehe possa fare uno solo, perché tra' soldati mercennari ed e' populi
è una inimieizia quasi naturale: questi se ne servono nella guerra, perché non
possono fare altro; fatta la pace non gli remuneranno, anzi gli scacciano e gli
perseguitano, pure ehe possino farlo; quegli altri, cognoscendo non servire
a nessuno, о pensano tenere la guerra lunga per cavare piu lungamente
profitto dalla sua nécessita, о voltono lo animo a gratificarsi col principe suo
inimico; о almeno gli servono freddamente...»; «Кроме того, еще меньше
они могут полагаться на единение с предводителями войска и
солдатами, потому что между наемными солдатами и народом всегда
будет вражда, заключенная в самой природе народного правления: они
прибегают к помощи наемников для ведения войны, только когда не
могут иначе; после заключения мира наемникам перестанут платить,
напротив, их изгонят и будут преследовать при малейшей
возможности; наемники же, зная, что станут никому не нужны, или будут
стараться затягивать войну, чтобы извлечь побольше выгоды из
необходимости ее вести, или перейдут на сторону враждебного государя;
в лучшем случае будут относиться к этой службе прохладно...».
2. Бдительность и кропотливое усердие (итпал.).—Прим. ред.
345
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
(bottega). Мы не можем подражать римлянам, если не
воспроизведем условия их гражданской жизни1.
Вне зависимости от того, был ли Гвиччардини знаком с
содержанием «Рассуждений» Макиавелли или споров в Садах
Оричеллари, его аргументацию можно интерпретировать лишь
как антитезу точке зрения Макиавелли. Следует отметить, что
он заранее уверен в невозможности вернуться к жизни
римлян, то есть сделать военную подготовку и дисциплину
частью гражданской личности каждого флорентийца. Во второй
книге Бернардо сокрушается об упадке гражданской милиции,
но утверждает, что возвращать его уже поздно2. Однако он не
утверждает, что возрождать его не следует, опасаясь уступить
народу слишком большую власть. Гвиччардини лишь
полагает, что Флоренция не может использовать военную мощь, но
должна существовать в мире государей и condottieri, опираясь
на дипломатическое искусство. Позже он отмечает, что если бы
римляне прибегали к помощи наемников и им пришлось бы
жить, «как живут невооруженные города», средствами ума, а не
оружия, то избранная ими форма правления в считанные годы
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 68: «Né mi allegate in contrario lo esemplo
de' romani, ehe benché avessino el governo libero e largo, acquistano tanto
imperio; perché... a me non pare ehe el modo del governo di Roma fussi di
qualità da fondare tanta grandezza; perché era composto in modo da partorire
moite discordi e tumulti, tanto ehe se non avessi supplito la virtù délie arme,
ehe fu tra loro vivissima ed ordinarissima, credo certo ehe non arebbono fatto
progresso grande. <...> ...e dove si fa el fondamento in sulle arme proprie,
massime eccellenti ed efïïcaci corne erano le loro, si puô intermettere quella
vigilanzia e diligenzia sottile ehe è necessaria a chi si regge in su le pratiche ed
aggiramenti. Né avevano allora e' capi délia città a durare fatica a persuadere
al popolo... perché erano uomini militari, e ehe non sapevano vivere sanza
guerra, ehe era la bottega donde cavavano ricchezze, onori e riputazione. Perô
non si puô regolare secondo questi esempli chi non ha le cose con le condizione
e qualità ehe avevano loro»; «Не приводите мне в качестве
противоположного примера римлян, которые завоевали столько земель, хоть у них
и было свободное и широкое правление; потому что... мне кажется,
что эти успехи не были обусловлены формой правления в Риме, ведь
она постоянно рождала раздоры и беспорядки, и если бы не военная
доблесть, которая там процветала и была обычным делом, я думаю,
что они бы не достигли больших результатов. <...> А если полагаться
на собственное войско, особенно такое незаурядное и искусное, как
римское, можно оставить в стороне ту бдительность и то кропотливое
усердие, необходимые тем, кто правит, опираясь на опыт и избегая
препятствий. И правителям города тогда было несложно убедить
народ... потому что римляне были воинами и не умели жить без войны,
это было ремесло, приносившее им богатство, почести и славу. Но
такими примерами нельзя руководствоваться тем, чье положение и чьи
качества отличаются от тех, что были присущи римлянам».
2. Ibid. P. 90-93·
346
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
привела бы их к краху1. Такого рода способности могут
проявлять только один человек или несколько, и форма правления
в città disarmata должна этому обстоятельству соответствовать.
Но и здесь Гвиччардини не произносит похвалу ottimati, а
указывает им на необходимость пересмотреть свои ценности.
Учредив форму правления, при которой власть получал Большой
совет, они опирались на virtù в том смысле, в каком ее
понимал Содерини. Тот факт, что военные и дипломатические
условия города не дозволяют им полагаться на virtù в значении
римской доблести в интерпретации Макиавелли, лишний раз
объясняет, почему от ottimati требуется именно
рассудительность. Бернардо замечает: теми, кто создал в Ц94 году такую
форму правления, двигали благие намерения, но они не могли
знать, чем обернутся их эксперименты:
...Этому не стоит и удивляться, ведь никто из них не видел
город свободным и не управлял нравами свободных людей;
те же, кто изучал свободу по книгам, не наблюдали и не
усваивали ее особенности, как могли это сделать познавшие ее на
опыте, который учит нас многому такому, что мы никогда не
постигнем с помощью учености или природного умаа.
Следует иметь в виду и то, что Флоренция — город уже старый,
а такие города с трудом поддаются реформам. Больших усилий
1. Ibid. P. I55: «Se avessino guerreggiato con le arme mercennarie ed in
consequenzia avuto a valersi come fanno le città disarmate, délia sollecitudine,
délia diligenzia, del vegghiare minutamente le cose, délia industria e délie
girandole, non dubbitate ehe vivendo drento corne facevano, pochi anni
la arebbono rovinata»; «Если бы они прибегали к помощи наемников
и, как следствие, им приходилось бы достигать успеха, как это
делают невооруженные города, посредством старания, усердия, внимания
к мельчайшим деталям, изворотливости и интриг, не сомневайтесь, что,
живя так, как жили, они бы в считанные годы пришли бы к краху».
2. Ibid. P. 8i: «Chi ha ordinato queste cose ha avuto buoni fini, ma non ha
avertito particularmente a tutto quello ehe bisognava; né me ne maraviglio,
perché non vive nessuno ehe abbi mai veduto la città libera, né ehe abbi
maneggiato gli umori délia libertà, e chi gli ha imparati in su' libri non ha
osservato tutti e' particulari e gustatigli, come ehe gli cognosce per esperienzia,
la quale in fatto aggiugne a moite cose dove la scienzia ed el giudicio naturale
solo non arriva»; «Te, кто это создал, преследовал благие цели, но не
принял во внимание все необходимое; этому не стоит и удивляться,
ведь никто из них не видел город свободным и не управлял нравами
свободных людей; те же, кто изучал свободу по книгам, не наблюдали
и не усваивали ее особенности, как могли это сделать познавшие ее
на опыте, который учит нас многому такому, что мы никогда не
постигнем с помощью учености или природного ума».
347
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
стоит удержать людей от возвращения к прежним дурным
порядкам1. Гвиччардини не упоминает законодателя-реформатора,
нечеловечески трудную задачу которого в подобных
обстоятельствах изобразил Макиавелли. В этом едва ли был смысл,
учитывая, что главной целью Гвиччардини было предписать
ottimati рассудительность и осмотрительность. Здесь Бернардо
заклинает своих слушателей отбросить честолюбие и
довольствоваться возможным. Вероятно, они поступили бы лучше,
если бы не стали свергать Медичи, но, коль скоро они это
сделали, то должны научиться справляться с последствиями
случившегося.
Однако если мы истолкуем первую книгу просто как совет
отказаться от virtù в пользу рассудительности или от
гражданского идеала в пользу квазимонархической власти правящей
группы, мы вряд ли окажемся готовы к тому, что ожидает нас во
второй книге. Здесь собеседники предлагают Бернардо изложить
свой взгляд на лучшую форму правления, какая возможна во
Флоренции после 1494 года. Он говорит о сложной системе
распределения власти между гонфалоньером, сенатом и Большим
советом, сознательно беря за основу пример Венеции как
образец конституции, объединяющий в себе три формы правления
и наилучший среди когда-либо существовавших политических
режимов. Вся его речь построена в духе классической и
гуманистической риторики. Бернардо обнаруживает эрудицию в
античной и современной истории, которая плохо сочетается с тем,
как ранее он отрицал свою ученость. Он с уважением
отзывается об идеале гражданской милиции, хотя, что немаловажно,
не считает возможным согласиться с ним. Однако больше всего
ставит в тупик его готовность согласиться с утверждением, что
один из критериев оценки любой формы правления —
успешное поощрение ею virtù в смысле, совершенно неотличимом от.
того, который вкладывал в нее Содерини. Создается
впечатление, что произошла радикальная смена взглядов.
Витторио Де Капрариис, один из наиболее проницательных
современных исследователей Гвиччардини, считал
неизбежным вывод, что вторая книга представляет собой
бессмысленное и неблагодарное погружение в мир идеала и (как и
«Заметки») не заключает в себе никакой пользы или ценности
для тех, кто изучает развитие его мысли2. Де Капрариис был
1. См. выше, глава V, прим. 2 на с. 184.
2. De Caprariis V. Francesco Guicciardini: dalla politica alla storia. P. 78-82.
348
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
блестящим комментатором и принадлежал к традиции кроче-
анского историзма. Его интересовал исключительно переход
Гвиччардини dalla politica alla storia, от разработки
конституционных моделей, которые обеспечили бы Флоренции
устойчивость, к точке зрения, нашедшей отражение в написанном
им позже масштабном историческом труде, что гражданская
жизнь флорентийцев и всех остальных жителей Италии
пребывает в потоке глубоких исторических изменений, которые
теперь они уже едва ли могут контролировать. Де Капрариис
был достаточно серьезным крочеанцем, чтобы понимать, что
человеческое само-сознание — это в сущности историческое
знание, ожидавшее лишь появления достаточно сильного
интеллекта, способного осознать, что жизнь человека протекает
в истории и нигде больше. Он выказывал явное нетерпение,
когда ему казалось, что Гвиччардини, так быстро движущийся
к этому открытию, уклоняется в сторону. Кроме того, он
утверждал — и справедливо, — что Гвиччардини в своем понимании
исключительно исторического существования ottirnati
основывался на тезисе, что их судьбы неразрывно связаны с Медичи.
Де Капрариис сделал акцент на тех фрагментах первой книги,
где Медичи и ottimati изображены как одновременно
наделенные верховной и взаимно ограничивающей властью,
усматривая здесь окончательный разрыв с традицией Аристотеля и По-
либия. Поэтому он не мог принять возвращения Гвиччардини
к этой линии мысли и к размышлениям о месте в ней ottimati,
составляющих тему второй книги. Это побудило исследователя
обвинить вторую часть «Диалога об управлении Флоренцией»
в смертном грехе неисторической «отвлеченности» (astrattezza)
и отрицать, что она имеет какое-либо значение.
Однако такое мышление не исторично само по себе. Люди,
подобные Гвиччардини, не столь наивны, чтобы кропотливо
сочинять конвенциональные тексты, если только сама эта
конвенция не имеет для них какого-то серьезного значения.
Проблема в том, чтобы выяснить, каким было значение.
Примерно в то же время, когда Гвиччардини работал над «Диалогом»,
Макиавелли написал «Рассуждение о способах упорядочения
дел во Флоренции после смерти герцога Лоренцо». В тексте
он выразил, по-видимому, искреннюю убежденность, что
духовные лица, возглавляющие теперь семью Медичи, — папа
Лев X и будущий папа Климент VII, — сами не могут стать
родоначальниками правящих династий, но несмотря на это,
они удовлетворились бы установлением во Флоренции такого
349
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
режима, при котором их род обладал бы своего рода
наследственным правом на роль Одного в системе, организованной
преимущественно по венецианскому образцу. Макиавелли
традиционно приписывают склонность к идеализму, которой не
было у Гвиччардини. Можно согласиться с Де Капрариисом1,
что, хотя Гвиччардини был бы счастлив, увидев, что
Медичи обладают властью в его воображаемой конституции, он не
ожидал, что они установят ее. После 1512 года он полагал, что
Медичи нуждались в ottimati, чтобы узаконить и упрочить
свое правление, но объективно они не зависели от поддержки
ottimati, а скорее наоборот. Существовала моральная
необходимость, но она не подкреплялась необходимостью политической.
Поэтому мы можем наблюдать, как Гвиччардини, который
писал свой «Диалог» в 1520—1521 годах, столкнулся с дилеммой,
обозначенной Джозефом Левенсоном как дилемма «ценности»
и «истории»2. То, что должно быть, не есть то, чему предстоит
произойти, но тем не менее важно утверждать должное. В
таких обстоятельствах заявить о своих ценностях — не
нереалистичная абстракция, а в точном смысле моральная
необходимость. Если ottimati и городу не суждено было обрести то, чего
требовала их природа, единственный способ оценить то, что
им предстояло получить, — это тщательно изучить, чем они
должны были обладать. Эта дихотомия оставляет место
двойственности ценностей, которую всегда чувствовал
Гвиччардини, размышляя о собственном сословии. В той обстановке, что
сложилась после 1512 года — или после 1494*го» — проявление
ambi&one со стороны ottimati, их стремление к опоге и virtù, могло
оказаться опасным и неуместным поведением. Но с точки
зрения ценностей и внутренней природы ottimati, надлежит дать
virtù свободный ход. Поэтому допустимо описывать vivere, во
многих отношениях основанную на virtù аристократии,
понятой как способ оценить — а значит, понять — мир, в котором
стратегией аристократии должна стать рассудительность. Мы
увидим, что последняя концепция остается в поле зрения на
протяжении всей второй книги и что завершается она
возвращением в сферу истории.
Таким образом, дабы проанализировать оставшуюся часть
текста Гвиччардини, мы должны посмотреть, как диалог между
virtù и рассудительностью порождает идеи, ставшие ключевыми
ι. De Caprariis V. Francesco Guicciardini: dalla politica alla storia. P. 71.
2. Levenson J. R. Introduction // Liang Ch'i-ch'ao and the Mind of Modern China.
Berkeley; Los Angeles, 1953 (второе издание —1959 год).
350
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИЫИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
для традиции республиканского конституционализма.
Подобная интерпретация будет поддерживать тезис о том, что данная
традиция во многом уходит корнями в политическую теорию
Аристотеля, понятую как «наука о добродетели». Как и в случае
с «Рассуждениями» Макиавелли, мы оказываемся в
концептуальном мире, связанном с такими формализованными
теориями, как циклическая модель Полибия, но не зависящем от них.
Одно из главных отличий обоих флорентийцев от их античных
учителей заключается в том, что первые уделяют особое
внимание родственным темам армии и гражданской добродетели.
В начале второй книги Гвиччардини переосмысляет понятие
virtù. Собеседники заговаривают о возможности возродить во
Флоренции традицию гражданской милиции. Каппони
утверждает, что народному правлению лучше, чем полагает Бернар-
до, удается сохранить власть города над окружающими
территориями, потому что оно воодушевит и привлечет к активному
участию больше граждан, чем governo stretto, особенно если они
вновь получат в руки оружие1. Бернардо — что вызывает
некоторое удивление, если в его речи мы должны слышать
интонации самого Франческо Гвиччардини, — соглашается, не
выражая особенного скепсиса, хотя характерным для него образом
не прибегает к аргументу, что несение каждым военной
службы способствует развитию virtù отдельного человека. Он
считает гражданскую армию выгодной для народного правления
по двум причинам: во-первых, она обеспечивает городу победу
над врагами, несмотря на внутренние конфликты, к которым
он предрасположен, а во-вторых, обретенные potenzia е virtù во
многом нейтрализуют слабости народного правления,
потому что вооруженное государство испытывает меньшую нужду
в vigilanzia и industrie?!, которые могут сообщить ему лишь
немногие3. Совершенно игнорировать связь между вооруженным
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. Р. 89-90.
2. Бдительность и изворотливость (итал.).— Прим. ред.
3- Ibid. Р. до: «Che Ιο essere armati di arme vostre fussi non solo utile ed el modo
di conservarvi, ma ancora el cammino di pervenire a grandezza eccessiva,
è cosa tanto manifesta ehe non accade provaria, e ve lo mostrano gli esempli
delle antiche republiche e della vostra ancora, ehe mentre ehe fu armata,
benché piena di parte e di mille disordini, dette sempre delle busse a' nostri
vicini e getto e' fondamenti del dominio ehe noi abbiamo, mantenendosi
secondo e' tempi e condizione di allora, in sicurtà e riputazione grandissima.
Ε la potenzia e virtù ehe vi darebbono le arme vostre quando fussino bene
ordinate, non solo sarebbe contrapeso pari a' disordini ehe io temo ehe abbi
a recare questa larghezza, ma di gran lunga gli avanzerebbe, perché chi ha
le arme in mano non è necessitato reggersi tanto in su la vigilanzia ed in
351
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
народом и virtù нельзя. Бернардо думает, что отказ от
гражданской милиции, если причиной его не послужило преследование
народом знати — класса военачальников, — явилось делом рук
предводителей различных группировок. Они полагали, что их
власть будет в большей безопасности, если народ не станет
носить оружия и окажется слишком поглощен делами, чтобы
думать о возможности подвергнуть себя риску1. Сколько бы вреда
это ни причинило, Бернардо не питает особых надежд на
восстановление ополчения. Дабы изменить привычки и ценности
народа, потребуется много лет хорошего правления, на
протяжении которых (взгляд на 1512 год) риск полагаться на
воссозданное несовершенное ополчение был бы слишком велик2.
В реальных условиях город разоружен, и требуется, чтобы
им управляли благоразумные люди; в мире же, которым
управляют нормативные ценности, гражданская милиция могла бы
стать основой гражданской virtù. Хотя Гвиччардини
допускает, что гражданская армия способна сделать народное
правление сильным и успешным, он не согласен с утверждением, что
наиболее сильная и успешная форма правления — народная,
su la industria délie pratiche»; «Создание народного ополчения не
только было бы полезно и служило бы для сохранения государства, но
и стало бы путем к чрезмерному величию; это настолько ясно, что
не нуждается в доказательствах, и это вам показывает пример
древних республик, а также вашей, которая, когда у нее было собственное
войско, хоть и при наличии множества внутренних раздоров и
беспорядков, всегда досаждала нашим соседям и заложила основу тех
владений, которые у нас есть, сохраняя, согласно особенностям тех
времен и тогдашнему положению, собственную безопасность и великую
славу. И мощь и доблесть, которые дало бы вам наличие
собственного войска, если держать его в порядке, не только способствовали бы
уменьшению беспорядков, которые, боюсь, сопряжены со свободой, но
и дали бы много дополнительных преимуществ, потому что при
наличии вооруженного ополчения нет такой необходимости опираться
в правлении на бдительность и на изворотливость в делах».
ι. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 90-91: «La cagione di questa mutazione
bisogna ehe nascessi о dalla oppressione ehe fece el popolo a' nobili, e' quali
avevano grado e riputazione assai nella milizia, о pure ordinariamente dagli
altri ehe tennono per e' tempi lo stato, parendo loro poterlo meglio tenere
se la città era disarmata, о da comminciare el popolo a darsi troppo aile
mercatantie ed aile arte e piacere piu e' guadagni per e' quali non si metteva
in pericolo la persona»; «Причину этой перемены следует искать или
в притеснениях народом знатных людей, которые занимали важные
должности и пользовались славой в войске, или в обычном поведении
тех, кто временно главенствует в городе, поскольку им кажется, что его
легче держать в руках, если горожане безоружны, или же в том, что
народ слишком увлекся торговлей и ремеслами и стал предпочитать
такие способы заработать, которые не подвергают людей опасности».
2. Ibid. Р. 92.
352
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
поскольку она способствует созданию гражданской армии. Бер-
нардо повторяет ранее высказанную мысль, что римская
военная дисциплина ничем не обязана народной форме
правления. В те дни жители всех городов в Италии носили оружие:
дисциплину учредили цари, а республика лишь поддержала
ее1. Думая об аргументе, который отвергает Бернардо,
трудно выразить его иначе, чем он представлен в «Рассуждениях»
Макиавелли. Это впечатление усиливается, когда в конце
второй книги разговор снова возвращается к Риму. В
пространной дискуссии8, по-видимому происходящей уже после того,
как основная тема диалога исчерпана, Пьеро Гвиччардини
заводит речь о связях между беспорядками в молодой
республике и вооружением народа. У римлян имелась buona milizia,
говорит он, посему у них должны были быть buoni ordini. Им
была присуща grandissima virtu, следовательно — buona edueazione,
а значит, и buone leggi. Межсословные распри не так страшны,
какими они выглядят. Они не повлекли за собой серьезных
беспорядков3. Сенат, по численности значительно уступавший
ι. Ibid.
2. Ibid. P. 148-158.
3. Ibid. P. 148: «...ponendo quello fondamento ehe nessuno nega né puo negare,
ehe la milizia sua fussi buona, bisogna confessare ehe la città avessi buoni
ordini, altrimenti non sarebbe stato possibile ehe avessi buona disciplina
militare. Dimostrasi ancora perché non solo nella milizia ma in tutte le altre
cose laudabili ebbe quella città infiniti esempli di grandissima virtu, e' quali
non sarebbono stati se la edueazione non vi fussi stata buona, né la edueazione
puo essere buona dove le leggi non sono buone e bene osservate, e dove
sia questo, non si puo dire ehe l'ordine del governo sia cattivo. Dunche ne
seguita ehe quegli tumulti tra e' padri e la plebe, tra e' consuli ed e' tribuni,
erano piu spaventosi in dimostrazione ehe in effetti, e quella confusione ehe
nasceva non disordinava le cose sustanziali della republica»; «...на том
основании— которое никто не отрицает и не может отрицать, — что
у них было хорошее войско, нужно признать, что в городе были
добрые порядки, иначе было бы невозможно достичь хорошей военной
дисциплины. Это доказывает не только военная организация, но и все
остальные похвальные черты этого города, которые привели к
многочисленным проявлениям величайшей доблести; все это не было бы
возможно, если б у них не было правильного воспитания, а
воспитание не может быть хорошим там, где нет хороших законов и где они
не соблюдаются, и при наличии всего этого невозможно не
утверждать, что у них плохо устроено правление. Таким образом, из этого
следует, что распри между сенаторами и плебсом, между консулами
и трибунами выглядели более значительными, чем были на самом
деле, и все эти волнения не влекли за собой беспорядка в важных
делах республики». Ср.: «Né si puo chiamare in aleun modo con ragione
una republica inordinata, dove sieno tanti esempli di virtù, perché li buoni
esempli nascano dalla buona edueazione, la buona edueazione dalle buone
leggi, e le buone leggi da quelli tumulti ehe molti inconsideramente dannano;
perche chi esaminerà bene il fine d'essi, non troverrà ch'egli abbiano partorito
353
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
народу, мог либо оставить его невооруженным ценой
ослабления армии, либо пойти на уступки их umori1, дабы заручиться
их военной и политической поддержкой2. Несомненно, лучше
оставить народ при оружии и ждать от него спокойствия.
Однако в социальном мире даже самое совершенное дело
сопровождается нежелательными побочными эффектами3. Поэтому
alcuno esilio о violenza in disfavore del commune bene, ma leggi e ordini in
benefîcio délia publica libertà» (Machiavelli N Opere. P. 102; Discorsi I, 4);
«Нет также никаких оснований хулить устройство республики,
явившей столько образцов доблести; ведь добрые примеры проистекают из
хорошего воспитания, правильное воспитание — из хороших законов,
а последние — из тех самых беспорядков, что подвергаются столь
необдуманному осуждению. Ведь если рассмотреть, к чему они
приводили, то мы не можем сказать, что кто-либо подвергался изгнанию или
насилию, ущемляющим общее благо; напротив, принимались законы
и установления на пользу гражданской свободе» (Макьявелли Н.
Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. С. 150).
1. Нравы, желания, намерения (итал.).—Прим. ред.
2. Guicciardini F. Dialogo e discorsi. P. 148-149: «Di poi essendo el numéro
del senato piccolo, quello del popolo grandissimo, bisogna ehe e' romani si
disponessino о a non servire del popolo nelle guerre, il ehe arebbe tolto loro
la occasione di fare quello grande imperio, о volendo potere maneggiarlo,
gli comportassino qualche cosa e lasciassingli sfogare gli umori suoi, ehe
non tendevono a altro ehe a difendersi dalla oppressione de' piu potenti ed
a guardare la libertà commune»; «И потом, поскольку сенаторов было
немного, а народ был многочисленным, то римлянам или нужно было
отказаться от участия народа в войнах, что лишило бы их
возможности создать ту великую империю, или же, чтобы иметь возможность
использовать народ в своих целях, пойти на некоторые уступки и
исполнить его желания, которые заключались не в чем ином, как в защите
от притеснения самых могущественных людей и сохранении всеобщей
свободы». Ср.: «...le quali cose tutte spaventano non ehe altro chi legge; dico
corne ogni città debbe avère i suoi modi con i quali il popolo possa sfogare
Pambizione sua, e massime quelle città ehe nelle cose importanti si vogliono
valere del popolo... <...> Ε i desiderii d' popoli liberi rade volte sono perniziosi
alla libertà, perché e' nascono о da essere oppressi, о da suspizione di avère
ad essere oppressi» (Machiavelli N. Opère. P. 102; Discorsi I, 4); «Если же
возразят, что все это достигалось вовсе не мирными и
законопослушными действиями и что читающему о них представляется довольно
устрашающее зрелище... я скажу, что народу должно быть позволено
каким-то образом утолить свои амбиции во всяком городе, тем более
в таком, где от него многое зависит... <...> Но требования свободных
народов редко покушаются на вольность; их вызывает к жизни
угнетение или угроза установления гнета» (Там же. С. 150-151).
3- Guicciardini F. Dialogo e discorsi. P. 148-149: «Né negano ehe se si fussi potuto
trovare uno mezzo ehe sanza avère el popolo tumultuoso si fussino potuti
valere di lui alla guerra, sarebbe stato meglio; ma perché nelle cose umane
è impossibile ehe una cosa sia el tutto buona sanza portare seco qualche
mali, è da chiamare buono tutto quello ehe sanza comparazione ha in se
piu bene ehe male»; «И они не отрицают, что если б было возможно
найти средство использовать народ для войн, не побуждая к
народным волнениям, то было бы лучше; но поскольку в человеческих
делах невозможно, чтобы что-то было настолько совершенным, что не
354
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
беспорядки в Риме происходили более от природы вещей, чем
от какого-либо изъяна в конституции. Трибуны, принимавшие
меры для защиты народа от сената, успешно сдерживали эти
беспорядки, и Бернардо вполне мог включить подобный
механизм в свою модель идеальной конституции1.
Очень трудно поверить, что Гвиччардини, заканчивая
работу над «Диалогом», не был знаком с текстом «Рассуждений»
Макиавелли. В любом случае, доводы, которые он
вкладывает в уста своего отца и которые Бернардо опровергает, по сути,
как раз являются доводами Макиавелли, знал он об этом или
нет. Важно отчетливо понимать, что именно он старался
опровергнуть: во-первых, тезис, по которому борьба между
сословиями служила неизбежным следствием вооружения народа;
во-вторых, мысль о том, что трибунат был средством
сдерживания этой борьбы; в-третьих, утверждение, согласно
которому воинская отвага римлян есть аргумент в пользу народного
правления. Первое возражение Бернардо заключается в том,
что неистовство плебеев не объяснялось простой
самоуверенностью вооруженных людей, а было вызвано определенными
изъянами общественного строя. Патриции составляли
обособленный класс наследной знати, которая забрала в свои руки
все почести и должности и официально лишила этих
возможностей плебеев. Кроме того, они обращались с последними
высокомерно и деспотически, в особенности в долговых вопросах.
При власти царей все эти условия сохранялись и из народа
несло бы с собой какого-то вреда, хорошим следует называть все то,
что заключает в себе несравнимо больше добра, чем зла». Ср.: «Ed in
tutte le cose umane si vede questo, chi le esaminerà bene, ehe non si puo mai
cancellare uno inconveniente, ehe non ne surga un altro. Pertanto se tu vuoi
fare uno popolo numeroso ed armato, per poter fare un grande imperio, la
fai di qualità ehe tu non Ιο puoi maneggiare a tuo modo; se tu lo mantieni
о piccolo о disarmato per poter maneggiarlo, se tu acquisti dominio, non
lo puoi tenere, о ei diventa si vile ehe tu sei preda di qualunque ti assalta,
e pero in ogni nostra deliberazione si debbe considerare dove-sono meno
inconvenienti, e pigliare quello per migliore partito, perché tutto netto, tutto
sanza sospetto non si truova mai» (Machiavelli N. Opère. P. 107-108; Discorsi
I, 6); «Как и во всех людских предприятиях, невозможно избавиться от
одного неудобства, чтобы тут же не возникло другое. Если ты хочешь
видеть народ вооруженным и многочисленным, готовым завоевать
обширные владения, то потом не сможешь с ним управиться; если же
сдерживать его численность или разоружить его, чтоб удобней было
управлять, то, приобретая новые владения, ты не сможешь их
удержать, и никчемность народа сделает тебя жертвой первого нападения.
Но из всех возможных решений нам следует выбирать то, которое
сулит меньше неудобств, потому что никогда нельзя рассчитывать, что
все пойдет без сучка без задоринки» (Там же. С. 155)·
I. Guicciardini F. Dialogo e discorsi. P. 148-149.
355
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
сформировали армию. Впрочем, открытых столкновений
тогда не происходило: цари использовали высшие полномочия,
чтобы защитить плебс от аристократии, и позволили
большому числу плебеев войти в состав сената. Когда их власть пала,
ведущие представители плебса обнаружили, что их классовые
враги преградили им дорогу ко всем должностям, а выходцы
из plèbe bassa1 поняли, что лишились единственного
заступника. Разгорелся конфликт, потому что последние поддерживали
первых в их борьбе за должности. Однако город был еще молод,
и фортуна благоприятствовала ему. Бедствия, проистекающие
из такого положения дел, вовремя обратили на себя внимание,
а средство для избавления от них было очевидным. Патриции,
пусть неохотно, постепенно уступали — опять же, по милости
судьбы, они были очень немногочисленны — и открывали
предводителям плебеев доступ ко все большему числу магистратур.
По мере того, как это происходило, представители plèbe bassa
удовлетворялись тем, что должности займут другие, коль скоро
их жизнь и имущество были в безопасности. Постепенно
утратил свою значимость и трибунат. Остается сделать вывод, что
всей этой борьбы, включая и потребность в трибунах, можно
было избежать с самого начала, если бы патриции и плебеи
сразу получили равные полномочия. Причинно-следственная
связь между вооружением народа и существующей
межсословной враждой отсутствовала*.
ι. Низшие слои (итал.). — Прим. ред.
2. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 150-153. Следующий отрывок
показывает, что Гвиччардини, критикуя «Рассуждения», действует в очень
схожем понятийном поле: «Е certo se voi leggete le antiche istorie, io non
credo ehe voi troviate mai о rarissime volte ehe una città in una ordinazione
medesima sia stata ordinata perfettamente; ma ha avuto qualche principio
non perfetto, e nel processo del tempo si è scoperto quando uno disordine
quando un altro, ehe si è avuto a correggere. Pero si puo dire con verità
ehe a ordinäre una bella republica non basta mai la prudenzia degli uomini,
ma bisogna sia accompagnata dalla buona fortuna di quella città, la quale
consiste ehe e' disordini ehe scuopre la giornata ed esperienzia si scuoprino
in tempo ed in modo e con tale occasione ehe si corregghino» (Ibid. P. 153);
«И, конечно, если вы будете читать древнюю историю, я не думаю, что
вы найдете, разве что в редчайших случаях, упоминаний о том, что
город с неизменным общественным устройством всегда управлялся
образцовым образом; чаще всего в строе заключалось какое-то
несовершенство, и со временем выходила наружу то одна, то другая
неполадка, и приходилось ее исправлять. Но можно сказать, что
поистине для установления порядка, необходимого для хорошей республики,
одного благоразумия людей всегда недостаточно, оно должно всегда
сопровождаться удачей, благоприятствующей городу, а она
заключается в том, чтобы неполадки, обнаруживаемые в силу происшествий
и опыта, обнаруживались вовремя, правильно и при таких
обстоятельствах, чтобы их можно было устранить».
356
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Что касается воинской virtù римлян, то она не
подразумевала, что ordini и leggi, при которых она процветала и которые
якобы послужили ее причиной, были хороши. Военные успехи
римлян, по словам Бернардо, обусловлены costumi — любовью
к славе, любовью к patria, а их он объясняет причинами скорее
исторического, чем институционального характера. Город был
беден и окружен врагами. Когда они были повержены и вошли
в состав империи, которой сопутствовали богатство и роскошь,
началось разложение, и необузданные пороки расцвели при
лучшем законодательстве, какое только можно себе представить1.
Очевидно, Гвиччардини полагал, что воинская virtù и
гражданская милиция могут существовать без народного
правления и скорее сами приводили к последнему, чем были на нем
ι. Ibid. P. I57: «Né io ho biasimato el governo romano in tutti gli ordini suoi
anzi oltre al laudare la disciplina militare, laudo e' costumi loro ehe furono
ammirabili e santi, lo appetito ehe ebbono della vera gloria, e lo amore
ardentissimo della patria, e moite virtù ehe furono in quella città piu ehe mai
in alcuna altra. Le quali cose non si disordinorono per la mala disposizione
del governo nelle parti dette di sopra, perché le sedizioni non vennono a quegli
estremi ehe disordinano tutti e' béni délie città, ed el vivere di quella età
non era corrotto come sono stati e' tempi sequenti massime sendo la città
povera e circundata di inimici ehe non gli lasciava scorrere alle delizie ed
a' piaceri; in modo ehe io credo ehe non tanto le legge buone, quanto la
natura degli uomini e la severità di quegli antichi tempi... producessino
quelle virtù e quelli costumi tanto notabili e la conservassino lungamente
sincera da ogni corruzione di vizi. Vedete ehe ne' tempi sequenti la città fu
sempre meglio ordinata di legge ed era unita e concorde, e pure gli uomini
andorono imbastardendo, e quelle virtù eccellente si convertirono in vizi
enormi, e' quali non nascono dalle discordie della città, ma dalle ricchezze,
dalle grandezze degli imperi e dalle sicurtà»; «Я не порицал все порядки
римского строя, более того, я восхваляю не только их военную
дисциплину, но и их нравы, праведные и достойные восхищения, их
стремление к истинной славе, и пылкую любовь к родине, и
множество добродетелей, которыми этот город был наделен более, чем
любой другой. Но все это пришло в упадок не из-за ошибочных решений
в управлении, о которых было сказано выше, поскольку восстания
никогда не приводят к таким крайним последствиям, что способны
разрушить все хорошее, что есть в городе, и общество в то время не
было так развращено, как в последующие периоды, особенно когда
город был беден и окружен недругами, что не давало ему
предаваться наслаждениям и удовольствиям; таким образом, я считаю, что не
столько хорошие законы, сколько людская природа и суровые условия
тех древних времен... привели к торжеству тех добродетелей и столь
замечательных нравов и долгое время сохраняли город неподвластным
разложению и порокам. Вы можете видеть, что в последующие эпохи
в законах города становилось все больше порядка, царило единение
и согласие, и тем не менее началась порча людских нравов, и те
выдающиеся добродетели превратились в ужасные пороки, причиной чему
стали не внутренние раздоры, а богатство, величие империи и
устойчивое положение».
357
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
основаны. Впрочем, он не доходит до утверждения, что
следовало бы избегать создания гражданской милиции, ибо оно
неминуемо ведет к безумствам народного правления; на самом
деле его доводы формально несовместимы с такой позицией.
Он против народной власти во Флоренции, потому что город
нельзя вооружать. Он не говорит, что его не следует вооружать
исходя из нормативных оснований; его нельзя вооружать по
причинам историческим. Это рано или поздно вернет нас к теме
рассудительности. Однако спор о virtu еще далеко не закончен.
Критика Гвиччардини учрежденного патрициями порядка
свидетельствует, что его симпатии к аристократии сочетались
с категорическим отказом признавать монополию на
должности за каким-либо классом, строго определенным с правовой
или институциональной точки зрения. Он (по крайней мере
в своих работах) не поддерживал олигархию и его совершенно
не интересовало закрепление статуса благородного сословия.
Построенная им элитарная модель правления в каждом пункте
анализа является соревновательной меритократией, в которой
те, кто наделен virtu — какую бы роль социальное положение
ни играло в ее развитии, — получают и сохраняют за собой
политические права, публично демонстрируя это качество,
приобрести и проявить которое можно лишь в гражданской и
политической деятельности1. Кроме этой роли, флорентийским
ottimati оставалось лишь сотрудничество с Медичи. Впрочем,
даже при таком положении дел Медичи сменили popolo в
качестве судей, оценивающих проявления virtu, хотя сама природа
ι. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 93: «[Soderini:] Ε quegli ingegni phi
elevati ehe sentono piu ehe gli altri el gusto della vera gloria ed onore, aranno
occasione e libertà di dimostrare ed esercitare piu le sue virtù. Di ehe io tengo
conto non per satisfare о fomentare la ambizione loro, ma per beneficio della
città, la quale... si troverrà ehe sempre si regge in su la virtù di pochi, perché
pochi sono capaci di impresa si aita, ehe sono quegli ehe la natura ha dotati
di piu ingegno e giudicio ehe gli altri. <...> ...la gloria ed onore vero... consiste
totalmente in fare opere generöse e laudabili in beneficio ed esaltazione
della sua patria ed utilità degli altri cittadini, non perdonando né a fatica né
a pericolo»; «А те величайшие умы, что сильнее всех испытывают
любовь к истинной славе и почестям, получат возможность и свободу
показать и проявить свои добрые качества. Я учитываю это не для того,
чтобы удовлетворить или разжечь их честолюбие, но для блага города,
который... будет всегда опираться на добродетели немногих, поскольку
лишь немногие способны на такие высокие деяния, а именно те, кто
от природы наделен большим умом и рассудительностью, чем другие
люди. <...> ...слава и истинные почести... заключаются
исключительно в щедрых поступках, похвальных в силу того, что они служат благу
и славе родины и приносят пользу остальным гражданам, при этом
они совершаются невзирая на трудности и опасности».
358
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
virtù при этом коренным образом не менялась. Если virtù не
приписывается1, но должна быть приобретена,
продемонстрирована и признана, в политической системе, основанной на
ней, необходима определенная открытость.
Более того, в ходе анализа virtù становится ясно, что одной
из основных ценностей подобной политической системы
должно стать величие. Вслед за дискуссией о народном ополчении
в начале второй книги Содерини вновь берет слово, дабы
высказаться в пользу virtù, как он ее понимает. В ответ на ранее
изложенные Бернардо аргументы он настаивает, что
недостаточно определить libertà как положение дел, при котором каждый
человек может под защитой закона пользоваться тем, что имеет,
не будучи обязанным могущественному покровителю или не
боясь влиятельного угнетателя. Это, полагает он, в сущности,
частный идеал, не вполне благоприятствующий духу res publica.
Содерини выступает за правление libertà и virtù, то есть такое
правление, где необычайно талантливым немногим дозволено
удовлетворять жажду опоге, стяжать которую можно, только
совершая на глазах общества выдающиеся поступки, полезные
для patria и общего блага. Свобода в его понимании — это
свобода элиты в полной мере развивать свою virtù. Именно этот
аргумент дает понять, насколько virtù стала неотличима от
опоге. Необходимо, продолжает Содерини, думать о чести,
величии и достоинстве и ставить generontà и amplitudine* выше
одной лишь utilité?. Может быть, города и основываются, дабы
оберегать безопасность и удобство (commodità) отдельных
людей. Однако именно потому, что это цели — частные, города
не могут устоять, если их граждане и правители не стремятся
возвеличить и прославить их, а сами приобрести среди других
народов репутацию generosi, ingegnosi, virtuosi е prudenti4
(внимание читателя особенно привлекают последние два эпитета).
В отдельном индивиде нас восхищают смирение, умеренность
и скромность, но в делах общественных нужны такие качества,
как щедрость, величие и слава5. Опоге не просто является целью
1. По рождению или статусу. — Прим. ред.
2. Щедрость и величие (итпал.). — Прим. ред.
3· Полезность (итпал.). — Прим. ред.
4· Щедрые, изобретательные, добродетельные и рассудительные (итпал.). —
Прим. ред.
5- Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 94-95: «...al bene essere di una città
si abbi a considerare non solo ehe la sia governata giustamente e sanza
oppressione di persona ed in modo ehe gli uomini godino el suo con sicurtà,
ma ancora ehe la abbia uno governo tale ehe gli dia dignità e splendore:
359
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
libertà. Утрата последней прежде всего страшна позором и
бесчестием, особенно для города, общественное устройство
которого предполагает свободу и который hafatta questa prqfessione1.
Разумеется, это крайнее проявление основанной на чести
системы ценностей, которую многие сочли бы типичной для
«человека эпохи Возрождения». Однако не следует забывать,
что даже здесь опоге представляет собой форму гражданской
virtu. Она приобретается в служении общему благу. Стремясь
к ней и сопутствующим ей ценностям больше любых других,
мы провозглашаем первостепенное значение общего блага.
Примечательно, что республиканские и патриотические
ценности выражаются посредством отвечающих личным
интересам идеалов, таких как честь, репутация, благородство, а не
посредством разделяемого с другими социального и
гораздо более традиционного идеала справедливости. Кроме того,
можно заметить, что для Содерини высшая значимость libertà,
опоге и virtù исторически обусловлена и определена выбором
человека, а не присуща ему изначально и по природе как
perché el pensare solo alio utile ed a godersi sicuramente el suo, è piu
presto cosa privata ehe conveniente a uno publico, nel quale si debbe...
considerare piu quella generosità ed amplitudine ehe la utilità. Perché se
bene le città furono instituite principalmente per sicurtà... la commodità ehe
ricerca la vita umana, nondimeno si appartiene pensare... in modo ehe gli
abitatori acquistino... riputazione e fama di essere generosi, ingegnosi, virtuosi
e prudenti; perché el fine solo délia sicurtà e délie commodità è conveniente
a' privati considerandogli a uno per uno, ma piu basso e piu abietto assai di
quello ehe debbe essere alla nobilita di una congregazione. <...> Perô dicono
gli scrittori ehe ne' privati si lauda la umilità, la parsimonia, la modestia,
ma nella cose publiche si considéra la generosità, la magnificenzia e lo
splendore»; «...для благосостояния города нужно принимать во
внимание не только необходимость управлять им справедливо, и без
притеснений, и так, чтобы люди могли в безопасности пользоваться тем, что
им принадлежит, но и необходимость такой формы правления,
которая бы обеспечила ему достоинство и славу: потому что заботы лишь
о собственной выгоде и о безопасном пользовании тем, что человеку
принадлежит, относятся более к частной сфере, нежели к
общественной, которая требует... принимать во внимание щедрость и величие
больше, чем полезность. Потому что, хотьторода были основаны
прежде всего для обеспечения безопасности... для достижения удобства,
к которому люди стремятся в жизни, тем не менее надлежит думать...
о том, чтобы жители приобрели... славу и доброе имя, будучи
щедрыми, изобретательными, добродетельными и благоразумными; потому
что безопасность и удобство как единственные цели подходят частным
лицам, каждому по отдельности, но это слишком мелкие и низменные
цели по сравнением с благородством, необходимым для объединения
людей. <...> Но в книгах написано, что в частном человеке ценят
смирение, бережливость и скромность, но в общественных делах имеют
значение щедрость, величие и слава».
I. Сделал это своим жизненным правилом (итал.).—Прим. ред.
Збо
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
политическому существу. Он возвращается к мысли Бернардо,
что при оценке любой формы правления следует учитывать
последствия, к которым она ведет, а не то, является ли libertà
одним из ее формальных компонентов. Содерини отмечает,
что, может быть, это и справедливо для недавно созданного
города, но когда город настолько привержен свободе, что она
стала частью его естества (здесь используется понятие naturale,
а не natura\ насильственно лишиться свободы для него
совершенно невыносимо1. Как выразился сам Бернардо по другому
поводу, это лишило бы город его души. Здесь мы
возвращаемся к ключевой концепции флорентийской теории свободы:
какая бы форма правления ни была лучшей с теоретической
точки зрения, активное участие в правлении по природе
присуще Флоренции, но подразумевается при этом, как всегда,
«вторичная», «приобретенная» природа.
Содерини признает, что свобода вытекает из самой истории
Флоренции, и это роднит его позицию со взглядами Бернардо.
Когда он предлагает последнему изложить свои представления
о лучшей для Флоренции форме правления, Бернардо не
только соглашается исполнить эту просьбу — которую отклонил бы
в первой книге, — но и явно стремится к тому, чтобы включить
в свою модель идеал свободы Содерини. Он подчеркивает, что
речь идет не об абстрактной лучшей форме правления —
вероятно, монархии, — о которой можно говорить лишь в связи
с недавно основанным городом, а об устройстве, наиболее
подходящем для Флоренции как она есть. Здесь имеется в виду
город, который настолько «сделал свободу своим призванием», что
систему, где исключительную роль играет один или немногие,
I. Ibid: «Dunche quando voi dite ehe chi ha trattato de' buoni governi non
ha avuto questo obietto ehe le città siano libère, ma pensato a quello ehe fa
migliori effetti... io crederrei ehe questo fussi vero, quando da prineipio si
edifïca ο instituisce una città. <...> Ma quando una città e già stato in libertà
ed ha fatta questa professione, in modo ehe si puô dire ehe el naturale suo sia
di essere libera, allora ogni volta ehe la si riduce sotto el governo di uno, non
per sua volunta о elezione, ma violentata... questo non puô accadere sanza
scurare assai el nome suo ed infamarla appresso agli altri»; «Следовательно,
когда вы говорите, что те, кто рассуждал о хороших правлениях, не
принимал в расчет свободу городов, а думал лишь о том, какое правление
дает лучшие последствия... я бы согласился, что это так, когда речь
идет о только что построенных или основанных городах. <...> Но
когда город уже был свободным и сделал это своим жизненным правилом,
и таким образом можно утверждать, что свобода для него естественна,
то каждый раз, когда он оказывается под властью одного, не по
собственной воле или выбору, но насильственным путем... это не может
произойти, не омрачая его имени и не позоря его в лицах других».
Зб1
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
можно навязать ему только силой. Дабы избежать бед, худшие
из которых сулит олигархия, следует возложить надежды на
народное правление. Будучи в теории наихудшим из
приемлемых форм правления, оно proprio и naturale для Флоренции
и в наименьшей степени требует насильственного
принуждения. Кроме того, если бы мы думали учредить народное
правление в новом городе, то могли бы обратиться к философским
доктринам и урокам исторических хроник. Тем не менее,
поскольку мы размышляем о городе уже существующем, нам
надлежит принимать в расчет «природу, качества, обстоятельства
(considerazione), наклонности и, если мы хотим выразить все эти
понятия одним словом, нравы (итогг — Монтескье, вероятно,
сказал бы esprit) города и его граждан». Знание этих umori
нельзя приобрести, изучая историю по книгам. Здесь Гвиччардини
проводит свою излюбленную аналогию с врачом, который, хотя
и обладает большей свободой, нежели государственный деятель,
поскольку может выбрать для пациента любые лекарства, тем
не менее прописывает лишь те из них, которые способствуют
излечению недуга и которые способен перенести организм
пациента «с учетом его состояния и других свойств»1. Не
поясняется, как врач приобретает знания о complessione и accidentia но
логично предположить, что из практического опыта.
Предметом разговора становится доктрина случайностей,
которая позволяет Бернардо принять предлагаемую Содерини
систему ценностей как часть мира, с которым ему приходится
иметь дело. Для реальной Флоренции характерна приобретенная
ι. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 97-99 (особенно P. 99): «...non abbiamo
a cercare di uno governo immaginato... ma considerate la natura, la qualità, le
considerazioni, la inclinazione, e per strignere tutte queste cose in una parola,
gli umori, délia città e de' cittadini, cercare di uno governo ehe non siamo
sanza speranza ehe pure si potessi persuadere ed introducere, e ehe introdotto,
si potessi secondo el gusto nostro comportare e conservare, seguitando in
questo lo esemplo de' medici ehe, se bene sono ρίύ liberi ehe non siamo
noi, perché agli infermi possono dare tutte le medicine ehe pare loro, non
gli danno perô tutte quelle ehe in se sono buone e lodate, ma quelle ehe lo
infermo secondo la complessione sua ed altri accidenti è atto a sopportare»;
«...нам не нужно искать воображаемое правление... но, учитывая
природу, качества, обстоятельства, наклонности и, если мы хотим
выразить все это одним словом, настроения города и его граждан, искать
такое правление, которое есть надежда, убедив в его
целесообразности, установить, а установив, выдерживать и сохранять согласно
нашему вкусу, следуя в этом примеру врачей, которые хоть и свободнее
нас, поскольку могут дать больным любые лекарства, какие хотят, но
не дают им все те, которые сами по себе хороши и заслуживают
хвалы, но лишь те, который больной в силу своего состояния и других
свойств способен хорошо перенести».
36Q
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
вторичная природа, переплетение свойств, сложившихся
благодаря опыту, привычке и традиции, которые можно познать
лишь эмпирически. Эта ткань вторичных свойств
воплощает ценности, на которые ссылается Содерини: equalità, libertà,
опоге и virtù. Бернардо, в первой книге склонный отвергать их
ради скрупулезного анализа предсказуемых последствий
конкретных правительственных решений, теперь готов принять
их как факты, то есть как ценности, которые флорентийцы
(будучи такими, какие они есть) не могут не признавать. Более
того, он готов признать их ценностями с той оговоркой, что
к этому его побуждает лишь необходимость изучать
флорентийскую действительность. Он относится к ценностям
эмпирически; он согласен построить модель правления, основанную
на гражданской virtù, поскольку благоразумно учитывать
особенности натуры флорентийцев, одним из элементов которой
является приверженность virtù.
Гвиччардини здесь помещает ottimati и их ценности не в
предельно конкретный исторический контекст, обусловленный
событиями 1494 и !512 годов, а в ситуацию, обусловленную
привычками и традициями, в которой приобретаются случайные
свойства и вторичная природа. Можно согласиться с Де Ка-
прариисом, что здесь он отклонился от строгого историзма.
Впрочем, можно возразить, что использованный им контекст
подходил, чтобы представить ценности аристократии на
историческом фоне и, когда это было сделано, конституция,
обрисованная во второй книге «Диалога», оказалась менее
отвлеченной и далекой от реальности, чем, по-видимому, полагал
Де Капрариис. Хотя, как мы увидим, Гвиччардини и в самом
деле не предполагал, что она получит историческое
воплощение. В первой книге ottimati предлагался выбор между опоге как
разновидностью гражданской virtù и рассудительностью,
которая, возможно, требовала признать, что в реальности
правление Медичи разрушило основы гражданского коллектива и его
ценности. Во второй книге существующим свойствам
аристократии придается первостепенное значение. Признается, что ее
ценностями являются libertà, опоге и virtù и предпринимается
попытка определить, какого типа конституционной
структуры они требуют. Но Бернардо начал с утверждения, что они
представляют собой не столько сущностные, сколько
обусловленные обстоятельствами качества, часть реального мира,
которую благоразумно признать. Он напоминал об этом ottimati,
равно как и самому себе. Ottimati должны согласиться, что
ЗбЗ
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
ambizione и жажда опоге составляют часть их временной
природы. Их следует удовлетворять, но в то же время относиться
к ним с осторожностью. Проявление рассудительности может
оказаться высшей формой virtù, и оно приведет к
необходимости принять схему правления, в которой стремление к опоге
будет ограничено властью других. Из этого следует, впрочем,
что проявление рассудительности тождественно тому
свободному стремлению к совершенству, которое является
сущностью libertà и virtu.
Между тем та часть спора, в которой Флоренция как città
disarmata1 противопоставляется Риму Макиавелли, призвана
доказать, что поддержание внешних связей в мире, где
главенство не принадлежит Флоренции, является важнейшей,
исключительной сферой деятельности правительства и что оно
требует постоянных vigilanzia е diligenzia sottile. Только опытные
немногие могут развивать и проявлять это качество, и
проблема учреждения определенной формы устройства во многом
заключается в том, чтобы совместить их контроль за
происходящим с сохранением свободы.
Трудно найти подходящее лекарство, ибо оно должно быть
таким, дабы, исцеляя желудок, оно не вредило бы голове.
Надлежит проявлять осторожность, чтобы не изменить сущности
народного правления, каковой является свобода, или, не
допуская до принятия решений тех, кто недостаточно сведущ для
этого, не дать отдельным людям столько власти, чтобы
возникла опасность установления какой-либо тирании2.
Поскольку внешний мир не является моральным, можно
сказать, что проблема заключается в примирении фактов и
ценностей, грубых потребностей выживания и необходимости
моральных отношений в городе. Гвиччардини известен как
скептик и реалист, и такая трактовка вполне правдоподобна.
Однако, по сути, вторая книга «Диалога» строится вокруг
ценностей, а совмещение лидерства и свободы — ценностная
проблема, с какой бы стороны мы на нее ни смотрели. Обеспечивая
1. Невооруженный город (итал.). — Прим. ред.
2. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. Р. ιοί: «...è difficile trovare el medicina
appropriata, perché bisogna sia in modo ehe medicando lo stomaco non si
offenda el capo, cioè provedervi di sorte ehe non si alteri la sustanzialità
del governo populäre ehe è la libertà, e ehe per levare le deliberazioni di
momento di mano di chi non le intende, non si dia tanta autorità a alcuno
particulare, ehe si caggia о si avii in una spezie di tirannide».
364
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
лидерство и контроль, элита проявляет добродетель, то есть
рассудительность, но, кроме того, она стремится к характерным
для нее ценностям, то есть опоге и virtù. На этом уровне
рассудительность и virtù совпали, и различие между ними исчезло.
Но мы уже неоднократно видели, что опоге и virtù — гражданские
качества и для их развития требуется участие в общественной
жизни. Суть предложенной Содерини состязательной
концепции virtù, которую Бернардо теперь считает возможным
принять, в том, что она ведет к отождествлению
аристократического правления с народным. Поскольку virtù заключается в опоге,
нужны общество и народ, чтобы признать ее и наделить
смыслом. Немногие существуют, лишь если на них смотрят многие.
Это правильно, ибо их особое благородство, как и любая
другая светская и гражданская добродетель, подвержено
коррупции, если его предоставить самому себе. Если предоставить
судить о virtù тем немногим, кто обладает ею и стремится ее
проявить, это может привести лишь к пагубному
соперничеству (ambizionè) или к порочному попустительству и
махинациям (intelligenzà). Чтобы Virtù была признана и оценена за то,
чем она на самом деле является, ее не следует искажать
посторонними или личными соображениями, а элита
действительно должна иметь свободу ее развивать. Все это требует, чтобы
признание стало публичным актом, осуществляемым
публичной властью. Если оставить в стороне возможность — которая
во второй книге больше не рассматривается, — что эта власть
может принадлежать квазимонархическому правлению Медичи,
остается альтернатива Большого совета. Меритократия
непременно подразумевает определенную долю демократии. Libertà
немногих заключается в том, чтобы res publico, признала их
virtù; libertà многих — в том, чтобы гарантировать этому
признанию публичный характер и обеспечить подлинную власть
virtù и опоге.
Сама природа libertà и необходимость поддерживать
равновесие между libertà и рассудительностью (желудком и головой)
требуют сложной политии или «смешанного правления».
Сущность обеих формулировок в том, что представителям
народного собрания не позволено самим проявлять те добродетели
и выполнять те функции, проявление и выполнение
которых они контролируют и обеспечивают со стороны немногих.
Не менее важно, чтобы у немногих не было возможности
установить олигархию, то есть взять эти добродетели и функции
полностью в свои руки и изолировать их в системе governo
365
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
stretto. Таким образом, Бернардо, строя теоретическую
конституцию, ставит две конкурирующие между собой и
сопутствующие друг другу цели: ограничить полномочия Большого
совета функциями, неразрывно связанными с поддержанием
свободы, и проследить, чтобы деятельность правящей элиты,
которая берет на себя все остальные функции, определялась
исключительно публичным проявлением virtù. Эти цели
требуют тщательной дифференциации и распределения власти.
Поразительно наблюдать, как Гвиччардини почти согласился,
что достичь этого удалось в Венеции.
У Большого совета есть три основные функции1. Одним
своим существованием он обеспечивает каждого человека,
способного занимать какую-либо должность, то есть всякого члена
городского сообщества (Гвиччардини не возвращается к
предложению расширить Совет, приняв в него тех, кто не способен
занимать должности, сделанному им в «Рассуждении в Логро-
ньо»), возможностью принимать решения и занимать какой-либо
пост. Таким образом поддерживается равенство, составляющее
основу свободы. В теории правящая элита должна отбираться
по принципу открытой меритократии. Никакие особенности
состояния или происхождения не имеют веса, и любое
назначение должно зависеть исключительно от мнения сограждан
о достоинствах кандидата. Отсюда вытекает, что Совет
должен распределять все или почти все должности и полномочия
в городе. Цель заключается в том, чтобы ни один чиновник
не был обязан своей должностью отдельному человеку (private)
или какой-либо клике (setta). Это объясняется не столько тем,
что люди или многие как самостоятельная группа обязаны
располагать властью и выбирать такое правительство, какое
они хотят, сколько тем, что процесс оценивания кандидатов
должен быть максимально открытым и безличным. Люди не
пользуются суверенитетом настолько, чтобы гарантировать, что
res publica (в данном случае отдаленная предтеча общей воли)
является субъектом выбора. Мы не вступаем в дискуссию о
качествах ума, позволяющих им распознавать добродетель в
других, однако эти качества никуда не исчезают, ибо
Гвиччардини по-прежнему предпочитает избрание путем голосования
(le piùfave9) совершенно безличному методу жеребьевки. Люди
ι. Об этом и о том, что изложено в следующем абзаце, см.: Guicciardini F.
Dialogo е discorsi. P. 102-103.
2. «Наибольшее количество бобов» (процедура выборов во Флоренции
предполагала использование белых и черных бобов).—Прим. ред.
366
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
наделены достоинствами в разной мере, и лишь
рассудительный ум способен выбрать того, кто его превосходит.
Третья функция, которую следует сохранить за Советом
и тем самым обеспечить защиту свободы, состоит в том, чтобы
«создавать новые законы и менять старые». Возникает
искушение назвать ее «законодательной властью» и рассматривать ее
появление как рудиментарную попытку дать определение
суверенитету. Но мы должны понять, в чем именно заключается
эта законодательная функция. Leggi или provisioni1, о которых
говорит Гвиччардини, по сути, то же самое, что Макиавелли
называет ordini, — основополагающие предписания, которые
формируют структуру политии, обеспечивая распределение
нескольких политических функций или видов власти. Они
должны оставаться в руках Совета, во-первых, чтобы обезопасить
городской порядок от вмешательства частных интересов или
влияний; во-вторых, потому что изменить свободное правление
можно лишь силой закона или оружия. И если мы застрахованы
от каких-либо mutazione средствами права, то другие
институты воспрепятствуют mutazione с помощью военной силы.
Иными словами, функция Совета состоит не столько в том, чтобы
создавать законы, сколько в том, чтобы мешать их созданию.
Этот тезис по-прежнему служит определяющим элементом
политической формы — задачей, которую следует однажды
выполнить, а затем сохранять в неизменном виде. Тем не менее
здесь все же проступает представление о некоей непрерывной
деятельности, направленной на «создание новых законов и
изменение старых». Вероятно, если она устроена неправильно, то
может вызвать mutazione. Наоборот, предполагается, что если
ее организовать правильно, это позволит избежать перемены.
Гвиччардини не сообщает нам, в чем суть дозволенной
законодательной деятельности. Поскольку он не считал, что
можно раз и навсегда установить в городе совершенный порядок2,
вероятнее всего, он имел здесь в виду исправление прежних
недостатков и совершенствование первоначальных
принципов в свете позднейшего опыта. Но он не говорит нам, как это
должно происходить. Считается, что Совет не способен к
законодательным инициативам, — лишь consigli più stretti3
обладают достаточным благоразумием, чтобы обнаружить
конкретные изъяны и найти способ от них избавиться. Совет никак
1. Законы или распоряжения (итпал.). — Прим. ред.
2. См. прим. I, 2 на с. 187, прим. ι на с. 2о6, прим. з на с. 209.
3- Более узкие советы (итпал.). — Прим. ред.
367
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
не участвует и в deliberazioney подготовке и обсуждении
предложенных законов. За ним сохраняется только право approvazione,
принятия или отклонения предложений, вынесенных на его
суд менее крупными совещательными органами. Существенно,
что здесь, в отличие от «Рассуждения в Логроньо», Гвиччардини
не анализирует природу познавательных способностей,
позволяющих многим адекватно оценить то, что они не в состоянии
сами инициировать или даже сформулировать. Если бы он это
сделал, он, несомненно, воспроизвел бы теорию Аристотеля
о совокупном суждении многих. Однако большего внимания
заслуживает тот факт, что он не стал этого делать. Вместо того
чтобы предоставить многим самим решать, что для них лучше,
он еще раз подчеркнул стоящую перед ними задачу принимать
универсальное решение, обезопасить его от губительного
влияния частных интересов. Роль многих заключалась не
столько в том, чтобы декларировать волю тех, кто не принадлежит
к элите, сколько в том, чтобы сделать правление максимально
безличным; учитывая множество других радикальных
примеров rnito di Venezia1, возникает вопрос, нельзя ли изобрести для
этого более эффективный механизм?
Однако Гвиччардини, похоже, и не стремится к этому. Он
остается (в этом отношении) гражданским гуманистом:
сущность его идеальной модели правления в том, что элита
должна проявлять virtù на глазах у тех, кто к элите не относится.
Именно поэтому deliberazioni немногих нуждаются в approvazione
многих. Он категорически против какой-либо попытки первых
вторгнуться в поле деятельности последних. Гвиччардини
повторяет мысль, высказанную им в «Рассуждении в Логроньо»2.
Он порицает существующий во Флоренции порядок, при
котором законы предлагаются в Совете, но проходят сложную
процедуру одобрения в нескольких закрытых комитетах. По его
словам, это явно олигархическая практика: таким образом
те, кому принадлежит власть, открывают любые возможные
преобразования разрушительному вмешательству своих
сторонников (sette). Правильно было бы предлагать и обсуждать
новые законы лишь на открытом заседании сената,
принимать или отвергать — только на открытом заседании Совета3.
Предпосылки, из которых исходит Гвиччардини, можно
отчасти назвать рационалистическими. Он утверждает, что разум
1. Миф о Венеции (итал.).— Прим. ред.
2. См. прим. ι на с. 194 и прим. ι на с. 195-
3- Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 124-125.
368
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
и добродетель, скорее всего, возобладают там, где все
принимают участие в принятии решений. Хотя функциональное
различие между элитой и неэлитой должно оставаться в силе,
существует порог, за которым ограничение численности советов
служит лишь избыточному весу частных и дурных интересов.
Мысль, что самоопределение элиты должно быть публичным
и открытым, еще отчетливее звучит в тот момент, когда он
говорит не о законодательном, а об избирательном процессе.
Поскольку политика Флоренции не воспринималась как
преимущественно юридические отношения, законодательная
деятельность — изменение сущностных законов актом
суверенной воли — не казалась такой важной для мыслителей,
как в политике северной монархии. Мы уже знаем, что
Макиавелли и Гвиччардини считали управление внешними
делами важнейшей функцией правительства. Поскольку
вопросы такого рода были подвержены постоянным и ежедневным
изменениям, они в наибольшей степени требовали prudenzia
от тех, кто принимает решения. Важно, чтобы они оставались
в ведении немногих и чтобы эти немногие сочетали
обширнейший опыт в подобных делах с максимальной возможностью
обогащать собственный опыт. Выбор магистратов,
составляющих политическую элиту, в значительной степени оказывался
связан с назначением тех, кто занимается вопросами внешней
политики, и здесь возникал конфликт требований. С одной
стороны, в соответствии с принципами equalità и libertà1
каждому гражданину должны были быть открыты все
возможности занять должность, что предполагало — как и думали
создатели системы 1494 года — как можно более быструю смену
магистратур. С другой, принципы esperienzia и prudenzia2
требовали, чтобы магистраты оставались на своем посту
достаточно долго, приобретая опыта и применяя свои знания на
практике. Однако существовала опасность, что они начнут
воспринимать занимаемые ими должности как свои
собственные и это склонит их к неподобающему и деспотическому
поведению. Теперь Гвиччардини утверждает, что венецианцы
нашли лучшее решение этой проблемы, пожизненно избирая
дожа и таким образом пользуясь преимуществами его
опытности. При этом они следят, чтобы его власть не стала
опасной, поскольку ее осуществление требует от него постоянного
ι. Равенство и свобода (итпал.).—Прим. ред.
2. Опыт и рассудительность (итпал). — Прим. ред.
Зб9
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
согласования своих действий с другими1. Он предполагает
приспособить должность дожа к флорентийским реалиям в форме
пожизненного гонфалоньерата вместо тех коротких сроков,
какие предполагал порядок Ц94 года. Однако это неизбежно
повлечет за собой изменения в signoria, исполнительном органе,
с которым должен работать gonfaloniere. В настоящее время
состав signoria сменяется очень быстро. Каждый гражданин ждет
своей очереди, и в правлении оказывается множество людей,
которые так слабо разбираются в происходящем, что даже
избираемый на короткий срок gonfaloniere может распоряжаться
ими по своему усмотрению. Учредить долгосрочную signoria,
чтобы уравновесить пожизненно избираемого gonfaloniere,
вероятно, оказалось бы слишком трудно. Лучше всего было бы
просто понизить signoria в статусе, предоставив gonfaloniere
делить власть с сенатом и постоянно возглавляющим его
Советом десяти. Гонфалоньер должен стать бессменным
председателем последнего, лишенным официальных полномочий,
но опирающимся на свои личные качества и опыт, которые
обеспечат ему авторитет2.
Сенату надлежит быть центральным органом и
олицетворять элиту virtu, Гвиччардини отмечает, что в конституционной
теории существует проблема, должно ли членство в сенате быть
пожизненным или на ограниченный срок. Древние избрали
пожизненное назначение; венецианцы меняют состав своего pregati,
как они называют аналогичный орган, так часто, что в него
всегда входят преимущественно одни и те же люди. Разница
между этими моделями относительно невелика3. Техническая
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 103-104: «Pero a me pare ehe a questo
punto abbino proviso meglio e' viniziani ehe facessi mai forse alcuna republica,
con lo eleggere uno doge perpetuo, el quale è legato dagli ordini loro in
modo ehe non è pericoloso alla libertà, e nondimanco, per stare quivi fermo
né avère altra cura ehe questa, ha pensiero aile cose, è informato délie cose,
e se bene non ha autorità di deliberarle, perché questo sarebbe pericoloso
alla libertà, vi è pure uno capo a ehe riferirle e ehe sempre a' tempi suoi le
propone e le indirizza»; «Но мне кажется, что венецианцы нашли
лучшее решение этому, нежели, возможно, любая другая республика,
пожизненно избирая дожа и ограничивая его власть своими законами
так, что он не представляет угрозы свободе, и при этом, находясь на
этой должности постоянно и не имея других забот, он думает о делах
[республики], хорошо осведомлен о них, и хоть он и не уполномочен
принимать решения, поскольку это несло бы угрозу свободе, он тем
не менее остается предводителем, которого извещают о делах и
который всегда высказывает предложения и направляет эти дела».
2. Ibid. Р. Ю4, ιΐ3_ΙΙ4·
3· Ibid. P. 115.
З70
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
проблема заключается в том, чтобы совместить
максимальную преемственность, а значит, концентрацию опыта с
максимальным поддержанием надежд на возможное избрание среди
потенциальных кандидатов. Если сенат достаточно обширен,
в нем за счет смертности достаточно часто появляются
вакантные места, так что каждый может рассчитывать когда-нибудь
быть избранным в сенат, если окажется того достоин. Гвиччар-
дини отдает предпочтение пожизненному избранию в сенат на
тех же основаниях, в силу которых ему представляется более
правильным пожизненный гонфалоньерат: это обеспечивает
максимальную концентрацию опыта и позволяет людям
надеяться, что благодаря virtù они получат надежное место и им не
надо будет никого бояться или чувствовать себя кому-либо
обязанным. В случае сената он также, по-видимому, предпочитает
пожизненное избрание быстрой смене его членов, потому что
в таких условиях человек скорее уверен, что обязан своим
членством в сенате общественному признанию, а не произвольным
операциям конституционного аппарата. Кроме того,
высказывается предположение, что флорентийцы, будучи более
нетерпеливыми и честолюбивыми, чем венецианцы, не так охотно
станут дожидаться своей очереди1. Поэтому лучше сформировать
настолько обширный сенат, сколь это возможно, — сто
пятьдесят человек вместо восьмидесяти, как в Ц94 году, — и привлечь
к постоянной работе в нем максимальное число претендентов.
Если следовать букве и духу описанной модели, то окажется,
что она уделяет больше внимания мобилизации virtù и
предотвращению коррупции, чем установлению господства
рассудительности. Первые две цели, в отличие от третьей, требуют
открытой конкуренции за признание virtù. Пьеро Гвиччардини
спрашивает, не подходит ли пожизненно назначенный doge или
gonfaloniere Венеции лучше, чем Флоренции, учитывая, что
первая является аристократической республикой, а вторая —
народной. Бернардо отвечает, что существенной разницы между
I. Ibid. Р. пб: «Ma questa misura ed ordine ehe ha partorito in loro la lunga
continuazione del governo è forse la natura de' loro cervelli piu quieta, non si
potrebbe sperare in noi di qui a molti anni; e se noi facessimo questo consiglio
per sei mesi о per uno anno, se ne troverrebbono bene spesso esclusi tutti
quelli ehe sarebbe necessario ehe vi fussino»; «Но тот порядок, что
привел у них к длительным срокам правления, возможно, соответствует
природе их более спокойных умов, у нас же на такое еще долгие годы
нельзя будет рассчитывать; а если бы мы избирали в этот совет на
полгода или год, в него не вошли бы многие из тех, кому
следовало бы стать его членами».
371
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
ними нет. В каждом из городов присутствует большой совет,
состоящий из всех граждан, то есть из всех, кто имеет право
занимать должности. Если в Венеции чужакам труднее
добиться этого права, то различие заключается лишь в ordini1 и не
касается spezie del governo2. Важно, что в обоих городах все
члены гражданского общества—popolo во Флоренции и gentiluomini
в Венеции — формально обладают равной возможностью занять
какую-либо должность. «Там не смотрят на состояние или
родословную, как это происходит там, где правят аристократы»,
и венецианская система в той же мере народная, что и
флорентийская, а флорентийская — в той же мере аристократическая,
что и венецианская3. В каждой из этих систем, как нам
следует понимать, правящая элита складывается исключительно
1. Сословия (итал).— Прим. ред.
2. Вид правления (итал.).—Прим. ред.
3- Guicciardini F. Dialogo е discorsi. Р. ιο6: «Ε se bene ha nome diverso da
quello ehe vogliamo fare noi, perché si chiama governo di gentiluomini ed el
nostro si chiamerà di popolo, non per questo è di spezie diversa, perché non
è altro ehe uno governo nel quale intervengono universalmente tutti quegli
ehe sono abili agli uffici, né vi si fa distinzione о per ricchezza о per stiatte,
come si fa quando governano gli ottimati, ma sono ammessi equalmente tutti
a ogni cosa, e di numéro sono molti e forse phi ehe siano e' nostri; e se la
plèbe non vi participa, la non participe anche a noi, perche infîniti artefici,
abitatori nuovi ed altri simili, non entrano nel nostro consiglio. Ed ancora ehe
a Vinezia gli inabili sono abilitati con piu difïicultà agli uffici ehe non si fa
a noi, questo non nasce perché la spezie del governo sia diversa, ma perché
in una spezie medesimi hanno ordini diversi... e perô se noi chiamassimo
gentiluomini e' nostri, e questo nome appresso a noi non si dessi se non
a chi è abile agli uffici, troveresti ehe el governo di Vinegia è popolare corne
el nostro e ehe el nostro non è manco governo di ottimati ehe sia el loro»;
«И хоть оно и носит другое название, а не то, которое хотим дать ему
мы, потому что оно называется правление аристократии, а наше
будет называться народным, оно тем не менее не относится к другой
разновидности, потому что это не что иное, как правление, в
котором принимают участие все те, кто может быть избран на должности,
и не делается различий на основании богатства или происхождения,
как это бывает в случае правления оптиматов, но все в равной мере
допущены к участию во всем, и они велики числом, возможно, даже
превосходят наших; а если низшие слои народа не принимают в нем
участия, то это так и у нас, потому что многочисленные
ремесленники, новые жители и другие им подобные не вхожи в наш совет. И хоть
в Венеции тем, кто не может быть избран на должность, труднее
добиться разрешения на избрание, чем у нас, это не обусловлено тем,
что их правление другой разновидности, но тем, что внутри одной
и той же разновидности установлены разные порядки... Таким
образом, если бы мы назвали наших советников аристократией, и
называли бы так лишь тех, кто может быть избран на должность, то ты бы
обнаружил, что правление в Венеции является народным в той же
мере, что и наше, а наше не менее аристократическое, чем у них».
372
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
за счет проявления необходимых качеств, а также признания
и избрания со стороны сограждан.
Если между Венецией и Флоренцией имеется существенное
различие, то оно относится не к формальной приверженности
обоих городов принципу равенства, а к большему нетерпению
и честолюбию, которые отличают флорентийцев в стремлении
к опоге. Бернардо трактует эту черту двойственно, во многом
в духе Аристотеля. С одной стороны, желательно, чтобы люди
проявляли честолюбие в стремлении к той опоге, которую можно
стяжать, только служа res риЫгса. Исключать честолюбие,
чтобы они довольствовались лишь безопасностью своего
положения,— это уже не практический реализм первой книги
«Диалога», а недосягаемый платоновский идеал. С другой стороны,
опасно, чтобы ambizione простиралась до такой степени, что
почета ищут ради него самого. Иначе личное благо окажется
выше общего и люди вскоре станут способны на все что угодно,
лишь бы получить и удержать его. Однако человеку присуще
такое желание, похвально оно или предосудительно, и тот, кто
строит политическую теорию, должен его учитывать1.
Свободному правлению тоже нет необходимости бояться честолюбия
I. Ibid. Р. нв-пд: «Е se bene io dissi ieri ehe e' cittadini buoni non hanno
volunta di governare, e ehe al bene essere délie città basta ehe vi sia la sicurtà,
nondimeno questo è uno fondamento ehe fu piu facile a Platone a dirlo, ehe
a chi si è maneggiato nelle republiche a vederlo, e piu rigoroso ehe non è oggi el
gusto degli uomini, e' quali hanno tutto per natura desiderio di essere stimati ed
onorati. Anzi, come io dissi poco fa, è forse piu utile aile città, ehe e' suoi cittadini
abbino qualche instinto di ambizione moderata, perché gli desta a pensieri ed
azione onorevoli, ehe se la fussi al tutto morta. Ma non disputando ora questo,
dico ehe poiché negli uomini è questo appetito, о laudabile о dannabile ehe sia,
ed appicato in modo ehe non si pùo sperare di spegnerlo, a noi ehe ragioniamo
di fare uno governo, non quale doverebbe essere, ma quale abbiamo a sperare
ehe possi essere, bisogna affaticarsi ehe tutti e' gradi de' cittadini abbino la
satisfazione sua, pur ehe si facci con modo ehe non offenda la libertà»; «И хоть
я вчера сказал, что добрые граждане не хотят править и что для
благосостояния городов достаточно, чтобы обеспечивалась безопасность, тем
не менее Платону было легче это обосновать, нежели тем, кто правил
республиками, увидеть, тем более что сейчас пристрастия людей иные,
и в их природе заложено желание быть ценимыми и почитаемыми.
Более того, как я недавно сказал, возможно, для городов полезнее, чтобы
их граждане обладали умеренным честолюбием, ведь оно сподвигает
их на достойные мысли и поступки, нежели чтобы оно в них было
мертво. Но не ставя сейчас целью это оспорить, я скажу, что,
поскольку людям присуще такое желание, будь оно похвально или порицаемо,
и оно таково, что нельзя надеяться его погасить, нам, которые
обсуждают создание не такого правления, которому следовало бы
существовать, а такого, которое можно надеяться установить, нужно приложить
усилия к тому, чтобы граждане любого положения остались довольны,
лишь бы от этого не пострадала свобода».
373
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
своих граждан. Если направить его должным образом, оно
приведет к появлению не только правящей элиты, но и тех трех-
четырех исключительных человек, от virtù которых в любой
момент зависит почти все1.
Придавать верное направление laudabile о dannabilé1
честолюбию можно несколькими способами. Во-первых, надлежит
удостовериться, что никакая должность не дает такой власти,
которая не была бы ограничена властью других. Вот почему
gonfaloniere необходимо делить исполнительную власть с
«десятью» и сенатом, а сенату — законодательную власть с Советом.
Это не только помешает порочному магистрату приносить вред,
но и фактически предотвратит его развращение. Разделение
власти способно напомнить, что он обязан обществу всем тем,
чем он является и чем владеет. Во-вторых, почетные
должности должны быть весьма многочисленны, ранжироваться по
степеням и достаточно часто сменяться, чтобы каждый мог
надеяться занять такую должность соразмерно своим
достоинствам. В идеальной модели Бернардо эти gradP начинаются
с пожизненного избрания в сенат. Следующими ступенями
являются различные посты, которые могут занимать сенаторы,
а увенчивается эта система высшей должностью гонфалоньера4.
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 112: «...le città benché siano libère, se
sono bene ordinate, sono sostentate dal consiglio e dalla virtù di pochi; e se
pigliate dieci о quindici anni per volta insieme, troverete ehe in taie tempo
non sono piu ehe tre о quattro cittadini da chi dépende la virtù ed el nervo
délie consulte ed azioni piu importanti»; «...хоть города и свободны, если
в них царит порядок, они поддерживаемы советом и добродетелью
немногих; и если вы возьмете временной отрезок сразу в десять или
пятнадцать лет, вы обнаружите, что за такое время добродетель и
стержень всех важнейших совещаний и действий зависят не более чем от
трех-четырех граждан». Обращает на себя внимание, что здесь virtù
впервые фигурирует как характеристика поступков, а не людей.
2. Похвальное или порицаемое (итпал).—Прим. ред.
3- Положения, должности (итпал).—Прим. ред.
4- Ibid. Р. 119-120: «Е questo ehe noi abbiamo detto è sanza dubio grado ehe
non gli nuoce, perché se bene sono senatori a vita, pure sono molti, hanno la
autorità limitata in modo ehe non diventano signori, e nondimeno el grado
è taie ehe debbe bastare a uno cittadino ehe non ha la stomaco corrotto di
ambizione; perché se ha virtù mediocre, si debbe contentare di essere senatore;
se è piu eccellente, verra di grado in grado agli onori piu alti: essere de'
dieci, essere délia pratica, essere uno de' disegnati per gonfaloniere quando
vacassi»; «И то, о чем мы только что сказали, это, несомненно,
положение, которое ему не вредит, потому что, хоть они и пожизненные
члены сената, их тем не менее много, их власть ограничена, в силу чего
они не могут стать полными правителями, и при этом их положение
таково, что гражданам, чье нутро не развращено честолюбием, этого
должно быть вполне достаточно; поскольку если он человек средних
качеств, то он должен довольствоваться положением сенатора; более
374
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИКИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
В-третьих, на каждом этапе необходимо осознавать, что
должность — это награда за публичное признание virtu и за ней не
стоит приватное расположение отдельных людей или клик1.
Решимость Бернардо обеспечить выполнение последнего
условия побуждает его внести несколько предложений,
нацеленных на то, чтобы сделать систему открытой, и местами
выходящих далеко за пределы венецианской парадигмы. Когда сенат
избирает людей на должности, не подведомственные Большому
совету, его решение должно подкрепляться или рядом
нижестоящих магистратов, не входящих в его состав, или сотней
участников специального комитета, избираемого Советом и
заседающего вместе с сенатом только по этому случаю. Цель в том,
чтобы воспрепятствовать сенату стать закрытой корпорацией.
Следует напомнить политикам, что они должны по-прежнему
ориентироваться на тех, чье доброе мнение изначально сделало
их членами сената. Необходимо разрушить sette и intelligenzie,
которые могут сложиться внутри института власти2. В обсуждении
выдающиеся же будут продвигаться по должностной лестнице к
самым высоким почестям: член совета десяти, член совета восьми, один
из назначенных на замещение должности гонфалоньера».
1. Ibid. Р. 112: «A questi (то есть тем, кто отличается наибольшей virtù) sia
proposta la speranza di uno grado estraordinario dove pensino di arrivare,
non con sette, non con corruttele, non con violenzia, ma col fare opère
egregie, col consumare tutta la sua virtù e vita per beneficio délia patria,
la quale, poiché ha a ricevere piu utile da questi tali ehe dagli altri, debbe
anche allettargli piu ehe gli altri»; «Им (то есть тем, кто отличается
наибольшей virtù) пусть будет предложена возможность рассчитывать на
самую высокую должность, которой они пускай достигнут не при
помощи клик, подкупов или насилия, но совершая выдающиеся поступки
и посвятив всю свою добродетель и всю свою жизнь благу отечества,
которое, имея возможность получить больше пользы от этих людей,
чем от других, должно и поощрять их больше, чем других».
2. Ibid. Р. 121: «Le ragione ehe mi muovono a fare questa aggiunta sono due:
l'una, ehe io non vorrei ehe a alcuno per essere diventato senatore paressi
avere acconcio in modo le cose sua ehe giudicassi non avère piu bisogno degli
altri ehe non sono del senato e tenessi manco conto della estimazione publica,
come se mai piu non avessi a capitare a' giudici degli uomini... L'altra, ehe
io non vorrei ehe per essere e' senatori sempre quegli medesimi, una parte
di essi facessi qualche intelligenzia ehe facessi girare e* partiti in loro, esclusi
gli altri... Questa aggiunta rimedia benissimo a tutt'a dua gli inconvenienti,
perché romperà le sette, intervenendovi tanto piu numéro e di persone ehe si
variano; e da altro canto non potendo questi aggiunti essere eletti loro, non
aranno causa di favorire per ambizione sua la larghezza, ma si volteranno
ragionevolmente con le fave a chi sarà giudicato ehe meriti piu; e quando parte
del senato malignassi, questi daranno sempre el tracollo alia bilancia»;
«Причин, которые побуждают меня создать такое подкрепление, две: одна
заключается в том, что я не хотел бы, чтобы кто-нибудь, став сенатором,
счел, что он так устроил свои дела, что больше не нуждается в тех, кто
не входит в сенат, и стал бы пренебрегать оценкой общества, как будто
375
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
различных вопросов, в отличие от избирательной процедуры,
участвовуют только пожизненные члены сената. Всем
дискуссиям надлежит проходить открыто, в режиме пленарных
заседаний, a gonfalonierе, опираясь на свои полномочия председателя,
должен удостовериться, чтобы высказалось как можно больше
людей, в особенности же те, кто неохотно берет слово,
неопытен и относительно неизвестен1. Гвиччардини уравновешивает
иерархический принцип, согласно которому руководить
обязаны наиболее зрелые мужи, принципом равноправия, в
соответствии с которым следует укреплять элиту, предоставляя
возможность наибольшему числу людей приобрести опыт и развить
virtù. Он также сознает, что опасность появления клик и
дурных наклонностей возникает, когда руководят все время одни
и те же. Репутация умного участника дискуссий, говорит он,
принесет человеку больше уважения, чем два месяца на посту
гонфалоньера, даже если он никогда не займет никакой пост.
Если принятый путь к должностям и продвижению будет
именно таким, никто не станет прибегать к нечестным средствам2.
Неприязнь Гвиччардини к частным объединениям и
связям в политике и его убеждение, что им можно противостоять,
сделав общество максимально вовлеченным в политическую
жизнь, особенно отчетливо прослеживаются в его рассуждениях
о методе избрания гонфалоньера. Здесь, как он полагает,
венецианцы допустили ошибку: стремясь избежать крайностей
невежества народа, честолюбия и соперничества оптиматов, они
изобрели сложный механизм непрямых выборов и скрытого
голосования. В результате дожа избирают сорок один человек,
имена которых невозможно было бы угадать заранее, чтобы
таким образом избежать интриг или предварительной
агитации. Однако все это не относится к сути дела. Либо все сорок
ему больше никогда не предстоит стать объектом людских суждений...
Вторая такова: я не хотел бы, чтобы сенаторы из-за своей
несменяемости создали какие-нибудь клики, которые бы все оборачивали в свою
пользу, исключая остальных... Это подкрепление позволяет успешно
преодолеть оба этих затруднения, поскольку разрушит клики
благодаря участию большего количества людей и меняющемуся составу
собрания; с другой стороны, поскольку эти дополнительные участники
не могут быть избраны, у них не будет причин в силу честолюбия
голосовать за широкое правление, вместо этого они, руководствуясь
разумом, опустят свои бобы за тех, кого сочтут наиболее заслуживающим
этого; и если часть сената будет действовать нечестно, благодаря этим
людям весы всегда склонятся в противоположную сторону».
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 122.
2. Ibid. P. 123.
З76
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИИИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
один будут людьми незначительными, а значит, несведущими
и неопытными, либо это окажутся люди с определенной
точкой зрения, со своими интересами, связями и притязаниями,
и в этом случае их выбор будет продиктован личными
соображениями. На практике происходит именно последнее.
Эксперт в венецианской политике, как правило, может
предсказать, кто станет дожем, как только узнает имена сорока одного,
ибо ему известны их dependenzie1. Правда, даже в этом случае
они изберут одного из пяти или шести наиболее достойных
граждан, но полностью устранить порочное влияние личных
интересов при такой процедуре не удается2.
Здесь мы возвращаемся к базовым принципам. Каждый
город состоит из многих и немногих, popolo и senate, и обычный
путь к власти и влиянию подразумевает союз с тем или
другим. Гвиччардини приводит довод отчасти в духе Полибия3.
Возможно, вполне законно защищать народ от сената или
сенат от народа, но человек по природе своей ненасытен, и мы
незаметно переходим от защиты собственного добра к
посягательству на чужое4. Любая из этих стратегий в конечном
счете чревата дурными последствиями, но в целом можно
организовать такой порядок, что претендент будет приемлем для
обеих партий. Пусть сенат соберется и по жребию изберет
сорок или пятьдесят кандидатов. По кандидатурам тех троих из
них, кто получит больше всего голосов, — неважно, выберут
его абсолютным большинством голосов или нет, — должно на
следующий день проводиться голосование в Большом совете.
Если за одного из претендентов проголосует абсолютное
большинство, он и будет гонфалоньером. Если нет, надо отобрать
трех других финалистов и повторять эту процедуру, пока не
будет выявлен победитель. Участие сената гарантирует, что
1. Связи (итал). — Прим. ред.
2. Ibid. Р. 130-132.
3- Ibid. Р. 132-135·
4- Ibid. Р. 133· «Е queste contenzione, se bene qualche volta nascono da onesti
principi, pure vanno poi piu oltre, perché la natura degli uomini è insaziabile,
e chi si muove alle imprese per ritenere el grado suo e non essere oppresso,
quando poi si è condotto a questo, non si ferma quivi ma cerca di amplificarlo
piu ehe lo onesto e per conséquente di opprimere ed usurpare quello di altri»;
«И все эти противоборства, хоть иногда они и рождаются из честных
принципов, часто заходят гораздо дальше, потому что люди по природе
ненасытны, и те, кто начинает борьбу с целью сохранить свое положение
и избежать притеснений, не останавливаются, достигнув цели, а
пытаются умножить результат, перейдя границу честности, и, как следствие,
пытаются притеснить и незаконно лишить положения других».
377
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
избранные кандидаты — люди с положением в обществе.
Участие народа служит залогом того, что исход выборов не будет
определяться внутренней конкуренцией между
представителями элиты. Обе стороны вносят свой вклад, чтобы достоинства
человека оценивались как можно более открыто и безлично1.
Ясно, что Гвиччардини не был некритичным последователем
mito di Venezia, но его Бернардо завершает изложение
конституции традиционным панегириком лучшей форме правления всех
времен. Он уже хвалил ее — с оговоркой, что она
предназначена per una città disarmata2, — за способность обеспечить
стабильность на века3. Здесь он в еще большем согласии с традицией
добавляет, что она сочетает в себе преимущества — избегая
недостатков — правления одного, некоторых и многих4. Впрочем,
в действительности его точка зрения на венецианскую систему
строится не на этом тезисе. Теория, полностью соответствующая
идеям Полибия, предполагала, что у монархии, аристократии
и демократии есть свое неповторимое достоинство, или virtù, но
что каждая из этих форм в отдельности была предрасположена
к упадку. Подлинно смешанная система использовала каждую
из этих virtu, чтобы предотвратить угасание других. В
полноценно разработанных версиях этого mito, как мы увидим, обычно
добавлялось, что Венеция достигла этого результата за счет
не требующих вмешательства и автоматически управляемых
механизмов. Эти последние мало интересовали Гвиччардини,
в отличие от процесса открытого избрания элиты исходя из
проявлений virtu, и именно использование им этого ключевого
понятия отличает его идеи от схематических построений в духе
Полибия. Он не приписывает особую virtu каждой из трех
систем, потому что употребляет это слово в отношении качества
элиты или немногих. Мы уже неоднократно видели, что
многие играют важную роль в его модели. Они могут действовать,
1. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 135.
2. Для невооруженного города (итпал.). — Прим. ред.
3- Ibid. Р. юб: «A me pare ehe el governo viniziano per una città disarmata sia
cosi bello come forse mai avessi alcuna republica libera; ed oltre ehe lo mostra la
esperienzia, perché essendo durato già centinaia di anni florido ed unito come
ognuno sa, non si puô attribuire alla fortuna о al caso, lo mostrano ancora moite
ragioni ehe appariranno meglio nel ragionare di tutta questa materia»; «Мне
кажется, что венецианская форма правления для невооруженного
города подходит лучше, чем любая другая, что когда-либо была в
свободных республиках; кроме того, что опыт уже сотни лет показывает, что
эта республика, как всем известно, процветает и отличается единством,
нельзя приписать ее успех фортуне или случаю, и это доказывает
множество причин, которые станут яснее из рассуждений на эту тему».
4- Ibid. Р. 138-139·
378
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИ-НИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
только демонстрируя форму интеллекта и способности к
суждению, присущую именно им, а не элите. Но Гвиччардини
нигде не говорит, что она собой представляет, и не определяет
ее как virtù. Функция многих — служить фоном для немногих,
и когда в рассматриваемом фрагменте он утверждает, что
главное преимущество народного правления — в «сохранении
свободы», то немедленно добавляет «власти закона и безопасности
каждого человека»1. Так он нисходит к частному и не
сопряженному с участием в общественной жизни определению свободы,
которое было сформулировано в первой книге. Один — гон-
фалоньер или дож — также не наделен особой virtù,
отличающейся от esperienzia, prudenzia и благородного честолюбия
немногих. Он просто являет собой наиболее полное воплощение
элитистской доктрины.
Гвиччардини не идеализирует Венецию как синтез
различных форм virtù, потому что, в сущности, признает лишь одну
из них. Поскольку она присуща немногим, функции одного
и многих должны оставаться вспомогательными.
Макиавелли еще более отдалился от Полибиевой и венецианской
парадигмы, потому что считал virtù атрибутом вооруженного
большинства. Скептическое отношение Гвиччардини к подобному
прочтению римской истории не столь важно, как его скорбная
уверенность, что возродить народное ополчение во
Флоренции невозможно. Однако с точки зрения исторических реалий
и предпочитаемых ценностей его концепция virtù была
аристократической. Задача заключалась в том, чтобы предотвратить
порок и разложение среди немногих, а именно флорентийских
ottimati. Один и многие составляли структуру, в которой virtù
немногих — более благоразумная и менее динамичная по
сравнению с virtù у Макиавелли — могла продолжать независимое
движение к общему благу. Они не проявляли особую
присущую им разновидность virtù, поэтому здесь не изображается
Полибиева система, согласно которой полития
представляет собой сочетание разных форм virtù, а ее устойчивость
обеспечивается тем, что они не дают друг другу угаснуть.
«Диалог» не трактат о том, как смешанному правлению сохранить
стабильность в мире, где вырождение является нормой, или
ι. Ibid. Р. 139* «El consiglio grande ha seco quello bene ehe è principale nel governo
del popolo, cioè la conservazione délia libertà, la autorità délie legge e la sicurtà
di ognuno...»; «Большой совет несет в себе то преимущество, которое
является главным в народном правлении, а именно сохранение свободы,
поддержание власти закона и безопасность каждого человека...».
379
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
о том, как благодаря virtù избежать власти fortuna. Гвиччарди-
ни слишком волновала дилемма, стоявшая перед
флорентийскими ottimati, чтобы он углублялся в столь теоретические
рассуждения. Он понимал, что альтернатива благополучной vivere
civile — не какая-то абстрактная фаза цикла, ведущая к
упадку, а восстановление власти Медичи на новых и менее
выгодных для аристократии условиях. Тем не менее можно показать,
что верховенство судьбы является в некотором смысле одним
из полюсов, в которых развивалась его оригинальная мысль.
В заключение Бернардо отмечает, что, насколько известно из
истории Флоренции, в городе никогда не было хорошего
правительства — либо тирания одного (как при Медичи), заносчивое
и саморазрушительное превосходство немногих и произвол масс,
либо полный хаос, вызванный сочетанием олигархии и
охлократии. «Если случай (sorte) или милосердие Божие не
ниспошлют нам благодати (gracia) обрести какую-либо сходную с этой
форму правления, мы должны опасаться повторения прошлых
бед»1. Содерини спрашивает: есть ли надежда, что ситуация
когда-либо изменится? В ответ Бернардо размышляет, на чем
держатся хорошие правления2. Они основаны на силе или на
убеждении. Правитель, наделенный абсолютной властью,
может отказаться от нее и учредить республику. Теоретически
ι. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 139-140: «Sarebbe adunche el governo
vostro simile al governo loro; ed essendo el suo ottimo, el vostro almanco
sarebbe buono e sarebbe sanza dubio quale non ha mai veduto la città nostra.
Perché о noi siamo stati sotto uno, come a tempo de' Medici, ehe è stato
governo tirannico, о pochi cittadini hanno potuto nella città... ehe in fatto
hanno oppressi e tenuti in servitù gli altri con mille ingiurie ed insolenzie,
e tra loro medesimi sono stati pieni di sedizioni... о la è stata in arbitrio
licenzioso della moltitudine... о è stato qualche vivere pazzo, dove in uno
tempo medesimo ha avuto licenzia la plèbe e potestà e' pochi. <...> Perô se
la sorte о la benignità di Dio non ci dà grazia di riscontrare in una forma di
governo corne questa о simile, abbiano a temere de' medesimi mali ehe sono
stati per el passato»; «Следовательно, ваше правление было бы похоже
на то, что у них; а раз их правление отличное, то и ваше было бы
по меньшей мере хорошим и, несомненно, таким, какого наш город
никогда не знал. Потому что мы были или под властью одного, как
во времена Медичи, а это было тираническое правление, или власть
в городе имели немногие... которые на деле притесняли и держали
в рабстве других с помощью множества несправедливых и
своевольных действий, и между собой они постоянно враждовали... или же
город был во власти произвола масс... или же были безумные времена,
когда одновременно властвовали произвол масс и могущество
немногих. <...> Но если случай или милосердие Божие не ниспошлют нам
благодати обрести какую-либо сходную с этой форму правления, мы
должны опасаться повторения прошлых бед».
2. Ibid. Р. 141—145·
38о
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
это просто, ибо никто не может ему противиться. Народ,
внезапно перешедший от тирании к свободе, почувствует себя
как в раю и ответит ему безграничным доверием. Люди
увидят, говорит Гвиччардини, — и здесь его язык напоминает
риторику Макиавелли, когда тот описывает идеального
законодателя, — что фортуна никак не повлияла на его решение, но
что оно всецело зависит от его virtù. Последняя же предстанет
как нечто выходящее за рамки обычных человеческих
способностей1. Однако в реальности обладание абсолютной властью
или вызовет столько ненависти, что правитель не осмелится
от этой власти отказаться, или (что более вероятно)
настолько развратит его, что он не захочет этого делать (здесь
примером служит Август)*. Частный гражданин может
стремиться к верховной власти, чтобы провести в городе реформу, как
это сделал Ликург. Однако и здесь действуют те же условия:
сила и власть сохраняют свою инерцию3. Остается убеждение,
ι. Ibid. Р. 141—142: «Е' governi buoni si introducono о con la forza о con la
persuasione: la forza sarebbe quando uno ehe si trovassi principe volessi
deponere el prineipato e constituiré una forma di republica, perché a lui
starebbe el commandare e ordinäre; e questo sarebbe modo facilissimo, si
perché el popolo ehe stava sotto la tirannide e non pensava alla libertà,
vedendosi in uno tratto menare al vivere libero con amore e sanza arme,
benché si introducessi ordinato e con moderato larghezza, gli parebbe entrare
in paradiso e piglierebbe tutto per guadagno... gli sarebbe prestata fede
smisurata... Non si potrebbe di questa opera attribuire parte alcuna alia
fortuna, ma tutto dependerebbe dalla sua virtù, ed el frutto ehe ne nascessi
non sarebbe beneficio a pochi né per breve tempo, ma in quanto a lui,
a infiniti e per moite età»; «Хорошее правление устанавливается с
помощью или силы, или убеждения: силой это происходит тогда, когда
человек, занимающий пост государя, хочет упразднить единоличное
правление и установить республику, где он будет отдавать
распоряжения и устанавливать порядки... и это был бы очень простой путь,
поскольку народ, живший при тирании и не думающий о свободе, увидев,
как внезапно ему дают возможность жить в свободе, полюбовно и без
оружия, пусть даже это и устанавливается с введением определенных
порядков и с умеренной щедростью, сочтет, что он попал в рай, и все
воспримет как выгоду... он будет пользоваться безмерным доверием...
Нельзя видеть в таком деянии никакой роли фортуны, все будет
зависеть от его добродетели, и тот плод, который она принесет, станет
благом не для небольшого количества людей и не на краткий срок,
а для него самого, для огромного множества людей и на долгое время».
2. Ibid. Р. Ц2.
3- Ibid. P. I42-I43: «Si introducerebbe anche el governo per forza quando
uno cittadino amatore della patria vedessi le cose essere disordinate, né gli
bastando el cuore poterie riformare voluntariamente e dacordo, si ingegnassi
con la forza pigliare tanta autorità ehe potessi constituiré uno buono governo
etiam a dispetto degli altri, come fece Licurgo quando fece a Sparta quelle
sante leggi. <...> Pero bisogna ehe la forza duri tanto ehe abbia preso piede;
e quanto piu durassi, tanto piu sarebbe pericoloso ehe non gli venissi voglia
381
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
которое, очевидно, подразумевает коллективное решение
граждан учредить добрую систему правления. Дабы это
произошло, они должны обладать достаточным опытом и знать как
недостатки дурного правления, так и способы их исправить.
Им предстоит претерпеть достаточно злоключений, которые
послужат уроком, не нанеся им непоправимого ущерба и не
став причиной яростных раздоров и крайностей. Если
созданная в 1494 году система окажется неэффективной, произойдет
сдвиг в направлении stato stretto. Здесь Гвиччардини
оглядывается в прошлое — в этом случае более вероятно расширение
полномочий gonfalonier^. Тогда все будет зависеть от его
характера и положения. Читатели Гвиччардини уже знают, что за
di continuarvi drento. Sapete come dice el proverbio: ehe lo indugio piglia
vizio»; «Новое правление будет установлено силой также в том
случае, когда гражданин, любящий свое отечество, увидит, что его дела
в беспорядке, и ему не хватит смелости реформировать его по доброй
воле и с всеобщего согласия, но он ухитрится силой захватить
столько власти, чтобы учредить новую хорошую форму правления вопреки
остальным, как это сделал Ликург, когда дал Спарте те праведные
законы. <...> Но нужно, чтобы этой силы хватило надолго, иначе
правление не укоренится, и чем дольше он будет удерживать власть силой,
тем выше будет риск того, что ему захочется остаться у власти. Знаете
пословицу: кто медлит, тот приобретает привычку».
I. Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 143: «Ci è adunche necessario fare
fundamento in su la persuasione, e questa ora non sarebbe udita; ma io non
dubio ehe le cose andranno in modo ehe innanzi ehe passi troppo tempo, si
cognoscerà per molti la maggiore parte de' disordini, e combatterà in loro da
uno canto la voglia di provedervi, da Paltro la paura di non ristrignere troppo
el governo. Ed in questo bisognerà, a mio giudicio, ehe giuochi la fortuna délia
città... Potrebbe ancora essere ehe questi disordini fussino grandi, ma tali ehe
piu presto travagliassino la città ehe la ruinassino, ed allora el punto sarà ehe
chi arà a fare questa riforma la pigli bene, perché sempre farà difficultà grande
el dubio ch'e' cittadini principali non voglino riducere le cose a uno stato stretto;
perô potrà essere ehe gli uomini si voltino piu presto a uno gonfaloniere a vita
о per lungo tempo ehe a altro, perché darà loro manco ombra ehe uno senato
perpetuo, e perché per questo solo la città non resta bene ordinata»;
«Следовательно, нам нужно основываться на тактике убеждения, и сначала нас
не будут слушать; но я не сомневаюсь, что все будет идти таким
образом, что, прежде чем пройдет слишком много времени, многие узнают
о большинстве беспорядков, и желание противодействовать им будет
в них бороться со страхом, что их власть уменьшится. И здесь, на мой
взгляд, должна сыграть роль фортуна города... Также возможно, что эти
беспорядки примут большой размах, изнуряя город и ведя к его
разрушению, и тогда будет важно, чтобы тот, кто будет проводить реформу,
сумел все сделать правильно, потому что большая трудность всегда
будет заключаться в сомнении самых влиятельных граждан, которым не
захочется устанавливать узкое правление; но, возможно, люди скорее
предпочтут расширение сроков гонфалоньерата вплоть до
пожизненных, чем какое-то другое решение, потому что это вызовет у них
меньше подозрений, чем несменяемый сенат, и потому что этого одного
будет недостаточно для поддержания порядка в городе».
382
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
этим последует неудачное правление Пьеро Содерини, но, по
словам Бернардо, едва ли властный и мудрый гонфалоньер,
особенно если его назначат пожизненно, утвердит
конституцию по венецианской модели1.
Вывод, очевидно, таков: в 1494 году Флоренция по-прежнему
слишком зависит от милости фортуны, чтобы надеяться на
стабильность республики2. По-видимому, подразумевается также, по
крайней мере в какой-то степени, что такая республика —
единственная альтернатива владычеству фортуны. Гвиччардини,
как известно, считает, что ее власть над собственными
гражданами— единственная форма власти, не являющаяся в
основе своей насильственной или несправедливой. Но область
фортуны не является — теоретически может, но не должна
быть — сферой совершенно произвольных и непредсказуемых
происшествий. С 1513 года Гвиччардини анализировал то, что
возникло в результате краха республиканского правления. Речь
шла о восстановленной системе во главе с Медичи, в которой
яростная враждебность popolo, оставшегося без Большого
совета, делала Медичи более подозрительными, a ottimati — менее
способными к независимой оппозиции. Теперь его Бернардо
подводит итог основной темы «Диалога» — разговор о
римской истории и других предметах еще впереди, — рассуждая об
этой возможности. Далее он напоминает Содерини, Каппони
и Пьеро Гвиччардини, что, хотя они, без сомнения,
попытаются осуществить в республике преобразования, но могут не
преуспеть. Успех в любом политическом предприятии —
вопрос tempo и occasione, а нынешнюю эпоху нельзя назвать
благоприятной. Если время против нас, могут сложиться
обстоятельства, в которых единственным выходом будет выжидать
и приспосабливаться. Попытка ввести нечто новое способна
привести к еще большим бедам3.
ι. Ibid.
2. Ibid. P. I44: «Pero concludendo vi dico ehe ho per molto dubio e mi
pare ehe dependa molto dalla potestà della fortuna, se questo governo
disordinato si riordinerà о no...»; «Но в заключение я хочу вам сказать,
что я в этом очень сомневаюсь, и мне кажется, что установление
порядка в этом беспорядочном правлении во многом зависит от
могущества фортуны...».
3- Ibid. Р. 146: «Perché le medesime imprese ehe fatte fuora di tempo sono
difricillime о impossibile diventono facillime quando sono accompagnate dal
tempo о dal occasione, ed a chi le tenta fuora del tempo suo non solo non gli
riescono ma è pericolo ehe lo averle tentate non le guasti per quello tempo
ehe facilmente sarebbono riuscite, e questa è una délie ragione ehe e' pazienti
sono tenuti savi... e del resto piu presto andate comportando e temporeggiatevi
383
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
Так из области ценностей мы возвращаемся в область
истории, или, если использовать понятия, оказавшиеся наиболее
продуктивными при анализе Гвиччардини, из сферы virtù
в сферу рассудительности. В идеальной республике
рассудительность представала в форме virtù, то есть морально
свободного и не связанного принуждением гражданского
поведения. Но оно всегда могло означать и стремление сделать все
возможное с тем, чего нельзя избежать. В этом смысле такое
поведение, вероятно, соответствовало обстановке, когда
республиканский эксперимент потерпел крах. Ottimati оказались
в союзе не с popolo, в среде которого они могли проявлять virtù,
если бы за ними признали лидерство по природе, а с Медичи,
притом на таких условиях, которые неизбежно отличались от
их положения до 1494 года. Гвиччардини никогда не упускал
случая подчеркнуть, что революция того года
представляла собой mutazione, innovazione, после которого все изменилось
и стало трудно предугадать будущее или сохранить над ним
власть. Для описания подобных последствий нужна была
риторика фортуны, и качество, которое мы называем
рассудительностью, могло, таким образом, осознаваться преимущественно
как свойство ума и характера, с помощью которого разумный
представитель аристократии пытался властвовать над собой
и другими в мире fortuna.
Когда Гвиччардини писал «Диалог», все еще казалось, что
можно сформировать гражданскую среду, в которой virtù и
благоразумие действовали бы сообща и развивались в полной
мере. Откровенная конфронтация мира fortuna и
рассудительности отсутствует в его сочинениях вплоть до «Заметок» 1528
и 1530 годов. Лишь тогда ему стала совершенно ясна
обособленность аристократии, оказавшейся между Медичи и popolo. Это
были годы последней республики и осады Флоренции, когда
настроенное все более революционно народное правительство
изгнало ottimati — включая и самого Гвиччардини — и бросило
ei meglio ehe potete, ehe desideriate novità, perché non vi potrà venire cosa
ehe non sia peggio»; «Потому что те же самые деяния, которые, если
их совершают в неправильное время, очень сложны или даже
невозможны, становятся очень просты, когда им сопутствуют времена
и случай, и если их пытаться совершать в неправильное время, то не
только в них не преуспевают, но и появляется опасность все
испортить к тому времени, когда они бы получились легко, и это одна из
причин, по которой терпеливые люди слывут мудрыми... а в
остальном старайтесь идти на уступки и максимально тяните время, но не
желайте перемен, чтобы не стало еще хуже». Язык Лодовико Аламан-
ни: мудрые никогда ничего не меняют.
384
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Медичи вызов, после которого те могли вернуться только
как абсолютные государи. По окончании осады Гвиччардини
предстояло помогать Медичи восстанавливать свое положение
и лично участвовать в предпринятой ими беспощадной чистке
поверженных народных вождей1. Однако пока осада длилась,
он заполнял свой вынужденный досуг написанием
критического анализа «Рассуждений» Макиавелли и собрания
афоризмов, из которого мы ясно видим, каким тогда представлялся
ему мир. Главной — и, наверное, господствующей — темой этих
«Заметок» является необычайная трудность применения ума
к миру событий в форме личного или политического
действия. Когда все книги прочитаны, все уроки усвоены, все
выводы сделаны, — Гвиччардини ни на минуту не допускает
мысли, что эти предварительные условия выполнять не
следует,— остается проблема перевода мыслей в действия2. Даже
если опыт принес случайное знание частностей, которого не
может дать природный ум3, эта проблема не исчезает и
выходит за рамки какой-либо осуществимой систематизации знаний.
Она связана с умением судить о времени, выбирать
подходящий для действий момент и с соображениями, относящимися
ι. Об этом этапе жизни Гвиччардини см.: Ridolß R. Life of Francesco
Guicciardini (chap. XVIII-XX).
2. «Quante volte si dice: se si fussi fatto ο non fatto cosi, saria succeduta
о non succeduta la tale cosa! ehe se fussi possibile vederne el paragone, si
conoscerebbe simile openione essere false» (Guicciardini F. Ricordi. P. 27;
редакция С, глава 22); «22. Сколько раз говорится: если бы было посту-
плено так или иначе, произошло бы то или другое; люди узнали бы,
что подобные мнения ложны, если бы можно было проверить их на
деле» (Гвиччардини Ф. Заметки о делах политических и гражданских //
Гвиччардини Ф. Сочинения / Пер. М.С. Фельдштейна. М., 1934· С. 117-
н8. Далее цитаты приведены по тому же изданию).
3- «Leggete spesso е considerate bene questi ricordi, perché è piu facile a cono-
scergli e intendergli ehe osservargli: e questo si facilita col farsene taie abito
ehe s'abbino freschi nella memoria. Non si confidi alcuno tanto nella prudenza
naturale ehe si persuada quella bastare sanza Paccidentale délia esperienzia,
perché ognuno ehe ha maneggiato faccende, benché prudentissimo, ha
potuto conoscere ehe con la esperienzia si aggiugne a moite cose, aile quali
è impossibile ehe el naturale solo possa aggiugnere» (Ibid. P. 13-14,
редакция С, главы 9, ю); «д. Читайте эти заметки часто и обдумывайте их
как следует, потому что познать и понять их легче, чем следовать им;
это облегчается, если свыкнуться с ними настолько, чтобы они
всегда свежи были в памяти, ю. Не полагайтесь всецело на природный
ум и не убеждайте себя, что достаточно его одного без участия опыта;
ведь всякий, кто только соприкасается с делами, будь он умнейший
человек в мире, мог познать, что опытом достигается многое, к чему не
могут привести одни только природные дары» (Там же. С. 113. Ср.:
редакция В, главы 71, юо, Ι2ΐ).
385
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
как к моменту, так и к действию1. Нетрудно догадаться, что
глупец может не понять происходящего. Гвиччардини
сознает, что очень умный человек способен слишком остро
реагировать на актуальные события8, так как ему кажется, что все
происходит быстрее и с большей интенсивностью, чем на деле3.
ι. «Sarebbe pericoloso proverbio, se non fussi bene inteso, quello ehe si dice:
el savio debbe godere el beneficio del tempo; perché, quando ti viene quello
ehe tu desideri, chi perde la occasione non la ritruova a sua posta: e anche
in molte cose è necessaria la celerità del risolversi e del fare; ma quando
sei in partiti difficili о in cose ehe ti sono moleste, allunga e aspetta tempo
quanto puoi, perché quello spesso ti illumina о ti libera. Usando cosi questo
proverbio, è sempre salutifero; ma inteso altrimenti, sarebbe spesso pernizioso»
(Guicciardini F. Ricordi. P. 90, редакция С, главы 78-85, особенно
редакция С, глава 79)» «Пословица — „мудрый должен пользоваться благом
времени", понятая плохо, была бы опасной. Когда желанное само
к тебе идет, стоит человеку раз пропустить случай, и он больше его не
дождется, так что во многих делах необходимо решать и действовать
быстро; однако в делах трудных и тяжелых тяни и выжидай,
сколько можешь, ибо время часто просвещает тебя или освобождает тебя.
Если так применять эту пословицу, она всегда спасительна; понятая
иначе, она часто была бы гибельной» (Гвиччардини Ф. Заметки о делах
политических и гражданских. С. 135)·
2. «Le cose del mondo sono si varie e dependono da tanti accidenti, ehe dif-
fïcilmente si puô fare giudicio del futuro; e si vede per esperienzia ehe quasi
sempre le conietture de' savi sono fallace: perô non laudo el consiglio di coloro
ehe lasciano la commodità di uno bene présente, conbenché minore, per paura
di uno maie futuro, benché maggiore, se non è molto propinquo о molto certo;
perché, non succedendo poi spesso quello di ehe temevi, ti truovi per una
paura vana avère lasciato quello ehe ti piaceva. E perô è savior proverbio: di
cosa nasce cosa» (Ibid. P. 28, редакция В, глава дб); «Дела мирские так
разнообразны и зависят от стольких случайностей, что о будущем
судить трудно; мы видим по опыту, что предположения людей мудрых
почти всегда бывают ложны; не одобряю поэтому совета тех, кто
упускает в настоящем даже малое благо из боязни будущих бед, хотя бы
и больших, если они не подошли вплотную или не вполне достоверны;
ведь то, чего ты боишься, часто вовсе не случается, и тогда
оказывается, что ты лишился желанного из-за пустого страха; поэтому мудра
пословица: из вещи родится вещь» (Там же. С. 203).
3- «Se vedete andare â cammino la declinazione di una città, la mutazione di
uno governo, lo augumento di uno imperio nuovo e altre cose simili — ehe
qualche volta si veggono innanzi quasi certe — awertite a non vi ingannare ne'
tempi: perché e moti délie cose sono per sua natura e per diversi impedimenti
molto piu tardi ehe gli uomini non si immaginàno, e lo ingannarti in questo
ti puô fare grandissimo danno: awertiteci bene, ehe è uno passo dove spesso
si inciampa. Interviene anche el medesimo nelle cose private e particulari, ma
molto piu in queste publiche e universali, perché hanno, per essere maggiore
mole, el moto suo piu lento, e anche sono sottoposte a piu accidenti» (Ibid.
P. 82, редакция G, глава 71); «71. Если вы увидите начало упадка города,
перемену правительства, появление новой власти и другие подобные
вещи, которые иногда можно предвидеть почти наверняка, смотрите,
как бы не обмануться вам насчет сроков, ибо движение дел
человеческих по природе своей и вследствие разных препятствий идет
гораздо медленнее, чем люди воображают; ошибка может тебе страшно
386
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
Макиавелли полагал, что лучше действовать, чем выжидать,
потому что с течением времени положение может
ухудшиться. Гвиччардини же считает более веским довод в пользу
промедления, так как ничто не может ухудшить положения
человека сильнее, чем его собственные необдуманные поступки.
Но оба они отчетливо сознают, что сфера
труднопредсказуемого — Гвиччардини отдает должное Аристотелю, сказавшему,
что нельзя утверждать ничего истинного о будущих
случайностях1,— является областью fortuna. Все связанные с этой
проблемой афоризмы «Заметок» следует читать как дополнение
к XXV главе «Государя» и к тем главам «Рассуждений», где
рассматриваются проблемы действия в обществе, в котором
появились признаки порчи.
В нескольких местах «Заметок», — вторя фрагментам
«Диалога» и «Размышлений о „Рассуждениях" Макиавелли»,
которые Гвиччардини писал примерно в то же время, — звучит
критика в адрес истолкования Макиавелли римской истории.
Лейтмотивом этой критики становится наивность
предположения, будто можно подражать примеру римлян в совершенно
иных условиях2. Об этой полемике написано множество работ,
где якобы идеалистическая убежденность Макиавелли в
существовании исторических параллелей и повторов
противопоставляется якобы более реалистичной точке зрения Гвиччардини,
сознававшего, что нет двух совершенно одинаковых ситуаций
и что ориентироваться в них следует, руководствуясь чутьем,
навредить, а потому знай, что люди часто в этом месте спотыкаются.
Так бывает и в делах частных и личных, но гораздо чаще в
общественных и всенародных; размах их по природе своей больше,
движение медленнее, и поэтому они подвержены большим случайностям»
(Там же. С. 133)· Ср.: редакция С, главы 34> "5> п^, ι62, 191; редакция В,
главы 298, 325·
1. «Quanto disse bene el filosofo: Defiituris contingentibus non est determinata
ventasl Aggirati quanto tu vuoi, ehe quanto piu ti aggiri, tanto piu truovi
questo detto verissimo» (Ibid. P. 67, редакция С, глава 58); «58. Как
хорошо говорит философ: Defiituris contingentibus non est determinata veritasl
Как ни вертись, a ты должен будешь признать, что вернее не скажешь»
(Там же. С. 129).
2. «Quanto si ingannono coloro ehe a ogni parola allegano e Romani! Bisognerebbe
avère una città condizionata come era loro, e poi governarsi secondo quello
esemplo: el quale a chi ha le qualità disproporzionate è tanto disproporzionate,
quanto sarebbe volere ehe uno asino facessi el corso di uno cavallo» (Ibid.
P. 121, редакция С, глава по); «по. Как ошибаются те, кто при каждом
слове ссылается на римлян. Нужно было бы жить в городе,
находящемся в таких же условиях, как Рим, а потом уже управлять по этому
примеру; при разности условий это так же несообразно, как требовать
лошадиного бега от осла» (Там же. С. 143)·
387
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
а не книгами1. Впрочем, возможно, контраст преувеличен. Оба
мыслителя жили в мире понятий, где/ortuna считалась
одновременно непредсказуемой и склонной к повторам. В обоих
вариантах «Заметок» Гвиччардини утверждает, что все
повторяется, хотя и имеет иной вид и разглядеть повтор трудно2.
Макиавелли достаточно хорошо понимал, что
воспользоваться уроками истории трудно и что как раз в этом отчасти и
состоит проблема своевременности действий. Здесь их мало что
разделяет, кроме расстановки акцентов и темперамента.
Важным различием является не взгляд политических философов
на сложное устройство истории, а тот факт, что Макиавелли
обозначал словом virtù творческую, деятельную способность
прямо влиять на события, тогда как Гвиччардини не слишком
верил в эту способность и не называл ее virtù. Оба они
сознавали, что virtù употребляется как характеристика поведения,
выражающего определенную нравственную систему, которая
проявляется в действии. Однако наиболее смелый
интеллектуальный ход Макиавелли состоял в том, чтобы сохранить
за этим понятием обозначение определенных аспектов
поведения человека в сфере войны за пределами города и после
1. См., например: Butterfield H. The Statecraft of Machiavelli. London, 1940
(второе издание — 1955 год).
2. «Tütto quello ehe è stato per el passato e è al présente, sarà ancora in futuro;
ma si mutano e nomi e le superficie délie cose in modo, ehe chi non ha buono
occhio non le riconosce, ne sa pigliare regola о fare giudicio per mezzo di
quella osservazione» (Guicciardini F. Ricordi. P. 87, редакция С, глава 76);
«76. Все, что было в прошлом и существует в настоящем, предстоит еще
в будущем; меняются лишь названия и видимость вещей, а человек
недостаточно зоркий этого не распознает и не умеет вывести из этого
наблюдения правила или суждения» (Гвиччардини Ф. Заметки о делах
политических и гражданских. С. 134)· Ср.: «...le cose medesime ritornano,
ma sotto diversi nomi e colori» (Ibid, редакция В, глава щ); «...бывшее
возвращается, только под другими названиями и в другой окраске...»
(Там же. С. 2θ8). «Le cose del mondo non stanno ferme, anzi hanno sempre
progresso al cammino a ehe ragionevolmente per sua natura hanno a andare
e finire; ma tardano piu ehe non è la opinione nostra, perché noi le misuriamo
secondo la vita nostra ehe è breve e non secondo el tempo loro ehe è lungo;
e perô sono e passi suoi piu tardi ehe non sono e nostri, e si tardi per sua
natura ehe, ancora ehe si muovino, non ci accorgiamo spesso de' suoi moti:
e per questo sono spesso falsi e' giudici ehe noi facciamo» (Ibid. P. 82,
редакция В, глава 140); «Ничто в мире не стоит на месте; наоборот, все
идет вперед по пути, на котором вещам, согласно природе их,
положено иметь начало и конец, но ход этот медленнее, чем мы думаем; ведь
мерим все нашей короткой жизнью, а не долгим временем,
положенным вещам; поэтому шаги его медленнее наших и даже так
медленны от природы, что мы часто не замечаем его движений, даже когда
они есть; вот отчего суждения наши часто бывают ложны» (Там же.
С. 215).
388
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
краха гражданского общества. Гвиччардини же использовал
его только по отношению к гражданской жизни. Как в
«Государе», так и в «Заметках» перед нами предстает человек в мире
после разрушения гражданских установлений, но у Макиавелли
это правитель, пытающийся повлиять на события с помощью
virtù в смысле отваги, а у Гвиччардини — патриций,
старающийся приспособиться к событиям, опираясь на
рассудительность. Оба они полагают, что отвага и благоразумие хороши
в разных ситуациях, что обстоятельства диктует fortuna и что
человеку все труднее понять, чего именно они требуют.
Если мы сопоставим идеи двух авторов, касающиеся
гражданской и республиканской системы, мы обнаружим, что между
их концепциями virtù есть и другие различия, связанные с их
взглядами на армию и войну. От «Государя», где virtù предстает
как ограниченная, но подлинная творческая сила, Макиавелли
перешел к «Рассуждению» и трактату «О военном искусстве»,
где рассматривалось вооруженное народное государство, в
котором воинская virtù была основой гражданской, а республика
могла силой оружия укротить свое внешнее окружение. Прежде
чем написать «Заметки», Гвиччардини завершил работу над
«Диалогом», в котором проанализировал и отверг римскую
парадигму. Он остановился на città disarmata, где важнейший
навык заключался в приспособлении к окружающей среде с
опорой на рассудительность. Virtù для него существовала лишь
в контексте гражданского общества, где она отождествлялась
с рассудительностью. Когда республика исчезла вместе с virtù,
рассудительность осталась орудием человека, живущего после
разрушения гражданского общества1. Как мы понимаем
исходя из нашей базовой модели, остается единственная значимая
I. «Chi si travaglia in Firenze di mutare stati, se non lo fa per nécessita, о ehe
a lui tocchi diventare capo del nuovo governo, è poco prudente, perché mette
a pericolo se e tutto el suo, se la cosa non succède; succedendo, non ha a pena
una piccola parte di quello ehe aveva disegnato. Ε quanta pazzia è giuocare
a uno giuoco ehe si possa perdere piu sanza comparazione ehe guadagnare!
Ε quello ehe non importa forse manco, mutato ehe sia lo stato, ti oblighi
a uno perpetuo tormento: d'avere sempre a temere di nuova mutazione» (Ibid.
P. 60, редакция С, глава 51); «51. Кто стремится во Флоренции к
перемене правления и поступает так не по необходимости, а только
потому, что ему запало в голову стать во главе правительства, поступает
неразумно: ведь если дело не удастся, он подвергает опасности себя
и все, что у него есть; при успехе он получит разве малую долю того,
на что надеялся. И какое безумие затевать игру, в которой можно
неизмеримо больше проиграть, чем выиграть! Пожалуй, не менее важно
и то, что перемена правления заставляет тебя вечно терзаться
страхом новых изменений» (Там же. С. 127).
389
ГЛАВА VIII. РИМ И ВЕНЕЦИЯ
альтернатива — вера, возлагаемая на Провидение или
пророчество как проявления благодати, та вера, которую сторонники
Савонаролы по-прежнему связывали с мессианским жребием
Флоренции. Гвиччардини в одном из фрагментов своих
«Заметок» размышляет о вере, которая сдвигает горы. Он
изображает ее как совершенно неразумную настойчивость в тисках
обстоятельств, способную, однако, если она будет достаточно
вдохновенной, взять на себя функцию virtù, восторжествовать
над случайностями и придать им такое направление, какого
не мог предвидеть никакой разумный наблюдатель. Именно
такая вера придавала сил флорентийцам, более семи месяцев
одновременно противостоявшим войскам папы и императора.
Именно такую веру внушают пророчества Савонаролы1. Кроме
I. «Quello ehe dicono le persone spirituali, ehe chi ha fede conduce cose grandi, e,
come dice lo evangelio, chi ha fede puo comandare a' monti ecc, procède perché
la fede fa ostinazione. Fede non è altro ehe credere con openione ferma e quasi
certezza le cose ehe non sono ragionevole, о se sono ragionevole, crederle con
piu resoluzione ehe non persuadono le ragione. Chi adunche ha fede diventa
ostinato in quello ehe crede, e procède al cammino suo intrepido e resoluto,
sprezzando le diffîcultà e pericoli, e mettendosi a soportare ogni estremità:
donde nasce ehe, essendo le cose del mondo sottoposte a mille casi e accidenti,
puo nascere per molti versi nella lunghezza del tempo aiuto insperato a chi
ha perseverato nella ostinazione, la quale essendo causata dalla fede, si dice
meritamente: chi ha fede ecc. Esemplo a' di nostri ne è grandissimo questa
ostinazione de' Fiorentini ehe, essendosi contro a ogni ragione del mondo
messi a aspettare la guerra del papa e imperadore sanza speranza di alcuno
soccorso di altri, disuniti e con mille difficultà, hanno sostenuto in sulle
mura già sette mesi gli eserciti, e quali non si sarebbe creduto ehe avessino
sostenuti sette di, e condotto le cose in luogo ehe, se vincessino, nessuno piu
se ne maraviglierebbe, dove prima da tutti erano giudicato perduti: e questa
ostinazione ha causata in gran parte la fede di non potere perire, secondo le
predizione di fra Ieronimo da Ferrara» (Guicciardini F. Ricordi. P. 3;
редакция С, глава ι); «ι. Если люди благочестивые говорят, что кто имеет
веру, творит великие дела; и если сказано в Евангелии, — кто имеет
веру, тот может двигать горы, и т.д., то это потому, что вера дает
упорство. Верить — значит не что иное, как иметь твердое мнение и даже
уверенность в вещах внеразумных, а если вещи эти постигаются
разумом, то верить в них с большей решительностью, чем разум в том
убеждает. Итак, кто имеет веру, тот в ней упорен, он вступает на путь
свой бесстрашно и решительно, презирает трудности и опасности и
готов терпеть до последней крайности. Так как дела мира подвержены
тысячам случайностей, то благодаря долгому течению времени может
прийти неожиданная помощь тому, кто упорствовал до конца;
причиной этого упорства была вера, и потому справедливо говорится: кто
имеет веру, творит дела великие. Пример этого в наши дни —
величайшее упорство флорентийцев, которые, ожидая, вопреки всякому
рассудку, войны между императором и папой, без надежды на чью-нибудь
помощь, разъединенные, среди тысячи трудностей, — семь месяцев
выдержали за стенами натиск войск, когда никто бы не поверил, что они
выдержат семь дней; если бы дела обернулись так, что флорентийцы
победили бы, никто бы уже не удивился, а вначале все считали их
390
Б) «ДИАЛОГ» ГВИЧЧАРДИНИ И ПРОБЛЕМА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТИ
того, Гвиччардини отмечает, что такая вера — безумие,
заставляющее человека всецело полагаться на fortuna1.
Впрочем, Гвиччардини расходится с Макиавелли в том, что
касается осмысления воинской virtù и самих войск как
источника virtù. Эта проблема более тесно связана с важнейшими
вопросами западной политической мысли, чем всегда принято было
считать. Гвиччардини, как и Макиавелли, хорошо сознавал
присутствие в политике внеморального элемента, но он употреблял
слово virtù лишь для совокупного обозначения ценностей
гражданского гуманизма. Макиавелли не менее, чем Гвиччардини,
понимал, каковы эти ценности. Однако он полагал, что они
соотносятся со способностью народа контролировать
окружающие его территории силой оружия, которую называл его virtù.
Гвиччардини — возможно, больший реалист в оценке военной
силы Флоренции — сумел, избрав Венецию как типичный
пример città disarmata, построить модель общества, в чистом виде
воплощавшую эти ценности. Вторая книга «Диалога»
представляет собой изложение гражданского идеала, каким его никогда не
пытался изобразить Макиавелли. Для гражданского гуманизма
Венеция олицетворяла особую парадигму. В дополнение к той
перспективе, в которой образ Венеции воплощал миф Полибия
о стабильности, она позволяла переводить классические
политические ценности в реальные или почти реальные
политические построения и институты. В работах Донато Джаннотти, как
и в трудах самого Гвиччардини, эти парадигмы представлены
как теоретические инструменты. В произведениях Гаспаро Кон-
тарини мы видим символическое развитие мифа.
погибшими; причиной упорства их была во многом вера в
предсказание Фра Джироламо из Феррары, что они погибнуть не могут»
(Гвиччардини Ф. Заметки о делах политических и гражданских. С. 107-108).
ι. «Accade ehe qualche volta e' pazzi fanno maggiore cose ehe e' savi. Procède
perché el savio, dove non è necessitato, si rimette assai alla ragione e poco
alla fortuna, el pazzo assai alla fortuna e poco alla ragione: e le cose portate
dalla fortuna hanno talvolta fini incredibili. E' savi di Firenze arebbono ceduto
alla tempesta présente; e' pazzi, avendo contro a ogni ragione voluto opporsi,
hanno fatto insino a ora quello ehe non si sarebbe creduto ehe la città nostra
potessi in modo alcuno fare: e questo è ehe dice el proverbio Audaces fortuna
iuvat» (Ibid. P. 148, редакция С, глава 136); «136. Случается иногда, что
безумцы творят более великие дела, чем мудрецы; происходит это
оттого, что мудрый, которого не гнетет необходимость, крепко
полагается на разум и слабо на судьбу; дела же, которыми вершит судьба,
часто кончаются образом непостижимым. Флорентийские мудрецы
уступили бы буре, разразившейся сейчас, а безумцы решили
бороться с ней наперекор всякому рассудку, и никто бы не поверил, что наш
город способен на подвиги, которые они до сих пор совершили. Это
и говорит пословица: Audaces fortuna juvat» (Там же. С. 150).
Глава IX
Джаннотти и Контарини
Венеция как понятие и как миф
I.
Тем, кто читает по-английски, Донато Джаннотти (i492_I573)> если
они вообще слышали это имя, известен как «самый
превосходный описатель Венецианской республики» (слова Харрингтона,
1656 год1) и в общих чертах — как интеллектуальный наследник
идей Макиавелли и последний крупный мыслитель
флорентийской республиканской традиции. На английском языке пока не
появилось подробного анализа его идей2. В настоящей работе
мы провели достаточно тщательное исследование, стремясь
выявить неувязку в сложившихся представлениях о нем: на
первый взгляд, странно, как человек может одновременно
восхищаться Венецией и Макиавелли. И если мы заглянем глубже,
эта странность усугубляется, ибо Джаннотти, как выясняется,
использовал свое доскональное знание венецианских порядков
для построения модели флорентийского правления, которая
одновременно была отчетливо народной и основанной на
гражданской милиции. Обе эти идеи очень далеки от
аристократического città disarmata, о котором писали Макиавелли и Гвиччардини.
Дело в том, что его картина Венеции, как уже отмечалось,
является скорее инструментом, чем идеалом; Джаннотти не говорит
о serenissima republiça как образце для подражания, но
воспринимает ее как источник концептуальных и конституционных
ι. В начале предисловия к «Океании», см.: The Oceana and Other Works
of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 35.
2. О его жизненном пути см.: Ridojfi R. Opuscoli di storia letteraria e di
erudizione. Firenze, 1942; Starns R. Donato Giannotti and his Epistolae. Geneva,
1968, а также работу Феликса Гилберта, указанную в следующем
примечании. Анализ идей Джаннотти см.: Albertini R. von. Das florentinische
Staatsbeiwusstsein im Übergang von der Republik zum Parinzipat. S. 14-66;
см. также: Starns R. Ante Machiavel: Machiavelli and Giannotti // Studies
on Machiavelli / Ed. by M. P. Gilmore. P. 285-293. См. краткое
упоминание о Джаннотти (указание на связь между его идеями и английской
мыслью эпохи Шекспира): Huffman С. С. Coriolanus in Context. Lewisburg,
1972. P. 17-20.
З92
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
механизмов, которые можно приспособить для использования
в трудных условиях флорентийской политики popolare. В этом
ему помогает то обстоятельство, что смешанной модели
правления по Аристотелю и Полибию, олицетворяемой Венецией,
можно придать аристократический или демократический уклон,
не теряя ее сущности. Джаннотти особо оговаривает, сколь
многим он обязан Аристотелю и Полибию, равно как и Макиавелли.
На наш взгляд, его можно назвать оригинальным теоретиком
смешанной системы правления, даже если он не оказал
прямого влияния на эту концепцию. Джаннотти первый, у кого
мы обнаружим некоторые общие утверждения, к которым эта
ветвь республиканской мысли впоследствии многократно
обращалась. В то же время мы можем видеть в нем
продолжателя тенденции, в русле которой идеи Макиавелли вновь
вернулись в систему аристотелевской республиканской теории, а их
резкая, поражающая новизна сгладилась и смягчилась. Ни об
innovazione, ни о virtu, ни даже о milizia Джаннотти не
высказывает таких спорных или таких ярких идей, как его старший
современник. Но чем меньше мы доверяем известному мифу
о «коварном Макиавелли», тем труднее становится понять, как
подлинные намерения Макиавелли повлияли на европейскую
традицию. Так или иначе, в ходе дальнейшего развития
европейской республиканской теории его образ приобретал все
более традиционный и моральный оттенок.
Как показывает привычка Джаннотти ссылаться на своих
учителей, его стиль мышления отличается большим
формальным академизмом по сравнению с Макиавелли или Гвиччар-
дини. Его политические убеждения подлинны, но его идеи не
рождены, как у них, мучительным опытом гражданской жизни.
В молодости Джаннотти часто посещал собрания в Садах Ори-
челлари и дружески общался с Макиавелли, когда последний
писал свою историю Флоренции. В 1520—1525 годах он
преподавал в Пизанском университете (интонация его более поздних
работ наводит на мысль, что на протяжении какого-то
времени он читал политическую теорию). В 1525-1527 годах
Джаннотти долго прожил в Падуе и Венеции, где написал большую
часть своей «Книги о Венецианской республике» (Libro délia
Repubblica de' Vineziani), работы, благодаря которой он в первую
очередь и остался в памяти последующих поколений1. После
I. Gilbert К The Date of the Composition of Contarini's and Giannotti's Books
on Venice // Studies in the Renaissance. Vol. XIV. New York, 1967. P. 172-184.
393
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
свержения Медичи Джаннотти вернулся во Флоренцию —
отъезд из которой он до тех пор, по-видимому, расценивал как
изгнание — ив период осады 1528-1530 годов находился на посту
секретаря Совета десяти, который когда-то занимал
Макиавелли, и, подобно ему, участвовал в организации гражданской
милиции. В 1530 году он был выслан из города и долгое время
прожил на чужбине. Вторая его крупная работа, «О
Флорентийской республике» (Delia Repubblica Fiorentina), представляет
собой рассказ изгнанника о народной флорентийской
республике, которой так и не суждено было появиться. Это
произведение увидело свет лишь в 1721 году, и хотя его труд о Венеции
был издан в 1540 году и пользовался широкой известностью,
мы не изучаем плоды влияния Джаннотти на умы его
современников. В отличие от Макиавелли и Гвиччардини, он не
был гением, но его тексты — тексты очень умного человека.
Они показывают, что можно сделать с теориями Аристотеля,
гуманизма, венецианской системы и Макиавелли в значимых
и характерных обстоятельствах. Кроме того, в них можно
найти некоторые новые мысли относительно политики и времени.
Феликс Гилберт собрал свидетельства, указывающие на связь
между созданием работы Джаннотти о Венеции и падением
Медичи в мае 1527 года, — которого он и его друзья с нетерпением
ждали, когда он еще работал над черновым вариантом текста1.
Несмотря на это, вероятно, будет уместно рассматривать его
«Венецианскую республику» как исследование, которое автор
намеревался представить своим современникам. G 1494 года
о венецианской модели беспрестанно велись разговоры, о
механизмах ее работы существовало множество разрозненных
сведений. Однако единственный труд, посвященный структуре
венецианского правления и написанный Марком Антонием Са-
белликом, был, по мнению Джаннотти, столь же бессистемным,
сколь и некритичным. Режиму Медичи суждено пасть, оптима-
ты, симпатизирующие народу, среди которых находился и сам
Джаннотти, должны возобновить борьбу и установить
правление, где их власть сочеталась бы со свободой, и здесь
ориентиром служила Венеция. Джаннотти решил изложить факты.
Он задумал трехчастное сочинение2, в первой книге которого
1. Gilbert К The Date of the Composition. P. 178-179.
2. Giannotti D. Opère / A cura di G. Rosini. 3 vols. Vol. I. Pisa, 1819. P. 9:
«E perché nel primo ragionamento fu disputato delFamministrazione universale
della repubblica; nel secondo particolarmente di tutti i magistrati; nel terzo
della forma e composizione di essa repubblica, noi dal primo penderemo il
394
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
была бы обрисована общая структура правления (Uamministrazione
universale), во второй рассказывалось бы в деталях (particolarmente)
о различных магистратурах, а в третьей — о la forma е composizione
di essa Repubblica1: фраза, предполагающая теоретический анализ.
Джаннотти успел завершить лишь первую часть, когда во
Флоренции разразилась революция и он вернулся в город, где ему
предстояло служить при умеренном режиме Никколо Каппони
и при намного более радикальном правительстве периода
осады. Так он почувствовал (возможно) большую приверженность
народному правлению, чем предполагал в 1526-1527 годах. Затем
он отправился в изгнание. Гораздо позднее, в 1538 году,
Джаннотти начал готовить (но не редактировать) свою неоконченную
книгу для печати2. Возможно, к тому времени он завершил
работу над рукописью очерка о народном правлении во Флоренции.
Если это так, было бы любопытно узнать, почему он не
опубликовал последнюю, но мы должны были бы понимать, отчего
он не закончил первую. Его теоретическое сочинение было уже
написано, но посвящено другой теме.
Учитывая сказанное, нам не следует ожидать от, по сути,
неоконченной «Венецианской республики» пространных
теоретических построений. Все, чем мы располагаем, — это первая
часть, и она страдает почти теми же недостатками, какие
приписывались Сабеллику. Работе последнего не хватало анализа la
forma, la composizione, il temperamento di questa Repubblica* — именно
тех тем, которые сам Джаннотти приберегал для так и не
написанной им третьей части. Даже когда он говорит, что в
первой части рассмотрит универсальные проблемы, а к
частностям вернется позже, потому что универсальное понять легче,
это не означает, что в первую очередь он изложит сущностные
принципы устройства республики, а затем конкретные
примеры их применения. Обоснован такой порядок тем, что
художники начинают с эскизов, а скульпторы — с обтесывания
principio nostro, non solamente perché naturalmente le cose universali sono di
piu facile intelligenza, ma perché ancora del primo ragionamento il secondo,
il terzo dall'uno e dalFaltro dépende»; «И поскольку первый разговор был
обсуждением общей структуры правления республики, во втором в
деталях шла речь о разных магистратурах, в третьем — о форме и
составе этой республики, то мы начнем с первой из этих тем, не только
потому, что обычно общие вещи проще для понимания, но и потому,
что второй разговор вытекает из первого, а третий — из первых двух».
1. Форма и состав этой республики (итал).—Прим. ред.
2. Gilbert F. Date and Composition. P. 180-182.
3. [Формы, состава и характера этой республики (итал.).—Прим. ред.]
См.: Giannotti D. Opère. P. 20.
395
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
куска мрамора, так что можно понять, из какой части будет
высечена голова, прежде чем обозначится сама форма. Cose
universali — общие характеристики натурального объекта,
благодаря которым он соответствует тому облику или форме,
которые впоследствии обретет. Прежде чем описывать структуру
венецианского правления, следует описать ее географическое
положение — само по себе, разумеется, необычное1. Таким
образом, двигаясь от universale к particolare, мы не столько
следуем от принципа к его применению, сколько изучаем материю,
прежде чем перейти к форме. Даже здесь перед нами не
столько схоластическое, сколько художественное описание:
Потому что каждая республика подобна природному телу,
или же вернее сказать, что это тело, первоначально созданное
природой, а затем отшлифованное искусством. Потому что
когда природа создает человека, она стремится создать
универсальную целостность, единство. Коль скоро каждая
республика схожа с сотворенным природой телом, у нее
должны быть члены, а коль скоро члены любого тела соразмерны
и связаны друг с другом, тот, кто не понимает их пропорций
и отношений, не знает, как устроено тело. Вот в чем
заключалась ошибка Сабеллика2.
1. Giannotti D. Opère. P. 34~35: «I dipintori, e scultori, se drittamente riguardiamo,
seguitano nello loro arti i precetti dei filosofi; perciocché ancora essi le loro
opere dalle cose universali cominciano. I dipintori, prima ehe particolarmente
alcuna imagine dipingano, tirano certe linee, per le quali essa figura univer-
salmente si dimostra; dopo questo le danno la sua particolare perfezione. Gli
scultori ancora osservano nelle loro statue il medesimo; tanto ehe chi vedesse
alcuno dei loro marmi dirozzato, direbbe piu tosto questa parte debbe servire
per la testa, questa per lo braccio, questa la gamba: tanto la natura ci costringe,
non solamente nel conoscere ed intendere, ma eziandio nell'operare, a pigliar
il principio dalle cose universali! Per questa cagione io incominciai dalla
descrizione del sito di Venezia, come cosa piu ehe Paître universale»; «Если мы
внимательно понаблюдаем за живописцами и скульпторами, то увидим,
что они следуют в своем искусстве заветам философов, поскольку тоже
начинают свою работу с общего. Живописцы, перед тем как написать
какое-то изображение в деталях, чертят несколько линий, намечающих
общие очертания фигуры, а после этого в совершенстве
прорисовывают все ее детали. Скульпторы придерживаются того же принципа при
создании статуй; увидев одну из их глыб мрамора после первичной
обработки, мы можем сказать, что эта часть станет головой, эта — рукой,
а та — ногой: сама природа вынуждает нас не только в процессе
познания, но и при созидании начинать с общих вещей! По этой причине
я начал с описания местоположения Венеции, как с самой общей вещи».
2. Ibid. P. 2i: «Perciocché ciascuna repubblica è simile ad un corpo naturale,
anzi per meglio dire, è un corpo dalla natura principalmente prodotto, dopo
questo dall'arte limato. Perciocché quando la natura fece l'uomo, ella intese
fare una università, una comunione. Essendo adunque ciascuna repubblica
396
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
Если — упростим немного эту мысль — природа дает
республике материю, а искусство — форму, получается, что принципы
политической гармонии не созданы природой и не подлежат
интуитивному познанию. Их можно обнаружить, только если
мы видим, какую форму политический художник придал
своему материалу. Сабеллик лишь описал различные магистратуры
в Венеции и не рассматривал отношения между ними,
составляющие форму государства. Однако только на это у Джаннот-
ти и хватило времени; оплошности Сабеллика предполагалось
исправить лишь в третьей части. У нас нет выполненного им
теоретического анализа венецианской системы, и нам остается
делать выводы на основании языка текста, которым мы
располагаем, и содержащихся в нем указаний на то, каким этот
анализ мог бы быть. Например, безусловно важны, учитывая
различные теории, которые Джаннотти предстояло изложить
в книге о флорентийском правлении, его упреки Сабеллику
в неумении показать, как каждая магистратура связана с
другими и зависит от них, благодаря чему можно увидеть componzione
республики во всем ее совершенстве1.
«Венецианская республика» не была бы гуманистическим
сочинением, если бы не содержала размышлений о месте
отдельного человека в политическом времени. Книга написана
в форме диалога, главный участник которого — венецианский
ученый Трифоне Габриелло (Габриэле), уединенно живущий
на покое в Падуе, — сравнивается с римлянином Помпонием
Аттиком. Он принимает этот комплимент, но затем
объясняет различие. Помпоний Аттик жил во времена, когда
республика давно уже пришла в упадок, и удалился в философское
уединение, ибо не мог спасти ее и не хотел погибнуть вместе
с ней. Венеция же не подвержена порче, а скорее стала еще
более совершенной, чем когда-либо, а его уход на покой — итог
свободного выбора человека между действием и созерцанием2.
come un'altro согро naturale, deve апсога i suoi membri avère. Ε perché
tra loro è sempre certa proporzione e convenienza, siccome tra i membri di
ciascuno altro corpo, chi non conosce questa proporzione e convenienza, ehe
è tra l'un membro e l'altro, non puo corne fatto sia quel corpo comprendere.
Ora questo è quello dove manca il Sabellico».
i. Ibid: «...non dichiara corne l'uno sia collegato con l'altro, ehe dependenza
abbia questo da quello, tal ehe perfettamente la composizione délia repubblica
raccoglier se ne possa»; «...он не говорит, как одно связано с другим, как
это зависит от того, что необходимо для того, чтобы в совершенстве
увидеть устройство республики».
2. Ibid. Р. 16—17: «...Pomponio considerando ehe la repubblica sua era corrottis-
sima, e non conoscendo in se facoltà di poterie la sanità restituire, si ritrasse
397
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
Спокойствие Венеции, говорящее в ее пользу при сравнении
с воинской славой Рима1, противопоставляется затем
плачевному состоянию Италии. По словам Трифоне, он не знает,
сравнивать ли нынешние времена с эпохой, когда римские
императоры искореняли в Риме свободу, или с периодом, когда Италию
опустошали варвары. Впрочем, это и не играет особой роли,
потому что именно императорская власть послужила
причиной варварских набегов, а те, в свою очередь, привели к
теперешним бедствиям8. Для Джаннотти история явно линейна
da lei per non essere costretto con essa a rovinare. Perciocché la repubblica,
quando è corrotta, è simile al mare agitato dalla tempesta, nel quale chi
allora si mette, non si puô a sua porta ritrarre. Io già non mi son ritratto dalle
cure civili per questa cagione, perciocché la mia repubblica non è corrotta,
anzi (se io non m'inganno) è piu perfetta ch'ella mai in alcun tempo fosse...»;
«...Помпоний, принимая во внимание глубокий упадок своей
республики и не видя в себе способностей вернуть ей процветание,
удалился от нее, чтобы ему не пришлось погибнуть вместе с ней. Потому что
когда республика подвержена порче, она подобна морю в бурю, и кто
пускается в такое плавание, тот не может укрыться в гавани. Я же
не по этой причине удалился от гражданских забот, потому что моя
республика не находится в упадке, напротив, если я не заблуждаюсь,
она более совершенна, чем когда бы то ни было...».
ι. Giannotti D. Opère. P. 17: «E quantunque i Romani possedessero tanto maggiore
imperio quanto è noto a ciascuno, non pero giudico la repubblica nostra
meno beata e felice. Perciocché la félicita d'una repubblica non consiste
nella grandezza delPimperio, ma si ben nel vivere con tranquillità e pace
universale. Nella quai cosa se io dicessi ehe la nostra repubblica fosse alia
romana superiore, credo certo ehe niuno mi potrebbe giustamente riprendere»;
«И хотя римляне владели такой великой империей, которая известна
каждому, я не считаю нашу республику менее благодатной и
счастливой. Потому что счастье республики не заключается в величии ее
владений, а в спокойной жизни и всеобщем мире. И если я скажу, что
в этом наша республика превосходит римскую, то я уверен, что никто
меня не сможет упрекнуть».
2. Ibid. Р. 15: «...due tempi mi pare ehe tra gli altri siano da ricordare: Uno,
nel quale fu il principio délia ruina sua [то есть Италии] e dello imperio
Romano, e questo fu quando Roma dalle armi Cesariane fu oppressa: Paltro,
nel quale fu il colmo del male italiano; e questo fu quando l'Italia dagli Unni,
Goti, Vandali, Longobardi fu discorsa e saccheggiata. E se bene si considerano
gli accidenti ehe da poco tempo in qua, cosi in Oriente come in Occidente,
sono awenuti, agevolmente si puo vedere ehe a quelli ehe oggi vivono in
Italia soprasta uno di quelli due tempi. Ma quai di loro piu si debba avère
in orrore non so io già discernere: perciocché dal primo si puo dire nascesse
il secondo, e dal secondo tutta quella variazione, ehe ha fatto pigliare al
mondo quella faccia, ehe ancora gli veggiamo a' tempi nostri, e lasciar del
tutto quella ehe al tempo de' Romani aveva...»; «...я считаю, что нужно
прежде всего вспомнить две эпохи: первая — начало ее [то есть
Италии] разрушения и упадка Римской империи, и это было, когда Рим
жестоко угнетался Цезарем; вторая — это время, когда беды Италии
достигли предела, а это было, когда гунны, готы, вандалы и
лангобарды совершали набеги на Италию и грабительски опустошали ее.
И если принять во внимание события, которые недавно имели место
398
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
и складывается из причинно-следственных связей. Однако
счастье Венеции в том, что она ушла от истории, а удалось ей это,
несомненно, благодаря успешному поддержанию внутренней
устойчивости и гражданской virtù. Это заставляет нас искать
объяснения тому, как можно на протяжении веков сохранять
устойчивость посредством гармонии или смешения элементов,
составляющих политическое общество, в духе Аристотеля или
Полибия. Риторика текста во многом отсылает к подобной
концепции, и все же, как отметил Гилберт, термин «смешанное
правление» и теоретический инструментарий Полибия в
«Венецианской республике» не встречаются. Они возникают во
«Флорентийской республике», и тем не менее мы не можем
сказать наверняка, какие принципы componzione и proporzione
Джаннотти извлек бы из функционирования венецианских
ведомств, если бы написал третью часть.
Сколько мы можем судить, нет прямых указаний на то, что
Джаннотти представил бы Венецию как воплощение Полиби-
евой теории о равновесии между монархией, аристократией
и демократией. Конечно, нам говорят, что республика включает
в себя Большой совет, Consiglio de' Pregati (Совет приглашенных),
Коллегию и дожа. Первый, второй и четвертый из них,
очевидно, соотносятся с классическими представлениями о многих,
немногих и одном, тогда как Коллегия является
исполнительным президиумом действующих магистратов и усиливает
аристократический элемент pregati. Впрочем, здесь намного менее
очевидно, чем это было у Гвиччардини, что эти четыре части
уравновешивают или контролируют друг друга. Мы можем
предположить, что в конечном счете Джаннотти
сформулировал бы подобную теорию, но остается фактом, что его
исследование венецианской конституционной структуры развивается
в двойном контексте: в историческом описании того, как
Венеция стала замкнутой аристократией, и в подробном
исследовании процедур голосования в Венеции, ни одно из которых
не имеет явной связи с принципами равновесия по Полибию.
Когда Джаннотти писал о флорентийской политике, он, как
мы увидим, выступал за vivere popolare. Он хотел, чтобы членами
как на востоке, так и на западе, легко можно увидеть, что на
нынешних жителей Италии наложила отпечаток одна из тех двух эпох.
Но я не могу сказать, какая из них ужаснее, потому что можно
сказать, что первая стала причиной второй, а вторая повлекла за собой
все те разнообразные события, определившие тот облик мира, что он
сохраняет и в наши дни, и приведшие к потере того облика, что мир
имел во времена римлян...».
399
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
Большого совета могли стать все, кто платит налоги, а не
только те, чье происхождение позволяло им занимать магистратуры.
Насколько он придерживался этих взглядов, когда в 1525-1527 го_
дах писал о Венеции, не вполне ясно1, но есть свидетельства, что
он сознавал проблему, возникшую вследствие закона 1297 года,
допускавшего участие в венецианском Большом совете лишь
потомков тех, кто входил в него в то время. Во Флоренции
созданная в 1494 году система, намеренно построенная по образцу
венецианской, была изначально архетипически народной,
потому что в основе ее был Большой совет, открытый для всех
граждан. Поскольку поправки, подобные венецианскому
закону 1297 года, отсутствовали, в сравнении двух моделей
оставалось потенциальное напряжение. Джаннотти не разделяет
мнения Гвиччардини, что Флоренция — республика настолько же
аристократическая, как и Венеция, а Венеция — настолько же
демократическая, как и Флоренция. В обоих случаях имеется
ограниченное число граждан, а понятия «аристократический»
и «демократический» имеют смысл лишь по отношению к
распределению власти среди граждан. Он утверждает, как
впоследствии скажет и о Флоренции, что в Венеции люди
делятся на бедных, горожан средней руки и элиту, popolari, cittadini
и gentiluomini. Первые — это те, чей род занятий слишком
низок, а бедность слишком велика, чтобы полагать, что они в той
или иной форме могут участвовать в гражданской жизни;
вторые— те, чьи происхождение и род деятельности дают им
положение и состояние, достаточные, чтобы считаться сынами
своей patriae последние же — подлинные граждане своего
города и республики2. Когда Джаннотти пишет как флорентиец,
1. Впрочем, см.: Giannotti D. Opère. P. 42· «...non è dubbio alcuno ehe gli
uomini, dove eglino non si trovano a trattar cose pubbliche, non solamente non
accrescono la nobiltà loro, ma perdono ancora quella ehe hanno e divengono
peggio ehe animali, essendo costretti viver senza alcun pensiero avère ehe in
alto sia levato»; «...нет никакого сомнения, что люди, когда начинают
заниматься общественными делами, не только не становятся более
благородными, но теряют то благородство, что имели, и становятся
хуже животных, будучи вынуждены жить безо всякой высокой мысли».
2. Ibid. Р. 35~3б: «...per popolari io intendo quelli ehe altramente possiamo
chiamare plebei. Ε son quelli, i quali esercitano arti vilissime per sostentare
la vita loro, e nella città non hanno grado alcuno. Per cittadini, tutti quelli
i quali per essere nati eglino, i padri e gli avoli loro nella città nostra, e per
avère esercitate arti piu onorate, hanno acquistato qualche splendore, e sono
saliti in grado tal ehe ancora essi si possono in un certo modo fîgluoli di
questa patria chiamare. I gentiluomini sono quelli ehe sono délia città, e di
tutto lo stato, di таге о di terra, padroni e signori»; «...под народом я
понимаю тех, кого мы можем назвать плебеями. Это те, кто занимается
400
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
выступающий за народное правление, он хочет, чтобы вторая
категория получила если не доступ к самим магистратурам, то
право участвовать в Совете1; но у Венеции своя особенность:
здесь есть Большой совет, однако закон 1297 года навсегда
ограничивает его состав представителями последнего, высшего
класса. Опять же, если бы мы располагали
заключительными рассуждениями Джаннотти о венецианском правлении, то,
возможно, знали бы, какое значение, на его взгляд, эта
закрытость Совета имела для стабильности Венеции.
Примечательно, впрочем, что в имеющемся у нас тексте, первом наброске,
в котором намечены (ßirozzato) очертания республики2, диалог
идет в русле размышления об истории венецианского Совета,
о причине (cagione) и случае (pccasionèf в связи с принятием им
каждой из его форм. Также примечательно, что, хотя для
пишущего историю гуманиста причиной политических нововведений
является, как правило, осознание
законодателями-реформаторами некоего принципа, на котором следует строить систему
правления, Джаннотти не слишком стремится приписывать
такое осознание коренным венецианцам — осторожность,
наводящая на мысль о некоторых проблемах, которые Венеция
представляла для политического разума.
В истории венецианской конституции Джаннотти видит два
ключевых момента: один относится приблизительно к 1170 году,
когда был учрежден Большой совет, второй — к 1297_МУ> когда
участие в нем стало строго ограниченным4. Оба они, кроме
того, олицетворяют определенные этапы институционализа-
ции гражданского общества на основаниях равномерного
распределения прав между все более ограниченным числом его
членов. Венецианцы составляли гражданскую аристократию,
а для нее характерно — мы уже знаем, что трудно
сформулировать гражданскую этику иначе, чем с аристократических
позиций,— что ее представители стремятся к славе (Джаннотти
самыми низкими ремеслами, чтобы заработать себе на жизнь, и в
городе они не имеют никакого положения. Под гражданами — всех, кто
родился в нашем городе, как и их отцы и деды, и кто занимается более
почетными ремеслами и снискал некоторую славу; эти люди
достигли такого положения, что могут в определенном смысле называться
сынами этого отечества. Знать — это те, кто владеет и властвует
городом и всем государством, на море и на земле».
1. См. прим. ι на с. 449 и прим. I, 2 на с. 449» СР· Гвиччардини в 1512 году:
Guicciardini F. Dialogo е discorsi. P. 224-225.
2. Например: Giannotti D. Opère. P. 50.
3. Например: Ibid. P. 77.
4. Ibid. P. 42-43.
4OI
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
использует слово chiarezza1) на службе обществу. Так отдельные
люди добились известности, и их семейства хранят память
об их делах. Вот почему, поясняет Трифоне, мы относительно
мало знаем о венецианской истории до 1170 года. Поскольку
тогда не было Совета, не было и официально утвержденного
способа достигать chiarezza', не существовало семей, в основе
которых лежала бы chiarezza их предков, побуждающая их
сохранять свидетельства о событиях прошлого в линейной
последовательности. Положение Венеции было схоже с положением
Рима при власти царей. В обоих случаях только становление
гражданской аристократии привело к формированию
исторической памяти. Говоря о Венеции, можно добавить, что
значение слова gentiluomo до 1170 года, вероятно, было таким же, что
и в других городах: оно характеризовало лишь человека,
выделяющегося своим происхождением или в силу каких-то еще
причин, и было лишено того гражданского и политического
смысла, который приобрело с развитием Совета8.
В своем исследовании Венеции Джаннотти сталкивается
с несколькими проблемами. Одна из них — скудость
исторических сведений и то обстоятельство, что частные архивы
сохранили больше, чем публичные хроники. Другая проблема
играет существенную роль в теории конституции и уже
знакома нам по «Рассуждениям» Макиавелли: так как в Венеции
1. Яркость (лат.). — Прим. ред.
2. Giannotti D. Opère. P. 61-62, 63-64: «Ma poscia ehe il consiglio fu ordinate·, e ehe
l'autorità de' dogi fu со' magistrati e coi consigli temperata, allora i cittadini,
adoperandosi nelle faccende, acquistarono gloria e riputazione. Ed è accaduto
alla nostra città quel medesimo ehe avenne a Roma. <...> E da questo, credo,
ehe nasca ehe noi non abbiamo molta notizia delPantichità délie famiglie de'
gentiluomini innanzi a Sebastiano Ziani... e... ehe in tutte le nostre memorie
non trovo menzione alcuna di questo nome gentiluomo, eccetto ehe nella vita
di Pietro Ziani doge XLII, figliuolo del sopradetto Sebastiano. <...> ...e non
credo ehe questo nome gentiluomo significasse quello ehe oggi significa... ma
ehe... s'intendesse quello ehe oggi nell'altre città significa, cioè chiunque о per
antichità, о per ricchezze о per autorità piu ehe gli altri risplende»; «С тех
пор как был учрежден совет и власть дожей была ограничена
магистратурами и советами, граждане, принимая активное участие в делах,
начали завоевывать славу и доброе имя. И в нашем городе случилось
то же самое, что когда-то в Риме. <...> Думаю, именно этим объясняется
то, что мы мало знаем об истории знатных родов до Себастьяно Дзиа-
ни... и... нигде в наших исторических сочинениях я не нахожу
упоминания слова gentiluomo, кроме как в жизнеописании Пьетро Дзиани,
42-го дожа, сына вышеупомянутого Себастьяно. <...> ...и я не думаю,
что слово gentiluomo тогда имело такое значение, как сейчас... но что...
оно означало то же, что сейчас означает в других городах, то есть
любого человека, прославившегося среди остальных благодаря возрасту
и жизненному опыту, или богатству, или влиятельности».
402
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
не было никакого выдающегося законодателя и она не
знала серьезных политических кризисов, трудно объяснить, как
мог совершенствоваться ее гражданский коллектив. При этом
Джаннотти не останавливается подробно на возможности, что
совершенное устройство было свойственно ей с самого начала.
Когда собеседники обсуждают происшедшую в 1170 году
перемену, они задаются вопросом, как могли венецианцы прийти
к мысли сформировать Большой совет, если нигде в мире в то
время не существовало подобного органа. Очень немногие,
соглашаются они, способны к новаторству в политике, а члены
гражданского коллектива никогда не одобряют предложений,
не подкрепленных опытом, либо их собственным, либо чьим-
то еще. Нововведение — почти всегда подражание. Как
считается, даже Ромул многое позаимствовал у греков, а Флоренция,
перенявшая в Ц94 году венецианский Совет, а в 1502 году —
несменяемую должность дожа, могла бы избежать бедствий,
переняв и то, что с указанными институтами сопряжено. Поэтому
было бы чудом (cosa miracolosa), если бы венецианцы в 1170 году
смогли изобрести форму Большого совета, не позаимствовав ее
у кого-то еще, ибо именно она не только сохранила им
свободу, но и вознесла их на вершину беспримерного величия.
Однако не следует думать, что случилось некое чудо. Исключив
отдельные намеки в немногочисленных исторических
свидетельствах, логично предположить, что в каком-то виде дожи
поддерживали Совет и до 1170 года. Правы те, кто считает его
очень древним, поскольку они не имеют в виду Большой совет
в той форме, в какой он был учрежден в тот год1. Во фрагменте,
ι. Ibid. Р. 66-68: «Ma quello ehe piu mi stringe è ehe gran cosa saria stata, ehe
i nostri maggiori senza esempio alcuno avessero trovato si belPordine, si bel
modo di distribuire i carichi e le onoranze délia città, cioè il gran consiglio.
Perciocché egli non è dubbio alcuno ehe quando questo consiglio fu trovato,
non era simile forma di vivere in luogo alcuno di mondo, di ehe s'abbia
notizia. Ε le cose, le quali senza esempio alcuno s'hanno ad introduire, hanno
sempre tante difficoltà, ehe come impossibile sono le piu volte abbandonate.
Il ehe nasce perché gli uomini nel azioni umane non approvano quegli ordini,
l'utilità de' quali non hanno né per la propria, né per Taltrui esperienza,
conosciuta; e pochissimi sono sempre stati e sono quelli ehe sappiamo cose
nuove trovare e persuaderle. E perciô nelle innovazioni degli ordini si vanno
imitando i vecchi cosi proprii corne gli altrui. <...> Saria stata adunque cosa
miracolosa, ehe i nostri maggiori senza averne esempio alcuno, avessero, nel
riordinare la nostra repubblica, saputo trovare ed introdurre si bella, si civile,
si utile ordinazione corne è questa del gran consiglio, la quale senza dubbio
è quella ehe non ha solamente mantenuto libera la nostra patria, ma eziandio,
procedendo di bene in meglio, Pha fatta salire in quella grandezza d'imperio
e riputazione, alla quale voi essere pervenuta la vedete. E adunque credibile
per le due dette ragioni, oltre a quelle poche memorie ehe ce ne sono, ehe
403
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
отдаленно напоминающем обзор ранней римской истории у
Макиавелли, Джаннотти высказывает предположение, что те, кто
проводил реформу 1170 года, стремясь лишить дожа некоторых
полномочий, решили передать их Совету. Однако понимая,
какие опасности и конфликты могут возникнуть, если
возложить полномочия на немногих, они приняли решение вверить
их гражданам в целом (сохранив за собой особую меру власти)
и придумали ежегодно избираемый Большой совет, который
действительно представлял целое общество1. Поэтому никакого
необыкновенного законодателя и не требуется. Ход
венецианской истории хорошо объясняется практическим
осмыслением опыта прошлого, а реформа 1170 года, далекая от какого-то
чудесного переустройства, едва ли указывает на политическую
прозорливость, превосходящую дальновидность, проявленную
римскими патрициями после изгнания царей.
С точки зрения гражданского гуманизма Большой совет —
венецианский или флорентийский — служил основанием libertà
innanzi a Sebastiane» Ziani fosse qualche forma di consiglio. <...> Quegli
adunque i quali dicono ehe il consiglio è antichissimo, se non intendo quel
consiglio ehe s'ordino per distribuire i magistrati, forse non s'ingannano; ma
se intendono questo altro, senza dubbio sono in еггоге»; «Но вот что мне
кажется особенно важным: как было бы замечательно, если бы наши
правители без всякого внешнего примера смогли найти такое
хорошее устройство, такой хороший способ распределять городские
должности и почетные звания, каким является Большой совет. Потому что
нет никакого сомнения, что когда такой совет был создан, подобной
формы общественного устройства, насколько было известно, не было
нигде в мире. А то, что приходится устанавливать без оглядки на
пример других, всегда сопряжено с большими трудностями, и часто затею
бросают, сочтя ее невозможной. Это происходит потому, что люди не
склонны одобрять в действиях других то, в пользе чего они не
убедились или на собственном, или на чужом опыте, и лишь немногим
удавалось и удается найти новые решения и убедить других в их
правильности. И поэтому в обновлении порядков обычно подражают
прошлому опыту, собственному или чужому. <...> Стало быть, было бы
чудом, если бы наши правители без всякого внешнего примера
смогли, меняя устройство нашей республики, найти и установить такую
прекрасную, такую гражданскую, такую полезную форму, как Большой
совет, который не только помог нашему отечеству остаться свободным,
но даже, что еще прекраснее, помог ему достичь тех вершин власти
и доброй славы, на которых, как вы видите, оно сейчас находится.
Итак, это стало возможным по двум вышеупомянутым причинам,
если не считать тех немногочисленных упоминаний в исторических
сочинениях о том, что до Себастьяно Дзиани совет уже существовал
в какой-то форме. <...> Стало быть, те, кто говорит, что совет очень
древний, если они не имеют в виду тот совет, который был создан
для распределения магистратур, то они, возможно, и правы, но если
они имеют в виду именно его, то они, несомненно, заблуждаются»,
i. Giannotti D. Opère. P. 7^-74·
404
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
в vivere civile, потому что объединял собой всех граждан, на
равных началах состязающихся за должности и в
проявлениях virtù. Вот почему его возникновение в Венеции нельзя было,
как мы видели, оставить без объяснения. Однако превращение
венецианского Совета в 1297 году в закрытое сообщество,
членство в котором передавалось по наследству, из-за чего новые
gentiluomini почти никогда не появлялись, было феноменом
другого порядка. Как пишет Джаннотти, об этом событии
ничего нельзя узнать из открытых исторических источников,
поэтому человек, незнакомый с частными архивами дворянских
родов, останется практически в полном неведении. Даже эти
свидетельства ничего не сообщают о cagione или occasione
этого закона. Из опыта и истории известно, что изменения такого
масштаба не происходят без крайней необходимости. Впрочем,
Джаннотти не удалось установить, о какого рода
необходимости шла речь, и он особо оговаривает, что не видит в
учрежденном в 1170 году Совете изъянов, которые могли бы обусловить
variazione1 1297 года. Возможно, как он предположил раньше, все
коренные жители города из хороших семей на тот момент уже
вошли в состав Совета и ограничение членства было вызвано
стремлением не допустить в него заезжих купцов и сохранить
чистоту преемственности. Но все это лишь догадки, и
наверное ничего не известно8. Очевидно, Джаннотти столкнулся
1. Изменение (итал).—Прим. ред.
2. Ibid. Р. 77: «•■•dico ehe io nelï'antiche nostre memorie non ho trovato mai
ehe si fossa cagione di far serrare il consiglio; come voi dite, non par da
credere ehe un ordine tanto nuovo potesse nascere senza qualche grande
occasione. Di ehe noi potremmo addurre inflniti esempii, non solamente
di quelle repubbliche ehe hanno variato in meglio, tra le quali è la nostra,
siccome io stimo, ma di quelle ehe sono in peggio trascorse. Ma le variazioni
délia nostra repubblica medesima, se bene le considerate, vi possono dare
di quello ehe diciamo certissima testimonianza. Nondimeno io non ho letto
mai, né inteso, ehe cagione e ehe occasione facesse il consiglio serrare. Né
da me stesso posso pensare ehe da quella forma del consiglio potesse nascere
disordine alcuno, ehe avesse ad essere cagione délia sua variazione; tanto ehe
io credo ehe coloro ehe furono autori di tal mutazione... vedendo nella città
nostra concorrere quantità grandissima di forestieri per conto di faccende
mercantili. <...> Ma questa è tutta congettura; perciocché, corne ho detto,
non ne ho certezza alcuna»; «...Скажу, что в наших старинных
исторических сочинениях я не нашел упоминания никаких причин
ограничить членство в совете, и, как вы говорите, маловероятно, что такое
нововведение возникло без серьезного повода. Тому можно привести
многочисленные примеры, не только из истории тех республик, где
произошли изменения к лучшему, — к таким республикам, как я
считаю, относится и наша, но и из жизни тех, где произошли изменения
к худшему. Но изменения в самой нашей республике, если
поразмыслить, могут служить надежным свидетельством того, о чем мы сейчас
405
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
с двойной трудностью. Ему действительно не удалось
ничего узнать об ограничении состава Совета ни из традиции, ни
из исторических свидетельств. Что не менее важно, он не мог
предположить, что опыт гражданской жизни привел к
открытию некоего политического принципа, ибо не представлял,
какой принцип здесь был реализован. Отношение Джаннот-
ти к этому событию не вполне однозначно. Когда он впервые
заговаривает о нем, он утверждает, что chiarezza венецианцев
после 1297 года достигла невиданных высот и что мало кто из
членов видных семей, уже входивших в Совет, лишился
полномочий из-за этой перемены. Вновь возвращаясь к этой теме,
он, хотя и настаивает, что перемена произошла к лучшему, но
признает, что некоторые граждане оказались отстранены от
власти и озлоблены. Джаннотти высказывает предположение,
что, будучи исключены из Совета, они уже не считались столь
знатными и исчезли со страниц исторических хроник.
Возможно, решающее суждение можно найти в том, что он говорит по
другому поводу — правда, касательно particolarità1 гораздо
меньшего значения, чем решающая мера 1297 года:
Вы должны понять, что в каждой республике много учреждений
(costituzioni), существованию которых трудно найти
правдоподобное, а тем более правильное объяснение. И это относится не
только к тем городам, форма правления которых изменилась,
но и к тем, которые давно управляются и устроены по одним
и тем же законам. Ибо, хотя обычаи и сохранились, причины
их тем не менее теряются в древности времен2.
Существуют политические феномены, необходимость которых
может подтверждаться обычаем, но не объясняться им. Если
говорим. Тем не менее мне не случалось читать или слышать о той
причине и том случае, которые привели к ограничению членства
в совете. И я не думаю, что предыдущая форма совета могла стать
причиной беспорядков, которые бы побудили к переменам, поэтому
я думаю, что те, кто ввел этот новый порядок... сделали это, видя, что
в городе появилось много заезжих купцов, которые вели здесь дела.
<...> Но это лишь мое предположение, потому что, как я уже говорил,
у меня нет на этот счет никаких точных сведений».
1. Особенность (итпал).—Прим. ред.
2. Giannotti D. Opère. Р. н6: «Ed avete ad intendere ehe in ogni repubblica sono
assai costituzioni, délie quali non si puô assegnare alcuna probabile non ehe
vera ragione. Ε questo non solamente awiene in quelle città ehe hanno il
loro governo variato, ma in quelle ancora le quali con le medesime leggi si
sono lungo tempo rette e governate. Perciocché quantunque l'usanze si siano
mantenute, nondimeno le cagioni di quelle sono dalPantichità oscurate».
406
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
мы не знаем ни повода, ни причины, ни принципа, с
которыми связано ограничение состава Совета в 1297 году, велик риск,
что эта мера из числа именно таких феноменов.
Таким образом, Венеция у Джаннотти, по всей видимости,
сумела уйти от движения истории не благодаря
провидческому разуму законодателя либо сочетанию каких-то принципов
Полибия или даже Аристотеля. На вопрос, каковы
отличительные особенности венецианского правления, как он очерчивает
их в этом предварительном наброске, можно ответить двояко.
Прежде всего, перед нами то, к чему подготовили нас
вступительные замечания Джаннотти: описание составляющих
венецианскую пирамиду различных советов и должностных лиц,
которое должно по крайней мере послужить почвой для так
никогда и не написанного описания их связей друг с другом
и образования la forma di essa Repubblica1. Можно без натяжки
предположить, что это объяснение отражало бы как
распределение функций между должностными лицами, так и
установившиеся процедуры избрания дожа, членов Коллегии и
Совета приглашенных. Ведь в аристотелевской политической
традиции функции, выполняемые официальными
должностными лицами, не отличались от функции избрания этих лиц,
а вхождение в состав ekklesia2 или consiglio, где проходило
избрание магистратов, само по себе уже рассматривалось как часть
магистратуры. Этот тезис подтверждается, когда Джаннотти,
как за несколько лет до него Гвиччардини, в более или менее
классических выражениях перечисляет основные полномочия
правления. «Говорят, что четыре вещи составляют
направляющую силу (il nervo) любой республики: создание новых
магистратур, определение мира и войны, принятие законов и
рассмотрение апелляций»3.
Магистратуры, или формы полномочий, становятся
взаимозависимыми в той мере, в какой они разделяют эти четыре
модуса власти. В таком случае избрание магистратов должно
само быть своеобразной магистратурой и входить в сложную
систему распределения власти. И Джаннотти, и Гвиччардини
считали Флоренцию и Венецию правлениями popolo и Hbertà,
потому что в обоих городах (по крайней мере в те периоды,
1. Форму этой республики (итал.). — Прим. ред.
2. Зд.: общественное собрание (итал.). — Прим. ред.
3- Ibid. Р. 5i: «Dicono adunque ehe quattro sono le cose neue quali consiste il
nervo d'ogni repubblica. La creazione de' magistrati; le deliberazioni della pace
e della guerra; le introduzione délie leggi; e le provocazioni». Ср.: Ibid. P. 86.
407
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
когда Флоренция была республикой) существовал Большой
совет, распределявший все должности. Следующая проблема, во
всяком случае для тех, кто привык мыслить в аристотелевских
и гуманистических категориях, заключалась в том, должен ли
был Совет как собрание всех граждан обладать какими-то еще
функциями, кроме избирательной. С одной стороны, можно,
хотя, как мы знаем, не так уж просто, приписать массе
граждан интеллектуальные способности, позволявшие им
принимать решения другого типа. С другой — можно отрицать у них
наличие самостоятельных способностей, считать, что для
принятия любого конкретного решения нужна соответствующая
группа, составленная из представителей элиты или
«немногих», и свести роль Большого совета к наблюдению за тем,
чтобы при избрании таких групп, которые можно теперь
назвать «магистратурами», соблюдались условия равенства и
безличности. Как мы видели, последнее утверждение составляло
суть позиции Гвиччардини. Джаннотти, несколько лет спустя
писавшему о флорентийском правлении как верховенстве
народа, надлежало решить, является ли контроль над выборами
достаточной гарантией, или Большой совет также до
некоторой степени должен был вмешиваться в осуществление трех
других полномочий, составляющих nervo della repubblica.
Впрочем, когда Джаннотти писал о Венеции, ему не
требовалось размышлять над подобными вопросами. Ограниченная
численность венецианского гражданского коллектива
препятствовала делению его на ottimati и popolo. Он мог закрыть
глаза на последствия того обстоятельства, что Совет не обладал
никакими полномочиями, помимо избирательных, по крайней
мере такими, на которых стоило бы задерживать внимание
читателей. Наоборот, в контексте Флоренции это навело бы на
мысль о явном элитизме. Отмечая, что проекты новых законов
выносятся на обсуждение в Совет приглашенных, он вскользь
упоминает, что в утверждении некоторых законов участвует
и Большой совет, если в ведомстве, от которого исходит
предложение, полагают, что необходима гарантируемая таким
образом maggior riputazione1'2. Сосредоточившись исключительно
ι. Большее почтение (итпал.).— Прим. ред.
2. Giannotti D. Opère. P. 125-126: «Usano ancora i nostri fare confermare alcune
leggi non solamente nel consiglio dei pregati, ma ancora nel grande; la quai
cosa, credo ehe sia in potestà di quel magistrato ehe principalmente le introduce.
Ε credo ehe questo s'usi fare, accioché a questo modo s'acquisti a quella legge
maggior riputazione...»; «У нас некоторые законы утверждаются не только
4о8
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
на избирательной системе венецианского Совета, он подробно
останавливается1 на основной составляющей «мифа о Венеции»,
о которой мы пока успели сказать немного: сложном и
завораживающем процессе выдвижения кандидатов, голосования
и жеребьевки, который так любили наблюдать и описывать
те, кто приезжал в республику. Считалось, что посредством
различных материальных приспособлений — скамей, на
которых люди рассаживались в произвольном порядке, но с
которых вставали в определенной последовательности, дабы
проголосовать; ящиков, из которых наугад вынимались имена
и числа, но в которые можно было тайно опустить бюллетень
«за» или «против», — венецианцы, скажем так,
механизировали virtù. Точнее, они соединили элементы случайности и
выбора так, чтобы каждый избиратель ясно сознавал возможные
альтернативы и был свободен от какого бы то ни было
давления и соблазна, которые могли бы побудить его
проголосовать кому-либо в угоду, а не осуществить разумный выбор
наиболее достойного кандидата. Если считать — а это вполне
возможно, — что virtù заключается в принятии решений,
направленных к общему благу, и если считать sala del consiglio
grande2 физическим приспособлением огромных масштабов для
устранения сторонних влияний и обеспечения — почти в
принудительном порядке — рациональности выбора ради общего
блага, такое выражение, как «механизация virtù», даже будучи
анахронизмом, представляется применимым к
венецианскому правлению. Убежденность, что венецианцы смогли этого
добиться, была не менее существенным компонентом mito di
Venezia, чем образ совершенного равновесия в духе Полибия.
Описание Джаннотти процедур голосования в Венеции
было первым рассказом об этом предмете, написанным и
изданным флорентийцем и для флорентийцев. Однако в общих
чертах они, разумеется, были давно известны во Флоренции3.
Как мы помним, Гвиччардини не верил в их эффективность.
Тайное голосование не могло устранить личных интересов
и связей избирателей, и было бы лучше, если бы они открыто
Советом приглашенных, но и Большим советом; думаю, необходимость
этого определяется тем ведомством, что выносит закон на обсуждение.
И думаю, что это делается для того, чтобы этот закон пользовался
большим почетом...».
1. Ibid. Р. 9Ι-Π7·
2. Зал Большого совета (итпал.).—Прим. ред.
3· Gilbert F. The Venetian Constitution. P. 463-500.
409
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
заявили о своем выборе, дабы сограждане могли наблюдать
за их действиями и реагировать на них. Механистичность
тайного голосования являлась, на его взгляд, одновременно
слишком олигархической и недостаточно элитистской.
Критика Гвиччардини содержит в себе очень важную мысль, что
решения и virtù в конечном счете возникают только внутри
сети человеческих отношений. Существенна не столько
рациональность моего выбора на благо общества, сколько моя
забота об этом благе, о которой я сообщаю другим в акте выбора.
Восхищавшийся венецианской системой Джеймс Харрингтон
должен был признать сильным следующий критический
аргумент против этой практики: привычные и ритуализованные
процессы не учили людей узнавать друг друга1. При тайном
голосовании каждый выбирает между вариантами, которые
кто-то за него определил. Даже если можно сделать его
выбор безупречно рациональным, он лишен возможности
обосновать его перед своими согражданами. Если бы
венецианский Совет ничего не делал, а только выбирал магистратов
и должностных лиц, он являл бы собой радикальное
воплощение принципа, согласно которому многие не выполняли
никаких функций, кроме обеспечения равенства и
беспристрастности в выборе правящей элиты. Джаннотти не
касается этих проблем, но из написанного им позже можно сделать
вывод, что венецианский порядок укрепил в его сознании
представление о политической деятельности, состоявшей
исключительно в молчаливом и рациональном выборе между
опциями, отобранными и предоставленными кем-то другим.
Дабы в полной мере понять политическую теорию
Джаннотти, следует обратиться к работам, где он, рассматривая
проблему создания народного правления во Флоренции, опирался
на венецианскую и другие идеи.
ι. См. речь Эпимонуса де Гаррулы из «Океании» (The Oceana and Other
Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. no): «The truth is, they have
nothing to say to their acquaintance; or men that are in council sure would
have tongues; for a council, and not a word spoken in it, is a contradiction.
<...> But in the parliament of Oceana, you had no balls or dancing, but sober
conversation; a man might know and be known, shows his parts and improve
'em» («Дело в том, что им нечего сказать своим знакомым, иначе люди
в совете, несомненно, говорили бы, ведь совет, в котором не
произносят ни слова, представляет собой противоречие. <...> Но в
парламенте Океании вы не увидите балов или танцев, а лишь трезвую беседу;
человек может узнавать и быть узнанным, показывать свои качества
и совершенствовать их»).
4Ю
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
II.
В нашем распоряжении есть два коротких трактата,
сочиненных Джаннотти в период последней Флорентийской
республики и осады Флоренции (1527-15З0)· Первый из них —
образец уже знакомого нам жанра, рассуждение о преобразовании
правления, которое, как явствует из приложенного к нему
и написанного позднее письма, Джаннотти создал по просьбе
гонфалоньера Никколо Каппони незадолго до того, как тот
лишился власти и его сменила более радикальная правящая
группа. Предположим, что текст «Письма к Каппони»1
подлинный и оно не переписывалось в свете последующих событий.
В этом случае взгляды Джаннотти на тот момент (допустим,
конец 1528 года) носили столь явно аристократический
характер, что их трудно отличить от тех, что выражены в
«Диалоге» Гвиччардини. Феликс Гилберт назвал их типичными для
либеральных ottimati, стремившихся сохранить власть элиты
внутри системы народного правления. Джаннотти начинает
с утверждения, что натуры граждан любой республики
различны, и дабы поддержать существование республики, следует
удовлетворить всеобщие ожидания (аристотелевская максима).
Есть те, кто желает лишь свободы, и это многие; есть те, кто
ищет почета (опоге), являющегося наградой за большую
рассудительность (prudenza), и таких меньше; наконец, есть такие,
кто стремится занять самое высокое положение, которое
единовременно может занимать лишь один человек. Эта
вариация на тему традиционного разграничения между одним,
немногими и многими была своего рода флорентийским клише.
Оно уже встречалось у Гвиччардини, Макиавелли и Лодовико
Аламанни, но те, кто изучал устройство Венеции, не считали
необходимым прибегать к этой формуле. Состав граждан там
столь однороден, что можно считать его членов равными.
Однако, говоря о Флоренции с ее резкими разграничениями, где
элита и те, кто к ней не принадлежал, противостояли друг
другу (как принято было считать) внутри гражданского
коллектива, намного важнее классифицировать различные типы
граждан и представить смешанное правление как сочетание
одного, немногих и многих, к которому неизбежно приводило
использование данных категорий. Хотя Джаннотти не пишет
ι. Giannotti D. Discorso al... Gonfaloniere... Niccolo Gapponi sopra i modi di
ordinäre la Repubblica Fiorentina // Giannotti D. Opère. Vol. III. P. 27-48.
411
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
о Венеции в терминах governo misto\ город начинает представать
в таком свете, как только принципы и методы его устройства
проецируются на Флоренцию.
Большой совет был восстановлен сразу же после падения
Медичи в 1527 году, и Гилберт рассматривает discorso Джаннотти
как одну из попыток урезать его полномочия в пользу
аристократического cerchio2'3. Несомненно, так оно и есть, но следует
отметить, что критика Джаннотти существующей системы
направлена на ее чрезмерную узость и ограниченность. Гонфа-
лоньер обладает слишком сильным влиянием на Синьорию.
Совет десяти (секретарем которого он был) наделен слишком
большим авторитетом в вопросах мира и войны и так плохо
организован, что решения часто принимают один-два
человека. Все это strettissimo и violento*. Как и Гвиччардини в
«Диалоге», Джаннотти утверждал, что власть аристократии возможна
лишь при условии равенства между нобилями, а его можно
достичь лишь благодаря режиму liberté, который обеспечивается
Большим советом. Его трехчастная классификация граждан
требовала четырехуровневой иерархии правления, в точности
совпадающей с моделью, которую он наблюдал в Венеции.
Стремящиеся к свободе многие должны быть представлены (такая
формулировка употреблена в итальянском оригинале) Большим
советом, ищущие опоге немногие — пожизненно избираемым
сенатом. Роль одного отводилась, разумеется, гонфалоньеру
a vita5. Впрочем, к стяжанию высшей славы, которой
официально мог быть облечен только один, всегда стремилось
большее число людей. Поэтому гонфалоньеру должен был помогать
совет procurator? — по аналогии с венецианским collegio, —
состоящий из наиболее опытных чиновников, которые
разделяли его первенство и надеялись законным образом занять его
место, если оно вдруг освободится. Избранию членов сената,
procuratori и гонфалоньера предстояло стать пожизненным.
Несмотря на это, сущность libertà сохранялась за счет того, что
все выборные процедуры оставались в,руках Большого
совета. Таким образом, предполагалась открытая конкуренция за
принадлежность к элите, при которой люди были бы обязаны
1. Смешанное правление (итал.).— Прим. ред.
2. Круг (итал.). — Прим. ред.
3- Gilbert F. The Venetian Constitution. P. 498 (см. также примечание на этой
странице).
4- Узким кругом и насильно (итал.). — Прим. ред.
5- На всю жизнь (итал.). — Прим. ред.
6. Прокураторы, уполномоченные (итал.).—Прим. ред.
412
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
своим превосходством общественному признанию, а не
личным симпатиям. Без сомнения, Джаннотти полагал, что за
счет смертности вакантные места будут появляться
достаточно часто, чтобы удовлетворить притязания молодых.
На этом этапе кажется, что за Большим советом сохранена
единственная функция — поддерживать свободу, создавая
общественные и политические условия формирования элиты.
Однако Джаннотти вводит еще один принцип, согласно которому
любая деятельность общества включает в себя три стадии,
которые он называет consultazione, deliberazione и esecuzione**. Если мы
поместим первые две рядом с deliberazione и approvazione Гвич-
чардини, может возникнуть явная неувязка. Однако в обоих
случаях речь идет о различии между тем, чтобы предложить
альтернативные стратегии действия, и тем, чтобы выбрать
между такими возможностями. Мы знаем, что подобная
дихотомия уже фигурировала у Гвиччардини, и многие
прослеживаемые в «Политике» Аристотеля дистинкции между
разными видами политической деятельности наводят на эту мысль,
хотя непосредственного соотнесения мы там не наблюдаем.
В контексте эпохи Возрождения она неизбежно связывалась
с разграничением между типами политического мышления.
Джаннотти затем добавляет, что consultazione надлежит
сохранить за немногими, потому что только они наделены
способностью к изобретению нового (invenzione) и не нуждаются в совете
других3 (хотя, по всей вероятности, советуются между собой).
В глазах интересовавшихся венецианскими порядками
флорентийцев идея молчаливого, принявшего форму привычной
практики рационального выбора, которая заключалась в
процедуре голосования, могла еще резче подчеркнуть различие
между изобретением и отбором. Однако когда Джаннотти
закрепляет deliberazione за многими, он (что, по-видимому,
характерно для развития флорентийской мысли) ничего не говорит
об интеллектуальных или нравственных качествах, за счет
1. Разработка предложений, принятие решения посредством обсуждения
и исполнение (итпал).—Прим. ред.
2. Ibid. Р. 32-33·
3- Ibid. Р. 32: «Tutti quelli ehe consigliano è necessario ehe sieno valenti, e di
quel primo ordine, ehe scrive Esiodo, nel quale sono connumerati quelli
ehe hanno invenzione per loro medesimi, e non hanno bisogno di consiglio
d'altri»; «Все, кто участвует в обсуждении, должны быть выдающихся
качеств, того первого разряда, о котором пишет Гесиод, к которому
относятся те, кто сам способен изобретать новое и не нуждается в
совете других».
413
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
которых многие способны выбирать, притом что сами не могут
инициировать предложения. Причина, по которой эта
функция должна остаться за ними, заключается в следующем: если
выбирать будут немногие или если consultazione и delîberazione
окажутся в руках одних и тех же людей, искушения власти
совратят их разум, их выбор будет определяться личными
притязаниями и в конечном счете consultazione станет уделом даже
не немногих, а еще меньшего числа наиболее честолюбивых.
Здесь мы снова видим истоки доктрины о разделении властей.
Следует отметить, во-первых, насколько ее появление
сопряжено со страхом перед коррупцией и, во-вторых, сколь
незначительную роль в ней сыграла какая-либо конкретная форма
демократической теории.
Если предоставить consultazione немногим, рациональность
будет гарантирована. Если сохранить за многими delîberazione^
«будет обеспечена свобода, и те, кто окажется наделенными
властью, получат ее за счет добродетели {virtu) республики, а не
собственной самонадеянности и назойливости»1. Исполнение
можно предоставить немногим, и нет ничего
предосудительного, чтобы те, кто предлагает ту или иную стратегию, отвечали
за ее реализацию. Однако, проанализировав, что говорит по
этому поводу Джаннотти, мы сделаем еще два открытия. Во-
первых, композиция публичного действия, складывающаяся
из consultazione^ delîberazione и esecuzione, изображена как
осуществляемая в первую очередь сенатом, который является органом
немногих и rappresenta lo stato degli ottimati2. Когда мы читаем, что
delîberazione занимаются «многие, то есть сенат»3, мы понимаем,
что в таком случае немногие — это procurators или Совет
десяти. В результате количественное различие между немногими
и многими не совпадает с качественным разграничением между
многими, которые стремятся добиться свободы в Совете, и
немногими, которые стремятся добиться почета в сенате. Это
различие внутренне присуще второй категории. Однако затем мы
1. Gilbert F. The Venetian Constitution. P. 41: «II consiglio saria in pochi, cioè
nei valenti; la delîberazione in molti; e perciô la libertà saria sicura, e quelli
ehe avrebbero la autorità, l'avrebbero per virtù délia repubblica, e non per
loro presunzione e importunità»; «В совет войдут немногие, а именно
самые выдающиеся; решения же будет принимать многочисленное
собрание, и потому будет обеспечена свобода, и те, кто будет наделен
властью, получат ее за счет добродетели республики, а не
собственной самонадеянности и назойливости».
2. Представляет правление (lo stato) оптиматов (итал.).—Прим. ред.
3- Ibid: «...essendo le cose determinate da molti, cioè dal senato...»;
«...поскольку решения принимают многие, то есть сенат...».
414
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
узнаём, чем это обусловлено. До сих пор анализ политического
действия проводился исключительно в связи с решением
вопросов мира и войны, которое Джаннотти, как и Гвиччардини,
полагал важнейшей функцией правления после обеспечения
внутренней свободы (если не еще более значимой). Дальше
сената такие вопросы не шли. Но когда Джаннотти говорит
о procurator! как создателях новых законов1, он дает понять, что
решающее deliberazione должно происходить в Большом совете.
Он обосновывает это более конкретно, чем в случае с
Венецией, и причиной вполне могло быть обостренное беспокойство
флорентийцев, что новый закон с легкостью может повлиять
на распределение политической власти, — чего в Венеции, как
предполагалось, случиться не могло. Впрочем, законодательная
власть по важности уступала делам мира и войны, и чувство,
что последние были вопросом prudenza, a prudenza свойственна
немногим2, неизбежно влекло Джаннотти в направлении
аристократии. Это происходило даже в тот момент, когда он уже
был гораздо большим приверженцем народного правления,
нежели в период написания «Письма к Каппони».
Вероятно, причиной несомненной перемены в мышлении
Джаннотти стала осада Флоренции 1528-1530 годов. После
падения Каппони он оставался в городе до конца и, по всей
видимости, как и Гвиччардини, испытывал смешанные чувства
к предводителям радикально настроенных групп,
одновременно осуждая их безрассудство и восхищаясь их мужеством. Он
был невысокого мнения об их религиозности в духе
Савонаролы или об их способе управлять городом. Однако еще до
свержения Каппони оборона Флоренции заставляла задуматься
о политическом вопросе, который мог послужить связующим
звеном между ранними работами Джаннотти, где он с
одобрением отзывается о венецианской системе, и его более
поздними сочинениями, в которых он симпатизирует народу. Это был
вопрос о гражданской милиции. Макиавелли и Гвиччардини
1. Ibid. Р. зо: «Vorrei dare a costori una cura spéciale di considerar sempre le
cose délia città, e i primi pensieri d'introduire nuove leggi e correggere le
vecchie, secondo ehe ricerca la varietà de' tempi»; «Я хотел бы дать им
особые полномочия, заключающиеся в обдумывании городских дел,
разработке новых законопроектов и внесении исправлений в старые,
в соответствии с требованиями времени».
2. Ibid. Р. 28: ottimati охарактеризованы как «quelli ehe il piu delle volte
hanno prudenza, il premio della quale pare ehe sia Гопоге come testimonio
d'essa»; «те, кто чаще всего проявляет рассудительность, и
представляется, что наградой за него становится почет, который и
свидетельствует о его наличии».
415
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
одинаково противопоставляли Венецию как
аристократический città disarmata Риму как воинственному, народному,
беспокойному и расширяющемуся государству. У Джаннотти в
«Венецианской республике» Трифоне также противопоставляет
воинскую славу Рима миру и стабильности Венеции, явно
отдавая предпочтение последней. И все же во Флоренции
существовала традиция городского ополчения, а также
произведения Макиавелли, с которыми Джаннотти был знаком. Как до,
так и после падения Каппони республика занималась
формированием гражданской милиции, которая, как считалось,
совершила великие подвиги во время осады и стала частью
легенды, которую Джаннотти и другие изгнанники бережно
хранили в последующие годы. Будучи секретарем Совета
десяти, он участвовал в организации этого войска. На эту тему
написано discorso, которое, как принято считать, принадлежит
Джаннотти и создано ближе к концу 1528 года1. Оно составляет
часть обширного корпуса литературы о возрожденной милиции,
в контексте которого его следует интерпретировать. Впрочем,
его можно также рассматривать как показатель происшедших
перемен в мышлении самого Джаннотти.
В начале Джаннотти доказывает несостоятельность
различных аргументов против создания гражданской милиции.
Главный из них следующий: оружие противно природе
флорентийцев, столь долго формировавшейся торговыми интересами, что
слишком трудно будет приучить людей к военным занятиям8.
Он отвечает, что следует ориентироваться не на вторичную
природу, а на первичную: совершенно необходимо, чтобы
город был вооружен, ибо каждому живому существу от природы
свойственно защищать себя. Город не должен ощущать
нехватку virtù, которая для этого и создана3. Некоторые люди вовсе
1. Un discorso sconosciuto di Donato Giannotti intorno alia milizia / A cura
di G.R. Sanesi // Archivio storico italiano. Ser. 5. Vol. 8 (1891) P. 2-27.
2. Ibid. P. 14: «...non tanto perché da natura non hanno questa inclinazione,
quanto perché, essendo la città lungo tempo vivuta tra gli esercizii mercantili,
difficilmente si potria assuefare a uno esercizio tanto diverso e contrario»;
«...не столько потому, что они не склонны к этому по природе,
сколько потому, что город так долго жил торговлей, что с трудом теперь
получится привыкнуть к столь иному, противоположному занятию».
3- Ibid: «...dico ehe assolutamente la città si debbe armare: perché lo essere
disarmato repugnia alla natura, ed alla autorità di tutti quelli ehe hanno
trattato delli governi délie città. Repugnia alla natura, perché noi vediamo
in ogni uomo particulare, essere d'appetito naturale di potersi difendere;
ed a qualunche non sopliscano le forze di poterlo fare, pare ehe sia imperfetto,
per mancare di quella virtù: la quale è ordinata dalla natura per conservazione
di se stesso»; «...скажу, что город обязательно должен быть вооружен,
4i6
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
не занимаются развитием своего интеллекта. Однако это
обстоятельство не отменяет того факта, что от природы люди
интеллектом наделены. Другое возражение состоит в том, что
флорентийцы привыкли к другим делам. Здесь можно
вспомнить пословицу: коль скоро привычка (assuefazione) обладает
силой, способной действовать даже вопреки природе, она
может добиться еще большего, действуя с ней заодно1. Поэтому
возрождение народного ополчения поможет флорентийцам
вернуться к их собственной человеческой природе. И этого ответа
достаточно, дабы убедить тех, кто считает гражданскую
милицию несовместимой с гражданской жизнью. Иными словами,
как утверждает Джаннотти, если людям свойственно носить
оружие и естественно быть членами гражданского общества,
то здесь не может возникнуть противоречия. Это не просто
попытка формально примирить обе возможности. Джаннотти
развивает свою мысль, заявляя, что служба в гражданской
милиции — мощная, совершенно незаменимая, социализирующая
и политизирующая деятельность. Она делает людей
равными в том смысле, что все, кто несет службу, в равной степени
подчиняются публичной власти, а частным привязанностям
и принадлежности к той или иной группе, которые могут
искажать и извращать гражданскую жизнь, здесь нет места, и они
стираются2. Поскольку носящие оружие люди защищают одни
потому что отсутствие оружия противоречит природе, а также
авторитету всех, кто изучал городские правления. Она противоречит
природе, потому что мы видим в каждом человеке естественное желание
себя защитить, а если кому-то не хватает на это сил, то он из-за этого
недостатка выглядит несовершенным: эта добродетель заложена в нас
природой для самосохранения».
1. Ibid. Р. ι6: «Ε chi dicie ehe lo essersi assuefatto ad altri esereizii impediscie
tale ordinazione, si inganna interamente: perché, essendo di tanta forza la
assuefazione, ehe ella puote operare contro alla natura, tanto piu facilmente
potrà in una cosa ehe è secondo la natura, cioè Pesercizio delle armi»; «А если
кто-то скажет, что привычка к другим занятиям этому препятствует,
он глубоко заблуждается, потому что если привычка обладает силой,
способной действовать вопреки природе, тем большего она достигнет
там, где она будет с природой заодно, а именно в военных занятиях».
2. Ibid. Р. 17: «Ma vuol dire regolare gli uomini, e rendergli atti al potere difendere
la patria da gli assalti esterni e dalle alterazioni intrinseche, e porre freno
a' licenziosi: li quali è necessario ehe ancora essi si regolino, vedendo per
virtu délia ordinanza ridotti gli uomini alla equalità, né essere autorità in
persona, fuori ehe in quelli a chi è dato dalle leggi. <...> Non è adunque da
omettere di introdurre taie ordinanza: la quale, oltre aile predette cose, toglie
ogni autorità a chi per ambizione estraordinariamente cercassi riputazione;
perché, sapiendo ciascuno chi egli abbia a ubbidire, non si puô destinare alla
ubbidientia di persona»; «Но это означает дать людям правила и сделать
их способными защитить отечество от внешних нападений и
внутренних распрей, и обуздать произвол: необходимо, чтобы те, кто склонен
417
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
и те же вещи, их ценности совпадают. Поскольку они приучены
признавать одну и ту же власть, все они повинуются res publica.
Поскольку общественная власть монополизирует силу, ни один
частный гражданин не подчиняется другому, и таким
образом укрепляются и обеспечиваются свобода и власть (authority).
Ополчение делает людей гражданами, как введенная Ро-
мулом военная дисциплина сделала случайное сборище
разбойников римлянами1. Однако у этого процесса есть своя
динамика: чем больше людей мы вооружим, тем больше у нас
появится граждан. Жители Флоренции, продолжает Джаннот-
ти, делятся на три типа: те, кто способен заседать в Совете,
те, кто способен только платить налоги, и те, кто ни на что
не способен. Затем он обосновывает необходимость зачислять
в народное ополчение представителей второй и первой
категории. Beneficial·? — как в своих более поздних работах он
называет относящихся к первому классу — слишком малочисленны.
У тех, кто принадлежит ко второму типу, такие же
материальные и эмоциональные интересы (отечество, имущество и
семья), как и у тех, кто принадлежит к первому. Соответственно,
у них должна быть аналогичная возможность защищать эти
ценности. Если вы предоставили одним людям право ценой
своей жизни оборонять свое имущество, отказать в этом
праве другим, которые точно так же владеют собственностью,
означало бы отнестись к ним хуже, чем к рабам. Город
превратился бы в собрание господ и слуг, и последние занимали бы
при этом более низкое положение, чем обитатели подчиненных
городов и ближайших окраин3. Если оставить их без оружия,
к произволу, исправились, видя, что благодаря новому порядку все
люди сделались равными и что властью обладают лишь те, кому она
дана законом. <...> Стало быть, надо непременно ввести такой порядок,
ведь он, помимо вышеперечисленного, лишает власти тех, кто ищет
особой славы ради честолюбия, потому что каждый, будучи должен
повиноваться, не станет повиноваться отдельным людям».
1. Un discorso sconosciuto di Donato Giannotti intorno alia milizia. P. 20:
«...Romulo, il quale messe l'ordinanza in quella sua turba sciellerata ed
assuefatta a ogni male: il ehe poi ehe ebbe fatto, tutti quelli uomini diventorno
buoni; e quello furore ehe usavano nel male operare, lo convertirono in far
bene»; «...Ромул, который установил порядок в том сборище
разбойников, привыкших ко злу, добился своими преобразованиями того, что
все эти люди стали добрыми, и ту ярость, которую они направляли
на злодеяния, они перенаправили на добрые дела». Следует обратить
внимание, что оружие служит изменению привычек, a virtù предстает
как преобразованная в свою противоположность furore.
2. Получатели выгоды (итпал.).— Прим. ред.
3- Ibid. P. i8: «Sono aleuni ehe dicono ehe le armi non si dovriano dare se non
a quelli ehe sono abili al consiglio, dubitando se elle si dessino a quelli altri
418
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
в городе начнется раскол, если вооружить — наступит
единство. Отталкиваясь от этого, Джаннотти возражает против
необходимости исключить из народного ополчения тех, кого
подозревают в пособничестве Медичи. Он полагает, что дать
им оружие означало бы воссоединить их с городом, жителями
которого они являются. На данном этапе Джаннотти не
говорит об этом прямо, но ясно, что ношение оружия и
гражданские права во всей их полноте неразделимы: с одной
стороны, отказывать людям в оружии, которое разрешено другим,
было бы недопустимым отрицанием их свободы, с другой, те,
кто состоял в гражданской милиции, нравственно созревали
для участия в гражданской жизни, лишать их которой также
невозможно. В написанной несколькими годами позже
«Флорентийской республике» он, следуя той же логике, пришел к
выводу, что доступ в Большой совет следует открыть всем, кто
платит налоги, вне зависимости от того, занимали их предки
магистратуры или нет.
Мы вернулись к тому моменту, когда стало очевидно:
вооруженному государству следует быть народным. По этой причине
Макиавелли предпочел Рим, а не Венецию. В венецианском
диалоге Джаннотти есть эпизод, когда собеседник из Флоренции
спрашивает, сколько в Венеции человек, способных носить
оружие, и сколько genäluomini, обладающих гражданскими правами1.
Ответ свидетельствует о несоразмерности — сорок тысяч и три
ehe sono a graveza, essendo maggior numéro, non rovinassino lo stato. Chi
seguitassi taie oppinione, primamente armerebbe poco numéro di uomini,
e lasciando gli altri, ehe sono a graveza, disarmati, saria necessario ehe
restassino mal contenti, e conseguentemente nimici délia repubblica; talché
quelli pochi ehe sarebbono armati, a poco altro servirebbono ehe a guardia
dello stato contro a quelli, ehe rimanessino disarmati. <...> A' quali se si
togliessi anche il potere difendere le cose sue con la persona propria, sarebbano
peggio ehe stiavi; di modo ehe la città sarebbe uno agregato di padroni
e servi; e sarebbano in peggiore grado, ehe i sudditi e contadini»;
«Некоторые говорят, что вооружить нужно лишь тех, кто может быть избран
в совет, опасаясь, что если дать оружие всем остальным, кто платит
налоги, они, будучи более многочисленны, приведут государство к
гибели. Те, кто придерживается этого мнения, сначала вооружили бы
небольшое количество людей, а оставив всех остальных, кто платит
налоги, безоружными, добились бы их недовольства и, как следствие,
превратили бы их во врагов республики; поскольку вооруженных
людей будет мало, они мало что смогут сделать, кроме того, чтобы
охранять государство от тех, кто остался безоружным. <...> Если их
лишить возможности самим защищать собственное имущество, они
станут хуже рабов; таким образом город превратится в собрание
господ и слуг, и последние будут занимать более низкое положение, чем
жители подвластных городов и ближайших окрестностей города»,
i. Giannotti D. Opère. Vol. I. P. 45-46.
419
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
тысячи соответственно, но он не сопровождается пояснениями
ни относительно того, что это означает для венецианской
стабильности, ни относительно использования Венецией наемных
солдат. В целом довод в пользу ограниченной численности
венецианского гражданского общества должен быть основан на
предположении, что те, кто не относится к gentiluomini, — это
либо живущие в городе чужеземцы, либо плебеи, занятые
слишком низким ремеслом, чтобы их вообще можно было считать
существами политическими. В случае Флоренции нельзя
сослаться ни на то, ни на другое. Флорентийская
действительность влекла Джаннотти — в еще большей степени, нежели
Макиавелли, — к идеалу вооруженного народного правления,
и он проецирует эту модель на флорентийские реалии, чего
Макиавелли в своих «Рассуждениях» не делал. Из текста
«Флорентийской республики» мы знаем, что Джаннотти признавал
авторитет Макиавелли в вопросе военной и гражданской роли
ополчения. Впрочем, следует отметить, что у теории, которую
он формулирует в своем рассуждении о народном ополчении
1528 года, намного больше явных перекличек с Аристотелем,
нежели с Макиавелли. Человеку от природы свойственно как
защищать собственное добро, так и стремиться к общему
благу в гражданской жизни. Если вернуть ему возможность делать
первое, это поможет развить его способности заниматься вторым.
Восстановление обеих способностей можно назвать riformazione
в аристотелевском смысле, возвращением к первичной природе
человека. Вот почему воинская служба является силой,
преобразующей людей в граждан.
Размышления на эту тему вполне могли пойти в другом
направлении. Среди предложений Джаннотти, связанных с
организацией народного ополчения, предусмотрена торжественная
церемония в День святого Иоанна Крестителя. Вооруженные
граждане, предводительствуемые своими военачальниками,
посещают мессу, принимают перед алтарем присягу о
повиновении и слушают речь, в которой явлен религиозный, равно
как и гражданский, смысл их обязанностей1. Подобные
церемонии действительно проводились, и до нас дошли тексты
нескольких речей, произнесенных перед ополченцами
представителями учрежденного после Каппони режима2. В каждой
1. Un discorso sconosciuto di Donato Giannotti intorno alia milizia. P. 26-27.
2. Documenti per servire alia storia della Milizia Italiana... raccolti... e preceduti
da un discorso di Giuseppe Canestrini // Archivio storico italiano. Vol. 15 (1851).
P. 342-376 (речи Луиджи Аламанни и Пьера Филиппо Пандольфини);
420
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
из них явственно звучит риторика Савонаролы:
аристотелевская идея rtformazione человека как гражданина простирается
до личной святости и с религиозным пылом преподносится
как rinnovazione. Флоренция избрана Богом, чтобы
восстановить libertà1 и чтобы явить людей, строящих общественную
жизнь в соответствии с христианскими ценностями. «Vivere
a popolo, — сказано в одной из них, — non è altro ehe vivere da
cristiano»2'3. Так как народное ополчение учит людей быть
гражданами4, оно составляет часть процесса эсхатологического
восстановления человека. Оно само по себе свято и творит
чудеса, а вооружение не раз названо «одеянием»—sacratissima veste,
incorruttibile veste dell'arme5,6. Разумеется, основной здесь
является мысль, что носящий оружие гражданин посвящает себя
Albertini R. von. Das florentinische Staatsbeiwusstsein im Übergang von der
Republik zum Parinzipat. S. 404-411 (речь Пьеро Веттори).
ι. Documenti per servire alia storia della Milizia Italiana... P. 355 (речь Пан-
дольфини): «...questa libertà non è opera umana, tanti anno sono ehe la fu
predetta, et vedesi nata et data a questo popolo miracolosamente...»; «...эта
свобода не дело рук человеческих, она была дана свыше много лет
назад, создана и вручена этому народу чудом...».
2. Жить для людей — это не что иное, как жить по-христиански (итал.). —
Прим. ред.
3. Ibid. Р. 356·
4- Ibid. P. 354: «Chi exaerita il согро, lo dispone ad ubbidire al consiglio, e fa
Pappetito obbediente alia ragione; et cosi Puomo diventa facile a sopportare il
dolore, et disporsi a disprezzare la morte. L'obbedienza è necessaria in ogni
cosa, et maxime in una republica. A buon cittadino niente piu si conviene,
ehe sapere comandare et ubbidire»; «Те, кто тренирует свое тело,
заставляет его подчиняться рассудительности и подчиняет желания разуму;
так человеку становится легче терпеть боль и выработать в себе
презрение к смерти. Подчинение необходимо везде, и особенно в
республике. Для хорошего гражданина важнее всего уметь отдавать
распоряжения и подчиняться».
5- Священнейшее одеяние, нетленное одеяние воина (итал.). — Прим. ред.
6. Ibid. Р. 345 (речь Аламанни): «...et allor tutti insieme parimente si vestiron
l'arme, et dieron forma a questa militar disciplina; alla quale oggi noi, dalla
divina grazia illuminati, darem principio...»; «...и тогда они все вместе
облеклись оружием и придали форму этой военной дисциплине, той
самой, которой мы, озаренные божественной благодатью, сегодня
дадим начало...». «Nessuno sia, non volendo offendere Dio, le leggi, la libertà
et se medesimo, ehe si cinga questa sacratissima veste dell'arme con altra
privata speranza ehe con quella di salvare la sua patria et i suoi cittadini»
(Ibid. P. 347); «Пусть же никто, не желая поступать против Бога,
законов, свободы и самого себя, не посмеет облечься священнейшим
воинским одеянием с иной надеждой, кроме спасения своего отечества
и его граждан», «...per salvatione et libertà di voi medesimi vi siate cinta
questa incorruttibil veste dell'arme...» (Albertini R. von. Das florentinische
Staatsbeiwusstsein im Übergang von der Republik zum Parinzipat. S. 409);
«...ради спасения и вашей собственной свободы вы облеклись этим
нетленным воинским одеянием».
421
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
служению общему благу. Ему много раз объясняют, почему при
этом он не должен бояться смерти. Кроме того, есть один
важный фрагмент, где суровость и дисциплина солдатской жизни
приравниваются к христианскому идеалу бедности. Мы узнаём,
что бедность — исток любого искусства, ремесла и знания,
известного людям, и что лишь любящие бедность искали свободы,
основывали республики и свергали тиранов1. Здесь мы видим
влияние радикально настроенных францисканцев. Речь идет об
идеале, побуждающем гражданина жертвовать
удовлетворением личных потребностей ради общего блага. Воин, гражданин
и христианин теперь слиты воедино, но, как это характерно
для христианской мысли, восхваляется желание пожертвовать
благами, а не невладение ими. Высказывания такого рода не
противоречат утверждениям, которые снова напоминают нам
о тезисе Аристотеля, что город опирается на теагосгг — тех, кто
и не слишком беден, чтобы быть гражданами, и недостаточно
богат, чтобы впасть в себялюбие2. Бедность — это добродетель
скорее для mediocri, чем для poveri.
ι. Documenti per servire alla storia della Milizia Italiana... P. 344 (речь Ала-
манни): «Oh! se fusse, о popolo mio Fiorentino, ben conosciuta da te quello
ehe ella vale, et quanto sia da essere onorata la povertà, come ti faresti lieto
di ritrovarti al présente in questo stato! Quanti pensieri, quante fatiche, quanti
affanni si prendon gli uomini indarno, ehe si lascerieno indietro! Guarda pure
quale arte, quale esercizio, quale studio lodevole oggi о mai furono in terra,
et gli vedrai fabbricati tutti et messi avanti dalla povertà, unica inventrice di
tutti i beni»; «О мой флорентийский народ, о если бы ты познал
истинную ценность бедности, если бы познал, как она почетна, как бы
ты возликовал, оказавшись сейчас в этом состоянии! Сколько
напрасных мыслей, трудов, забот взваливают на себя люди, а ведь их
можно было бы отбросить! Если ты посмотришь на достойные творения
искусства, ремесла и науки, что когда-либо создавались на земле, то
ты увидишь, что их все создала бедность, единственная
изобретательница всех благ».
2. Ibid. Р. 358~359 (речь Пандольфини): «...la mediocrità et il mezzo sendo
ottimi in ogni cosa, manifesta cosa è ehe la mediocre possessione della
fortuna è ottima [примечательно, что над фортуной здесь можно
возобладать]; imperocché questi tali felicissimamente obbediscono alla ragione:
ma se eccedono il modo in una о altra parte... è difficile obbedischino alia
ragione. <...> Cosi si fa una città di servi et padroni, non di uomini liberi.
<...> Adunque la città vuol essere di pari et simili quanto piu si puo, et da
questi la città è ben governata, et questi si conservano nella città; perché non
desiderano le cose d'altri, né i loro beni son desiderati da altri. <...> Per la
quai cosa è manifesta ehe la società e ottima, ehe si mantiene per uomini
mediocri; et quelle città son ben governate, nelle quali son molti mediocri et
possono assai»; «...поскольку усредненность и середина хороши в любом
деле, ясно, что средняя фортуна лучше всего [примечательно, что над
фортуной здесь можно возобладать]; поскольку такие люди радостно
подчиняются разуму, но если они перейдут грань в ту или иную
сторону... становится сложно подчиняться разуму. <...> Так ведет себя
422
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
Мысль Джаннотти не развивается таким путем. Он не
расширяет аристотелевское гражданское общество до границ
безоговорочной святости и эсхатологического видения, кроме
разве что одного замечания, несколько раз встречающегося на
страницах «Флорентийской республики». Он пишет, что
республика и народное ополчение восстановлены и преуспели
«вопреки мнению мудрых»1. Гвиччардини, высказывая ту же
мысль, почти приравнял веру к безумию. Джаннотти не думал,
как Савонарола, что гражданин должен воплощать в себе
христианские идеалы. Однако, в отличие от Макиавелли, он не
считал христианские и гражданские ценности совершенно
несовместимыми. Его тезис, что военная и гражданская жизнь
схожим образом осуществляли и «преобразовывали» подлинную
природу человека, не позволяет прийти к таким радикальным
выводам, какие мы находим у последнего из двух
предшественников. В определенном смысле именно то, что он продолжал
использовать венецианскую модель, указывало на его разрыв
с первым. Мы считаем падение Никколо Каппони моментом,
когда радикальные последователи Савонаролы окончательно
обособились от либеральных ottimati, таких как Гвиччардини.
Впрочем, это одновременно и момент, когда эсхатологическая
и «венецианская» модели республиканского будущего,
изложенные в 1494 Г°ДУ Савонаролой и Паоло Антонио Содерини,
размежевались. У Джаннотти, либерально настроенного
аристократа, который до последнего оставался с республикой, не
было ничего общего с Савонаролой. Ему оставалось лишь
выражать идеалы 1494 года в терминах венецианской системы.
В совмещении венецианских принципов с идеей
первостепенной роли Большого совета не было ничего невозможного.
Джаннотти столкнулся с затруднениями иного рода.
Возрождение гражданской милиции убедило его в необходимости
народного правления. Однако теория, согласно которой такая
форма власти должна опираться на вооруженное гражданское
город слуг и господ, а не свободных людей. <...> Стало быть, в
городе должно установиться равенство, насколько это возможно, и именно
равные смогут хорошо им управлять, и их положение в городе
устойчиво, потому что они не желают чужого и другие не желают того,
что принадлежит им. <...> Поэтому ясно, что лучшее общественное
устройство — то, которое основано на людях среднего сословия, и
хорошее правление существует в тех городах, в которых много таких
людей и они обладают большими полномочиями». Вся речь (discorso)
Пандольфини представляет собой интересный образец
революционного аристотелизма.
I. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 37, 46, 98, 141.
423
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
население (хотя ее можно было облечь в термины Аристотеля
и даже Савонаролы), не могла избавиться от заметной
макиавеллевской окраски — особенно в сознании человека, подобно
Джаннотти, читавшего трактат «О военном искусстве» и
знакомого с его автором. Вся традиция дискуссий в Садах Оричел-
лари, кружке, к которому принадлежали Макиавелли и Джан-
ноти — и с которым Гвиччардини должен был быть так или
иначе связан, — противопоставляла Венецию вооруженному
народному государству, какое олицетворял Рим. Подход
Макиавелли к innovazione и virtu содержит скрытую динамику, которую
трудно примирить с аристотелевской концепцией гражданской
жизни как реализации статичной природы человека. Однако
автор «Флорентийской республики», хотя во многих
отношениях эта книга близка Макиавелли, прямо заявляет, что он
многим обязан Аристотелю, «у которого, словно из
обильнейшего ручья, распространившего по всему миру обильные
потоки учения, я взял основы своего краткого рассуждения»1. Это
не пустая похвала. Венецианская модель начала обрастать
вариациями — идеей Полибиева равновесия, механизированной
добродетели, основных функций правления и
дифференциации между составными частями политического действия. Эти
концепции теперь следовало применить к теории правления,
обозначаемого как popolare в том смысле, в каком это слово
никогда не употреблялось в отношении Венеции. Становится
очевидно, что «Флорентийская республика», фантазия
изгнанника, навсегда отстраненного от политической жизни и
принимающего желаемое за действительное, тем не менее
заслуживает внимания как исторический образец политической мысли.
Цель сочинения, как сообщает автор в уже знакомых нам
выражениях, состоит в том, чтобы разработать устойчивую,
если не вечную форму правления для Флоренции8. Нет
необходимости строить общую теорию городов и их свойств, ибо
основные свойства (qualità) Флоренции уже определены теми,
кто там живет. Но форма правления находится в таком же
отношении к характеру города, как душа к телу. Если же душу
ι. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 12: «Aristotile, dal quale io come da uno
abbondantissimo fonte, ehe ha sparso per tutto'l mondo abbondantissimi
fiumi di dottrina, ho preso tutti i fondamenti di questo mio breve discorso...».
2. Ibid. P. 2: «...ho deliberato ragionare in ehe modo si possa in Firenze temperare
un'amministrazione ehe non si possa alterare senza extrema forza estrinseca»;
«...я собираюсь путем рассуждений установить, как во Флоренции
можно исправить форму правления, чтобы она не могла испортиться без
мощного воздействия внешней силы».
424
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
человека поместить в тело животного или наоборот, они
обусловят разложение и уничтожение друг друга — слово согги&опе
используется здесь не просто технически. Поэтому мы должны
подумать о лучшей из существующих форм правления.
Зададимся вопросом: обладает ли Флоренция качествами, которые
позволяют городу соответствовать этой модели? Как можно
ввести ее, не меняя коренным образом привычек и обычаев
флорентийцев? Там, где выбор конкретной и единичной модели
привел Гвиччардини к аналогии с лечащим больного врачом,
Джаннотти проводит параллель с архитектором, который
перестраивает дом, когда фундамент уже заложен. Это различие
свидетельствует об относительном радикализме и настойчивом
оптимизме надеющегося на возвращение беженца1.
Джаннотти переходит к теоретическим изысканиям
совершенно в духе Аристотеля и Полибия, на четвертую книгу
труда которого он первым из рассмотренных нами авторов
ссылается напрямую2. В теории существуют три формы правления.
Какую из них надлежит усвоить, зависит от того, свойственна
1. Ibid. Р. 9-ю: «È adunque il subietto nostro la città di Firenze tale quale ella è,
nella quale vogliamo introduire una forma di repubblica conveniente alla sue
qualità, perché non ogni forma conviene a ciascheduna città, ma solamente
quella la quale puote in tal città lungo tempo durare. Perciocché siccome il
corpo prende vita dalFanima, cosi la città dalla forma délia repubblica, tal
ehe se non è conveniente tra loro, è ragionevole ehe Puna e Paîtra si corrompa
e guasti, siccome avverrebbe se un'anima umana fusse con un corpo di
bestia congiunta, о un'animo di bestia con un corpo umano; perche Puno
darebbe impedimento alPaltro, di ehe seguirebbe la corruzione... siccome
anco fanno i prudenti architettori, i quali chiamati a disegnare un palazzo
per edificare sopra i fondamenti gettati per Paddietro, non alterano in cosa
alcuna i trovati fondamenti; ma secondo le qualità loro disegnano un edificio
conveniente a quegli; e se hanno a racconciare una casa, non la rovinano
tutta, ma solo quelle parti ehe hanno difetto; ed alPaltre lassate intere si vanno
accomodando»; «И, стало быть, предметом нашим является город
Флоренция в его нынешнем состоянии, и мы хотим установить в городе
форму народного правления, соответствующую его свойствам, потому
что не любая форма подходит любому городу, но лишь та, -что может
в городе сохраняться долгое время. Как душа дает жизнь телу, так
и форма общественного правления дает ее городу, и если между ними
нет соответствия, разумно предположить, что и то и другое
разрушится и испортится, потому что это будет подобно нахождению
человеческой души в теле животного или души животного в теле человека,
и поскольку они будут вредить друг другу, это приведет к порче... как
делают благоразумные зодчие, которых зовут возвести здание, когда
его фундамент уже заложен: оставляют фундамент неизменным, а
здание проектируют так, чтобы оно ему соответствовало; и если им надо
починить дом, то они ломают не его целиком, а лишь те его части,
которые пришли в негодность, и строят свои дальнейшие действия,
исходя из того, что осталось целым».
2. Ibid. Р. 17.
425
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
ли virtù одному, некоторым или многим. Он не уточняет, что
подразумевается под virtù, но из контекста понятно, что
слово использовано в своем обычном этическом значении с той
любопытной разницей, что virtù как качество многих
«встречается в городах, отличающихся воинской доблестью, которая
является свойством большинства»1.
Так virtù одного или некоторых означает способность
управлять, руководствуясь общим благом. Полезно узнать, имел ли
Джаннотти с Макиавелли одинаковые основания утверждать,
что эта способность может существовать среди многих,
только если она облечена в военную форму. Однако Джаннотти не
комментирует свое замечание, а продолжает объяснять, что
сам по себе каждый из трех типов может существовать лишь
в воображении. Нет никакой разницы между хорошей и
дурной формой, кроме добродетели или коррупции находящейся
у власти группы. Это означает, во-первых, что нельзя
предотвратить упадок каждого из этих типов, если только
правители не окажутся способны избежать нравственного
разложения, коренящегося в их природе8. Во-вторых, с точки зрения
1. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 13-14: «Queste tre specie di reggimento nascono
da questo, perché in ciascuna città о egli si trova uno ehe è virtuosissimo,
о pochi о molti virtuosi. <...> Ma dove i molti sono di virtù ornati, quivi nasce
quella terza specie di governo chiamata repubblica, la quale amministrazione
si è trovato in quelle città, ehe hanno virtù militare, la quale è propria della
moltitudine»; «Эти три вида правления зависят от того, кому в каждом
из городов присущи добродетели — одному, немногим или многим. <...>
Но там, где добродетелью украшены многие, рождается та третья
разновидность правления, называемая республикой, которая
встречается в тех городах, что отличаются воинской доблестью, свойственной
многим».
2. Ibid. P. i6: «...bene è vero, ehe nelle tre rette, quelli ehe ubbidiscono stanno
subietti volontariamente; nelle tre corrotte, stanno paziente per forza; e perciô si
pùo dire ehe le buone siano dalle corrotte in quello differenti. <...> Nondimeno
a me pare... ehe questa differenza non sia propria, ma piuttosta accidentale,
perché puo essere ehe i subietti nella tirannide volontariamente ubbidiscano,
essendo corrotti dal tiranno con largizioni ed altre cose, ehe si fanno per
tenere gli uomini tranquilli e riposati. Non essençlo adunque altra differenza
tra i buoni e tra i corrotti governi ehe quella ehe è generata dal fine da loro
inteso e seguitato, seguita ehe i buoni senza alcuna difficoltà, cioè senza
intrinseca о estrinseca alterazione, si possono corrompere e divenir malvagii»;
«...правда, что в трех хороших правлениях те, кто подчиняется,
делают это добровольно; в трех дурных они терпят это насильно, поэтому
можно сказать, что хорошие отличаются от дурных именно этим. <...>
Тем не менее мне кажется... что эта разница не заложена в них
изначально, а привнесена обстоятельствами, потому что при тирании
люди подчиняются добровольно, будучи развращены тираном с
помощью подарков и других действии, совершаемых для поддержания
людей в спокойном и расслабленном состоянии. Из того, что между
426
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
морали в реальном мире, где, как мы должны полагать, люди
уже порочны, невозможно учредить какой-либо из этих типов
правления в чистом виде1. О fortuna не сказано ничего. Хотя
Джаннотти признает, что многим обязан Полибию, он не
использует ни концепцию круговорота, определяющего смену
различных форм правления, ни мысль, что в чистом виде
каждая из этих форм приходит в упадок в силу преобладания
в ней одной конкретной разновидности добродетели. Мы явно
находимся в том христианском мире, с точки зрения которого
к истории — измерению человеческого грехопадения —
риторически все эти идеи равным образом применимы.
Теперь на сцене появляется теория смешанного правления
(governo misto или stato misto), принимающая очертания, явно
более близкие модели Аристотеля, нежели Полибия, и более
близкие христианской, а не эллинистической мысли.
Концепция governo misto рассчитана на падших и обладающих
несовершенным разумом людей. В каждом городе есть
несколько типов граждан с различными желаниями. Есть богатые
и влиятельные, которые хотят властвовать. Их всегда немного,
хорошими и дурными правлениями не существует иной разницы,
кроме той, что рождается из поставленных и преследуемых целей,
следует, что хорошие правления с легкостью, то есть без внутренних или
внешних нарушений, могут испортиться и стать дурными».
I. Ibid. P. i8: «...tale introduzione è impossibile, perché essendo gli uomini
piu malvagii ehe buoni, e curandosi molto piu de' privati comodi ehe del
pubblico, credo fermamente ehe nei tempi nostri non si trovi subietto ehe le
possa ricevere, perché in ciascuna di quelle tre sorte si presuppongono gli
uomini buoni: tal ehe avendo i subietti a ubbidire volontariamente a quello,
se è uno, о a quelli, se son pochi о molti virtuosi, non saria mai possibile
indurre a cio gli uomini non buoni, i quali per natura loro sono invidiosi,
rapaci e ambiziosi, e vogliono sempre piu ehe alle sua natura non conviene...
Per la quai cosa non si potendo le buone repubbliche, e le malvagie non
essendo convenevole introdurre, è necessario trovare un modo e una forma
di governo, ehe si possa о sia onesto introdurre: questo modo e questa forma
per questa via, si potrà agevolmente trovare»; «...установить их
невозможно, поскольку в людях от природы больше дурного, чем хорошего,
и они больше заботятся о личном благе, чем об общественном;
поэтому я твердо убежден, что в наши времена никто не может их
принять, потому что каждая из трех форм правления предполагает, что
люди добры: если необходимо добиться добровольного подчинения
одному, немногим или многим добродетельным людям, невозможно
будет добиться этого от людей недобрых, которые по природе своей
завистливы, алчны и честолюбивы, и их желания все больше
превосходят то, что им подобает по природе... Поэтому, раз установить
хорошие формы народного правления невозможно, а дурные не
имеет смысла, нужно найти такой способ и такую форму правления,
которые возможно было бы установить честным образом: этот способ
и эту форму мы сможем без труда найти этим путем».
427
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
и выделение из «немногих» «одного» происходит лишь
потому, что есть мера власти и превосходства, которая
единовременно может быть закреплена лишь за одним человеком. Есть
множество неимущих, не желающих ни властвовать, ни
подчиняться какой-либо менее универсальной власти, чем власть
законов. Наконец, есть mediocri, которые, помимо того что
стремятся к libertà в только что обозначенном смысле,
располагают достаточным состоянием, чтобы в придачу стремиться
к опоге — проще говоря, к тому, чтобы получить вдобавок свою
долю власти1. Именно последние отвечают аристотелевскому
определению граждан как тех, кто управляет и управляем,
и хотя бы по этой причине ошибочно приписывать им роль
«немногих». Разумеется, grandi наделены многими
«олигархическими» чертами. Чуть позже, в полном соответствии с
аристотелевской традицией, оказывается, что mediocri могут быть
столь многочисленны, что полностью вбирают в себя категорию
«неимущего большинства». Между численными и
качественными категориями у Джаннотти нет идеальной
соразмерности — в ней и нет необходимости. На данном этапе важно, что
мы исследуем желания людей, а не их добродетели. Эти desideri
называются также umori, что указывает на нечто не
подчиняющееся разуму. Они иррациональны, так как несовместимы,
I. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 18-19: «...i grandi, perché eccedono gli altri
in nobiltà e ricchezze, vogliono comandare non ciascuno da per se, ma tutti
insieme, percio vorriano una forma di governo nella quale essi solo tenessero
Pimperio; e tra loro ancora sempre alcuno si trova ehe aspira al principato
e vorrebbe comandar solo. I poveri non si curano di comandare, ma temendo
Pinsolenzà de' grandi, non vorriano ubbidire se non a chi senza distinzione
a tutti comanda, cioè aile leggi, e perô basta loro esser liberi, essendo quegli
libero ehe solamente aile leggi ubbidisce. I mediocri hanno il medesimo
desiderio de' poveri, perché ancora essi appetiscono la libertà; ma perché la
fortuna loro è alquanto piu rilevata, percio oltre alla libertà, desiderano ancora
onore. Possiamo adunque dire ehe in ogni città sia chi desidera libertà, e chi
oltre alla libertà onore, e chi grandezza, о solo о accompagnato»; «...гранды,
превосходя остальных в знатности и богатстве, хотят управлять не
каждый сам по себе, а все вместе, поэтому рни бы предпочли такую
форму правления, при которой власть была бы только у них, и среди
них всегда найдется кто-то, кто будет стремиться к абсолютной власти
и захочет повелевать безраздельно. Бедные не хотят управлять, но,
боясь наглости грандов, предпочли бы подчиняться лишь тем, кто
повелевает всеми без различий, то есть законам, поэтому им достаточно
быть свободными и подчиняться только законам. Людей среднего
положения отличает то же желание, что и бедных, потому что они тоже
стремятся к свободе; но поскольку их состояние гораздо больше, они
желают не только свободы, но и почестей. Стало быть, можно сказать,
что в каждом городе одни желают свободы, другие — свободы и
почестей, а третьи — власти, безраздельной или совместной».
428
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
ибо желание одних властвовать нельзя сочетать с нежеланием
других подчиняться чьей-либо власти, никак их не изменив.
Вероятно, формально этого можно добиться, установив власть
законов или включив всех граждан в категорию mediocri,
которые одновременно управляют и управляемы. Впрочем, важно,
что Джаннотти, как христианин, как последователь
Аристотеля или как сторонник Макиавелли, убежден, что полностью
избавиться от итогг невозможно. Следовательно, смешанному
правлению никогда не удастся стать идеально
уравновешенной системой1.
Governo misto, по крайней мере изначально, предполагает
благотворный обман иррациональных людей. Можно ввести
среди людей такой modo di vivere — на самом деле, если
вдуматься, это единственный способ ввести modo di vivere, — при
котором люди частично получают то, чего хотят, или
получают условно, но верят, будто получили целое или полностью
распоряжаются полученным2. Противоречивость их желаний
обусловлена самой природой власти. Несколько человек не
могут управлять всеми, в то время как другие окажутся
свободными от чьей бы то ни было власти, поэтому благотворный
1. Ibid. P. ig-20: «A volere adunque istituire un governo in una città, dove siano
tali umori, bisogna pensare di ordinarlo in modo ehe ciascuna di quelle parti
ottenga il desiderio suo; e quelle repubbliche ehe sono cosi ordinate si puo
dire ehe sono perfette, perché, possedendo in esse gli uomini le cose desiderate,
non hanno cagione di far tumulto, e perciô simili stati si possono quasi
eterni reputare. A' desiderii di queste parti similmente non si puo soddisfare,
perché bisogneria introdurre in una città un regno, uno stato di pochi ed
un governo di molti, il ehe non si puo immaginare, non ehe mettere in atto,
salvo ehe in Genova, dove innanzi ehe Messer Andrea Doria le avesse con
grandissima sua gloria renduta la libertà, si vedeva una repubblica ed una
tirannide»; «Если мы хотим учредить правление в городе,
подверженном таким настроениям, то нужно стараться все устроить так, чтобы
исполнились желания каждой из групп; те республики, что устроены
таким образом, могут считаться образцовыми, потому что люди,
получая то, чего желают, не имеют причин чинить беспорядки, и поэтому
подобные государства можно считать почти вечными. Желания этих
групп людей просто невозможно удовлетворить, потому что в городе
придется одновременно установить монархию, правление немногих
и правление многих, что нельзя ни помыслить, ни исполнить, за
исключением разве что Генуи, где до того, как мессер Андреа Дориа
сделал ее свободной, увенчав себя великой славой, сосуществовали
республика и тирания».
2. Ibid. Р. 20: «Possonsi bene detti desiderii ingannare, cioè si puo introdurre un
modo di vivere nel quale a ciascuna di quelle parti paja ottenere il desiderio
suo, quantunque pienamente non Fottenga»; «Упомянутые желания можно
обмануть, то есть установить такое общественное устройство, где
каждой из групп будет казаться, что она получила то, чего желала, хоть
на самом деле эти желания и не были в полной мере исполнены».
429
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
обман заключается в том, что первые получают право
руководить, а вторые — свободу, так что удовлетворение каждой из
сторон зависит от воли другой.
В той форме правления, к которой мы стремимся, необходимо,
чтобы правителем был один человек, но чтобы его правление
зависело не только от него самого. Людям значительным
надлежит властвовать, но сами они не могут быть источником
власти. Большинство обретает свободу, но при этом остается
в некоторой зависимости. Наконец, mediocri не только
свободны, но и имеют возможность добиться почестей (priori — во
множественном числе у этого слова есть второе значение,
«должности»), однако так, чтобы последние не зависели всецело от
их воли...1.
Однако обман может завести людей дальше простой иллюзии.
Мы полагаем, что человеку как разумному политическому
существу свойственно править, помня об общем благе, и
считаем, что ситуация взаимной политической зависимости
заставит людей править именно так, хотят они того или нет.
В этом случае подобное распределение функций (Джаннотти
называет его amministrazione) сделает людей рациональными;
игпогг превратятся в virtù. Силой, которая увлечет их от
неразумия к разуму, должна стать структура полномочий,
распределенных таким образом, что они зависят друг от друга и друг
друга обусловливают. Если этими полномочиями пользуются
рационально, они перерастают в умение отдельного человека
действовать разумно и политически, руководить действиями
других (как они руководят его действиями), чтобы и те
действовали так же. Поэтому полномочия тоже превратились в virtù.
Характерно, что, учитывая его коннотации, связанные с
деятельностью, Джаннотти периодически может использовать это
слово как синоним, например, для/orze или potestà2. Повторим,
полития — это изобретение человеческой мысли,
предназначенное для институционализации virtù. Необходимо поручить
людям функции, которые побудят их действовать так, чтобы
ι. Giannotti D. Ореге. Vol. II. Р. 20: «Onde in questo governo ehe cerchiamo
bisogna ehe uno sia principe, ma ehe il suo principato non dependa da lui;
bisogna ehe i grandi comandino, ma ehe tale autorità non abbia origine da
loro; bisogna ehe la moltitudine sia libera, ma ehe tal libertà abbia dependenza;
e fïnalmente ehe i mediocri, oltre alPesser liberi, possano ottenere onori, ma
ehe tal facoltà non sia nel loro arbitrio collocata...».
2. Сила, власть (итал.). — Прим. ред.
430
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
их природа преобразилась и снова оказалась не такой, какой
она стала, а какой есть.
Изобретение такого рода зависит от наличия mediocri,
единственных людей, способных управлять и подчиняться, а значит,
умеющих противопоставить рациональное поведение
иррациональности тех, кто способен только властвовать или
повиноваться. Если бы существовал город, населенный исключительно
mediocri, он мог бы стать чистой демократией, a mediocri
обладали бы в этом случае воинской virtù. Однако такого города нет1.
Там, где mediocri сильнее grandi и poveri вместе взятых, или там,
где они поддерживают равновесие между двумя этими группами,
governo misto возможно и действительно необходимо. Оно
избавит город от разложения, вызванного несоответствием между
душой и телом. Остается показать, что Флоренция
удовлетворяет этим условиям, что и пытается сделать Джаннотти. Он
излагает историю города, из которой видно, как аристотелевские
основания его мышления дают ему возможность более тонко
и спокойно оценить историческую причинность. Они
избавили его от власти фортуны в большей мере, чем это могла бы
сделать циклическая теория Полибия. Кроме того, Джаннотти
удивительным образом предвосхитил идеи, сформулированные
Джеймсом Харрингтоном в следующем веке.
По мысли Джаннотти, Флоренция некогда была городом
grandi и poveri, но в последнее столетие постепенно становилась
городом mediocri. Понять это, заявляет он, означает осмыслить
историю Флоренции как до, так и после правления Медичи
1434~1494 годов. Если бы он воспользовался моделью,
предложенной Полибием в шестой книге «Всеобщей истории», следовало
предположить, что правление немногих {grandi) уступило место
сначала правлению многих {poveri), а затем правлению
тирана (Козимо), после чего цикл снова повторился. Каждая
форма должна была существовать в чистом виде, прийти в упадок
в результате стихийного внутреннего угасания и разрушиться
в силу стечения обстоятельств, вызванного непредсказуемой
fortuna. Однако подобная модель едва ли могла удовлетворить
флорентийцев I530_x годов как с исторической, так и с
философской точки зрения. Они слишком хорошо знали источники
о прошлом и предъявляли слишком высокие требования к их
истолкованиям. Джаннотти утверждает, что, анализируя любое
событие {azione), следует рассмотреть общую причину {cagioné),
ι. Ibid. P. 24.
4SI
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
ускоряющий событие случай (occasione) и непосредственный
повод (principio). Если говорить о падении Флорентийской
республики в 1512 году, ее cagione — это недовольство отдельных
честолюбивых представителей олигархии данной формой правления,
occasione — война между папой Юлием и французским королем,
a principio — нападение испанской армии на Прато и
Флоренцию. Cagione — это порядок вещей, который проявляется,
когда представляется occasione, часто бывая и причиной occasione1.
В случае флорентийской политики XIII и XIV веков мы
видим неустойчивые колебания между stati grandi и popolo*
(Джаннотти явно не рассматривает их как цикл), и cagione или
disposizione состояла в приблизительном равенстве сил (Jbrze)
этих групп. В одной из них сосредоточивалось qualità, другая
возрастала численно, так что ни одна не могла взять верх над
противником или уничтожить его. Джаннотти согласился бы
с еще одной мыслью Макиавелли: ни одна из них не могла
придумать систему правления, приемлемую для другой, — и
победа каждой из партий была результатом occasione, который
в другой раз мог — и обычно так и происходило —
благоприятствовать ее конкуренту3. В таких случаях cagione решала все,
ι. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 37-38: «Ed è da notare ehe in tutte le azioni sono
da considerare tre cose, la cagione, Poccasione e il principio. Sono molti ehe
pigliano Poccasione per la cagione, e della cagione non fanno conto, come saria
se alcuno (poniamo) dicesse ehe la cagione della rovina dello stato di Firenze
nel MDXII fosse la differenza ehe nacque tra Papa Giulio ed il re di Francia,
e Paver perduto il re di Francia Milano; la quai cosa non fu la cagione, ma
Poccasione, e la cagione fu la mala contentezza d'alcuni cittadini malvagii ed
ambiziosi; il principio poi fu la venuta ed assalto degli Spagnuoli per rimettere
i Medici. Non è adunque la cagione altro ehe una disposizione, la quale si risente
qualche volta Poccasione si scopre, e molto spesso è tanto potente la cagione,
ehe non aspetta, anzi fa nascere Poccasione»; «Необходимо отметить, что во
всех этих событиях нужно принимать во внимание три вещи —
причину, случай и непосредственный повод. Многие принимают случай
за причину, а настоящую причину не учитывают, как, например, если
допустить, что кто-то сочтет причиной упадка флорентийского
государства в 1512 году несогласия, которые родились между папой Юлием
и королем Франции, и потерю Милана французским королем; но это
было не причиной, а случаем, причина же заключалась в недовольстве
ряда дурных и честолюбивых граждан; непосредственным поводом же
послужило нападение испанцев с целью восстановить власть Медичи.
Причина, стало быть, заключается в определенной обстановке, которая
становится ощутима, когда появляется случай, и часто причина столь
сильна, что не ждет случая, а сама его создает».
2. Государства, принадлежащие грандам, и государства, принадлежащие
народу (итал.). — Прим. ред.
3- Ibid. P. 39: «...era necessario ehe le parti tumultuassero, e quando reggesse
Puno, e quando Paltro; e se alcuno domandasse quai sia stata Poccasione,
perché i grandi non prevalessero mai tanto al popolo, né il popolo ai grandi,
432
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
и, конечно, не имело значения, что сулили различные occasioni.
Обратим внимание на контраст между употреблением этого
слова Джаннотти и его использованием в «Государе»
Макиавелли, где occasione означало крайнюю степень
иррациональности и непредсказуемости конкретного события в мире fortuna.
Макиавелли было намного больше известно об исторической
причинности, и все же стоит остановиться на этом контрасте.
Occasione у Джаннотти — по-прежнему непредсказуемая
случайность, приводящая в движение колесо и ниспровергающая
системы власти, но теперь нестабильность политики объясняется
каузально, а не через преемственность. Grandi и poveri, качество
и количество, власть и свобода лежат в основе неустойчивого
равновесия, от которого большинство людей, будучи такими,
какие они есть, уйти не могут. Мы видим, почему их природе
присуща неустойчивость, и, следовательно, ясно, как ей на смену
может прийти стабильность. Поэтому fortuna не играет особой
роли в его системе, и само это слово почти не используется.
Вместо этого Джаннотти опирается на аристотелевскую теорию
причинности и аристотелевскую же теорию социальных сил.
Харрингтон, столетие спустя написавший в схожем ключе
обзор английской истории, отвел королю и баронам в
средневековой Англии функции, очень схожие с ролями grandi и poveri
у Джаннотти. Они существовали в замкнутой системе
нестабильного равновесия, пока Тюдоры не подорвали власть
баронов, укрепив землевладельческое население, становление
которого оказалось не менее разрушительным для монархии, уже не
ehe l'una parte е l'altra potesse lo stato suo fermare, dico ehe la cagione
di tal cosa era perché le forze del popolo e de' grandi erano uguali, e pero
l'una non poteva abbassare mai l'altra intieramente; e quando l'una prevaleva
all'altra nasceva dalPoccasioni, ehe erano ora a questa parte, ora a quell'altra
conformi, e non era possibile, quando l'una prevaleva all'altra, ehe interamente
si assicurasse...»; «...было неизбежно, что стороны начнут роптать в
случае правления как одной, так и другой из них; а если кто-то спросит,
что послужило случаем того, что та или другая партия могла
установить свою власть, ведь ни гранды не были значительно сильнее
народа, ни народ сильнее грандов, то я отвечу, что причина была в том,
что силы народа и грандов были равны, но ни одна из сторон не
могла полностью подчинить другую, и временная победа какой-то из них
зависела от случаев, которые ей благоприятствовали больше, чем
другой, но не было возможности обеспечить себе полное господство...».
Ср.: Ibid. Р. 42~43> гДе количество (quantity) у popolo противопоставлено
qualité у nobili: «nobilita, ricchezze e favori, dignità, disciplina e simili cose...
reputazione, ricchezze, clientele, favori, cosi esterni corne domestici»;
«знатность, богатства и покровительство, достоинство, дисциплина и тому
подобное... доброе имя, богатства, связи, покровительство, как
внешнее, так и внутреннее».
433
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
способной им управлять1. Подобную же роль Джаннотти
приписывает Медичи XV века, которые, выдвигая бедных на
должности и лишая аристократов возможности проявлять generosità
и grandezza2, кроме как с согласия правящей семьи, подавили
одних и возвеличили других. Это привело к образованию
нового и растущего класса mediocri, который теперь поддерживал
баланс власти, благодаря чему во Флоренции было возможно
стабильное governo miste?. С 1530 года Медичи правили при
поддержке немногочисленных grandi, обязанных им своим
положением, и нескольких нобилей, у которых крайности осады aliénât
[г\ dal vivere universale е politico*. Однако их тирания уничтожает
сама себя. Она лишает всех людей желаемого и способствует
увеличению числа medioeri, лишь благодаря присутствию
которых Медичи могут достигнуть своих целей5. Как и Харрингтона,
Джаннотти следует называть не хорошим пророком, а
успешным создателем более богатого концептуального языка. Оба
ι. См. ниже, с. 547~548·
2. Щедрость и величие (итал.).— Прим. ред.
3- См. подробнее: Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 45-48.
4. Вызвали отчуждение от общественной и политической жизни (лат.). —
Прим. ред.
5- Ibid. P. 47~48: «È succeduto poi il secondo ritorno de' Medici nel MDXXX con
quella violenza ehe è nota a tutto'l mondo, e perché nella resistenza grande
ehe s'è fatta loro, sono stati offesi molti cittadini di gran qualità, è necessario
ehe abbiano Panimo alienato dal vivere universale e politico, parendo loro
essere stati da quello maltrattati; la quai cosa pare ehe generi quella stessa
difïïcultà alPintroduzione d'un vivere civile ehe saria se la città, cosi come già
era, fusse piena di grandi, e mancasse di mediocri, come di sopra discorremmo.
Ma questa difïïcultà a poco a poco manca, per il violento modo di vivere
ehe al présente si osserva, nel quale tutti i cittadini, di qualunque grado,
appariscono concultati ed abbietti, senza onore, e senza reputazione, e senza
autorità. Talché è necessario ehe ciascuno, deposti gli odii particolari ed unite
le volontà, viva con desiderio grande di pacifîco e quiète vivere, ed aspetti
l'occasione di ricuperarlo»; «Потом Медичи снова вернулись в 1530 году,
захватив власть с той жестокостью, что всем известна, и поскольку
в результате того сопротивления, что им пришлось преодолеть,
пострадали многие достойные граждане, то было неизбежно, что они
отдалятся от общественной и политической жизни, считая свои интересы
попранными; представляется, что это создает ту же сложность
установления формы гражданской жизни, которая возникла бы, если бы
в городе, как это и было в тот момент, было много грандов и мало
людей среднего положения, как мы сказали выше. Но этого
затруднения почти не существует из-за нынешнего общественного
устройства, основанного на насилии, при котором все граждане, независимо
от их положения, предстают притесненными, ничтожными, без чести,
доброго имени и влияния. Поэтому необходимо, чтобы все, отбросив
личную вражду и объединив собственные воли, жили в стремлении
к мирному и спокойному общественному устройству и ждали случая
его вернуть».
434
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
они выводили причинно-следственные связи, на основе
которых ошибочно предсказывали стабилизацию политической
обстановки и прекращение турбулентной истории. При этом они
расширили словарь понятий, позволяющих обсуждать процесс
политических изменений, — конкретных и социальных
терминов, которые отличались от тех, что описывали единичные
иррациональные проявления fortuna. Возникает искушение сказать,
что оба они предложили выход из Полибиева круговорота к
вращающимся сферам упорядоченного правления. Однако в
действительности они оперировали такой богатой терминологией
причинно-следственных связей, что им никогда не приходилось
прибегать к модели Полибия. Словарь Аристотеля был менее
высокопарным, и именно его использует Джаннотти.
Аппарат политического анализа, применимый к проблемам
города, не утрачивает своей роли и во второй книге
«Флорентийской республики», посвященной критике республиканских
режимов цд^ооз-^з и 1527-15З0 годов.
Законодателям-реформаторам, таким как Нума или Ликург, пишет Джаннотти в
начале, труднее, чем тем, кто основывает города, на месте
которых когда-то ничего не было (вспомним, что Макиавелли
в «Рассуждениях» — но не в «Государе» — в целом
причисляет Ликурга именно к этой категории героев). Последним
достаточно было знать, что принесет пользу, и они могли быть
абсолютно уверены в поддержке неоформленной массы,
которую им предстояло вести за собой и воспитывать. Первым же
следовало отдавать отчет в оплошностях, допущенных
прежними правителями, а это представляет известные трудности.
Во-первых, всегда есть те, кто привык (assuefatti) к
предыдущему порядку и с трудом изменяет свои обыкновения, — вот
почему Нума придумал помощь богов, а Ликургу пришлось
прибегнуть к насилию1 (вспомним вооруженного пророка из
«Государя»). Во-вторых, изъяны конституции принадлежат
к числу cose particolari2, а их трудно истолковать, опираясь на
нечто превышающее обыкновенный опыт и выходящее за его
рамки. В-третьих, никто не свободен от человеческих чувств
настолько, чтобы всегда видеть недостатки, с которыми ему
приходится иметь дело3. От Савонаролы, чужеземца и монаха,
ι. Ibid. Р. 5^-53·
2. Частные вещи (итал.). — Прим. ред.
3- Ibid. Р. 53: «А ehe si aggiugne ehe la considerazione de' difetti, nei quali hanno
di bisogno di reformazione, è molto malagevole, non solamente perché in cose
particolari consistono, le quali con difficoltà si possono altrimenti ehe per
435
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
едва ли следовало ожидать хорошего знания устройства
флорентийских ведомств. Впрочем, Большой совет, введенный при
его содействии, смог бы постепенно сам себя реформировать,
если бы у него было время и если бы из-за вероломства
отдельных grandi Медичи не вернулись бы к власти1.
Чрезвычайно важно понимать, сумеем ли мы разработать
политическую теорию, способную выявить и исправить
недостатки предшествующих правлений. Джаннотти переходит
к критике обоих республиканских режимов. Он утверждает:
хотя Большой совет номинально и был основой системы, на
деле различные органы — в том числе Совет десяти и в какой-
то мере гонфалоньер — обладали практически
неограниченными полномочиями, а реальная власть оказалась в руках
немногих2. Эту замаскированную олигархию не следует
смешивать с замаскированной аристократией. Связи
Джаннотти с либеральными ottimati по-прежнему достаточно
сильны, чтобы он подчеркивал: такое положение дел отдалило их
esperienza conoscere, ma perché ancora niuno mai si trovö ehe tanto fosse
libero dalle umane affezioni ehe in ogni cosa il difetto e mancamento suo
potesse vedere...»; «К этому необходимо добавить, что понять изъяны,
требующие поправки, очень непросто, не только потому, что они
заключаются в частностях, которые трудно постичь иначе, нежели на
собственном опыте, но и потому, что никто никогда не был
настолько свободен от человеческих чувств, чтобы всегда видеть присущие
вещам недостатки...».
1. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 54-55: «Non conobbe adunque Fra Girolamo
questi particolari mancamenti, né è da maravigliarsene molto; perché essendo
forestiero e religioso, non poteva trovarsi nelle pubbliche amministrazioni;
talché veduti egli i modo del procedere in esse, avesse potuto far giudizio di
quello ehe era bene о male ordinato...»; «Стало быть, брат Джироламо
не знал этих частных изъянов, и тут нечему удивляться; будучи
иноземцем и монахом, он не мог видеть изнутри устройство государства,
но если бы он видел, как оно работает, он смог бы составить мнение
о том, что было устроено хорошо, а что плохо...».
2. Ibid. Р. 59: «In Firenze adunque nei due passad governi, la creazione de'
magistrate senza dubbio era in potere degli assai, perché tutta la città
dependeva dal gran consiglio, e pero in questa parte la città era libera; la
deliberazione della pace e guerra era in potere del,magistrate dei dieci, i quali
di quelle due cose, e conseguentemente di tutto lo stato della città potevano
disponere; di ehe seguitava ehe i pochi e non gli assai fossero signori dello
stato della città: e dove tal cosa awiene, quivi non puo esser vera e sincera
libertà»; «Итак, во Флоренции при обоих предыдущих правлениях
распределение магистратур было, несомненно, в руках большинства,
потому что весь город зависел от Большого совета; следовательно в этом
город был свободен; объявление мира и войны было в руках Совета
десяти, которые распоряжались этими двумя вопросами и определяли
положение города; из этого вытекает, что господство над положением
города было в руках немногих, а не многих, а где такое имеет место,
там не может быть истинной неподдельной свободы».
43б
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
от власти, и их враждебность к правительству только
возросла при пожизненном гонфалоньерате 1502-1512 годов, который
Джаннотти в других отношениях одобряет. Отвращение к их
предательству не должно заслонять его причин (cagioni, а не
occasioni)1. В сущности, в этих главах он вновь обращается к
темам «Письма к Каппони» и перерабатывает их. Здесь снова
возникают две линии конституционного анализа. Во-первых,
очевидно, что неограниченность полномочий различных
ведомств объясняется тем, что не удалось разделить функции:
они могли поступать, как им заблагорассудится, ибо за ними
были и deliberazione, и consultazione. Когда несколькими
главами позже Джаннотти возвращается к совету ввести процедуру
голосования по венецианскому образцу, делает он это потому,
что она решительно отделяет принятие решений от внесения
предложений. Во-вторых — и здесь уже нет такой однозначной
связи с венецианской моделью, — он высказывает мысль, что
безответственность магистратов мотивировалась тем, что их
полномочия не зависели, как следовало, от какой бы то ни
было внешней власти. Структура взаимозависимости,
составляющая суть governo misto, должна была быть подробно
рассмотрена на одном из следующих этапов. Однако
рассуждения Джаннотти принимают новый оборот, отражающий его
тяготение к идее верховенства народа. Он говорит, что четыре
уже знакомые нам функции: выбор должностных лиц,
вопросы мира и войны, рассмотрение прошений и издание
законов,— составляющие vigoré1 (раньше речь шла о nervo)
правления, должны находиться под контролем городского ngnor#.
Если править будут многие, они должны выполнять все
четыре функции, иначе город не будет по-настоящему свободным4.
1. Ibid. Р. 81-82: «...talché costretti da questa mala contentezza, consentirono
alla rovina di quello stato, ed a rimettere i Medici; benché questi tali non
meritino laude alcuna, anzi biasimo e vituperio, non è pero ehe quel modo
di procedere sia da biasimere e da correggere, per tor via le cagioni di quelle
male contentezze...»; «...так что их недовольство привело к упадку того
государства и к возвращению Медичи; хоть они и не заслуживают
похвалы, а лишь порицания и осуждения, не следует порицать и их
манеру действовать, направленную на искоренение причин недовольства...».
2. Сила (итал.).— Прим. ред.
3- Господин (итал.). — Прим. ред.
4- Впервые эта мысль встречается в следующем фрагменте — Ibid. Р. 58-
59: «Ma è da notare ehe quattro sono le cose nelle le quali consiste il vigore
di tutta la repubblica; elezione de' magistrati; la deliberazione della pace
e guerra; e provoeazioni; e Pintroduzione délie leggi; le quali quattro cose
sempre devono essere in potere di chi è signore della città. Per la quai cosa
in quei governi, dove gli assai reggono, è necessario ehe sieno in potestà
437
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
Разумеется, возникает вопрос, кто должен выступать носителем
этих четырех функций в governo misto? Джаннотти пока
говорит лишь, что недостаточно наделить Большой совет правом
избрания должностных лиц — хотя с этой точки зрения город
и можно назвать свободным, — если вопросы мира и войны
всецело останутся под безответственным контролем Совета
десяти1. В такой ситуации право опротестовывать решения
магистратов оказывалось бессмысленным. Номинально
законодательство определял совет, но фактически оно зависело от
воли нескольких человек. Практика Медичи показывает, что
одного избрания должностных лиц недостаточно. Они всегда
контролировали назначение тех, кто руководил выполнением
трех других функций, предоставляя совершенно свободно
избирать остальных. В чьих руках даже не четыре, а три типа
власти, тот хозяин положения2.
Джаннотти близок к тому, чтобы вступить в новую
область, которая уведет его мысль от простого смешения трех
элементов или просто институционализации virtù. Однако
здесь он завершил свое рассуждение о том, какими
полезными для оздоровления ситуации знаниями должен обладать
degli assai, altrimenti in quella città, dove sieno tali amministrazioni, non
sarebbe libertà»; «Однако нужно отметить, что сила всей республики
заключается в четырех вещах — выборе должностных лиц,
объявлении мира и войны, рассмотрении прошений и издании законов; эти
четыре вещи всегда должны быть во власти тех, кто господствует над
городом. Поэтому там, где правит собрание, необходимо, чтобы это
были полномочия собрания, иначе в городе с таким государственным
устройством не будет свободы».
1. Ср.: «Письмо к Каппони» выше и прим. 2 на с. 413 и прим. 2 на с. 436·
2. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 59-60: «Veniva adunque la città quanto alia
creazione de' magistrate ad esser libera, ma quanto all'altre tre cose, ehe non
sono di minore importanza, non era libera ma alParbitrio e podestà di pochi
soggetta. Che le tre ultime cose non fossero di minor momento ehe la creazione
de' magistrati è manifesto, se non per altra, perché chi è stato padrone delle
tirannidi passato non si è curato dell'elezione de' magistrati, eccetto quelli ne'
quali era posto Tautorità delle tre dette cose, parendo loro ehe chi è signore
di quelle sia signore di tutto; e senza dubbio, chi puo deliberare della pace
e guerra, introdurre leggi ed ha il ricorso de' magistrati, è padrone d'ogni
cosa»; «Итак, в плане выбора должностных лиц город был свободным,
но в трех остальных не менее важных вопросах он не был свободен,
а зависел от воли и власти небольшого числа людей. Что три
остальных вопроса не менее важны, чем выбор магистратов, становится ясно,
в частности, из того, что предыдущие тираны не заботились о
выборе магистратов, кроме как в тех случаях, когда речь шла о трех
упомянутых вопросах, считая, что кто имеет власть над этими вещами,
тот властвует над всем; и, несомненно, если кто-то может решать дела
войны и мира, издавать законы и влиять на магистратов, тот
господствует над всем».
438
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
законодатель-реформатор Флоренции. Теперь ему
необходимо совместить его с универсальными принципами, которыми
должен руководствоваться такой человек. Цель законодателя,
читаем мы в начале третьей книги, — утвердить прочную
политик). Политии распадаются либо из-за внутренних раздоров,
либо под натиском извне. От первой опасности защищает Ъиоп
governo, от второй — buona milizia, хотя ее можно рассматривать
как часть Ъиоп governo, служащую также и первой цели. Теперь
мы подходим к поставленному Макиавелли вопросу, следует ли
начинать с гражданских или с военных установлений, и
возникает фигура Ромула. Если Ликург уделял внимание и governo,
и milizia одновременно, Ромул, еще не успев подумать ни о том,
ни о другом, применял насилие в отношении своих соседей
и расширял империю своего народа. Может показаться, что
такое решение благоприятствует организации военной силы, хотя
и не тождественно ей. Однако Джаннотти, по-видимому,
имеет в виду главным образом похищение сабинянок, говоря, что
причиной такого поведения могла быть лишь жажда господства,
ибо Ромул располагал достаточным числом мужчин, чтобы
составить город. В конце концов, существовали другие способы
обеспечить римлян женщинами1. Немного позже утверждается,
что Ромул занялся организацией гражданского порядка прежде
военного, поэтому размышления Джаннотти в конечном счете
резко контрастируют с позицией Макиавелли. Автор «Государя»
полагал, что Рим изначально был нацелен на расширение своей
территории, а потому развивался по военным, а значит, по
народным законам. Изначальное неприятие Джаннотти римской
I. Ibid. Р. 9б~97: «Penso adunque Romulo a fare violenza, e d'avere a vincere,
e per conseguente al propagare Pimperio, e far grande la sua repubblica. La
cagione ancora, ehe Pindusse a far tal violenza, non fu altro ehe la cupidità
dell'imperio, perché se non voleva quello accrescere, non gli era necessario
usare tal violenza; perciocché aveva tanti uomini, ehe facevano conveniente
corpo d'una città non ambiziosa, la quale si voglia solamente mantenere, e non
desideri accrescimento; e délie donne per gli uomini suoi avrebbe trovato
in spazio di tempo, senza ehe quelle d'Alba non gli sariano mai mancate»;
«Итак, я думаю о Ромуле, который применял насилие, одерживал
победы, и благодаря этому росли его власть и величие его республики.
Причина, которая его толкнула на такое насилие, заключалась не
в чем ином, как в жажде власти, потому что если бы он не хотел ее
приумножить, ему не было бы необходимости прибегать к
насильственным методам; поскольку у него было достаточно людей для
города без честолюбивых целей, которому достаточно сохраняться и не
расти, а женщин для этих мужчин можно было бы найти со временем
другими способами, не испытывая никакой нужды в жительницах
Альбы».
439
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
модели, сохраняющееся и в последующих главах, облегчает
возвращение к понятиям, связанным с Венецией. Истоком его
отчасти является предположение, что функция гражданской
милиции скорее оборонительная, нежели наступательная.
Венеция, предпочитая стабильность расширению владений,
вовсе обходилась без гражданской милиции. Впрочем, Джаннотти,
переживший осаду Флоренции, ясно дает понять, что функция
народного ополчения — оборонительная. Бруни и Макиавелли
считали, что Рим разрушил республиканскую virtù остального
мира, из-за чего потерял и собственную. Однако не служащее
агрессии ополчение может оставаться средством воспитывать
в гражданах virtù. Республику 1527-15З0 годов люди защищали,
тогда как республика 1512 года пала без борьбы. Причина
очевидна: в первом случае существовала гражданская милиция,
а во втором — нет (ополчение Макиавелли состояло из contadini1,
и Джаннотти понимал это теоретическое различие). В идеале
Флоренция должна, как Рим, обладать войском и управляться
народом, но оставаться стабильной и спокойной, как Венеция.
Джаннотти решительно отошел от беспокойного динамизма
Макиавелли. Ополчение в его политической роли — лишь часть
аппарата buon governo, и теперь он столь явно придает больше
значения последнему, что в оставшейся части книги в целом
подчеркивает способность ополчения развивать в людях
добродетель уже менее явно, чем это было в 1528 году8.
ι. Жители сельских окрестностей (итпал.) — в противоположность
городским жителям Флоренции, обычно составлявшим основу ополчения. —
Прим. ред.
2. Giannotti D. Ореге. Vol. II. P. 98~99: «Ma se noi consideriamo bene, è di
maggiore importanza introdurre una buona forma di repubblica, perché dietro
a questa agevolmente s'introduira buona milizia: ma dove fosse la milizia
introdotta, non saria forse cosi agevolmente introdurre buona ordinazione;
perché naturalmente gli uomini militari sono meno ehe gli altri trattabile.
Ε percio Romulo primieramente introdusse gli ordini civili, e poi gli ordini
militari; e potette costui in brevissimo tempo ogni cosa condurre, perché
essendo principe assoluto non aveva ehe contradicesse. <...> In Firenze
adunque, essendo di maggiore importanza introdurre un buon governo ehe
una buona milizia (perché invero la città ne' tempi passati ha piuttosto patito
per mancamento di governo ehe di milizia, forse per le qualità delParmi e de'
tempi) tratteremo prima di quella parte...»; «Но если вдуматься, важнее
установить правильную форму народного правления, потому что после
этого будет несложно создать хорошее войско, а после создания войска
не так просто будет создать хорошее общественное устройство,
потому что с военными людьми труднее иметь дело, чем с кем-либо еще.
И поэтому Ромул сначала установил гражданские порядки, а затем
военные; и он смог в кратчайшие сроки все осуществить, потому что
был абсолютным государем и никто не мог ему противоречить. <...>
Итак, поскольку во Флоренции важнее создать хорошее правление,
440
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
Джаннотти разрабатывает для Флоренции governo misto, а не
демократию в чистом виде. Нам следует уяснить, какую роль
в governo misto играют как народное ополчение, — мы уже узнали,
что воинская доблесть присуща демократическому режиму, — так
и четыре типа властных полномочий. От того, на кого они будут
возложены, зависит, кто станет signore города, а нам пока
неизвестно место такого signore в смешанном правлении. Джаннотти
продолжает критический анализ идеи смешанного правления.
Она может означать, говорит он, либо что три части (один,
некоторые и многие, grandi, mediocri, popolari) имеют полномочия
равные с другими, либо что кто-то из них обладает большей
властью (forze, potenza), чем два других. В каждом из этих
случаев целью является равновесие. Если вдуматься, то первый
вариант по определению заключает в себе изъян. Дело в том,
что смешение политических компонентов не схоже со
смешением компонентов природных, в котором каждая составляющая
(semplice) утрачивает присущую ей virtù, а их соединение
приобретает уже свою особенную, новую virtù. Политическое
объединение состоит из людей, из grandi, mediocri и popolari, и все
они после смешения остаются такими же, какими были раньше
(по-видимому, если только не превратятся в mediocri, но в таком
случае мы вообще не создаем смешанное правление). Каждая
группа сохраняет свою характерную черту, которую
Джаннотти теперь обозначает словом virtù, а не итоге или (как мог бы
сделать) fantana. Virtù заключаются в устремлениях, желаниях
и умении их воплощать, которые мы просто
институционализируем при создании политии. Поэтому невозможно «выдержать
столь совершенное равновесие, чтобы virtù — назовем ее
властью — каждого элемента не была очевидна». Если они равны,
значит, противоречия и трения между ними будут одинаковой
силы и в республике возникнут многочисленные раздоры,
которые приблизят ее конец1. Джаннотти смотрел на virtù под таким
нежели хорошее войско (потому что в прошлом беды города сильнее
зависели от недостатков правления, а не войска, возможно из-за
характера войска и особенностей тех времен), мы этот вопрос обсудим
первым...».
I. Ibid. Р. 99-юо: «...il primo modo, secondo il quale le forze di ciascuna parte
sono eguali a quelle delFaltra, senza dubbio è difettivo e non si debbe seguitare,
perché non è possibile temperare uno stato tanto perfettamente ehe la virtù
(vogliamo dire potestà di ciascuna parte) non apparisca; perciocché in tal
mistione awiene il contrario ehe nella mistione délie cose naturali, nella quale
le virtù particolari délie cose di ehe si fa mistione non rimangono nel misto
apparenti, ma di tutte se ne fa una sole; la quai cosa non puo nel temperare
una repubblica awenire; perché bisogneria pestare e tritare in modo gli uomini,
441
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
углом, что псевдоорганическая модель политической аналогии
сменилась механистической. Фигурировавший у Гвиччардини
повар, который размешивал pasta, исчез.
Далее мы узнаём, что Полибий заблуждался, рассматривая
Римскую республику как пример смешанного правления. Он
утверждает, что когда прибывшие в Рим послы имели дело
с консулами, они считали, что находятся в царстве, когда с
сенатом — в аристократии, когда с populus — в демократии. Но это
означает, что власть каждой из этих групп была равноценна
власти остальных и не ограничивалась ими, а если так, то
неудивительно, что в республике царили гражданские
беспорядки. Если бы правление было организовано правильно, послы,
имея дело с консулами, поняли бы, что те зависят от сената
и от народа, имея дело с сенатом — что он зависит от
консулов и от народа, наконец, имея дело с народом — что он
зависит от консулов и от сената. Virtù каждой из групп была бы
temperata1 другими. Об этом Бруту и его соратникам следовало
подумать после изгнания царей, но они попытались сохранить
первенство за сенатом. Бели Полибий излагает факты
достоверно, равномерное распределение власти между тремя органами
привело Рим к той нестабильности и борьбе, которые в конце
концов и разрушили его2.
Покритиковав теорию Полибия, Джаннотти затем
оспаривает и точку зрения на Рим Макиавелли. Он уже косвенно
ehe dei grandi, popolari e mediocri se ne facesse una sol cosa diversa in tutto
da quelle tre fazioni; la quai cosa senza dubbio è impossibile. Rimanendo
adunque le virtù di ciascuna parte apparenti nella mistione, è necessario ehe
essendo l'opposizioni e resistenze eguali, non manchino le repubbliche in tal
modo temperate di civili dissension!, le quali aprano la via alla rovina loro»;
«...первый способ, согласно которому силы обеих сторон равны друг
другу, несомненно, обладает недостатками, и ему не нужно следовать,
потому что невозможно выдержать в государстве столь совершенное
равновесие, чтобы virtù — назовем ее властью — каждого элемента не была
очевидна, потому что такое смешение противоположно смешению
природных элементов, когда характеристики отдельных частей, входящих
в смесь, перестают быть различимы и превращаются в единое целое;
такое невозможно при попытке уравновесить республику, потому что
пришлось бы раздробить и измельчить людей, чтобы вместо грандов,
простолюдинов и среднего сословия получилась однородная масса, во
всем отличающаяся от всех трех частей, а это, разумеется, невозможно.
Итак, поскольку характеристики каждой части в смеси остаются
различимы и поскольку восстания и сопротивления будут равны друг
другу, республики, устроенные таким образом, неизбежно будут
раздираемы гражданскими противоречиями, которые приведут их к гибели».
1. Уравновешена (итал.).—Прим. ред.
2. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 101-103.
442
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
отверг мысль Макиавелли, что вооруженное народное
государство должно быть нацелено на расширение своей территории.
Теперь он отводит и другой его тезис — что гражданские
конфликты в Риме были признаком здоровья, ибо привели к
учреждению трибуната (о котором Джаннотти почти не говорит).
Чем больше Рим теряет статус ориентира, тем интереснее
явное намерение Джаннотти применить венецианские
установления и концепции к организации вооруженного народного
государства. Однако важнее всего пересмотр Джаннотти
понятия governo misto, не в последнюю очередь потому, что он
предвосхищает многое в английской и американской
политической мысли XVII и XVIII столетий. В данном случае он
утверждает, что невозможно сохранить баланс равных и
независимых сил, поскольку взаимное давление и сопротивление
между ними тоже будут равными и никакого компромисса не
получится. Но мы знаем, что политическая власть
многообразна и может распределяться в таком количестве различных
комбинаций, что добиться взаимной зависимости трех
субъектов реально. Теоретически возможно и построение системы
трех равных, но взаимозависимых сил. Джаннотти не
рассматривает эту возможность. Он полагает, что для
взаимозависимости нужно неравенство — одна часть должна обладать
преимуществом перед двумя другими (la repubblica deve inclinare in
una parte). Основная задача, вероятно, в том, чтобы
институционализировать конфликт. Носители власти всегда соперничают
друг с другом, и если все теоретически равны, проигравший
может винить в своем поражении победителя и вместо
стремления к общему благу продолжать нескончаемую междоусобицу.
Если же подчиненное положение проигравшего определяется
самой структурой республики, он примет его как правомерное.
Джаннотти подчеркивает, что не имеет в виду, будто
преобладающая часть станет наслаждаться гтрегго1, от которого другие
окажутся отстранены. Его мысль в том, что она будет зависеть
от них меньше, чем другие части от нее. Ему еще предстоит
объяснить, как со всем этим соотносится его теория, согласно
которой все четыре полномочия правления должны
находиться в руках ngnore или padrone, и действительно ли такие
понятия применимы к той группе, к которой la гериЬЫгса inclina9.
ι. Высшая исполнительная власть (итал). — Прим. ред.
2. Ibid. Р. 103: «...quella parte dove la repubblica inclina, viene ad esser più
potente ehe Paîtra; e perô facilmente puô opprimere gli insulti ehe le fossero
fatti; e perché quella potenza ehe ha nasce dalla forma délia repubblica, perô
443
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
Следующий этап-—решить, кто должен стать
доминирующей группой, grandi или popolo (вариант, когда немногие и
многие зависят от одного, Джаннотти не считает актуальным для
своего времени, хотя полагает, что в дореспубликанском Риме
он служил залогом стабильности). Он пространно
аргументирует выбор в пользу народа, во многом аналогично
Макиавелли, и нам необязательно останавливаться на всех его
доводах. Римским порядкам вынесен обвинительный приговор,
но возникают некоторые существенные неувязки. Если люди
считают, что какой-то конкретный человек притесняет их, то
мчатся к его дому и мстят за себя, сжигая его жилище, — так,
по крайней мере, происходит во Флоренции. Однако, если они
понимают, что причиненная им несправедливость
происходит от неправильного распределения власти, они призывают
к правовым и институциональным реформам, которые бы
обеспечили им большую справедливость и участие в управлении.
Понятно поэтому, почему борьба между сословиями в Риме
была относительно бескровной до Гракхов и обеспечила
расширение прав плебеев1. Это замечание явно перекликается
se la parte contraria si reputa ingiuriata, non l'imputa alla fazione awersa
ma alla forma délia repubblica. Ε perché la repubblica è temperata in modo
ehe non vi è adito a rovinarla, pero è necessato ehe viva quieta; onde in taie
repubblica non puo nascere alterazione alcuna. È ben da notare ehe quando
io dico ehe la repubblica deve inclinare in una parte, non dico ehe quella
parte abbia sola ï'imperio, e l'ai ira sia esclusa dall'amministrazione, ma ehe
Puna abbia роса dependenza e l'altra assai. <...> Concludendo adunque dico
ehe è necessario ehe una repubblica inclina ad una parte, a volere ehe sia
diuturna e viva sempre senza alterazioni civili»; «...та часть, y которой в
республике перевес, получает больше власти, чем другая, и с легкостью
сможет противодействовать наносимым ей оскорблениям, и
поскольку власть, которой она обладает, проистекает из формы республики,
если противоположная сторона считает, что с ней обошлись
несправедливо, то она обвиняет в этом не другую часть, а саму форму
республики. И поскольку республика уравновешена таким образом, что
нет возможности ее разрушить, она будет жить в мире;
следовательно, в такой республике не может быть нарушений порядка. Нужно
отметить, что, когда я говорю, что республика должна иметь перевес
в одну сторону, я не утверждаю, что у этой стороны должна быть вся
власть, а другая должна быть отстранена от власти, но что у одной
должно быть мало влияния, а у другой — много. <...> В заключение
скажу, что перевес в одну сторону необходим республике для
долговечности и существования без гражданских нарушений».
I. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 107-108: «...se possono apporre la cagione
délie ingiurie ricevute a qualche particolare, subito li corrono a casa, e coll'
armi e col fuoco si vendicano, siccome in Firenze molte volte si trova essere
awenuto. Ma se tali cagioni nascono dalPordinazione della repubblica, talché
a nessuno particolare si possano applicare, allora i popolari, non avendo
contro a chi voltare l'ira sua, si separano da' grandi, e chieggono о legge
444
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
с аргументами Макиавелли относительно благотворных
последствий борьбы в Риме, которые в других случаях Джаннот-
ти стремился опровергнуть. В одном месте мы читаем: если бы
после изгнания Тарквиния сенат был поставлен в зависимость
от народа, а не наоборот, народ не страдал бы от
несправедливости. Сенат был бы слабее народа, обстановка в Риме
стала бы более спокойной и он избежал бы тех распрей, которые
в конечном счете его разрушили. Республика была бы вечной,
а ее господство stabtlissimo1. Рим, который Макиавелли считал
народным государством, Джаннотти, как и Гвиччардини,
рассматривал скорее как неустойчивую аристократию. Некоторые,
добавляет он — явно подразумевая Макиавелли, —
утверждают, что Рим не смог бы расшириться (crescesse) без
гражданских распрей. Впрочем, это справедливо только в отношении
Рима с его устройством, и можно предположить, что он
гораздо эффективнее расширялся бы без них, если бы его режим
был народным2. Но Джаннотти уже отметил, что расширение
территории — необязательный для вооруженного народного
государства признак. Возникает ощущение, что ему трудно
выйти из тени Макиавелли — хотя бы потому, что он
пытается обосновать точку зрения, настолько схожую и одновременно
о magistrate» per lo quale si possano difendere ed ottenere la loro ragione;
e questo fu grandissima cagione ehe ne' tumulti del popolo Romano contro
al senato, non si venne mai al sangue de' cittadini, insino ai Gracchi; perché
le ingiurie ehe pativano i popolari non da' privati cittadini, ma dalla forma
della repubblica nascevano, e percio l'ingiuriati non de' cittadini ma delPordine
della repubblica si potevano lamentare; onde aweniva ehe nelle sowersioni
non chiedeva altro ehe qualche legge о qualche magistrato, per virtu della
quale si difendesse, e la potenza de' pochi si venisse ad abbassare, ed essi
piu della repubblica partecipassero»; «...если кто-то считает, что какой-то
частный человек совершает по отношению к ним несправедливость,
они мчатся к его дому и мстят за себя, сжигая его жилище, как это
неоднократно происходило во Флоренции. Но если причины этой
несправедливости заключаются в устройстве республики, то невозможно
обвинить конкретного частного человека, и тогда простой народ, не
зная, против кого направить свой гнев, отводит внимание от грандов
и ищет закон или магистрата, которые могли бы его защитить и
восстановить справедливость; и это была важнейшая причина того, что
в борьбе римского народа против сената кровь граждан не
проливалась вплоть до Гракхов, ведь притеснения, от которых страдал
народ, исходили не от частных лиц, а от самого устройства республики,
и поэтому и жаловаться они могли не на людей, а на общественное
устройство; таким образом, при беспорядках они прибегали к
помощи законов и должностных лиц, пытаясь посредством их
защититься, и власть немногих становилась все слабее, и они принимали все
больше участия в делах республики».
ι. [устойчивым (итал). — Прим. ред.] См.: Ibid. Р. 114-115·
2. Ibid. Р. 115-нб.
445
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
несхожую с его позицией, — вооруженное народное государство
без Рима, Венеция без ее аристократов и наемников.
Развитие аргументов Аристотеля и Макиавелли в пользу
превосходства popolo удается Джаннотти лучше. В общих
чертах1 они состоят в том, что немногие стремятся властвовать —
желание, легко оказывающееся разрушительным для общего
блага. Libéria, которую многие хотят сохранить, — такое
положение дел, при котором каждый на законных основаниях
пользуется тем, что имеет, — близка к тому, чтобы ее саму
считали общим благом. Более того, немногие властвуют, а многие
подчиняются — то есть подчиняются законам, а не немногим.
Тому, кто умеет повиноваться закону, легче научиться
властвовать, чем тому, кто стремится все время властвовать,
научиться подчинять свою волю закону. Привычка повиноваться
множеству разных законов делает многих рассудительными, чего
часто не хватает немногим, чьи страсти в меньшей степени
ограничены. Практический опыт и книжная ученость —
источники рассудительности, понятой как обладание
информацией, — так же доступны popolari, как и grandi*. Поскольку первые
численно превосходят последних, то «можно с большой долей
вероятности предположить, что в совокупности они проявят
больше рассудительности»3.
Джаннотти формулирует демократическую теорию prudenza.
Вместо того чтобы наделять ею элиту, которая погружается
в служение обществу, стремясь к опоге, он приписывает ее тем,
кто соблюдает законы. Они разделяют с другими свой опыт,
страдают от несправедливости, сами не являясь ее причиной.
Они реагируют на ситуацию, сообща думают о мерах в
пользу общества, а не пытаются отомстить своим врагам, как это
свойственно аристократии. Заинтересованность многих в libertà
означает, что они лучше вписываются в политическую
структуру, более склонны признавать публичную власть законной,
нежели честолюбивые немногие. Последний и наиболее сильный
i. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 104-116.
2. Ibid. P. no: «Quanto al leggerle, cosi le puô leggere un popolare come un
grande; e la pratica non veggio maggiore nell'una parte ehe nell'altra...»;
«Что до чтения их, то оно доступно простолюдину в той же мере, что
и гранду, и практический опыт обеих сторон мне видится
сопоставимым...».
3- Ibid. Р. ш: «...perché i popolari fanno molto maggiore numéro ehe i grandi,
si puô probabilmente dire ehe facciano maggiore aggregato di prudenza...»;
«...поскольку народ гораздо многочисленнее грандов, можно с большой
долей вероятности предположить, что в совокупности его
представители проявят больше рассудительности...».
446
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
довод: в городе, где много popolari или mediocri, было бы
насилием подчинить их власти grandi1.
Оставшуюся часть третьей книги занимает подробный
анализ идеальной конституции. Мы знаем, что речь идет о governo
mistOy многими своими особенностями обязанное Венеции.
Посредством сочетания различных типов власти оно
удовлетворяет ожиданиям тех, кто ищет grandezza, опоге и liberté.
Полномочия каждой группы должны сохранять автономность, но
один из видов власти — власть тех, кто стремится к liberté,
то есть народа, — получит преимущество перед другими.
Народ будет менее зависим от остальных групп, чем они от него.
Джаннотти упоминает еще четыре разновидности власти, или
функции, составляющие vigore или nervo правления и
принадлежащие тому индивиду или группе, которым отводится роль
signore. У современных читателей signore, скорее всего, вызовет
ассоциацию с сувереном, а суверен едва ли вписывается в схему
гармоничного распределения полномочий, лежащую в основе
governo mistOy даже такую утяжеленную, какую рисует
Джаннотти. Поэтому, пытаясь соотнести друг с другом эти концепции,
мы имеем дело с неразрешенной проблемой, с которой,
видимо, не смог совладать и Джаннотти.
Джаннотти начинает с утверждения, что республика
должна состоять из трех основных элементов, но что, как в
Венеции, ей требуется и четвертый. Речь идет о Коллегии, которая
располагается между сенатом и гонфалоньером (или
герцогом) и удовлетворяет стремления тех, кто ищет grandezza,
приближая их, насколько возможно, к высшей власти, доступной
лишь одному человеку8. Члены Коллегии должны быть скорее
ι. Ibid. Р. пб.
2. Ibid. Р. 117: «Per il consiglio adunque si soddisfa al desiderio délia libertà;
per il senato all'appetito delPonore; per il principe al desiderio del principato.
Resta di trovar modo di soddisfare a chi appetisce grandezza, non potendo
piu ehe uno ottenere il principato. Bisogna adunque collocare un membro
tra il senato ed il principe, e questo sarà un aggregato d'alcuni magistrati,
i quali col principe consiglieranno, ed eseguiranno le faccende grandi dello
stato e délia città... e questo membro si puo chiamare, se vogliamo imitare
i Veneziani, il collegio»; «Совет удовлетворяет желание свободы,
сенат— желание почестей, должность государя — желание власти.
Остается найти способ удовлетворить тех, кто жаждет величия и не может
стать государем, ведь их не может быть больше одного. Тогда нужно
создать что-то между сенатом и государем, и это будет объединение
нескольких должностных лиц, которые станут советниками
государя и будут приводить в исполнение важные государственные и
городские дела... и этот орган можно назвать, по примеру венецианцев,
коллегией».
447
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
магистратами, чем советниками, — каждый из них должен
отвечать за отдельные функции, связанные с вопросами войны
(Совет десяти), правосудия {procuratori) и так далее. Кроме того,
предполагается, что их отличает не только честолюбие, но
и интеллектуальные качества, возможно, включающие в себя
и опыт, но, безусловно, охватывающие оригинальность
мышления, активность и способность предлагать ту или иную
тактику. С одной стороны, таким образом обеспечивалось
взаимодействие между одним и немногими, между grandezza и опоге.
С другой, Большой совет (хотя его функция заключается в том,
чтобы поддерживать libertà и представлять popolari,
потребности которых этим ограничиваются) следовало открыть для
всех граждан, будь то grandi, mediocri или popolari, стремятся ли
они (можем мы добавить от себя) к grandezza, опоге или libertà.
На самом деле он должен состоять из граждан, считающихся
равными, и их число надлежит сделать фиксированным.
Затем Джаннотти объясняет, почему возникает категория plebei,
которым нет места в Совете: они не члены городского
сообщества и занимаются низкими ремеслами. Они чужеземцы, у
которых есть свои дома (он мог иметь в виду крестьян из
окрестных деревень). Джаннотти приводит достаточно пространное
обоснование, почему те, кто платит налоги, но не может
занимать магистратуры, должны входить в Большой совет1. По-
видимому, в необходимости относиться к этим non-beneficiatï1
как к гражданам его убедил опыт организации народного
ополчения 1528-1530 годов. В этом смысле интересен и, пожалуй,
1. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 118: «Il consiglio grande essere un aggregate»
composto di quei tre membri, i quali noi di sopra descriveremmo, cioè grandi,
mediocri e popolari; de' plebei non occorre far menzione, come ancora di
sopra dicemmo, essendo gente forestiera ehe vengono alla città per valersi
delle fatiche corporali, e ne vanno a casa loro, qualunque volta torna loro
a proposito. Quelli ehe io chiamai popolari (cioè quelli ehe sono a gravezza,
ma non sono abili a' magistrate) è necessario connumerare in detto consiglio,
perché sono poco meno ehe principal membro délia città per fare grandissimo
numéro, e per non potere la città senza quelli stare, e per mantenere la sua
grandezza»; «Большой совет — это объединение трех групп, которые
мы описали выше, а именно грандов, среднего сословия и простого
народа; плебеев не имеет смысла упоминать, как уже было сказано,
поскольку это иноземцы, которые приезжают в город зарабатывать
физическим трудом и уезжают обратно к себе домой, как только им
представляется возможность. Тех, кого я назвал простолюдинами
(то есть людей, платящих налоги, но не могущих быть избранными
на должности), необходимо включить в этот совет, потому что они
являются основной группой горожан в силу своей многочисленности
и город не может без них обойтись и сохранить свое величие».
2. Непривилегированные жители (шпал.).—Прим. ред.
448
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
характерен ход его мысли: доводы, которые он теперь излагает,
актуальны в ситуации, когда в городе нет войска — не в
меньшей мере, чем когда оно в нем находится. Если не
предоставить non-beneficiati — здесь он называет их popolari — доступ
к onori (участие в Большом совете, само собой, является опоге),
они не полюбят республику и не станут добровольно
участвовать в ее защите. Они будут склонны следовать за
отдельными лидерами, а в военные времена эти опасности усугубятся.
Несомненно, Аристотель осудил бы и Венецию, и Флоренцию
за неспособность вовлечь эту категорию людей в гражданскую
жизнь1. Конечно, Джаннотти понимает, что они должны иметь
право не только на членство в Совете, но и на все
разновидности магистратур и опоге, хотя признает, что при нынешнем
положении дел это вряд ли осуществимо. Никто, говорит он,
не равнодушен к величию и славе, если его не подавляют и не
угнетают, как было с французами, а необходимость
формирования состоящего из горожан войска выводит эту истину на
поверхность*. На этом этапе кажется, что класс тех, кто раньше
1. Ibid. P. нд-120: «...di qui nasce ehe i popolari amano piu molte volte un privato
ehe la repubblica, e per lui prendere l'armi contro alia patria, sperando avere
ad esse da quello arricchiti ed onorati. <...> Appresso, se Aristotile, il quale
ha trattato con tanta dottrina e sapienza de' governi di tutte le repubbliche,
entrasse in Venezia о in Firenze, dove vedesse d'una gran moltitudine d'uomini
non esser tenuto conto alcuno, salvo ehe ne' bisogni délia città, senza dubbio
si riderebbe di tali ordinazioni, avendo nel settimo libro della sua Politica
distribuiti gli ufficii della città convenienti a tutte le qualità degli abitanti
della medesima»; «...отсюда следует, что народ гораздо больше любит
отдельных людей, а не республику, и может пойти за отдельной
личностью, подняв оружие против отечества, надеясь таким образом
получить богатство и почести. <...> Потом, если бы Аристотель,
который с такой мудростью и знанием дела рассуждал о правлении всех
республик, попал в Венецию или во Флоренцию и увидел бы, что там
такое множество людей не участвуют ни в чем, кроме
непосредственных нужд города, он, несомненно, высмеял бы такое устройство, ведь
он в седьмой книге своей „Политики" распределил городские
должности между всеми жителями города».
2. Ibid. P. I20-I2I: «E se alcuno dicesse ehe questi popolari non sono ambiziosi...
questo curarsi (poco?) de' magistrati non è naturale, ma accidente, perche non
è uomo si misero ehe non desideri essere esaltato. Ma perché questi popolari
sono stati tenuti bassi dalla superbia dei grandi, percio son divenuti non
ambiziosi, siccome ancora ne' tempi nostri sono i Franzesi, i quali per essere
stati sbattuti dalla nobiltà loro, sono divenuti vilissimi. Non essendo adunque
naturale tal viltà di animo in questi popolari, non è da privarli de' magistrati,
e massimamente perché armandosi la città, diverriano subito desiderosi di
gloria come gli altri...»; «И если кто-то скажет, что народ лишен
честолюбия... то это отсутствие интереса к магистратурам объясняется не
природой, а обстоятельствами, потому что нет настолько
ничтожного человека, чтобы он не стремился занять более высокое положение.
Но поскольку эти простолюдины были угнетаемы высокомерными
449
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
назывался popolari и искал только libertà, исчез. Вероятно,
правильнее было бы сказать, что он стал открытым: это
категория, к которой могут относиться и в какой-то мере относятся
все люди, что никоим образом не противоречит
постоянному состязанию в virtù, которое определяет правящую элиту
и в котором могут участвовать все граждане. Джаннотти, как
и Гвиччардини, враждебна мысль, что претенденты на более
высокие должности должны удовлетворять каким-то
требованиям к состоянию и происхождению.
Теперь он открыто объявляет, что signore города — это
Большой совет, а значит, в его ведении должны находиться
«функции, являющиеся в республике главнейшими и заключающие
в себе всю власть государства»1. Как же подобную монополию
можно совместить с простым уменьшением подчинения в
рамках основанного на взаимозависимости порядка? Как мы
помним, функции, о которых идет речь, включают в себя избрание
должностных лиц, решение вопросов мира и войны,
рассмотрение апелляций, а также одобрение и издание новых законов.
Джаннотти находит обоснование для измененного варианта
венецианской модели, в соответствии с которым Совет
избирает всех должностных лиц, от сената и Коллегии до гонфа-
лоньера. Последнего избирают пожизненно, а членов сената,
решает он после некоторых раздумий и в противовес мнению,
выраженному им в «Письме к Каппони», надлежит ежегодно
переизбирать, не препятствуя при этом переизбранию на
повторные сроки. Это обеспечит стабильность элиты,
принадлежности к которой, однако, можно лишиться2. Но
принятие решений, касающихся мира и войны, должно
оставаться за сенатом... и, хотя его нельзя передать Совету, оно тем
не менее будет зависеть от последнего, потому что именно там
избирается решающий подобные вопросы сенат. Было бы,
пожалуй, хорошо, если бы при объявлении войны это решение
обсуждалось бы с Большим советом, как поступали римляне,
грандами, они потеряли свое честолюбие, подобно французам, которые,
будучи в наше время лишены своего благородства, стали ничтожными.
Таким образом, поскольку это ничтожество духа не заложено в нашем
народе от природы, не следует отстранять его представителей от
должностей, и это особенно понятно благодаря тому, что при создании
народного ополчения они желают славы так же, как и все остальные...».
1. Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 122: «...azioni le quali sono principali nella
repubblica ed abbracciano tutta la forza dello stato».
2. Ibid. P. 129-130.
45О
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
которые обычно спрашивали народ, есть ли его воля и
согласие на то, чтобы пойти войной на того или иного государя или
республику, но все последующие решения (accidenti) должны
оставаться за сенатом1.
Подобным же образом рассмотрением апелляций должен
заниматься особый вид магистратур, заимствованный у венецианцев
и носящий название Кварантии (Совета сорока). В этой связи
Джаннотти отмечает, что ngnore государства или города, чьей
proprietà по закону является эта функция, зачастую обнаруживает,
что собственноличное ее отправление отнимает у него слишком
много времени (можно предположить, что та же проблема
времени заставила Джаннотти освободить Совет от accidentia
связанных с войной). По этой причине Большой совет, как signore
Венеции, учредил Кварантию, а король Франции передал свою
судебную власть четырем parlements2. В таком случае можно
утверждать, что избирательные полномочия Совета
гарантируют dependenza3 от него судебных полномочий, равно как и
военных. Проблема заключается в страсти, с которой Джаннотти
1. Ibid. Р. 123: «Le deliberazioni délia расе е guerra abbiano a terminare nel
senate.. e quantunque elle non passino nel consiglio, avranno pure da lui la
dependenza, essendo da quelle· il senato, dove Phanno a terminare, eletto...
Saria forse bene, quando si ha a muovere una guerra di nuovo, vincere questa
prima deliberazione nel consiglio grande (siccome facevano i Romani, i quali
domandavano il popolo, se volevano e comandavano ehe si movesse guerra
a questo ed a quello altro principe о repubblica); dipoi tutti gli accidenti di
essa avessero a terminare nel senato».
2. Ibid. P. 157: «...è da notare ehe questo atto delPascoltare le provocazioni pare
ehe sia proprietà di quello ehe è signore dello stato e délia città: ma perché
chi è signore, о egli non vuole, о egli non puô se non con difïicoltà tal cosa
eseguire, perciô vediamo taie ufïîzio essere attribuito ad un altro giudizio
dagli altri separate Laonde perché in Francia il re non vuole, ed anco con
difïicoltà potrià occuparsi in tal faccenda, sono ordinati quattro parlamenti,
i quali odono e giudicano le provocazioni di tutto il regno. In Venezia, perché
il consiglio grande, ehe è signore di tutta la repubblica, non puô fare tale
efîetto, perché bisogneria ehe stesse tutto Гаппо occupato in tal materia (il ehe
saria impossibile rispetto alle faccende private) sono ordinate tre quarantie...»;
«...нужно отметить, что выслушивание прошений представляется
полномочием правителя государства и города: но поскольку правитель
или не хочет, или испытывает затруднения при исполнении этой
задачи, мы видим, что это поручается отдельному суду. По этой
причине король Франции, не желая или не имея возможности заниматься
этими делами, учредил четыре парламента, которые рассматривают
прошения всего королевства. В Венеции, поскольку Большой совет,
который является правителем всей республики, не может этим
заниматься, потому что он бы тогда весь год занимался только этим (что
невозможно в случае частных дел), были учреждены три Кварантии...».
3- Зависимость (лат.). — Прим. ред.
451
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
ранее доказывал, что город может быть свободным — то есть
верховная власть может принадлежать Совету — в плане
избрания должностных лиц, но несвободным в том, что касается
исполнения этими лицами своих обязанностей. Именно по этой
причине, если говорить о военных и судебных вопросах,
республики 1494 и !527 годов оказались жестокими и несвободными
правлениями. Недостаточно было сохранить за Советом — как
по-прежнему предполагал план Джаннотти — окончательное
одобрение законов, поскольку не предполагалось, что ими
можно регулировать военные и судебные функции.
Можно сгладить впечатление от постигшей Джаннотти
теоретической неудачи, напомнив, что с его точки зрения,
прежний произвол чиновников состоял не только в их
неподотчетности Большому совету, но и в том, что одни и те же люди
предлагали решения, принимали их и приводили в
исполнение1. Уже одного этого достаточно, чтобы среди них возникли
закрытые клики, ищущие собственной выгоды. Теперь он
возвращается к высказанному им прежде предложению разделить
consultazione и deliberazione и таким образом обеспечить
ответственность людей за выполнение своих функций друг перед
другом. Он подробно описал отношения сената с различными
группами, составляющими Коллегию. Как в «Письме к Каппо-
ни», он употребляет слова «немногие» для обозначения органа,
например Совета десяти, занимающегося consultazione, и
«многие»— для обозначения сената, принимающего решения на
основе предложений первого8. Впрочем, военные и судебные
вопросы не достигают Совета, поэтому невозможно
использовать термин «многие» в его обычном значении. Избрание
должностных лиц считается одним из четырех видов власти, а не
стоит особняком как высшая функция, определяющая
остальные три. Отсюда Совет нельзя рассматривать как signore,
который выполняет все четыре функции, а другого определения
signore у нас нет. Разумеется, можно утверждать — и это звучит
намного убедительнее, — что если Совет.избирает сенат,
Коллегию и гонфалоньера, он косвенно контролирует две из четырех
функций, которые не подведомственны ему непосредственно,
а потому намного меньше зависит от одного и немногих, чем
они от него. Но проблема до сих пор заключалась в
соотнесении представлений о меньшей dependenza с представлениями
ι. См. его критику установлений 1502, 1512 и 1527 годов: Ibid. Ρ 140-141.
2. См.: Giannotti D. Opère. Vol. II. P. 139-147 (в целом), 144-145 (в частности).
452
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
о signore, и нельзя сказать, что между ними был найден какой-то
компромисс, и тем более что им было дано какое-то
определение. Если мы увидим в предлагаемой Джаннотти теории signore
и его четырех функций примитивную попытку
сформулировать теорию суверенитета, мы можем добавить, что языковым
недоразумениям, возникавшим при упоминании суверенитета
в контексте смешанного правления и наоборот, суждено было
преследовать политические теории вплоть до Американской
революции и позже.
Джаннотти обладал независимым, живым и находчивым
умом, но ему недоставало той творческой непредсказуемости
гения, какую мы находим у Макиавелли. Можно сказать, что он
в какой-то мере олицетворяет характерный склад ума и
ограничения политической мысли гуманистов. Его оригинальность
заключается главным образом в идее, что virtù при смешанном
правлении являлась своего рода властью, и в сопряженной
с этой идеей попытке охарактеризовать четыре функции
правления, сосредоточение которых в тех или иных руках определяло
signore. Однако ему не удалось сконцентрировать эти функции,
и он вынужден был распределить их. В конечном счете
политическая мысль гуманистов была всецело поглощена идеалом
гражданской добродетели как свойством личности и в итоге
всегда переходила от установления институциональной власти
к установлению условий, обозначаемых как libertà, в которых
добродетель могла чувствовать себя свободно и избежать порчи
нравов. Наш анализ «Флорентийской республики», как и
«Рассуждений», следует завершить разговором о ее очевидном
вкладе в теорию коррупции. Порицание Джаннотти вызывает то
обстоятельство, что при режиме 1529-15З0 годов, выдержанном
в духе Савонаролы, братство святого Марка стало вмешиваться
в политику. Честолюбивые политические деятели стремились
во всеуслышание заключить с ним союз, чтобы пользоваться
большим авторитетом в глазах граждан. В этом, говорит он, не
меньше развращенности, чем в открытом подкупе избирателей
в Риме, — речь, так сказать, идет о попытке купить власть не
предназначенной для того монетой. В данном случае дело
обстояло еще хуже, так как подкуп по крайней мере признавали
злом, а если вы ополчались против лицемерия, вас объявляли
врагом Иисуса Христа1. Гуманистическую политическую мысль
I. Ibid. Р. 194_199 (особенно Р. 196): «Questo modo di vivere ehe tengono
questi ehe fanno professione di religione, conversando coi frati di San Marco
e continuando simulatamente l'orazione e la comunione, senza dubbio
453
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
отличали рассуждения такого рода, и именно под таким углом
она рассматривала власть. Свобода, добродетель и коррупция,
а не распределение власти были ее главной заботой.
Нельзя даже однозначно утверждать, что Макиавелли
служил исключением. Когда мы завершаем последний этап
флорентийской политической теории, наиболее ярким нашим
впечатлением должна остаться непрерывность, по существу,
аристотелевской республиканской традиции, от которой
Макиавелли, по мнению его друзей (бывших друг другу врагами),
не слишком далеко ушел. Конечно, мы можем указать места
в его рассуждениях, где он радикально отходит от
средневекового понятия телеологически определенной человеческой
природы. Зачастую он, по-видимому, исходит из идеи — хотя
и не опирается на нее явно и непосредственно, — что люди
созданы, дабы быть гражданами, и что преобразование их
природы в этом направлении может подвергнуться порче, но
не может обратиться вспять. Государь не способен сделать
людей другими. Весьма примечательно, что наиболее
революционные аспекты его мысли — те, в которых человек предстает
как наиболее динамичный и не зависящий от своей природы
субъект, — не привлекли к себе внимания его друзей.
Предложенная Гвиччардини концепция гражданской жизни остается
концепцией virtù, полной, несмотря на свой реализм,
аристотелевских терминов и посылок. У Джаннотти мысль, что
природа человека есть природа гражданина, высказана напрямую,
с прямой ссылкой на Аристотеля, но он останавливается перед
следующим шагом, сделанным Савонаролой. Республиканской
традиции предстояло развиваться именно в русле Аристотеля
и гражданского гуманизма. Макиавелли как историческая
фигура, к которой обращались такие теоретики, как Харрингтон
è pessimo nella nostra città; perché egli fa il medesimo effetto ehe facevano
in Roma le largizioni. Ma questi è ancora molto peggiore, perché dove le
largizioni si potevano in qualche modo correggere, a questa cosi fatta vita
con difiïcoltà si trova rimedio; perché chi ragionasse di proibire questi modi
di vivere, parrebbe ehe volesse vietare agli uomini il bene operare, e sarebbe
ributtato non altrimenti ehe un pessimo nemico nella fede di Cristo»;
«Образ жизни тех, кто ударяется в напускную религиозность, беседует
с монахами братства святого Марка, лживо молится и
причащается, несомненно, пагубен для нашего города, потому что он приводит
к тем же последствиям, что и открытый подкуп избирателей в Риме.
Но эти еще гораздо хуже, потому что если подкупу можно было как-
то противодействовать, этим действиям трудно противостоять, ведь
если попытаться запретить вести такую жизнь, это будет выглядеть
как запрет вершить благие дела, за который вас сочтут злейшим
врагом христианской веры».
454
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
и Адаме, вполне успешно вписался в это русло. Упрямство
флорентийцев, сохранявших моралистический в своей основе
интерес к проблемам свободы и коррупции, скорее укрепило
традицию, к которой они принадлежали, чем воспрепятствовало
ее развитию. Политика по-прежнему представала как создание
условий, в которых люди могут свободно проявлять
добродетель в своих действиях.
Кроме того, пример Джаннотти демонстрирует, насколько
аристотелевская политическая теория как инструмент
анализа и объяснения оказалась восприимчива к теориям,
сформулированным на основе ее ключевых идей. Теория круговорота
Полибия, доктрина Макиавелли о народном ополчении,
венецианская модель (а не миф) — все это Джаннотти упоминает,
рассматривает, но в конечном счете скорее использует, чем
делает своим ориентиром. Он обращается к упомянутым
аргументам в поддержку аристотелевского по сути своей метода
категоризации элементов, составляющих город, и для
демонстрации того, как их взаимодействие приводит к стабильности,
неустойчивости или изменению в политии. Классический
республиканизм, представителем которого еще оставался Джон
Адаме, был в первую очередь ренессансной интерпретацией
политической науки, изложенной в «Политике» Аристотеля,
хорошо подходившей для рассмотрения общественных
феноменов XVII и XVIII веков. Однако для Джаннотти она,
вероятно, была прежде всего важна своей способностью объяснять
конкретные события и характеристики городов. В итоге
«Флорентийская республика» представляет собой отчасти успешную
попытку показать, как венецианские механизмы и стоящие
за ними принципы могут использоваться в разработке
другого типа правления в совершенно иных условиях, присущих
Флоренции. Мы наблюдали, как, применяя аристотелевские
категории причинности и политической композиции,
Джаннотти смог предложить историческую интерпретацию
флорентийской обстановки и сделать прогноз на будущее. Даже
будучи ошибочными, его доводы в значительной мере
развеяли облако тайны, окутывавшее конкретные исторические
явления. Он меньше, чем Савонарола или Макиавелли, зависит
от понятий обычая, Провидения или fortuna, когда пытается
объяснить, как Флоренция стала такой, какая она есть, и что
ее может ождать дальше. В отличие от Савонаролы или его
эпигонов 1529-15З0 годов, Джаннотти не ожидает чуда. Он
видел, на что способна, а на что не способна их вера. В отличие
455
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
от Макиавелли, он не чувствует, насколько отчаянно трудно
действовать творчески перед лицом fortuna и какие почти
чудесные качества требуются, дабы преуспеть в этом.
Несомненно, с этим во многом связан его выбор в качестве источника
принципов организации рациональной Венеции, а не
динамичного Рима1. Его теория хорошо сформулирована, и он
относительно уверен в ее практической применимости.
Если бы Гвиччардини когда-нибудь прочел
«Флорентийскую республику», он заметил бы язвительно, что ее автору
так и не довелось воплотить свои теории в жизнь. Конечно,
разбирая приводимые Джаннотти доказательства, что режим
начала I53°~x годов не имеет шансов устоять, грустно думать,
что этот умный человек на протяжении еще сорока лет своей
жизни наблюдал, насколько он заблуждался (Гвиччардини по-
своему не меньше ошибался на счет того же режима). В данном
исследовании нас интересует не столько способность авторов
давать точные прогнозы, сколько способность идей
расширять парадигматический словарь определенной цивилизации.
С этой точки зрения неудачное предсказание можно
использовать повторно. Джаннотти нашел аристотелевский
политический анализ сложным и достаточно убедительным. Он
решил, что в какой-то мере понимает, как события происходят
во времени, и поэтому его мысль сосредоточена не на
эсхатологических ожиданиях, как у Савонаролы, и не на innovazione
и оссапопе, как у Макиавелли. Время не на первом плане. Текст
завершается — так же, как «Государь» и «Диалог об
управлении Флоренцией», — разделом о проблемах практической
I. Впрочем, см.: Giannotti D. Opère. Vol. IL P. 255-256: «Conchiudendo adunque
dico ehe tal forma di repubblica délia nostra città non potrebbe patire alcuna
intrinseca alterazione: e per virtù délia milizia nel sopradetto modo ordinata,
si difenderebbe dagli assalti esterni, e se la fortuna concedesse a questa
repubblica colle sue armi armata una sola vittoria, acquisterebbe la nostra
città sola tanta gloria e reputazione ehe toccherebbe il cielo; e non saria
maraviglia alcuna se Firenze diventasse un'altra Roma, essendo il subbietto
per la frequenza e natura degli abitatori, e foFtezza del sito, d'un imperio
grandissimo capace»; «В заключение я скажу, что такое устройство
республики в нашем городе не могло бы никак нарушиться изнутри,
а благодаря вышеупомянутому способу устройства войска мы бы
защищались от внешних нападений, и если фортуна позволит этой
республике одержать хоть одну победу с помощью своего оружия,
наш город приобрел бы такую славу, которая приблизила бы его
к небесам, и будет не удивительно, если Флоренция станет новым
Римом, ведь она в силу природы своих жителей и благоприятного
местоположения способна достичь власти над огромной
территорией». Здесь Джаннотти приближается к ходу мысли как Савонаролы,
так и Макиавелли.
456
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
реализации, который нам сейчас кажется почти обязательным
элементом политической речи1. Подобно Макиавелли и Гвич-
чардини, Джаннотти анализирует случаи, в которых
республика может быть построена на надежных основаниях, и типы
людей, которые способны это сделать. Однако его мысль
обращена к флорентийской действительности, и в силу того
обстоятельства, что он пишет в изгнании и в период тирании,
сказать ему, как он и сам сознает, почти нечего. Лишь
освободитель (как Андреа Дориа в Генуе) может стать законодателем
Флоренции, а об освободителе мы можем сказать только, что
он либо придет, либо нет. Другие — по-видимому, включая
Макиавелли— хорошо написали о комплотах и сговорах, и он
научился всему, что можно узнать об occasione для свержения
правлений. Наше дело — изучать теорию их установления,
поскольку лучше мы будем недовольны Судьбой, которая так и не
послала нам освободителя, чем она нами, если бы мы не
знали, что делать, когда он пришел8. В заключительных словах
своего трактата Джаннотти принимает роль теоретика в
изгнании и еще раз подтверждает реалистичность своего
отношения ко времени и к fortuna. Он не заблуждается
относительно трудностей практического действия, как он не считает, что
сложности разрешимы только неким чудесным образом
(Макиавелли, которого часто упрекали в излишнем реализме, на
деле ближе ко второму тезису). Когда он признает господство
1. Книга III, глава 8 (последняя): Ibid. Р. 258-269.
2. Ibid. Р. 269: «Saria ben necessario esser accorto nel prender l'occasione; perché
questa è quella ehe ha le bilance delle faccende umane e tutte quelli ehe in
tal cosa non usano prudenza grandissima sono costretti a rovinare. Ma di
questa materia non è da parlare, perché appartiene delle congiure, la quale
è stata da altri prudentissimamente trattata. Conchiudendo adunque dico ehe
questi sono i modi per i quali alcun cittadino potrià гесаге si gran benefizio
alla nostra città; e benché la malignità délia fortuna abbia oppressati quelli
ehe hanno questi modi seguitati, non è pero da disperare... acciocché la città
nostra s'abbia piu tosto a lamentare délia fortuna per non avère mostrato
mai alcuna intera occasione, ehe ella délia città, per non v'essere stato chi
l'abbia saputa conoscere e pigliare»; «Очень важно вовремя поймать
случай, потому что именно он управляет весами человеческих дел и все
те, кто в этих вещах не руководствуется величайшим благоразумием,
обречены на гибель. Но об этом мы не будем говорить, потому что
это область заговоров, которую другие авторы очень разумно
описали. Итак, в заключение я скажу, что это те способы, которыми
гражданин может принести огромную пользу нашему городу, и хоть
дурное расположение фортуны привело к падению тех, кто эти способы
использовал, это не повод отчаиваться... пусть лучше город наш
жалуется на фортуну за то, что та не предоставила ему ни одного
хорошего случая, чем фортуна на город за то, что тот не сумел распознать
случай и воспользоваться им».
457
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
fortuna, он хочет сказать лишь, что всегда есть вещи, которые
нам неподвластны.
Если во многом по этой причине Джаннотти предпочитает
Венецию Риму и не принимает концепцию динамичной virtù
Макиавелли, по той же причине он не изображает Венецию как
чудо или миф. Проблема времени не представлялась ему так,
чтобы решить ее могло только венецианское чудо. По его
мнению, цель законодательства — и его собственного проекта для
Флоренции — заключается в том, чтобы заложить основание
конституции, которое будет устойчивым. Джаннотти был
глубоко восхищен успехом Венеции, достигшей почти нерушимой
стабильности. Однако rnito di Venecia предполагал убежденность,
что такую стабильность может обеспечить лишь удивительная
мудрость и что Венеция добилась чуда благодаря искусности
и изобретательности многих. Первую мысль Джаннотти не
разделял и не воспроизводил аргументы о Полибиевом
равновесии или о секретах венецианской избирательной системы как
чудесном решении проблемы устойчивой длительности. Уже
хотя бы то обстоятельство, что он применял венецианскую
модель к проблеме достижения подобного же успеха в
совершенно иных условиях Флоренции, вынуждало его
рассматривать успех Венеции как феномен, обусловленный комплексом
причин. Благодаря своему по преимуществу аристотелевскому
понятийному аппарату он располагал столь
многочисленными способами определения различных условий, что не смог
воспринять эту проблему как апокалиптическую, а ее
решение— как чудесное или простое. Проблема обеспечивающего
устойчивость законодательства требовала сложных решений,
и со временем их можно было сформулировать. В обоих
главных произведениях Джаннотти изложение венецианской
истории хотя и выступает в качестве своего рода антитезы
истории Рима у Макиавелли, в то же время является изложением
сложного исторического процесса.
Однако мы видели, что республиканская теория — это, по
сути, аристотелевская политическая наука, избирательно
упрощенная за счет резкого акцента на проблеме осмысления
времени. От этого акцента можно было постепенно отойти и
попасть в новый мир понятий с таким богатым языком, что на
первый план выходил потенциал действия, а проблема
времени отступала в тень. Но в равной мере можно двигаться
в противоположном направлении, к той точке, где решением
проблемы представляются божественная благодать, появление
458
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
нового Ликурга или достижение чудесного равновесия. В силу
того, что эпоха Возрождения была одержима идеями времени
и фортуны, а Венеция олицетворяла последнее из
перечисленных решений, mito di Venezia не терял своей актуальности.
Немифическое описание Джаннотти стало одним из
классических образцов литературы, создавшей mito. Теперь следует
рассмотреть современный ему и не менее знаменитый
трактат Гаспаро Контарини, где мифический элемент выражен
намного сильнее.
III.
В точности не известно, когда венецианский аристократ и
церковный деятель Контарини написал трактат «О магистратах
и устройстве Венецианской республики»1, вероятно, между
двадцатыми и тридцатыми годами XVI века. Он был напечатан
только в 1543 Г°ДУ> после чего книга стала известна всей
Европе и много раз переиздавалась. Она пользовалась большей
популярностью, чем «Венецианская республика» Джаннотти.
В то же время, это произведение менее насыщенно в
содержательном смысле, менее технически структурированно в том,
что касается анализа венецианских магистратур и их
истории. В отличие от незавершенного трактата Джаннотти,
работа Контарини окончена, и ее автор нашел возможность
изложить свою философию правления в контексте венецианской
темы. Книга Контарини оставила заметный след во многих
странах, поэтому имеет смысл цитировать ее на английском
языке в переводе Елизаветинской эпохи, выполненном
Льюисом Льюкенором и опубликованном в 1599 Г°ДУ-
Язык Контарини с самого начала панегирический: по его
словам, Венеция как с физической, так и с политической точки
зрения «кажется избранной бессмертными богами, а не людьми»2.
Однако для него важно именно то, что Венеция — произведение
1. Вероятно, около 1522-1525 годов. См.: Gilbert F. The Date of the Composition
of Contarini's and Giannotti's Books on Venice.
2. Контарини Г. О магистратах и устройстве Венецианской республики /
Пер. М.А. Юсима. СПб., 2013. С. 50; The Commonwealth and Government of
Venice. Written by the Cardinall Gasper Contareno and translated out of Italian
into English by Lewes Lewkenor. London, 1599. P. 2: «rather framed by the
hands of the immortal Gods, than any way by the arte, industry or inuention
of men». Латинский текст дан по изданию: Contarini G. De Magistratibus
et Republica Venetorum. Paris, 1543. P. 1: «...deorum immortalium potius
quam hominum opus atque inuentû fuisse».
459
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
человеческого искусства, и прежде всего людской добродетели.
Следуя направлению мысли, открытому флорентийцами, но
получившему широкое распространение среди венецианских
авторов, он утверждает, что добродетель может проявляться
либо в гражданской, либо в военной жизни, и хотя последняя
достойна славы и необходима, добродетель должна
существовать лишь ради первой. Оставаясь в русле традиционной
аристотелевской и христианской мысли, он настаивает, что войне
надлежит кончаться миром. Кроме того, как итальянец,
пишущий в духе гражданского гуманизма, он объясняет, почему
венецианская virtù подразумевает использование наемников, в то
время как граждане остаются не вооружены. Для Льюкенора,
снабдившего книгу собственным комментарием в форме
предисловия, этот парадокс — а он казался ему не менее
поразительным, чем венецианцу, — составлял часть того чудесного
способа, благодаря которому политические механизмы
Венеции осуществляли контроль над всеми сферами гражданской
жизни — как с точки зрения разума, так и с позиции морали.
Более того, здесь есть нечто, что, как может показаться, идет
совершенно вразрез с привычными установлениями, а именно
что невооруженные, одетые не по-военному люди столь
благополучно отдают распоряжения и указания сильным и
воинственным армиям... и что гражданам в длинных одеяниях угождают
и приглашают на приемы величайшие правители и вельможи
Италии; среди них в изобилии процветает бесконечная слава
и неизмеримая мощь власти, суверенно соучаствуют в коих
около трех тысяч дворян, но не найти ни одного из них, кто
стремился бы к более высокой чести...1.
Контарини не заходит так далеко, как его переводчик.
Впрочем, он объясняет позднее: гражданское общество Венеции
сложилось в условиях удаленности от terra firma2, а потому и от
ι. «Besides, what is there that can carrie a greater disproportion with common
rules of experience, the that unweaponed men in gownes should with such
happinesse of successe give direction & law to many mightie and warlike
armies... and long robed citizens to bee serued, yea and sued unto for
entertainment by the greatest princes and peers of Italy; amidst which infinit
affluence of glorie, and unmeasurable mightinesse of power, of which there are
in soueraignty partakers aboue 3000 gentlemen, yet is there not one among
them to bee found that doth aspire to any greater appellation of honour...»
(The Commonwealth and Government of Venice. Sig. A3).
2. «Твердая земля» (лат.). Материковые владения Венеции.—Прим. ред.
4бо
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
военной жизни (как большинство тех, кто писал об этом, он не
считает, что власть на море представляет какие-либо
затруднения для гражданской жизни), затем город наконец
превратился в сухопутную силу, и было решено, что гражданам лучше
не заниматься военным делом. Они опасались, что
такое обыкновение жить на материке и отсутствие в городе,
естественно, привели бы к отчуждению этой группы от
прочих граждан, и венецианское общество вскоре неизбежно
оказалось бы разделенным и втянутым в гражданские войны. <...>
Чтобы этот недуг не укоренился в Венеции, наши предки
сочли достаточным поручить защиту материковых владений
чужеземным наемным солдатам, а не венецианцам. Жалованье
им полагалось выплачивать из налогов отдельных провинций,
ибо воины, приглашенные для их защиты, по справедливости
должны и жить за их счет1.
Однако он не имеет в виду, что военная и гражданская
доблесть по определению несовместимы или что первая остается
в автоматическом подчинении у второй, в силу давнего
венецианского установления. Это проявление добродетели,
которую Контарини считает присущей венецианской аристократии
в целом. В отрывке, который многое говорит тому, кто знаком
с флорентийской мыслью, он подкрепляет это утверждение
уже знакомыми аргументами: у Венеции никогда не было
законодателя; перед законодателем, имеющим дело с теми, кто
I. Контарини Г. О магистратах и устройстве Венецианской республики.
С. 146; The Commonwealth and Government of Venice. P. 130: «this their
continual fréquentation of the continent, and diuorcement as it were from
the ciuile life, would without doubt haue brought forth a kinde of faction
different and disioyned from the other peaceable Citizens, which parcialitie
and dominion would in time have bred ciuile warres and dissentions within
the City. <...> To exclude therefore out of our estate the danger,or occasion
of any such ambitious enterprises, our auncestors held it a better course
to defend their dominions vppon the continent, with forreign mercenarie
souldiers, than with their homeborn citizens, & to assigne them their pay
& stipende out of the tributes and receipts of the Prouince, wherein they
remained...» ; Contarini G. De Magistratibus et Republica Venetorum. P. 100-
101: «Haec vero frequens consuetudo cotinentis, ac intermissio urbanae, factione
quandam ciuium paritura facile fuerat ab aliis ciuibus disiuncta: quapropter
proculdubio res Veneta breui ad factiones et ad bella ciuilia deducta fuisset.
<...> Ne ergo huiusmodi quispiam morbus in Venetam ciuitatem obreperet,
satius esse maiores statuerunt, ut continentis Imperium externo ac conducto
milite quam Veneto defenderetur. Stipendiu uero illi statuit ex uectigalibus
totius prouinciae. Aequu enim erat eius regionis impensis militem uiuere, qui
ad earn tuendam accersitus fuerat...».
461
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
менее добродетелен, чем он сам, стоит трудная задача; о
ранней истории города сохранилось мало свидетельств. Джаннот-
ти недоумевал, как некогда венецианцы без чьей-либо помощи
смогли изобрести устойчивый порядок. Контарини же
предпочитает не искать объяснение этой загадке, а с гордостью
констатировать ее.
В Афинах, Лакедемоне и Риме некоторые граждане отличались
добронравием и любовью к общему благу, но вследствие своей
малочисленности в окружении толпы они не могли как следует
послужить отечеству. Наши же предки, оставившие нам в
наследство столь славное государство, все как один ревностно
пеклись о его укреплении, о расширении его границ, почти
не думая о собственных интересах и почестях. Каждому будет
понятно, что венецианцами двигало не честолюбие, а лишь
забота о пользе отечества, судя по тому, что в Венеции нет или
очень мало древних монументов, хотя граждане и в городе, и за
его пределами совершали великие подвиги и благодаря
заслугам снискали уважение в республике. Но здесь нет надгробий,
конных и пеших статуй, корабельных ростров или знамен,
отнятых у врагов в жестоких битвах1.
I. Контарини Г. О магистратах и устройстве Венецианской республики.
С. 54> The Commonwealth and Government of Venice. P. 6: «There were in
Athens, Lacedaemon and Rome, in sundry seasons sundry rare and vertuous
men of excellent desert and singular pietie towards their country, but so fewe,
that being ouerruled by the multitude they were not able much to profit the
same. But our auncestors, from whome wee have receyued so flourishing
a commonwealth, all in one did vnite themselues in a consenting desire to
establish, honour and amplifie their country, without hauing in a manner
any the least regarde of their owne priuate glorie or commodity. And this
any man may easily coniecture... in regarde that there are in Venice to
bee found none, or very few monuments of our auncestors, though both
at home and abroad many things were by them gloriously atchieued, and
they of passing and singular desert towards their countrie. There are no
stately tombes erected, no military statues remaining, no stemmes of ships,
no ensignes, no standards taken from their enemies, after the victory of
many and mighty battailes...»; Contarini G. De Magistratibus et Republica
Venetorum. P. 5-6: «Fuere Athenis, Lacedaemone, ac Romae nonulli ciues
uitae probitate, atq: in Rempub. pietate insignes uiri, sed adeo pauci, ut
multitudine obruti, non multurn patriae rei profuerint. At maiores nostri,
a quibus tam praeclaram Rempub. accepimus, omnes ad unum consensere in
studio patriae rei firmandae et amplificandae, nulla prope priuati commodi et
honoris habita ratione. Huiusce rei coniecturam facere quiuis facile poterit...
q: nulla, aut admodu pauca antiquoru monumeta Venetiis extent: alioquin
domi forisq: praeclarissimorum hominu, et qui de Rep. bene meriti fuerint,
non sepulchra, no équestres aut pédestres statua, no rostra nauiu, aut uexilla
ab hostibus direpta, ingentibus praeliis superatis».
462
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
Такова была необыкновенная доблесть духа, которая
позволила им создать нашу республику; подобного никогда не было,
если даже сравнить ее с самыми знаменитыми государствами
древности. Дерзну утверждать, что и в сочинениях выдающихся
философов, которые, согласно своим душевным склонностям,
обрисовали устройство государств, не было столь правильно
организованной и представленной республики1.
Флорентийским мыслителям было очевидно, что честолюбие
и стремление к опоге и chiarezza служили стимулом для любой
гражданской аристократии и что задача правления — уберечь
эту жажду почестей от перверсии. Джаннотти полагал, что
можно сделать вид, будто это стремление удовлетворено, при этом
поставив его в зависимость от согласия других граждан, что
служило необходимым условием, позволявших считать governo
rnisto наименьшим из зол, под стать этому несовершенному миру.
Но если Контарини готов признать за венецианцами
добродетель в полном смысле безразличия ко всему, кроме общего
блага, значит, governo misto в Венеции свидетельствует не столько об
эффективных механизмах, позволявших справляться с пороком,
сколько выражает его отсутствие. Когда затем он переходит к
изложению своей политической философии, он высказывает
традиционное возражение против правления только одного, только
немногих или только многих, руководствуясь, однако, доводами,
близкими не столько Полибию, сколько христианской
аристотелевской теории. Как люди властвуют над зверями, так и над
людьми должен властвовать кто-то, кто выше человека. Бог не
управляет государствами непосредственно, но в человеке есть
элемент божественного, а именно «ясный ум», «не
подверженный треволнениям» — нечто весьма далекое от представления
I. Контарини Г. О магистратах и устройстве Венецианской республики.
С. 55; The Commonwealth and Government of Venice. P. 7: «With this then
exceeding vertue of mind did our auncestors plant and settle this such
a commonwealth, that since the memory of man, whosoeuer shal go about to
make compare between the same & the noblest of the ancients, shal scarcely
find any such: but rather I dare affirme, that in the discourses of those
great Philosophers, which fashioned and forged commonwealths according
to the desires of the mind, there is not any to be founde so well fayned and
framed...»; Contarini G. De Magistratibus et Republica Venetorum. P. 6: «Нас
ergo incredibili uirtute animi maiores nostri hanc Remp. instituere, quale post
hominu memoriam nullam extitisse, si quis hac nostram cum celeberrimis
antiquorum coferar, meridiana luce clarius intuebitur. Quin adfirmare ausim,
neq: monumentis insignium philosophorum, qui pro animi uoto Reip. formas
efilnxere, tarn recte formatam atq: efrictam ullam contineri».
463
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
Джаннотти о virtu. Так как существуют и люди, которых часто
смущают «животные силы... души», власть ума нельзя
обеспечить, вверив правление одному человеку, группе людей или
сочетанию таких групп, но «не иначе, как по божьему
произволению, род человеческий, изобретя законы, достиг того, что
долг управления человеческим сообществом вручается тем, чей
ум и рассудок не подвержены треволнениям»1.
Если закон может достичь статуса чистого разума, а мысль,
что «Бог для всего мира вещей есть почти то же, что
старинный закон — для гражданского общества»2, подкрепляется
неканонической ссылкой на Аристотеля, то править должны
законы, а не люди; участие в правлении отдельных лиц и групп
должно быть подчинено этому обстоятельству. Впрочем,
возникает риск, что этот довод приведет к замкнутому кругу:
законы служат залогом, что правит разум, а не единичные страсти,
но их изобретают и поддерживают люди, и господствовать они
могут, лишь когда людьми руководит направляющий их к
общему благу разум, а не страсти, склоняющие к преследованию
личных интересов. Значит, законы должны поддерживать себя
сами, контролируя поведение поддерживающих их людей. В
«собраниях людей», то есть в городах, где они регулярно
встречаются лицом к лицу, дабы приводить в исполнение и создавать
1. Контарини Г. О магистратах и устройстве Венецианской республики.
С. 57~58; The Commonwealth and Government of Venice. P. и: «by a certaine
diuine counsell when by other meanes it might not, mankinde through the
inuention of lawes seemeth to have attained this point, that the office of gouer-
ning assemblings of men should be giuen to the mind and reason onely...»;
Contarini G. De Magistratibus et Republica Venetorum. P. 8-9: «...menti purae,
ac motionum animi immuni id munus conferendum est. Quamobrem diuino
quodam consilio, cum alia ratione id fieri non posset, inuentibus legibus
hoc assecutum humanum genus uidetur, ut menti tantum ac rationi nullis
perturbantibus obnoxiae, hoc regendi hominum coetus officium demandatum
sit...».
2. Контарини Г. О магистратах и устройстве Венецианской республики.
С. 58~59: «Аристотель, достойный звания величайшего из философов,
в книге „О мире", написанной им для царя Александра Македонского,
назвал в качестве вещи, которую он мог бы.уподобить всеблагому Богу,
не что иное, как старинный закон, правильно установленный в
городе, ибо, по мнению этого великого философа, Бог для всего мира
вещей есть почти то же, что старинный закон — для гражданского
общества»; The Commonwealth and Government of Venice. P. 12: «that God was
the same in the vniuersity of things, as an ancient lawe in a civili company»;
Contarini G. De Magistratibus et Republica Venetorum. P. 9-10: «Aristoteles
philosophorum facile princeps, in eo libello que de mundo ad Alexandrum
regem Macedonum scripsit, nihil aliud reperit cui similem deum optimum
faceret, praeter antiquam legem in ciuitate recte instituta: ut id propemodum
tarn magni philosophi sententia sit deus in hac rerum universitate, quod
antiqua lex in ciuili societate».
464
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
законы или вести дела, понятие «законы» должно в первую
очередь означать набор установлений и правил, касающихся
проведения собраний и принятия решений. Результатом
таких законов должно стать направление сил человека
исключительно к общему благу, то есть в русло чистого разума. Mito di
Venecia заключается в утверждении, что Венеция располагает
набором правил для принятия решений, обеспечивающих
совершенную рациональность каждого решения и совершенную
добродетель всякого, кто эти решения принимает. Венецианцы
по натуре не более добродетельны, чем другие люди, но у них
есть институты, благодаря которым они становятся такими.
Тот, кем всегда руководит чистый разум без необходимости
стороннего контроля или помощи, похож, как мы понимаем,
скорее на ангела, чем на человека. Как Левиафан Гоббса был
«искусственным человеком» и «смертным богом», так и Венецию
Контарини можно назвать искусственным ангелом: не будучи
полностью разумными существами, люди функционировали
как участники совершенно рациональной системы. Льюкенор,
по всей видимости, почувствовал это:
Посмотрите на их обширный Совет, насчитывающий не менее
трех тысяч дворян, всецело заключающий в себе величайшую
силу и мощь этого сословия, притом что все происходящее
регулируется с таким божественным спокойствием и настолько
безо всяких треволнений и замешательства, что это собрание
кажется собранием ангелов, а не людей.
...В наказаниях законы их не знают пощады; добродетель
поддерживается всемерно; в особенности проявляется она в
распределении должностей и почестей, которое происходит в такой
тайне и устроено столь необычайно и сложно, что совершенно
исключает какие бы то ни было честолюбивые умыслы, никогда
не следуя им, но лишь тем, кои все собрание находит
потребными для величайшей мудрости, добродетели и безупречной жизни.
...Есть здесь и множество других столь же необыкновенных
и чудесных явлений, и уже яркая самобытность их, лишенная
сходства или возможности сравнения с какой-нибудь другой
такой же невыразимо удивительной республикой, подчеркивая
чудесную редкостность этого явления, заставляет самое
поразительное и невозможное казаться не таким уж невероятным...1.
ι. The Commonwealth and Government of Venice. Sig. A 2V.-3: «beholde their
great Councell, consisting at the least of 3000 Gentlemen, whereupon the highest
strength and mightinesse of the estate absolutely relyeth, notwithstanding which
465
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
Уму Елизаветинской эпохи Венеция могла представляться
явлением из разряда политической научной фантастики: она
располагала набором чудесных способов поддерживать в
людях добродетель, тогда как в других государствах этим
занимался разум отдельного человека или божественная благодать.
В конце концов Контарини был клириком. Он не делает
акцент на тайне и чуде, но наделяет венецианцев
исключительной добродетелью, благодаря которой они усовершенствовали
поддерживающие ее политические установления. Язык
используемой им теории неизбежно обязывает его изображать
добродетель как сохранение равновесия между одним, некоторыми
и многими. Это категории, на которые делятся люди и
которые, соответственно, надо превзойти, дабы правление стало
безличным. Но в условиях его идеальной конституции
правят законы, и распределение власти между одним,
немногими и многими является средством, поддерживающим власть
закона и разума в каждом из трех элементов:
Но и множество людей само по себе непригодно для
правления, если они не соединены чем-то воедино, ведь их нельзя
и назвать множеством, если у них нет некоторого единства.
Поэтому и гражданское общество, представляющее собой
некое единство, развалится, если по какой-либо причине
множество не станет единым1.
number all thinges are ordered with so diuine a peaceableness, and so without
all tumult and confusion, that it rather seemeth to bee an assembly of Angels,
then of men. <...> ...their penali Lawes most unpardonably executed; their
encouragements to vertue infinite; especially by their distribution of offices and
dignities, which is ordered in such a secrete, straunge, and intricate sort, that it
utterly ouerreacheth the subtiltie of all ambitious practises, neuer falling upon
any but upon such as are by the whole assembly allowed for greatest wisedome,
vertue and integritie of life. <...> ...there are sundry other so maruellous and
miraculous considerations, and in their owne exceeding singularitie, beyond all
resemblance or comparison with any other Commonwealth so unspeakeablie
straunge, that their wonderfull rarenesse being verified, maketh the straungest
impossibilities not seeme altogether incredible.,..».
I. Контарини Г. О магистратах и устройстве Венецианской республики.
С. 6о; The Commonwealth and Government of Venice. P. 13: «yet is the
multitude of itselfe unapt to governe, unlesse the same be in some sort
combined together; for there cannot bee a multitude without the same bee in
some vnitie contayned; so that the ciuill society (which consisteth in a certain
vnity) will bee dissolued, if the multitude become not one by some meane
of reason...»; Contarini G. De Magistratibus et Republica Venetorum. P. 11:
«Ac equidem multitudo omnis est per se inepta gubernationi, nisi in unum
quodammodo coalescat: quandoquidem neque esse ulla multitudo queat, nisi
unitate aliqua contineatur. Qua de re ciuilis quoque societas dissipabitur, quae
unitate quadam costat, nisi quapiam ratione multitudo unum efficiatur».
466
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
Язык указывает, что прежние философские традиции
направляют и сковывают более простую доктрину смешанного
правления. И действительно, вскоре после этого мы читаем,
что в Венеции монархическая, аристократическая и народная
формы власти сочетались таким образом, «что все формы
соседствуют на равных»1. Однако речь не идет о разграничении
политических функций как отдельных видов власти и ввере-
нии их одному, немногим и многим для поддержания
равновесия. Такой подход, как мы видели, обусловил необходимость
объяснить, как вообще один вид власти может
«уравновешивать» другой. Джаннотти пришел к выводу, что, пользуясь
привычными категориями, на этот вопрос ответить нельзя и его
следует сформулировать иначе (задача, решение которой ему
не вполне удалось). Контарини же, который писал, по всей
видимости, не зная о произведении флорентийца2, в какой-то
момент как будто отвергает сам язык, использованный
Джаннотти для новой постановки проблемы:
...Нет более опасной заразы для государства, чем
преобладание одной его части над другой. Ведь там, где нет равных прав,
не бывает единодушия между гражданами. А это и случается,
если кто-то один соединяет множество должностей. Так
разрушаются смешанные тела, если какое-то из начал, из которых
они составлены, превосходит другие; так нарушается и
созвучие, если одна струна или голос звучит громче положенного.
Если хочешь сохранить город или республику, не следует
соблюдать в ней неравенство, дабы ни одна из частей не
возвышалась над другой, но все, насколько возможно, принимали
участие в отправлении государственной власти3.
1. Контарини Г. О магистратах и устройстве Венецианской республики.
С. 62; The Commonwealth and Government of Venice. P. 15: «so that the
formes of them all seeme to be equally balanced, as it were with a paire
of weights...»; Contarini G. De Magistratibus et Republica Venetorum. P. 13:
«...adeo ut omnium formas pari quadam librameto commiscuisse uideatur...».
2. Gilbert F. The Date of the Composition of Contarini's and Giannotti's Books
on Venice. P. 172-174, 182.
3. Контарини Г. О магистратах и устройстве Венецианской республики.
С. ioo-ιοι; The Commonwealth and Government of Venice. P. 67: «there
cannot happen to a commonwealth a more daungerous or pestilent contagion,
then the ouerweighing of one parte or faction aboue the other: for where the
ballance of iustice standeth not euen, it is vnpossible that there should bee
a friendly societie and firme agreement among the citizens: which alwaies
happeneth where many offices of the commonwealth meete together in one.
For as every mixture dissolueth, if any one of the elementes (of which the
mixed body consisteth) ouercome the other: and as in musicke the tune is
467
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
Если сопоставить процитированный отрывок с текстом
Джаннотти, он может показаться простым возвращением к
теории описанного Полибием равновесия, однако к этому он
отнюдь не сводится. Контекст фрагмента — правило,
запрещавшее единовременное участие в сенате более чем трех членов
одной семьи. «Части», которые не должны преобладать друг
над другом, — не просто традиционные три элемента по По-
либию: они могут включать в себя любые группы, на которые
делятся граждане. Теория Полибия, вспомним еще раз,
представляла собой классическое упрощение политической
доктрины Аристотеля. Аристотель же прекрасно знал, что один,
немногие и многие — это всего лишь категории, использовать
которые удобно и необходимо. Прочная конституция должна
удовлетворять все социальные группы. Анализ в категориях
«одного», «немногих» и «многих» служил удобным
инструментом, чтобы проверить, так ли это на самом деле.
Однако Контарини в гораздо большей мере, чем Джаннотти,
сознательно остается философом в политике. Если
флорентиец развивал концепцию virtù в направлении власти, то
венецианец сохранил в ней главным образом рациональный
оттенок. Правление описывалось как акт мудрости, нацеленный
на общее благо. Участие всех «в отправлении государственной
власти» означало, помимо прочего, равное участие в
проявлении способностей на благо общества. Однако политическое
тело, в котором любая мыслимая часть или категория людей
проявляла бы свои способности наиболее подходящим для
нее образом, было бы совершенным в своей рациональности,
и участие в жизни общества посредством проявления таких
способностей тоже было бы совершенным. Немаловажно, что
стоящий у истоков mito идеализированный образ
венецианского смешанного правления отсылал не столько к четвертой
marred where one string keepeth a greater noyse than hee should doe: so by
the like reason, if you will haue your commonwealth perfect and enduring,
let not one part bee mightier than the other, but let them all (in as much
as may bee) have equall share in the publique authoritie»; Contarini G. De
Magistratibus et Republica Venetorum. P. 53: «Nam nulla perniciosior pestis
in Rempublicam obrepserit, q[uam] si quaepia eius pars caeteris praeualuerit.
Sic nanque (?) quoniam ius non seruatur, impossibile est societatem inter ciues
consistere. Quod usu euenire solet ubicunque plura in unum conueniunt. Sic
soluitur mixturn, si quodpia elernentoru ex quibus constat, alia superauerit.
Sic omnis consonantia dissonans sit, si fidem seu uocem una plus intenderis
quam par sit. Non dispari ratione si ciuitatem aut Rempublicam constare
uolueris, necesse est id in primis seruari, ne qua pars aliis efïïciatur potentior,
sed omnes, quoad fieri possit, participes fiat publicae potestatis».
468
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
книге Полибия, сколько к «Законам» Платона1.
«Искусственный ангел» был чудесен, ибо рационален, устойчив,
совершенен и находился вне времени, относительно свободен от тени
двусмысленности и обреченности, которые нависали над
Римом Полибия или Флоренцией Макиавелли. Зная, что история
его города — это история неустойчивости, Джаннотти впервые
поставил вопросы о венецианской истории, оставленные им
без ответа2. Затем он почувствовал необходимость найти способ
проанализировать нестабильность и обеспечение стабильности.
Это увело Джаннотти в сторону от всех троих его учителей:
Аристотеля, Полибия и Макиавелли. Контарини же не
требовалось предпринимать ни одного из этих шагов. Не
последовал он и за Савонаролой, согласно которому его республика
исполняет мессианское предназначение в момент апокалипсиса.
Тем не менее мы не должны отвергать венецианскую
республиканскую мысль как простую мифическую проекцию
некоего платонического представления о себе самой. В одной из
наиболее значимых работ на эту тему Уильям Дж. Боусма
показал, что венецианская мысль не остановилась на Контарини.
За следующие восемьдесят лет при участии сначала Паруты,
а затем Сарпи она развила чувство уникальности и моральной
автономии истории, основанное на ряде утверждений о
неповторимом облике Венеции и направленное против
универсалистских претензий контрреформационного папства3. Точно
так же, как во Флоренции, республиканское видение истории
отражало не только светлые, но и темные стороны процесса.
Сарпи в «Истории Тридентского собора» рисует столь же непри-
украшенную картину человеческих бессилия и хрупкости, как
и Гвиччардини в своих текстах4. Вневременной миф и история,
лишенная завершенности, были, как мы помним,
вариантами решения одной проблемы — стремления республики
обрести самодостаточную добродетель и устойчивость в контексте
частных особенностей, времени и перемен. Она могла уйти от
истории, подчинив свои действия вневременному разуму, или
попытаться подчинить историю себе, сведя в одно обширное
целое все элементы нестабильности, опознанные ею и
переплетенные между собой; или же она могла признать, что решить
1. Gilbert F. The Venetian Constitution. P. 468-470.
2. См. прим. 2 на с. 405, прим. 2 на с. 406.
3- Bouwsma W. J. Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance
Values in the Age of the Counter Reformation. Berkeley; Los Angeles, 1968.
4. Ibid (chap. X).
469
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
эту проблему невозможно, а ловушки истории остаются
навсегда открытыми. Контарини ближе к первой точке зрения, чем
ко второй; Макиавелли, Гвиччардини и Сарпи ближе к третьей.
Значимость Джаннотти заключается в оригинальности его
вклада во второй подход — в науку, стремившуюся к стабильности.
На этих страницах он, пожалуй, предстает как мыслитель,
который в каком-то смысле смягчил позицию Макиавелли,
примирив Рим с Венецией. Он преодолел обе модели и
показал, что вооруженная народная республика занята прежде
всего своей добродетелью, а не завоеваниями и
расширением,— и таким образом избавил ее от Рагнарёка и
«мирового волка». Война интересовала его меньше, чем Макиавелли,
а теория конституционного равновесия — больше. Отчасти
именно поэтому в разработке науки о смешанном правлении
ему удалось продвинуться дальше других флорентийских
теоретиков. Это означает, что роль фортуны в его теории
ограничивалась многочисленными объясняющими факторами.
Он не смог развить концепцию суверенитета, основанного на
законодательной власти. Это обстоятельство показывает, что
он еще не вырвался из мира, в котором миф Контарини или
реализм Макиавелли и Гвиччардини задавали единственно
возможную альтернативу. Ибо республике, которая сама не
могла издавать законы, надлежало довольствоваться
попытками сохранять prima forma. Она возвращалась к политической
форме, направленной на обретение универсального блага и не
подразумевавшей никакой политической деятельности, кроме
поддержания самой формы. Макиавелли и Гвиччардини, при
всем их блестящем таланте, не смогли изобразить
политическую деятельность как творческую активность. Они показали
лишь, насколько в действительности трудно — или
невозможно— поддерживать в республике порядок. В итоге, мы
вынуждены рассматривать гражданский реализм Чинквеченто даже
в его наиболее высших проявлениях как своего рода
негативную проекцию аристотелевского мышления. Носители этой
культуры осознали качественный характер и даже
необратимость исторических изменений, по-новому реорганизовав
категории аристотелевской мысли. Их интерес κ/ortuna постепенно
ослабевал, по мере того как эти категории становились
источником новых теорий, позволяющих ее контролировать. Кроме
того, можно предположить, что указанными ограничениями
мысль Макиавелли была обязана своему упорному и
настойчивому морализму.
470
ВЕНЕЦИЯ КАК ПОНЯТИЕ И КАК МИФ
Аристотелевский республиканизм был сосредоточен
исключительно на гражданине, и флорентийским и венецианским
мыслителям было ни к чему отказываться от него, пока их
интересовал только человек и его шансы избежать порчи своей
добродетели. На самом деле они сумели существенно пополнить
лексикон, предназначенный для обсуждения подобных
вопросов в рамках данной традиции. Несмотря на всю расчетливость
Макиавелли и Гвиччардини, остается фактом, что слабым
местом аристотелевской и гуманистической теории была
нехватка средств для анализа позитивного, созидательного, а не
охранительного отправления власти. Мы ранее рассматривали
возможность развития неким политическим субъектом
настолько сильной способности справляться с конкретными и
меняющимися проблемами по мере их возникновения, что при этом
институциональные средства решения этих проблем в
обществе постоянно претерпевали бы трансформацию и могли
изменяться сами. Очевидно, что таким агентом было бы
правительство или законодательная деятельность в модерном
смысле слова, а подобным политическим сообществом
являлось бы современное административное государство, способное
приспосабливаться к историческим изменениям. Однако
маловероятно, что политическая теория, озабоченная только тем,
как гражданин должен развивать свои человеческие качества,
участвуя в принятии решений, направленных на подчинение
личных интересов общему благу, стала бы развивать интерес
к правлению как позитивной или творческой деятельности
и разрабатывать соответствующий словарь. С точки зрения
подобных представлений, в XVI веке политика, как правило,
сводилась к структуре, в которой отдельный человек
утверждал свою моральную автономию, а законодательство — к
чисто формальной деятельности по утверждению и
восстановлению этой структуры. Поэтому практически невозможно было
помыслить изменения во времени, которые не приносили бы
разрушения. Мы также видели, что взгляд на политику лишь
как на укрепление ценностей или добродетелей посредством
участия отдельных людей в жизни общества пресекал —
всякий раз, как сам вызывал ее, — любую попытку увидеть в ней
согласованное осуществление различных видов власти. Джан-
нотти предпринял первый шаг в этом направлении, но
второй шаг оказался ему уже не под силу. Концепция Полибия
с ее равновесием между разными агентами власти до сих пор,
как представляется, сильно сковывала мыслителей. Мы можем
471
ГЛАВА IX. ДЖАННОТТИ И КОНТАРИНИ
сказать, что все это свидетельствует о недостатках теории
Аристотеля. Впрочем, вероятно — хотя это и требует дальнейшей
аргументации, — что власть в тесном полисе, где все граждане
могли смотреть друг другу в лицо, должна носить размытый
и личностный характер. Эти свойства полиса препятствуют
возникновению концепции о сложных и узко
специализированных способах осуществления власти. На следующем этапе
следует проанализировать развитие гуманистической и маки-
авеллиевской мысли в обществе другого типа, состоящем из
нескольких институциональных субъектов, которые
выполняют различные функции власти, — в Англии после
правления Тюдоров с ее королем, законодательством, парламентом,
церковью. Однако мы увидим, что каждый из этих агентов
порождал и распространял собственную идеологию, включая
определения политического сообщества и политического
индивида. В связи с этим только с оговорками и лишь в нескольких
различных и очень специальных значениях английское
общество можно было назвать обществом гражданским или
республикой, в которой проявляющие интерес к политике граждане
стремились к vivere civile. Мы проследим, как стало возможным,
что англичане начали говорить о себе и своем обществе в ма-
киавеллиевских терминах. Мы обнаружим, что этот процесс
включал в себя переосмысление гражданской истории
одновременно в позитивном и в негативном ключе: модерный
характер правления в этой связи определялся в самом акте
восстания против его модерности. Эта модель, экспортированная
на западные берега Атлантики, значительно способствовала
усложнению американских ценностей.
ЧАСТЬ
Ценности и история
в предреволюционной
Атлантике
Глава Χ
Проблема английского
макиавеллизма
Модели гражданского сознания до Английской революции
I.
В предшествующих главах мы изучали образ мысли,
который можно назвать «макиавеллизмом». Он был призван
артикулировать понятия и ценности гражданского гуманизма
на фоне трудного положения, в котором оказалась
Флоренция в 1494_153° годах. Понятийная система, в которой
ключевую роль играли парадигмы обычаев, веры и фортуны,
пошатнулась, когда республика приняла решение преследовать
универсальные ценности в преходящей временной форме. Ее
непрочность еще более усугубили события Ц94 года.
Флорентийской республике не удалось противостоять возвращению
Медичи к власти, а итальянские города не смогли
объединить силы против французских и испанских войск. Мы
отметили два главных следствия этого сложного переплетения
конфликтов: во-первых, переосмысление Макиавелли
понятия virtù, противоречивость которого наиболее полно
отразилась в советах, адресованных principe nuovo1, г. его наиболее
долговременные уроки — в учении о войске как необходимом
условии свободы; во-вторых, оживший и усилившийся
интерес к теории смешанного правления Аристотеля и Полибия,
в рамках которого Венеция выступала одновременно как
парадигма и как миф и, будучи способной противостоять Риму,
помогла отвлечь внимание от военного популизма
Макиавелли. Понятия обычая, апокалипсиса и anakuklösis, основанные
на триаде обычаев, веры и фортуны, оставались
актуальными на протяжении всего этого периода. Мы заметили лишь
отчетливо выраженную тенденцию — крайне существенную
для республиканской теории — замещать понятие фортуны
понятием коррупции: как мы предполагаем, это позволяло
ι. Новый государь (итал). — Прим. ред.
474
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
объяснить вторичными причинами то, что в противном случае
представлялось результатом чистой случайности. В этом
отношении мы наблюдаем усиление исторического самосознания,
но средневековая триада оставалась нетронутой.
Теперь нам предстоит проследить, как модели «макиавел-
лиевской» мысли оказались перенесены на английскую почву,
а позднее — в колониальную и революционную Америку.
Главная трудность, с которой мы сталкиваемся, по крайней мере
если говорить об Англии, состоит в том, что в британской
культуре начисто отсутствовали даже самые обычные формы
выражения для понятий vita activa, vivere civile. Аналогичным
образом не хватало ресурсов для республиканской
реконструкции своей исторической идентичности, что, по нашему мнению,
было необходимо для объяснения весьма сложных
концептуальных сдвигов, произошедших впоследствии. Республиканским
и макиавеллиевским идеям предстояло стать своими в среде,
где господствовали монархические, правовые и богословские
представления, никоим образом не располагавшие к
восприятию Англии как полиса, а англичанина — как гражданина.
Первая наша задача — выяснить, как вообще получилось, что
эти идеи были усвоены, а для этого мы должны сначала
проанализировать формы сознания, с которыми им пришлось
соперничать. Нам надо понять, сталкивались ли более ранние
политические языки с проблемами, из-за которых частичное
заимствование из республиканского словаря оказалось
удобным или необходимым.
На первый взгляд {prima facie), идеология гражданского
активизма несовместима ни с институтами, ни с убеждениями,
свойственными территориальной монархии. Если воспользоваться
терминологией Вальтера Ульмана1, в «нисходящей
перспективе» власти человек был подданным короля, не располагая
почти никакими возможностями. Ему следовало подчиняться
тем, кто выше его по иерархической лестнице, и учить долгу
послушания тех, кто ниже, тогда как в «восходящей
перспективе» власти коллективная рациональность служила главным
образом теоретическим инструментом, способным представить
ι. Ullmann W. Principles of Government and Politics in the Middle Ages; Idem.
History of Political Thought: the Middle Ages. Harmondsworth, 1965; Idem.
The Individual and Society in the Middle Ages. Baltimore, 1966. См. резкую
критику работ Улманна: Oakley F. Celestial Hierarchies Revisited: Walter
Ullmann's Vision of Medieval Politics // Past and Present. Vol. 60 (1973).
P. 3-48.
475
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
народ как разумное тело. Телу народа надлежало понять, что
у него есть голова, сталагмит ума, способный подняться к
спускавшемуся ему навстречу сталактиту власти. Corpus misticum1,
который, по мысли Фортескью, нуждался в управлении politico,
был далек от аристотелевского полиса. Он подразумевал
общность разума, способного познавать рациональные законы,
и общность опыта, способного сформировать и помнить корпус
усвоенных обычаев, которые становились его второй натурой.
Однако речь не шла о товариществе в действии или о
партнерстве, основанном на поддержании добродетелей, в котором бы
люди сознательно участвовали с учетом разнообразия своего
индивидуального опыта. Фортескью никогда не счел бы
затруднения, подобные тем, что описывают Макиавелли и Гвиччар-
дини, составной частью реальной ткани политической жизни.
И он не стал бы изобретать механизмов разрешения подобных
затруднений, которые предложили Гвиччардини и Джаннотти.
Для Фортескью Венеция, равно как и Англия, являлась
юридическим лицом, известным своей древностью и
рациональностью муниципальных законов4. Corpus misticum был, однако,
и в самом деле уязвим для методологического индивидуализма:
будучи телом, главой которого являлся государь, он тем не
менее состоял из отдельных людей, у каждого из которых была
своя голова — что отражает изображение на фронтисписе
«Левиафана»,— и проблема соотнесения ума подданных и ума
правителя могла вызывать много вопросов. Впрочем, сами по
себе индивидуальный разум и опыт никогда не служили
достаточным основанием, чтобы считать человека гражданином.
Это стало возможно лишь вследствие возрождения античных
представлений о политической virtus, о zöon politikon, природа
которого заключалась в том, чтобы управлять, действовать,
принимать решения. Как может происходить такое
возрождение? До сих пор путь указывала лишь идеология vita activa,
действующая в атмосфере такого сообщества, где люди
действительно были призваны собираться и принимать решения.
В монархии, основанной на территориальной целостности и
судебной власти, отдельный человек обретал подлинное бытие
прежде всего как носитель прав — на землю и на правосудие,
гарантировавшее ему владение этой землей, — а структура
1. Мистическое тело (лат.). — Прим. ред.
2. Политически (лат.).—Прим. ред.
3- Fortescue J. De Laudibus Legum Angliae (chap. XIII).
4. См. выше с. 48^5°·
476
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
«восходящей власти» существовала главным образом в виде
обычаев, полномочий и свобод. Они оформляли и сохраняли
такие права и стремились вверх, чтобы встретить
нисходящую структуру власти, призванную обеспечить свою
непрерывность и принуждать к исполнению своих решений. В мире
jurisdictio и gubemaculum индивид обладал правами и
собственностью—proprietas, тем, что принадлежало ему по праву. Он
подчинялся власти, которая, исходя от Бога, никогда не
являлась просто отражением человеческих прав. Поэтому
основным предметом спора был и оставался вопрос, насколько тесно
две эти модели — «восходящей» и «нисходящей» перспективы
власти, jurisdictio и gubemaculum, прав и обязанностей —
связаны друг с другом. Однако можно с уверенностью утверждать:
чтобы сделать из человека активного гражданина или
политическое существо, недостаточно определить его
индивидуальность в терминах его прав и обязанностей, собственности
и обязательств.
Неудивительно, что исследователи уже некоторое время
задаются не только вопросом, каким образом ценности и понятия
гражданского гуманизма смогли утвердиться на почве такой
территориально-юрисдикционной монархии, как Англия1.
Проблема ставится шире — как и когда, в каких терминах и при
каких условиях англичанин смог развить у себя гражданское
сознание, понимание себя как политического актора в публичной
сфере? Дональд Хэнсон в книге «От королевства к республике»2
весьма категоричен. Он утверждает, что jurisdictio и gubemaculum
никогда не пересекались между собой и едва ли между ними
существовала какая-то связь. По его мнению, в Средневековье
и в эпоху Тюдоров англичане пользовались понятийной
системой, для которой характерна непреодолимая двойственность
и которую автор называет «двойным величием»3.
Уничтожение этой двойственности — а оно, согласно Хэнсону,
произошло лишь после Гражданской войны 1642—1646 годов — было
необходимым и (как, вероятно, предполагается) достаточным
1. См., например, статью Дэниса Хея (Denys Hay) в книге: Renaissance:
Studies in Honour of Hans Baron / Ed. by A. Molho, J. Tedeschi. De Kalb,
1971.
2. Hanson D. W. From Kingdom to Commonwealth: the Development of Civic
Consciousness in English Political Thought.
3. Концепция «двойного величия» («double majesty») Хэнсона
предполагает, что король, с одной стороны, отвечает за своих подданных перед
Богом (будучи его «наместником»), с другой же стороны, правит
королевством в согласии со своими магнатами. — Прим. ред.
477
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
условием «развития гражданского сознания». Если я верно
пересказываю суть его подхода, подобное утверждение может
показаться слишком радикальным, но обладает своими
достоинствами— оно отсылает к проблеме, которую историки
заметили с опозданием. Развитие в Англии гражданского
сознания, как его определяет Хэнсон, действительно
представляет собой проблему. Это трудная тема, о которой написано
недостаточно, но есть основания полагать, что оно развивалось
в соответствии с несколькими сценариями. Нам следует
проявить осторожность, обращаясь к следующему вопросу: каким
образом англичанин научился видеть себя, будь то в
аристотелевском, макиавеллиевском или венецианском смысле, в
качестве классического гражданина, действующего в республике?
Есть влиятельный и убедительный аргумент, согласно
которому предшественником гражданина является святой.
Уолцер в своей «Революции святых»1 говорит о кальвинисте или
ортодоксальном пуританине как примере первого
революционера, первый тип радикально отчужденного человека в
современной Европе. Такой индивид остро переживал свое
одиночество— одиночество перед Богом, и вступал в отношения
с другими из чувства коллективной ответственности за
ценности, не совпадавшие с ценностями общества, и располагал
планом действий, в соответствии с которым эти ценности
следовало положить в основание преобразования мира.
Уолцер приветствует — хотя и не разделяет — старый марксизм
Кристофера Хилла2, с точки зрения которого свойственные
пуританам отчужденность и активизм служили идеологией
простых трудолюбивых людей, появившихся на обломках
феодального общества. «Святые» Уолцера — это клирики, знать
и мелкие дворяне, а социальные истоки их отчужденности не
связаны с переходом от феодального общества к буржуазному.
Но если неудавшиеся революции в Англии XVII века не
совершались посредственными и трудолюбивыми людьми, не
делались они и типичными пуританскими священниками, которых
изображает Уолцер. В своем анализе он не пишет о сектантах,
которые стремились к переворотам3. Неудавшиеся революции
были делом рук целой армии людей — само по себе
уникальное явление, — вдохновленных милленаристскими надеждами,
1. Walzer M. Revolution of the Saints.
2. Hill Ch. Puritanism and Revolution. London, 1958; Idem. Society and Puritanism
in Pre-Revolutionary England. New York, 1964.
3. Walzer M. Revolution of the Saints. P. VIII, 115 (прим. з).
478
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
которые лишь отчасти признавались правомерными. Они
возглавлялись получившими юридическое образование мелкими
джентри, настолько разобщенными и противоречивыми в
своих убеждениях, что иногда это граничило с раздвоением
личности. Одна половина их сознания принадлежала
радикальным праведникам, другая — консервативным реформаторам,
глубоко привязанным к традиционному порядку, в котором
они видели источник всех светских ценностей, даже тех, что
должны были его преобразовать. Революция потерпела
поражение не столько потому, что они оказались слишком
малочисленны — революции совершает меньшинство, — сколько
потому, что они постоянно и губительным для себя образом
настаивали, что древние вольности Англии должны
подкреплять и узаконивать их радикальные и хилиастические
преобразования. Можно даже утверждать, что сам их хилиазм
объясняется неудачной попыткой полностью порвать с мирской
жизнью. Чистый кальвинизм, выделенный Уолцером,
слишком суров, слишком непреклонен в своем отчуждении, чтобы
нуждаться в призрачных надеждах на апокалиптическое
обетование. Однако хилиазм был еще более выдающейся чертой
пуританского ума, чем он сам то осознавал.
Нарисованному Уолцером портрету следует придать
некоторую глубину, и представляется, что связана она со временем.
Во-первых, необходимо исследовать эсхатологическое
измерение, присутствующее в активизме «святого», — священное
настоящее, в котором он действовал, священное будущее, которое,
как он полагал, определяло это настоящее. Это, в свою
очередь, далеко уведет нас от сурового отказа Кальвина (и,
возможно, Августина) от каких-либо спекуляций на тему будущего
и обратит к растущим хилиазму сект и антиномизму,
который его сопровождал. Однако недостаточно изучить это
измерение само по себе. Мы увидим, что в Англии —
однозначно в большей степени, чем в любой другой протестантской
стране, — апокалиптика была национальной. Она являлась
способом представить нацию как существующую и
действующую в священном времени. Вот почему английский святой
мог усматривать связь между своей богоизбранностью и своей
национальной принадлежностью: он был святым как один из
«англичан Господа Бога». При этом «Англия» упрямо
оставалась понятием национальным и светским, в ней не
существовало пуританского Логреса, мистической и эзотерической
Британии романтических легенд о короле Артуре. В связи с этим
479
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
английский апокалипсис, доктрину об избранной нации,
следует отчасти рассматривать как способ осмысления в сложной
и особой временной перспективе публичной сферы,
одновременно мирской и божественной, в которой человек, будучи
святым и в то же время англичанином, должен действовать.
С этой точки зрения мы имеем дело с определенным видом
гражданского сознания; речь идет об одном из видов,
возникновение которых в истории Англии мы взялись проследить.
Существовало сильное напряжение — о чем свидетельствует
вся эпоха Кромвеля, — между почитанием отдельным
человеком институтов своей избранной нации и радикальными
действиями в отношении этих же институтов, к которым могло
побуждать осознание своей индивидуальной избранности. Как
следствие, явные уступки в отношении saeculum со стороны
хилиазма играют важную роль. Будучи в какой-то мере частью
национального сознания, этот тип мышления мог принимать
более консервативную или радикальную форму. Возникавшая
здесь дилемма между консервативными и радикальными
действиями поднимала и проблему инноваций в форме, которая
ощутимо, но и не слишком далека от той, что имел в виду
Макиавелли, говоря о virtù. Отсюда апокалиптическое сознание
можно анализировать и как одну из тех разновидностей секу-
лярного сознания, которые замутнили чистоту «революции
святых», и как одну их тех разновидностей гражданского
сознания, которые предвосхитили возникновение классического
понятия гражданской жизни.
Теперь возникает проблема: какие еще модели понимания
публичной сферы, в которой англичане могли действовать,
были им доступны после Реформации? Какой образ действий
соответствовал их представлениям об этой сфере? Поскольку
есть основания подозревать, что дилемма кромвелевского
пуританизма заключалась в выборе между несколькими типами
общественного действия, один из которых был путем
радикального святого, мы можем предположить, что и
альтернативные модели, каковы бы они ни были, развивались вместе
с уже названной моделью святого и в какой-то степени
оказывались с ней внутренне связанными. Если мы сможем
проследить такое развитие, то избежим чрезмерного упрощения,
которое явно присутствует у Хэнсона — и в котором тем не менее
есть доля правды. Хэнсон утверждал, что англичане,
лишенные гражданского сознания в силу господствующей доктрины
«двойного величия», внезапно столкнулись с этим сознанием
48о
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
в результате травмы крушения самого «двойного величия».
Равным образом мы избавимся от другого упрощения,
имеющего длинную и более или менее марксистскую родословную,
согласно которому глубоко религиозное сознание личности
в одночасье превратилось в секулярный буржуазный
рационализм, ибо всегда служило лишь идеологией становящегося
класса. Одновременно существует немало подтверждений тому,
что секуляризация сознания действительно произошла быстро,
и это требует объяснения. В «Революции святых» есть
интересный фрагмент, где Уолцер, следуя за Г. Г. Кёнигсбергером,
изображает революционное сознание как реакцию на влияние,
которое «модерное государство» оказало на сознание в целом1.
Однако это «государство» он, по-видимому, рисует во многом
с точки зрения «романтической» традиции — как
уравнивающую, централизующую и рационализирующую силу,
естественным ответом на которую является суровая отчужденность
отдельного человека. Как на Уолцера, так и на Хэнсона, хотя
и очень в разной степени, значительное влияние, по всей
видимости, оказывает концепция «традиционного общества» как
пассивная и предшествующая политическому сознанию
антитеза «модернизации»*, а эта концепция, как бы осторожно ее
ни определять, заставляет нас мыслить противопоставлениями.
Мы видели достаточно примеров, что людям «Старого Запада»
были доступны другие формы сознания и выражения,
помимо традиционной. Парадигма «гуманизма», которой
отводится столь значительное место в этой книге, должна располагать
аналогичным разнообразием реакций обостренного осознания
человеком своих отношений с saeculum и светской культурой.
Как отмечено во многих недавних исторических
исследованиях, гражданская проблематика английского гуманизма
развивалась в рамках представления о гуманисте как
советнике государя. Гуманист в этой роли обладал, подобно юристу
у Фортескью, сведениями и навыками, которых государь был
лишен. В этом смысле он вкладывал в союз собственную
добродетель, способность отдельного человека участвовать в
управлении политией, таким образом делая шаг в направлении
1. Walzer M. Revolution of the Saints. P. 1-2, 16. Уолцер ссылается на статью:
Koenigsberger H. G. The Organisation of Revolutionary Parties in France and
the Netherlands during the Sixteenth Century // Journal of Modern History.
Vol. 27 (1955). P. 335-351.
2. Walzer M. Revolution of the Saints. P. 1-4, 13-16, 19; Hanson D. W. From
Kingdom to Commonwealth. P. VIII-IX, 2, 7, 9, 11, 18, 336-344, 349-354.
481
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
аристотелевской концепции гражданина. В книге
«Артикулированный гражданин и английский Ренессанс»1 Артур Б. Фер-
гюсон на примере Томаса Мора, Томаса Старки и Томаса
Смита прослеживает развитие самосознания советника: речь идет
о понимании им своей роли, интеллектуальных и
политических способностей, которых она от него требует, и публичной
сферы, в которой он играет свою роль. Речь шла о союзе
правителя и подданных, чьи отношения можно определить с
точки зрения взаимных обязательств просить совета и давать его.
По ходу изложения Фергюсон в некоторых отношениях все
больше смещает акцент с иерархии на союзничество.
Советник все чаще определяется через свои способности, на которые
полагается государь, и становится уже не просто «хорошим»
подданным, взывающим к сознанию «хорошего» правителя.
Фергюсон и некоторые из его центральных персонажей чаще
употребляют такие слова, как «гражданский» и «гражданин».
Однако основанная на совете общность не превращается в
республику, лишенную руководящего начала. Res publica, то есть
«общее благо», остается телом (corpus), главой которого
является государь, иерархической структурой, где советы дают люди,
каждый из которых занимает положенное ему место. (Уолцер
отмечает, что разнообразие отдельных добродетелей на самом
деле более отчетливо представлено в средневековой иерархии,
чем в непроницаемом индивидуализме веривших в
предопределение кальвинистов*.) Подобным же образом Фергюсон
прослеживает, как все возрастающая способность гуманистов
контролировать секулярные понятия в Англии, как часто
происходило и в других местах, дала импульс к развитию лучшей
способности — видеть в королевстве сущность, подверженную
изменениям с течением времени3. Впрочем, важно отметить,
какие силы, по его мнению, ограничивали эту тенденцию.
Социальные идеалисты середины XVI столетия полагали, что
правление — мудрость государя в сочетании с мудростью его
подданных, воплощенной в парламенте^ — способно создавать
законы, а законы способны привести к более справедливому
и обеспечивающему процветание распределению общего блага,
ι. Ferguson A.B. The Articulate Citizen and the English Renaissance. Durham,
N.C., 1965.
2. Walzer M. Revolution of the Saints. P. 148-198 (chap. V: The Attack upon the
Traditional Political World).
3. Ferguson A.B. The Articulate Citizen and the English Renaissance. P. 363-400
(chap. XIII: The Commonweal and the Sense of Change: Some Implications).
482
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
чем то, которое существовало на практике. Гуманисты,
«рассуждавшие об общем благе», стремились понять, какие
экономические силы действуют в обществе. Однако это направление
мысли вместе с идеями динамизма, которые оно несло с
собой, было оставлено в пользу статического и средневекового
идеала сохранения королевства как иерархии чинов, системы
порядка, которую нельзя поколебать. Существовал только
порядок и хаос, лежавший за его пределами.
Для нас важно, что исследование Фергюсона «гражданских»
аспектов английского гуманизма привело к понятиям
парламента и законодательства. Расширяя свое видение различных
типов гражданского гуманизма, мы ищем местные варианты
фигуры «гражданина», zôon politikon, который правит и
которым правят. Во французской правовой гуманистической и
политической мысли времен религиозных войн он предстает
чаще всего в облике нижестоящего магистрата (будь то seigneur
или officier), управляющего и управляемого. В этом контексте
мы задаемся вопросом, на который Воден дал в целом
отрицательный ответ: может ли общество чиновников составлять
polis или совокупность людей, участвующих в политической
жизни? Однако в Англии существовали общее право и
парламент, более деятельный совещательный орган национального
уровня, чем во Франции. Вместо чиновника, носителя
подчиненного или производного Imperium, перед нами
оказывается более разносторонняя и в этом смысле более гражданская
фигура советника. Им может быть провинциальный
дворянин, представляющий графство или небольшой город. Будучи
членом парламента, он способен дать совет своему государю
на условиях, предписывающих ему рассматривать все
затрагивающие королевство дела и выполнять свои функции как
представителю всего политического тела в commune consilium
regni1. По мере того как в XVI веке джентри массово стали
представлять в парламенте маленькие города, они все чаще шли
в школы, университеты и юридические учебные заведения.
Они искали образования, которое позволило бы им служить
государю, давать ему советы и состязаться за местные
должности и влияние в структуре правления и юрисдикции,
принадлежавшей одновременно и государю, и им самим. Полученное
дворянами образование можно в очень обобщенном смысле
назвать гуманистическим. Стремясь определить английский
I. Общий совет королевства (лат.).—Прим. ред.
483
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
вариант политически активного гуманизма и
сформированного им типа гражданского сознания, доступного англичанам,
мы можем от идеалистов середины столетия перейти к новым
идеологиям парламентских джентри.
Гуманизму середины века парламент, вероятно, виделся как
источник законов, направленных на общее благо, но к концу
столетия дворяне, заседавшие в палате общин, все чаще
усматривали предназначение парламента в сохранении
свободы, а свободу — уходящей корнями в незапамятные обычаи,
с которыми можно было отождествлять каждое крупное
юридическое и правительственное учреждение, вплоть до самого
парламента. Идеологии «Древней конституции» можно дать
чисто структурное объяснение: все английское законодательство
строилось на общем праве, общее право было обычаем, обычай
основан на презумпции древности. Собственность, социальная
структура и правление существовали в рамках предписаний
закона и потому, как предполагалось, восходили к глубокой
старине1. Но если думать о ней как об идеологии, порождаемой
попытками социальных существ по-новому осмыслить самих
себя, мы можем назвать ее разновидностью гражданского
сознания, особенно подходящей для джентри, которые
утверждались в парламенте, судопроизводстве и местных институтах
общего права. Слово «гражданский» используется здесь не
случайно. Нет ничего более ошибочного, чем изображать
страстные заявления о древности английских законов и свобод как
пассивное принятие «традиционного общества». Это было
скорее традиционалистское, чем традиционное — если
воспользоваться различением Левенсона2, — проявление консерватизма,
а консерватизм — это образ действия. Англичанин,
воспринимавший свое королевство как совокупность обычаев, а себя
как производящее обычаи существо, полагал, что собственник,
участник тяжбы, член совета и государь постоянно участвуют
1. Рососк J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law (chap. II, III).
2. Эта антитеза возникает в разных работах Левенсона (выше, глава VIII,
прим. 2 на с. 35°) и свидетельствует о важности различения между
простой передачей традиции и полемической концептуализацией либо
самой традиции, либо ее передачи. (Ср. другую интерпретацию этого
сюжета: Рососк J.G.A. Politics, Language and Time. P. 233-272.) Обращение
к теме «Конфуцианский Китай и его современная судьба» («Confucian
China and its Modern Fate») побудило Левенсона отметить, что традиция
может угаснуть в том случае, если ее необходимо осмыслить в
традиционалистских категориях. Впрочем, см. его сравнение Китая и
Англии конца XVIII века, где этого не произошло: LevensonJ.R. Liang Ch'i-
ch'ao and the Mind of Modern China. P. 151-152 (по изданию 1967 года).
484
МОДЕЛИ· ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
в деятельности, нацеленной на сохранение, улучшение и
передачу практик и обычаев, которые делали его и Англию
такими, какими они были. Культ древности обычая являлся
специфически английской разновидностью правового гуманизма,
и великие антиквары эпохи Якова I, которые утверждали этот
культ, начав подрывать его основы, — гуманисты совершенно
особого рода. Как бы далеки они ни были от гражданского
гуманизма в республиканском и флорентийском понимании, их
можно считать несомненными и уже не средневековыми
носителями гражданского сознания, определявшего публичную
сферу и образ действий в ней в традиционалистских терминах.
Мы видели, что обычай, источник вторичной природы,
служил лучшим объяснением того, что делало народ и его
законы уникальными и автономными. Где бы мы ни прочли, что
народом должны управлять законы, отвечающие его природе,
первоначально имелись в виду вторичная природа и обычное
право. Претензия на уникальность была претензией на
автономию; утверждение, что в английском праве и правлении нет
ничего, что не было бы автохтонным или не основанным на
местном обычае, подразумевало, что англичане исторически
и издревле обладали суверенитетом над самими собой. Они
являются и всегда были только тем, чем сами себя делали.
Здесь еще более отчетливо, чем даже в утверждении
Генриха VIII, что «Англия была империей и таковой признается во
всем мире»1, звучала претензия на национальную секулярную
независимость универсальной церкви. Во французской мысли
конца XVI века прослеживается родство между галликанством,
утверждавшим правовую автономию церкви во Франции, и
трудами великих ученых и антикваров, которые использовали
явную сложность французской правовой и институциональной
истории, дабы доказать, что она была sui generis и развивалась
сама собой2. Будучи менее изощренным с теоретической точки
зрения, культ «Древней конституции» сделал то же самое для
Церкви Англии, учрежденной на основе закона.
Однако историческая автономия Англии в религиозных
вопросах подкреплялась — этого не было ни во Франции, ни,
по-видимому, в какой-либо еще протестантской стране, кроме
ι. Введение к «Акту об ограничении апелляций» (Act in Restraint of Appeals,
1533). Koebner R. Empire. New York, 1961. P. 53-55, а также ниже, прим. 2
на с. 486.
2. Kelley D.R. Foundations of Modern Historical Scholarship (особенно
главы VI, IX, Χ).
485
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
Англии, в таких масштабах — посредством конструирования
национальной апокалиптики, созданной в первую очередь в
период гонений Марии Тюдор и нашедшей свое классическое
выражение в «Книге мучеников» (Acts and Monuments) Джона Фокса.
Нельзя исключать, что концептуальным источником
пересмотра священной истории является заявление Генриха VIII, что
Англия являлась «империей». Пусть приближенные Генриха
думали лишь о юридическом статусе, тем не менее у империи
должна быть историческая связь с Римом, и фигура
Константина, родившегося в Йорке1 и игравшего определенную роль
в легендах о Троянской войне и «Британии» времен короля
Артура, оказалась как нельзя кстати2. Константин в роли первого
христианского императора, создателя и низвергателя пап и
соборов, автора или неавтора предполагаемого Дара мог также
фигурировать на самом высоком уровне аргументации,
касающейся происхождения церкви и империи. Он мог представать
«равноапостольным» императором, основавшем церковь как
продолжение имперской власти, или же великим отступником,
учредившим ложную церковь своим неправомерным
отречением от этой власти. Вариации на обе темы были
многочисленными и сбивали с толку. Однако всякой из них или всем им
вместе — а рано или поздно то же самое должно было оказаться
справедливым и по отношению к любой интерпретации церкви
с точки зрения конкурирующих правовых систем — следовало
представлять Тело Христово или церковь воинствующую,
являющую себя в истории. Значит, они должны были
репрезентировать схему священной истории, в которой церковь могла
осуществиться во времени. Мы возвращаемся к точке, где
светский государь и несогласный с учением Августина еретик
объединяли свои усилия. Оба стремились отрицать, что церковь на
земле обладает властью, полученной от неподвижных небесных
иерархий и ниспосланной ей Богом из вневременной
перспективы nunc-stans. Оба были заинтересованы в установлении новой
связи между человеческим спасением и человеческой историей,
опровергая таким образом наличие у папы подобного
авторитета и объясняя, как ему удалось ложно приобрести его. Однако
ι. В действительности Константин родился в 272 году в городе Наиссе
в провинции Верхняя Мёзия. В Йорке же (в древнем Эборакуме) он
был провозглашен императором в 306 году. — Прим. ред.
2. Levy F.J. Tudor Historical Thought. San Marino, 1967. P. 83; автор
цитирует работу: Koebner R. 'The Imperial Grown of this Realm': Henry VIII,
Constantine the Great and Polydore Vergil // Bulletin of the Institute of
Historical Research. Vol. 26 (1953). P. 29-52.
486
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
если человеческая история и человеческое спасение — это
сопряженные друг с другом процессы, то постоянная историческая
несправедливость — например, отрицание этой связи — должна
быть работой сил, враждебных спасению. Едва ли не догмой
стало отождествление папы с Антихристом, обманчиво
возвещавшим возвращение Христа и присутствующим во многих
версиях эсхатологической драмы1. Лживость папы заключалась не
в какой-либо претензии на то, что он и есть вернувшийся
Мессия, а в его утверждении, что Христос присутствует на
протяжении всего времени в субстанциях таинства и установлениях
церкви. Противостоявшие понтифику благочестивые государи,
отстаивая свою сугубо мирскую власть, хранили чистоту того
времени, когда Христос еще не вернулся и известно было, что
Он не пришел, но придет. Saeculum являлось подлинно
христианским в большей степени, чем лживые претензии Рима на
вечность. Новые радикально настроенные праведники, каждый из
которых понимал свое полное одиночество перед Богом и
исключительную неповторимость взаимоотношений с Богом всякого
верующего, не признавали за светским государем власти,
подобной власти Христа (хотя некоторые, возможно, и
признавали). И все же они считали его свидетелем и защитником
свидетелей истины о пришествии Христа: судьей и по крайней мере
тем, кто оберегает пророков в новом Израиле.
Однако развитие английской апокалиптики также связано
с тем обстоятельством, что именно Англия теперь объявила себя
ответственной за свои действия в драме священной истории.
В каком-то смысле имперская и апокалиптическая мифологии
служили лишь средствами формирования этого нового типа
сознания. Халлер, автор важного современного исследования,
посвященного Фоксу, отмечает — с позиции весьма далекой от
подхода Уолцера, — что предводители пуритан, отправившихся
в изгнание при Марии Тюдор, были не
мятежниками-одиночками, «но высокопоставленными представителями
отстраненной от дел иерархии и интеллектуального класса, лелеющего
реальную перспективу возвращения законными средствами
к законной власти»8. Знамение, убедившее их в избранности их
нации — смерть Марии и восшествие на трон Елизаветы, —
обеспечило им законное возвращение и избавило от необходимости
прибегать к тирании и мятежу. Как много им потребовалось бы
ι. Lamont W.M. Godly Rule; Hill Ch. Antichrist in Seventeenth-Century England.
London, 1971.
2. Haller W. Foxe's «Book of Martyrs». P. 85.
487
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
времени, чтобы действительно превратиться в одиноких
революционеров, продлись их изгнание намного дольше, мы не
узнаем. Важно, что дольше оно не продлилось и что «империя»,
в которой они видели противницу Антихриста и свидетельницу
истины, оставалась «Англией» — комплексом светских законов,
светской легитимности и светской истории. Этот комплекс
существовал в пределах апокалиптического момента и исполнял
апокалиптическую роль. Перед нами еще одна иллюстрация
того тезиса, что именно секулярное обусловливало
необходимость в апокалиптике, но между ним и последним примером
этого явления, о котором мы говорили, существует
значительная разница. Для Савонаролы утверждение апокалиптической
роли Флоренции подразумевало одновременно утверждение
светского прошлого города и отказ от него. Именно в силу
своей «вторичной природы» флорентийцы способны начать
обновление церкви, но в этом обновлении «вторичная
природа» должна сгореть дотла. Для законопослушных и
легитимистских умов тюдоровских англичан обновление — если они
задумывались над смыслом этого слова — означало в первую
очередь восстановление законной юрисдикции над самими
собой (даже святой мыслил себя в радикализованных терминах
права). Но юрисдикция — особенно для людей, склонных
смотреть на закон с точки зрения прецедента и обычая, —
должна уходить корнями в прошлое, и это прошлое требует
постоянного подтверждения. Поэтому тезис, что Англии отводится
избранное место в апокалиптических событиях, влек за собой
мысль, что Англия выполняет особую функцию, во многом
тождественную сохранению автономной юрисдикции, на
протяжении всей истории церкви. Архиепископ Паркер, как и Джон
Фокс, постарался в деталях воссоздать эту историю, где важные
роли отводились Иосифу Аримафейскому, императору
Константину, королю Иоанну, Уиклифу и Елизавете1.
Кульминацией мысли об уникальном месте Англии в священной истории
стало часто цитируемое (но совершенно не в духе Джона Буля)
утверждение Мильтона, что прежде всего Бог открылся, «как
Он всегда делал, своим англичанам»2.
ι. Haller W. Foxe's «Book of Martyrs». P. 63-70, 108-109, 137-138, 149-172; Levy F.J.
Tudor Historical Thought. P. 87-97, 101-105, 114-123.
2. «As his manner is, first to his Englishmen»: Milton J. Areopagitica // Milton J.
Works. Vol. IV. New York, 1931. P. 340 [Мильтон Дж. Ареопагитика. Речь
о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту Англии (1644) //
Современные проблемы. Вып. I. М.; Новосибирск, 1997· С. 3Ι-79· —
Прим. ред.].
488
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Таким образом, английская апокалиптика обращена в
прошлое. По крайней мере первоначально, она склонялась к пост-
милленаристскому представлению, что тысяча лет заточения
дьявола позади и близится решающая борьба с Антихристом,
а не к премилленаристскому провозглашению грядущего
тысячелетнего царства Христа и святых, в котором все вещи
неминуемо подлежат обновлению. Первое скорее утверждает
законность существующих институтов, второе указывает на
неизбежность их преобразования. Перед нами две позиции,
которые Савонарола старался сблизить, но которые здесь выглядят
отстоящими друг от друга. Различие между ними — вопрос
выбора и расстановки акцентов. Приверженец постмилленаризма
может все еще надеяться на грядущее царствование Христа на
земле, но часто демонстративно подчеркивает свое решение не
делать этого. Теперь мы вернулись к вопросу об изучении апо-
калиптики как типа гражданского сознания. Избранная
страна — Англия, которой отводилась своя роль и которая занимала
свое место в священной истории, — стала ареной действия, и ее
устройство наделяло отдельного человека — «англичанина
Господа Бога» («God's Englishman»), а не просто «святого» — особой
функцией. Однако способы его действия могли определяться
и определялись не одним единственным образом. Поступки
подданного «благочестивого государя», возможно, преемника
Константина, который правил избранной нацией и оберегал ее
от вторжения Антихриста, состояли в повиновении.
Убедительно показано, что, с точки зрения описываемых Фоксом
пуритан, грех архиепископа Лода и его последователей заключался
в том, что они опорочили авторитет государя, а не в том, что
сделали его абсолютным1. Но уникальность Англии, а значит,
и ее полную невосприимчивость к Антихристу можно
определять также через ее древность — как сообщества, основанного
на обычае и обычном праве. Здесь деятельность божьего
англичанина сводилась к тому, что он вступал во владение
наследством в соответствии с общим правом, получал от своих
предков имущество, свободы и обычаи и передавал их дальше
в постоянно улучшаемом состоянии. Для людей 1628 года
подтверждение Великой хартии вольностей и борьба с
Антихристом в стране и за ее пределами во многом были явлениями
одного порядка2. Однако в конечном счете деятельность божьего
1. Lamont W.M. Marginal Prynne, 1600-1669. London, 1963. P. 15-21.
2. См. речь Рауза против Мануоринга: Cobbett W. Parliamentary History of
England. Vol. II. London, 1807. P. 377-379.
489
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
англичанина должна была рано или поздно стать
деятельностью пуританского святого, и здесь можно заметить различие
между избранной нацией и сообществом избранных. Если
акцент делался на первой, роль человека состояла в том, чтобы
подчиняться государю, поддерживать обычаи, хранить
королевство; если на последнем — избранные могли действовать так,
как им велело их призвание, и арена политических действий
при этом могла определяться исключительно их отношениями
с Богом и друг с другом. Нетрудно заметить, что англичанин
Господа Бога оказывался в ситуации, когда ему приходилось
выбирать: он действовал как англичанин, как традиционное
политическое существо или как святой? Впрочем, понимать
это необязательно означает осознать всю глубину проблемы.
Считается, что английская апокалиптика, у которой, по-
видимому, нет близких аналогов в протестантском мире,
получила развитие потому, что протестант в Англии тесно
взаимодействовал со светскими институтами своей страны. В духе
одновременно эрастианства1 и хилиазма он отождествлял свое
избранничество с принадлежностью к исторической нации
и переписывал священную историю, дабы привести ее в
единственно возможное соответствие этому избранничеству.
Недавнее исследование достаточно тесной связи между Джоном
Фоксом и Джоном Ноксом показывает, что последний
относительно мало размышлял о своей принадлежности к
исторической шотландской нации и что в эсхатологической мысли
шотландских кальвинистов до 1637 года нет
последовательного изложения истории Шотландии как страны избранной
нации2. Если именно светские обязательства подтолкнули
пуританского праведника в направлении эсхатологии, мы должны
признать, что он в гораздо меньшей степени был отчужден от
общественного порядка и его влияния, чем предполагал в свое
время Уолцер; и тогда нам следует пересмотреть роль в
пуританском сознании того антиномизма, от рассмотрения
которого Уолцер воздержался. Антиномизм традиционно возникает,
когда верующий приходит к мысли, что власть Бога или Духа,
действующая непосредственно над ним и в нем, превосходит
1. Доктрина, основателем которой считается немецкий теолог Томас Эра-
стус (1524-158з)· Он полагал, что церковь не может принимать
дисциплинарные меры в отношении своих членов без одобрения
государства. — Прим. ред.
2. Williamson Α. Η. Antichrist's Career in Scotland: The Imagery of Evil and the
Search for a National Past. Washington University, 1973 (неопубликованная
докторская диссертация).
490
МОДЕЛИ· ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
и отменяет власть некоего закона, заповеди которого он раньше
признавал как обязательное условие своего спасения. В
крайних случаях он может символически нарушить старый закон,
показывая, что он преодолел его или возвысился над ним.
Христиане подходили с антиномистических позиций к закону
Моисея, спиритуалы, последователи Иоахима Флорского, — к Веку
Сына и авторитету преемников апостола Петра, а хилиазм
премилленаристского толка почти неизбежно антиномистиче-
ски относился к существующим формам власти. Однако мы
имеем в виду антиномизм как явление социологии религии,
как свойство независимых сект, совершенно отчужденных от
авторитета церкви и государства. Среди анабаптистов, менно-
нитов и других течений Радикальной реформации существует
множество примеров этого явления. Разумеется, разнообразные
радикальные и антиномистические течения были
чрезвычайно распространены среди пуритан эпохи Кромвеля. Впрочем,
им была присуща большая степень политизации, большее
стремление выдвигать программы коренных светских
преобразований в таких областях, как правление, право и
распределение имущества, чем это характерно для представителей
аналогичных течений в Швейцарии, Германии и Голландии.
Перед историками стоял вопрос: идет ли речь лишь о влиянии,
которое оказало различие между кальвинизмом и хилиазмом,
между провластной и Радикальной реформацией на
обладающее развитым самосознанием и очень хорошо управляемое
английское общество?
Возможно, различие заключалось только в степени. Те же
отчуждение, осуждение греховности и опыт обращения, которые
приводили к торжеству дисциплины среди людей
кальвинистского склада, у сектантов послужили триумфу антиномистиче-
ского Духа. Однако Уолцер, намеренно не распространяя свой
анализ на представителей сект, мог тем самым подсказывать:
прямой экстраполяции недостаточно, чтобы объяснить феномен
антиномизма. Если согласиться, как мы уже предлагали, с тем,
что английский «святой» не был совершенно чужд светскому
порядку, но, наоборот, активно вовлечен в него и что его
апокалиптические настроения служили мерой и результатом этой
вовлеченности, то различие между кальвинизмом и хилиазмом
перестанет казаться просто двумя этапами одной и той же
отчужденности. Ключевым окажется временной отрезок, когда
англичанин Господа Бога, который сначала верил в
избранность своей нации в силу ее преданности своим институтам,
491
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
приходит к мысли, что некоторые из этих институтов или
все они вместе недостойны дела, ради которого избрана нация.
По мнению Ламонта, это произошло в тот момент, часто
относимый приблизительно к 1641 или 1643 Г°ДУ> когда верующий
отказался от апокалиптики Фокса в пользу апокалиптики
Томаса Брайтмана, заявившего, что Церковь Англии — не
более чем Лаодикийская церковь из третьей главы Откровения
и что Филадельфийскую церковь следовало искать в другом
месте, или же ей еще только предстояло явиться1. Очевидно,
что речь идет об антиномистическом моменте. При этом
законы, которые теперь отвергают избранные, носят — поскольку
отвергнутая церковь «учреждена на основе закона» — светский
характер и обладают хорошо известной секулярнои историей,
которую следует пересмотреть и осудить. Церковь, монархия
и сам парламент по очереди оказались в особой части лимба;
и каждый раз радикально отрицался и переписывался новый
фрагмент английской истории. Если политический характер
более антиномистически настроенных англичан Господа Бога
склонял их к мысли о создании новых институтов, способных
заменить прежние, то англичане более старой закалки
угрюмо держались за старину, даже если она была лишена печати
избранничества. Уильям Принн — опять же если опираться на
Ламонта — предстает как один из тех, кто отдал предпочтение
«Древней конституции», после того как всю жизнь был
приверженцем идеи избранной нации. Он окончил свою карьеру,
героически изучая хранящиеся в Тауэре записи в поисках
свидетельств о происхождении парламента, и весьма патетически
сравнивал себя с первосвященником Хелкией, который «книгу
закона нашел в доме Господнем»2. В Тауэре не оказалось
следов завета — только обычай и прецедент.
Будучи радикалами или консерваторами, англичане Господа
Бога непреднамеренно делали свое мышление все более
светским, следуя или сопротивляясь революционному импульсу,
который мы можем теперь рассматривать как антиномистиче-
ский. Речь идет о парадоксальном следствии безоговорочной
приверженности английским институтам: хилиасты
почувствовали бы себя обязанными преобразовать их, даже если бы
этот процесс превратил их в утилитарных прагматиков,
тогда как консерваторы, дабы встать на их защиту, оставили бы
1. Lamont W.M. Marginal Prynne. P. 59-64; Idem. Godly Rule. P. 49-52.
2. Pocock J.G.A. Ancient Constitution and the Feudal Law. P. 159, а также в
целом: Ibid. P. 155-162; Lamont W.M. Marginal Prynne. P. 175-192.
492
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
апокалиптику, к которой их влекло желание доказать
значимость институтов. Диалектика «Древней конституции» и
«избранной нации» устроена сложно и включала в себя намного
больше двух тезисов. Однако — забежав далеко вперед и
затронув период Гражданской войны и протектората Кромвеля — мы
сделали обзор типов гражданского сознания, который можем
держать в уме, исследуя истоки макиавеллиевского гуманизма
в Англии. Если и существовал момент (некоторые полагают, что
он приходился на период регентства герцога Сомерсета в
середине эпохи Тюдоров1), когда «республиканские» («commonwealth»)
гуманисты могли надеяться использовать законодательную
власть парламента, дабы установить новый режим социальной
справедливости, множество сил объединилось, чтобы
предотвратить это. Уже один страх перед беспорядком обусловливал
упрямую склонность рассматривать Англию как иерархию
уровней и статусов; твердое намерение джентри сохранить за
собой давнее право на землю и местные должности
способствовало следующему явлению: по мере того, как они заполняли
парламенты и университеты, распространяя влияние своего
мировоззрения, их идеология изображала парламент как суд,
а политическую деятельность как сохранение древних
обычаев. Наиболее радикальные протестанты вернулись из изгнания,
вооружившись идеологией, рассчитанной как на приверженных
существующим институтам англичан, так и на радикально
настроенных одиноких праведников; они пытались претворить
в жизнь программу радикальной церковной реформы с опорой
на парламент, что положило начало его новой роли в
выдвижении политических инициатив даже вопреки воле монарха.
Использование парламента для реализации пуританских
требований никогда не способствовало их окончательному
проведению в жизнь. Усилия пуритан во многом содействовали как
разрушению связи между короной и парламентом, так и
возникновению странного союза приверженца старины и юриста
с деятельным и стремящимся к порядку праведником,
которому предстояло расколоть пуританское сознание и придать ему
характерный для него динамизм. Это обстоятельство
повлекло за собой и революцию, и ее провал в следующем столетии.
Англичанин Господа Бога — сложное существо. Если была
революция святых, то была и революция советников, однако
благодаря приходским управам (classis), конгрегациям и общему
I. Jordan W.K. Edward VI: the Young King. Cambridge, Mass., 1968. P. 416-426,
432-438; Ferguson A.B. The Articulate Citizen. P. 271-273.
493
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
праву парламентские джентри усвоили технику
преобразования палаты общин в комитеты, способные оспаривать решения
суда, изобретая новые прецеденты и предъявляя претензии
на старину. Это разительно непохоже на гражданскую жизнь
в классическом ее понимании. Новые формы гражданского
сознания и действия существовали в достаточном количестве,
но нельзя было представить политическое сообщество как
совокупность этих взаимодействующих между собой форм,
которые, как мы видели, составляли суть теории полиса. В конце
концов, в значительной мере справедливо, что постелизаветин-
ская Англия оказалась лишена полноценного гражданского
сознания и находилась в рабстве у доктрины двойного величия.
Полемическая литература вплоть до 1614 и даже 1649 года
показывает, что существовала тщательно проработанная теория
королевского правления и авторитета, четко
артикулированная концепция привилегий и обычая, религиозное почитание
обеих и никаких доступных способов их соединить. Однако
видеть в этом указание на нехватку гражданского сознания
менее правильно, чем видеть его избыток, который не могли
вместить существующие институциональные и понятийные
модели. Во время неожиданного краха сороковых и
пятидесятых годов предпринимались как радикальные, так и
консервативные попытки пересмотреть условия, на которых
англичане как члены гражданского общества жили друг с другом.
В этом начинании свою роль сыграли теории классического
республиканизма.
IL
Обычай и благодать — два из трех компонентов модели, на
которой основана эта книга, — послужили для весьма
самостоятельной позднетюдоровской Англии средством, позволившим
ей истолковать свою природу. Они предоставляли образы ее
специфического и при этом непрерывного существования во
времени. Нам надо определить обстоятельства, при которых
стало важно использовать третий язык нашей модели, который
позволял осмыслять единичное, — тот, что основан на
понятиях фортуны и добродетели. Во Флоренции, по-видимому, он
начал играть значимую роль, лишь когда республиканское
сознание достигло высокой степени интенсивности. Англичанам
Елизаветинской эпохи эти понятия были прекрасно знакомы,
и среди них насчитывалось немало тех, кто прилежно изучал
494
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
гуманистическую политическую теорию в ее республиканской
форме. Шекспировский «Кориолан» мог предназначаться только
публике, сознававшей, что для предотвращения порчи
гражданской добродетели необходима уравновешенная республика1.
Однако сами образованные зрители не были убежденными
республиканцами. Огромный корпус литературы о Фортуне
среди их исторических и драматических произведений
преимущественно подчинен теме порядка. Образ Колеса
предостерегает человека от заносчивости честолюбия, которое
может соблазнить его переступить границы своего чина2. Нельзя
сказать, что эта позиция несовместима с классической точкой
зрения на гражданское общество. С некоторыми оговорками
можно утверждать, что немногие и многие — это сословия,
которые должны занимать отведенные им места и проявлять
приличествующие им добродетели, и в этом отношении
республика и иерархия совпадают. Однако существует коренное
различие между элементами, выстроенными в ряд по
нисходящей линии, и элементами, уравновешивающими друг друга.
Последний порядок — кинетический; равновесие
поддерживается за счет взаимных давлений, компенсирующего
воздействия элементов, которые должны состоять в определенных
отношениях между собой, равно как и удерживаться в
границах предписанной им природы (или добродетели). Мы видели,
как Донато Джаннотти пытался отслеживать последствия
баланса между типами деятельности, пока не начали возникать
противоречия. Наконец, согласно Боэцию, жизнь, посвященная
гражданской активности, становилась уязвимой для фортуны,
а республика, будучи сообществом, где каждый определял себя
через деятельность, являлась сообществом, которое в силу
своей политической формы обязано было этой уязвимости
противостоять. Государства и нации, подобно отдельным людям,
могли возноситься и падать, когда честолюбие обрекало их на
попытку забраться на вершину Колеса. Но лишь республика
обязывала человека противопоставить добродетель фортуне
1. См.: Huffman С.С. Coriolanus in Context.
2. Levy F.J. Tudor Historical Thought. P. 212-225. О концепции fortuna,
господствовавшей среди аристократических родов и тех, кто состоял
у них в подчинении, очень далекой от связи с судом, но не
содержащей коренных отличий от преобладающих там более традиционных
образов, см.: James Μ. Ε. Obedience and Dissent in Henrician England: the
Lincolnshire Rebellion 1536 // Past and Present. Vol. 48 (1970). P. 71-78; Idem.
The Concept of Order and the Northern Rising 1569 // Past and Present.
Vol. 60 (1973). P. 52.
495
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
в качестве условия политического бытия. Добродетель была
принципом республик.
Из этого следует: коль скоро политическое общество
мыслилось как сообщество деятелей, следует ожидать, что мы
обнаружим следы противопоставления добродетели и фортуны,
а также — учитывая распространение флорентийской
литературы по всей Европе — правильного понимания основной
проблематики Макиавелли и солидарности с ней. Но мы
предположили, что в постреформационной Англии этот тип сознания
необходимо конкурировал с другими — иерархией чинов,
сообществом, основанном на обычае и обычном праве, идеями
национального избранничества. В рамках этих концепций
человек мыслился как публичный деятель, но на более низких
уровнях, чем те, которые делали макиавеллиевского
человека экзистенциально зависимым от собственной добродетели.
Пока эти виды сознания оставались в силе, трудно или даже
не нужно было представлять англичанина как гражданина или
Англию как Рим в понимании Макиавелли. Пока
предполагалось, что человек действует внутри устойчивых предписаний
морального авторитета, осмысление идей Макиавелли
ограничивалось беспокоящими читателей и подрывными с точки
зрения морали аспектами его мысли — и существенно ее
искажало. Это искажение можно дополнительно объяснить,
предположив, что моральная провокация Макиавелли может быть
в полной мере очевидной лишь тогда, когда окажется понят
и усвоен его республиканизм. Как следствие, подданные
христианских государей, негодовавшие на безнравственного
автора «Государя», едва ли могли правильно оценивать ситуацию1.
Подлинный макиавеллизм должен, вероятно, обнаружиться
там, где политическое сообщество окончательно осознает, что
его vita является activa, и создает собственную мораль.
Между тем первые английские последователи Макиавелли были
придворными. Англия после Реформации все еще оставалась
монархическим обществом. Монарха окружал социальный
микрокосм, представителям которого в наибольшей степени
было свойственно осознавать себя как индивидов, активно
участвующих в управлении государством. В идеале двор
видел себя платонически, в виде системы чинов и планет,
вращающихся по назначенным орбитам вокруг расположенного
в центре Солнца. Даже когда стало очевидно, что Гринвич
ι. Лучшая работа об антимакиавеллизме в Англии: Raab F. The English
Face of Machiavelli. London, 1968.
496
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
и Уайтхолл — это не прекрасные и безвредные города вроде
Урбино, а беспокойные, безжалостные и садомазохистские
водовороты власти, то прежние представления не изменились:
Колесо Фортуны оставалось символом жизни придворного
в устойчивом средневековом смысле. Он падал лишь потому,
что пытался подняться выше. Но за этими текстами
обнаруживается точка зрения (которую Августин и Боэций
смогли бы понять, хотя и отвергли бы), согласно которой
придворный едва ли мог вести себя иначе. Он обладал своим virtus
и ingenium1, которые побуждали его действовать, искать
одновременно службы и власти и делали его уязвимым для/ortuna.
Чем явственнее это осознавалось, тем в большей степени двор
превращался в мир с собственными нравственными законами,
а придворный в силу своей природы сталкивался не только
с опасностями такой жизни, но и с ее нравственными
дилеммами. Позднее, относящееся к эпохе Карла I выражение этой
рефлексии можно найти в пространном письме, написанном
сэром Эдвардом Стэнхоупом Уэнтуорту, когда тот собирался
занять пост Лорд-лейтенанта Ирландии2. При дворе
Елизаветы и Якова было создано немало достопамятных сочинений,
свидетельствующих об отвращении и восторге в отношении
рассматриваемого нами хода мысли. Однако ни одно пособие
или учебник по придворной жизни не поднялись на ту высоту
политического анализа, какую мы видим у Макиавелли или
Хань Фэя. Как политическое сообщество двор не был вполне
естественным для человека явлением; он опирался на
слишком малое число способностей слишком небольшого числа
людей. Только республика представляла собой полноценный
нравственный вызов.
Можно предположить, что политизированное сознание
двора отчасти передалось всей стране. По мере того, как среди
недовольных аристократов и дворян в парламенте и графствах
росло чувство общности, сама Англия стала восприниматься
как республика, где отношения между сословиями и
правителем оказывались подвижны и подвержены превратностям
фортуны. Их можно было описать в категориях, близких
Макиавелли. Но здесь мы должны по-прежнему соблюдать
осторожность в выборе формулировок. Прежние речевые модели,
построенные на средневековой картине власти, нисходящей
1. Талант, врожденные способности (лат.).—Прим. ред.
2. gagorin P. Sir Edward Stanhope's Advice to Thomas Wentworth... // The
Historical Journal. 1964. Vol. 7. № 2. P. 298-320.
497
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
от Бога и определяющей каждому представителю иерархии его
место, еще оставались влиятельными. Как следствие,
республиканское мировоззрение медленно и постепенно двигалось
против основного течения. Когда нам встречаются — а они
встречаются — высказывания, носящие на себе явный
отпечаток мысли Макиавелли, возникает новое затруднение: они
могли быть пропущены через фильтр еще одного
политического языка, известного как тацитизм, чье отношение к
макиавеллизму неоднозначно1. Сторонники тацитизма принимали
власть государя как естественную или по крайней мере
признанную, а не как следствие нововведений. Поэтому они
разделяли общее порицание Макиавелли за его скептический,
почти атеистический, взгляд на авторитет. Однако в центре
тацитизма стояли отношения между, с одной стороны,
придворными, членами сената, другими аристократами и, с
другой, завистливым и подозрительным государем, в связи с чем
он мог опираться на представленные у Макиавелли способы
изображения беспокойного и опасного мира политики, но
составлявшего часть универсальной структуры власти. С точки
зрения тацитизма государю подобало быть подозрительным,
ибо он обладал естественной и законной властью над людьми,
такими, какими позволял им быть реальный (или падший)
мир. При этом правитель мог оказаться не в силах умерить
свою подозрительность, и, как следствие, она могла доходить
до крайности и разрушать его естественный и законный
авторитет, — завистливость тиранов почти вошла в поговорку.
Генрих VII представал в изображении Бэкона монархом, которому
в целом удавалось сдерживать свою подозрительность, однако
мы неоднократно читаем: поскольку вельможи этого короля не
опасались его гнева, они не взаимодействовали с ним больше,
чем того требовали их обязанности2.
В той мере, в какой подобные языки — тацитовский, макиа-
веллиевский или иной другой — применялись к отношениям
1. Levy F.J. Tudor Historical Thought. P. 237-251; Burke P. Tacitism // Tacitus /
Ed. by T.A. Dorey. New York, 1969.
2. Bacon F. History of the Reign of King Henry VII // Bacon F. Works / Ed.
by J. Spedding, R.L. Ellis and D.D. Heath. London, 1890. Vol. VI. P. 242;
Idem. Of Empire // Ibid. P. 422. Леви (Levy F.J. Tudor Historical Thought.
P. 252-268) анализирует исторические исследования в духе тацитизма
на материале работ Бэкона и сэра Джона Хейворда. См. также
предисловие к его изданию «The Reign of King Henry VII» (Indianapolis, 1972).
На русском языке: Бэкон Ф. История правления короля Генриха VII.
Μ., I990.
498
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
между королем и различными сословиями или слоями
общества в управляемой им Англии, проблема стабильности в
государстве формулировалась иначе по сравнению с тем
преимущественно средневековым языком, к которому прибегали
авторы эпохи Тюдоров, говоря о войне Алой и Белой розы.
В сочинениях некоторых из наиболее влиятельных — и
неудачливых— придворных мыслителей постелизаветинской эпохи
мы можем, держа в уме упомянутые предостережения,
различить намечающиеся признаки этой перемены. Написанный
Фулком Гревиллом объемный стихотворный «Трактат о
монархии» (Treatise of Monarchy), на первый взгляд, полностью
соответствует традициям изображения нисходящей перспективы
власти: авторитет короля абсолютен и не допускает
сопротивления. Монархическое правление сравнивается с
аристократией и демократией как альтернативными видами суверенитета
лишь крайне невыгодным для последних образом. Однако оно
существует только как ответ на несовершенство мира, а это
несовершенство — результат перемены, новизны или
грехопадения. «До времени повести» существовал золотой век, когда
порядок поддерживался сам собой, без меча или скипетра, но
some disproportioned tyde
Of times self humours hath that commerce drown'd
To which this image showes those tymes were bound1.
(Несоразмерная волна / Времен своенравных смыла те
отношения между людьми, / С которыми, как показывает этот
образ, те времена были связаны.)
«Времена повести» начались тогда, когда людям потребовалось,
чтобы ими управлял некий суверен, страх перед которым
обеспечивал бы порядок. Он предстает не просто судьей,
утверждающим вечные законы, которым люди перестали подчиняться
самостоятельно. Он — властитель, практикующий манипуля-
тивное государственное управление и воздействующий на
подданных, растерянных, испуганных, стремящихся к власти
натур, таким образом, что они сами не вполне сознают это. Его
искусство покрыто тайной, ибо люди, к которым он его
применяет, уже не являются всецело рациональными существами.
Король — это человек, соучаствующий в общей греховности,
I. Wilkes G.A. Fulke Greville, Lord Brooke: The Remains, Being Poems of
Monarchy and Religion. London, 1965. P. 34 (строфа ι, строка ι), 39
(строфа i8, строки з~5).
499
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
и искусство может оставаться непостижимым даже для него
самого. В падшем мире даже власть, облеченная
божественным авторитетом, носит характер практики, а не чистой
нормы. Могущество короля становится абсолютным вследствие
нравственного несовершенства, из чего неизбежно вытекает,
что это несовершенство может оказаться присущим и ему
самому. Через короля действует Бог, но даже сам король может не
знать, как именно. Дистанция между монархом — наместником
Бога, приводящем в исполнение Его приговоры, и
завоевателем— бичом Божиим, который карает по Его воле, велика, но
не непреодолима. В этом контексте многие писатели и
проповедники впоследствии возвращались к двусмысленным
предостережениям, которые Бог адресовал израильтянам, говоря им
о будущем царе. Гревилл, продолжая классическую тему,
объясняет, что «сильный тиран», если он достаточно умен, будет
править почти неотличимо от хорошего короля1, — этот вопрос
рассматривался Аристотелем и волновал Макиавелли. Однако,
поскольку тиран, правя добродетельно, руководствуется не
моральными принципами и разумом, а лишь житейским
благоразумием, он сам до конца не понимает причин собственной
добродетели. Мы вновь возвращаемся к кентавру Макиавелли,
и возникает тревожащая мысль, что все короли были
поначалу кентаврами — по крайней мере наполовину их природа
состояла из природы «сильных тиранов».
Между властью короля и его умом существует разрыв:
первая абсолютна, потому что последний несовершенен. Поскольку
несовершенство ума объединяет короля с остальными людьми,
то власть, которой Бог обладает над всеми падшими, лишь
волей Провидения сосредоточена в руках человека,
являющегося королем. Она должна быть абсолютной, но в то же время
опираться скорее на осмотрительность, чем на разум. Теперь
можно утверждать, что, поскольку ум короля столь же
несовершенен, как и ум его подданных, он должен постоянно
учитывать их законы, обычаи и мнения, созывая их для совета по
конкретным поводам и регулярно. Впрочем, поскольку он
наделен единоличной властью перед лицом Бога, король не
обязан прислушиваться к мнениям юристов или парламента. Он
поступает так лишь потому, что к этому его побуждает
рассудительность. Однако это лишь означает следующее: его
нисходящая власть в сочетании с несовершенным умом встречается
ι. Wilkes G.A. Fulke Greville, Lord Brooke. P. 78-82 (строфы 171-191).
500
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
с несовершенными умами его подданных, чтобы обмениваться
опытом и советоваться друг с другом. В той мере, в какой опыт
близок разуму, можно сказать, что голова и остальные части
тела составляют достаточно рациональный corpus misticum (если
степень рациональности вообще поддается измерению). Тем не
менее наблюдается ощутимое и важное для сознания эпохи
Якова I смещение акцентов — от совета к искусству управлять
государством. Если в той точке, где монарх и народ
сходятся в несовершенстве ума, люди представляются жаждущими
власти, испуганными и растерянными, монарх становился не
только грозным властелином, не просто соединял их опыт со
своей рассудительностью, но также таинственным образом
воздействовал на них1. Чтобы осуществлять это, ему надлежало
обладать неизвестными людям способностями. Вероятно, он
должен был понимать их природу так, как они сами ее не
понимали. Если допустить, что власть короля — следствие
несовершенства ума, от которого сам он несвободен, и что искусство,
благодаря которому он управляет государством, непостижимо
даже для него самого, то логично предположить также, что
он, встречаясь с представителями разных сословий, может не
только воздействовать, но и сам подвергаться воздействию: так
голова и другие части тела оказываются в состоянии
соперничества между собой в управлении государством. Однако здесь
пристрастие Тюдоровской эпохи к нисходящей перспективе
власти влекло за собой наиболее сильные возражения;
представить себе такую вероятность можно только затем, чтобы ее
отвергнуть. Впрочем, как мы видим, если когда-либо
признавалось, что сословия сами осуществляют деятельное и
эффективное управление и что arcana imperii стали доступны немногим
и многим, единственный способ восстановить нравственность
corpus misticum — это воссоздать его как республику в
буквальном смысле сотрудничества или взаимодействия между
разными формами добродетели и интеллекта. Такая республика
могла представляться ответом на несовершенство ума и хаос
времени, еще более убедительным, нежели нисходящая власть
монарха, или как возрождение незапамятного золотого века.
I. Отсюда, вероятно, присущий этому периоду интерес к нравственной
проблеме, связанной с вопросом, насколько король может
притворяться перед безнравственным подданным, не доходя при этом до лжи.
См.: Mosse G.L. The Holy Pretence: A Study in Christianity and Reason of
State from William Perkins to John Winthrop. Oxford, 1957, где указано на
совмещение пуританской и макиавеллиевской мысли.
50I
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
Однако подданным Якова I подобное переустройство
королевства даже теоретически — а не то что практически — было
почти непонятно.
Таким образом, оказывалось возможным сочетать
господствующую монархическую парадигму с элементами гражданской
и даже макиавеллиевской мысли. Нисходящая власть
государя встречалась с гражданской способностью сословий. Можно
считать, что они вкладывали в этот союз или свой опыт, или
свою деятельность, — и, учитывая, что обе палаты парламента
обретали все большую самостоятельность, последняя
становилась все более заметной. Верхняя палата представляла знать,
нижняя — общины, и не ощущалось нехватки в основанном
на классике понятийном аппарате, который позволял
обозначить их как немногих и многих. Как следствие, нет особой
необходимости прослеживать, когда впервые было объявлено, что
английское правление сочетает в себе монархию, аристократию
и демократию, как учили лучшие философы Античности1. Но,
поскольку власть всецело принадлежала королю, а необходимость
советоваться или даже обсуждать что-либо со знатью и
общинами определялась только рассудительностью, язык, несущий
на себе отпечаток теории смешанного правления Аристотеля
и Полибия, оказывался неадекватным. Тем не менее сказать,
что он был неизвестен, никак нельзя. В определенный момент
монархическая парадигма потерпела крах и королю пришлось
признать, что, по принуждению или по справедливости, но он
делит свою власть с другими. Как мы увидим, тогда уже была
доступна терминология, характеризующая правление в
Англии как сбалансированное отношение короля, лордов и общин.
Важно, однако, что нормативная теория сбалансированного
или смешанного правления была несовместима с
представлениями Тюдоровской эпохи о нисходящей власти и что элементы
республиканской мысли приживались лучше всего, когда речь
шла о ситуациях, не вполне подвластных праву. Как правило,
король приобретал наибольшее сходство с государем Макиавелли,
когда в наименьшей степени мог руководствоваться законами
или даже arcana, а независимые воли представителей высших
или низших сословий проявляли себя деятельно и менее всего
направлялись законной властью. Поэтому, именно размышляя
об искусстве управления государством, мыслители эпохи Якова I
I. Weston С. С. English Constitutional Theory and the House of Lords. London,
1965. P. 9-23.
502
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
чаще всего обращались к тем элементам республиканской
традиции, которые приписывали своеобразные качества —
интересы, нравы, particular? — королям, аристократам и народам,
анализируя вероятные конфликты между ними и способы их
примирения. Внимание к вторичным причинам, которое часто
называют отличительной чертой историографии эпохи
короля Якова, могло возникнуть именно таким образом. В той мере,
в которой это было справедливо, интерес казался скорее макиа-
веллиевским и скептическим, чем хладнокровным и научным.
В новейшем исследовании, посвященном сочинениям сэра
Уолтера Рэли, предлагается исключить из канона написанных
им произведений «Максимы государства» (The Maxims of State),
хотя автор указанной работы признает возможным, что они
были найдены среди бумаг Рэли и «составляли часть его
документов» (прежде подобная судьба постигла «Заседание
кабинета» (The Cabinet Council)*). Нет оснований делать такое же
предположение о «Заседании кабинета», хотя текст, по-видимому,
был написан современником Рэли, вероятно, неким не самым
известным придворным3. Однако если Рэли был знаком с
«Максимами государства», то он читал и труд, где описаны
классические типы правления — хорошие и дурные, простые и
смешанные, дополненные делением монархий на преемственные
и избирательные, абсолютные и смешанные, унаследованные
и завоеванные, сочинение, где рассматриваются способы
сохранения каждого представленного типа, которые, в свою очередь,
делятся на «правила», имеющие в основе этический принцип,
и «софизмы», его лишенные. В «Максимах государства»
Макиавелли упоминается с неодобрением, но любой читатель
того времени увидел бы, что это «макиавеллиевское»
произведение в том смысле, что это работа о ragione di stato4, в
которой решалась задача защиты как санкционированных, так
и несанкционированных форм правления. Бросается в глаза,
насколько подробно автор этого сочинения останавливается
на правильной системе распределения оружия в монархиях,
аристократиях и народных государствах5, ибо мы привыкли
считать эту проблематику особенностью работ, относящихся
1. Особенности (итпал.). — Прим. ред.
2. Lefranc P. Sir Walter Ralegh écrivain. Paris, 1968. P. 67-70.
3. Ibid. P. 64.
4. Государственный интерес (итпал.). — Прим. ред.
5· The Works of Sir Walter Ralegh, Kt / Ed. by W. Oldys and T. Birch. Oxford,
1829. Vol. VIII. P. 1-36.
503
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
к флорентийской традиции, где распределение оружия
являлось одной из важнейших «побочных причин» преобладания
аристократии или демократии, свободы или развращенности.
Особую ценность представляли бы свидетельства о более
ранних теоретических трудах Рэли, интерпретирующих эту темы
и объясняющих ее значимую роль в «Прерогативе
парламентов» (The Prerogative of Parliaments), наиболее новаторском и
оригинальном из приписываемых ему политических сочинений.
Этот диалог между советником государства и мировым судьей,
которые состоят в палате общин, — первое из нескольких
исследований разладившихся отношений между королями из
династии Стюартов и их парламентами, которые мы будем
рассматривать в связи с «макиавеллиевским» характером
осуществляемого в них социального анализа1. В этой работе
советник предстает все более властолюбивым и развращенным.
Текст полон иронии и загадок, и на всем его протяжении
утверждается, что именно рассудительность, а не обязательства
или справедливость, побуждает короля обсуждать свои
желания с членами парламента в стремлении сохранить их
преданность, хотя в то же время он оставляет за собой полную свободу
действий. Однако нет необходимости усматривать какую-либо
иронию в том, что Рэли признает легитимность королевской
власти. Он лишь полагает, что по своей природе она такова,
что ею нельзя пользоваться, не прибегая к средствам, которые
следует воспринимать иронически, то есть к искусству
управления государством. Правление короля — искусство; он правит
в мире, который невозможно познать в совершенстве,
поскольку этот мир переменчив и подвержен воздействию вторичных
факторов. Именно в таком контексте Рэли сообщает, что
причина трудностей, испытываемых королем во взаимоотношениях
с парламентом, отчасти заключается в упадке частных
военных отрядов, которыми некогда располагали крупные
аристократы. Содержание оружия и солдат теперь подведомственно
государству и является проблемой государственного кошелька2.
Несомненно, перед нами свидетельство того, что англичане
начали непосредственно осознавать перемены, происходящие
в их социальной и политической жизни. Все знали о войне
Алой и Белой розы, в которой сражались армии, следовавшие
за могущественными сеньорами и влиятельными подданными.
ι. The Works of Sir Walter Ralegh, Kt. P. 157-221.
2. Ibid. P. 163, 183-185.
504
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В отсутствие каких-либо весомых письменных данных,
которые могли бы сообщить сведения о вассалах и «проклятом
феодализме», мы должны опираться на документальные
источники, говорящие о существовании подлинной устной
традиции, хранящей память об этих весьма недавних событиях.
Вплоть до конца XVII века можно встретить в речах и
памфлетах отсылки к «голубым камзолам» и «камзолам с
эмблемами», указывающие, что публика знала об этих отличительных
предметах одежды и знаках, которые некогда носили дворяне,
чтобы обозначить свою зависимость от могущественных
сеньоров, и что напоминание об этом обстоятельстве не
доставляло ей удовольствия1. Однако Рэли, как и другие, явно
утверждает, что сеньоры утратили свою прежнюю военную мощь. Он
формулирует обобщенную гипотезу, согласно которой в
социальных и политических отношениях между королем, знатью
и народом произошла перемена. В «Прерогативе парламентов»
этот фрагмент служит одним из указаний на все более острое
историческое сознание того факта, что Англия обладает
феодальным прошлым, отличным от настоящего.
Одновременно флорентийская традиция, склонная проводить параллель
между распределением оружия и распределением
политического влияния между социальными группами, выступает
подходящим парадигматическим контекстом для развития идей
о значимости этого прошлого в объяснении политических
изменений в Англии. Рэли имел представление о Макиавелли,
Фрэнсис Бэкон — также (на этом можно было бы остановиться
намного подробнее). Бэкон не только указывает — в «Истории
правления короля Генриха VII» и в «Опытах» — на
освобождение йоменов от воинской повинности своим сеньорам, но,
кроме того, в контексте империи, завоеваний и величия
государств отмечает, что пехота составляет нерв армии2. Он
прибегал к традиции — наиболее убедительно представленной
1. См., например: MarvellA. An Account of the Growth of Popery and Arbitrary
Government in England... London, 1677. P. 74-81: «It is as well known among
them [то есть принадлежащих к различным фракциям членов
палаты общин] to what Lord each of them retaine, as when formerly they wore
Coats and Badges»; «Среди них [то есть принадлежащих к различным
фракциям членов палаты общин] хорошо известно, кто из них служит
какому лорду, потому что ранее они носили камзолы и эмблемы». См.
то же в связи с Г. Невиллом ниже, с. 586-587.
2. Bacon F. History of the Reign of King Henry VII. P. 93-95; Idem. Of the True
Greatness of Kingdoms and Estates // Idem. Works. Vol. VI. P. 446-447.
Важное исследование, посвященное этой связи: Orsini N. Bacone e Machiavelli.
Genova, 1936.
505
ГЛАВА X ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
у Фортескью, — противопоставлявшей крепость английских
йоменов нищете французских крестьян и предполагавшей, что
те же свойства, благодаря которым первые проявляли себя как
хорошие воины, затрудняли сбор налогов и управление ими
без их согласия1. Попав в макиавеллиевский контекст, эта
традиция выглядит так, словно она именно для него и создана.
Таким образом, мысль эпохи Якова I содержала элементы
макиавеллизма, то есть элементы «макиавеллиевского»
описания английской политии, в рамках которого она представала
как отношения одного, немногих и многих, скрепленные
оружием, государственным управлением и моральной
двусмысленностью. К такой точке зрения мог быть близок совет
восстановить республику на более высоком (пусть и не лишенном
двусмысленности) нравственном уровне. Однако лишь крах
монархии и Гражданская война позволили на деле применить
этот совет. Так как нисходящая власть сливалась с
восходящим обычаем, обязанность уважать привилегии подданных
оставалась вопросом рассудительности короля. Она не была
следствием разделения власти и разделением ответственности
за нее между ним и подданными. Джон Пим, будущий
предводитель революции, в 1628 году осуждая Манваринга за то, что
тот придавал слишком большое значение тезису о
нисходящей власти, из чего можно было сделать вывод, будто монарх
имеет право на собственность любого человека, использовал
язык, который хорошо это показывает. Он сказал:
Форма правления есть то, что приводит в действие и
использует каждую часть и каждый элемент на пользу общему благу,
и по мере того, как эти части сообщают силу целому и служат
ему украшением, они, в свою очередь, получают от него силу
и покровительство согласно своему положению и уровню. Если
нарушить их взаимные отношения и взаимодействие между
ними, вся система быстро распадется и рассыплется, и вместо
этой гармонии и взаимной поддержки, когда одна часть
стремится укрепить старую форму правления, а другая — ввести
новую, они будут плачевным образом уничтожать и поглощать
друг друга. История полна примеров таких бедствий,
охватывавших целые государства и народы. Верно говорят, что
время неизбежно влечет за собой изменения и что каждое
изменение — шаг и движение в сторону распада; вечно лишь то, что
ι. Fortescue J. The Governance of England. London, 1926. P. 137-142.
506
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
постоянно и единообразно. Поэтому лучшие авторы замечают
в этом отношении, что наиболее устойчивыми и долговечными
были те республики, что постоянно преобразовывались и
перестраивались в соответствии со своими первоначальными
порядками и установлениями, ибо таким образом они
устраняли свои изъяны и противостояли обычному и естественному
воздействию времени1.
В языке Пима иерархия и республика смешаны. С одной
стороны, существует «великая цепь бытия», которая может
нарушиться, если любое из ее звеньев отклонится от отведенного
ему положения и уровня. С другой, цепь — это целое, ее
звенья — части, и их функция никоим образом не сводится к
поддержанию статичного порядка, который описывается как
«взаимные отношения и взаимодействие», «гармония и взаимная
поддержка». Сопротивление порядка естественному
разрушительному влиянию времени должно заключаться в
изложенном Макиавелли принципе ridurre ai рггпсгргг2. Однако по-
прежнему неясно, предлагает ли он нечто, кроме воссоздания
иерархии. Используемый язык почти наводит на мысль, что
монарх — одна из частей целого, а в этом случае требовалось
уточнить, как он и все остальные части способствуют
«взаимодействию», которое, в свою очередь, должно стать
совместным осуществлением власти, разделенной между партнерами.
По всей видимости, Пим не предпринимает этого ключевого
шага от смешанной монархии к смешанному правлению. Язык
иерархии препятствует ему сделать это, a ridurre ai рггпсгргг мог
1. «The form of government is that which doth actuate and dispose every part and
member of a state to the common good; and as those parts give strength and
ornament to the whole, so they receive from it again strength and protection
in their several stations and degrees. If this mutual relation and intercourse
be broken, the whole frame will quickly be dissolved, and fall in pieces, and
instead of this concord and interchange of support, whilst one part seeks to
uphold the old form of government, and the other part to introduce a new,
they will miserably consume and devour one another. Histories are full of
the calamities of whole states and nations in such cases. It is true that time
must needs bring some alterations, and every alteration is a step and degree
towards a dissolution; those things only are eternal which are constant and
uniform. Therefore it is observed by the best writers upon this subject that
those commonwealths have been most durable and perpetual which have
often reformed and recomposed themselves according to their first institution
and ordinance, for by this means they repair the breaches and counterwork
the ordinary and natural effects of time». Цит. no: Kenyon J. P. The Stuart
Constitution, 1603-1688. Cambridge, 1966. P. 17.
2. Возвращаться к началам (итпал.). — Прим. ред.
507
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
состоять в поддержании древнего обычая, а также
«очередности и места». Он продолжает:
Следы этих законов отчетливо прослеживаются в правлении
саксов; так крепки и прочны они были, что пережили
Завоевание1... стали границами и рубежами для Завоевателя, чья
победа дала ему поначалу надежду. Но корону он обеспечил
себе и завладел ею благодаря соглашению, взяв на себя
обязательство соблюдать эти и другие древние законы и свободы
королевства, которое он впоследствии подтвердил клятвой во
время коронации. От него упомянутое обязательство перешло
к его потомкам. Правда, они часто нарушались, их часто
подтверждали указы королей и акты парламента, но прошения
подданных, на которых основаны эти указы и акты, всегда
были прошениями о праве, требующими положенных им
древних свобод, а не добивающимися каких-то новых2.
Здесь отражен миф о «Древней конституции», уже полностью
оформившийся в 1628 году, когда велись ожесточенные споры
относительно Петиции о праве, к которой косвенно отсылает
Пим. Но если свободы подданных строились на обычае и праве
рождения, собственности и наследовании — древних
механизмах,— они не могли быть следствием или причиной какого-
либо разделения власти между королем и народом. Пим
достаточно убедительно доказал, что король не создал — равно как
и не пожаловал или не уступил — свобод, но лишь этим его
аргументация отличается от доводов, к которым шесть
месяцев спустя прибег Уэнтуорт. Согласно аргументам последнего,
нисходящая власть и восходящая свобода соединялись лишь
иерархией чинов и обычаем.
1. Имеется в виду завоевание Англии норманнами в юбб году.—Прим.
перев.
2. «There are plain footsteps of those laws in, the government of the Saxons;
they were of that vigour and force as to overlive the Conquest, nay, to give
bounds and limits to the Conqueror, whose victory gave him first hope. But
the assurance and possession of the Crown he obtained by composition, in
which he bound himself to observe these and the other ancient laws and
liberties of the kingdom, which afterwards he likewise confirmed by oath
at his coronation. From him the said obligation descended to his successors.
It is true they have been often broken, they have been often confirmed by
charters of kings, by acts of parliaments, but the petitions of the subjects
upon which those charters and acts were founded were ever petitions of right,
demanding their ancient and due liberties, not suing for any new» (Kenyon J. P.
The Stuart Constitution, 1603-1688. P. 17).
508
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ДО АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Государи должны быть снисходительными, заботливыми
отцами своих народов. Их скромные свободы, их умеренные права
должны быть драгоценны в глазах правителей; да послужат
ветви их правления укрытию, жилью, жизненному комфорту,
покою и безопасности и продолжат находиться под защитой
их скипетра. Подданные, в свою очередь, обязаны с ревнивой
заботой относиться к прерогативам короны; власть короля —
замковый камень, венчающий арку порядка и правления,
который поддерживает должное отношение каждой части к целому
и который, если его однажды нарушить... вызывает обрушение
всей конструкции. <...> Поистине, именно эти взаимные
проявления любви и опеки сверху и преданности снизу должны
существовать... между королем и его народом. Их верные слуги
должны одинаково смотреть на обоих: сплетать, прилаживать
двоих друг другу во всех своих советах; учиться, трудиться,
чтобы сохранить каждого из них, не уменьшая и не укрупняя
их, и, ступая по изношенным, извилистым тропам,
оставаться в издревле положенных пределах, пресекая все разногласия
между ними. Ибо кто бы ни внес сумятицу в вопросы прав
короля и народа, он уже не сможет восстановить в них
стройность и порядок, им найденные...1.
Разногласия не были пресечены, и порядок в этих
вопросах не восстановился. Однако лишь когда споры такого рода
совершенно вышли из-под контроля, предлагаемые
спорящими варианты пересмотра английского политического
порядка, в республиканских или макиавеллиевских терминах,
выражали уже не просто личное мнение и разочарование, как
I. «Princes are to be indulgent, nursing fathers to their people; their modest
liberties, their sober rights, ought to be precious in their eyes; the branches
of their government be for shadow, for habitation, the comfort of life, repose,
safe and still under the protection of their sceptres. Subjects on the other
side ought with solicitous eyes of jealousy to watch over the prerogatives of
a crown; the authority of a king is the keystone which closeth up the arch
of order and government, which contains each part in due relation to the
whole, and which once shaken... all the frame falls together. <...> Verily,
these are those mutual intelligences of love and protection descending, and
loyalty ascending, which should pass... between a king and his people. Their
faithful servants must look equally on both: weave, twist these two together
in all their counsels; study, labour to preserve each without diminishing or
enlarging either, and by running in the worn, wonted channels, treading the
ancient bounds, cut off early all disputes from between them. For whatever
he be that ravels forth into questions the right of a king and of a people,
shall never be able to wrap them up again into the comeliness and order he
found...» (Ibid. P. 18-19).
509
ГЛАВА X. ПРОБЛЕМА АНГЛИЙСКОГО МАКИАВЕЛЛИЗМА
в случае с Рэли. Как только было признано, что союз между
властью и свободой разрушен, стало возможно признать, что
и правление представляет собой разделение власти по
образцу смешанной конституции у Полибия, и это открывало путь
к дальнейшим теоретическим исследованиям. Впрочем, умы,
цеплявшиеся за понятийный аппарат монархии и общего права,
признавали это неохотно; даже когда разрыв уже произошел,
умы, поднявшиеся к поверхности колыхаемых фортуной вод
республиканской теории, продолжали руководствоваться
богословскими в своей основе понятиями, казуистикой и апока-
липтикой, немало способствовавшими тому, чтобы
предотвратить развитие макиавеллиевских категорий мысли и увести
его в другую сторону. Мы увидим, что английский
макиавеллизм возник — как и мышление самого Макиавелли — после
поражения хилиастической революции, но мы узнаем также,
что здесь он получил неожиданное продолжение.
Глава XI
Англизация республики
А) Смешанное правление, святой и гражданин
I.
21 июня 1642 года, приблизительно за два месяца до
формального начала Гражданской войны, два советника Карла I,
виконт Фолкленд и сэр Джон Колпепер, составили и убедили его
издать документ, в котором король, а не парламент делал шаг
к тому, чтобы объявить Англию не нисходящей монархией,
а смешанным правлением. Как справедливо подчеркивает Ко-
ринн К. Уэстон1, «Ответ Его Величества на Девятнадцать
предложений обеих палат парламента» — важнейший документ
английской политической теории и, в частности, один из ключей,
открывших дверь макиавеллиевскому анализу. По сути, в нем
утверждается, что правление в Англии принадлежит трем
сословиям: королю, лордам и общинам — и что здоровье и само
существование системы зависят от поддержания равновесия
между ними. Это резкое отступление от тезиса о нисходящей
власти одновременно было неверным с точки зрения
конституции и оказалось пагубной тактической ошибкой в
полемической борьбе со стороны роялистов. Уже очень скоро это
утверждение получило такое широкое распространение и стало
использоваться так разнообразно, что мы сталкиваемся здесь
с явным примером парадигматической инновации. Перед нами,
следует полагать, новая формулировка, которую многие люди
искали по многим причинам.
Крайне важно, что кризис, в силу которого Гражданская
война в июне 1642 года оказалась неотвратимой, уже нельзя
объяснить столкновением власти с обычаем или королевской
прерогативы с дворянской привилегией. Причина в намного
ι. Weston С. С. English Constitutional Theory and the House of Lords. В работе
(Ibid. P. 26-27) обсуждается вопрос авторства, причем вслед за Кларен-
доном на первый план выдвигается Колпепер, а не Фолкленд. Можно,
однако, отметить, что Фолкленд, в отличие от Колпепера, был
интеллектуалом и другом Кларендона, не одобрявшего этого документа.
5"
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
более разрушительных трещинах в центральном, как все теперь
понимали, нерве английской государственной системы, —
совместной власти короля и парламента. Палата общин,
проведя многие законы вопреки желанию короля, была близка
к тому, чтобы заявить о своем праве издавать постановления
без его согласия. Общины требовали контроля над
ополчением в каждом графстве и по крайней мере права вето на выбор
королем членов совета. Столкнувшись с этими требованиями,
составители «Ответа на Девятнадцать предложений» разошлись
с монархической традицией, со своими соратниками и в
долгосрочной перспективе с самим королем. Они пожелали пойти
на уступки и признали, что проблема заключалась не в том,
чтобы приспособить нисходящую власть к восходящей, а в том,
чтобы разделить конкретные функции власти и представить
английскую систему правления в целом как разделение власти
(sharing of power) между несколькими участниками. В этом
своем стремлении они писали:
Так как человечеству известны три формы правления:
абсолютная монархия, аристократия и демократия — и так как
всем им присущи свои удобства и неудобства, опыт и мудрость
ваших предков таким образом соединили эти установления,
чтобы обеспечить этому королевству (насколько это под силу
человеческому разуму) удобства всех трех без неудобств какой-
либо из них, потому что между тремя сословиями всегда
поддерживается равновесие и от каждого из них по общему руслу
струится поток (неся с собой зелень и плодородие лугам по
обеим его сторонам), который не выходит из берегов ни с
одной, ни с другой стороны и не вызывает ни наводнения, ни
паводка. Беда абсолютной монархии — тирания, беда
аристократии— распри и разобщенность, беда демократии —
волнения, насилие и распущенность. Благо монархии — в ее
способности объединить нацию под властью одного правителя для
сопротивления внешним вторжениям или мятежу в стране,
благо аристократии — в ее способности объединять в совете
наиболее выдающихся людей государства на пользу обществу,
благо демократии — в свободе, а также в мужестве и усердии,
которые порождает свобода1.
ι. «There being three kinds of government among men, absolute monarchy,
aristocracy and democracy, and all these having their particular conveniences
and inconveniences, the experience and wisdom of your ancestors hath so
moulded this out of a mixture of these acts as to give to this kingdom (as far
512
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
Король, как с ликованием отмечали его противники и с
возмущением— друзья1, оказался вынужден назвать себя частью
собственного королевства, представителем одного из трех
«сословий», между которыми следовало поддерживать равновесие
и (как явствовало отсюда) соотношение равенства. Однако
риторика приведенного отрывка заставляла сделать еще более
радикальные выводы. Правление в Англии отныне не является
непосредственной эманацией божественной или
установленной разумом власти; это приспособление, основанное на
рассудительности, и сочетающее в себе три — единственно
существующие— формы правления, каждая из которых обладает
своими добродетелями и пороками (мы должны помнить, что
слова «удобства» и «неудобства» в XVII веке звучали далеко
не так нейтрально, как сейчас). Это сочетание представляет
собой равновесие, союз, которому каждый из участников
сообщает присущую ему добродетель, призывая остальных не
дать проявиться свойственному ему пороку. Иными словами,
государственное устройство Англии, сохраняя черты
монархии, изображается как классическая республика, и мы можем
различить здесь используемую Макиавелли символику
фортуны. Три элемента составляют реку — древний символ
времени. Когда мы читаем, что она течет по своему руслу, неся
с собой изобилие и плодородие, здесь еще угадываются темы
порядка и ниспосланной свыше благодати. Но когда говорится,
что равновесие необходимо, дабы предотвратить «наводнение
и паводок», река становится рекой фортуны, против которой
борются государи и республики, воздвигая на ее пути дамбы
с помощью добродетели.
Как мы вскоре увидим, составители «Ответа» обращались
к палате лордов, противодействуя палате общин. Гораздо более
as humane prudence can contrive) the conveniences of all three, without the
inconveniences of any one, as long as the balance hangs even between the three
estates, and they run jointly on in their proper channel (begetting verdure and
fertility in the meadows on both sides) and the overflowing of either on either
side raise no deluge or inundation. The ill of absolute monarchy is tyranny,
the ill of aristocracy is faction and division, the ills of democracy are tumults,
violence and licentiousness. The good of monarchy is the uniting a nation under
one head to resist invasion from abroad and insurrection at home; the good of
aristocracy is the conjunction of counsel in the ablest persons of a state for the
public benefit; the good of democracy is liberty, and the courage and industry
which liberty begets». Текст на современном языке: Kenyon J. P. The Stuart
Constitution, 1603-1688. P. 21-23. Ср.: Weston С. C. English Constitutional Theory
and the House of Lords. P. 263-265 (Appendix I),
i· Уэстон анализирует первую реакцию на «Ответ»: Ibid. Р. 27-5°·
513
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
глубокий след оставило другое обстоятельство: они объявляли,
что английское правление является равновесием трех элементов,
из которых только и может состоять полития, а за пределами
этого равновесия не было ничего, кроме хаоса. Нам известно,
что республиканская теория к тому времени знала, что речь
идет о равновесии добродетелей и полномочий. Добродетели,
как и соответствующие им пороки, уже обозначены; каковы же
полномочия? Сразу после приведенной цитаты в «Ответе на
Девятнадцать предложений» говорится:
В этом королевстве законы создаются совместно королем,
собранием пэров и выбираемым народом собранием общин,
причем каждый из них свободно принимает решения и наделен
определенными привилегиями. Согласно этим законам,
управление государством вверено королю; на короля возложены
полномочия решать вопросы войны и мира, жаловать титул пэра,
выбирать должностных лиц и советников... и некоторые
другие функции. И регулируемая монархия такого типа, будучи
таким образом способна сохранить ту власть, без которой она
не смогла бы сохранить силу законов, равно как и свободы
и достояние подданных, должна снискать ему среди
могущественных людей такие уважение и авторитет, которые могут
предотвратить разобщенность и раздоры, а среди народа такие
страх и благоговение, которые могут воспрепятствовать
волнениям, насилию и распущенности. При этом, чтобы государь не
мог употребить эту высочайшую и пожизненно врученную ему
власть во вред тем, ради чьего блага она ему дана... палате
общин (прекрасно исполняющей роль хранителя свободы, но
лишенной какого бы то ни было участия в правлении или в
избрании тех, кто правит) предоставлено исключительное право
вносить предложения, связанные со сбором денежных средств
(составляющих главную опору как в мирные, так и в военные
времена). <...> А лорды, которым вверена судебная власть,
являются прекрасным проводником и звеном между государем
и народом, помогая каждому из них защититься от агрессии
другого и своими справедливыми решениями сохраняя закон,
которым должен руководствоваться каждый из трех элементов...1.
ι. «In this kingdom the laws are jointly made by a king, by a house of peers,
and by a house of commons chosen by the people, all having free votes and
particular privileges. The government according to these laws is trusted to the
king; power of treaties of war and peace, of making peers, of choosing officers
and counsellors for state... and some more of the like kind are placed in the
514
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
Как мы уже знаем, одной из вновь и вновь возникающих
проблем аристотелевской теории является связь конкретных
политических функций с элементами, определяемыми через
их характерные добродетели, а в случае английского
правления этот вопрос оказался особенно трудноразрешимым.
Законодательная власть, носителем которой выступало триединство
(trinity-in-unity) короля-в-парламенте (king-in~parliament), уже не
могла рассматриваться как сфера разграничения полномочий,
предположительно распределенных между тремя элементами.
Мы замечаем, что на основе только что процитированного
фрагмента проще представить, как каждый из них мог
предотвращать превышение полномочий со стороны других, чем
установить, какими именно полномочиями обладают лорды
и общины. Однако, утверждая, что палате лордов «вверена
судебная власть», составители «Ответа», едва ли подразумевавшие
нечто, кроме их права на импичмент, выразили устойчивое
мнение, согласно которому лордам особенно хорошо удается
вершить суд, поддерживать равновесие и исполнять функцию
верховной судебной инстанции конституционного права, или
guardia délia libertà1 по Макиавелли (signore, о котором писал
Джаннотти, они быть не могут). Это мнение, в свою очередь,
ретроспективно оказалось шагом к более поздней теории,
которая отождествляла «смешанное правление» с «разделением
властей», приписывая лордам судебную функцию и при этом
стремясь распределить исполнительную, судебную и
законодательную власти. Сделано это было так, что становилось
очевидно, сколь сильно аристотелевская теория не давала покоя
английской парламентской монархии.
king. And this kind of regulated monarchy, having this power to preserve
that authority without which it would be disabled to preserve the laws in their
force and the subjects in their liberties and properties, is intended to draw
to him such a respect and relation from the great ones as may hinder the
ills of division and faction, and such a fear and reverence from the people
as may hinder tumults, violence and licentiousness. Again, that the prince
may not make use of this high and perpetual power to the hurt of those
for whose good he hath it... the House of Commons (an excellent conserver
of liberty, but never intended for any share in government, or the choosing
of them that should govern) is solely entrusted with the first propositions
concerning the levies of monies (which is the sinews as well of peace as war).
<...> And the Lords, being trusted with a judicatory power, are an excellent
screen and bank between the prince and people, to assist each against any
encroachments of the other[s], and by just judgements to preserve that law
which ought to be the rule of every one of the three...» (Kenyon J.P. The
Stuart Constitution, 1603-1688. P. 21-22).
1. Охрана свободы (итал). — Прим. ред.
515
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
Тезис, согласно которому король, лорды и общины в
совокупности являют собой образец необыкновенно
уравновешенного, блистательного и успешного распределения
властей, снова и снова провозглашался на протяжении всего
XVIII столетия. Однако целью «Ответа на Девятнадцать
предложений» было предостережение, а не восхваление. Тексту
надлежало не столько предложить новую и приемлемую
теорию конституции, сколько уведомить англичан, что между
ними и анархией стоит лишь равновесие трех сословий.
Документ, аргументация которого становится все менее
последовательной, продолжается предупреждением, что любая уступка
требованию уполномочить парламент контролировать выбор
советников королем
повлечет за собой бесконечные распри и раздоры (для общего
блага не менее разрушительные, чем война) и среди
избранных, и среди представителей избравших их палат парламента,
и среди людей, избравших тех, кто избирал, поскольку новая
власть такого рода, несомненно, опьянит тех, кто не обладает
ею по праву рождения, и вызовет не только разногласия
между ними как равными, но и их презрение к нам, оказавшимся
равными им, и станет оскорблением и несправедливостью по
отношению к нашему народу, который теперь окажется
намного ниже их, что для него будет тем более прискорбно, что ему
придется страдать от тех, кто еще совсем недавно был ближе
к нему по положению, и рассчитывать, что положение
исправят лишь те, кто их назначил, и опасаться, что они не будут
склонны менять уже сделанного, как из любезности, так и из
предусмотрительности, ведь все значительные перемены
крайне неудобны и почти неминуемо влекут за собой перемены
еще большие, которые чреваты еще большими неудобствами1.
I. «beget eternal factions and dissensions (as destructive to public happiness as
war), both in the chosen, and in the Houses that chose them, and the people
who chose the choosers, since so new a power will undoubtedly intoxicate
persons who were not born to it, and beget not only divisions among them
as equals, but in them contempt of us, as become an equal to them, and
insolence and injustice towards our people, as now so much their inferiors,
which will be the more grievous unto them, as suffering from those who were
so lately of a nearer degree to themselves, and being to have redress only
from those that placed them, and fearing they may be inclined to preserve
what they have made, both out of kindness and policy, since all great changes
are extremely inconvenient, and almost infallibly beget yet greater changes,
which beget yet greater inconveniences» (Kenyon J. P. The Stuart Constitution,
1603-1688. P. 22).
516
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
Здесь достаточно явственно слышны интонации
Макиавелли. В итоге мы понимаем, что это не просто знакомые
увещания на тему анархии, к которой приведет уничтожение
зависимости и иерархии. Равно как и в следующем отрывке, когда
мы читаем, что
в конце концов простолюдины... учредят собственный
порядок, назовут равенство и независимость свободой, поглотят
то сословие, которое поглотило все остальные, уничтожат все
права и нормы, все различия происхождения и звания, и
таким образом эта великолепная и поистине безупречная форма
правления погрузится во тьму, в хаос равенства и смешения,
и многие поколения наших благородных предков затеряются
среди каких-нибудь Джеков Кэдов и Уотов Тайлеров1,—
вполне очевидно, кто кого должен бояться, но это не просто
рассуждения шекспировского Улисса. Подданных короля не
только предупреждают, что они должны соблюдать
подобающую иерархию, но напоминают, что между ними и этими
бедствиями стоит лишь поддержание равновесия, созданного
людьми. Оскорбить чье-то звание или статус внутри
иерархии— значит нанести оскорбление божественному порядку
универсума. «Промысел всевышний» может «избрать орудья»
для некой страшной кары и восстановления разрушенного
порядка2. Однако попрание равновесия может обернуться
вступлением в бессмысленный хаос, где властвует лишь фортуна
и вращение ее колеса. Английская политическая риторика
заимствовала теорию смешанного государства, усвоив доктрину
Полибия и Макиавелли о республике, в которой добродетели
всех могут нейтрализовать пороки, в отдельности неизбежно
присущие каждому, но которая в силу исторических причин
отличается хрупкостью, так что малейшее нарушение
равновесия способно привести к ее краху. Альтернативой равновесию
и его противоположностью служит фортуна и, возможно,
коррупция, но значения этой антитезы во флорентийском и
английском контекстах существенно различаются. Флорентийцы
ι. «at last the common people... set up for themselves, call parity and
independence liberty, devour that estate which had devoured the rest, destroy all rights
and proprieties, all distinctions of families and merit, and by this means this
splendid and excellently distinguished form of government end[s] in a dark,
equal chaos of confusion, and the long line of our many noble ancestors in
a Jack Cade or a Wat Tyler» (Ibid. P. 23).
2. Шекспир У. Макбет. Акт IV, сцена з (пер. М. Лозинского).
517
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
выбрали республику, ибо такова была их природа. Они
обнаружили, что фортуна — их враг, а добродетель и
равновесие— единственная защита; но англичане, по натуре своей
существа монархические и руководствующиеся обычаем, усвоили
риторику равновесия и республики лишь потому, что
беспорядок — в форме спора о том, как разделить различные властные
полномочия — угрожал их традиционному устройству. Этот ход
представлялся подходящей реакцией на возникшую опасность.
В этой связи более старые слои этой риторики оставались на
виду; все еще преобладал язык порядка и иерархии, и мысль,
что беспорядок принял обличье фортуны, звучала, но
отчасти терялась в нем. Все это, как мы позже увидим, еще более
сглаживало явное противостояние fortuna и virtu, к которому
иначе могла бы привести логика республиканской риторики.
Если гражданин видел, как его республика рушится, будучи
лично безупречным, он оказывался настолько лишенным
социальной поддержки и структуры в переменчивом мире
частных происшествий, что только действие божественной
благодати могло бы его укрепить. Если же ожидать ее не приходилось,
то единственным прибежищем оставались virtù
Макиавелли и рассудительность Гвиччардини в их наименее удобных
формах. Когда англичанин наблюдал крушение своей
«Древней конституции», ощущение ее непрочности еще более
усугублялось представлением ее в квазиреспубликанской форме.
Однако и кальвинисты, и арминиане не только были далеки
от мысли, что благодать может от них отступить, но
продолжали апеллировать к обычаю, иерархии и образу мироздания,
центром которого по-прежнему был Бог и которое оставалось
монархическим по своему устройству. Едва ли можно было
ожидать реакцию, просто воспроизводящую риторику
Макиавелли. Мысль периода Гражданской войны носит во многом
казуистический характер. Она ставит вопрос, в чем состоит
долг отдельного человека, когда законные власти, которым
он повиновался, вступили в конфликт между собой, и
классический республиканизм, один из способов анализа этой
проблемы, был не единственным путем к поиску ее решения.
В «Трактате о монархии» (Treatise of Monarchy, 1643) остро
чувствующий ситуацию и умеренно настроенный Филип Хантон
отчасти отталкивался от «Ответа на Девятнадцать
предложений». Он исходил из предпосылки, что Англии свойственно
смешанное правление. Насколько оно отождествлялось с
республикой, он показал с помощью отсылки к проблеме — поднятой
5i8
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
флорентийцами в связи с Венецией — отсутствия законодателя,
который бы участвовал в ее основании. Его, отмечал Хантон,
поражало, как человеческий ум в те грубые и далекие от каких-
то изысков времена мог измыслить столь тонко организованное
равновесие1. Однако, когда он обратился к вопросу о долге и
преданности, вызванному нарушением равновесия в ходе
гражданской войны, он обнаружил, что готового ответа не существует.
Если конституционное право было продуктом союза трех
властей, среди которых распределялся легитимный авторитет, то
не могло существовать конституционного права,
предписывающего верность любой из них в случае конфликта между ними.
Если бы кто-то действительно обладал подобной властью,
тогда (Хантон идет здесь намного дальше Джаннотти) она
выходила бы за пределы равновесия и последнее никогда бы не
существовало2. Это утверждение вынуждало многих участников спора
1. Hunton Ph. A Treatise of Monarchy. London, 1643. P. 44: «...what ever more
then humane wisedom had the contriving of it, whether done at once, or by
degrees found out and perfected, I conceive it unparalleld for exactnesse of
true policy in the whole world; such a care for the Soveraignty of the Monarch,
such a provision for the liberty of the People, and that one may bee justly
allayed, and yet consist without impeachment of the other, that I wonder how
our Forefathers in those rude unpolisht times could attain such an accurate
composure»; «...что бы ни содействовало человеческому разуму в этом
начинании, был ли такой порядок учрежден сразу или создавался
постепенно, совершенствуясь со временем, я полагаю его безупречным
и не ведающим себе равных во всем мире; такова в нем забота о
суверенитете монарха, таково попечение о свободе народа, что они
могут существовать в подлинном союзе, не умаляя друг друга, и
изумляюсь, как наши предки в те грубые и далекие от изысков времена
могли воздвигнуть столь совершенное здание».
2. Ibid. Р. 6д: «То demand which Estate may challenge this power of finall
determination of Fundamentall controversies arising betwixt them is to demand
which of them shall be absolute: For I conceive that in the first part hereof,
I have made it good, that this finall utmost controversie arising betwixt the
three Legislative Estates, can have no legall, constituted Judge in a mixed
government: for in such difference he who affirmes that the people are bound
to follow the Judgement of the King against that of the Parliament, destroyes
the mixture into absolutenesse: And he who affirms that they are bound to
cleave to the Judgement of the two Houses against that of the King, resolves
the Monarchie into an Aristocracie or Democracie, according as he places this
finall Judgement. Whereas I take it to be an evident truth, that in a mixed
government no power is to be attributed to either Estate, which directly, or
by necessary consequence, destroyes the liberty of the other»; «Спрашивать,
какое из сословий могло притязать на право окончательного
разрешения возникших между ними сущностных разногласий, означает
спрашивать, какое из них должно обладать абсолютной властью, ибо
я полагаю, что в первой части сказанного достаточно разъяснил, что
у этого коренного противоречия между тремя законодательными
сословиями не может быть законного, правомочного судьи в смешанном
правлении: ибо при таком различии те, кто утверждает, что народ
519
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
прийти к тому же выводу, к какому пришел сэр Роберт Филмер
(а ранее Боден): смешанное государство есть анархия, а это было
абсурдно1. Хантон, рассуждающий скорее в казуистическом, чем
в полемическом ключе, старается подобрать к данному случаю
подходящее моральное правило и выбирает другой и не менее
значимый путь. Смешанное государственное устройство
легитимно в Англии, но оно распалось. Поэтому человек остался
без какой-либо законной власти в форме определенного закона,
который разъяснил бы ему, что делать или чью сторону
принять. Однако нравственный императив, равно как и
практические соображения, обязывают его действовать и выбирать. Он
должен полагаться на свое суждение в отношении фактов и на
свою совесть в отношении вопросов и действовать так, как они
велят ему2. Ясно, что результат такого разрешения конфликта
нельзя предсказать: он вверяется воле Бога и, можно даже
сказать, человек ждет решения именно этого судьи.
обязан исполнять волю короля вопреки воле парламента, нарушают
это сочетание в пользу абсолютизма; те же, кто утверждает, что люди
должны придерживаться решения парламента вопреки воле короля,
превращают монархию в аристократию или демократию, в
зависимости от того, за кем они закрепляют право окончательного решения.
Я же полагаю очевидной истиной, что в смешанном правлении ни
один из элементов не может обладать властью, которая прямо или
в качестве неизбежного последствия уничтожает свободу остальных».
См. также: Hunton Ph. A Treatise of Monarchy. P. 28-29.
1. Filmer R. The Anarchy of a Limited or Mixed Monarchy (1648) // Filmer R.
Patriarcha and Other Political Writings of Sir Robert Filmer / Ed. by P. Laslett.
Oxford, 1949.
2. Hunton Ph. A Treatise of Monarchy. P. 73: «If it be demanded then, how
this cause can be decided? and which way must the People turne in such
a contention? I answere, If the non-decision be tolerable; it must remaine
undecided, whiles the Principle of legall decision is thus divided, and by
that division each suspends the others power. If it be such as is destructive,
and necessitates a determination, this must be made evident; and then every
Person must aide that Part, which in his best Reason and Judgement stands
for publike good, against the destructive. And the Lawes and Government
which he stands for, and is sworne to justifies and beares him out in it, yea;
bindes him to it»; «Если теперь задаться вопросом: как решить эту
проблему? и какой образ действий выбрать народу в подобном
конфликте?— я отвечу: если возможно не принимать решения; ответ должен
оставаться неразрешенным, пока Принципал законного решения
таким образом разделен на части и благодаря этому разделению каждая
часть сдерживает власть других. Если же конфликт настолько
разрушителен, что требует решения, это должно стать очевидным, и тогда
каждый должен содействовать той стороне, которая, по его разумению
и суждению, стремится к общему благу, противостоя всему
разрушительному. И те законы и правление, которые он признает и которым
присягает, служат ему в этом конфликте руководством и поддержкой
и связывают его».
520
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
Доводы Хантона напомнили исследователям1 об
«обращении к небесам», о котором около сорока лет спустя говорил
Локк в «Двух трактатах о правлении», но здесь есть отличия.
Во-первых, Хантон предполагает существование совести в мире
разрушенной легитимности, осколки которой можно частично
воссоединить посредством вдумчивой казуистики. Если,
опираясь на совесть, попытаться оценить политическую ситуацию
и непосредственно предшествующие ей исторические
обстоятельства, следует применить методы политической и
моральной рассудительности. Так мы поймем, что произошло, что
могло произойти и как следует теперь поступать. Поскольку
этот ход предполагает объективные критерии морали и
закона, то совесть одинаково далека от virtù Макиавелли, с одной
стороны, и от Локка, с другой. Во-вторых, небеса не
обнаружили своей воли, выказав одобрение какой-либо конкретной
форме власти2. И тогда человек, опираясь на совесть в
разгар гражданской войны, вверялся — вне зависимости от того,
брался ли он сам за меч (Хантон продолжает предлагать пути
к примирению)3, —jus gladii или jus conquestus4, то есть воле
небес, выраженной в исходе испытания битвой. Такая проверка
описывалась во многих текстах того времени, на которые
Хантон не ссылается, но к которым мы в данном случае можем
обратиться. Если приговор окажется не в его пользу, он придет
к выводу, что заблуждался. Однако, если совесть по-прежнему
уверяет его, что он сделал правильный выбор, он может
подумать, что пути Провидения слишком таинственны, чтобы
проникнуть в их суть. Меч завоевателя, в свою очередь, мог
притязать на то, что действия, которые последуют за его
победой, имеют не только провиденциальное, но и пророческое
и эсхатологическое значение5.
Воззвание к небесам у Локка — это обращение к мечу, но
оно исходит от народа, а не от множества отдельных людей,
у каждого из которых своя совесть. Хантон явно не считает,
что людей как единый народ связывает что-либо, кроме
установлений республики, или смешанного государства, которые
1. Maclean А. И. George Lawson and John Locke // Cambridge Historical Journal.
1947. Vol. 9. № 1. P. 69-77; Idem. The Origins of the Political Opinions of John
Locke / Unpublished Ph.D. dissertation. Cambridge University, 1947.
2. Hunton Ph. A Treatise of Monarchy. P. 4.
3. Ibid. P. 77-79.
4. Право меча, право завоевания (лат.). — Прим. ред.
5- Об этом см.: Wallace J.M. Destiny His Choice: The Loyalism of Andrew
Marvell. Cambridge, 1968. P. 22-28.
52I
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
теперь утратили свою силу, и каждый человек остался сам по
себе1. Как мы видим, республика не является ни заветом,
объединяющим людей в Боге, ни социальным пактом,
утверждающим единство между ними на рациональных и лишенных
божественного обоснования началах. Это человеческое изобретение,
представляющее собой равновесие несовершенных элементов,
а для Хантона это еще и средство сохранения существующего
порядка и придания чему-либо законного статуса. За ней
следует совесть, но, если бы между людьми уже существовало
единство, обращение к небесам оказалось бы предопределено. Генри
Паркер, самый грозный апологет парламента времен первой
гражданской войны2, использует любую возможность, которую
усматривает в «Ответе на Девятнадцать предложений», дабы
показать, что королевская власть, будучи ограниченной
необходимостью согласовывать свои решения с другими, не
обладает никаким превосходством. Когда же он переходит к вопросу,
чью сторону должен занять человек в гражданской войне, то
утверждает, что народ нерасторжимо объединен с
парламентом. По словам Паркера, существует «государственный
интерес» {reason of state), который никоим образом не следует
смешивать с какими-либо идеями Макиавелли (он, по-видимому,
полагал, что Макиавелли сформулировал доктрину с таким
названием). Это не что иное, как естественное и
рациональное побуждение любого собрания людей стать политическим
телом, или государством; оно является «основанием» («reason»)
государства, ибо для людей действовать рационально — значит
действовать политически, а так как парламент представляет
народ, то его воля быть народом способна воплощаться
только в этом государственном органе3. Как следствие, во времена
гражданской войны человеку нет необходимости призывать на
помощь свою совесть и ждать решения Провидения. Он
должен обратиться только к своему разуму, который повелит ему
объединиться с парламентом.
Такого рода аристотелевский популизм мог привести к
окончательному распаду смешанного правления и вытеснению его
демократическим суверенитетом. Как и в случае с другими
1. Hunton Ph. A Treatise of Monarchy. P. 73; см. также выше, прим. 2 на с. 520.
2. О нем см.: Jordan W.K. Men of Substance: A Study of the Thought of Two
English Revolutionaries, Henry Parker and Henry Robinson. Chicago, 1942.
3. Parker H. Observations upon Some of His Majesties Late Answers and Expresses.
London, 1642. P. 15-16, 22-24, 34· См. его неодобрительные
высказывания в адрес Макиавелли: Ibid. Р. 2, ю, ig, 20.
522
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
авторами времен Гражданской войны1, возникает вопрос:
подразумевал ли Паркер нормальный или чрезвычайный
суверенитет? Он мог считать смешанное государство достаточно точной
характеристикой нормального положения вещей, а концепцию
«государственного интереса» рассматривать лишь как
актуальную для ситуации, когда нормы уничтожены и государство
вынуждено заново создавать себя, одновременно подтверждая
свое право на лояльность людей. «Государственный интерес»
в этом смысле имел бы мало общего со способностями Ликур-
га или любого другого ordinatore Макиавелли. Паркера никак
нельзя назвать последователем классической республиканской
теории. Впрочем, интересно сделать следующее предположение:
подобно Хантону, он признает смешанную конституцию для
того, чтобы иметь возможность сказать, что, когда она рушится,
человек остается один, должен двигаться дальше и
перестроить свою жизнь, ориентируясь на нечто внутри себя. У Ханто-
на это совесть, у Паркера — предопределенная политическая
рациональность, но от «государственного интереса» недалеко
до salus populi suprema lex2'3, формулы, следствия из которой
могут легко восприниматься как до-моральные. Можно сказать,
что, прежде чем появились моральные нормы, должны были
уже существовать res publico,, populus или status; поэтому первое
требование разума заключается в том, чтобы возникло нечто
подобное перечисленным понятиям, и это нечто невозможно
учредить, руководствуясь нормами, которые могли быть
одобрены только им самим. Эта мысль, разумеется, подкрепляла
все, что Макиавелли говорил о неморальных императивах,
возложенных на законодателя, но здесь мы имеем дело с другим
подходом. Человек, застигнутый гражданской войной и
пытающийся заново определить объект своей лояльности, не
законодатель, ибо он стремится подчиниться чьей-то власти, а не
основать город и править им. Однако он может представлять
себе, что оказался в ситуации до политики и до морали, ища
1. Например, Принном; см.: Lamont W.M. Marginal Prynne. P. 85-118.
2. Благо народа — высший закон (лат.).—Прим. ред.
3- Parker H. Observations upon Some of His Majesties Late Answers and Expresses.
P. 3-4: «...the transcendent of all Politiques... the Paramount Law that shall
give Law to all humane Lawes whatsoever, and that is Salus Populi. <...> The
Charter of nature intitles all Subjects of all Countries whatsoever to safetie by
its supreame Law...»; «...неизменное свойство всех государств... высший
закон, который должен стать законом для всех человеческих законов,
и это Salus Populi. <...> Хартия природы дает право всем субъектам
всех стран на безопасность в соответствии с ее высшим законом».
523
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
в самом себе то, что поможет восстановить порядок. Существо,
sains которого теперь является suprema lex, уже не populns, а
отдельная личность (ego); он может совершить картезианское
открытие: его первое устремление как деятельного существа
должно быть направлено на то, чтобы утвердить и
увековечить себя; или же открытие христианина и кальвиниста: после
того как он создан ради цели, которую не он определил,
существом, о котором он ничего не знает, его первый долг —
сохранить себя для этой цели. Он может теперь ощущать себя
в «естественном» состоянии, предшествующем обществу, завету
или откровению, и искать средств для создания четкой
структуры власти, опираясь лишь на первичный инстинкт и долг
сохранения себя. Если он вступит на этот путь, то окажется
скорее не Ликургом, который основывает республику, а
естественным человеком, воздвигающим искусственного
Левиафана и подчиняющимся ему.
Гоббс, не являясь английским Макиавелли, был
радикальным выразителем (master) политической мысли эпохи
Гражданской войны. Англичанин, лишившись всякой защиты
и законности и столкнувшись с крайностями запустения в до-
политической ситуации, был склонен воспринимать свое
положение как естественное состояние, а не как владычество над
ним фортуны. В каком-то смысле это свидетельствует о его
находчивости и о том, насколько трудно лишить его всех средств
к утверждению собственной законности. Однако между
человеком у Гоббса и у Макиавелли есть та существенная разница,
что естественное состояние находится вне истории и с
логической точки зрения вневременно, тогда как каждая секунда
вращения колеса является моментом во времени. Циклическая
теория (anakuklösis) всецело принадлежит земному и
темпоральному измерению, нигде не соприкасаясь с естественным
состоянием, и в первую очередь именно поэтому ее и считали
атеистической. Отступление же к естественному состоянию — хотя
его можно было описывать в категориях, которые
современникам казались поразительно близкими к атеизму, — это
движение вне времени, за которым последовал возврат к политике
и истории. Лишь апеллируя к профетическому Богу, Гоббс мог
дать понять, что каждый момент, даже момент в природе,
принадлежит истории1. Но в сложном арсенале идей, возникших
ι. Гоббс Т. Левиафан (книги III и IV). См.: Рососк J.G.A. Time, History and
Eschatology in the Thought of Thomas Hobbes // Pocock J.G.A. Politics,
Language and Time. P. 148-201.
524
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
на отрезке, который ведет от Паркера к «Левиафану»,
присутствует еще одна категория причин, в силу которых человеку,
оказавшемуся в одиночестве после краха смешанной
конституции, не потребовалось определять себя через характерные
для Макиавелли противопоставления.
Предполагалось, что смешанное правление — термин,
благодаря которому подданные короля смогли принять
республиканскую традицию, — обеспечивает стабильность,
устанавливая равновесие добродетелей и сил. Врагом равновесия была
фортуна, врагом фортуны — добродетель, в данном случае, как
можно предположить, добродетель уважения к добродетелям
других сторон равновесия. Хотя парадигма смешанного
правления определяла момент его крушения как время
одиночества человека и его предоставленности самому себе, она не
обязывала его говорить о нем с помощью понятий фортуны
и добродетели. Во-первых, существовало слишком много
альтернативных понятийных систем. Описываемый Хантоном
момент, в котором на первый план выходили совесть и
обращение к небесам, можно было развить в направлении, которое
рассматривал Джон М. Уоллес1 и которое предполагало, что
благоразумное подчинение воле Провидения поднималось до
высот изощренного и не отождествляющего себя ни с какой
конкретной религией благочестия; момент Паркера, то есть
государственного интереса и salus populi, — в направлении,
которое исследовал Квентин Скиннер, где рассудительность и
Провидение уступали место радикальному натурализму Гоббса2.
Другие, подобно Уильяму Принну, решали эту задачу,
противопоставляя «Древнюю конституцию» концепции избранной
нации, и вообще не прибегали к квазиреспубликанской
риторике. Во-вторых, кажется вероятным, что человек, считавший,
что гражданская война представляет проблему с точки зрения
казуистики и лояльности, не стал бы утверждать свою
добродетель в достаточно сильных выражениях, дабы не подставить
ι. См. выше, прим. 5 на с. 5^I·
2. Skinner Q. Hobbes's Leviathan // Historical Journal. 1964. Vol. 7. № 2. P. 321-
332; Idem. History and Ideology in the English Revolution // Historical Journal.
1965. Vol. 8. № 2. P. 151-178; Idem. The Ideological Context of Hobbes's Political
Thought // Historical Journal. 1966. Vol. 9. № 3. P. 286-317, а также
переработанная версия этой статьи в книге: Hobbes and Rousseau / Ed. by
M. Cranston and R.S. Peters. New York, 1972. P. 102-142; Idem. Conquest
and Consent: Thomas Hobbes and the Engagement Controversy // The
Interregnum: the Quest for Settlement, 1646-1660 / Ed. by G.E. Aylmer.
London, 1973. P. 79-98.
525
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
ее под удар фортуны. В сущности, добродетель есть идеальная
модель действия, а не просто его обоснование. Чтобы понять,
как классический идеал гражданина стал играть отведенную
ему роль в период междуцарствия, мы должны предпринять
еще некоторые шаги, рассмотрев высказывания менее
апологетические и более побуждающие к действию. Впрочем,
неустранимо присущий этому периоду консерватизм по-прежнему
будет представлять для нас интерес.
II.
Роберт, лорд Брук, вдохновлявший в 1643 году своих
подчиненных выступить с оружием против Короля во имя
короля и парламента, ссылался на «Цицерона, великого
римского республиканца»1. Такие слова, как «республиканец» или
«патриот», действительно все чаще употреблялись по
отношению к тем, кто мог помыслить короля, парламент и народ
как элементы политии, любой составляющей которой можно
было противостоять и сдерживать ее во имя целого. Но
подобному языку, несмотря на его явно классические
коннотации, мешали развиваться другие рассматриваемые нами
стили мышления; разумеется, следует осторожно относиться
к мнению Гоббса, будто республиканские принципы,
усвоенные в университетах вместе с греческой и римской историей,
помогли настроить людей на гражданскую войну2. Теперь мы
можем обратиться к языкам, преобладавшим среди
представителей обширных радикальных течений конца 1640-х годов.
Здесь ключевую роль, конечно, играют высказывания,
которые мы находим в манифестах армейских офицеров и солдат.
В них объединение людей различного социального
происхождения, скрепленных тем, что они оказались частью
военного общества, только что выигравшего не имеющую аналогов
Гражданскую войну, заявляло о своей решимости и
уверенности в собственных силах как в гражданских, так и в
религиозных вопросах. По их собственным словам, они были
«не просто наемными войсками, которые согласились
служить какой-то произвольной власти государства», а оказались
«призваны... защищать законные права и свободы — свои
и народа».
ι. Striver II R.E.L. Robert Greville, Lord Brooke. Cambridge, Mass., 1958. P. 68.
2. Hobbes T. Behemoth. London, 1889 [London, 1969]. P. 3, 23, 43.
526
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
И потому мы взяли в руки оружие, в соответствии с нашим
суждением и побуждениями совести в отношении этих целей,
и таким образом продолжаем отстаивать их и намерены,
опираясь на... принципы, почерпнутые нами из ваших
[парламента] частых сообщений, и на свой собственный здравый смысл,
в том, что касается этих наших основных прав и свобод,
утверждать и защищать... означенные общие цели от... каких бы то
ни было частных партий и интересов1.
Эти люди, объявившие, что они из здравого смысла взялись
за оружие, обязавшись следовать общей цели, декларировали
тип политического самосознания, ранее не встречавшийся
в Англии. Подобные действия представляли собой
революционный акт, и неудивительно, что при попытке сделать такого
рода заявление авторы документов используют и выходят за
пределы всех политических языков, доступных на тот момент
англичанам. Например, здесь можно обнаружить ссылку на
существовавшие в древности свободы, которая усиливается
обвинением в том, что они не унаследованы, как того требовала
доктрина «Древней конституции», а утеряны еще в далекие, но
не вполне забытые времена, и теперь должны быть
восстановлены8. Встречается ссылка и на принцип salus populi suprema
lex. Однако нам следует глубже проникнуть в характер этой
радикальной мысли, обратившись к отрывку из документа,
где он постулируется в духе, сильно отличном от воззрений
Паркера. Цель заключается уже не в некоей в конечном счете
консервативной отсылке к непоколебимому принципу
законности, а в утверждении, что народ самостоятелен и как
таковой действует перед лицом Бога.
Ибо Бог ни одного таланта не дал человеку для того, чтобы
тот завернул его в платок и не пустил в дело, но
ничтожнейший вассал (в глазах мира) столь же благодарен и любезен
1. «And so we took up arms in judgment and conscience to those ends, and
have so continued them, and are resolved according to... such principles as
we have received from your [parliament's] frequent informations, and our
own common sense, concerning these our fundamental rights and liberties, to
assert and vindicate... those common ends premised, against... all particular
parties and interests whatsoever» (A Representation of the Army (14 June
1647); Woodhouse A.S.P. Puritanism and Liberty. London, 1950. P. 403-404).
2. Игнорировать данное различие, как это до сих пор иногда
происходит, означает смешивать «Древнюю конституцию» с «нормандским
игом»; о последнем см.: Hill Ch. Puritanism and Revolution. P. 50-122.
Ср.: Pocock J. G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law. P. 125-127.
527
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
Богу, как и могущественнейший из государей или полководцев
под солнцем, за вверенный ему талант и за то применение,
какое он ему найдет. <...> Если бы даже вы, сэр [Фэрфакс], — да,
если бы весь парламент и все королевство — освободили нас
от этой службы или... приказали нам молчать и не
предпринимать никаких действий, ни они, ни вы не могли бы
освободить нас от наших обязанностей перед Богом или перед
собственной природой. <...> А если кто-либо будет склонять ваше
превосходительство поверить, что мы нарушители всякого
порядка и формы и что именно так подобает на нас смотреть,
мы желаем напомнить вашему превосходительству, что закон
природы и народов, скрепленный нашими общественными
указами и документами, может служить им ответом,
оправдывая целесообразность избранных нами ныне средств. Ибо
любая форма призрачна и подчиняется определенной цели.
А безопасность народа выше всяких форм, обычаев и прочего,
и право народа на безопасность оправдывает все формы или
изменение этих форм ради его соблюдения, и никакая форма
не обладает законностью, когда перестает обеспечивать
сохранение или соблюдение его же1.
Здесь «безопасность народа» не является над-моральным
принципом социализации (как во фразе «целесообразно, чтобы один
человек умер за свой народ»2). Утверждение «любая форма
призрачна» переводит обращение к «закону природы и народов»
на язык апокалиптического rinnovazione. Человек не просто
1. «For God hath given no man a talent to be wrapped up in a napkin and not
improved, but the meanest vassal (in the eye of the world) is equally obliged
and acceptable to God with the greatest prince or commander under the sun,
in and for the use ofthat talent betrusted to him. <...> For, Sir, should you
[Fairfax] — yea, should the whole parliament or kingdom — exempt us from
this service, or... command our silence or forbearance, yet could not they
nor you discharge us of our duties to God or to our own natures. <...> And
if by any one your Excellency should be suborned that we are transgressors
of all order and form, and in that sense to look upon us, we desire to mind
your Excellency that the law of nature and of nations, attested in our public
declarations and papers, may be an answer to such for the justification of
our present expedient. For all forms are but as shadows, and subject to the
end. And the safety of the people is above all forms, customs, etc.; and the
equity of popular safety is the thing which justifieth all forms, or the change
of forms, for the accomplishment thereof; and no forms are lawful longer than
they preserve or accomplish the same» (из письма к Фэрфаксу за
подписью одиннадцати агитаторов, приложенного к манифесту «Дело
армии» (The Case of the Army Truly Stated. Oxford, 1647), см.: Woodhouse A.S.P.
Puritanism and Liberty. P. 437, прим.).
2. Фраза из Евангелия от Иоанна 11:50.—Прим. ред.
528
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
обязан сохранить свою личность, созданную с определенной
целью; акцент переносится на саму цель и на «талант»,
который следует использовать при ее достижении. Многие из тех,
кто читал эти слова, понимали «безопасность народа» не
просто как материальное сохранение сообщества людей,
преследующих эту цель, но как продолжающееся движение к цели,
ради которой избран конкретный народ. «Любая форма
призрачна»— это апокалиптический язык. Он говорит, что все
земное прейдет перед концом, и содержит потенциальный
антиномизм, так как вполне может свидетельствовать об
исчерпанности всех первообразов. И тем не менее он остается
аристотелевским в достаточной мере, чтобы его понял томист
Савонарола. Контекст, в котором люди достигают своей
конечной цели, — или восстанавливают свою prima forma, хотя
это понятие могло показаться радикальным святым «нового
образца» недостаточно антиномистическим1, — это контекст
апокалипсиса. «Цель» («end») аристотелевской телеологии по-
прежнему совпадает с эсхатологическим «финалом» («end»)
пророческого времени.
Руководствуясь методом анализа, примененным в
предшествующем разделе этой главы, можно утверждать, что
радикальный святой реагировал на ту же ситуацию, что Хантон
и Паркер. В отсутствие каких-либо традиционных структур
легитимности Хантон взывал к совести и небесам, Паркер шел
путем предвосхищающего Гоббса натурализма, а
последователь Макиавелли теоретически мог бы сослаться на
противоборство virtù и/ortuna. Однако наша модель предполагает, что
наряду с аспектами фортуны, природы и Божьего
Промысла мы можем различать — почти как продолжение
последнего— момент апокалиптической благодати. Таким образом,
армейский радикализм отвечал на весьма специфическую
ситуацию, усвоив один из немногих языков, благодаря которым
в ней можно было осмысленно действовать. Но совершенно
ясно, что подобное объяснение будет не вполне адекватным.
Апокалиптические убеждения военных способствовали (как
и virtù нового правителя у Макиавелли) созданию ситуации,
в которой потребность в них возрастала, и функционировали
ι. Совершенно антиномистическое сознание могло склоняться к мысли,
что в искупленном человеке состояние Адама до грехопадения будет
не просто восстановлено, а превзойдено; см.: Rosenmeier J. New England's
Perfection: the Image of Adam and the Image of Christ in the Antinomian
Crisis, 1634 to 1638.
529
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
как независимая переменная. Перед нами не просто усилия
ума, стремящегося упорядочить выходящую за рамки
закона и хаотичную ситуацию, но новый уровень гражданского
сознания, ищущий средств самовыражения. Ощущение при-
званности, присущее пуританскому святому, заставляло солдат
чувствовать, что каждый из них обладает абсолютной
личностью— «талантом» или «природой». О нем можно было
говорить как о неповторимой связи всякого человека с Богом,
ответственности или долге перед Ним или как о радикальном
равенстве прав и полномочий, дарованных каждому, чтобы он
мог этот долг исполнить. До этого момента модель Уолцера
работает, и она продолжит работать, если мы добавим, что при-
званность, как акт действия благодати, следует рассматривать
как воздействие на человека во времени и что понятое таким
образом время необходимо мыслить с пророческой или
апокалиптической точки зрения. Однако многое в наших
размышлениях прояснится, если, опираясь на сказанное в
предыдущей главе, мы станем утверждать, что английский «святой»
совсем не был чужд унаследованных им законов и свобод.
Наоборот, он настолько погружен в эти законы и свободы, что
его призвание не освобождало его от них, но освобождало его
для того, чтобы он мог преобразовывать их. Теперь мы
понимаем, почему он чувствовал себя призванным восстановить
свободы в их первозданном виде и настаивал, что
первозданная форма подразумевала свободу народа быть самим собой
в плане как природном, так и апокалиптическом. Мы видим,
что убежденность человека в заключенной в нем от природы
радикальной свободе усиливала его способность участвовать
в радикальных действиях, вызванных радикальной критикой
его законов и свобод в той форме, в какой они были
унаследованы. «Народное соглашение»1 утверждало антиномизм в
отношении «Древней конституции». Наконец, хотя мы и не
дошли еще до момента Макиавелли в английской мысли, перед
нами нечто близкое к моменту Савонаролы, когда гражданское
сознание, апокалиптическая убежденность и унаследованная
вторичная природа находились в отношениях сложного
взаимодействия. Более того, пророки были вооружены; им
следовало лишь продолжать верить в себя.
I. «Народное соглашение» — серия манифестов, опубликованных
левеллерами и армейскими агитаторами между 1647 и 1649 годами и
содержавших проект конституционных реформ на принципах народного
суверенитета и республиканизма.—Прим. ред.
530
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
Можно сказать, что радикалы 1647 года переживали момент—
шла ли речь о кажущейся неминуемой близости подлинного
Миллениума или же, в более духовном смысле, об
освобождении, доходящем до обожествления человеческих
способностей, — свободы, торжествующей над необходимостью. Казуисты,
искавшие моральные основания для лояльности, в некоторых
случаях приходили к вневременной ситуации, находясь в
которой можно и должно было восстановить власть. Тогда же
световидцы свободы оказались в апокалиптическом моменте,
когда им предстояло с помощью меча и духа преобразовать
законы и заново ввести свободу. Однако в Патни1 на первый
план вышел спор левеллеров с собственными
военачальниками, стремившимися показать, что первые по-прежнему
находятся в рамках структуры необходимости, не обладая полной
свободой выйти за ее пределы, и что такое положение
распространяется даже на святого (как и пророк у Макиавелли
вынужден носить оружие). Айртон при поддержке Кромвеля
настаивал, что должны существовать обязательства, нарушить
которые человека не заставят никакие внутренние убеждения,
и определенные правовые структуры, против которых «закон
природы» будет слабым доводом. По его словам, главный
аргумент заключался в следующем: закон природы может
предписывать, чтобы всякий человек получил ему причитающееся,
но не способен установить, что именно полагается каждому2.
Имущество, частные дела — Харрингтон впоследствии назвал
их «достоянием фортуны» — должны распределяться в
соответствии с человеческими решениями, а не с абстрактными
универсальными принципами.
Закон Бога не дает мне имущества, не дает его и закон
Природы, но имущество — человеческое устроение. У меня есть
собственность, и я буду по-прежнему владеть ею. Имущество
создается установлением3.
Человек, утверждал Айртон, должен определяться через
общество людей, если последнее по-прежнему будет существовать.
1. Полный текст этих дебатов можно найти у Вудхауса (Woodhouse A. S. Р.
Puritanism and Liberty).
2. Ibid. P. 54, 58, 60, 63.
3. «The Law of God doth not give me property, nor the Law of Nature, but
property is of human constitution. I have a property and this I shall enjoy.
Constitution founds property» (Ibid. P. 69).
531
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
Закон и собственность призваны обеспечить его
социальными правами и статусом личности, если закон и собственность
вообще дают какие-либо гарантии, — а чем он был бы без них?
Однако общественным институтам, сделавшим людей тем, чем
они являлись, самим надлежало быть делом человеческих рук.
Следовательно, индивид должен уже рождаться в существующей
структуре человеческого закона, который создал не он, и
выполнять обязательства по отношению к этому закону. Речь шла об
Англии, где собственность и обычай давали ответ на вопрос,
как достичь такого состояния. Система общего права, в рамках
которой человек жил, действовал и обладал самостоятельным
бытием, была структурой, определявшей формы владения
землей, ее наследования и передачи со ссылкой на древний
обычай. Айртон допускал участие в гражданской жизни лишь того,
кто унаследовал — или получил возможность оставить в
наследство — минимальный земельный надел, который принадлежал
ему на правах собственности. Если правда, как говорят1, что
левеллеры намеревались лишить избирательного права людей,
настолько лишенных имущества, что они вынужденно жили
в качестве слуг в чужом доме, это не сокращает разрыва между
Айртоном и Рейнборо. Ведь Айртон полагал, что земле следует
быть именно в полной собственности гражданина или в
близком правовом статусе2. Необходимо иметь возможность
осмыслить ее как нечто передаваемое по наследству в соответствии
с общим правом, которое в свою очередь состояло из обычаев,
полученных в наследство с незапамятных времен. Ибо не
существовало иного способа укоренить ответственного человека
и гражданина (с рождения и до совершеннолетия и вступления
во владение наследством) в структуре закона и собственности,
которую он должен и намерен защищать3. Сэр Роберт Филмер
в Кенте, не привлекая к себе большого внимания, пытался
сформулировать способ достичь того же отрицания
естественной свободы, опираясь на теорию патриархализма4. Однако
доводы Айртона явно звучали гораздо более понятно.
Следует подчеркнуть, что этот императив необходимости
в значительной мере был скорее формальным, чем конкретным:
1. Например, в работе: Macpherson СВ. The Political Theory of Possessive
Individualism. Oxford, 1962. P. 107-159.
2. Woodhouse A.S.P. Puritanism and Liberty. Ρ 57-58.
3. Ibid. P. 66-67.
4. См. предисловие Ласлетта к подготовленному им изданию: Filmer R.
Patriarcha and Other Political Writings of Sir Robert Filmer.
5З2
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
он подразумевал обязательство уважать некую систему закона
и собственности, а не конкретный, ныне существующий
порядок. Айртон мог задумывать и разрабатывать дальновидные
и необыкновенно разумные планы реформ1, а определявшие
поведение людей социальные структуры, как мы уже видели,
должны были быть по необходимости рукотворными,
создаваемыми самими людьми. Но то, как он настаивал на
обязательной передаче земли по наследству на правах полной
собственности, источнике «постоянного дохода», дающем человеку
право участвовать в гражданской жизни, отчетливо
показывает, что в конечном счете он стремился укоренить человека
в обычае, в законе, действительно созданном людьми, но
людьми далекого прошлого, чьи имена нам уже неизвестны.
Доводы, изложенные им в Патни, с идеологической точки зрения
объясняют, почему полтора года спустя он отверг одну из
немногочисленных возможностей революционных действий,
когда-либо представившихся английскому политику. Произвести
в парламенте чистку, вместо того чтобы полностью распустить
его и переизбрать, означало признать, что армия — в лице
своих высших офицеров — всегда будет требовать легитимности,
основанной на элементах традиционной конституции, и
произведет чистку палаты общин с единственной целью —
получить палату общин, которая будет легитимировать ее действия2.
Подобный подход в целом вытекал из аргументации Айртона,
утверждавшего, что сложившиеся социальные структуры,
законы и институты создавали предварительные условия для
осуществления политических устремлений людей.
Незавершенность революции 1648-1649 годов привела к тому,
что ее апологеты пытались обосновать отступление от
существующих порядков — нечто, в чем революции редко считают
необходимым оправдываться. Так, главной темой декларации,
изданной «Охвостьем»3 после казни короля, было то, что
монархии не удалось — не только в рамках недавнего кризиса,
но и на протяжении всей ее истории — обеспечить Англии
ι. См., например: «Heads of the Proposals»; KenyonJ.P. The Stuart Constitution,
1603-1688. P. 302-308. Полный текст: Rushworth J. Historical Collections of
Private Passages of State. London, 1659-1701. Vol. VIII. P. 731-736.
2. Kenyon J. P. The Stuart Constitution, 1603-1688. P. 294; Underdown D. Pride's
Purge. Oxford, 1971.
3. Так называют английский парламент, сохранившийся после
изгнания из него неподконтрольных армии депутатов-пресвитериан (так
называемая «Прайдова чистка») в 1648 году и существовавший до
1653 года. — Прим. ред.
533
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
политическую стабильность1. Кроме того, необходимо было
обосновать упразднение палаты лордов. На аналогичном
основании оказалось легко заявить, что смешанная
конституция, описанная в «Ответе на Девятнадцать предложений», не
смогла достичь цели, которой должны служить
сбалансированные правления, и ее следует заменить более совершенной
формой. Более того, яростное неприятие наследственной или
укоренившейся аристократии оставалось элементом армейских
радикальных течений и пережило закат левеллеров. Однако
оборонительный тон изданной «Охвостьем» декларации
отсылает к главной теоретической дискуссии 1649 года и
последующих лет — так называемой полемике о лояльности (Engagement
controversy)1. Эти дебаты открывают нам все разнообразие
направлений, в которых могла двигаться мысль индепендентов,
когда они отказывались от радикализма. Ведь лояльность
означала не более чем обязательство перед существующим в
настоящее время правительством, а предметом стоявшей за ней
сложной и важной полемики служила проблема подчинения
правительству de facto, но не de jure — тому, что обладало
реальной властью, но не законными полномочиями. Говоря коротко,
возобновился казуистический поиск авторитета, и то
обстоятельство, что такая бесцветная тема породила столько
значимых размышлений, свидетельствует о стойкости английского
консерватизма в условиях катастрофы. Анализируя сложную
стратегию этого спора, мы будем двигаться в направлении
Гоббса, но мы также получим представление о некоторых
условиях возвращения к макиавеллиевскому и
республиканскому решениям проблемы.
Как в теории, так и в реалиях 1649 года править de facto
означало делать это мечом. Проблема, стоявшая перед всеми
участниками полемики, заключалась в точном определении
условий, при которых власть человеческого закона потерпела
поражение, уступив власти человеческой силы. Таким
образом, необходимо было найти способы, позволяющие считать,
что сила сама обеспечивает свое собственное справедливое
1. A Declaration of the Parliament of England, Expressing the Grounds of their
Late Proceedings, and of Setling the Present Government in the way of a Free
State. London, 22 March 1648/1649. P. 6,14, 17; о палате лордов см.: Ibid. P. 20.
См. также: The True Portraiture of the Kings of England... London, 1650.
2. Об этом см.: Wallace J. M. Destiny His Choice: The Loyalism of Andrew
Marvell; работы Кв. Скиннера, указанные в прим. 2 на с. 525; Wallace J. M.
The Engagement Controversy, 1649-52: an Annotated List of Pamphlets //
Bulletin of the New York Public Library. Vol. 68 (1964). P. 384-405.
534
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
обоснование (justification). Простейшая и наиболее очевидная
стратегия состояла в том, чтобы апеллировать напрямую к
Провидению: события произошли в соответствии с непостижимой
волей Бога, и не Его созданиям следует противиться его
орудиям. Однако этот довод оказывался уязвим для ряда
возражений. Более того, для четко и разнообразно мыслящих умов
того времени существовало слишком много соблазнительных
направлений, в которых можно было его развивать. Например,
он служил не более чем шагом от провиденциального к
пророческому. Кромвеля, неоднократно утверждавшего, что он
не смог бы взяться за дело, не чувствуй он себя призванным,
окружали люди, стремившиеся истолковать его и свои роли
в контексте исполняющихся пророчеств и грядущего
апокалипсиса или Тысячелетнего царства. Впрочем,
примечательно — и характерно для расколотого сознания святых, о котором
мы говорили раньше, — что по мере того, как после 1653 года
его власть росла, Кромвель перестал считать себя одним из
действующих лиц в эсхатологическом сценарии. Он
повторял, что его власть — это лишь власть констебля, обозначая
таким образом, по мнению Ламонта, окончательный переход
от божественной власти (как ее понимал Фокс) к «безбожной»1.
Лорд-протектор сам охотно признавал по умолчанию, что
правит de facto, а не de jure prophetico. Тем не менее, хотя риторика
Давидова царства, содержавшая намеки на обновление всех
первообразов, могла по-прежнему его привлекать2, его
настроения во многом объясняют, почему учение о том, что
Англией теперь непосредственно правят ожидающие Христа святые,
осталось уделом меньшинства.
Строго говоря, довод, основанный на власти de facto,
никогда не смог бы в полной мере усвоить апокалиптическую
перспективу и остаться прежним. Апокалиптика тяготела к анти-
номизму. Согласно этой концепции, любая человеческая власть
была ниспровергнута или вскоре должна будет пасть. Грядет
подлинное regnum Christi3, Проблему лояльности имело смысл
обсуждать только в том случае, если это утверждение не
считалось истинным, а свержение старого и появление нового режима
ι. Lamont W.M. Godly Rule. P. 136-162 (chap. 6).
2. Mazzeo J. A. Cromwell as Davidic King // Mazzeo J.A. Renaissance and
Seventeenth-Century Studies. New York, 1964. P. 183-208; Wallace J. M. Destiny
His Choice. P. 106-144 (chap. 3). Предметом анализа здесь становятся
стихотворения Марвелла о Кромвеле.
3- Царство Христа (лат.). — Прим. ред.
535
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
произошли внутри продолжающегося человеческого времени.
Когда речь шла о времени, первым стратегическим шагом
становилась ссылка на Провидение. Однако если событие не
являлось апокалиптическим, его нельзя было назвать
уникальным, а следовало рассматривать лишь как одну из революций,
которые периодически происходят, — в этом смысле характерен
заголовок трактата Роджера Эшема «Беспорядки и революции
правления» (Confusions and Revolutions of Government), одного из
важных для этой полемики текстов1. Если правления время
от времени терпят крах, как восстановить власть? Или, говоря
другим, но знакомым нам языком, к каким действиям эта
затруднительная ситуация обязывает отдельного человека? В
своем блистательном и скрупулезном исследовании необычайно
самобытной мысли Эндрю Марвелла Джон М. Уоллес показал,
что провиденциальная точка зрения на тот момент далеко не
была исчерпана. Используя все краски и сложность поэтического
мастерства, Марвелл смог воссоздать ощущение причастности
человека к событиям, сама неоднозначность которых вызывала
у него некоторую pietas1. Если мы принимаем такую
интерпретацию текстов Марвелла, то важно проследить, какие языки
возникали и развивались в более низких регистрах его
мысли и в рассуждениях других философов, указывая на то, что
легитимность дала явную трещину? Если подобные трещины
возникали в человеческих делах с большей или меньшей
регулярностью, значит, в истории каждого государства можно найти
время, когда власть в нем была основана не на законе, а на
оружии. Убежденность, что все политии изначально
несправедливы, выражалась — в том числе Энтони Эшемом и Марчмонтом
Нидхэмом — уже в безусловно макиавеллиевских категориях.
«Этот круг, внутри которого мы, к величайшему прискорбию,
движемся», — писал. Эшем3, явно подразумевая anakuklöns4 По-
либия. При этом он не пытался предлагать ни законодателя,
ни республику как средство избавления от скорби, которой
полны его сочинения. В центре концепции Эшема по-прежнему
стояло сочетание Провидения и природы. Подобным же
образом Марвелл — хотя из проведенного Уоллесом анализа мы
ι. Об Эшеме см.: Wallace J. M. Destiny His Choice. P. 30-38, 45-48, 54-58.
2. Благочестие (лат.).—Прим. ред.
3· Ascham A. Of the Confusions and Revolutions of Governments / 2nd ed.
London, 1649. P. 73-74. Ср.: Nedham At. The Case of the Commonwealth of
England Stated (1650) / Ed. by Ph.A. Knachel. Charlottesville, 1969.
4. Циклы смены политических режимов (др.-греч).—Прим. ред.
53б
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
видим, что это лишь одна из сторон его мышления, — вводит
в свою «Горацианскую оду» ряд не менее узнаваемых образов
Кромвеля как макиавеллиевского государя-законодателя,
схожего с Ромулом в своем умении по необходимости действовать
противозаконно и жестоко. В «Оде на первую годовщину
правления... Кромвеля» Марвелл рисует Оливера как одновременно
подобного Давиду реставратора власти пророков и античного
законодателя, способного одним творческим актом разрешить
противоречия времени1. Не стоит забывать, что Давид имел
некоторое сходство с Ромулом, если говорить о его неоднозначных
отношениях с Саулом до помазания на царство и с сыновьями
Саруи после него. В ряде случаев макиавеллиевское и
пророческое видения не так уж далеки друг от друга.
Однако момент, когда властвовал меч, действовал ли при
этом государь, законодатель или пророк — персонажи из
галереи Макиавелли, — мог быть и моментом людей, правомерность
действий которых определялась совсем иначе; мы уже отчасти
сталкивались с чем-то подобным, говоря о Генри Паркере.
Согласно jus gentium*, завоеватель был способен воспользоваться
этим же моментом, а его меч служил доказательством, что
небеса на его стороне, поэтому противиться ему запрещалось,
даже если он действовал жестоко и вопреки закону. Этот тип
завоевателя напоминал не столько Вильгельма Нормандского,
сколько библейского Нимрода, древнего тирана, чья власть не
была неугодна Богу3. Впрочем, Нидхэм и другие авторы могли
считать jus conquestus4 коллективным достоянием армии, тех
носящих оружие англичан, которые своим завоеванием
доказывали свое естественное и данное Провидением право на
власть в подобных обстоятельствах. Отсюда, разумеется,
достаточно шага, чтобы приравнять завоевателей к святым, но
шаг в другом направлении привел бы к salus populi,
государственному интересу и естественному состоянию, на чем мы
уже останавливались; подобный тип аргументации, как
продемонстрировал в серии работ Скиннер, с самого начала означал
1. Mazzeo J.A. Cromwell as Machiavellian Prince in MarvelPs «Horatian Ode» //
Mazzeo J. A. Renaissance and Seventeenth-Century Studies; Idem. Cromwell
as Davidic King; Wallace J. M. Destiny His Choice (chap. 2-3); Raab F. The
English Face of Machiavelli. P. 144-146; Pocock J.G.A. The Onely Politician.
P. 284-285.
2. Право народов (лат).—Прим. ред.
3· Об этих и других типах завоевателя см.: Wallace J. M. Destiny His Choice.
P. 22-28, 98-102, 132-134.
4. Право завоевания (лат.). — Прим. ред.
537
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
разрыв с провиденциальной стратегией в полемике о власти de
facto1, — разрыв был критически значим, так как с ним
сопряжен контекст, в котором Гоббс завершил, опубликовал и, скорее
всего, задумал своего «Левиафана» (Leviathan, 1651). Этот труд
оказался наиболее радикальным из всех появившихся в
революционной Англии сочинений с точки зрения изображения
человека, существующего в момент почти полного отсутствия
закона и искусственно восстанавливающего власть из
состояния всеобщего отказа от исполнения обязательств. По своей
структуре описанная позиция коренным образом отличалась
от постановки проблемы у Макиавелли, и может показаться,
что благодаря этому обстоятельству последний стал играть
в английской мысли второстепенную роль.
Однако можно заметить, что спор о власти de facto усилил
значимость некоторых элементов макиавеллизма. Новый
государь, законодатель и цикл правлений словно возникали
в момент меча; но республике не суждено было
утвердиться— как это могло бы произойти в теории — просто как de
facto средству стабилизации. Одно из самых интересных
открытий в этой долгой истории заключается в том, что
классическая республика появилась в английской мысли как
активистский идеал, когда de facto «момент меча» соприкоснулся
с радикализмом и аномизмом армии, чья наполовину
совершённая революция ускорила постановку этой концептуальной
и политической проблемы.
Один из участников дебатов в Патни, выступавший против
левеллеров, — полковник Натаниэль Рич, впоследствии весьма
консервативный приверженец «пятой монархии»8 и притом
враг протектората, — враждебно встретил предложение
предоставить право голоса бедным. Он не только приводил
обычный довод, что они воспользуются властью, дабы полностью
отменить все права на собственность, но выдвигал и гораздо
более реалистичный аргумент — что в итоге несколько
влиятельных людей, в зависимость от которых бедняки, безусловно,
попадут, будут пользоваться недолжным авторитетом. Так, по
его словам, случилось при закате Римской республики, и нет
смысла свергать короля, дабы заменить его императором3. Речь
1. См. выше, прим. 2 на с. 525·
2. «Люди пятой монархии» (Fifth Monarchists) — милленаристская
пуританская секта, существовавшая в период 1640-1660-х годов. — Прим. ред.
3- Woodhouse A. S. P. Puritanism and Liberty. P. 64: «I remember there were
many workings and revolutions, as we have heard, in the Roman Senate; and
538
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
Рича примечательна тем, что она свидетельствует о присутствии
в сознании по меньшей мере одного офицера классической
ассоциации республиканской свободы и народной армии,
которая, как мы видели, была типична для флорентийской мысли
(хотя Рич оценивает подобную перспективу скорее
отрицательно, чем положительно). Однако мы уже знаем, что
представители армии могли обосновывать свое вмешательство в политику,
ссылаясь на то, что они составляют «не просто наемные
войска», а объединение свободных граждан-солдат. Если
сформулировать этот тезис в духе Макиавелли, он подразумевал бы
превращение Англии в народную республику. Подобный язык
был чужд Сексби и Рейнборо. Впрочем, можно указать время
и место, когда и где после подавления левеллеров такая
идеология усиленно насаждалась человеком, занимавшим удобную
для обращения к широкой публике позицию.
Этим автором был не кто иной, как Марчмонт Нидхэм1,
журналист, с необыкновенной виртуозностью, которая сочеталась
с поразительным отсутствием искренности или
последовательности, успешно жонглировавший ключевыми понятиями
времен Гражданской войны и «Охвостья». Он добился
освобождения из тюрьмы, где оказался за свой роялизм в предыдущий
период деятельности, и взялся за написание трактата «Защита
дела Английской республики» (The Case of the Commonwealth of
England Stated), который был опубликован в 1650 году. В трактате
there was never a confusion that did appear (and that indeed was come to)
till the state came to know this kind of distribution of election. That is how
the people's voices were bought and sold, and that by the poor; and thence
it came that he that was the richest man, and [a man] of some considerable
power among the soldiers, and one they resolved on, made himself a perpetual
dictator. And if we strain too far to avoid monarchy in kings [let us take
heed] that we do not call for emperors to deliver us from more than one
tyrant»; «Я помню, что в римском Сенате, как нам известно,
происходило много событий и революций и никогда не было беспорядка
(и того, что грозило настоящим беспорядком), пока в государстве не
утвердилась подобная система выборов. Так голоса покупались и
продавались— продавались бедными, и поэтому получилось, что самый
богатый человек и тот, кто пользовался достаточным авторитетом
среди солдат и кого они выбирали, делался бессменным диктатором.
А если мы слишком стараемся избежать монархии, в которой правят
короли [обратим внимание на эти слова], не следует искать
императоров, чтобы избавиться от больше чем одного тирана».
I. В связи с переоценкой деятельности Нидхэма см.: Рососк J.G.A. James
Harrington and the Good Old Cause: A Study of the Ideological Context
of His Writings // Journal of British Studies. 1970. Vol. 10. № 1. P. 36-39.
См. также: Frank J. The Beginnings of the English Newspaper. Cambridge,
Mass., 1961; Nedham M. The Case of the Commonwealth of England Stated
(введение).
539
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
он утверждает необходимость подчинения власти de facto,
используя элементы, сближающие его сочинение с трудами
Макиавелли; при этом аргументы, которые приводит автор,
советуя покоряться мечу завоевателя, во многом опираются на
предшествовавшие «Левиафану» работы Гоббса. Режим
«Охвостья» вознаградил Нидхэма: он был назначен редактором
нового правительственного еженедельника «Политический
Меркурий» (Mercurius Politicus), который возглавлял много лет.
Летом 1650 года он приступил к размещению на его страницах
редакционных статей, сначала позаимствованных из «Защиты
дела Английской республики», а затем, когда этот материал
оказался исчерпан, и других передовиц, не выходивших в
составе книг. Ими он перебивался до середины 1652 года, то есть
в период, когда состоялись битвы при Данбаре и Вустере, когда
радикальный пыл в войсках — несмотря на подавление
левеллеров,— по-видимому, еще далеко не остыл. Статьи писались
с последовательно радикальных и демократических позиций.
Нидхэм отвергал притязания пресвитерианского духовенства
на власть в соответствии с jure divino1 и объявлял их кознями
Антихриста2. Он предполагал освободить шотландский народ
от власти предводителей кланов3. Главное, эти редакционные
статьи сложились в первое в Англии пространное описание
республиканской демократии на классическом языке
Античности и Макиавелли. Демократическим правление можно назвать
лишь в том случае, если оно строится на ношении народом
оружия4 и быстрой смене — Нидхэм называет ее «революцией»,
а Харрингтон позднее назовет «ротацией» — представителей
и магистратов, избираемых народом5. Он неоднократно
выражал желчное недоверие к наследной аристократии и сенатам,
которые, когда их недостаточно регулярно распускают,
становятся неотличимы друг от друга6. Политика Римской республики
1. Божественное право (лат.).—Прим. ред.
2. Mercurius Politicus. № 99 (22-29 апреля 1652). P. I553-I556; № п4 (δ-12
августа 1652). Р. 1785-1789.
3- Ibid. № 65 (28 августа — 4 сентября 1651). P. Ю33-1034; № 73 (23-З0
октября 1651). Р. n6i.
4. Ibid. № 103 (20-27 мая 1652). Р. 1609-1613.
5- Ibid. № 74 (30 октября — 6 ноября 1651). Р. И73-п75; № 78 (27 ноября — \
декабря 1651). Р. 1237; № 79 (4-и декабря 1651). Р. 1255-1256; № 91 (26
февраля— 4 марта 1652). Р. 1442 («Revolution»).
6. Ibid. № 70 (2-9 октября 1651). Р. ιιοο-ιιοι; № 72 (16-23 октября 1651).
Р. 1142-1143; № 73 (23-30 октября 1651). Ρ- Н58; № 84 (8-15 января 1652).
Р· 1334» 1337; № 86 (22-29 января I652). P. 13б5-13б8; № 89 (12-19 февраля
1652). Р. 1409-1413·
540
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
представлена здесь с точки зрения воинствующего плебса,
Афины— редкое по тем временам явление — ставятся выше
Спарты1, а Венеция, обычно идеал смешанного правления,
названа воплощением «несменяемой аристократии»8. Любая форма
власти в республике, не сдерживаемая равновесием и быстрой
сменой должностей, является, как мы узнаем, «монархической»,
представлена ли она одним человеком или несколькими3.
Нидхэм, писавший после левеллеров и высмеивавший их,
нащупал новый способ выражать демократические идеи на
английском языке — тип речи, у которого уже была длинная
и сложная история. В данном случае важно, что он
описывал vivere civile е popolare, основанную на классическом
идеале вооруженного гражданина и макиавеллиевском идеале
вооруженного и воинственного народа. Поступал он так потому,
что эта модель предоставляла систему понятий, подходящих
для формулировки притязаний, которые армия как
революционное движение еще способна была выдвинуть от своего
имени. Одновременно этот не самый замечательный
журналист развивал — по-прежнему с достаточно демократических
позиций — доктрину о de facto власти, необходимость которой
обусловлена неспособностью армии до конца реализовать свои
революционные требования. В редакционных статьях,
позаимствованных из «Защиты дела Английской республики»,
сказано, что армия и народ опираются на jus conquestus, которого они
ищут в jus gentium4. Однако доводы Нидхэма в пользу власти
1. Ibid. № 71 (9-rô октября 1651). Р. Н2б; № 73 (23~3° октября 1651). Р. 1158;
№ 84 (8-15 января 1652). Р. 1335; № 88 (5-12 февраля 1652). Р. 1394; № 91
(гб февраля — 4 марта 1652). Р. 1445·
2. Ibid. № 70 (2-9 октября 1651). Р. поо; № 73 (23_3° октября 1651). Р. 1158;
№ 84 (8-15 января 1652). P. I338·
3- Ibid. № 72 (16-23 октября 1651). P. H43i № 87 (29 января — 5 февраля 1652).
Р. 1385; № 92 (4~11 марта 1652). Р. 1457-462; № юо (29 апреля — 6 мая 1652).
Р. 15б9-1573- В особенности см. последний текст.
4- Ibid. № 17 (26 сентября — з октября 1650). Р. 277-278; № ι8 (3-10 октября
1650). Р. 293-296; № ig (ю-17 октября 1650). Р. 3°9_312; № 20 (17-24
октября 1650). Р. 325-326; № 21 (24-31 октября 1650). Р. 341_343; № 22 (31
октября—7 ноября 1650). Р. 357-359; № 23 (7-14 ноября 1650). Р. 373"374; № 24
(14-21 ноября 1650). Р. 389-39° (английские короли); № 25 (21-28 ноября
1650). Р. 407~4°8; № 26 (28 ноября — 5 декабря 1650). Р. 423"425 (Нимрод
и цари Израиля); № 27 (5-12 декабря 1650). Р. 439~44°; № 28-30 (i2
декабря— 2 января 1651) — о необходимости покоряться власти оружия
в целом; № 31 (2~9 января 1651). Р. 5°3-5°4 — ° том> что государство
рождается из повиновения; № 35 (3° января — 6 февраля 1651). Р. 5^7"
568 — о том, что народу-завоевателю грозит опасность потерять
свободу; № 75 (6-13 ноября 1651). Р. 1189-1191; № 93 (π-ι8 марта 1652). Р. Ц57~
1460; № 98 (15-22 апреля 1652). Р. 154°·
541
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
de facto тяготели к оправданию покорности любому
правительству, наделенному действительной властью. Когда этой властью
стал протекторат Кромвеля, а представители армии, к которым
Нидхэм обращался в «Политическом Меркурии», оказались
в оппозиции, он попал в неловкое положение, а истории
английского макиавеллизма предстояло начаться с чистого листа.
III.
На основе известных нам фактов об обстоятельствах
публикации «Республики Океании» Джеймса Харрингтона в конце
лета или осенью 1656 года, можно предположить, что
непосредственным фоном для нее послужило растущее недовольство
некоторых армейских кругов курсом протектората,
осуществляемым с 1654 года1. Имеются сведения, смутно указывающие
на связи Харрингтона с бывшими офицерами и некоторыми
другими противниками захвата власти военным
командованием, которое было чуждо войскам по духу. Новое руководство
не выказывало никаких признаков намерения создать часто
переизбираемый парламент, что было важным требованием
с 1647 г°Да> а армия оказалась в подчинении власти
лорда-протектора как главы исполнительной власти. В 1656 году
вполне могли ходить слухи о планах некоторых военных грандов
из числа сторонников протектората, вылившихся в
«Покорнейшую петицию и совет» (Humble Petition and Advice) весной
1657 года2. Сочинение представляло собой совершенно
антиреволюционный шаг, сопровождавший закат правления
Кромвеля. В тексте предлагалось превратить должность
лорда-протектора в титул наследного монарха и учредить назначаемую
«Другую Палату», чтобы поддерживать равновесие между «одним
человеком» и однопалатным «парламентом», которые и
должны были составлять конституционное устройство. Этот ход
явно возвращал к форме правления, описанной в «Ответе на
Девятнадцать предложений» четырнадцатью или
пятнадцатью годами ранее, что подтверждается и тем, что «три
сословия» действительно упоминаются в «Покорнейшей петиции
и совете»3. Ожесточенное сопротивление — как укреплению
постоянной аристократии, так и любой форме возврата к
исторической конституции — стало основным мотивом пережившего
1. См. подробнее: Рососк J. G.A. James Harrington and the Good Old Cause.
2. Текст документа: Kenyon J. P. The Stuart Constitution, 1603-1688. P. 350-357.
3. Ibid. P. 353 (clause 7).
542
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
предыдущую фазу республиканизма, который отныне прочно
ассоциировался с выражением «старое доброе дело», за
которое боролась Армия «нового образца». Можно предположить,
что аргументы, предвосхищавшие возможное содержание
«Покорнейшей петиции и совета», послужили почвой для
развития оппозиционной литературы в предшествующее лето. Так
или иначе, не случайно в июне 1656 года Нидхэм издал свои
статьи из «Политического Меркурия» за 1650-1652 годы
отдельной книгой под названием «Превосходство свободного
государства» (The Excellency of a Free State). Впрочем, выход тома
свидетельствовал о явном просчете. Нидхэм не особенно
стремился смягчить гневные выпады против возврата
чужеродных элементов монархии и аристократии (есть свидетельства,
что позже он сожалел об этом поступке, повлекшем за собой
нежелательные ассоциации с «Республикой Океанией»1).
Почти одновременно, также не случайно и также несвоевременно,
сэр Генри Вейн написал свой «Исцеляющий вопрос» (Healing
Question), единственную из работ, которая подверглась
преследованиям со стороны властей. Армия была здесь
представлена как справедливый завоеватель, как «народ Божий», ныне
переживающий прискорбный раскол. В тексте
формулировались предложения о том, как восстановить причитающуюся
армии возвышенную роль и статус правящих в Англии святых2.
Однако «Республика Океания» — одно из произведений, что
выходят за рамки своего непосредственного контекста.
Историческая значимость книги Харрингтона в том, что она служит
вехой, отмечающей момент смены парадигмы. Здесь в корне
реинтерпретируется английская политическая теория и
история в свете понятий, почерпнутых из гражданского
гуманизма и республиканских идей Макиавелли. Непосредственным
поводом к пересмотру послужило стремление обосновать
военную республику в Англии как режим popolo armato3.
Однако проведенного нами пространного анализа политических
языков или способов артикуляции политического сознания,
доступных англичанам, достаточно, чтобы убедиться: языку
vivere civile было нужно одержать победу в тяжелой борьбе с
соперничающими альтернативами. Мы не ожидаем, что Харринг-
тон, взяв на себя роль английского Макиавелли, разыграет
ι. Рососк J.G.A. James Harrington and the Good Old Cause. P. 38-39.
2. Judson M. The Political Thought of Sir Henry Vane the Younger. Philadelphia,
1969.
3. Вооруженный народ (итпал).—Прим. ред.
543
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
драматическое столкновение добродетели и фортуны или же
выступит обвинителем своих братьев, вонзая меч в
нравственное сознание англичан и заставляя их оплакивать эту рану.
Столь почетная миссия позже выпала Гоббсу. Целью Харринг-
тона, по-видимому, было1, во-первых, опровергнуть
возможность возвращения к традиционной «Древней» или
«сбалансированной» конституции и показать, что ее основания никогда
не отличались надежностью, а теперь полностью уничтожены;
во-вторых, живя во время, которое можно назвать «моментом
после Савонаролы», он стремился показать, что преодоление
древних обычаев и практик было скорее светским, чем
апокалиптическим процессом (нам не стоит забывать, что одно не
исключало другого), который, однако, не обязательно
предполагал правления святых. Пытаясь решить первую из задач,
он изложил гражданскую историю военного дела2, основанную
на теории Макиавелли, считавшем ношение оружия важным
как с точки зрения распределения власти, так и для
поддержания гражданской добродетели. Обращаясь ко второй задаче,
он сформулировал теорию гражданства, которая в
совокупности с первой группой аргументов представляла англичанина
как гражданина, а Английскую республику — как ближе всего
стоящую к Богу в сравнении с любой олигархией святых,
которые на деле были самозванцами. В первом отношении его
теория стала связующим звеном между уверенностью Айрто-
на в необходимости собственности и убежденностью Рейнбо-
ро в возможности свободы. Харрингтон нашел способ описать
английского землевладельца как классического гражданина,
вернувшегося на землю с Парнаса3. Во втором — он занимал
место непосредственно рядом с Гоббсом, переживая
удивительный и значительный момент эволюции пуританского милле-
наристского сознания. Однако, если учитывать долгосрочное
историческое значение «Республики Океании», текст предстает
в несколько ином свете, о чем мы еще скажем подробнее в
последующих главах.
1. Автор готовит издание политических произведений Харрингтона, к
которому и отсылает читателя [The Political Works of James Harrington /
Ed. byJ.G.A. Pocock. New York, 1977. — Прим. ред.]. См. также: PocockJ.G.A.
The Ancient Constitution and the Feudal Law. P. 124-147 (chap. VI).
2. «Oceana: Second Part of the Preliminaries», цит. no: The Oceana and Other
Works of James Harrington / Ed. by J. Toland; см.: P. 57-72.
3. «Известия с Парнаса» Траяно Боккалини (Венеция, 1612-1613) были
одним из любимых произведений Харрингтона, к которому он часто
обращался.
544
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
Работа Харрингтона была названа «размышлениями о
феодализме в духе Макиавелли»1. В поколении английских
ученых, живших до 1642 года, можно проследить все более
отчетливое понимание природы баронства, рыцарской службы
и зависимых от воинских обязанностей земельных владений
в целом. Эти феодальные отношения выступали
инструментами периодизации английской истории, появившись в
стране с приходом саксов или норманнов и утратив влияние над
законом и обществом в последующее время, которое не
поддается точной датировке. В восприятии историков образ
феодальных рыцарей и вассалов соединялся с памятью — следы
которой мы уже наблюдали в высказываниях Бэкона и Рэли
в связи с Макиавелли — о военной власти, носители которой,
недавние магнаты, опирались на своих слуг. Сопоставляя
эти образы, Харрингтон пришел к мысли, что распределение
власти, основанное на feudum, сформировалось в Англии при
саксах, а изжито было лишь под влиянием законодательства,
введенного Генрихом VIT. В предположении, что сокращение
военной силы, которой располагала знать, привело к
существенным переменам в распределении политической власти
или оставило короля один на один с народом, не было ничего
нового. Главная оригинальность Харрингтона — которая
позволяет с полным правом назвать его пионером идей
гражданского гуманизма в Англии — заключается в том, что он перенес
эти рецепты и предписания на историю политической власти
в Европе и Англии в целом. При этом он опирался на теорию
Макиавелли о ношении оружия как необходимом атрибуте
политической личности. Флорентийцы подчеркивали: если
человек носил оружие не сам по себе, а состоя у кого-то на службе,
он не мог быть членом гражданского общества, ибо он обязан
иметь возможность — ключевую для утверждения как власти,
так и добродетели — прибегнуть к оружию, если он захочет
предоставить себя в распоряжении республики. Переход от
Римской республики к империи они воспринимали именно
в контексте взлета и падения идеи вооруженного индивида.
Знакомство Харрингтона с обыкновением английского права
ссылаться на древнюю практику позволило ему ввести еще
один аргумент, к которому, по его словам, Макиавелли был
очень близок, но так и не смог его сформулировать3: ношение
1. Рососк J.G.A. Ancient Constitution and the Feudal Law. P. 147.
2. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 60-65.
3. Ibid. P. 39.
545
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
оружия, будучи частью обязанностей феодала, оказалось
основано на владении собственностью. Ключевым стало различие
между вассалом и фригольдером (свободным землевладельцем):
оно определяло, принадлежал ли меч человека его сеньору
или же ему самому и республике. Функцией безусловного права
собственности становилось свободное распоряжение оружием,
а значит, и личности для общественной жизни и гражданской
добродетели. Политизация личности человека теперь нашла
полное выражение в языке английской политической мысли;
англичанин Господа Бога был теперь zôon politikon — благодаря
своему мечу и фригольду.
Таким образом, основой политической личности становилась
собственность, недвижимая или (что менее вероятно)
движимая. Как следствие, она коренилась в чем-то более конкретном
и материальном, чем аристотелевский ойкос (oikos\ и Харринг-
тон предпочел проигнорировать акцент Макиавелли
исключительно на моральном разложении и коррупции,
действительном распаде гражданской личности как главной причине
упадка политий. Правление «коррумпировалось», полагал он,
не столько тогда, когда граждане переставали проявлять
необходимые добродетели, сколько в момент нарушения
правильного баланса между распределением политической власти и
распределением собственности, которое должно его обусловливать1.
Когда это произошло, обнаружилось, что равные между собой
пытаются вести себя словно сеньоры и вассалы, а сеньоры
и вассалы — будто равные. В каждом из этих случаев
политическая власть, уже не обоснованная распределением
объективной свободы, либо должна была насаждаться насильственно
и деспотически, либо (что приводило к аналогичным итогам)
оказывалась слабой и непрочной, обреченной на то, что ее
вытеснит распределение власти, соответствующее фактическому
распределению земли. Классическую шестеричную типологию
конституций — монархию, аристократию и демократию,
каждая из которых строилась или на справедливости, учитывая
общее благо, или на несправедливости, учитывая лишь благо
правящей части, — можно было теперь преобразовать в другую
модель: каждая из разновидностей конституций либо
соотносилась, либо не соотносилась с существующей разверсткой земли.
Однако Харрингтон ввел еще одно различие между
монархией турецкого типа, в которой все земли принадлежат одному
I. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 68.
546
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
человеку, а остальные получают столько, сколько ему
заблагорассудится, и монархией «готического», или феодального,
типа, в которой немногие получали свои владения от короля,
а многие — от немногих. По его мысли, последний тип
представлял собой не подлинную монархию, а плохо продуманную
и несбалансированную модель. Феодальные восстания в случае
готической системы и мятежи дворцовой охраны — янычаров
или преторианцев — в случае турецкой (к которой относилась
и поздняя Римская империя) приводили к тому, что монархия,
даже в ее чистом виде, не могла стать по-настоящему
стабильной формой правления1.
Харрингтон назвал собственность «достоянием фортуны»2,
и у него не было конкретных представлений о том, как
общественным законам следует регулировать это распределение.
Однако он действительно считал, что можно либо
перераспределить собственность, либо избежать ее
перераспределения с помощью закона3. Английский понятийный контекст
не вынуждал его прибегать к понятию fortuna, дабы
представить каждую форму правления как неизбежно стремящуюся
к вырождению или пользоваться своей шестеричной
классификацией согласно неотвратимому движению цикла Полибия
(anakuklösis). Тем не менее Харрингтон считал, что лишь
демократия землевладельцев — то есть общество, где демос (demos),
или многие наделенные землей свободные люди владеют
приблизительно равными участками, — располагала
человеческими ресурсами (Макиавелли мог бы сказать — materia),
необходимыми для разностороннего и равномерного распределения
политической власти, что служило условием внутренне
уравновешенной политейи (politeia). Такая республика, по его мнению,
теоретически могла оказаться бессмертной4. Кроме того, он
изложил историю политической власти на Западе, действительно
следуя циклической модели. Моисей и Ликург, Солон и Ромул
представали аграрными законодателями, которые основали
1. Ibid. Р. 37, 50> 65-67, 129-130, 248-252.
2. Ibid. Р. з6-37·
3- Об этом, на мой взгляд, с излишним доверием, размышляет Дж.Р. Пол:
Pole J. R. Political Representation in England and the Origins of the American
Republic. London, 1966.
4. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 178—
180. См.: Fink £S. The Classical Republicans: An Essay in the Recovery
of a Pattern of Thought in Seventeenth-Century England. Evanston, 1945;
Blitzer Ch. An Immortal Commonwealth: The Political Thought of James
Harrington. New Haven, i960.
547
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
республики свободно владеющих землей воинов. Однако их
создания разрушили завоевания римлян и расширение
латифундий. После того как Гракхам не удалось предотвратить
этого, Цезари (Caesars) и верные им войска установили непрочную
монархию, в которой земля и военные силы были поделены
между императором и сенатом. Готы, завербованные в качестве
наемников в ответ на неустойчивость этой системы,
подчинили себе всю империю и создали феодальные дисбалансы
монархии и аристократии. «Готический баланс», или
«современная рассудительность», писал Харрингтон, хотя традиционно
и пользовался уважением как образец политического
искусства, — аллюзия на систему взглядов, представленную в
«Ответе на Девятнадцать предложений», — на деле всегда оставался
лишь «поединком» между королем и аристократией. При этом
нестабильность оказывалась структурной: ни одна из сторон
не могла ни приспособиться к иной власти, ни
освободиться от нее1. В «Республике Океании» — слегка приукрашенной
Англии — «новейшая рассудительность» продолжала
действовать начиная с вторжения англосаксов и до воцарения
Тюдоров. Однако Генрих VII, в изображении которого Харрингтон
во многом ориентируется на идеи Бэкона, сыграл роль, очень
схожую с той, что Джаннотти приписывал Медичи: он
освободил тех, кто служил кому-то своим оружием (и кого
Харрингтон приравнивает к слугам), от власти господ и, лишив
последних способности причинить им вред в дальнейшем, начал
возвышать слуг до землевладельцев (mediocri Джаннотти), уже
неподвластных монархии2. Карлу I выпало обнаружить, что
его модель правления устарела. Столкнувшись с силой общин,
он увидел, что у знати нет авторитета и она не может
поддержать его власть. Он был вынужден править с помощью армии,
но, поскольку войска могли пополняться только
свободными землевладельцами, которые отнюдь не собирались за него
сражаться, его монархия пала3. Теперь хозяевами положения
ι. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 63,
129.
2. Ibid. P. 64-65, 364-366. Отсылки к Φ. Бэкону (как к «Истории правления
короля Генриха VII, так и к «Опытам») см.: Ibid. Р. 32, 64. О
Джаннотти см. выше, глава IX, прим. 2 на с. 394·
3- Ibid. Р. 65: «...for the house of peers, which alone had stood in this gap, now
sinking down between the king and the commons, shew'd that Crassus was
dead, and the isthmus broken. But a monarchy devested of its nobility, has no
refuge under heaven but an army. Wherfore the dissolution of this government
caus'd the war, not the war the dissolution of this government. Of the king's
success with his arms it is not necessary to give any further account, than
548
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
оказались вооруженные представители «народа» —
землевладельцы, способные повторить труды Моисея и Ликурга. Цикл
завершился, и открылась возможность построить бессмертную
республику. Харрингтон пошел дальше Айртона: он связал
политику с историей собственности, но рассматривал
последнюю как циклическую цепочку преобразований, а не просто
как традицию наследования.
Кроме того, с теоретической точки зрения Харрингтон
окончательно развенчал претензии «Древней конституции». Ее
невозможно стало воспринимать как структуру обычаев и
практик, приспособленную к духу конкретного народа, или как
систему образцового равновесия одного, некоторых и многих.
Он не доказывал, подобно левеллерам, что «Древняя
конституция» коренится в нормандском завоевании, но обрисовал ее как
одну из фаз цикла неустойчивых форм, как систему, которая
никогда не способствовала и не могла способствовать
укреплению в Англии мира и порядка. В той мере, в какой мы можем
проследить связь его идей с казуистическими спорами и
полемикой о власти de facto предшествующих лет, он был готов
утверждать, что ввиду непоследовательности старого режима
выбор между королем и парламентом оставался делом совести
каждого человека и что по справедливости нельзя было
никого за совершение этого выбора наказывать1; читателям, у
которых, в духе Эшема или Нидхэма, могли возникнуть опасения,
что любое государство зиждется на власти оружия, он
предложил историю и теорию гражданского общества, из которых
извлек гораздо более радужные и оптимистические выводы,
нежели те, что мы находим в «Левиафане». Его popolo armato
не коллективный Нимрод, исполняющий jus conquestus,
которого изображал Нидхэм, и не мистически избранное сообщество
that they prov'd as ineffectual as his nobility, but without a nobility or an
army (as has bin shew'd) there can be no monarchy. Wherfore what is there
in nature that can arise out of these ashes, but a popular government, or
a new monarchy to be erected by the victorious army?»; «...ибо палата
лордов, которая только и могла заполнить этот пробел, терялась теперь
между королем и общинами, показывая, что Красе погиб и оборона
прорвана. Но у монархии, лишенной знати, не оставалось другой
опоры под небом, кроме армии. Поэтому крушение этой системы
правления вызвало войну, а не война вызвала крушение системы. Об
успехе войска короля нечего более сказать, кроме того, что оно оказалось
столь же бессильным, как и его знать, но без знати или армии (как
было показано) не может быть и государства. Поэтому что же может
родиться из этого пепла, кроме народного правления или же новой
монархии, которую воздвигнет армия победителей?»
ι. Ibid. Р. 6д.
549
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
святых, которое виделось Вейну. Мы находим здесь не меч
Левиафана или Гедеона, но оружие как фундамент, на котором
народ республики воздвигает здание гражданской добродетели.
Политическая личность, изображенная в проекте
Харрингтона, по-прежнему является носителем гражданской
добродетели, которую предполагали — хотя и скептически — все
флорентийские построения в русле гражданского
гуманизма. Как мы уже видели, Харрингтон делает акцент не
столько на нравственных, сколько на материальных основах этой
личности. В «Республике Океании» меньше говорится о
сопровождающем коррупцию моральном вырождении, чем это
было принято в XVI или в XVIII веке. Худшее, что грозит
«народу» Харрингтона, — это утрата порядка1, под которым
он подразумевает скорее не принудительное подчинение
суверену, а «сословия», или ordini, направляющие людей по
стезе добродетели. Как и у Макиавелли, ношение оружия здесь
становится необходимым средством, с помощью которого
человек утверждает и свою социальную власть, и свое участие
в политической жизни как ответственное нравственное
существо. Однако право на независимое и свободное владение
землей теперь составляет материальное основание для
ношения оружия. Это право может предполагать другие виды
социальной зависимости, помимо вассальных отношений,
которые Харрингтон, по всей видимости, не рассматривал. Акцент,
сделанный им на важности ношения оружия, мог помешать
проследить различия между всеми видами землевладения,
которые не обязывали к военной службе. Если, подобно Айртону
и Рейнборо в Патни, Харрингтон не исследовал обширную
область, простиравшуюся между подлинным фригольдом и
сервитутом, в своей аргументации он сочетал элементы доводов
обоих политиков. Как и Айртон, он настаивал, что
собственность на землю, подразумевающая возможность ее передачи
и наследования, составляет необходимое условие любого
интереса или участия в республике. Слуг.и, заявлял он, не
состоят в республике, и любая исходящая от них угроза по сути
внешняя2, подобная опасности от иноземного врага. Однако,
ι. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 469
(«A System of Politics», IV, 18, 19, 22).
2. Ibid. P. 77, 138: «The causes of commotion in a commonwealth are either
external or internal. External are from enemies, from subjects, or from
servants»; «Причины гражданских волнений в республике бывают
либо внешними, либо внутренними. Внешние происходят от врагов,
от подданных или от слуг».
550
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
как и Рейнборо, по-видимому, он полагал, что экономическую
независимость, достаточную для прав гражданства, обретают
люди, получающие плату за труд, если они проживают в
собственных домах и не являются слугами в чужих домах или
семьях1. О взглядах Харрингтона на экономические
вопросы велось много споров, и делалась попытка показать, что
он рассматривал землю как в основе своей рыночный товар,
который можно купить и продать, получив прибыль. В
связи с этим его граждане представали непостоянным и
подвижным классом предпринимателей2. Однако есть веские
причины утверждать, что его экономические теории — греческого
происхождения и основаны на отношениях между oikos и polis.
Землю приобретали, чтобы оставить в наследство3: положить
начало семьям или oikoi, которые базировались на
гарантированном праве наследования, благодаря чему сыновья этих
людей были вольны носить оружие и отдавать свои голоса
на собраниях республики. Как и у Аристотеля, назначение
земли — не доход, а досуг: возможность действовать в
публичной сфере или обществе, проявлять добродетель. Мы
возвращаемся к этике безупречного гражданина, согласно которой
политика особенно отвечает «духу джентльмена»4, а за
бедными землевладельцами остается роль критически
рукоплещущих многих.
Харрингтон знал, что имущество может быть недвижимым
и движимым, и особо оговаривал, что изложенные им общие
законы, касающиеся отношений между имуществом и властью,
применимы как к первой, так и ко второй его разновидности5.
Впрочем, хотя он и бывал в Голландии и, как утверждают,
служил там в одном из английских полков, он нигде не
рассматривает общество, чья военная и политическая структура
основана на собственности в товарно-денежной форме. Если бы
он попытался это сделать, голландцы, весьма далекие от
классических представлений о вооруженном народе, вызвали бы
у него затруднение. Голландия и Генуя — а не Венеция,
заметим, — фигурируют как типы общества, всецело опирающегося
1. Ibid. Р. 247> где утверждается, что такой человек не заинтересован в
использовании своего избирательного права для уравнивания имущества.
2. Macpherson СВ. The Political Theory of Possessive Individualism (chap. 6),
особенно см.: Ibid. P. 82-88.
3. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 480
(«A System of Politics», X, 4-5).
4. Ibid. P. 53.
5. Ibid. P. 38, 228.
55I
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
на торговлю, лишь в контексте рассуждения о том, не
«поглощает ли равновесие в торговле равновесие на земле». Эти
рассуждения оборачиваются анализом того, как ростовщичество
влияет на земельную собственность. Голландия и Генуя, где
общество строится на получении прибыли, само собой, не
нуждаются в законах против ростовщичества. Древний Израиль
и Спарта, чья конституция основана на распределении земли,
лишь часть которой можно возделывать, должны были
строго ограничивать денежные ссуды под проценты, дабы
предотвратить распределение недвижимого имущества, запутанного
в сети долгов1. По той же причине современным евреям следует
обосноваться на новой территории, где они смогут вернуться
к земледельческому укладу2. Однако Океания достаточно
обширна, чтобы разрешить своим торговцам давать деньги в рост
(хотя, по-видимому, не настолько, чтобы допустить
возвращение к этому занятию евреев). Ростовщичество не нарушает
земельную систему, а значит, может способствовать ее
укреплению и развитию3. Исследователь, ищущий следы зарождения
буржуазного общества, обнаружит, что Харрингтон в Англии
XVII столетия пытался оправдать получение дохода от
спекуляции. Однако удовольствие от сделанного им открытия не
должно заслонять того факта, что Харрингтон оценивал
воздействие денежных спекуляций на наследование земли скорее
отрицательно, чем положительно. Назначение собственности
заключалось в том, чтобы обеспечивать стабильность и досуг:
она закрепляла за человеком место в структуре власти и
добродетели, а затем освобождала его, дабы он мог ими деятельно
заниматься. Аргументом против рыночного дохода как
основания гражданской личности служила его изменчивость: «Как
пришло, — заметил Харрингтон, — так и ушло»4. Человек мог
потерять то, что имел; одновременно он мог утратить и свой
статус. Благородный муж не инструмент, как говорил
Конфуций, а гражданская личность не товар.
Если бы Океания больше торговала, очень вероятно, что
ей пришлось бы расширить свою территорию. Возможно,
отчасти поэтому Харрингтон вторит Макиавелли, настаивая,
что вооруженная народная республика должна «стремиться
ι. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland.
P. 228-229.
2. Ibid. P. 33-34·
3. Ibid. P. 229; см. также: Ibid. P. 100-101.
4. Ibid. P. 227.
552
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
к расширению»1. Однако здесь есть существенные различия.
Обоих авторов объединяет мысль, что в народной республике
следует позволить народу носить оружие и что оно послужит
для дела, а не для украшения или церемоний. Но
Макиавелли — находясь, как раньше Бруни, под влиянием размышлений
о завоевании римлянами свободных городов Этрурии, —
представлял себе республику в духе Полибия, как соседствующую
с другими республиками и королевствами и неизбежно
участвующую в войнах с равными. Судьба Рима, уничтожившего
доблесть других народов, а в конце концов и собственную,
казалась ему участью каннибала. Однако об Англии Харрингтон
писал: «Море диктует законы развитию Венеции, но развитие
Океании диктует законы морю»2. Обе страны располагались на
островах, отгороженных водой от постоянной угрозы захвата.
Их враги не осаждали городские стены. В Венеции было место
лишь для купцов, ремесленников и мореплавателей, и в силу
небольшого числа свободных граждан она воздерживалась от
империи и демократии. Англия же была и островом, и
земледельческой территорией, способной воспитать вооруженный
народ, представители которого оказывались демократами у себя
на родине и завоевателями за рубежом. Более того, отсутствие
связей с terrafirma подразумевали в случае Океании отсутствие
соседних республик, свобода и добродетель которых могла бы
пострадать, что давало возможность расширяться, не боясь
подвергнуться разложению и коррупции. Однако
Харрингтон не поясняет, что эта конструкция значит для реального
мира. Верный тому настроению, в порыве которого Марвелл
провозгласил, что Кромвель как уполномоченный обществом
верховный главнокомандующий «представляет опасность для
всех несвободных стран», Харрингтон рисует Английскую
республику гегемоном, освобождающим соседние европейские
территории от варварского (и, возможно, папского) ига3. Тем не
менее существует альтернативная точка зрения, скорее
океаническая, чем материковая, в соответствии с которой
воинственные и жаждущие получить землю свободные люди
колонизируют Ирландию, где уже не живет коренное население и «где
у каждого гражданина в свое время будет собственный дом»4.
ι. Ibid. Р. 178-185.
2. Ibid. P. 34: «the sea gives law to the growth of Venice, but the growth of
Oceana gives law to the sea».
3. Ibid. P. 185-188.
4. Ibid. P. 103.
553
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
(Пуританская армия в Ирландии стала прибежищем
противников протектората, и некоторые единомышленники и
последователи Харрингтона были с ней связаны.) «Там будут другие
плантации, — говорится в этом отрывке, — и республика
получит больше»1. В свете значимости, какую его идеи
впоследствии обрели в Тринадцати колониях, возникает искушение
сказать: упоминая заселение безлюдной Ирландии,
Харрингтон описал колонизацию другого берега Атлантики. Однако
в тексте есть отсылка к «колониям обеих Индий»2, которые
вполне могут обозначать американские поселения. Автор
уверенно говорит, что уже в скором времени они обретут
независимость. Где именно должно произойти не предвещающее
порчи расширение Океании, неясно. Тем не менее
несомненно, что Харрингтон, как до него Джаннотти, стремится взять
все лучшее от обеих стран, описанных в начале
«Рассуждений» Макиавелли. Океания должна стать Римом, непрерывно
расширяющим свои границы, и Венецией с ее непоколебимой
устойчивостью, свободой и добродетелью. Поэтому он вложил
в уста своего законодателя речь даже более пространную, чем
это было принято3. Тот прочитал наизусть целый фрагмент
из шестой главы первой книги «Рассуждений», где впервые
противопоставляются Рим и Венеция, и сделал вывод, что
Макиавелли ошибался, полагая, что вооружение народа
обернулось бы постоянной борьбой между аристократией и плебеями
(погубившей республику, когда предметом раздора оказались
богатства империи). Как и критиковавшие Макиавелли
сторонники венецианской системы, он утверждал, что раздоры
между римскими гражданами вызваны не буйным нравом
плебеев, а наследственной монополией патрициев на должности,
которая не связана с вооружением народа. Венеция решила эту
проблему, устроив так, чтобы многие выбирали аристократию
и сами в свой черед могли на какое-то время стать ее частью,
и Макиавелли заблуждался, полагая, что причина спокойствия
в ней заключалась в разоружении людей4. У Океании,
поднимающейся из руин готического баланса и распадающегося
института наследственного баронства, были островное
положение, землевладельческие практики и вооруженный народ. Ей
оставалось перенять у Светлейшей Республики лишь частую
1. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. ioo.
2. Ibid. P. 41.
3. Ibid. P. 132-144·
4. Ibid. P. 139-140.
554
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
смену аристократии и стать Венецией и Римом одновременно.
И можно не бояться английского Цезаря.
«Сословия» Океании описаны утомительно пространно,
с утопической тщательностью. Их задача — обеспечить
возможность участия в политической жизни всех граждан на основе
частых собраний местных сообществ, или «триб», — что
значимо в контексте как греко-римской, так и еврейской истории.
Эти встречи во многом напоминали собрания графства в
традиционной английской системе: не в последнюю очередь
потому, что те сочетали в себе функции набора и подготовки
народного ополчения и избрания представителей в национальное
собрание. Конные и пешие отряды идут в наступление и
отступают, а граждане бросают золотые венецианские
баллотировочные шары, выбирая членов собрания и сената Океании.
Харрингтон осознанно подчеркивает тождество milizia и poliçia1.
Однако те, кого избирают, становятся не столько
представителями в строгом смысле слова, сколько гражданами, по очереди
принимающими на себя политические полномочия и
обязанности службы. В этих сложных, явно заимствованных из
Венеции механизмах, с помощью которых избираются и
функционируют различные собрания и советы, играл свою роль
как жребий, так и выбор. Харрингтону была известна та
вариация rnito di Venezia2, в которой добродетель представала
механизированной, а люди — встроенными в процессы,
заставлявшие их вести себя разумно и бескорыстно, хотели они того
или нет (платоновские интонации, которые можно различить
у Контарини, звучат в его последнем и наиболее
систематизированном политическом произведении3). Однако главная цель
состояла в следующем: дать реализоваться добродетели
каждого человека благодаря участию в гражданской жизни. Частая
ротация — Нидхэм называл ее «революцией» — должностей,
в том числе и представительских полномочий, нужна была
не столько для того, чтобы обеспечить соответствие
результатов выборов мнению народа, сколько для того, чтобы человек
действительно принимал участие в политической жизни. Ему
предстояло быстро переходить от одних обязанностей к
другим, а не делегировать кому-либо свои гражданские
полномочия и не отказываться от них. Смена должностей —
предложенный Харрингтоном (и, как он сам полагал, венецианский)
1. См. речь Гермеса де Кадуцея; Ibid. Р. 92~94-
2. Миф о Венеции (итал).— Прим. ред.
3- «А System of Politics», IV (Ibid. P. 468-470), IX (Ibid. P. 478-479).
555
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
аналог ridurre ai principle Макиавелли — это постоянное
обновление добродетели в действии и посредством действия.
Астрономическая лексика («галактика», «prirnum mobile»11, «орбита»),
которую ему нравилось использовать в терминологии своей
утопии, отсылает к самодостаточности света, тепла, жизни.
Ту же функцию выполняет упоминание Харрингтоном
открытой Гарвеем циркуляции крови.
Проблему аристократии он тоже решает с помощью ротации.
Членов сената, играющих в его системе роль немногих, —
следует отметить, что, когда работа законодателя окончена,
функции одного практически сводятся к нулю, — регулярно
избирают, а каждый третий из них уходит в отставку. Как следствие,
они определяются не столько общностью социальной группы,
сколько своими политическими функциями, ограниченными,
в соответствии с традицией Античности и Возрождения,
исключительно предложением законопроектов и политических
мер, выбор которых остается за народом или членами
собрания. Проводимая Харрингтоном резкая граница между
«обсуждением» и «результатом»3 была его методом механизации
добродетели, разграничения и распределения элементов,
заложенных в процесс принятия решений, так, что люди
оказывались вынуждены действовать бескорыстно. Впрочем,
показывая, как немногие регулярно избираются из среды многих
и возвращаются в нее, он старался дать понять, что нет
необходимости заводить аристократию как класс, чтобы обеспечить
существование активной и постоянной группы немногих.
Однако какие-то общественные различия были необходимы. Вся
теория Аристотеля построена на соотношении политических
функций и социальных характеристик. Сенаторов народу
следовало выбирать из всаднического сословия, ежегодный доход
члена которого должен был составлять не менее ста фунтов4.
Еще более существенна твердая убежденность Харрингтона,
что многим можно доверить отбор талантливых немногих,
которых они хорошо знают и могут оценить. Из двадцати
человек, говорит он, шесть будут необычайно одаренными и
поведут за собой четырнадцать остальных. Не требуется сложного
ι. Возвращение к началам (итал).— Прим. ред.
2. Перводвигатель (итал). — Прим. ред.
3- The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 43-
45, 48, 50-51, 71, 214-215, 416, 418-419. См. выше, с. 368-370, 375 о
подобном же различии у Гвиччардини и с. 412~413> 43б~437 — У Джаннотти.
4. Ibid. Р. 78.
556
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
механизма, дабы обеспечить их избрание. Самое важное, о чем
следует позаботиться, — чтобы вышеупомянутое
разграничение «обсуждения» и «результата» содействовало исполнению
этими шестью и четырнадцатью закрепленных за ними
обязанностей1. Ясно, что различие в способностях между двумя
группами соотносится, по мысли Харрингтона, с дистанцией
в имущественном положении, происхождении и статусе.
Шестеро должны быть джентльменами, они обладают большим
состоянием, досугом, опытом и укорененностью в традиции,
чем четырнадцать2. Впрочем, важно, что четырнадцати самим
предоставляется распознать эти качества в шести. Их выбор
не регулируется критериями наследственности и почти
никакими имущественными требованиями. Понятие уважения
{deference), — если использовать слово, чаще всего избираемое
современными исследователями, — с которым мы здесь
встречаемся впервые в контексте английской республиканской
теории (хотя, конечно, далеко не в первый раз, если говорить об
английской социальной мысли), знакомо нам по
произведениям Аристотеля, Макиавелли и Гвиччардини, причем
последнему оно служило для того, чтобы провести различие между
аристократией в governo largo и governo stretto3. Роль
представления об «уважении» в атлантической мысли4 от Харрингтона
и до Джона Адамса заключалась в том, чтобы утверждать:
отношения аристократии с демократией, играющие важную роль
в любой теории смешанного правления, лучше всего
складываются в относительно свободном, подвижном и открытом
для обсуждений обществе. Аристократия, хотя и определялась
имущественными и личностными характеристиками,
является естественным явлением, скорее чем установленным
институтом, которое приносило наибольшую пользу, если не было
твердо закреплено наследованием или законом, но свободно
признавалось многими. Сформировать наследственную
аристократию, с точки зрения как Нидхэма, так и Харрингтона, не
спровоцировав при этом конфликт или коррупцию, в любом
случае трудно, да и необходимости в этом нет.
Харрингтон писал в то же время, что и Вейн, Мильтон или
приверженцы «пятой монархии». Это обязывало его принять
1. Ibid. Р. 44-45, 236-238.
2. Ibid. Р. 53, 125, 127.
3. См. выше, с. 196-203, 327-328, 357-358, 364-365·
4- См. в особенности: Wood G. S. The Creation of the American Republic.
Chapel Hill, 1969, а также главу XV ниже.
557
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
в расчет возможность другой аристократии, еще более грозной,
чем даже наследная: аристократии царства святых, элиты
духовного опыта, судить о чьих способностях многие по
определению не могли. Дабы понять всю глубину этой проблемы,
надо иметь в виду: он успешно поместил Англию в контекст
не традиционного, а античного общества. Английская
история теперь представала — в большей степени, нежели история
Флоренции со времен ранних произведений Бруни, — как часть
взлета, падения и перерождения республиканской добродетели,
а в текущий момент Англия располагала возможностью
воссоздать республику вооруженных граждан в том виде, в каком она
не существовала после Рима эпохи Тита Ливия. В этой книге
мы неоднократно возвращались к мысли, что момент
восстановления республики, общества, в котором люди стали
такими, какими они должны быть, едва ли возможно представить
вне апокалиптического момента или времени, когда благодать
действует в истории. Харрингтон здесь не был исключением.
Океания, сказано в одном месте, «нарцисс Саронский, лилия
долин» и законодатель воспевает ее начало восторженными
словами из «Песни песней»1, которые у любого
ортодоксального христианина ассоциировались с образом Церкви как
Невесты Христовой. В другом месте мы читаем, что эта
республика — царство Сына, как республика Моисея была царством
Отца8. Но это и тот момент, когда возникает царство святых,
которое по-своему ставит под сомнение равенство всех
граждан перед Богом.
Избранная нация — это специфически английское
словосочетание, свидетельствующее о священстве всех верующих. С
самого начала оно выражало превосходство светской власти на
весьма любопытной и характерной смеси лаицизма и апока-
липтики. Претензия папы как наместника Бога, действующего
из вневременного nunc-stans, внутри времени была отвергнута
как ложная. Тогда взять на себя роль сообщества верующих,
ожидающих возвращения Христа во времени, могло бы светское
1. Wood G.S. The Creation of the American Republic. P. 188.
2. Ibid. P. 187: «as the kingdom of God the father was a commonwealth, so
shall the kingdom of God the son: the people shall be willing in the day of his
power»; «как царство Бога Отца было республикой, так будет и
царство Бога Сына: в день силы Его народ Его готов во благолепии
святыни» [слегка измененная цитата: Пс. 109:3. — Прим, перев.]. Ср.: Ibid.
P. I95: «I cannot conclude a circle (and such is this commonwealth) without
turning the end into the beginning»; «Я не могу замкнуть круг (а такова
эта республика), не обратив конца в начало».
558
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
общество. Таким образом, превосходство светской власти над
какими-либо церковными притязаниями, пытавшимися это
превосходство оспорить, превращалось в испытание,
требовавшее отречения от Антихриста, в роли которого один за
другим выступали римские священники, арминианские епископы
и шотландские пресвитеры. Для индепендентов 1650-х годов
главным врагом оставался Рим, но за ним следовало jure divino1
пресвитерианство. Когда законодатель у Харрингтона —
отчасти списанный с Кромвеля — завершает труды, свое имя он
увековечивает именно благодаря победам над чужеземными
захватчиками, очевидно, шотландцами2. Однако царство
праведников, претендующих на духовный авторитет,
избранничество или озарение, недоступные другим людям, представляло
угрозу уже вполне секулярного сообщества в его
религиозной роли, в которой оно по сути представляет собой
явление того же порядка, что и царство праведников. Вот
почему Уильям Принн объявил квакеров переодетыми иезуитами
или францисканцами3. В третьей и четвертой книгах
«Левиафана» Гоббс попытался воздвигнуть укрепление против всех
этих опасностей. В весьма самобытной манере он использовал
доводы радикального протестантизма. Гоббс доказывал, что
никакая земная сила не может обладать властью, полученной
непосредственно от Христа в период между Его Вознесением
и Вторым Пришествием или же непосредственно от Бога после
того, как с избранием Саула пришла к концу теократия
Моисея, и до той теократии, которая утвердится после возвращения
Христа и воскресения мертвых. Естественная и искусственная
государственная власть Левиафана, вышедшая на передний
план, действительно безраздельно господствовала над
проповедью и толкованием пророческого слова о возвращении Бога,
что становилось возможным лишь за счет его беспрестанного
повторения, обращавшего в прах всех псевдодуховных
соперников Левиафана. Впрочем, Левиафан оказывался в контексте
апокалиптического времени, и слово пророчества напоминало
ему о том дне, когда он утратит власть, ибо вместе с
воскресшим Христом вернется теократия4.
Может показаться, что Гоббс и Харрингтон — теоретик
абсолютного суверенитета и теоретик содружества частной
ι. Согласно божественному праву (лат.). — Прим. ред.
2. Ibid. P. igg. Однако Антихрист не назван прямо.
3- Lamont W.M. Marginal Prynne. P. 141, а также прим.
4. Pocock J. G.A. Politics, Language and Time. P. 148-201.
559
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
добродетели — были настолько не согласны между собой,
насколько вообще могут быть не согласны два идеолога. В самом
деле, Харрингтон не скупится на критику теории власти Гоб-
бса, его ненависти к греко-римскому наследию и замены им
публичной и активной добродетели частным и добровольным
подданством1. Однако есть и другой, более глубокий смысл,
с точки зрения которого они оказывались заодно и имели
общих врагов. Харрингтон, как и Гоббс, старался доказать, что
первые пресвитеры и диаконы, рукоположенные апостолами,
не посвящались в это звание на правах преемственности, а
избирались на собраниях2. Подобно большинству индепендентов,
склонялись ли те к эрастианству или к конгрегационализму,
он стремился таким образом опровергнуть авторитет папистов,
приверженцев епископальной системы и пресвитериан, вместе
взятых. На эту тему существовала обширная литература, из
которой он мог почерпнуть свои доводы. С Гоббсом его
сближало общее для них обоих желание продемонстрировать, что
орган, избиравший пресвитеров и диаконов, был гражданским,
и что — по крайней мере по мысли Харрингтона —
первоначальные ecclesiae представляли собрания граждан в афинском
понимании слова ekklena3. Суть в том, чтобы доказать: выбор
духовенства — это выбор граждан, осуществляемый
гражданским сувереном. Как бы Харрингтон и Гоббс ни отличались
в своем понимании суверенитета, самодостаточный полис или
содружество, как подчеркивал Гоббс, настолько
самостоятельны в своих делах, насколько это возможно для любого
владычества, подчиненного Левиафану. А враги были те же: долгая
полемика Харрингтона на тему рукоположения во времена
первых христиан, направленная против англиканина Генри
Хэммонда, является реакцией — страница за страницей и
тезис за тезисом — на фрагмент из работы последнего, где Хэм-
монд нападает на Гоббса4.
1. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 35-
37, 38-39, 42-4З, 45-46, 49-50, 53, 54, 65, 71, 241. '
2. «Prerogative of Popular Government», книга II (Ibid. P. 304-54); «Art of
Lawgiving», глава VI (Ibid. P. 398-400); «Leviathan», книга III, глава 42
{Hobbes T. Leviathan. Oxford, n.d. P. 322-383).
3. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 48
(«церковь или собрание людей»), 316—317; «Prerogative of Popular
Government», книга II, в разных местах.
4· Ibid. P. 335-354. Hammond H. A Letter of Resolution to Six Quaeres, of Present
Use in the Church of England (1653) // Works of Henry Hammond. 4 vols.
London, [between 1671 and 1684]. Vol. 1 [MDCLXXIV]). Пятый вопрос
касается рукоположения, и ответом на него становится возражение
5бо
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
Гоббс поместил владычество Левиафана в настоящее, в этот
интервал между прямой властью Бога, исполнявшейся в
теократии Моисея, и прямой властью Бога, которую будет исполнять
на земле воскресший Христос. Как следствие, он подчеркивал
тождество обеих теократии и их монархический характер. Власть,
которую Бог будет исполнять через человеческую природу Христа,
Он ранее осуществлял через Своих наместников, от Моисея до
Самуила. Однако Харрингтон настаивал, что государство
Моисея представляло подлинную классическую республику и что
люди, согласно своим сословиям, полномочны избирать
служителей религии, равно как и чиновников государства1. Говоря это,
он не чувствовал себя обязанным расходиться с Гоббсом.
Главной его целью было перечеркнуть всякие притязания со
стороны клира на независимое обладание духовной властью, а
республика могла отстаивать гражданский суверенитет столь же
эффективно, как и монархия. Отсылка к теократии — еще одна
форма отрицания независимости священства — сохранялась за
счет возвращения к той мысли, и Харрингтон обращается к ней
неоднократно, что республика, режим, при котором все
граждане равны и при котором все равно свободны перед Богом.
Следовательно, республика — это теократия, королевство, где
Христос король2. Намного раньше так говорил Савонарола, а Вейн
и приверженцы «пятой монархии» по-прежнему настаивали на
этом тезисе. Но, с точки зрения Харрингтона, их утверждения
были ложными, поскольку они сами, как элита или как
избранные, притязали на власть, в которой отказывали другим
гражданам3. Они отрицали республику и отрицали царство Христа,
пытаясь присвоить его себе. Они были недалеки от Антихриста.
Однако даже на горе Синай республика была не
просто откровением. Харрингтон настаивал, что установления
против сорок второй главы «Левиафана» (Hobbes Т. Leviathan. Р. 512_
529). Харрингтон в заключение пишет, что возражения Хэммонда
неудачны, и называет Гоббса по имени.
1. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 46-
48, 75, 99, 147, 166-167 («Oceana»); 234-241, 272-274, 283-284, 32°7333> 357
(«Prerogative of Popular Government»); 363, 372-398 («Art of Lawgiving»).
2. Ibid. P. 187, 194: «...but a commonwealth is a monarchy; to her God is king,
in as much as reason, his dictât, is her soverain power»; «...но республика
есть монархия; ее Царь — Бог, в той же мере, в какой разум, Его
диктат, является ее суверенной властью». Так у Толанда, в оригинале
(исправленном Харрингтоном) значится: «where God is king»; «...где Царем
является Бог».
3- Ibid. Р. 469 («А System of Politics», IV, 23), 574 («A Discourse upon this
Saying...»), 580-584 («A Parallel of the Spirit of the People with the Spirit of
Mr. Rogers»).
561
ГЛАВА XI. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
гражданского общества, развитые и воплощенные в нем,
доступны человеческому разуму и что Бог не действовал наперекор
постижимому естественному порядку1. Макиавелли поместил
Моисея в один ряд с языческими законодателями, и в этом
нельзя было не усмотреть некоторой иронии. Харрингтон же
много раз ссылался на текст, в котором говорилось, как
Моисей последовал совету своего тестя Иофора, мадианитянина,
язычника, не принадлежавшего к еврейскому народу2. Здесь, как
он любил повторять, пророк и законодатель, божественное
слово и естественный разум действовали согласно. Впрочем, есть
и еще одна причина, по которой республике Харрингтона
присущ милленаристский оттенок, какого мы не найдем у Гоббса.
Если теократия осуществлялась через прямое
представительство Бога в лице Моисея и должна будет осуществиться еще
раз в лице воскресшего Христа, то Левиафан, который
является лишь естественным и искусственным представителем Бога,
не может осуществлять теократию, а может только ожидать ее
возвращения. Если Израиль как республика был теократией,
значит, Океанию, восстановленную республику,
олицетворяющую собой одновременно Израиль и Рим redivivns, можно и
логично назвать возвратившимся царством Христовым. Отсюда
образ Невесты Христовой и другие апокалиптические смыслы,
которыми наделяется Океания. Левиафан может лишь
ожидать царства Христова в конце времен, Океания может стать
им уже сейчас, соединяя в себе Тысячелетнее Царство с
жизнью после смерти. Между смертным богом и бессмертной
республикой есть разница.
Впрочем, лишь отдельные картины и черты безмятежного
устройства Океании носят милленаристский характер. Скорее
мы видим, что Харрингтон и Гоббс, подобно Принну и Мар-
веллу, в конечном счете подчиняли духовный опыт
политическому, парадоксальным образом прибегая для этого к
пророческому контексту, которого не могла миновать их мысль.
1. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 214-
215, 248, 272-273, 300, 342 («Neither God nor Christ ever instituted any
policy whatsoever upon any other principles than those of human prudence»;
«Ни Бог, ни Христос никогда не учреждал никакого порядка на каких-
либо иных основаниях, нежели принципы человеческого разума»), 347>
371-372, 40I.
2. См., например: Ibid. Р. 48, 74 («...my Lord Archon, taking council of the
commonwealth of Israel, as of Moses; and of the rest of the commonwealths, as
of Jethro»; «...мой Властитель, взявший за образец республику Израиля,
по слову Моисея, и другие республики, по слово Иофора») et passim.
562
А) СМЕШАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ, СВЯТОЙ И ГРАЖДАНИН
Гоббс намеренно поставил под сомнение возможность
непосредственного религиозного опыта, за исключением
редчайших случаев, и свел религиозную жизнь к повиновению
Левиафану и признанию власти Бога и искупительной миссии
Христа. Харрингтон вслед за гуманистами отказался от
фигуры святого — сохраняя функцию спасения за «собранными
вместе конгрегациями»1 — и был близок к тому, чтобы
провозгласить проявление людьми гражданской добродетели
единственным необходимым условием regnum Christi2. Духовенство
у него должно было состоять из образованных людей,
занимающихся толкованием слова Божия, ибо они знают древние
языки, на которых оно записано3; Пятидесятница оказалась
почти забыта. Но, апеллируя к эсхатологической риторике,
подразумевавшей неотвратимость Тысячелетнего Царства или
Второго Пришествия, Харрингтон — какой бы ни была
позиция Гоббса — избегал описывать свою республику как
существующую исключительно в секулярном времени. Он не
использовал понятия virtu и коррупции, как делал Макиавелли,
изображая гражданина в мире, не упорядоченном ни обычаем,
ни благодатью. Такой точке зрения предстояло вновь обрести
актуальность, когда идеи Харрингтона усвоило общество, уже
не ожидавшее Тысячелетнего Царства.
ι. Ibid. Р. 55·
2. Ibid. Р. 489: «As the natural body of a Christian or Saint can be no other
for the frame, than such as has bin the natural body of an Israelit or of
a Heathen; so the political bodys, or civil governments of Christians or Saints
can be no other for the frame, than such as have bin the political bodys
or civil governments of the hraelits, or of the Heathens»; «Как природное
тело христианина или святого не может быть иным по своему
строению, нежели природное тело израильтянина или язычника, так и
политические тела, или гражданские правления христиан или святых,
не могут быть иными по своему строению, чем политические тела,
гражданские правления, израильтян или язычников». Ibid. P. 490: «The
highest earthly felicity that a people can ask, or God can give, is an equal and
well-order'd commonwealth. Such a one among the Israelits, was the reign
of God; and such a one (for the same reason) may be among Christians the
reign of Christ, tho not every one in the Christian commonwealth should be
any more a Christian indeed, than every one in the Israelitish commonwealth
was an Israelit indeed»; «Величайшее земное блаженство, какого может
просить народ или какое может дать Бог, есть основанная на равенстве
и порядке республика. У израильтян она была царством Бога, а у
христиан (в силу тех же причин) может стать царством Христа, хотя
необязательно, чтобы в христианской республике каждый в самом деле
был христианином, более, нежели каждый в самом деле был
израильтянином в израильской республике».
3- Ibid. Р. 82, 166-169, 421, 476.
Глава XII
Англизация республики
Б) Двор, страна и постоянная армия
I.
В двух предшествующих главах мы рассмотрели зарождение
и становление гражданского и макиавеллиевского способов
осмысления политики в языке и мысли стюартовской и
пуританской Англии. Сложившаяся система понятий была очень
далека от флорентийской, и нам пришлось проделать долгий путь,
чтобы увидеть, зачем вообще потребовалось изображать Англию
классической республикой. И все же можно утверждать, что
перед нами та же система понятий, в которой господствуют
парадигмы, легшие в основу модели, на которой строится эта книга.
Область конкретных событий плохо поддавалась пониманию и
рассматривалась как следствие человеческой иррациональности,
как зона секулярной нестабильности, контролировать которую
было делом политики (если сама нестабильность не являлась
греховным порождением политики); парадигмы обычая,
благодати и фортуны обеспечивали понятийный аппарат, которым
мог руководствоваться ум, следуя опасными путями
исторического существования. Когда Гражданская война нанесла удар
монархии, считавшейся олицетворением вечных законов, одна
группа мыслителей (к которой в определенном смысле
относился и Гоббс), как мы наблюдали, была готова изолировать
вневременный «момент природы» и внутри него воссоздать власть
как исключительно природный феномен. Однако разнородные
доводы Нидхэма и и обнаруженные нами парадоксальные
отношения между Гоббсом и Харрингтоном показали, что тема
природы и власти тесно связана с фортуной, круговоротом форм
правления (anakuklösis) и республикой, а последняя, в свою
очередь,— с благодатью, озарением и апокалипсисом. Как
следствие, можно утверждать, что, пока настроения радикальных
пуритан не исчерпали себя, перед английской политической
мыслью по-прежнему стояла задача постижения saeculum.
Изображение Англии как классической республики возникло как
5б4
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
способ решения этой задачи в терминах, которыми
располагали и которые подсказывали уже знакомые нам языки.
Однако в конце XVII и в XVIII веке политическая и
социальная мысль Запада перешла от постсредневековой к раннемо-
дерной стадии. Одной из особенностей, сопутствовавших этому
переходу, было мощное увеличение способности к
историческому самосознанию; и такое увеличение было бы невозможно
без существенного преобразования той строго ограниченной
эпистемологии секулярного, с которой мы до сих пор имели
дело. Причины эпистемологического сдвига, происшедшего
в эту эпоху, многочисленны и сложны, но мы обнаружим, что
язык республиканского гуманизма играл важную роль в этом
процессе, благодаря чему между ним и способствовавшей его
зарождению эпистемологией установились парадоксальные
отношения. Представители ренессансного гражданского
гуманизма столкнулись с почти неразрешимой проблемой
учреждения республики как одновременно универсального
ценностного сообщества и явления в мире конкретного; поэтому
в их теории республика представала как средство в полной
мере мобилизовать рациональность и ценности граждан,
благодаря полноте их добродетели сохраняя стабильность. В
сознании людей, живших после эпохи Возрождения и эпохи
Просвещения, эта проблематика продолжала занимать
центральное место. Впрочем, в интеллектуальном наследии ряда
мыслителей, таких как Бруни, Макиавелли и Харрингтон,
теории смешанного правления, ношения оружия и, наконец,
собственности сформировали — по крайней мере для тех, кто
мог не придавать значения пессимизму, стоящему за
рассуждениями Макиавелли, — набор норм, позволявших достичь
стабильности и сводивших полноту добродетели к
конкретным и практически осуществимым мерам. Как нам
предстоит увидеть, эти практические решения стали мерилом
исторических изменений. В той мере, в какой они взяли на себя
эту функцию, они способствовали существенному развитию
способности понимать историю, просто за счет того, что
обогатили необходимый для этого технический словарь. В то же
время они вынуждали мыслителей оценивать изменения
отрицательно— как отклонение от определявших их норм или
образцов, которые, кроме того, гарантировали стабильность,
рациональность и добродетель. Таким образом, унаследованное
древнее отождествление перемен с вырождением и энтропией
оставалось в силе. Новым являлось то, что теперь их можно
5б5
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
было определить не просто как полное отсутствие порядка,
а с точки зрения понятных общественных и материальных
процессов. Противоположностью добродетели теперь
служила уже не/огШпа, а порча или коррупция. Развитие у
западного человека способности к пониманию истории выражалось
в форме острого и растущего осознания потенциального
конфликта между ценностями и историей, добродетелью и
историей, личностью и историей. Не учитывая этого
контрапункта, невозможно понять распространение теорий прогресса
в XVIII столетии. Именно таким был итоговый вклад
античных представлений о человеке, находящем свою реализацию
в активной гражданской жизни. Закономерной реакцией
стала романтическая концепция личности.
Мы будем рассматривать эти движения мысли главным
образом в контексте Англии и Америки, и перед этим желательно
задаться вопросом: какие общие изменения могли произойти
в языках обычая, благодати и фортуны после революционных
волнений середины XVII века? Во-первых, следует отметить, что
тенденция изображать английскую политику в терминах
благодати и апокалипсиса после ι66ο года достаточно резко пошла на
убыль. Риторика божественной власти (Godly Rule) и избранной
нации (Elect Nation), вероятно уже подточенная
разочарованиями, теперь казалась частью того духа «энтузиазма», который
на протяжении следующего столетия и позже стремилось
изжить возрождающееся англиканство. Конечно,
апокалиптическое измерение выступало слишком важным элементом
мышления той эпохи, чтобы его можно было просто перечеркнуть
и стереть. Оно сохранялось в проповедях, в литературе и в
некоторых сферах общественной мысли1, но как признанный
политический язык, обладающий радикальным потенциалом,
оно давно угасло и уже так и не возродилось в полной мере.
«Деяния и памятники» Фокса сохранили за собой роль
мартиролога и источника рассказов о жестоких злодеяниях, но уже
не были необходимой опорой английского мышления. Тем не
менее, как показал Эрнест Тьювсон8, в некоторых отношениях
апокалиптика продолжала выполнять характерную для нее,
1. См.: Lamont W.M. Richard Baxter, the Apocalypse and the Mad Major //
Past and Present. Vol. 55 (1972). P. 68-90; Jacob M. C, Lockwood W.A. Political
Millenarianism and Burnet's Sacred Theory // Science Studies. 1972. Vol. 2.
P. 265-279.
2. Tuveson E. Millennium and Utopia; Idem. The Redeemer Nation: the Idea of
America's Millennial Role. Chicago, 1968.
566
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
хотя и парадоксальную функцию как средство секуляризации.
Революционно настроенные хилиасты все чаще рисовали
Тысячелетнее Царство как период, когда рациональные
способности человеческого ума будут освящены, воссияют и получат
свободу властвовать. По мере того, как рациональная религия
последовательно вытесняла пророческий «энтузиазм»,
апокалиптическая точка зрения не теряла своей актуальности и
представлялась англиканам латитудинаристской традиции1
способом изобразить картину будущей утопии, когда люди научатся
у Бога всему, чему он предполагает их научить. Некоторые
парадоксы обнаруживаются и в английской интеллектуальной
среде: республиканцы, такие как Толанд, которые в значительной
степени были преемниками пуритан, оказываются деистами
и противниками пророческой традиции, тогда как латитудина-
рии, заклятые враги «энтузиазма», продолжают линию
апокалиптического мышления. Впрочем, концепция республики как
Тысячелетнего Царства до сих пор играла достаточно важную
роль в нашем анализе. Мы обязаны помнить о необходимости
вслушиваться в апокалиптические интонации республиканской
теории после пуритан. Кроме того, важно отметить, что Тьювсон
считает возможным говорить об «апокалиптическом вигизме»
в связи с американскими колониями, где никогда не было
явной неприязни к «энтузиазму» и где по сей день можно уловить
мессианские настроения. Но одно дело, когда милленаристские
ожидания служили обрамлением моделей, основанных на
рациональном оптимизме и рациональном объяснении, и совсем
другое — когда они выступали в функции их суррогата и в
отсутствии какой-либо возможности их реализовать. Они не
угасли, но уже не находились в центре внимания.
По всей видимости, язык обычая, наоборот, сохранился
и вновь ожил в период реставрации монархии и после него.
Идеологическим контекстом сочинений Харрингтона была
неудачная попытка предотвратить восстановление палаты
лордов и возврат к системе правления трех сословий — к формуле
«Ответа на Девятнадцать предложений», которая уравнивала
классический баланс одного, немногих и многих с
традиционной структурой, состоящей из короля, лордов и общин. Каждая
ступень процесса реставрации, начавшегося в 1658 году:
возвращение к традиционной избирательной системе, к наследной
I. Течение внутри англиканской церкви XVII века, отличавшееся
большой терпимостью к действующим в Англии протестантским
деноминациям.— Прим. ред.
567
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
аристократии и в конечном счете к исторической монархии
как таковой — вела, все меньше прячась за завесой
«смешанного правления», к той «Древней конституции», легитимность
и авторитет которой строились, как считалось, на
преемственности по отношению к древнему обычаю. Сочинения сэра
Мэтью Хейла (умер в 1675 году), верховного судьи, который
поддерживал общее право на протяжении всего периода
протектората, являют собой одно из наиболее блистательных
воплощений1 философии обычая — привычек и практик,
предрассудков2 и предписаний, — объединяющей Фортескью, Кока
и Бёрка. Правда, через несколько лет после смерти Хейла
доктрина «Древней конституции» подверглась нанесшим ей
непоправимый урон нападкам со стороны принадлежащих
к партии тори ученых во главе с Робертом Брэди.
Основываясь на феодальном истолковании английской истории, Брэди
показал, что эта конституция не была древней и не
опиралась на обычай, а своим существованием обязана королевской
власти и социальным изменениям3. Однако было бы
чрезмерным упрощением полагать, что отныне историческая
конституция оказалась готова отказаться от своих древних корней.
Как считает Коринн Уэстон4, сторонники Билля об отводе
(Exclusionists) стремились утвердить совместную
законодательную власть обеих палат парламента, которую, как они
полагали, король уступил им «Ответом Его Величества» в 1642 году.
Они указывали на древность палаты общин, что опровергало
возражения Брэди и его товарищей тори, в намерения
которых входило оставить инициативу в руках короля. Если
принять такое толкование Уэстон, получается, что тори ставили
своей целью не столько утвердить примат авторитета
короны над авторитетом обычая, сколько оспорить мысль, будто
конституция может быть сведена к какому-либо формальному
распределению полномочий. Подлинный ее характер,
заявляли они, следовало искать в действиях королей и парламентов
прошлого и в сложных процессах, обусловленных насущной
1. Рососк J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law. P. 170-181; Idem.
Politics, Language and Time. P. 216-222, 262-264.
2. Впрочем, как отметил Пол Лукас, Бёрк переосмыслил принятое
юридическое употребление этого термина; см.: Lucas P. On Edmund Burke's
Doctrine of Prescription: or, an Appeal from the New to the Old Lawyers //
The Historical Journal. 1968. Vol. II. № 1. P. 35-63.
3. Pocock J. G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law. P. 182-228.
4. См.: Weston C. Legal Sovereignty in the Brady Controversy // The Historical
Journal. 1972. Vol. 15. № 3. P. 409-432.
568
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
необходимостью действий в конкретных условиях. Подобная
точка зрения не так уж далека от философии обычая Хейла,
который рассматривал каждый момент как уникальную часть
непрерывного потока чрезвычайных ситуаций. Единственное,
хотя и значимое различие состоит в том, что историк
старается познавать и воссоздавать каждый момент прошлого в его
конкретности, тогда как юрист лишь предполагает
существование и неразрывную связь между такими уникальными
моментами. Однако там, где юристы исходили из общего права,
неизменно процветала риторика практики, традиции и
незапамятной древности, и это справедливо в отношении всего
XVIII столетия, где риторика общего права продолжала
давать плоды наряду с другими политическими языками.
Возникновение этой риторики у самого Бёрка не было ни
архаизмом, ни признаком любви к древности1.
Дальнейшая судьба третьего языка в нашей модели
интересует нас особо, но нам не следует забывать, что он больше
не основывался на примате представлений о фортуне.
Кальвинистское учение о предопределении, многообразные импульсы,
направленные на расширение словаря вторичной причинности,
и, вероятно, ослабление присущего аристотелизму акцента на
форме и телосе в значительной мере привели к размыванию
представлений о внешних обстоятельствах как произвольной,
иррациональной, разрушительной силе. Кроме того, разумно
предположить (и так обычно и делают), что изменение
социальных условий также играло здесь свою роль. Можно было бы
написать интересную работу по исторической семантике,
показав, как по отношению к мужчине или женщине слово fortune
постепенно стало употребляться главным образом в значении
денежного имущества, в связи с наследованием, приобретением
или приданым8. Так или иначе, нам предстоит разговор о
периоде, когда понятия «добродетель», virtus, virtu, как они
понимались в Древнем Риме и в эпоху Возрождения, по-прежнему
играют важную роль, но противостоит им уже не сопряженная
с конкретными обстоятельствами fortuna, а историческая
порча нравов. В целом причина этой перемены нам уже известна.
1. Рососк J.G.A. Politics, Language and Time. P. 227-231.
2. Более старое значение сохраняется в таких устойчивых выражениях,
как soldier of fortune [«солдат фортуны»], то есть «наемник», или gentleman
of fortune [«джентльмен фортуны», «рыцарь удачи»] (если и правда кто-
то так говорит), то есть «пират». Интересно отметить, что по
отношению к женщине понятие «добродетели» {virtue) приобрело такой же
сексистский оттенок, как и понятие «достояния» (fortune).
569
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
В ряде получавших все большее распространение концепций
определялись материальные и моральные условия,
необходимые для создания республики, в которой возможна
добродетель. Теперь предстояло решить законодательный и
политический вопрос: можно ли создать такие условия, а если да, то
как их поддерживать? Следовало признать, что ответы
необходимо дать в материальных и моральных, скорее чем в
волюнтаристских или харизматических терминах. Virtù государя не
казалась такой первостепенной проблемой, как добродетель
законодателя, сенатора или гражданина. Однако, чтобы понять,
какую именно форму принимали эти проблемы, нам следует
сначала выяснить, почему язык республиканских теорий
Макиавелли и Харрингтона подходил для парламентской
монархии Англии в эпоху Реставрации.
II.
Начальной точкой этого процесса можно для удобства назвать
1675 год — раньше мы едва ли обнаружим его явные
признаки,— когда умер Хейл и вновь начали обостряться споры
о феодальном происхождении парламента. Первым известным
представителем того взгляда на английскую политику,
который называют неохаррингтоновским1, был автор памфлета
под названием «Письмо знатного лица своему другу в деревне»
(А Letter from a Person of (Quality to his Friend in the Country)11. Им
вполне мог оказаться Джон Локк. Безусловно, речь идет о
человеке столь же близком к графу Шефтсбери3 или же о самом
Шефтсбери, выступавшем с речью в палате лордов4. Сюда
можно отнести памфлеты, с большей или меньшей вероятностью
принадлежащие к кругу Шефтсбери. В 1677 году Эндрю Марвелл,
фигура более независимая, опубликовал памфлет «О росте
папизма и деспотическом правлении в Англии», принадлежащий
к тому же интеллектуальному течению. Наконец, в ι68ο году,
в разгар споров относительно Билля об отводе, Генри Невилл,
старый приятель самого Харрингтона и, строго говоря, даже
ι. Pocock J.G.A. Politics, Language and Time. P. 115. Эта статья была
впервые опубликована в 1966 году. О начале «полемики Брэди» в 1675 году
см.: Pocock J. G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law (chap. 7).
2. Напечатано в: State Tracts... in the Reign of Charles II... London, 1693. P. 41-
56, а также в: Parliamentary History of England. Vol. IV. P. XXXVIII-LXVII.
3. Об этом см.: Haley K.H.D. The First Earl of Shaftesbury. Oxford, 1968.
P. 391-393.
4. Напечатана в: State Tracts... in the Reign of Charles II.... P. 57-61.
57О
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
не сторонник Билля1, издал политический диалог
«Возрожденный Платон» («Plato Redivivus»), который можно назвать
кульминацией первой попытки переосмыслить доктрину Хар-
рингтона, приведя ее в соответствие с реалиями Реставрации.
Для понимания первого проявления неохаррингтоновской
мысли важны три обстоятельства. Во-первых, Шефтсбери
противился стремлению королевского министра Дэнби создать
внутри палаты общин «придворную партию» с помощью
покровительства, раздачи мест и назначения пенсий. Во-вторых, он
решил, что это предполагаемое вредоносное влияние связано
с развитием профессиональной, то есть «постоянной», армии.
В-третьих, он не только выступил со своими доводами в палате
лордов, членом которой являлся, но и, как позже Невилл, имел
самое непосредственное отношение к тому, что сама эта палата
продолжала существовать. Начнем с первого. Принято считать,
что тактика Дэнби свидетельствовала о возобновившихся
попытках короны научиться управлять парламентом, в чем
потерпели явную неудачу как первые два монарха из династии
Стюартов, так и лорд-протектор. Для нас важно, что
Шефтсбери, полемизируя с этой тактикой, по-новому переосмыслил
давнюю оппозицию «двора» и «страны» (country), взяв за основу
понятие «коррупции» в его гражданском и республиканском
аспектах. Он во многом опирался на Харрингтона, и в то же
время его подход сыграл решающую роль в развитии теории,
известной нам как «разделение властей». «Двор», который
с этого времени начал подвергаться нападкам, состоял уже не
из придворных и не из тех, кто оберегал права короля, а из
«министров» — ключевое понятие идеологии вигов, обычно
употреблявшееся в резко отрицательном значении. Как
считалось, министры пользовались своим влиянием, дабы
приспособить парламент к политике властей. Оппозиционные
политики, враждебно настроенные по отношению к таким действиям,
стремились подчеркнуть их незаконность и потому назвали
патронаж или покровительство «коррупцией» — не только в том
смысле, что оно выходило за подобающие рамки королевского
расположения и вступало в сферу подкупа и продажности, но
и в том, о котором мы впервые заговорили в связи с Гвиччар-
дини: публичная власть заменялась властью отдельных лиц,
независимость — зависимостью. Как считали первооткрыватели
I. В своем «Возрожденном Платоне» он настаивает лишь на ограничении
полномочий претендента-католика, но не на его отстранении от трона.
571
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
идеологии «страны», представители народа, должны оставаться
независимыми так же, как и те граждане, которых они
представляют. Однако патронаж делал их зависимыми от двора
и министров, чьим покровительством они пользовались при
назначении на должности, и эта зависимость оказывалась хуже
взяточничества, ибо была более длительной: дурно, если член
парламента принимал кошелек с золотом, обязуясь голосовать
так, как угодно двору, но в десять раз хуже, если двор назначал
ему пенсию или предоставлял место, поскольку в этом случае
угождение двору превращалось для него в источник
постоянного дохода. Эти обстоятельства послужили причиной двух
наиболее часто выдвигаемых, хотя так и не удовлетворенных
требований политической программы «страны»: предлагалось,
во-первых, исключить из палаты общин тех ее членов, которые
злоупотребляли своим положением, а во-вторых, сделать
парламенты «короткими», то есть часто переизбирать их, — если
не ежегодно, то хотя бы раз в три года. Таким образом
практика переизбрания на местах служила гарантией, что они не
становились зависимыми слугами двора.
Важно понимать, что данное требование, отголосками
которого были события 1647-1648 годов и «старое доброе дело»,
сознательно рассматривалось как ridurre ai principii
Макиавелли, а среди религиозных энтузиастов — почти как rinnovazione
в духе Савонаролы. Оно должно содействовать тому же
принципу, ради которого Харрингтон ввел в свою систему механизм
ротации, а именно постоянному восстановлению
независимости, свободы и добродетели. Люди свободны и
независимы, таким же должен быть и их представитель.
Следовательно, момент избрания — вспомним восторженные речи Гермеса
де Кадуцея у Харрингтона1 — был моментом свободы,
природы и политической беспорочности, когда подтверждался
основной принцип правления, и — Макиавелли согласился бы
с этим — нельзя было требовать его подтверждения слишком
часто. Однако если свобода людей и их представителя
заключалась в независимости, те, кто читал Харрингтона, равно как
и те, кому не было необходимости его читать, делали отсюда
вывод, что свобода и независимость обеспечиваются
собственностью. Жившие в небольших городах различных графств
джентри и фригольдеры, которых обычно подразумевали под
населением «страны», с этой точки зрения могли рассматривать
I. См. выше, глава XI, прим. ι на с. 555·
572
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
себя в роли классического populus, общества, основанного на
добродетели, и полагать, что их добродетель заключалась в их
владениях. Но именно в этот момент возникала угроза
«коррупции». Должность и королевская пенсия служили формами
собственности или по крайней мере средствами к
существованию, которые ставили того, кто их получал, в зависимость от
дающего. Марвелл сравнивал эту разновидность несвободы
с зависимостью прежних вассалов, носивших синие платья.
При этом покровители, от которых становился зависим
подкупленный таким образом парламентарий, могли оказаться
не просто некоей влиятельной фракцией, — флорентийцы
назвали бы ее setta или intelligenza, — состоящей из «особенных
людей», а министрами на службе у короля, то есть либо новой,
незаконной («министры»), либо старой («двор» или
«исполнительная власть») силой в правительстве. Она впала в порок
и, погрязнув в нем, переступила начертанные для нее
границы. Язык «сбалансированного правления» и «разделения
властей» приобретал новое звучание (какого мы не найдем ни
в «Ответе на Девятнадцать предложений», ни у Харрингтона,
стремившегося в духе венецианской системы разграничить
«обсуждение» и «результат»), когда он представлял в качестве
основного врага добродетели и свободы «коррупцию»,
возникающую из экономической зависимости членов
законодательного органа от ресурсов, контролируемых исполнительным
органом. На фоне этой угрозы все недостатки распределения,
или «разделения», властей, в частности исполнительных и
законодательных функций, казались, по сути, второстепенными.
Ключевым понятием стала «коррупция», что свидетельствует
о новом этапе приспособления английской конституционной
теории к категориям и словарю гражданского республиканизма.
Марвелл отлично сознавал, что здесь действовала не одна,
а две вредоносные силы. Оппозиционные политики,
осуждавшие пороки министров, могли стремиться попросту занять их
места и продолжить пользоваться их средствами. В своем
памфлете «О росте папизма и деспотическом правлении в Англии»
он одним из первых изобразил парламент в духе Нэмира, как
состоящий из заинтересованных представителей двора,
оппозиционных группировок и независимых заднескамеечников
или «сельских представителей»1. Но, в отличие от сэра Льюиса
I. См. с. 74-81 в издании 1677 года; Complete Works of Andrew Marvell / Ed.
by A.B. Grosart. London, 1875. Vol. IV. P. 322-332. Аналогия между
отдельными фракциями и вассалами: Ibid. Р. ЗЗ1·
573
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
Нэмира, Марвелл максимизировал роль коррупции, приписав
ее министрам, лидерам фракций и их соратникам в равных
и равно безграничных масштабах. Отсюда вытекало, что
носителями добродетели были лишь представители «страны»,
защищавшие ее хотя и не пассивно, но и не слишком деятельно;
избежать порока могли только те, кто не желал иного
источника дохода, кроме своего имущества, и одновременно —
избегал как обладания исполнительной властью, так и погони
за ней. А еще отсюда следовало, что любая власть развращает,
что правление как таковое, включая парламент как место, где
обретали власть или искали ее, невозможно было помыслить
иначе чем с точки зрения его разрушительного воздействия
на собственность, независимость и добродетель. В Англии, где
страна привыкла не доверять двору и власти, основанной на
собственности, давно сформировалась идеология, враждебная
любой власти, и усвоение гражданского словаря в
значительной мере способствовало ее усилению. Постоянная проблема
всех партий «страны» заключалась в том, что их
представители не могли получать должности без фальсификации
заявленных ими ценностей, — именно это имел в виду доктор
Джонсон, говоря, что патриотизм (слово, с XVII века вызывавшее
ассоциации со «страной» и «республикой») — последнее
прибежище негодяя. Проблема стала неизбежной, как только было
признано, что исполнительная власть должна выиграть
большинство в законодательном органе, и должна выиграть его
посредством патронажа или раздачи должностей своим
сторонникам— уступка, на которую ссылаются как Шефтсбери, так
и Марвелл в своих обвинениях против Дэнби. Гражданский
республиканизм оказался совершенно несовместим с
практиками законодательного суверенитета и короля-в-парламенте;
но на данном этапе первый служил источником наиболее
гибкого и выразительного языка, позволяющего критиковать
и осуществлять второе.
В политической теории Харрингтона ни двор, ни коррупция,
ни практики назначения на должности не играли
существенной роли. Его взгляд был для этого слишком оптимистичен
и тяготел к милленаризму. Однако важно, что единственным
случаем парламентских дебатов, когда ораторы напрямую
обратились к идеям, позаимствованным из его сочинений,
являлся долгий спор, в ходе которого республиканская группа из
парламента Ричарда Кромвеля отказывалась признать «Другую
Палату», учрежденную «Покорнейшей петицией и советом».
574
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
Мы уже касались этого документа, ознаменовавшего возврат
к трем сословиям «Ответа на Девятнадцать предложений»
и «Древней конституции»; впрочем, проводившаяся под
знаком идей Харрингтона кампания против «Другой Палаты»
строилась главным образом на следующем предположении:
так как невозможно возродить историческое пэрство, то
«постоянная», верхняя палата парламента, члены которой не
сменяются, должна состоять в основном из генерал-майоров
и других высших военных чинов. Лишь возрастающее
недовольство сторонников Реставрации привело, вопреки
прогнозам Харрингтона, к требованиям вернуть в парламент «старых
лордов» в качестве защитников «Древней конституции».
Возражения против того, чтобы военные офицеры становились
членами устоявшейся, пусть и не наследной аристократии,
в значительной мере были основаны на мысли, что
включить их в состав верхней палаты означало бы сделать
постоянной частью конституции армию, а также налоги, шедшие
на ее содержание; они будут заседать в парламенте всю жизнь,
а затем, вероятно, и их потомки, и сами будут голосовать за
новые налоги на свое содержание1. Таким образом, этот
относящийся к 1659 году спор оказался ранним и особым случаем
недовольства патронажем и коррупцией, которому не раз еще
предстояло проявиться в последующие годы, когда военные
сенаторы оказались зависимыми от государства, в силу чего
угроза зависимости тяготела и над всем парламентом. Однако
еще более значимо, что предметом нападок оказались
именно использующие свое положение военные. К 1675 году
выражение «постоянная армия» часто фигурировало в
английском политическом дискурсе, в связи с чем авторы, близкие
к кругу графа Шефтсбери, постоянно говорили о коррупции
и постоянно противопоставляли это явление идеалу
народного ополчения.
Постоянный парламент и постоянная армия подобны тем
близнецам, которые срослись в нижней части тела и разделены лишь
выше пупка; они родились вместе, и ни один из них надолго
не переживет другого2.
1. Рососк J.G.A. James Harrington and the Good Old Cause.
2. «A standing Parliament and a standing Army are like those Twins that have
their lower parts united, and are divided only above the Navel; they were born
together and cannot long out-live each other» (Two Seasonable Discourses //
State Tracts... in the Reign of Charles II... P. 68).
575
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
То же самое можно сказать о единственной древней и
подлинной силе нашей нации, законном ополчении, и о постоянной
армии. Ополчение должно и может служить лишь свободе Англии,
потому что иначе оно уничтожит само себя, но постоянные
войска могут служить лишь прерогативе монарха, обеспечивающего
им праздное существование и довольствие1.
Когда в 1642 году началась Гражданская война, король и
парламент оспаривали друг у друга право контролировать
собиравшееся в графствах народное ополчение. Пока войска не
оказались реорганизованы по новой модели, военные действия
велись этими силами — единственными, которыми Англия на
тот момент располагала. Некоторые противники
протектората Кромвеля из рядов армии принадлежали к тем идеалистам
«нового образца», которые по-прежнему считали себя частью
вооруженного народа и с негодованием отвергали мысль о
непосредственном подчинении главе государства. Реставрация
ι66ο года — которую саму по себе отчасти можно приписывать
усилиям армии, стремившейся скорее к расформированию, чем
к бесплатному постою, — несла с собой однозначное намерение
передачи контроля за ополчением королю; однако такой
контроль уравновешивался другим негласным, но не менее
однозначным решением, в силу которого под начало короля была
передана лишь народная милиция графств — вооруженные
фригольдеры во главе с джентри в роли их предводителей.
Сохранились рукописные трактаты, авторы которых,
вдохновляясь теорией Харрингтона, признавали, что монарх обоснованно
нуждается в ополчении, которое зависит от него2. Отдельные
приверженцы такого порядка по той же самой причине
сожалели об отмене владения землей на правах вассала:
феодальный сеньор для них был воплощением Англии, где участок
земли каждого собственника обязывал его к службе и
верности3. Именно в период Реставрации возникло понимание, что
1. «The same might be said concerning the only Ancient and true Strength of
the Nation, the Legal Militia, and a standing Army. The Militia must, and can
never be otherwise than for English Liberty, because else it doth destroy itself;
but a standing Force can be for nothing but Prerogative, by whom it hath its
idle living and Subsistence» (A Letter from a Parliament Man to his Friend //
State Tracts... in the Reign of Charles II... P. 70).
2. British Museum. Lansdowne MSS. 805. Fols. 75-82.
3. Наиболее известным представителем этой точки зрения (хотя и не
совсем в той форме, какую мы находим у Харрингтона) был Фабиан
Филиппе. См.: Pocock J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law.
P. 215-217.
576
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
король должен командовать войсками, но лишь теми, что может
предоставить страну вооруженными собственниками. Любая же
попытка короны умножить свою военную мощь неизбежно
затрагивала весьма чувствительный нерв. «Гвардия состоит из
наемников, а потому опасна», — заметил один решительный
спикер, выступая в палате общин1.
Харрингтон был знаком с понятием «постоянной армии»
и употреблял его, чтобы обозначить нечто нежелательное
с политической точки зрения: отряды солдат, находившиеся
в постоянном распоряжении высших чиновников подобно тем,
которые тираны древности использовали для незаконного
захвата власти. Впрочем, Лорду Архонту Океании как
законодателю и pater patriae2 было временно позволено иметь такие
отряды, принимая во внимание его непогрешимую и в самом
деле сверхчеловеческую добродетель3. Понятие встречается
у Харрингтона и в собственно военном смысле, как антитеза
«марширующей армии», то есть той, которая вступала в
сражение с врагом на поле боя и лицом к лицу встречала реальную
опасность4. Таким образом, «постоянная армия» существовала,
но не сражалась, напоминая ту «постоянную армию в
мирные времена», решения о которой, согласно Биллю о правах
1689 года, должен был принимать парламент. Однако, согласно
законам Океании, и постоянная, и действующая армия
состояли из граждан, и первая могла представлять политическую
угрозу, только если неподобающим образом попадала в
распоряжение отдельного чиновника. Однако к 1675 году смысл
этого понятия претерпел важные изменения. Он начал
употребляться для обозначения армии, состоящей из
профессиональных офицеров и опытных солдат, которых
контролировало, обеспечивало и, главное, которым платило государство.
Такая армия отличалась от упоминаемых итальянскими
авторами condottieri, сборища свободных наемников, к услугам
которых мог прибегнуть любой правитель. Не сходствовала
она и с sudditi и creati Макиавелли, равно как и с
янычарами и вассалами у Харрингтона, ибо они не зависели ни от
какого государя и властителя. Они были (или могли быть)
1. Речь идет о полковнике Стрэнгуэйзе (Strangways) и его речи 29
апреля 1675 года: Parliamentary History. Vol. IV. P. 696. Ср.: Ibid. P. 461, 467,
604-608.
2. Отец отечества (лат.). — Прим. ред.
3. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 200,
203-204.
4. Ibid. P. 77, 101, 114, 190, 207.
577
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
англичанами на службе у законной и публичной власти, но
при этом профессионалами, которые регулярно занимались тем,
что Макиавелли называл arte, и получали за это постоянное
жалованье — не из частного кошелька, а из бюджета,
выделяемого публичной властью и распределяемого чиновниками. Это
было нечто новое для мировой истории: как правило,
участвовавшие в Тридцатилетней войне наемные войска состояли из
condottieri. Даже там, где в зачаточном виде существовала
национальная армия, она очень скоро истощала ресурсы
содержавшего ее правительства, разоряя своих государей, уничтожая
на своем пути деревенские хозяйства и ведя
непрекращающуюся войну с крестьянами в поисках еды и наживы. По сути,
новизна заключалась в укреплении финансовых структур,
позволявших государствам содержать постоянную армию. О том,
насколько новой была сама эта возможность, свидетельствует
тот факт, что двадцатью годами раньше Харрингтон
категорически ее отрицал. Армию, считал он, нельзя содержать на
налоги из-за яростного сопротивления налогоплательщиков1,
а «банк никогда не платил армии или же, платя, вскоре
прекращал свое существование»8. Если он и признавал, что
Голландию и Геную можно считать исключениями, — а с
уверенностью утверждать это мы не можем, — он делал одну важную
оговорку: «если в государстве есть банк, десять против одного,
что это республика»3. Имелись серьезные основания
сомневаться, что даже таким крупным консорциумам, как торговые
республики, было бы под силу всегда нести расходы по
содержанию сухопутной армии, какой она являлась в XVII столетии.
Для теории Харрингтона важно, что солдат в конечном счете
можно было содержать, лишь предоставив им землю. Вопрос
заключался лишь в том, следует ли при этом взять за образец
азиатскую рабовладельческую монархию, феодальную
аристократию или республиканское гражданское общество4. Мысль,
что основанное на торговле общество может содержать
постоянную (а не временную) армию или что монархия способна
управлять подобным обществом, опираясь на военных
чиновников, отвергалась.
Однако ко второй половине 1670-х такие варианты уже не
казались невероятными. Гвардия и другие полки, которые
1. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 67.
2. Ibid. P. 227.
3. Ibid. P. 230.
4. Ibid. P. 65.
578
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
содержала английская корона, были все еще немногочисленны
по сравнению с тем, чем они станут позже, но они уже стали
постоянными организациями1. При дворе существовали
ведомства, платившие им жалованье и предоставлявшие снаряжение.
Среди разнородных (и подозрительных) источников денежных
средств оказались дотации, на которые нехотя согласился
парламент. Те, кто считал или утверждал, что считает, будто такие
министры, как Дэнби, патронажем и раздачей должностей
развращают обе палаты парламента, видели в описанной практике
двойную угрозу: из-за дотаций росло число офицеров и
чиновников, а вместе с ним и количество тех назначенцев на
государственные должности, кто мог пройти в парламент, чтобы
поддерживать выплату дотаций на свое собственное содержание,
будучи зависимыми от высших представителей
исполнительной власти. И поскольку процесс интенсифицировался и
распространялся подобно чуме, парламент шел к своему упадку
и подчинению. В 1659 году угроза приобрела новый и более
серьезный характер: пусть военная аристократия и не пробралась
в «Другую Палату», но общинам навязывалась военная и
гражданская зависимость. Вместо поддержания армии «нового
образца» — которая на деле никогда не была «постоянной
армией» в новом понимании слова, — находящейся в непрерывных
поисках представителя исполнительной власти, способного ее
содержать, восстановленная монархия оказалась способна
сформировать собственные военные силы, используя и разрушая
традиционные конституционные связи.
В речи, произнесенной в октябре 1675 года, Шефтсбери,
в частности, заметил:
Король, в руках которого находится правосудие и который
осуществляет его при посредстве палаты лордов, советуясь
с обеими палатами своего парламента во всех важных
вопросах,— это правление, которое я признаю своим, при котором
вырос и которому обязан. Если же когда-либо в будущие годы
случится (чего не дай Бог), что король будет управлять с
помощью армии, без парламента, такое правление я не признаю
своим, не обязан ему и при нем не вырос2.
1. О характере этих объединений см.: Western J.R. Monarchy and Revolution:
the English State in the 1680s. London, 1972.
2. «The King governing and administering Justice by his House of Lords, and
advising with both his Houses of Parliament in all important matters, is the
Government I own, am born under, and am obliged to. If ever there should
579
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
Эта риторика, содержащая в себе смутную угрозу, отсылает
к равновесию между тремя элементами, описанному в «Ответе
на Девятнадцать предложений». Однако опасность,
надвигающаяся на законный порядок, не сводится к опасности
военной диктатуры. Слушатели Шефтсбери (такие же аристократы,
как и он сам), вероятно, должны вспомнить, как Карл I
пытался арестовать пятерых членов парламента или как
Кромвель разогнал «Охвостье», но здесь речь шла об опасности не
столько насилия, сколько коррупции. «Король, управляющий
с помощью армии» не Кромвель, а монарх с материка,
которому не требуется поддержка подданных, дабы содержать
постоянные войска1. Риторика речи Шефтсбери ясно указывает, что
в Англии этого можно достичь лишь ценой упадка парламента.
Профессиональный военный — причина и следствие упадка.
Он способен оказывать столь губительное воздействие
потому, что, приняв решение стать профессионалом, поставил себя
в пожизненную зависимость от государства, которое может им
располагать. Харрингтон — как бы слабо он ни различал
современные ему тенденции в организации армии — утверждал,
что главным фактором сохранения во Франции монархии
«готического» типа было следующее обстоятельство: карьера
французских noblesses1 теперь зависела от короля. Дворянство
шпаги должно служить в его армии, а дворянство мантии — в его
судах и администрации3. Из английских фригольдеров нельзя
было сделать зависимую аристократию на службе у короля, но
слишком явные возможности добиваться назначения на ту или
иную должность могли толкать их к коррупции. Мы помним,
что мог бы сказать о подобном процессе Лодовико Аламанни, но
над Англией теперь нависла страшная угроза: парламент,
искони защищавший права фригольдеров, превращался в средство
развращения и изменения их природы. Именно в такой
обстановке на первый план вышел миф об английском народном
ополчении, содержание которого явно отсылало к Харринг-
тону. Памфлетист, заявивший, что ополчение не может идти
против свободы, если только не хочет уничтожить само себя,
имел в виду имущество и независимость вооруженного народа.
happen in future Ages (which God forbid) a King governing by an Army,
without his Parliament, 'tis a Government I own not, am not obliged to, nor
was born under» (State Tracts... in the Reign of Charles II... P. 60).
1. Pocock J. G.A. Politics, Language and Time. P. 121-123.
2. Виды благородной знати, дворянства (франц.). — Прим. ред.
3- The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 252-256.
580
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
Харрингтон видел в ополчении необходимое условие
республики и ее неизбежную предпосылку; люди 1675 года понимали
его как гарантию свободы, добродетели и стабильности в
восстановленном смешанном государстве, которым правили король,
лорды и общины. Предполагалось, что ополчение
противодействует порче materia — массы обладающих собственностью
индивидов, — которой конституция, традиционная и
сбалансированная, придавала окончательную форму. Новые виды порчи
принимали угрожающий характер, но ополчение, подобно
частым выборам в парламент, о необходимости которых как раз
начинали говорить, воспринималось как средство возрождения
добродетели. Все, что заставляло правительство столкнуться
лицом к лицу с массой обладающих собственностью
индивидов, имело характер ridurre ai principii.
Третье из ранее упомянутых обстоятельств, значимых для
возрождения теории Харрингтона, связано с тем, что палата
лордов продолжала существовать — и, как упомянул в своей
речи Шефтсбери, заседала в том же здании. Вспомним —
Харрингтон полагал, что пэры перестали быть феодальной
аристократией. Англии надлежит теперь управляться как республике,
в которой роль немногих уже не отводилась тем, от кого
зависели многие, и не какому-либо классу, по праву рождения
обладающему правами, которых другие были лишены. Отныне речь
шла об аристократах таланта и службы, которых их сограждане
избирали на короткий срок, ибо они обладали значительным
досугом и опытностью. В соответствии с принципом
разделения власти на обсуждение и реализацию, они пользовались
своей способностью вести дискуссию — или предлагать
варианты действия — но не могли влиять на результат и выбор
предложенных действий. Это тщательно продуманное определение
«естественной аристократии» (как ее предполагалось называть)
долгое время сохраняло свое влияние. Полемика в
парламенте Ричарда Кромвеля началась, как мы видели, с предложения
сформировать постоянную, хотя и не наследную аристократию
кромвелианцев (не говоря уже о Вейне, Мильтоне и других
современниках, говоривших об аристократии праведников).
Однако в конечном счете чаша весов склонилась на сторону
старого пэрства на том основании, что, во-первых, его влияние
в парламенте составляло часть традиционной конституции,
а во-вторых, оно выполняло функцию посредника и
способствовало поддержанию равновесия, как отмечалось в «Ответе
на Девятнадцать предложений». Сам Харрингтон был убежден:
581
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
если лорды не могут вновь стать феодальными баронами, то им
нет места в существующей системе распределения
собственности, и в действительности остается неясным, обладали ли они
после ι66ο года социальной властью, соответствующей их роли
в государстве. Однако нам теперь предстоит разговор о периоде,
когда произносились речи в защиту наследной, но не
феодальной аристократии как части государственной системы, которая
парадоксальным образом рассматривалась с позиций
переосмысленной теории Харрингтона. В октябре 1675 года Шефтсбе-
ри обратился к пэрам, заседавшим вместе с ним в парламенте:
Милорды, сохранять ваши права — не только в ваших
интересах, но и в интересах нации, ведь, что бы там ни думали
палаша общин или английские джентри, ни один государь
никогда не правил без знати или армии. Если нет одного, должно
быть другое, иначе монархия долго не продержится и
неминуемо скатится к демократической республике1. У вас, милорды, с
народом одно дело и те же самые враги. Будете ли вы, милорды,
поддерживать короля? Это очень неудачный выбор, вы
заведомо лишите себя полномочий и окажетесь у него на службе...8.
Сказано это, несомненно, в духе Харрингтона — здесь
содержится отсылка к фрагменту из «Республики Океании»3, где
объясняется, что закат феодальной аристократии вызвал гражданскую
войну. Король, уже не способный опираться на пэров и тем
самым держать народ у себя в подчинении, вынужден
попытаться управлять с помощью военной силы, ибо «у монархии,
лишенной знати, не оставалось другой опоры под небом, кроме
армии». Однако смысл странным образом изменился. Лорды не
выступают как феодальные сеньоры по отношению к народу,
и в интересах последнего, чтобы они защитили его от
военного правления. Угроза власти со стороны армии — не
следствие краха аристократии, как полагал Харрингтон, а заговор,
ι. Вместо смешанного правления.—Прим. ред.
2. «My Lords, 'tis not only your Interest, but the interest of the Nation, that you
maintain your Rights; for let the House of Commons, and Gentry of England, think
what they please, there is no Prince that ever Governed without Nobility or an
Army. If you will not have one, you must have t'other, or the Monarchy cannot
long support, or keep itself from tumbling into a Democraticall Republique.
Your Lordships and the People have the same cause, and the same Enemies.
My Lords, would you be in favour with the King? Tis a very ill way to it, to
put yourselves out of a future capacity, to be considerable in his Service...»
(State Tracts... in the Reign of Charles II... P. 59).
3. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 65.
582
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
составленный врагами пэров, народа и даже короля. Эти
враги противостоят традиционной смешанной конституции,
очевидно содействуя новому умножению коррупции и новой
постоянной армии. Подобные же мысли встречаются в «Письме
знатного лица своему другу в деревне»:
...Следует считать серьезной ошибкой правительства, или еще
того хуже, что двор так старается обесценить палату лордов и
подорвать ее авторитет, если только военное правление не входит
в чьи-то планы. Ведь власть пэров и постоянная армия
подобны двум ведрам на коромысле: чем ниже опускается одно, тем
выше поднимается другое, и предлагаю вам обратиться к
любому периоду нашей истории или же истории северных монархий,
наших соседей, чтобы убедиться, что постоянные вооруженные
силы, армия и деспотическое правление укреплялись ровно
настолько, насколько ослабевала знать, и что там, где они
обладали властью и силой, они не допускали даже намека на знать...1.
Здесь налицо то же смещение акцентов с исторического на
ценностный. По мысли Харрингтона, как только знать утратила
феодальную власть, народ получил свободу, и король мог
править им, лишь прибегая к вооруженному принуждению, хотя
ему это вряд ли бы удалось из-за нехватки солдат. Для людей
1675 года знать — историческая предшественница власти,
опирающейся на постоянную армию, но она же единственная
защита от нее. Так как власть армии утвердилась на развалинах
прежней власти благородных во всех соседних «северных
монархиях», тем более необходимо сохранить ее в Англии.
Впрочем, величие знати и свобода народа не противостоят друг
другу, как у Харрингтона. Они неразделимы, и палата
лордов— неотъемлемый элемент смешанной конституции, о
котором говорилось в «Ответе на Девятнадцать предложений»
и существование которого Харрингтон отрицал, осуждая его за
I. «It must be a great mistake in Counsels, or worse, that there should be so
much pains taken by the Court to debase and bring low the House of Peers,
if a Military Government be not intended by some. For the power of Peerage
and a Standing-Army are like two Buckets, the proportion that one goes
down, the other exactly goes up, and I refer you to the consideration of all
the Histories of ours, or any of our neighbour Northern Monarchies, whether
standing forces, Military, and Arbitrary Government came not plainly in by
the same steps, that the Nobility were lessened; and whether, whenever they
were in Power and Greatness, they permitted the least shadow of any of
them...» (State Tracts... in the Reign of Charles II... P. 55).
583
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
«готическую» неуравновешенность и «новейшую
рассудительность». Кроме того, использованное здесь слово «северный»
часто выступало как синоним слова «готический», то есть
относящийся к «готам» — воинственным германским племенам,
которые, как считалось, пришли с Севера, из Скандинавии,
этой qffïcina gentium, «кузницы племен». «Готическое» правление
было изображено как форма власти, некогда распространенная,
но теперь сохраняющаяся только в Англии. Она
противостояла «военному и деспотическому правлению» и оказывалась
способна существовать лишь там, где знать не была
вытеснена постоянной армией — ее неизбежным противником.
Палата лордов, частые выборы в парламент и народное ополчение
сражаются на одной стороне — смешанной и древней
конституции. Ее врагом является нечто, о чем Харрингтон никогда не
думал: коррупция парламента вследствие раздачи должностей
в обмен на политическую поддержку и профессионализации
армии. Причем ополчение, которое Харрингтон рассматривал
как новую и революционную силу, объявлялось древним,
«готическим» и сопоставимым с наследной аристократией, — все
это представлялось ему совершенно невозможным.
Таким образом, то, что называется неохаррингтоновским
подходом, влекло за собой полный пересмотр исторического
порядка, в описанном у Харрингтона английском правлении,
и примирение его норм — отношений граждан с вооруженными
силами, а вооруженных сил с землей — с «Ответом на
Девятнадцать предложений» и «Древней конституцией». Харринг-
тоновская концепция свободы оказалась перенесена в готское
и английское прошлое, а не выстроена на его руинах. Эта
перевернутая последовательность времен служила неизбежным
следствием двух факторов: решения придерживаться системы,
в которой монархия и пэры продолжали существовать и
сохраняли законный статус, и набирающего все больше
сторонников мнения, что вновь вошедшие в практику при дворе
патронаж и военная служба представляли· главную угрозу для
парламентской независимости страны. «Коррупция» не была
заметным термином в словаре Харрингтона1. Его главным
образом интересовала свобода от зависимости в ее феодальной
форме. Однако риторика республиканской мысли и
Макиавелли, главным носителем которой в Англии он являлся, была
подходящим инструментом для изложения теории коррупции.
I. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 68.
584
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
Отчасти можно понять, почему Шефтсбери и представителям
партии «страны» 1670-х годов такая теория показалась
привлекательной. Близкий друг Харрингтона, переживший его на
много лет1, работал теперь над переосмыслением его теории,
стремясь показать переход от прежнего феодализма к
современной ему коррупции в исторической перспективе.
Генри Невилл был достаточно близко знаком с автором
«Океании», и Томас Гоббс заподозрил его в том, что он принимал
участие в работе над этим текстом2. Кроме того, в 1659 году он
активно участвовал в республиканском движении на заключительной
его фазе. Во время споров в парламенте Ричарда Кромвеля ему
нередко доводилось слышать — и опровергать — доводы,
стремившиеся представить традиционное сословие пэров как одну
из частей свободы, предусмотренной «Древней конституцией».
Впрочем, в своих целях он использовал такого рода теорию лишь
через двадцать лет. В «Возрожденном Платоне», политическом
диалоге, опубликованном в ι68ο году, он допускает, что причина
нынешних бед Англии — в отказе от «Древней конституции»3,
модели управления, которая поэтому не является просто
хаотической борьбой, как казалось в период междуцарствия.
Однако он признает, что «Древняя конституция» была основана на
высшем положении пэров в феодальном обществе и что ее
закат — следствие нарушения имущественного равновесия, из-за
которого они утратили контроль над общинами. Но если
феодальный период был временем конституционной свободы, а не
постоянных колебаний между анархией и абсолютной монархией,
следовало сказать что-то и о положении незнатных подданных
на протяжении всего этого периода. Именно в i68o году Петит
и Этвуд, авторы из партии вигов, яростно отстаивали древность
палаты общин, которая отрицалась в посмертно переизданных
работах Филмера и которую теперь оспаривали поборники
феодализма во главе с Робертом Брэди4. В этом отношении Невилл
сохраняет двусмысленную позицию в духе харрингтоновской
1. Харрингтон умер в 1677 году, долгое время будучи явно
недееспособным. Невилл дожил до 1694 года. Все доступные биографические
сведения о нем можно найти в предисловии Кэролайн Роббинс к ее книге,
где приведен и полный текст «Возрожденного Платона»: Robbins С. Two
English Republican Tracts. Cambridge, 1969. P. 5-20. О его роли в
полемике 1659 года см. мою статью: Рососк J. G.A. James Harrington and the Good
Old Cause.
2. Aubrey J. Brief Lives. London. P. 124.
3. Robbins C. Two English Republican Tracts. P. 76, 81-82, 132-135, 144-150.
4. Pocock J. G.A. Ancient Constitution and the Feudal Law. P. 187-195.
585
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
или неохаррингтоновской интерпретации. Сначала он пишет
(вполне в согласии со своими высказываниями 1659 года):
Во времена наших предков большинство членов палаты
общин считали честью быть вассалом какого-нибудь
могущественного лорда и носить синий камзол с его гербом; и если
вспомнить, как они составляли свиту лорда, и сопровождали
его от дверей его собственного дома к зданию палаты лордов,
и выстраивались, пропуская его ко входу, а затем уходили
заседать в нижней палате парламента, как ее тогда (и
совершенно справедливо) называли, — неужели вы думаете, что в таком
парламенте могли бы принять что-то не одобренное лордами?1
Однако через несколько страниц мы читаем:
И, должен признаться, я склонен был полагать, что до этого
времени [то есть до правления Генриха III] наши йомены или
простой народ официально не собирались в парламенте, но
фактически входили в него и были представлены своими пэрами,
от которых зависели: но в том, что дело обстояло иначе, меня
совершенно убедили ученые трактаты, недавно изданные
мистером Петитом из Темпла и мистером Этвудом из Грейс-Инн,
ибо упомянутые джентльмены являются honoris causa3.
Невиллу приходилось поддерживать тезис о древности палаты
общин по двум причинам. Во-первых, его оспаривали тори,
доказывая, что все свободы пожалованы королем. Во-вторых, он
стремился подкрепить свою неохаррингтоновскую точку
зрения, согласно которой власть баронов издревле была частью
режима древней свободы, который надлежит реформировать
1. «In our ancestors' times, most of the members of our house of commons
thought it an honour to retain to some great lord, and to wear his blue
coat: and when they had made up their lord's train, and waited upon him
from his own house to the lords' house, and made a lane for him to enter,
and departed to sit themselves in the lower house of parliament, as it was
then (and very justly) called; can you think that anything could pass in such
a parliament, that was not ordered by the lords?» (Robbins C. Two English
Republican Tracts. P. 134).
2. «And I must confess I was inclined to believe, that before that time [i.e., the
reign of Henry III], our yeomanry or commonalty had not formally assembled
in parliament, but been virtually included and represented by the peers, upon
whom they depended: but I am fully convinced that it was otherwise, by the
learned discourses lately published by Mr Petyt of the Temple, and Mr Atwood
of Grays-Inn; being gentlemen whom I mention, honoris causa» (Ibid. P. 120).
586
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
и сохранять. Тем не менее из-за его близости к Харрингтону
теперешняя его роль выглядела особенно парадоксальной.
Революционер 1656 года, утверждавший, что свободы не
существовало, пока общины подчинялись лордам и королю, в
действительности оказался ближе к тори Брэди, который на тех же
основаниях заявлял, что общины не знали свободы, пока не
получили ее от короля. Попытка Невилла изобразить свободу,
о которой писал Харрингтон, оказалась бы обоснована лучше,
если бы он мог согласиться с Этвудом и Алджерноном Сиднеем,
отвергавшими элемент вассальных отношений в феодальном
обществе и утверждавшими, что такие слова, как baro,
употреблялись по отношению ко всем свободным людям, были ли
они при этом благородного происхождения или нет1. Однако
подобные уклончивые ответы приводили его на более
твердую почву, когда он стремился доказать, что закат баронства
отчасти был закатом «Древней конституции». Когда королю
приходилось иметь дело лишь с баронами, они помогали ему
наводить порядок среди народа; но по мере того как их власть
ослабевала, он столкнулся с классом незнатных
землевладельцев, независимость которых росла и способов воздействия на
которых он не имел, так что палата лордов оказалась не в
состоянии — по крайней мере, к такому выводу пришел сам
Харрингтон — выступать в качестве pouvoir intermédiaire2, как от
нее требовала теория смешанного правления3. Невилл не
собирался возвращать ей эту функцию. Он предлагал учредить
ряд совещательных органов, в которых король и парламент
делили бы между собой исполнительную власть. Однако из его
трактовки понятно, что знатные люди, лишенные феодальной
власти, но сохраняющие за собой наследственное право
созывать собрания, могли по-прежнему действовать как
титулованные и почетные предводители землевладельцев, от которых
сами теперь ничем не отличались. Джаннотти мог бы сказать:
теперь все были теагосгг. Но для Невилла важно утверждение,
что из-за ослабления баронов королевская исполнительная
власть с ее прерогативами столкнулась с простолюдинами из
парламента, контролировать которых не могла. И пока власть
не перераспределена конституционным решением, подобным
1. Этвуд пространно излагает эту точку зрения в своих работах «Jus
Anglorum ab Antiquo» (1681) и «The Lord Holies his Remains» (1682). Sidney A.
Discourses on Government. London, 1751. P. 387.
2. Посредствующая власть (франц.). — Прим. ред.
3· Robbins С. Two English Republican Tracts. P. 135, 145-148.
587
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
тому, которое он хочет предложить, отношения короны и
общин обречены на нестабильность. В возникающих
затруднениях хитрые, но несведущие министры и придворные будут
вводить короля в заблуждение находчивыми предложениями,
которые, если их принять, вполне способны развратить
народ. Правда, Невилл, настроенный более оптимистично, чем
Шефтсбери или Марвелл, полагает, что такими приемами они
ничего не добьются1. В частности, опора на тексты Харрингто-
на и воспоминания об армии «нового образца» в совокупности
наводят его на мысль, что из английского простонародья
невозможно набрать постоянную армию, которая бы отстаивала
королевскую власть2. Но если сам Невилл не разработал в
деталях теорию коррупции, он обрисовал ее возможный
исторический контекст. Теперь можно было утверждать, что
коррупция— неизбежное средство, к которому короли вынуждены
прибегать, когда бароны потеряли власть над народом. Взяв
за основу историю пэрства, можно выстроить миф о древней
и беспорочной конституции, пусть и ценой некоторых
нестыковок. Если можно было бы включить в этот миф народное
ополчение, которое состояло из свободных граждан,
независимо владевших оружием и безусловной собственностью на
землю, то его коррумпированной противоположностью мог стать
новый феномен военной бюрократии.
Формальное переопределение теории Харрингтона,
обозначенное нами как неохаррингтоновский подход, было теперь
завершено. Двумя его ключевыми характеристиками стали, во-
первых, признание палаты лордов, которые уже не являлись
феодальными баронами и не порицались как закоренелая
аристократия, а могли выступать в роли почти естественного
посредника между короной и палатой общин3, и, во-вторых,
символическое перемещение в прошлое того содружества
вооруженных собственников, которое Харрингтон обнаружил
в настоящем. Невилл, друг и, бесспорно, литературный
преемник Харрингтона, применял эту теорию в действии с 1659 года:
ему казалось необходимым переосмыслить концепцию, чтобы
ее ключевые положения остались в силе после восстановления
«Древней конституции». Представители круга Шефтсбери, равно
как и Марвелл или Невилл, видели в патронаже, лично
зависимых от премьер-министра чиновниках и постоянной армии
ι. Robbins С. Two English Republican Tracts. P. 178-182, 198-200.
2. Ibid. P. 180.
3. Ibid. P. 192-194.
588
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
главную угрозу политическому порядку. С их точки зрения,
прежде всего необходимо было отождествить историческую
структуру парламента с классическим (и историческим) ополчением.
Впрочем, опрокидывание намеченной Харрингтоном
последовательности многое изменило. Политическая норма осталась
в прошлом, а движение истории, которое Харрингтон
рассматривал как rinnovazione, приобрело обычный для него образ
упадка. Неохаррингтонианцы стремились обличить коррупцию,
и за это пришлось заплатить тем, что любые изменения
стали восприниматься как коррупция (как мы помним, при этом
они отказались прибегать к доктрине Тысячелетнего Царства).
Более того, теперь порчу и вырождение переживала «Древняя
конституция», а ее можно представить как форму
устойчивого равновесия (как с 1642 года это было вполне принято).
Однако, так как отношения между лордами и общинами уже не
служили главной причиной конфликта, точнее было сказать,
что нарушалось равновесие уже не сословий, а властей: возник
риск, что исполнительная власть начнет посягать на
законодательную, который, наряду с проблемой патронажа,
вылился в затянувшийся дольше чем на столетие спор относительно
разделения и взаимозависимости конституционных властей.
Впрочем, чтобы посягательство исполнительной власти на
законодательную считалось коррупцией, недостаточно было
просто вторжения первой в сферу законотворчества.
Необходимо было проследить стремление к тому, чтобы поставить
отдельных представителей и органы законодательной власти
в целом в зависимость от исполнительной власти, и уже эту
зависимость следовало считать коррупцией, потому что она
подменяла собой необходимую независимость. Дабы
применить классическую концепцию коррупции, требовалось
существенно переосмыслить теорию английской конституции,
которая сама по себе едва ли была сформулирована до «Ответа
на Девятнадцать предложений». Сам факт, что зародившаяся
таким образом идеология так быстро получила столь широкое
распространение, показывает, насколько темы, поднятые
полемикой Шефтсбери и Дэнби, оказались важны для английской
политической публики.
Со стороны тори не появилось сколько-нибудь
значимого ответа на «Возрожденного Платона»1 — обстоятельство,
I. В ι682 году вышли «Британское противоядие» («Antidotum Britannicum»)
У. У. (W.W.) и «Демон Платона» («Plato's Demon») Томаса Годдарда, но ни
одну из этих работ нельзя назвать значительной.
589
ГЛАВА XII. АНГЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
свидетельствующее об идеологической растерянности,
характерной для последних лет правления Карла П. В 1675 году,
когда началась атака сторонников неохаррингтоновского
подхода, выход работы, поддерживающей феодализм, стал первым
звеном в цепочке, которая привела к спору с участием Брэди.
В 1679 году посмертное переиздание сочинений Филмера
повлекло за собой три следствия. Во-первых, Локк приступил
к написанию «Двух трактатов о правлении», Тиррелл — к
созданию трактата «Патриарх не монарх» (Patriarcha non Monarcha)1,
кроме того, появились и другие труды, в которых тезису о
патриархии противопоставлялся авторитет на основе взаимного
согласия. Во-вторых, Петит и Этвуд продолжили начатую ими
в 1675 году антифеодальную полемику. Теперь она строилась
на оспаривании работ Филмера, отрицавшего древность
палаты общин, и на возражениях против Брэди и его
единомышленников. В-третьих, публикация текстов Филмера оказала
влияние на, по-видимому, независимое написание Алджерно-
ном Сиднеем «Рассуждений о правлении», которые в 1683 году
привели к его казни. «Возрожденный Платон», изначально
задуманный как продолжение полемики 1675 года, оказался
замешанным в спор между Петитом и Брэди. Невилл решил
согласиться с утверждением первого относительно палаты общин,
а авторы из партии тори отреагировали на его текст лишь
по этой причине. Брэди и его соратники были скорее не
новыми тори, а старыми роялистами, выступавшими в защиту
прерогативы и передачи власти по наследству, а не в защиту
патронажа и постоянной армии. Как следствие, они никак не
ответили на тезис Невилла, усмотревшего связь между
закатом феодализма и процветанием патронажа. Однако
следующее поколение отреагировало на это утверждение, прямо
заявив, что с закатом феодализма патронаж и в самом деле стал
необходимостью и не был проявлением коррупции*. К
подобной трактовке истории могла привести попытка опровергнуть
неохаррингтоновский подход с позиций, теории самого Хар-
рингтона, но чаще ее приверженцы исходили из утверждений
Брэди о феодальном прошлом. В меняющейся политической
обстановке революции виги стали прибегать к этому доводу
1. Сложную историю создания трудов Локка и Тиррелла в это время
прослеживает Питер Ласлетт в предисловии к своему изданию «Двух
трактатов о правлении Локка» (Cambridge University Press, i960; второе
издание—1963 год), глава III.
2. См. ниже, с. 673~674> 692-693·
590
Б) ДВОР, СТРАНА И ПОСТОЯННАЯ АРМИЯ
в своих интересах, и в 1698 году епископы из партии вигов
продолжали дело Спелмана и Брэди1.
Вплоть до ι688 года, когда виги по-прежнему оставались
едва ли не мятежной оппозицией, актуализация неохарринг-
тоновской полемики Страны против Двора вынужденно
сосуществовала с более насущной потребностью опровергнуть
Филмера, отразить последнюю атаку со стороны королевской
прерогативы и сторонников непротивления (nonresistant school)
и, наконец, обосновать революцию. В целом нельзя сказать,
что словарь, позаимствованный из полуреспубликанской
теории или из неохаррингтоновской концепции, лучше всего
отвечал этим целям. Впрочем, следует помнить: Сидней, голос
из прошлого, в «Рассуждениях» обращаясь к «старому
доброму делу» 1650-х годов и даже к тацитизму более раннего
поколения, осуждает абсолютную монархию за развращение или
коррупцию подданных и отождествляет добродетель с
системой смешанного правления, понятого настолько узко, что
оно предстает скорее как аристократическая республика2. Эти
«Рассуждения», в следующем столетии глубоко почитаемые
из-за мученической кончины их автора, не публиковались
до переломного 1698 года, когда, как это ни парадоксально,
они уже не казались такими анахроничными, как
пятнадцатью годами ранее. Полемика против патронажа и коррупции
была атакой на модерное правление, а критика прерогативы
и патриархализма — попыткой окончательно похоронить
прошлое; первая велась на языке классической республиканской
теории, тогда как вторая заручилась услугами Локка.
Амальгама, которую представляла собой идеология вигов в
восьмидесятых годах, распалась в течение десятилетия после
революции3. Неохаррингтоновская модель стала основой для
радикальной реакции в эпоху разрушительных
экономических изменений.
1. В 1698 году Эдмунд Гибсон, впоследствии епископ Лондона, завершил
работу над изданием произведений Спелмана и Брэди (Рососк J. G.A.
Ancient Constitution and the Feudal Law. P. 243). См.: Bennett G. V. White
Kennet, 1660-1128: Bishop of Peterborough. London, 1957.
2. См.: Sydney A. Discourses, 11, sections 11-30; HI, sections 1-10.
3. Robbins C. The Eighteenth-Century Commonwealthman: Studies in the
Transmission, Development and Circumstance of English Liberal Thought
from the Restoration of Charles II until the War with the Thirteen Colonies.
Cambridge, Mass., 1959, в особенности главы II и III. О том, что (как
видно из памфлетов) между вигами уже не было прежнего единства,
см.: A Collection of State Tracts Published on Occasion of the Late Revolution
in 1688 and during the Reign of King William III. London, 1706.
Глава XIII
Неомакиавеллиевская
политическая экономия
Спор о земле, торговле и кредите
в Англии Августинской эпохи
I.
Пятидесятилетие, последовавшее за революцией ι688 года, до
последнего времени оставалось малоизученным периодом в
истории английской политической мысли. Тем не менее эта эпоха
чрезвычайно значима — не в последнюю очередь потому, что,
строго говоря, именно в 1707 году «английская» политическая
мысль превратилась в «британскую». Между англичанином
Джоном Локком в начале означенного периода и шотландцем
Давидом Юмом, приступившем к написанию своих
произведений, когда он подошел к концу, мы не найдем ни одного
политического теоретика или философа, которого можно было бы
причислить к гигантам англоязычной культуры. И все же это
время перемен и эволюции, в некоторых отношениях более
радикальных и значительных, чем даже те, что пришлись на
периоды Гражданской войны и междуцарствия. В частности,
можно показать, что в эту эпоху политическая мысль
сознательно обратилась к изменениям, затронувшим экономические
и социальные основы политики, равно как и феномен
политической личности. В результате возникло современное
представление о zôon politikon как участнике-наблюдателе за
процессами материальных и исторических изменений, в свою очередь
оказывающих глубокое воздействие на его природу. Можно
показать, что эти изменения восприятия происходили
благодаря развитию политической экономии в неохаррингтоновском
и неомакиавеллиевском стиле в ответ на осмысление Англии
как Британии, главной торговой, военной и имперской
державы мира. Наблюдаемые процессы и вызванные этими
наблюдениями трансформации в языке с материальной и секуляр-
ной точки зрения представлялись более революционными, чем
какие-либо явления, пришедшиеся на поколение радикальных
592
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
пуритан. Одним из таких феноменов оказывается
использование мысли Макиавелли для критики современности.
Исследуя этот сюжет в истории политической мысли, мы
не будем приписывать решающей роли ни самому
обоснованию революции ι688 года, ни политическим сочинениям Локка.
Само по себе свержение Якова II могло лишь послужить
толчком к очередному признанию условности политической власти,
которая в макиавеллиевской традиции всегда выглядела делом
случая, и — в качестве дополнительного противовеса акценту
на отношении традиции и обычая, предполагавших согласие
или лояльность власти1. Кроме того, Яков — возможно, самая
нескладная фигура в истории английской политики — никогда
не изображался как одно из тех воплощений коррупции (как
Дэнби у Шефтсбери или Уолпол у Болингброка), на которых
впоследствии строился миф об английском
неомакиавеллизме. Говоря о Локке, следует признать, что включить его сейчас
в нашу общую картину — не самая лучшая идея. Переоценка
его исторической роли, начатая Ласлеттом и продолженная
Данном2, привела к революционным последствиям, в том
числе к полному разрушению мифа о Локке. Дело не в том, что он
не был великим и влиятельным мыслителем. В
действительности, его величие и влияние подверглись дикому искажению,
потому что принимались как данность без учета
исторического контекста. Локк не являлся приверженцем
республиканизма— ни классического, ни понятого в духе Макиавелли.
Таким образом, он не оказал непосредственного воздействия на
традицию, которую нам предстоит рассмотреть. Скорее можно
отвести ему роль — о значимости которой можно спорить —
одного из противников этой традиции3. Но преуменьшение роли
Локка — временная тактическая необходимость. Следует сначала
1. Такой вывод позволяет сделать интонация «Собрания государственных
трактатов...» в целом (A Collection of State Tracts Published on Occasion
of the Late Revolution... Vol. i. London, 1705). Существует текст, автор
которого (подписавшийся как Н.Т. [N.T.]) размышляет о свержении
Якова II с точки зрения неохаррингтоновского подхода: Some Remarks
upon Government, and Particularly upon the Establishment of the English
Monarchy, Relating to this Present Juncture // Ibid. P. 149-162; он написан
с осознанно внеморальных и «макиавеллиевских» позиций.
2. Dunn J. The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the
Argument of the Two Treatises of Government. Cambridge, 1969; Idem. The
Politics of Locke in England and America in the Eighteenth Century //John Locke:
Problems and Perspectives / Ed. by J.W. Yolton. Cambridge, 1969. P. 45-80.
3. См.: Kramnick I. F. Bolingbroke and His Circle: The Politics of Nostalgia in
the Age of Walpole. Cambridge, Mass., 1968. P. 61-63.
593
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
воссоздать исторический контекст вне его трудов, прежде чем
снова поместить их обратно.
Признание королем Вильгельма III повлекло за собой нечто,
чего не вполне предвидели или желали те, кто пригласил его
занять английский трон: Англия — ее войска и средства —
оказалась втянута в несколько масштабных войн на материке. Это
потребовало почти регулярного расширения постоянной армии,
которая за время правления Якова II и преследования
гугенотов не утратила того зловещего облика, каким общественное
сознание наделило ее в семидесятые годы. К тому же к концу
Девятилетней войны 1688-1697 годов (в американской
историографии ее принято называть «Войной короля Вильгельма»1)
стали очевидны еще два существенных последствия
признания нового короля, которые важно осознать. Потери на море
в этой войне, в которой союзниками англичан были голландцы,
способствовали выявлению некоторых обстоятельств,
связанных с завершившейся теперь эпохой англо-голландских войн:
Англия была торговой нацией — к чему отчаянно стремилась
и Шотландия, — а в соответствии с господствовавшими в те
времена представлениями торговля являлась актом агрессии,
ибо коммерческое общество приобретало для себя нечто, что
могло быть приобретено кем-то другим; и война могла
считаться подходящим или неподходящим средством для
достижения этой цели. У такого взгляда имелись и дальнейшие
последствия. То, что называлось национальным благосостоянием,
поддавалось изучению и анализу, что в свою очередь
указывало на возможность новой науки «политической арифметики»,
количественного метода оценки вклада каждого отдельного
человека в политическое благо, измерявшегося тем, сколько
он вкладывал в национальный капитал или сколько черпал
из него*. Очень скоро понятие торговли проникло в язык
политики, так что ни один оратор, памфлетист или теоретик не
мог позволить себе его обойти, а в эпоху войны оно оказалось
тесно связано с концепциями международных отношений и
государственной власти.
Однако второе следствие участия Англии в крупной войне
оказалось еще более резонансным. В период так называемой
1. В русской историографии чаще фигурирует как «война Аугсбургской
лиги» или «война за Пфальцское наследство».—Прим. перев.
2. Родоначальником этой науки считался сэр Уильям Петти. См.: Strauss Ε.
Sir William Petty: Portrait of a Genius. London, 1954; Letwin W. The Origins
of Scientific Economics. New York, 1965.
594
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
«финансовой революции»', начавшейся в девяностые годы,
были найдены способы непосредственно связать благополучие
государства с устойчивостью режима, расширением
деятельности правительства и — что самое важное — с ведением войны.
Новые финансовые институты, из которых важнейшими
оказались Английский банк и государственный долг, по сути,
представляли собой набор механизмов, поощряющих крупных или
малых инвесторов давать деньги в долг государству, тем самым
инвестируя в его политическую стабильность в будущем,
укрепляя его самим актом вложения, а также получая
гарантированный доход от прибыли с вложенной суммы. Полученный
таким образом капитал позволял государству содержать более
многочисленный и устойчивый военный и чиновничий
аппарат, что в качестве побочного следствия способствовало борьбе
с политическим патронажем. Пока обстоятельства оставались
внешне благополучными, государство могло рассчитывать на
новые вложения и вести более масштабные и продолжительные
войны. Эпоха condottiere — солдата-наемника на
кратковременной службе — осталась позади, и его место заступил военный
чиновник, одна из сил, на которые опиралось бюрократическое
государство. Однако постепенный рост объема вложений
привел еще к двум результатам. Государство смогло брать кредиты
на большие суммы и осуществлять более обширную
деятельность, чем та, которую обеспечивал наличный объем капитала.
Оно гарантировало возмещение взятых в долг сумм
грядущими доходами от сбора налогов и будущими инвестициями. Так
родился государственный долг, который перейдет в наследство
следующим поколениям. Как отмечалось, это обстоятельство не
помешало повышению налога на землю, нужного, чтобы
оплачивать ведение войны. И в отличие от более ранних периодов,
отныне этот налог взимался неукоснительно. Государство стало
слишком сильным и начало более твердо опираться на закон,
чтобы граждане могли позволить себе отвечать ему неуплатой,
как в правление первых Стюартов. Кроме того, объем вложений
в государственный долг подразумевал, что акции, квитанции
и счета, обладатель которых получал право на компенсацию
из государственных фондов, превратились в рыночный товар,
ценность которого росла или падала вместе с колебаниями
I. Dickson P. G. M. The Financial Revolution in England: A Study in the
Development of Public Credit, 1688-1756. London, 1967; Rubini D. Politics and the
Battle for the Banks, 1688-1697 // English Historical Review. Vol. 85 (1970).
P. 693-714.
595
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
доверия общества к политическим, военным и финансовым
начинаниям государства. На арену вышли владелец
капитала и биржевой трейдер, «бык» и «медведь», и их эмблемой,
понятием, которое они внедрили в язык английской политики,
стала не Торговля, а Кредит.
Быстроразвивающаяся политическая экономия, основная
форма августинской политической мысли, развивалась в
контексте меняющихся отношений, которые публицисты готовы
были осмыслить и допустить между землей, торговлей и
кредитом как источниками не просто благосостояния общества,
но политической стабильности и добродетели. Последнее из
названных понятий акцентировалось столь сильно, что мы
должны признать: первая глава в истории политической
экономии в то же время оказалась еще одним разделом в
продолжающейся истории гражданского гуманизма. Участники
дискуссии, посвященной этой проблематике в первой
половине XVIII века, обращались к Харрингтону и Макиавелли,
продолжая оппозиционную критику того союза патронажа
и милитаризма, коррупции и постоянной армии, о котором
шла речь в ходе полемики 1675 года. Связь этих явлений уже
стала настолько неотъемлемым элементом политических
споров, что и сторонники нового порядка вынуждены были
принимать многие сопряженные с ним постулаты и допущения.
В этой полемике Августинской эпохи можно указать
несколько кульминационных моментов. Во-первых, «спор о
постоянной армии», или «памфлетная война», приблизительно
1698-1702 годов1, когда в поддержку партии «страны»
выступали Джон Толанд, Джон Тренчард, Уолтер Мойл, Эндрю Флет-
чер и Чарльз Давенант, а в поддержку двора — Даниэль Дефо
и Джонатан Свифт. Во-вторых, «четыре последних года»
правления королевы Анны, когда Свифту, поддерживавшему тори,
противостояли Аддисон и Дефо — расстановка сил несколько
изменилась — со стороны вигов2. В-третьих, время волнений,
связанных с крахом Компании Южных морей, когда на
первом плане оказались публицисты Джон Тренчард и Томас
1. См.: Robbins С. The Eighteenth-Century Commonwealthman. P. 103-105;
Swift J. A Discourse of the Contests and Dissensions between the Nobles and
the Commons in Athens and Rome. Oxford, 1967 (предисловие Φ. Г. Элли-
са); Laprade W. 77 Public Opinion and Politics in Eighteenth-Century England
to the Fall of Walpole. New York, 1936.
2. Foot M. The Pen and the Sword. London, 1957; Cook R.I. Jonathan Swift as a
Tory Pamphleteer. Seattle and London, 1967; Richards J. 0. Party Propaganda
under Queen Anne: the General Elections of 1702-13. Athens, 1972.
596
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Гордон, издававшие «Письма Катона» (Cato's Letters) и
«Независимого вига» (The Independent Whig). Наконец, период
между 1726 и 1734 годами, когда Болингброк начал атаку на
Уолпола в ходе журнальной кампании в газете «Кудесник» (The
Craftsman), — его поддержало большинство лучших писателей
той эпохи, а его противниками оказались «Лондонский журнал»
(The London Journal) и лорд Херви1. Аргументы, фигурирующие
во всех этих спорах, поразительно схожи — до такой степени,
что и у Дефо в 1698 году, и у сторонников Уолпола тридцатью
пятью годами позже прослеживаются очертания
экономической, политической и исторической теории «двора», которая
задумывалась как ответ тому течению мысли, которое затем
стало известно под названием идеология «страны». К концу
этого периода была подготовлена почва для серьезного
подведения итогов полемики, которое в середине столетия
осуществили в своих работах Монтескье и Юм; эта идеологическая
сцена оставалась практически неизменной до эпохи Великой
французской революции.
«Памфлетная война», которая пришлась на последние годы
правления Вильгельма III, также известна как «спор о
постоянной армии»2. Импульсом к ее возникновению во многом
послужило желание партии «страны» сократить численность
английских и иностранных королевских войск сразу после
подписания мирного договора 1697 года. Кроме того, она
включала в себя и проблематику коррупции по меньшей мере в трех
значениях этого понятия, от древнего до самого нового.
Обнаружилось, что придворные, в том числе иностранцы и
женщины, получили огромную прибыль с земли в Ирландии; время
от времени звучал призыв исключить из палаты общин тех,
кто злоупотребляет своим положением в ней; наконец — и это
явление было самым новым, — возникла получившее
впоследствии широкое распространение решительная критика
«разлагающего» воздействия на парламент и общество со стороны
владельцев капитала и биржевых трейдеров, рантье, живущих
за счет своей доли (как бы они ее ни получили)
государственного долга. Восхваления в адрес свободного ополчения в
сочетании с надрывным плачем по поводу разлагающего влияния
исполнительной власти, с которыми мы уже хорошо знакомы,
1. Kramnick I.F. Bolingbroke and His Circle.
2. Schwoerer L. К The Literature of the Standing Army Controversy // Huntington
Library Quarterly. 1964-1965. Vol. 28. № 3. P. 187-212; Rubini D. Court and
Country, 1688-1702. London, 1967.
597
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
породили новый взгляд на отношения между войной и
торговлей с добродетелью и вылились в новый спор о ходе
английской и европейской истории, характерная неоднозначность
которого наглядно свидетельствует о склонности представителей
новой эпохи размышлять о ней с позиций неомакиавеллизма.
Начать исследование этого направления мысли лучше всего
с анализа произведений Эндрю Флетчера, Чарльза Давенанта
и Даниэля Дефо.
Флетчер1 был шотландцем, одним из первых среди
многих проницательных уроженцев британского Севера, которым
язык английской полемики в каком-то смысле был понятнее,
чем самим англичанам. В 1685 году он поддерживал Монмута,
но поспешно покинул Сомерсет, после того как в ссоре из-за
лошади убил выстрелом дворянина из Тонтона. Эта
подробность может навести на мысль о неподобающей
прогрессивному человеку вспыльчивости, но это ошибочное впечатление.
Флетчер, патриотически настроенный мыслитель выдающихся
интеллектуальных способностей, мог бы быть достойным
современником Патрика Генри и Ричарда Генри Ли. В
«Рассуждении о правлении в связи с народным ополчением» {Discourse
of Government with Relation to Militias) он более последовательно,
чем кто-либо другой, применил к интерпретации истории нео-
харрингтоновский подход и, что существенно, выявил
присущие ему скрытые противоречия.
Флетчер утверждает, что с 400 года от Рождества Христова
и до 1500 года «готическая» модель правления обеспечивала
Европе свободу за счет того, что оружие оставалось в руках
подданных, владевших землей. Бароны имели влияние на
королей, вассалы — на баронов, и,
когда соблюдался такой порядок, больше не было никакой
Постоянной Армии, которая оставалась бы всегда наготове, но
каждый отправлялся жить на свои собственные Земли;
когда же Защита Страны требовала Армии, Король призывал
Баронов к своему Знамени и те являлись в сопровождении своих
Вассалов. Так на протяжении почти одиннадцати столетий
собирались в Европе Армии, и при таком Устройстве Правления
ι. Robbins С. Eighteenth-Century Commonwealthman. P. 9_ю, 180-184. Его
«Политические труды» («Political Works») были опубликованы в 1732 году
и с тех пор неоднократно переиздавались. См. также: Lord Buchan. Essays
on the Lives and Writings of Fletcher of Saltoun and the Poet Thomson.
London, 1792.
598
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Меч оказывался в руках Подданного, потому что Вассалы
зависели прежде всего не от Короля, а от Баронов, что в конечном
счете обеспечивало таким Правлениям свободу. Ибо Бароны не
могли воспользоваться своей Властью, чтобы уничтожить эти
ограниченные Монархии, не уничтожив собственного Величия;
равно и Король не мог посягнуть на их Привилегии, не имея
других Сил, помимо Вассалов из собственных Владений, дабы
опереться на них при такой Попытке.
Я не буду уделять особого внимания другим Ограничениям
подобных Монархий и не считаю никакие из них столь
существенными для Свободы Народа, как то, в силу которого Меч
оказался в руках Подданного. <...>
Не отрицаю, что, когда власть Баронов была велика, эти
ограниченные Монархии обладали некоторыми
Недостатками: мне известно мало Правлений, которые были бы их
лишены. Но, как бы то ни было, существовало Равновесие,
благодаря которому такие Правления сохраняли устойчивость,
и действенные Меры предупреждали любые Посягательства
со стороны Короны1.
Типичным для вигов образом игнорируя зависимость вассала
от сеньора, Флетчер снова ушел от проводимого Харрингтоном
резкого разграничения между «древней рассудительностью»
и «Древней конституцией». Он переместил
сбалансированную республику, где граждане носят оружие, в эпоху
«новейшей рассудительности», которую, с ее аппаратом, включавшим
в себя короля, лордов и общины, Харрингтон отвергал как
I. «...when this was done, there was no longer any Standing Army kept on
foot, but every man went to live upon his own Lands; and when the Defence
of the Country required an Army, the King summoned the Barons to his
Standard, who came attended with their Vassals. Thus were the Armies of
Europe composed for about eleven hundred years; and this Constitution of
Government put the Sword into the hands of the Subject, because the Vassals
depended more immediately on the Barons than on the King, which effectually
secured the freedom of those Governments. For the Barons could not make
use of their Power to destroy those limited Monarchies, without destroying
their own Grandeur; nor could the King invade their Privileges, having no
other Forces than the Vassals of his own Demeasnes to rely upon for his
support in such an Attempt. I lay no great stress on any other Limitations
of those Monarchies; nor do I think any so essential to the Liberties of the
People, as that which placed the Sword in the hands of the Subject. <...> I do
not deny that these limited Monarchies during the greatness of the Barons,
had some Defects: I know few Governments free from them. But after all,
there was a Balance that kept those Governments steady, and an effectual
Provision against the Encroachments of the Crown» (Fletcher A. A Discourse
of Government with Relation to Militias. Edinburgh, 1698. P. 7-9).
599
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
трудно регулируемое равновесие. Владение землей на правах
вассала стало теперь средством поддержания баланса, так как
обеспечивало равновесие между королем и баронами, а
также инструментом укрепления свободы и равенства,
поскольку незнатные вассалы, в свою очередь, способствовали
равновесию. В отличие от Харрингтона, подчеркивавшего, что
земля и меч вассала принадлежали его сеньору, у Флетчера
вассал — в конце концов, шотландец, — по-видимому, прочно
обосновался на своем участке и помогал удерживать оружие
там, где ему надлежало находиться, — в руках
землевладельцев. В 1215-м или каком-либо другом году бароны, как можно
было показать, защищали древние принципы равновесия,
virtù и свободы, даже когда они при этом сражались за свои
феодальные привилегии.
Однако такое положение дел осталось в прошлом, и
возврата к нему не было. «Около 1500 года» произошло
«Изменение Правления... в большинстве Стран Европы», которое не
оставило от старых конституций ничего, кроме «древних
выражений и внешних форм», так что «большинство Людей всех
Званий обмануты Словами и Названиями»1. Приблизительно
к тому же времени Харрингтон отнес отмену феодального
владения землей. Впрочем, он считал этот процесс
освобождением, за которым стояло сознательное действие, пусть даже его
инициатор, Генрих VII, не понимал, какую силу он выпускает
на волю. В основе этого процесса лежал законодательный акт,
освободивший вассалов от воинской службы, хотя его более
масштабные последствия для общества обнаружились тогда,
когда лорды стали вести придворную жизнь, явно дорого им
обходившуюся, а освобожденное «трудолюбие» народа
ухватилось за монастырские земли, которые низшему сословию
продал Генрих VIII. Напротив, с позиции Флетчера этот процесс
был скорее непреднамеренным2; его истоки являлись в
гораздо большей степени социальными, а последствия — крайне
спорными.
1. Fletcher A. A Discourse of Government with Relation to Militias. P. 5.
2. Ibid. P. 6: «And 'tis worth observation, that tho this Change was fatal to their
Liberty, yet it was not introduced by the Contrivance of ill-designing Men;
nor were the mischievous Consequences perceived, unless perhaps by a few
wise Men, who, if they saw it, wanted Power to prevent it»; «И следует
отметить, что, хотя эта Перемена оказалась губительной для их
Свободы, произошла она не вследствие злого умысла; и никто не понимал
ее прискорбных последствий, разве что немногие Мудрецы, которые,
видя их, искали Власти, чтобы их предотвратить».
боо
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Из их Происхождения я выведу Причины, Поводы и сложную
Связь множества таких непредвиденных Случаев, которые,
поскольку они происходили примерно в одно и то же время,
привели к такой значительной Перемене. И на первый взгляд
покажется весьма странным, когда главными среди них я
назову Возрождение Образования, Изобретение Книгопечатания,
Иглы и Пороха, вещи, которые сами по себе столь
необычайны и которые, за вычетом последней, могли бы принести Миру
такую несравненную Пользу, если бы для предотвращения их
отдаленного Влияния на Правление были бы приняты
надлежащие Меры. Подобные непостижимые Последствия, столь же
различные по своей Природе, сопровождают выдающиеся
Изобретения любого рода1.
Как мы видим, перемены сохраняют присущий им опасный
и непредсказуемый характер. В отличие от Макиавелли,
которого интересовало, как сказывается на людях утрата ими опоры
на обычай, внимание Флетчера сосредоточено на причинных
связях, на долгосрочных последствиях действий в сложной
паутине человеческого общества. Если говорить о перечисленных
им нововведениях, возрождение образования и изобретение
книгопечатания открыли доступ европейцам, прежде
остававшихся «варварами», к многообразию культуры, а изобретение
компаса положило начало международной торговле. О
значимости пороха нам еще предстоит сказать.
Таким образом, к Роскоши, унаследованной от Древних,
прибавилась Роскошь Азии и Америки; все Эпохи и все Страны
наперебой стремились низринуть Европу в Бездну
Наслаждений, которые обходились ей тем дороже, что Мода на Платье,
Экипажи и домашнюю Мебель постоянно менялась.
Эти явления совершенно изменили образ жизни, от
которого зависит все Государство. Правда, Знания
существенно преумножились, и, учитывая, какой Занимательностью
ι. «I shall deduce from their Original, the Causes, Occasions, and the
Complication of those many unforeseen Accidents; which falling out much about the same
time, produced so great a Change. And it will at first sight seem very strange,
when I shall name the Restoration of Learning, the Invention of Printing, of
the Needle and of Gunpowder, as the chief of them; things in themselves so
excellent, and which, the last only excepted, might have proved of infinite
Advantage to the World, if their remote Influence upon Government had been
obviated by suitable Remedies. Such odd Consequences, and of such a different
Nature, accompany extraordinary Inventions of any kind» (Ibid. P. 9-10).
601
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
и Привлекательностью отличались все эти вещи, Люди
полагали, что во всех отношениях выиграли от этой перемены
своего умеренного и военного образа жизни, которому,
следует признать, была свойственна некая смесь Грубости и
Невежества, хотя нельзя сказать, что она была от него неотделима.
Но в то же время они не учли невообразимых Зол,
совершенно неотделимых от жизни на широкую ногу1.
Как мы вскоре узнаем, опасность роскоши состоит не в том,
что она порождает изнеженность вкусов или даже
переменчивость моды, а в том, что ведет к большему выбору и потому
к специализации в профессиональной деятельности. У воина-
гота не было особых забот, кроме как возделывать свою
землю, воевать и отстаивать свою свободу; утонченный человек
эпохи Возрождения мог стремиться к знанию или роскоши,
наслаждению или моде, а потому терял интерес к тому, чтобы
защищать себя. Если он был аристократом, то залезал в долги
и вместо услуг своих вассалов брал с них ренту; если
незнатным человеком, его вполне удовлетворяло то, что он свободный
арендатор, а не зависимый вассал. Короли тем временем
обнаружили, что подданные охотно платят им налоги, из которых
можно выделить средства на наемников для собственной
защиты; а изобретение пороха, превратившее войны в затяжные
и дорогостоящие осады, усугубило этот процесс, едва он успел
начаться. Как только войска стали содержаться на налоги,
последние начали взиматься войсками, и почти во всей Европе
иссякла свобода2. Но власть, опиравшаяся на
профессиональных солдат, возникла лишь потому, что подданный обладал
выбором, позволявшем ему отказаться от ношения оружия.
Если он не хотел чем-то заниматься, то мог заплатить
другому человеку — и тот делал работу вместо него. Таким образом
1. «By this means the Luxury of Asia and America was added to that of the
Antients; and all Ages, and all Countries concurred to sink Europe into an Abyss
of Pleasures; which were rendred the more expensive by a perpetual Change
of the Fashions in Clothes, Equipage and Furniture of Houses. These things
brought a total Alteration in the way of living, upon which all Government
depends. 'Tis true, Knowledg being mightily increased, and a great Curiosity
and Nicety in every thing introduced, Men imagined themselves to be gainers
in all points, by changing from their frugal and military way of living, which
I must confess had some mixture of Rudeness and Ignorance in it, tho not
inseparable from it. But at the same time they did not consider the unspeakable
Evils that are altogether inseparable from an expensive way of living» (Fletcher A.
A Discourse of Government with Relation to Militias. R 12-13).
2. Ibid. R 13-15.
602
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
подданный покупал себе освобождение от обязанностей.
Однако он мог понять, чего лишался, только тогда, когда дороги
назад уже не было. В итоге под «роскошью» подразумевались
культура, досуг и выбор; эти же блага заключали в себе и вред.
Флетчер может утверждать лишь, что грубость и невежество
не являются неотделимыми от свободы воина, вероятно, имея
в виду, что примитивный свободный гражданин был все же
обучаемым; но «жизнь на широкую ногу», заставлявшая его
продавать гарантии свободы и тем самым приобретать блага
культуры, оказывалась неотделима от коррупции.
Флетчер довел неохаррингтоновский подход до той точки,
где обнаружилась одна из наиболее сложных проблем,
ставившая в тупик социальную мысль XVIII века: кажущаяся
несовместимость свободы и добродетели с культурой, даже в
большей степени, чем их несовместимость с торговлей, ставила
проблему многообразия человеческих желаний. Свободный
гражданин должен был желать лишь свободы и
общественного блага, которому он посвящал свою жизнь. Если он менял
свободу на другую ценность, то такой поступок всегда
развращал и коррумпировал, даже если этой другой ценностью
оказывалось знание. Характерный для гражданского гуманизма
акцент на важности владения оружием и землей как
необходимых условиях гражданской и нравственной независимости
человека подчеркивал эту дилемму еще более остро,
формулируя ее в терминах осмысления необратимого исторического
процесса. Добродетель в своей парадигматической социальной
форме теперь располагалась в прошлом; но ушедшая эпоха
свободы оказывалась, кроме того, эпохой варварства и
суеверия, и эпитет «готический» мог с мучительной
двойственностью использоваться в обоих значениях. Что касается
торговли, то в каком-то смысле она представляла собой деятельную
форму культуры: если существовало множество удовольствий,
человек мог выбирать между ними, а если он расставлял
приоритеты, откладывая будущее удовольствие ради настоящего,
он был уже близок к заключению сделок. Гражданин
Аристотеля, определяя свои приоритеты, руководствовался моралью.
Но если у торговцев, меняющих один товар на эквивалентную
ему ценность другого, и была мораль, то она явно не связана
с добродетелью гражданина — единственной секулярной
добродетелью, доселе известной западному человеку. Эта добродетель
опять же требовала от человека автономии, с которой он не
мог расстаться, не подвергнувшись моральной порче. Было бы
боз
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
заблуждением полагать, что Флетчер наивно стремился
возродить земледельческий уклад самостоятельных и автаркичных
воинов-пахарей. Он пространно писал о крайне актуальных
проблемах, связанных с необходимостью хоть в какой-то мере
содействовать процветанию торговли в шотландском обществе,
которое находилось в бедственном положении1. Впрочем, его
история свободы, его «Рассуждение о правлении в связи с
народным ополчением» свидетельствует о состоянии мысли
около 1700 года, когда буржуазная идеология, гражданская мораль
делового человека, была желанной, но еще, по всей видимости,
недоступной. Вот почему дальше он — как и Толанд в своей
написанной примерно в то же время работе «Реформа
народного ополчения» (The Militia Reformed)* — описывает модель
военной подготовки для всех фригольдеров, которая задумана
как способ воспитания гражданской добродетели3. Люди уже
не живут в готическом мире баронов и вассалов; у них есть
выбор, коммерция и возможности коррупции. Стремясь сделать
ненужными профессиональные армии, которые сделают
порчу добродетели необратимой, они должны создать ополчение.
Однако пока они носят оружие, аскетическая служба на благо
республики научит их умеренности, умению отказываться от
личных прихотей — существовали даже своего рода ополченче-
ские проповеди, произносившиеся во Флоренции 1528-1530
годов и восхвалявшие бедность4, — и в конечном счете той
добродетели, которую социальный порядок сам по себе уже не
в состоянии обеспечить. Формирование такого ополчения
отвечало бы законодательным и воспитательным целям, а
кроме того, было бы ridurre ai рггпсгргг; Ьиопе leggi, buona educazione,
buone arme5. Воспитание и образование, таким образом, в
начале своего долгого пути воспринимались как фактор,
противодействующий социальному развитию.
ι. См. «Первое и второе рассуждения о положении дел в Шотландии»
Флетчера («First and Second Discourses on the Affairs of Scotland») в
издании: Fletcher A. Political Works. London, 1737.
2. A Collection of State Tracts Published on Occasion of the Late Revolution...
vol. 11. p. 594-614.
3. Fletcher A. A Discourse of Government with Relation to Militias. P. 50-62,
4. Ibid. P. 54. Эти проповеди должны были произносить сами
ополченцы, потому что священников в военном лагере не предполагалось.
Ср.: Ibid. Р. 52: «Their Drink should be Water, sometimes tempered with
a proportion of Brandy, and at other times with Vinegar»; «Они должны
пить Воду, иногда сдабривая ее долей Бренди, иногда же Уксусом».
5- Возвращение к началам; хорошим законам, хорошему воспитанию,
хорошему войску (итал.).—Прим. ред.
6о4
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Впрочем, неохаррингтоновская версия английской истории
на удивление уязвима для критики. Заглянув в тексты Брэди
или самого Харрингтона, оппонент мог заявить, что в
«готическую» эпоху общины настолько подчинялись лордам, что
о равновесии и свободе не могло идти и речи. Возражая Флет-
черу и Тренчарду1, Дефо отрицал именно наличие равновесия:
...Около того времени, когда Народ начал с презрением
относиться к этой Службе, которая была обязанностью Вилланов и
Вассалов, Мир и Торговля обогатили его, а Власть Баронов
слишком возросла, это привело к частым Волнениям, Гражданским
Войнам и Сражениям, и иногда эти Ссоры не обходились без
участия Короля: один Дворянин нападал на другого, более
всего страдал слабый, и за все это своей Кровью расплачивался Бедняк;
Народ получил собственные Привилегии и обязал Короля и
Баронов признать Равновесие, которое мы называем Парламентом,
из чего выводят Необходимое Равновесие, о котором мы
столько слышали. Мне нет нужды привлекать внимание моего
Читателя к тем Временам и Обстоятельствам, но это Необходимое
Равновесие является Основанием, на котором мы теперь стоим...
и я предоставляю всем Людям судить, не является ли это
Равновесие намного более благородным во всех Отношениях
Устроением, нежели Правление прежнего готического Образца. <...>"
Но, хотя это и так, Бароны обеднели из-за той Роскоши,
которую доставило им Время, а Незнатные Люди разбогатели, обменяв
1. Defoe D. An Argument Shewing that a Standing Army, with Consent of
Parliament, Is Not Inconsistent with a Free Government (1698) // Daniel
Defoe / Ed. by J.T. Boulton. New York, 1965. Этот текст был ответом
на: Trenchard J., Mqyle W. An Argument Shewing that a Standing Army
Is Inconsistent with a Free Government, and Absolutely Destructive to the
Constitution of the English Monarchy (1697).
2. «about the time, when this Service by Villenage and Vassalage began to be
resented by the People, and by Peace and Trade they grew rich, and the
Power of the Barons being too great, frequent Commotions, Civil Wars, and
Battels, were the Consequence, nay sometimes without concerning the King
in the Quarrel: One Nobleman would Invade another, in which the weakest
suffered most, and the poor Man's Blood was the Price of all; the People obtain'd
Priviledges of their own, and oblig'd the King and the Barons to accept of
an Equilibrium, this we call a Parliament: And from this the Due Ballance,
we have so much heard of is deduced. I need not lead my Reader to the
Times and Circumstances of this, but this Due Ballance is the Foundation on
which we now stand... and I appeal to all Men to judge if this Ballance be
not a much nobler Constitution in all its Points, than the old Gothick Model
of Government. <...>» (Defoe D. An Argument Shewing that a Standing Army,
with Consent of Parliament, Is Not Inconsistent with a Free Government.
P. 44-45)·
605
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
положение Вассалов на Аренду, Ренту, Плату и тому подобное.
Сделав это, они стали служить самим себе и таким образом
перевернули привычный Порядок, и так возникла Палата Общин:
и, надеюсь, у Англии есть основание ценить эту Перемену. Те,
кто придерживается иного мнения, пусть подумают, какими
Свободами Общины обладают в Польше, где сохраняются
готические установления, и они будут удовлетворены1.
Свобода и сбалансированная модель правления
принадлежали современности, а не древности. Их источником было
освобождение народа от феодального контроля, относящееся
примерно к тому же времени, к какому отнес его Харрингтон.
В «Чистокровном англичанине» (The True-Born Englishman),
сатире, написанной двумя годами позже, Дефо использовал тот же
язык, к какому мог прибегнуть левеллер пятьюдесятью
годами прежде:
Нашествие Норманнов показало,
Что их Главарь — мерзавец, коих мало...
Так свой захватнический Легион
Хозяином народа сделал он...
И Лордом стал его Легионер,
Не отличаясь тонкостью манер;
И Перепись тех лет — тому пример.
Нет ничего престижнее для Знати,
Чем от Французов из Нормандской рати
С их Незаконнорожденным Главой
Производить весь Род старинный свой:
Мы знаем из Истории, что Званье
Дворянству принесло Завоеванье,
Но, черт возьми, как, за какой пробел
Француз стать Англичанином успел?2
1. «But 'tis said, the Barons growing poor by the Luxury of the Times, and the
Common People growing rich, they exchanged their Vassalage for Leases, Rents,
Fines, and the like. They did so, and so became entituled to the Service of
themselves; and so overthrew the Settlement, and from hence came a House
of Commons: And I hope England has reason to value the Alteration. Let
them that think not reflect on the Freedoms the Commons enjoy in Poland,
where the Gothick Institution remains, and they will be satisfied» {Defoe D.
An Argument Shewing that a Standing Army, with Consent of Parliament,
Is Not Inconsistent with a Free Government. P. 45).
2. Дефо Д. Чистокровный англичанин // Англия в памфлете / Пер. И. Ку-
тика. М., 1987. С. 37> 39· «The great Invading Norman let us know / What
Conquerors in After-Times might do. <...> / He gave his Legions their Eternal
Station / And made them all Freeholders of the Nation. <...> / The Rascals
thus enrich'd, he called them Lords, / To please their Upstart Pride with
606
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Однако для Лилберна или Харрингтона подобное заявление
о незаконности прошлого звучало как пролог к милленарист-
скому возрождению саксонской свободы или древней мудрости.
Но Дефо не сторонник Реставрации и не милленарист; он
современен и пишет в защиту союза вигов, Английского банка
и постоянной армии. Он отрицает древность свободы и
добродетели, — как его преемники отрицали существование
конституции, к которой следовало вернуться, — указывая на
равновесие, обретенное лишь двести лет назад без участия разума
и откровения. «Мир и Торговля обогатили его»; Дефо не в
меньшей степени, чем Флетчер — но с обратным знаком, — считает,
что конец готической конституции положил именно принцип
коммерции. Дефо любил и себя причислять к торговцам, но
было бы непозволительно наивно полагать, что еще только
нарождающаяся торговая буржуазия обеспечивала его
аудиторией и давала достаточное основание писать так, как он писал.
В трактате 1698 года он заметил:
Я желал бы адресовать эти Рассуждения Честному
благонамеренному Английскому Фригольдеру, у которого есть своя доля
Terra firma и который поэтому заинтересован в сохранении
Свободы; жителю страны, который любит Свободу больше Жизни
и не продаст ее за Деньги; а именно у такого Человека
больше всего причин бояться Постоянной Армии, потому что ему
есть что терять; его более всех волнует Безопасность Корабля,
в Трюме которого лежит Груз1.
Таким языком могли бы говорить Айртон во время дебатов
в Патни или Свифт и Болингброк, восхвалявшие землевладение
new-made Words, / And Doomsday-Book his Tyranny records. / And here
begins the Ancient Pedigree / That so exalts our Poor Nobility: / 'Tis that
from some French Trooper they derive, / Who with the Norman Bastard did
arrive. <...> / Conquest, as by the Moderns 'tis exprest, / May give a Title to
the Lands possest: / But that the Longest Sword shou'd be so Civil, / To make
a Frenchman English, that's the Devil» (Defoe D. The True-Born Englishman:
A Satyr (1701) // Daniel Defoe / Ed. by J.T. Boulton. P. 59-60 (стихи 195-196,
205-206, 209-215, 229-232).
ι. «I propose to direct this Discourse to the Honest well meaning English-
Freeholder, who has a share in the Terra firma, and therefore is concerned
to preserve Freedom; to the Inhabitant that loves his Liberty better than
his Life, and won't sell it for Money; and this is the Man who has the most
reason to fear a Standing Army, for he has something to lose; as he is most
concern'd for the Safety of a Ship, who has a Cargo on her Bottom» (Defoe D.
An Argument Shewing that a Standing Army, with Consent of Parliament, Is
Not Inconsistent with a Free Government. P. 37-38).
607
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
в 17н или I731 Г°ДУ- Самому Дефо мы можем приписать разве
что ясное понимание следующего факта: раз земля
перестала представлять ценность как гарантия службы вассалов, то
должен происходить процесс обращения денег, дабы она могла
приобрести ценность с точки зрения «аренды, ренты и тому
подобного». Сделать же землю источником дохода от сдачи
внаем не то же самое, что превратить ее в обычный рыночный
товар. Он пытается доказать: когда службу вытесняет доход,
палата общин может играть в сбалансированной
конституции надлежащую роль, регулируя размер ассигнований
бюджета. В «Чистокровном англичанине» он нанес первый
сокрушительный удар по неохаррингтоновскому культу народного
ополчения в строках (относящихся к Вильгельму I, с которым
невыгодно сравнивается Вильгельм III):
Своим солдатам сей Иноплеменник
Платил Землей за неименьем Денег1.
И весь трактат Дефо 1698 года написан с целью показать, что
профессиональную армию легко контролировать, пока
выплатой ей жалованья распоряжался парламент. Однако этот ответ
не мог удовлетворить сторонников партии «страны»,
возражавших, что само существование постоянной армии развращало
парламент и ослабляло его способность отказывать в
ассигнованиях из бюджета или что власть денег давала
исполнительной власти такие средства для коррупции других членов
парламента, каких она не знала в прежние времена. Дефо
признал, что природа войны и правления изменились:
Англия теперь находится в других Обстоятельствах,
отличающих ее от прежней Англии в том, что касается Метода
ведения Войны, Положения наших Соседей и нашего
Собственного, и есть некоторые Причины, в силу которых Ополчение не
подходит и, как я, вероятно, могу сказать, не может быть
приспособлено для Целей современных Войн8.
1. Дефо Д. Чистокровный англичанин. С. 39> «No Parliament his Army cou'd
disband; / He rais'd no Money, for he paid in Land» (Defoe D. The True-Born
Englishman: A Satyr. P. 60 (стихи 203-204)).
2. «England now is in sundry Circumstances, different from England formerly,
with respect to the Manner of Fighting, the Circumstances of our Neighbours,
and of our Selves; and there are some Reasons why a Militia are not, and
perhaps I might make it out cannot be made fit for the Uses of the present
Wars» (Defoe D. An Argument Shewing that a Standing Army, with Consent
of Parliament, Is Not Inconsistent with a Free Government. P. 38).
608
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Он отрицал необходимость возвращаться к народному
ополчению или к морали того периода, когда Англия еще не была
торговой державой, а именно такую мораль, по мнению Флет-
чера и Толанда, должно прививать ополчение. Пока мы не
видим никаких признаков того, чтобы Дефо, обращаясь к
современной проблематике, предлагал некое новое понимание
морали — он лишь настаивал на большей степени свободы.
Учитывая это обстоятельство, освобождение народа было способно
повлечь за собой установление нового порядка, менее
устойчивого с моральной точки зрения, чем предшествующая ему
«готическая» система. Дефо мог поносить последнюю за
присущие феодализму кровопролитие и хаос, но ее уместно было
защищать с позиций аристотелевской этики как
самодостаточную и автономную. Поскольку он не смог предложить новую
альтернативную этику, переход к торговой политии, должен
был бы сопровождаться поисками новой формы макиавелли-
евской virtù. Впрочем, все обозначенные Макиавелли
критические категории оказывались к услугам тех, кто стремился
обосновать следующий тезис: такая коммерческая virtù, еще
не успев утвердиться, обречена на безнадежную коррупцию.
Здесь уместно вспомнить о Локке. В «Двух трактатах о
правлении», изданных (если не написанных) приблизительно за
девять лет до начала вышеуказанной полемики, он утверждал:
общества, сложившиеся лишь в результате проживания на
свободной земле и ее возделывания, редко превращались в
нечто большее, чем патриархальные семейные группы, в
которых для обеспечения естественного права почти или совсем
не требовалось никакого институционального правления1.
Ситуация решительно изменилась с изобретением денег.
«Прихоть и соглашение» наделили воображаемой ценностью золото
и серебро. Поскольку они отличались большей
долговечностью, нежели действительно ценные для человека товары, их
можно было хранить; ими измеряли меновую ценность
товаров и земли, и ими же пользовались как средствами
приобрести больше, чем требовалось человеку для удовлетворения его
естественных желаний2 (в число которых, мы могли бы не без
1. Locke J. Second Treatise // Locke J. Two Treatises on Government / Ed. by
P. Laslett. Cambridge, i960. P. 334-338 (параграфы 36-38); на русском
языке см.: Локк Д. Сочинения: В з т. Т. з / Пер. Ю.В. Семенова (сверка
Е.С. Лагутина). М., 1988. С. 281-284.
2. Ibid. Р. 342~344 (параграфы 46-50); Там же. С. 288-290. О «прихоти и
соглашении» («fancy and agreement») см.: Ibid. P. 342 (параграф 46); Там же.
С. 288. См. также параграф 37: Ibid. Р. 335~336; Там же. С. 282-283.
вод
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
основания добавить, входила власть над другими людьми).
Таким образом, деньги, эта отчасти воображаемая, а отчасти
незыблемая сущность, служили предпосылкой развития более
крупных сообществ, нежели чисто патриархальные, что
требовало отношений обмена между естественными главами
семей и племен, правлений, способных решать более сложные
проблемы, чем те, какие могли возникнуть у Авраама с Лотом,
и все более утонченных концепций прав собственности,
дававшей основания для того, чтобы люди вообще жили в
обществе. Из этих утверждений, которые мы находим в работах
Локка, были сделаны некоторые очень далеко идущие выводы,
и они вызвали яростные возражения1. Если мы будем считать,
что, с его точки зрения, постпатриархальные государства
существуют лишь вследствие развития денежного обмена,
возникает соблазн приписать ему следующее мнение: в
основанном на денежной системе обществе управление государством
сводится к регулированию отношений обмена, а человек
принимает участие в процессе управления лишь для того, чтобы
убедиться, что его имущество сохраняет свою меновую
ценность2. Можно также прийти к выводу, что Локк отказывал
кочевым и патриархальным обществам прошлого в той
совместно практикуемой гражданской добродетели, в основе которой,
по мысли Аристотеля, Макиавелли, Харрингтона и Флетчера,
лежала концепция имущества, теперь понимаемая скорее как
аграрная. Можно предположить, что с точки зрения Локка
человек в условиях политического правления жил в обществе,
построенном на обмене, где добродетель была частным делом
и проявлялась в отношениях, гарантированных правлением,
но не предполагала участия в нем как в акте гражданской
жизни, которая создает саму себя.
По причинам, изложенным выше, мы не станем
рассматривать исходные намерения Локка, и у нас почти не будет повода
изучить вопрос, как читатели Августинской эпохи могли
воспринимать его произведения. Но у нас есть основания
полагать, что гражданский идеал участия выражался в терминах
аграрного типа собственности, которая признавалась фактом
прошлого; что этот идеал основывался на социальной теории
личности, где добродетель считалась гражданской и строилась
1. Macpherson СВ. The Political Theory of Possessive Individualism (chap. V);
Dunn J. Political Thought of John Locke (chap. 15-20).
2. В этом отношении сходятся во мнениях представители школ Маркса,
Штрауса и Фёгелина.
6ю
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
на прочной материальной основе, которую нельзя было
променять на нечто другое, не утратив самой добродетели; что
современность (modernity) при таком подходе осознавалась как
коррупция добродетели; и что этот идеал не предлагал никакой
альтернативной теории гражданской или нравственной
личности и соответствующей этики добродетели, которую было бы
легко применить к новому обществу. Теперь нам предстоит
проанализировать дискуссию, начало которой положил спор
Флетчера и Дефо. При этом важно помнить, что значение слов
«либеральный» и «буржуазный» — поскольку они пользовались
особым успехом — смещаются в сторону частной жизни, к
признанию того, что в обществе, основанном на торговле,
отношение отдельного человека к своей res publico, не может быть
просто гражданским или добродетельным.
II.
Как мы уже видели, ни Флетчер, ни Дефо не стремились
просто противопоставить земле торговлю (и это должно
предостеречь нас от того, чтобы искать в политических дискуссиях Ав-
густинской эпохи обыкновенного конфликта между дворянином
и коммерсантом). Хотя и с противоположных сторон, оба они
указывали на трудности создания адекватной истории
перехода от одного принципа к другому. Обращение к проблеме
истории требует макиавеллиевского подхода, и наиболее видным
представителем неомакиавеллизма начала XVIII столетия был
Чарльз Давенант, занимавшийся политической экономией1.
Написанные им труды создавались в период с 1695 по
приблизительно 17ю год. На протяжении этого времени он, как можно
наблюдать, сначала соглашается с необходимостью продолжать
Девятилетнюю войну (тогда уже близившуюся к концу), затем
яростно вмешивается в «памфлетную войну», в которой
временами играет весьма неоднозначную роль, и в попытку партии
«страны» сократить масштабы военных действий, патронажа
и финансирования государственного долга2, а потом снова
соглашается с неизбежностью участия Англии в Войне за испанское
наследство. Подобно большинству авторов рубежа веков и следуя
1. По-видимому, единственная работа о его биографии: Weddell D. Charles
Davenant (1656-1714) — а Biographical Sketch // Economic History Review. Ser. 2.
Vol. II (1958-1959). P. 279-288. См. также: Dictionary of National Biography.
2. См.: Swift J. A Discourse of the Contests and Dissensions between the Nobles
and the Commons in Athens and Rome (предисловие Φ. Г. Эллиса, прим. 6).
6п
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
за их предшественниками — ренессансными гуманистами, он
менял мнения и союзников по причинам, проникнуть в
которые, возможно, нам так не удастся. Однако за идеями Давенанта
можно различить интеллектуальный фундамент, язык, на
котором выражались предположения и проблемы, который был
более последовательным, чем его действия, — он в
значительной мере разделял их со многими другими авторами из обоих
политических лагерей. Этот язык сложился в силу
двойственности отношения к идущему от Макиавелли вопросу о войне
и актуальной для Августинского периода проблеме коммерции.
В большей мере, нежели Флетчера, Толанда или (на тот момент)
Тренчарда, Давенанта занимала способность войны порождать
развращающие денежные отношения или коррупцию. Хотя для
нас его идеи важны главным образом потому, что он, не
ограничиваясь проблемой торговли, рассматривал проблему
кредита в контексте войны, которую вела Англия.
В 1695 году, как позже и в 1701-м, отправной точкой для
Давенанта становится угроза универсальной монархии, к
которой якобы стремится французский король1. Он выступает
против этой угрозы в духе, весьма напоминающем
высказывания флорентийских республиканцев, направленные
против миланских монархистов, или этрусский миф,
противопоставленный мифу о Риме. Универсальная монархия посягает
на гражданскую и религиозную свободу, ибо вся власть в ней
сосредоточена в одних руках. Кроме того, он возражает2
испанскому историку Педро Мехии, утверждавшему, что империя
Карла V способствовала развитию торговли. Наделенные
универсальной властью правители, говорит Давенант, берут всю
добродетель под свой контроль, а затем уничтожают ее. Они
стягивают всю торговлю к центрам своего правления и тоже
разрушают ее — войной, тиранией и депопуляцией3. Лучше,
чтобы существовало несколько центров религии, свободы, власти
и торговли; всегда ограниченный капитал земли, идет ли речь
о добродетели или о торговле, не должен быть сосредоточен
в одном месте, но распределен таким образом, чтобы его
обладатели могли поддерживать друг друга4. Республики — торговые
1. The Political and Commercial Works of... Charles D'Avenant... / Ed. by Sir
Ch. Whitworth. London, 1771. Vol. 1: An Essay upon Ways and Means (1695).
P. 4-10; Vol. IV: An Essay upon Universal Monarchy (1701). P. 1-42.
2. Ibid. Vol. IV. P. 29-37.
3. Ibid. P. 33-34, 40-41.
4. Ibid. Vol. I. P. 348-349; Vol. IV. P. 36-39.
612
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
сообщества, и правильно, если будет множество торговых
республик, а не единый торговый центр мирового правительства.
Однако такие независимые республики и их соседи будут
вести между собой не только торговлю, но и войну.
Большинство республик стремится к расширению, а не просто к
сохранению своей территории1. Чем пристальнее мы всматриваемся
в размышления Давенанта об отношениях между этими двумя
понятиями, тем больше усматриваем в них сознательной
неоднозначности. В большей части своих сочинений, особенно
в тех, что относятся к межвоенному периоду ι697_ΐ7°2 годов,
он, по-видимому, стремится доказать губительность войны
для торговой республики. Однако «война» понимается здесь
именно как «военные действия, осуществляемые сухопутной
армией, на содержание которой нужны средства общества».
И даже в этом смысле она признается результатом
происшедших в мире необратимых процессов:
Когда эта война прекращается, дело не в том, что угасла
взаимная ненависть противников, и не в том, что люди не хотят
решать разногласия сражением, но первой прекращает военные
действия та сторона, где раньше заканчиваются деньги. <...>
Ведь война теперь иная, чем во времена наших предков;
в коротких походах и ожесточенных боях исход зависел от
мужества, но сейчас все искусство войны в некотором
смысле свелось к деньгам, и сегодня более других уверен в успехе
и победе не тот государь, чьи войска отличаются наибольшей
храбростью, а тот, который лучше умеет найти средства,
чтобы накормить свою армию, одеть ее и заплатить ей2.
Макиавелли пространно высказывался против такой точки
зрения, но Давенант не видит смысла в его контраргументах.
Причина не столько в его интересе к теории сражений как
таковой, сколько в его убеждении — которого не разделял
Макиавелли, издали недружелюбно наблюдавший за Венецией, — что
ι. Ibid. Vol. IV. P. 4-5·
2. «Whenever this war ceases, it will not be for want of mutual hatred in the
opposite parties, nor for want of men to fight the quarrel, but that side must
first give out where money is first failing. <...> For war is quite changed from
what it was in the time of our forefathers; when in a hasty expedition, and
a pitched field, the matter was decided by courage; but now the whole art
of war is in a manner reduced to money; and now-a-days, that prince, who
can best find money to feed, cloath, and pay his army, not he that has the
most valiant troops, is surest of success and conquest» (Ibid. Vol. I. P. 15-16).
613
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
воюют между собой торговые общества, располагающие
деньгами, нужными для поддержания армии в боевой готовности.
Впрочем, говоря о содержании сухопутных войск, Давенант
всегда подчеркивает его пагубные последствия. Он неизменно
объясняет их тем, что содержание ложится на общество
бременем дополнительного государственного долга. Голландцы,
отмечает он, употребляя выражения, заставляющие вспомнить
Харрингтона, справляются с такой ситуацией лучше англичан:
будучи обществом, всецело построенным на торговле, зажатые
между морем и своими врагами, они могут постоянно
оставаться в долгу друг у друга и вести умеренную жизнь, в силу чего
этот долг остается в пределах разумного1. Однако у англичан,
занимающихся отчасти торговлей и отчасти землей, деньги на
содержание армии ссужают в основном располагающие землей
джентри2. Коррупция достигает максимума, когда долг
концентрируется в руках людей, обладающих возможностью
направлять своих представителей в парламент3. В то же время есть
торговцы, которым надо брать в долг, дабы поддерживать и
расширять свои частные предприятия. Они обнаруживают, что
из-за публичного долга деньги повышаются в цене и поэтому
им приходится сталкиваться со спекуляциями и колебаниями
общественного доверия4. Но как бы плоха сама по себе ни была
ситуация, когда одна группа людей оказывается в долгу у
другой, в Англии она развивается по наихудшему сценарию.
Учреждение общественных фондов привело к расширению
класса профессиональных кредиторов. Они обладают достаточной
властью и заинтересованы в том, чтобы поддерживать условия,
приводящие к росту публичной задолженности, содержанию
постоянной армии даже в мирное время и превращению Лондона
из торгового центра для всего королевства в самостоятельное
предприятие, у которого все королевство в долгу5. Они
стремятся поставить остальных земельных джентри в такое
зависимое положение, что парламент может вскоре оказаться
бессмысленным и бессильным. В результате возникают раздоры,
но те, кто контролирует кредит, умеют и их обратить себе на
пользу. Чем менее уверенно чувствует себя общество — включая
1. The Political and Commercial Works of... Charles D'Avenant... / Ed. by Sir
Ch. Whitworth. Vol. IV. P. 67, 142, 253-255 (неверная нумерация), 390-391.
2. Ibid. Vol. I. P. 61, 77, 269, 276; Vol. II. P. 296-297.
3. Ibid. Vol. I. P. 79.
4. Ibid. P. 155-156, 268-269; Vol. III. P. 329.
5. Ibid. Vol. IV. P. 217-218.
614
СПОР О 3EMJTE, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
общую готовность торговать, — тем больше правительство
зависит от их желания продолжать ссужать ему деньги и тем
больше членов парламента подвержены коррупции, поэтому они по
мере собственных возможностей всячески поощряют раздоры.
В «Правдивом портрете современного вига» (The True Picture of
a Modern Whig) Давенант нарисовал устрашающую карикатуру
на людей такого рода, намеренно показав, что они обладают
практически неограниченной властью разрушать конституцию.
В конце диалога сообщники обсуждают планы прекратить
выделять средства из казны и закрыть парламент1, и это должно
напомнить, что теоретически у них нет никаких причин не
питать такого умысла, так как его осуществление обеспечит
им возможность распоряжаться всем богатством и
неограниченным общественным влиянием. Все стало зависеть от
публичного кредита, но публичные долги превратились в своего
рода движимое имущество. Те, кто владеет этим имуществом
и контролирует его, могут владеть всем и взять все под свой
контроль — включая, как начинает казаться, общественное
сознание и умы людей. Ранее он писал:
Из всех существ, живущих лишь в воображении людей, нет
более причудливого и приятного, чем Кредит; его
невозможно добиться силой, он зависит от наших страстей — чаяний
и страхов, не раз он подворачивается, когда его не ищут, и часто
иссякает без причины, и, однажды потеряв, едва ли можно
полностью его вернуть.
Он весьма похож на ту славу или репутацию, которую
человек может стяжать благодаря мудрости в управлении
государственными делами или мужеству и сноровке на поле боя, — и во
многих отношениях сближается с ними. Искусный политик или
умелый полководец может, по несчастной случайности,
оплошности или из-за неудачи, подвергнуться позору и утратить
теперешние популярность и авторитет, но со временем они вернутся
к нему, если он и в самом деле человек выдающихся
способностей, наделенный капиталом достоинства. Так и Кредит, хотя
он может на некоторое время ослабнуть, а его возобновление
потребует усилий, иногда немалых, в какой-то мере может
вернуться, если для него есть хороший и надежный фундамент2.
1. Ibid. Р. 127-180, 183-266. Диалог состоит из двух частей.
2. «of all beings that have existence only in the minds of men, nothing is more
fantastical and nice than Credit; it is never to be forced; it hangs upon opinion,
it depends upon our passions of hope and fear; it comes many times unsought
615
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Давенант вступает в область социологии знания. Он
объясняет эпистемологию общества, которое живет за счет
денежных инвестиций. Кредит, или репутация, — новая форма,
которую естественным образом принимает древнее
представление об опытности человека в новом обществе, где деньги
и война ускорили все процессы. Люди должны постоянно
переводить свою оценку общего блага в действия, связанные
с инвестициями и спекуляцией, а поэтому политическая
позиция теперь зависит скорее от восприятия будущего, а не от
памяти о прошлом. В данном случае Давенант пишет вскоре
после мирного 1697 года и изображает благотворное и
разумное действие кредита. Это условия, в которых индивиды
способны вполне реалистично оценить друг друга и общее
положение дел, и тогда
люди почувствуют себя спокойно и безмятежно; взаимная
выгода вызовет у них желание помогать друг другу. Они обнаружат,
что ни одна торговая нация никогда не могла прокормиться
или вести дела, используя только наличный капитал, что
доверие друг к другу и умение положиться на другого
необходимы для установления и поддержания связей между людьми,
подобно послушанию, любви, дружбе или беседе. А когда каждый
человек на опыте узнает, как он слаб, когда зависит лишь сам
от себя, он станет охотно помогать другим и просить помощи
у соседей, что, конечно, постепенно снова приведет к
поддержанию кредита на плаву1.
for, and often goes away without reason, and when once lost, is hardly to
be quite recovered. It very much resembles, and, in many instances, is near
akin to that fame and reputation which men obtain by wisdom in governing
state affairs, or by valour and conduct in the field. An able statesman, and
a great captain, may, by some ill accident, slip, or misfortune, be in disgrace,
and lose the present vogue and opinion; yet this, in time, will be regained,
where there is shining worth, and a real stock of merit. In the same manner,
Credit, though it may be for a while obscured, and labour under some
difficulties, yet it may, in some measure, recover^ where there is a safe and
good foundation at the bottom» (The Political and Commercial Works of...
Charles DAvenant... / Ed. by Sir Ch. Whitworth. Vol. I. P. 151 (Discourses
on the Public Revenues [«Рассуждение об общественных доходах»], 1698).
ι. «men's minds will become quiet and appeased; mutual convenience will lead
them into a desire of helping one another. They will find, that no trading
nation ever did subsist, and carry on its business by real stock; that trust and
confidence in each other, are as necessary to link and hold a people together, as
obedience, love, friendship, or the intercourse of speech. And when experience
has taught each man how weak he is, depending only upon himself, he will be
willing to help others, and call upon the assistance of his neighbours, which
of course, by degrees, must set credit again afloat» (Ibid. P. 152).
616
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Здесь обозначены основы гражданской морали,
оправдывающей инвестиции и торговлю, и намечается отождествление
коммерческой этики с христианской. Кредит превращается
в уверенность, во взаимное доверие и возможность
положиться на другого именно тогда, когда люди понимают, что их
благополучие зависит от взаимной поддержки. Они осознают:
в одиночку им не выстоять, они части одного целого и — если
использовать выражение, которое было призвано развеять
царившую в XX веке финансовую панику, — им нечего бояться,
кроме страха. Можно сказать, что из того естественного
состояния, о котором говорит Гоббс, они переходят в состояние,
описанное Локком. Однако именно независимый человек
добродетели, обладающий самоуважением, обеспеченным
владением недвижимостью, стремится «зависеть лишь сам от себя»,
черпать силу из своей самостоятельности и быть гражданином.
В течение столетия после Давенанта Монтескье и другие
социальные теоретики придут к выводу: спартанская, римская
или «готическая» добродетель, основанная на том, что
совершенно обособленные друг от друга люди владели землей, была
бесчеловечно суровой. Лишь с распространением коммерции
и ремесел сформировалось общество, способное к доверию,
дружбе и христианской любви. Противопоставление
гражданской и христианской добродетели, заданное Макиавелли,
повторилось в форме предположения об историческом переходе
от эпохи морали, базировавшейся на недвижимом имуществе,
к эпохе нравственности, основанной на имуществе движимом.
Однако эпистемологические основания новой морали,
изображаемой Давенантом, очень хрупки, и полностью осуществить
переход ему так и не удается. Кредит, понимаемый как доверие
друг другу, «требует хорошей репутации» и «зависит от наших
страстей — надежд и страхов»; и это происходит потому, что
объекты такой оценки кредитоспособности не вполне реальны.
Здесь лишь отчасти подразумеваются мнения о реальных
людях и вещах, которые мы высказываем вслух и которые
определяют наши действия; в рамках этой теории общества золото
и бумага выступают как символический посредник, служащий
для выражения чувств и претворения их в действия, так что они
приобретают самостоятельную, но по сути фиктивную ценность.
Сам язык, на котором мы общаемся, материализовался и
превратился в объект желания, поэтому передаваемые его средствами
знания и смыслы подверглись искажению и отчасти утратили
свою рациональность. Институт долга и публичного биржевого
6i7
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
капитала обратил языковые сигналы в рыночные товары,
поэтому те, кто способен повлиять на их стоимость, — как Том
Дабл, политик и трейдер из «Правдивого портрета
современного вига», — могут свободно контролировать и подделывать
«речевую коммуникацию».
Давенант мог помыслить кредит, прочно основанный на
сопереживании и репутации, и он предлагал свои средства борьбы
с обстановкой, при которой процветал Дабл. Англия должна как
можно скорее отказаться от ведения войны с использованием
сухопутной армии, финансируемой за счет публичного долга.
Сами долги следует уплатить, а закладные на доходы будущих
поколений — выкупить. Дельцы и спекулянты обязаны
прекратить нарушать равновесие «Древней конституции»
патронажем, разжиганием розни между фракциями в парламенте
и другими формами коррупции1. Тогда вера людей друг в
друга и республику снова послужит «основанием» для «капитала
достоинства», укрепленного пониманием подлинных
принципов торговли. Давенант в своих размышлениях опирается на
идеи республиканизма и Макиавелли. В этом смысле
интересно отметить, что Англия как торговая нация явно похожа
на Венецию, а не на Рим; ей надлежит избегать войны на terra
fvrma и услуг наемников. Если мы выстроим связь между его
нападками на постоянную армию и панегириками Тренчарда,
Толанда и Флетчера в адрес народного ополчения, то увидим:
задача ополчения — не война с внешними врагами и походы,
оно существует для сохранения гражданской, а не имперской
добродетели. Необходимо оставить в силе принцип, согласно
которому оружие (и все, что с ним связано) находится в руках
подданных. Тем не менее существовал один тип войны,
который можно было назвать подходящим для Англии как
торговой республики, менее олигархической, чем Венеция, и потому
обязанной — как отмечал Макиавелли — стремиться к
расширению и развивать сопутствующую ему virtù. «Море диктует
законы развитию Венеции, но развитие Океании диктует законы
морю». Харрингтон не уточнил, какое именно развитие он имел
в виду: возможно, расширение сельскохозяйственных угодий за
ι. Главным трудом Давенанта на эту тему была работа «Рассуждение
о правах на жалованье и на его возобновление» («Discourse upon Grants
and Resumptions» (1699): The Political and Commercial Works of... Charles
D'Avenant... Vol. III. P. 1-298). О значимости этого текста см.: Swift J.
A Discourse of the Contests and Dissensions between the Nobles and the
Commons in Athens and Rome. P. 16-27 (предисловие Φ. Г. Эллиса).
6ι8
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
морем — как Давенант и другие представители неохаррингто-
новского подхода писали теперь о римской колонизации и ее
применимости к Англии, Ирландии и обеим Америкам1.
Однако по меньшей мере с 1621 года представители партии «страны»
в палате общин беспрерывно настаивали на ведении войны
с Испанией или Францией на море в противовес войне на суше,
за которую страна расплачивается очень высокими налогами
на землю. У Давенанта можно найти в зародыше многие
аргументы, которые будут развивать другие памфлетисты из числа
партии «страны» и тори: войну следует вести на море, ибо это
нанесет ущерб французской и испанской торговле, а значит,
пойдет на пользу английской; моряки не представляют такой
угрозы для конституции, как офицеры и солдаты постоянной
армии2; в итоге подобная война не приводит к
государственному долгу и его порочным последствиям. Сложность
заключалась в том, что флот был государственной службой, а торговля
оказывалась в руках акционерных обществ, тесно связанных
с центральным банком, двором и кредитной системой. Однако
высказывания в пользу вмешательства в торговлю и guerre de
course? на море были характерны для партии «страны» и несли
на себе отпечаток идей Макиавелли.
Рассматривал ли Давенант силы торговли и флота как
формы выражения virtu, устремленной к расширению территории
или нет, но его отношение к торговле самой по себе столь
неоднозначно с точки зрения морали, что и взгляды
Макиавелли на virtu, и по весьма схожим причинам. Торговля
необходима, дабы наделить землю ценностью; она необходима для
сохранения республики и добродетели отдельного человека:
...Потому что все страны располагают определенным
капиталом, который идет на сельское хозяйство, труд, ремесла и
фабрики. Он составляет живительную влагу республики, и если
она иссякнет, это приведет к истощению, болезни, а затем и
гибели политического организма (который, подобно
человеческому, подвержен недугам и смертен); и как лишь пища
способна поддерживать жизнь в человеческом теле, восстанавливая
1. The Political and Commercial Works of... Charles D'Avenant... Vol. II. Ρ 1-76
(«On the Plantation Trade»); Mqyle W. Essay on the Roman Government //
Robbins C. Two English Republican Tracts (см. введение на с. 26-27), а
также: Idem. The Excellent Use of Colonies // William and Mary Quarterly. 3rd
ser. 1966. Vol. 23. № 4. R 620-626.
2. The Political and Commercial Works of... Charles D'Avenant... Vol. I. P. 408.
3. Корсарская война (франц.).—Прим. ред.
6l9
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
ущерб, ежечасно наносимый ему временем, так и нация не
может просуществовать долго, не получая время от времени
помощи и пополнения запасов из-за рубежа, которые как нельзя
лучше обеспечиваются хорошо организованными и
разветвленными Торговыми Отношениями1.
Впрочем, чуть ниже он писал:
Сама по себе торговля, несомненно, губительна; она приносит
то богатство, которое ведет к роскоши; она порождает
мошенничество и алчность, уничтожает добродетель и простоту нравов,
развращает народ и прокладывает дорогу тому пороку, который
всегда заканчивается рабством, у чужестранцев или своих. Ли-
кург, создав самый совершенный образец правления, изгнал ее
из своей республики. Но, учитывая обстановку и условия
других республик, это зло в нашем случае становится неизбежным.
Мы будем постоянно подвергаться атакам и нападениям, имея
такой флот, в котором нет необходимости без такой обширной
торговли. Однако если нельзя полностью подчинить торговлю
безопасности нации, здесь следует поддерживать ее не более,
чем это было в Спарте: и благодаря ей мы никогда не сможем
почувствовать себя в безопасности, если только не устроим ее
так, чтобы увеличить число кораблей и количество моряков2.
1. «for all countries have a certain stock with which their tillage, labour, arts,
and manufactures are carried on. And it is the radical moisture of the
commonwealth, and if it be quite drawn away the body politic becomes
consumptive, hectical, and dies at last (being subject to diseases and death
itself, like human frames); and as human bodies are not to be kept alive but by
receiving in of nourishment, to repair the hourly decays which time produces,
so nations cannot subsist long unless they receive from time to time reliefs
and refreshments from abroad, which are no way so well to be administered
as by the help of a well governed and extended Traffic» (The Political and
Commercial Works of... Charles D'Avenant... Vol. II. P. 75 («On the Plantation
Trade», 1698)).
2. «Trade, without doubt, is in its nature a pernicious thing; it brings in that
wealth which introduces luxury; it gives a rise to fraud and avarice, and
extinguishes virtue and simplicity of manners; it depraves a people, and
makes way for that corruption which never fails to end in slavery, foreign or
domestic. Lycurgus, in the most perfect model of government that was ever
framed, did banish it from his commonwealth. But, the posture and condition
of other countries considered, it is become with us a necessary evil. We shall
be continually exposed to insults and invasions, without such a naval force
as is not to be had naturally but where there is an extended traffic. However,
if trade cannot be made subservient to the nation's safety, it ought to be no
more encouraged here than it was in Sparta: And it can never tend to make
us safe, unless it be so managed as to make us encrease in shipping and the
breed of seamen» (Ibid. P. 275; «Essay upon the Probable Methods of Making
a People Gainers in the Balance of Trade», 1699).
62О
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Примерно в то же время в статье под названием «О выгоде
для Англии торговли с другими странами» Давенант
рассматривал историю этого явления.
Мы едва ли сможем вести такую жизнь, как наши предки, хоть
и склонны к этому. Мощь наших соседей на суше и на море так
устрашающе растет, что, возможно, нам следует некоторое
время оставаться настороже, располагая таким обширным флотом,
для содержания которого недостаточно лишь местного урожая
и дохода нашей страны.
Поэтому нам надлежит прибегнуть к тем искусственным
средствам, которые могут доставить промышленность и
хорошая организованная торговля. Если мы сможем устроить так,
чтобы никогда не воевать с другими странами, мы можем
довольствоваться лишь Иностранной Торговлей, которая не
только приносит деньги, необходимые для выплаты людям
жалованья, но и воспитывает тех самых людей, которые должны
нас защищать.
Человечество кормилось своим трудом и произведениями
земли, пока коррупция не породила обман, алчность и силу;
но когда сильные начали покорять более слабых и когда для
поддержания силы понадобилось политическое правление,
они строили города, проводили военные учения и утверждали
свое господство, и когда таким образом множество людей
оказалось замкнуто в более узком пространстве, они не могли
удовлетворить всех своих потребностей тем, что имели в
своем распоряжении, под рукой, поэтому они вынуждены были
искать средств вдали от себя, и так родилось то, что мы
именуем Торговлей, которая сначала представляла собой лишь
обращение товаров. <...> [Далее следует фрагмент о
происхождении денег.]
Правда, при создании великих империй едва ли
принимались в расчет интересы торговли: их создала сила, и сила же
поддерживала их существование, а все их богатство состояло из
трофеев, добытых в завоеванных странах; мысли людей были
заняты главным образом Войной и ее искусством, ибо они
знали, что власть всегда притягивает к себе богатство, а железо
добывает золото и серебро из других краев.
Торговля начала практиковаться, развиваться и обрела
постоянные формы благодаря маленьким государствам, которых
окружали соседи намного сильнее их самих, поэтому первыми
торговцами, о которых мы читаем, были финикийцы, афиняне,
621
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
сицилийцы и родосцы, и приносимая ею польза долгое
время поддерживала эти республики в борьбе с очень сильными
врагами1.
Далее Давенант разъясняет, как великие империи поглощали
торговые республики. В итоге все мировые богатства были
собраны в одном месте — как и ограниченный человеческий
запас virtù у Макиавелли — но теперь они рассеяны по свету,
хотя им вновь угрожает новая универсальная монархия. Таким
образом, становится ясно, что торговля, как и virtù, является
преобразующей силой, которая нарушает естественный
порядок— не вторую природу, от которой мы получаем в
наследство наш сформированный традицией характер, а естественную
экономику первобытной эпохи, в которой труд каждого
человека удовлетворяет потребности другого индивида. Торговля
и насилие находятся между собой в такой же связи, как
курица и яйцо; точнее, если обмен и торговля пришли вослед
грабежу и обману, и то и другое породила роскошь — стремление
иметь больше, чем необходимо. Отношения между торговлей
I. «We shall hardly be permitted to live in the way our ancestors did, though
inclined to it. The power of our neighbours, both by land and by sea, is
grown so formidable, that perhaps we must be for some time upon our guard,
with fleets too big to be maintained merely by the natural produce and
income of our country. We must therefore have recourse to those artificial
helps which industry and a well governed trade may minister. If we could so
contrive it, as never to have a foreign war, we might content ourselves with
less Foreign Traffic, which not only brings in the money that must pay the
men, but breeds up the very men that must defend us. Mankind subsisted by
their labour, and from what the earth produced, till their corruptions had
brought in fraud, avarice, and force; but when the strong began to invade
the weaker, and when strength was to be maintained by policy, they built
cities, disciplined men, and erected dominions; and when great numbers
were thus confined to a narrower space, their necessities could not be all
answered by what was near them, and at hand; so that they were compelled
to seek for remoter helps, and this gave rise to what we call Trade, which, at
first was only permutation of commodities. <...> It is true, in forming very
great empires, the concerns of trade seem not to, have been much regarded:
As force began them, so force maintained them on; and what wealth they
had, came from the spoil of conquered nations: War, and its discipline, was
the chief object of their thoughts, as knowing that riches always follow power,
and that iron brings to it the gold and silver of other places. Trade was first
entertained, cultivated, and put into regular methods, by little states that
were surrounded by neighbours, in strength much superior to them; so the
original traders we read of, were the Phoenicians, Athenians, Sicilians and
Rhodians; and the helps it yielded, did support those commonwealths for
a long time, against very potent enemies» (The Political and Commercial
Works of... Charles D'Avenant... Vol. I. P. 348-349; «Discourses on the Public
Revenues...», II, I, 1698).
622
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
и коррупцией все более усложняются: торговля влечет за
собой войну, война — долг (в конечном счете губительный для
торговли); роскошь порождает, с одной стороны, грабеж или
войну, с другой — обмен или торговлю, которая приносит
деньги — используемые как наделенный воображаемой ценностью
посредник обмена. В свою очередь, деньги, из золотой
монеты превращаясь в оформленный на бумаге кредит, приводят
к общественному долгу, а значит, и коррупции. Как следствие,
торговля оказывается неразрывно связанной с конфликтом;
это форма властных отношений между конечными и
занимающими конкретное пространство республиками, одновременно
причина и следствие их особого характера. Порождая
маленькие республики, коммерция порождает свободу и процветание,
но одновременно служит и причиной их упадка.
Однако если у Макиавелли virtù определяла как силу
внутри и вне республики, так и добродетель внутри республики,
то торговля — форма власти вне республики — вносит в ее
внутреннее существование материальный, а не моральный вклад.
На языке примитивной экономики можно удовлетворительно
выразить естественные добродетели. Определенная
добродетель может заключаться в том, чтобы честно отдавать
избыток чего-то необходимого для поддержания жизни в обмен на
излишек какого-то другого товара. Однако торговля
определяется в категориях роскоши — в желании иметь больше, чем
необходимо, иметь то, в чем нет нужды. Она дает силу, без
которой в конкурентном и опасном мире республика может
погибнуть; и она порождает коррупцию, но не приносит с
собой никакой собственной добродетели, чтобы противостоять
этой коррупции. Давенант неоднократно уверяет нас, что
существует добродетель, которую законодатели и правители могут
поощрять как средство борьбы с коррупцией, но добродетель
эта — бережливость1, отрицание роскоши, стремление
воздержаться от того, чтобы иметь больше, чем следует, стремление
в условиях искусственной экономики роскоши жить по законам
экономики естественной. Торговец должен быть бережливым,
I. См., например: Ibid. Vol. I. P. 389-392. На с. 39° обращает на себя
внимание языковое сходство с трудами Гвиччардини: «But sometimes there
are diseases so deeply fixed, that it is impossible to root them out; and in
such a case there is nothing left, but to keep the distemper under, by natural
and easy remedies»; «Но иногда случаются недуги, столь глубоко
укоренившиеся, что избавиться от них невозможно, и тогда не остается
ничего, кроме как естественными и простыми средствами
противодействовать заболеванию».
623
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
но он не будет более бережливым от того, что он торговец.
Людям коммерции следует проявлять бережливость, если они
хотят вести войну, не поддаваясь коррупции; однако уже
нельзя ожидать, что они достигнут такой степени бережливости,
что смогут вовсе обходиться без войны и торговли, поэтому
доступные им возможности избежать коррупции ограничены.
Хорошо известно, что бережливость составляла часть так
называемой протестантской этики. С ее помощью торговец
уходил от двойного упрека — в алчности и в мотовстве,
которые, по мнению Данте, происходили от недостатка веры
в благость судьбы. Отказываясь иметь больше необходимого,
он вновь вкладывал оставшийся у него излишек в оборот
общего капитала, чтобы он сам и другие могли получить новые
товары. Политическая экономия Августинской эпохи
предполагала, что коммерсант — а тем более финансист — должен
доказать свою способность проявлять гражданскую добродетель
в том же смысле, в каком мог землевладелец. Последнего,
обеспокоенного лишь улучшением надела, который ему
предстоит оставить наследникам, легко представить в роли участника
гражданской жизни, связывающей его личное благо с благом
общества. Гораздо труднее приписать эту роль тому, кто
постоянно занят обогащением в процессе обмена суммами
придуманных знаков. Гражданской добродетелью торговца могла
стать бережливость. Усматривая в обращении товаров благо
для общества, он своей бережливостью и повторными
вложениями демонстрировал стремление подчинить личные
желания общественному благу общества, доля собственности в
котором служила ему наградой. Вполне возможно, что именно
участники этих дебатов, происходивших в первой половине
XVIII века, открыли «протестантскую этику», если не
изобрели ее. Вне зависимости от того, утвердилась ли она к тому
времени в сознании людей, полемисты могли оказаться первыми,
кому она понадобилась в публичной дискуссии. Однако в
интерпретации Давенанта эта мораль была лишена какой-либо
присущей ей материальной основы. От торговца требовалась
бережливость, свойственная первобытному землепашцу (о
которой тому не надо было напоминать); его призывали подражать
естественному человеку, отказавшись от своей искусственной
личности; наконец, следовало сделать это так, чтобы
ограничить негативные последствия его собственной деятельности.
Предписанная ему добродетель не была выработана им самим
и принадлежала ему лишь условно.
624
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
III.
Анализ макиавеллиевской экономической теории, изложенной
Давенантом, подводит нас к моменту, когда мы можем
построить модель морального отношения к земле, торговле и
кредиту со стороны «придворной» партии и партии «страны», вигов
и тори эпохи Вильгельма III, Анны и Георга I. Эти авторы, как
уже понятно, выступали преемниками представителей
гражданского гуманизма: во-первых, их интересовала тема
добродетели как морального и материального основания социальной
и частной жизни, а во-вторых, они обращались к Макиавелли
и Харрингтону, дабы сформулировать категории, в которых
можно было бы говорить о ней. Наконец, они способствовали
быстрому развитию неоклассицизма в британской
политической теории. Подобно гуманистам Кватроченто, они не были
постоянны в своих политических убеждениях. Свифт, Даве-
нант, Дефо — не станем перечислять дальше — в разные
периоды своей жизни примыкали к разным лагерям. Опять же,
как в случае с их предшественниками, стремясь найти
объяснение частым сменам публичной позиции, лучше не пытаться
анализировать проблемы идейной преданности и
последовательности, выгоды и честолюбия, а признать, что их
риторика была весьма неоднозначной и изобиловала
альтернативами, конфликтами и противоречиями, которые они прекрасно
сознавали, но в ловушки которых иногда сами попадали.
Разбор громкой полемики о «земельном» и «денежном» имуществе
между журналистами и публицистами эпохи королевы Анны
показывает, что не существовало чистых догм и простых
оппозиций и что почти не было утверждений и предположений,
которые бы не использовались в различных целях, авторами,
занимавшими разные позиции.
Во-первых, хотя члены партии «страны» и тори от Флетче-
ра до Болингброка превозносили землю как основу
независимой добродетели, подобающей тому, кто носит оружие, а другие
тори во главе с Харли и Сент-Джоном могли претендовать на
звание партии землевладельцев, ни один участник
«придворной» партии и ни один виг, ни Дефо, ни Аддисон никогда не
подумал бы отрицать, что по сути своей земля
действительно была тем, чем ее считали ее апологеты. Они могли
утверждать, что земля не имела ценности — даже обеспечивая
независимости своему владельцу — без денег и торговли; были и те,
кто придерживался мнения, что общество, не располагавшее
625
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
другим богатством кроме земли — Англия во времена варваров,
современная Польша или Шотландский Хайленд, — не знало
ни свободы (вассалы подчинялись своим сеньорам), ни
культуры. С точки зрения общества того времени под такую
критику подпадал сквайр-домосед, приверженец Высокой церкви1,
несмотря на то, что среди недовольных представителей партии
«страны» могли быть и виги, и тори: Аддисон показывает, что
сэр Роджер де Каверли из «Зрителя» способен опуститься до
уровня «охотника на лис» из «Фригольдера»2, который, в свою
очередь, является прямым предком сквайра Вестерна у Фил-
динга. Впрочем, в «Томе Джонсе» тщательно выдержан баланс
между Вестерном, глупцом, занятым охотой на лис, и Олворти,
почтенным индепендентом. Облик сельского джентльмена
остается двойственным, и лишь Маколей признал в Вестерне
портрет представителя всего класса [землевладельцев]3. Ни один из
современников Филдинга не видел в этом необходимости, хотя
в жизни они, несомненно, нередко сталкивались с Вестернами.
Хотя в общественном сознании того времени
землевладельческие ценности независимости и добродетели оставались
неизменными, мы уже хорошо знаем, что аргумент, согласно
которому земля зависела от торговли — не говоря уже о
кредите,— поддерживали Флетчер и Давенант, притом что его
отстаивал и Дефо. То же самое справедливо, когда мы
противопоставляем Свифта Дефо и Аддисону. Сторонники неохар-
рингтоновского подхода признавали, что торговля и золото,
утвердившись в мире, необратимо изменили социальное
значение земли, — они расходились между собой лишь в оценке
того, в какой мере эта перемена повлекла за собой коррупцию
и насколько ей можно воспрепятствовать. Однако коррупция
приняла форму кредита, рядом с которым вырисовывалась
дьявольская троица — игра на бирже, раскол парламента на
фракции и постоянная армия. Когда Свифт, а позже Болингброк
выставляли важную антитезу «земельного» и «денежного»
интереса или ренты, они неизменно включали в число обвинений,
предъявляемых вигам за то, как они ведут войны и
управляют финансами, упрек, согласно которому то и другое привело
к пренебрежению торговлей и ее упадку: при этом они почти
1. Течение в протестантизме, выступающее за сохранение обрядовой
стороны церковного богослужения. — Прим. ред.
2. Bloom Е.А.у Bloom L.D. Joseph Addison's Sociable Animal: in the Market Place,
on the Hustings, in the Pulpit. Providence, 1971 (см. в разных местах текста).
3· См. третью главу «Истории Англии» Т. Б. Маколея.
б2б
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
неизменно рассматривали «денежный» интерес так, что
включали в него процент на капитал финансистов, но исключали
процент на капитал торговцев1. Торговля, как и земля,
служила неизменной ценностью, пока не приходилось признать или
отрицать, что коммерция требовала денег, а деньги — кредита2.
Виги по понятным стратегическим соображениям пытались
заклеймить тори как врагов торговли, представляя
добродетельных и великодушных коммерсантов — подобных сэру Эндрю
Фрипорту из «Зрителя» — как иллюстрацию своей точки
зрения; они стремились показать, что торговля была необходима
и в отличие от чисто финансовых операций требовала
«доброкачественного» кредита. Однако торговля, открытая для чисто
теоретической критики, какую мы, например, находим у Даве-
нанта, не подвергалась чьим-либо полемическим нападкам. Ав-
густинские дебаты не противопоставляли землевладельческие
1. Наиболее полные размышления о «денежном имуществе» у Свифта:
Swift J. The History of the Four Last Years of the Queen / Ed. by H. Davis,
with an introduction by H. Williams. Oxford, 1964. P. 68-78. Обратим
внимание на такие выражения, как: «those whose money by the dangers and
difficulties of trade lay dead upon their hands», «те, чьи деньги ввиду
опасностей и трудностей торговли стали для них мертвым грузом» (Ibid. Р. 68);
«a monarchy whose wealth ariseth from the rents and improvements of lands,
as well as trade and manufactures», «монархия, приобретающая богатство
за счет ренты и возделывания земель, а также торговли и фабрик» (Ibid.
Ρ· 69); «a new estate and property sprung up in the hands of mortgagees»,
«в руках у кредиторов, выдающих деньги под залог имущества,
оказываются новые владения и собственность» (Ibid. Р. 70); «extremely injurious
to trade and to the true interest of the nation», «наносящий значительный
ущерб торговле и подлинным интересам нации» (Ibid. Р. 71)· См. также:
Swift J. The Examiner, 1710-1711 / Ed. by H. Davis. Oxford, 1957. P. 5-7, 62-63,
124-125, 134-135, 162-167; Idem. The Conduct of the Allies // Idem. Political
Tracts, 1711-1714 / Ed. by H. Davis, 1964. P. 9-10, 16, 18-19, 4b 53~59·
2. Эта тема как нельзя более отчетливо обозначена у Давенанта (The
Political and Commercial Works of... Charles D'Avenant... Vol. I. P. 160): «Now,
if the product of the land should sink in its value, it must naturally ensue, that
the rents of England, and price of land, will fall in the same proportion. For
the great stock that was subsisting in credit, and the great sum of money that
circulated about the kingdom, did chiefly fix so high a price upon land and all
its produce; and if peace should diminish this price (as perhaps it will), land
and its rents will hardly recover their former value, till money can be made to
circulate, and till credit is revived»; «Итак, если то, что земля производит,
неизбежно уступает по ценности ей самой, отсюда естественным
образом вытекает, что ренты в Англии и цены на землю будут снижаться
по тем же принципам. Ведь значительный капитал, поддерживаемый
кредитом, и крупные суммы, перемещавшиеся в пределах королевства,
главным образом способствовали таким высоким ценам на землю и все,
что она производит, а если в мирные времена цены снизятся (а
возможно, так и будет), стоимость земли и аренды едва ли станет прежней,
пока не начнется обращение денег и не возобновится кредит».
627
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
интересы предпринимательским, а хозяйское имение — рынку,
и нельзя сказать, что они возникли из простого осознания
неразрешимых конфликтов между ними.
Что касается кредита, то в отношении этого ключевого
понятия можно наблюдать ту же двойственную позицию,
отчасти присущую обеим сторонам. Ни один автор, к какой бы
партии он ни принадлежал, не выказывал намерения
выступать в защиту игры на бирже, спекулятивного
манипулирования рыночной стоимостью частей государственного долга. Все
были согласны во мнении, что это зло. Единственное
различие между публицистами из разных партий в эпоху королевы
Анны заключалось в следующем. Свифт, как прежде Давенант,
выступал против профессиональных кредиторов как
таковых — именно в связи с этим родом занятий он говорил о
«денежном интересе», — полагая, что за счет войны они
стремятся постоянно увеличивать объем государственного долга и его
стоимость для себя1. В ответ Дефо обвинял представителей
Высокой церкви и тайных якобитов в том, что те намеренно
снижают котировки публичного кредита, стимулируя тревожные
слухи и нервозность толпы, в своих собственных интересах,
отчасти из суеверия, отчасти ради спекуляции*. Иными
словами, тори критиковали «быков», а виги — «медведей». Главный
вопрос касался не игры на бирже. Он состоял в том, являлся
ли вексельный кредит чем-то большим, чем необходимое зло,
и здесь также было трудно найти два прямо
противоположных мнения. Дефо неоднократно утверждал, что как земля не
могла процветать без торговли, так и торговля не могла
процветать без денег, деньги — без кредита, а золото — без
векселей3. Аргументация Дефо, несомненно, отличалась большей
последовательностью, но, когда его оппоненты отвечали
пространными обличительными речами в адрес игры на бирже,
он не мог отрицать порочность биржевых сделок4. Те, в свою
1. См. работы, указанные в прим. ι на с. 627.
2. Defoe D. Review. New York, 1928 (опубликовано Обществом
факсимильных изданий (Facsimile Text Society) в 23 книгах). Vol. VII. № 26. P. 97-
99; № 45. P. 175; № 47. P. 181-184; № 48. P. 186-187; № 49. P. 189-191; № 50.
P· 195-196; № 51. P. 197-199; вся книга ιη факсимильного издания; et
passim. См. нападки Свифта на вигов-«медведей»: Swift J. The Examiner,
1710-1711. P. 125 (№ 35).
3. См.: Defoe D. Review (книги 17-22 факсимильного издания, в разных
местах).
4- Ibid. Vol. VIII. № 55· Ρ· 222 (нападки на «быков»); № 56· Р· 225-227; № 59·
Р. 237-24°; № 6о. Р. 241-244 («медведи»); № 68. Р. 273 (страница
пронумерована неверно) — 275 (книга 19 факсимильного издания).
628
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
очередь, заявляли, что налоги собирались из дохода с земли1,
а слишком высокий публичный долг разрушительно влиял
на торговлю, очевидно признавая взаимозависимость между
землей, торговлей и кредитом. В целом можно отметить, что
представители партии «страны» и тори, как правило,
критиковали государственный долг, а не напрямую Банк Англии.
Джон Толанд, в ι699-Ι7°° годах работавший над редактурой
и переизданием произведений Харрингтона, — действие само
по себе неоднозначное, если учитывать, какая пропасть
разделяла взгляды на историю самого Харрингтона и приверженцев
йеохаррингтоновского подхода, — позже заявил, что занимался
этим по поручению Роберта Харли, лидера партии «страны»2.
Впрочем, издание посвящено лорд-мэру, шерифам, членам
городского совета лондонского Сити, и в нем прямо говорится, что
Банк Англии — прекрасный образец системы правления,
описанной Харрингтоном3. Несомненно, куда более вероятно, что
Толанд хотел перестраховаться в своих политических ставках
и защититься с двух сторон4. Однако, чтобы он вообще взялся
за это предприятие, отношения между Банком Англии и
партией «страны» даже в 1700 году не сводились к прямой
вражде. Каждая деталь этого анализа показывает, что даже в годы,
когда разногласия между партиями особенно обострялись, не
существовало простого противопоставления земли и
торговли или даже земли и кредита. Следует говорить не о
политических позициях четко отграниченных друг от друга партий,
а о политиках, публицистах и их последователях,
нащупывавших свой путь в мире общих для них понятий и символов
и пытавшихся истолковать их с выгодой для себя, но
посредством общей системы ценностей. Кроме того, они, безусловно,
1. Swift J. Conduct of the Allies // Idem. Political Tracts, 1711-1714. P. 56.
2. См.: Des Maizeaux P. A Collection of Several Pieces of Mr John Toland. London,
1726. Vol. II. P. 227; но эта мысль выражена в письме к Харли,
написанном в 17 ю году.
3- The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. II-
III (см. также посвящение в целом).
4· Некоторые авторы, участвовавшие в «памфлетной войне», ставили в
тупик даже своих противников, пытавшихся понять, на чьей они
стороне; см.: Swift J. A Discourse of the Contests and Dissensions between the
Nobles and the Commons in Athens and Rome. P. 38 (предисловие Φ. Г. Эл-
лиса, прим. ι). Толанд выведен в «Правдивом портрете современного
вига» Давенанта под именем «мистера Госпелскорна» ['Gospel* —
«Евангелие», 'scorn' — «насмешка»], сообщник безнравственного Тома Дабла
['Double' — «двойной»], прототипом для которого, в свою очередь,
отчасти послужил Дефо; The Political and Commercial Works of... Charles
D'Avenant... Vol. IV. P. 240-242.
629
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
осмысляли разделяемый ими опыт новой политики и
экономики, остро осознавая, что перемены в обществе происходят
как на материальном, так и на моральном уровне. Они
отдавали отчет и в том, что их способы оценки таких изменений
привели к осознанию глубокой моральной неопределенности.
Неомакиавеллизм Августинской эпохи можно
охарактеризовать следующим образом. Размышляя в категориях
аристотелевской теории и гражданского гуманизма, англичанин начал
воспринимать себя как гражданскую личность, и ему, в
частности, требовалась материальная основа, эквивалент ойкоса (oikos)
у Аристотеля, для обретения независимости, досуга и
добродетели. Природу этого эквивалента сначала описал
Макиавелли в терминах ношения оружия, а затем Харрингтон — в
категориях земельной собственности. В реалиях общественного
устройства XVII столетия ключевым стало представление о
независимом собственнике-фригольдере, построенное на
недвижимом или земельном имуществе, которое скорее передавали
по наследству, чем продавали. Имущество находилось под
защитой древних установлений общего права и предполагало
участие в связанных между собой социальных структурах
народного ополчения и парламентских выборщиков, благодаря
которым обеспечивалась гражданская добродетель. Когда
примерно в 1675 Г°ДУ в парламенте возникла система патронажа,
профессиональная армия и класс рантье, поддерживавший
первые два элемента в собственных интересах, то и вся
модель управления оказалась под угрозой коррупции, включая
и равновесие между сословиями или властями, которые, как
теперь считалось, составляли «Древнюю конституцию».
Общество наводнили новые социальные типы, чей экономический
статус, если не все имущество — пенсии, должности, кредиты,
денежные средства, — зависел от исполнительной власти,
поэтому они были неспособны к добродетели. Однако в период
Девятилетней войны и других последовавших затем
столкновений во всем этом видели неизбежное следствие того
обстоятельства, что Англия отныне являлась великой военной
державой, которой нужны солдаты на долгосрочную службу
и долги, не требовавшие немедленного погашения.
Предполагалось, что участие в войне с другими странами так или иначе
было взаимосвязано с активной внешней торговлей.
Проблему торговли — которой Харрингтон приписывал не
более чем второстепенную роль в политике добродетели — в
одном из самых важных течений августинской мысли лишь
630
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
в последнюю очередь рассматривали как возможную причину
новой коррупции. У этой дилеммы существовал аспект, с точки
зрения которого опасность грозила самим эпистемологическим
основаниям сферы недвижимого имущества. Можно
вспомнить, что Локк, указывая на ключевое значение денег в
переходе от естественной экономики к политической, отмечал, что
изначально золото и серебро как средства обмена приобрели
ценность в силу «прихоти и соглашения». Публицисты этого
периода признавали, — и здесь в своем видении английской
истории сходились приверженцы неохаррингтоновского
подхода, стоявшие по разные стороны политических баррикад, — что
земля, прежде ценная в силу оказываемых вассалами услуг,
теперь стала цениться за ренту, которую платили ее временные
арендаторы. Из этого следовало, что недвижимость, через
которую гражданин определял себя, сама по себе определялась
сочетанием фиктивных факторов, а именно фантазией и
условностью. Как следствие, индивид был обречен жить в мире,
более неустойчивом в своих эпистемологических основаниях,
чем пещера Платона. Однако Локк, связавший хрупкость
согласия с твердым основанием полученной в наследство
земли, опроверг эфемерность драгоценных металлов. Он указал
на их долговечность; их можно было закопать в землю, и они
оставались не тронутыми коррозией. Наиболее родовитые из
его читателей могли по-прежнему считать лучшим основанием
гражданской личности землю. Она передавалась по наследству
от поколения к поколению, а вместе с ней и оружие, висевшее
на стене до того момента, как оно могло потребоваться.
Товары, обладающие в глазах людей подлинной ценностью,
переходили из рук в руки посредством обмена, а движимое
имущество как основание гражданской личности вызывало критику:
оно слишком легко уходило из рук владельца так же, как
приходило, но различие между недвижимым и движимым
имуществом еще не воспринималось так, словно последнее было
чем-то нереальным. Деньги, символический эквивалент
ценности, действительно казались не вполне действительными,
но, будучи более долговечными, чем предметы, которые они
символически замещали, они оставались ценным
посредником в жизни людей. Локк, способствовавший выпуску новых
английских денег в 1696 году и ставший одним из первых
акционеров Банка Англии, мог в i6gi году утверждать, что
деньги, которые человек ссудил государству в расчете на прибыль,
являлись его имуществом, и это не противоречило принципу,
631
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
согласно которому имущество было основой цивилизованных
отношений между людьми1.
Неизвестно, пытался ли Локк возражать представителям
неохаррингтоновской критики общества, равно как и то,
считали ли они нужным с ним спорить. Однако в
послереволюционное десятилетие движимое имущество настолько
возобладало над недвижимым, что стало казаться, будто реальности
грозила опасность со стороны фикции и фантазии. Мы уже
рассматривали фрагмент, где Давенант признает: теперь
главным фактором национального благосостояния стал кредит,
живущий «лишь в воображении людей», в сравнении с которым
нет ничего «более причудливого и приятного». Он «зависит
от наших страстей — чаяний и страхов» и «подворачивается,
когда его не ищут, и иссякает без причины»2. Кредит
отсылает к той казавшейся тогда очевидной истине, что в
экономике, зависящей от государственного бюджета, всё — в том числе
и стоимость самой земли — зависит от процента, под который
можно получить капитал. Давенант говорит, что процент или
денежный интерес, в свою очередь, зависит от того, насколько
люди доверяют друг другу. Доверие же, хотя в долгосрочной
перспективе зависит от оценки людьми объективной
моральной и материальной реальности, в краткосрочной перспективе
определяется мнениями и страстями, надеждами и страхами,
из-за чего вся экономика становится особенно уязвима для
махинаций коррумпированных спекулянтов с ценными бумагами,
к которым оказался сведен капитал. Хотя ценная бумага
производится теми же силами и служит тем же целям, что и
золото, физически она менее долговечна, а потому риск в этом
случае бесконечно больше. Существует опасность, что все люди
и все подлунные вещи теперь станут бумажными, и это даже
хуже, чем если бы они превратились в золото.
В глазах тех, кто наблюдал за новой экономикой, кредит
олицетворял и вызывал к жизни власть единичных мнений,
страстей и фантазий в человеческих делах. В то же время
представления о владении землей (пока спекуляция окончательно
не искоренила их) по-прежнему оставались представлениями
о надежном владении и человеческих отношениях в их
истинном и естественном виде. Поразительно, но
аллегорическое изображение Кредита как непостоянной женщины мы
ι. Kramnick IF. Bolingbroke and His Circle. P. 42, 61-63.
2. См. выше, прим. ι на с. 622.
632
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
находим не у тори, а у вигов, в частности у Дефо и Аддисона.
Они подверглись нападкам со стороны Свифта, который в
своем «Наблюдателе» (Examiner) высказывался против всех форм
собственности, кроме земельной, считая их «лишь
мимолетными или иллюзорными»1. Аллегорическая фигура Кредита
появляется на страницах «Обозрения» (Review) Дефо, и
выглядит она отнюдь не степенно:
У Денег есть младшая Сестра, очень полезная и услужливая
Помощница в Торговле, которая в отсутствие своей старшей
Родственницы, но с ее Согласия и по установленной между
ними Договоренности старается оказывать ей всяческое
Содействие, часто на некоторое Время замещает ее, прекрасно
отвечая всем Задачам Торговли, а также всем прочим
Намерениям и Целям, как и сами Деньги, с той лишь Оговоркой, что
Сестра ее постоянно приходит ей на помощь, проводит с ней
Время и поддерживает в ней доброе Расположение Духа, но,
даже не испытывая ни малейшего разочарования, она
становится угрюмой, заболевает, настроение у нее портится, после
чего она и вовсе надолго исчезает: на нашем Языке она
зовется Кредитом, в некоторых Странах — Честью, а в других
как-то иначе.
Она недоступна и на редкость привередлива, однако это
крайне необходимое, полезное, трудолюбивое Существо: она
так причудлива в своих Суждениях, а Манеры ее так милы, что
многие хорошие Люди теряют ее Расположение, так и не узнав
ее Имени; другие же всю жизнь безуспешно ухаживают за ней,
но она так и не вносит их в свои учетные Книги.
Тому, кто раз ослушался ее, труднее всего на Свете снова
заручиться ее Дружбой, однако сама она интересуется более
всего теми, кому до нее нет никакого дела, и она будет стоять
у их Дверей, подобно Нищему, терпя пренебрежение, дурное
обращение и насмешки, и никогда не покинет их, но
предоставим им самим решать за себя, коль скоро они так уверены,
что она никогда не понадобится им, ведь, если они все же
захотят прибегнуть к ее помощи, они могут оказаться в
зависимости от нее, и она отплатит им сполна и примирится с ними,
лишь выслушав их непрестанные Мольбы и запросив у них
Высокую Цену за несколько лет Благополучия.
ι. Swift J. The Examiner, 1710-1711. P. 119 (№ 34). Этот фрагмент написан
в защиту Акта об ограничении (Qualification Act\ целью которого было
исключить из палаты общин всех, кто не владел землей.
бзз
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Удивительно, как своенравна эта Дама, какой деспотизм
проявляется в каждом ее Поступке: если вы обхаживаете ее,
то или вовсе ее теряете, или же она обходится вам немыслимо
дорого, а если вы соглашаетесь на такие условия, она будет
постоянно ревновать и подозревать вас; если же вы не
расплатитесь с ней по Договоренности, она уйдет и может так и не
вернуться до конца ваших дней, а если все же вернется, то только
после долгих Просьб и множества Трудностей1.
Исследователю гуманизма эпохи Возрождения риторика этого
фрагмента покажется хорошо знакомой. Дефо пишет о
Кредите в точности таким же языком, каким Макиавелли писал
о fortuna и occasioned уместно вспомнить и ту fantasia, в
могуществе которой Джованни Кавальканти убедил триумф мани-
пулятивной политики во Флоренции еще столетием раньше*.
Подобно этим богиням, Кредит олицетворяет неустойчивость
секулярных отношений, складывающихся в результате
взаимодействия желаний, стремлений и страстей отдельных людей.
1. «Money has a younger Sister, a very useful and officious Servant in Trade,
which in the absence of her senior Relation, but with her Consent, and on the
Supposition of her Confederacy, is very assistant to her; frequently supplies
her place for a Time, answers all the Ends of Trade perfectly, and to all
Intents and Purposes, as well as Money herself; only with one Proviso, That
her Sister constantly and punctually relieves her, keeps Time with her, and
preserves her good Humour: but if she be never so little disappointed, she
grows sullen, sick, and ill-natur'd, and will be gone for a great while together:
Her Name in our Language is calPd CREDIT, in some Countries Honour,
and in others, I know not what. This is a coy Lass, and wonderful chary of
her self; yet a most necessary, useful, industrious Creature: she has some
Qualification so peculiar, and is so very nice in her Conduct, that a World
of good People lose her Favour, before they well know her Name; others
are courting her all their days to no purpose, and can never come into her
Books. If once she be disoblig'd, she's the most difficult to be Friends again
with us, of anything in the World; and yet she will court those most, that
have no occasion for her; and will stand at their Doors neglected and ill-
us'd, scorn'd, and rejected, like a Beggar, and never leave them: But let such
have a Care of themselves, and be sure they never come to want her; for, if
they do, they may depend upon it, she will pay them home, and never be
reconciled to them, but upon a World of Entreaties, and the severe Penance
of some years Prosperity. 'Tis a strange thing to think, how absolute this
Lady is; how despotickly she governs all her Actions: If you court her, you
lose her, or must buy her at unreasonable Rates; and if you do, she is always
jealous of you, and Suspicious; and if you don't discharge her to a Title of
your Agreement, she is gone, and perhaps may never come again as long as
you live; and if she does, 'tis with long Entreaty and abundance of Difficulty»
(Defoe D. Review. Vol. III. № 5. P. 17-18; см. также: P. 19-20; № 6. P. 21-24;
№ 7. P. 25-27; книга 6 факсимильного издания).
2. См. выше, глава IV, прим. 2 на с. 151·
634
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Нет ничего удивительного в том, что можно обнаружить и
другие фрагменты (относящиеся к 1706 году), где эта фигура
изображена злонамеренной и иррациональной.
Некоторые не дают Людям Покоя, пока те не залезут в Долги,
а потом не дают Покоя, пока они не расплатятся; некоторые
никому не станут выдавать Кредита, иные же готовы
выписать Кредит всем и каждому; одни получают Кредит до тех
пор, пока способны платить, другие нарушают обязательство,
хотя могли бы уплатить всем. Ни одна Нация в Мире не
может похвастаться такими Безумствами в Торговле, как наша.
Должники оскорбляют Кредиторов, а Кредиторы морят
голодом и терзают Должников; когда повсюду господствует
Торговля, из человеческой Природы изглаживается Сострадание,
и Англичане, в других Случаях проявляющие Великодушие,
Чуткость и самое живое Участие, по отношению к своим Должникам
ведут себя как настоящие Помешанные, Безумцы и Тираны1.
Есть ли что-то непостижимое в том, что Война обогащает
нации? что Англия может потерять столько Кораблей, занимаясь
пиратством, и все равно остаться в выигрыше? Почему Война
более непостижима, чем Торговля, и почему Торговля
должна быть таинственнее [sic] войны? Почему Акции Ост-Индской
Компании растут, когда ее Корабли захвачены? Рудники
повышают цены на свои Облигации, когда снижается объем
Капитала; Залежи Руды иссякают на Приисках, но обнаруживаются
в Акциях; и к чему кто-то стал бы удивляться этим
Парадоксам, если подобные Странности происходят у нас ежедневно?
Если кто-то хочет получить Ответ на такого рода Вопросы,
им может стать следующее Изречение: велика сила Воображения!
Торговля есть Тайна, которая никогда не будет полностью
раскрыта или разгадана; у нее есть свои Критические
Моменты и Сезоны, которые нельзя объяснить никакими
видимыми Причинами, она страдает от конвульсивных Припадков,
I. «Some give Men no Rest till they are in their Debt, and then give them no
Rest till they are out again; some will credit no body, and some again are
for crediting every body; some get Credit till they can pay nothing, and some
break tho' they could pay all. No Nation in the World can show such mad
Doings in Trade, as we do. Debtors abuse Creditors, and Creditors starve and
murther their Debtors; Compassion flies from human Nature in the Course
of universal Commerce; and Englishmen, who in all other Cases are Men of
Generosity, Tenderness, and more than common Compassion, are to their
Debtors meer Lunaticks, Madmen and Tyrants» (Ibid. № 92. P. 365; книга η
факсимильного издания).
635
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
истерических Расстройств и самых необъяснимых Чувств —
иногда ею движет злой Дух общей Моды, и, словно одержимая, она
спешит нарушить все принятые Установления; сегодня она
повинуется Порядку Вещей, подчиняется Причинам и
Следствиям, завтра погружается в Неистовство, вызванное Волнениями
и Слабостями Человеческой Фантазии, пускается в экзотические
Проекты, а затем делает все наоборот — ее Движения
причудливы, неестественны и непонятны; в любых Обстоятельствах
Торговлю сопровождает некое Безумие, которому ни один
Человек не способен дать рационального Объяснения1.
Дефо, виг и сторонник торговли, по-видимому, представляет
здесь необузданную силу фантазии как главный вклад
раннего капитализма в человеческое существование. Впрочем, она
не является просто колесом фортуны, хаотично вращающимся
на своей неподвижной оси. Как прекрасно известно Дефо, это
часть значимого нового фактора в делах людей,
порождающего новые формы войны и благоденствия, новую расстановку
сил в Европе, новые способы завоевания планеты. В этом
отношении Кредит был схож не столько cjbrtuna, сколько с virtù,
преобразующей покоряющей силой, которая, как полагал
Макиавелли, в наиболее напряженные моменты приводила к
беспорядку, понимаемому как/ortuna. Затем она старалась
преодолеть хаос столь иррациональными и аморальными средствами,
что их можно было счесть частью той анархии, которую они
якобы упорядочивали. Можно сказать, что со времен самого
I. «Is it a Mystery, that Nations should grow rich by War? That England can lose
so many Ships by pyrating, and yet encrease? Why is War a greater Mystery
than Trade, and why should Trade itself be more mysterious than in [sic]
War? Why do East India Company's Stock rise, when Ships are taken? Mine
Adventures raise Annuities, when Funds fall; lose their Vein of Oar in the Mine,
and yet find it in the Shares; let no Man wonder at these Paradoxes, since
such strange things are practised every Day among us? If any Man requires an
Answer to such things as these, they may find it in this Ejaculation — Great is
the Power of Imagination! Trade is a Mystery, which will never be compleatly
discover'd or understood; it has its Critical Junctures and Seasons, when
acted by no visible Causes, it suffers Convulsion Fitts, hysterical Disorders,
and most unaccountable Emotions — Sometimes it is acted by the evil Spirit
of general Vogue, and like a meer Possession 'tis hurry'd out of all common
Measures; today it obeys the Course of things, and submits to Causes and
Consequences; tomorrow it suffers Violence from the Storms and Vapours of
Human Fancy, operated by exotick Projects, and then all runs counter, the
Motions are excentrick, unnatural and unaccountable — A Sort of Lunacy in
Trade attends all its Circumstances, and no Man can give a rational Account
of it» (Defoe D. Review. Vol. III. № 126. P. 502-503; книга 8
факсимильного издания).
бзб
СПОР О ЗЕМЛЪ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Макиавелли никто еще не пользовался языком, в такой мере
воспроизводящим ряд глубинных особенностей его мышления,
как Давенант или Дефо.
Дефо мог почерпнуть у Макиавелли язык, показавшийся
ему подходящим для описания резких и иррациональных
перемен и инноваций в обществе, и в то же время он
заимствовал у Харрингтона — в узнаваемой для современников
форме — язык и критерии, благодаря которым то, что делал Кредит,
можно было бы осудить в качестве коррупции. В iyю году Дефо,
которому в следующем году предстояло отражать атаку свиф-
товского «Наблюдателя», надо было найти способ изобразить
Кредит как способствующую стабильности, добродетельную
и разумную сущность. И здесь он(а) предстает как дочь
Честности и Рассудительности, такая же ветреная и темпераментная,
как обычно, но способная распознать «капитал достоинства»,
о котором говорил Давенант. Одна из ее черт — крайняя
боязливость. От одного лишь вида толпы, внимающей Сачеве-
реллу, с ней начинался припадок, а паника среди вигов едва
не стоила ей жизни1. Лишь когда в обществе
восстанавливается спокойствие и люди вновь обретают равновесие, дочь
Честности и Рассудительности начинает оживать. Дефо старается
показать, что кредит — общественное существо, которое
может действовать лишь тогда, когда люди уверены друг в
друге и в королевстве. Эту уверенность — суть которой отражает
Кредит в своем переменчивом облике — можно выразить
исключительно публично.
Недуги, присущие Кредиту, так же характерны для
Парламента, как Недуг, называемый Злом, характерен для Монарха;
излечить их не может никто, кроме них самих, — Прикосновение
Монарха не исцеляет от этого Заболевания; Королеве и
Парламенту вместе это, возможно, удастся, но в одиночку ни один
из них не способен этого сделать.
Кредит был не настолько недальновидным Политиком,
чтобы не понимать этого: это очевидно, Парламент — основа нашего
бюджета; Честь и Справедливость Парламента в его
способности оберегать общество, с одной Стороны, и неизменная
приверженность великому Принципу выполнения прежде данных
Обязательств, а также возмещение недостаточной Надежности
I. Ibid. Vol. VII. № 55· P. 213-215; № 57- Ρ 221-223; № 58. P. 225-228; № 59·
P. 229-231 (книга 17 факсимильного издания).
637
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Парламента, с другой, вот главные Средства Кредита. <...>
Кредит зависит не от Суверена, не от Министерства либо того или
иного Руководства, но от Чести Государственного Управления
в Целом и Справедливости Парламента в Частности,
проявляющихся в том, чтобы сохранить в целости Прибыль тех, кто
доверил свое Имущество Государству, — и здесь мы не
должны наблюдать никакого Вмешательства Партий, потому что,
если одна Партия, оказавшись у власти, откажется возместить
Ущерб от прежнего Правительства, потому что тогда у власти
была другая Партия, Парламентский Кредит не будет стоить
и Фартинга. <...>
Кредит—слишком осмотрительная, слишком неприступная
Дама, чтобы оставаться с Людьми на таких жалких Условиях;
если вы принимаете у себя эту Деву, вы должны
руководствоваться благородными Принципами Чести и Справедливости;
вы должны соблюдать Святость всех Основ и возводить на них
постоянные Установления; вы должны удовлетворять все
Требования в соответствии с Серьезностью и Значимостью
Обязательства, руководствуясь Справедливостью и Честью и невзирая
ни на какие Партии; если не соблюдать этого, Кредита не будет,
пусть даже велит Королева, или Парламент, или весь Народ1.
I. «The Diseases of Credit are as peculiar to Parliaments, as the Disease calPd
the Evil, is to the Sovereign; none can cure them but themselves — The
Royal Touch has no Healing Virtue in it for this Distemper; Queen and
Parliament United may do it, but neither by themselves can. Credit was
not so short-sighted a Politician, as not to know this—The Thing is certain,
Parliaments are the Foundation of our Funds; the Honour and Justice of
Parliaments in preserving the Publick on one Hand, and a firm adherence to
the great Principle of making good former Engagements, and supplying the
Deficiency of Parliamentary Security, on the other, these are the great Channels
of Credit. <...> Credit is not dependant on the Person of the Sovereign,
upon a Ministry, or upon this or that Management; but upon the Honour
of the Publick Administration in General, and the Justice of Parliaments in
Particular, in keeping whole the Interest of those that have ventured their
Estates upon the Publick Faith — Nor must any Intervention of Parties be of
Notice in this Case — For if one Party being uppermost shall refuse to make
good the Deficiencies of the Ministry that went before them, because another
Party then had the Management, Parliamentary Credit would not be worth
a Farthing. <...> Credit is too wary, too Coy a Lady to stay with any People
upon such mean Conditions; if you will entertain this Virgin, you must act
upon the nice Principles of Honour, and Justice; you must preserve Sacred all
the Foundations, and build regular Structures upon them; you must answer
all Demands, with a respect to the Solemnity, and Value of the Engagement;
with respect to Justice, and Honour; and without any respect to Parties — If
this is not observ'd, Credit will not come; No, tho' the Queen should call;
tho' the Parliament shou'd call, or tho' the whole Nation should call» (Defoe D.
Review. Vol. VII. № 116. P. 463; книга i8 факсимильного издания).
638
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
В третьем номере «Зрителя» Аддисон подхватил эту тему.
Кредит изображается восседающим в Банке под символами
«Древней конституции» и Революционных соглашений1, в
окружении гор золота и мешков с деньгами.
Держалась она необыкновенно пугливо, и была ли тому
причиной ее Хрупкость или то, что она находилась в
Расстройстве, как позже сообщил мне некто, кто, как я узнал, отнюдь
не принадлежал к числу ее Доброжелателей, но она менялась
в Лице и вздрагивала, когда слышала какие-то слова. Она была
к тому же (как я узнал после) более Мнительна, чем кто-либо,
кого мне доводилось встречать даже среди особ ее Пола, и
подвержена такому Молниеносному Истощению, что в мгновение
Ока она утрачивала свой цветущий Вид и пышущую
Здоровьем Наружность и превращалась в Скелет. Выздоровление ее
часто оказывалось столь же нежданным, как и Упадок Сил:
она могла мгновенно воспрять и от разрушающего ее Недуга
вернуться к Полноте Здоровья и Сил2.
Когда Кредит сталкивается с духом папства, тирании и
республиканства, он истощается, мешки наполняются ветром,
а золото превращается в груду бумаги и палочек с долговыми
отметками. Впрочем, когда веет духом свободы, умеренности
и протестантского престолонаследия, все возвращается обратно.
Кредит трансформируется в добродетель во всецело
моральном и общественном смысле слова. Необходимое условие
его здоровья — здоровье всего общества и практики
морального поведения, которые подразумевает существование
социума; и он сам наделен способностью распознавать,
соблюдаются ли эти условия. Покажите ему подлинные ценности
1. Ряд законов, принятых английским парламентом в 1689-1701 годах,
ограничивших власть короля и закрепивших суверенитет
парламента. — Прим. ред.
2. «She appeared indeed infinitely timorous in all her Behaviour; And, whether
it was from the Delicacy of her Constitution, or that she was troubled with
Vapours, as I was afterwards told by one who I found was none of her Well-
wishers, she changed Colour, and startled at everything she heard. She was
likewise (as I afterwards found) a greater Valetudinarian than any I had ever
met with, even in her own Sex, and subject to such Momentary Consumptions,
that in the twinkling of an Eye, she would fall away from the most florid
Complexion, and the most healthful State of Body, and wither into a Skeleton.
Her Recoveries were often as sudden as her Decays, insomuch that she would
revive in a Moment out of a wasting Distemper, into a Habit of the highest
Health and Vigour» (The Spectator / Ed. by G. Smith. London, 1961. P. 11).
639
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
и подлинные блага, и блага, которые он вернет вам, тоже
будут подлинными. Богатство, возникающее благодаря
Кредиту, описано как чистое золото, и примечательно, что Аддисон
изобразил Королевскую биржу не как место, где
заключаются сделки, связанные с акциями и ценными бумагами, а как
собрание солидных коммерсантов, совершающих обмен
подлинными товарами при посредстве денег1. В идеологическом
плане наблюдалась устойчивая тенденция превращать
биржевого брокера в коммерсанта: рантье, вызывавшего опасения
публицистов, в предпринимателя, которого они уже не
боялись. Добродетель представала теперь как форма познания
общественной, моральной и коммерческой реальности: было
сделано все возможное, чтобы избавиться от элементов
фантазии и искусственности, в которых видели серьезную угрозу
имуществу и личности.
Впрочем, восстановление добродетели предусматривало одно
строгое ограничение, особенно значимое в свете
эпистемологической структуры этой книги. Воображение — революционная,
созидательная и разрушительная сила, часто становившаяся
предметом изображения в бурный 1706 год, — в сочинениях
вигов в 1710-1711 годах уступает место всего лишь общественному
мнению. Если воспользоваться выражением Локка о роли
денег в экономике, акцент переносится с «прихоти» на
«соглашение». Если первая произвольна и эгоцентрична, то второе,
разумеется, общественно и потому более рационально и
добродетельно. Но эта рациональность доступна лишь мнению
и опыту. Вся риторика преобразования Кредита в уверенность
благодаря тому, что его суждения теперь подкрепляются
подлинными и конкретными данными, не лишает образ Кредита
непостоянства, с которым он балансирует между крайностями
надежды и страха. Как принято было утверждать, мнение
оказывалось рабом двух этих страстей. В случае Кредита
воображаемыми, по крайней мере, отчасти оказывались не только
данные, на основе которых мнение формировалось. Даже те
воззрения, что опирались на конкретные факты, представали
воображению — в котором складывалось мнение — как
элементы подвижного, в какой-то мере отсылающего к Гоббсу
мироздания, где каждая вещь могла привести к прибыли или
потере, пробудить надежду или страх.
I. The Spectator / Ed. by G. Smith. P. 212-215 (№ 69). Следует отметить
также финал текста в духе неохаррингтоновской традиции.
64О
СПОР О ЗЕМУГЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
Гоббс утверждал, что исполнение обязательств — точнее,
установленный природой закон, согласно которому
обязательства должно исполнять, — было единственным средством
против неуверенности, возникающей из-за человеческих страхов
и фантазий. Однако он не уточнил, сколько страха и
фантазии потребуется человеку, чтобы открыть этот закон. Дефо
и Аддисону, жившим в обществе финансовых спекуляций, где
выполнение одного торгового обязательства служило
поводом — как и в случае с «преобразованием» у Макиавелли —
немедленно взять на себя другое, еще важнее показать, как
совместить обязательство с фантазией. Впрочем, сделать это им
было еще труднее; в мире, где они жили, разум действительно
являлся рабом страстей.
Кредит не был и простым наблюдателем или зеркалом
этого мира, он помогал его формировать. По мере того как
Кредит остро реагировал на каждый стимул, испытывая надежду
или страх, объекты этих чувств обретали или теряли ценность
и реальность. Мир торговли и инвестиций в какой-то
степени неизбежно оставался фантастическим и иррациональным.
Располагая всеми ресурсами добродетельного общества,
Кредит мог координировать торговые операции и инвестиции
в беспрецедентном для истории масштабе; однако от себя он
не вносил ничего, кроме фантазии, мнения и страсти, прежде
всего стремясь сделать общество добродетельным. Добродетель
необходимо подразумевала познание вещей такими, какие они
есть. Власть Кредита была неминуемо субъективной, и
требовалось все напряжение общественных сил, чтобы помешать
ему вырваться на волю и обрушить на мир потоки фантазии.
Возможно, Поуп, описывая Великую Анархию, отчасти имел
в виду и его.
На этом этапе нашего исследования принятая в
современной историографии социальной мысли традиция побуждает
нас обратиться к теме трудовой теории стоимости. Хотя
эксперимент Локка с подобной теорией был им самим задуман или
позже понят как вклад в полемику Августинской эпохи, он мог
послужить и мощным инструментом реификации, каким позже
и объявил его Маркс. Люди своим трудом создавали ценность
товаров, которыми обменивались, и таким образом
утверждалась реальность мира товарного обмена и торговли. Понятно,
почему Адам Смит через три поколения так стремился
обосновать этот процесс. Однако пока мы не узнаем больше о
трудовой теории, у нас не будет свидетельств, указывающих на то,
641
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
что идеи Локка воспринимали именно в таком смысле. О Дефо
и Аддисоне вряд ли можно сказать, что они переводили мир
спекуляций и обмена в материальные категории, с помощью
отсылки к категории труда, которая придавала бы ценность
обмену. Homo faber еще не пришел на смену homo politicus.
Вместо этого они стремились найти обоснование миру торговли,
обращаясь к представлениям о гражданской добродетели, но
на этом пути столкнулись с препятствием — республиканской
концепцией гражданина, добродетель которого не была
построена на способности к торговому обмену.
От этой точки мыслитель Августинского периода мог
двигаться в двух направлениях. Он мог утверждать — основанием
правления всегда была и остается добродетель, что
подразумевало, с одной стороны, способность отдельного человека
править и познавать себя, с другой, социальную структуру,
которую он мог достаточно хорошо знать, чтобы хорошо исполнять
собственную роль в ней. Подходящей для этого материальной
основой служила земля: недвижимое имущество считалось
достаточно стабильным, чтобы связывать следующие друг за
другом поколения социальными отношениями,
принадлежащими естественному порядку или на нем основанными.
Подобное правление необходимо тяготело к республике (с
монархом во главе), населенной независимыми собственниками,
обладающей уравновешенной и древней системой правления
и укрепленной старинными обычаями, благодаря которым все
ее элементы оставались независимыми. Его оборона
требовала бы патриотизма, а войны и расширения владений можно
было бы избежать. Однако в силу двойственности неохарринг-
тоновского подхода те, кто выбирал этот путь, уже не могли
мыслить историю как непрерывную преемственность
ценностей и имущества, Произошла перемена; они вглядывались
в прошлое, стремясь защитить добродетель от новых веяний,
которые воплощались в торговой империи1, постоянной армии
и государственном кредите. Постоянная .армия означала
специализацию и отчуждение способностей человека, кредит —
фантазию, фикцию и социальное помешательство, угрозу ложного
сознания, которое бы затянуло людей в своего рода
политическую «Дунсиаду»2, а вместе они означали коррупцию. Те, кто
1. См. интересный анализ точки зрения Аддисона, что торговля влечет
за собой войну и должна оправдывать ее: Bloom Ε.Α., Bloom L.D. Joseph
Addison's Sociable Animal. P. 67-83 (chap. 4: The War of Economic Right).
2. Сатирическая поэма Александра Поупа.—Прим. ред.
642
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
рассматривал ситуацию с таких позиций, полностью разделял
склонность гуманистов считать коррупцию необратимой,
поэтому их отношение к переменам было отрицательным.
Впрочем, они признавали их, хотя и отвергали; они мыслили в духе
Макиавелли, сознавая, что общество оторвалось от
естественного порядка, который остался в прошлом. Они допускали
существование основополагающих добродетелей, ordini и principii,
возвращению к которым могло бы содействовать моральное
законодательство. Они указывали на бережливость, народное
ополчение или независимость частей сбалансированной
конституции как на идеалы, которые патриотически настроенный
парламент или король-патриот мог бы возродить средствами
закона или назидательного примера. В этот момент они
соглашались с тем, что между моральными и материальными
составляющими общества, между моральными ценностями
и материальной историей имеется разлад1. Они признавали,
что перемены в обществе уже не служили гарантией
добродетели, но утверждали, что добродетель можно вновь утвердить
вне зависимости от социальных условий и даже с ее помощью
изменить историю.
Альтернативный путь заключался в том, чтобы признать —
правление состоит в управлении страстями. Если деньги и
кредит действительно разрушили социальную структуру,
превратив ее в подвижную среду, наполненную объектами желания
и фантазии, значит, страсть, мнение и воображение и в
самом деле служили двигателями человеческих поступков и
источниками человеческого познания. Однако из уже
сказанного ясно, что это блюдо оказалось слишком острым даже для
прагматичного Дефо. Он старался, особенно в споре со
Свифтом, показать, что мнение и страсть могут корениться в
опыте, а не в воображении, и помогать распознавать подлинные
общественные блага и истинную способность людей быть
частью общества. Тем не менее, как мы видели, это
обстоятельство не устраняло истеричного непостоянства Кредита в
образе женщины. Монарх, парламент, общество должны были
задействовать все средства установления социальной
стабильности, чтобы успокоить гиперчувствительную нервную
систему, которой теперь обладал социум, и сохранять контроль
над надеждами и страхами людей. Кроме того, представлялось
I. Крамник пишет об этом в связи с Болингброком: Kramnick I.F. Boling-
broke and His Circle. P. 166-169.
64З
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
маловероятным, чтобы столь подвижный человеческий
универсум содержал в себе некую упорядоченную систему ценностей,
доступную в прошлом, к которой можно было бы вернуться.
Вечные нравственные ценности существовали, но они
заключались в добродетелях, связанных с жизнью в обществе, а не
с какой-либо конкретной законодательной системой, которая
могла бы гарантировать добродетель граждан.
Как следствие, версия истории, которую выдвигали виги
из «придворной» партии, не была апологетической. Она
сходилась с неохаррингтоновской версией в том, что относила
к прошлому общество воинов-земледельцев. Впрочем, в этой
интерпретации возможность его восстановления отрицалась,
равно как и то, что оно воплощало в себе принципы,
способные вновь утвердиться в настоящем. Соответствующий взгляд
на политику, как мы увидим в следующем разделе, отвергает
наличие формулы сбалансированной конституции,
принципы которой лежали бы в основе правления. Для этого нужны
классическая познаваемая история и классическое
познаваемое общество, но ни того ни другого мы не обнаружим в мире
переменчивого кредита и ожиданий, в отношении которого
и в котором возможны лишь мнения и страсти. В описании
вигов из «придворной» партии правление властвует над
подвижным обществом и наделено полномочиями управлять как
суверен, хотя бы в силу отсутствия познаваемых принципов,
к которым можно было бы свести его авторитет. Оно
существует в истории, где все меняется и течет, и должно,
руководствуясь практическими соображениями, управлять
человеческими страстями так, как того требует ситуация. Пока люди
остаются членами общества, — кроме случаев, когда алчность
или воображение сводят их с ума, — существуют подлинные
добродетели, истинная страсть к эмпатии и честности,
благодаря которым здание правления крепко укоренено в
действующем моральном универсуме. Однако всегда звучит
практический вопрос: находится ли кредит в гармонии с доверием
людей друг другу, способствуют ли мнения, надежды и страхи
людей стабилизации общества и росту благополучия? Задача
правления — слышим мы издалека голос Бернардо из
«Диалога» Гвиччардини — сделать так, чтобы происходили
именно эти гармонизация, стабилизация и рост, а не заниматься
постоянным пересмотром законов, лежащих в основе некоей
исходно формализованной системы, в которой, как
предполагается, только и может расцвести добродетель. А если такая
644
СПОР О ЗЕМЛЕ, ТОРГОВЛЕ И КРЕДИТЕ В АНГЛИИ АВГУСТИНСКОЙ ЭПОХИ
рамка или система отсутствуют, человек как zôon politikon не
может заниматься нескончаемым поиском новых формальных
оснований собственной гражданской добродетели или
перестраивать ее принципы. Его дело — разобраться с собственной
жизнью в обществе, практиковать подобающие ей добродетели
и делать свой вклад в общий кредит доверия, которое люди
оказывают друг другу1. Впрочем, его мир будет прежде всего
условным и субъективным, и лишь опыт (и состояние рынка)
позволят ему судить, насколько его мнения относительно
происходящего соотносятся с действительностью. Возможно, мы
подошли к определению той «приватизации», которую
современные историки любят обнаруживать в философии
коммерческого общества.
Наш анализ показал, что язык, к которому мыслители Ав-
густинской эпохи прибегали в рассуждениях о социальной
проблематике, был в нескольких отношениях близок
Макиавелли, чего нам никогда не удалось бы сделать, если бы мы
отталкивались от истолкования трудов Локка. Мы выяснили,
что мыслители конца XVII столетия опирались на
Макиавелли и Харрингтона, рисуя образ свободного и не
испорченного коррупцией общества. Понятия, схожие с virtu ufortuna
Макиавелли, использовались, чтобы выразить ощущение
постоянных инноваций, утраты легитимности и текучести,
вызванное быстротой перемен, уводивших общество в сторону от
этого республиканского идеала. Мы обнаружили, что
потребность в переосмыслении классической теории порчи нравов
или коррупции обусловливалась осознанием все более тесной
связи между правительством, войной и финансами.
Меркантилистские войны возродили интерес к внешним
отношениям республик с другими республиками и с империями. Мы
увидели, как капитализм получил свой первый удар в
образе рантье, чиновника и спекулянта государственным долгом,
а не торговца или коммерсанта, вступив в свою первую
крупную полемику в истории англоязычной политической мысли.
Мы убедились, что развитие «буржуазной идеологии»,
парадигматической для капиталистического индивида в качестве
ι. Аддисон в своем «Фригольдере» (i7i5—ï?1^) настаивает, что человек
должен ограничивать как меру, так и спектр своего участия в управлении
государством. См. номера 5> ι6, 24, 25, 29, 48 и особенно номер 51
(который по современности подхода следует сравнить с текстами Гоббса
в том, что касается политических последствий интереса к античной
политике), а также 52~55·
645
ГЛАВА XIII. НЕОМАКИАВЕЛЛИЕВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Zôon politikon, оказалось существенно затруднено вездесущими
ценностями аристотелевской теории и гражданского
гуманизма, которые фактически определяли рантье и
предпринимателя как примеры коррупции. И если капиталистическая
мысль действительно приватизировала человека, это
произошло потому, что она не нашла способа представить его как
достойного гражданина. «Буржуазной идеологии»,
возникновение которой марксизм старой закалки изображал как
исторически неизбежное, приходилось, похоже, вести борьбу за
существование. Быть может, окончательной победы она так
и не одержала.
Наконец, конфликт между недвижимым и движимым
имуществом, в котором мыслители Августинского периода
видели материальную основу социальной жизни, повлек за собой
конфликт — или скорее привел к амбивалентности —
между формами социальной эпистемологии. Все, кого волновала
эта тема, рассматривая общество в категориях денег и
кредита, недвусмысленно говорили о мнении и страсти, фантазии
и ложном сознании. Глубокий интерес философов XVIII века
к отношениям между разумом и страстями был, по-видимому,
связан с конфликтом между земельной и денежной
собственностью. Впрочем, стоит подчеркнуть, что этот вывод сделан не
на основе формально или неформально марксистского
анализа. Марксист, вероятно, сказал бы, что оппозиция между
движимым и недвижимым имуществом является единственным
и достаточным объяснением интереса философов к разуму
и страстям, но тут мы не обнаружили оснований для
подобного утверждения. Для марксизма типично устанавливать связь
между социальным сознанием и отношениями собственности
благодаря процессу «демистификации», но и в нем не
оказалось необходимости; Давенант и Дефо совершенно
отчетливо сознавали, что и в чьих интересах хотели сказать. Мы не
предприняли попытку марксистского анализа, а исследовали
исторические истоки того типа мышления, какое мы позже
встречаем у Маркса. Журналисты и критики Августинской
эпохи были первыми в истории интеллектуалами, которые
выражали совершенно секулярное понимание общественных
и экономических изменений и особо отмечали, что эти
изменения повлияли как на их ценности, так и на способы
восприятия социальной реальности. Стремясь сформулировать
и выразить свое понимание, они использовали в основном
макиавеллиевские модели.
Глава XIV
Дебаты XVIII столетия
Добродетель, страсть и коммерция
I.
Споры между добродетелью и страстью, землей и торговлей,
республикой и империей, ценностями и историей, которые
мы рассмотрели выше, — легли в основу общественной мысли
XVIII века. В двух оставшихся главах мы попытаемся показать
их роль в Американской революции и формировании
американских ценностей. Мы проанализируем эту часть истории в более
широком контексте развития европейской мысли таким
образом, чтобы в общих чертах могла проявиться наглядная связь
Джефферсона и Гамильтона с Руссо и Марксом. Можно
продемонстрировать, что и Американская революция, и Конституция
США в каком-то смысле завершают гражданскую мысль
Ренессанса и что идеи, сложившиеся в русле традиции гражданского
гуманизма — сплав аристотелевской и макиавеллиевской мысли
о zôon politikon, — важны для понимания парадоксов
современного конфликта между самосознанием индивида, с одной стороны,
и новым самосознанием общества, собственности и истории,
с другой. Отцы-основатели действовали в «момент
Макиавелли» — время кризиса отношений между личностью и обществом,
добродетелью и коррупцией, но в то же время это исторический
момент, когда обозначенная проблема или осталась позади, или
была признана неразрешимой; все зависело от точки зрения.
Наша задача в этой главе состоит в том, чтобы как можно
полнее понять причины, по которым унаследованный из прошлого
комплекс идей, касающихся республиканской добродетели и ее
места в социальном времени, перешел в XVIII столетие в такой
одновременно законченной и гибкой форме, так мало
изменился и при этом был настолько серьезно оспорен.
Мы проследили развитие этого сюжета начиная с того, как
афинское представление о человеке как zöon politikon, о
гражданине по природе, возродилось в парадоксальной, хотя и не
прямой связи с христианской верой в человека как homo religiosus,
647
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
созданного для жизни в трансцендентной и вечной
общности, известной под опасным политическим именем civitas Dei.
Далее, мы наблюдали, как завязавшийся спор вобрал в себя
следствия из протестантского утверждения, что все верующие
являются священниками и что именно общество, а не
церковь представляло собой подлинную ecclesia. Поскольку
пуританизм, сопровождаемый в этом отношении рациональным
деизмом, все более систематически отрицал самостоятельный
характер религиозной организации внутри общества,
возрастала потребность в доказательстве единства гражданской
свободы с религиозной, добродетели — в гражданском смысле — со
спасением. Подобные заявления либо могли делаться с
евангелических или милленаристских позиций, либо относились
к другой крайности, воплощая постхристианскую и
утопическую точку зрения. Впрочем, в обоих случаях они
свидетельствовали о секуляризации личности, ее растущей
вовлеченности в проектирование общества, которое стало историческим,
независимо от того, было оно предназначено к спасению или
нет. Поскольку христианская устремленность к
трансцендентному не угасла, описанная позиция воспринималась как
парадоксальная и революционная: Монтескье смог повторить
мысль Макиавелли, утверждавшего независимость и светский
характер гражданской добродетели, не тождественной ни
христианской общности, ни общественной морали, основанной
на чисто христианских ценностях1. Однако по мере того, как
у гражданина оставалось все меньше сходства со святым, его
гражданской личности требовалась virtu, все меньше похожая
на способность души к искуплению и все больше — на
автономию великодушного человека Аристотеля или — если
говорить об интересующем нас периоде — на amour de soi-même2
Руссо, а такая мораль предполагала не столько духовное, сколько
социальное и даже материальное основание.
Мы видели, как таким основанием служило сначала оружие,
а затем собственность, частным и парадигматическим
случаем которой прежде всего считалось наследуемое недвижимое
имущество как «естественное» владение землей3. Назначение
ι. В «Заявлении автора», предваряющем трактат «О духе законов»;
цитируется ниже, в прим. 2 на с. 687.
2. Любовь к себе {франц.).—Прим. ред.
3- Говоря технически, собственность всегда искусственна (см. слова Айр-
тона выше, с. 531)? но предполагалось, что земельные владения
появились, когда люди со своими семьями «свободно» и в этом смысле
648
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
собственности состояло в том, чтобы утверждать и
поддерживать подлинность личной автономии, свободы и добродетели.
Как следствие, требовалось, чтобы это основание (reality)1
охватывало несколько поколений и давало возможность живым
в законном и естественном порядке наследовать мертвым8.
Поэтому наследование в большей степени, чем когда-либо,
изображалось как экономическая цепочка, соответствующая
фундаментальной природе существования общества во
времени. Земля и наследство оставались необходимыми условиями
добродетели, а добродетель — реальности человеческого «я»
в его собственных глазах; в ужасе перед коррупцией,
пронизывающем общественные ценности XVIII века, есть нечто от
экзистенциального страха. Идеал собственности как основы
личности, еще не успев сложиться, уже оказался под угрозой:
Локку удалось выразить противоречия, ничего не значившие
для Харрингтона. Возникали формы собственности, которые,
как казалось, внутренне предполагали зависимость:
оплачиваемая должность наемного работника, личный или
политический патронаж, государственный кредит. На языке
республиканской теории это называлось коррупцией — замещением
институтов публичной власти личной зависимостью, и угроза
индивидуальной целостности, совести и самопознанию,
которую всегда подразумевала коррупция, усиливалась с ростом
новых форм собственности, которые воспринимались как
обусловленные фантазией и ложным сознанием человека. Как
только имуществу приписывалась символическая ценность,
выраженная в количественной оценке или в кредите,
основания самой личности оказывались иллюзорными или в
лучшем случае условными: даже в своих собственных глазах
человек мог определяться лишь той колеблющейся стоимостью,
в какую его оценили окружающие, и эта оценка, хотя
проводилась она постоянно и публично, была слишком
непостоянной и потому, по-видимому, иррациональной, что не
позволяло видеть в этом процессе акт осмысленного политического
«естественно» перемещались по земле. Можно было сказать, что им
предшествовало владение поголовьем скота, которое поэтому можно
было назвать еще более «естественной» собственностью.
1. В оригинале обыгрывается близость слов «reality» («реальность»)
и «realty» («недвижимость»): «a reality (one is tempted to say a realty)». —
Прим. ред.
2. О языке «Размышлений» Бёрка см.: Рососк J.G.A. Politics, Language and
Time. P. 210-212: общества, где имущество и права передаются по
наследству, очень похожи на семьи, а потому наиболее естественны.
649
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
решения или добродетели. Коррупция представляла очень
серьезную угрозу; теперь мы должны понять, почему на нее не
появилось ни утешительного, ни удовлетворительного ответа,
и что из этого последовало.
Как мы видели, начинавшие возникать контрэтика и
контрполитика базировались на серии адаптации или смягчений,
производимых с понятием фантазии или воображения: страсть,
мнение, интерес. В той степени, в которой экономику
кредита можно было убедительно представить как обмен
реальными товарами и получение реальной стоимости, ее удавалось
отделить от угрозы ложного сознания и наделить значением
общественного блага и личной добродетели. Имея в виду то,
что в науке принято называть «протестантской этикой»,
бережливостью, самоограничением и повторным инвестированием
вместо избыточного потребления, торговое общество может
себе позволить даже свою собственную версию классической
добродетели, призывающей ставить общее благо (в данном
случае торговый оборот) выше личной выгоды. Но в
действительности этика бережливости вынужденно занимала второе
место после этики личных интересов. Земледелец, наследник
владельца классического ойкоса (oikos), обладал досугом и
независимостью, позволявших думать о том, в чем состояло благо
для других и для него самого; однако человек, участвующий
в обмене, способен был судить лишь о конкретных ценностях:
о стоимости собственного товара, о стоимости товара, который
он хотел обменять на свой товар. Деятельность земледельца не
обязывала его и даже не позволяла ему размышлять о
всеобщем благе, в соответствии с которым он фактически действовал,
поэтому ему по-прежнему не хватало рациональности в
классическом смысле. Получалось, что он поступал неосознанно
и не был хозяином самому себе, а значит, в конечном счете
им, как можно было предположить, двигали иррациональные
силы — те, что правят сферой спекулятивного кредита, а не
разумной торговли. Разумеется, существовали приемы — Ад-
дисон в своих текстах применял их с непревзойденным
мастерством, — способные возвысить его мотивы до по меньшей
мере низших форм рациональности и морали: до уровня
мнения, рассудительности, доверия, симпатии, даже милосердия,
но за всем этим стояла восходящая еще к Античности
проблема— как показать, что общество может действовать
рационально и благотворно, когда его члены не наделены в полной
мере рациональностью и добродетелью.
650
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
Конечно, решение проблемы следовало искать в попытках
изобразить общество как экономический механизм, в котором
товарный обмен и разделение труда должны были обратить
всеобщий эгоизм к всеобщей пользе. У Аддисона, Мандевиля
и Монтескье мы в том или ином виде1 встречаем образ
женщины, которой захотелось сшить себе новое платье из одной
лишь эгоистической прихоти (женщина как капризный
потребитель — лейтмотив явно склонной к сексизму социальной
критики Августинской эпохи) и которая тут же дает работу
торговцам и ремесленникам, приносящим обществу пользу,
несоизмеримую с пустяковостью ее желания. Монтескье приходит
к заключению, что «выгода — величайший монарх на земле»2.
Однако важно, что в некотором отношении все это либо
оказывалось не к месту, либо выглядело как признание
необходимого зла: общественная мораль начинала отделяться от
личной— и от уверенности человека в собственной целостности,
честности и реальности. Мандевиль, главные труды которого
вышли между 1714 и 1732 годами, в свою эпоху приобрел
репутацию, схожую с той, какой среди своих современников
пользовались Макиавелли и Гоббс, заявляя, что «пороки
отдельных лиц» — «выгода общества». Он утверждал, что основным
мотивом социального поведения служила не любовь к себе,
каким человек себя знал, не amour de soi-même Руссо, но то, что
он назвал самолюбием, а Руссо позже обозначил как amour-
propre: то, как человек хотел выглядеть в собственных глазах
и в глазах других людей3. На этом фундаменте он выстроил
сложную социальную психологию, в основе которой лежали
ι. См. 6д-й номер «Зрителя» Аддисона (Bloom Ε.Α., Bloom L.D. Joseph
Addison's Sociable Animal, P. 38-39); Mandeville B. Fable of the Bees / Ed.
by Ph. Harth. Harmondsworth, 1970. P. 120 (remark G); рус. перевод:
Мандевиль Б. Басня о пчелах / Пер. Е.С. Лагутина. Μ., 1974· С. 208-209);
Монтескье Ш.Л. Персидские письма. Размышления о причинах величия
и падения римлян. М., 2002. С. 171—174 (письмо СVI).
2. Монтескье Ш.Л. Персидские письма. С. 173; «...l'intérêt est le plus grand
monarque de la Terre» (Montesquieu Ch.L. Oeuvres complètes. Paris, 1949. P. 288).
3. См.: Mandeville J. An Enquiry into the Origin of Honour and the Usefulness of
Christianity in War / Ed. and introd. by M.M. Goldsmith. London, 1971. P. XIII,
XXIII. О разграничении Руссо см.: Rousseau J.-J. Discours sur Pinegalité //
The Political Writings of Jean-Jacques Rousseau / Ed. by CE. Vaughan. Vol. 1.
Oxford, 1962. P. 217 (Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и
основаниях неравенства между людьми / Пер. А.Д. Хаютина // Руссо Ж.-Ж. Об
общественном договоре. Трактаты. М., 1998. С. 68). Интересно, что Ман-
девилю были известны этимология и история слова virtus и его связь
с воинской этикой; см. его предисловие к «Исследованию»: Mandeville В.
An Enquiry into the Origin of Honour and the Usefulness of Christianity in
War. P. IH-VII.
65I
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
представления об обычае — под ним он понимал скорее
манеры, чем привычки, скорее фантазию, чем опыт, — и чести,
под которой он подразумевал не категории феодальной
героической этики, связанные с гордостью и позором, а вектор
интерсубъективных отношений в обществе, побудивший Дефо
считать честь синонимом кредита. По сути, Мандевиль
говорил, что реальный мир экономики и политики держится на
мириадах вымышленных миров, существовавших в
воображении отдельных эго; и он очень раздражал современников не
столько тем, что говорил им об их жадности и эгоизме,
сколько потому, что считал своих собеседников нереальными, и им
следовало оставаться таковыми, дабы поддерживать
существование [коммерческого] общества. Так возник призрак ложного
сознания, который постепенно начал казаться более страшным,
чем Realpolitik Макиавелли.
В рамках этики гражданского гуманизма человек знал, что
он разумен и добродетелен, и обладал тем, что мы теперь
называем amour de soi-même, в той мере, в какой видел в себе
гражданина и знал, как играть свою роль и принимать решения
в контексте политейи (politeia) или modo di vivere республики.
С учетом пространственно-временной ограниченности и
неустойчивости любой республики такой способ
самоутверждения всегда считался ненадежным и рискованным, требовал
героической добродетели, если не особой благодати; и выводы
из этого парадокса были сформулированы еще выдающимися
флорентийскими мыслителями. В пуританской Англии и
Британии Августинской эпохи родилась теория свободного
землевладения и недвижимого имущества как основаниях личности,
автономии и республики; впрочем, когда с появлением новых
форм собственности и политической экономии она оказалась
под вопросом, это привело к переосмыслению проблемы
личности и нестабильности времени — иными словами, ценностей
и истории. Теперь стало казаться, что недвижимое имущество
и личная независимость принадлежат историческому прошлому;
новые динамичные силы — государства, торговли, войны —
олицетворяли мир, который ощутимо вытеснял прежний, но
обрекал отдельного человека на жизнь в области фантазии,
страсти и amour-propre. Индивид был способен объяснить эту новую
сферу жизни: определить социальные силы, которые привели
к ее появлению; он мог поставить и достигнуть целей, к
которым толкали его страсти и фантазии, но не имел ресурсов
осмыслить себя, найдя свое место как реального и рационального
652
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
субъекта в этой системе. История и ценности вытесняли друг
друга, и явственно проступило то, что впоследствии будут
описывать как отчуждение человека от собственной истории.
Однако наделенный гражданским статусом и имуществом человек
вовсе не был готов ощущать себя лишь продуктом исторических
сил. Ему оказалось важно выступать обладателем этики,
которая ясно и убедительно изображала его как гражданина,
наделенного классической добродетелью и живущего в классической
республике, но требовала воспринимать все изменения,
затрагивающие сферу государства, торговли и войны, как
проявления коррупции — по сути, той же порчи нравов, которая
превратила Рим из республики в империю. Отсюда настойчивый
и местами нервный неоклассицизм этой эпохи. Основной
моделью существования для индивида в мире ценностей служила
гражданская жизнь, но основной моделью существования для
индивида в конкретной исторической действительности новой
эпохи был человек экономический и интерсубъективный, и
совместить одно с другим оказалось особенно трудно.
Как следствие, мы обнаруживаем, что вся социология
свободы, как она развивалась от Аристотеля до Макиавелли и от
Макиавелли до Харрингтона, стала доступна британским
мыслителям (и французским англоманам) в форме идеологии
партии «страны» или партии «старых вигов». Эта идеология
в мельчайших подробностях определяла ценности
гражданской свободы, моральные и политические условия, в которых
они расцветали или увядали, и включала в себя трактовку
европейской и английской истории, согласно которой они
развивались и нависавшая над ними угроза коррупции
становилась все заметнее; однако отдельные положения этой теории
обязывали ее критиковать как тлетворные некоторые важные
тенденции, которые она определяла в качестве характеристик
«модерного» мира. В противоположность ей идеология
«придворной» партии, которую предвосхитили работы Дефо и
близких к нему авторов и которая отличалась меньшей
риторической изощренностью, поскольку ей были менее свойственны
моральные предписания, точно определяла факторы, ведущие
к историческим переменам, и разъясняла, как должно
строиться и строилось правление на новых основаниях, но не
наделяла ни политию, ни личность целостной моральной
структурой. Исторические изменения она принимала, руководствуясь
практическими соображениями; она отрицала, что правление
основано на принципах, к которым можно вернуться; согласно
653
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
данной моральной и философской теории, главными
импульсами человеческих побуждений и сознания служили гордость
и страсть, фантазия и личная выгода, которые она
определяла в категориях, близких Макиавелли и Гоббсу. Как бы
трудно ни было примирить между собой философию моральных
ценностей и подлинной истории, добродетели и страсти,
собственности и кредита, любви к себе и самолюбия,
политическая обстановка Британии XVIII века с ее неизбежной
взаимозависимостью между двором и страной требовала попыток
такого рода примирения, при котором развитие обеих
идеологий внутри каждой из оппозиций шло бы благодаря взаимным
уступкам. Напротив, в американских колониях — как
убедительно свидетельствуют современные исследования —
идеология добродетели, постоянно находящейся под угрозой
коррупции, оставалась почти не затронутой ощущением, что людям
необходимо иметь дело с силами истории и что их возможно
сдерживать. Это обстоятельство способствовало разделению
атлантического мира в великой Гражданской войне
Американской революции; интеллект, воспитанный в духе
гражданского гуманизма, получил беспрецедентную возможность
применить социологию свободы в законодательной
деятельности в смысле создания нового государства. Впрочем, силы
перемен и модерности оказались на другом берегу Атлантики
несколько раньше, чем императивы управления потребовали
от людей их признания. Указанное обстоятельство обусловило
ситуацию, в которой реальная попытка применить
классическое законодательство на практике столкнулась с кризисами
и обнаружила свои парадоксы.
IL
Авторами «Писем Катона» (Cato's Letters), впервые напечатанных
в «Лондонском журнале» (London Journal) между 1720 и 1724
годами, были Джон Тренчард — ветеран «памфлетной войны»
1698 года — и его протеже Томас Гордон, и они же писали для
«Независимого вига» (The Independent Whig), антиклерикальная
направленность которого ощущалась гораздо отчетливее. Эта
политическая литература получила широкое
распространение среди американских поселенцев того времени1. «Катон»
I. Robbins С. The Eighteenth-Century Commonwealthman. P. 115-125; Rossiter С.
Seedtime of the Republic: the Origin of the American Tradition of Political
Liberty. New York, 1953. P. 141, 492; Bailyn B. The Ideological Origins of the
654
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
главным образом был склонен указывать на упадок в стране,
о котором свидетельствовал крах Компании Южных морей,
и предлагать средства борьбы с ним. Следует отметить, что
Монтескье в «Персидских письмах» (1721) рассматривал схожее
состояние дел во Франции, где оно было вызвано неудачей
«Компании Миссисипи» Джона Ло1, однако в Британии темы,
которые «Катон» счел необходимым затронуть, дебатировались
уже четверть века. Нельзя назвать ни случайным, ни
удивительным, что давний противник постоянной армии неизбежно
порицал огромное значение «процента на капитал», ибо и то,
и другое, по сути, считалось формами одного и того же
явления. «Катон» — старшим из соавторов которого был Тренчард,
хотя и Гордон внес в его создание заметный вклад, — в
отчетливо макиавеллиевском и неохаррингтоновском духе
размышляет о коррупции и республике как ее противоположности
и, в частности, заявляет, что Англия (или Британия)
принадлежит к тем счастливым республикам, где главным
магистратом является король8. В этой республике сразу же угадываются
макиавеллиевские черты: она должна беспощадно мстить тем
(учредителям Компании Южных морей), кто причинил ей вред3,
а ее свобода не продержится долго без равенства в
распределении имущества и, следовательно, власти4. Макиавелли
говорил о необходимости подобного equalità5, но, подобно ему,
«Катон» подразумевал здесь не столько уравнение собственности,
сколько «аграрный закон или нечто в таком роде», благодаря
которому ни один человек или группа не могли разбогатеть
настолько, чтобы поставить других в зависимое положение6.
Слова «или нечто в таком роде» показывают, что перед нами
уже не земельная республика в чистом виде; бояться следует не
вассальных отношений как таковых, а долговых обязательств
American Revolution. Cambridge, Mass., 1967. P. 35-37 (рус перевод: Бейлин Б.
Идеологические истоки Американской революции / Пер. Д. Хитровой
и К. Осповата. М., 20Ю. С. 35_39)î Idem. The Origins of American Politics.
New York, 1970. P. 40-44; Jacobson D.L. The English Libertarian Heritage.
Indianapolis, 1965 (введение; текст полностью состоит из фрагментов
«Писем Катона»).
1. См. «Персидские письма» Монтескье (письма XXIV, XCVIII, СХХХН,
CXXXVIII, CXLII, CXLVI).
2. Cato's Letters: or, Essays on Liberty, Civil and Religious, and Other Important
Subjects. 3-d ed. London, 1723. Vol. II. P. 28.
3. Ibid. Vol. I. P. 6-7 et passim.
4. Ibid. P. 11.
5. Равенство (итал).—Прим. ред.
6. Ibid. Vol. II. P. 16, 71-74, 85-90.
655
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
и коррупционной зависимости, к которой они ведут. Растрата
бюджета — тягчайшее преступление против общества1;
земельные собственники-фригольдеры ни в коем случае не должны
допускать, чтобы в парламенте их представляли люди,
«вложившие свое состояние в различные компании»2;
монопольные торговые компании, такие как Ост-Индская компания
или Компания Южных морей, превращают землевладельца
в должника, разрушают торговлю и приводят государство
в упадок, насаждая неравенство3. Спурий Мелий,
пытавшийся подчинить себе народ, монополизировав поставку зерна,
теперь стал легендарным внутренним врагом Рима4, тогда как
Харрингтон лишь мимоходом упомянул о нем, говоря о
незначительных опасностях, которыми торговля угрожала свободе5.
«Катон» полностью признавал сам факт, а с ним и опасность,
существования такого общества; искомое равенство требовало
чего-то большего, чем земельное право. Люди должны быть
равными в свободе и в повиновении публичной власти — в
возможности практиковать добродетель. Иначе сама добродетель
окажется невозможной.
Однако равенство в этом смысле не предполагает какого-либо
точного аналога аграрному закону Харрингтона, и «Катон» не
говорит нам, какие конкретные меры, кроме нежелательности
монопольных прав для отдельных компаний и опасности
тяжелого бремени государственного долга, необходимо принять
для обеспечения равенства в торговом обществе. Если под
«равенством» понимается только равное подчинение res publica, то
требуется (или можно) лишь вновь утвердить общественную
1. Cato's Letters. Vol. I. P. 134-135.
2. Ibid. Vol. III. P. 24.
3. Ibid. P. 199-213.
4. Ibid. Vol. I. P. 69-70.
5. The Oceana and Other Works of James Harrington / Ed. by J. Toland. P. 28:
«As for dominion personal or in mony, it may now and then stir up a Melius
or a Manlius, which, if the commonwealth be not provided with some kind
of dictatorian power, may be dangerous, though it has bin seldom or never
successful: because to property producing empire, it is requir'd that it should
have som certain root or foot-hold, which, except in land, it cannot have,
being otherwise as it were upon the wing»; «Что касается личной или
денежной монополии, время от времени она может порождать какого-
нибудь Мелия или Манлия, что, если республика не будет обладать
какой-либо диктаторской властью, может оказаться опасным, хотя
такие вещи случаются редко или никогда не имеют успеха: ведь
чтобы имущество стало залогом верховной власти, у него должны быть
какие-то прочные корни или основания, которые может обеспечить
только земля, а иначе его положение так и остается непрочным».
656
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
власть — по Макиавелли, ridurre ai principii, а эту формулу, как
оказалось, едва ли можно было понять более конкретно. Однако
(если подходить к проблеме с другой стороны), поскольку
публичная власть в сочетании с неравенством ведет к коррупции,
а там, где коррупция, нет добродетели, то возрождение res publico.
в ее свободной от порчи форме легко отождествляется с
возрождением добродетели. Поэтому призыв «Катона» к равенству, не
содержа в себе никакой определенной программы, компенсирует
этот недостаток моральным пафосом, и, хотя большей частью
он лишь призывает народ, его представителей и должностных
лиц к честности и независимости, не стоит видеть в этих
воззваниях только нравственный смысл. Главное зло коррупции
многие теоретики видели в том, что она нарушала равновесие
конституции; возраставшая значимость процентов на капитал
государственного долга искажала отношения между
исполнительной властью, парламентом и собственниками, и призыв
к добродетели и возрождению res publico, мог стать программой
восстановления конституционных отношений в том, что
считалось их наиболее сбалансированной формой.
Однако «Катон» не являлся
мыслителем-конституционалистом в строгом смысле, и в той мере, в какой он им не был,
понятие добродетели скорее диктовало требование
индивидуальной морали в политике. Прослеживая развитие этой темы,
мы неоднократно сталкиваемся с утверждением, что обществу
торговли присуща своя психология и что это усложняет
стремление к добродетели и ее сохранению. Мировоззрение «Катона»
чуждо земледельческой утопии, хотя в предисловии,
написанном уже после смерти Тренчарда, Гордон сообщает: «Несмотря
на то что он бережно относился к своим Владениям, он никоим
образом не стремился их расширить»1; читатель остается в
полной уверенности, что обществу, основанному лишь на
землевладении, свойственны варварство и вассальная зависимость, как
в Польше или в шотландском Хайленд, и что нельзя
преодолеть наиболее неприятные черты «готической» системы, если
не добавить к сельскому хозяйству торговлю8. Справедливо, что
при Начале и Основании Государств в особой Цене
оказываются такие Качества, как грубая и неотесанная Доблесть,
дикая и свирепая Жестокость и безоглядная Страсть к Свободе:
1. Cato's Letters. Vol. I. P. LVII.
2. Ibid. Vol. II. P. 305.
657
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
им на смену приходят воинские Достоинства, прирученные
Искусства и Науки, а также политические Знания и Навыки,
необходимые, чтобы сделать Государство великим и грозным
в глазах других Держав и чтобы сохранить Равенство,
домашний Уют и Безопасность в своей Стране; наконец, когда все
это достигнуто, наступает черед Учтивости, умозрительного
Знания, моральной и экспериментальной Философии, а равно
и других Наук и всего Сонма Муз1.
Однако переход от нерафинированной добродетели к
учтивости должен был свершиться и свершился при помощи
торговли, и нас уверяют, что морская торговля не только может
процветать лишь в условиях гражданской свободы, но и не
представляет для нее опасности. Моряки, в отличие от
постоянной армии, не угрожают республике. Добродетель и свобода
защищают торговлю, а торговля обеспечивает свободу и
учтивость2. Впрочем, чтобы связать между собой добродетель и
торговлю, потребовалась сложная цепочка рассуждений, и мы
понимаем причину этой сложности, когда обнаруживаем, какое
интеллектуальное усилие, в свою очередь, понадобилось, дабы
осуществить переход от торговли как фантазии к торговле как
более полной и упорядоченной реальности.
Совершенно точно, что к Торговле нельзя принудить; это
недоступная и капризная Дама, завоевать которую можно только
Лестью и Соблазном и которая всегда избегает Силы и Власти;
она не отдает Предпочтения никаким Нациям, Группам и
Условиям, а странствует и бродит по Земле, пока не обоснуется
там, где найдет наибольшее Дружелюбие и самый теплый
Прием; ей присущи такие Тонкость и Хрупкость, что она не в
состоянии дышать Воздухом Тирании; Желание и Наслаждение
так противны ее Природе, что она погибает от них, словно
пораженная Мечом. Но если вы будете обходиться с ней нежно
1. «in the first Rise and Beginning of States, a rough and unhewn Virtue,
a rude and savage Fierceness, and an unpolished Passion for Liberty, are
the Qualities chiefly in Repute: To these succeed military Accomplishments,
domestick Arts and Sciences, and such political Knowledge and Acquirements,
as are necessary to make States great and formidable Abroad, and to preserve
Equality and domestick Happiness and Security at Home; and lastly, when
these are attained, follow Politeness, speculative Knowledge, moral and
experimental Philosophy, with other Branches of Learning, and the whole
Train of the Muses» (Cato's Letters. Vol. III. P. 27-28).
2. Ibid. Vol. II. P. 272-277.
658
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
и любезно, она окажется благодарной и полезной Любовницей;
Пустыни она превратит в плодоносные Луга, Деревни — в
большие Города, Хижины — в Хоромы, Нищих — в Принцев; она
сделает Трусов Героями, Олухов Философами; нити,
сплетенные маленькими червячками, она обратит в богатейшую Парчу,
Шерсть безобидных Овец — в Гордость и Украшение Королей,
а новая Метаморфоза сделает из них вооруженные Отряды
и надменные Корабли1.
Однако это остров Цирцеи; предложив руку волшебнице, мы
окажемся в мире колдовства и превращений и заплатим за
это, признав, что нами управляют фантазии и страсти. «Ка-
тон» пространно объясняет, что людьми движет страсть, а не
принцип8 и что объекты наших надежд и страхов большей
частью иллюзорны и фантастичны3; людей обманывает и вводит
в заблуждение звучание слов4, и биржевые трейдеры — лишь
один из типов злоумышленников, которые используют других
в своих целях и развращают их образами ложных благ и
ложного почета5. Нельзя сказать, что причиной тому служат лишь
свойственные человеческой природе слабости; это по сути
своей «химера», и хорошие люди, как и дурные, должны обладать
властью, какую приносит знание человеческих страстей6.
Риторика «Писем» сближается с языком Гоббса:
Когда мы говорим, что, если бы Нечто случилось, нам было бы
спокойнее, мы можем или должны были бы иметь в виду лишь
то, что нам было бы спокойнее, чем теперь. Но и в этом мы
1. «Nothing is more certain than that Trade cannot be forced; she is a coy and
humorous Dame, who must be won by Flattery and Allurements, and always
flies Force and Power; she is not confined to Nations, Sects, or Climates, but
travels and wanders about the Earth, till she fixes her Residence where she
finds the best Welcome and kindest Reception; her Contexture is so nice and
delicate, that she cannot breathe in a tyrannical Air; Will and Pleasure are so
opposite to her Nature, that but touch her with the Sword and she dies: But if
you give her gentle and kind Entertainment, she is a grateful and beneficent
Mistress; she will turn Desarts into fruitful Fields, Villages into great Cities,
Cottages into Palaces, Beggars into Princes, convert Cowards into Heroes,
Blockheads into Philosophers; will change the Coverings of little Worms
into the richest Brocades, the Fleeces of harmless Sheep into the Pride and
Ornaments of Kings, and by a farther Metamorphosis will transmute them
again into armed Hosts and haughty Fleets» (Ibid. P. 267).
2. Ibid. P. 77-84.
3. Ibid. P. 51.
4. Ibid. Vol. I. P. 82-83.
5. Ibid. Vol. II. P. 192-201.
6. Ibid. Vol. I. P. 124-127; Vol. II. P. 50-52.
659
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
нередко обманываемся, ведь новые Приобретения влекут за
собой новые Потребности, а воображаемые Потребности так же
настойчивы, как и подлинные. Поэтому Желания иссякают
лишь вместе с Жизнью, и только Смерть способна умерить
эти Аппетиты1.
Впрочем, идеал гражданской добродетели не уходит в
прошлое. Хотя мы узнаем, что служить общему благу — само по
себе страсть и что страсти называют благими, если они
служат обществу, и дурными — если нет, с не меньшей ясностью
утверждается:
Едва ли есть другая Страсть, которую можно назвать
подлинно похвальной, когда ее средоточием является Общество
и когда она делает его своим Объектом. Честолюбие, Алчность,
Мстительность во многом становятся Добродетелями, когда
направлены на общее Благополучие. Знаю, что Люди крайне
редко и с большим трудом способны отделить свои Страсти от
собственной Личности и Интересов, но такие Люди, безусловно,
были. Таковы были Брут, Катон, Регул, Тимолеонт, Дион и Эпа-
минонд, равно как и многие другие древние Греки и Римляне;
и надеюсь, что в Англии такие еще найдутся. Хотя и об
общественных Делах люди размышляют с оглядкой на собственную
Выгоду, все же, если они более думают об Обществе или о том,
чтобы быть полезными Обществу, их по праву можно назвать
добродетельными и достойными2.
Здесь говорится о virtu как ее понимал Макиавелли, в том
смысле, что гражданская мораль не всегда согласуется с
человеческой, но тем не менее это подлинная классическая добродетель.
ι. «When we say, that if such a Thing happened, we would be easie; we can
only mean, or ought only to mean, that we would be more easie than we are:
And in that too we are often mistaken; for new Acquisitions bring new Wants,
and imaginary Wants are as pungent as real ones. So that there is the same
End of Wishing as of Living, and Death only can still the Appetites» (Cato's
Letters. Vol. II. P. 51).
2. «There is scarce any one of the Passions but what is truly laudable, when it
centers in the Publick, and makes that its Object. Ambition, Avarice, Revenge,
are all so many Virtues, when they aim at the general Welfare. I know that
it is exceeding hard and rare, for any Man to separate his Passions from his
own Person and Interest; but it is certain that there have been such Men.
Brutus, Cato, Regulus, Timoleon, Dion, and Epaminondas, were such, as were
many more ancient Greeks and Romans; and, I hope, England has still some
such. And though in pursuing publick Views, Men regard themselves and
their own Advantages; yet if they regard the Publick more, or their own in
Subserviency to the Publick, they may justly be esteemed virtuous and good»
(Ibid. Vol. II. P. 48-49).
660
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
Страсти предстают стремлениями к личным и частным
благам— трактовка, знакомая нам по аристотелевской традиции
в политике и этике; добродетель — страсть, которой присуще
стремление к общественному благу и с которой страсти менее
значительные могут соперничать, но которая при этом
способна преобразовать их. А коррупция есть неудачная
попытка трансформировать страсти или ее последствия. «Публика»
(The Publick, res publico) в какой-то мере соответствует модели
идеального правления в будущей политической теории Юма:
средством или механизмом, направленным на то, чтобы
побудить людей обдумывать долгосрочную, а не краткосрочную,
перспективу, отождествлять свои личные интересы с общим
благом, воздвигнуть здание разума и добродетели на фундаменте
страсти. Однако, кроме того, оно гораздо менее двусмысленным
образом, чем у Юма, выступает и как средство вывести людей
из пещеры на солнечный свет, из области фантазии в область
реальности. И герои древних политий не просто
сформировались под воздействием этого механизма социализации; их
добродетель была активной и подлинной, и ее можно назвать
главным способом поддержания добродетели в других. Помимо
нравственного примера добродетельного героя,
перечисляются и другие средства предотвращения коррупции — и
поразительно, насколько они созвучны античной и гуманистической
традиции. Есть народ в качестве guardia délia libertà; хотя в силу
ограниченности своего опыта общественной жизни он склонен
обманываться, доверяясь звучанию слов и несуществующим
предметам, то обстоятельство, что народ сам не ищет власти,
говорит о его незаинтересованности в том, чтобы плодить
фантазии, развращающие других, а значит, можно надеяться, что со
временем он поймет свое заблуждение1. В свободном обществе,
где опасность обмана в любом случае меньше, даже фантазии
народа могут послужить на благо общества, ведь,
как справедливо замечает Макиавелли, когда Народ испытывает
недовольство и предубежден против тех, кто им правит, нет ни
Вещи, ни Человека, которые бы внушали ему страх2.
ι. Ibid. Р. 153-156, 177-183.
2. «as Machiavel well observes, When the People are dissatisfied, and have taken
a Prejudice against their Governors, there is no Thing nor Person that they ought
not to fear» (Ibid. Vol. I. P. 180-181). Эта мысль действительно в духе
Макиавелли, хотя не вполне ясно, к какому именно тексту отсылает этот
фрагмент.
661
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
В определенном смысле неравенство соотносится с
равенством точно так же, как fortuna — с virtus, и это с особенной
ясностью показывает, что необходимое республикам «равенство»
является, строго говоря, isonomia1. Люди равны по природе в том
смысле, что все от рождения одарены одними и теми же
способностями, но фортуна несправедливо и капризно
распределяет случайные блага этого мира, так что одни получают
больше других. Это влечет за собой соперничество, зависть, жажду
наживы, которые по-своему полезны для общества; этим же
неравным распределением богатств фортуной обусловлено
существование правящего класса, власть которого призвана
сдерживать и ограничивать стремление к конкуренции, дабы
оно не выливалось в крайности. Те, к кому фортуна более
благосклонна, и те, кого она в чем-то обошла, по всей
вероятности, контролируют и направляют страсти друг друга, чтобы
они служили общему благу, а произвол фортуны постоянно
требует от меня подтверждать мою добродетель, напоминая,
что по крайней мере она не является даром случая.
Мы не можем получить от Природы больше Достоинств, чем
другие Люди, но можем стяжать больше Добродетели, чем мы
обычно приобретаем. Быть великим под силу не любому
Человеку, но быть добродетельным под силу каждому: в этом
отношении каждого Человека можно назвать равным другому,
занимающего самое низкое Положение — тому, кто занимает
самое высокое, а потому Люди могут быть равны не только по
природе, но и с нравственной точки зрения2.
Эти и другие подобные им факторы способствуют поддержанию
добродетели в свободных обществах. Очевидно, что
классическая республика с ее разделением властей и сменой должностных
лиц — образцовая модель свободного общества и что «Древняя
конституция» Англии подобна республике во многих
отношениях — включая ротацию магистратов3, — под которой авторы,
по-видимому, подразумевали частые выборы в парламент (хотя
ι. Равенство граждан перед законом (др.-греч). — Прим. ред.
2. «We cannot bring more natural Advantages into the World, than other Men do;
but we can acquire more Virtue in it than we generally acquire. To be great,
is not in every Man's Power; but to be good, is in the Power of all: Thus far
every Man may be upon a Level with another, the lowest with the highest; and
Men might thus come to be morally as well as naturally equal» (Cato's Letters.
Vol. II. P. 90; подробное изложение этих доводов см.: Ibid. P. 85-90).
3. Ibid. P. 234-240.
662
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
ничего не говорится о том, что в 1717 году Тренчард выступил
в поддержку Семилетнего акта1). Однако важно, что дальше ход
рассуждений меняется2. Утверждается, что Англия при нынешнем
положении дел не способна ни к какой другой форме правления,
кроме ограниченной монархии, ибо имущество распределено
таким образом, что существует влиятельная аристократия и
занимающее выгодное положение духовенство, богатство и власть
которых зависят от патронажа короны и одновременно ставят
в зависимое положение других людей. Поэтому здесь отсутствует
имущественное равенство, необходимое для существования
республики в чистом виде (и даже, по всей видимости, республики,
главой которой может быть король), а в отношениях между
монархом и аристократией проявляется неослабная
взаимозависимость, характерная для описанной Харрингтоном монархии
«готического» типа. Поддержанию существующей системы
способствуют силы, обычно отождествляемые с коррупцией:
придворные, назначенцы, злоупотребляющие своим положением
и действующие в интересах своих патронов, монопольные
торговые компании. Впрочем, как уверяет «Катон»,
Если Обстановка в Англии в настоящее время действительно
такова, а я считаю, что это не подлежит сомнению, нам
ничего не остается, — и это лучшее, что мы можем сделать, — кроме
как извлечь самое лучшее из нашей собственной Конституции,
которая, если распоряжаться ею должным образом, прекрасно
подходит, чтобы обеспечить всеобщую свободу, а также
обезопасить Обладание Собственностью и приложить все
возможные Усилия, чтобы они соответствовали другим Целям частной
Добродетели, в той мере, в какой ее Природа способна вести
ее к такому Предназначению3.
Spartam — или скорее Venetiam — nactus е&\ англичане, по всей
видимости, в конечном счете все же не унаследовали столь
1. Закон, продлевающий полномочия парламента до семи лет.—Прим.
7î€Ù€e
2. Ibid. Vol. III. P. 159-165.
3. «If this be the true Circumstance of England at present, as I conceive it
indisputably is, we have nothing left to do, or indeed which we can do, but to make the
best of our own Constitution, which, if duly administered, provides excellently
well for general Liberty; and to secure the Possession of Property, and to use
our best Endeavours to make it answer the other Purposes of private Virtue,
as far as the Nature of it is capable of producing that End» (Ibid. P. 162-163).
4. Тебе досталась Спарта (Венеция) (лат.). Парафраза античной
поговорки «Тебе досталась Спарта, так украшай ее». — Прим. ред.
663
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
совершенного имущественного равенства, чтобы оно
позволяло им практиковать в республике общественную, а не частную
добродетель. Как следствие, они должны совершенствовать
то, что имеют. Ограниченная монархия не является идеально
уравновешенной республикой; она лишь балансирует между
факторами, содействующими свободе и приводящими к порче,
между собственностью и зависимостью, между
исполнительной властью и парламентом, и этого вполне достаточно,
чтобы обеспечить свободу и частную добродетель, предотвратив
наиболее разрушительные проявления коррупции и фантазии.
Эти строки написаны Тренчардом, и мы явственно
различаем голос 1714—1719 годов; «старые» виги, примкнув к тори на
базе идеологии «страны», из-за эксцессов и крайностей
Высокой церкви, которую последние поддерживали, оказались
вынуждены принять систему, навязанную вигами из
«придворной» партии1, в рамках которой был утвержден Семилетний
акт и которая теперь, после краха Компании Южных морей,
шла к окончательному формированию сильного
правительства во главе с Уолполом. Для авторов, принадлежащих к нео-
харрингтоновской традиции, это означало признать власть,
державшуюся на патронаже и финансах, которую они никак
не могли считать не подверженной коррупции; в такой
системе невозможно восстановить чистоту какого-либо принципа.
И принятие этой реальности означало принятие верховенства
страсти и выгоды.
У обвинений, которые Тренчард и Гордон предъявляют миру
коррупции и иллюзии, есть еще одна особенность, которая не
должна остаться незамеченной. От картины ложного сознания
спекулятивного общества2, в котором люди, будто помешанные,
гоняются за призрачным золотом, совершая манипуляции
с ценными бумагами, они переходят к изображению других
форм ложной чести и ложного сознания, обусловленных уже не
избытком свободы, а избытком власти: мира абсолютной
монархии, где люди и их ценности не просто подчинены власти
автократа, но даже в собственных глазах существуют лишь по
отношению к нему и его придворным3; мира суеверия и
религиозного культа, который есть не что иное, как описанное
1. О решении республиканских интеллектуалов согласиться с
Семилетним актом см.: Robbins С. The Eighteenth-Century Commonwealthman.
P. 109-110.
2. Cato's Letters. Vol. I. P. 16-17, 25-27.
3. Ibid. P. 88-90.
664
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
Гоббсом в четвертой книге «Левиафана» «царство фей», где
людей держат в подчинении, заставляя их жить в призрачном
мире нереальных сущностей и объектов1. Отмеченный нами
раньше негласный альянс «Левиафана» и «Республики
Океании» по-прежнему актуален для этих неохаррингтонианцев.
И власть суверена, и добродетель гражданина одновременно
изгоняют фантазии и изображают вещи и людей такими, какие
они есть, но если у Гоббса ложное сознание порождало мятеж,
в республиканской традиции оно воплощается в коррупции.
Людей, живущих фантазиями, используют в своих
интересах люди, правящие за счет фантазий. Автократы,
священники и биржевые трейдеры выступают здесь в качестве общего
врага, и ход рассуждений, который мы проследили, наводит
на мысль, что именно они и способствовали формированию
такой теории. В «Персидских письмах», созданных примерно
в одно время с «Письмами Катона» под сильным
впечатлением от краха «Компании Миссисипи», Закон изображен в
облике северного чародея, который продает мешки, наполненные
ветром, убеждая людей, что это золото2. Такие полномочия
даны ему властью короля, чьи придворные живут и
принуждают других жить в вымышленном мире, где нет ничего, кроме
чести в значении репутации, которая сама по себе
определяется отчасти распоряжением того или иного автократа, а
отчасти взаимным обманом придворных3. Придворный
приравнивается к клирику, монаху и лжефилософу, и исследователи4,
анализировавшие те из «Персидских писем», где отстраненно
рассказывается о трагедии в гареме Узбека, настойчиво
утверждали, что королевский придворный сравнивается с евнухом,
а испорченный гражданин — с отвергнутой женщиной, так что
Монтескье рассматривает проблему фантазии и коррупции
в плоскости сексуальных отношений в классическом ойкосе
(oikos). Если так, он, по-видимому, вообще отказался от того,
чтобы искать virtus в браке (Мандевиль отметил в этом слове,
происходящем от vir, корень, связанный с мужественностью);
во всей книге мы встречаем лишь два случая идиллических
отношений, один из которых основан на инцестуальной связи
1. Ibid. Vol. II. P. 105-112.
2. См. «Персидские письма» Монтескье, письмо CXLII.
3- См. «Персидские письма» Монтескье, письма LXXXVII-XC.
4- Вегтап М. The Politics of Authenticity. New York, 1970; Ranum 0. Personality
and Politics in the Persian Letters // Political Science Quarterly. 1969. Vol. 84.
№ 4. P. 606-627.
665
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
между братом и сестрой, а другой — на эротической сцене о
связи женщины с несколькими мужчинами1, и можно подумать,
что Монтескье окончательно разочаровался в экзогамии.
Впрочем, как бы там ни было, очевидно, что противопоставление
добродетели и ложного сознания могло служить основной для
самых различных социологических теорий.
Важнее, пожалуй, то, что и «Катон», и Монтескье прибегают
к этому противопоставлению в контексте яростного
антиклерикализма. Добродетельный человек способен сам отправлять
свои обряды и делает это в рамках гражданского общества,
а не частным образом; церковник, претендующий на
исключительное право в этой сфере, наравне с солдатом, юристом
и биржевым трейдером оказывается тем, кто пытается
присвоить добродетель, которая в равной мере должна быть присуща
всем людям, и — по крайней мере в случае трейдера — он
может добиться этого, лишь внушая иллюзорные сущности уму
тех, кого хочет обмануть и тем самым развратить2. Тренчард
и Гордон разделяли в этом отношении точку зрения Невилла,
изложенную им в «Возрожденном Платоне»; вспомним и Хар-
рингтона, республиканская теория которого совпадала с
традицией индепендентов в стремлении урезать полномочия
клириков до уровня гражданских чиновников. Здесь обращает на
себя внимание явная перекличка между неохаррингтоновским
республиканизмом начала XVIII века и деизмом. Не следует
забывать и о Свифте с его «Мыслями приверженца
Англиканской Церкви» (Sentiments of a Church of England Man), но к
республиканской традиции, помимо самого «Катона», принадлежали
также Толанд, Болингброк, а во Франции — Анри де Буленви-
лье, пламенный участник антихристианского литературного
подпольного кружка, который в своих «Эссе о знати» (Essai sur
la Noblesse) и «Письмах о парламенте» (Lettres sur les Parlements)
стремился приписать французской знати особую virtu,
основанную на sang и epée3, а не на свободном землевладении4. Франко
Вентури высказал предположение, что республиканские модели,
1. «История Аферидона и Астарты» в письме LXVII «Персидских писем»
и рассказ об Анаис и Ибрагиме в письме CXLI.
2. Этой теме во многом посвящены четвертый том «Писем Катона» и
перекликающиеся с ним выпуски «Независимого вига».
3. Кровь [и] шпага (франц.).—Прим. ред.
4·. Simon R. Henry de Boulainviller; historien, politique, philosophe, astrologue,
1658-1722. Paris, 1941; Idem. Un révolté du XVIIle siècle, Henry de
Boulainviller. Carches, 1948; Wade Ι. О. The Clandestine Organization and Diffusion
of Philosophie Ideas in France from 1700 to 1750. Princeton, 1938.
666
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
особенно если говорить об Англии, оказали большее влияние
на раннее Просвещение, чем принято считать1, и в этой
связи интересно отметить, что республиканизм и деизм в равной
мере продолжали крестовый поход англичан и пуритан
против духовенства, наделенного самостоятельной властью на
основании jure divino.
Конечно, в преемственности между пуританизмом и
деизмом существовал один значительный разрыв. Как мы
видели, Харрингтон в своих рассуждениях придерживался — быть
может, отчасти машинально — более ранней традиции,
требовавшей соотносить республику с апокалиптическим моментом,
и таким образом соответствовал другой традиции, множество
примеров использования которой знает пуританизм. Апока-
липтика пуритан была основана на пророчестве, о пророчестве
писал в том числе и Гоббс; напротив, деизм и Просвещение
в целом исходили из полного отрицания пророчества,
откровения и иудаистского библейского мышления в целом. В том
отношении, которое нас интересует, говорить о
преемственности между пуританизмом и деизмом можно в том случае, если
мы делаем акцент на следующих особенностях: тенденции
к секуляризации, заключенной в самой апокалиптике,
преобладании социнианских настроений над милленаристскими
в наследии эпохи, которой предшествовал расцвет
пуританства— Толанд помог опосредовать Мильтона и Харрингтона
для мысли XVIII века, — и в исследуемом Тьювсоном
переходе от представлений о Тысячелетнем Царстве к социальной
утопии. Однако чем очевиднее преемственность английского
республиканского деизма по отношению к пуританизму, тем
больше внимания мы будем уделять тем аспектам, с точки
зрения которых Англия являлась слишком модерной, чтобы
нуждаться в Просвещении, и даже уже была вовлечена в
конфликт с самой модерностью и ее последствиями, которые еще
не наступили в других странах. Как в «Письмах Катона», так
и в «Персидских письмах» мы находим осуждение
неограниченной власти, клира и развратных спекуляций; но в
странах, где абсолютная монархия и посттридентский католицизм
были не призрачными угрозами, а реальностью, они не могли
выступать в функции риторических украшений внутри
аргументов против коррупции и порчи нравов, как это случилось
в Англии. Если философы Просвещения пытались освободить
I. Ventun F. Utopia and Reform in the Enlightenment. Cambridge, 1971.
667
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
светскую историю от авторитета священных книг,
представители постмилленаристской социальной критики Августинского
периода изучали влияние исторических изменений на
гуманистическую теорию социальной личности, которая уже являлась
исключительно светской. Далеко не одна только устойчивость
средневековых и ренессансных теорий senectus mundi1 — хотя
они отнюдь не утратили своей силы — заставляла августинцев
размышлять о коррупции народов, которую они по-прежнему
представляли себе в рамках циклической модели2; ими владела
исключительно социальная и секулярная теория гражданской
личности, черты которой наводили на мысль, что перемены,
происходившие в обществе на протяжении нескольких столетий,
постепенно расшатывали ее основания. Эти воинственные виги
являлись проторуссоистами, были ближе к романтикам, чем
к philosophes, которые их читали. «Старых» вигов, появившихся
около 1698 года, можно, по всей видимости, назвать первыми
левыми интеллектуалами, которые стали критиковать
официальных лидеров своей партии за то, что те изменили
собственным всецело секулярным принципам; поэты и сатирики,
принявшие в 173°"е годы сторону Болингброка — назовем ли мы
их независимыми вигами или тори, — превратили сэра Роберта
Уолпола в фигуру вдвойне символическую, для них —
чудовище коррупции, а для нас — первого политика эпохи модерна,
внушившего интеллигенции (intelligentsia), что политическая
тактика и личность Уолпола подрывают моральные основы
человеческого общества3. Они говорили на языке гуманистов,
враждовали с современностью, а их позиция содержала нечто
от шестнадцатого столетия и нечто — от двадцатого. Должно
было пройти некоторое время, прежде чем Просвещение, еще
полное энергии, смогло преодолеть эту двойственность.
III.
Английскому варианту «момента Макиавелли», как мы видели,
присущи свои сложности экономического и психологического
характера, которых мы не найдем у его истоков, во Флоренции.
Наиболее выразительные формулировки их конституционных
1. Старость мира (лат.). — Прим. ред.
2. См., например: Cato's Letters. Vol. I. P. 121.
3. См.: Kramnick I. F. Bolingbroke and His Circle — и рецензию на эту книгу
автора настоящей работы, опубликованную в: Journal of Modern History.
1970. Vol. 42. № 2. P. 251-254.
668
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
аспектов принадлежат Генри Сент-Джону, виконту Болингброку,
и заключены в работах, написанных им в период между
первым и вторым изгнанием — куда он оба раза отправился по
своей воле, — когда он решил организовать в прессе и
памфлетах кампанию против политики Уолпола, используя при этом
язык, непосредственно перекликавшийся с риторикой 1698-
1702 и 1711-1714 годов1. Программа партии «страны» — частые
парламентские выборы, исключение тех, кто злоупотребляет
должностными полномочиями, наличие земельных владений
как обязательное условие членства в палате общин —
сформировалась в борьбе с политикой Дэнби в 1675 году и вылилась
в кампанию против масштабных военных действий и ущерба,
который они наносили правительству и бюджету. После
полного поражения партии тори в 1714 году несколько последующих
правительств, состоявших из вигов, не оспаривая решения
прекратить участие в европейских военных кампаниях,
выстраивали политический курс, известный как «рост олигархии»8. Для
него были характерны сильная и устойчивая исполнительная
власть, представленная монархом-протестантом и парламентом,
и стабильное снижение политической конкуренции; в число
используемых средств входили нечестные выборы, принятие
Семилетнего (вместо Трехлетнего) акта, продлевающего срок
полномочий парламента, и система политического управления,
в которой патронаж играл заметную, если не первостепенную
роль. Кроме того, этот курс предполагал сохранение банков
и фондов, которые были созданы ради финансирования
военных действий и противники которых, считая их
коррумпированными, видели в продолжении их существования в качестве
постоянного элемента государственной структуры исполнение
самых мрачных пророчеств. И скандал, которым сопровождался
крах Компании Южных морей, нисколько не уменьшил этих
опасений. Таким образом, лексикон идеологии «страны»,
сложившийся за полвека до того, оставался актуальным, включая
понятия постоянной армии и биржевых трейдеров. И хотя
правительство во главе с Уолполом явно стремилось к сохранению
мира, Болингброк и Палтни в своем журнале «Кудесник» при
поддержке писателей такого масштаба, как Поуп, Свифт, Гей,
ι. Подробнее всего эти противоречия рассмотрены в книге Крамника;
Дикинсон наиболее полно прослеживает их связь с биографией Бо-
лингброка: Dickinson И. Т. Bolingbroke. London, 1970.
2. Термин заимствован из работы: Plumb J. Я. The Growth of Political Stability
in England, 1660-1730. London, 1967.
669
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
Арбетнот и Филдинг, нападали на него, прибегая к той же
риторике, которая использовалась против выступавших за
ведение войны политических группировок в эпоху Вильгельма
и Анны, и представляли Уолпола как прямого исторического
преемника и продолжателя этой традиции.
Идеология партии «страны» всегда была направлена на то,
чтобы настроить провинциальных дворян и их независимых
представителей в парламенте на борьбу с действующей
администрацией, и используемая для этого риторика добродетели
неизменно оставалась в той же мере политической, в какой
и моральной. Поэтому она, конечно, хорошо вписывалась в
античную традицию. Как мы знаем, аристотелевская полития,
модель, ключевая для всего гражданского гуманизма,
подразумевала одновременно распределение политических функций
и властей и сотрудничество различных видов добродетели,
а сами слова virtus и virtu использовались для обозначения
мощи или силы, равно как и определенного морального
качества. Болингброк, как и все представители идеологии «страны»,
использовал эту двойственность, пытаясь разрешить главную
стоявшую перед ним дилемму: принимая политические
последствия Славной революции ι688 года, он категорически
отвергал разлагающие, на его взгляд, последствия неотделимой от
нее финансовой революции — и нашел решение, само по себе
восходившее к ключевому противоречию «Ответа Его
Величества на Девятнадцать предложений обеих палат парламента».
Из этого документа, в котором формулировалось авторитетное
учение о том, что Англия пользуется сбалансированной
конституцией, невозможно было понять, составляют ли король,
лорды и общины — представлявшие классических одного,
немногих и всех — партнерство в одной функции, поддерживая
баланс в законодательном процессе, партнерство между
носителями нескольких функций и полномочий в рамках более
широко определяемого процесса управления, или партнерство
между обладателями различных социальных добродетелей
внутри политейи (politeia) или res publico,. Как нам известно,
необходимость разграничивать эти возможные значения баланса
и партнерства по-настоящему возникла, лишь когда важную
роль стало играть понятие законодательства.
С тех пор как Шефтсбери первым выступил с критикой
монархии и ее приверженцев, подкупающих палату общин, эта
риторика оставалась актуальной для нападок на
«исполнительную власть» (или «министров»), стремившуюся поставить
670
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
«законодательную власть» (или «представителей») в
зависимое или подчиненное положение и таким образом нарушить
«равновесие», что могло иметь не менее серьезные последствия,
чем в 1642 году; однако основополагающая двусмысленность
сохранялась. Когда бы ни возникал конфликт между
королевской прерогативой и парламентом, риторика равновесия
использовалась в своем функциональном смысле и
обвиняемая сторона осуждалась за присвоение не принадлежащих
ей полномочий. Но когда — как все чаще происходило — речь
шла о патронаже и коррупции, исполнительной власти
ставили в вину не столько превышение своих конституционных
полномочий, сколько то, что она ставила участников
законодательного процесса в личную и коррупционную зависимость
от короны и подведомственных ей финансовых ресурсов. Хотя
это можно назвать важным шагом от риторики функции к
риторике добродетели, резкой границы между ними никогда не
существовало и они тяготели к слиянию. Даже в становлении
концепции «процента на капитал», которую историки
обобщенно называют «новой формой собственности», в то время
видели растущее «влияние короны», таким образом
умножавшей и число тех, кто от нее зависел, и их состояния. Однако
в результате опасность, которой подвергалось равновесие
конституции, и расширение полномочий исполнительной власти
считались угрозой для общества и морали, о которой мы уже
говорили. Нарушать равновесие по-прежнему означало
коррумпировать добродетель.
Одна из более интересных гипотез Болингброка о
современной истории заключалась в том, что на смену
опасности, которую представляла королевская прерогатива, пришла
опасность коррупции1, и это неохаррингтоновский по своей
сути аргумент. Тем не менее он продолжал объединять
языки функции и морали и таким образом оказывать влияние
на мысль Монтескье, а через него — на отцов-основателей
США. Речь идет о знаменитой проблеме «разделения властей»2.
Время от времени Болингброк использовал терминологию,
1. Эта мысль подробно изложена им в «Рассуждении о партиях» (А
Dissertation Upon Parties, I733_I735)·
2. Это понятие подробно, пусть и с некоторыми упущениями в плане
исторического контекста рассматривается в следующих двух работах:
Gwyn IV. В. The Meaning of the Separation of Powers: an Analysis of the
Doctrine from its Origin to the Adoption of the United States Constitution.
New Orleans, 1965; Vile M.J. C. Constitutionalism and the Separation of Powers.
Oxford, 1967.
671
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
позволявшую, по-видимому, предположить, что король, лорды
и общины выполняли отдельные политические функции,
которые можно различать как исполнительные, судебные и
законодательные, и что равновесие в государстве обеспечивала
способность двух из этих элементов контролировать третий.
И поскольку считалось важным помешать им подчинять себя
друг другу, следовало во что бы то ни стало сохранять
«независимость» каждого. Несмотря на все сложности
применения этой модели к британской государственной системе,
возможно, именно под влиянием Болингброка Монтескье1 отдал
предпочтение триаде исполнительной, судебной и
законодательной властей перед дуализмом функций, присущих
немногим и многим, — deliberazione и approvazione у Гвиччардини,
«обсуждение» и «результат» у Харрингтона, — которые, как
настаивали теоретики, ориентировавшиеся на венецианскую
модель, нельзя смешивать, что и было разделением властей
в строгом смысле слова. Болингброк немедленно подвергся
нападкам в прессе со стороны своих противников — о которых
мало что известно и возможности которых в значительной
мере недооценивались — за химеричность сформулированной
им теории конституции. В итоге сам он вскоре признал, что
британское правление не раскладывается на три абсолютно
разных вида власти. Он согласился, что король, лорды и
общины сообща участвовали в политической деятельности,
связанной как с законодательством, так и с правительством, и
настаивал, что под «независимостью» подразумевал не строгое
разделение полномочий, а устранение «всяческого влияния,
прямого или косвенного», которое один из трех элементов мог
оказывать на любой другой2. Если спор не должен был вновь
пойти по тому же кругу — как это часто происходило и
происходит по-прежнему, — то следует предположить, что
Болингброк возражал не против посягательства одного элемента на
функции другого, а против коррупции, имевшей место,
когда «косвенное влияние» ставило представителей одного
правительственного органа в личную зависимость от другого,
то есть речь шла уже не о функции, а о морали. Существует
множество подтверждений тому, что современники
истолковали его слова именно так.
1. Shackleton R. Montesquieu, Bolingbroke and the Separation of Powers //
French Studies. 1949. № 3. P. 25-38; Idem. Montesquieu: a Critical Biography.
Oxford, 1961.
2. Dickinson H. T. Bolingbroke. P. 202-204, 305-306.
672
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
Однако избавиться от двусмысленности оказалось не так
легко. Утверждая, что наличие трех независимых властей в
стране было нелепостью, противники Болингброка не просто
возвращались к актуальному для XVI или XVII столетия спору
о суверенной власти и смешанной форме правления, хотя их
аргументы перекликались с традицией, восходящей по
меньшей мере уже к Свифту и его «Рассуждению о знати и общинах»
(Discourse of the Nobles and the Commons). В этом сочинении
высказывалась мысль, что каждое правление должно располагать
решающей, абсолютной и не подлежащей контролю властью,
но что носителем ее вполне может быть сложно устроенный
орган (подобный королю-в-парламенте). На самом деле, они
возвращались к точке зрения «Ответа на Девятнадцать
предложений» или «Покорнейшей петиции и совета», сторонники
которой полагали, что принципы уравновешенного правления
существуют в системе смешанной парламентской монархии,
в противовес которой Харрингтон говорил о необходимости
республики в чистом виде. Отметим, что Монтескье, несмотря
на принятие им тезиса о разделении властей, фактически
согласился с их позицией, когда заявил, что Харрингтон создал
вымышленное правление, имея перед глазами реальное, где
было все, что ему требовалось1. Однако, кроме того, противники
Болингброка утверждали то, на что уже как минимум намекал
«Возрожденный Платон» и что более открыто признавалось
в «Письмах Катона»: парламентская монархия, в которой король,
лорды и общины должны работать сообща, не устояла бы без
патронажа или «косвенного влияния». Отправной точкой для
такого рассуждения могло послужить переосмысление
английской истории с позиций неохаррингтоновского подхода: в
феодальном обществе владение землей на правах вассала и
несение соответствующих обязанностей в совокупности ставили
свободных людей в зависимость от их сеньоров, но, коль скоро
собственность уже не заключала в себе никакого элемента
зависимости, нечто должно было прийти на смену исчезнувшим
liens de dépendance1. Тренчард, возможно, надеялся, что благодаря
подлинному имущественному равенству когда-нибудь отпадет
1. «...il a bâti Chalcédoine, ayant le rivage de Byzance devant le yeux»; «...он
построил Халкедон, имея перед глазами берега Византии»
(Монтескье Ш.Л. О духе законов / Пер. А. Г. Горнфельда и М.М. Ковалевского,
исправл. А.И. Рубиным // Монтескье Ш.Л. Избранные произведения.
M., 1955· С. зоо (книга XI, глава VI). Далее цитаты даны по тому же
источнику).
2. Отношения зависимости (франц.).—Прим. ред.
673
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
необходимость даже в смешанной монархии, но авторы ряда
написанных в 1740-е годы работ1 явно стремились закрепить
новые отношения зависимости взамен прежней аналогичной
системы, основанной на феодальном владении землей. Это
было осознаваемое современниками следствие принятия
необходимости парламентского суверенитета.
Донато Джаннотти с интересом следил бы за развитием
этого спора, вспоминая собственные попытки наделить один из
трех компонентов правления роса dependenza2 от двух других;
даже Болингброк однажды или дважды обмолвился, что для
сохранения правления в этом несовершенном мире
необходимо не только равновесие сил, но и их субординация3. Однако
в обстановке XVIII века показать, что зависимость и
влияние могли означать нечто кроме коррупции, представлялось
еще более затруднительным, чем даже во Флоренции. Человек,
живший в ожидании платы за свои гражданские действия,
был творением страсти, а не добродетели, и по определению
существовал без качества, необходимого для сопротивления
дальнейшей деградации. Поэтому Болингброк, практические
1. A Letter from a Bystander to a Member of Parliament (1741); Earl of Egmont.
Faction Detected by the Evidence of Facts» (1743); Bishop Samuel Squire. An
Enquiry into the Foundation of the English Constitution (1745), A Historical
Essay upon the Balance of Civil Power in England (1748).
2. Малой зависимостью (итал).— Прим. ред.
3· Bolingbroke Η. St. J. Letters on the Spirit of Patriotism, on the Idea of a Patriot
King, and on the State of Parties at the Accession of George the First. London,
1749. P. 45: «...powers, necessary to maintain subordination, and to carry on
even good government, and therefore necessary to be preserved in the crown,
notwithstanding the abuse that is sometimes made of them; for no human
institution can arrive at perfection, and the most that human wisdom can do,
is to procure the same or greater good, at the expence of less evil»;
«...полномочия, необходимые, дабы обеспечивать подчинение и поддерживать
мало-мальски достойное правление, должны оставаться в руках
короны, несмотря на случающиеся порой злоупотребления; ибо никакие
человеческие установления не могут достичь совершенства, и самое
большее, что под силу человеческой мудрости, — это доставить такое же
или большее благо ценой меньшего зла». Этот отчетливо макиавел-
лиевский язык отсылает, по-видимому, к властной прерогативе, а не
просто к влиянию, как показывает Дикинсон (Dickinson H. 77 Bolingbroke.
Ρ· 345)· Ср.: Bolingbroke H.St. J. Letters on the Spirit of Patriotism, on the Idea
of a Patriot King, and on the State of Parties at the Accession of George the
First. P. 93: «There must be an absolute, unlimited and uncontroulable power
lodged somewhere in every government...»; «В каждой форме правления
должна быть где-то заложена абсолютная, неограниченная и
неуправляемая власть...» (Болингброк Г.С.-Дж. Идея о Короле-Патриоте / Пер.
СМ. Берковской и A.C. Розенцвейга // Болингброк Г.С.-Дж. Письма об
изучении и пользе истории. М., 1978. С. 2θ6), — но это власть
законодательная, принадлежащая одновременно королю, лордам и общинам.
674
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
аргументы которого оказались слабыми, когда речь шла о
полном устранении патронажа из политической жизни, старался
найти все больше средств к восстановлению добродетели. Как
следствие, он по-прежнему держался за такие ключевые для
программы партии «страны» элементы, как частые — а не раз
в семь лет — выборы в парламент, устранение продажных
чиновников и ликвидация постоянной армии. Кроме того, ясно,
что одной из причин, в силу которых он подчеркивал
независимость трех частей правления, выступало стремление придать
классической модели по возможности формализованный вид
и таким образом наделить конституцию «принципами», к
которым можно было бы «возвращаться», — наиболее ренессанс-
ный способ восстановить добродетель. Даже в этом отношении
в своих более поздних сочинениях Болингброк
демонстрировал определенную двусмысленность1, но в период выхода
«Кудесника» принципы, основанные на исторической реальности,
стали для него одним из ключевых постулатов. Его концепция
строилась во многом на идеализации «готического» общества,
позволявшей открыть сбалансированную структуру «Древней
конституции». Но и здесь его противники — Кук и Арналл
в «Лондонском журнале», лорд Херви в своем «Анализе и
сопоставлении свободы в древние и новые времена» (Ancient and
Modern Liberty Stated and Compared) — выступили с резкой
критикой, настаивая, в традициях Брэди и Дефо, что в беспокойном
мире баронов и вассалов отсутствовала восходящая к
древности свобода, равно как и принципы, к которым следует
вернуться2. Болингброк в свое время проиграл в борьбе с этой
1. Ibid. Р. 77 («On the Idea of a Patriot King»): «My intention is not to introduce
what I have to say concerning the duties of kings, by any nice inquiry into
the original of their institution. What is to be known of it will appear plainly
enough, to such as are able and can spare time to trace it, in the broken
traditions which are come down to us of a few nations. But those, who are
not able to trace it there, may trace something better and more worthy to
be known, in their own thoughts: I mean what this institution ought to have
been, whenever it began, according to the rule of reason, founded in the
common rights, and interests, of mankind»; «Я не намерен предварять то,
что собираюсь сказать о долге королей, тщательным исследованием
истоков самого института королевской власти. Для тех, кто
располагает временем и способен сам разобраться в этом, все, что только можно
узнать, раскроется с достаточной ясностью из дошедшей до нас
отрывочной традиции. Те же, кто не способен увидеть в них то, что хочет,
найдут в собственных мыслях нечто лучшее и более достойное
знания, а именно, каким сей институт должен был быть, когда бы он ни
был основан, в соответствии с доводами разума, с учетом общих прав
и интересов человечества» (Там же. С. 2θΐ).
2. Kramnick IF. Bolingbroke and His Circle. P. 127-137.
675
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
высокомерной риторикой, однако факт остается фактом:
авторы, выступавшие в поддержку Уолпола, утверждали мир
динамичной истории, где не было ни принципов, ни добродетели
и где людьми двигали выгода и страсти, которые делали их
такими, какими они в настоящий момент являлись.
Дихотомия добродетели и выгоды объясняет также, почему
Болингброк — и эпоха в целом — оказался неспособен
сформулировать удовлетворительную теорию партии. Современным
людям кажется более или менее очевидным, что враждующие
политические группировки могут в целом работать на благо
политической системы, но мыслителям Августинскои эпохи,
которые еще в значительной мере держались аристотелевской
традиции, казалось далеко не очевидным, каким образом
какая-либо группа, преследующая свои частные интересы,
могла в чем бы то ни было содействовать общему благу, а раз так,
в ней следовало видеть лишь клику, толкающую своих членов
к новым крайностям алчности и безумия и отбирающую у них
ту добродетель, или сознание общего блага, которой могут
обладать только личности, а не группы. В обществе, подобном
макиавеллиевскому Риму, где отношения между сословиями
выстроены неподобающим образом, преимущество может быть
на стороне партии, воплощающей добродетели, или
«принципы», знати или народа; и где само общее благо находилось под
угрозой, могла существовать (выражаясь языком Цицерона)
партия добрых людей, боровшихся за его сохранение, и
группировка дурных людей, противостоявших ему1. Болингброк
считал, что понятия «виги» и «тори» устарели и что
существует лишь партия «страны», партия добродетели, враждующая
с кликой «двора», фракцией коррупции. Впрочем, эти
высказывания по своей сути мало отличались от аргументов,
которые выдвигали Толанд и другие в 1714 году, когда — годами
порицая партию и фракционность как источник коррупции
власти — они признали, что по-прежнему существовали виги,
твердо державшиеся принципов ι688 года, и тори, которым
в этом отношении доверять нельзя, и что поэтому необходима
ι. Идее «партии» в XVIII веке посвящено немало работ. См., например:
Mansfield H. С, Jr. Statesmanship and Party Government. Chicago, 1965;
Kluxen K. Das Problem der Politischen Opposition: Entwicklung und Wesen
der englischen Zweiparteienpolitik im 18 Jahrhundert. Freiburg, Munich, 1956;
Hofstadter R. C. The Idea of a Party System: The Rise of Legitimate Opposition
in the United States, 1780-1840. Berkeley; Los Angeles, 1969; Gunn J.A. W.
Factions No More: Attitudes to Party in Government and Opposition in
Eighteenth-Century England. London, 1972.
676
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
сильная исполнительная власть вигов, основанная на
Семилетнем акте1. Большинство людей полагало, что партия имеет
право на существование, лишь когда воплощает собой некий
общий принцип и потому способна к добродетели; две партии,
представляющие различные частные интересы, могут лишь
поддерживать господство коррупции и фантазии.
Болингброк как-то заметил, что игра на бирже относится
к торговле примерно так же, как политические
группировки — к свободе2 (здесь напрашивается комментарий в духе По-
либия: хорошие и дурные стороны любой «добродетели»
всегда трудно разделить). Эта апофтегма одновременно раскрывает
господство идеала добродетели и его ограниченность;
добродетель оставалась общественной и личностной характеристикой,
подразумевающей в той или иной форме преданность общему
благу, на которую способен только индивид, обладающий
высокой автономией. Чтобы политика не сводилась к коррупции,
ее надлежало свести к этике — этого требовала классическая
риторика, вне зависимости от того, насколько искренне
Болингброк или кто-либо еще прибегал к ней. Поэтому «науку
добродетели» Аристотеля, Полибия, Макиавелли, а теперь еще
и Харрингтона, или социологию гражданской этики, Западу
XVIII века следовало переосмыслить с парадигматической
силой и полнотой. С этой точки зрения Монтескье можно
назвать самым видным практиком подобной науки, и как раз
в этот период репутация Макиавелли как ведущего
гражданского моралиста достигла своего пика и очистила его образ от
большинства упреков в нравственной неоднозначности.
Впрочем, плата за этот процесс оказалась следующей: любой
политический трактат, автор которого не мог преодолеть
ограничения такой риторики, почти неизбежно заканчивал свой текст
не просто морализаторством, но указанием на то, что
добродетель как личное качество служила единственной силой,
способной излечить от коррупции. Аналогичного мнения
придерживался Макиавелли, признавая, что перед индивидуальной
ι. Ср. два произведения Толанда: «Искусство управлять с помощью
партий» («The Art of Governing by Parties», 1701) и «Анатомию государства
Великобритании» («The State-Anatomy of Great Britain», 1714). Основные
мысли этих текстов нельзя назвать непримиримыми: в первом
дурным названо само существование партий, во втором говорится, что
дурные люди образуют партию, а достойные должны объединиться,
чтобы оказывать им сопротивление.
2. Bolingbroke H. St. J. Remarks on the History of England, Letter XIV. 2nd ed.
London, 1747. P. 169.
677
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
добродетелью в развращенном обществе стоит настолько
сложная задача, что простых смертных на этом пути ждет почти
неминуемое поражение; победить может лишь тот, кто обладает
героизмом, квазибожественным авторитетом или подлинным
вдохновением. Поздние сочинения Болингброка, особенно
написанные уже после неудачной кампании против Уолпола,
всего лишь служили увещеванием общественных лидеров и,
наконец, Короля-патриота проявить героическую добродетель
и искупить мир, погрязший в коррупции; Джон Браун, очень
умный, но трагически неуравновешенный ученик
Макиавелли1, «Катона», Болингброка и Монтескье, писавший между 1757
и 1765 годами, пришел в конце наиболее известной из своих
работ к неожиданному заключению, что избавить нацию от
коррупции способен лишь нравственный пример
«какого-нибудь великого министра»8. Болингброка критиковали за отход
от эмпирического материализма Харрингтона к моральному
идеализму Макиавелли3, но, во-первых, гражданской
добродетели, понятой как способность посвятить себя
универсальному общему благу, в конце концов, не пристало зависеть от
случайных и конкретных социальных факторов, а во-вторых,
невозможно было по-прежнему полагать вслед за Харрингто-
ном, что однажды принятый земельный закон может навсегда
уравнять материальные основы добродетели. Земля не
зависела от торговли, торговля — от кредита, а аналог
уравнивающего земельного закона для общества финансовых спекуляций
оставался неизвестен и, вероятно, немыслим. Поэтому людям
приходилось быть выше обстоятельств; трактат Монтескье
«О духе законов» — восхитительная в своей
парадоксальности попытка выяснить, в каких обстоятельствах это возможно.
То, что Болингброк в своей идеологии и риторике
оказался вынужден сделать ставку на одну лишь концепцию
добродетели, имело последствия, которые, вероятно, не до конца
осознают современные исследователи его мысли. Отмечая его
явное расхождение с Локком, — в отличие от последнего, он
полагал, что обществу от природы присущи власть и порядок,
что добродетельный государь или аристократия могут отечески
1. О его жизни см.: Dictionary of National Biography. Он покончил с собой,
хотя, будучи рукоположенным священником, в своих сочинениях
называл этот поступок грехом.
2. Brown J. Essay on the Manners and Principles of the Times. London, 1757 (это
заключительные слова текста). Возможно, имелся в виду У. Питт-ст.
3- Kramnick I.F. Bolingbroke and His Circle. P. 166-169; Dickinson Η.Ύ. Boling-
broke. P. 256-265.
678
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
управлять людьми более низкого звания и что «великая цепь
бытия» представляла собой структуру, упорядочивающую мир
деиста, — они пришли к выводу, что он в конечном счете
поддерживал власть земельных джентри в обществе,
организованном в соответствии с естественной иерархией, и
ностальгировал по прежней социальной и философской атмосфере эпохи
Елизаветы или Якова1. Однако, как мы неоднократно
убеждались, идеал добродетели был политическим, а полис, который
строился на vita activa и базировался на равенстве, невозможно
полностью свести к иерархии. Разумеется, в его состав входила
элита, наделенная мудростью и опытом, досугом и
собственностью, элита, которой надлежало указывать путь своей
добродетелью и в этом смысле править; ее власть над не
принадлежащими к элите гражданами можно назвать и естественной,
и отеческой, подобно тому как римский сенат называли patres
conscripti. Впрочем, Гвиччардини, наиболее аристократически
мыслящий флорентийский республиканский теоретик, ясно
дал понять, что немногим нужны многие, которые спасли бы
их от коррупции: когда многие признавали немногих своими
природными руководителями, они не утрачивали
способности к критическому суждению или деятельной гражданской
жизни. И руководство, и уважение были активными
добродетелями; добродетель же в более абстрактном и формальном
смысле означала отношение между двумя формами участия
в гражданской жизни, и если Болингброк в самом деле
испытывал ностальгию, предметом ее, скорее всего, являлась
открытая и беспокойная обстановка, обусловленная политикой
партии «страны» в правление королевы Анны, в отличие от
застывшей олигархии эпохи Георга И. Мы вернемся к этой
теме, рассматривая проблемы уважения и равенства в
революционной Америке, где Болингброка считали вторым
Макиавелли, авторитет которого как философа морали и политики
заслонял его неоднозначность.
IV.
В «моменте Макиавелли» XVIII века, как и XVI-ro,
гражданская добродетель противостояла коррупции и видела
в ней хаос инстинктов, который вел к зависимости и утрате
I. Kramnick IF. Bolingbroke and His Circle. P. 76-83, 88-110, 261-265;
Dickinson Η.Ύ. Bolingbroke. P. 22-24, 22-72, 119, 206-209, 300-302. Слово
«ностальгия» используется в подзаголовке книги Крамника.
679
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
личностной автономии и процветал в мире скорых и
иррациональных изменений. Однако для мыслителей XVI века
символом силы, мешавшей управлять этими инстинктами при
быстром беге секулярного времени, служила, fortuna, понятие,
по сути выражающее неадекватность классической
эпистемологии. Наоборот, теоретики XVIII столетия могли определять
коррупцию и иррациональность в гораздо более точных,
материальных и динамичных категориях, хотя последним все
еще недоставало этического содержания в том смысле, что
история, которой они придавали конкретность, продолжала
двигаться в противоположную от добродетели сторону.
Идеология, которую можно назвать идеологией партии «страны»,
исходила из представления о недвижимом имуществе и
этике гражданской жизни, в которой личность знала и любила
себя в своем отношении к patria, res publica или общему
благу, но находилась под постоянной угрозой со стороны
коррупции, действовавшей через частные интересы и ложное
сознание. Для спасения личности требовался идеал
добродетели, достигавший временами невероятных стоических высот
нравственной свободы и основанный на поддержании
имущественной независимости, которую трудно сохранять в
условиях построенной на спекуляции экономики; для спасения по-
литии было необходимо представить британскую систему как
классическое равновесие независимых, но действующих
согласованно элементов или властей, поддерживать которое
означало консолидировать добродетель, но которое в конечном
счете могло существовать лишь при наличии
индивидуальной добродетели. Этика этой идеологии сводилась к идеалу
полностью самодостаточной личности, и поэтому с ее точки
зрения ужасно легко считать коррупцию неискоренимой
только лишь человеческими средствами; а поскольку ее
экономическая теория полагала основанием этой личности форму
собственности, которую принято относить к
некоммерческому прошлому, она, как правило, рассматривала историю как
движение, уводящее от ценностей, вернуть которые способны
лишь героические, а не социальные поступки. Впрочем, хотя
в эту идеологию все больше входил меланхолический
пессимизм, в ее распоряжении находились все богатства сложного
и тщательно проработанного словаря гражданского
гуманизма, позволявшего развивать науку и социологию добродетели.
Как следствие, в общественном дискурсе доминировали
парадигмы именно этой идеологии.
68о
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
Идеология, которую можно назвать «придворной», была,
соответственно, менее выражена и имела меньше
влиятельных сторонников. Однако можно обобщенно сказать, что она
строилась на признании кредита в качестве мерила
экономической ценности и психологии воображения, страсти и
выгоды как главных мотивов человеческого поведения. Вместо
добродетели она делала акцент на стремлении субъекта
удовлетворить свои желания и самолюбие. Эта идеология начала
использовать теории о том, как можно манипулировать
людьми и координировать разнообразные действия, совершаемые
из страсти и корыстных побуждений. В другом варианте этой
концепции индивиды способны координировать себя сами
магическим или механическим образом ради продвижения
общего блага, которое уже больше тесно не связано с внутренней
нравственной жизнью человека. Поскольку эта идеология не
видела в добродетели образец для политической деятельности,
она не предполагала, что управление должно быть основано
на принципах добродетели, требующих регулярного
переподтверждения. Она с готовностью признавала, что люди склонны
к разобщенности и руководствуются личной выгодой, но,
вместо того чтобы считать эти свойства фатальными, в том случае,
если добродетель и правление их не сдерживают, предлагала,
чтобы ими управляла сильная центральная исполнительная
власть, которая сама необязательно была бы организована по
принципам добродетели, но могла без ущерба для себя играть
на человеческих страстях и интересах. Индивидуальную
нравственность она считала не общественным, а частным делом,
вопросом честности в личных договоренностях людей, которая
не требовала выражения в действиях гражданской морали или
в добродетели государственного мужа и могла лишь косвенно
(если вообще могла) влиять на поддержание морального
климата в политической сфере.
Как следствие, этический словарь «двора» был скуден; ему
недоставало теории, аналогичной той, что представляла
добродетель человека в качестве zöon politikon. Эта слабость
выталкивала его на обочину — хотя порой и выдвигала в
авангард— моральной теории XVIII века; но поскольку в прошлом
не предполагалось никакого набора принципов или
представления о собственности, к которому можно было бы вернуться,
это давало свободу приспособиться к социальным
изменениям, помогавшим понять новый мир кредита,
профессионализации и империи. Впрочем, в то же время об этих изменениях
681
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
по-прежнему говорили в терминах отрыва истории от мира
и его ценностей, изображенных партией «страны», а этика
новой реальности требовала такого же бескомпромиссного языка,
как у Мандевиля. Приверженцы идеологии «страны» в своей
республиканской этике во многом ориентировались на
Макиавелли, но еще ближе к Макиавелли оказывались сторонники
партии «двора», считавшие возможным согласиться с тем, что
динамика исторических изменений происходит независимо от
человеческих ценностей. Здесь снова вступает в силу дуализм
добродетели и virtue и мы вспоминаем, что если у
Макиавелли поводом для этой дихотомии во многом послужила война,
отчасти именно она же в ее связи с торговлей привлекла
внимание августинцев к очертаниям нового мира. Если говорить
языком «Катона» в интерпретации не Тренчарда, а Аддисона,
«придворная» идеология могла научить, как добиться успеха,
«страна» — как заслужить его, или, как некогда выразился
Александр Гамильтон, обыгравший партийную терминологию в духе
Свифта: «Катон был тори, Цезарь — вигом своего времени. <...>
Первый погиб вместе с республикой, второй уничтожил ее»1.
Однако если «придворная» идеология могла претендовать на
монополию в понимании власти, она должна была
предоставить свой антитезис в полное распоряжение теории
добродетели; и недостаток добродетели в гораздо большей мере,
нежели для Макиавелли, здесь означал риск стать жертвой fantasia
и ложного сознания. Пропасть между гражданской
добродетелью и динамической virtù становилась поэтому шире, и еще
убедительнее звучало обвинение, что дорога к власти — это
путь к коррупции и саморазрушению.
Однако в Британии идеологическая кампания Болингбро-
ка при жизни автора не имела успеха. Дворяне из глубинки
не оказались безнадежными должниками; никто вслед за Уол-
полом не захватил в свои руки монополию на власть и
патронаж; войны середины столетия велись большей частью на
материковых территориях и не вызывали протеста против
финансирования боевых действий, как в случае, который
повлек за собой отстранение от власти Годольфина и
Мальборо. И, в конце концов, было достаточно очевидно, что партии
«двора» и «страны» находятся в отношениях симбиоза, а не
противостоят друг другу, поэтому многое говорило в пользу
тезиса, согласно которому конституция представляла собой
I. См. ниже, с. 736.
682
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
парламентскую монархию, а не баланс и разделение властей.
В подобной ситуации политические теоретики получали
возможность пересмотреть отношения между короной и
парламентом, историки — между доходами от земли и торговли,
философы — между разумом и страстью, и все разновидности
такой переоценки мы обнаруживаем в произведениях
наиболее выдающихся мыслителей, анализировавших британскую
политику около 1750 года. «О духе законов» (De l'Esprit des Lois,)
Монтескье, несмотря на его рассуждения о разделении
властей, можно считать несколько более «виговским»
сочинением, нежели «Персидские письма»; а в двадцать седьмой главе
XIX книги содержится удивительное исследование
свободного государства — явно Британии, — представленное в близких
нам терминах.
Монтескье предупреждает, что в своем анализе будет
исходить из mœurs и manières1 в их отношении к закону, а не из les
principes de sa constitution* ъ\ важно, чтобы законодательная и
исполнительная власти существовали раздельно и оставались
visibles4, поскольку ничем не стесненные человеческие страсти,
ненависть, зависть и честолюбие смогут равно беспрепятственно
завладеть одной или другой ветвью5. Так как в распоряжении
исполнительной власти находятся все должностные посты, она
всегда внушает скорее надежду, чем страх; те, кто не занимает
должностей, надеются к ним вернуться, а те, кто занимает, хотя,
вероятно, и боятся их потерять, но знают, что и в этом случае
у них есть надежда вновь занять свой пост так же, как они его
получили. Проблема нововведений, о которой говорит
Макиавелли (те, кто недоволен инновациями, реагируют на них активнее,
1. Нравы и обычаи (франц.).—Прим. ред.
2. Начала конституции (франц.). — Прим. ред.
3- Montesquieu Ch.L. De l'esprit des lois. Paris, s.d. Vol. I. P. 335; Монтескье Ш.Л.
О духе законов. С. \ч\ (книга XIX, глава XXVII).
4· Видимые (франц.).—Прим. ред.
5- «Comme il у aurait dans cet État deux pouvoirs visibles: la puissance législative
et l'exécutrice, et que tout citoyen y aurait sa volonté propre, et ferait valoir
à son gré son indépendance, la plupart des gens auraient plus d'affection
pour une de ces puissances que pour l'autre, le grand nombre n'ayant pas
ordinairement assez d'équité ni de sens pour les affectionner également
toutes les deux» (Ibid); «Так как y этого народа имеются две видимые
власти — законодательная и исполнительная — и так как каждый
гражданин обладает там собственной волей и может распоряжаться
своей независимостью, как ему угодно, то большая часть людей будет
там предпочитать какую-нибудь одну из этих властей по той
причине, что у большинства обыкновенно не хватает ни справедливости,
ни рассудка, чтобы равно оценить обе» (Там же).
68з
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
чем те, кому они по вкусу) таким образом оказалась отчасти
решена, а исполнительная власть напоминает principe naturale,
положение которого среди его подданных по природе прочнее,
чем у principe nuovo, обреченного им противоречить. Однако не
приходится сомневаться, что таким правлением движет прежде
всего страсть, а не обычай, как у Макиавелли1; caprices nfantaisies2
часто побуждают людей метаться между двумя страстно
ненавидящими друг друга партиями (властвующей партией и
оппозицией), на которые разделяется общество; в отношениях между
составляющими их отдельными людьми трудно отыскать
преданность или принципы, а монарху нередко приходится
подвергать опале своих друзей и возвышать врагов3. Впрочем,
поскольку страсти свободны, amour propre (употребляя выражение
Руссо, которое Монтескье не использует) не станет разлагающей.
Здесь вновь проявляется страх, и в данном случае страх
иррациональный; из-за того что монополия патронажа находится
в руках исполнительной власти, люди живут в постоянном
ужасе, сами не зная перед чем, а лидеры оппозиции Короне лишь
стремятся умножать эти ужасы, не раскрывая своих собственных
ι. «Toutes les passions у étant libres, la haine, l'envie, la jalousie, Pardeur
de s'enrichir et de se distinguer, paraîtraient dans toute leur étendue...»
(Montesquieu Ch.L. De l'esprit des lois. Vol. I. P. 335); «Так как там
предоставлена свобода всем страстям, то ненависть, ревность, зависть,
жажда обогащения и отличий обнаружатся во всей своей силе»
(Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 424)·
2. Причуды и прихоти (франц.). — Прим. ред.
3- «Gomme chaque particulier, toujours indépendant, suivrait beaucoup ses
caprices et ses fantaisies, on changerait souvent de parti; on en abandonnerait
un où l'on laisserait tous ses amis pour se lier à un autre dans lequel on
trouverait tous ses ennemis; et souvent, dans cette nation, on pourrait oublier
les lois de l'amitié et celles de la haine. Le monarque serait dans le cas des
particuliers; et, contre les maximes ordinaires de la prudence, il serait souvent
obligé de donner sa confiance à ceux qui l'auraient le plus choqué, et de
disgracier ceux qui l'auraient le mieux servi, faisant par nécessité ce que les
autres princes font par chois» (Ibid. P. 335-336); «Так как в этом народе
каждая отдельная личность, пользуясь своей независимостью, может
беспрепятственно предаваться собственным причудам и прихотям, то
люди часто будут переходить из одной партии в другую, покидая ту,
где находятся их друзья, чтобы примкнуть к противоположной, где
они найдут всех своих врагов, и в этом народе часто будут
нарушаться законы и дружбы, и ненависти. Монарх будет там находиться в
положении частного лица и вопреки обычным правилам благоразумия
часто окажется вынужденным доверяться тем, которые его всего более
оскорбляли, и лишать своей милости тех, которые всего лучше ему
служили, делая под давлением необходимости то, что другие
государи делают по свободному решению» (Там же. С. 425)· Вполне возможно,
что здесь содержится отсылка к правлению Вильгельма III.
684
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
мотивов1. Однако это здоровое чувство; Монтескье занимает
промежуточную позицию между «Катоном», цитирующим
слова Макиавелли о том, что страхи народа, который не доверяет
своему правительству, не знают границ, и Бёрком, говорящим
об американцах, что «в любом резком запахе им чудится
дыхание тирании»2. Поскольку они боятся угрожающих их свободе
несуществующих опасностей, реальную опасность они
распознают еще до ее приближения3 (ожидать, пока жизнь докажет
оправданность их опасений, означает непоправимо опоздать),
а выборные представители законодательной власти,
настроенные спокойнее, чем народ, и пользующиеся его доверием4,
будут успокаивать его страхи перед несуществующими угрозами
и предупреждать возникновение реальных опасностей — роль,
следует отметить, доступная лишь немногим.
Это государство, расположенное на острове, станет
заниматься торговлей, а не войной, но в его торговых и колонизаторских
1. «On craint de voir échapper un bien que Ton sent, que Ton ne connaît guère,
et qu'on peut nous déguiser; et la crainte grossit toujours les objets. Le peuple
serait inquiet sur sa situation, et croirait être en danger dans les moments
même les plus sûrs. D'autant mieux que ceux qui s'opposeraient le plus
vivement à la puissance exécutrice, ne pouvant avouer les motifs intéressés
de leur opposition, ils augmenteraient les terreurs du peuple, qui ne saurait
jamais au juste s'il serait en danger ou non» (Ibid. P. 336); «Народ там
будет постоянно опасаться упустить благо, которое он чувствует, хотя
и не имеет о нем определенного представления, и которое от него
могли бы скрыть, а страх всегда все преувеличивает. Народ будет
тревожиться за свое положение и считать его опасным чаще всего в
самое безопасное время. Такое положение будет усугубляться тем, что
лица, которые всего сильнее противятся исполнительной власти, не
желая обнаружить корыстных мотивов своего сопротивления, станут
увеличивать опасения народа, который никогда не будет знать
наверное, находится ли он в опасности или нет» (Там же).
2. «They snuff the approach of tyranny in every tainted breeze» (Burke E. Speech
on Conciliation // Burke E. Works. Vol. II. P. 125).
3. «Ainsi, quand les terreurs imprimées n'auraient point d'objet certain, elles
ne produiraient que de vaines clameurs et des injures: et elles auraient
même ce bon effet qu'elles tendraient tous les ressorts du gouvernement, et
rendraient tous les citoyens attentifs. Mais si elles naissaient à l'occasion du
renversement des lois fondamentales, elles seraient sourdes, funestes, atroces,
et produiraient des catastrophes» (Montesquieu Ch.L. De l'esprit des lois.
Vol. I. P. 336); «Здесь же все беспредметные страхи, внушенные народу,
не производят ничего, кроме пустого крика и брани, и даже
приносят пользу, напрягая все пружины правления и сосредоточивая
внимание всех граждан. Но если бы народные страхи были порождены
ниспровержением основных законов, то они явились бы силой глухой,
пагубной, ужасной и повели бы к катастрофам» (Там же).
4- «...ayant la confiance du peuple, et étant plus éclairé que lui..» (Ibid);
«...[законодательное собрание,] пользуясь доверием народа и обладая
большим образованием...» (Там же).
685
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
кампаниях будет господствовать дух яростной конкуренции
и агрессии, оно пустится в предприятия, превышающие его
возможности и даже противоречащие его интересам1, а для
этого привлечет значительные и фиктивные средства, взятые
в долг. Впрочем, так как в долг оно берет у самого себя, crédit
ему обеспечен, и, хотя богатство и власть, которыми оно себя
обеспечивает, существуют лишь в воображении, его confiance*
себе самому и его свободная форма правления обратят
вымысел в реальность3. Нельзя придумать ничего более далекого от
помешательства на акциях Компании Южных морей, которое
изображает «Катон», или от образа Закона у самого Монтескье.
Теперь он говорит, что в свободном обществе, где власть
распределена между многими ее носителями, сама страсть
вольна не только менять свои цели, но даже перестраивать мир
в соответствии со своими фантазиями. Она, однако, действует
в сфере внешней virtù, области торговли и власти, за рубежами
и морями; в сфере гражданской добродетели фантазия и
истина сосуществовуют и укрепляют друг друга, но в какой-то
1. «Cette nation, toujours échauffée, pourrait plus aisément être conduite par
ses passions que par la raison, qui ne produit jamais de grands effets sur
l'esprit des hommes; et il serait facile à ceux qui la gouverneraient de lui
faire faire des entreprises contre ses véritables intérêts. Cette nation aimerait
prodigieusement sa liberté, parce que cette liberté serait vraie; et il pourrait
arriver que, pour la défendre, elle sacrifierait son bien, son aisance, ses
intérêts; qu'elle se chargerait des impôts les plus durs, et tels que le prince
le plus absolu n'oserait les faire supporter à ses sujets» (Montesquieu Ch.L. De
l'esprit des lois. Vol. I. P. 337); «Такой народ будет находиться в
постоянно возбужденном состоянии; поэтому он будет более
руководствоваться своими страстями, чем доводами рассудка, которые никогда не
производят большого действия на умы. В результате лица,
управляющие им, легко смогут вовлекать его в дела, противные его истинным
интересам. Такой народ будет страстно любить свою свободу, потому
что это свобода истинная; и может случиться, что для защиты ее он
пожертвует своим имуществом, своим благосостоянием, своими
интересами, что он обложит себя такими высокими налогами, какими не
решится обременить своих подданных даже самый неограниченный
самодержец» (Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 426).
2. Доверие (франц.). — Прим. ред.
3- «Elle aurait un crédit sûr, parce qu'elle emprunterait à elle-même, et se paierait
elle-même. Il pourrait arriver qu'elle entreprendrait au-dessus de ses forces
naturelles, et ferait valoir contre ses ennemis d'immenses richesses de fiction,
que la confiance et la nature de son gouvernement rendraient réelles» (Ibid);
«Такой народ обладает верным кредитом, так как он занимает у
самого себя и самому же себе уплачивает долги. Может случиться, что он
затеет предприятия, превышающие его естественные силы, и
употребит для борьбы со своими врагами огромные фиктивные богатства,
которые сила доверия и природа правления обратят в реальные
богатства» (Там же. С. 426-427).
686
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
момент рассудительность и мудрость должны помочь провести
резкую границу между подлинным и мнимым как угрозами
свободе. При этом в условиях свободы — которой
недоставало Закону — страсть и фантазия будут им содействовать; они
раздуют огонь, при свете которого государственные мужи
смогут различать предметы, и вот мы уже не в пещере Платона.
Монтескье здесь не утверждает, в отличие от Свифта, «Като-
на» и Болингброка, что, для того чтобы фантазии и
спекуляции не развратили общество, нужна мудрость, укорененная не
в торговле. Он говорит, что свободное и благополучное
общество может вобрать в себя немалую долю ложного сознания
без серьезного ущерба для себя и использовать его для своего
расширения. Описанное им безумие правящей партии и
оппозиции, претендентов на государственные должности,
спекулянтов и агрессивных торговцев напоминает вражду
патрициев и плебеев, которая, по мнению Макиавелли, способствовала
свободе и величию Рима.
У Монтескье — несколько в стороне от его исследований
британской политики — можно найти исторический обзор
способов, которыми коммерция, а значит, и страсть поддерживают
свободу и гражданские ценности. Добродетель, полагает он,
являлась принципом существования республик, но в данном
случае он подразумевает vertu politique, не совпадающую (хотя
и не несовместимую) с vertu morale или vertu chrétienne1 и
заключающуюся— в полном соответствии с традицией
Макиавелли — в равенстве подчинения законам республики и
преданности ее благу2. Монтескье более отчетливо, чем его английские
1. Политическая добродетель, моральная добродетель, христианская
добродетель (франц.). — Прим. ред.
2. «...ce que j'appelle la vertu dans la république est l'amour de la patrie, c'est-
à-dire l'amour de l'égalité. Ce n'est point une vertu morale, ni une vertu
chrétienne, c'est la vertu politique; et celle-ci est le ressort qui fait mouvoir le
gouvernement républicain, comme l'honneur est le ressort qui fait mouvoir la
monarchie. J'ai donc appelé vertu politique l'amour de la patrie et de l'égalité.
J'ai eu des idées nouvelles; il a bien fallu trouver de nouveaux mots, ou donner
aux anciens de nouvelles acceptations. <...> Enfin, l'homme de bien dont il
est question dans le livre III, chapitre V, n'est pas l'homme de bien chrétien
mais l'homme de bien politique, qui a la vertu politique dont j'ai parlé. C'est
l'homme qui aime les lois de son pays, et qui agit par l'amour des lois de son
pays. J'ai donné un nouveau jour à toutes ces choses dans cette édition-ci, en
fixant encore plus les idées; et, dans la plupart des endroits où je me suis
servi du mot de vertu, j'ai mis vertu politique» (Ibid. P. 4); «...под словом
республиканская добродетель я разумею любовь к отечеству, т.е. любовь
к равенству. Это не христианская или нравственная, а политическая
добродетель; она представляет ту главную пружину, которая приводит
687
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
предшественники, сознавал, что добродетель в этом смысле не
всегда совпадает с частными ценностями или индивидуальной
моралью; тем, как он писал о древней Спарте, Афинах и Риме,
он дал понять, что республика способна навязывать ее с
отталкивающей и бесчеловечной жестокостью1. Как и Макиавелли,
он понимал, что христианская добродетель предъявляла
требования, с которыми гражданская этика могла не соглашаться,
и что последняя более всего процветала, вероятно, в периоды,
близкие к варварству, когда не было необходимости
распространять человечность на тех, кто не относился к числу сограждан.
Однако он поясняет и причину: этика древних городов по сути
своей являлась воинской этикой, к торговле и даже к
земледелию относились с презрением, а Платон и Аристотель верили,
что личность можно и должно полностью перестроить с
помощью музыки2. Люди, производящие товары и
обменивающиеся ими, начинают сознавать, что есть ценности, несводимые
к законам их города, и вступают в отношения, состоящие не
только в подчинении этим законам. Если они ведут торговлю
за пределами города, они также вступают в отношения и
формируют новые языки и ценности, почти не подчиняющиеся
власти республики. С одной стороны, нравы смягчаются,
развиваются искусство и изящные манеры, а жестокость Ликурго-
вых или драконовских законов ослабевает, но, с другой стороны,
в движение республиканское правительство подобно тому, как честь
является движущей пружиной монархии. На этом основании я и
назвал любовь к отечеству и к равенству политической добродетелью:
новые идеи, к которым я пришел, обязывали меня приискать для них
и новые названия или употреблять старые слова в новом смысле. <...>
Говоря в V главе третьей книги моего сочинения о добродетельном
человеке, я имел в виду не человека, обладающего христианскими
или нравственными добродетелями, а человека, стремящегося к
политическому благу, т.е. обладающего тою политическою добродетелью,
о которой была речь. Это человек, который любит законы своей
страны и любовью к ним руководствуется в своей деятельности. Все это
я уточнил в настоящем издании путем еще более четкого
определения своих идей; в большинстве случаев, где было употреблено мною
слово добродетель, я заменил его выражением политическая добродетель»
(Монтескье Ш.Л. О духе законов. С. 161-162, «Заявление автора»).
1. Например, книга IV, глава VI; книга V, глава XIX: «On est surpris que
l'Aréopage ait fait mourir un enfant qui avait crevé les yeux à son oiseau.
Qu'on fasse attention qu'il s'agit point là d'une condamnation pour crime,
mais d'un jugement de mœurs dans une republique fondé sur les mœurs»;
«Мы поражены тем, что Ареопаг предал смерти ребенка за то, что
тот выколол глаза птичке. Но надо иметь в виду, что тут дело идет
не о приговорах уголовного суда, а о решениях суда нравственного
в республике, основанной на нравственности» (Там же. С. 222).
2. Книга IV, глава XVIII.
688
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
эта логика объясняет, почему Платон считал, что необходимо
запретить торговлю вне стен города и доверить социализацию
личности музыке и другим видам воспитания,
контролируемым стражами. Коммерция — источник всех социальных благ,
кроме одного (мы понимаем, что и само христианство
возможно лишь в мире межгосударственных контактов, oikumene, а не
полиса), но именно это благо, vertu politique, делает из
человека zôon politikon, а следовательно, гуманное существо; имеется
радикальное расхождение между этими двумя ценностными
категориями. Коммерция, прививающая людям культуру,
влечет за собой роскошь, которая развращает их1; не существует
экономического закона, который ограничивал бы накопление
роскоши, и добродетель можно сохранить лишь за счет
присущей республике дисциплины, воспитания людей в
бережливости— которая в действительности способствует
дальнейшему развитию торговли — средствами, включающими в себя
музыку и умение владеть оружием.
Макиавелли, определяя гражданские ценности как
совершенно несовместимые с христианскими, использовал
концепцию оружия, чтобы выразить как полную преданность
гражданина своей республике, так и представление о мире, слишком
суровом в обращении с негражданами, чтобы исповедовать
какую бы то ни было универсальную человечность. Монтескье
прибавил к этому концепцию коммерции и пришел к
выводу, на который намекали Флетчер и Давенант: коммерция
I. Книга XX, глава I: «Le commerce guérit des préjugés destructeurs; et c'est
presque une règle générale, que partout où il y a des mœurs douces, il y a du
commerce; et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces.
Qu'on ne s'étonne donc point si nos mœurs sont moins féroces qu'elles ne
l'étaient autrefois. Le commerce a fait que la connaissance des mœurs de
toutes les nations a pénétré partout: on les a comparées entre elles, et il en a
résulté de grands biens. On peut dire que des lois du commerce perfectionnent
les mœurs, par la même raison que ces mêmes lois perdent les. mœurs. Le
commerce corrompt les mœurs pures: c'était le sujet des plaintes de Platon:
il polit et adoucit les mœurs barbares, comme nous le voyons tous les jours»
(Montesquieu Ch.L. De l'esprit des lois. Vol. II. P. 8); «Торговля исцеляет
нас от пагубных предрассудков. Можно считать почти общим
правилом, что везде, где нравы кротки, там есть и торговля, и везде, где
есть торговля, там и нравы кротки. Поэтому не надо удивляться, что
наши нравы менее жестоки, чем прежде. Благодаря торговле все
народы узнали нравы других народов и смогли сравнить их. Это привело
к благотворным последствиям. Можно сказать, что законы торговли
совершенствуют нравы по той же причине, по которой они их и
губят. Торговля развращает чистые нравы: на это жаловался Платон;
она шлифует и смягчает варварские нравы: это мы видим ежедневно»
(Там же. С. 433)·
689
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
и культура несовместимы с добродетелью и свободой. Торговля
сулила более непосредственные удовольствия, более
утонченные чувства и более универсальные ценности по сравнению
с теми, что свойственны древним спартанским, римским или
готским гражданам-воинам, но, поскольку она олицетворяла
более универсальный принцип иного порядка, чем тот, что
лежал в основе конечного полиса, она оказалась совершенно
чужда добродетели в значении vertu politique. И хотя возможно
было сформировать законы, образование и нравы, которые
сдерживали бы накопление роскоши, всегда имелось
основание с не меньшей уверенностью утверждать, что роскошь вела
к порче законов, образования и нравов. В среднесрочной
перспективе можно было принять тезис, согласно которому
коммерция и искусства вносили свой вклад в развитие
коммуникации и даже в развитие свободы и добродетели, равно как
и установить гармоничные отношения между страстью и
разумом; но в конечном счете обойти эту несовместимость
оказалось нельзя. Коммерция пришла на смену фортуне; республике
не под силу вечно контролировать свою историю или
сопротивляться собственной коррупции; частное и универсальное
по-прежнему оставались непримиримо враждебны друг другу.
Здесь можно было вернуться к циклической концепции
истории (anakuklöns), в которой республики благодаря собственной
virtu превращались в империи, а затем разлагались и гибли
под влиянием роскоши и коррупции. Однако в XVIII веке,
достаточно уверенном в своей культуре, промежуточная стадия,
по-видимому, рассматривалась как наиболее важная, казалась
более определенной, чем грядущий saeculum или историческое
настоящее христианской мысли, а момент разложения
представлялся еще более отдаленным, чем горести, сопряженные с
христианским апокалипсисом; теории прогресса даже
потенциально заключали в себе возможность утопии, в которой культура
стала бы самодостаточной. Но, пока сохранялся этос
гражданской добродетели, невозможно было уйти от угрозы
апокалипсиса саморазрушения; связи между личностью и обществом
казались достаточно хрупкими и не позволяли ожидать, что
апокалипсис, вызванный коррупцией, наступит быстро и
неотвратимо. Подобный взгляд встречается даже у Давида Юма.
Может быть, нет оснований напрямую связывать — хотя
некая связь существовать должна — внимание Юма как
философа к проблеме взаимоотношений между разумом и страстью
и его интерес как историка, изучающего Англию, к отношениям
бдо
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
между землей и коммерцией, между исполнительной и
законодательной властью1. Однако в своей второй ипостаси он
выступает главным образом как ученый, придерживающийся
«придворной» системы взглядов. Вслед за Брэди, Дефо и
апологетами Уолпола он отверг идею «Древней конституции» и,
споря с приверженцами неохаррингтоновского подхода, усвоил
позицию Харрингтона, которым — с некоторыми
оговорками — восхищался. В Англии существовала система правления
«готического» типа с воинами-землевладельцами, баронами
и их вассалами, но сохранялось непростое напряжение
между неистовой властью и неистовой свободой, не содержавшее
внутри себя никаких принципов легитимации, будь то
прецедент или баланс. Освобождение людей от вассальной
зависимости оказывалось невозможно без распространения коммерции
и просвещения, но оно привело к противостоянию между
монархией, впервые выявив ее произвольный и поистине
абсолютный характер, и народом, стремление которого к свободе
в немалой степени подогревалось теми суеверием, фанатизмом
и лицемерием, что Юм только и видел в пуританизме. Таким
образом, существовала связь между развитием торговли,
разгулом страсти и жаждой свободы; жажда свободы в конечном
счете диктовалась не рациональными соображениями, а
желанием, поэтому легко понять Юма, когда он говорит, что власть
и свобода в государстве всегда будут враждовать между собой
и полностью примирить их невозможно. В государстве
«готического» типа этот конфликт принимал необычайно острую
форму; после 1688 года стал возможен несколько более
устойчивый синтез*. Однако следует подчеркнуть, что Юм
продолжал считать британскую конституцию компромиссом между
абсолютной монархией и народной республикой и считал
более чем вероятным, что в конце концов она склонится в
сторону одной из этих крайностей3.
1. Против этого предостерегает Дункан Форбс: Forbes D. Politics and History
in David Hume [Book rev.: Giarrizzo G. Hume politico e storico] // The
Historical Journal. 1963. Vol. 6. № 2. P. 280-294.
2. Лучшие современные исследования исторической мысли Юма — это
уже упомянутая книга Джузеппе Джариццо (Giarrizzo G. Hume politico
e storico. Torino, 1962) и предисловие Дункана Форбса к изданию
«Истории Великобритании» в серии «Pelican Classics»: Hume D. The History of
Great Britain. Vol. 1: Reigns of James I and Charles I. Harmondsworth, 1970
(первое издание—1754 год).
3· Hume D. Whether the British Government inclines more to Absolute Monarchy
or to a Republic // Essays Moral, Political and Literary of David Hume.
London, 1903. № 7. P. 48-53.
69I
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
Коммерция и обучение, как давал понять Юм, не просто
вызвали тривиальный переход от суеверия средневековых
христиан к фанатизму пуритан. Они расширили умственные
горизонты человека, дав его интеллекту больше пищи для
размышлений, больше понятий, которые он мог обдумывать,
и ценностей, которые он мог выражать, и поэтому деятельность
человеческого сознания, изначально связанная с возросшими
аппетитами и страстями, стимулировала развитие
рациональных способностей, в том числе — когда неистовство пуритан
поутихло — способности к рациональной свободе и (если есть
такая вещь) к рациональной религии1. Страсть может
оживлять разум и помогать ему перестраивать сложные отношения
между властью и свободой, но как недостижима окончательная
гармония внутри одной пары, так невозможна она и внутри
другой, и нет ничего удивительного, что позиция Юма по
отношению к конституции XVIII века была «придворной» в той
мере, в какой он признавал необходимость высшей властной
инстанции и наличия у исполнительной власти рычагов
влияния на законодательную2. Патронаж его не тревожил, ибо он
полагал, что люди — существа, управляемые своими страстями,
точнее, посредством их, а правление — своего рода фильтр,
заставляющий их преобразовывать свое краткосрочное видение
собственных частных интересов в долгосрочное
представление об общности интересов — и в этом смысле об общем
благе. В идеале совершенная республика состоит из одного,
немногих и многих, как предписывает классическая модель, но
в реальности — и даже в идеальных условиях — должны
существовать способы отождествить интересы всех трех элементов,
а это подразумевало наличие власти, раздававшей должности
в обмен на лояльность, что неизбежно в той или иной
степени входило в конфликт с силами, стремящимися к свободе3.
Юм признавал необходимость патронажа и влияния в
системе правления, как признавал и коммерцию, видя в ней в
данную историческую эпоху освободительную силу, расширявшую
человеческий интеллект, подогревая его желания. В этой связи
интересно вспомнить Горо Дати и других авторов Кватроченто,
по мнению которых флорентийцы были тем более склонны
1. Essays Moral, Political and Literary of David Hume. Part II. № ι (Of
Commerce), № 2 (Of Refinement in the Arts).
2. Ibid. Part I. № 6 (Of the Independency of Parliament).
3. Ibid. Part I. № 3 (That Politics May be Reduced to a Science); Part II. № 16
(Idea of a Perfect Commonwealth).
692
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
к деятельной гражданской жизни, что являлись купцами,
которые путешествовали, изучали и сравнивали, насыщая свой ум
большими знаниями, чем те, что они могли бы унаследовать,
просто соблюдая обычаи1. Как мы понимаем, в интерпретации
Макиавелли и Гвиччардини гражданский этос в какой-то мере
вступал в конфликт с этим первоначальным буржуазным
импульсом; от гражданина требовали настолько
неукоснительного подчинения единичных благ общим, что он принял облик
избегающего торговли спартанца, воина, гражданина,
земледельца— и только. В XVIII столетии, поглощенном проблемой
добродетели и торговли, именно «придворная» идеология
восстанавливала предприимчивого человека в правах
добродетельного гражданина. Поскольку Юм был готов признать
двойственность отношений и плодотворность конфликта между разумом
и страстью, властью и свободой, постольку он, размышляя об
истории Англии, начал — предвосхищая Кольриджа и других
мыслителей XIX века — признавать подобную же
двойственность в отношениях между владельцами недвижимого
имущества, унаследовавшими свободу в виде привилегий и традиций,
и владельцами движимого имущества, утверждавшими свободу
за счет умножения знаний и новых компетенций; начиналось
противостояние прогрессивного и консервативного элементов2.
Вскоре появились энтузиасты — каковыми их, несомненно,
счел бы Юм — от прогресса, полагавшие, что, получив
возможность торговать и путешествовать по всему миру, человек
со временем приобретет все мыслимые сведения, из которых
выведет все заключения, необходимые для полного
познания себя и окружающего мира. Препятствие состояло в том,
что подобное знание, подпитываемое желанием и страстью,
неминуемо содержало бы в себе элемент фантазии,
воображения и ложного сознания, и трудно себе представить, что
мышление можно полностью освободить от воздействия
этого элемента. Разумеется, Юм не тешил себя такой иллюзией,
он был далек от всякого утопизма; но он лучше многих
других оказался вооружен способностью скептика соглашаться,
что, раз уж нам во многом приходится жить в мире
фантомов, мы способны различить их и сформировать критерии
и ориентиры, которые позволят нам определить, насколько
и в какой мере мы преуспели в том, чтобы превратить их
1. См. выше, с. Ι44_Ι45·
2. Forbes D. Introduction // Hume D. The History of Great Britain. Vol. i. P. 38-
39; Giarrizzo G. Hume politico e storico (cap. II, III).
69З
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
в подлинное знание. Следовательно — и как следствие — он
не слишком опасался превращения металлической валюты
в бумажный кредит; он даже язвительно заметил, что
напрасно Ликург, желая ограничить обращение золота и серебра
в Спарте, прибег для этого к железной монете, а не к бумаге.
Юм соглашался, что при правильной организации люди в
условиях кредитной экономики полагались на
платежеспособность друг друга, а не на рыночную ценность
государственных бумаг — во многом сближаясь с Монтескье, показавшим,
как crédit переходит в confiance, — и что бумага может служить
посредником передачи долговечных, пусть и не подлинных
ценностей1.
Впрочем, существовал предел, за которым кредит и
доверие теряли силу, и крайне интересно следить за риторикой
Юма, когда он размышляет, что этот предел остался позади.
Решающим фактором служило бремя государственного долга.
Если бы некогда настало время, когда обнаружилось, что вся
собственность и промышленность содержатся на средства,
взятые в долг у населения, настолько (девятнадцать шиллингов
в каждом фунте), насколько такой долг возможен, а долг
нации перед самой собой был обеспечен только всеми
будущими доходами, заложенными бессрочно, тогда уже оказалось бы
невозможно сохранить доверие общества. Появился бы
правящий класс биржевых трейдеров, столь же грозный, каким его
рисовали Давенант и Болингброк, не владеющий ничем,
кроме долгов населения, и в то же время владеющий всем, ибо
ценность каждой вещи определялась бы теперь суммой долга,
который за ней стоял. Воинская служба и представительство
в парламенте превратились бы в обязанности, исполняемые
по найму, и люди утратили бы защиту от собственных
фантазий и легковерия, потому что все обесценилось бы и
обессмыслилось. Единственным возможным исходом была бы
«естественная смерть» вследствие государственного банкротства
или «насильственная смерть» от руки иноземных
завоевателей, и подобный итог существующего положения дел — по
словам Юма, который, возможно, продолжал так думать до самой
своей смерти в 1776 году, — являлся наиболее предсказуемым:
I. Essays Moral, Political and Literary of David Hume. Part II. № 3 (Of Money),
№ 4 (Of Interest), № 5 (Of the Balance of Trade). Ликург упоминается на
с. з26 второй части. Существует также издание трудов Юма по
экономике, подготовленное Юджином Ротвейном: Writings on Economics:
David Hume / Ed. by Ε. Rotwein. Madison, 1970.
694
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
«Или нация должна уничтожить государственный кредит, или
государственный кредит уничтожит нацию»1.
По природе своей Юм был наименее склонен к сетованиям
из всех когда-либо живших философов, однако то
обстоятельство, теперь уже известное нам, что общество торговли в
конечном счете не могло защитить себя от сил, способствующих его
коррупции, заставило и его пустить в ход скорбные
интонации. Подобно авторам «Ответа Его Величества на Девятнадцать
предложений», Юм в итоге пришел к выводу о непрочности
существующего в обществе равновесия; подобно
Макиавелли — и питая столь же мало иллюзий, а может быть, и меньше,
потому что он еще меньше верил в то, что правление
держится на добродетели каждого отдельного человека, — он
признавал, что силам, подрывающим добродетель, можно
противопоставить только реформу законодательства, и что есть грань,
за которой вырождение быстро окажется необратимым. Если,
говоря языком Монтескье, добродетель являлась принципом
существования республик, республиканская теория
подразумевала, что добродетель сама должна поддерживать условия,
необходимые для добродетели, и оставалась совершенно
одинока в своем героизме — который, возможно, и делал ее
привлекательной в то постпуританское время. И это притом, что
предложенный Юмом философский, психологический и
экономический анализ общества по своей тонкости и сложности
превосходил всё, что могла предложить его эпоха (а в
большинстве своем и другие), и не требовал прибегать к «добродетели»
как овеществленной сущности, на которой основывалось все
остальное. Он исключительно широко понимал многообразие
социальных сил, составляющих комплекс, который обычно
именовали «добродетелью», но считал, что эти силы действуют
в определенных социальных условиях, которые они сами же
разрушают, и, как только это произойдет, принятая риторика
«коррупции» окажется как нельзя кстати.
I. «either the nation must destroy public credit, or public credit will destroy the
nation» (Ibid. Part II. № 9 (Of Public Credit). P. 355-361).
Процитированную фразу см. на с. 366. См. также: «These seem to be the events, which
are not very remote, and which reason foresees as clearly almost as she can
do any thing that lies in the womb of time» (Ibid. P. 371); «Представляется,
что события эти наступят в не самом отдаленном будущем, потому что
разум различает их со всей почти ясностью, с какой он только
способен различить то, что покоится в лоне времени». О настроениях Юма
в последние годы жизни см.: Giarrizzo G. Hume politico e storico. P. no,
а также: Stewart J.B. The Moral and Political Philosophy of David Hume.
New York, 1963.
695
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
Однако, не считая этой оговорки, отчасти именно
способность Юма видеть в коммерции и страсти динамические силы,
способствующие как формированию политического общества,
так и активной, кинетической истории, сделала его
выдающимся историком XVIII века; и никак нельзя сказать, что он
не способен к оптимистичному взгляду на настоящее и
будущее, в котором еще очень долго можно было бы
противостоять окончательной коррупции. Великая Шотландская школа
социальных философов, которых связывали с ним сложные,
но тесные отношения преемственности, продолжила
исследовать историческую диалектику добродетели и торговли, в
значительной мере опираясь на его труды1. Часто цитируется
утверждение Юма, что человеческая природа во все времена
и повсюду одна и та же. Несмотря на это, его аргумент, что
разум зависит от страсти, а страсть — от опыта, мог в
сочетании с набирающим популярность мнением, что торговля
расширяла сферу человеческого опыта, знания и ценностей,
говорить в пользу представления о людях, созидающих и
преобразующих собственную «вторую природу» — которая со
времен Аристотеля коренилась в привычке и любви, или опыте
и страсти, — на протяжении веков своей все более активной
экономической жизни. Если можно с уверенностью говорить,
что лидеры Шотландской школы были знакомы с доктриной
Вико, согласно которой люди создали собственную историю
благодаря языковому и поэтическому воображению, то
можно легко провести связь между коммерцией и воображением.
А поскольку между землей и коммерцией уже существовало
противостояние как между принципами сохранения и роста,
движение истории от земли к коммерции в глазах
теоретиков социологии или «предполагающих историков»2 переросло
в модель социального развития, включавшую в себя переход
от охотников к скотоводам, земледельцам и торговцам, ближе
к завершению которого начали появляться и
промышленники. На каждом последующем этапе известные людям
способы производства и распространения необходимых для жизни
товаров обеспечивали опыт материалом, питающим страсть,
ι. Лучшей работой о Шотландской школе по-прежнему можно считать:
Bryson G. Man and Society: The Scottish Enquiry of the Eighteenth Century.
Princeton, 1945.
2. Речь идет о школе преимущественно шотландских историков,
которую один из ее лидеров Дугалд Стюарт (i753-I828) называл
«теоретической или предположительной историей» (theoretical or conjectural
history).—Прим. ред.
бдб
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
воображение и интеллект, и на каждом этапе человеческая
личность воспринималась как выстроенная в соответствии
с моделями, приемлемыми на этой культурной стадии. Теперь
была подготовлена почва для Адама Смита, его теории homo
faber, теории труда, создающего ценности. Человека стало
можно называть существом культурным, а культуру — продуктом
экономики, и по мере того, как производимые товары, а
также технологии их производства и распределения с каждым
новым этапом совершенствовались, сложность человеческой
культуры, воображения и личности соответственно возрастала.
В этот момент возникла историческая наука, прослеживающая
и объясняющая развитие культуры и торговли; и человек, все
в большей мере становящийся существом историческим,
оказался в самом центре соответствующего процесса.
Однако полностью преодолеть противоречие между
культурой и свободой таким образом не удалось. Шотландские
и французские историки, занимавшиеся скорее умозрением,
чем исследованиями, продолжали использовать язык
добродетели и коррупции — то есть язык гражданского
гуманизма в его английской версии, который с 1698 года выступал
средством описания конфликта между ценностями и
историей,— и в итоге пришли к не менее пессимистическим
выводам, чем Макиавелли. Они, будучи уже современниками Адама
Смита, рассматривали разделение и специализацию труда и
сопутствующее им увеличение интенсивности обмена как
движущую силу, благодаря которой общество переходило от одного
этапа экономической истории к другому, и здесь совершенно
не случайна связь с тем обстоятельством, что в целом
англошотландский интерес к роли коммерции в обществе и истории
начался с протеста против расширения профессиональной
армии— против того, что с точки зрения античной и
гражданской традиции служило ключевым и гибельным проявлением
специализации социальной функции. Гражданин, который
допускал, чтобы другой сражался вместо него за плату, в
существенной мере утрачивал свой virtus во всех значениях этого
слова; а священник, юрист и рантье наряду с солдатом стали
восприниматься как яркий пример человека, чья профессия
заставила его служить другим людям, которые, в свою очередь,
оказывались у него в услужении. Иными словами,
профессионализация являлась главной причиной коррупции; лишь
о гражданине, который не представлял конкретную
профессию, владел собственностью, был независим и стремился лично
697
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
исполнять все свои обязанности, поддерживающие
существование государства, можно сказать, что он поступает
добродетельно или живет в городе, где справедливость по-настоящему
распределена. Не было такого arte, которого он не хотел бы
усвоить. Но если развитие ремесел вылилось в процесс
профессионализации, значит, сама культура противоречила это-
су zôon politikon, а если кто-то возразил бы — как, разумеется,
можно сделать, — что лишь профессионализация, торговля
и культура сделали людей достаточно свободными, чтобы
заботиться о чужом благе, равно как и о своем собственном, то
из этого следовало: государство создается теми же силами, что
должны его уничтожить. Как только оказался осознан
исторический переход от земли к коммерции, человек-гражданин
обнаружил историческое противоречие своего существования.
Из всех шотландских изысканий на эту тему «Опыт
истории гражданского общества» (Essay on the History of Civil Society)
Адама Фергюсона, вероятно, наиболее близок к трудам
Макиавелли1. Его автор говорит не столько о поэтапной смене
способов производства, как чаще всего делали его современники,
сколько о движении истории от варварства к цивилизации,
от общества воинов с его примитивной добродетелью к
государству коммерции, утонченности и человечности. Он
подчеркивал, что примитивные человеческие сообщества
постоянно конфликтовали со своими соседями, и из этих условий
войны и противоборства выводил страстное чувство
солидарности, помогавшее человеку освоиться в социуме и
укреплявшее его эгоа. Эта агрессивная и дисциплинированная страсть
ι. Существует издание, подготовленное Дунканом Форбсом (с его
предисловием) и вышедшее в ig66 году в Эдинбурге (рус. перевод: Фергюсон А.
Опыт истории гражданского общества / Пер. И. И. Мюрберг под ред.
М.А. Абрамова. Μ!, 200о). См. также: Kettler D. The Social and Political
Thought of Adam Ferguson. Columbus, 1965.
2. «It is here [то есть в обществе] that a man is made to forget his weakness,
his cares of safety, and his subsistence; and to act from those passions which
make him discover his force. It is here he finds that his arrows fly swifter
than the eagle, and his weapons wound deeper than the paw of the lion,
or the tooth of the boar» (Ferguson A. Essay on the History of Civil Society.
Edinburgh, 1966. P. 18); «Именно в этот момент [то есть в обществе]
человек забывает о своей слабости, заботе о самосохранении, о
поиске средств к существованию и действует, ведомый страстью, которая
одна может показать ему, как он силен. Именно в этот момент он
узнает, что его стрелы летают быстрее орла, а его ножи ранят глубже,
чем львиные когти или кабаньи клыки» (Фергюсон А. Опыт истории
гражданского общества. С. 54)· «Athens was necessary to Sparta, in the
exercise of her virtue, as steel is to flint in the production of fire» (Ibid. P. 59);
698
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
наглядно присутствует в virtù Макиавелли, — равно как и в аса-
бийи ('asabiyah) арабского социолога Ибна Хальдуна, — и она
является источником добродетели в общепринятом смысле,
поскольку примитивные воины превращаются в патриотически
настроенных граждан. Однако по мере того, как война делала
общества все более сплоченными, а значит, способными к более
тонкому восприятию, отношения между гражданами переросли
в отношения профессионализации, обмена и торговли, а
расширение профессиональных армий Фергюсон, как и Флетчер,
связывал с моментом, когда люди устремились к материальным,
интеллектуальным и душевным наслаждениям,
заключавшимся в цивилизации, предоставив защищать их тем, кому за это
платили1. В этот переломный момент встал вопрос, не
развращают ли людей случайные, вторичные, однако во многих
отношениях более ценные блага цивилизации, отвлекая их от
первичного блага общности, той примитивной асабийи или
virtù, которую в целом можно описать в неморальных
категориях— теперь она явно представала как страсть, — но
благодаря которой тем не менее формировались нравственная
личность и нравственные отношения.
Всех опиравшихся на аристотелевскую традицию
теоретиков в той или иной мере волновало противоречие между
универсальным и единичным благом, но мало кто до Фергюсона
излагал его в столь вызывающе примитивной форме. Его ма-
киавеллианский язык указывает, что подход Фергюсона
является еще одним результатом гуманистического эксперимента,
«Афинам для демонстрации ее добродетелей была необходима Спарта,
как огонь для выплавки стали...» (Там же. С. ю8); см. также фрагмент
целиком: Ibid. Р. 59~6ι; Там же. С. ю8-ио.
I. «The subdivision of arts and professions, in certain examples, tends to improve
the practice of them, and to promote their ends. By having separated the
arts of the clothier and the tanner, we are the better supplied with shoes and
with cloth. But to separate the arts which form the citizen and the statesman,
the arts of policy and war, is an attempt to dismember the human character,
and to destroy those very arts we mean to improve» (Ibid. P. 230); «В
определенных случаях выделение ремесел и профессий благотворно
сказывается на человеческой практике, на способности людей достигать
поставленных целей. Выделив искусство портного и искусство
кожевника в две самостоятельные профессии, мы стали получать одежду
и обувь более высокого качества. Однако разделение на две разные
профессии искусства гражданина и государственного деятеля,
искусства политика и военного является попыткой расчленить на части
человеческую личность и разрушить те самые навыки, которые мы
хотели бы усовершенствовать» (Там же. С. 325)· См. также фрагмент
целиком: Ibid. Р. 229-232; Там же. С. 321-327· См. также: Kettler D. The
Social and Political Thought of Adam Ferguson. P. 88-91, 100-101 et passim.
699
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
располагающего республику во времени. Вопрос всегда
заключался в том, в каких случаях единичные или частные блага
следует рассматривать как часть универсального или общего
блага, а когда — как помеху ему. Поскольку концепция
гражданской добродетели всецело строилась на непосредственном
взаимодействии между личностью и республикой, vivere civile,
как правило, отрицала вторичные блага, а не поддерживала
их. Спарта, где желания подавлялись, обычно ставилась выше
Афин, где их удалось превзойти; лишь в либеральной Англии
XIX века, когда культура окончательно вытеснила
собственность как определяющую характеристику гражданской элиты,
речь Перикла над могилами воинов заняла свое место в ряду
священных для либеральной цивилизации текстов. Как
только республику поместили во временное измерение, ее история
все чаще становилась историей саморазрушения, когда одна
добродетель вызывала упадок другой, и в XVIII веке, когда
Афины представлялись торговой и в конечном счете
изнеженной империей1, эта проблема стояла особенно остро. Согласно
парадигме развития коммерции, история представляла
движение по пути неограниченного преумножения благ и вела
к прогрессу материальной, культурной и моральной
цивилизации в целом. Но, поскольку она не знала никакого
эквивалента понятию zôon politikon, понятию автономного индивида,
способного осуществлять моральный и политический выбор,
могло возникнуть ощущение, что прогресс уводит от чего-то
сущностно важного для человеческой личности. И эта
коррупция была самопорождающей; общество как машина
производства и преумножения товаров оказалось внутренне враждебным
социуму как моральной основе личности. История коммерции
в очередной раз показала, что республика не решила проблему
своего существования как универсальной ценности в
конкретном и случайном времени.
Можно сказать, что Фергюсон обозначил этот парадокс,
разграничив virtu, с одной стороны —как первичную
ценность единства с социальной основой личности, — и с другой,
добродетель в значении практики каждой ценности,
полученной вследствие общественного прогресса. Нечто подобное
имел в виду Монтескье, когда заметил, что vertu монаха —
качество, позволяющее ему подавить все человеческие желания
ι. См. типичное обвинение в адрес Перикла, поставленного в один ряд
с Цезарем с Уолполом: Cato's Letters. Vol. II. P. 73-74.
7OO
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
и достичь всецелой преданности своему ордену1; философ при
этом не считал, что монашеские ордена представляют какую-
либо ценность для общества. Впрочем, Фергюсон применяет
этот прием как раз по отношению к цивилизации и
личности, и в результате, учитывая язык шотландской социальной
мысли, гражданин, социальное существо, определяемое лишь
своей добродетелью, постепенно отступает назад к состоянию,
которое принято называть диким, когда он не признавал
никаких ценностей, помимо групповой солидарности, а группа не
позволяла практиковать никакие другие добродетели. У Фер-
гюсона есть несколько удивительных страниц, где он
изображает жителей древнегреческих городов-государств так, что их
едва удается отличить от гомеровских воинов, которые, в свою
очередь, отождествляются с описанными у Лафито
американскими индейцами и — связь здесь очевидна — с членами
кланов в родном Фергюсону шотландском Хайленд8. Если
гражданину следует отказаться от всякой добродетели, кроме virtù,
он неизбежно все больше деградирует до состояния
первобытного человека, а его virtù — до того, что этологи любят
называть «территориальным императивом».
Фергюсону не оставалось другого выбора, — к этому
вынуждало философа отсутствие торговой этики, — кроме как
утверждать, что прогресс цивилизации представлял собой
преумножение вторичных ценностей, погоня за которыми требовала
разделения труда и личностной профессионализации. Когда
человек стремился к обретению сопряженной с цивилизацией
ценности или комплекса ценностей, он все больше зависел от
тех, с кем заключил договор, возложив на них специальные
функции, отличающиеся от его собственных, все меньше
действуя как личность, непосредственно связанная с обществом
в его неопределенной форме; и, если здесь и следовало
искать истоки индивидуальности, человек утрачивал
существенный элемент собственного «я» по мере того, как прогресс
делал его все более утонченным. Даже обогащаясь, личность
оскудевала. Мы наблюдаем, как античная концепция
коррупции сливается с модерной теорией отчуждения и становятся
1. Montesquieu Ch.L. De l'esprit des lois. Vol. I. P. 46; Монтескье Ш.Л. О духе
законов. С. 197 (книга V, глава II). На самом деле Монтескье" не
называет любовь монаха к своему ордену vertu, но подразумевает, что именно
это качество является vertu в случае гражданина.
2. Ferguson A. Essay on the History of Civil Society. P. 193-202; Фергюсон А. Опыт
истории гражданского общества. С. 129 и далее. О Фергюсоне как
выходце из Хайленд см. введение Д. Форбса: Ibid. P. XXXVIII-XXXIX.
70I
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
заметны гуманистические корни раннего марксизма.
Теоретики Шотландской школы, пользующиеся развитой
экономической схемой стадий человеческого прогресса, обнаруживают
ту же проблему. Конечно, с точки зрения Адама Смита,
принцип разделения труда и обмена товарами и услугами
действовал с начала истории; он привел не только к удовлетворению
большего числа потребностей человека, но и к развитию у него
новых способностей, желаний и стремлений, так что личность
становилась все более многогранной и богатой; Смит таким
образом поясняет, почему примесь торговли была необходима,
чтобы сделать человека способным к гражданской жизни.
Однако мы чувствуем намек, что некий благоприятный момент
наступил и прошел. Тем, кто всю жизнь проводит,
прилаживая головки к булавкам, — предшественникам пролетариата
Маркса и конвейерных рабочих XX века, — не просто
отказано в досуге, позволяющем наслаждаться множащимися в
обществе благами; сама способность к этому постепенно у них
атрофируется, и, если специализация труда в ходе истории
способствовала все большему многообразию человеческой
личности в целом, их личности теперь подвергаются обратному
воздействию, становясь одномерными1. Джон Миллар,
наиболее выдающийся ученик Смита и его непосредственный
преемник, написал четырехтомный исторический труд о
развитии английского политического общества, где сформулировал
тот же тезис, но в категориях, обнаруживающих родство его
позиции с гражданским гуманизмом. Добродетель и
коррупция — ключевые понятия, которыми оперирует Миллар, и он
I. Изготовители булавок упоминаются в пятой главе первой книги
«Богатства народов» А. Смита. Ср.: Smith A. Lectures on Justice, Police,
Revenue and Arms // Adam Smith's Moral and Political Philosophy / Ed. by
H.W. Schneider. New York, 1948. P. 320-321: «Another bad effect of commerce
is that it sinks the courage of mankind, and tends to extinguish martial spirit.
In all commercial countries the division of labour is infinite, and every one's
thoughts are employed about one particular thing. <...> The minds of men
are contracted, and rendered incapable of elevation. Education is despised,
or at least neglected, and heroic spirit is almost utterly extinguished. To
remedy these defects would be an object worthy of serious attention»; «Еще
одно вредное последствие торговли заключается в том, что она делает
человечество менее мужественным и гасит в нем боевой дух. Во всех
торговых странах существует бесконечно дробное разделение труда,
и мысль каждого направлена на один-единственный конкретный
предмет. <...> Человеческий ум сужается, становится неспособен
возвыситься. Образование вызывает презрение, или, по крайней мере,
им пренебрегают, а дух героизма почти вовсе угас. Исправление этих
недостатков — цель, заслуживающая серьезного внимания».
7<Э2
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
снова и снова возвращается к вопросу, не становятся ли люди
все более уязвимы для коррупции по мере того, как общество
прогрессирует, делая их способными к свободе и
добродетели1, не только в том смысле, что добродетельным людям уже
нечего бояться, кроме порчи, — смысл здесь более глубинный
и тревожный: те же исторические силы, что порождают
добродетель, отвлекают и дезориентируют личность, не столько за
счет искушения роскошью, сколько за счет запутанности
моральных ситуаций и отчуждения от моральной основы,
которое мы теперь подразумеваем под коррупцией. Questa ci esalta,
questa ci disface2. Добродетельная, или социально здоровая,
личность разрушается, даже в момент, когда она создается.
На примере Шотландской школы мы можем видеть, как
момент Макиавелли стал моментом в диалектическом
процессе. Теперь существовала теория истории, показывавшая, как
добродетель выстраивается и уничтожается из-за разрастания
самого общества; живущий во времени образ кентавра,
который использовал Макиавелли, стремясь показать, что хотя
человек был по природе zöon роИйкощ он никогда полностью
не мог стать самим собой. Существует связь между
утверждением Макиавелли, что республики никогда не приходили
к полной устойчивости или к совершенной добродетели, и тем
фактом, что основанная на коммерции политическая теория
все чаще демонстрировала резкое разделение общества на тех,
кого прогресс обогащал, и тех, кого он обеднял, и при этом
оправдывала правление как необходимое зло в мире
специализации и классовой борьбы. Момент являлся
диалектическим в том смысле, что, хотя возможно было представить
точку баланса, когда силы, содействующие развитию добродетели,
и силы, подрывающие ее, находились в равновесии,
историческая структура этой теории убеждала, что занимать такое
1. Millar J. An Historical View of the English Government, from the Settlement
of the Saxons in Britain, to the Revolution in 1688: to 'which are Subjoined
Some Dissertations Connected with the History of the Government from the
Revolution to the Present Time... In four Volumes. 4th ed. London, 1818. См.
в особенности тома III и IV; последний том составляют менее
значимые труды. Фрагменты из работ Миллара и аналитическое введение
к ним см.: Lehmann W. С. John Millar of Glasgow. Cambridge, i960. См.
также: Forbes D. Scientific Whiggism: Adam Smith and John Millar // Cambridge
Journal. Vol. 7 (1954). P. 643-670.
2. Строчка из уже процитированного стихотворения Макиавелли «О
Фортуне», которой в переводе Е.М. Солоновича соответствует следующий
отрывок: «Не для Фортуны писаны законы: // кого-то обласкав, она
потом // любимцу ставит бывшему препоны...». — Прим. перев.
703
ГЛАВА XIV. ДЕБАТЫ XVIII СТОЛЕТИЯ
положение они могли лишь кратковременно. Когда Фергюсон,
рассуждая о гражданине, сводил его к представителю клана,
он прекрасно понимал, что объяснить появление гражданина
можно лишь прогрессом и эмансипацией из того мира,
откуда происходил представитель клана. Противоречие
составляло здесь самую суть, и не существовало золотого века, в
который люди могли бы вернуться. Превращение иррациональной
fortuna в позитивную и прогрессивную коммерцию не
изменило характера момента, когда добродетель и фортуна
противостояли друг другу.
Однако в диалектику вовлечены две стороны, особенно
если речь идет о прогрессе и деградации, и, конечно, можно
написать историю Шотландской школы, сделав акцент почти
исключительно на тех аспектах ее мысли, которые
считаются прогрессивными (она стремилась показать, как коммерция
и специализация сформировали общество и культуру) или
консервативными (она пыталась продемонстрировать, как можно
сгладить конфликт между прогрессом общества и
отчуждением личности или удержать их в равновесии, которое бы почти
не вызывало раздражения у каждой из сторон). Шотландская
мысль обычно не являлась утопической в том отношении, что
показывала, как силы прогресса в конечном счете
преодолевают силы распада — она не давала окончательного ответа
на проблему личности и общества, — но и не оказалась
подавлена трагическим чувством исторического противоречия.
Нет ли, если учитывать противопоставление Афин Спарте
или Риму, скрытой иронии в том, что Эдинбург в годы его
расцвета называли «современными Афинами»? Но если мы
сделаем вывод, что шотландские философы рисовали
будущее, в котором прогресс и коррупция могли сосуществовать
на протяжении долгого времени, важно понимать, было ли
временное измерение этого будущего только случайным и се-
кулярным — в том смысле, что не существовало ничего, кроме
враждующих социальных сил, и окончательного разрешения
конфликта между ними не предполагалось. Или же оно
являлось отчасти апокалиптическим, в том смысле, что в конце
концов следовало ожидать несомненного упадка и
уничтожения любого человеческого общества, но что человек
своими усилиями, если обстоятельства будут благоприятствовать
тому, может отсрочивать его почти бесконечно. Однако в
обоих случаях Жан-Жак Руссо — приезд которого в Шотландию,
подготовленный Юмом, в силу психологических причин так
704
ДОБРОДЕТЕЛЬ, СТРАСТЬ И КОММЕРЦИЯ
никогда и не состоялся — явился бы гостем, который
обвиняет пригласивших его хозяев и собратьев, параноидально
заявляя, что между личностью и обществом действительно
есть напряжение, чреватое апокалиптическим потенциалом,
что апокалипсис уже пришел в своем собственном лице и что,
если подумать, он, очевидно, присутствовал еще с момента
появления человеческого общества.
Руссо был Макиавелли XVIII века, поскольку резко и
скандально вскрывал противоречие, с которым другие пытались
сжиться1. Если представители Шотландской школы полагали,
что у людей в обществе есть шансы в той или иной мере
разрешить спор между добродетелью и культурой, роль Руссо
заключалась в том, чтобы настаивать: это противоречие
невыносимо в каждый момент существования каждой отдельной
личности и так есть и было всегда в истории общества.
Поскольку по природе своей общество облагораживало человека,
а затем посредством тех же механизмов приводило его в
смятение и отчуждало, нет такого мгновения в прошлом,
настоящем или будущем, которое бы не сопровождалось этим
двойным процессом. Весь проект общества был по своей природе
необходимым и саморазрушительным. Эта идея произвела
впечатление, во многом схожее с тем, какое произвело
заявление Макиавелли о разрыве между гражданскими и
христианскими ценностями; как и в случае с Макиавелли,
потребовалось время, чтобы распознать необычайную силу интеллекта,
сделавшую Руссо одним из величайших классиков
гуманистической традиции. Он исследовал тему отчуждения личности
с такой полнотой, что, пожалуй, не осталось никакого иного
прибежища, кроме как встать на моральную и идеалистическую
точку зрения, согласно которой личность воплощала в себе
и пыталась примирить противоречия истории, — направление
мысли, которое у Маркса соединилось с анализом
социальных последствий разделения труда, начатым шотландскими
мыслителями. Однако эта история выходит за рамки нашей
книги. Настоящее исследование гражданского идеала
личности и последствий его артикуляции должно завершиться его
последним великим домодерным расцветом, произошедшим
в американских колониях, и его влиянием на американское
восприятие личности и истории.
I. Пока что лучшее исследование его идей с точки зрения их связи с
традицией гражданского гуманизма: Shklar J.N. Men and Citizens: A Study
of Rousseau's Social Theory. Cambridge, 1969.
Глава XV
Американизация добродетели
Коррупция, конституция и фроптир
I.
В ig6o-e годы появился ряд значимых научных исследований,
резко изменивших наши представления о настроениях
революционного поколения в Америке1. Они показали, во-первых,
что интеллектуальные движения, приведшие к революции,
предполагали кардинальное переопределение языка и
направленности английской оппозиционной мысли; во-вторых, что,
благодаря этому, как мы уже знаем, представления
революционеров были укоренены в аристотелевской и макиавелли-
евской традиции, которой посвящена эта книга; в-третьих,
что опыт Войны за независимость, а затем и создания
конституции требовал дальнейшего пересмотра этой
классической традиции, а в некотором смысле — и отступления от нее.
Американская революция, в глазах историков более старшего
поколения олицетворявшая разрыв с прежним миром и его
историей с позиций рационализма или натурализма,
состояла, как оказалось теперь, в сложных отношениях с историей
культуры Англии и Ренессанса и с той линией мысли, которая
изначально усматривала противоречие между человеком
политическим и его собственной историей. К моменту революции
этот язык использовался в качестве ранней формы
выражения конфликта с современностью. Теперь можно исследовать
I. Помимо уже упомянутых (см. главу XII, прим. з на с. 591 и главу XIV,
прим. ι на с. 654) работ Кэролайн Роббинс и Бернарда Бейлина, см.:
Gummere R.M. The American Colonial Mind and the Classical Tradition:
Essays, in Comparative Culture. Cambridge, Mass., 1963; Colbourn H. T. The
Lamp of Experience: Whig History and the Beginnings of the American
Revolution. Chapel Hill, 1965; Pole J. R. Political Representation in England
and the Origins of the American Republic. См. также работы Гордона
С. Вуда и Джеральда Стуржа, ссылки на которые приведены ниже.
См. также мою более раннюю статью на эту тему: Pocock J.G.A. Virtue
and Commerce in the Eighteenth Century // Journal of Interdisciplinary
History. 1972. Vol. 3. № 1. P. 119-134.
706
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
историю американского сознания с точки зрения проявлений
классической республиканской проблематики.
Прежде всего следует сказать, что политическая культура,
сложившаяся в колониях в XVIII веке, обладала всеми чертами
гражданского гуманизма неохаррингтоновского толка.
Англоязычная цивилизация, по-видимому, действительно
представляет картину различных вариантов этой культуры: английского,
шотландского, англо-ирландского, новоанглийского,
пенсильванского и виргинианского, если ограничиться только этими
примерами, — на территориях, расположенных вдоль берегов
Атлантического океана. Вигский канон1 и неохаррингтониан-
цы, Мильтон, Харрингтон и Сидней, Тренчард, Гордон и Бо-
лингброк, наряду с греческими, римскими и ренессансными
классиками этой традиции вплоть до Монтескье, составляли
главные литературные авторитеты этой культуры. С ее
ценностями и понятиями мы уже хорошо знакомы: это гражданский
и патриотический идеал, в рамках которого личность
основывалась на собственности, совершенствовалась в гражданской
жизни, но всегда испытывала угрозу коррупции; правление
парадоксальным образом выступало источником коррупции
и прибегало к таким средствам, как патронаж, межпартийная
рознь и создание фракций, постоянная армия (в противовес
идеалу гражданской милиции), официальная иерархия церкви
(в противовес пуританской и деистической разновидностям
американской религии) и одобрение «процента на капитал» — хотя
критиковать последнее отчасти мешало стремление к
расширению доступности кредита, характерное для колониальных
поселений. Неоклассическая политика поддерживала этос
элиты и риторику вертикальной мобильности, чем объясняется
особая культурная и интеллектуальная однородность отцов-
основателей и их поколения. Не все американцы воспитаны
в этой традиции, но (по-видимому) не существовало иной
традиции, в которой можно было бы воспитываться в это время.
Поэтому, как полагали Бейлин и другие, идеология
английской оппозиции XVIII века действовала одновременно как
сдерживающая и побудительная сила в интерпретации американской
I. Термин, введенный историком Кэролайн Роббинс в книге «The
Eighteenth-Century Commonwealthman: Studies in the Transmission, Development
and Circumstances of English Liberal Thought from the Restoration of
Charles II until the War with the Thirteen Colonies» (1959). Канон включает
сочинения Э. Ладлоу, Дж. Мильтона, М. Нидхэма, Э. Марвелла, Дж. Хар-
рингтона, А. Сиднея, Г. Невилла и Дж. Локка.—Прим. ред.
707
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
революции. Она содержала в себе многие идеи, близкие
философии Макиавелли, которые оказались самоосуществляющимися.
Коррупцию, угрожавшую гражданским основаниям личности,
невозможно искоренить иначе, кроме как личной
добродетелью, а потому, если не принять своевременных мер, ее
влияние быстро станет необратимым. Когда министры в
Вестминстере— в министрах, как правило, видели корень почти всех
зол — перешли к действиям, в которых можно усмотреть
посягательство на колониальные свободы, разоблачать их казалось
естественным, прибегая к той же риторике, которая в свое
время использовалась для борьбы с «вигской хунтой» и Уолполом,
тем более что враги Бьюта и друзья Уилкса уже использовали
этот язык в высказываниях против правительства Георга III.
Однако, как только в Америке заговорили о коррупции,
ситуация быстро вышла из-под интеллектуального контроля. Если
источник разложения находился по ту сторону Атлантики,
правительство и (следовательно) общество, которые пытались его
насаждать, сами были безнадежно развращены. Как следствие,
добродетели и личностной целостности каждого американца
ныне угрожала коррупция, исходившая теперь от внешнего,
чужого источника, зависимость от которого американцы прежде
считали безопасной. В языке зазвучала параноидальная нота,
которая обычно возникает, когда люди в силу логики их
собственной интеллектуальной ограниченности приходят к
выводу, будто злые силы организуют заговор против внутренних
моральных принципов, на которых основана цельность их
личностей; лишь дьявольскими происками можно объяснить
действия, каждое из которых, казалось, еще больше нарушает
принятые порядки, чем предыдущее1. Добродетель, однажды
оказавшись в опасности, вынуждена искать поддержки у самой
себя, и американцы не видели никакого другого выхода,
кроме rinnovazione и ridurre ai principii, возвращения к
основополагающим принципам британского правления или — учитывая,
что в нем теперь усматривали семена его же собственной
порчи, — конституции республики как таковой, кроме попытки
воссоздать ту форму правления, при которой добродетель была бы
свободна и вне опасности. Так американцы повторяли, но уже
I. О развитии теории заговора см.: Bailyn В. The Ideological Origins of the
American Revolution. P. 85-93, 95-102, 119-143 (Бейлин Б. Идеологические
истоки Американской революции. С. 85-92, 95~104> Щ-Щб)\ Idem. The
Origins of American Politics. P. n-14, 35-38, 136-149; Wood G.S. Creation of
the American Republic. P. 16, 22-23, 30-36, 40-43.
708
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
на практике, мысленные эксперименты Нидхэма и Харринг-
тона, отвергая парламентскую монархию в пользу английской
версии vivere civile, и вплоть до этого предела — который она
скоро перешагнула — революция оказалась парадигматически
задана в качестве эксперимента в русле того, что Кун назвал
«нормальной наукой».
Хотя добродетель и коррупция сами по себе составляли
замкнутую и жесткую схему, они могли функционировать таким
образом лишь в отсутствие какой-либо другой модели. В
Британии, как мы видели, существовала «придворная» идеология,
менее разработанная и распространенная, чем идеология
«страны». Впрочем, с одной стороны, она позволяла противникам
Болингброка эффектно парировать некоторые его обличения,
с другой — оказалась развита Юмом и его преемниками до
сложной и амбивалентной философии истории. В основе ее
лежало не простое противопоставление добродетели и
коммерции, а осознание их взаимопроникновения, как в случае с
землей и денежным обращением, властью и свободой; мы видели,
что еще в 1698 году создатели идеологии «страны»
признавали справедливость этого утверждения, хотя и делали из него
разные выводы. Более того, в Британии «Двор» и «Страна»
сами существовали в симбиозе, и дворяне «Страны» никогда
не были настолько радикально независимыми, какими им
хотелось бы казаться1. Государственные ценные бумаги, армия
и занимающаяся патронажем исполнительная власть
служили элементами реальности, так же как и собственность,
делавшая людей добродетельными, в этой своей способности
отчасти опиралась на механизмы торговли и колебания ставок по
кредитам; и хотя трудно отрицать развращающее воздействие
подобных явлений, так же сложно не признать, что в мире
коммерции должна существовать добродетель, а в мире
воплощенной истории — ценности. Политическая независимость
джентри заключалась в их способности влиять на эти процессы,
сглаживая и сдерживая то, что иначе могло нанести ущерб их
независимости; и вероятность конечной катастрофы
уравновешивалась возможностью без конца ее отсрочивать. Доктрина
парламентской монархии, утверждавшая, что исполнительная
власть и выборное представительство могли сосуществовать,
признавая при этом, что патронаж оказывался до некоторой
I. Lucas P. A Note on the Comparative Study of the Structure of Politics in Mid-
Eighteenth-Century Britain and its American Colonies // William and Mary
Quarterly. 3rd ser. Vol. 28 (1971). P. 3ΟΙ_3θ9·
709
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
степени необходим для достижения практических результатов,
была одним из типов реакции на такое видение политики,
равно как и учение Юма, что власть и свобода, эгоизм и
альтруизм, страсть и разум находятся между собой в сходных
отношениях конфликта и симбиоза. Английским и шотландским
теоретикам не удавалось избавиться от мысли об
окончательной угрозе коррупции, однако в основном они освободились
от болезненного ощущения езды на колесе [Фортуны], в
любой момент грозившей обернуться катастрофой.
В колониях восприятие действительности в гораздо
большей мере было пронизано ощущением непрочности, и
объяснить это отчасти можно тем, что они составляли «Страну» без
«Двора»; они не сталкивались напрямую с модерным
правлением как силой, с которой следовало так или иначе уживаться;
созданные модерным правлением на расстоянии, они не
вступили с ним в непосредственный симбиоз. Чем стремительнее
росла их видимая независимость, тем сильнее они ощущали,
что их добродетель принадлежит им самим, но чем более
активно было правление, в котором они не принимали
непосредственного участия, тем больше им казалось, что их
независимости и добродетели грозит сила, которую они могли назвать
только коррупцией; и, как научили их Макиавелли и «Письма
Катона», коль скоро они не доверяли правлению, всякое
событие могло вызывать у них опасения. Тирания и в самом деле
чудилась им «в любом резком запахе». Трактовка,
предложенная Бейлином и Вудом, совершенно вытесняет интерпретацию
Бурстина и Харца, считавших, по-видимому, что в Америке
отсутствовала идеология, ибо она могла появиться лишь в
результате характерных для Старого Света социальных конфликтов,
которые не распространились по ту сторону Атлантики1. Как
мы теперь видим, модерное и эффективное правление
перенесло на американскую почву страх перед самой модерностью,
современным идеологическим выражением которого служила
чувствительность к угрозе добродетели œ стороны коррупции.
Америка была основана путем создания новых
колониальных поселений, но обеспечила свою безопасность за счет
завоеваний. Предпринятые британским правительством шаги,
послужившие импульсом к началу классического революционного
I. Boorstin D. The Genius of American Politics. Chicago, 1953; Idem. The
Americans: the Colonial Experience. New York, 1958; Hartz L.B. The Liberal
Tradition in America: An Interpretation of American Political Thought since
the Revolution. New York, 1955.
7IO
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
процесса, составляли часть реорганизации, которая последовала
за Семилетней войной. В этой войне Британия одержала победу
в Северной Америке и Индии; ее торговая, морская и
колониальная власть существенно расширилась, и в ней стали видеть
гигантскую империю. Согласно всем правилам классической
республиканской риторики, это был оптимальный момент, чтобы
высказать предостережение в связи с возможным повторением
судьбы Рима, который от республиканской формы правления
перешел к деспотизму, поскольку завоевания превратили его
в империю, богатство которой развращало граждан и могло
распределяться лишь цезарем; но хотя в Британии и звучали
подобные предупреждения, они были направлены главным
образом против предполагаемой деятельности тех, кто
наживал состояние в Ост- или Вест-Индии, чье движимое богатство
могло возбудить в них новый интерес к «проценту на капитал»
и поставить под контроль парламент путем скупки
избирательных округов1. Завоевание внутренней речной системы
Северной Америки вызвало меньше таких опасений и, по-видимому,
уподоблялось той прибыльной, но еще не развращающей войне
на море, которую представители партии «страны» считали
более предпочтительной, чем сухопутные столкновения в Европе;
граф Четэм счел особо необходимым выступить в
парламенте, защищая участие в сухопутной войне на стороне
Ганновера и Пруссии. Однако для американцев открытие того факта,
что имперские завоевания, обезопасившие их от иноземных
врагов и коренных жителей, угрожали им коррупцией,
исходившей от их собственного правления, оказалось явным и
неожиданным парадоксом. В подобных обстоятельствах
риторика, отсылавшая к республике и Цезарю, была вполне уместна
и активно использовалась2; и все же не были ли американцы,
даже в их собственных глазах, системой колоний, которая
расширяла границы империи, а вовсе не республики?
Впрочем, важно отметить, что понятие «империя» в макиа-
веллиевской традиции могло употребляться в нескольких
значениях. С одной стороны, причиной коррупции в Риме стали
завоевания, а значит, империя; и такое употребление было
и остается нормальным в плане разграничения между
республикой и «империей» как правлением principes, на смену которым
позже пришли imperatores. С другой стороны, римляне обладали
1. Подобная риторика достигла своей кульминации в спорах вокруг Акта
об Индии Фокса 1783 года и отстранения Уоррена Гастингса.
2. Wood O.S. Creation of the American Republic. P. 34-36.
711
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
Imperium, то есть властью над другими народами, которую они
приобрели, будучи, по Макиавелли, республикой, стремящейся
к расширению, и практикуя макиавеллиевскую virtu. Следует
ли в конечном счете считать успешную практику virtu
причиной коррупции? Макиавелли в целом отвечал на этот вопрос
утвердительно, а приверженцы неохаррингтоновского подхода
отождествляли упадок республики с торговой империей, которая
в современную им эпоху порождала финансовый мир и
профессиональную армию. Но парадокс Августинской эпохи отчасти
состоял как раз в том, что к такой военной и финансовой
деградации вела, как считалось, сухопутная война в Европе, тогда
как война на море и в колониях служила частью virtus Страны,
не подверженной коррупции. Океания Харрингтона «диктовала
законы морю», стремясь колонизировать другие страны,
почему и стала свободной от порчи расширяющейся республикой,
и американцы, устремлявшие взор по другую сторону
Аппалачей, могли — прибегая к геноциду, над которым они мало
задумывались, — разделять эту точку зрения. Даже если империя
в конечном счете должна разложиться, существовал
исторический круговорот различных форм правления (anakuklösis), в
котором свободолюбивые воины — греки, римляне и готы —
завоевывали империи своей доблестью и владели ими, пока та
сохраняла свою силу. Такой взгляд, на который указывала
теория угасания и возрождения virtù у Макиавелли в соединении
с доктриной translatio imperii, помогает понять вольность, с
которой американцы в любой из периодов национальной истории
говорили об «империи», принадлежавшей жителям в долинах
Огайо и Миссисипи. Дабы принять себя такими, какими они
были в силу обстоятельств основания и предыстории своего
государства, им крайне требовалось представление об империи,
совместимой с добродетелью.
Уже в 1725 году Беркли в знаменитой последней строфе
своих «Стихов о будущем искусств и наук в Америке» (Verses on the
Prospect of the Arts and Learning in America) сформулировал
американскую версию translatio imperii:
Westward the course of empire takes its way;
The four first acts already past
A fifth shall close the drama with the day;
Time's noblest offspring is the last1.
1. На запад путь империи лежит; / Уже прошли четыре первых акта, /
И пятый драму в день урочный завершит / Эпохи отпрыск самый
благородный.—Прим. ред.
712
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
Эрнест Тьювсон, автор блестящей работы о милленарист-
ских взглядах в Америке, не согласен, что эти строки следует
считать подлинно милленаристскими: нет достаточных
оснований полагать, что пятому акту драмы будут присущи
черты истинного Тысячелетнего Царства; он видит в них лишь
типичное для позднего Ренессанса представление об угасании
и возрождении искусств, выраженное языком Книги пророка
Даниила1. Но translatio studii, как и translatio imperii^ зависит от
перемещения virtus (что дает понять и сам Беркли), а мы
привыкли, что добродетель требует апокалиптического контекста
благодати, действующей в истории, если сама не заменяет его.
Сам Тьювсон показал, насколько истинное Тысячелетнее
Царство, правление Христа среди праведников, стало
отождествляться с будущей утопией8, когда благодаря прогрессу и
Провидению человеческие способности достигнут совершенства.
Едва ли можно сомневаться, что в «пятом акте» Беркли
иногда усматривали «Пятую Монархию», тем более что Тьювсон
убедительно продемонстрировал существование американской
апокалиптики. В этом контексте translatio imperii^ благодаря
которому движущаяся в западном направлении мировая
история должна завершиться в Америке, стал одним из способов
приписать имперской республике именно ту милленаристско-
утопическую роль, о которой он говорит.
У национальной апокалиптики, начало которой положили
протестанты Елизаветинской эпохи, имелся американский
вариант, сохранившийся на местной почве и не переживший того
глубокого упадка, какому подверглось это направление
мысли в Англии после Реставрации. Изначальному завету Новой
Англии с Богом легко приписать определенную роль в борьбе
с Антихристом, и она никоим образом не преуменьшалась в
постоянных обличительных проповедях, осуждавших наследников
завета за то, что те отпали от него. Народ завета, избранный
Богом, мог много раз отрекаться, и история его борьбы с врагом
рода человеческого становилась историей его отступничества
и возрождения. Однако мы уже видели, с какой готовностью
представители поздней пуританской и даже деистической
мысли отождествляли республику, где нет духовенства, а религия
являлась частью гражданской жизни, управляемой собранием
граждан, со священством всех верующих и главенством святых,
1. Tuveson E.L. Redeemer Nation. Р. 92~94·
2. Idem. Millennium and Utopia.
713
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
которое должно было наступить в Тысячелетнем Царстве.
И чем больше Тысячелетнее Царство превращалось в утопию,
а царствование святых — в совершенствование человеческих
способностей, тем легче оказалось поставить знак равенства
между республикой и «Пятой Монархией», которой первая
всегда старалась уподобляться. Совершенствование же
человеческих способностей рассматривалось как промыслительно
направляемый прогресс, а не как нежданное
апокалиптическое вмешательство благодати. Оно представляло собой секу-
лярное и историческое явление, вполне способное
развиваться в рамках замкнутого цикла истории, движущейся на запад.
Поэтому апокалиптически-утопическую роль Америки нередко
видели в поддержании религиозной свободы — вигской
терпимости, переходящей в священную республику, — и частью
структуры готической свободы и добродетели, которая
сохраняется в «движении на запад» вплоть до «завершения»
«драмы» после того, как коррупция и порча нравов уничтожила
религиозную свободу в Старом Свете.
Впрочем, это означало отождествление коррупции с
действиями Антихриста в обоих полушариях и, в частности, с
постоянной угрозой отступничества в землях Нового Света, с
которыми заключен завет. Поэтому логично, что Тьювсон счел
нужным проследить существование феномена, который он
называет «апокалиптическим вигизмом», и обнаружил его
отзвуки в языке даже такой далекой от хилиазма работы, как
«Исследование о каноническом и феодальном праве» (Dissertation
on the Canon and Feudal Laws) Джона Адамса1. Город на холме
отождествлялся с уравновешенным правлением, где ни
представители иерархически организованной церкви, ни какие-либо
другие агенты коррупции не препятствовали добродетели
и свободе людей, и порча, угрожавшая последней, в той же мере
была делом рук Антихриста, как и отступничество,
угрожавшее первой. Когда действие благодати в священной истории
слилось с провиденциальным прогрессом светского
просвещения, Антихрист, в свою очередь, принял облик исторических
сил: римского клерикализма, феодальных пережитков, пороков
современности, стремившихся замедлить прогресс или
помешать ему. Произвольно устанавливаемые налоги, постоянная
армия, иерархическая церковь по-прежнему могли представать
I. Tuveson E.L. Millennium and Utopia. P. 20-25; Wood G.S. Creation of the
American Republic. P. 116-118.
714
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
как результат действия злых сил, преследовавших и
подрывавших добродетель римлян, готов, а теперь и британцев
посредством translatio и anakuklösis мировой истории. Вопрос,
коррумпирует ли империя добродетель американцев или укрепит
ее, имел как эсхатологическое, так и мировое значение,
причем последний исход трудно отличить от наступления
Тысячелетнего Царства или «Пятой Монархии». Иеремиада или
Обличения — эта самая американская из всех риторических
форм — слилась с языком классической республиканской
теории до такой степени, что впору говорить об
апокалиптическом макиавеллизме; и это также усиливало склонность
видеть в моменте, когда коррупция начинала угрожать Америке,
проявление уникального и всеобщего кризиса.
IL
Хотя апокалиптическое измерение явно присутствовало в
риторике Революции, оно едва ли там доминировало.
Американцы этого поколения воспринимали себя скорее свободными
вооруженными гражданами, проявляющими патриотическую
добродетель, чем святыми, связанными заветом. Мы
подчеркиваем доступность апокалиптики, руководствуясь
аналитическими и диагностическими соображениями; ее присутствие
и продолжительное тесное соседство с гражданским
гуманизмом в его старовигской версии показывают, насколько
мышление и риторика Америки по-прежнему были связаны с
рассмотренной нами ренессансной традицией, где гражданину для
драматизации его деятельности требовался апокалиптический
контекст, или, по сути, образ святого. Однако все, кто в
последнее время изучал Революцию с точки зрения преемственности
по отношению к этой традиции — Бейлин, Поул и Вуд, —
настаивают, что в период создания американской Конституции
и дебатов между федералистами и республиканцами
гражданская традиция испытала коренным образом преобразивший
ее кризис и уже никогда не оставалась прежней; Вуд, в
частности, говорит о «конце классической политики»1. Столь мощная
I. Bailyn В. The Ideological Origins of the American Revolution (chap. V:
Transformation) (Бейлин Б. Идеологические истоки Американской
революции. С. 105-146); Idem. Political Pamphlets of the American Revolution.
Vol. I. Cambridge, Mass., 1965. P. 3-202 («The Transforming Radicalism of
the American Revolution»); Pole J. R. Political Representation. P. 531-532 («The
decline of virtue»); Wood G. S. Creation of the American Republic. P. 606-618
(«The End of Classical Politics», глава XV, параграф 5).
715
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
диалектическая кульминация, несомненно, удовлетворила бы
находящегося в затруднительном положении создателя книги,
похожей на эту, поэтому тезис Вуда требует тщательного
изучения. Однако мы остановимся на том, что вызывает в нем
некоторые сомнения.
Те, кто вдумчиво исследовал ситуацию в Америке и
написал свои работы прежде кризиса, завершившегося обретением
независимости, отмечали, что нестабильность политической
обстановки в колониях можно объяснить отсутствием какого-
либо аналога палаты лордов1. Под этим они подразумевали две
не очень просто совместимые вещи. Прежде всего они
отсылали к учению о том, что лорды в британской
государственной системе играли роль немногих в классической теории,
обладая болыиим досугом и опытом, — можно было обосновать
их наследственное положение тем, что оно гарантировало эти
качества, — и выполняя стабилизирующую и сдерживающую
функцию, которую уместно обозначить как функцию pouvoir
intermédiaire, «завесы и насыпи» (screen and bank)2, выражаясь
языком 1642 года, между королем и общинами, одним и
многими, исполнительной и законодательной властью. Без
аристократии, как утверждали по меньшей мере с 1675 г°Да> общины
проявляли бы упрямство и беспокойный нрав, так что сладить
с ними можно, лишь прибегнув к силе или коррупции.
Традиция «страны», к которой принадлежали Шефтсбери и Болинг-
брок, вовсе не была враждебно настроена по отношению к
пэрам; в наследственном статусе она видела средство укрепить
основанную на собственности независимость и защиту от
махинаций «придворной» партии, а Билль о пэрстве в 1719 году
оказался отклонен потому, что попытка еще сильнее
законодательно закрепить независимость верхней палаты парламента
воспринималась как опасная для самой палаты.
Однако, кроме того, теоретики, размышлявшие над
политической ситуацией в колониях, сознавали, что в новом
обществе трудно создать подобие древней аристократии и что
поместное дворянство едва ли будет процветать среди
первопоселенцев (хотя в Гудзонской долине можно найти примеры,
опровергающие это утверждение). Конституции в духе Хар-
рингтона, которые Локк, Пенн и другие создали для Северной
1. Wood G. S. Creation of the American Republic. P. 210-212.
2. Выражение из официального ответа короля Карла I на так
называемые «Девятнадцать предложений обеих палат парламента» (1642).—
Прим. ред.
7i6
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
и Южной Каролины, Нью-Джерси и Пенсильвании, оказались
несостоятельными1, и, если в колониальных условиях нельзя
было создать независимую аристократию, предлагать
усиленную институционально вторую палату означало учредить
зависимую олигархию, назначенную правителем и обладающую
той шаткой властью, какую он согласен ей предоставить,
подобно «другой» палате лордов (Other House) 1657-1659 годов при
Кромвеле. Согласно республиканской традиции в
интерпретации Макиавелли и Харрингтона, колонии и провинции
действительно должны управляться не занимающими
прочного положения представителями олигархии, зависимыми от
контролирующей их власти8; как и dominio в Италии, они не
являлись полноценной частью города и системы его законов,
но, когда колония начинала позиционировать себя как
республику или обособленное справедливое общество — а этой
важнейшей перемене в восприятии во многом способствовало
усвоение классической риторики, — подобная олигархия
представлялась по сути коррумпированной, и, кроме того,
учитывая, что ее практически невозможно было отличить от совета
при правителе, она нарушала принцип разделения властей.
Таким образом, политическая обстановка в колониях пусть
непоследовательно, но настойчиво свидетельствовала в пользу
отказа от наследной аристократии, потому что та
способствует не добродетели, а порче нравов, — Англия не знала таких
тенденций со времен радикальных республиканских
движений. И в эпоху (начальной точкой которой можно считать
памфлет Томаса Пейна «Здравый смысл»), когда американцы
решили разорвать с британской конституционной структурой,
наличие в последней наследного пэрства побудило их к тому,
чтобы — как они могли прочитать в «Письмах Катона» —
отвергнуть смешанную парламентскую монархию как
основанную на коррупции. Отказаться от парламентской монархии
означало для их еще вполне английского сознания
обратиться к идущей от Харрингтона традиции, в которой
английская политическая история представала движением к
республиканскому финалу. Однако Харрингтон, как и остальные
1. Все эти тексты можно найти в книге: The Federal and State Constitutions,
Colonial Charters, and Other Organic Laws of the States and Territories Now
or Heretofore Forming the United States of America / Ed. by F.N. Thorpe.
Washington, 1909. Vol. V.
2. О воззрениях Харрингтона см.: The Oceana and Other Works of James
Harrington / Ed. by J. Toland. P. 40-41.
717
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
классики республиканской теории, недвусмысленно утверждал,
что альтернативой наследной, закрепившейся или
искусственной аристократии является аристократия природная — элита,
состоящая из людей, которые от природы превосходят других
талантами. Впрочем, кроме того, они обладали случайными
материальными преимуществами, такими как наличие
собственности, досуга и образования, и потому оказались наделены
теми свойствами мышления, которые, согласно классической
теории, необходимы группе немногих. Предполагалось, что
природа обеспечивает приток подобных людей, а доводом против
искусственно назначенной аристократии отчасти служило то
обстоятельство, что многие естественным образом
распознавали подлинную элиту. Демократия могла создать аристократию
согласно своим собственным критериям, и необходимость
законодательно предопределять его выбор отсутствовала;
стремясь демократизировать политию, обычно обращались к
теории уважения или почтительного отношения.
В большинстве американских колоний патрицианская
элита— которую действительно отличал заметно более высокий
уровень материальной обеспеченности и культуры — была
готова выступить в роли природной аристократии. В
литературе колониальной Виргинии можно обнаружить особенно
интересные примеры идеализации отношений между
очевидными лидерами общества и почтительными, но далекими от
слепой доверчивости йоменами1. Это лишний раз
показывает, что взаимное уважение служило чертой республиканского
устройства, а не иерархии. В идеальной Виргинии многие —
белые мелкие собственники — не проявляют особенной
политической активности, но назвать их бездеятельными нельзя;
у них есть свои суждения и свои полномочия. Единственная
иерархическая особенность состояла в том, что от них не
ждали выполнения одинаковой роли с немногими, но им, как
и немногим, присуща их особенная добродетель; кроме того,
существует высшая добродетель, в силу которой немногие
и многие уважают добродетели друг друга. Многие не считают
выше своего достоинства относиться со своего рода
уважением к суждениям немногих, даже когда убеждены в наивности
их конкретного воплощения; в этой точке уважение и
добродетель почти совпадают.
ι. Sydnor Ch.S. Gentlemen Freeholders: Political Practice in Washington's Virginia.
Chapel Hill, 1952; переиздание: Idem. American Revolutionaries in the Making.
New York, 1965; Pole J. R. Political Representation. P. 148-165.
718
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
Как следствие, защищая свою добродетель от
коррумпированной парламентской монархии, Америка стремилась
утвердиться как конфедерация республик, и до этого момента
революцию в ней можно назвать rinnovazione именно в том
смысле, какой мы находим у Савонаролы или Макиавелли1.
Однако, по мнению Вуда, подкрепившего свои доводы
подробным разбором языка и опыта самих революционеров, это
сознательное начинание в духе классической теории потерпело
поражение именно с той точки зрения, которую мы здесь
рассматривали. Когда произошел, пользуясь выражением Локка,
«распад правления» — в некоторых областях его так и
описывали, со ссылкой на Локка, — оказалось, что люди не
различают в своей среде природных немногих и многих, которые
должны дополнять друг друга в своих ролях и добродетелях,
практикуемых каждой из групп. В Массачусетсе, Пенсильвании
и других местах проектировались и проводились намеренные
политические эксперименты, целью которых было выявить
природную аристократию — с опорой на аристотелевский
имущественный критерий, как в Массачусетсе, или на основе
свободного отбора, как в однопалатной законодательной системе,
которую пытались ввести в Пенсильвании. Ни один из этих
экспериментов не увенчался успехом, и вскоре после
окончания войны за независимость революционеры потеряли
уверенность в себе, осознав, что от природы одаренные особыми
талантами люди, о которых писали все теоретики от
Аристотеля до Монтескье, просто-напросто так и не обнаружились2.
А это означало отнюдь не только то, что аристократические
элиты, возглавлявшие или пережившие борьбу за
независимость, теперь почувствовали, что их роль природной
аристократии, идеологически подкреплявшая их действия, оказалась
под угрозой; это означало, что под угрозой оказалось само
понятие добродетели.
Если только люди качественно не отличались друг от друга
и при этом у каждой группы, обладавшей своим особым
качеством, не имелась своя функция и добродетель, они не
смогли бы объединиться в государство, политическая практика
которого требовала от каждого гражданина практиковать особую
добродетель уважения к добродетели своего соседа; и никакая
политическая структура, которую они могли бы образовать,
1. Об этом можно прочитать в книге Ханны Арендт «О революции» (рус.
перевод: Арендт X. О революции / Пер. И. Косича. М., гон).
2. Wood G. S. Creation of the American Republic; в особенности см.: P. 391-425.
719
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
не соотносилась бы напрямую с неповторимым нравственным
обликом каждого человека, а значит, неизбежно
коррумпировала бы его, подчинив своей власти. Когда Макиавелли и
Монтескье настаивали, что лишь в условиях равенства — в
значении isonomia — только и возможно проявлять добродетель,
они также подразумевали, что равные люди должны активно
практиковать добродетель или их нравы подвергнутся порче.
Когда теоретики неохаррингтоновского толка связали распад
отношений между баронами и вассалами с возрастанием
коррупции, они добавили к тезису Харрингтона о том, что
равными надлежит управлять свободно или по принуждению, новое
представление: кроме прочего, ими можно управлять с
помощью манипуляции или ложного сознания. Дабы избежать
коррупции, в условиях равенства должна существовать
добродетель, и представители гражданского гуманизма XVIII
столетия, чье сознание было еще в значительной мере
христианским, пытались добиться этого посредством классического
разделения на одного, немногих и многих; людям следовало
образовать триединство, в котором становились возможны
отношения, а следовательно, и добродетель. Впрочем, эти
авторитетные представления теперь оказались непригодными.
Materia начала казаться слишком монофизитской и
одномерной, чтобы ей можно было придать форму, и парадигма zöon
politikon находилась в опасности. В произведениях
американских мыслителей начала 1780-х годов явственно слышится
разочарование и тревога.
Анализируя содержательное богатство текстов этого
периода— все американцы, способные выражать свои мысли в это
время, по-видимому, овладели словарем социологии
свободы,— Вуд прослеживает возникновение новой парадигмы
демократической политики, разработанной лидерами
федералистской теории, стремившимися преодолеть кризис, вызванный
провалом природной аристократии, — хотя не всегда понятно,
хотели ли они найти ей замену или всего лишь возродить
ее. Ключевое изменение затронуло новые смыслы понятия
«народ». Он уже не представлялся состоящим из различных
групп, каждой из которых присущи свои качества и функции,
а казался столь единообразным, что едва ли имело большое
значение, какие черты ему приписывали. Далее, различная
деятельность, связанная с правлением, — по сути, все так же
ассоциируемая с законодательством, судом и исполнительной
властью, почерпнутыми из теории разделения властей, — как
720
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
предполагалось, должна осуществляться не напрямую
социальными группами, обладающими нужными способностями,
а опосредованно, отдельными людьми; их право на власть было
связано с тем, что они действовали как представители народа.
Вся власть оказалась доверена представителям, и любое
осуществление их полномочий служило формой представления
народа. Если народ был недифференцированной массой,
обладающей бесконечно разнообразными качествами, то он также
обладал бесконечной способностью к разграничению
различных видов власти и самовоплощению посредством столь же
разных видов представительства. Народ прошел долгий путь
от флорентийской materia.
Возникло различие между осуществлением власти в
правительстве и властью назначать представителей для ее
осуществления; и теперь можно было с одинаковым успехом
утверждать, что все управление принадлежало народу и что народ
совершенно устранялся от управления, оставив заниматься им
различным представителям, которые, уже находясь там, где
можно научиться искусству управления, приобретали черты
старой природной аристократии или специализированных
немногих. Руссо, полагавший, что volonté générale1 никогда не
должна участвовать в принятии конкретных решений, вероятно,
одобрил бы различие между учреждающим и управляющим
народом, и, может быть, присоединился бы к федералистам,
поскольку считал, что ridurre, о котором говорил Макиавелли,
обеспечивается тем, что народ всегда волен устроить
конституционную ревизию, которая потенциально неотвратима2. В этом
отношении, по крайней мере, народ был активен в самом
прямом смысле этого слова. Чего бы Руссо не одобрил — и что не
является частью рассматриваемой нами республиканской
традиции,— так это универсального введения отношений между
представителями и представляемыми; и здесь мысль
федералистов ближе к Средневековью, чем к Античности, к
монархии, чем к республике, — можно даже сказать, ближе к Гоббсу,
чем к Локку.
Английская парламентская монархия строилась на том,
что король повелевал графствам и городам избирать
представителей, получавших право вместе с ним самим и его
советом участвовать в управлении королевством, и власть таких
1. Общая воля (франц.).—Прим. ред.
2. Wood G. S. Creation of the American Republic. P. 613-614.
72I
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
представителей со временем существенно возросла. Однако,
как явствовало из повеления короля, распорядившегося
наделить их всеми полномочиями в вопросах, которые он считал
нужным передать в их ведение, в каком-то смысле им было
разрешено лишь отчасти делить обязанности подлинного
представителя королевства — самого короля, с точки зрения
любой теории инкорпорации представлявшего королевство,
как голова — тело. Как только представительство превратилось
в средство создания и учреждения суверена, акт выбора — или
признания — представителя стал логически почти
противоположным участию в управлении; скорее это был речевой акт,
провозглашавший, что существует человек, чьи действия
настолько авторитетны, что их можно считать равноценными
собственным. Гоббс, излагая это толкование с поразительной
ясностью, указывал, что суверенное собрание представителей
в этом отношении ничем не отличается от суверенного и
представительного индивида. Выбор представителя означал уступку,
передачу другому лицу собственной полноты власти и
собственной persona, если не собственной индивидуальности, и
теоретики республиканского гуманизма, которых прежде всего
интересовало утверждение нравственной личности в гражданском
действии, имели основание спросить: не исключало ли понятие
представительства добродетель? Как я могу поручить другому
быть добродетельным вместо меня, за меня и под моей
личиной? Конечно, в основе моральной теории Гоббса и в самом
деле лежало утверждение, что лишь когда человек станет
способен воспринимать чужие действия, как собственные, у него
появится способность к гражданской морали1, но zöon politikon,
существо, гражданское по своей природе, должно действовать
без посредников, в своем собственном лице. Руссо,
неоднозначный с точки зрения классической традиции философ, считал,
что в самом по себе выборе представителя добродетели не
заключалось, а потому народ, которым правили выбранные им
самим полномочные представители, не был свободен2.
Традиция «страны» в английской политике — опиравшаяся
отчасти на республиканскую теорию Харрингтона, в которой
1. О принятии на себя чужой роли у Гоббса см. главы ι6 и iy «Левиафана».
2. The Political Writings of Jean-Jacques Rousseau / Ed. by CE. Vaughan. New
York, 1962. Vol. II. P. 95-98; Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или
Принципы политического права / Пер. А.Д. Хаютина и B.C. Алексеева-
Попова // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 1998.
С. 279^83 (глава XV).
722
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
ротация должностей служит гарантией, что люди принимают
участие в управлении государством лично и поочередно, а не
через представителей, — внесла существенный вклад в
переосмысление Англии как республики, указав, сколь важно, чтобы
парламент избирался на краткий срок. Предполагалось, что
народ, обладая собственностью и независимостью, по
определению добродетелен, тогда как его представители постоянно
подвергались соблазнам власти и порока; поэтому
необходимо, чтобы представители регулярно возвращались к тем, кого
они представляли, и добродетель таким образом обновлялась
(ridurre ai principiï), при необходимости — за счет выбора новых
представителей. Добродетель выступала деятельным
принципом, и, избирая новый парламент, народ проявлял ее в
действии и выполнял роль более значимую, нежели та, что
приписывал ему Гоббс. Впрочем, теперь трудно было определить,
составляли ли избиратели одно из сословий республики (как
многие в классической теории), а избранные — другое
(классические немногие), отношения между которыми следовало
оберегать от коррупции, или же избранные, по сути, являлись
только слугами, управляющими, министрами, которых
почти по определению следовало считать продажными. Если
верно последнее, то их необходимо рассматривать как депутатов,
которые действовали на основании предписаний и которых
можно было отозвать, однако сложность заключалась в том,
что связи между ними и их избирателями в этом случае уже
нельзя расценивать как основанные на добродетели
отношения между равными гражданами. В эти кризисные для
Америки годы Бёрк предлагал бристольским избирателям считать,
что они избрали представителя, дабы тот действовал на благо
всего королевства и играл ту роль, которой сами они играть не
могли. Поэтому он полагал, что они должны придерживаться
его точки зрения на общее благо, даже когда она
противоречила их собственной1. Они могли не менее правомерно
выражать свое суждение, если в конце срока принимали решение
не переизбирать его, но им не следует пытаться
воспрепятствовать ему или отозвать его. Это отношение является
классическим отношением немногих со многими, добродетельным
в том смысле, который восходит к Аристотелю. Каждый имеет
свое суждение, свой способ устанавливать различения и
уважает мнение другого.
I. Burke Ε. Works. Vol. II. P. 95-97.
723
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
В Америке эпохи революции все больше укреплялось
мнение, что выборные представители — это весьма продажные
депутаты, которые должны подчиняться определенным
предписаниям и которых можно отозвать, однако Мэдисон, по-
видимому, склонялся к точке зрения Бёрка, полагавшего, что
их роль — это роль немногих, а их посты по возможности
надлежит занимать людям, принадлежащим к аристократической
элите1. Оставался, впрочем, еще один важнейший вопрос,
поставленный Руссо. Учитывая, что природная аристократия не
сформировалась и едва ли уже могла сформироваться в
процессе выборов, достаточно ли только акта избрания
представителя и самих отношений между представителем и избирателем,
чтобы обеспечить добродетель? Для некоторых федералистов
ответ был заведомо очевиден. Без природной аристократии
народ не мог стать добродетельным; если она не сформировалась,
это, скорее всего, свидетельствовало, что народ уже
коррумпирован; поэтому правление превращалось в систему Гвиччардини,
предназначенную для того, чтобы вести народ, не наделенный
добродетелью, или помогать ему направлять самого себя в
сторону настолько благоприятную, насколько можно рассчитывать
в подобных обстоятельствах. Разумеется, такой взгляд не
мешал его сторонникам относить самих себя к членам
добродетельной природной аристократии, Катонам из числа достойных.
Позиция Мэдисона, как мы увидим, оказалась более сложной,
но, как показывает Вуд, риторика федералистов одновременно
предполагала, что добродетель предстояло возродить, и
указывала, что она совсем исчезла и ее следует заменить с помощью
других, новых образцов, пригодных для такого случая2. И, как
всегда, трудно было найти замену добродетели в ее
классическом смысле. Это же касается и критики Руссо в адрес самого
института представительства. Добродетель заключалась в заботе
конкретного человека об общем благе и при этом зависела от
его взаимоотношений с конкретными людьми, смотревшими
на то же благо другими глазами. Различие между немногими
и многими, природной аристократией и теми, кто по природе
принадлежал к народу, представляло собой образцовый пример
таких взаимоотношений между людьми, наделенными
различными качествами; и без какой-либо теории качественных и
моральных отличий между индивидами было трудно понять, как
ι. Wood G. S. Creation of the American Republic. P. 505.
2. Ibid. P. 474-475, 507-518, 543"547, 562-564.
724
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
можно установить между гражданами связи, обеспечивавшие
добродетель. Акт выбора человека, который будет действовать
от моего лица, того, с кем я таким образом создавал
искусственную идентичность, никогда не может совпадать с признанием
и выбором человека, который действовал вместе со мной и с
которым я образовал естественную ассоциацию. Поэтому в
отношениях между представителем и представляемым не просто
усмотреть классическую добродетель. Ни федералисты, ни их
противники не обращались к Руссо за инструментами анализа1,
но между переделанной ими теорией представительства и их
нежеланием отказываться от образца добродетельной
республики ощущается явное напряжение.
Они стремились — настолько успешно, что произвели
нечто похожее на парадигматическую революцию, — примирить
эти два элемента посредством теории множественного
представительства. Тождество, естественное или искусственное,
какое предусматривалось между представителем и теми, кого
он представлял, как простыми сущностями в средневековом
сознании или в трактовке Гоббса, можно, по их мнению,
заменить разными формами власти, каждая из которых —
квазиклассические исполнительная, судебная и законодательная
власти служат очевидными примерами — образовывала
отдельную форму, в которой народ выбирает себе представительство.
Как отдельные личности представители народа составляли
множество различных по своим функциям групп, и в этом
отношении они все же считаются природной аристократией;
благодаря множественности выполняемых ими функций между
ними существовала система сдержек и противовесов, поэтому
можно сказать, что они точно не стали бы
коррумпированными и не стали бы коррумпировать народ с помощью
концентрации избыточной власти в одних руках, что создавало бы
отношения зависимости для всех остальных8. Таким образом,
риторика классической традиции от Аристотеля до Монтескье
оставалась релевантной для широкого круга явлений,
представленных новым правлением; но за ней — из-за чего понятие
представительства часто считали единственным важным
открытием в политической теории со времен Античности — стоял
1. Пол М. Сперлин отмечает, что трактат «Об общественном договоре»
нечасто читался и цитировался в Америке: Sperlin P.M. Rousseau in
America, 1760-1809. Tuscaloosa, AL, 1969. Пример Hoa Уэбстера (о
котором см. ниже, на с. 732~733> 74°-744)— одно из интересных исключений.
2. См., например: Wood G. S. Creation of the American Republic. P. 446-453.
725
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
совершенно новый взгляд, который и побуждает Вуда говорить
о «конце классической политики». Люди по-прежнему
считались неподкупными, но в некотором важном отношении они
не должны были и не могли подтвердить свою добродетель на
деле. Они не делились на группы в зависимости от присущего
им качества или функции, каждая из которых по-своему
участвовала в гражданской жизни, а между ними существовали
основанные на добродетели отношения; учитывая, что они
не вовлечены в функционально различные формы
политической активности, они, строго говоря, вообще не участвуют
в управлении государством. Люди принимали
непосредственное участие в выборе представителей, и благодаря сложности
федеральной системы эту функцию можно назвать постоянной
и вечной; они также являлись учредителями, непосредственно
занятыми установлением и пересмотром конституции, и
существуют риторические пассажи, которые указывают, что эта
их деятельность также расценивалась как постоянная1. Даже
Макиавелли, теоретик республиканской мысли, наиболее
чувствительный к исторической динамике, полагал, что ridurre
и ripigliare lo statu1 нужны лишь ради показательной чистки
раз в несколько лет; даже Руссо предусматривал не слишком
частые ассамблеи суверенного народа, в течение которых
действие любой конституции приостанавливалось. Если и в этом
отношении федералистская теория вышла за рамки традиции,
то важно понять, как именно.
Логическим следствием упадка добродетели стало
возрастание роли интереса3. Коль скоро люди уже не жили в
условиях, необходимых, как считалось, для осознания общего
блага, каждый был способен заботиться лишь о собственных
ι. Wood G. S. Creation of the American Republic. P. 532-536, 599-600, 613-614.
2. Возвращение [к началам] и возобновление государства (итал.).—
Прим. ред.
3- Здесь часто возникает семантическая путаница. Учитывая, что в
классической теории каждый значимый институт «представлял»
определенное «сословие» в обществе — например, одного, немногих или
многих, — к тому времени можно было говорить о каждом из этих
«сословий» как об «интересах». Радикальные демократы, все еще
выступавшие с позиций классической традиции, могли утверждать, что
в народном собрании должны были быть «представлены» индивиды,
а не интересы, носившие в значительной степени элитистский
характер. Однако в подлинной теории групповых интересов, которую,
возможно, породил радикальный индивидуализм, отдельный
человек должен думать лишь о своих интересах, которые связывают его
с группой, и ему не требуется практиковать «добродетель», выходя за
их пределы.
726
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
частных интересах; и в той мере, в какой сохранялось
восходящее к глубокой древности представление, что поистине
разумно только стремление к общему благу, частный интерес
считался прежде всего делом желаний и страстей и только
затем — рационального подсчета прибылей и убытков,
который в свою очередь мог расширяться вплоть до понимания,
что собственный интерес зависит от интересов других.
Лишенный добродетели человек жил своими страстями и
фантазиями, и когда страсть противопоставлялась добродетели, ее
разлагающее воздействие по-прежнему считалось значительным.
Впрочем, мы уже видели, как в XVIII веке фантазия и
торговля предстали в качестве революционной и преобразующей
силы, обладающей динамизмом макиавеллиевской virtu, пусть
и вместе с ее ограничениями, но притом превосходящей
последнюю в своей способности менять человеческую природу.
Интерес выступал одновременно и сдерживающей, и
экспансивной силой. Неудивительно, что по мере формирования
федералистской мысли, когда людям все реже приписывали
добродетель в классическом смысле слова, в текстах
Мэдисона и других — десятый выпуск «Федералиста» можно назвать
locus classicus — все чаще говорилось о значимости и
законности в человеческих делах такого явления, как группа,
преследующая коллективные, но частные интересы1. В прежней
республиканской теории и в рамках идеологии «страны» этот
феномен воспринимался как одна из наиболее губительных
разновидностей коррупции добродетели под воздействием
страстей. Преследование собственных интересов и
разделение на группы — способы, к которым прибегали в
политической жизни все менее добродетельные люди, и, как считал
Мэдисон, они вскоре должны привести к двум последствиям.
Во-первых, контроль, равновесие и разделение властей,
которым надлежало быть встроенными в федеральную структуру,
ограждают, как мы видели, эти интересы от коррупции, так
что риторику равновесия и стабильности в полной мере можно
использовать для восхваления модели, уже не основанной на
добродетели, а сам факт, что добродетель уже не является ее
основой, легко можно скрыть и предать забвению2. Во-вторых,
есть фрагменты, которые поразительным образом
показывают, что способность этой системы вбирать в себя и примирять
1. Pole J. R. Political Representation. P. 374~375; Wood G. S. Creation of the
American Republic. P. 501-506, 576.
2. Wood G.S. Creation of the American Republic. P. 535-547, 559-560.
727
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
конфликтующие интересы не знала границ1. Нет такого
интереса, который не может быть представлен и не может занять
свое место в системе распределения власти, — исключением
из этого правила, как полагали историки федералистской
традиции, должны стать лишь самые специфические
институты,— и если развитию и переменам в людях предстояло
породить новые интересы, федеральная республика могла
развиваться и меняться вместе с ними.
Говоря о «конце классической политики», Вуд имеет в виду
прежде всего переход от республиканизма к либерализму2 —
то есть от классической теории, рассматривавшей человека как
гражданское и деятельное существо, которое в меру своих
способностей вносит непосредственный вклад в res publica, к
теории (пусть еще не вполне развитой), предполагающей, что он
думает главным образом о собственных интересах и участвует
в правлении, чтобы претворить их в жизнь, и лишь косвенно
участвует в той посреднической деятельности, благодаря
которой правлению удается примирять конфликтующие силы,
к чему и сводится теперь все общее благо. В этом отношении
представительная демократия предполагает отстранение от
прямого участия в правлении как отдельного человека, так
и «народа» — отстранение, мерой которого является «упадок
добродетели», который не ведет при этом ни к
политическому умиротворению, ни к ослаблению напряжения. Кроме того,
он совпадает с огромным расширением партийной активности
и привлечением ответственного электората. Также Вуд
отмечает у Мэдисона ход мысли, который можно назвать
динамичным и романтическим. Поскольку «народ» теперь не подлежит
дифференциации, он не ограничен определением и
распределением конкретных качеств. Его масштабы и мощь
неизвестны, у него возникают новые и непредсказуемые потребности,
способности и силы. Все это можно воспринять и согласовать
между собой в рамках федералистской структуры, поэтому
классическая риторика равновесия и стабильности не утратит
своей уместности. Впрочем, эта система способна к бесконечному
расширению, ибо нет необходимости заранее проверять, что
новые социальные элементы, стремящиеся к
представительству, окажутся частицами, которые ранее входили в гармонию
добродетели. С рациональной точки зрения они являются не
1. Wood G. S. Creation of the American Republic. P. 605-610 (в основном с
опорой на 51-й выпуск «Федералиста»).
2. Ibid. Р. 562, 606-615.
728
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
элементами в строении общего блага, а интересами, которые
порождает и побуждает преследовать страсть, однако
федеральная структура способна поглощать новые страсти и, поглощая
их, развиваться. Люди постоянно заняты формированием
системы, поскольку они сами и их республика переживают
постоянное динамичное развитие. Республика, практикующая
представительство интересов, — это республика,
стремящаяся к расширению. Добродетель теряла нечто значимое, но еще
больше привносила с собой virtù. Либеральную систему
нельзя назвать податливой или уравновешенной; как ранее Рим, ее
прообраз, она была одновременно стабильной и экспансивной.
«Конец классической политики», согласно Вуду, в конечном
счете строится на отказе от тесно связанных между собой
парадигм взаимного уважения и добродетели. Поскольку в момент
классического rinnovazione американцы не обнаружили в
своей среде природной аристократии, им пришлось отказаться от
всякой теории о качественных различиях между людьми,
которые либо добродетельны в классическом понимании этого
слова, либо участвуют в правлении, так что этот процесс
прямо затрагивает их личность. В самом сердце федералистской
мысли сформировалось представление, близкое к парадоксам
Руссо: правление всецело находится в руках народа, но при
этом народ прямо никогда не правит. После того как эта цена
была однажды заплачена, преимущества великого обновления
парадигм, сопровождавшего консервативную революцию 1787—
1789 годов, оказались огромными. Это позволило преодолеть
широко распространенное ограничение, предписывавшее
республикам не расширять свои территории, если они хотят
избежать коррупции; новая федерация могла быть республикой
и империей одновременно, континентальной по своим
исходным масштабам и способной к дальнейшему расширению
посредством простых приращений в соответствии с
федеративным принципом, выходившим далеко за пределы полувоенного
комплекса колоний и провинций, на котором держалось
господство Рима. Такая модель способствовала развитию новых типов
объединений, преследовавших конкретные цели, —
политических партий, которые, как полагает Чемберс1, можно назвать
современными как раз в том смысле, что они не основаны на
взаимном уважении; они требовали такой энергичной
вовлеченности, какая и не снилась древним республикам. Поэтому
I. Chambers W.N. Political Parties in a New Nation: the American Experience,
1776-1809. New York, 1963.
729
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
неудивительно, что Вуд и Чемберс склонны считать взаимное
уважение принципом классической республики, а саму эту
республику—разновидностью замкнутой и стабильной
социальной иерархии1, хотя менее осторожные приверженцы этой
точки зрения с давних пор подвергаются критике за смешение
природной и наследственной аристократии.
Впрочем, прослеживая влияние сформировавшегося под
воздействием Макиавелли республиканского принципа
активной добродетели, мы пришли к разговору о тех формах
сознания, в которых взаимное уважение не было пассивным,
а республика не являлась иерархией. Мы привыкли думать,
что добродетель действует в среде соразмерно равных граждан,
а республика выходит за пределы своего мира благодаря virtù.
В традиции, восходящей к Полибию и Макиавелли,
республике не просто приписывалась естественная ограниченность,
и предписание не расширять небольшую территорию не
следует толковать превратно. В силу этой неизбежной
ограниченности перед республикой стояла дилемма: она не могла
избежать ни расширения, ни коррупции, которая должна за ним
последовать. Американская республика с самого начала
предлагала новое решение древней проблемы; концепции, на
которых строилось это решение, одновременно являлись
кардинально новыми и служили переосмыслением старых теорий.
Кроме того, мы привыкли думать о наличии в британской
мысли альтернативной идеологии «двора», подчеркивавшей,
что людьми руководят выгода и страсть, что фракции и партии
скорее необходимы, чем незаконны, и что правление должна
осуществлять суверенная власть. В конечном счете последняя
не подлежит контролю, но внутри этой власти возможно
внутреннее разделение на уравновешивающие друг друга силы,
управлявшие людьми отчасти с опорой на непосредственную
власть, отчасти за счет воздействия на их страсти и отчасти
потому, что они перенаправляли эти страсти в русло заботы
об общем благе. Теперь вполне очевидно, что ключевые
черты этой идеологии возрождаются в федералистской мысли
именно тогда, когда она отходит от добродетели и делает шаг
в сторону признания интересов.
I. См., например: Wood G. S. Creation of the American Republic. P. 606;
Chambers W.N. Political Parties in a New Nation. P. 122-124; Pole J.R. Political
Representation. P. 528-531. Вуд особенно склонен рассматривать
республику как идеал по сути своей иерархический и в то же время
динамичный; см.: Wood G. S. Creation of the American Republic. P. 478-479.
730
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
Между двумя идеологиями существуют, однако,
значительные и явные различия. «Придворная» теория связывает
суверенную власть с парламентской монархией, которая достигает
равновесия благодаря разграничению исполнительной и
законодательной властей, но сохраняет целостность благодаря
влиянию первой на последнюю. В то же время
федералистская теория утверждает, что суверенная власть принадлежит
народу через его представителей, и придерживается
строгого разделения властей скорее в республиканском духе, чем
просто в духе идеологии «страны». Мы снова сталкиваемся
с тем, что республиканская риторика полностью отвечала
целям федералистов, а то, насколько мало места в ней
отводилось добродетели, могло быть скрыто как от говорящих, так
и от публики. Если «придворная» теория взывала к истории,
в которой имеются одни лишь прагматические расчеты и нет
никаких фундаментальных принципов, федералисты могли
претендовать и претендовали на то, что основывают
республику во внеисторическии и законодательный момент — момент
occasione1, — в котором заново утверждаются принципы
природы, в том числе равновесие и даже добродетель. Их
динамичное и экспансивное видение принадлежало будущему и не
несло с собой никакого макиавеллиевского смысла
причастности к разрушенному порядку saeculum. Наконец, «придворная»
теория, восходящая, как мы уже видели, к конфликту войны
и кредитной экономики с предполагаемой стабильностью
земельной собственности, в значительной мере сознавала, что
кредит и торговля составляли принцип, нацеленный на
экспансию, смесь макиавеллиевских virtu nfortuna, которые
обрекали людей на следование своим страстям, а правление — на
признание и использование коррупции. Вне зависимости от
того, можно ли отнести неудачную попытку сформировать
природную аристократию в революционной Америке на счет
конкуренции новых торговых и ремесленных слоев с более
старыми аристократическими элитами, кажется, нет надежных
свидетельств, что мысль 1780-х годов реагировала на
болезненное вторжение «процента на капитал», как в Англии, где этот
процесс в корне изменил мышление девяноста годами
раньше. В Америке все еще отсутствовал аналог партии «двора»;
противопоставление добродетели и коммерции не являлось
универсальным, и это опять же заставляет предположить, что
I. Возможность (итпал.). — Прим. ред.
731
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
создатели федерализма не вполне осознавали, в какой мере их
теория предполагала отказ от парадигмы добродетели. Далее
мы попытаемся доказать, что «конец классической политики»,
как его называет Вуд, был концом одной из основных нитей,
образующих сложное переплетение, однако он не повлек за
собой разрушения всей ткани.
III.
Вуд показывает, как вышло, что трактат Джона Адамса «В
защиту Конституций Соединенных Штатов» {Defence of the Constitutions
of the United States), представляющий собой оправдание
федеративной республики как строго классического смешения
природной аристократии и демократии, был отвергнут как
исторический уродец: некоторые истолковали его неверно,
усмотрев в нем защиту аристократического принципа, другие,
как Джон Тейлор из Кэролайна, обладая более
проницательным умом, справедливо увидели в нем защиту республики
на основе принципов, от которых сама республика уже
отказалась1. Такова ироническая — но, учитывая личность ее
автора, понятная — судьба последнего, возможно, заметного
политического трактата, написанного в полном соответствии
с традицией классического республиканизма. Кроме того, Вуд
указывает на по меньшей мере двух федералистов, которые
в середине или второй половине восьмидесятых годов — Ноа
Уэбстер в 1785 году, Уильям Вэнс Мюррей в 1787-м —
специально объявляли (как это делали также Гамильтон и Тейлор), что
добродетель отдельного человека больше не являлась
необходимым основанием свободного правления; и по крайней мере
Мюррей утверждал, следуя традиции, заложенной Монтескье,
но на нем не заканчивающейся, что необходимость подчинять
частное благо общему являлась изобретением грубого, не
знавшего коммерции общества, и сейчас, когда раскрыт
подлинный секрет республиканской свободы, придерживаться этого
принципа ни к чему2. Таким образом, свобода могла обойтись
1. Wood G. S. Creation of the American Republic. P. 567-592 (chap. XIV: The
Relevance and Irrelevance of John Adams). См. другие работы об Адамсе
как одном из последних выдающихся теоретиков классического
толка: Haraszti Ζ J°hn Adams and the Prophets of Progress. Cambridge, Mass.,
1952; Howe J. R., Jr. The Changing Political Thought of John Adams. Princeton,
1966.
2. Wood G.S. Creation of the American Republic. P. 610-611; о Тейлоре см.: Ibid.
P. 591-592-
732
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
и без добродетели, а изобилие не развратило бы ее; тем не
менее, нельзя было сказать без некоторой дополнительной
модификации языка, проповедовал ли Мюррей консервативные
или революционные взгляды.
Впрочем, даже после того, как Вуд, Поул и другие в своих
работах детально проанализировали тезис о скрытом отказе
от добродетели в федералистской теории, нельзя сказать, что
мы не имеем дело с поколением, единодушно сделавшим этот
отказ явным. Предшествующие несколько абзацев дали
основание полагать, что риторика равновесия и разделения
властей не давала исчезнуть языку республиканской традиции.
Теперь же мы можем предположить, что лексика добродетели
и коррупции продолжала существовать в американской
мысли не просто как пережиток, медленно отмирающий, когда его
уже срезали под корень, но оставаясь реальными и
актуальными для отдельных элементов американского опыта.
Благодаря этому республиканский язык и ценности сохранялись
через напряжение, связанное с последствиями отказа от них
в такой важной сфере, как конституционная теория и
риторика. Если американцам пришлось отказаться от теории
конституционного гуманизма, связывавшей прямо и с учетом всех
многообразных особенностей личность и систему правления,
они при этом не отказались от стремления к такой форме
политического общества, в которой человек был свободен и
познавал себя в своей связи с обществом. Настойчивого
утверждения, что американец — естественный человек, а Америка
основана на естественных принципах, достаточно, чтобы это
продемонстрировать, а стремление к природному и
разочарования, связанные с его недостижимостью, легко можно выразить
на языке добродетели и коррупции. Ведь это язык
гражданской жизни, а важнейший постулат западной мысли
заключается в том, что человек по своей природе гражданин — kata
physin zôon politikon1. Однако в американской социальной
мысли давно упрочилась условно локковская парадигма
правления, возникающего из состояния естественной социальности
и во многом совпадающего с ним. При этом всерьез
утверждается, что ни одна другая парадигма не давала плодов и не
могла бы развиваться в уникальных условиях американского
общества2. Мы в этой книге рассматривали иную традицию,
1. По природе политическое существо (др.-греч.).—Прим. ред.
2. Hartz L.B. The Liberal Tradition in America.
733
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
сводимую к тезису Аристотеля, что человек по природе своей
является гражданином, и тезису Макиавелли, что в мире се-
кулярного времени, где только и может существовать полис,
эта сторона человеческой природы реализовывается лишь
частично и противоречиво. Добродетель развивается только во
времени, но время всегда угрожает ей коррупцией. В той
особой форме, какую приняла эта традиция, когда время и
перемены стали отождествляться с коммерцией, в XVIII веке, как
мы видели, она оказывала влияние на многие сферы мысли
и послужила мощным стимулом революции в Америке. Однако
«локковская» парадигма необычайно авторитетна среди
современных ученых, и потому велика вероятность, что отступление
от классических гуманистических предпосылок при создании
Федеральной Конституции, которое показал Вуд, будет
воспринято как «конец классической политики» и очевидный выбор
в пользу «локковской» парадигмы. Поэтому, завершая анализ
восходящей к Макиавелли традиции, важно остановиться на
некоторых свидетельствах, указывающих, что тезис
добродетели и антитезис коррупции продолжали играть важную роль
в дальнейшей эволюции американской мысли.
В этом контексте особенно значима история с Орденом Цин-
цинната. Когда мы читаем, что офицеры бывшей
революционной армии основали общество, названное в честь римского
героя, призванного от сохи на должность консула и потом
благополучно вернувшегося к своим занятиям, и что членов этого
общества заподозрили в претензии на роль наследной
аристократии, у нас едва ли возникают сомнения относительно
понятийной системы, в рамках которой обсуждался этот эпизод.
Подобным же образом Вторая поправка в Конституцию США,
явно принятая, чтобы разуверить людей, будто федеральное
правительство станет содержать нечто похожее на
профессиональную армию, утверждает связь между народным ополчением
и народной свободой на языке, непосредственно
унаследованном от Макиавелли, оставаясь авторитетным и ритуальным
высказыванием в США по сей день. Новая республика
боялась порчи нравов, которую несла с собой профессиональная
армия, даже если — как столетием раньше Англия — не видела
другого выхода, кроме ее создания; и предпосылки, на которых
строилась применявшаяся в этой обстановке риторика, вскоре
получили полноценное развитие в ходе полемики, в том числе
печатной, которой сопровождался первый значительный
межпартийный конфликт в США.
734
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
В двух недавних исследованиях1 отмечалось, насколько
зловещей фигурой казался Александр Гамильтон своим
противникам, республиканцам и сторонникам Джефферсона, исходя
из всего, в чем традиционно видели угрозу для республики.
Он стремился учредить Банк Соединенных Штатов Америки
и класс владеющих средствами публичных кредиторов,
которые были бы непосредственно заинтересованы в
поддержании правительства республики и во влиянии исполнительной
власти на Конгресс. Каждый, кто читал «Письма Катона», Бо-
лингброка или «Политические изыскания» (Political Disquisitions)
Джеймса Бурга — все они получили широкое
распространение в Америке, — неизбежно видел в Гамильтоне
последователя традиции «вигской хунты», Уолпола и Георга III, которая
в значительной мере и утвердила американцев в убеждении,
что Британия безнадежно развращена. В той мере — а назвать
ее незначительной нельзя, — в какой Гамильтон полагал, что
правление должно осуществляться сильной исполнительной
властью, способной проводить собственный курс в
законодательстве, средства, которые он предлагал, казалось,
возвращали к стилю парламентской монархии; по общему мнению, она
не могла существовать, не прибегая к средствам влияния и
манипуляции, но федерализм Мэдисона — не говоря уже о более
радикальных направлениях республиканской мысли —
призывал отвергнуть ее как продажную и неестественную. Именно
это и имелось в виду, когда в девяностые годы федералистов
неоднократно обвиняли в желании восстановить английскую
конституцию, а убежденность в том, что держатели
государственного долга, о которых говорил Гамильтон, со временем
превратятся в наследную аристократию, была лишь приметой
возвращения американцев к «старому доброму делу»
английской республики. Наконец, недоставало только известного
желания Гамильтона сформировать в республике постоянную
военную силу и широко распространенного подозрения, что этой
силой он надеялся воспользоваться сам, чтобы его оппоненты
утвердились в унаследованном от английской оппозиции
мнении: сильная исполнительная власть, обладающая
благодаря патронажу рычагами влияния и правящая при поддержке
финансовых кругов, инвестирующих в государственный долг,
I. Stourzh G. Alexander Hamilton and the Idea of Republican Government.
Stanford, 1970; Banning L.G. The Quarrel with Federalism; a Study in the
Origins and Character of Republican Thought (Ph.D. dissertation). Washington,
1972.
735
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
логически приводит к развращенной и диктаторской власти,
опирающуюся на постоянную армию.
В этом отношении полемика между федералистами и
республиканцами поразительно напоминает спор между «двором»
и «страной» за столетие до этого. Сторонники Джефферсона
прибегали к риторике партии «страны» и делали это
сознательно, однако в отношении Гамильтона нельзя с такой же
уверенностью сказать, что он намеренно повторял доводы
Дефо или приверженцев Уолпола, язык которых не получил
полноценного развития в Британии и оказался плохо
приспособлен к американской обстановке. Впрочем, анализ идей
Гамильтона на фоне республиканского гуманизма, проведенный
Джеральдом Стуржем, не оставляет сомнений, что он считал
себя «современным вигом» в ситуации неомакиавеллиевско-
го контраста между добродетельной древностью и
коммерческой современностью. Мы уже цитировали его фразу: «Катон
был тори, Цезарь — вигом своего времени. <...> Первый
погиб вместе с республикой, второй уничтожил ее»1.
Интонация здесь явно свидетельствует — предпочтение отдается не
достоинству, а успеху, не добродетели, a virtu, и именно
такого рода высказывания убедили Джефферсона, что Гамильтон
восхищался Цезарем и стремился подражать ему. Но когда
Гамильтон увидел в Аароне Бёрре угрозу собственной роли, он
уничижительно назвал Бёрра «Цезарем в зародыше»2 и
Каталиной— фигурой, в республиканской демонологии на градус
более одиозной, чем Цезарь. Бёрр был для Гамильтона тем,
чем сам Гамильтон был для Джефферсона, и даже слова о Ка-
тоне и Цезаре оказались призваны предостеречь от амбиций
Бёрра. Интересно отметить, что сходство Бёрра прежде всего
с Катилиной, а не с Цезарем объяснялось тем, что в его
амбициях отсутствовала «любовь к славе»3 — то, чем являлось
virtus в самом что ни на есть классическом смысле слова.
Поэтому отношение Гамильтона к Цезарю пронизано моральной
неоднозначностью в духе Макиавелли..Сам же Макиавелли
видел в Цезаре крайне отталкивающую фигуру и никак не
героя. Что имел в виду Гамильтон, помогает понять
употребление им слов «тори» и «виг». Они отсылают не к
современному ему контексту, а к Августинскои эпохе; Imperator Цезарь
ι. Stourzh G. Alexander Hamilton and the Idea of Republican Government. P. 99
(прим. 85), 239.
2. Ibid. P. 98.
3. Ibid. P. 98-102.
736
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
может быть «вигом» лишь при королеве Анне, когда виги
представляли собой партию войны, Мальборо и финансовых
интересов. Триумф Цезаря над Катоном — это победа коммерции
над добродетелью, империи над республикой. Именно
благодаря этой исторической роли Цезарь превращается в архетип
неоднозначной virtù.
Далее Стурж показывает1, что, по мнению Гамильтона,
Америка неизбежно должна стать торговой и военной империей,
на фоне которой фигура Цезаря как раз выглядела бы
уместно, но в которой его роль должны играть «современные виг-
ские» правительственные структуры, иначе она достанется
таким демагогам, как Бёрр. Вся аргументация построена на
превосходстве коммерции над бережливостью, империи над
добродетелью; можно сказать, что Гамильтон добавил
четвертый термин к триадам Монтескье, заявляя, что если
принцип республик — добродетель, то принцип империй —
интерес, поэтому неклассическая теория федерализма необходима,
если республика хочет стать еще и империей. Ему, уроженцу
Вест-Индии, превратившемуся в жителя Нью-Йорка, Америка
представлялась производственной и коммерческой
экономической системой, ведущей торговлю через Атлантический океан
и конкурирующей с другими торговыми обществами. Себя же
Гамильтон относил к выдающимся теоретикам специализации,
утверждая — в традициях Флетчера из Солтауна, — что по мере
того, как общества становились все более коммерческими, они
оказывались все более способны платить солдатам и морякам,
чтобы обезопасить и расширить свою торговлю. Именно за счет
этого процесса специализации — а не благодаря инвестициям
в духе теории Гобсона-Ленина2 — конкуренция в сфере торговли
превратилась в борьбу за власть, империю и выживание, ведь
военной мощи, необходимой для расширения торговли, еще
следовало добиться. Коммерция и специализация лежали в
основе динамичной virtù. Правление теперь должно было стать
двигателем защиты и расширения внешнего влияния, а в том,
что касается внутренних отношений между гражданами, где
его правомерными и необходимыми целями являлись свобода
1. Ibid (главы IV и V et passim).
2. Согласно теории империализма, созданной Джоном Гобсоном (1902)
и развитой позднее Владимиром Лениным (1917)» завоевание и
эксплуатация новых территорий в XIX-XX веках было вызвано поиском
новых инвестиционных возможностей, который повел крупный капитал,
сформировавшийся в период чрезвычайной экономии. — Прим. ред.
737
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
и справедливость, оно уже не могло строиться на
предполагаемой добродетели каждого гражданина, потому что,
когда богатство умножается и сосредоточивается в нескольких
руках, когда в обществе доминирует роскошь, на добродетель
все чаще будут смотреть как на изящное приложение к
богатству, и положение вещей станет удаляться от
республиканского стандарта. Такова подлинная склонность человеческой
природы. <...> Это общая беда, ожидающая нашу конституцию,
равно как и все прочие1.
И парламентская монархия в Британии, и представительная
демократия в Соединенных Штатах оказались формами
правления, подходящими для общества на коммерческом этапе
развития, который был пост-добродетельным, если не
представлял из себя просто торжество коррупции. Мэдисон, еще будучи
товарищем Гамильтона, способствовал формированию
модели федеральной представительной структуры, которая могла
продолжать расширяться, добавляя к одним интересам другие,
и при этом избегать порчи нравов. Всего через несколько лет
после принятия конституции Мэдисон совершенно
разошелся с Гамильтоном, и одна из причин этого, возможно,
заключалась в том, что аргументы Гамильтона явно предполагают
большую степень коррупции и более откровенное признание
ее существования со стороны правительства, чем это
возможно для Мэдисона. Речь шла в первую очередь о финансовых
проектах Гамильтона, которые неприятно поражали тем, что
казались возвратом к парламентской монархии в форме,
отвергнутой противниками Уолпола и Георга III, но акцент,
сделанный Гамильтоном на империи и военной силе, мог стать
лишним поводом для возражений Мэдисона2. Для
Гамильтона переход от добродетели к коммерции не был безмятежным
погружением в либеральное самодовольство, в мир, где
обособленные интересы уравновешивают друг друга. Он делал
выбор в пользу господства и экспансии, а не свободной торговли,
и настойчиво оспаривал утверждение, что интересы торговых
1. «as riches increase and accumulate in few hands; as luxury prevails in society;
virtue will be in a greater degree considered as only a graceful appendage
of wealth, and the tendency of things will be to depart from the republican
standard. This is the real disposition of human nature. <...> It is a common
misfortune, that awaits our state constitution as well as all others» (Ibid. P. 71;
и в целом: P. 70-75).
2. Banning L. G. The Quarrel with Federalism.
738
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
наций могут мирно дополнять друг друга. Будет война, и
государство должно быть сильным; кроме того, он подозревал, что
теория равновесия интересов, принадлежащая Мэдисону, едва
ли принимает в расчет опасность внутренних конфликтов
внутри союза штатов1. Поэтому империя Гамильтона
противостояла федерализму Мэдисона, тем более что исходила из той же
предпосылки — перехода от добродетели к интересу — и
порождала выводы, в которых резче проступало макиавеллиевское
направление мысли. Может ли республика отказаться от
основы добродетели, не становясь при этом империей в полном
смысле слова? Может ли Америка быть республикой и
империей одновременно? Гамильтон не давал резко отрицательного
ответа на эти вопросы; но выражения, в которых он предлагал
формулировать положительные ответы, оказывались
недопустимо резкими. Как следствие, их порицали как коррупцию2.
Разумеется, не следует думать, что партия федералистов
в 179°"е годы состояла из Гамильтонов, уличенных в
стремлении подражать Цезарю; подавляющее большинство ее лидеров,
вероятно, считали себя не Цезарями, а Катонами, носителями
суровой, бескомпромиссной добродетели природных
аристократов. Джон Адаме, чей республиканизм представлялся
классическим до старомодности, был, конечно же, федералистом3; и Джон
Тейлор из Кэролайна, резко критиковавший «Защиту» Адам-
са за ее архаизм, был республиканцем и писал полемические
памфлеты против Гамильтона, в которых с каждой страницы
выглядывают призраки Свифта и Болингброка4. Также не
стоит полагать, будто республиканцы являлись приверженцами
постклассического либерализма в духе предложенного
Мэдисоном синтеза. Некоторые шли по стопам антифедералистов
старой закалки, таких как Патрик Генри, и строгие
принципы добродетели побуждали их критиковать саму Конституцию
за ее слишком частые уступки личным интересам и империи5,
1. Stourzh G. Alexander Hamilton and the Idea of Republican Government.
P. 158-162.
2. Banning L.G. The Quarrel with Federalism (chap. IV-VI).
3. Речь идет о федералистской партии (первой политической партии
в США) под руководством А. Гамильтона, которая с 1789 по ιβοι год
контролировала правительство страны. Представители федералистов
выступали оппонентами республиканцев, возглавляемых Т. Джеф-
ферсоном. Впоследствии федералистская партия потеряла свое
влияние.— Прим. ред.
4. Ibid. Р. 299-3"·
5- Stourzh G. Alexander Hamilton and the Idea of Republican Government.
P. 128-129; Wood G.S. Creation of the American Republic. P. 526.
739
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
но опять же существовали антифедералисты, чья забота о
добродетели приводила их к федерализму в духе Катона.
Идеологический спектр в диапазоне от сторонников республики
до приверженцев федеративного союза и империи напоминал
полемику в Англии Августинской эпохи о земле, коммерции
и кредите. Устойчивое деление на партии отсутствовало; людей,
какую бы позицию они ни занимали, волновали одни и те же
противоречия и проблемы. Приверженность добродетели,
моменту Макиавелли, сыграла здесь свою роль; она заставила
людей осознать, что они были кентаврами.
Многие — а в условиях Соединенных Штатов в ранний
период истории такая возможность оставалась у многих —
приняли решение признать себя кентаврами и окунуться в
закрытые собрания и закулисные сделки профессиональной
политики1. Впрочем, американские ценности представляли
собой ценности людей, стремящихся к добродетели в
условиях, которые были признаны не самыми
благоприятными; тем более интересно мнение Тьювсона, что федералисты
чаще, чем республиканцы, тяготели к милленаристской
апокалиптической концепции, видя в ней возможное торжество
американской добродетели8. Мы привыкли к мысли, что
добродетель иногда нуждается в представлении о Тысячелетнем
Царстве, в котором ее укрепляет и обосновывает благодать,
но кажется очевидным, что партией классической
добродетели должны быть республиканцы, а федералисты — партией
новой virtù. Однако если мы предположим, что среди
федералистов имелись люди, считавшие себя последним оплотом
природной аристократии, а также те, кто полагал, что
«подлинной склонностью человеческой природы» является
влечение к роскоши и империи, то мы скажем, что перед нами
партия, осознававшая, каким серьезным опасностям и
испытаниям подвергается добродетель. Как следствие, нас уже
не так удивит — ведь речь, в конце концов, об американской
партии, — что в ее рядах мы обнаружим последователей не
только Макиавелли, но и доктрины Тысячелетнего Царства.
Джефферсон, как мы сейчас увидим, по-своему также
утверждал прочность добродетели.
ι. Чеймберс в своей работе прослеживает эту тенденцию: Chambers W.N.
Political Parties in a New Nation. См. также: Fischer D.H. The Revolution
of American Conservatism: The Federalist Party in the Age of Jeffersonian
Democracy. New York, 1965.
2. Tuveson E. Redeemer Nation. P. 120.
740
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
Только что процитированный отрывок, в котором Гамильтон
утверждает, что «подлинная склонность человеческой
природы» заключается в том, чтобы «удаляться от республиканского
стандарта», следует, безусловно, сопоставить с некоторыми еще
более поразительными в этом отношении и намного более
широко обсуждаемыми текстами Томаса Джефферсона.
Специалисты по аграрному вопросу в Америке много раз исследовали
значение и противоречия следующего фрагмента:
Те, кто трудится на земле — избранники Бога, — если у него
вообще есть избранники, — души которых он сделал
хранилищем главной и истинной добродетели. Это — средоточие, в
котором Бог сохраняет горящим тот священный огонь, который
иначе мог бы исчезнуть с лица земли. Ни одного примера
разложения нравственности нельзя найти у людей,
обрабатывающих землю, — ни у одного народа, ни в какие времена. Этой
печатью разложения отмечены те, кто, не надеясь на небо, на
свою собственную землю и труд, как это делает, чтобы добыть
себе пропитание, земледелец, зависит в своем существовании
от случайностей и каприза покупателей. Зависимость
порождает раболепие и продажность, душит добродетель в
зародыше и создает удобные орудия для осуществления
честолюбивых замыслов. Случайные обстоятельства, возможно, иногда
замедляли естественный прогресс и развитие ремесел, но,
вообще говоря, в любом государстве соотношение численности
земледельцев и всех других классов населения — это
соотношение его здоровых и нездоровых частей, которое является
довольно точным барометром для измерения степени его
разложения. <...> Чернь больших городов столь же мало
способствует чистоте государства, сколь язвы — здоровью человека.
Именно нравы и дух народа хранят республику в силе. Их
упадок — это язва, которая быстро разъедает до основания ее
законы и конституцию1.
I. Джефферсон Т. Заметки о штате Виргиния // Джефферсон Т.
Автобиография. Заметки о штате Виргиния / Пер. В.М. Большакова с
участием В.Н. Плешкова. Л., 1990. С. 232 (вопрос XIX); «Those who labour
in the earth are the chosen people of God, if ever he had a chosen people,
whose breasts he has made his peculiar deposit for substantial and genuine
virtue. It is the focus in which he keeps alive that sacred fire, which otherwise
might escape from the face of the earth. Corruption of morals in the mass
of cultivators is a phaenomenon of which no age nor nation has furnished
an example. It is the mark set on those who, not looking up to heaven, to
their own soil and industry, as does the husbandman, for their subsistence,
depend for it on the casualties and caprice of customers. Dependence begets
741
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
«Случайные обстоятельства... иногда замедляли
естественный прогресс и развитие ремесел...». Джефферсон помещает
себя и Америку в момент Руссо; человек не может избежать
ни цивилизации, ни того, что она его коррумпирует, но язык,
к которому он прибегает, показывает, что перед нами
политический процесс и момент Макиавелли. Здесь мелькает даже
непрерывная связь коммерции nfortuna; «случайности и капризы»
можно без особого искажения смысла заменить на «фортуну
и фантазию», но типичным для риторики XVIII века образом
«нравы», которые некогда в облике обычая и традиции
помогали замедлить вращение колеса фортуны, теперь стали
прогрессивными и разлагающими. Нам теперь также известно,
какие формы принимала коррупция. Зависимые, неустойчивые
и продажные люди в коммерческом обществе служат «удобными
орудиями», и это относится не только к таким классическим
демагогам, как Бёрр, но и к архитекторам военно-финансовой
империи, таким как Гамильтон. Джефферсон написал этот
фрагмент в 1785 году, но он предвосхищает риторику следующего
десятилетия. Как видим, он не меньше любого классического
республиканца предан идеалу добродетели, но связывает ее
предпосылки с земледелием, а не с естественным, природным
началом в человеке; он был не столько Катоном, считавшим
связь между природной аристократией и природной
демократией необходимой, — если только он не положил этот замысел
в основу созданного им Виргинского университета, — сколько
Тиберием Гракхом, видевшем секрет поддержания добродетели
в сохранении йоменской республики. При этом он, очевидно,
сомневался, можно ли поддерживать земледельческую
добродетель вечно; но ни его убеждения, ни его сомнения не отделяют
его ни от традиции классической политической теории, ни от
нового либерализма в мэдисоновской трактовке федерализма.
subservience and venality, suffocates the germ of virtue, and prepares fit tools
for the designs of ambition. This, the natural progress and consequence of the
arts, has sometimes perhaps been retarded by accidental circumstance: but,
generally speaking, the proportion which the aggregate of the other classes
of citizens bears in any state to that of its husbandmen is the proportion of
its unsound to its healthy parts, and is a good-enough barometer whereby
to measure its degree of corruption. <...> The mobs of great cities add just
so much to the support of pure government, as sores do to the strength of
the human body. It is the manners and spirit of a people which preserve a
republic in vigour. A degeneracy in these is a canker which soon eats to the
heart of its constitution» (Jefferson Th. Notes on the State of Virginia / Ed.
by W. Peder. Chapel Hill, 1955). Этот отрывок приведен и подробно
разобран в книге: Marx L. The Machine in the Garden: Technology and the
Pastoral Ideal in America. New York, 1964. P. 124-125, 116-144.
742
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
Ключ к этому парадоксу мы обнаруживаем, когда читаем
Ноа Уэбстера, на которого ссылается Вуд, желая подтвердить
тезис, что республика уже не считалась зависящей от
добродетели отдельного человека:
Система великого Монтескье так и останется ошибочной, пока
слова «собственность» или «неограниченное право на землю»
будут подменяться «добродетелью» на протяжении всего
трактата «О духе законов».
Добродетель, патриотизм или любовь к своей стране
никогда не были или не будут устойчивым, постоянным принципом
и опорой правления, пока не изменится сама природа
человека. Однако в аграрной стране всеобщее неограниченное право
собственности на землю можно ввести бессрочно, а неравные
условия, создаваемые коммерцией, слишком переменчивы,
чтобы представлять опасность для правления. Имущественное
равенство, предполагающее необходимость отчуждения излишков,
непрестанно противодействующее махинациям и планам
влиятельных семейств, составляют самую душу республики1.
Уэбстер непосредственно апеллировал к позиции Харрингтона:
материальная основа необходима, чтобы обеспечить
добродетель и равенство; земля в свободном владении — более
надежное основание, чем коммерция, но по преимуществу аграрное
общество может заниматься торговлей без особого ущерба для
добродетели. Если бы он действительно признал, что в основе
Конституции лежит не добродетель, а нечто иное, то счел бы
это уступкой неаграрным элементам американской системы,
по сути, компромиссом с коммерцией; но Америка могла при
этом остаться скорее земледельческим, чем коммерческим
обществом. Однако акцент в этом случае делался бы уже не на
самой Конституции. Установления добродетели связывались
теперь не с политическими ordini, в которых классическая теория
I. «The system of the great Montesquieu will ever be erroneous, till the words
property or lands in fee simple are substituted for virtue, throughout his Spirit
of Laws. Virtue, patriotism, or love of country, never was and never will be,
till men's natures are changed, a fixed, permanent principle and support of
government. But in an agricultural country, a general possession of land in
fee simple may be rendered perpetual, and the inequalities introduced by
commerce are too fluctuating to endanger government. An equality of property,
with a necessity of alienation, constantly operating to destroy combinations of
powerful families, is the very soul of a republic» (цит. no: Stourzh G. Alexander
Hamilton and the Idea of Republican Government. P. 230, прим. 104).
743
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
усмотрела бы главную работу законодательного интеллекта,
а с законами о земле — или скорее, как мы увидим, с
неподвластными закону социальными силами и человеческой
волей,— гарантировавшими сохранение равенства в свободном
владении землей. Мы вплотную подошли к теории, согласно
которой не конституция, а фронтир является «душой
республики», до тех пор пока первая вновь не займет центральное
место, полностью разрешив динамическое противостояние
коммерции и добродетели.
Генри Нэш Смит1 выделил словосочетание «империя
безусловного права собственности» (the fee-simple empire) как
квинтэссенцию геополитической и милленаристской риторики
сельскохозяйственного Запада, распространенной в Америке XIX века;
и это выражение, перекликаясь с тем, что в 1787 году писал
Уэбстер, может объяснить нам, почему полностью аграрной
республике приходилось заниматься расширением территории.
Поколение революционной эпохи сделало добродетель своим
исповеданием и обязало свою республику избегать коррупции,
однако не изъяло ее всецело из мира интереса и
противостоящих фракций, которые считались признаком коррупции,
порожденной торговлей. Харрингтон, как, по-видимому, помнил
Уэбстер, утверждал, что коммерция не развращает, если ей не
отводится более важная роль, чем земле, но с тех пор в
коммерции видели динамический принцип, ведущий к прогрессу
и одновременно к коррупции. Республика, желавшая
примирить добродетель с коммерцией, должна действовать не менее
динамично и агрессивно в поисках земли. «Возрастание
Океании» могло «диктовать законы морю», а Океания избежала бы
участи Венеции или Рима, только если море помогло найти
незанятые или обезлюдевшие земли для заселения. Впрочем,
американцы уже пересекли океан, и, чтобы занять свободные
территории, хватило бы лишь роста населения. Даниэлю Буну
не требовалось быть Ликургом или Ромулом и учреждать
законы, а ненависть, которую впоследствии возбуждали к себе
мормоны, отчасти, вероятно, объяснялась тем, что их пророки
упорно считали себя законодателями. Бескрайние земли,
ожидавшие, пока их заселят вооруженные и независимые
земледельцы, означали неограниченный запас добродетели, и можно
было даже сказать, что в земельном праве нет необходимости;
ι. Smith H.N. Virgin Land: The American West as Symbol and Myth. New
York, n.d. (первое издание вышло в 1950 году в издательстве «Harvard
University Press») (chap. XII).
744
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
предохранительный клапан открыт, и любое давление,
которое могло привести к зависимости и коррупции,
выравнивалось естественным образом.
В таких условиях добродетель могла представляться само
собой разумеющейся, а способности, которые демонстрирует
законодатель как демиург нового правления, —
избыточными. Романтизация народных сил, родственная романтизму,
которую отмечает Вуд в либерализме Мэдисона,
проявляется в риторике фронтира, но, если следовать парадигмам,
заложенным Макиавелли, добродетель в этом смысле должна
отличаться таким же динамизмом, как и virtù народа.
Динамизм добродетели призван противостоять динамизму
коммерции, сдерживать его и отчасти перенять присущие ему
элементы страсти и фантазии. Однако примитивные и
отчасти комичные герои мифа о фронтире оказались
недостаточно политизированы, дабы воплощать в себе добродетель
в ее республиканской трактовке, — Дэви Крокетта1
невозможно представить себе конгрессменом, каким он являлся в
реальной жизни, — и олицетворением этого мифа стал Эндрю
Джексон2. Воин фронтира, превратившийся в патриотичного
государственного деятеля, успешный противник второй
попытки учредить Банк Соединенных Штатов, легендарный
Джексон имеет все основания считаться последним макиавел-
лиевским римлянином, а воинственная, стремящаяся к
расширению аграрная демократия, которую он
символизировал, — Четвертым Римом, увековечивающим республиканскую
virtus, тогда как концепция «Москва — Третий Рим»
увековечивала священную империю.
Известно, что Джефферсон говорил о плохо продуманной
Англо-американской войне ι8ΐ2 года:
Наш враг и впрямь получил удовлетворение, подобное тому,
что испытал Сатана, лишив наших прародителей Рая: из
миролюбивой и земледельческой нации он превращает нас в
нацию воюющую и занятую промышленным производством3.
1. Дэвид (Дэви) Крокетт (1786-1836), охотник из Тенесси, позднее конгрес-
мен, герой американского фольклора.—Прим. ред.
2. Ward J. W. Andrew Jackson: Symbol for an Age. New York, 1955; см. также:
Marx L. The Machine in the Garden. P. 219-220.
3. «Our enemy has indeed the consolation of Satan on removing our first
parents from Paradise: from a peaceable and agricultural nation, he makes
us a military and manufacturing one» (цит. no: Marx L. The Machine in
the Garden. P. 144).
745
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
Однако когда этот достаточно бессмысленный конфликт
был официально урегулирован, он внезапно разросся до
масштабов мифа, превратившись из разлагающей и прогрессивной
войны в войну доблестной старины, увенчанную благодатным
триумфом в битве за Новый Орлеан, в которой оборонявшие
фронтир стрелки, легендарные «охотники Кентукки» в роли
сельских граждан-воинов, одержали, как считалось, победу над
опытными солдатами великой профессиональной армии. Джон
Уильям Уорд, анализируя миф о Джексоне, сложившийся на
протяжении следующих двух десятилетий, наглядно
показывает, в какой мере он строился на отсылке к древнеримским
героям — знакомым каждому по школьным учебникам и
патриотическим речам — и на традиционном
противопоставлении доблестного ополчения и коррумпированной постоянной
армии. В то время, когда Клаузевиц разрабатывал подробную
идеалистическую теорию войны как инструмента
демократического и бюрократического государства, американцы
формулировали собственное ее видение — гражданское и архаичное,
близкое по духу к Макиавелли и в то же время
романтическое. Уорд также показывает, насколько важную роль играли
элементы примитивизма и динамизма — демократического
антиинтеллектуализма, — содержавшиеся в этом мифе.
Предполагалось, что от воинов Кентукки исходила таинственная
и непредсказуемая сила, которая перевесила навыки, опыт
и опору на материальную мощь — то, что Кромвель назвал бы
лишь «плотским разумом», — их врагов в битве за Новый
Орлеан; настойчиво звучало мнение, что этот дух был духом
патриотизма и что патриотизм сам по себе был духом. Уорд
справедливо отмечает, что романтизм такого рода является частью
этики эгалитаризма; фактору, за счет которого естественные
и народные силы оказывались в одном ряду с подготовкой,
опытом и интеллектом, следовало быть фактором духовного,
а не рационального порядка. Но при этом налицо безусловное
родство с динамичной и воинственной virtù, характерной для
popolo у Макиавелли. Дух, воодушевляющий стрелков, когда
речь идет о самом Джексоне, много раз назван добродетелью;
когда же мы сталкиваемся с постоянными похвалами
Джексону как генералу, побеждавшему, не придерживаясь
формальностей международного права, президенту, издававшему законы
и принимавшему решения, не обращая внимания на
конституционные тонкости, ясно, что перед нами образец virtù именно
в духе теории Макиавелли. «Джексон создал закон, — отметил
746
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
один из его почитателей, — Адаме его процитировал». Он
комментировал известный негодующий выкрик самого героя:
«Долой Гроция! Долой Пуфендорфа! Долой Ваттеля! Это касается
только меня и Джима Монро!»1 Или: «Джон Маршалл принял
решение — пусть приведет его в исполнение».
Макиавелли, возможно, одобрил бы такое поведение; но
он мог и заметить, что подобного рода импульсивность под
стать законодателю, основывающему республику, или
правителю, действующему там, где никакой республики еще нет, но
обнаруженная у магистрата, призванного укреплять
государственную власть, она может привести к чрезвычайно
порочным последствиям. Учитывая, что политику все еще изучали
по античной истории, нетрудно догадаться, что у
противников Джексона имелось основание опасаться и видеть в нем
военного авантюриста, превратившегося в тирана. При этом
у кого-то может даже сложиться впечатление, что его
добродетель должна быть подлинной, чтобы выдержать
одурманивающие похвалы его сверхчеловеческим способностям; ему
следовало быть Фурием Камиллом, раз он не стал Манлием
Капитолином. Но с точки зрения Макиавелли
представляется аномалией, чтобы республика породила подобного почти
анархического героя и чтобы он принес ей пользу теперь, не
когда она была новой или угасала, а когда шло второе
поколение ее нормального функционирования. В то время это
объясняли аргументом, — и Уорд справедливо придает такому
объяснению большое значение, — согласно которому
Конституция, основанная на естественных принципах, выпустила
на волю энергии человеческой природы; Джексон был дитя
природы и ничем не мог угрожать республике
первозданного края8. Однако Уорд приходит к традиционному
заключению, что американскому мифу свойственен локковский
примитивизм— бунт природы против истории, то есть против
традиций, условностей и интеллектуализма Старого Света.
Такая трактовка была и остается крайне распространенной;
нас же интересует, можно ли правильно истолковать бегство
к природе без учета сложного и неоднозначного понимания
добродетели.
Америка Джексона являлась и той Америкой, о
которой писал Токвиль. Если вблизи от фронтира процветала
1. Ward J. W. Andrew Jackson: Symbol for an Age. P. 63.
2. Ibid. P. 30-45.
747
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
агрессивная virtù воинов-земледельцев, дальше на восток
можно было наблюдать полноценные проявления того народного
мятежа против природных аристократов, который мы
привыкли называть «упадком добродетели» или «концом
классической политики», и можно задаться вопросом, существовала
ли связь между этими двумя явлениями. Токвиль проследил
переход от равенства в том смысле, в каком о нем говорили
Макиавелли или Монтескье, — isonomia или равенство в
подчинении res publico,, которое выступало частью идеала
добродетели, — к тому égalité des conditions, которым, по его мнению,
отмечено торжество современной демократии, пришедшей на
смену классическим республиканским ценностям.
Французский мыслитель явно вышел за рамки обычных для
республиканцев опасений, что такой Джексон может оказаться Ман-
лием или Цезарем, и указал, что реальная опасность тирании
в обществе после добродетели, заключалась в диктатуре
мнения большинства. Когда между людьми делались
качественные различия и каждый проявлял свою добродетель во
взаимном признании добродетелей с другими людьми, человек
узнавал себя через уважение, выказываемое ему
окружающими за качества, снискавшие ему общественное признание.
Однако, когда все люди оказались — или стали считаться —
похожими друг на друга, единственный способ осознать себя
состоял в необходимости подтверждать представления всех
остальных о том, каким должен быть и был индивид. Так
возникла диктатура мнения, ибо теперь лишь диффузное общее
мнение определяло личность или критерии ее оценки.
Мэдисон опасался, что человек утратит всякое чувство собственной
значимости1, а Токвиль мог заметить, что Том Пейн, уйдя от
наказания за государственную измену в Англии и от разгула
террора во Франции, оказался раздавлен неприязнью своих
американских соседей.
Критика égalité des conditions в основе своей строится на
теории Аристотеля: в «Политике» сказано, что если относиться
к людям так, будто они все одинаковы, мы не заметим тех
особенностей, в которых они как раз неодинаковы; и
можно добавить к этому, что общество, где каждый служит
каждому, потому что каким-то образом зависит от него в оценке
собственного существования, коррумпировано в принятом
смысле этого слова и в очень большой степени. Культ воли
ι. Wood G.S. Creation of the American Republic. P. 612.
748
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
и природной энергии Джексона может оказаться частью этого
общества, так как virtù в романтическом смысле представляет
собой средство подорвать добродетель природной аристократии.
Впрочем, в мире, который описывает Токвиль, очень просто
создавать и распространять ложные образы, ибо в
потреблении образов других людей и заключается смысл жизни. Здесь
уместно заметить, что мифы о Джексоне и других героях фрон-
тира в какой-то мере являлись плодом сознательного
творчества, за которым стояли вовсе не незримые создатели образов
(image-makers). Мы можем напомнить, что Джексон был
плантатором, а не колонистом-первопроходцем или что он выиграл
битву за Новый Орлеан благодаря артиллерии, а не выстрелу
из ружья; о том, что, если ему в 1828 году удалось завоевать
репутацию героя, а Адамсу — интеллектуала, то в 1840 году его
образ нашел своего незадачливого эпигона, когда виги сумели
сделать себе героя из Гаррисона, фальшивая натура
которого проявилась в том, что он простудился в день собственной
инаугурации и через месяц умер. История
продемонстрировала в данном случае свою безжалостную иронию, хотя его
приверженцы могли подумать, что никакой насмешки над Эндрю
Джексоном здесь не было; и снова встает вопрос, который
считался неотъемлемым с момента возникновения Америки, — не
является ли момент природы средством спасения от
конфликта между добродетелью и коррупцией?
Перейдем к краткому анализу отрывка из «Заметок о штате
Виргиния» Джефферсона. Коммерция — развитие искусств —
развращает добродетель земледельца, но, как добавил Уэбстер
и подтвердил Джефферсон, земледельческое общество
способно абсорбировать коммерцию, а бурно развивающееся
земледельческое общество способно абсорбировать и бурно
развивающуюся торговлю. Америка — мировой сад; ее свободные
земли почти безграничны, и распространение, необходимое,
чтобы их заполнить, есть почти безграничное
распространение добродетели. Риторика «Девственной земли» (Virgin Land)
Смита, который описывает столетие, прошедшее после
Джефферсона и Уэбстера, отсылает именно к такому расселению
носящих оружие свободолюбивых земледельцев; можно
сказать, что это риторика движения на запад, о котором
говорит Беркли, чем и объясняется архетипическое значение его
стихотворения для американской мысли. Поэтому
расширение фронтира обосновывается в духе Макиавелли, а в мифе
о Джексоне оно подразумевает наличие макиавеллиевской virtù,
749
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
которая распространит влияние добродетели, не
коррумпировав ее, — процесс, возможный в империи с безусловным правом
собственности. Змей уже проник в Эдем — и это снова говорит
о потребности в virtù — в том смысле, что коммерция
существовала в Америке еще до основания республики. Однако при
условии, что расширение коммерции не нанесет ущерба
расширению земли, оно своими динамичными и
прогрессивными качествами может способствовать динамичному развитию
земледельческой virtù и внести свой вклад в образ
сельскохозяйственной империи, одновременно прогрессивной и
пасторальной. Синтез добродетели и virtù, который мы встречаем
у Полибия и Макиавелли в наиболее оптимистических по тону
фрагментах, воссоздается в традиции Джефферсона и
Джексона на уровне гораздо более сложных социальных отношений,
а значит, и с намного большим оптимизмом. Та мера, в какой
Конституция подразумевала отказ от добродетели, с лихвой
возмещалась благодаря virtù фронтира.
Риторика йомена — Америки как новой готической
империи — всегда оставляет место для риторики паровой машины;
можно вспомнить «марш интеллекта» и «Общество
интеллектуальных паров», высмеянное в Британии того времени Томасом
Лавом Пикоком1. Поскольку как фронтир, так и
промышленность, как земля, так и торговля являются силами,
стремящимися к расширению, и то и другое можно описать в категориях
страсти и динамики: в первом случае речь пойдет о
патриотической virtù воина-фермера, во втором — о страстном и
неустанном проявлении экономического интереса. Пока они
сообща содействуют развитию, погружение в природу следует
рассматривать с точки зрения и пасторали, и промышленности,
ведь американца интересует не природа, которую он мог бы
созерцать, глядя на. идиллический пейзаж, — хотя такая
возможность никогда не исключена, — а его собственная
человеческая природа, гражданская, воинская, коммерческая, иначе
говоря — деятельная. Если на этом этапе американец
обращался к локковской парадигме, причина — в сложной истории
vita activa, внутри которой Локк оказался востребован именно
в этот момент времени8.
1. Имеется в виду роман Т.Л. Пикока «Замок капризов» (1831), где под
именем «Steam Intellect Society» высмеивается существовавшее в
Англии «Общество распространения полезных знаний».—Прим. перев.
2. Об этом прекрасно сказано у Лео Маркса: Marx L. The Machine in the
Garden.
750
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
Кроме того, дикая природа — это материя, которой надо
придать форму; природа земледельца, воина и гражданина
останется несовершенной, пока он не придаст ей форму. Колонист-
пионер в идеале стремится стать земледельцем, хотя как раз
здесь возможно романтическое противоречие, и мысль, которую
косвенным образом высказал Джефферсон — что добродетель
возможна лишь в руссоистский момент прогресса
цивилизации,— позже неоднократно повторяется в других картинах,
образных и словесных, где земледельческий и гражданский
идеал занимает «промежуточную территорию» между
крайностями дикой первозданной природы и коррупцией большого
города1. Поэтому образ полиса — всегда скорее деревенский,
хотя в нем ощутимо меньше созерцательности. И поскольку
смещающийся фронтир в любой момент является
промежуточной зоной между дикостью и добродетелью, всегда
возникает трудность для тех, чья virtù побуждает их выходить за
эти пределы, предпочитая неоформленную материю
сложившейся форме, возможность — реальности, вплоть до момента,
когда их собственная природа не останется нереализованной
и не потеряет добродетель. С подобной дилеммой сталкивается
стареющий Кожаный Чулок Фенимора Купера, колеблющийся
между мирами охотника и земледельца, природной
добродетели и устоявшегося закона2, и Бёрк наверняка имел в виду
нечто похожее, когда представлял, как поселенцы за
Аппалачами деградируют до уровня кочевников и совершают набеги на
земледельцев с фронтира3. Кроме того, реальный опыт уже на
момент написания Кревкёром своих «Писем»4 давал основание
видеть в случайном обитателе фронтира жалкого дикаря,
убогого в своем упадке, а не сильного и естественного, как
варвары; бедный белый человек начинал свой путь в понятийном
контексте социологии XVIII столетия.
Впрочем, эти проблемы служили лишь в качестве
идеальных причин того, почему расширение фронтира не
должно останавливаться. Пока оставалась возможность заселения
новых земель, было реально сохранять союз между
земледельческой добродетелью и коммерческим усердием, а вместе
1. О «промежуточной территории» см.: Ibid. P. I2I-I22 et passim.
2. Smith H.N. Virgin Land: The American West as Symbol and Myth. P. 64-76.
3. Burke E. Works. Vol. II. P. 131-132; Smith H.N. Virgin Land: The American
West as Symbol and Myth. P. 201-208.
4. St. John de Crevecoeur H. Letters from an American Farmer. Everyman's Library
edition. London, 1912-1962. P. 46-47, 51-55.
75I
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
с ним и иллюзию, что «новый человек» в Америке вернулся
в Эдем. Национальная апокалиптика могла утвердиться на
этой первоначальной оптимистической основе. Оставалась,
однако, сложность, которую пророчески предугадал Беркли:
замкнутая и циклическая природа мировой истории в целом.
Америка должна стать пятым и последним актом translatio
imperii, потому что как только движение на запад
завершится, новое начало истории будет трудно представить в чисто
аграрных терминах освоения земель. Стремление к
земледельческой добродетели служило стремлением к статичной
утопии, которую можно представить лишь как rinnovazione,
обновление добродетели тех, кому удалось найти для этого
землю. В данном отношении Макиавелли оказался
пророчески (но не с христианской точки зрения) прав: добродетель
в каждый момент времени могла существовать в мире лишь
в ограниченном объеме, и, когда этот объем был
израсходован, перед обновлением происходила катастрофа — скорее
мировой пожар стоиков, чем христианский апокалипсис. Если,
как полагает Тьювсон, республиканцы являлись в меньшей
степени милленаристами, нежели федералисты, это может
объясняться тем, что они, как и Джефферсон, надеялись на
почти безграничное обновление добродетели в империи с
безусловным правом собственности, но за пределами этой
расширяющей свои границы утопии можно различить лишь ма-
киавеллиевскую, а не христианскую эсхатологию. И утопия
должна была когда-то закончиться. В сочинениях Джеффер-
сона встречаются фрагменты, где он признает, что рано или
поздно запасы земли иссякнут и расширение добродетели уже
не сможет компенсировать дальнейший прогресс коммерции1.
Когда этот порог окажется достигнут, коррупция станет
неминуемой; люди будут зависеть друг от друга в сфере
рыночной экономики и зависеть от правительства в больших
городах. Змей настигнет Адама и Еву, и темные силы, которые
олицетворяют Гамильтон и Бёрр, или же более неуловимый
процесс [коррупции], описываемый Токвилем, уже не
сдержать распространением земледелия. Когда нравы испорчены,
нельзя положиться даже на Конституцию. Даже в Америке
перед республикой стоит проблема ее собственной
конечности, как и конечности ее собственной добродетели в
пространстве и времени.
I. Smith H.N. Virgin Land: The American West as Symbol and Myth. P. 241-244.
752
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
Как следствие, элемент исторического пессимизма
присутствует даже в наиболее утопической американской мысли — за
ним возникает конфликт между добродетелью и коммерцией,
угрожающий свести всю историю Америки к моменту
Макиавелли или Руссо1. Именно потому, что земледельцы у Джеффер-
сона так или иначе играют свою роль лишь в один из моментов
в диалектике прогресса и коррупции, он не может называть их
иначе чем «избранным народом» и «особым вкладом» Бога. В
конечном счете они не защищены природой, и только благодать
и Провидение способны питать и продлевать существование
их добродетели. Джефферсон мог апеллировать к Провидению,
но не к милленаристским пророчествам; это следовало как из
его деизма, так и из его аграрных взглядов, ведь гражданская
добродетель, как мы уже не раз наблюдали, хотя и нуждается
иногда для самоутверждения в апокалиптической структуре,
в равной мере тяготеет к тому, чтобы уступать свой
собственный момент кому угодно, кроме незамедлительно ожидаемого
Тысячелетнего Царства. В этом контексте интересно
рассмотреть вывод Тьювсона о милленаризме федералистов. С одной
стороны, он может объясняться тем, что федералисты,
наблюдая угасание добродетели с суровостью Катона, видели, что
люди подвластны множеству соблазнов, но располагают при
этом меньшим числом секулярных гарантий. Таким образом
они считали, в большей степени, чем те, кто занимал позицию
Джефферсона, что люди нуждаются в содействии благодати.
Однако с другой стороны, Тьювсон специально подчеркивает
большую роль Коммерции в милленаристской поэзии
федералиста Тимоти Дуайта2. Коммерция — динамическая сила, virtù,
гарантирующая, что природа не сможет постоянно
поддерживать земледельческую утопию без содействия благодати; но,
учитывая союз добродетели и коммерции в экспансии на
запад, она оказывается средством, приближающим Тысячелетнее
Царство, которое при содействии благодати можно будет взять
штурмом. Существовала даже точка зрения, что коммерция
выплеснется за пределы западных земель, преодолеет собственную
конечность, выйдет за рамки замкнутого цикла добродетели
и достигнет подлинно американского Тысячелетнего Царства.
Среди черт, неизменно присущих американскому мифу, Генри
Нэш Смит указывал на неоднократно повторяемое пророчество,
ι. Ср.: Рососк J. G.A. Politics, Language and Time. P. 100-105.
2. Tuveson E. Redeemer Nation. P. 103-112.
753
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
что империя с неограниченным правом на собственность не
только навек упрочит добродетель возделывающих землю
йоменов, но и создаст торговлю, способную выйти за пределы
континента и, проникнув на азиатские рынки, принести свободу
более древним человеческим обществам1. «Есть Восток — есть
Индия», — заявил Томас Харт Бентон перед аудиторией в Сент-
Луисе, указывая, как и следовало, на запад2, а просвещение
Японии и Китая благодаря торговле предрекали еще чаще.
Именно в связи с союзом добродетели и коммерции в
контексте неограниченного права на собственность Америке
пророчили мировое значение, и предполагалось, что ее роль в мире
будет заключаться в том, чтобы обеспечивать укрепление этого
союза даже после того, как окажутся достигнуты берега
Тихого океана. Более того, освобождение Азии («древней жреческой
Азии», о которой писал Уитмен) является частью представления
об Америке как о «нации-искупительнице», по той лишь
причине, что таким образом разорвется замкнутый цикл, в
который Беркли заключил Америку, а финальный, пятый акт его
translatio превратится в подлинную милленаристскую «Пятую
Монархию». «Вначале, — писал Локк, — весь мир был подобен
Америке»3, — и в конце весь мир снова уподобится Америке,
когда миссия избранного народа окажется выполнена.
Добродетель и коммерция, свобода и культура, республика и
история увековечат свой союз единственным возможным
средством — навеки сделав его соучастником все человечество, и так
будет достигнут тот сплав Тысячелетнего Царства с утопией,
возникший в результате секулярного толкования библейских
пророчеств на заре Нового времени.
Американские представления об апокалипсисе по сути
своей не более абсурдны, чем аналогичные идеи в других
культурах, которые также полагали себя воплощением
завершающего этапа некоей универсальной модели человеческой истории
и считают, что вот-вот достигнут утопии, разрешив последнее
ι. Smith H.N Virgin Land: The American West as Symbol and Myth. P. 16-53
(book I: Passage to India).
2. Chambers W.N. Old Bullion Benton: Senator from the New West. Boston, 1956.
P. 353. Строго говоря, Бентон описывал статую Колумба, указывающего
на запад, но мы вполне можем предположить, что и он сам повторил
этот жест. По иронии судьбы, памятник ему поставили в той части Сент-
Луиса, которая из-за запустения стала достаточно безлюдной. См. также:
Smith H.N Virgin Land: The American West as Symbol and Myth. P. 23-35.
3. ЛоккД. Два трактата о правлении. С. 290 (книга II, 49); «In tne beginning
all the world was America» (Locke J. Two Treatises on Government).
754
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
диалектическое противоречие этой модели. Но поскольку
движение американской истории скорее пространственное, чем
диалектическое, ее апокалипсис в большей степени приобретает
черты раннего модерна, чем историзма; он представлялся как
движение за пределы истории, за которым следовало
возвращение к ней в ходе возрождения, поэтому в мышлении
американцев запечатлелись образцы той мессианской и циклической
мысли, которые рассматриваются в этой книге. Ведь если Азия
не будет освобождена, союз добродетели и коммерции
потерпит поражение и цикл истории снова замкнется. Избранный
народ оказался бы в плену у времени, не имея пространства
для дальнейшей экспансии, а неослабевающие силы коммерции
вновь стали бы силами коррупции и навязали бы имперское
правление, о котором мечтал в XVIII столетии Гамильтон и
которое Эйзенхауэр в XX веке описывал как
«военно-промышленный комплекс», то есть состояние всеобщей зависимости,
вызывавшее опасения у Джефферсона и проанализированное
Токвилем. Избранный народ, не справившийся со своей
миссией, по определению оказывался отступником, и интонация
плача Иеремии, столь характерная для американской истории,
должна была зазвучать снова. Она призывала к внутреннему
очищению и восстановлению «города на холме», поскольку
неизменной альтернативой милленаристскому предводительству
служат уход в сектантство и восстановление общины; в
призыве Джорджа Макговерна «вернись домой, Америка!» можно
вновь услышать слова «выйди от нее, народ Мой»1; но, кроме
того, мы услышим и много голосов тех, кто выступал с
позиций неомакиавеллизма, предлагая стратегию, оптимально
соединяющую рассудительность и отвагу, чтобы применить
ее в мире, где добродетель и в самом деле конечна.
Антиимпериалистическая лига 1898 года стала напоминать Америке
о судьбе Рима, и с тех пор эти напоминания не прекращались.
Интеллект человека XX столетия по многим причинам
испытывает недоверие к метаистории, и почти всегда для этого
имеются основания, но американская культура настолько
пронизана метаисторическим мышлением, что способность
реконструировать эсхатологические сценарии — полезный инструмент
ее истолкования. В свете представленной здесь модели мы
видим, почему было необходимо — когда видение, которое
выражал Джефферсон, только формировалось и при его дальнейшем
I. Откровение Иоанна Богослова, 18:4· — Прим. ред.
755
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
становлении — отвергнуть Александра Гамильтона как
лжепророка и даже своего рода Антихриста; он смотрел на восток, а не
на запад1, считал Америку торговой империей, а не
земледельческой республикой, и утверждал, что коррупция неизбежна,
круг замкнулся и наступил конец, еще прежде, чем завет был
должным образом заключен или чем была предпринята
попытка избежать порчи нравов. Мы понимаем также, почему
Фредерик Джексон Тернер2 уподобился американскому Исайе,
в i8go году заявив о закрытии фронтира; один этап
пророческой схемы, одно обращение колеса в борьбе между
добродетелью и коррупцией приближалось к концу. Кроме того, ясно, что
начиная с этого периода сформировалось видение американской
истории, предполагавшее, что после 1890 года речь шла о
выборе между внутренней реформацией, с одной стороны, и
глобальной морской империей, с другой, причем последняя
должна способствовать освобождению Азии за счет торговли через
«открытые двери»3; и когда в третьей четверти XX века Азия
явно отвергла Америку, это повлекло за собой ощутимый
кризис самооценки, вызвавший (в который раз) чувство, что
восстановленная невинность и возрожденная добродетель утрачены
навсегда, поэтому национальная иеремиада звучала особенно
горько. Когда американцы (как это происходило по меньшей
мере с 1898 года через регулярные интервалы времени)
упрекали себя в «тирании свободного народа» и навязывании
империи добродетели тем, кому не суждено стать ее полноценными
гражданами, в этих упреках отчетливо различима макиавелли-
евская интонация4. Но примечательно еще, что эта иеремиада
1. Канада для него располагалась «слева», а Флорида — «справа» (Stourzh G.
Alexander Hamilton and the Idea of Republican Government. P. 195). См.
также: Gilbert F. To the Farewell Address: Ideas of Early American Foreign
Policy. Princeton, 1961 (второе издание —1970 год).
2. Фредерик Джексон Тернер (1861-1932), американский историк, создатель
теории фронтира.—Прим. ред.
3- См., например: Silberschmidt M. The United States and Europe: Rivals and
Partners. New York, 1972. Стоит ли говорить, что политика «открытых
дверей» взаимодействия с Китаем на западе напоминает слова,
начертанные на постаменте статуи Свободы на востоке?
4- Например, Уильям Грэм Самнер в 1896 году писал: «Наша система не
подходит для того, чтобы управлять подчиненными провинциями. Она
не оставляет для них места. Они превратятся в средоточие коррупции
и будут оказывать воздействие на политику нашего собственного
государства. Если мы признаем остров [Кубу] своим штатом или
группой штатов, мы вынуждены будем позволить ему наравне с нами
участвовать в управлении» («Our system is unfit for the government of subject
provinces. They have no place in it. They would become seats of corruption,
which would react on our own body politic. If we admitted the island [Cuba] as
756
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНГИР
время от времени принимает форму спора с самой
Конституцией, а недавно — и форму полемики с «локковским
консенсусом», политикой практического приспособления и политической
наукой об эмпирическом изучении поведения, которые вместе
считаются — хотя и без достаточных оснований — изначальной
основой республиканского здания и причиной того состояния
дел, которое оплакивается как коррупция. Напряжение между
политической практикой и ценностями, которым она должна
соответствовать, иногда настолько нарастает, что американцы
теряют всякое удовольствие — обычно им свойственное — как
от практики, так и от размышлений о политике в духе
Мэдисона. Язык практики не являлся республиканским в
классическом смысле слова, но использование языка мифа и метаисто-
рии обеспечило повторение дилемм добродетели и коррупции,
впервые сформулированных в XVIII веке; и то, что часто
воспринимается как спор с Локком, на деле является спором с
решением, которое этим дилеммам предложил Мэдисон.
Американские политологи полагают, что в настоящее время они
переживают «постбихевиористскую революцию»1, но язык этого
направления выдает в себе плач Иеремии. Пост-иеремиадная
революция в области идеологии была бы в каком-то смысле
более радикальной. Она возвестила бы об окончании момента
Макиавелли в Америке — то есть завершении спора с историей
в ее специфически американской форме. Что принесла бы такая
перспектива, представить сложно: в настоящий момент есть не
вполне определенные свидетельства, указывающие в
направлении различных форм консервативного анархизма, — но конец,
кажется, еще не наступил.
IV.
Американская культура печально известна множеством мифов,
многие из которых возникли в результате попытки избежать
истории, а затем начать ее заново. Исследователи, изучавшие
их распространение, обычно согласны, что пуританский обет
a state or a group of states, we should have to let it help govern us») (цит. no:
A Different Frontier: selected readings in the foundations of American economic
expansion / Ed. by L.C. Gardner. Chicago, 1966. P. 87). См. также: BeisnerR.L.
Twelve Against Empire: the Anti-Imperialists, 1898-1900. New York, 1968.
1. Easton D. C. The New Revolution in Political Science (presidential address to the
American Political Science Association) // American Political Science Review.
1969. Vol. 73. № 4. P. 1051-1061. См. также: The Post-Behavioral Era: Perspectives
on Political Science / Ed. by G.J. Graham Jr. and G.W. Carey. New York, 1972.
757
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
возродился в договорной теории Локка, так что сам Локк
оказался в роли ангела-хранителя американских ценностей, а
конфликт с историей предстал как неустанная попытка бегства
в дикую местность, где можно было бы воспроизвести
эксперимент Локка, основав общество «естественных людей»1. В
предлагаемой здесь интерпретации на первый план выходит не
Локк, а Макиавелли; мы указываем, что республика —
понятие, позаимствованное у гуманистов эпохи Возрождения, —
являлась подлинной наследницей обета, а иеремиада
возродилась и стала обозначать страх перед коррупцией. Речь идет
о том, что само основание независимой Америки
воспринималось и утверждалось как событие, происходящее в момент
Макиавелли — и даже в момент Руссо, — когда хрупкость
эксперимента и двойственность положения республики в секуляр-
ном времени чувствовалась гораздо живее, чем это ощущалось
с позиции Локка.
Основание республики, согласно этой трактовке,
представлялось не просто как возврат к природе — хотя Кревкёр и
утверждает обратное, — а как двойственный и противоречивый
момент в диалектике добродетели и коррупции, знакомой
большинству искушенных умов XVIII столетия. Бегство от истории
к природе действительно имело место, и о нем говорили
многие американцы революционного периода вскоре после Войны
за независимость — а с меньшими основаниями и многие
поколения историков вплоть до сегодняшнего дня — как о
бегстве от Старого Света, от бремени церковного и феодального
прошлого («каноническое и феодальное право» Адамса).
Впрочем, анализ коррупции показывает, что речь шла о бегстве
не только от древности и прошлого, но также от модерности
и будущего, не только от феодальной и папистской Европы, но
и от торговой Британии вигов — наиболее агрессивного
«нового» общества в середине XVIII века; равным образом природа,
к которой американцы поспешно бросались, была не просто
пуританской, локковской или идиллической сельской перво-
зданностью, a vita activa, в которой человек как zöon politikon
мог удовлетворить свою натуру, но которую со времен
Макиавелли все труднее оказывалось примирить с существованием
в секулярном времени. Поскольку в неохаррингтоновской
трактовке момента Макиавелли суеверия, вассальные отношения
ι. Noble D. W. Historians Against History: The Frontier Thesis and the National
Covenant in American Historical Writing since 1830. Minneapolis, 1965.
758
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
и спекуляции с бумажными деньгами могли быть замечены
и решительно осуждены, прежняя и новая интерпретации
коррупции соединялись в единое представление.
Поскольку американскую республику можно помыслить в терминах
rinnovazione в Новом Свете, то естественно, что бегство от
коррупции виделось как акт бегства от прошлого в целом; и это
создавало иллюзию движения к природе, будущее которой не
угрожало человеческими проблемами и которая, как казалась,
находилась вне истории. Однако это привело к серьезному
искажению истории, которое вылилось в решимость
американских исследователей, следующих этой тенденции, даже сегодня
уравнивать Британию с Европой, а империю вигов со Старым
порядком (Ancien régime)1. Диалектика добродетели и
коммерции являлась конфликтом с модерностью, нашедшим
наиболее полное отражение — по крайней мере до Руссо — в
лексиконе гуманистов и сторонников неохаррингтоновской теории,
используемом в англоязычных культурах Северной
Атлантики, и именно в этом языке и в противоречиях этих традиций
американское сознание почерпнуло свою терминологию.
Можно сказать, что Гражданская война и революция,
охватившие англоязычные части Атлантики после 1774 г°Да> включали
в себя продолжение, в большем масштабе и с большей остротой,
той дискуссии Августинской эпохи, которая сопровождала
финансовую революцию в Англии и Шотландии после ι688 года,
а после 1714 года привела к установлению в Великобритании
парламентской олигархии. Страх перед наступлением коррупции
побудил американцев восстанавливать в республике
добродетель и отвергнуть парламентскую монархию, которая, по
общему мнению, была в некоторой мере неотделима от коррупции;
а противостояние добродетели и нравственной порчи и
составляет момент Макиавелли. Британия, наоборот, придерживалась
курса, на который радикальные инакомыслящие внутри
традиции вигов не оказали никакого влияния. Когда правительство
возглавляли Норт, Рокингем и Шелбёрн, в политических кругах
не сомневались, что формой правления останется
парламентская монархия; вопрос состоял лишь в том, лучше ли воевать
против колоний или отказаться от них, чтобы ее сохранить2.
1. К сожалению, многочисленные упоминания об этой параллели см.:
Hartz L.B. The Liberal Tradition in America; см. также: Palmer R.R. The
Age of the Democratic Revolution. Vol. I. Princeton, 1959 (chap. 2, 3, 6, 10).
2. В пользу последней точки зрения наиболее резко высказывался Джо-
зайя Такер: см. его «Четыре трактата о вопросах политики и торговли»
759
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
Хотя в период кризиса 1780-1781 годов голоса, представляющие
идеологию «страны», звучали громко и угрожающе1, позиция
«двора» относительно государственного устройства Британии
не подвергалась серьезной опасности. В отличие от
американцев, ориентировавшихся на модели неохаррингтоновского
толка, британцы, приученные «придворной» идеологией, что
их приверженность добродетели была не так сильна, не
предпринимали попыток революционного rinnovazione, не считали
утрату империи признаком необратимого заката и всего через
несколько лет смогли вступить в новую долгую эпоху
европейских войн, профессиональной армии и инфляционных
банковских операций. Питт-младший, возможно, и напоминает
Гамильтона, но своего Джефферсона в Британии не оказалось.
Начавшаяся демократизация строилась по средневековой
схеме: структура, возглавляемая королем и парламентом,
расширялась, включая в себя новые категории членов совещательных
органов и представителей.
Как следствие, за обретением американцами
независимости последовало довольно быстрое расхождение политических
языков, на которых говорят две основные культуры отныне
расколотой Атлантики. Кристофер Уайвилл, Ричард Прайс
и Джон Картрайт действительно рассуждали в терминах
коррупции и обновления, мало в чем отличаясь от своих
американских современников2, и «старая коррупция» оставалась
мишенью радикальных реформаторов чуть ли не вплоть до эпохи
чартистов. Впрочем, «Фрагмент о государстве» (Fragment on
Government) Иеремии Бентама — в котором, как показывают
выпады против Блэкстона, автор стремился отказаться от языка
как идеологии «двора», так и «страны», — как и «Декларация
независимости», написан в год первой публикации «Богатства
народов» и смерти Юма; а к 1780 году Эдмунд Бёрк понял, что
мысль XVIII века о нравах и обычаях можно
переформулировать на языке нормативной древности и древней конституции
XVII века, и выступил против макиавел л невского понятия
(Four Tracts on Political and Commercial Subjects, 1774), «Письмо к
Эдмунду Бёрку, эсквайру» (A Letter to Edmund Burke, Esq., 1775), «Подлинный
интерес Британии» (The True Interest of Britain, 1776), «Трактат о
гражданском правлении» (A Treatise Concerning Civil Government, 1781).
1. Butterfield H. George III, Lord North and the People, 1779-1780. London, 1949.
2. Christie I.R. Wilkes, Wyvill and Reform: The Parliamentary Movement in
British Politics, 1760-1785. New York, 1962; Idem. Myth and Reality in Late
Eighteenth-Century British Politics. Berkeley, 1970; Cartwnght F.D. The Life
and Correspondence of Major Cartwright. London, 1826.
760
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
ridurre, а позже и прав человека1. И апеллирующий к давнему
обычаю консерватизм, и радикальный утилитаризм —
ведущие свою родословную скорее от идеологии «двора», нежели
от идеологии «страны» — могли способствовать ослаблению
влияния короны, но и тот и другой оказались безгранично
далеки от американского идеала республиканской добродетели.
Так, можно написать историю — хотя и не в этой книге —
о том, как на протяжении пятидесятилетия, последовавшего за
революцией в Америке, британская мысль разошлась с
американской, равно как и с неоклассицизмом Августинской эпохи.
Ироническим аспектом этой истории стало бы описание того
успеха, с которым парламентское законодательство
Викторианской эпохи приступило к устранению той коррупции и ее
образа, который у всех людей являлся (а в случае американцев
остался) навязчивой идеей. В этом отношении Британия могла
чувствовать и действительно чувствовала себя
вознагражденной, пусть и ценой разрыва атлантического и
англо-ирландского единства, за то, что предпочла парадигму
парламентского суверенитета республиканскому равновесию; американцев,
сделавших республиканский выбор в пользу обновления
добродетели, упорно волновала угроза коррупции — и, можно
сказать, не без оснований, причем все более веских. Их
политическая драма продолжает (одновременно утонченно и грубо)
подтверждать суждения Полибия, Гвиччардини, Макиавелли
и Монтескье, поскольку определяет коррупцию как
заболевание, свойственное всем республикам, которое невозможно
излечить одной лишь добродетелью. В мелодраме 1973 года
продажность Агню выражает это одним способом, а характерное
для Эрлихмана более сложное и бескорыстное недопонимание
связи между реальностью и моралью власти делает это иначе2.
Таким образом, американцы унаследовали риторические
и понятийные структуры, не оставлявшие сомнения в том, что
коррумпированность государственных чиновников, развитие
военно-промышленного комплекса, зависимость отдельных людей
друг от друга и их одномерность можно определить в
категориях, чья преемственность в отношении описаний коррупции
ι. См.: PocockJ.G.A. Politics, Language and Time (chap. 6: Burke and the Ancient
Constitution: A Problem in the History of Ideas).
2. Спиро Агню (1918-1996) — вице-президент в администрации Ричарда
Никсона, Джон Эрлихман (1918-!99б) — советник президента
Никсона по внутренней политике — участники Уотергейтского скандала.—
Прим. ред.
761
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
в классической теории очевидна и к которым последовательно
прибегали представители гражданского гуманизма,
порицавшие Цезаря и Лоренцо де Медичи, Мальборо, Уолпола и
Гамильтона. Этот язык во многом по-прежнему отвечает целям,
для достижения которых он первоначально употреблялся;
аргумент против модерной гипертрофии мэдисоновской политики
регулирования может быть сформулирован и на деле хорошо
формулируется в терминах парадигмы, содержащейся в
анализе коррупции у Гвиччардини; но историк способен заметить,
что он одновременно служит увековечиванию единственного
в своем роде образца раннемодерных ценностей и установок
в американской культуре. Культ древних спартанцев и римлян
у французских революционеров помогал убеждаться в
деспотизме добродетели посредством террора1, немецкий идеализм
вновь заявлял о конфликте между моральными
ценностями и историей, который снимается в разуме как разрешении
исторических противоречий в самом себе8, а британцы
разрабатывали идеологию административной реформы,
стремившейся— вопреки противоположной и в целом победоносной
позиции Бёрка — превратить историю в точную науку3. В то же
время в уникальных условиях республики континентальных
масштабов и ее роста сохранялись присущий Августинской
эпохе конфликт между добродетелью и коммерцией,
характерный для пуританизма конфликт между избранничеством и
отступничеством, макиавеллиевский спор между добродетелью
и экспансией и в целом свойственная гуманизму дилемма
деятельной гражданской жизни и секулярного времени, в котором
она неизбежно протекает. Отсюда происходит настойчивость
мессианского и пессимистичного взгляда на историю в
Америке, отсюда же отчасти — то любопытное явление, что даже
самые постмодерные и постиндустриальные общества в какой-то
мере продолжают лелеять домодерные и антииндустриальные
ценности, символы и формы правления, страдая от сознания
расхождения между практикой и моралью.
Как мы знаем, Гегель говорил о современных ему
Соединенных Штатах: хотя они являются значимой и
развивающейся политической культурой, в них пока нет ничего, что
1. Parker H. Т. The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries: A Study
in the Development of the Revolutionary Spirit. Chicago, 1937.
2. Kelly G.A. Idealism, Politics and History: Sources of Hegelian Thought.
Cambridge, 1969.
3. Brinton C. English Political Thought in the Nineteenth Century. New York, 1962.
762
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
позволяло бы определить их как «государство». Тем не менее,
предвосхищая гипотезу Тернера, он объяснил отсутствие
классовых конфликтов открытием предохранительного клапана
фронтира и предсказал: когда страна будет заселена,
начнется урбанизация, появится постоянная армия и классовые
конфликты, потребуется настоящее «государство» и начнет
действовать диалектика истории, как он ее понимал1. Это пророчество
легко перевести на язык марксизма, но оно, как известно, еще
ждет своего исполнения. Классовые конфликты в
классическом марксистском понимании в Америке развиваются еще
медленнее, чем в других прогрессивных индустриальных
обществах, и если считать Герберта Маркузе наиболее видным
марксистским теоретиком, работающим с американским
материалом, то его марксизм можно назвать постиндустриальным,
романтическим и пессимистическим. Дело не в том, что
самодовольный локковский либерализм заставил американскую
мысль заявить об излишней простоте конфликта между
личностью и историей, а в том, что это противоречие выражалось
и продолжает выражаться в домодерных и доиндустриальных
категориях, так никогда и не отлившись в строгую
гегелевскую и марксовскую диалектику исторического конфликта.
Гегельянцы из Сент-Луиса, как продемонстрировали недавние
исследования, исповедовали романтическую идеологию
урбанистического фронтира, расширяющего горизонты сознания,
наследуя геополитическому мессианству, о котором говорят
Тьювсон и Смит2; пришедшие же им на смену более
академические философы гегелевского толка и вовсе никогда не были
идеологами. Метаистория Америки всегда оставалась
риторикой бегства и возвращения в пространственной плоскости, так
и не став риторикой диалектического процесса.
В терминах, заимствованных из языка Ханны Арендт или
подсказанных им3, эта книга рассказывает часть истории
возрождения на раннем современном Западе античного идеала homo
politicus (zôon politikon Аристотеля), который утверждается в сво-
1. Hegel G.W. F. Lectures on the Philosophy of History / Transi, by J. Sibree.
New York, 1900. P. 85-87; Гегель Г. В. Φ. Сочинения. T. VIII: Философия
истории / Пер. A.M. Водена. M.; Л., 1935. С. 77_83-
2. The American Hegelians: An Intellectual Episode in the History of Western
America / Ed. by W.H. Goetzmann. New York, 1973.
3. Arendt H. The Human Condition. New York, 1958 (пер. немецкого издания
книги Арендт см.: Аренды X. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер.
В.В. Бибихина. СПб., 200о); Fuss P. Hannah Arendt's Conception of Political
Community // Idealistic Studies. 1973. Vol. 3. № 3. P. 252-265.
763
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
ем бытии и добродетели посредством политического действия;
его ближайший родственник — homo rhetor*, а антагонист — homo
credent христианской веры. Проследив развитие этой дискуссии
в истоках модерной истористской социологии, мы пришли к
изучению характерного для XVIII столетия сложного
конфликта между homo politicus и homo mercator3, который, как мы
видели, являлся разновидностью, а не предком — по крайней мере
в том, что касается истории его социального восприятия,—homo
creditor4. Последний определялся своей неспособностью
отвечать критериям, заданным homo politicus, и попытки построить
буржуазную идеологию в XVIII веке не смогли успешно
оспорить признанного превосходства гражданской идеологии. Даже
в Америке либеральная трудовая этика исторически оказалась
сопряжена с чувством вины, связанной с неспособностью
сформулировать для себя добродетель, которая могла бы спасти ее от
коррупции; превращение Даниэля Буна в Вилли Ломана5
является непрерывным и постоянным падением. Однако в истории
американской трудовой этики не хватает одной фигуры из
созданной Арендт галереи: homo faber6 европейской идеалистической
и социалистической традиций, призванного перекинуть мост
между мифами буржуазии и пролетариата. Связь этой фигуры
с европейской полемикой о добродетели и коммерции пока еще
недостаточно ясна. Впрочем, поскольку в Америке
промышленный труд покорял первозданную местность, а не
преобразовывал прежний сельскохозяйственный ландшафт, homo faber на
этом континенте скорее покоряет пространство, чем преобразует
историю, а американские рабочие в гораздо меньшей степени,
нежели европейские, были склонны считать себя истинными
пролетариями. Поэтому этос историцистского социализма
привнесен сюда пустившими корни в новой почве
интеллектуалами (даже мученик Джо Хилл заявил, что «жил как поэт и умрет
как поэт») и во многом оставался в подчинении у мессианского
популизма «движения на запад».
Конфликт между гражданской добродетелью и секулярным
временем служил одним из главных источников западного
1. Человек ораторствующий, вития (лат.). — Прим. ред.
2. Человек верующий (лат). — Прим. ред.
3- Человек торгующий, торговец (лат.). — Прим. ред.
4- Человек, дающий в долг, кредитор (лат).—Прим. ред.
5- Даниэль Бун — легендарный американский пионер, егерь и герой
освоения Фронтира. Вилли Ломан — неудачливый главный герой пьесы
Артура Миллера «Смерть коммивояжера» (i949)·—Прим. ред.
6. Человек творящий (лат). — Прим. ред.
764
КОРРУПЦИЯ, КОНСТИТУЦИЯ И ФРОНТИР
осмысления историчности человека; но в то же время
постоянное воспроизводство этого конфликта — во многом
связанное с заботой о моральной устойчивости человеческой
личности,— способствовало утверждению домодерного взгляда на
историю как на отход от норм, определяющих устойчивость
добродетели, а значит, как на неизбежно лишенную созидатель-
ности энтропию, если только она не приводит к
Тысячелетнему Царству или к утопии. Когда мы говорим об историзме, мы
имеем в виду как попытку вовлечь личность и ее моральную
целостность в движение истории, так и стремление изобразить
историю как порождающую новые нормы и ценности.
Основополагающая сила историзма заключается — или заключалась,
поскольку астронавты и экологи работают над тем, чтобы
снова замкнуть круг, — в ощущении секулярной творческой силы
истории, ее прогрессивной способности вызывать
непрерывные качественные преобразования в жизни человека; но
парадокс американской мысли — а также сущность мысли
социалистической — заключается в постоянной моральной критике
того, как это происходит. С одной стороны, гражданский
идеал добродетельной личности, не испорченной специализацией
и преданной социальному целому во всем его многообразии,
сформировал важный компонент марксистского идеала той же
личности как ожидающей искупления от отчуждающих
эффектов специализации1. С другой стороны, социалистические и
революционные устремления часто оборачивались неудачей по
той — среди прочих — причине, что грозили «заставить людей
быть свободными», вовлечь их в историю или в политическую
и историческую деятельность без их согласия. Консерватизм
предполагает отрицание активизма, того, что сфера vita activa
совпадает с пространством общественной жизни. На этом
этапе наше исследование конфликта между добродетелью и
коммерцией может внести свой вклад в консервативную графу
книги бухгалтерского учета, которая позволяет без ущерба
закончить историю, завершившуюся в глубоко
контрреволюционный момент времени.
В конечном счете идеал добродетели весьма навязчив; он
требует от человека участвовать в res publica, угрожая его
моральному бытию, а когда само существование республики во
времени находится в опасности, то он вынуждает
индивида участвовать и в истории. Мы обнаружили области мысли
I. Рососк J. G.A. Politics, Language and Time. P. 103.
7б5
ГЛАВА XV. АМЕРИКАНИЗАЦИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ
XVIII века, где частичный отказ от гражданской жизни в
пользу коммерции означал бунт против добродетели и ее
репрессивных претензий; республика требовала от человека
слишком многого, ожидая от него аскезы и автономии, участия
и добродетели, в то время как коммерция и искусства,
разнообразившие жизнь, предлагали ему мир Перикла вместо мира
Ликурга, выбор которого стоило оплатить частичным
принятием коррупции. «Либерализм», который некоторые теперь
связывают с обеднением, тогда не казался таковым. Однако
уже было известно, что большое разнообразие для одних
оборачивалось узкой специализацией для других, и
социалистическая традиция продолжала бороться с поляризацией
богатства и нищеты в этой форме.
Если отступить еще немного назад, станет ясно, что
первенство политики — и идеала гражданской добродетели, уже
несущего в себе классическую амбивалентность
справедливости и войны, добродетели и virtù,— в мысли раннего
модерна проявилось в виде христианской ереси. В мире, который
определялся мыслью civitas Dei Августина, это означало, что
человеческая природа оказывалась политической и могла быть
усовершенствована в рамках исторически конечного действия;
и амбивалентность saeculum, вновь возникшая таким образом,
остается двусмысленностью человеческого действия в истории.
Для христианина первенство политики возможно только при
кощунственном допущении, что некоторые civitas saecularis1
являются civitas Dei. Древний грек рассуждал бы еще проще; ему
показалось бы, что каждая человеческая добродетель имеет свою
чрезмерную форму [hubris], и эта гражданская или
политическая добродетель не стала исключением. Существует свобода
отвергать моральные абсолюты, пусть даже речь идет о полисе
и истории — или даже о самой свободе, когда нам предлагают
видеть в ней абсолют.
I. Мирские общины (лат.). — Прим. ред.
Послесловие
ι.
У этой книги, вышедшей в 1975 году, оказалось достаточно
читателей, чтобы обосновать ее переиздание. Как следствие,
необходимости в новом предисловии не возникло. Текст,
завершенный в 1975 Г°ДУ> способен сам говорить за себя, и попытка
приспособить его к требованиям новой эпохи привела бы лишь
к ненужной путанице. Однако теперь, когда в 2003 году новые
читатели получили возможность ознакомиться с моим трудом
и составить о нем собственное мнение, возможно, было бы
интересно и даже ценно, если бы я рассказал, как его восприняли,
какую полемику он вызвал и какое значение книга имеет для
автора через тридцать лет после появления ее замысла. (Я
начал писать ее в Университете Кентербери в Новой Зеландии,
закончил в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, а
опубликована она была уже после моего перехода в Университет
Джонса Хопкинса в 1974 году.)
Заглавие «Момент Макиавелли», как я уже писал в
предисловии, предложено моим другом Квентином Скиннером еще
до того, как он стал профессором политических наук или
профессором королевской кафедры истории в Кембриджском
университете, и до того, как он принял участие в исторических
и философских спорах, позднее разгоревшихся вокруг книги.
Подобно двухтомнику Скиннера «Истоки современной
политической мысли» (The Foundations of Modern Political Thought),
изданному в 1978 году1, «Момент Макиавелли» задумывался
как попытка продемонстрировать исторический метод,
который приписывается «Кембриджской школе». О ней
существует обширный корпус методологической и теоретической
I. Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought: Vol. I, The
Renaissance; Vol. II, The Reformation. Cambridge, 1978 (Скиннер К. Истоки
современной политической мысли: В 2 т. Т. ι: Эпоха Ренессанса; Т. 2:
Эпоха Реформации / Пер. А. Олейникова и А. Яковлева. Μ., 2θΐ8).
Работы, изданные после 1975 года и фигурирующие в сносках к этому
послесловию, не учтены в библиографии этого издания, которая
публикуется в том же виде, что и в 1975 Г°ДУ- На работы, указанные в
библиографии, ссылки здесь не приводятся.
767
ПОСЛЕСЛОВИЕ
литературы1, к которому я сейчас мало что могу добавить,
разве только, пожалуй, замечу, что, хотя эта «школа»
ассоциируется со стремлением поместить тексты в тот контекст, в
котором они написаны, в «Моменте Макиавелли», кроме того,
прослеживаются судьбы текстов и дискурсы, которые они, как
можно предположить, порождают при переходе из одного
контекста в другой по ходу движения истории от XVI столетия
к XVII 1-му, от Флоренции к Англии, Шотландии и Америке
эпохи Войны за независимость. Кто-то назвал бы это
«историей идей», но ни сам термин, ни его коннотации, на мой
взгляд, не передают адекватно сути того, чем я занимался
и занимаюсь; в этой книге исследуется история как в
диахроническом, так и в синхроническом срезе.
Как следствие, слово «момент», изначально предложенное
Скиннером, приобрело несколько смыслов, хотя и
необязательно тех, что имел в виду он. «Момент» может относиться — как
я писал в предисловии к первому изданию — к историческому
«моменту», когда Макиавелли появился на сцене и изменил
структуру политической мысли, или к одному из двух
идеальных «моментов», описанных в его произведениях: когда
представляется возможным становление или основание
«республики» или когда процесс становления связывается с
ощущением непрочности и предчувствием кризиса в истории,
к которому он принадлежит. Я полагаю, что эти два
момента неразрывно связаны между собой; «момент Макиавелли»
возникает тогда, когда республика оказывается вовлеченной
в исторические конфликты или противоречия, которые она
порождает или с которыми сталкивается. Я стремлюсь
показать, что политическая мысль раннего модерна в значительной
I. Наиболее подробный анализ: Meaning and Context: Quentin Skinner and
His Critics / Ed. by J. Tully. Princeton, 1988. Трехтомное издание статей
Скиннера (Skinner Q. Visions of Politics. Cambridge, 2002) вышло уже после
написания этого текста. Сам я не публиковал подробных
методологических исследований с 1987 года; см.: Рососк J. G.A. Introduction: the
State of the Art // Рососк J. G.A. Virtue, Commerce' and History. Cambridge,
1985. P. 1-36 (Ποκοκ Дж. The State of the Art (Введение к книге
«Добродетель, торговля и история») / Пер. А. Бондаренко и У. Климовой под
ред. Е.С. Островской // Кембриджская школа: теория и практика
интеллектуальной истории. M., 20i8. С. 142-188); Idem. The Concept of
Language and the Metier d'Historien: Some Considerations on Practice // The
Language of Political Theory in Early Modern Europe / Ed. by A. Pagden.
Cambridge, 1978. P. 19-40; Idem. Texts as Events: Reflections on the History
of Political Thought // Politics of Discourse: The Literature and History of
Seventeenth-Century England / Ed. by K. Sharpe and S.N. Zwicker. Berkeley,
1987. P. 21-34.
768
ПОСЛЕСЛОВИЕ
мере, хотя и не полностью, была переживанием и
выражением этого «момента».
Таким образом, в книге рассмотрена сложная и иногда
противоречивая история, включающая в себя не только конфликты
и взаимодействие между враждующими системами убеждений,
но также внутренние противоречия и рефлексию,
свойственные им самим. Она написана сложным языком и содержит
множество отступлений, поэтому читать ее непросто; в свое
оправдание могу сказать лишь, что ее сюжет не был задуман
как легкий для восприятия; пытаться прояснить его означает
скорее указать на его сложность, а не стараться упростить.
Однако причиной споров, вызванных этой книгой, часто (не
скажу — всегда) являлось не просто замешательство, а
нежелание согласиться с ее базовой предпосылкой:
присутствием «республиканских» ценностей в истории раннего модерна
и их постоянного конфликта с другими ценностями, которым
они иногда противопоставлялись или с которыми заключали
вынужденный союз. Некоторым историкам, ряду политологов
и многим из тех, кто изучает «либеральные» или
«американские» ценности, «республиканское» толкование гражданской
жизни казалось слишком неудобным, и они пытались
оттеснить его на второй план. Поэтому критика моей собственной
работы во многом объяснялась стремлением указать, что я
приписываю «республиканизму» большее значение, чем он на
самом деле имел, и продемонстрировать, что его роль была
менее значимой, нежели та, которую я, как предполагается, ему
приписываю. Некоторые из этих критических высказываний
неизбежно оказывались расплывчатыми и беспорядочными;
критически настроенному читателю — которому автор,
разумеется, всегда рад — следует напомнить, что не любая
критика одинаково хороша, и автор вправе ожидать от него ясного
понимания того, что он хочет сказать.
Многие ценные для меня наблюдения о «Моменте
Макиавелли»— подчеркну, что имелось много откликов, к которым
не относится озвученная выше отповедь, — исходили
главным образом из параллели между этой книгой и «Кризисом
раннего итальянского Ренессанса» (The Crisis of the Early Italian
Renaissance) Ханса Барона (а позже и с «Идеологическими
истоками Американской революции» [The Ideological Origins of the
American Revolution] Бернарда Бейлина). Я многому научился у
Барона, хотя и не всегда разделял его точку зрения. В частности,
я не видел необходимости соглашаться с его утверждением, что
769
ПОСЛЕСЛОВИЕ
флорентийские гуманисты внезапно осознали тождество
свободы и деятельной гражданской жизни в ходе кризиса,
вызванного войной против Джан Галеаццо Висконти в 1400-1402
годах; я помню, хотя документальных свидетельств у меня не
сохранилось, как в единственном письме, полученном мною от
покойного профессора Барона, он выразил недовольство, что
я не придерживался той хронологической модели, с помощью
которой он старался показать, как тексты гуманистов на тот
момент выражали эти изменения. Мне достаточно было
сказать: идею деятельной гражданской жизни сформулировали
флорентийские мыслители, в ее основе лежал аристотелевский
идеал zôon politikon, и она стала отождествляться с обладанием
гражданами оружия. Затем я уже мог, как и Барон, далеко
выходя за пределы рассматриваемой им проблематики, показать,
как история Рима, Флоренции, Англии, Европы и
гражданского общества в целом переписывалась с точки зрения расцвета
и упадка народного ополчения и активной гражданской жизни.
Макиавелли — почему и возник такой феномен, как «момент
Макиавелли», — был уверен, что только вооруженный
гражданин являлся по-настоящему свободным, но при этом
необязательно добрым человеком. Римская история служила
иллюстрацией того, как этот гражданин пользовался своей свободой,
чтобы добиться власти над другими, но эта власть развращала
его, так что он терял сначала свободу, а потом и власть.
Леонардо Бруни, а столетие спустя и Макиавелли размышляли
над тем, могла ли римская история складываться как-то
иначе, но Макиавелли пришел к выводу, что она не могла и,
вероятно, не должна была пойти другим путем. Свобода остается
свободой, даже если ее нельзя отделить от империи. Именно
в этом отношении «Момент Макиавелли» соприкасается с
работами сэра Исайи Берлина, от которых этот «момент» нельзя
отделить, пусть меня не всегда удовлетворяли содержащиеся
в них исторические нарративы. В ряде значимых эссе — с
некоторыми из них я познакомился до завершения своей
книги, а с некоторыми после — Берлин утверждал, во-первых, что
Макиавелли изобразил политическую жизнь как
столкновение с различными системами ценностей, которые нельзя до
конца примирить между собой; во-вторых, что политическая
философия должна существовать до тех пор, пока приходится
считаться с этими расхождениями; в-третьих, что есть два
понимания свободы — позитивное, предполагающее стремление
к самостоятельным решениям и взаимодействие с другими
770
ПОСЛЕСЛОВИЕ
личностями, которым свойственно то же стремление, и
негативное, предполагающее лишь свободу от препятствий,
мешающих участвовать в жизни общества, где соприкосновение
с другими личностями менялось и осуществлялось в рамках,
заданных законом, правлением и культурой1. Именно на
основании последней посылки друг другу противопоставлялись
«республиканское» и «либеральное», «древнее» и «современное»
понимания «свободы». «Момент Макиавелли», на мой взгляд,
также посвящен противоречиям между членами этих
оппозиций, чья история, возможно, продолжается до сих пор и еще
не пришла к окончательной развязке.
Наиболее ценные критические замечания в адрес тезисов
Ханса Барона и моих утверждений, зависящих от них,
несколькими годами позже высказал Квентин Скиннер в «Истоках
современной политической мысли»2. И работы Барона, и мои
собственные труды можно понять так, что флорентийская
теория деятельной гражданской жизни стала первым выражением
республиканских ценностей после переживавшей возрождение
литературы Древнего Рима; конечно, Барон прямо
противопоставлял ее средневековой концепции священной империи,
которая, как он полагал, веками не имела конкурентов.
Однако Скиннер указал, что риторика гражданской
добродетели, республиканской гражданской жизни и хорошего
правления существовала по меньшей мере с середины XII века; эту
форму власти упоминал около 1154 года историк Оттон Фрей-
зингенский, замечая, что для читателей к северу от Альп она
потребует разъяснений. Здесь предлагалось представление
о гражданской жизни, которое не было учтено ни в «Кризисе
раннего итальянского Ренессанса», ни в «Моменте
Макиавелли», и Скиннер увидел в тексте Оттона «истоки современной
ι. Berlin I. The Originality of Machiavelli // Studies on Machiavelli / Ed. by
M.P. Gilmore. P. 147-206; Idem. Does Political Theory Still Exist? // Philosophy,
Politics and Society: Second Series / Ed. by P. Laslett and W.G. Runciman.
Oxford, 1962. P. 1-33; Idem. Two Concepts of Liberty // Berlin I. Four Essays
on Liberty. London, 1969. Все они были посмертно переизданы — см.:
Isaiah Berlin: The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays / Ed.
by H. Hardy and R. Hausheer. New York, 1998, где можно найти и более
полную библиографию (см. рус. переводы: Берлин И. Оригинальность
Макиавелли / Пер. В. Сапова, А. Толмача // Человек. 2θθΐ. № 2-4;
Он же. Два понимания свободы / Пер. Л. Седова // Берлин И.
Философия свободы. Европа. M., 2001. С. 123-186).
2. Skinner (λ Foundations of Modern Political Thought. Vol. I: The Renaissance.
P. XIV, 27-28, 42-48, 156 (см. в целом: chap. 4); Скиннер К. Истоки
современной политической мысли. Т. ι. С. 23-25.
771
ПОСЛЕСЛОВИЕ
политической мысли»1. В противоположность тому, о чем я
писал в своей книге, он подчеркивал, что язык, на котором
выражена эта концепция гражданской жизни, принадлежал не
столько Аристотелю, сколько Цицерону, — чрезвычайно
важное в теоретическом плане различие. Из «Политики»
Аристотеля— текста хорошо известного с конца XIII века — я для
иллюстрации отобрал фрагменты, где граждане определены
как политические существа, ибо они управляют и сами
подчиняются власти, участвуя в высшей форме правления,
предполагающей управление равными, решения которых
налагают определенные обязательства на носителя власти, как и его
решения — на них, потому что все они равны в их принятии.
Как читатель уже, несомненно, знает, в этом равенстве каждого
с каждым я видел предполагаемый источник всей гражданской
добродетели, а в его утрате — прямую или косвенную причину
всего, что стало известно под именем «коррупция». Что из
текста «Политики» могли извлекаться и извлекались еще многие
другие смыслы, не представляло для меня непосредственного
интереса, и я отверг довод некоторых критиков, что, упомянув
Аристотеля, я обязан дать систематический обзор его теорий
и их средневековых трактовок в целом. Политические тексты
необязательно действуют в истории именно таким образом.
Поставив на место Аристотеля Цицерона, Скиннер выдвинул
несколько важных гипотез. Во-первых, он полагал — теперь бы
я сказал, справедливо, — что я в своей истории гражданского
дискурса должен был больше учитывать историю концепций,
выдвинутых римскими авторами разных периодов, а не
только более поздно сложившийся канон истории политической
мысли; римляне не афиняне, и не следовало воспринимать их
лишь как продолжателей этой культуры. Во-вторых, что
гораздо важнее, Цицерон — особенно каким его видели гуманисты
эпохи Возрождения — был ритором, философом, до некоторой
степени юристом и носителем античной культуры во всей ее
полноте. Поэтому у него имелись основания, отсутствовавшие
у Макиавелли, толковать гражданскую жизнь как приобщение
ко всем социальным и культурным ценностям, к созданию
которых способен человек, как деятельность, с которой часто
и обоснованно ассоциируют понятие «гуманизм». Меня в
данном случае не интересует, означает ли это, что «Цицеронов»
I. Skinner Q. Foundations of Modern Political Thought. Vol. I. P. 4-5 (Скиннер К.
Истоки современной политической мысли. Т. ι. С. 23).
772
ПОСЛЕСЛОВИЕ
дискурс XII и XIII веков в полной мере предвосхитил
«гражданский гуманизм» и республиканскую «свободу», воплощением
которых Ханс Барон считал Флоренцию XV столетия; я лишь
хочу сказать, что XIII век не предвосхищает и не воплощает
в себе того, что я имел в виду, говоря о «моменте Макиавелли»,
и того, что в идеях последнего дало мне для этого основание.
В работе, озаглавленной этим словосочетанием,
рассматривается virtus, как его понимали римляне, и virtù — тосканское
слово, которое Макиавелли употреблял, отсылая к его
аналогичному смыслу. Оно означает способность человека к
действию, в том числе в политической и военной сфере. О virtù
можно говорить и тогда, когда эта способность не сдерживается
никакими нравственными или политическими
ограничениями, вот почему Макиавелли писал о virtù правителя, который
действовал незаконно. Но для римлян virtus служила качеством
гражданина, и они полагали, что она проявляется не только
в общественной дисциплине, но и в ее религиозном
почитании в качестве блага как такового. Именно эту virtù, как
называл ее Макиавелли, римляне некогда имели, а затем утратили.
Она являлась одновременно глубоко публичной и личностной,
и в понятие «гражданского гуманизма» она вписывается
потому, что определяла личностную автономию гражданина как
его непосредственную способность к общественному действию;
без одного не было бы и другого. Коррупция возникала
тогда, когда гражданин терял автономию и становился орудием
в руках хозяина или когда он использовал свою автономию
в иных, не связанных с обществом целях, в результате чего
он сам мог превратиться в хозяина или в слугу.
Если говорить о Греции, идеал virtus в большей степени
присущ Спарте, чем Афинам. Лишь в XIX столетии речь Перикла
над могилами воинов, в которой утверждалось, что афиняне
способны в действиях или играх преследовать самые
различные цели и блага, но при этом сохранять преданность общему
благу, стала священным текстом либеральной культуры.
Однако нам необязательно видеть в римлянах спартанцев — хотя
это и несложно, — дабы понять, что перед нами резкая, если не
абсолютная граница между политическим и социальным или
культурным. Политическое связано с действием и решением,
которые сами по себе благо и стремясь к которым субъект
заявляет, кем и чем он является; действия и решения, имеющие
своей целью меньшие блага, по сути своей ближе к
удовольствиям, а политическому устройству или человеку, охваченным
773
ПОСЛЕСЛОВИЕ
стремлением к удовольствию, можно приписать «любовь к
роскоши» или «изнеженность». Цицероновский идеал, относимый
Скиннером к XIII веку, не заслуживает таких характеристик
и может предполагать значительную долю аскезы. При этом он
ориентирован на все блага, к созданию которых способно
человеческое общество, а основанные на нем решения направлены
на их справедливое распределение. Таким образом, для него
скорее важна справедливость — понятие, красноречиво
отсутствующее в лексиконе Макиавелли, хотя последнего нельзя
обвинить в том, что он не знал или не размышлял о нем, — а не
virtus, суровая самодисциплина, необходимая для автономии
и самоопределения в сфере общественной деятельности.
Здесь мы встречаемся — хотя пока на очень большом
расстоянии— с различиями между двумя пониманиями
свободы по Исайе Берлину, но в то же время — с несходством двух
нетождественных форм политического дискурса. Virtus, хотя
и подразумевает общественную дисциплину и деятельность
в обществе, должна проявляться в действиях и личности
одного человека, в то время как справедливость, хотя и может
практиковаться как черта характера и качество отдельной
личности, в значительной мере предписывается человеку судьей,
правителем или законами, выразителями которой они
являются. Поэтому в virtus есть нечто примитивное; это качество,
которое вырабатывает в себе герой, только что ставший
гражданином и принявший дисциплину зачастую воинственного
сообщества. Справедливость же может предполагать — хотя
философы оспаривают эту связь — изобилие, характерное для
общества, экономики и культуры, которые открывают
множество возможностей деятельности и бытия, множество способов
делать то, что хочется, и множество способов быть тем, чем
человек стремится б»ыть; вопрос в том, выступает ли человек
в своем стремлении к справедливости всегда в одной и той же
роли или как одна и та же личность. Хорошо это или плохо,
гражданин в примитивном обществе меньше подвержен
сомнениям, связанным с попыткой ответить на этот вопрос.
В поздней греческой и латинской литературе, которой были
одержимы европейцы, — особенно у Саллюстия, автора,
которому в «Моменте Макиавелли» можно было бы уделить
больше внимания, — республика изображалась как вместилище
libertas, дававшей выход энергии, virtus знати и народа,
которые подавлялись властью царей. Virtus воплощалась в Imperium,
под которым подразумевалась либо власть магистрата или
774
ПОСЛЕСЛОВИЕ
военачальника, либо империя самой республики; как считалось,
libertas предполагает и войну, и покорение других народов.
Империя развратила людей, но даже если бы она этого не
сделала, сам ее размах требовал передачи как libertas, так и Imperium
в руки одного princeps. Можно сказать, что это и был исходный
«Момент Макиавелли»: свободная республика поставила перед
собой проблемы, которые, возможно, оказалась не способна
решить. После утверждения власти государя или императора
мысль могла развиваться в одном из двух направлений — или
в обоих. Можно было утверждать, что libertas и virtus утрачены
и люди теперь живут в подчинении системе, где они лишены
возможности определять себя; или же можно было утверждать,
что они оказались в пространстве всеобщего мира, ойкумены
или империи, где могли свободно выбирать между
бесчисленными типами деятельности, гарантированными им высшим
магистратом и законами, в составлении которых им не
требовалось участвовать самим. На смену libertas et Imperium
пришла империя закона, на смену свободе действовать — свобода
от несправедливости со стороны других людей.
Политическая мысль, теория или философия —
пронизанная правом, как это всегда было в истории — составляет, если
упрощать, идеологию либеральной империи; что пришло к нам
от республики — другой вопрос. Историография — здесь я имею
в виду создание больших исторических нарративов —
развивалась в двух различных направлениях: одно описывало
превращение республики в империю, другое полагало, что libertas
и Imperium неразделимы и одновременно взаиморазрушительны.
В ходе моего исследования топосов Упадка и Падения и
работы над этим послесловием1 я пришел к выводу: хотя сам
Цицерон являлся мучеником за республику, погибшим вместе
с ней, «цицероновский» идеал гражданской жизни, признаки
которого Скиннер усмотрел в XIII столетии, вполне
совместим с предположением, что гражданские добродетели можно
проявлять при власти закона и справедливом государе. Так,
Август, Траян или Юстиниан правили свободными людьми
в том смысле, что существовала власть закона, к которому
те могли обращаться за защитой. Однако флорентийцы два
века спустя, как полагал Ханс Барон, имели основание
утверждать, что при цезарях libertas исчезла, из-за чего правители
I. Рососк J.G.A. Barbarism and Religion. Vol. Ill: The First Decline and Fall.
Cambridge, 2003.
775
ПОСЛЕСЛОВИЕ
превратились в тиранов и чудовищ, а граждане уже не
обладали virtus, необходимым для защиты империи, которую он
помог им завоевать, от варваров1.
Эти два нарратива — первый из которых гораздо лучше, чем
второй, сочетается с юриспруденцией и философией,
сформировавших, как мы полагаем, «историю политической мысли»
в Европе раннего Нового времени, — строятся на двух
понятиях свободы, приблизительно напоминающих «негативный»
и «позитивный» полюсы, описанные Берлином: свободу,
которую защищают, и свободу, которую утверждают. Конечно,
можно утверждать свободу защищать самого себя, и, возможно,
в этом ключ к истории демократического либерализма.
Отношения между двумя противоположными концепциями в истории
политического и теоретического дискурса чрезвычайно
сложны2, но, чтобы понять эту историю, надо осознать
кардинальные различия между ними. Через десять лет после
«Момента Макиавелли» я издал отдельной книгой статью, в которой
утверждал, что понятия «права» и «добродетели» несводимы
к своему общепринятому значению3. В ответ Ричард Так
недавно предостерег, что «неубедительно» и «ошибочно» «резко
разграничивать», как, по его мнению, сделал я, «гуманистов
и юристов»4. Действительно, было бы высшим заблуждением
1. В этом отношении — в том, что касается понимания высшей власти как
упадка, — я провожу более четкую границу между гуманистами
Кватроченто и Треченто, чем, например, Скиннер в своей работе: Skinner Q.
Foundations of Modern Political Thought. Vol. I: The Renaissance. P. 54-56
(Скиннер К. Истоки современной политической мысли. Т. I. С. 101-105).
Упадок римской свободы, каким его представляли себе авторы более
ранних эпох, нельзя назвать несовместимым с ее возрождением в
священной империи, как его видели гибеллины, или под
покровительством папы, как писали гвельфы. Бруни более решительно порывает
с обеими этими традициями; у Макиавелли это уже окончательный
разрыв.
2. Список недавних работ по политической теории и историографии,
где поднимается этот вопрос, очень обширен, и я не буду пытаться
перечислить их здесь. Впрочем, см.: Skinner Q. Liberty Before Liberalism.
Cambridge, 1997 (рус. перевод: Скиннер К. Свобода до либерализма / Пер.
A.B. Магуна. СПб., 20об).
3- PocockJ.G.A. Virtues, Rights and Manners: A Model for Historians of Political
Thought // Political Theory. 1981. Vol. IX. № 3. P. 353-368. Переиздание
см.: Idem. Virtue, Commerce and History. P. 37-50.
4. Tuck R. The Rights of War and Peace: Political Thought and the International
Order from Grotius to Kant. New York, 1999. Во фрагменте, о котором
он говорит, использовано понятие «гражданский гуманизм», которое,
насколько бы точным ни было его употребление, не означает
«гуманизм» во всех его проявлениях. Затем Так определяет «гуманизм» как
это наиболее отвечает его точке зрения, то есть как гуманизм юристов.
776
ПОСЛЕСЛОВИЕ
пытаться провести резкую границу между такими
обширными и неопределенными группами, которые пересекались между
собой и постоянно заимствовали нечто друг у друга, но я и не
пытался этого сделать. Я старался провести резкую границу
лишь между двумя концептуальными предпосылками:
между правом, на которое человек может претендовать (возможно,
потому что такова его природа), и добродетелью, которую он
должен найти в себе и выразить в действиях, осуществляемых
совместно с равными себе людьми. Первое из них, разумеется,
принадлежит языку юриспруденции, а также философии
морали, философии права и иногда философии истории,
сформировавшимся благодаря юриспруденции, тогда как второе чаще
встречается в повествованиях о гражданской жизни в
Античности, которые гуманисты изучали и на основании которых
создали повествования о расцвете и упадке систем гражданской
жизни в Греции и Риме. Эту границу нельзя назвать «резкой»,
так как эти два подхода постоянно пересекались и
взаимодействовали между собой, но о ней ни в коем случае не следует
забывать, если мы хотим понять возникавшие в ходе этого
взаимодействия оппозиции, значительную часть которых
составляют противоречия между «древним» и «современным»,
«позитивным» и «негативным» пониманиями свободы.
Эти общие различия можно соотнести с другим
различием — между двумя разновидностями текстов в жанре
политической мысли: между политической философией, в Средневековье
и Новое время тесно связанной с юриспруденцией и старавшейся
смотреть на человеческое общество как на комплекс действий,
регулируемых различными системами естественного и
позитивного права, и историографией, которая как направление
политической мысли проявляла заботу о системах, основанных на
античном понимании добродетели, и об их вытеснении в
Средневековье и Новое время системами, скорее близкими к тем,
которыми интересуются философы. Мои собственные работы,
такие как «Момент Макиавелли», «Добродетель, коммерция
и история» (Virtue, Commerce and History, 1985) и серия «Варварство
и религия» (Barbarism and Religion, с ig99 г°Да)> во многом
посвящены историографии «древнего» и «современного» как
направлению политической мысли. На мой взгляд, эта историография
Дональд Келли хорошо показывает, как этот гуманизм — «цивильный»
(«civil»), а не «гражданский» («civic») — сформировал понимание
истории: Kelley D.R. The Human Measure: Social Thought in the Western Legal
Tradition. Cambridge, Mass., 1990.
777
ПОСЛЕСЛОВИЕ
заключает в себе понятие свободы — но никоим образом не
сводится к нему, — укорененное в автономии личности. Оно
сталкивается с историческими проблемами, возникающими по мере
того, как взаимодействие между людьми в обществе, экономике
и культуре становятся все более сложными; а поскольку я
считаю, что «добродетель» и «право» не являются несовместимыми,
но что их нельзя привести к общему знаменателю, я склоняюсь
к точке зрения Берлина, полагавшего, что эти концепции
свободы не могут достигнуть сколько-нибудь устойчивого
примирения. Этот тип аргументации можно назвать философией
истории; но для меня это скорее направляющая формула, полезная
для понимания того, как складывался исторический нарратив
в Европе и Америке раннего Нового времени.
Мне кажется, Квентин Скиннер, противопоставляя
«цицероновские» модели гражданской жизни моделям откровенно
«макиавеллиевским», разработанным Бароном и мной,
стремится к реконструкции понятия республики как сообщества
граждан, регулируемого законом и справедливостью, но не
граждан, чья яростно состязательная (и экспансивная)
добродетель может регулировать или не регулировать себя
посредством установления дисциплины равенства (равенства власти,
отметим, а не равенства права). Эта тенденция, если я верно
ее определяю, должна привести Скиннера в его исследовании
истории республики как идеи назад — к контексту истории
юриспруденции и философии, в то время как совсем другая
историческая модель, предлагаемая Ричардом Таком (в которой
«цицероновские» понятия противопоставлены «тацитовским»,
а сам Макиавелли относится к «цицероновской» линии), явно
нацелена на отрицание того, что у понятия virtus есть какая-
то история, выходящая за рамки истории естественного права
и его вариантов1. Я признаю, что истории, описанные Скин-
нером и Таком, можно проследить как действительно
имевшие место; никто из нас не придерживается взгляда, что вся
история — вымысел; но я утверждаю, что описываю другую
историю, развитие которой можно проследить во
взаимодействии с теми историями, которые анализируют они, и которая
даже — о чем я еще скажу в этом послесловии — продолжается
вплоть до настоящего времени. Пока — и здесь я уже не говорю
I. Во введении к «The Rights of War and Peace» Так пересматривает другие
свои работы: Tuck R. Natural Rights Theories: Their Origin and Development.
New York, 1979; Idem. Philosophy and Government, 1572-1651. Cambridge,
1993·
778
ПОСЛЕСЛОВИЕ
о двух только что названных исследователях — среди
историков в целом и специалистов по истории политической мысли
в частности вызывает, даже по прошествии тридцати лет, скорее
нетерпимое отношение тот факт, что у понятия гражданской
добродетели, как оно представлено в «Моменте Макиавелли»,
есть своя история; ее существование постоянно стремятся
умалить или отвергнуть1. Иногда это объясняется предпочтением
«негативного» понимания свободы по Исайе Берлину
«позитивному», но гораздо чаще речь идет о проявлении эффектов
сложившейся парадигмы. История политической мысли так
давно и столь обоснованно описывалась в категориях тройного
суверенитета философии, теологии и юриспруденции, что
существует стойкое нежелание признавать четвертого участника
этого диалога. Кроме того, наблюдается сопряженная с первой
тенденция — с учетом того, что историки часто весьма
неуклюже владеют языком диалектического мышления, которым им
следовало бы владеть в совершенстве, — полагать, что
незнакомое и новое умаляет «значимость» хорошо известного и что
последнее надлежит защищать, умаляя «значимость» первого.
«Момент Макиавелли» надо читать как историю диалектики
республики и ее альтернатив.
II.
«Как, черт возьми, — вопрошал покойный Джек Хекстер в своей
рецензии на «Момент Макиавелли», написанной вскоре после
выхода книги, — именно республиканская мысль, а не что-то
еще, прижилась в первую очередь не где-нибудь, а в Англии?»2
Вопрос поставлен хорошо и сформулирован весьма
характерно. Он затрагивал целый ряд проблем, не в последнюю
очередь появление идеологии, сформировавшейся в итальянских
городах-республиках, в централизованных территориальных
и аграрных монархиях, которые историки называют
«государствами нового типа» и «национальными государствами». Мы
привыкли искать в европейской истории первые признаки
«современности», и Квентин Скиннер отнес их уже к XII веку,
когда Отгон Фрейзингенский описывал устройство итальянских
1. Из работ последнего времени см.: Renaissance Civic Humanism: Reflections
and Reappraisals / Ed. by J. Hankins. Cambridge, 2000.
2. HexterJ.H. On Historians. Cambridge, Mass., 1979. P. 288. Глава,
представляющая собой отзыв на «Момент Макиавелли» (Р. 255_3°3)»
первоначально появилась в издании: History and Theory. Vol. XVI (1977). P. 306-337.
779
ПОСЛЕСЛОВИЕ
городов для своих читателей в феодальных немецких землях.
Традиция считать Макиавелли первым «модерным»
политическим мыслителем упрочилась давно, по двум причинам: его
«республиканизм» решительно порывает со схоластическим
папизмом и империализмом, а его «макиавеллизм» служит
основанием для raison d'État в эпоху суверенных монархий. Я не
могу согласиться с этими утверждениями, и в лекции,
прочитанной непосредственно в дворце Синьории1, я отметил, что
«модерное» политическое мышление, как мы его называем,
появилось не раньше, чем начали возникать территориальные
монархии, о которых Макиавелли мало что было известно, по
итогам религиозных войн, до которых Макиавелли не дожил2.
С этой точки зрения первыми «модерными» теоретиками
следует считать приверженцев jus gentium и raison d'État, Гуго Гро-
ция и Томаса Гоббса. Думаю, Гоббса и Макиавелли разделяет
большее расстояние, чем представляется последователям Лео
Штрауса, и как бы философ более поздней эпохи ни
интересовался своим предшественником, я не вижу особого смысла
в утверждении, что Макиавелли был сторонником «модерного
естественного права», и у меня нет свидетельств о том, что
концептуальная схема естественного права когда-либо появлялась
в его текстах или в его голове. Когда сочинения Макиавелли
вышли из-под его контроля и ими стали заниматься
философы и юристы, то при их переводе правоведы могли
обнаружить для себя интеллектуальные вызовы, но именно здесь нам
пригодится четкое различие между гуманистами и юристами.
Я считаю Макиавелли — и он сам считал себя — мыслителем,
стремившимся к утверждению «древних» ценностей в «новых»
условиях3, и в этом ключ к парадоксу формирования
«республиканской» мысли в сердцевине монархии раннего модерна.
Проповедуемые им ценности были «древними» в полном смысле
1. 20 июня 1994 года по случаю передачи Нью-Йоркскому университету
вилл, некогда принадлежавших сэру Гарольду Эктону. Я выступал
в присутствии Антонио ди Пьетро, на тот момент лидера
магистратов, расследовавших коррупцию среди итальянского политического
класса, и кардинала-архиепископа Флоренции, который сказал мне,
что мои слова о Макиавелли вселяют надежду в будущее Италии.
Полагаю, его преосвященство и я очень хорошо поняли друг друга.
2. Лекция была опубликована: PocockJ.G.A. Machiavelli and the Rethinking
of History // II Pensiero Politico. 1994. Vol. XXVII. № 2. P. 215-230.
3. Idem. Machiavelli and Guicciardini: Ancients and Moderns // Canadian
Journal of Social and Political Theory. 1978. Vol. II. № 3. P. 93-109; Idem.
Machiavelli in the Liberal Cosmos // Political Theory. 1985. Vol. XIII. № 4.
P. 559-574·
780
ПОСЛЕСЛОВИЕ
этого слова. Можно сказать, что идеология virtus восходит к го-
плитской революции, относящейся приблизительно к VII веку
до Рождества Христова; она выражает досократический,
дохристианский и доюридический идеал воина-гражданина, и
попытки доказать, что «древние» ценности почерпнуты из
философии, а «новизна» Макиавелли заключалась в отходе от них1,
на мой взгляд, не имели успеха. Язык virtus — скорее
латинский, чем аттический; им пользовались великие римские
ораторы и историки от Цицерона до Тацита, подчеркивавшие, что
virtus угнетают ценности империи цезарей, а история
республиканского или антиреспубликанского мышления тесно связана
с историографией Упадка и Падения. Однако в данном случае
важно, что парадоксальное присутствие столь древних
ценностей в самой сердцевине раннего модерна — ключевая
особенность «момента Макиавелли». Части этой книги, следующие за
главами о Флоренции, посвящены спору «древних» и «новых»
в политической мысли барокко и Просвещения.
Хекстера вполне удовлетворило мое объяснение, каким
образом в Англии времен Тюдоров и Стюартов оказалось
возможным развитие идей деятельной гражданской жизни, но
последующие критики — Патрик Коллинсон и Маркку Пел-
тонен2 — без особого энтузиазма восприняли мое утверждение,
что нельзя вести речь о зрелом республиканизме до казни
короля в 1649 году- Я имел в виду, что лишь тогда английская
полития стала мыслиться как республика. Примеры,
приводимые Пелтоненом и другими, большей частью, на мой взгляд,
относятся к тацитизму — линии мысли, ставшей актуальной
ближе к концу XVI века. С одной стороны, она подразумевала
отказ подчиняться несовершенной монархии, а с другой —
являлась средством объяснить себе, в чем именно состоит ее
несовершенство3. Эта концепция, основанная на том, как Тацит
ι. Именно этот аргумент является центральным для работы Пола Рея:
Rahe P.A. Republics Ancient and Modern. Chapel Hill, 1992. См. также:
Mansfield H. С. Machiavelli's New Modes and Orders: A Study of the Discourses
on Livy. Ithaca, 1979; Idem. Machiavelli's Virtue. Chicago, 1996. Я считаю
Макиавелли радикальным сторонником «древних», а наиболее
интересный анализ его религиозной мысли я обнаружил в следующих
работах: De Grazia S. Machiavelli in Hell. Princeton, 1989; Parel A.J. The
Machiavellian Cosmos. New Haven, 1992.
2. Collinson P. De Republica Anglorum: Or History with the Politics Put Back.
Cambridge, 1990; Peltonen M. Classical Humanism and Republicanism in
English Political Thought, 1570-1640. Cambridge, 1995.
3. О тацитизме в его республиканском, монархическом и философском
проявлениях существует обширный корпус литературы. См.: Burke Р.
78ι
ПОСЛЕСЛОВИЕ
описывал замещение республики верховной властью,
содержала образ прежней свободы, но едва ли выходила за рамки
придворного республиканизма, дававшего возможность
недовольным представителям двора, советникам и магнатам
воображать себя сенаторами. Известно несколько планов заменить
монархию состоящими при ней совещательными органами,
а они по природе своей временны; Дэвид Норбрук указывал по
меньшей мере на одну такую группу, члены которой могли
самое позднее с начала первой Гражданской войны надеяться
избавиться от монархии и прибегали при этом к языку римского
поэта Лукана1. Чтобы об Англии начали думать как о
республике и возникла бы потребность в представлении о
деятельной гражданской жизни как основании этой республики, как
мне представляется, нужны были гражданская война, распад
государственной системы и физическое убийство монарха8.
Внимание Хекстера привлекли те страницы «Момента
Макиавелли», где рассматривалась скорее не теория республики, а
теория гражданской жизни и концепции собственности и оружия,
которые представлялись мне неотъемлемой частью последней.
Через два года после публикации «Момента Макиавелли»
вышло подготовленное мной издание «Политические труды
Джеймса Харрингтона» (The Political Works of James Harrington)?,
над которым я работал, пока готовилось к печати мое
предшествующее исследование. Харрингтон — одна из ключевых
фигур в настоящей книге и в исторической модели,
выстраиваемой во всех моих работах и вокруг них; существуют статьи,
написанные до 1975 г°Да> гДе намечена эта модель, а также роли
в ней Харрингтона и Макиавелли4. Как известно читателю, для
Tacitism, Scepticism and Reason of State // The Cambridge History of Political
Thought, 1450-1700 / Ed. by J.H. Burns with the assistance of M. Goldie.
Cambridge, 1991. P. 479-498.
1. Norbrook D. Writing the English Republic: Poetry, Rhetoric and Politics, 1627-
1660. Cambridge, 1999.
2. Эта точка зрения может относиться и к Джону Мильтону; см.: Milton and
Republicanism / Ed. by D. Armitage, H. Armand and Q. Skinner. Cambridge,
1995·
3. The Political Works of James Harrington / Ed. by J.G.A. Pocock. Cambridge,
1977; см. также: James Harrington: Oceana and A System of Politics / Ed. by
J.G.A. Pocock. Cambridge, 1992.
4. Pocock J. G.A. Machiavelli, Harrington, and English Political Ideologies in the
Eighteenth Century // The William and Mary Quarterly. 3rd Series. 1965.
Vol. XXII. № 4. P. 549-583; переиздание: Idem. Politics, Language and
Time. P. 104-147; Idem. The Only Politician: Machiavelli, Harrington and
Felix Raab // Historical Studies: Australia and New Zealand. 1966. Vol. XII.
№ 46. P. 265-296; Idem. Civic Humanism and Its Role in Anglo-American
782
ПОСЛЕСЛОВИЕ
этой книги чрезвычайно важно, что Харрингтон переработал
учение Макиавелли о вооруженном и деятельном гражданине,
поместив его в контекст истории земельных владений,
необходимых для воинской службы, истории, начинающейся с
классической и республиканской Античности, продолжающейся
в период феодального держания — определяемого как
«новейшая рассудительность» — и завершающейся в настоящем, когда
оказалось возможно восстановить античные условия. Эта
модель, описываемые ею разочарования и трансформации —
неотъемлемый элемент истории «момента Макиавелли», однако
именно это и вызвало много споров. Исторические схемы
изменяющейся собственности к 1975 году никак нельзя было
назвать новыми, но в большинстве из них высшей формой
собственности считался товар, а общество являлось более или
менее капиталистическим и торговым. Сформулированная
мною модель предполагала, что напряжение между
недвижимым и движимым имуществом, землей и торговлей сохранялось
дольше, чем хотели признавать представители либеральной
или марксистской мысли I970_x годов. Некоторые итальянские
критики усмотрели в «Моменте Макиавелли» одну из
попыток навязать европейской истории идеологию американского
либерализма; в ответ мне удалось указать, что мою книгу уже
критиковали за недостаток как либерализма, так и
американской идеологии1. Среди англоязычных марксистов — от Р. Г. То-
уни до К. Б. Макферсона и Кристофера Хи л ла — существовала
традиция изображать Харрингтона буржуазным идеологом, как
и всех остальных его современников2; в ответ на это я заметил,
Thought // PocockJ.G-Л. Politics, Language and Time. P. 80-103; Idem. James
Harrington and the Good Old Cause: A Study of the Ideological Context of
his Writings // Journal of British Studies. 1970. Vol. X. № 1. P. 30-48.
1. Об этом — особенно в связи с книгой: Pecchioli R. Dal Mito di Venezia
airideologia Americana. Venezia, 1983 — см. мою статью: PocockJ.G.A. Mito
di Venezia and Ideologia Americana: A Correction // Il Pensiero Politico. 1980.
Vol. XII. № 3. P. 483-486; Idem. The Machiavellian Moment Revisited: A Study
in History and Ideology //Journal of Modern History. 1981. Vol. LIII. № 1.
P. 49-72; Idem. Tra Gog e Magog: I Pericoli della Storiografia Repubblicana //
Rivista Storica Italiana. 1986. Vol. XCVIII. № 1. P. 147-194; Idem. Between
Gog and Magog: The Republican Thesis and the Ideologia Americana //
Journal of the History of Ideas. 1987. Vol. XLVIII. № 2. P. 325-346;
переиздание: The American Enlightment / Ed. by F. Shuffleton. Rochester, NY,
1993· P· 379-400.
2. Tawney R.H. Harrington's Interpretation of His Age // Proceedings of the
British Academy. Vol. XXVII (1941). P. 199-233; Macpherson C.B. The Political
Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke. Oxford, 1962 (chap. 6);
Hill Ch. James Harrington and the People // Puritanism and Revolution.
783
ПОСЛЕСЛОВИЕ
что определение «собственника-индивидуалиста» в трактовке
Макферсона больше подходит Мэтью Рену, противнику Хар-
рингтона, чем ему самому1. Для моего тезиса важно, что речь
идет о периоде, когда напряжение между землей и торговлей
разрешалось в республиканской теории в пользу земли, а не
торговли. Однако никак нельзя говорить о «моменте
Макиавелли», когда недолговечная английская республика стояла
перед выбором между аграрными и коммерческими ценностями,
и я не утверждал, что такой момент существовал2. Харрингтон
лишь полагал, что передаваемая по наследству земельная
собственность— более надежное основание для граждан
республики, чем движимое имущество, покупаемое и продаваемое
на рынке, и считал, что республика должна расширять свою
земельную основу, чтобы успевать за развитием торговли. Он
развивал тёрнеровскую «теорию фронтира» до того, как та
была сформулирована, а неведомый Макиавелли спор между
добродетелью и торговлей только начался.
Мое прочтение Харрингтона подверглось наиболее
упорным нападкам в той части, где я утверждал, что он стремился
сделать основой своей идеальной (но английской) республики
добродетель активного гражданина. Он много писал — больше,
вероятно, чем я уделил этому внимания, — о понятии
интереса и способах превратить личный интерес в интерес
всеобщий. В его трудах встречаются фрагменты, где
республиканские институты изображаются как механизмы, заставляющие
людей поступать добродетельно, когда их природа уже лишена
добродетели; кроме того, он и вовсе странным образом
предлагает разделить речь и действие, передав первую функцию
немногим, которые должны обсуждать, но не решать, а
вторую — многим, которые должны решать, не обсуждая. По этой
причине Джонатан Скотт неоднократно утверждал, что
Харрингтон являлся не республиканцем, а эксцентричным
последователем Гоббса и, возможно, был не в своем уме, а его
утопия — своего рода безличный Левиафан, существующий во
множестве проявлений и предназначенный для того, чтобы
вынудить людей к повиновению, на которое они никогда бы
London, 1962. Р. гдд-З^· Об этих работах см.: Рососк J. G.A. The Political
Thought of James Harrington. P. 56-57; Idem. The Ancient Constitution and
the Feudal Law (reissued). Cambridge, 1987. P. 128-129, 139-144, 321-323.
1. Idem. The Political Thought of James Harrington. P. 88-89.
2. Ср.: Pincus S. Neither Machiavellian Moment nor Possessive Individualism:
Commercial Society and the Defenders of the English Republic // American
Historical Review. 1998. Vol. 103. № 3. P. 705-736.
784
ПОСЛЕСЛОВИЕ
не согласились добровольно1. Скотт и ряд других
исследователей весьма кстати напомнили нам, что существовало
множество разновидностей английского республиканизма (надеюсь,
у читателей не сложилось впечатления, что вариант,
предложенный Харрингтоном, я считаю единственным, но если бы
так произошло, это бы мало что изменило); полный спектр
этих модификаций подробно рассмотрены Блэром Уорденом
в ряде его работ2. На точку зрения Скотта я отвечу цитатой
из последнего произведения Харрингтона, которая, кажется,
не фигурирует в «Моменте Макиавелли», но которая была
известна мне, когда я работал над книгой.
Созерцание формы приводит человека в изумление и
сопровождается неким волнением или порывом, благодаря которому
душа его воспаряет к Богу.
Как человек создан по образу Бога, так и правление
создается по образу человека3.
Перед нами язык Платона, к которому едва ли мог прибегнуть
Гоббс (как и, вероятно, Макиавелли). Он говорит нам, что люди,
управляя собой, становятся подобны богам; их правление
собой имеет корни на земле, в то время как божье правление
коренится в творении. Установления Океании ни к чему не
принуждают — они представляют собой форму, благодаря
которой люди становятся такими, какими они должны быть. Мы
ушли далеко за пределы римского virtus к платоновской
теологии гражданской жизни, в которой нет священника, ибо его
1. Scott J. Algernon Sidney and the English Republic, 1623-1677. Cambridge, 1988;
Idem. The Rapture of Motion: James Harrington's Republicanism // Political
Discourse in Early Modern Britain / Ed. by N. Phillipson and Q. Skinner.
Cambridge, 1993. P. 139-163; Idem. The Piece of Silence: Thucydides and the
English Civil War // The Certainty of Doubt: Tributes to Peter Munz / Ed.
by M. Fairburn and W.H. Oliver. Wellington, 1996. P. 90-116; Idem. England's
Troubles: Seventeenth-Century English Political Instability in European Context.
Cambridge, 2000. См. также: Davis J. С Pocock's Harrington: Grace, Nature
and Art in the Classical Republicanism of James Harrington // Historical
Journal. 1981. Vol. XXIV. № 3. P. 683-697.
2. Worden В. Chap 15 // The Cambridge History of Political Thought, 1450-1700;
Idem. Chap. 1-4 // Republicanism, Liberty, and Commercial Society, 1649-
1776 / Ed. by D. Wootton. Stanford, 1994.
3. «The contemplation of form is astonishing to man, and has a kind of trouble
or impulse accompanying it, that exalts his soul to God. As the form of a
man is the image of God, so the form of a government is the image of man»
(Harrington J. A System of Politics. IV. 3, 4; PocockJ.G.A. The Political Works
of James Harrington. P. 837; Idem. James Harrington: Oceana and A System
of Politics. P. 273).
785
ПОСЛЕСЛОВИЕ
место заступает гражданин, и которая — по причинам
слишком сложным, чтобы останавливаться на них здесь, — может
завершаться, оставляя Сына христианской Троицы не равным
Отцу. Можно сказать, что Гоббс пришел к тому же выводу
другим путем, а он и Харрингтон соглашались в своих выпадах
против ортодоксального христианского учения о Церкви1. После
1977 года наиболее значимыми исследованиями,
посвященными Харрингтону, оказались работы Марка Голди и Джастина
Чемпиона, проанализировавших его крайний
антиклерикализм и его роль как первопроходца английского «радикального
просвещения»2. Погружение в политическую теологию как ключ
к английской мысли «длинного восемнадцатого века» —
начинание, которое я всячески поддерживаю3, но которое не
фигурирует на страницах «Момента Макиавелли». Остается понять,
как связать эти два элемента.
Историческая схема, в которую Харрингтон поместил
концепцию гражданской жизни, являлась необычайно сложной
для своего времени, но мы бы все равно отнесли ее к тому
типу, который следует называть домодерным. Она строилась
по принципу петли, возвращаясь к своей исходной точке,
восстановлению условий, способствовавших созданию древних
республик; дело в том, что, как полагал Харрингтон, воины
должны по-прежнему жить за счет земельных участков, а
попытка платить им постоянное жалованье превышала
возможности государства, — именно это привело к падению Римской
республики, а затем и к утверждению на ее месте принципата.
Однако за полвека, прошедших со времени, когда Харрингтон
писал свою работу, появление постоянной армии,
существующей за счет системы государственного кредита, повлекло
за собой явление, которое к 1700 году, как я уже рассказал
в XII главе, в интеллектуальных кругах стало восприниматься
1. PocockJ. G. A.The Political Works of James Harrington. P. 78-82, 89-97; Idem.
Contexts for the Study of James Harrington // II Pensiero Politico. 1978.
Vol. XI. № 1. P. 20-35.
2. Goldie M. The Civil Religion of James Harrington // Languages of Political
Theory in Early Modern Europe / Ed. by A. Pagden. Cambridge, 1987. P. 197-
224; Idem. Priestshaft and the Birth of Whiggism // Political Discourse in
Early Modern Britain / Ed. by N. Phillipson and Q. Skinner. P. 209-231;
The Reception of Locke's Politics / Ed. by M. Goldie. London, 1999. Vol. I
(Introduction); Champion J.A.I. The Pillars of Priestshaft Shaken: The Church
of England and Its Enemies, 1660-1770. Cambridge, 1992.
3. Clark J. CD. English Society, 1688-1832: Ideology, Social Structure and Political
Practice during the Ancien Regime. Cambridge, 1985 (второе издание —
2000 год).
786
ПОСЛЕСЛОВИЕ
как изменение исторических условий. В своих последующих
работах, вплоть до настоящего момента, я рассматривал
очевидные последствия этих изменений. Меня интересовало, как
они привели к тому, что можно назвать Просвещением — в
нескольких смыслах этого многозначного термина. Я уже писал
в другом месте1, как в 1976 году, через год после выхода
первого издания этой книги, я начал думать об изучении «Истории
упадка и разрушения Римской империи» Эдварда Гиббона, где
картина европейской истории, основанная на расцвете и
расширении коммерческого общества, сменялась историей крушения
древней средиземноморской империи, однако по-прежнему
сохранялась актуальность противоречий между историей и
классическими ценностями. В этом отношении и во многих других
я решил расширить значение «момента Макиавелли»,
осмысляя его как полемику между идеалами и идеями
«добродетели» и «коммерции», и, как я обнаружил, продолжительность
этого момента настолько увеличилась, что в каком-то смысле
можно было утверждать, что он длится до сих пор.
Эти мысли я начал формулировать в последних четырех
главах «Момента Макиавелли», а затем продолжил развивать
в последующих работах, в частности в «Добродетели,
коммерции и истории» (1985) и «Варварстве и религии» (с 1999 г°Да)2·
На ход моих рассуждений и на восприятие этих работ
повлияла их тесная связь с полемикой о «позитивном» и «негативном»
понимании свободы, «республиканизме» и «либерализме» —
полемикой, формированию которой они, иногда невольно,
способствовали (если можно говорить о «форме», учитывая нынешнее
состояние высказываемых в ней аргументов)3. Возможно,
путаница несколько уменьшится, хотя сложность и возрастет, если
1. Рососк J. G.A. Barbarism and Religion. Vol. I: The Enlightments of Edward
Gibbon. Cambridge, 1999. P. 1-2.
2. Idem. Virtue, Commerce and History: Essays on Political Thought and
History, Chiefly in the Eighteenth Century. Cambridge, 1985; Idem. Clergy
and Commerce: The Conservative Enlightment // L'Eta dei Lumi: Studi Storici
nel Settecento Europeo in Onore di Fraco Venturi / A cura di R. Ajello e altri.
Napoli, 1985. Vol. I. P. 523-622; Idem. The Political Limits to Pre-Modern
Economics // The Economic Limits to Modern Politics / Ed. by J. Dunn.
Cambridge, 1990; Idem. The Significance of 1688: Some Reflections on Whig
History // The Revolutions of 1688: The Andrew Browning Lectures, 1988 /
Ed. by R. Beddard. Oxford, 1991. P. 271-292; Idem. Standing Armies and Public
Credit: The Institutions of Leviathan // The World of William and Mary:
Anglo-Dutch Perspectives on the Revolution of 1688-89 / Ed. by D. Hoak and
M. Feingold. Stanford, 1996. P. 87-103; Idem. Barbarism and Religion. Vol. I.
Ch. 4: The Hampshire Militia and the Problems of Modernity.
3. См. прим. 2 на с. 776.
787
ПОСЛЕСЛОВИЕ
я остановлюсь немного на намерениях, стоящих за «Моментом
Макиавелли», на вопросе о том, можно ли их понять неверно
и как их следует понимать правильно. Революционные
последствия введения государственного кредита и постоянной армии
включали в себя осознание новой и ведущей роли в политике
и истории так называемого «коммерческого общества», а
позднее и «гражданского общества» — такого состояния, которому
во многом содействовали торговля, капитал и движимое
имущество и в котором отношения обмена между людьми
порождали богатства и цивилизацию — наглядное преимущество перед
религиозными и гражданскими войнами. (Важнейшим
условием распространения Просвещения служило его возникновение
из религиозных войн, включая их особую английскую
разновидность1.) В осмыслении и поощрении проявлений
«коммерческого» и «гражданского» общества важное место отводилось
«манерам» и «учтивости»: социальным практикам и принятым
образам себя и других, возникавшим по мере того, как люди
взаимодействовали друг с другом в ходе все более сложного
процесса обмена и вступали в бесконфликтные контакты, которые
стали восприниматься как часть «воспитания» и проявлялись
в «учтивости»2. Учтивое общество было также и торговым
обществом, и в культуре начинающего набирать силу капитализма
политика начала изображаться как процесс «воспитания»,
«сглаживания», «рафинирования» и (более опасное слово)
«смягчения» человеческих страстей и интересов за счет их переплавки
в «манеры»3. Если мы должны рассматривать Просвещение как
процесс все большего ослабления религиозной веры, мы, кроме
того, должны отметить: «учтивым» мужчинам и женщинам
фанатизм был противен, ибо они полагали — им известно лишь
то, что они знают друг от друга, и такое знание представляет
собой лишь «мнение» — слово, обязывавшее к терпимости и
запрещавшее убеждения. Это обстоятельство послужило важным
шагом в формировании «либерализма», как мы его называем,
хотя этот термин еще не встречался в настоящем послесловии
и не следовало бы вводить его поспешно.
1. См. об этом подробнее: Рососк J. G.A. Barbarism and Religion. Vol. I. P. 56-
58, 108-112.
2. Klein L.E. Shaftesbury and the Culture of Politeness: Moral Discourse and
Cultural Politics in Eighteenth-Century England. Cambridge, 1994.
3. Классическая работа на эту тему: Hirschman A. The Passions and the
Interests: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph. Princeton,
1976 (Хиршман А. О. Страсти и интересы: политические аргументы
в пользу капитализма до его триумфа / Пер. Д. Узланера. М., 2012).
788
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Следует отметить, что устройство учтивого общества все
более способствовало эффективному ведению войны. «Коммерция»
породила «публичный кредит», а «публичный кредит» —
«постоянную армию». Последняя являлась не просто инструментом,
с помощью которого государство преследовало свои цели.
Благодаря армии этот процесс не превращался в разрушительный;
когда государство контролирует регулярные военные силы,
снижается риск гражданской войны (ключ к тайне ι688 года в
английской истории). Война все больше подлежала контролю со
стороны государства, и непродолжительное время
существовала утопия, в которой Европа представала «содружеством» или
«республикой» государств, в отношениях между которыми
воинственный элемент нивелировался и приобрел более
цивилизованный характер благодаря совместному влиянию jus gentium
и общей культуры нравов, распространявшейся за счет
коммерции. (Уделяя особое внимание теме нравов, я не отрицаю
значимости международного права.) Эта утопия начала рассеиваться
к 1763 году, когда масштабные войны между Францией и
Британией за господство в Европе, Америке и Индии привели, каждая
в свой черед, к такому росту «публичного кредита», что
«государственный долг» стал грозить революционными
последствиями; что касается интересующей меня здесь версии философии
истории, идеально-типическую роль здесь играет высказывание
Юма: «или нация должна уничтожить государственный кредит,
или государственный кредит уничтожит нацию»1. Юма во всех
его работах занимало превосходство современного общества,
основанного на торговле, над обществом древности,
базирующемся на обособленном труде людей. Впрочем, в итоге он
нарисовал картину общества, настолько задолжавшего безликим
кредиторам, что ценность всей собственности, свобода каждого
человека и значение всякой вещи и идеи свелись к способности
убеждать кредиторов продолжать строить расчеты с
исключительной опорой на спекуляции. Естественные отношения между
людьми в обществе — а здесь играли свою роль и нравы — в
таком случае распались бы и исчезли за неимением
онтологических или эпистемологических оснований. Эдмунд Бёрк сделал
вывод, что государственный долг стимулирует революционные
фантазии и влечет за собой революцию, полностью
переворачивающую нравы и обычаи2.
ι. См. выше, с. 695-696.
2. См. подробнее в книге: Рососк J.G.A. Virtue, Commerce and History (chap. 10:
The Political Economy of Burke's Analysis of the French Revolution).
789
ПОСЛЕСЛОВИЕ
С учетом всего сказанного я и говорю о значимости подхода,
сформулированного Эндрю Флетчером еще в 1698 году1.
Будучи горячим сторонником распространения торговли, —
будучи в числе тех, кто поддерживал шотландскую колонизацию
Дарьена, — он сомневался, не приведет ли развитие торговли
и потребления к отказу от чего-то существенно важного для
человеческой свободы, а именно от владения оружием и
имуществом, обеспечивающим социальную основу для ношения
оружия, — необходимых, чтобы человек мог лично
участвовать в касавшемся его управлении. Как мы уже видели, в
ответ на подобные сомнения Даниэль Дефо утверждал:
человеку достаточно иметь представителя в парламенте, следящего
за злоупотреблением властью со стороны государства, теперь
ведавшего армией, и общество, основанное на личном
владении оружием, будучи воинственным и бедным, делилось на
хозяев и рабов. Перед нами спор между прямой и
представительской демократией, и мы близки к оппозиции между
позитивной и негативной свободой; и в то же время это дискуссия
между двумя историческими моментами структурного
напряжения, характерного для «момента Макиавелли» в этом смысле.
Человек, располагающий средством обеспечить себе свободу,
склонен скатываться в варварство, не находя опоры в
свободе других людей; человек, чья свобода заключается в
возможности проявлять различные способности и таланты, но
который при этом никогда не собирает их в единое целое и тем
самым лично не участвует в деятельности на благо общества,
идет по пути прогресса, который в конечном счете приводит
к коррупции. Тогда он обнаруживает, что оказался под
властью тирании. В истории нет идеального момента, и хотя мы
можем представить себе тип свободы, состоящей в том, чтобы
благоразумно балансировать между полюсами древности и
современности, реализация такой свободы зависит от сохранения
целостности личности, необходимой для действия в истории,
тогда как история превратилась в процесс, который делает эту
целостность ненадежной. Так возникает узнаваемый вариант
историзма, который можно увидеть в трудах многих
мыслителей XVIII столетия.
Я указываю на спор между древней и новой свободой; если
первая предполагает, что личность действует непосредственно,
то вторая подразумевает наличие многообразных опосредующих
I. См.: Andrew Fletcher: Political Works / Ed. by J. Robertson. Cambridge, 1997.
79О
ПОСЛЕСЛОВИЕ
действий, позволяющих связывать людей в общество, —
свобода ежа, который знает себя, но может не знать никого другого,
противостоит свободе лисы, которая знает так много, что у нее
может не остаться ничего своего, что бы она могла знать1. Этот
спор сродни дискуссии между «позитивной» свободой, в
которой самоутверждение выглядит как нечто древнее и варварское,
и «негативной» свободой, при которой свобода от ограничений
не предлагает четкого ответа на вопрос, кого именно
ограничивают или освобождают. Однако эта линия дебатов резко
отличается — в том смысле, что нуждается в совершенно другом
нарративе, — от истории «негативной свободы», которая
излагается в терминах права, естественного, конституционного или
позитивного, благодаря чему человек обретает права и
определяет свою свободу через их существование. Разумеется,
свобода, понятая как jus, right, droit или Recht, оказала существенное
влияние на мышление XVIII века, и, сосредоточившись на
другой истории, я не собирался отрицать значимость этого
сюжета. При этом я могу полагать, что описанная мной история
затрагивала вопросы, на которые этот сюжет не знал ответа
или даже не ставил их. Я ссылался выше на статью, в которой
утверждал — и продолжаю утверждать в противоположность
Ричарду Таку, — что понятия «добродетели» и «права»
несводимы друг к другу, речь на самом деле шла о триаде
«добродетелей», «прав» и «манер». Хочу отметить, что во всех моих
работах, в «Моменте Макиавелли», а затем в «Добродетели,
коммерции и истории» и нескольких промежуточных статьях
и первых томах «Варварства и религии»2, меня интересовала
диалектика «добродетелей» и «манер», которую я с самого
начала отделял от диалектики «добродетелей» и «прав»,
привлекавшей внимание историков, изучавших «негативное» (в
противоположность «позитивному») понятие свободы. Я не хочу
сказать, что вторая линия мысли не существовала, не имела
значения или что ее следует считать вторичной по
отношению к той, что рассматривала взаимодействие «добродетелей»
и «манер». Я имею в виду лишь, что исторический нарратив,
который я пытаюсь выстроить, необходимо описывать в
предлагаемых им самим категориях, если мы хотим понять, что
1. Статья И. Берлина «Еж и лиса» была впервые напечатана в составе
книги: Berlin I. Russian Thinkers. London, 1978 (Берлин И. Еж и лиса /
Пер. В. Михайлина // Берлин И. История свободы. Россия. M., 200I.
С. 184-269).
2. См. прим. 2 на с. 787.
791
ПОСЛЕСЛОВИЕ
именно происходило в XVIII веке. Возможно, направление
исследований, связанное с позитивным и негативным понятием
свободы, должно на время отклониться от своего основного
маршрута и обратиться к изучению оппозиции между древней
и новой свободой, если мы стремимся составить полную
картину произошедшего. Замечу, что Квентин Скиннер не так уж
много путешествовал по XVIII столетию, я же в своих
странствиях руководствовался иным компасом.
Поскольку меня как историка интересует диалог между
древней и новой свободой, неудивительно, что из
современных политических философов наибольшее влияние на меня
оказала Ханна Арендт. Я, безусловно, изучал историю
указанного ею явления, связанного с тем, что в XVIII веке
социальное восстало против политического, а образ человеческих
поступков оказался вытеснен образом человеческого поведения1.
Эта формула многое объясняет, но отсюда не следует — как
ошибочно предположил последователь Штрауса Харви
Мансфилд, считающий историю вторичной по отношению к
философии2, — что я выбрал подход Арендт в качестве философии,
которую можно переплавить в историю; сознание устроено
не так просто и не так беспорядочно. Меня как историка
интересуют главным образом события англоязычного мира,
и я замечаю, что напряжение между древним и новым
понятиями свободы, обнаруженное Флетчером и Дефо в 1698 году,
в той же терминологии разрабатывалось сторонниками сэра
Роберта Уолпола около 1734 г°Да> примерно за восемьдесят лет
до того, как Бенжамен Констан использовал их, стремясь
понять якобинскую и наполеоновскую историю3. Покойная
Джудит Шкляр с характерной для нее горячностью как-то
спросила, зачем я потратил время на изучение такой периферийной
области, как история Британии и Америки, вместо того
чтобы присоединиться к общему потоку, впадавшему в Ниагару
Французской революции. Я могу ответить лишь, что
занимаюсь историей, не впавшей в русло Ниагары и избежавшей
ее бурь, англо-французской историей, столь же европейской,
сколь и американской.
1. Arendt H. The Human Condition; Арендт X. Vita activa, или О
деятельной жизни (глава 2, раздел 6: Возникновение общества, The Rise of the
Social).
2. См.: Renaissance Civic Humanism: Reflections and Reappraisals / Ed. by
J. Hankins. P. 226-227.
3. Benjamin Constant: Political Writings / Ed. by B. Fontana. Cambridge, 1988.
792
ПОСЛЕСЛОВИЕ
III.
Теперь мы можем перефразировать вопрос Джека Хекстера и
ответить на него: в Англии (более, чем где-либо) эпохи вигского
парламента республиканская мысль (более, чем что-либо)
оказала своеобразное, хотя и не мгновенное воздействие. Она не
породила никаких проектов замены монархии республикой.
Память о времени, когда страной не правил король, — даже
о периоде протектората и парламента, — последовавшем за
казнью короля в 1649 Г°ДУ> оказалась сопряжена с памятью
о Гражданской войне, повторения которой никто не хотел;
убеждение же, что земная монархия была необходимой
проекцией монархии божественной, действительно являлось очень
прочным. Установить характер богословских воззрений
существовавших республиканских философов можно лишь с
большим трудом; так, если относить к ним Джона Толанда, он, по
всей видимости, был не только деистом, но еще и пантеистом1.
Кэтрин Маколей, наиболее сведущий республиканский
историк вигской Англии, обращалась не к модели Харрингтона,
а к краткому правлению «Охвостья», когда группа политиков-
философов— Вейн, Сидней и другие, кто, как позже скажет
Вордсворт, «звал Мильтона другом», — могли размышлять о том,
что республика приживется среди английского народа2. Эту
тему продолжили историки более позднего времени, Уильям
Годвин и Сэмюэл Тейлор Кольридж, в чьих текстах мы видим,
как легко платоновский унитаризм, приписываемый
упомянутым мыслителям XVII столетия, мог быть перефразирован
в философский идеализм XIX века. Эта линия мысли
никогда не имела практических последствий. Ключевая проблема
ι688 года в ретроспективе — состоялся ли описанный Локком
распад правления и возврат власти народу — имела слабое
отношение к республике, состоявшей из граждан, и к их
добродетели; «народ» пользовался своими правами и мог, если
считал нужным, свободно вернуться к монархии. В
английской или британской истории нет «момента Локка», а его
несомненное наличие в процессе, в ходе которого американский
«народ» пришел к мысли основать республику и организовать
1. Jacob M. С. The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and
Republicans. London, 1981.
2. PocockJ.G.A. Catharine Macaulay: Patriot Republican // Women Writers and
the Early Modern British Political Tradition / Ed. by H.L. Smith. Cambridge,
1998. P. 243-258.
793
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ее по федеративному принципу, как мы увидим, подлежит
обсуждению и уточнению.
На английской почве «республиканский» язык скорее
связан с местом личной монархии в сбалансированной
конституции. С 1642 года, когда в написанном от имени Карла I
«Ответе Его Величества на Девятнадцать предложений обеих
палат парламента» была сформулирована эта теория во всей
ее противоречивости1, стало ясно, что «республика» может
содержать в себе элемент активной монархии, необязательно
вписывающейся в представление, согласно которому король мог
существовать лишь в единстве с парламентом. Можно
упрекнуть «республиканцев», что они низвели его до
символической роли венецианского дожа, но Болингброк,
стремившийся противопоставить обновленную монархию «венецианской
олигархии» парламента, рисовал короля «патриотом» во главе
«патриотического» народа. С этим словом оказались
неразрывно связаны коннотации деятельной республиканской
гражданской жизни, и Болингброк, употребляя его, неизбежно вступал
в спор с восприятием — утвердившимся со времен Гражданской
войны — гражданина как «патриота», любившего свою
страну больше, чем ее правление или даже ее монарха. Его легко
было представить себе в образе Брута, Катона или Катилины,
и лишь в 179°_е годы слово «патриот» стало обозначать прежде
всего «лоялиста» (при этом интеллектуалы периода,
последовавшего за властью вигов, отвергали его, считая
обозначением «шовиниста»). Впрочем, в первую очередь оно относилось
к оппозиционерам, апеллируя к римской доблести в
противовес министерской продажности. Вполне обоснованные
сомнения доктора Джонсона относительно мотивов такой оппозиции
выразились в его знаменитом афоризме о «патриотизме» как
«последнем прибежище негодяя».
«Патриотический» и «республиканский» дискурс был в
значительной мере связан с парламентаризмом, который он
критиковал, но которому не предлагал альтернативы, вот почему его
роль оказалась чисто оппозиционной. Парламентаризм, о
котором идет речь, Харрингтону предвидеть не удалось: в основе
его лежало сохранение патронажа и влияния со стороны
короны и аристократии, после утраты инструментов феодальной
зависимости, а также активное освоение ими мира торговли
I. Mendie M.J. Dangerous Positions: Mixed Government, Estates, and the Answer
to the XIX Propositions. Tuscaloosa, AL, 1985.
794
ПОСЛЕСЛОВИЕ
и кредита, государственного долга и постоянной армии.
Именно этот новый мир порицали тори эпохи королевы Анны,
говоря о «финансовых кругах», о том, что Англией правит новая
олигархия, сложившаяся в результате появления нового типа
собственности — владения не землей и даже не движимым
имуществом или торговым капиталом, а бумажными
знаками, символизировавшими уверенность в будущем государства,
которым теперь управляли его кредиторы. Рассуждения Юма
о «государственном кредите» напоминают нам, что даже
великие шотландские философы истории, которые прослеживали
эволюцию торговли, свободы и учтивости, не были уверены,
что нашли решение проблемы государственного долга. Эдмунд
Бёрк усматривал во Французской революции союз «процента на
капитал» и атеистических интеллектуалов, губительный для
нравов и сложной истории их становления, однако ему
пришлось признать, что в Британии, в отличие от Франции, под
государственный долг подведена прочная основа
национальной экономики — и что этой практики следовало
придерживаться вопреки дурным предчувствиям в духе Юма, которые
выражали Ричард Прайс и Томас Пейн1. Однако Пейн был не
сторонником классического республиканизма, а лишь врагом
монархии; государственный долг, полагал он, стимулировал бы
экономику, если бы контроль над ней перешел в руки народа.
Если мы понимаем, что «республиканское» мышление
защищало «древнюю свободу», которую надо сохранить в
«новых» условиях, мы можем рассматривать его как философию
истории, вовлеченную в диалектику, как критику истории,
содержащуюся внутри той истории, которую оно критиковало.
Однако она имела не только философские, но и практические
последствия; она помогала выявить «коррумпированность»
существующего режима, в условиях которого личность лишалась
независимости и автономии, обозначаемых с помощью понятия
«добродетель», и шотландская философия истории не
разрешила окончательно эту проблему. Для философии XVIII столетия
было серьезным вопросом, может ли человеческая личность
выжить в истории, а потому и с риторической, и с
практической точки зрения это сомнение выражалось в том, что
существующий порядок всегда можно представить продажным. Это
сыграло важную роль, когда в ходе Войны за независимость
ι. Edmund Burke: Reflections on the Revolution in France / Ed. byJ.G.A. Pocock.
Indianapolis, 1987 (Берк Э. Рассуждения о революции во Франции / Пер.
Е.И. Гельфанд. М., 1993)·
795
ПОСЛЕСЛОВИЕ
США произошел разрыв с вигской и парламентской системой
и были заложены основы республики1.
Последняя глава «Момента Макиавелли» вызвала больше
споров, чем все предшествующие разделы вместе взятые, ибо
в ней исследуется исторический характер основания Америки.
Есть более ранние работы, где я говорю, что развитие
описанной мной истории можно проследить от Флоренции до
Филадельфии2; впрочем, поскольку я хорошо помню, как решил
добавить пятнадцатую главу, не думаю, что я писал книгу с
намерением прийти к такому заключению. К тому же я не одинок
в своей попытке проследить «республиканскую» предысторию
революции и Конституции. Бернард Бейлин в «Идеологических
истоках Американской революции» (The Ideological Origins of the
American Revolution) уже указал на необычайную влиятельность
английской оппозиционной идеологии; Дуглас Адэйр в книге
«Слава и отцы-основатели» (Fame and the Founding Fathers)
продемонстрировал, что лидеры 1776 и 1787 годов считали себя
законодателями в греко-римском духе3, а Гордон Вуд в «Создании
Американской республики» (The Creation of the American Republic)
так основательно подошел к рассмотрению классического
американского республиканизма и последствий его исчезновения,
что оказался одним из главных моих оппонентов. Поэтому
нет ничего из ряда вон выходящего в том, чтобы возводить
истоки революции и основания США к давней
республиканской традиции, или в том, чтобы видеть в них диалог между
древней и новой свободой, составлявший главное содержание
«момента Макиавелли»; и я был удивлен — и продолжаю
удивляться,— с каким жаром (а иногда и желчностью) меня
критиковали за мнения, которых, если память мне не изменяет,
1. Я прослеживаю историю англо-американского политического дискурса
вплоть до разрыва, обусловленного революцией в Америке, и
трансформации под влиянием Французской революции в следующих
работах: Рососк J. G.A. The Varieties of Whiggism from Exclusion to Reform:
A History of Ideology and Discourse // Idem. Virtue, Commerce and History
(chap. 11); Idem. A Discourse of Sovereignty: Observations on the Work in
Progress // Political Discourse in Early Modern Britain / Ed. by N. Phillipson
and Q. Skinner. P. 377-428; Idem. Political Thought in the English-Speaking
Atlantic: (i) The Imperial Crisis, (ii) Empire, Revolution and an End of Early
Modernity // The Varieties of British Political Thought / Ed. by J. G.A. Pocock
with the assistance of G.J. Schochet and L.G. Schwoerer. Cambridge, 1994.
2. См. прим. 4 на с. 782.
3. Adair D. Fame and the Founding Fathers / Ed. by T. Colbourn. New York, 1974.
Как и Джеральд Стурж в своей работе «Александр Гамильтон и идея
республиканского правления», Адэйр обратил внимание на конфликт,
возникший из-за критики республиканской идеи в духе Юма.
796
ПОСЛЕСЛОВИЕ
я не высказывал и не считал нужным поддерживать. Не могу
избавиться от мысли, что эта критика во многом явилась
следствием ограниченности взгляда, недопонимания — не
обычного, а свойственного мышлению слишком многих историков.
Я вовсе не утверждал, что американцами — как они стали
себя сознавать — двигала лишь «классическая республиканская
теория» или идеология «страны». Однако они действительно
существовали и представляли собой тщательно
проработанные, иногда замкнутые системы взглядов, пригодные для
детального изложения событий и смыслов. Стремясь отдать им
должное, я порой был вынужден настолько подробно их
описывать, словно они являлись самоценными. Но концепция
«момента Макиавелли» сама по себе предполагает, что подобный
ход мысли наталкивался на свою противоположность — в том
числе в виде «современной свободы» — и вступал с ними в
диалектику, в которой обе стороны заимствовали нечто друг у друга
и осознавали свою историчность. Американцев, как я пытался
показать, волновал вопрос сохранения ценностей в
меняющихся исторических условиях; при этом я не считаю себя в
ответе за тех, кто предположил, будто я говорил, что ими двигали
исключительно те ценности, о сохранении которых они
заботились. Отцы-основатели были поколением с достаточно
сложным и даже изощренным видением истории, что бы мы ни
думали о той культуре, рождению которой они способствовали.
Если я не ошибся, полагая, что мой подход неправомерно
упростили, то следует задаться вопросом: что послужило
причиной такого упрощения? Отчасти ответ кроется в том
особом благоговении, которое американские историки привыкли
испытывать по отношению к фигуре Джона Локка, философа,
почитание которого, несомненно, должно проявляться в
четкости мышления. Когда я работал над «Моментом Макиавелли»,
меня интересовало — как не заинтересовало бы сейчас —
утверждение Луиса Харца, что все американцы мыслили как Локк,
так как при отсутствии феодального прошлого они не могли
усвоить никакой другой модели мышления. В ходе своего
более раннего исследования, посвященного тому, как англичане
рассматривали свое феодальное прошлое, я отметил
существование значимых дискуссий, происходивших без участия
Локка, но тесно связанных с дебатами, в которых он участвовал1.
ι. В «Древней конституции и феодальном праве» («The Ancient Constitution
and the Feudal Law») я развивал тезис о том, что переиздание
трудов сэра Роберта Филмера повлекло за собой как историческую, так
797
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Проанализировав спор о добродетели и коммерции в XVIII веке,
я увидел, что Локк не был в числе главных его участников.
Поэтому я предположил, что в качестве исследовательской
стратегии нам следует перестать думать о Локке и его «важности»
и подождать, пока он снова вернется — в чем я не
сомневался— в тех амплуа, в которых он в самом деле оказался
влиятельным. Что касается его места в дискуссии о революции
в Америке, меня стала интересовать та существенная роль,
какую Локк сыграл в продвижении либерального
квазихристианства, популярность которого наблюдалась среди американцев
того времени1; как описанный у Локка роспуск народом своего
правительства использовался применительно к совершенно
иной цели — разрыву связей с другим народом2; и
существовавшее в то время незаурядное эксцентрическое суждение о
революции, сторонники которого отвергали ее как следствие одной
лишь пагубной философии Локка3. Не думаю, что во время
работы над «Моментом Макиавелли» я преуменьшил его значение
или стремился это сделать. Впрочем, некоторые критики до сих
пор рассуждают так, словно Локк нуждается в защите от моей
книги4. Я пытался определить его роль; определить — значит
очертить, но не преуменьшить.
Пожалуй, отчасти речь идет о методологической трудности.
Историкам часто не удается на практике применять
диалектическое мышление, которое они должны изучать; каждый
тезис они воспринимают так, будто он должен полностью
разъяснить определенную область знаний, противопоставляют его
другому положению, относительно которого утверждается то же
самое, и соединяют их отрицательной связью, построенной
и философскую полемику и что Локк вел себя нетипично, не
принимая участия в первой. См.: Рососк J. G.A. Virtue, Commerce and History.
P. 220-230.
1. Idem. Barbarism and Religion. Vol. I. P. 68-70. См.: Young B. W. Religion
and Enlightenment in Eighteenth-Century England: Theological Debate from
Locke to Burke. Oxford, 1998.
2. PocockJ.G.A. Varieties of British Political Thought. P. 281-282.
3. Idem. Josiah Tucker on Burke, Locke and Price: A Study in the Varieties of
Eighteenth-Century Conservatism // Idem. Virtue, Commerce and History
(chap. 9).
4. Из работ последнего времени см.: Breen Т.Н. The Lockean Moment:
An Inaugural Lecture Delivered before the University of Oxford. Oxford,
2001. На защиту роли Локка в полемике, происходившей в Британии
XVIII столетия, встали почти исключительно американские
историки, см., например: Kramnick I. Republicanism and Bourgeois Radicalism:
Political Ideology in Late Eighteenth-Century England and America. Ithaca,
1991; Hamowy R. Cato's Letters, John Locke and the Republican Paradigm //
History of Political Thought. 1990. Vol. XI. P. 273-294.
798
ПОСЛЕСЛОВИЕ
по принципу «или — или», «больше... чем» или «от... до...».
Возможно, это объясняет любопытную привычку в ответ на
любое утверждение, что Локк чего-то не сделал, заявлять:
зато он сделал нечто иное, а наша цель должна заключаться
в том, чтобы соотнести роль, которую играли его работы или
его система взглядов, с ролью других работ и других взглядов.
А значит, необходимо рассматривать Основание Америки как
разговор с самим собой о противопоставленных друг другу
ценностях,— каковым, по общему мнению, он и являлся. Вполне
возможно, что Локк играл в указанном диалоге важную роль,
но совершенно ни к чему превращать его в дискуссию,
участники которой высказывались бы исключительно за или
против Локка, выражая взгляды, схожие или несхожие с теми, что
можно найти в его текстах. Здесь возможно еще одно
объяснение, скорее идеологическое, чем методологическое, связанное
со стремлением оградить и защитить Локка, свойственном
некоторым американским историкам. Сформировалась привычка
относиться к полемике, частью которой стал «Момент
Макиавелли», как к дискуссии между «республиканским» и
«либеральным» толкованиями Конституции США и основанной на
ней культуры1, в которой Локк выступает святым покровителем
и отцом-основателем американской гражданской религии под
названием «либерализм». Считается необходимым
подчеркивать, что «либеральному» гражданину достаточно знать свои
права и активно их отстаивать, тогда как «республиканская»
теория требует проявлений «добродетели», сочетания
автономии и преданности, с которым не вполне соотносится
концепция некоего носителя прав. Здесь мы снова приближаемся
к напряжению между «позитивным» и «негативным»
понятием свободы, о котором уже говорилось ближе к началу этой
статьи. Я представлял революционное мышление как явление,
основанное на страхе перед «коррупцией», способной привести
к потере «добродетели» (а значит, и свободы), и это
воспринималось так, будто я отрицаю ту меру, в какой оно также
строилось на перечне прав, в чем, по-видимому, и заключается вся
суть «момента Локка». Я сделал акцент на «республиканской»
составляющей, так как считал, что за ней стоит история, на
которую следует пролить свет. Впрочем, из самой концепции
«момента Макиавелли» необходимо вытекает, что в одном
ι. Не буду пытаться приводить библиографию этой полемики,
поскольку не стремился принимать в ней участие.
799
ПОСЛЕСЛОВИЕ
действии должны соединяться разнородные принципы,
которые, вероятно, нельзя окончательно примирить.
Однако отсылки к «либерализму» в «Моменте Макиавелли»
очень немногочисленны — как видно при беглом взгляде на
указатель, — и меня совершенно не беспокоило бы, не будь их
вовсе. Этот термин не использовался в XVIII веке, а
прилагательное «либеральный» не употреблялось в своем теперешнем
значении, и хотя уже присутствовали элементы, которые в свое
время стали определяться этим понятием, не существовало
системы учения, которая соответствовала бы его более позднему
употреблению. Книга связана скорее с другим предметом —
напряжением между древней и новой свободой: между той
свободой, которой обладал член сложно устроенного коммерческого
общества, и критикой в адрес этой концепции свободы, а также
истории, которая ее сформировала. Я ставлю вопрос, нашло ли
это напряжение отражение в Американской революции и
основании США, и отвечаю на него утвердительно. Частично
локковский сценарий, приведший к независимости (колонии
провозглашены государствами, а империя — конфедерацией,
которая затем распущена по причине плохого управления),
сам по себе необязательно подразумевал создание республик.
Не существовало проекта республики по Локку, и Локк —
интересовавшийся зарождением и закатом правления, а не его
устройством и поддержанием — осмотрительно воздерживался
от советов народу о том, как переучредить государство после
его роспуска. Локковская полития была бы сообществом
носителей прав, но это ничего не говорило ни о ее форме, ни —
помимо исходной посылки о ее конституционности — о
конституции. Поэтому мы не должны ограничиваться Локком, если
хотим понять, почему считалось само собой разумеющимся,
что недавно получившие независимость государства станут
республиками, или какое значение вкладывалось тогда в это
слово. В связи с этим Дуглас Адэйр напоминает нам, что отцы-
основатели видели себя в роли античных законодателей,
основателей классических республик, для которых риторика
гражданской жизни и добродетели оставалась весьма актуальной.
Бернард Бейлин напоминает нам, что риторика революции
строилась на глубоко укоренившемся страхе перед коррупцией
среди министров, единственным, хотя и непрочным ответом
которой могли служить независимость, свобода и добродетель
граждан. А Дж.Р. Пол уже уведомил нас, что распространение
представительских собраний сопровождалось все более часто
8оо
ПОСЛЕСЛОВИЕ
встречающимся осознанием того, как легко патронаж, в том
числе со стороны государства, может развратить и
представителей, и избирателей1. Риторика коррупции получила столь
широкое распространение, что это помогает объяснить
создание республик как средство противостоять порче; но
сущность «момента Макиавелли» заключалась в том, что
республика и сама находилась в опасности коррупции.
Как следствие, размышления о добродетели и коррупции
составили часть языка революции и Конституции; вопрос в том,
что означало присутствие этих размышлений. Здесь снова
приходится выразить сожаление, что дискуссия вокруг «Момента
Макиавелли» вылилась в спор о том, основана ли республика на
«республиканских» или иных принципах — локковских,
«либеральных» или «новых». Я хотел бы не отвечать на этот вопрос
в форме «или — или», а сказать, что ее учреждение повлекло
за собой спор и напряжение между тем, что я называю
«древней» и «новой» свободой; вероятно, этот спор так и остался не
разрешен до конца. В данном случае я, разумеется, ступал на
территорию американского фундаментализма: республика
основана, основание подразумевало законодательную
регламентацию неких принципов, и представлять ее как нерешенный
«момент Макиавелли» было вызывающим поступком. Гордон
Вуд в своем «Создании Американской республики» (Creation of
the American Republic) на самом деле ответил на интересующую
меня проблему еще раньше, чем я успел ее сформулировать.
Он изобразил «классический» республиканизм как безусловно
«древний», а американский республиканизм как быструю
победу «нового». Для подтверждения этого тезиса он пошел дальше
меня в том, что касается аристократического характера
«древнего» республиканизма, поместив его в арьергарде идеологических
представлений американских джентри. Однако его аргументы
убедительны в той мере, в какой классическая республика как
идеал предполагала равенство между аристократией и народом,
и в той степени, в какой возникающая американская социальная
структура вскоре продемонстрировала, что «демократия» и
«равенство» несовместимы с представлением, что природная
аристократия в принципе может существовать; и, учитывая
потребность в новой идеологии, заманчиво назвать ее «либерализмом».
На этом этапе «республика» уступила место «демократии».
Из теоретиков больше всех не повезло Джону Адамсу; в своей
I. Pole J.R. Political Representation.
8οι
ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Защите Конституции Соединенных Штатов» — книге,
спровоцировавшей наибольшее количество неверных толкований
после Библии1, — он заявил: аристократия влиятельных
семей будет существовать всегда и против нее надо принимать
меры, и все хором осудили его уже за то, что он предположил
такую возможность. Любопытно, что сказал бы Адаме о
Кеннеди, Бушах, Горах и Рокфеллерах, но если он полагал, что
влияние таких семей держится на принадлежащих к их
кланам родственниках, клиентах и зависимых от них людях, его
мышление оказалось бы недостаточно современным. Однако
при его жизни, когда Александр Гамильтон, как считалось,
обосновывал сильную исполнительную власть,
базировавшуюся на национальном долге, постоянной армии и развитой
системе политического патронажа, угроза аристократии
представлялась вполне современной. Речь шла о власти,
основанной на «проценте на капитал», за которую в Англии партия
«страны» на протяжении столетия критиковала «придворную»,
и Гамильтона порицали за то, что он пытается ввести
«британскую» форму правления2. Это был давний спор, в котором
Локк не играл заметной роли, но где, разумеется,
фигурировали понятия «кредита» и «собственности», «добродетели»
и «коррупции». Авторы многочисленных работ, сообщавшие
мне — как будто я думал иначе, — что республика
земледельцев, о которых писал Джефферсон, занималась бы как
внутренней, так и внешней торговлей, на мой взгляд, не
улавливали сути дела. Предметом спора всегда в первую очередь
являлся кредит, а не торговля, рантье и биржевые трейдеры,
размещавшие деньги в государственные ценные бумаги, а не
предприниматели, вкладывавшие их в производство и обмен,
и можно предположить: пусть сам Гамильтон и потерпел
поражение, но отстаиваемая им система правления пережила его,
а вместе с ней и напряжение внутри американской демократии,
история которого уходила далеко в прошлое. Я начинал
рассматривать республику как способ решения стоявших перед
XVIII столетием проблем, сама успешность которого
способствовала их увековечиванию.
1. Pocock J. G.A. «The Book Most Misunderstood since the Bible»: John Adams
and the Confusion about Aristocracy // Fra Toscana a Stati Uni: Il Discorso
Politico nelPetà délia Constituzione Americana / A cura di A.M. Martellone
e E. Vezzosi. Firenze, 1989. P. 181-201. He могу не заметить, что, хотя я не
претендую на принадлежность к столь благородному обществу, я
представляю себе, каково было Адамсу.
2. Banning L. The Jeffersonian Persuasion. Ithaca, 1978.
802
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Полемическое утверждение — вероятно, не слишком
упрощающее позицию Вуда, — что основание Америки
предполагало движение от «республики» к «демократии», противостоит
и переплетается с наиболее выразительной словесной
формулировкой, которую оно произвело, а именно с высказыванием
Джеймса Мэдисона: общество, в котором граждане
непосредственно управляют своим государством, является
демократией, а то, в котором они управляют при посредстве
избранных представителей, — республикой. Перед нами намеренное
переворачивание общепринятого значения обоих слов и того
смысла, в каком одно из них считалось «древним», а
второе— «новым». Заявление, что союз штатов не демократия,
а республика, — это характерная позиция ультраконсервативно
настроенных американцев. Мэдисон писал, думая о
федералистском проекте, превращении конфедерации в федеративную
республику, способную расширяться до масштабов империи,
не подвергаясь при этом коррупции, — замысел, в котором,
как ни в чем другом, проявилась уникальность мысли отцов-
основателей. Его невозможно было осуществить, не продумав
сложно организованного процесса выбора гражданами своих
представителей во власти, а утверждение, что
представительство, неизвестное древним (но не римским правоведам), есть
великое политическое открытие Нового времени, стало общим
местом. Однако само использование этого языка продолжило
спор между древним и новым и не позволило Мэдисону уйти
от него. Знал он об этом или нет, но Руссо уже задавался
вопросом, может ли в каком бы то ни было смысле одно
моральное существо представлять другое и не соглашался ли
человек на собственную нравственную порчу, предоставляя
другому право действовать от своего имени. На деле
представительство является фикцией, а создание полностью
вымышленной, лишенной реальных оснований системы
правления оказывалось несовместимо с представлением, что человек
действует как гражданин или как существо по природе своей
политическое. Сущность новой эпохи видели в том, что
человек жил в мире фикций, где и он сам, и другие были
продуктами случайных взаимодействий между людьми в процессе
обмена. Вполне возможно, что мы сами достигли состояния,
когда сознание нереальности или фиктивности настолько не
удовлетворяет нас, что уже кажется нестерпимым;
сомневаясь, что олигархия политиков, вынуждающих нас выбирать
между ними, представляет нас в каком-либо смысле, вообще
8оз
ПОСЛЕСЛОВИЕ
достойном упоминания, мы сомневаемся, сохранилась ли еще
в нас самих личность, которая требовала бы
представительства. Союзником глобальной экономики оказывается
постмодернизм, уверяющий нас, что и личность, и общество
одинаково фиктивны и что наш выбор сводится к тому, какому
вымыслу теперь отдать предпочтение.
С тех пор как в i6go-e годы в Англии зародилось
коммерческое общество, диалог между древней и новой свободой
проделал долгий путь1. Я прослеживал его историю — параллельную
и находящуюся на некотором расстоянии от американского
спора между либерализмом, республиканизмом и/или комму-
нитаризмом, равно как и от британского различия между
негативной и позитивной концепциями свободы; хотя он был
связан с обоими этими феноменами, ни с одним из них, на
мой взгляд, его отождествить нельзя. Читателю не следует
также полагать, что «Момент Макиавелли» написан или должен
быть прочитан для того, чтобы оказаться в затруднительном
философском положении. Книга объясняет некоторые
процессы, происходившие в описанной автором истории и
затрагивает многоликие явления, которые уместно рассматривать под
другими углами зрения и которым можно найти другое
объяснение. История — это область исследования, в которой может
и должно сосуществовать множество различных
интерпретаций. И хотя мы имеем дело с историческим сюжетом,
уводящим нас от видимой реальности к все более вымышленному
миру, мы способны вернуться к его изучению. И мы
обнаружим множество способов, благодаря которым мы создавали
самих себя, — и множество причин, по которым мы все еще
не обречены на выбор лишь одного из двух вариантов: быть
одинокими мечтателями или пассивным материалом для тех,
кто всегда хочет придумывать за нас.
Санта-Моника, Калифорния; Балтимору Мэриленд
Март—май 2002 года
I. Наиболее полную картину его развития и теперешнего состояния
можно, как мне кажется, почерпнуть из следующих работ: Machiavelli and
Republicanism / Ed. by G. Bock, Q. Skinner and M. Viroli. Cambridge, 1990;
Skinner Q. Liberty before Liberalism (Скиннер К. Свобода до либерализма);
Pettit Ph. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford,
1997 (Петтигп Φ. Республиканизм. Теория свободы и государственного
правления / Пер. А. Яковлева. М., 20i6); Viroli M. Republicanism. New
York, 1999. Ни в одной из них, как увидит читатель, не говорится то,
о чем я пытался сказать на этих страницах.
Словарь основных
италоязычных понятий
accidenti — ι) случаи
2) обстоятельства
ambizione — честолюбие
amministrazione — структура правления
universale — общая структура правления
antico — древний
a. valore — см. valore
appetito — интерес, желание
universale — всеобщее желание
approvazione — одобрение, принятие
arte — ι) ремесло, занятие
2) гильдия, мн.ч. arti
arte délia lana — выделка шерсти, гильдия выделки шерсти
3) искусство
arte délia guerra — военное искусство
assuefatti — привыкшие
assuefazione — привычка
astrattezza — отвлеченность
avère fama — иметь репутацию
azione — событие
baroni — феодалы
beneficiati — выгодополучатели
bottega — ι) лавка
2) профессия, ремесло
buono — добрый, хороший, правильный
buoni costumi — добрые нравы
buona educazione — правильное воспитание
buona fortuna — удача
buone leggi — хорошие законы
buoni ordini — добрые порядки
buona milizia — хорошее войско
cagione — причина
caso — случай
cerchio — круг
città disarmata — невооруженный город
civilità — гражданская деятельность
civilmente — в гражданском порядке
collegio — коллегия
coltello — скальпель
commodità — удобство
composizione — состав
condottiere — кондотьер, предводитель наемного отряда
conservare — сохранять
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ИТАЛОЯЗЫЧНЫХ понятий
consiglio — совет
Consiglio grande — Большой совет
Consiglio de' Pregati — Совет приглашенных (орган власти в Венеции)
consuetudine — привычка, традиция
consultazione — обсуждение
contadini — жители сельской провинции, подчиненной городу (contado)
contado — подчиненная городу сельская провинция
corruzione — порча, разложение, развращение, коррупция
cose — ι) дела
с. del mondo — мирские дела
с. di fuora — внешняя политика
2) порядок, уклад, особенность
с. universali — общие характеристики
costanza — постоянство
costituzioni — учреждения
costume — ι) образ жизни
costumi cortesani — придворный образ жизни
2) нрав, мн.ч. costumi
buoni costumi — добрые нравы
creati — ставленники
dannabile — порицаемый
dare principio — заложить хорошее начало
deliberazione — решение, принятие решений; мн.ч. deliberazioni
dependenza — зависимость, влияние, связи
desiderio — желание, мн.ч. desideri
destruzione — разрушение
difficile — сложный
diligenzia sottile — кропотливое усердие
dimostrazioni — внешние признаки
discorso — речь, мн.ч. discorsi
disposizione — обстановка
dolcezza — зд.: удовольствие
effetti — последствия
ekklesia — зд.: общественное собрание
elezione — выборы
equalità — равенство
esecuzione — исполнение
esperienzia — опыт
essere tenuti — иметь репутацию
esterminio — истребление
fantasia — фантазия
пего — суровый
forma — форма
fortuna — фортуна, судьба
buona f. — удача
forza — сила, мн.ч. forze
freddezza — равнодушие
generosità — щедрость, благородство
generoso — благородный
gentiluomo — представитель знати, мн.ч. gentiluomini — знать
giornalmente — ежедневно
giustizia — ι) справедливость
2) правосудие
una buona giustizia — справедливое правосудие
gonfaloniere — гонфалоньер
8о6
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ИТАЛОЯЗЫЧНЫХ понятий
governo — ι) правление
g. civile — гражданское правление
g. di drento — внутреннее правление
g. misto — смешанное правление
il g. veneziano / alla viniziana — венецианская конституция,
венецианская форма правления
2) правительство
g. largo — широкое правительство
g. stretto — узкое правительство
grande — гранд, высокородный человек
grandezza—ι) величие
2) власть
grandissima virtù — см. virtù
grazia — благодать, благосклонность фортуны
guardia — охрана
immagine — образ
imperio — ι) власть
2) высшая исполнительная власть
industria — изворотливость
intelligenza ι) клика, сборище; мн.ч. intelligenzie
2) махинаторство
invenzione — изобретение нового
laudabile — похвальный
legge — закон, мн.ч. leggi
libertà — свобода
luogo — место, территория
malignità — зависть
mansueto — умеренный
mantenere — сохранить
m. lo stato — см. stato
materia — материя
mediocri — среднее сословие, люди со средним достатком
milizia — войско
mito — миф
m. di Venezia — венецианский миф
mutazione — перемена, мн.ч. mutazioni
т. dello stato — изменение состояния / перемены в государстве
modo di vivere — см. vivere
natura — зд.: характер
п. dello universale — см. universale
naturale — ι) естественный
2) наследный
principe / signore η. — наследный государь
3) выборный
4) соответствующий характеру и наклонностям подданных
nécessita — необходимость
nervo — направляющая сила
п. délia repubblica — направляющая сила республики
non-beneficiati — невыгодополучатели
occasione — случай
оссоггеге — случаться
onesto — честный
опоге — честь, почет
ordinatori — законодатели (ед.ч. ordinatore)
ordini — законы, устои, установленные порядки (ед.ч. ordine)
807
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ИТАЛОЯЗЫЧНЫХ понятий
ordini antiquati nella religione — освященные религией устои
buoni о. — добрые порядки
ottimati — оптиматы, политическая аристократия
participazione — участие (в общественной жизни)
particolarità — особенность
particulare — политический индивид, представитель власти
pasta — макароны
patria — отечество
perfetto — совершенный, образцовый, ж.p. perfetta
perfezione — совершенство
pian piano — не спеша, потихоньку
plèbe bassa — низшие слои
plebei — плебеи
popolari — народ, простонародье
popolo — народ
p. grasso — «жирный народ»
p. minuto — «тощий народ»
potenzia — сила, мощь
potestà — власть
pregati — см. Consiglio de' P.
prima forma — первоформа (понятие аристотелевской метафизики)
principato — монархическое государство
p. assoluto — государство с абсолютным правлением
principe — государь
p. assoluto — абсолютный государь
p. naturale — наследный государь
p. nuovo — новый государь
principio — ι) начало
dare p. — заложить хорошее начало
2) правило, мн.ч. principii
3) повод
privatamente — в частном порядке
privato — отдельный человек, частное лицо
procuratore — прокуратор
proporzione — пропорция
proprietà — зд.: полномочие
proprio — собственный, изначально присущий
proprie — собственные (мн.ч. ж.р.)
provincia — провинция (зд.: национальность)
prudenzia — рассудительность, благоразумие
qualità — свойство
ragione — разум
reggimento — режим
regno — монархическая форма правления, королевство
retto — управляемый (страд, причастие от reggere)
riformazione — преобразование
rinnovazione — обновление
riputazione — почтение, доброе имя
ruina — гибель
sangue — кровь (зд.: род, династия)
savio — мудрый
semplice — чистый, несмешанный
senato — сенат
Serenissima или Serenissima republica — Светлейшая республика
(Венеция)
8о8
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ИТАЛОЯЗЫЧНЫХ понятий
servitù — рабство
setta — клика, мн.ч. sètte
signore — господин
s. naturale — наследный правитель
signoria — синьория, исполнительный орган флорентийской
республики
singulare — уникальный
sito — место, местоположение
spezie — вид
s. del governo — вид правления
stabilità — стабильность, постоянство
stato — ι) правление, полития, власть
mantenere lo s. — сохранить власть
2) политический режим
s. misto — то же, что governo misto
s. stretto — то же, что governo stretto
3) территория, контролируемая государем
stretto — узкий
governo s. — см. governo
sudditi — ι) подданные
2) жители подчиненных городов
tempo — время
tutto un согро — единое целое
universale — ι) зд.: совокупность всех граждан
natura dello u. — природа сообщества
2) universali (мн.ч.) — общие принципы
3) appetito и. — см. appetito
universalità — совокупность
и. dei cittadini — совокупность граждан
uno solo — один-единственный человек
uomini da bene — лучшие люди
utilità — полезность
valore — доблесть
antico v. — древняя доблесть
variazione — изменение
vigilanzia — бдительность
vigore di animo — сила духа
virilità — мужественность
virtù — ι) добродетель, положительное качество
2) доблесть
v. d'uno spirito italiano — доблесть италийского духа
v. militare — военная доблесть
grandissima v. — величайшая доблесть
virtuosi — люди доброго поведения
vivere — жизнь
v. civile — гражданская жизнь
v. libero — свободная жизнь
v. populäre — ι) жизнь народа
2) народное правление
modo di v. — зд.: общественное устройство
volubile — коварный
volubil creatura — коварнейшее существо
voluntà — свободная воля
Составитель Алина Звонарева
Библиография
А) Источники
Addison J. The Works / Ed. by H. Bohn. 6 vols. London: G. Bell, 1898-1912.
Addison J. The Spectator / Ed. by G. Smith. 4 vols. London: J.M. Dent,
1958-1961.
Alberti L.B. Delia Famiglia. The Family in Renaissance Florence. Columbia:
University of South Carolina Press, 1969.
Anon. A Declaration of the Parliament of England, Expressing the Grounds
of Their Late Proceedings, and of Settling the Present Government in the
Way of a Free State. London, 1649.
Anon. The True Portraiture of the Kings of England... London, 1650.
Anon. State Tracts: in Two Parts... Several Treatises Relating to the
Government, Privately Printed in the Reign of King Charles II... [and] from 1660
to 1689... London, 1693.
Anon. A Collection of State Tracts Published on Occasion of the Late
Revolution in 1688 and during the Reign of King William III. 3 vols. London, 1706.
Anon. A Letter from a Bystander to a Member of Parliament. London, 1741.
Aquinas, St. Thomas. Summa Theologica. 43 vols. Cambridge, England: Black-
friars Press, 1964-1972.
Aristotle. The Works of Aristotle / Ed. by W.D. Ross. 11 vols. London: Oxford
University Press, 1908-1931.
Aristotle. The Politics / Ed. by Sir Ernest Barker. London: Oxford University
Press, 1946.
Ascham A. A Discourse Wherein Is Examined What Is Particularly Lawfull
during the Confusions and Revolutions of Government. London, 1648.
Ascham A. Of the Confusions and Revolutions of Governments. London, 1649.
Aubrey J. Brief Lives / Ed. by O. Lawson Dick. London: Seeker and Warburg,
1958.
Bacon F Works / Ed. by J. Spedding, R.L. Ellis, D.D. Heath. 14 vols. London,
1868-1901.
Bacon F. The Reign of King Henry VII / Ed. by F.J. Levy. Indianapolis:
Bobbs-Merrill, 1972.
Boccalini T. Ragguagli da Parnasso. 2 vols. Venezia, 1612-1613.
Boethius. The Consolation of Philosophy. Harmondsworth: Penguin, 1970,
Bolingbroke, Henry St. John, Viscount. Works /. Ed. by D. Mallett. 5 vols.
London, 1754.
Brown J. An Essay on the Manners and Principles of the Times. London, 1757.
Burke E. Works. London: Bohn, 1877; Boston: Little, Brown and Company, 1899.
Cartwright F.D. The Life and Correspondence of Major John Cartwright.
London, 1826.
Cavalcanti G. Istorie Florentine. Firenze, 1838.
Contarini G. De Magistratibus et Republica Venetorum. Paris, 1543.
Contarini G. The Commonwealth and Government of Venice. Written by the
Cardinall Gasper Contareno and Translated out of Italian into English
by Lewes Lewkenor. London, 1599.
810
А) ИСТОЧНИКИ
Crevecœur, Hector St. John. Letters from an American Farmer. London:
J. M. Dent and Son, 1912, 1962.
Davenant Ch. The Political and Commercial Works of Dr. Charles D Avenant /
Ed. by Sir Charles Whitivorth. 6 vols. London, 1771.
Defoe D. An Argument showing that a Standing Army, with Consent of
Parliament, Is not Inconsistent with a Free Government. London, 1698.
Defoe D. The True-Born Englishman. A Satyr. London, 1700.
Defoe D. The Review. 23 vols. New York: Columbia University Press, 1928.
Facsimile Text Society.
Egmont, John Perceval, Earl of. Faction Detected by the Evidence of Facts.
London, 1743.
Ferguson A. Essay on the History of Civil Society / Ed. by D. Forbes. Edinburgh
University Press, 1966.
Filmer, Sir Robert. Patriarcha and Other Political Writings / Ed. by P. Laslett.
Oxford: Basil Blackwell, 1949.
Fletcher A. A Discourse of Government in Relation to Militias. Edinburgh, 1698.
Fletcher A. Political Works. London, 1737.
Fortescue, Sir John. De Laudibus Legum Anglie / Ed. by S.B. Chrimes.
Cambridge: Cambridge University Press, 1949.
Giannotti D. Opère / A cura di G. Rosini. 3 vols. Pisa, 1819.
Greville, Fulke, Lord Brooke. The Remains, Being Poems of Monarchy and
Religion / Ed. by G.A. Wilkes. London: Oxford University Press, 1965.
Guicciardini F. Dialogo e Discorsi del Reggimento di Firenze / A cura di
R. Palmarocchi. Bari: Laterza, 1932.
Guicciardini F Ricordi / A cura di R. Spongano. Firenze: Sansoni, 1959.
Guicciardini F Maxims and Reflections of a Renaissance Statesman. New
York: Harper and Row, 1965.
Guicciardini F Selected Writings / Ed. and trans, by Cecil and Margaret
Grayson. London: Oxford University Press, 1965.
Guicciardini F The History of Florence. New York: Harper and Row, 1970.
Guicciardini F The History of Italy / Ed. and trans, by S. Alexander. New
York: Collier, 1969; Macmillan, 1972.
Hammond H. The Works of Dr. Henry Hammond. 4 vols. London, 1671-1684.
Harrington J. Oceana and Other Works / Ed. by J. Toland. London, 1771.
Hervey, John, Lord. Ancient and Modern Liberty Stated and Compared.
London, 1734.
Historical Collections of Private Passages of State / Ed. by J. Rushworth.
London, 1659-1701.
Hobbes Th. The English Works / Ed. by Sir William Molesworth. и vols.
London, 1839-1845.
Hobbes Th. Leviathan / Ed. by M. Oakeshott. Oxford: Basil Blackwell, n.d.
Hobbes Th. Behemoth / Ed. by F. Tonnies. London, 1889; London: Frank
Cass, 1969.
Hume D. Essays, Moral, Political and Literary. London: World's Classics, 1903.
Hume D. Economic Writings / Ed. by E. Rotwein. Madison: University of
Wisconsin Press, 1970.
Hume D. The History of Great Britain. Volume I, Containing the Reigns of
James I and Charles I. Ed. D. Forbes. Harmondsworth: Penguin, 1970.
Hunton Ph. A Treatise of Monarchy. London, 1643.
Jefferson Th. Notes on the State of Virginia / Ed. by W. Peder. Chapel Hill:
University of North Carolina Press, 1955.
Landucci L. A Florentine Diary from 1450 to 1516. London: J. M. Dent, 1927.
811
БИБЛИОГРАФИЯ
Locke J. Two Treatises on Government / Ed. by P. Laslett. Cambridge:
Cambridge University Press, i960, 1963; New York: Mentor, 1965.
Machiavelli N. Tutte le Opère / A cura di F. Flora, С. Cordiè. Roma: Arnaldo
Mondadori, 1949.
Machiavelli N. Opere / A cura di M. Bonfantini. Vol. 29. Milano, Napoli:
Riccardo Ricciardi, 1954. La Letteratura Italiana, Storia e Testi.
Machiavelli N The History of Florence / Ed. by F. Gilbert. New York: Harper
and Row, i960.
Machiavelli N. Lettere / A cura di F. Gaeta. Milano: Feltrinelli, 1961.
Machiavelli N. The Prince / Ed. and trans, by G. Bull. Harmondsworth:
Penguin, 1961.
Machiavelli N. The Art of War / Ed. by N. Wood. Indianapolis: Bobbs-
Merrill, 1965.
Machiavelli N. The Discourses / Ed. by B. Crick. Harmondsworth: Penguin,
1970.
Mandeville B. The Fable of the Bees / Ed. by F.B. Kaye. 2 vols. Oxford: The
Clarendon Press, 1924.
Mandeville B. An Enquiry into the Origins of Honour and the Usefulness of
Christianity in War / Ed. by M.M. Goldsmith. London: Frank Cass, 1971.
Marvell A. Complete Works / Ed. by A.B. Grosart. London, 1875.
Millar J. A Historical View of the English Government. 4 vols. 4th ed. London,
1819.
Montesquieu Ch.S. Œuvres Complètes. Paris: Gallimard, 1949.
Nedham M. Mercurius Politicus. London, 1650-1660.
Nedham M. The Case of the Commonwealth of England Stated / Ed. by
Ph. A. Knachel. Charlottesville: University of Virginia Press, 1969.
Neville H. Plato Redivivus (London, 1680) / Ed. by C. Robbins // Two English
Republican Tracts. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
Parker H. Observations upon Some of His Majesty's Late Answers and
Expresses. London, 1642.
The Parliamentary History of England, from the Earliest Times to the Year
1803 / Ed. by W Cobbett. London, 1806-1820.
Polybius. The Histories / Ed. by F.W. Walbank. Bloomington: Indiana
University Press, 1962.
Puritanism and Liberty / Ed. by A.S.P. Woodhouse. London: J. M. Dent, 1950.
Ralegh, Sir Walter. Works / Ed., with lives by W. Oldys and T. Birch. Oxford
University Press, 1829.
Rousseau J.-J. The Political Writings of J.J. Rousseau / Ed. by C.E. Vaughan.
Oxford: Basil Blackwell, 1962.
Savonarola G. Prediche italiane ai fiorentini: Vol. I, Novembre-Dicembre del
1494 / A cura di F. Cognasso. Perugia, Venezia: La Nuova Italia Editrice, 1930.
Savonarola G. Prediche sopra Aggeo, con il Trattato circa il reggimento
e governo délia città di Firenze / A cura di L., Firpo. Edizione Nazionale
delle Opere di Girolamo Savonarola. Roma: Belardotti, 1955.
Sidney A. Discourses on Government. 3rd ed. London, 1751.
Smith A. Moral and Political Philosophy. New York: Hafner, 1948.
Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
London: J. M. Dent, 1910, 1950.
Squire S. An Enquiry into the Foundation of the English Constitution. London,
1745.
Squire S. An Historical Essay upon the Balance of Civil Power in England.
London, 1748.
Swift J. The Examiner / Ed. by H. Davis. Oxford: Basil Blackwell, 1957.
812
б; научная литература, монографии и сборники статей
Swift J. The History of the Four Last Years of the Queen / Ed. by H. Davis.
Oxford: Basil Blackwell, 1964.
Swift J. Political Tracts, 1711-1714 / Ed. by H. Davis. Oxford: Basil Blackwell,
1964.
Swift J. A Discourse of the Contests and Dissensions between the Nobles
and the Commons in Athens and Rome / Ed. by F.H. Ellis. Oxford: The
Clarendon Press, 1967.
Toland J. The Art of Governing by Parties. London, 1701.
Toland J. The State Anatomy of Great Britain. London, 1714.
Toland J. A Collection of Several Pieces of Mr. John Toland / Ed. by P. des
Maizeaux. London, 1726.
Trenchard J., Moyle W. An Argument showing that a Standing Army is
Inconsistent with a Free Government and Absolutely Destructive to the
Constitution of the English Monarchy. London, 1697.
Trenchard J., Gordon Th. Cato's Letters: or Essays on Liberty, Civil and
Religious, and Other Important Subjects. 3rd ed. London, 1723.
Tucker J. Four Tracts on Political and Commercial Subjects. London, 1774.
Tucker J. A Letter to Edmund Burke, Esq. London, 1775.
Tucker J. The True Interest of Britain. London, 1776.
Tucker J. A Treatise Concerning Civil Government. London, 1781.
Б) Научная литература. Монографии и сборники статей
Albertini R. von. Das florentinische Staatsbeiwusstsein im Übergang von der
Republik zum Prinzipat. Bern: Francke Verlag, 1955.
The American Hegelians: An Episode in the Intellectual History of Western
America / Ed. by W.H. Goetzmann. New York: Alfred A. Knopf, 1973.
Arendt H. The Human Condition. New York: Viking, 1958.
Arendt H. On Revolution. Chicago: Chicago University Press, 1963.
Baron H. Humanistic and Political Literature in Florence and Venice at the
Beginning of the Quattrocento. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1955.
Baron H. The Crisis of the Early Italian Renaissance. 2nd ed. Princeton:
Princeton University Press, 1906.
Baron H. From Petrarch to Leonardo Bruni: Studies in Humanist and Political
Literature. Chicago: Chicago University Press, 1968.
Bailyn B. Political Pamphlets of the American Revolution. Vol. I. Cambridge,
Mass.: Belknap Press, 1965.
Bailyn B. The Ideological Origins of the American Revolution. Cambridge,
Mass.: Belknap Press, 1967.
Bailyn B. The Origins of American Politics. New York: Vintage Books, 1970.
Bayley С. С War and Society in Renaissance Florence. Toronto: University
of Toronto Press, 1961.
Berman M. The Politics of Authenticity. New York: Atheneum, 1970.
Blitzer Ch. An Immortal Commonwealth: The Political Thought of James
Harrington. New Haven: Yale University Press, i960.
Bloom E.A., Bloom L.D. Joseph Addison's Sociable Animal: in the Market Place,
on the Hustings, in the Pulpit. Providence: Brown University Press, 1971.
Boorstin D. The Genius of American Politics. Chicago: Chicago University
Press, 1953.
Boorstin D. The Americans: the Colonial Experience. New York: Random
House, 1958.
813
БИБЛИОГРАФИЯ
Bouwsma W.J. Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance
Values in the Age of the Counter-Reformation. Berkeley, Los Angeles:
University of California Press, 1968.
Brandt W.J. The Shape of Medieval History: Studies in Modes of Perception.
New Haven: Yale University Press, 1966.
Bryson G. Man and Society: the Scottish Enquiry of the Eighteenth Century.
Princeton: Princeton University Press, 1945.
Butterfield, Sir Herbert. George III, Lord North and the People. London:
G. Bell and Son, 1949.
Butterfield, Sir Herbert. The Statecraft of Machiavelli. London: G. Bell and
Son, 1940, 1955.
Chambers W.N. Old Bullion Benton: Senator from the New West. Boston:
Little, Brown and Company, 1956.
Chambers W.N. Political Parties in a New Nation: The American Experience,
1776-1809. New York: Oxford University Press, 1963.
Christie I.R. Wilkes, Wyvill and Reform: The Parliamentary Reform Movement
in British Politics, 1760-85. New York: St. Martin's Press, 1962.
Christie I.R. Myth and Reality in Late Eighteenth-century British Politics.
Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1970.
Cochrane Ch.N. Christianity and Classical Culture. New York: Oxford
University Press, 1957.
Cohn N. The Pursuit of the Millennium. 2nd ed. New York: Harper and
Row, 1961.
Colbourn H. 77 The Lamp of Experience: Whig History and the Beginnings
of the American Revolution. Chapel Hill: University of North Carolina
Press, 1965.
Conklin G.N. Biblical Criticism and Heresy in Milton. New York: King's
Crown Press, 1949.
Cook R. I. Jonathan Swift as a Tory Pamphleteer. Seattle, London: University
of Washington Press, 1967.
Cosenza M.E. Petrarch's Letters to Classical Authors. Chicago: Chicago
University Press, 1910.
De Capranis V. Francesco Guicciardini: dalla politica alia storia. Bari: Laterza,
195°·
Dickinson H. T. Bolingbroke. London: Constable, 1970.
Dickson P.G.M. The Financial Revolution in England: A Study in the
Development of Public Credit. London: Macmillan, 1967.
Dunn J. The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the
Argument of the Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge
University Press, 1969.
Earl D.C. The Moral and Political Tradition of Rome. Ithaca: Cornell
University Press, 1967.
The English Libertarian Heritage / Ed. by D.L. Jacobson. Indianapolis:
Bobbs Merrill, 1965.
Ferguson A.B. The Articulate Citizen and the English Renaissance. Durham,
N.C.: Duke University Press, 1965.
Ferguson J. The Religions of the Roman Empire. Ithaca: Cornell University
Press, 1970.
Fink Z- S. The Classical Republicans: An Essay in the Recovery of a Pattern
of Thought in Seventeenth-Century England. Evanston: Northwestern
University Press, 1945.
Florilegium Historiale: Essays Presented to Wallace K. Ferguson / Ed. by
J.G. Rowe and W.H. Stockdale. Toronto: University of Toronto Press, 1971.
814
Б") НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА. МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ СТАТЕЙ
Florentine Studies: Politics and Society in Renaissance Florence / Ed. by
N. Rubinstein. London: Faber and Faber, 1968.
Foot M. The Pen and the Sword. London: Macgibbon and Kee, 1957.
Frank J. The Beginnings of the English Newspaper. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1961.
Gardner L. С A Different Frontier: Selected Readings in the Foundations of
American Economic Expansion. Chicago: Quadrangle Books, 1966.
Garin E. Italian Humanism: Philosophy and Civic Life in the Renaissance.
New York: Harper and Row, 1965.
Giarrizzo G. Hume politico e storico. Torino: Einaudi, 1962.
Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini: Politics and History in Sixteenth-
Century Florence. Princeton: Princeton University Press, 1965.
Gilbert F. To the Farewell Address: Ideas of American Foreign Policy. Princeton:
Princeton University Press, 1961, 1970.
Gummere R.M. The American Colonial Mind and the Classical Tradition:
Essays in Comparative Culture. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1963.
Gumming R.D. Human Nature and History. 2 vols. Chicago: Chicago University
Press, 1969.
Gunn Jf.A. W. Factions No More: Attitudes to Party in Government and
Opposition in Eighteenth-Century England. London: Frank Cass, 1972.
Gwyn W. B. The Meaning of the Separation of Powers: An Analysis of the
Doctrine from its Origin to the Adoption of the United States Constitution.
New Orleans: Tulane Studies in Political Science, 1965.
Haley K.H.D. The First Earl of Shaftesbury. Oxford: The Clarendon Press, 1968.
Haller W. Foxe's Book of Martyrs and the Elect Nation. London: Jonathan
Cape, 1963.
Hanson D. W. From Kingdom to Commonwealth: The Development of Civic
Consciousness in English Political Thought. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1970.
Haraszti Ζ J°hn Adams and the Prophets of Progress. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1952.
Hartz L.B. The Liberal Tradition in America: An Interpretation of American
Political Thought since the Revolution. New York: Harcourt Brace, 1955.
Hexter 7.H. The Vision of Politics on the Eve of the Reformation: More,
Machiavelli, Seyssel. New York: Basic Books, 1972.
Hill Ch. Puritanism and Revolution. London: Seeker and Warburg, 1958.
Hill Ch. Society and Puritanism in Pre-Revolutionary England. New York:
Schocken Books, 1964.
Hill Ch. Antichrist in Seventeenth-century England. London: Oxford University
Press, 1971.
Hobbes and Rousseau / Ed. by M. Cranston and R.S. Peters. New York:
Doubleday Anchor Books, 1972.
Hofstadter R. С The Idea of a Party System: The Rise of Legitimate Opposition
in the United States, 1780-1840. Berkeley, Los Angeles: University of
California Press, 1969.
Holmes G. The Florentine Enlightenment, 1400-1450. London: Weidenfeld
and Nicolson, 1969.
Howe J. R., Jr. The Changing Political Thought of John Adams. Princeton:
Princeton University Press, 1966.
Huffman С. C. Coriolanus in Context. Lewisburg: Bucknell University Press, 1972.
Italian Renaissance Studies / Ed. by E.F. Jacob. New York: Barnes and
Noble, i960.
815
БИБЛИОГРАФИЯ
John Locke: Problems and Perspectives / Ed. by J.W. Yolton. Cambridge:
Cambridge University Press, 1969.
Jordan WK Men of Substance: A Study of the Political Thought of Two
English Revolutionaries, Henry Parker and Henry Robinson. Chicago:
Chicago University Press, 1942.
JudsonM. The Political Thought of Sir Henry Vane the Younger. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 1969.
Kelley D.R. The Foundations of Modern Historical Scholarship: Language, Law
and History in the French Renaissance. New York: Columbia University
Press, 1970.
Kettler D. The Social and Political Thought of Adam Ferguson. Columbus:
Ohio State University Press, 1965.
Kluxen K. Das Problem der Politischen Opposition: Entwicklung und Wesen der
englischen Zweiparteienpolitik im 18 Jahrhundert. Freiburg, Munich, 1956.
Koebner R. Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 1961.
Kramnick I. F. Bolingbroke and His Circle: The Politics of Nostalgia in the
Age of Walpole. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.
Ladner G.B. The Idea of Reform: Its Impact on Christian Thought and Action
in the Age of the Fathers. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959.
Lamont W.M. Marginal Prynne, 1600-1669. London: Routledge and Kegan
Paul, 1963.
Lamont W.M. Godly Rule: Politics and Religion, 1603-1660. London: Macmillan,
1969.
Laprade W. T. Public Opinion and Politics in Eighteenth-century England to
the Fall of Walpole. New York: Macmillan, 1936.
Leff G. Heresy in the Later Middle Ages. 2 vols. Manchester: Manchester
University Press, 1967.
Lefranc P. Sir Walter Ralegh Ecrivain. Paris: Armand Colin, 1968.
Lehmann W. C. John Millar of Glasgow. Cambridge: Cambridge University
Press, i960.
Letwin W. The Origin of Scientific Economics. New York: Doubleday Anchor,
1965.
LevensonJ.R. Liang Ch'i-ch'ao and the Mind of Modern China. Berkeley, Los
Angeles: University of California Press, 1953, 1959.
Levenson J.R. Confucian China and its Modern Fate. 3 vols. Berkeley, Los
Angeles: University of California Press, 1958-1965.
Levy F.J. Tudor Historical Thought. San Marino: Huntington Library, 1967.
Lewis С S. Selected Literary Essays. Cambridge: Cambridge University Press,
1969.
Machiavelli and the Nature of Political Thought / Ed. by M. Fleisher. New
York: Atheneum, 1972.
Macpherson C.B. The Political Theory of Possessive Individualism: from
Hobbes to Locke. Oxford: The Clarendon Press, 1962.
Mansfield H. G., Jr. Statesmanship and Party Government. Chicago: Chicago
University Press, 1965.
Manuel F. E. Shapes of Philosophical History. Stanford: Stanford University
Press, 1965.
Markus R.A. Saeculum: History and Society in the Theology of St. Augustine.
Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
Marx L. The Machine and the Garden: Technology and the Pastoral Ideal
in America. New York: Oxford University Press, 1964.
Mazzeo J.A. Renaissance and Seventeenth-century Studies. New York:
Columbia University Press, 1964.
816
Б) НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА. МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ СТАТЕЙ
Mcllwain С. К Constitutionalism Ancient and Modern. Ithaca: Cornell
University Press, Great Seal Books, 1958.
Mosse G.L. The Holy Pretence: A Study in Christianity and Reason of State
from William Perkins to John Winthrop. Oxford: Basil Blackwell, 1957.
Nisbet R.F. Social Change and History: Aspects of the Western Theory of
Development. New York: Oxford University Press, 1969.
Noble D. W. Historians against History: The Frontier Thesis and the National
Covenant in American Historical Writing since 1830. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1965.
O'Malley J. W. Giles of Viterbo on Church and Reform: A Study in Renaissance
Thought. Leiden: E.J. Brill, 1968.
Parker H. T. The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries: A Study in
the Development of the Revolutionary Spirit. Chicago: Chicago University
Press, 1937.
Patch H.R. The Goddess Fortuna in Medieval Literature. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1927.
Plumb J. H. The Growth of Political Stability in England, 1660-1730. London:
Macmillan, 1967.
PocockJ.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law: English Historical
Thought in the Seventeenth Century. Cambridge: Cambridge University
Press, 1957; New York: W.W. Norton, 1967.
Pocock J.G.A. Politics, Language and Time: Essays in Political Thought and
History. New York: Atheneum, 1971; London: Methuen, 1972.
Pole J. R. Political Representation in England and the Origins of the American
Republic. London: Macmillan, 1966; New York: St. Martin's Press, 1969.
Raab F. The English Face of Machiavelli. London: Routledge and Kegan
Paul; Toronto: University of Toronto Press, 1964.
Rawson E. The Spartan Tradition in European Thought. Oxford: The
Clarendon Press, 1969.
Reeves M. The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages: A Study in
Joachism. Oxford: The Clarendon Press, 1969.
Renaissance: Studies in Honor of Hans Baron / Ed. by A. Molho and J. A. Te-
deschi. Firenze: Sansoni; DeKalb: Northern Illinois University Press, 1971.
Richards J. 0. Party Propaganda under Queen Anne: The General Elections
of 1702-1713. Athens: University of Georgia Press, 1972.
Ridoffi R. Opuscoli di storia letteraria e di erudizione. Firenze: Libr. Bibliopolis,
1942.
Ridolfi R. Life of Girolamo Savonarola. London: Routledge and Kegan Paul,
1959.
Ridolfi R. Life of Niccolo Machiavelli. London: Routledge and Kegan Paul, 1962.
Ridolfi R. Life of Francesco Guicciardini. London: Routledge and Kegan
Paul, 1967.
Robbins C.A. The Eighteenth-century Commonwealthman: Studies in the
Transmission, Development and Circumstances of English Liberal Thought
from the Restoration of Charles II until the War with trie Thirteen Colonies.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959.
Rossiter C. Seedtime of the Republic: The Origin of the American Tradition
of Political Liberty. New York: Harcourt Brace, 1953.
Rubini D. Court and Country, 1688-1702. London: Rupert Hart-Davis, 1967.
SeigelJ.E. Rhetoric and Philosophy in Renaissance Humanism: The Union of
Eloquence and Wisdom, Petrarch to Valla. Princeton: Princeton University
Press, 1968.
Shackleton R. Montesquieu: A Critical Biography. Oxford: The Clarendon
Press, 1961.
817
БИБЛИОГРАФИЯ
ShklarJ. Men and Citizens: A Study of Rousseau's Social Theory. Cambridge:
Cambridge University Press, 1969.
Silberschmidt M. The United States and Europe: Rivals and Partners. New
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
Simon R. Henry de Boulainviller: historien, politique, philosophe, astrologue,
1658-1722. Paris: Boivin, 1941.
Simon R. Un révolté du grand siècle: Henry de Boulainviller. Carches: Éditions
du nouvel humanisme, 1948.
Smith H.N Virgin Land: The American West as Symbol and Myth. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1950; New York: Vintage Books, n.d.
Sperlin P.M. Rousseau in America, 1760-1809. Tuscaloosa, University of
Alabama Press, 1969.
Starns R. Donato Giannotti and His Epistolae. Genève: Librairie Droz, 1968.
Starr Ch. G. The Awakening of the Greek Historical Spirit. New York: Alfred
A. Knopf, 1968.
Stewart J. B. The Moral and Political Philosophy of David Hume. New York:
Columbia University Press, 1963.
Stourzh G. Alexander Hamilton and the Idea of Republican Government.
Stanford: Stanford University Press, 1970.
Strauss E. Sir William Petty: Portrait of a Genius. London: The Bodley Head,
1954·
Struever N. S. The Language of History in the Renaissance. Princeton: Princeton
University Press, 1970.
The Stuart Constitution, 1603-1688 / Ed. by J. P. Kenyon. Cambridge:
Cambridge University Press, 1966.
Studies in Machiavelli / Ed. by M.P. Gilmore. Firenze: Sansoni, 1972.
Sydnor Ch. S. Gentlemen Freeholders: Political Practice in Washington's Virginia.
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1952.
Sydnor Ch.S. American Revolutionaries in the Making. New York: The Free
Press, 1965.
Tacitus / Ed. by T.A. Dorey. New York: Basic Books, 1969.
The Three Crowns of Florence: Humanist Assessments of Dante, Petrarch
and Boccaccio / Ed. by D. Thompson and A. F. Nagel. New York: Harper
and Row, 1972.
Tuveson E. Millennium and Utopia: A Study in the Background of the Idea
of Progress. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1949.
Tuveson E. The Redeemer Nation: The Idea of America's Millennial Role.
Chicago: University of Chicago Press, 1968.
Two English Republican Tracts / Ed. by C.A. Robbins. Cambridge: Cambridge
University Press, 1969.
Ullmann W. Principles of Government and Politics in the Middle Ages. London:
Methuen, 1961.
Ullmann W. History of Political Thought in the Middle Ages. Harmondsworth:
Penguin, 1965.
Ullmann W. The Individual and Society in the Middle Ages. Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1966.
Underdown D. Pride's Purge: Politics in the Puritan Revolution. Oxford: The
Clarendon Press, 1971.
Varese C. Storia e politica nella prosa del Quattrocento. Torino: Einaudi, 1961.
Venturi F. Utopia and Reform in the Enlightenment. Cambridge: Cambridge
University Press, 1971.
Vile M.J. С Constitutionalism and the Separation of Powers. Oxford: The
Clarendon Press, 1967.
818
В) СТАТЬИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ И ДИССЕРТАЦИИ
Von Fritz К. The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. New York:
Columbia University Press, 1954.
Wade I.0. The Clandestine Organisation and Diffusion of Philosophic Ideas
in France from 1700 to 1750. Princeton: Princeton University Press, 1938.
Walbank F. W. An Historical Commentary on Polybius. Oxford: The Clarendon
Press, 1957.
Wallace J. M. Destiny His Choice: The Loyalism of Andrew Marvell.
Cambridge: Cambridge University Press, 1908.
Walzer M. The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical
Politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965.
Ward J. W. Andrew Jackson: Symbol for an Age. New York: Oxford University
Press, 1955.
Weinstein D. Savonarola and Florence: Prophecy and Patriotism in the
Renaissance. Princeton: Princeton University Press, 1970.
Western Jf.R. The English Militia in the Eighteenth Century: The Story of
a Political Issue, 1660-1802. London: Routledge and Kegan Paul, 1965.
Western J.R. Monarchy and Revolution: The English State in the i68o's.
London: Blandford Press, 1972.
Weston С. C. English Constitutional Theory and the House of Lords. London:
Routledge and Kegan Paul, 1965.
Whitfield J. H. Petrarch and the Renaissance. New York: Russell and Russell,
1965.
Whitfield J. H. Discourses on Machiavelli. Cambridge: W. Heifer and Sons, 1969.
Wilkins E.H. The Life of Petrarch. Chicago: Chicago University Press, 1961.
Williams S.H. The Radical Reformation. Philadelphia: The Westminster
Press, 1962.
Wood G. S. The Creation of the American Republic. Chapel Hill: University
of North Carolina Press, 1969.
В) Статьи в периодических изданиях и диссертации
Banning L. G. The Quarrel with Federalism: A Study in the Origins and
Character of Republican Thought. Ph.D. dissertation. Washington:
Washington University, 1972.
Baron H. Machiavelli: The Republican Citizen and the Author of The Prince //
English Historical Review. Vol. 76 (1961). P. 217-253.
Baron H. Leonardo Bruni // Past and Present. Vol. 36 (1967). P. 21-37.
Un discorso sconosciuto di Donato Giannotti sulla milizia / A cura di
G.R. Sanesi // Archivio storico italiano. Ser. 5. Vol. 8 (1891). P. 2-27.
Forbes D. Politics and History in David Hume // The Historical Journal. 1963.
Vol. 6. № 2. P. 280-294.
Fuss P. Hannah Arendt's Conception of Political Community // Idealistic
Studies. 1973. Vol. 3. № 3. P. 252-265.
Gilbert F Bernardo Rucellai and the Orti Oricellari: A Study in the Origin
of Modern Political Thought // Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes. Vol. 12 (1949). P. 101-131.
Gilbert F. The Composition and Structure of Machiavelli's Discorsi // Journal
of the History of Ideas. 1953. Vol. 14. № 1. P. 136-156.
Gilbert F Florentine Political Assumptions in the Period of Savonarola and
Soderini // Journal of the Warburg and Courtauld Institute. Vol. 20
(1957). P. 187-214.
Gilbert F The Date of the Composition of Contarini's and Giannotti's Books
on Venice // Studies in the Renaissance. Vol. 14 (1967). P. 172-184.
819
БИБЛИОГРАФИЯ
Lamont W.M. Richard Baxter, the Apocalypse and the Mad Major // Past
and Present. Vol. 55 (1972). P. 68-90.
Maclean A. H. George Lawson and John Locke // Cambridge Historical Journal.
1947. Vol. 9. № 1. P. 69-77.
Pocock J.G.A. The Onely Politician: Machiavelli, Harrington and Felix Raab //
Historical Studies: Australia and New Zealand. 1966. Vol. 12. № 46. P. 165-
196.
Pocock J. G.A. James Harrington and the Good Old Cause: A Study of the
Ideological Context of His Writings // Journal of British Studies. 1970.
Vol. 10. № 1. P. 30-48.
Pocock J. G.A. Virtue and Commerce in the Eighteenth Century // Journal
of Interdisciplinary History. 1972. Vol. 3. № 1. P. 119-134.
Ranum 0. Personality and Politics in the Persian Letters // Political Science
Quarterly. 1969. Vol. 84. № 4. P. 606-627.
Riesenberg P. Civism and Roman Law in Fourteenth-century Italian Society //
Explorations in Economic History. 1969. Vol. 7. № 1-2. P. 237-254.
Robey D. P.P. Vergerio the Elder: Republicanism and Civic Values in the
Work of an Early Humanist // Past and Present. Vol. 58 (1973). P. 3-37.
Rosenmeier J. New England's Perfection: The Image of Adam and the Image
of Christ in the Antinomian Crisis, 1634 to 1638 // William and Mary
Quarterly. 3rd ser. 1970. Vol. 27. № 3. P. 435-459.
Rubini D. Politics and the Battle for the Banks, 1688-1697 // English Historical
Review. Vol. 85 (1970). P. 693-714.
Schwoerer L. F. The Literature of the Standing Army Controversy // Huntington
Library Quarterly. Vol. 28 (1964-1965). P. 187-212.
Seigel J. E. Civic Humanism or Ciceronian Rhetoric? // Past and Present.
Vol. 34 (1966). P. 3-48.
Shackleton R. Montesquieu, Bolingbroke and the Separation of Powers //
French Studies. 1949. Vol. 3. P. 25-38.
Sir Edward Stanhope's Advice to Thomas Wentworth / Ed. by P. Zagorin //
The Historical Journal. 1964. Vol. 7. № 2. P. 298-320.
Skinner Q. Hobbes's Leviathan // The Historical Journal. 1964. Vol. 7. № 2.
P. 321-332.
Skinner Q. History and Ideology in the English Revolution // The Historical
Journal. 1965. Vol. 8. № 2. P. 151-178.
Skinner Q. The Ideological Context of Hobbes's Political Thought // The
Historical Journal. 1966. Vol. 9. № 3. P. 286-317.
Starr Ch. G. History and the Concept of Time // History and Theory, Beiheft.
1966. Vol. 6. P. 24-35.
Wallace J.M. The Engagement Controversy, 1649-1652: An Annotated List
of Pamphlets // Bulletin of the New York Public Library. Vol. 68 (1964).
p. 384-405.
Walzer M. Exodus 32 and the Theory of Holy War: The History of a Citation //
Harvard Theological Review. 1968. Vol. 61. № 1. P. 1-14.
Weddell D. Charles Davenant (1656-1714) — a Biographical Sketch // Economic
History Review. Ser. 2. 1958-1959. Vol. II. P. 279-288.
Weston C.C. Legal Sovereignty in the Brady Controversy // The Historical
Journal. 1972. Vol. 15. № 3. P. 409-432.
Williamson A. H. Antichrist's Career in Scotland: The Imagery of Evil and the
Search for a National Past. Ph.D. dissertation. Washington: Washington
University, 1973.
Тимур Агпнашеву Михаил Велижев1
Первооткрыватель
республиканской традиции
или Как заниматься политической философией
с помощью истории политических языков?
«Момент Макиавелли» Покока стоит в ряду наиболее
авторитетных и цитируемых исследований в общественных и
гуманитарных науках за последние пятьдесят лет. В 1975 Г°ДУ По-
кок предложил новую и оригинальную концепцию истории
западной политической философии Нового времени, где место
абстрактных «идей» занимают исторически локализованные
языки или наборы ключевых понятий, устойчивых
словосочетаний и аргументов, которые полемически и «диалектически»
используются множеством авторов. Он проследил миграцию
республиканского языка из Флоренции Медичи, где
Макиавелли, Гвиччардини и Джаннотти по-новому прочитали
классические тексты античных авторов, через революционную Англию
XVII века к отцам-основателям США в веке XVIII. В созданной
Пококом истории авторы американской конституции, в дебатах
проектировавшие новую республику, активно читали тексты
республиканской традиции и использовали оригинальный язык
пламенного Макиавелли, в свою очередь осмыслявшего судьбу
Флоренции с помощью вновь открытых понятий Аристотеля,
Полибия и Цицерона. Язык итальянского республиканизма
эпохи Возрождения послужил основанием новой политической
риторики и историзма в англоязычном мире, более важным,
чем язык и аргументы рассудительного Локка об
универсальных естественных правах, труде и собственности.
I. Тимур Атнашев — доцент кафедры государственного управления и
публичной политики ИОН РАНХиГС, ведущий научный сотрудник
Центра современных политических исследований ИОН РАНХиГС; Михаил
Велижев — профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ,
ведущий научный сотрудник Центра современных политических
исследований ИОН РАНХиГС. Исследование осуществлено в рамках
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 году.
821
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
Покок предложил самую влиятельную и комплексную
реконструкцию ключевых идиом, оппозиций и аргументов се-
кулярной республиканской традиции XV-XVIII веков по обе
стороны Атлантического океана. Хорошо узнаваемая
республиканская идиома1, возникшая в среде внимательных читателей
античных текстов, веривших, что человек — существо
политическое, позволял ответить на ключевые вызовы, с которыми
сталкивались политические сообщества Англии и Америки
на протяжении нескольких столетий. В числе основных
понятий, дилемм и нормативных установок республиканизма,
безусловно, следует отметить противостояние гражданской
добродетели и непредсказуемой фортуны, оппозицию
доблести и коррупции независимых граждан-воинов во Флоренции,
идею о превосходстве институтов смешанного правления над
остальными формами политии, динамизм, недолговечность
и неустойчивость республиканской формы общежития,
таинственную диалектику республики и империи, критическое
осмысление в Англии и США коммерческой деятельности как
источника коррупции и, наконец, активное неприятие
постоянной армии, патронажа и государственного кредита,
противопоставленных гражданским (и религиозным) добродетелям
независимых земледельцев или фермеров.
Из предисловия, специально написанного британским
специалистом по интеллектуальной истории Ричардом Уотмором
для переиздания монографии Покока в 20i6 году2, читатель
сможет узнать увлекательные подробности того, как создавался
«Момент Макиавелли». Мы оказываемся внутри своеобразной
живой лаборатории, объединявшей учителей Покока и его
коллег, на перекрестье множества идей и научных концепций, на
фоне которых историк разворачивал свое исследование. Далее
мы постараемся, во-первых, изложить краткую версию
основных тезисов Покока, показать общую логику и методологию его
работы, во-вторых, дать обзор целого ряда значимых моментов
в рецепции книги, в-третьих, представить сквозную тему
фундаментального проекта Покока и других историков Кембриджской
школы — республиканскую политическую традицию. В
частности, благодаря научной строгости Покока-историка и
оригинальной позиции Покока-политического философа мы можем
1. О понятии «идиома» у Покока см.: Атнашев 77, Велижев М. «Context is
king»: Джон Покок — историк политических языков // Новое
литературное обозрение. № 134 (2015). С. 22.
2. См. настоящее издание, стр. 7~27·
822
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
сегодня четко разделить две ипостаси республиканизма — как
предмета исторических исследований и как самостоятельного
направления в политической теории. В заключение мы
попробуем ответить на вопрос о значении республиканизма в
политических взглядах и идеологических намерениях самого Покока.
I. Сюжет, методология и основные аргументы
«Момента Макиавелли»
«Трансляция добродетели» от Аристотеля
до отцов-основателей: Arete, Virtus, Virtu, Virtue
В своей книге Покок описывает двухтысячелетнюю историю
республиканского языка или республиканской парадигмы
политического мышления. Перед завороженными читателями,
апологетами и критиками Покока, разворачивается
масштабная картина миграции республиканизма через Атлантический
океан. Ключевая тема его исследовательского нарратива —
фундаментальная важность и внутренние напряжения концепции
Zôon politicon, роли активного гражданства и его добродетелей
в эволюции западноевропейской политической мысли Нового
времени. «Долгая» история республиканизма берет свое
начало в «Политике» Аристотеля, читавшего лекции на
древнегреческом языке в Афинах IV века до н.э. Спустя несколько
веков традицию развил Полибий в своих работах, написанных
на койне. В речах и трактатах Цицерона, Тита Ливия, Сенеки,
Саллюстия и других латинских авторов республиканизм
сложился окончательно — в концептуальном и содержательном
смысле. Virtus — гражданская добродетель активного участия
в жизни Res Publica — сочетает воинскую добродетель и
политическую деятельность. Наиболее авторитетную критику
республиканской доктрины создал в сочинении «О Граде
Божьем» Аврелий Августин, писавший на латыни в V веке. Он
выступал за отказ от надежды на реализацию благой жизни
в посюстороннем мире и от попыток предсказать
Апокалипсис. История, политика и «град земной» казались Августину
предметами, недостойными приложения интеллектуальных
и моральных усилий христианина.
Через тысячу лет после распада Римской империи
республиканская идиома возрождается в XV столетии на тосканском
диалекте итальянского языка благодаря гражданам
неустойчивой Флорентийской республики. В трактатах Макиавелли,
823
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
Гвиччардини и Джаннотти, созданных во Флоренции XVI века,
республиканский язык получает новое истолкование.
Подробный и местами построчный анализ этих текстов Покок
дополняет обзором речей и текстов Савонаролы и Контарини. Здесь
архаическая мужская добродетель воина Virtus превращается
в Virtu, репертуар которой теперь включает как традиционную
готовность гражданина защищать свое отечество с оружием
в руках, так и способность лидера удерживать политический
порядок внутри и безопасность вовне — в контексте
постоянных изменений, вызванных в том числе и действиями
самого лидера, а также нравственным несовершенством граждан.
У Макиавелли и гуманистов Virtu оказывается в неизбежной
оппозиции к Fortuna, олицетворяющей случай и хаотический
ход вещей, и Corruzione, разъедающей добродетель изнутри.
Анализируя взлет и падение родной для них
Флорентийской республики, Макиавелли, Гвиччардини и Джаннотти
обращаются к античному наследию и создают несколько исто-
рико-социологических моделей, объясняющих переживаемый
Флоренцией кризис. Они изучают историю города, сравнивая
ее с историей древнего Рима и современной им, но казавшейся
вечной Венецианской республики. Согласно Пококу, каждый
из них решал одну (и, кажется, неразрешимую) задачу — как
спроектировать во Флоренции новую республику, способную
устоять против натиска Медичи в ситуации, когда жители
города утратили гражданскую добродетель и оказались в
зависимости от одной семьи. Республиканская «социология свободы»
в этом смысле подводила флорентийских гуманистов к мысли,
что материальная и моральная основа добродетели утрачена,
а без добродетели, как они хорошо знали, даже идеальные
законы не обеспечат республике устойчивость. Это осознание
хрупкости — один из главных мотивов книги и
республиканской традиции, реконструируемой Пококом.
Различные версии неортодоксальной христианской апо-
калиптики, самая известная из которых воплотилась в
действиях и речах Савонаролы, позволяли решить эту дилемму,
привлекая на помощь божественную благодать и Провидение,
компенсировавшие недостаток светской добродетели. Однако
для итальянских гуманистов, менее склонных к религиозному
мировоззрению, будущее республики выглядело более
мрачно. Только новая техническая добродетель Макиавелли,
отделившаяся от древней морали воина, позволяла республике
или государю рассчитывать на (заведомо неустойчивый) успех
824
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
в условиях порчи нравов и непостоянства внешних
обстоятельств. В этом отношении политическую мысль и язык
Макиавелли хорошо представляет образ кентавра, который сочетает
в себе древние, классические республиканские ценности
гражданского участия, патриотизма и войны с новыми,
модерными свойствами — эффективностью, стремлением к инновации
и активному, регулярному действию, которое само утверждает
свою мораль в несовершенном и неустойчивом мире.
Покок рассказывает о последовательной трансформации
республиканской парадигмы в Англии и Америке вплоть до
основания нового демократического государства в США.
Республиканский язык попадает из Италии в революционную
Британию XVII века, где англоязычные авторы — Харринг-
тон и его последователи — предлагают его новые вариации,
которые входят в контакт с другими политическими языками
(эсхатологическими понятиями протестантов, характерным
языком обычного права и «Древней конституции», а также
политическим языком новых вигов1). Для Харрингтона
гражданская Virtue землевладельца-джентри или йомена основана
на его самостоятельности и ответственности за соразмерное
человеческим потребностям хозяйство. Политическая свобода
обеспечена самодостаточностью и личной трудовой
добродетелью гражданина. Харрингтон разглядел в английском
землевладельце идеального носителя гражданских добродетелей,
будучи одним из влиятельных читателей и интерпретаторов
Макиавелли в Англии XVII века. После Славной революции
ι688 года республиканские идеалы, аргументы, понятия и
практики (в частности, баллотировка) сохранили свою актуальность.
Республиканская прививка дала плоды в почти забытый
специалистами политического дискурса период — Августинскую
эпоху (с конца XVII до конца XVIII века). Согласно
сложившемуся в историографии мнению, в этот промежуток времени
(«от Локка до Юма») шло укрепление либеральной доктрины
естественного права. Покок, напротив, показывает, сколь
важным республиканский язык оказался для сложившегося в этот
период нового противостояния Court—Country (Двор — Страна),
наложившегося на традиционное разделение на тори и вигов.
Благодаря неохаррингтонианцам, к которым Покок, в
частности, относит графа Шефтсбери, Г. Невилла и Э. Флетчера,
I. См. первую монографию Покока «Древняя конституция и феодальное
право» («The Ancient Constitution and the Feudal Law», 1957).
825
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
республиканская идеология стала языком критики растущей
власти премьер-министра, постоянной наемной армии,
государственного кредита, банка Англии и увеличения числа
королевских служащих.
На этом же языке представители Country защищали
институциональные предложения, укреплявшие власть парламента
и его подотчетность избирателям джентри, а также уходящий
модус жизни аграрного общества как основу политической
свободы и добродетели. Покок не устает напоминать, что
оппозиция «буржуазия», «парламент» — «дворянство», «монархия»
и другие метакатегории марксистской историографии так же
неадекватны Августинскому периоду, как и анахронистическая
гипотеза о нарастающей гегемонии либеральной доктрины от
эпохи Локка ко времени Смита и Милля. Существенно упрощая
сложные и нюансированные аргументы Покока, можно сказать,
что республиканский язык добродетели и свободы сдерживал
прогресс в бурной экономической жизни Англии и
противостоял развитию новых торгово-финансовых или «буржуазных»
отношений. Партия «Двора», альянс новых вигов с королевской
властью, под руководством почти всесильного
премьер-министра Уолпола осваивала и совершенствовала новые отношения,
создавая модерное государство и глобальную торговую империю.
Сильная исполнительная власть на тридцать лет взяла под
контроль большинство в парламенте, привлекая депутатов
раздачей должностей в растущей администрации, что получило
название патронажа. Государственный кредит, еще одна ключевая
инновация этого периода, позволил финансировать
постоянную армию и одновременно давал возможности для
обогащения части аристократии и зажиточного городского населения.
В течение всего XVIII столетия оппозиция «Страны»
разработала острый полемический язык, на котором она критиковала
патронаж, зависимость парламента от исполнительной власти,
государственный кредит и постоянную армию — как
коррупцию и прямую угрозу гражданской добродетели. Постоянная
армия окончательно отменяла необходимость в вооруженном
ополчении джентри и в неохарингтонианской логике лишала
сословие материальной и политической основы гражданской
добродетели. Новые экономические отношения, связанные с
финансовыми инструментами, представлялись торжеством
фикции и воображения. Бумажные деньги, возможность занимать
и давать деньги в кредит, потребление роскоши, казначейские
облигации и торговля ценными бумагами на бирже, постоянно
826
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
меняющимися в цене, служили свидетельством победы
вымышленного мира фантазии над реальностью. Традиционная
земельная рента, недвижимость и торговля
противопоставлялись фикции кредита и спекуляциям ценными бумагами.
Покок показывает, как республиканский язык и связанные
с ним модели, интерпретировавшие историю и политику, не
позволяли английской элите морально принять и одобрить
новые отношения. И все это несмотря на очевидный
практический успех как новой экономики, где торговля и финансы
заменяли земледелие, так и схемы государственного
управления, основанной на кредите, зависимом парламенте и
растущих бюрократии и армии. Даже самые циничные защитники
возникшей реальности, включая Дефо или Мандевиля, были
вынуждены признать «иллюзорный» характер новых
инструментов и использовать республиканский язык порчи нравов,
общественного блага и добродетели для парадоксальной
демонстрации общественной пользы от фиктивных и
коррумпирующих отношений.
Наконец, в конце XVIII века республиканизм становится
базовым языком политиков, участвовавших в обсуждении и
основании институтов нового американского государства, включая
Дж. Адамса, Дж. Мэдисона и Т. Джефферсона, считавших себя
продолжателями дела и идеалов античных республиканских
героев. Отцы-основатели (на разных полюсах идеологического
спектра) обращались к образам гражданской добродетели Рима,
Спарты и Афин, однако в то же время их живо интересовали
язык и аргументы английской оппозиции (партии «Страны»)
против коммерциализации, сильной исполнительной власти,
центрального банка, постоянной армии и патронажа.
Так, идеология «Страны» помогла обосновать отказ США
от власти метрополии и обострила неприятие союза
королевской власти и парламента, вместе создавших сильную
исполнительную власть. После революции встал вопрос о создании
новой формы правления, пригодной для США. Если
Макиавелли и его сограждане осмысляли опыт падения Флоренции,
то американские политики, читавшие флорентийца,
получили уникальную occasione учредить особую и автономную
республику. Покок показывает, как классические представления
о добродетелях одного, немногих и многих, английская
модель смешанной конституции и учение Монтескье получают
принципиально иное осмысление благодаря главной
американской инновации — институту представительства, который
827
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
фактически отстранял многих (народ) от участия в
осуществлении власти в пользу немногих. Таким образом
предшествующие модели радикально трансформировались, а значения
ключевых понятий республиканского лексикона смещались.
Республика, в античной традиции мыслившаяся как
форма сложного и взаимно сбалансированного участия
различных групп в правлении политией, осталась не только без
короля, но и почти без народа. Взамен участия и заботы об
общем благе предлагалось неограниченное представительство
частных групповых интересов, ни один из которых не должен
получить перевес над остальными. Однако республиканский
дискурс и критика коррупции и далее будут служить
источником чувства вины за первородный грех — революционный
отказ от ставки на добродетель в институциональном
дизайне новой конституции.
В США усиливается и получает оригинальное прочтение
другой важный термин внутренне противоречивого и
динамичного республиканского репертуара — империя.
Классическим решением, предложенным Макиавелли для сохранения
республики в неустойчивом мире Фортуны и коррупции,
выступало постоянное расширение политии за счет захвата
новых территорий. В сложившихся в XVIII столетии условиях
разлагающей нравы коммерции и бумажного кредита для
сохранения добродетели вновь потребовалась экспансия, но на
этот раз более мирная. В США было найдено как минимум
два решения, хорошо сочетавшихся с различными формами
христианского милленаризма и мессианства: постоянное
увеличение числа независимых и добродетельных
граждан-землевладельцев за счет освоения «природы», то есть новых
девственных земель на Западе (фронтир), и создание мировой
торговой империи, вовлекавшей в торговлю Индию и Китай.
Первый проект окончился в конце XIX века, второй —
оказался (почти) завершен в конце века XX. В обоих случаях
республиканская логика добродетели предполагала, что
постоянная динамика расширения позволит сдерживать разъедающее
влияние коррупции, которое вновь станет фатальным после
остановки экспансии. Внутренне добродетельная и
сбалансированная республика могла существовать только в качестве
расширяющейся вовне империи.
Различные «моменты Макиавелли» в США, Англии и
Флоренции объединяет общий язык, набор сходных и почти
неразрешимых противоречий и острое осознание опасности,
828
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
угрожавшей существованию республики. Следуя двойственной
природе кентавра, ответ на эту угрозу заключался как в
требовании возрождения классической добродетели, которое часто
оборачивалось критикой социальных и политических практик,
морализаторством и «плачем Иеремии», так и в смелом поиске
и реализации новых институциональных решений,
призванных компенсировать недостаток добродетели во имя общего
блага и устойчивости республики.
Методология Покока: политические языки
В качестве теоретической рамки при создании своей
амбициозной, стимулирующей и тонкой работы Покок использовал два
подхода: а) новую методологию анализа политического языка
и б) оригинальную трактовку изменений в политической
мысли как модуса исторического сознания.
Методология исследования связана с общими установками
Кембриджской школы и реконструкцией политических
языков или парадигм1. К 1975 году были опубликованы
знаменитая статья-манифест К. Скиннера «Значение и понимание
в истории идей» (1969), работа Дж. Данна «Идентичность
истории идей» (1968) и влиятельный сборник трудов самого
Покока «Политика, язык и время» (I971)· Покок смотрел на историю
политической мысли иначе, чем это принято в классической
истории идей (А. Лавджоя2) или в истории понятий (Р. Козел-
лека3). Историки идей выделяли классические, канонические
тексты, в которых идеи находили свое полное (или почти
полное) воплощение, и описывали эволюцию значений отдельно
взятой идеи — например, «справедливости» или «государства»,
условно, от Платона до Маркса. Они анализировали общие
основания политического порядка и часто закрывали глаза на
различия между языками и обществами, в которых
формулировались взгляды на справедливое правление.
1. О методологии Покока подробнее см.: Атнашев Т., Велижев М. «Context
is king»: Джон Покок — историк политических языков. С. 21-44·
2. Критику истории идей с позиций Кембриджской школы см. в статье:
Скиннер К. Значение и понимание в истории идей // Кембриджская
школа: теория и практика интеллектуальной истории / Сост. Т.
Атнашев и М. Велижев. М., 20i8. С. 53-122· См. также: Grafton A. The History of
Ideas: Precept and Practice, 1950-2000 and Beyond // Journal of the History
of Ideas. Vol. 67. № 1 (2006). P. 1-32.
3. О соотношении методологии Кембриджской школы с теоретическими
установками немецкой Begriffsgeschichte см.: Рихтер М. Покок, Скиннер
и Begriffsgeschichte II Кембриджская школа. С. 347~38°·
829
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
История понятий (особенно в немецкой традиции) куда
более чувствительна к историческому контексту, в котором
делается то или иное политическое высказывание. Она
апеллирует к особым словам или понятиям, с помощью которых
людям в разных странах было свойственно рассуждать о
своем историческом и политическом опыте. История понятий
разработала хорошо артикулированный метод, позволяющий
связать воедино разные смысловые пласты — семантику
концепта в конкретном высказывании здесь-и-сейчас и
значения, заключенные в «памяти» понятия, относящиеся к
предшествующей рефлексии о политическом, общественном или
этическом. Здесь смена исторических эпох определяется
радикальной трансформацией социальных практик и ключевых
концептов, с помощью которых люди осмысляют собственный
опыт. И все же история понятий смотрит на общественную
мысль подчеркнуто селективно — ученые, работающие в этой
области, прежде всего исследуют базовые лексемы
политического языка. Они отделяют понятия от авторской интенции
и текстуального контекста, а сами концепты обретают почти
метафизическую способность к автономному существованию.
Метод Покока радикально иной. Он занимается историей
политических языков или политического дискурса. Под
политическим языком Покок понимает совокупность понятий,
аргументов, риторических приемов, свойственных
определенной традиции говорения о принципах управления
человеческими сообществами. Политический язык аффилирован
с «профессиональными» или «дисциплинарными»
диалектами— языком права, экономики, религии, истории,
философии, медицины, естественных наук и т.д., откуда он черпает
материал и схемы, наделяющие политическую речь
легитимностью и убедительностью1.
Основным объектом изучения Пококу служат тексты (не
идеи и не понятия), интерпретированные как высказывания,
сделанные с определенной целью в конкретной
политической ситуации. Внутри текста могут сопрягаться несколько
языков, причем выбор новой идиомы понимается Пококом
как авторская стратегия, ставящая целью изменить
политический порядок или, вернее, способ рассуждения о нем.
Историк показывает, как ведущие мыслители прошлого боролись
I. Подробнее см.: Покок Дж. Г.A. The state of the art // Новое литературное
обозрение. № 134 fcois)· С. 45~~74 (пер. с англ. А. Бондаренко и У.
Климовой под ред. Е. Островской).
8зо
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
и работали с ограничениями и дилеммами, задаваемыми
господствующими парадигмами или политическими
языками. Повышенное внимание к текстам и конкретным
высказываниям не отменяет возможности создания «большой»,
«долгой» истории политической речи, однако заставляет нас
иначе взглянуть на принципы ее составления (для каждой
конкретной точки исторического континуума). Политические
языки долговечны и могут преодолевать огромные
пространства — именно это и произошло, по мнению Покока, с
республиканской идиомой.
Методология Покока: время или момент Макиавелли
Второй подход, представленный в книге, носит более
философский или даже спекулятивный характер и указывает на
фундаментальную связь исторического воображения,
осмысления исторических изменений, политической субъектности
и политической философии в Новое время. Покок
рассматривает работу интеллектуального историка этого периода как
изучение парадигм, с помощью которых политические деятели
стали осмыслять и обосновывать общественно значимые
действия людей в потоке изменений — в рамках Истории с
большой буквы. Вторая методологическая рамка стала результатом
повышенной чувствительности Покока к проблемам
философии истории как особого предмета исследования
политической мысли Нового времени.
Внимание Покока к историческому сознанию и
философии истории, которое некоторые комментаторы принимают
за его собственный историзм1, помогает увидеть, как в
конкретных текстах политической теории разрешались
противоречия между а) христианской хилиастической нацеленностью
на выход за пределы истории благодаря
провиденциальному действию благодати, б) античными понятиями о
циклическом времени и Фортуне и в) средневековым
представлением о главенствующем значении обычаев (custom, tradition,
usage). Главным открытием Макиавелли Покок называет
тезис о человеческой способности творить историю или быть
ее субъектом (agency), стремящимся восстановить порядок
I. Mansfield H. С, Jr. [Review] Pocock J.G.A. Machiavellian Moment // The
American Political Science Review. Vol. 71. № 3 (1977). P. 1152; Tarcov N. [Review]
Pocock J.G.A. Machiavellian Moment // Political Science Quarterly. Vol. 91.
№ 2 (1976). P. 381.
83I
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
из иррационального хаоса общественной жизни, лишенной
добродетели и благодати1.
В начале XVI века Макиавелли и другие флорентийские
теоретики сделали сильный интеллектуальный ход, благодаря
которому тексты и язык Аристотеля и Цицерона снова
приобрели злободневность. Инновация Макиавелли предопределила
переход от средневековой картины мира к нововременной.
Теологи и философы Средних веков рефлексировали над
проблемой вечности и неизменной божественной сущности. В рамках
этой парадигмы статус единичного события был чрезвычайно
низок, а истинный «Град Божий» обретался верующими лишь
после конца света. Макиавелли предложил новое понимание
секулярной истории как значимого и самоценного потока
изменений в земных политиях. Отныне люди становятся
действующими лицами светской истории, а устремление к республике
(как, заметим, и склонность к коммерческой деятельности)
занимает место средневекового христианского идеала. В случае
Савонаролы и американских пуритан республиканские
идеалы неотличимы от религиозных.
Преодолевая ограничения средневекового мировоззрения,
флорентийцы находят у Аристотеля тезис о противостоянии
добродетели и коррупции и в своих сочинениях усиливают
его. Кроме того, они добавляют принципиально новое
измерение — непредсказуемо развивающееся историческое время, в
котором формируется хрупкая и уязвимая республика.
Гражданская добродетель не статична (в противовес античному идеалу),
a vita activa, участие в общем деле, вписывается в ход открытой
инновациям истории. «Момент Макиавелли» (выражение,
подсказанное автору монографии его другом Скиннером), по По-
коку, и есть то самое время, когда граждане осознают
неустойчивость политического сообщества, которое тем не менее они
готовы мужественно защищать, создавать или реформировать.
Согласно Пококу, образованный греческий и римский
гражданин считал, что человеческая общественная природа
реализует себя в управлении полисом (городом, политией, республикой
или даже империей). Упражнения в добродетели и смешанный
политический режим способны остановить движение времени,
понятого как постепенные порча и разложение. Идеальная
форма республики — итог усилий благоразумных, рассудительных
I. См. прочтение этого аргумента в терминах «воли к власти» в
рецензии Марты Зебровски: ^ebrowski M. К. [Review] Pocock J.G.A. Machiavellian
Moment // The Journal of Politics. Vol. 38. № 2 (1976). P. 488.
832
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
и потому добродетельных граждан — структурирует и
удерживает хаос телесной материи, доминанты индивидуальных
желаний, аппетитов и импульсов. Так, только добродетельные
люди могли долго сосуществовать в обществе и приближаться
к первоистоку, природе zöon politikon.
Августин утвердил решительный разрыв между секуляр-
ной историей и эсхатологией. Его последователи отводили
свой взор от перипетий повседневной жизни, отдавая
предпочтение вечному, видя в текущих политических делах
проявления обычая или случая. Град земной не заслуживал
надежд и преданности, а добродетель направляла человека от
мирского к божественному. Средневековый ум внимательно
следил за проявлениями благодати и знаками грядущего
Апокалипсиса, явленными в настоящем, релевантном только как
пролог к великому будущему по ту сторону времени. История
служила собранием анекдотов и случайных событий, собрать
которые в осмысленное целое могли только пророки или
божественный разум. В эпоху Ренессанса возникает новая
конфигурация, открывающая возможность осмысления политических
перипетий как последовательной «истории». Сочувственное
прочтение трактатов Аристотеля, Цицерона, Саллюстия или
Полибия политической элитой в неустойчивых торговых
республиках Северной Италии и затем в коммерческой империи
Великобритании и экспериментальной американской
республике, искавших лучшего политического устройства,
возвращало актуальность античному секулярному идеалу vita activa.
Аристотелевский язык гражданских добродетелей ставил
перед Макиавелли и его современниками проблему: как
установить аристотелевскую конституцию в торговой республике,
потерявшей устойчивость и тридцать лет находившейся в
перманентном кризисе с постоянной сменой режимов. Ответом
на вызов и четкое осознание хрупкости общественного
порядка и свободы становятся несколько рецептов: выдвижение
на первый план индивидуальной добродетели лидера,
способного действовать без опоры на обычаи и добрые нравы, ин-
ституционализация борьбы за власть между народом, элитой
и государем, обеспечивающая свободу, и заведомо временная
ставка на гражданскую добродетель, противостоящую Фортуне
и коррупции. В более поздний период различные образы
коррупции («государственный кредит», «патронаж» и «постоянная
армия») окончательно вытесняют Фортуну в языке
наследников республиканской традиции в Англии и США.
833
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
Идеал гражданского участия и связанный с ним новый
конституционный язык были нацелены на сохранение
общественного целого благодаря индивидуальной добродетели граждан.
При этом новая парадигма, открытая Макиавелли,
предусматривала рациональное понимание конкретных механизмов
социальных изменений, знакомство с которыми может помочь
законодателю частично компенсировать нехватку добродетели
и хаос, порождаемый естественным ходом вещей. Обладая этим
знанием, лидеры и граждане способны производить
инновации — проектировать инструменты намеренного политического
действия в динамично разворачивающейся и опасной истории.
Республика оказывается идеалом будущего, которого
невозможно достичь, но к которому можно и нужно стремиться
наперекор отчуждающему потоку времени и неизбежной коррупции.
II. Рецепция и критика: pro et contra
Pro
С момента своей публикации книга вызывала и вызывает
противоречивую реакцию специалистов, сочетающую признание ее
достоинств, содержательную критику конкретных положений
и осторожный скепсис в отношении искусной магии пококовско-
го письма. Почти все многочисленные рецензенты и
комментаторы используют самые красноречивые выражения, дабы
подчеркнуть грандиозность «Момента Макиавелли». Критические
замечания, иногда чрезвычайно жесткие и хлесткие, всегда
сопровождаются такими эпитетами, как «неоспоримый шедевр»1,
«магистральный»8, «впечатляющий»3, «глубоко оригинальный»4,
magnum ори$ь «утонченный» и «многогранный»6, «многогранный»
ι. Cromartie A. Harringtonian Virtue: Harrington, Machiavelli, and the Method
of the Moment // The Historical Journal. Vol. 41. № 4 (1998). P. 988.
2. Goldsmith M.M. [Review] Pocock J.G.A. Machiavellian Moment // The
American Historical Review. Vol. 81. № 4 (1976). P. 890; Pincus S. Neither
Machiavellian Moment nor Possessive Individualism: Commercial Society and the
Defenders of the English Commonwealth // The American Historical Review.
Vol. 103. № 3 (1998). P. 705-736·
3. Mansfield H.C., Jr. [Review] Pocock J.G.A. Machiavellian Moment. P. 1152.
4. Bondanella P. [Review] Pocock J.G.A. Machiavellian Moment // Italian
Americana. Vol. 2. № 1 (1975). P. 118.
5. Jurdjevic M. Virtue, Commerce, and the Enduring Florentine Republican
Moment: Reintegrating Italy into the Atlantic Republican Debate // Journal
of the History of Ideas. Vol. 62. № 4 (2001). P. 727.
6. Сразу два автора используют в своих комментариях оба выражения:
Champlin J. R. [Review] Pocock J. G. A. Machiavellian Moment // The Review
of Politics. Vol. 39. № 1 (1977). P. 106; Wood N. [Review] Pocock J.G.A.
Machiavellian Moment // Political Theory. Vol. 4. № 1 (1976). P. 103.
834
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
и «глубокий»1, «блестящий»2, «восхитительный» и
«исторически убедительный»3. По столь возвышенным характеристикам
мы можем судить, что речь идет не просто о научном труде, но
о своеобразном произведении исследовательского искусства,
свидетельствующем об особой способности Покока создавать
в умах даже самых искушенных читателей сложноустроенные,
но очень живые и убедительные образы, раскрывающие
способы мышления и языки прошлого. Историк делает это
благодаря точным и хорошо выверенным указаниям на ограничения
и неартикулированные предпосылки, присущие политической
речи мыслителей и политиков в определенный исторический
период. Покок — фантастически эрудированный и
методологически ответственный исследователь, наделенный ярким
историческим воображением.
Мы хотели бы процитировать характерное совпадение в
отзывах двух разных рецензентов. Американский историк
политической мысли Н. Вуд отмечает: «Аргументы Покока настолько
сложны, насыщены, восприимчивы и многозначны, находятся
в постоянном диалектическом движении между несколькими
уровнями истолкований, что почти невозможно кратко и
адекватно пересказать их»4. Ему вторит Дж. Хекстер, видный
специалист по британской истории, известный острой критикой
в адрес многих коллег. Он не без доли иронии пишет о
трудности, с которой сталкивается внимательный читатель такого
сложного и интеллектуально насыщенного текста, как «Момент
Макиавелли». При этом Хекстер дважды говорит, что такой
читатель «будет более чем адекватно вознагражден за все
умственные усилия...»5. Мы можем легко добавить к этим суждениям
высказывания нескольких десятков рецензентов, большинство
1. Hexter J.H. [Review] PocockJ.G.A. Machiavellian Moment // History and
Theory. Vol. 16. № 3 (1977). P. 306-337.
2. Vasoli С The Machiavellian Moment: A Grand Ideological Synthesis // The
Journal of Modern History. Vol. 49. № 4 (1977). P. 661.
3. Forbes D. [Review] PocockJ.G.A. Machiavellian Moment // The Historical
Journal. Vol. 19. № 2 (1976). P. 553.
4. «Pocock's argument is so complex, so richly perceptive, subtle, and many-
faceted, moving dialectically between various explicatory levels, that to do
it justice in a brief summary is extraordinarily difficult» (Wood N. [Review]
PocockJ.G.A. Machiavellian Moment. P. 102); «The Machiavellian Moment
resists summary, partly because of the subtle, many-faceted character of its
style and argument, more importantly because an adequate summary would be
possible only from an overall perspective from which Pocock's accomplishments
and shortcomings could» (ChamplinJ.R. [Review] PocockJ.G.A. Machiavellian
Moment. P. 106).
5. Hexter J.H. [Review] PocockJ.G.A. Machiavellian Moment. P. 310-312.
835
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
из которых являются профессиональными гуманитариями,
занимающимися различными периодами развития
политической мысли Флоренции, Англии и США. Многие
современники почти сразу после появления «Момента Макиавелли»
поставили Покока в один ряд с такими политическими
мыслителями, как Л. Штраус, Ш. Волин, Ю. Хабермас и М. Фуко1.
Пожалуй, наиболее важным аргументом в пользу такой (с
нашей точки зрения, несколько неточной — мы скажем об этом
более подробно в заключении) оценки Покока как
политического философа первого ряда стало признание его
исключительного вклада в изменение представлений англоязычного
академического мира о ключевых понятиях и авторах
западного политического канона.
Наиболее сильные тезисы Покока, которые были признаны
сразу или выдержали проверку временем и острой полемикой
со специалистами в соответствующих дисциплинарных
областях, включают следующие положения: во-первых, «открытие»
значимой республиканской традиции и связанного с ней
узнаваемого политического языка в дебатах XVI 1-ХVIII веков
в Британии и США2, во-вторых, исследование трансфера этого
языка и соответствующих аргументов от флорентийских
гуманистов (и конкретно Макиавелли) в Англию эпохи Гражданской
войны и далее3, в-третьих, пересмотр ранее господствовавшего
представления о центральной роли Локка и, шире,
либерализма в политической мысли XVIII века4, в-четвертых, анализ
специфического языка английской оппозиции Country party и ряда
связанных с ней авторов Августинскои эпохи, многие из которых
были близки кругу Харрингтона и его последователям; именно
эта политическая идиома послужила источником аргументов
и ключевых понятий во время создания новой Американской
республики5, в-пятых, значимость «момента Макиавелли» как
1. Champlin J.R. [Review] PocockJ.G.A. Machiavellian Moment. P. 106
2. См. оценку Чезаре Вазоли, одного из самых резких критиков
интерпретации Покока: Vasoli С. The Machiavellian Moment: A Grand Ideological
Synthesis. P. 663.
3. Hexter J.H. [Review] PocockJ.G.A. Machiavellian Moment.
4. В этом отношении ключевым вкладом Покока стала критика
концепции «посессивного индивидуализма» Макферсона как господствующей
идеологии в Англии XVIII века. См.: Tarcov N. [Review] PocockJ.G.A.
Machiavellian Moment. P. 381; Pincus S. Neither Machiavellian Moment nor
Possessive Individualism: Commercial Society and the Defenders of the English
Commonwealth.
5. Ср., например: Goldsmith M.M. [Review] PocockJ.G.A. Machiavellian Moment.
P. 890.
836
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
типичной для Нового времени ситуации, в которой политики
и мыслители интерпретировали угрозу республиканской
форме правления в терминах гражданской добродетели, коррупции
и поиска новых институциональных решений.
После появления в печати «Момента Макиавелли» аргумент
о ключевой роли республиканской традиции, безусловно, стал
новой концептуальной рамкой для понимания истории
политической философии. Предваряя критику приписываемой
Харрингтону центральной роли в формировании британского
республиканизма, новозеландский историк Дж. Дэвис, по
собственному выражению, «неохотно и без благодарности»
признал большой исторический синтез Покока релевантным1. В
своей недавней полемической книге «Читая Макиавелли» (2018)
Дж. МакКормик отстаивает тезис о ключевой роли Гвиччарди-
ни для развития республиканской традиции в Англии и США.
Начиная главу, посвященную Кембриджской школе, автор сразу
предупреждает читателя, что в лице Покока и Скиннера
критикует «наиболее влиятельный современный подход к
изучению классического и раннемодерного республиканизма...»8.
Безусловно, Покок может допускать ошибки в интерпретации
отдельных текстов, на что указывали многочисленные
комментаторы и критики, специализирующиеся на конкретных
исторических периодах. Тем не менее именно Пококу впервые
удалось собрать воедино разрозненные фрагменты
исторического паззла республиканской традиции.
Contra
Полемические отзывы на «Момент Макиавелли» могут быть
разделены на три неравные части: ι) критика стиля и манеры
авторского письма, 2) критика методологии и структуры
исследования, з) критика отдельных утверждений Покока. Несмотря
на отмеченную выше магию и глубину анализа, многие
рецензенты отмечают сложность построений и чрезмерную длину
1. «But before I go any further I want to state my belief that The Machiavellian
Moment is a major work of historical synthesis and that it may come to
represent a serious contribution to the history and historiography of western
civilization's confrontations with its own dilemmas. These are high claims,
won rather reluctantly and ungraciously from a stubborn soul» (Davis J. C.
Pocock's Harrington: Grace, Nature and Art in the Classical Republicanism
of James Harrington // The Historical Journal. Vol. 24. № 3 (1981). P. 683).
2. McCormickJ.P. Reading Machiavelli. Scandalous Books, Suspect Engagements,
and the Virtue of Populist Politics. Princeton, 2018. P. 170.
837
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
фраз, осложняющих понимание концепции Покока1. Безусловно,
эта особенность текста ставит трудную задачу перед
переводчиками и редакторами «Момента Макиавелли». Проблему
признавал и сам автор, оправдываясь объективной сложностью
стоявших перед ним историографических вызовов2.
Общий дизайн труда и его методология также вызвали
существенную критику. Покока упрекали в чрезмерном (и, добавим,
неизбежном для такого разнообразия эпох и авторов)
использовании «вторичной» научной литературы, особенно в части,
посвященной США. Согласно некоторым рецензентам, в ряде
случаев недостаток внимания к текстам первоисточников,
отсутствие тщательной реконструкции политических ситуаций
и критического анализа документов делают выводы Покока
более уязвимыми3. Разная степень детализации и резкости
фокуса при изучении политической теории во Флоренции, Англии
и США также вызвала много вопросов. Самая резкая
критика связана с недостаточно глубоким пониманием
уникального исторического контекста, к которому обращался автор, что
ограничивало возможность в полной мере практиковать
метод, провозглашенный самим Пококом4. Ученые, близкие
марксистской методологии, указывали на недостаточное внимание
к социальному и социо-экономическому аспектам
действительности. Здесь мы сталкиваемся с более глубоким несогласием
с базовыми методологическими предпосылками Покока,
особенно в вопросе о соотношении языка, «реальной политики»
(Дж. Чамплин) и конкретной модели понимания общественной
истории (ср. «базис» и «надстройка» в комментарии Н. Вуда)5.
1. См.: McCormick J.P. Reading Machiavelli. Р. 309-З11·
2. См.: Pocock J. G.A. The Machiavellian Moment Revisited: A Study in History
and Ideology // The Journal of Modern History. Vol. 53. № 1 (1981). P. 52.
3. Forbes D. [Review] Pocock J. G. A. Machiavellian Moment. P. 554.
4. 4. Вазоли обвиняет Покока в недостаточно хорошем понимании
флорентийского контекста, но, впрочем, не указывает на конкретные
ошибки, связанные со столь серьезным недостатком. Критик
подчеркивает, что Покок обладает «бесспорными» аналитическими
способностями и знаниями. См.: Vasoli С. The Machiavellian Moment: A Grand
Ideological Synthesis. P. 663-664.
5. WoodN. [Review] Pocock J. G. A. Machiavellian Moment. P. 104; ChamplinJ.R.
[Review] Pocock J. G. A. Machiavellian Moment. P. 109. Для более
глубокого знакомства с современной рецепцией Макиавелли в постмарк-
систской традиции и, в частности, реакцию на интерпретацию его
трудов Пококом см.: Abensour M. Democracy against the State. Marx and
the Machiavellian Moment. Cambridge, 2011; Althusser L. Machiavelli and
Us. London, New York, 1999; Lefort C. Machiavelli in the Making. Evanston,
2012; The Radical Machiavelli. Politics, Philosophy and Language / Ed. by
F. Lucchese, F. Frosin and V. Morfini. Boston, 2015.
838
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
Кроме того, книга вызвала целый ряд существенных
возражений в отношении значимости и аргументов едва ли не
каждого из ключевых теоретиков, к которым обращался По-
кок. Мы можем лишь кратко указать на некоторые из
упреков, многие из которых представляются обоснованными, но,
конечно, требующими более серьезного и детального
рассмотрения: а) вызывает вопросы степень близости и знакомства
Макиавелли с трудами Аристотеля, точность
«республиканской» интерпретации Аристотеля и недостаточное внимание
к роли и влиянию Цицерона1; б) элитистская модель Гвиччар-
дини представляется более близкой к дальнейшей эволюции
республиканской традиции, чем популистская модель
Макиавелли, тексты которого Покок трактует слишком
избирательно8; в) республиканское прочтение Харрингтона Пококом
необходимо существенно скорректировать с учетом большей роли
стоицизма, сложного отношения Харрингтона к «коррупции»,
частичного принятия им «коммерческой деятельности» и
«созерцательной жизни»3; г) рецепция республиканских идей в
американских колониях Британии началась существенно раньше
XVIII века (как считал Покок), в частности в среде пуритан
начиная уже с первых лет XVII столетия4.
Завершая обзор, мы хотели бы подробнее остановиться на
еще одной важной группе возражений, с которыми согласно
большинство историков. Речь идет о формах конкуренции и
взаимодействия между различными языками в текстах, созданных
в одну и ту же эпоху. В данном случае критики ставят под
вопрос два ключевых тезиса и один необычный методологический
ход Покока: а) тезис о центральном значении республиканской
традиции в противовес либерализму и философии
естественного права Локка и б) тезис о неприятии республиканизмом
1. Sullivan V. Machiavelli's Momentary «Machiavellian Moment»: A
Reconsideration of Pocock's Treatment of the Discourses // Political Theory. Vol. 20.
№ 2 (1992). P. 309-318; Nadon Ch. Aristotle and the Republican Paradigm:
A Reconsideration of Pocock's «Machiavellian Moment» // The Review of
Politics. Vol. 58. № 4 (1996). P. 677-698.
2. McCorrnick J. P. Machiavelli against Republicanism: On the Cambridge School's
«Guicciardinian Moments» // Political Theory. Vol. 31. № 5 (2003). P. 615-643.
3. Cromartie A. Harringtonian Virtue: Harrington, Machiavelli and the Method
of the Moment; Davis J. C. Pocock's Harrington: Grace, Nature and Art in
the Classical Republicanism of James Harrington.
4. Maloy J. S. The First Machiavellian Moment in America // American Journal
of Political Science. Vol. 55. № 2 (2011). P. 450-462; Mitchell A. A Liberal
Republican 'Cato' // American Journal of Political Science. Vol. 48. № 3
(2004). P. 588-603.
839
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
новых форм экономической жизни и прогресса, понимаемых
как коррупция. Неоднозначный методологический ход связан
с решением Покока описывать преимущественно (а в
некоторых случаях — исключительно) республиканский элемент
политического дискурса в данную эпоху или у конкретного
автора без исследования конкурирующих идиом. Частичный отказ
от анализа альтернативных языков или их избирательное
рассмотрение имеет серьезные последствия, хотя очевидно, что
речь идет не об упущении, а об осознанном решении автора.
Обосновывая отказ рассматривать язык и аргументы Локка
и его влияние на традицию политической речи, Покок пишет
о «тактической необходимости»: сначала интерпретировать
контекст «без Локка», а затем вернуть его обратно1, каковую задачу
он оставил другим исследователям. Другие важные для
революционной Англии идиомы (например, монархический дискурс
Тюдоров, пуританский национализм и другие сектантские
течения или традицию «Древней Конституции») Покок
рассматривает скорее выборочно, показывая тонкие связи и
взаимные влияния языков друг на друга. В главах, посвященных
Флоренции и США, внимание британского историка к другим
идиомам заметно меньше. Решение автора в этом отношении
продиктовано как необходимостью сохранить сколько-нибудь
разумный объем исследования, так и иной задачей: как
можно убедительнее показать значение главного предмета
анализа, а именно республиканского диалекта, в общем строе
политического языка трех разных эпох и стран. Покок сравнивает
этот процесс с выделением нити одного цвета в ткани
пестрого ковра. Конечно, целый рисунок так воссоздать нельзя, но
достоверно проследить конфигурацию отдельного узора и
выделить «красную нить» вполне реалистично.
Легко возразить, что такой методологический выбор не
оставляет историку и его читателям возможности судить об
общей политико-лингвистической картине эпохи. Покок
наводил читателя на мысль о центральном значении
республиканской идиомы, заведомо понимая, что взвешенное суждение
о языковом целом на этом этапе невозможно. В этом смысле
тактический ход вполне удался, но вызвал естественную
критику, спровоцировав дальнейшие исследования по теме. Более
поздние работы историков демонстрируют, что в Англии XVII-
XVIII веков республиканский словарь в большинстве случаев
I. См. стр. 593~594 настоящего издания.
840
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
смешивался в самых разных пропорциях с другими идиомами.
Кроме того, в XVIII веке либеральный дискурс, связанный
с естественными правами, собственностью, положительной
оценкой торговли и труда, как правило, гармонично
сочетался с республиканскими лексемами и аргументами1.
Метафора разноцветного ковра оказалась более точной, чем
могло показаться на первый взгляд. Впрочем, такой поворот
требует существенно скорректировать и вывод о моральных
ограничениях, накладываемых республиканской парадигмой на
принятие новых коммерческих отношений и институтов.
Сплетение разных нитей означает, что «буржуазные добродетели»
в эту эпоху скорее дополняют, чем вытесняют «гражданские»8.
Более того, «вавилонское» смешение языков и ценностей можно
датировать еще более ранним периодом. Современный историк
М. Джурджевич утверждает, что элиты торговой Флоренции
прекрасно сочетали идеалы гражданских гуманистов и
легитимацию коммерческих отношений3. Как представляется, эта
линия критики полностью вписывается в методологическую
логику Покока, писавшего о гибкости языков4. Однако тезис
Джурджевича отчасти противоречит жесткости идеологических
выводов английского историка о противостоянии либерализма
и республиканизма, с которым он прямо ассоциирует и
развитие марксистской идеологии.
Подводя предварительный итог плодотворной
академической полемике, спровоцированной «Моментом Макиавелли», мы
можем уверенно сказать, что автору удалось предложить
оригинальный способ писать «историю идеологии» или «историю
политического языка» (вместо «истории политической мысли»).
Возможно, еще более ценной оказывается сама манера письма
Покока: она устроена таким образом, что учит читателя новой
для него лексике, которую историк намеренно приводит на
языке оригинала5. Благодаря Пококу почти забытый прежде
ι. Pincus S. Neither Machiavellian Moment nor Possessive Individualism:
Commercial Society and the Defenders of the English Commonwealth.
2. Appleby J. Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination.
Cambridge, Mass., 1992.
3. Jurdjevic M. Virtue, Commerce, and the Enduring Florentine Republican
Moment: Reintegrating Italy into the Atlantic Republican Debate // Journal
of the History of Ideas. Vol. 62. № 4 (2001). P. 721-743.
4. См.: Hume R.D. Pocock's Contextual Historicism // The Political Imagination
in History. Essays concerning J. G. A. Pocock / Ed. by D.N. DeLuna. Baltimore,
2006. P. 27-58.
5. «By and large, in leading his readers into the minds of the past that he is
examining he does not try to translate the political terminologies men once
84I
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
язык республиканской традиции стал частью хорошо
известного ныне репертуара аргументов, связанных с добродетелью,
коррупцией, оружием, земельной собственностью, постоянной
армией, демократическими институтами или фортуной.
III. Республиканская традиция и политическая
позиция практикующего историка
Что делает консерватор, когда пишет историю республиканцев?
Как мы отметили выше, Покок в большей мере является
выдающимся историком политического дискурса, нежели
оригинальным политическим мыслителем. В этом смысле его
траектория и вклад в политическую философию по своему
характеру отличаются от того, что в своем творчестве делали,
скажем, Фуко или Хабермас, также обращавшиеся к истории
Нового времени. Между тем, решительно повлияв на общую
интерпретацию истории политической мысли, Покок
(возможно, против собственной воли) способствовал укреплению
языка и аргументов, по отношению к которым сам исследователь
сохранял значительную критическую дистанцию.
Вопреки распространенному мнению об общей
политической позиции представителей Кембриджской школы1, Покок
не является республиканцем. Со свойственной ему
интеллектуальной эмпатией (которую легко принять за идеологическую
симпатию) он разделял сдержанно скептические,
настороженные и немного ироничные взгляды либеральных
консерваторов на амбиции республиканцев управлять человеческими
институтами с помощью секуляризованной религиозной
добродетели. Мы видим «консервативный» вклад Покока как
политического философа sui generis в его дистанцировании от
объекта собственного исследования и в рефлексии,
предполагающей возможность систематически разделять нормативные
и историографические суждения о дискурсе других эпох,
сочетая эмпатию и критику. Покок принадлежит к той категории
used into the ones with which his late twentieth-century readers are familiar...
So in a sense Pocock's first and perhaps heaviest demand on his readers is
that they master a new vocabulary made up of a small but highly mutable
set of terms, and the only way those readers can test their mastery of this
vocabulary is by trying to make sense of The Machiavellian Moment with
it» (Hexter J.H. [Review] PocockJ.G.A. Machiavellian Moment. P. 313).
1. См.: Nadon Ch. Aristotle and the Republican Paradigm: A Reconsideration
of Pocock's «Machiavellian Moment». P. 678-679.
842
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
мыслителей, которые совершают значимые для других
политических философов ходы не благодаря скрытому или явному
высказыванию нормативной позиции, а даже вопреки ей или
во всяком случае вне прямой связи с собственной
идеологической повесткой. Политическое кредо Покока ощутимо
присутствует в книге, но оно остается за кадром и может быть
распознано только внимательным читателем.
В чем мог состоять идеологический смысл работы Покока?
В заключении своего труда он упоминает концепцию vita activa
X. Арендт, которую считает одним из немногих мыслителей,
вернувших актуальность республиканской доктрине в XX веке.
Однако это указание остается единичным и не имеет
продолжения в основном тексте: речь не идет ни о полемике, ни об
апологии Арендт. Мы можем попытаться реконструировать
возможные идеологические намерения автора, посмотрев на
то, как Покок обращается с двумя основными идеологиями
своего времени — либерализмом и марксизмом. Сторонникам
и критикам этих убеждений он в изящной и провокативной
манере напоминает о забытом праязыке политической
философии (относительно) недавнего прошлого. После Великой
французской революции республиканская традиция оказалась
вытеснена новым гегемоном — политической экономией
либерализма. Покок подчеркивает, что исследование либерального
языка и его аргументов намеренно выносится им за скобки.
В послесловии 2003 года он почти не скрывает раздражения
и сарказма в отношении историографического культа Локка
в США, задающего черно-белую матрицу, где любое
высказывание и всякий мыслитель оцениваются в категориях «за или
против» философии Локка. Очевидно, одну из своих задач
Покок видел в том, чтобы напомнить о богатстве голосов, языков
и дискуссий, значимых для Англии и США Нового времени,
в которых Локк «не принимал участия».
Покок много говорит в книге и о другой влиятельной
идеологии, претендовавшей на гегемонию в британской
историографии ig6o-i970"x годов, хотя в его намерение не входило
детальное изучение этой линии мысли. Он спорит с марксистской
интеллектуальной матрицей, показывая ее анахронизм,
схематизм и неадекватность подлинно сложной картине английской
политической и экономической истории XVII и XVIII веков.
Критика марксистской историографии существенна для
понимания «Момента Макиавелли», но она носит скорее
методологический и внутрицеховой характер. Гораздо более идеологически
843
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
заряженными в отношении марксизма представляются два
других хода Покока. Во-первых, он утверждает явную
оппозицию республиканской парадигмы и модернизации. Во-вторых,
он несколько раз указывает на аналогию (если не на прямую
связь) между, с одной стороны, антимодернистским неприятием
коммерции и кредита неохаррингтонианцами и их
последователями в США и, с другой — более поздней темой отчуждения
человека от своей подлинной природы в ходе исторического
прогресса, общей для Руссо и Маркса. Настойчивое сближение
французского и немецкого мыслителей недвусмысленно
сигнализирует об исходном намерении Покока, гласно
подтвердившего его спустя несколько лет после выхода книги1.
На заключительных страницах «Момента Макиавелли»
автор прямо пишет об опасностях добродетели участия,
возведенной в абсолют, и говорит о своем предпочтении роскоши
и свобод афинян перед суровой добродетелью спартанцев, за
что первые логично платят определенной, хотя и
незначительной порчей нравов. Моральная цельность человека не должна
становиться основой религиозно-политической доктрины,
обосновывающей обязательное участие гражданина в Res Publico..
Наследуя республиканской линии, марксизм вовлекает
человека в историю и «заставляет его быть свободным» по ту
сторону согласия. Здесь Покок почти открыто заявляет о своих
консервативных убеждениях в терминах «отрицания
активизма». Прибегая к аргументации Б. Констана, он говорит об
опасностях смешения vita activa с социальной жизнью как
таковой. Наконец, сближая республиканизм и марксизм, Покок
одновременно противопоставляет либерализм и
республиканскую традицию, указывая на центральный для нее конфликт
добродетели и коммерции (финансовых инструментов). Таким
образом, мы можем уверенно говорить об идеологических
намерениях Покока: а) показать порочную связь между «долгой»
республиканской традицией и революционным террором во имя
добродетели в его руссоистском и марксистском изводе, 6)
высветить сходные милленаристские и морализаторские мотивы
в современной политической культуре США, в) подчеркнуть
достоинства консерватизма, г) выведя либерализм из поля
внимания, лишить его квазимонополии и противопоставить
республиканской традиции.
ι. Pocock J.G.A. The Machiavellian Moment Revisited: A Study in History and
Ideology. P. 72.
844
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
Однако любимая континентальными марксистами и
британским консерватором Пококом диалектика заключается в том,
что идеологическое намерение автора, возможно, оказалось
вторичным по отношению к перлокутивному акту (воздействию
речи автора на аудиторию), фактически совершенному
историком. Как мы показали выше, тезис об оппозиции языков
либерализма и республиканизма в Новое время оказался одним
из наиболее уязвимых для критики — ив этом смысле ход По-
кока не сработал. При этом эксплицитное и полемически
заостренное утверждение о связи республиканского прочтения
добродетели и левого революционного террора не стало
объектом отдельной дискуссии, возможно потому, что этот
предмет, строго говоря, выходил за хронологические рамки самого
исследования1. За редким исключением книга не была
воспринята как прямое «идеологическое» высказывание, но вызвала
десятки полемических ответов, связанных с интерпретацией
Пококом конкретных текстов8.
Историк-политический философ, конечно, не нейтрален
в своих ценностных предпочтениях. Разумеется, Покок
избирателен и в своих исследовательских интересах, что он
неустанно подчеркивает. Как мы уже сказали, он не воздействует
на других мыслителей с помощью оригинальных
нормативных высказываний от первого лица. Главным инструментом
влияния ему служит живое обращение с утраченными и уже
непонятными другим современникам политическими
языками Нового времени. Сама природа возвращения к забытому
классическому наследию хорошо знакома исследователям
Ренессанса. Первые итальянские гуманисты, читавшие поздние
римские кодексы, сочетали критическую филологию и
установку юристов на понимание исходного намерения законодателя.
1. По контрасту мы можем сравнить бурную рецепцию близкой по типу
аргументации статьи Фр. Фюре, указавшего на связь современных
французских левых социалистов и революционного террора. См.:
Furet F. Penser la Révolution française. Paris, 1978.
2. Одно из немногих исключений составляет уже упомянутая рецензия
Вазоли, который обвиняет Покока в методической
безответственности. При этом он почти полностью заимствует у Покока
методологические принципы и критерии их оценки, обвиняя его в
навязывании абстрактной схемы. Вазоли критикует идеологический характер
исследования и сводит его работу к намерению высказаться о
кризисе современной американской политической культуры. Нам трудно
судить о полном отсутствии оснований для такого суждения, но мы
можем уверенно говорить, что это единичный случай критики
такого типа.
845
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
Консерватор Покок, несмотря на свой скептицизм в
отношении республиканизма, не только воссоздает долгую
республиканскую традицию, но и выступает в качестве политического
философа, открывающего ее для тех, кто способен
воспринимать обращенную к ним разумную речь. Покок
демонстрирует искусство бережного и внимательного обращения с языком
прошлого. Фактически он возрождает политическую традицию,
идеологию которой он сам не разделяет и критикует.
Возможно, Покок преднамеренно сделал свой выбор: в качестве
центрального момента республиканской традиции он выделил
ситуацию, когда граждане осознают фундаментальную
хрупкость и конечность, если не обреченность, республиканской
власти. Тем самым он задает сдержанно критическое
отношение к идеологии республиканизма, изображая ожидание
упадка как отношение традиции к самой себе.
Однако вероятно и другое: сознательно содействуя
актуализации полузабытого, но мощного политического языка,
идеологию которого он не разделял, историк счел важным снабдить
будущих последователей противоядием от опасностей его
слишком ревностного использования. Диалектика, которую Покок
одновременно осуждает как форму историзма и одобряет как
метод осмысления истории политического дискурса
(неслучайно одним из самых частых терминов книги является
«амбивалентность» или «двусмысленность»), предполагает осознание
важности и продуктивности «взаимного проникновения»
противоположных начал. В этом отношении представляется, что
республиканская традиция и ее внутренние противоречия для
Покока — неустранимая часть политического языка. При этом
его заботой остается как восстановление парадигматического
значения республиканизма, так и указание на
принципиальную несводимость истории политического дискурса к одной
главной традиции или одному голосу — будь то голос Локка,
Маркса, Бёрка или Макиавелли.
«Момент Макиавелли» в России
В монографии Покока рассказывается о линии политической
мысли, практически отсутствовавшей в отечественном каноне,
но обретающей популярность в настоящий момент. Разумеется,
республиканский опыт древних Новгорода и Пскова важен,
однако его нельзя назвать репрезентативным: на протяжении
большей части русской истории власть не была республиканской
846
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
(или была республиканской «в душе») и пользовалась для своей
легитимации другими политическими языками и аргументами.
Республиканизм становится в России одной из значимых
политических идиом в тот момент — на рубеже XVIII и XIX
столетий, — когда в Европе этот тип политической речи находится
в глубоком кризисе1. Великая французская революция,
призванная воплотить в жизнь самые смелые ожидания о
всеобщей гражданской свободе, воплощенной в представительном
правлении, на деле обнажила проблемы республиканской
теории. Установление республики привело не к утверждению
свободы, а к массовому насилию и террору. Как следствие,
воплощенная на практике идеология столкнулась с одним из самых
главных вызовов в истории2.
В итоге в первой половине XIX века республиканская
традиция легла в основу политического порядка только в
Америке. В Европе же она оказалась неспособной адекватно
отреагировать на кризис и претерпела значительную трансформацию,
став частью более влиятельных доктрин, успешно
справившихся с решением вопросов, поставленных в ходе революции:
«любовь к отечеству» была заново интерпретирована в рамках
национализма, «свобода» — либерализма, принцип
«народовластия» — социализма. В этот исторический момент увлечение
республиканскими идеями распространилось и в России, наиболее
явно проявившись в декабристском Южном обществе, многие
участники которого поддерживали радикальную концепцию
П. И. Пестеля, изложенную в «Русской правде». Впрочем,
зачастую республиканизм членов тайных обществ трудно отличить
от либерализма, а героический — «республиканский» — тип
публичного поведения, описанный Ю.М. Лотманом в статье
«Декабрист в повседневной жизни»3, оставался уделом
немногих— о нем сложно рассуждать как о практике, укорененной
в повседневном общении большинства участников заговора.
1. Подробнее см.: Велижев М. Республиканизм в общественной мысли
России первой половины XIX века // Res Publica. Русский
республиканизм от Средневековья до конца XX века. Μ., 202I (в печати).
2. См.: Kalyvas Α., Katznelson I. Liberal Beginnings. Making a Republic for the
Moderns. New York, 2008.
3. Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как
историко-психологическая категория) // Лотман Ю.М. Избранные
статьи: В з т. Таллинн, 1992. Т. I. С. 296-336. См. также: Каплун В. Свобода
в раннем российском республиканизме: гражданский республиканизм
в России и европейская республиканская традиция Нового времени //
Что такое республиканская традиция: Сб. ст. / Науч. ред. О. В. Хархор-
дин. СПб., 20од. С. 131-152.
847
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
Республиканизм трансформировался внутри других
политических доктрин (во второй половине XIX века — прежде всего
социалистического направления), однако в полной мере — как
самостоятельная идеология — в России так и не утвердился, по
крайней мере до самого недавнего времени. Это обстоятельство
делает книгу Покока особенно интересной. Читатель погрузится
в рефлексию над составом и генезисом уникального
политического языка, описывающего целый репертуар гражданских
добродетелей, давно забытых или, лучше сказать, так никогда
полностью и не усвоенных в отечественном контексте. Впрочем,
слабость республиканской традиции в России вовсе не
свидетельствует о том, что ее политические валентности
решительно для нас не актуальны. Как показал Скиннер1, телеологизм
в истории общественной мысли малопродуктивен: утраченные
в прошлом концепции имеют свойство возвращаться в новой
ситуации и обогащать наши представления о политической
реальности, менять привычные нам языковые конвенции.
Более того, процесс актуализации республиканской идиомы
происходит в России на наших глазах.
Возрождение республиканского языка как полноценного
способа говорения о современности возникло в среде
англосаксонских историков политической мысли и политических
философов как раз под влиянием работ Покока, Скиннера и других
представителей Кембриджской школы2. Скиннер впервые
заговорил о третьей концепции свободы, которая затем — в трудах
Ф. Петтита3 — получила свое законченное обоснование. Согласно
республиканской интерпретации, истинная свобода возможна
лишь в случае недоминирования, то есть отсутствия не
столько физического угнетения, сколько самой потенциальной
опасности оказаться во власти другого человека. Иными словами,
ι. См. предисловие Скиннера к его фундаментальной книге «Истоки
современной политической мысли» (ΐ97δ): Скиннер К. Истоки
современной политической мысли. Т. ι / Пер. с англ. А. Олейникова. Μ., 2θΐ8.
С. 7-16.
2. См. лишь некоторые значимые публикации по теме: Bobbio Ν., Viroli M.
Dialogo intorno alla repubblica. Roma, Bari, 2001; Gelderen M., van. The Political
Thought of the Dutch Revolt, 1555-1590. Cambridge, 1992; The Invention of
the Modern Republic / Ed. by B. Fontana. Cambridge, 1994; Machiavelli and
Republicanism / Ed. by G. Bock, Q. Skinner and M. Viroli. Cambridge, 1990;
Milton and Republicanism / Ed. by D. Armitage, A. Himy and Q. Skinner.
Cambridge, 1995; Republicanism. A Shared European Heritage / Ed. by M. van
Gelderen and Q. Skinner. 2 vols. Cambridge, 2002; и многие др.
3· Прежде всего см.: Петптит Ф. Республиканизм. Теория свободы и
государственного правления / Пер. с англ. А. Яковлева. Μ., 2θΐ6
(впервые —1997 год).
848
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
раб, пользующийся привилегиями, дарованными господином,
и живущий вольно, на самом деле все равно остается рабом,
поскольку господин всегда имеет возможность лишить его
свободы (даже если он этой возможностью так и не воспользуется).
Надо заметить, что Покок не соглашался со Скиннером и не
считал третью концепцию свободы самостоятельной
теоретической парадигмой. Он убежден, что ее обоснование вполне
укладывается в первые две концепции, предложенные в
конце 1950-х годов Исайей Берлином, где республиканская
доктрина совпадала с позитивной свободой «для»1. Однако, чтобы
эта дихотомия двух свобод не казалась слишком простой,
Покок в уже цитировавшемся послесловии 2003 года указывает:
другой полюс оппозиции, «негативная свобода», не включен
в историю противостояния добродетели, коррупции и манер,
рассказанную в «Моменте Макиавелли». Право и связанные
с ним языки политической мысли намеренно оставлены в
стороне. В этом смысле более полная картина интеллектуальной
истории свободы включала бы в себе две
противопоставленные друг другу линии: ι) «свободу древних» (virtîis,
республиканская добродетель) vs. «современная свобода» (коммерция
и манеры); 2) «негативная свобода» (права, свобода от) vs.
«позитивная свобода» (республиканская добродетель).
Впрочем, нам важно и другое: обсуждение республиканизма
велось сразу в двух плоскостях — в пространстве истории
политической мысли и в поле политической теории.
Современная история этого идейного течения убедительно
демонстрирует, сколь успешным может быть союз историков, корректно,
избегая анахронизмов интерпретирующих высказывания о
политике, сделанные в прошлом, и политических философов,
способных дать старым языкам новую жизнь.
За последние двадцать лет интерес к республиканской
теории заметно возрос и в академической среде в России — как
среди историков, так и среди политических философов.
Возникли научные школы, специализирующиеся на разысканиях
о ключевых принципах республиканской доктрины, прежде
всего центр «Res Publica» под руководством О. В. Хархордина в
Европейском университете в Санкт-Петербурге. На русский язык
переводятся ключевые тексты современной республиканской
традиции, например «Республиканизм» Петтита, изданный
I. См.: Покок Дж. Г.А. Квентин Скиннер: история политики и политика
истории // Кембриджская школа. С. 191-217.
849
ТИМУР АТНАШЕВ, МИХАИЛ ВЕЛИЖЕВ
благодаря усилиям A.B. Павлова1, или тексты под редакцией
Хархордина и E.H. Рощина, увидевшие свет в рамках книжной
серии «Res Publica», выпускаемой одноименным центром в
Европейском университете2. Формируется целая группа
исследователей, занятых изучением отечественной республиканской
мысли (В. Л. Каплун3, К. Д. Бугров4 и многие другие).
Вместе с тем республиканизм актуализируется и как часть
политической повестки5. Его сторонники выступают за
максимально возможную вовлеченность граждан в управление
государством на самых разных уровнях. Общественная
деятельность основывается на целом ряде ценностей, которыми
руководствуется республиканец, прежде всего любви к
отечеству или местному сообществу, предполагающей
ответственность перед коллективным политическим телом, частью
которого является человек. Перевод на русский язык «Момента
Макиавелли», книги о том, как республиканская идиома
обретала свое влияние в разные времена, в разных странах, но
в сходных политических обстоятельствах, в этой
перспективе особенно актуален. Как отмечает Покок, книгу можно
читать как историю диалектики (и неизбежного в таких случаях
взаимопроникновения) между классической республиканской
идеологией и ее значимыми альтернативами. После тридцати
лет не самого успешного опыта демократизации, показавшего
хрупкость и неустойчивость Res Publica, граждане современной
России, убежденные в ценности политического участия и
свободы, переживают свой «момент Макиавелли».
1. О значении республиканизма в современной политической теории
см.: Павлов А. Республиканизм Филипа Петтита: самая актуальная
современная политическая философия // Петтит Ф. Республиканизм.
С. 7-24-
2. См., например: Скиннер К. Свобода до либерализма / Пер. с англ. А. Ма-
гуна. СПб., 20о6; Res publica: история понятия: Сб. ст. / Науч. ред.
О.В. Хархордин. СПб., 2009; Современная республиканская теория
свободы: коллект. моногр. / Науч. ред. Е. Рощин. СПб., 2015; и др.
3- Каплун В. Свобода в раннем российском республиканизме: гражданский
республиканизм в России и европейская республиканская традиция
Нового времени; Он же. «Жить Горацием или умереть Катоном»:
российская традиция гражданского республиканизма (конец XVIII —
первая треть XIX века) // Неприкосновенный запас. 2007. № 5· Режим
доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2007/55/kai6-pr.html
4. Бугров К.Д. Формирование идей республиканизма в российской
общественно-политической мысли XVIII века / Дисс. на соиск. уч. ст.
доктора ист. наук. Екатеринбург, 2017.
5- См. прежде всего: Хархордин О.В. Республика, или Дело публики. СПб.,
2020; Kharkhordin О. Republicanism in Russia. Community before and after
Communism. Cambridge, Mass.; London, 2018.
Указатель имен
и ключевых терминов
абсолют (-ы) 766
абсолютный (-ая, -ое, -ые): авторитет 499î большинство 377;
власть 64, 66, 2д8, 380, 381, 500, 673; государи 385, 48g;
монархия 6д, 237, 5°3, 512, 585, 59Ь 664, 667, 6gi; суверенитет 559
авгуры 2д2
Август 775
Августин, Аврелий 23, 39, 73~79, 83, 84~8д, 115, 124, 132, 479, 486, 497, 823, 833
Августинский: Британия 652; полемика 596, 641, 759; Англия 592;
мыслители, интеллектуалы 642, 646, 668, 676, 682; неоклассицизм 761;
неомакиавеллизм 630; политическая мысль 596, 630, 642;
политическая экономия 624; эпоха 6ю, 6i2, 651, 7J2, 736, 74°, 825, 826,
836; конфликт 762
автократ (-ы), автократия 664-665
автономия (-и), автономность 88, д8, 137, 270, 447, 4бд, 485, 488, 603, бод,
64g, 652, 677, 68о, 700, 766, 773, 774, 778, 795, 827, 830
авторитет 78, 86-88, д4, дд, юо, 144, 251, 26ι, 302, 345, 37о, 412, 420, 453, 48д,
498, 5Н, 534, 538, 568, 583, 590, 615, 644, 668, 678;
божественный 500; обычая 46, 6ι, 62, 568; духовный 559; закона 52, 57;
короля, короны 67-бд, 494, 499, 568; легитимный 519; Левиафана 722;
морали, моральный 259, 496; пророческий 241; церкви 491, 5бо
агапэ 155
Агафокл Сиракузский 227
аграрный (-ая, -ое, -ые): вопрос 744 демократия 745; законы 305, 655, 656;
законодатели 547; монархия 779', собственность 6ю; республика 744;
общество 743, 826; территория 752', ценности 784
(см. также земледелец)
Адаме, Джон 194, 455, 557, 739, 8οι, 802, 827; «В защиту Конституций
Соединенных Штатов» 732; «Исследование о каноническом
и феодальном праве» 714, 758
Адаме, Джон Квинси 747, 749
Аддисон, Джозеф 596, 625, бгб, 633, 639-642, 650, 651, 682; «Зритель» 639;
«Фригольдер», 645
Азия 754-756
Айртон, Генри 531-533, 549~550, 607
активизм 475, 478, 479, 7б5
Аламанни, Лодовико 217, 226-232, 238, 258, 263, 3°4, 411, 58о
Аламанни, Луиджи 4&, 421
Александр VI, папа 255
Альбицци, Ринальдо дельи 214
амбиция (-и) 1дз, 201, 203, 32g (см. также честолюбие)
851
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Америка 13, 21, 30, 315, 475, 566, 6οι, 619, 679, 7о8, 710-715, 719, 724, 731, 734,
735, 737, 739, 741-744, 747, 749, 75θ, 752, 755-757, 76ι, 763, 764, 768, 778, 789,
792, 796, 798, 799, 803, 822, 825 (см. также США)
американский (-ая, -ое, -ие): апокалиптика ηι% добродетель 23, 761;
идеология 783; история 755; колонии 567, 654» 7°5", конституция 715,
821; культура 755, 757, 7б2; миф 747, 753; республика 730, 796, 8οι, 833,
836; революция 137, 453, 647» 7°6, 7^9, 796, 8оо; социальное сознание
и мысль зо, 443, 707, 720, 733, 753, 759, 7^3, 765; трудовая этика 764;
ценности 472, 647, 740, 758, 7^9, 797
ангел(ы) 58, 59, 2θθ, 465, 4^9
английский (-ая, -ое, -ие): любовь к древности, культ
древности 484-485, 545; апокалипсис 87, 479, 486-492 (см. также
избранная нация); Атлантика 759; Гражданская война 476, 5°6, 539,
576; гуманизм 481-484, 493; деизм 666-667; история 433, 48о, 492,
5о6, 533, 545, 593, 605, 631, 653; консерватизм 534; конституция 735;
конституционная теория 573-588; корона 579; макиавеллизм 542,
593, 630, 668; общее право 42~55, 483-484; ополчение 575, 58о;
оппозиционная мысль 706; парламентская монархия 515, 57°,
673, 68з, 709, 721, 738; политическая мысль 5", 545, 557, 5б4, 592-
593; политический порядок 509; политическая риторика 517;
правление S11^^; революция 1648-1649 533; революция ι688 года 591-
592, 632, 670; республиканская традиция 557, 5б4, 666; Реставрация 570-
571, 576-577; святые 479, 49Ь 53*; фригольдер, землевладелец 544, 58о
англичанин (-е) 472, 475, 477~48о, 484-485, 488-494, 496, 504, 5i6, 518, 524, 527,
537, 543-544, 546, 578, 598, боб, 6ц, 630, 635, 663, 667, 797
Англия 17-18, 25, 30, 42-52, 54, 65, 88, 315, 433, 472, 475"48о, 482-490, 493~494,
496-497, 499, 5©5, 5", 513, 5*8, 520, 527, 532-535, 538-540, 543, 545, 548-549,
552-553, 558, 564, 566, 570, 573"574, 576, 580-585, 592, 594, боб, 608-609, 6н-
6i2, 6i4, 618-619, 621, 626, 630, 635, 652, 655, 660, 662-663, 667, 670, 690-691,
693, 700, 706, 713, 717, 723, 731, 734, 740, 748, 759, 768, 770, 779, 781-782, 793,
795, 802, 804, 821-822, 825-826, 828, 833, 836-838, 840, 843; Августинской
эпохи 74°; становится Британией 592; в войнах на континенте 594~595,
630; древние вольности 479î гражданский гуманизм в 545, 698, 7°8~7θ9;
демократические идеи в 541-542; империя (1530) 485; модерность и 667;
как республика 497, 723; смешанное правление в 511-518;
торговая нация 594, 6ι8; церковь 492 (см. также Британия)
Анна, королева 22, 596, 625, 628, 670, 679, 737, 795
антиквары 485
антиномизм, антиномисты 479, 49°, 491, 529, 53°
антифедералисты 739, 74°
Антихрист 1б5, 487-489, 540, 559, 56ι, 666, 713, 74, 756
Апокалипсис, апокалиптика 14, 87-90, 96, 469, 474, 535, 536, 564, 690, 823;
американская 713~715, 752~755; Брайтмана 492; Данте 95~96;
английская 486-490, 493, 528-53*, 566; Фокса 492; Харрингтона 562;
Гоббса 558, 559; У пуританских радикалов 667;' Руссо 704, 705;
Савонаролы 155, 160-164, 167, 172-174, 203, 204, 488
апокалиптический (-ая, -ое, -ие) 74, 458, 479, 528, 544Ï время 94, 95, ^7, 558,
559; история 1б2; контекст 312; вигизм 567, 74
Аппалачи 712, 751
Арендт, Ханна 24, 7/р, 763, 7б4, 792, 843
аристократ(ы) 182, 183, 185, 226, 229, 258, 274, 281, 284, 285, 372, 434, 446, 459,
497, 498, 503, 58о, бог
аристократия (-ии) и8, 119, 122, 123, 128, 129, Ι57~ι6ι, 181, 184, 192, 198,
202, 207-209, 217, 219, 221, 222, 225, 227, 231, 232, 269, 282, 285, 306, 316,
852
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
336, 338, 342, 350, 356, 358, 363, 378, 380, 384, 399, 4<>ι, 402, 412, 436, 442,
445, 463, 499, 502, 504, 512, 543, 546, 548, 554"558; венецианская 157,
ι8ο, 461, 582, 588, 663, 678, 794, 802; военная 579; древняя 716;
естественная, природная 581, 718-721, 724, 725, 729"732, 739, 740, 742, 748;
наследственная 534, 540, 557, 568, 575, 584, 7*7, 735; несменяемая 54^
постоянная 542
аристократическое (-ая, -ой, -ий, -го): конституция ЦЗ, 200, 467;
мысль 269, 392, 411» 679; правление 365; принцип 284; республика 371,
400, 415, 591, 8οι; свобода ззо
Аристотель (-ю, -ем, -я) 15, 19, Зб~39, 45, 5б~59» 84, 86, ιοί, Ю2, юб, Ю7, нб-
125; о гражданине 117, 120, 124, 128, 129, 138, 143, 44, 152, Ι55~ΐ57, 165, ι68,
171, 176-181, 204, 2θ8, 211, 228, 231, 233, 247, 294, 315, 342, 373, 399, 407, 420-
425, 435, 449, 4^4, 5θθ, 502, 557, 6ю, 653, 677, 688, 696, 719, 723, 725, 734,
772, 821, 823, 832, 839; пиршество, гость и повар 59; Джаннотти и 393,
423, 425, 429, 431, 433, 446, 455, 456, 469; Гвиччардини и 387;
гуманисты и 125, 454; °б одном, немногих и многих п8, 119, 468;
о смешанном правлении 115, 427, 474; его «Политика» 115, 142,
413, 455, 748; о политической природе человека 28, ι и, 763, 770;
его политическая теория Ι2Ι-Ι22, 455; ° рабстве 191
аристотелевский (-ая, -ое, -ие): категории 117-119, 122, ι6ο, 177,
179, 4θ8; христианство 58, 152; гражданин 117, 183, 293, 428,
478, 482; интеллект 37; концепция формы 267; язык 164,
ι8ο, 529; великодушный человек 648; ойкос 546, 630;
философия 43, 48, 135; полис 34, 243, 476; полития ЦЗ, 269, 670;
политика, политическая теория ι6ο, 351, 458; республиканизм 471',
телеология 82, 84, 529; теория 288, 306, 368, 393, 394, 472, 515, 556,
630, 646; мысль 470, 647; традиция 43, "2, 199, 349, 407, 454, 66ι, 676,
699, 7°6; человек практического ума 255; этика бод
аристотелизм 569; ренессансный 194; средневековый 56
армейский радикализм 529, 534
армия (-и) ι6ο, 220, 258, 259, 265, 287, 290, 294, 304-306, 308, 315, 35Ь
354, 356, 389, 432, 4бо, 504, 505, 533, 537, 538, 54Ь 542, 548, 576, 58о,
582, 709, 827; гражданская ι88, 189, 351-353; сухопутная 578, 613, 6ι8;
национальная 578; народная 539; профессиональная, постоянная 57Ь
575, 577, 578, 583, 584, 588, 590, 594, 596-598, 604, 607, 6о8, 6ц, 619, 626, 630,
642, 655, 658, 669, 675, 699, 707, 712, 7Н, 734, 736, 746, 7бо, 763, 786, 788-
790, 795, 8о2, 822, 826, 827, 833, 842; регулярная ig; кромвелевская или
«нового образца» 543, 579, 588; в Ирландии 554 (см- также ополчение)
архитектор (перен.) 425, 742
асабийя 699
астрология 150, зх9
Атлантика, атлантический (-ая, -ое, -ие) 270, 472, 554, 759; мысль 557;
политическая культура 706-707
Афины н8, 125, 126, 274, 4б2, 688, 700; современные 704
афинский (-ая, -ое, -ие) 156, 560, 647; полис 111; философия 79, *59ΐ
традиция 112—114
афиняне ιοί, 124, 128, 248, 264, 62ΐ
баланс (равновесие): английской конституции 6ι8, 630, 642;
у Давенанта 6i8; у Дефо 605-609; имущественный 585;
классический 567, 675, 68о; у Контарини 466-467;
у Мэдисона 727-728; у неохаррингтонианцев 588-589; У Нидхема 541;
в «Ответе на Девятнадцать предложений» 511-516, 579; в Письмах
Катона 664; у Полибия 128-129, 495; в «Покорной петиции и совете» 542;
853
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
республиканский 761-762; сил 636, 674; в торговле и на земле 551;
в «Федералисте» 731-"732; У Флетчера 598-600; во флорентийской
конституции 1494-го г. 162; и фортуна 525; У Хантона 5I9Î У Юма 691;
социальный 695 (см. также равновесие)
банк (-а, -ом, -е, -ов) 578, 6ig, 639, 669, 827; Англии 595, 629, 631, 826;
Соединенных Штатов 735, 745; инфляция 760
банкротство 694
Барбаро, Франческо 156, 159
Барон, Ханс ц, го, 31, 97, юо-юб, из, 139, 143, Н5, 7б9, 770, 77Ь 773, 775, 778
барон(ы) 242-243, 304, 433, 582, 586-588, 598-600, 604, 605, 675, 691, 72θ;
баронство 545, 554, 587
бедные 538; бедность, христианская зю, 422
Бейлин, Бернард 20, 6&5, 7об, ηο% 7θ8, 7Ю, 7^5, 7б9, 796, 8оо
Бентам, Иеремия 760
Бентон, Томас Харт 754
бережливость 359, бог, 614, 624, 643, 650, 68g, 739
Беркли, епископ 712-713» 749, 752, 754
Бернардо дель Неро З^-ЗФ
бессмертие 146-147
Бёрк, Эдмунд 9, 30, 49, 6ι, 62, 568-569, G49, 685, 723-724, 75b 7бо, 762, 789, 795, 846
Бёрр Аарон 736-737, 742, 752
биржа 625, Королевская 640
биржевой трейдер 596, 597, 6ι8, 665, 666, 669, 694, 802
благодать: и апокалиптицизм 85, 95, 164, 205, 390, 55е, 7ΐ3~7Ι4, 74о;
и аристотелевский разум 115, 124; закат в английской политической
мысли 566; короля 513-5Щ королевство и республика благодати 132,
137, 156, 167, 170-171; и Моисей Макиавелли 250, 276; Макиавелли
отделяет республику от 309-З11» 3Σ5, 5бЗ; и пуританское призвание 53°;
и восстановление формы 39, 84, ι66, 170, 205, 3°°; и искупление 83, 85,
5i8; и секулярное время 92, I72, 174, 458, 494, 564', и стабильность 263,
173-174, 175; и Венеция 466; и добродетель 145, 652
благочестивые государи 487, 489
Блэкстон, сэр Уильям 760
Бог: действие в истории 38, 7°, 74, 76, 8о, 135, 253Î
воззвание к (Хантон) 521; и завоеватель 537» англичанин Бога 480,
489, 49°, 493, 546; и император 97, Ю2; и Флоренция 160-162, 170,
380, 42i; благодать 84; воплощение 89; у Джефферсона 74°, 753',
и власть короля 69, 477, 498, 500; познание 83, $оц закон 531»
и Левиафан 559~5б2; и Моисей 250, 251, 256; ипостаси Троицы 89,
558; пророчество 73, 86-87, 275, 524Î провидение 67, 68, 8о, 535;
и радикальные действия 53°; искупление 74; и республика 308-310,
323-324, 522, 543; республика его королевство 385, 396, 398, 400;
универсалии 57; утопия 567
богатство 131, ЦЗ, *45, ι86, 202-203, 206, 212, 312, 328-329, 357, 554, 615, 620-622,
626, 640, 662-663, 680, 686, 711, 738, 788
Боден, Жан 69, 483, 520
Болингброк, лорд Генри Сент-Джон 593, 607, 625, 626, 6#, 666, 668-679,
682, 687, 694, 709, 739, 794
Борджиа, Чезаре 223, 224, 254, 256, 258, 259, 265, 296
Боусма, Уильям Дж. го, 469
854
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Боэций 39, J27, Ή0, Н5, 233, 495, 497; «Утешение философией» 76-86
Брайтман, Томас 492
Браун, Джон 678
Британия 47, 592, 652, 654, 655, 682, 683, 709, 7Н, 735, 736, 738, 750, 758-762,
789, 792, 793, 795, 79#, 825, 833, 836, 837, 839; (легендарная) 479, 486
британское (-ую, -ой, -им): конституция 691, 7^j культура 4755
мысль 592, 625, 653, 73°, 76ι, 843; правление 672, 68о, 708, 716
Бруни, Леонардо 96, 97, Ю1, 105, ю8, 134, 138, 139"Н4, 294, 440, 553, 558,
565, 77°, 77&у «Восхваление города Флоренции» 140; «Диалоги к Петру
Павлу Гистрию» 140; «История флорентийского народа» 140;
«О военном деле» 140, 141; «Надгробная речь» 140, 141;
«О политии флорентийцев» 142; «История» 142
Брут 94, 97-99, 442, 66о, 794
Брэди, Роберт 15, 568, 570, 585, 587, 590, 59*, 605, 675, 691; полемика Брэди 570
будущее (-ем, -ими, -его) 291, 595, 6ι6, 696, 704, 754 сакральное 479
Буленвилье, Анри де 666
бумажное (-ый, ые): кредит 707; деньги 759 (см. тпакже золото, война)
Бун, Дэниэл 744, 7б4
Бург Джеймс 735
буржуа, буржуазное (-ый, -ая, -ые) 6н, 693, 841: идеология 604, 645, 646,
764, 783; общество 478, 552; рационализм 481
буржуазия (-и) 6о7, 764, 826
Бурстин, Дэниэл 710
бюрократия (-и), бюрократы 46, 366, $\2, 645; военная 588; гражданская,
государственная 452, 483, 5^1, 577~579, 588, 595, 666, 746, 76ι, 827
Бьют, лорд 7о8
Бэкон, Фрэнсис 42, 498, 505, 545, 548; «Опыты» 505; «Генрих VII» 498, 5°5
Валла, Лоренцо юб
варвары, варварство 27, 99, 241, 263, 31З, ЗН, 398, 553, 6οι, 603, 626, 657, 688,
698, 776, 777, 787, 790, 791
Варезе, Клаудио 145
вассал (-ы), вассалитет 545~54б, 550, 577, 587, 599~6оо, 604-605, 626, 655, 675,
691, 758
Вейн, сэр Генри 543, 550, 557, 56ι, 581, 793
Великая хартия вольностей 489
венецианское (-ой, -ими, -го, -ую, -их, -ий, -ие, -му): аристократия 461,
554? голосование 413; Большой Совет 156, ι6ο, 179-181; известный как
Большой 399-407, 324; Дож 156, 157, 369, 371, 376, 399, 404; институт
дожей 172, 183, 403; метод избрания 376, 400, 408-410, 437, 458, 554;
пример Венеции 315; история 399, 401~403, 407, 458-459, 4б2, 469;
модель общества 391, законы 48-5°; закон 401; закон 1170 г. 401-402;
закон 1297 г· 4°°"~40i, 405_4°7; механизация virtù 378, 4°9, 424, 46ι,
555; модель 67, 269, 392, 423, 455; парадигма 375, 474; образец 350, 383;
Кварантия (451); система (модель) 374, 4ю
(см. также коллегия, знать, сенат)
Венеция ιοί, 111, 178, 179, 469, 5!9, 663; конституция 158;
Контарини 459_5°6; Давенант 6ι8; флорентийская политика
после 1494 г. 179-183; Фортескью 48, 50, 476; Джанноти 392-393, 4*5» 4*9"
420, 424, 437, 440-44Ι, 45θ, 45Ь 455, 457, 470; Гвиччардини 338, 348, зб9~37Ь
855
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
375-376, 383, 39i; Харрингтон 410, 55i~552, 618, 744; Льюкенор 460, 465;
Макиавелли 274-275» 285-286, 304, 420, 613; миф о 156-157» 173—174» 391»
409, 455» 458, 474» 555Ï Нидхэм 544 Сады Оричеллари ι88, 231, 269, 424;
ottimati 158, 160, 181-182; Сарпи 469-47°; Савонарола 163-165; 173;
положение 396
Вентури, Франко 666
вера 81-87, 90-93, ЦО, 163, 176, 390-39I, 423, 455, 474, 624, 647, 764, 788
Вергилий 8ι, 108
Вестерн, сквайр 62
Веттори, Паоло 220-221, 226, 230, 238, 258
Веттори, Пьеро 421
Веттори, Франческо ю8
вечность 487
вечный порядок 40, 94~95» 98, Ю2
взаимозависимость 45°
виг(и) 590, 596, 599, 607, 615, 6ι8, 625-628, 633, 636, 637, 644, 654, 668, 669,
676, 677, 682, 683, 707, 708, 714» 735-737, 749, 758, 759, 793, 794, 796, 825;
авторы 585; епископы 591; идеология 57ι; «старые» 653, 664, 668
вигизм: «апокалиптический» 567, 7!4; «научный» ig
Вико, Джамбаттиста 112, 696
Вильгельм I (Нормандский, Завоеватель) 537, 6о8
Вильгельм III 22, 594, 597, 6о8, 625, 670
Виргиния 742, 749
Висконти, Джангалеаццо юо, ιοί, 103, ИЗ, 77°
владение землей 476, 489» 532, 55°» 588, 648; зависимое от воинской
обязанности 545J феодальное владение землей 545» 576, боо, 673
(см. также свободное владение землей)
влияние (воздействие), политическое 571» 587» 671-673» 6д2, 735» 761
внешние связи, внешние отношения, внешняя политика 342, 3*Н> Збд,
449-450, 514, 594, 737"78о
военная служба 283; правление 582, 583; профессионализация 584;
римская 353 (см- также милиция/ополчение)
воин(ы) 278, 2gi, 303, 304» 6gi, бдз, бдд, 746, 75*; воин фронтира 745"74б;
греки, римляне и готы 712; гомеровские 701
(см. также гражданин и готический)
война (-ы) 82, ι88, 245, 388, 38g, 432, 460, 461, 5*4, 516, 553, 578, 598, 602,
608, 612, 613, 616, 618, 619, 621, 623, 624, 626, 628, 635, 636, 642, 652-
654, 682, 685, 6g8, 6gg, 712, 731, 737, 73g, 745, 760, 766, 775, 788, 78g, 825;
Алой и Белой розы 499» 5°4î против Висконти 145» 77°;
у Гвиччардини 333» 345; гражданская 477» 493» 5о6, 5"» 5^8, 5*9»
521-526, 539, 5б4, 576, 582, 592, 605; 654, 759, 782, 793, 794, 836;
Девятилетняя 594, 6н, 630; у Джаннотти 407, 412, 415, 437» 438, 448,
450, 451» 47°; У Клаузевица 746; у Макиавелли 30, 288-2gi, 308, 315;
за независимость 706, 719» 758, 768, 795; «памфлетная» 596, 597» 6п,
654; религиозные 483, 78о; Семилетняя 711; Тридцатилетняя 578;
Троянская 486; и финансы 595» 645
воображение (фантазия) 635» 640-641, 643-644» 649» 681, бдз, бдб
врач (-и) (перен.) 114, i6g, 186, 206, 20g, 224, 343» 362, 425
время: случайное 287; в Америке 743"745; и ангелы 58;
апокалиптический 87-88; 162; 479» 487» 529» 558-559; и Аристотель 58, 125;
856
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
и Августин 8з; и Беркли 712; и Боэций 8г, в «Письмах Катона» 662;
обычай и благодать 300-301, 4д4; и Данте д4; и Давенант бгг,
и фортуна 7д; 132, 2бо, 267, 524, 68о; и Джаннотти 397"398, 45Ь 457"459;
Бог и 37, 38, 70, 74, 82; и Гревилл 499*, и Гвиччардини ι88, 318, 327, 343,
385-386; у Харрингтона и Гоббса 557, 562-563, 607; и гуманизм дб, ю8, 482
Вторая поправка 734
Вуд, Гордон С. го, 31, 706, 710, 715, 7i6, 7^9, 720, 724, 726, 728-730, 732-734, 743,
745, 796, 801, 803, 835
выбор 601-603
выбор(ы) (политический (-ие) 140, ig2-ig4, 320-321, 338, 369» 376-378,
408-410, 413-414, 437, 512, 516, 555-557, 685, 709, 722-726, 803-804;
духовенства 560; в парламент 581, 584, 662, 66g, 675
(см. также избрание (политическое)
выгода (интерес, процент, доход) /pj, 651, 664, 676, 681, 730;
доход от земли: процент на денежный капитал: 552, 627, 632, 655,
657, 671, 7°7, 7П» 731, 795, 8θ2; личная 650, 654 (см. также частная);
от предоставления денег в долг 552
вымысел 685
Гамильтон, Александр 647, 682, 735_73б, 742
Гарвей, Уильям 556
Гаррисон, Уильям X. 749
Гарэн, Эудженио д7, юб
Гвиччардини, Пьеро 317-319, 5^, 353~354, 371
Гвиччардини, Франческо: как юрист 134; историк оптиматов 184;
папский губернатор 2о8-2од, 270; и осада Флоренции 326-327;
в Испании 185; труды: Considerazioni intorno ai Discorn del Machiaveüi 20g;
Del governo di Firenze dopo la restaurazione de' Medici 209-216; Del modo
di assicurare lo stato alla casa de' Medici 222, 226; Del modo di eleggere
gli uffici nel consiglio grande ig6, 201-202; Dialogo del reggimento di
Firenze 270, 316, 387-388, 286-287, 411; Discorso di Logrogno 185, 188, igo,
ig6-ig7, 201, 218, 266, 317, 334, 335, 367-368; Ricordi 312, 317, 34g, 384-
388; как аналитик правления Медичи ι6ο; об аристократии 557',
в сравнении с Джаннотти 400, 405, 4", 4*5, 425, 442, 445, 450, 455~45б;
о коррупции 571; критик Макиавелли 280-282; о вере и безумии 423;
о немногих и многих 672, 67g; о правлении 644; о g^azia 251; и Сады
Оричеллари 424; как современник Макиавелли 138, 17g, 470-471, 475,
бдг; использование participazione 267; о particulari 302; и вторая природа
флорентийцев 244, 2бд; использование stato 257; ° Венеции 407, 4*5
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих 762
гегельянцы 762-763
Генри, Патрик 598, 739
Генрих VII 548-549 (см· также Ф. Бэкон)
Генрих VIII 486, боо
Генуя 429, 457, 552, 578
Георг I 625
Георг II 679
Георг III 708, 735, 738
Георгий Трапезундский 156
Гермес де Кадуцей 555> 572
Гиббон Эдвард 305, 34
Гилберт, Феликс 157, 179, 317, 394, 412
857
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Гоббс, Томас 465, 524-526, 534, 538, 540, 544, 559"5б4, 585, 641, 665, 667, 72i;
Левиафан 465, 476, 524, 538, 549, 559~5б2, 665; язык [Гоббса] 659;
естественное состояние [Гоббса] 617
Гобсона-Ленина, теория 737
Голландия, голландцы 49Ь 551-552, 594, 614
господа и слуги 418
государство 525, 576-578, 595~59б, 746, 763
гражданин: аристотелевская теория 115-121; англичанин как 475 и Далее;
воин, солдат 141, 290-294, 303-304, 343, 422, 539, 690, 746, 822;
и коррупция 679; У Фергюсона 698-702; и человек фронтира 744
и далее; у Харрингтона 545~54б, 55i-563î идеал 93; знание
и решение 94î и libertà 326; и магия 154; и природа человека 734*,
ottimati как ι8ι, 218; umori 362; его virtù и/ortuna 257, 274
(см. также virtù); христианин как 76, 132
Гражданская война, в Англии 5!8-52б, 564, 579; первая 522;
мысль 5i8, 524; писатели 520
гражданский (-ая, -ое, -ие): действие 83, 722; добродетель
(см. добродетель); жизнь 109, 228; идеал ш, 230; идеология 764;
конфликты, распри 443, 445; личность 631, 668; милиция 221, 258,
288, 334-335, 346, 348, 351-352, 357-358, 392, 415-416, 419, 423, 440, 707;
мораль 6ΐ7, 66о; свобода 244, 263, 6ΐ2, 658, 77°; участие 29, 104, 6ю, 834
гражданский гуманизм 9, 22, 28, 95, юо-юб, 112, п6, 125, 134, "38, 145,
159, ι62, ι64, 175-176, 178, 190, 205, 233, 334-335, 39Ь 394, 4<>4, 454, 4бо,
474, 477, 483, 545, 5б5, 596, 603, 625, 630, 647, 652, 654, 670, 702, 707, 720,
762, 773; в Англии 545; интеллект 654; категории 630; мысль 34;
напряжение 625; понятия 477; традиция 647, 697-698, 761;
ценности 477, 646; этика 652, 705
гражданственность юз, 1Ц, "6; флорентийская 98, ι π
гражданство: активный идеал 105; у Адама Смита 702; в американской
мысли 733"734; Айртон и 532-533', отношение к мысли Локка 593, 609-
6ю; ограничение 157; флорентийская традиция ι68; фортуна и 232
Гракхи, Гай и Тиберий 283, 295, 297, 3<>5, 444, 548, 742
графство 483, 497, 5*2, 555
Гревилл, Роберт, Лорд Брук 526
Гревилл, Фулк, Лорд Брук 499, 5°°î Treatise of Monarchy 499, 500
греческий 177, 701, 712; интеллект 38
грехопадение 84, 9Ь "32, 427, 499
гуманизм 95, !38; конституциональный 733; английский 481,
483; Флоренция по; макиавеллневский 493; филологический
и политический ю8; Возрождения 634, 758; республиканский 565, 736
(см. также гражданский)
гуманисты, гуманистическое 99, Ю5» юб, юд, 115, 125, 139, 481-482;
христианские 127; гражданские 125, 565; республиканские 493;
эксперимент 699; флорентийские ιοί, и; итальянский 125; знание Ц7;
философия но; политическая теория 495J политическая мысль 453;
ренессансные 6ΐ2; республика 135; ученость 96; традиция 705;
мысль 105; теория 471
Дабл, Том 6ι8, бгд
Дао дэ Цзин 276
Давенант, Чарльз 596, 598, 611-619, 621-629, 632, 637, 646, 689, 694;
«Правдивый портрет современного вига» 615, 6ι8;
«О выгоде для Англии торговли с другими странами» 621
858
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Давид (и Давидово царство) 535, 537
Даниил, пророк 85; Книга 72, 73, 7Г3
Данн, Джон 12-13, 593, 829
Данте (Данте Алигьери) 75, 8ι, 94~9б, 99, ю8, 162, 624; «Ад» 39, 94; «Рай» 95
Дати, Горо 145, 692
двойное величие 477, 48о, 494
Двор (партия Двора) 571-573, 59Ь 596, 654, 676, 682, 7ю, 736, 760-761;
идеология 654, 681, 682, 709, 73°, 7бо; выгода 573*, теория 597;
и виги 644, 664; виговская история 644
дедукция 53, 6i, ш
деизм 648, 666-667, 753
действие: в английской мысли 481, 484, 487-488, 493~494, 525-526;
у Гвиччардини 317, 325, 385-387; как гражданский идеал 101-104,
no-us, 330, 545, 556, 623-624, 715, 763-765; Джаннотти и 458-459;
знание и 155-!5б, 233; историческое 601-602, 679-680;
Кальвинистское 478; консервативное и радикальное 480, 531;
у Макиавелли 246-247, 2бо, 315, 3^7-388, 45б~457; в обществе,
основанном на спекуляции 616-617; республика как структура
действия 292; созерцание и 79, нб-117, 397; corpus misticum и 476
Декларация независимости 760
демократия н8, 122-123, 125, 128-129, 44, I57~i6i, 202, 306, 333, 344~345, Зб5,
378, 393, 399-400, 44, 43b 441-442, 446, 499, 502, 504, 512, 522, 54<>-54',
546-547, 557, 5Ö2, 745"74б, 7бо, 776, 801-803, 825, 842, 850;
представительная 728, 738, 79°; природная 732;
расширяющаяся 312; современная 333, 74^
демос 120, 547
деньги 552, 613-616, 623, 627-628, 633, 639-640, 643; обращение 6о8;
изобретение 6ю
держатели, арендаторы земли 631; зависимые 626
деспотизм 97, I2I-I22, 126, 634, 7й; добродетели 762
Дефо, Даниэль 22, 596-598, 605-609, 6п, 625-626, 628, 633-634, 636, 637,
641-643, 646, 652-653, 675, 6gi, 736, 790, 792, 827;
«Чистокровный англичанин» 6о6-6о8; «Обозрение» 633
деятельность 115-нб, 123-124, 470-471» 501_502, 457, 671-672, 726;
гражданская 495~49б, 679-680, 55^552
Джаннотти, Донато 28, 138, 39i~400, 45Ö-459, 4б7~471, 476, 495, 5^5, 548, 554,
587, 674; труды: «Книга о Венецианской республике» 393~4θ6, 4*5',
«О Флорентийской республике» 394, 399, 420, 423, 459;
Discorso sconosciuto... alla milizia 416-418;
«Письма к Каппони» 411-4Ч, 436-437, 45°-452
Джексон, Эндрю 745~749; миф о 746
джентльмен(ы); провинциальные джентльмены (дворяне) 478-557,557, бгб, 670
джентри 478, 483-484, 493, 572, 576, 614, 679
Джефферсон, Томас 305, 647, 736, 74!"742, 745, 749;
Заметки о штате Виргиния 74Λ 749
джефферсонианцы 735"73б
Джонсон, доктор 574
диалектика, диалектический (-ая, -ое, -ие) ЗЬ 7θ, 105, Н2, 178, 493, 676, 704,
7i6, 753, 755, 758-759, 7бЗ, 779, 79Ь 795, 821-822, 835, 845-846, 85о; процесс 703
диалог I08-H2
859
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
диктатура 121, 127, 129, 580; мнения 748
доблесть (см. добродетель)
добродетель (-и): американская (интерпретация) 21, 23, 7J5, 7*9» 74°, 76ι;
бережливость как 623-624; у Болингброка 677-679; У Боэция 77"79;
восстановление 675; У Гвиччардини 194, 200-204, 332, 334, 336, 365-366;
гражданская 124-128, 132, 136-139, ι88, 233-234, 267, 272, 275, 278-280,
284, 308-309, 351, 453, 544-546, 550, 610-611, 617, 630, 642-645, 660, 665,
766, 771-772, 775, 779, 822-824, 826, 833, 837, 848-849; У Давенанта 6i2,
619-620, 623; у Джефферсона 74I_742, 751, 753; У Кавальканти Ц5~
150, 154; У Контарини 460-463, 465-466; и коррупция, порча 30, 454,
495, 566, 569, 573-574, 577, 647, 650, 654, 657, 68о, 708-710, 733~734, 757"
758, 8oi, 832; Кредит и 637, 639-641; У Монтескье 617, 648, 66о, 687-
690; у Мэдисона 726-728, 738-739; в «Ответе на Девятнадцать
предложений» S^S'S» политизация 247, 3°6; и представительство 724;
равновесие 525~526; рассудительность как 62; республика и 267-268,
495-496; у Савонаролы 166-167, 172-177; и страсти 681-682; и торговля,
коммерция 657-658, 731, 736-737, 744"745, 759, 7б2, 784, 787, 798, 844;
упадок, утрата 301, 30, 726, 748; у Фергюсона 698-701;
у Флетчера 603-604; у Харрингтона 550, 553~55б, 558, 5бо, 572;
христианская 82-84, !2б, 617; у Юма 690-696
добродетельные (категория граждан) I2i; и коррупция I2i; и деспотизм I2i
доверие 596, 6ц, 617, 632, 644-645, 650, 685-686, 689, 694
договор, общественный (Локк) 757
долг 552, 6о2, 6i4, 617, 623, 656-657; государственный 595, 597, 6н, 6ц, 619, 628,
645, 656; публичный 615-618, 629
Доминик, Св. 3IO-3"
должность 572, 574, 630, 649
домохозяйство пб, 294 (см- также oikos)
Дориа, Андреа 457
Досуг 557, 58ι, 603, 630, 679, 7*6
древность 48, 52, 54, 55, 99, 147, 156, 176, *?7, 463, 476, 484, 489, 527, 577, боб,
607, 727, 736, 758, 7бо, 789; обычая 2бо, 406, 485; общин 568, 585, 586, 590;
незапамятная 569
Древняя конституция 9, 15, 17, 19, 485, 492, 493, 5о8, 518, 525, 527, 530, 544, 549,
568, 575, 584, 585, 587, 588, 589, 599, 6ι8, 630, 639, 662, 675, 691, 760, 797, 825, 840
Дуайт, Тимоти 753
дух 746; святой 49!
духовенство 540, 560, 563, 663, 667, 7*3
духовная история ι66
Дэнби, граф 571, 574, 579, 589, 593, 669
евнух 665
евреи 552
Европа 31, 124-125, 270, 478, 496, 545, 598, 6оо-6о2, 636, 7""7i2, 758-759, 77θ,
776, 778, 789, 847
европейская история 598, 653
единичное (сущ.), единичный (-ое, -ые): 25, 26, 35, 38, 5Ь 59, 6ι, 66, 69, 90,
98, 104, 112, 126, 178, 425, 699, 7°о, 832; действие 1ц; и Аристотель 59;
гражданин и 125-126; и коррупция 130; явления и страсти 35;
fantasia и 152; и нестабильность 139; интеллектуальные средства
86о
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
понимания 175, З1^» 494; погружение в 112; философия и риторика 104-
к>5; Платон о 59; республика и 152, 177; наука о добродетели 177;
и универсальное 121; мир 316 (см. благо)
Египет 248
желания, жажда 191, 320, 325, 339» 679-680, 692-693, 727
женщина (симв.) 22, 79» 249» 2бо, 632, 643
жребий 196, 202, 377» 555 (см- также голосование)
завет 492, 522-524, 715» 756
зависимость, зависимый (-ая, -ое, -ые) 126, 218-219, 221, 226, 240-241, 253-255,
258, 270-272, 279, 303-304, Зоб, зо8, 318, 329, 338, 430, 443, 445, 4бЗ, 496, 505,
538, 550, 571-573, 575, 579"58о, 584, 589, 599, 6θ2, 630, 649, 656-657, 663-664,
671-674, 679, 691, 708, 717, 725-726, 741-742, 745, 755, 76ι, 794, 802, 826-827
завоевание Ц1, 189, 234, 237, 241-243, 275, 287, 288, 304, 305, 3θ8, 34, 470, 505,
548, 553, 621, 636, 711, 776; норманнское 47, 5°8, 549, 6o6;jmj conquestus 521,
537, Mb 549
завоеватель 250, 500, 521, 537, 540, 543, 694
закон(ы) 54, 55, 68, 113, 127, 465-466, 476, 482, 488, 49Ь 500, 502, 5Н, 530,
533, 690, 744; христианский 47, 85, гражданское и каноническое 134;
общее право 42, 483-484, 489, 491, 532; обычное право 43, 51*,
английское 43, 47~49, 5°; Бога 531; человеческое 532*,
естественный 545, 531, 641; позитивный 531; римский 134, Платон 57',
юрист 42, 43, 5б9, 666, 698
законодатель (и) 154, 187, 205-206, 209, 248-249, 263, 264, 271-276, 28о, 298-
299, 348, 401, 404, 435, 457, 46ι, 519, 524, 536-537, 556, 558, 623, 745, 747
законодательство 43~45, 47, 50, 54, 66, 67, 69, 229, 237, 357, 458, 47Ь 472, 483,
484, 545, 643, 654, 672, 761
законодательное 574» 671, 691, 7^, 731*» власть 47°» 683; 573»
законодательная власть 5896, 692, 716, 725, 735
западный (-ая, -ое) 8о, η\% 753» 836; история 76; мысль, мышление 29, 78,
85» 391» 733» 7б4, 821, 823; традиция 115; человек 566, 603
земледелец, земледелие, земледельческий (-ая, -ое, -ие) 552, 604, 644, 655,
657, 688, 696, 741-745, 747, 749~753, 756, 8о2, 822, 827 (см. также аграрный)
земля 476, 532, 546-547, 55ΐ"55ΐ, 578, 584, 595, 598, 603, 6og, 614, 617, 625, 642,
647, 658, 678, 691, 696, 709, 739, 743-745; земельный (-ая): республика 655;
землевладелец 624
знать (нобилитет) и8, 123, 158, 217, 243, 28о, 281, 303, 305, 4θΐ, 580, 716, 676,
716; английская 545, 54#, 663, феодальная 548; флорентийская 351;
французская 666; зависимая аристократия 580
золото 639, 664; и бумага 617, 623, 628, 664-665, 694;
и серебро 609, 621, 631, 694
идеал (ы) 285, 335, 348, 361, 423; Джефферсон о 742; манипулятивный ЗЗО;
современный американский 761; народный 420; три формы 348;
тиранический 333; венецианский 35°, 401> модерный 471-472
идеализм, идеалистическое 762; точка зрения 705; теория войны 746
идеология 571, 597, 653, 664, 669-670, 68о, 709, 727, 73Ь 7бо, 797;
партия 574, 596, 6и, 6ig, 625, 629, 676, 679, 802; программа 572, 66g, 675;
сторонники 596, 6о8; традиция 716, 722
иерархия 93, 94, 98, Ю2, 109, Н4, 482, 486, 493, 495"49б, 5о6, 507, 5ΐ7~5ΐ8, 679
86l
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
иерархический порядок 475
Иеремия 205
избирательное право: парламентское 532; традиционное 567
избрание (политическое) 54, l6o, I93_I94, I96~I97> 201, 207-208, 220, 222, 337~
338, 366, 371-378, 407"4о8, 412, 438, 45θ, 452, 5*6, 555, 557, 572, 723-724, 803
избрание, избранничество (религиозное) 89, 147, *6о, 163, 166, 170, 173, 421,
479, 529, 549, 559, 7'3, 74', 753"755, 7^2
избранная нация 480, 487-492, 496, 525, 558, 566
избранный (-ая, -ое, -ые) 147, 492, 561
изменение (-я), перемены: у Аристотеля Зб~7; в армейском
радикализме 528; в венецианской истории 405; во внешних делах 369;
время как измерение 64; в идеях XVIII века 592, 626, 630, 642-645, 68ι-
682, 734', как иррациональное 130-131; в истории Гвиччардини 3*8-349;
качественное 301; как коррупция в идеологии «Страны» 589, 652-
653, 668, 68о-68г, в «Ответе на Девятнадцать предложений» 517;
и природа людей 152; и приспособление 2i6; республика и 131, 173-*74,
275, 4б9; и секулярная причинность 435, 455, 482, 5°5î и современное
государство 47*~472; циклическое 131; в федеральной республике 728;
у Флетчера 6οο-6οι; во Флоренции 142-143, 179, 2з8, 3*8, 327
Израиль 87, 162, 248, 252, 552, 562
иеримиада (надрывный плач) 597, 7*5, 755~758, 7бо, 829
император 85, 94~97, 221, 276, 305, 390, 398, 488, 538, 548, 775
империя 71-74, 85, 94~99, им, 109, 256, 285-286, 357, 439, 485-488, 505, 545,
547-548, 553-554, 6i2, 618, 621-622, 645, 647, 653, 681, 690, 700, 7H-715, 729,
737-740, 742, 745, 750, 752, 754-756, 759-760, 770-771, 775-776, 781, 787, 800,
803, 822-823, 832-833; американская 737"74°; «безусловного права
собственности» 744; Британская 592, 7й; вигов 7595 мировая 95, 245î
торговая 642, 712, 756, 826, 828; христианская 73
инвестиции 595, 6ι6, 641, 737 (см- также общество)
инвестор 595
индепенденты 534, 559, 5бо, 626, 666
индивид, индивидуальный: в апокалиптике 480; в капиталистическом
обществе 645; и fantasia 151; у Айртона 532; в мире junsdictio 477;
утрата чувства собственной значимости 478; пуританский 478;
как zäon politikon 645, 700
индукция 44
интеллект аристотелевский 36-37, 58; христианский 38;
гражданский гуманизм 654; и вера 39, формы 56; греческий 38;
законодательный 744*, средневековья 35; средневековья 35Î Пико 155;
и народные силы 746; Ренессанс 35 (см. также ум)
интерес (см. выгода)
Иоахим Флорский 89, 95
Иофор 562
Ирландия 553, 619
искупление 39, 40, 70, 72-74, 8о, 82-90, 94, 137, 28о, 529, 648, 765
искусство 6ι, 62, из, 274, 396, 397, 422, 460, 499~502, 658, 712, 7*3, 766;
войны, военное 259, 265, 279, 288, 293, 294, 389, 424, 613, 621;
дипломатическое 346; политическое, (управления 41, 67, 114, 232, 501,
502, 504, 548, 721; прогресс, развитие 688, 690, 749; риторики 104
исполнительный (-ая, -ое, -ые) ι8ι, 194, 37о, 399, 573; власть 374, 542, 574, 579,
587, 589, бзо, 664, 669, 671, 677, 68ι, 683-684, 691-692, 709, 7ΐ6, 73', 735, 8θ2,
826-827; исполнительная, судебная, законодательная 515, 672, 720, 725
862
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
историческое: монархия 568; прошлое 652; причинность 431-433>
изменение (я) 565; процесс 603; наука 6д7; самосознание 474
история: действие в истории 766; отчуждение от 653; перемены 130, 47°;
гражданская 472; классическая 747; коммерция 6g7, 7°°;
«предполагающие историки» бдб; придворная 644, 731; У Б. Кроче 3495
цикличная 315» 755» эсхатология 73~74> 85-86, 87; грехопадение 427;
fantasia i^fortuna 80, 152; Джаннотти 399» 4°4» 4^9; и благодать 204;
Гвиччардини 317» 324~325, 349*» Харрингтон 547~548;
харрингтонианцы и неохарингтонианцы 628-бгд, 673;
историцизм 765; Гоббс 524; Юм бдб; империалистический д8;
Макиавелли з88~з8д; модерное понимание 8д, 672; природа 747»
758; упорядочивание 150; происшествия 34» философия по;
политическая 77» 85; производство 6g7~6g8; земная 85, 86;
публичная 85; спор 758; республиканская 132, 267-268, 315» 4б9~47°» 691,
переоценка юз, 104, юб, 134, 135» Ф% священная 71, 72, 86, 2gg, 487» 489»
712; saeculum 71; схоластическая 3^-37; модель 6g6-6g7; секулярная 38,
71-72, 7б> 84, 86, 488; духовная 164, 165; трансформация 763; Вико И2,
6g6; virtue 578 (см. тпакже Америка, противоречие, английский, Европа,
Флоренция, Шотландия, венецианская, итальянская)
Италия 138, 178, 17g, 212, 234, 241, 263, 264, 3"» 312, 353, 399
итальянская (-ие) история ι66; гуманисты 125; мысль 105
Иуда д4, 97
Йомен (-ы) 505, 50б, 586, 718, 742, 750, 754, 825
Каверли, сэр Роджер 626
казуистика, казуисты 510, 520, 521, 525, 53*, 534, 549
Кальвин, Жан fô, 479; кальвинизм 205, 479, 491; кальвинисты 478, 482,
490, 5!8, 524; учение о предопределении 56g
Камилл, Фурий 747
Капетинги 237
капитал 594, 595, 597, 6i2, 615, 616, 618, 624, 627, 632, 636, 637, 645, 646, 657,
671, 707, 7Н, 731, 737, 788, 795, 802
капитализм 30, 783, 788
Каппони, Никколо 395, 4", 415, 4*6, 420, 423, 437, 450, 452
Каппони, Пьеро 318, 319, 322, 330, 35h 383
Капрариис, Витторио де 184, 317, 348-350, 3^3
Карл I, король Англии и Шотландии 497, 5й, 548, 580, 794J казнь 793
Карл V 6i2
Карл VIII, король Франции 162-163
Картрайт, Джон 760
Кассий д4, д7
Кастильоне, Бальдассаре 22g
Катилина 73^» 794
Катон: историческая личность 66о, 737, 753, 794; У Аддисона 682, 685-687;
у Тренчарда и Гордона (Письма Катиона) 597, б54~б59, 663, 665-667, 673,
678, 7Ю, 717, 735; федерализм в духе 739, 740, 742
Кентукки, охотники 746
Кёнигсбергер, Г. Г. 481
863
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Кир 247-248, 250, 256, 263
классический (-ая, -ое, -ие): Античность, древность 99» 277» 7^3; понятие
гражданина, гражданства 478, 480, 494~495» 526, 541» 544Ï демагоги 742;
добродетель 650, 653, 66о, 724, 727-728, 740, 829; законодатели 247, 250,
537; история 747Î категории ι6ο; концепция коррупции 589, 645;
один, немногие, многие ι6ο, 399» 567> 67°» 720, 827; ойкос 650;
парадигмы 156; политика 726, 728-729, 732, 734» 748;
рациональность 650; республика 513» 56ι, 564, 653» 662, 73°» 8оо;
республиканизм 270, 315» 455» 494, 5i8, 523» 594 593, 7", 715, 732, 739, 795,
797, 801, 850; риторика 348, 677, 7I7Î теория 716, 718-719, 723, 743, 761-762;
типология форм правления 546; традиция 706, 722, 725;
ценности 391, 825; populus 573; virtus 736
классовый (-ая, -ые): борьба 703; интересы 159; конфликт 763
Клеомен, Спартанский царь 297
клика 153, 202, 302, 366, 375, 376, 452, 676
Клаузевиц, Карл фон 746
Кок, сэр Эдвард 51, 52, 68, 568
Кола ди Риенцо 95, !б2
Колонна, Фабрицио 265
Колпепер, сэр Джон $и
Кольридж, Сэмюэл Тейлор 693, 793
коммерция 24, З1, 604, 607, 6i2, 617, 623-624, 627, 647, 687, 689-692, 696-698,
700, 703-704, 709, 731-732, 734, 737-738, 740, 742-724, 749-750, 752-755, 759,
762, 764, 766, 777, 787, 789, 791, 798, 827-828, 844, 849;
коммерция (перен.) 753~754 (см- также торговля)
Конгресс США 735
консерватизм, консервативное 190, 231, 3*6, 325, 479, 480, 484, 492, 526, 527,
534, 538, 693, 704, 729, 733, 757, 761, 765, 803, 842, 844-846
Константин, император 73, 85, 276, 486, 489; Константинов дар 486
конституционный (-ая): гуманизм 733J риторика и теория 733
конституция 120, 131, 249, 402, 575, 615, 644, 663, 672, 682, 726, 743, 744;
историческая 542; смешанная 583, 584; традиционная 533, 58ι
(см. также Америка, Древняя конституция, сбалансированная,
британская, флорентийская)
консул(ы), консульство 28ι, 282, 345, 442, 734
Контарини, Гаспаро 15, 21, 459-470, 555, 824;
«О магистратах и устройстве Венецианской республики» 459~47°
кормчий/рулевой (аналог.) 209, 224, 343
король, короли 46, 68, 69, ι6ι, 433, 475, 499, 500-501, 582, 586, 602, 605, 665,
722; Англия 472, 503-509, 5II-5I5, 525» 538, 545» 547~548, 561, 579, 587, 655,
722; феодальный 547, 548, 598-599Î жалования короля 586; патриот 643,
678; короли, лорды, общины 502, 5", 567, 58ι, 587, 670, 672-673;
король в парламенте 46, 5!5, 526, 576, 673 (см. также римский)
корона 493, 5о8, 509, 574 577, 579, 588, 599, 663, 671, 683, 684, 76ι
коррупция: и отчуждение 701; и американская мысль 708-717, 733,
738-739, 749, 755~75б, 757~758, 760-761; как противопоставление
добродетели 30, 474, 5*7, 566, 66ι, 677, 679, 695-696, 703, 704, 709, 720, 749;
и апокалипсис 714-7!5; в британской мысли после 1783 г. 760-761;
в «Письмах Катона» 655; в гражданском гуманизме 453"454» 474
циклический взгляд на 7I3"7I4, 75б~757; империи 653, 71Г-7Г2, 73°;
и ложное сознание 665; немногих 328, 679; властью 426;
864
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
правительственных денег 59^-597, 6о8, 615, 6ι8, 626, 630-631, 642,
645, 668, 674, 709, 7й; Гвиччардинни о 371; У Харрингтона 546, 55°,
553, 5бЗ, 575; неравенства 300-301, 657; необратимость 294, 296-297,
707; у Джефферсона 749, 751', роскоши 603-604; метод исправления
Мэдисона 738; materia 299-3°°; наемников 294, 3°3—3°4> современной
армии 580, 583, 626, 733~734; в современной истории 647, 653-654, 668,
671, 704, 7Ю, 720, 73Ь 742, 745, 766; парламентская 571, 573"575, 58о, 583-
585, 588-589, 591, 593, 596, 663-664, 671, 716, 723; страстей 727, 734
замена публичной власти частной 147, 294 республики 127, 690;
разделение властей 414, 671-672; из-за специализации 697;
из-за торговли и коммерции 621, 623, 624, 709, 7Ю, 731, 734, 744, 756;
из-за войны на суше 6ι8, 711
Кревкёр, Гектор Ст. Джон де, «Письма американского фермера» 751» 758
Кредит (ы) зо, 595-596, 6о2, 6ц, 615, 6ι6-6ι8, 623, 626-630, 642-646,
649, 650, 678, 681, 686, 694-695, 707, 709, 74°; национальный 594',
общественный 615; экономика 650; кредитная экономика 731;
система 619; Кредит 596, 615, 633-648; crédit 686, 694; кредиторы 735
Крокетт, Дэви 745
Кромвель, Оливер 480, 49Ь 493, 53Ь 535, 537, 542, 553, 559, 576, 580, 717, 746
круговорот (см. также цикл) 37, 128-129, 178, 296, 427
Кудесник (The Craftsman) 597, 669, 675
культура 77, юо, Ю4, 228, 230, 470, 475, 48ι, 592, 601, 603, 689-690, 697-698,
700, 704-708, 718, 754-755, 757, 759"7бо, 762, 771-773, 778, 788-789, 797, 799, 844
Ламонт, Уильям М. 492, 535
Ландуччи, Лука 175-176
Ласлетт, Питер 593
левеллеры 531, 541, 549, боб
Левенсон, Джозеф Р. 35°, 484
легитимация 98, 172, 691, 847
легитимность 236, 237, 240, 243, 246, 257, 2бо, 28о, 488, 521, 536, 568, 645
либерализм 728, 739, 742, 766; локковский 763; Мэдисона 745
Ливии ю8, но, 295
Ликург 203, 247, 251, 256, 272, 274, 276, 297, Зо8, 381, 435, 439, 459, 524, 549,
694, 744, 766
Лилберн, Джон 607
личность (-и), гражданская 30, 453, 552, 640, 647, 668, 729, 733, 765;
действие 315; отчуждение 478, 479, 48ι, 642, 701, 703, 704;
аристократия 557; оружие 545; обусловленная 135; заговор против 708;
коррупция 546, 679, 690, 703; обычаи 6i; fantasia 151-152;
флорентийца 346; история 30, 7°5, 765; Монтескье о Платоне 687-688;
полития 653; прогресс 700; имущество/собственность 640, 649, 652;
пуританский 53°; правитель 321; социальная 117, 6ю, 668;
общество 647, 690; virtu 306; добродетель 68о, 700; virtus 78
Ло, Джон 655
Локк, Джон 521, 570, 590, 592-593, 609-610, 640-641, 649, 7*6;
«Два трактата о правлении» 521, 59°, 609; «Обращение к небесам» 521;
«локковский консенсус» 757; 758; «распад правления» 719;
либерализм 763; парадигма 734, 75°; примитивизм 747
лояльность (1649): полемика о 525, 534
Льюис, Клайв Спенсер 34
Льюкенор Льюис 459"45°, 4бо, 465
любовь 51, 84, 2бо, 651, 696
865
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
магистрат(-ы) 191-19З, 205, 3^9, 407, 45Ь 483, 540, 662, 747
магия 155, *5б
магнат(ы) 545
Макиавелли, Никколо 28, 29, 138, 154, 179, 184, 212, 230, 232, 235, 245, 246,
257, 258, 261-263, 264, 270, 275-276, 316, 335, 349, 3^4, 3^7, 388-389, 39i"393,
411, 419, 424, 426, 432-4ЗЗ, 439, 442-44З, 453-455, 458-459, 469-470, 471, 475,
505, 515, 523, 537, 544, 553-554, 565, 572, 577, 601, 610, 634, 677, 682, 693, 695,
705, 710, 717, 719, 726, 734, 747, 750, 758-759, 761; и Аламанни 227, 230, 244,
305; и армия ι88, 287-288, 292-293, 302-303, 474, 550, 630, 689;
о Чезаре Борджиа 254-256; 264; о христианстве и религии 275-277,
309-ЗЮ, 423, 648, 689, 705; о коррупции 292-295; 545~54б;
о equalità 301-302, 327, 655; о Флоренции 237, 270-271, 293-294;
о форме и материи 248, 299, 547; ofortuna или фортуне 239-240, 246-247,
253-254, 2бо, 293, 513, 634; о благодати 250, 276, 28о, 309, ЗЮ-311, 5^3;
о инновации 232-233, 234, 251, 293, 645; о законодателях 249, 271, 273,
278-279, 298, 248; о милиции 221, 258, 419; о Моисее 250, 279, 299, 562;
о природе человека 262-263, 279*, Полибий 275, 28г,
principe naturale 235, 239; principe nuovo 238, 474; пророки 251-252, 276, 278,
298; римская политика 280-282, 291-292, 301, 305, 312-313, 355, 387-388,
402, 442-44З, 687-688; Савонарола 167, 174, 267, З11; обычай 236, 243, 3°6;
Венеция 272, 285, 4*5, 4*9, 613; virtu и добродетель 239-240, 246, 253-254,
260-261, 288, 293, 299, Зоб, 314, 343, 38i, 39b 474, 480, 563, 622, 712, 745, 75θ;
труды: «Трактат о военном искусстве» 259, 265, 267, 288-292, 505, 388-
389, 424î «Рассуждение о способах упорядочения дел во Флоренции
после смерти герцога Лоренцо» 349; Discorso sopra il riformare ίο
stato di Firenze 293-, «Рассуждения» («Рассуждения о первой декаде
Тита Ливия») 233, 259, 26ι, 265, 266-267, 334, 346, 35Ь 385, 402, 435, 554;
«История Флоренции» 270-271, 393; «Государь» 212, 222, 227, 231, 232, 266,
270, 274, 287, 298, 316, 387, 435, 456
макиавеллиевский (-им, -анский, -ской): контраст 746; американский 647;
анализ 511; обычай 684; гуманизм 493; идеи 475J нововведения 683;
язык 699; момент 28-30, 135, 266, 530, 668, 679, 703, 740, 742, 757~758;
спор 762; теория i88, 545; мысль 593, 647; традиция 593, 734;
virtù 609, 727, 731
макиавеллизм 474, 496, 5°6, 538; апокалиптический 715; английский 509, 542
Макилвэйн, Ч.Х. 56, 57, 63
Мандевиль, Бернард 651, 652, 665
Манлий Капитолии зоо, 747
Мальборо, герцог 737, 7б2
Марвелл, Эндрю 536, 553, 5б2, 570, 573"574, 588; «Горацианская ода» 537;
«Ода на первую годовщину правления... Кромвеля» 537;
«О росте папизма и деспотическом правлении в Англии» 570, 573
Марий 284, 3°°
Маркс, Карл 641, 646, 647, 705
марксистский идеал 765; марксизм 478, 646, 702, 763; в Америке 763
Маркузе, Герберт 763
Материя 83, 136, 165, 167, /86, 204, 206, 210, 239, 248, 249, 250, 255-256, 264,
268, 280, 295, 299-300, 34, 317, З96, 397, 547, 581, 721, 751
Мелий, Спурий 656
Медицина 113, 2Ю
Медичи 138, 158, 179-181, 182-184, 2i6, 221-222, 333, 348-349, 358, 384-385, 419,
434, 436, 548; Козимо Старший 138, 144, 153, 154, ι66, 181, 214, 216, 321, 328;
866
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Козимо, великий герцог Тосканский 138, 230;
кардинал Джованни (папа Лев X) 207, 220, 222, 224;
Джованни делле Банде Нере 265; Джулиано 2о8, 222, 229, 238;
папа Климент VII 349; Лоренцо Великолепный 154, 157, ï82, 184, 2Ц,
221, 226, 320, ЗЗ1, 7б2; Лоренцо герцог Урбинский 2о8; 222, 238;
Пьеро 159, 163, 221, 328; правление Медичи 138; 1434-Ц94· 179» l8°, r92,
207-208, 212-213, 297, 318, 330, ЗЗ7-340, 363, 365, 379-380, 431; 1512-1527: 184-
185, 207-208, 225, 227, 244, 383, 394, 412; 1530: 221, 230-231, 384, 456, 474
мессия 487; мессианское предназначение 171-172; мессианство 763
метаистория, американская 755, 7^3
Мехиа, Педро 6i2
меч 252-253, 256, 290, 521, 53Ь 534, 540, 544, 550, 599"6оо, 658
Милан юо, hi, 223; миланские монархисты 6i2
милиция/ополчение: во Флоренции 2о6, 220, 258, 288, 334, 335, 346, 351»
358, 392» 4Г5, 44°; в Англии 512, 576, 58i, 4*9 (см- ™<ж*се военная служба)
Миллар, Джон 702
милленаризм 74, 0°, *б5, 753J постмилленаристский (-ому) 489;
милленаристские надежды 478; милленаристское возрождение 6о7;
взгляды в Америке η 13
миллениум 531
Мильтон, Джон 488, 557, 58ι, 667, 707
министр(-ы) 571-573, 579, 588, 670, 678, 708, 723
Миссисипи 712; компания 655, 665
мнение 617, 632, 640-641, 643-645, 650; диктатура 748; мнение большинства 748
многие: в американской теории 718; у Аристотеля и8, 119, 121, зоб, 723;
у Бруни 142; в гражданском гуманизме 137;
в английском классицизме 716, 723; У Джаннотти 409~4Ю» 428,
437, 446, 452; У Гвиччардини 193, Ι95"ΐ96, ΐ99~2θθ, 215, 319, 327,
335-336, 343, 366, 377, 379, 679; У Харрингтона 547, 55Ь 554, 58ι;
иерархия 495; У Макиавелли 292; 426; у Полибия 131
мода 6θ2
Моисей 248, 251-252, 256, 263, 276, 299, Зо8, 547, 549, 561-562
Мойл, Уолтер 596
момент: апокалиптический 488, 531» 558, 667; противоречивый 758;
смерти 75; Хантон 525; апокалиптического искупления 172;
природы 564; Паркера 525; существования 705; после Савонаролы 544;
республики 558; Руссо 742, 758; Савонаролы 53°*, меча 537
(см. также Макиавелли)
монарх 65, 102, из, 576, 643, 651, 684
монархия (и) 95, 98, Н4, "9, 123, 128, 145, 157, ι68, 171, 209, 234, 236, 267, 302,
320, 361, 378, 492, 502-503, 510; абсолютная 503, Ь™\ нисходящая 475,
499, 511» феодальная 546, 547; готическая 547; наследственная 277;
преемственные и избирательные 503; историческая 568;
юрисдикционная 477; ограниченная 599, 663-664; северные 583;
парламентская 673, 683, 7°9, 7*7» 721, 731» 738, 759; протестантская 689;
регулируемая 514', реставрация 567; территориальная 476-477*,
турецкая 546; универсальная 622
(см. также Английская и смешанная)
монархия, аристократия, демократия 399, 5°2, 5*2,520-> ЪФ
867
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Монтескье, Шарль де 305, 3^2, 597, 617, 648, 651, 655, 665, 672-673, 677-678,
686-687, 695, 700, 707, 7*9, 725, 732, 737, 7^1; «Персидские письма» 655, 665,
666, 683; «О духе законов» 678, 683, 743
Мор, Томас 482
мораль 154, 241, 259, 603, 617, 671-672, 68ι, 761; гражданская боб, 617, 66о;
новая 6о9, 6i7; личная/индивидуальная 651, 688; общественная 648, 651
моральное/нравственное: существо 55°
море 461, 553, 6*4, 618-621, 7""712, 744
мормоны 744
Мэдисон, Джеймс 724, 727, 728, 738-739, 745, 757; федерализм 735, 739;
либерализм 745; политика 762; синтез 739
Мюррей, Уильям Вэнс 732
наемник(и) 142, ι88, 258, 287, 288, 294, 304, 333, 345, 346, 446, 4бо;
армия 305, 548, 577, бог, 6ι8
налог, налогообложение 575, 6о2; прямые 578; земельный 595, 619
народ: вооруженный 286, 293, 3<>5, 352, 354, 54Ь 549, 55i~553, 5#ï
собрание 6о; тело 476; «Письма Катона» 66ι; обычай 49, 53, 6о;
Давенант 615; Дефо 605-606; одаренные талантами 719;
английская революционная мысль 53°;
федералистская теория 721, 724î Джаннотти 442, 444; Божий 543;
Гвиччардини 196-197, 35Ь Зб2; Харрингтон 550, 554, 558, 582-583, боо;
Юм 691; Джефферсон 741; землевладельческое 433, 549; Локк 521-522;
Макиавелли 274, 282-284, 293, 54°~541; Монтескье 683-684; природа 53Î
Нидхэм 54°~541; Невилл 587; Паркер 522; партии 676;
собственники 657; представители 572, 721, 723, 726; безопасность 529;
тирания свободного 312, 75^; Уэнтуорт 508
народное: ополчение 734; свобода 734 (см- также правление)
народное ополчение Флоренция 189, 205, 221, 258, 288, 293, 334> 346, 352,
359, 379, 392-393, 416-417, 440-441, 450, 455, 555; Англия 512, 576, 580, 581,
588-589, 597, 604, 6θ9, 6ι8, 630, 643, 707; Америка 734; 42i;
речи и проповеди 420-421 (см. также милиция)
наследственное: аристократия 73°; монархия 242, 267, 277; знать 123;
государь 238-239; принципат 221; правитель 286
настоящее 99, ю7, IQ8, 147, 588, 644, 696; эсхатологическое 71, 75, 87;
историческое 76, 690
Неаполь 1б2, 303
небеса 522; обращение к 525
Невилл, Генри 571; 585-588, 666;
«Возрожденный Платон» 571, 585, 59°, 666, 673
немногие: в английской конституционной теории 501;
аристотелевская категория 118-119, 123; у Бёрка 723-724; У Бруни 143;
у Гвиччардини в «Рассуждении» 196, 199-201, 2о8, 2Ю-2Н, 215-217;
у Гвиччардини в «Диалоге» 319, 329-330, 333, 337, 359, 3^1, 364-365, 368-
Зб9, 377-38о; у Джаннотти 4Н-415, 428, 43*, 436, 444"44б, 448, 452;
у Макиавелли 305; У Монтескье 685; у Мэдисона 724;
представители как 721, 723; у Харрингтона 547, 55^, 5^7»
ottimati и 157~!58> 221; в республиканской теории 137, 4°8, 494_495, 672, 7J8
неоплатоническое 155; философские 154, *59; мысль 164
неохаррингтонианская мысль, неохаррингтонианцы 57Ь 582-583, 588-589,
598, 605, 6i9, 626, 642, 655, 664, 691, 707, 712, 720, 758
868
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Неро, Бернардо дель 318-319, 321-324, 326-328, ЗЗЬ 334~34θ, 342-348, 351-353,
355, 357, 359, 361-363, 365-366, 37Ь 373"375, 378, 380, 383, 644
неравенство 301_3°4, 656, 662, 469
нестабильность 130, 131, 433, 588
не-элита 123, ι8ι, 182, 195, 368, 369, 411
Нидхэм, Марчмонт 536-537, 549, 557, 5^4, 709;
«Защита дела Английской республики» 539~540;
«Политический Меркурий» 540-541',
«Превосходство свободного государства» 543
Нимрод 537, 549
новатор (-ы) 222, 237-238, 256, 249, 251-253, 2бз, 267-268, 277, 293, 343
нововведение (-я)/новация (-я) 174, 215, 222, 230, 232, 238, 246, 252, 259, 273,
28о, 401, 403, 6oi
Новый Орлеан, битва при 746, 749
Ной 1б5
Нокс, Джон 49°
норманны 47, 547, боб; завоевание 549> Вильгельм 537
нравы 620, 653, 6go; mœurs et manières 683 (см. обычай)
Нума Помпилий 278, 2gg, 435
Нэмир, сэр Льюис 573
обмен боз, 631, 622-623, 631, 642; товарами 650, 702
обобщения 56-60
образование 604, бдо, 702
обсуждение и результат (различение у Харрингтона) 556, 557, 573, 672
общая воля 366, 721
общее благо: и армия 28g-2go; Англия как 506; расширяющееся 727;
использование у Флетчера 604; под угрозой раскола 676;
торговля и 624
общество 31, 4б, 73, 468, 478, 545, 6οι, б43~б44, 647-650; Аристотелевский
анализ 120, 122-123; изменения 646; христианское 85; гражданское 74;
торговли 6д5; создание 174; обычай и 46; феодальное 478; история и 31,
647-648; денежные инвестиции 6ι6; законодатели 247-248;
получение прибыли 552, 578; совершенное 282; мораль 233;
«естественных людей» 758; новый государь 257; политическое 41, 472,
бдб, 733; после добродетели 748; не знавшее коммерции 732;
спасение 73"74î финансовых спекуляций 641
общины 15, 484, 494, 502, 504, 5П-516, 533, 5^7, 57Ь 572, 577, 579, 58ι, 582, 585-
590, 597, 599, 605, 606, 608, 61g, 633, 66g, 670, 672-674, 716;
древность 568, 585, 586, 590
обычай: в армейском радикализме 529; У Бодена 6д; и гражданский
индивид юб; в английских идеях 474~47б, 484-485, 45°, 493"494, 5°6, 511»
517, 593, бдз; в английском праве согласно Фортескью 46-48, 51;
в правовой теории Фортескью 45, 4б~47, 49~50, 60-65; У Хейла 5б8~5бд;
у Харрингтона 544, 549; и познаваемость времени 28, до, 137, 474, 494~
495, 563-566; и Айртон 532; и взгляд Макиавелли на инновацию 249,
257, 262, 6οι; и его государь 230, 235, 241-242, 312;
его взгляд на религию 277-279, манеры/нравы 651-652, 742, 7бо;
и вторая природа 137, ι68, 215-216, 263, 267, 300-301
обычное право 43, 52, 236, 485
Огайо 712
869
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
один (единое) нд, 15g, 3*9, 326, 347, 379, 4""4i2, 447, 545
один, немногие, многие нд, 125, 158, ι6ο, 181, 274, 378, здд, 4", 426, 441, 4^3,
506, 549, 5б7, 670, 6д2, 726
Оливеретто да Фермо 227
олигархия н8, 122, 128, 144, 49, 157, 192, 243, Зб2, 365, 436, 544, 66g, 717;
парламентская 759
ополчение 303, 352, 512, 576, 581, 589, 597, бод, 746, 826; городское 416;
народное 205, 2дз, 359, 379, 4i7~42i, 423, 440, 44Ь 455, 555, 575, 58о, 584,
588, 598, 6о4, 6о8, 6ι8, 630, 643, 734, 77° (см· также армия, милиция)
опыт: в аристотелевской теории 59"б4, !95, 3°6, 678-679, 7Φ и благодать
и фортуна 9°~92, 172-173, Σ76; у Гвиччардини 2Ю-2П, 266-268, 306, 316-
317, 319, 322-325, 327-328, 337-339, 344, 347, 362-364, 367, Зб9~371, 376, 382;
гуманизм считает недостаточным юд, 113, 137, J47, 476;
у Джаннотти 403-4°5, 435, 44б~447; Кок объясняет Якобу I 52;
купцы быстро накапливают 145; превращается в мнение в обществе,
основанном на торговле 6ι6, 640, 643-644, 652, 661;
в парламенте 501-502; у Платона 57; среди представителей 721;
в «Ответе на Девятнадцать предложений» 512; и участие ig7;
у Фортескью 49~55, ю5, 476; у Харрингтона 557» и Гоббса 562;
у Юма 6g6; ottimati придают особое значение 157
освободитель 263-264, 457
осмотрительность 335, 348
основы, личности или добродетели 546, 55°, 592, 625, 645, 668, 678, 700
особенности (особенное) 41, i68, igo, 238, 244, 406, 407, 447, 46g, 503, 565, 637
(см. также единичное)
отвага 2бо, 285, 335, 343, 355, 38g, 755
«Ответ Его Величества на Девятнадцать предложений парламента»
512, 514, 5i6, 5i8, 522, 534, 542, 548, 567, 573, 575, 580, 581, 583, 589, 670, 673,
694, 6g5, 7^, 794
об отводе, билль 57°; его сторонники 568
отцы-основатели 671, 7°7
отчуждение 31, 122, 461, 478, 479, №, 490, 491, 642, 653, 701, 703;
личности 704, 7°5
охлократия 128
охотник 6g6, 751
Падуя но, 393, 397
палата, «другая» 542, 574, 575, 717;
палаты, верхняя и нижняя 502, 542, 575, 579, 7J6, 586
Палата Лордов 513-515» 534, 549, 5б7, 570, 579
Палата Общин 484, 512, 54, 533, 57Ь 579, 587, 597, 6о6-6о8, 670;
древность 585, 590
Пандольфини, Пьер Филиппо 420-422
папа д5, 165, 487, 558; папство 63g; контрреформационное папство 46g;
папы: Александр VI 255-256, Климент VII (Джулио де Медичи) 349;
Юлий II 207, 432; Лев X (Джованни де Медичи) 207, 222, 226, 2дз, 349
Паркер, Генри 522-523, 525, 529, 537
парламент 46, 54, 472, 482-483, 502, 504, 5Н, 522, 526, 528, 549, 571-574, 578~58о,
586-587, 597, 6θ5, 6i5, 638, 643, 657, 664, 666, 711, 723; частые выборы 584,
662, 66д, 675; происхождение 4д2, 57°; власть 4дз; протекторат 542;
на короткий срок 723 (см. также монархия, суверенитет); parlements 451
870
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
парламентское джентри 484Î дотации 579
партия, партии 676-677, 684, 730-731
Парута, Паоло 469
Патни, дебаты в 531-533, 538, 550
патриархальное 6ю; тезис 59°; «Патриарх не монарх» (см. Тиррелл)
патриархализм 532, 591
патриот 526, 643; патриотизм 574, 743, 746
патронаж, политический 572-574, 579, 588-589, 59θ~59ΐ, 595~59б, 6н, 6ι8,
630, 663-664, 671-673, 673-675, 684, 692, 708-709
Пейн, Томас 717, 748
Пенсильвания 717~719
пенсии (синекуры) 571_573, 630
Перикл 766; надгробная речь 140, 700; добродетель 142
Петр, Св. 276
Петрарка, Франческо 96, 105, ю8, но, 141, 264
Петит, Уильям 585-586, 59°
Петти, сэр Уильям 594
Пиза зо8, 393; пизанцы 189
Пико делла Мирандола 155
Пикок, Томас Лав 75°
Пим, Джон 5о6, 507, 5°8
Питт, Уильям 760
Платон 56, 57, 78, 113, "5, 2°4> 373, 688-689; Законы да, 469;
миф о пещере 66ι, 68ι; Государство 56-58
Платонический ренессанс но, 112
повар 59; (перен.) 20б, 209, 442
«Покорнейшая петиция и совет» 542, 673
Полибий 131, 178, 274, 309, 393, 425, 442, 463, 469, 750, 76ι;
Всеобщая история Полибия 128; шестая книга 159, 431, 468-469;
теория Полибия о равновесии 399, 424, 468, 471',
циклическая модель 351, 431; равновесие 409; система 379;
теория равновесия 468; теория круговорота 455; теория монархии 378;
традиция 73°; венецианская парадигма 379
полис 34, юг, πι, П5-П7, 123, 128, 135, 136, 155, φΐ» 241, 267, 294, 472, 475, 494,
5бо, 679, 689-690, 734, 751, 766
политика по, 113, 122, 128, 132, 156, 157, 241, 524, 549~550, 564, 630, 644, 677,
679, 710, 715, 726, 747, 748, 766; классическая 726;
конец классической 715, 726, 732; основы 592
политическое (-ая, -ие): действие 49°; деятельность 493; существо 82, 104,
log, 125, 175, 267, Збо, 420, 43θ, 477; аристократия 157; арифметика 594;
сообщества 153; влияние 505; сообщество из, 159, 494; экономия 592,
596; история 76; гуманизм ю8; знание 317; процесс 742; общество 399;
теория 3^7, 3!9» 7°3î мысль: английская 511, 564; флорентийская 454',
гуманистическая 453; Запада 565
полития ш, П4, I20-I2I, 143, 144, 159, 167, 171, 173, 194, 209, 268, 269, ЗОЗ, Зб7,
379, 430, 439, 652, 718; английская 506
Польша боб, 626, 657
Помпеи 290
871
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Помпоний Аттик 398
порядок 494; от природы 678
Поул, Дж.Р. 715
Поуп, Александр 641, 669
похищение сабинянок 439
поэзия 36, ю8
права 214, 477, 5°9; права человека 761
Прайс, Ричард 760
предположение и предписание (см. также Бёрк, Хэйл) 49-5°, 484, 5б9
предохранительный клапан (в Америке) 745, 7бЗ
предприниматель (-и), предпринимательский (-ая, -ое, -ие) 551, 628, 640,
646, 8о2
прогноз 323
представители 540, 571-573, 657, 7Ю, 721-726, 760;
представительская демократия: 728, 738
прерогатива 511, 576, 587, 590-59I, 671
прецедент 492
приватизация 645-646
привилегия 5Н
Принн, Уильям 492, 525, 559, 5б2
принципы 43, 51, 58-61, 8о, 154, 158, 268-269, 295, 397, 4θΐ, 406-407, 53Ь 572,
607, 611, 644-645, 653, 659, 664, 675-676, 681, 687, 691, 695-696, 708, 722, 729-
730, 737, 743
принятие решений (лица, принимающие решения) 57, 6о-66, 93, 94, 105,
in—ИЗ, II9-I2I, 137, ^39, 142-145, *49, '76, 195, W, 200-201, 285, 293, 321, 333~
345, 366, 369-370, 404, 408, 410, 412-414, 465, 494, 649-650, 652, 746, 770, 772
природное/естественное 73°; аристократия 73°, 732; право 609;
человек 524, 733
природа 51, 84, 93, Н4-"5, 129, 132, 150, 151, 169, *74, 191, 267, 340, 397, 497,
529-530, 572, 684, 734, 747-749, 743, 759; город 362-363; первичная 416;
флорентийцев 328, человека (человеческая) 424, 696, 734, 738, 742;
закон Ю2, 115; человеческая (человек) 279, 291, 377, 454, 662, 766;
момент 564; порядок 643; людей 198, 326; первичная 420; вторая 6ι, 137,
168-169, 187, 205, 211, 228, 239, 257, 263, 267-268, 300-301, 329, 416, 485, 53°,
622, 696; состояние 524, 617
Провидение 35, 68-69, 8о, 86, 87, 90-91, 137, I7i» 175, 277, 390, 455, 521-522, 525,
535-536
прогресс 693, 700-703, 7*3; ремесел 742; цивилизации 751;
коммерции и коррупции 744; общества 700, 704; теорий 566
производство 698, 700
пролетариат 702, 764
пророк 72, 1б9, 174, 251-252, 253, 263, 276, 278, 299, 487, 537, 5б2, 744;
вооруженный 251-252, 279, 298, 531; невооруженный 251
пророческий: власть 537; история 86, 87; традиция 567; слово 559
пророчество 72, 87, 94, *32, 173-174, 535, 667
прошлое 99-юо, 488, 588, 59°, 603, 607, 6ι6, 642-643, 680, 681, 759
протекторат О. Кромвеля 542-543
протестант 493, 648; этика 650
872
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
промышленность 621, 694, 75°
Просвещение 19, 137, 5б5, 667-668, 781, 787-788
пространство ЗЬ 34» 35, 58, 136, 178, 309, 3", 7б4
противоречие (-я), историческое 698, 704-705, 74°
Птолемей Луккский ι68
пуритане 30, 479, 49°, 5б7; Англия 564; милленаристское сознание 544',
сознание 493; священники 478; радикальные 564, 593î святой 49°;
конфликт 762; мысль 713; пуританизм 480, 648, 667, 691
пэрство, пэры 575, 586-588, 716-717; история 588; билль о пэрстве 716
Пятая монархия 538, 557, 56ι, 7!3~7ΐ5
раб 191; рабство ЗЗ2
равенство 122, Ц7, 221, 301-304, 329-330, 366, 373, 4о8, 4Ю, 412, 517, 530, 558,
боо, 655-658, 662-664, 673, 679, 687, 720, 743"744, 748, 772, 778, 8οι
(см. также isonomia)
равновесие 131, 156, 158-160, 178, 390, 409, 424, 43Ь 433, 44*, 459, 466, 468, 470-
471, 495, 5II-5I9, 522, 525, 541-542, 549, 552, 580-581, 585, 589, 599"6оо, 605,
6ι8, 630, 637, 657, 671-672, 674, 680, 695, 703-704, 727-728, 731, 733, 739, 761
(см. также баланс)
радикализм, английский 372-75, 377, 381-83, 5^
разделение власти 194, 44, 436, 5*5, 573"574, 589, 671-672, 683, 717, 733
разделения, теория 720
разум: в средневековой философии и теории права 35, 44, 48, 55î
романтическая концепция 762; раб страстей в XVIII веке 641, 646, 66ι,
683, 690-692, 696, 710; основание государства 522-526, 537
рантье 597, 640, 645-646, 697
раскол 214, 4J9, 543, б26
распределение 112, 114, н8, 43°; власти, властей 5*6, 54б~547, 655, 728;
имущества 655; полномочий 568; собственности 547; функций 670
распределительная справедливость 136
распри 284, 353, 512, 5^6
рассудительность: «Ответ на Девятнадцать предложений» 512;
Фома Аквинский 62-63; авторитет 31; совесть 521; решение Ю2;
опыт 64, 92î веРа 92; Фортескью 53, 62, 364-365; Харрингтон 563;
современный 548; царствование в средневековой мысли 38, 39;
Макиавелли 2бо, 285, 335, 475; ottimati 158, 379; Провидение 527;
мудрость 687
расширение 286, 308, 440, 443, 445, 4б2, 47о, 553"554, 613, 6ig, 642, 712, 728-730,
737, 744, 749-751, 828; Рима 439, 548
расширяющаяся (-еся): государство 416; демократия 744
рациональность 149, 150, 468-469, 501, 565, 650, 652
реальные: блага 640, 644, 650; собственность (см. собственность);
капитал достоинства 615-616, 637Î добродетели и страсти 644
революция 478, 510; французская 597; Нидхэм 54°, 555; святых 478-479;
соглашения 638; (см. также Америка, Англия, финансы, Флоренция)
Рейнборо, Томас 532, 539, 550
религия 277-279, ЗЧ> 6i2; христианство 309~310; гражданская 292;
рациональная 692; римская 292, 312
Ренессанс 99, !9°; политическая наука 177
рента бог, боб, 631
873
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
республика (-и) 28, 34, 96, 98-gg, 105, и, Н2, 135, 136, 145, 147, 267, 270, 38g,
495, 496, 501, 538, 647, 6gi, 723, 730, 743, 744, 747, 758, 761;
американская 735, 744, 750, 759, 7б2; и апокалипсис 167-168, 172-173,
278, 307-308, 5^2; в «Письмах Катона» 655, 662-663; христианская 309;
Англия как 472, 478, 5i7~5i8, 521, 524, 538, 544, 5^4, 655, 664;
этрусская 141, 553; федералистская 735; флорентийская 28, д8, дд, 134,
137, 1б4, 178, 4", 453, 474, 613; и фортуна 150, 152, 178, 232;
у Джаннотти 394~395, 4", 4*4, 423, 443, 450; у Гвиччардини 337, 37Ь 38з~
384; у Гамильтона 682, 736-737, 756i У Харрингтона 553"554, 558, 561, 581,
687; имперская η\% и человек 152; итальянская 474Î в Arte délia Guerra
Макиавелли 288, 2дг-2дз, зоб; в «Рассуждениях» 270-278, 284-287, 2gi,
2gg-30°, 306-312, 3*7» 703; в «Государе» 234, 238, 263, 267; в его теории
военного искусства 25g, 2g4, 545; как Тысячелетнее Царство 567;
у Монтескье 687~68д, 6д5, 737; народная 6gi; во времени 126, 132, 136,
15g, 268, 46g, 700, 765; представляющая интересы 727; римская дб,
99, 132, Ц1, 157-158, 286, 305, Зоб, 540-54I, 545; как универсальное
сообщество 565; и тосте civile 35; У Уэбстера 744
республиканизм: этика 682; гуманизм 566, 722; принципы 526;
стандарт 741; теория 510, 512; традиция 270, 315, 665, 722;
добродетель 647
республиканское 567
республиканцы: Джефферсон 735, 741; классические 493, 592*,
республиканизм 591» ^39» 666, 723, 728; Харрингтон 570, 666;
Макиавелли 543, 557; неохаррингтоновский 666; постпуританская 567
Реформация 37, 84, Ю7, 172, 205, 2дз, зоо, 478; радикальная 491
решение (см. принятие решений)
Ризенберг, Питер 134
риторика 43, 44, Ю4, 105, по, 114, 5^7, 634, 7о8, 725; коррупции 6gs;
эсхатологический 563; фортуна 384; республики и Цезаря уи;
добродетель 670
римское (-ий, -ая): гражданин-воин бдо; колонизация 6ig; империя дд, 313,
34* 545; господство 72g; история 182, 379, 387Ï Цари 353"354; право 134;
свобода 399; военная система 345; патриции 274, 355~35б, 404, 555, 687;
народ д5, 353; плебеи 274, 284, 286-287, 2д2-2дз, 354"35б, 444, 688
Рич, Натаниэль 538
романтизм, романтический (-ая, -ое, -ие) 481, 566, 728, 745"74б, 749, 751, 7бз
Ромул 248, 256, 265, 272-274, 278-279, 281-282, гдд, 403, 439, 537, 547, 744
роскошь 204-205, 357, 6οι, 602-603, 605, 620-621, 738, 74°
ростовщичество 552
ротация должностей 540-541, 556-557, 572, 581, 662, 723
Руссо, Жан-Жак 647, 651, 684, 704-705, 721-722, 724-726, 729, 742, 753, 758-759,
8оз, 844
Ручеллаи, Бернардо 158, 182-184, 2бд
рынок 627, 645; товар 551, 6ι8; экономика 752
рыцарь 141, служба 545
Рэли, сэр Уолтер 5°4-5°5, 5ю, 545J «Заседание кабинета» 505;
«Максимы государства» 5°3-5°4; «Прерогативы парламентов» 507-508
Сабеллик, Марк Антоний 394~397
Савонарола, Джироламо ι6ο-ι6ι, 167-168, i6g, 310-311, 44, 423~424, 453, 455~
456, 4бд, 561; поражение I75-I77î Джаннотти 435Î Гвиччардини ι86-ι88,
З^-З'Э» 327, 391; Макиавелли 174, 252; неоплатонисты 155;
874
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
проповедник i6o-i6i, prima forma и благодать 169-170, Ι73_Ι74» 175_I76,
205-207, 257, 300, 489, 529; роль 1бз, 176; вторая природа 168-169, 204, 269,
489; Венеция 163, 168-169, ^3, 424; конституция 221, 327
Сады Оричеллари ι88, 231, 269, 346, 393, 424
Саксы (Саксоны) 47, 545; саксонская свобода 433
Салютати, Колюччо 96, 101-103, 105, 112-114, 270
Сарпи, Паоло 469-470; «История Тридентского собора» 469
Саул (Савл) 537, 559
Сачеверелл, Генри 637
сбалансированное (-ая): конституция 284, 544, 58ι, 608, 643, 644» 657, 67°,
675, 794; правление 29, 502, 534, 547, 573, боб;
распределение властей 502, 828; содружество 132, 599, 828
Свифт, Джонатан 596, 607, 625-628, 633, 666, 66g, 673, 687, 739;
«Наблюдатель» 633, 637; «Мысли приверженца Англиканской
Церкви» 666; «Рассуждение о знати и общинах» 673
свобода: 82, ιοί, ш, 150, 167, 171, 325, 484, 489, 504, 508-512, 526, 527, 530-532,
546, 557, 573, 576, 58ι, 603-604, 607, 656, 703, 715, 754, 7б5, 766, 775, 789, 793,
795~8οι, 825-826, 847; У Аддисона 639-640; у Лодовико Аламанни 229;
у Луиджи Аламанни в «Ответе на Девятнадцать предложений» Ъ1<2-~Ъ1Ъ\
в манифестах армейских офицеров и солдат 527; У Болингброка 675-
677; У Бруни Ц1, 292; в «Письмах Катона» 658, 664; гражданская
и религиозная 6ΐ2, 7Н; и коррупция 504, 573, 58ι; и культура 603, 626,
690-691; у Давенанта 6ΐ2, 623, 690; у Дефо 605-606, 690; английская 484,
489, 508-509, 530, 576; в федералистской мысли 732, 737~738;
у Флетчера 598-600; у Джаннотти 394, 397, 398, 404, 4"~415, 418-423, 430,
433, 454-455; У Гвиччардини 190, 211-213, 2ΐ8, 22θ, 222, 244, 269, 270, 292,
325, 330, 335, 341, 361-362, 364-365, 379, 38ι; социология 137, 258, 28о, 474,
539, 597-609, 648-649, 654, 663-666, 697, 737~738, 824, 833; У Содерини 325,
330, 347, 359-370; у Харрингтона 544, 546-550, 553"554, 58ι, 583-588,
655, 712; у Юма 692-693, 709~7Ю, 795; юрисдикционные свободы 477;
у Макиавелли 243~244» 258, 263, 267, 270, 28о, 284-285, 288, 292, 302,
303, 3!2, 31Зу 474; У Ми л л ара 703; у Монтескье 683-687; негативная
концепция 335, 770-77Ь 775-779, 787, 790-792, 804, 844, 847-850;
в Риме 398; у сторонников Уолпола 675
свободное владение землей: (см. также владение землей, фригольдер)
476, 489, 532, 546, 550, боо, 648-649, 652, 673
святой, святые 74, 89, 3", 478~48о, 489, 493, 53Ь 535, 537, 549, 5бЗ, 648, 7*3, 7*5;
английский 53°; пуританский 49°, 53°; радикальный 488, 530; правление,
царство 488, 544-545, 558-559, 7*3
святого Марка, братство 453
священник 558, 665, 697
священное (-ая, -ое, -ие): будущее 479; время 155; империя 745, 771»
история 71, 74, 87, 94, 486-490, 7!4> порядок 236; республика 714
сдержки и противовесы 725
Сейгель, Джеролд 104, 105, 112
секты, сектанты, сектантство 30, 74, 478-479, 491, 755, 840
секулярный, секуляризированный (-ая, -ое, -ые): время 14, 28, 135, !72, 5бЗ,
68о, 758, 762, 764; история 69, 71"74, 76, 94, 98, 137, 492, 832-833;
(само)сознание 29, 480; сообщество 559
секуляризация 89, 205, 275, 5б7, 648, 667
Семилетний акт 663-664, 66g, 7й
Семилетняя война у и
875
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
сенат 54°; проекты для Флоренции 348, 368, 412~414, 447, 450-451*,
«Океания», 555~55б; римский 54, 28i, 353~354, 442, 445, 539, 548, 678;
венецианский 157, ι8ι; сенатор 405, 57°
Сидней, Алджернон 17, 587, 590-591, 707, 793
Скиннер, Квентин 7-8, и—15, 21-24, 27, ЗЬ 525, 537, 767-768, 771-772, 774"775,
778-779, 792, 8гд, 832, 837, 848-850
слава 200-202, 2i6, 258, 398, 401, 736
слуга 2д4, 532, 55Ь 697
случай 34, 36, 41, 5Ь 56, 57, 66, 67, 70, 77, 91, 173, 2од, 244, 245, 248, 273, 281,
342, 380, 401, 432, 824, 833
случайность, случайный (-ая, -ое, -ые) 63, 67, 6д, дз, д4, 232, 233, 247, 249,
252, 255, 272, 275, 287, зоб, 362, 363, 385, 387, 390, 409, 4^8, 433, 475, 615, 662,
678, 6д7, бдд, 700, 704, 7i8, 741, 742, 751, 803, 833
смешанная монархия 341, 5°3, 5°7, 673» ΊιΊ
смешанное (-ые, -ая): тела 467*, конституция 131, 5ю, 523, 534, 583-584
{см. также corpo, corpus)
смешанное правление нб, 157, i6i, 26g, 351, 392-393, 399, 410-411, 442-443,
453-454, 4б7, 470-471. 474, 502, 507, 5", 5i5~52i, 54i, 568, 5&?, 59Ь 673
Смит, Адам 24, 641, 6д7, 702, 826
Смит, Генри Нэш 744, 753, 7^3
Смит, Томас 482
собственник, владелец земли 484, 549, 577, 6°°, 625, 642;
вооруженный 577, 6gi
совесть 520-523, 525, 527, 52g, 549
совет 501
советник(и) 482-483, 493, 5*4, 5*6; Рэли 504
совещание, совещательный (-ая, -ое, -ые): у Гвиччардини 368, 4!3, 672;
у Джаннотти 412-414, 436, 452
современный (-ая, -ое) (модерный) боб; рассудительность 548, 599î
государство 481; современность 472, 6н, 653, 668, 706, 736, 759»
модернизация 481
Содерини, Паоло 318-319, 325, 327, 330-336, 338-339, 347~348, 359"ЗбЗ, Зб5,
38о, 383
Содерини, Паоло Антонио 318, 423
Содерини, Пьеро 152, 183, 185, ι88, 262, 2дз, 383
Соединенные Штаты Америки 647, 671, 734, 796, 799, 8оо, 821, 822, 825, 827,
828, 8зз, 836-838, 840, 843, 844
созерцание 36, 79, 8о, 82, ιοί, Ю2
сознание: американское 707; афинское сознание времени 128;
гуманистическое 104, i39-!40j индивидуальное 481; ложное 23-24, 642,
646, 649-650, 652, 664-666, 68о, 682, 687, бдз, 72о; национальное 480;
республиканское 494» секулярное 480; филологическое ю8
солдат 288, 504, бог, 665, 6д7, 737
Солон 247, 272, 274, 547
Сомерсет, герцог 4дЗ
сообщество: избранных 4до; политическое из
сословие (-я) 283, 286, 337, 350, 358, 444, 465, 495, 497, 499, 501-502, 517, 550,
555-556, 56ι, 585, 589, боо, 630, 676, 723; три (сословия) 511-512, 5*6, 567, 575
социалистическая традиция, мысль 764-766
876
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
социальное (общественное) существо нб, 701; изменение 568; пакт 522;
иерархия 73°; время 647
социология 50, 143, 45» З01» 491, ^77» 68о, 696, 751, 7^4, 824; знания 228, 6ι6;
свободы 137, 305, 653-654, 720, 824
Спарта 125-127, 173, 203, 275, 284-287, 552, 620, 663, 688, 694, 700, 704, 773, 827
спартанский (-ая, -ое, -ие) 251, 297, 617, 690
спартанцы 124, 272, 693, 7б2, 844
спекулянты 6ц, 632, 645, 687; спекулятивное общество 641, 664, 688;
спекулятивная экономика 68о
спекуляция 552, 6ι6, 642, 688, 759
Спелман, сэр Генри 591
специализация 6о2, 642, 697, 737, 7б5~7б6; функция 697, труда 697
способность (-и): гражданская 77, и7, !24» НЗ, ΐ95"2θθ, 335, 692-693, 702,
7I3_7I4» 720-721; человеческая 481, 531
справедливость 126, 130, 136, 167, 170, зов, 360, 477, 504, 698, 738, 7^6
стабильность: в обществе кредита 643, 731» обычай и благодать 263;
английская монархия 533; английский и тацитовский 498;
во Флоренции 271; свобода от времени 273; Джаннотти 433, 455, 4^9;
Харрингтон 552, 554; Макиавелли 285-287, 3*5; Медичи 212;
смешанное правление 525, 581; государственный долг 595;
полис (politeia, полития) 126, 136, 233, 379; principe naturode 238;
республика 128, цб, 149, 178, 266, 47°; секулярная I35Î
Венеция 156, ι6ο, 172, 173, 273, 379, 39Ь 4θΐ, 416, 420, 440;
и добродетель 128, 172, 28о, 565, $Ф\ vivere civile 115
Старки, Томас 482
Старый Свет 747, 758; олигархия н8, 122, 128, 144, 149, '57, 192, 243, 3^2, 3^5,
436, 544, 669, 679, 7Ή парламентская 759
статут 45, 55, 62, 64, 66, 90, юг, 109
стоик(и), стоицизм 131, 752, 839
Страна (партия Страны) 497, 571-572, 574, 577, 585, 59Ь 597"598, 6о8, 6п, 619,
625-626, 629, 653-654, 664, 669-670, 675-676, 679-680, 682, 709-712, 716, 722,
727, 731, 736, 760-761, 797, 802, 825-827
страсть, страсти 464, 617, 632-654, 641, 643-644, 650-653, 660-663, 675-676,
681-685, 691-698, 710, 727-729, 750
Строцци, Нанни делья цо
Стурж, Джеральд 73^
Стюарты 65, 504, 5^4, 57Ь 595, 78ι
субстанции таинства 487
субъект/подданный 238, 303-304, 476, 496, 5*7, 577, 598, 603, 6ι8
суверен 447, 450, 559~5бо, 665, 722; парламентский 674, 76ι; народ 726;
власть 665, 73 !
суверенитет 98, 192, 342, 366, 453, 470, 485, 522, 559, 574, 674, 73Ц
гражданский 561
судебное 517, 521
судьба 85, 129
сфера з8, 9Ь *3i
Сфорца, Франческо 223, 235
Тарквиний 274, 281-282, 445
Тацит 781
877
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
тацитизм 498, 59Ь 778, 781
Тезей 247-248, 256, 263, 265
тело зб, 58, 8з, ι86, 187, 210, 425, 575, 619, 722; и душа 75, 424, 43i;
мистическое 89, 486; политическое 153, 193, 468, 476, 482, 483, 522, 850;
природное 396; смешанное зю, 467
Тернер, Фредрик Джексон 756
Тейлор, Джон, из Кэролайна 732, 739, 793
теократия 171, 559, 561-562
террор 227, 748, 762, 844-845, 847
тиран 56, из, 1б7, 233, 315, 333, 339, 422, 498, 500, 537, 577, 635, 747, 776
тиранический (-ая, -ое, -ие) Ю2
тирания 97, 99, 122, 124, 128, 145, 167, 281, 290, 312, 332, 339"34i, 364, 380-381,
434, 457, 487, 512, 612, 639, 658, 685, 710, 748, 756, 790
Тиррелл, Уильям 59°; Patriarcha non Monarcha 590
Токвиль, Алексис де 747~749, 752, 755
Толанд, Джон 567, 596, 604, 609, 6i2, 618, 629, 666-667, 676, 793
тори 568, 586-590, 596, 6i9, 625-629, 633, 664, 668-671, 676, 682, 715, 720, 736,
795, 825
торговая: полития 609; общество 6н
торговец (-цы) 289, 552-553, 6н, 617-618, 623-624, 639, 645, 688, 692, 73Ь 7б4
торговля 552, 594-595, 604, 607, 6n-6i2, 619-620, 650-651, 677-678, 709, 737~738;
свободная 738
торговое (-ая, -ый, -ые): компании 655-656, 663; интерес 683;
гражданин 603; нация 594, 4χ8, 622; общество 594, 650, 656-657
Тоскана ιοί, Ц1-Ц2, 145, 230, 303
традиция 46, 93, Ю5, 137, 17о, 235, 236, 242, 26ι, 262, 269, зоб, 363, 549, 557,
593, 742; аристотелевская и гуманистическая 471» аристотелевская
республиканская 393» афинская 112; гражданский гуманизм 460;
классическая 706, 725; флорентийский республиканизм 392;
идеалистическая 764; Джефферсона и Джексона 75°; Ренессанс 715;
республиканская 454, 732, 7335 социалистическая 764;
венецианская 672
Третий Век 89; Третий Завет 96, 171
Тренчард, Джон 59б~597, 605, 6ΐ2, 6ι8, 654-655, 657, 663-664, 666, 673, 682, 707
Треченто 99-100
трибун(ы), трибунат 95~9б, 282, 355~35б, 443
Трифоне Габриелло 397"398, 402, 4J6
труд 642; 697; разделение 651, 701, 702, 705; теория стоимости 641-642
Тьювсон, Эрнест 566-567, 667, 7i3~7i4, 740, 752-753, 763
Тюдоры зо, 65, 433, 472, 477, 486-488, 493, 499, 501-502, 548, 78ι, 840
тюхе 70, 77, 8о, 129
Уайвилл, Кристофер 760
уважение 557, 679, 7*8, 729~730
Уитфилд, Дж.Х. 266
Ульман, Вальтер 68, 475
878
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
универсалии 25, 36, 4θ, 44, 48-49, 54, 56, 59, 67, 8ι, 87, 102, 104, 107, 109-но,
"4, 125, 154-155
университет 393, 4^3, 493, 526, 742
Уоллес, Джон М. 14, ЗЬ 525, 536
Уолпол, сэр Роберт 593, 597, 664, 668-670, 676, 678, 691, 7о8, 735, 736, 738, 762,
792, 826
Уолцер, Майкл до, 478, 479, 481-482, 487, 490-491, 530
Уорд, Джон Уильям 746, 747
ум (интеллект, разум): ангела 58; città disarmata 347; гражданский η\\
божественный (-го); опыт 53; фортуна 77"78; законодатель (-я) 407;
конкретный (-го) 342; правитель-философ 75» ragione di stato 503;
в «Заметках» 384-385; сверхчеловеческий 187;
ограниченный во времени 6д
Урбино ш, 2о8, 222-224, 229, 497
успех 145, 458, 68ι, 736
утопия, утопический (-ая, -ое, -ие) 31, 172, 555-556, 5б7, 648, 657, 667, 690,
693, 704, 713-714, 752-754, 7б5, 784, 789
участие, гражданское Ю2, 125, 2Ю, 292, 469, 483, 765; У Аристотеля нб, I2i,
122, 233; У Бруни I40; у Кавальканти 144, Нб, 147; У Контарини 466;
у Гвиччардини 198, 212, 213-216, 326, 335~33б, 368, 376;
у Харрингтона 555-556; в гуманистической беседе но-ш;
у Айртона 532, 55°; и Локк 6ю; Макиавелли io8, 292, 306;
у Пима 507; репрезентация 722, 729; переоценка истории юз;
у Савонаролы 167, 32i; Венеция ι8ο
учтивость, вежливость 47°, 658
Уэбстер, Ноа 732, 743, 744, 749
Уэнтуорт, Томас 497, 5о8
Уэстон, Коринн К. su, 568
фантазия (-и) 22-23, 151—153, 2бо, 424, 631-632, 636, 641, 643, 646, 649-650, 652,
654, 658-659, 66ι, 664-665, 677, 684, 686-687, 693, 727, 742, 745, 789, 827
федерализм: в духе Катона 74°; мэдисоновский 735, 739, 742;
неклассический 737
«Федералист» 727
федералисты 715, 721, 724-725, 73i"732, 735"73б, 739"740, 752-753;
полемика с республиканцами 715, 736
федеральный (-ая, -ое, -ые): конституция 734*, правительство 734;
представительная структура 738; система 726; структура 727
федеративная республика 732
феодал(ы) 242
феодализм 505, 585, 590, 609
феодальный (-ая, -ое, -ые): аристократия 548, 581-582; бароны 582;
истолкование истории 568, 57°; монархия 548; прошлое 505; этика 200;
feudum 545
Фергюсон, Адам 698-701, 704; «Опыт истории гражданского общества» 698
Фергюсон, Артур Б. 482-483; «Артикулированный гражданин
и английский Ренессанс» 482-483
Фердинанд Арагонский 185, 237
Филдинг, Генри 626, 670; «История Тома Джонса, подкидыша» 626
879
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
Филиппе, Фабиан 57^
Филмер, сэр Роберт 16-17, 520, 532, 585, 590-591, 797
филология юб, но
Филопемен Ахеец 258
философ 49, 125, 155, 502, 646
философия 38-41, 8з, 84, 85, 86, 105-107, П4, 156, 319, 332;
аристотелианская 43, 48; гражданской жизни 176; обычая 569;
дедуктивная 43; правления 59; истории 36; средневековая 35;
платоническая 56; политическая 41, 76; постаристотелианская 38
финансист(ы) 624, 627
финансовая: революция 595, 670; структура 578
финансы 596, 6н, 617-618, 626, 641, 645, 664, 671, 678, 682, 712, 737"738, 795,
826-827, 844
Фичино, Марсилио 319
Флетчер, Эндрю 596, 598-6οι, 603-604, 607, 610-612, 618, 625-626, 689,
699, 737, 79°, 792, 825; «Рассуждение о правлении
в связи с народным ополчением» 598-604;
«Рассуждения о положении дел в Шотландии» 604
флорентийский (-ая, -ое, -ие) гражданин 134; гуманисты ιοί, по;
история ι66, 379, 558; правление 379~38о; учреждения 134; характер ι68;
политическая мысль 453"454; политика 318; республиканцы 6ΐ2;
традиция 504; институты: Большой совет ι6ο-ι6ι, 163, 172, 179_18з, 185,
193-194, 213, 215-216, 2ΐ8, 22ΐ, 225, 3ΐ8, 327-328, 336-337, 342, 347, 365-366,
375, 377, 383, 399~40ΐ, 403-404, 4θ8, 412, 415, 419, 423, 436, 438, 448-449, 45ΐ"
452; гонфалоньер(ат) ι6ο, 183, 198, 348, 370-371, 374~377, 4"-4ΐ2, 436-437,
447, 452; конституция Ц94 года ι6ι, 172, ΐ79"ΐ8ο, 182, 193, 196, 269, 452;
конституция 1527 г. 412, 452; Синьория ι6ο, 179, 181-182, 412;
совет десяти 370, 394, 4*2, 4*6, 436, 448, 452; procurator 412, 414-415, 448
Флоренция: Аламанни о 228-230; апокалиптическое видение 87-88;
Великая Осада (1528-1530) 384-385, 394~395, 4", 4i5"4i6, 440;
Гвиччардини о 190-192, 202, 208-209, 211-213, 221-224, З^-З^, 321, 323,
325-330, 335, 337-338, 34^ 346-349, 35Ь 358, 361-364, 368-371;
гильдии 288-289; у Данте 94; У Дати 145-146; Джаннотти о 394~395, 397,
399-400, 403-404, 407-413, 415-420, 422-425, 431-432, 434"43б, 439"44i, 444"
445, 449, 453, 455-458; Кавальканти о 634; Макиавелли и 234, 237-238,
270-271, 3°8, 3*3, 393, 4б9; Медичи 111; миф об основании 9б~97;
Паоло Веттори и 221; Савонарола и 161-164, ι66, 168-179, Зп-312, 488;
Салютати и Бруни ю8; события 1494 года и после 162, 177-178, 384;
события 1512 года и после 207-208; как республика 135, 139, 495
Фокс Джон 487, 488, 490; Книга мучеников 486, 566-567
Фолкленд, Джон 5Н
Фома Аквинский, Св. 62, 82, 84, 165, ι68, 171, 190
форма: благодать и добродетель накладывают ее на материю
и фортуну 127-128, 132, 239, 260-261, 266-268;
Гвиччардини не упоминает 204, 209-210, 316, 332~333;
утрачивается в грехопадении 40; Джаннотти и 395"39б, 424_425;
законодательство и 367-368; истории не хватает 84-85;
Макиавелли и 233-234, 247-250, 255-256, 264-265, 299-300;
народу не хватает в американской мысли 720-721;
полис и политевма 129; в радикальном апокалиптизме 527-529;
республика как 136-137, 47°, 58ι; у Савонаролы 165, 167-168, 170-171, 204-
205; фронтир и 751-752; как цель фюсис 37
Фортескью, сэр Джон 42-49, 5h 53~54, 56, 58~59, 62, 66-69, Ю2, 105, iog, 176,
237, 476, 481, 506, 568
880
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
фортуна 14, 23, 28, 29, 34, 35, 7о, 79, 85, 9Ь 127, 285, 345, 422, 470, 474, 525, 662;
и торговля 690; и коррупция зо; обычай и благодать 30, 563;
в английской мысли 494, 513, 5i7~5i8, 524-525, 529-530; и вера 92;
и фантазия 742; У Гвиччардини 381-382; и инновация 237-239, 244, 263,
264; и власть 175, 20i; и добродетель 137, 144, 45, *50, 151, 544, 7<>3;
джентльмены 5^5\ женская 365
Фортуна 22, 77, 79"8з, 86, 91, 127, 129-131, !52, 176, 248-249, 495, 497*,
колесо Фортуны 79"8о, 91-92, 130-132, 178, 255, 433, 495"497, 517, 524, 636,
7Ю, 742, 756
фракция (-и) 305, 573"574, 6ι8, 676, 707, 730, 744
Франция 47, 451, 485, 655, 666; церковь в 485; монархия 236, 451, 58о
Франциск, Св. 311
французское (-ая, -ие, -ий); правовая и институциональная история 485;
легальный гуманизм 483; монархия 236, 580; дворянство 580, 666;
крестьяне 506; революционеры 762; мысль 485
фригольдеры 551, 572, 580, 656, 607, 656; в армии 576; английские 607
(см. также владение землей, свободное владение землей)
фримен 546-547, 553, 557, 588, 599, 605
Фрипорт, сэр Эндрю 627
фронтир 745-747, 75^, 7^3, 7^4; расширение 750; герои 745, 749; легенда 745;
риторика 745; virtù 750; воины 745~747
Фукидид 149
функции, политические: назначение их в аристотелевской теории 515,
670, 720; в английской теории 670-672;
гражданство как универсальная 117; Большой Совет 185, 194, 366-367;
распределение 164, 179, ^3, 43°, 670;
избирательные и исполнительные 194; внешних дел 369, 4*5»
в теории федерализма 726; немногих у Харрингтона 557~558, 581;
немногих и многих 142, 293, 3^5; Палаты Лордов 582;
лидерства ι8ι; многих у Гвиччардини 366;
одного, немногих и многих 157, 4^7;
в процессе принятия решений 120-121, 176;
в социальной специализации 701; и суверенитет 342, 45°, 453
Фэрфакс, сэр Томас 528
Халлер, Уильям 487
Хальдун, ибн 699
Хансон, Дональд 66, 477~478, 48о
Хантон, Филип 5*8-523, 529; «Трактат о монархии», 518
харизма 77, 78, 95, 96, 205, 261, 298, 570
Харли, Роберт 629
Харрингтон, Джеймс: и «Письма Катона» 656; в генеалогии
гражданского гуманизма в Англии 30, 545, 55°, 5^0, 5^5, 6ю, 625, 630,
637, 677; о колониях 717; и Давенант 6ι6, 62ΐ; и Дефо 607;
и Флетчер 599"6оо; о феодальной монархии 663; и Франция 580;
и Джаннотти 392, 43Ь 434"435î и Гоббс 559~5б2, 5^4;
и Палата Лордов 568, 575, 579, 58о; и Юм 691; и земля 578, 678;
о законодателях и благодати 250; и Макиавелли 454, 55°;
о средневековом правлении 65-66; и Монтескье 673-674;
о природной аристократии 717; и неохаррингтонианцы 571, 584-585,
588-589; и Невилл 585-586, 59°; Oceana 543~544, 562-563, 577, 582, 585, 6ι8,
665, 712, 744; ° собственности 54Ф о республиканской эсхатологии 563;
88ι
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
о ротации 54Ь 555» 572, 723; о постоянных армиях 578-579Ï
и Толанд 6г8; о венецианском голосовании 410; и Уэбстер 743-744»
и культура вигов 707-708
харрингтонианское: конституции 716; учение 571> 587;
интерпретация 587; свобода 587 (см. также неохарринтонианское)
Харц, Луис Б. 7Ю, 797
Хекстер, Дж.Х. го, 31, 257, 779, 78ι, 793, 835
Хенгем 66
Херви, лорд 597, 675
хилиазм 14, 479, 48о, 490, 7Н, хилиасты ι6ι, 492, 510, 567, 831;
премилленаристский 491
Хил л, Кристофер 478, 764, 783
хозяйство пб, 294 (см. также oikos)
христианин, христиане 74, 76, 82, 83
христианский (-ая, -ое, -ие): добродетель 82, 126, 145, 617, 688;
империя 73, 74; интеллект 38; королевство 47; мировоззрение 41;
мысль 39, 40, 59, 7Ь 152, 174, 422, 690; общество 85;
представление о времени 28, 136; учение о спасении 70, I37Î
ценности 423, 705J церковь 486
христианство 40, 58, 78, 8ι, 278, 291-292, 689; аристотелианское 463;
августинианское 78
Христос 171, 453» 487, 561-563; возвращение 88; Невеста 558*,
правление, царство (regnum Christi) 89, 487, 489, 7!3
Хэйл, сэр Мэттью 568-569
Хэммонд, Генри 560
Цезарь, Юлий 97, 99, 290, 555, 682, 711, 736, 737, 739, 748, 762;
Цезари 289, 548, 775, 78ι
цезаризм ιοί
ценности зо, 124, 125, 229, 384, 566, 647, 653-654, 664, 68ο-68ι, 692, 694, 697,
700-701; гражданские и христианские 689, 705*, меновая 609;
благие н8; история 350, 363, 384, 566, 643, 647, 653-654, 68о, 697, 709, 7б2;
частные 125, 126, 650; приоритеты п8; частные 688; вторичные 701-702;
универсальные 700
церковь (и) 87-90, 160-165; Англии 472, 492; воинствующая 486
цивилизация (и) 456, 698-701, 707, 742, 751» 788
цикл(ы) 274, 281, 538, 753 (см- шакже круговорот)
циклический (-ая, -ое, -ие): история 752; модель 35Ь 547; повторяемость 130
Цинцинната, орден 734
Цицерон 62, Ю2, ю8, 526, 676, 772, 774-775, 778, 781, 821, 823, 832-833, 839
человек: как гражданин 647; представление о человеке 566;
естественный человек 624
человек фронтира 749, 75°
честолюбие, честолюбивый (-ые, -ый, -ых, -ми) 123, 184, 198, 2θθ—202, 2о6,
207, 2Ю, 216-219, 228, 294, 3*6, ЗЗО, 334, 335, 348, 37Ь 373, 376, 379, 44, 446,
448, 453, 4б2, 463, 4б5, 495, 625, 66о, 683, 741 (см. также амбиция)
882
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
честь 186, 200, 2θΐ, 206, 217, 228, 316, 359~Збо, 374, 4", 4H-4I5, 652;
ложный почет 659, 664-665 (см. также опоге)
Четэм, граф 7и
Шекспир, Уильям 159, 2θθ, 315, 495, 5*7
Шефтсбери, граф 570-57I, 574-575, 579-582, 585, 588-589, 593, 670, 716, 825
Шотландская школа 696—698, 701-705
Шотландия 490, 594, 759, 768; Хайленд 626, 657, 7θΐ
шотландский (-ая, -ое, -ие): мыслители, философы 795; народ 54°;
нация 49°; Просвещение 19
шотландцы 559
Эдинбург («современные Афины») 704
экономика, экономический (-ая, -ое, -ие) 632, 696;
августинская политическая экономия 624; естественная 623, 631;
кредитная 694; макиавеллиевская экономическая теория 625;
новая 632; спекулятивная 68о
элита (-ы): американская 707, 718-719, 724, 731', английская 700;
у Аристотеля ιι8-ΐ2θ, 122-123, I43_I44;
флорентийские ottimati как 157, 181-182, 225, 232, 4й;
у Джаннотти 400, 408, 410"413, 446, 45°; У Гвиччардини 192, I97_I99» 201-
202, 206-209, 216-218, 228, 337-ЗЗ8, 358-359, 365-366, 368-370, 372, 374, З76,
379-380; и республиканская теория 292, 678-679; святые как 558, 56ι
элитизм 199, 4°8
энтузиазм 566
Эпимонус де Гаррула 4ю
эпистемология 194, 68о; денег 631; инвестиций 6ι6; секулярного 565;
социальная 646
д'Эсте, правители Феррары 236-237, 257
эсхатологический (-ая, -ое, -ие): восстановление 421; драма 487;
измерение 479; риторика 563; сценарий 535~53б; финал 529
эсхатология 71-76, 85-90, 92-94, 164, 315, 490, 752, 833
эсхатон 136
Этвуд, Уильям 585, 586, 587, 590
этика, этос: воинская 688; гражданская 690, 693; коммерческая 617;
протестантская 624-625; римская сенаторская 77~78; рыцарская 200;
трудовая американская 764; христианская 617
Эшем, Роджер 536
Эшем, Энтони 536, 549
Южные моря 596, 655-656, 664, 66g, 686
Юлий II, папа 207
Юм, Давид 65, 592, 597, 66ι, 690-691, 704, 709-710
Юстиниан 94
язык: Аламанни 228; «Ответ на Девятнадцать предложений» 512_514»
апокалиптический 162-164; Аристотеля 123; армейские манифесты 526;
Беркли 712; Боэций 79j Болингброк 669; расхождение между
британским и американским 760; «Писем Катона» 659-660;
88з
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
изменения после ι66ο года 565-566; после ι688 года 592~593î
гражданский I34~i35; адаптированный к Англии 502, 526, 564;
диалог иг; Контарини 467; Давенант 617; Дефо 607-608;
флорентийская политика I59Î Гвиччардини 190, 209;
Харрингтона 556; и история Ю7; Юма 695; Джефферсона 742;
левеллеров 539; Макиавелли 250, 299, 634, 645; Макиавелли о 242, 3*41
и магия 154-155; его переопределение в Америке 706-707, 7!6, 7J9, 757~
758, 761-762; и пророчество 72; Пима 507; риторики юб;
Савонаролы ι66, 172; Шефтсбери 582; уникальный 63;
добродетели и порока 29
Яков I 52, 68, 502
Яков II 593-594
aeternitas mundi 315
ambizione 330, 350, 364, 365, 373
amministrazione 395, 430
amour-propre 651, 652, 684, amour de soi-même 648, 651, 652
anakuklösis (politeiön) 128, 178, 474, 524, 536, 547, 564, 690, 712, 715
approvazione 368, 413, 672
arcana 502; arcana imperii 67, 92, 501
arete 78, 823
arte 289, 290, 578, 698
arte delta guerra 288
arte delta lana 288-289
bénéficiait 418
buon governo 439-440
buona: educazione 282, 284, 307, 353, bo\\fortuna 282; giustizia 188, 189;
milizia 282, 284, 353, 439
buone arme 604; leggi 353, 604
buoni costumi 294, 301; ordini 282, 294, 353
cagione 401, 405, 431-433, 437
caprices 684
caso 273, 281
chiarezza 402, 406, 463
città disarmata 347, 364, 378, 389, 391, 392, 416
civilità 229
civttas: Dei 74, 75, 80, 82, 83, 88, 648, 766; saeculans 766; terrena 74, 77, 79, 80,
85, 98
condottiere (-г) 189, 265, 289, 346, 577, 578, 595
conservare 326
consuetudine 109, 153
consultazione 413, 414, 437, 452
contadini 221, 440; contado 220, 258
corpo (-Ï) misto (-i) 310
corpus 482
corpus misticum 476, 501
corruttela 203, 303, 344
884
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
corruzione 295, 299, 301, 357-, 425, 806, 824
cose del mondo 310; cose difuora 342; cose particolari 435
cose difuora 342
de facto: полемика 538, 549; правительство, правление, авторитет 534~~535,
542; повиновение 541
deliberazione 368, 4I3~4I5> 437» 452, 672
dependenza (-га) 45I_452; роса dependenza 674
ecclena (ekklesia) 407, 560, 648
égalité des conditions 748
equalità 327, 330, 363, 369, 655
esecuzione 413-414
esperienzia 328, 330, 335, 337, 369, 379
esprit 362
Fantasia 151-152, 154, 262, 441, 634, 682
forma 165-167, 169, 171, 204, 244, 257, 263-264, 267, 269, 280, 299-301, 395, 407, 470
fortuna 315, 680; и коммерция 704, 742; и коррупция 3°5~3°6, 5*>6, 569;
и Кредит 636; в английской мысли 518, 529, 547*,
у Джаннотти 427, 428, 43Ь 433, 456-457, 47о;
у Гвиччардини 333,.3#/, 384, 388-389, 39П в «Государе» 232-236, 253;
значение 77_8о; и virtu, virtue, virtus 139~Ч1> !49, 204, 246-249, 255, 267,
268, 273-275, 279, 293
gentiluomini: у Макиавелли 303-304; венецианские 372, 400, 402, 419
gentium 380, 383
gnosis 155
governo misto 411, 427, 429-430, 437~438, 443, 4^3
grandezza 447~448
grandi 428, 430-432, 441-444, 448-449
grazia 166, 203, 203, 204, 250, 251, 301, 380, 421
guardia délia liberté 284, 515, 661
gubernaculum 63-67, 94, 236, 477
homo credens, creditor y6^;faber 697, 764; mercator 764; politicus 642
hubris 129
il ben delVintelletto 81
Imperator (-es) 711, 736
Imperium 712
industria 220, 351
intelligenza 202, 365, 573
invenzione 413, 807
isonomia 662, 720
jure divino 540, 667
jurisdictio 63-65, 477
jus conquestus 521, 537, 541, 549
lex non scripta 46
liberté 189, 318, 326-327, 345, 360-361, 369, 404, 407, 412, 421, 446-448, 453
materna 163, 166, 167, 186, 206, 210, 215, 248, 256, 264, 263, 299, 300, 303, 314, 378,
45h 457, 547, 581, 720, 721
885
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
mediocn 422, 428-429, 434, 44Ь 448, 548, 587
misticum 476, 501
mutazione 221, 224, 244, 255, 266, 268, 270, 282
natura 211, 320-321, 331ч 362, 373> 4l6\ dello universale 329; nécessita 322
naturale 320-321,331, 362, 385
naturalità 331
nécessita 322, 531-532
nervo délia repubblica 408
non-beneficiati 448, 449
nunc-stans 39, 69, 80-81, 87, 88, 486, 558
occasione y Джаннотти 401, 405, 405, 432, 433~434, 457;
y Гвиччардини 383, 386; y Макиавелли 248, 250, 253, 255, 264, 276, 28o,
298, 432, 456-457, 634; occasione (перен.) 249-250
oikos, аристотелевский 68, 386, 390, 450, 464, 475
oikumene 689
onore 185, 191, 330, 335, 350, 360, 363, 364, 373, 373, 411-412, 428, 446-448, 463
ordinatore 523
ordini 272, 367, 372, 550, 643, 743
Orti Oricellari 182, 26g
ottimati: аристократия 182, 185, 349, 380; и конституция 1494, ι6ο, 182, 436;
дилемма 185, 192; падение Каппони (1528), 423; падение Пьеро (1494) 163,
ι8ι, 182; и Джаннотти 408, 411, 4Н, 436; и Гвиччардини 182, 200, 202, 206,
210, 215, 216-217, 225, 316, 3*8, 330, 335-336, 340, 347-350, 358, 363, 380, 383;
Макиавелли ни один из них 231, 232-233; правление Медичи 182, 210,
215, 218, 225, 231, 237, 318, 340, 349-350, 358, 383-384;
миф о Венеции 157-158, 181-182; оптиматы 158
principe assoluto 34°
particolarità 406
particular (-i), particolare (-i) i86, /9/, 200, 212, 302, 323, 326, 347 386, 416, 503
patria 293, 334, 357, 359, 400, 417
philia 155
physis 37-39, 129, 130
plebei 448
politeia in, 120-122, 206, 249, 547
politeuma 129, 249
poveri 431, 433
prima forma 166-167, 171, 204, 257, 263, 267, 269, 280, 300, 470, 529
primus inter pares 158, 221
principe: assoluto 340, 440; naturale 235, 239, 684; nuovo 238, 275 474, 684
principes 711
principes de sa constitution 683
principio (-i) 187, 296, 432, 643
qualité 424, 432
Quattrocento 144,150, 153
régula juris 43
886
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ
res publico, 216, 233, 259, 365-366, 373, 4i8, 523, 611, 647, 657, 661, 670, 680, 728,
748, 764-765
ricorso 130
ndurre ai pnncipii 507, 572, 581, 604, 657, 708, 723
nnnovazione 166, 167, 204, 295, 311, 421, 528, 589, 708, 719, 729, 752, 759
ripigliare lo stato 297, 726
saeculum 40, 71-72, 75-76, 79-80, 85, 88, 480-481, 487, 564, 690, 731, 766
salus populi 523, 525, 527, 537
seigneur 483
setta (-e) 310, 366, 368, 375, 573
ngnore 211, 224, 303, 437, 441, 443, 447, 450-45З, 515
signoria 370
stato 189, 222, 224, 235, 235, 256, 257, 261, 277, 307, 340, 352, 3^9, 400, 414, 419, 432,
436, 441, 450, 451; misto 144, 427; stretto 382
status 523
terra firma 460, 553, 607, 618
translatio 712-713, 715, 752, 752, 754
umori 354, 362, 428-430
variazione 405
vertu 687, 689-690, 700
vigilanzia 345, 351, 364
mrilità 333
virtu 30, 138, 146, 149, 150, 154, 155, 353, 440, 460, 569, 570, 600, 609, 618, 619,
622, 623, 636, 648, 666, 670, 682, 686, 690, 697, 699-701, 729, 730, 736, 737, 740,
745-747, 749-751, 753, 766, 773, 823, 824; и/ortuna 149, 236, 239-241, 246-250,
253-262, 264, 265, 267, 273-275, 279, 281, 293, 380, 518, 529, 645, 731;
воинская 291, 292, 357, 391; у Гвиччардини 2θθ, 204, 332-339, 342, 343, 345,
347, З48, 350-352, 357-360, 363-365, 368, 370, 371, 374-376, 378-381, 384, 388-
391; у Джаннотти 393, 399, 405, 4θ9, 4Ю, 4Н, 4i6, 424, 426, 430, 43i, 438, 441,
442, 45°, 453, 454, 458, 464, 468; и Кавальканти 147; У Макиавелли 233,
236, 239-241, 246-251, 253-265, 267, 269, 273-275, 279-281, 284, 286, 288, 291-
294, 299, 305-309, 314, 315, 388, 389, 391, 474, 48о, 521, 529, 5бЗ, 609, 645, 66о,
712, 727
virtus 77-79, 82-84, 129, 138-140, 142, 233, 476, 497, 569, 662, 665, 670, 697, 713,
736, 773-776, 778, 781, 785, 823, 824, 849
vita activa 93, ιοί, Ю2, 104, 136, 138, 154, 475, 476, 679, 750, 758, 765, 832, 833,
843, 844
vita contemplativa 82, ιοί, Ю2, 154
vivere 180, 350, 357, forma di 403; modo di 180, 323, 324, 429, 453;
da christiano 421; libero 281, 381; libero e populäre 213; pazzo 380-,
politico 286, 298; a popolo 421; populäre 213-215, 288, 329
vivere civile 35, 102, 111-112, 125, 130, 134, 137, 165, 175, 177-178, 180, 184-185, 233,
238, 267, 275, 300, 305, 310, 332, 380, 405, 434, 472, 475, 541, 543, 706-709
volgare 99, 109, 138
Zöon politikon 153, 165, 476, 483, 546, 592, 645-647, 681, 689, 698, 700, 703, 720,
722, 733, 758, 763, 770
Составители указателя
Анна Новосельцева, Георгий Копылов
Джон Гревилл Агард Покок
МОМЕНТ МАКИАВЕЛЛИ
Политическая мысль Флоренции и атлантическая
республиканская традиция
Редакторы А. Олейников, Т. Атнашев, М. Велижев
Дизайнер серии Д. Черногаев
Корректоры О. Семченко, О. Панайотти
Верстка Д. Макаровский
Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93» том 2;
953°°° — книги, брошюры
ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Адрес редакции:
123104, Москва,
Тверской бульвар, 13, стр. ι
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlobooks.ru
сайт: www.nlobooks.ru *
Формат 60X90V16. Бумага офсетная №ι.
Офсетная печать. Печ. л. 55>5· Тираж 1500. Заказ №6823.
Отпечатано в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «Ульяновский Дом печати»
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14