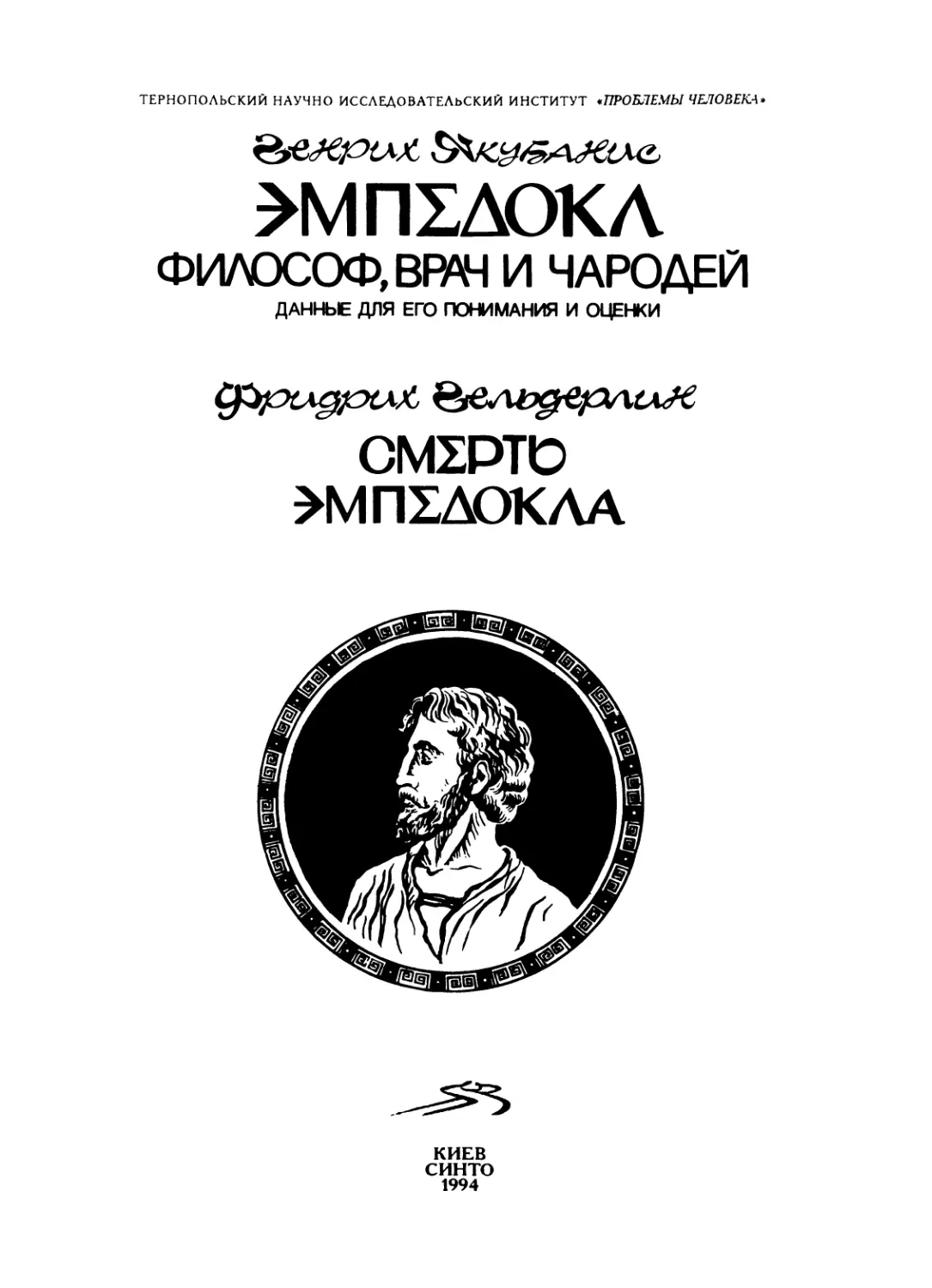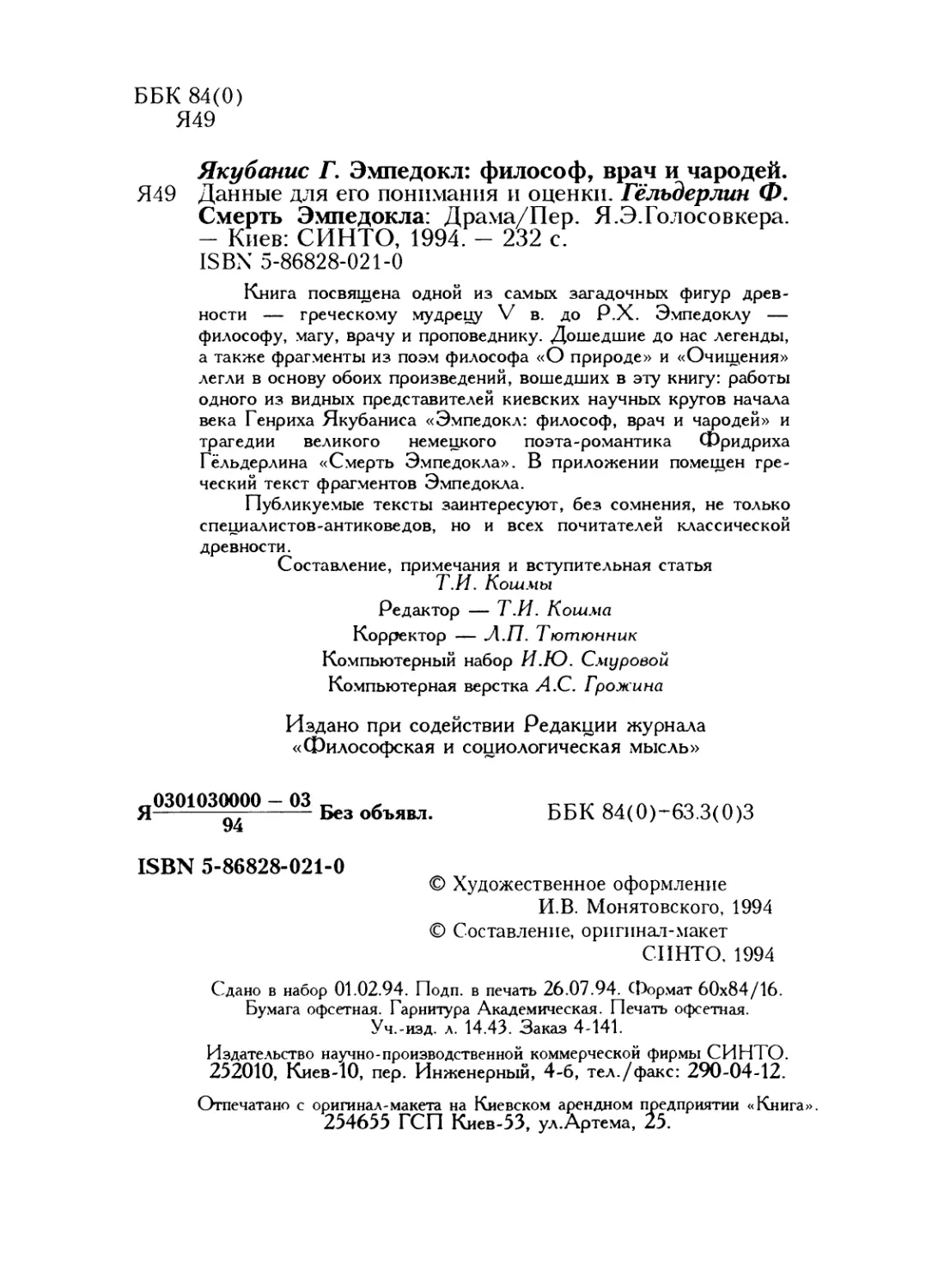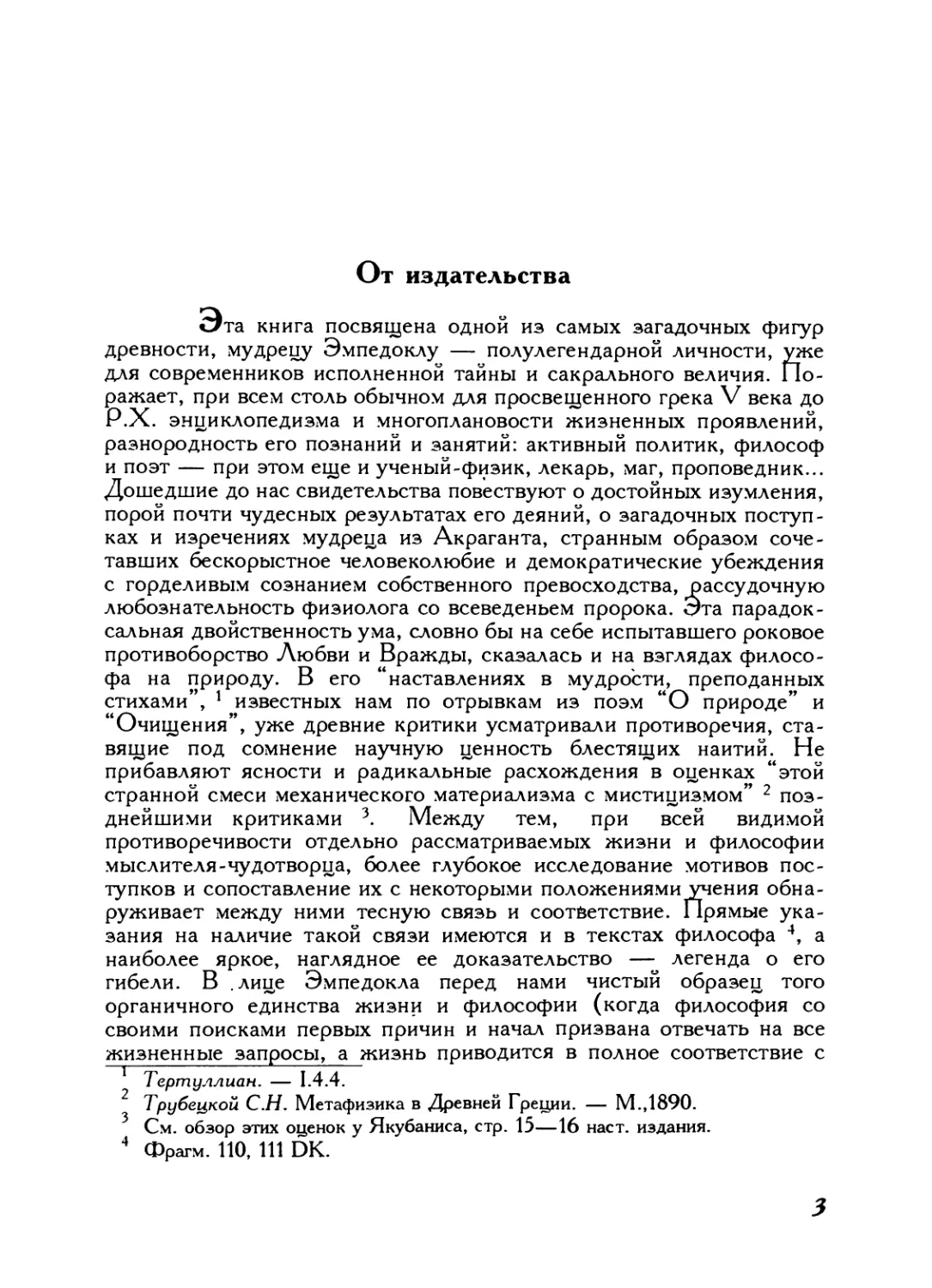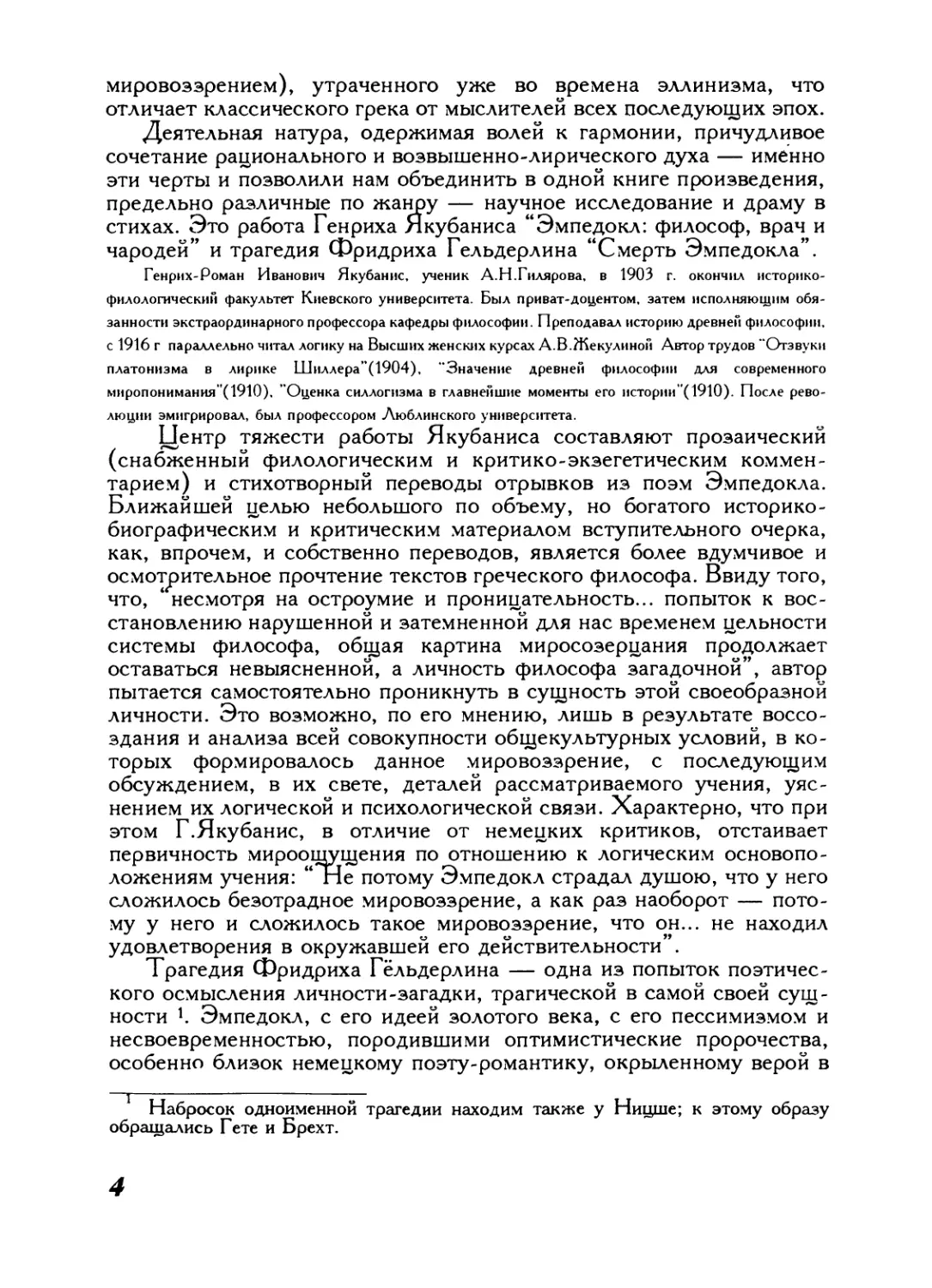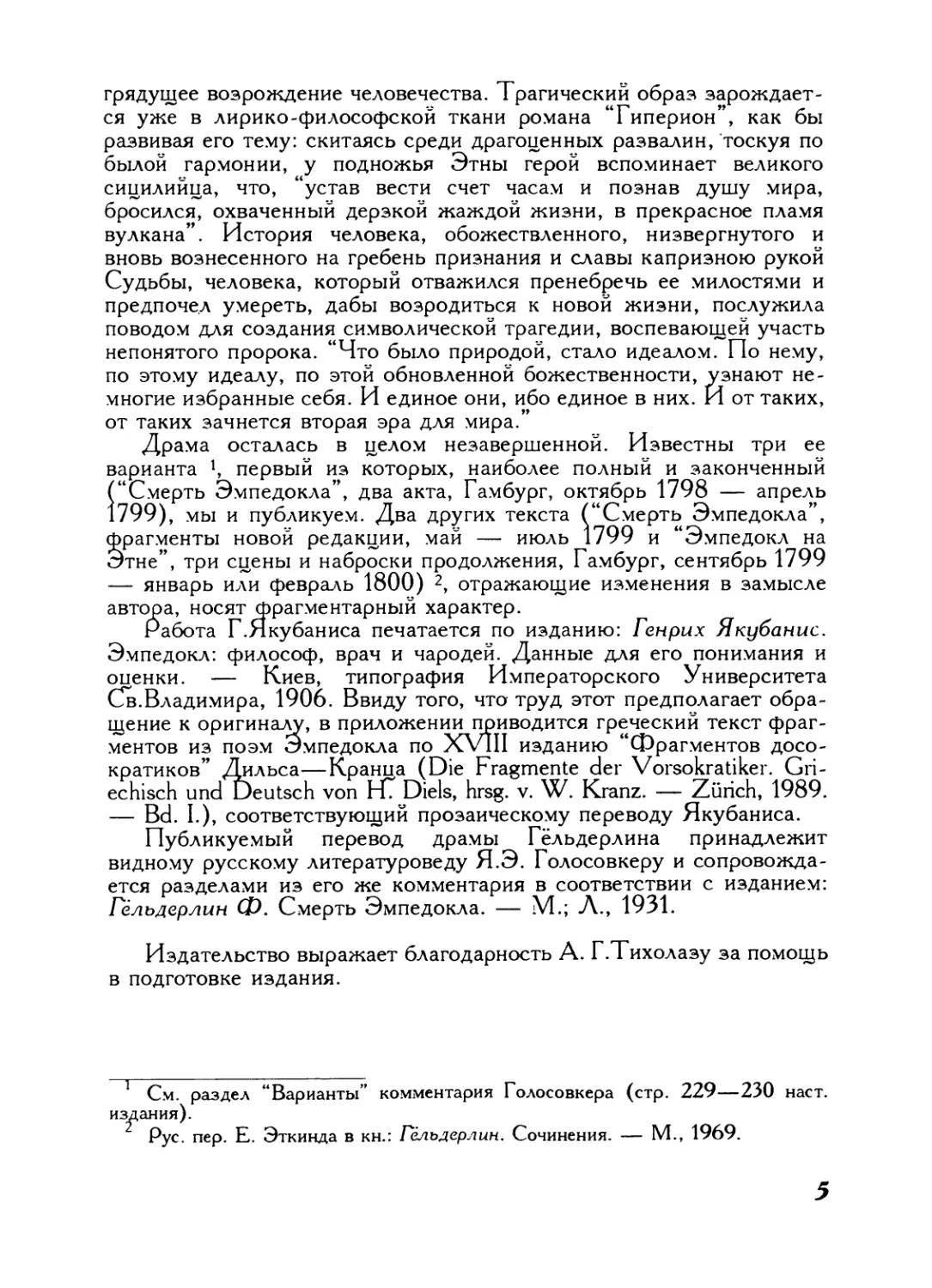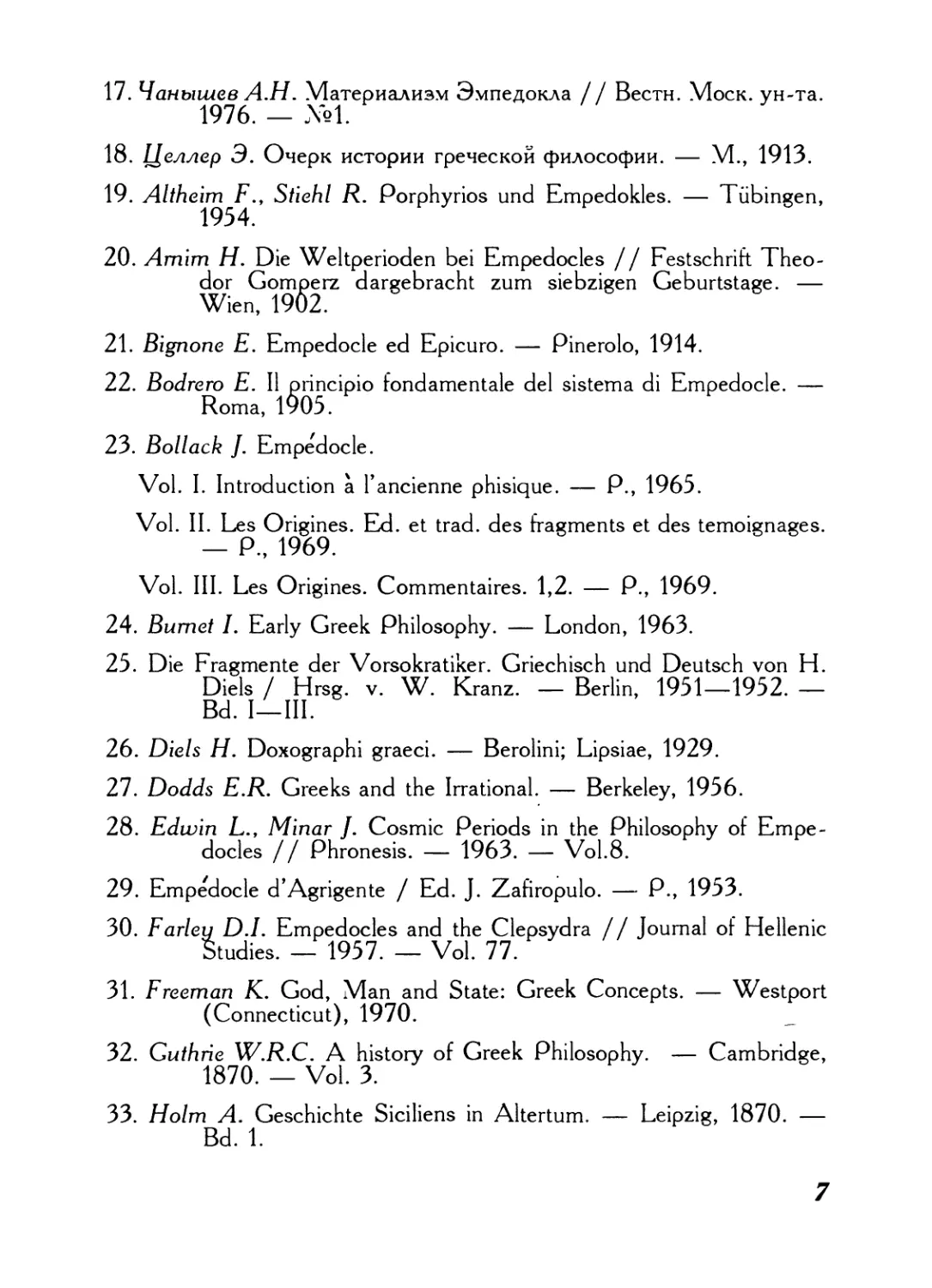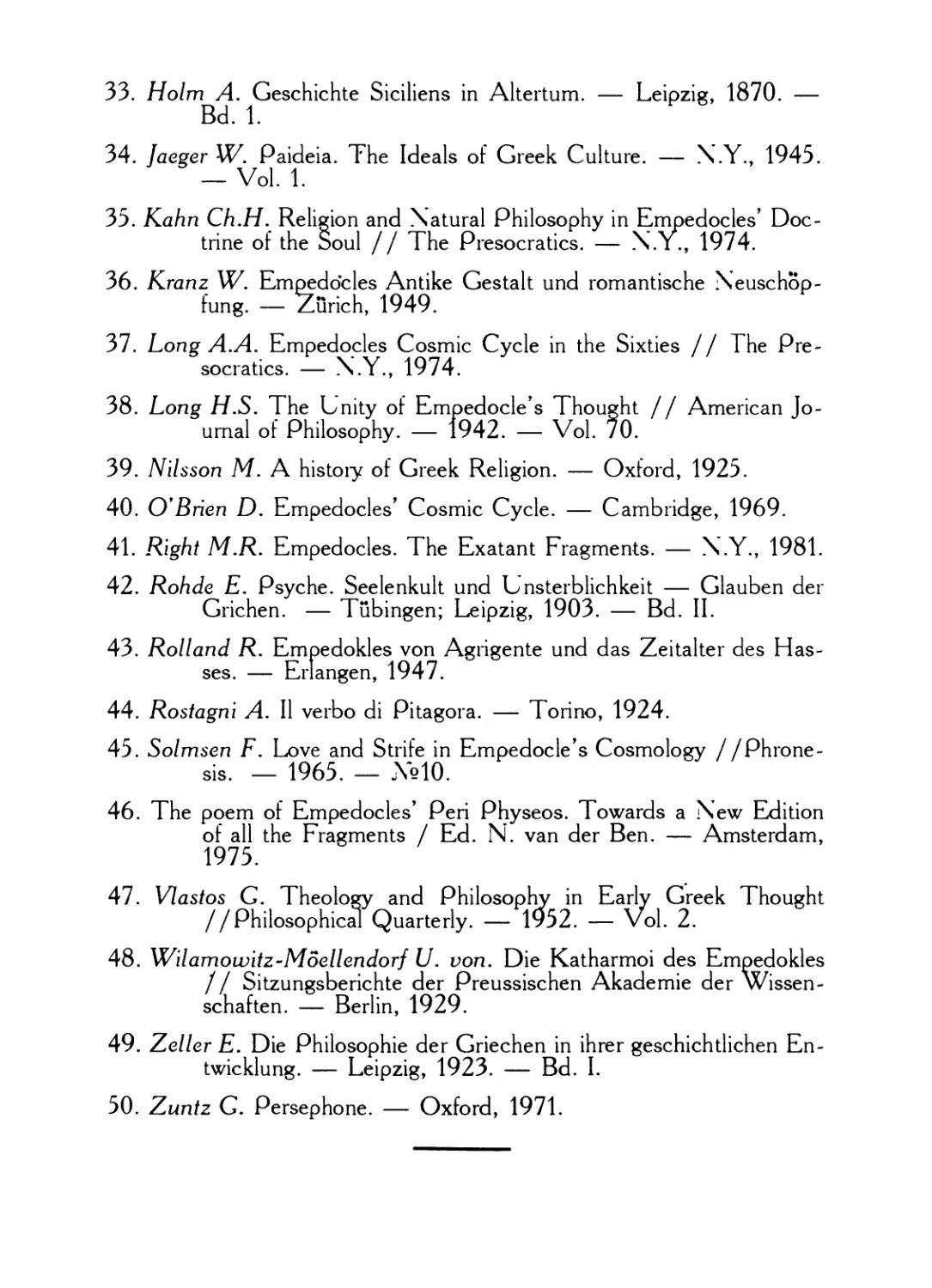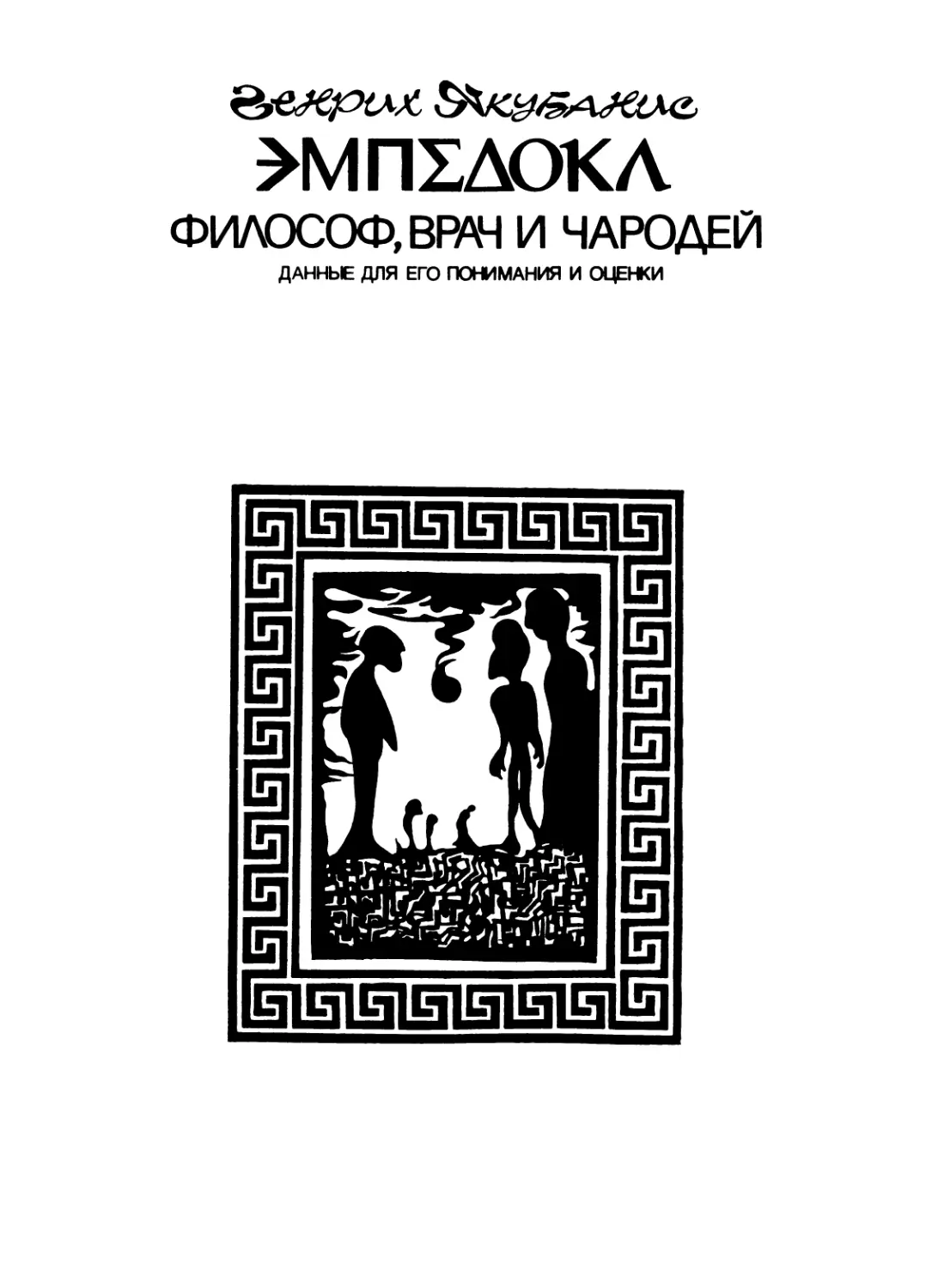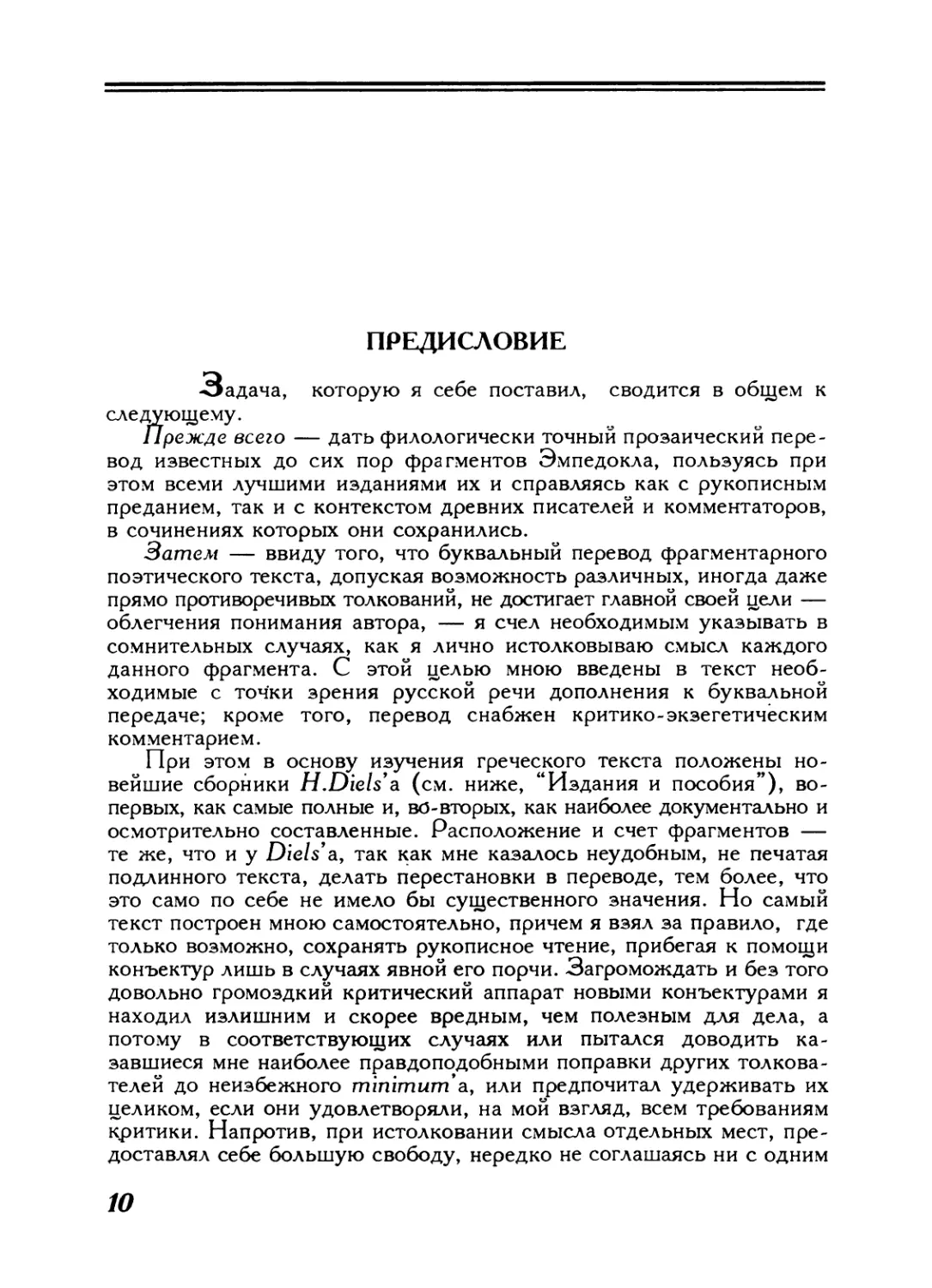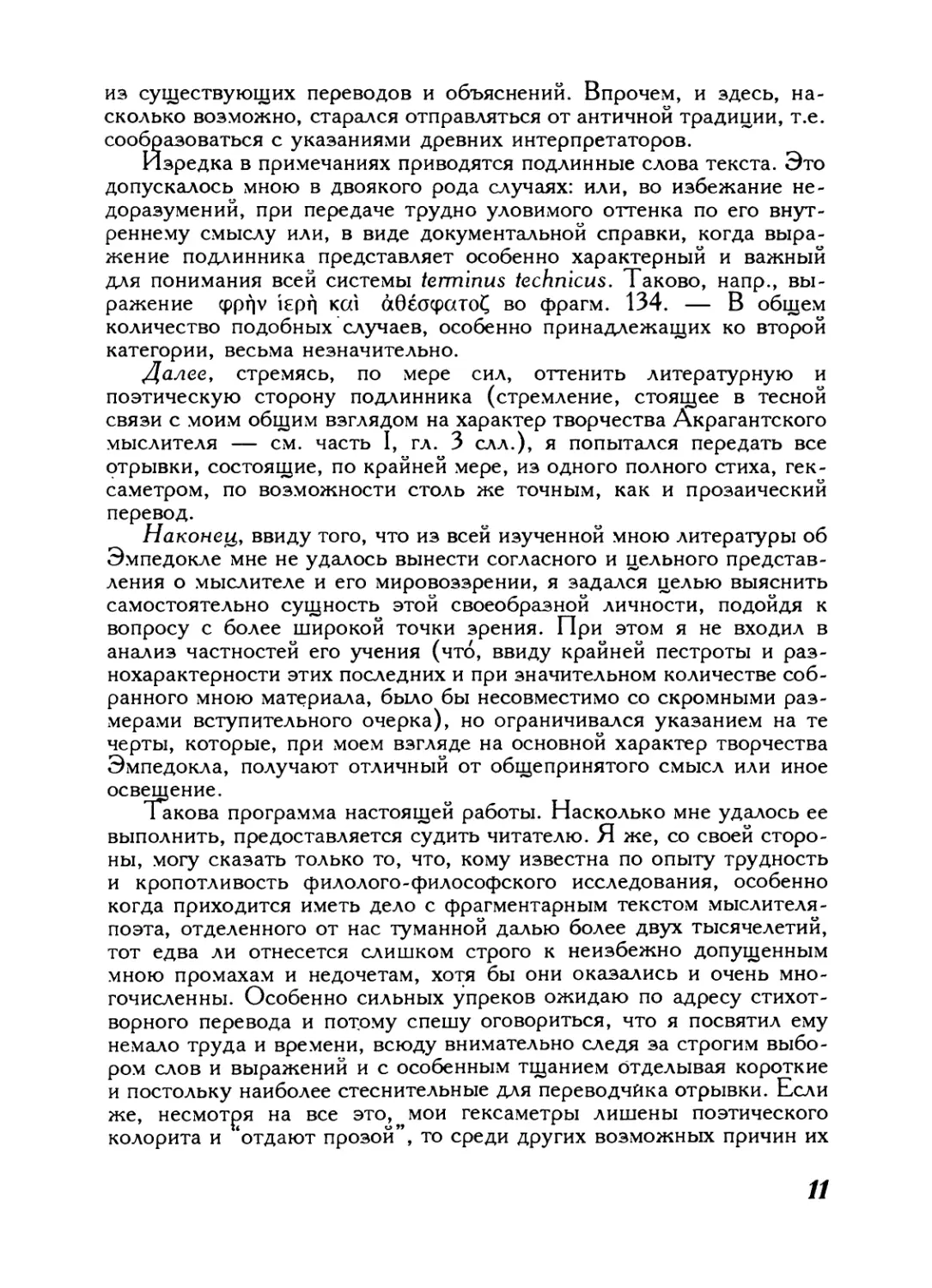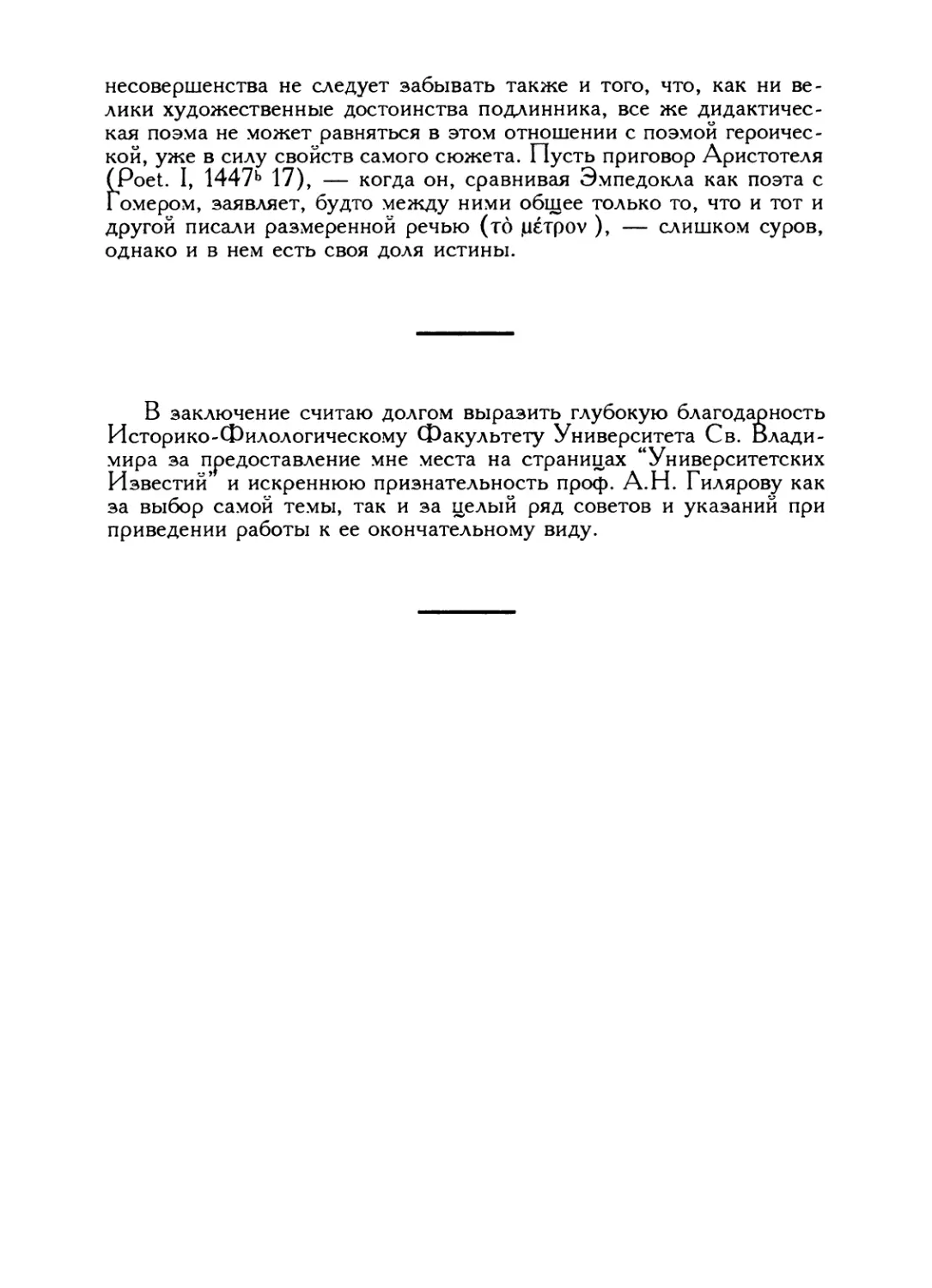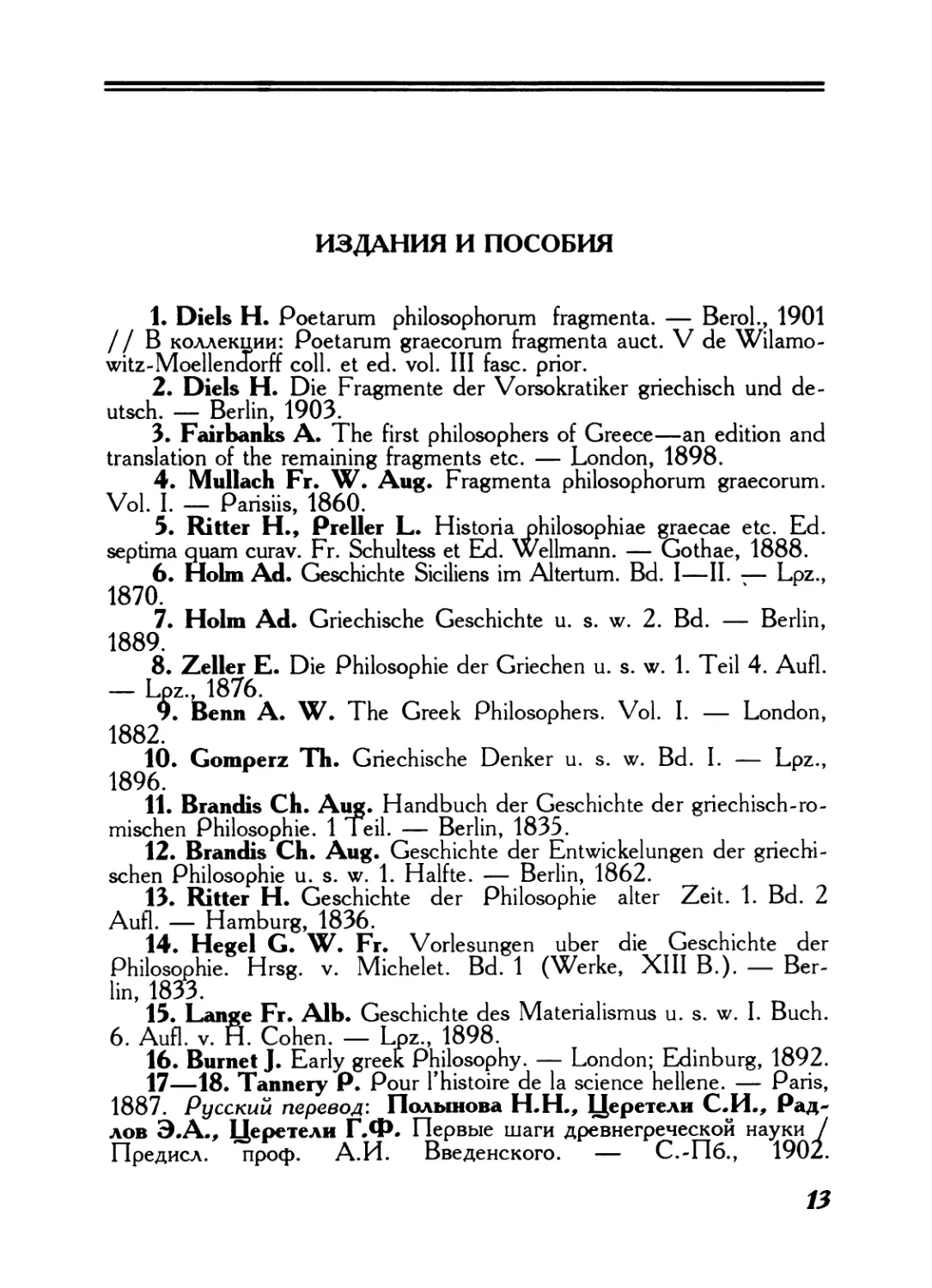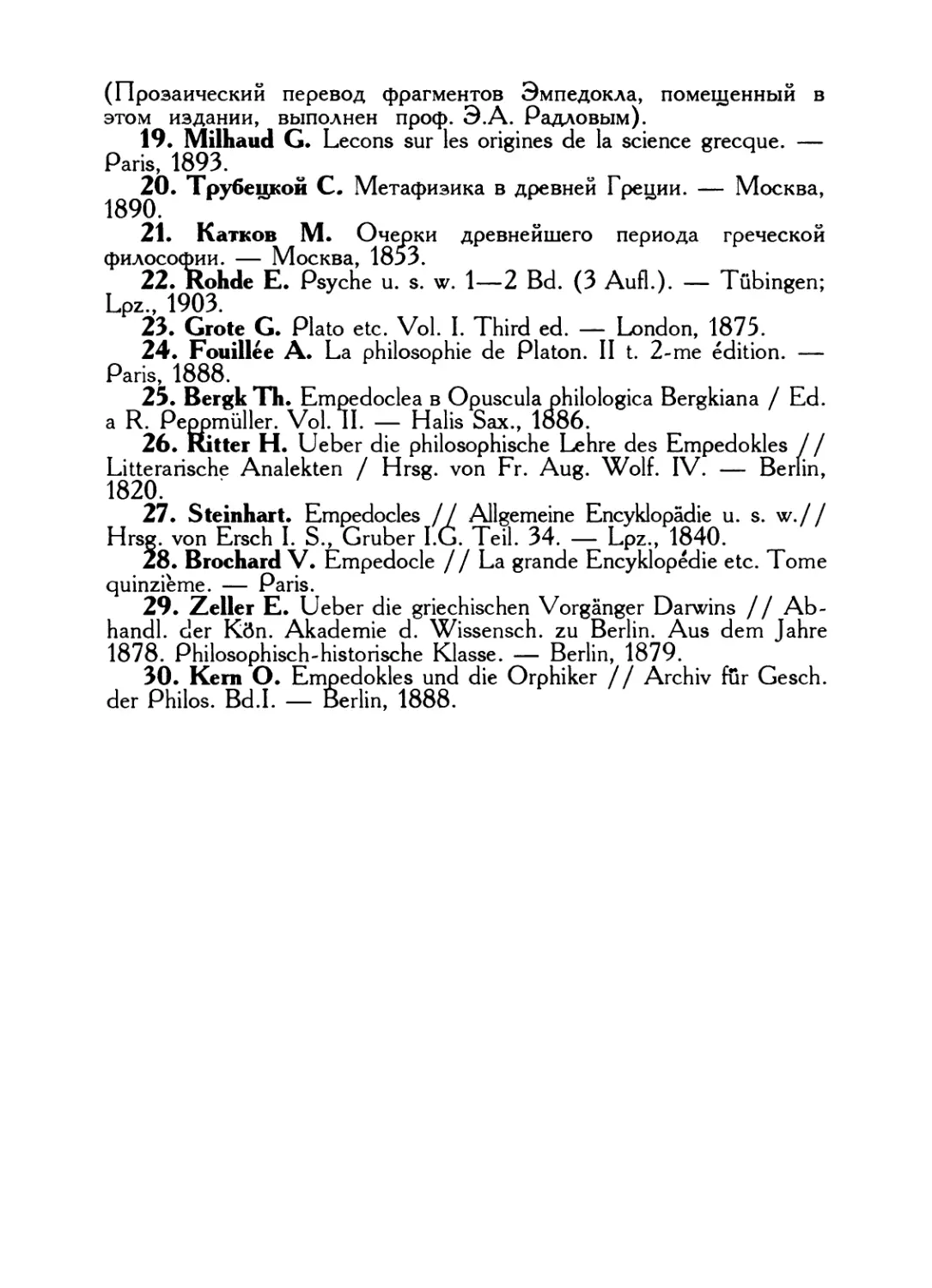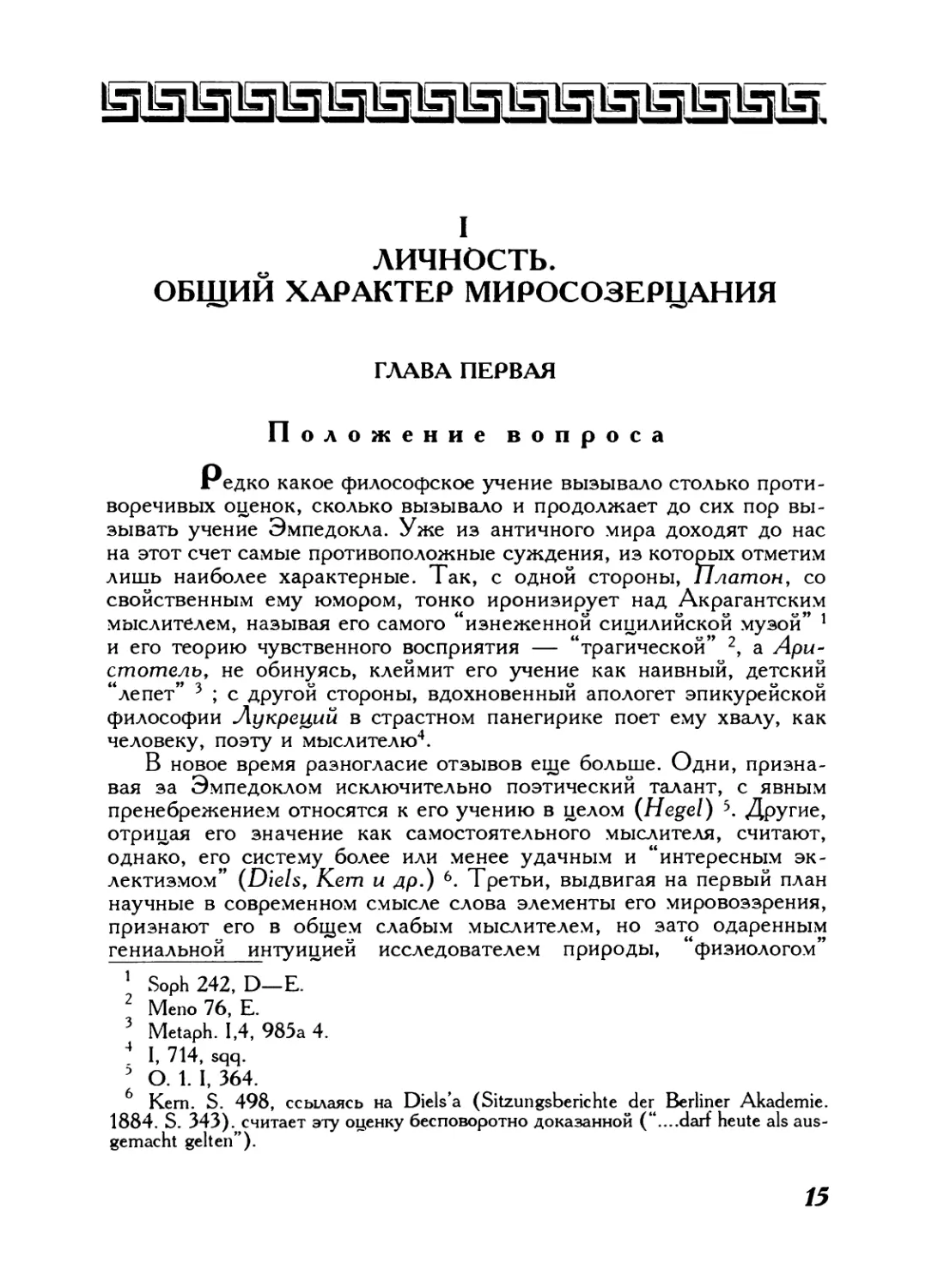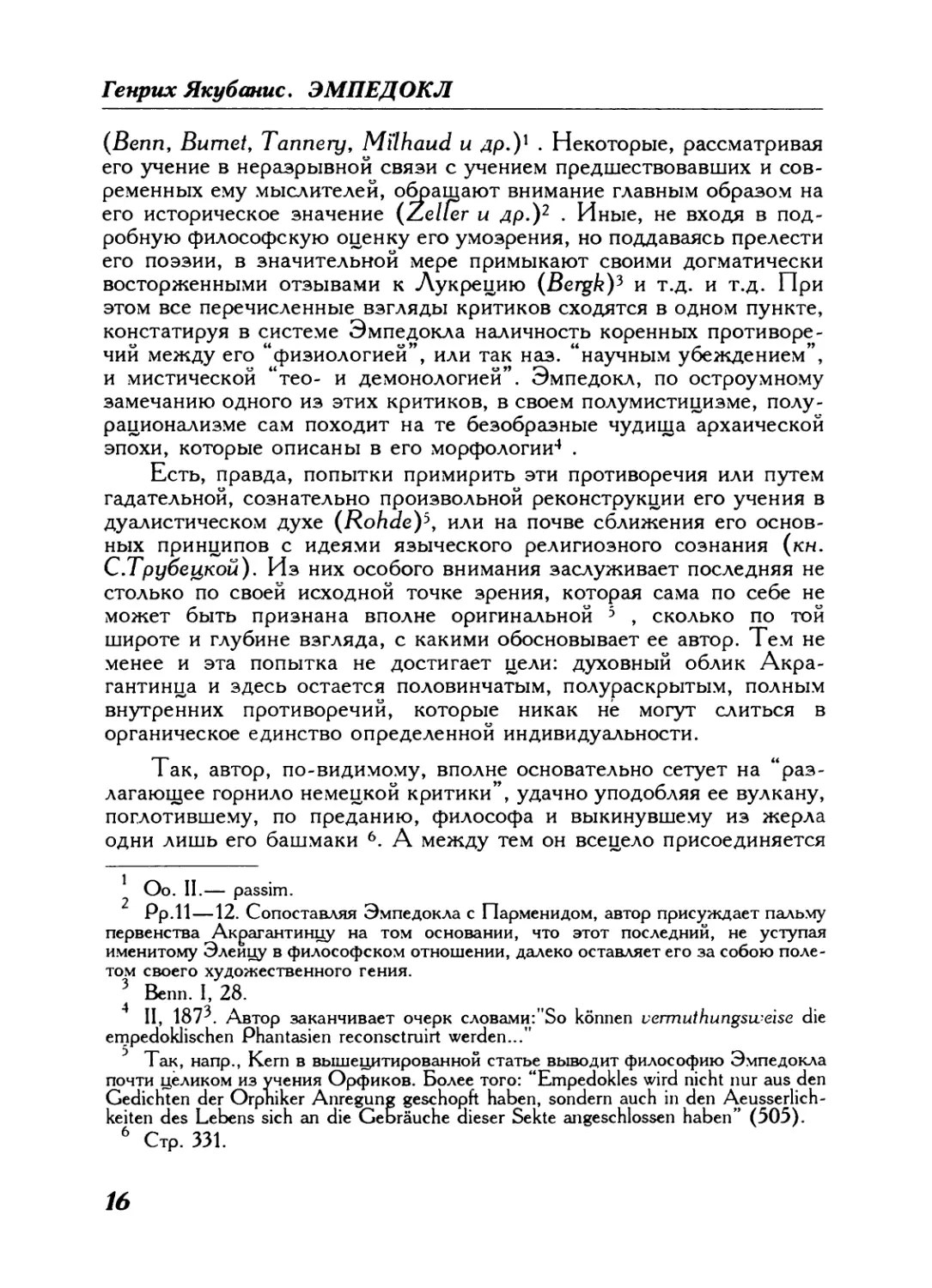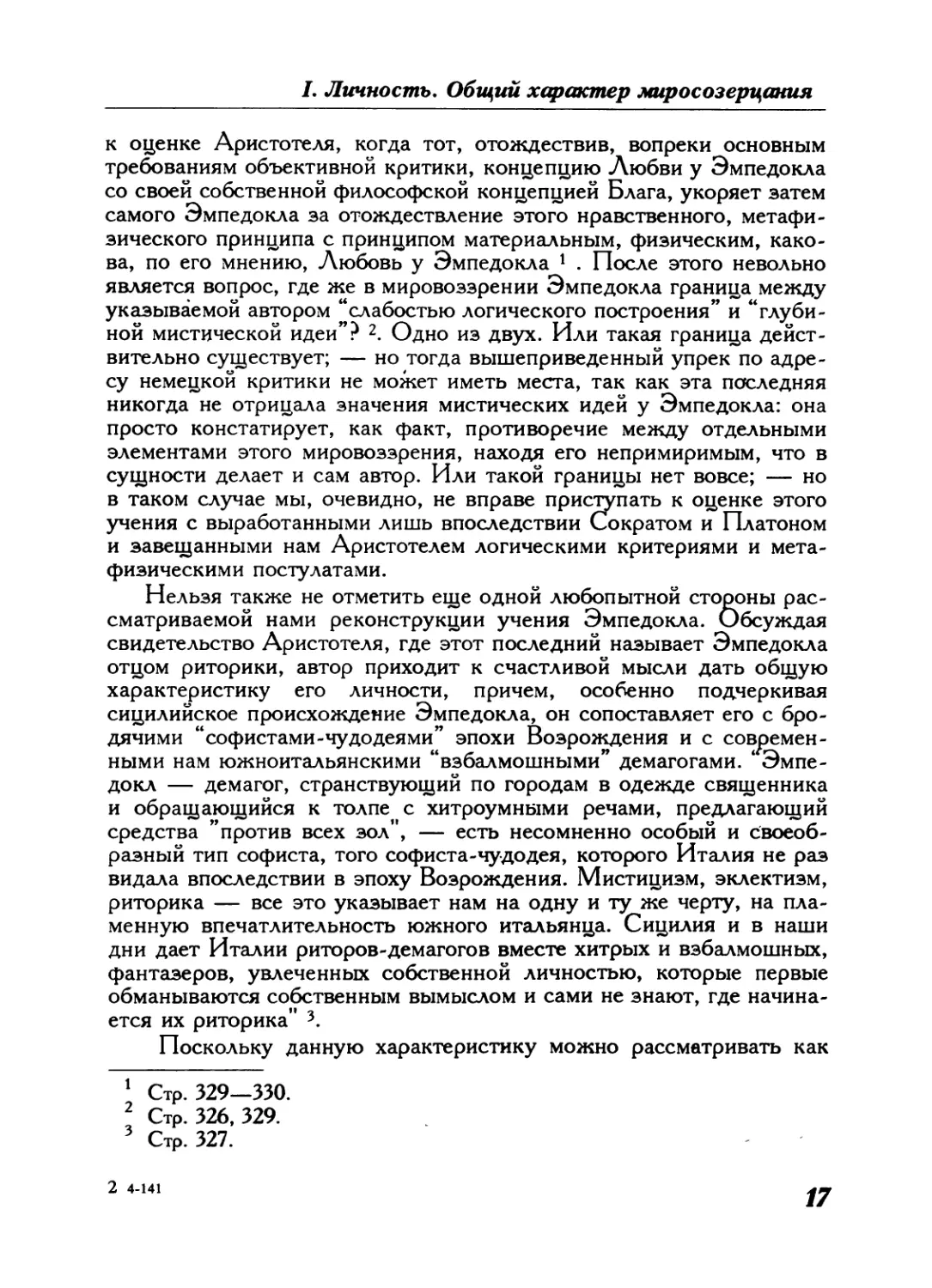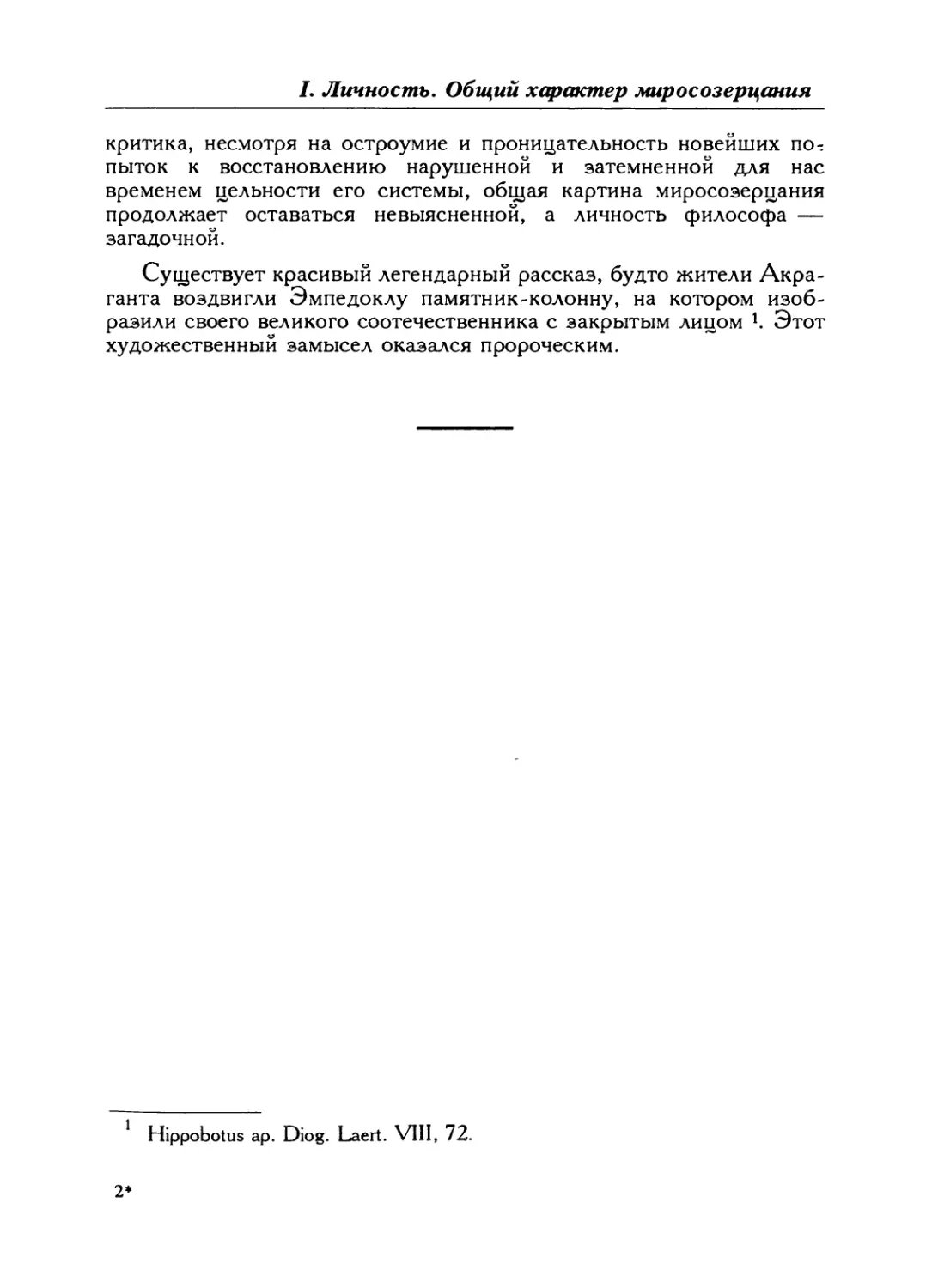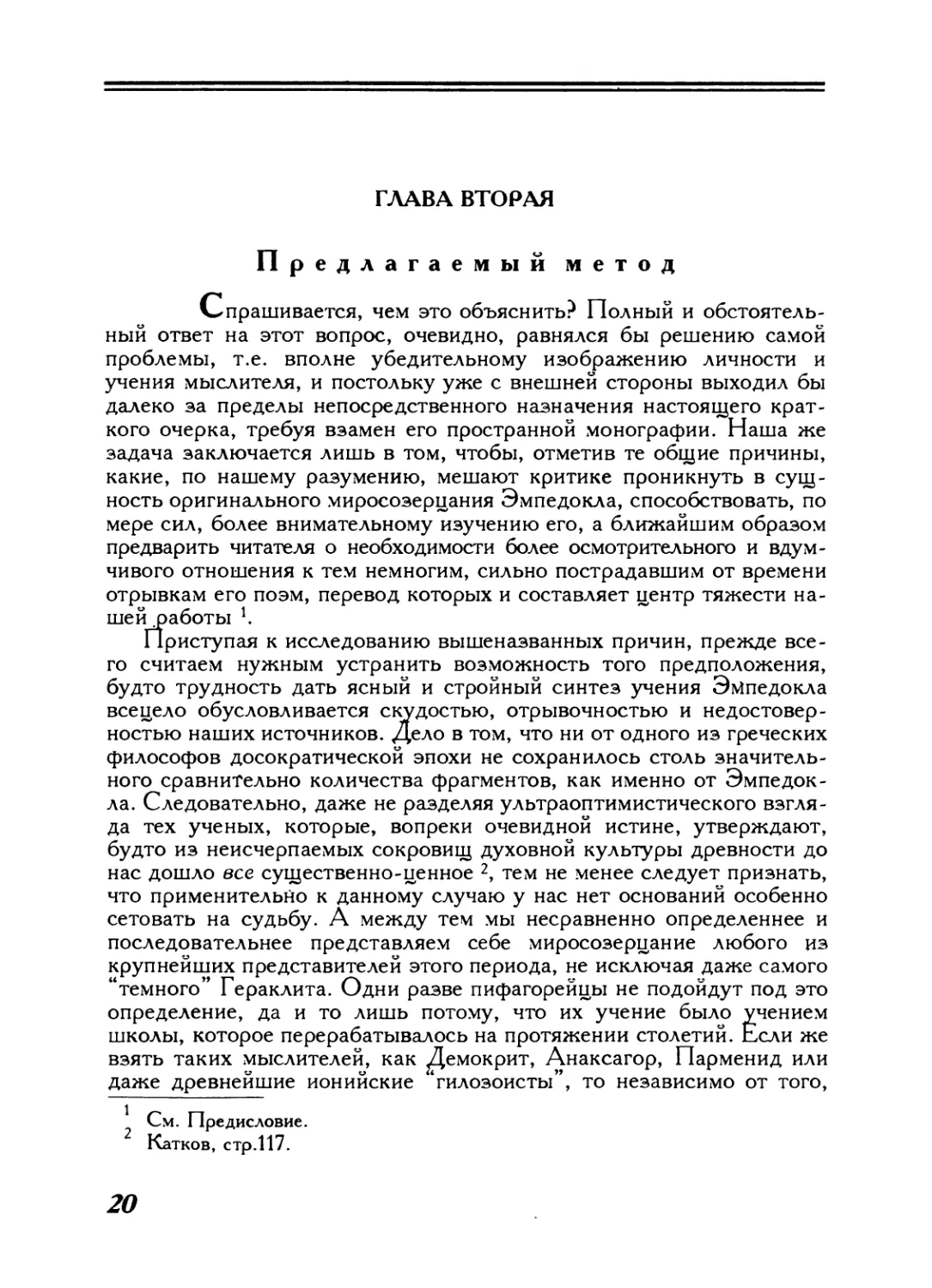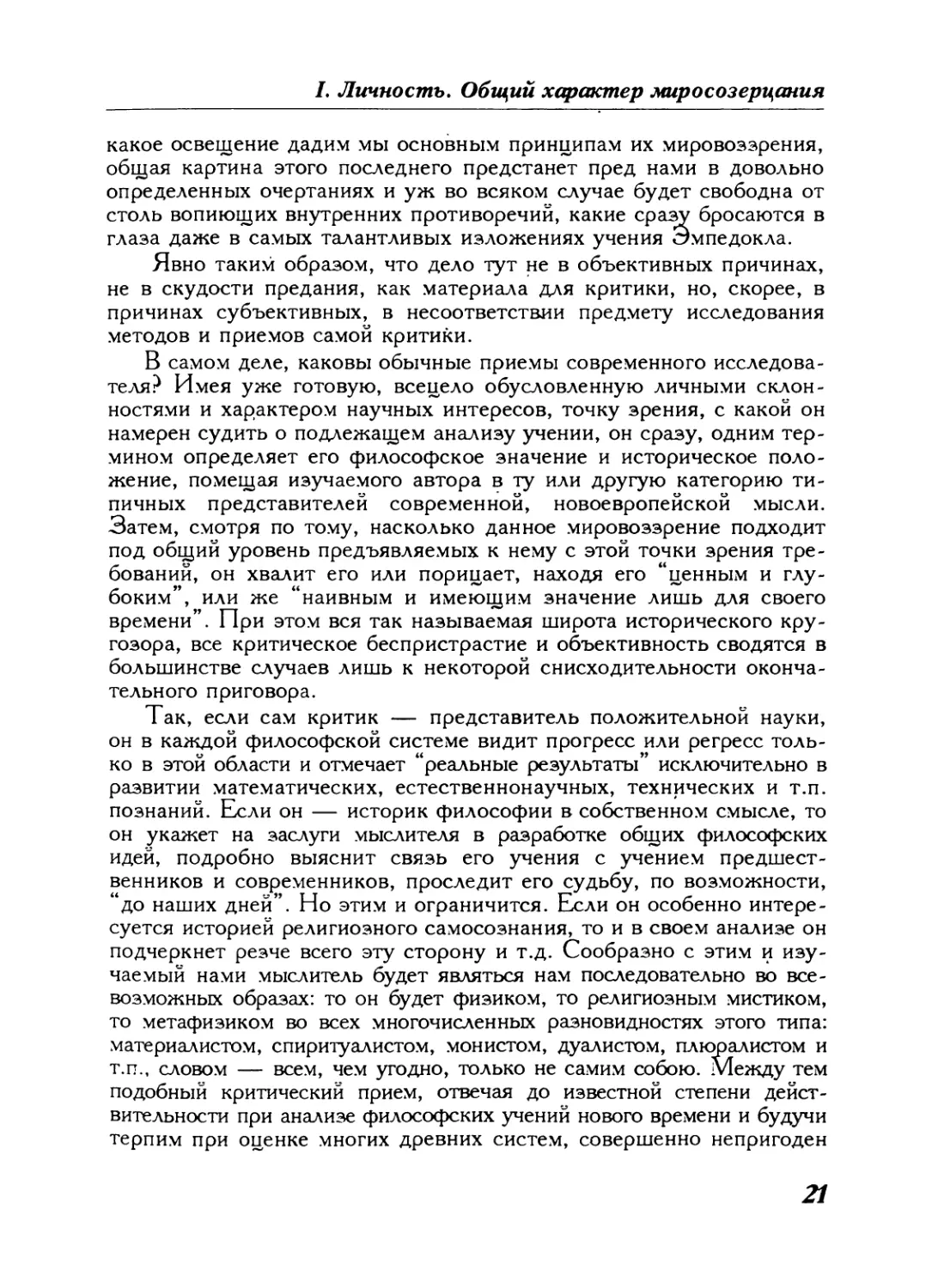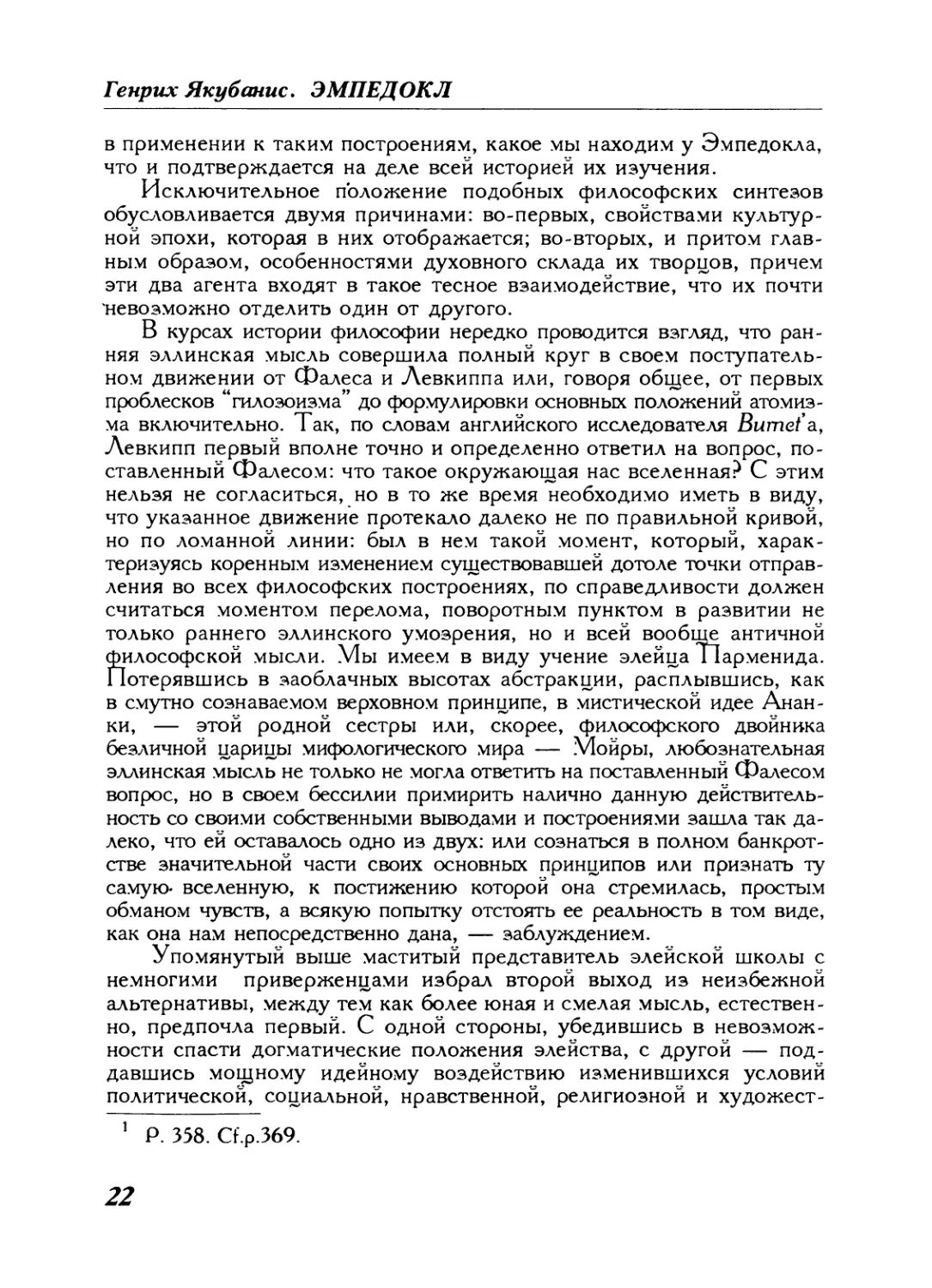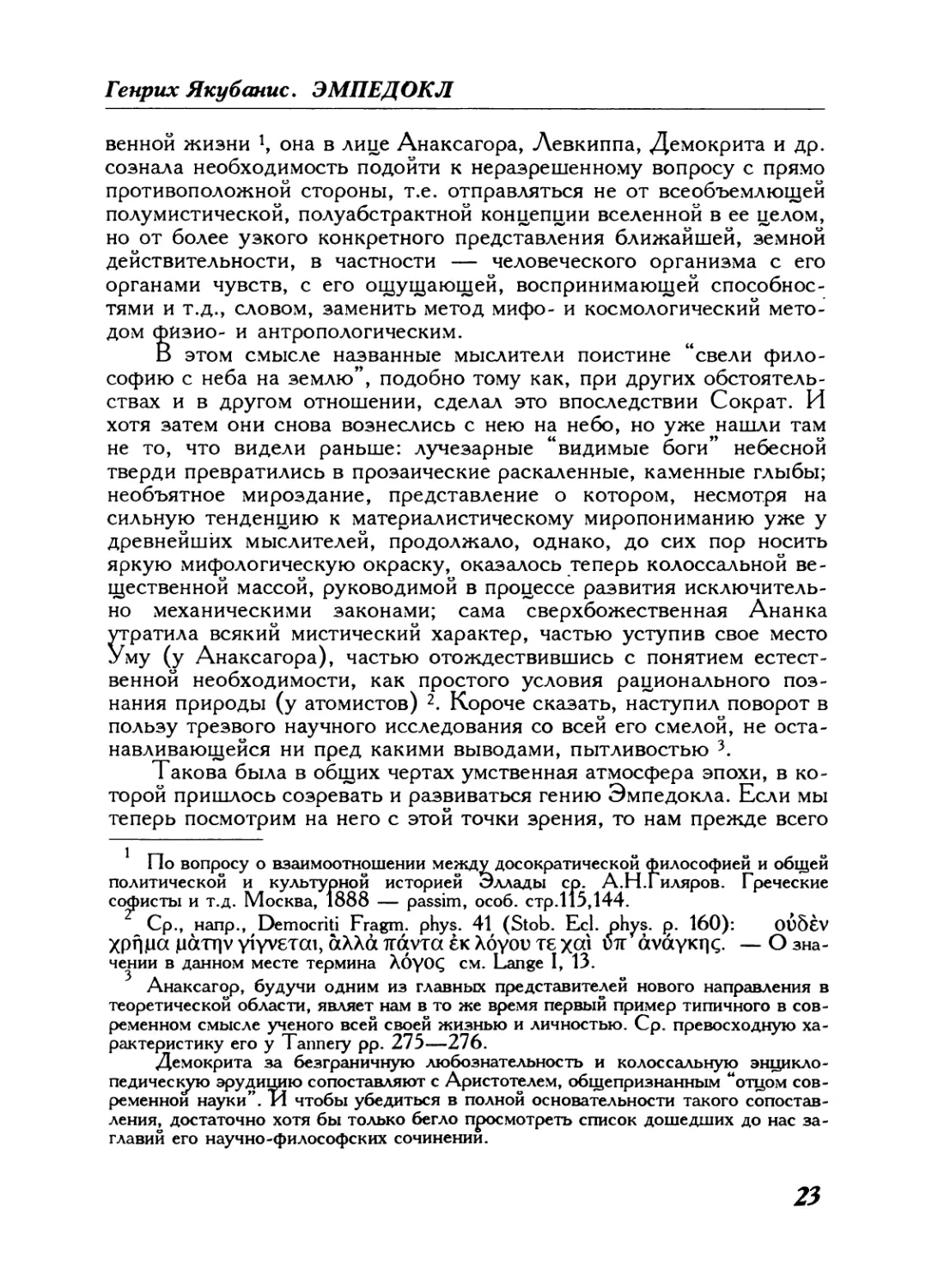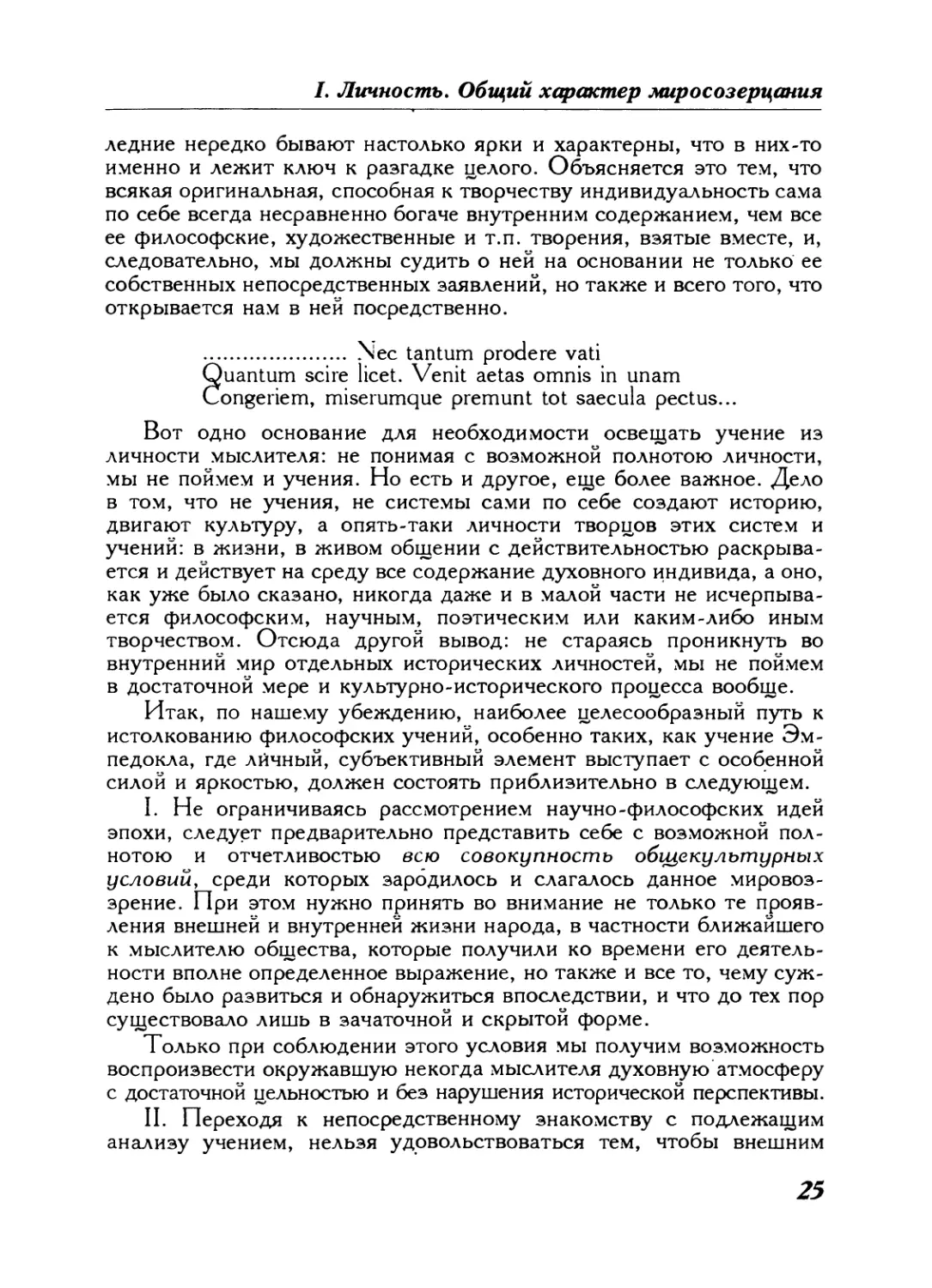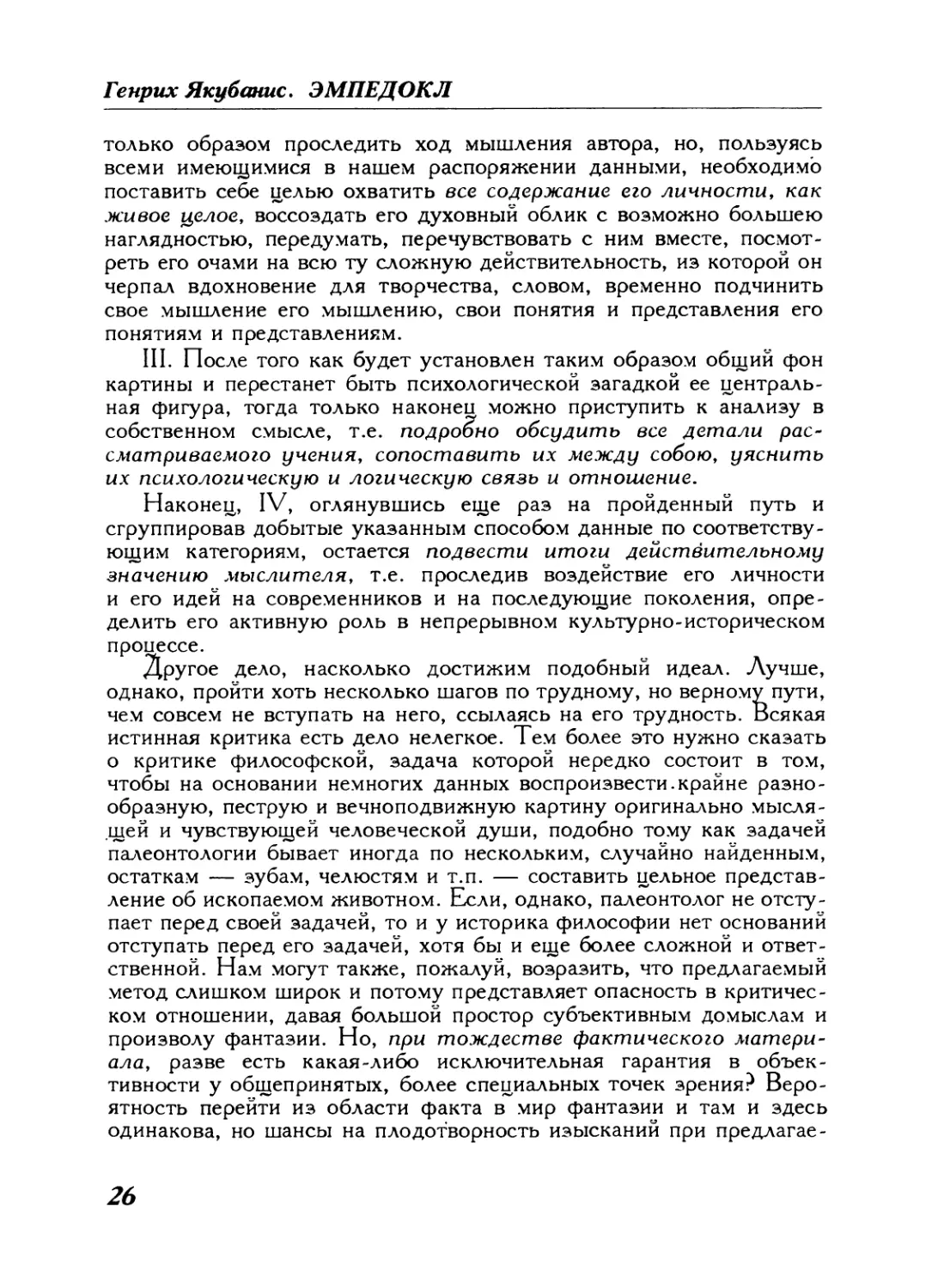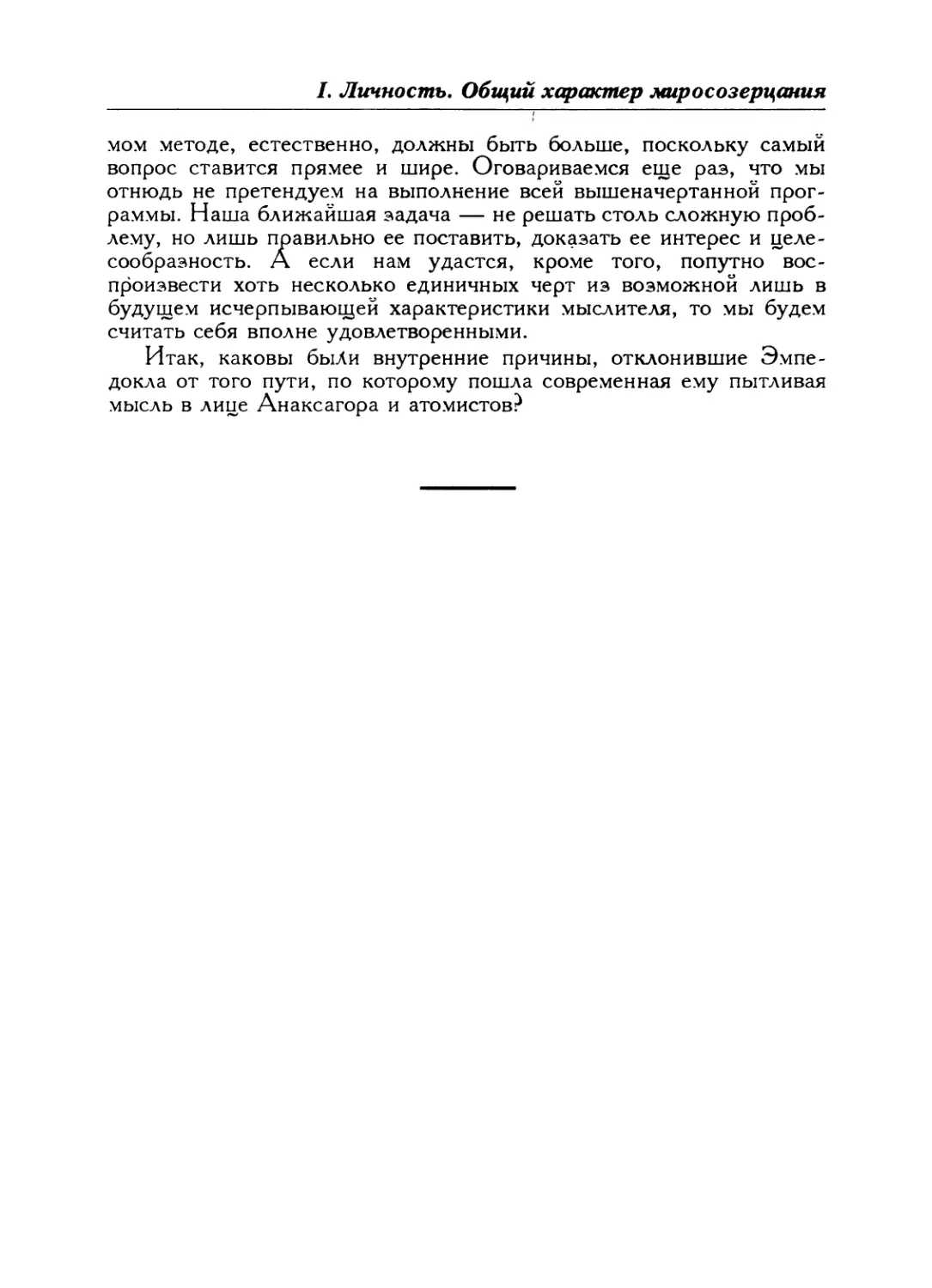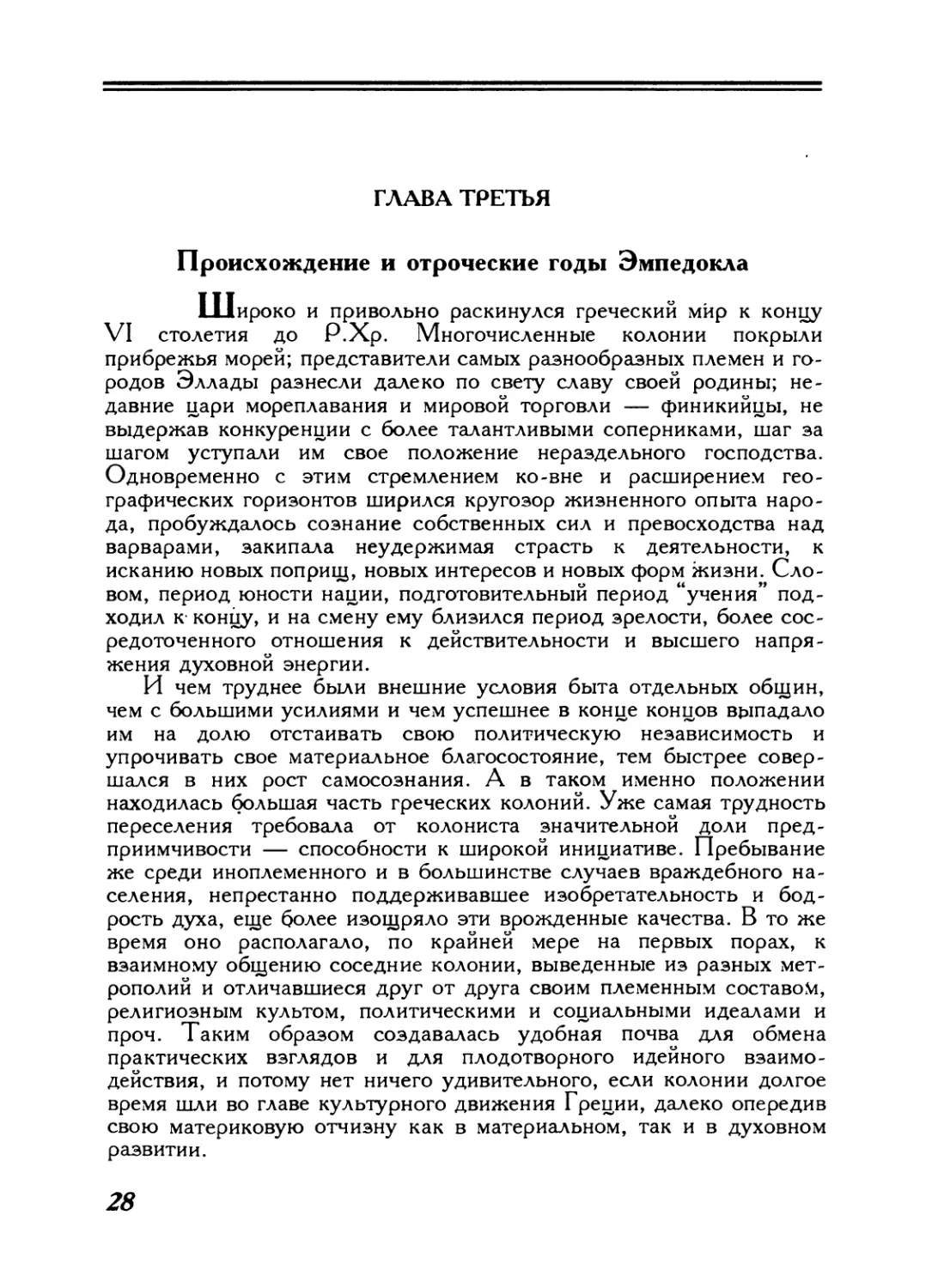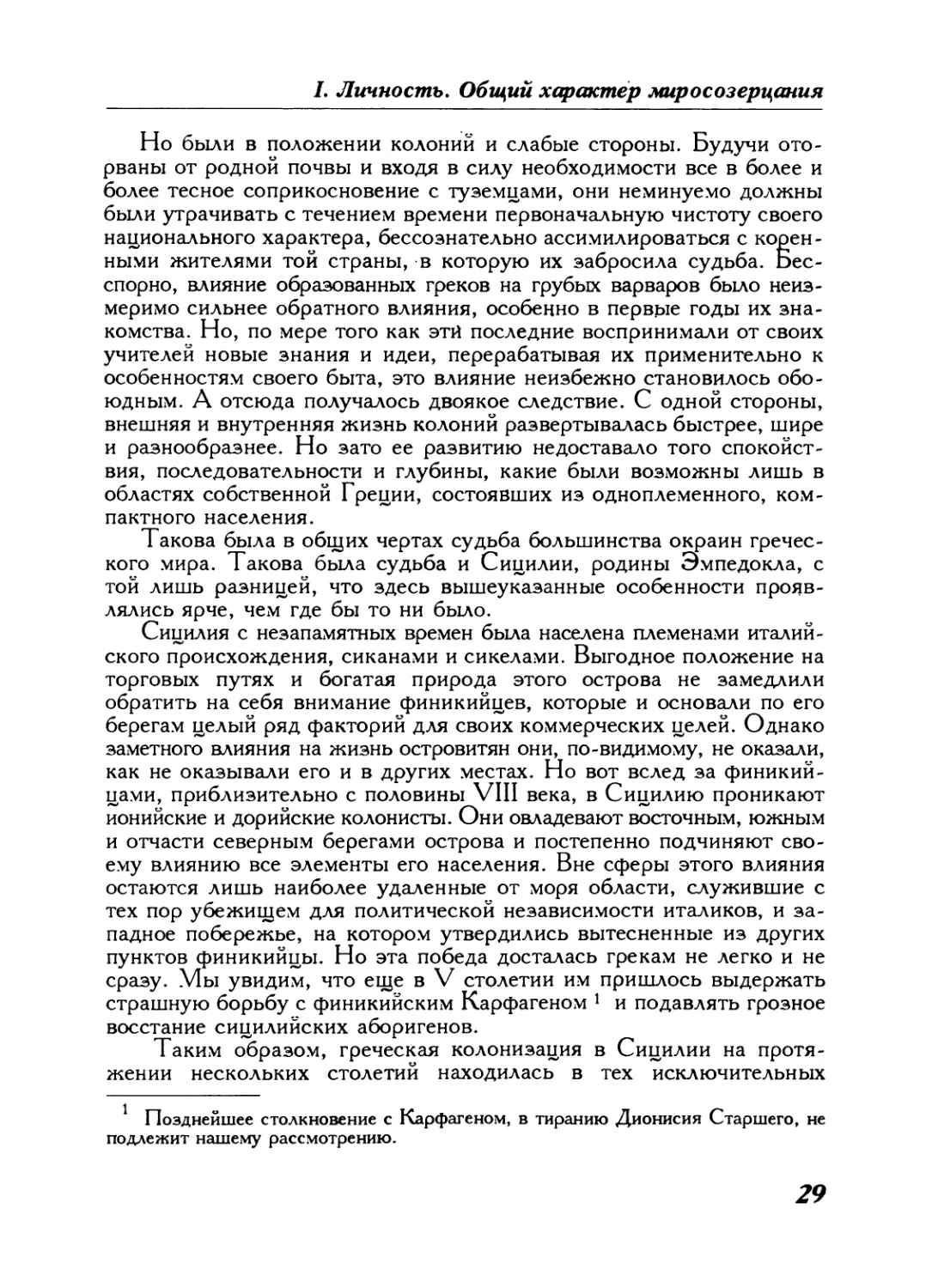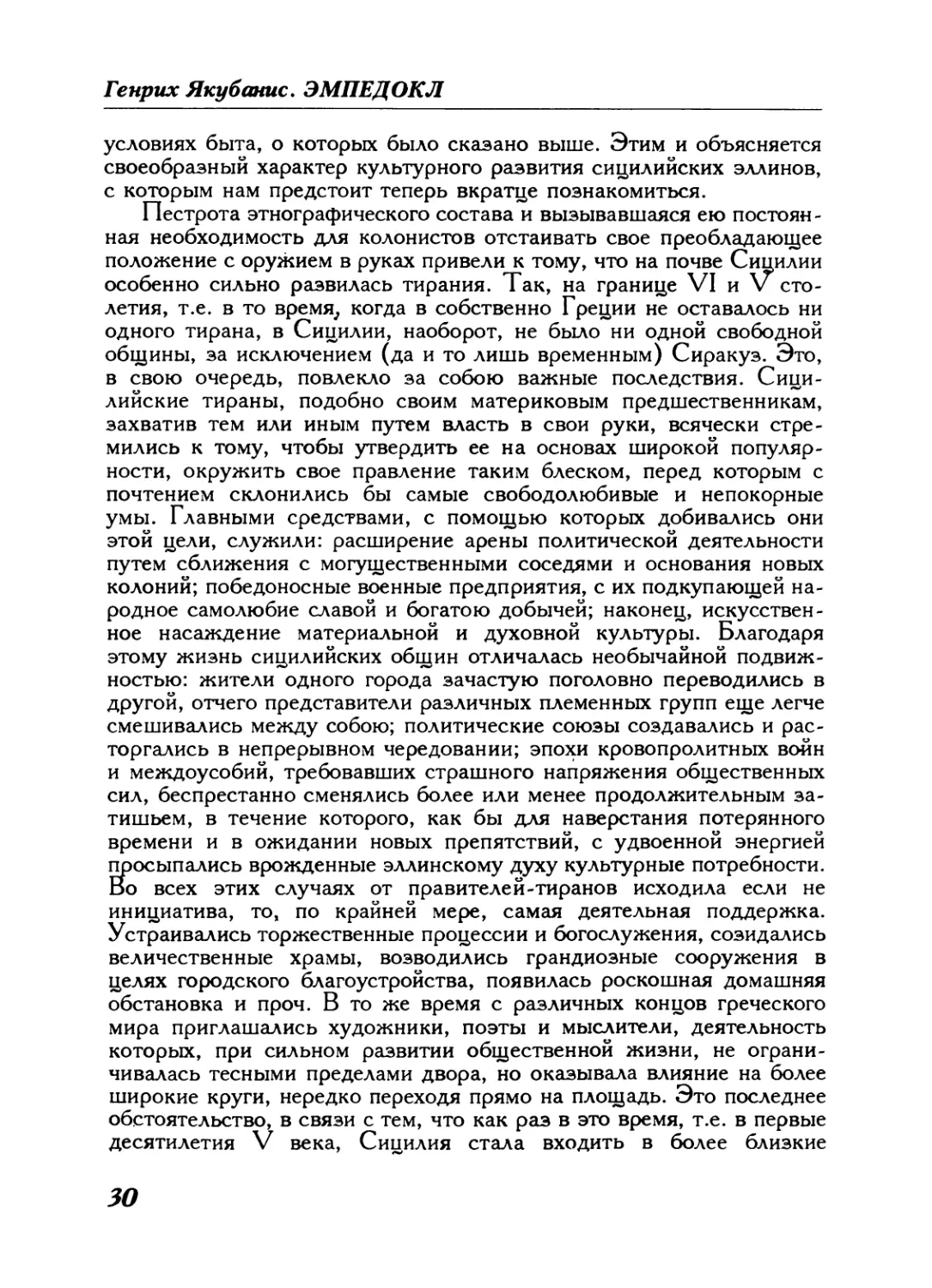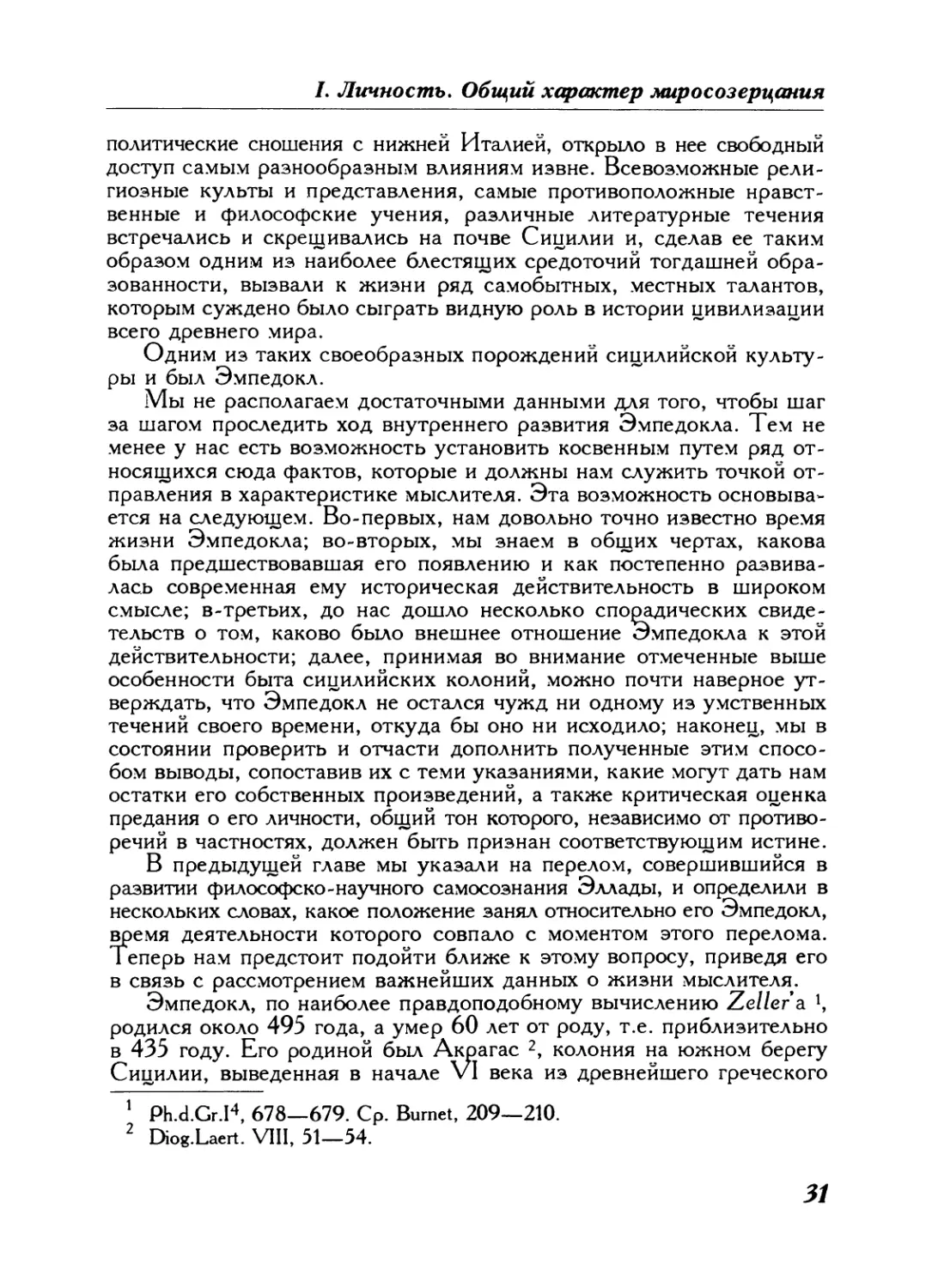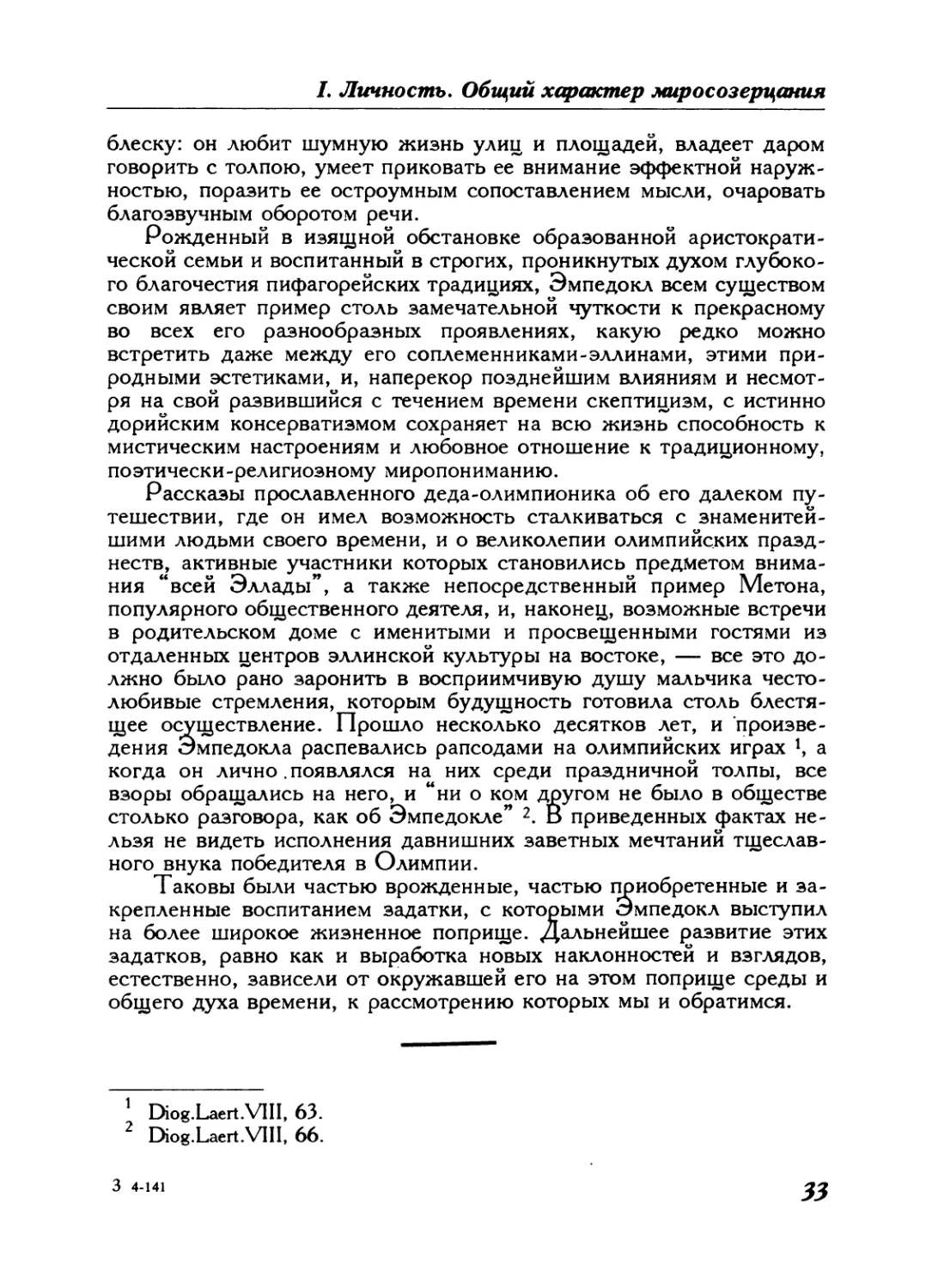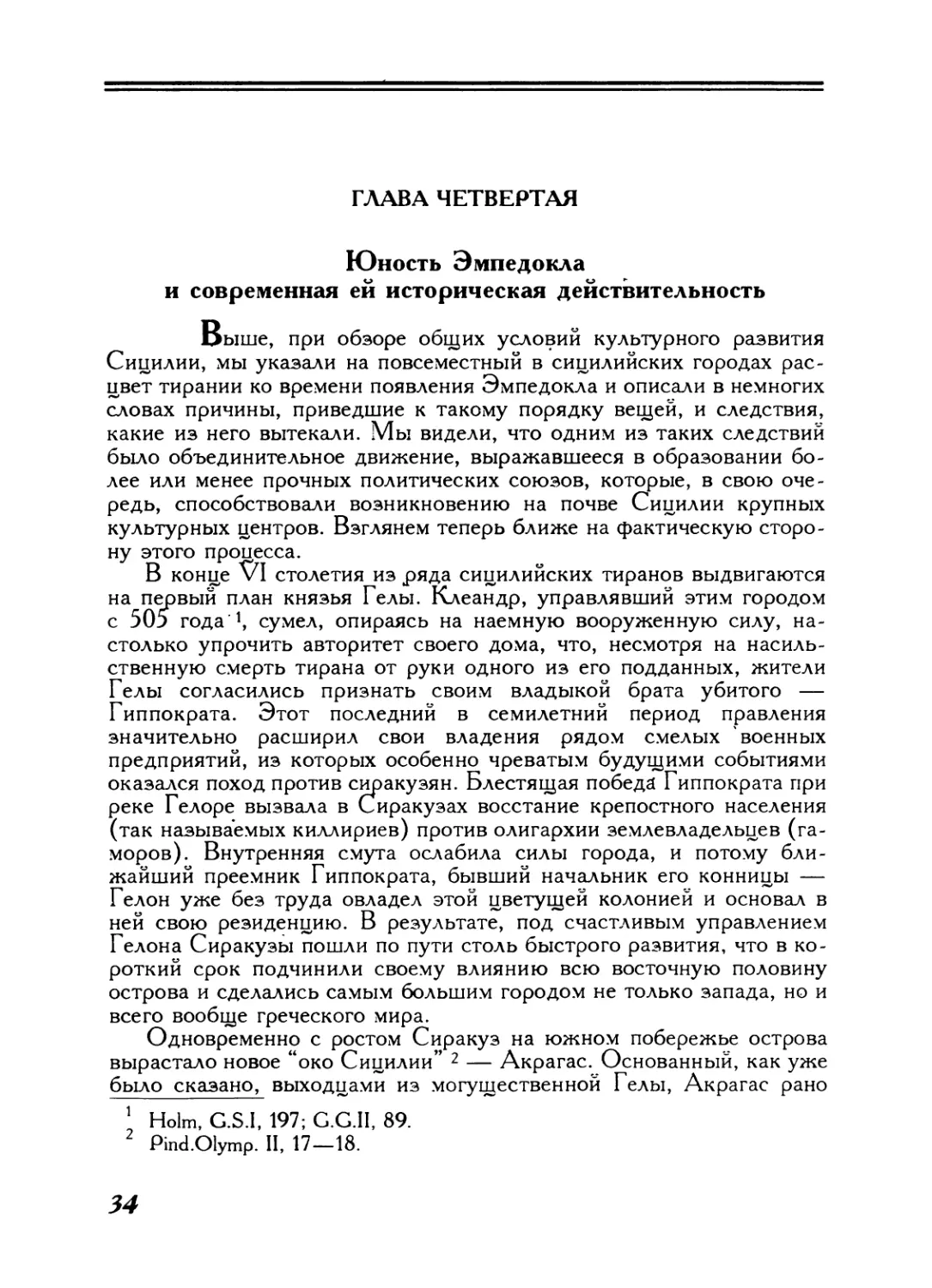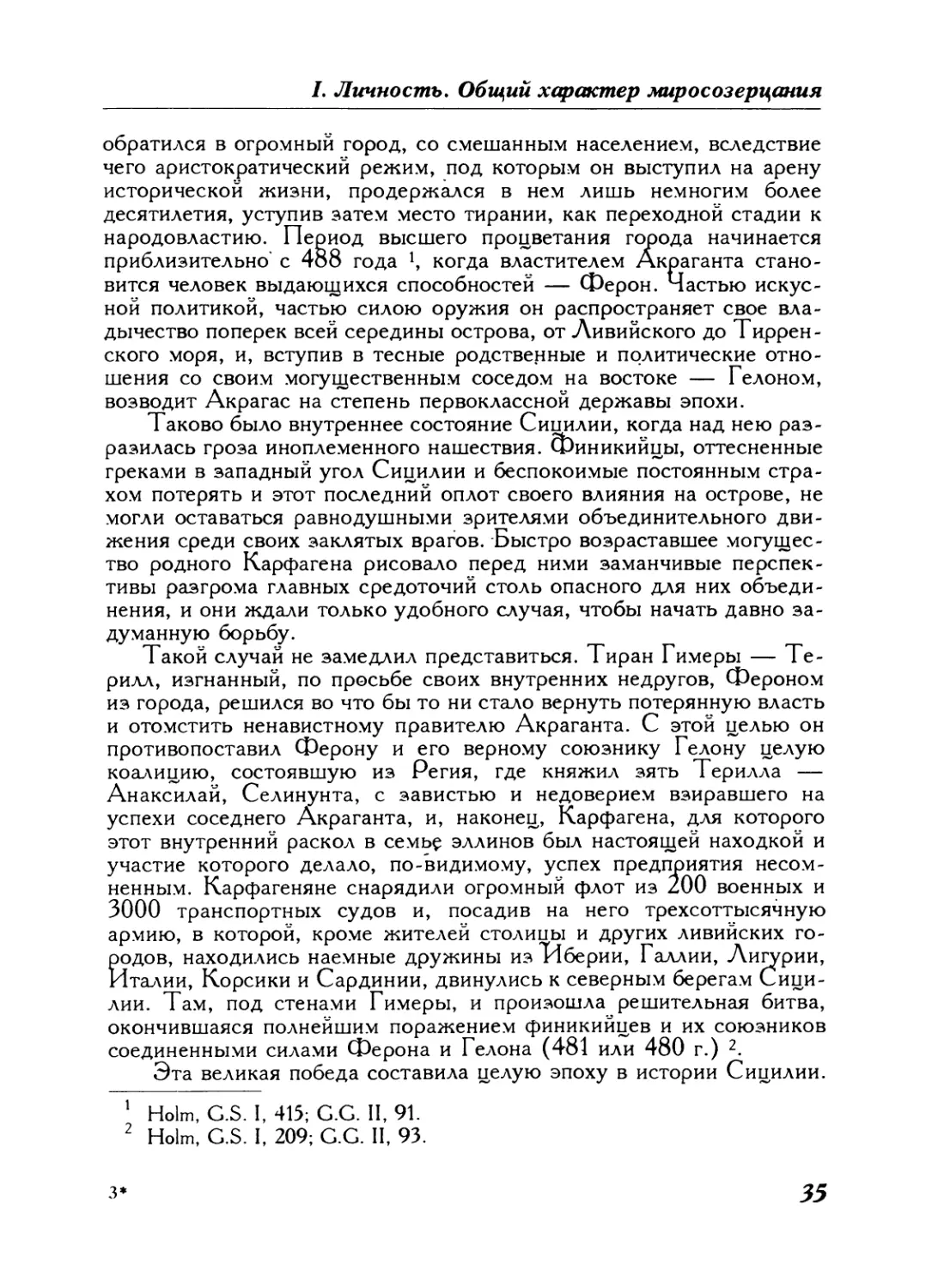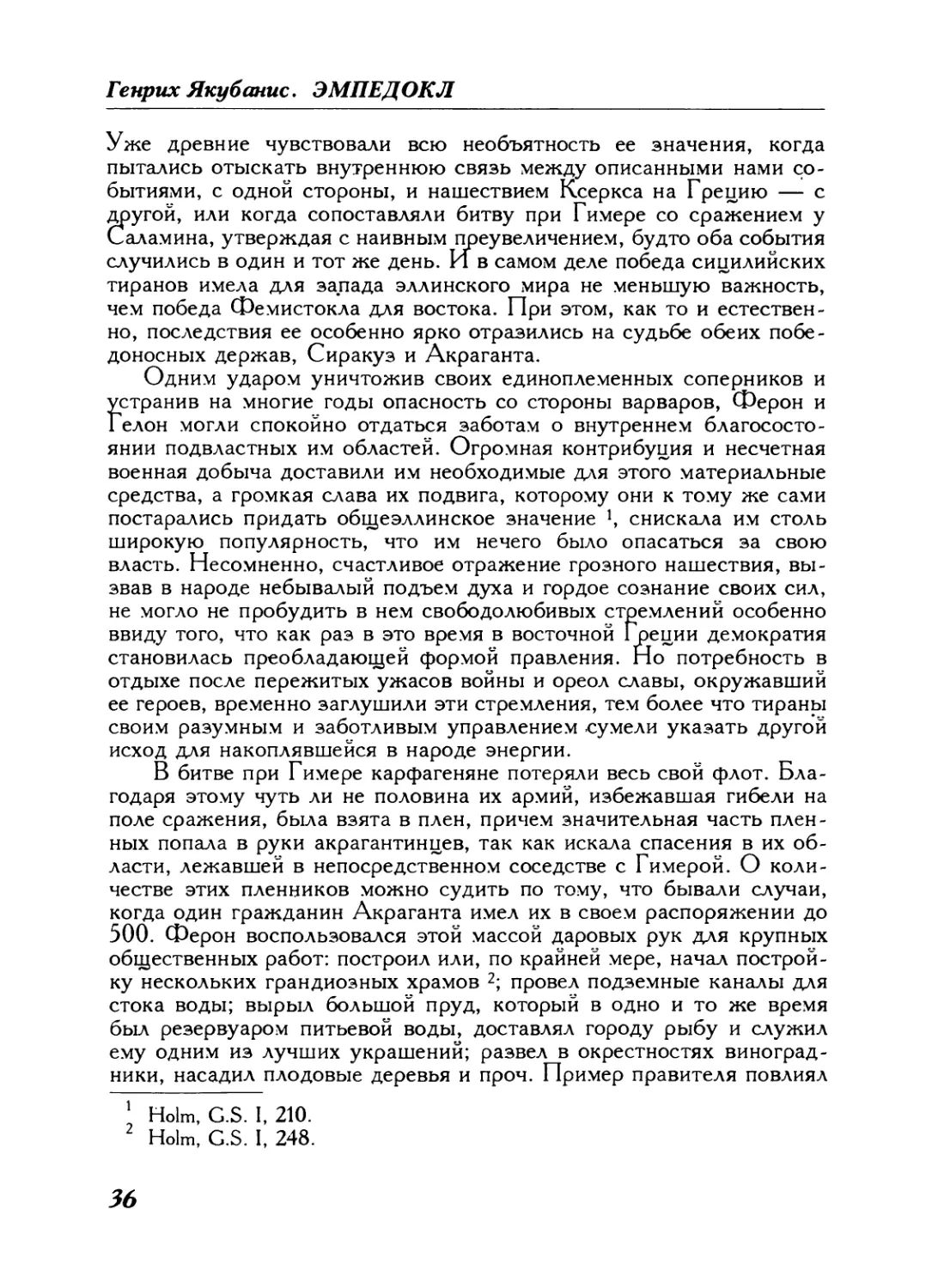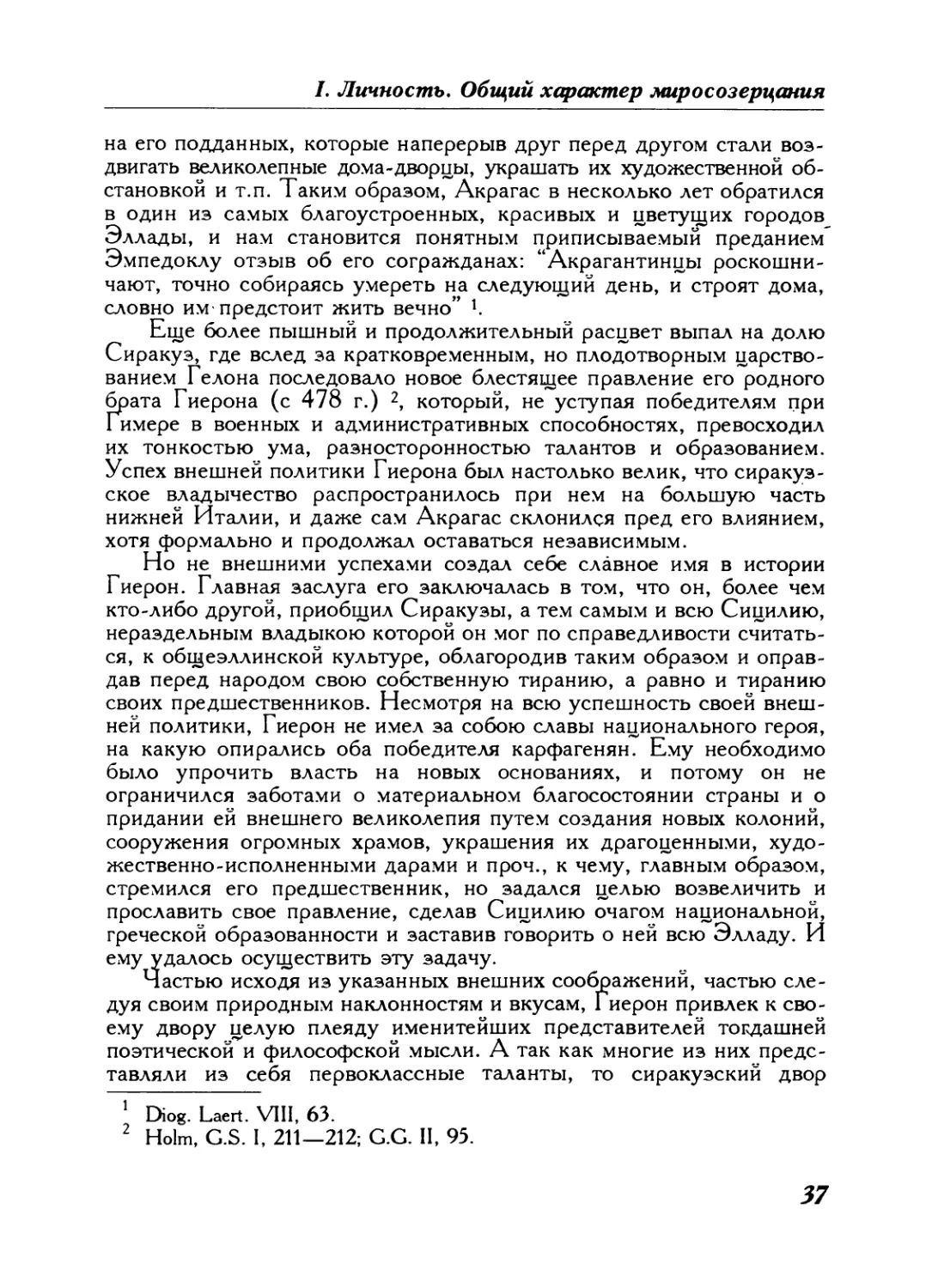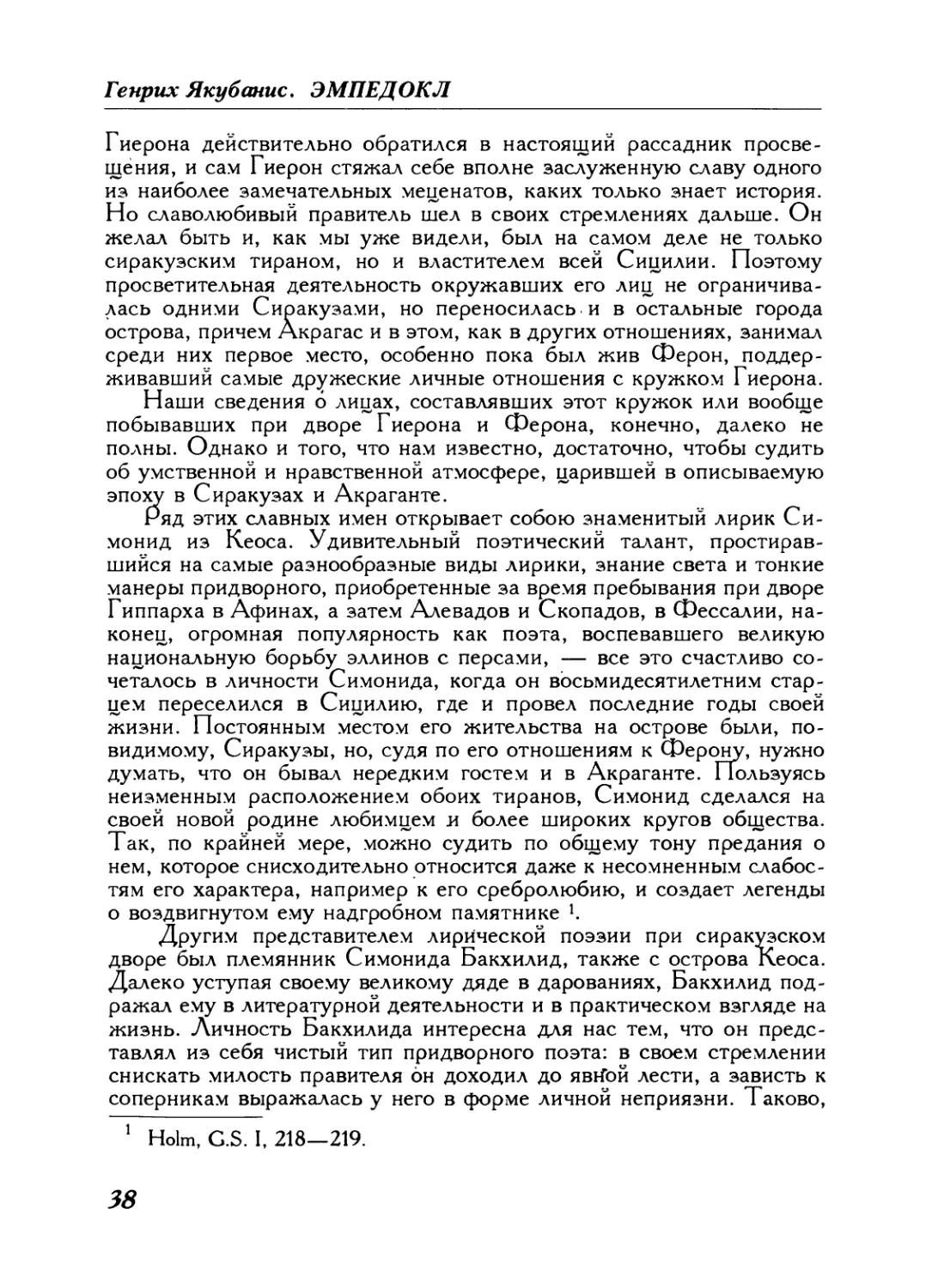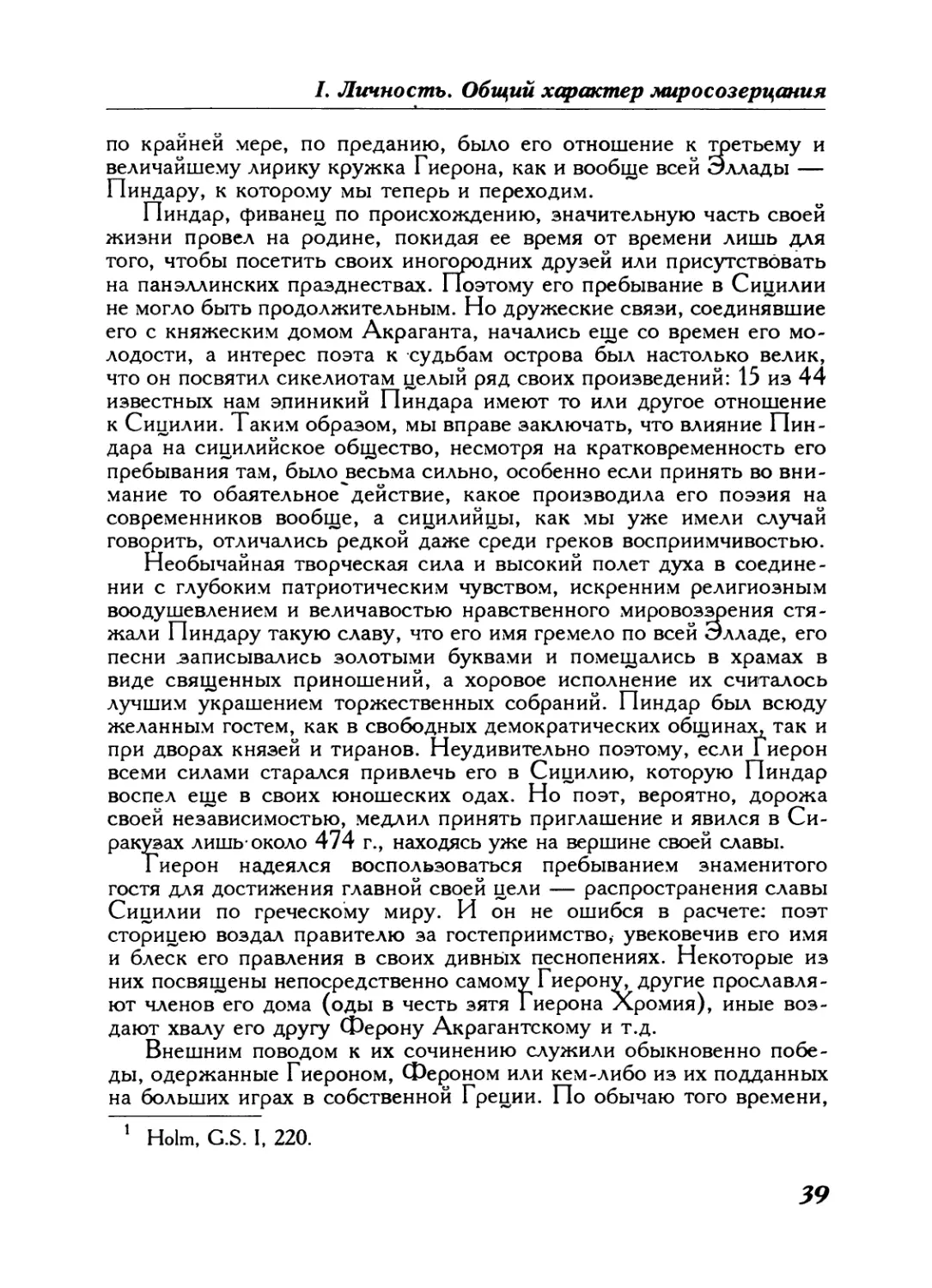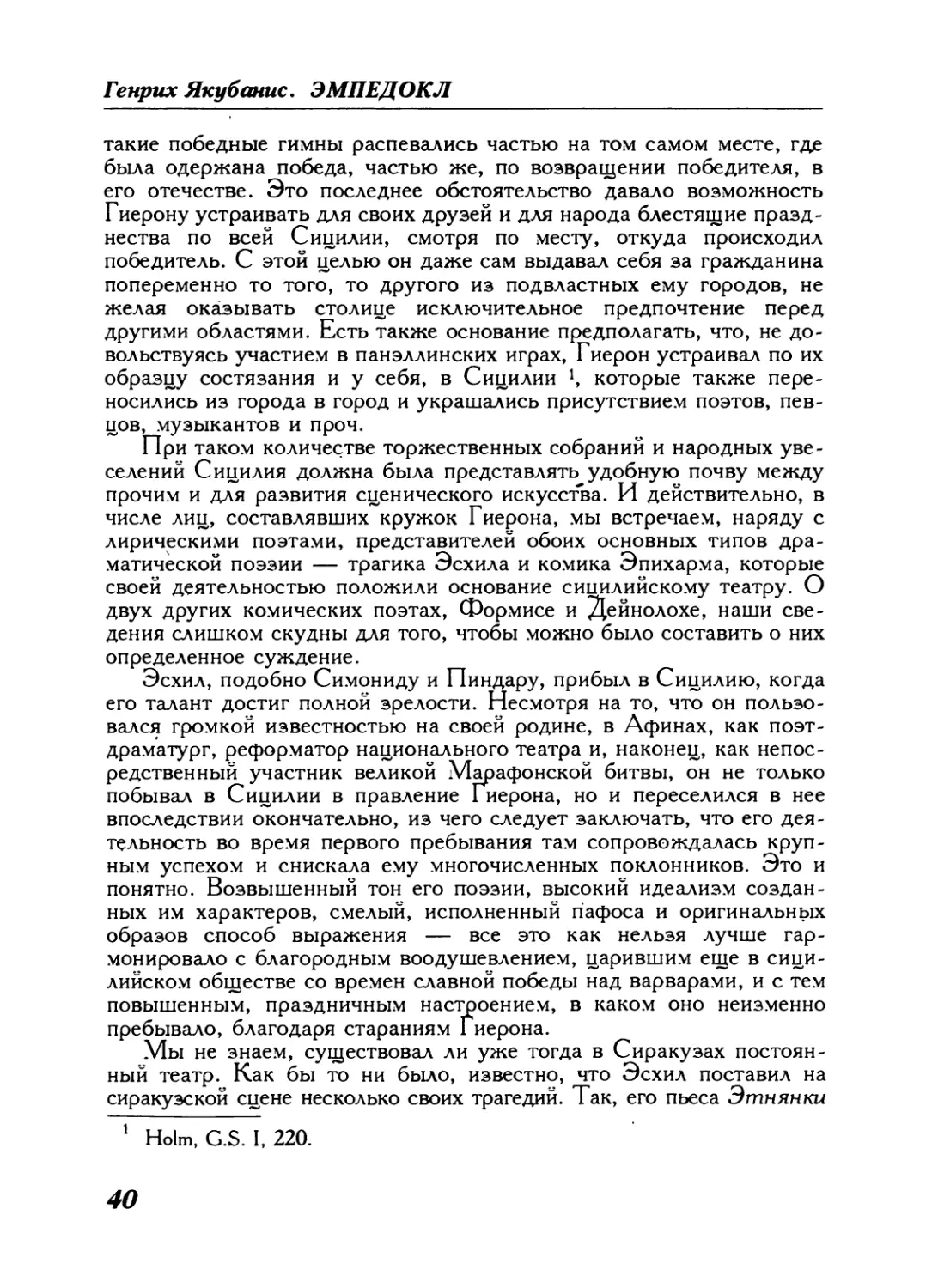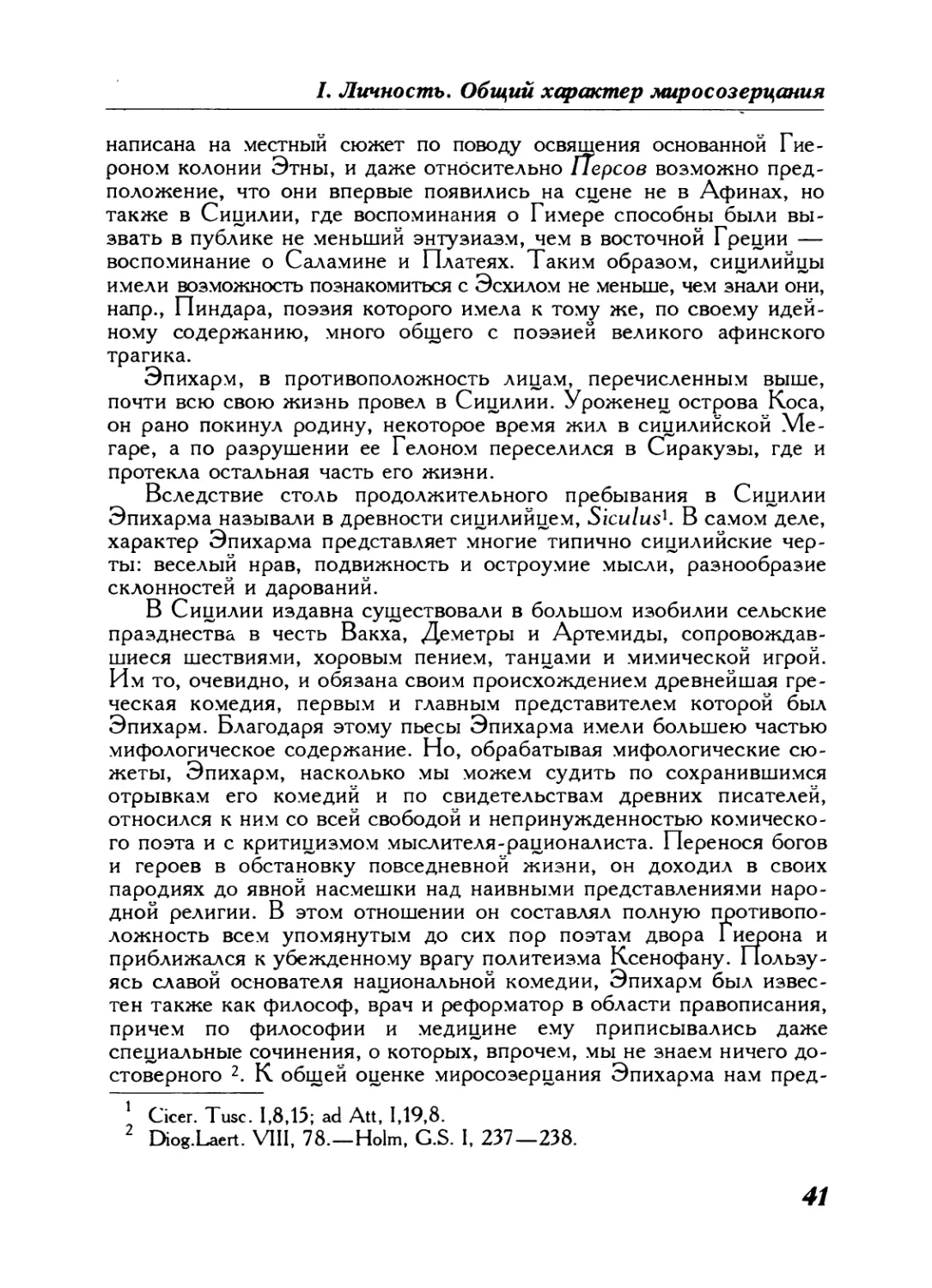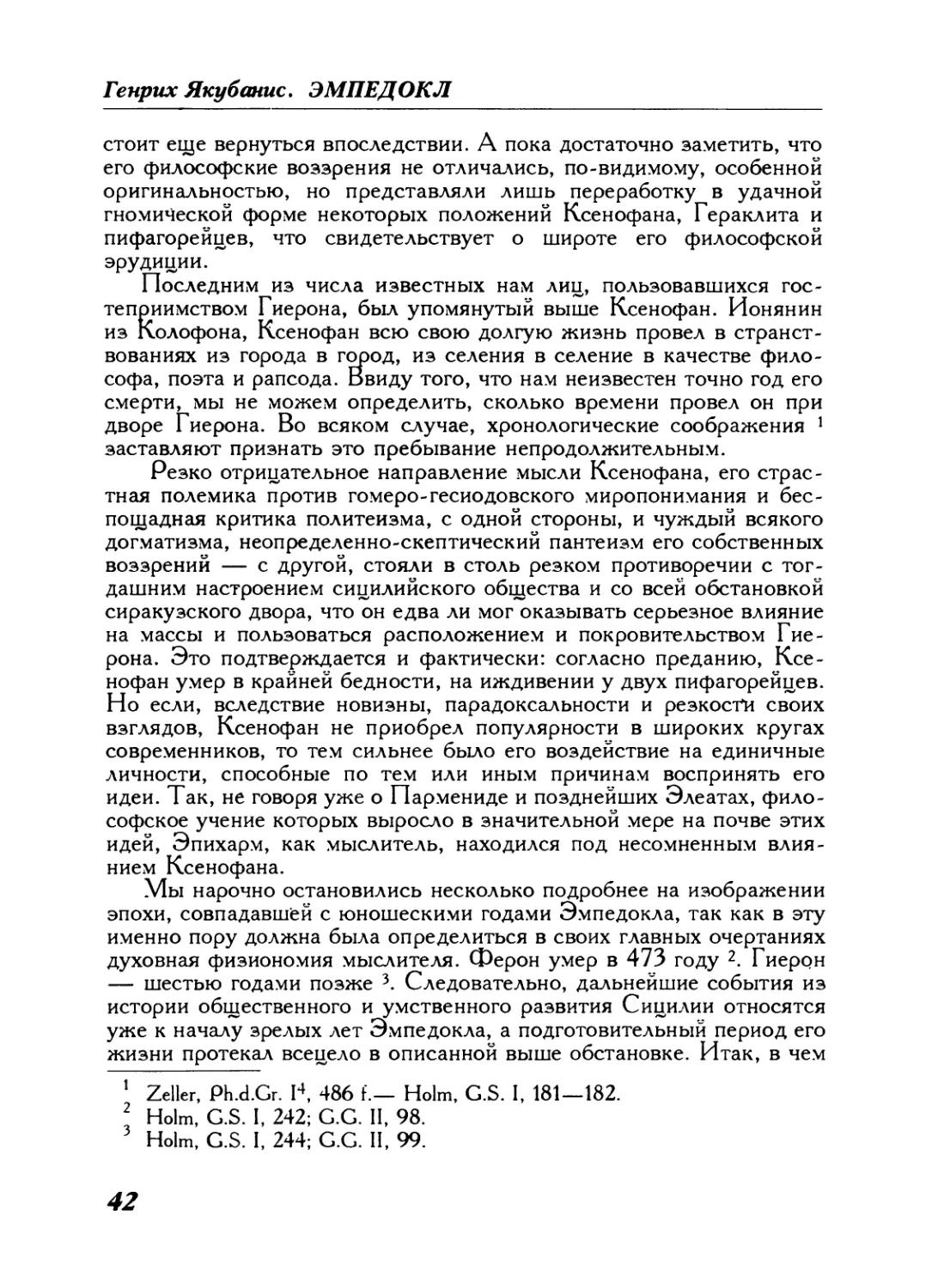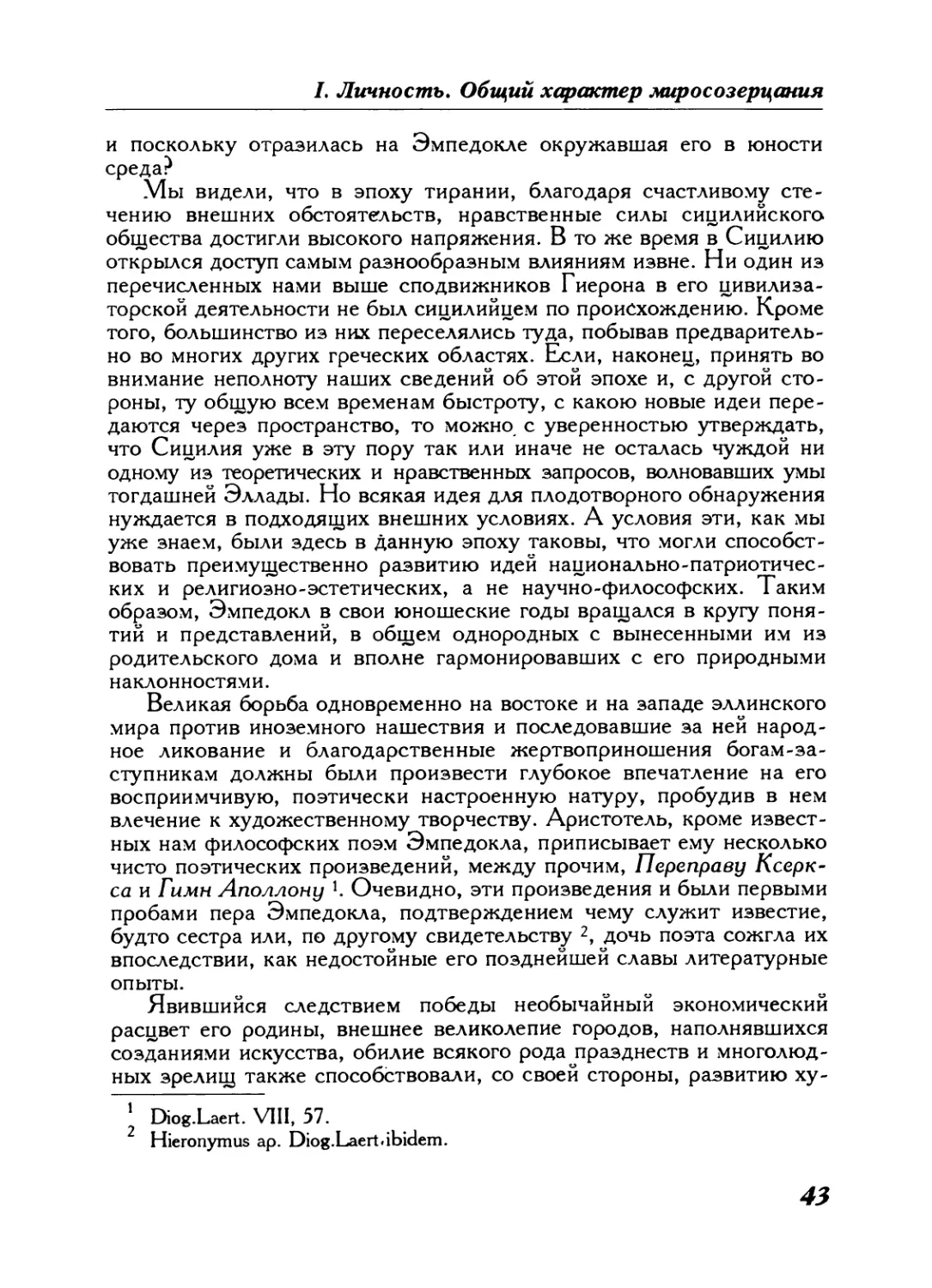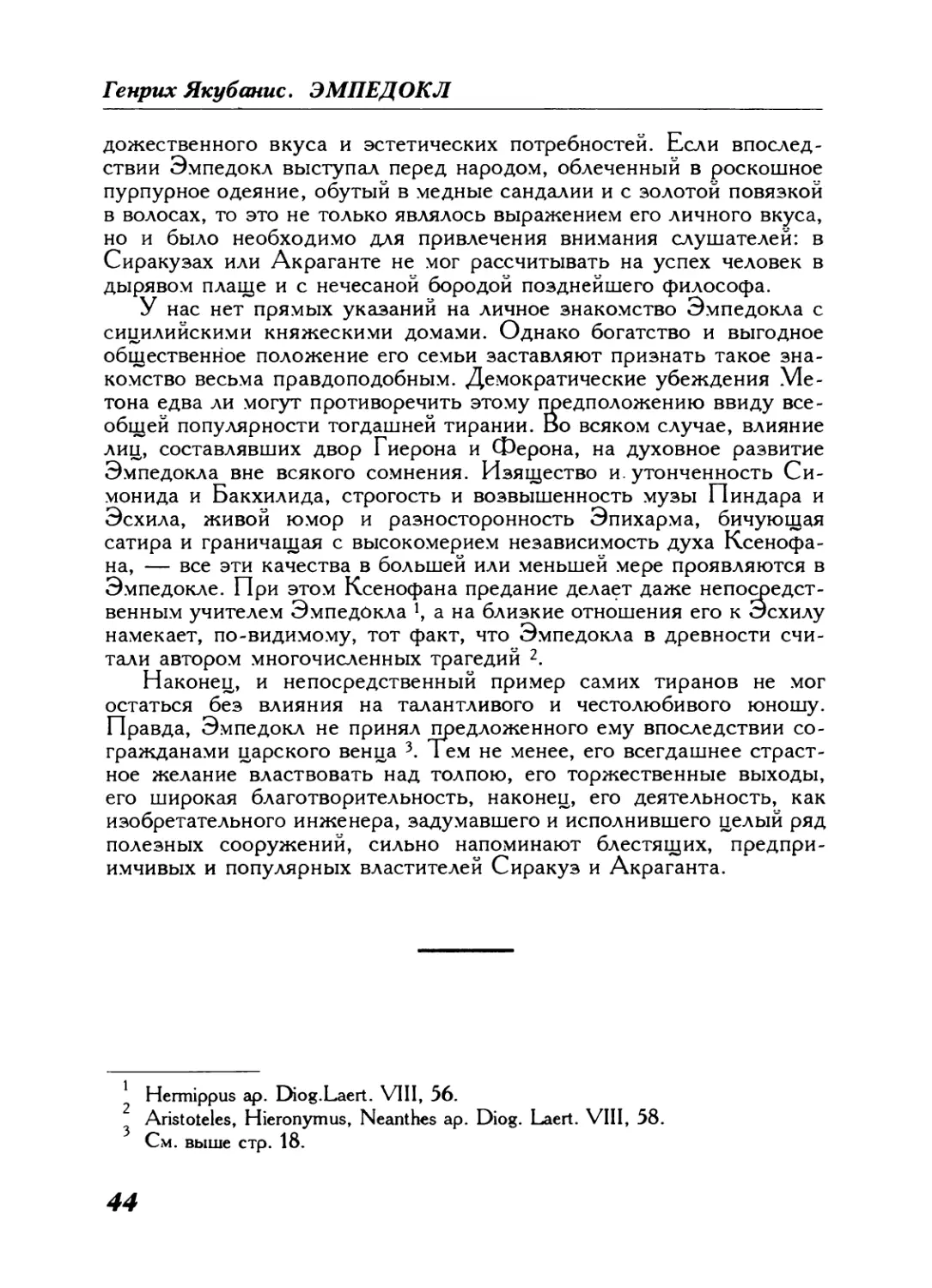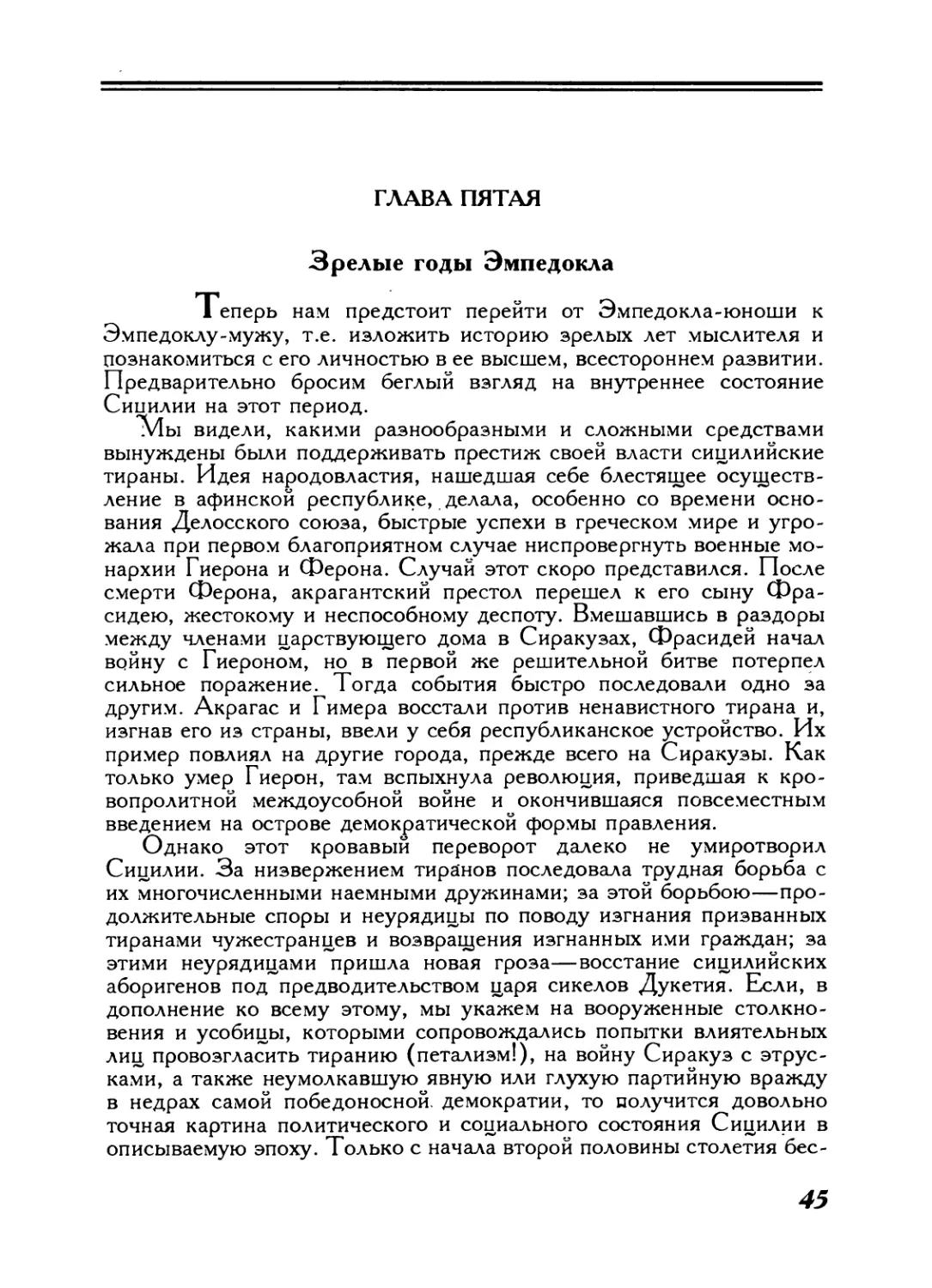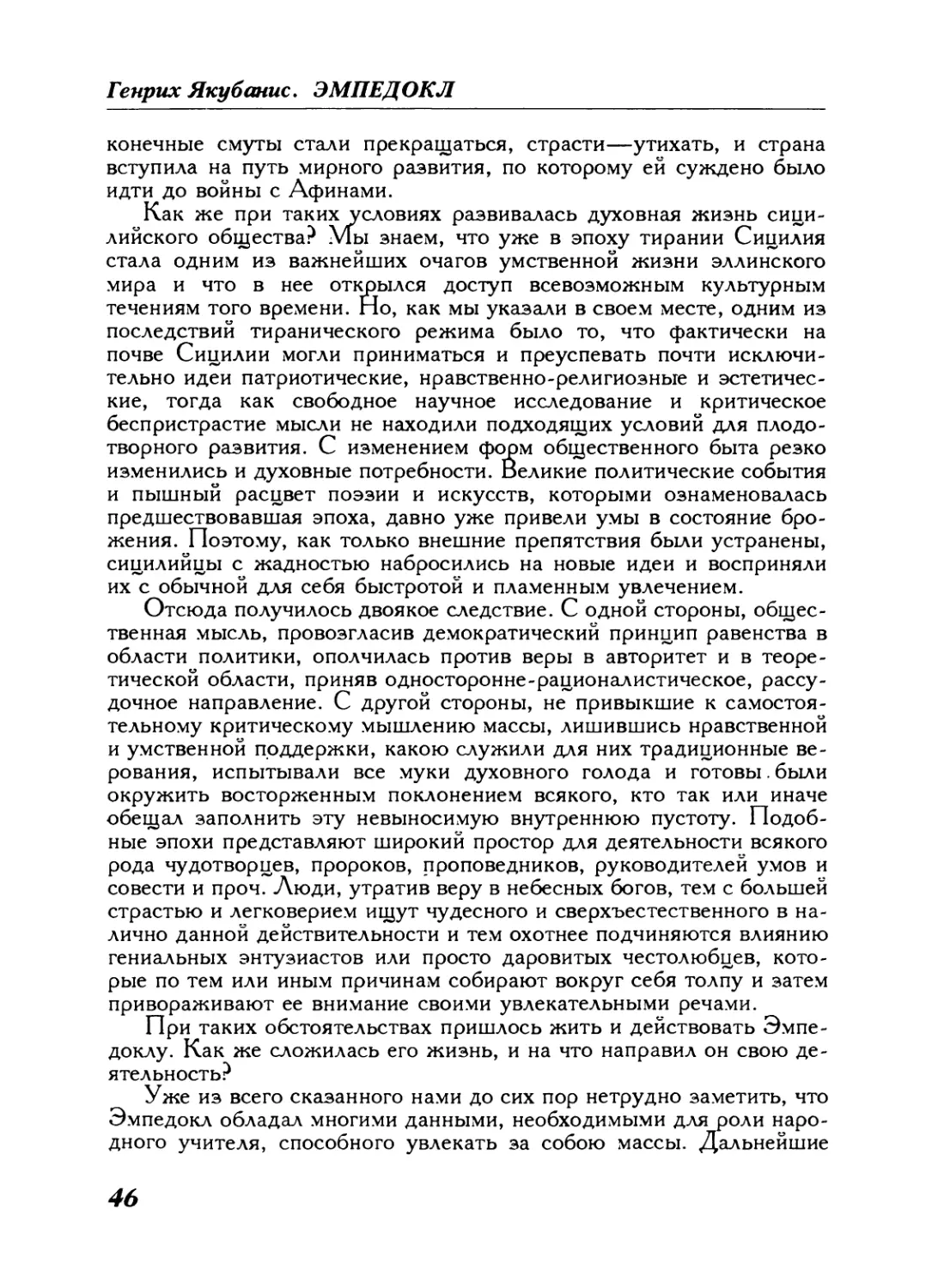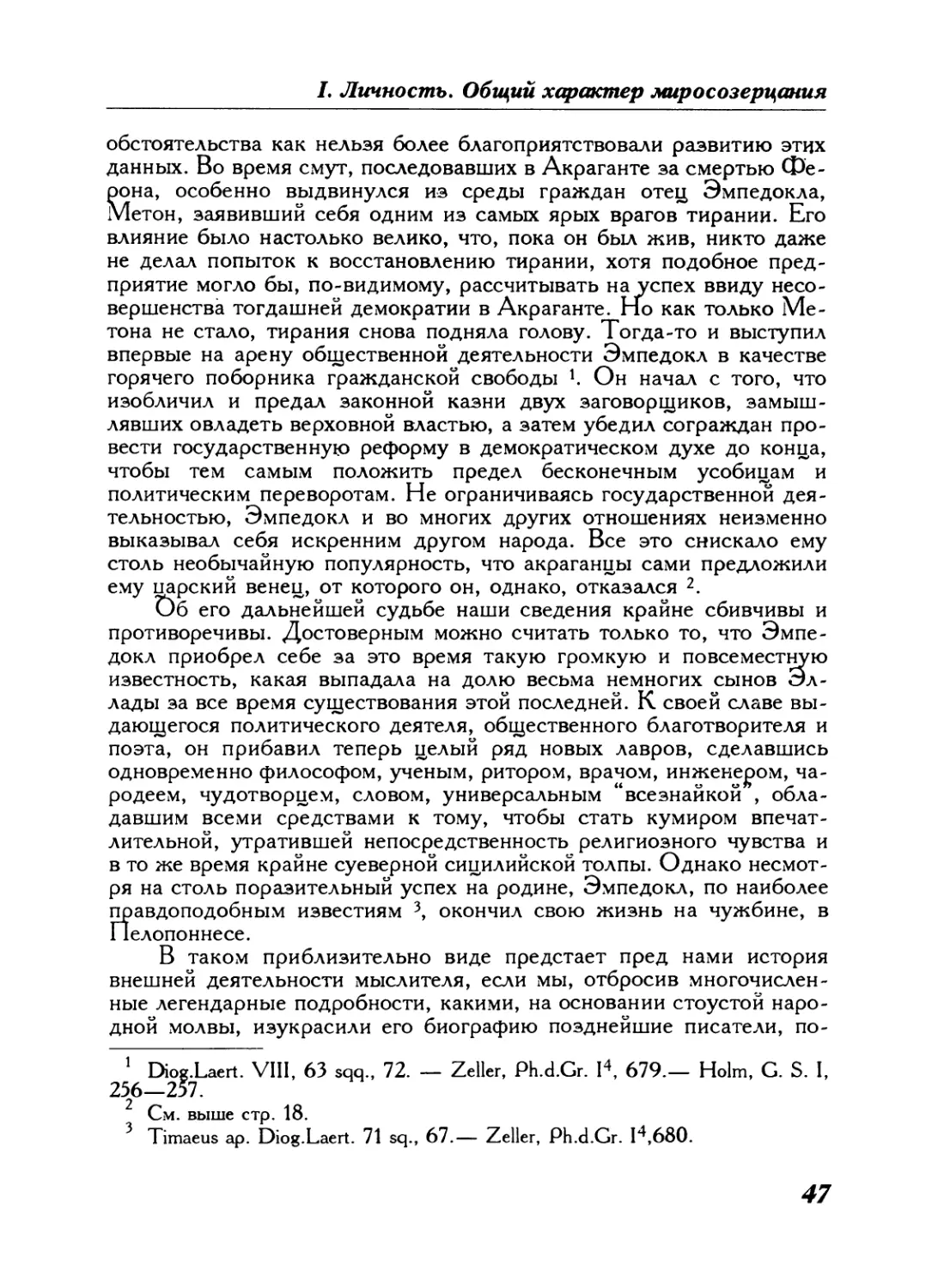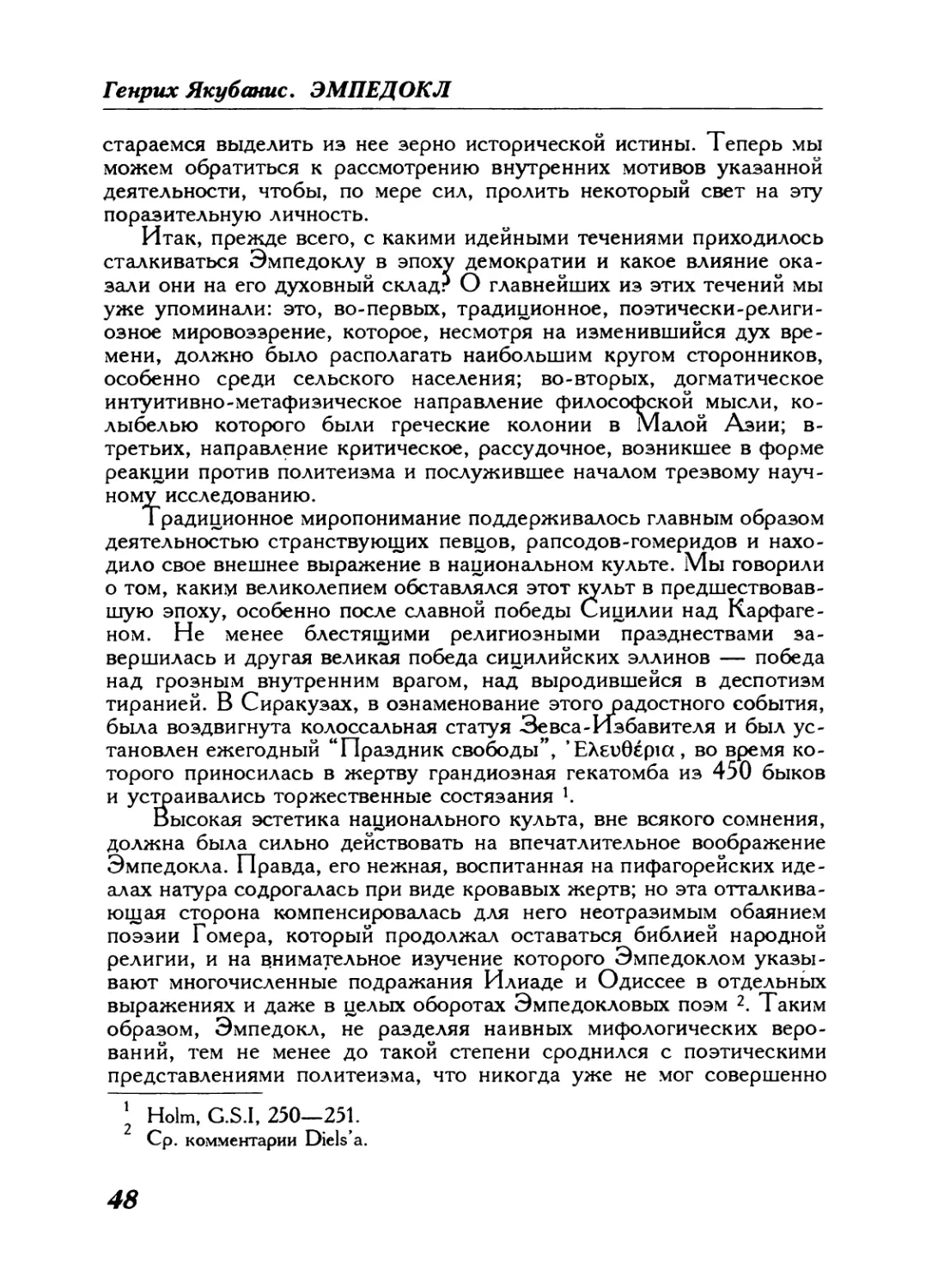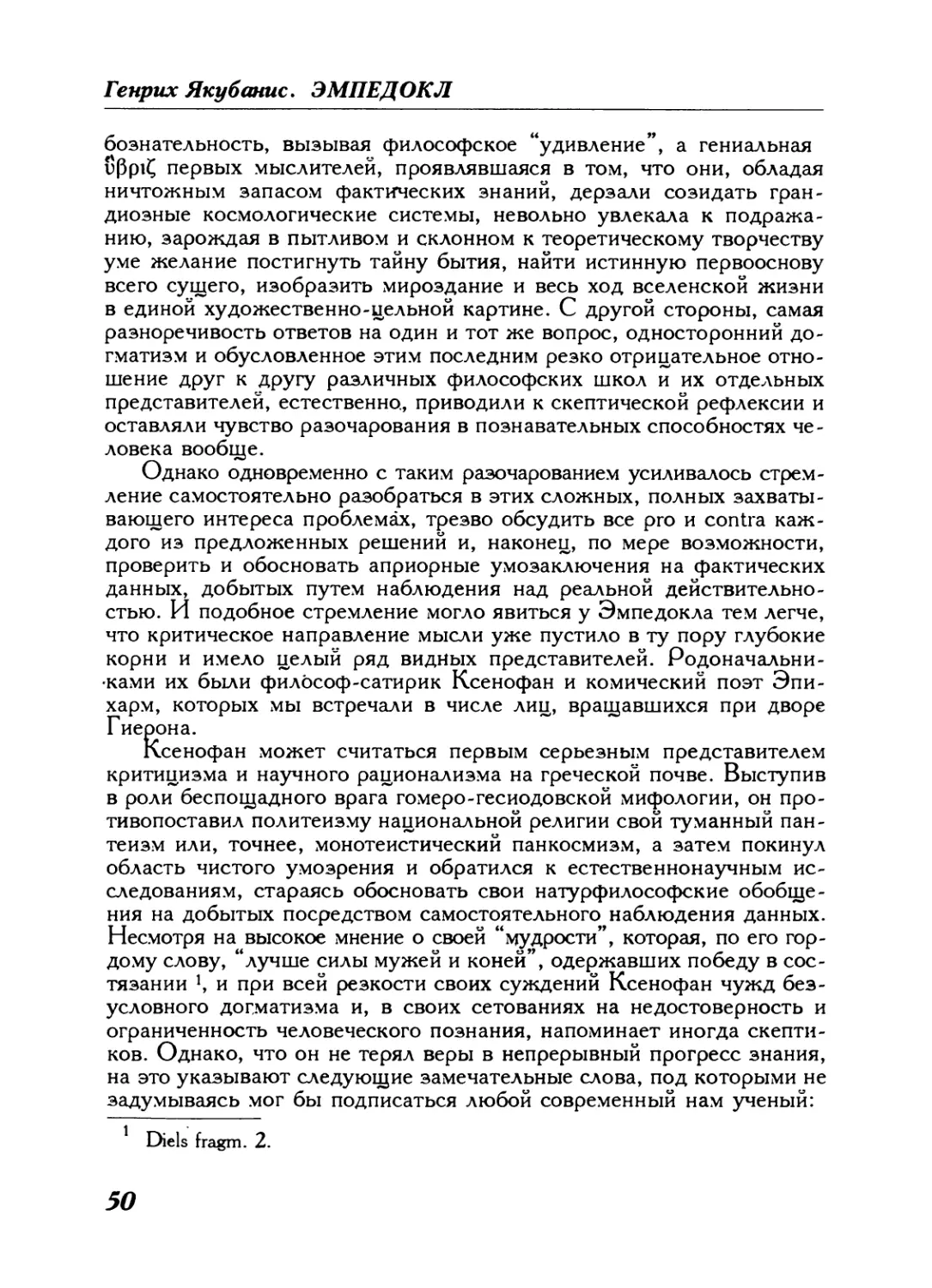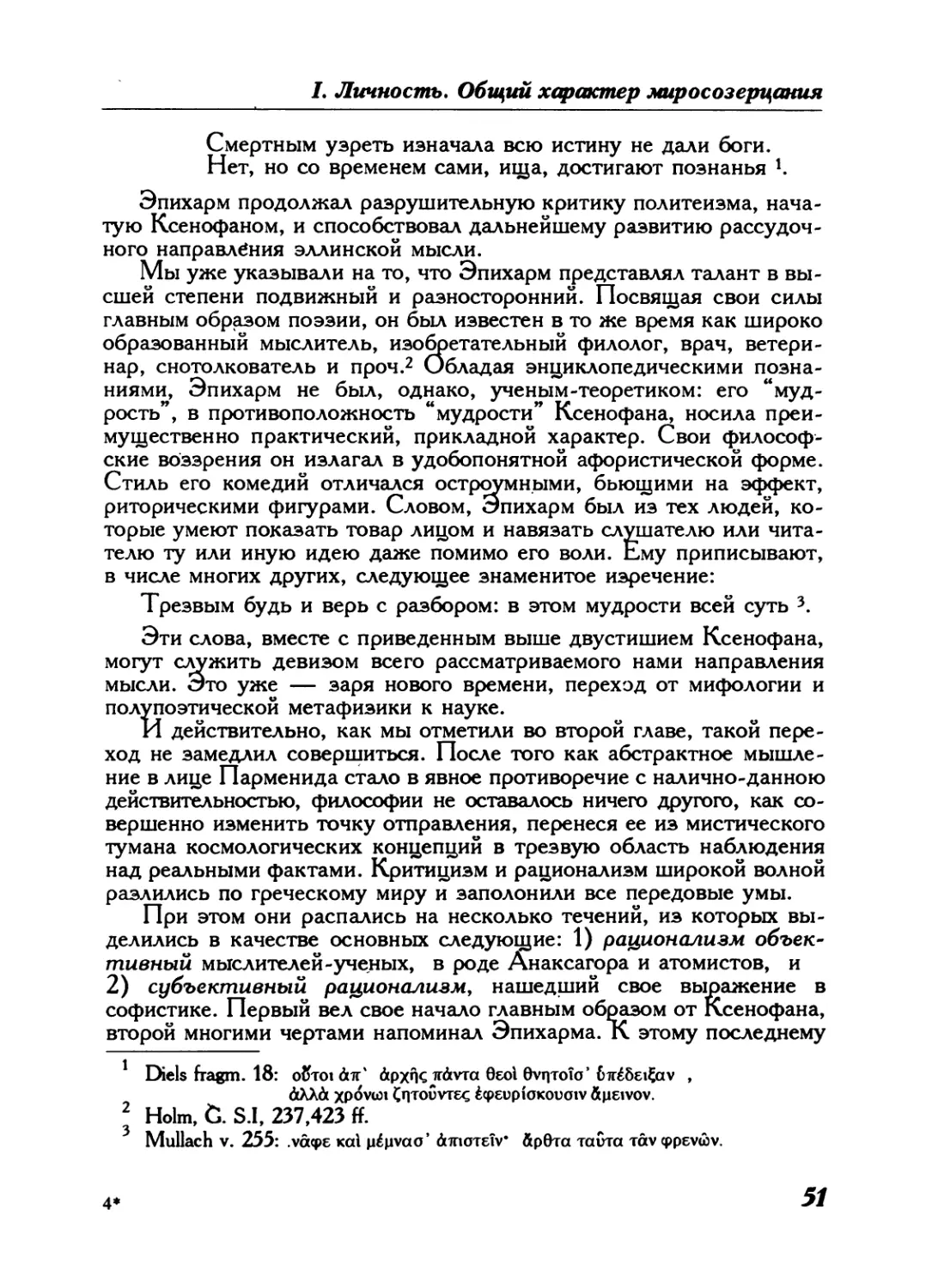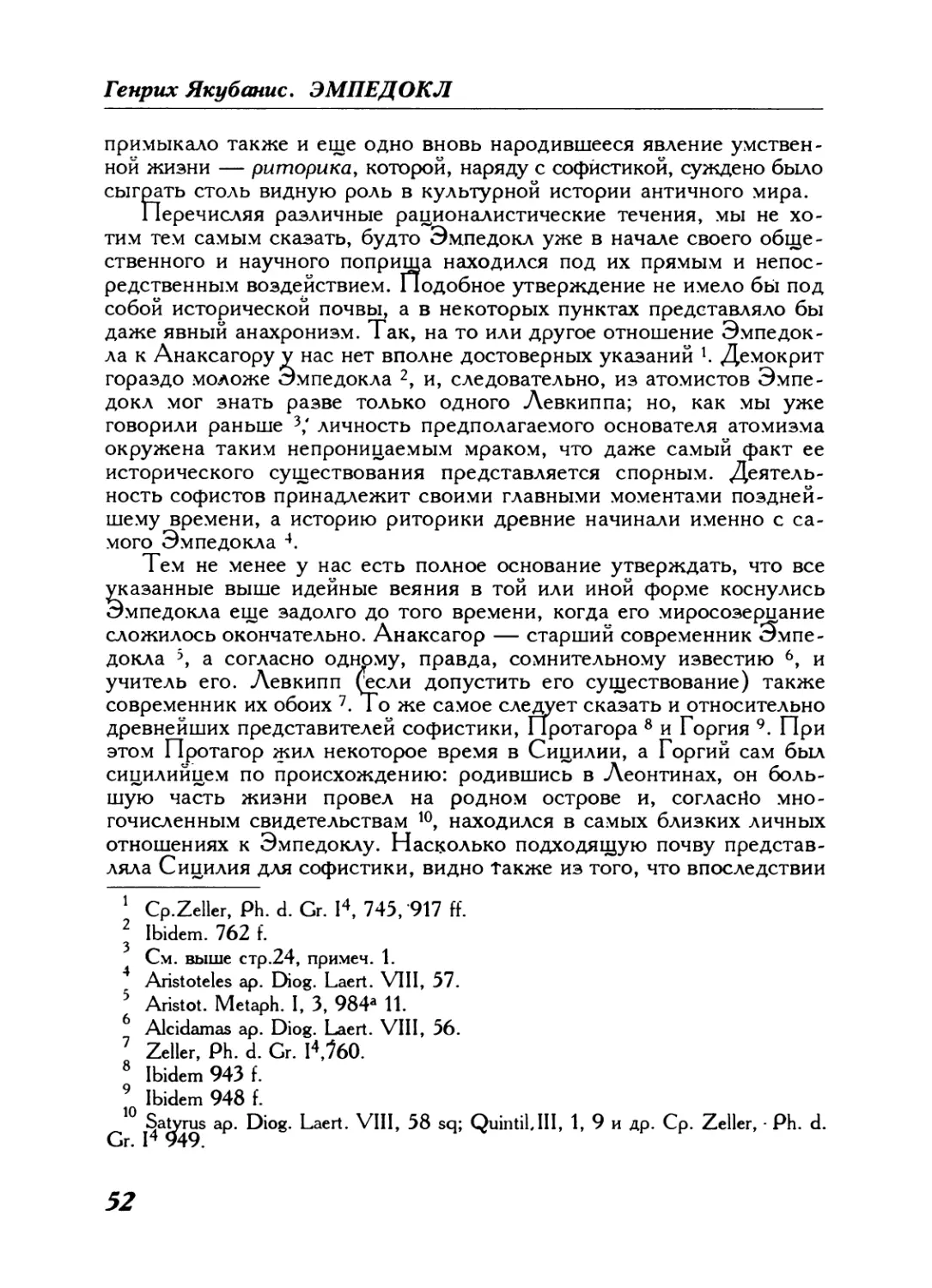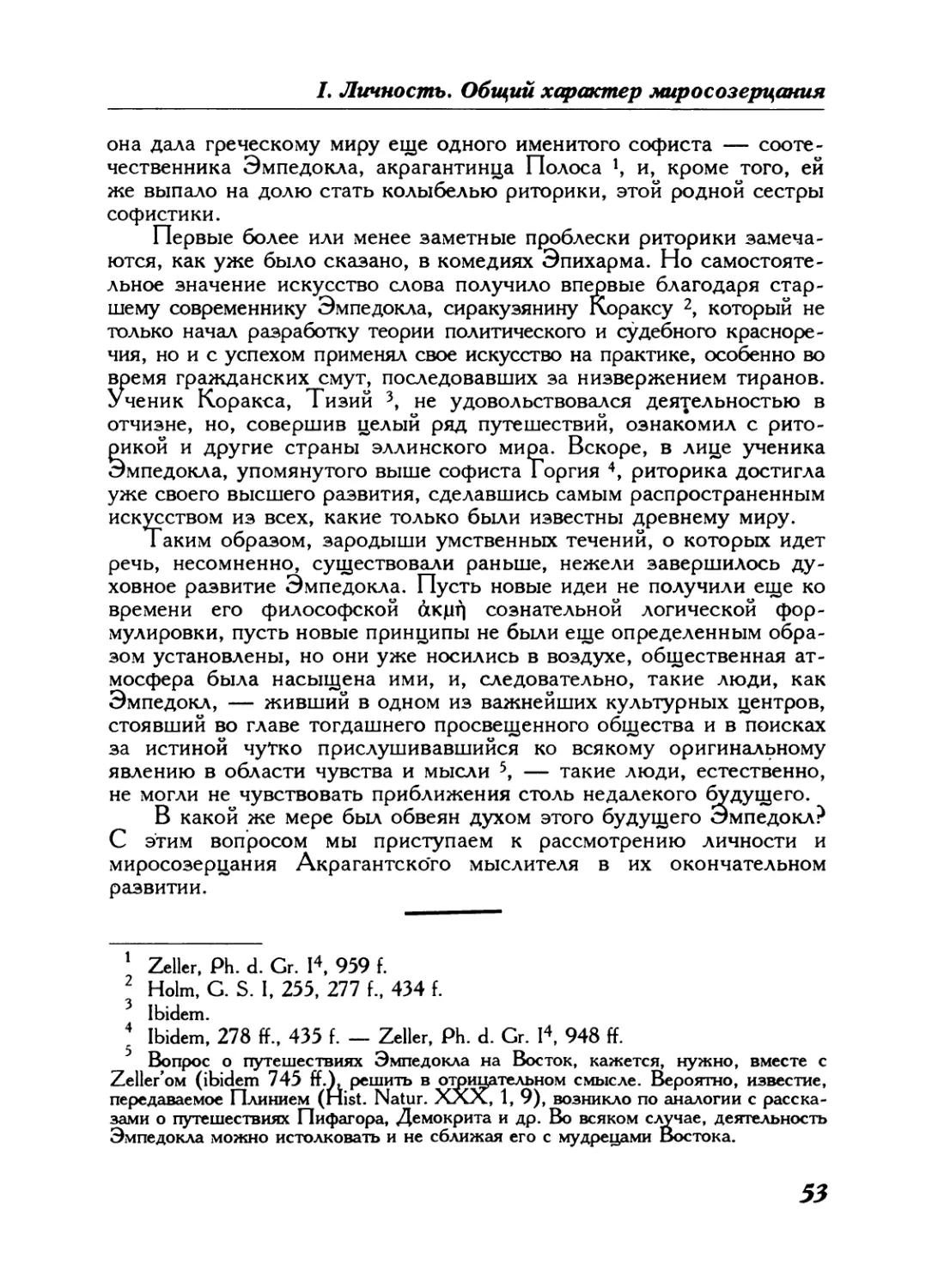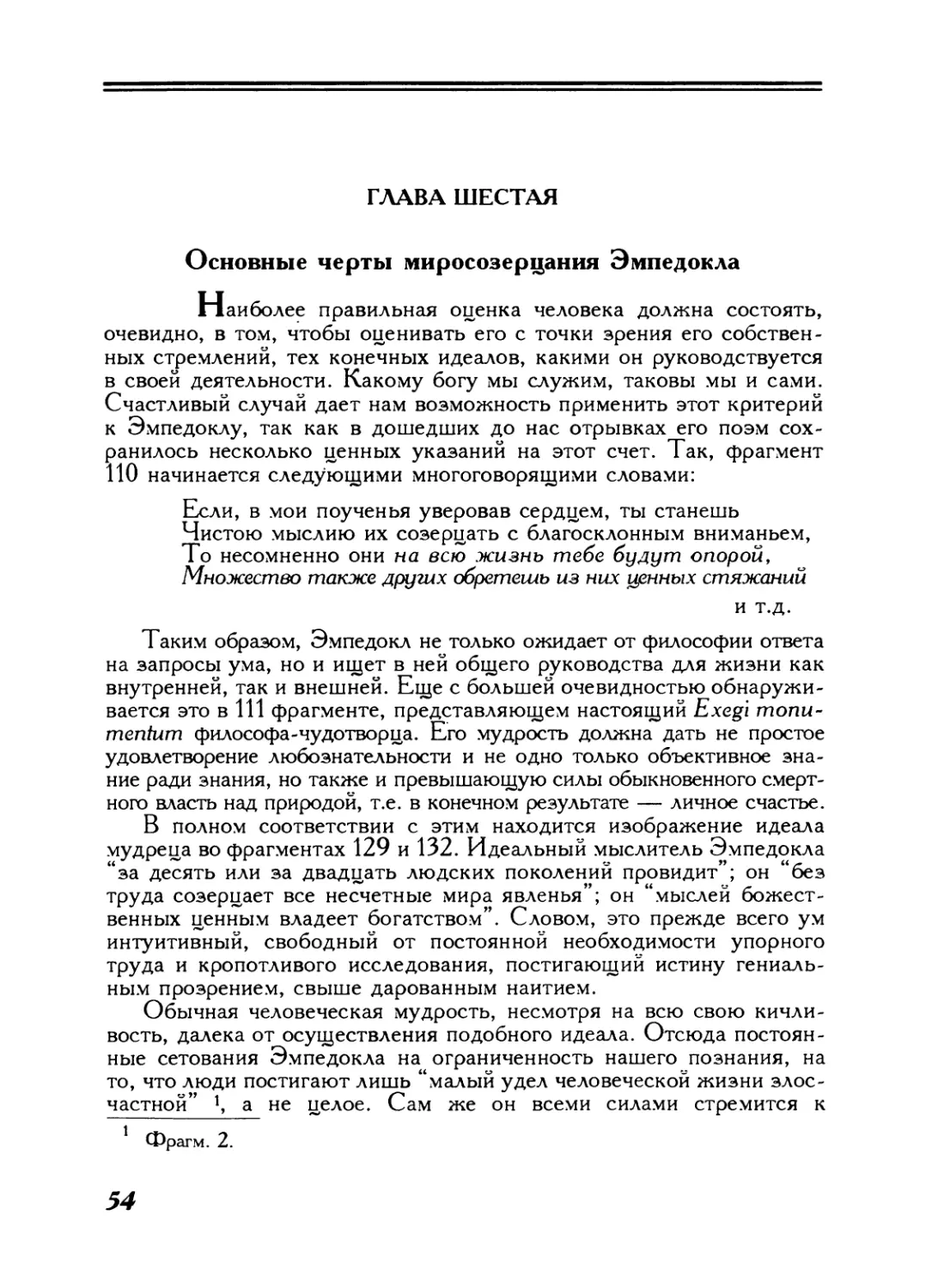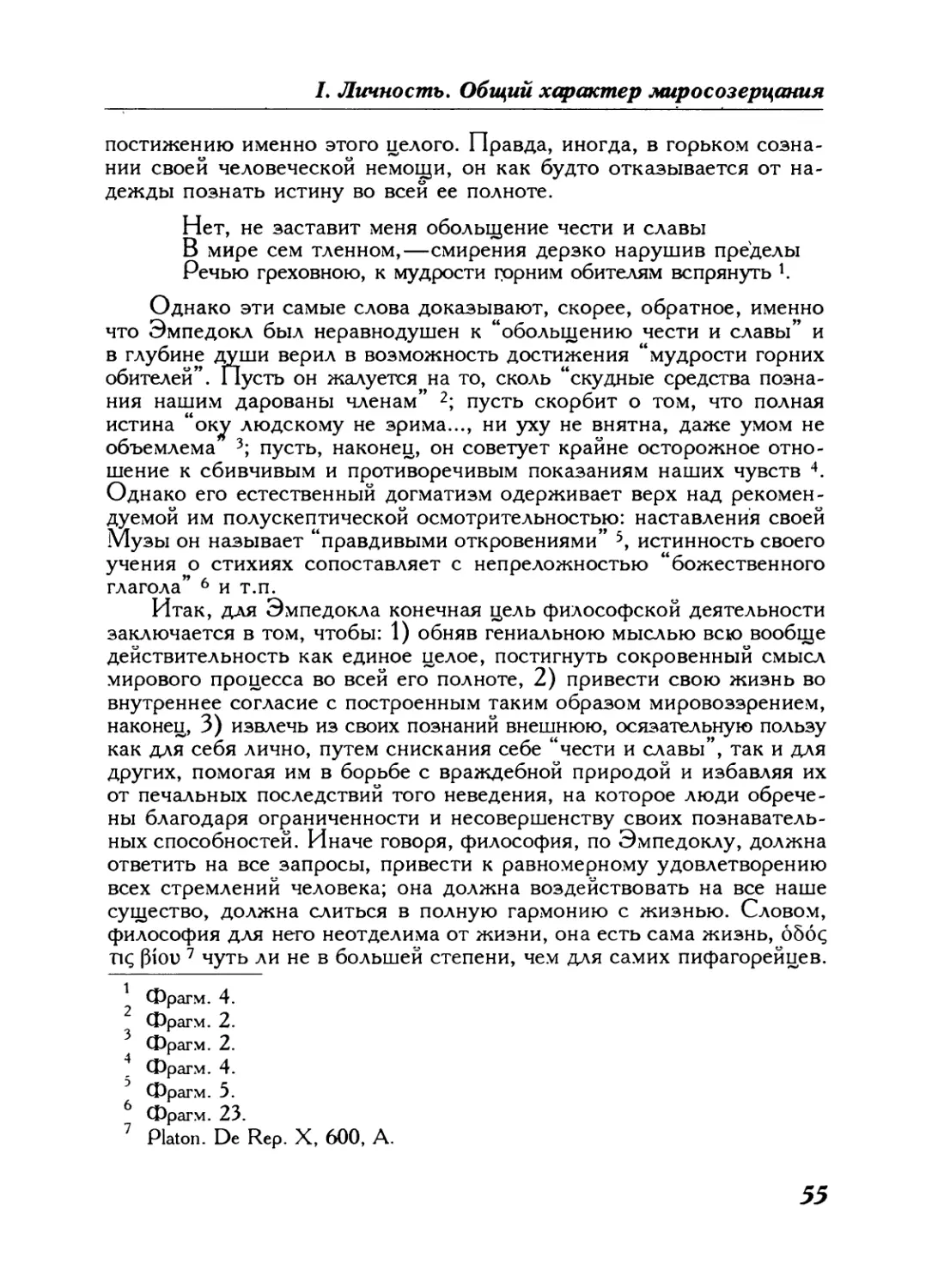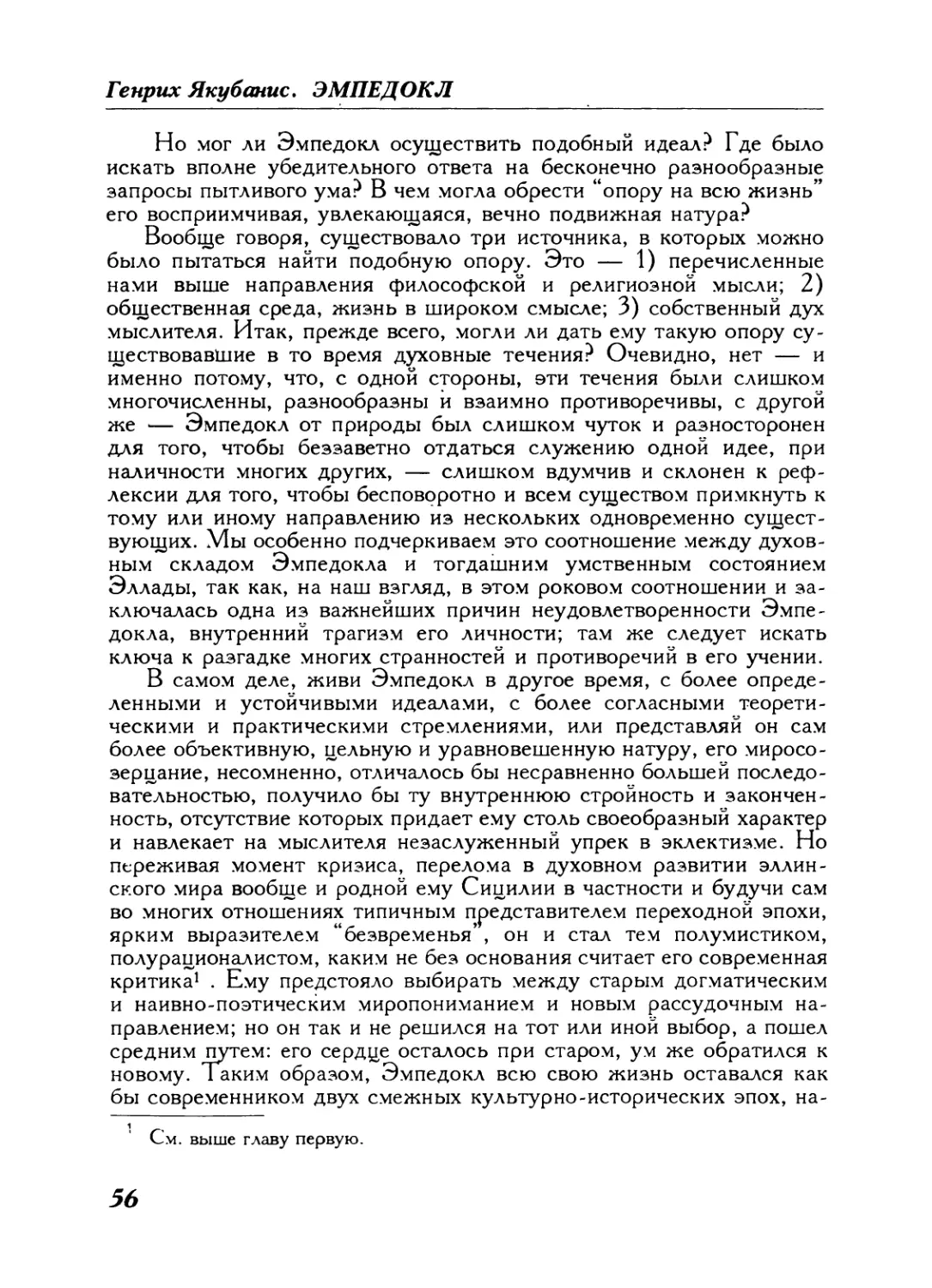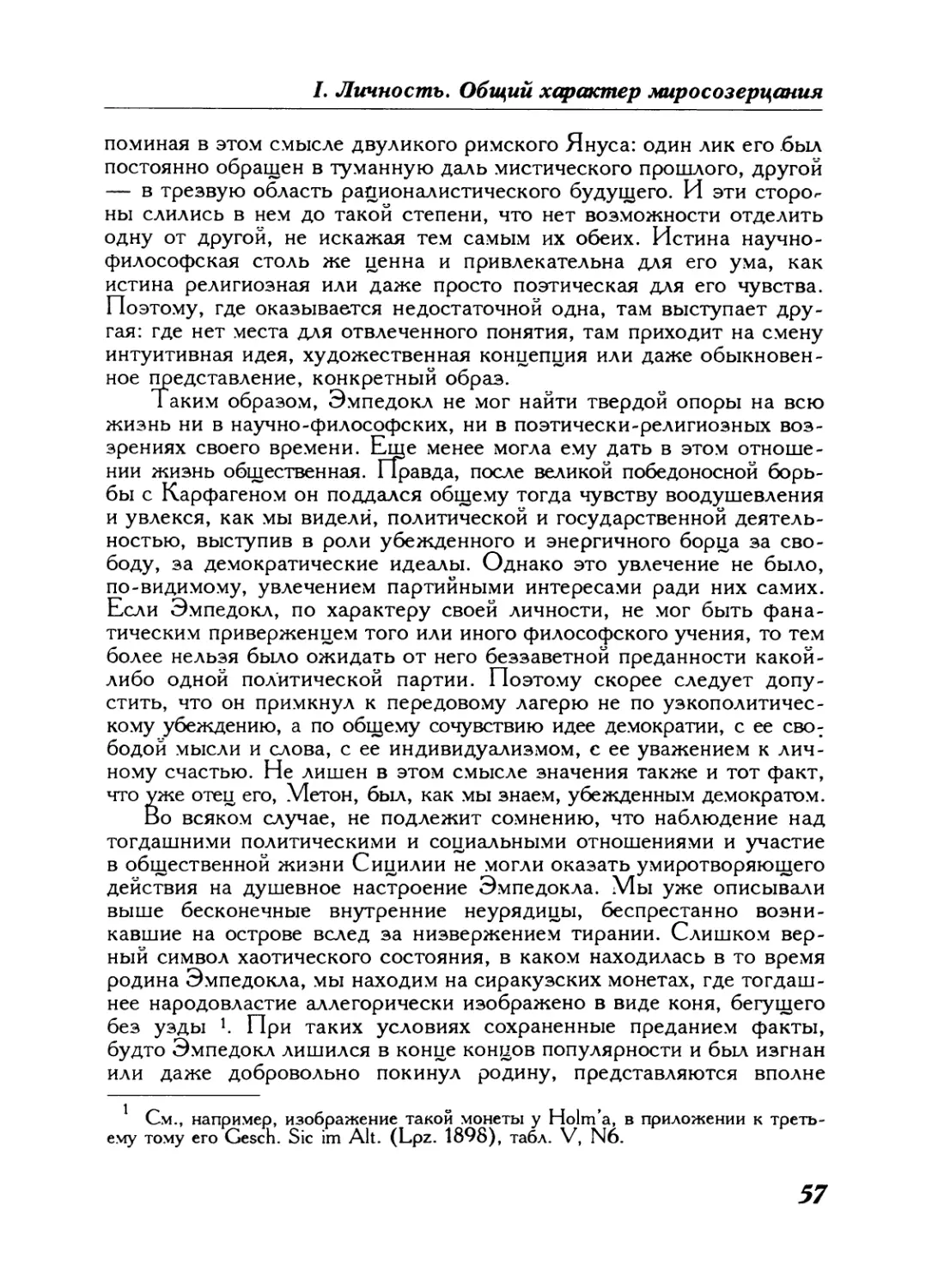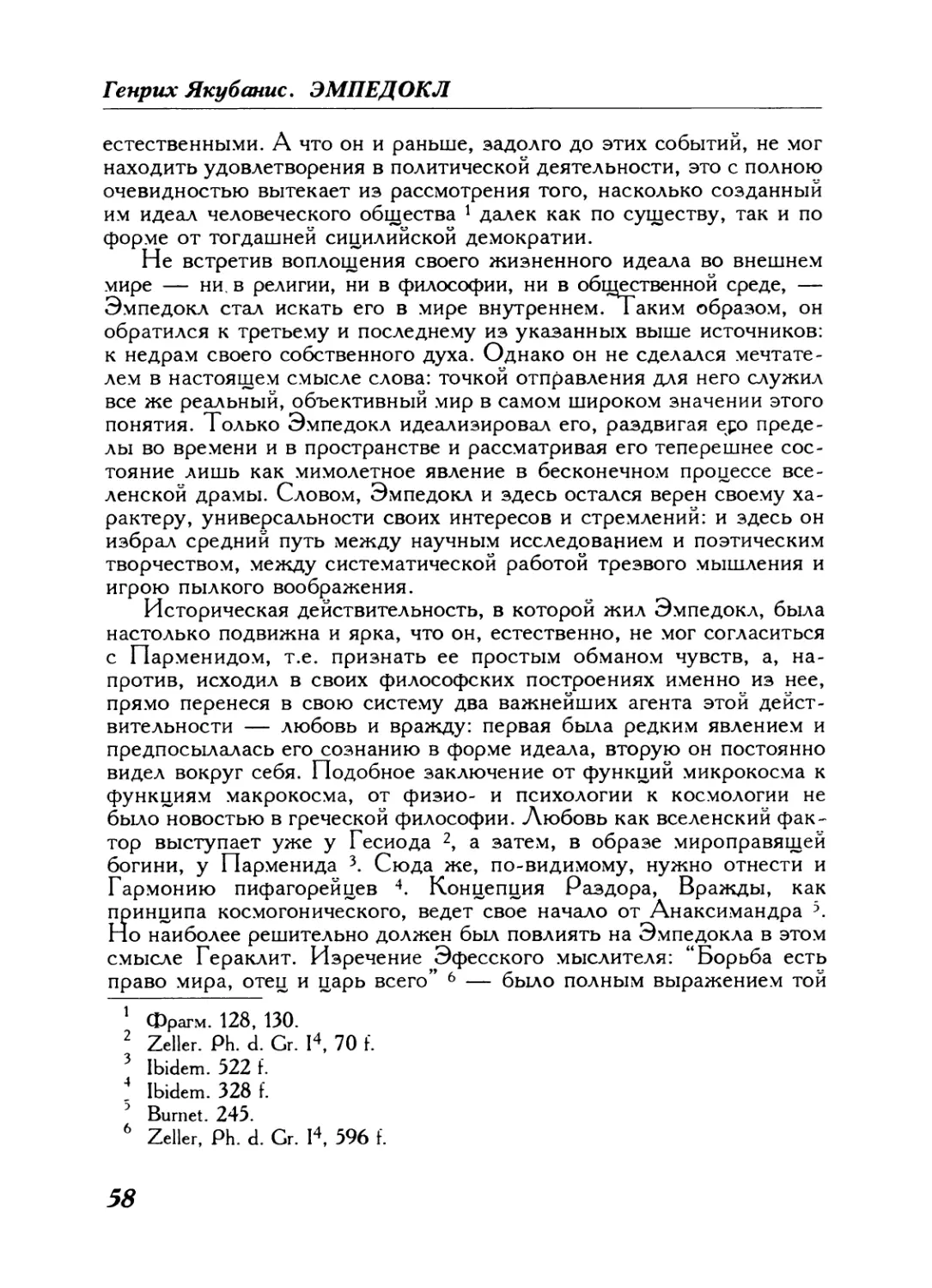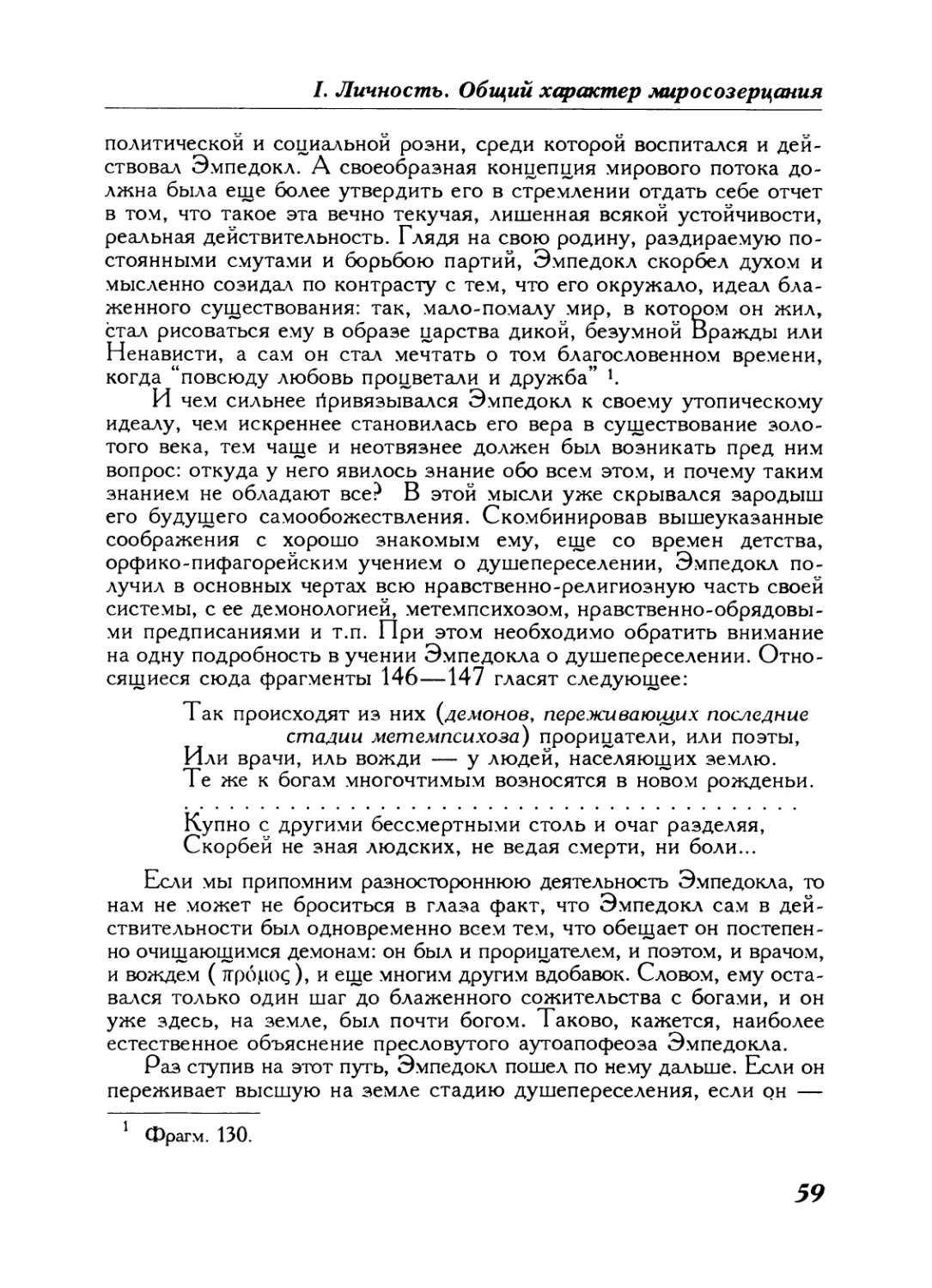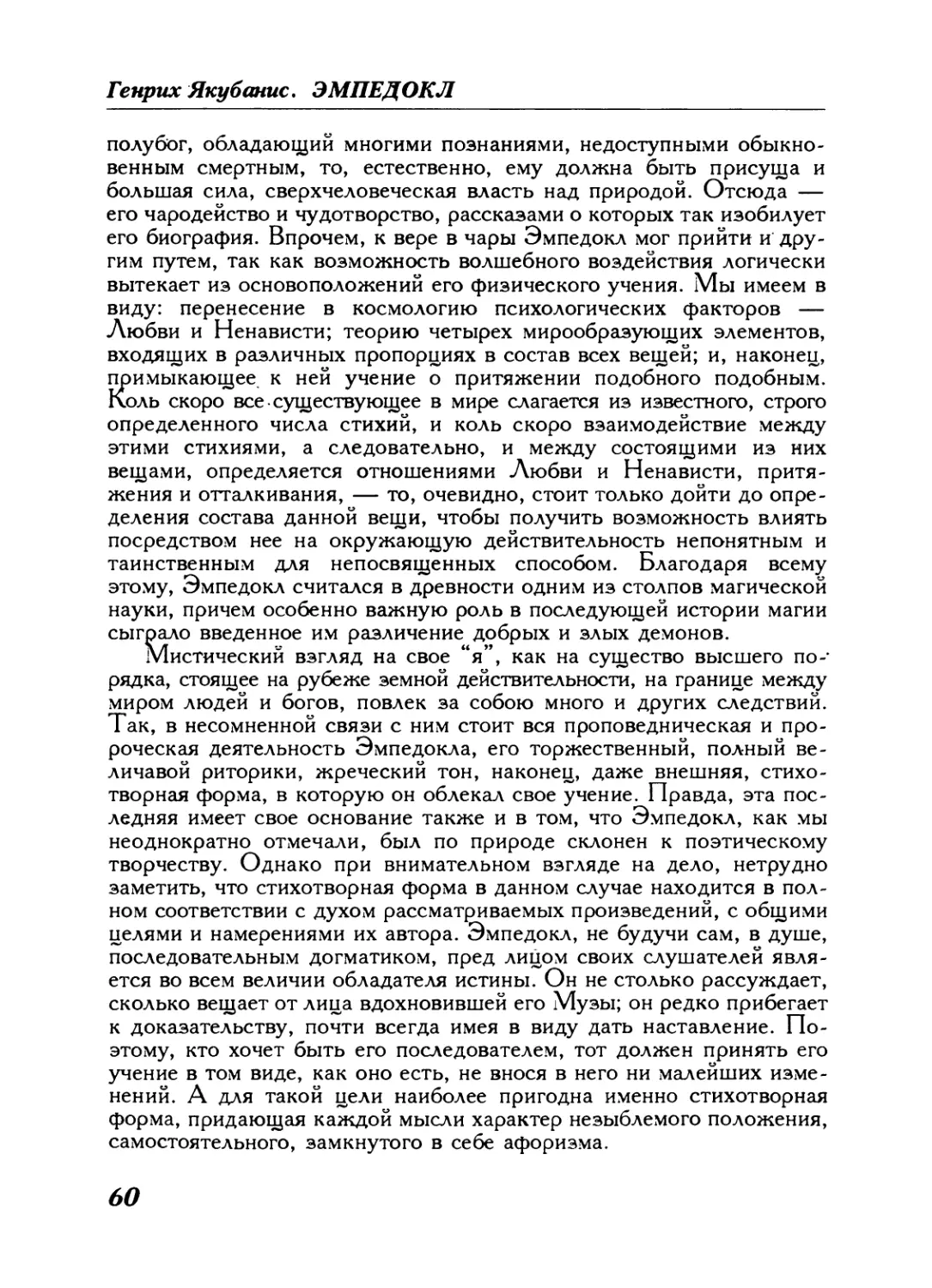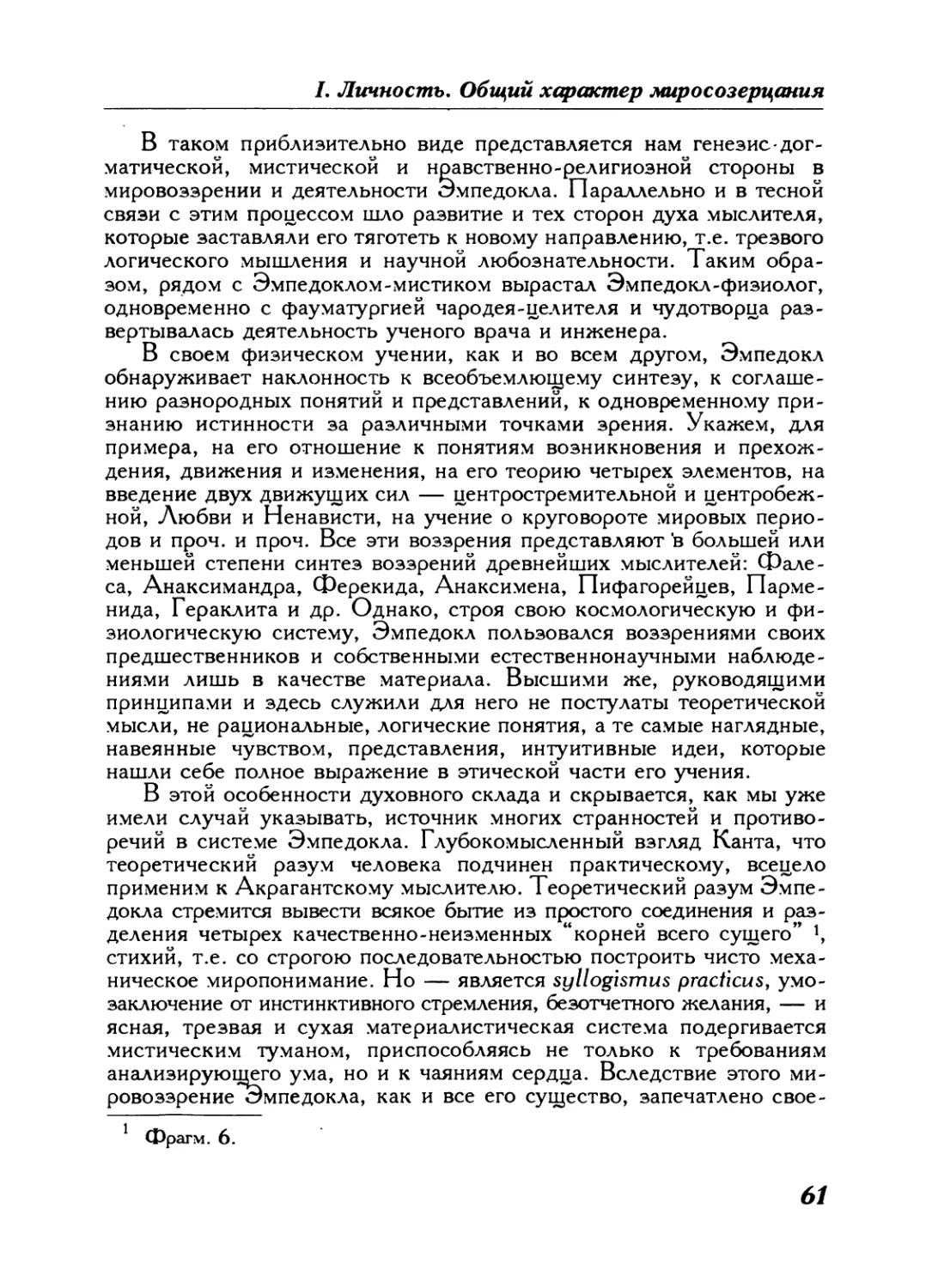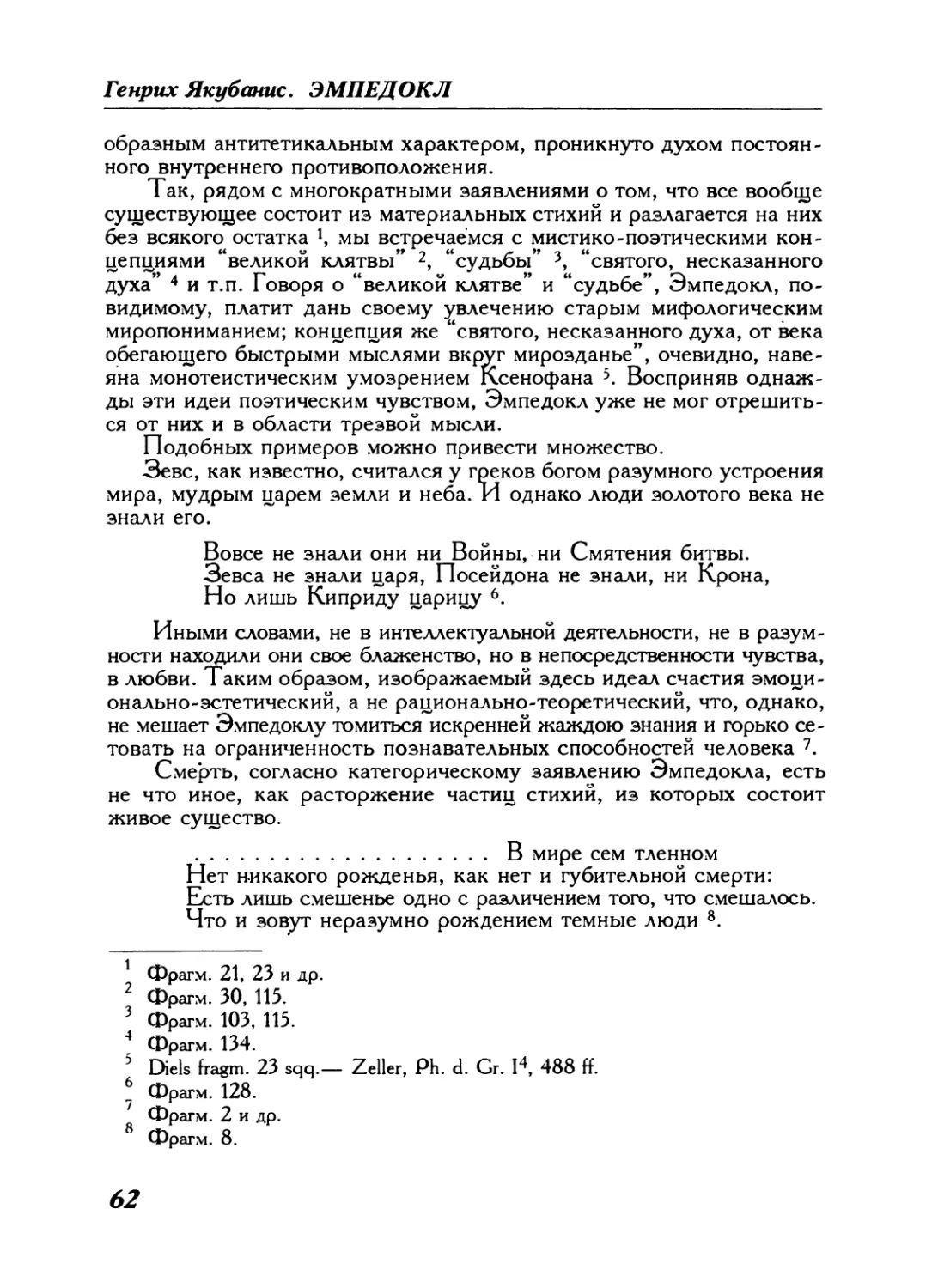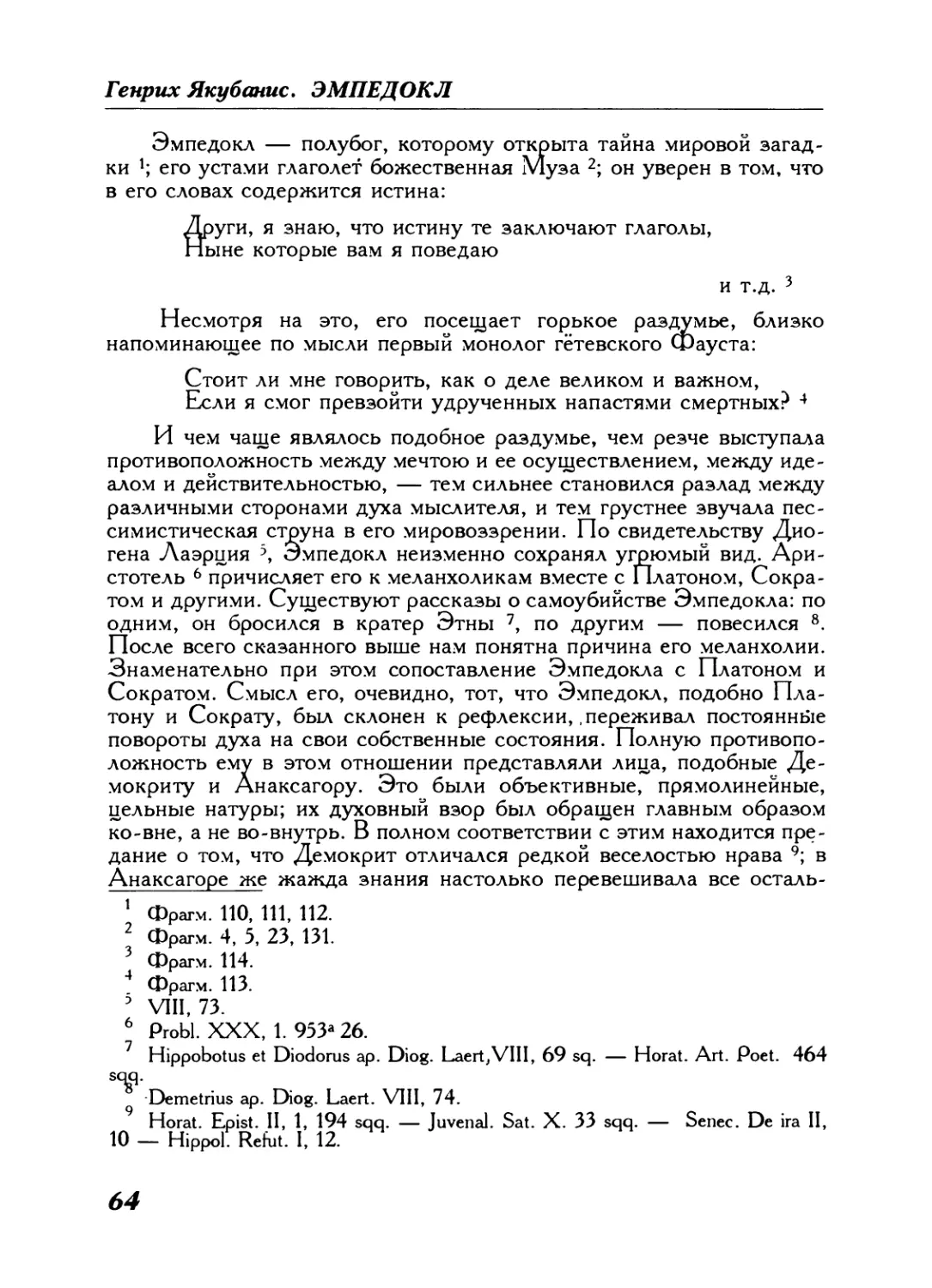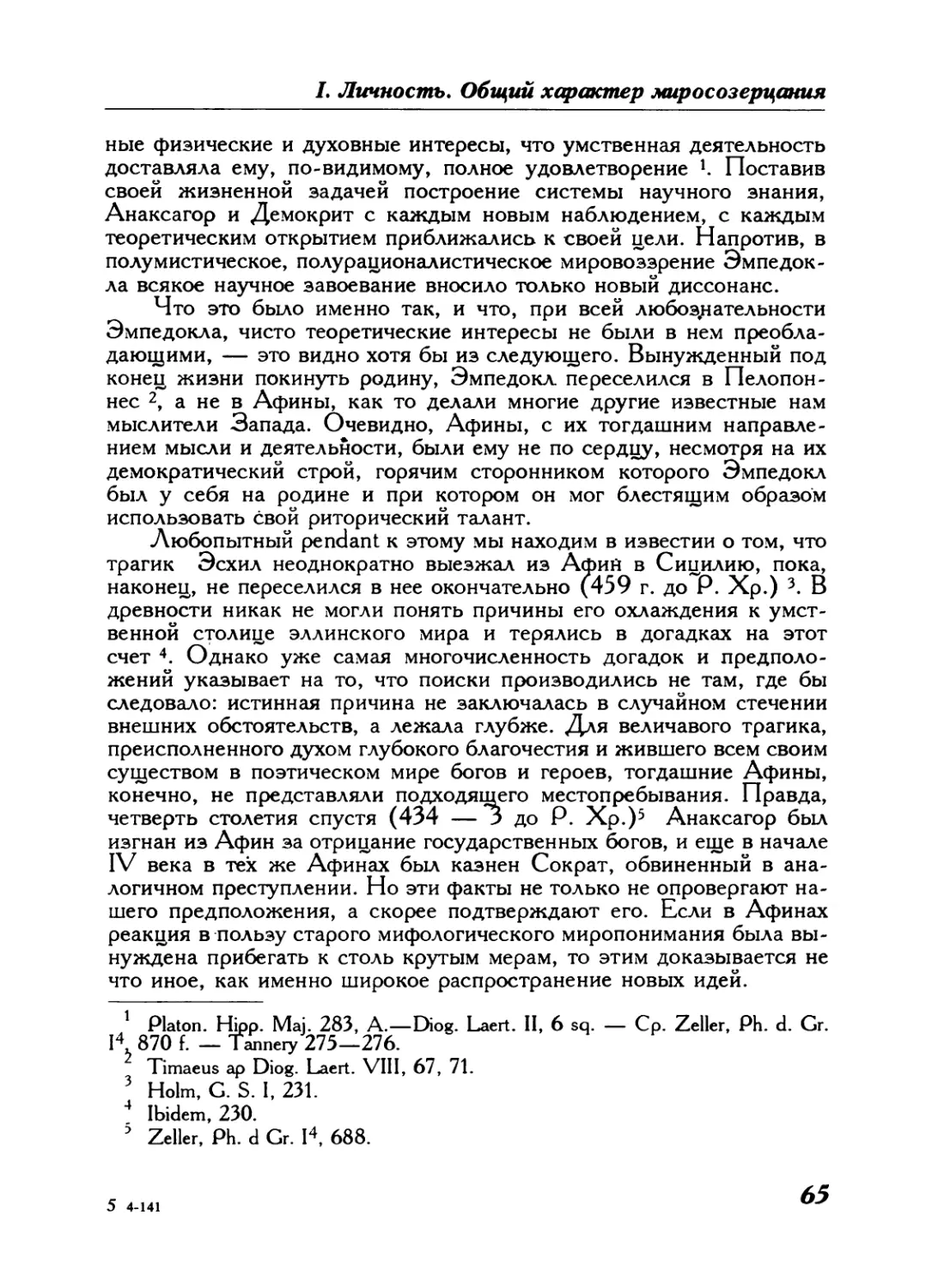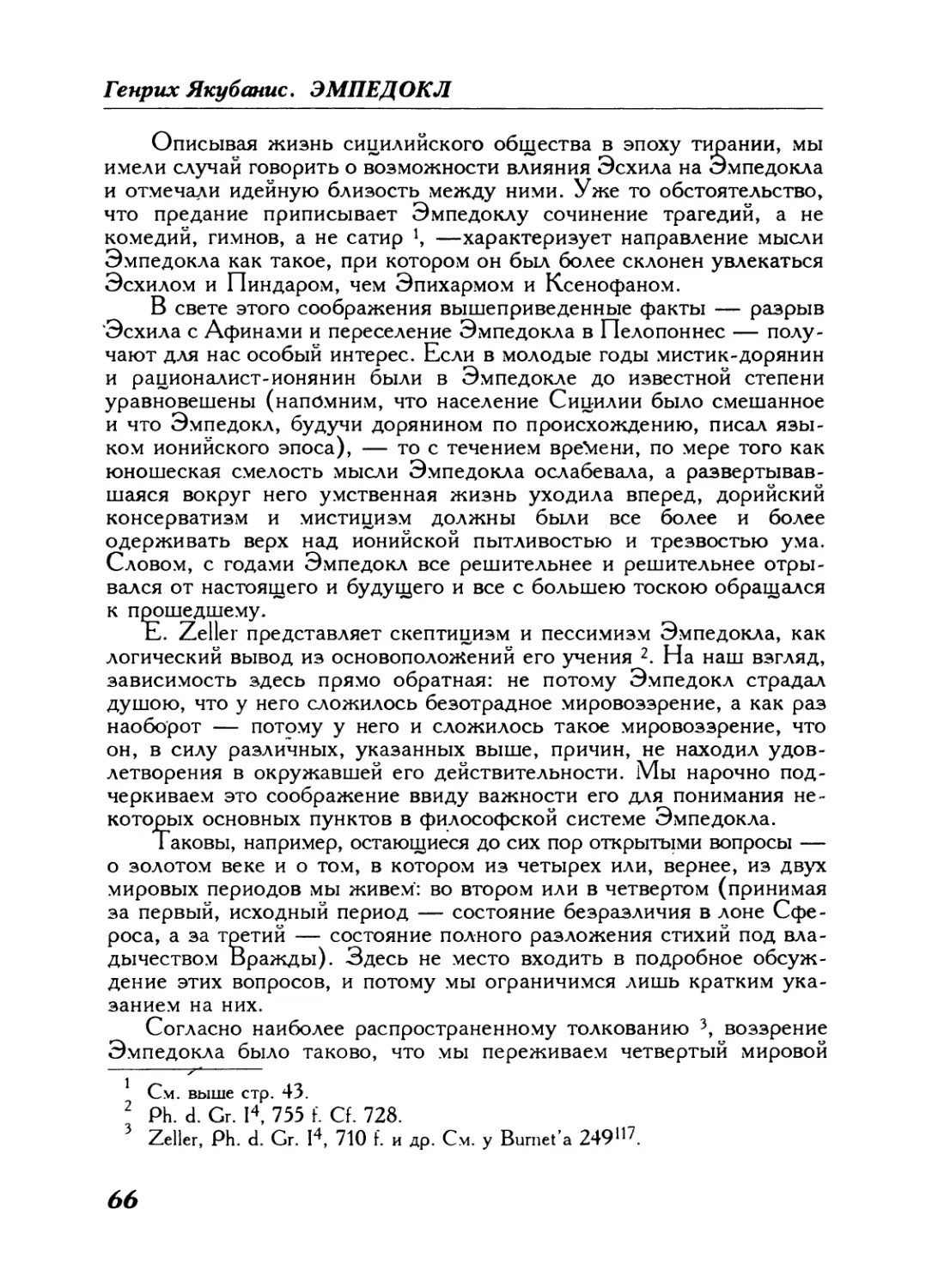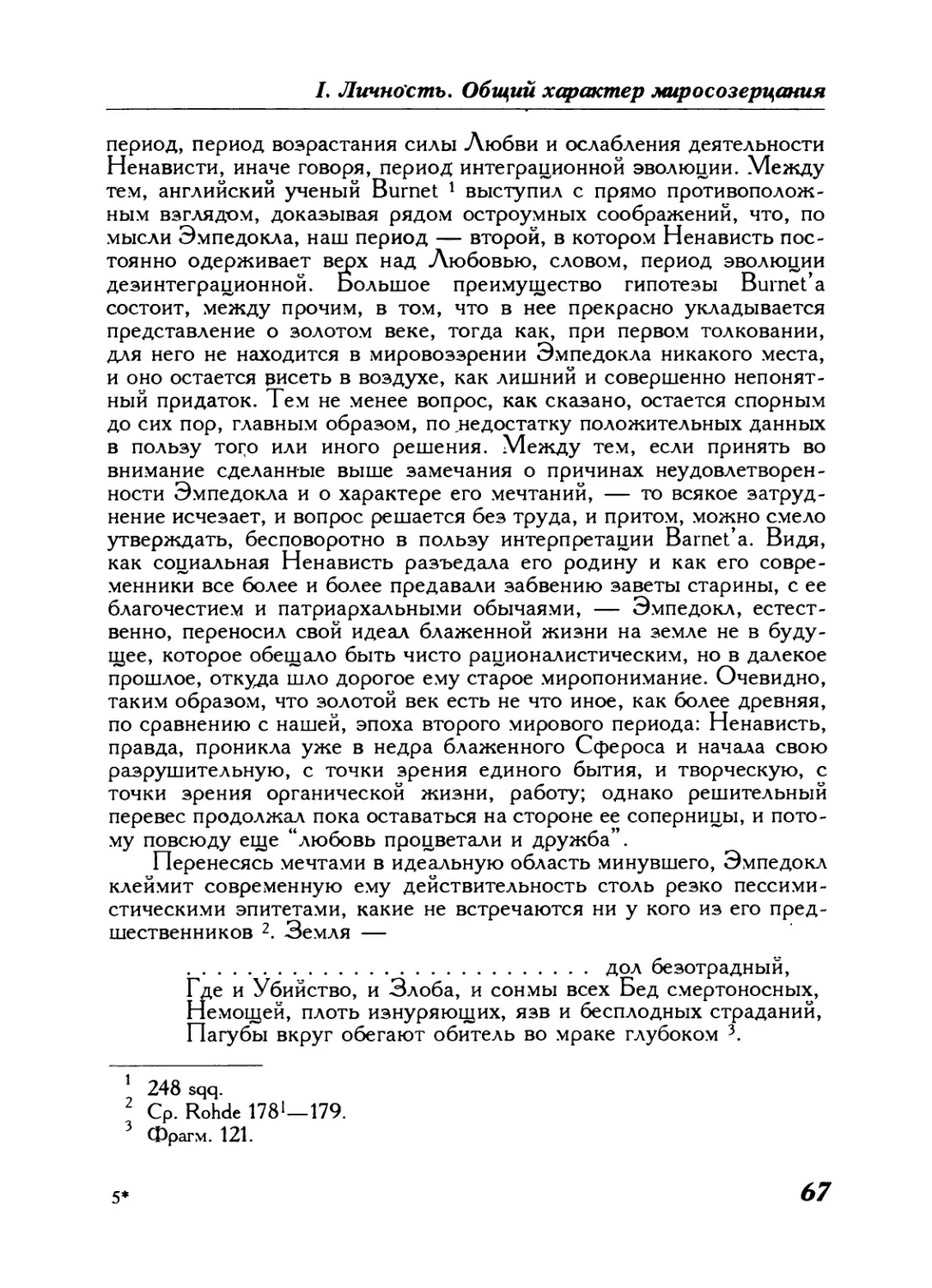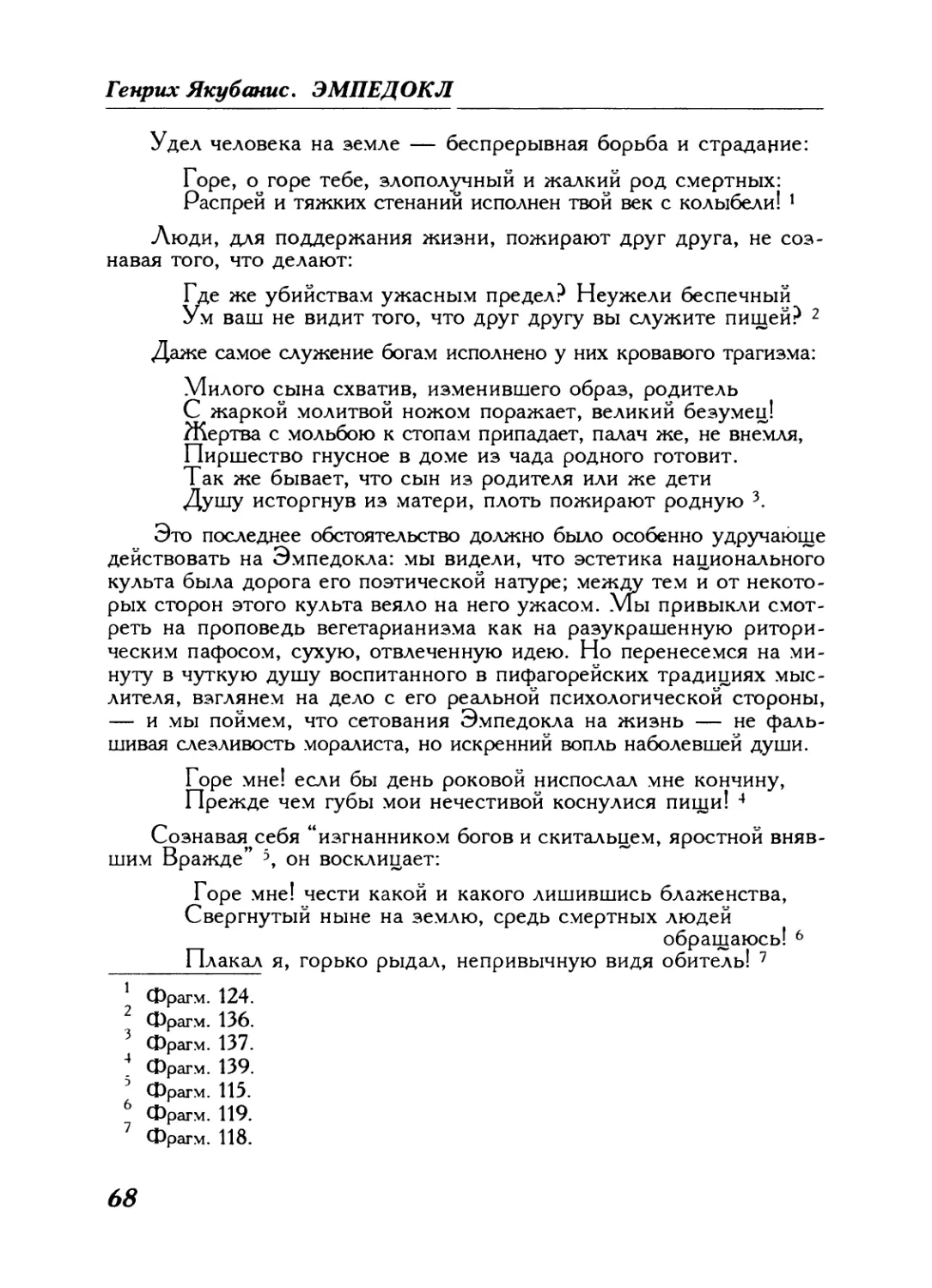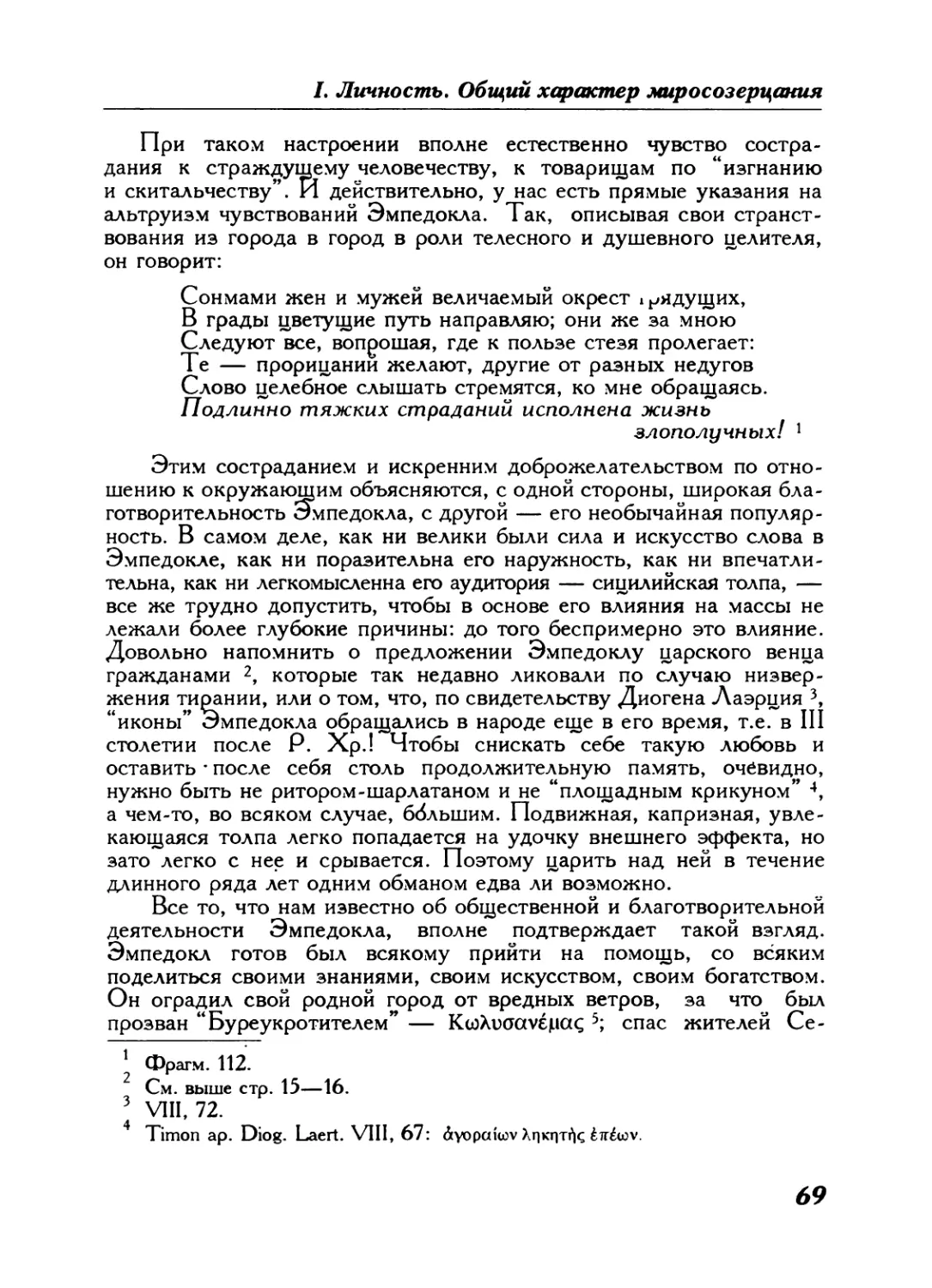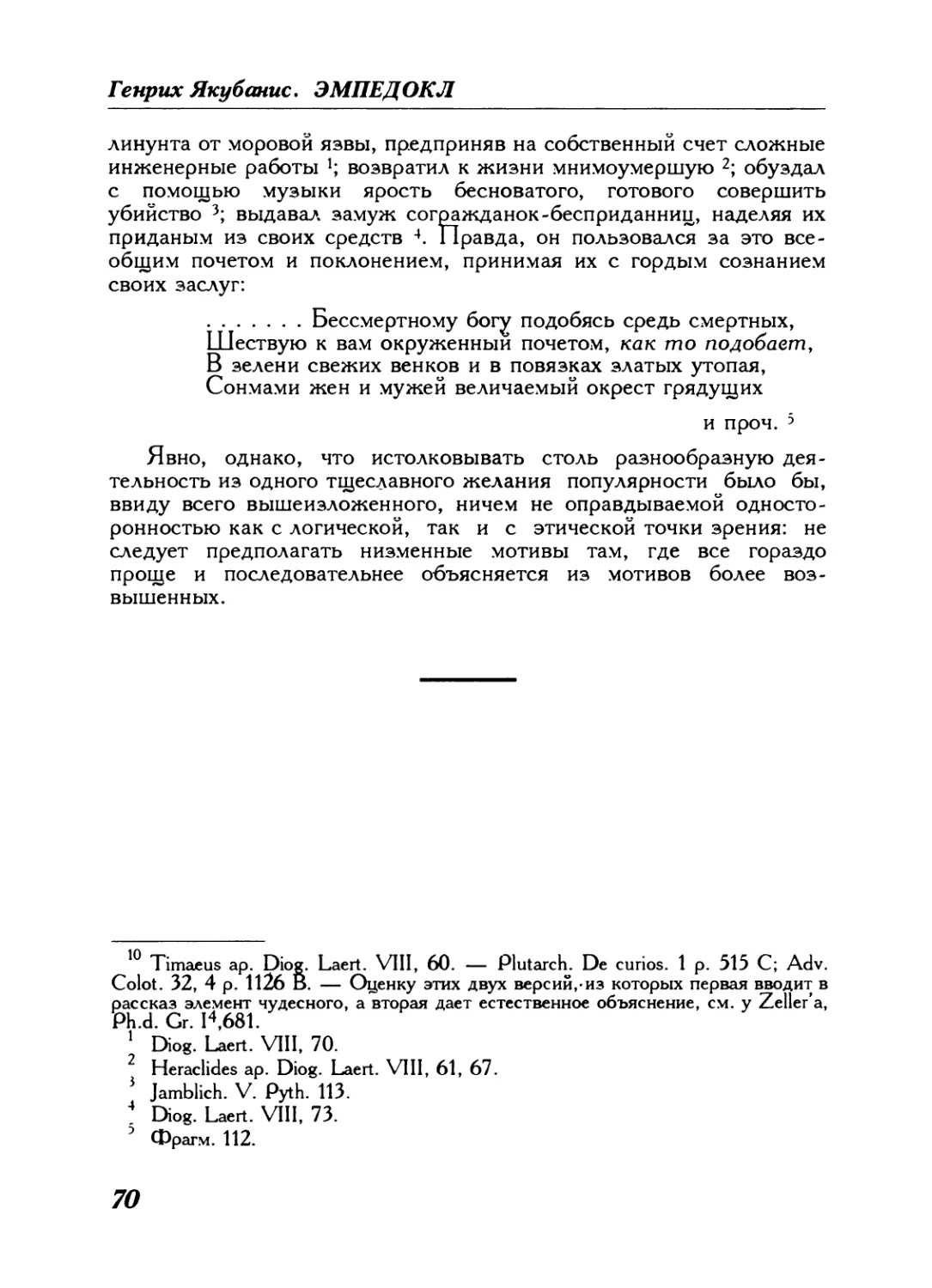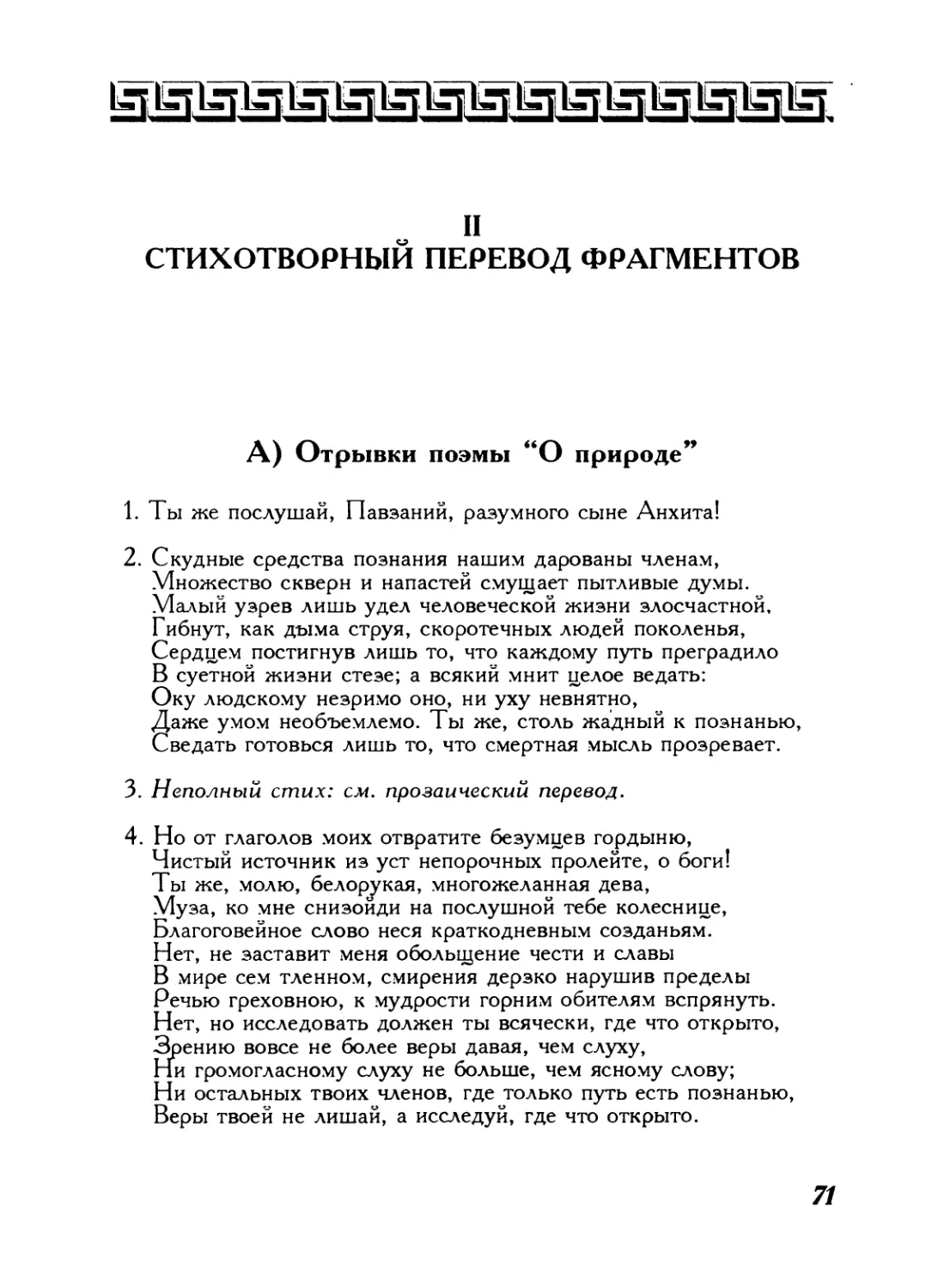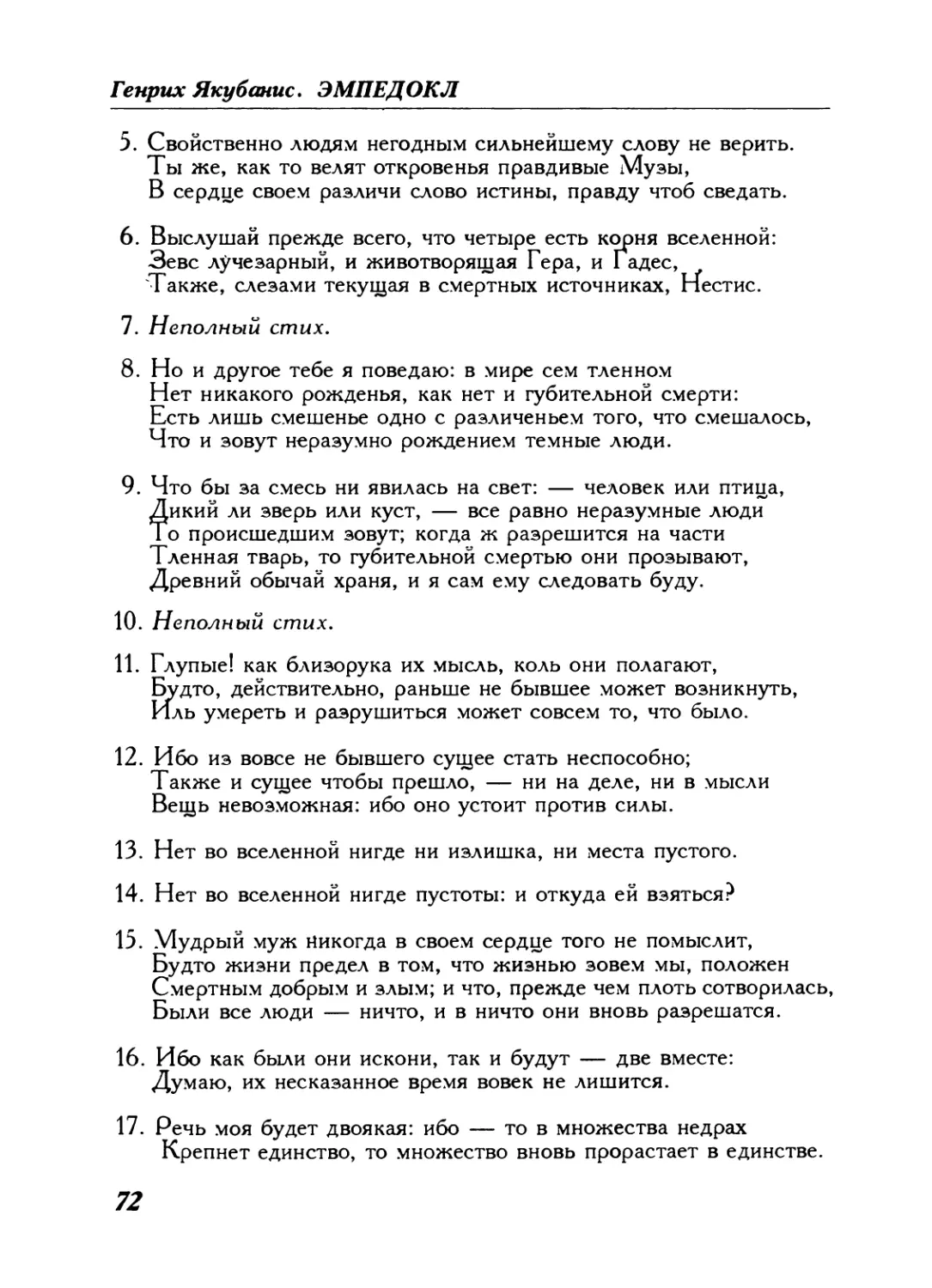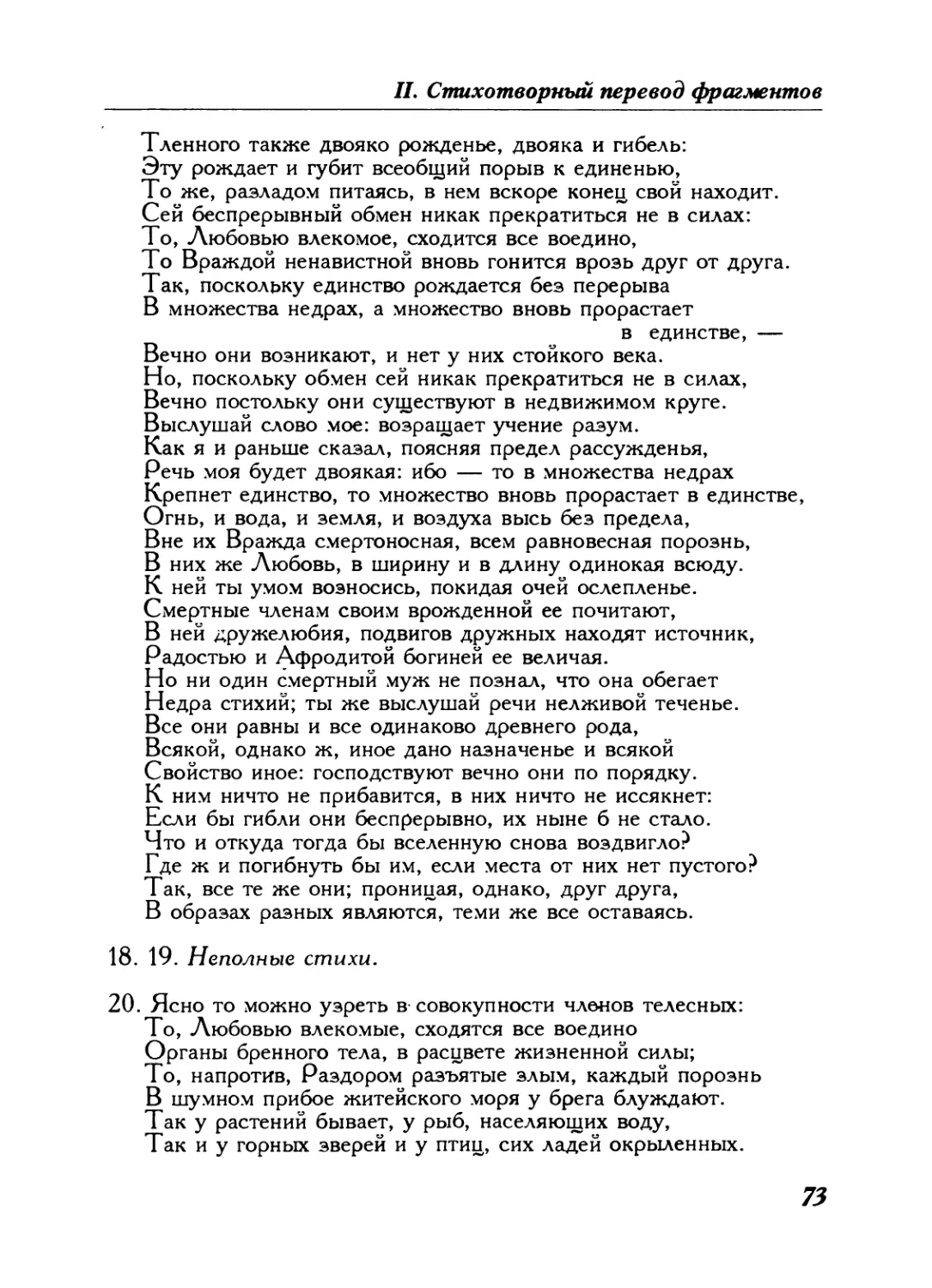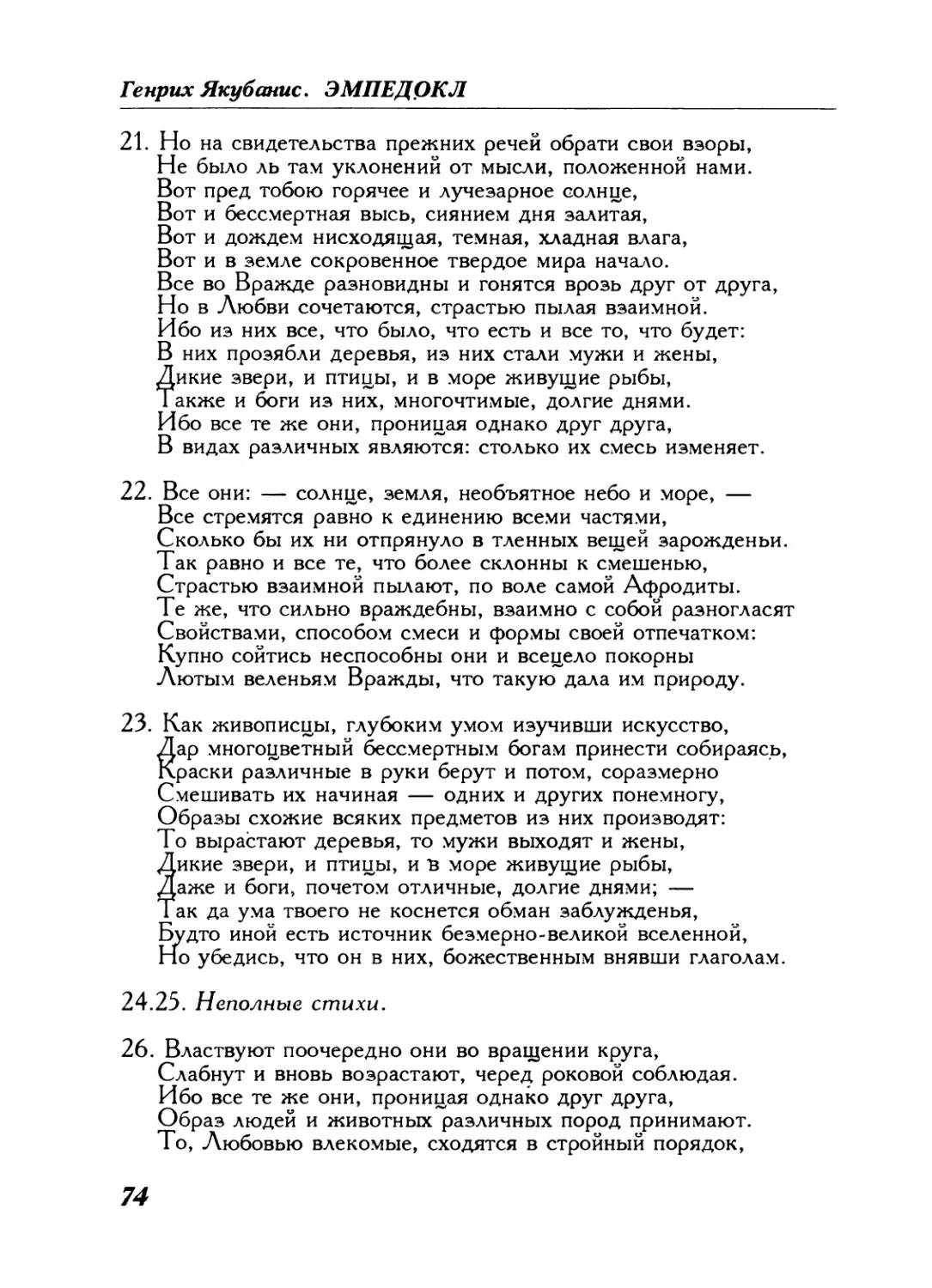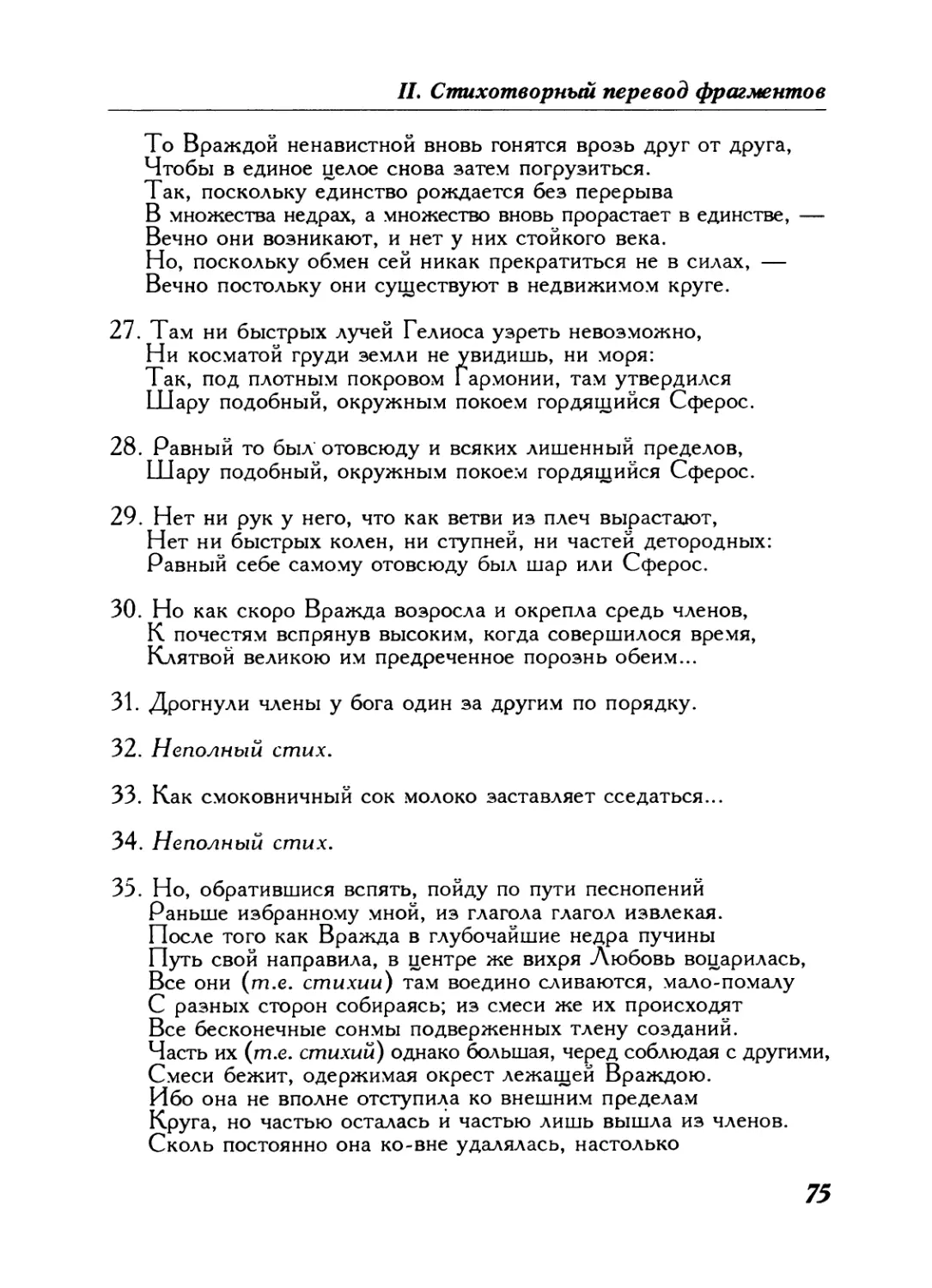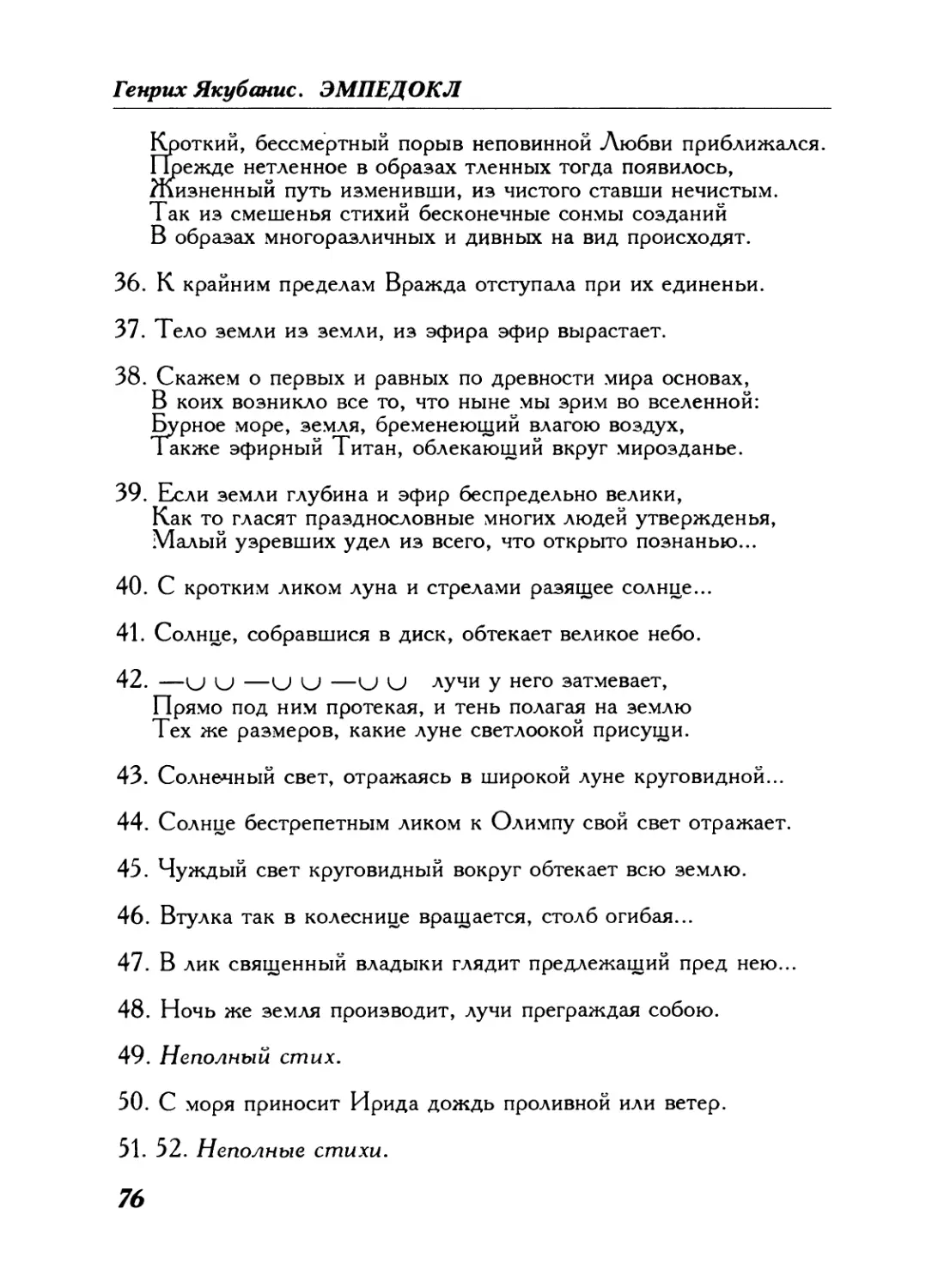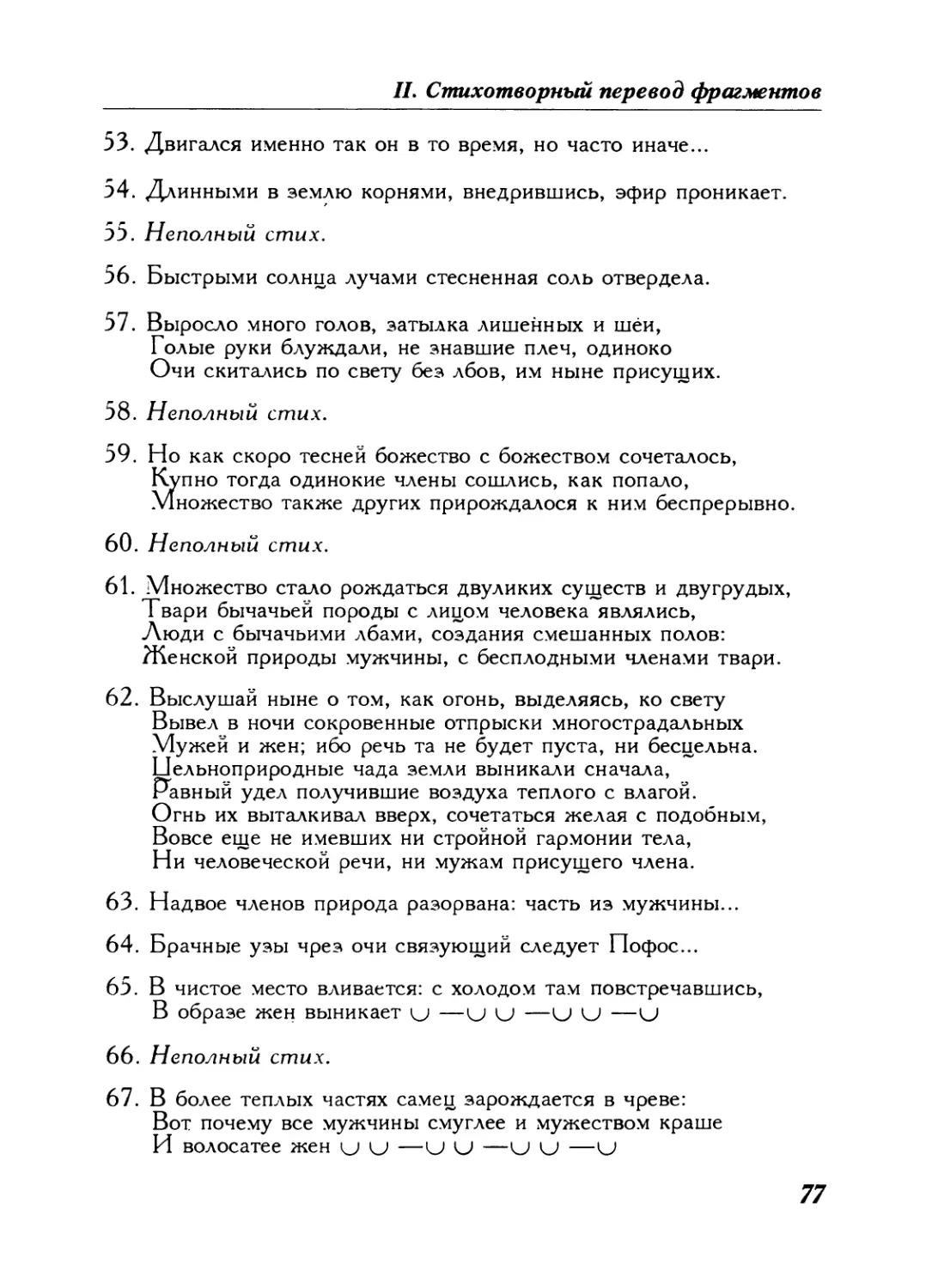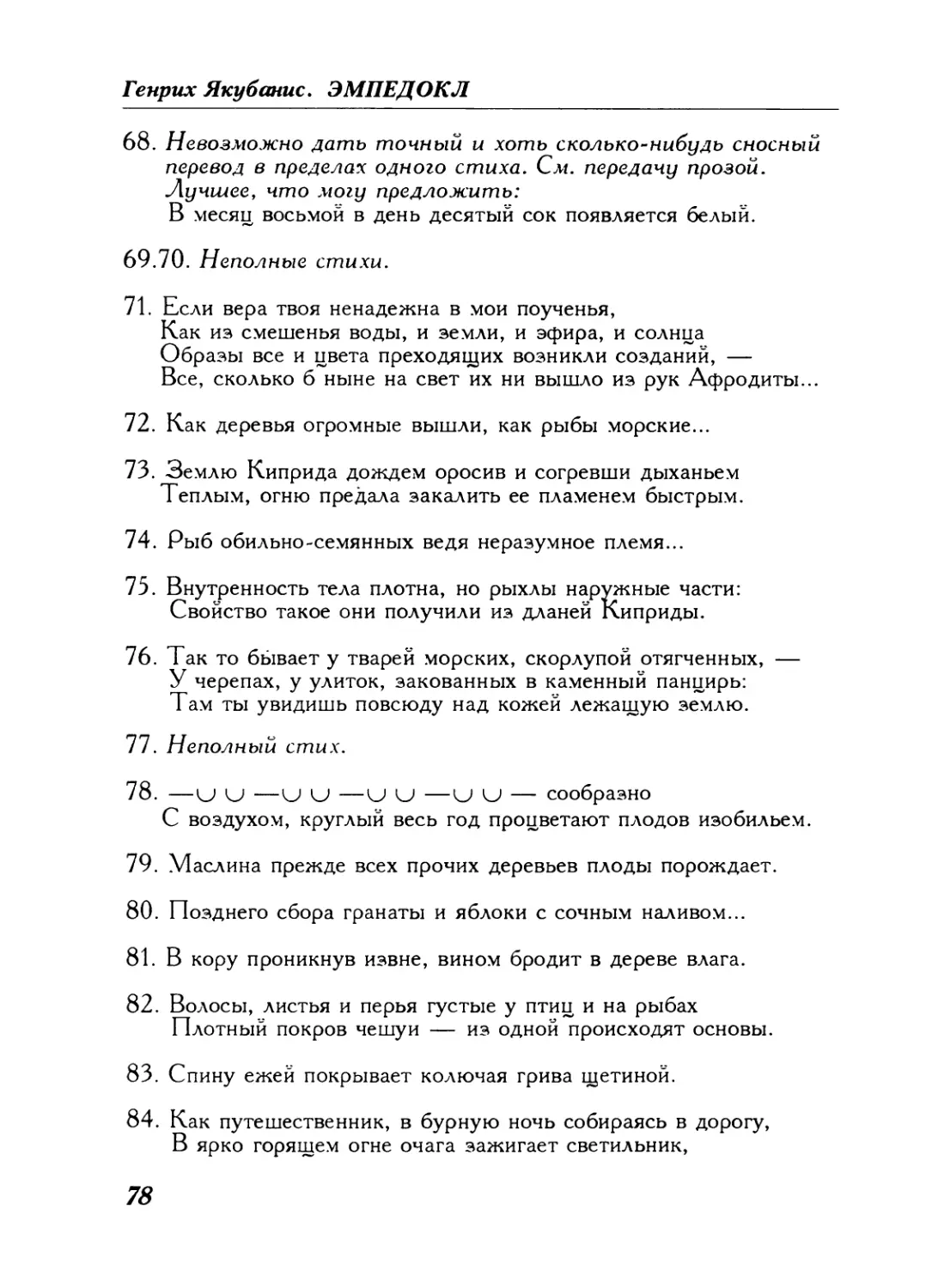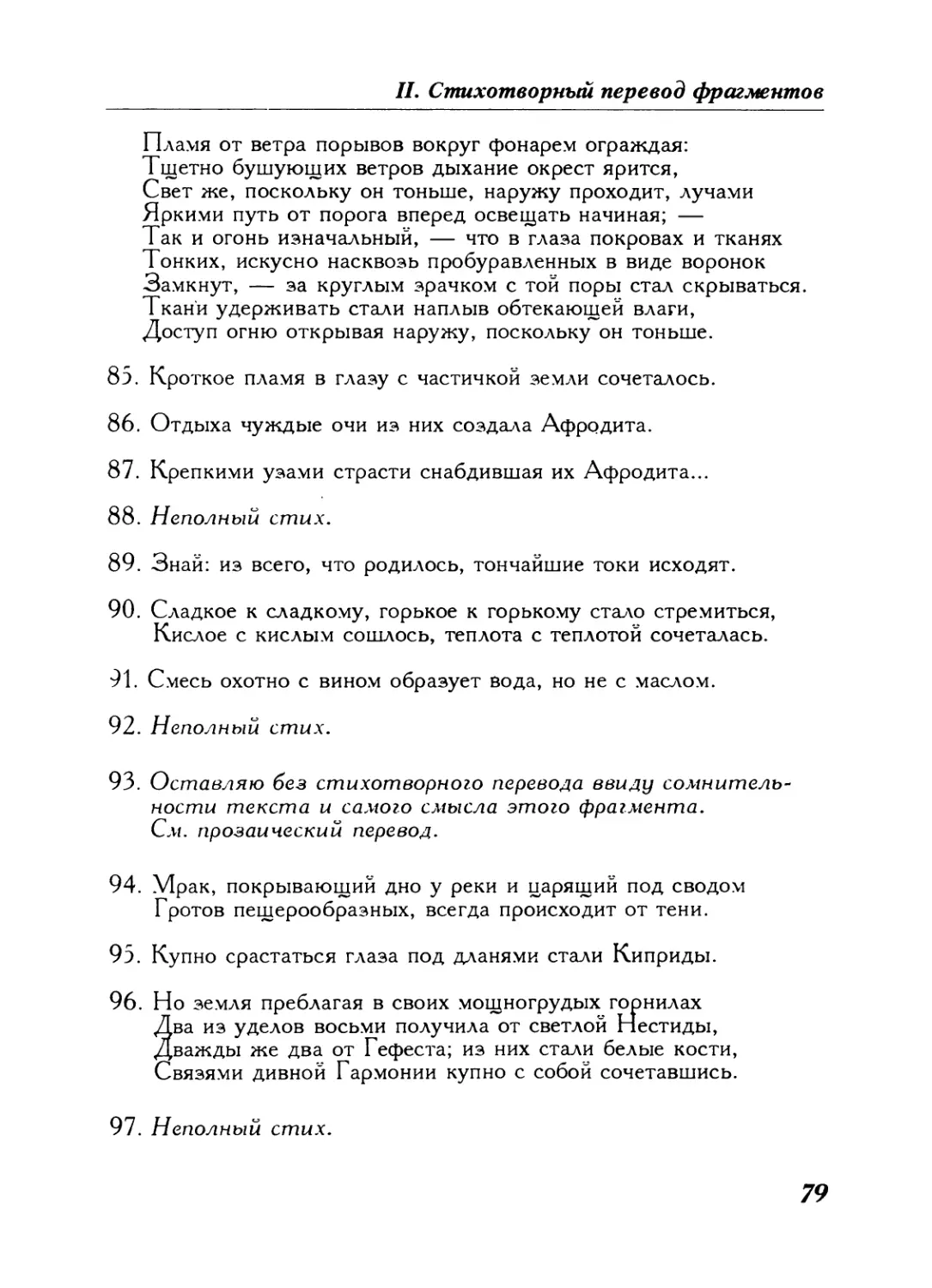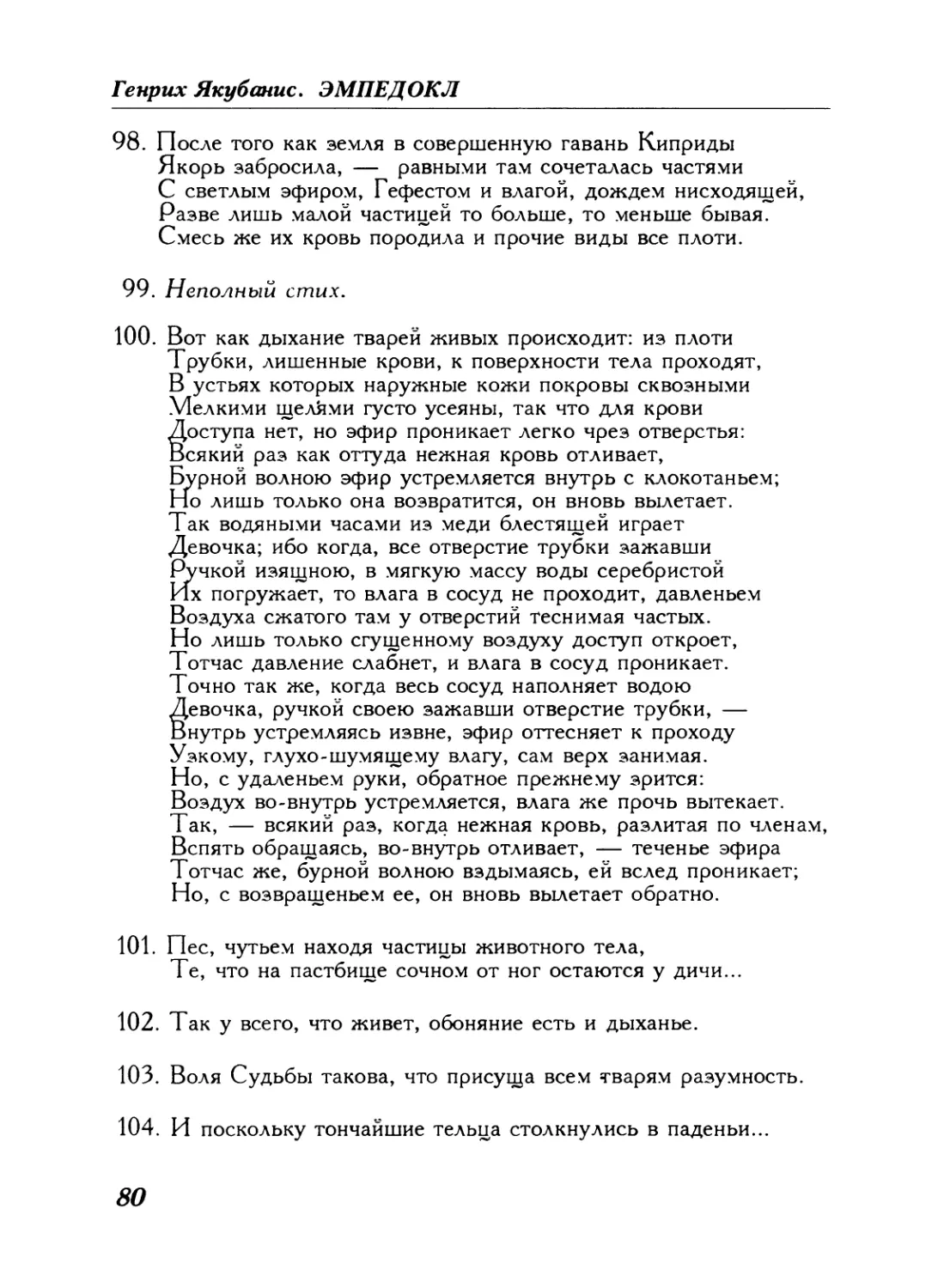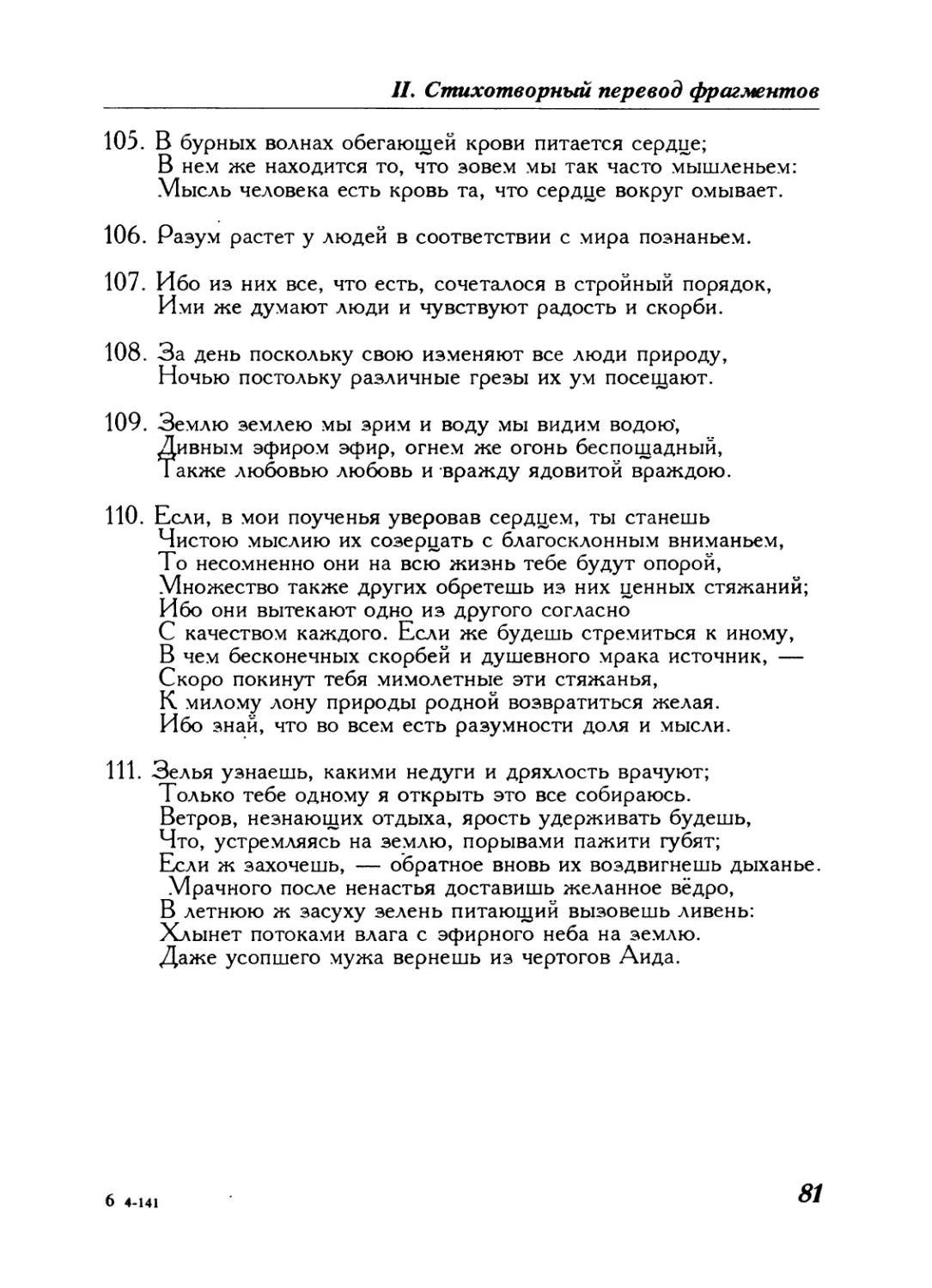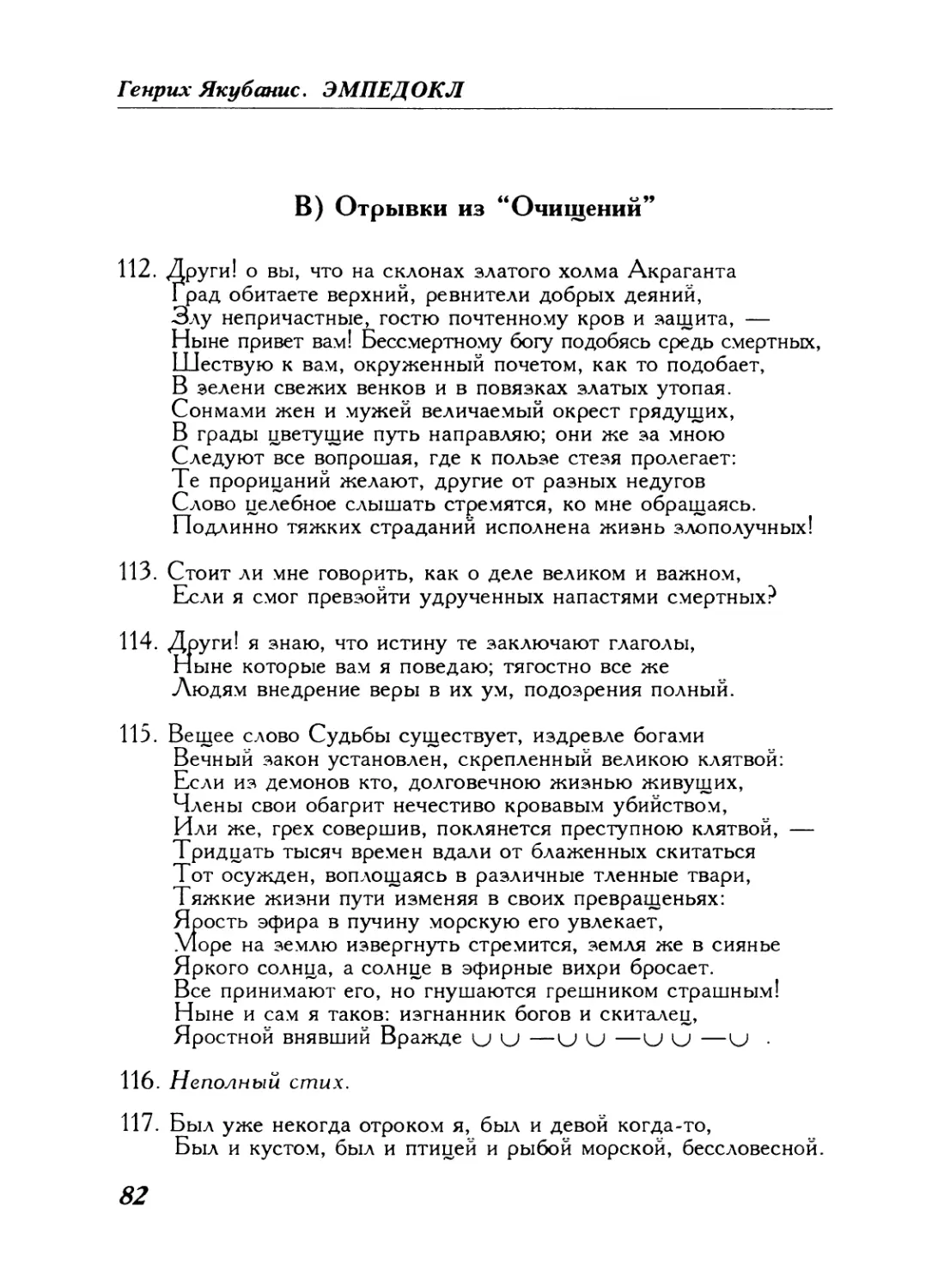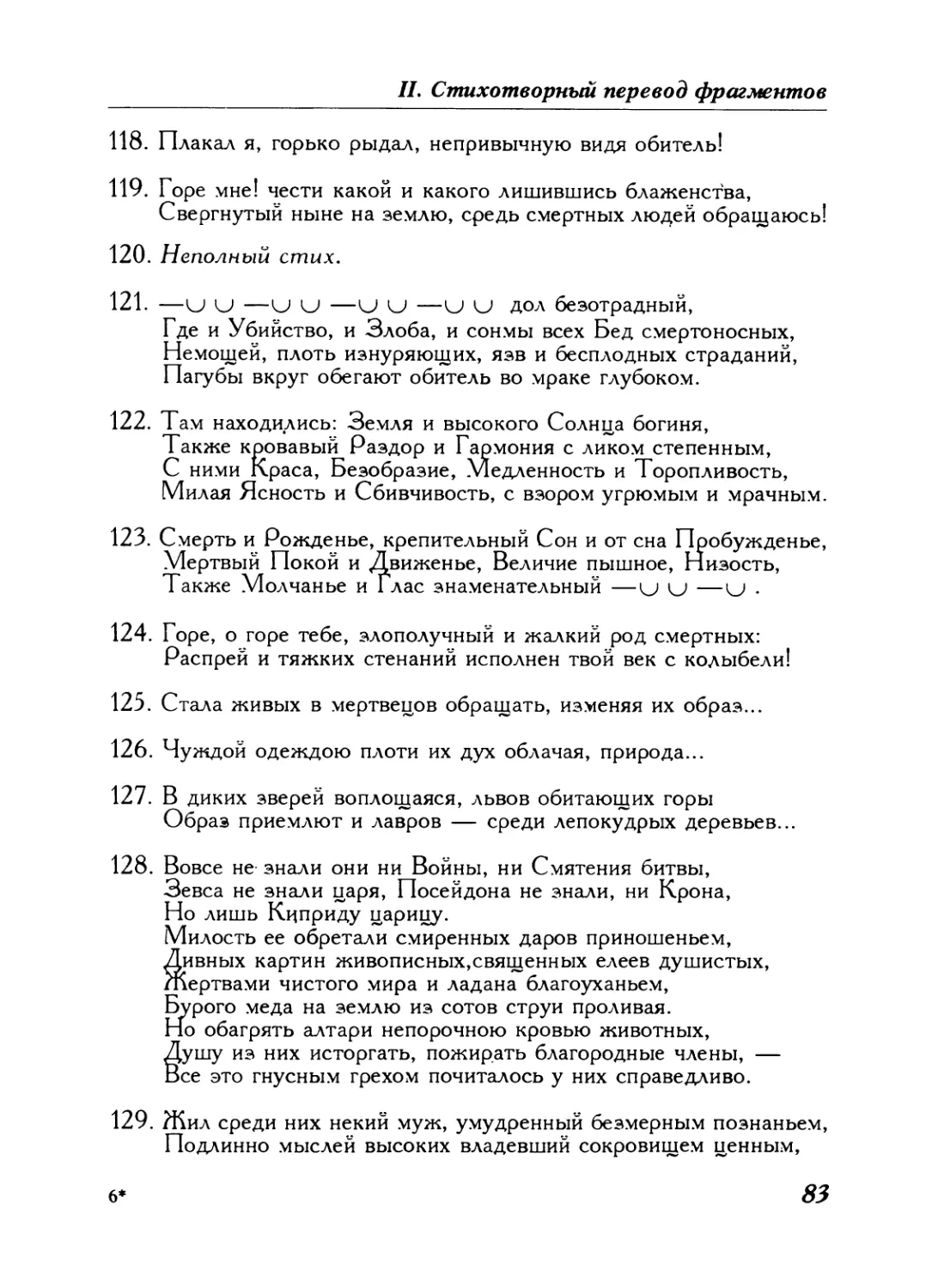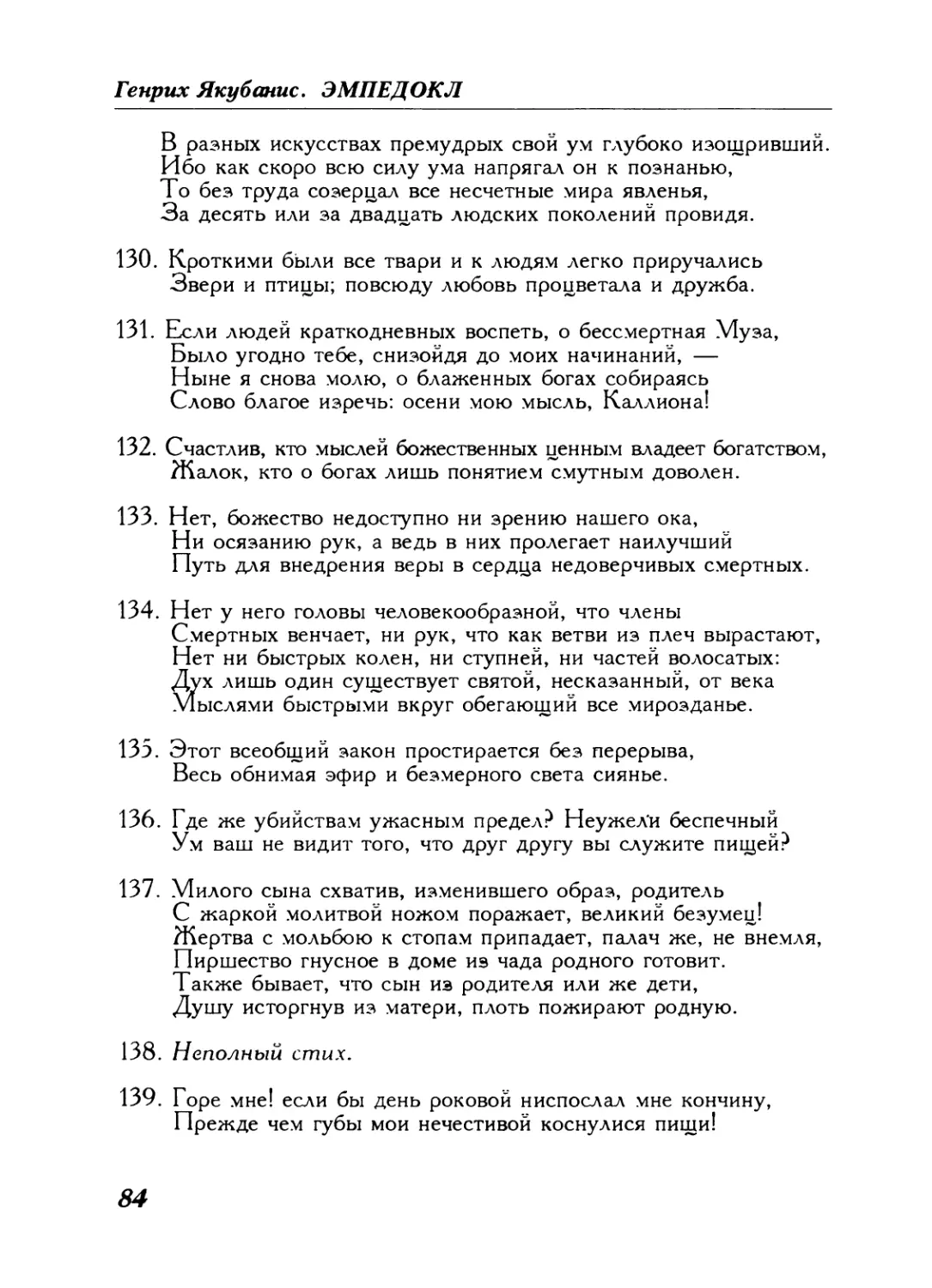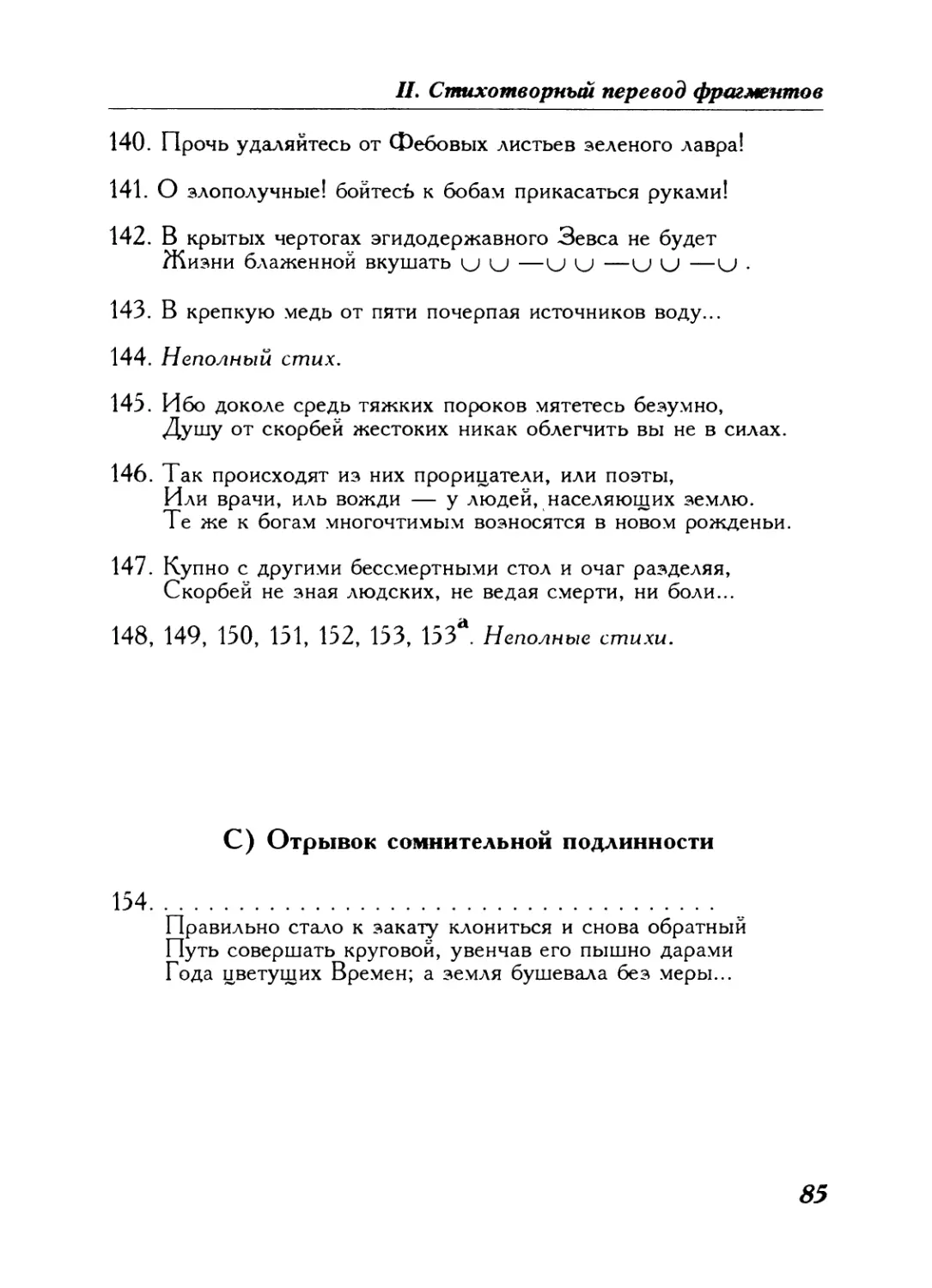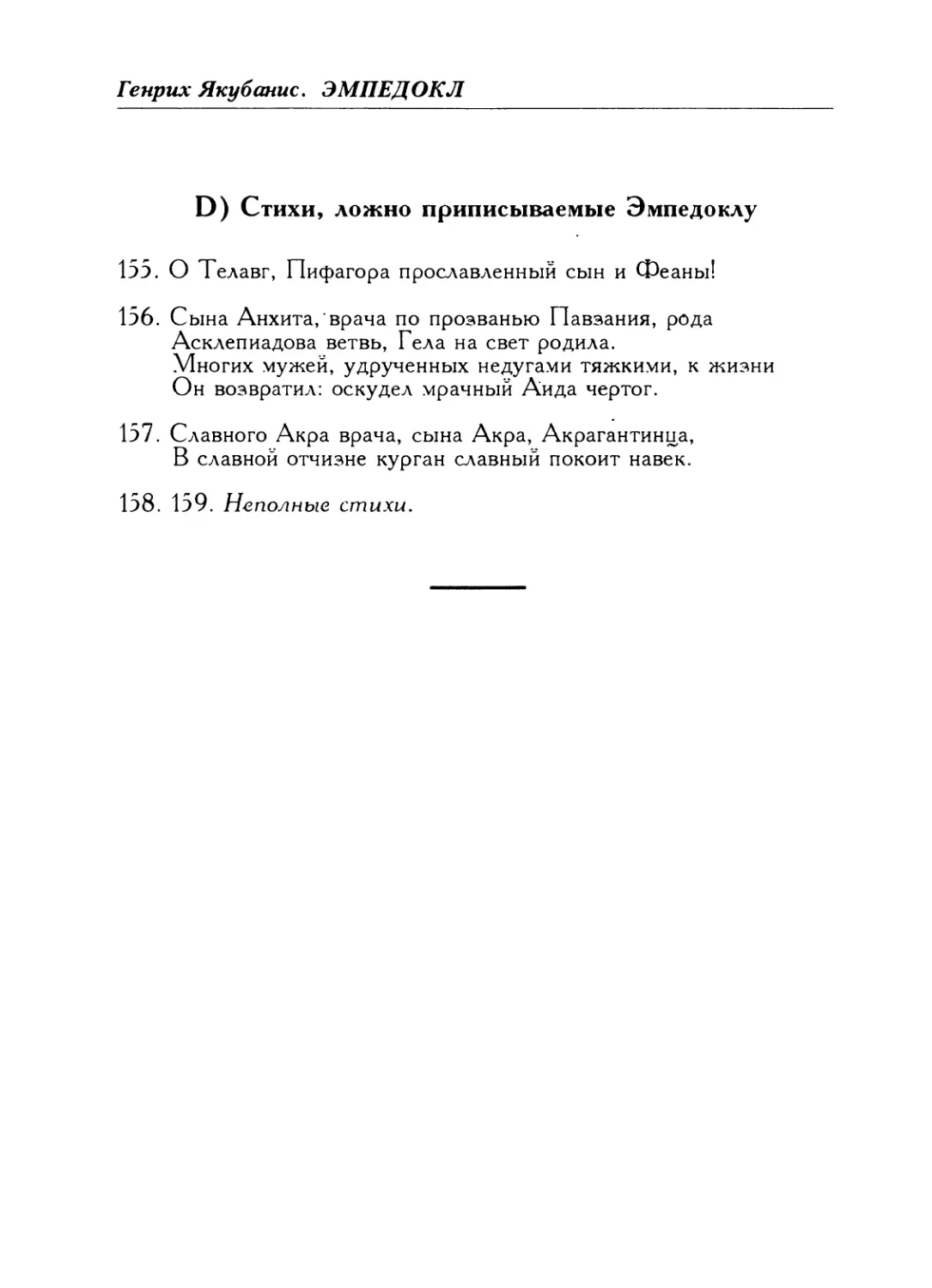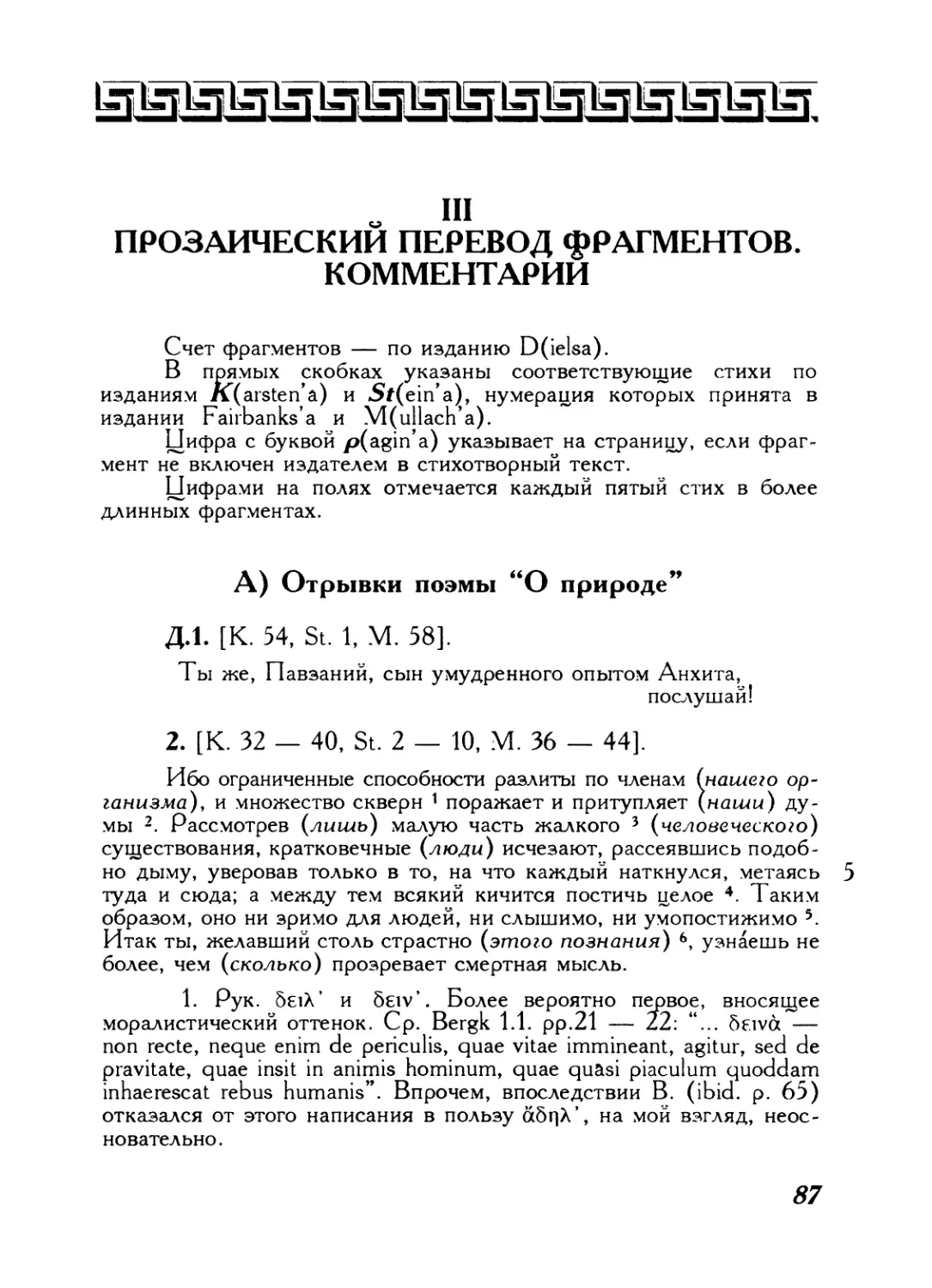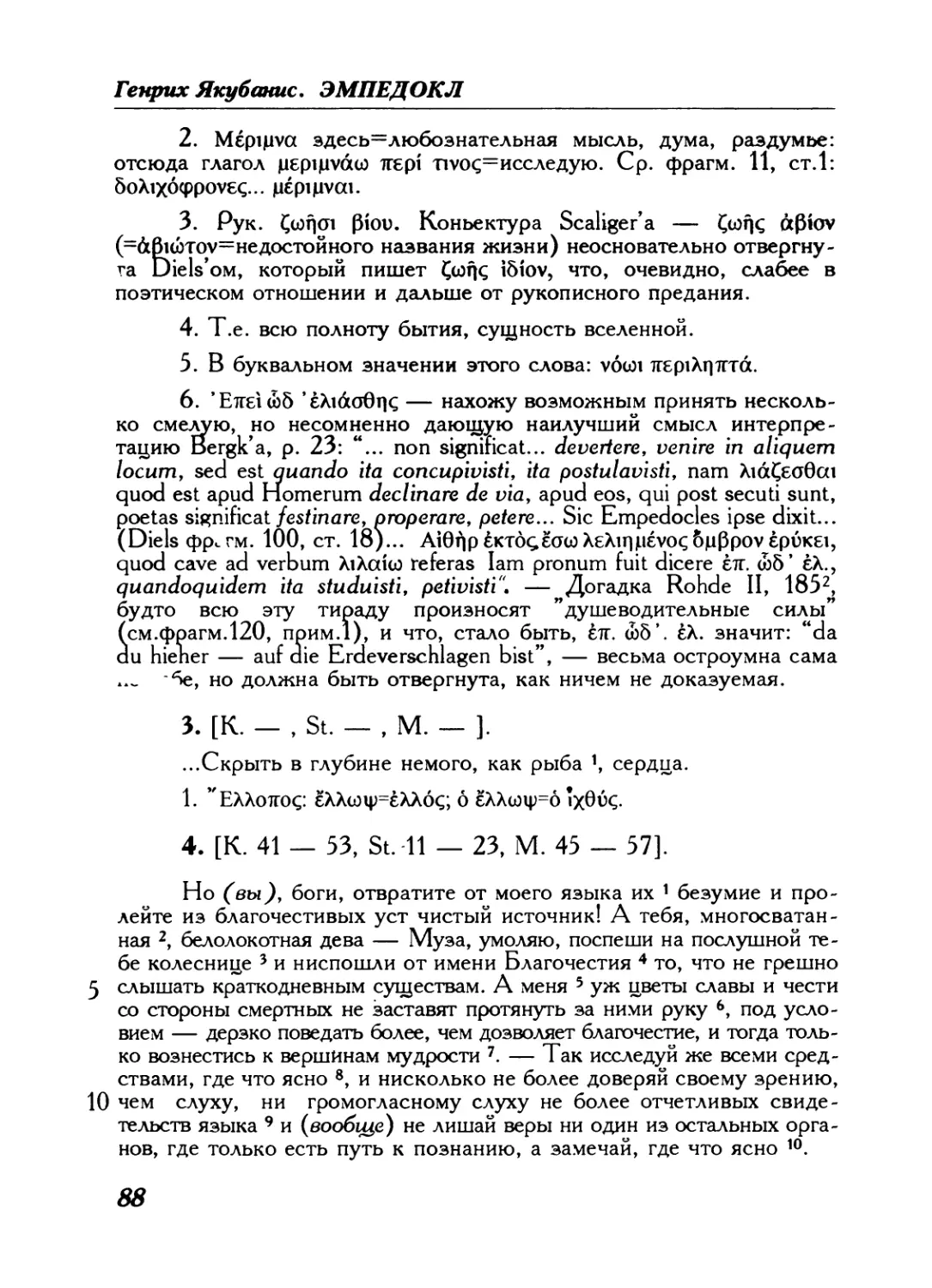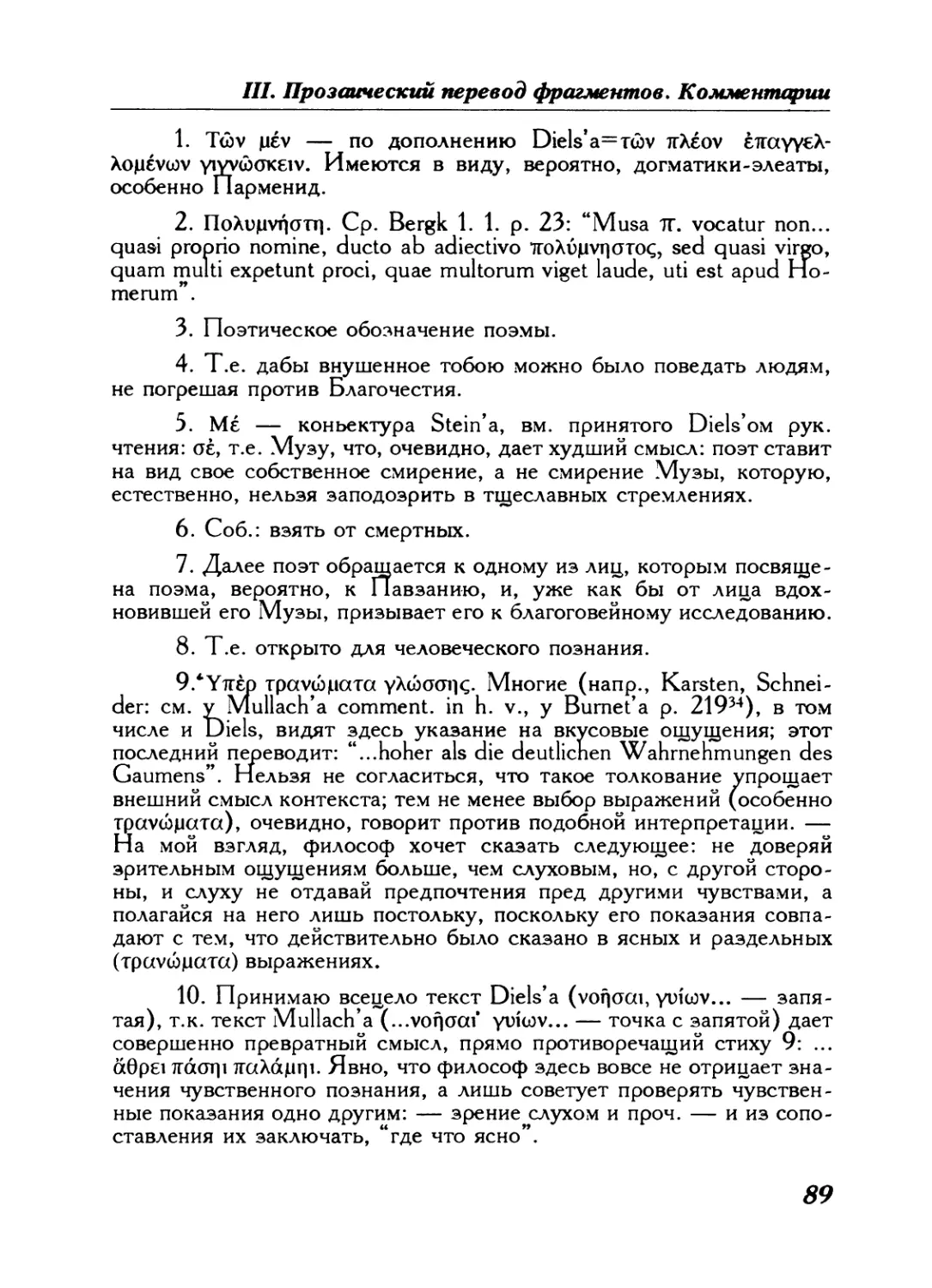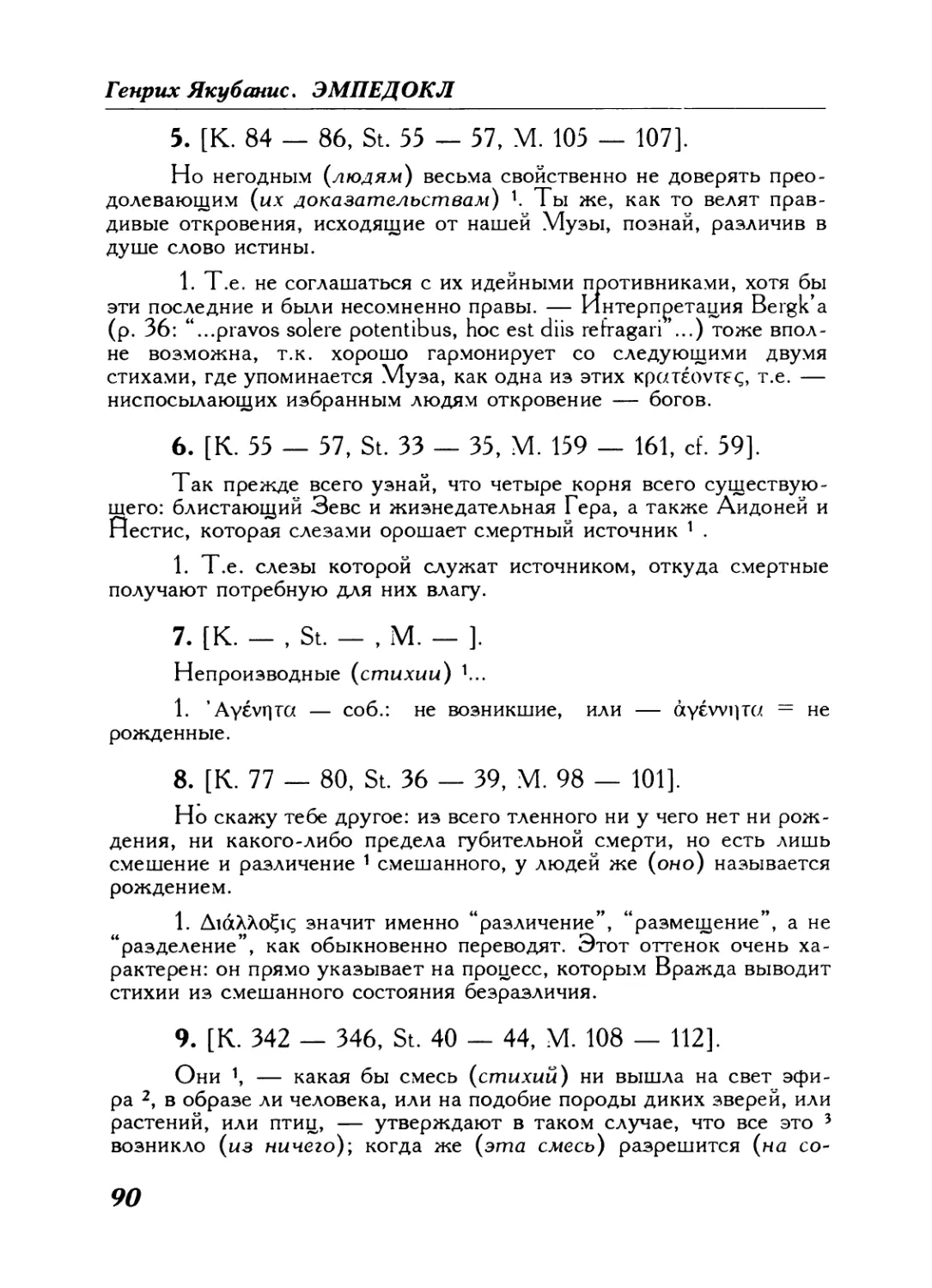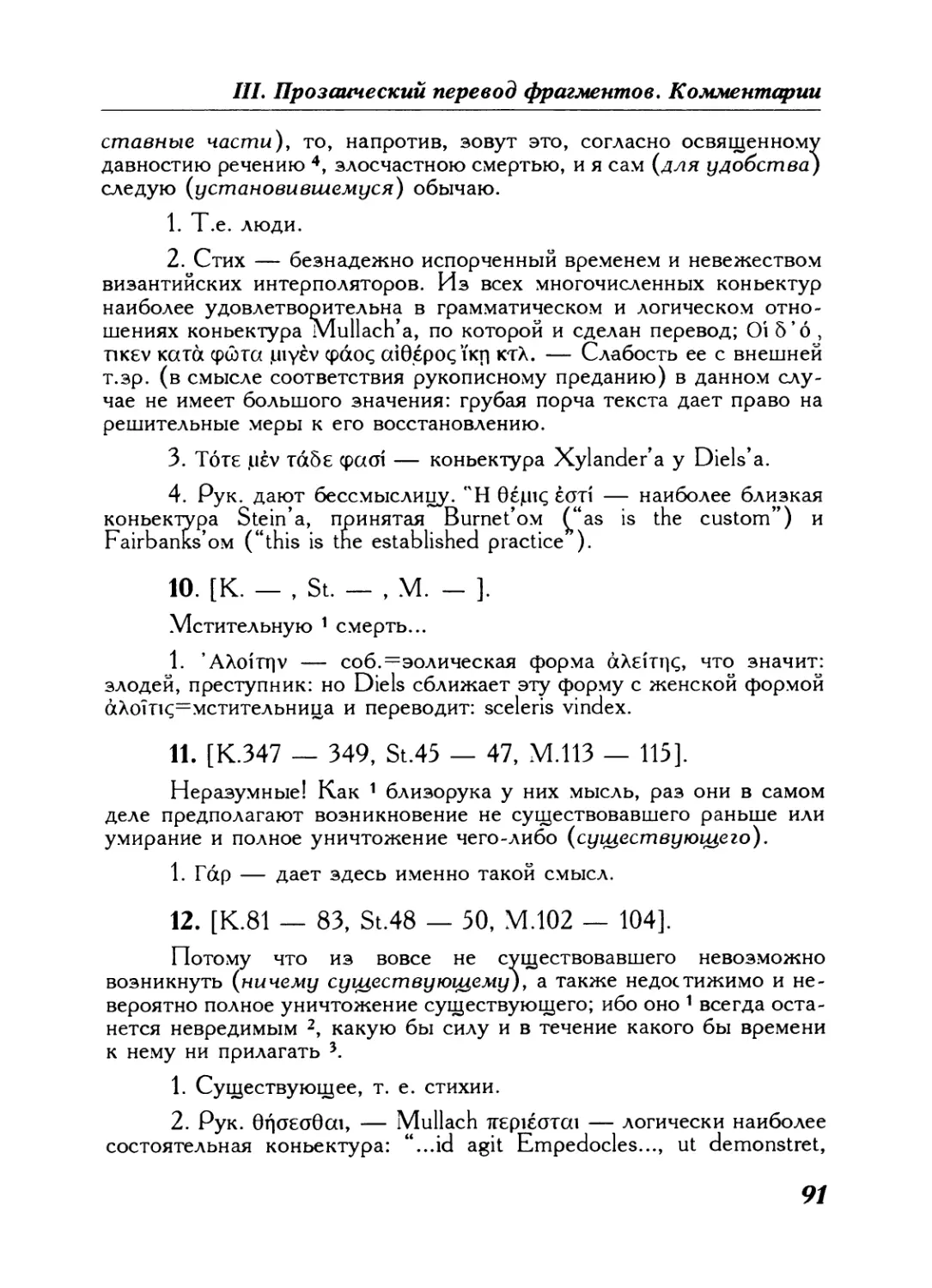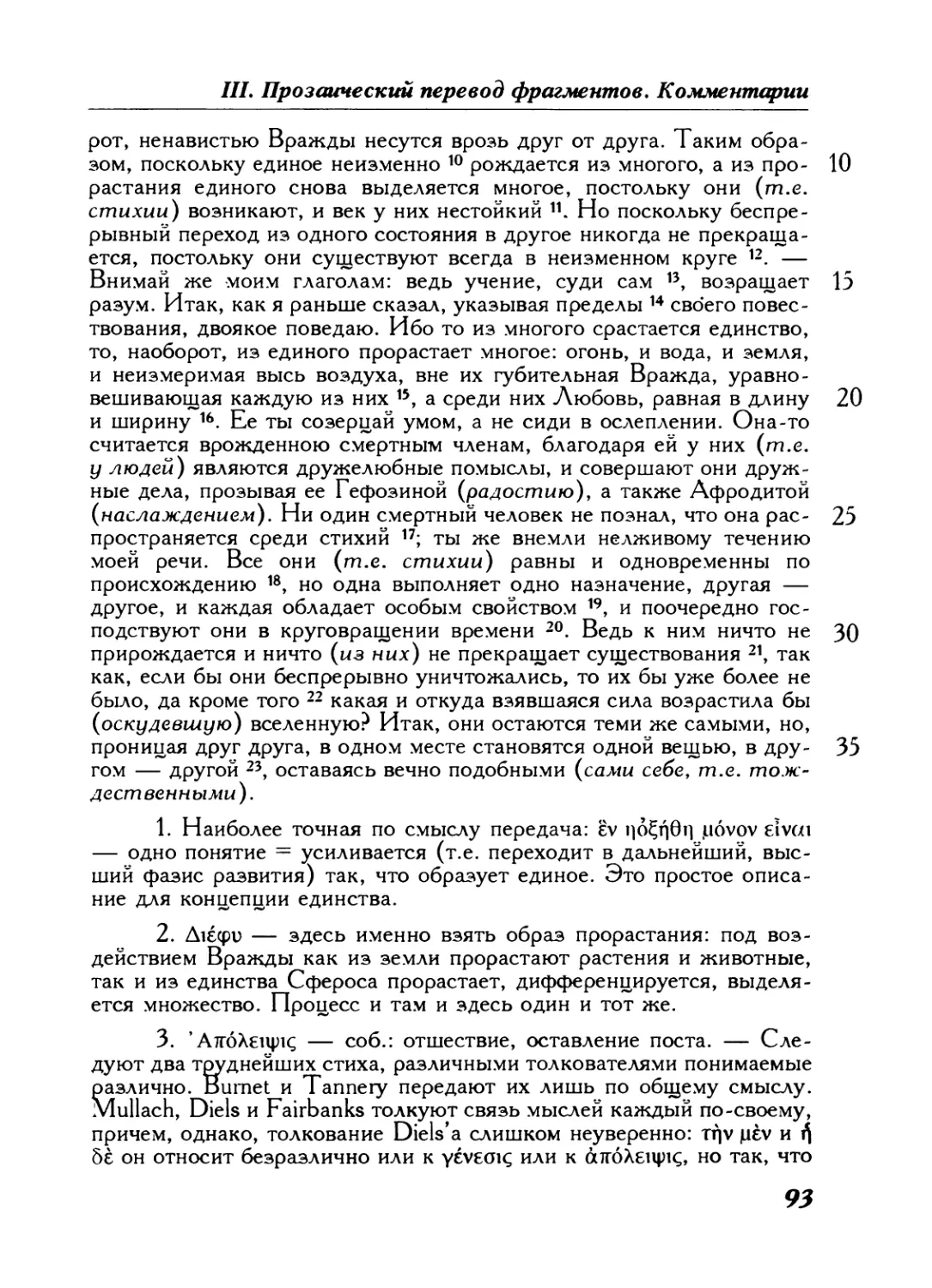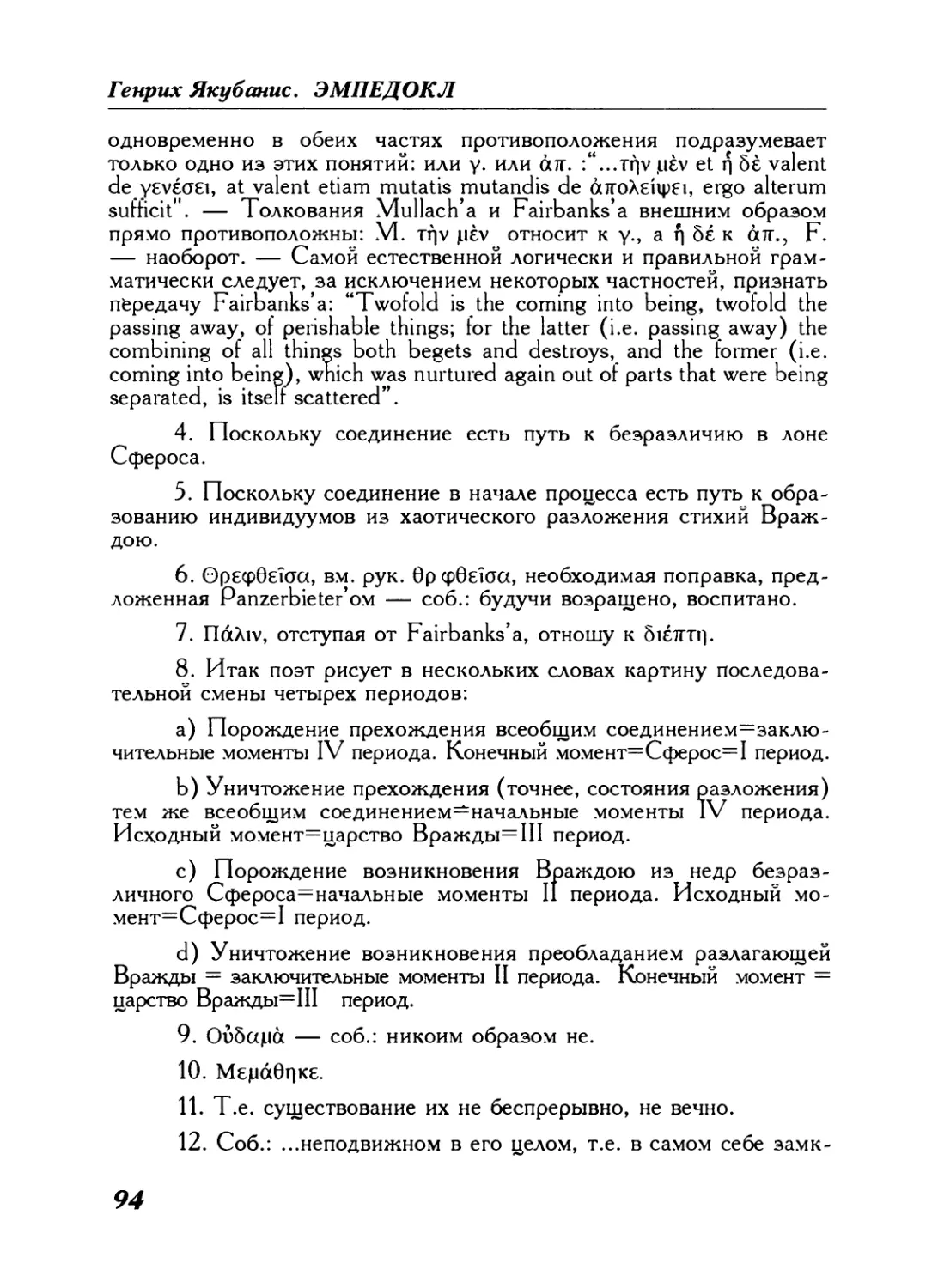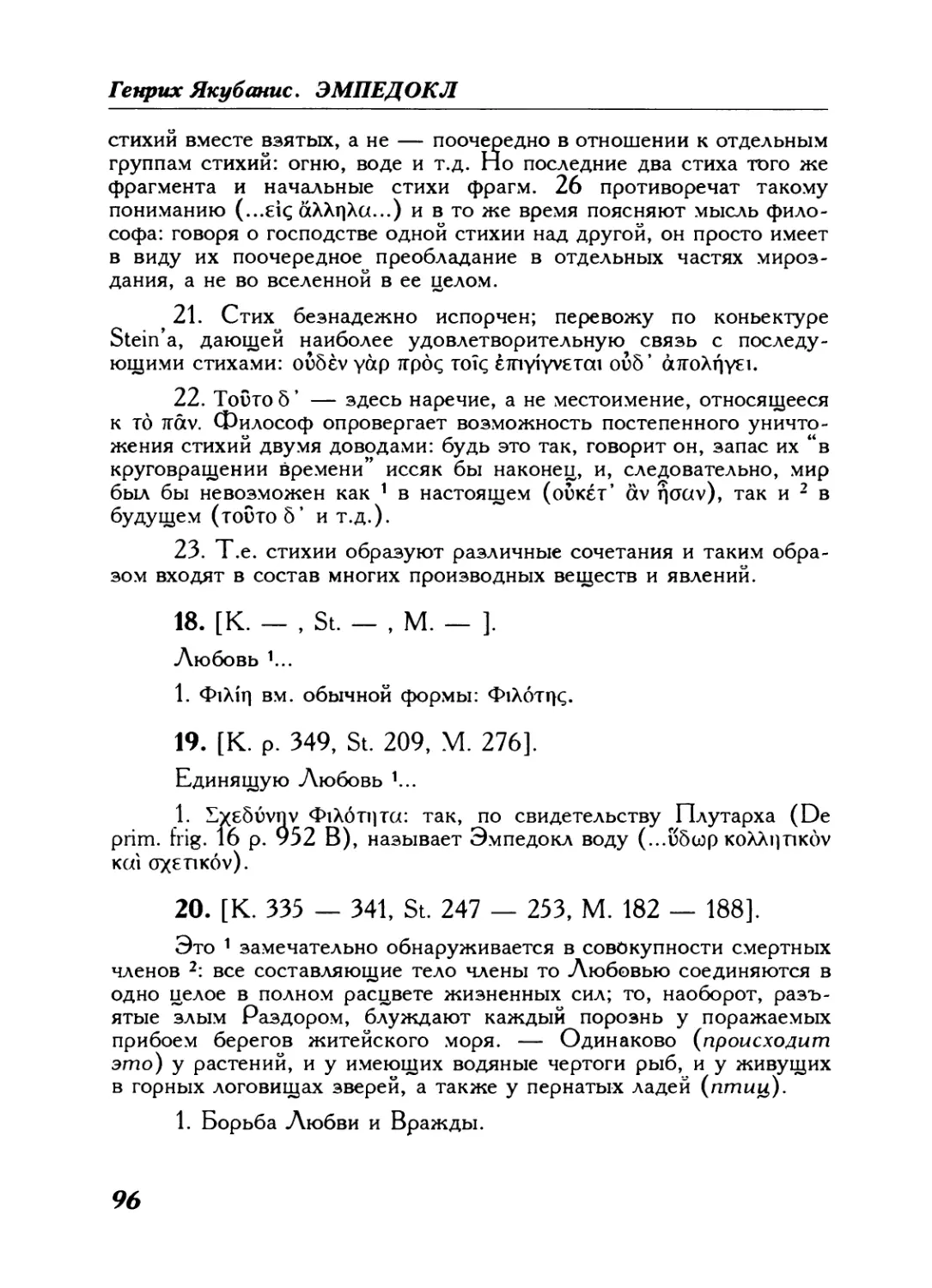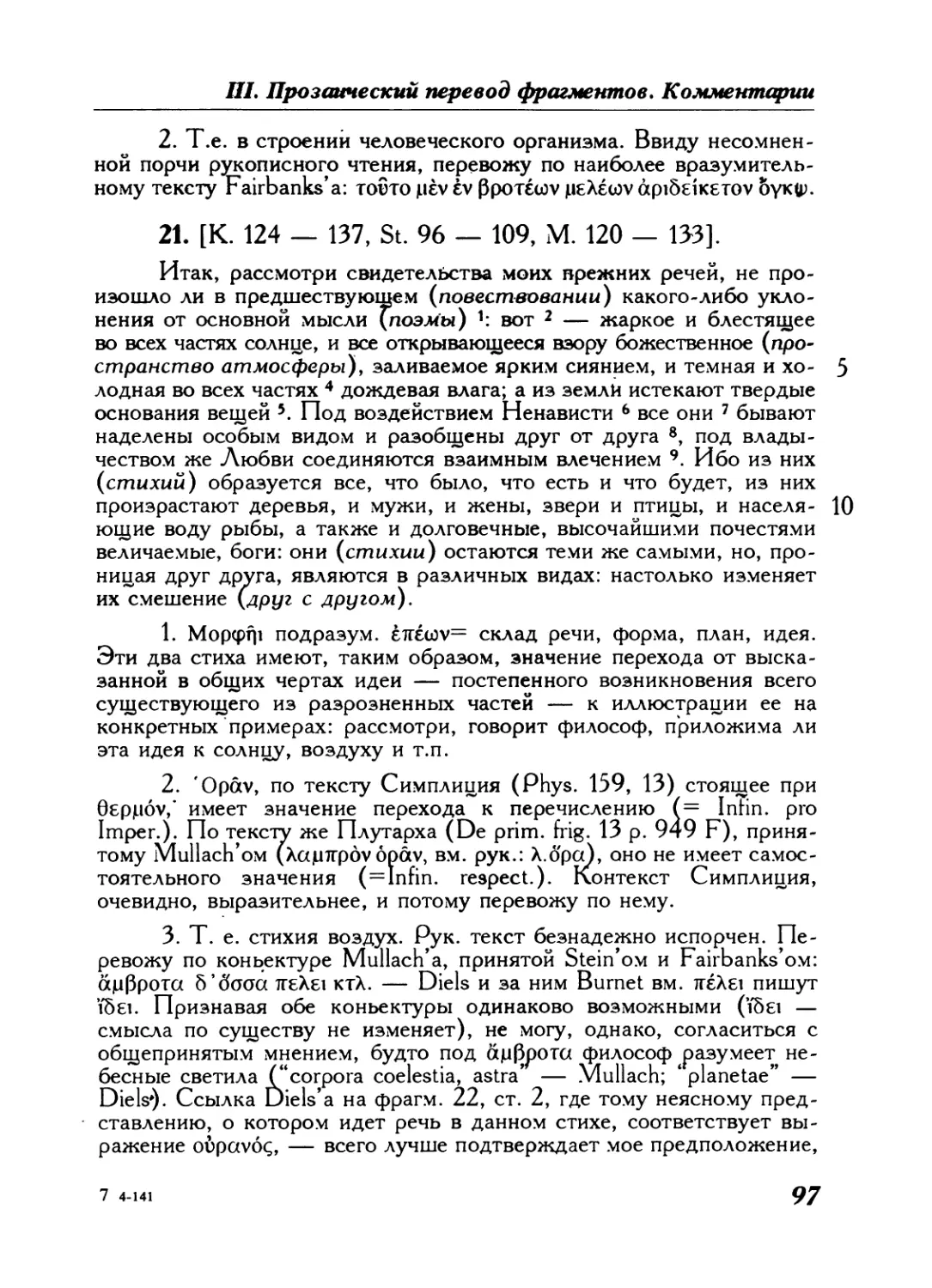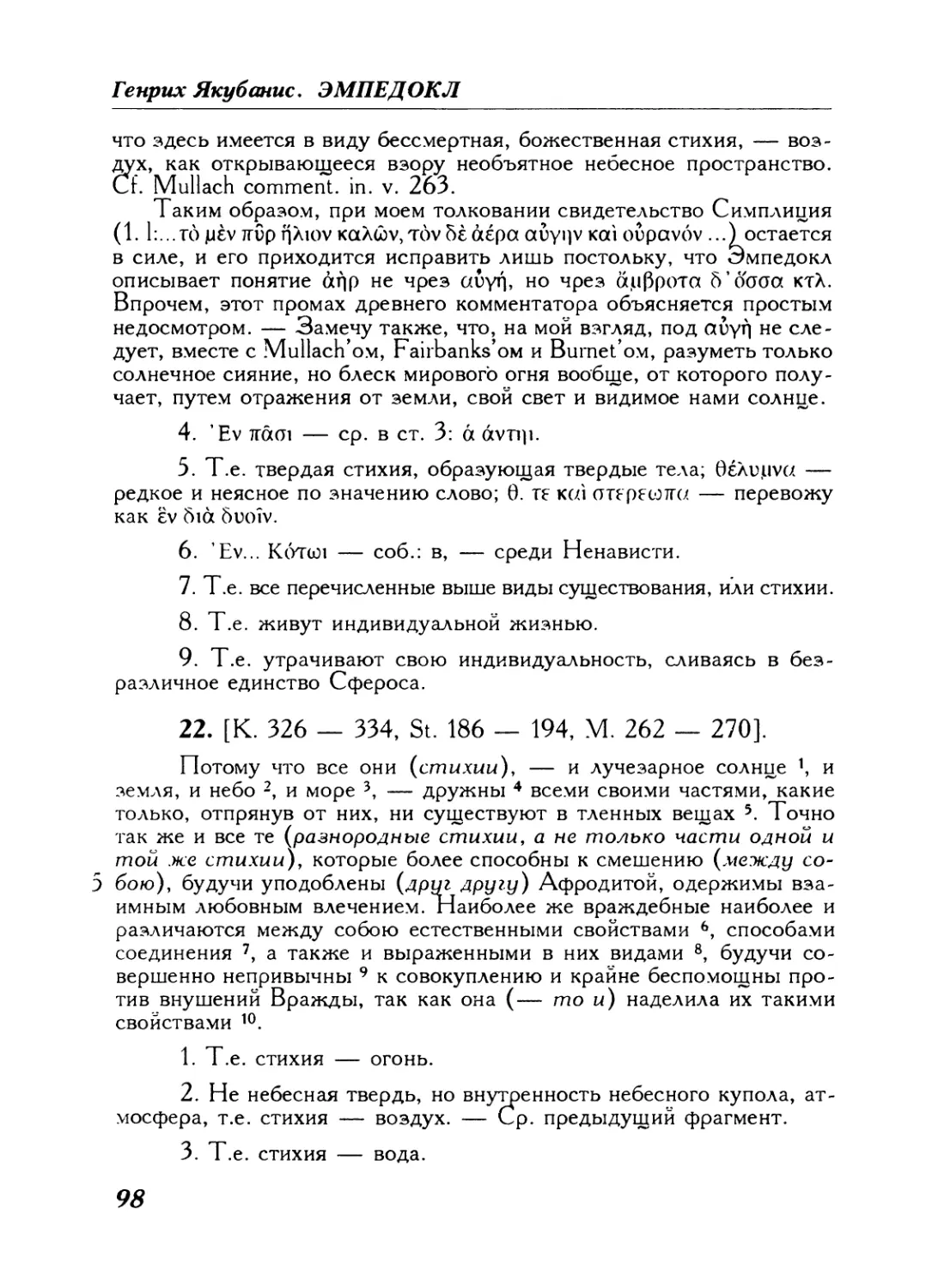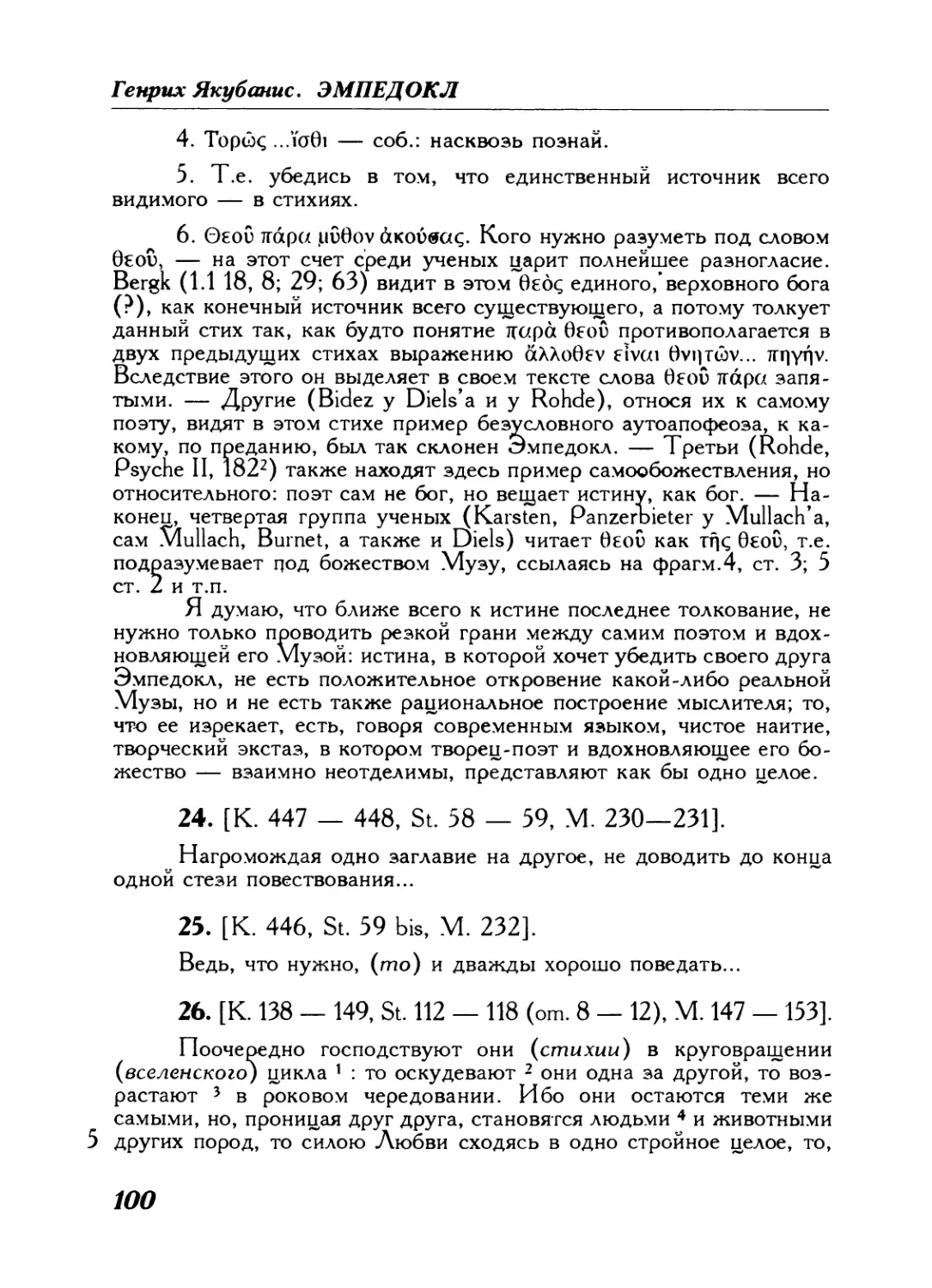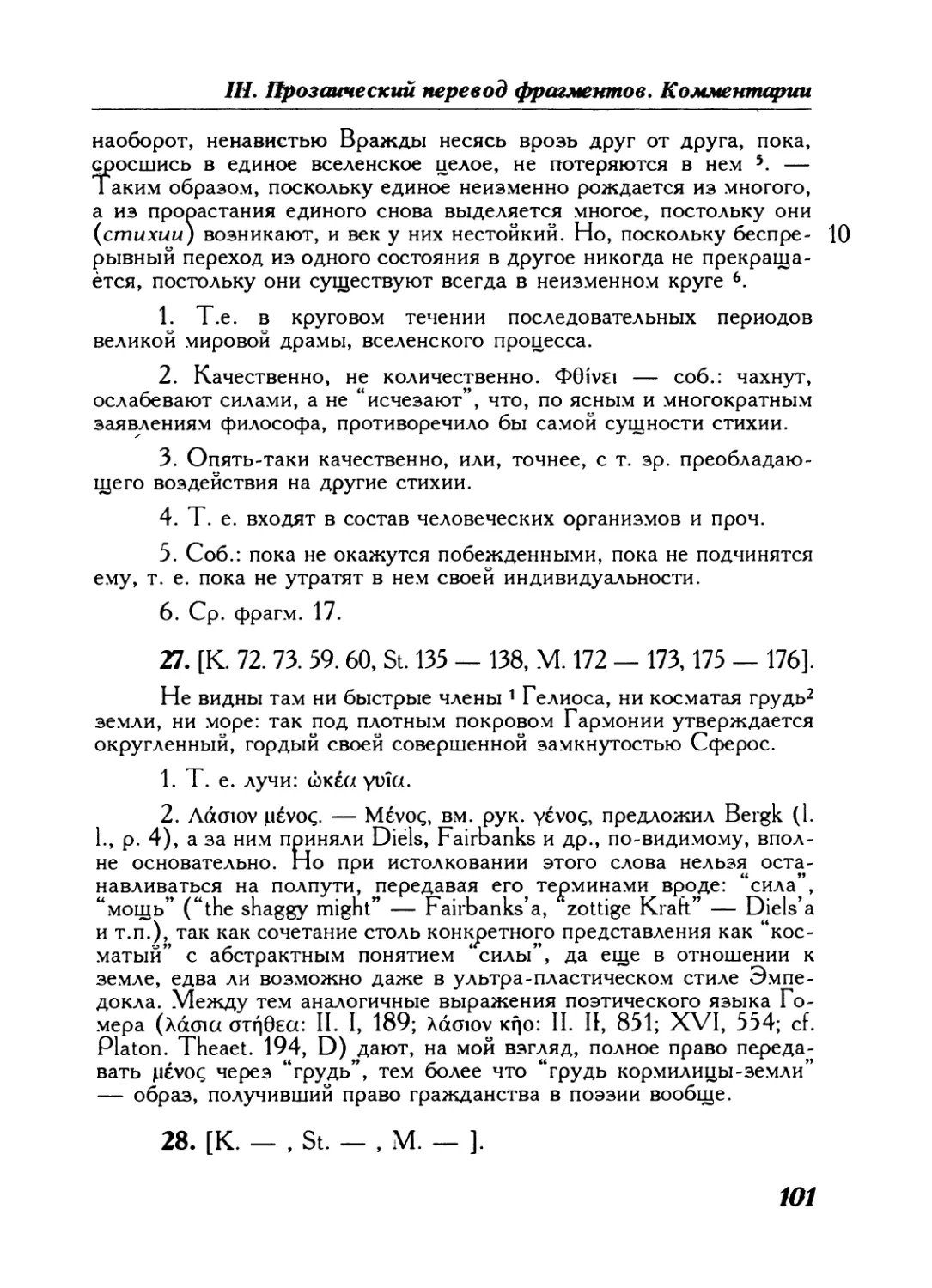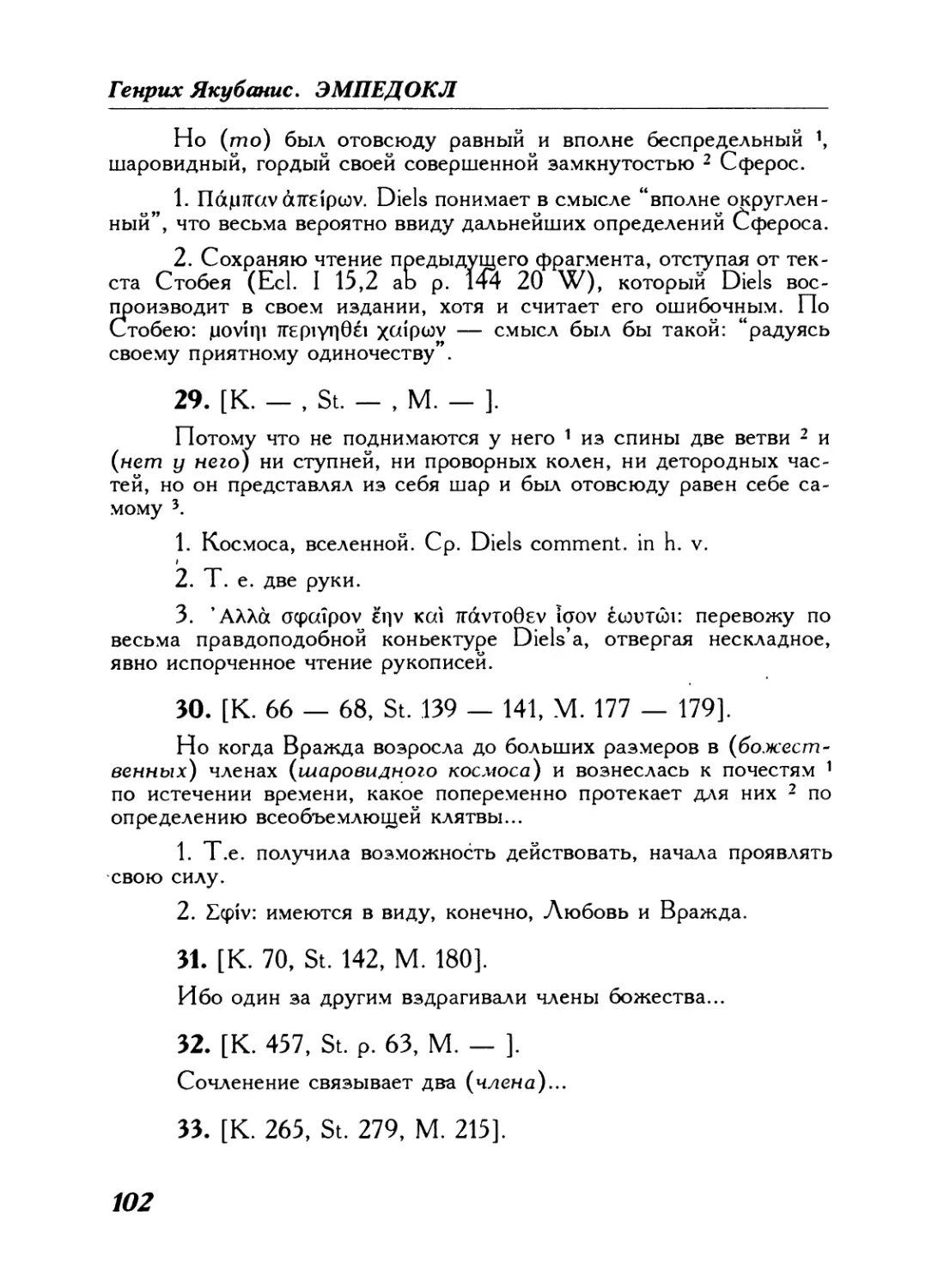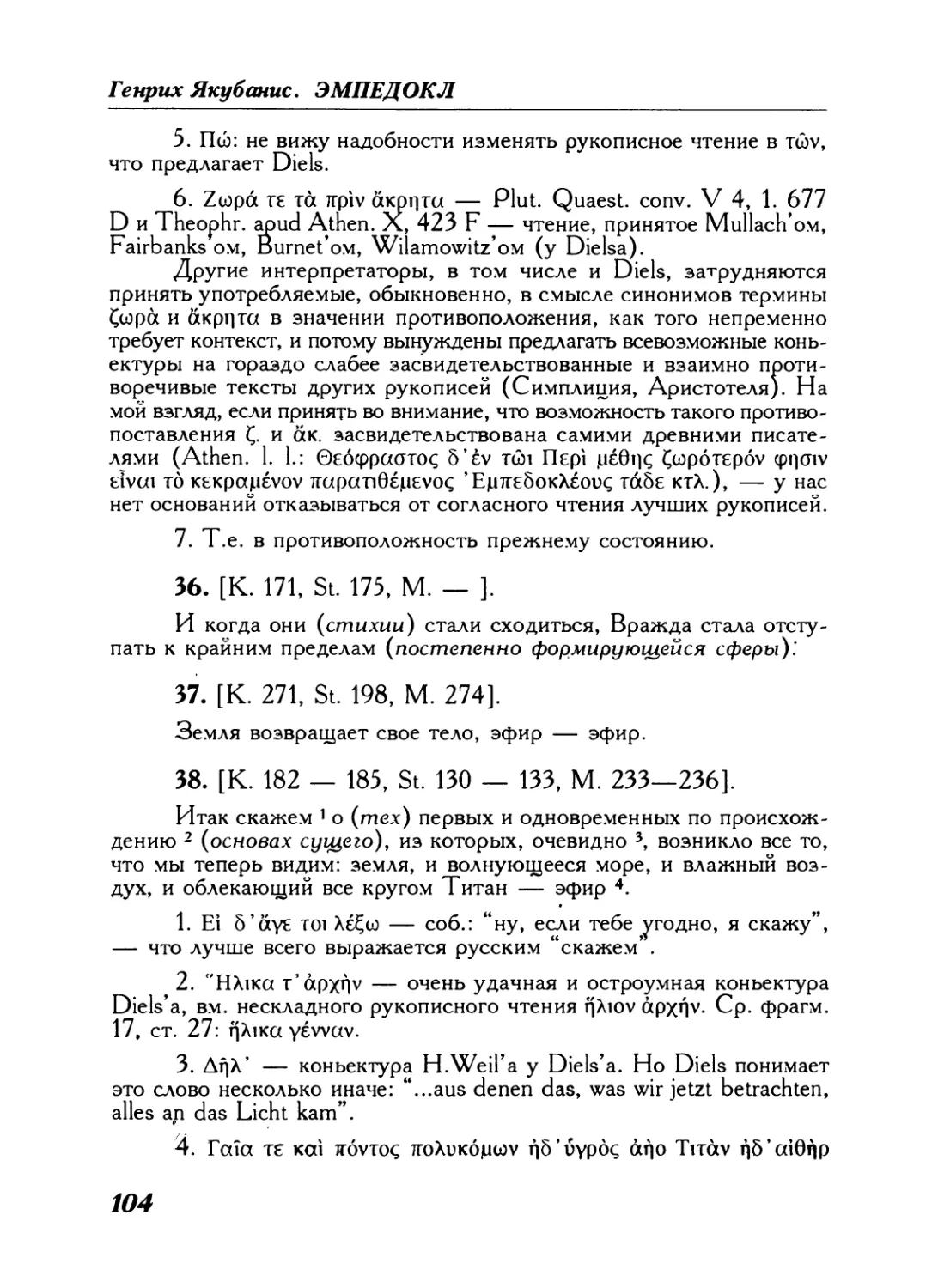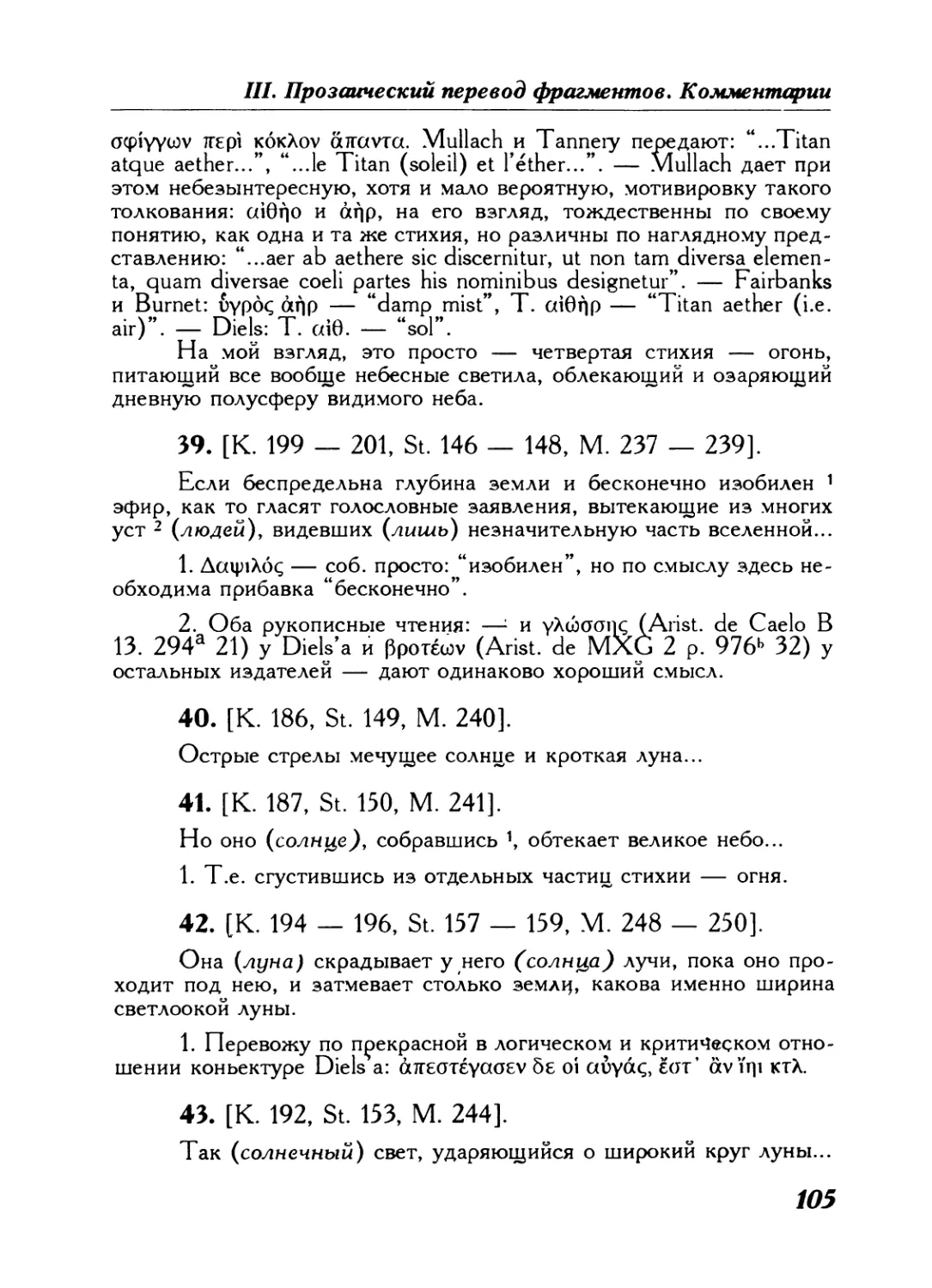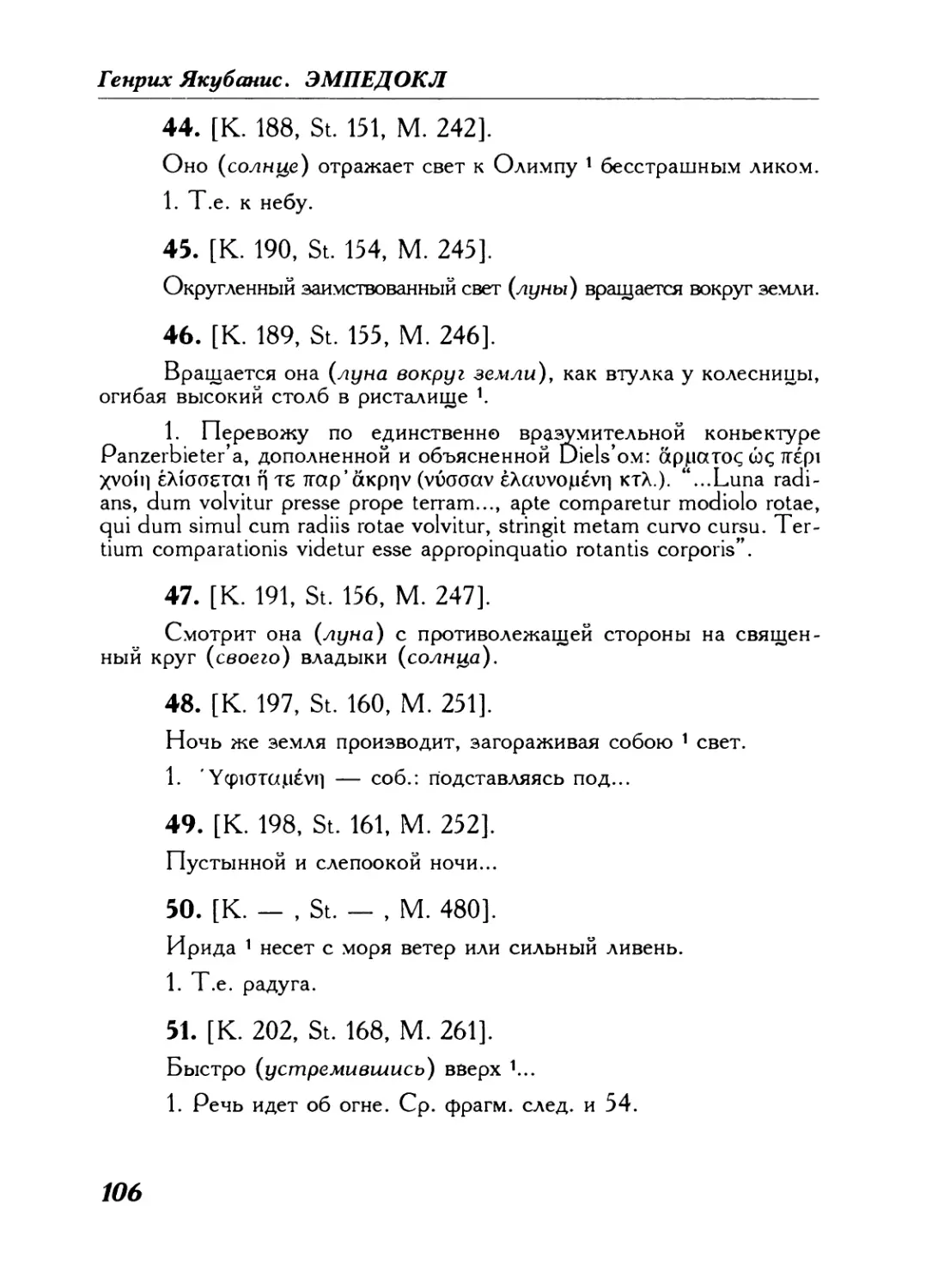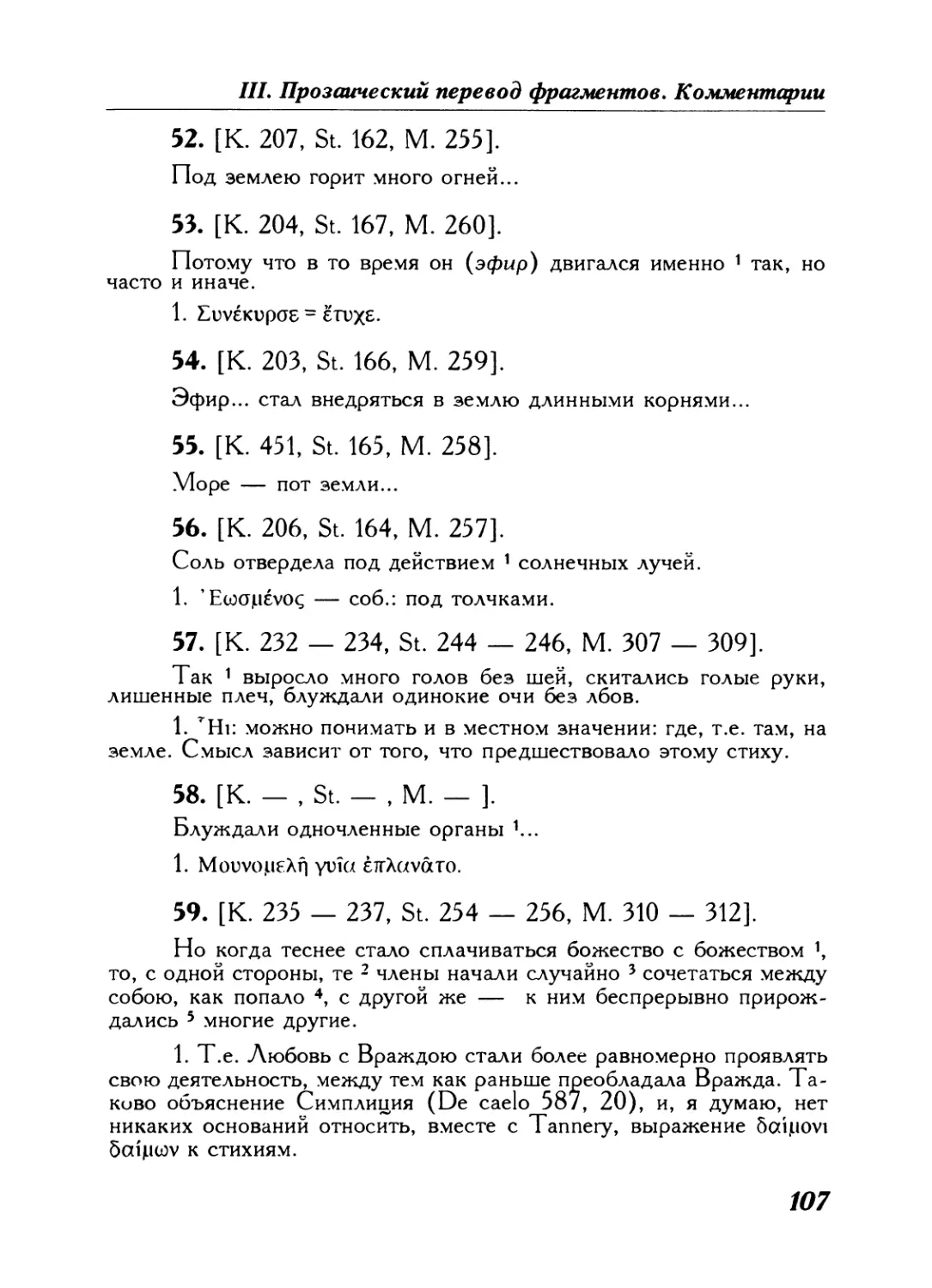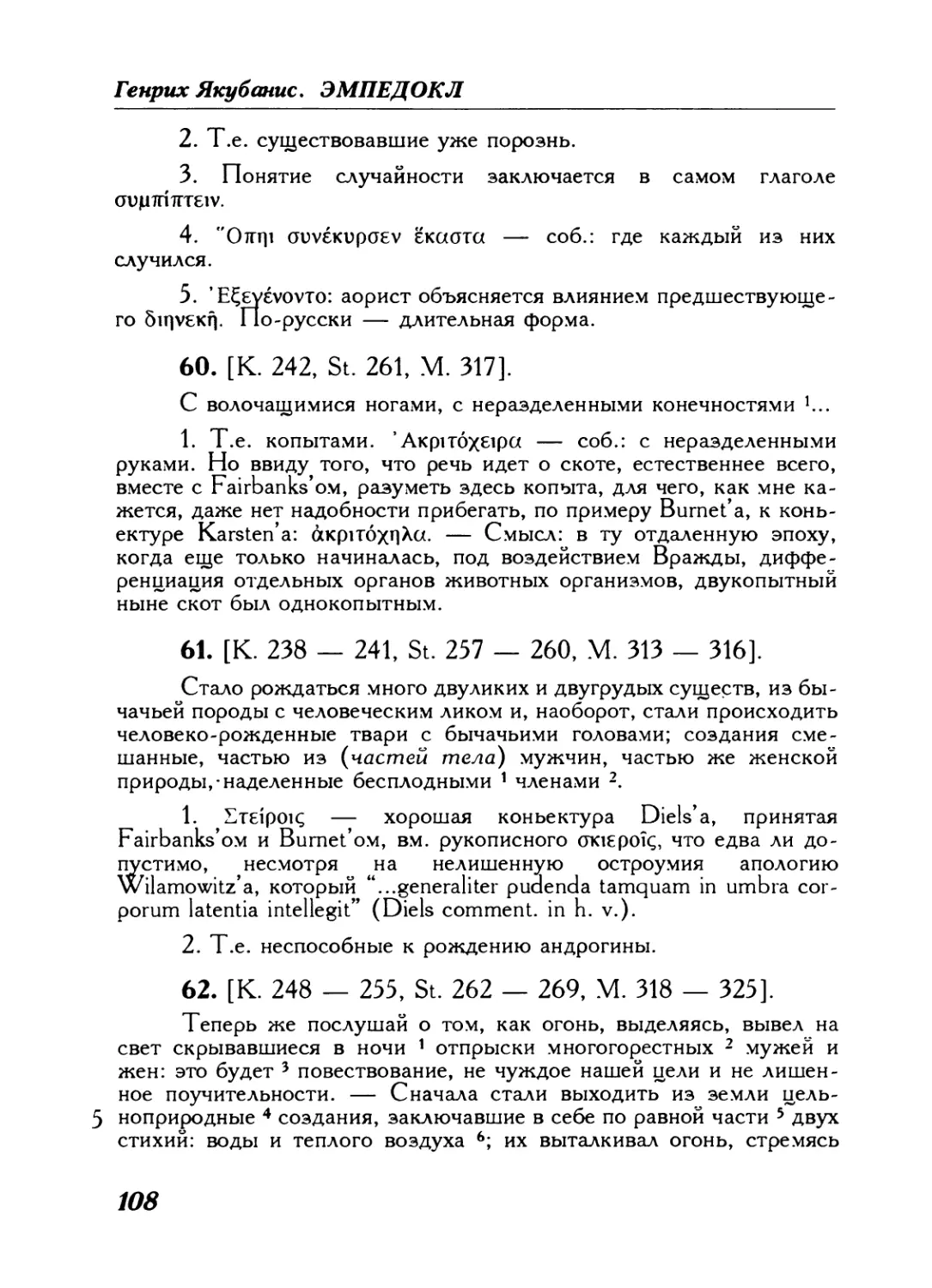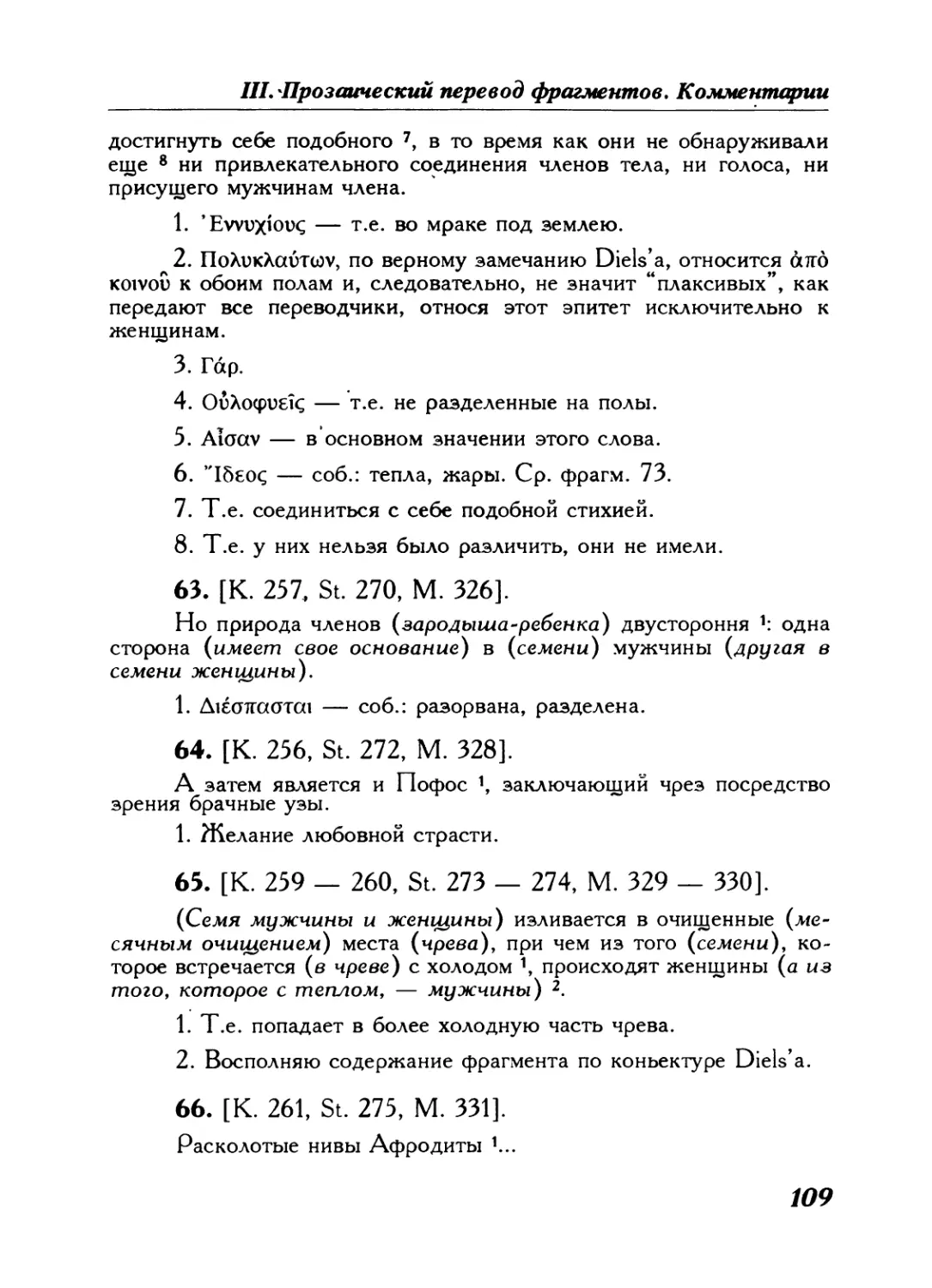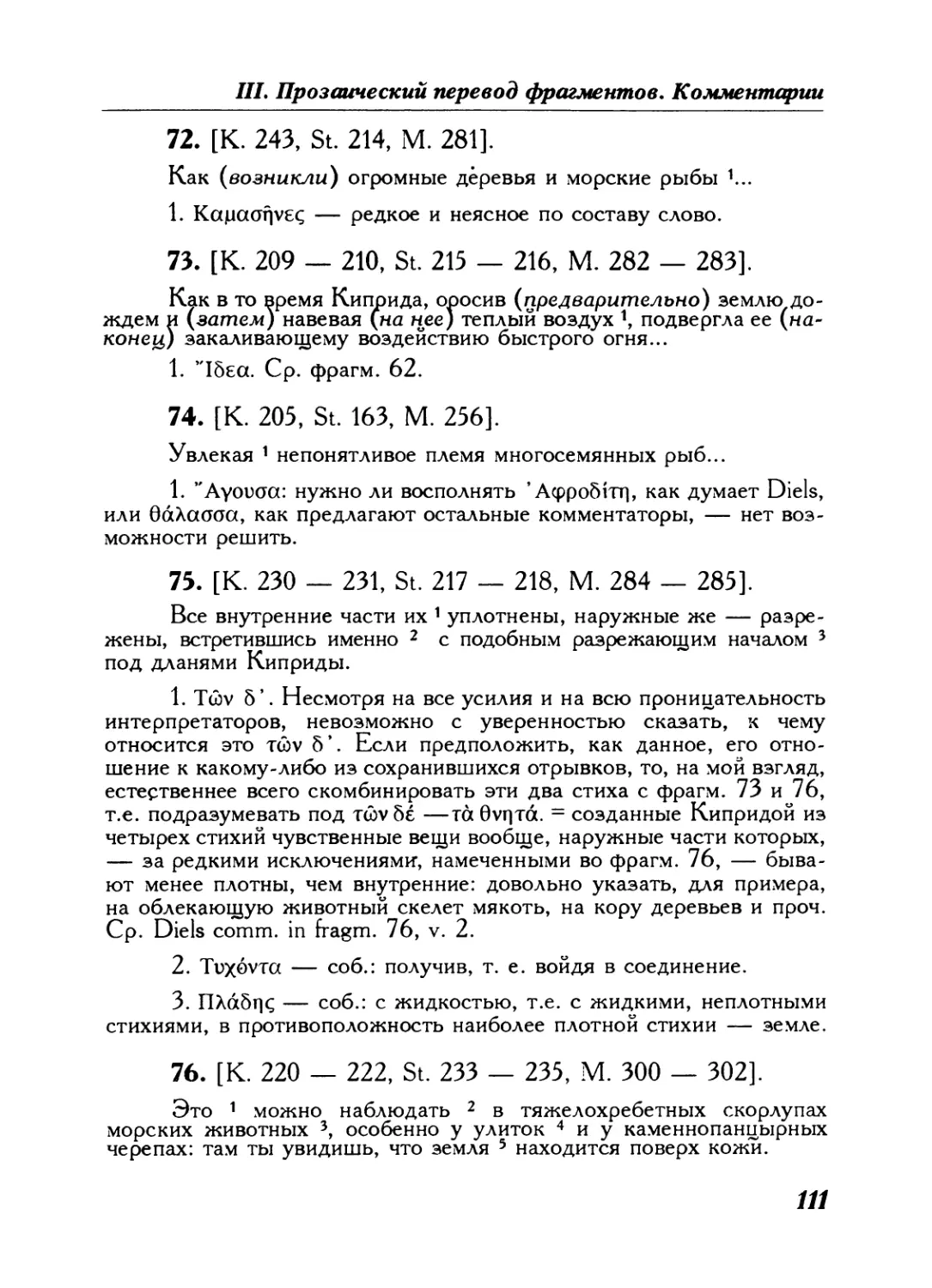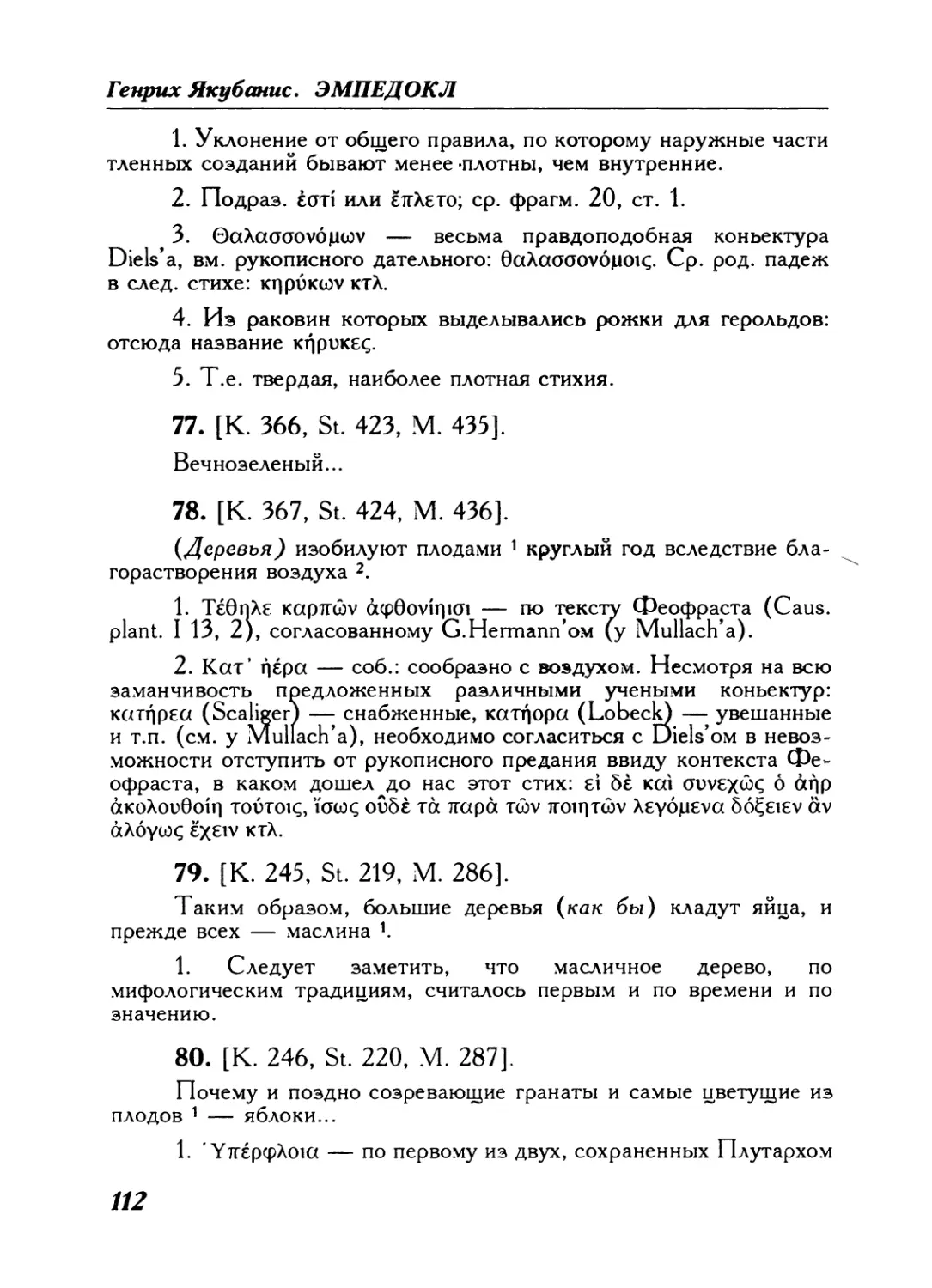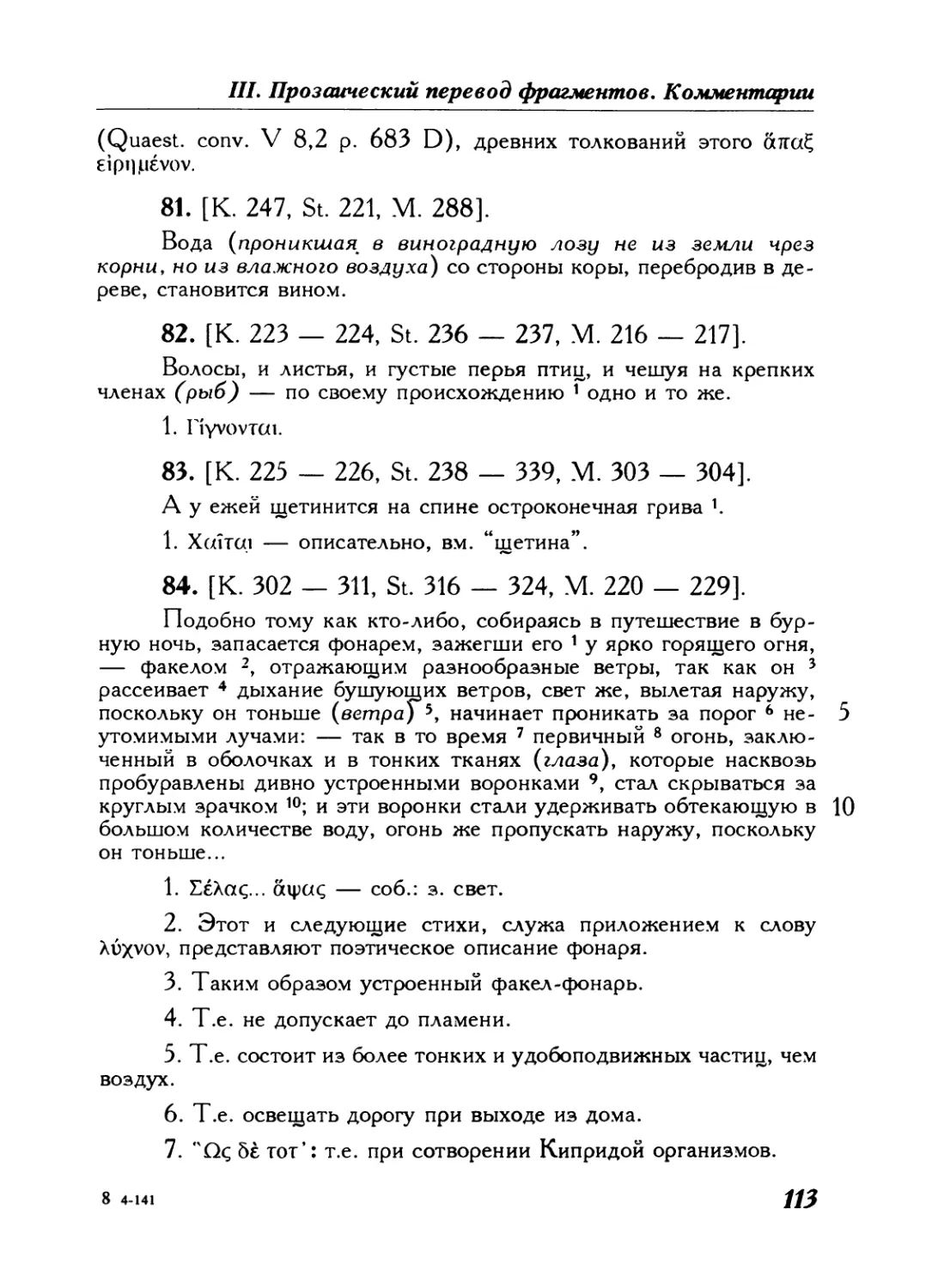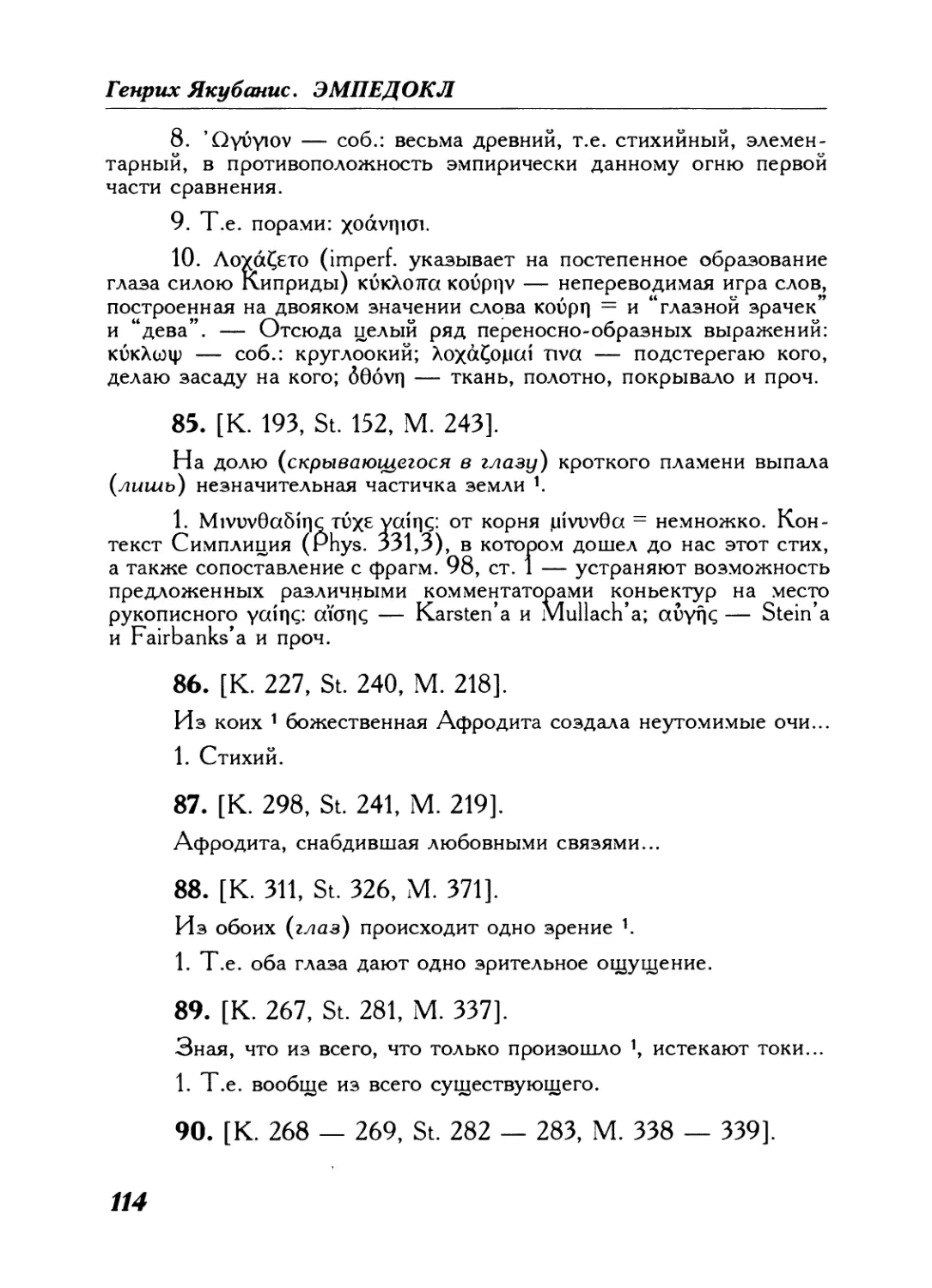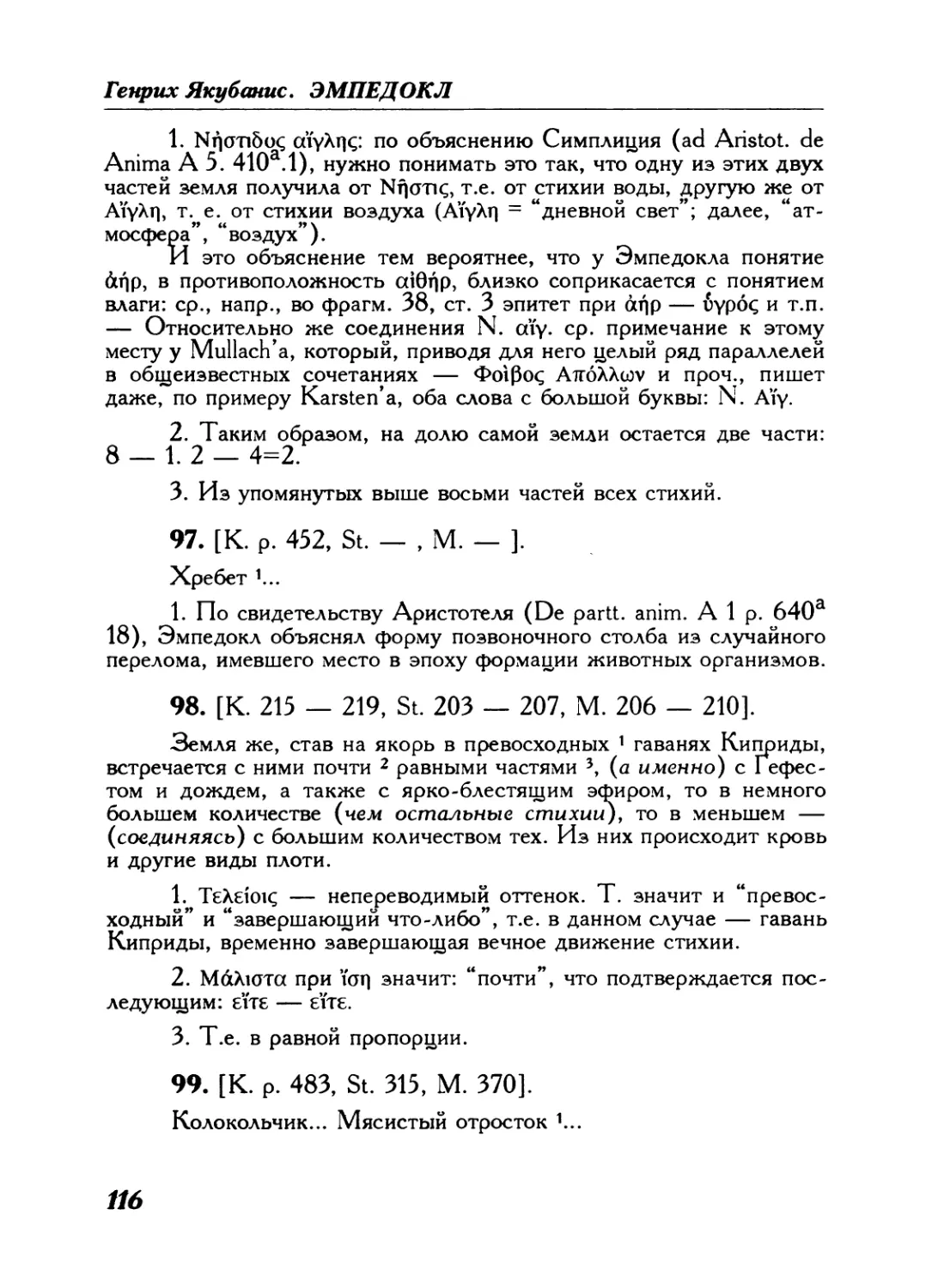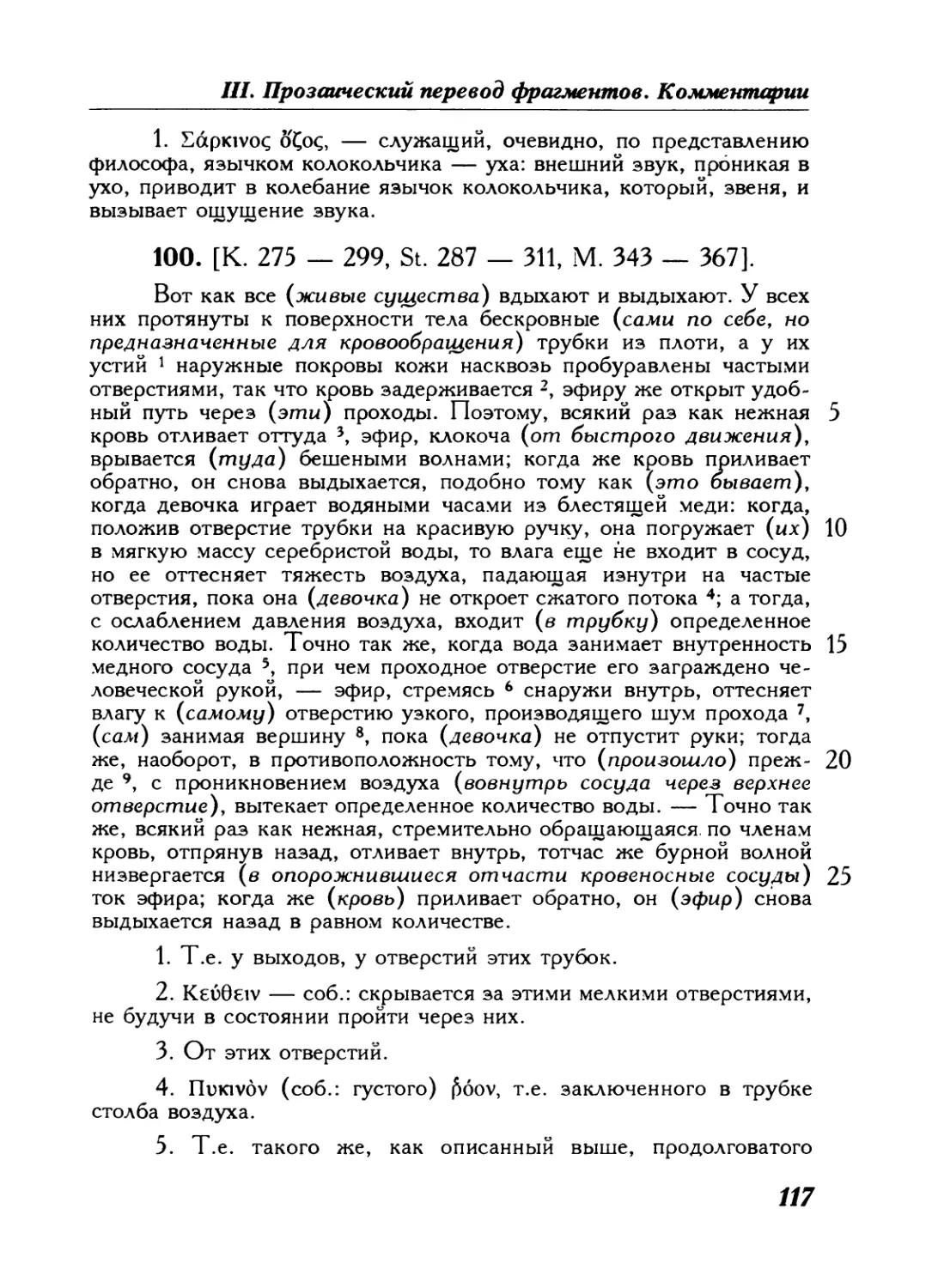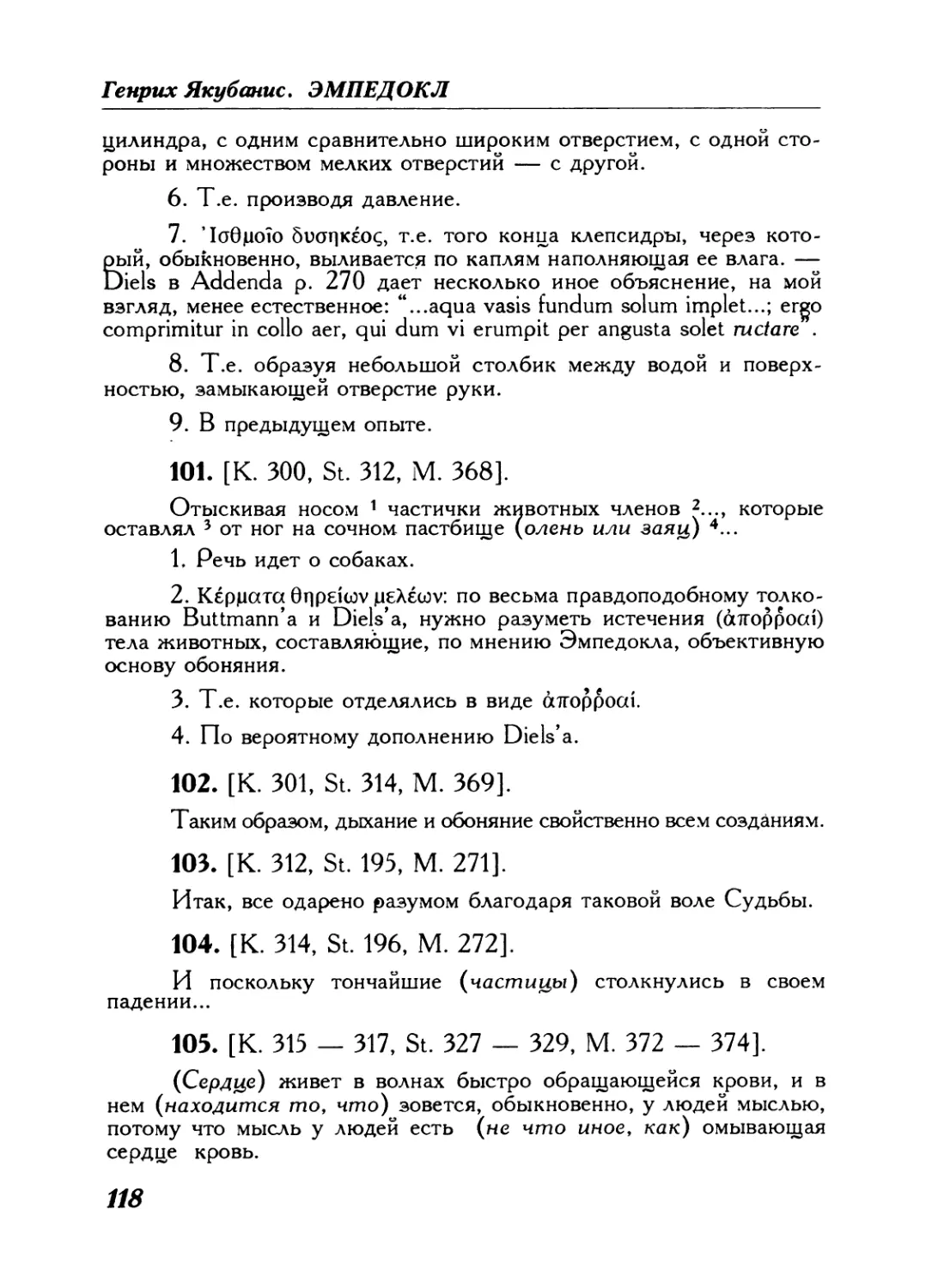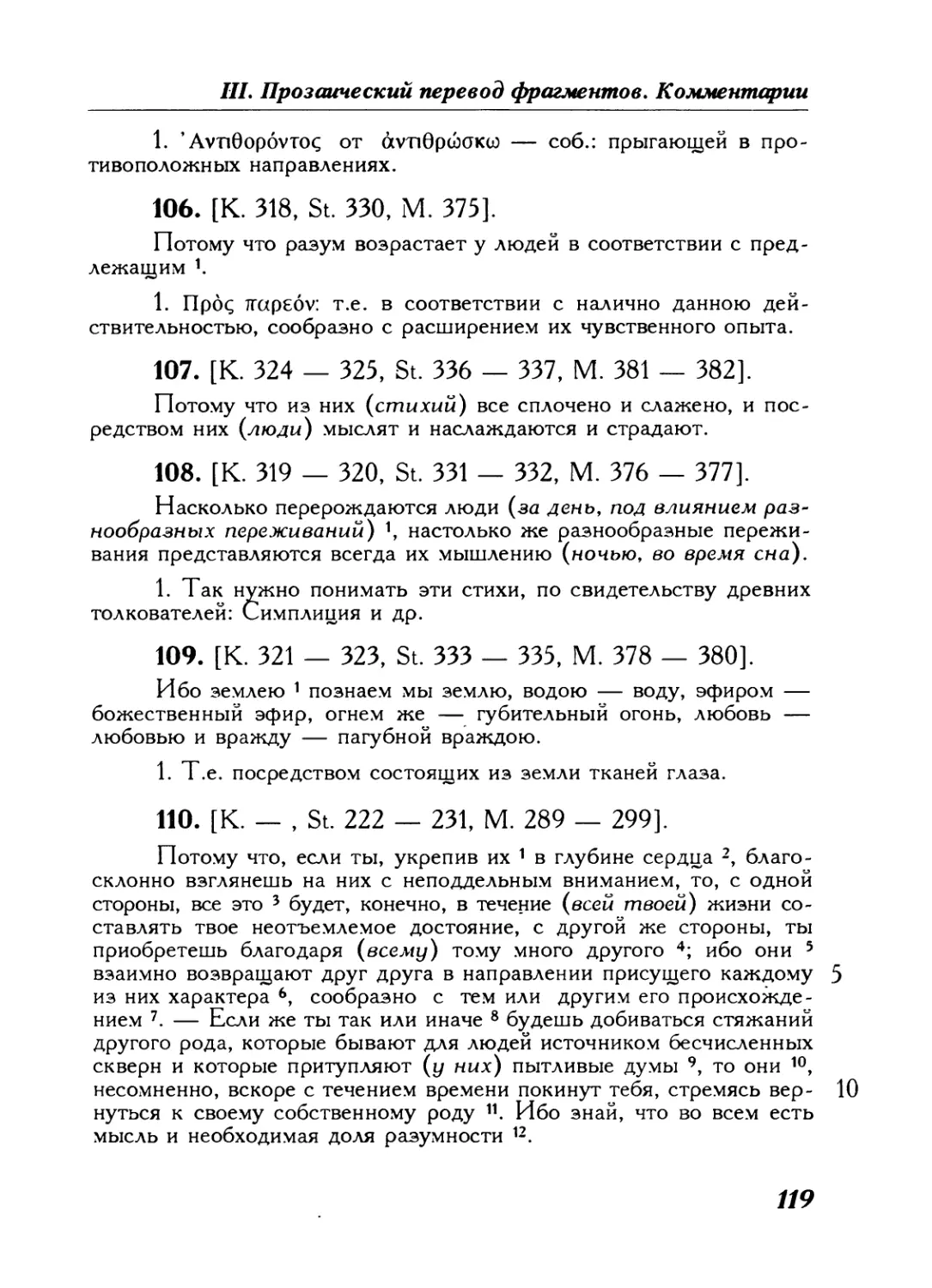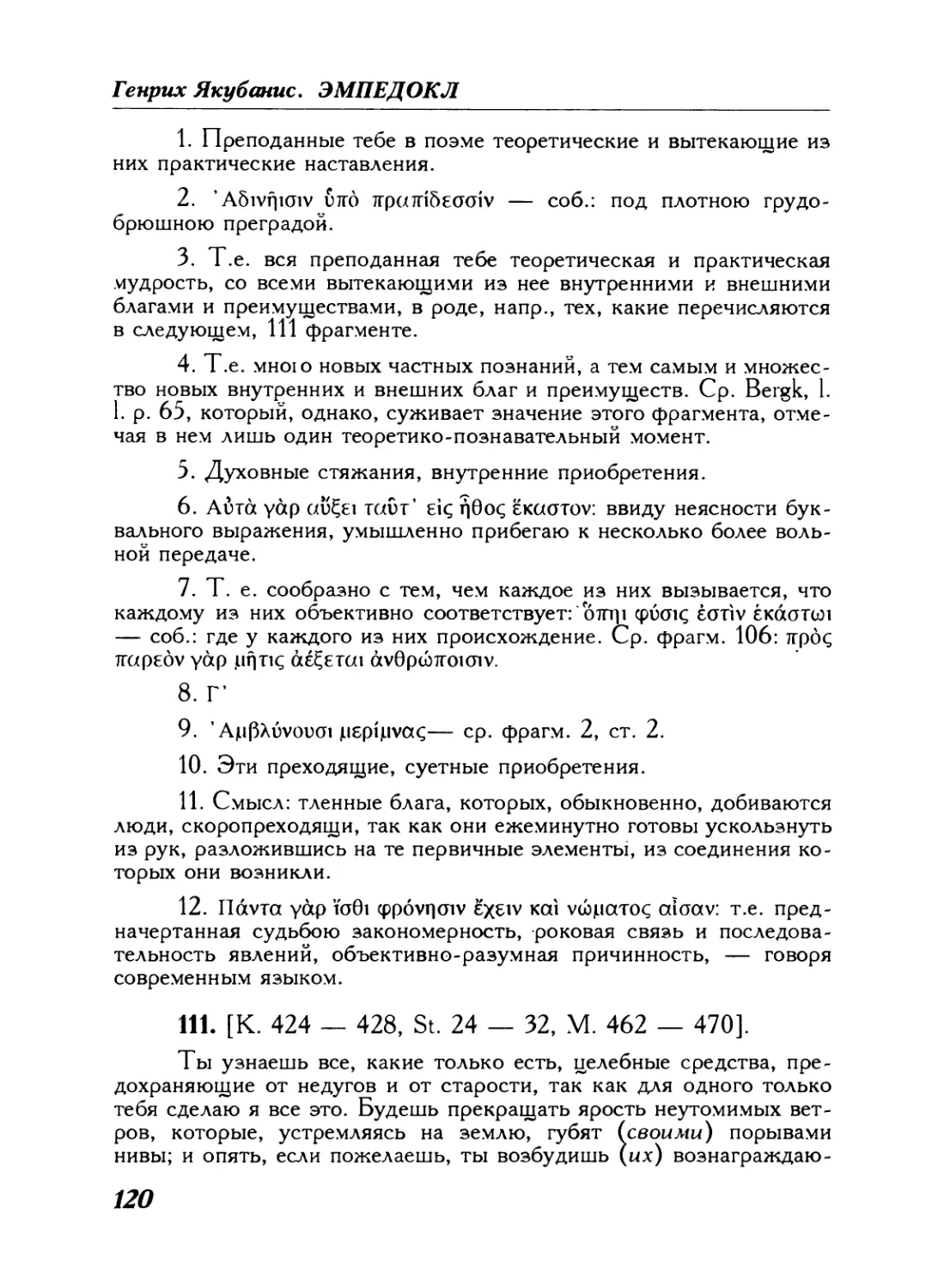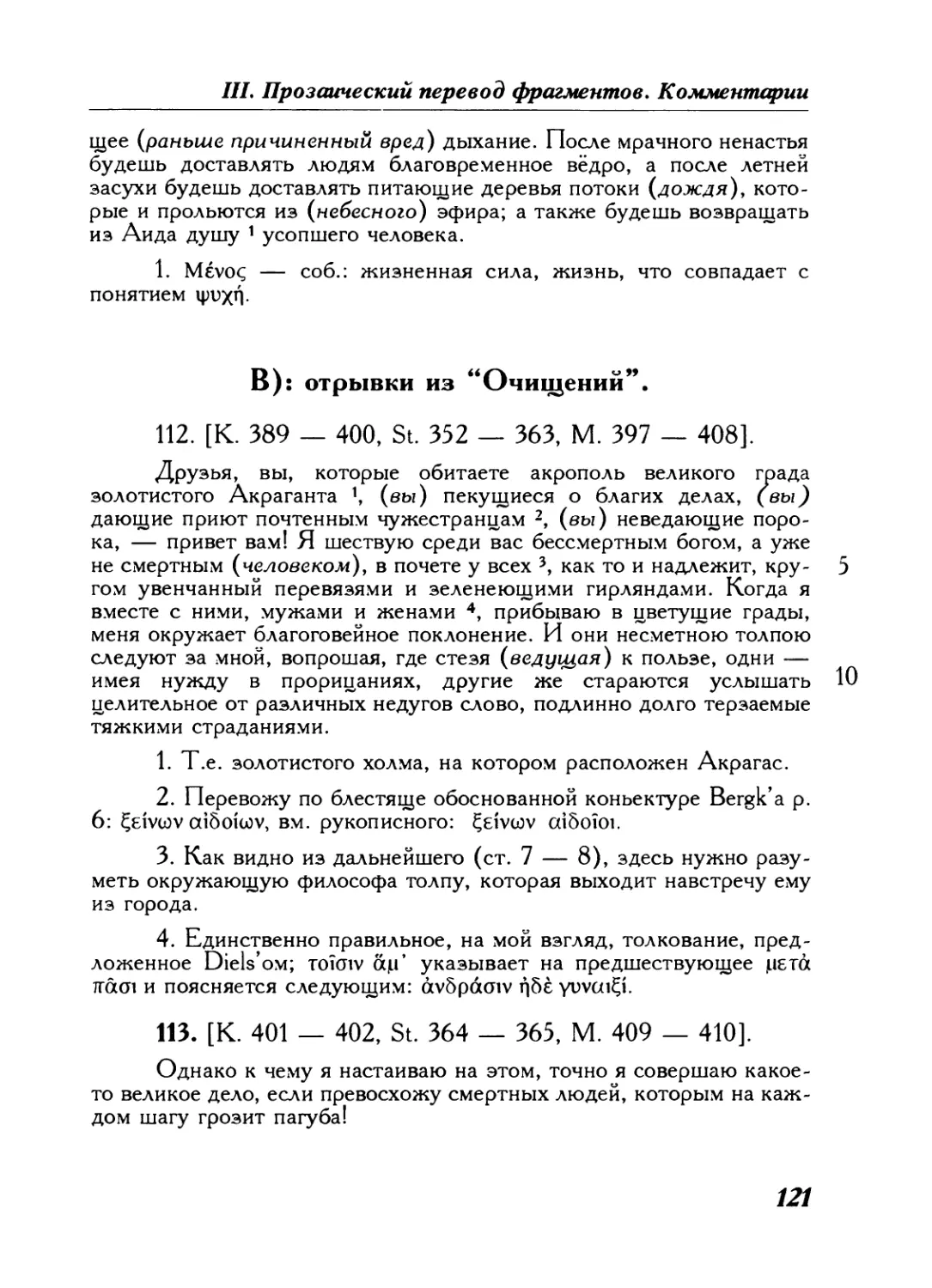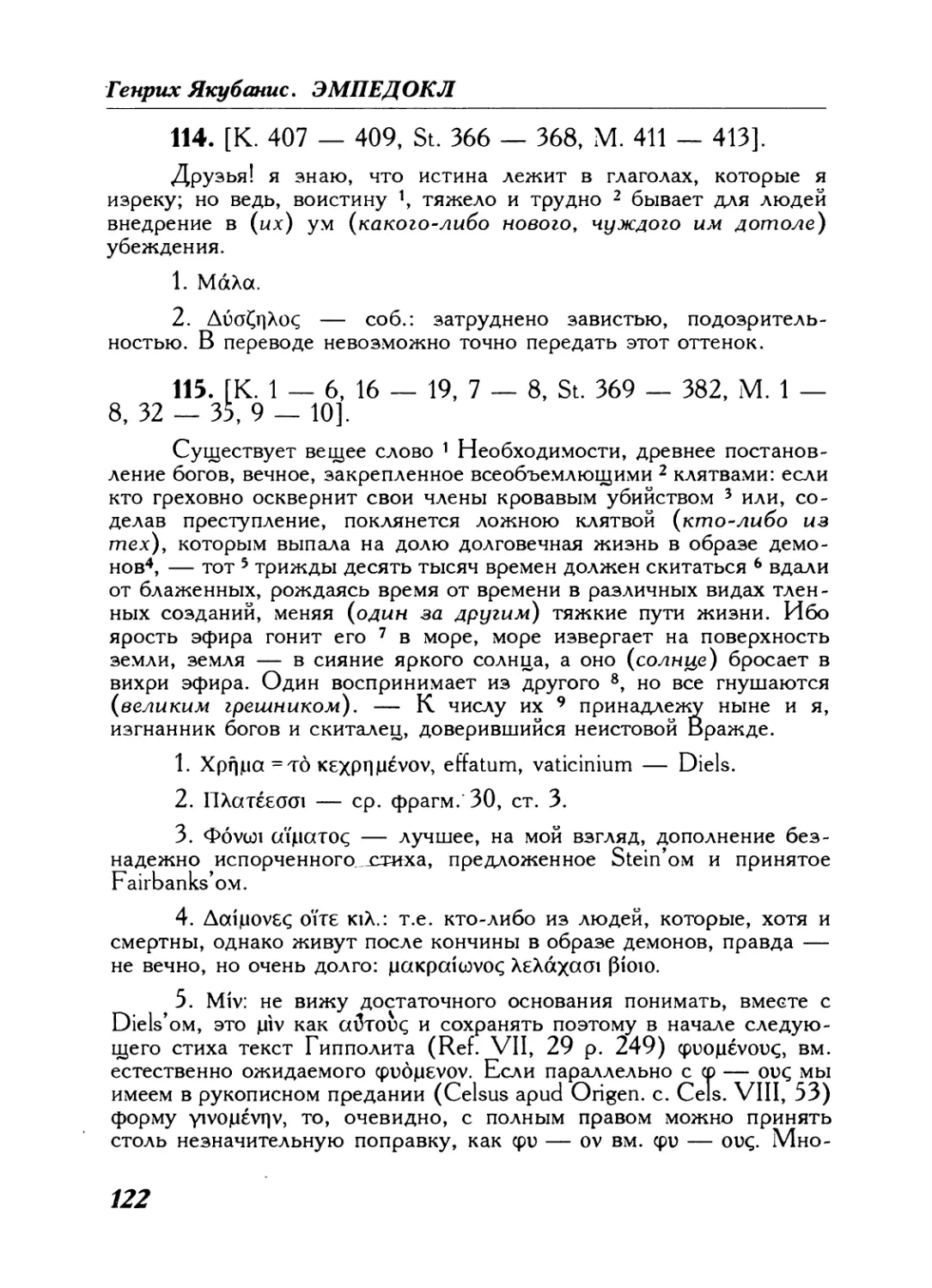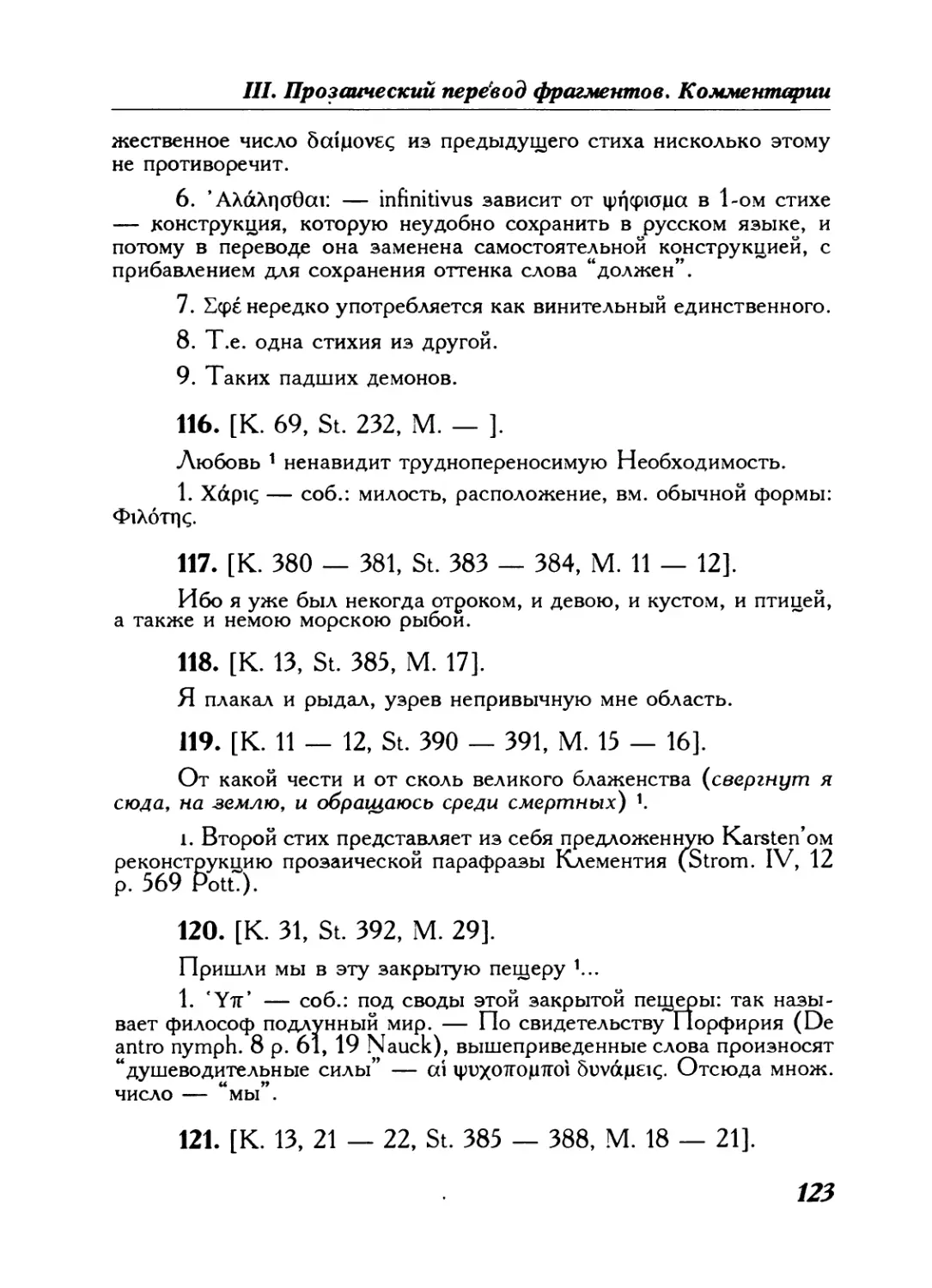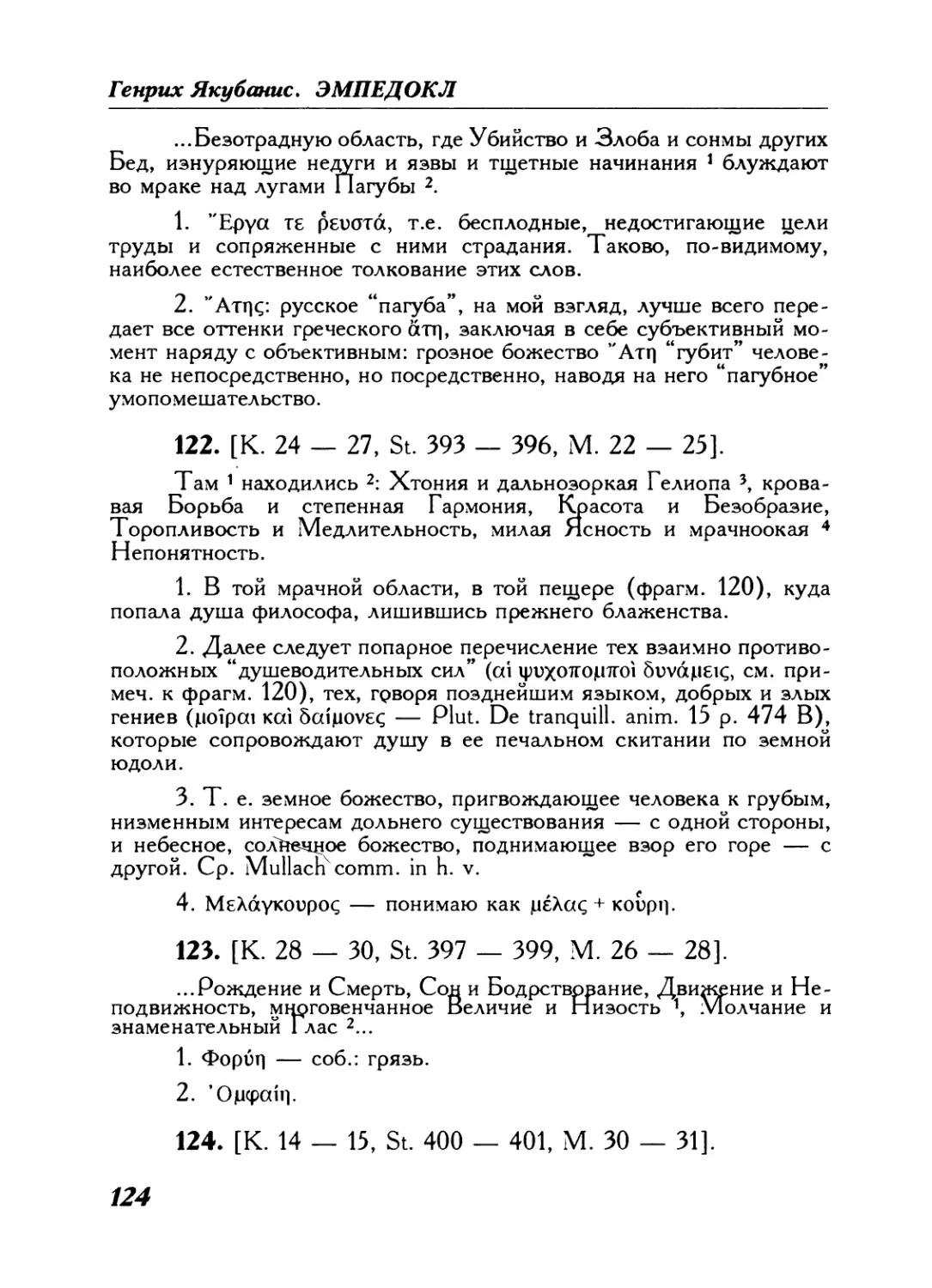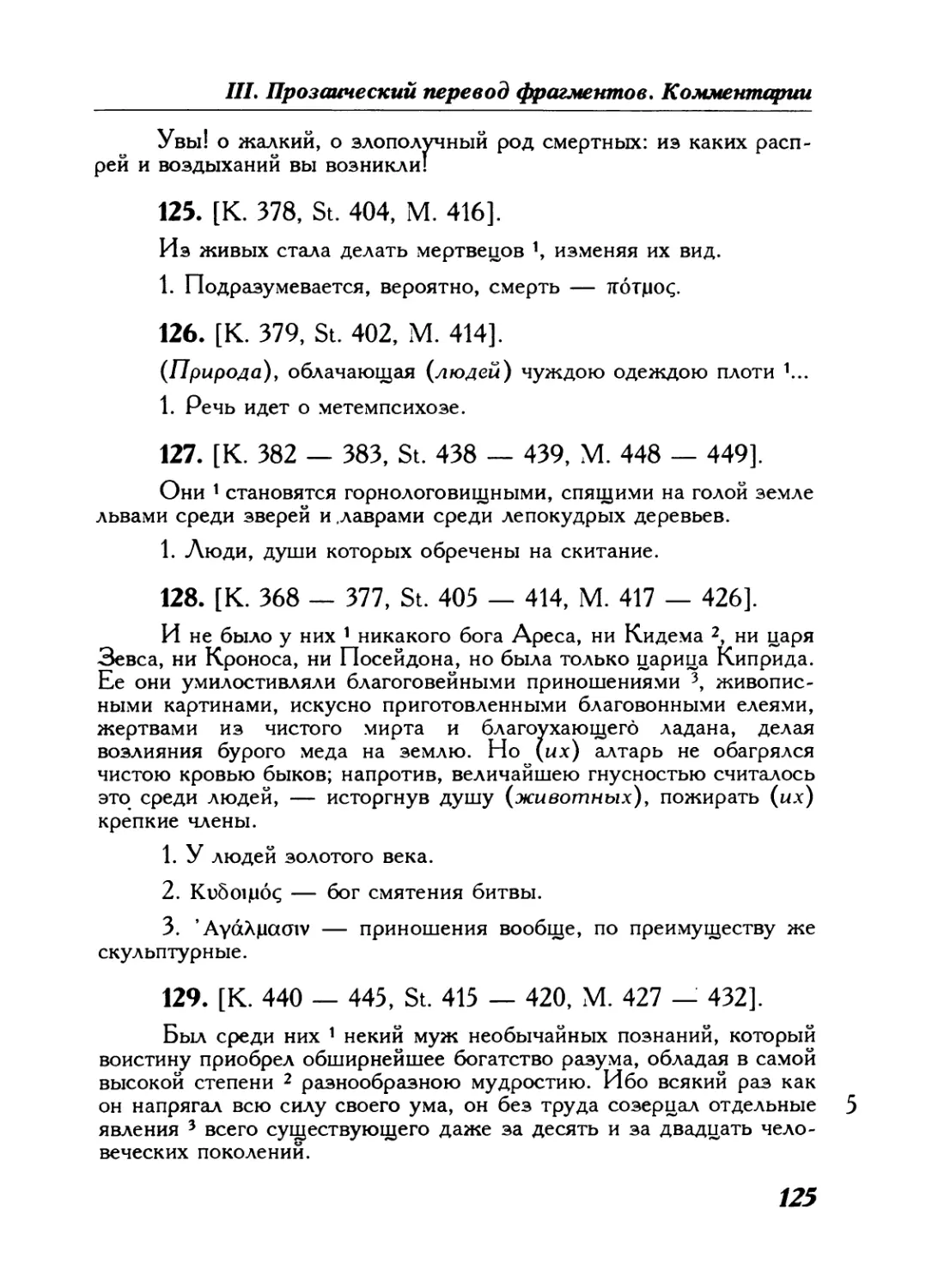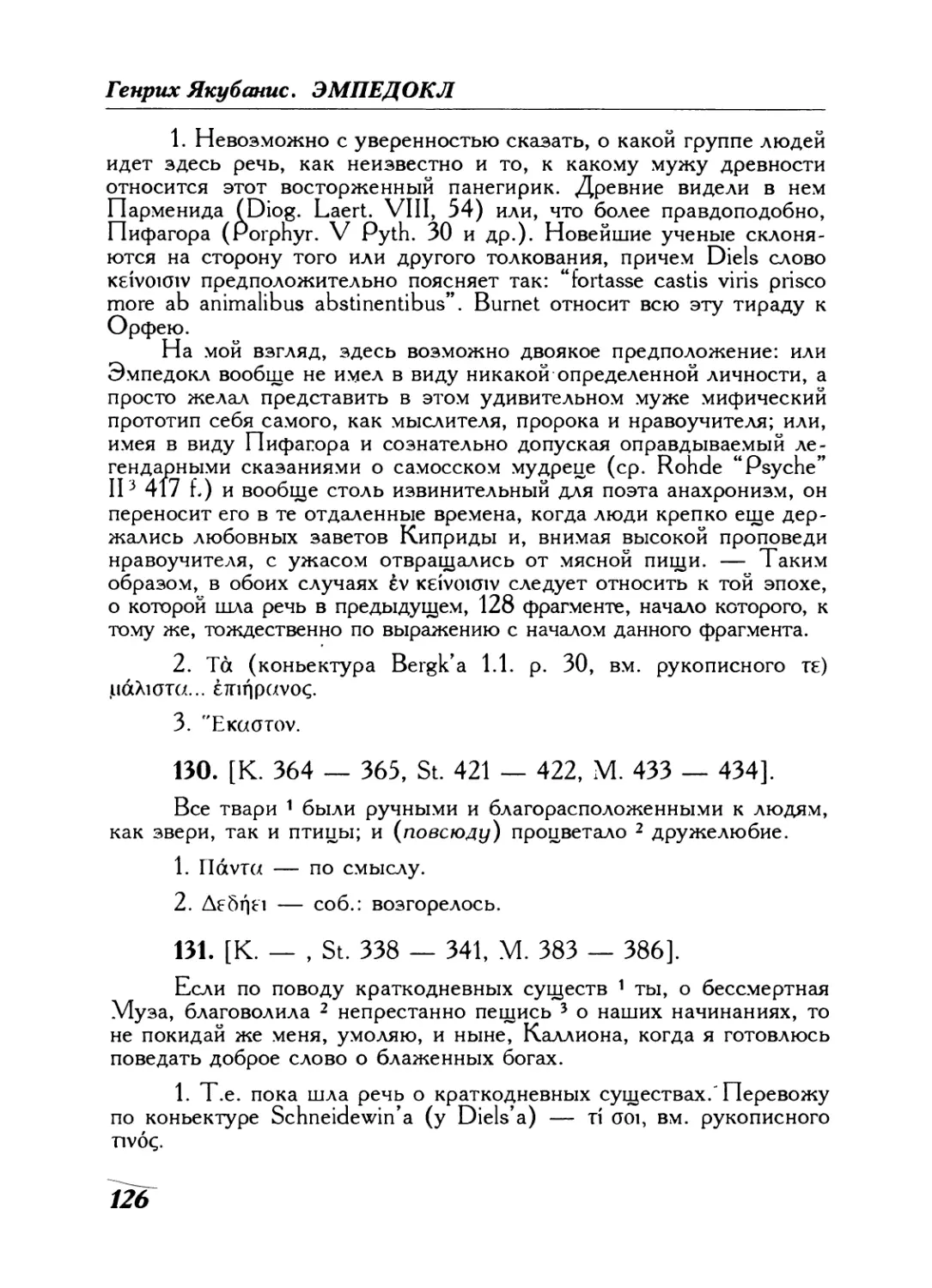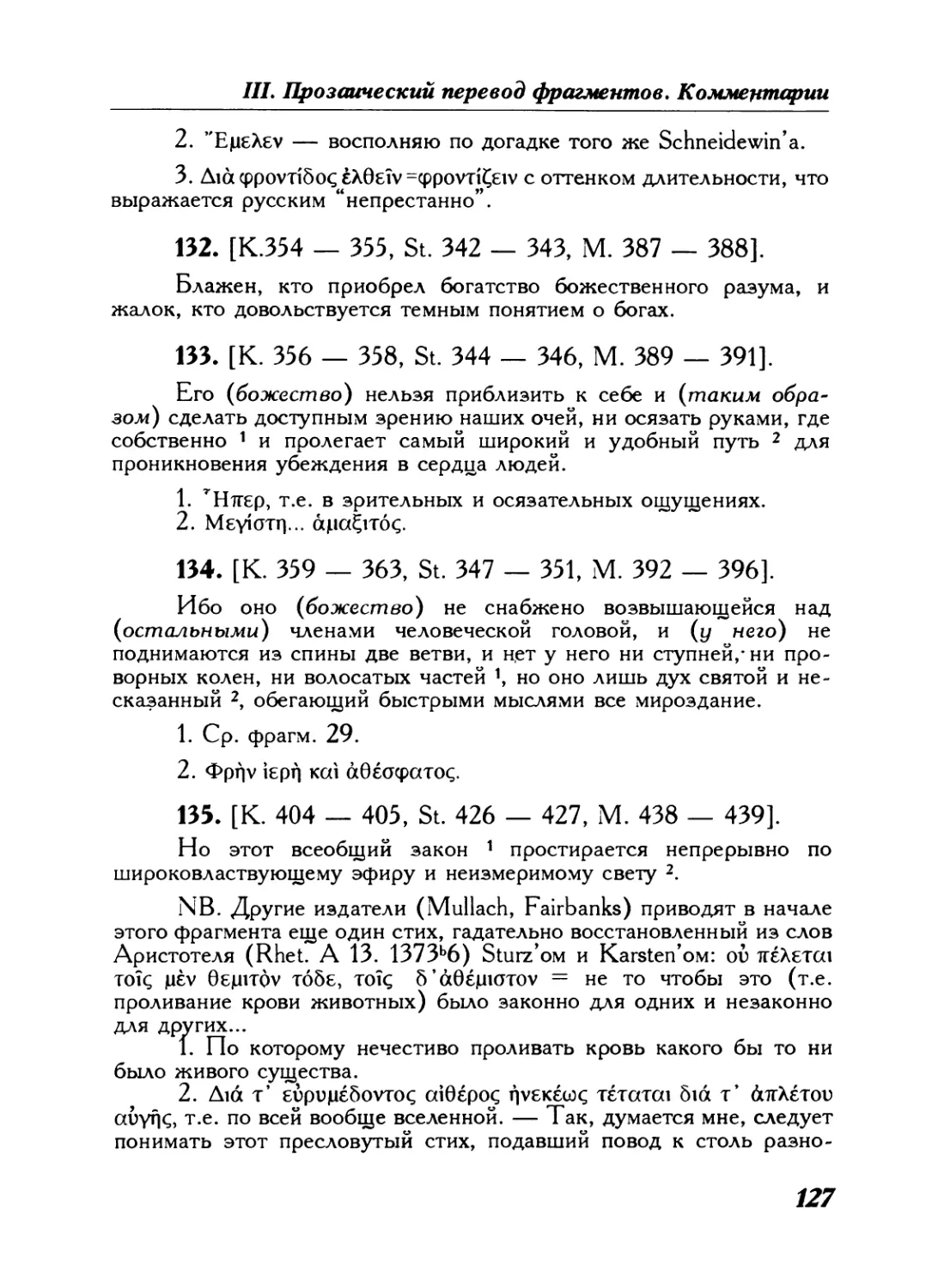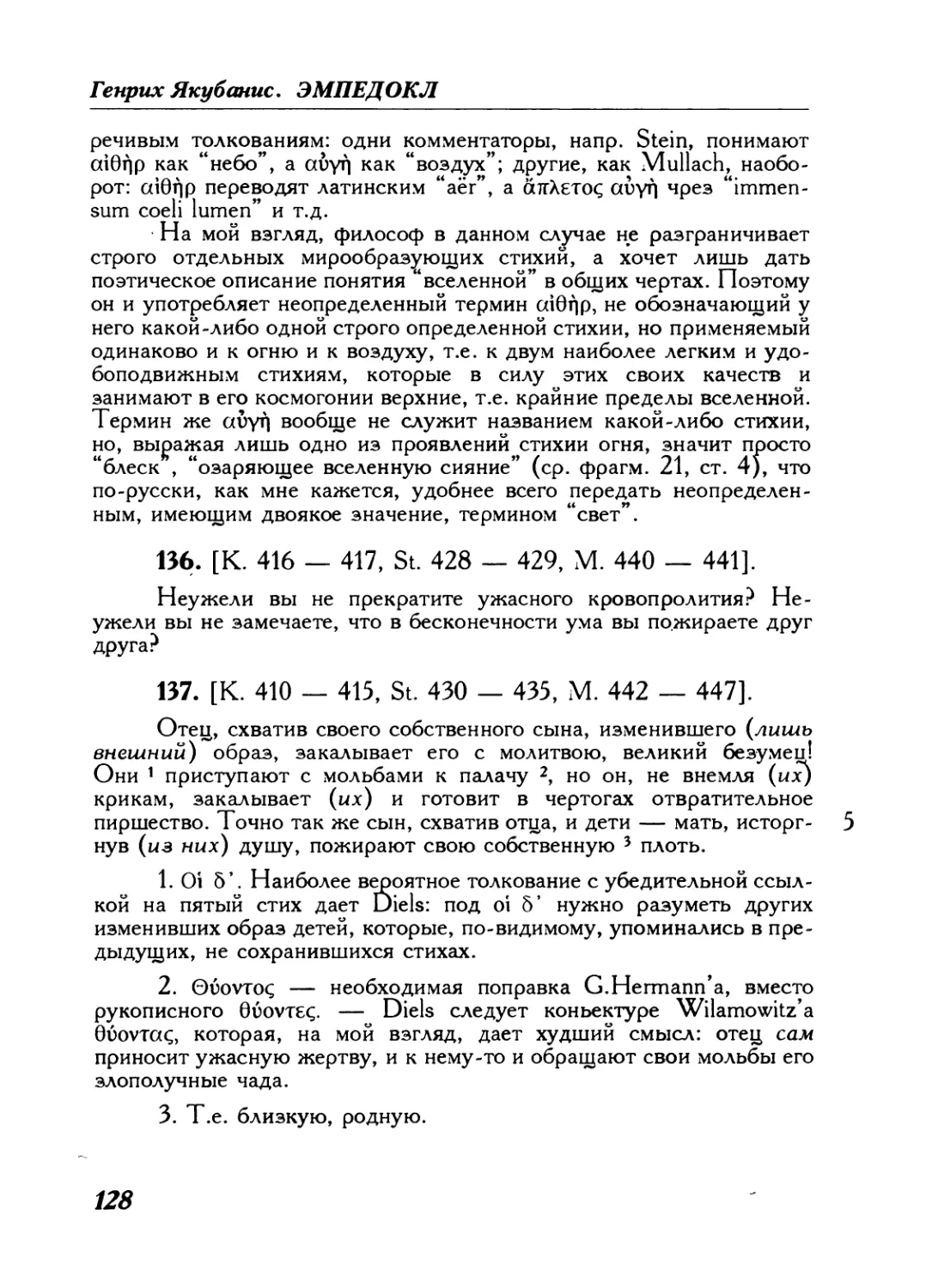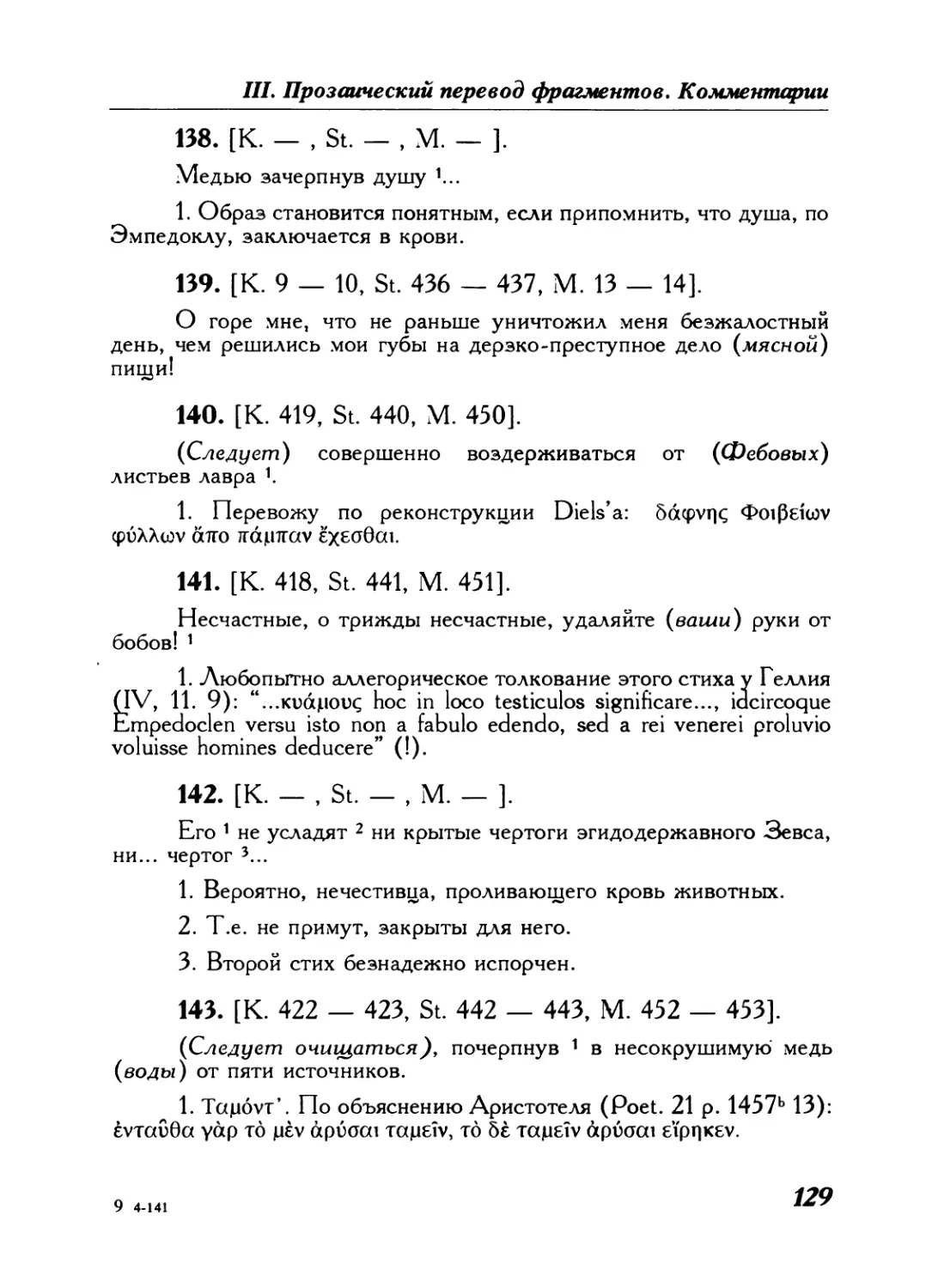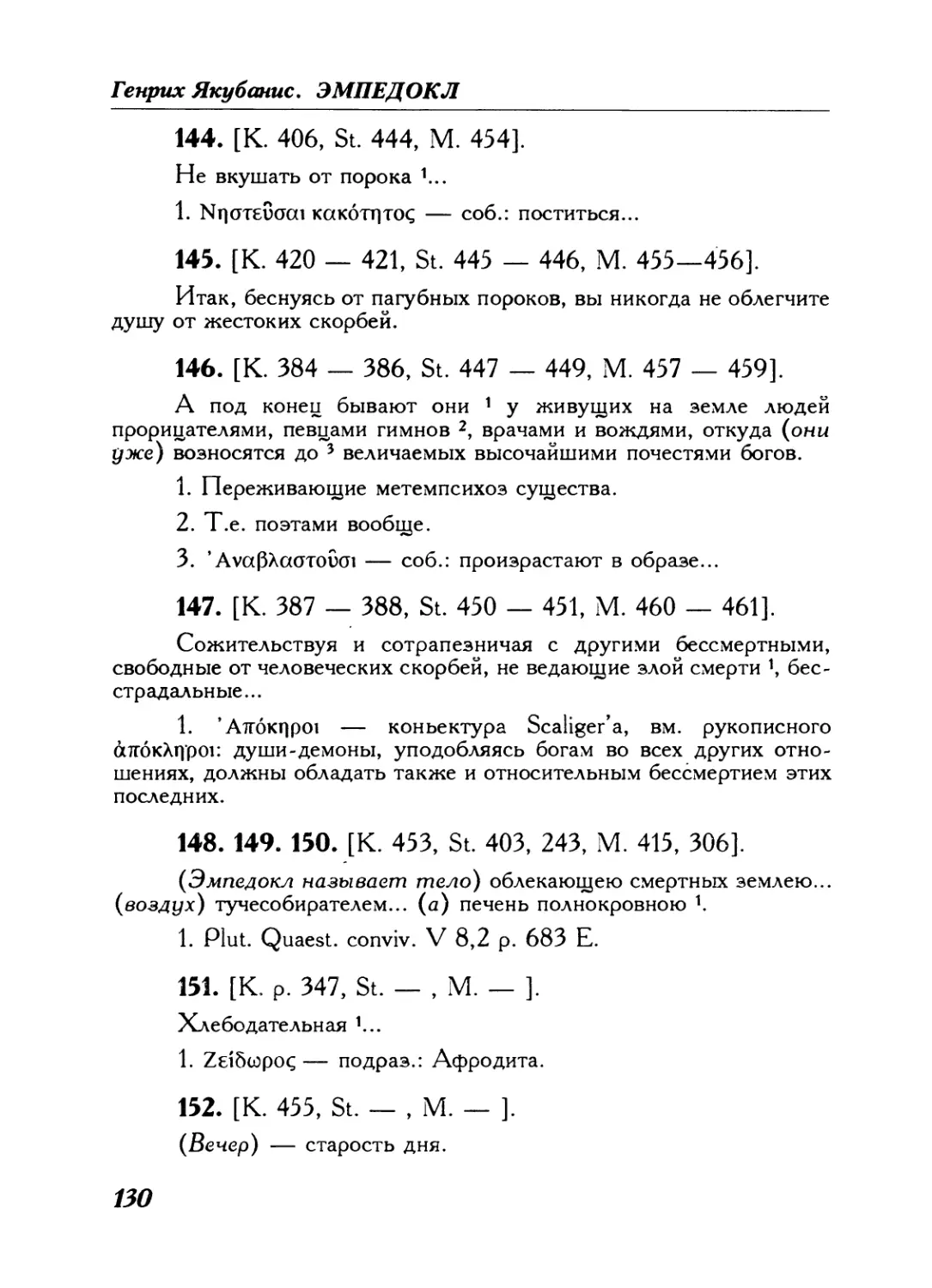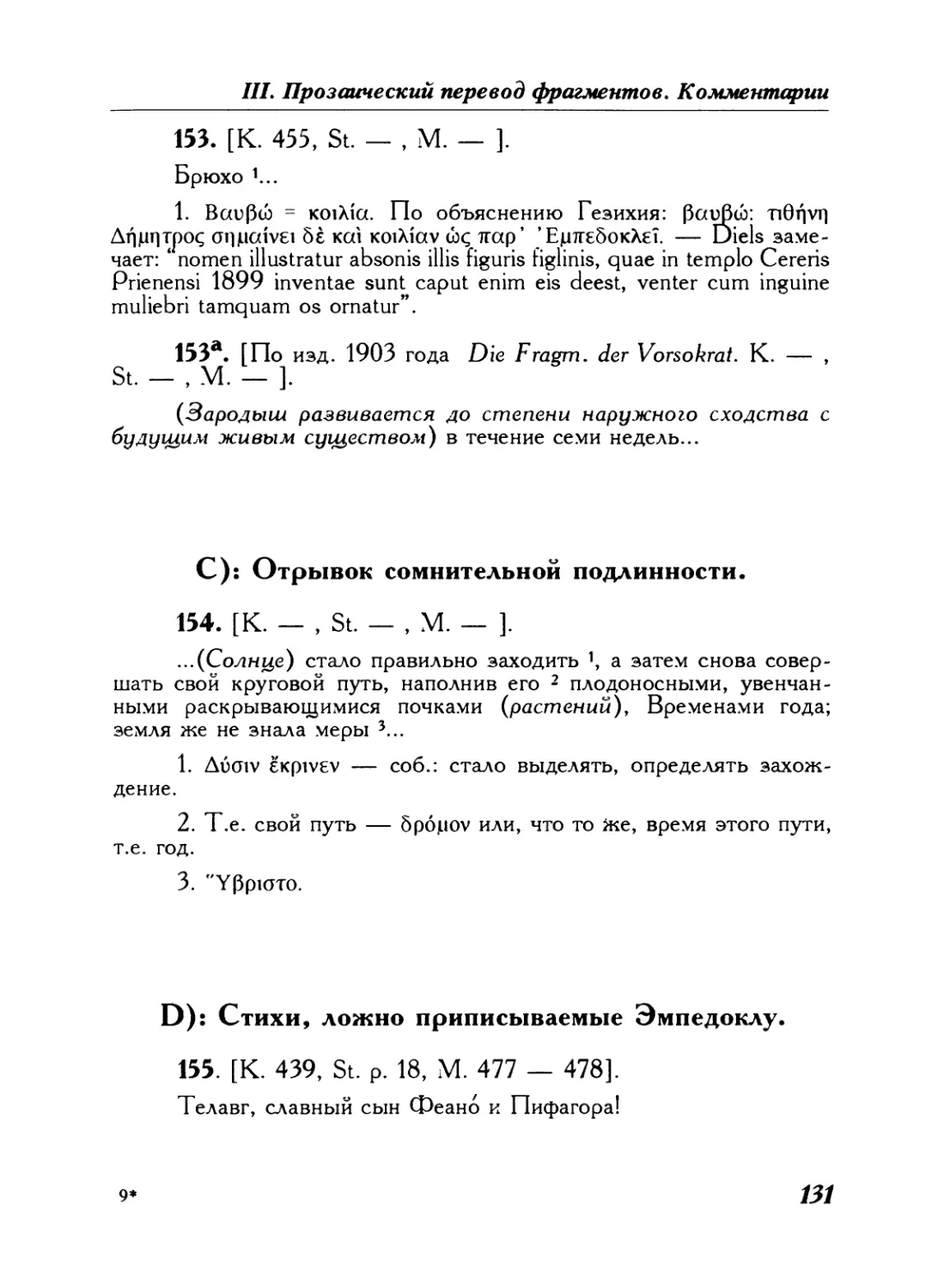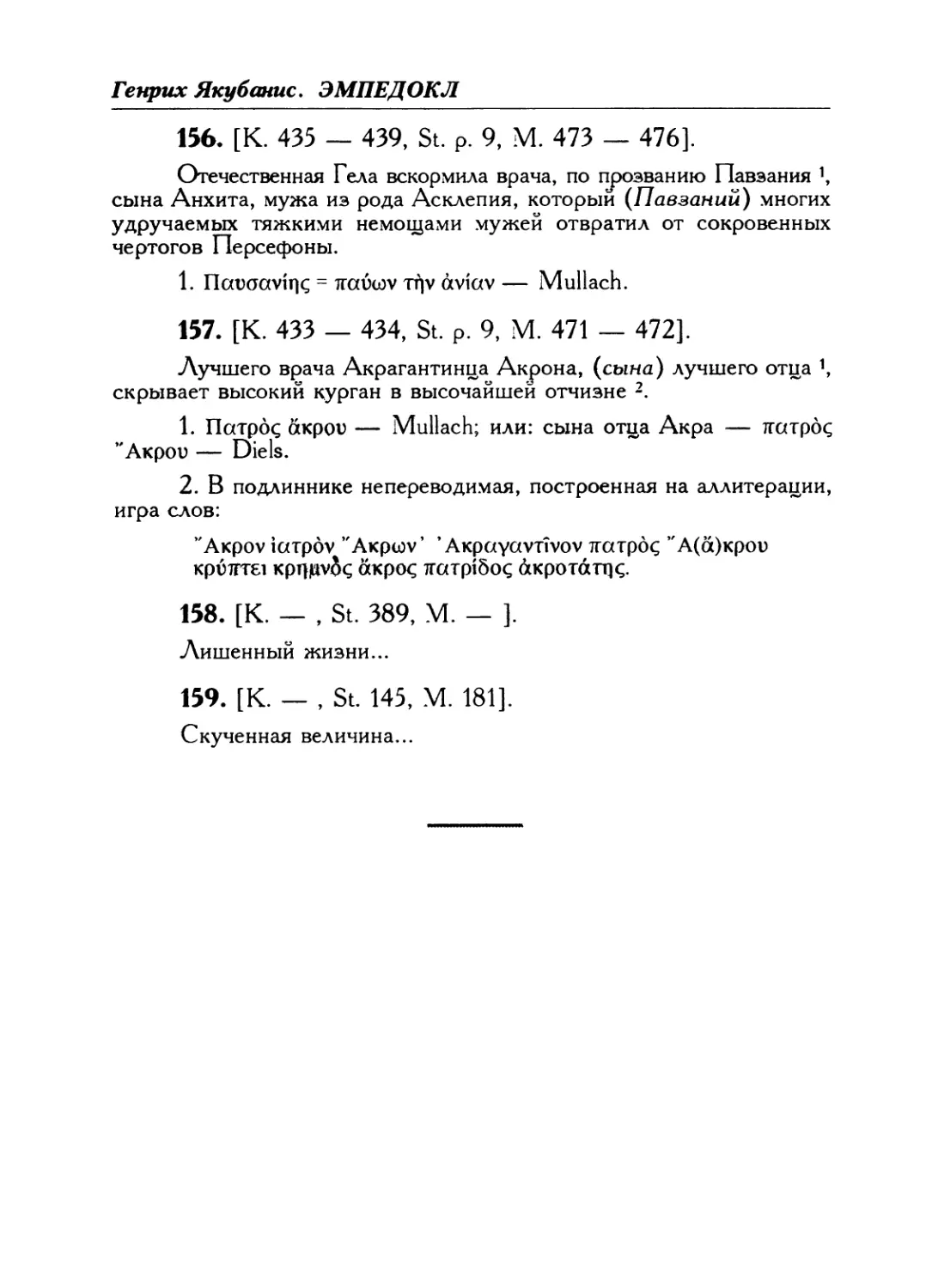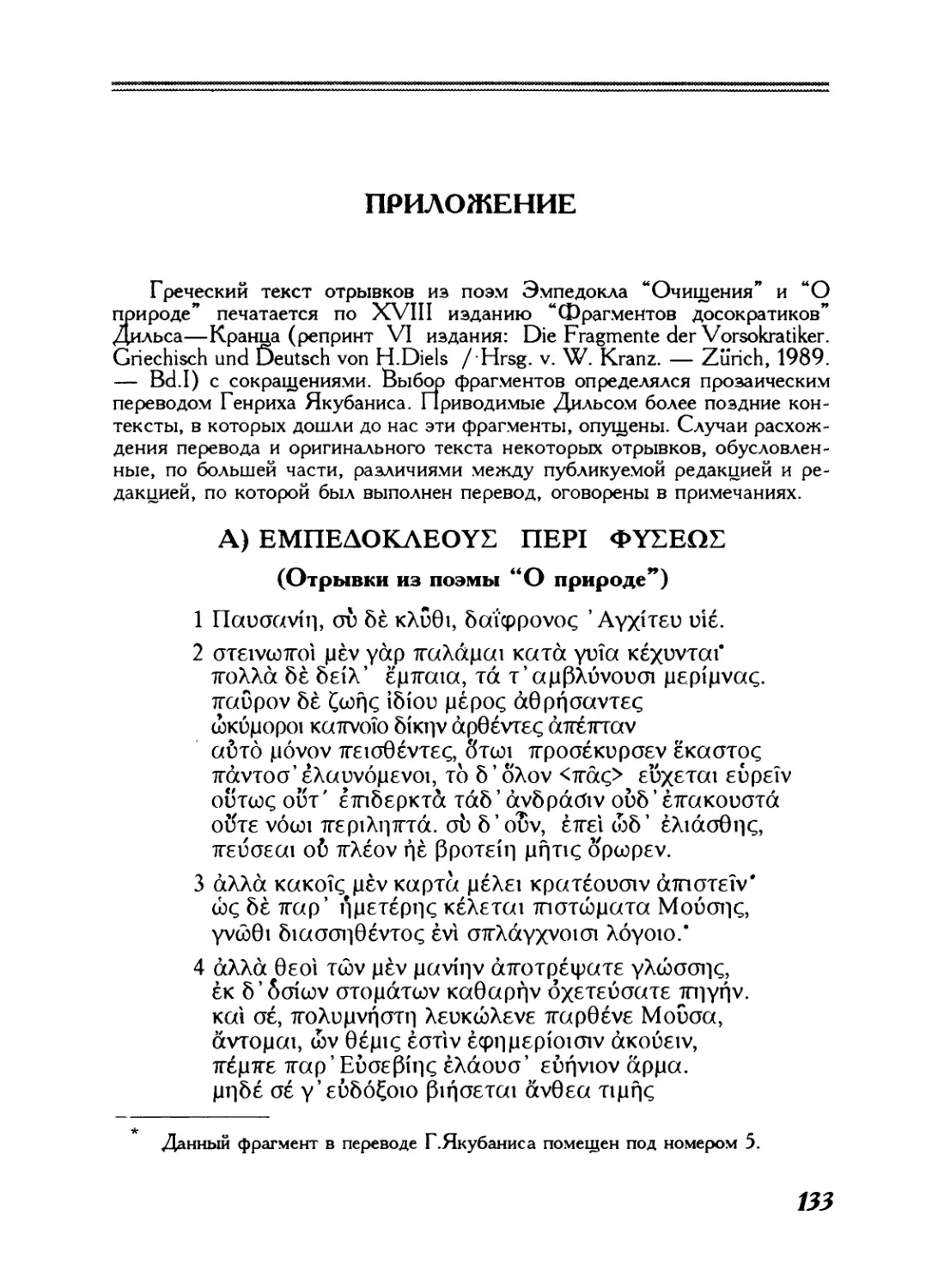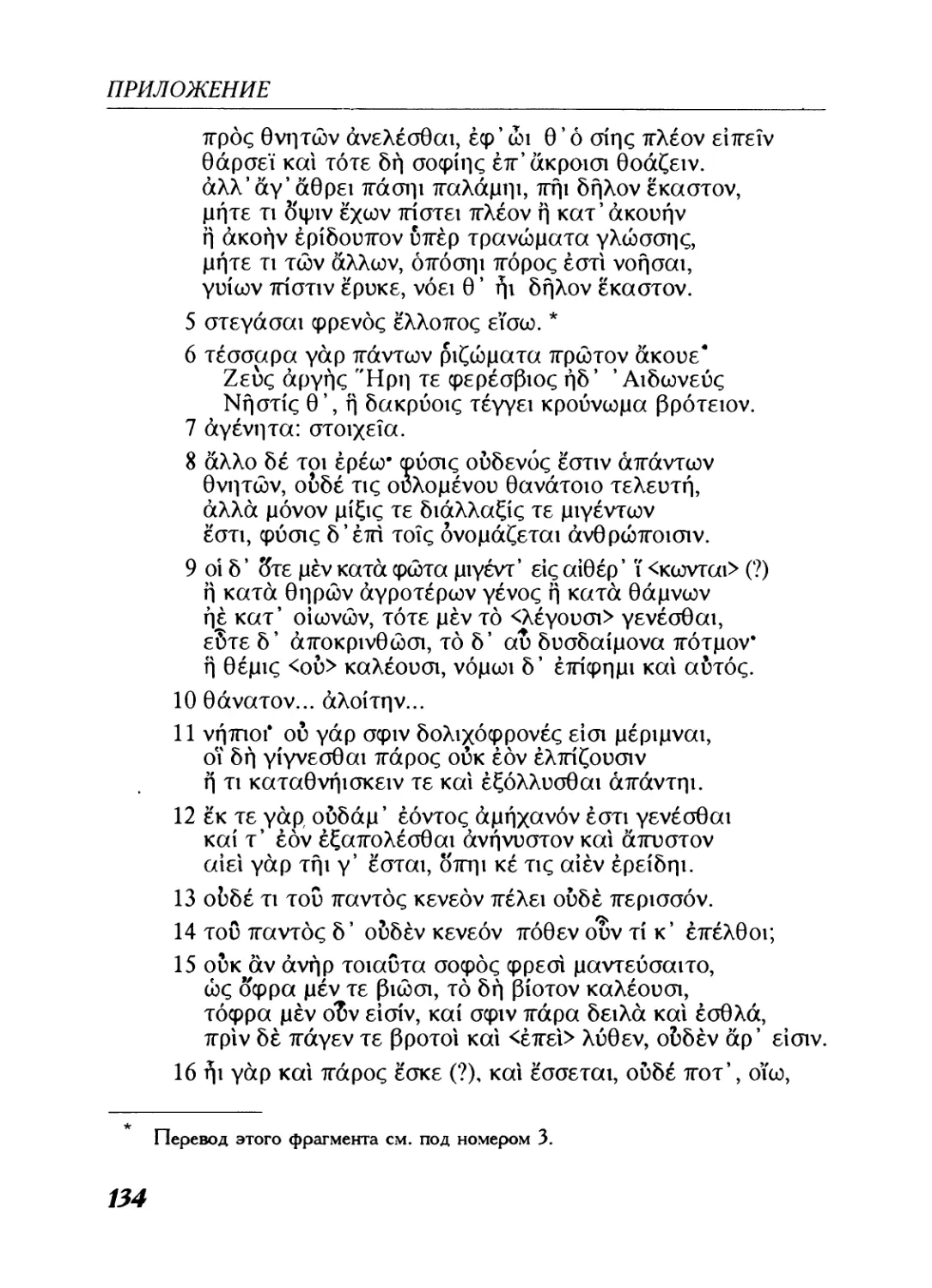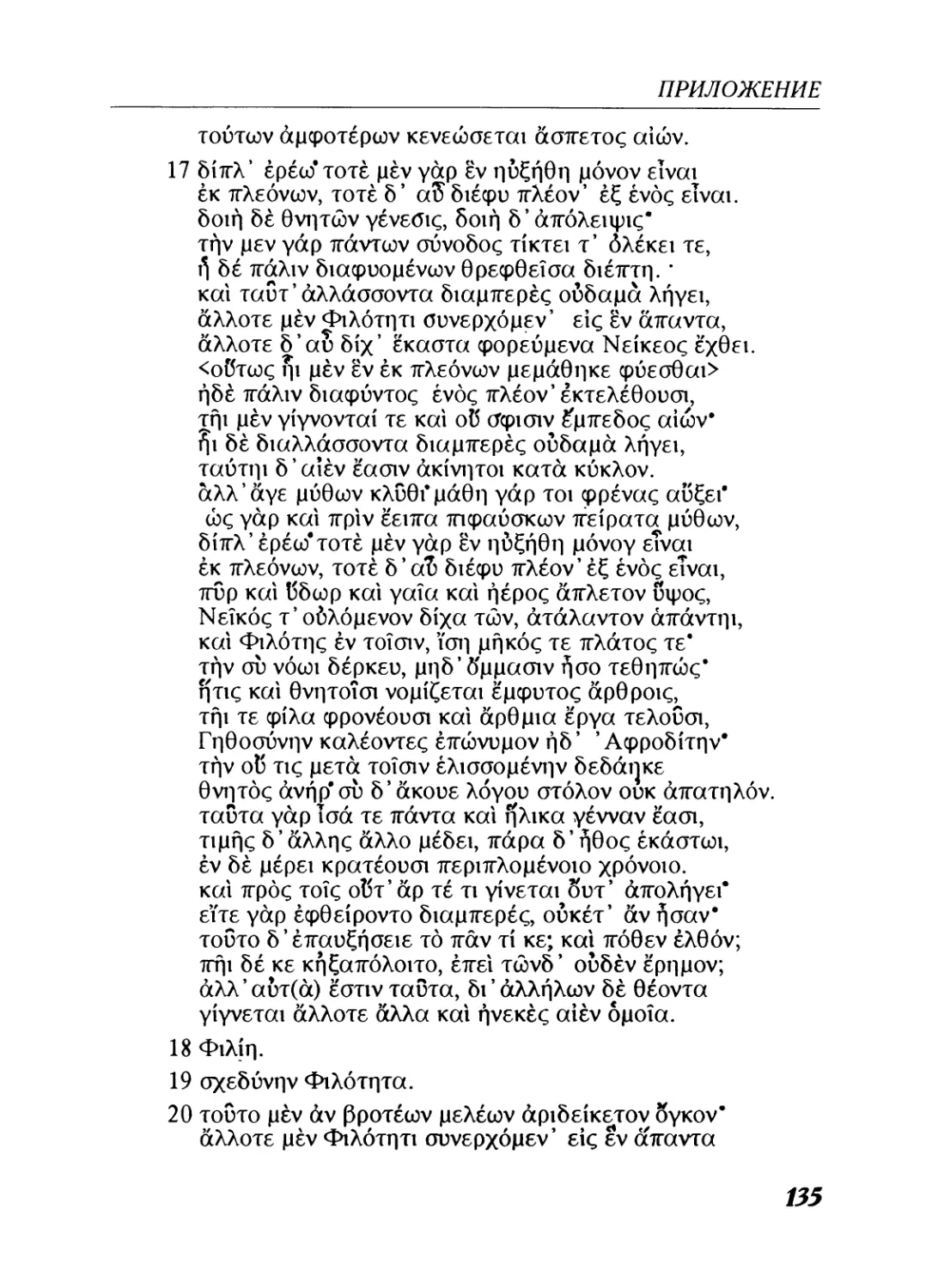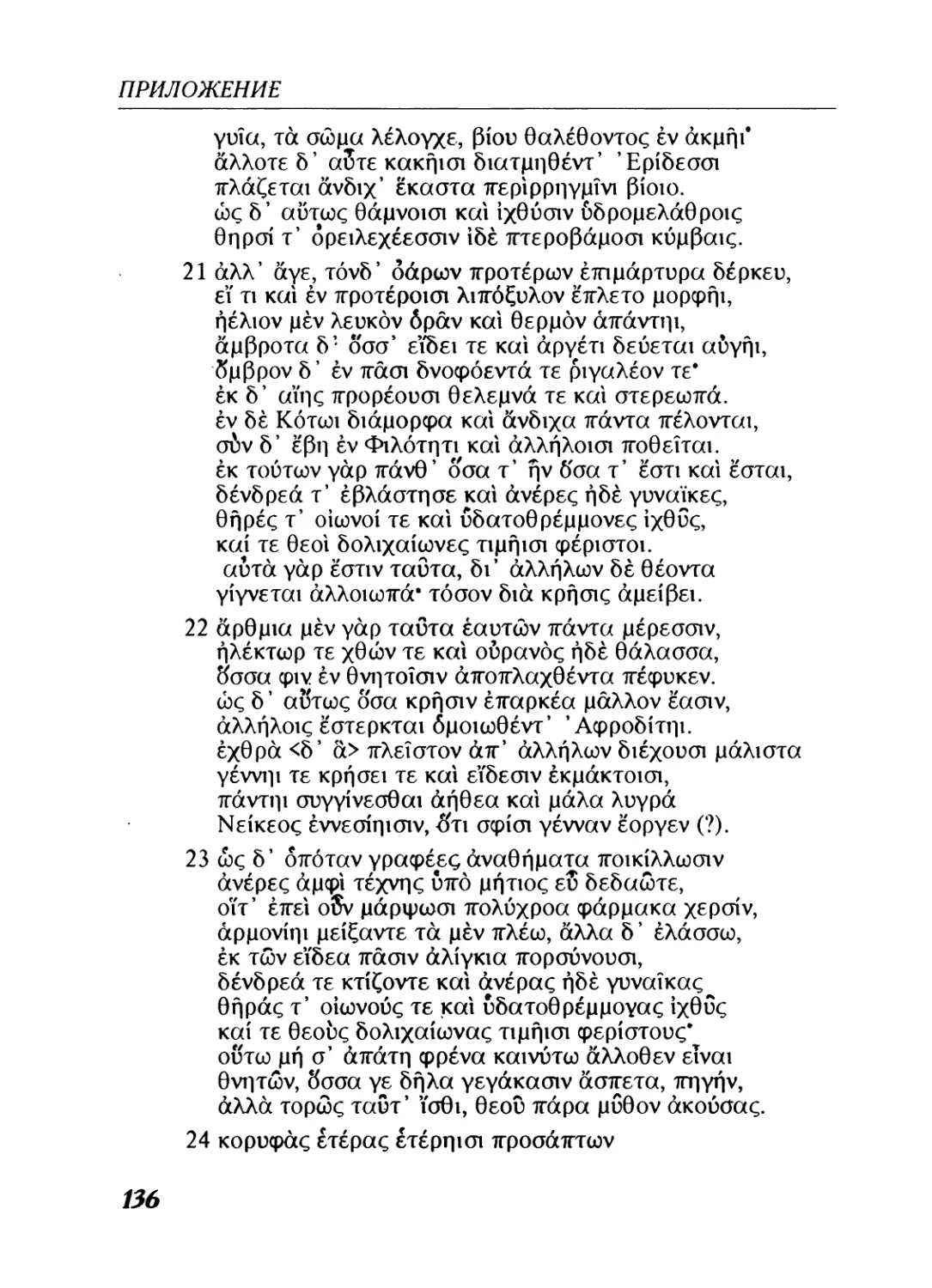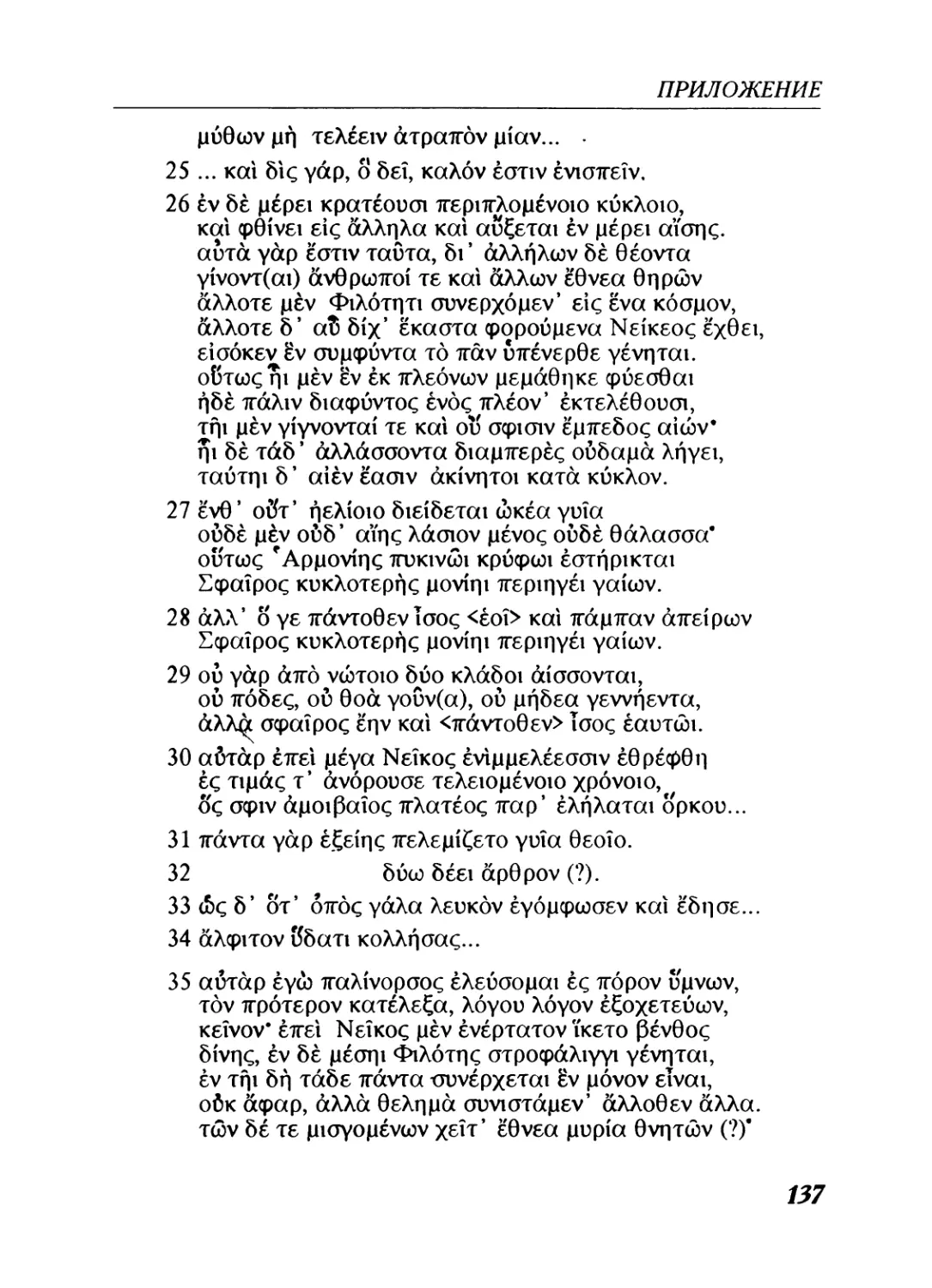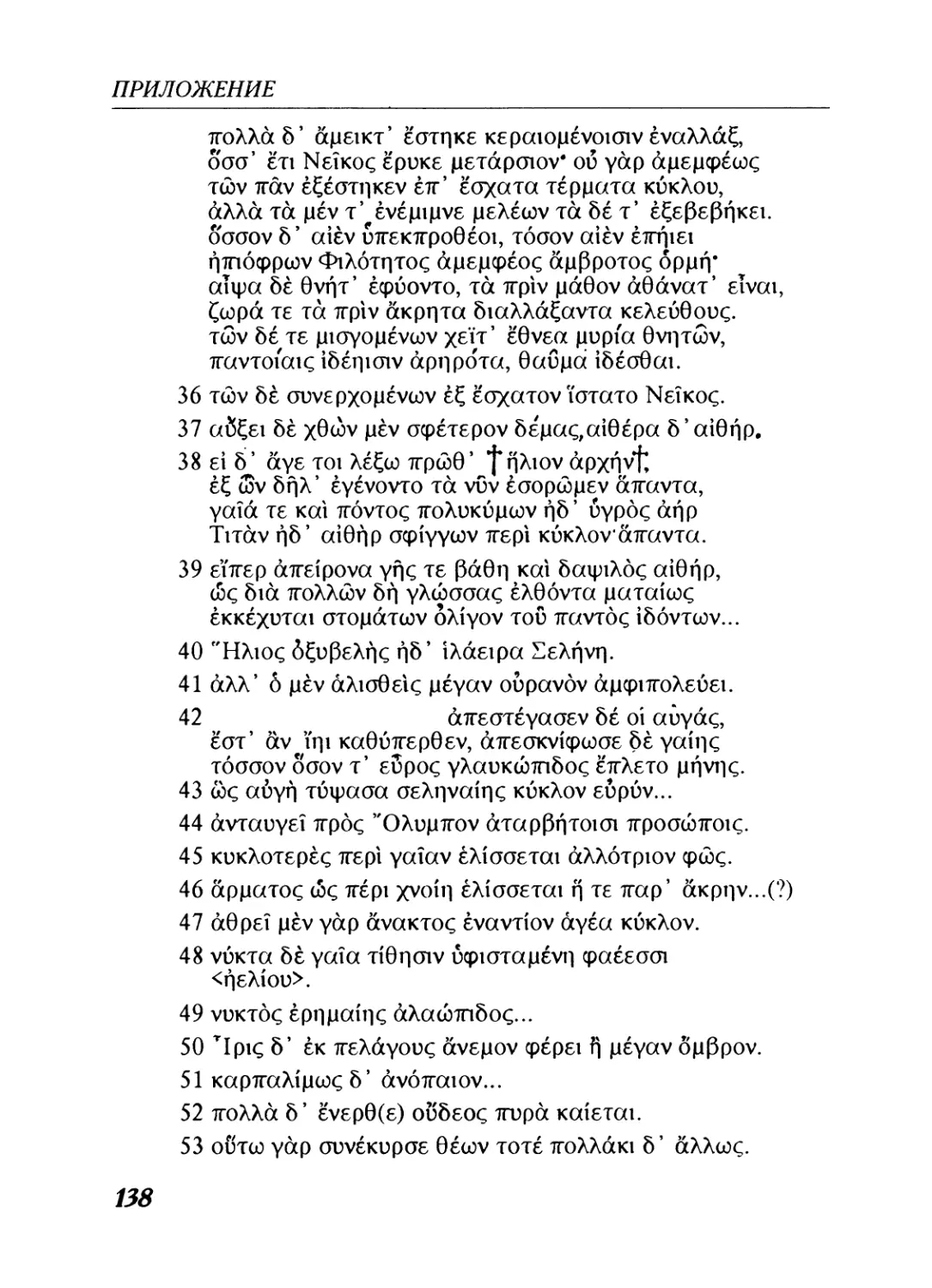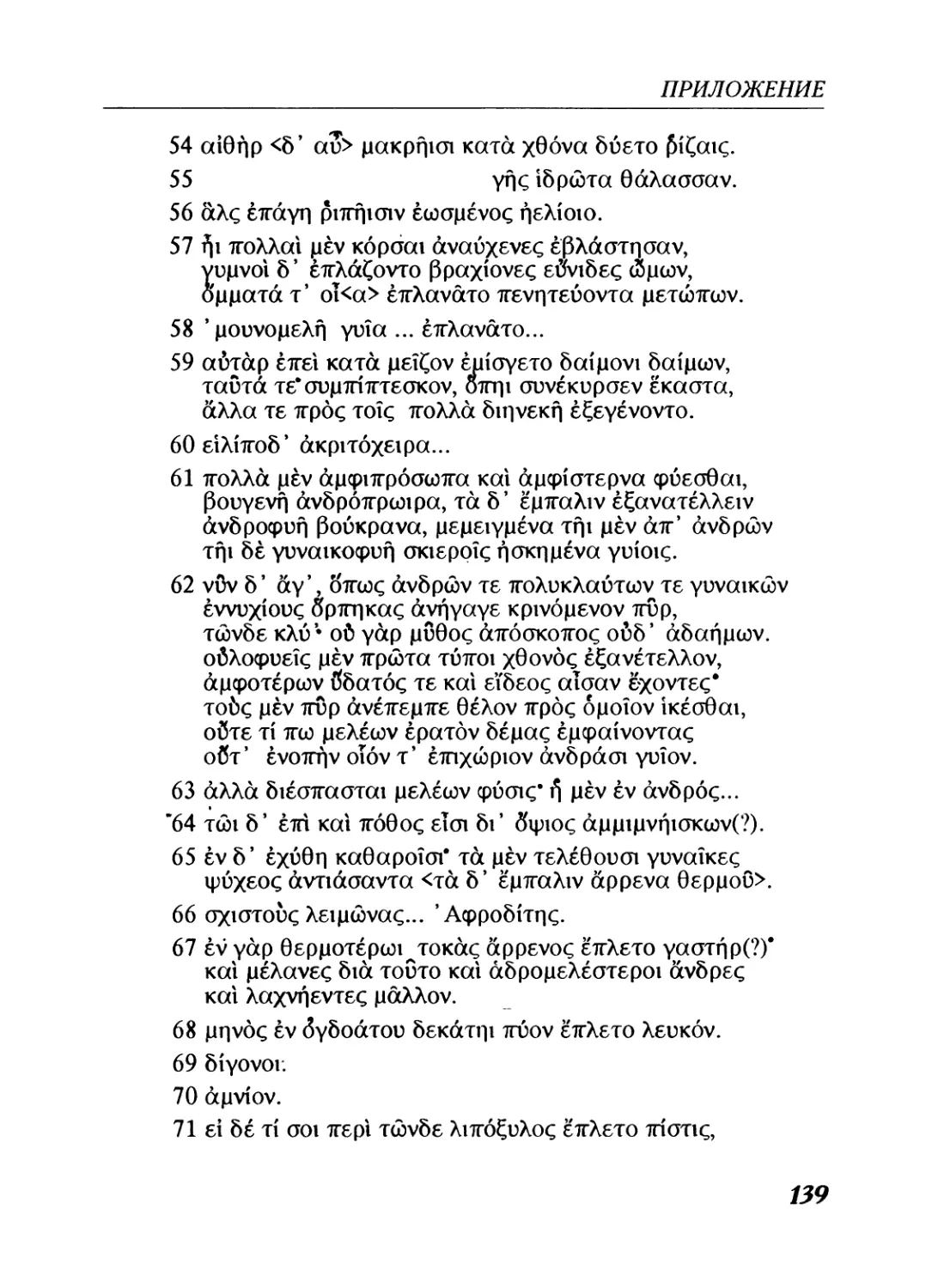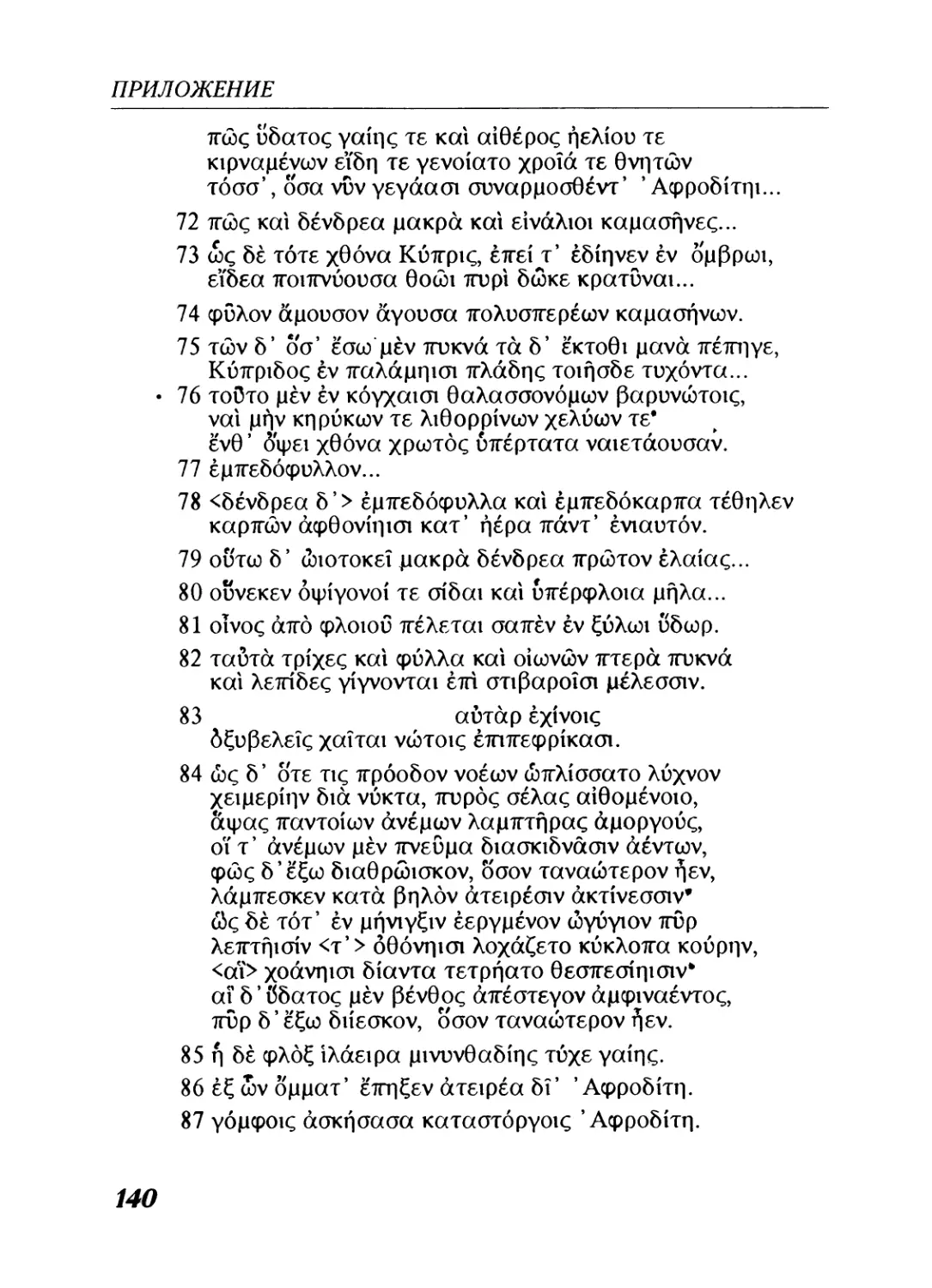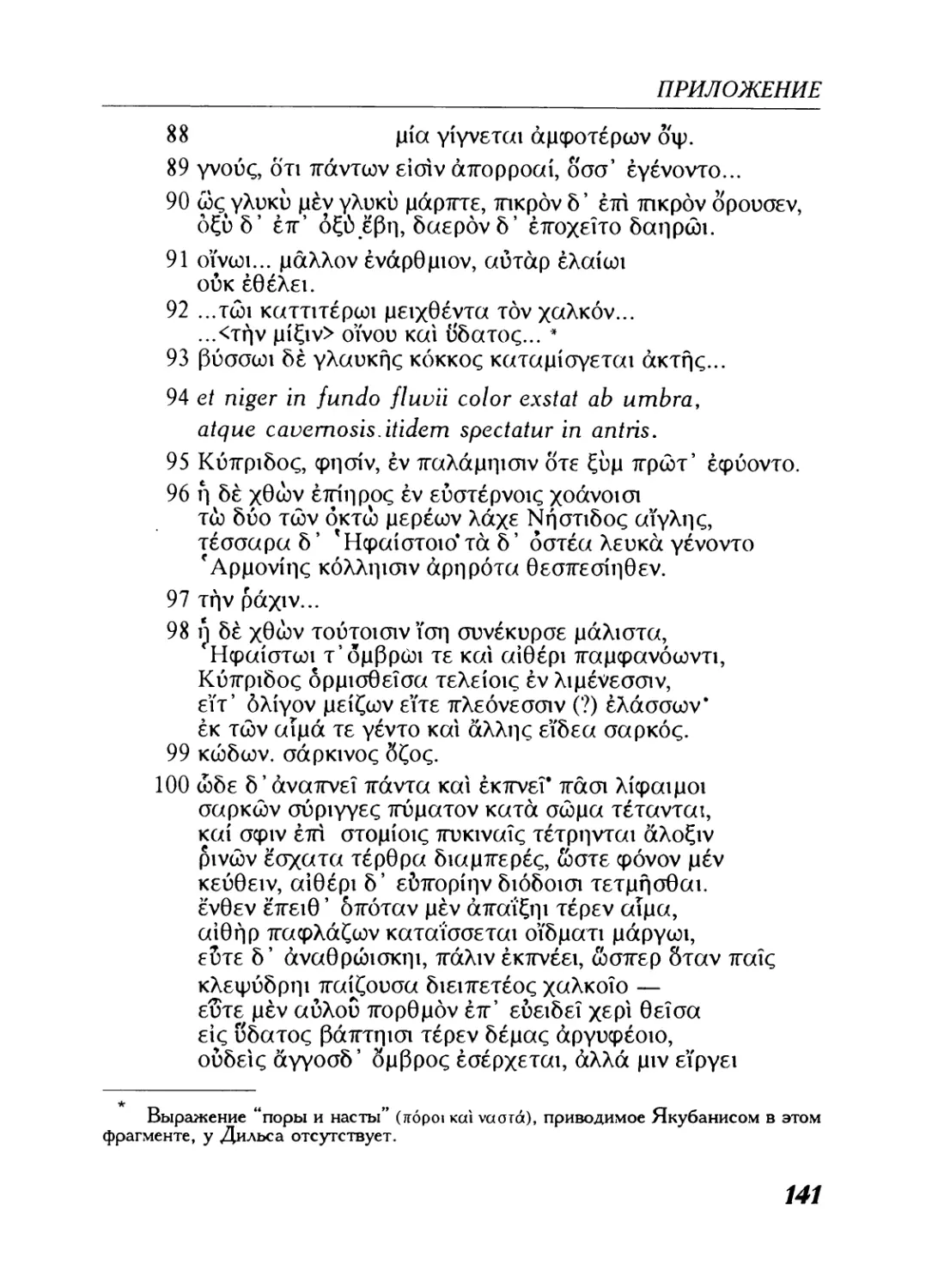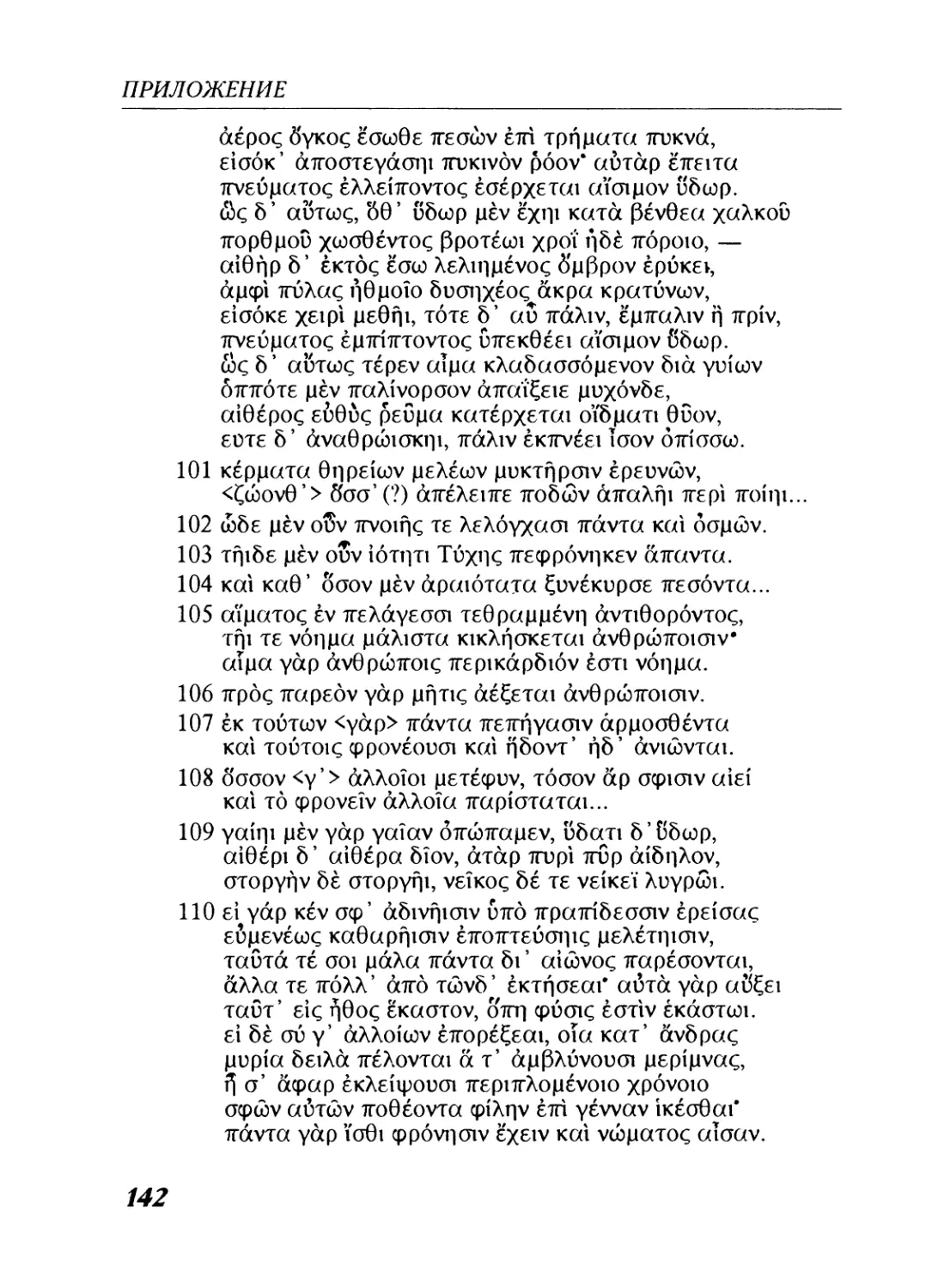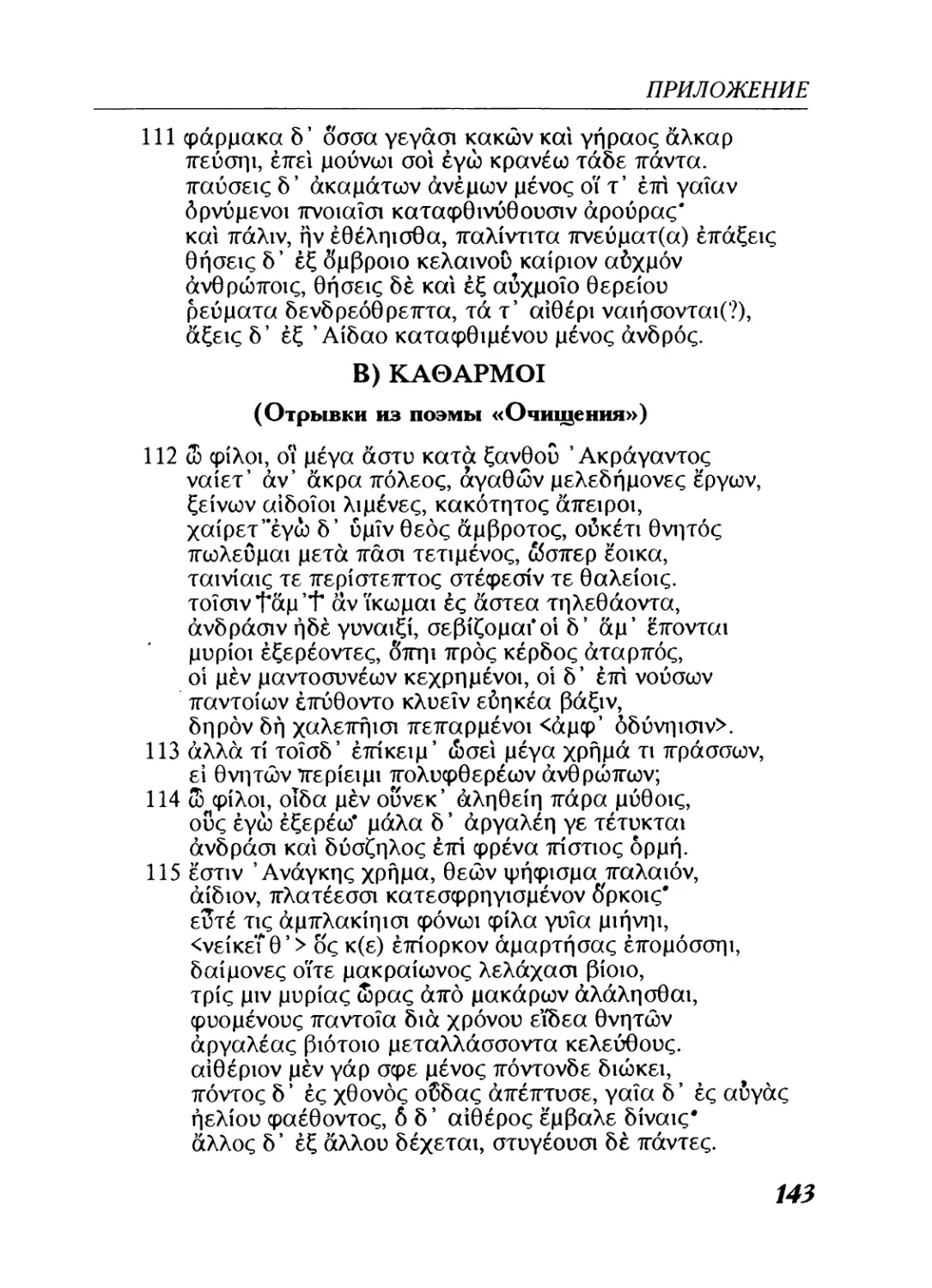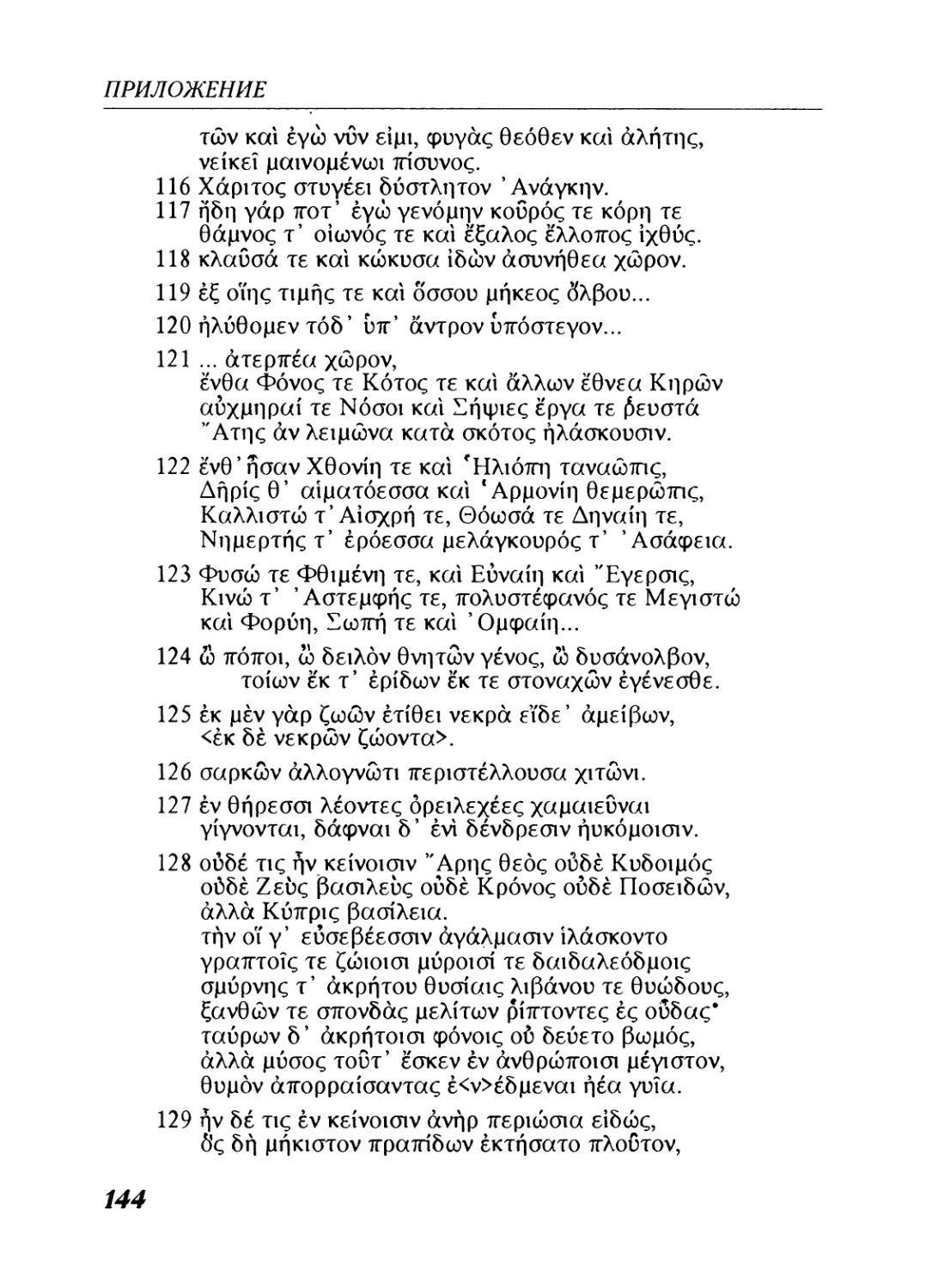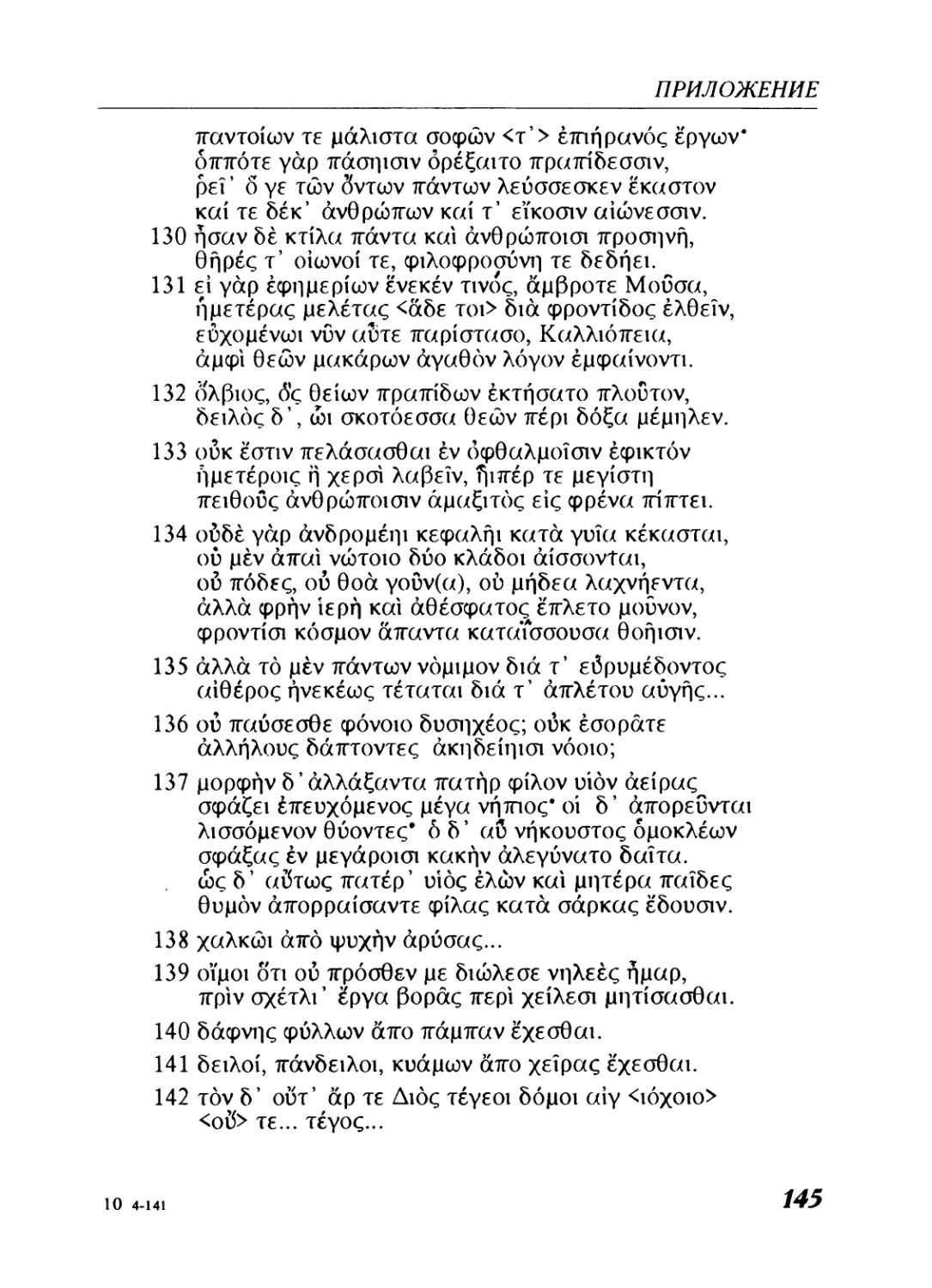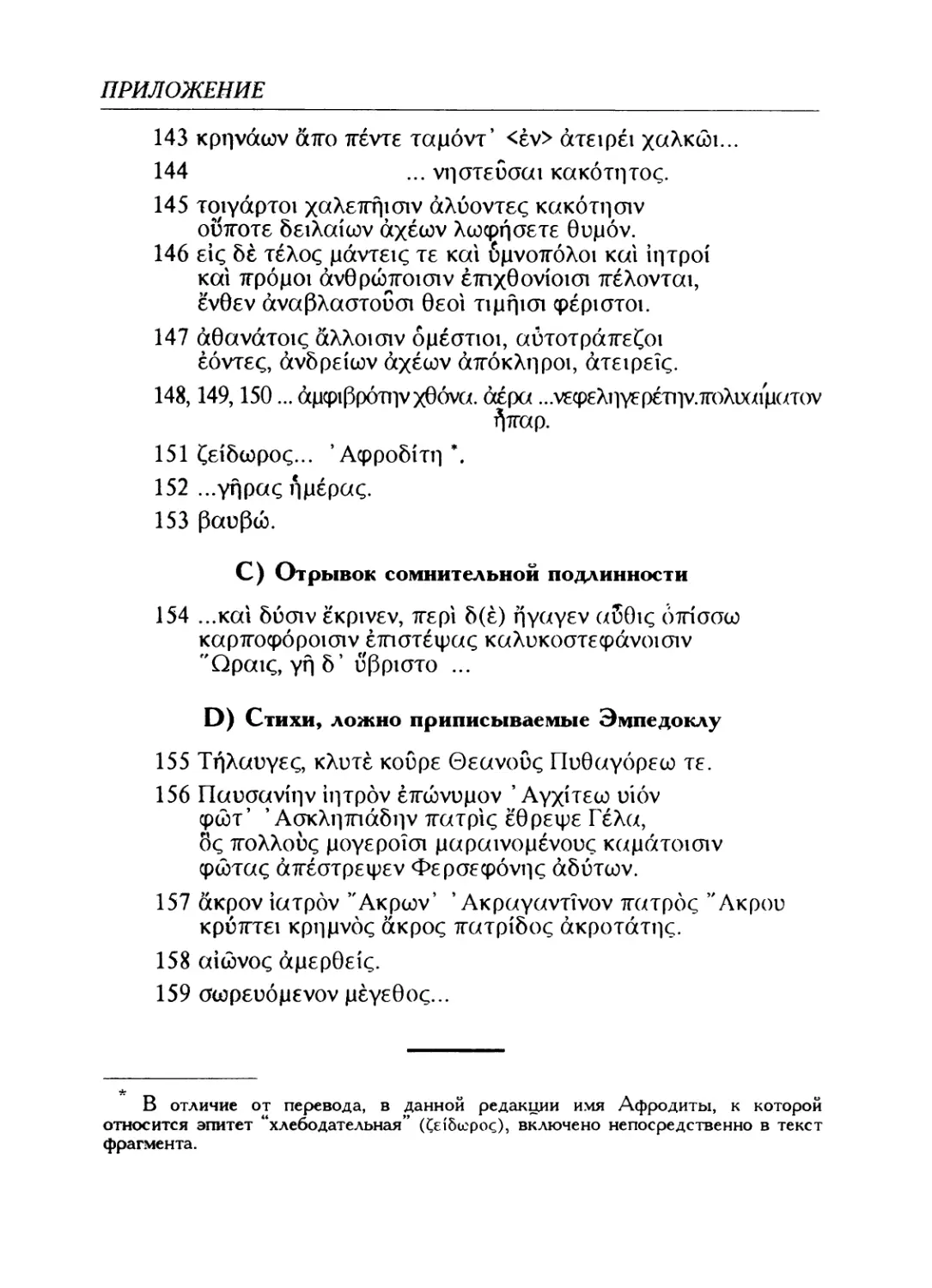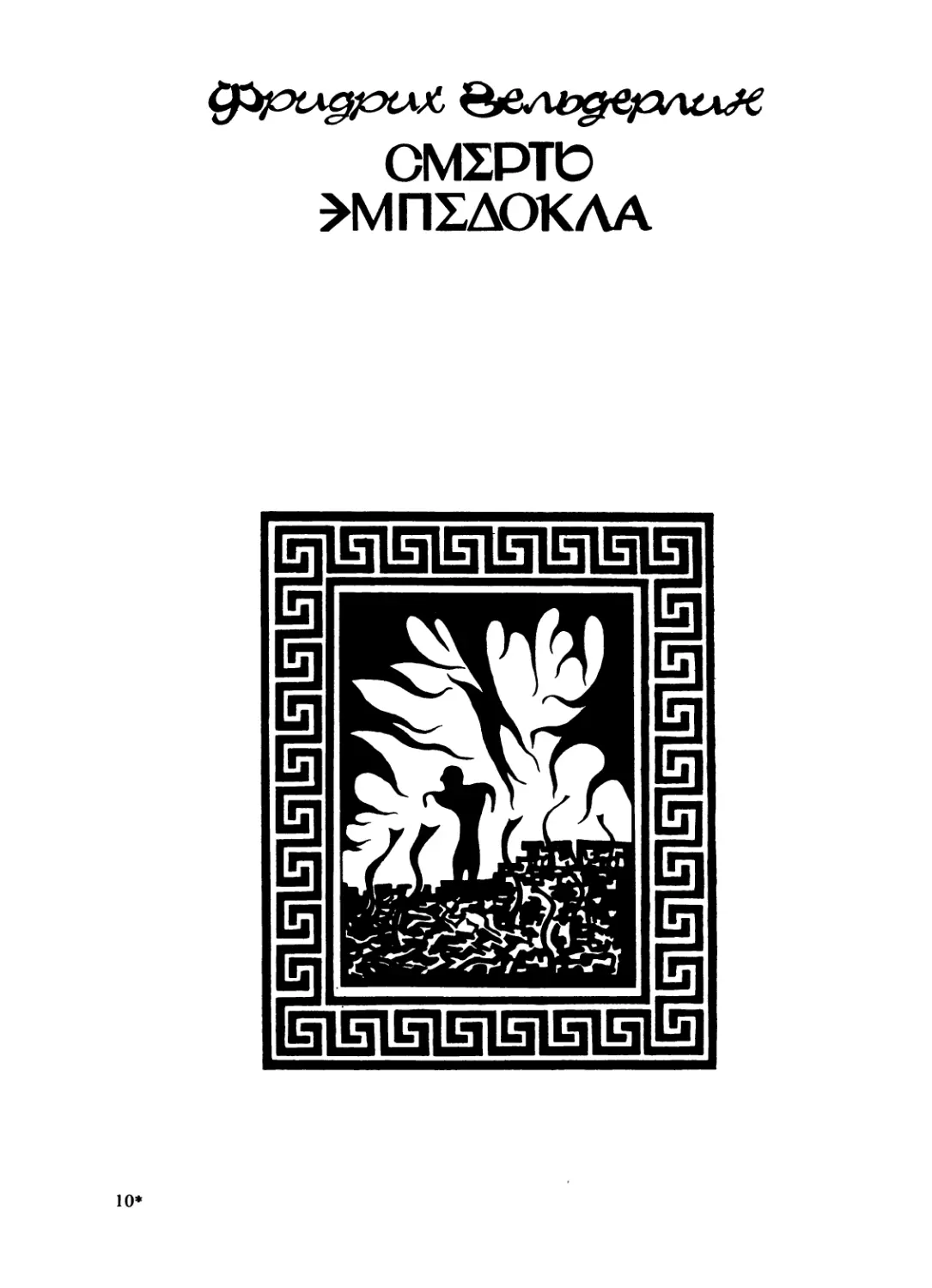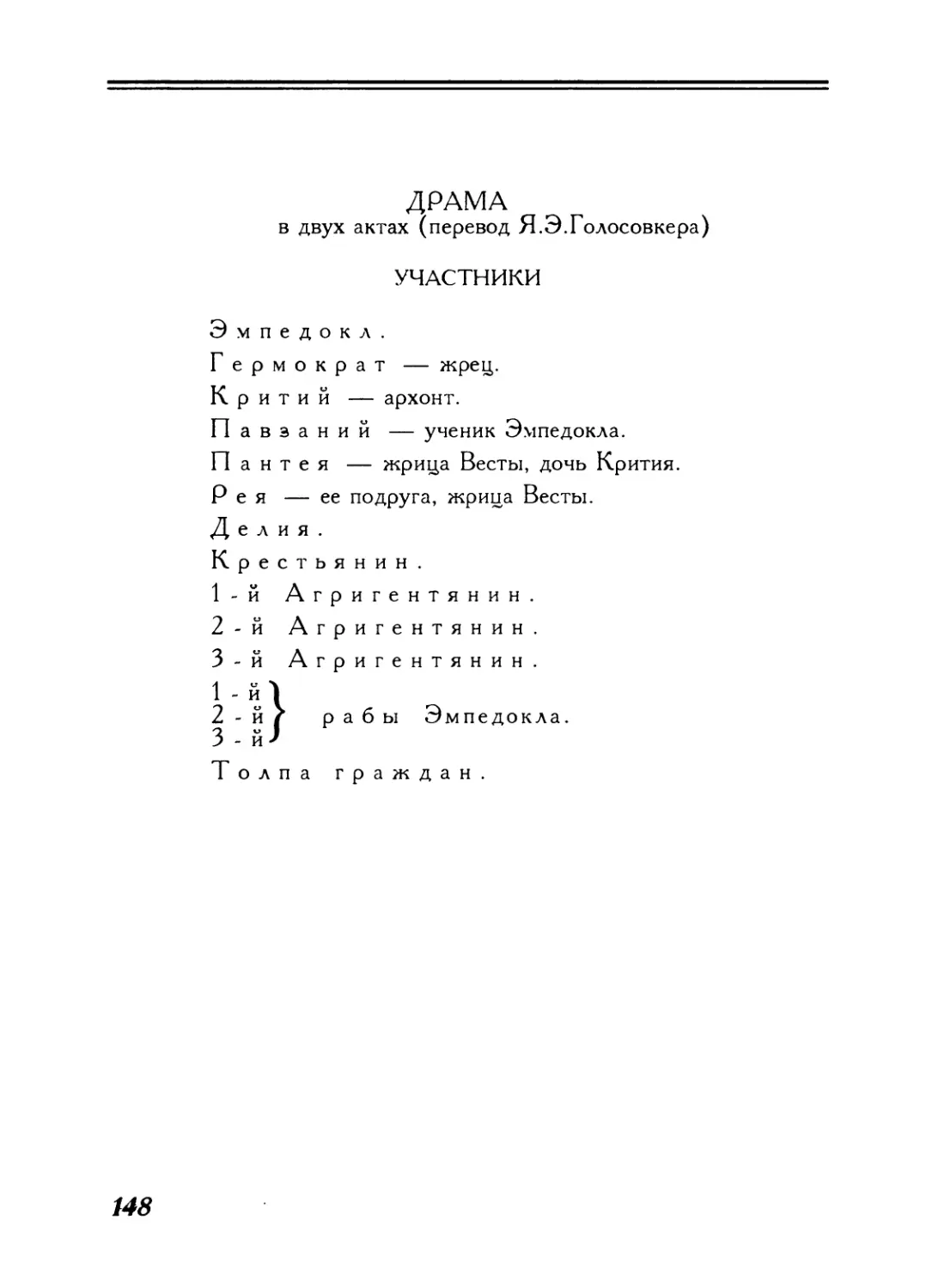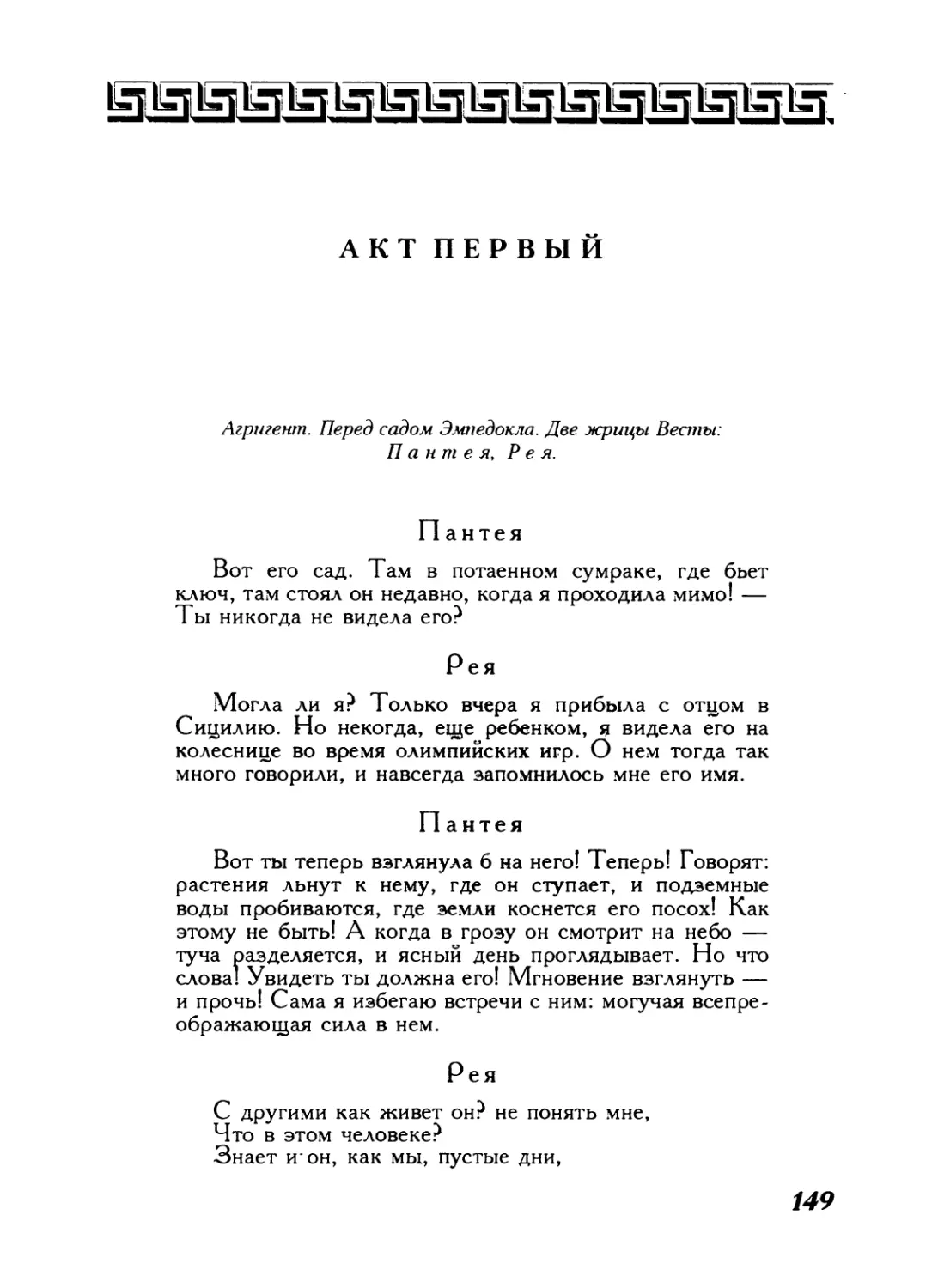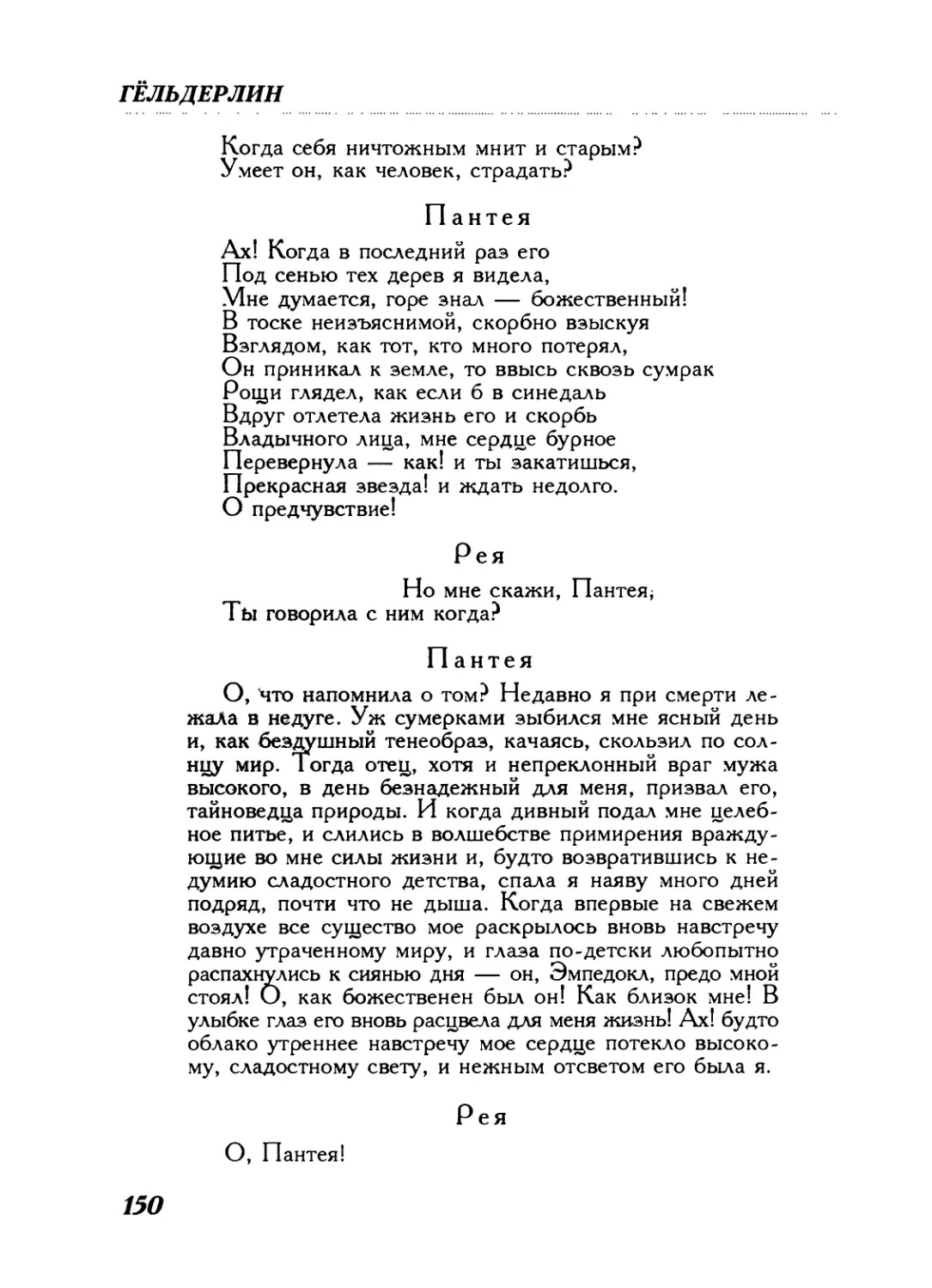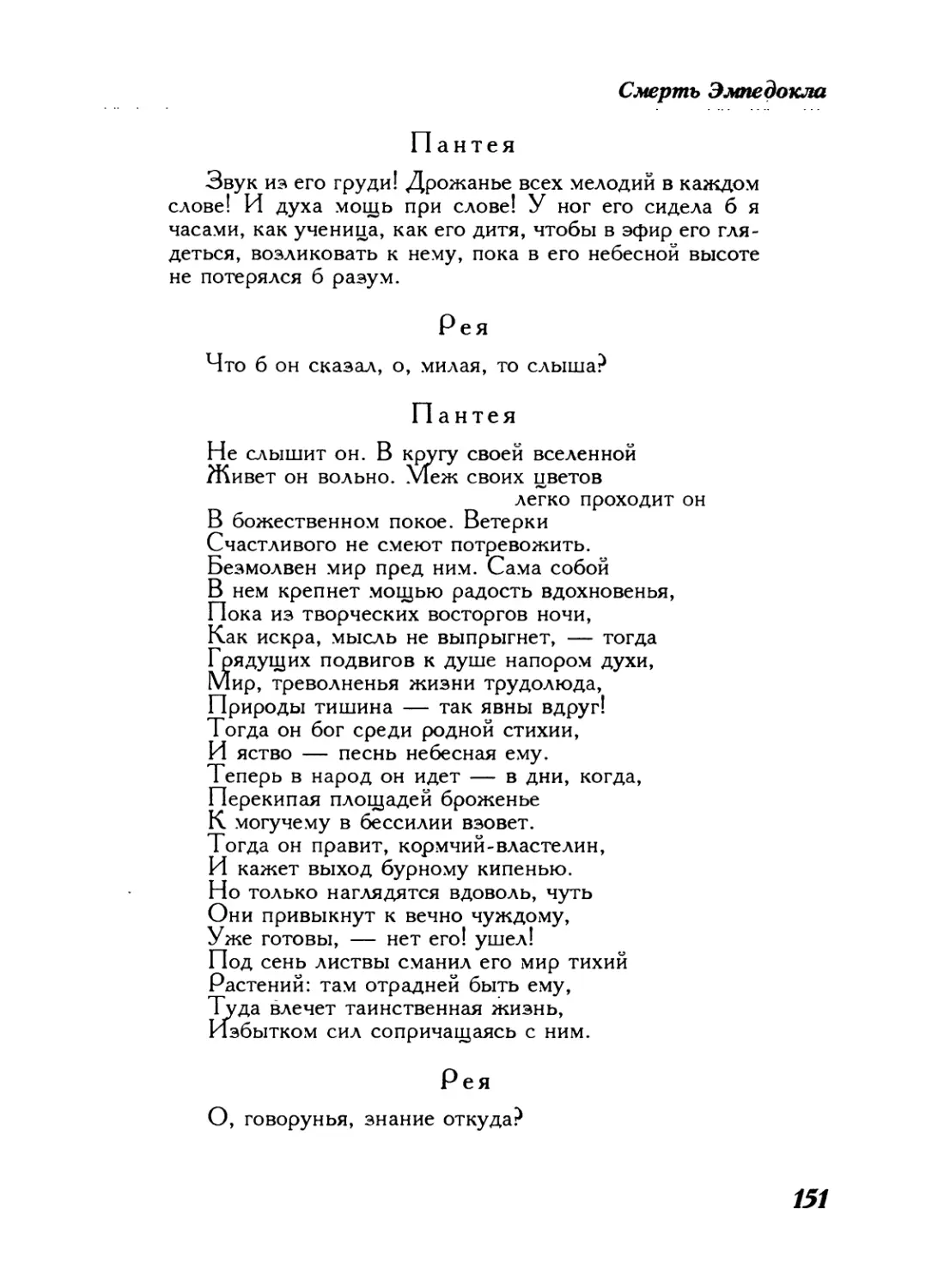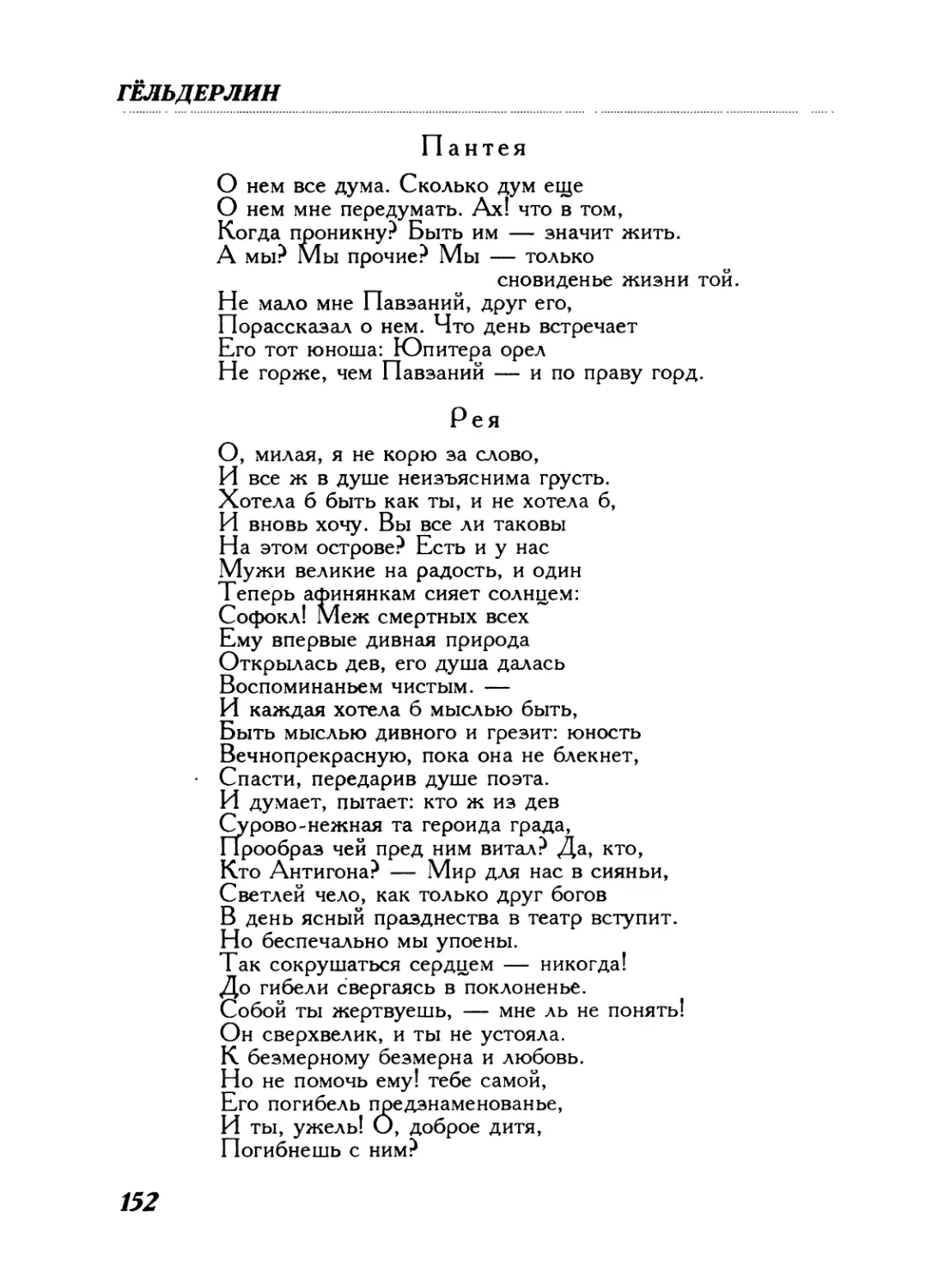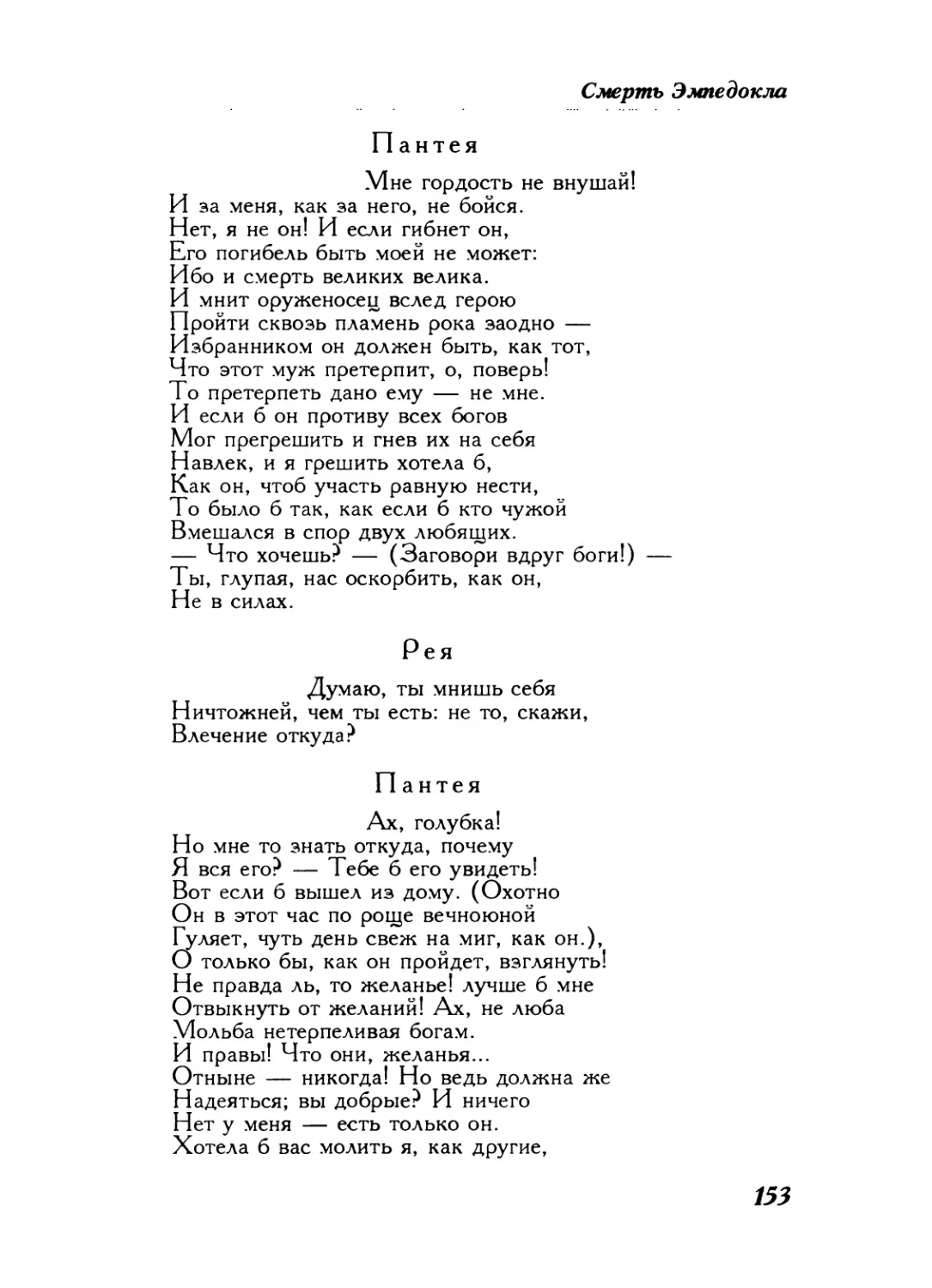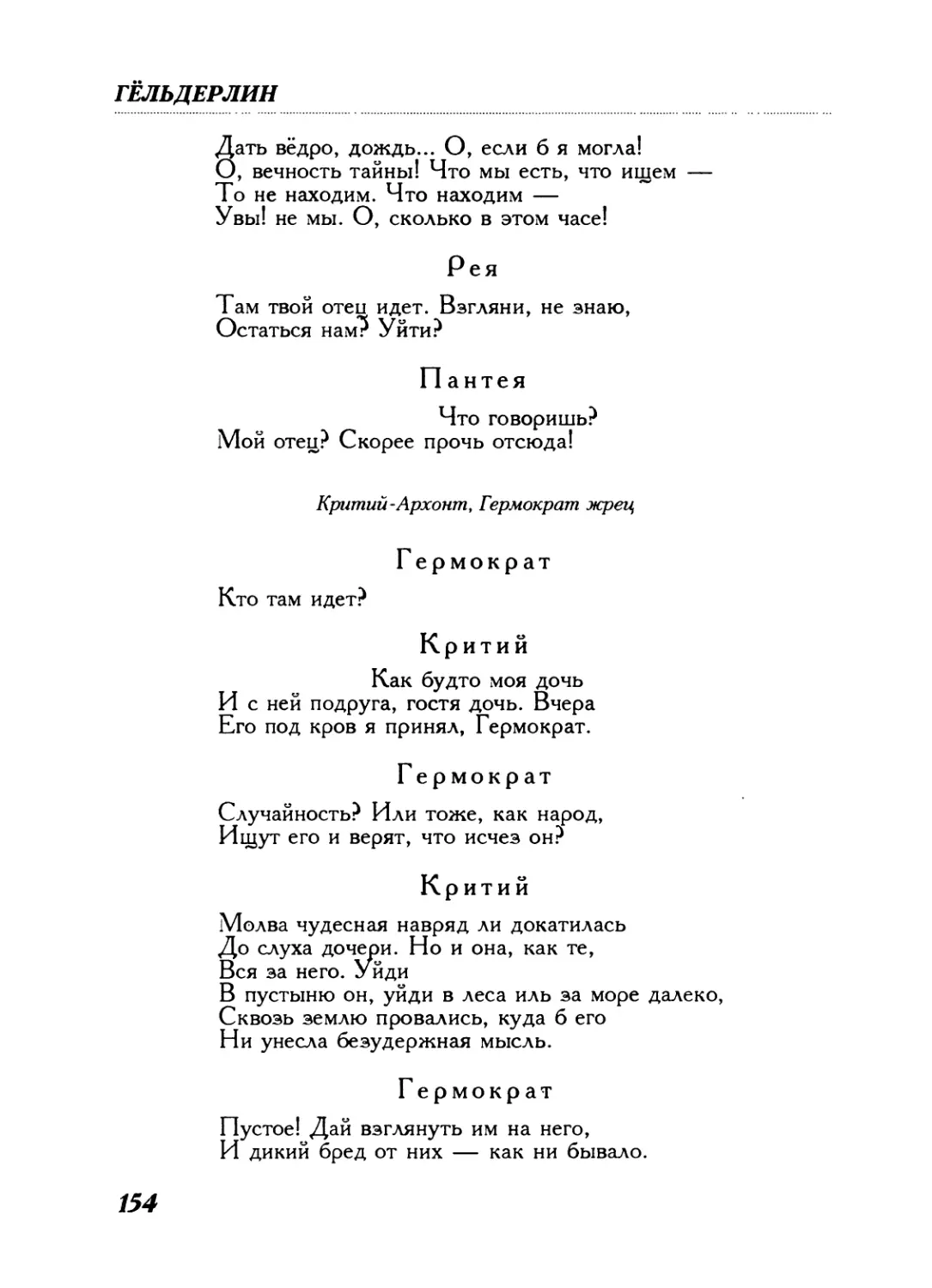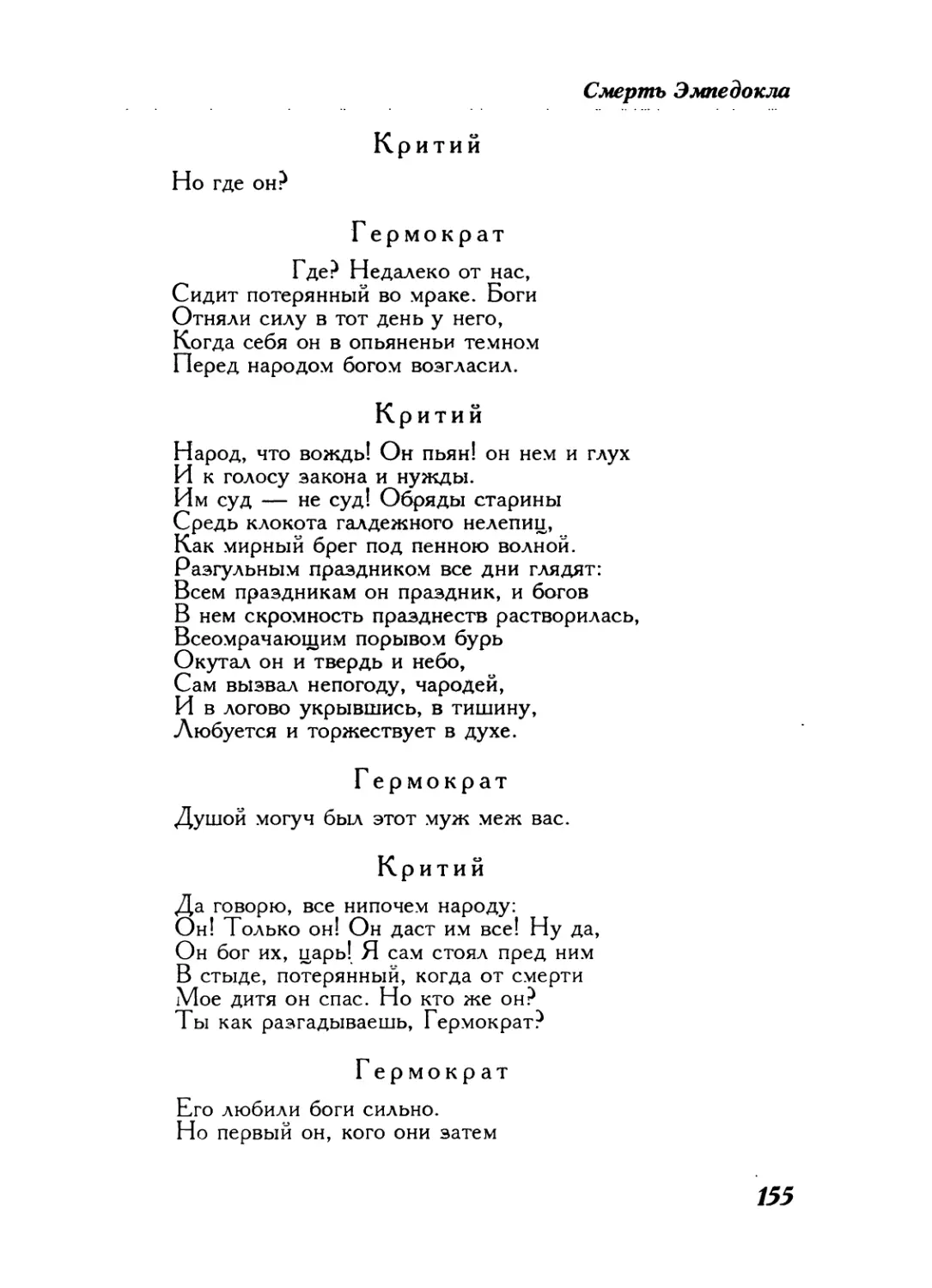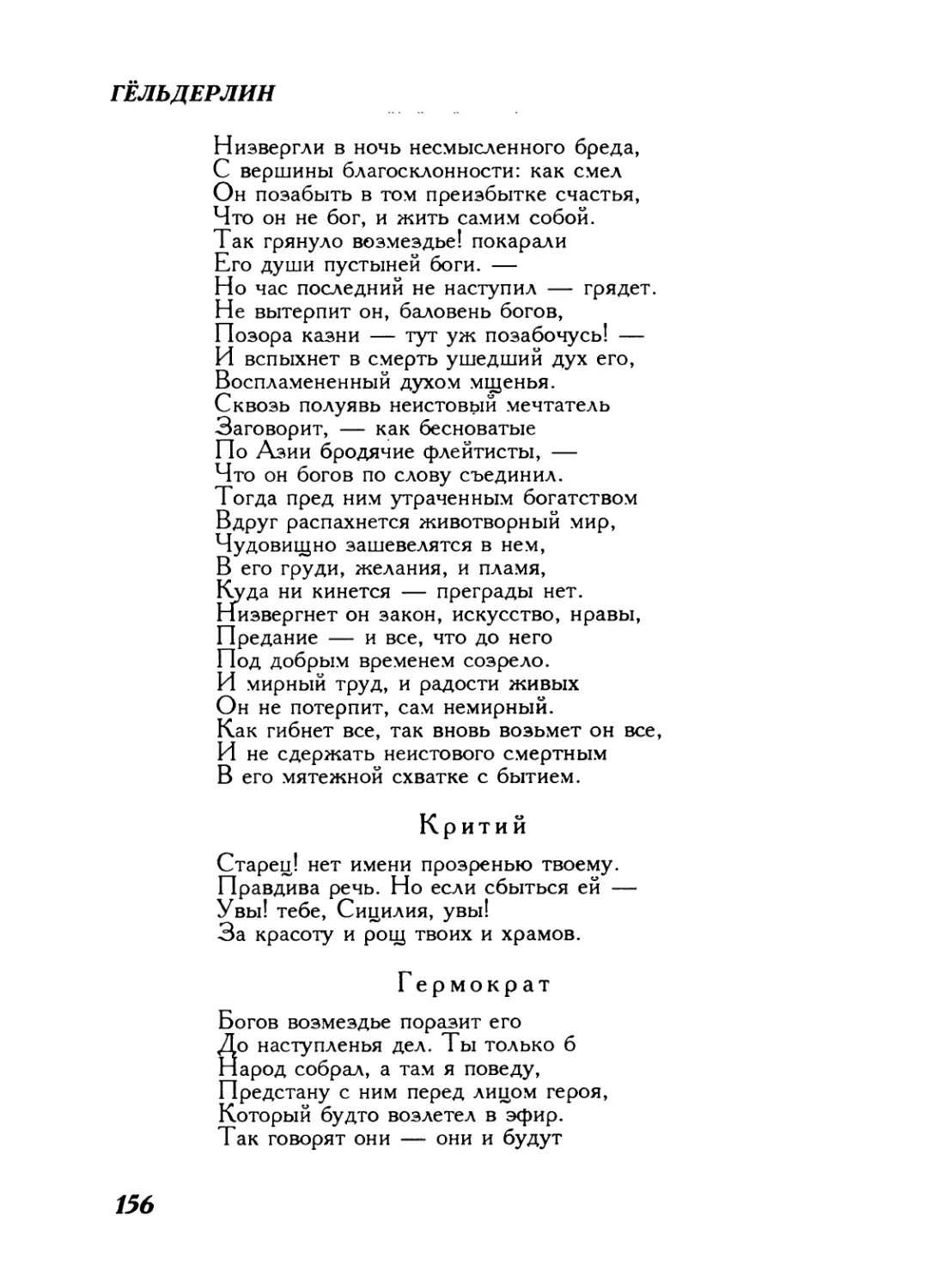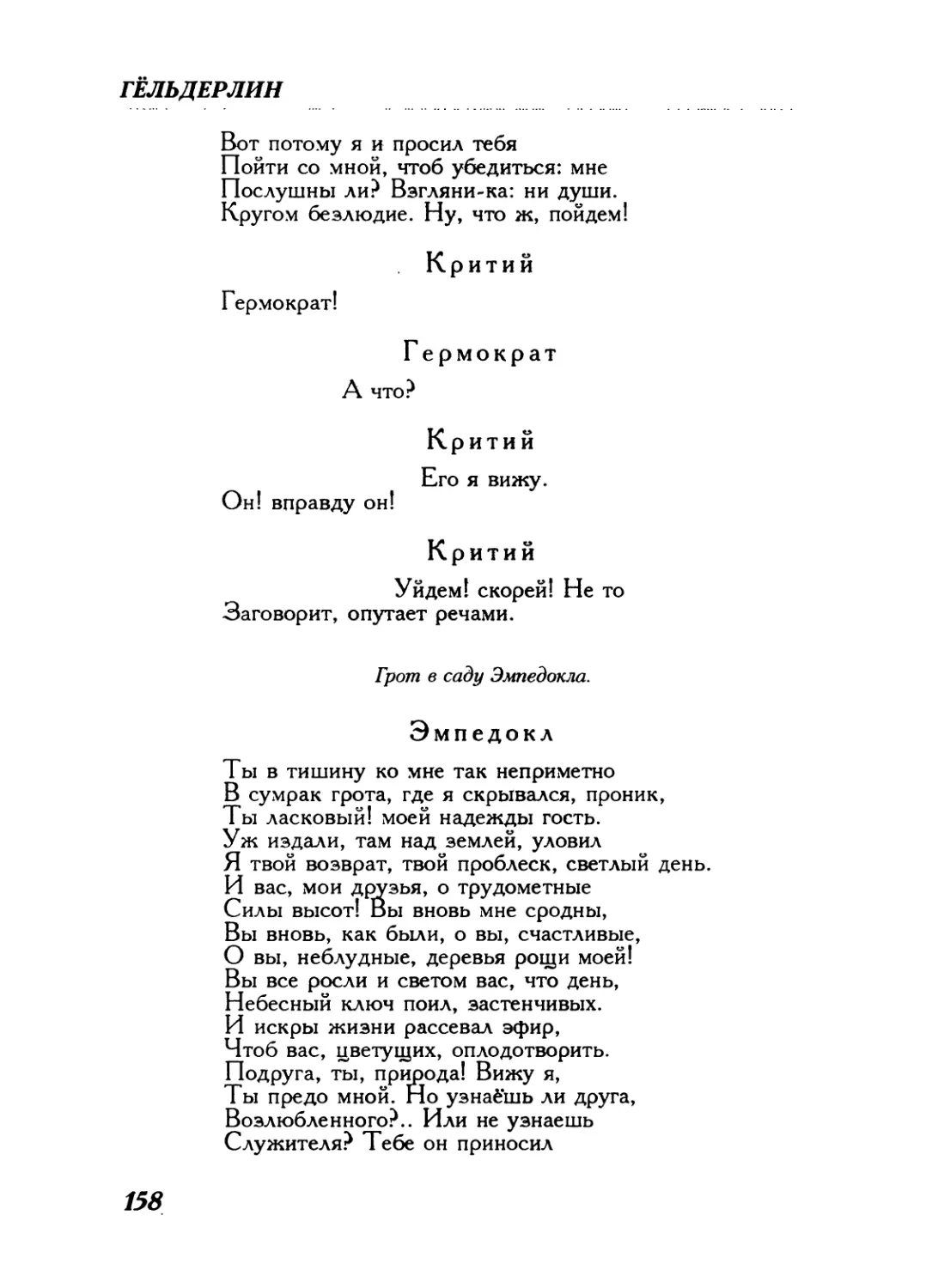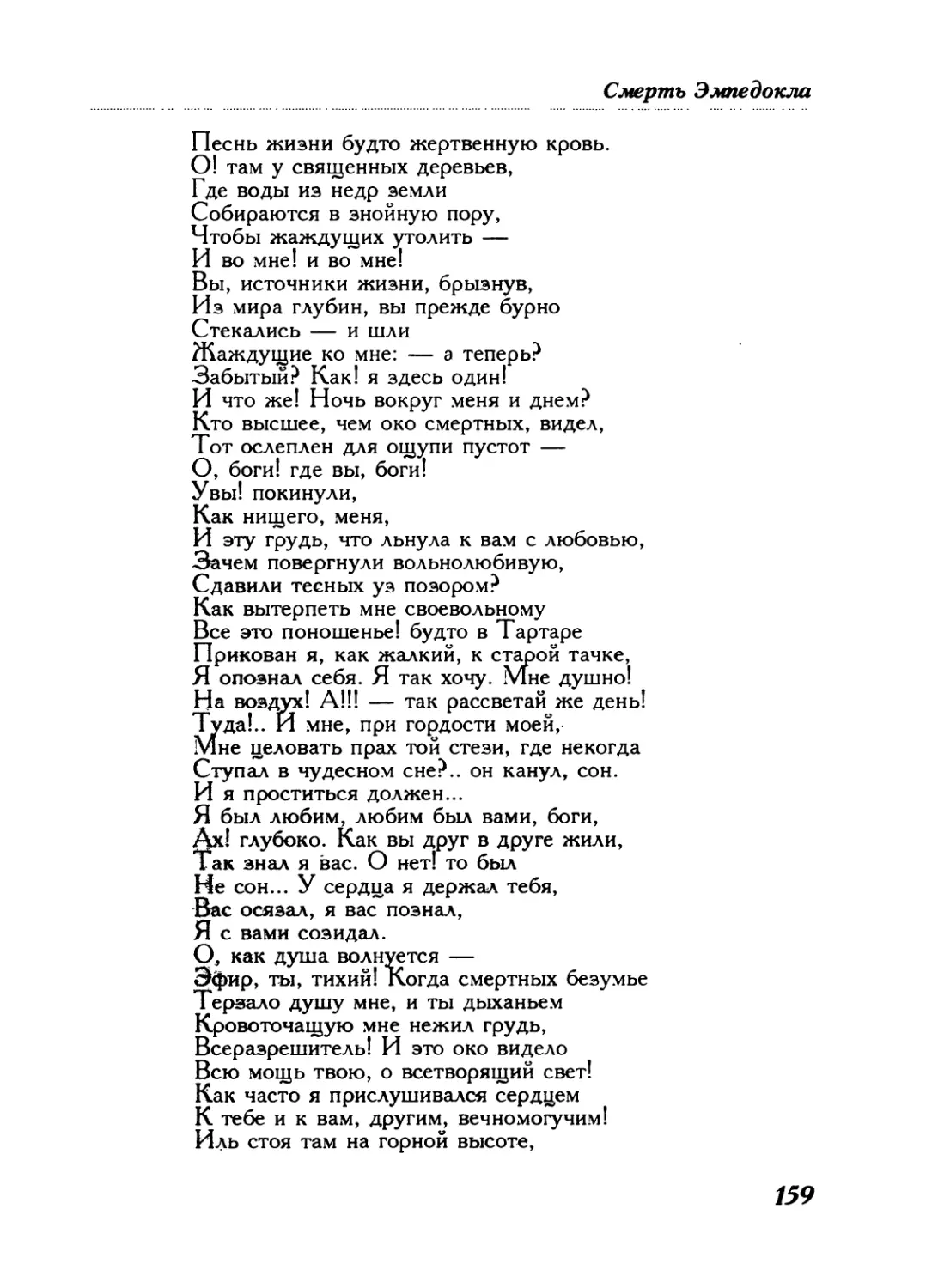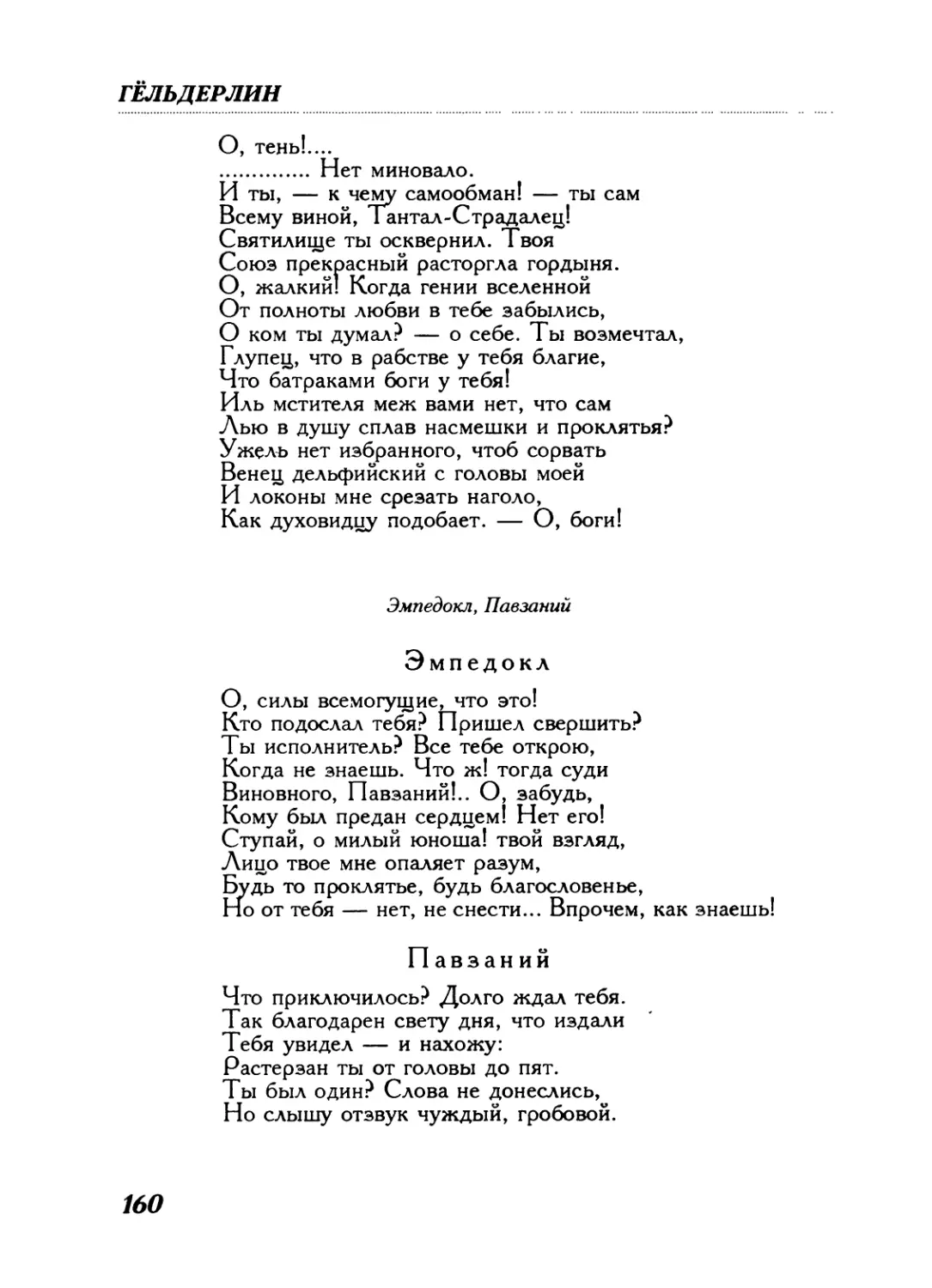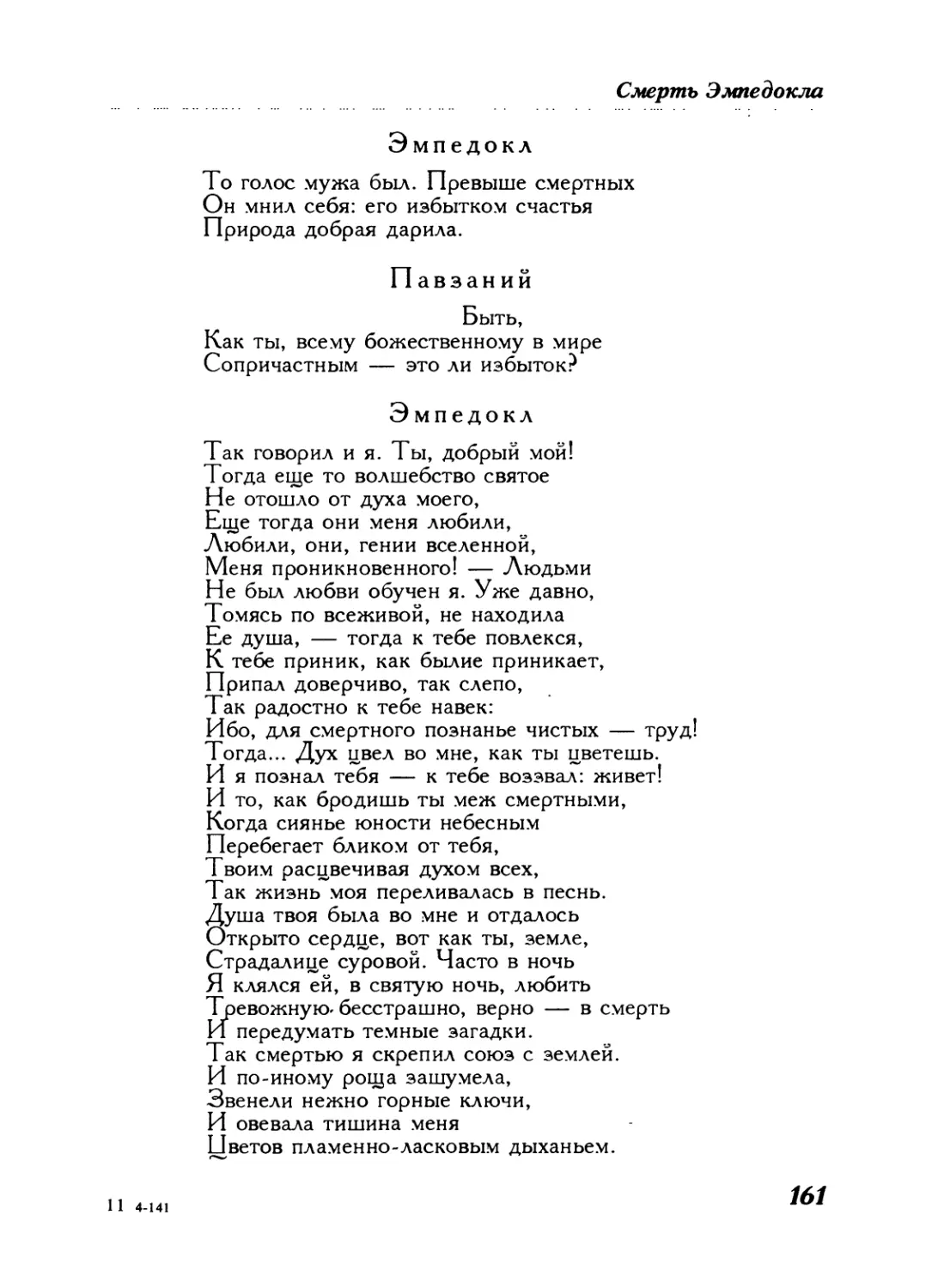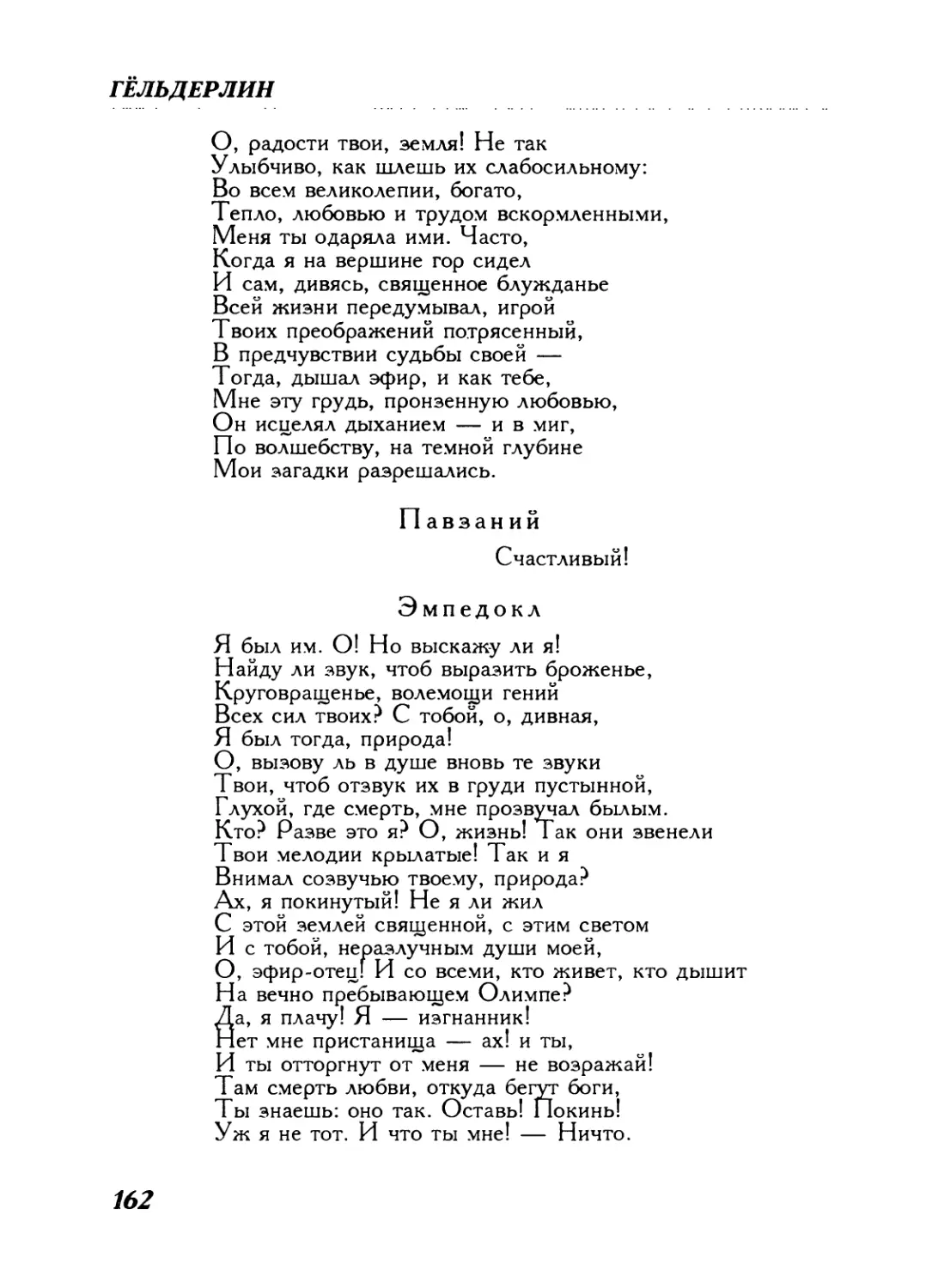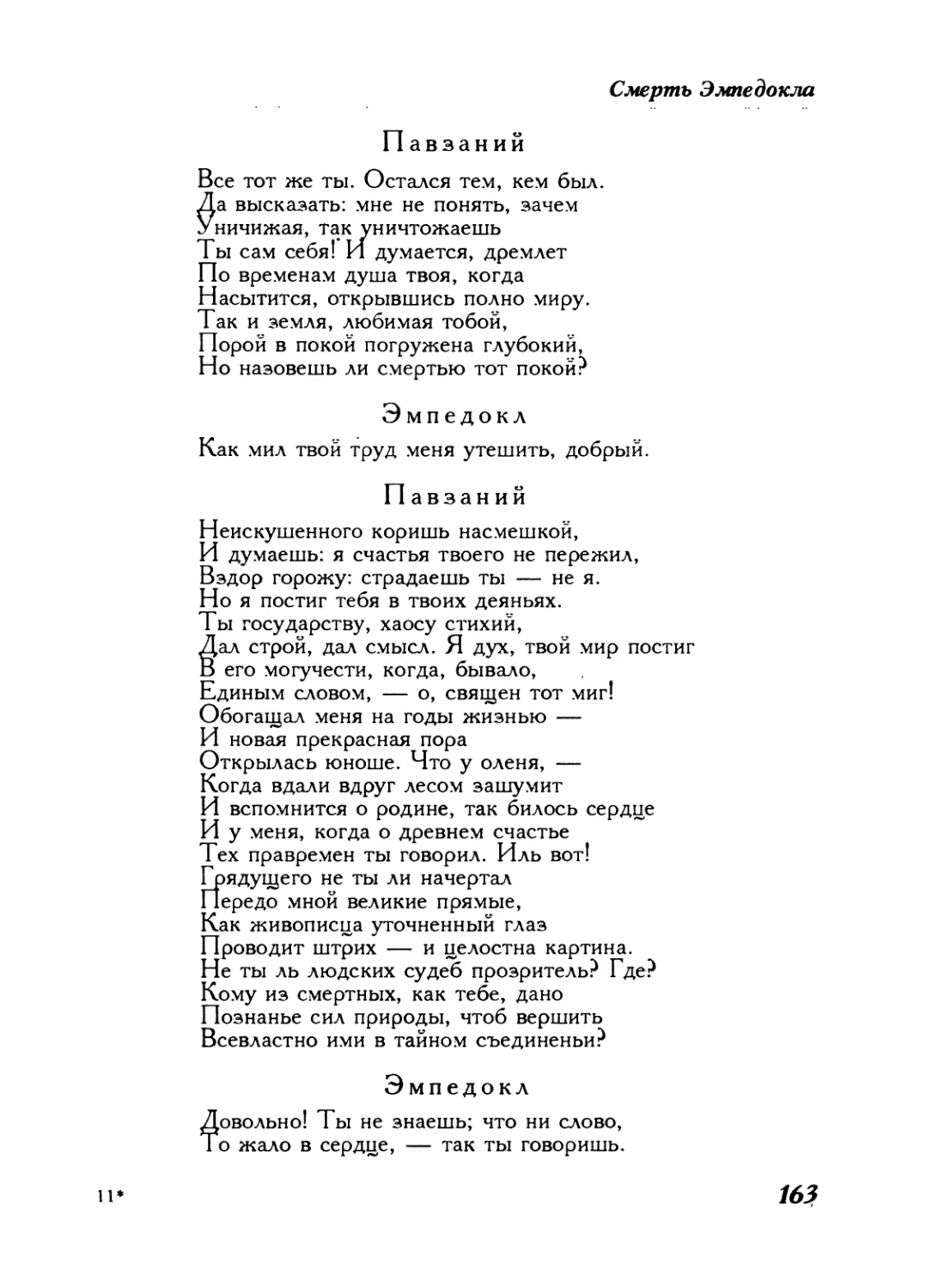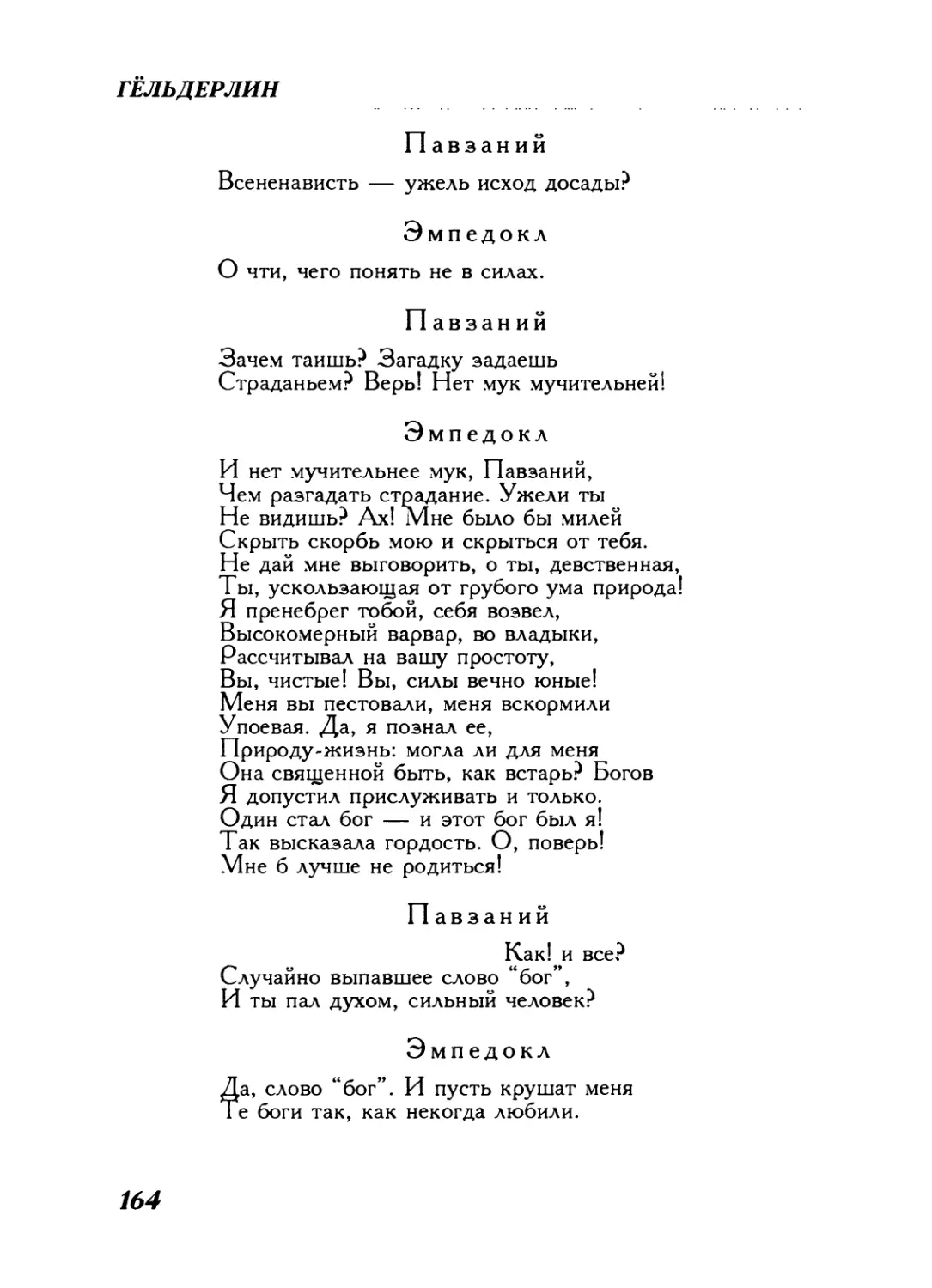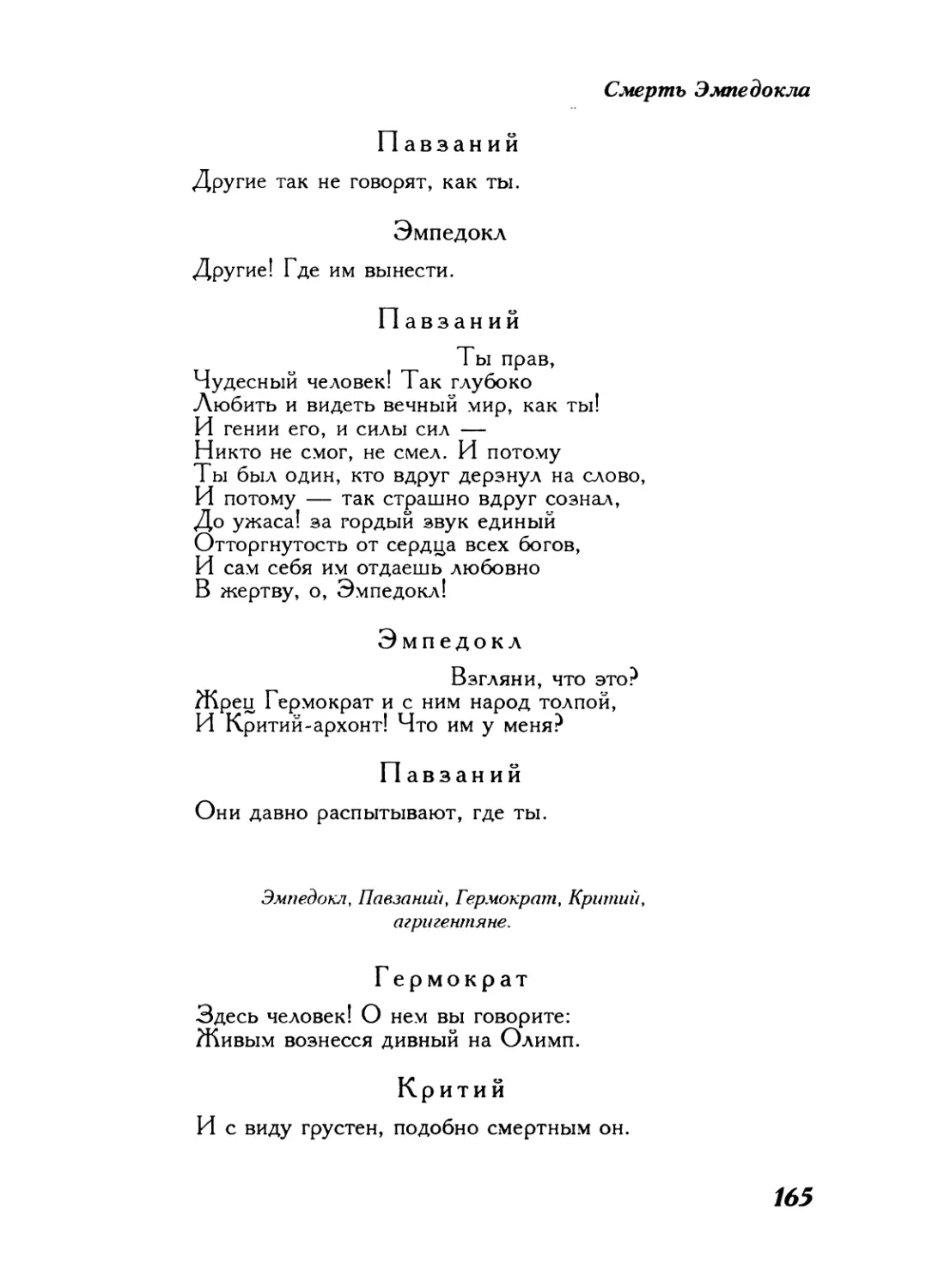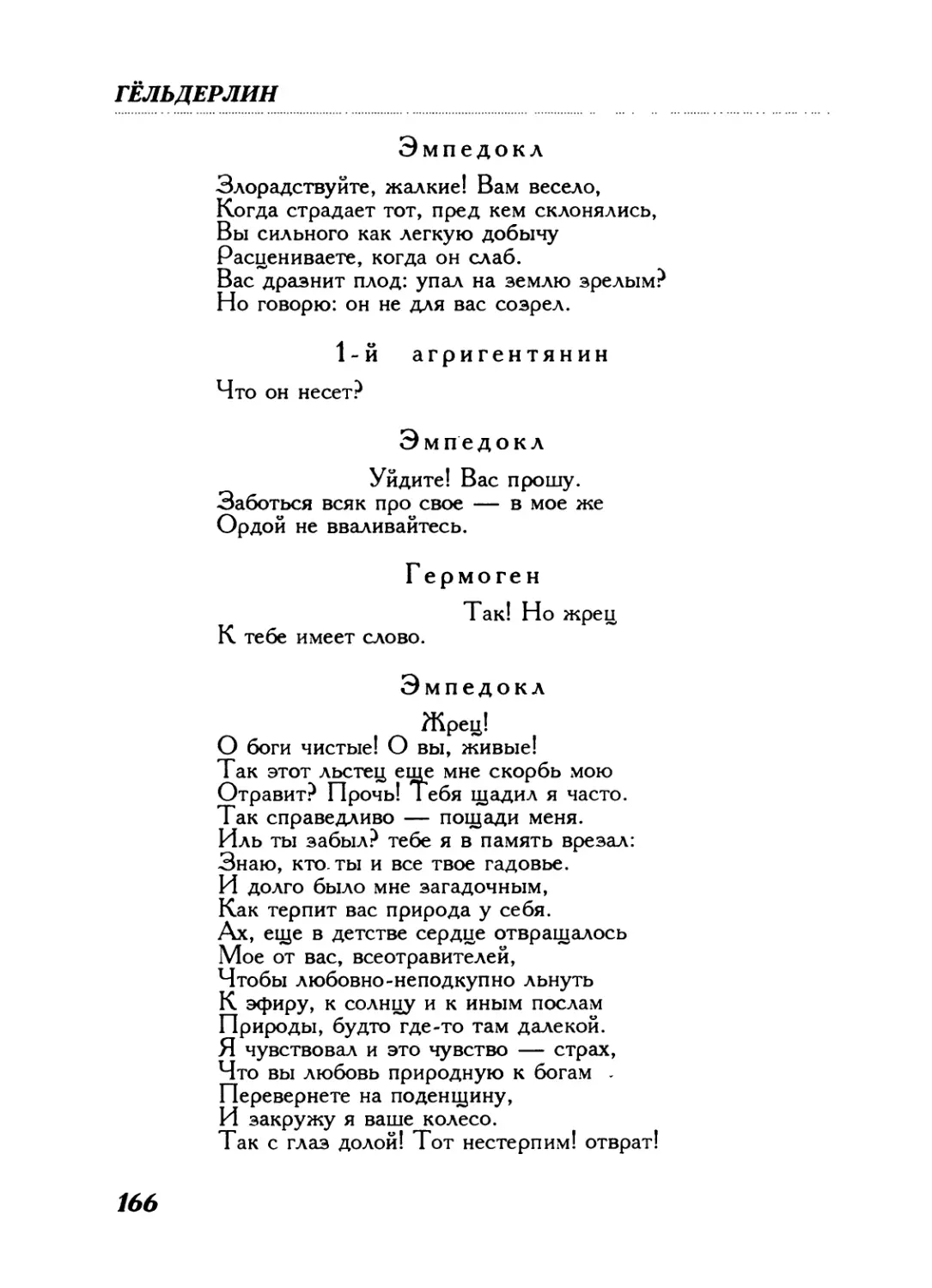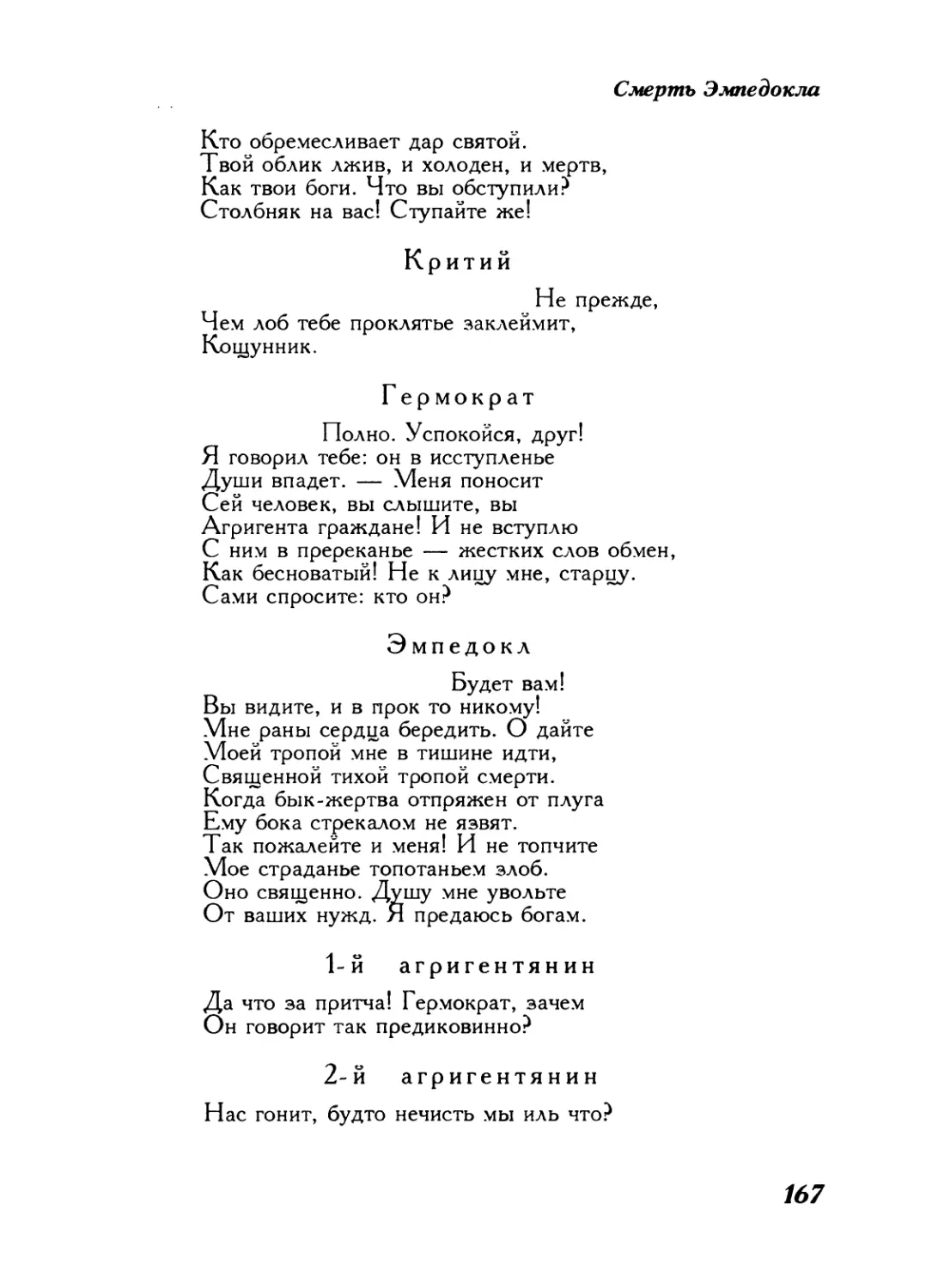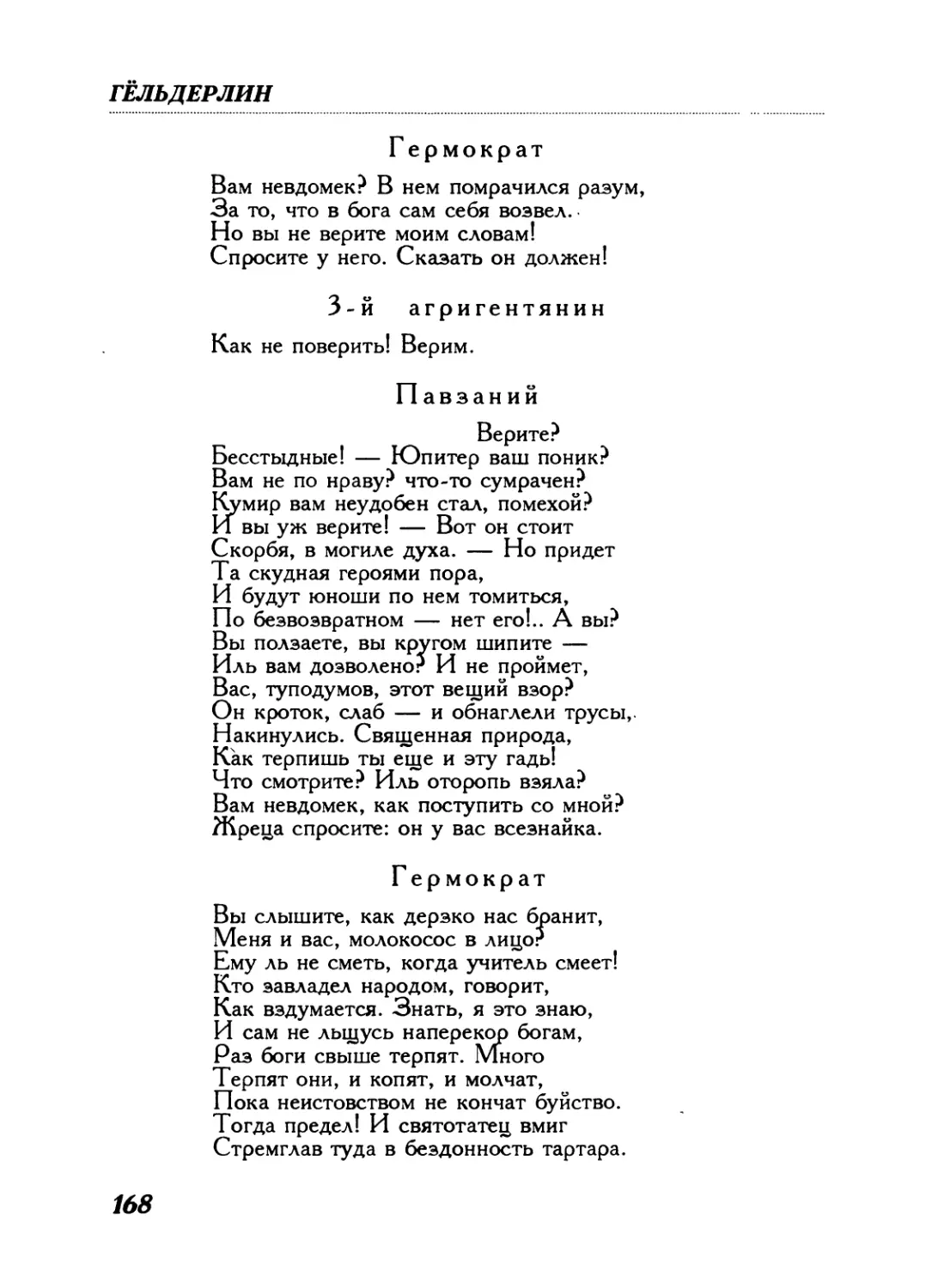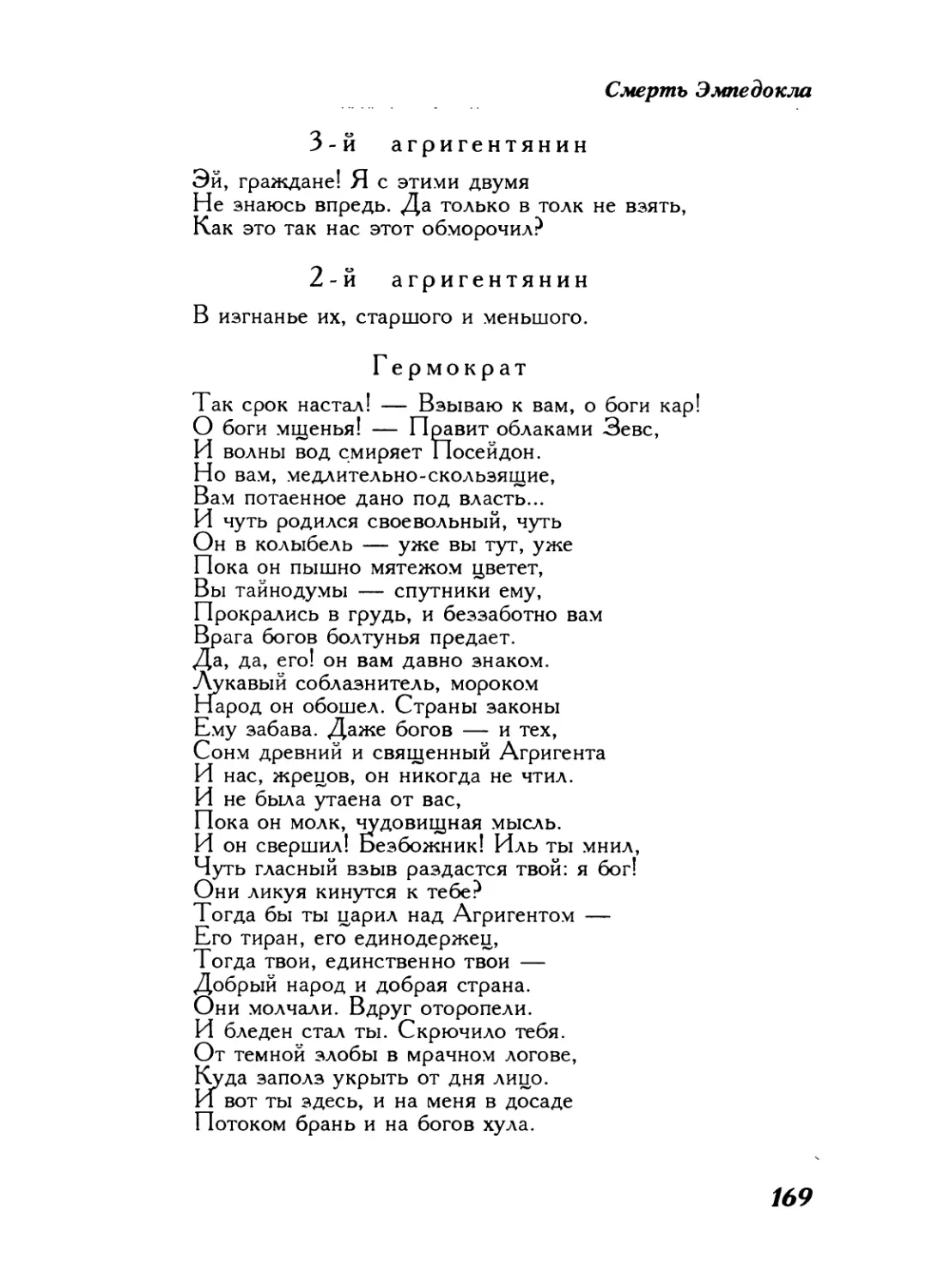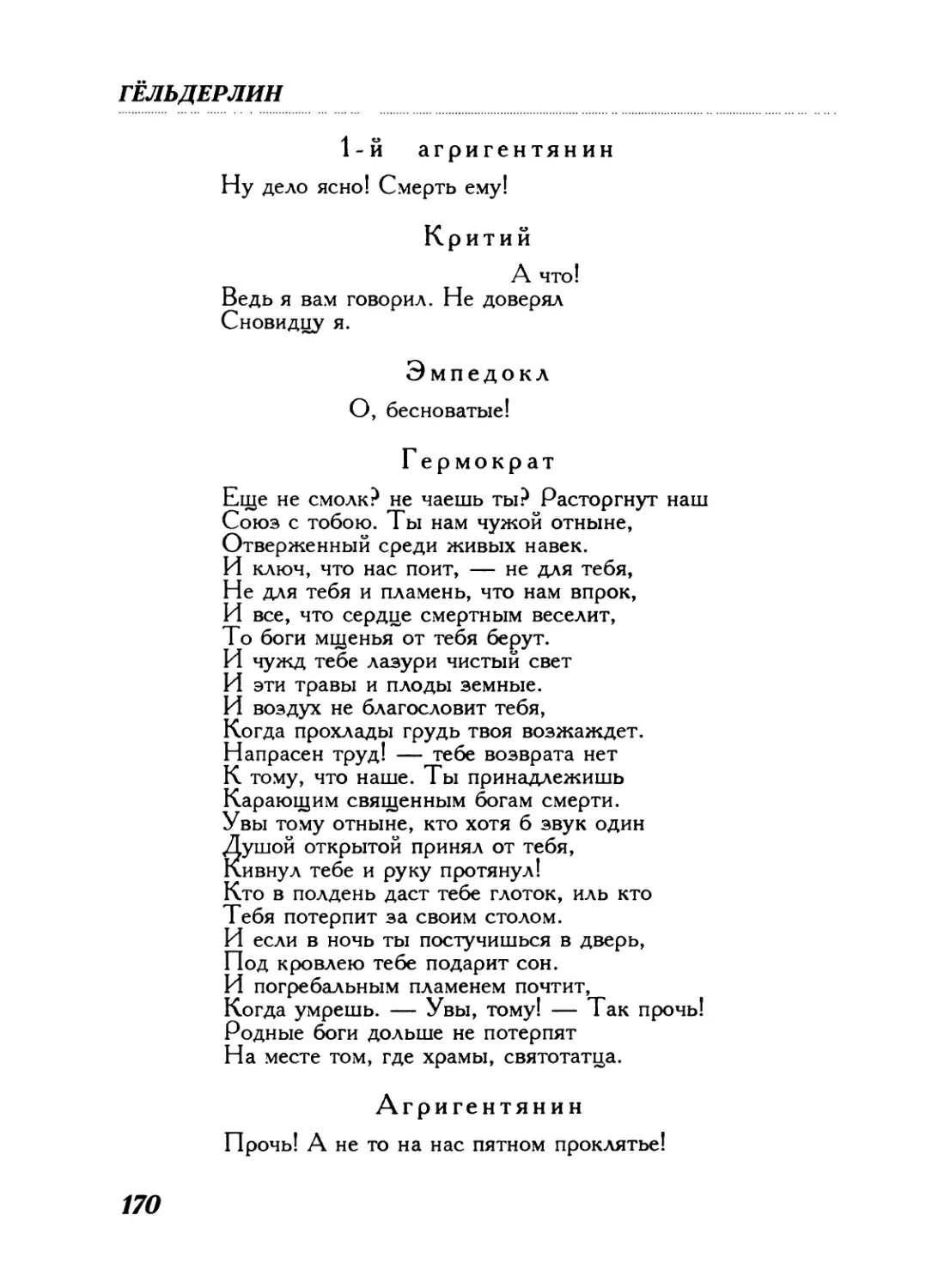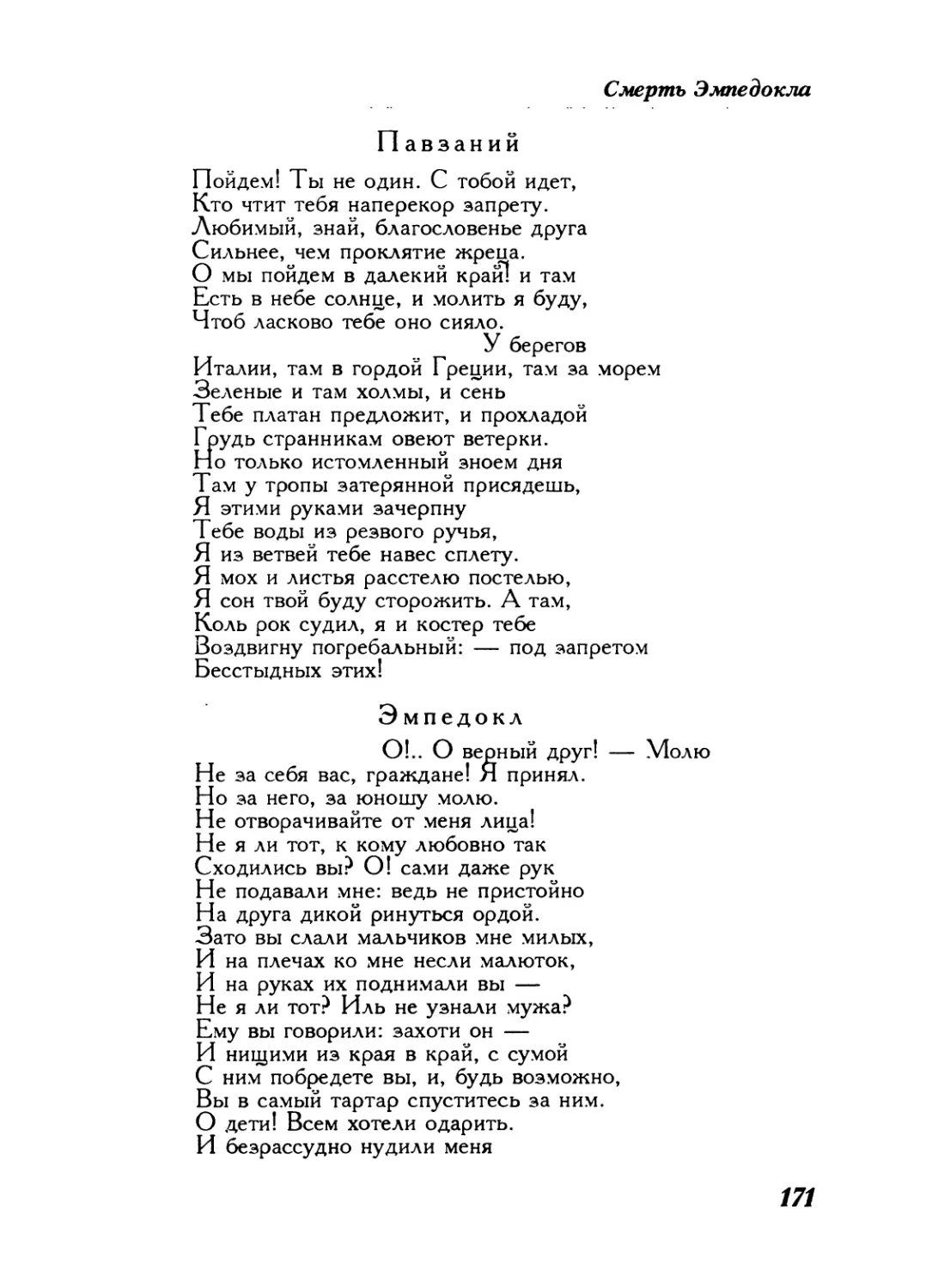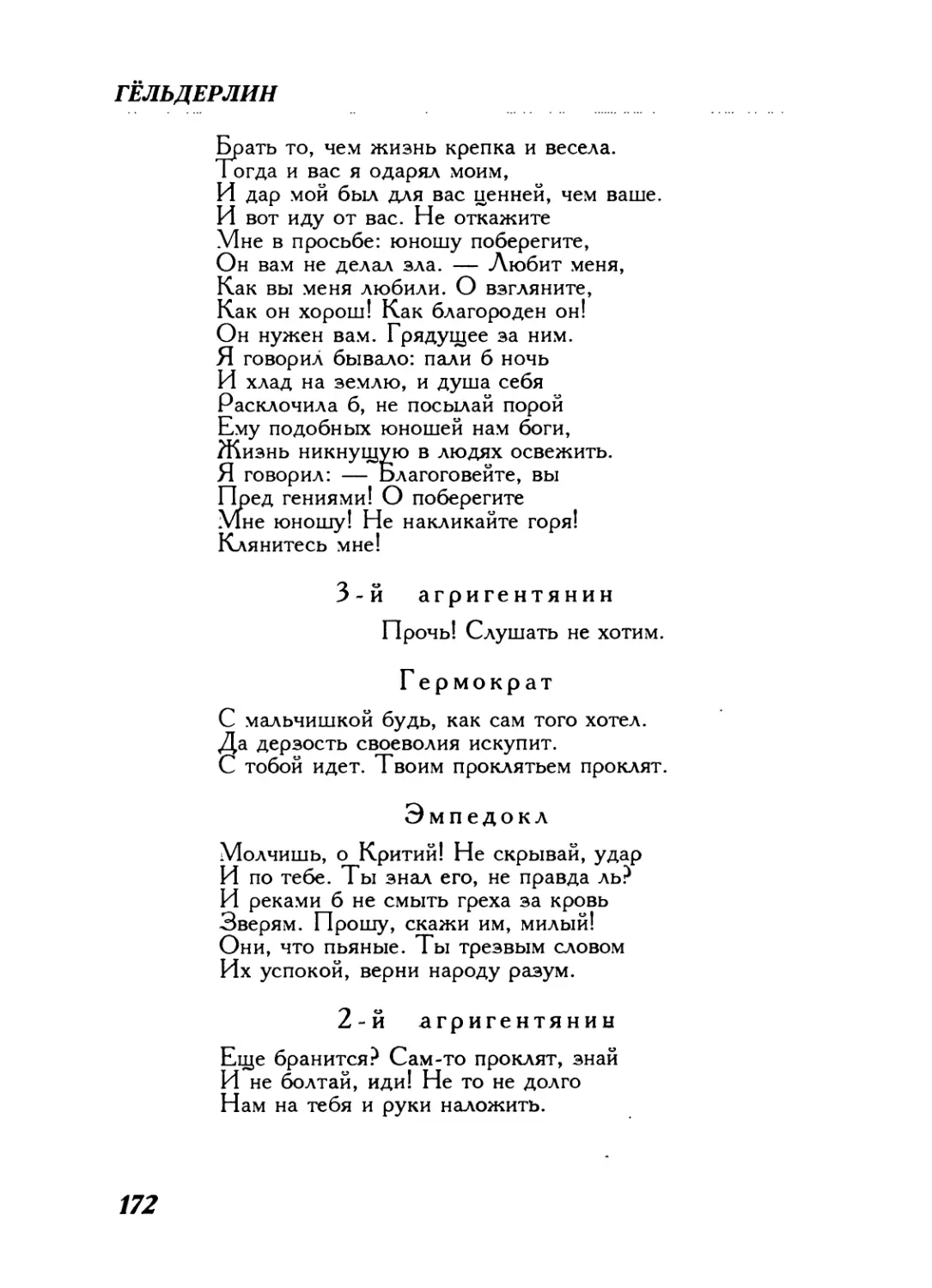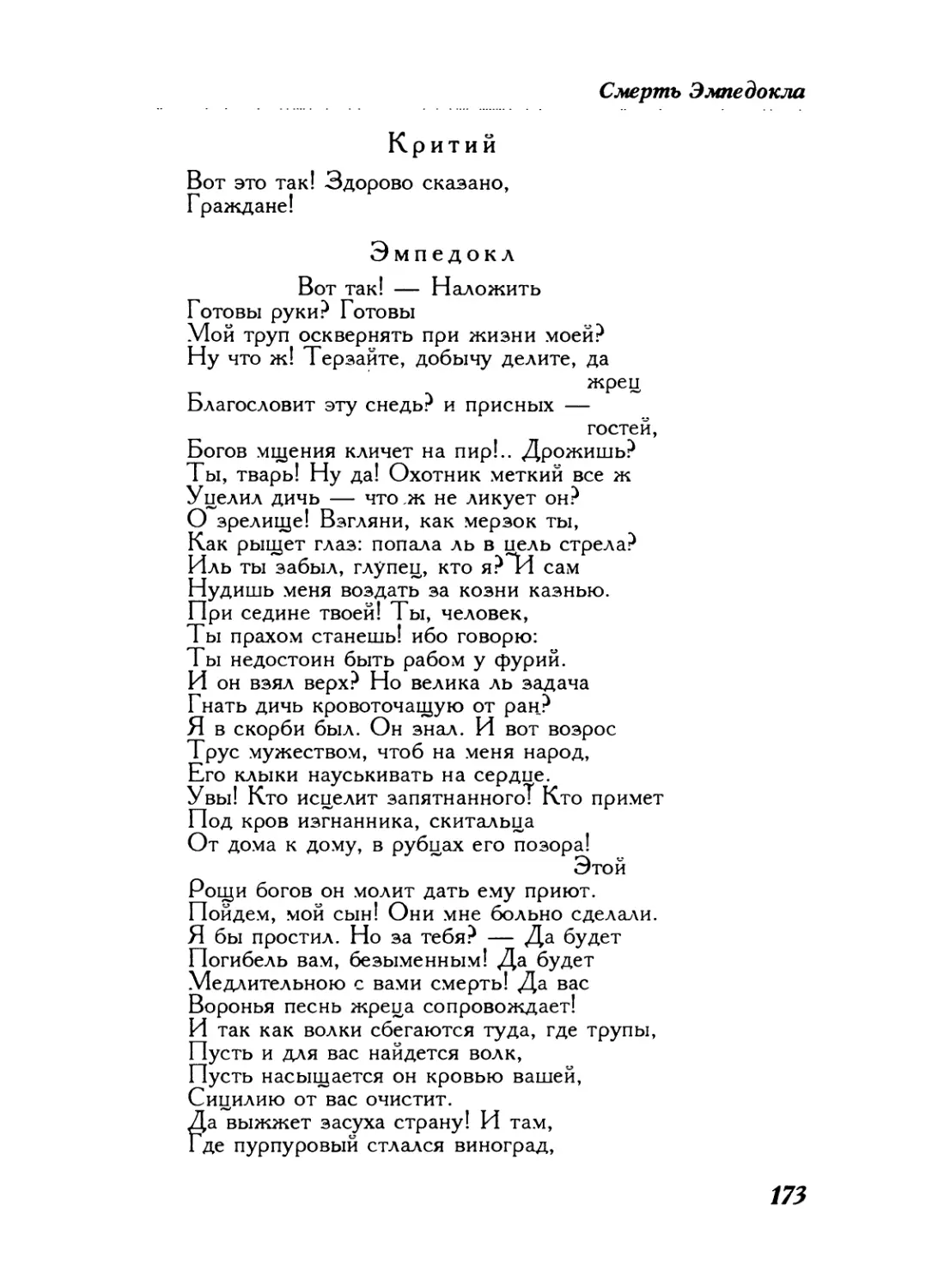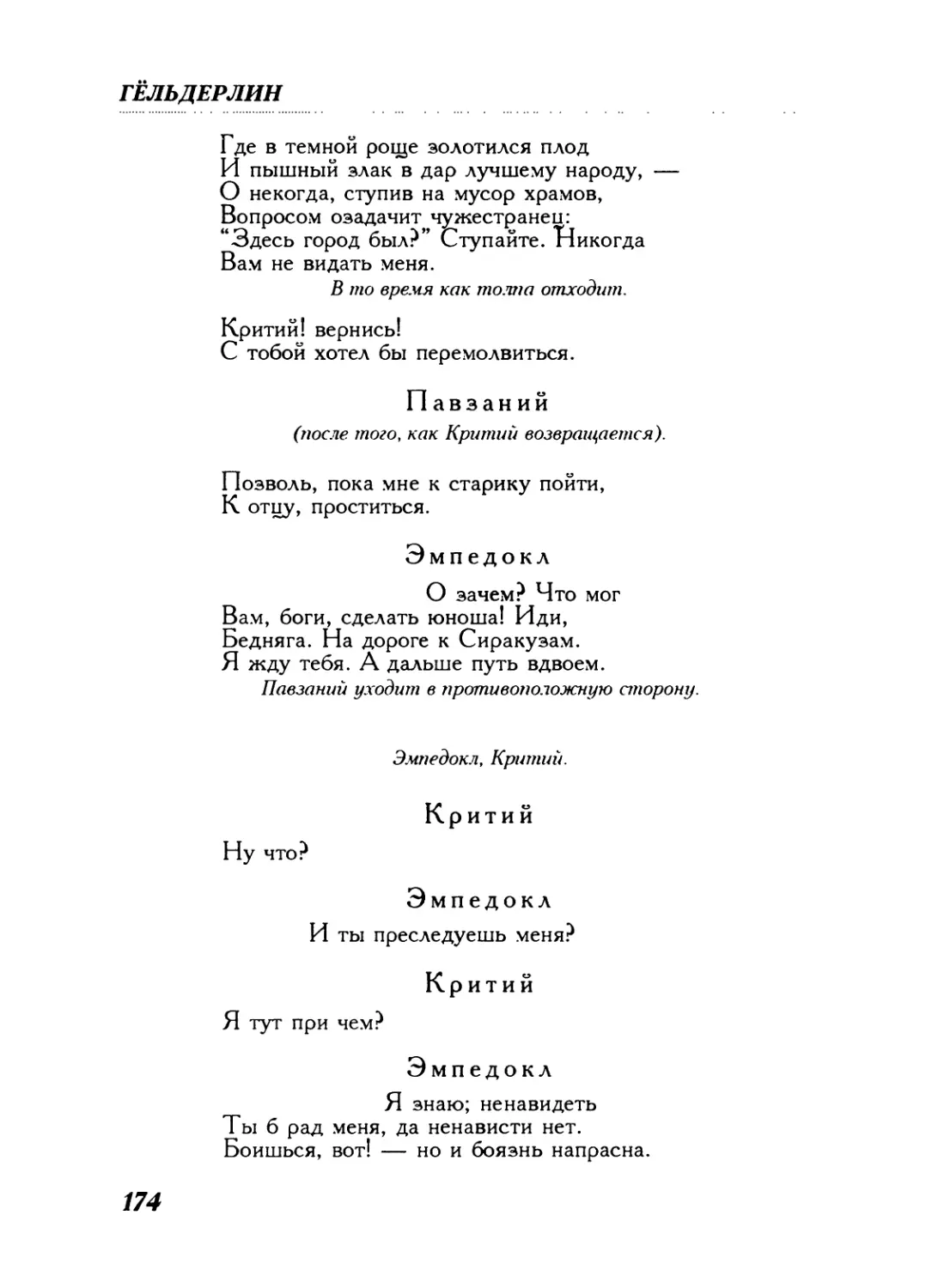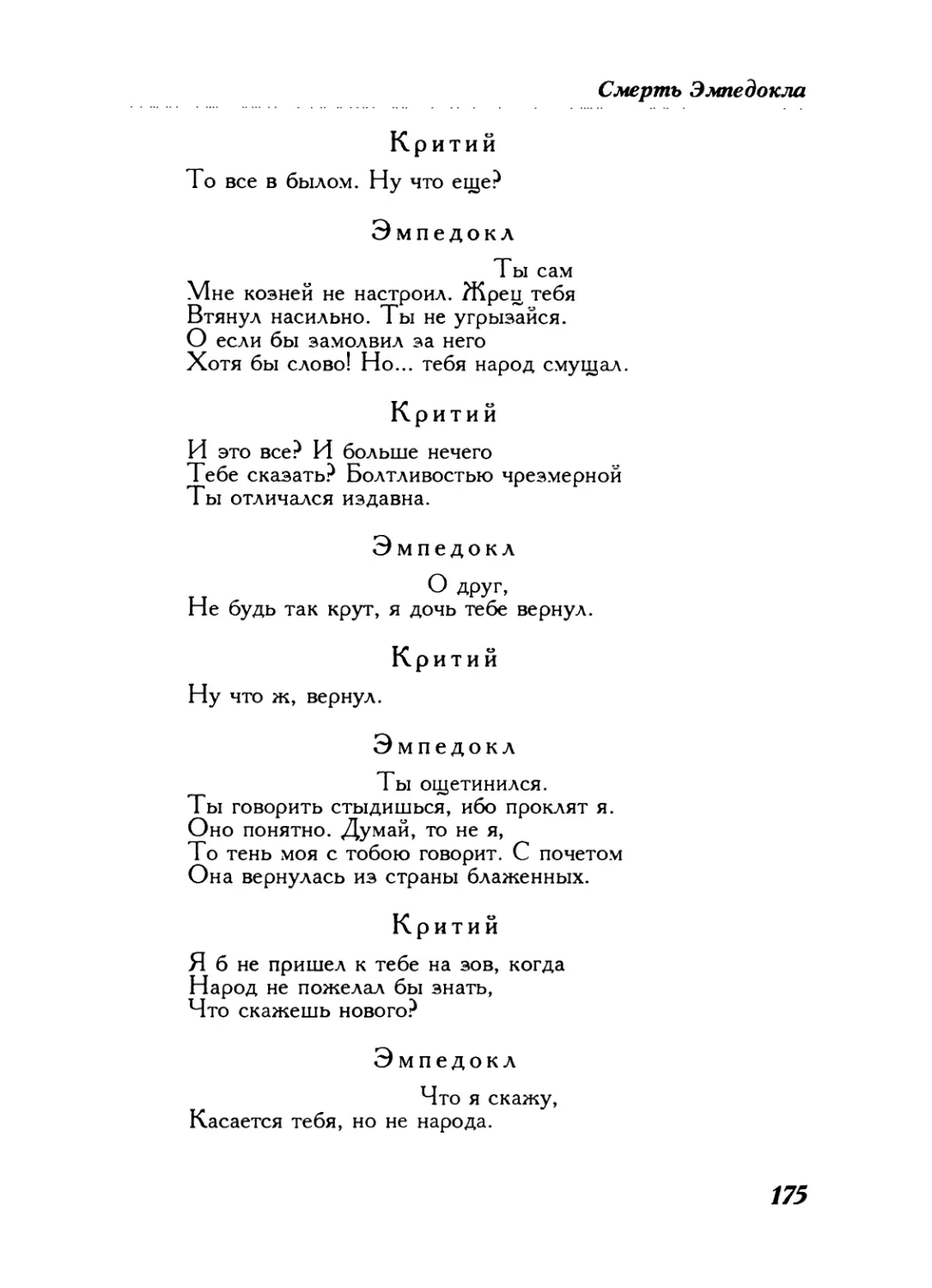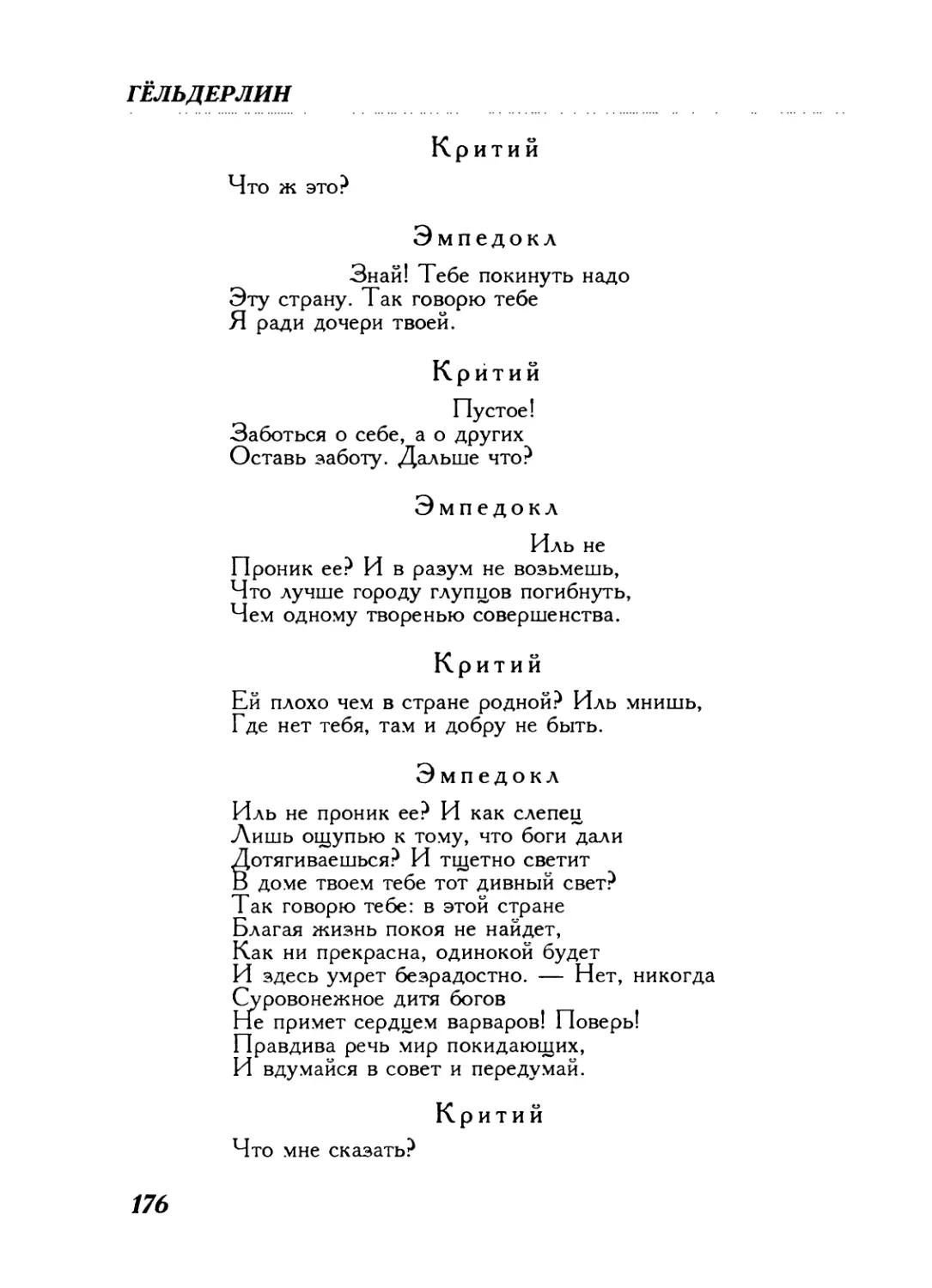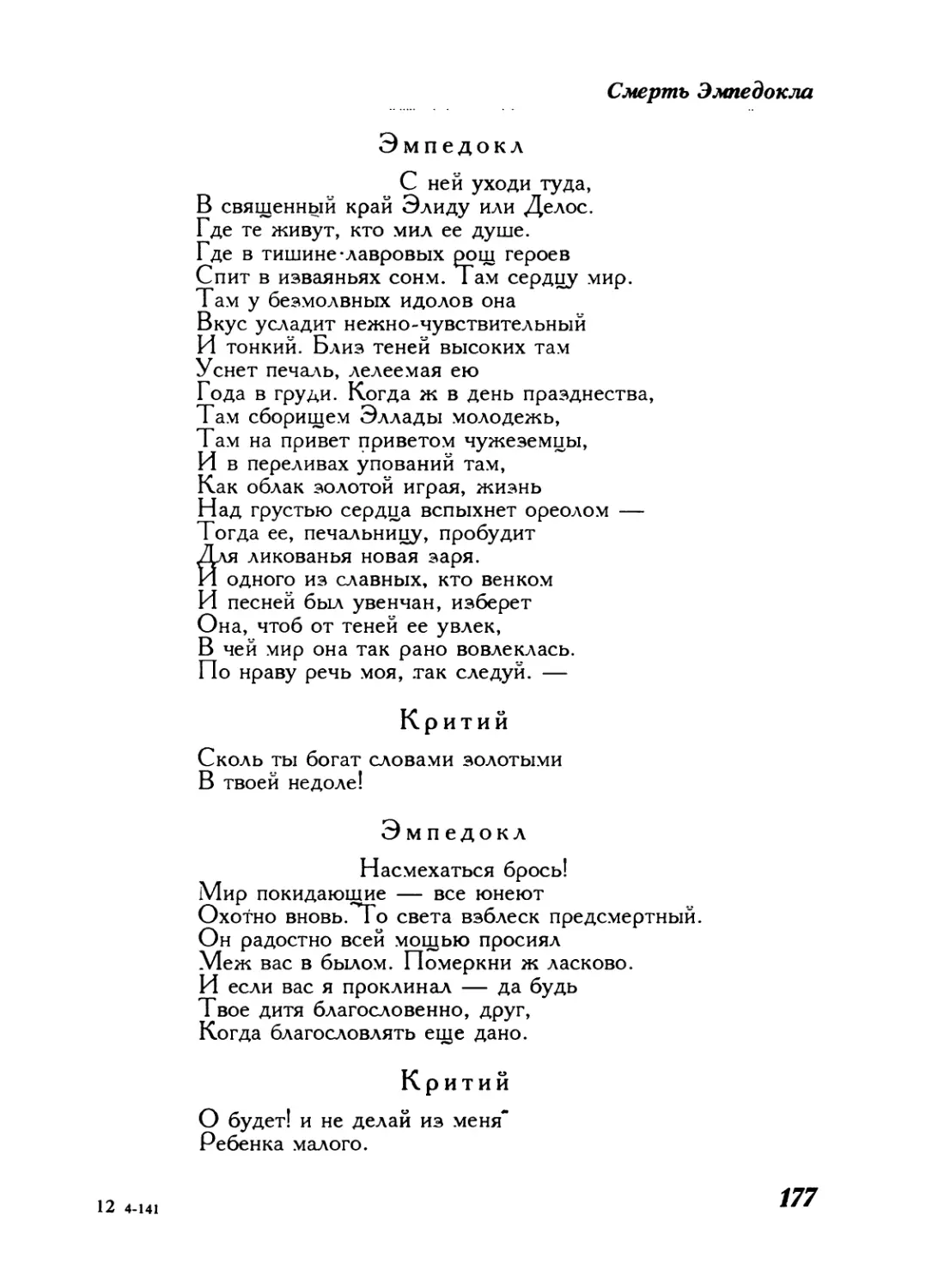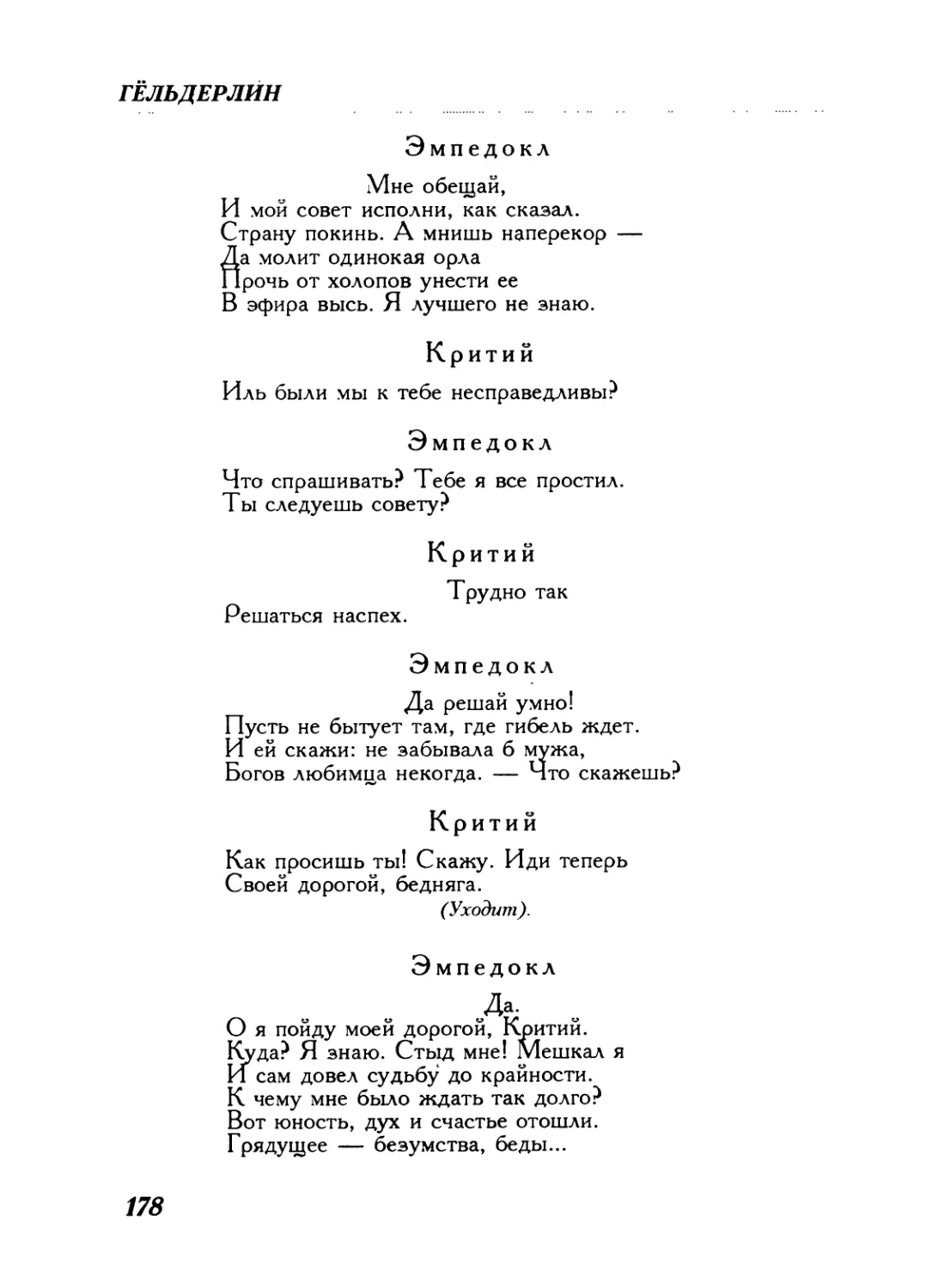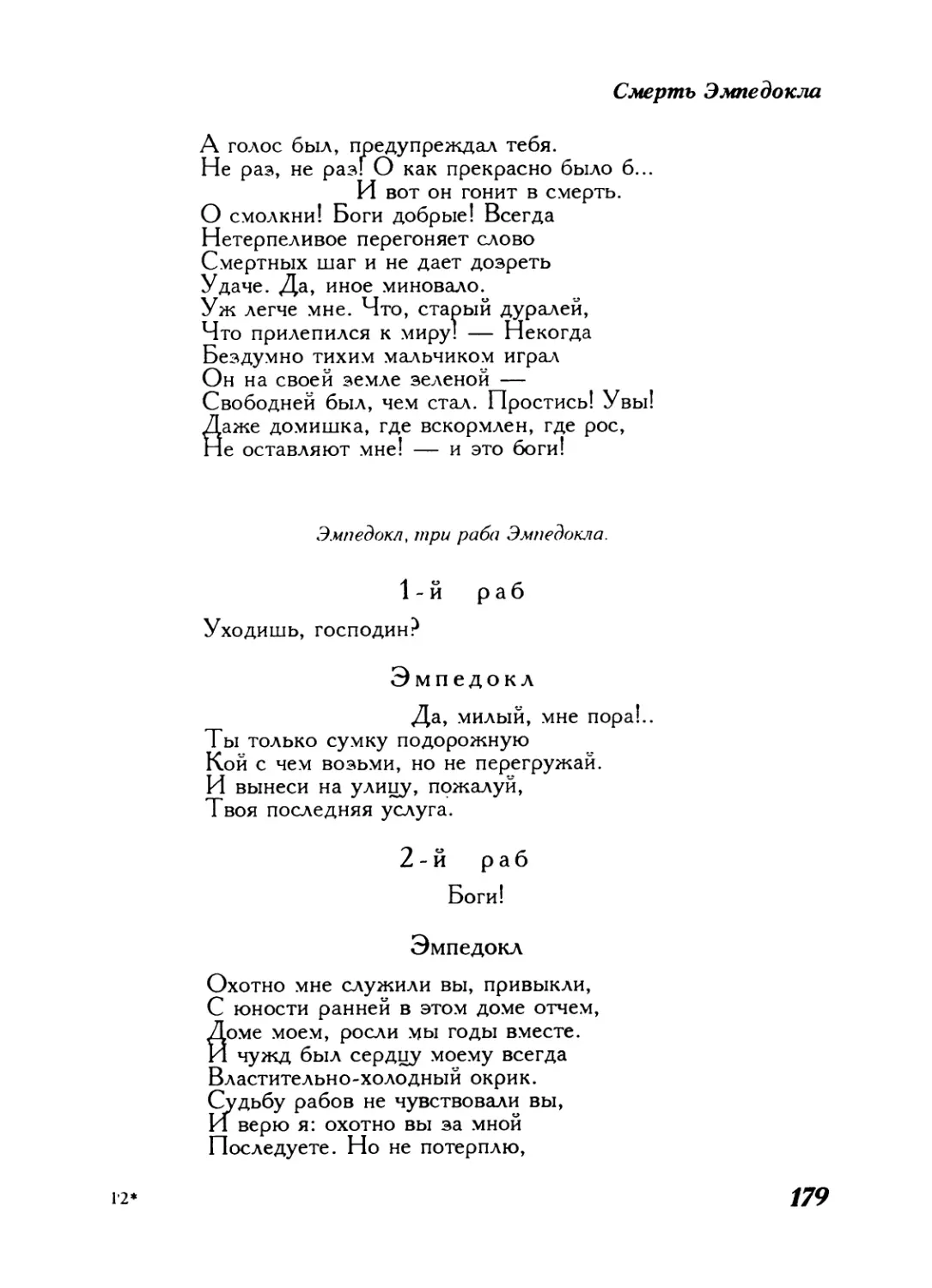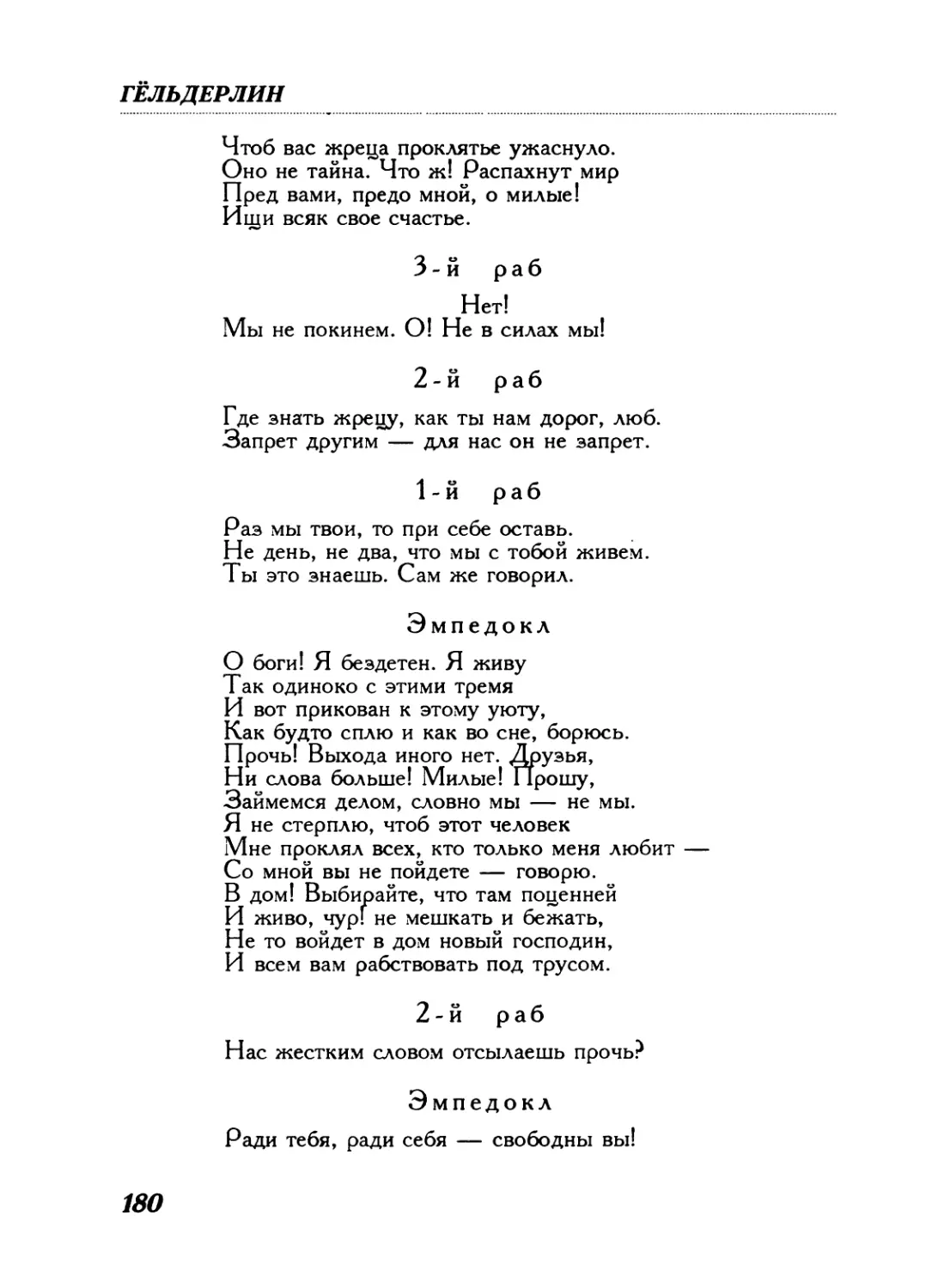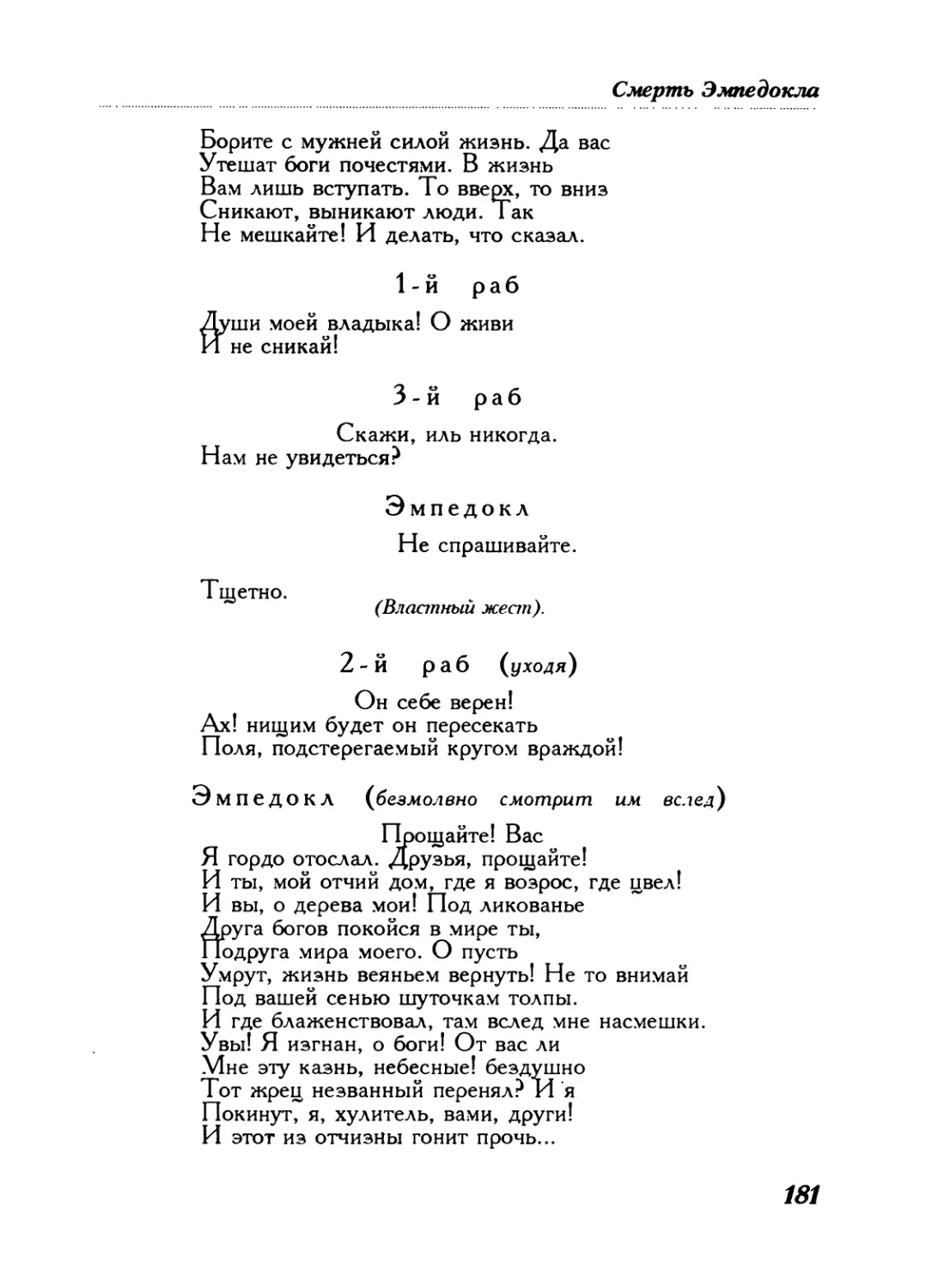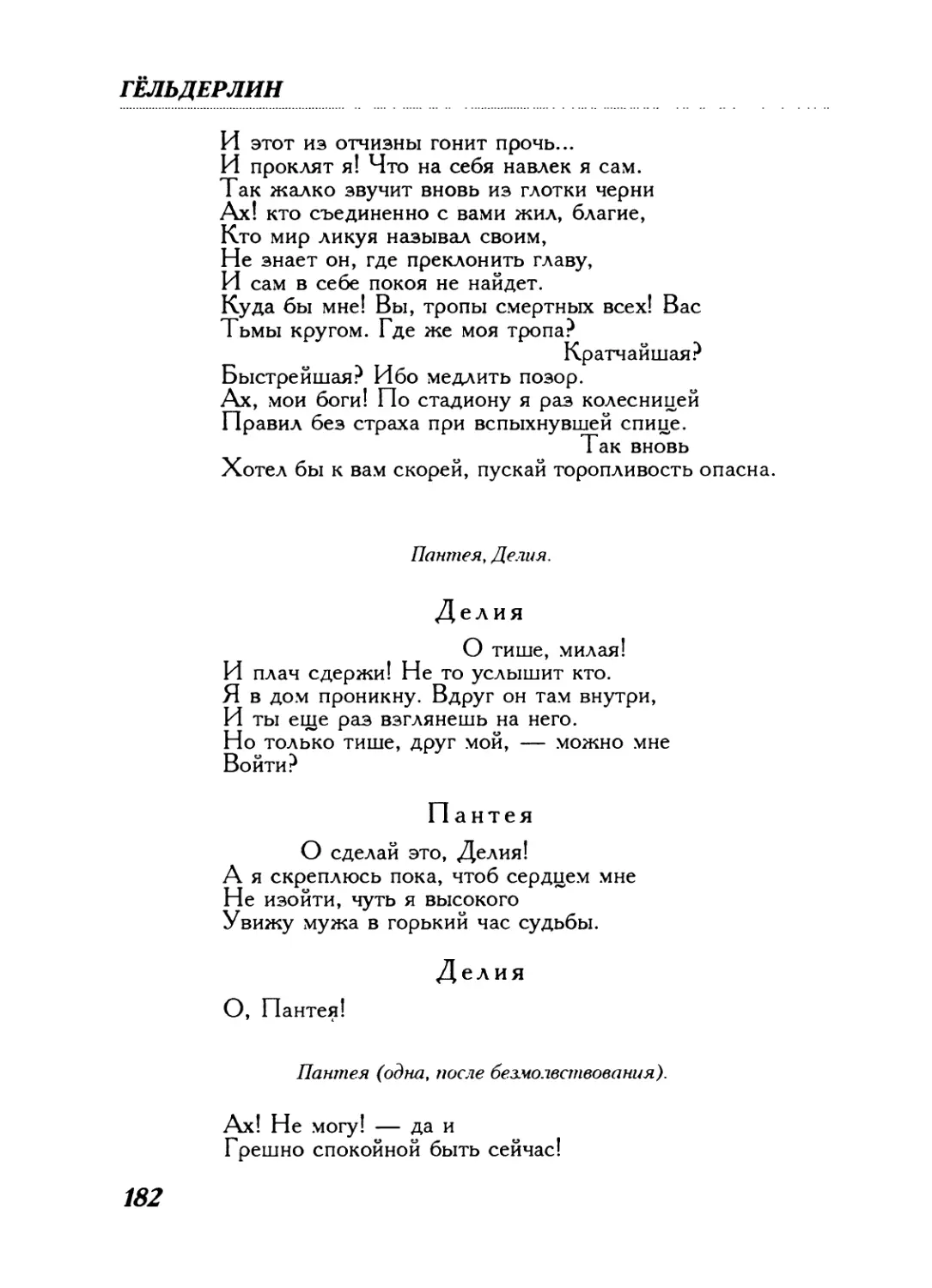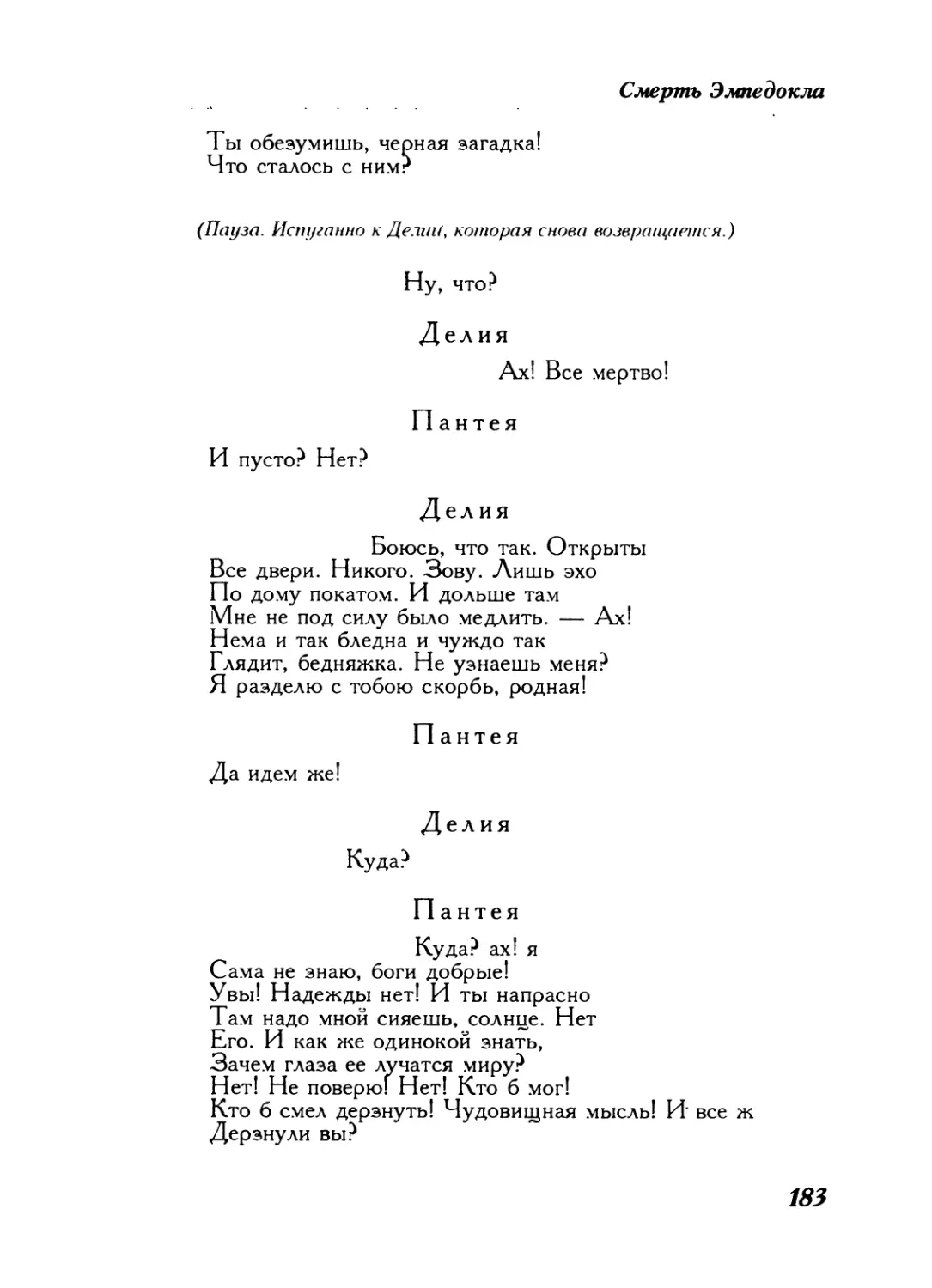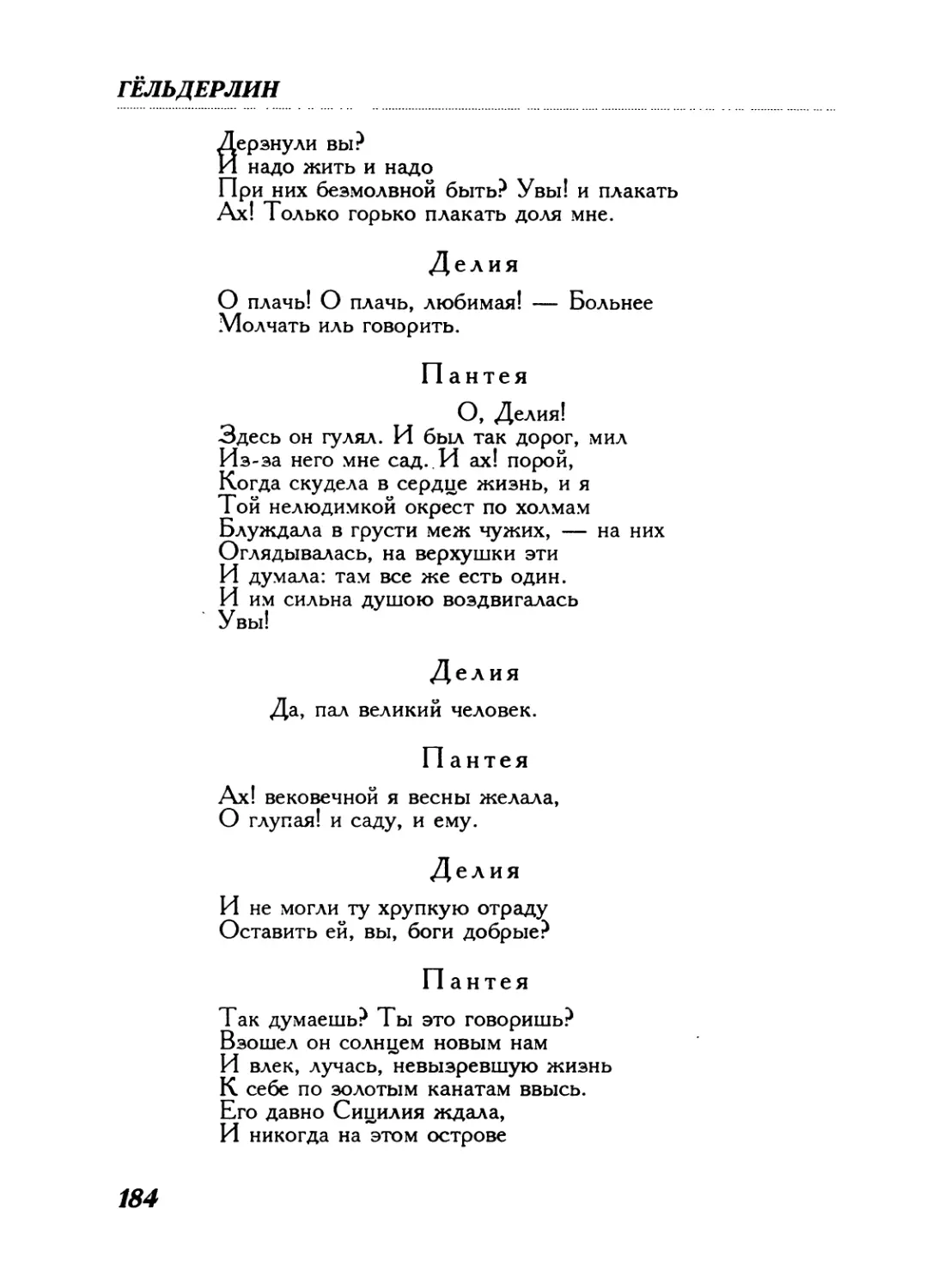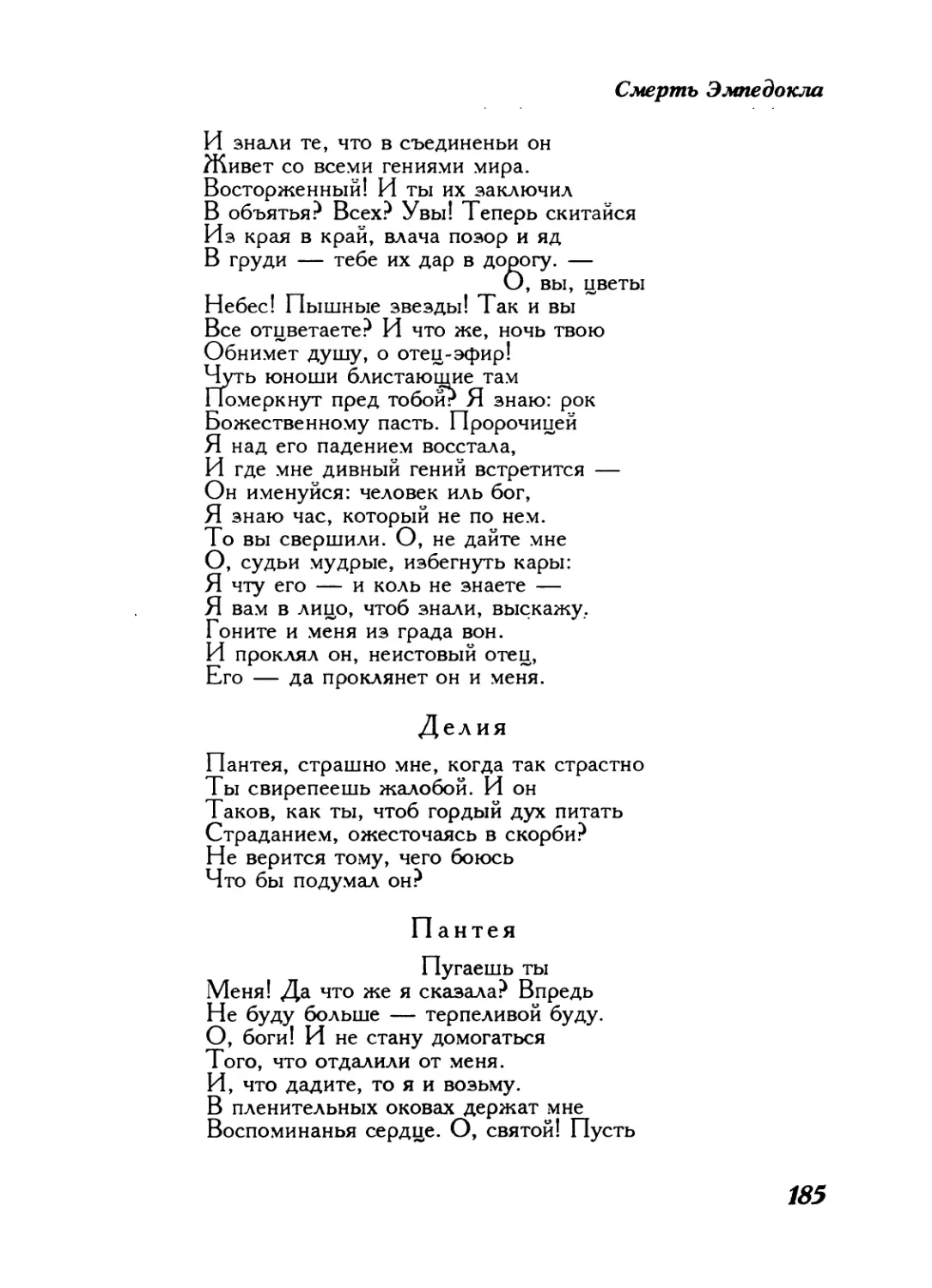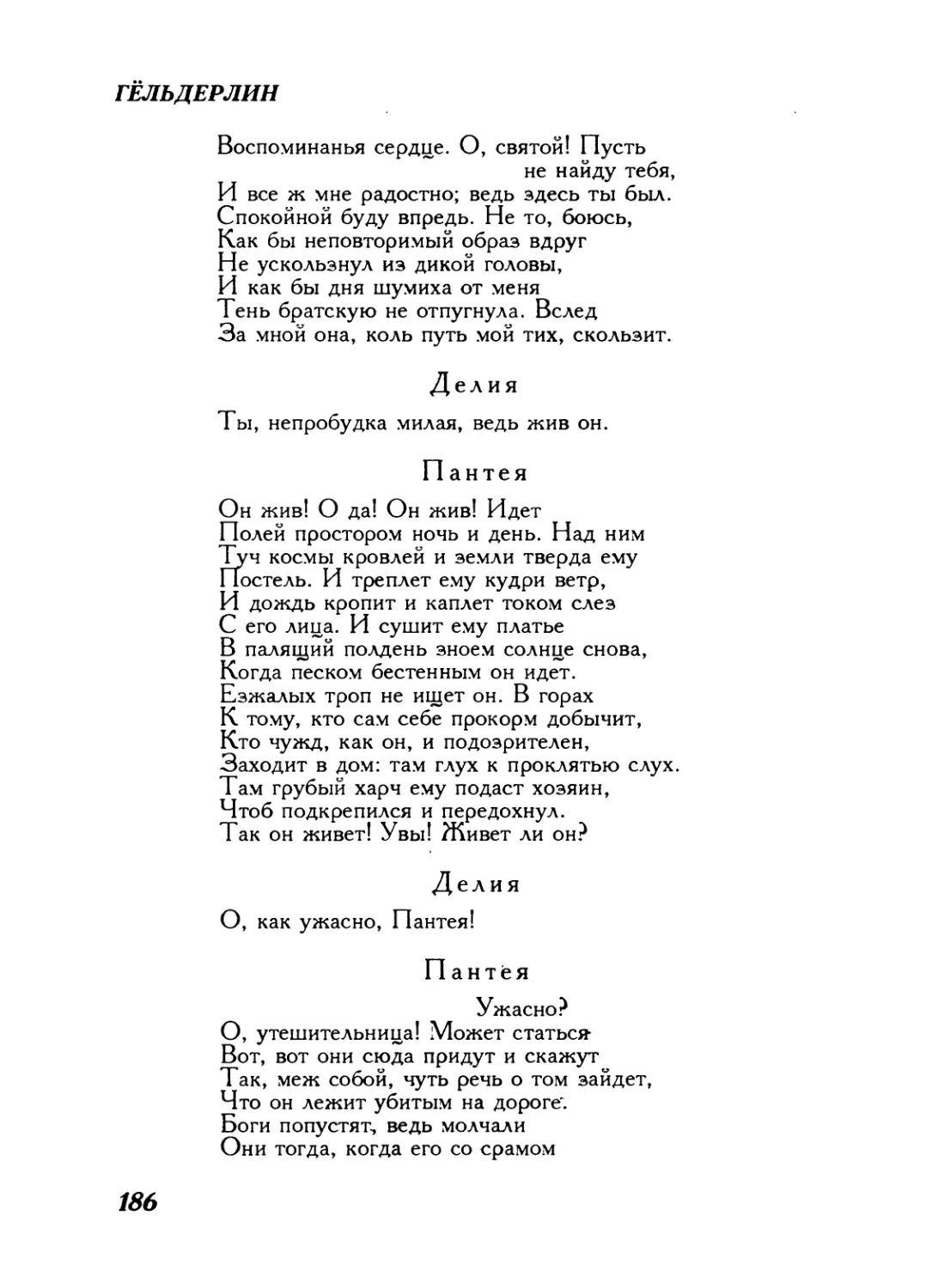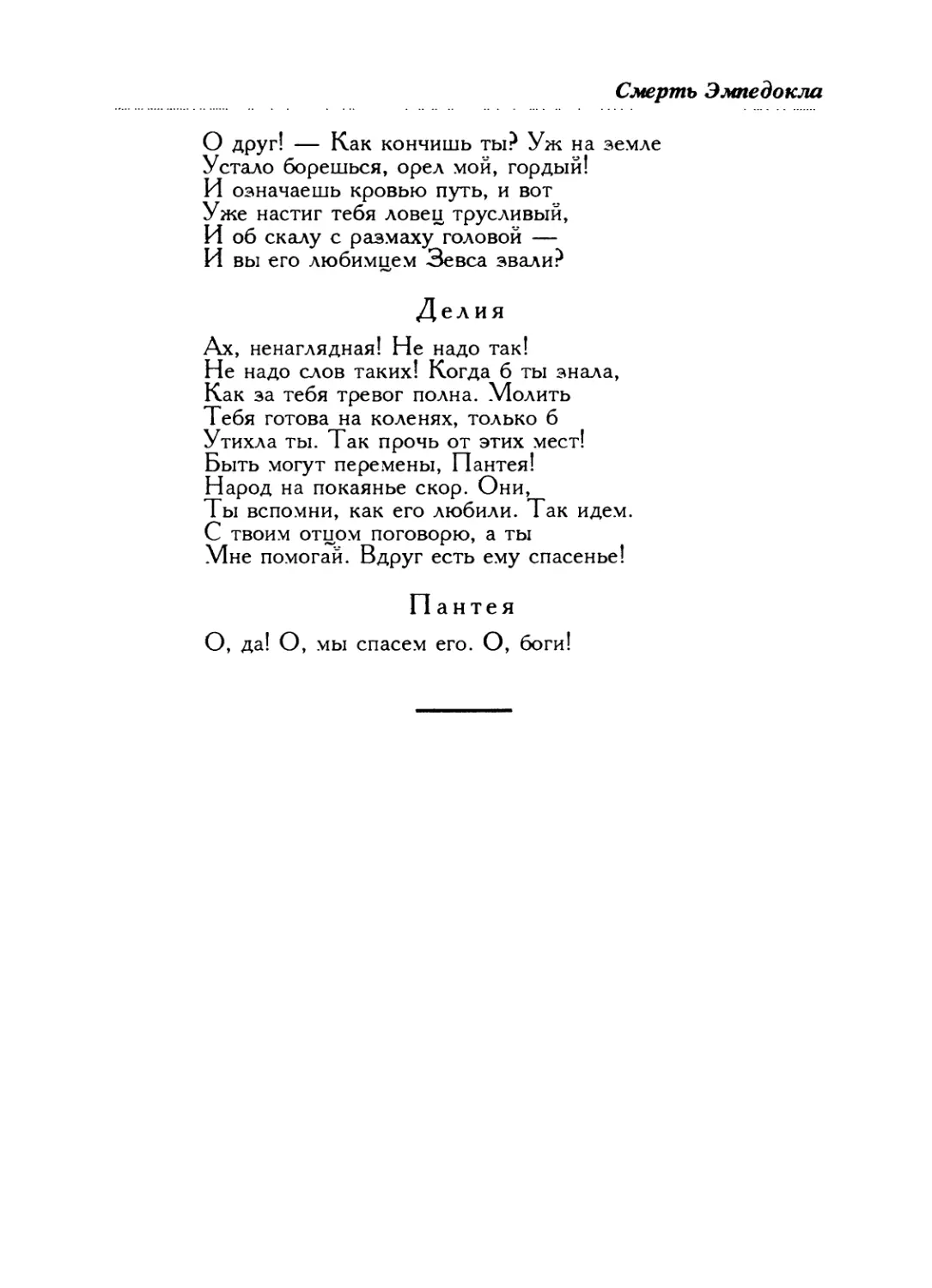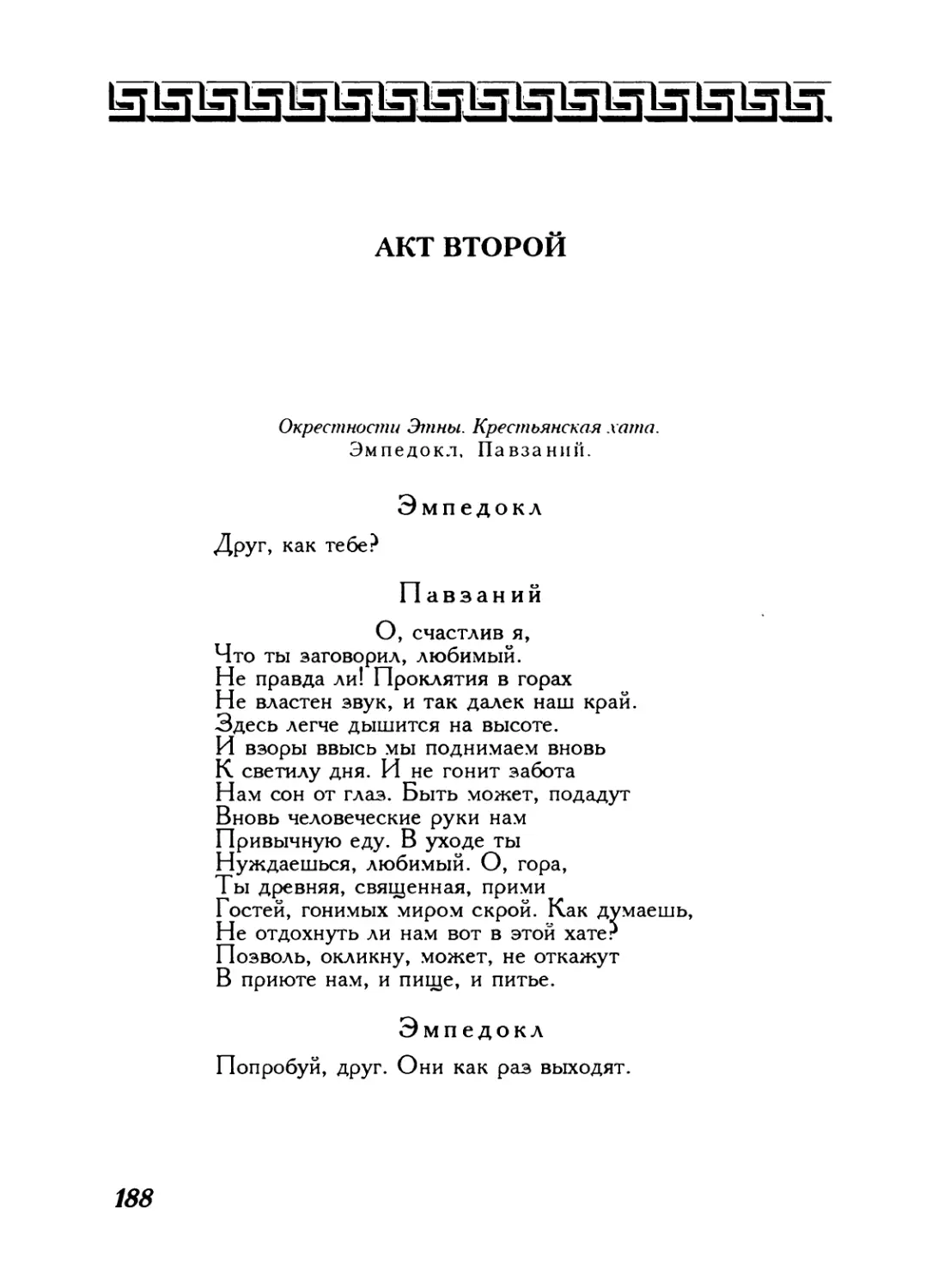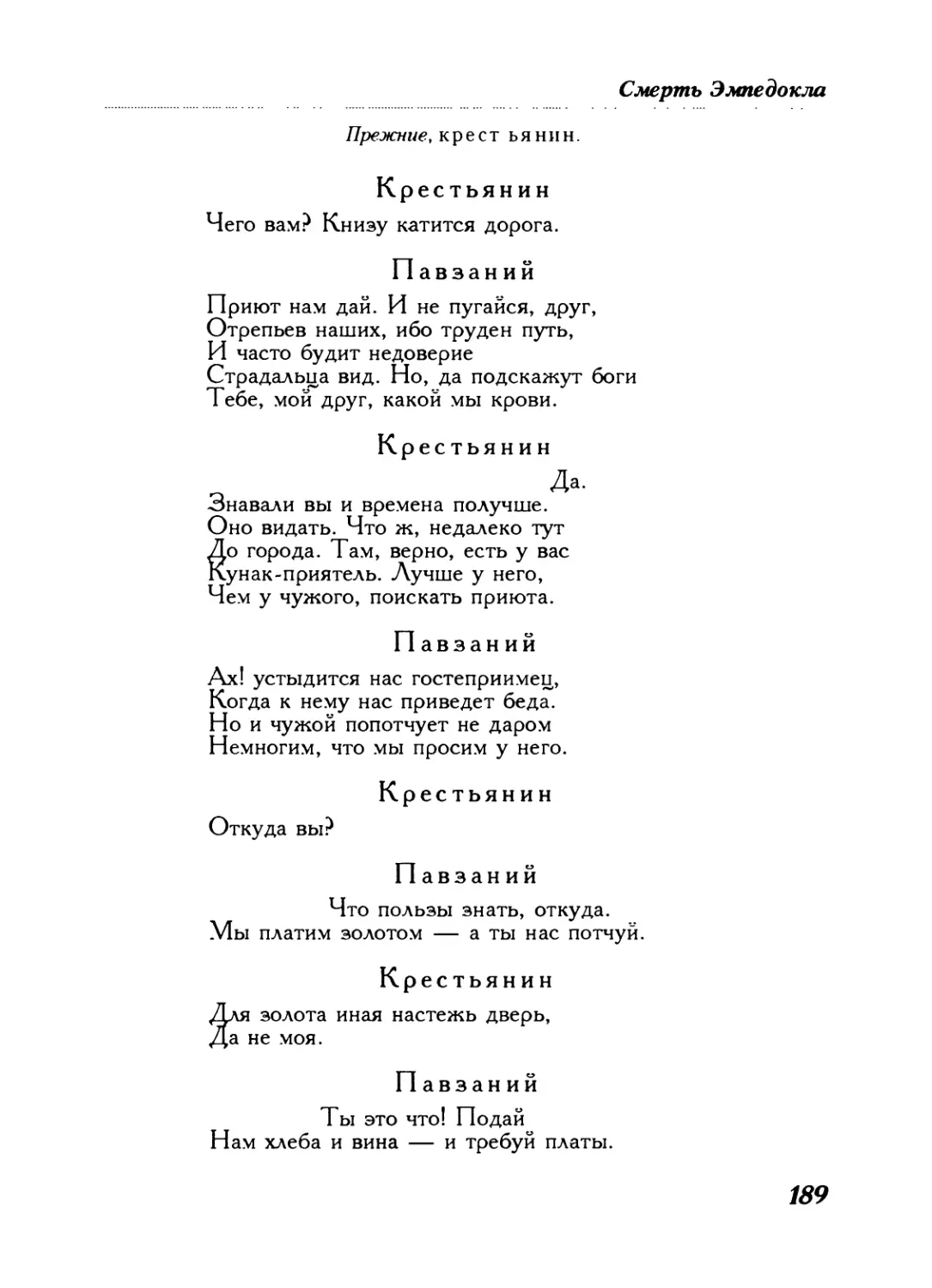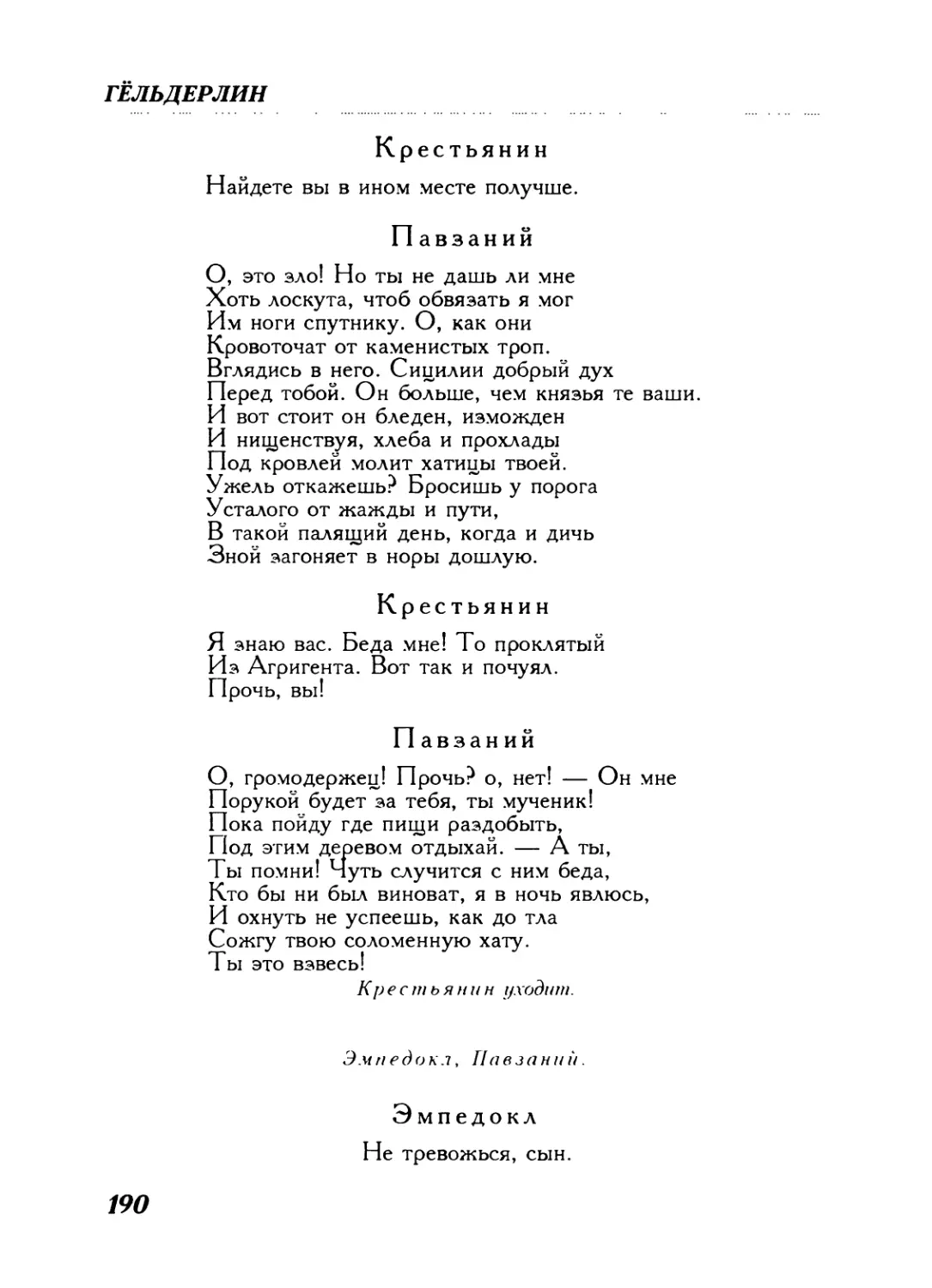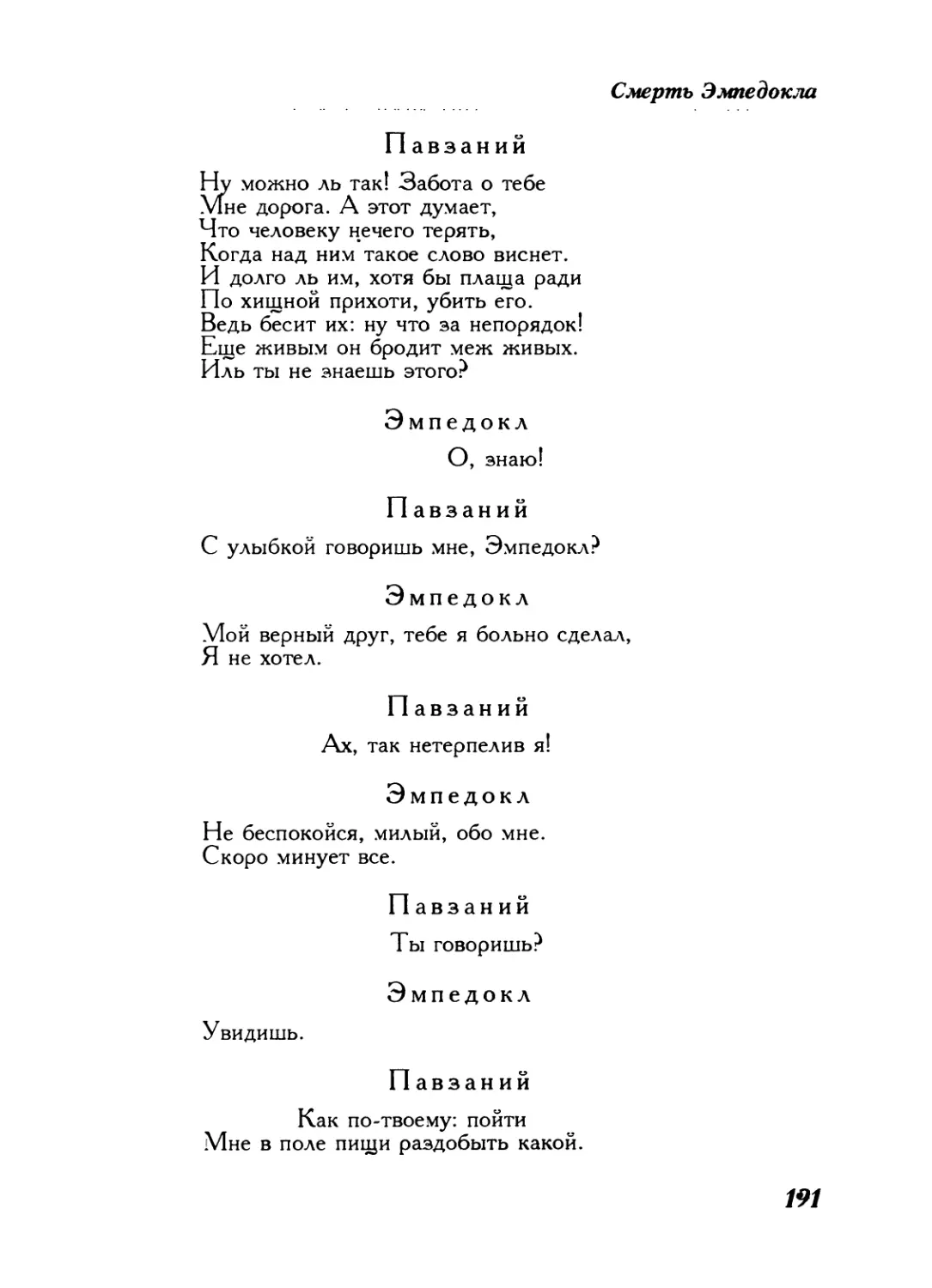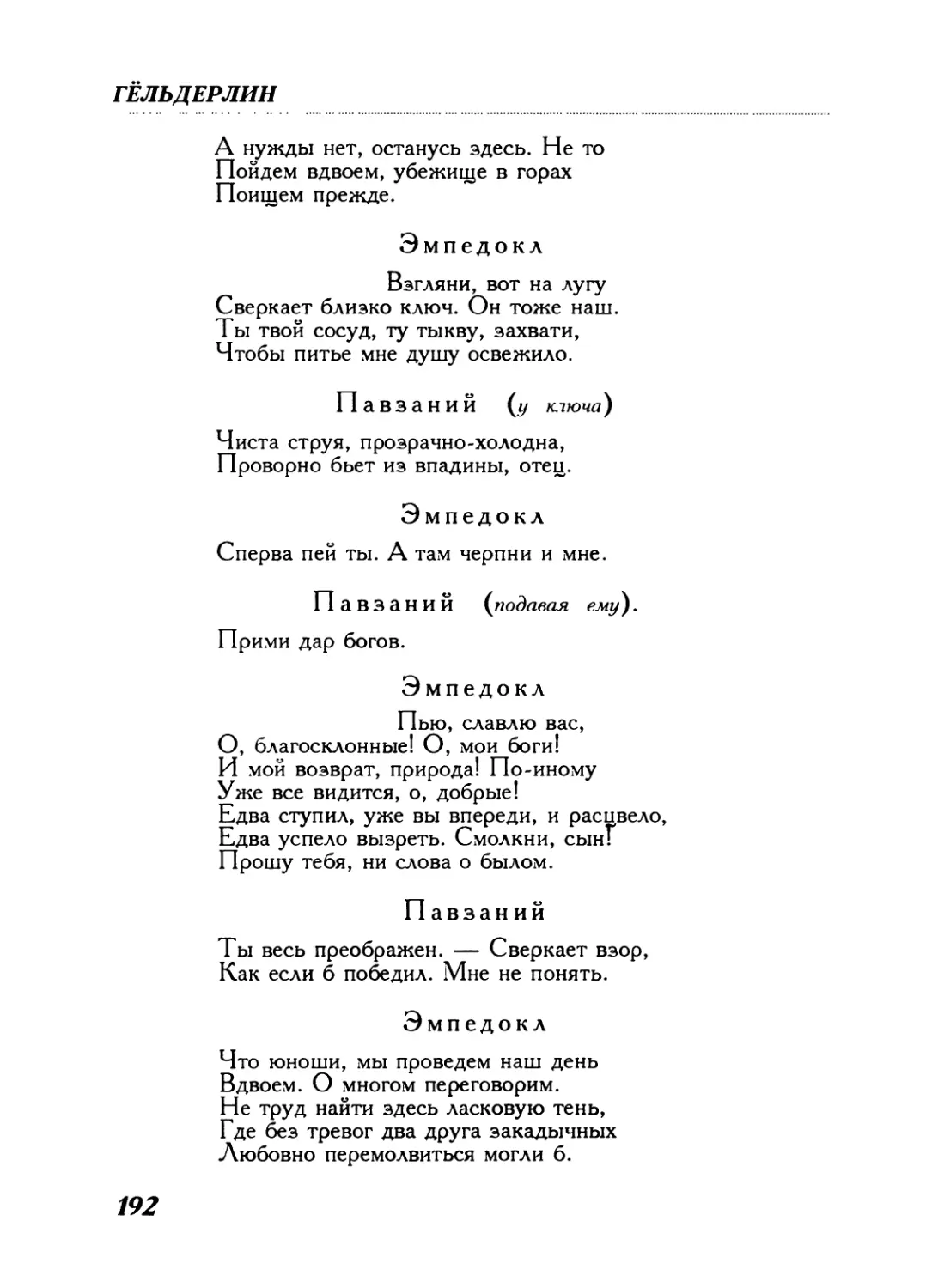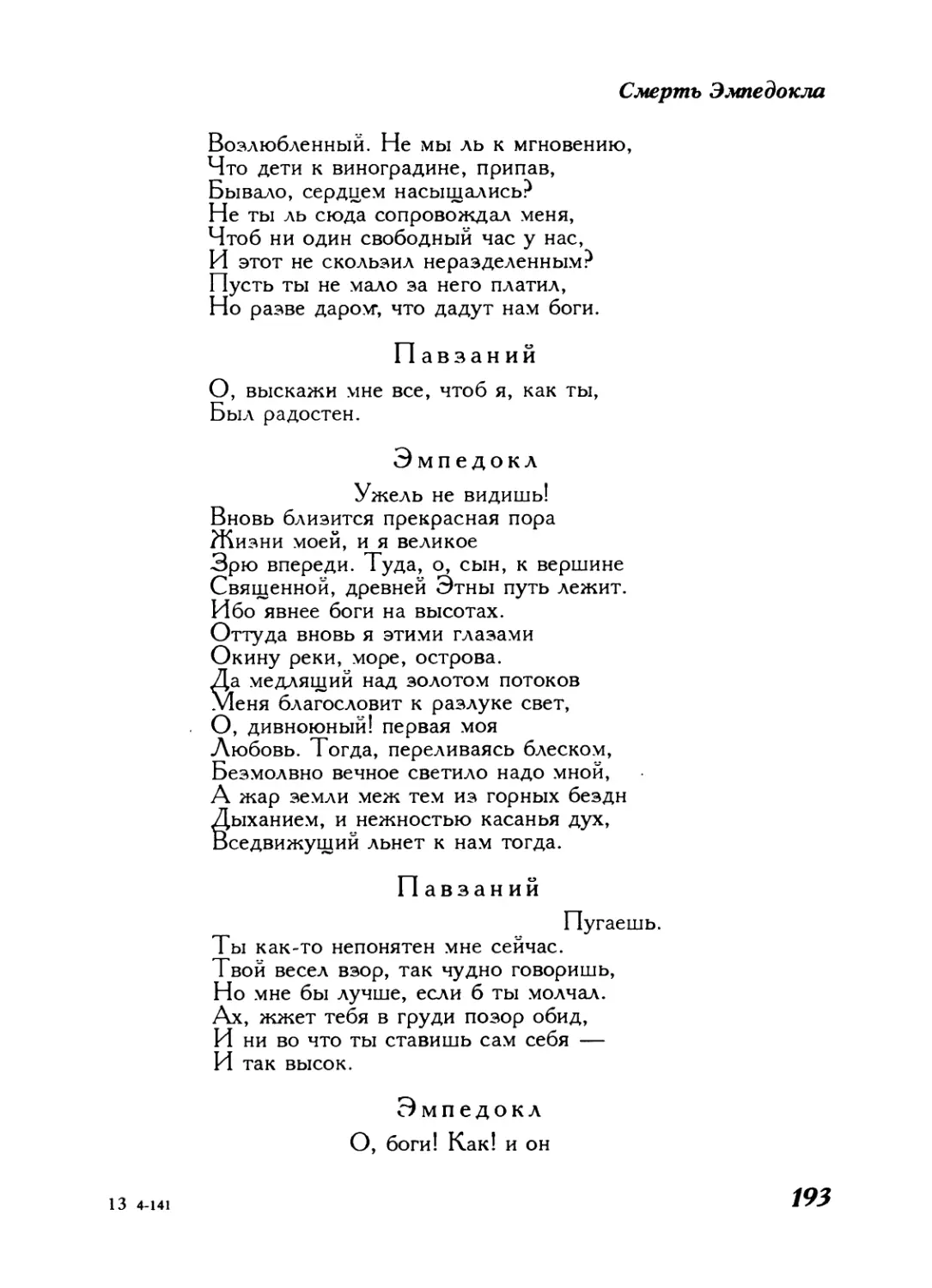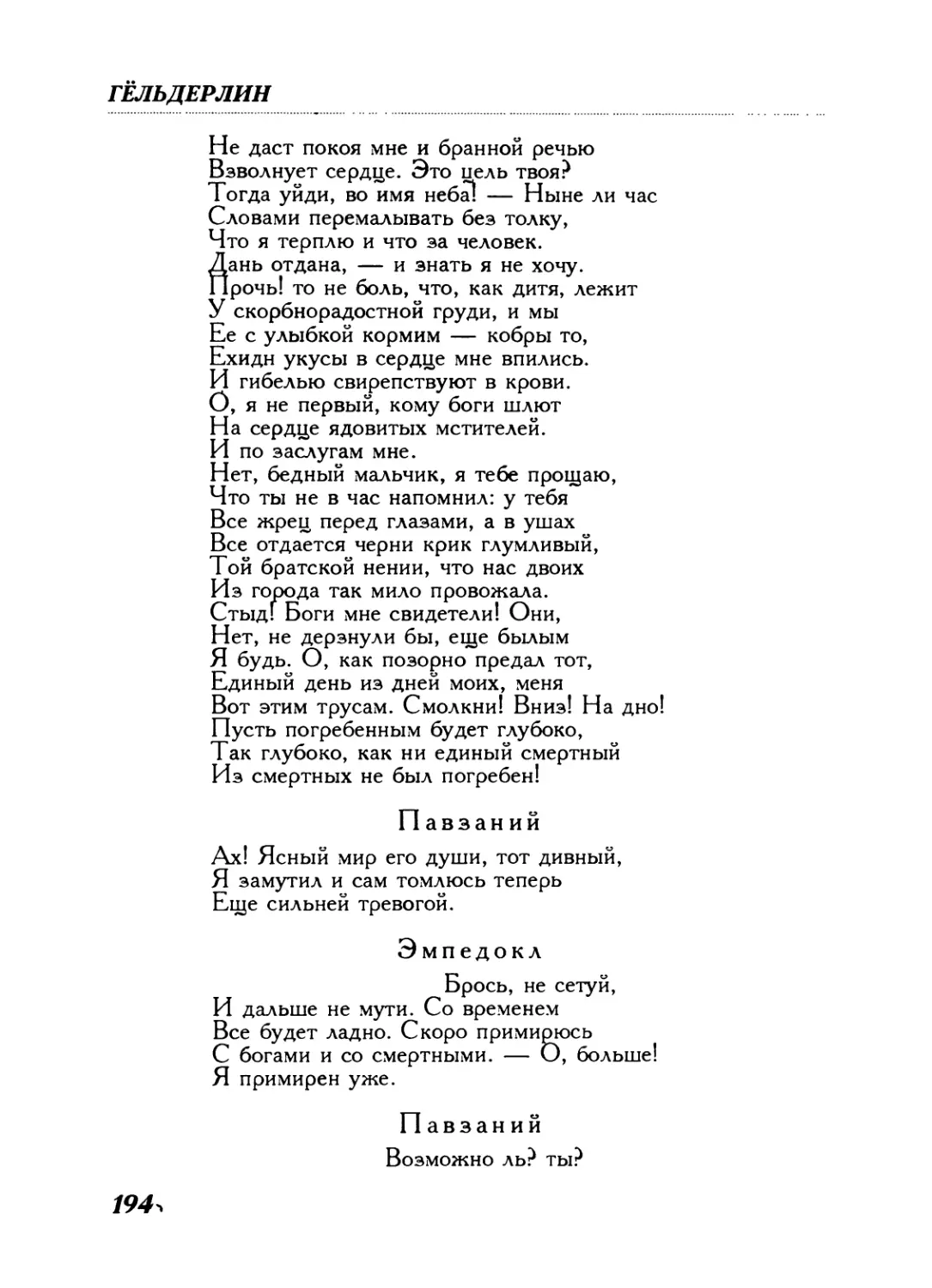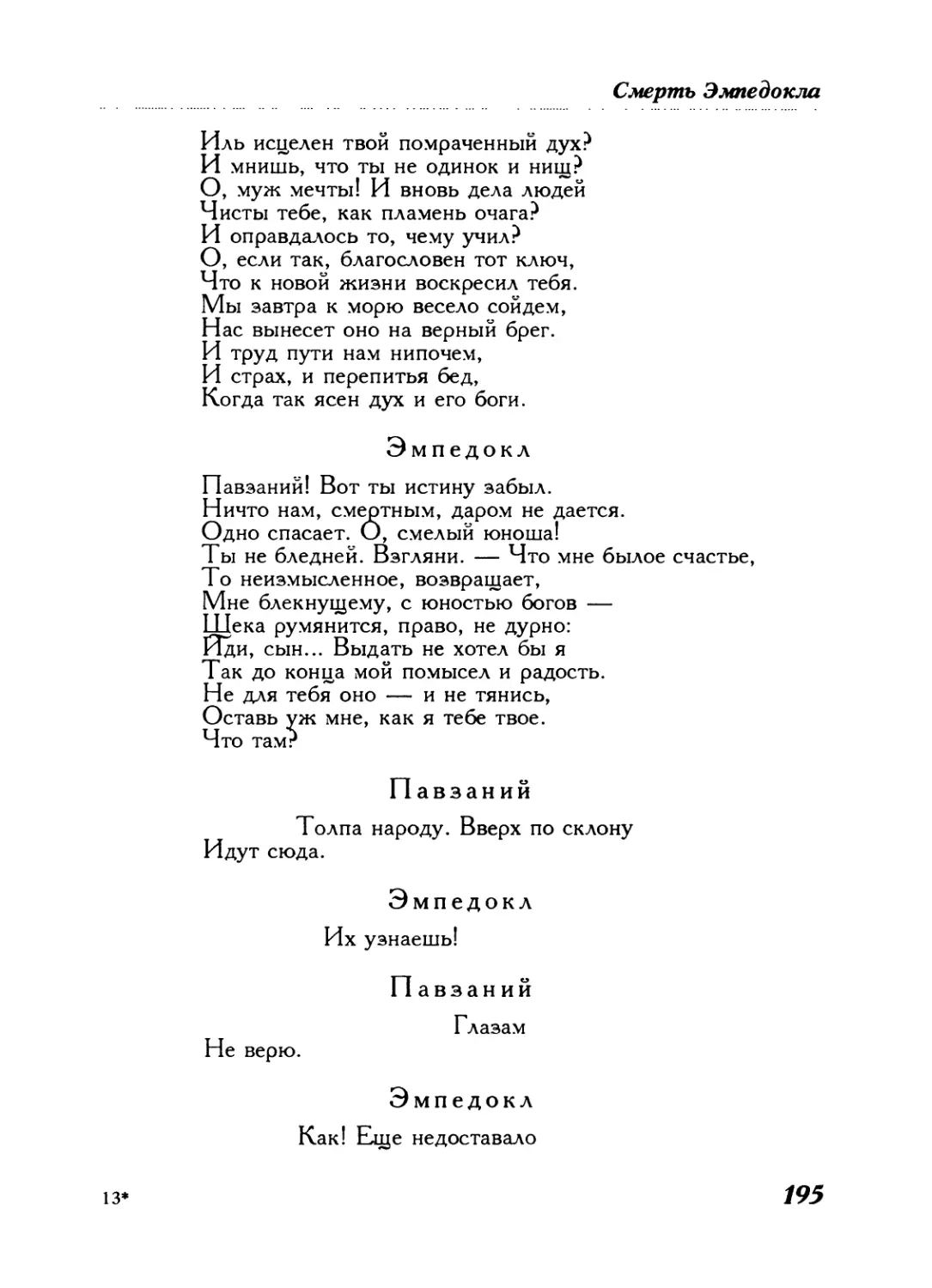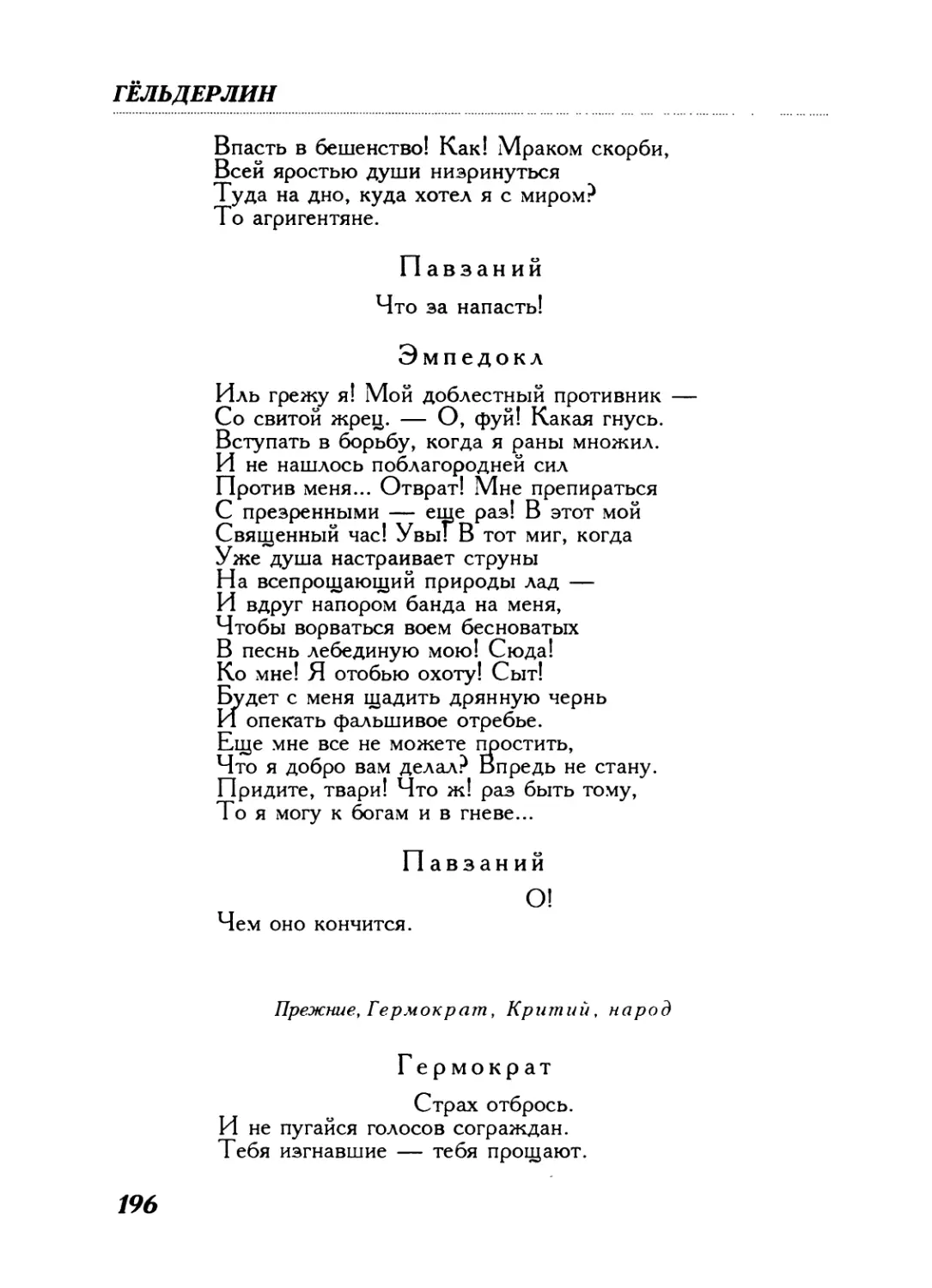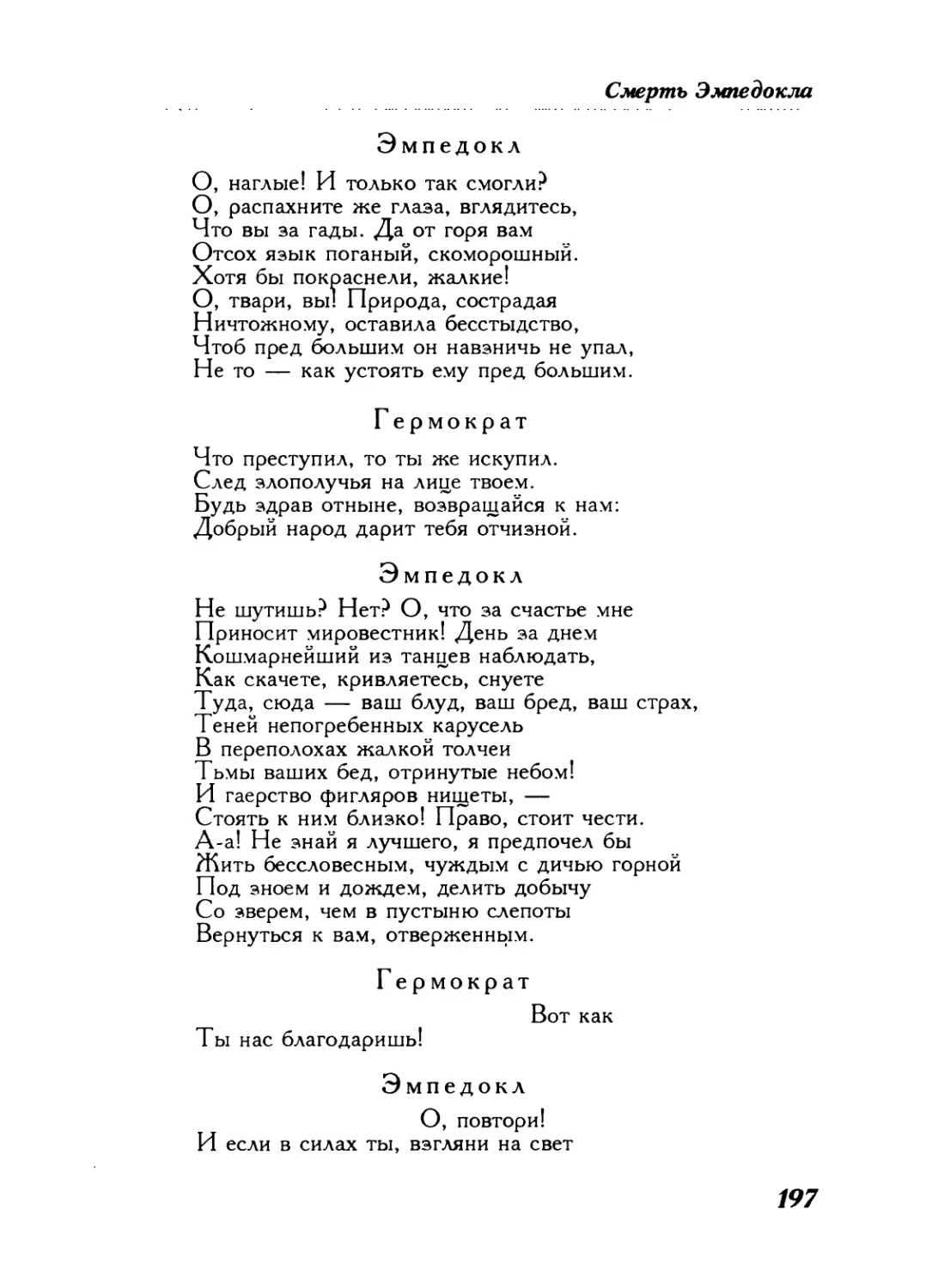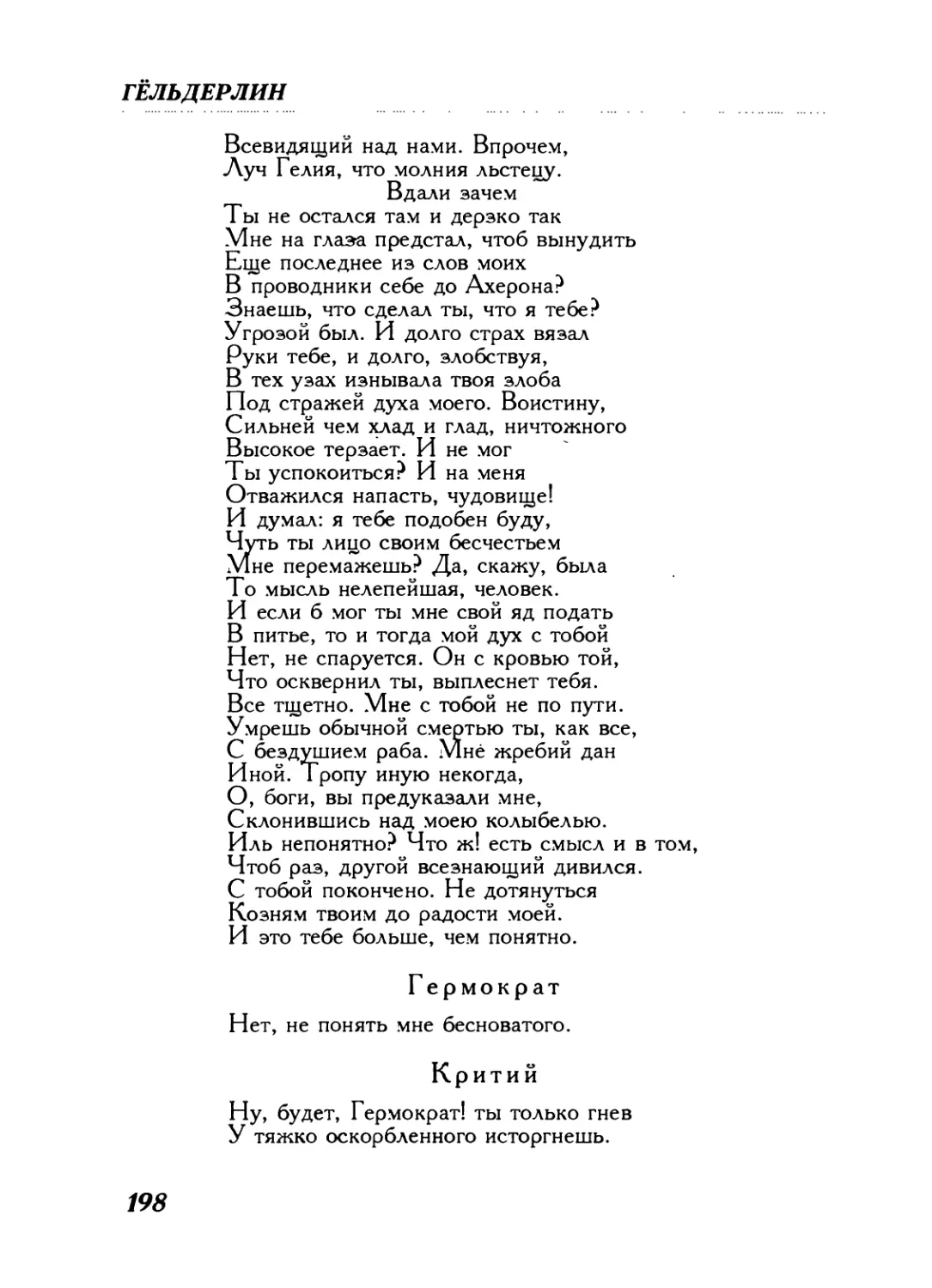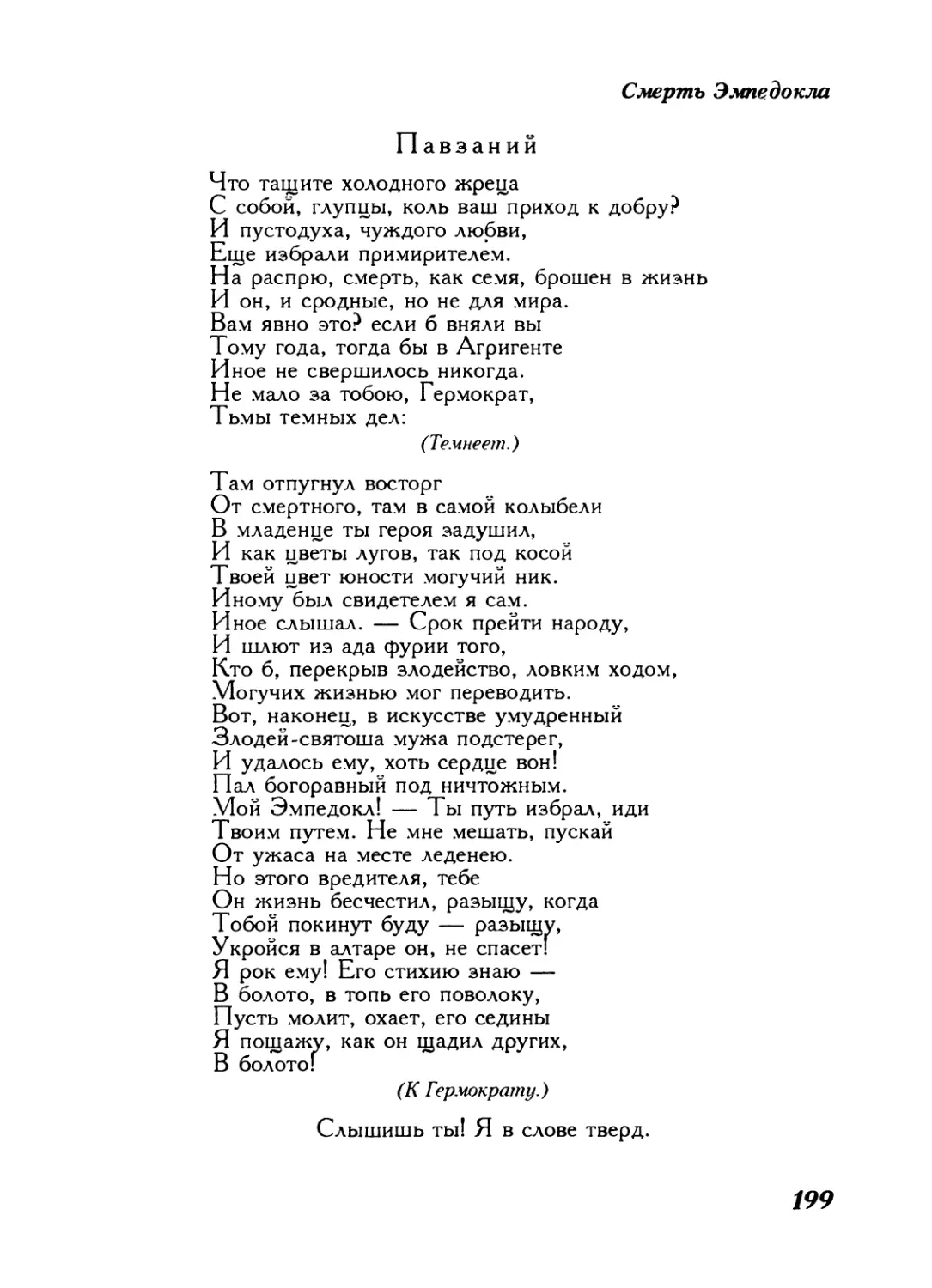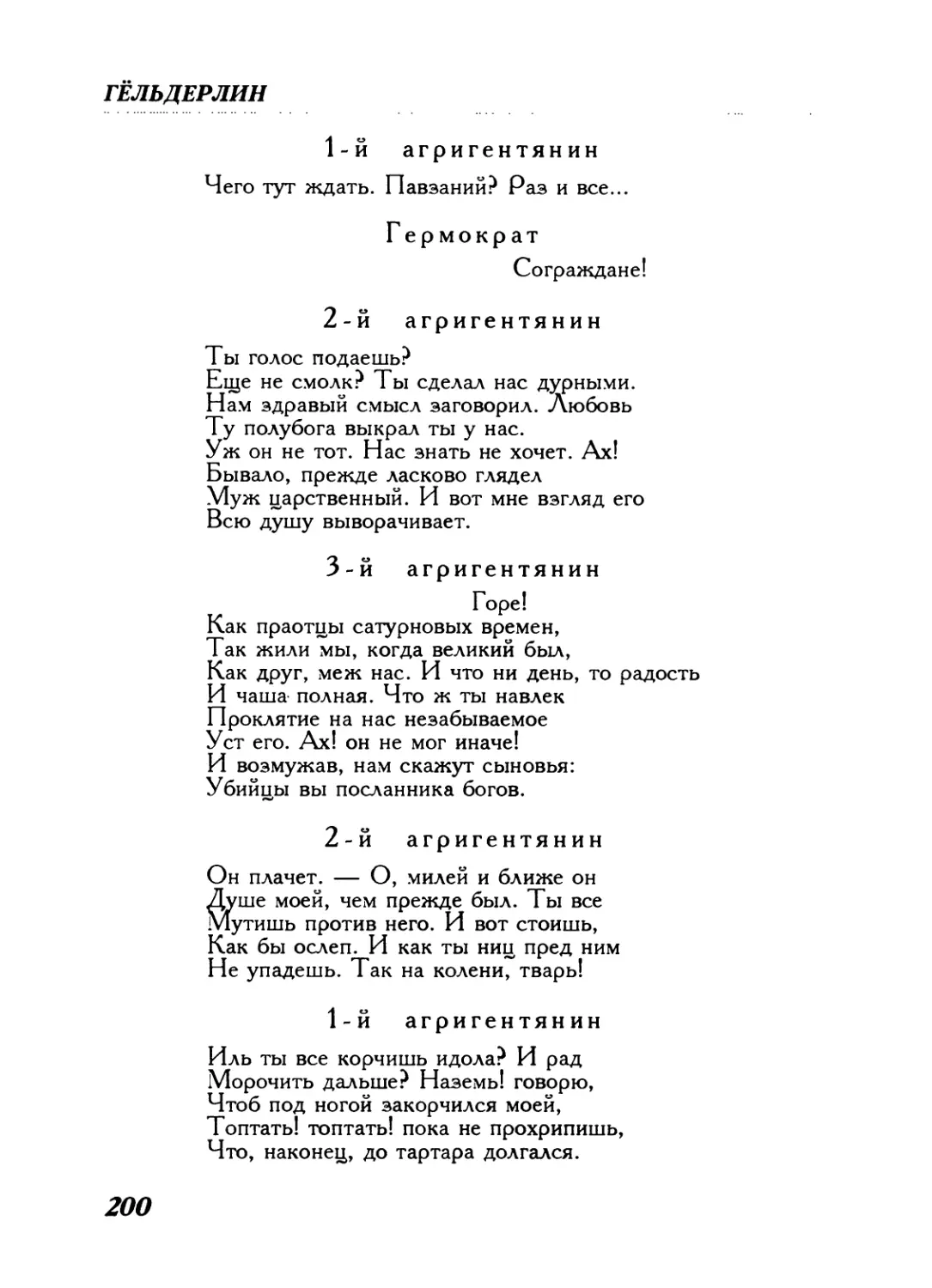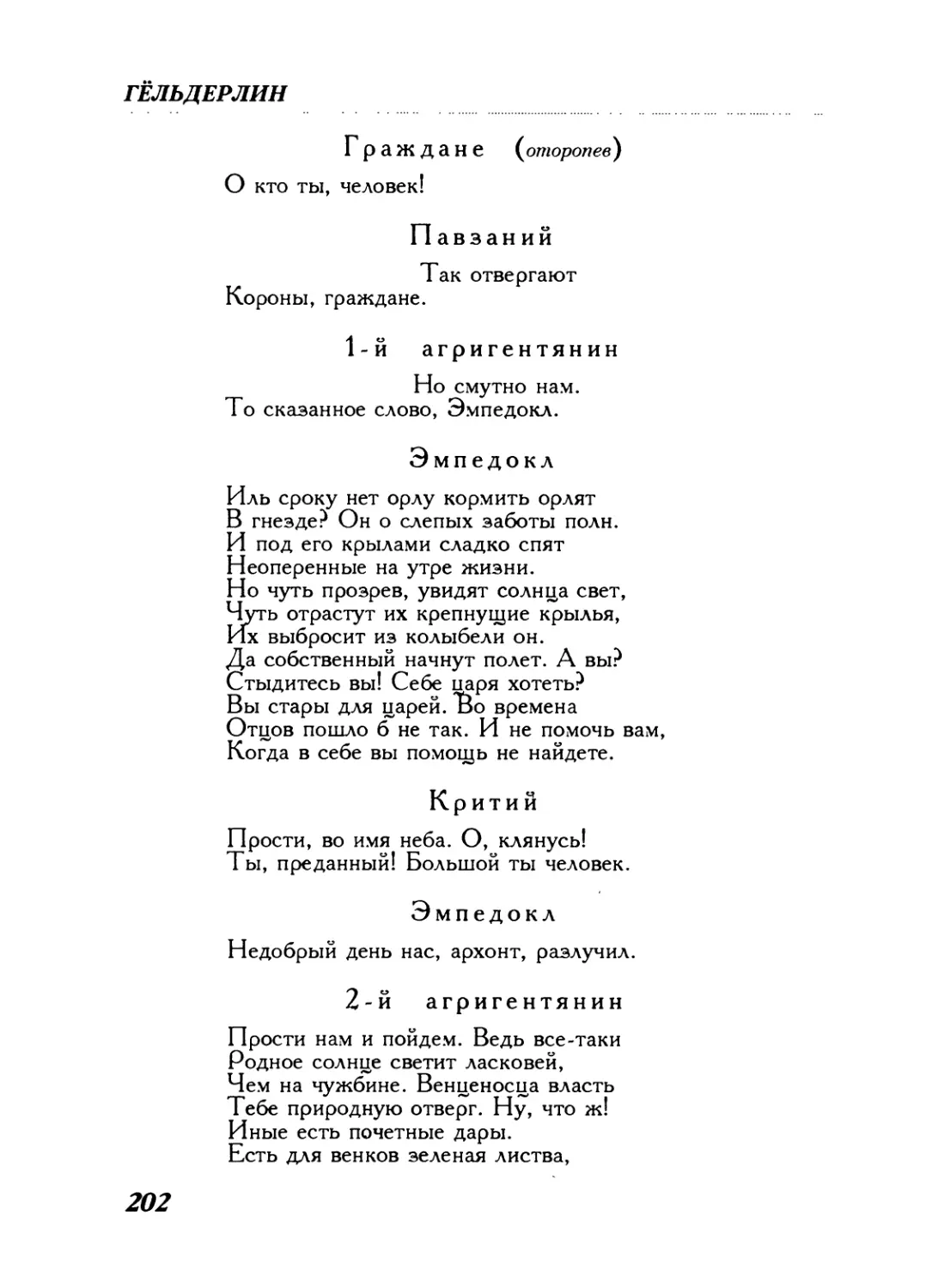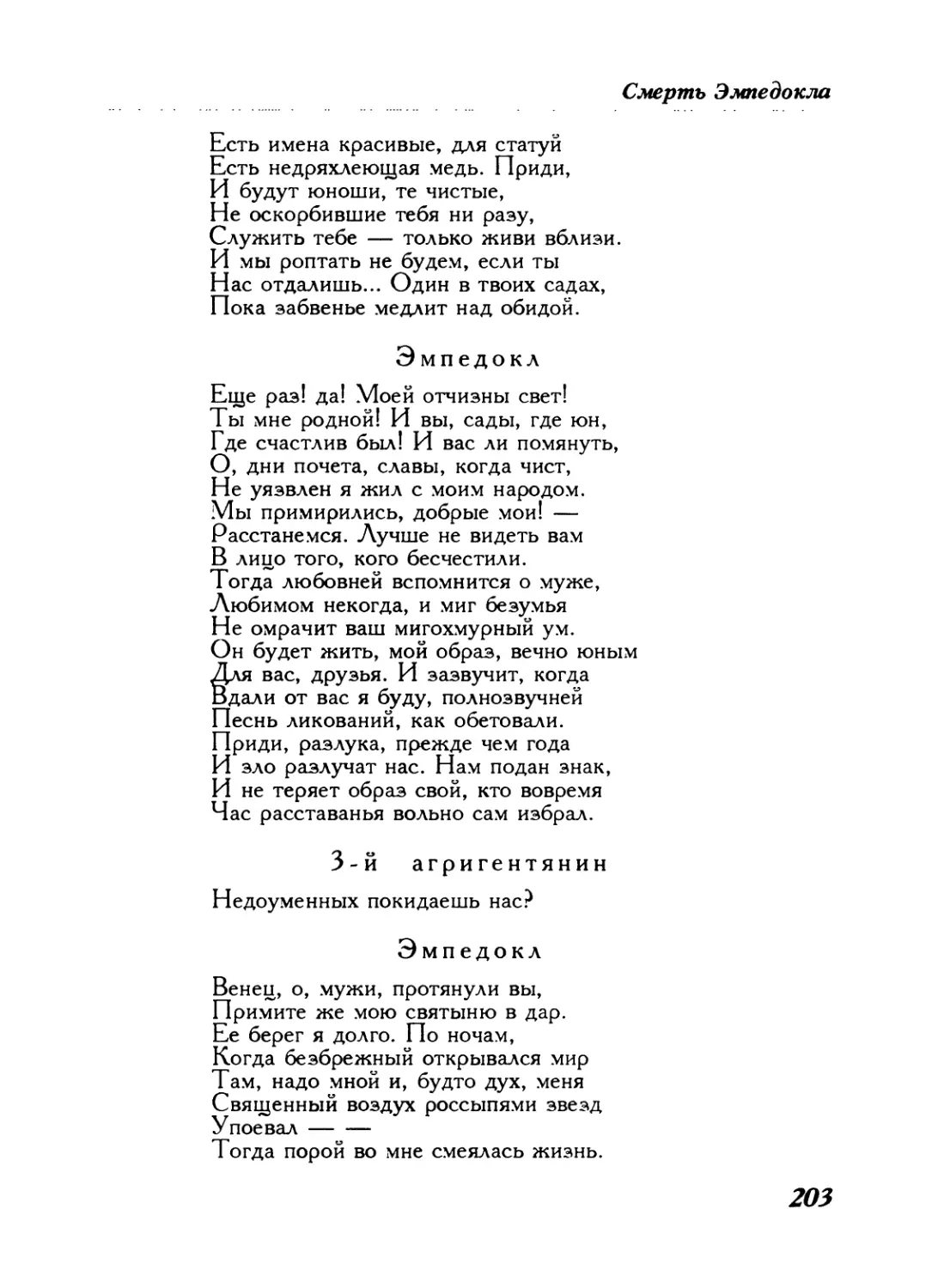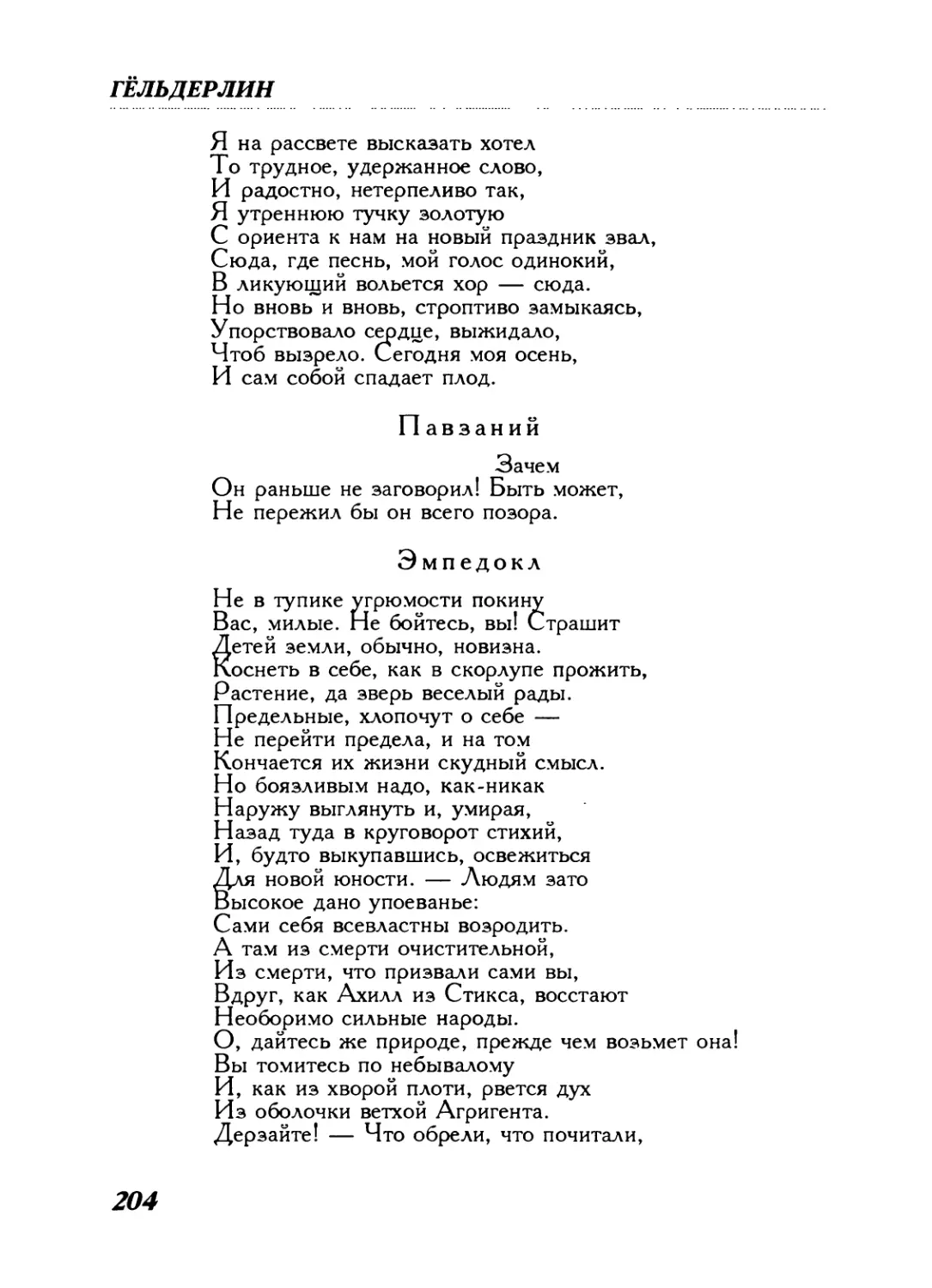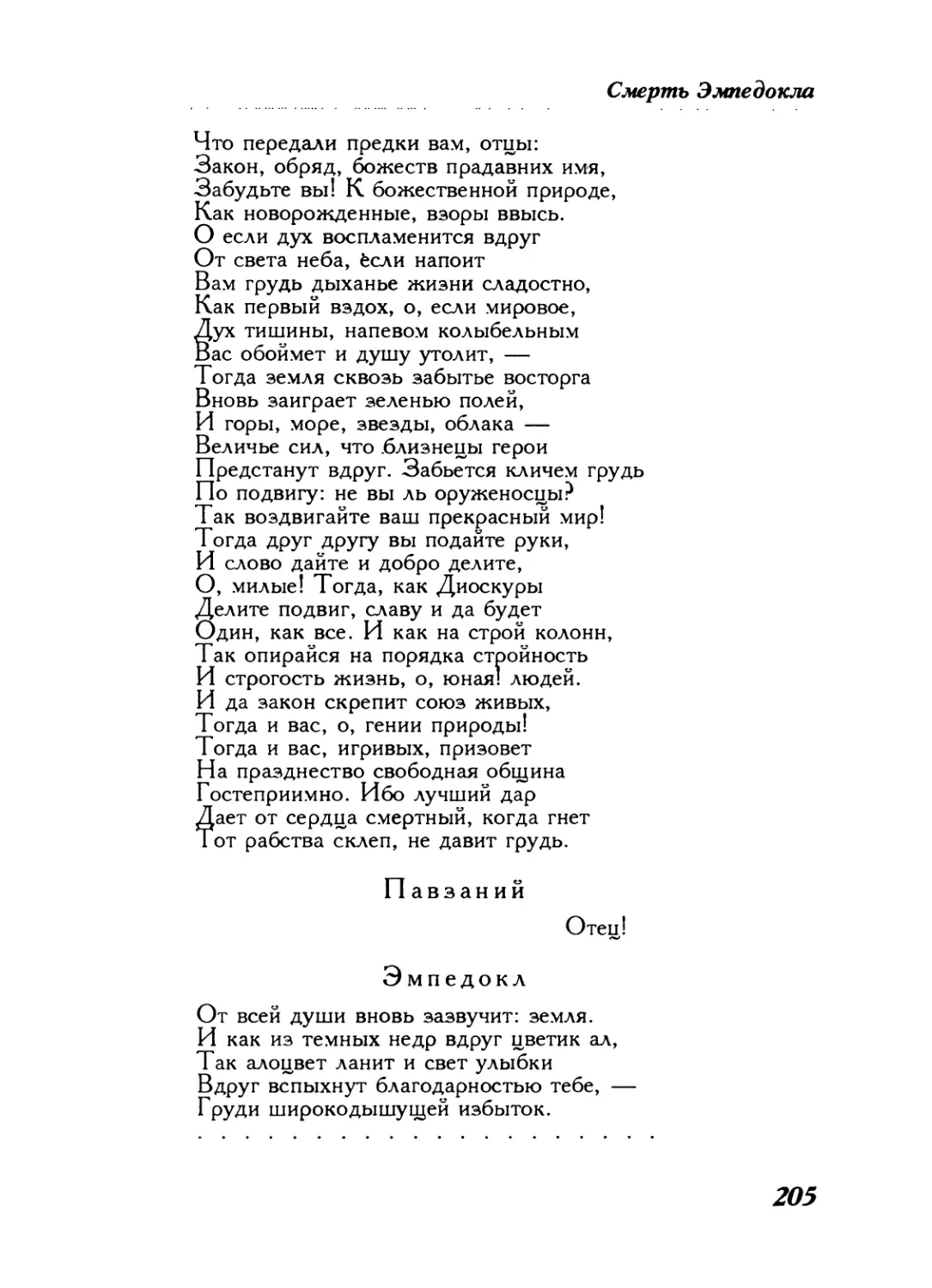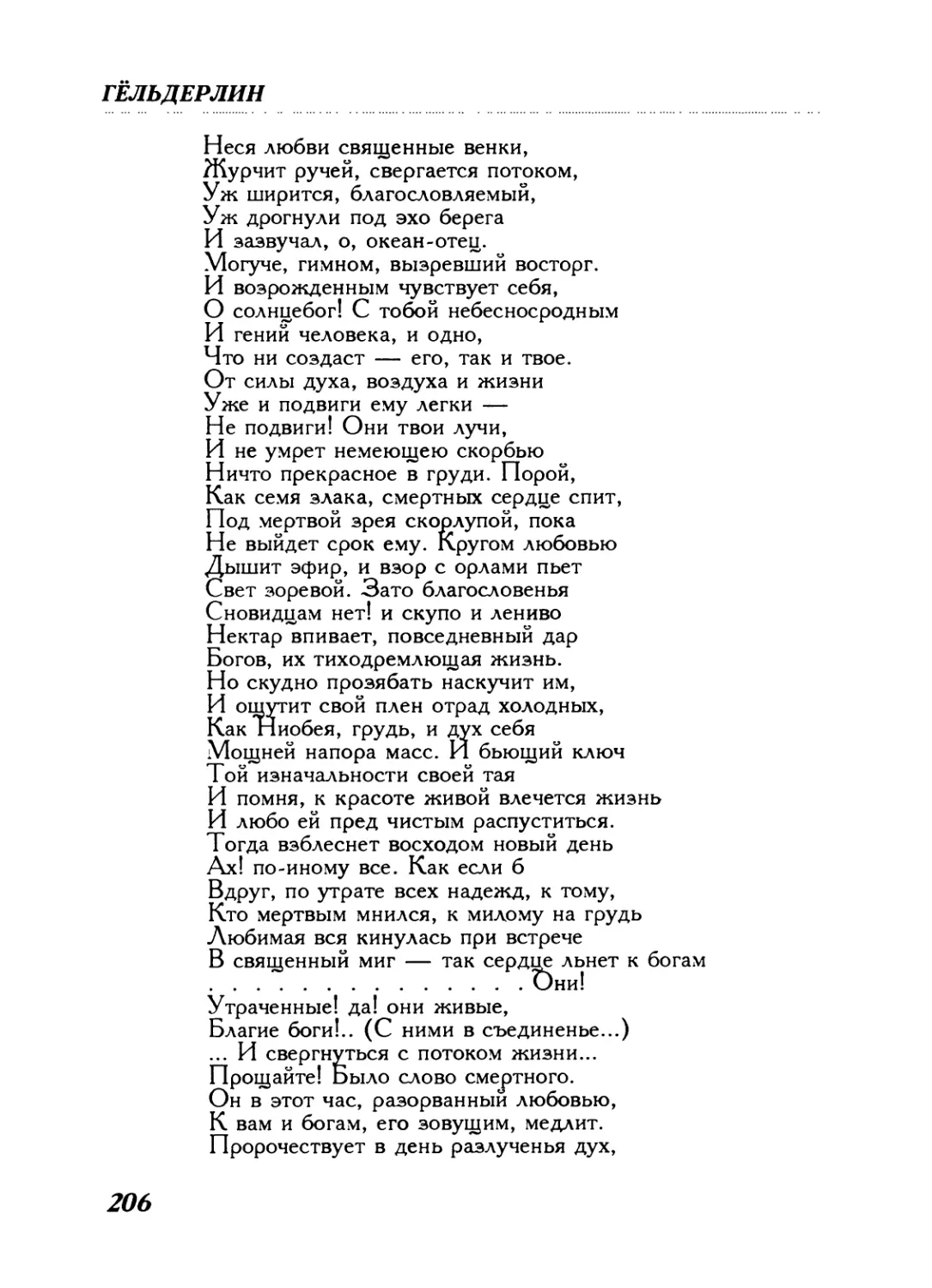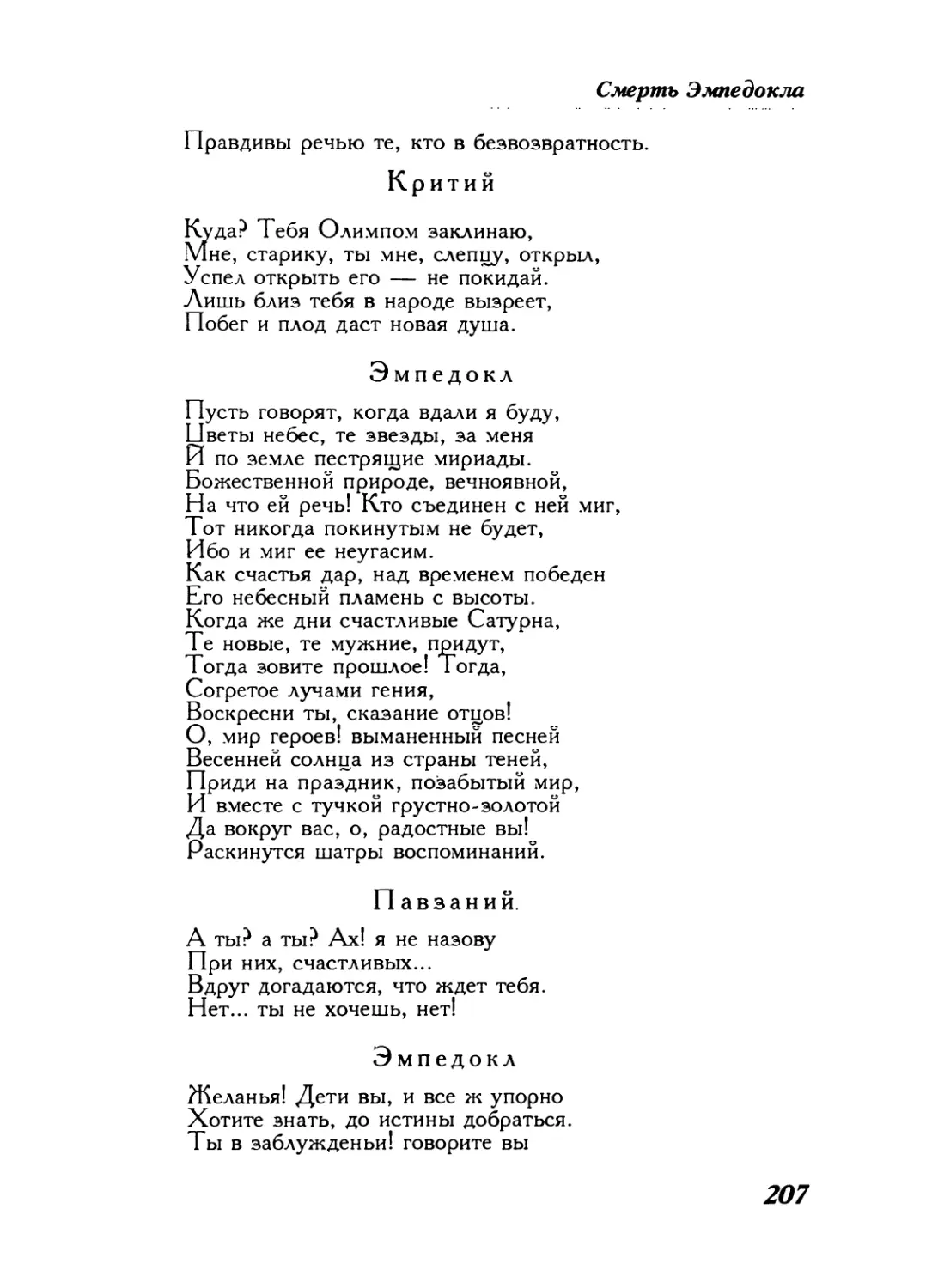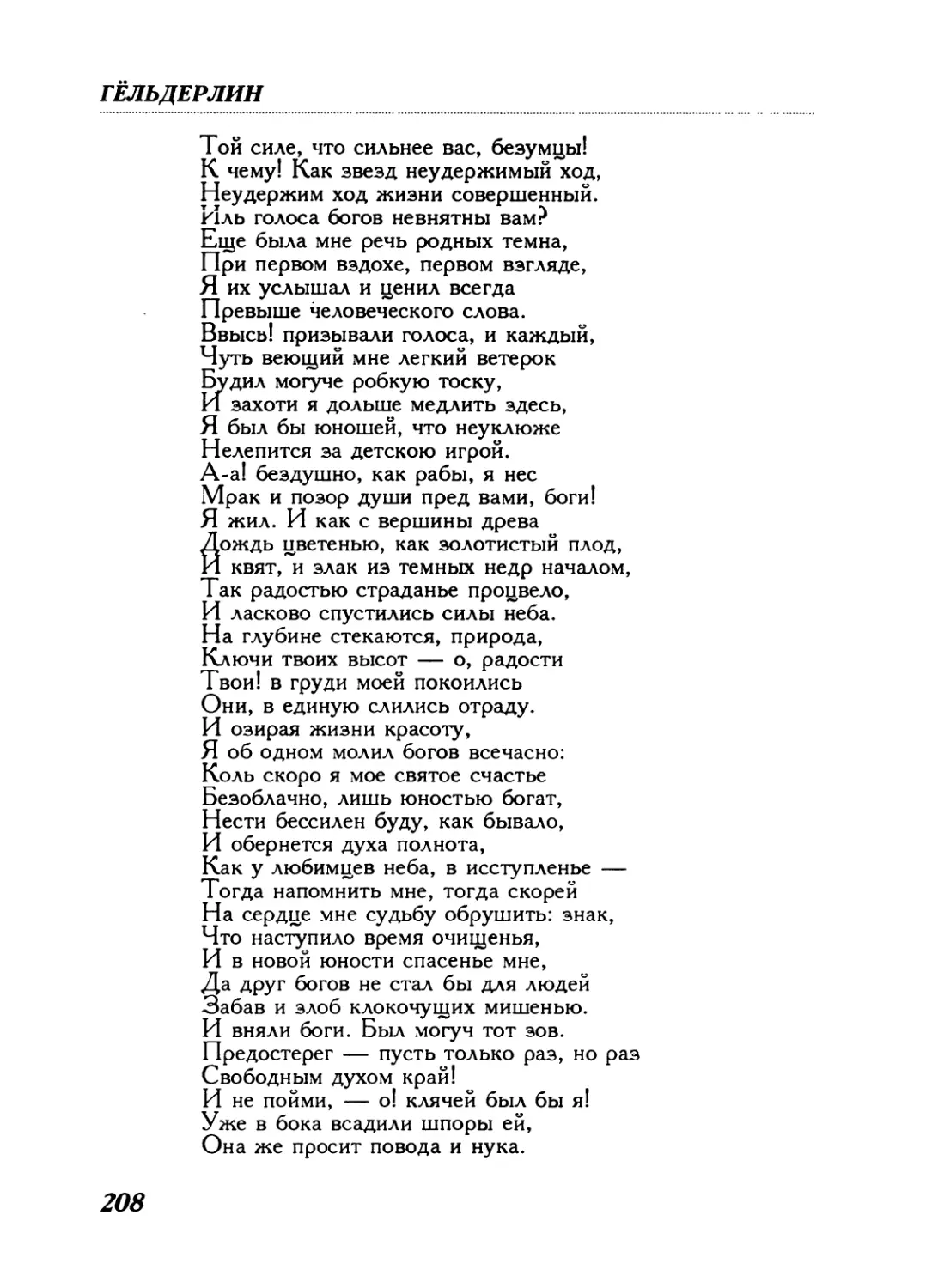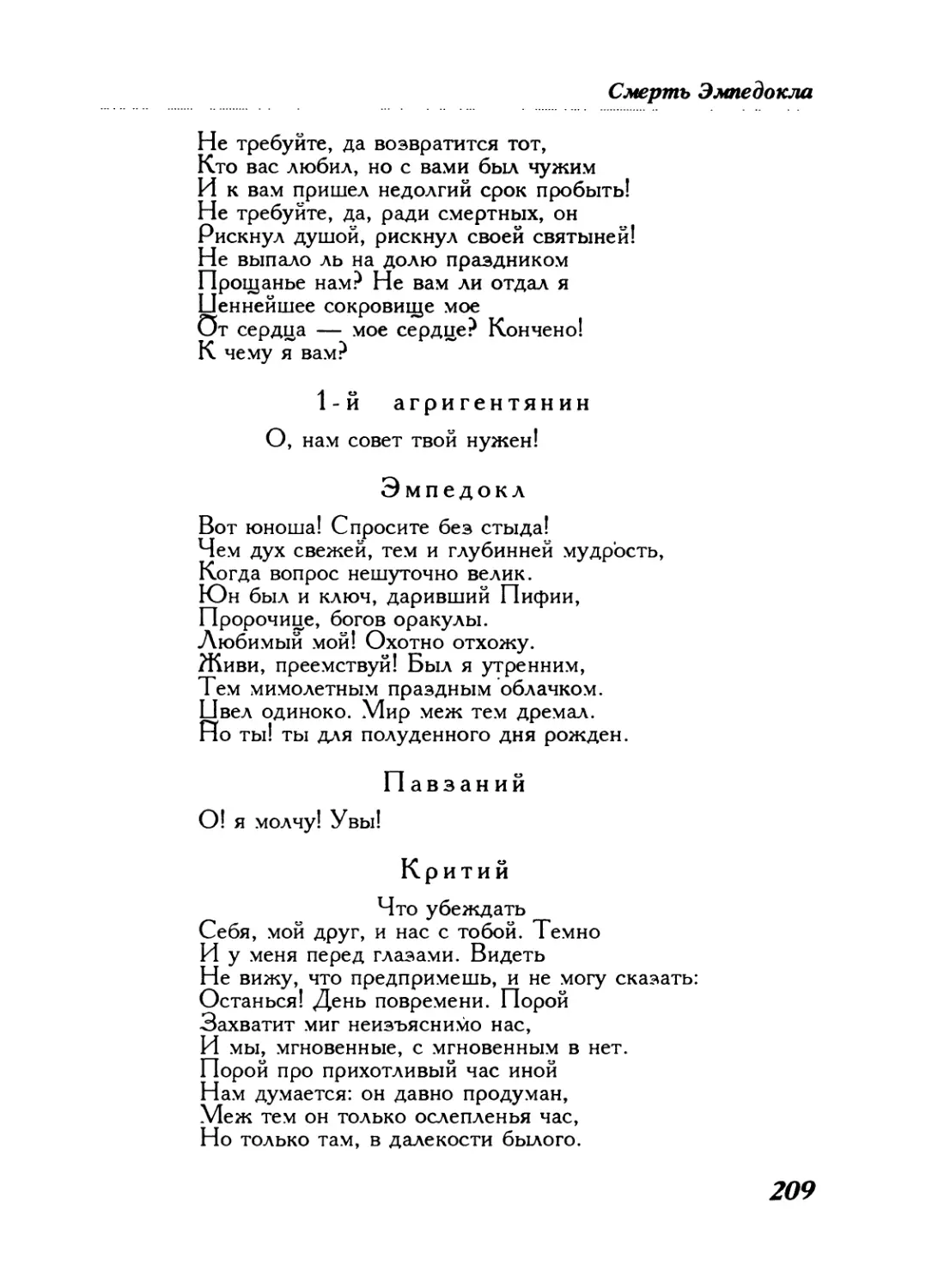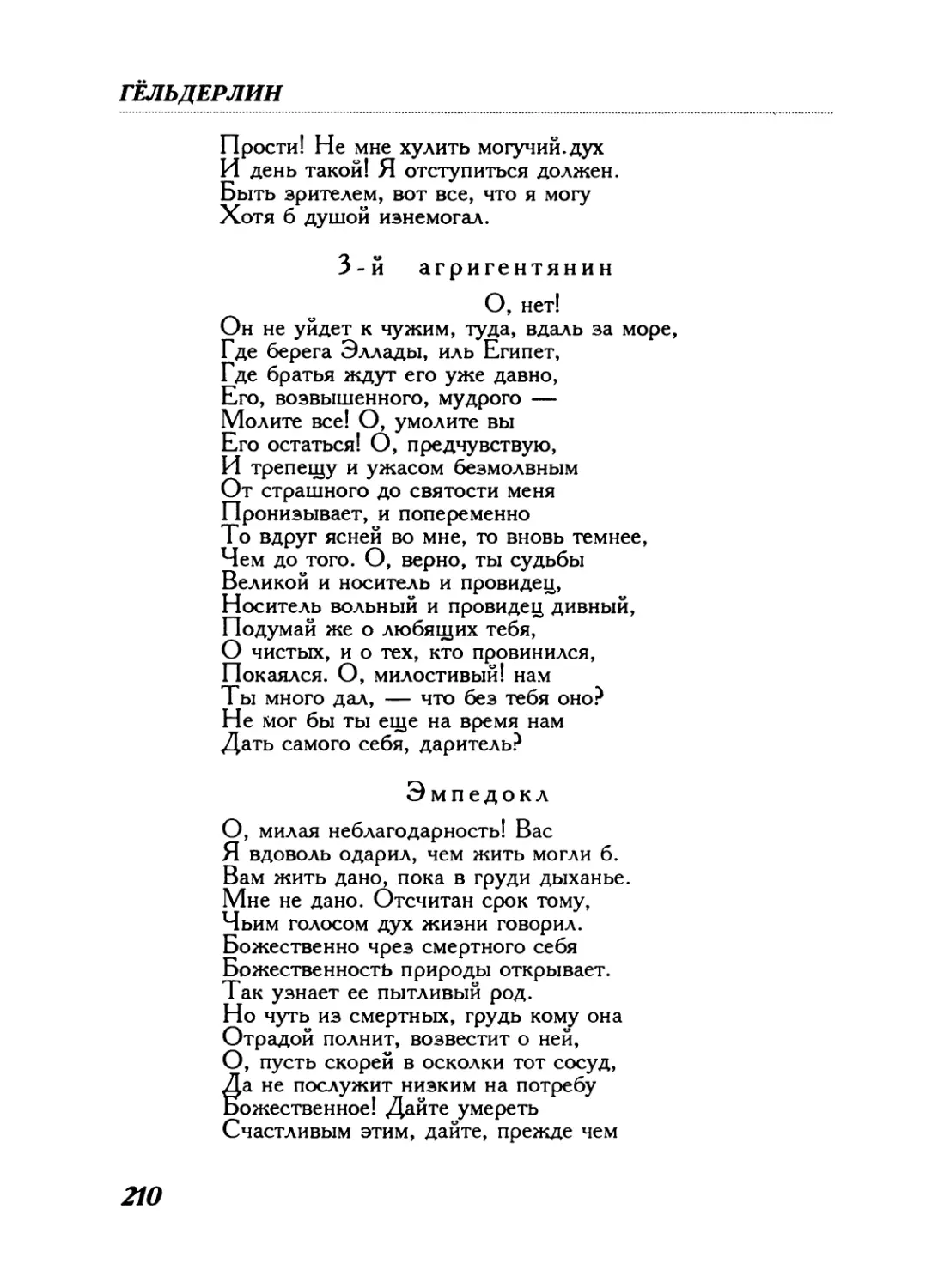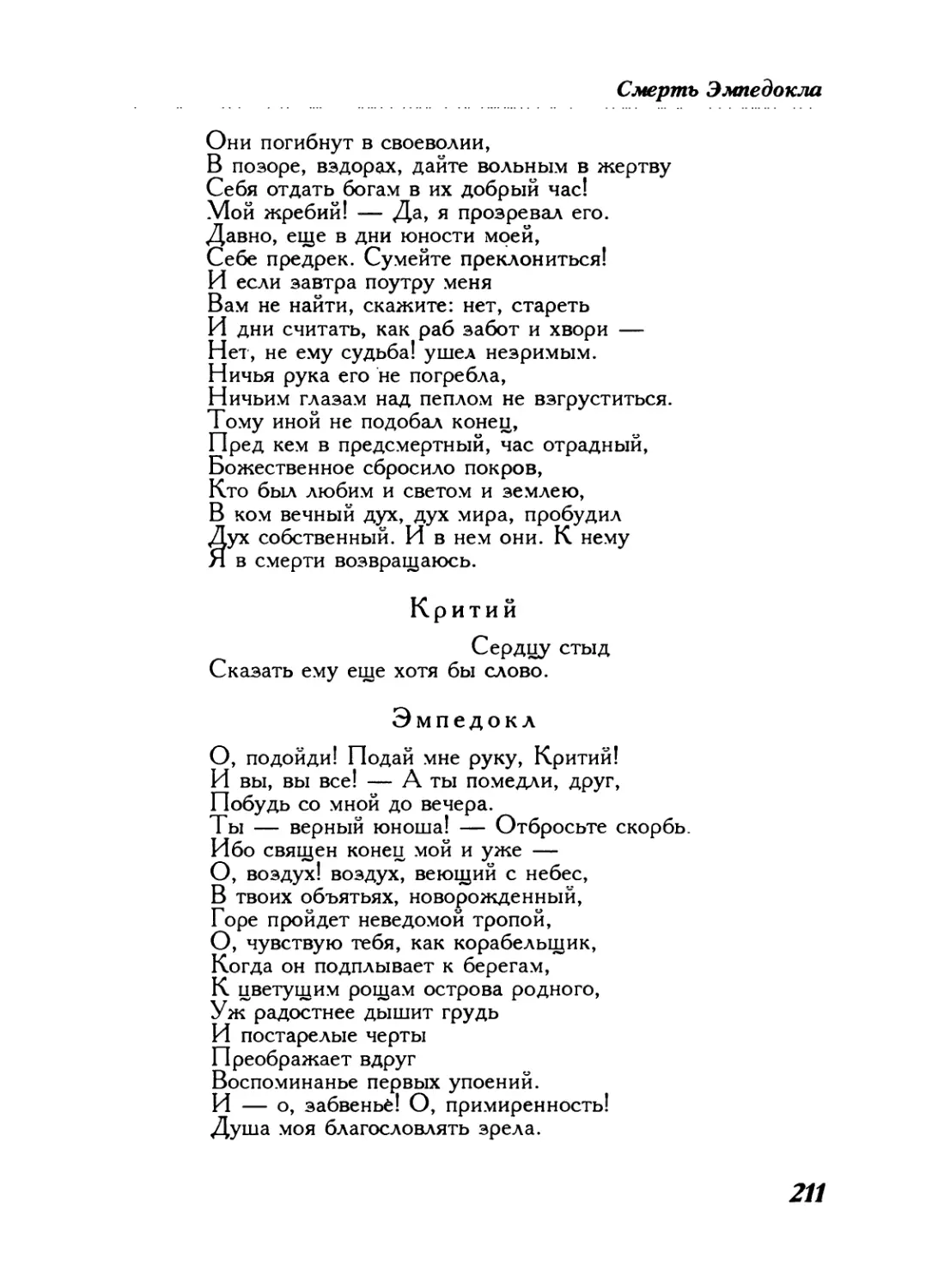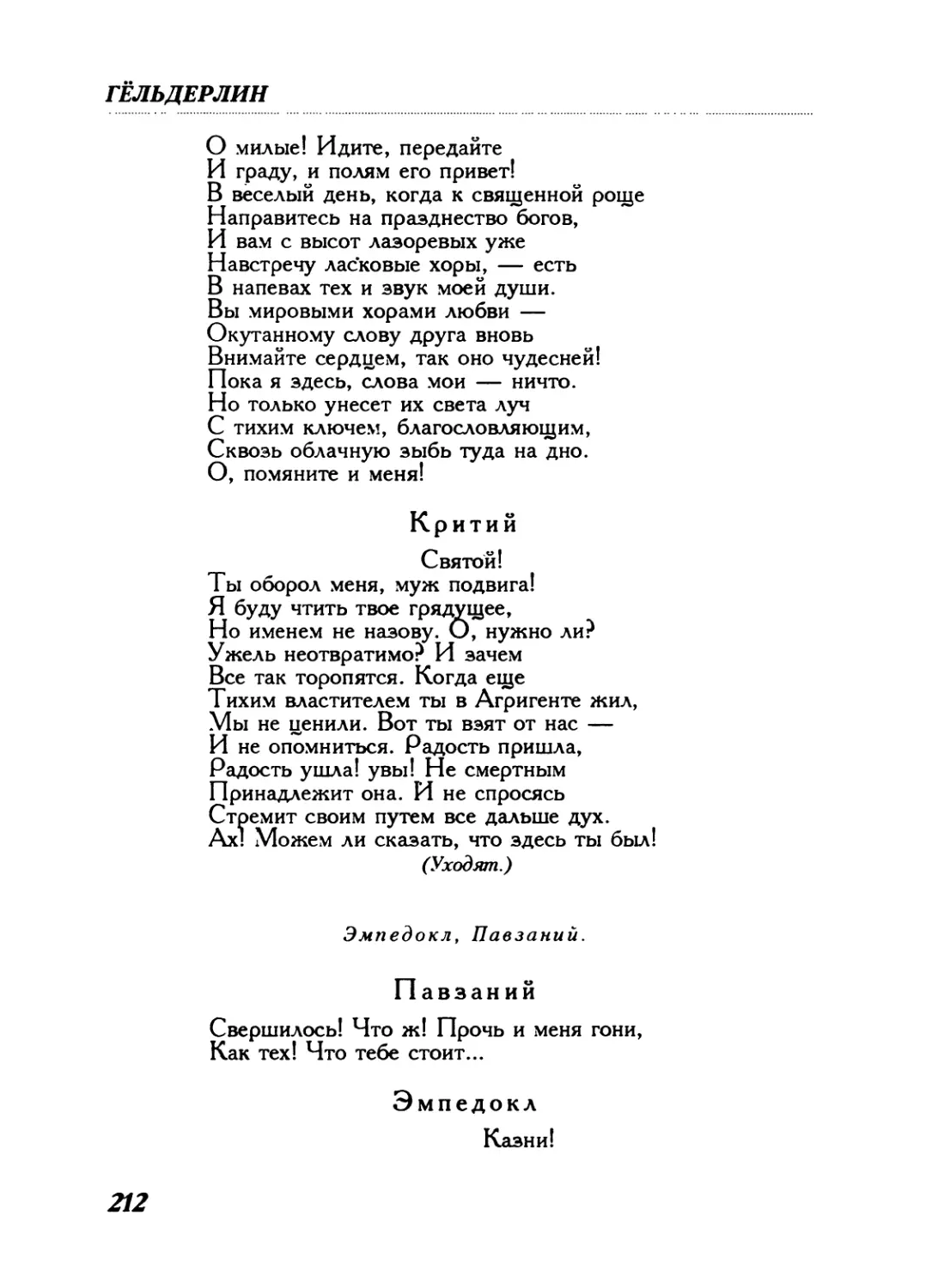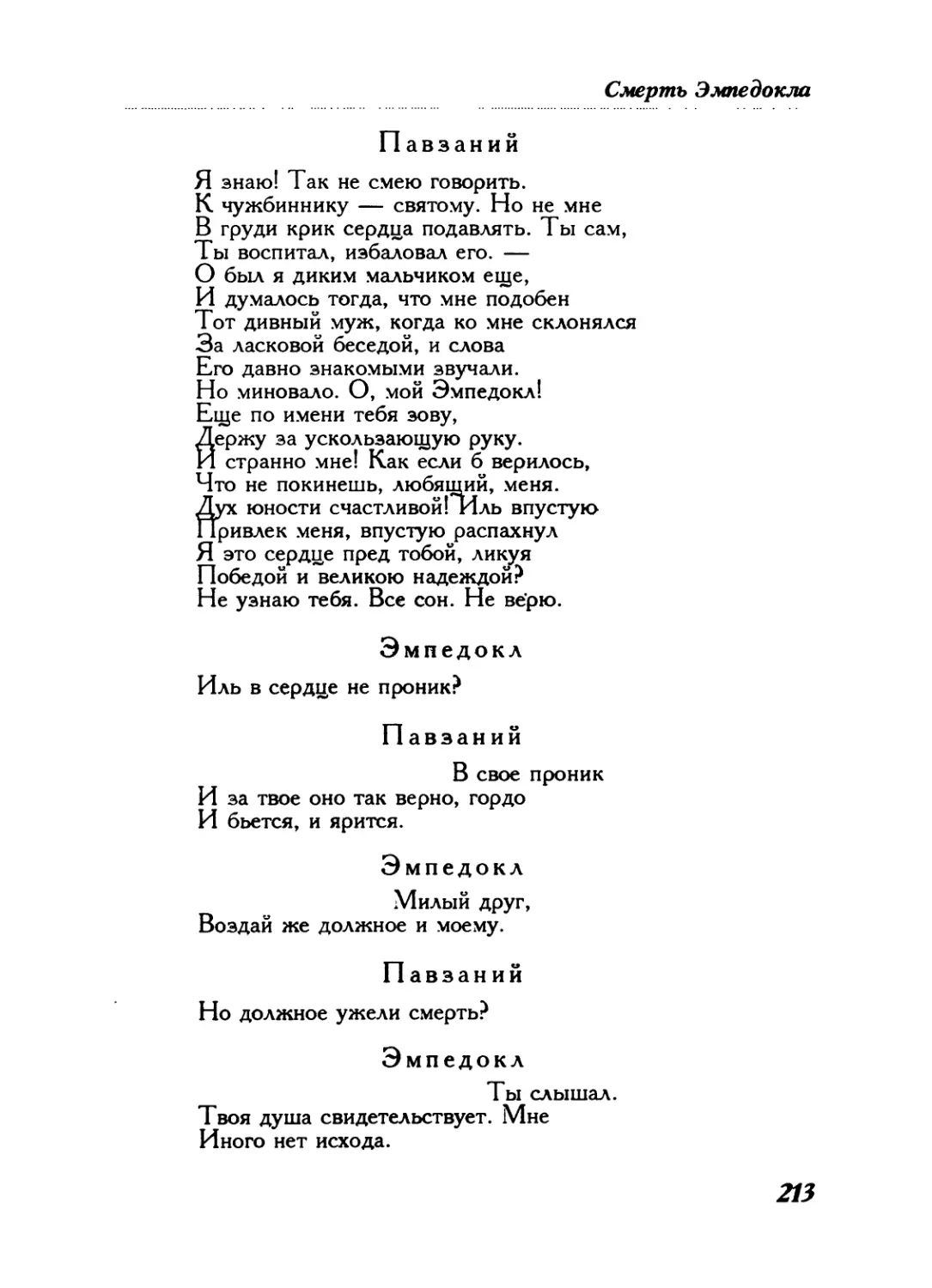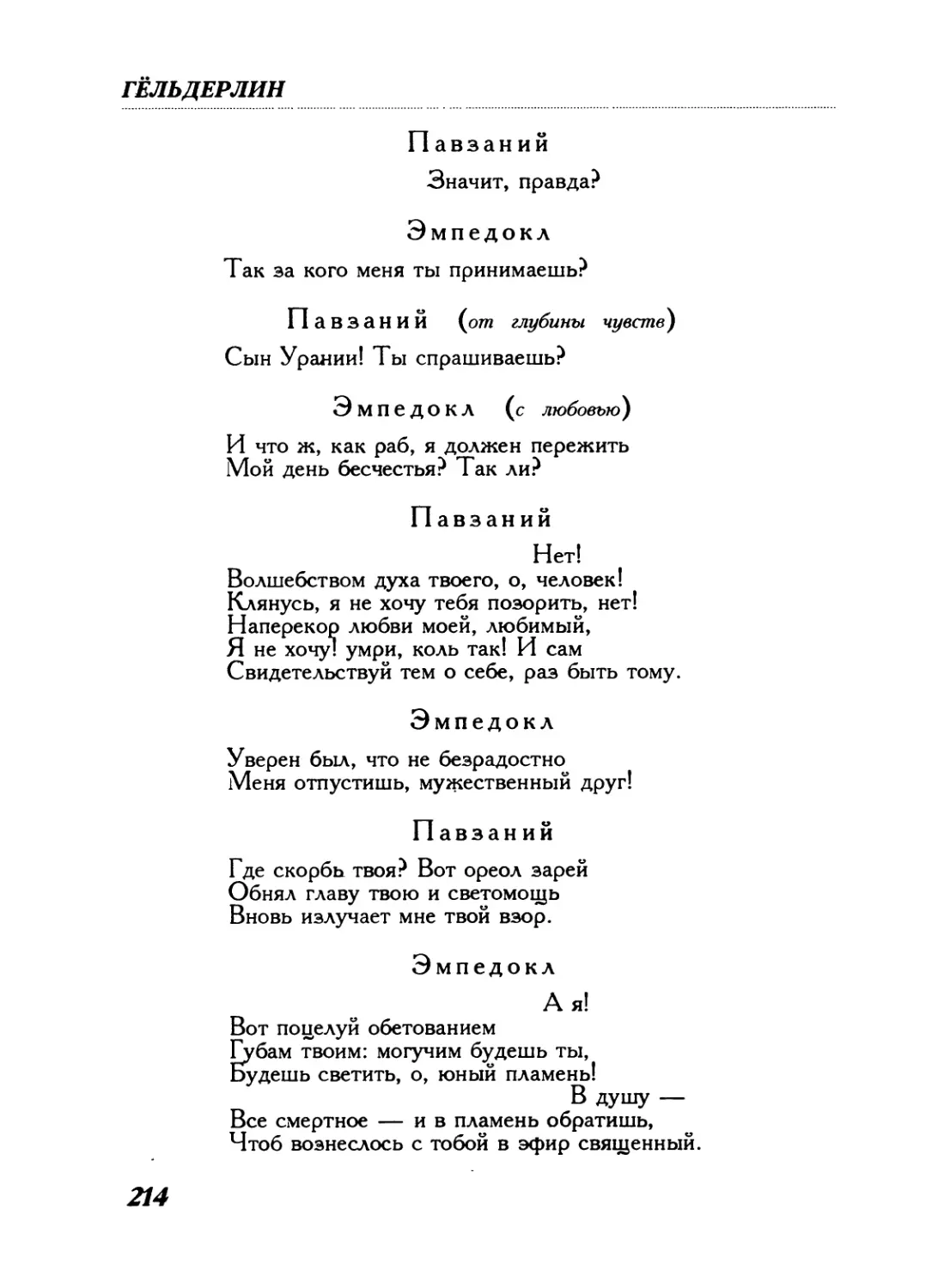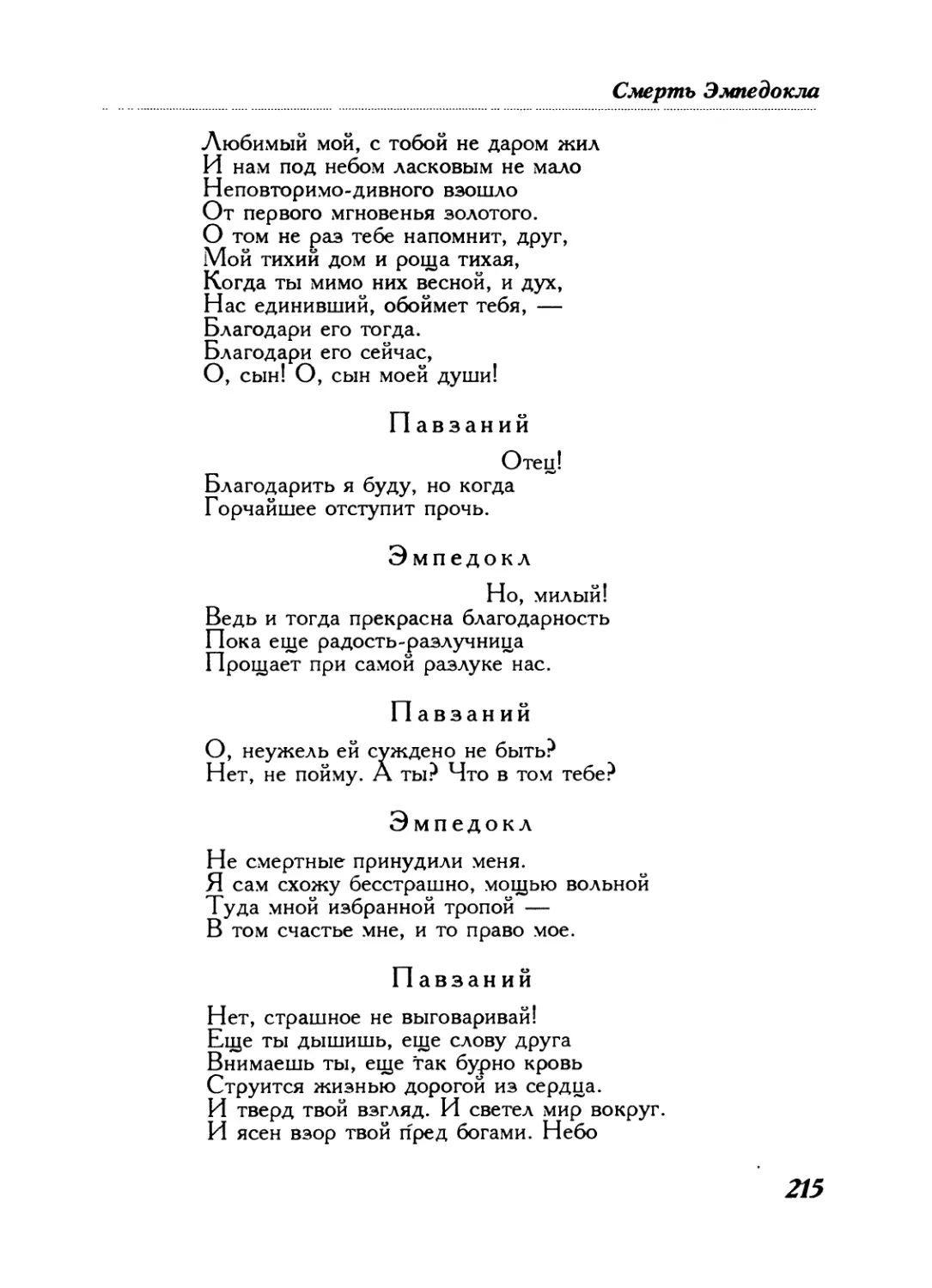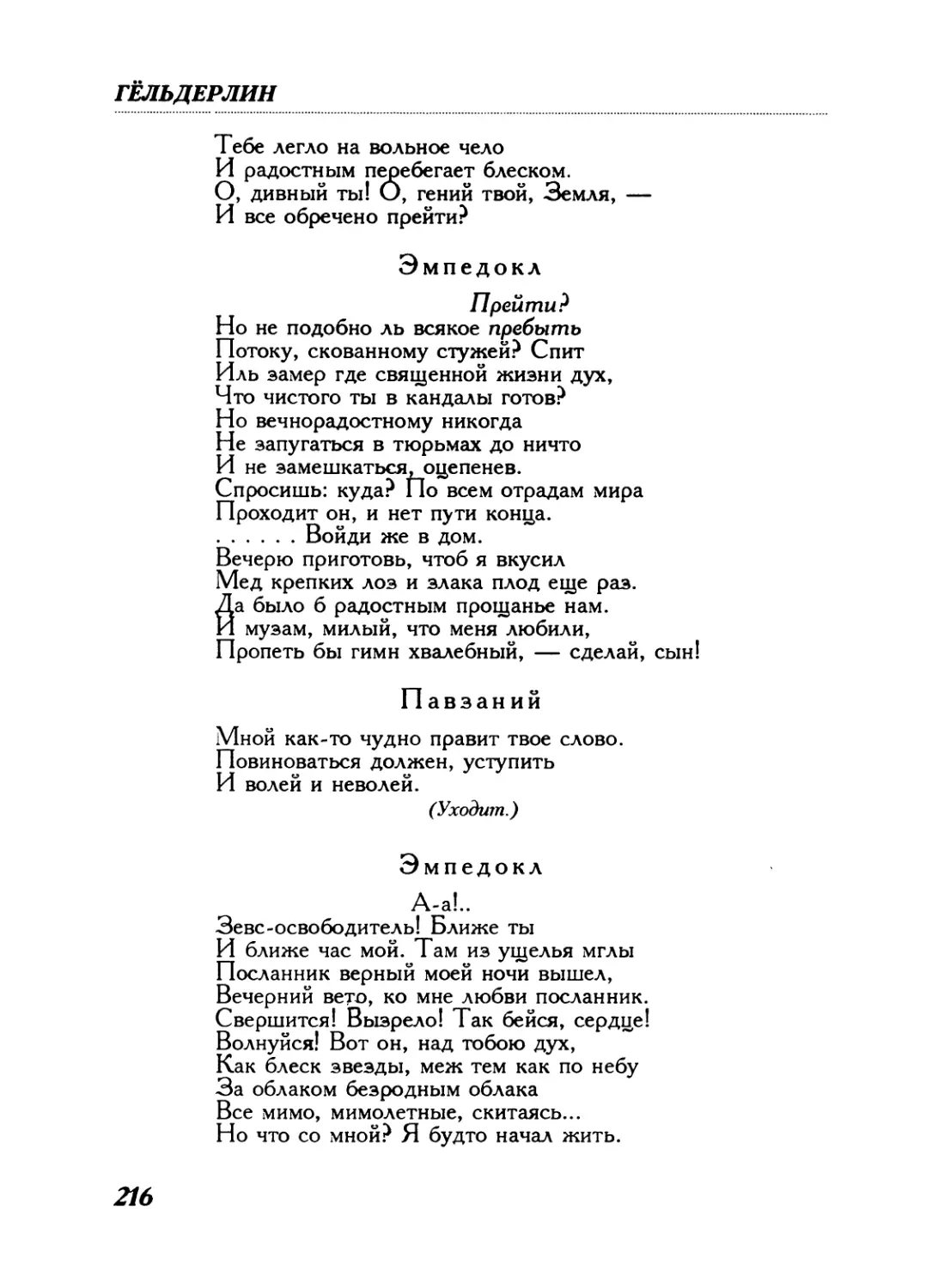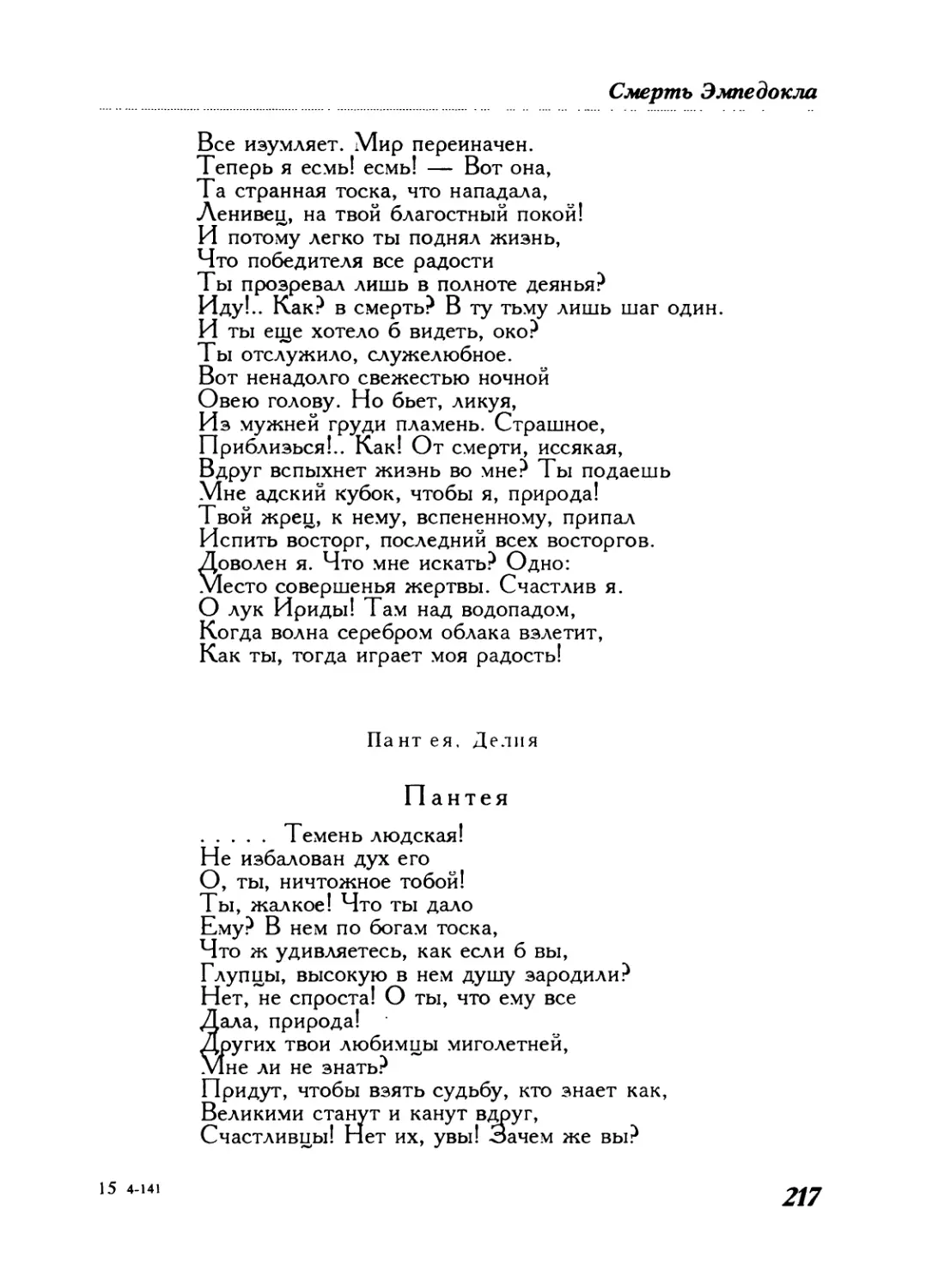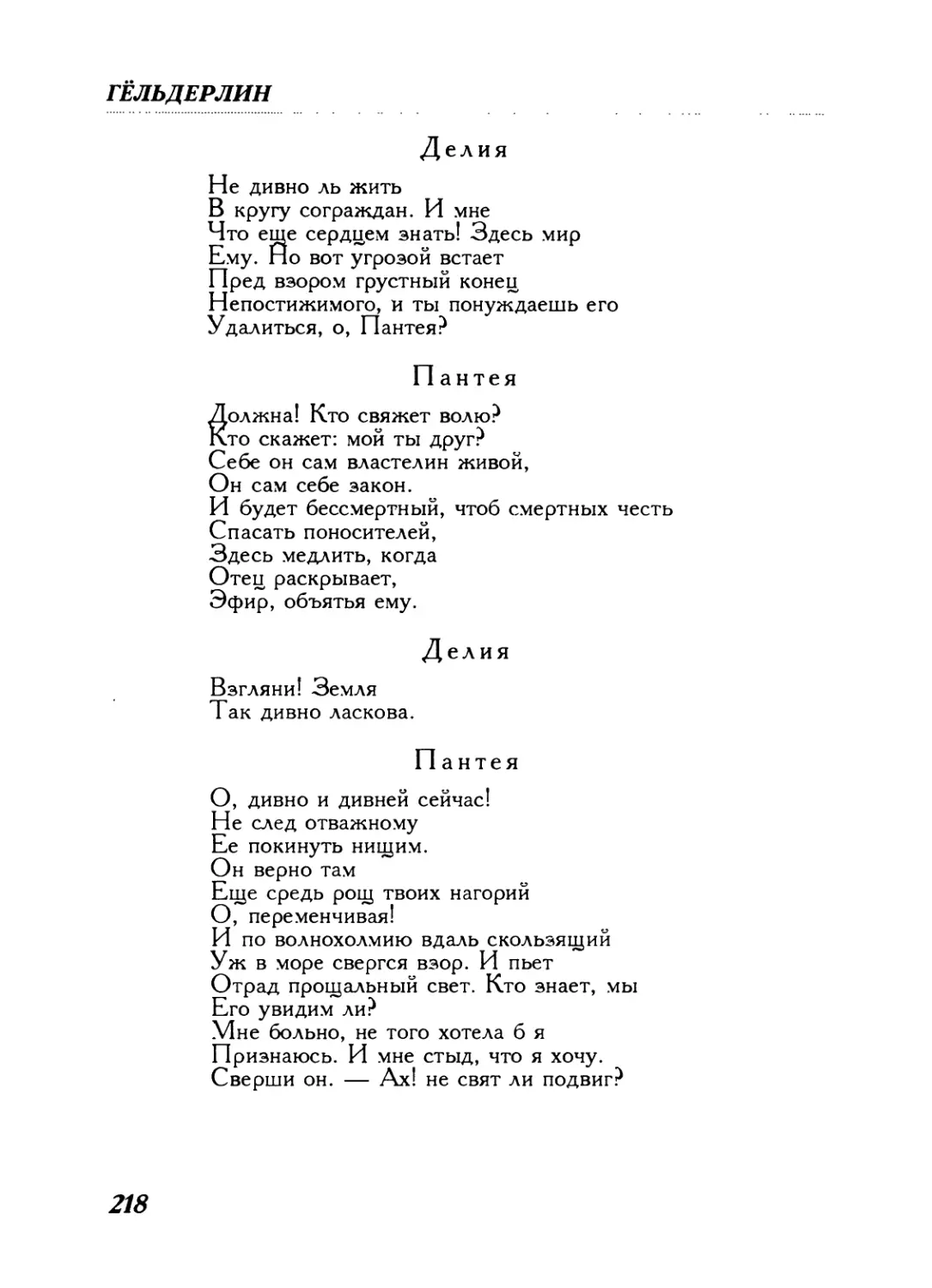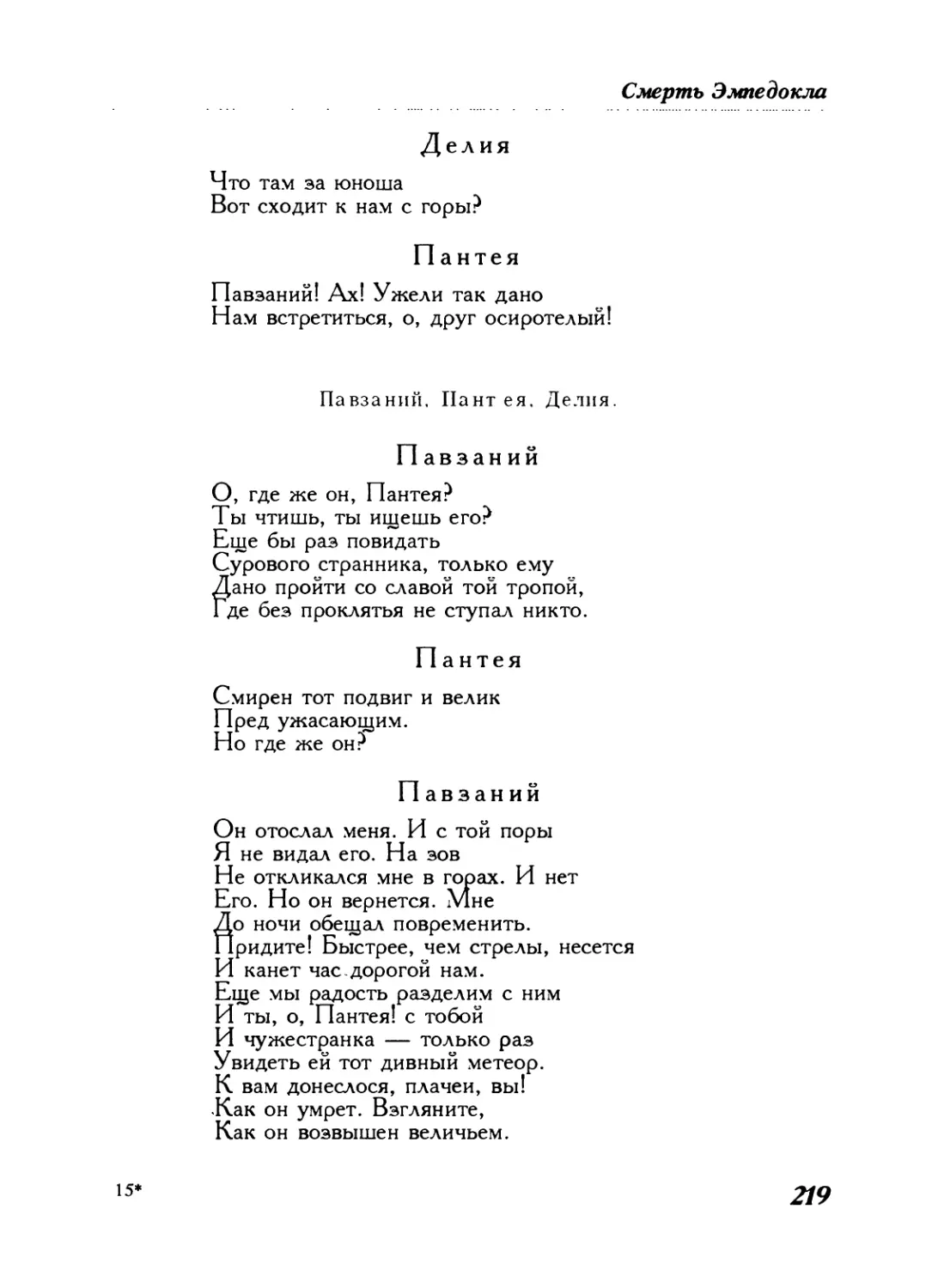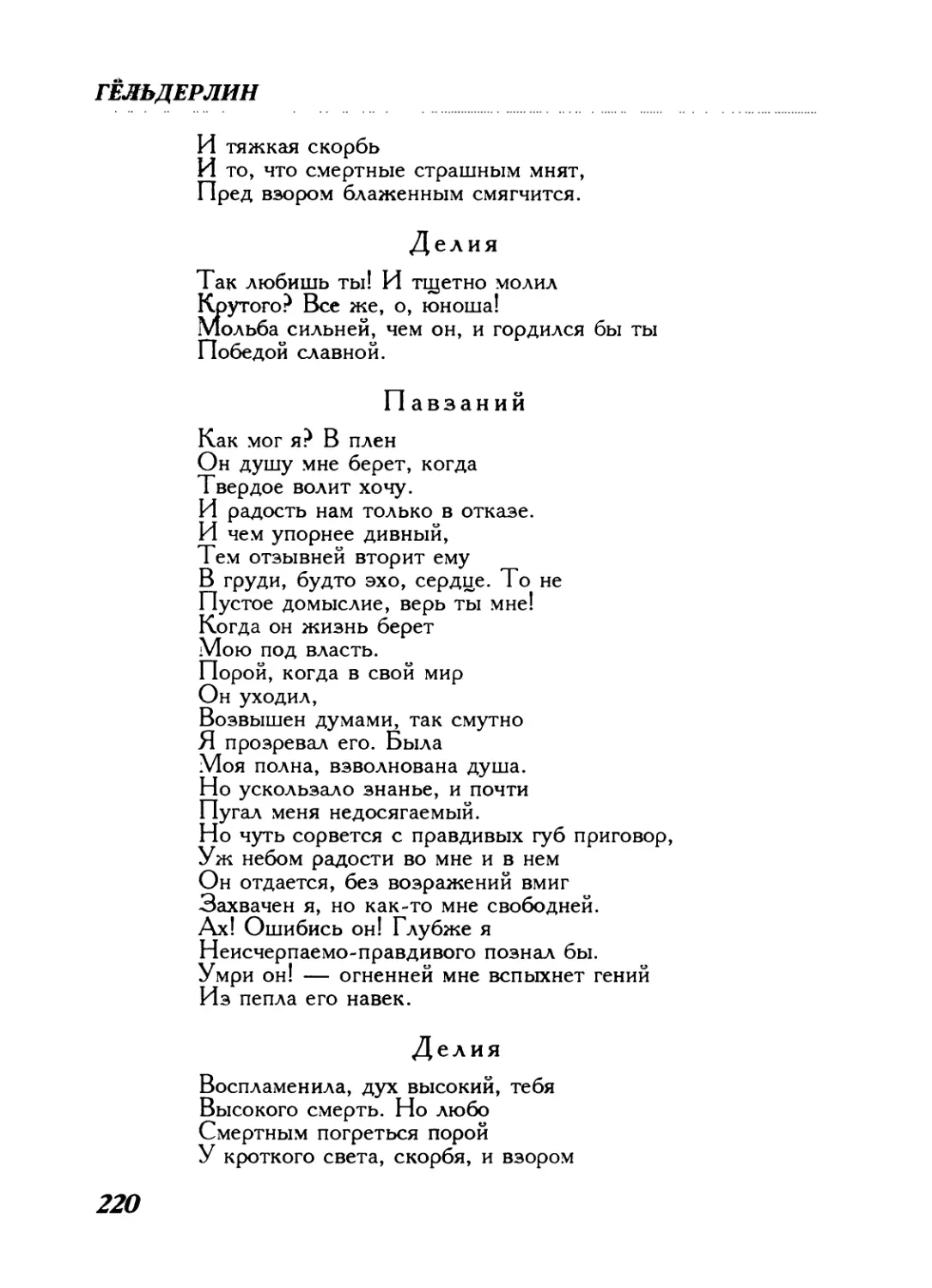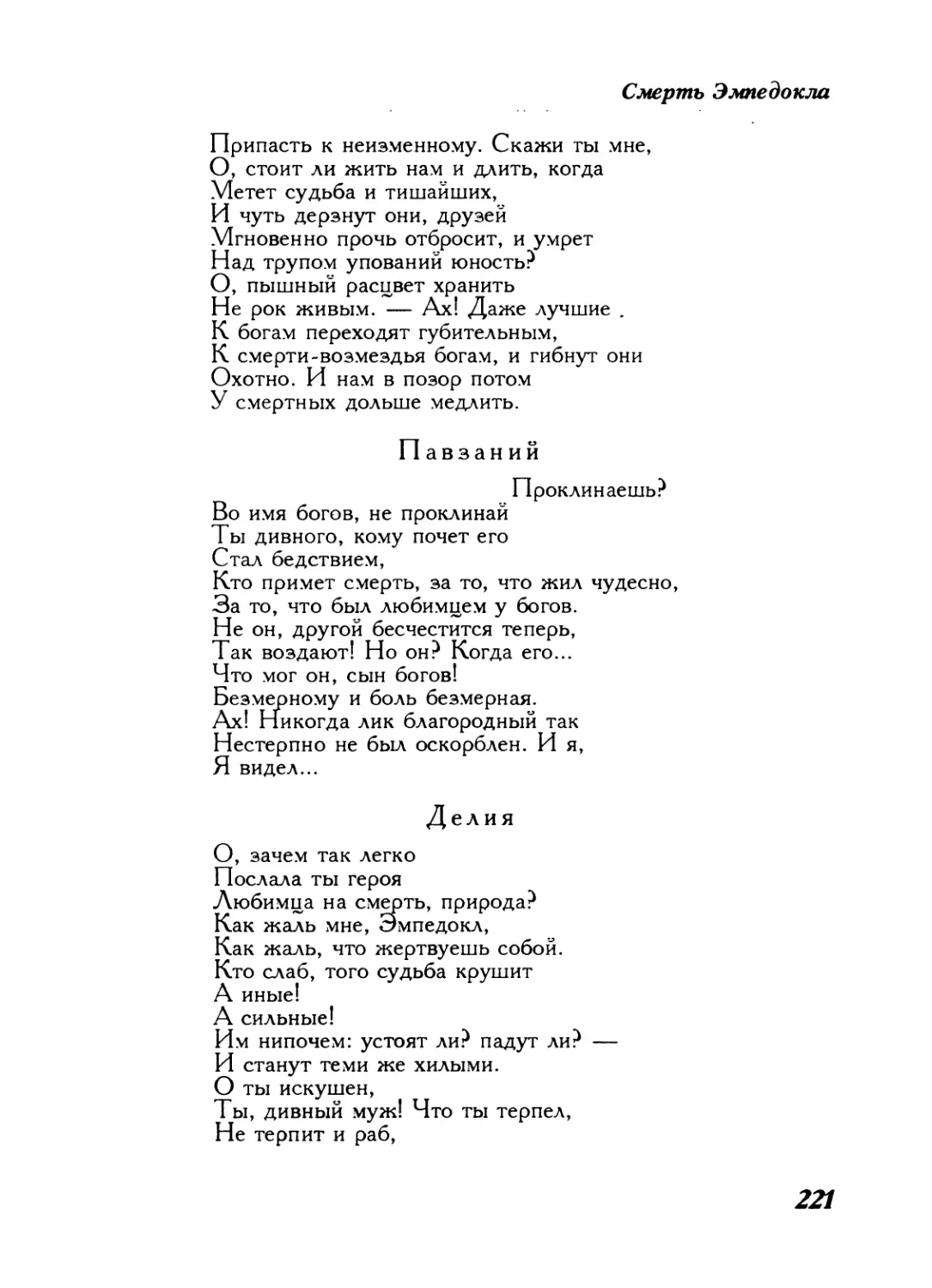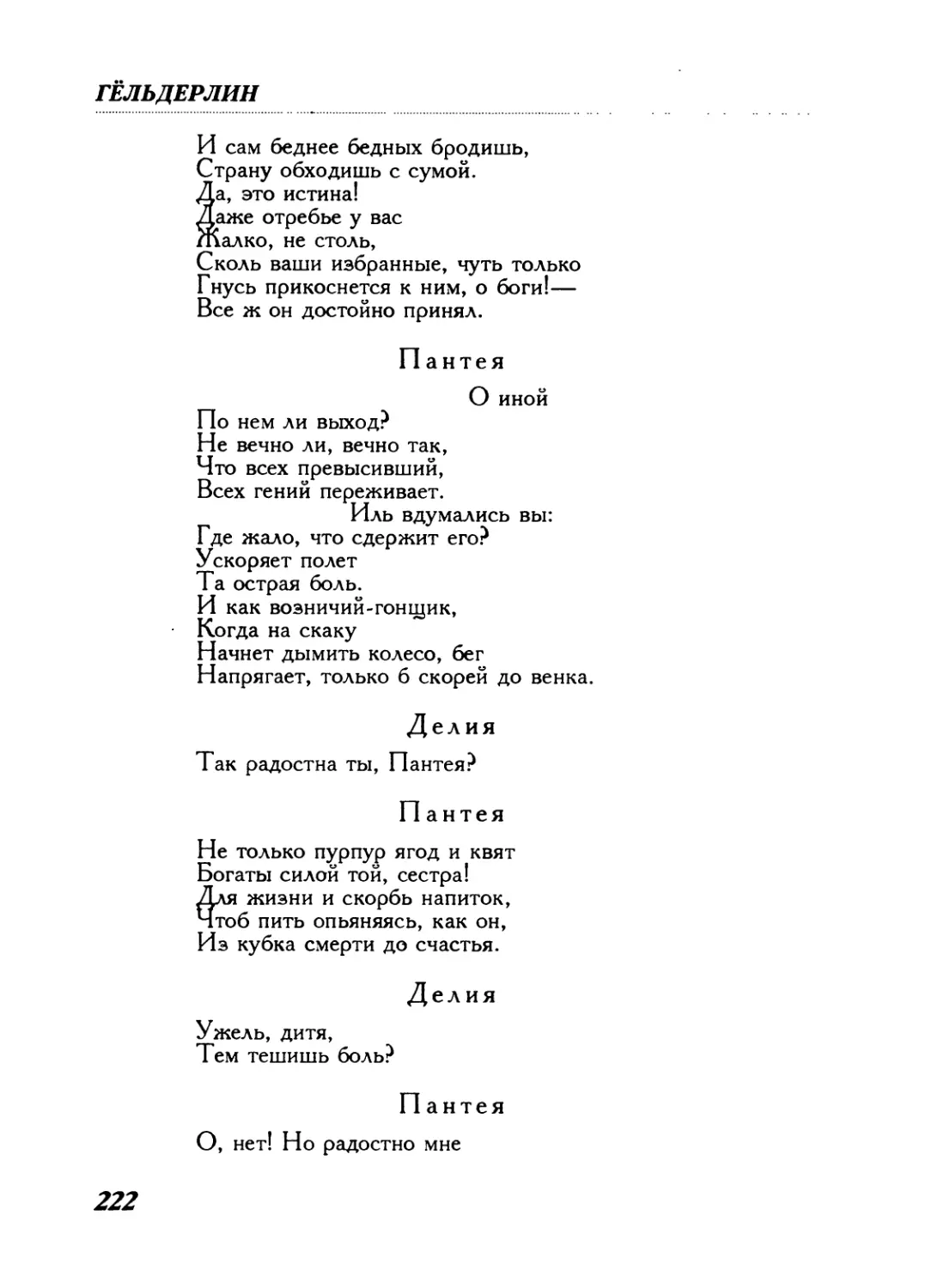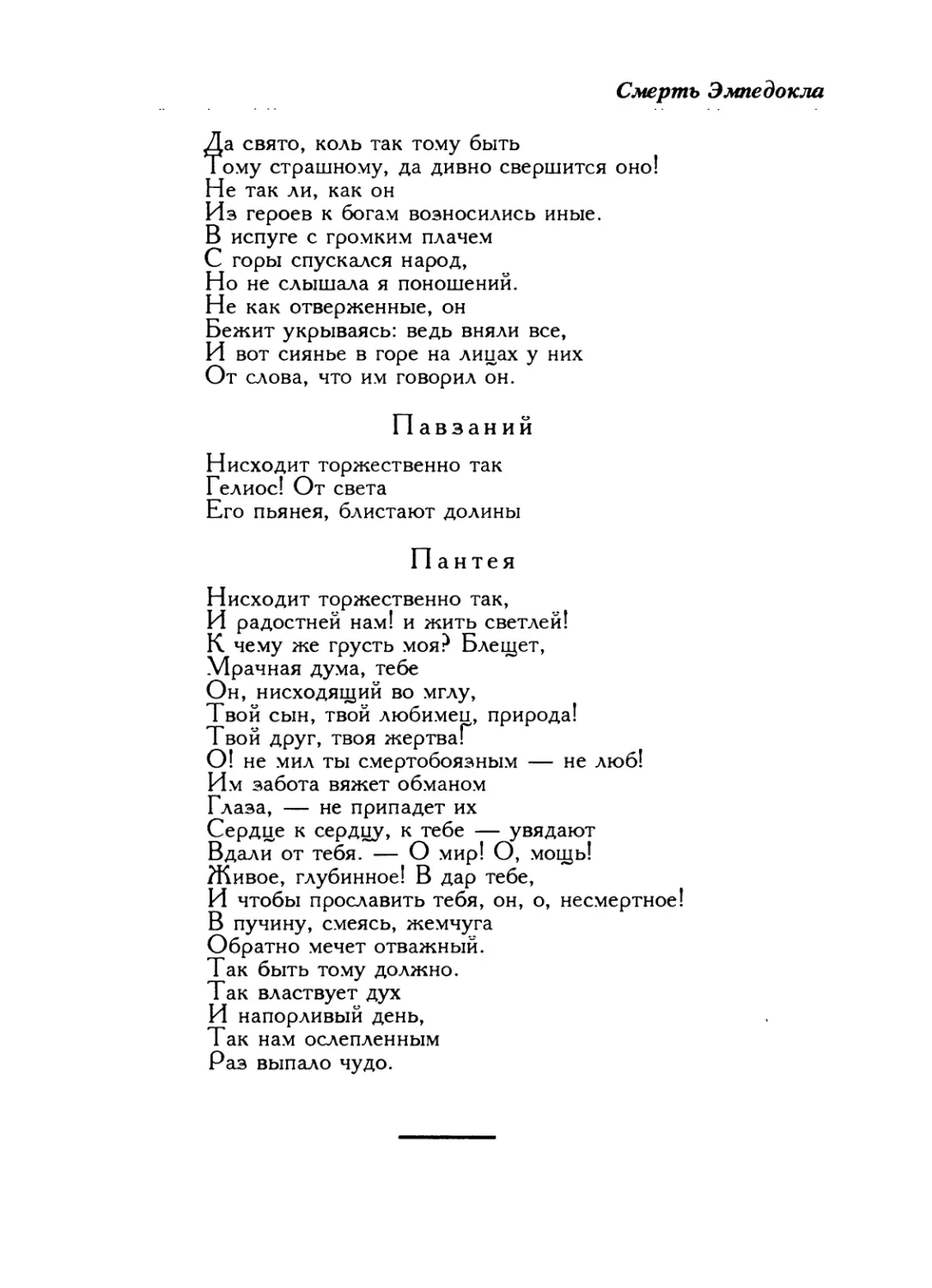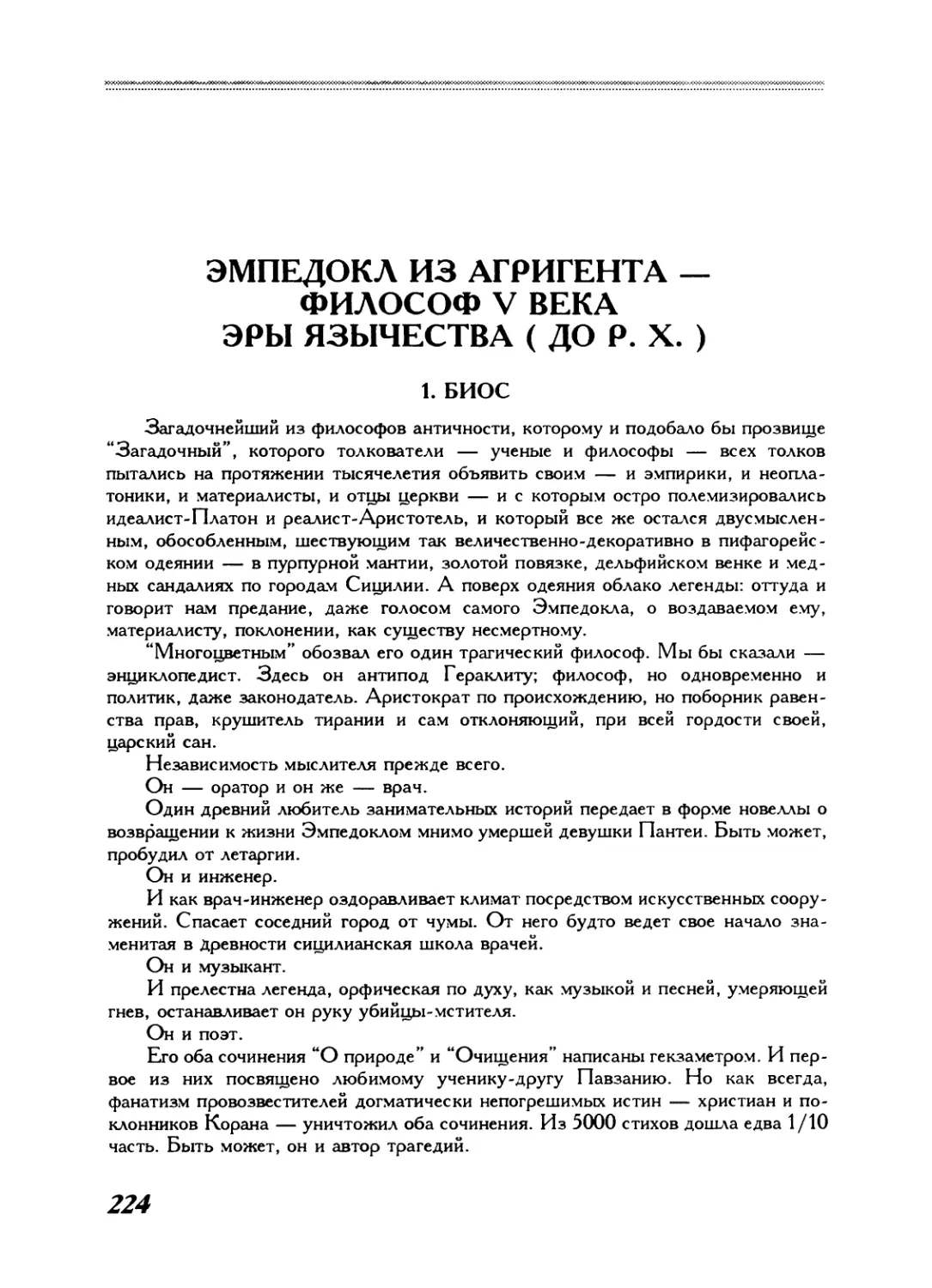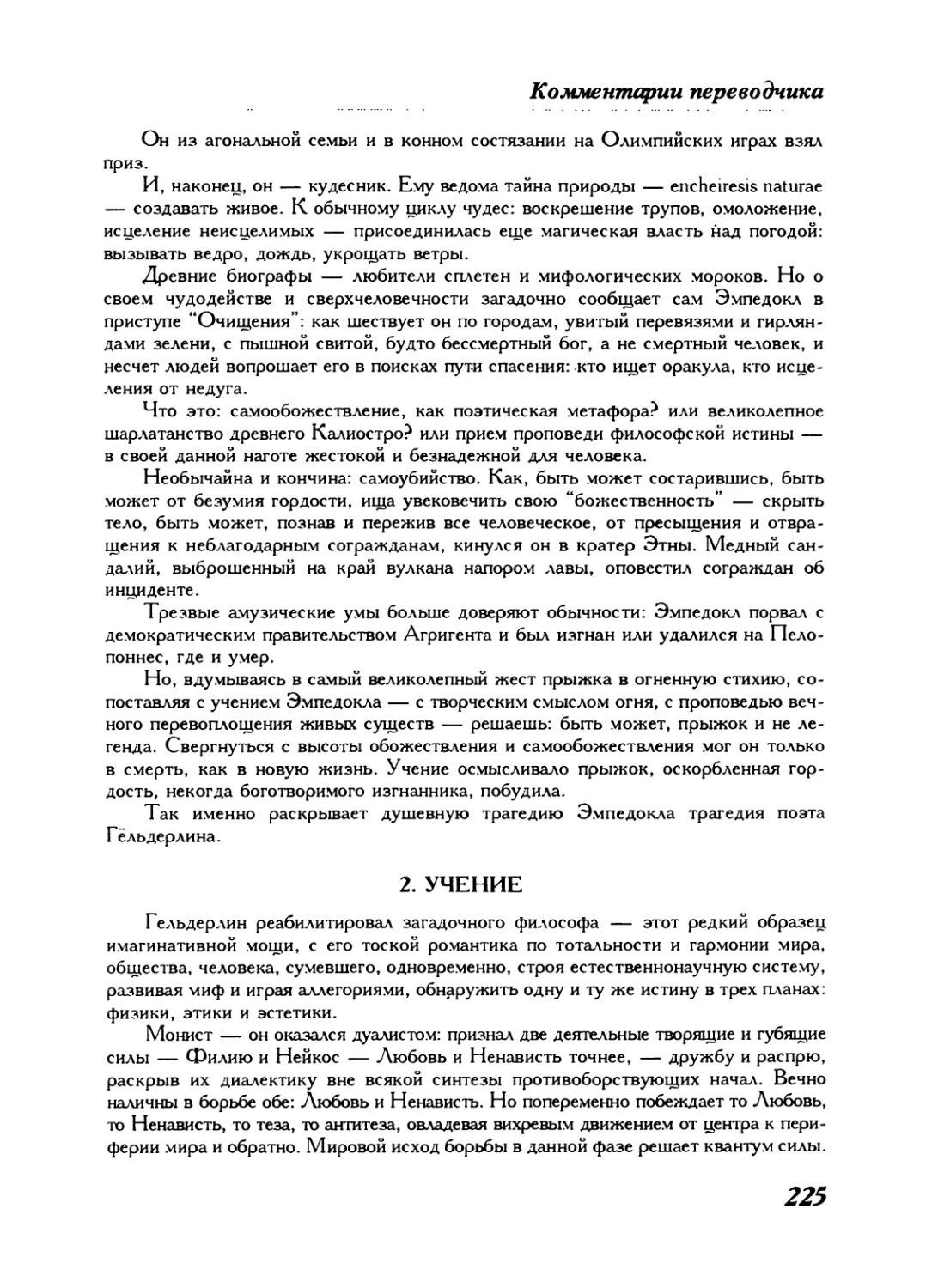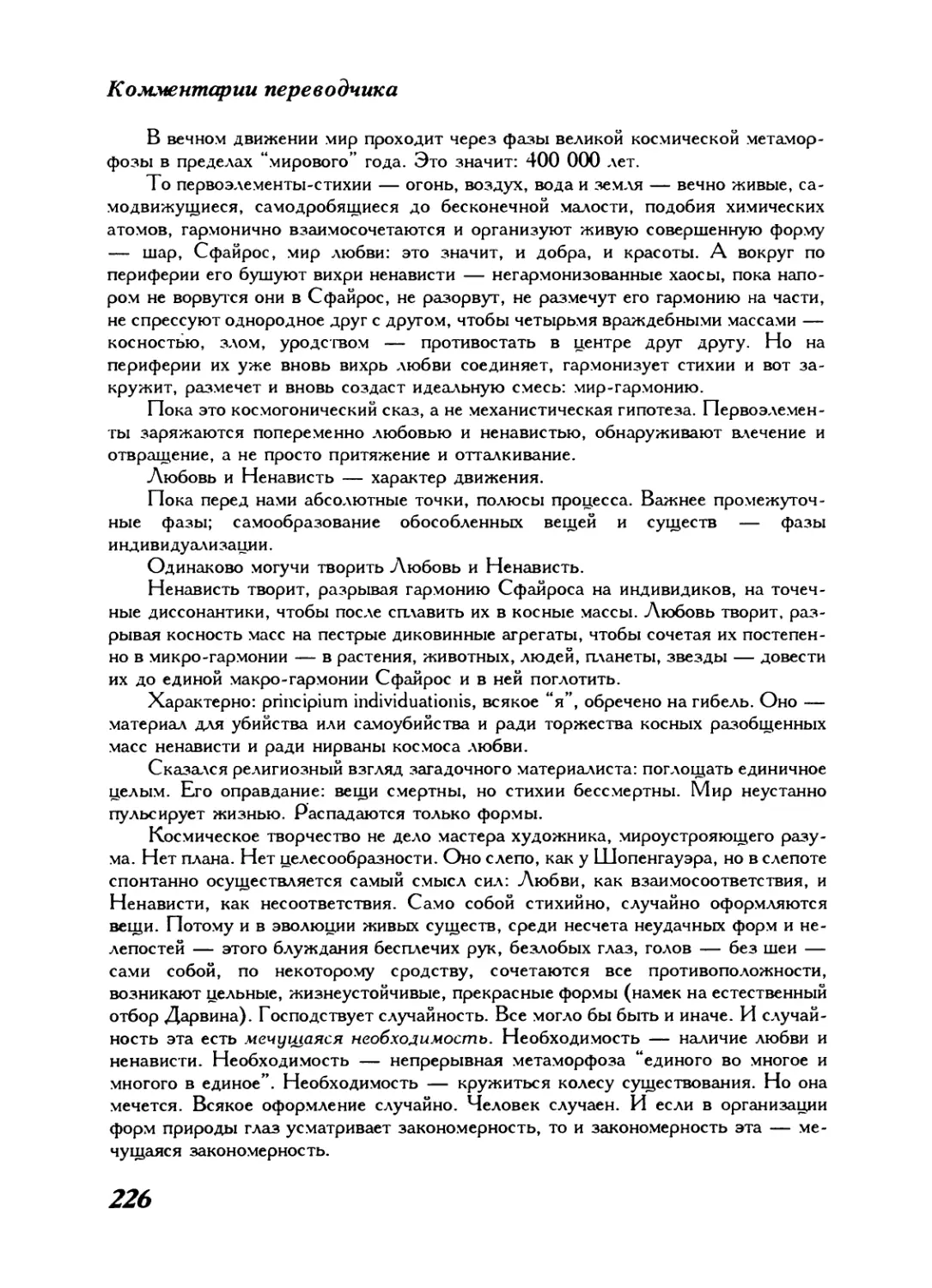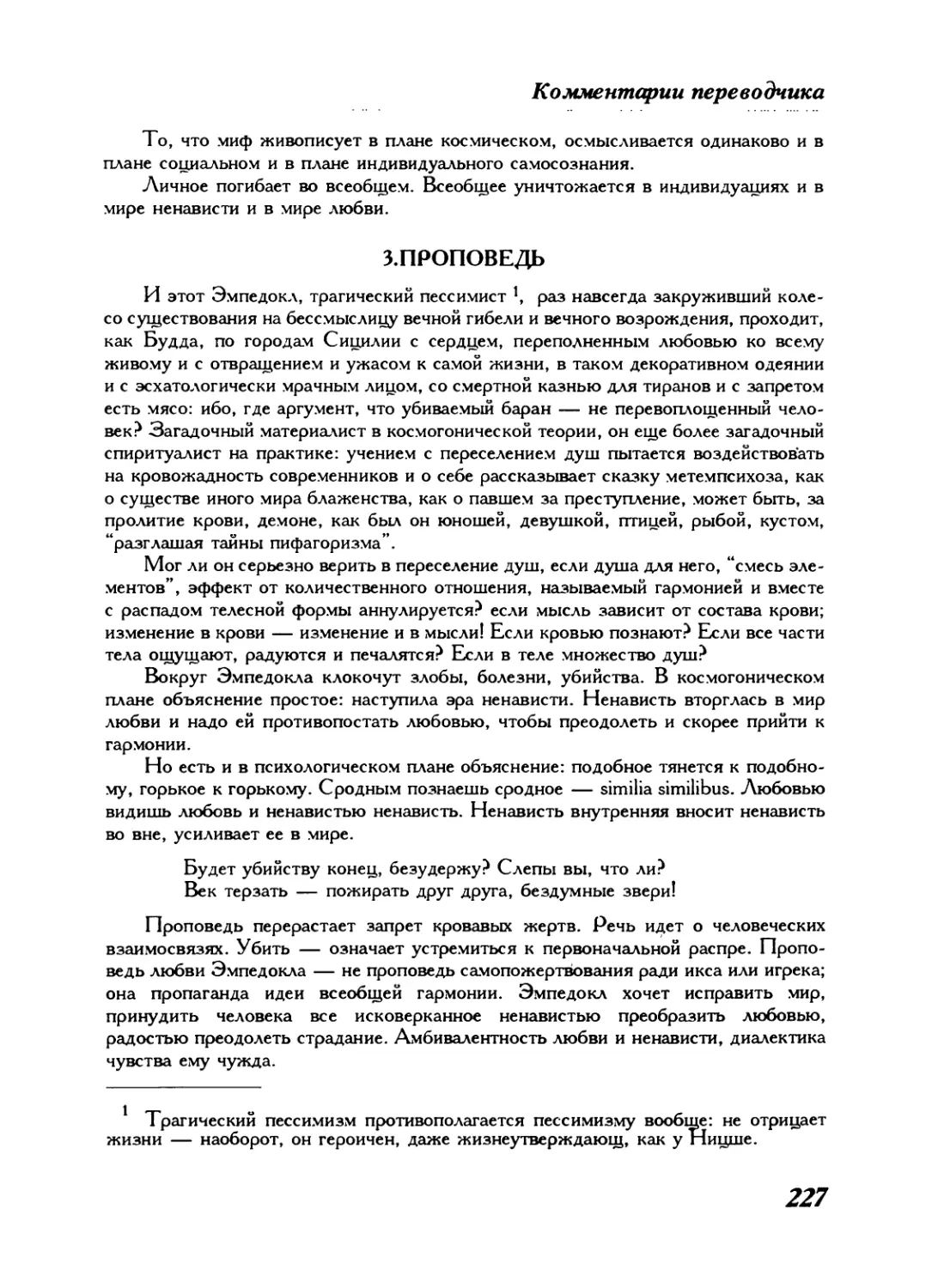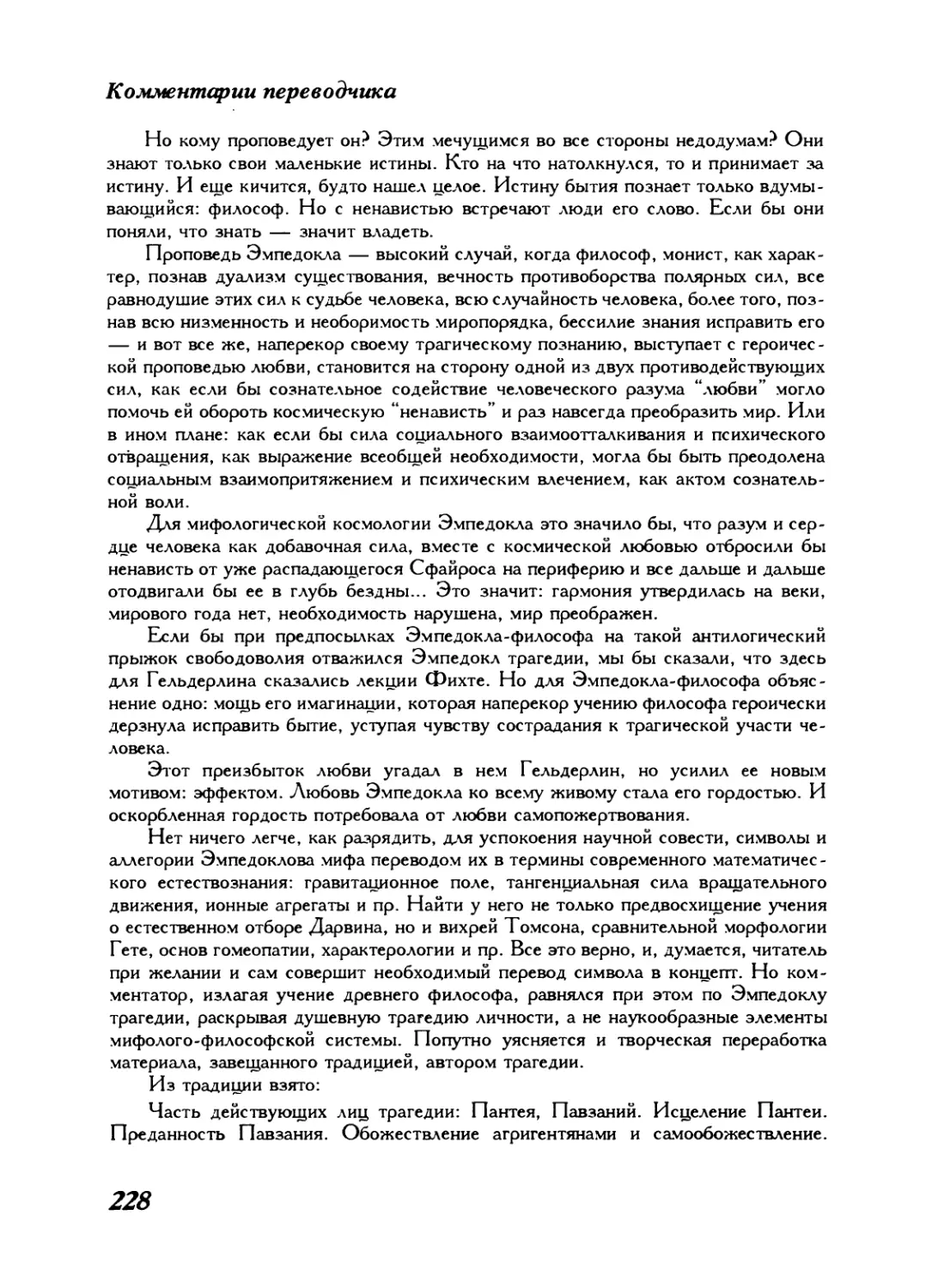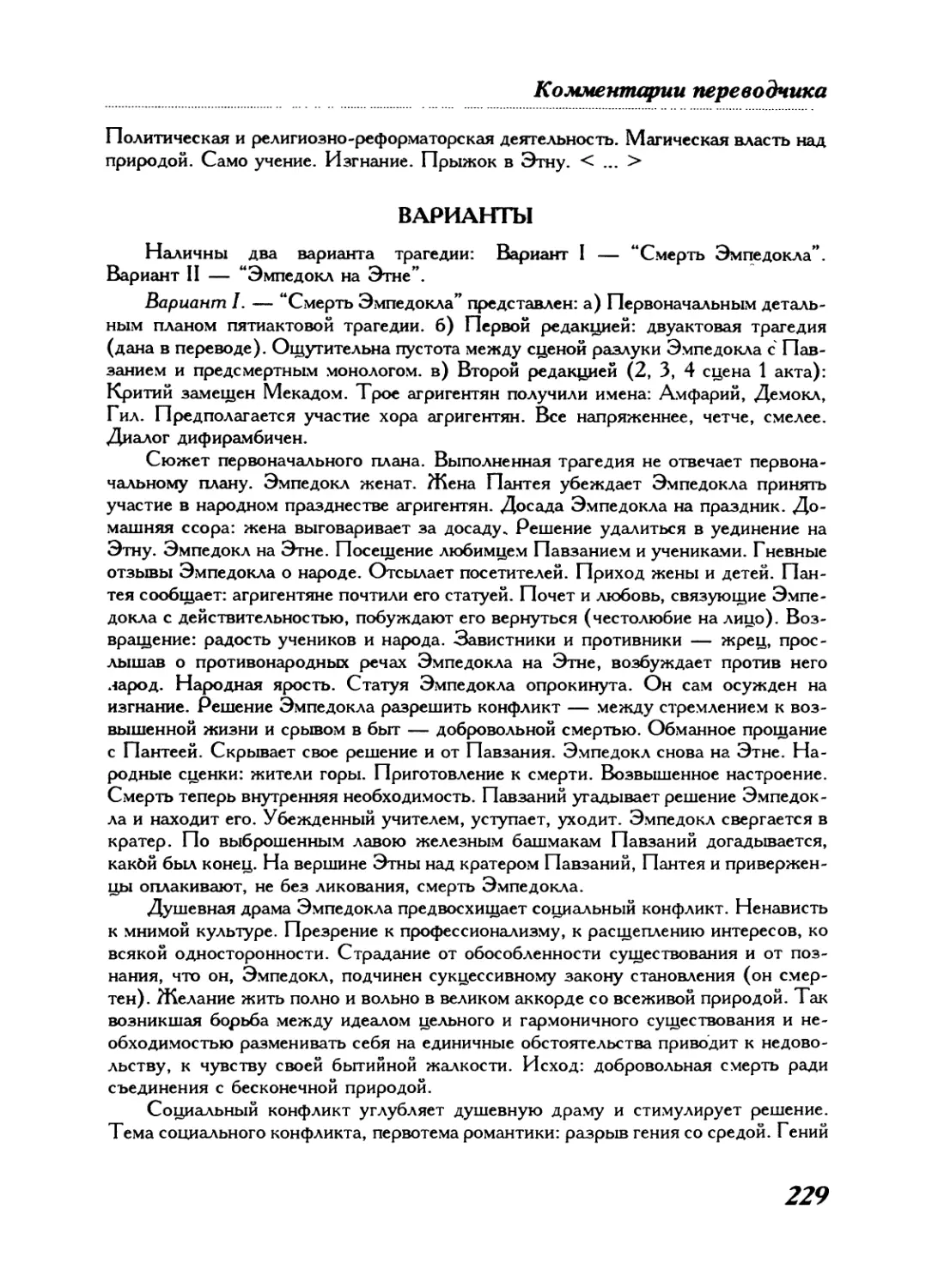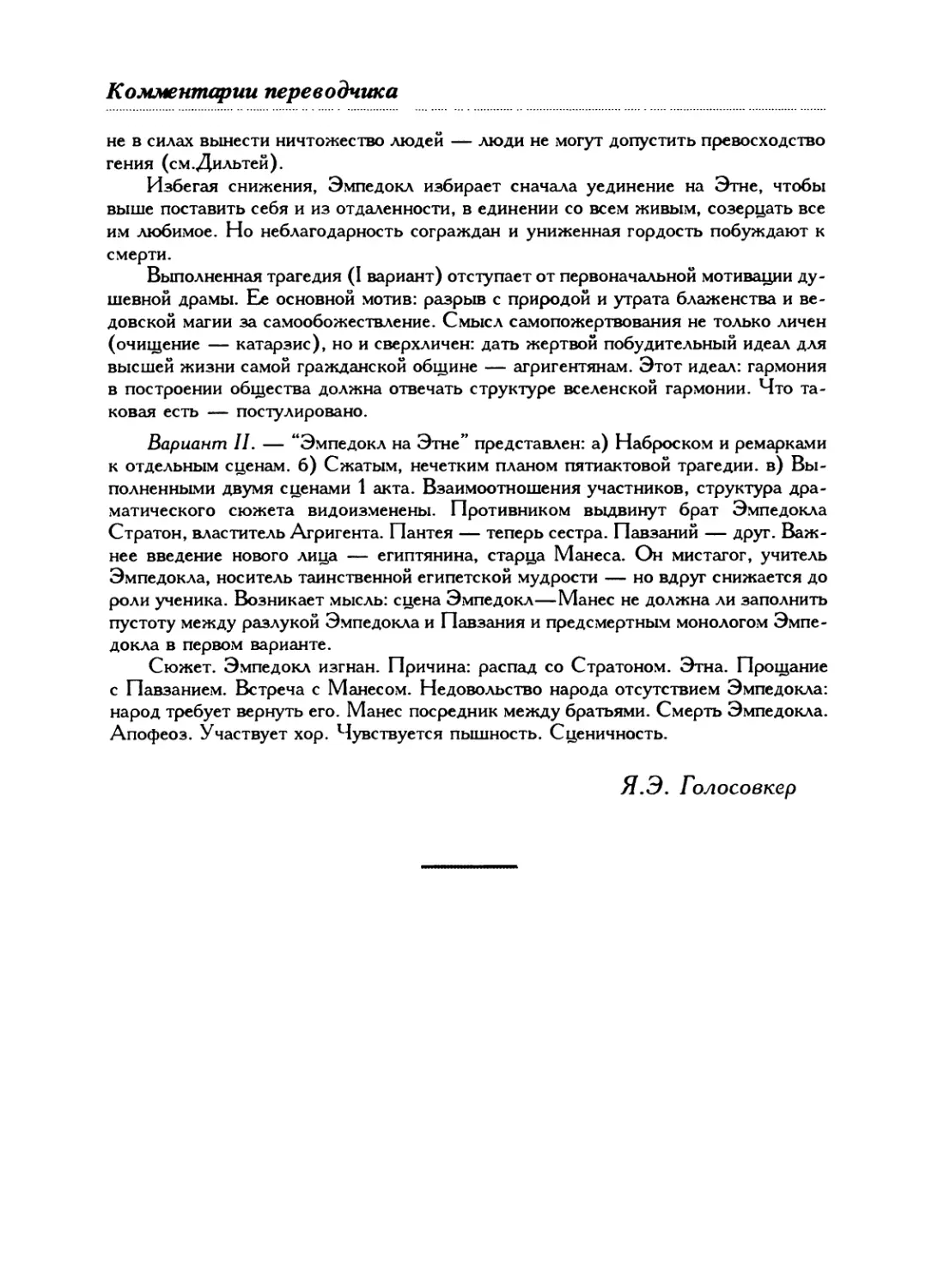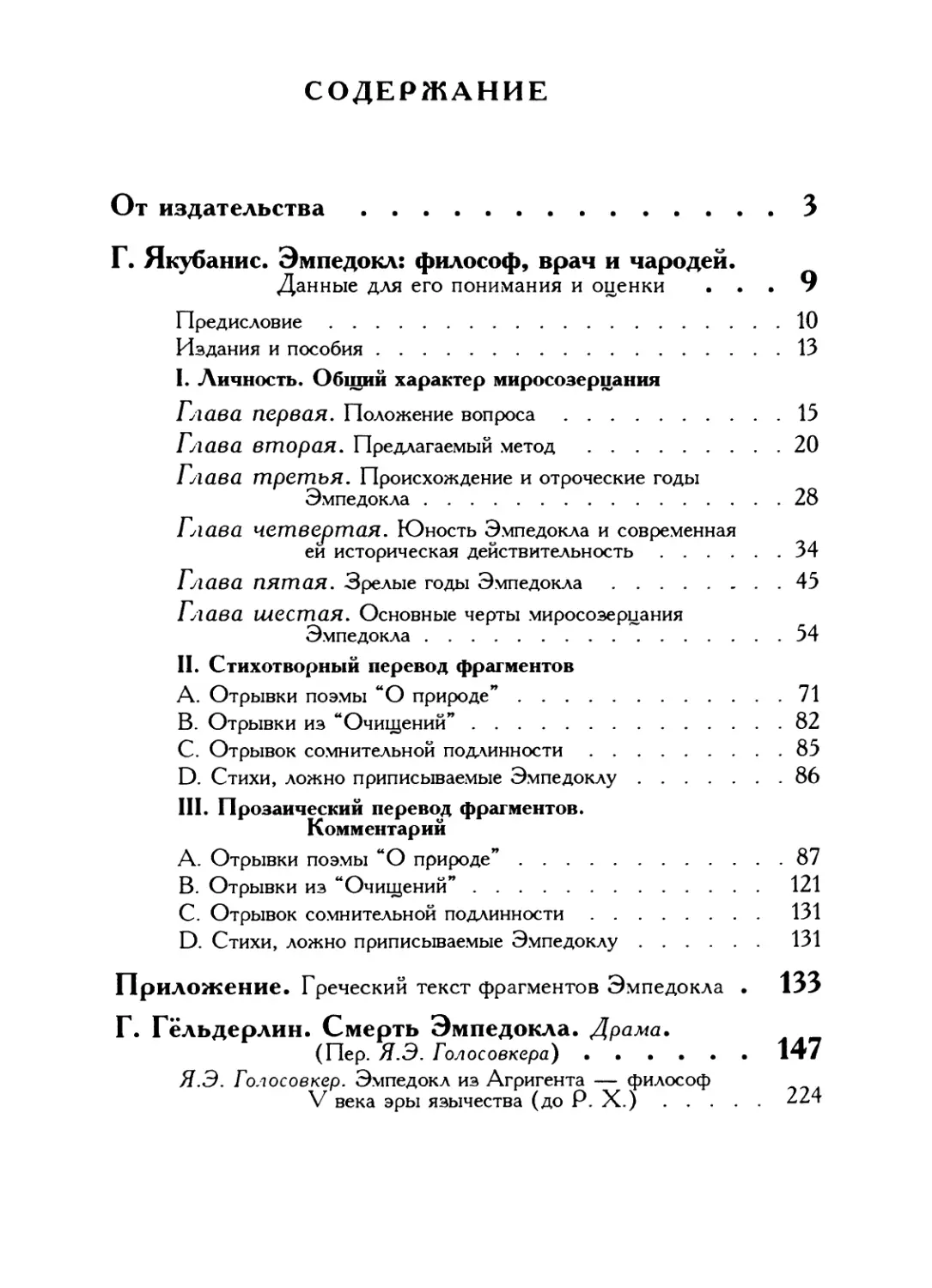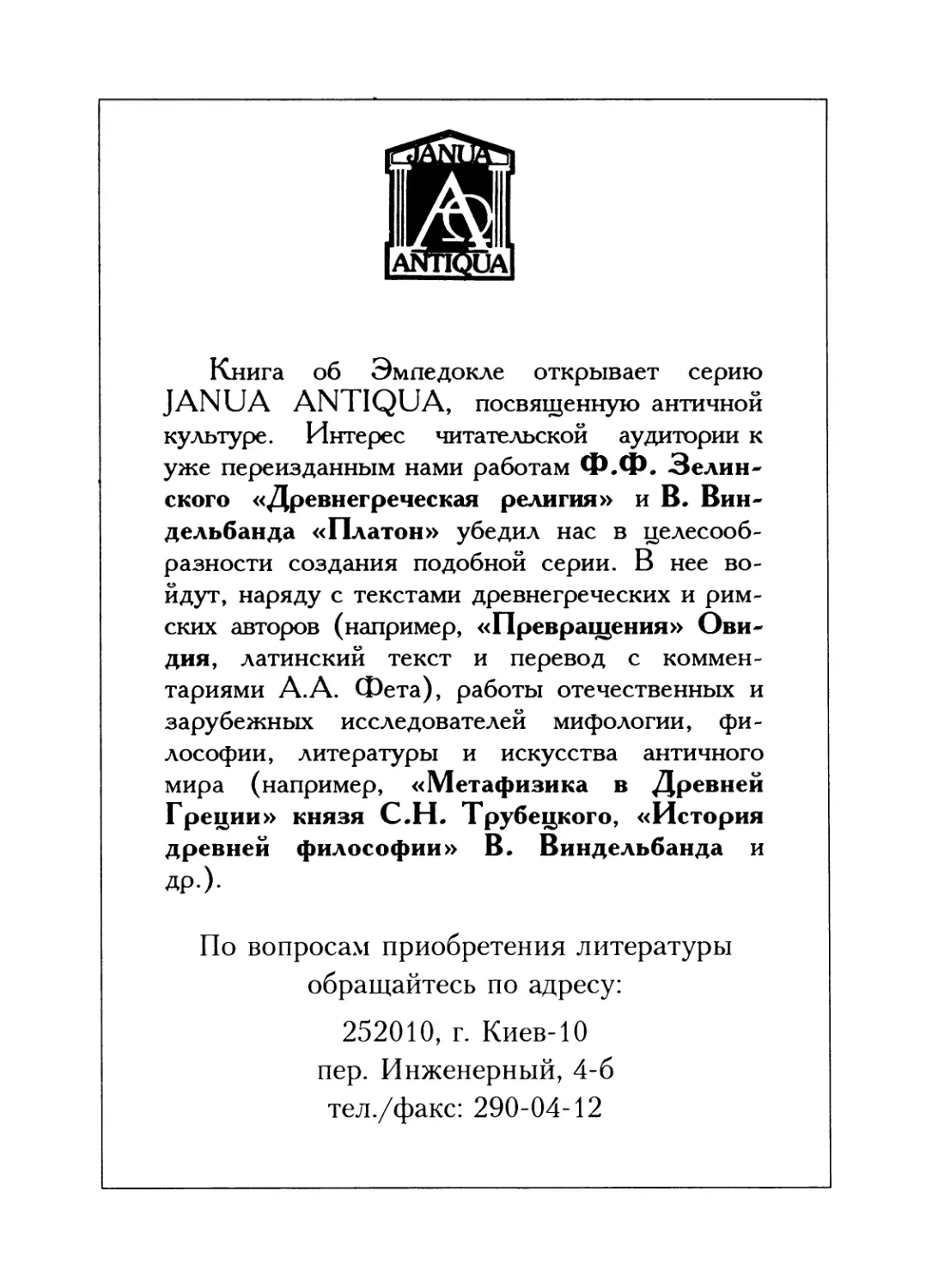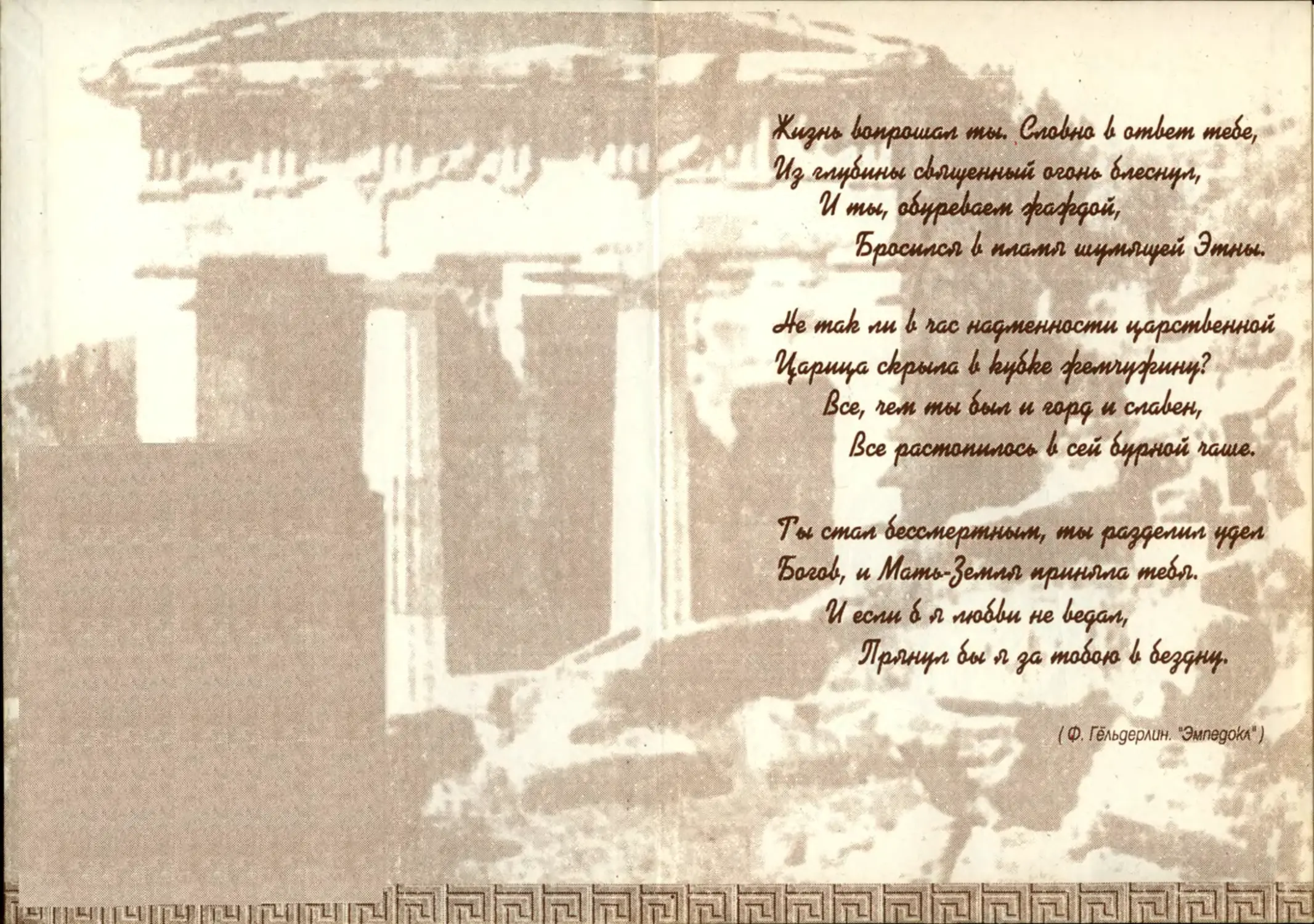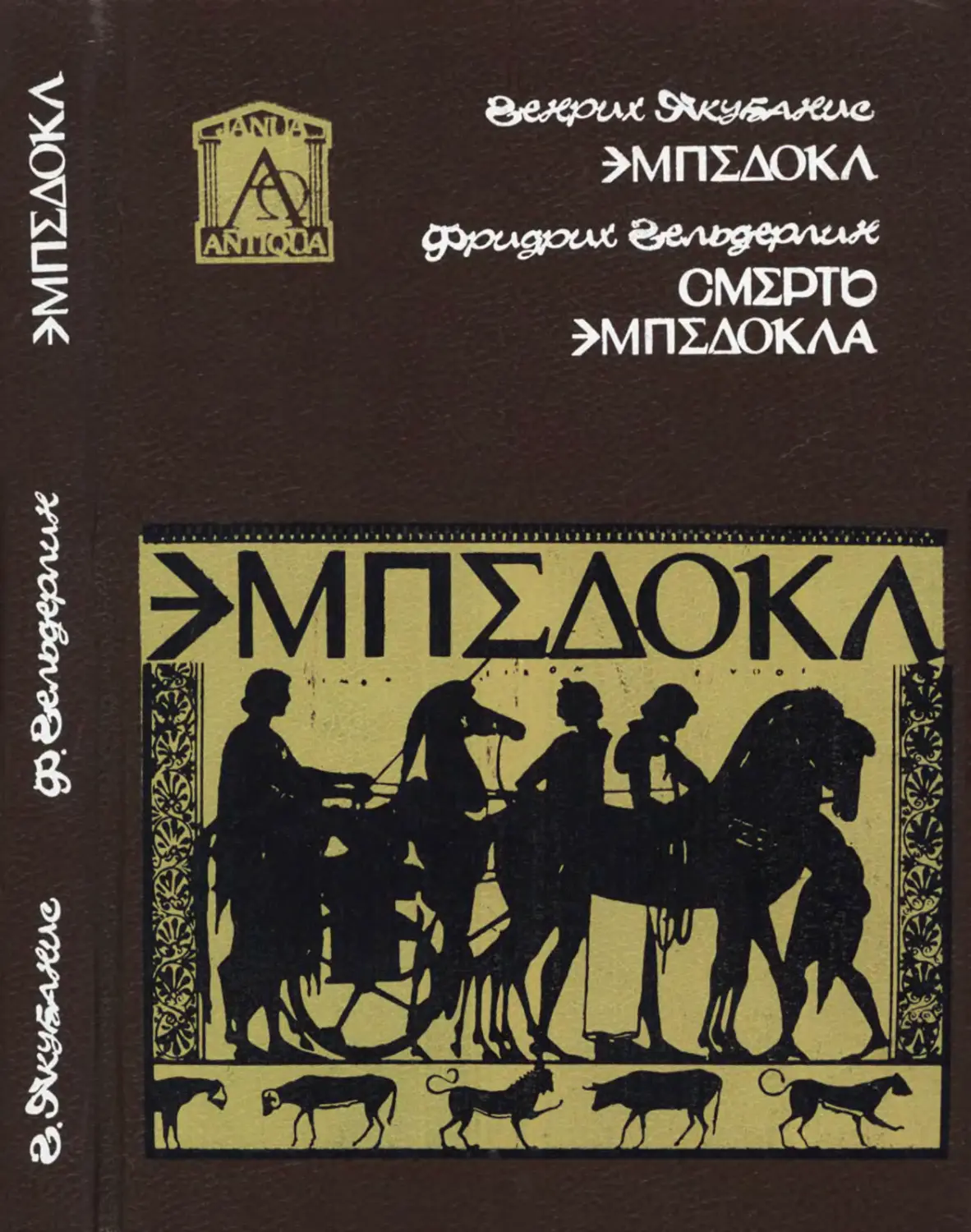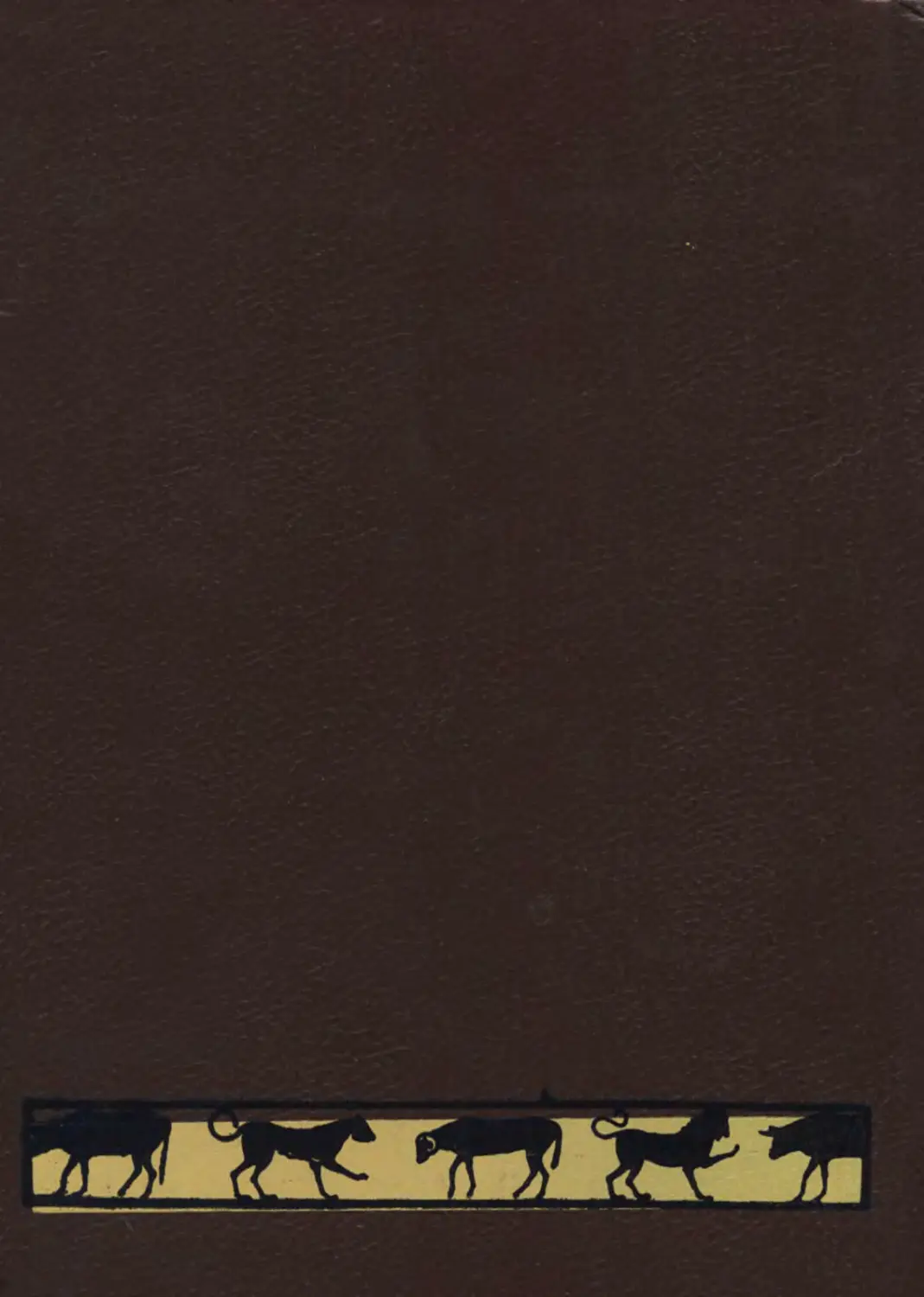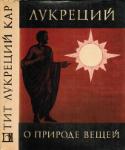Текст
ТЕРНОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ПРОБЛЕМЫ ЧЬЮВЕКА*
>ΜΠΣΔΟΚΛ
ФИЛОСОФ, ΒΡ/Ή И ЧАРОДЕЙ
ДАННЫЕ ДЛЯ ЕГО ПОНИМАНИЯ И ОЦЕНКИ
ΟΜΣΡΤΟ
»ΜΠΣΔΟΚΛΑ
КИЕВ
СИНТО
1994
ББК84(0)
Я49
Якубанис Г. Эмпедокл: философ, врач и чародей.
Я49 Данные для его понимания и оценки. Гёльдерлин Ф.
Смерть Эмпедокла: Драма/Пер. Я.Э.Голосовкера.
- Киев: СИНТО, 1994. - 232 с.
ISBN 5-86828-021-0
Книга посвящена одной из самых загадочных фигур
древности — греческому мудрецу V в. до Р.Х. Эмпедоклу —
философу, магу, врачу и проповеднику. Дошедшие до нас легенды,
а также фрагменты из поэм философа «О природе» и «Очищения»
легли в основу обоих произведений, вошедших в эту книгу: работы
одного из видных представителей киевских научных кругов начала
века Генриха Якубаниса «Эмпедокл: философ, врач и чародей» и
трагедии великого немецкого поэта-романтика Фридриха
Гёльдерлина «Смерть Эмпедокла». В приложении помещен
греческий текст фрагментов Эмпедокла.
Публикуемые тексты заинтересуют, без сомнения, не только
специалистов-антиковедов, но и всех почитателей классической
древности.
Составление, примечания и вступительная статья
Т.И. Кошмы
Редактор — Т.И. Кошма
Корректор — Λ.Π. Тютюнник
Компьютерный набор И.Ю. Смуровой
Компьютерная верстка A.C. Грожина
Издано при содействии Редакции журнала
«Философская и социологическая мысль»
яозо10з(юоо-оз ^ объявл ББК 84(0).63.з(0)3
ISBN 5-86828-021-0
О Художественное оформление
И.В. Монятовского, 1994
© Составление, оригинал-макет
СИНТО, 1994
Сдано в набор 01.02.94. Подп. в печать 26.07.94. СОормат 60x84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Академическая. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 14.43. Заказ 4-141.
Издательство научно-производственной коммерческой фирмы СИНТО.
252010, Киев-10, пер. Инженерный, 4-6, тел./факс: 290-04-12.
Отпечатано с оригинал-макета на Киевском арендном предприятии «Книга»
254655 ГСП Киев-53, ул.Артема, 25.
От издательства
С7та книга посвящена одной из самых загадочных фигур
древности, мудрецу Эмпедоклу — полулегендарной личности, уже
для современников исполненной тайны и сакрального величия.
Поражает, при всем столь обычном для просвещенного грека V века до
Р.Х. энциклопедизма и многоплановости жизненных проявлений,
разнородность его познаний и занятий: активный политик, философ
и поэт — при этом еще и ученый-физик, лекарь, маг, проповедник...
Дошедшие до нас свидетельства повествуют о достойных изумления,
порой почти чудесных результатах его деяний, о загадочных
поступках и изречениях мудреца из Акраганта, странным образом
сочетавших бескорыстное человеколюбие и демократические убеждения
с горделивым сознанием собственного превосходства, рассудочную
любознательность физиолога со всеведеньем пророка. Эта
парадоксальная двойственность ума, словно бы на себе испытавшего роковое
противоборство Любви и Вражды, сказалась и на взглядах
философа на природу. В его "наставлениях в мудрости, преподанных
стихами", 1 известных нам по отрывкам из поэм "О природе" и
"Очищения", уже древние критики усматривали противоречия,
ставящие под сомнение научную ценность блестящих наитий. Не
прибавляют ясности и радикальные расхождения в оценках "этой
странной смеси механического материализма с мистицизмом" 2
позднейшими критиками 3. Между тем, при всей видимой
противоречивости отдельно рассматриваемых жизни и философии
мыслителя-чудотворца, более глубокое исследование мотивов
поступков и сопоставление их с некоторыми положениями учения
обнаруживает между ними тесную связь и соответствие. Прямые
указания на наличие такой связи имеются и в текстах философа 4, а
наиболее яркое, наглядное ее доказательство — легенда о его
гибели. В .лице Эмпедокла перед нами чистый образец того
органичного единства жизни и философии (когда философия со
своими поисками первых причин и начал призвана отвечать на все
жизненные запросы, а жизнь приводится в полное соответствие с
Тертуллиан. — 1.4.4.
Трубецкой С.Н. Метафизика в Древней Греции. — М.,1890.
См. обзор этих оценок у Якубаниса, стр. 15—16 наст, издания.
4 Фрагм. 110, 111 DK.
3
мировоззрением), утраченного уже во времена эллинизма, что
отличает классического грека от мыслителей всех последующих эпох.
Деятельная натура, одержимая волей к гармонии, причудливое
сочетание рационального и возвышенно-лирического духа — именно
эти черты и позволили нам объединить в одной книге произведения,
предельно различные по жанру — научное исследование и драму в
стихах. Это работа Генриха Якубаниса "Эмпедокл: философ, врач и
чародей" и трагедия Фридриха Гельдерлина "Смерть Эмпедокла".
Генрнх-Роман Иванович Якубаннс, ученик А.Н.Гнлярова, в 1903 г. окончил историко-
филологический факультет Киевского университета. Был приват-доцентом, затем исполняющим
обязанности экстраординарного профессора кафедры философии. Преподавал историю древней философии,
с 1916 г параллельно читал логику на Высших женских курсах А.В.Жекулннон Автор трудов "Отзвуки
платонизма в лирике Шиллера"(1904), "Значение древней философии для современного
миропонимания"(1910), "Оценка силлогизма в главнейшие моменты его историн"(1910). После
революции эмигрировал, был профессором Люблинского университета.
Центр тяжести работы Якубаниса составляют прозаический
(снабженный филологическим и критико-экзегетическим
комментарием) и стихотворный переводы отрывков из поэм Эмпедокла.
Ближайшей целью небольшого по объему, но богатого историко-
биографическим и критическим материалом вступительного очерка,
как, впрочем, и собственно переводов, является более вдумчивое и
осмотрительное прочтение текстов греческого философа. Ввиду того,
что, 'несмотря на остроумие и проницательность... попыток к
восстановлению нарушенной и затемненной для нас временем цельности
системы философа, общая картина миросозерцания продолжает
оставаться невыясненной, а личность философа загадочной", автор
пытается самостоятельно проникнуть в сущность этой своеобразной
личности. Это возможно, по его мнению, лишь в результате
воссоздания и анализа всей совокупности обще культурных условий, в
которых формировалось данное мировоззрение, с последующим
обсуждением, в их свете, деталей рассматриваемого учения,
уяснением их логической и психологической связи. Характерно, что при
этом Г.Якубанис, в отличие от немецких критиков, отстаивает
первичность мироощущения по отношению к логическим
основоположениям учения: " г!е потому Эмпедокл страдал душою, что у него
сложилось безотрадное мировоззрение, а как раз наоборот —
потому у него и сложилось такое мировоззрение, что он... не находил
удовлетворения в окружавшей его действительности .
Трагедия Фридриха Гельдерлина — одна из попыток
поэтического осмысления личности-загадки, трагической в самой своей
сущности !. Эмпедокл, с его идеей золотого века, с его пессимизмом и
несвоевременностью, породившими оптимистические пророчества,
особенно близок немецкому поэту-романтику, окрыленному верой в
Набросок одноименной трагедии находим также у Ницше; к этому образу
обращались Гете и Брехт.
4
грядущее возрождение человечества. Трагический образ
зарождается уже в лирико-философской ткани романа "Гиперион", как бы
развивая его тему: скитаясь среди драгоценных развалин, тоскуя по
былой гармонии, у подножья Этны герой вспоминает великого
сицилийца, что, "устав вести счет часам и познав душу мира,
бросился, охваченный дерзкой жаждой жизни, в прекрасное пламя
вулкана". История человека, обожествленного, низвергнутого и
вновь вознесенного на гребень признания и славы капризною рукой
Судьбы, человека, который отважился пренебречь ее милостями и
предпочел умереть, дабы возродиться к новой жизни, послужила
поводом для создания символической трагедии, воспевающей участь
непонятого пророка. "Что было природой, стало идеалом. По нему,
по этому идеалу, по этой обновленной божественности, узнают
немногие избранные себя. И единое они, ибо единое в них. И от таких,
от таких зачнется вторая эра для мира."
Драма осталась в целом незавершенной. Известны три ее
варианта !, первый из которых, наиболее полный и законченный
("Смерть Эмпедокла", два акта, Гамбург, октябрь 1798 — апрель
1799), мы и публикуем. Два других текста ("Смерть Эмпедокла",
фрагменты новой редакции, май — июль 1799 и "Эмпедокл на
Этне", три сцены и наброски продолжения, Гамбург, сентябрь 1799
— январь или февраль 1800) 2, отражающие изменения в замысле
автора, носят фрагментарный характер.
Работа Г.Якубаниса печатается по изданию: Генрих Якубанис.
Эмпедокл: философ, врач и чародей. Данные для его понимания и
опенки. — Киев, типография Императорского Университета
Св.Владимира, 1906. Ввиду того, что труд этот предполагает
обращение к оригиналу, в приложении приводится греческий текст
фрагментов из поэм Эмпедокла по XVlII изданию "Фрагментов досо-
кратиков" Дильса—Краниа (Die Fragmente der Vorsokratiker.
Griechisch und Deutsch von H7 Diels, hrsg. v. W. Kranz. — Zürich, 1989.
— Bd. I.), соответствующий прозаическому переводу Якубаниса.
Публикуемый перевод драмы Гёльдерлина принадлежит
видному русскому литературоведу Я.Э. Голосовкеру и
сопровождается разделами из его же комментария в соответствии с изданием:
Гелъдерлин Ф. Смерть Эмпедокла. — М.; Л., 1931.
Издательство выражает благодарность А. Г.Тихолазу за помощь
в подготовке издания.
См. раздел "Варианты" комментария Голосовкера (стр. 229—230 наст,
издания).
Рус. пер. Е. Эткинда в кн.: Гелъдерлин. Сочинения. — М, 1969.
5
Библиография
Этот список приводится в дополнение к перечню изданий и
пособий, указанных Якубанисом (см. стр. 13—14 настоящего
издания) с учетом новейших исследований и переводов. В него
вошли также работы русских и зарубежных исследователей,
освещающие те или иные стороны жизни и учения Эмпедокла и его эпохи.
1. Аристотель. Соч.: В 4 т. — М., 1976—1983.
2. Белох Ю. История Греции. — М., 1905. — Т.1.
3. Винделъбанд В. История древней философии. — VI., 1911.
4. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. — СПб., 1993.
5. Гиляров А.Н. Греческие софисты, их мировоззрение в связи с
общей политической и культурной историей Греции. —
VI.,1888.
6. Гогоцкий С.С. Философский лексикон. — Киев, 1873. — T.IV. —
Вып.2.
7. Гомпери, Т. Греческие мыслители. — СПб., 1911. — T.I.
8. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов / Пер. М.Л.Гаспарова. — VI., 1979.
9. Лосев А.Ф. История античной эстетики. — VL, 1963.
10. Тит Лукреций Кар. О природе вещей (в приложении —
стихотворный пер. Фрагментов Эмпедокла Г.Якубаниса в
ред. М.Л.Гаспарова). — VI., 1983.
11. Маковелъский А.Н. Досократики. — Казань, 1919. — Ч.Н.
12. Радлов Э.Л. Эмпедокл // Журн. М-ва нар. проев. — СПб..
1889. — Апрель.
13. Семушкин A.B. Эмпедокл. — М., 1985.
14. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. — М.,
1910—1915. — Ч. I—II.
15. Трубецкой С.Н. Эмпедокл // Статья в Энцикл. словаре
Брокгауза—Ефрона.
6
17. Чанышев АН. Материал изм Эмпедокла // Вестн. Моск. ун-та.
1976. — Х°\.
18. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. — М., 1913.
19. Altheim F., Stiehl R. Porphyrios und Empedokles. — Tübingen,
1954.
20. Arnim H. Die Weltperioden bei Empedocles // Festschrift
Theodor Gomperz dargebracht zum siebzigen Geburtstage. —
Wien, 1902.
21. Bignone E. Empedocle ed Epicuro. — Pinerolo, 1914.
22. Bodrero E. II principio fundamentale del sistema di Empedocle. —
Roma, 1905.
23. Bollack J. Empedocle.
Vol. I. Introduction a l'ancienne phisique. — P., 1965.
Vol. II. Les Origines. Ed. et trad, des fragments et des temoignages.
— P., 1969.
Vol. III. Les Origines. Commentaires. 1,2. — P., 1969.
24. Bumet I. Early Greek Philosophy. — London, 1963.
25. Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch von H.
Diels / Hrsg. v. W. Kranz. — Berlin, 1951—1952. —
Bd. I—III.
26. Diels H. Doxographi graeci. — Berolini; Lipsiae, 1929.
27. Dodds E.R. Greeks and the Irrational. — Berkeley, 1956.
28. Edwin L., Minar J. Cosmic Periods in the Philosophy of
Empedocles // Phronesis. — 1963. — Vol.8.
29. Empedocle d'Agrigente / Ed. J. Zafiropulo. — P., 1953.
30. Farley D.I. Empedocles and the Clepsydra // Journal of Hellenic
Studies. — 1957. — Vol. 77.
31. Freeman K. God, Man and State: Greek Concepts. — Westport
(Connecticut), 1970.
32. Cuthne W.R.C. A history of Greek Philosophy. — Cambridge,
1870. — Vol. 3.
33. Holm A. Geschichte Siciliens in Altertum. — Leipzig, 1870. —
Bd. 1.
7
33. Holm Α. Geschichte Siciliens in Altertum. — Leipzig, 1870. —
Bd. 1.
34. Jaeger W. Paideia. The Ideals of Greek Culture. — Ν.Υ., 1945.
- Vol. 1.
35. Kahn Ch.H. Religion and Natural Philosophy in Empedocles'
Doctrine of the Soul // The Presocratics. — N.Y., 1974.
36. Kranz W. Empedocles Antike Gestalt und romantische Neuschop-
fung. — Zurich, 1949.
37. Long A.A. Empedocles Cosmic Cycle in the Sixties // The
Presocratics. — NY., 1974.
38. Long H.S. The Unity of Empedocle's Thought // American
Journal о f Philosophy. — 1942. — Vol. 70.
39. Nil sson M.A history of Greek Religion. — Oxford, 1925.
40. O'Brien D. Empedocles' Cosmic Cycle. — Cambridge, 1969.
41. Right M.R. Empedocles. The Exatant Fragments. — X.Y., 1981.
42. Rohde E. Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeit — Glauben der
Glichen. — Tubingen; Leipzig, 1903. — Bd. II.
43. Rolland R. Empedokles von Agrigente und das Zeitalter des
Hasses. — Erlangen, 1947.
44. Rostagni A. II verbo di Pitagora. — Torino, 1924.
45. Solmsen F. Love and Strife in Empedocle's Cosmology //Phrone-
sis. — 1965. — Л°10.
46. The poem of Empedocles, Peri Physeos. Towards a New Edition
of all the Fragments / Ed. N. van der Ben. — Amsterdam,
1975.
47. Vlastos C. Theology and Philosophy in Early Greek Thought
//Philosophical Quarterly. — 1952. — Vol. 2.
48. Wilamoivitz-Moellendorf U. von. Die Katharmoi des Empedokles
// Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der
Wissenschaften. — Berlin, 1929.
49. Zeller E. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen
Entwicklung. — Leipzig, 1923. — Bd. I.
50. Zuntz C. Persephone. — Oxford, 1971.
»ΜΠΣΔΟΚΛ
ФИЛОСОФ, ВРАЧ И ЧАРОДЕЙ
ДАННЬЕ ДЛЯ ЕГО ПОНИМАНИЯ И ОЦЕНКИ
ΕΠΞΙΞΕΙΞΕΙΜ
ΞΙΞΙΞΙΞΙΕΠΞ
ПРЕДИСЛОВИЕ
-Задача, которую я себе поставил, сводится в общем к
следующему.
Прежде всего — дать филологически точный прозаический
перевод известных до сих пор фрагментов Эмпедокла, пользуясь при
этом всеми лучшими изданиями их и справляясь как с рукописным
преданием, так и с контекстом древних писателей и комментаторов,
в сочинениях которых они сохранились.
Затем — ввиду того, что буквальный перевод фрагментарного
поэтического текста, допуская возможность различных, иногда даже
прямо противоречивых толкований, не достигает главной своей цели —
облегчения понимания автора, — я счел необходимым указывать в
сомнительных случаях, как я лично истолковываю смысл каждого
данного фрагмента. С этой целью мною введены в текст
необходимые с точки зрения русской речи дополнения к буквальной
передаче; кроме того, перевод снабжен критико-экзегетическим
комментарием.
При этом в основу изучения греческого текста положены
новейшие сборники H.Diels'a (см. ниже, "Издания и пособия"), во-
первых, как самые полные и, во-вторых, как наиболее документально и
осмотрительно составленные. Расположение и счет фрагментов —
те же, что и у Die/s'a, так как мне казалось неудобным, не печатая
подлинного текста, делать перестановки в переводе, тем более, что
это само по себе не имело бы существенного значения. Но самый
текст построен мною самостоятельно, причем я взял за правило, где
только возможно, сохранять рукописное чтение, прибегая к помощи
конъектур лишь в случаях явной его порчи. Загромождать и без того
довольно громоздкий критический аппарат новыми конъектурами я
находил излишним и скорее вредным, чем полезным для дела, а
потому в соответствующих случаях или пытался доводить
казавшиеся мне наиболее правдоподобными поправки других
толкователей до неизбежного minimum'&, или предпочитал удерживать их
целиком, если они удовлетворяли, на мой взгляд, всем требованиям
критики. Напротив, при истолковании смысла отдельных мест,
предоставлял себе большую свободу, нередко не соглашаясь ни с одним
10
из существующих переводов и объяснений. Впрочем, и здесь,
насколько возможно, старался отправляться от античной традиции, т.е.
сообразоваться с указаниями древних интерпретаторов.
Изредка в примечаниях приводятся подлинные слова текста. Это
допускалось мною в двоякого рода случаях: или, во избежание
недоразумений, при передаче трудно уловимого оттенка по его
внутреннему смыслу или, в виде документальной справки, когда
выражение подлинника представляет особенно характерный и важный
для понимания всей системы terminus technicus. Таково, напр.,
выражение φρήν ιερή και άθέσφατοζ во фрагм. 134. — В общем
количество подобных случаев, особенно принадлежащих ко второй
категории, весьма незначительно.
Далее, стремясь, по мере сил, оттенить литературную и
поэтическую сторону подлинника (стремление, стоящее в тесной
связи с моим общим взглядом на характер творчества Акрагантского
мыслителя — см. часть I, гл. 3 слл.), я попытался передать все
отрывки, состоящие, по крайней мере, из одного полного стиха, гек-
саметром, по возможности столь же точным, как и прозаический
перевод.
Наконец, ввиду того, что из всей изученной мною литературы об
Эмпедокле мне не удалось вынести согласного и цельного
представления о мыслителе и его мировоззрении, я задался целью выяснить
самостоятельно сущность этой своеобразной личности, подойдя к
вопросу с более широкой точки зрения. При этом я не входил в
анализ частностей его учения (что, ввиду крайней пестроты и
разнохарактерности этих последних и при значительном количестве
собранного мною материала, было бы несовместимо со скромными
размерами вступительного очерка), но ограничивался указанием на те
черты, которые, при моем взгляде на основной характер творчества
Эмпедокла, получают отличный от общепринятого смысл или иное
освещение.
Такова программа настоящей работы. Насколько мне удалось ее
выполнить, предоставляется судить читателю. Я же, со своей
стороны, могу сказать только то, что, кому известна по опыту трудность
и кропотливость φилолого-философского исследования, особенно
когда приходится иметь дело с фрагментарным текстом мыслителя-
поэта, отделенного от нас туманной далью более двух тысячелетий,
тот едва ли отнесется слишком строго к неизбежно допущенным
мною промахам и недочетам, хотя бы они оказались и очень
многочисленны. Особенно сильных упреков ожидаю по адресу
стихотворного перевода и потому спешу оговориться, что я посвятил ему
немало труда и времени, всюду внимательно следя за строгим
выбором слов и выражений и с особенным тщанием отделывая короткие
и постольку наиболее стеснительные для переводчика отрывки. Если
же, несмотря на все это, мои гексаметры лишены поэтического
колорита и 'отдают прозой", то среди других возможных причин их
//
несовершенства не следует забывать также и того, что, как ни
велики художественные достоинства подлинника, все же
дидактическая поэма не может равняться в этом отношении с поэмой
героической, уже в силу свойств самого сюжета. Пусть приговор Аристотеля
(Poet. I, 1447ь 17), — когда он, сравнивая Эмпедокла как поэта с
Гомером, заявляет, будто между ними общее только то, что и тот и
другой писали размеренной речью (το μέτρον ), — слишком суров,
однако и в нем есть своя доля истины.
В заключение считаю долгом выразить глубокую благодарность
Историко-филологическому Факультету Университета Св.
Владимира за предоставление мне места на страницах "Университетских
Известий* и искреннюю признательность проф. А.Н. Гилярову как
за выбор самой темы, так и за целый ряд советов и указаний при
приведении работы к ее окончательному виду.
ИЗДАНИЯ И ПОСОБИЯ
1. Diels Η. Poetarum philosophorum fragmenta. — Berol., 1901
// В коллекции: Poetarum graecorum fragmenta auct. V de Wilamo-
witz- Moellendorff coll. et ed. vol. Ill fasc. prior.
2. Diels H. Die Fragmente der Vorsokratiker griechisch und
deutsch. — Berlin, 1903.
3. Fairbanks A. The first philosophers of Greece—an edition and
translation of the remaining fragments etc. — London, 1898.
4. Mullach Fr. W. Aug. Fragmenta philosophorum graecorum.
Vol. I. — Parisiis, 1860.
5. Ritter Η., Preller L. Historia philosophiae graecae etc. Ed.
septima quam curav. Fr. Schultess et Ed. Wellmann. — Gothae, 1888.
6. Holm Ad. Geschichte Siciliens im Altertum. Bd. I—И. — Lpz.,
1870. '
7. Holm Ad. Griechische Geschichte u. s. w. 2. Bd. — Berlin,
1889.
8. Zeller E. Die Philosophie der Griechen u. s. w. 1. Teil 4. Aufl.
— Lpz., 1876.
9. Beim A. W. The Greek Philosophers. Vol. I. — London,
1882.
10. Gomperz Tb. Griechische Denker u. s. w. Bd. I. — Lpz.,
1896.
11. Brandts Ch. Aug. Handbuch der Geschichte der
griechisch-romischen Philosophie. 1 Teil. — Berlin, 1835.
12. Brandts Ch. Aug. Geschichte der Entwickelungen der
griechischen Philosophie u. s. w. 1. Hälfte. — Berlin, 1862.
13. Ritter H. Geschichte der Philosophie alter Zeit. 1. Bd. 2
Aufl. — Hamburg, 1836.
14. Hegel G. W. Fr. Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie. Hrsg. v. Michelet. Bd. 1 (Werke, XIII В.). —
Berlin, 1833.
15. Lange Fr. Alb. Geschichte des Materialismus u. s. w. I. Buch.
6. Aufl. v. H. Cohen. — Lpz., 1898.
16. Burnet J. Early greek Philosophy. — London; Edinburg, 1892.
17—18. Tannery P. Pour l'histoire de la science hellene. — Paris,
1887. Русский перевод: Полынова H.H., Церетели СИ., Рад-
лов Э.А., Церетели Г.Ф. Первые шаги древнегреческой науки /
Предисл. проф. А.И. Введенского. — С.-Пб., 1902.
13
(Прозаический перевод фрагментов Эмпедокла, помещенный в
этом издании, выполнен проф. Э.А. Радловым).
19· Milhaud G. Lecons sur les origines de la science grecque. —
Paris, 1893.
20. Трубецкой С. Метафизика в древней Греции. — Москва,
21· Катков М. Очерки древнейшего периода греческой
философии. — Москва, 1853.
22. Rohde Ε. Psyche u. s. w. 1—2 Bd. (3 Aufl.). — Tübingen;
Lpz., 1903.
23. Grote G. Plato etc. Vol. I. Third ed. — London, 1875.
24. Fouillee A. La philosophic de Piaton. II t. 2-me edition. —
Paris, 1888.
25. Bergk Th. Empedoclea в Opuscula philologica Bergkiana / Ed.
a R. Peppmüller. Vol. iL — Halis Sax., 1886.
26. Ritter H. Ueb er die philosophische Lehre des Empedokles //
Litterarische Analekten / Hrsg. von Fr. Aug. Wolf. IV. — Berlin,
1820.
27. Steinhart. Empedocles // Allgemeine Encyklopädie u. s. w.//
Hrsg. von Ersch I. S., Gruber LG. Teil. 34. — Lpz., 1840.
28. Brochard V. Empedocle //La grande Encyklopedie etc. Tome
quinzieme. — Paris.
29. Zeller E. Ueber die griechischen Vorgänger Darwins // Ab-
handl. der Kön. Akademie d. Wissensch. zu Berlin. Aus dem Jahre
1878. Philosophisch-historische Klasse. — Berlin, 1879.
30. Kern O. Empedokles und die Orphiker // Archiv fur Gesch.
der Philos. Bd.I. — Berlin, 1888.
ШаШЭМИШЭЭШЭЗЗЙЛЭЖ
I
личность.
ОБЩИЙ ХАРАКТЕР МИРОСОЗЕРЦАНИЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Положение вопроса
Недко какое философское учение вызывало столько
противоречивых оценок, сколько вызывало и продолжает до сих пор
вызывать учение Эмпедокла. Уже из античного мира доходят до нас
на этот счет самые противоположные суждения, из которых отметим
лишь наиболее характерные. Так, с одной стороны, Платон, со
свойственным ему юмором, тонко иронизирует над Акрагантским
мыслителем, называя его самого "изнеженной сицилийской музой" 1
и его теорию чувственного восприятия — "трагической" 2, а
Аристотель, не обинуясь, клеймит его учение как наивный, детский
"лепет" 3 ; с другой стороны, вдохновенный апологет эпикурейской
философии Лукреций в страстном панегирике поет ему хвалу, как
человеку, поэту и мыслителю4.
В новое время разногласие отзывов еще больше. Одни,
признавая за Эмпедоклом исключительно поэтический талант, с явным
пренебрежением относятся к его учению в целом {Hegel) 5. Другие,
отрицая его значение как самостоятельного мыслителя, считают,
однако, его систему более или менее удачным и "интересным
эклектизмом" (Diels, Кет и др.) 6. Третьи, выдвигая на первый план
научные в современном смысле слова элементы его мировоззрения,
признают его в общем слабым мыслителем, но зато одаренным
гениальной интуицией исследователем природы, "физиологом"
1 Soph 242, D—Ε.
2 Meno 76, Ε.
3 Metaph. 1,4, 985a 4.
4 I, 714, sqq.
D Ο. 1. I, 364.
Kern. S. 498, ссылаясь на Diels'a (Sitzungsberichte der Berliner Akademie.
1884. S. 343). считает эту оценку бесповоротно доказанной ("....darf heute als
ausgemacht gelten").
15
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
(Benn, Burnet, Tannery, Mühaud и др.У . Некоторые, рассматривая
его учение в неразрывной связи с учением предшествовавших и
современных ему мыслителей, обращают внимание главным образом на
его историческое значение (Zeller и др.)2 . Иные, не входя в
подробную философскую оценку его умозрения, но поддаваясь прелести
его поэзии, в значительной мере примыкают своими догматически
восторженными отзывами к Лукрецию (Berg/?)3 и т.д. и т.д. При
этом все перечисленные взгляды критиков сходятся в одном пункте,
констатируя в системе Эмпедокла наличность коренных
противоречий между его "физиологией", или так наз. "научным убеждением",
и мистической "тео- и демонологией". Эмпедокл, по остроумному
замечанию одного из этих критиков, в своем полумистицизме, полу-
рационализме сам походит на те безобразные чудища архаической
эпохи, которые описаны в его морфологии4 .
Есть, правда, попытки примирить эти противоречия или путем
гадательной, сознательно произвольной реконструкции его учения в
дуалистическом духе (Rohde)5, или на почве сближения его
основных принципов с идеями языческого религиозного сознания (кн.
С.Тру бейкой). Vis них особого внимания заслуживает последняя не
столько по своей исходной точке зрения, которая сама по себе не
может быть признана вполне оригинальной 5 , сколько по той
широте и глубине взгляда, с какими обосновывает ее автор. Тем не
менее и эта попытка не достигает цели: духовный облик Акра-
гантинца и здесь остается половинчатым, полураскрытым, полным
внутренних противоречий, которые никак не могут слиться в
органическое единство определенной индивидуальности.
Так, автор, по-видимому, вполне основательно сетует на
"разлагающее горнило немецкой критики", удачно уподобляя ее вулкану,
поглотившему, по преданию, философа и выкинувшему из жерла
одни лишь его башмаки 6. А между тем он всецело присоединяется
Оо. II.— passim.
Pp.11—12. Сопоставляя Эмпедокла с Парменидом, автор присуждает пальму
первенства Акрагантинцу на том основании, что этот последний, не уступая
именитому Элеицу в философском отношении, далеко оставляет его за собою
полетом своего художественного гения.
3 Benn. I, 28.
II, 187л Автор заканчивает очерк словами: "So können uermuthungsweise die
empedoklischen Phantasien reconsctruirt werden..."
Так, напр., Kern в вышецитированной статье выводит философию Эмпедокла
почти целиком из учения Орфиков. Более того: "Empedokles wird nicht nur aus den
Gedichten der Orpniker Anregung geschöpft haben, sondern auch in den Aeusserlich-
keiten des Lebens sich an die Gebräuche dieser Sekte angeschlossen haben" (505).
6 Стр. 331.
16
/. Личность. Общий характер миросозерцания
к оценке Аристотеля, когда тот, отождествив, вопреки основным
требованиям объективной критики, концепцию Любви у Эмпедокла
со своей собственной философской концепцией Блага, укоряет затем
самого Эмпедокла за отождествление этого нравственного,
метафизического принципа с принципом материальным, физическим,
какова, по его мнению, Любовь у Эмпедокла х . После этого невольно
является вопрос, где же в мировоззрении Эмпедокла граница между
указываемой автором "слабостью логического построения" и
"глубиной мистической идеи"? 2. Одно из двух. Или такая граница
действительно существует; — но тогда вышеприведенный упрек по
адресу немецкой критики не может иметь места, так как эта последняя
никогда не отрицала значения мистических идей у Эмпедокла: она
просто констатирует, как факт, противоречие между отдельными
элементами этого мировоззрения, находя его непримиримым, что в
сущности делает и сам автор. Или такой границы нет вовсе; — но
в таком случае мы, очевидно, не вправе приступать к оценке этого
учения с выработанными лишь впоследствии Сократом и Платоном
и завещанными нам Аристотелем логическими критериями и
метафизическими постулатами.
Нельзя также не отметить еще одной любопытной стороны
рассматриваемой нами реконструкции учения Эмпедокла. Обсуждая
свидетельство Аристотеля, где этот последний называет Эмпедокла
отцом риторики, автор приходит к счастливой мысли дать общую
характеристику его личности, причем, особенно подчеркивая
сицилийское происхождение Эмпедокла, он сопоставляет его с
бродячими "софистами-чудодеями" эпохи Возрождения и с
современными нам южноитальянскими "взбалмошными" демагогами. * Эмпе-
докл — демагог, странствующий по городам в одежде священника
и обращающийся к толпе с хитроумными речами, предлагающий
средства "против всех зол", — есть несомненно особый и
своеобразный тип софиста, того софиста-чудодея, которого Италия не раз
видала впоследствии в эпоху Возрождения. Мистицизм, эклектизм,
риторика — все это указывает нам на одну и ту же черту, на
пламенную впечатлительность южного итальянца. Сицилия и в наши
дни дает Италии риторов-демагогов вместе хитрых и взбалмошных,
фантазеров, увлеченных собственной личностью, которые первые
обманываются собственным вымыслом и сами не знают, где
начинается их риторика" 3.
Поскольку данную характеристику можно рассматривать как
1 Стр. 329—330.
2 Стр. 326, 329.
3 Стр.327.
2 4-141
17
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
попытку уяснить мировоззрение из личности мыслителя, она
заслуживает, с нашей точки зрения, полного внимания (как это
впоследствии и будет нами поставлено на вид). Тем не менее
необходимо признать, что в том виде, как она дана, она не только не
устраняет отмеченных выше противоречий, но создает еще новые. В
самом деле, что общего между величавыми, глубокомысленными,
какими считает их сам автор, идеями Эмпедокла и пошлым,
бессмысленным фразерством современных нам риторов-демагогов?
Или между искренним, опирающимся на реальные факты,
сознанием собственной гениальности и своих великих общественных
заслуг у высоко чтимого современниками первого гражданина Акра-
ганта, которому, по преданию, соотечественники предлагали даже
царскую корону, как выражение признательности за оказанные
родному городу благодеяния х, и между напыщенным шарлатанством
бродя г-чудодее в, наводнявших Италию в конце средних веков? И
можно ли, наконец, слить в представлении одной личности то
серьезное чувство неудовлетворенности, тот глубокий пессимизм, каким
проникнуты дошедшие до нас творения Эмпедокла с пустым
"фантазерством" южного итальянца? А естественно вытекающий из
основоположений его учения взгляд на свое "я", как на
переживающего высшую стадию душепереселения падшего демона, которому в
ближайшем будущем предстоит покинуть этот "дол безотрадный" 2
для того, чтобы стать 'сожителем и сотрапезником бессмертных" 3,
можно ли истолковывать из "увлечения собственною личностью",
из "ничем не брезгающего" стремления "приобрести почет и
влияние"? 4 Словом, вся вышеприведенная характеристика в лучшем
случае может мотивировать присутствие риторического элемента в
творениях Эмпедокла, но она нисколько не способствует
уразумению внутренних, основных особенностей его творчества, чего, по-
видимому, следовало от нее ожидать 3.
Итак, несмотря на многочисленность и разнообразие точек
зрения, с каких подходила к учению Эмпедокла древняя и новая
Xanthus et Timaeus ар. Diog. Laert. VIII. 63—64. — Zeller, Rh. d. Gr. I4,
679.— Holm, CS. I, 257.
2 Фрагм. 121.
3 Фрагм. 147.
4 Стр. 327.
В посвященной Эмпедоклу небольшой статье в Энциклопедическом словаре
Брокгауза—Ефрона кн.С. Трубецкой сильнее оттеняет культурно-исторический
фон, на котором развертывалась деятельность Эмпедокла. Однако его общее
суждение о мыслителе существенно ни в чем не изменилось и осталось столь же
суровым, как и раньше.
18
/. Личность. Общий характер миросозерцания
критика, несмотря на остроумие и проницательность новейших
попыток к восстановлению нарушенной и затемненной для нас
временем цельности его системы, общая картина миросозерцания
продолжает оставаться невыясненной, а личность философа —
загадочной.
Существует красивый легендарный рассказ, будто жители Акра-
ганта воздвигли Эмпедоклу памятник-колонну, на котором
изобразили своего великого соотечественника с закрытым лицом !. Этот
художественный замысел оказался пророческим.
Hippobotus ар. Diog. Laert. VIII, 72.
2*
ГЛАВА ВТОРАЯ
Предлагаемый метод
опрашивается, чем это объяснить? Полный и
обстоятельный ответ на этот вопрос, очевидно, равнялся бы решению самой
проблемы, т.е. вполне убедительному изображению личности и
учения мыслителя, и постольку уже с внешней стороны выходил бы
далеко за пределы непосредственного назначения настоящего
краткого очерка, требуя взамен его пространной монографии. Наша же
задача заключается лишь в том, чтобы, отметив те общие причины,
какие, по нашему разумению, мешают критике проникнуть в
сущность оригинального миросозерцания Эмпедокла, способствовать, по
мере сил, более внимательному изучению его, а ближайшим образом
предварить читателя о необходимости более осмотрительного и
вдумчивого отношения к тем немногим, сильно пострадавшим от времени
отрывкам его поэм, перевод которых и составляет центр тяжести
наше йработы *.
Приступая к исследованию вышеназванных причин, прежде
всего считаем нужным устранить возможность того предположения,
будто трудность дать ясный и стройный синтез учения Эмпедокла
всецело обусловливается скудостью, отрывочностью и
недостоверностью наших источников. Дело в том, что ни от одного из греческих
философов досократической эпохи не сохранилось столь
значительного сравнительно количества фрагментов, как именно от
Эмпедокла. Следовательно, даже не разделяя ультраоптимистического
взгляда тех ученых, которые, вопреки очевидной истине, утверждают,
будто из неисчерпаемых сокровищ духовной культуры древности до
нас дошло все существенно-ценное 2, тем не менее следует признать,
что применительно к данному случаю у нас нет оснований особенно
сетовать на судьбу. А между тем мы несравненно определеннее и
последовательнее представляем себе миросозерцание любого из
крупнейших представителей этого периода, не исключая даже самого
"темного" Гераклита. Одни разве пифагорейцы не подойдут под это
определение, да и то лишь потому, что их учение было учением
школы, которое перерабатывалось на протяжении столетий. Если же
взять таких мыслителей, как Демокрит, Анаксагор, Парменид или
даже древнейшие ионийские "гилозоисты", то независимо от того,
См. Предисловие.
Катков, стр.117.
20
/. Личность. Общий характер миросозерцания
какое освещение дадим мы основным принципам их мировоззрения,
общая картина этого последнего предстанет пред нами в довольно
определенных очертаниях и уж во всяком случае будет свободна от
столь вопиющих внутренних противоречий, какие сразу бросаются в
глаза даже в самых талантливых изложениях учения Эмпедокла.
Явно таким образом, что дело тут не в объективных причинах,
не в скудости предания, как материала для критики, но, скорее, в
причинах субъективных, в несоответствии предмету исследования
методов и приемов самой критики.
В самом деле, каковы обычные приемы современного
исследователя? Имея уже готовую, всецело обусловленную личными
склонностями и характером научных интересов, точку зрения, с какой он
намерен судить о подлежащем анализу учении, он сразу, одним
термином определяет его философское значение и историческое
положение, помещая изучаемого автора в ту или другую категорию
типичных представителей современной, новоевропейской мысли.
Затем, смотря по тому, насколько данное мировоззрение подходит
под общий уровень предъявляемых к нему с этой точки зрения
требований, он хвалит его или порицает, находя его "ценным и
глубоким", или же "наивным и имеющим значение лишь для своего
времени". При этом вся так называемая широта исторического
кругозора, все критическое беспристрастие и объективность сводятся в
большинстве случаев лишь к некоторой снисходительности
окончательного приговора.
Так, если сам критик — представитель положительной науки,
он в каждой философской системе видит прогресс или регресс
только в этой области и отмечает "реальные результаты" исключительно в
развитии математических, естественнонаучных, технических и т.п.
познаний. Если он — историк философии в собственном смысле, то
он укажет на заслуги мыслителя в разработке общих философских
идей, подробно выяснит связь его учения с учением
предшественников и современников, проследит его судьбу, по возможности,
"до наших дней". Но этим и ограничится. Если он особенно
интересуется историей религиозного самосознания, то и в своем анализе он
подчеркнет резче всего эту сторону и т.д. Сообразно с этим и
изучаемый нами мыслитель будет являться нам последовательно во
всевозможных образах: то он будет физиком, то религиозным мистиком,
то метафизиком во всех многочисленных разновидностях этого типа:
материалистом, спиритуалистом, монистом, дуалистом, плюралистом и
т.п., словом — всем, чем угодно, только не самим собою. Между тем
подобный критический прием, отвечая до известной степени
действительности при анализе философских учений нового времени и будучи
терпим при оценке многих древних систем, совершенно непригоден
21
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
в применении к таким построениям, какое мы находим у Эмпедокла,
что и подтверждается на деле всей историей их изучения.
Исключительное положение подобных философских синтезов
обусловливается двумя причинами: во-первых, свойствами
культурной эпохи, которая в них отображается; во-вторых, и притом
главным образом, особенностями духовного склада их творцов, причем
эти два агента входят в такое тесное взаимодействие, что их почти
'невозможно отделить один от другого.
В курсах истории философии нередко проводится взгляд, что
ранняя эллинская мысль совершила полный круг в своем
поступательном движении от Фалеса и Аевкиппа или, говоря общее, от первых
проблесков "гилозоизма" до формулировки основных положений
атомизма включительно. Так, по словам английского исследователя ßume/'a,
Левкипп первый вполне точно и определенно ответил на вопрос,
поставленный Фалесом: что такое окружающая нас вселенная? С этим
нельзя не согласиться, но в то же время необходимо иметь в виду,
что указанное движение протекало далеко не по правильной кривой,
но по ломанной линии: был в нем такой момент, который,
характеризуясь коренным изменением существовавшей дотоле точки
отправления во всех философских построениях, по справедливости должен
считаться моментом перелома, поворотным пунктом в развитии не
только раннего эллинского умозрения, но и всей вообще античной
философской мысли. Мы имеем в виду учение элейца ТПарменида.
Потерявшись в заоблачных высотах абстракции, расплывшись, как
в смутно сознаваемом верховном принципе, в мистической идее Анан-
ки, — этой родной сестры или, скорее, философского двойника
безличной царицы мифологического мира — Мойры, любознательная
эллинская мысль не только не могла ответить на поставленный Фалесом
вопрос, но в своем бессилии примирить налично данную
действительность со своими собственными выводами и построениями зашла так
далеко, что ей оставалось одно из двух: или сознаться в полном
банкротстве значительной части своих основных принципов или признать ту
самую- вселенную, к постижению которой она стремилась, простым
обманом чувств, а всякую попытку отстоять ее реальность в том виде,
как она нам непосредственно дана, — заблуждением.
Упомянутый выше маститый представитель элейской школы с
немногими приверженцами избрал второй выход из неизбежной
альтернативы, между тем как более юная и смелая мысль,
естественно, предпочла первый. С одной стороны, убедившись в
невозможности спасти догматические положения элейства, с другой —
поддавшись мощному идейному воздействию изменившихся условий
политической, социальной, нравственной, религиозной и художест-
1 Р. 358. Cf.p.369.
22
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
венной жизни !, она в лице Анаксагора, Левкиппа, Демокрита и др.
сознала необходимость подойти к неразрешенному вопросу с прямо
противоположной стороны, т.е. отправляться не от всеобъемлющей
полумистической, полуабстрактной концепции вселенной в ее целом,
но от более узкого конкретного представления ближайшей, земной
действительности, в частности — человеческого организма с его
органами чувств, с его ощущающей, воспринимающей
способностями и т.д., словом, заменить метод мифо- и космологический
методом фйзио- и антропологическим.
В этом смысле названные мыслители поистине "свели
философию с неба на землю", подобно тому как, при других
обстоятельствах и в другом отношении, сделал это впоследствии Сократ. И
хотя затем они снова вознеслись с нею на небо, но уже нашли там
не то, что видели раньше: лучезарные "видимые боги" небесной
тверди превратились в прозаические раскаленные, каменные глыбы;
необъятное мироздание, представление о котором, несмотря на
сильную тенденцию к материалистическому миропониманию уже у
древнейших мыслителей, продолжало, однако, до сих пор носить
яркую мифологическую окраску, оказалось теперь колоссальной
вещественной массой, руководимой в процессе развития
исключительно механическими законами; сама сверхбожественная Ананка
утратила всякий мистический характер, частью уступив свое место
Уму (у Анаксагора), частью отождествившись с понятием
естественной необходимости, как простого условия рационального
познания природы (у атомистов) 2. Короче сказать, наступил поворот в
пользу трезвого научного исследования со всей его смелой, не
останавливающейся ни пред какими выводами, пытливостью 3.
Такова была в общих чертах умственная атмосфера эпохи, в
которой пришлось созревать и развиваться гению Эмпедокла. Если мы
теперь посмотрим на него с этой точки зрения, то нам прежде всего
По вопросу о взаимоотношении между досократической философией и общей
политической и культурной историей Эллады ср. А.Н.Гиляров. Греческие
софисты и т.д. Москва, 1888 — passim, особ. стр.115,144.
Ср., напр., Democriti Fragm. phys. 41 (Stob. Eel. phys. о. 160): ουδέν
χρήμα μάτην γίγνεται, αλλά πάντα εκ λόγου τε χαι υπ ανάγκης. — О
значении в данном месте термина λόγος см. Lange I, 13.
Анаксагор, будучи одним из главных представителей нового направления в
теоретической области, являет нам в то же время первый пример типичного в
современном смысле ученого всей своей жизнью и личностью. Ср. превосходную
характеристику его у Tannery pp. 275—276.
Демокрита за безграничную любознательность и колоссальную
энциклопедическую эрудицию сопоставляют с Аристотелем, общепризнанным "отцом
современной науки". И чтобы убедиться в полной основательности такого
сопоставления, достаточно хотя бы только бегло просмотреть список дошедших до нас
заглавий его научно-философских сочинении.
23
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
бросится в глаза тот знаменательный факт, что он, вступив на путь
от старого к новому вместе со своими современниками, не пошел с
ними до конца, но как бы остановился на полдороге. Правда,
отчасти это объясняется уже его хронологическим положением, так
как описанный выше перелом в общем ходе развития ранней
эллинской мысли пришелся как раз на начало его деятельности, так
что именно Эмпедоклу выпало на долю быть одним из пионеров
новых методов и идей 1. Однако хронологическими соображениями
отнюдь не исчерпывается все значение этого факта: главная его
причина, как уже было замечено выше, заключается в особенностях
духовного склада самого Эмпедокла.
Но прежде чем перейти к этому центральному вопросу нашего
очерка, необходимо предпослать ему несколько общих замечаний.
За многовековый период развития научно-рационалистического
исследования мы до такой степени привыкли отделять личность
мыслителя от его мировоззрения, что весь культурно-исторический
процесс обыкновенно представляется нам не иначе, как в форме
эволюции объективированных отвлеченных идей. Поэтому, обсуждая
прошлое человеческой мысли даже с такой сравнительно широкой и
постольку, бесспорно, наилучшей из всех существующих точек
зрения, какая, например, положена в основание известного труда
Zeller а 2, мы смотрим на данное миросозерцание как на внешний,
мертвый объект изучения, исторгаем его из живой связи с
личностью, с разносторонним содержимым внутреннего мира
автора, а если и интересуемся этой личностью, то опять-таки лишь
постольку, поскольку в ней отразились те или другие общие
отвлеченные идеи, сохранившие прямо или косвенно спекулятивный интерес
до нашего времени. Мы далеки от мысли отрицать научное, в тесном
смысле слова, значение за указанным методом. Но мы хотим
поставить на вид, что раз заходит речь о восстановлении полной
картины известного универсального по замыслу и богатого по
содержанию философского синтеза, то этот метод оказывается слишком
узким.
В самом деле, совершенно понятно, что мы находим только то,
чего ищем. Следя за развитием общих идей, мы всюду и видим
только постепенный рост и разработку общих идей; все же мелкие, на
первый взгляд, индивидуальные особенности мыслителя при этом
неизбежно сглаживаются, нивелируются. А между тем эти пос-
1 ж « о
Левкиппа мы не принимаем в расчет ввиду крайней скудости наших сведении
о нем. Есть попытки подвергнуть сомнению дажб самое его историческое
существование. — Литературу по этому вопросу см. у Ritter-Preller'a 145°,
pp.154—155.
См. выше стр. 16.
24
/. Личность, Общий характер миросозерцания
ледние нередко бывают настолько ярки и характерны, что в них-то
именно и лежит ключ к разгадке целого. Объясняется это тем, что
всякая оригинальная, способная к творчеству индивидуальность сама
по себе всегда несравненно богаче внутренним содержанием, чем все
ее философские, художественные и т.п. творения, взятые вместе, и,
следовательно, мы должны судить о ней на основании не только ее
собственных непосредственных заявлений, но также и всего того, что
открывается нам в ней посредственно.
Nee tantum prodere vati
Quantum scire licet. Venit aetas omnis in unam
Congeriem, miserumque premunt tot saecula pectus...
Вот одно основание для необходимости освещать учение из
личности мыслителя: не понимая с возможной полнотою личности,
мы не поймем и учения. Но есть и другое, еще более важное. Дело
в том, что не учения, не системы сами по себе создают историю,
двигают культуру, а опять-таки личности творцов этих систем и
учений: в жизни, в живом общении с действительностью
раскрывается и действует на среду все содержание духовного индивида, а оно,
как уже было сказано, никогда даже и в малой части не
исчерпывается философским, научным, поэтическим или каким-либо иным
творчеством. Отсюда другой вывод: не стараясь проникнуть во
внутренний мир отдельных исторических личностей, мы не поймем
в достаточной мере и культурно-исторического процесса вообще.
Итак, по нашему убеждению, наиболее целесообразный путь к
истолкованию философских учений, особенно таких, как учение Эм-
педокла, где личный, субъективный элемент выступает с особенной
силой и яркостью, должен состоять приблизительно в следующем.
I. Не ограничиваясь рассмотрением научно-философских идей
эпохи, следует предварительно представить себе с возможной
полнотою и отчетливостью всю совокупность общекультурных
условий, среди которых зародилось и слагалось данное
мировоззрение. При этом нужно принять во внимание не только те
проявления внешней и внутренней жизни народа, в частности ближайшего
к мыслителю общества, которые получили ко времени его
деятельности вполне определенное выражение, но также и все то, чему
суждено было развиться и обнаружиться впоследствии, и что до тех пор
существовало лишь в зачаточной и скрытой форме.
Только при соблюдении этого условия мы получим возможность
воспроизвести окружавшую некогда мыслителя духовную атмосферу
с достаточной цельностью и без нарушения исторической перспективы.
И. Переходя к непосредственному знакомству с подлежащим
анализу учением, нельзя удовольствоваться тем, чтобы внешним
25
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
только образом проследить ход мышления автора, но, пользуясь
всеми имеющимися в нашем распоряжении данными, необходимо
поставить себе целью охватить все содержание его личности, как
живое целое, воссоздать его духовный облик с возможно большею
наглядностью, передумать, перечувствовать с ним вместе,
посмотреть его очами на всю ту сложную действительность, из которой он
черпал вдохновение для творчества, словом, временно подчинить
свое мышление его мышлению, свои понятия и представления его
понятиям и представлениям.
III. После того как будет установлен таким образом общий фон
картины и перестанет быть психологической загадкой ее
центральная фигура, тогда только наконеи можно приступить к анализу в
собственном смысле, т.е. подробно обсудить все детали
рассматриваемого учения, сопоставить их между собою, уяснить
их психологическую и логическую связь и отношение.
Наконец, IV, оглянувшись еще раз на пройденный путь и
сгруппировав добытые указанным способом данные по
соответствующим категориям, остается подвести итоги действительному
значению мыслителя, т.е. проследив воздействие его личности
и его идей на современников и на последующие поколения,
определить его активную роль в непрерывном культурно-историческом
процессе.
Другое дело, насколько достижим подобный идеал. Лучше,
однако, пройти хоть несколько шагов по трудному, но верному пути,
чем совсем не вступать на него, ссылаясь на его трудность. Всякая
истинная критика есть дело нелегкое. Тем более это нужно сказать
о критике философской, задача которой нередко состоит в том,
чтобы на основании немногих данных воспроизвести.крайне
разнообразную, пеструю и вечноподвижную картину оригинально мысля-
.щей и чувствующей человеческой души, подобно тому как задачей
палеонтологии бывает иногда по нескольким, случайно найденным,
остаткам — зубам, челюстям и т.п. — составить цельное
представление об ископаемом животном. Если, однако, палеонтолог не
отступает перед своей задачей, то и у историка философии нет оснований
отступать перед его задачей, хотя бы и еще более сложной и
ответственной. Нам могут также, пожалуй, возразить, что предлагаемый
метод слишком широк и потому представляет опасность в
критическом отношении, давая большой простор субъективным домыслам и
произволу фантазии. Но, при тождестве фактического
материала, разве есть какая-либо исключительная гарантия в
объективности у общепринятых, более специальных точек зрения?
Вероятность перейти из области факта в мир фантазии и там и здесь
одинакова, но шансы на плодотворность изысканий при
предлагаемо
/. Личность. Общий характер миросозерцания
мом методе, естественно, должны быть больше, поскольку самый
вопрос ставится прямее и шире. Оговариваемся еще раз, что мы
отнюдь не претендуем на выполнение всей вышеначертанной
программы. Наша ближайшая задача — не решать столь сложную
проблему, но лишь правильно ее поставить, доказать ее интерес и
целесообразность. А если нам удастся, кроме того, попутно
воспроизвести хоть несколько единичных черт из возможной лишь в
будущем исчерпывающей характеристики мыслителя, то мы будем
считать себя вполне удовлетворенными.
Итак, каковы быЛи внутренние причины, отклонившие Эмпе-
докла от того пути, по которому пошла современная ему пытливая
мысль в лице Анаксагора и атомистов?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Происхождение и отроческие годы Эмпедокла
Широко и привольно раскинулся греческий мир к концу
VI столетия до Р.Хр. Многочисленные колонии покрыли
прибрежья морей; представители самых разнообразных племен и
городов Эллады разнесли далеко по свету славу своей родины;
недавние цари мореплавания и мировой торговли — финикийцы, не
выдержав конкуренции с более талантливыми соперниками, шаг за
шагом уступали им свое положение нераздельного господства.
Одновременно с этим стремлением ко-вне и расширением
географических горизонтов ширился кругозор жизненного опыта
народа, пробуждалось сознание собственных сил и превосходства над
варварами, закипала неудержимая страсть к деятельности, к
исканию новых поприщ, новых интересов и новых форм жизни.
Словом, период юности нации, подготовительный период "учения"
подходил к концу, и на смену ему близился период зрелости, более
сосредоточенного отношения к действительности и высшего
напряжения духовной энергии.
И чем труднее были внешние условия быта отдельных общин,
чем с большими усилиями и чем успешнее в конце концов вьшадало
им на долю отстаивать свою политическую независимость и
упрочивать свое материальное благосостояние, тем быстрее
совершался в них рост самосознания. А в таком именно положении
находилась большая часть греческих колоний. Уже самая трудность
переселения требовала от колониста значительной доли
предприимчивости — способности к широкой инициативе. Пребывание
же среди иноплеменного и в большинстве случаев враждебного
населения, непрестанно поддерживавшее изобретательность и
бодрость духа, еще более изощряло эти врожденные качества. В то же
время оно располагало, по крайней мере на первых порах, к
взаимному общению соседние колонии, выведенные из разных
метрополий и отличавшиеся друг от друга своим племенным составом,
религиозным культом, политическими и социальными идеалами и
проч. Таким образом создавалась удобная почва для обмена
практических взглядов и для плодотворного идейного
взаимодействия, и потому нет ничего удивительного, если колонии долгое
время шли во главе культурного движения Греции, далеко опередив
свою материковую отчизну как в материальном, так и в духовном
развитии.
28
/. Личность. Общий характер миросозерцания
Но были в положении колоний и слабые стороны. Будучи
оторваны от родной почвы и входя в силу необходимости все в более и
более тесное соприкосновение с туземцами, они неминуемо должны
были утрачивать с течением времени первоначальную чистоту своего
национального характера, бессознательно ассимилироваться с
коренными жителями той страны, в которую их забросила судьба.
Бесспорно, влияние образованных греков на грубых варваров было
неизмеримо сильнее обратного влияния, особенно в первые годы их
знакомства. Но, по мере того как эти последние воспринимали от своих
учителей новые знания и идеи, перерабатывая их применительно к
особенностям своего быта, это влияние неизбежно становилось
обоюдным. А отсюда получалось двоякое следствие. С одной стороны,
внешняя и внутренняя жизнь колоний развертывалась быстрее, шире
и разнообразнее. Но зато ее развитию недоставало того
спокойствия, последовательности и глубины, какие были возможны лишь в
областях собственной Греции, состоявших из одноплеменного,
компактного населения.
Такова была в общих чертах судьба большинства окраин
греческого мира. Такова была судьба и Сицилии, родины Эмпедокла, с
той лишь разницей, что здесь вышеуказанные особенности
проявлялись ярче, чем где бы то ни было.
Сицилия с незапамятных времен была населена племенами
италийского происхождения, сиканами и сикелами. Выгодное положение на
торговых путях и богатая природа этого острова не замедлили
обратить на себя внимание финикийцев, которые и основали по его
берегам целый ряд факторий для своих коммерческих целей. Однако
заметного влияния на жизнь островитян они, по-видимому, не оказали,
как не оказывали его и в других местах. Но вот вслед за
финикийцами, приблизительно с половины VIII века, в Сицилию проникают
ионийские и дорийские колонисты. Они овладевают восточным, южным
и отчасти северным берегами острова и постепенно подчиняют
своему влиянию все элементы его населения. Вне сферы этого влияния
остаются лишь наиболее удаленные от моря области, служившие с
тех пор убежищем для политической независимости италиков, и
западное побережье, на котором утвердились вытесненные из других
пунктов финикийцы. Но эта победа досталась грекам не легко и не
сразу. Мы увидим, что еще в V столетии им пришлось выдержать
страшную борьбу с финикийским Карфагеном х и подавлять грозное
восстание сицилийских аборигенов.
Таким образом, греческая колонизация в Сицилии на
протяжении нескольких столетий находилась в тех исключительных
Позднейшее столкновение с Карфагеном, в тиранию Дионисия Старшего, не
подлежит нашему рассмотрению.
29
Генрих Яку б анис, ЭМПЕДОКЛ
условиях быта, о которых было сказано выше. Этим и объясняется
своеобразный характер культурного развития сицилийских эллинов,
с которым нам предстоит теперь вкратце познакомиться.
Пестрота этнографического состава и вызывавшаяся ею
постоянная необходимость для колонистов отстаивать свое преобладающее
положение с оружием в руках привели к тому, что на почве Сицилии
особенно сильно развилась тирания. Так, на границе VI и V
столетия, т.е. в то время, когда в собственно Греции не оставалось ни
одного тирана, в Сицилии, наоборот, не было ни одной свободной
общины, за исключением (да и то лишь временным) Сиракуз. Это,
в свою очередь, повлекло за собою важные последствия.
Сицилийские тираны, подобно своим материковым предшественникам,
захватив тем или иным путем власть в свои руки, всячески
стремились к тому, чтобы утвердить ее на основах широкой
популярности, окружить свое правление таким блеском, перед которым с
почтением склонились бы самые свободолюбивые и непокорные
умы. Главными средствами, с помощью которых добивались они
этой цели, служили: расширение арены политической деятельности
путем сближения с могущественными соседями и основания новых
колоний; победоносные военные предприятия, с их подкупающей
народное самолюбие славой и богатою добычей; наконец,
искусственное насаждение материальной и духовной культуры. Благодаря
этому жизнь сицилийских общин отличалась необычайной
подвижностью: жители одного города зачастую поголовно переводились в
другой, отчего представители различных племенных групп еще легче
смешивались между собою; политические союзы создавались и
расторгались в непрерывном чередовании; эпохи кровопролитных войн
и междоусобий, требовавших страшного напряжения общественных
сил, беспрестанно сменялись более или менее продолжительным
затишьем, в течение которого, как бы для наверстания потерянного
времени и в ожидании новых препятствий, с удвоенной энергией
просыпались врожденные эллинскому духу культурные потребности.
Во всех этих случаях от правителей-тиранов исходила если не
инициатива, то, по крайней мере, самая деятельная поддержка.
Устраивались торжественные процессии и богослужения, созидались
величественные храмы, возводились грандиозные сооружения в
целях городского благоустройства, появилась роскошная домашняя
обстановка и проч. В то же время с различных концов греческого
мира приглашались художники, поэты и мыслители, деятельность
которых, при сильном развитии общественной жизни, не
ограничивалась тесными пределами двора, но оказывала влияние на более
широкие круги, нередко переходя прямо на площадь. Это последнее
обстоятельство, в связи с тем, что как раз в это время, т.е. в первые
десятилетия V века, Сицилия стала входить в более близкие
30
/. Личность, Общий характер миросозерцания
политические сношения с нижней Италией, открыло в нее свободный
доступ самым разнообразным влияниям извне. Всевозможные
религиозные культы и представления, самые противоположные
нравственные и философские учения, различные литературные течения
встречались и скрещивались на почве Сицилии и, сделав ее таким
образом одним из наиболее блестящих средоточий тогдашней
образованности, вызвали к жизни ряд самобытных, местных талантов,
которым суждено было сыграть видную роль в истории цивилизации
всего древнего мира.
Одним из таких своеобразных порождений сицилийской
культуры и был Эмпедокл.
Мы не располагаем достаточными данными для того, чтобы шаг
за шагом проследить ход внутреннего развития Эмпедокла. Тем не
менее у нас есть возможность установить косвенным путем ряд
относящихся сюда фактов, которые и должны нам служить точкой
отправления в характеристике мыслителя. Эта возможность
основывается на следующем. Во-первых, нам довольно точно известно время
жизни Эмпедокла; во-вторых, мы знаем в общих чертах, какова
была предшествовавшая его появлению и как постепенно
развивалась современная ему историческая действительность в широком
смысле; в-третьих, до нас дошло несколько спооадических
свидетельств о том, каково было внешнее отношение Эмпедокла к этой
действительности; далее, принимая во внимание отмеченные выше
особенности быта сицилийских колоний, можно почти наверное
утверждать, что Эмпедокл не остался чужд ни одному из умственных
течений своего времени, откуда бы оно ни исходило; наконец, мы в
состоянии проверить и отчасти дополнить полученные этим
способом выводы, сопоставив их с теми указаниями, какие могут дать нам
остатки его собственных произведений, а также критическая оценка
предания о его личности, общий тон которого, независимо от
противоречий в частностях, должен быть признан соответствующим истине.
В предыдущей главе мы указали на перелом, совершившийся в
развитии философско-научного самосознания Эллады, и определили в
нескольких словах, какое положение занял относительно его Эмпедокл,
время деятельности которого совпало с моментом этого перелома.
Теперь нам предстоит подойти ближе к этому вопросу, приведя его
в связь с рассмотрением важнейших данных о жизни мыслителя.
Эмпедокл, по наиболее правдоподобному вычислению Zeller a \
родился около 495 года, а умер 60 лет от роду, т.е. приблизительно
в 435 году. Его родиной был Акрагас 2, колония на южном берегу
Сицилии, выведенная в начале VI века из древнейшего греческого
1 Ph.d.Cr.I4, 678—679. Ср. Burnet, 209—210.
2 Diog.Laert. VIII, 51—54.
31
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
города на этом побережье — Гелы, которая, в свою очередь, около
столетия тому назад была основана выходцами из Родоса и Крита.
Таким образом, граждане Акраганта были потомками дорян, но не
материковых, а островных, азиатских, из чего следует заключать, что
Акрагас издревле поддерживал сношения с восточными колониями.
Эмпедокл принадлежал к знатному, богатому и популярному
роду. Его дед по отцу, носивший то же имя, что и внук, одержал, по
преданию, победу в конном ристании на олимпийских играх в 71
олимпиаду (=496 до Р.Хр.), т.е. незадолго до рождения философа 1.
Известно, что участие в подобных состязаниях было доступно лишь
представителям наиболее видных фамилий и рассматривалось
согражданами как выдающийся патриотический акт. По свидетельству
Фаворина 2, тот же Эмпедокл-олимпионик угостил членов почетного
посольства своеобразным блюдом — быком, выпеченным из меда и
ячменной муки. Очевидно, дед философа был последователем
пифагорейского учения, предписывавшего своим адептам
воздержание от мясной пищи, а может быть даже лично знал и слушал
самого Пифагора, который, по-видимому, бывал в Сицилии 3 и, во
всяком случае, имел там много убежденных приверженцев. Весьма
возможно, что и все свидетельства, по которым философ Эмпедокл
был непосредственным учеником Пифагора 4, следует относить не к
внуку, но к одноименному с ним деду. Об отце Эмпедокла, Метоне 5,
у нас еще будет речь впереди, пока же достаточно заметить, что он
также был человеком весьма влиятельным, отличался энергией,
предприимчивостью и демократическим образом мыслей, который с
большим успехом проявлял на практике.
Вот все, что мы знаем о происхождении Эмпедокла и о лицах,
окружавших его в самую раннюю пору его жизни. Как бы то ни
было уже эти немногочисленные данные объясняют нам многое в
крайне сложной духовной организации Эмпедокла.
Дорянин по крови, Эмпедокл от природы отличается нравственной
строгостью характера, величавостью и универсальностью концепций,
безотчетным уважением к традиции, наклонностью к мистицизму.
Сицилиец по месту рождения и воспитания, он соединяет в себе
с указанными качествами удивительную разносторонность,
страстную подвижность натуры, расположение к показной внешности и
Diog.Laert.ibidem. Другие источники (см.Zeller, Ph.d.Gr.P, 679) переносят
эту победу с деда на внука, по очевидному недоразумению, вызванному
тождеством имен того и другого.
Diog.Laert.ibidem.
J Holm, G.S.I, 190—191.
Timaeus et Aleidamas ap.Diog.Laert. VIII, 54,56.
D Diog.Laert.VIH,51 sqq.
32
/. Личность. Общий характер миросозерцания
блеску: он любит шумную жизнь улиц и площадей, владеет даром
говорить с толпою, умеет приковать ее внимание эффектной
наружностью, поразить ее остроумным сопоставлением мысли, очаровать
благозвучным оборотом речи.
Рожденный в изящной обстановке образованной
аристократической семьи и воспитанный в строгих, проникнутых духом
глубокого благочестия пифагорейских традициях, Эмпедокл всем существом
своим являет пример столь замечательной чуткости к прекрасному
во всех его разнообразных проявлениях, какую редко можно
встретить даже между его соплеменниками-эллинами, этими
природными эстетиками, и, наперекор позднейшим влияниям и
несмотря на свой развившийся с течением времени скептицизм, с истинно
дорийским консерватизмом сохраняет на всю жизнь способность к
мистическим настроениям и любовное отношение к традиционному,
поэтически -религиозному миропониманию.
Рассказы прославленного деда-олимпионика об его далеком
путешествии, где он имел возможность сталкиваться с
знаменитейшими людьми своего времени, и о великолепии олимпийских
празднеств, активные участники которых становились предметом
внимания "всей Эллады", а также непосредственный пример Метона,
популярного общественного деятеля, и, наконец, возможные встречи
в родительском доме с именитыми и просвещенными гостями из
отдаленных центров эллинской культуры на востоке, — все это
должно было рано заронить в восприимчивую душу мальчика
честолюбивые стремления, которым будущность готовила столь
блестящее осуществление. Прошло несколько десятков лет, и
произведения Эмпедокла распевались рапсодами на олимпийских играх !, а
когда он лично. появлялся на них среди праздничной толпы, все
взоры обращались на него, и "ни о ком другом не было в обществе
столько разговора, как об Эмпедокле" 2. В приведенных фактах
нельзя не видеть исполнения давнишних заветных мечтаний
тщеславного внука победителя в Олимпии.
Таковы были частью врожденные, частью приобретенные и
закрепленные воспитанием задатки, с которыми Эмпедокл выступил
на более широкое жизненное поприще. Дальнейшее развитие этих
задатков, равно как и выработка новых наклонностей и взглядов,
естественно, зависели от окружавшей его на этом поприще среды и
общего духа времени, к рассмотрению которых мы и обратимся.
1 Diog.Laert.VIII, 63.
2 Diog.Laert.VIII, 66.
3 4-141
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Юность Эмпедокла
и современная ей историческая действительность
Выше, при обзоре общих условий культурного развития
Сицилии, мы указали на повсеместный в сицилийских городах
расцвет тирании ко времени появления Эмпедокла и описали в немногих
словах причины, приведшие к такому порядку вещей, и следствия,
какие из него вытекали. Мы видели, что одним из таких следствий
было объединительное движение, выражавшееся в образовании
более или менее прочных политических союзов, которые, в свою
очередь, способствовали возникновению на почве Сицилии крупных
культурных центров. Взглянем теперь ближе на фактическую
сторону этого процесса.
В конце vi столетия из ряда сицилийских тиранов выдвигаются
на первый план князья Гелы. Клеандр, управлявший этим городом
с 505 года-1, сумел, опираясь на наемную вооруженную силу,
настолько упрочить авторитет своего дома, что, несмотря на
насильственную смерть тирана от руки одного из его подданных, жители
Гелы согласились признать своим владыкой брата убитого —
Гиппократа. Этот последний в семилетний период правления
значительно расширил свои владения рядом смелых военных
предприятий, из которых особенно чреватым будущими событиями
оказался поход против сиракузян. Блестящая победа Гиппократа при
реке Гелоре вызвала в Сиракузах восстание крепостного населения
(так называемых киллириев) против олигархии землевладельцев (га-
моров). Внутренняя смута ослабила силы города, и потому
ближайший преемник Гиппократа, бывший начальник его конницы —
Гелон уже без труда овладел этой цветущей колонией и основал в
ней свою резиденцию. В результате, под счастливым управлением
Гелона Сиракузы пошли по пути столь быстрого развития, что в
короткий срок подчинили своему влиянию всю восточную половину
острова и сделались самым большим городом не только запада, но и
всего вообще греческого мира.
Одновременно с ростом Сиракуз на южном побережье острова
вырастало новое "око Сицилии" 2 — Акрагас. Основанный, как уже
было сказано, выходцами из могущественной Гелы, Акрагас рано
1 Holm, G.S.I, 197; G.G.II, 89.
2 Pind.Olymp. II, 17—18.
34
/. Личность. Общий характер миросозерцания
обратился в огромный город, со смешанным населением, вследствие
чего аристократический режим, под которым он выступил на арену
исторической жизни, продержался в нем лишь немногим более
десятилетия, уступив затем место тирании, как переходной стадии к
народовластию. Период высшего процветания города начинается
приблизительно* с 488 года !, когда властителем Акраганта
становится человек выдающихся способностей — Ферон. Частью
искусной политикой, частью силою оружия он распространяет свое
владычество поперек всей середины острова, от Ливийского до
Тирренского моря, и, вступив в тесные родственные и политические
отношения со своим могущественным соседом на востоке — Гелоном,
возводит Акрагас на степень первоклассной державы эпохи.
Таково было внутреннее состояние Сииилии, когда над нею
разразилась гроза иноплеменного нашествия. Финикийцы, оттесненные
греками в западный угол Сицилии и беспокоимые постоянным
страхом потерять и этот последний оплот своего влияния на острове, не
могли оставаться равнодушными зрителями объединительного
движения среди своих заклятых врагов. Быстро возраставшее
могущество родного Карфагена рисовало перед ними заманчивые
перспективы разгрома главных средоточий столь опасного для них
объединения, и они ждали только удобного случая, чтобы начать давно
задуманную борьбу.
Такой случай не замедлил представиться. Тиран Гимеры — Те-
рилл, изгнанный, по просьбе своих внутренних недругов, Фероном
из города, решился во что бы то ни стало вернуть потерянную власть
и отомстить ненавистному правителю Акраганта. С этой целью он
противопоставил Ферону и его верному союзнику Гелону целую
коалицию, состоявшую из Регия, где княжил зять Терилла —
Анаксилай, Селинунта, с завистью и недоверием взиравшего на
успехи соседнего Акраганта, и, наконец, Карфагена, для которого
этот внутренний раскол в семье эллинов был настоящей находкой и
участие которого делало, по-видимому, успех предприятия
несомненным. Карфагеняне снарядили огромный флот из 200 военных и
3000 транспортных судов и, посадив на него трехсоттысячную
армию, в которой, кроме жителей столииы и других ливийских го-
^одов, находились наемные дружины из Иберии, Галлии, Лигурии,
1талии, Корсики и Сардинии, двинулись к северным берегам
Сицилии. Там, под стенами Гимеры, и произошла решительная битва,
окончившаяся полнейшим поражением финикийцев и их союзников
соединенными силами Ферона и Гелона (481 или 480 г.) 2.
Эта великая победа составила целую эпоху в истории Сицилии.
1 Holm, CS. I, 415; G.G. II, 91.
2 Holm, G.S. I, 209; G.G. II, 93.
3*
35
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
Уже древние чувствовали всю необъятность ее значения, когда
пытались отыскать внутреннюю связь между описанными нами
событиями, с одной стороны, и нашествием Ксеркса на Грецию — с
другой, или когда сопоставляли битву при Гимере со сражением у
Саламина, утверждая с наивным преувеличением, будто оба события
случились в один и тот же день. И в самом деле победа сицилийских
тиранов имела для запада эллинского мира не меньшую важность,
чем победа Фемистокла для востока. При этом, как то и
естественно, последствия ее особенно ярко отразились на судьбе обеих
победоносных держав, Сиракуз и Акраганта.
Одним ударом уничтожив своих единоплеменных соперников и
icTpaHHB на многие годы опасность со стороны варваров, Ферон и
елон могли спокойно отдаться заботам о внутреннем
благосостоянии подвластных им областей. Огромная контрибуция и несчетная
военная добыча доставили им необходимые для этого материальные
средства, а громкая слава их подвига, которому они к тому же сами
постарались придать общеэллинское значение !, снискала им столь
широкую популярность, что им нечего было опасаться за свою
власть. Несомненно, счастливое отражение грозного нашествия,
вызвав в народе небывалый подъем духа и гордое сознание своих сил,
не могло не пробудить в нем свободолюбивых стремлений особенно
ввиду того, что как раз в это время в восточной Греции демократия
становилась преобладающей формой правления. Но потребность в
отдыхе после пережитых ужасов войны и ореол славы, окружавший
ее героев, временно заглушили эти стремления, тем более что тираны
своим разумным и заботливым управлением .сумели указать другой
исход для накоплявшейся в народе энергии.
В битве при Гимере карфагеняне потеряли весь свой флот.
Благодаря этому чуть ли не половина их армий, избежавшая гибели на
поле сражения, была взята в плен, причем значительная часть
пленных попала в руки акрагантинцев, так как искала спасения в их
области, лежавшей в непосредственном соседстве с Гимерой. О
количестве этих пленников можно судить по тому, что бывали случаи,
когда один гражданин Акраганта имел их в своем распоряжении до
500. Ферон воспользовался этой массой даровых рук для крупных
общественных работ: построил или, по крайней мере, начал
постройку нескольких грандиозных храмов 2; провел подземные каналы для
стока воды; вырыл большой пруд, который в одно и то же время
был резервуаром питьевой воды, доставлял городу рыбу и служил
ему одним из лучших украшений; развел в окрестностях
виноградники, насадил плодовые деревья и проч. Пример правителя повлиял
1 Holm, CS. I, 210.
2 Holm, CS. I, 248.
36
/. Личность. Общий характер миросозерцания
на его подданных, которые наперерыв друг перед другом стали
воздвигать великолепные дома-дворцы, украшать их художественной
обстановкой и т.п. Таким образом, Акрагас в несколько лет обратился
в один из самых благоустроенных, красивых и цветущих городов
Эллады, и нам становится понятным приписываемый преданием
Эмпедоклу отзыв об его согражданах: "Акрагантинцы
роскошничают, точно собираясь умереть на следующий день, и строят дома,
словно им предстоит жить вечно" х.
Еще более пышный и продолжительный расцвет выпал на долю
Сиракуз, где вслед за кратковременным, но плодотворным
царствованием Гелона последовало новое блестящее правление его родного
брата Гиерона (с 478 г.) 2, который, не уступая победителям при
Гимере в военных и административных способностях, превосходил
их тонкостью ума, разносторонностью талантов и образованием.
Успех внешней политики Гиерона был настолько велик, что сиракуз-
ское владычество распространилось при нем на большую часть
нижней Италии, и даже сам Акрагас склонился пред его влиянием,
хотя формально и продолжал оставаться независимым.
Но не внешними успехами создал себе славное имя в истории
Гиерон. Главная заслуга его заключалась в том, что он, более чем
кто-либо другой, приобщил Сиракузы, а тем самым и всю Сицилию,
нераздельным владыкою которой он мог по справедливости
считаться, к общеэллинской культуре, облагородив таким образом и
оправдав перед народом свою собственную тиранию, а равно и тиранию
своих предшественников. Несмотря на всю успешность своей
внешней политики, Гиерон не имел за собою славы национального героя,
на какую опирались оба победителя карфагенян. Ему необходимо
было упрочить власть на новых основаниях, и потому он не
ограничился заботами о материальном благосостоянии страны и о
придании ей внешнего великолепия путем создания новых колоний,
сооружения огромных храмов, украшения их драгоценными,
художественно-исполненными дарами и проч., к чему, главным образом,
стремился его предшественник, но задался целью возвеличить и
прославить свое правление, сделав Сицилию очагом национальной,
греческой образованности и заставив говорить о ней всю Элладу. И
ему удалось осуществить эту задачу.
Частью исходя из указанных внешних соображений, частью
следуя своим природным наклонностям и вкусам, Гиерон привлек к
своему двору целую плеяду именитейших представителей тогдашней
поэтической и философской мысли. А так как многие из них
представляли из себя первоклассные таланты, то сиракузский двор
1 Diog. Laert. VIII, 63.
2 Holm, CS. I, 211—212; G.G. II, 95.
37
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
Гиерона действительно обратился в настоящий рассадник
просвещения, и сам Гиерон стяжал себе вполне заслуженную славу одного
из наиболее замечательных меценатов, каких только знает история.
Но славолюбивый правитель шел в своих стремлениях дальше. Он
желал быть и, как мы уже видели, был на самом деле не только
сиракузским тираном, но и властителем всей Сицилии. Поэтому
просветительная деятельность окружавших его лиц не
ограничивалась одними Сиракузами, но переносилась и в остальные города
острова, причем Акрагас и в этом, как в других отношениях, занимал
среди них первое место, особенно пока был жив Ферон,
поддерживавший самые дружеские личные отношения с кружком Гиерона.
Наши сведения 6 лицах, составлявших этот кружок или вообще
побывавших при дворе Гиерона и Ферона, конечно, далеко не
полны. Однако и того, что нам известно, достаточно, чтобы судить
об умственной и нравственной атмосфере, царившей в описываемую
эпоху в Сиракузах и Акраганте.
Ряд этих славных имен открывает собою знаменитый лирик Си-
монид из Кеоса. Удивительный поэтический талант,
простиравшийся на самые разнообразные виды лирики, знание света и тонкие
манеры придворного, приобретенные за время пребывания при дворе
Гиппарха в Афинах, а затем Алевадов и Скопадов, в Фессалии,
наконец, огромная популярность как поэта, воспевавшего великую
национальную борьбу эллинов с персами, — все это счастливо
сочеталось в личности Симонида, когда он восьмидесятилетним
старцем переселился в Сицилию, где и провел последние годы своей
жизни. Постоянным местом его жительства на острове были, по-
видимому, Сиракузы, но, судя по его отношениям к Ферону, нужно
думать, что он бывал нередким гостем и в Акраганте. Пользуясь
неизменным расположением обоих тиранов, Симонид сделался на
своей новой родине любимцем и более широких кругов общества.
Так, по крайней мере, можно судить по общему тону предания о
нем, которое снисходительно относится даже к несомненным
слабостям его характера, например к его сребролюбию, и создает легенды
о воздвигнутом ему надгробном памятнике 1.
Другим представителем лирической поэзии при сиракузском
дворе был племянник Симонида Бакхилид, также с острова Кеоса.
Далеко уступая своему великому дяде в дарованиях, Бакхилид
подражал ему в литературной деятельности и в практическом взгляде на
жизнь. Личность Бакхилида интересна для нас тем, что он
представлял из себя чистый тип придворного поэта: в своем стремлении
снискать милость правителя он доходил до явной лести, а зависть к
соперникам выражалась у него в форме личной неприязни. Таково,
1 Holm, G.S. I, 218—219.
38
/. Личность. Общий характер миросозерцания
по крайней мере, по преданию, было его отношение к третьему и
величайшему лирику кружка Гиерона, как и вообще всей Эллады —
Пин дару, к которому мы теперь и переходим.
Пиндар, фиванец по происхождению, значительную часть своей
жизни провел на родине, покидая ее время от времени лишь для
того, чтобы посетить своих иногородних друзей или присутствовать
на пан эллинских празднествах. Поэтому его пребывание в Сицилии
не могло быть продолжительным. Но дружеские связи, соединявшие
его с княжеским домом Акраганта, начались еще со времен его
молодости, а интерес поэта к судьбам острова был настолько велик,
что он посвятил сикелиотам целый ряд своих произведений: 15 из 44
известных нам э.пиникий Пиндара имеют то или другое отношение
к Сицилии. Таким образом, мы вправе заключать, что влияние
Пиндара на сицилийское общество, несмотря на кратковременность его
пребывания там, было весьма сильно, особенно если принять во
внимание то обаятельное"действие, какое производила его поэзия на
современников вообще, а сицилийцы, как мы уже имели случай
говорить, отличались редкой даже среди греков восприимчивостью.
Необычайная творческая сила и высокий полет духа в
соединении с глубоким патриотическим чувством, искренним религиозным
воодушевлением и величавостью нравственного мировоззрения
стяжали Пиндару такую славу, что его имя гремело по всей Элладе, его
песни записывались золотыми буквами и помещались в храмах в
виде священных приношений, а хоровое исполнение их считалось
лучшим украшением торжественных собраний. Пиндар был всюду
желанным гостем, как в свободных демократических общинах, так и
при дворах князей и тиранов. Неудивительно поэтому, если Гиерон
всеми силами старался привлечь его в Сицилию, которую Пиндар
воспел еще в своих юношеских одах. Но поэт, вероятно, дорожа
своей независимостью, медлил принять приглашение и явился в
Сиракузах лишь· около 474 г., находясь уже на вершине своей славы.
Гиерон надеялся воспользоваться пребыванием знаменитого
гостя для достижения главной своей цели — распространения славы
Сицилии по греческому миру. И он не ошибся в расчете: поэт
сторицею воздал правителю за гостеприимство, увековечив его имя
и блеск его правления в своих дивных песнопениях. Некоторые из
них посвящены непосредственно самому Гиерону, другие
прославляют членов его дома (оды в честь зятя Гиерона Хромия), иные
воздают хвалу его другу Ферону Акрагантскому и т.д.
Внешним поводом к их сочинению служили обыкновенно
победы, одержанные Гиероном, Фероном или кем-либо из их подданных
на больших играх в собственной Греции. По обычаю того времени,
1 Holm, CS. I, 220.
39
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
такие победные гимны распевались частью на том самом месте, где
была одержана победа, частью же, по возвращении победителя, в
его отечестве. Это последнее обстоятельство давало возможность
Гиерону устраивать для своих друзей и для народа блестящие
празднества по всей Сицилии, смотря по месту, откуда происходил
победитель. С этой целью он даже сам выдавал себя за гражданина
попеременно то того, то другого из подвластных ему городов, не
желая оказывать столице исключительное предпочтение перед
другими областями. Есть также основание предполагать, что, не
довольствуясь участием в панэллинских играх, Гиерон устраивал по их
образцу состязания и у себя, в Сицилии х9 которые также
переносились из города в город и украшались присутствием поэтов,
певцов, музыкантов и проч.
При таком количестве торжественных собраний и народных
увеселений Сицилия должна была представлять удобную почву между
прочим и для развития сценического искусства. И действительно, в
числе лиц, составлявших кружок Гиерона, мы встречаем, наряду с
лирическими поэтами, представителей обоих основных типов
драматической поэзии — трагика Эсхила и комика Эпихарма, которые
своей деятельностью положили основание сицилийскому театру. О
двух других комических поэтах, Формисе и Дейнолохе, наши
сведения слишком скудны для того, чтобы можно было составить о них
определенное суждение.
Эсхил, подобно Симониду и Пиндару, прибыл в Сицилию, когда
его талант достиг полной зрелости. Несмотря на то, что он
пользовался громкой известностью на своей родине, в Афинах, как поэт-
драматург, реформатор национального театра и, наконец, как
непосредственный участник великой Марафонской битвы, он не только
побывал в Сицилии в правление Гиерона, но и переселился в нее
впоследствии окончательно, из чего следует заключать, что его
деятельность во время первого пребывания там сопровождалась
крупным успехом и снискала ему многочисленных поклонников. Это и
понятно. Возвышенный тон его поэзии, высокий идеализм
созданных им характеров, смелый, исполненный пафоса и оригинальных
образов способ выражения — все это как нельзя лучше
гармонировало с благородным воодушевлением, царившим еще в
сицилийском обществе со времен славной победы над варварами, и с тем
повышенным, праздничным настроением, в каком оно неизменно
пребывало, благодаря стараниям Гиерона.
Мы не знаем, существовал ли уже тогда в Сиракузах
постоянный театр. Как бы то ни было, известно, что Эсхил поставил на
сиракузской сцене несколько своих трагедий. Так, его пьеса Этнянки
1 Holm, G.S. I, 220.
40
/. Личность. Общий характер миросозерцания
написана на местный сюжет по поводу освящения основанной Гие-
роном колонии Этны, и даже относительно Персов возможно
предположение, что они впервые появились на сцене не в Афинах, но
также в Сицилии, где воспоминания о Гимере способны были
вызвать в публике не меньший энтузиазм, чем в восточной Греции —
воспоминание о Саламине и Платеях. Таким образом, сицилийцы
имели возможность познакомиться с Эсхилом не меньше, чем знали они,
напр., Пиндара, поэзия которого имела к тому же, по своему
идейному содержанию, много общего с поэзией великого афинского
трагика.
Эпихарм, в противоположность лицам, перечисленным выше,
почти всю свою жизнь провел в Сицилии. Уроженец острова Коса,
он рано покинул родину, некоторое время жил в сицилийской Ме-
гаре, а по разрушении ее Гелоном переселился в Сиракузы, где и
протекла остальная часть его жизни.
Вследствие столь продолжительного пребывания в Сицилии
Эпихарма называли в древности сицилийцем, Siculus1. В самом деле,
характер Эпихарма представляет многие типично сицилийские
черты: веселый нрав, подвижность и остроумие мысли, разнообразие
склонностей и дарований.
В Сицилии издавна существовали в большом изобилии сельские
празднества в честь Вакха, Деметры и Артемиды,
сопровождавшиеся шествиями, хоровым пением, танцами и мимической игрой.
Им то, очевидно, и обязана своим происхождением древнейшая
греческая комедия, первым и главным представителем которой был
Эпихарм. Благодаря этому пьесы Эпихарма имели большею частью
мифологическое содержание. Но, обрабатывая мифологические
сюжеты, Эпихарм, насколько мы можем судить по сохранившимся
отрывкам его комедий и по свидетельствам древних писателей,
относился к ним со всей свободой и непринужденностью
комического поэта и с критицизмом мыслителя-рационалиста. Перенося богов
и героев в обстановку повседневной жизни, он доходил в своих
пародиях до явной насмешки над наивными представлениями
народной религии. В этом отношении он составлял полную
противоположность всем упомянутым до сих пор поэтам двора Гиерона и
приближался к убежденному врагу политеизма Ксенофану.
Пользуясь славой основателя национальной комедии, Эпихарм был
известен также как философ, врач и реформатор в области правописания,
причем по философии и медицине ему приписывались даже
специальные сочинения, о которых, впрочем, мы не знаем ничего
достоверного 2. К общей оценке миросозерцания Эпихарма нам пред-
1 Cicer. Tusc. 1,8,15; ad Att, 1,19,8.
2 Diog.Laert. VIII, 78.—Holm, CS. I, 237—238.
41
Генрих Яку б анис. ЭМПЕДОКЛ
стоит еще вернуться впоследствии. А пока достаточно заметить, что
его философские воззрения не отличались, по-видимому, особенной
оригинальностью, но представляли лишь переработку в удачной
гномической форме некоторых положений Ксенофана, Гераклита и
пифагорейцев, что свидетельствует о широте его философской
эрудиции.
Последним из числа известных нам лиц, пользовавшихся
гостеприимством Гиерона, был упомянутый выше Ксенофан. Ионянин
из Колофона, Ксенофан всю свою долгую жизнь провел в
странствованиях из города в город, из селения в селение в качестве
философа, поэта и рапсода. Ввиду того, что нам неизвестен точно год его
смерти, мы не можем определить, сколько времени провел он при
дворе Гиерона. Во всяком случае, хронологические соображения х
заставляют признать это пребывание непродолжительным.
Резко отрицательное направление мысли Ксенофана, его
страстная полемика против гомеро-гесиодовского миропонимания и
беспощадная критика политеизма, с одной стороны, и чуждый всякого
догматизма, неопределенно-скептический пантеизм его собственных
воззрений — с другой, стояли в столь резком противоречии с
тогдашним настроением сицилийского общества и со всей обстановкой
сиракузского двора, что он едва ли мог оказывать серьезное влияние
на массы и пользоваться расположением и покровительством
Гиерона. Это подтверждается и фактически: согласно преданию,
Ксенофан умер в крайней бедности, на иждивении у двух пифагорейцев.
Но если, вследствие новизны, парадоксальности и резкости своих
взглядов, Ксенофан не приобрел популярности в широких кругах
современников, то тем сильнее было его воздействие на единичные
личности, способные по тем или иным причинам воспринять его
идеи. Так, не говоря уже о Пармениде и позднейших Элеатах,
философское учение которых выросло в значительной мере на почве этих
идей, Эпихарм, как мыслитель, находился под несомненным
влиянием Ксенофана.
Мы нарочно остановились несколько подробнее на изображении
эпохи, совпадавшей с юношескими годами Эмпедокла, так как в эту
именно пору должна была определиться в своих главных очертаниях
духовная физиономия мыслителя. Ферон умер в 473 году 2. Гиерон
— шестью годами позже 3. Следовательно, дальнейшие события из
истории общественного и умственного развития Сицилии относятся
уже к началу зрелых лет Эмпедокла, а подготовительный период его
жизни протекал всецело в описанной выше обстановке. Итак, в чем
1 Zeller, Ph.d.Cr. I4, 486 f.— Holm, G.S. I, 181—182.
2 Holm, G.S. I, 242; G.G. II, 98.
3 Holm, G.S. I, 244; G.G. II, 99.
42
/. Личность. Общий характер миросозерцания
и поскольку отразилась на Эмпедокле окружавшая его в юности
среда?
Мы видели, что в эпоху тирании, благодаря счастливому
стечению внешних обстоятельств, нравственные силы сицилийского
общества достигли высокого напряжения. В то же время в Сицилию
открылся доступ самым разнообразным влияниям извне. Ни один из
перечисленных нами выше сподвижников Гиерона в его
цивилизаторской деятельности не был сицилийцем по происхождению. Кроме
того, большинство из них переселялись туда, побывав
предварительно во многих других греческих областях. Если, наконец, принять во
внимание неполноту наших сведений об этой эпохе и, с другой
стороны, ту общую всем временам быстроту, с какою новые идеи
передаются через пространство, то можно с уверенностью утверждать,
что Сицилия уже в эту пору так или иначе не осталась чуждой ни
одному из теоретических и нравственных запросов, волновавших умы
тогдашней Эллады. Но всякая идея для плодотворного обнаружения
нуждается в подходящих внешних условиях. А условия эти, как мы
уже знаем, были здесь в данную эпоху таковы, что могли
способствовать преимущественно развитию идей
национально-патриотических и религиозно-эстетических, а не научно-философских. Таким
образом, Эмпедокл в свои юношеские годы вращался в кругу
понятий и представлений, в общем однородных с вынесенными им из
родительского дома и вполне гармонировавших с его природными
наклонностями.
Великая борьба одновременно на востоке и на западе эллинского
мира против иноземного нашествия и последовавшие за ней
народное ликование и благодарственные жертвоприношения
богам-заступникам должны были произвести глубокое впечатление на его
восприимчивую, поэтически настроенную натуру, пробудив в нем
влечение к художественному творчеству. Аристотель, кроме
известных нам философских поэм Эмпедокла, приписывает ему несколько
чисто поэтических произведений, между прочим, Переправу
Ксеркса и Гимн Аполлону λ. Очевидно, эти произведения и были первыми
пробами пера Эмпедокла, подтверждением чему служит известие,
будто сестра или, по другому свидетельству 2, дочь поэта сожгла их
впоследствии, как недостойные его позднейшей славы литературные
опыты.
Явившийся следствием победы необычайный экономический
расцвет его родины, внешнее великолепие городов, наполнявшихся
созданиями искусства, обилие всякого рода празднеств и
многолюдных зрелищ также способствовали, со своей стороны, развитию ху-
1 Diog.Laert. VIII, 57.
Hieronymus ар. Diog.Laert.ibidem.
43
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
дожествеиного вкуса и эстетических потребностей. Если
впоследствии Эмпедокл выступал перед народом, облеченный в роскошное
пурпурное одеяние, обутый в медные сандалии и с золотой повязкой
в волосах, то это не только являлось выражением его личного вкуса,
но и было необходимо для привлечения внимания слушателей: в
Сиракузах или Акраганте не мог рассчитывать на успех человек в
дырявом плаще и с нечесаной бородой позднейшего философа.
У нас нет прямых указаний на личное знакомство Эмпедокла с
сицилийскими княжескими домами. Однако богатство и выгодное
общественное положение его семьи заставляют признать такое
знакомство весьма правдоподобным. Демократические убеждения Vle-
тона едва ли могут противоречить этому предположению ввиду
всеобщей популярности тогдашней тирании. Во всяком случае, влияние
лиц, составлявших двор Гиерона и Ферона, на духовное развитие
Эмпедокла вне всякого сомнения. Изящество и. утонченность Си-
монида и Бакхилида, строгость и возвышенность музы Пиндара и
Эсхила, живой юмор и разносторонность Эпихарма, бичующая
сатира и граничащая с высокомерием независимость духа Ксенофа-
на, — все эти качества в большей или меньшей мере проявляются в
Эмпедокле. При этом Ксенофана предание делает даже
непосредственным учителем Эмпедокла !, а на близкие отношения его к Эсхилу
намекает, по-видимому, тот факт, что Эмпедокла в древности
считали автором многочисленных трагедий 2.
Наконец, и непосредственный пример самих тиранов не мог
остаться без влияния на талантливого и честолюбивого юношу.
Правда, Эмпедокл не принял предложенного ему впоследствии
согражданами царского венца 3. Тем не менее, его всегдашнее
страстное желание властвовать над толпою, его торжественные выходы,
его широкая благотворительность, наконец, его деятельность, как
изобретательного инженера, задумавшего и исполнившего целый ряд
полезных сооружений, сильно напоминают блестящих,
предприимчивых и популярных властителей Сиракуз и Акраганта.
Hermippus ар. Diog.Laert. VIII, 56.
Aristoteles, Hieronymus, Neanthes ар. Diog. Laert. VIII, 58.
См. выше стр. 18.
44
ГЛАВА ПЯТАЯ
Зрелые годы Эмпедокла
1 еперь нам предстоит перейти от Эмпедокла-юноши к
Эмпедоклу-мужу, т.е. изложить историю зрелых лет мыслителя и
познакомиться с его личностью в ее высшем, всестороннем развитии.
Предварительно бросим беглый взгляд на внутреннее состояние
Сииилии на этот период.
'Мы видели, какими разнообразными и сложными средствами
вынуждены были поддерживать престиж своей власти сицилийские
тираны. Идея народовластия, нашедшая себе блестящее
осуществление в афинской республике, делала, особенно со времени
основания Делосского союза, быстрые успехи в греческом мире и
угрожала при первом благоприятном случае ниспровергнуть военные
монархии Гиерона и Ферона. Случай этот скоро представился. После
смерти Ферона, акрагантский престол перешел к его сыну Фра-
сидею, жестокому и неспособному деспоту. Вмешавшись в раздоры
между членами царствующего дома в Сиракузах, Фрасидей начал
войну с Гиероном, но в первой же решительной битве потерпел
сильное поражение. Тогда события быстро последовали одно за
другим. Акрагас и Гимера восстали против ненавистного тирана и,
изгнав его из страны, ввели у себя республиканское устройство. Их
пример повлиял на другие города, прежде всего на Сиракузы. Как
только умер Гиерон, там вспыхнула революция, приведшая к
кровопролитной междоусобной войне и окончившаяся повсеместным
введением на острове демократической формы правления.
Однако этот кровавый переворот далеко не умиротворил
Сицилии. За низвержением тиранов последовала трудная борьба с
их многочисленными наемными дружинами; за этой
борьбою—продолжительные споры и неурядицы по поводу изгнания призванных
тиранами чужестранцев и возвращения изгнанных ими граждан; за
этими неурядицами пришла новая гроза—восстание сицилийских
аборигенов под предводительством царя сикелов Дукетия. Если, в
дополнение ко всему этому, мы укажем на вооруженные
столкновения и усобицы, которыми сопровождались попытки влиятельных
лиц провозгласить тиранию (петализм!), на войну Сиракуз с
этрусками, а также неумолкавшую явную или глухую партийную вражду
в недрах самой победоносной, демократии, то получится довольно
точная картина политического и социального состояния Сицилии в
описываемую эпоху. Только с начала второй половины столетия бес-
45
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
конечные смуты стали прекращаться, страсти—утихать, и страна
вступила на путь мирного развития, по которому ей суждено было
идти до войны с Афинами.
Как же при таких условиях развивалась духовная жизнь
сицилийского общества? Мы знаем, что уже в эпоху тирании Сицилия
стала одним из важнейших очагов умственной жизни эллинского
мира и что в нее открылся доступ всевозможным культурным
течениям того времени. Но, как мы указали в своем месте, одним из
последствий тиранического режима было то, что фактически на
почве Сицилии могли приниматься и преуспевать почти
исключительно идеи патриотические, нравственно-религиозные и
эстетические, тогда как свободное научное исследование и критическое
беспристрастие мысли не находили подходящих условий для
плодотворного развития. С изменением форм общественного быта резко
изменились и духовные потребности. Великие политические события
и пышный расцвет поэзии и искусств, которыми ознаменовалась
предшествовавшая эпоха, давно уже привели умы в состояние
брожения. Поэтому, как только внешние препятствия были устранены,
сицилийцы с жадностью набросились на новые идеи и восприняли
их с обычной для себя быстротой и пламенным увлечением.
Отсюда получилось двоякое следствие. С одной стороны,
общественная мысль, провозгласив демократический принцип равенства в
области политики, ополчилась против веры в авторитет и в
теоретической области, приняв односторонне-рационалистическое,
рассудочное направление. С другой стороны, не привыкшие к
самостоятельному критическому мышлению массы, лишившись нравственной
и умственной поддержки, какою служили для них традиционные
верования, испытывали все муки духовного голода и готовы. были
окружить восторженным поклонением всякого, кто так или иначе
обещал заполнить эту невыносимую внутреннюю пустоту.
Подобные эпохи представляют широкий простор для деятельности всякого
рода чудотворцев, пророков, проповедников, руководителей умов и
совести и проч. Люди, утратив веру в небесных богов, тем с большей
страстью и легковерием ищут чудесного и сверхъестественного в на-
лично данной действительности и тем охотнее подчиняются влиянию
гениальных энтузиастов или просто даровитых честолюбцев,
которые по тем или иным причинам собирают вокруг себя толпу и затем
привораживают ее внимание своими увлекательными речами.
При таких обстоятельствах пришлось жить и действовать Эмпе-
доклу. Как же сложилась его жизнь, и на что направил он свою
деятельность?
Уже из всего сказанного нами до сих пор нетрудно заметить, что
Эмпедокл обладал многими данными, необходимыми для роли
народного учителя, способного увлекать за собою массы. Дальнейшие
46
/. Личность, Общий характер миросозерцания
обстоятельства как нельзя более благоприятствовали развитию этих
данных. Во время смут, последовавших в Акраганте за смертью Фе-
оона, особенно выдвинулся из среды граждан отец Эмпедокла,
Метон, заявивший себя одним из самых ярых врагов тирании. Его
влияние было настолько велико, что, пока он был жив, никто даже
не делал попыток к восстановлению тирании, хотя подобное
предприятие могло бы, по-видимому, рассчитывать на успех ввиду
несовершенства тогдашней демократии в Акраганте. Но как только Ме-
тона не стало, тирания снова подняла голову. Тогда-то и выступил
впервые на арену общественной деятельности Эмпедокл в качестве
горячего поборника гражданской свободы х. Он начал с того, что
изобличил и предал законной казни двух заговорщиков,
замышлявших овладеть верховной властью, а затем убедил сограждан
провести государственную реформу в демократическом духе до конца,
чтобы тем самым положить предел бесконечным усобицам и
политическим переворотам. Не ограничиваясь государственной
деятельностью, Эмпедокл и во многих других отношениях неизменно
выказывал себя искренним другом народа. Все это снискало ему
столь необычайную популярность, что акраганцы сами предложили
ему иарский венец, от которого он, однако, отказался 2.
Об его дальнейшей судьбе наши сведения крайне сбивчивы и
противоречивы. Достоверным можно считать только то, что
Эмпедокл приобрел себе за это время такую громкую и повсеместную
известность, какая выпадала на долю весьма немногих сынов
Эллады за все время существования этой последней. К своей славе
выдающегося политического деятеля, общественного благотворителя и
поэта, он прибавил теперь целый ряд новых лавров, сделавшись
одновременно философом, ученым, ритором, врачом, инженером,
чародеем, чудотворцем, словом, универсальным "всезнайкой ,
обладавшим всеми средствами к тому, чтобы стать кумиром
впечатлительной, утратившей непосредственность религиозного чувства и
в то же время крайне суеверной сицилийской толпы. Однако
несмотря на столь поразительный успех на родине, Эмпедокл, по наиболее
правдоподобным известиям 3, окончил свою жизнь на чужбине, в
Пелопоннесе.
В таком приблизительно виде предстает пред нами история
внешней деятельности мыслителя, если мы, отбросив
многочисленные легендарные подробности, какими, на основании стоустой
народной молвы, изукрасили его биографию позднейшие писатели, по-
1 Diog.Laert. VIII, 63 sqq., 72. — Zeller, Ph.d.Gr. I4, 679.— Holm, G. S. I,
256—257.
См. выше стр. 18.
Timaeus ар. Diog.Laert. 71 sq., 67.— Zeller, Ph.d.Gr. I4,680.
47
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
стараемся выделить из нее зерно исторической истины. Теперь мы
можем обратиться к рассмотрению внутренних мотивов указанной
деятельности, чтобы, по мере сил, пролить некоторый свет на эту
поразительную личность.
Итак, прежде всего, с какими идейными течениями приходилось
сталкиваться Эмпедоклу в эпоху демократии и какое влияние
оказали они на его духовный склад? О главнейших из этих течений мы
уже упоминали: это, во-первых, традиционное,
поэтически-религиозное мировоззрение, которое, несмотря на изменившийся дух
времени, должно было располагать наибольшим кругом сторонников,
особенно среди сельского населения; во-вторых, догматическое
интуитивно-метафизическое направление философской мысли,
колыбелью которого были греческие колонии в Малой Азии; в-
третьих, направление критическое, рассудочное, возникшее в форме
реакции против политеизма и послужившее началом трезвому
научному исследованию.
Традиционное миропонимание поддерживалось главным образом
деятельностью странствующих певцов, рапсодов-гомеридов и
находило свое внешнее выражение в национальном культе. Мы говорили
о том, каким великолепием обставлялся этот культ в
предшествовавшую эпоху, особенно после славной победы Сицилии над
Карфагеном. Не менее блестящими религиозными празднествами
завершилась и другая великая победа сицилийских эллинов — победа
над грозным внутренним врагом, над выродившейся в деспотизм
тиранией. В Сиракузах, в ознаменование этого радостного события,
была воздвигнута колоссальная статуя Зевса-Избавителя и был
установлен ежегодный "Праздник свободы", 'Ελευθέρια, во время
которого приносилась в жертву грандиозная гекатомба из 450 быков
и устраивались торжественные состязания х.
Высокая эстетика национального культа, вне всякого сомнения,
должна была сильно действовать на впечатлительное воображение
Эмпедокла. Правда, его нежная, воспитанная на пифагорейских
идеалах натура содрогалась при виде кровавых жертв; но эта
отталкивающая сторона компенсировалась для него неотразимым обаянием
поэзии Гомера, который продолжал оставаться библией народной
религии, и на внимательное изучение которого Эмпедоклом
указывают многочисленные подражания Илиаде и Одиссее в отдельных
выражениях и даже в целых оборотах Эмпедокловых поэм 2. Таким
образом, Эмпедокл, не разделяя наивных мифологических
верований, тем не менее до такой степени сроднился с поэтическими
представлениями политеизма, что никогда уже не мог совершенно
1 Holm, G.S.I, 250—251.
Ср. комментарии Diels'a.
48
/. Личность. Общий характер миросозерцания
отрешиться от их влияния и отнестись к ним с тем безусловным от
рицанием и осуждением, с каким выступили против них более
трезвые и односторонние умы.
Интуитивно-метафизическое направление предшествовавших
Эмпедоклу мыслителей-систематиков мы охарактеризовали в общих
чертах во второй главе. Важнейшими представителями этого
направления были: так называемые Милетская школа, пифагорейцы, Пар-
менид и Гераклит. Каждое из этих учений оставило более или менее
глубокий след в мышлении Эмпедокла, что и подало критике повод
считать его эклектиком, простым любителем и компилятором чужой
мудрости !. Вопрос о том, к какому из этих учений более всего
приближается учение Эмпедокла, поднимался неоднократно, и почти
всякий раз на него давались различные ответы: одни считают
Эмпедокла последователем пифагорейской философии, другие —элейс-
кой; иные сближают его воззрения преимущественно с
космологическими гипотезами древнейших Ионийиев; иные, по примеру
Платона 2, сопоставляют его прежде всего с Гераклитом 3. На наш
взгляд, Эмпедокл был чужд эклектизма, хотя в его миросозерцание
вошли многие черты из философии указанных мыслителей.
Всякий эклектизм необходимо предполагает два условия:
1) живую восприимчивость к чужим идеям, понятиям и
представлениям и 2) отсутствие или, по крайней мере, ограниченность личной
творческой способности. В Эмпедокле первое условие было налицо,
но второе, отрицательное условие отсутствовало совершенно:
Эмпедокл—автор оригинальнейшей философской системы, Эмпедокл—
сделавший ряд замечательных научных открытий, Эмпедокл —
изобретатель риторики, представляет столь яркий тип творческого
гения, что говорить об его эклектизме можно не с большим правом,
чем об эклектизме Платона или Аристотеля. Знакомясь с той или
иной философской системой, он воспринимал из нее то, что особенно
поражало его ум или воображение, но затем перерабатывал и
претворял воспринятые элементы мощью собственного философского
мышления и вводил их в свое мировоззрение уже как неотъемлемое
достояние своего духа.
Мы не намерены перечислять здесь точки соприкосновения
между философской системой Эмпедокла и учениями
вышепоименованных мыслителей, а укажем только на то общее впечатление, какое
должны были произвести на него эти учения. Их действие могло
быть в общем двояко. С одной стороны, постановка онтологической
проблемы и разнообразные попытки ее разрешения возбуждали лю-
См. выше стр. 15—16.
2 Soph. 242, D—Ε.
3 Ср. Zeller, Ph.d. Gr.I4, 742 ff.
4 4-141
49
Генрих Яку б анис, ЭМПЕДОКЛ
бознательность, вызывая философское "удивление", а гениальная
υβριζ первых мыслителей, проявлявшаяся в том, что они, обладая
ничтожным запасом фактических знаний, дерзали созидать
грандиозные космологические системы, невольно увлекала к
подражанию, зарождая в пытливом и склонном к теоретическому творчеству
уме желание постигнуть тайну бытия, найти истинную первооснову
всего сущего, изобразить мироздание и весь ход вселенской жизни
в единой художествен но-цельной картине. С другой стороны, самая
разноречивость ответов на один и тот же вопрос, односторонний
догматизм и обусловленное этим последним резко отрицательное
отношение друг к другу различных философских школ и их отдельных
представителей, естественно., приводили к скептической рефлексии и
оставляли чувство разочарования в познавательных способностях
человека вообще.
Однако одновременно с таким разочарованием усиливалось
стремление самостоятельно разобраться в этих сложных, полных
захватывающего интереса проблемах, трезво обсудить все pro и contra
каждого из предложенных решений и, наконец, по мере возможности,
проверить и обосновать априорные умозаключения на фактических
данных, добытых путем наблюдения над реальной
действительностью. И подобное стремление могло явиться у Эмпедокла тем легче,
что критическое направление мысли уже пустило в ту пору глубокие
корни и имело целый ряд видных представителей.
Родоначальниками их были философ-сатирик Ксенофан и комический поэт Эпи-
харм, которых мы встречали в числе лиц, вращавшихся при дворе
Гиерона.
Ксенофан может считаться первым серьезным представителем
критицизма и научного рационализма на греческой почве. Выступив
в роли беспощадного врага гомеро-гесиодовской мифологии, он
противопоставил политеизму национальной религии свой туманный
пантеизм или, точнее, монотеистический панкосмизм, а затем покинул
область чистого умозрения и обратился к естественнонаучным
исследованиям, стараясь обосновать свои натурфилософские
обобщения на добытых посредством самостоятельного наблюдения данных.
Несмотря на высокое мнение о своей "мудрости", которая, по его
гордому слову, "лучше силы мужей и коней", одержавших победу в
состязании х, и при всей резкости своих суждений Ксенофан чужд
безусловного догматизма и, в своих сетованиях на недостоверность и
ограниченность человеческого познания, напоминает иногда
скептиков. Однако, что он не терял веры в непрерывный прогресс знания,
на это указывают следующие замечательные слова, под которыми не
задумываясь мог бы подписаться любой современный нам ученый:
Diels fragm. 2.
50
/. Личность. Общий характер миросозерцания
Смертным узреть изначала всю истину не дали боги.
Нет, но со временем сами, ища, достигают познанья х.
Эпихарм продолжал разрушительную критику политеизма,
начатую Ксенофаном, и способствовал дальнейшему развитию
рассудочного направления эллинской мысли.
Мы уже указывали на то, что Эпихарм представлял талант в
высшей степени подвижный и разносторонний. Посвящая свои силы
главным образом поэзии, он был известен в то же время как широко
образованный мыслитель, изобретательный филолог, врач,
ветеринар, снотолкователь и проч.2 Обладая энциклопедическими
познаниями, Эпихарм не был, однако, ученым-теоретиком: его
"мудрость", в противоположность "мудрости" Ксенофана, носила
преимущественно практический, прикладной характер. Свои
философские воззрения он излагал в удобопонятной афористической форме.
Стиль его комедий отличался остроумными, бьющими на эффект,
риторическими фигурами. Словом, Эпихарм был из тех людей,
которые умеют показать товар лицом и навязать слушателю или
читателю ту или иную идею даже помимо его воли. Ему приписывают,
в числе многих других, следующее знаменитое изречение:
Трезвым будь и верь с разбором: в этом мудрости всей суть 3.
Эти слова, вместе с приведенным выше двустишием Ксенофана,
могут служить девизом всего рассматриваемого нами направления
мысли. Это уже — заря нового времени, переход от мифологии и
полупоэтической метафизики к науке.
И действительно, как мы отметили во второй главе, такой
переход не замедлил совершиться. После того как абстрактное
мышление в лице Парменида стало в явное противоречие с налично-данною
действительностью, философии не оставалось ничего другого, как
совершенно изменить точку отправления, перенеся ее из мистического
тумана космологических концепций в трезвую область наблюдения
над реальными фактами. Критицизм и рационализм широкой волной
разлились по греческому миру и заполонили все передовые умы.
При этом они распались на несколько течений, из которых
выделились в качестве основных следующие: 1) рационализм
объективный мыслителей-ученых, в роде Анаксагора и атомистов, и
2) субъективный рационализму нашедший свое выражение в
софистике. Первый вел свое начало главным образом от Ксенофана,
второй многими чертами напоминал Эпихарма. X этому последнему
Diels fragm. 18: ofrrot άπ% αρχής πάντα θεοί θνητοΐσ' υπέδειξαν ,
αλλά χρόνωι ζητοΰντες έφευρίσκουσιν αμεινον.
2 Holm, С. S.I, 237,423 ff.
Mullach ν. 255: .νάφε καΐ μέμνασ' άπιστεΐν άρθτα ταύτα τάν φρενών.
4*
51
Генрих Яку6анис. ЭМПЕДОКЛ
примыкало также и еще одно вновь народившееся явление
умственной жизни — риторика, которой, наряду с софистикой, суждено было
сыграть столь видную роль в культурной истории античного мира.
Перечисляя различные рационалистические течения, мы не
хотим тем самым сказать, будто Эмпедокл уже в начале своего
общественного и научного поприща находился под их прямым и
непосредственным воздействием. Подобное утверждение не имело бы под
собой исторической почвы, а в некоторых пунктах представляло бы
даже явный анахронизм. Так, на то или другое отношение Эмпедок-
ла к Анаксагору у нас нет вполне достоверных указаний х. Демокрит
гораздо моложе Эмпедокла 2, и, следовательно, из атомистов
Эмпедокл мог знать разве только одного Левкиппа; но, как мы уже
говорили раньше 3,' личность предполагаемого основателя атомизма
окружена таким непроницаемым мраком, что даже самый факт ее
исторического существования представляется спорным.
Деятельность софистов принадлежит своими главными моментами
позднейшему времени, а историю риторики древние начинали именно с
самого Эмпедокла 4.
Тем не менее у нас есть полное основание утверждать, что все
указанные выше идейные веяния в той или иной форме коснулись
Эмпедокла еще задолго до того времени, когда его миросозерцание
сложилось окончательно. Анаксагор — старший современник
Эмпедокла 5, а согласно одному, правда, сомнительному известию 6, и
учитель его. Левкипп (если допустить его существование) также
современник их обоих 7. То же самое сле/гует сказать и относительно
древнейших представителей софистики, Протагора 8 и Горгия 9. При
этом Протагор жил некоторое время в Сицилии, а Горгий сам был
сицилийцем по происхождению: родившись в Леонтинах, он
большую часть жизни провел на родном острове и, согласно
многочисленным свидетельствам 10, находился в самых близких личных
отношениях к Эмпедоклу. Насколько подходящую почву
представляла Сицилия для софистики, видно Также из того, что впоследствии
1 Cp.Zeller, Ph. d. Gr. I4, 745, 917 ff.
2 Ibidem. 762 f.
См. выше стр.24, примеч. 1.
Aristoteles ар. Diog. Laert. VIII, 57.
5 Aristot. Metaph. I, 3, 984a 11.
Aleidamas ap. Diog. Laert. VIII, 56.
7 Zeller, Ph. d. Gr. I4,?60.
8 Ibidem 943 f.
9 Ibidem 948 f.
10 §aiyms aP· Di°8- Laert' VIII> 38 *Я; QuintiüH, 1, 9 и др. Ср. Zeller, - Ph. d.
52
/. Личность. Общий характер миросозерцания
она дала греческому миру еще одного именитого софиста —
соотечественника Эмпедокла, акрагантинца Полоса !, и, кроме того, ей
же выпало на долю стать колыбелью риторики, этой родной сестры
софистики.
Первые более или менее заметные проблески риторики
замечаются, как уже было сказано, в комедиях Эпихарма. Но
самостоятельное значение искусство слова получило впервые благодаря
старшему современнику Эмпедокла, сиракузянину Кораксу 2, который не
только начал разработку теории политического и судебного
красноречия, но и с успехом применял свое искусство на практике, особенно во
время гражданских смут, последовавших за низвержением тиранов.
Ученик Коракса, Тизий 3, не удовольствовался деятельностью в
отчизне, но, совершив целый ряд путешествий, ознакомил с
риторикой и другие страны эллинского мира. Вскоре, в лице ученика
Эмпедокла, упомянутого выше софиста Торгия 4, риторика достигла
уже своего высшего развития, сделавшись самым распространенным
искусством из всех, какие только были известны древнему миру.
Таким образом, зародыши умственных течений, о которых идет
речь, несомненно, существовали раньше, нежели завершилось
духовное развитие Эмпедокла. Пусть новые идеи не получили еще ко
времени его философской ακμή сознательной логической
формулировки, пусть новые принципы не были еще определенным
образом установлены, но они уже носились в воздухе, общественная
атмосфера была насыщена ими, и, следовательно, такие люди, как
Эмпедокл, — живший в одном из важнейших культурных центров,
стоявший во главе тогдашнего просвещенного общества и в поисках
за истиной чутко прислушивавшийся ко всякому оригинальному
явлению в области чувства и мысли 5, — такие люди, естественно,
не могли не чувствовать приближения столь недалекого будущего.
В какой же мере был обвеян духом этого будущего Эмпедокл?
С этим вопросом мы приступаем к рассмотрению личности и
миросозерцания АкрагантскоТо мыслителя в их окончательном
развитии.
1 Zeller, Ph. d. Gr. I4, 959 f.
2 Holm, G. S. I, 255, 277 f., 434 f.
Ibidem.
4 Ibidem, 278 ff., 435 f. — Zeller, Ph. d. Gr. I4, 948 ff.
Вопрос о путешествиях Эмпедокла на Восток, кажется, нужно, вместе с
Zeller'oM (ibidem 745 ff.), решить в отрицательном смысле. Вероятно, известие,
передаваемое Плинием (Hist. Natur. XXX, 1, 9), возникло по аналогии с
рассказами о путешествиях Пифагора, Демокрита и др. Во всяком случае, деятельность
Эмпедокла можно истолковать и не сближая его с мудрецами Востока.
53
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Основные черты миросозерцания Эмпедокла
Наиболее правильная оценка человека должна состоять,
очевидно, в том, чтобы оценивать его с точки зрения его
собственных стремлений, тех конечных идеалов, какими он руководствуется
в своей деятельности. Какому богу мы служим, таковы мы и сами.
Счастливый случай дает нам возможность применить этот критерий
к Эмпедоклу, так как в дошедших до нас отрывках его поэм
сохранилось несколько ценных указаний на этот счет. Так, фрагмент
110 начинается следующими многоговорящими словами:
Если, в мои поученья уверовав сердцем, ты станешь
Чистою мыслию их созерцать с благосклонным вниманьем,
То несомненно они на всю жизнь тебе будут опорой,
Множество также других обретешь из них ирнных стяжаний
и т.д.
Таким образом, Эмпедокл не только ожидает от философии ответа
на запросы ума, но и ищет в ней общего руководства для жизни как
внутренней, так и внешней. Еще с большей очевидностью
обнаруживается это в 111 фрагменте, представляющем настоящий Exeg'i топи-
mentum философа-чудотворца. Его мудрость должна дать не простое
удовлетворение любознательности и не одно только объективное
знание ради знания, но также и превышающую силы обыкновенного
смертного власть над природой, т.е. в конечном результате — личное счастье.
В полном соответствии с этим находится изображение идеала
мудреца во фрагментах 129 и 132. Идеальный мыслитель Эмпедокла
"за десять или за двадцать людских поколений провидит"; он "без
труда созерцает все несчетные мира явленья"; он "мыслей
божественных ценным владеет богатством". Словом, это прежде всего ум
интуитивный, свободный от постоянной необходимости упорного
труда и кропотливого исследования, постигающий истину
гениальным прозрением, свыше дарованным наитием.
Обычная человеческая мудрость, несмотря на всю свою
кичливость, далека от осуществления подобного идеала. Отсюда
постоянные сетования Эмпедокла на ограниченность нашего познания, на
то, что люди постигают лишь "малый удел человеческой жизни
злосчастной" х, а не целое. Сам же он всеми силами стремится к
Фрагм. 2.
54
/. Личность» Общий характер миросозерцания
постижению именно этого целого. Правда, иногда, в горьком
сознании своей человеческой немощи, он как будто отказывается от
надежды познать истину во всей ее полноте.
Нет, не заставит меня обольщение чести и славы
В мире сем тленном,—смирения дерзко нарушив пределы
Речью греховною, к мудрости горним обителям вспрянуть х.
Однако эти самые слова доказывают, скорее, обратное, именно
что Эмпедокл был неравнодушен к "обольщению чести и славы" и
в глубине души верил в возможность достижения "мудрости горних
обителей". Пусть он жалуется на то, сколь "скудные средства
познания нашим дарованы членам" 2; пусть скорбит о том, что полная
истина "оку людскому не зрима..., ни уху не внятна, даже умом не
объемлема 3; пусть, наконец, он советует крайне осторожное
отношение к сбивчивым и противоречивым показаниям наших чувств 4.
Однако его естественный догматизм одерживает верх над
рекомендуемой им полускептической осмотрительностью: наставления своей
Музы он называет "правдивыми откровениями" 5, истинность своего
учения о стихиях сопоставляет с непреложностью "божественного
глагола" 6 и т.п.
Итак, для Эмпедокла конечная цель философской деятельности
заключается в том, чтобы: 1) обняв гениальною мыслью всю вообще
действительность как единое целое, постигнуть сокровенный смысл
мирового процесса во всей его полноте, 2) привести свою жизнь во
внутреннее согласие с построенным таким образом мировоззрением,
наконец, 3) извлечь из своих познаний внешнюю, осязательную пользу
как для себя лично, путем снискания себе "чести и славы", так и для
других, помогая им в борьбе с враждебной природой и избавляя их
от печальных последствий того неведения, на которое люди
обречены благодаря ограниченности и несовершенству своих
познавательных способностей. Иначе говоря, философия, по Эмпедоклу, должна
ответить на все запросы, привести к равномерному удовлетворению
всех стремлений человека; она должна воздействовать на все наше
существо, должна слиться в полную гармонию с жизнью. Словом,
философия для него неотделима от жизни, она есть сама жизнь, οδός
τις βίου 7 чуть ли не в большей степени, чем для самих пифагорейцев.
1 Фрагм. 4.
Фрагм. 2.
Фрагм. 2.
4 Фрагм. 4.
Фрагм. 5.
Фрагм. 23.
7 Piaton. De Rep. Χ, 600, Α.
55
Генрих Яку банис. ЭМПЕДОКЛ
Но мог ли Эмпедокл осуществить подобный идеал? Где было
искать вполне убедительного ответа на бесконечно разнообразные
запросы пытливого ума? В чем могла обрести "опору на всю жизнь"
его восприимчивая, увлекающаяся, вечно подвижная натура?
Вообще говоря, существовало три источника, в которых можно
было пытаться найти подобную опору. Это — 1) перечисленные
нами выше направления философской и религиозной мысли; 2)
общественная среда, жизнь в широком смысле; 3) собственный дух
мыслителя. Итак, прежде всего, могли ли дать ему такую опору
существовавшие в то время духовные течения? Очевидно, нет — и
именно потому, что, с одной стороны, эти течения были слишком
многочисленны, разнообразны и взаимно противоречивы, с другой
же — Эмпедокл от природы был слишком чуток и разносторонен
для того, чтобы беззаветно отдаться служению одной идее, при
наличности многих других, — слишком вдумчив и склонен к
рефлексии для того, чтобы бесповоротно и всем существом примкнуть к
тому или иному направлению из нескольких одновременно
существующих. Мы особенно подчеркиваем это соотношение между
духовным складом Эмпедокла и тогдашним умственным состоянием
Эллады, так как, на наш взгляд, в этом роковом соотношении и
заключалась одна из важнейших причин неудовлетворенности
Эмпедокла, внутренний трагизм его личности; там же следует искать
ключа к разгадке многих странностей и противоречий в его учении.
В самом деле, живи Эмпедокл в другое время, с более
определенными и устойчивыми идеалами, с более согласными
теоретическими и практическими стремлениями, или представляй он сам
более объективную, цельную и уравновешенную натуру, его
миросозерцание, несомненно, отличалось бы несравненно большей
последовательностью, получило бы ту внутреннюю стройность и
законченность, отсутствие которых придает ему столь своеобразный характер
и навлекает на мыслителя незаслуженный упрек в эклектизме. Но
переживая момент кризиса, перелома в духовном развитии
эллинского мира вообще и родной ему Сицилии в частности и будучи сам
во многих отношениях типичным представителем переходной эпохи,
ярким выразителем "безвременья', он и стал тем полумистиком,
полурационалистом, каким не без основания считает его современная
критика1 . Ему предстояло выбирать между старым догматическим
и наивно-поэтическим миропониманием и новым рассудочным
направлением; но он так и не решился на тот или иной выбор, а пошел
средним путем: его сердце осталось при старом, ум же обратился к
новому. Таким образом, Эмпедокл всю свою жизнь оставался как
бы современником двух смежных культурно-исторических эпох, на-
См. выше главу первую.
56
7. Личность. Общий характер миросозерцания
поминая в этом смысле двуликого римского Януса: один лик его был
постоянно обращен в туманную даль мистического прошлого, другой
— в трезвую область рационалистического будущего. И эти сторОг-
ны слились в нем до такой степени, что нет возможности отделить
одну от другой, не искажая тем самым их обеих. Истина научно-
философская столь же ценна и привлекательна для его ума, как
истина религиозная или даже просто поэтическая для его чувства.
Поэтому, где оказывается недостаточной одна, там выступает
другая: где нет места для отвлеченного понятия, там приходит на смену
интуитивная идея, художественная концепция или даже
обыкновенное представление, конкретный образ.
Таким образом, Эмпедокл не мог найти твердой опоры на всю
жизнь ни в научно-философских, ни в поэтически-религиозных
воззрениях своего времени. Еще менее могла ему дать в этом
отношении жизнь общественная. Правда, после великой победоносной
борьбы с Карфагеном он поддался общему тогда чувству воодушевления
и увлекся, как мы видели, политической и государственной
деятельностью, выступив в роли убежденного и энергичного борца за
свободу, за демократические идеалы. Однако это увлечение не было,
по-видимому, увлечением партийными интересами ради них самих.
Если Эмпедокл, по характеру своей личности, не мог быть
фанатическим приверженцем того или иного философского учения, то тем
более нельзя было ожидать от него беззаветной преданности какой-
либо одной политической партии. Поэтому скорее следует
допустить, что он примкнул к передовому лагерю не по
узкополитическому убеждению, а по общему сочувствию идее демократии, с ее сво:
бодой мысли и слова, с ее индивидуализмом, с ее уважением к
личному счастью. Не лишен в этом смысле значения также и тот факт,
что уже отец его, Метон, был, как мы знаем, убежденным демократом.
Во всяком случае, не подлежит сомнению, что наблюдение над
тогдашними политическими и социальными отношениями и участие
в общественной жизни Сицилии не могли оказать умиротворяющего
действия на душевное настроение Эмпедокла. Мы уже описывали
выше бесконечные внутренние неурядицы, беспрестанно
возникавшие на острове вслед за низвержением тирании. Слишком
верный символ хаотического состояния, в каком находилась в то время
родина Эмпедокла, мы находим на сиракузских монетах, где
тогдашнее народовластие аллегорически изображено в виде коня, бегущего
без узды 1. При таких условиях сохраненные преданием факты,
будто Эмпедокл лишился в конце концов популярности и был изгнан
или даже добровольно покинул родину, представляются вполне
См., например, изображение такой монеты у Holm'a, в приложении к
третьему тому его Gesch. Sic im Alt. (Lpz. 1898), табл. V, N6.
57
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
естественными. А что он и раньше, задолго до этих событий, не мог
находить удовлетворения в политической деятельности, это с полною
очевидностью вытекает из рассмотрения того, насколько созданный
им идеал человеческого общества 1 далек как по существу, так и по
форме от тогдашней сицилийской демократии.
Не встретив воплощения своего жизненного идеала во внешнем
мире — ни. в религии, ни в философии, ни в общественной среде, —
Эмпедокл стал искать его в мире внутреннем. Таким образом, он
обратился к третьему и последнему из указанных выше источников:
к недрам своего собственного духа. Однако он не сделался
мечтателем в настоящем смысле слова: точкой отправления для него служил
все же реальный, объективный мир в самом широком значении этого
понятия. Только Эмпедокл идеализировал его, раздвигая ерэ
пределы во времени и в пространстве и рассматривая его теперешнее
состояние лишь как мимолетное явление в бесконечном процессе
вселенской драмы. СловОхМ, Эмпедокл и здесь остался верен своему
характеру, универсальности своих интересов и стремлений: и здесь он
избрал средний путь между научным исследованием и поэтическим
творчеством, между систематической работой трезвого мышления и
игрою пылкого воображения.
Историческая действительность, в которой жил Эмпедокл, была
настолько подвижна и ярка, что он, естественно, не мог согласиться
с Парменидом, т.е. признать ее простым обманом чувств, а,
напротив, исходил в своих философских построениях именно из нее,
прямо перенеся в свою систему два важнейших агента этой
действительности — любовь и вражду: первая была редким явлением и
предпосылалась его сознанию в форме идеала, вторую он постоянно
видел вокруг себя. Подобное заключение от функций микрокосма к
функциям макрокосма, от физио- и психологии к космологии не
было новостью в греческой философии. Аюбовь как вселенский
фактор выступает уже у Гесиода 2, а затем, в образе мироправящей
богини, у Парменида 3. Сюда же, по-видимому, нужно отнести и
Гармонию пифагорейцев 4. Концепция Раздора, Вражды, как
принципа космогонического, ведет свое начало от Анаксимандра 3.
Но наиболее решительно должен был повлиять на Эмпедокла в этом
смысле Гераклит. Изречение Эфесского мыслителя: "Борьба есть
право мира, отец и царь всего" 6 — было полным выражением той
1 Фрагм. 128, 130.
2 Zeller. Ph. d. Gr. I4, 70 f.
3 Ibidem. 522 f.
t Ibidem. 328 f.
5 Burnet. 245.
6 Zeller, Ph. d. Gr. I4, 596 f.
58
/. Личность. Общий характер миросозерцания
политической и социальной розни, среди которой воспитался и
действовал Эмпедокл. А своеобразная концепция мирового потока
должна бьь\а еще более утвердить его в стремлении отдать себе отчет
в том, что такое эта вечно текучая, лишенная всякой устойчивости,
реальная действительность. Глядя на свою родину, раздираемую
постоянными смутами и борьбою партий, Эмпедокл скорбел духом и
мысленно созидал по контрасту с тем, что его окружало, идеал
блаженного существования: так, мало-помалу мир, в котором он жил,
стал рисоваться ему в образе царства дикой, безумной Вражды или
Ненависти, а сам он стал мечтать о том благословенном времени,
когда "повсюду любовь процветали и дружба" х.
И чем сильнее привязывался Эмпедокл к своему утопическому
идеалу, чем искреннее становилась его вера в существование
золотого века, тем чаще и неотвязнее должен был возникать пред ним
вопрос: откуда у него явилось знание обо всем этом, и почему таким
знанием не обладают все? В этой мысли уже скрывался зародыш
его будущего самообожествления. Скомбинировав вышеуказанные
соображения с хорошо знакомым ему, еще со времен детства,
орфико-пифагорейским учением о душепереселении, Эмпедокл
получил в основных чертах всю нравственно-религиозную часть своей
системы, с ее демонологией, метемпсихозом,
нравственно-обрядовыми предписаниями и т.п. При этом необходимо обратить внимание
на одну подробность в учении Эмпедокла о душепереселении.
Относящиеся сюда фрагменты 146—147 гласят следующее:
Так происходят из них {демонов, переживающих последние
стадии метемпсихоза) прорицатели, или поэты,
Или врачи, иль вожди — у людей, населяющих землю.
Те же к богам многочтимым возносятся в новом рожденьи.
Купно с другими бессмертными столь и очаг разделяя,
Скорбей не зная людских, не ведая смерти, ни боли...
Если мы припомним разностороннюю деятельность Эмпедокла, то
нам не может не броситься в глаза факт, что Эмпедокл сам в
действительности был одновременно всем тем, что обещает он
постепенно очищающимся демонам: он был и прорицателем, и поэтом, и врачом,
и вождем ( ττρόμος ), и еще многим другим вдобавок. Словом, ему
оставался только один шаг до блаженного сожительства с богами, и он
уже здесь, на земле, был почти богом. Таково, кажется, наиболее
естественное объяснение пресловутого аутоапофеоза Эмпедокла.
Раз ступив на этот путь, Эмпедокл пошел по нему дальше. Если он
переживает высшую на земле стадию душепереселения, если он —
1 Фрагм. 130.
59
Генрих Яку б анис. ЭМПЕДОКЛ
полубог, обладающий многими познаниями, недоступными
обыкновенным смертным, то, естественно, ему должна быть присуща и
большая сила, сверхчеловеческая власть над природой. Отсюда —
его чародейство и чудотворство, рассказами о которых так изобилует
его биография. Впрочем, к вере в чары Эмпедокл мог прийти и
другим путем, так как возможность волшебного воздействия логически
вытекает из основоположений его физического учения. Мы имеем в
виду: перенесение в космологию психологических факторов —
Любви и Ненависти; теорию четырех мирообразующих элементов,
входящих в различных пропорциях в состав всех вещей; и, наконец,
примыкающее к ней учение о притяжении подобного подобным.
Коль скоро все существующее в мире слагается из известного, строго
определенного числа стихий, и коль скоро взаимодействие между
этими стихиями, а следовательно, и между состоящими из них
вещами, определяется отношениями Любви и Ненависти,
притяжения и отталкивания, — то, очевидно, стоит только дойти до
определения состава данной вещи, чтобы получить возможность влиять
посредством нее на окружающую действительность непонятным и
таинственным для непосвященных способом. Благодаря всему
этому, Эмпедокл считался в древности одним из столпов магической
науки, причем особенно важную роль в последующей истории магии
сыгоало введенное им различение добрых и злых демонов.
Мистический взгляд на свое "я", как на существо высшего по-*
рядка, стоящее на рубеже земной действительности, на границе между
миром людей и богов, повлек за собою много и других следствий.
Так, в несомненной связи с ним стоит вся проповедническая и
пророческая деятельность Эмпедокла, его торжественный, полный
величавой риторики, жреческий тон, наконец, даже внешняя,
стихотворная форма, в которую он облекал свое учение. Правда, эта
последняя имеет свое основание также и в том, что Эмпедокл, как мы
неоднократно отмечали, был по природе склонен к поэтическому
творчеству. Однако при внимательном взгляде на дело, нетрудно
заметить, что стихотворная форма в данном случае находится в
полном соответствии с духом рассматриваемых произведений, с общими
целями и намерениями их автора. Эмпедокл, не будучи сам, в душе,
последовательным догматиком, пред лицом своих слушателей
является во всем величии обладателя истины. Он не столько рассуждает,
сколько вещает от лица вдохновившей его Музы; он редко прибегает
к доказательству, почти всегда имея в виду дать наставление.
Поэтому, кто хочет быть его последователем, тот должен принять его
учение в том виде, как оно есть, не внося в него ни малейших
изменений. А для такой цели наиболее пригодна именно стихотворная
форма, придающая каждой мысли характер незыблемого положения,
самостоятельного, замкнутого в себе афоризма.
60
/. Личность. Общий характер миросозерцания
В таком приблизительно виде представляется нам
генезис-догматической, мистической и нравственно-религиозной стороны в
мировоззрении и деятельности Эмпедокла. Параллельно и в тесной
связи с этим процессом шло развитие и тех сторон духа мыслителя,
которые заставляли его тяготеть к новому направлению, т.е. трезвого
логического мышления и научной любознательности. Таким
образом, рядом с Эмпедоклом-мистиком вырастал Эмпедокл-физиолог,
одновременно с фауматургией чародея-целителя и чудотворца
развертывалась деятельность ученого врача и инженера.
В своем физическом учении, как и во всем другом, Эмпедокл
обнаруживает наклонность к всеобъемлющему синтезу, к
соглашению разнородных понятий и представлений, к одновременному
признанию истинности за различными точками зрения. Укажем, для
примера, на его отношение к понятиям возникновения и прехож-
дения, движения и изменения, на его теорию четырех элементов, на
введение двух движущих сил — центростремительной и
центробежной, Любви и Ненависти, на учение о круговороте мировых
периодов и проч. и проч. Все эти воззрения представляют в большей или
меньшей степени синтез воззрений древнейших мыслителей: Фале-
са, Анаксимандра, Ферекида, Анаксимена, Пифагорейцев, Парме-
нида, Гераклита и др. Однако, строя свою космологическую и
физиологическую систему, Эмпедокл пользовался воззрениями своих
предшественников и собственными естественнонаучными
наблюдениями лишь в качестве материала. Высшими же, руководящими
принципами и здесь служили для него не постулаты теоретической
мысли, не рациональные, логические понятия, а те самые наглядные,
навеянные чувством, представления, интуитивные идеи, которые
нашли себе полное выражение в этической части его учения.
В этой особенности духовного склада и скрывается, как мы уже
имели случай указывать, источник многих странностей и
противоречий в системе Эмпедокла. Глубокомысленный взгляд Канта, что
теоретический разум человека подчинен практическому, всецело
применим к Акрагантскому мыслителю. Теоретический разум
Эмпедокла стремится вывести всякое бытие из простого соединения и
разделения четырех качественно-неизменных "корней всего сущего" *,
стихий, т.е. со строгою последовательностью построить чисто
механическое миропонимание. Но — является Syllogismus practicus,
умозаключение от инстинктивного стремления, безотчетного желания, — и
ясная, трезвая и сухая материалистическая система подергивается
мистическим туманом, приспособляясь не только к требованиям
анализирующего ума, но и к чаяниям сердца. Вследствие этого
мировоззрение Эмпедокла, как и все его существо, запечатлено свое-
Фрагм. 6.
61
Генрих Яку6анис. ЭМПЕДОКЛ
образным антитетикальным характером, проникнуто духом
постоянного внутреннего противоположения.
Так, рядом с многократными заявлениями о том, что все вообще
существующее состоит из материальных стихий и разлагается на них
без всякого остатка *, мы встречаемся с мистико-поэтическими
концепциями "великой клятвы" 2, "судьбы" 3, "святого, несказанного
духа" 4 и т.п. Говоря о "великой клятве" и "судьбе", Эмпедокл, по-
видимому, платит дань своему увлечению старым мифологическим
миропониманием; концепция же "святого, несказанного духа, от века
обегающего быстрыми мыслями вкруг мирозданье", очевидно,
навеяна монотеистическим умозрением Ксенофана 5. Восприняв
однажды эти идеи поэтическим чувством, Эмпедокл уже не мог
отрешиться от них и в области трезвой мысли.
Подобных примеров можно привести множество.
Зевс, как известно, считался у греков богом разумного устроения
мира, мудрым царем земли и неба. И однако люди золотого века не
знали его.
Вовсе не знали они ни Войны, ни Смятения битвы.
Зевса не знали царя, Посейдона не знали, ни Крона,
Но лишь Киприду царицу 6.
Иными словами, не в интеллектуальной деятельности, не в
разумности находили они свое блаженство, но в непосредственности чувства,
в любви. Таким образом, изображаемый здесь идеал счастия
эмоционально-эстетический, а не рационально-теоретический, что, однако,
не мешает Эмпедоклу томиться искренней жаждою знания и горько
сетовать на ограниченность познавательных способностей человека 7.
Сме'рть, согласно категорическому заявлению Эмпедокла, есть
не что иное, как расторжение частиц стихий, из которых состоит
живое существо.
В мире сем тленном
Нет никакого рожденья, как нет и губительной смерти:
Есть лишь смешенье одно с различением того, что смешалось.
Что и зовут неразумно рождением темные люди 8.
Фрагм. 21, 23 и др.
Фрагм. 30, 115.
Фрагм. 103, 115.
Фрагм. 134.
Diels fragm. 23 sqq.— Zeller, Ph. d. Gr. I4, 488 ff.
Фрагм. 128.
Фрагм. 2 и др.
Фрагм. 8.
62
/. Личность. Общий характер миросозерцания
Между тем, даже оставляя в. стороне мистическую доктрину ду-
шепереселения, мы встречаемся с указаниями на совершенно иное
воззрение на смерть в таких фрагментах, где Эмпедокл стоит, по-
видимому, всецело на почве своего физического учения. Так, во
фрагменте 15 мы читаем:
Мудрый муж никогда в своем сердце того не помыслит,
Будто жизни предел в том, что жизнью зовем мы, положен
Смертным добрым и злым; и что, прежде чем плоть
сотворилась,
Были все люди ничто, и в ничто они вновь разрешатся.
В означенных курсивом словах, несомненно, просвечивает
моральный постулат, чаяние загробного воздаяния по заслугам
каждого. Любопытны также в этом отношении заключительные слова
фрагмента 9:
Что бы за смесь ни явилась на свет: человек или птица,
Дикий ли зверь или куст, — все равно неразумные люди
То происшедшим зовут; когда ж разрешится на части
Тленная тварь, то губительной смертью они прозывают,
Древний обычай храня, и я сам ему следовать буду.
Традиционный взгляд на смерть — как на переход в неведомый,
таинственный мир — гораздо привлекательнее для поэтической
натуры Эмпедокла, чем его собственное физиологическое объяснение
смерти.
Жизнь представляется Эмпедоклу тяжким скитальчеством,
сплошною мукой, владычеством лютой Вражды г; более чистая
область бытия начинается лишь за луною 2; видимый же мир
"нечист" 3; подлунная — "дол безотрадный", полный всевозможных
ужасов и бедствий 4. И в то же время — какое глубокое чувство
природы обнаруживает он, напр., в 21 фрагменте:
Вот пред тобою горячее и лучезарное солнце,
Вот и бессмертная высь, сиянием дня залитая,
Вот и дождем нисходящая темная, хладная влага,
Вот и в земле сокровенное твердое мира начало
и проч.,
или с какою наглядностью, поэтической образностью и любовью
описывает он устройство глаза в 84 фрагменте!
1 Фрагм. 115.
2 Hippol. Refut. I, 4, 3.
Фрагм. 35.
4 Фрагм. 121.
63
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
Эмпедокл — полубог, которому открыта тайна мировой
загадки 1; его устами глаголет божественная Муза 2; он уверен в том, что
в его словах содержится истина:
Други, я знаю, что истину те заключают глаголы,
Ныне которые вам я поведаю
и т.д. 3
Несмотря на это, его посещает горькое раздумье, близко
напоминающее по мысли первый монолог гётевского Фауста:
Стоит ли мне говорить, как о деле великом и важном,
Если я смог превзойти удрученных напастями смертных? 4
И чем чаще являлось подобное раздумье, чем резче выступала
противоположность между мечтою и ее осуществлением, между
идеалом и действительностью, — тем сильнее становился разлад между
различными сторонами духа мыслителя, и тем грустнее звучала
пессимистическая струна в его мировоззрении. По свидетельству
Диогена Лаэрция 5, Эмпедокл неизменно сохранял угрюмый вид.
Аристотель 6 причисляет его к меланхоликам вместе с Платоном,
Сократом и другими. Существуют рассказы о самоубийстве Эмпедокла: по
одним, он бросился в кратер Этны 7, по другим — повесился 8.
После всего сказанного выше нам понятна причина его меланхолии.
Знаменательно при этом сопоставление Эмпедокла с Платоном и
Сократом. Смысл его, очевидно, тот, что Эмпедокл, подобно
Платону и Сократу, был склонен к рефлексии, .переживал постоянные
повороты духа на свои собственные состояния. Полную
противоположность ему в этом отношении представляли лица, подобные
Демокриту и Анаксагору. Это были объективные, прямолинейные,
цельные натуры; их духовный взор был обращен главным образом
ко-вне, а не во-внутрь. В полном соответствии с этим находится
предание о том, что Демокрит отличался редкой веселостью нрава 9; в
Анаксагоре же жажда знания настолько перевешивала все осталь-
1 Фрагм. 110, 111, 112.
2 Фрагм. 4, 5, 23, 131.
3 Фрагм. 114.
4 Фрагм. 113.
D VIII, 73.
6 РгоЫ. XXX, 1. 953* 26.
7 Hippobotus et Diodorus ар. Diog. Laert,VIII, 69 sq. — Horat. Art. Poet. 464
Demetrius ар. Diog. Laert. VIII, 74.
Horat. Epist. II, 1, 194 sqq. — Juvenal. Sat. Χ. 33 sqq. — Senec. De ira II,
10 — Hippol Refut. I, 12.
64
/. Личность. Общий характер миросозерцания
ные физические и духовные интересы, что умственная деятельность
доставляла ему, по-видимому, полное удовлетворение !. Поставив
своей жизненной задачей построение системы научного знания,
Анаксагор и Демокрит с каждым новым наблюдением, с каждым
теоретическим открытием приближались к своей цели. Напротив, в
полумистическое, полурационалистическое мировоззрение Эмпедок-
ла всякое научное завоевание вносило только новый диссонанс.
Что это было именно так, и что, при всей любознательности
Эмпедокла, чисто теоретические интересы не были в нем
преобладающими, — это видно хотя бы из следующего. Вынужденный под
конец жизни покинуть родину, Эмпедокл переселился в
Пелопоннес 2, а не в Афины, как то делали многие другие известные нам
мыслители Запада. Очевидно, Афины, с их тогдашним
направлением мысли и деятельности, были ему не по сердцу, несмотря на их
демократический строй, горячим сторонником которого Эмпедокл
был у себя на родине и при котором он мог блестящим образом
использовать свой риторический талант.
Любопытный pendant к этому мы находим в известии о том, что
трагик Эсхил неоднократно выезжал из Афин в Сицилию, пока,
наконец, не переселился в нее окончательно (459 г. до Р. Хр.) з. В
древности никак не могли понять причины его охлаждения к
умственной столице эллинского мира и терялись в догадках на этот
счет 4. Однако уже самая многочисленность догадок и
предположений указывает на то, что поиски производились не там, где бы
следовало: истинная причина не заключалась в случайном стечении
внешних обстоятельств, а лежала глубже. Для величавого трагика,
преисполненного духом глубокого благочестия и жившего всем своим
существом в поэтическом мире богов и героев, тогдашние Афины,
конечно, не представляли подходящего местопребывания. Правда,
четверть столетия спустя (434 —3 до Р. Хр·)5 Анаксагор был
изгнан из Афин за отрицание государственных богов, и еще в начале
IV века в тех же Афинах был казнен Сократ, обвиненный в
аналогичном преступлении. Но эти факты не только не опровергают
нашего предположения, а скорее подтверждают его. Если в Афинах
реакция в пользу старого мифологического миропонимания была
вынуждена прибегать к столь крутым мерам, то этим доказывается не
что иное, как именно широкое распространение новых идей.
1 Piaton. Hipp. Maj. 283, Α.—Diog. Laert. II, 6 sq. — Ср. Zeller, Ph. d. Gr.
И 870 f. — Tannery 275—276.
Timaeus ар Diog. Laert. VIII, 67, 71.
3 Holm, G. S. I, 231.
4 Ibidem, 230.
y Zeller, Ph. d Gr. I4, 688.
5 4-141
65
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
Описывая жизнь сицилийского общества в эпоху тирании, мы
имели случай говорить о возможности влияния Эсхила на Эмпедокла
и отмечали идейную близость между ними. Уже то обстоятельство,
что предание приписывает Эмпедоклу сочинение трагедий, а не
комедий, гимнов, а не сатир ], —характеризует направление мысли
Эмпедокла как такое, при котором он был более склонен увлекаться
Эсхилом и Пин даром, чем Эпихармом и Ксенофаном.
В свете этого соображения вышеприведенные факты — разрыв
'Эсхила с Афинами и переселение Эмпедокла в Пелопоннес —
получают для нас особый интерес. Если в молодые годы мистик-дорянин
и рационалист-ионянин были в Эмпедокле до известной степени
уравновешены (напомним, что население Сицилии было смешанное
и что Эмпедокл, будучи дорянином по происхождению, писал
языком ионийского эпоса), — то с течением времени, по мере того как
юношеская смелость мысли Эмпедокла ослабевала, а
развертывавшаяся вокруг него умственная жизнь уходила вперед, дорийский
консерватизм и мистицизм должны были все более и более
одерживать верх над ионийской пытливостью и трезвостью ума.
Словом, с годами Эмпедокл все решительнее и решительнее
отрывался от настоящего и будущего и все с большею тоскою обращался
к прошедшему.
ТЕ. Zeller представляет скептицизм и пессимизм Эмпедокла, как
логический вывод из основоположений его учения 2. На наш взгляд,
зависимость здесь прямо обратная: не потому Эмпедокл страдал
душою, что у него сложилось безотрадное мировоззрение, а как раз
наоборот — потому у него и сложилось такое мировоззрение, что
он, в силу различных, указанных выше, причин, не находил
удовлетворения в окружавшей его действительности. Мы нарочно
подчеркиваем это соображение ввиду важности его для понимания
некоторых основных пунктов в философской системе Эмпедокла.
Таковы, например, остающиеся до сих пор открытыми вопросы —
о золотом веке и о том, в котором из четырех или, вернее, из двух
мировых периодов мы живем: во втором или в четвертом (принимая
за первый, исходный период — состояние безразличия в лоне Сфе-
роса, а за третий — состояние полного разложения стихий под
владычеством Вражды). Здесь не место входить в подробное
обсуждение этих вопросов, и потому мы ограничимся лишь кратким
указанием на них.
Согласно наиболее распространенному толкованию 3, воззрение
Эмпедокла было таково, что мы переживаем четвертый мировой
Τ-*
См. выше стр. 43.
2 Ph. d. Gr. I4, 755 f. Cf. 728.
3 Zeller, Ph. d. Gr. I4, 710 f. и др. См. у Bumet'a 249117.
66
/. Личность. Общий характер миросозерцания
период, период возрастания силы Любви и ослабления деятельности
Ненависти, иначе говоря, период интеграционной эволюции. Между
тем, английский ученый Burnet х выступил с прямо
противоположным взглядом, доказывая рядом остроумных соображений, что, по
мысли Эмпедокла, наш период — второй, в котором Ненависть
постоянно одерживает верх над Любовью, словом, период эволюции
дезинтеграционной. Большое преимущество гипотезы Burnet'a
состоит, между прочим, в том, что в нее прекрасно укладывается
представление о золотом веке, тогда как, при первом толковании,
для него не находится в мировоззрении Эмпедокла никакого места,
и оно остается висеть в воздухе, как лишний и совершенно
непонятный придаток. Тем не менее вопрос, как сказано, остается спорным
до сих пор, главным образом, по недостатку положительных данных
в пользу того или иного решения. Между тем, если принять во
внимание сделанные выше замечания о причинах
неудовлетворенности Эмпедокла и о характере его мечтаний, — то всякое
затруднение исчезает, и вопрос решается без труда, и притом, можно смело
утверждать, бесповоротно в пользу интерпретации Barnet'a. Видя,
как социальная Ненависть разъедала его родину и как его
современники все более и более предавали забвению заветы старины, с ее
благочестием и патриархальными обычаями, — Эмпедокл,
естественно, переносил свой идеал блаженной жизни на земле не в
будущее, которое обещало быть чисто рационалистическим, но в далекое
прошлое, откуда шло дорогое ему старое миропонимание. Очевидно,
таким образом, что золотой век есть не что иное, как более древняя,
по сравнению с нашей, эпоха второго мирового периода: Ненависть,
правда, проникла уже в недра блаженного Сфероса и начала свою
разрушительную, с точки зрения единого бытия, и творческую, с
точки зрения органической жизни, работу; однако решительный
перевес продолжал пока оставаться на стороне ее соперницы, и
потому повсюду еще "любовь процветали и дружба".
Перенесясь мечтами в идеальную область минувшего, Эмпедокл
клеймит современную ему действительность столь резко
пессимистическими эпитетами, какие не встречаются ни у кого из его
предшественников 2. Земля —
дол безотрадный,
Где и Убийство, и Злоба, и сонмы всех Бед смертоносных,
Немощей, плоть изнуряющих, язв и бесплодных страданий,
Пагубы вкруг обегают обитель во мраке глубоком 3.
248 sqq.
2 Ср. Rohde 1781—179.
3 Фрагм. 121.
5*
67
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
Удел человека на земле — беспрерывная борьба и страдание:
Горе, о горе тебе, злополучный и жалкий род смертных:
Распрей и тяжких стенаний исполнен твой век с колыбели! λ
Люди, для поддержания жизни, пожирают друг друга, не
сознавая того, что делают:
Где же убийствам ужасным предел? Неужели беспечный
Ум ваш не видит того, что друг другу вы служите пищей? 2
Даже самое служение богам исполнено у них кровавого трагизма:
Милого сына схватив, изменившего образ, родитель
С жаркой молитвой ножом поражает, великий безумец!
Жертва с мольбою к стопам припадает, палач же, не внемля,
Пиршество гнусное в доме из чада родного готовит.
Так же бывает, что сын из родителя или же дети
Душу исторгнув из матери, плоть пожирают родную 3.
Это последнее обстоятельство должно было особенно удручающе
действовать на Эмпедокла: мы видели, что эстетика национального
культа была дорога его поэтической натуре; между тем и от
некоторых сторон этого культа веяло на него ужасом. Мы привыкли
смотреть на проповедь вегетарианизма как на разукрашенную
риторическим пафосом, сухую, отвлеченную идею. Но перенесемся на
минуту в чуткую душу воспитанного в пифагорейских традициях
мыслителя, взглянем на дело с его реальной психологической стороны,
— и мы поймем, что сетования Эмпедокла на жизнь — не
фальшивая слезливость моралиста, но искренний вопль наболевшей души.
Горе мне! если бы день роковой ниспослал мне кончину,
Прежде чем губы мои нечестивой коснулися пищи! 4
Сознавая себя "изгнанником богов и скитальцем, яростной
внявшим Вражде" 5, он восклицает:
Горе мне! чести какой и какого лишившись блаженства,
Свергнутый ныне на землю, средь смертных людей
обращаюсь! 6
Плакал я, горько рыдал, непривычную видя обитель! 7
Фрагм. 124.
Фрагм. 136.
Фрагм. 137.
Фрагм. 139.
Фрагм. 115.
Фрагм. 119.
Фрагм. 118.
68
/. Личность. Общий характер миросозерцания
При таком настроении вполне естественно чувство
сострадания к страждущему человечеству, к товарищам по "изгнанию
и скитальчеству". И действительно, у нас есть прямые указания на
альтруизм чувствований Эмпедокла. Так, описывая свои
странствования из города в город в роли телесного и душевного целителя,
он говорит:
Сонмами жен и мужей величаемый окрест 1рядущих,
В грады цветущие путь направляю; они же за мною
Следуют все, вопрошая, где к пользе стезя пролегает:
Те — прорицании желают, другие от разных недугов
Слово целебное слышать стремятся, ко мне обращаясь.
Подлинно тяжких страданий исполнена жизнь
злополучных! !
Этим состраданием и искренним доброжелательством по
отношению к окружающим объясняются, с одной стороны, широкая
благотворительность Эмпедокла, с другой — его необычайная
популярность. В самом деле, как ни велики были сила и искусство слова в
Эмпедокле, как ни поразительна его наружность, как ни
впечатлительна, как ни легкомысленна его аудитория — сицилийская толпа, —
все же трудно допустить, чтобы в основе его влияния на массы не
лежали более глубокие причины: до того беспримерно это влияние.
Довольно напомнить о предложении Эмпедоклу царского венца
гражданами 2, которые так недавно ликовали по случаю
низвержения тирании, или о том, что, по свидетельству Диогена Лаэрция 3,
"иконы" Эмпедокла обращались в народе еще в его время, т.е. в III
столетии после Р. Хр.! Чтобы снискать себе такую любовь и
оставить · после себя столь продолжительную память, очевидно,
нужно быть не ритором-шарлатаном и не "площадным крикуном" 4,
а чем-то, во всяком случае, большим. Подвижная, капризная,
увлекающаяся толпа легко попадается на удочку внешнего эффекта, но
зато легко с нее и срывается. Поэтому царить над ней в течение
длинного ряда лет одним обманом едва ли возможно.
Все то, что нам известно об общественной и благотворительной
деятельности Эмпедокла, вполне подтверждает такой взгляд.
Эмпедокл готов был всякому прийти на помощь, со всяким
поделиться своими знаниями, своим искусством, своим богатством.
Он оградил свой родной город от вредных ветров, за что был
прозван "Буреукротителем" — Κωλυσανέμας 5; спас жителей Се-
1 Фрагм. 112.
См. выше стр. 15—16.
3 VIII, 72.
Timon ар. Diog. Laert. VIII, 67: αγοραίων ληκητής έπέων.
69
Генрих Яку б анис. ЭМПЕДОКЛ
линунта от моровой язвы, предприняв на собственный счет сложные
инженерные работы х\ возвратил к жизни мнимоумершую 2; обуздал
с помощью музыки ярость бесноватого, готового совершить
убийство 3; выдавал замуж согражданок-бесприданниц, наделяя их
приданым из своих средств 4. Правда, он пользовался за это
всеобщим почетом и поклонением, принимая их с гордым сознанием
своих заслуг:
Бессмертному богу подобясь средь смертных,
Шествую к вам окруженный почетом, как то подобает,
В зелени свежих венков и в повязках златых утопая,
Сонмами жен и мужей величаемый окрест грядущих
и проч. 5
Явно, однако, что истолковывать столь разнообразную
деятельность из одного тщеславного желания популярности было бы,
ввиду всего вышеизложенного, ничем не оправдываемой
односторонностью как с логической, так и с этической точки зрения: не
следует предполагать низменные мотивы там, где все гораздо
проще и последовательнее объясняется из мотивов более
возвышенных.
Timaeus ар. Diog. Laert. VIII, 60. — Plutarch. De curios. 1 p. 515 С; Adv.
Colot. 32, 4 p. 1126 В. — Оценку этих двух версий,·из которых первая вводит в
рассказ элемент чудесного, а вторая дает естественное объяснение, см. у Zeller'a,
Ph.d. Gr. I4,681.
1 Diog. Laert. VIII, 70.
Heraclides ap. Diog. Laert. VIII, 61, 67.
3 Jamblich. V. Pyth. 113.
Diog. Laert. VIII, 73.
Фрагм. 112.
4
70
IgJELÖ^
II
СТИХОТВОРНЫЙ ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТОВ
А) Отрывки поэмы "О природе"
1. Ты же послушай, Павзаний, разумного сыне Анхита!
2. Скудные средства познания нашим дарованы членам,
Множество скверн и напастей смущает пытливые думы.
Малый узрев лишь удел человеческой жизни злосчастной,
Гибнут, как дыма струя, скоротечных людей поколенья,
Сердцем постигнув лишь то, что каждому путь преградило
В суетной жизни стезе; а всякий мнит целое ведать:
Оку людскому незримо оно, ни уху невнятно,
Даже умом необъемлемо. Ты же, столь жадный к Познанью,
Сведать готовься лишь то, что смертная мысль прозревает.
3. Неполный стих: см. прозаический перевод.
4. Но от глаголов моих отвратите безумцев гордыню,
Чистый источник из уст непорочных пролейте, о боги!
Ты же, молю, белорукая, многожеланная дева,
Муза, ко мне снизойди на послушной тебе колеснице,
Благоговейное слово неся кратко дневным созданьям.
Нет, не заставит меня обольщение чести и славы
В мире сем тленном, смирения дерзко нарушив пределы
Речью греховною, к мудрости горним обителям вспрянуть.
Нет, но исследовать должен ты всячески, где что открыто,
Зрению вовсе не более веры давая, чем слуху,
Ни громогласному слуху не больше, чем ясному слову;
Ни остальных твоих членов, где только путь есть Познанью,
Веры твоей не лишай, а исследуй, где что открыто.
71
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
5. Свойственно людям негодным сильнейшему слову не верить.
Ты же, как то велят откровенья правдивые Музы,
В сердце своем различи слово истины, правду чтоб сведать.
6. Выслушай прежде всего, что четыре есть корня вселенной:
Зевс лучезарный, и животворящая Гера, и Гадес,
Также, слезами текущая в смертных источниках, Нестис.
7. Неполный стих.
8. Но и другое тебе я поведаю: в мире сем тленном
Нет никакого рожденья, как нет и губительной смерти:
Есть лишь смешенье одно с различеньем того, что смешалось,
Что и зовут неразумно рождением темные люди.
9. Что бы за смесь ни явилась на свет: — человек или птица,
Дикий ли зверь или куст, — все равно неразумные люди
То происшедшим зовут; когда ж разрешится на части
Тленная тварь, то губительной смертью они прозывают,
Древний обычай храня, и я сам ему следовать буду.
10. Неполный стих.
11. Глупые! как близорука их мысль, коль они полагают,
Будто, действительно, раньше не бывшее может возникнуть,
Иль умереть и разрушиться может совсем то, что было.
12. Ибо из вовсе не бывшего сущее стать неспособно;
Также и сущее чтобы прешло, — ни на деле, ни в мысли
Вещь невозможная: ибо оно устоит против силы.
13. Нет во вселенной нигде ни излишка, ни места пустого.
14. Нет во вселенной нигде пустоты: и откуда ей взяться?
15. Мудрый муж Никогда в своем сердце того не помыслит,
Будто жизни предел в том, что жизнью зовем мы, положен
Смертным добрым и злым; и что, прежде чем плоть сотворилась,
Были все люди — ничто, и в ничто они вновь разрешатся.
16. Ибо как были они искони, так и будут — две вместе:
Думаю, их несказанное время вовек не лишится.
17. Речь моя будет двоякая: ибо — то в множества недрах
Крепнет единство, то множество вновь прорастает в единстве.
72
IL Стихотворный перевод фрагментов
Тленного также двояко рожденье, двояка и гибель:
Эту рождает и губит всеобщий порыв к единенью.
То же, разладом питаясь, в нем вскоре конец свой находит.
Сей беспрерывный обмен никак прекратиться не в силах:
То, Любовью влекомое, сходится все воедино,
То Враждой ненавистной вновь гонится врозь друг от друга.
Так, поскольку единство рождается без перерыва
В множества недрах, а множество вновь прорастает
в единстве, —
Вечно они возникают, и нет у них стойкого века.
Но, поскольку обмен сей никак прекратиться не в силах,
Вечно постольку они существуют в недвижимом круге.
Выслушай слово мое: возращает учение разум.
Как я и раньше сказал, поясняя предел рассужденья,
Речь моя будет двоякая: ибо — то в множества недрах
Крепнет единство, то множество вновь прорастает в единстве,
Огнь, и вода, и земля, и воздуха высь без предела,
Вне их Вражда смертоносная, всем равновесная порознь,
В них же Любовь, в ширину и в длину одинокая всюду.
К ней ты умом возносись, покидая очей ослепленье.
Смертные членам своим врожденной ее почитают,
В ней дружелюбия, подвигов дружных находят источник,
Радостью и Афродитой богиней ее величая.
Но ни один смертный муж не познал, что она обегает
Недра стихий; ты же выслушай речи нелживой теченье.
Все они равны и все одинаково древнего рода,
Всякой, однако ж, иное дано назначенье и всякой
Свойство иное: господствуют вечно они по порядку.
К ним ничто не прибавится, в них ничто не иссякнет:
Если бы гибли они беспрерывно, их ныне 6 не стало.
Что и откуда тогда бы вселенную снова воздвигло?
Где ж и погибнуть бы им, если места от них нет пустого?
Так, все те же они; проницая, однако, друг друга,
В образах разных являются, теми же все оставаясь.
18. 19. Неполные стихи.
20. Ясно то можно узреть в совокупности чле-нов телесных:
То, Любовью влекомые, сходятся все воедино
Органы бренного тела, в расцвете жизненной силы;
То, напротив, Раздором разъятые злым, каждый порознь
В шумном прибое житейского моря у брега блуждают.
Так у растений бывает, у рыб, населяющих воду,
Так и у горных зверей и у птиц, сих ладей окрыленных.
73
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
21. Но на свидетельства прежних речей обрати свои взоры,
Не было ль там уклонений от мысли, положенной нами.
Вот пред тобою горячее и лучезарное солнце,
Вот и бессмертная высь, сиянием дня залитая,
Вот и дождем нисходящая, темная, хладная влага,
Вот и в земле сокровенное твердое мира начало.
Все во Вражде разновидны и гонятся врозь друг от друга,
Но в Любви сочетаются, страстью пылая взаимной.
Ибо из них все, что было, что есть и все то, что будет:
В них прозябли деревья, из них стали мужи и жены,
Дикие звери, и птицы, и в море живущие рыбы,
Также и боги из них, многочтимые, долгие днями.
Ибо все те же они, проницая однако друг друга,
В видах различных являются: столько их смесь изменяет.
22. Все они: — солнце, земля, необъятное небо и море, —
Все стремятся равно к единению всеми частями,
Сколько бы их ни отпрянуло в тленных вещей зарожденьи.
Так равно и все те, что более склонны к смешенью,
Страстью взаимной пылают, по воле самой Афродиты.
Те же, что сильно враждебны, взаимно с собой разногласят
Свойствами, способом смеси и формы своей отпечатком:
Купно сойтись неспособны они и всецело покорны
Лютым веленьям Вражды, что такую дала им природу.
23. Как живописцы, глубоким умом изучивши искусство,
Дар многоцветный бессмертным богам принести собираясь,
Краски различные в руки берут и потом, соразмерно
Смешивать их начиная — одних и других понемногу,
Образы схожие всяких предметов из них производят:
То вырастают деревья, то мужи выходят и жены,
Дикие звери, и птицы, и "в море живущие рыбы,
Даже и боги, почетом отличные, долгие днями; —
Так да ума твоего не коснется обман заблужденья,
Будто иной есть источник безмерно-великой вселенной,
Но убедись, что он в них, божественным внявши глаголам.
24.25. Неполные стихи.
26. Властвуют поочередно они во вращении круга,
Слабнут и вновь возрастают, черед роковой соблюдая.
Ибо все те же они, проницая однако друг друга,
Образ людей и животных различных пород принимают.
То, Любовью влекомые, сходятся в стройный порядок,
74
IL Стихотворный перевод фрагментов
То Враждой ненавистной вновь гонятся врозь друг от друга,
Чтобы в единое целое снова затем погрузиться.
Так, поскольку единство рождается без перерыва
В множества недрах, а множество вновь прорастает в единстве, —
Вечно они возникают, и нет у них стойкого века.
Но, поскольку обмен сей никак прекратиться не в силах, —
Вечно постольку они существуют в недвижимом круге.
27. Там ни быстрых лучей Гелиоса узреть невозможно,
Ни косматой груди земли не увидишь, ни моря:
Так, под плотным покровом Гармонии, там утвердился
Шару подобный, окружным покоем гордящийся Сферос.
28. Равный то был отовсюду и всяких лишенный пределов,
Шару подобный, окружным покоем гордящийся Сферос.
29. Нет ни рук у него, что как ветви из плеч вырастают,
Нет ни быстрых колен, ни ступней, ни частей детородных:
Равный себе самому отовсюду был шар или Сферос.
30. Но как скоро Вражда возросла и окрепла средь членов,
К почестям вспрянув высоким, когда совершилося время,
Клятвой великою им предреченное порознь обеим...
31. Дрогнули члены у бога один за другим по порядку.
32. Неполный стих.
33. Как смоковничный сок молоко заставляет сседаться...
34. Неполный стих.
35. Но, обратившися вспять, пойду по пути песнопений
Раньше избранному мной, из глагола глагол извлекая.
После того как Вражда в глубочайшие недра пучины
Путь свой направила, в центре же вихря Любовь воцарилась,
Все они {т.е. стихии) там воедино сливаются, мало-помалу
С разных сторон собираясь; из смеси же их происходят
Все бесконечные сонмы подверженных тлену созданий.
Часть их (т.е. стихий) однако большая, черед соблюдая с другими,
Смеси бежит, одержимая окрест лежащей Враждою.
Ибо она не вполне отступила ко внешним пределам
Круга, но частью осталась и частью лишь вышла из членов.
Сколь постоянно она ко-вне удалялась, настолько
75
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
Кроткий, бессмертный порыв неповинной Любви приближался.
Прежде нетленное в образах тленных тогда появилось,
Жизненный путь изменивши, из чистого ставши нечистым.
Так из смешенья стихий бесконечные сонмы созданий
В образах многоразличных и дивных на вид происходят.
36. К крайним пределам Вражда отступала при их единеньи.
37. Тело земли из земли, из эфира эфир вырастает.
38. Скажем о первых и равных по древности мира основах,
В коих возникло все то, что ныне мы зрим во вселенной:
Бурное море, земля, бременеющий влагою воздух,
Также эфирный Титан, облекающий вкруг мирозданье.
39. Если земли глубина и эфир беспредельно велики,
Как то гласят празднословные многих людей утвержденья,
Малый узревших удел из всего, что открыто Познанью...
40. С кротким ликом луна и стрелами разящее солнце...
41. Солнце, собравшися в диск, обтекает великое небо.
42. —\j и —KJ {J —KJ {J лучи у него затмевает,
Прямо под ним протекая, и тень полагая на землю
Тех же размеров, какие луне светлоокой присущи.
43. Солнечный свет, отражаясь в широкой луне круговидной...
44. Солнце бестрепетным ликом к Олимпу свой свет отражает.
45. Чуждый свет круговидный вокруг обтекает всю землю.
46. Втулка так в колеснице вращается, столб огибая...
47. В лик священный владыки глядит предлежащий пред нею...
48. Ночь же земля производит, лучи преграждая собою.
49. Неполный стих.
50. С моря приносит Ирида дождь проливной или ветер.
51. 52. Неполные стихи.
76
IL Стихотворный перевод фрагментов
53. Двигался именно так он в то время, но часто иначе...
54. Длинными в землю корнями, внедрившись, эфир проникает.
55. Неполный стих.
56. Быстрыми солнца лучами стесненная соль отвердела.
57. Выросло много голов, затылка лишенных и шеи,
Голые руки блуждали, не знавшие плеч, одиноко
Очи скитались по свету без лбов, им ныне присущих.
58. Неполный стих.
59. Но как скоро тесней божество с божеством сочеталось,
Купно тогда одинокие члены сошлись, как попало,
Множество также других прирождалося к ним беспрерывно.
60. Неполный стих.
61. Множество стало рождаться двуликих существ и двугрудых,
Твари бычачьей породы с лицом человека являлись,
Люди с бычачьими лбами, создания смешанных полов:
Женской природы мужчины, с бесплодными членами твари.
62. Выслушай ныне о том, как огонь, выделяясь, ко свету
Вывел в ночи сокровенные отпрыски многострадальных
Мужей и жен; ибо речь та не будет пуста, ни бесцельна.
Нельноприродные чада земли выникали сначала,
Равный удел получившие воздуха теплого с влагой.
Огнь их выталкивал вверх, сочетаться желая с подобным,
Вовсе еще не имевших ни стройной гармонии тела,
Ни человеческой речи, ни мужам присущего члена.
63. Надвое членов природа разорвана: часть из мужчины...
64. Брачные узы чрез очи связующий следует Пофос...
65. В чистое место вливается: с холодом там повстречавшись,
В образе жен выникает ^j —\j kj —kj kj —KJ
66. Неполный стих.
67. В более теплых частях самец зарождается в чреве:
Вот почему все мужчины смуглее и мужеством краше
И волосатее жен u U —U U —<J U —U
77
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
68. Невозможно дать точный и хоть сколько-нибудь сносный
перевод в пределах одного стиха. См. передачу прозой.
Лучшее, что могу предложить:
В месяц восьмой в день десятый сок появляется белый.
69.70. Неполные стихи.
71. Если вера твоя ненадежна в мои поученья,
Как из смешенья воды, и земли, и эфира, и солнца
Образы все и цвета преходящих возникли созданий, —
Все, сколько б ныне на свет их ни вышло из рук Афродиты...
72. Как деревья огромные вышли, как рыбы морские...
73. Землю Киприда дождем оросив и согревши дыханьем
Теплым, огню предала закалить ее пламенем быстрым.
74. Рыб обильно-семянных ведя неразумное племя...
75. Внутренность тела плотна, но рыхлы наружные части:
Свойство такое они получили из дланей Киприды.
76. Так то бывает у тварей морских, скорлупой отягченных, —
У черепах, у улиток, закованных в каменный панцирь:
Там ты увидишь повсюду над кожей лежащую землю.
77. Неполный стих.
78. —u и —KJ U —U U —U U — сообразно
С воздухом, круглый весь год процветают плодов изобильем.
79. Маслина прежде всех прочих деревьев плоды порождает.
80. Позднего сбора гранаты и яблоки с сочным наливом...
81. В кору проникнув извне, вином бродит в дереве влага.
82. Волосы, листья и перья густые у птиц и на рыбах
Плотный покров чешуи — из одной происходят основы.
83. Спину ежей покрывает колючая грива щетиной.
84. Как путешественник, в бурную ночь собираясь в дорогу,
В ярко горящем огне очага зажигает светильник,
78
//. Стихотворный перевод фрагментов
Пламя от ветра порывов вокруг фонарем ограждая:
Тщетно бушующих ветров дыхание окрест ярится,
Свет же, поскольку он тоньше, наружу проходит, лучами
Яркими путь от порога вперед освещать начиная; —
Так и огонь изначальный, — что в глаза покровах и тканях
Тонких, искусно насквозь пробуравленных в виде воронок
Замкнут, — за круглым зрачком с той поры стал скрываться.
Ткани удерживать стали наплыв обтекающей влаги,
Доступ огню открывая наружу, поскольку он тоньше.
85. Кроткое пламя в глазу с частичкой земли сочеталось.
86. Отдыха чуждые очи из них создала Афродита.
87. Крепкими узами страсти снабдившая их Афродита...
88. Неполный стих.
89. Знай: из всего, что родилось, тончайшие токи исходят.
90. Сладкое к сладкому, горькое к горькому стало стремиться,
Кислое с кислым сошлось, теплота с теплотой сочеталась.
91. Смесь охотно с вином образует вода, но не с маслом.
92. Неполный стих.
93. Оставляю без стихотворного перевода ввиду
сомнительности текста и самого смысла этого фрагмента.
См. прозаический перевод.
94. Мрак, покрывающий дно у реки и царящий под сводом
Гротов пещерообразных, всегда происходит от тени.
95. Купно срастаться глаза под дланями стали Киприды.
96. Но земля преблагая в своих мощногрудых горнилах
Два из уделов восьми получила от светлой Нестиды,
Дважды же два от Гефеста; из них стали белые кости,
Связями дивной Гармонии купно с собой сочетавшись.
97. Неполный стих.
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
98. После того как земля в совершенную гавань Киприды
Якорь забросила, — равными там сочеталась частями
С светлым эфиром, Гефестом и влагой, дождем нисходящей,
Разве лишь малой частицей то больше, то меньше бывая.
Смесь же их кровь породила и прочие виды все плоти.
99. Неполный стих.
100. Вот как дыхание тварей живых происходит: из плоти
Трубки, лишенные крови, к поверхности тела проходят,
В устьях которых наружные кожи покровы сквозными
Мелкими щелями густо усеяны, так что для крови
Доступа нет, но эфир проникает легко чрез отверстья:
Всякий раз как оттуда нежная кровь отливает,
Бурной волною эфир устремляется внутрь с клокотаньем;
Но лишь только она возвратится, он вновь вылетает.
Так водяными часами из меди блестящей играет
Девочка; ибо когда, все отверстие трубки зажавши
Ручкой изящною, в мягкую массу воды серебристой
Их погружает, то влага в сосуд не проходит, давленьем
Воздуха сжатого там у отверстий теснимая частых.
Но лишь только сгущенному воздуху доступ откроет,
Тотчас давление слабнет, и влага в сосуд проникает.
Точно так же, когда весь сосуд наполняет водою
Девочка, ручкой своею зажавши отверстие трубки, —
Внутрь устремляясь извне, эфир оттесняет к проходу
Узкому, глухо-шумящему влагу, сам верх занимая.
Но, с удаленьем руки, обратное прежнему зрится:
Воздух во-внутрь устремляется, влага же прочь вытекает.
Так, — всякий раз, когда нежная кровь, разлитая по членам,
Вспять обращаясь, во-внутрь отливает, — теченье эфира
Тотчас же, бурной волною вздымаясь, ей вслед проникает;
Но, с возвращеньем ее, он вновь вылетает обратно.
101. Пес, чутьем находя частицы животного тела,
Те, что на пастбище сочном от ног остаются у дичи...
102. Так у всего, что живет, обоняние есть и дыханье.
103. Воля Судьбы такова, что присуща всем тварям разумность.
104. И поскольку тончайшие тельца столкнулись в паденьи...
80
//. Стихотворный перевод фрагментов
105. В бурных волнах обегающей крови питается сердце;
В нем же находится то, что зовем мы так часто мышленьем:
Мысль человека есть кровь та, что сердце вокруг омывает.
106. Разум растет у людей в соответствии с мира познаньем.
107. Ибо из них все, что есть, сочеталося в стройный порядок,
Ими же думают люди и чувствуют радость и скорби.
108. За день поскольку свою изменяют все люди природу,
Ночью постольку различные грезы их ум посещают.
109. Землю землею мы зрим и воду мы видим водою,
Дивным эфиром эфир, огнем же огонь беспощадный,
Также любовью любовь и вражду ядовитой враждою.
110. Если, в мои поученья уверовав сердцем, ты станешь
Чистою мыслию их созерцать с благосклонным вниманьем,
То несомненно они на всю жизнь тебе будут опорой,
Множество также других обретешь из них ценных стяжаний;
Ибо они вытекают одно из другого согласно
С качеством каждого. Если же будешь стремиться к иному,
В чем бесконечных скорбей и душевного мрака источник, —
Скоро покинут тебя мимолетные эти стяжанья,
К милому лону природы родной возвратиться желая.
Ибо знай, что во всем есть разумности доля и мысли.
111. Зелья узнаешь, какими недуги и дряхлость врачуют;
Только тебе одному я открыть это все собираюсь.
Ветров, незнающих отдыха, ярость удерживать будешь,
Что, устремляясь на землю, порывами пажити губят;
Если ж захочешь, — обратное вновь их воздвигнешь дыханье.
Мрачного после ненастья доставишь желанное вёдро,
В летнюю ж засуху зелень питающий вызовешь ливень:
Хлынет потоками влага с эфирного неба на землю.
Даже усопшего мужа вернешь из чертогов Аида.
6 4-141
81
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
В) Отрывки из "Очищений"
112. Други! о вы, что на склонах златого холма Акраганта
Град обитаете верхний, ревнители добрых деяний,
Злу непричастные, гостю почтенному кров и защита, —
Ныне привет вам! Бессмертному богу подобясь средь смертных,
Шествую к вам, окруженный почетом, как то подобает,
В зелени свежих венков и в повязках златых утопая.
Сонмами жен и мужей величаемый окрест грядущих,
В грады цветущие путь направляю; они же за мною
Следуют все вопрошая, где к пользе стезя пролегает:
Те прорицаний желают, другие от разных недугов
Слово целебное слышать стремятся, ко мне обращаясь.
Подлинно тяжких страданий исполнена жизнь злополучных!
ИЗ. Стоит ли мне говорить, как о деле великом и важном,
Если я смог превзойти удрученных напастями смертных?
114. Други! я знаю, что истину те заключают глаголы,
Ныне которые вам я поведаю; тягостно все же
Людям внедрение веры в их ум, подозрения полный.
115. Вещее слово Судьбы существует, издревле богами
Вечный закон установлен, скрепленный великою клятвой:
Если из демонов кто, долговечною жизнью живущих,
Члены свои обагрит нечестиво кровавым убийством,
Или же, грех совершив, поклянется преступною клятвой, —
Тридцать тысяч времен вдали от блаженных скитаться
Тот осужден, воплощаясь в различные тленные твари,
Тяжкие жизни пути изменяя в своих превращеньях:
Ярость эфира в пучину морскую его увлекает,
Море на землю извергнуть стремится, земля же в сиянье
Яркого солнца, а солнце в эфирные вихри бросает.
Все принимают его, но гнушаются грешником страшным!
Ныне и сам я таков: изгнанник богов и скиталец,
Яростной внявший Вражде \j \j —\j kj —\J \J —vj ·
116. Неполный стих.
117. Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то,
Был и кустом, был и птицей и рыбой морской, бессловесной.
82
77. Стихотворный перевод фрагментов
118. Плакал я, горько рыдал, непривычную видя обитель!
119. Горе мне! чести какой и какого лишившись блаженства,
Свергнутый ныне на землю, средь смертных людей обращаюсь!
120. Неполный стих.
121. —U U —KJ U —U U —U U дол безотрадный,
Где и Убийство, и Злоба, и сонмы всех Бед смертоносных,
Немощей, плоть изнуряющих, язв и бесплодных страданий,
Пагубы вкруг обегают обитель во мраке глубоком.
122. Там находились: Земля и высокого Солнца богиня,
Также кровавый Раздор и Гармония с ликом степенным,
С ними Краса, Безобразие, Медленность и Торопливость,
Милая Ясность и Сбивчивость, с взором угрюмым и мрачным.
123. Смерть и Рожденье, крепительный Сон и от сна Пробужденье,
Мертвый Покой и Движенье, Величие пышное, Низость,
Также Молчанье и Глас знаменательный —UU —^J ·
124. Горе, о горе тебе, злополучный и жалкий род смертных:
Распрей и тяжких стенаний исполнен твой век с колыбели!
125. Стала живых в мертвецов обращать, изменяя их образ...
126. Чуждой одеждою плоти их дух облачая, природа...
127. В диких зверей воплощаяся, львов обитающих горы
Образ приемлют и лавров — среди лепокудрых деревьев...
128. Вовсе не знали они ни Войны, ни Смятения битвы,
Зевса не знали паря, Посейдона не знали, ни Крона,
Но лишь Кцприду царицу.
Милость ее обретали смиренных даров приношеньем,
Дивных картин живописных,священных елеев душистых,
Жертвами чистого мира и ладана благоуханьем,
Бурого меда на землю из сотов струи проливая.
Но обагрять алтари непорочною кровью животных,
Душу из них исторгать, пожирать благородные члены, —
Все это гнусным грехом почиталось у них справедливо.
129. Жил среди них некий муж, умудренный безмерным познаньем,
Подлинно мыслей высоких владевший сокровищем ценным,
6*
83
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
В разных искусствах премудрых свой ум глубоко изощривший.
Ибо как скоро всю силу ума напрягал он к Познанью,
То без труда созерцал все несчетные мира явленья,
За десять или за двадцать людских поколений провидя.
130. Кроткими были все твари и к людям легко приручались
Звери и птицы; повсюду любовь процветала и дружба.
131. Если людей кратко дневных воспеть, о бессмертная Муза,
Было угодно тебе, снизойдя до моих начинаний, —
Ныне я снова молю, о блаженных богах собираясь
Слово благое изречь: осени мою мысль, Каллиона!
132. Счастлив, кто мыслей божественных ценным владеет богатством,
Жалок, кто о богах лишь понятием смутным доволен.
133. Нет, божество недоступно ни зрению нашего ока,
Ни осязанию рук, а ведь в них пролегает наилучший
Путь для внедрения веры в сердца недоверчивых смертных.
134. Нет у него головы человекообразной, что члены
Смертных венчает, ни рук, что как ветви из плеч вырастают,
Нет ни быстрых колен, ни ступней, ни частей волосатых:
Дух лишь один существует святой, несказанный, от века
Мыслями быстрыми вкруг обегающий все мирозданье.
135. Этот всеобщий закон простирается без перерыва,
Весь обнимая эфир и безмерного света сиянье.
136. Где же убийствам ужасным предел? Неужел'и беспечный
Ум ваш не видит того, что друг другу вы служите пищей?
137. Милого сына схватив, изменившего образ, родитель
С жаркой молитвой ножом поражает, великий безумец!
Жертва с мольбою к стопам припадает, палач же, не внемля,
Пиршество гнусное в доме из чада родного готовит.
Также бывает, что сын из родителя или же дети,
Душу исторгнув из матери, плоть пожирают родную.
138. Неполный стих.
139. Горе мне! если бы день роковой ниспослал мне кончину,
Прежде чем губы мои нечестивой коснулися пищи!
84
//. Стихотворный перевод фрагментов
140. Прочь удаляйтесь от Фебовых листьев зеленого лавра!
141. О злополучные! бойтесь к бобам прикасаться руками!
142. В крытых чертогах эгидодержавного Зевса не будет
Жизни блаженной вкушать KJ KJ —KJ ^J —KJ KJ —^J ·
143. В крепкую медь от пяти почерпая источников воду...
144. Неполный стих.
145. Ибо доколе средь тяжких пороков мятетесь безумно,
Душу от скорбей жестоких никак облегчить вы не в силах.
146. Так происходят из них прорицатели, или поэты,
Или врачи, иль вожди — у людей, населяющих землю.
Те же к богам многочтимым возносятся в новом рожденьи.
147. Купно с другими бессмертными стол и очаг разделяя,
Скорбей не зная людских, не ведая смерти, ни боли...
148. 149, 150, 151, 152, 153, 153а Неполн ые стихи.
С) Отрывок сомнительной подлинности
154
Правильно стало к закату клониться и снова обратный
Путь совершать круговой, увенчав его пышно дарами
Года цветущих Времен; а земля бушевала без меры...
Генрих Яку б анис. ЭМПЕДОКЛ
D) Стихи, ложно приписываемые Эмпедоклу
155. О Телавг, Пифагора прославленный сын и Феаны!
156. Сына Анхита,'врача по прозванью Павзания, рода
Асклепиадова ветвь, Гела на свет родила.
Многих мужей, удрученных недугами тяжкими, к жизни
Он возвратил: оскудел мрачный Аида чертог.
157. Славного Акра врача, сына Акра, Акрагантинца,
В славной отчизне курган славный покоит навек.
158. 159. Неполные стихи.
jgjgTcjlgjgjcjgf^^
ПРОЗАИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТОВ.
КОММЕНТАРИИ
Счет фрагментов — по изданию D(ielsa).
В прямых скобках указаны соответствующие стихи по
изданиям /Rarsten'а) и ^(ein'a), нумерация которых принята в
издании Fairbanks'a и Miullach'a).
Цифра с буквой />(agin'a) указывает на страницу, если
фрагмент не включен издателем в стихотворный текст.
Цифрами на полях отмечается каждый пятый стих в более
длинных фрагментах.
А) Отрывки поэмы "О природе"
Д.1. [К. 54, St. 1, Μ. 58].
Ты же, Павзаний, сын умудренного опытом Анхита,
послушай!
2. [К. 32 — 40, St. 2 — 10, Μ. 36 — 44].
Ибо ограниченные способности разлиты по членам (нашею
организма), и множество скверн 1 поражает и притупляет (наши)
думы 2. Рассмотрев (лишь) малую часть жалкого 3 (человеческою)
существования, кратковечные (люди) исчезают, рассеявшись
подобно дыму, уверовав только в то, на что каждый наткнулся, метаясь 5
туда и сюда; а между тем всякий кичится постичь целое 4. Таким
образом, оно ни зримо для людей, ни слышимо, ни умопостижимо 5.
Итак ты, желавший столь страстно (этою познания) 6, узнаешь не
более, чем (сколько) прозревает смертная мысль.
1. Рук. δειλ' и δειν'. Более вероятно первое, вносящее
моралистический оттенок. Ср. Bergk 1.1. pp.21 — Z2: "... δεινά —
поп recte, neque enim de periculis, quae vitae immineant, agitur, sed de
pravitate, quae insit in animis hominum, quae quasi piaculum quoddam
inhaereseat rebus humanis". Впрочем, впоследствии В. (ibid. p. 65)
отказался от этого написания в пользу αδηλ', на мой взгляд,
неосновательно.
87
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
2. Μέριμνα здесь=любоэнательная мысль, дума, раздумье:
отсюда глагол μεριμνάω περί т™од=исследую. Ср. фрагм. 11, ст.1:
δολιχόφρονες... μέριμναι.
3. Рук. ζωήσι βίου. Коньектура Scalige г* а — ζωής άβίον
(=άβιώτον=недостойного названия жизни) неосновательно
отвергнута Diels'oM, который пишет ζωής ίδίον, что, очевидно, слабее в
поэтическом отношении и дальше от рукописного предания.
4. Т.е. всю полноту бытия, сущность вселенной.
5. В буквальном значении этого слова: νόωι περιληπτά.
6. Έπείώδ 'έλιάσθης — нахожу возможным принять
несколько смелую, но несомненно дающую наилучший смысл
интерпретацию Bergk'a, р. 23: "... поп significat... devertere, venire in aliquem
locum, sed est quando ita concupivisti, ita postulavisti, nam λιάζεσθαι
quod est apud Homerum declinare de via, apud eos, qui post secuti sunt,
poetas significat festinare, properare, petere... Sic Empedocles ipse dixit...
(Diels фрсгм. 100, ст. 18)... Αίθήρ έκτοςεσωλελιημένοςδμβρονέρύκει,
quod cave ad verbum λιλαίω referas lam pronum fuit dicere έπ. ώδ' έλ.,
quandoquidem ita studuisti, petivisti"* — Догадка Rohde II, 1852,
будто всю эту тираду произносят "душеводительные сильГ
(см.фрагм. 120, прим.1), и что, стало быть, έπ. ώδ'. έλ. значит: "da
au hiener — auf die Erdeverschlagen bist", — весьма остроумна сама
x.^ -*Se, но должна быть отвергнута, как ничем не доказуемая.
3. [К. — , St. — , Μ. — ].
...Скрыть в глубине немого, как рыба ^ сердца.
1. "Ελλοπος: έλλωψ=έλλός; о ελλωψ=ό ιχθύς.
4. [К. 41 — 53, St. И — 23, Μ. 45 — 57].
Но (вы)у боги, отвратите от моего языка их 1 безумие и
пролейте из благочестивых уст чистый источник! А тебя, многосватан-
ная 2, белолокотная дева — Муза, умоляю, поспеши на послушной
тебе колеснице 3 и ниспошли от имени Благочестия 4 то, что не грешно
слышать кратко дневным существам. А меня 5 уж цветы славы и чести
со стороны смертных не заставят протянуть за ними руку 6, под
условием — дерзко поведать более, чем дозволяет благочестие, и тогда
только вознестись к вершинам мудрости 7. — Так исследуй же всеми
средствами, где что ясно 8, и нисколько не более доверяй своему зрению,
чем слуху, ни громогласному слуху не более отчетливых
свидетельств языка 9 и {вообще) не лишай веры ни один из остальных
органов, где только есть путь к познанию, а замечай, где что ясно 10.
88
///. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
1. Των μεν — по дополнению Diels,a=Tcov πλέον έπαγγελ-
λομένων γιγνώσκειν. Имеются в виду, вероятно, догматики-элеаты,
особенно Парменид.
2. Πολυμνήστη. Ср. Bergk 1. 1. р. 23: "Musa Ή\ vocatur поп...
quasi proprio nomine, ducto ab adiectivo Ττολύμνηστος, sed quasi virgo,
quam multi expetunt proci, quae multorum viget laude, uti est apud Ho-
merum".
3. Поэтическое обозначение поэмы.
4. Т.е. дабы внушенное тобою можно было поведать людям,
не погрешая против Благочестия.
5. Με — конъектура Stein'a, вм. принятого Diels'oM рук.
чтения: σε, т.е. Музу, что, очевидно, дает худший смысл: поэт ставит
на вид свое собственное смирение, а не смирение Музы, которую,
естественно, нельзя заподозрить в тщеславных стремлениях.
6. Соб.: взять от смертных.
7. Далее поэт обращается к одному из лиц, которым
посвящена поэма, вероятно, к Павзанию, и, уже как бы от лица
вдохновившей его Музы, призывает его к благоговейному исследованию.
8. Т.е. открыто для человеческого познания.
9.*Υπέρ τρανωματα γλώσσης. Многие (напр^., Karsten,
Schneider: см. у Mullach'a comment, in h. v., у Burnet'a p. 21934), в том
числе и Diels, видят здесь указание на вкусовые ощущения; этот
последний переводит: "...hoher als die deutlichen Wahrnehmungen des
Gaumens". Нельзя не согласиться, что такое толкование упрощает
внешний смысл контекста; тем не менее выбор выражений (особенно
τρανωματα), очевидно, говорит против подобной интерпретации. —
На мой взгляд, философ хочет сказать следующее: не доверяй
зрительным ощущениям больше, чем слуховым, но, с другой
стороны, и слуху не отдавай предпочтения пред другими чувствами, а
полагайся на него лишь постольку, поскольку его показания
совпадают с тем, что действительно было сказано в ясных и раздельных
(τρανωματα) выражениях.
10. Принимаю всецело текст Diels'a (νοήσαι, γυι'ων... —
запятая), т.к. текст Mullach'a (...νοήσαι* γυιων... — точка с запятой) дает
совершенно превратный смысл, прямо противоречащий стиху 9: ...
ίχθρει πάσηι παλάμηι. Явно, что философ здесь вовсе не отрицает
значения чувственного познания, а лишь советует проверять
чувственные показания одно другим: — зрение слухом и проч. — и из
сопоставления их заключать, "где что ясно".
89
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
5. [К. 84 — 86, St. 55 — 57, Μ. 105 — 107].
Но негодным {людям) весьма свойственно не доверять
преодолевающим (их доказательствам) ^ Ты же, как то велят
правдивые откровения, исходящие от нашей Музы, познай, различив в
душе слово истины.
1. Т.е. не соглашаться с их идейными противниками, хотя бы
эти последние и были несомненно правы. — Интерпретация Bergk'a
(р. 36: "...pravos solere potentibus, hoc est diis refragari \..) тоже
вполне возможна, т.к. хорошо гармонирует со следующими двумя
стихами, где упоминается Муза, как одна из этих κρατέοντες, т.е. —
ниспосылающих избранным людям откровение — богов.
6. [К. 55 — 57, St. 33 — 35, Μ. 159 — 161, cf. 59].
Так прежде всего узнай, что четыре корня всего
существующего: блистающий Зевс и жизнедательная Гера, а также Аидоней и
Нестис, которая слезами орошает смертный источник 1 .
1. Т.е. слезы которой служат источником, откуда смертные
получают потребную для них влагу.
7. [К. — , St. — , Μ. — ].
Непроизводные (стихии) 1...
1. Άγένητα — соб.: не возникшие, или — άγέννητα = не
рожденные.
8. [К. 77 — 80, St. 36 — 39, Μ. 98 — 101].
Но скажу тебе другое: из всего тленного ни у чего нет ни
рождения, ни какого-либо предела губительной смерти, но есть лишь
смешение и различение 1 смешанного, у людей же (оно) называется
рождением.
1. Διάλλοξις значит именно "различение", "размещение", а не
"разделение", как обыкновенно переводят. Этот оттенок очень
характерен: он прямо указывает на процесс, которым Вражда выводит
стихии из смешанного состояния безразличия.
9. [К. 342 — 346, St. 40 — 44, Μ. 108 — 112].
Они !, — какая бы смесь (стихий) ни вышла на свет
эфира 2, в образе ли человека, или на подобие породы диких зверей, или
растений, или птиц, — утверждают в таком случае, что все это 3
возникло (из ничего); когда же (эта смесь) разрешится (на со-
90
HL Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
ставные части), то, напротив, зовут это, согласно освященному
давностию речению 4, злосчастною смертью, и я сам (для удобства)
следую (установившемуся) обычаю.
1. Т.е. люди.
2. Стих — безнадежно испорченный временем и невежеством
византийских интерполяторов. Из всех многочисленных коньектур
наиболее удовлетворительна в грамматическом и логическом
отношениях коньектура Mullach'a, по которой и сделан перевод; Οι δ'ό ,
τικεν κατά φώτα μιγέν φάος αιθέροςϊκη κτλ. — Слабость ее с внешней
т.зр. (в смысле соответствия рукописному преданию) в данном
случае не имеет большого значения: грубая порча текста дает право на
решительные меры к его восстановлению.
3. Τότε μεν τάδε φασί — коньектура Xylander'a у Diels'a.
4. Рук. дают бессмыслицу. "Η θέμις εστί — наиболее близкая
коньектура Stein'a, принятая Burnet'oM ("as is the custom") и
Fairbanks'oM ("this is the established practice ).
10. [K. — , St. — , M. - ].
Мстительную 1 смерть...
1. Άλοίτην — соб.=эолическая форма άλείτης, что значит:
злодей, преступник: но Diels сближает эту форму с женской формой
άλοΐτις=мстительница и переводит: sceleris vindex.
11. [К.347 — 349, St.45 — 47, М.113 — 115].
Неразумные! Как 1 близорука у них мысль, раз они в самом
деле предполагают возникновение не существовавшего раньше или
умирание и полное уничтожение чего-либо (существующего).
1. Γάρ — дает здесь именно такой смысл.
12. [К.81 — 83, St.48 — 50, М.102 — 104].
Потому что из вовсе не существовавшего невозможно
возникнуть (ничему существующему), а также недостижимо и
невероятно полное уничтожение существующего; ибо оно 1 всегда
останется невредимым 2, какую бы силу и в течение какого бы времени
к нему ни прилагать 3.
1. Существующее, т. е. стихии.
2. Рук. θήσεσθαι, — Mullach περιέσται — логически наиболее
состоятельная коньектура: "...id agit Empedocles..., ut demonstret,
91
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
omnino illud (ens) futurum esse semperque victurum, quocunque propel-
latur. Sola igitur im mortalitas hie speetanda".
3. Co6.: куда бы кто его всегда ни толкал.
13. [К.63, St.91, М.166].
И нет нигде во вселенной ни пустоты, ни переполнения.
14. [К. — , St. — , Μ. — ].
Но во вселенной нет пустоты; да и откуда взяться чему-либо
(подобному)?
ΝΒ.ΊΠο замечанию Diels'a, этот стих, обыкновенно, считается
ошибочно составленным из половин двух других стихов:
предыдущего и фрагм. 17, ст.32. — Однако сходство между ними далеко не
полное.
15. [К. 350 — 353, St. 51 — 54, Μ. 116 — 119].
Не может мудрый человек предполагать в своем уме ничего
подобного, будто, пока смертные живут, — что они, действительно,
и называют жизнью, — до тех только пор они и существуют и
находятся в обладании зла и добра, но что до создания и после
разрушения (организма) они представляют из себя полное 1 ничто.
1. "Ар'.
16. [К. — , St.llO — 111, М.145 — 146].
Потому что, как раньше они были, так и будут (после), да и
никогда, думаю я, неизрекаемо — великое время не лишится их
обеих !.
1. Речь идет, конечно, о Любви и Вражде.
17. [К. 88 — 123, St. 61 — 95, Μ. 62·— 97].
Двоякое поведаю. Ибо то из многого срастается единство ^
то, наоборот, из единого прорастает 2 многое. Двояко также
возникновение тленных созданий, двояко и прехождение 3: это
последнее (т.е. прехождение) всеобщим соединением и порождается 4
5 и уничтожается 5, а первое (т.е. возникновение), будучи вызвано к
жизни 6 благодаря (всеобщему) прорастанию (из недр
безразличного Сфероса), снова 7 исчезает (под постепенно
возрастающим воздействием разлагающей Вражды) 8. И этот
беспрерывный переход (стихий из одного состояния в другое) никогда 9 не
прекращается: то силою Аюбви сходятся все они воедино, то, наобо-
92
HL Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
рот, ненавистью Вражды несутся врозь друг от друга. Таким
образом, поскольку единое неизменно 10 рождается из многого, а из про- 10
растания единого снова выделяется многое, постольку они (т.е.
стихии) возникают, и век у них нестойкий Л. Но поскольку
беспрерывный переход из одного состояния в другое никогда не
прекращается, постольку они существуют всегда в неизменном круге 12. —
Внимай же моим глаголам: ведь учение, суди сам 13, возращает 15
разум. Итак, как я раньше сказал, указывая пределы 14 своего
повествования, двоякое поведаю. Ибо то из многого срастается единство,
то, наоборот, из единого прорастает многое: огонь, и вода, и земля,
и неизмеримая высь воздуха, вне их губительная Вражда,
уравновешивающая каждую из них 15, а среди них Аюбовь, равная в длину 20
и ширину 16. Ее ты созерцай умом, а не сиди в ослеплении. Она-то
считается врожденною смертным членам, благодаря ей у них (т.е.
у людей) являются дружелюбные помыслы, и совершают они
дружные дела, прозывая ее Гефозиной (радостию), а также Афродитой
(наслаждением). Ни один смертный человек не познал, что она рас- 25
пространяется среди стихий 17; ты же внемли нелживому течению
моей речи. Все они (т.е. стихии) равны и одновременны по
происхождению 18, но одна выполняет одно назначение, другая —
другое, и каждая обладает особым свойством 19, и поочередно
господствуют они в круговращении времени 20. Ведь к ним ничто не 30
прирождается и ничто (из них) не прекращает существования 21, так
как, если бы они беспрерывно уничтожались, то их бы уже более не
было, да кроме того 22 какая и откуда взявшаяся сила возрастила бы
(оскудевшую) вселенную? Итак, они остаются теми же самыми, но,
проницая друг друга, в одном месте становятся одной вещью, в дру- 35
гом — другой 23, оставаясь вечно подобными (сами себе, т.е.
тождественными).
1. Наиболее точная по смыслу передача: εν ηόξήθη μόνον είναι
— одно понятие = усиливается (т.е. переходит в дальнейший,
высший фазис развития) так, что образует единое. Это простое
описание для концепции единства.
2. Διέφυ — здесь именно взять образ прорастания: под
воздействием Вражды как из земли прорастают растения и животные,
так и из единства Сфероса прорастает, дифференцируется,
выделяется множество. Процесс и там и здесь один и тот же.
3. Άττόλειψις — соб.: отшествие, оставление поста. —
Следуют два труднейших стиха, различными толкователями понимаемые
оазлично. Bumet и Tannery передают их лишь по общему смыслу.
Mullach, Diels и Fairbanks толкуют связь мыслей каждый по-своему,
причем, однако, толкование Diels'a слишком неуверенно: την μεν и ή
δε он относит безразлично или к νένεσις или к άττόλειψις, но так, что
93
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
одновременно в обеих частях противоположения подразумевает
только одно из этих понятий: или V· или άττ. :"...τήν μεν et ή δε valent
de γενέσει, at valent etiam mutatis mutandis de απολείψει, ergo alterum
sufficit". — Толкования Mullach'a и Fairbanks^ внешним образом
прямо противоположны: λ/1, την μεν относит κ γ., а ή δε κ άττ., F.
— наоборот. — Самой естественной логически и правильной
грамматически следует, за исключением некоторых частностей, признать
передачу Fairbanks'a: "Twofold is the coming into being, twofold the
passing away, of perishable things; for the latter (i.e. passing away) the
combining of all things both begets and destroys, and the former (i.e.
coming into being), which was nurtured again out of parts that were being
separated, is itselr scattered".
4. Поскольку соединение есть путь к безразличию в лоне
Сфероса.
5. Поскольку соединение в начале процесса есть путь к
образованию индивидуумов из хаотического разложения стихий
Враждою.
6. Θρεφθεΐσα, вм. рук. θρφθεΐσα, необходимая поправка,
предложенная Panzerbieter'oM — соб.: будучи возращено, воспитано.
7. Πάλιν, отступая от Fairbanks'а, отношу к διέπτη.
8. Итак поэт рисует в нескольких словах картину
последовательной смены четырех периодов:
a) Порождение прехождения всеобщим соединением^заклю-
чительные моменты IV периода. Конечный момент=Сферос=1 период.
b) Уничтожение прехождения (точнее, состояния разложения)
тем же всеобщим соединением—начальные моменты IV периода.
Исходный момент=царство Вражды=Ш период.
c) Порождение возникновения Враждою из недр
безразличного Сфероса= начальные моменты И периода. Исходный мо-
мент=Сферос=1 период.
d) Уничтожение возникновения преобладанием разлагающей
Вражды = заключительные моменты II периода. Конечный момент =
царство Вражды=Ш период.
9. Ούδαμά — соб.: никоим образом не.
10. Μεμάθηκε.
11. Т.е. существование их не беспрерывно, не вечно.
12. Соб.: ...неподвижном в его целом, т.е. в самом себе замк-
94
HL Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
нутом. Принимаю поправку Bergka р. 3: άκίνητον вм. ακίνητοι,
которая, будучи весьма вероятной по внешним условиям (разница лишь в
одной букве), дает лучший смысл грамматически: διαλλάσσοντα ...
ακίνητοι Diels'a требует некоторой натяжки в толковании.
13. Toi.
14. Т.е. план.
15. Άτάλαντον έκάστιυ — по коньектуре Panzerbieter'a —
соб.: равновесная каждой из них. Рук.: άτ. άπάντηι (Sext. Emp. adv.
Mathen. IX, 10. Χ, 317) и άτ. εκαστον (Simplic. Phys. 157, 25).
Независимо от того, принять ли, вместе с Diels'oM, текст Секста
(άτ. άπ.-повсюду уравновешивающая их, т.е. перечисленные выше
стихии), или, вместе с другими толкователями (Mullach, Burnet,
Fairbanks), исправленный Panzerbieter'oM текст Симплиция, — смысл,
на мой взгляд, получается один и тот же: Вражда, разделив стихии
на четыре группы, удерживает их в равновесии, не давая им
возможности смешаться между собою, к чему, собственно, и стремится
противоположная ей сила Аюбви, которая, пользуясь различием в
весе стихий, выводит их из состояния равновесия и обращает в
безразличный Сферос.
16. Т.е. имеющая длину, равную ширине, равная по всем
направлениям или, иными словами, представляющая из себя шар и
потому всегда стремящаяся придать разъединенным Враждою на
группы стихиям форму шара. Вот, думается мне, самое естественное
объяснение этих versus vexatissimi: ϊση μήκος τε πλάτος τε= простое
описание понятия "сферический".
17. Μετά τοΐσιν — ср. ст. 20: έν τοΐσιν.
18. Γένναν — т.е. одинаково вечны.
19. τΗθος — соб.: характером, нравом. Ср. Mullach comment,
in. h. v.
20. При интерпретации этого стиха невольно возникает
предположение, что здесь речь идет не о стихиях, но о Любви и Вражде.
Однако все интерпретаторы, вопреки авторитету Аристотеля (Phys.
VIII. 1. 250а 7), с полным основанием относят его к стихиям. ТТри
этом Diels ссылается на почти тождественный стих фрагм. 26, ст. 1,
Mullach (Comm. in. h. v.) же ограничивается ничего не говорящим
замечанием. "Placuit... Empedocli поп tantum ambo ilia principia ami-
citiam et discordiam, sed etiam elementa per vices dominari,\ —
Затруднение совершенно устранялось бы, если бы выражение έν μέρει
можно было понимать: поочередно в отношении к отдельным
мировым периодам, т.е. в смысле перемежающегося господства всех
95
Генрих Яку б анис. ЭМПЕДОКЛ
стихий вместе взятых, а не — поочередно в отношении к отдельным
группам стихий: огню, воде и т.д. Но последние два стиха того же
фрагмента и начальные стихи фрагм. 26 противоречат такому
пониманию (...εις άλληλα...) и в то же время поясняют мысль
философа: говоря о господстве одной стихии над другой, он просто имеет
в виду их поочередное преобладание в отдельных частях
мироздания, а не во вселенной в ее целом.
21. Стих безнадежно испорчен; перевожу по коньектуре
Stein'a, дающей наиболее удовлетворительную связь с
последующими стихами: ουδέν yap προς τοις έτηγίγνεται ούδ' απολήγει.
22. Τούτο 5' — здесь наречие, а не местоимение, относящееся
к то πάν. Философ опровергает возможность постепенного
уничтожения стихий двумя доводами: будь это так, говорит он, запас их "в
круговращении времени" иссяк бы наконец, и, следовательно, мир
был бы невозможен как 1 в настоящем (ούκέτ' αν ήσαν), так и 2 в
будущем (τούτο δ' и т.д.).
23. Т.е. стихии образуют различные сочетания и таким
образом входят в состав многих производных веществ и явлений.
18. [К. — , St. — , Μ. — ].
Любовь λ...
1. Φιλίη вм. обычной формы: Φιλότης.
19. [К. р. 349, St. 209, Μ. 276].
Единящую Любовь 1...
1. Σχεδύνην Φιλότητα: так, по свидетельству Плутарха (De
prim, frig. 16 p. 952 В), называет Эмпедокл воду (...ύδωρ κολλητικόν
και σχετικόν).
20. [К. 335 — 341, St. 247 — 253, Μ. 182 — 188].
Это 1 замечательно обнаруживается в совокупности смертных
членов 2: все составляющие тело члены то Любовью соединяются в
одно целое в полном расцвете жизненных сил; то, наоборот,
разъятые злым Раздором, блуждают каждый порознь у поражаемых
прибоем берегов житейского моря. — Одинаково {происходит
это) у растений, и у имеющих водяные чертоги рыб, и у живущих
в горных логовищах зверей, а также у пернатых ладей {птиц).
1. Борьба Любви и Вражды.
96
Ш. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
2. Т.е. в строении человеческого организма. Ввиду
несомненной порчи рукописного чтения, перевожу по наиболее
вразумительному тексту Fairbanks'a: τοδτο μεν εν βροτέων μελέων άριδείκετον δγκψ.
21. [Κ. 124 — 137, St. 96 — 109, Μ. 120 — 133].
Итак, рассмотри свидетельства моих прежних речей, не
произошло ли в предшествующем (повествовании) какого-либо
уклонения от основной мысли (поэмы) *: вот 2 — жаркое и блестящее
во всех частях солнце, и все открывающееся взору божественное
(пространство атмосферы)у заливаемое ярким сиянием, и темная и
холодная во всех частях 4 дождевая влага; а из земли истекают твердые
основания вещей 5. Под воздействием Ненависти 6 все они 7 бывают
наделены особым видом и разобщены друг от друга 8, под
владычеством же Любви соединяются взаимным влечением 9. Ибо из них
(стихий) образуется все, что было, что есть и что будет, из них
произрастают деревья, и мужи, и жены, звери и птицы, и
населяющие воду рыбы, а также и долговечные, высочайшими почестями
величаемые, боги: они (стихии) остаются теми же самыми, но,
проницая друг друга, являются в различных видах: настолько изменяет
их смешение (друг с другом).
1. Μορφήι подразум. έπέων= склад речи, форма, план, идея.
Эти два стиха имеют, таким образом, значение перехода от
высказанной в общих чертах идеи — постепенного возникновения всего
существующего из разрозненных частей — к иллюстрации ее на
конкретных примерах: рассмотри, говорит философ, приложима ли
эта идея к солнцу, воздуху и т.п.
2. Όράν, по тексту Симплиция (Phys. 159, 13) стоящее при
θερμόν," имеет значение перехода к перечислению (= Inhn. pro
Imper.). По тексту же Плутарха (De prim, frig. 13 p. 949 F),
принятому Mullach'oM (λαμπρόν όράν, вм. рук.: λ.ό'ρα), оно не имеет
самостоятельного значения ( = 1ппп. respect.). Контекст Симплиция,
очевидно, выразительнее, и потому перевожу по нему.
3. Т. е. стихия воздух. Рук. текст безнадежно испорчен.
Перевожу по коньектуре MullacrTa, принятой Stein'oM и Fairbanks'oM:
αμβροτα δ'δσσα πελει κτλ. — Diels и за ним Burnet вм. ττέλει пишут
ιδεί. Признавая обе коньектуры одинаково возможными (ϊδει —
смысла по существу не изменяет), не могу, однако, согласиться с
общепринятым мнением, будто под αμβροτα философ разумеет
небесные светила ("corpora coelestia, astra' — Mullach; * planetae" —
Diels*). Ссылка Diels'a на фрагм. 22, ст. 2, где тому неясному
представлению, о котором идет речь в данном стихе, соответствует
выражение ουρανός, — всего лучше подтверждает мое предположение,
7 4-141
97
Генрих Яку б анис, ЭМПЕДОКЛ
что здесь имеется в виду бессмертная, божественная стихия, —
воздух, как открывающееся взору необъятное небесное пространство.
Ci. Mullach comment, in. v. 263.
Таким образом, при моем толковании свидетельство Симплиция
(1. 1:...τό μεν πυρ ηλιον καλών,τον Ы αέρα αύγην και ούρανόν ...) остается
в силе, и его приходится исправить лишь постольку, что Эмпедокл
описывает понятие άήρ не чрез αυγή, но чрез αμβροτα δ'ό'σσα κτλ.
Впрочем, этот промах древнего комментатора объясняется простым
недосмотром. — Замечу также, что, на мой взгляд, под αυγή не
следует, вместе с Mullach'oM, Fairbanks'oM и Burnet'oM, разуметь только
солнечное сияние, но блеск мирового огня вообще, от которого
получает, путем отражения от земли, свой свет и видимое нами солнце.
4. ' Εν ττάσι — ср. в ст. 3: ά άντηι.
5. Т.е. твердая стихия, образующая твердые тела; θέλυμνα —
редкое и неясное по значению слово; θ. τε και σπ-'ρεωττα — перевожу
как εν 6ιά δυοΐν.
6. Έν... Κότωι — соб.: в, — среди Ненависти.
7. Т.е. все перечисленные выше виды существования, или стихии.
8. Т.е. живут индивидуальной жизнью.
9. Т.е. утрачивают свою индивидуальность, сливаясь в
безразличное единство Сфероса.
22. [К. 326 — 334, St. 186 — 194, Μ. 262 — 270].
Потому что все они {стихии), — и лучезарное солнце λ, и
земля, и небо 2, и море 3, — дружны 4 всеми своими частями, какие
только, отпрянув от них, ни существуют в тленных вещах 5. Точно
так же и все те {разнородные стихии, а не только части одной и
той же стихии), которые более способны к смешению {между со-
5 бою), будучи уподоблены {друг другу) Афродитой, одержимы
взаимным любовным влечением. Наиболее же враждебные наиболее и
различаются между собою естественными свойствами 6, способами
соединения 7, а также и выраженными в них видами 8, будучи
совершенно непривычны 9 к совокуплению и крайне беспомощны
против внушений Вражды, так как она (— то и) наделила их такими
свойствами 10.
1. Т.е. стихия — огонь.
2. Не небесная твердь, но внутренность небесного купола,
атмосфера, т.е. стихия — воздух. — Ср. предыдущий фрагмент.
3. Т.е. стихия — вода.
98
HL Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
4. Т.е. склонны к любовному единению.
5. Т.е. какие только ни вошли в состав видимого мира. Cf.
Diels comment, in h. ν: "quotquot (sc. μέρη) eis (sc. puris elementis)
disiuncta extant in moüali mundo". — Смысл: части одной и той же
стихии, в каком бы состоянии они ни находились, — слитые ли в
однородную массу, или рассеянные в бесконечном разнообразии
чувственных вещей, — всегда стремятся к любовному единению
между собою.
6. Γέννηι — соб.: родом, породой. Ср. примеч. 10.
7. Κρήσει — соб.: смешением, т.е. пропорциями и
соотношениями, какие образуют они, входя в состав различных вещей.
8. Εϊδεσιν έκμακτοΐσι, — т.е. внешними формами их самих и
возникающих из них конкретных образований.
9. Άήθεα — т.е. неспособны.
10. Γένναν: все переводчики передают через "рождение",
"происхождение"; между тем стихии точно так же существуют от
века, как и сама Вражда, и потому, если вообще можно говорить об
их "рождении", то разве от превечной, всемогущей Ананки.
Отношение же к стихиям Вражды ограничивается лишь тем, что она, —
выведя их из состояния безразличия, каким они наслаждались "под
любовным покровом Гармонии", — вселила в них неудержимое
стремление к обособлению, посеяла "губительную рознь' между ними.
23. [К. 154 — 164, St. 119 — 129, Μ. 134 — 144].
Подобно тому как живописцы, раскрашивая священные
приношения богам, — люди, глубоким умом основательно 1 изучившие
искусство, — берут 2 разноцветные краски и, смешав их
соответствующим образом — одних более, других менее, создают из них
схожие со всеми предметами изображения, воспроизводя деревья, и
мужей, и жен, и зверей, и птиц, и живущих в воде рыб, а также и
долговечных, величаемых высочайшими почестями, богов: — так да
не одолеет твоего ума заблуждение (которое могло бы заставить
тебя предполагать), будто есть где-либо какой-либо другой
источник всего тленного, что только ни открывается взору в
несказанно-огромном количестве 3, но убедись 4, что это они (стихии) 5,
вняв божественному глаголу 6.
1. Άμφϊ... — широко, ευ — глубоко.
2. Χερσίν — остается без перевода.
3. Т.е. всего вообще видимого мира.
7*
99
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
4. Τορώς ...ϊσθι — соб.: насквозь познай.
5. Т.е. убедись в том, что единственный источник всего
видимого — в стихиях.
6. Θεοΰ πάρα ,ιιΰθον άκούβας. Кого нужно разуметь под словом
θεού, — на этот счет среди ученых царит полнейшее разногласие.
Bergk (1.1 18, 8; 29; 63) видит в этом θεός единого,'верховного бога
(?), как конечный источник всего существующего, а потому толкует
данный стих так, как будто понятие τταρό θεού противополагается в
двух предыдущих стихах выражению άλλοθεν είναι θνητών... ττηγήν.
Вследствие этого он выделяет в своем тексте слова θεού πάρα
запятыми. — Другие (Bidez у Diels'a и у Rohde), относя их к самому
поэту, видят в этом стихе пример безусловного аутоапофеоза, к
какому, по преданию, был так склонен Эмпедокл. — Третьи (Rohde,
Psyche II, 1822) также находят здесь пример самообожествления, но
относительного: поэт сам не бог, но вещает истину, как бог. —
Наконец, четвертая группа ученых (Karsten, Panzerbieter у Mullach'а,
сам Mullach, Burnet, а также и Diels) читает θεού как της θεού, т.е.
подразумевает под божеством Музу, ссылаясь на фрагм.4, ст. 3; 5
ст. 2 и т.п.
Я думаю, что ближе всего к истине последнее толкование, не
нужно только проводить резкой грани между самим поэтом и
вдохновляющей его Музой: истина, в которой хочет убедить своего друга
Эмпедокл, не есть положительное откровение какой-либо реальной
Музы, но и не есть также рациональное построение мыслителя; то,
что ее изрекает, есть, говоря современным языком, чистое наитие,
творческий экстаз, в котором творец-поэт и вдохновляющее его
божество — взаимно неотделимы, представляют как бы одно целое.
24. [К. 447 — 448, St. 58 — 59, Μ. 230—231].
Нагромождая одно заглавие на другое, не доводить до конца
одной стези повествования...
25. [К. 446, St. 59 bis, Μ. 232].
Ведь, что нужно, (то) и дважды хорошо поведать...
26. [К. 138 — 149, St. 112 — 118 (от. 8 — 12), М. 147 — 153].
Поочередно господствуют они (стихии) в круговращении
(вселенского) цикла 1 : то оскудевают 2 они одна за другой, то
возрастают 3 в роковом чередовании. Ибо они остаются теми же
самыми, но, проницая друг друга, становятся людьми 4 и животными
5 других пород, то силою Любви сходясь в одно стройное целое, то,
wo
III. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
наоборот, ненавистью Вражды несясь врозь друг от друга, пока,
сросшись в единое вселенское целое, не потеряются в нем 5. —
Таким образом, поскольку единое неизменно рождается из многого,
а из прорастания единого снова выделяется многое, постольку они
(стихии) возникают, и век у них нестойкий. Но, поскольку беспре- Ю
рывный переход из одного состояния в другое никогда не
прекращается, постольку они существуют всегда в неизменном круге 6.
1. Т.е. в круговом течении последовательных периодов
великой мировой драмы, вселенского процесса.
2. Качественно, не количественно. Φθίνει — соб.: чахнут,
ослабевают силами, а не "исчезают", что, по ясным и многократным
заявлениям философа, противоречило бы самой сущности стихии.
3. Опять-таки качественно, или, точнее, с т. зр.
преобладающего воздействия на другие стихии.
4. Т. е. входят в состав человеческих организмов и проч.
5. Соб.: пока не окажутся побежденными, пока не подчинятся
ему, т. е. пока не утратят в нем своей индивидуальности.
6. Ср. фрагм. 17.
27. [К. 72. 73. 59.60, St. 135 — 138, Μ. 172 — 173,175 — 176].
Не видны там ни быстрые члены 1 Гелиоса, ни косматая грудь2
земли, ни море: так под плотным покровом Гармонии утверждается
округленный, гордый своей совершенной замкнутостью Сферос.
1. Т. е. лучи: ώκέα γυϊα.
2. Λάσιον μένος. — Μένος, вм. рук. γένος, предложил Bergk (1.
1., p. 4), а за ним приняли Diels, Fairbanks и др., по-видимому,
вполне основательно. Но при истолковании этого слова нельзя
останавливаться на полпути, передавая его терминами вроде: "сила",
"мощь" ("the shaggy might" — Fairbanks'а, zottige Kraft" — Diels* а
и т.п.), так как сочетание столь конкретного представления как
"косматый" с абстрактным понятием 'силы", да еще в отношении к
земле, едва ли возможно даже в ультра-пластическом стиле Эмпе-
докла. Между тем аналогичные выражения поэтического языка
Гомера (λάσια στήθεα: П. I, 189; λάσιον κήο: П. Π, 851; XVI, 554; cf.
Piaton. Theaet. 194, D) дают, на мой взгляд, полное право
передавать μένος через "грудь", тем более что "грудь кормилицы-земли"
— образ, получивший право гражданства в поэзии вообще.
28. [К. — , St. — , Μ. — ].
101
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
Но (то) был отовсюду равный и вполне беспредельный 1,
шаровидный, гордый своей совершенной замкнутостью 2 Сферос.
1. Πάμπαν απείρων. Diels понимает в смысле "вполне
округленный", что весьма вероятно ввиду дальнейших определений Сфероса.
2. Сохраняю чтение предыдущего фрагмента, отступая от
текста Стобея (Eel. I 15,2 ab p. 144 20 W), который Diels
воспроизводит в своем издании, хотя и считает его ошибочным. По
Стобею: μονίηι ττεριγηθέι χαίρων — смысл был бы такой: "радуясь
своему приятному одиночеству".
29. [К. — , St. — , Μ. — ].
Потому что не поднимаются у него 1 из спины две ветви 2 и
(нет у него) ни ступней, ни проворных колен, ни детородных
частей, но он представлял из себя шар и был отовсюду равен себе
самому 3.
1. Космоса, вселенной. Ср. Diels comment, in h. v.
2. Т. е. две руки.
3. Άλλα σφαΐρον εην και ττάντοθεν ίσον έωυτώι: перевожу по
весьма правдоподобной коньектуре Diels'a, отвергая нескладное,
явно испорченное чтение рукописей.
30. [К. 66 — 68, St. 139 — 141, Μ. 177 — 179].
Но когда Вражда возросла до больших размеров в
(божественных) членах (шаровидного космоса) и вознеслась к почестям 1
по истечении времени, какое попеременно протекает для них 2 по
определению всеобъемлющей клятвы...
1. Т.е. получила возможность действовать, начала проявлять
свою силу.
2. Σφίν: имеются в виду, конечно, Любовь и Вражда.
31. [К. 70, St. 142, Μ. 180].
Ибо один за другим вздрагивали члены божества...
32. [К. 457, St. р. 63, М. — ].
Сочленение связывает два (члена)...
33. [К. 265, St. 279, Μ. 215].
Ю2
///. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
Подобно тому как смоковничный сок свертывает и заставляет
сседаться белое молоко *...
1. Образ, иллюстрирующий процесс единения стихий силою
Любви.
34. [К. et St. 208, Μ. 275].
Склеив 1 ячменную муку с водою 2...
1. Κολλήσσς: т.е. смешав.
2. Образ для иллюстрации смешения сухого с влажным.
35. [К. 165 — 181, St. 169 — 185, Μ. 189 — 205].
Но я, вернувшись назад, пойду по тому пути песнопений,
который раньше избрал, извлекая одно рассуждение из другого. Когда
Вражда спустилась в самую глубь пучины, а в средине вихря
оказалась Любовь, тогда там 1 все стихии 2 сходятся воедино, не вдруг,
но собираясь произвольно одна отсюда, другая оттуда. При этом
из их смешения проистекают бесчисленные виды тленных созданий.
Но, чередуясь со смешанным 3, многое пребывает несмешанным,
(именно) все то, что удерживает еще остающаяся поверх 4 Вражда.
Ибо она еще 5 не вполне вся отступила к крайним пределам круга,
но частью оставалась, частью же вышла из (успевших уже
сформироваться под воздействием Любви) членов (вселенной). И
насколько постоянно устремлялась она ко-вне, настолько постоянно
наступало кроткое, божественное стремление безупречной Любви.
И скоро стало рождаться в тленном виде то, чему раньше была
присуща нетленность, и в смешанном виде то, что раньше было
чуждо всякого смешения 6, поменявшись путями 7. А из их смешения
проистекают бесчисленные виды тленных созданий, наделенных
разнообразными формами: диво посмотреть!
1. 'Εν τη: т.е. в средине, в центре вихря или, что то же, в
Любви.
2. Τάδε πάντα.
3. Κεραιομένοισιν εναλλάξ. Смысл: оставшиеся
несмешанными стихии входят впоследствии в состав смеси, уступая свое
место независимого существования другим стихиям, уже
побывавшим в составе конкретных образований, и наоборот — до
бесконечности.
4. Μετάρσιον: т.е. на периферии, в противоположность центру,
который заняла Любовь.
юз
Генрих Яку б анис. ЭМПЕДОКЛ
5. Πώ: не вижу надобности изменять рукописное чтение в τών,
что предлагает Die Is.
6. Ζωρά τε τα ττριν ακρητα — Plut. Quaest. conv. V 4, 1. 677
D и Theophr. apud Athen. A, 423 F — чтение, принятое Mullach'oM,
Fairbanks ом, Burnet'oM, Wilamowitz'oM (y Dielsa).
Другие интерпретаторы, в том числе и Diels, затрудняются
принять употребляемые, обыкновенно, в смысле синонимов термины
ζωρά и ακρητα в значении противоположения, как того непременно
требует контекст, и потому вынуждены предлагать всевозможные конь-
ектуры на гораздо слабее засвидетельствованные и взаимно
противоречивые тексты других рукописей (Симплиция, Аристотеля). На
мой взгляд, если принять во внимание, что возможность такого
противопоставления ζ. и ак. засвидетельствована самими древними
писателями (Athen. 1. 1.: Θεόφραστος δ'εν τώι Περί μέθης ζωρότερόν φησιν
είναι το κεκραμένον τταραπθέμενος 'Εμπεδοκλέους τάδε κτλ.), — у нас
нет оснований отказываться от согласного чтения лучших рукописей.
7. Т.е. в противоположность прежнему состоянию.
36. [К. 171, St. 175, Μ. — ].
И когда они (стихии) стали сходиться, Вражда стала
отступать к крайним пределам (постепенно формирующейся сферы)'.
37. [К. 271, St. 198, Μ. 274].
Земля возвращает свое тело, эфир — эфир.
38. [К. 182 — 185, St. 130 — 133, Μ. 233—236].
Итак скажем 1 о (тех) первых и одновременных по
происхождению 2 (основах сущего), из которых, очевидно 3, возникло все то,
что мы теперь видим: земля, и волнующееся море, и влажный
воздух, и облекающий все кругом Титан — эфир 4.
1. Ei δ'αγε τοι λέξω — соб.: "ну, если тебе угодно, я скажу",
— что лучше всего выражается русским "скажем'.
2. "Ηλικα τ'αρχήν — очень удачная и остроумная коньектура
Diels'a, вм. нескладного рукописного чтения ήλιον αρχήν. Ср. фрагм.
17, ст. 27: ήλικα γένναν.
3. Δηλ' — коньектура H.Weil'a у Diels'a. Но Diels понимает
это слово несколько иначе: "...aus denen das, was wir jetzt betrachten,
alles an das Licht kam".
4. Γαία τε και ττόντος 7τολυκόμων ήδ'υγρός άήο Τιτάν ήδ'αίθήρ
104
///. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
σφιγγών ττερί κόκλον ίχιταντα. Mullach и Tanneiy передают: "...Titan
atque aether...", "...le Titan (soleil) et Tether...". — Mullach дает при
этом небезынтересную, хотя и мало вероятную, мотивировку такого
толкования: αίθήο и αήρ, на его взгляд, тождественны по своему
понятию, как одна и та же стихия, но различны по наглядному
представлению: "...aer ab aethere sic discernitur, ut non tarn diversa elemen-
ta, quam diversae coeli partes his nominibus designetur". — Fairbanks
и Burnet: υγρός αήρ — "damp mist", Τ. αίθήρ — "Titan aether (i.e.
air)". — Die Is: Τ. αίθ. — "sol".
На мой взгляд, это просто — четвертая стихия — огонь,
питающий все вообще небесные светила, облекающий и озаряющий
дневную полусферу видимого неба.
39. [К. 199 — 201, St. 146 — 148, Μ. 237 — 239].
Если беспредельна глубина земли и бесконечно изобилен 1
эфир, как то гласят голословные заявления, вытекающие из многих
уст 2 (людей), видевших (лишь) незначительную часть вселенной...
1. Δαψιλός — соб. просто: "изобилен", но по смыслу здесь
необходима прибавка "бесконечно".
2. Оба рукописные чтения: —'· и γλώσσης (Arist. de Caelo В
13. 294a 21) у Diels'a и βροτέων (Arist. de MXG 2 p. 976b 32) у
остальных издателей — дают одинаково хороший смысл.
40. [К. 186, St. 149, Μ. 240].
Острые стрелы мечущее солнце и кроткая луна...
41. [К. 187, St. 150, Μ. 241].
Но оно (солнце), собравшись ^ обтекает великое небо...
1. Т.е. сгустившись из отдельных частиц стихии — огня.
42. [К. 194 — 196, St. 157 — 159, Μ. 248 — 250].
Она (луна) скрадывает у него (солнца) лучи, пока оно
проходит под нею, и затмевает столько земли, какова именно ширина
светлоокой луны.
1. Перевожу по прекрасной в логическом и критическом
отношении коньектуре Diels а: άττεστέγασεν δε οι αύγάς, εστ' ίχνϊηι κτλ.
43. [Κ. 192, St. 153, Μ. 244].
Так (солнечный) свет, ударяющийся о широкий круг луны...
105
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
44. [К. 188, St. 151, Μ. 242].
Оно (солнце) отражает свет к Олимпу 1 бесстрашным ликом.
1. Т.е. к небу.
45. [К. 190, St. 154, Μ. 245].
Округленный заимствованный свет (луны) вращается вокруг земли.
46. [К. 189, St. 155, Μ. 246].
Вращается она (луна вокруг земли), как втулка у колесницы,
огибая высокий столб в ристалище *.
1. Перевожу по единственно вразумительной коньектуре
Panzerbieter'a, дополненной и объясненной Diels'oM: άρματος ώς ττέρι
χνοίη ελίσσεται ή τε τταρ'ακρην (νύσσαν έλαυνομένη κτλ.). "...Luna
radians, dum volvitur presse prope terram..., apte comparetur modiolo rotae,
qui dum simul cum radiis rotae volvitur, stringit metam curvo cursu. Ter-
tium comparationis videtur esse appropinquatio rotantis corporis".
47. [K. 191, St. 156, M. 247].
Смотрит она (луна) с противолежащей стороны на
священный круг (своего) владыки (солнца).
48. [К. 197, St. 160, Μ. 251].
Ночь же земля производит, загораживая собою 1 свет.
1. 'Υφισταμένη — соб.: подставляясь под...
49. [К. 198, St. 161, Μ. 252].
Пустынной и слепоокой ночи...
50. [К. — , St. — , Μ. 480].
Ирида 1 несет с моря ветер или сильный ливень.
1. Т.е. радуга.
51. [К. 202, St. 168, Μ. 261].
Быстро (у стреми вились) вверх *...
1. Речь идет об огне. Ср. фрагм. след. и 54.
106
III. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
52. [К. 207, St. 162, Μ. 255].
Под землею горит много огней...
53. [К. 204, St. 167, Μ. 260].
Потому что в то время он (эфир) двигался именно 1 так, но
часто и иначе.
1. Συνέκυρσε = έτυχε.
54. [К. 203, St. 166, Μ. 259].
Эфир... стал внедряться в землю длинными корнями...
55. [К. 451, St. 165, Μ. 258].
Море — пот земли...
56. [К. 206, St. 164, Μ. 257].
Соль отвердела под действием 1 солнечных лучей.
1. Έωσμένος — соб.: под толчками.
57. [К. 232 — 234, St. 244 — 246, Μ. 307 — 309].
Так 1 выросло много голов без шей, скитались голые руки,
лишенные плеч, блуждали одинокие очи без лбов.
1. ΤΗι: можно понимать и в местном значении: где, т.е. там, на
земле. Смысл зависит от того, что предшествовало этому стиху.
58. [К. — , St. — , Μ. — ].
Блуждали одночленные органы 1...
1. Μουνομελή γυΐα έττλανάτο.
59. [К. 235 — 237, St. 254 — 256, Μ. 310 — 312].
Но когда теснее стало сплачиваться божество с божеством 1,
то, с одной стороны, те 2 члены начали случайно 3 сочетаться между
собою, как попало 4, с другой же — к ним беспрерывно прирож-
дались 5 многие другие.
1. Т.е. Любовь с Враждою стали более равномерно проявлять
свою деятельность, между тем как раньше преобладала Вражда.
Таково объяснение Симплииия (De caelo 587, 20), и, я думаю, нет
никаких оснований относить, вместе с Tannery, выражение δαίμονι
δαίμων к стихиям.
107
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
2. Т.е. существовавшие уже порознь.
3. Понятие случайности заключается в самом глаголе
συμπίπτειν.
4. "Οττηι συνέκυρσεν έκαστα — соб.: где каждый из них
случился.
5. Έξεγένοντο: аорист объясняется влиянием
предшествующего διηνεκή. По-русски — длительная форма.
60. [К. 242, St. 261, Μ. 317].
С волочащимися ногами, с неразделенными конечностями 1...
1. Т.е. копытами. Άκριτόχειρα — соб.: с неразделенными
руками. Но ввиду того, что речь идет о скоте, естественнее всего,
вместе с Fairbanks'ом, разуметь здесь копыта, для чего, как мне
кажется, даже нет надобности прибегать, по примеру Bumet'a, к конь-
ектуре Karsten'а: άκριτόχηλα. — Смысл: в ту отдаленную эпоху,
когда еще только начиналась, под воздействием Вражды,
дифференциация отдельных органов животных организмов, двукопытный
ныне скот был однокопытным.
61. [К. 238 — 241, St. 257 — 260, Μ. 313 — 316].
Стало рождаться много двуликих и двугрудых существ, из
бычачьей породы с человеческим ликом и, наоборот, стали происходить
человеко-рожденные твари с бычачьими головами; создания
смешанные, частью из (частей тела) мужчин, частью же женской
природы,-наделенные бесплодными 1 членами 2.
1. Στείροις — хорошая коньектура Diels'a, принятая
Fairbanks'oM и Burnet'oM, вм. рукописного σκιεροϊς, что едва ли
допустимо, несмотря на нелишенную остроумия апологию
Wilamowitz'a, который "...generaliter pudenda tamquam in umbra cor-
porum latentia intellegit" (DieIs comment, in h. v.).
2. Т.е. неспособные к рождению андрогины.
62. [К. 248 — 255, St. 262 — 269, Μ. 318 — 325].
Теперь же послушай о том, как огонь, выделяясь, вывел на
свет скрывавшиеся в ночи 1 отпрыски много горестных 2 мужей и
жен: это будет 3 повествование, не чуждое нашей цели и не
лишенное поучительности. — Сначала стали выходить из земли цель-
5 ноприродные 4 создания, заключавшие в себе по равной части 5 двух
стихий: воды и теплого воздуха 6; их выталкивал огонь, стремясь
108
III. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
достигнуть себе подобного 7, в то время как они не обнаруживали
еще 8 ни привлекательного соединения членов тела, ни голоса, ни
присущего мужчинам члена.
1. Έννυχίους — т.е. во мраке под землею.
2. Πολυκλαύτων, по верному замечанию Diels'a, относится атго
κοινού к обоим полам и, следовательно, не значит "плаксивых", как
передают все переводчики, относя этот эпитет исключительно к
женщинам.
3. Γάρ.
4. Ούλοφυεϊς — т.е. не разделенные на полы.
5. Αισαν — в основном значении этого слова.
6. Τδεος — соб.: тепла, жары. Ср. фрагм. 73.
7. Т.е. соединиться с себе подобной стихией.
8. Т.е. у них нельзя было различить, они не имели.
63. [К. 257, St. 270, Μ. 326].
Но природа членов (зародыша-ребенка) двустороння 1: одна
сторона (имеет свое основание) в (семени) мужчины (другая в
семени женщины).
1. Διέσπασται — соб.: разорвана, разделена.
64. [К. 256, St. 272, Μ. 328].
А затем является и Пофос *, заключающий чрез посредство
зрения брачные узы.
1. Желание любовной страсти.
65. [К. 259 — 260, St. 273 — 274, Μ. 329 — 330].
(Семя мужчины и женщины) изливается в очищенные
(месячным очищением) места (чрева), при чем из того (семени),
которое встречается (в чреве) с холодом 1, происходят женщины (а из
того, которое с теплом, — мужчины) 2.
1. Т.е. попадает в более холодную часть чрева.
2. Восполняю содержание фрагмента по коньектуре Diels'a.
66. [К. 261, St. 275, Μ. 331].
Расколотые нивы Афродиты ϊ...
109
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
1. Т.е. pudenda.
67. [К. 262 — 264, St. 276 — 278, Μ. 332 — 334].
Самец зарождается в более теплой части чрева 1, и потому
мужчины смуглы и более мужественны и более покрыты волосами
{чем женщины).
1. Соб.: в более теплой части чрево способно рождать (τοκάς...
επλετο) самца.
68. [К. 266, St. 280, Μ. 336].
На десятый день восьмого месяца появляется белое выделение λ.
1. Πύον — соб.: молозиво, colastrum.
69. [К. — , St. — , Μ. — ].
Двоякорождающие 1...
1. Diels пишет öiyovoi, но, я думаю, правильнее по смыслу
писать διγόνοι — соб.: дважды рождающие. Речь идет о семи- и
девятимесячной беременности.
70. [К. р. 474, St. — , Μ. — ].
Кровяная чаша 1...
1. Άμνίον — соб.: чаша, в которую собиралась кровь
жертвенного животного. Так называет философ первый покров,
окружающий плод во чреве матери.
71. [К. 150 — 153, St. 210 — 213, Μ. 277—280].
Если же у тебя почему-либо нет {еще) твердой веры в это 1,
{а именно в то) как из смешения воды и земли, а также эфира и
солнца 2 возникли столь разнообразные 3 виды 4 и цвета всех
тленных созданий, какие только ныне рождаются под созидающим
воздействием Афродиты...
1. Περί τώνδε λιττόξυλος εττλετο ττίστις — соб.: если... твоя вера
относительно этого уклончива. Ср. фрагм. 21, ст. 2.
2. Т.е. огня.
3. Соб.: такие — τοΐα.
4. Т.е. формы.
110
III. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
72. [К. 243, St. 214, Μ. 281].
Как (возникли) огромные деревья и морские рыбы t...
1. Καμασήνες — редкое и неясное по составу слово.
73. [К. 209 — 210, St. 215 — 216, Μ. 282 — 283].
Как в то время Киприда, оросив (предварительно) землю
дождем и (затем) навевая (на нее) теплый воздух ί, подвергла ее
(наконец) закаливающему воздействию быстрого огня...
1. νΙδεα. Ср. фрагм. 62.
74. [К. 205, St. 163, Μ. 256].
Увлекая 1 непонятливое племя многосемянных рыб...
1. 'Άγουσα: нужно ли восполнять 'Αφροδίτη, как думает Diels,
или θάλασσα, как предлагают остальные комментаторы, — нет
возможности решить.
75. [К. 230 — 231, St. 217 — 218, Μ. 284 — 285].
Все внутренние части их 1 уплотнены, наружные же —
разрежены, встретившись именно 2 с подобным разрежающим началом 3
под дланями Киприды.
1. Των δ'. Несмотря на все усилия и на всю проницательность
интерпретаторов, невозможно с уверенностью сказать, к чему
относится это των δ*. Если предположить, как данное, его
отношение к какому-либо из сохранившихся отрывков, то, на мой взгляд,
естественнее всего скомбинировать эти два стиха с фрагм. 73 и 76,
т.е. подразумевать под των δε —τά θνητά. = созданные Кипридой из
четырех стихий чувственные вещи вообще, наружные части которых,
— за редкими исключениями, намеченными во фрагм. 76, —
бывают менее плотны, чем внутренние: довольно указать, для примера,
на облекающую животный скелет мякоть, на кору деревьев и проч.
Ср. Diels comm. in fragm. 76, v. 2.
2. Τυχόντα — соб.: получив, т. е. войдя в соединение.
3. Πλάδης — соб.: с жидкостью, т.е. с жидкими, неплотными
стихиями, в противоположность наиболее плотной стихии — земле.
76. [К. 220 — 222, St. 233 — 235, Μ. 300 — 302].
Это 1 можно наблюдать 2 в тяжелохребетных скорлупах
морских животных 3, особенно у улиток 4 и у каменнопанцырных
черепах: там ты увидишь, что земля 5 находится поверх кожи.
111
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
1. Уклонение от общего правила, по которому наружные части
тленных созданий бывают менее -плотны, чем внутренние.
2. Подраз. εστί или επλετο; ср. фрагм. 20, ст. 1.
3. Θαλασσονόμων — весьма правдоподобная коньектура
Diels'a, вм. рукописного дательного: θαλασσονόμοις. Ср. род. падеж
в след. стихе: κηρύκων κτλ.
4. Из раковин которых выделывались рожки для герольдов:
отсюда название κήρυκες.
5. Т.е. твердая, наиболее плотная стихия.
77. [К. 366, St. 423, Μ. 435].
Вечнозеленый...
78. [К. 367, St. 424, Μ. 436].
{Деревья) изобилуют плодами 1 круглый год вследствие
благорастворения воздуха 2.
1. Τέθηλε καρπών άφθονίηισι — по тексту Феофраста (Caus.
plant. I 13, 2), согласованному G.Hermann'oM (у MullacrTa).
2. Κατ' ήέρα — соб.: сообразно с воздухом. Несмотря на всю
заманчивость предложенных различными учеными коньектур:
κατήρεα (Scaliger) — снабженные, κατήορα (Lobeck) — увешанные
и т.п. (см. у MullacrTa), необходимо согласиться с Diels'oM в
невозможности отступить от рукописного предания ввиду контекста
Феофраста, в каком дошел до нас этот стих: ει δε και συνεχώς ό άήρ
άκολουθοίη τούτοις, ίσιος ουδέ τα παρά των ποιητών λεγόμενα δόξειεν αν
άλόγως εχειν κτλ.
79. [Κ. 245, St. 219, Μ. 286].
Таким образом, большие деревья (как бы) кладут яйца, и
прежде всех — маслина *.
1. Следует заметить, что масличное дерево, по
мифологическим традициям, считалось первым и по времени и по
значению.
80. [К. 246, St. 220, Μ. 287].
Почему и поздно созревающие гранаты и самые цветущие из
плодов λ — яблоки...
1. ' Υττέρφλοια — по первому из двух, сохраненных Плутархом
112
III. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
(Quaest. conv. V 8,2 p. 683 D), древних толкований этого άπαξ
είρημένον.
81. [К. 247, St. 221, Μ. 288].
Вода (проникшая в виноградную лозу не из земли чрез
корни, но из влажного воздуха) со стороны коры, перебродив в
дереве, становится вином.
82. [К. 223 — 224, St. 236 — 237, Μ. 216 — 217].
Волосы, и листья, и густые перья птиц, и чешуя на крепких
членах (рыб) — по своему происхождению 1 одно и то же.
1. Πγνονται.
83. [К. 225 — 226, St. 238 — 339, Μ. 303 — 304].
А у ежей щетинится на спине остроконечная грива *.
1. Χαΐται — описательно, вм. "щетина".
84. [К. 302 — 311, St. 316 — 324, VI. 220 — 229].
Подобно тому как кто-либо, собираясь в путешествие в
бурную ночь, запасается фонарем, зажегши его 1 у ярко горящего огня,
— факелом 2, отражающим разнообразные ветры, так как он 3
рассеивает 4 дыхание бушующих ветров, свет же, вылетая наружу,
поскольку он тоньше (ветра) 5, начинает проникать за порог 6
неутомимыми лучами: — так в то время 7 первичный 8 огонь,
заключенный в оболочках и в тонких тканях (глаза), которые насквозь
пробуравлены дивно устроенными воронками 9, стал скрываться за
круглым зрачком 10; и эти воронки стали удерживать обтекающую в
большом количестве воду, огонь же пропускать наружу, поскольку
он тоньше...
1. Σέλας... άψας — соб.: э. свет.
2. Этот и следующие стихи, служа приложением к слову
λύχνον, представляют поэтическое описание фонаря.
3. Таким образом устроенный факел-фонарь.
4. Т.е. не допускает до пламени.
5. Т.е. состоит из более тонких и удобоподвижных частиц, чем
воздух.
6. Т.е. освещать дорогу при выходе из дома.
7. "Ως δε тот': т.е. при сотворении Кипридой организмов.
8 4-141 Ц3
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
8. Ώγύγιον — соб.: весьма древний, т.е. стихийный,
элементарный, в противоположность эмпирически данному огню первой
части сравнения.
9. Т.е. порами: χοάνηισι.
10. Λοχάζετο (imperf. указывает на постепенное образование
глаза силою Киприды) κύκλοπα κούρην — непереводимая игра слов,
построенная на двояком значении слова κούρη = и "глазной зрачек"
и "дева". — Отсюда целый ряд переносно-образных выражений:
κύκλωψ — соб.: круглоокий; λοχάζομαί τίνα — подстерегаю кого,
делаю засаду на кого; οθόνη — ткань, полотно, покрывало и проч.
85. [К. 193, St. 152, Μ. 243].
На долю (скрывающегося в глазу) кроткого пламени выпала
(лишъ) незначительная частичка земли 1.
1. Μινυνθαδίης τύχε ναίης: от корня μίνυνθα = немножко.
Контекст Симплиция (Phys. 331,3), в котором дошел до нас этот стих,
а также сопоставление с фрагм. 98, ст. 1 — устраняют возможность
предложенных различными комментаторами коньектур на место
рукописного γαίης: αϊσης — Karsten*а и Mullach'a; αυγής — Stein'а
и Fairbanks'а и проч.
86. [К. 227, St. 240, Μ. 218].
Из коих 1 божественная Афродита создала неутомимые очи...
1. Стихий.
87. [К. 298, St. 241, Μ. 219].
Афродита, снабдившая любовными связями...
88. [К. 311, St. 326, Μ. 371].
Из обоих (глаз) происходит одно зрение 1.
1. Т.е. оба глаза дают одно зрительное ощущение.
89. [К. 267, St. 281, Μ. 337].
Зная, что из всего, что только произошло *, истекают токи...
1. Т.е. вообще из всего существующего.
90. [К. 268 — 269, St. 282 — 283, Μ. 338 — 339].
114
III. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
Так сладкое стало хвататься за сладкое, горькое устремилось
на горькое, кислое набросилось на кислое, теплое стало
совокупляться с теплым.
91. [К. 272 — 273, St. 284 — 285, Μ. 340 - 341].
(Вода) более дружна 1 с вином, но с маслом она не хочет
(смешиваться).
1. Т.е. легче смешивается.
92. [К. 450, St. — , Μ. — ].
Медь, смешанная с оловом...
(Смесь) вина и воды...
Поры 1 и насты 2...
1. Πόροι — отверстия, скважины.
2. Ναστά — туго-набитые, плотные части тел, в
противоположность порам.
93. [К. 274, St. 286, Μ. 342].
К полотну 1 примешивается 2 багрец светлого самбука...
1. Βύσσιοι — неясное по значению слово.
2. Т. е. полотно окрашивается в...
94. [К. — , St. р. 50, М. — ].
Черный цвет реки на дне происходит от тени и точно так же
замечается он в пещерообразных гротах.
NB. Эти два стиха сохранились только в латинской передаче:
Plut. Quaest. natur. 39, в переводе Longolius'a (Köln 1542).
95. [К. 229, St. 242, Μ. 305].
Когда они (глаза) впервые стали срастаться под дланями
Киприды...
96. [К. 211 — 214, St. 199 — 202, Μ. 211 — 214].
А благодатная земля в (своих) широкогрудых горнилах две из
восьми частей получила от светлой Нестиды 1 и четыре от Гефеста 2;
а из них 3 образовались белые кости, дивно сплоченные связями
Гармонии.
8*
115
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
1. Νήστιδος αίγλης: по объяснению Симплиция (ad Aristot. de
Anima А 5. 410a.l), нужно понимать это так, что одну из этих двух
частей земля получила от Νήστις, т.е. от стихии воды, другую же от
Αίγλη, т. е. от стихии воздуха (Αίγλη = "дневной свет"; далее,
"атмосфера", "воздух").
И это объяснение тем вероятнее, что у Эмпедокла понятие
άήρ, в противоположность αίθήρ, близко соприкасается с понятием
влаги: ср., напр., во фрагм. 38, ст. 3 эпитет при άήρ — ΐγρός и т.п.
— Относительно же соединения Ν. αϊγ. ср. примечание к этому
месту у Mullach'a, который, приводя для него целый ряд параллелей
в общеизвестных сочетаниях — Φοίβος Απόλλων и проч., пишет
даже, по примеру Karsten'a, оба слова с большой буквы: Ν. Αϊγ.
2. Таким образом, на долю самой земли остается две части:
8 — 1. 2 — 4=2.
3. Из упомянутых выше восьми частей всех стихий.
97. [К. р. 452, St. — , Μ. — ].
Хребет λ...
1. По свидетельству Аристотеля (De partt. anim. Alp. 640a
18), Эмпедокл объяснял форму позвоночного столба из случайного
перелома, имевшего место в эпоху формации животных организмов.
98. [К. 215 — 219, St. 203 — 207, Μ. 206 — 210].
Земля же, став на якорь в превосходных λ гаванях Киприды,
встречается с ними почти 2 равными частями 3, (а именно) с
Гефестом и дождем, а также с ярко-блестящим эфиром, то в немного
большем количестве (чем остальные стихии), то в меньшем —
(соединяясь) с большим количеством тех. Из них происходит кровь
и другие виды плоти.
1. Τελείοις — непереводимый оттенок. Т. значит и
"превосходный" и "завершающий что-либо", т.е. в данном случае — гавань
Киприды, временно завершающая вечное движение стихии.
2. Μάλιστα при ίση значит: "почти", что подтверждается
последующим: εϊτε — είτε.
3. Т.е. в равной пропорции.
99. [К. р. 483, St. 315, Μ. 370].
Колокольчик... Мясистый отросток λ...
116
///. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
1. Σάρκινος δζος, — служащий, очевидно, по представлению
философа, язычком колокольчика — уха: внешний звук, проникая в
ухо, приводит в колебание язычок колокольчика, который, звеня, и
вызывает ощущение звука.
100. [К. 275 — 299, St. 287 — 311, Μ. 343 — 367].
Вот как все (живые существа) вдыхают и выдыхают. У всех
них протянуты к поверхности тела бескровные (сами по себе, но
предназначенные для кровообращения) трубки из плоти, а у их
устий х наружные покровы кожи насквозь пробуравлены частыми
отверстиями, так что кровь задерживается 2, эфиру же открыт
удобный путь через (эти) проходы. Поэтому, всякий раз как нежная
кровь отливает оттуда 3, эфир, клокоча (от быстрого движения),
врывается (туда) бешеными волнами; когда же кровь приливает
обратно, он снова выдыхается, подобно тому как (это бывает),
когда девочка играет водяными часами из блестящей меди: когда,
положив отверстие трубки на красивую ручку, она погружает (их)
в мягкую массу серебристой воды, то влага еще не входит в сосуд,
но ее оттесняет тяжесть воздуха, падающая изнутри на частые
отверстия, пока она (девочка) не откроет сжатого потока 4; а тогда,
с ослаблением давления воздуха, входит (в трубку) определенное
количество воды. Точно так же, когда вода занимает внутренность
медного сосуда 5, при чем проходное отверстие его заграждено
человеческой рукой, — эфир, стремясь 6 снаружи внутрь, оттесняет
влагу к (самому) отверстию узкого, производящего шум прохода 7,
(сам) занимая вершину 8, пока (девочка) не отпустит руки; тогда
же, наоборот, в противоположность тому, что (произошло)
прежде 9, с проникновением воздуха (вовнутрь сосуда через верхнее
отверстие), вытекает определенное количество воды. — Точно так
же, всякий раз как нежная, стремительно обращающаяся, по членам
кровь, отпрянув назад, отливает внутрь, тотчас же бурной волной
низвергается (в опорожнившиеся отчасти кровеносные сосуды)
ток эфира; когда же (кровь) приливает обратно, он (эфир) снова
выдыхается назад в равном количестве.
1. Т.е. у выходов, у отверстий этих трубок.
2. Κεύθειν — соб.: скрывается за этими мелкими отверстиями,
не будучи в состоянии пройти через них.
3. От этих отверстий.
4. Πυκινόν (соб.: густого) ftoov, т.е. заключенного в трубке
столба воздуха.
5. Т.е. такого же, как описанный выше, продолговатого
117
Генрих Яку б анис. ЭМПЕДОКЛ
цилиндра, с одним сравнительно широким отверстием, с одной
стороны и множеством мелких отверстий — с другой.
6. Т.е. производя давление.
7. Ίσθμοΐο δυσηκέος, т.е. того конца клепсидры, через
который, обыкновенно, выливается по каплям наполняющая ее влага. —
Diels в Addenda р. 270 дает несколько иное объяснение, на мой
взгляд, менее естественное: "...aqua vasis fundum solum implet...; ergo
comprimitur in collo aer, qui dum vi erumpit per angusta solet ructare .
8. Т.е. образуя небольшой столбик между водой и
поверхностью, замыкающей отверстие руки.
9. В предыдущем опыте.
101. [К. 300, St. 312, Μ. 368].
Отыскивая носом 1 частички животных членов 2..., которые
оставлял 3 от ног на сочном пастбище (олень или заяц) 4...
1. Речь идет о собаках.
2. Κέρματα θηρείων μελέων: по весьма правдоподобному
толкованию Buttmann'a и Diels'a, нужно разуметь истечения (άπορροαί)
тела животных, составляющие, по мнению Эмпедокла, объективную
основу обоняния.
3. Т.е. которые отделялись в виде άπορροαί.
4. По вероятному дополнению Diels'а.
102. [К. 301, St. 314, Μ. 369].
Таким образом, дыхание и обоняние свойственно всем созданиям.
103. [К. 312, St. 195, Μ. 271].
Итак, все одарено разумом благодаря таковой воле Судьбы.
104. [К. 314, St. 196, Μ. 272].
И поскольку тончайшие (частицы) столкнулись в своем
падении...
105. [К. 315 — 317, St. 327 — 329, Μ. 372 — 374].
(Сердце) живет в волнах быстро обращающейся крови, и в
нем (находится то, что) зовется, обыкновенно, у людей мыслью,
потому что мысль у людей есть (не что иное, как) омывающая
сердце кровь.
118
III. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
1. Άντιθορόντος от άντιθρώσκω — соб.: прыгающей в
противоположных направлениях.
106. [К. 318, St. 330, Μ. 375].
Потому что разум возрастает у людей в соответствии с
предлежащим λ.
1. Προς τταρεόν: т.е. в соответствии с налично данною
действительностью, сообразно с расширением их чувственного опыта.
107. [К. 324 — 325, St. 336 — 337, Μ. 381 — 382].
Потому что из них {стихий) все сплочено и слажено, и
посредством них (люди) мыслят и наслаждаются и страдают.
108. [К. 319 — 320, St. 331 — 332, Μ. 376 — 377].
Насколько перерождаются люди (за день, под влиянием раз-
нообразных переживаний) *, настолько же разнообразные
переживания представляются всегда их мышлению (ночью, во время сна).
1. Так нужно понимать эти стихи, по свидетельству древних
толкователей: Симплиция и др.
109. [К. 321 — 323, St. 333 — 335, Μ. 378 — 380].
Ибо землею 1 познаем мы землю, водою — воду, эфиром —
божественный эфир, огнем же — губительный огонь, любовь —
любовью и вражду — пагубной враждою.
1. Т.е. посредством состоящих из земли тканей глаза.
110. [К. — , St. 222 — 231, Μ. 289 — 299].
Потому что, если ты, укрепив их 1 в глубине сердца 2,
благосклонно взглянешь на них с неподдельным вниманием, то, с одной
стороны, все это 3 будет, конечно, в течение (всей твоей) жизни
составлять твое неотъемлемое достояние, с другой же стороны, ты
приобретешь благодаря (всему) тому много другого 4; ибо они 5
взаимно возвращают друг друга в направлении присущего каждому 5
из них характера 6, сообразно с тем или другим его
происхождением 7. — Если же ты так или иначе 8 будешь добиваться стяжаний
другого рода, которые бывают для людей источником бесчисленных
скверн и которые притупляют (у них) пытливые думы 9, то они 10,
несомненно, вскоре с течением времени покинут тебя, стремясь вер- 10
нуться к своему собственному роду 11. Ибо знай, что во всем есть
мысль и необходимая доля разумности 12.
119
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
1. Преподанные тебе в поэме теоретические и вытекающие из
них практические наставления.
2. Άδινήισιν ύττό ττραπίδεσσίν — соб.: под плотною грудо-
брюшною преградой.
3. Т.е. вся преподанная тебе теоретическая и практическая
мудрость, со всеми вытекающими из нее внутренними и внешними
благами и преимуществами, в роде, напр., тех, какие перечисляются
в следующем, 111 фрагменте.
4. Т.е. мною новых частных познаний, а тем самым и
множество новых внутренних и внешних благ и преимуществ. Ср. Bergk, 1.
1. р. 65, который, однако, суживает значение этого фрагмента,
отмечая в нем лишь один теоретико-познавательный момент.
5. Духовные стяжания, внутренние приобретения.
6. Αυτά γαρ αυξει ταύτ' εις ήθος εκαστον: ввиду неясности
буквального выражения, умышленно прибегаю к несколько более
вольной передаче.
7. Т. е. сообразно с тем, чем каждое из них вызывается, что
каждому из них объективно соответствует: οττηι φύσις εστίν έκάστωι
— соб.: где у каждого из них происхождение. Ср. фрагм. 106: προς
τταρεόν yap μήτις άέξεται άνθρώττοισιν.
8. Γ'
9. Άμβλύνουσι μέριμνας— ср. фрагм. 2, ст. 2.
10. «Зти преходящие, суетные приобретения.
11. Смысл: тленные блага, которых, обыкновенно, добиваются
люди, скоропреходящи, так как они ежеминутно готовы ускользнуть
из рук, разложившись на те первичные элементы, из соединения
которых они возникли.
12. Πάντα γάρϊσθι φρόνησιν εχειν και νώματος αισαν: т.е.
предначертанная судьбою закономерность, роковая связь и
последовательность явлений, объективно-разумная причинность, — говоря
современным языком.
Ш. [К. 424 — 428, St. 24 — 32, Μ. 462 — 470].
Ты узнаешь все, какие только есть, целебные средства,
предохраняющие от недугов и от старости, так как для одного только
тебя сделаю я все это. Будешь прекращать ярость неутомимых
ветров, которые, устремляясь на землю, губят (своими) порывами
нивы; и опять, если пожелаешь, ты возбудишь (их) вознаграждаю-
120
///. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
щее (раньше причиненный вред) дыхание. После мрачного ненастья
будешь доставлять людям благовременное вёдро, а после летней
засухи будешь доставлять питающие деревья потоки (дождя),
которые и прольются из (небесного) эфира; а также будешь возвращать
из Аида душу 1 усопшего человека.
1. Μένος — соб.: жизненная сила, жизнь, что совпадает с
понятием ψυχή.
В): отрывки из "Очищений".
112. [К. 389 — 400, St. 352 — 363, Μ. 397 — 408].
Друзья, вы, которые обитаете акрополь великого града
золотистого Акраганта ^ (вы) пекущиеся о благих делах, (вы)
дающие приют почтенным чужестранцам 2, (вы) неведающие
порока, — привет вам! Я шествую среди вас бессмертным богом, а уже
не смертным (человеком), в почете у всех 3, как то и надлежит,
кругом увенчанный перевязями и зеленеющими гирляндами. Когда я
вместе с ними, мужами и женами 4, прибываю в цветущие грады,
меня окружает благоговейное поклонение. И они несметною толпою
следуют за мной, вопрошая, где стезя (ведущая) к пользе, одни —
имея нужду в прорицаниях, другие же стараются услышать
целительное от различных недугов слово, подлинно долго терзаемые
тяжкими страданиями.
1. Т.е. золотистого холма, на котором расположен Акрагас.
2. Перевожу по блестяще обоснованной коньектуре Bergk'a р.
6: ξείνων αιδοίων, вм. рукописного: ξείνων αιδοΐοι.
3. Как видно из дальнейшего (ст. 7 — 8), здесь нужно
разуметь окружающую философа толпу, которая выходит навстречу ему
из города.
4. Единственно правильное, на мой взгляд, толкование,
предложенное Diels'oM; τοΐσιν αμ' указывает на предшествующее μετά
ττάσι и поясняется следующим: άνδράσιν ήδέ γυναιξί.
ИЗ. [К. 401 — 402, St. 364 — 365, Μ. 409 — 410].
Однако к чему я настаиваю на этом, точно я совершаю какое-
то великое дело, если превосхожу смертных людей, которым на
каждом шагу грозит пагуба!
121
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
114. [К. 407 — 409, St. 366 — 368, Μ. 411 — 413].
Друзья! я знаю, что истина лежит в глаголах, которые я
изреку; но ведь, воистину ^ тяжело и трудно 2 бывает для людей
внедрение в (их) ум (какого-либо нового, чуждого им дотоле)
убеждения.
1. Μάλα.
2. Δύσζηλος — соб.: затруднено завистью,
подозрительностью. В переводе невозможно точно передать этот оттенок.
115. [К. 1 — 6, 16 — 19, 7 — 8, St. 369 — 382, Μ. 1 —
8, 32 — 3d, 9 — 10].
Существует вещее слово 1 Необходимости, древнее
постановление богов, вечное, закрепленное всеобъемлющими 2 клятвами: если
кто греховно осквернит свои члены кровавым убийством 3 или, со-
делав преступление, поклянется ложною клятвой (кто-либо из
тех), которым выпала на долю долговечная жизнь в образе
демонов4, — тот 5 трижды десять тысяч времен должен скитаться 6 вдали
от блаженных, рождаясь время от времени в различных видах
тленных созданий, меняя (один за другим) тяжкие пути жизни. Ибо
ярость эфира гонит его 7 в море, море извергает на поверхность
земли, земля — в сияние яркого солнца, а оно (солнце) бросает в
вихри эфира. Один воспринимает из другого 8, но все гнушаются
(великим грешником). — К числу их 9 принадлежу ныне и я,
изгнанник богов и скиталец, доверившийся неистовой Вражде.
1. Χρήμα = то κεχρημένον, efratum, vaticinium — Diels.
2. Πλατέεσσι — ср. фрагм. 30, ст. 3.
3. Φόνωι αίματος — лучшее, на мой взгляд, дополнение
безнадежно испорченного, .стиха, предложенное Stein'oM и принятое
Fairbanks'oM.
4. Δαίμονες οϊτε κιλ.: т.е. кто-либо из людей, которые, хотя и
смертны, однако живут после кончины в образе демонов, правда —
не вечно, но очень долго: μακραίωνος λελάχασι βίοιο.
5. Μίν: не вижу достаточного основания понимать, вместе с
Diels'oM, это μίν как αΰτους и сохранять поэтому в начале
следующего стиха текст Гипполита (Ref. VII, 29 р. 249) φυομένους, вм.
естественно ожидаемого φυόμενον. Если параллельно с φ — ους мы
имеем в рукописном предании (Celsus apud Origen. с. Cels. VIII, 53)
форму γινομένην, то, очевидно, с полным правом можно принять
столь незначительную поправку, как φυ — ον вм. φυ — ους. Мно-
122
HL Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
жественное число δαίμονες из предыдущего стиха нисколько этому
не противоречит.
6. Άλάλησθαι: — infinitivus зависит от ψήφισμα в 1-ом стихе
— конструкция, которую неудобно сохранить в русском языке, и
потому в переводе она заменена самостоятельной конструкцией, с
прибавлением для сохранения оттенка слова "должен".
7. Σφέ нередко употребляется как винительный единственного.
8. Т.е. одна стихия из другой.
9. Таких падших демонов.
116. [К. 69, St. 232, Μ. — ].
Любовь 1 ненавидит труднопереносимую Необходимость.
1. Χάρις — соб.: милость, расположение, вм. обычной формы:
Φιλότης.
117. [К. 380 — 381, St. 383 — 384, Μ. И — 12].
Ибо я уже был некогда отооком, и девою, и кустом, и птицей,
а также и немою морскою рыбой. ~
118. [К. 13, St. 385, Μ. 17].
Я плакал и рыдал, узрев непривычную мне область.
119. [К. И — 12, St. 390 — 391, Μ. 15 — 16].
От какой чести и от сколь великого блаженства (свергнут я
сюда, на землю, и обращаюсь среди смертных) *.
1. Второй стих представляет из себя предложенную Karsten'oM
реконструкцию прозаической парафразы Клементия (Strom. IV, 12
р. 569 Pott.).
120. [К. 31, St. 392, Μ. 29].
Пришли мы в эту закрытую пещеру *...
1. Ύπ' — соб.: под своды этой закрытой пещеры: так
называет философ подлунный мир. — По свидетельству Порфирия (De
antro nymph. 8 p. 6l, 19 Nauck), вышеприведенные слова произносят
"душеводительные силы" — αϊ ψυχοπομποί δυνάμεις. Отсюда множ.
число — "мы".
121. [К. 13, 21 — 22, St. 385 — 388, Μ. 18 — 21].
123
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
...Безотрадную область, где Убийство и Злоба и сонмы других
Бед, изнуряющие недуги и язвы и тщетные начинания 1 блуждают
во мраке над лугами Пагубы 2.
1. "Εργα τε ρευστά, т.е. бесплодные, недостигающие цели
труды и сопряженные с ними страдания. Таково, по-видимому,
наиболее естественное толкование этих слов.
2. "Ατής: русское "пагуба", на мой взгляд, лучше всего
передает все оттенки греческого ατη, заключая в себе субъективный
момент наряду с объективным: грозное божество "Ατη "губит"
человека не непосредственно, но посредственно, наводя на него "пагубное"
умопомешательство.
122. [К. 24 — 27, St. 393 — 396, Μ. 22 — 25].
Там 1 находились 2: Хтония и дальнозоркая Гелиопа 3,
кровавая Борьба и степенная Гармония, Красота и Безобразие,
Торопливость и Медлительность, милая Ясность и мрачноокая 4
Непонятность.
1. В той мрачной области, в той пещере (фрагм. 120), куда
попала душа философа, лишившись прежнего блаженства.
2. Далее следует попарное перечисление тех взаимно
противоположных "душеводительных сил" (αϊ ψυχοπομποι δυνάμεις, см.
примеч. к фрагм. 120), тех, говоря позднейшим языком, добрых и злых
гениев (μοΐραι και δαίμονες — Plut. De tranquill, anim. 15 p. 474 В),
которые сопровождают душу в ее печальном скитании по земной
юдоли.
3. Т. е. земное божество, пригвождающее человека к грубым,
низменным интересам дольнего существования — с одной стороны,
и небесное, сол!*енное божество, поднимающее взор его горе — с
другой. Ср. Mullach comm. in h. v.
4. Μελάγκουρος — понимаю как μέλας + κουρη.
123. [К. 28 — 30, St. 397 — 399, Μ. 26 — 28].
...Рождение и Смерть, Сон и Бодрствование, Движение и
Неподвижность, многовенчанное Величие и Низость *, Молчание и
знаменательный Глас 2...
1. Φορύη — соб.: грязь.
2. Όμφαίη.
124. [К. 14 — 15, St. 400 — 401, Μ. 30 — 31].
124
///. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
Увы! о жалкий, о злополучный род смертных: из каких
распрей и воздыханий вы возникли!
125. [К. 378, St. 404, Μ. 416].
Из живых стала делать мертвецов 1, изменяя их вид.
1. Подразумевается, вероятно, смерть — ττότμος.
126. [К. 379, St. 402, Μ. 414].
{Природа), облачающая {людей) чуждою одеждою плоти }...
1. Речь идет о метемпсихозе.
127. [К. 382 — 383, St. 438 — 439, Μ. 448 — 449].
Они 1 становятся горнологовищными, спящими на голой земле
львами среди зверей и .лаврами среди лепокудрых деревьев.
1. Люди, души которых обречены на скитание.
128. [К. 368 — 377, St. 405 — 414, Μ. 417 — 426].
И не было у них 1 никакого бога Ареса, ни Кидема 2, ни царя
Зевса, ни Кроноса, ни Посейдона, но была только царица Киприда.
Ее они умилостивляли благоговейными приношениями 3,
живописными картинами, искусно приготовленными благовонными елеями,
жертвами из чистого мирта и благоухающего ладана, делая
возлияния бурого меда на землю. Но (их) алтарь не обагрялся
чистою кровью быков; напротив, величайшею гнусностью считалось
это среди людей, — исторгнув душу (животных), пожирать (их)
крепкие члены.
1. У людей золотого века.
2. Κυδοιμός — бог смятения битвы.
3. Άγάλμασιν — приношения вообще, по преимуществу же
скульптурные.
129. [К. 440 — 445, St. 415 — 420, Μ. 427 — 432].
Был среди них 1 некий муж необычайных познаний, который
воистину приобрел обширнейшее богатство разума, обладая в самой
высокой степени 2 разнообразною мудростию. Ибо всякий раз как
он напрягал всю силу своего ума, он без труда созерцал отдельные 5
явления 3 всего существующего даже за десять и за двадцать
человеческих поколений.
125
Генрих Яку б анис. ЭМПЕДОКЛ
1. Невозможно с уверенностью сказать, о какой группе людей
идет здесь речь, как неизвестно и то, к какому мужу древности
относится этот восторженный панегирик. Древние видели в нем
Парменида (Diog. Laert. VIII, 54) или, что более правдоподобно,
Пифагора (Porphyr. V Pyth. 30 и др.). Новейшие ученые
склоняются на сторону того или другого толкования, причем Diels слово
κείνοισιν предположительно поясняет так: "fortasse casus viris prisco
more ab animalibus abstinentibus". Burnet относит всю эту тираду к
Орфею.
На мой взгляд, здесь возможно двоякое предположение: или
Эмпедокл вообще не имел в виду никакой определенной личности, а
просто желал представить в этом удивительном муже мифический
прототип себя самого, как мыслителя, пророка и нравоучителя; или,
имея в виду Пифагора и сознательно допуская оправдываемый
легендарными сказаниями о самосском мудреце (ср. Rohde "Psyche"
И3 417 f.) и вообще столь извинительный для поэта анахронизм, он
переносит его в те отдаленные времена, когда люди крепко еще
держались любовных заветов Киприды и, внимая высокой проповеди
нравоучителя, с ужасом отвращались от мясной пищи. — Таким
образом, в обоих случаях εν κείνοισιν следует относить к той эпохе,
о которой шла речь в предыдущем, 128 фрагменте, начало которого, к
тому же, тождественно по выражению с началом данного фрагмента.
2. Та (коньектура Bergk'a 1.1. р. 30, вм. рукописного τε)
μάλιστα... έτπήρανος.
3. "Εκαστον.
130. [К. 364 — 365, St. 421 — 422, Μ. 433 — 434].
Все твари 1 были ручными и благорасположенными к людям,
как звери, так и птицы; и {повсюду) процветало 2 дружелюбие.
1. Πάντα — по смыслу.
2. Δεδήει — соб.: возгорелось.
131. [К. — , St. 338 — 341, Μ. 383 — 386].
Если по поводу краткодневных существ 1 ты, о бессмертная
Муза, благоволила 2 непрестанно пещись 3 о наших начинаниях, то
не покидай же меня, умоляю, и ныне, Каллиона, когда я готовлюсь
поведать доброе слово о блаженных богах.
1. Т.е. пока шла речь о краткодневных существах/ Перевожу
по коньектуре Schneidewin'a (у Diels'a) — τί σοι, вм. рукописного
τινός.
126
III. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
2. "Εμελεν — восполняю по догадке того же Schneidewin'a.
3. Δια φροντίδος έλθεΐν =φροντίζειν с оттенком длительности, что
выражается русским "непрестанно".
132. [К.354 — 355, St. 342 — 343, Μ. 387 — 388].
Блажен, кто приобрел богатство божественного разума, и
жалок, кто довольствуется темным понятием о богах.
133. [К. 356 — 358, St. 344 — 346, Μ. 389 — 391].
Его {божество) нельзя приблизить к себе и {таким
образом) сделать доступным зрению наших очей, ни осязать руками, где
собственно 1 и пролегает самый широкий и удобный путь 2 для
проникновения убеждения в сердца людей.
1. 7Ηπερ, т.е. в зрительных и осязательных ощущениях.
2. Μεγίστη... αμαξιτός.
134. [К. 359 — 363, St. 347 — 351, Μ. 392 — 396].
Ибо оно {божество) не снабжено возвышающейся над
{остальными) членами человеческой головой, и {у него) не
поднимаются из спины две ветви, и нет у него ни ступней,* ни
проворных колен, ни волосатых частей ^ но оно лишь дух святой и
несказанный 2, обегающий быстрыми мыслями все мироздание.
1. Ср. фрагм. 29.
2. Φρήν ιερή και άθέσφατος.
135. [К. 404 — 405, St. 426 — 427, Μ. 438 — 439].
Но этот всеобщий закон 1 простирается непрерывно по
широковластвующему эфиру и неизмеримому свету 2.
ΝΒ. Другие издатели (Mullach, Fairbanks) приводят в начале
этого фрагмента еще один стих, гадательно восстановленный из слов
Аристотеля (Rhet. А 13. 1373b6) Sturz'oM и Karsten'oM: ου πέλεται
τοις μεν θεμιτον τόδε, τοις δ'όθέμιστον = не то чтобы это (т.е.
проливание крови животных) было законно для одних и незаконно
для других...
1. По которому нечестиво проливать кровь какого бы то ни
было живого существа.
2. Διά τ' εύρυμέδοντος αιθέρος ήνεκέως τέταται διά τ' άπλετου
αυγής, т.е. по всей вообще вселенной. — Так, думается мне, следует
понимать этот пресловутый стих, подавший повод к столь разно-
127
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
речивым толкованиям: одни комментаторы, напр. Stein, понимают
αίθήρ как "небо", а αύγη как "воздух"; другие, как Mullach,
наоборот: αίθήρ переводят латинским "аёг", а άπλετος αυγή чрез "immen-
sum coeli lumen" и т.д.
На мой взгляд, философ в данном случае не разграничивает
строго отдельных мирообразующих стихий, а хочет лишь дать
поэтическое описание понятия "вселенной" в общих чертах. Поэтому
он и употребляет неопределенный термин αίθήρ, не обозначающий у
него какой-либо одной строго определенной стихии, но применяемый
одинаково и к огню и к воздуху, т.е. к двум наиболее легким и удо-
боподвижным стихиям, которые в силу этих своих качеств и
занимают в его космогонии верхние, т.е. крайние пределы вселенной.
Термин же αυγή вообще не служит названием какой-либо стихии,
но, выражая лишь одно из проявлений стихии огня, значит просто
"блеск , "озаряющее вселенную сияние" (ср. фрагм. 21, ст. 4), что
по-русски, как мне кажется, удобнее всего передать
неопределенным, имеющим двоякое значение, термином "свет".
136. [К. 416 — 417, St. 428 — 429, Μ. 440 — 441].
Неужели вы не прекратите ужасного кровопролития?
Неужели вы не замечаете, что в бесконечности ума вы пожираете друг
друга?
137. [К. 410 — 415, St. 430 — 435, Μ. 442 — 447].
Отец, схватив своего собственного сына, изменившего (лишь
внешний) образ, закалывает его с молитвою, великий безумец!
Они 1 приступают с мольбами к палачу 2, но он, не внемля (их)
крикам, закалывает (их) и готовит в чертогах отвратительное
пиршество. Точно так же сын, схватив отца, и дети — мать, исторг- 5
нув (из них) душу, пожирают свою собственную 3 плоть.
1. Οι δ'. Наиболее вероятное толкование с убедительной
ссылкой на пятый стих дает Diels: под οι δ' нужно разуметь других
изменивших образ детей, которые, по-видимому, упоминались в
предыдущих, не сохранившихся стихах.
2. Θύοντος — необходимая поправка G.Hermann'a, вместо
рукописного θύοντες. — Diels следует коньектуре Wilamowitz'a
θύοντας, которая, на мой взгляд, дает худший смысл: отец сам
приносит ужасную жертву, и к нему-то и обращают свои мольбы его
злополучные чада.
3. Т.е. близкую, родную.
128
III. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
138. [К. — , St. — , Ж — ι
Медью зачерпнув душу }...
1. Образ становится понятным, если припомнить, что душа, по
Эмпедоклу, заключается в крови.
139. [К. 9 — 10, St. 436 — 437, Μ. 13 — 14].
О горе мне, что не раньше уничтожил меня безжалостный
день, чем решились мои губы на дерзко-преступное дело (мясной)
пищи!
140. [К. 419, St. 440, Μ. 450].
(Следует) совершенно воздерживаться от (Фебовых)
листьев лавра 1.
1. Перевожу по реконструкции Diels'a: δάφνης Φοιβείων
φύλλων απο ττάμπαν εχεσθαι.
141. [Κ. 418, St. 441, Μ. 451].
Несчастные, о трижды несчастные, удаляйте (ваши) руки от
бобов! 1
1. Любопытно аллегорическое толкование этого стиха ν Геллия
(IV, 11. 9): "...κυάμους hoc in loco testiculos significare..., iacircoque
hmpedoclen versu isto поп a fabulo edendo, sed a rei venerei proluvio
voluisse homines deducere" (!).
142. [K. — , St. — , M. — ].
Его ! не усладят 2 ни крытые чертоги эгидодержавного Зевса,
ни... чертог 3...
1. Вероятно, нечестивца, проливающего кровь животных.
2. Т.е. не примут, закрыты для него.
3. Второй стих безнадежно испорчен.
143. [К. 422 — 423, St. 442 — 443, Μ. 452 — 453].
(Следует очищаться), почерпнув 1 в несокрушимую медь
(воды) от пяти источников.
1. Ταμόντ'. По объяснению Аристотеля (Poet. 21 р. 1457ь 13):
ενταύθα yap то μεν άρύσαι ταμεΐν, το δε ταμεΐν άρύσαι εϊρηκεν.
9 4-141
129
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
144. [К. 406, St. 444, Μ. 454].
Не вкушать от порока А...
1. Νηστευσαι κακότητος — соб.: поститься...
145. [К. 420 — 421, St. 445 — 446, Μ. 455—456].
Итак, беснуясь от пагубных пороков, вы никогда не облегчите
душу от жестоких скорбей.
146. [К. 384 — 386, St. 447 — 449, Μ. 457 — 459].
А под конец бывают они 1 у живущих на земле людей
прорицателями, певцами гимнов 2, врачами и вождями, откуда (они
уже) возносятся до 3 величаемых высочайшими почестями богов.
1. Переживающие метемпсихоз существа.
2. Т.е. поэтами вообще.
3. Άναβλαστούσι — соб.: произрастают в образе...
147. [К. 387 — 388, St. 450 — 451, Μ. 460 — 461].
Сожительствуя и сотрапезничая с другими бессмертными,
свободные от человеческих скорбей, не ведающие злой смерти ^ бес-
страдальные...
1. Άπόκηροι — коньектура Scaliger'a, вм. рукописного
απόκληροι: души-демоны, уподобляясь богам во всех других
отношениях, должны обладать также и относительным бессмертием этих
последних.
148. 149. 150. [К. 453, St. 403, 243, Μ. 415, 306].
(Эмпедокл называет тело) облекающею смертных землею...
(воздух) тучесобирателем... (а) печень полнокровною λ.
1. Plut. Quaest. conviv. V 8,2 p. 683 Ε.
151. [К. p. 347, St. — , Μ. — ].
Хлебодательная λ...
1. Ζείδωρος— подраз.: Афродита.
152. [К. 455, St. — , Μ. — ].
(Вечер) — старость дня.
130
III. Прозаический перевод фрагментов. Комментарии
\ЪЪ. [К. 455, St. — , Μ. — ].
Брюхо ϊ...
1. Βαυβώ = κοιλία. По объяснению Гезихия: βαυβώ: τιθήνη
Δήμητρος σημαίνει δε και κοιλίαν ώς παρ' Έμπεδοκλεΐ. — Diels
замечает: * nomen illustratur absonis illis figuris figlinis, quae in templo Cereris
Prienensi 1899 inventae sunt caput enim eis deest, venter cum inguine
muliebri tamquam os ornatur".
153a. [По изд. 1903 года Die Fragm. der Vorsokrat. К. — ,
St. — , Μ. — ].
(Зародыш развивается до степени наружного сходства с
будущим живым существом) в течение семи недель...
С): Отрывок сомнительной подлинности.
154. [К. — , St. — , Μ. — ].
...(Солнце) стало правильно заходить *, а затем снова
совершать свой круговой путь, наполнив его 2 плодоносными,
увенчанными раскрывающимися почками (растений), Временами года;
земля же не знала меры 3...
1. Δύσιν εκρινεν — соб.: стало выделять, определять
захождение.
2. Т.е. свой путь — δρόμον или, что то же, время этого пути,
т.е. год.
3. Ύβριστο.
D): Стихи, ложно приписываемые Эмпедоклу.
155. [К. 439, St. р. 18, М. 477 — 478].
Телавг, славный сын Феано и Пифагора!
9*
131
Генрих Якубанис. ЭМПЕДОКЛ
156. [К. 435 — 439, St. р. 9, М. 473 — 476].
Отечественная Гела вскормила врача, по прозванию Павзания *,
сына Анхита, мужа из рода Асклепия, который (Павзаний) многих
удручаемых тяжкими немощами мужей отвратил от сокровенных
чертогов Персефоны.
1. Παυσανίης = παύων την άνίαν — Mullach.
157. [К. 433 — 434, St. Р. 9, Μ. 471 — 472].
Лучшего врача Акрагантинца Акрона, (сына) лучшего отца *,
скрывает высокий курган в высочайшей отчизне 2.
1. Πατρός άκρου — Mullach; или: сына отца Акра — πατρός
"Ακρου — Diels.
2. В подлиннике непереводимая, построенная на аллитерации,
игра слов:
"Ακρον ίατρόν "Ακρων' 'Ακραγαντΐνον πατρός "Α(α)κρου
κρύπτει κρτρνδς άκρος πατρίδος ακρότατης.
158. [Κ. — , St. 389, Μ. — ].
Лишенный жизни...
159. [К. — , St. 145, Μ. 181].
Скученная величина...
ПРИЛОЖЕНИЕ
Греческий текст отрывков из поэм Эмпедокла "Очищения" и "О
природе" печатается по XVIII изданию "Фрагментов досократинов"
Дильса—Кранца (репринт VI издания: Die Fragmente der Vorsokratiker.
Griechisch und Deutsch von H.Diels /Hrsg. v. W. Kranz. — Zürich, 1989.
— Bd.I) с сокращениями. Выбор фрагментов определялся прозаическим
переводом Генриха Якубаниса. Приводимые Дильсом более поздние
контексты, в которых дошли до нас эти фрагменты, опущены. Случаи
расхождения перевода и оригинального текста некоторых отрьюков,
обусловленные, по большей части, различиями между публикуемой редакцией и
редакцией, по которой был выполнен перевод, оговорены в примечаниях.
Α) Εμπεδοκλέους περί φύσεως
(Отрывки из поэмы "О природе")
1 Παυσανίη, συ δε κλυθι, δαΐφρονος Άγχίτευ υιέ.
2 στεινωποι μεν γαρ παλάμαι κατά γυΐα κέχυνται*
ττολλά δε δείλ' εμπαια, τά τ'αμβλύνουσι μέριμνας,
παυρον δε ζωής ιδίου μέρος άθρησαντες
ώκύμοροι καπνοΐο δίκην άρθέντες άπέπταν
αυτό μόνον πεισθέντες, 3τωι προσέκυρσεν έκαστος
πάντοσ'έλαυνόμενοι, το δ'δλον <ττάς> ε'ύχεται εύρεΐν
οΰτως ουτ' έπιδερκτά τάδ' άνδρά6ιν ουδ' έπακουστά
ούτε νόωι περιληπτά. ab δ'ουν, έττει ώδ' έλιάσθης,
πεΰσεαι ού ττλέον ήέ βροτείη μήτις ορωρεν.
3 άλλα κακοΐς^ μεν καρτά μέλει κρατέουσιν άπιστεΐν*
ώς δε παρ' ημέτερης κέλεται 7πστώματα Μ ούσης,
γνώθι διασσιιθέντος ένι σπλάγχνοισι λόγοιο/
4 άλλα θεοί των μεν μανίην αποτρέψατε γλώσσιις,
έκ δ'δσίων στομάτων καθαρήν όχετεύσατε ττηγήν.
και σέ, ττολυμνήστη λευκώλενε παρθένε Μούσα,
άντομαι, ών θέμις έστιν έφημερίοισιν άκούειν,
πέμπε παρ'Εύσεβίης έλάουσ' εύήνιον άρμα.
μηδέ σέ γ'εύδόξοιο βιήσεται άνθεα τιμής
Данный фрагмент в переводе Г.Якубаниса помещен под номером 5.
133
ПРИЛОЖЕНИЕ
προς θνητών άνελέσθαι, έφ' ώι θ' ό σίης πλέον ειπείν
θάρσεϊ και τότε δη σοφίης έπ'ακροισι θοάζειν.
άλλ'άγ'άθρει πάσηι παλάμηι, πήι δήλον εκαστον,
μήτε τι δψιν έχων πίστει πλέον ή κατ' άκουήν
ή άκοήν έρίδουπον υπέρ τρανώματα γλώσσης,
μήτε τι τών άλλων, όπόσηι πόρος έστι νοήσαι,
γυίων πίστιν έρυκε, νόει θ' ήι δήλον εκαστον.
5 στεγάσαι φρενός ελλοπος εϊσω. *
6 τέσσαρα γαρ πάντων ριζώματα πρώτον άκουε*
Ζευς αργής "Ηρη τε φερέσβιος ήδ' ' Αιδωνεύς
Νήστίς θ', ή δακρύοις τέγγει κρούνωμα βρότειον.
7 άγένητα: στοιχεία.
8 άλλο δέ τοι έρέω· φύσις ούδενύς εστίν απάντων
θνητών, ουδέ τις ουλομένου θανάτοιο τελευτή,
άλλα μόνον μίξις τε διάλλαξίς τε μιγέντων
εστί, φύσις δ'έπΐ τοις ονομάζεται άνθρώποισιν.
9 οι δ' #τε μεν κατά φώτα μιγέντ' εις αίθέρ' ϊ <κωνται> (?)
ή κατά θηρών άγροτέρων γένος ή κατά θάμνων
ήέ κατ' οιωνών, τότε μεν το <λέγουσι> γενέσθαι,
εδτε δ' άποκρινθώσι, το δ' αυ δυσδαίμονα πότμον
ή θέμις <ού> καλέουσι, νόμωι δ' έπίφημι και αυτός.
10 θάνατον... άλοίτην...
11 νήπιοι' ου γάρ σφιν δολιχόφρονές είσι μέριμναι,
οι δή γίγνεσθαι πάρος ουκ έόν έλπίζουσιν
ή τι καταθνήισκειν τε και έξόλλυσθαι άπάντηι.
12 εκ τε γάρ ούδάμ' έόντος άμήχανόν έστι γενέσθαι
καί τ' έόν έξαπολέσθαι άνήνυστον και άΊτυστον
αίει γάρ τήι γ' εσται, οπηι κέ τις αίέν έρείδηι.
13 ο6δέ τι του παντός κενεόν πέλει ουδέ περισσόν.
14 του παντός δ' οδδέν κενεόν πόθεν ούν τί κ' έπέλθοι;
15 ουκ αν άνήρ τοιαύτα σοφός φρεσι μαντεύσαιτο,
ώς οφρα μέν τε βιώσι, το δή βίοτον καλέουσι,
τόφρα μέν οΐν είσίν, καί σφιν πάρα δειλά και έσθλά,
πριν δέ πάγεν τε βροτοι και <έπει> λύθεν, ουδέν άρ' εισιν.
16 ήι γάρ και πάρος έσκε (?), και εσσεται, ουδέ ποτ', οϊω,
Перевод этого фрагмента см. под номером 3.
134
ПРИЛОЖЕНИЕ
τούτων αμφοτέρων κενεώσεται άσττετος αιών.
17 δίπλ' έρέω'τοτέ μεν γαρ εν ηύξήθη μόνον είναι
εκ πλεόνων, τοτέ δ' αδ διέφυ πλέον' εξ ενός είναι,
δοιή δε θνιιτών γένεσις, δοιή δ' άπόλειψις*
την μεν γαρ πάντων σύνοδος τίκτει τ' όλέκει τε,
ή δέ πάλιν διαφυομένων θρεφθεΐσα διέπτη. *
και ταυτ'άλλάσσοντα διαμπερές ούδαμά λήγει,
άλλοτε μέν Φιλότητι συνερχόμεν' εις εν άπαντα,
άλλοτε δ'αυ δίχ' έκαστα φορεύμενα Νείκεος έχθει.
<οί5τως ηι μέν εν έκ πλεόνων μεμάθηκε φύεσθαι>
ήδέ πάλιν διαφύντος ενός πλέον' έκτελέθουσι,
τήι μέν γίγνονταί τε και oÜ σφισιν £μπεδος αιών*
ί^ι δέ διαλλάσσοντα διαμπερές ούδαμά λήγει,
ταύτηι δ'αίέν εασιν ακίνητοι κατά κύκλον.
άλλ'άγε μύθων κλυθι'μάθη γάρ τοι φρένας αύξεΓ
ώς γαρ και πριν έειπα πιφαύσκων πείρατα μύθων,
δίπλ' έρέω'τοτέ μέν γάρ εν ηύξήθη μόνογ είναι
έκ πλεόνων, τοτέ δ' αΐ> διέφυ πλέον' έξ ενός εΐναι,
πυρ και 15δωρ και γαία και ήέρος άπλετον υψος,
Νεΐκός τ'ούλόμενον δίχα των, άτάλαντον άπάντηι,
και Φιλότης έν τοΐσιν, ϊση μήκος τε πλάτος τε*
τήν συ νόωι δέρκευ, μηδ' Ομμασχν ήσο τεθηπώς*
τιτις και θνητοΐσι νομίζεται έμφυτος άρθροις,
τήι τε φίλα φρονέουσι και άρθμια έργα τελουσι,
Γηθοσύνην καλέοντες έπώνυμον ήδ' ' Αφροδίτην*
τήν ο15 τις μετά τοΐσιν έλισσομένιιν δεδάηκε
θνιιτός άνήρ'συ δ*άκουε λόγου στόλον ουκ άπατηλόν.
ταύτα γάρ ισά τε πάντα και ηλικα γένναν εασι,
τιμής δ' άλλης άλλο μέδει, πάρα δ' ήθος έκάστωι,
έν δέ μέρει κρατέουσι περιπλομένοιο χρόνοιο.
και προς τοις οϊ5τ' άρ τέ τι γίνεται δυτ' άπολήγεΓ
εϊτε γάρ έφθείροντο διαμπερές, ούκέτ' άν ήσαν*
τούτο δ'έπαυξήσειε το πάν τί κε; και πόθεν έλθόν;
πήι δέ κε κήξαπόλοιτο, έπει τώνδ' ουδέν έρημον;
άλλ' αύτ(ά) εστίν ταύτα, δι' αλλήλων δέ θέοντα
γίγνεται άλλοτε άλλα και ήνεκές αίέν όμοια.
18 Φιλίη.
19 σχεδύνην Φιλότητα.
20 τούτο μέν άν βροτέων μελέων άριδείκετον δγκον*
άλλοτε μέν Φιλότητι συνερχόμεν' εις εν άπαντα
135
ПРИЛОЖЕНИЕ
γυΐα, τα σώμα λέλογχε, βίου θαλέθοντος εν άκμήΓ
άλλοτε δ' αδτε κακήισι διατμηθέντ' Έρίδεσσι
πλάζεται άνδιχ' έκαστα περίρρηγμΐνι βίοιο.
ώς δ' αυτως θάμνοισι και ίχθύσιν ύδρομελάθροις
θηρσί τ' όρειλεχέεσσιν ίδέ τττεροβάμοσι κύμβαις.
21 άλλ' άγε, τόνδ' όάρων προτέρων έπιμάρτυρα δέρκευ,
ει τι και εν προτέροισι λιπόξυλον επλετο μορφήι,
ήέλιον μεν λευκόν όράν και θερμόν άττάντηι,
άμβροτα δ' ό'σσ' εϊδει τε και άργέτι δεύεται αύγήι,
δμβρον δ' εν ττάσι δνοφόεντά τε ριγαλέον τε*
εκ δ' αϊης προρέουσι θελεμνά τε και στερεωπά.
εν δε Κότωι διάμορφα και άνδιχα πάντα πέλονται,
σύν δ' εβη εν Φιλότητι και άλλήλοισι ποθείται,
εκ τούτων γαρ πάνθ' οσα τ' ην δ'σα τ' εστί και εσται,
δένδρεά τ' έβλάστησε και άνέρες ήδέ γυναϊκες,
θήρες τ' οιωνοί τε και ύδατοθρέμμονες ίχθυς,
καί τε θεοί δολιχαίωνες τιμήισι φέριστοι.
αυτά γαρ εστίν ταύτα, δΓ αλλήλων δε θέοντα
γίγνεται άλλοιωπά' τόσον δια κρήσις αμείβει.
22 άρθμια μεν γαρ ταύτα εαυτών πάντα μέρεσσιν,
ήλέκτωρ τε χθων τε και ουρανός ήδέ θάλασσα,
8Όσα φιν έν θνητοΐσιν άποπλαχθέντα πέφυκεν.
ώς δ' αυτως δσα κρήσιν έπαρκέα μάλλον έασιν,
άλλήλοις εστερκται δμοιωθέντ' Άφροδίτηι.
έχθρα <δ' ά> πλείστον άπ' αλλήλων διέχουσι μάλιστα
γέννιιι τε κρήσει τε και εϊδεσιν έκμάκτοισι,
πάντηι συγγίνεσθαι άήθεα και μάλα λυγρά
Νείκεος έννεσίηισιν, όΧτι σφίσι γένναν εοργεν (?).
23 ώς δ' οπόταν γραφέεςαναθήματα ποικίλλωσιν
άνέρες άμφι τέχνης υπό μήτιος ει) δεδαώτε,
οϊτ' έπει οδν μάρψωσι πολύχροα φάρμακα χερσίν,
άρμονίηι μείξαντε τά μέν πλέω, άλλα δ' έλάσσω,
έκ των εϊδεα πάσιν άλίγκια πορσύνουσι,
δένδρεά τε κτίζοντε και άνέρας ήδέ γυναίκας
θήρας τ' οιωνούς τε και υδατοθρέμμογας ίχθυς
καί τε θεούς δολιχαίωνας τιμήισι φερίστους*
ούτω μή σ' άπατη φρένα καινύτω άλλοθεν είναι
θνητών, 8σσα γε δήλα γεγάκασιν άσπετα, πηγήν,
άλλα τορώς ταυτ' ϊσθι, θεού πάρα μυθον άκουσας.
24 κορυφάς ετέρας έτέρηισι προσάπτων
136
ПРИЛОЖЕНИЕ
μύθων μη τελέειν άτραπόν μίαν...
25 ... και δις γάρ, ο δει, καλόν έστιν ένισπεΐν,
26 εν δε μέρει κρατέουσι περιπλομένοιο κύκλοιο,
και φθίνει εις άλληλα και αυξεται εν μέρει αϊσης.
αυτά γαρ εστίν ταύτα, δΓ αλλήλων δε θέοντα
γίνοντ(αι) άνθρωποι τε και άλλων εθνεα θηρών
άλλοτε μεν Φιλότητι συνερχόμεν* εις ένα κόσμον,
άλλοτε δ' αϊ δίχ' έκαστα φορούμενα Νείκεος έχθει,
είσόκεν έν συμφύντα το πάν ύπένερθε γένηται.
οβτως ηι μεν εν εκ πλεόνων μεμάθηκε φύεσθαι
ήδέ πάλιν διαφύντος ενός πλέον' έκτελέθουσι,
τήι μεν γίγνονταί τε και ου σφισιν εμπεδος αιών*
ηι δε τάδ' άλλάσσοντα διαμπερές ούδαμά λήγει,
ταύτηι δ' αίέν εασιν ακίνητοι κατά κύκλον.
27ένθ' οοτ' ήελίοιο διείδεται ώκέα γυΐα
ουδέ μέν ούδ' αϊης λάσιον μένος ουδέ θάλασσα*
ούτως f Αρμονίης πυκινώι κρύφωι έστήρικται
Σφαΐρος κυκλοτερής μονίηι περιηγέι γαίων.
28 άλλ' ο γε πάντοθενΐσος <έοΐ> και πάμπαν απείρων
Σφαΐρος κυκλοτερής μονίηι περιηγέι γαίων.
29 ου γάρ άπό νώτοιο δύο κλάδοι άίσσονται,
ου πόδες, ου θοά γούν(α), ου μήδεα γεννήεντα,
άλλα σφαΐρος έην και <πάντοθεν> ίσος έαυτώι.
30 αύτάρ έπει μέγα Νεΐκος ένιμμελέεσσιν έθρέφθη
ές τιμάς τ' άνόρουσε τελειομένοιο χρόνοιο,
δς σφιν αμοιβαίος πλατέος παρ' έλήλαται όρκου...
31 πάντα γάρ έξείης πελεμίζετο γυΐα θεοΐο.
32 δύω δέει άρθρον (?).
33 ώς δ' δτ' οπός γάλα λευκόν έγόμφωσεν και εδησε...
34 άλφιτον δδατι κολλήσας...
35 αύτάρ έγώ παλίνορσος έλεύσομαι ές πόρον ύμνων,
τον πρότερον κατέλεξα, λόγου λόγον έξοχετεύων,
κεΐνον* έπει Νεΐκος μέν ένέρτατον ϊκετο βένθος
δίνης, έν δέ μέσηι Φιλότης στροφάλιγγι γένηται,
έν τήι δή τάδε πάντα <τυνέρχεται έν μόνον είναι,
ούκ άφαρ, άλλα θελημά συνιστάμεν' άλλοθεν άλλα.
των δέ τε μισγομένων χεΐτ' εθνεα μυρία θνητών (?)#
137
ПРИЛОЖЕНИЕ
πολλά δ' άμεικτ' εστηκε κεραιομένοισιν εναλλάξ,
οσσ' ετι Νεΐκος ερυκε μετάρσιον ου γαρ άμεμφέως
των πάν έξέστηκεν έπ' έσχατα τέρματα κύκλου,
άλλα τα μεν τ' ένέμιμνε μελέων τα δε τ' έξεβεβήκει.
δσσον δ* αιέν ύπεκπροθέοι, τόσον αίέν έττήιει
ήπιόφρων Φιλότητος άμεμφέος άμβροτος ορμή·
αιψα δε θνήτ' έφύοντο, τα πριν μάθον άθάνατ' είναι,
ζωρά τε τα πριν ακρητα διαλλάξαντα κελεύθους.
των δε τε μισγομένων χεϊτ' εθνεα μύρια θνητών,
παντοι'αις ίδέηισιν άρηρο'τα, θαυμά ίδέσθαι.
36 των δε συνερχομένων εξ εσχατον ϊστατο Νεΐκος.
37 αοξει δε χθων μεν σφέτερον δέμας αιθέρα δ' αίθήρ.
38 ει δ' άγε τοι λέξω πρώθ' *}*ήλιον άρχήν^
εξ c5v δηλ' έγένοντο τα νυν έσορώμεν ατταντα,
γαΐά τε και πόντος πολυκύμων ήδ' υγρός αήρ
Τιτάν ήδ' αιθήρ σφιγγών περί κύκλονάπαντα.
39 εϊπερ άπείρονα γης τε βάθη και δαψιλός αίθήρ,
ώς δια πολλών δή γλώσσας έλθόντα ματαίως
έκκέχυται στομάτων ολίγον του παντός ίδόντων...
40 "Ηλιος όξυβελής ήδ' ιλάειρα Σελήνη.
41 άλλ' ό μεν άλισθεις μέγαν ούρανόν άμφιπολεύει.
42 άπεστέγασεν δέ οί αύγάς,
εστ' αν ϊηι καθύπερθεν, άπεσκνίφωσε δε γαίης
τόσσον δσον τ' εδρος γλαυκώπιδος επλετο μήνιις.
43 ώς αυγή τύψασα σεληναίης κύκλον εύρύν...
44 άνταυγεΐ προς 'Όλυμπον άταρβήτοισι προσώποις.
45 κυκλοτερές περί γαΐαν ελίσσεται άλλότριον φώς.
46 άρματος ώς πέρι χνοίη ελίσσεται ή τε παρ' άκρην...(?)
47 άθρεΐ μεν γαρ άνακτος εναντίον άγέα κύκλον.
48 νύκτα δε γαία τίθησιν υφισταμένη φαέεσσι
<ήελίου>.
49 νυκτός έρημαίης άλαώπιδος...
50 τΙρις δ' εκ πελάγους άνεμον φέρει ή μέγαν όμβρον.
51 καρπαλίμωςδ' άνόπαιον...
52 πολλά δ' ενερθ(ε) ουδεος Ίτυρά καίεται.
53 οοτω γάρ συνέκυρσε θέων τοτέ πολλάκι δ' άλλως.
138
ПРИЛОЖЕНИЕ
54 αιθήρ <δ' αυ> μακρήισι κατά χθόνα δύετο βίζαις.
55 γής ιδρώτα θάλασσαν.
56 αλς έπάγη ριπήισιν έωσμένος ήελίοιο.
57 ήι πολλαι μεν κόρσαι άναύχενες έβλάστησαν,
γυμνοί δ' έττλάζοντο βραχίονες ευνιδες ώμων,
ομματά τ' οΐ<α> έπλανάτο πενητεύοντα μετώπων.
58 'μουνομελή γυια ... έπλανάτο...
59 αύτάρ έπει κατά μείζον έμίσγετο δαίμονι δαίμων,
ταυτά τε'συμπίπτεσκον, οπηι συνέκυρσεν έκαστα,
άλλα τε προς τοις ττολλά διηνεκή έξεγένοντο.
60είλίποδ' άκριτόχειρα...
61 ττολλά μεν άμφιπρόσωπα και άμφίστερνα φύεσθαι,
βουγενή άνδρόττρωιρα, τά δ' έμπαλιν έξανατέλλειν
άνδροφυή βούκρανα, μεμειγμένα τήι μεν απ' ανδρών
τήι δε γυναικοφυή σκιεροΐς ήσκημένα γυίοις.
62 νδν δ' ay', 'όπως ανδρών τε πολυκλαύτων τε γυναικών
έννυχίους δρπηκας ανήγαγε κρινόμενον πυρ,
τώνδε κλύ'· об γάρ μύθος άπόσκοπος ούδ' άδαήμων.
ούλοφυεΐς μεν πρώτα τύποι χθονός έξανέτελλον,
αμφοτέρων βδατός τε και εϊδεος αΐσαν έχοντες*
τους μεν πυρ άνέπεμπε θέλον προς δμοΐον ίκέσθαι,
οοτε τί πω μελέων έρατόν δέμας εμφαίνοντας
οδτ' ένοττήν οΐόν τ' έπιχώριον άνδράσι γυΐον.
63 αλλά διέσπασται μελέων φύσις" ή μεν εν ανδρός...
"64 τώι δ' έπΐ και πόθος εΐσι δΓ δψιος άμμιμνήισκων(?).
65 εν δ' έχύθη καθαροΐσι* τά μεν τελέθουσι γυναίκες
ψύχεος άντιάσαντα <τά δ* εμπαλιν άρρενα θερμου>.
66 σχιστούς λειμώνας... 'Αφροδίτης.
67 εν γάρ θερμοτέρωι^τοκάς άρρενος επλετο γαστήρ(?)#
και μέλανες διά τούτο και άδρομελέστεροι άνδρες
και λαχνήεντες μάλλον.
68 μηνός εν <5γδοάτου δεκάτηι πύον επλετο λευκόν.
69 δίγονοι.
70 άμνίον.
71 ει δέ τί σοι περί τώνδε λιπόξυλος επλετο πίστις,
139
ПРИЛОЖЕНИЕ
πώς ύδατος γαίης τε και αιθέρος ήελίου τε
κιρναμένων είδη τε γενοίατο χροιά τε θνητών
τόσσ', δσα νυν γεγάασι συναρμοσθέντ' ' Αφροδίτηι...
72 πώς και δένδρεα μακρά και είνάλιοι καμασήνες...
73 ως δε τότε χθόνα Κύπρις, έττεί τ' έδίηνεν εν ό'μβρωι,
εϊδεα ποιπνύουσα θοώι πυρι δώκε κρατυναι...
74 φΰλον άμουσον άγουσα πολυσττερέων καμασήνων.
75 των δ' δ'σ' έσω μεν πυκνά τα δ' εκτοθι μανά πέπηγε,
Κύπριδος εν παλάμηισι πλάδης τοιήσδε τυχόντα...
• 76 τοΟτο μεν εν κόγχαισι θαλασσονόμων βαρυνώτοις,
ναι μην κηρύκων τε λιθορρίνων χελύων τε*
ένθ' όψει χθόνα χρωτός υπέρτατα ναιετάουσαν.
77 έμπεδόφυλλον...
78 <δένδρεα δ'> έμπεδόφυλλα και έμπεδόκαρπα τέθηλεν
καρπών άφθονίηισι κατ' ήέρα πάντ' ένιαυτόν.
79 ούτω δ' ώιοτοκεΐ μακρά δένδρεα πρώτον έλαίας...
80 ουνεκεν όψίγονοί τε σίδαι και ύπέρφλοια μήλα...
81 οίνος από φλοιού πέλεται σαπέν εν ξύλωι ύδωρ.
82 ταύτα τρίχες και φύλλα και οιωνών πτερά πυκνά
και λεπίδες γίγνονται έπα στιβαροϊσι μέλεσσιν.
83 αύτάρ έχίνοις
όξυβελεΐς χαΐται νώτοις έπιπεφρίκασι.
84 ώς δ' οτε τις πρόοδον νοέων ώπλίσσατο λύχνον
χειμερίην διά νύκτα, πυρός σέλας αιθομένοιο,
άψας παντοίων άνεμων λαμπτήρας άμοργούς,
οι τ' ανέμων μεν πνεύμα διασκιδνάσιν άέντων,
φώς δ'εξω διαθρώισκον, όσον ταναώτερον ήεν,
λάμπεσκεν κατά βηλόν άτειρέσιν άκτίνεσσιν*
ώς δε τότ' έν μήνιγξιν έεργμένον ώγύγιον ττυρ
λεπτήισίν <τ'> όθόνηισι λοχάζετο κύκλοπα κούρην,
<αϊ> χοάνηισι δίαντα τετρήατο θεσπεσίηισιν*
αι δ' οδατος μεν βένθος άπέστεγον άμφιναέντος,
ττυρ δ' εξω διίεσκον, όσον ταναώτερον ήεν.
85 ή δε φλόξ ιλάειρα μινυνθαδίης τύχε γαίης.
86έξώνδμματ' επηξεν άτειρέα δι' 'Αφροδίτη.
87 γόμφοις άσκησα σα καταστόργοις 'Αφροδίτη.
140
ПРИЛОЖЕНИЕ
88 μία γίγνεται αμφοτέρων οψ.
89 γνούς, δτι πάντων εισαν άπορροαί, δ'σσ' έγένοντο...
90 ως γλυκύ μεν γλυκύ μάρπτε, τηκρόν δ' έπα τηκρόν δρουσεν,
οξύ δ' έπ' όξύ εβη, δαερόνδ' έποχεΐτο δαηρώι.
91 οϊνωι... μάλλον ένάρθμιον, αύτάρ έλαίωι
ουκ έθέλει.
92 ...τώι καττιτέρωι μειχθέντα τον χαλκόν...
...<τήν μίξιν> οϊνου και ύδατος... *
93 βύσσωι δε γλαυκής κόκκος καταμίσγεται ακτής...
94 ei niger in fundo fluvii color exstat ab umbra,
atque cavernosus .iiidem spectatur in antns.
95 Κύπριδος, φησίν, έν παλάμηισιν οτε ξύμ ττρώτ' έφύοντο.
96 ή δε χθων έπίηρος έν εύστέρνοις χοάνοισι
τώ δύο των οκτώ μερέων λάχε Νήστιδος αίγλης,
τέσσαρα δ' *Ηφαίστοιο*τά δ' όστέα λευκά γένοντο
*Αρμονίης κόλληισιν άρηρότα θεσπεσίηθεν.
97 τήν ράχιν...
98 g δέ χθων τούτοισιν ϊσιι συνέκυρσε μάλιστα,
Ηφαίστωι τ'όμβροοι τε και αίθέρι τταμφανόωντι,
Κύπριδος όρμισθεΐσα τελείοις έν λιμένεσσιν,
εϊτ' ολίγον μείζων εϊτε πλεόνεσσιν (?) έλάσσων*
έκ των αΐμά τε γέντο και άλλης εϊδεα σαρκός.
99 κώδων. σάρκινος δζος.
100 ώδε δ' άναΊΓνεΐ πάντα και έκπνεΓ πα σι λίφαιμοι
σαρκών σύριγγες πύματον κατά σώμα τέτανται,
καί σφιν έπι στομίοις πυκιναΐς τέτρηνται άλοξιν
ρινών έσχατα τέρθρα διαμπερές, ώστε φόνον μέν
κεύθειν, αίθέρι δ' εύπορίην διόδοισι τετμήσθαι.
ένθεν επειθ' οπόταν μέν άπαΐξηι τέρεν αίμα,
αιθήρ παφλάζων καταίσσεται οϊδματι μάργωι,
εύτε δ' άναθρώισκηι, πάλιν έκ7Γνέει, ώσπερ δταν παις
κλεψύδρηι παίζουσα διειπετέος χαλκοΐο —
ευτε μέν αυλού πορθμόν έπ' εύειδεΐ χέρι θεΐσα
εις ύδατος βάπτηισι τέρεν δέμας άργυφέοιο,
ούδεις άγγοσδ' δμβρος έσέρχεται, άλλα μιν εϊργει
Выражение "поры и насты" (ττόροι και ναστά), приводимое Якубанисом в этом
фрагменте, у Дильса отсутствует.
ПРИЛОЖЕНИЕ
αέρος όγκος έσωθε πεσών έτη τρήματα πυκνά,
εισόκ' άττοστεγάστιι ττυκινόν ρόον* αύτάρ έπειτα
πνεύματος ελλείποντος έσέρχεται αϊσιμον ύδωρ.
ώς δ' αυτως, Οθ' ύδωρ μεν εχηι κατά βένθεα χαλκού
πορθμού χωσθέντος βροτέωι χροΐ ήδέ πόροιο, —
αίθήρ δ' έκτος εσω λελιημένος ό'μβρον έρύκει,
άμφι πύλας ήθμοΐο δυσιιχέος άκρα κρατύνων,
εισόκε χειρί μεθήι, τότε δ' αυ πάλιν, εμπαλιν ή πριν,
πνεύματος εμπίπτοντος ΰπεκθέει αϊσιμον 6δωρ.
ώς δ' αυτως τέρεν αίμα κλαδασσόμενον δια γυίων
δππότε μέν παλίνορσον άπαΐξειε μυχόνδε,
αιθέρος ευθύς ρεύμα κατέρχεται οϊδματι θΰον,
εοτε δ' άναθρώισκηι, πάλιν εκπνέει Ισον όπίσσω.
101 κέρματα θηρείων μελέων μυκτήρσιν ερευνών,
<ζώονθ'> δσσ' (?) άπέλειπε ποδών άπαλήι περί ποίηι...
102 ώδε μέν ο$ν πνοιής τε λελόγχασι πάντα και οσμών.
103 τήιδε μέν ουν ίότητι Τύχης πεφρόνηκεν άπαντα.
104 και καθ' όσον μέν αραιότατα ξυνέκυρσε πεσόντα...
105 αίματος έν πελάγεσσι τεθραμμένη άντιθορόντος,
τήι τε νόημα μάλιστα κικλήσκεται άνθρώποισιν
αίμα γάρ άνθρώποις περικάρδιόν έστι νόημα.
106 προς παρεόν γάρ μήτις άέξεται άνθρώποισιν.
107 έκ τούτων <γάρ> πάντα πεπήγασιν άρμοσθέντα
και τούτοις φρονέουσι και ήδοντ' ήδ' άνιώνται.
108 δσσον <γ'> άλλοΐοι μετέφυν, τόσον άρ σφισιν αίεί
και το φρονεΐν άλλοΐα παρίσταται...
109 γαίηι μέν γάρ γαΐαν όπώπαμεν, υδατι δ'βδωρ,
αιθέρι δ' αιθέρα δΐον, άτάρ πυρι 7τυρ άίδηλον,
στοργήν δέ στοργήι, νεΐκος δέ τε νείκεϊ λυγρώι.
110 ει γάρ κέν σφ' άδινήισιν υπό πραπίδεσσιν έρείσας
εύμενέως καθαρήισιν έποπτεύσηις μελέτηισιν,
ταυτά τέ σοι μάλα πάντα δΓ αιώνος παρέσονται,
άλλα τε πόλλ' άπό τώνδ' έκτήσεαΓ αυτά γάρ αίίξει
ταΰτ' εις ήθος εκαστον, οττη φύσις έστιν έκάστωι.
ει δέ σύ γ' άλλοίων έπορέξεαι, οία κατ' άνδρας
μυρία δειλά πέλονται ά τ' άμβλύνουσι μέριμνας,
ή σ' άφαρ έκλείψουσι περιπλομένοιο χρόνοιο
σφών αυτών ποθέοντα φίλην έπι γένναν ίκέσθαΓ
πάντα γάρ ϊσθι φρόνιισιν έχειν και νώματος αΐσαν.
142
ПРИЛОЖЕНИЕ
111 φάρμακα δ' ό'σσα γεγάσι κακών και γήραος άλκαρ
ττεύσηι, έπει μούνωι σοι εγώ κρανέω τάδε ττάντα.
τταύσεις δ' ακαμάτων άνεμων μένος οι τ' έτη γαΐαν
όρνύμενοι ττνοιαϊσι καταφθινύθουσιν άρούρας'
και ττάλιν, ην έθέληισθα, παλίντιτα πνεύματ(α) έπάξεις
θήσεις δ' εξ δμβροιο κελαινού καίριον αύχμόν
άνθρώποις, θήσεις δε και εξ αύχμοΐο θερείου
ρεύματα δενδρεόθρεπτα, τά τ' αιθέρι ναιήσονται(?),
άξεις δ' εξ ' Αίδαο καταφθιμένου μένος ανδρός.
Β) ΚΑΘΑΡΜΟΙ
(Отрывки из поэмы «Очищения»)
112 ώ φίλοι, οι μέγα άστυ κατά ξανθού 'Ακράγαντος
ναίετ' άν' άκρα ττόλεος, αγαθών μελεδήμονες έργων,
ξείνων αίδοΐοι λιμένες, κακότητος άπειροι,
χαίρετ"έγώ δ' ύμΐν θεός άμβροτος, ούκέτι θνητός
ττωλεΰμαι μετά πάσι τετιμένος, ώσπερ εοικα,
ταινίαις τε περίστεπτος στέφεσίν τε θαλείοις.
τοΐσιν1*άμ^ άνϊκωμαι ες άστεα τηλεθάοντα,
άνδράσιν ήδέ γυναιξί, σεβίζομαι'οί δ' άμ' έπονται
μυρίοι έξερέοντες, δπηι προς κέρδος άταρπός,
οι μεν μαντοσυνέων κεχρημένοι, οι δ' έτη νούσων
παντοίων έττύθοντο κλυεΐν εύηκέα βάξιν,
δηρόν δη χαλεπήισι πεπαρμένοι <άμφ' όδύνιιισιν>.
113 άλλα τί τοΐσδ' έπίκειμ' ώσει μέγα χρήμα τι πράσσων,
ει θνητών περίειμι πολυφθερέων ανθρώπων;
114 S3 φίλοι, οιδα μεν ουνεκ' άληθείη πάρα μύθοις,
ους εγώ έξερέω# μάλα δ' άργαλέη γε τέτυκται
άνδράσι και δύσζηλος επί φρένα πίστιος ορμή.
115 εστίν Ανάγκης χρήμα, θεών ψήφισμα παλαιόν,
άίδιον, πλατέεσσι κατεσφρηγισμένον δ'ρκοις*
ευτέ τις άμπλακίηισι φόνωι φίλα γυΐα μιήνιιι,
<νείκεΐθ'> δς κ(ε) έτπορκον άμαρτήσας έπομόσσηι,
δαίμονες οϊτε μακραίωνος λελάχασι βίοιο,
τρίς μιν μυρίας ώρας άπό μακάρων άλάλησθαι,
φυομένους παντοία δια χρόνου εϊδεα θνητών
άργαλέας βιότοιο μεταλλάσσοντα κελεύθους.
αιθέριον μεν γάρ σφε μένος πόντονδε διώκει,
πόντος δ' ες χθονός οδδας άπέπτυσε, γαία δ' ες αύγάς
ήελίου φαέθοντος, δ δ' αιθέρος εμβαλε δίναις*
άλλος δ' εξ άλλου δέχεται, στυγέουσι δε πάντες.
143
ПРИЛОЖЕНИЕ
των και εγώ νυν ειμί, φυγάς θεόθεν και αλήτης,
νείκεΐ μαινομένωι πίσυνος.
116 Χάριτος στυγέει δύστλητον Ανάγκην.
117 ήδη γάρ ττοτ' εγώ γενόμην κουρός τε κόρη τε
θάμνος τ' οιωνός τε και εξαλος ελλοττος ιχθύς.
118 κλαύσά τε και κώκυσα ίδών άσυνήθεα χώρον.
119 εξ οϊης τιμής τε και δσσου μήκεος δλβου...
120 ήλύθομεντόδ' υπ' άντρονυπόστεγον...
121 ... άτερπέα χώρον,
ένθα Φόνος τε Κότος τε και άλλων εθνεα Κηρών
αύχμηραί τε Νόσοι και Σήψιες έργα τε βευστά
"Ατής άν λειμώνα κατά σκότος ήλάσκουσιν.
122 ένθ'ήσανΧθονίη τε και Ήλιόπη ταναώτπς,
Δήρίς θ' αίματόεσσα και Άρμονίη θεμερώτπς,
Καλλιστώ τ'Αίσχρή τε, Θόωσά τε Δηναίη τε,
Νημερτήςτ' έρόεσσα μελάγκουρός τ' 'Ασάφεια.
123 Φυσώ τε Φθιμένη τε, και Εύναίη και 'Έγερσις,
Κινώ τ' ' Αστεμφής τε, ττολυστέφανός τε Μεγιστώ
και Φορύη, Σωττή τε και Όμφαίη...
124 & 7Γ07ΓΟΙ, ω δειλόν θνιιτών γένος, ώ δυσάνολβον,
τοίων εκ τ' ερίδων εκ τε στοναχών έγένεσθε.
125 εκ μεν γάρ ζωών έτίθει νεκρά εϊδε' αμείβων,
<έκ δε νεκρών ζώοντα>.
126 σαρκών άλλογνώτι ττεριστέλλουσα χιτώνι.
127 εν θήρεσσι λέοντες όρειλεχέες χαμαιευναι
γίγνονται, δάφναι δ' ένι δένδρεσιν ήυκόμοισιν.
128 ουδέ τις ην κείνοισιν "Αρης θεός ουδέ Κυδοιμός
ουδέ Ζευς βασιλεύς ουδέ Κρόνος ουδέ Ποσειδών,
αλλά Κύττρις βασίλεια.
τήν οι γ' εύσεβέεσσιν άγάλμασιν ίλάσκόντο
γραπτοΐς τε ζώιοισι μύροισί τε δαιδαλεόδμοις
σμύρνης τ' άκρήτου θυσίαις λιβάνου τε θυώδους,
ξανθών τε σπονδάς μελίτων ρίπτοντες ές ουδαςΦ
ταύρων δ' άκρήτοισι φόνοις ού δεύετο βωμός,
άλλα μύσος τουτ' εσκεν έν άνθρώποισι μέγιστον,
θυμόν άπορραίσαντας έ<ν>έδμεναι ήέα γυΐα.
129 ην δέ τις έν κείνοισιν άνήρ περιώσια είδώς,
ό'ς δή μήκιστον 7Γρα7πδων έκτήσατο πλοΰτον,
144
ПРИЛОЖЕНИЕ
παντοίων τε μάλιστα σοφών <τ'> έπιήρανός έργων*
οππότε γάρ πάσηισιν όρέξαιτο πραπίδεσσιν,
ρεΓ δ γε των δντων ττάντων λεύσσεσκεν εκαστον
καί τε δέκ' ανθρώπων καί τ' εϊκοσιν αιώνεσσιν.
130 ήσαν δε κτίλα πάντα και άνθρώποισι προσιινή,
θήρες τ' οιωνοί τε, φιλοφροσύνη τε δεδήει.
131 ει γαρ εφημερίων ένεκεν τινός, άμβροτε Μοΰσα,
ημετέρας μελετάς <άδε τοι> δια φροντίδος έλθεΐν,
εύχομένωι νυν αδτε παρίστασο, Καλλιόπεια,
άμφι θεών μακάρων αγαθόν λόγον έμφαίνοντι.
132 όλβιος, ό'ς θείων πραπίδων έκτήσατο πλουτον,
δειλός δ', ώι σκοτόεσσα θεών πέρι δόξα μέμηλεν.
133 ουκ εστίν πελάσασθαι εν οφθαλμοίσιν έφικτόν
ήμετέροις ή χερσι λαβείν, ήιπέρ τε μεγίστη
πειθούς άνθρωποι σιν αμαξιτός εις φρένα πίπτει.
134 ουδέ γαρ άνδρομέηι κεφαλήι κατά γυΐα κέκασται,
ου μεν άπαι νώτοιο δύο κλάδοι άίσσονΤαι,
ού πόδες, ου θοά γοΰν(α), ού μήδεα λαχνήεντα,
άλλα φρήν ιερή και άθέσφατος έπλετο μουνον,
φροντίσι κόσμον άπαντα καταΐσσουσα θοήισιν.
135 άλλα το μεν πάντων νόμιμον διά τ' εύρυμέδοντος
αιθέρος ήνεκέως τέταται διά τ' άπλετου αυγής...
136 ού παύσεσθε φόνοιο δυσηχέος; ουκ έσοράτε
αλλήλους δάπτοντες άκηδείηισι νόοιο;
137 μορφήν δ' άλλάξαντα πατήρ φίλον υίόν άείρας
σφάζει έπευχόμενος μέγα νήπιος* οί δ' άπορευνται
λισσόμενον θύοντες* όδ' αδ νήκουστος όμοκλέων
σφάξας εν μεγάροισι κακήν άλεγύνατο δαΐτα.
ως δ' αύτως πατέρ' υιός ελών και μητέρα παίδες
θυμόν άπορραίσαντε φίλας κατά σάρκας εδουσιν.
138 χαλκώι άπό ψυχήν άρύσας...
139 οϊμοι δτι ού πρόσθεν με διώλεσε νηλεές ήμαρ,
πριν σχέτλΓ έργα βοράς περί χείλεσι μητίσασθαι.
140 δάφνιις φύλλων άπο πάμπαν εχεσθαι.
141 δειλοί, πάνδειλοι, κυάμων άπο χείρας εχεσθαι.
142 τον δ' ούτ' άρ τε Διός τέγεοι δόμοι αιγ <ιόχοιο>
<ού> τε... τέγος...
10 4-141
145
ПРИЛОЖЕНИЕ
143 κρηνάων άπο πέντε ταμόντ' <έν> άτειρέι χαλκώι...
144 ... νηστεΰσαι κακότητος.
145 τοιγάρτοι χαλεττήισιν άλύοντες κακότησιν
ουττοτε δειλαίων άχέων λωφήσετε θυμόν.
146 εις δε τέλος μάντεις τε και ύμνοπόλοι και ίητροί
και πρόμοι άνθρωποι σι ν έτπχθονίοισι πέλονται,
ένθεν άναβλαστουσι θεοί τιμήισι φέριστοι.
147 άθανάτοις άλλοισιν δμέστιοι, αύτοτράττεζοι
έόντες, ανδρείων άχέων απόκληροι, άτειρεΐς.
148,149,150... άμφιβρότηνχθόνα. αέρα ...νεφεληγερέτιιν.πολιχχιματον
ήπαρ.
151 ζείδωρος... 'Αφροδίτη*.
152 ...γήρας ημέρας.
153 βαυβώ.
С) Отрывок сомнительной подлинности
154 ...και δύσιν εκρινεν, περί δ(έ) ήγαγεν αδθις όττίσσω
καρποφόροισιν έπιστέψας καλυκοστεφάνοισιν
"Ωραις, γήδ' ύβριστο ...
D) Стихи, ложно приписываемые Эмпедоклу
155 Τήλαυγες, κλυτέ κοΰρε Θεανούς Πυθαγόρεω τε.
156 Παυσανίην ίητρόν έπώνυμον ' Αγχίτεω υίόν
φώτ' ' Ασκλη7πάδην πατρίς έθρεψε Γέλα,
8ς πολλούς μογεροΐσι μαραινομένους καμάτοισιν
φώτας άπέστρεψεν Φερσεφόνης άδυτων.
157 άκρον ίατρόν "Ακρων' ' Ακραγαντΐνον πατρός "Ακρου
κρύπτει κρημνός άκρος πατρίδος ακρότατης.
158 αιώνος άμερθείς.
159 σωρευόμενον μέγεθος...
В отличие от перевода, в данной редакции имя Афродиты, к которой
относится эпитет "хлебо дательная" (ζείδωρος), включено непосредственно в текст
фрагмента.
ΟΜΣΡΤΟ
»ΜΠΣΔΟΚΛΑ
1ЕЛ515151515151511
51515151515151
51515151515151
мщ^^^пш
I1BE15151515151J3I
10*
ДРАМА
в двух актах (перевод Я.Э.Голосовкера)
УЧАСТНИКИ
Эмпедокл.
Гермократ — жрец.
К ρ и τ и й — архонт.
Павзаний — ученик Эмпедокла.
Π а н τ е я — жрица Весты, дочь Крития.
Рея — ее подруга, жрица Весты.
Д е л и я .
Крестьянин.
1-й Агригентянин.
2-й Агригентянин.
3-й Агригентянин.
1-йД
2-й/ рабы Эмпедокла.
3-й'
Толпа граждан.
148
jgjgjjgjjjjlgj^
АКТ ПЕРВЫЙ
Агригент. Перед садом Эмпедокла. Две жрицы Весты:
Π а н т е я, Рея.
Пантея
Вот его сад. Там в потаенном сумраке, где бьет
ключ, там стоял он недавно, когда я проходила мимо! —
Ты никогда не видела его?
Рея
Могла ли я? Только вчера я прибыла с отцом в
Сицилию. Но некогда, еще ребенком, я видела его на
колеснице во время олимпийских игр. О нем тогда так
много говорили, и навсегда запомнилось мне его имя.
Пантея
Вот ты теперь взглянула 6 на него! Теперь! Говорят:
растения льнут к нему, где он ступает, и подземные
воды пробиваются, где земли коснется его посох! Как
этому не быть! А когда в грозу он смотрит на небо —
туча разделяется, и ясный день проглядывает. Но что
слова! Увидеть ты должна его! Мгновение взглянуть —
и прочь! Сама я избегаю встречи с ним: могучая всепре-
ображающая сила в нем.
Рея
С другими как живет он? не понять мне,
Что в этом человеке?
Знает и-он, как мы, пустые дни,
149
ГЁЛЬДЕРЛИН
Когда себя ничтожным мнит и старым?
Умеет он, как человек, страдать?
Пантея
Ах! Когда в последний раз его
Под сенью тех дерев я видела,
Мне думается, горе знал — божественный!
В тоске неизъяснимой, скорбно взыскуя
Взглядом, как тот, кто много потерял,
Он приникал к земле, то ввысь сквозь сумрак
Рощи глядел, как если б в синедаль
Вдруг отлетела жизнь его и скорбь
Владычного лица, мне сердце бурное
Перевернула — как! и ты закатишься,
Прекрасная звезда! и ждать недолго.
О предчувствие!
Рея
Но мне скажи, Пантея;
Ты говорила с ним когда?
Пантея
О, что напомнила о том? Недавно я при смерти
лежала в недуге. Уж сумерками зыбился мне ясный день
и, как бездушный тенеобраз, качаясь, скользил по
солнцу мир. Тогда отец, хотя и непреклонный враг мужа
высокого, в день безнадежный для меня, призвал его,
тайноведца природы. И когда дивный подал мне
целебное питье, и слились в волшебстве примирения
враждующие во мне силы жизни и, будто возвратившись к не-
думию сладостного детства, спала я наяву много дней
подряд, почти что не дыша. Когда впервые на свежем
воздухе все существо мое раскрылось вновь навстречу
давно утраченному миру, и глаза по-детски любопытно
распахнулись к сиянью дня — он, Эмпедокл, предо мной
стоял! О, как божественен был он! Как близок мне! В
улыбке глаз его вновь расцвела для меня жизнь! Ах! будто
облако утреннее навстречу мое сердце потекло
высокому, сладостному свету, и нежным отсветом его была я.
Рея
О, Пантея!
150
Смерть Элтедокла
Пантея
Звук из его груди! Дрожанье всех мелодий в каждом
слове! И духа мощь при слове! У ног его сидела 6 я
часами, как ученица, как его дитя, чтобы в эфир его
глядеться, возликовать к нему, пока в его небесной высоте
не потерялся б разум.
Рея
Что б он сказал, о, милая, то слыша?
Пантея
Не слышит он. В кругу своей вселенной
Живет он вольно. Меж своих цветов
легко проходит он
В божественном покое. Ветерки
Счастливого не смеют потревожить.
Безмолвен мир пред ним. Сама собой
В нем крепнет мощью радость вдохновенья,
Пока из творческих восторгов ночи,
Как искра, мысль не выпрыгнет, — тогда
Грядущих подвигов к душе напором духи,
Мир, треволненья жизни трудолюда,
Природы тишина — так явны вдруг!
Тогда он бог среди родной стихии,
И яство — песнь небесная ему.
Теперь в народ он идет — в дни, когда,
Перекипая площадей броженье
К могучему в бессилии взовет.
Тогда он правит, кормчий-властелин,
И кажет выход бурному кипенью.
Но только наглядятся вдоволь, чуть
Они привыкнут к вечно чуждому,
Уже готовы, — нет его! ушел!
Под сень листвы сманил его мир тихий
Растений: там отрадней быть ему,
Туда влечет таинственная жизнь,
Избытком сил сопричащаясь с ним.
Рея
О, говорунья, знание откуда?
ГЁЛЬДЕРЛНН
Пантея
О нем все дума. Сколько дум еще
О нем мне передумать. Ах! что в том,
Когда проникну? Быть им — значит жить.
А мы? Мы прочие? Мы — только
сновиденье жизни той.
Не мало мне Павзаний, друг его,
Порассказал о нем. Что день встречает
Его тот юноша: Юпитера орел
Не горже, чем Павзаний — и по праву горд.
Рея
О, милая, я не корю за слово,
И все ж в душе неизъяснима грусть.
Хотела 6 быть как ты, и не хотела 6,
И вновь хочу. Вы все ли таковы
На этом острове? Есть и у нас
Мужи великие на радость, и один
Теперь афинянкам сияет солнцем:
Софокл! Меж смертных всех
Ему впервые дивная природа
Открылась дев, его душа далась
Воспоминаньем чистым. —
И каждая хотела 6 мыслью быть,
Быть мыслью дивного и грезит: юность
Вечнопрекрасную, пока она не блекнет,
Спасти, передарив душе поэта.
И думает, пытает: кто ж из дев
Сурово-нежная та героида града,
Прообраз чей пред ним витал? Да, кто,
Кто Антигона? — Мир для нас в сияньи,
Светлей чело, как только друг богов
В день ясный празднества в театр вступит.
Но беспечально мы упоены.
Так сокрушаться сердцем — никогда!
До гибели свергаясь в поклоненье.
Собой ты жертвуешь, — мне ль не понять!
Он сверхвелик, и ты не устояла.
К безмерному безмерна и любовь.
Но не помочь ему! тебе самой,
Его погибель преданаменованье,
И ты, ужель! О, доброе дитя,
Погибнешь с ним?
152
Смерть Эмпедокла
Π антея
Мне гордость не внушай!
И за меня, как за него, не бойся.
Нет, я не он! И если гибнет он,
Его погибель быть моей не может:
Ибо и смерть великих велика.
И мнит оруженосец вслед герою
Пройти сквозь пламень рока заодно —
Избранником он должен быть, как тот,
Что этот муж претерпит, о, поверь!
То претерпеть дано ему — не мне.
И если б он противу всех богов
Мог прегрешить и гнев их на себя
Навлек, и я грешить хотела б,
Как он, чтоб участь равную нести,
То было б так, как если б кто чужой
Вмешался в спор двух любящих.
— Что хочешь? — (Заговори вдруг боги!) —
Ты, глупая, нас оскорбить, как он,
Не в силах.
Рея
Думаю, ты мнишь себя
Ничтожней, чем ты есть: не то, скажи,
Влечение откуда?
Π антея
Ах, голубка!
Но мне то знать откуда, почему
Я вся его? — Тебе 6 его увидеть!
Вот если б вышел из дому. (Охотно
Он в этот час по роще вечноюной
Гуляет, чуть день свеж на миг, как он.),
О только бы, как он пройдет, взглянуть!
Не правда ль, то желанье! лучше 6 мне
Отвыкнуть от желаний! Ах, не люба
Мольба нетерпеливая богам.
И правы! Что они, желанья...
Отныне — никогда! Но ведь должна же
Надеяться; вы добрые? И ничего
Нет у меня — есть только он.
Хотела б вас молить я, как другие,
153
ГЁЛЬДЕРЛИН
ать вёдро, дождь... О, если 6 я могла!
, вечность тайны! Что мы есть, что ищем —
То не находим. Что находим —
Увы! не мы. О, сколько в этом часе!
Рея
Там твой отец идет. Взгляни, не знаю,
Остаться нам? Уйти?
Пантея
Что говоришь?
Мой отец? Скорее прочь отсюда!
Kpumuu-Архонт, Гермократ жрец
Гермократ
Кто там идет?
Критий
Как будто моя дочь
И с ней подруга, гостя дочь. Вчера
Его под кров я принял, Гермократ.
Гермократ
Случайность? Или тоже, как народ,
Ищут его и верят, что исчез он?
Критий
Молва чудесная навряд ли докатилась
До слуха дочери. Но и она, как те,
Вся за него. Уйди
В пустыню он, уйди в леса иль за море далеко,
Сквозь землю провались, куда 6 его
Ни унесла безудержная мысль.
Гермократ
Пустое! Дай взглянуть им на него,
И дикий бред от них — как ни бывало.
154
&
Смерть ЭмпеЪокла
Критий
Но где он?
Гермократ
Где? Недалеко от нас,
Сидит потерянный во мраке. Боги
Отняли силу в тот день у него,
Когда себя он в опьяненьи темном
Перед народом богом возгласил.
Критий
Народ, что вождь! Он пьян! он нем и глух
И к голосу закона и нужды.
Им суд — не суд! Обряды старины
Средь клокота галдежного нелепиц,
Как мирный брег под пенною волной.
Разгульным праздником все дни глядят:
Всем праздникам он праздник, и багов
В нем скромность празднеств растворилась,
Всеомрачающим порывом бурь
Окутал он и твердь и небо,
Сам вызвал непогоду, чародей,
И в логово укрывшись, в тишину,
Любуется и торжествует в духе.
Гермократ
Душой могуч был этот муж меж вас.
Критий
Да говорю, все нипочем народу:
Он! Только он! Он даст им все! Ну да,
Он бог их, царь! Я сам стоял пред ним
В стыде, потерянный, когда от смерти
Мое дитя он спас. Но кто же он г*
Ты как разгадываешь, Гермократ?
Гермократ
Его любили боги сильно.
Но первый он, кого они затем
155
ГЁЛЬДЕРЛИН
Низвергли в ночь несмысленного бреда,
С вершины благосклонности: как смел
Он позабыть в том преизбытке счастья,
Что он не бог, и жить самим собой.
Так грянуло воэмездье! покарали
Его души пустыней боги. —
Но час последний не наступил — грядет.
Не вытерпит он, баловень богов,
Позора казни — тут уж позабочусь! —
И вспыхнет в смерть ушедший дух его,
Воспламененный духом мщенья.
Сквозь полуявь неистовый мечтатель
Заговорит, — как бесноватые
По Азии бродячие флейтисты, —
Что он богов по слову съединил.
Тогда пред ним утраченным богатством
Вдруг распахнется животворный мир,
Чудовищно зашевелятся в нем,
В его груди, желания, и пламя,
Куда ни кинется — преграды нет.
Низвергнет он закон, искусство, нравы,
Предание — и все, что до него
Под добрым временем созрело.
И мирный труд, и радости живых
Он не потерпит, сам немирный.
Как гибнет все, так вновь возьмет он все,
И не сдержать неистового смертным
В его мятежной схватке с бытием.
Критий
Старец! нет имени прозренью твоему.
Правдива речь. Но если сбыться ей —
Увы! тебе, Сицилия, увы!
За красоту и рощ твоих и храмов.
Гермократ
Богов возмездье поразит его
Йо наступленья дел. Ты только б
арод собрал, а там я поведу,
Предстану с ним перед лицом героя,
Который будто возлетел в эфир.
Так говорят они — они и будут
156
Смерть Элтедокла
Свидетелями, как проклятье
Я возвещу ему. Они в пустыню
Его изгонят, чтобы там безвозвратно
Отшельником он искупал тот час,
Недобрый час, когда изрек: — я бог!
Критий
Но если дерзкий одолеет вдруг?
Народ ведь слаб. Не страшно ль за себя,
И за меня, и за твоих богов?
Гермократ
Слово жреца крушит и дерзкий ум.
Критий
И думаешь, они долголюбимого,
Проклятием истерзанного до позора,
Из сада тихого — его приюта,
Из города, где он рожден, изгонят?
Гермократ
В стране родной кто смертного потерпит,
На ком проклятья мета за вину?
Критий
А если за хулителя тебя
Вдруг примут те, кто чтит его, как бога?
Гермократ
Погода переменится, едва
Воочию они того увидят,
Кто якобы вознесся в мир богов!
Уж сами сердцем чаят высшего.
Вчера в печали из дому они...
По улицам грустя бродили.
О нем все речь. Я слышал, следом шел:
Тогда сказал им, что сегодня их
Я проведу к нему, но что пока
Пусть каждый дома мирно выждет время.
157
ГЁЛЬДЕРЛИН
Вот потому я и просил тебя
Пойти со мной, чтоб убедиться: мне
Послушны ли? Взгляни-ка: ни души.
Кругом безлюдие. Ну, что ж, пойдем!
Критий
Гермократ!
Гермократ
А что?
ТУ» о
1ХрИТИИ
Его я вижу.
Он! вправду он!
Критий
Уйдем! скорей! Не то
Заговорит, опутает речами.
Грот в саду Эмпедокла.
Эмпедокл
Ты в тишину ко мне так неприметно
В сумрак грота, где я скрывался, проник,
Ты ласковый! моей надежды гость.
Уж издали, там над землей, уловил
Я твой возврат, твой проблеск, светлый день.
И вас, мои друзья, о трудометные
Силы высот! Вы вновь мне сродны,
Вы вновь, как были, о вы, счастливые,
О вы, неблудные, деревья рощи моей!
Вы все росли и светом вас, что день,
Небесный ключ поил, застенчивых.
И искры жизни рассевал эфир,
Чтоб вас, цветущих, оплодотворить.
Подруга, ты, природа! Вижу я,
Ты предо мной. Но узнаешь ли друга,
Возлюбленного?.. Или не узнаешь
Служителя? Тебе он приносил
158
Смерть Эмпедокла
Песнь жизни будто жертвенную кровь.
О! там у священных деревьев,
Где воды из недр земли
Собираются в знойную пору,
Чтобы жаждущих утолить —
И во мне! и во мне!
Вы, источники жизни, брызнув,
Из мира глубин, вы прежде бурно
Стекались — и шли
Жаждущие ко мне: — а теперь?
Забытый? Как! я здесь один!
И что же! Ночь вокруг меня и днем?
Кто высшее, чем око смертных, видел,
Тот ослеплен для ощупи пустот —
О, боги! где вы, боги!
Увы! покинули,
Как нищего, меня,
И эту грудь, что льнула к вам с любовью,
Зачем повергнули вольнолюбивую,
Сдавили тесных уз позором?
Как вытерпеть мне своевольному
Все это поношенье! будто в Тартаре
Прикован я, как жалкий, к старой тачке,
Я опознал себя. Я так хочу. Мне душно!
На воздух! А!!! — так рассветай же день!
Туда!.. И мне, при гордости моей,
Мне целовать прах той стези, где некогда
Ступал в чудесном сне?., он канул, сон.
И я проститься должен...
Я был любим, любим был вами, боги,
Ах! глубоко. Как вы друг в друге жили,
Так знал я вас. О нет! то был
Не сон... У сердца я держал тебя,
Вас осязал, я вас познал,
Я с вами созидал.
О, как душа волнуется —
Эфир, ты, тихий! Когда смертных безумье
Терзало душу мне, и ты дыханьем
Кровоточащую мне нежил грудь,
Всераэрешитель! И это око видело
Всю мощь твою, о всетворящий свет!
Как часто я прислушивался сердцем
К тебе и к вам, другим, вечномогучим!
Иль стоя там на горной высоте,
159
ГЁЛЬДЕРЛИН
О, тень!....
Нет миновало.
И ты, — к чему самообман! — ты сам
Всему виной, Тантал-Страдалец!
Святилище ты осквернил. Твоя
Союз прекрасный расторгла гордыня.
О, жалкий! Когда гении вселенной
От полноты любви в тебе забылись,
О ком ты думал? — о себе. Ты возмечтал,
Глупец, что в рабстве у тебя благие,
Что батраками боги у тебя!
Иль мстителя меж вами нет, что сам
Лью в душу сплав насмешки и проклятья?
Ужель нет избранного, чтоб сорвать
Венец дельфийский с головы моей
И локоны мне срезать наголо,
Как духовидцу подобает. — О, боги!
Эмпедокл, Павзаний
Эмпедокл
О, силы всемогущие, что это!
Кто подослал тебя? Пришел свершить?
Ты исполнитель? Все тебе открою,
Когда не знаешь. Что ж! тогда суди
Виновного, Павзаний!.. О, забудь,
Кому был предан сердцем! Нет его!
Ступай, о милый юноша! твой взгляд,
Лицо твое мне опаляет разум,
Будь то проклятье, будь благословенье,
Но от тебя — нет, не снести... Впрочем, как знаешь!
Π
авзании
Что приключилось? Долго ждал тебя.
Так благодарен свету дня, что издали
Тебя увидел — и нахожу:
Растерзан ты от головы до пят.
Ты был один? Слова не донеслись,
Но слышу отзвук чуждый, гробовой.
160
Смерть Эмпедокла
Эмпедокл
То голос мужа был. Превыше смертных
Он мнил себя: его избытком счастья
Природа добрая дарила.
Π авзан ий
Быть,
Как ты, всему божественному в мире
Сопричастным — это ли избыток?
Эмпедокл
Так говорил и я. Ты, добрый мой!
Тогда еще то волшебство святое
Не отошло от духа моего,
Еще тогда они меня любили,
Любили, они, гении вселенной,
Me ня проникновенного! — Людьми
Не был любви обучен я. Уже давно,
Томясь по всеживой, не находила
Ее душа, — тогда к тебе повлекся,
К тебе приник, как былие приникает,
Припал доверчиво, так слепо,
Так радостно к тебе навек:
Ибо, для смертного познанье чистых — труд!
Тогда... Дух цвел во мне, как ты цветешь.
И я познал тебя — к тебе воззвал: живет!
И то, как бродишь ты меж смертными,
Когда сиянье юности небесным
Перебегает бликом от тебя,
Твоим расцвечивая духом всех,
Так жизнь моя переливалась в песнь.
Душа твоя была во мне и отдалось
Открыто сердце, вот как ты, земле,
Страдалице суровой. Часто в ночь
Я клялся ей, в святую ночь, любить
Тревожную- бесстрашно, верно — в смерть
ИГ передумать темные загадки.
Так смертью я скрепил союз с землей.
И по-иному роща зашумела,
Звенели нежно горные ключи,
И овевала тишина меня
Цветов пламенно-ласковым дыханьем.
11 4-141
161
ГЁЛЬДЕРЛИН
О, радости твои, земля! Не так
Улыбчиво, как шлешь их слабосильному:
Во всем великолепии, богато,
Тепло, любовью и трудом вскормленными,
Меня ты одаряла ими. Часто,
Когда я на вершине гор сидел
И сам, дивясь, священное блужданье
Всей жизни передумывал, игрой
Твоих преображений потрясенный,
В предчувствии судьбы своей —
Тогда, дышал эфир, и как тебе,
Мне эту грудь, пронзенную любовью,
Он исцелял дыханием — ив миг,
По волшебству, на темной глубине
Мои загадки разрешались.
Павзаний
Счастливый!
Эмпедокл
Я был им. О! Но выскажу ли я!
Найду ли звук, чтоб выразить броженье,
Круговращенье, волемощи гений
Всех сил твоих? С тобой, о, дивная,
Я был тогда, природа!
О, вызову ль в душе вновь те звуки
Твои, чтоб отзвук их в груди пустынной,
Глухой, где смерть, мне прозвучал былым.
Кто? Разве это я? О, жизнь! Так они звенели
Твои мелодии крылатые! Так и я
Внимал созвучью твоему, природа?
Ах, я покинутый! Не я ли жил
С этой землей священной, с этим светом
И с тобой, неразлучным души моей,
О, эфир-отец! И со всеми, кто живет, кто дышит
На вечно пребывающем Олимпе?
Йа, я плачу! Я — изгнанник!
ет мне пристанища — ах! и ты,
И ты отторгнут от меня — не возражай!
Там смерть любви, откуда бегут боги,
Ты знаешь: оно так. Оставь! Покинь!
Уж я не тот. И что ты мне! — Ничто.
162
Смерть Эмпедокла
π
авзании
Все тот же ты. Остался тем, кем был.
Да высказать: мне не понять, зачем
Уничижая, так уничтожаешь
Ты сам себя! И думается, дремлет
По временам душа твоя, когда
Насытится, открывшись полно миру.
Так и земля, любимая тобой,
Порой в покой погружена глубокий,
Но назовешь ли смертью тот покой?
Эмпедокл
Как мил твой труд меня утешить, добрый.
π
авзан ии
Неискушенного коришь насмешкой,
И думаешь: я счастья твоего не пережил,
Вздор горожу: страдаешь ты — не я.
Но я постиг тебя в твоих деяньях.
Ты государству, хаосу стихий,
Дал строй, дал смысл. Я дух, твой мир постиг
В его могучести, когда, бывало,
Единым словом, — о, священ тот миг!
Обогащал меня на годы жизнью —
И новая прекрасная пора
Открылась юноше. Что у оленя, —
Когда вдали вдруг лесом зашумит
И вспомнится о родине, так билось сердце
И у меня, когда о древнем счастье
Тех правремен ты говорил. Иль вот!
Грядущего не ты ли начертал
Передо мной великие прямые,
Как живописца уточненный глаз
Проводит штрих — и целостна картина.
Не ты ль людских судеб прозритель? Где?
Кому из смертных, как тебе, дано
Познанье сил природы, чтоб вершить
Всевластно ими в тайном съединеньи?
Эмпедокл
Довольно! Ты не знаешь; что ни слово,
То жало в сердце, — так ты говоришь.
п* 163
ГЁЛЬДЕРЛИН
Павзаний
Всененависть — ужель исход досады?
Эмпедокл
О чти, чего понять не в силах.
π
авзании
Зачем таишь? Загадку задаешь
Страданьем? Верь! Нет мук мучительней!
Эмпедокл
И нет мучительнее мук, Павзаний,
Чем разгадать страдание. Ужели ты
Не видишь? Ах! Мне было бы милей
Скрыть скорбь мою и скрыться от тебя.
Не дай мне выговорить, о ты, девственная,
Ты, ускользающая от грубого ума природа!
Я пренебрег тобой, себя возвел,
Высокомерный варвар, во владыки,
Рассчитывал на вашу простоту,
Вы, чистые! Вы, силы вечно юные!
Меня вы пестовали, меня вскормили
Упоевая. Да, я познал ее,
Природу-жизнь: могла ли для меня
Она священной быть, как встарь? Богов
Я допустил прислуживать и только.
Один стал бог — и этот бог был я!
Так высказала гордость. О, поверь!
Мне б лучше не родиться!
Π
авзании
Как! и все?
Случайно выпавшее слово "бог",
И ты пал духом, сильный человек?
'мпедокл
t
д, слово "бог". И пусть крушат меня
е боги так, как некогда любили.
164
Смерть Элтедокла
Павзаний
Другие так не говорят, как ты.
Эмпедокл
Другие! Где им вынести.
Π авзан ий
Ты прав,
Чудесный человек! Так Гу\у6око
Любить и видеть вечный мир, как ты!
И гении его, и силы сил —
Никто не смог, не смел. И потому
Ты был один, кто вдруг дерзнул на слово,
И потому — так страшно вдруг сознал,
До ужаса! за гордый звук единый
Отторгнутость от сердца всех богов,
И сам себя им отдаешь любовно
В жертву, о, Эмпедокл!
Эмпедокл
Взгляни, что это?
Жрец Гермократ и с ним народ толпой,
И Критий-архонт! Что им у меня?
Павзан ий
Они давно распытывают, где ты.
Эмпедокл, Павзаний, Гермократ, Критий,
агригентяне.
Гермократ
Здесь человек! О нем вы говорите:
Живым вознесся дивный на Олимп.
Критий
И с виду грустен, подобно смертным он.
165
ГЁЛЬДЕРЛИН
Эмпедокл
Злорадствуйте, жалкие! Вам весело,
Когда страдает тот, пред кем склонялись,
Вы сильного как легкую добычу
Расцениваете, когда он слаб.
Вас дразнит плод: упал на землю зрелым?
Но говорю: он не для вас созрел.
1-й агригентянин
Что он несет?
Эмпедокл
Уйдите! Вас прошу.
Заботься всяк про свое — в мое же
Ордой не вваливайтесь.
Гермоген
Так! Но жрец
К тебе имеет слово.
Эмпедокл
Жрец!
О боги чистые! О вы, живые!
Так этот льстец еще мне скорбь мою
Отравит? Прочь! Тебя щадил я часто.
Так справедливо — пощади меня.
Иль ты забыл? тебе я в память врезал:
Знаю, кто. ты и все твое гадовье.
И долго было мне загадочным,
Как терпит вас природа у себя.
Ах, еще в детстве сердце отвращалось
Мое от вас, всеотравителей,
Чтобы любовно-неподкуп но льнуть
К эфиру, к солнцу и к иным послам
Природы, будто где-то там далекой.
Я чувствовал и это чувство — страх,
Что вы любовь природную к богам .
Перевернете на поденщину,
И закружу я ваше колесо.
Так с глаз долой! Тот нестерпим! отврат!
166
Смерть Эмпедокла
Кто обремесливает дар святой.
Твой облик лжив, и холоден, и мертв,
Как твои боги. Что вы обступили?
Столбняк на вас! Ступайте же!
Критий
Не прежде,
Чем лоб тебе проклятье заклеймит,
Кощунник.
Гермократ
Полно. Успокойся, друг!
Я говорил тебе: он в исступленье
Души впадет. — Меня поносит
Сей человек, вы слышите, вы
Агригента граждане! И не вступлю
С ним в пререканье — жестких слов обмен,
Как бесноватый! Не к лицу мне, старцу.
Сами спросите: кто он?
Эмпедокл
Будет вам!
Вы видите, и в прок то никому!
Мне раны сердца бередить. О дайте
Моей тропой мне в тишине идти,
Священной тихой тропой смерти.
Когда бык-жертва отпряжен от плуга
Ему бока стрекалом не язвят.
Так пожалейте и меня! И не топчите
Мое страданье топотаньем злоб.
Оно священно. Душу мне увольте
От ваших нужд. Я предаюсь богам.
1-й агригентянин
Да что за притча! Гермократ, зачем
Он говорит так предиковинно?
2-й агригентянин
Нас гонит, будто нечисть мы иль что?
167
ГЁЛЬДЕРЛИН
Гермократ
Вам невдомек? В нем помрачился разум,
За то, что в бога сам себя возвел.
Но вы не верите моим словам!
Спросите у него. Сказать он должен!
3-й агригентянин
Как не поверить! Верим.
Π
авзании
Верите?
Бесстыдные! — Юпитер ваш поник?
Вам не по нраву? что-то сумрачен?
Кумир вам неудобен стал, помехой?
И вы уж верите! — Вот он стоит
Скорбя, в могиле духа. — Но придет
Та скудная героями пора,
И будут юноши по нем томиться,
По безвозвратном — нет его!.. А вы?
Вы ползаете, вы кругом шипите —
Иль вам дозволено? И не проймет,
Вас, туподумов, этот вещий взор?
Он кроток, слаб — и обнаглели трусы,
Накинулись. Священная природа,
Как терпишь ты еще и эту гадь!
Что смотрите? Иль оторопь взяла?
Вам невдомек, как поступить со мной?
Жреца спросите: он у вас всезнайка.
Г
ермократ
Вы слышите, как дерзко нас бранит,
Меня и вас, молокосос в лицо?
Ему ль не сметь, когда учитель смеет!
Кто завладел народом, говорит,
Как вздумается. Знать, я это знаю,
И сам не льщусь наперекор богам,
Раз боги свыше терпят. Много
Терпят они, и копят, и молчат,
Пока неистовством не кончат буйство.
Тогда предел! И святотатец вмиг
Стремглав туда в бездонность тартара.
168
Смерть Элтедокла
3-й агригентянин
Эй, граждане! Я с этими двумя
Не знаюсь впредь. Да только в толк не взять,
Как это так нас этот обморочил?
2-й агригентянин
В изгнанье их, старшого и меньшого.
Гермократ
Так срок настал! — Взываю к вам, о боги кар!
О боги мщенья! — Правит облаками Зевс,
И волны вод смиряет Посейдон.
Но вам, медлительно-скользящие,
Вам потаенное дано под власть...
И чуть родился своевольный, чуть
Он в колыбель — уже вы тут, уже
Пока он пышно мятежом цветет,
Вы тайнодумы — спутники ему,
Прокрались в грудь, и беззаботно вам
Врага богов болтунья предает.
Да, да, его! он вам давно знаком.
Λν кавый соблазнитель, мороком
Народ он обошел. Страны законы
Ему забава. Даже богов — и тех,
Сонм древний и священный Агригента
И нас, жрецов, он никогда не чтил.
И не была утаена от вас,
Пока он молк, чудовищная мысль.
И он свершил! Безбожник! Иль ты мнил,
Чуть гласный взыв раздастся твой: я бог!
Они ликуя кинутся к тебе?
Тогда бы ты царил над Агригентом —
Его тиран, его единодержец,
Тогда твои, единственно твои —
Добрый народ и добрая страна.
Они молчали. Вдруг оторопели.
И бледен стал ты. Скрючило тебя.
От темной злобы в мрачном логове,
Куда заполз укрыть от дня лицо.
И вот ты здесь, и на меня в досаде
Потоком брань и на богов хула.
ГЁЛЬДЕРЛИН
1-й агригентянин
Ну дело ясно! Смерть ему!
Критий
А что!
Ведь я вам говорил. Не доверял
Сновидцу я.
Эмпедокл
О, бесноватые!
Гермократ
Еще не смолк? не чаешь ты? Расторгнут наш
Союз с тобою. Ты нам чужой отныне,
Отверженный среди живых навек.
И ключ, что нас поит, — не для тебя,
Не для тебя и пламень, что нам впрок,
И все, что сердце смертным веселит,
То боги мщенья от тебя берут.
И чужд тебе лазури чистый свет
И эти травы и плоды земные.
И воздух не благословит тебя,
Когда прохлады грудь твоя возжаждет.
Напрасен труд! — тебе возврата нет
К тому, что наше. Ты принадлежишь
Карающим священным богам смерти.
Увы тому отныне, кто хотя б звук один
Душой открытой принял от тебя,
Кивнул тебе и руку протянул!
Кто в полдень даст тебе глоток, иль кто
Тебя потерпит за своим столом.
И если в ночь ты постучишься в дверь,
Под кровлею тебе подарит сон.
И погребальным пламенем почтит,
Когда умрешь. — Увы, тому! — Так прочь!
Родные боги дольше не потерпят
На месте том, где храмы, святотатца.
Агригентянин
Прочь! А не то на нас пятном проклятье!
170
Смерть Эмпедокла
Π авзаний
Пойдем! Ты не один. С тобой идет,
Кто чтит тебя наперекор запрету.
Любимый, знай, благословенье друга
Сильнее, чем проклятие жреиа.
О мы пойдем в далекий край! и там
Есть в небе солнце, и молить я буду,
Чтоб ласково тебе оно сияло.
У берегов
Италии, там в гордой Греции, там за морем
Зеленые и там холмы, и сень
Тебе платан предложит, и прохладой
Грудь странникам овеют ветерки.
Но только истомленный зноем дня
Там у тропы затерянной присядешь,
Я этими руками зачерпну
Тебе воды из резвого ручья,
Я из ветвей тебе навес сплету.
Я мох и листья расстелю постелью,
Я сон твой буду сторожить. А там,
Коль рок судил, я и костер тебе
Воздвигну погребальный: — под запретом
Бесстыдных этих!
Эмпедокл
О!.. О верный друг! — Молю
Не за себя вас, граждане! Я принял.
Но за него, за юношу молю.
Не отворачивайте от меня лица!
Не я ли тот, к кому любовно так
Сходились вы? О! сами даже рук
Не подавали мне: ведь не пристойно
На друга дикой ринуться ордой.
Зато вы слали мальчиков мне милых,
И на плечах ко мне несли малюток,
И на руках их поднимали вы —
Не я ли тот? Иль не узнали мужа?
Ему вы говорили: захоти он —
И нищими из края в край, с сумой
С ним побредете вы, и, будь возможно,
Вы в самый тартар спуститесь за ним.
О дети! Всем хотели одарить.
И безрассудно нудили меня
171
ГЁЛЬДЕРЛИН
Брать то, чем жизнь крепка и весела.
Тогда и вас я одарял моим,
И дар мой был для вас ценней, чем ваше.
И вот иду от вас. Не откажите
Мне в просьбе: юношу поберегите,
Он вам не делал зла. — Любит меня,
Как вы меня любили. О взгляните,
Как он хорош! Как благороден он!
Он нужен вам. Грядущее за ним.
Я говорил бывало: пали б ночь
И хлад на землю, и душа себя
Расклочила б, не посылай порой
Ему подобных юношей нам боги,
Жизнь никнущую в людях освежить.
Я говорил: — Благоговейте, вы
Пред гениями! О поберегите
Мне юношу! Не накликайте горя!
Клянитесь мне!
3-й агригентянин
Прочь! Слушать не хотим.
Гермократ
С мальчишкой будь, как сам того хотел.
Да дерзость своеволия искупит.
С тобой идет. Твоим проклятьем проклят.
Эмпедокл
Молчишь, о Критий! Не скрывай, удар
И по тебе. Ты знал его, не правда ль?
И реками 6 не смыть греха за кровь
Зверям. Прошу, скажи им, милый!
Они, что пьяные. Ты трезвым словом
Их успокой, верни народу разум.
2-й агригентянин
Еще бранится? Сам-то проклят, знай
И не болтай, иди! Не то не долго
Нам на тебя и руки наложить.
172
Смерть Эмпедокла
Критий
Вот это так! Здорово сказано,
Граждане!
Эмпедокл
Вот так! — Наложить
Готовы руки? Готовы
Мой труп осквернять при жизни моей?
Ну что ж! Терзайте, добычу делите, да
жрец
Благословит эту снедь? и присных —
гостей,
Богов мщения кличет на пир!.. Дрожишь?
Ты. тварь! Ну да! Охотник меткий все ж
Уцелил дичь — что,ж не ликует он?
О зрелище! Взгляни, как мерзок ты,
Как рыщет глаз: попала ль в иель стрела?
Иль ты забыл, глупец, кто сам
Нудишь меня воздать за козни казнью.
При седине твоей! Ты, человек,
Ты прахом станешь! ибо говорю:
Ты недостоин быть рабом у фурий.
И он взял верх? Но велика ль задача
Гнать дичь кровоточащую от ран?
Я в скорби был. Он знал. И вот возрос
Трус мужеством, чтоб на меня народ,
Его клыки науськивать на сердие.
Увы! Кто исцелит запятнанного! Кто примет
Под кров изгнанника, скитальца
От дома к дому, в рубцах его позора!
Этой
Рощи богов он молит дать ему приют.
Пойдем, мой сын !Он и мне больно сделали.
Я бы простил. Но за тебя? — Да будет
Погибель вам, безыменным! Да будет
Медлительною с вами смерть! Да вас
Воронья песнь жреца сопровождает!
И так как волки сбегаются туда, где трупы,
Пусть и для вас найдется волк,
Пусть насыщается он кровью вашей,
Сицилию от вас очистит.
Да выжжет засуха страну! И там,
Где пурпуровый стлался виноград,
ГЁЛЬДЕРЛИН
Где в темной роще золотился плод
И пышный злак в дар лучшему народу, —
О некогда, ступив на мусор храмов,
Вопросом озадачит чужестранеи:
"Здесь город был?" Ступайте. Никогда
Вам не видать меня.
В то время как толпа отходит.
Критий! вернись!
С тобой хотел бы перемолвиться.
Π авзан ий
(после того, как Критий возвращается).
Позволь, пока мне к старику пойти,
К отцу, проститься.
Эмпедокл
О зачем? Что мог
Вам, боги, сделать юноша! Иди,
Бедняга. На дороге к Сиракузам.
Я жду тебя. А дальше путь вдвоем.
Павзаний уходит в противоположную сторону.
Эмпедокл, Критий.
Критий
Ну что?
Эмпедокл
И ты преследуешь меня?
Критий
Я тут при чем?
Эмпедокл
Я знаю; ненавидеть
Ты б рад меня, да ненависти нет.
Боишься, вот! — но и боязнь напрасна.
174
Смерть Эмпедокла
Критий
То все в былом. Ну что еще?
Эмпедокл
Ты сам
Мне козней не настроил. Жрец тебя
Втянул насильно. Ты не угрызайся.
О если бы замолвил за него
Хотя бы слово! Но... тебя народ смущал.
Критий
И это все? И больше нечего
Тебе сказать? Болтливостью чрезмерной
Ты отличался издавна.
Эмпедокл
О друг,
Не будь так крут, я дочь тебе вернул.
Критий
Ну что ж, вернул.
Эмпедокл
Ты ощетинился.
Ты говорить стыдишься, ибо проклят я.
Оно понятно. Думай, то не я,
То тень моя с тобою говорит. С почетом
Она вернулась из страны блаженных.
Критий
Я 6 не пришел к тебе на зов, когда
Народ не пожелал бы знать,
Что скажешь нового?
Эмпедокл
Что я скажу,
Касается тебя, но не народа.
175
ГЁЛЬДЕРЛИН
Критий
Что ж это?
Эмпедокл
Знай! Тебе покинуть надо
Эту страну. Так говорю тебе
Я ради дочери твоей.
Критий
Заботься о себе, а о других
Оставь заботу. Дальше что?
Эмпедокл
Иль не
Проник ее? И в разум не возьмешь,
Что лучше городу глупцов погибнуть,
Чем одному творенью совершенства.
Критий
Ей плохо чем в стране родной? Иль мнишь,
Где нет тебя, там и добру не быть.
Эмпедокл
Иль не проник ее? И как слепец
Лишь ощупью к тому, что боги дали
Дотягиваешься? И тщетно светит
В доме твоем тебе тот дивный свет?
Так говорю тебе: в этой стране
Благая жизнь покоя не найдет,
Как ни прекрасна, одинокой будет
И здесь умрет безрадостно. — Нет, никогда
Суровонежное дитя богов
Не примет сердцем варваров! Поверь!
Правдива речь мир покидающих,
И вдумайся в совет и передумай.
Критий
Что мне сказать?
176
Пустое!
Смерть Эмпедокла
Эмпедокл
С ней уходи туда,
В священный край Элиду или Делос.
Где те живут, кто мил ее душе.
Где в тишине-лавровых рощ героев
Спит в изваяньях сонм. Там сердцу мир.
Там у безмолвных идолов она
Вкус усладит нежно-чувствительный
И тонкий. Близ теней высоких там
Уснет печаль, лелеемая ею
Года в груди. Когда ж в день празднества,
Там сборищем Эллады молодежь,
Там на привет приветом чужеземцы,
И в переливах упований там,
Как облак золотой играя, жизнь
Над грустью сердца вспыхнет ореолом —
Тогда ее, печальницу, пробудит
Для ликованья новая заря.
И одного из славных, кто венком
И песней был увенчан, изберет
Она, чтоб от теней ее увлек,
В чей мир она так рано вовлеклась.
По нраву речь моя, так следуй. —
ТУ" о
Гчритии
Сколь ты богат словами золотыми
В твоей недоле!
Эмпедокл
Насмехаться брось!
Мир покидающие — все юнеют
Охотно вновь. То света взблеск предсмертный.
Он радостно всей мощью просиял
Меж вас в былом. Померкни ж ласково.
И если вас я проклинал — да будь
Твое дитя благословенно, друг,
Когда благословлять еще дано.
Критий
О будет! и не делай из меня"
Ребенка малого.
12 4-141
ГЁЛЬДЕРЛИН
Эмпедокл
Мне обещай,
И мой совет исполни, как сказал.
Страну покинь. А мнишь наперекор —
Да молит одинокая орла
Прочь от холопов унести ее
В эфира высь. Я лучшего не знаю.
Критий
Иль были мы к тебе несправедливы?
Эмпедокл
Что спрашивать? Тебе я все простил.
Ты следуешь совету?
Критий
Трудно так
Решаться наспех.
Эмпедокл
Да решай умно!
Пусть не бытует там, где гибель ждет.
И ей скажи: не забывала б мужа,
Богов любимца некогда. — Что скажешь?
Критий
Как просишь ты! Скажу. Иди теперь
Своей дорогой, бедняга.
(Уходит).
Эмпедокл
О я пойду моей дорогой, Критий.
Куда? Я знаю. Стыд мне! Мешкал я
И сам довел судьбу до крайности.
К чему мне было ждать так долго?
Вот юность, дух и счастье отошли.
Грядущее — безумства, беды...
178
Смерть Эмпедокла
А голос был, предупреждал тебя.
Не раз, не раз! О как прекрасно было 6...
И вот он гонит в смерть.
О смолкни! Боги добрые! Всегда
Нетерпеливое перегоняет слово
Смертных шаг и не дает дозреть
Удаче. Да, иное миновало.
Уж легче мне. Что, старый дуралей,
Что прилепился к миру! — Некогда
Бездумно тихим мальчиком играл
Он на своей земле зеленой —
Свободней был, чем стал. Простись! Увы!
Даже домишка, где вскормлен, где рос,
Не оставляют мне! — и это боги!
Эмпедокл, три раба Эмпедокла.
1-й раб
Уходишь, господин?
Эмпедокл
Да, милый, мне пора!..
Ты только сумку подорожную
Кой с чем возьми, но не перегружай.
И вынеси на улицу, пожалуй,
Твоя последняя услуга.
2-й раб
Боги!
Эмпедокл
Охотно мне служили вы, привыкли,
С юности ранней в этом доме отчем,
Доме моем, росли мы годы вместе.
И чужд был сердцу моему всегда
Властительно-холодный окрик.
Судьбу рабов не чувствовали вы,
И верю я: охотно вы за мной
Последуете. Но не потерплю,
12* i79
ГЁЛЬДЕРЛИН
Чтоб вас жреца проклятье ужаснуло.
Оно не тайна. Что ж! Распахнут мир
Пред вами, предо мной, о милые!
Ищи всяк свое счастье.
3-й раб
Нет!
Мы не покинем. О! Не в силах мы!
2-й раб
Где знать жрецу, как ты нам дорог, люб.
Запрет другим — для нас он не запрет.
1-й раб
Раз мы твои, то при себе оставь.
Не день, не два, что мы с тобой живем.
Ты это знаешь. Сам же говорил.
Эмпедокл
О боги! Я бездетен. Я живу
Так одиноко с этими тремя
И вот прикован к этому уюту,
Как будто сплю и как во сне, борюсь.
Прочь! Выхода иного нет. Друзья,
Ни слова больше! Милые! Прошу,
Займемся делом, словно мы — не мы.
Я не стерплю, чтоб этот человек
Мне проклял всех, кто только меня любит —
Со мной вы не пойдете — говорю.
В дом! Выбирайте, что там поценней
И живо, чурГ не мешкать и бежать,
Не то войдет в дом новый господин,
И всем вам рабствовать под трусом.
2-й раб
Нас жестким словом отсылаешь прочь?
Эмпедокл
Ради тебя, ради себя — свободны вы!
180
Смерть Эмпедокла
Борите с мужней силой жизнь. Да вас
Утешат боги почестями. В жизнь
Вам лишь вступать. То вверх, то вниз
Сникают, выникают люди. Так
Не мешкайте! И делать, что сказал.
1-й раб
ши моей владыка! О живи
не сникай!
3-й раб
Скажи, иль никогда.
Нам не увидеться?
Эмпедокл
Не спрашивайте.
Тщетно.
(Властный жест).
2-й раб {уходя)
Он себе верен!
Ах! нищим будет он пересекать
Поля, подстерегаемый кругом враждой!
Эмпедокл (безмолвно смотрит им вслед)
Прощайте! Вас
Я гордо отослал. Друзья, прощайте!
И ты, мой отчий дом, где я возрос, где цвел!
И вы, о дерева мои! Под ликованье
Друга богов покойся в мире ты,
Подруга мира моего. О пусть
Умрут, жизнь веяньем вернуть! Не то внимай
Под вашей сенью шуточкам толпы.
И где блаженствовал, там вслед мне насмешки.
Увы! Я изгнан, о боги! От вас ли
Мне эту казнь, небесные! бездушно
Тот жрец незванный перенял? И я
Покинут, я, хулитель, вами, други!
И этот из отчизны гонит прочь...
fr
181
ГЁЛЬДЕРЛИН
И этот из отчизны гонит прочь...
И проклят я! Что на себя навлек я сам.
Так жалко звучит вновь из глотки черни
Ах! кто сьединенно с вами жил, благие,
Кто мир ликуя называл своим,
Не знает он, где преклонить главу,
И сам в себе покоя не найдет.
Куда бы мне! Вы, тропы смертных всех! Вас
Тьмы кругом. Где же моя тропа?
Кратчайшая?
Быстрейшая? Ибо медлить позор.
Ах, мои боги! По стадиону я раз колесницей
Правил без страха при вспыхнувшей спице.
Так вновь
Хотел бы к вам скорей, пускай торопливость опасна.
Пантея, Делил.
Делия
О тише, милая!
И плач сдержи! Не то услышит кто.
Я в дом проникну. Вдруг он там внутри,
И ты еще раз взглянешь на него.
Но только тише, друг мой, — можно мне
Войти?
Пантея
О сделай это, Делия!
А я скреплюсь пока, чтоб сердцем мне
Не изойти, чуть я высокого
Увижу мужа в горький час судьбы.
Делия
О, Пантея!
Пантея (одна, после безмолвствования).
Ах! Не могу! — да и
Грешно спокойной быть сейчас!
182
Смерть Эмпедокла
Ты обезумишь, черная загадка!
Что сталось с ним)
(Пауза. Испуганно к Делай, которая снова возвращается.)
Ну, что?
Делия
Ах! Все мертво!
Пантея
И пусто? Нет?
Делия
Боюсь, что так. Открыты
Все двери. Никого. Зову. Лишь эхо
По дому покатом. И дольше там
Мне не под силу было медлить. — Ах!
Нема и так бледна и чуждо так
Глядит, бедняжка. Не узнаешь меня?
Я разделю с тобою скорбь, родная!
Π антея
Да идем же!
Делия
Куда?
Π антея
Куда? ах! я
Сама не знаю, боги добрые!
Увы! Надежды нет! И ты напрасно
Там надо мной сияешь, солнце. Нет
Его. И как же одинокой знать,
Зачем глаза ее лучатся миру?
Нет! Не поверю! Нет! Кто 6 мог!
Кто 6 смел дерзнуть! Чудовищная мысль! И" все ж
Дерзнули вы?
183
ГЕЛЬДЕРЛИН
Дерзнули вы?
И надо жить и надо
При них безмолвной быть? Увы! и плакать
Ах! Только горько плакать доля мне.
Делия
О плачь! О плачь, любимая! — Больнее
Молчать иль говорить.
Пантея
О, Делия!
Здесь он гулял. И был так дорог, мил
Из-за него мне сад..И ах! порой,
Когда скудела в сердце жизнь, и я
Той нелюдимкой окрест по холмам
Блуждала в грусти меж чужих, — на них
Оглядывалась, на верхушки эти
И думала: там все же есть один.
И им сильна душою воздвигалась
Увы!
Делия
Да, пал великий человек.
Π антея
Ах! вековечной я весны желала,
О глупая! и саду, и ему.
Делия
И не могли ту хрупкую отраду
Оставить ей, вы, боги добрые?
Пантея
Так думаешь? Ты это говоришь?
Взошел он солнцем новым нам
И влек, лучась, невызревшую жизнь
К себе по золотым канатам ввысь.
Его давно Сицилия ждала,
И никогда на этом острове
184
Смерть Эмпедокла
И знали те, что в съединеньи он
Живет со всеми гениями мира.
Восторженный! И ты их заключил
В объятья? Всех? Увы! Теперь скитайся
Из края в край, влача позор и яд
В груди — тебе их дар в дорогу. —
О, вы, цветы
Небес! Пышные звезды! Так и вы
Все отцветаете? И что же, ночь твою
Обнимет душу, о отец-эфир!
Чуть юноши блистающие там
Померкнут пред тобой? Я знаю: рок
Божественному пасть. Пророчицей
Я над его падением восстала,
И где мне дивный гений встретится —
Он именуйся: человек иль бог,
Я знаю час, который не по нем.
То вы свершили. О, не дайте мне
о. судьи мудрые, избегнуть кары:
Я чту его — и коль не знаете —
Я вам в лицо, чтоб знали, выскажу,
Гоните и меня из града вон.
И проклял он, неистовый отец,
Его — да проклянет он и меня.
Делия
Пантея, страшно мне, когда так страстно
Ты свирепеешь жалобой. И он
Таков, как ты, чтоб гордый дух питать
Страданием, ожесточаясь в скорби?
Не верится тому, чего боюсь
Что бы подумал он?
Пантея
Пугаешь ты
Меня! Да что же я сказала? Впредь
Не буду больше — терпеливой буду.
О, боги! И не стану домогаться
Того, что отдалили от меня.
И, что дадите, то я и возьму.
В пленительных оковах держат мне
Воспоминанья сердце. О, святой! Пусть
185
ГЁЛЬДЕРЛИН
Воспоминанья сердце. О, святой! Пусть
не найду тебя,
И все ж мне радостно; ведь здесь ты был.
Спокойной буду впредь. Не то, боюсь,
Как бы неповторимый образ вдруг
Не ускользнул из дикой головы,
И как бы дня шумиха от меня
Тень братскую не отпугнула. Вслед
За мной она, коль путь мой тих, скользит.
Делия
Ты, непробудка милая, ведь жив он.
Пантея
Он жив! О да! Он жив! Идет
Полей простором ночь и день. Над ним
Туч космы кровлей и земли тверда ему
Постель. И треплет ему кудри ветр,
И дождь кропит и каплет током слез
С его лица. И сушит ему платье
В палящий полдень зноем солнце снова,
Когда песком бестенным он идет.
Езжалых троп не ищет он. В горах
К тому, кто сам себе прокорм добычит,
Кто чужд, как он, и подозрителен,
Заходит в дом: там глух к проклятью слух.
Там грубый харч ему подаст хозяин,
Чтоб подкрепился и передохнул.
Так он живет! Увы! Живет ли он?
Делия
О. как ужасно, Пантея!
Пантея
Ужасно?
О, утешительница! Может статься*
Вот, вот они сюда придут и скажут
Так, меж собой, чуть речь о том зайдет,
Что он лежит убитым на дороге.
Боги попустят, ведь молчали
Они тогда, когда его со срамом
186
Смерть Эмпедокла
О друг! — Как кончишь ты? Уж на земле
Устало борешься, орел мой, гордый!
И означаешь кровью путь, и вот
Уже настиг тебя ловец трусливый,
И об скалу с размаху головой —
И вы его любимцем Зевса звали?
Делия
Ах, ненаглядная! Не надо так!
Не надо слов таких! Когда б ты знала,
Как за тебя тревог полна. Молить
Тебя готова на коленях, только б
Утихла ты. Так прочь от этих мест!
Быть могут перемены, Пантея!
Народ на покаянье скор. Они,
Ты вспомни, как его любили. Так идем.
С твоим отцом поговорю, а ты
Мне помогай. Вдруг есть ему спасенье!
Пантея
О, да! О, мы спасем его. О, боги!
АКТ ВТОРОЙ
Окрестности Этны. Крестьянская хата.
Эмпедокл, Павзаний.
Эмпедокл
Друг, как тебе?
Павзаний
О, счастлив я,
Что ты затоворил, любимый.
Не правда ли! Проклятия в горах
Не властен звук, и так далек наш край.
Здесь легче дышится на высоте.
И взоры ввысь мы поднимаем вновь
К светилу дня. И не гонит забота
Нам сон от глаз. Быть может, подадут
Вновь человеческие руки нам
Привычную еду. В уходе ты
Нуждаешься, любимый. О, гора,
Ты древняя, священная, прими
Гостей, гонимых миром скрой. Как думаешь,
Не отдохнуть ли нам вот в этой хате?
Позволь, окликну, может, не откажут
В приюте нам, и пище, и питье.
Эмпедокл
Попробуй, друг. Они как раз выходят.
188
Смерть Эмпедокла
Прежние, крест ьянин.
Крестьянин
Чего вам? Книзу катится дорога.
Павзаний
Приют нам дай. И не пугайся, друг,
Отрепьев наших, ибо труден путь,
И часто будит недоверие
Страдальца вид. Но, да подскажут боги
Тебе, мой друг, какой мы крови.
Крестьянин
я Да"
-онавали вы и времена получше.
Оно видать. Что ж, недалеко тут
До города. Там, верно, есть у вас
Кунак-приятель. Лучше у него,
Чем у чужого, поискать приюта.
Павзан ий
Ах! устыдится нас гостеприимец,
Когда к нему нас приведет беда.
Но и чужой попотчует не даром
Немногим, что мы просим у него.
Крестьянин
Откуда вы?
Π авзан ий
Что пользы знать, откуда.
Мы платим золотом — а ты нас потчуй.
Крестьянин
Для золота иная настежь дверь,
Да не моя.
Павзан ий
Ты это что! Подай
Нам хлеба и вина — и требуй платы.
189
ГЁЛЬДЕРЛИН
Крестьянин
Найдете вы в ином месте получше.
Π авзаний
О, это зло! Но ты не дашь ли мне
Хоть лоскута, чтоб обвязать я мог
Им ноги спутнику. О, как они
Кровоточат от каменистых троп.
Вглядись в него. Сицилии добрый дух
Перед тобой. Он больше, чем князья те ваши.
И вот стоит он бледен, изможден
И нищенствуя, хлеба и прохлады
Под кровлей молит хатицы твоей.
Ужель откажешь? Бросишь у порога
Усталого от жажды и пути,
В такой палящий день, когда и дичь
Зной загоняет в норы дошлую.
Крестьянин
Я знаю вас. Беда мне! То проклятый
Из Агригента. Вот так и почуял.
Прочь, вы!
Π авзан ий
О, громодержец! Прочь? о, нет! — Он мне
Порукой будет за тебя, ты мученик!
Пока пойду где пищи раздобыть,
Под этим деревом отдыхай. — А ты,
Ты помни! Чуть случится с ним беда,
Кто бы ни был виноват, я в ночь явлюсь,
И охнуть не успеешь, как до тла
Сожгу твою соломенную хату.
Ты это взвесь!
Крестьянин уходит.
Эмη еда к л, Π авзани и.
Эмпедокл
Не тревожься, сын.
190
Смерть Эмпедокла
Павзаний
Ην можно ль так! Забота о тебе
Мне дорога. А этот думает,
Что человеку нечего терять,
Когда над ним такое слово виснет.
И долго ль им, хотя бы плаща ради
По хищной прихоти, убить его.
Ведь бесит их: ну что за непорядок!
Еще живым он бродит меж живых.
Иль ты не знаешь этого?
Эмпедокл
О, знаю!
Π авзан ий
С улыбкой говоришь мне, Эмпедокл?
Эмпедокл
Мой верный друг, тебе я больно сделал,
Я не хотел.
Π авзаний
Ах, так нетерпелив я!
Эмпедокл
Не беспокойся, милый, обо мне.
Скоро минует все.
Павзаний
Ты говоришь?
Эмпедокл
Увидишь.
Павзаний
Как по-твоему: пойти
Мне в поле пищи раздобыть какой.
191
ГЁЛЬДЕРЛИН
А нужды нет, останусь здесь. Не то
Пойдем вдвоем, убежище в горах
Поищем прежде.
Эмпедокл
Взгляни, вот на лугу
Сверкает близко ключ. Он тоже наш.
Ты твой сосуд, ту тыкву, захвати,
Чтобы питье мне душу освежило.
Павзаний {у кчюча)
Чиста струя, прозрачно-холодна,
Проворно бьет из впадины, отец.
Эмпедокл
Сперва пей ты. А там черпни и мне.
Павзаний (подавая ему).
Прими дар богов.
Эмпедокл
Пью, славлю вас,
О, благосклонные! О, мои боги!
И мой возврат, природа! По-иному
Уже все видится, о, добрые!
Едва ступил, уже вы впереди, и расивело,
Едва успело вызреть. Смолкни, сын!
Прошу тебя, ни слова о былом.
Павзаний
Ты весь преображен. — Сверкает взор,
Как если б победил. Мне не понять.
Эмпедокл
Что юноши, мы проведем наш день
Вдвоем. О многом переговорим.
Не труд найти здесь ласковую тень,
Где без тревог два друга закадычных
Любовно перемолвиться могли б.
192
Смерть Эмпедокла
Возлюбленный. Не мы ль к мгновению,
Что дети к виноградине, припав,
Бывало, сердцем насыщались?
Не ты ль сюда сопровождал меня,
Чтоб ни один свободный час у нас,
И этот не скользил неразделенным?
Пусть ты не мало за него платил,
Но разве даром*, что дадут нам боги.
Π авзаний
О, выскажи мне все, чтоб я, как ты,
Был радостен.
Эмпедокл
Ужель не видишь!
Вновь близится прекрасная пора
Жизни моей, и я великое
Зрю впереди. Туда, о, сын, к вершине
Священной, древней Этны путь лежит.
Ибо явнее боги на высотах.
Оттуда вновь я этими глазами
Окину реки, море, острова.
Да медлящий над золотом потоков
Меня благословит к разлуке свет,
О, дивноюный! первая моя
Любовь. Тогда, переливаясь блеском,
Безмолвно вечное светило надо мной,
А жар земли меж тем из горных бездн
Дыханием, и нежностью касанья дух,
Вседвижущий льнет к нам тогда.
Π авзаний
Пугаешь.
Ты как-то непонятен мне сейчас.
Твой весел взор, так чудно говоришь,
Но мне бы лучше, если б ты молчал.
Ах, жжет тебя в груди позор обид,
И ни во что ты ставишь сам себя —
И так высок.
Эмпедокл
О, боги! Как! и он
193
ГЁЛЬДЕРЛИН
Не даст покоя мне и бранной речью
Взволнует сердце. Это иель твоя?
Тогда уйди, во имя неба! — Ныне ли час
Словами перемалывать без толку,
Что я терплю и что за человек.
Дань отдана, — и знать я не хочу.
Прочь! то не боль, что, как дитя, лежит
У скорбнорадостной груди, и мы
Ее с улыбкой кормим — кобры то,
Ехидн укусы в сердце мне впились.
И гибелью свирепствуют в крови.
Ö, я не первый, кому боги шлют
На сердце ядовитых мстителей.
И по заслугам мне.
Нет, бедный мальчик, я тебе прощаю,
Что ты не в час напомнил: у тебя
Все жрец перед глазами, а в ушах
Все отдается черни крик глумливый,
Той братской нении, что нас двоих
Из города так мило провожала.
Стыд! Боги мне свидетели! Они,
Нет, не дерзнули бы, еще былым
Я будь. О, как позорно предал тот,
Единый день из дней моих, меня
Вот этим трусам. Смолкни! Вниз! На дно!
Пусть погребенным будет глубоко,
Так глубоко, как ни единый смертный
Из смертных не был погребен!
Павзан ий
Ах! Ясный мир его души, тот дивный,
Я замутил и сам томлюсь теперь
Еще сильней тревогой.
Эмпедокл
Брось, не сетуй,
И дальше не мути. Со временем
Все будет ладно. Скоро примирюсь
С богами и со смертными. — О, больше!
Я примирен уже.
Павзаний
Возможно ль? ты?
194^
Смерть Эмпедокла
Иль исцелен твой помраченный дух?
И мнишь, что ты не одинок и нищ?
О, муж мечты! И вновь дела людей
Чисты тебе, как пламень очага?
И оправдалось то, чему учил?
О, если так, благословен тот ключ,
Что к новой жизни воскресил тебя.
Мы завтра к морю весело сойдем,
Нас вынесет оно на верный брег.
И труд пути нам нипочем,
И страх, и перепитья бед,
Когда так ясен дух и его боги.
Эмпедокл
Павзаний! Вот ты истину забыл.
Ничто нам, смертным, даром не дается.
Одно спасает. О, смелый юноша!
Ты не бледней. Взгляни. — Что мне былое счастье,
То неизмысленное, возвращает,
Мне блекнущему, с юностью богов —
Щека румянится, право, не дурно:
Иди, сын... Выдать не хотел бы я
Так до конца мой помысел и радость.
Не для тебя оно — и не тянись,
Оставь уж мне, как я тебе твое.
Что тамг
Павзаний
Толпа народу. Вверх по склону
Идут сюда.
Эмпедокл
Их узнаешь!
Павзаний
Глазам
Не верю.
Эмпедокл
Как! Еще недоставало
13*
195
ГЁЛЬДЕРЛИН
Впасть в бешенство! Как! Мраком скорби,
Всей яростью души низринуться
Туда на дно, куда хотел я с миром?
То агригентяне.
Павзаний
Что за напасть!
Эмпедокл
Иль грежу я! Мой доблестный противник —
Со свитой жрец. — О, фуй! Какая гнусь.
Вступать в борьбу, когда я раны множил.
И не нашлось поблагородней сил
Против меня... Отврат! Мне препираться
С презренными — еще раз! В этот мой
Священный час! УвыГВ тот миг, когда
Уже душа настраивает струны
На всепрощающий природы лад —
И вдруг напором банда на меня,
Чтобы ворваться воем бесноватых
В песнь лебединую мою! Сюда!
Ко мне! Я отобью охоту! Сыт!
Будет с меня щадить дрянную чернь
И опекать фальшивое отребье.
Еще мне все не можете простить,
Что я добро вам делал? Впредь не стану.
Придите, твари! Что ж! раз быть тому,
То я могу к богам и в гневе...
Павзан ий
О!
Чем оно кончится.
Прежние, Гер мок ρ am, Кргипий, народ
Гермократ
Страх отбрось.
И не пугайся голосов сограждан.
Тебя изгнавшие — тебя прощают.
196
Смерть Эмпедокла
Эмпедокл
О, наглые! И только так смогли?
О, распахните же глаза, вглядитесь,
Что вы за гады. Да от горя вам
Отсох язык поганый, скоморошный.
Хотя бы покраснели, жалкие!
О, твари, вы! Природа, сострадая
Ничтожному, оставила бесстыдство,
Чтоб пред большим он навзничь не упал,
Не то — как устоять ему пред большим.
Гермократ
Что преступил, то ты же искупил.
След злополучья на лице твоем.
Будь здрав отныне, возвращайся к нам:
Добрый народ дарит тебя отчизной.
Эмпедокл
Не шутишь? Нет? О, что за счастье мне
Приносит мировестник! День за днем
Кошмарнейший из танцев наблюдать,
Как скачете, кривляетесь, снуете
Туда, сюда — ваш блуд, ваш бред, ваш страх,
Теней непогребенных карусель
В переполохах жалкой толчеи
Тьмы ваших бед, отринутые небом!
И гаерство фигляров нищеты, —
Стоять к ним близко! Право, стоит чести.
А-а! Не знай я лучшего, я предпочел бы
Жить бессловесным, чуждым с дичью горной
Под зноем и дождем, делить добычу
Со зверем, чем в пустыню слепоты
Вернуться к вам, отверженным.
Гермократ
Вот как
Ты нас благодаришь!
Эмпедокл
О, повтори!
И если в силах ты, взгляни на свет
197
ГЕЛЬДЕРЛИН
Всевидящий над нами. Впрочем,
Луч Гелия, что молния льстецу.
Вдали зачем
Ты не остался там и дерзко так
Мне на глаэа предстал, чтоб вынудить
Еще последнее из слов моих
В проводники себе до Ахерона?
Знаешь, что сделал ты, что я тебе?
Угрозой был. И долго страх вязал
Руки тебе, и долго, злобствуя,
В тех узах изнывала твоя злоба
Под стражей духа моего. Воистину,
Сильней чем хлад и глад, ничтожного
Высокое терзает. И не мог
Ты успокоиться? И на меня
Отважился напасть, чудовище!
И думал: я тебе подобен буду,
Чуть ты лицо своим бесчестьем
Мне перемажешь? Да, скажу, была
То мысль нелепейшая, человек.
И если б мог ты мне свой яд подать
В питье, то и тогда мой дух с тобой
Нет, не спаруется. Он с кровью той,
Что осквернил ты, выплеснет тебя.
Все тщетно. Мне с тобой не по пути.
Умрешь обычной смертью ты, как все,
С бездушием раба. Мне жребий дан
Иной. Тропу иную некогда,
О, боги, вы предуказали мне,
Склонившись над моею колыбелью.
Иль непонятно? Что ж! есть смысл и в том,
Чтоб раз, другой всезнающий дивился.
С тобой покончено. Не дотянуться
Козням твоим до радости моей.
И это тебе больше, чем понятно.
Гермократ
Нет, не понять мне бесноватого.
Критий
Ну, будет, Гермократ! ты только гнев
У тяжко оскорбленного исторгнешь.
198
Смерть Эмпедокла
Павзаний
Что тащите холодного жреца
С собой, глупцы, коль ваш приход к добру?
И пусто духа, чуждого любви,
Еще избрали примирителем.
На распрю, смерть, как семя, брошен в жизнь
И он, и сродные, но не для мира.
Вам явно это? если б вняли вы
Тому года, тогда бы в Агригенте
Иное не свершилось никогда.
Не мало за тобою, Гермократ,
Тьмы темных дел:
(Темнеет.)
Там отпугнул восторг
От смертного, там в самой колыбели
В младенце ты героя задушил,
И как цветы лугов, так под косой
Твоей цвет юности могучий ник.
Иному был свидетелем я сам.
Иное слышал. — Срок прейти народу,
И шлют из ада фурии того,
Кто б, перекрыв злодейство, ловким ходом,
Могучих жизнью мог переводить.
Вот, наконец, в искусстве умудренный
Злодей-святоша мужа подстерег,
И удалось ему, хоть сердце вон!
Пал богоравный под ничтожным.
Мой Эмпедокл! — Ты путь избрал, иди
Твоим путем. Не мне мешать, пускай
От ужаса на месте леденею.
Но этого вредителя, тебе
Он жизнь бесчестил, разыщу, когда
Тобой покинут буду — разыщу,
Укройся в алтаре он, не спасет!
Я рок ему! Его стихию знаю —
В болото, в топь его поволоку,
Пусть молит, охает, его седины
Я пощажу, как он щадил других,
В болото!
(К Термократу.)
Слышишь ты! Я в слове тверд.
199
ГЁЛЬДЕРЛИН
1-й агригентянин
Чего тут ждать. Павзаний? Раз и все...
Гермократ
Сограждане!
2-й агригентянин
Ты голос подаешь?
Еще не смолк? Ты сделал нас дурными.
Нам здравый смысл заговорил. Любовь
Ту полубога выкрал ты у нас.
Уж он не тот. Нас знать не хочет. Ах!
Бывало, прежде ласково глядел
Муж царственный. И вот мне взгляд его
Всю душу выворачивает.
3-й агригентянин
Горе!
Как праотцы сатурновых времен,
Так жили мы, когда великий был,
Как друг, меж нас. И что ни день, то радость
И чаша полная. Что ж ты навлек
Проклятие на нас незабываемое
Уст его. Ах! он не мог иначе!
И возмужав, нам скажут сыновья:
Убийцы вы посланника богов.
2-й агригентянин
Он плачет. — О, милей и ближе он
Душе моей, чем прежде был. Ты все
Мутишь против него. И вот стоишь,
Как бы ослеп. И как ты ниц пред ним
Не упадешь. Так на колени, тварь!
1-й агригентянин
Иль ты все корчишь идола? И рад
Морочить дальше? Наземь! говорю,
Чтоб под ногой закорчился моей,
Топтать! топтать! пока не прохрипишь,
Что, наконец, до тартара долгался.
200
Смерть Эмпедокла
3-й агригентянин
Знаешь, что сделал ты? Тебе бы лучше
Храм обокрасть, чем это святотатство.
Он, праведник. Ему молились мы,
С ним были б мы свободными, что боги.
И вдруг нежданно налетел чумой
Злой дух на нас, пронесся и не стало
Ни слов, ни сердца, ни отрад былых,
Его даров, в пьяно вороте дел.
о. стыд! Позор! Что бесноватые
Злорадствовали мы, когда до смерти
Ты поносил возлюбленного мужа.
О святотатство! И умри ты семь раз,
Что сделал нам, ему — не изменить.
Эмпедокл
Светило дня склоняется к закату.
Ночь близится. Мне, дети, в путь пора.
И ну его. Уж слишком долго спор
Наш длится. Что свершилось, то пройдет,
Как все. И впредь оставим мы в покое
Друг друга.
Павзаний
Как, иль безразлично все?
3-й агригентянин
О, полюби нас вновь!
2-й агригентянин
Приди, вернись
К нам в Агригент. Мне римлянин один
Сказал: чрез Нуму возвеличились
Они. Приди же к нам, божественный!
Будь Ну мой нам. Уже давно в цари
Тебя надумали. О, будь им! Будь!
Приветствую тебя, — так волят все.
Эмпедокл
Не время ныне избирать царей.
201
ГЁЛЬДЕРЛИН
Граждане (оторопев)
О кто ты, человек!
Павзаний
Так отвергают
Короны, граждане.
1-й агригентянин
Но смутно нам.
То сказанное слово, Эмпедокл.
Эмпедокл
Иль сроку нет орлу кормить орлят
В гнезде? Он о слепых заботы полн.
И под его крылами сладко спят
Неоперенные на утре жизни.
Но чуть прозрев, увидят солнца свет,
Чуть отрастут их крепнущие крылья,
Их выбросит из колыбели он.
Да собственный начнут полет. А вы?
Стыдитесь вы! Себе паря хотеть?
Вы стары для царей. Во времена
Отцов пошло б не так. И не помочь вам,
Когда в себе вы помощь не найдете.
Критий
Прости, во имя неба. О, клянусь!
Ты, преданный! Большой ты человек.
Эмпедокл
Недобрый день нас, архонт, разлучил.
2-й агригентянин
Прости нам и пойдем. Ведь все-таки
Родное солнце светит ласковей,
Чем на чужбине. Венценосца власть
Тебе природную отверг. Ну, что ж!
Иные есть почетные дары.
Есть для венков зеленая листва,
202
Смерть Эмпедокла
Есть имена красивые, для статуй
Есть недряхлеющая медь. Приди,
И будут юноши, те чистые,
Не оскорбившие тебя ни разу,
Служить тебе — только живи вблизи.
И мы роптать не будем, если ты
Нас отдалишь... Один в твоих садах,
Пока забвенье медлит над обидой.
Эмпедокл
Еще раз! да! Моей отчизны свет!
Ты мне родной! И вы, сады, где юн,
Где счастлив был! И вас ли помянуть,
О, дни почета, славы, когда чист,
Не уязвлен я жил с моим народом.
Мы примирились, добрые мои! —
Расстанемся. Лучше не видеть вам
В лицо того, кого бесчестили.
Тогда любовней вспомнится о муже,
Любимом некогда, и миг безумья
Не омрачит ваш мигохмурный ум.
Он будет жить, мой образ, вечно юным
Для вас, друзья. И зазвучит, когда
Вдали от вас я буду, полнозвучней
Песнь ликований, как обетовали.
Приди, разлука, прежде чем года
И зло разлучат нас. Нам подан знак,
И не теряет образ свой, кто вовремя
Час расставанья вольно сам избрал.
3-й агригентянин
Недоуменных покидаешь нас?
Эмпедокл
Венец, о, мужи, протянули вы,
Примите же мою святыню в дар.
Ее берег я долго. По ночам,
Когда безбрежный открывался мир
Там, надо мной и, будто дух, меня
Священный воздух россыпями звезд
Упоевал
Тогда порой во мне смеялась жизнь.
203
ГЁЛЬДЕРЛИН
Я на рассвете высказать хотел
То трудное, удержанное слово,
И радостно, нетерпеливо так,
Я утреннюю тучку золотую
С ориента к нам на новый праздник звал,
Сюда, где песнь, мой голос одинокий,
В ликующий вольется хор — сюда.
Но вновь и вновь, строптиво замыкаясь,
Упорствовало сердце, выжидало,
Чтоб вызрело. Сегодня моя осень,
И сам собой спадает плод.
Павзаний
Зачем
Он раньше не заговорил! Быть может,
Не пережил бы он всего позора.
Эмпедокл
Не в тупике угрюмости покину
Вас, милые. Не бойтесь, вы! Страшит
Детей земли, обычно, новизна.
Коснеть в себе, как в скорлупе прожить,
Растение, да зверь веселый рады.
Предельные, хлопочут о себе —
Не перейти предела, и на том
Кончается их жизни скудный смысл.
Но боязливым надо, как-никак
Наружу выглянуть и, умирая,
Назад туда в круговорот стихий,
И, будто выкупавшись, освежиться
Для новой юности. — Людям зато
Высокое дано упоеванье:
Сами себя всевластны возродить.
А там из смерти очистительной,
Из смерти, что призвали сами вы,
Вдруг, как Ахилл из Стикса, восстают
Необоримо сильные народы.
О, дайтесь же природе, прежде чем возьмет она!
Вы томитесь по небывалому
И, как из хворой плоти, рвется дух
Из оболочки ветхой Агригента.
Дерзайте! — Что обрели, что почитали,
204
Смерть Эмпедокла
Что передали предки вам, отцы:
Закон, обряд, божеств прадавних имя,
Забудьте вы! К божественной природе,
Как новорожденные, взоры ввысь.
О если дух воспламенится вдруг
От света неба, если напоит
Вам грудь дыханье жизни сладостно,
Как первый вздох, о, если мировое,
Дух тишины, напевом колыбельным
Вас обоймет и душу утолит, —
Тогда земля сквозь забытье восторга
Вновь заиграет зеленью полей,
И горы, море, звезды, облака —
Величье сил, что .близнецы герои
Предстанут вдруг. Забьется кличем грудь
По подвигу: не вы ль оруженосцы?
Так воздвигайте ваш прекрасный мир!
Тогда друг другу вы подайте руки,
И слово дайте и добро делите,
О, милые! Тогда, как Диоскуры
Делите подвиг, славу и да будет
Один, как все. И как на строй колонн,
Так опирайся на порядка стройность
И строгость жизнь, о, юная! людей.
И да закон скрепит союз живых,
Тогда и вас, о, гении природы!
Тогда и вас, игривых, призовет
На празднество свободная община
Гостеприимно. Ибо лучший дар
Дает от сердца смертный, когда гнет
Тот рабства склеп, не давит грудь.
Павзан ий
Отец!
Эмпедокл
От всей души вновь зазвучит: земля.
И как из темных недр вдруг цветик ал,
Так алоцвет ланит и свет улыбки
Вдруг вспыхнут благодарностью тебе, —
Груди широко дышу щей избыток.
205
ГЕЛЬДЕРЛИН
Неся любви священные венки,
Журчит ручей, свергается потоком,
Уж ширится, благословляемый,
Уж дрогнули под эхо берега
И зазвучал, о, океан-отец.
Могуче, гимном, вызревший восторг.
И возрожденным чувствует себя,
О солнцебог! С тобой небесносродным
И гений человека, и одно,
Что ни создаст — его, так и твое.
От силы духа, воздуха и жизни
Уже и подвиги ему легки —
Не подвиги! Они твои лучи,
И не умрет немеющею скорбью
Ничто прекрасное в груди. Порой,
Как семя злака, смертных сердце спит,
Под мертвой зрея скорлупой, пока
Не выйдет срок ему. Кругом любовью
Дышит эфир, и взор с орлами пьет
Свет зоре вой. Зато благословенья
Сновидцам нет! и скупо и лениво
Нектар впивает, повседневный дар
Богов, их тиходремлющая жизнь.
Но скудно прозябать наскучит им,
И ощутит свой плен отрад холодных,
Как Тлиобея, грудь, и дух себя
Мощней напора масс. И бьющий ключ
Той изначальности своей тая
И помня, к красоте живой влечется жизнь
И любо ей пред чистым распуститься.
Тогда взблеснет восходом новый день
Ах! по-иному все. Как если 6
Вдруг, по утрате всех надежд, к тому,
Кто мертвым мнился, к милому на грудь
Любимая вся кинулась при встрече
В священный миг — так сердце льнет к богам
Они!
Утраченные! да! они живые,
Благие боги!.. (С ними в съединенье...)
... И свергнуться с потоком жизни...
Прощайте! Было слово смертного.
Он в этот час, разорванный любовью,
К вам и богам, его зовущим, медлит.
Пророчествует в день разлученья дух,
206
Смерть Эмпедокла
Правдивы речью те, кто в безвозвратность.
Критий
Куда? Тебя Олимпом заклинаю,
Мне, старику, ты мне, слепцу, открыл,
Успел открыть его — не покидай.
Лишь близ тебя в народе вызреет,
Побег и плод даст новая душа.
Эмпедокл
Пусть говорят, когда вдали я буду,
Цветы небес, те звезды, за меня
И по земле пестрящие мириады.
Божественной природе, вечноявной,
На что ей речь! Кто съединен с ней миг,
Тот никогда покинутым не будет,
Ибо и миг ее неугасим.
Как счастья дар, над временем победен
Его небесный пламень с высоты.
Когда же дни счастливые Сатурна,
Те новые, те мужние, придут,
Тогда зовите прошлое! Тогда,
Согретое лучами гения,
Воскресни ты, сказание отцов!
О, мир героев! выманенный песней
Весенней солнца из страны теней,
Приди на праздник, позабытый мир,
И вместе с тучкой грустно-золотой
Да вокруг вас, о, радостные вы!
Раскинутся шатры воспоминаний.
Павзаний.
А ты? а ты? Ах! я не назову
При них, счастливых...
Вдруг догадаются, что ждет тебя.
Нет... ты не хочешь, нет!
Эмпедокл
Желанья! Дети вы, и все ж упорно
Хотите знать, до истины добраться.
Ты в заблужденьи! говорите вы
207
ГЁЛЬДЕРЛИН
Той силе, что сильнее вас, безумцы!
К чему! Как звезд неудержимый ход,
Неудержим ход жизни совершенный.
Иль голоса богов невнятны вам?
Еще была мне речь родных темна,
При первом вздохе, первом взгляде,
Я их услышал и ценил всегда
Превыше человеческого слова.
Ввысь! призывали голоса, и каждый,
Чуть веющий мне легкий ветерок
Будил могуче робкую тоску,
И захоти я дольше медлить здесь,
Я был бы юношей, что неуклюже
Нелепится за детскою игрой.
А-а! бездушно, как рабы, я нес
Мрак и позор души пред вами, боги!
Я жил. И как с вершины древа
Дождь цветенью, как золотистый плод,
И квят, и злак из темных недр началом,
Так радостью страданье процвело,
И ласково спустились силы неба.
На глубине стекаются, природа,
Ключи твоих высот — о, радости
Твои! в груди моей покоились
Они, в единую слились отраду.
И озирая жизни красоту,
Я об одном молил богов всечасно:
Коль скоро я мое святое счастье
Безоблачно, лишь юностью богат,
Нести бессилен буду, как бывало,
И обернется духа полнота,
Как у любимцев неба, в исступленье —
Тогда напомнить мне, тогда скорей
На сердце мне судьбу обрушить: знак,
Что наступило время очищенья,
И в новой юности спасенье мне,
Да друг богов не стал бы для людей
Забав и злоб клокочущих мишенью.
И вняли боги. Был могуч тот зов.
Предостерег — пусть только раз, но раз
Свободным духом край!
И не пойми, — о! клячей был бы я!
Уже в бока всадили шпоры ей,
Она же просит повода и нука.
208
Смерть Эмпедокла
Не требуйте, да возвратится тот,
Кто вас любил, но с вами был чужим
И к вам пришел недолгий срок пробыть!
Не требуйте, да, ради смертных, он
Рискнул душой, рискнул своей святыней!
Не выпало ль на долю праздником
Прощанье нам? Не вам ли отдал я
Пеннейшее сокровище мое
От сердца — мое сердце? Кончено!
К чему я вам?
1-й агригентянин
О, нам совет твой нужен!
Эмпедокл
Вот юноша! Спросите без стыда!
Чем дух свежей, тем и глубинней мудрость,
Когда вопрос нешуточно велик.
Юн был и ключ, даривший Пифии,
Пророчице, богов оракулы.
Любимый мой! Охотно отхожу.
Живи, преемствуй! Был я утренним,
Тем мимолетным праздным облачком.
Пвел одиноко. Мир меж тем дремал.
Но ты! ты для полуденного дня рожден.
Павзаний
О! я молчу! Увы!
Критий
Что убеждать
Себя, мой друг, и нас с тобой. Темно
И у меня перед глазами. Видеть
Не вижу, что предпримешь, и не могу сказать:
Останься! День повремени. Порой
Захватит миг неизъяснимо нас,
И мы, мгновенные, с мгновенным в нет.
Порой про прихотливый час иной
Нам думается: он давно продуман,
Меж тем он только ослепленья час,
Но только там, в далекости былого.
209
ГЁЛЬДЕРЛИН
Прости! Не мне хулить могучий.дух
И день такой! Я отступиться должен.
Быть зрителем, вот все, что я могу
Хотя б душой изнемогал.
3-й агригентянин
О, нет!
Он не уйдет к чужим, туда, вдаль за море,
Где берега Эллады, иль Египет,
Где братья ждут его уже давно,
Его, возвышенного, мудрого —
Молите все! О, умолите вы
Его остаться! О, предчувствую,
И трепещу и ужасом безмолвным
От страшного до святости меня
Пронизывает, и попеременно
То вдруг ясней во мне, то вновь темнее,
Чем до того. О, верно, ты судьбы
Великой и носитель и провидец,
Носитель вольный и провидец дивный,
Подумай же о любящих тебя,
О чистых, и о тех, кто провинился,
Покаялся. О, милостивый! нам
Ты много дал, — что без тебя оно?
Не мог бы ты еще на время нам
Дать самого себя, даритель?
Эмпедокл
О, милая неблагодарность! Вас
Я вдоволь одарил, чем жить могли б.
Вам жить дано, пока в груди дыханье.
Мне не дано. Отсчитан срок тому,
Чьим голосом дух жизни говорил.
Божественно чрез смертного себя
Божественность природы открывает.
Так узнает ее пытливый род.
Но чуть из смертных, грудь кому она
Отрадой полнит, возвестит о ней,
О, пусть скорей в осколки тот сосуд,
Да не послужит низким на потребу
Божественное! Дайте умереть
Счастливым этим, дайте, прежде чем
210
Смерть Эмпедокла
Они погибнут в своеволии,
В позоре, вздорах, дайте вольным в жертву
Себя отдать богам в их добрый час!
Мой жребий! — Да, я прозревал его.
Давно, еще в дни юности моей,
Себе предрек. Сумейте преклониться!
И если завтра поутру меня
Вам не найти, скажите: нет, стареть
И дни считать, как раб забот и хвори —
Нет, не ему судьба! ушел незримым.
Ничья рука его не погребла,
Ничьим глазам над пеплом не взгруститься.
Тому иной не подобал конец,
Пред кем в предсмертный, час отрадный,
Божественное сбросило покров,
Кто был любим и светом и землею,
В ком вечный дух, дух мира, пробудил
Дух собственный. И в нем они. К нему
Я в смерти возвращаюсь.
Критий
Сердцу стыд
Сказать ему еще хотя бы слово.
Эмпедокл
О, подойди! Подай мне руку, Критий!
И вы, вы все! — А ты помедли, друг,
Побудь со мной до вечера.
Ты — верный юноша! — Отбросьте скорбь.
Ибо священ конец мой и уже —
О, воздух! воздух, веющий с небес,
В твоих объятьях, новорожденный,
Горе пройдет неведомой тропой,
О, чувствую тебя, как корабельщик,
Когда он подплывает к берегам,
К цветущим рощам острова родного,
Уж радостнее дышит грудь
И постарелые черты
Преображает вдруг
Воспоминанье первых упоений.
И — о, забвенье! О, примиренность!
Душа моя благословлять зрела.
211
ГЁЛЬДЕРЛИН
О милые! Идите, передайте
И граду, и полям его привет!
В веселый день, когда к священной роще
Направитесь на празднество богов,
И вам с высот лазоревых уже
Навстречу ласковые хоры, — есть
В напевах тех и звук моей души.
Вы мировыми хорами любви —
Окутанному слову друга вновь
Внимайте сердцем, так оно чудесней!
Пока я здесь, слова мои — ничто.
Но только унесет их света луч
С тихим ключем, благословляющим,
Сквозь облачную зыбь туда на дно.
О, помяните и меня!
Критий
Святой!
Ты оборол меня, муж подвига!
Я буду чтить твое грядущее,
Но именем не назову. Ö, нужно ли?
Ужель неотвратимо? И зачем
Все так торопятся. Когда еще
Тихим властителем ты в Агригенте жил,
Мы не ценили. Вот ты взят от нас —
И не опомниться. Радость пришла,
Радость ушла! увы! Не смертным
Принадлежит она. И не спросясь
Стремит своим путем все дальше дух.
Ах! Можем ли сказать, что здесь ты был!
(Уходят.)
Эмпедокл, Павзаний.
Павзаний
Свершилось! Что ж! Прочь и меня гони,
Как тех! Что тебе стоит...
Эмпедокл
Казни!
212
Смерть Эмпедокла
Павзаний
Я знаю! Так не смею говорить.
К чужбиннику — святому. Но не мне
В груди крик сердца подавлять. Ты сам,
Ты воспитал, избаловал его. —
О был я диким мальчиком еще,
И думалось тогда, что мне подобен
Тот дивный муж, когда ко мне склонялся
За ласковой беседой, и слова
Его давно знакомыми звучали.
Но миновало. О, мой Эмпедокл!
Еще по имени тебя зову,
Держу за ускользающую руку.
И странно мне! Как если б верилось,
Что не покинешь, любящий, меня.
Дух юности счастливой! Иль впустую
Привлек меня, впустую распахнул
Я это сердце пред тобой, ликуя
Победой и великою надеждой?
Не узнаю тебя. Все сон. Не верю.
Эмпедокл
Иль в сердце не проник?
Павзаний
В свое проник
И за твое оно так верно, гордо
И бьется, и ярится.
Эмпедокл
Милый друг,
Воздай же должное и моему.
Павзаний
Но должное ужели смерть?
Эмпедокл
Ты слышал.
Твоя душа свидетельствует. Мне
Иного нет исхода.
213
ГБЛЬДЕРЛИН
Павзаний
Значит, правда?
Эмпедокл
Так за кого меня ты принимаешь?
Павзаний {от глубины чувств)
Сын Урании! Ты спрашиваешь?
Эмпедокл (с любовью)
И что ж, как раб, я должен пережить
Мой день бесчестья? Так ли?
Павзаний
Нет!
Волшебством духа твоего, о, человек!
Клянусь, я не хочу тебя позорить, нет!
Наперекор любви моей, любимый,
Я не хочу! умри, коль так! И сам
Свидетельствуй тем о себе, раз быть тому.
Эмпедокл
Уверен был, что не безрадостно
Меня отпустишь, мужественный друг!
Павзаний
Где скорбь твоя? Вот ореол зарей
Обнял главу твою и светомощь
Вновь излучает мне твой взор.
Эмпедокл
А я!
Вот поцелуй обетованием
Губам твоим: могучим будешь ты,
Будешь светить, о, юный пламень!
В душу —
Все смертное — ив пламень обратишь,
Чтоб вознеслось с тобой в эфир священный.
214
Смерть Эмпедокла
Любимый мой, с тобой не даром жил
И нам под небом ласковым не мало
Неповторимо-дивного взошло
От первого мгновенья золотого.
О том не раз тебе напомнит, друг,
Мой тихий дом и роща тихая,
Когда ты мимо них весной, и дух,
Нас единивший, обоймет тебя, —
Благодари его тогда.
Благодари его сейчас,
О, сын! О, сын моей души!
Павзаний
Отец!
Благодарить я буду, но когда
Горчайшее отступит прочь.
Эмпедокл
Но, милый!
Ведь и тогда прекрасна благодарность
Пока еще радость-разлучница
Прощает при самой разлуке нас.
Павзаний
О, неужель ей суждено не быть?
Нет, не пойму. А ты? Что в том тебе?
Эмпедокл
Не смертные принудили меня.
Я сам схожу бесстрашно, мощью вольной
Туда мной избранной тропой —
В том счастье мне, и то право мое.
Павзаний
Нет, страшное не выговаривай!
Еще ты дышишь, еще слову друга
Внимаешь ты, еще так бурно кровь
Струится жизнью дорогой из сердца.
И тверд твой взгляд. И светел мир вокруг.
И ясен взор твой пред богами. Небо
215
ГЁЛЬДЕРЛИН
Тебе легло на вольное чело
И радостным перебегает блеском.
О, дивный ты! о, гений твой, Земля, —
И все обречено прейти?
Эмпедокл
Прейти?
Но не подобно ль всякое пребыть
Потоку, скованному стужей? Спит
Иль замер где священной жизни дух,
Что чистого ты в кандалы готов?
Но вечнорадостному никогда
Не запугаться в тюрьмах до ничто
И не замешкаться, оцепенев.
Спросишь: куда? По всем отрадам мира
Проходит он, и нет пути конца.
Войди же в дом.
Вечерю приготовь, чтоб я вкусил
Мед крепких лоз и злака плод еще раз.
Йа было б радостным прощанье нам.
музам, милый, что меня любили,
Пропеть бы гимн хвалебный, — сделай, сын!
Павзаний
Мной как-то чудно правит твое слово.
Повиноваться должен, уступить
И волей и неволей.
(Уходит.)
Эмпедокл
А-а!..
Зевс-освободитель! Ближе ты
И ближе час мой. Там из ущелья мглы
Посланник верный моей ночи вышел,
Вечерний вето, ко мне любви посланник.
Свершится! Вызрело! Так бейся, сердце!
Волнуйся! Вот он, над тобою дух,
Как блеск звезды, меж тем как по небу
За облаком безродным облака
Все мимо, мимолетные, скитаясь...
Но что со мной? Я будто начал жить.
Ж
Смерть Эмпедокла
Все изумляет. Мир переиначен.
Теперь я есмь! есмь! — Вот она,
Та странная тоска, что нападала,
Ленивец, на твой благостный покой!
И потому легко ты поднял жизнь,
Что победителя все радости
Ты прозревал лишь в полноте деянья?
Иду!.. Как? в смерть? В ту тьму лишь шаг один.
И ты еще хотело б видеть, око?
Ты отслужило, служелюбное.
Вот ненадолго свежестью ночной
Овею голову. Но бьет, ликуя,
Из мужней груди пламень. Страшное,
Приблизься!.. Как! От смерти, иссякая,
Вдруг вспыхнет жизнь во мне? Ты подаешь
Мне адский кубок, чтобы я, природа!
Твой жрец, к нему, вспененному, припал
Испить восторг, последний всех восторгов.
Доволен я. Что мне искать? Одно:
Место совершенья жертвы. Счастлив я.
О лук Ириды! Там над водопадом,
Когда волна серебром облака взлетит,
Как ты, тогда играет моя радость!
Па нт ея, Делия
Пантея
Темень людская!
Не избалован дух его
О, ты, ничтожное тобой!
Ты, жалкое! Что ты дало
Ему? В нем по богам тоска,
Что ж удивляетесь, как если 6 вы,
Глупцы, высокую в нем душу зародили?
Нет, не спроста! О ты, что ему все
Дала, природа!
Других твои любимцы миголетней,
Мне ли не знать?
Придут, чтобы взять судьбу, кто знает как,
Великими станут и канут вдруг,
Счастливцы! Нет их, увы! Зачем же вы?
15 4-141
ГЁЛЬДЕРЛИН
Д
елия
Не дивно ль жить
В кругу сограждан. И мне
Что еще сердцем знать! Здесь мир
Ему. Но вот угрозой встает
Пред взором грустный конец
Непостижимого, и ты понуждаешь его
Удалиться, о, Пантея?
Π
антея
Должна! Кто свяжет волю?
Кто скажет: мой ты друг?
Себе он сам властелин живой,
Он сам себе закон.
И будет бессмертный, чтоб смертных честь
Спасать поносителей,
Здесь медлить, когда
Отец раскрывает,
Эфир, объятья ему.
Делия
Взгляни! Земля
Так дивно ласкова.
π
антея
О, дивно и дивней сейчас!
Не след отважному
Ее покинуть нищим.
Он верно там
Еще средь рощ твоих нагорий
О, переменчивая!
И по волнохолмию вдаль скользящий
Уж в море свергся взор. И пьет
Отрад прощальный свет. Кто знает, мы
Его увидим ли?
Мне больно, не того хотела б я
Признаюсь. И мне стыд, что я хочу.
Сверши он. — Ах! не свят ли подвиг?
218
Смерть Эмпедокла
Делия
Что там за юноша
Вот сходит к нам с горы?
Пантея
Павзаний! Ах! Ужели так дано
Нам встретиться, о, друг осиротелый!
Павзаний, Пант ея, Делия.
Павзаний
О, где же он, Пантея?
Ты чтишь, ты ищешь его?
Еще бы раз повидать
Сурового странника, только ему
Дано пройти со славой той тропой,
Где без проклятья не ступал никто.
Пантея
Смирен тот подвиг и велик
Пред ужасающим.
Но где же он?
Павзаний
Он отослал меня. И с той поры
Я не видал его. На зов
Не откликался мне в горах. И нет
Его. Но он вернется. Мне
До ночи обещал повременить.
Придите! Быстрее, чем стрелы, несется
И канет час-дорогой нам.
Еще мы радость разделим с ним
И ты, о, Пантея! с тобой
И чужестранка — только раз
Увидеть ей тот дивный метеор.
К вам донеслося, плачеи, вы!
.Как он умрет. Взгляните,
Как он возвышен величьем.
15*
219
ГЁЖЬДЕРЛИН
И тяжкая скорбь
И то, что смертные страшным мнят,
Пред взором блаженным смягчится.
Делия
Так любишь ты! И тщетно молил
Крутого? Все же, о, юноша!
Мольба сильней, чем он, и гордился бы ты
Победой славной.
Π авзаний
Как мог я? В плен
Он душу мне берет, когда
Твердое волит хочу.
И радость нам только в отказе.
И чем упорнее дивный,
Тем отзывней вторит ему
В груди, будто эхо, сердце. То не
Пустое домыслие, верь ты мне!
Когда он жизнь берет
Мою под власть.
Порой, когда в свой мир
Он уходил,
Возвышен думами, так смутно
Я прозревал его. Была
Моя полна, взволнована душа.
Но ускользало знанье, и почти
Пугал меня недосягаемый.
Но чуть сорвется с правдивых губ приговор,
Уж небом радости во мне и в нем
Он отдается, без возражений вмиг
Захвачен я, но как-то мне свободней.
Ах! Ошибись он! Глубже я
Неисчерпаемо-правдивого познал бы.
Умри он! — огненней мне вспыхнет гений
Из пепла его навек.
Делия
Воспламенила, дух высокий, тебя
Высокого смерть. Но любо
Смертным погреться порой
У кроткого света, скорбя, и взором
220
Смерть Эмпедокла
Припасть к неизменному. Скажи ты мне,
О, стоит ли жить нам и длить, когда
Метет судьба и тишайших,
И чуть дерзнут они, друзей
Мгновенно прочь отбросит, и умрет
Над трупом упований юность?
О, пышный расцвет хранить
Не рок живым. — Ах! Даже лучшие .
К богам переходят губительным,
К смерти-возмездья богам, и гибнут они
Охотно. И нам в позор потом
У смертных дольше медлить.
Π авзан ий
Проклинаешь?
Во имя богов, не проклинай
Ты дивного, кому почет его
Стал бедствием,
Кто примет смерть, за то, что жил чудесно,
За то, что был любимцем у богов.
Не он, другой бесчестится теперь,
Так воздают! Но он? Когда его...
Что мог он, сын богов!
Безмерному и боль безмерная.
Ах! Никогда лик благородный так
Нестерпно не был оскорблен. И я,
Я видел...
Делия
О, зачем так легко
Послала ты героя
Любимца на смерть, природа?
Как жаль мне, Эмпедокл,
Как жаль, что жертвуешь собой.
Кто слаб, того судьба крушит
А иные!
А сильные!
Им нипочем: устоят ли? падут ли? —
И станут теми же хилыми.
О ты искушен,
Ты, дивный муж! Что ты терпел,
Не терпит и раб,
221
ГЁЛЬДЕРЛИН
И сам беднее бедных бродишь,
Страну обходишь с сумой.
Да, это истина!
Даже отребье у вас
Жалко, не столь,
Сколь ваши избранные, чуть только
Гнусь прикоснется к ним, о боги!—
Все ж он достойно принял.
Пантея
О иной
По нем ли выход?
Не вечно ли, вечно так,
Что всех превысивший,
Всех гений переживает.
Иль вдумались вы:
Где жало, что сдержит его?
Ускоряет полет
Та острая боль.
И как возничий-гонщик,
Когда на скаку
Начнет дымить колесо, бег
Напрягает, только б скорей до венка.
Делия
Так радостна ты, Пантея?
Π
антея
Не только пурпур ягод и квят
Богаты силой той, сестра!
Для жизни и скорбь напиток,
Чтоб пить опьяняясь, как он,
Из кубка смерти до счастья.
Делия
Ужель, дитя,
Тем тешишь боль?
Пантея
О, нет! Но радостно мне
222
Смерть Эмпедокла
fa свято, коль так тому быть
ому страшному, да дивно свершится оно!
Не так ли, как он
Из героев к богам возносились иные.
В испуге с громким плачем
С горы спускался народ,
Но не слышала я поношений.
Не как отверженные, он
Бежит укрываясь: ведь вняли все,
И вот сиянье в горе на лицах у них
От слова, что им говорил он.
Павзаний
Нисходит торжественно так
Гелиос! От света
Его пьянея, блистают долины
Π антея
Нисходит торжественно так,
И радостней нам! и жить светлей!
К чему же грусть моя? Блещет,
Мрачная дума, тебе
Он, нисходящий во мглу,
Твой сын, твой любимей, природа!
Твой друг, твоя жертва!
О! не мил ты смертобоязным — не люб!
Им забота вяжет обманом
Глаза, — не припадет их
Сердце к сердцу, к тебе — увядают
Вдали от тебя. — О мир! О, мощь!
Живое, глубинное! В дар тебе,
И чтобы прославить тебя, он, о, несмертное!
В пучину, смеясь, жемчуга
Обратно мечет отважный.
Так быть тому должно.
Так властвует дух
И напорливый день,
Так нам ослепленным
Раз выпало чудо.
ЭМПЕДОКЛ ИЗ АГРИГЕНТА —
ФИЛОСОФ V ВЕКА
ЭРЫ ЯЗЫЧЕСТВА ( ДО Р. X. )
1. БИОС
Загадочнейший из философов античности, которому и подобало бы прозвище
"Загадочный", которого толкователи — ученые и философы — всех толков
пытались на протяжении тысячелетия объявить своим — и эмпирики, и
неоплатоники, и материалисты, и отцы церкви — и с которым остро полемизировалаь
идеалист-Платон и реалист-Аристотель, и который все же остался
двусмысленным, обособленным, шествующим так величественно-декоративно в
пифагорейском одеянии — в пурпурной мантии, золотой повязке, дельфийском венке и
медных сандалиях по городам Сицилии. А поверх одеяния облако легенды: оттуда и
говорит нам предание, даже голосом самого Эмпедокла, о воздаваемом ему,
материалисту, поклонении, как существу несмертному.
"Многоцветным" обозвал его один трагический философ. Мы бы сказали —
энциклопедист. Здесь он антипод Гераклиту; философ, но одновременно и
политик, даже законодатель. Аристократ по происхождению, но поборник
равенства прав, крушитель тирании и сам отклоняющий, при всей гордости своей,
царский сан.
Независимость мыслителя прежде всего.
Он — оратор и он же — врач.
Один древний любитель занимательных историй передает в форме новеллы о
возвращении к жизни Эмпедоклом мнимо умершей девушки Пантеи. Быть может,
пробудил от летаргии.
Он и инженер.
И как врач-инженер оздоравливает климат посредством искусственных
сооружений. Спасает соседний город от чумы. От него будто ведет свое начало
знаменитая в древности сицилианская школа врачей.
Он и музыкант.
И прелестна легенда, орфическая по духу, как музыкой и песней, умеряющей
гнев, останавливает он руку убийцы-мстителя.
Он и поэт.
Его оба сочинения "О природе" и "Очищения" написаны гекзаметром. И
первое из них посвящено любимому ученику-другу Павзанию. Но как всегда,
фанатизм провозвестителей догматически непогрешимых истин — христиан и
поклонников Корана — уничтожил оба сочинения. Из 5000 стихов дошла едва 1/10
часть. Быть может, он и автор трагедий.
224
Комментарии переводчика
Он из агональной семьи и в конном состязании на Олимпийских играх взял
приз.
И, наконец, он — кудесник. Ему ведома тайна природы — encheiresis naturae
— создавать живое. К обычному циклу чудес: воскрешение трупов, омоложение,
исцеление неисцелимых — присоединилась еще магическая власть над погодой:
вызывать ведро, дождь, укрощать ветры.
Древние биографы — любители сплетен и мифологических мороков. Но о
своем чудодействе и сверхчеловечности загадочно сообщает сам Эмпедокл в
приступе "Очищения": как шествует он по городам, увитый перевязями и
гирляндами зелени, с пышной свитой, будто бессмертный бог, а не смертный человек, и
несчет людей вопрошает его в поисках пути спасения: кто ищет оракула, кто
исцеления от недуга.
Что это: самообожествление, как поэтическая метафора? или великолепное
шарлатанство древнего Калиостро? или прием проповеди философской истины —
в своей данной наготе жестокой и безнадежной для человека.
Необычайна и кончина: самоубийство. Как, быть может состарившись, быть
может от безумия гордости, ища увековечить свою "божественность" — скрыть
тело, быть может, познав и пережив все человеческое, от пресыщения и
отвращения к неблагодарным согражданам, кинулся он в кратер Этны. Медный
сандалий, выброшенный на край вулкана напором лавы, оповестил сограждан об
инциденте.
Трезвые амузические умы больше доверяют обычности: Эмпедокл порвал с
демократическим правительством Агригента и был изгнан или удалился на
Пелопоннес, где и умер.
Но, вдумываясь в самый великолепный жест прыжка в огненную стихию,
сопоставляя с учением Эмпедокла — с творческим смыслом огня, с проповедью
вечного перевоплощения живых существ — решаешь: быть может, прыжок и не
легенда. Свергнуться с высоты обожествления и самообожествления мог он только
в смерть, как в новую жизнь. Учение осмысливало прыжок, оскорбленная
гордость, некогда боготворимого изгнанника, побудила.
Так именно раскрывает душевную трагедию Эмпедокла трагедия поэта
Гёльдерлина.
2. УЧЕНИЕ
Гельдерлин реабилитировал загадочного философа — этот редкий образец
имагинативной мощи, с его тоской романтика по тотальности и гармонии мира,
общества, человека, сумевшего, одновременно, строя естественнонаучную систему,
развивая миф и играя аллегориями, обнаружить одну и ту же истину в трех планах:
физики, этики и эстетики.
Монист — он оказался дуалистом: признал две деятельные творящие и губящие
силы — Филию и Нейкос — Любовь и Ненависть точнее, — дружбу и распрю,
раскрыв их диалектику вне всякой синтезы противоборствующих начал. Вечно
наличны в борьбе обе: Любовь и Ненависть. Но попеременно побеждает то Любовь,
то Ненависть, то теза, то антитеза, овладевая вихревым движением от центра к
периферии мира и обратно. Мировой исход борьбы в данной фазе решает квантум силы.
225
Комментарии переводчика
В вечном движении мир проходит через фазы великой космической
метаморфозы в пределах "мирового" года. Это значит: 400 000 лет.
То первоэлементы-стихии — огонь, воздух, вода и земля — вечно живые,
самодвижущиеся, само дробящиеся до бесконечной малости, подобия химических
атомов, гармонично взаимосочетаются и организуют живую совершенную форму
— шар, Сфайрос, мир любви: это значит, и добра, и красоты. А вокруг по
периферии его бушуют вихри ненависти — негармонизованные хаосы, пока
напором не ворвутся они в Сфайрос, не разорвут, не размечут его гармонию на части,
не спрессуют однородное друг с другом, чтобы четырьмя враждебными массами —
косностью, злом, уродством — противостать в центре друг другу. Но на
периферии их уже вновь вихрь любви соединяет, гармонизует стихии и вот
закружит, размечет и вновь создаст идеальную смесь: мир-гармонию.
Пока это космогонический сказ, а не механистическая гипотеза.
Первоэлементы заряжаются попеременно любовью и ненавистью, обнаруживают влечение и
отвращение, а не просто притяжение и отталкивание.
Любовь и Ненависть — характер движения.
Пока перед нами абсолютные точки, полюсы процесса. Важнее
промежуточные фазы; самообразование обособленных вещей и существ — фазы
индивидуализации.
Одинаково могучи творить Любовь и Ненависть.
Ненависть творит, разрывая гармонию Сфайроса на индивидиков, на
точечные диссонантики, чтобы после сплавить их в косные массы. Любовь творит,
разрывая косность масс на пестрые диковинные агрегаты, чтобы сочетая их
постепенно в микро-гармонии — в растения, животных, людей, планеты, звезды — довести
их до единой макро-гармонии Сфайрос и в ней поглотить.
Характерно: principium individuationis, всякое "я", обречено на гибель. Оно —
материал для убийства или самоубийства и ради торжества косных разобщенных
масс ненависти и ради нирваны космоса любви.
Сказался религиозный взгляд загадочного материалиста: поглощать единичное
целым. Его оправдание: вещи смертны, но стихии бессмертны. Мир неустанно
пульсирует жизнью. Распадаются только формы.
Космическое творчество не дело мастера художника, мироустрояющего
разума. Нет плана. Нет целесообразности. Оно слепо, как у Шопенгауэра, но в слепоте
спонтанно осуществляется самый смысл сил: Любви, как взаимосоответствия, и
Ненависти, как несоответствия. Само собой стихийно, случайно оформляются
вещи. Потому и в эволюции живых существ, среди несчета неудачных форм и
нелепостей — этого блуждания бесплечих рук, безлобых глаз, голов — без шеи —
сами собой, по некоторому сродству, сочетаются все противоположности,
возникают цельные, жизнеустойчивые, прекрасные формы (намек на естественный
отбор Дарвина). Господствует случайность. Все могло бы быть и иначе. И
случайность эта есть мечущаяся необходимость. Необходимость — наличие любви и
ненависти. Необходимость — непрерывная метаморфоза "единого во многое и
многого в единое". Необходимость — кружиться колесу существования. Но она
мечется. Всякое оформление случайно. Человек случаен. И если в организации
форм природы глаз усматривает закономерность, то и закономерность эта —
мечущаяся закономерность.
226
Комментарии переводчика
То, что миф живописует в плане космическом, осмысливается одинаково и в
плане социальном и в плане индивидуального самосознания.
Личное погибает во всеобщем. Всеобщее уничтожается в индивидуациях и в
мире ненависти и в мире любви.
З.ПРОПОВЕДЬ
И этот Эмпедокл, трагический пессимист *, раз навсегда закруживший
колесо существования на бессмыслицу вечной гибели и вечного возрождения, проходит,
как Будда, по городам Сицилии с сердцем, переполненным любовью ко всему
живому и с отвращением и ужасом к самой жизни, в таком декоративном одеянии
и с эсхатологически мрачным лицом, со смертной казнью для тиранов и с запретом
есть мясо: ибо, где аргумент, что убиваемый баран — не перевоплощенный
человек? Загадочный материалист в космогонической теории, он еще более загадочный
спиритуалист на практике: учением с переселением душ пытается воздействовать
на кровожадность современников и о себе рассказывает сказку метемпсихоза, как
о существе иного мира блаженства, как о павшем за преступление, может быть, за
пролитие крови, демоне, как был он юношей, девушкой, птицей, рыбой, кустом,
"разглашая тайны пифагоризма".
Мог ли он серьезно верить в переселение душ, если душа для него, "смесь
элементов", эффект от количественного отношения, называемый гармонией и вместе
с распадом телесной формы аннулируется? если мысль зависит от состава крови;
изменение в крови — изменение и в мысли! Если кровью познают? Если все части
тела ощущают, радуются и печалятся? Если в теле множество душ?
Вокруг Эмпедокла клокочут злобы, болезни, убийства. В космогоническом
плане объяснение простое: наступила эра ненависти. Ненависть вторглась в мир
любви и надо ей противопостать любовью, чтобы преодолеть и скорее прийти к
гармонии.
Но есть и в психологическом плане объяснение: подобное тянется к
подобному, горькое к горькому. Сродным познаешь сродное — similia similibus. Любовью
видишь любовь и ненавистью ненависть. Ненависть внутренняя вносит ненависть
во вне, усиливает ее в мире.
Будет убийству конец, безудержу? Слепы вы, что ли?
Век терзать — пожирать друг друга, бездумные звери!
Проповедь перерастает запрет кровавых жертв. Речь идет о человеческих
взаимосвязях. Убить — означает устремиться к первоначальной распре.
Проповедь любви Эмпедокла — не проповедь самопожертвования ради икса или игрека;
она пропаганда идеи всеобщей гармонии. Эмпедокл хочет исправить мир,
принудить человека все исковерканное ненавистью преобразить любовью,
радостью преодолеть страдание. Амбивалентность любви и ненависти, диалектика
чувства ему чужда.
Трагический пессимизм противополагается пессимизму вообще: не отрицает
жизни — наоборот, он героичен, даже жизнеутверждающ, как у Ницше.
227
Комментарии переводчика
Но кому проповедует он? Этим мечущимся во все стороны недодумам? Они
знают только свои маленькие истины. Кто на что натолкнулся, то и принимает за
истину. И еще кичится, будто нашел целое. Истину бытия познает только
вдумывающийся: философ. Но с ненавистью встречают люди его слово. Если бы они
поняли, что знать — значит владеть.
Проповедь Эмпедокла — высокий случай, когда философ, монист, как
характер, познав дуализм существования, вечность противоборства полярных сил, все
равнодушие этих сил к судьбе человека, всю случайность человека, более того,
познав всю низменность и необоримость миропорядка, бессилие знания исправить его
— и вот все же, наперекор своему трагическому познанию, выступает с
героической проповедью любви, становится на сторону одной из двух противодействующих
сил, как если бы сознательное содействие человеческого разума "любви" могло
помочь ей обороть космическую "ненависть" и раз навсегда преобразить мир. Или
в ином плане: как если бы сила социального взаимоотталкивания и психического
отвращения, как выражение всеобщей необходимости, могла бы быть преодолена
социальным взаимопритяжением и психическим влечением, как актом
сознательной воли.
Для мифологической космологии Эмпедокла это значило бы, что разум и
сердце человека как добавочная сила, вместе с космической любовью отбросили бы
ненависть от уже распадающегося Сфайроса на периферию и все дальше и дальше
отодвигали бы ее в глубь бездны... Это значит: гармония утвердилась на веки,
мирового года нет, необходимость нарушена, мир преображен.
Если бы при предпосылках Эмпедокла-философа на такой антилогический
прыжок свободоволия отважился Эмпедокл трагедии, мы бы сказали, что здесь
для Гельдерлина сказались лекции Фихте. Но для Эмпедокла-философа
объяснение одно: мощь его имагинации, которая наперекор учению философа героически
дерзнула исправить бытие, уступая чувству сострадания к трагической участи
человека.
Этот преизбыток любви угадал в нем Гельдерлин, но усилил ее новым
мотивом: эффектом. Любовь Эмпедокла ко всему живому стала его гордостью. И
оскорбленная гордость потребовала от любви самопожертвования.
Нет ничего легче, как разрядить, для успокоения научной совести, символы и
аллегории Эмпедоклова мифа переводом их в термины современного математичес -
кого естествознания: гравитационное поле, тангенциальная сила вращательного
движения, ионные агрегаты и пр. Найти у него не только предвосхищение учения
о естественном отборе Дарвина, но и вихрей Томсона, сравнительной морфологии
Гете, основ гомеопатии, характерологии и пр. Все это верно, и, думается, читатель
при желании и сам совершит необходимый перевод символа в концепт. Но
комментатор, излагая учение древнего философа, равнялся при этом по Эмпедоклу
трагедии, раскрывая душевную трагедию личности, а не наукообразные элементы
мифолого-философской системы. Попутно уясняется и творческая переработка
материала, завещанного традицией, автором трагедии.
Из традиции взято:
Часть действующих лиц трагедии: Пантея, Павзаний. Исцеление Пантеи.
Преданность Павзания. Обожествление агригентянами и самообожествление.
22»
Комментарии переводчика
Политическая и религиозно-реформаторская деятельность. Магическая власть над
природой. Само учение. Изгнание. Прыжок в Этну. < ... >
ВАРИАНТЫ
Наличны два варианта трагедии: Вариант I — "Смерть Эмпедокла".
Вариант II — "Эмпедокл на Этне".
Вариант I. — "Смерть Эмпедокла" представлен: а) Первоначальным
детальным планом пятиактовой трагедии. 6) Первой редакцией: двуактовая трагедия
(дана в переводе). Ощутительна пустота между сценой разлуки Эмпедокла с Пав-
занием и предсмертным монологом, в) Второй редакцией (2, 3, 4 сцена 1 акта):
Критий замещен Мекадом. Трое агригентян получили имена: Амфарий, Демокл,
Гил. Предполагается участие хора агригентян. Все напряженнее, четче, смелее.
Диалог дифирамбичен.
Сюжет первоначального плана. Выполненная трагедия не отвечает
первоначальному плану. Эмпедокл женат. Жена Пантея убеждает Эмпедокла принять
участие в народном празднестве агригентян. Досада Эмпедокла на праздник.
Домашняя ссора: жена выговаривает за досаду. Решение удалиться в уединение на
Этну. Эмпедокл на Этне. Посещение любимцем Павзанием и учениками. Гневные
отзывы Эмпедокла о народе. Отсылает посетителей. Приход жены и детей.
Пантея сообщает: агригентяне почтили его статуей. Почет и любовь, связующие
Эмпедокла с действительностью, побуждают его вернуться (честолюбие на лицо).
Возвращение: радость учеников и народа. Завистники и противники — жрец,
прослышав о противонародных речах Эмпедокла на Этне, возбуждает против него
народ. Народная ярость. Статуя Эмпедокла опрокинута. Он сам осужден на
изгнание. Решение Эмпедокла разрешить конфликт — между стремлением к
возвышенной жизни и срывом в быт — добровольной смертью. Обманное прощание
с Пантеей. Скрывает свое решение и от Павзания. Эмпедокл снова на Этне.
Народные сценки: жители горы. Приготовление к смерти. Возвышенное настроение.
Смерть теперь внутренняя необходимость. Павзаний угадывает решение
Эмпедокла и находит его. Убежденный учителем, уступает, уходит. Эмпедокл свергается в
кратер. По выброшенным лавою железным башмакам Павзаний догадывается,
какой был конец. На вершине Этны над кратером Павзаний, Пантея и
приверженцы оплакивают, не без ликования, смерть Эмпедокла.
Душевная драма Эмпедокла предвосхищает социальный конфликт. Ненависть
к мнимой культуре. Презрение к профессионализму, к расщеплению интересов, ко
всякой односторонности. Страдание от обособленности существования и от
познания, что он, Эмпедокл, подчинен сукцессивному закону становления (он
смертен). Желание жить полно и вольно в великом аккорде со всеживой природой. Так
возникшая борьба между идеалом цельного и гармоничного существования и
необходимостью разменивать себя на единичные обстоятельства приводит к
недовольству, к чувству своей бытийной жалкости. Исход: добровольная смерть ради
съединения с бесконечной природой.
Социальный конфликт углубляет душевную драму и стимулирует решение.
Тема социального конфликта, первотема романтики: разрыв гения со средой. Гений
229
Комментарии переводчика
не в силах вынести ничтожество людей — люди не могут допустить превосходство
гения (см.Дильтей).
Избегая снижения, Эмпедокл избирает сначала уединение на Этне, чтобы
выше поставить себя и из отдаленности, в единении со всем живым, созерцать все
им любимое. Но неблагодарность сограждан и униженная гордость побуждают к
смерти.
Выполненная трагедия (I вариант) отступает от первоначальной мотивации
душевной драмы. Ее основной мотив: разрыв с природой и утрата блаженства и
ведовской магии за самообожествление. Смысл самопожертвования не только личен
(очищение — катарзис), но и сверхличен: дать жертвой побудительный идеал для
высшей жизни самой гражданской общине — агригентянам. Этот идеал: гармония
в построении общества должна отвечать структуре вселенской гармонии. Что
таковая есть — постулировано.
Вариант II. — "Эмпедокл на Этне" представлен: а) Наброском и ремарками
к отдельным сценам. 6) Сжатым, нечетким планом пятиактовой трагедии, в)
Выполненными двумя сценами 1 акта. Взаимоотношения участников, структура
драматического сюжета видоизменены. Противником выдвинут брат Эмпедокла
Стратон, властитель Агригента. Пантея — теперь сестра. Павзаний — друг.
Важнее введение нового лица — египтянина, старца Манеса. Он мистагог, учитель
Эмпедокла, носитель таинственной египетской мудрости — но вдруг снижается до
роли ученика. Возникает мысль: сцена Эмпедокл—Манес не должна ли заполнить
пустоту между разлукой Эмпедокла и Павзания и предсмертным монологом
Эмпедокла в первом варианте.
Сюжет. Эмпедокл изгнан. Причина: распад со Стратоном. Этна. Прощание
с Павзанием. Встреча с Манесом. Недовольство народа отсутствием Эмпедокла:
народ требует вернуть его. Манес посредник между братьями. Смерть Эмпедокла.
Апофеоз. Участвует хор. Чувствуется пышность. Сценичность.
Я.Э. Голосовкер
СОДЕРЖАНИЕ
От издательства 3
Г. Якубанис. Эмпедокл: философ, врач и чародей.
Данные для его понимания и оценки ... 9
Предисловие 10
Издания и пособия 13
I. Личность. Общий характер миросозерцания
Глава первая. Положение вопроса 15
Глава вторая. Предлагаемый метод 20
Глава третья. Происхождение и отроческие годы
Эмпедокла 28
Глава четвертая. Юность Эмпедокла и современная
ей историческая действительность 34
Гл ава пятая. Зрелые годы Эмпедокла 45
Глава шестая. Основные черты миросозерцания
Эмпедокла 54
II. Стихотворный перевод фрагментов
A. Отрывки поэмы Ό природе" 71
B. Отрывки из "Очищений* 82
C. Отрывок сомнительной подлинности 85
D. Стихи, ложно приписываемые Эмпедоклу 86
III. Прозаический перевод фрагментов.
Комментарий
A. Отрывки поэмы "О природе" 87
B. Отрывки из "Очищений" 121
C. Отрывок сомнительной подлинности 131
D. Стихи, ложно приписываемые Эмпедоклу 131
Приложение. Греческий текст фрагментов Эмпедокла . 133
Г. Гёльдерлин. Смерть Эмпедокла. Драма.
(Пер. Я.Э. Голосовкера) 147
Н.Э. Голосовкер. Эмпедокл из Агригента — философ
V века эры язычества (до Р. X.) 224
Книга об Эмпедокле открывает серию
JANUA ANTIQUA, посвященную античной
культуре. Интерес читательской аудитории к
уже переизданным нами работам Ф.Ф.
Зелинского «Древнегреческая религия» и В. Вин-
дельбанда «Платон» убедил нас в
целесообразности создания подобной серии. В нее
войдут, наряду с текстами древнегреческих и
римских авторов (например, «Превращения»
Овидия, латинский текст и перевод с
комментариями A.A. Фета), работы отечественных и
зарубежных исследователей мифологии,
философии, литературы и искусства античного
мира (например, «Метафизика в Древней
Греции» князя С.Н. Трубецкого, «История
древней философии» В. Виндельбанда и
ДР·)·
По вопросам приобретения литературы
обращайтесь по адресу:
252010, г. Киев-10
пер. Инженерный, 4-6
тел./факс: 290-04-12